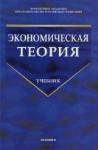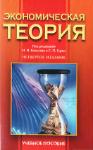/
Автор: Итуэлл Дж. Милгейт М.
Теги: экономические науки в целом политическая экономия мировая экономика экономика энциклопедия экономическая теория
ISBN: 5-16-001750-Х
Год: 2004
Текст
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ
Под редакцией Дж. Итуэлла,
М. Милгейта, П. Ньюмена
THE NEW PALGRAVE
И WORLD OF
ECONOMICS
Edited by John Eatwell •
Murray Milgate • Peter Newman
THE NEW PALGRAVE
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ
Под редакцией Дж. Итуэлла,
М. Милгейта, П. Ньюмена
Перевод с английского
Научный редактор
чл.-корр. РАН В. С. Автономов
МОСКВА
ИНФРА-М
2004
УДК 330
ББК 65.5я
Э40
Переводчики:
Ю. Автономов, А. Александрова, С. Афонцев, А. Белянин,
О. Замков, В. Качалин, Дж. Клейн, Н. Лащенко, А. Малишев-
ский, Е. Николаенко, О. Пороховская
Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта,
Э40 П. Ньюмена: Пер. с англ. / Науч. ред. чл.-корр. РАН В.С. Авто-
номов. — М.: ИНФРА-М, 2004. — ХП, 931 с. — (New Palgrave).
ISBN 5-16-001750-Х (рус.)
ISBN 0-333-55176-1 (англ.)
«Новый Полгрейв» - самое объемное и известное в мире эн-
циклопедическое издание по экономике. Его статьи написаны наи-
более авторитетными экономистами из многих стран. «Экономи-
ческая теория» (The World of Economics) содержит сто статей о раз-
личных подходах в экономической теории, ее многообразных
приложениях, основных дискуссионных проблемах. Доступное и
простое по изложению издание представит большой интерес для
преподающих и изучающих все разделы современной экономичес-
кой теории: микроэкономику, макроэкономику, институциональ-
ную экономику, а также ее методологию и историю.
ББК 330
ISBN 5-16-001750-Х (рус.)
ISBN 0-333-55176-1 (англ.)
ISBN 0-333-55177-Х Pbk
© Presently PALGRAVE MACMILLAN Ltd.
All rights reserved. No reproduction, copy or
transmission of this publication may be made
without written permission.
First published in
The New Palgrave: A Dictionary of Economics
Edited by John Eatwell, Murray Milgate
and Peter Newman
in four volumes, 1987
Published in the United Kingdom by
THE MACMILLAN PRESS LIMITED, 1991
(Presently PALGRAVE MACMILLAN Ltd.)
London and Basingstoke
The New Palgrave is a trademark
of PALGRAVE MACMILLAN Ltd.
This translation of The World of Economics is
published by arrangement with PALGRAVE
MACMILLAN Ltd.
© Перевод с англ. ИНФРА-М, 2004
© Оформление. ИНФРА-М, 2004
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ................................................IX
Э. Бозеруп. Рост сельскохозяйственного производства
и демографические изменения................................1
V Сюзан Роуз-Аккерман. Взяточничество ..................... 19
Чарльз П. Кайндлбергер. «Мыльные пузыри»...................25
Роберт Айснер. Бремя государственного долга................28
V Мансур Олсон. Бюрократия ..................................33
Э. Маленво. Приросты и сокращения стоимости капитала.......43
М. У. Редер. Чикагская школа..............................48
Роберт Д. Кутер. Теорема Коуза............................61
Питер Пашигян. Паутинообразная модель.....................70
Д.М. Пути. Участие работников в управлении и прибылях......75
П.С. Атия. Общее право ...................................90
Стивен Н.С. Чен. Общие права собственности ............. 100
Роджер Дж. Нолл. Массовые коммуникации.................. 105
Рональд Финдли. Сравнительные преимущества.............. 122
Сидни Уинтер. Конкуренция и отбор....................... 134
Джек Хиршлайфер. Конфликты и их урегулирование.......... 146
Алан Артур Уолтерс. Чрезмерное потребление («перегрузка») ...157
Джеймс М. Бьюкенен. Конституциональная экономическая
теория .............................................167
Дональд Н. Макклоски. Непрерывность в экономической
истории.............................................179
Дональд Н. Макклоски. Контрфактические утверждения....... 186
Оливье Жан Бланшар. «Вытеснение» ........................ 193
Лестер С. Туроу. Отрасли, переживающие упадок.............200
Эдмунд С. Фелпс. Распределительная справедливость.........205
v
Джеймс Э. Брикли и Джон Дж. Макконнелл. Политика
выплаты дивидендов..................................211
Бела Баласса. Экономическая интеграция....................220
Эрнест Геллпер. Экономическая интерпретация истории....... 233
Кеннет Дж. Эрроу. Экономическая теория и гипотеза
рациональности.......................................246
Бертон Мэлкиел. Гипотеза эффективного рынка...............263
Хилел Стайнер. Правомочия................................ 274
Э.С. Фелпс. Равновесие: Концепция с точки зрения ожиданий... 280
Мюррей Милгейт. Равновесие: развитие концепции............285
Роберт Б. Уилсон. Обмен...................................295
Гэри С. Беккер. Семья.................................... 308
Джеймс Тобин. Финансовые посредники.......................322
Фрэнсис М. Бэйтор. Точная настройка ..................... 350
Роберт Хеесен. Бесплатный завтрак........................ 358
Г. Уорсуик. Полная занятость............................. 359
Франсин Д. Блау. Гендерные проблемы...................... 365
К.А. Грегори. Дары....................................... 383
Марчелло де Чекко. Золотой стандарт...................... 394
Вернон Л. Смит. Экономика охоты и собирательства......... 413
Филлип Кейган. Гиперинфляция ............................ 423
Джон Итуэлл. Импортозамещающий
и экспортоориентированный экономический рост.........430
Альберт О. Хиршман. Интересы............................. 434
Джон Харсаньи. Межличностные сравнения полезности........ 447
Джои Итуэлл. Кейнсианство.................................454
Дэвид Фридмен. Право и экономическая теория.............. 458
Гордон Уинстон. Досуг.................................... 470
Ральф Дарендорф. Либерализм.............................. 475
V/
Уилфред Беккерман. Границы экономического роста.......... 481
Питер Хауитт. Макроэкономика: отношения
с микроэкономикой....................................485
Д-Р. Уэйр. Теория народонаселения Мальтуса............... 493
Джон Ледьярд. Несостоятельность (провалы) рынка.......... 501
Питер Бауэр. «Торговые управления»....................... 509
Полли Хилл. Рынки как места торговли......................517
Чарльз Уилсон. Рынки с неблагоприятным отбором........... 524
Эндрю Глин. Марксистская экономическая теория............ 529
Уильям Р. Аллен. Меркантилизм............................ 542
Филлип Рейган. Монетаризм................................ 553
Дэвид Е. Линдсей, Генри С. Уоллич. Денежная политика....... 566
Эдвин Дж. Уэст. Монополия.................................585
Уилфред Беккерман. Национальный доход.....................594
Генри У. Шпигель. Национальная система политической
экономии ........................................... 601
Cudiai Уинтер. Естественный отбор и эволюция..............606
Тони Аспромургос. Неоклассический.........................617
Оливье Жан Бланшар. Неоклассический синтез............... 619
Арнольд Дж. Харбергер. Нейтральное налогообложение ...... 627
Дональд Н. Макклоски. Система «открытых полей»............633
Джеймс М. Бьюкенен. Альтернативные издержки.............. 637
Масахиро Раваи. Оптимальные валютные зоны................ 644
Джон Робертс. Рынки совершенной и несовершенной
конкуренции......................................... 653
Уильям Дж. Баумоль. Исполнительские искусства.............665
Иммануил Валлерстайн. Периферия...........................671
Петер Груневеген. «Политическая экономия» и «экономическая
наука».............................................. 680
А. Б. Аткинсон. Бедность..................................688
vii
Пол Милгром. «Разорительное» («хищническое»)
ценообразование.................................... 702
Анатоль Рапопорт. Дилемма заключенного................. 707
Армен Алчиан. Права собственности........................714
Армен А. Алчиан. Рента.................................. 724
Курт Клапхольц. Контроль над уровнем платы за жилье...... 733
Гордон Таллок. Соискание ренты...........................741
Дональд Н. Макклоски. Риторика ......................... 748
Эндрю Б. Эйбел. Рикардианская теорема эквивалентности.... 752
Питер Ньюмен. Растущая цена предложения................. 764
Генри У. Шпигель. Схоластическая экономическая мысль..... 768
Джон Робертсон. Шотландское просвещение................. 776
Д.Г. Монро. Собственный интерес......................... 782
Рави Канбур. Неявное (теневое) ценообразование.......... 789
Я. де В. Граафф. Общественные издержки.................. 792
Уильям Р. Аллен. Механизм перетока денежных металлов..... 799
Джеймс Куирк. Экономика спорта.......................... 804
Рональд Финдли. Условия торговли.........................811
Брюс У. Хэмильтон. Гипотеза Тибу ....................... 820
Мюррей Н. Ротбард. Временное предпочтение .............. 827
Генри Фелпс Браун. Профсоюзы............................ 834
Грегори Клэйс. Утопии .................................. 846
Джои Харсаньи. Ценностные суждения...................... 855
Томас К. Шеллинг. Ценность жизни........................ 860
Аллан М. Фелдман. Экономическая теория благосостояния.... 870
Майкл Бахарах. Игры с нулевой сучимой................... 887
АВТОРЫ ................................................. 894
ПРЕДМЕТНЫЙ И ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.......................... 930
viii
ПРЕДИСЛОВИЕ
Большинство из нас помнит, как учились ездить на велосипеде:
трудно было удержаться, ехать прямо, поворачивать так, чтобы не
упасть. Позже, после минут, часов или даже дней практики, мы нако-
нец понимали, как это делается, и узнавали почти чудесное чувство
равновесия, которое делает езду на двух колесах такой простой и кото-
рое никогда не исчезает.
Примерно то же часто вспоминают об изучении своей науки эко-
номисты, даже самые известные. Недели, месяцы или годы они слу-
шают лекции, читают учебники, успешно сдают экзамены, но не до
конца понимают суть экономического анализа. Затем совершенно нео-
жиданно облака рассеиваются, появляется солнце и они понимают, как
экономика с ее собственным особым видением способа, которым об-
щество распределяет ресурсы и организует производство и распреде-
ление, освещает мир вокруг них. Это видение возникло в конце
XVIII столетия. В 1776 г. Адам Смит, опираясь на труд Франсуа Кенэ,
изложил в «Богатстве народов» свое понимание того, как работает кон-
курентная экономика, в которой производство и распределение орга-
низуются посредством рыночного обмена. В такой экономике, заявил
он, решения всех людей и фирм реагируют на одинаковые ценовые сиг-
налы и на расчет прибыли и убытков, произведенный на основании
этих цен. Однако во всех других отношениях эти агенты принимают
решения совершенно независимо друг от друга. Первая великая идея
современной экономической науки, сформулированная Смитом, состо-
яла в том, что такая экономика не придет к хаосу, но образует систему
со своими собственными шаблонами действий и своими собственны-
ми «законами» поведения, а задача экономистов заключается в том,
чтобы открыть эти законы, узнать, что они из себя представляют и как
работают.
Далее Смит показал, как экономисты должны идти к такому откры-
тию. Из бесконечной сложности повседневной жизни исследователь
должен выделить скелет рыночной системы, который поддерживает всю
структуру. Далее такую аналитическую абстракцию нужно использовать
в качестве фундаментального отображения главных сил, образующих
экономику. Экономическая наука не просто описательна, она включа-
ет и абстрактный анализ, и описание, которое структурируется таким
анализом.
«Принципы политической экономии и налогообложения» (1817) Да-
вида Рикардо утвердили дедуктивное рассуждение как главный метод
в экономической теории. Функционирование экономики нужно выво-
ix
дить логически из нескольких фундаментальных предположений, со-
гласно которым люди и фирмы преследуют определенные цели посред-
ством определенным способом работающих рынков, главным образом
рынков со свободной конкуренцией, над которыми ни один отдельный
агент не имеет никакой власти.
Таким образом, к 1817 г. были установлены ключевые компоненты
экономической науки. Экономику следовало рассматривать как систе-
му, которая действует через рыночный обмен и, следовательно, через
ценовой механизм. Люди в обществе, преследующие свои собственные
интересы, взаимодействуют в своих экономических связях с природой
и друг с другом. Важны оба аспекта этого видения: интересы отдель-
ных людей — не обязательно узко эгоистичные или «целесообразные
экономически» — и способы, которыми они взаимодействуют в обще-
стве. Именно их комбинация посредством дедуктивного анализа харак-
теризует метод, которым экономисты постигают мир.
Все направления экономической мысли разделяют это видение спо-
соба, которым действует экономика, хотя они могут различаться — и
серьезно различаться — во многих других отношениях. Неэкономис-
ты — в средствах массовой информации — редко понимают это, и в
результате спокойное отношение к научным разногласиям, которое
присутствует в таких науках, как биология и космология, редко встре-
чается в экономике. Почти каждый день, например, многие экономет-
рические прогнозы оказываются ложными благодаря действительному
развитию событий; то же относится к многочисленным метеорологи-
ческим прогнозам. Однако в отличие от прогнозистов-экономистов
прогнозистов погоды увольняют редко, и когда это делается, то обыч-
но из-за недостаточной «телегеничности», а не из-за недостаточной точ-
ности прогнозов. Тот факт, что большинство экономистов, как и боль-
шинство физиков, имеют вполне определенное видение мира, не под-
разумевает, что они также должны приходить к согласию относительно
того, как он действительно работает, в большей степени, чем физики
должны приходить к согласию относительно природы элементарных
частиц, которые образуют их Вселенную.
Возможно, Джон Мейнард Кене изложил эту точку зрения лучше
всего в его известном высказывании: «Экономическая теория не дает
нам совокупность неизменных выводов, прямо применимых к поли-
тике. Это скорее метод, чем учение, аппарат разума, техника мышле-
ния, которая помогает ее обладателю делать правильные выводы».
«Новый Полгрейв: словарь экономической теории» был опублико-
ван в четырех больших томах в конце 1987 г. и вскоре стал общеприз-
нанным справочником в облаете экономики. Его название объясняется
тем, что это современный наследник «Словаря политической эконо-
мии», который был издан Р.Г. Инглисом Полгрейвом (R.H. Inglis
Palgrave) и публиковался издательством Macmillan в трех томах в 1894,
1896 и 1899 гг. Вторая и несколько модифицированная версия, кото-
рую редактировал Генри Хиггз (Henry Higgs), появилась в середине
1920-х годов.
Как редакторы «Нового Полгрейва» мы попросили его авторов не
писать обзоров современной литературы и не придерживаться укоре-
нившейся точки зрения. Вместо этого каждого попросили, чтобы он,
аккуратно обсуждая работы других авторов, излагал свои собственные
взгляды относительно рассматриваемого предмета. Кроме того, статьи
должны были быть написаны в исторической проекции, чтобы по воз-
можности описать не только текущие проблемы, но также прошлое
развитие теории и перспективы на будущее. Мы верим, что знание
исторического развития любой теории улучшает понимание ее текущего
состояния и возможность появления лучших теорий в будущем. Хотя
не все почти 200 тем, охваченных «Словарем», содержали такой исто-
рический подход, ответы авторов на такую просьбу были, как прави-
ло, положительными.
Все сто статей в этом томе взяты из «Нового Полгрейва» без изме-
нения. Они были отобраны, чтобы показать, как эта «техника мышле-
ния», о которй говорил Кейнс, может применяться для освещения
широкого круга тем. Конечно, те читатели, которые являются нович-
ками в экономике, неизбежно столкнутся с определенными термина-
ми и профессиональными инструментами, такими, как эластичность,
оптимальность по Парето, заменяющие и дополняющие блага, которые
не будут им знакомы. Таким читателям не следует пугаться. Благодаря
указателю помощь часто можно найти в других статьях этого сборни-
ка, и в крайнем случае всегда имеются учебники по данному предме-
ту, которые дополняют, но не заменяют данное издание.
Джон Итуэлл,
Мюррей Милгейт,
Питер Ньюмен
РОСТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
Э. Бозеруп
Agricultural Growth and Population Change
E. Boserup
Макроэкономическая теория, объясняющая взаимосвязь между де-
мографическими изменениями и изменениями в сельском хозяйстве,
была разработана Мальтусом и Рикардо еще в самом начале перехода
к иному типу демографического развития в Европе. В середине XX в.,
когда аналогичные процессы стали происходить в других частях света,
интерес к работам классиков пробудился вновь. Рикардо (Ricardo, 1817)
различал два типа реакции сельскохозяйственного производства на рост
численности населения. Одна из них — это экстенсивный рост, т.е. во-
влечение в сельскохозяйственный оборот новых земель, которые, как
он полагал, будут приносить все меньшую отдачу на вложенный труд
и капитал, поскольку новые земельные участки будут более отдален-
ными или почва там будет хуже, чем на уже обрабатываемых землях.
Другой путь — интенсивный. Он заключается в более интенсивной об-
работке существующих сельскохозяйственных угодий, в повышении
урожайности путем внесения удобрений, прополки, дренажа и т.д. По
мнению Рикардо, этот путь также ведет к убывающей отдаче. Таким
образом, Рикардо, каки Мальтус (Malthus, 1803), считал, что рано или
поздно наступит такой период, когда снижение реальной заработной
платы, увеличение ренты и уменьшение душевого потребления продук-
тов питания остановят дальнейший рост численности населения.
В этих рассуждениях не учтен третий путь, по которому может пойти
сельскохозяйственное производство в ответ на рост численности насе-
ления: использование возросших трудовых ресурсов для получения
более частых урожаев с существующих сельскохозяйственных площа-
дей. Именно так и происходило в Англии во времена Рикардо, когда
принятая в Европе залежная система уступила место ежегодному севу.
Поля, прежде оставляемые под паром, ни по удаленности, ни по каче-
ству ничуть не хуже возделываемых земель, но если период пребыва-
ния земли под паром сокращается или вообще сводится на нет, то для
предотвращения снижения урожайности и компенсации потерь в под-
ножном корме для скота (так как земли под паром использовались под
1
пастбища) необходимы дополнительные затраты труда и капитала. Та-
ким образом, и при интенсификации такого рода можно ожидать сни-
жения предельной отдачи на вложенный труд и капитал, но прирост
сельскохозяйственной продукции за счет более короткого севооборота
намного превосходит тот прирост, который мог бы быть получен за счет
увеличения трудовых и капитальных затрат, направленных просто на
повышение урожайности. На самом деле интенсификацию сельскохо-
зяйственного производства по Рикардо правильнее было бы рассмат-
ривать не столько как средство повышения урожайности, сколько как
способ предотвратить ее падение в результате сокращения севооборо-
та или полного отказа от пара. С учетом этого третьего пути расшире-
ния сельскохозяйственного производства эластичность предложения
продуктов питания в ответ на рост численности населения окажется не
такой, как было принято считать в классической теории.
Поскольку классическая теория не принимала во внимание возмож-
ность более частого получения урожаев, она непригодна для анализа из-
менений в сельскохозяйственном производстве, сопровождавших демо-
графические сдвиги в развивающихся странах во второй половине
XX столетия. Между развивающимися странами очень велики различия
и в плотности населения, и в частоте получения урожаев. Для анализа ро-
ста сельскохозяйственного производства классификация земель по часто-
те, с которой засевается и дает урожай данный участок земли, представ-
ляется более уместной, чем по признаку освоенности или неосвоенное™
земель. Как в прошлом, так и в наши дни мы имеем дело с неким конти-
нуумом сельскохозяйственных систем, на одном полюсе которого — ни-
когда не участвовавшие в сельскохозяйственном обороте земли, а на дру-
гом — земли, которые засеваются сразу же, как только собран предыду-
щий урожай. Постепенное увеличение частоты получения урожаев
обеспечивает растущее население продовольствием и работой.
На малонаселенных просторах Африки и Латинской Америки, где
жители ведут натуральное хозяйство, преобладают пастбища в сочета-
нии с залежной системой земледелия и очень долгим севооборотом,
наподобие той, что чуть ли не повсеместно использовалась в Европе
вплоть до первого тысячелетия нашей эры. В районах с самой низкой
плотностью населения одно и то же поле обрабатывается не более двух
лет подряд, затем его оставляют по меньшей мере лет на двадцать и оно
зарастает лесом. В районах с более высокой плотностью населения ос-
тавлять землю невозделанной на столь длительный период уже нельзя,
поэтому одно и то же поле засевается несколько лет подряд, затем его
оставляют под паром на 4-6 лет и оно зарастает кустарником. Там, где
плотность населения еще выше, поле засевают 1—2 года подряд, потом
на 1—2 года оставляют под паром или даже сеют ежегодно. В странах с
очень высокой плотностью населения, в том числе во многих азиатских
странах, с некоторых полей урожаи снимают 2—3 раза в год, не оставляя
их под паром совсем.
Если не учитывать этих различий в продолжительности севооборо-
та или считать их следствием климатических или иных неустранимых
различий в природных условиях, то возможности расширения сель-
2
скохозяйственного производства в связи с ростом численности насе-
ления и предложения труда могут показаться более благоприятными
или, наоборот, менее благоприятными, чем они есть на самом деле.
Если, например, мы возьмем малонаселенную территорию с чрезвы-
чайно длительным севооборотом, то земли, зарастающие новым лесом
или используемые под выпасы, можно ошибочно принять за «новые»
земли в классификации Рикардо, не заметив того, что эти земли уже
участвуют в сельскохозяйственном обороте, выполняя функцию вос-
становления плодородия почвы или повышения содержания в ней вла-
ги, предотвращения эрозии почвы или борьбы с сорняками, и спустя
некоторый период они вновь будут очищены и распаханы. Если ни
сами земледельцы, ни местные власти не представляют себе опасно-
сти, которую таит в себе сокращение срока нахождения земли под па-
ром, и не делают ничего, чтобы эту опасность предотвратить, такое со-
кращение может привести к эрозии почвы, снижению плодородия или
даже к опустыниванию этих земель. Возможности обеспечения расту-
щего населения продовольствием окажутся более скромными, чем ожи-
далось, а восстановление плодородия почвы обойдется очень дорого,
если вообще окажется возможным. С другой стороны, если согласить-
ся с Рикардо в том, что нынешние залежи, участвующие в системе се-
вооборота с длительным циклом, имеют худшее качество, чем ныне
обрабатываемые земли, возникает опасность серьезно недооценить
возможности пропитания населения существенно большей численно-
сти за счет сокращения периода пара или полного отказа от него.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРУДА. Когда в середине XX в. темпы роста
численности населения в развивающихся странах ускорились, эконо-
мисты вновь вспомнили о введенном Рикардо различии между экстен-
сивным и интенсивным способами развития сельского хозяйства и
попытались применить его к анализу ситуации в самых густонаселен-
ных странах Азии, где практически уже не оставалось новых земель.
Поскольку возможности, которые дает сокращение севооборота, не
учитывались, то считалось, что эластичность производства продоволь-
ствия в ответ на рост населения в этих странах будет очень низкой, так
что при сохранении высоких темпов роста населения очень скоро воз-
никнет нехватка продовольствия, начнут расти цены на продукты пи-
тания, реальная заработная плата снизится, а рента (в трактовке Ри-
кардо) резко повысится.
Льюис (Lewis, 1954) предположил, что в странах с высокой плотно-
стью населения, где свободных земель, пригодных для обработки, по-
чти или совсем не осталось, предельный продукт труда должен быть
близок нулю, а значительная часть сельскохозяйственного труда должна
быть избыточной в том смысле, что ее перелив в иные сферы деятель-
ности не повлек бы за собой снижения сельскохозяйственного произ-
водства, даже если бы способы его ведения остались прежними. Лью-
ис рекомендовал стимулировать отток населения из сельских районов
в города, поскольку это, по его мнению, должно было привести к по-
вышению предельной и средней производительности труда в сельском
3
хозяйстве и увеличению доли населения, занятой более производитель-
ным трудом в городах. Его рекомендации относились только к густо-
населенным странам, но многие экономисты не делали различия меж-
ду густонаселенными странами и странами с низкой плотностью на-
селения, считая вслед за Рикардо, что, если в стране и есть свободные
земли, они неизбежно должны быть плохого качества, так что избыток
труда должен существовать во всех развивающихся странах. Теория
избыточного труда способствовала возникновению перекоса в пользу
урбанистического, индустриального развития в ущерб развитию сель-
ского хозяйства — перекоса, который был свойствен государственной
политике многих развивающихся стран.
Теория избыточного труда, однако, недооценивает спрос на труд в
сельскохозяйственных системах с коротким севооборотом, основанных
на применении трудоинтенсивных методов и использовании примитив-
ного инвентаря. Если плотность населения в каком-либо регионе воз-
растает, то отказ от залежного земледелия и переход к ускоренному се-
вообороту предполагают расширенное использование трудоемких мето-
дов сохранения плодородия почвы, борьбы с сорняками и вредителями,
полива растений, выращивания корма для животных и обеспечения охра-
ны земель. При этом некоторые из дополнительных трудозатрат явля-
ются текущими, а некоторые следует считать трудовыми инвестициями.
Например, для перехода к интенсивному земледелию может потребовать-
ся выровнять землю, в том числе путем создания террас, построить ир-
ригационные или дренажные сооружения, огородить поля, чтобы на них
не забредал скот. Если для всех этих работ используется мускульная сила
человека или животных, то затраты человеческого труда будут весьма
значительны. Даже использование мускульной силы животных не мо-
жет сколько-нибудь существенно сократить трудозатраты, если залеж-
ные земли и иные пастбища сократились настолько, что земледелец
вынужден сам производить корма для этих животных.
Часть инвестиций, необходимых для получения более частых уро-
жаев, производится земледельцем с помощью тех же орудий труда и
животных, которые используются им и для текущих работ. Без учета
подобных трудовых вложений оценки инвестиций и сбережений в сель-
скохозяйственных районах с растущим населением оказались бы серь-
езно заниженными. Из-за того что сеять приходится чаще, текущих
операций становится больше и возникает необходимость в трудовых
инвестициях, спрос на труд с переходом к интенсивному землеполь-
зованию резко возрастает. Это противоречит теории предложения тру-
да, согласно которой рост населения неизбежно ведет к возникнове-
нию избыточного труда.
Теория низкой эластичности предложения сельскохозяйственной
продукции и избыточного труда в сельском хозяйстве в сочетании с
теорией демографического перехода рисует весьма мрачные перспек-
тивы для тех густонаселенных стран, в которых большинство населе-
ния занято в сельском хозяйстве. Если высокие темпы роста населе-
ния сохранятся (как это предрекают демографы), то при отсутствии
сколько-нибудь обнадеживающих перспектив расширения производ-
4
ства продовольствия и увеличения занятости в сельском хозяйстве (как
это следует из теории избыточной рабочей силы) представлялось совер-
шенно очевидным, что капитал, необходимый для значительного по-
вышения занятости и производства в несельскохозяйственном секто-
ре, взять будет неоткуда. Таким образом, из-за недооценки возможно-
стей адаптации производства продовольствия к численности населения
многие экономисты пришли к выводу о том, что лучшим, если не един-
ственным, средством избежать катастрофы является резкое снижение
рождаемости, т.е. переход к планированию семьи. При этом, в свою
очередь, не учитывалось существование связей между уровнем эконо-
мического развития и побудительными мотивами, ведущими к сокра-
щению размера семьи.
Побудительные мотивы к дополнительному сельскохозяйственно-
му труду и способы его приложения в периоды роста населения раз-
личны при натуральном хозяйстве и в товарных фермерских хозяйствах.
При натуральном хозяйстве побудительным мотивом для перехода к
новой системе ведения сельского хозяйства, при которой рост трудо-
вых затрат хотя бы временно, но будет опережать рост объема произ-
водства, может оказаться необходимость любой ценой производить
больше продовольствия, чтобы прокормить растушую семью. Чтобы
справиться с этим дополнительным объемом работ, приходится увели-
чивать трудовой вклад всех членов семьи. В некоторых странах боль-
шую часть сельскохозяйственных работ выполняют мужчины, в других
странах этим занимаются в основном женщины. Когда нагрузка воз-
растает, то соответственно женщины в одних странах и мужчины в
других все активнее вовлекаются в сельскохозяйственное производство,
а старикам и детям приходится больше работать и там, и там. Для всех
членов сельских семей рабочий день в среднем удлиняется, а нерабо-
чих дней становится меньше. В тех регионах, где используется уско-
ренный севооборот, трудоемкая ирригация и выращивание рассады с
последующей пересадкой, сезон сельскохозяйственных работ может
продолжаться целый год без всякого перерыва.
Для производителей товарной продукции побудительный мотив для
интенсификации сельскохозяйственного производства возникает тог-
да, когда вследствие роста населения или увеличения доходов город-
ского населения начинает расти спрос на продовольствие, и этот рас-
тущий спрос толкает цены на продовольствие вверх до тех пор, пока
ускоренный севооборот не станет выгодным делом, несмотря на то что
он связан с более высокими издержками производства и требует уве-
личения капиталовложений. В результате такого изменения условий
торговли между городом и селом часть бремени роста сельского насе-
ления переносится на город. Рост цен на сельскохозяйственную про-
дукцию в данном случае вовсе не полностью идет на увеличение
рикардианской ренты; в значительной мере он просто отражает ком-
пенсацию роста издержек производства. Если в результате государ-
ственного вмешательства или закупки дешевого продовольствия по им-
порту цены на продовольствие не поднимутся до требуемого уровня,
никакой интенсификации не произойдет.
5
Кроме того, в районах товарного сельского хозяйства при переходе
на ускоренный севооборот под давлением роста населения рабочий
сезон удлиняется. Таким образом, снижение реальной почасовой зара-
ботной платы сельскохозяйственных рабочих компенсируется, по край-
ней мере частично, продолжением работы в межсезонье и тем, что у
женщин и детей из их семей появляется больше возможностей заня-
тости. Говоря о низкой или нулевой предельной производительности
в сельском хозяйстве, часто не учитываются сезонные различия в за-
нятости и заработной плате. Многие работы, выполняемые в межсезо-
нье, на самом деле необходимы для ускорения севооборота за счет ис-
пользования трудоинтенсивных методов. Если рассматривать их в
отрыве от их истинной функции, может показаться, что производитель-
ность этих работ чрезвычайно низка. Плата за эти работы, да и вооб-
ще за все работы, выполняемые в межсезонье, может быть очень низ-
кой, но сезонные различия в оплате обычно с лихвой компенсируют
эту недоплату, поэтому для семей сельскохозяйственных рабочих харак-
терно накопление долгов в период межсезонья и погашение этих дол-
гов в период получения выручки.
Низкие межсезонные заработки являются важным стимулом для
ускорения севооборота в товарных хозяйствах, поскольку значительная
часть дополнительных трудозатрат, связанных с более частым получе-
нием урожаев, ирригацией, выращиванием трудоемких культур и от-
кормом животных, приходится именно на межсезонье. Но если рост
населения заставляет чаще получать урожай с одного и того же участ-
ка, то спрос на труд в разгар сезона также резко возрастает — возмож-
но, даже в большей степени, чем его предложение. Значительная часть
сельского населения в разгар сезона сельскохозяйственных работ со-
четает ведение хозяйства на собственном участке или на арендуемой
земле с работой по найму, что повышает гибкость рынка труда. Если
реальная заработная плата снижается, поскольку рост населения ведет
к повышению цен на продукты, то у сельскохозяйственных рабочих,
работающих только по найму, не остается иного пути повышения сво-
их доходов, кроме дальнейшего сокращения своего свободного време-
ни, а также свободного времени своих жен и детей за счет низкоопла-
чиваемой работы в межсезонье. Но те работники, которые имеют соб-
ственный участок, имеют возможность переключиться на более
интенсивную обработку этого участка силами семьи, сократив свою
работу по найму. Поскольку по найму они работают главным образом
в разгар сезона, сокращение предложения труда может предотвратить
снижение реальной заработной платы или даже привести к ее повы-
шению в этот период, что и устанавливает нижний предел доходам тех,
кто работает только по найму.
Если помимо найма рабочей силы практикуется и аренда земли, то
эластичность рынка труда в сельском хозяйстве возрастает еще боль-
ше. Семья, где имеются избыточные работники, может либо отправить
кого-то из своих членов работать на других хозяев, либо арендовать у
этих других хозяев землю, а семья, где недостаточно работников, мо-
жет либо нанять их, либо сдавать в аренду свои излишки земли. При
б
подобной гибкой системе и арендная плата за землю, и заработная плата
будут очень чутко реагировать на изменения в предложении труда. Но
если по каким-либо политическим причинам наем труда или аренда
земли будут запрещены или если правительство начнет регулировать
цены на сельскохозяйственную продукцию, то система не сможет адап-
тироваться к демографическим изменениям или, во всяком случае, эта
адаптация будет происходить с большими трудностями.
ТРАНСПОРТНЫЕ ИЗДЕРЖКИ И УРБАНИЗАЦИЯ. Согласно
теории Рикардо предельная отдача труда и капитала в результате роста
населения снижается. Частично это происходит из-за интенсификации
сельскохозяйственного производства, частично за счет вовлечения в
сельскохозяйственный оборот земель худшего качества, а частично за
счет того, что обработка более отдаленных участков влечет за собой
повышение транспортных издержек. Таким образом, когда численность
населения растет, производителям приходится выбирать между повы-
шением издержек производства и повышением расходов на транспор-
тировку урожая с полей к потребителю. Однако существует и третья
возможность — приблизить центры потребления к землям, имеющим
такое же качество, что и у земель, которые использовались раньше,
т.е. до того, как население выросло. Жители деревень, в которых принята
залежная система земледелия, прожив достаточно долгое время на од-
ном месте, часто переселяются туда, где земля много лет не обрабаты-
валась, поросла лесом и восстановила свое природное плодородие. По
мере роста численности населения подобное перемещение населения
целыми деревнями будет, по-видимому, происходить все чаще и чаще.
В иных случаях вся деревня на новое место не переезжает, но все
больше жителей покидают ее, переселяясь на новое место, где возни-
кают отдельные хутора или новые деревушки. Это помогает как-то раз-
мещать растущее население — во всяком случае, до тех пор, пока меж-
ду деревнями еще остается свободное пространство, но если рост на-
селения будет продолжаться, то рано и поздно придется делать выбор
между переходом на ускоренный севооборот, использованием земель
худшего качества или отселением части населения в далекие края.
В условиях ускоренного севооборота и заселения территорий меж-
ду деревнями начинают возникать небольшие города. Транспортные
издержки обратно пропорциональны объему перевозок, а строительство
дорог, даже самых примитивных, становится выгодным только при
относительно высоком объеме перевозок. Если залежный период очень
долог и деревни находятся далеко друг от друга, численности населе-
ния может просто не хватить для того, чтобы заниматься и сельским
хозяйством, и перевозками для снабжения города сельскохозяйствен-
ной продукцией. Урбанизация и переход к товарному сельскохозяй-
ственному производству становятся возможными только при относи-
тельно высокой плотности населения и ускоренном севообороте. Та-
ким образом, если население конкретной территории постоянно растет,
рано или поздно наступит момент, когда начнут возникать небольшие
торговые городки, товары в которые доставляются наземным и водным
7
транспортом, как это было на значительной части территории Европы
в начале второго тысячелетия.
По мере дальнейшего роста численности населения придется опять
делать выбор между дальнейшей интенсификацией сельского хозяй-
ства, требующей роста издержек, и переселением дополнительных по-
требителей (или, по крайней мере, некоторых из них) в иное место, где
они смогли бы прокормиться за счет менее интенсивного земледелия
и где продовольствие не требовалось бы перевозить на большие рас-
стояния. На этой стадии развития либо где-то между старыми города-
ми, либо на периферии рядом с деревнями обычно начинают возни-
кать новые торговые города. Иными словами, вместо того чтобы возить
сельскохозяйственную продукцию на все более далекие расстояния и
тем самым создавать земельную ренту на участках, расположенных в
окрестностях существующих центров потребления, как это представ-
лял себе Рикардо, население начинает создавать новые центры потреб-
ления ближе к новым землям. Подобное постепенное распространение
децентрализованной урбанизации позволило в большинстве европей-
ских стран отложить переход от паровой системы земледелия к ежегод-
ной обработке земли до конца XVIII и даже до начала XIX в. Террито-
рии, покрытые сетью небольших торговых центров, имеют лучшие
условия для развития малой или средней индустриализации, чем ма-
лонаселенные районы, где население живет в основном на хуторах и
выращивает только то, что само потребляет.
Происходившую в XIX в. миграцию из Европы в Северную Амери-
ку можно считать еще одним этапом в перемещении европейских про-
изводителей сельскохозяйственной продукции и центров потребления
этой продукции на территорию с низкой плотностью населения, ме-
нее интенсивным сельским хозяйством и намного более низкими сель-
скохозяйственными издержками. В Америке города продолжали снаб-
жаться за счет экстенсивной системы земледелия с коротким севообо-
ротом еще долго после того, как в Западной Европе был осуществлен
переход к гораздо более интенсивным методам, предполагавшим еже-
годное получение урожаев зерна и фуража.
ТЕХНОЛОГИЯ. С древнейших времен рост численности населения
и усиление урбанизации создавали стимулы для развития сельскохозяй-
ственных технологий, которое шло либо путем передачи новых техно-
логий из одного региона в другой, либо путем изобретения новых тех-
нологий в ответ на настоятельную потребность в повышении произво-
дительности земли или рабочей силы, либо того и другого. До XIX в.
технологические перемены в сельском хозяйстве заключались в пере-
ходе от примитивной технологии, т.е. технологии, предполагавшей
использование мускульной силы человека, вооруженного самыми при-
митивными орудиями, к промежуточной технологии, т.е. такой, при
которой человек использует более совершенные орудия, технику, ра-
ботающую на мускульной силе животных, и энергию воды для проточ-
ной ирригации. В классической теории развития сельского хозяйства
подобные технологические изменения считаются факторами, стимули-
8
рующими рост численности населения и усиление урбанизации, но
возникновение этих факторов объясняется не ростом населения и уси-
лением урбанизации, а чисто случайно возникающими изобретениями.
Продолжавшийся в течение XIX в. рост спроса на продукцию сель-
ского хозяйства и усиление конкуренции городских центров за сель-
скохозяйственный труд привели к дальнейшим технологическим пере-
менам в европейском и североамериканском сельском хозяйстве.
Вследствие технологического прогресса, ставшего возможным благо-
даря промышленной революции, был осуществлен постепенный пере-
ход от промежуточных к высоким технологиям, когда человеческий
труд вооружен мощью механизмов и другими индустриальными сред-
ствами производства. Развитие машиностроения и химической про-
мышленности способствовало росту плодородия земли, производитель-
ности труда и транспорта; для повышения урожайности зерновых и
продуктивности скота стали использоваться научные методы.
Существование высоких технологий в развитых странах создает
предпосылки для быстрого роста сельскохозяйственного производства
в развивающихся странах, но, поскольку в Северной Америке и Евро-
пе эти технологии применялись для уменьшения прямых трудовых за-
трат в сельском хозяйстве, те экономисты, которые придерживались
теории избыточного труда, высказывали опасения, что применение этих
технологий приведет к дальнейшему увеличению избыточной рабочей
силы. Однако идея о существовании в сельском хозяйстве развива-
ющихся стран общего избытка труда никогда не пользовалась едино-
душным признанием среди экономистов. Под влиянием результатов,
полученных в ходе эмпирических исследований интенсивного высоко-
товарного сельского хозяйства в густонаселенных регионах, Шульц
(Schultz, 1964) высказал предположение, что труд, по-видимому, пол-
ностью и без избытка используется даже в очень мелких хозяйствах, где
применяется самая примитивная технология. Таким образом, произ-
водительность и рентабельность таких хозяйств можно повысить толь-
ко путем внедрения индустриальных и научных методов ведения сель-
ского хозяйства и за счет инвестиций в человеческий капитал, как это
происходит в промышленно развитых странах.
Хотя сторонники и противники теории избыточного труда придер-
живаются различных взглядов на связь между спросом на рабочую силу
и ее предложением, и те и другие согласны, что эластичность произ-
водства сельскохозяйственной продукции по росту трудозатрат долж-
на быть низкой, поскольку они не учитывают или недооценивают то
весьма существенное влияние на сельскохозяйственное производство
и занятость, которое оказывает использование высоких технологий и
ускорение севооборота. Доступность семян новых, быстро созревающих
сортов, химических удобрений, механических насосов и других средств
мелиорации позволяет использовать ускоренный севооборот в гораздо
больших масштабах и распространять эту практику на территории с
более засушливым или более холодным климатом, чем это было воз-
можно раньше. Благодаря новым высоким технологиям изменились
сами ограничения, сдерживающие рост численности населения в мире.
9
Если раньше этот рост сдерживался только наличием свободных земель,
то теперь он сдерживается наличием энергоресурсов, стоимостью этих
ресурсов и возможностями вложения капитала.
Новые технологии производства дают возможность гораздо более
гибкой адаптации сельского хозяйства к демографическим изменени-
ям и изменениям в реальной заработной плате. Интенсивное сельское
хозяйство больше не считается следствием низкой реальной заработ-
ной платы, и, изменяя технологию производства, можно изменять тем-
пы роста занятости и реальной заработной платы при данном темпе
роста объема производства. Используя различные сочетания трудоин-
тенсивных методов с высокими технологиями в зависимости от плот-
ности населения и от уровня экономического развития страны, снача-
ла Япония, а затем и многие другие густонаселенные страны добились
быстрого увеличения занятости в сельском хозяйстве, повышения вы-
работки на одного работника и резкого роста общего объема производ-
ства. Эта «зеленая революция» — пример технологических перемен в
сельском хозяйстве, обусловленных демографическими изменениями.
Научные исследования, в результате которых были разработаны эти
методы и технологии производства, проводились и финансировались
правительствами соответствующих стран и международными донора-
ми, озабоченными тем, что быстрый рост населения в развивающихся
странах может привести к голоду. Поэтому эти исследования касались
в основном развития сельского хозяйства в густонаселенных странах,
где, по мнению и самого руководства этих стран, и международных
доноров, данная проблема стояла наиболее остро.
Производители сельскохозяйственной продукции, применяющие
высокие технологии, зависят от состояния сельской инфраструктуры
гораздо сильнее, чем производители, применяющие примитивную или
промежуточную технологию. Транспортные средства и торговые поме-
щения необходимы не только для коммерческого использования товар-
ных излишков, но и для употребления промышленных технологий в
сельском хозяйстве. Не обойтись и без ремонтных мастерских, электро-
снабжения, технических училищ, опытных станций, ветеринарных пунк-
тов, сельскохозяйственных консультаций. Таким образом, краткосроч-
ная эластичность предложения там, где имеется вся необходимая инф-
раструктура для внедрения промышленных и научных методов в сельское
хозяйство, и там, где такой инфраструктуры нет, различна. В тех регио-
нах, где она имеется, можно добиться быстрого роста производства, уста-
навливая более выгодные для производителей цены, а там, где ее нет,
повышение цен не будет оказывать практически никакого влияния на
объем производства до тех пор, пока не будет создана местная инфра-
структура. С другой стороны, развитие инфраструктуры может оказать-
ся достаточным условием для перехода от натурального хозяйства к то-
варному, если оно приведет к значительному сокращению разницы меж-
ду ценами, по которым продукция покупается у местных производителей,
и ценами, по которым она продается в центрах потребления.
В регионах с высокой плотностью населения и сетью небольших
торговых городков существует больше возможностей для внедрения в
10
сельское хозяйство промышленных и научных методов, чем в районах,
где нет никаких иных населенных пунктов, кроме редких, разрознен-
ных деревень. Поскольку подушевые затраты на создание инфраструк-
туры тем ниже, чем выше плотность населения, наличия инфраструк-
туры можно скорее ожидать в тех регионах, где есть города, а если она
еще не создана, то власти скорее согласятся финансировать создание
инфраструктуры в районах с высокой плотностью населения, чем в
малонаселенных районах. Таким образом, когда идет речь о внедрении
высоких технологий, малонаселенные территории находятся в худшем
положении по сравнению с территориями с высокой плотностью на-
селения.
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ. Если местная система землевладения не со-
ответствует новой системе земледелия, это также может стать препят-
ствием для роста производства. Дело в том, что система землевладения
также связана с типом севооборота. В районах залежного земледелия
индивидуальные производители имеют лишь право пользования про-
дуктом земли, которую они обрабатывают, поскольку и поля, и паст-
бища, и леса принадлежат всему племени. Участок, предназначаемый
под расчистку, решением местного вождя обычно отводится конкрет-
ному семейству, а если для выполнения самой расчистки или иных
работ требуется много работы, которую силами одной семьи не выпол-
нить, вождь формирует бригады, которые выполняют такие работы
совместно. Если население растет, растет и спрос на землеотводы, и
может наступить такой момент, когда либо сам вождь, либо жители
деревни потребуют, чтобы за землеотводы вносилась определенная
плата, изменяя тем самым систему землевладения. Когда вождь начи-
нает получать оплату за землеотводы, он превращается в крупного зем-
левладельца, при этом сама необходимость внесения платы может на-
рушить равновесие прежних земельных отношений и применить уско-
ренный севооборот может стать выгоднее, чем переходить на новые
участки или переезжать жить на новое место.
Когда севооборот ускоряется настолько, что возникает необходи-
мость в значительных долговременных инвестициях в благоустройство
или мелиорацию земель, создаются предпосылки для возникновения
частной собственности на землю, которая обеспечивает земледельцу
гарантию его прав на владение этой землей и дает ему возможность
получения кредитов под залог земли. Если на этом этапе не произой-
дет изменения земельного законодательства, то частная собственность
на землю, скорее всего, все равно утвердится, только произойдет это
путем самозахвата и постепенного изменения обычаев. Но при этом те,
кто захватил землю без законных оснований, часто не торопятся или
просто не могут вкладывать средства в ее благоустройство, что может
привести к эрозии почвы и другим отрицательным последствиям.
В районах с высокой плотностью населения и достаточно коротким
севооборотом, где есть необходимость в осуществлении перманентных
инвестиций в ирригацию и мелиорацию земли, осуществление этих
трудовых инвестиций может быть организовано либо крупными зем-
11
левладельцами в качестве трудовой повинности, либо местными влас-
тями за плату (средства берутся из местных или общих налоговых по-
ступлений). Чтобы перейти от менее интенсивной системы земледелия
к более интенсивной, обычно требуется изменить форму собственнос-
ти не только на обрабатываемые, но и на необрабатываемые земли,
а также изменить систему ответственности за осуществление инвести-
ций в инфраструктуру. Поскольку между системой земледелия, систе-
мой землевладения и ответственностью за осуществление инвестиций
в инфраструктуру существует связь, любые попытки интенсифициро-
вать сельское хозяйство при одновременном сохранении (по полити-
ческим мотивам) прежней системы землевладения и существующих
сельских порядков будут обречены на провал. То же самое можно ска-
зать о попытках ввести новую систему землевладения, которая не со-
ответствует существующему (или желательному в будущем) уровню ин-
тенсивности и технологии производства. Поэтому государственная по-
литика является важнейшим фактором, определяющим реакцию
сельского хозяйства на рост численности населения.
Земля, находящаяся в залежи, может использоваться для самых раз-
ных целей: для заготовки дров и другой древесины, охоты, сбора пере-
гноя, выпаса домашних животных. Таким образом, изменение залеж-
ной системы может нанести окружающей среде непреднамеренный
ущерб, если этим предметам потребления не будут найдены замените-
ли или если не изменится сама структура потребления. Когда охотни-
чьих угодий становится недостаточно, вожди (как бы они ни называ-
лись) могут узурпировать право на охоту, и тогда остальным селянам
придется изменить свой рацион питания. Когда начинает не хватать
выпасов, прибегают к огораживанию, чтобы селяне (все вообще или
некоторые) не могли пользоваться этими выпасами, или же сельский
сход может ограничить право выпаса животных на общинных пастби-
щах и залежах, чтобы нагрузка на почву не оказалась чрезмерной, по-
скольку это может привести к эрозии или опустыниванию. Следстви-
ем всего этого часто оказывается изменение рациона питания, а также
то, что корм для скота начинают специально выращивать на полях.
ПИТАНИЕ. По мере роста численности населения и интенсифи-
кации сельского хозяйства происходит сдвиг от производства продук-
ции, требующей значительных земельных площадей, к производству и
потреблению тех продуктов, производство которых возможно на мень-
ших площадях. Например, может произойти сдвиг от потребления го-
вядины и баранины к потреблению свинины и домашней птицы, от
животной пищи к растительной, от зерновых к корнеплодам и от вы-
паса скота к производству фуража. В условиях товарного сельскохозяй-
ственного производства подобные сдвиги в производстве и потребле-
нии происходят вследствие увеличения разрыва между ценами на зем-
леемкую и землесберегающую продукцию. Если процесс роста
численности населения сопровождается снижением реальной заработ-
ной платы, то структура потребления беднейших семей может изме-
ниться весьма значительно. Могут возникнуть белковая недостаточ-
12
ность, недоедание и все связанные с ним болезни, возрастет детская
смертность, так как больной ребенок плохо ест и плохо усваивает пищу,
а недоедание понижает сопротивляемость организма.
Экономисты классической школы считали, что продолжительный
рост численности населения приводит к недоеданию, голоду и болез-
ням и это восстанавливает равновесие между численностью населения
и имеющимися земельными ресурсами через рост смертности. Но они
предусматривали и возможность альтернативного варианта, когда рост
численности населения сдерживается благодаря добровольному огра-
ничению рождаемости. Мальтус в 1803 г. писал о «моральном ограни-
чении», а Рикардо в1817г. — о возможности того, что у рабочих разо-
вьется вкус к комфорту и радостям жизни, который будет сдерживать
чрезмерный рост населения. Однако вовсе не изменения в этике и пси-
хологии, а изменения в экономике и социальной сфере, вызванные
развитием индустриализации и урбанизации, привели к снижению тем-
пов роста численности населения сначала в Европе и Северной Аме-
рике, а затем и в других частях света.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА. Снижение темпов роста насе-
ления в Европе и Северной Америке совпало с уменьшением эластич-
ности спроса на продукты питания по доходу вследствие роста подуше-
вых доходов. В результате темпы роста спроса на продовольствие замед-
лились, тогда как темпы роста предложения продуктов питания,
наоборот, выросли благодаря распространению высокопродуктивных
технологий и научных методов ведения сельского хозяйства. Если бы не
вмешательство государства, направленное на поддержку сельского хо-
зяйства, такие перемены могли бы привести к отказу от обработки наи-
худших земель и снижению степени использования индустриальных
средств производства на обрабатываемых землях. Но этим путем процесс
не пошел — ему помешали попытки властей сохранить существующую
систему семейных хозяйств. Крупные хозяйства могли использовать
высокие технологии (особенно средства механизации) лучше, чем мел-
кие, но государство стремилось не допустить вытеснения мелких или
средних ферм более крупными капиталистическими хозяйствами или
сельскохозяйственными компаниями. В результате и в Западной Евро-
пе, и в Северной Америке постепенно сформировались мощные систе-
мы сельскохозяйственного протекционизма и практика субсидирования
сельского хозяйства, сельскохозяйственных исследований и развития
сельской инфраструктуры приобрела широкие масштабы. Несмотря на
всю эту поддержку, значительная часть мелких ферм все же разорилась
и многие земли из числа наихудших выпали из сельскохозяйственного
оборота. От этой поддержки выиграли главным образом крупные хозяй-
ства и фермы, расположенные в самых лучших районах, которые благо-
даря этим мерам сумели расширить применение удобрений и материа-
лов, осуществить инвестиции в развитие овощеводства и животновод-
ства. Так что предложение продолжало опережать спрос, защита от
импорта и дотирование экспорта продолжали расширяться, и промыш-
ленно развитые страны из нетго-импортеров сельскохозяйственной про-
13
дукции постепенно превратились в нетто-экспортеров и экспортируют
этой продукции все больше и больше.
В ходе споров об избыточном труде и низкой эластичности сель-
скохозяйственного производства в развивающихся странах Нурксе
(Nurkse,1953) высказал мысль о том, что для увеличения сельскохозяй-
ственного производства нужно использовать избыточное население на
общественных работах по развитию сельской инфраструктуры. До тех
пор пока в результате подобных программ в сочетании с индустриали-
зацией и замедлением темпов прироста населения не восстановится
баланс между спросом на продовольствие и его предложением, в каче-
стве временной меры он рекомендовал покрывать нехватку продоволь-
ствия за счет импорта (желательно в виде продовольственной помощи).
Поскольку затраты на финансирование и ликвидацию излишков про-
довольствия в развитых странах продолжали расти, идея Нурксе о про-
довольственной помощи была положительно воспринята правитель-
ствами западных стран и вывоз продовольствия в виде помощи или суб-
сидируемого экспорта достиг значительных масштабов.
Правительства некоторых развивающихся стран действительно ис-
пользовали продовольственную помощь и дешевый импорт продоволь-
ственных излишков из промышленно развитых стран для покрытия
дефицита в переходный период, пока их собственные меры, направ-
ленные на развитие сельской инфраструктуры и поддержку сельского
хозяйства не позволили производству догнать быстро растущий спрос
на продовольствие. Но многие страны ввиду доступности дешевого
импорта и бесплатной помощи отказались от вложения собственных
средств на поддержку сельского хозяйства и в развитие сельской инф-
раструктуры. Даже в тех развивающихся странах, где значительное
большинство населения занято в сельском хозяйстве, доля государ-
ственных расходов на развитие сельского хозяйства и сельской инф-
раструктуры часто остается низкой, причем значительная часть этих
весьма скромных средств нередко тратится на выращивание непродо-
вольственных экспортных культур, которые обеспечивают значитель-
ную долю валютных поступлений. Экспорт продовольственных продук-
тов невыгоден из-за того, что промышленно развитые страны, избав-
ляясь от излишков продовольствия, снижают мировые цены на него.
Таким образом, и производители сельскохозяйственной продукции в
развивающихся странах, и правительства этих стран главное внимание
уделяют тем культурам, которые не конкурируют с субсидируемым
экспортом. В тех регионах, где уже существовала необходимая инфра-
структура, удалось быстро увеличить и занятость, и производство по-
добных культур, причем это происходило не только в странах, богатых
землей, но и во многих густонаселенных странах, где произошел час-
тичный отход от выращивания продовольственных культур в пользу
непродовольственных. Такой сдвиг от продовольственных к непродо-
вольственным культурам усилил давление на экспортные цены на эти
культуры на мировом рынке в сторону их понижения.
В краткосрочном аспекте импорт продовольствия дает стране-им-
портеру немалые преимущества. Появляется, например, возможность
14
снабжать быстрорастущие города продовольствием по низким ценам,
не расходуя ничего из государственного бюджета на расширение соб-
ственного производства. Кроме того, выручку от реализации продоволь-
ственной помощи на внутреннем рынке можно использовать как до-
полнительный источник бюджетных поступлений, а в странах с высо-
кими экспортными пошлинами переориентация производства с
продовольственных культур на экспортные увеличивает государствен-
ные доходы. Однако, несмотря на все эти краткосрочные преимуще-
ства, цена, которую приходится платить за пренебрежение развитием
сельского хозяйства и сельской инфраструктуры, может быть очень вы-
сока. Отсутствие дорог, местных продовольственных резервов и ирри-
гации в засушливых и полузасушливых районах может вызвать голод в
засушливые годы. Если государство не вкладывает средств в развитие
сельской инфраструктуры и не обеспечивает население услугами, не-
обходимыми для внедрения высоких технологий, то воспользоваться
этими технологиями смогут только крупные компании (способные са-
мостоятельно создать у себя необходимую инфраструктуру) или хозяй-
ства, расположенные вблизи больших городов.
Без сокращения издержек путем совершенствования транспортной
сети и самого сельскохозяйственного производства товарное производ-
ство продовольствия во многих странах не сможет конкурировать с
импортом. А раз так, то товарное производство будет сокращаться и
производители, ведущие натуральное хозяйство, не станут переходить
к товарному производству. Наиболее активная часть сельской молоде-
жи предпочтет эмигрировать и зарабатывать себе на жизнь где-нибудь
в другом месте. Все большая доля потребностей быстрорастущего го-
родского населения будет удовлетворяться за счет импорта, и импорт
продовольствия превратится в своего рода наркотик, от которого стра-
на-импортер уже не в силах отказаться. Считается, что увеличение за-
висимости многих развивающихся стран от импорта продовольствия и
продовольственной помощи подтверждает вывод классической теории
о неэластичности предложения продовольствия и служит аргументом
в пользу того, чтобы Америка и Западная Европа продолжали дотиро-
вать свое сельское хозяйство и избавляться от излишков его производ-
ства путем дешевого экспорта в «третьи страны». Импорт продоволь-
ствия продолжают считать временной мерой, позволяющей восполнить
все увеличивающийся разрыв между потреблением продовольствия в
развивающихся странах и его производством, хотя на самом деле при-
чиной возникновения этого разрыва во многих случаях является сам
импорт продовольствия в силу того воздействия, которое он оказыва-
ет на местное производство и развитие сельских районов.
РОЖДАЕМОСТЬ. Вопреки господствовавшим в середине XX сто-
летия представлениям государственная политика оказалась более весо-
мым фактором, определяющим рост сельскохозяйственного производ-
ства, чем соотношение между численностью населения и площадью
земли. При этом реакция на быстрый рост численности населения в
густонаселенных странах часто была более эффективной, чем в стра-
15
нах с низкой плотностью населения и более благоприятными естествен-
ными условиями для расширения сельскохозяйственного производства.
Различия в темпах роста сельского хозяйства и проводимой политике
сказались и на демографической ситуации в этих странах — отчасти за
счет различного влияния на индустриализацию и урбанизацию, отчас-
ти за счет влияния на рождаемость, смертность и масштабы миграции
сельских жителей.
Поскольку в густонаселенных странах вопрос о том, сколько земли
приходится на одного человека, стоял чрезвычайно остро, правитель-
ства этих стран не только уделяли больше внимания и выделяли боль-
ше денег на развитие аграрного сектора, чем правительства малонасе-
ленных стран, но и чаще выделяли средства на меры по регулирова-
нию рождаемости. Кроме того, система землевладения, существующая
в густонаселенных странах, обычно не так сильно способствует созда-
нию больших семей, как система, распространенная в странах с низ-
кой плотностью населения.
Во многих странах с высокой плотностью населения и интенсив-
ной системой ведения сельского хозяйства большинство сельского на-
селения составляют мелкие или средние землевладельцы, которые в
меньшей степени склонны создавать многодетные семьи, чем беззе-
мельные батраки и лица, не имеющие защищенных прав на землю. Те,
у кого есть земля, в меньшей степени зависят от помощи своих взрос-
лых детей в старости или несчастье, поскольку всегда могут заложить,
сдать в аренду или продать свою землю или нанять батраков для ее
обработки. Кроме того, они не заинтересованы в том, чтобы дробить
семейную собственность между множеством наследников. Если в той
стране, где они живут, детский труд не находит широкого применения
в сельском хозяйстве, отказ от создания многодетной семьи может быть
очень выгоден экономически и такие хозяева будут прислушиваться к
рекомендациям служб планирования семьи.
В районах с низкой плотностью населения и системой крупного
землевладения сельское население практически не имеет доступа к
современным средствам регулирования рождаемости и не слишком
заинтересовано в ограничении размера семьи. Значительную часть сель-
ского населения составляют безземельные батраки, в лучшем случае
обладающие лишь крохотным наделом, или крестьяне, не имеющие
защищенных прав собственности на землю. Они гораздо сильнее за-
висят от помощи взрослых детей в старости или несчастье, чем земле-
владельцы или арендаторы, чьи земельные права защищены. К тому же
если их дети работают на других хозяев и приносят семье деньги, то
срок, в течение которого расходы на ребенка превышают приносимый
им доход, оказывается слишком непродолжителен, чтобы создать ре-
альную экономическую заинтересованность в ограничении размера
семьи.
У народов с долгим залежным циклом земледелия и племенной соб-
ственностью на землю побудительных причин для увеличения размера
семьи даже больше, чем у безземельных батраков. Размер надела, ко-
торый семья может получить в пользование, находится в прямой зави-
16
симости от количества ее членов, а основные сельскохозяйственные
работы (по крайней мере, в области производства продовольствия)
выполняются женщинами и детьми. Чтобы стать богатым, мужчине
желательно иметь как можно больше жен и детей. К тому же, если
никакой другой собственности, кроме земли, у него нет, его обеспече-
ние в старости зависит от взрослых детей и младших жен, а землю он
не сможет ни заложить, ни продать, поскольку его право собственнос-
ти распространяется только на то, что на этой земле растет, но не на
саму землю. Поскольку желательный размер семьи при частной и пле-
менной собственности на землю разный, снижение рождаемости в ре-
гионах с долгим залежным оборотом, по всей вероятности, начнется
тогда, когда рост населения заставит отказаться от племенной собствен-
ности на землю, и снижение это будет более вероятно, если на смену
племенной собственности придет мелкая земельная собственность, а не
крупные хозяйства.
Помимо смены системы землевладения начало спада в динамике
рождаемости сельского населения зависит также от изменений в тех-
нологическом уровне аграрного сектора и от наличия экономической
и социальной инфраструктуры. Если в сельском хозяйстве заняты в
основном женщины и дети, то даже в странах с высокой плотностью
населения, где интенсификация сельского хозяйства возможна только
за счет увеличения трудозатрат, иметь большую семью может оказать-
ся выгодно, несмотря на нехватку земли. Переход на более высокие
технологии может в дальнейшем снизить заинтересованность в боль-
ших семьях, поскольку такие технологии сокращают потребность в
женском и детском труде. Технологии среднего и высокого уровня
предполагают использование главным образом мужского труда, а жен-
щинам и детям поручаются операции, где применяются простые тех-
нологии. Таким образом, по мере постепенного перехода сельского
хозяйства от примитивных к более высоким технологиям увеличива-
ется объем работ, выполняемых мужчинами, а труд женщин и детей
используется все меньше, что ослабляет экономическую заинтересован-
ность в больших семьях. Кроме того, экономически отсталые сельские
районы обычно отличаются высоким уровнем детской смертности, что
может отсрочить начало снижения рождаемости. Аналогичный эффект
может иметь и массовый отток молодежи из таких районов, если ро-
дители рассчитывают на получение денежных переводов от своих уехав-
ших отпрысков.
Однако на самом деле зависимость между уровнем экономическо-
го развития аграрных районов и уровнем рождаемости не столь пря-
молинейна. Желание родителей иметь много детей может объясняться
не только экономическими причинами, а рост доходов в результате
развития сельского хозяйства или повышения цен на сельскохозяй-
ственную продукцию позволяет прокормить и многочисленные семьи,
так что рождаемость может и не снизиться или снизиться не сразу.
Вообще говоря, при прочих равных условиях уровень рождаемости
должен быть тем выше, чем выше доходы, но в развивающихся стра-
нах повышение доходов происходит в основном в результате измене-
77
ний в технологии, в структуре занятости, в схемах расселения, кото-
рые способствуют снижению рождаемости, и совместное действие этих
противоположных тенденций может привести к возникновению до-
вольно большого разрыва во времени между модернизацией сельского
хозяйства и снижением рождаемости.
БИБЛИОГРАФИЯ
Boserup, Е. 1965. The Conditions of Agricultural Growth. London: Allen & Unwin:
Chicago: Aldine Publishing Company, 1966.
Boserup, E. 1981. Population and Technological Change. Chicago: Chicago University
Press.
Lewis, W.A. 1954. Economic development with unlimited supplies of labour.
Manchester School of Economic and Social Studies 22(2), May, 139—91.
Malthus, T.R. 1803. An Essay on the Principle of Population. London: J.M. Dent,
1958; New York: Dutton.
Nurkse, R 1953. Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. Oxford
and New York: Oxford University Press.
Ricardo, D. 1817. The Principles of Political Economy and Taxation. Ed. P. Sraffa,
Cambridge: Cambridge University Press, 1951; New York: Cambridge University
Press, 1973.
Schultz, T.W. 1964. Transforming Traditional Agriculture. New Haven: Yale University
Press.
Schuttjer, W. and Stokes, C. (eds) 1984. Rural Development and Human Fertility.
New York and London: Macmillan.
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
Сюзан Роуз-Аккерман
Bribery
Susan Rose-Ackerman
Экономический анализ политических и административных
(bureaucratic) институтов целесообразно начинать с изучения феноме-
на взяточничества — не потому, что он имеет всеобщее распростране-
ние, а потому, что проливает свет на конфликт между общественны-
ми интересами и рынком. Широкомасштабное взяточничество способ-
но трансформировать государственную систему, на первый взгляд,
основанную на демократических или меритократических принципах,
в систему, основанную на подкупе.
Большинство работ, посвященных проблеме взяточничества, носят
дескриптивный и таксономический характер. Хотя их чтение представ-
ляет интерес и позволяет получить базовую информацию о масштабах
и разнообразии форм коррупции, эти исследования не содержат сис-
тематического анализа экономических основ взяточничества. Даже
когда эти основы осознаются, они часто трактуются поверхностно в том
смысле, что действие базовых факторов спроса и предложения рассмат-
ривается либо в качестве оправдания практики получения взяток, либо
в качестве повода для осуждения такой практики. К числу лучших де-
скриптивных работ принадлежат книги М. Кларка, Дж. Гардинера и
Д. Олсона, а также Э. Хайденхаймера (Clarke, 1983; Gardiner and Olson,
1974; Heidenheimer, 1970); другие книги и статьи по этой теме перечис-
лены в библиографии.
Теория совершенной конкуренции подчеркивает безличный харак-
тер всех рыночных сделок. Производитель продает свои товары всем
покупателям независимо от их расы, пола и личного обаяния. Равным
образом «идеальный» чиновник принимает решения на основании
объективных меритократических критериев, не испытывая влияния
персональных, этнических или семейных связей. Практика взяточни-
чества может обеспечить замещение деперсонализированной мерито-
кратической процедуры деперсонализированной процедурой, основан-
ной на подкупе, или же укрепить систему персональных привилегий,
основанную на тесных личных связях. Вместе с тем дача взяток может
представлять собой способ, посредством которого аутсайдеры или чле-
ны обделенных групп могут приобрести влияние в обществе. Отсюда
следует, что единственным способом оценки последствий взяточниче-
ства является его сравнение с системой, где оно отсутствует. В этом
случае оценка реальных фактов взяточничества будет зависеть не только
19
от индивидуальных этических представлений относительно самого
феномена взяточничества, но и от того, к каким изменениям набора
принимаемых решений (в сторону большей или меньшей деперсонали-
зации и объективности) они приводят, а также от того, как именно —
положительно или отрицательно — оцениваются эти изменения. На труд-
ности такого анализа указывает наличие крайних точек зрения: одни
исследователи рассматривают дачу взяток должностным лицам в неко-
торых экономически отсталых странах как пережиток глубоко укоренив-
шихся племенных обычаев, а другие полагают, что эти взятки подрыва-
ют традиционную систему отношений и способствуют экономическому
развитию страны (см., к примеру: Heidenheimer, 1970; Clarke, 1983).
КОРРУПЦИЯ В СРЕДЕ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ. Выборные члены
представительных органов заботятся о своем переизбрании, однако, по-
видимому, они также заинтересованы в повышении своих доходов.
Рассмотрим простую гипотетическую ситуацию, когда избиратели об-
ладают совершенной информацией относительно того, как именно
голосуют законодатели, но не могут непосредственно отслеживать фак-
ты взяточничества. Предположим, что шансы законодателя на переиз-
брание зависят исключительно от того, за какие решения он голосует,
а расходов на ведение предвыборной кампании не требуется. В этих
условиях получение взятки в обмен на изменение позиции при голо-
совании будет стоить законодателю потери некоторой части голосов
электората, поскольку в противном случае не потребовалось бы при-
бегать ко взяткам. Таким образом, даже если политик свободен от мо-
рального предубеждения против получения взяток, их размер должен
быть по меньшей мере достаточным, чтобы обеспечить ему компенса-
цию снижения шансов быть переизбранным. При прочих равных усло-
виях мы можем ожидать, что политики, которые согласны на получе-
ние взяток наименьшего размера, вполне уверены либо в своих шан-
сах на переизбрание, либо в своем поражении, поскольку в обоих
случаях снижение поддержки электората способно лишь в незначитель-
ной степени повлиять на итоговый результат. Отсюда следует, что при
данном уровне значимости рассматриваемого вопроса для электората,
чем меньше разрыв в популярности между данным политиком и его
конкурентами, тем выше минимальный размер взятки, которую он
согласен принять.
В рассмотренной простой модели отсутствует необходимость в сборе
пожертвований на ведение предвыборных кампаний, поэтому средства,
полученные в качестве взяток, могут использоваться только на цели
личного потребления, и существует жесткая альтернатива между полу-
чением взяток и вероятностью переизбрания. Однако если средства,
полученные в качестве взяток, могут быть израсходованы и на прове-
дение предвыборной кампании, и на личное потребление, то полити-
ки всех типов могут оказаться подверженными коррупции в зависимо-
сти от различий в моральных убеждениях законодателей и значимости
для электората того вопроса, на решение которого хочет оказать влия-
ние взяткодатель (см.: Rose-Ackerman, 1978, р. 15-58).
20
ВЗЯТКИ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ. С большой
степенью вероятности можно утверждать, что как в государственном,
так и в частном секторе капиталистических и социалистических эко-
номик агенты по закупкам имеют возможность давать либо получать
взятки. Взяткам нет места в условиях совершенно конкурентного рын-
ка, когда поставщики могут продать, а покупатели могут приобрести
любой товар по текущей цене. Для возникновения коррупции необхо-
димо существование несовершенств рынка. К примеру, государствен-
ные заказы могут быть столь велики, что их реализация обеспечивает
экономию на масштабах производства; правительство может нуждать-
ся в продуктах, которые «отсутствуют в продаже», и для их производ-
ства необходимо заключение контракта. Короче говоря, если предла-
гаются взятки, то должна существовать ожидаемая избыточная при-
быль, за счет которой они могут быть выплачены, а если взятки
принимаются, то причина заключается в том, что субъекты, в подчи-
нении которых находится агент, осуществляющий государственные
закупки, либо состоят в сговоре с ним, либо не имеют возможности
осуществлять адекватный мониторинг его деятельности с помощью
такого простого метода, как сравнение рыночных цен с ценами, пре-
дусмотренными контрактом.
Можно предположить, что в подобных ситуациях коррупция спо-
собствует повышению экономической эффективности, поскольку наи-
более конкурентоспособные фирмы ожидают получить наивысшие
прибыли и поэтому готовы уплатить взятку максимального размера. Но
это будет упрощением. Во-первых, фирма может с помощью различ-
ных ухищрений снизить качество продукции таким образом, что факт
этого снижения не может быть непосредственно определен государ-
ственными контролерами. Во-вторых, если между менеджерами фирм
существуют различия в степени законопослушания, то преимущество
окажется на стороне тех из них, которые наиболее неразборчивы в сред-
ствах. В-третьих, сокрытие фактов дачи взяток ведет как к бесплодной
растрате ресурсов, так и к неэффективному функционированию рын-
ка вследствие неполноты имеющейся информации. Таким образом,
соответствие между эффективностью деятельности фирмы и размером
предлагаемых ей взяток, скорее всего, не является полным.
В других экономических контекстах агенты по закупкам могут да-
вать взятки с целью получения доступа к источникам предложения
(вместо того чтобы получать взятки при выборе конкретного постав-
щика). Это может иметь место в том случае, если существует дефицит
некоторых продуктов, а цены на них не повышаются до уровня, отве-
чающего рыночным условиям. В самом деле, при рассмотрении вопроса
о коррупции в Советском Союзе эта ее форма часто рассматривается в
качестве эндемичной (Grossman, 1977; Simis, 1978). Здесь взятки так-
же могут выполнять экономические функции, однако они не имеют по
сравнению с ценовой системой никаких преимуществ кроме идеоло-
гического, суть которого заключается в сокрытии повсеместного рас-
пространения механизмов рыночного типа от взоров общественности
(см.: Montias and Rose-Ackerman, 1981).
21
Установление гибкой легальной системы цен не всегда возможно.
К примеру, военные закупают множество сложных и высокоспециали-
зированных видов вооружений и военной техники, которые невозмож-
но приобрести посредством закрытого тендера. В этих случаях необ-
ходимо рассмотреть роль обнаружения фактов взяточничества и при-
менения наказаний. Здесь можно сослаться на фундаментальную
работу, посвященную экономической теории преступности (Becker and
Stigler, 1974); сами ее авторы сделали ряд выводов, относящихся к про-
блеме коррупции. Они подчеркивают важность создания у работников
заинтересованности в сохранении занятости на фирме — например,
путем предоставления пенсий за непрерывный стаж работы. Это сде-
лает работников менее склонными к принятию рискованных предло-
жений, которые могут привести к увольнению. В более широком смыс-
ле ожидаемое наказание за взяточничество должно соотноситься с пре-
дельными выгодами от предельного приращения прибыли, полученной
в результате взятки (Rose-Ackerman, 1978, р. 109-135). В противном
случае взяточничество будет предотвращено не полностью. Таким об-
разом, при увеличении ожидаемого размера прибыли на один доллар
предельная ожидаемая величина штрафа за получение взятки (т.е. про-
изведение вероятности задержания и изобличения взяточника на раз-
мер положенного в случае изобличения штрафа) также должна возра-
стать по крайней мере на один доллар. Если это условие не соблюда-
ется, то даже взимание крупного фиксированного штрафа может
предотвратить только взятки относительно небольшого размера. Пре-
дельная величина штрафа, налагаемого на взяткодателя, должна быть
увязана не с размером взятки, а с величиной предельного прироста
прибыли, который мог быть достигнут благодаря ей. Штрафы, сумма
которых устанавливается исходя из размера взятки, могут оказаться
неэффективными в плане влияния на поведение взяткодателя, если
ожидаемая прибыль во много раз их превосходит.
СУБЪЕКТЫ, РАСПРЕДЕЛЯЮЩИЕ БЛАГА И НАЛАГАЮЩИЕ
ВЗЫСКАНИЯ. Должностные лица низшего уровня часто обладают до-
статочной свободой в решении вопросов о том, кто должен получить
редкое благо, — например, муниципальную квартиру, немедленный
доступ к важному лицу, лицензию на торговлю спиртными напитка-
ми, направление дела к конкретному судье. Другие субъекты — такие,
как санитарные инспектора, инспектора по технике безопасности и
полицейские, — имеют полномочия налагать штрафы, но при этом мо-
гут по своему произволу воздерживаться от исполнения этой функции.
Хотя легальный ценовой механизм может в ряде случаев служить суб-
ститутом взяток, с точки зрения государственной политики часто су-
ществуют серьезные причины для того, чтобы отвергнуть рыночное
решение проблемы.
Как можно осуществлять контроль над коррупцией при реализации
программ, для которых рыночное решение является нежелательным?
Один из вариантов, рассмотренный мною в книге «Коррупция» (Rose-
Ackerman, 1978, р. 137—166), заключается в создании конкуренции с
22
целью снижения размеров взяток, которые люди готовы платить; это
должно способствовать снижению заинтересованности должностных
лиц в получении взяток, поскольку их размер перестает компенсиро-
вать риск задержания и изобличения. Когда чиновники распределяют
редкое благо, конкуренция может быть создана путем предоставления
претенденту на получение этого блага права на подачу повторной за-
явки в случае, если предыдущая отклонена одним из чиновников. Тог-
да, если издержки повторной подачи заявки невелики, первый чинов-
ник не сможет требовать уплаты крупной взятки за утверждение заяв-
ки; предлагаемый размер взятки может оказаться столь низким, что
чиновник может отказаться от ее получения и вести себя честно. Та-
ким образом, наличие нескольких честных чиновников при такой си-
стеме может содействовать честному поведению остальных. Отметим,
однако, что у подателей заявок, не имеющих законного права претен-
довать на получение блага, желание давать взятки не пропадет, при-
чем они будут готовы платить чиновникам больше, если ожидают, что
большинство других чиновников, к которым они могут обратиться,
являются честными.
Вопрос о введении конкуренции между инспекторами или полицей-
скими несколько отличается от только что рассмотренного, и его ре-
шение зависит от возможности частичного дублирования сфер ответ-
ственности и связанных с этим издержек. Так, содержатель игорного
дома не будет давать крупную взятку коррумпированному полицей-
скому, если ожидает, что в скором времени с проверкой придет дру-
гой, «независимый» полицейский. Чтобы дача крупных взяток была це-
лесообразной, нужно подкупить (т.е. монополизировать) весь полицей-
ский участок.
Таким образом, использование конкурентных факторов в предот-
вращении коррупции может служить важным элементом борьбы со взя-
точничеством чиновников низшего ранга, однако оно требует широ-
комасштабного исследования воздействия организационной и рыноч-
ной структуры на стимулы к коррупции, имеющиеся как у чиновников,
так и у их клиентов.
БИБЛИОГРАФИЯ
Banfield, Е. 1975. Corruption as a feature of governmental organization. Journal of
Law and Economics 18(3), December. 587-605.
Becker, G.S. and Stigler, G.J. 1974. Law enforcement, malfeasance, and compensation
of enforcers. Journal of Legal Studies 3(1), January. 1-18.
Benson, B.L. and Baden, J. 1985. The political economy of governmental corruption: the
logic of underground government. Journal of Legal Studies 14(2), June, 391—410.
Clarke, M. (ed.) 1983. Corruption: Causes, Consequences and Control. New York. St
Martin’s Press.
Darby, M.R. and Kami, E. 1973. Free competition and the optimal amount of fraud.
Journal of Law and Economics 16(1), April, 67-88.
23
Gardiner, J. 1970. The Politics of Corruption: Organized Crime in an American City.
New York: Russell Sage Foundation.
Gardiner, J.A. and Lyman, T.R. 1978. Decisions for Sale: Corruption in Local Land-
Use Regulations. New York: Praeger.
Gardiner, J.A. and Olson, D.J. (eds) 1974. Theft of the City. Bloomington: Indiana
University Press.
Grossman, G. 1977. The ‘second economy’ of the USSR. Problems of Communism
26(5). September—October, 25—40.
Heidenheimer, A.J. (ed.) 1970. Political Corruption: Readings in Comparative Analysis.
New York: Holt, Rinehart & Winston.
Jacoby, N., Nehemkis, P. and Eels, R. 1977. Bribery and Extortion in World Business.
New York: Macmillan.
Johnson, O.E.G. 1975. An economic analysis of corrupt government with special
application to less developed countries. Kyklos 28(1), 47-61.
Krueger, A.O. 1974. The political economy of the rent-seeking society. American
Economic Review 64(3), June, 291—303.
LeVine, V.T. 1975. Political Corruption: The Ghana Case. Stanford: Hoover
Institution Press.
Lui, F.T. 1985. An equilibrium queuing model of bribery. Journal of Political Economic
93(4), August, 760—81.
Montias, J.M. and Rose-Ackerman, S. 1981. Corruption in a Soviet-type economy:
theoretical considerations. In Economic Welfare and the Economics of Soviet
Socialism: Essays in Honor of Abram Bergson, ed. S. Rosefielde, Cambridge:
Cambridge University Press.
Noonan, J. 1984. Bribes. New York: Macmillan.
Pashigan, B.P. 1975. On the control of crime and bribery. Journal of Legal Studies
4(2), June, 311-26.
Rashid, S. 1981. Public utilities in egalitarian LDCs: the role of bribery in achieving
Pareto efficiency. Kyklos 34(3), 448—60.
Rose-Ackerman, S. 1975. The economics of corruption. Journal of Public Economics
4(2). February. 187—203.
Rose-Ackerman, S. 1978. Corruption: A Study in Political Economy. New York:
Academic Press.
Rose-Ackerman, S. 1986. Reforming public bureaucracy through economic incentives.
Journal of Law, Economics and Organization 2(1), 131-61.
Scott, J.C. 1972. Comparative Political Corruption. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-
Hall.
Sherman, L. (ed.) 1974. Police Corruption. Garden City, New York: Doubleday,
Anchor Books.
Simis, L. 1978. The machinery of corruption in the Soviet Union. Survey 23(4),
Autumn. 35-55.
Wraith, R. and Simkins, E. 1963. Corruption in Developing Countries. London: George
Allen & Unwin.
«МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ»
Чарльз П. Кайндлбергер
Bubbles
Charles Р. Kindleberger
Понятие «мыльный пузырь» можно условно определить как рез-
кое повышение цены какого-либо актива или целой группы активов,
которое происходит в виде непрерывного процесса, когда первона-
чальное повышение цены порождает надежды на дальнейшее ее по-
вышение и привлекает все новых покупателей, в качестве которых,
как правило, выступают спекулянты, заинтересованные не столько в
способности активов приносить доход, сколько в том, чтобы выгод-
но их перепродать. За повышением цен обычно следует перелом в
ожиданиях и резкое падение цен, нередко завершающееся финансо-
вым кризисом. «Мыльный пузырь» — это примерно то же, что и бум,
только при буме повышение цен, объема производства и прибыли
происходит более медленно и плавно, чем при возникновении «мыль-
ного пузыря», и завершиться бум может либо кризисом, иногда при-
нимающим форму краха (или паники), либо плавным угасанием без
кризиса.
История знала — во всяком случае, с точки зрения сегодняшних
наблюдателей — целый ряд «мыльных пузырей» и бумов, в том числе
столь грандиозных и великих, что их стали называть «маниями». Са-
мыми знаменитыми были «мыльный пузырь» Миссисипской компании
в 1719-1920 гг. в Париже, который был запущен Джоном Лоу, основа-
телем «Банк Женераль» и «Банк Рояль», и случившийся в те же при-
мерно годы и связанный с миссисипским «мыльный пузырь» Компа-
нии Южных морей в Лондоне. Среди наиболее известных маний сле-
дует упомянуть о тюльпановой мании в Голландии в 1636 г. и
железнодорожной мании в Англии в 1846—1847 гг. В связи с конкрет-
ными случаями резких взлетов и падений цен иногда возникает вопрос:
были ли то действительно «мыльные пузыри» или это было что-то
иное — например, можно ли считать «мыльными пузырями» гиперин-
фляцию 1920-1923 гг. в Германии, рост и падение цен на товарных и
фондовых биржах Лондона и Нью-Йорка в 1919-1921 гг., повышение
цены на золото до 850 дол. за унцию в 1982 г. и ее последующее паде-
ние до уровня 350 дол. Некоторые ученые идут еще дальше и ставят
вопрос о том, возможны ли вообще «мыльные пузыри» при наличии
рациональных рынков, существование которых в отличие от существо-
вания «мыльных пузырей» они сомнению не подвергают (см., напри-
мер: Flood and Garber, 1980).
25
Согласно теории рациональных ожиданий цены формируются
участниками рынка на основе имеющейся у них информации с помо-
щью стандартных экономических моделей, выбор которых обусловлен
конкретными обстоятельствами. А раз так, то утверждается, что рыноч-
ные цены не могут намного отклоняться от неких базовых значений,
если только информация не окажется существенно неверной. В тео-
ретической литературе используется предположение, что у рынка один
разум и одна цель, тогда как факты говорят о том, что участниками
рынка нередко движут различные стремления, что их действия могут
быть различны в зависимости от богатства и информации, которыми
они располагают, и что свои расчеты они делают в пределах различных
/ временных горизонтов. Так, например, когда железные дороги только
/ начинали строить, первыми инвесторами в основном были люди, чей
бизнес располагался неподалеку от трассы, и железная дорога интере-
совала их постольку, поскольку она могла повысить доходность этих
других предприятий. На смену им пришли инвесторы, которых инте-
ресовала уже прибыль от самой железной дороги, а за теми — спеку-
лянты, которые, видя, что акции железнодорожных компаний растут,
брали кредит и покупали эти акции с помощью заемных средств или
платили только первый взнос, не имея намерения когда-нибудь выку-
пить все акции, поскольку единственной их целью с самого начала было
выгодно их продать.
Объекты спекуляций, ведущих к возникновению «мыльных пузы-
рей» или бумов, которые часто, хотя и не всегда, завершаются финан-
совыми кризисами, все время меняются. В этой роли выступали раз-
личные товары, облигации, акции, иностранные облигации и акции,
недвижимость в городах и пригородах, сельскохозяйственные земли,
дома отдыха, торговые центры, инвестиционные фонды, специализи-
рующиеся на вложениях в недвижимость, «боинги-747», супертанке-
ры, объекты коллекционирования — картины, ювелирные изделия,
марки, монеты, антиквариат и т.д., а в последнее время и синдици-
рованные банковские кредиты развивающимся странам. Внутри этих
довольно широких категорий существуют более узкие градации, и спе-
куляция может быть сосредоточена на объектах, относящих к какой-
то конкретной узкой нише, — например, акции страховых компаний,
акции горнодобывающих компаний в Южной Америке, хлопковые
плантации, недвижимость в Париже, картины постимпрессионистов
и т.д.
В научной литературе до сих пор еще нет ни единого определения
«мыльных пузырей», ни даже единого мнения о том, возможны ли они
вообще. Те же самые авторы, которые первоначально не смогли отвер-
гнуть гипотезу о том, что инфляция 1923 г. в Германии не была «мыль-
ным пузырем», уже через год с этой задачей успешно справились (Flood
and Garber, 1980). Другая пара авторов математически доказала, что
могут возникать рациональные «мыльные пузыри», но прежде чем это
доказать, они отказались от изучения иррациональных «мыльных пу-
зырей», причем не потому, что их не может быть, а из-за трудностей
математического плана (Blanchard and Watson, 1982).
26
Помимо «мыльных пузырей», маний и проявлений иррационально-
сти случаются еще периоды эйфории, когда тоже возникает положитель-
ная обратная связь и цены начинают расти быстрее, чем это оправдано
рыночными законами, а также бумы таких масштабов, что возникает
угроза финансового кризиса, краха или паники. Мински (Minsky, 1982а,
1982b) показал, как в результате экзогенного воздействия на экономи-
ческие условия меняются возможности получения прибыли и представ-
ления о том, какой она должна быть, и банки начинают все более сво-
бодно раздавать кредиты налево и направо, все меньше думая о рисках.
Мински предложил подразделять банковские кредиты по степени их
рискованности на хеджированные займы, при которых погашение кре-
дита производится из будущих доходов; спекулятивные займы, когда для
погашения предыдущего кредита приходится прибегать к новому зай-
му, поскольку кредит предоставляется на меньший срок, чем срок, за
который проект должен окупиться; «займы Понци», когда заемщик со-
бирается погашать ссуду за счет выручки от продажи некого актива. Эту
классификацию многие критиковали — особое недовольство вызывал тот
факт, что Карло Понци был мошенником, а многие ссуды, попавшие в
названную его именем категорию — например, кредиты на финансиро-
вание строительства, — совершенно законны (Flemming, Goldsmith and
Melitz, 1982). Тем не менее идея о том, что во время бума получить кре-
диты становится значительно легче и банковская система в результате
этого становится уязвимой, подтверждается фактами. Ее подтверждает
(а идею о том, что финансовыми рынками правят рациональные ожи-
дания, наоборот, опровергает) хотя бы опыт крупнейшего лондонского
рынка денег и капитала, где бумы и кризисы шли, сменяя друг друга,
непрерывной чередой (кризисы приходились на 1810, 1819, 1825, 1836,
1847,1857,1866,1890,1921 гг.), — наглядное свидетельство того, что про-
шлый опыт никого ничему не учит (Kindlebeiger, 1978).
БИБЛИОГРАФИЯ
Blanchard, О. and Watson, M.W. 1982. Bubbles, rational expectations and financial
markets. In Crises in the Economic and Financial Structure, ed. P. Wachtel,
Lexington. Mass.: Heath.
Flemming, J.S., Goldsmith, R.W. and Melitz, J. 1982. Comment. In Financial Crises:
Theory, History and Policy, ed. C.P. Kindlebeiger and J.-P.Laffargue, Cambridge:
Cambridge University Press.
Flood, R.P. and Garber, P.M. 1980. Market fundamentals versus price-level bubbles:
the first tests. Journal of Political Economy 88(4), August, 745—70.
Kindleberger, C.P. 1978. Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises.
New York: Basic Books.
Minsky, H.P. 1982a. Can «It» Happen Again? Essays on Instability and Finance.
Armonk: Sharpe.
Minsky, H.P. 1982b. The financial instability hypothesis. In Financial Crises: Theory,
History and Policy, ed. C.P. Kindleberger and J.-P. Laffargue, Cambridge:
Cambridge University Press.
27
БРЕМЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
Роберт Айснер
Burden of the Debt
Robert Eisner
Государственный долг представляет собой частные активы. Дефи-
цит одного сектора экономики является избытком для другого. Таким
образом, для закрытой экономики внутренний государственный долг
не является столь очевидным бременем, каким долг является для от-
дельной личности. Частный сектор платит налоги, которые идут на
обслуживание государственного долга, но он же получает проценты и
основную сумму долга. Если бы налоги выплачивались единовремен-
но, не оказывая предельного влияния на экономическое поведение, их
выплата ожидалась бы заранее с полной определенностью, и если бы
общественные и частные издержки заимствования были одинаковы, то
можно было бы утверждать, что государственный долг не играет ника-
кой роли, за исключением распределительных эффектов.
Отсюда следует, что нет разницы между финансированием государ-
ственных расходов за счет текущих налогов или за счет заимствований
(которые создают государственный долг, обслуживаемый за счет буду-
щих налогов). Это предположение, рассмотренное и отвергнутое Ри-
кардо, было названо Бьюкененом (Buchanan, 1976; см. также 1958)
рикардианской теоремой эквивалентности, после того как оно было
переформулировано Бэрроу (Ватто, 1974).
Государственный долг не может быть нейтральным даже при еди-
новременном налогообложении, хотя бы потому, что люди смертны. Те,
кто в настоящее время имеет долговые обязательства государства и
получает процент, избегут последующего налогообложения после сво-
ей смерти. Ответ Бэрроу заключался в постулировании функций пред-
почтения, в которых аргументами служат долговые активы и [налого-
вые] обязательства потомков их держателей. Следовательно, разность
между стоимостью государственных облигаций, находящихся у нынеш-
него поколения, и дисконтированной стоимостью их собственных по-
следующих налоговых обязательств должна компенсироваться его (по-
коления) потребностью корректировать размер оставляемого наслед-
ства, чтобы наследники не пострадали от будущих налогов,
необходимых для обслуживания долга.
На это есть много возражений, включая такие очевидные, как то, что
некоторые живущие сейчас люди не имеют наследников, что иным нет
дела до своих наследников, а иные принимают «угловое решение», со-
28
стоящее в том, что сумма, которую они передают своим детям (или по-
лучают от них), не подвергается изменениям. Есть также возражения,
связанные с неопределенностью предстоящей продолжительности жиз-
ни как для живущих сейчас, так и для их детей, а также с неопределен-
ностью относительно количества их наследников и наследников их на-
следников, о которых требуется позаботиться. Эти возражения против
применяемой предпосылки о бессмертии, наряду с различиями в госу-
дарственных и частных издержках заимствования, и, конечно, тот факт,
что в большинстве случаев налогообложение не может быть осущест-
влено в виде единовременной суммы, привели к распространенной кри-
тике теоремы эквивалентности (см.: Buiter and Tobin, 1979).
Тогда вопрос о том, является ли (и если да, то каким образом) го-
сударственный долг бременем, становится очень условным. В то вре-
мя как в большинстве теоретических дискуссий явно принимается
предпосылка о полном, расчищающем рынок равновесии, более акту-
альным является вопрос о неполной занятости, связанной с недоста-
точным совокупным спросом. В этой ситуации государственный долг
является скорее не бременем, а фактором, ведущим к росту потребле-
ния, что особенно ясно из предложенной Модильяни гипотезы жиз-
ненного цикла (Modigliani and Brumberg, 1954; Ando and Modigliani,
1963). Те, кто обладает большим богатством в форме государственных
обязательств или других активов, больше потребляют сейчас и
планируют больше потреблять и в будущем. В рамках схемы
рациональных ожиданий (без равновесной расчистки рынка) фирмы
должны дополнять возрастающее потребление ростом инвестиций,
чтобы удовлетворить нынешний и будущий потребительский спрос.
Таким образом, текущий выпуск и занятость будут выше, а в будущем
будет доступен больший запас капитала.
Существование государственного долга, включая не приносящий
проценты долг в форме выпущенных государством денег, также облег-
чает контракты между поколениями. Он позволяет ныне работающе-
му поколению сберегать и обращаться за пенсионной поддержкой к
следующему поколению в отсутствие возможности накапливать необес-
ценивающийся капитал.
Это возможное преимущество, заключающееся в увеличении до-
ступных форм сбережения и потребления, приводит некоторых авто-
ров к трактовке государственного долга как бремени. Утверждается, что
если государственный долг увеличивает текущее потребление, то при
этом должны быть уменьшены сбережения и, следовательно, накопле-
ние капитала. Государственный долг вытесняет активы, имеющие фор-
му производительного капитала. В таком случае экономика страдает от
уменьшения запаса капитала и, следовательно, сокращения производ-
ства, а в состоянии равновесия — также и от сокращения потребления.
Этот аргумент расширен Фелдстайном (Feldstein, 1974) на неявный
государственный долг в форме «социального обеспечения» или пенси-
онных обязательств.
Поскольку этот аргумент, как указано выше, несомненно, меняет-
ся на обратный в ситуации неполной занятости, где дополнительное
29
потребление, вероятно, будет означать и дополнительные инвестиции,
его макроэкономическая применимость, даже в условиях равновесия
полной занятости, сомнительна. Увеличение государственного долга в
экономике, уже находящейся в равновесии с полной занятостью, вы-
зовет повышение спроса, которое приведет к росту цен. Если бы бес-
процентный государственный долг в форме денег рос в той же пропор-
ции, что и долг, приносящий проценты, то экономика могла бы затем
перейти в новое равновесие, в котором цены были бы выше, но реаль-
ная величина государственного долга, реальное количество денег, став-
ка процента и все другие реальные переменные, включая показатели
инвестиций и потребления, остались бы неизменными. Если в усло-
виях полной занятости правительство создает постоянный номиналь-
ный бюджетный дефицит в нерастущей экономике, это ведет к ин-
фляции, соответствующей темпу увеличения номинального долга. Сле-
довательно, реальный долг не повысится, и предполагаемое бремя
возрастающего долга вновь не будет иметь места.
Из этого следует, что существует значительная путаница между ре-
альными и номинальными величинами. Имеет значение, по существу,
лишь реальный государственный долг. Номинальная величина государ-
ственного долга поднялась во многих странах, в то время как рост про-
центных ставок и повышение цен вызвали значительное снижение его
реальной, рыночной стоимости. Следовательно, важно корректировать
оценки профицитов и дефицитов бюджета так, чтобы они соответство-
вали реальным изменениям государственного долга. Положим, напри-
мер, что номинальный дефицит бюджета равен 100 млрд дол., рост став-
ки процента и рост цен оказывают на реальную величину имеющегося
государственного долга в 2000 млрд дол. такое влияние, что его реаль-
ная, рыночная стоимость, если не считать текущего дефицита, сокра-
щается до 1850 млрд дол. В реальных величинах состояние бюджета
можно рассматривать как профицит в 50 млрд дол., который равняет-
ся 150 млрд дол. «увеличения стоимости капитала» или «инфляцион-
ного налога» минус 100 млрд дол. номинального дефицита (см.: Eisner
and Pieper, 1984; Eisner, 1986).
Является ли имеющийся государственный долг бременем или бла-
гом, может быть определено при рассмотрении его отношения к на-
циональному доходу или продукту. О росте долга можно говорить лишь
тогда, когда он растет в относительном измерении, т.е. он увеличива-
ется быстрее, чем валовой национальный продукт. В экономике с от-
ношением государственного долга к ВНП, равным 0,5, например, это
должно означать, что при темпе прироста, скажем, 8% в год (состоя-
щем приблизительно из реального прироста 3%- и 5%-й инфляции)
долг мог бы возрасти за год на 8% (т.е. дефицит составил бы 4% ВНП)
без изменения отношения долга к ВНП. Вывод отсюда заключается в
том, что в растущей экономике всегда есть некоторое равновесное от-
ношение долга к ВНП, соответствующее любому отношению дефици-
та к ВНП, т.е.
[Debt/GNP = (DEF/GNP) + (&GNP/GNP)].
30
Если соотнести государственный долг с государственными актива-
ми, финансовыми и материальными, то величина чистого государствен-
ного долга, вероятно, окажется значительно меньшей, чем валовой го-
сударственный долг, и чистое богатство или чистые активы государ-
ственного сектора, вероятно, окажутся положительными даже в
экономике с большим государственным долгом. В более широком
смысле государственный долг может быть соотнесен с общим накоп-
ленным богатством в экономике, как частным, так и общественным,
как человеческим, так и физическим. Больший государственный долг
может при этом соответствовать большему общественному богатству.
Государственный долг действительно может быть рассмотрен как бре-
мя для экономики, но только в той степени, в какой он уменьшает
общее реальное богатство. Это может произойти, если он не увеличи-
вает государственный капитал, уменьшая предложение частного капи-
тала и/или предложение труда.
Вопрос о том, может ли государственный долг уменьшить предло-
жение частного капитала, является, как уже отмечено, дискуссионным.
В отношении предложения труда аргументация заключается в том, что
экономические агенты считают свое богатство в форме долговых обя-
зательств государства столь большим, что их предложение труда для
получения дополнительного дохода или богатства значительно сокра-
щается. Реальная величина государственного долга или отношение го-
сударственного долга к валовому национальному продукту нигде не
достигает такой степени, чтобы вызвать серьезное беспокойство. В Со-
единенных Штатах, например, выплаты процента по федеральному
долгу в 1986 г., несмотря на пятилетие огромных дефицитов, состав-
ляют не более 3% валового национального продукта. Реальный процент,
полученный держателями государственных облигаций после учета по-
терь от инфляции в основной сумме долга равен менее чем 2% вало-
вого национального продукта. Государственный долг должен стать во
много раз большим, прежде чем частный доход от обслуживания долга
станет достаточным, чтобы оказывать ощутимое влияние на уменьше-
ние предложения труда (или других факторов производства). На самом
деле реальный долг не может стать достаточно большим, чтобы оказы-
вать значительное влияние на предложение труда. Дело в том, что тре-
буемое увеличение номинального долга вызовет такой избыточный
спрос и вытекающий отсюда рост цен, что верхняя допустимая грани-
ца реального долга будет достигнута прежде, чем воздействие на пред-
ложение стало бы значимым.
Все это относится к внутреннему государственному долгу. Государ-
ственный долг другим странам или их гражданам — это другой вопрос.
Если этот долг измеряется в собственной валюте страны, то он тоже
всегда может выплачиваться путем денежной эмиссии и обесцениваться
инфляцией. Если имеется внешний долг в иностранной валюте, то это
реальное бремя, которое, если долг достаточно велик, может оказаться
чрезмерным. В случае такого внешнего долга это бремя должно тща-
тельно балансироваться с доходами от богатства или активов, которые
финансировались за счет долга.
31
БИБЛИОГРАФИЯ
Ando, A.K. and Modigliani, F. 1963. The 'life cycle’ hypothesis of saving: aggregate
implications and tests. American Economic Review 53, March, 55—84.
Barro, R.J. 1974. Are government bonds net wealth? Journal of Political Economy 82,
November—December, 1095—117.
Buchanan, J.M. 1958. Public Principles of Public Debt. Homewood, Ill.: Irwin.
Buchanan, J.M. 1976. Barro on the Ricardian equivalence theorem. Journal of Political
Economy 84, April, 337-42.
Buiter, W.H. and Tobin, J. 1979. Debt neutrality: a brief review of doctrine and
evidence. In Social Security versus Private Saving, ed. George M. von Furstenbuig,
Cambridge, Mass.: Ballinger.
Eisner, R. 1986. How Real Is the Federal Deficit? New York: Free Press, Macmillan.
Eisner, R. and Pieper, P.J. 1984. A new view of the federal debt and budget deficits.
The American Economic Review 74, March, 11—29.
Feldstein, M. 1974. Social security, induced retirement, and aggregate accumulation.
Journal of Political Economy 82, September-October, 905-25.
Modigliani, P. and Brumbeig, R. 1954. Utility analysis and the consumption function:
an interpretation of cross-section data. In Post-Keynesian Economics, ed.
K.K. Kurihara, New Brunswick: Rutgers University Press.
Ricardo, D. 1817. On the Principles of Political Economy and Taxation // Рикардо
Д. Начала политической экономии и налогообложения. Сочинения. Т. 1.
Ricardo, D. 1820. Funding system. In The Works and Correspondence of David
Ricardo, vol. IV, ed. Piero Sraffa, Cambridge: Cambridge University Press, 1951.
БЮРОКРАТИЯ
Мансур Олсон
Bureaucracy
Mansur Olson
Изучение бюрократии должно разрешить фундаментальный пара-
докс. Роль бюрократии в современном мире, без сомнения, значительно
возросла. Это утверждение справедливо применительно не только к
государственной бюрократии, но и к бюрократическим структурам
бизнеса (business bureaucracies). Хотя в доиндустриальную эпоху также
существовали крупные бюрократические структуры — например,
иерархия римской католической церкви или системы государственной
службы различных китайских империй, — они, несомненно, представ-
ляли собой исключение из общего правила. Напротив, в настоящее вре-
мя очень значительная доля совокупных ресурсов общества находится
под контролем государственных и «частных» бюрократических струк-
тур. По крайней мере, роль государственной бюрократии за несколько
последних десятилетий существенно выросла. Рост бюрократии имел
место в таком множестве стран, что его едва ли можно назвать случай-
ным; таким образом, он должен быть обусловлен в известном смысле
общественным выбором в пользу более широкого использования бю-
рократии.
Обычно в случаях резкого увеличения спроса на какой-либо товар
или расширения использования какого-либо инструмента имеются
независимые свидетельства общественного энтузиазма по поводу дан-
ного продукта или инструмента. Когда общество переживает всплеск
спроса на автомобили или персональные компьютеры, появляется мно-
жество положительных комментариев относительно этих продуктов.
Владение автомобилем становится предметом гордости, мощность и
компактность персонального компьютера становятся объектами восхи-
щения. Нет ничего более естественного, чем влияние, которое оказы-
вает энтузиазм людей на выбор, который они делают.
Однако где же тот энтузиазм по поводу бюрократии, который, как
можно было бы ожидать, должен сопутствовать резкому расширению
масштабов использования бюрократических механизмов? Примеры
такого энтузиазма найти трудно; напротив, есть много очевидных при-
меров неприязни и даже презрения к бюрократии. Отчасти это нега-
тивное отношение можно объяснить конкретными идеологическими
традициями, однако это объяснение не является достаточным; пробле-
ма состоит не только в том, что господство соответствующей идеоло-
гии, в свою очередь, нуждается в объяснении, но также и в том, что
33
отсутствие энтузиазма по поводу бюрократии наблюдается в различных
идеологических и культурных контекстах и обычно распространяется
(по крайней мере, в известной степени) как на государственную бюро-
кратию, так и на бюрократические структуры бизнеса. Нет сомнений,
что практически все негативно относятся к «чиновничьей волоките»
(red tape), которая прочно ассоциируется с бюрократиёй (и особенно с
государственной бюрократией). Сам [английский] термин «red tape»
(«красная лента») связан с цветом лент, которые в свое время исполь-
зовались в качестве перевязи для папок с деловыми бумагами в прави-
тельстве Великобритании.
Описанный парадокс ставит под сомнение правомерность идей,
которые были выдвинуты некоторыми направлениями посвященной
бюрократии литературы. Большинство работ, содержащих восхищен-
ные отзывы о бюрократии, трудно согласовать с ее отрицательным об-
щественным имиджем, в то время как большинство работ критичес-
кой направленности страдают от недостатка аргументов, объясняющих,
почему практически все общества неизменно используют — по край-
ней мере имплицитно — инструмент, который, как утверждается, столь
порочен.
Возможно, наиболее существенное влияние в сфере научного ана-
лиза бюрократии оказало исследование, проделанное не экономистом,
а социологом и историком Максом Вебером. Согласно Веберу, «срав-
нение бюрократического механизма, достигшего своего полного раз-
вития, с иными организациями в точности равноценно сравнению
машины с доиндустриальными методами производства... Точность,
оперативность, отсутствие разночтений, знание дел, непрерывность
работы, свобода реализации полномочий, единство, строгая суборди-
нация, сокращение несогласованности в действиях (friction), а также
материальных и человеческих издержек — оптимум по всем этим кри-
териям достигается при строго бюрократическом управлении» (Weber,
1946, р. 214). Более «позитивные» взгляды Вебера на бюрократию (хотя
в целом для него также было характерно критическое отношение к
«доминированию бюрократии») пользовались существенным влияни-
ем в социологии и политологии. Однако на их основе не было проде-
лано систематичных или количественных эмпирических исследований,
которые подтверждали бы ее правоту, а сами они очевидным образом
противоречат распространенному представлению о бюрократии. Сам
Вебер оказался не в состоянии указать на какие-либо мощные стиму-
лы, свойственные бюрократии, которые обусловливали бы эффектив-
ную аллокацию ресурсов и высокий уровень инновационной активно-
сти.
Аналогичным образом распространенный критический взгляд на
бюрократию является неадекватным в той мере, в какой он не позво-
ляет дать ответа на вопрос: почему современные общества делают вы-
бор в пользу увеличения уровня бюрократизации (или принимают та-
кое увеличение)? Общепризнанным является факт роста числа эконо-
мических работ, в которых предпринимаются попытки объяснить
стимулы, ведущие к выходу правительства за рамки оптимальных раз-
34
меров. Изучение этих работ увело бы нас далеко от проблемы бюро-
кратии; в любом случае они еще не позволяют достичь консенсус по
поводу идентификации стимула, который систематически обусловли-
вал бы чрезмерное «разбухание» правительства, а значит, и государ-
ственной бюрократии, хотя некоторые работы (см., например: Mueller
and Murrell, 1985) в этом отношении являются очень многообещающи-
ми. Однако даже достижение существенных успехов в исследованиях
экспансии государственной бюрократии было бы недостаточным для
разрешения проблемы, поскольку они не позволили бы объяснить про-
исходящий в настоящее время рост бюрократических структур бизне-
са и других «частных» бюрократических структур.
Поскольку необходимо объяснение роста «частных» бюрократичес-
ких структур, а также в связи с тем, что исследование, начинающееся
с изучения роста этих структур, может оказаться в известной степени
независимым от идеологических споров по поводу адекватной роли
правительства, может оказаться целесообразным рассмотреть в первую
очередь именно «частные» бюрократические структуры. В этой связи
мы должны ответить на фундаментальный вопрос: «Почему существу-
ют фирмы с иерархией служащих?» Традиционная экономическая те-
ория утверждает, что при определенных условиях рынки могут обес-
печивать эффективную аллокацию ресурсов; поэтому мы можем спро-
сить, почему индивиды, включенные в деловую иерархию, и владельцы
зданий и оборудования, используемых типичной корпорацией, не ис-
пользуют рыночные сигналы для координации своей повседневной
деятельности. Как указал, используя несколько иную терминологию,
Рональд Коуз в своей основополагающей работе «Природа фирмы»
(Коуз, 1993 [1937]), существование фирм, опирающихся на долгосроч-
ные контакты с иерархически организованными наемными работника-
ми и собственниками основного капитала, можно объяснить исключи-
тельно проявлением своего рода «несостоятельности рынка» (market
failure). Эта несостоятельность рынка, на которую указывали Коуз,
О. Уильямсон (Уильямсон, 1996 [1985], Williamson, 1964; 1975) и другие
экономисты, разработавшие важное направление исследований «част-
ных» иерархий, связана с существованием «трансакционных издержек».
Издержки ежедневного заключения контрактов для выполнения огром-
ного множества конкретных задач, необходимых в рамках сложного
производственного процесса, были бы слишком велики; поэтому во
многих случаях имеет смысл отказаться от услуг рынка и заключить дол-
госрочные контракты с работниками, которые ежедневно будут выпол-
нять эти задачи в соответствии с указаниями руководства и регулярно
получать за это жалованье. Хотя в большинстве работ, следующих этой
традиции, учитывается только роль трансакционных издержек, важно
отметить, что любое проявление несостоятельности рынка — например,
обусловленное существованием внешних эффектов, — может создать
стимул для возникновения фирмы, которая их интернализирует, а все
фирмы — кроме самых мелких — имеют бюрократические структуры.
Хотя приведенные выше рассуждения применимы и к небольшим
фирмам, существовавшим в доиндустриальную эпоху, со времени про-
35
мышленной революции произошли некоторые изменения, которые с
точки зрения аналитического подхода Коуза — Уильямсона могут про-
лить свет на причины роста бюрократических структур бизнеса. Один
из факторов, который обусловил увеличение размеров как фирм, так
и их бюрократических структур, заключается в разработке технологий,
требующих использования больших неделимых единиц капитала, —
технологий, которые могут рентабельно использовать только крупные
фирмы.
Однако колоссальное улучшение транспортных и коммуникацион-
ных технологий сыграло, возможно, гораздо более значительную роль.
Сокращение транспортных и коммуникационных издержек привело к
тому, что фирмы оказались в состоянии привлекать факторы производ-
ства из более далеких источников и расширять сферу прибыльного
сбыта своей продукции. Когда транспортные и коммуникационные
технологии позволяют фирмам оперировать на глобальном, а не локаль-
ном уровне, создаются условия для возникновения очень крупных
фирм. Кроме того, улучшение транспорта и коммуникаций делает воз-
можной координацию деятельности фирмы в рамках большей терри-
тории. Поверхностные наблюдатели процесса возникновения крупных
фирм предполагали, что увеличение размеров фирм ведет к свертыва-
нию конкуренции и утверждению монополии. На деле резкое сокра-
щение транспортных и коммуникационных издержек, разумеется, так-
же расширяло пространство совершения рыночных сделок, что при-
вело к увеличению размера рынка и числа фирм, к которым — при
отсутствии иных ограничений — имеет доступ типичный потребитель.
По крайней мере, в странах Общего рынка или в США потребитель,
даже когда он покупает продукт (например, автомобиль), изготовлен-
ный по технологии с большой экономией на масштабе производства,
имеет дело с таким числом фирм, которое превышает число продав-
цов, обслуживавших среднего потребителя в типичной деревне до про-
мышленной революции. Мы видим, таким образом, что рост бюро-
кратических структур бизнеса и развитие конкурентных рынков ни в
коей мере не являются взаимоисключающими, — напротив, эти про-
цессы протекают одновременно.
Технологии, делающие доступными более широкие рынки и обу-
словливающие увеличение размера фирм, также постепенно способ-
ствуют разработке более совершенных методов управления крупными
коммерческими (business) организациями. Это было показано истори-
ком Альфредом Чендлером в основополагающих исследованиях фено-
мена который он назвал «видимой рукой» (Chandler, 1977; см. также:
Chandler, 1962; 1980). Некоторые из этих инноваций проявились в бес-
прецедентном по территориальному охвату развитии железнодорожной
сети в США в XIX в.; многие другие были связаны с возникновением
в рамках фирм отдельных структурных подразделений, ориентирован-
ных на получение прибыли для себя («profit centers»), и других орга-
низационных новшеств, которые позволили крупным фирмам исполь-
зовать рыночные механизмы для выполнения определенных внутри-
фирменных функций (Уильямсон, 1996 [1985]). Это свидетельствует о
36
том, что издержки и неэффективность контроля, свойственные бюрок-
ратии, остаются очень существенными, так что существование бюрок-
ратических структур бизнеса может быть объяснено только высокими
издержками использования рыночных механизмов. Тот же вывод сле-
дуеГиз того, что «пространственно-интенсивные» виды деятельности
(такие, как большинство видов сельскохозяйственного производства)
с трудом поддаются бюрократизации даже после появления современ-
ных транспортных технологий и технологий управления; фирмы, ус-
пешно выдержавшие конкуренцию за выживание в большинстве отрас-
лей сельского хозяйства, обычно слишком малы, чтобы иметь бюро-
кратические структуры (Olson, 1985).
Напротив, в тех видах деятельности, где передача новых техноло-
гий и другой информации играет особенно важную роль, несостоятель-
ность рынка может приобретать довольно серьезный характер — прежде
всего потому, что рациональное приобретение новой информации мо-
гут совершить только те, кто ее еще не имеет, а из этого следует, что
функционированию рынка новой информации особенно препятству-
ет асимметрия информации, имеющейся у сторон при заключении
любой сделки. Как было показано в ряде работ (см.: McManus, 1972;
Buckley and Casson, 1976 и особенно Hennart, 1982), этот подход может
объяснить возникновение транснациональных фирм, бюрократические
структуры которых выходят за рамки национальных границ. Капитал
может пересекать национальные границы в форме портфельных инве-
стиций (в XIX в. практически все иностранные инвестиции Велико-
британии и других стран носили портфельный характер), однако рост
относительной значимости фирм, использующих новые технологии и
методы, рыночный трансферт которых посредством лицензирования
часто бывает затруднен, привел к возникновению транснациональных
корпораций.
Сделанный выше акцент на рассмотрении бюрократических струк-
тур бизнеса, которые обычно обходятся стороной при обсуждении про-
блем бюрократии, позволяет получить также краткое и унифицирован-
ное объяснение феномена государственной бюрократии. Государствен-
ная бюрократия также существует исключительно благодаря тому, что
рынок — по крайней мере, до известной степени — оказывается несо-
стоятельным; теория несостоятельности рынка без труда может быть
обобщена и распространена на все функции, эффективно выполняемые
правительством (Olson, 1986). Поскольку функционирование прави-
тельства, так же как и функционирование рынка, не является совер-
шенным, существование несостоятельности рынка не является доста-
точным основанием для государственного вмешательства, поскольку
последствия «несостоятельности правительства» в данном случае мо-
гут быть еще хуже; тем не менее изъяны рынка часто являются очень
важным (и всегда — необходимым) условием оптимального государ-
ственного вмешательства. Было бы, разумеется, абсурдным предпола-
гать, что в реальности государственное вмешательство всегда носит оп-
тимальный характер или что правительство осуществляет вмешатель-
ство во всех случаях, когда такое вмешательство отвечает критерию
37
эффективности Парето. Тем не менее полезно рассмотреть проблему
существования государственной бюрократии, равно как и бюрократи-
ческих структур бизнеса, в терминах несостоятельности рынка.
Кроме всего прочего это полезно потому, что те же самые условия,
которые приводят к несостоятельности рынка, с неизбежностью при-
дают деятельности государственной бюрократии (а в известной степе-
ни — и бюрократических структур фирм) неэффективность и негиб-
кость, которые так часто — и с полным основанием — рассматриваются
в качестве признака бюрократии. Некоторые проявления неэффектив-
ности возникают и тогда, когда для деятельности государственной
бюрократии или бюрократических структур бизнеса отсутствуют до-
статочные основания, однако проблема является наиболее очевидной
и наиболее серьезной именно в тех случаях, когда несостоятельность
рынка делает использование бюрократических механизмов необходи-
мым.
К сожалению, причины, благодаря которым порождающие несо-
стоятельность рынка условия создают также затруднения в деятельно-
сти бюрократии и ведут к ее неэффективности, не поддаются кратко-
му изложению. Однако, вероятно, некоторое приближенное и инту-
итивное представление об этих причинах можно получить, рассуждая
о том, чем вызвана необходимость существования бюрократии. Если,
скажем, сбор выращиваемых на ферме фруктов или овощей лучше все-
го осуществлять вручную, а оптимальная форма оплаты труда каждого
работника увязывает размер его вознаграждения с количеством буше-
лей собранного им урожая, то для осуществления этой работы не тре-
буется никакого бюрократического механизма. Когда сдельная или ко-
миссионная форма оплаты труда является эффективной, рынок пре-
доставляет каждому работнику более или менее оптимальные стимулы
к работе и достижению максимально возможного уровня эффективно-
сти. В сущности, это связано с тем, что продукт состоит из более или
менее однородных единиц или же известен вклад в общую выручку
каждого из работников, так что результаты труда различных работни-
ков могут быть измерены с достаточной точностью.
Обратимся к другой крайности. Рассмотрим типичного государ-
ственного служащего, работающего в Министерстве иностранных дел.
Даже если исходить из того, что задача данного министерства состоит
в поддержании независимости страны мирными средствами, было бы
очень затруднительно осуществлять оплату труда государственного слу-
жащего на сдельной или комиссионной основе или каким-либо иным
способом, учитывающим эффективность его деятельности. Безопас-
ность рассматриваемой страны во многом зависит от фактора, который
может быть несколько вольно охарактеризован как состояние между-
народных отношений, т.е. от всемирного «невидимого», или общест-
венного, блага, полную ответственность за создание которого не мо-
жет нести ни одна страна. Однако даже если бы рассматриваемая страна
была единственным «производителем» этого блага, Министерство ино-
странных дел не было бы единственным подразделением правительства
или общественным институтом, причастным к этому. Кроме того,
38
в рамках Министерства иностранных дел наш государственный служа-
щий является лишь одним из многих тысяч. Как измерить результат
работы отдельного служащего или хотя бы «отделить» этот результат от
результатов работы его коллег? Разумеется, работа государственного
служащего не может оплачиваться на основе потока доходов, который
он создает, поскольку, если в данном случае действительно имеет мес-
то несостоятельность рынка, результат труда не может быть реализо-
ван на соответствующем рынке. Благодаря этому на практике возна-
граждение государственных служащих, занятых производством обще-
ственных благ, не является даже близкой аппроксимацией истинного
результата труда каждого из них; размер вознаграждения государствен-
ных служащих в решающей мере зависит от косвенных показателей их
деятельности — таких, как занимаемая должность, уровень образова-
ния, точность следования интересам руководства и приверженность
«культуре», или идеологии, данной бюрократической структуры. Осо-
бенности систем организации государственной службы, правил конку-
рентных торгов и «чиновничьей волокиты» в значительной мере объяс-
няются на основе этих аргументов (Olson, 1973; 1974).
Кроме того, рассмотренный выше фактор неделимости результата
ограничивает наши знания об «общественной производственной функ-
ции», которая описывает деятельность государственной бюрократии в
сфере производства общественных благ. Число стран — и даже число
программ борьбы с загрязнением окружающей среды — меньше, чем
число ферм (или опытных участков на экспериментальных сельскохо-
зяйственных станциях), в связи с чем об управлении государством или
о контроле над загрязнением известно в целом меньше, чем о сельском
хозяйстве или производственных процессах в других конкурентных
отраслях (Olson, 1982). Фактор неделимости результата, мешающий
определить общественную производственную функцию и производи-
тельность отдельных государственных служащих (а также ресурсов,
используемых в государственном секторе), обусловливает невозмож-
ность существования рынка даже с несовершенной конкуренцией,
поэтому отсутствует какая-либо непосредственная информация о том,
каких результатов в тех же обстоятельствах могла бы достигнуть аль-
тернативная бюрократическая структура.
По большей части именно отсутствие информации, связанное с
действием описанного выше фактора неделимости, обусловливает не-
которые недостатки в работе бюрократии, которые были описаны в
работах У. Нисканена и Г. Таллока (Niskanen, 1971; Tullock, 1965).
Формальная модель Нйсканена, на которую имеются многочисленные
ссылки в литературе, опирается на предпосылку, что лишь правитель-
ственные чиновники знают о том, сколько ресурсов должно быть ис-
трачено для получения данного общественного результата (public
output). Предполагается, что эти чиновники заинтересованы в росте
бюрократических структур, поскольку власть должностных лиц, воз-
можности продвижения по служебной лестнице и другие открытые
перед ними перспективы являются возрастающей функцией от разме-
ра бюджета, которым они распоряжаются. Вместе с тем бюрократичес-
39
кая организация сталкивается с ограничением: электорат будет высту-
пать против продолжения государственных программ, по которым со-
вокупные издержки превышают ценность предоставляемых благ. По-
этому стратегия оптимизации, осуществляемая чиновниками, ведет к
расширению бюрократических структур сверх размера, эффективного
по Парето; в сущности, бюрократия присваивает весь «потребительский
излишек», графически эквивалентный площади под общественной
кривой спроса на данное предоставляемое правительством благо. Кри-
тики модели Нисканена указывали на то, что она абстрагируется от
подчинения чиновников политикам, чьи шансы на переизбрание за-
висят от успехов правительства в предотвращении присвоения этого
«потребительского излишка» бюрократией (см., например: Breton and
Wintrobe, 1975). Эта критика имеет серьезный эмпирический фунда-
мент, однако известно много случаев, когда должностные лица, опа-
савшиеся, что размер ассигнований на содержание возглавляемых ими
органов окажется меньше ожидаемого, прекращали — или угрожали
прекратить — осуществление функций, наиболее важных в политичес-
ком отношении (а не функций, имеющих подчиненное значение);
именно такой результат следует из модели Нисканена. Хотя окончатель-
ный вывод может быть сделан только на основании дальнейших иссле-
дований, имеющиеся в настоящее время факты позволяют утверждать,
что недостаток информации, обусловленный описанным выше факто-
ром неделимости, действительно позволяет бюрократии присваивать
часть «потребительского излишка», который в противном случае мог
бы достаться собственно потребителям; однако стимулы, руководящие
поведением политиков, препятствуют получению бюрократией всего
«потребительского излишка».
Бюрократической структуре, функционирующей в рыночных усло-
виях, свойственны некоторые, хотя и не все, информационные пробле-
мы, характерные для государственной бюрократии. Подразделения
крупных корпораций, занимающиеся управлением кадрами, бухгалтер-
ским учетом, финансами и отношениями с общественностью, произ-
водят коллективные блага для корпорации в целом. С точки зрения
принятия решений о том, какую долю прибыли фирмы отнести на счет
усилий отдельного работника, их положение во многом сходно с рас-
смотренным выше положением Министерства иностранных дел: это
обстоятельство объясняет многие аспекты сходства между бюрократи-
ческими структурами крупных корпораций и государственной бюро-
кратией. Однако корпорация в целом — и даже национализированная
фирма, производящая общественные блага в рыночных условиях, — не
сталкивается при их продаже со столь серьезными проблемами, как
государственный орган, производящий «неделимое» коллективное или
общественное благо, которое нельзя продать на рынке. Фирма выпус-
кает товар или услугу, которые являются «делимыми» в том смысле, что
они могут предоставляться лишь тем, кто оплачивает их приобретение.
Это означает, что продукт может быть непосредственно измерен в не-
которых физических единицах или же, по крайней мере, доходы от про-
дажи этого продукта поддаются измерению. Поскольку потребители,
40
даже при относительно неразвитой конкуренции, имеют возможности
альтернативного использования своих денег, частная корпорация или
национализированная фирма в условиях рыночной экономики полу-
чает определенную информацию относительно того, какова реальная
ценность продаваемых ею благ. Если отсутствуют юридические препят-
ствия для конкурентного предпринимательства, а рынки являются со-
стязательными (contestable), общество также обладает (по крайней мере,
в потенциале) информацией относительно ценности благ, которые
могут быть предоставлены альтернативной организацией. В рыночных
условиях выпускаемый предприятием продукт может потребляться
лишь теми, кто уплатил за его приобретение; это также означает, что
информация о производственных функциях для частных благ обычно
является более полной, чем о производственных функциях для общест-
венных благ. Отсюда следует, что в частном бизнесе связанные с бю-
рократией проблемы носят менее острый характер, чем в государствен-
ных органах, производящих общественные блага. Интересно отметить
также, что эти проблемы носят менее острый характер в государствен-
ных предприятиях, производящих частные блага, которые без труда
могли бы производить частные компании; напротив, эти проблемы
более серьезны в государственных органах, производящих обществен-
ные блага, предоставление которых посредством рыночных механиз-
мов невозможно. Тот факт, что национализированные фирмы осуще-
ствляют более гибкую политику подбора персонала по сравнению с
«классической» государственной службой, подтверждает справедли-
вость изложенной выше концепции.
Таким образом, представляется, что парадокс бурного роста государ-
ственной бюрократии и частных бюрократических структур в условиях
сложившегося консенсуса по поводу недостаточной эффективности и
недостаточной гибкости бюрократии имеет адекватное объяснение. Су-
ществуют фундаментальные причины, связанные с условиями несосто-
ятельности рынка, которые делают неизбежным существование государ-
ственных и частных бюрократических структур. Те же самые причины
объясняют, почему бюрократические структуры не обладают информа-
цией, необходимой для достижения высокого уровня эффективности.
Однако существование несостоятельности рынка (хотя фактическая сте-
пень развития бюрократических структур может быть далека от опти-
мальной) одновременно свидетельствует о том, что не следует удивляться
экспансии государственных и частных бюрократических структур, не-
смотря на осуждение самих этих структур обществом.
БИБЛИОГРАФИЯ
Коуз Р. Проблема социальных издержек // Фирма, рынок и право. М.: Дело
ЛТД, 1993. С. 87-141.
Уильямсон О. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отно-
шенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996.
41
Breton A. and Wintrobe R. The Equilibrium Size of a Budget Maximizing Bureau //
Journal of Political Economy, February 1975, vol. 83, no. 1, p. 195-207.
Buckley P. and Casson M. The Future of the Multinational Enterprise. London:
Macmillan, 1976.
Chandler A.D. Strategy and Structure: Chapters in the History of American Industrial
Enterprise. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1962.
Chandler A.D. The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1977.
Chandler A.D. and Daems H. (eds). Managerial Hierarchies: Comparative Perspectives
on the Rise of Modem Industrial Enterprise. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press, 1980.
Hennart J.-F. A Theory of Multinational Enterprise. Ann Arbor: University of
Michigan Press, 1982.
McManus J.C. The Theory of International Firm. In: The Multinational Firm and
the Nation State. G.Pasquet and D.Mills (eds.). Ontario: Collier Macmillan, 1972.
Mueller D.C. and Murrell P. Interest Groups and the Political Economy of
Government Size. In: Public Expenditure and Government Growth. F. Forte and
A.Peacock (eds.). Oxford: Basil Blackwell, 1985.
Niskanen W.A. Bureaucracy and Representative Government. Chicago: Aldine-
Antherton, 1971.
Olson M.L. Evaluating Performance in the Public Sector. In: The Measurement of
Economic and Social Performance. M. Moss (ed.). Studies in Income and Wealth,
vol. 38, National Bureau of Economic Research. New York: Columbia University
Press, 1973.
Olson M.L. The Priority of Public Problems. In: The Corporate Society, ed. R. Marris.
London: Macmillan, 1974.
Olson M.L. Environmental indivisibilities and information costs: fanatism, agnosticism,
and intellectual progress. American Economic Review, Papers and Proceedings.
1982. vol. 72. May, p. 262-266.
Olson M.L. Space, Agriculture, and Organization//American Journal of Agricultural
Economics, December 1985, vol. 67, p. 928-937.
Olson M.L. Toward a More General Theory of Government Structure // American
Economic Review, Papers and Proceedings, May 1986, vol. 76, p. 120-125.
Tullock G. The Politics of Bureaucracy. Washington, D.C.: Public Affairs Press, 1965.
Weber M. Bureaucracy. In: From Max Weber: Essays in Sociology. H. Gerth and
C.W. Mills (eds.). New York: Oxford University Press, 1946.
Williamson O.E. The Economics of Discretionary Behavior: Managerial Objectives in
a Theory of the Firm. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1964.
Williamson O.E. Markets and Hierarchies: Analysis and Anti-trust Implications. New
York: The Free Press, 1975.
ПРИРОСТЫ И СОКРАЩЕНИЯ
СТОИМОСТИ КАПИТАЛА
Э. Маленво
Capital Gains and Losses
E. Malinvaud
В практике национального счетоводства приросты или снижения
стоимости капитала определяются довольно точно, но их фундамен-
тальное отличие от дохода поднимает весьма тонкие вопросы, по ко-
торым ведущие экономисты с давних пор испытывают сомнения. Как
правило, эти вопросы становятся важными во время инфляции. Кро-
ме того, остается много неясного в том, как прирост стоимости капи-
тала влияет на экономическое поведение и как уменьшение стоимос-
ти капитала, связанное с текущей деятельностью, должно учитываться
при аллокации ресурсов.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Хотя такие издания, как, например, справочни-
ки ООН (1969), недостаточно ясно определяют рассматриваемое поня-
тие, система национальных счетов обычно использует следующее со-
отношение:
Д1И= У+ СТ + CG- С, (1)
где АРУ — изменение богатства между началом и концом рассмат-
риваемого периода, У — доход, СТ — полученные чистые капитальные
трансферты (подарки, наследство, налоги на капитал и субсидии), CG—
чистый прирост стоимости капитала и С — потребление. Это тождество
относится к любому экономическому агенту или группе агентов. Оно
может быть использовано как определение de facto чистого прироста
стоимости капитала (т.е. прирост минус уменьшение) в той степени, в
которой для расчета потоков У, С и СТ, присутствующих в текущих
счетах, используются четко определенные правила, а богатство пред-
полагается однозначно определенным.
Однако, внимательно изучив существующие правила, можно по-
нять, что различие между доходом и чистым приростом стоимости ка-
питала в большой степени условно. Именно с выбором этих «условно-
стей» связаны некоторые важные вопросы, относящиеся к определе-
нию понятия дохода.
В главе 7 книги И. Фишера (Fisher, 1906) показано, что определе-
ние понятия дохода было нелегкой задачей для экономистов. Предпо-
читаемое самим И. Фишером определение — «услуги капитала» — не
кажется вполне ясным, но может быть идентифицировано с потребле-
43
нием. Тогда все инвестиции относятся к приросту стоимости капитала.
Это решение, которое всерьез обсуждалось Самуэльсоном (Samuelson,
1961), почти не имеет сторонников сегодня. Другая крайность — это
«всеобъемлющее определение дохода», называемое также определени-
ем Хейга—Саймонса, которое было предложено экономистами, изучав-
шими подоходные налоги (Haig, 1921; Simon, 1938); по нему доход дол-
жен равняться сумме потребления и прироста стоимости богатства, что,
таким образом, не оставляет в уравнении (1) ни прироста стоимости
капитала, ни капитальных трансфертов. Сейчас чаще всего ссылаются
на определение, данное Хиксом (Hicks, 1939): «Доход человека есть
максимальная стоимость, которую он может потребить в течение не-
дели, и при этом ожидать, что в конце недели его благосостояние бу-
дет таким же, каким было в ее начале» (р. 172).
Так или иначе, в статистике национальных счетов доход измеряют
как сумму стоимости производства и чистых текущих трансфертов.
Производство обычно рассчитывается на основе физических выпусков
и затрат, оцененных по текущим ценам и агрегированных. Это озна-
чает, что переоценки запасов, которые объясняют часть изменения
богатства, относятся не к доходам, а к приростам или уменьшениям
стоимости капитала. Определение Хикса, наоборот, подразумевает, что
ожидаемые переоценки запасов относятся к доходу. Согласно ему в
уравнении (1) только случайные выигрыши (windfalls) были бы истин-
ными приростами стоимости капитала. Но чаще всего неясно, должно
ли изменение стоимости актива быть классифицировано как ожидаемое
или нет. (За какое время оно должно ожидаться? Должен ли посторон-
ний наблюдатель иметь возможность убедиться, что держатель актива
ожидал изменение?) Тем не менее, различие между ожидаемыми и не-
ожиданными приростами или сокращениями стоимости капитала оста-
ется существенным в экономическом анализе.
ИНФЛЯЦИЯ. Наиболее значительные переоценки стоимости ак-
тивов происходят вследствие изменений уровня цен. Кроме того, ког-
да инфляция достигает существенного уровня, значительная часть этих
переоценок ожидается всеми экономическими агентами. В этом слу-
чае переоценки играют роль в определении равновесия всех обменов
и экономических операций, что приводит, в частности, к высоким став-
кам процента. С другой стороны, изменение номинального богатства
становится малоинтересным по сравнению с изменением реального
богатства; поэтому экономические агенты должны отличать «реальные
приросты капитала» от номинальных. Следовательно, инфляция меняет
значение обычных правил учета; чтобы правильно оценить потоки до-
хода, необходимы новые измерения (Jump, 1980).
Это относится в первую очередь к системе бухгалтерского учета в
бизнесе, где оценка активов по стоимости приобретения приводит к
недооценке физических активов и обесцениванию основного капита-
ла, и в то же время к переоценке чистой отдачи от финансовых акти-
вов. Это объясняет поиск новых или альтернативных правил учета, ко-
торые лучше подходили бы в случае сильной инфляции и более пра-
44
вильно разграничивали бы доход и приросты или сокращения стоимо-
сти капитала. Результаты этого поиска были применены на практике в
Соединенном Королевстве (см.: Walton, 1978).
На уровне экономики в целом, когда применяются правила нацио-
нальных счетов, важны реальные приросты или сокращения стоимос-
ти капитала, проистекающие из изменений общего уровня цен. Обыч-
но они приносят выгоду предприятиям и правительству, которые яв-
ляются чистыми должниками, в то время как для домохозяйств они
означают большие убытки. Когда все эти приросты и сокращения сто-
имости капитала причисляются к доходам на том основании, что они,
скорее всего, были ожидаемы заранее, текущие счета фирм и прави-
тельства выглядят значительно более благополучными, хотя между ними,
как и между группами домохозяйств, происходит значительное перерас-
пределение (см.: Bach, Stephenson, 1974; Babeau, 1978; Wolff, 1979).
Поднимался вопрос о том, не следует ли пересмотреть методику
национального счетоводства, с тем чтобы лучше отразить действитель-
ные доходы во время инфляции (см.: Hibbert, 1982). Необходимой пред-
посылкой для этого является регулярное составление национальных
балансов. При этом условии можно выделить существенные приросты
и сокращения стоимости капитала вследствие, например, бумов цен на
недвижимость или цен акций, помимо тех, которые вызваны измене-
нием общего уровня цен.
ВЛИЯНИЕ ПРИРОСТОВ СТОИМОСТИ КАПИТАЛА НА ЭКО-
НОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Авторы большинства эконометричес-
ких исследований стремятся пренебречь приростами стоимости капитала
в качестве потоков, хотя богатство и задолженность часто принимают-
ся во внимание. Однако воздействие приростов стоимости капитала на
потребительское поведение домохозяйств было изучено. До сих пор
результаты здесь были довольно неубедительными (Bhatia, 1972; Peek,
1983; Pesaran and Evans, 1984).
По всей вероятности, трудность происходит из того, что некоторые
приросты стоимости капитала являются чисто преходящими, в то вре-
мя как большинство их имеет некоторую степень долговременности или
устойчивости, которая сильно меняется от случая к случаю. Чисто не-
предвиденный выигрыш сравним с неожиданным подарком; случай-
ные убытки или военный ущерб происходят раз и навсегда, в то время
как уменьшения стоимости капитала из-за инфляции, которая, как
ожидается, будет продолжаться, могут оказаться столь же устойчивы-
ми, как и процентные доходы, а иногда даже и как доходы в виде зара-
ботной платы. Однако классификация приростов стоимости капитала
по критерию их предполагаемой устойчивости (permanence) далека от
однозначности.
Приросты стоимости корпоративных акций имеют устойчивый ком-
понент, обусловленный проводимой фирмами политикой удержания от
распределения части своей прибыли. Этим объясняется то, почему
увеличение нераспределенной прибыли, вероятно, увеличит потребле-
ние домохозяйств, но не настолько, как увеличение постоянного
45
(permanent) дохода, поскольку размер нераспределенной прибыли силь-
но варьирует в зависимости от экономических условий (Feldstein and
Fane, 1973; Malinvaud, 1986).
Проблема становится еще более сложной, когда приросты стоимо-
сти капитала коррелируют с изменениями стоимости компонентов се-
мейного богатства. Экстремальный случай имеет место при увеличении
цен на недвижимость: владельцы домов испытывают увеличение свое-
го капитала, но одновременно увеличивается на соответствующую сум-
му и стоимость жилья; независимо от того, сдаются дома или исполь-
зуются их владельцами, стимулирующий эффект в отношении реаль-
ного потребления сомнителен.
СОКРАЩЕНИЕ СТОИМОСТИ КАПИТАЛА, СОХРАНЕНИЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ. Существование
приростов и сокращений стоимости капитала порождает ряд вопросов
для теории аллокации ресурсов, касающихся, например, налогообло-
жения приростов стоимости капитала (David, 1968; Green and
Sheshinski, 1978), или того, как лучше всего организовать страхование
от сокращения стоимости капитала. Однако особое внимание в насто-
ящее время уделяется ущербу, который хозяйственная деятельность
наносит окружающей среде и запасам невозобновляемых ресурсов
(Fisher, 1981).
Не все воздействия на окружающую среду означают уменьшение
стоимости капитала, многие из них есть просто внешние эффекты,
присущие обычному ходу хозяйственной деятельности. Однако непо-
правимый ущерб лесам, почве или даже климату, который обычно не
учитывается как потребление или как затраты производственных ре-
сурсов, также должен быть принят во внимание. Истощение невозоб-
новимых запасов также часто рассматривается как уменьшение стоимо-
сти капитала.
Вредные воздействия многих из этих потерь проявятся главным
образом в довольно отдаленном будущем. Можно ли допускать эти
потери (какой, например, должна быть оптимальная скорость исполь-
зования природных ресурсов)? Обсуждение этой проблемы поднимает
трудные вопросы отношений между поколениями, при ответе на ко-
торые экономистам приходится вступить в непростую область социаль-
ной философии.
Данная проблема не может быть отвергнута здесь на том основании,
что соответствующее дисконтирование делает отдаленное будущее не-
значимым. На самом деле в чистом случае косвенная (shadow) дискон-
тированная цена невозобновимого ресурса столь же высока в будущем,
как и теперь, до тех пор, пока ресурс продолжает использоваться
(Hotelling, 1931). Таким образом, при принятии текущих решений нуж-
но учитывать отдаленное будущее.
Кроме того, известно, что чисто физическая оценка вызываемых
последствий связана с огромной неопределенностью. Невозможно
предвидеть с уверенностью ни воздействие выбросов углекислого газа
на климат, ни существующие резервы ископаемых видов топливных
46
ресурсов, ни будущее появление соответствующих технологий для бо-
лее широкого использования возобновляемых источников энергии. При
таких обстоятельствах появление объективной методологии для приня-
тия экономических решений особенно затруднено.
БИБЛИОГРАФИЯ
Babeau, А. 1978. The application of the constant price method for evaluating the
transfer related to inflation: the case of French households. Review of Income and
Wealth 24(4). December, 391-414.
Bach, G. and Stephenson, J. 1974. Inflation and the redistribution of wealth. Review
of Economics and Statistics 56(1), February, 1—13.
Bhatia, K. 1972. Capital gains and the aggregate consumption function. American
Economic Review 62(5). December, 866—79.
David, M. 1968. Alternative Approaches to Capital Gains Taxation. Washington, DC:
Brookings Institution.
Feldstein, M. and Fane, G. 1973. Taxes, corporate dividend policy and personal savings:
the British experience. Review of Economics and Statistics 55(4), November, 399—
411.
Fisher, A. 1981. Resource and Environmental Economics. Cambridge: Cambridge
University Press.
Fisher, I. 1906. The Nature of Capital and Income. New York: Macmillan.
Green, J. and Sheshinski, E. 1978. Optimal capital-gains taxation under limited
information. Journal of Political Economy 86(6), 1143—58.
Haig, R. 1921. The concept of income: economic and legal aspects. In The Federal
Income Tax, ed. R. Haig, New York: Columbia University Press.
Hibbert, J. 1982. Measuring the Effects of Inflation on Income, Saving and Wealth.
Paris: OECD.
Хикс Дж. Стоимость и капитал. М.: Прогресс, 1988.
Hotelling, Н. 1931. The economics of exhaustible resources. Journal of Political
Economy 39, 137—75.
Jump, G. 1980. Interest rates, inflation expectations, and spurious elements in measured
real income and saving. American Economic Review 70(5), December, 990—1004.
Malinvaud, E. 1986. Pure profits as forced saving. Scandinavian Journal of Economics
88(1), 109-30.
Peek, J. 1983. Capital gains and personal saving behaviour. Journal of Money, Credit
and Banking 15(1), February, 1—23.
Pesaran, M. and Evans, R. 1984. Inflation, capital gains and UK personal savings:
1953-81. Economic Journal 94, June, 237-57.
Samuelson, P. 1961. The evaluation of‘social income’: capital formation and wealth.
In The Theory of Capital, ed. F. Lutz and D. Hague, London: Macmillan.
Simons, H. 1938. Personal Income Taxation. Chicago: University of Chicago Press.
United Nations. 1969. A System of National Accounts. New York: United Nations.
Walton, J. 1978. Current cost accounting: implications for the definition and measurement
of corporate income. Review of Income and Wealth 24(4), December, 357—90.
Wolff, E. 1979. The distributional effects of the 1969—75 inflation on holdings of
household wealth in the United States. Review of Income and Wealth 25(2), June,
195-208.
47
ЧИКАГСКАЯ ШКОЛА
М.У. Редер
Chicago School
M.W. Reder
Чтобы охарактеризовать Чикагскую школу экономической теории,
нам понадобится очертить круг относящихся к ней идей и людей. С на-
шим выбором, возможно, многие не согласятся. Он был сделан исхо-
дя из эвристических соображений для того, чтобы облегчить наш рас-
сказ. Но мы признаем, что могут существовать альтернативные версии
этой истории, для которых лучше подошла бы какая-то другая демар-
кация границ Чикагской школы. Мы же будем считать, что так назы-
ваемая Чикагская школа существует при экономическом факультете
Чикагского университета примерно с 1930 г. до настоящего времени
(1985). Однако логично было бы включить в нее и многих экономис-
тов, работающих в Высшей школе бизнеса того же университета, а так-
же экономистов и экономистов-правовиков с юридического факульте-
та. Поскольку выпускники Чикагского университета сохраняют вер-
ность идеям Школы, ее влияние простирается далеко за пределы
Чикаго, на факультеты других университетов, государственную служ-
бу, органы юстиции и частные фирмы; кроме того, оно выходит дале-
ко за пределы США.
Поскольку мы решили вести отсчет истории школы с 1930 г., при-
ходится исключить из нее многих прославленных экономистов, рабо-
тавших в Чикагском университете до того времени, таких, например,
как Торстейн Веблен (Thorstein Veblen), Уэсли Митчелл (Wesley
С. Mitchell), Дж. М. Кларк (J.M. Clark), Дж. Лоренс Лафлин (J. Laurence
Laughlin), К.О. Харди (С.О. Hardy). Ни один из этих профессоров не
был типичным представителем Чикагской школы в том виде, как мы
понимаем ее в данной статье.
Если совсем коротко, основными чертами последователей Чикаг-
ской школы являются: 1) вера в возможность объяснить наблюда-
емое экономическое поведение с помощью неоклассической теории
цен и 2) вера в эффективность свободных рынков как инструмента
аллокации ресурсов и распределения дохода. С пунктом 2 коррели-
рует и их тяга к минимизации роли государства в экономической
деятельности.
Прежде чем мы перейдем к развернутому описанию этих характе-
ристик, уместно будет провести небольшой экскурс в историю школы,
которую мы предлагаем разделить на 3 периода:
1) период становления — 30-е годы;
48
2) период междуцарствия — с начала 40-х до начала 50-х годов;
3) современный период — с 50-х годов до настоящего времени.
В период становления на экономическом факультете Чикагского
университета можно было найти приверженцев разных взглядов как на
методологию экономических исследований, так и на то, какой должна
быть экономическая политика государства. Институционалистские
взгляды были широко распространены в рядах факультетской профес-
суры; студенты, являющиеся приверженцами институционализма, пре-
обладали и среди выпускников. Среди известных институционалистов
были специалисты по экономике труда Х.А. Миллис и Пол Дуглас (во
всяком случае, в одной своей ипостаси), экономисты-историки Джон
У. Неф и К.У. Райт, а также Саймон Лиленд — специалист по государ-
ственным финансам, который в течение долгого времени был деканом
факультета.
Как и другие факультеты общественных наук Чикагского универ-
ситета, экономический факультет самым активным образом занимал-
ся разработкой находящихся тогда в зачаточном состоянии так назы-
ваемых количественных методов анализа. Ведущими специалистами по
количественным методам были Генри Шульц — первопроходец в об-
ласти изучения статистических кривых спроса, который читал в маги-
стратуре лекции по математической экономике и математической ста-
тистике, а также Пол Дуглас, который в 20-е и 30-е годы был ведущей
фигурой в области оценки производственных функций и измерения
реальной зарплаты и стоимости жизни.
Однако общепризнанными отцами-основателями Чикагской шко-
лы считаются Фрэнк Найт и Джейкоб Вайнер. Оба они увлекались
историей экономической мысли, и оба были, по большому счету, при-
верженцами неоклассической теории цены. Однако их научные стили
и темпераменты были совершенно различны и близких отношений
между ними не сложилось. Если не считать интереса к истории эко-
номической мысли, Вайнер был в первую очередь теоретиком-приклад-
ником, специалистом по международной торговле и смежным вопро-
сам теории денег. Найт же работал в основном над концептуальными
предпосылками неоклассической теории цены и главной своей задачей
считал внесение ясности и стройности в ее логическую структуру.
Особенности темперамента и научных интересов Найта сделали его
непревзойденным критиком как идей, так и их авторов. В результате
между ним и Дугласом с Шульцем возникли серьезные трения. Не
упоминая личных моментов, скажем лишь, что Найт был категоричес-
ки против экспансии количественных методов в экономике и очень
откровенно высказывал свое мнение как по этому, так и по всем дру-
гим вопросам. (Подробнее см.: Reder, 1982, р. 326—365.)
Вайнер же, напротив, довольно благосклонно относился к тем це-
лям, которые ставили перед собой сторонники количественных мето-
дов, хотя и считал, что достичь их не удастся, — по крайней мере,
в обозримом будущем. Благосклонному отношению Вайнера к количе-
ственным методам во многом способствовал сильный эмпирический
уклон его собственных исследований, хотя и дружеские отношения с
49
Дугласом и Шульцем тоже вполне могли сыграть свою роль. Найт же
занимался чисто теоретическими исследованиями, связанными с тео-
рией капитала, риском, неопределенностью, общественными издерж-
ками и т.д., которые не требовали ни эмпирической проверки, ни зна-
комства с работами, в которых бы предлагались методы ее проведения.
В результате между Найтом и Дугласом с Шульцем постоянно возни-
кали конфликты, а отголоски их научных разногласий с Вайнером не-
редко доносились и до студентов, когда то один, то другой вставляли в
адрес друг друга какие-нибудь колкости на лекциях. Отношения меж-
ду Найтом и Вайнером были вполне корректными, но не более того
(Reder, 1982, р. 365).
Общим для Найта и Вайнера была их непоколебимая верность ос-
новным принципам неоклассической теории цены и неприятие таких
теоретических новинок 30-х годов, как теория монополистической кон-
куренции и «Общая теория» Кейнса. Подобная теоретическая непоко-
лебимость отличала и их неприятие идей государственного вмешатель-
ства в программе Нового курса и кейнсианской политики полной за-
нятости, относящейся к более позднему периоду. Впрочем, Вайнер,
активно консультировавший в то время правительство, к Новому кур-
су относился не настолько отрицательно, как Найт и его ученики. И все
же между взглядами Найта и Вайнера, с одной стороны, и такими го-
рячими сторонниками Нового курса, как Дуглас, Шульц и некоторые
из институционалистов, существовали принципиальные различия.
Благодаря тому что на факультете сосуществовали столь различные
точки зрения на методологию экономической теории и экономическую
политику государства, студентам удавалось услышать разные мнения
и избежать конформизма. Но, несмотря на все эти разногласия, боль-
шинство преподавательского состава все же сумело выработать единый
набор требований, предъявляемых к соискателям докторской степени,
в котором главное внимание уделялось умению правильно применять
теорию цены. Эти требования для 30-х годов были совершенно необыч-
ны, и стремление соответствовать им в немалой степени способство-
вало формированию у студентов стойкого убеждения, что главное в их
предмете — это теория цены.
Самое важное из требований заключалось в том, что все без исклю-
чения соискатели докторской степени должны были сдать предвари-
тельные экзамены по теории цены и по теории денег. Экзамены эти
были чрезвычайно трудны, и многие с первого раза их не сдавали. Даже
при второй и третьей попытке вероятность «срезаться» была довольно
высока и некоторые студенты не смогли (и до сих пор не могут) пре-
одолеть этот рубеж на пути к заветной степени. Для большинства ас-
пирантов единственной надеждой успешно сдать экзамен было вызуб-
рить от корки до корки весь материал, читавшийся на лекциях, осо-
бенно по основному курсу теории цены (номер в расписании — 301),
и ответы на билеты прошлых лет.
Вот уже более полувека необходимость готовиться к сессиям и док-
торским экзаменам, особенно к экзаменам по теории цены, формиру-
ет дисциплинарно-культурные штампы и стереотипы поведения выпуск-
50
ников Чикагского университета. Экзаменационные вопросы служат
примерами научных проблем, а пятерка за ответ — образцом научного
успеха. Студенты приучаются к тому, что для научного успеха необхо-
димо выявить все элементы проблемы, выяснить, о каких количествах,
ценах и функциональных связях между ними идет речь, а успешное
решение задачи равнозначно применению теории на практике.
Хотя конкретное содержание экзаменационных билетов менялось
вместе с развитием науки, базовая парадигма оставалась, по существу,
прежней: экономические явления следует рассматривать в первую оче-
редь как результат решений о тех или иных количествах, принимаемых
стремящимися к оптимуму индивидами на основании данных рыноч-
ных цен. Эти решения (о количествах) координируются через рынки,
цены на которых устанавливаются таким образом, чтобы величины
спроса равнялись величинам предложения.
Конечно, студенты были в разной мере способны воспринять идеи
теории цены, и сопротивление этим идеям в ЗО-е годы было, вероят-
но, сильнее, чем в более поздние времена. Тем не менее, все студенты
факультета независимо от их конкретной специальности обязаны были
усвоить и научиться практически применять довольно большие объе-
мы экономической теории. В 80-х годах подобное умение никого уже
не удивляет, но в 30-е годы оно было редкостью, и именно по этому
признаку отличали выпускников Чикагского университета — особен-
но в прикладных областях — от всех прочих экономистов.
Несмотря на общие основы их подготовки, аспиранты, как и в дру-
гих учебных заведениях, имели склонность примыкать к тому или ино-
му преподавателю, обычно к своему научному руководителю. Таким
образом, вокруг каждой из основных фигур на факультете «группиро-
валась» своя группа аспирантов. Одна из таких групп, сложившаяся во-
круг Найта в середине 30-х годов, сыграла особо важную роль в исто-
рии Чикагской школы. Ключевыми фигурами в этой группе были Мил-
тон Фридмен, Джордж Стиглер и У. Аллен Уоллис. Группа поддерживала
тесные дружеские отношения с двумя молодыми преподавателями —
Генри Саймонсом и Аароном Директором, которые тоже были птенца-
ми найтовского гнезда. Членом этой группы была и сестра Директора
Роза, которая позже вышла замуж за Милтона Фридмена.
Именно эта группа навела мосты между поколениями и обеспечила
ту преемственность научной традиции, которая и получила название
«Чикагская школа». Хотя они любили Найта и были преданы ему, на-
учный стиль Фридмена, Стиглера и других очень отличался от научно-
го стиля Найта. Все они были отъявленными эмпириками с явной склон-
ностью к применению количественных методов для проверки теорети-
ческих постулатов. Своим эмпирическим уклоном и интересом к
проблемам «реальной жизни» они стояли намного ближе к Вайнеру, не-
жели к Найту, но все равно считали себя приверженцами последнего.
Отчасти из-за той важной роли, которую играл Генри Саймонс в
обучении теории студентов и бакалавриата, и магистратуры (причем
еще не известно, у кого была хуже подготовка) в 30-х годах и вплоть
до своей безвременной кончины в 1946 г., он оказал значительное вли-
51
яние на выпускников Чикагского университета. Но помнят его в ос-
новном как автора очерков по экономической политике (они собраны
в Simons, 1948), которые стали своего рода манифестом взглядов Чи-
кагской школы того периода, соответствующих принципам laissez faire.
Взгляды Саймонса имели ярко выраженный популистский оттенок,
который у более поздних адептов Чикагской школы уже не встречает-
ся. Например, он одобрял вмешательство государства для сокращения
размера крупных предприятий и профсоюзов. В тех случаях, где сокра-
щение размеров грозило падением эффективности — например, в слу-
чае «естественных монополий», — Саймонс предлагал такие предпри-
ятия передавать непосредственно в государственную собственность.
В отличие от более поздних представителей Чикагской школы Саймонс
также решительно поддерживал прогрессивное налогообложение,
способствующее более уравнительному распределению доходов
(Simons, 1938).
Наконец, Саймонс предложил ввести 100-процентную норму ре-
зервного покрытия вкладов до востребования и ограничить свободу Фе-
деральной резервной системы в сфере кредитно-денежной политики за
счет введения четких правил, направленных на стабилизацию уровня
цен (Simons, 1948). В этом он выступил прямым предшественником
чикагского монетаризма в том виде, в каком он позже был разработан
Фридменом и его учениками.
Исторически сложилось так, что Фридмен, Стиглер и Уоллис ока-
зались не только наследниками научной традиции, но и непосредствен-
ными преемниками Найта и Вайнера. Но повесть о Чикагской школе
не имела бы того колорита, если бы смена поколении в ней происхо-
дила путем передачи эстафеты от старшего поколения к лучшим сво-
им ученикам. Не тут-то было! Накануне Второй мировой войны на эко-
номическом факультете и (наверное) у администрации университета
возникла серьезная озабоченность по поводу того, что Чикагский уни-
верситет не может похвастаться ни одним громким именем, связанным
с новыми теоретическими разработками того времени, а именно — те-
орией несовершенной конкуренции и кейнсианской макроэкономичес-
кой теорией.
Чтобы поправить дело, в 1938 г. на должность старшего препо-
давателя взяли Оскара Ланге. В то время он был известен не только
своими работами, развивающими «Общую теорию» Кейнса и в осо-
бенности ее возможные связи с теорией общего равновесия. Он был
одним из ведущих участников дискуссии о возможностях рыночно-
го социализма и его преимуществах (или недостатках) с точки зре-
ния эффективности по сравнению с капитализмом свободной кон-
куренции. Кроме того, он был автором целого ряда интересных ра-
бот по математической экономике и смог обеспечить поддержку
Генри Шульцу как по этой части, так и по части математической
статистики.
Поскольку Ланге был социалистом, причем политически активным
и никогда не скрывавшим своих взглядов, идеи laissez-faire ему были
совершенно чужды. То, что он мог сохранять дружеские отношения
52
практически со всеми своими коллегами, свидетельствовало как о его
собственном такте, так и об их терпимости к инакомыслию. Ну и, ра-
зумеется, было совсем не случайно, что главный социалист Чикагской
школы оказался именно рыночным социалистом.
Через несколько месяцев после назначения Ланге Генри Шульц
погиб в автомобильной катастрофе и Ланге остался единственным эко-
номистом-математиком на факультете. Не прошло и года, как эта по-
теря усугубилась частичным отходом Дугласа от академической деятель-
ности ради политической карьеры. Еще чуть позже, когда началась
Вторая мировая война, Вайнера стали постоянно приглашать в каче-
стве консультанта в Вашингтон, и в 1945 г. он уволился и перешел в
Принстон.
После всех этих пертурбаций факультет пришлось буквально вос-
создавать заново. Процесс перестройки начался еще в годы войны,
и Ланге играл в нем ведущую роль. Он стремился привлекать эконо-
мистов, идущих в авангарде теоретических исследований того време-
ни, особенно в области применения математических методов в эконо-
мике. Не сумев переманить Аббу Лернера, который был его первой кан-
дидатурой, он с готовностью принял на работу Джейкоба Маршака,
и некоторое время спустя они уже вместе подбирали новых людей как
для факультета, так и для Комиссии Каулза*, которая в 1938 г. базиро-
валась при Чикагском университете. Сотрудничество внезапно прерва-
лось в 1945 г., когда Ланге восстановил свое польское гражданство и
был назначен послом Польши в США. Впоследствии он занимал и
другие высокие посты в правительстве социалистической Польши.
В годы войны на факультет пришел работать Т.У. Шульц из уни-
верситета штата Айова. Он был одним из ведущих специалистов по
экономике сельского хозяйства и в скором времени возглавил факуль-
тет, так что в течение следующих двух десятилетий влияние его было
очень большим. Помимо Шульца, в 1946 г. на факультет пришел Ллойд
Метцлер, который преподавал международную торговлю, и еще ряд
молодых теоретиков и эконометриков, в основном из Комиссии Каул-
за. По какому бы принципу ни проводился отбор, все эти новые на-
значения послужили своего рода противовесом ставшим примерно в то
же время профессорами Фридмену (экономический факультет) и Уол-
лису (Школа бизнеса).
Между Фридменом, Уоллисом и их сторонниками, с одной сторо-
ны, и людьми из Комиссии Каулза, с другой, началась борьба за науч-
ное превосходство и институциональный контроль. Эта борьба продли-
лась до начала 1950-х годов и завершилась лишь в 1953 г., когда Ллойд
* Cowles Commission — объединение ученых-экономистов США, действовав-
шее в 30-60-е годы. Первоначально эта Комиссия работала в г. Колорадо-
Спрингс, шт. Колорадо, потом в Чикаго; ставила своей целью развитие ко-
личественных методов в экономике. Комиссия была школой для талантливых
молодых экономистов, многие из которых впоследствии стали выдающимися
учеными, в частности Ж. Дебре (Debreu, Gerard), Л. Клейн (Klein, Lawrence
Robert). Была названа именем А. Каулза (Cowles, Alfred) — американского биз-
несмена, финансировавшего ее работу. — Примеч. научн. ред.
53
Метцлер частично отошел от дел (по состоянию здоровья), а Комис-
сия Каулза перебазировалась в Йельский университет. Из этой борь-
бы экономический факультет Чикагского университета вышел если и
не монолитным коллективом, то, во всяком случае, коллективом, име-
ющим свой характерный научный стиль, отличающий его от большин-
ства других научных школ.
В позитивной экономической теории стиль этот выражался в том,
что роль совокупного эффективного спроса в качестве объясняющей
переменной отодвигалась на второй план, а главное место отводилось
структуре относительных цен и ее «искажениям». В экономической
политике он был связан с пропагандой преимуществ, которые имеет
формирование цен в результате действия рыночных сил, над мерами
государственного регулирования. По сути, Чикагская школа 50-х и 60-х
представляла собой продолжение идей кружка Найта 30-х годов. Дей-
ствительно, все первые лица того кружка, а именно Фридмен, Стиг-
лер и Уоллис, стали ведущими теоретиками Чикагской школы на этом
новом этапе. Кроме того, они сознательно стремились развивать и
укреплять традиции, сохранять преемственность (см. ниже).
Тесные дружеские отношения, которые найтовцы поддерживали
между собой более полувека, еще больше укрепили общие элементы их
мировоззрений и помогли не обращать внимания на те моменты (под-
час существенные), по которым имелись разногласия как между ними
самими, так и между ними и другими учеными. Как мы уже говорили,
Фридмен, Стиглер и Уоллис, подобно большинству чикагских эконо-
мистов их собственного и последующих поколений, твердо верят в
использование статистических данных и методов для проверки эконо-
мических теорий. В этом их отличие от Найта, Саймонса, Джеймса
Бьюкенена (James Buchanan), Рональда Коуза (Ronald Coase, 1981) и
других представителей меньшинства экономистов, связанных с Чикаг-
ским университетом в качестве магистрантов, аспирантов или препо-
давателей, которые считали (по разным причинам), что обоснованность
экономической теории должна проверяться не столько тем, насколько
выводы этой теории соответствуют эмпирическим наблюдениям, сколь-
ко ее интуитивной привлекательностью и/или соответствием некото-
рому набору аксиом.
Второе разногласие касается совместимости рекомендаций по эко-
номической политике, в какой бы форме они ни выражались, с мето-
дологией позитивной экономической теории. Самое известное общее
описание этой методологии дано Фридменом (Фридмен, 1994). Соглас-
но этой методологии объяснения экономического поведения следует
давать исходя из модели принятия индивидуальных решений об алло-
кации ресурсов (из альтернативных вариантов их использования) та-
ким образом, чтобы максимизировать полезность с учетом ограниче-
ний, налагаемых рыночными ценами и наличием ресурсов. Предпола-
гается, что рыночные цены устанавливаются на таком уровне, что
величины спроса и предложения по каждому из товаров совпадают.
Данная методология традиционно применялась экономистами-нео-
классиками, имеющими склонность к решениям в духе laissez-faire,
54
причем ее естественным дополнением являлась пропаганда такой го-
сударственной политики, которая была бы направлена на достижение
этой цели. Однако в конце 60-х годов группа чикагских экономистов
во главе со Стиглером (который в 1958 г. вернулся в Чикаго в качестве
Уолгриновского профессора и стал работать одновременно и на эко-
номическом факультете, и в Школе бизнеса) попробовала применять
инструменты экономического анализа для исследования факторов, от
которых зависит принятие тех или иных политических мер, в том чис-
ле мер государственного вмешательства в аллокацию ресурсов. Таким
образом, анализ регулятивной и налоговой деятельности государства
впервые был проведен не просто для того, чтобы показать отрицатель-
ное воздействие этого вмешательства на экономическую эффектив-
ность, но в первую очередь для того, чтобы объяснить причины при-
нимаемых мер функционированием «политических рынков», где эти
меры выступают объектом торга.
Представ в этом новом свете, многие виды государственного вме-
шательства, которые традиционно считались вредными, наносящими
ущерб экономической эффективности — например, таможенные тари-
фы, — потребовали полного переосмысления. К ресурсам, которыми
располагает экономический субъект, следует относить не только това-
ры и услуги, которые он приобретает на традиционных рынках, но и
его политическое влияние (чем бы оно ни измерялось). В этом случае
меры государственного вмешательства предстают не какими-то привно-
симыми извне помехами, а эндогенным результатом политико-эконо-
мического процесса, отражающего обеспеченность лиц, принимающих
решения, не только экономическими, но и политическими ресурсами
(см.: Stigler, 1982). Если смотреть на дело таким образом, то критико-
вать политические решения имеет не больше смысла, чем критиковать
покупателей за то, что они покупают не то, что нужно, — ведь и по-
требительский, и политический выбор являются результатом свобод-
ного волеизъявления собственников ресурсов.
Все это говорится здесь не для того, чтобы у читателя создалось
впечатление, что политико-экономическое крыло чикагских экономи-
стов утратило интерес к laissez-faire. Напротив, неприятие Стиглером
и его сторонниками государственного вмешательства (в частности,
регулирования) сегодня сильно, как никогда. Среди видных сторонни-
ков дерегулирования, заявивших о себе в последнее десятилетие, есть
много экономистов и юристов, когда-то входивших в группу чикагских
ученых, изучавших проблемы экономики и права. Однако противоре-
чие между призывами к реформам и позитивным анализом того само-
го политического процесса, через который эти реформы должны осу-
ществляться, представляет собой постоянную экзистенциальную
проблему для наследников чикагской традиции. Все они прекрасно
знают, что такая проблема существует, но до поры до времени воздер-
живаются от открытых споров и выяснения отношений и относятся к
Деятельности тех, кто занимается выработкой рекомендаций для поли-
тиков, как к некоторому хобби.
55
Но политическая наука — это лишь одна из областей, куда проник-
ла Чикагская школа за последние четверть века. Еще с начала 40-х го-
дов и особенно в последние два десятилетия, когда это направление
возглавил Ричард Познер, значительное место в исследованиях как
чикагских экономистов, так и юристов занял экономический анализ
правовых институтов. Кроме того, важной составной частью исследо-
ваний проблем народонаселения, брака, разводов и структуры семьи
стал экономический анализ семьи, отправной точкой которого служит
теория предложения труда. Разработка этого направления бросила вы-
зов социологическим и психологическим объяснениям на территории,
которую у этих наук никто ранее не оспаривал. Наконец, нельзя не
упомянуть и теорию человеческого капитала, которая оказала значи-
тельное влияние на исследования в области образования.
Для удобства мы датируем эту фазу «междисциплинарного импери-
ализма» в развитии Чикагской школы периодом с начала 1960-х годов
по настоящее время. Однако на самом деле она уходит своими корня-
ми в 30-е годы, поскольку уже тогда у чикагцев возникла, по крайней
мере в устной традиции, склонность к применению методов и концеп-
ций, свойственных теории цены, к самым, казалось бы, неподходящим
ситуациям, и они получали большое удовлетворение, когда видели, как
разительно отличались полученные ими результаты от традиционных
представлений. С этой их склонностью тесно коррелировала еще одна,
а именно — не принимать никаких иных объяснений поведения, кро-
ме тех, которые исходят из максимизации полезности индивидуальны-
ми участниками рынка, координируемой равновесными ценами.
Однако где-то до середины 50-х годов данный аспект чикагской
парадигмы, который мы называем здесь «междисциплинарным импе-
риализмом», оставался как бы на втором плане, а на первом месте сто-
яла защита целостности неоклассической теории цены от нападок кейн-
сианцев на макроуровне и от попыток различных теоретиков несовер-
шенной конкуренции дать альтернативные варианты объяснений на
микроуровне. Мощная контратака чикагцев на «Общую теорию» при-
вела к возрождению неоклассической монетарной теории в усовершен-
ствованном и эмпирически проверяемом варианте; это возрождение
связано с работой Милтона Фридмена (1956).
Борьбу за реабилитацию модели совершенной конкуренции в ка-
честве основной модели для объяснения относительных цен возглавил
Стиглер (1968, 1970). Эта борьба породила обширную теоретическую и
эмпирическую литературу по вопросам организации отрасли (Industrial
Organization). Начавшиеся в те годы споры — как по проблемам струк-
туры отрасли, так и по монетарной макротеории — не стихают и по сей
день, причем участвующих в них чикагцев отличает верность позици-
ям Фридмена и Стиглера четвертьвековой давности. Однако в 70-х и
80-х на передний план вышли новые сюжеты, потеснив предметы вы-
шеупомянутой полемики.
Попытки Чикагской школы вырваться за традиционные границы
экономической науки начались где-то в середине или конце 50-х го-
дов. Одними из первых этот прорыв удалось совершить X. Дж. Льюи-
56
су, применившему теорию цены к «спросу на.’членство в профсоюзе и
его предложению» (Lewis, 1959), и Г. Беккеру, написавшему диссерта-
цию о расовой дискриминации (Becker, 1957). Как мы уже говорили, в
60-х и 70-х годах их примеру последовали другие. Многие из этих ав-
торов ограничивались тем, что более или менее прямолинейно приме-
няли традиционные подходы теории цены к новым проблемам, одна-
ко анализ времени как экономического ресурса (Becker, 1965) позво-
лил значительно развить и улучшить теорию потребительского
поведения.
Анализ времени связан также с методологической тенденцией от-
казываться от ссылок на разницу во вкусах (в том числе на различие
привычек, мнений и представлений о «вкусах») для объяснения инди-
видуальных различий в поведении субъектов (Stigler and Becker, 1977;
Becker, 1976). В основе такого отказа лежит идея о том, что: 1) все, что,
на первый взгляд, кажется разницей во вкусах, на поверку обычно сво-
дится к разнице издержек; 2) утверждения относительно разницы из-
держек проверить эмпирически гораздо легче, чем разницу во вкусах.
Хотя этот методологический принцип многие критиковали как в Чи-
каго, так и в других местах, он нашел свое применение во многих ныне
ведущихся исследованиях, особенно там, где необходимо учитывать
стоимость времени.
Отдельное направление экспансии возникло в области финансов.
Вопрос о том, входила ли эта область в сферу экономической теории
до 1960-х, мы предпочитаем не поднимать. Но бесспорно то, что до
теоретического прорыва, начало которому было положено знаменитой
работой Модильяни и Миллера (1958) о зависимости между стоимос-
тью акций и дивидендами, теория корпоративных финансов, цен ак-
тивов, рисков и пр. имела в лучшем случае лишь отдаленное отноше-
ние к теории цены. В результате новых исследований ситуация полно-
стью изменилась, и в середине 1980-х годов так называемая модель
формирования цен на капитальные активы стала связующим звеном,
объединившим в единое целое теорию цен ценных бумаг, теорию струк-
туры активов фирмы и теорию заработной платы через исследование
оплаты труда высших менеджеров.
Главная идея, лежащая в основе всех этих новых подходов, заклю-
чается в том, что если абстрагироваться от трансакционных издержек,
в среднем ни одна возможность для получения арбитражной выгоды не
остается упущенной. Из этого, в частности, следует, что «бесплатного
обеда не бывает», а также, что невозможно найти специфицируемый
алгоритм, который позволил бы владельцу ресурсов на базе общедо-
ступной информации строить настолько точные прогнозы движения
цен, чтобы получать выгоду от сделок. Последний вывод равносилен
так называемой гипотезе эффективных рынков.
Хотя эффективные рынки и рациональные ожидания — это, стро-
го говоря, не совсем одно и то же, гипотеза эффективных рынков все-
гда соответствует поведению, основанному на рациональных ожидани-
ях, а другим моделям ожиданий не противоречит только в том случае,
если предполагается корреляция ошибок прогноза разных индивидов.
57
Кроме того, если ожидания рациональны, то независимо от того,
каким образом они складываются, никакие ссылки на другие перемен-
ные, оказывающие свое действие через ожидания, не помогут улучшить
объяснение относительных цен и количеств, которое дает неокласси-
ческая теория. А раз так, то отпадает всякая необходимость введения в
круг рассмотрения экономической теории каких-либо дополнительных
переменных, отражающих психологические или социологические фак-
торы, которые влияют на принятие решения через ожидания. Очевид-
но, что такая теория ожиданий является сильным аргументом в пользу
экономической теории, укрепляющим ее позиции в междисциплинар-
ной конкуренции.
Надо сказать, что родиной взаимосвязанных идей рациональных
ожиданий и эффективных рынков был не Чикагский университет,
а Университет Карнеги — Меллона и высказаны они были впервые
в работах Мута (Muth, 1961) и Модильяни — Миллера (Modigliani and
Miller, 1958). Однако идеи эти были настолько созвучны идеям Чикаг-
ской школы, что прижились и расцвели не у себя дома, а в Чикагской
школе бизнеса под руководством Миллера и его учеников, а также
(с середины 70-х годов) на экономическом факультете под крылом Ро-
берта Лукаса. Хотя претензии Чикагского университета на первенство
в этой области имеют основание, оспорить данное притязание будет,
пожалуй, легче, чем в других областях.
Третьим чикагским изобретением конца 1950-х годов стала «теоре-
ма Коуза» (Коуз, 1993). Суть ее состоит в том, что если существует та-
кой вариант перераспределения (трансакционные издержки не учиты-
ваются) товаров, претензий, прав (особенно прав собственности) или
изменения институционального устройства, который после выплаты
компенсаций всем пострадавшим привел бы к увеличению общей по-
лезности, такое перераспределение обязательно произойдет. Но если
принять гипотезу рациональности и не принимать в расчет трансакци-
онные издержки, то данная теорема превращается в тавтологию. Та-
ким образом, эмпирическая ценность этой теоремы будет тем меньше,
чем большее значение придается трансакционным издержкам, в кото-
рых суммируется влияние всех факторов, учитывающихся при приня-
тии решения, кроме тех, которые в явном виде присутствуют в теории
цен. Признавать теорему Коуза эмпирически важной — это то же са-
мое, что не признавать важности трансакционных издержек и откло-
нений от рациональности.
В другой формулировке теорема Коуза предполагает, что в реаль-
ной жизни существует тенденция к достижению оптимальности по
Парето. Конечно, в зависимости от существующих вкусов и техноло-
гий для каждого варианта распределения богатства может существовать
множество оптимумов по Парето. Таким образом, в той мере, в какой
распределение богатства задается экзогенно и оказывает воздействие
на поведенческие установки, предсказательная ценность оптимально-
сти по Парето и теоремы Коуза снижается. Не случайно повышение
интереса к теореме Коуза в Чикаго сопровождалось ослаблением ин-
тереса к проблемам распределения доходов, который был таким ост-
56
рым в 1930-х и 1940-х годах, особенно в работах Генри Саймонса (Reder,
1982, р. 389).
Если круг объектов, которые могут перераспределяться, включает
законодательные меры и другие политические переменные, то, по те-
ореме Коуза, те же силы децентрализованного принятия решений, ко-
торые регулируют производство и обмен, определяют также и измене-
ния в законодательстве и политических институтах. Таким образом,
вера в теорему Коуза ведет — или, во всяком случае, должна вести —
к политической пассивности. Однако отнюдь не все чикагские эконо-
мисты политически пассивны. Подавляющее большинство из них при-
держиваются консервативных взглядов, хотя наблюдается большая не-
однородность в том, что касается оттенков и силы убеждений, а также
склонности к участию в политической полемике. Вполне возможно, что
эти различия объясняются разной степенью веры в то, что политичес-
кое поведение имеет экономическую подоплеку. Наверное, самая ти-
пичная для всех экономистов Чикагской школы черта заключается в
недоверии к государству. Это недоверие да еще уверенность в том, что
добровольный обмен, если ему не мешать, со временем обязательно
приведет к истинно желательным результатам, действуют как мощный
тормоз на пути отдельных импульсивных порывов совершенствовать
общество посредством политических мер.
Сага о Чикагской школе — это одновременно история эволюции не-
которого комплекса идей (парадигмы) и конкретного учебного заведения,
с которым связаны главные авторы этих идей. В данном обзоре мы оста-
новились на основных теоретических идеях и исторических событиях и
для подробного рассказа о достижениях в прикладной области и их авто-
рах просто не осталось места. Однако именно тот факт, что эти основные
идеи ассоциируются с ярким коллективом ученых, объединяющим в сво-
их рядах представителей нескольких поколений и связанным с определен-
ным учебным заведением, оправдывает заглавие статьи. Многие из глав-
ных действующих лиц этой истории — Директор, Фридмен, Стиглер,
Уоллис — и по сей день здравствуют*, активно занимаются наукой и под-
держивают тесные контакты со своими преемниками из университета. Эта
преемственность поколений и идей является отличительной чертой ин-
теллектуальной традиции, именуемой Чикагской шкалой.
Сегодня, в середине 80-х годов, угроза жизнеспособности этой тра-
диции исходит скорее от все более широкого признания ее идей, чем
от непризнания. Четверть века тому назад отличительной чертой эко-
номистов Чикагской школы служило то, что они придавали исключи-
тельную важность конкуренции и предложению денег.
Сегодня, в 1985 г., похоже, что эти взгляды стали частью основного
течения (main stream) экономической мысли, история Чикагской шко-
лы завершается. А впрочем, поживем — увидим.
* Джордж Стиглер умер в 1991 г. — Примеч. научи, ред.
59
БИБЛИОГРАФИЯ
Коуз Р. Проблема социальных издержек // Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.:
Дело, 1999. С. 87-141.
Фридмен М. Методология позитивной экономической науки / Thesis. Вып. 4.
1994. С. 20-52.
Becker, G.S. 1957. The Economics of Discrimination. Chicago: University of Chicago
Press.
Becker, G.S. 1965. A theory of the allocation of time. Economic Journal 75, September,
493-517.
Becker, G.S. 1976. The Economic Approach to Human Behavior. Chicago: University
of Chicago Press.
Coase, R.H. The problem of social cost. Journal of Law and Economics 3(1), October,
1-44.
Coase, R.H. 1981. How should economists choose? Washington, DC: American
Enterprise Institute for Public Policy Research.
ТЕОРЕМА КОУЗА
Роберт Д. Кутер
Coase Theorem
Robert D. Cooter
Те, кому доводилось рассказывать теорему Коуза новичкам, виде-
ли, какой интерес и восхищение она вызывает. Однако Коуз так и не
дал формулировки этой теоремы, а когда это пытаются делать другие,
она, видимо, превращается либо в ложное высказывание, либо в тав-
тологию. Положение или положения, называемые теоремой Коуза,
были первоначально разработаны в виде серии примеров (Coase, 1960).
Коуз, подобно судье, упорно отказывался делать широкие обобщения
в своей работе. И так же, как мнение судьи, любая интерпретация его
работы имеет достаточно правдоподобную альтернативу. Вместо того
чтобы пытаться дать однозначное толкование, мы рассмотрим несколь-
ко распространенных интерпретаций теоремы Коуза и проиллюстри-
руем их одним из его примеров. Теперь, после более чем 20 лет дис-
куссий, представляется, что распространенные интерпретации исчер-
пывают смысл данной теоремы.
Центральная идея микроэкономики заключается в том, что при сво-
бодном обмене ресурсы перемещаются туда, где их использование яв-
ляется наиболее ценным. В этом случае говорят, что аллокация ресур-
сов является эффективной по Парето. Помимо права собственности на
ресурсы имеется много других прав, как, например, право на исполь-
зование определенным образом находящейся во владении земли, пра-
во быть защищенным от помех и неудобств при пользовании недви-
жимостью, право на компенсацию за нанесенный ущерб, право требо-
вать поведения в соответствии с контрактом. Можно сказать, что Коуз
распространил положения об обмене ресурсами на обмен правами.
В этой интерпретации теорема Коуза гласит, что с точки зрения эффек-
тивности не имеет значения, как первоначально распределяются права, при
условии, что можно свободно обмениваться ими. Другими словами, не-
оптимальное распределение прав будет исправлено в процессе свобод-
ного обмена.
Такая интерпретация предполагает, что, для того чтобы обеспечить
эффективность права, следует устранить препятствия для свободного
обмена правами. Законные права зачастую страдают нечеткостью, что
усложняет определение их ценности. К тому же суды не всегда склон-
ны принуждать к исполнению контрактов по продаже законных прав.
Следовательно, при интерпретации «в аспекте свободного обмена» эф-
фективность права должна обеспечиваться четким определением прав,
61
а также принуждением к исполнению частных контрактов об обмене
этими правами.
Помимо свободы обмена существуют другие условия, которые эко-
номисты обычно считают необходимыми для того, чтобы аллокация
ресурсов на рынках осуществлялась эффективно. Одно из таких усло-
вий связано с расплывчатой, но чрезвычайно важной категорией
трансакционных издержек. В узком смысле слова под трансакционны-
ми издержками подразумевают время и усилия, затрачиваемые на со-
вершение сделки. В некоторых случаях эти издержки могут быть очень
высокими, как, например, в случае, когда в сделке участвуют несколь-
ко сторон, расположенных в разных местах. Высокие трансакционные
издержки могут заблокировать функционирование рынков, которые
иначе работали бы эффективно. В широком смысле слова под трансак-
ционными издержками понимают любое использование ресурсов, тре-
бующихся для достижения и соблюдения договоренностей, в том чис-
ле затраты на получение информации, необходимой для выработки
стратегии торгов, время, потраченное на торг, а также затраты на пред-
отвращение мошенничества со стороны других участников сделки. При
интерпретации «в аспекте трансакционных издержек» теорема Коуза
гласит, что для эффективности не имеет значения, как первоначально рас-
пределяются законные права, при условии, что трансакционные издержки
обмена равны нулю.
Не связанная с издержками сделка — это не явление, встречающееся
в жизни, а лишь логическое построение, такое же, как в физике — по-
верхность, по которой можно двигаться без трения. Имея это в виду,
политическая установка, вытекающая из теоремы Коуза при интерпре-
тации «в аспекте трансакционных издержек», должна состоять в том,
чтобы посредством права минимизировать эти издержки, а не вовсе их
устранить. В соответствии с такой установкой законодатели скорее
достигнут цели, облегчая обмен законными правами, чем занимаясь их
первоначальным эффективным распределением. Юридические проце-
дуры изобилуют механизмами, направленными на то, чтобы избегать
судебных разбирательств, поощряя частные соглашения, предполага-
ющие обмен законными правами.
Интерпретация «в аспекте трансакционных издержек» сосредоточи-
вает внимание на некоторых препятствиях, мешающих обмену закон-
ными правами, в частности на стоимости ведения переговоров и при-
ведения к исполнению частных соглашений. Если ограничить смысл
термина «трансакционные издержки» разумными пределами, то ока-
жется, что помимо трансакционных издержек существуют и другие
препятствия на пути частного обмена. Теория регулирования дает бо-
лее тонкую и богатую классификацию, основанную на отклонениях от
совершенной конкуренции (Schultze, 1977). Например, монополист
может увеличить свою прибыль, поставляя на рынок меньше товара,
чем при конкуренции, и тем самым увеличивая его цену. Таким обра-
зом, монополия является видом несостоятельности рынка, который
обычно отличают от трансакционных издержек. При такой интерпре-
тации «в аспекте несостоятельности рынка» теорема Коуза гласит, что
62
для эффективности не имеет значения, как первоначально распределяют-
ся законные права, при условии, что обмен ими происходит в условиях со-
вершенно конкурентного рынка.
Такая интерпретация предполагает, что обеспечить эффективность
права можно, добиваясь существования совершенно конкурентных
рынков законных прав. Условия совершенной конкуренции включа-
ют в себя наличие большого количества покупателей и продавцов, от-
сутствие внешних эффектов, полную информированность участников
рынка о цене и качестве, а также отсутствие трансакционных издер-
жек.
Проиллюстрируем эти три интерпретации известным примером,
ставшим знаменитым благодаря Коузу. Из паровозов, сжигающих в
топках дерево и уголь, летят искры, в результате чего на полях ферме-
ров время от времени возникают пожары. Каждая из сторон может
принять меры для уменьшения наносимого пожарами вреда. Напри-
мер, фермеры могут воздерживаться от посева и складирования уро-
жая вблизи железнодорожного полотна, а железнодорожная компания
может применять искрогасители или сокращать количество поездов.
На первый взгляд, закон обусловливает заинтересованность сторон
в принятии мер предосторожности и, следовательно, определяет объем
ущерба от пожаров. Например, в имущественном праве судебный за-
прет является обычным средством судебной защиты от ущерба. Если
фермеры имеют право прекратить деятельность железной дороги до тех
пор, пока не будет решена проблема искрения, то представляется, что
ущерб от искр будет мал или его вообще не будет. И наоборот, если
железная дорога имеет право эксплуатировать поезда, не возмещая
убытки, то представляется, что будет причиняться большой ущерб.
Согласно теореме Коуза такие представления вводят в заблуждение,
ибо, в то время как закон создает изначальное распределение прав,
рынок определяет их конечное распределение. Например, если ферме-
ры имеют право налагать запрет на деятельность железной дороги, то
они могут продать это право. В частности, железнодорожная компания
может заплатить фермерам определенную сумму денег в обмен на юри-
дически оформленное обязательство не налагать запрет. И наоборот,
если железная дорога имеет право испускать искры без возмещения
ущерба, то она может продать это право. В частности, фермеры могут
заплатить компании определенную сумму денег в обмен за юридичес-
ки оформленное обязательство уменьшить искрение.
Независимо от первоначального распределения прав фермеры и
железная дорога заинтересованы в продолжении обмена правами до тех
пор, пока можно получать выигрыш от торга. Так же, как это имеет
место с обычным товаром, выигрыш от обмена законными правами
можно получать до тех пор, пока каждое из этих прав не окажется в
руках стороны, которая больше всего его ценит. Например, если, по-
ложим, фермеры имеют право не подвергаться воздействию искр, а же-
лезная дорога ценит право на искрение выше, чем фермеры ценят свое
право не подвергаться воздействию искр, то обе стороны получат вы-
году от продажи фермерами своего права железной дороге. Потенци-
63
альная выгода от обмена исчерпывается, когда права распределены
эффективно. Следовательно, если работает рынок, то равновесное рас-
пределение законных прав будет эффективным.
Каждая из трех интерпретаций теоремы Коуза дает свое описание
условий, необходимых для того, чтобы этот рынок работал. Согласно
интерпретации «в аспекте свободного обмена» равновесное распреде-
ление прав эффективно, если права четко определены и контракты на
обмен ими юридически обязательны. В данном примере условия «сво-
бодного обмена», очевидно, соблюдаются, когда фермеры имеют пра-
во налагать запрет на помехи или когда железная дорога имеет право
испускать искры без возмещения ущерба. Таким образом, согласно ин-
терпретации теоремы Коуза «в аспекте свободного обмена» для конеч-
ной эффективности неважно, имеют ли фермеры право налагать запрет
на деятельность железной дороги или железная дорога имеет право
воздействовать на среду без возмещения ущерба.
Интерпретация «в аспекте трансакционных издержек» дает иное
заключение относительно эффективности. Если фермеров много, то из-
держки заключения и юридического закрепления договора между ними
будут высокими, особенно имея в виду, что некоторые из фермеров
могут требовать большей доли вознаграждения, и поэтому неэффектив-
ность первоначального распределения прав, по-видимому, будет сохра-
няться, несмотря на возможность достижения частных соглашений.
С другой стороны, если фермеров немного, то издержки заключения
и юридического оформления договора между ними и железной доро-
гой будут низкими, и тогда, согласно теореме, равновесное распреде-
ление прав окажется эффективным.
Обращаясь к третьей версии, мы видим, что согласно интерпрета-
ции «в аспекте совершенной конкуренции», равновесное распределе-
ние прав будет эффективным, если на рынке законных прав соблюде-
ны условия совершенной конкуренции. В примере с железнодорожной
компанией и фермерами имеется только одна железная дорога, и, сле-
довательно, состояние рынка можно охарактеризовать скорее как мо-
нопольное, а не совершенно конкурентное. Кроме того, могут быть и
другие нарушения условий совершенной конкуренции. Например, фер-
меры, возможно, лучше, чем железная дорога, информированы о вре-
де, причиняемом искрами, а компания, возможно, лучше, чем ферме-
ры, информирована о технологии уменьшения искрения. С учетом этих
обстоятельств обмен законными правами между фермерами и желез-
ной дорогой будет происходить в условиях, далеких от совершенной
конкуренции, и рынок не сможет справиться с неэффективностью пер-
воначального распределения законных прав.
Безусловно, первоначальное распределение прав всегда имеет зна-
чение с точки зрения распределения дохода. Например, если эффек-
тивность требует отсутствия запретов на деятельность железной доро-
ги, то наделение фермеров правом запрета будет стимулировать желез-
ную дорогу пытаться приобрести это право. Стоимость этой покупки
является издержками для железной дороги и доходом для фермеров.
И наоборот, наделение железной дороги иммунитетом позволит ей не
64
нести расходы на приобретение права и лиши! фермеров дохода от его
продажи. Редкие права, так же, как и редкие ресурсы, имеют ценность.
ВЕРНА ЛИ ТЕОРЕМА КОУЗА? В экономической теории под «до-
казательством» понимается вывод из общепризнанных поведенческих
допущений. Как будет показано ниже, попытки сформулировать тео-
рему Коуза в любой из ее интерпретаций встречаются с трудностями,
дающими основание полагать, что она либо ложна, либо является тав-
тологией.
Наиболее слабым местом теоремы является утверждение, что права
распределяются эффективно при совершенной конкуренции. Изучая
внешние эффекты, подобные рассмотренным Коузом, Эрроу (Arrow,
1966) показал, что условия эффективности можно рассматривать как
условия равновесия на конкурентном рынке, где происходит обмен
прав на внешние эффекты. Но, как отмечали Эрроу и другие (Starrett,
1972), эта формула мало что дает для практики, так как внешние эф-
фекты по самой своей природе препятствуют формированию конкурент-
ных рынков.
Например, предположим, что загрязнять среду разрешается только
держателям перепродаваемых купонов, выпускаемых правительством.
Если наличие купона у любого лица, которому угрожает загрязнение,
препятствует его возникновению, то приобретение купона любым за-
грязняющим лицом ведет к увеличению объема загрязнения. Очевид-
но, что общественная выгода от сохранения купонов индивидом, ко-
торый может пострадать от загрязнения, превосходит его частную вы-
году, в результате чего такие держатели будут продавать слишком много
купонов. Аналогично, издержки для общества, возникающие в резуль-
тате деятельности приобретающего купоны загрязнителя, превосходят
его частные издержки, в результате чего загрязнители будут приобре-
тать слишком много купонов. Это расхождение частных и обществен-
ных издержек само по себе является внешним эффектом. Таким обра-
зом, попытка устранить внешние эффекты путем учреждения рынка
купонов, дающих право на загрязнение, ведет лишь к появлению но-
вого типа внешних эффектов (подробнее см.: Cooter, 1982). В действи-
тельности совершенно конкурентных рынков внешних эффектов, опи-
санных Коузом, не существует, и представляется, что спонтанное по-
явление их в результате частных соглашений неосуществимо. Не
исключено, что правительство может найти какой-то путь создания
псевдорынка (см., например: Groves, 1976), но на практике этого пока
не наблюдалось.
Перейдя от интерпретации теоремы Коуза «в аспекте совершенно
конкурентного рынка» к интерпретации «в аспекте трансакционных
издержек», следует заметить, что частное решение может оказаться эф-
фективным только в случае, касающемся небольшого числа сторон,
как, например, в случае переговоров между владельцами смежных уча-
стков земли, касающихся помех, создаваемых одним из них. В этом
случае, вместо того чтобы выступать в качестве «ценополучателей»
(price-takers), они ведут переговоры о цене прав, что нарушает допу-
i
65
щение о совершенной конкуренции, но, тем не менее, часто приводит
к успеху. Согласно интерпретации «в аспекте трансакционных издер-
жек» проблемы внешних эффектов, затрагивающих ограниченное чис-
ло лиц, должны находить эффективные решения.
Будучи приблизительно верным тезисом, интерпретация теоремы
Коуза «в аспекте трансакционных издержек» все же не является стро-
го истинной. Она основывается на допущении, что торг приводит к
эффективному решению в случае, если издержки переговоров и при-
нуждения к выполнению соглашений равны нулю (Regan, 1972). На
практике торг, ведущийся ограниченным числом лиц, иногда преры-
вается — бастуют профсоюзы, похитители убивают заложников,
риэлторы теряют сделки из-за разногласий вокруг цен, спорящие
стороны обращаются в суд и т.д. Основным препятствием, не имеющим
ничего общего с издержками заключения или принуждения к выпол-
нению договоров, является стратегический характер торга. По опреде-
лению ситуация торга характеризуется тем, что в результате договорен-
ности можно получить выигрыш; однако при этом не существует обу-
словленного способа распределения его между выигравшими.
Преследуя свой собственный интерес, каждая сторона будет претендо-
вать на увеличение своей доли выигрыша до тех пор, пока это не
подорвет основу договоренности. На языке экономистов это значит, что
рациональный участник переговоров настаивает на получении допол-
нительного доллара до тех пор, пока ожидаемые потери от увеличива-
ющейся в результате этого вероятности отказа от соглашения не пре-
вышают одного доллара. Если участник переговоров недооценивает
решимость оппонента, он слишком сильно настаивает на своих усло-
виях, в результате чего не удается достичь договоренности. Таким обра-
зом, ситуации торга изначально неустойчивы.
С этой точки зрения интерпретация теоремы Коуза «в аспекте
трансакционных издержек», исходящая из посылки, что при беззатрат-
ности торга всегда достигается соглашение, грешит оптимизмом. По-
лярно противоположная точка зрения, которая называется «теоремой
Гоббса» (Cooter, 1982) и исходит из посылки, что проблема распреде-
ления выигрыша может быть решена не соглашением, а только при-
нуждением, грешит пессимизмом. Реальное положение дел находится
где-то между полюсами оптимизма и пессимизма, так как стратегичес-
кое поведение лишь в некоторых, но не во всех случаях ведет к прова-
лу торгов.
Эта интерпретация теоремы Коуза ставит перед теорией и эмпири-
ческими исследованиями задачу предсказать, при каких условиях пу-
тем частных соглашений можно добиться эффективной аллокации
прав. Чтобы эта дискуссия была плодотворной, такие широкие поня-
тия, как «трансакционные издержки» и «свободный обмен», должны
уступить место основательным и подробным описаниям условий, при
которых частный торг правами достигает успеха. К счастью, в послед-
ние годы складывается более удовлетворительная теория торга, кото-
рая больше отвечает реальности. Согласно ей в определенном процен-
те случаев торг заканчивается неудачно по стратегическим причинам,
66
но в ситуации равновесия никого не удивляет частота неудач. (Ключе-
вой концепцией является байесовское равновесие по Нэшу; см.:
Harsanyi, 1968, а также Cooter and Marks, 1982.)
В экономической теории «эмпирическая проверка» означает срав-
нение прогноза с фактами. В последнее время предпринимались по-
пытки проверить теорему Коуза, например, путем определения усло-
вий, при которых торг в небольших группах приводит к эффективно-
му решению (Spitzer, 1982). Новые достижения в теории игр вместе с
соответствующими эмпирическими исследованиями обещают привес-
ти, наконец, к научному объяснению условий, при которых проблема
неэффективного распределения прав решается путем частных догово-
ренностей.
КАКОВО ЗНАЧЕНИЕ ТЕОРЕМЫ КОУЗА? Пигу использовал эко-
номическую теорию для защиты принципа общего права, согласно
которому в отношении стороны, причиняющей вред, должны приме-
няться либо запрет, либо требование оплатить убытки. Согласно Пигу,
правила общего права способствуют экономической эффективности
посредством интернализации общественных издержек. В некоторых
случаях он обнаружил пробелы в общем праве, которые требуют допол-
нительного законодательства, как, например, обложение загрязнителей
налогами, равными общественным издержкам загрязнения.
Работа Коуза по форме представляет собой аргументацию проведен-
ного Пигу анализа. Коуз не согласился с выводом о том, что для до-
стижения эффективности обычно требуются действия правительства
путем использования правовых норм о причинении вреде или налого-
обложения. Теорема Коуза предполагает, что внешние эффекты в виде
причиняемого вреда в некоторых случаях, а возможно, и как правило,
являются самокорректирующимися. Мы уже показывали, что формы
проявления несостоятельности рынка настолько разнообразны, что их
невозможно втиснуть в рамки ограниченной до разумных пределов
концепции трансакционных издержек и что, следовательно, интерпре-
тацию теоремы Коуза «в аспекте трансакционных издержек» следует
рассматривать как ложное положение или как тавтологию, истинность
которой достигается за счет расширительного толкования трансакци-
онных издержек. Несмотря на то что препятствия на пути стихийных,
частных решений проблемы внешних эффектов носят более широкий
характер, чем это следует из теоремы Коуза, взгляды современных эко-
номистов на регулирование включают одобрение такой роли правитель-
ства, которая заключается не в издании распоряжений, а в облегчении
достижения частных соглашений.
Коуз отверг утверждение Пигу о том, что в случае, когда для устра-
нения вреда требуется вмешательство правительства, при инкримини-
ровании ответственности полезно руководствоваться содержащейся в
общем праве концепцией «причинения». По мнению Коуза, из того
факта, что кто-то — согласно принципам общего права — «причинил»
вред, еще не следует, что привлечение его к ответственности или при-
менение в отношении него запрета принесет пользу. По Коузу, польза
67
должна определяться сравнением издержек и выгод и при этом роль
«причинения» обусловленности не является решающей. Положение
Коуза о том, что причинение не должно значительно влиять на уста-
новление ответственности перед законом, противоречит бесчисленным
решениям судов, и представляется, что оно оказало мало влияния на
практику и теорию права.
Каковы бы ни были достоинства аргументации Коуза, он бросил
вызов широко распространенным взглядам в области государственных
финансов. До появления его статьи мало внимания обращалось на воз-
можность решения проблемы внешних эффектов путем частных сде-
лок. Таким образом, утверждение Коуза оказалось предметом важней-
шей теоретической дискуссии. Более того, публикация статьи Коуза
явилась прорывом в создании новой дисциплины, названной «право и
экономика». До публикации статьи Коуза экономический анализ (в от-
личие от экономической мысли) мало применялся в общем праве, ко-
торое лежит в основе теории и методов права, изучаемых на юридичес-
ких факультетах. Анализируя дела из области имущественного права с
правовой позиции и в то же время используя в качестве ориентира
микроэкономику, Коуз показал плодотворность экономического ана-
лиза общего права. Несмотря на то что он не применял математичес-
кий инструментарий, который характерен для этой науки теперь, 20 лет
спустя, Коуз вдохновил поколение ученых стать первопроходцами эко-
номического анализа права.
БИБЛИОГРАФИЯ
Arrow, К. 1969. The organization of economic activity; issues pertinent to the choice
of market versus non-market allocation. In The Analysis and Evaluation of Public
Expenditure: the PPB System. US Congress. Joint Economic Committee,
Washington. DC: GPO. Reprinted in Public Expenditure and Policy Analysis, ed.
R. Haveman and J. Margolis. Chicago: Rand McNally, 1977.
Coase, R. 1960. The problem of social cost. Journal of Law and Economics 3(1),
October. 1-44.
Cooter, R. 1980. How the law circumvents Starrett’s nonconvexity. Journal of
Economic Theory 22(3), June, 145—9.
Cooter, R. 1982. The cost of Coase. Journal of Legal Studies 11(1), January, 1-34.
Cooter, R. and Marks, S. 1982. Bargaining in the shadow of the law; a testable model
of strategic behavior. Journal of Legal Studies 11(2), 225-52.
Groves, T. 1976. Information, incentives, and the internalization of production
externalities. In Theory and Measurement of Economic Externalities, ed. Steven
A.Y. Lin. London and New York; Academic Press.
Harsanyi, J.C. 1967—8. Games with incomplete information played by ‘Bayesian’
players. I—III. Management Science, Part I, 14(3), November 1967, 159-82; Part
II, 14 (5). January 1968, 320-34; Part III, 14(7), March 1968, 486-502.
Pigou, A.C. 1920. The Economics of Welfare. London: Macmillan. 4th edn, 1932; New
York: St Martin’s Press, 1952.
Regan, D. 1972. The problem of social cost revisited. Journal of Law and Economics
15 (2), October, 427-37.
68
Schultze, С. 1977. The Public Use of Private Interest. Washington, DC: Brookings.
Spitzer, M. 1982. The Coase Theorem: some experimental tests. Journal of Law and
Economics 25(1), 73—98.
Starrett, D. 1972. Fundamental non-convexities in the theory of externalities. Journal
of Economic Theory 4(2), April. 180-99.
ПАУТИНООБРАЗНАЯ МОДЕЛЬ
Питер Пашигян
Cobweb Theorem
В. Peter Pashigian
Постоянные колебания цен на отдельных рынках сельскохозяй-
ственной продукции время от времени привлекают внимание эконо-
мистов, и для объяснения их была создана паутинообразная модель.
Данная модель применяется к тем рынкам, где производство занимает
значительное время, где произведенное количество зависит от цены,
ожидаемой на момент продажи, и где предложение во время продажи
определяет действительную рыночную цену.
Одна ветвь литературы по паутинообразной модели (термин приду-
ман Калдором, 1934) концентрируется на том, как формируются ожи-
дания, и эффекте воздействия механизма ценовых ожиданий на устой-
чивость равновесия. Модель изначально была разработана для стати-
ческих ценовых ожиданий, в которых ожидаемая цена равнялась
действительной цене в последний период. Паутинообразная модель
доказала, что рыночная цена будет стремиться к (долгосрочной) рав-
новесной цене, если абсолютное значение ценовой эластичности спроса
было больше, чем ценовая эластичность предложения. В противном
случае тенденции к равновесию не наблюдается. Это условие устойчи-
вости позже было модифицировано, когда были применены более
сложные модели ожиданий. Ранние статьи Тинбергена, Риччи и Шуль-
ца появились в Германии в 1930 г. (см.: Waugh, 1964, где имеется об-
зор данной литературы). Важная статья Эзекиеля (Ezekiel, 1938) очень
детально описывает условия схождения, расхождения или постоянно-
го колебания и показывает, как циклы различных длин могут порож-
даться при статических ожиданиях.
Почему данная модель была разработана в 1930-х годах, а не ранее,
остается загадкой, поскольку о повторяющихся ценовых циклах для
некоторых сельхозпродуктов экономисты-аграрники писали и раньше.
Возможно, что паутинообразная модель привлекла экономистов в
1930-х годах в связи с событиями Великой депрессии. Теория, которая
объясняла и колебания, и долгосрочные отклонения от устойчивого
равновесия, обладала особой привлекательностью после событий Ве-
ликой депрессии. Тот факт, что доклад Эзекиеля был напечатан в 1944 г.
в книге Американской экономической ассоциации о бизнес-циклах,
подтверждает эту гипотезу.
Работы Эзекиеля и последующих авторов убедили, что паутинооб-
разная модель — это ценный инструмент для объяснения ценовых цик-
70
лов. Эзекиель отдавал себе отчет в примитивности статических ожида-
ний и помнил о важности шоков спроса и предложения, порождающих
отклоняющиеся от нормы ценовые колебания (например, погоды и не-
предсказуемости урожая). Но даже в таком виде экономисты-аграрни-
ки, которые были, вероятно, более знакомы с колебаниями цен на сель-
скохозяйственных рынках, с большей готовностью признавали данную
теорию, тогда как у теоретиков она находила более неоднозначный при-
ем.
Механизм ценовых ожиданий претерпел с течением времени мно-
го усовершенствований. В 1958 г. Нерлав предложил использовать адап-
тивные ожидания. Это предложение возникло в результате экономет-
рических исследований, которые показали, что ценовая эластичность
спроса меньше, чем ценовая эластичность предложения, для многих
сельскохозяйственных продуктов. При этих условиях версия статичес-
ких ожиданий паутинообразной модели предсказывает ценовой цикл
возрастающей амплитуды. Тем не менее, наблюдаемые ценовые цик-
лы на сельскохозяйственных рынках никак не напоминали взрывные.
Нерлав попытался привести теорию в соответствие с фактами и пока-
зать, что достижение равновесия возможно при более широком набо-
ре условий, если ожидания являются адаптивными. В течение 1930-х го-
дов привлекательность паутинообразной модели, казалось, объяснялась
ее способностью раскрыть устойчивые или даже взрывные ценовые
циклы. К концу 1950-х годов данные характерные черты уже не были
привлекательными, и Нерлав чувствовал, что нужно предложить объяс-
нение того, почему ценовые циклы увеличивающейся амплитуды не на-
блюдаются, даже когда эластичность спроса меньше эластичности пред-
ложения. Во (Waugh, 1964) пошел другим путем и попытался согласо-
вать теорию с наблюдаемыми устойчивыми ценовыми циклами,
предположив, что ценовая эластичность предложения становится мень-
ше (больше), чем ценовая эластичность спроса, при ценах, которые зна-
чительно выше (ниже) долгосрочной равновесной цены. При таком
допущении в конце концов достигается цикл, ведущий к восстановле-
нию равновесия.
Длина паутинообразного ценового цикла определяется продолжи-
тельностью процесса производства. Если на доведение до рынка бекон-
ной свиньи нужен год, то полный ценовой цикл должен быть два года.
Сначала объяснению того, почему прогнозированная длина часто ко-
роче, чем действительная длина ценового цикла, уделялось мало вни-
мания и этому давались неглубокие объяснения. Критики же продол-
жали указывать на эти несоответствия.
Критики породили другое направление литературы о паутинообраз-
ной модели. Их работы появились рано, но поначалу не имели боль-
шого влияния, хотя в конце концов получили признание. Критики под-
вергли сомнению рациональность использования произвольно введен-
ного механизма ожиданий применительно к максимизирующим
прибыль агентам и указали, что данная теория подразумевает, что, если
производители входят и остаются в отрасли с паутинообразным цено-
вым циклом, это означает, что они с самого начала ожидают потерпеть
71
убытки. В проницательной статье о цикле выращивания свиней в Ан-
глии Коуз и Фаулер (Coase and Fowler, 1935) подвергли сомнению реа-
лизм статических ожиданий. Они показали, что цена беконной (зре-
лой) свиньи за вычетом стоимости кормления в течение следующих
пяти месяцев и меньше стоимости откармливаемой на убой (молодой)
свиньи, которая должна быть стабильной на конкурентном рынке, если
у фермеров имеются статические ожидания, колеблется с течением вре-
мени. Следовательно, эмпирические наблюдения противоречили пред-
положению о статических ожиданиях. Они свидетельствовали о том, что
свиноводы быстро реагировали на изменения в ожидаемых прибылях,
а это говорило о том, что ценовой цикл свиней должен быть только два
года вместо фактически наблюдаемого четырехлетнего периода. Коле-
бания в удельных прибылях в расчете на одну свинью приписывались
сложности предсказания спроса и импорта. Работа Коуза — Фаулера
приблизилась, пусть ненамного, к сути гипотезы рациональных ожи-
даний, которая процветала примерно 35 лет после этого. Она навела на
мысль, что ожидаемые цены не формируются механическим путем, по-
скольку прибыли были бы выше, если бы прогнозы были более точ-
ными. Ошибки в прогнозах объяснялись сложностью предсказания
сдвигов спроса и поставок из-за рубежа.
Бьюкенен (Buchanan, 1939) критиковал паутинообразную модель,
поскольку она подразумевала, что производители несут совокупные по-
тери на протяжении ценового цикла, когда объем производства опре-
деляется кривой долгосрочного предложения. Он указал, что данная
теория базировалась на сомнительном предположении о том, что
предприниматели продолжают производить перед лицом неизбежной
потери их капитала. Критиков также беспокоила неясность относитель-
но того, является ли кривая предложения краткосрочной или долго-
срочной, и неспособность сторонников модели уточнить, как произ-
водится переход от краткосрочной к долгосрочной кривой предложе-
ния. Несмотря на подобные критику и неясности, паутинообразная
модель продолжала упоминаться в учебниках.
Статья Нерлава (Nerlove, 1958) снова разожгла дискуссию. Ее целью
было воскресить данную модель и показать, что она могла объяснить
динамику цен, если бы использовались адаптивные ожидания. Миллз
(Mills, 1961) критиковал использование механизмов адаптивных и дру-
гих авторегрессионных ожиданий в детерминированной модели, по-
скольку они подразумевали простую схему ошибок прогноза, которую
производители могли обнаружить, включить в свои прогнозы и тем
самым повысить точность своих ценовых прогнозов. И хотя предложе-
ние Нерлава действительно устранило одно ограничение паутинообраз-
ной модели, оно не затронуло важный вопрос, почему производители
полагались на какой-либо конкретный прогнозный механизм. Мут
(Muth, 1961) разработал условия рациональных ожиданий для паути-
нообразной модели в своей теперь знаменитой работе. Он постулиро-
вал, что ожидания были предсказаниями экономической структуры
рынка, использовали всю имеющуюся в наличии информацию. При
определенных условиях прогнозная цена равнялась условному матема-
72
тическому ожиданию цены при наличной в текущий момент инфор-
мации. Адаптивные ожидания могут быть рациональными только при
специальных условиях, а коэффициент адаптации определяется значе-
ниями наклона кривых спроса и предложения.
Гипотеза рациональных ожиданий имеет серьезное значение для
паутинообразной модели. Если ценовые прогнозы используют доступ-
ную информацию и в среднем правильны, то ошибки в прогнозе не
будут серийно коррелированными и пример прошлых прогнозных оши-
бок нельзя использовать для повышения точности прогнозов. Более
того, что тогда остается от предполагаемой способности паутинообраз-
ной модели объяснять циклическую динамику цен? Ценовые колеба-
ния нужно будет объяснять либо циклическим движением экзогенных
переменных, либо суммированием случайных шоков (Slutsky, 1937).
Работа Мута представляет собой фронтальное наступление на тради-
ционную паутинообразную модель. Он замечает, что традиционная мо-
дель стремится предсказать более короткий ценовой цикл, чем тот, ко-
торый наблюдается, и указывает, что гипотеза рациональных ожиданий
прогнозирует более длинный ценовой цикл.
Интерес к паутинообразной модели в последние годы ослаб, и в
главных экономических журналах мало статей о ней. Экономисты на-
шли, что более плодотворно применять к таким сферам, как денежная
теория или теория экономических циклов, гипотезу рациональных ожи-
даний, чем к конкретным рынкам, даже если анализ рынков, на
которых существуют товарные запасы, порождает вопросы, которые не
менее сложны и непонятны. Вопрос о том, объясняет или нет модель
ценовые циклы, еще в действительности не решен. Фримен (Freeman,
1971) заявил, что традиционная паутинообразная модель объясняет
циклы на рынках труда юристов, врачей и инженеров. Проверки ги-
потезы рациональных ожиданий были представлены Пашигяном
(Pashigian, 1970), когда данные об ожиданиях доступны, и Хоффманом
и Шмидтом (Hoffman and Schmidt, 1981), когда данные об ожиданиях
недоступны. Таким образом, методология сравнения конкурирующих
гипотез существует. На рынках, где применяются допущения паутино-
образной модели, проводилось мало эконометрических тестов гипоте-
зы рациональных ожиданий. Фундаментальным вопросом, что лучше
объясняет наблюдаемые ценовые циклы: систематические ошибки в це-
новых прогнозах или совокупное воздействие непредсказуемых шоков,
еще всерьез не занимались.
БИБЛИОГРАФИЯ
Buchanan, N. 1939. A reconsideration of the cobweb theorem. Journal of Political
Economy 47, February, 67—81.
Coase, R.H. and Fowler, R.F. 1935. Bacon production and the pig-cycle in Great
Britain. Economica 2, May, 142-67.
Ezekiel, M. 1938. The cobweb theorem. Quarterly Journal of Economics 52, February,
255-80.
73
Freeman R.B. 1971. The Market for College-Trained Manpower. Cambridge, Mass.:
Harvard University Press.
Hoffman, D.L. and Schmidt, P. 1981. Testing the restrictions implied by the rational
expectations hypothesis. Journal of Econometrics 15(2), February, 265—87.
Kaldor, N. 1934. A classificatory note on the determinateness of equilibrium. Review
of Economic Studies 1, February, 122—36.
Mills, E.S. 1961. The use of adaptive expectations in stability analysis: comment.
Quarterly Journal of Economics 75, May, 330—35.
Muth, J.F. 1961 Rational expectations and the theory of price movements.
Econometrica 29, July, 315-35.
Nerlove, M. 1958. Adaptive expectations and cobweb phenomena. Quarterly Journal
of Economics 72, May, 227-40.
Pashigian, B.P. 1970 Rational expectations and the cobweb theory. Journal of Political
Economy 78(2), March-April, 338—52.
Slutsky, E.S. 1937. The summation of random causes as the source of cyclical processes.
Econometrica 5, April, 105-46.
Waugh, F.V. 1964. Cobweb models. Journal of Farm Economics 46, November, 732—50.
УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ
В УПРАВЛЕНИИ И ПРИБЫЛЯХ
Д.М. Нути
Codetermination and Profit-sharing
D.M. Nuti
Договор найма, используемый капиталистическими фирмами, обыч-
но содержит три основных пункта: в нем оговариваются фиксирован-
ная ставка заработной платы за единицу времени, подчинение работ-
ников на рабочем месте работодателю и краткосрочный характер най-
ма. Иногда встречаются явные или неявные отклонения от этого
стандарта; они являются результатом индивидуального или коллектив-
ного торга на рынке труда, в ходе которого выигрыши и проигрыши
для каждой стороны уравновешиваются либо непосредственно, либо
через соответствующие изменения других параметров трудового дого-
вора. Законодательство и экономическая политика государства могут
налагать определенные ограничения на величину некоторых из этих
параметров или условий или непосредственно фиксировать их значе-
ния; рынок, действуя внутри этих заданных пределов, определяет все
остальное.
Долгосрочный наем, т.е. опцион наемного работника на длитель-
ную занятость, подобно всем опционам, имеет ценность (для наемно-
го работника) и связан с издержками (для работодателя), которые ком-
пенсируются более низкой зарплатой работника, чем по краткосроч-
ным договорам найма. Включение в договор условий об автоматической
частичной и запаздывающей индексации номинальной заработной пла-
ты по индексу потребительских цен в промежутке между двумя по-
следовательными раундами переговоров о заработной плате выгодно
работникам, когда темпы инфляции замедляются, и работодателям,
когда инфляция ускоряется. Система сдельной оплаты труда, т.е. опла-
ты, размер которой зависит от индивидуальной производительности, дает
работникам краткосрочную премию (или производит вычет) за то, что
они приложили в истекшем периоде больше (или меньше) усилий, чем
это предусматривалось бы договором о повременной ставке, а также
автоматически гарантирует им часть выигрыша от роста производитель-
ности труда, так как с опытом работы растет и сноровка, хотя этот
внешний эффект может быть сведен на нет в ходе очередного пересмот-
ра ставок оплаты работника. Работодатели при сдельной оплате эконо-
мят на издержках по найму, на линейном контроле и на контроле за
соблюдением договорных обязательств (работники и сами заинтересо-
ваны работать с высокой отдачей), а теряют на том, что при росте вы-
75
работки им приходится больше платить рабочим; впрочем, при очеред-
ном пересмотре ставок сдельной оплаты они могут с лихвой компен-
сировать эти потери и установить эти ставки на таком уровне, что это
заставит рабочих трудиться еще более прилежно и еще быстрее нара-
щивать свою производительность. При этом выбор, который делается
в результате игры рыночных сил, испытывает прямое или косвенное
влияние государственной политики, направленной на достижение та-
ких целей, как справедливое распределение, занятость, стабильность
цен, эффективность и экономический рост.
Сочетание частных интересов и государственной политики опреде-
ляет и степень участия рабочих в принятии решений предприятием
(участие в управлении), и их участие в результатах деятельности пред-
приятия (участие в прибылях) (библиографический обзор см.: Bartlett
and Uvalic, 1985).
УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ. Участие работников в управлении
кооперативным предприятием фактически достигает уровня полного
предпринимательства, которое реализуется через участие в общих со-
браниях, выборах руководящих органов и участие в назначении дирек-
тора или менеджера. На предприятиях других организационно-право-
вых форм участие работников в управлении реализуется через доступ
к информации и право на получение консультации, участие в выработ-
ке решений по вопросам условий труда и его организации и по внут-
рифирменным социальным вопросам через рабочие советы или иные
аналогичные органы, вплоть до участия на правах меньшинства (или
даже на паритетных началах) в работе совета директоров акционерной
компании и в выборе его членов (см.: Nutzinger, 1983) (это описывает-
ся немецким термином Mitbestimmung). Последнее дает возможность
непосредственно влиять на решения по трудовым отношениям, по
объему и структуре инвестиций и по другим важнейшим вопросам,
особенно если среди других членов совета директоров нет единства.
Участие работников в управлении фирмой приводит к следующим
последствиям.
1. Поскольку при решении вопросов, связанных с разделением труда
и его организацией, учитывается мнение работников, возникает реаль-
ная возможность уменьшить «тягость» труда, поскольку руководство
фирм часто не учитывает предпочтения работников относительно ис-
пользования их труда или ориентируется на потребности «гипотетичес-
кого», «усредненного» работника; если количество предприятий в от-
расли недостаточно велико, рабочий контроль необходим для умень-
шения «тягости» труда и чувства «отчуждения». Что же касается
влияния рабочего контроля на производительность труда, то ничего
определенного о знаке этой зависимости сказать нельзя (Pagano, 1984).
2. Предоставление работникам полной и достоверной информации,
возможности участвовать в выработке решений способствует тому, что
они начинают частично идентифицировать себя со своим предприяти-
ем и, самое главное, начинают больше задумываться о его будущем,
понимая, что оно зависит от их собственных решений. Все это способ-
76
ствует сокращению количества трудовых конфликтов и снижению их
остроты; в частности, рабочие с большей вероятностью согласятся при-
нять непопулярные решения администрации (Aoki, 1984; Cable, 1984;
Fitzroy and Mueller, 1984). Конечно, нужно учитывать и то, что хотя
после введения участия в управлении гасить трудовые конфликты ста-
новится легче, но со временем эти конфликты могут разгореться вновь
(Furobotn, 1985); кроме того, сохраняется основное противоречие между
работниками, имеющими работу, и безработными, которое может даже
обостриться в случае принятия фирмой мер по защите занятости.
Совершенно ясно, что те, кто уже имеет работу и может влиять на
принимаемые руководством решения через механизм участия в управ-
лении, будут поддерживать подобные решения своего руководства.
3. Укрепляется соответствие между правами и обязанностями работ-
ников, так как участие в управлении — это обратная сторона тех рис-
ков, которым работники подвергаются вместе с предприятием. По-
скольку рабочие в отличие от капиталистов не могут диверсифициро-
вать риски, продавая услуги труда одновременно нескольким
предприятиям, они подвергаются риску безработицы и риску потери
дохода. Именно это заставляет их выдвигать требование об участии в
управлении — требование, с которым работодатель до поры до време-
ни может согласиться, предпочтя допустить рабочих до участия в управ-
лении вместо того, чтобы повышать им зарплату или гарантировать
долговременную занятость.
УЧАСТИЕ В ПРИБЫЛЯХ. В докапиталистических системах учас-
тие работников в результатах деятельности предприятия принимало
такие ныне редко используемые формы, как издольная система в сель-
ском хозяйстве или применение скользящей шкалы заработной платы,
когда зарплата фиксируется в единицах продукции самого предприя-
тия и ее денежное выражение пересчитывается в зависимости от теку-
щей цены этой продукции (индексация зарплаты по цене продукции),
как это делалось, например, на английских угольных шахтах. В усло-
виях современного капитализма такое участие — его называют обычно
«участие в прибылях» (profit sharing) — может принимать разные фор-
мы, например участие в чистых доходах кооперативов, премии по ре-
зультатам работы цеха или всего предприятия, участие в валовом или
чистом доходе или прибылях, опционы на приобретение акций, учас-
тие в инвестиционных фондах, повышение зарплаты в зависимости от
роста производительности труда.
Участие в прибыли приводит к следующим последствиям.
1. Обычно в результате введения участия в прибыли происходит рост
производительности труда. И дело здесь не в том, что рабочие начина-
ют прилагать больше усилий, надеясь получить какую-то выгоду от
прироста индивидуальных усилий (как это происходит при сдельной
оплате), — ведь если на предприятии занято п рабочих и кто-то из них
стал работать лучше, этот кто-то получит лишь 1/л часть продукта своих
собственных дополнительных усилий (Samuelson, 1977). Напротив,
у каждого конкретного рабочего может скорее возникнуть желание при-
77
кладывать меньше усилий, поскольку проигрыш каждого работника от
снижения его собственных усилий составит лишь 1/п часть этого сни-
жения. Но прирост производительности труда в этом случае все же
обычно происходит, причем без особых затрат со стороны самих работ-
ников — просто за счет разумного и эффективного использования уров-
ня данных индивидуальных усилий, за счет более тесной кооперации
с другими работниками и руководством и взаимного контроля за уров-
нем индивидуальных усилий, эффективности и кооперации (Reich and
Devine, 1981; Fitzroy and Kraft, 1985).
2. Циклическая гибкость трудовых доходов обеспечивает большую
стабильность уровня прибыли и ее нормы. Сохранить уровень занято-
сти на предприятии постоянным в ходе цикла за счет одной только
цикличности трудовых доходов не удастся, поскольку предельные тру-
довые издержки для предприятия, т.е. фиксированный компонент
оплаты труда, не изменяются автоматически в ходе цикла, меняется
только та часть заработка, которая связана с участием в прибылях. Ра-
ботники, которые, как правило, характеризуются неприятием риска,
обычно предпочитают получать гарантированную зарплату, а не мень-
шую зарплату плюс участие в прибылях, даже если эта сумма в сред-
нем дает им столько же, сколько фиксированная зарплата. Что же ка-
сается работодателей, которые, наоборот, обычно склонны к риску, то
большая устойчивость нормы прибыли может их устраивать, а может
и не устраивать в зависимости от того, насколько каждый конкретный
предприниматель склонен к риску и насколько высоки альтернативные
издержки снижения риска за счет диверсификации. Работодатель мо-
жет пойти и на то, чтобы средние заработки, основанные на формуле
участия в прибылях, были выше, чем взаимовыгодная фиксированная
зарплата. Вследствие всего этого практика участия в прибылях распро-
странена главным образом среди венчурных предприятий, т.е. предпри-
ятий с высоким уровнем риска, поскольку, если предприятие не свя-
зано с высоким уровнем риска, участие рабочих в прибылях было бы
ему выгодно только во время экономического спада (причем работни-
ки согласились бы пойти на такое участие только в качестве альтерна-
тивы снижению зарплаты на постоянной основе), а рабочим — только
во времена экономического подъема (причем фирмы согласились бы
пойти на такое участие только в качестве альтернативы повышению
зарплаты на постоянной основе).
3. При участии в прибылях уровень занятости при данном уровне
заработка обычно оказывается выше, чем при гарантированной зар-
плате; причина этого заключается в том, что при участии рабочих в при-
былях предельные издержки предприятия на оплату труда оказывают-
ся ниже, чем при гарантированной зарплате. Ванек (Vanek, 1965)
утверждает, что более высокий уровень занятости приводит, в свою оче-
редь, к более высокому уровню совокупного дохода, более низким
ценам (за счет более высокого объема производства), увеличению объ-
ема экспорта и замещению импорта продукцией внутреннего производ-
ства (как это скажется на платежном балансе, заранее сказать нельзя —
все будет зависеть от эластичностей спроса по ценам и доходам), бо-
ге
лее низкой прибыли после выплаты налогов и доли, причитающейся
рабочим, и более высокой доле трудовых доходов в национальном до-
ходе.
Заново открывая сформулированные Ванеком макроэкономические
преимущества от участия в прибылях (но не влияние, которое оказы-
вает участие в прибылях на чистую прибыль и на распределение наци-
онального дохода), Вайцман (Weitzman, 1983, 1984) утверждает, что
фирмы не учитывают этих преимуществ, и это вызывает необходимость
государственного регулирования, как и в ситуациях производства «об-
щественных благ», «внешних эффектов» и других «провалов рынка».
Действительно, у фирмы нет никаких оснований возражать против
некоторого повышения заработков рабочих в форме участия в прибы-
лях вместо эквивалентной фиксированной надбавки, если только это
повышение не является принудительной страховкой от колебаний при-
были. Аналогично и у рабочих нет причин — по крайней мере, на уров-
не общенационального торга — не учитывать преимуществ потенци-
ально более высокой занятости и стабильности цен, которые сулит уча-
стие в прибылях, хотя с ним и связаны большие колебания их
заработков в период между заключением трудовых договоров, причи-
нами которых могут служить как экономический цикл, так и случай-
ные факторы, влияющие на то, как идут дела у фирмы.
На самом деле, вопреки мнению Вайцмана, участие в прибыли не
является однозначно предпочтительным вариантом по сравнению с
гарантированной зарплатой. Для рабочих переход к участию в прибы-
ли означает, что вместо первоначального распределения вероятностей
уровней занятости при фиксированном и гарантированном доходе они
получат новое распределение с более высоким средним уровнем заня-
тости (из-за снижения предельных издержек на оплату труда), но с не
меньшими циклическими колебаниями. Что же касается оплаты тру-
да, она становится более колеблющейся (испытывает влияние цикла и
специфических изменений, происходящих с данной фирмой), хотя
средний (реальный) уровень ее растет. Для фирм участие в прибылях
снижает дисперсию нормы прибыли вокруг того же среднего значения
(или меньшего среднего значения, если работники защищены от фак-
тических потерь; влияние на реальную норму прибыли зависит от пра-
вил подсчета и выбора индекса цен). Чтобы обеспечить более высокую
занятость и стабильность цен, государство может предусмотреть льго-
ты по налогу на прибыль для тех фирм, где наемные работники участ-
вуют в прибыли, однако ровно с тем же успехом оно может и субсиди-
ровать предельные издержки на оплату труда для тех предприятий,
которые платят своим работникам твердую зарплату. За исключением
вышеперечисленных соображений, никаких иных оснований навязы-
вать работникам и фирмам практику участия в прибылях, если они того
сами не хотят, нет. Ниже мы будем говорить об этом подробнее
(см. также: Nuti, 1985 и 1986).
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ УЧАСТИЕМ В УПРАВЛЕ-
НИИ И УЧАСТИЕМ В ПРИБЫЛИ. Результаты участия в управлении
79
и участия в прибыли связаны между собой. Рост производительности
вследствие участия в прибыли может усилиться, если работники смо-
гут коллективно решать, как им лучше организовать свой труд; и на-
оборот, снижение производительности в результате рабочего контроля
над организацией труда можно затормозить, введя участие в прибыли.
Присущее системе участия в прибыли усиление перепадов в заработ-
ках на разных фазах цикла и на разных предприятиях делает аргумен-
ты в пользу участия работников в управлении, которые при твердой
заработной плате вытекают из подверженности рабочих риску безра-
ботицы, еще более весомыми. При этом премия за риск, введения ко-
торой требуют не склонные к риску рабочие в качестве условия заме-
ны части фиксированного заработка участием в прибыли, может быть
уменьшена в случае привлечения рабочих к принятию решений о пе-
реходе к участию в прибыли. Снижение частоты и остроты конфлик-
тов, возникающее вследствие участия рабочих в управлении, благода-
ря их участию в прибыли становится еще более явным, поскольку в
результате такого участия для каждого рабочего частично интернали-
зируется противоречие между «нами» и «ними», которое иначе бы про-
являлось в качестве внешнего; во всяком случае, условием эффектив-
ности любой системы стимулирования является требование о том, что
права не должны быть отделены от обязанностей.
Количественное измерение степени «участия в управлении», а так-
же, хотя и в меньшей степени, «участия в прибылях» поднимает ряд
теоретических и практических проблем (впрочем, см.: Cable, 1984). Во-
обще говоря, между этими двумя явлениями существует определенная
корреляция: на чисто капиталистических предприятиях и участие ра-
бочих в управлении, и участие в прибыли равны нулю, а в кооперати-
вах и на предприятиях, где реализованы иные формы партнерства меж-
ду трудом и капиталом, они равны единице; незначительной степени
участия в управлении обычно сопутствует незначительная степень уча-
стия в прибыли, и наоборот; высокая степень одного из этих показа-
телей без другого практически не наблюдается.
Сочетание 100%-го участия в управлении (рабочего самоуправления)
и 100%-го участия в прибыли (распределение чистой выручки), кото-
рое имеет место в кооперативах, в традиционной литературе считается
случаем, в котором господствуют, так сказать, «извращенные» эконо-
мические стимулы. Имеются в виду главным образом политика огра-
ничения занятости (только членами кооператива), дестабилизирующие
и неэффективные по Парето (или в лучшем случае — неэластичные)
реакции на изменение цен и технический прогресс, низкая склонность
к финансированию инвестиций за собственный счет (Ward, 1958;
Vanek, 1970). Эмпирические исследования кооперативных фирм не
дают бесспорных доказательств существования всех этих явлений —
возможно, все дело в том, что эти явления частично гасятся другими
экономическими и неэкономическими стимулами (гарантированная
занятость, стремление к росту и т.д.); но можно предположить, что все
эти тенденции, особенно политика ограничения занятости, пусть в
слабой форме, связаны с участием работников в управлении. Можно
80
также предположить, что желание работников требовать участия в
управлении и возможность добиваться выполнения этого требования,
как и в случае других требований, возрастают по мере снижения без-
работицы. Таким образом, тот прирост занятости, который дает систе-
ма участия в прибыли, будет, возможно, частично погашаться полити-
кой ограничения занятости, связанной с участием в управлении, ко-
торое, в свою очередь, является следствием участия в прибыли и
приближением к полной занятости. Эмпирические исследования по-
следних лет говорят об умеренном, но вполне ощутимом улучшении
экономических показателей при введении участия рабочих в
управлении и прибыли на конкретных предприятиях (Cable and Fitzroy,
1980; Estrin at al., 1984), но возможно, что определенные издержки этого
участия остались незамеченными, — во всяком случае, никаких общих
выводов относительно закономерности улучшений сделать нельзя.
РЫНКИ И ПОЛИТИКА. Та или иная степень участия в управле-
нии и прибыли может быть желательной по чисто «политическим»
причинам (в отличие от «чисто технических» причин) — потому, на-
пример, что они способствуют достижению справедливости и социаль-
ного мира. Вполне возможно также, что участие в управлении и при-
были является наилучшим политическим инструментом для достиже-
ния таких общественных целей, как стабильность, занятость и
экономический рост, поскольку требует минимальных затрат со сторо-
ны государства и позволяет обеспечить оптимальный компромисс меж-
ду альтернативными целями. Но что касается всего остального, то, если
бы это было действительно выгодно и акционерам, и наемным работ-
никам, не нужно было бы никаких законов, чтобы заставить фирмы
провести реорганизацию и ввести у себя такое участие. Дженсен и
Меклинг (Jensen and Meckling, 1979, р. 474) утверждают это по поводу
участия в управлении, но то же самое можно повторить и применитель-
но к участию в прибыли. Тем не менее, в последних работах Вайцмана
(Weitzman, 1983, 1984, 1985а, 1985b, 1986) вновь раздаются настоятель-
ные призывы к государственному вмешательству ради насаждения уча-
стия в прибыли, но без участия в управлении. Это предложение было с
энтузиазмом воспринято в некоторых научных и политических кругах,
и было расценено в специальной литературе как крупное научное до-
стижение.
Новую волну интереса к участию в прибыли вызвали два смелых
тезиса Вайцмана. Первый заключается в том, что долгосрочное равно-
весие в условиях полной занятости при участии в прибыли связано с
постоянным, но неинфляционным избыточным спросом на труд, ко-
торый ограждает экономику от шоков сжатия и придает труду новые
достоинство и статус. Прибегая к языку рекламных агентов, сам он
формулирует это так:
«Системаучастия имеет одно крутое (hard-boiled) свойство — ей при-
сущ избыточный спрос на труд, который становится грозным естест-
венным врагом стагнации и инфляции. Экономика участия вооружена
трезубцем, направленным против безработицы, стагнации производ-
81
ства и роста цен. Такую комбинацию трудно превзойти» (Weitzman,
1984, р 144).
Второй тезис заключается в том, что даже в краткосрочном аспекте
экономика участия может достичь состояния полной занятости и со-
храняться в этом состоянии длительное время:
«Система участия... обладает сильным встроенным механизмом, кото-
рый автоматически стабилизирует экономику в состоянии полной за-
нятости еще до того, как долгосрочные тенденции успеют утвердить-
ся... экономика участия обладает мощной силой прямого воздействия,
и сила эта — избыточный спрос на труд... толкающий экономику к пол-
ной занятости... мощь системы участия будет поддерживать полную
занятость» (Weitzman, 1984, р. 97).
Если бы эти тезисы были хорошо обоснованы, то просвещенному,
познавшему эти истины правительству следовало бы навязать систему
участия в прибыли до сих пор не обращенной в новую веру публике,
одним ударом достигнув полной занятости, стабильности цен и эко-
номического роста. Но, к сожалению, в эти чудеса верят только те, кто
плохо информирован, и те, кто хочет верить, — они не выдерживают
беспристрастной проверки. Во-первых, избыточный спрос на труд при
полной занятости может быть лишь временным неравновесным явле-
нием. Во-вторых, постоянный избыточный спрос на труд предполага-
ет участие в управлении, которое, в свою очередь, поведет к тому, что
будет принята политика ограничения занятости. В-третьих, самое важ-
ное соображение — нет гарантий, что обязательно будет достигнута
полная занятость. С учетом этих соображений провозглашаемые Вайц-
маном достоинства контрактов об участии в прибыли, придающие им
свойства «общественного блага», исчезают.
ИЗБЫТОЧНЫЙ СПРОС НА ТРУД В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ ЗАНЯ-
ТОСТИ. Предположим, что экономика, в которой господствует система
участия в прибыли, достигает состояния полной занятости. Вайцман
(Weitzman, 1983) обосновывает наличие устойчивого избыточного спроса
на труд в состоянии долгосрочного равновесия следующим образом:
Суммарная оплата труда = Стоимость предельного
продукта труда при полной занятости, (1)
поскольку долгосрочное равновесие предполагает полную занятость,
а также гомоморфизм участия в прибылях и системы гарантированной
зарплаты. По определению участия в прибыли:
Суммарная оплата труда = Фиксированная заработная плата +
+ Доля участия в чистых прибылях, (2)
где фиксированная заработная плата больше или равна нулю, а доля
участия в чистой прибыли больше нуля. Из (1) и (2) следует, что
Стоимость предельного продукта труда при полной
занятости > Фиксированная заработная плата =
= Предельные издержки на оплату труда для предприятий. (3)
82
f
В этом случае фирмы будут стремиться нанять больше рабочих, чем
есть в наличии. Будет существовать постоянный избыточный спрос на
рабочую силу, который будет защищать полную занятость от шока эко-
номического спада. Полная занятость будет сохраняться постоянно,
если только спад не снизит стоимость предельного продукта труда при
полной занятости ниже фиксированной заработной платы, и в этом
случае сохранение избыточной занятости потребует сокращения фик-
сированной части оплаты труда, но общий заработок сократится не
настолько, насколько это было бы необходимо в режиме фиксирован-
ной заработной платы.
Есть три довода против этого силлогизма. Во-первых, все предпри-
ятия должны прекрасно понимать, что, какой бы ни была их формула
оплаты труда, привлечь к себе работников они могут лишь в том слу-
чае, если будут платить им в общей сложности не хуже других, поэто-
му и предельными издержками на оплату труда они должны считать не
фиксированный элемент зарплаты, а именно эту общую сумму оплаты
труда. Если предприятия действуют так, как и должны действовать,
всякий избыточный спрос на труд исчезает.
Во-вторых, если даже фирмы считают, что предельными издержка-
ми на оплату труда является именно фиксированный элемент заработ-
ка, сам факт того, что эти предельные издержки ниже, чем стоимость
предельного продукта труда, должен был бы их насторожить и они, ско-
рее всего, попытались бы поэкспериментировать с альтернативными
комбинациями параметров заработка, не поднимая общую оплату выше
производительности труда. Поскольку не склонные к риску работни-
ки предпочитают получать фиксированную заработную плату, а не в
среднем такой же переменный заработок, то нейтрально относящиеся
к риску или даже склонные к риску работодатели будут снижать свои
издержки на труд, увеличивая фиксированный элемент оплаты труда
за счет сокращения доли работников в прибыли. Впрочем, даже если
не принимать во внимание отношение к риску, можно с достаточной
уверенностью предположить, что менеджеры будут экспериментировать
с разными параметрами заработка и не успокоятся до тех пор, пока
предельные издержки на оплату труда для предприятия не совпадут с
его предельной отдачей т.е.
Стоимость предельного продукта труда при полной
занятости = Фиксированная заработная плата, (3')
а данное равенство не противоречит определению (2) договора об уча-
стии в прибыли только в том случае, если участие работников в чис-
той прибыли равно нулю. В таком случае исчезает экономика участия
и все возвращается к режиму фиксированной заработной платы, при
которой никакого избыточного спроса на рабочую силу, как известно,
нет.
В-третьих, как только рабочие заметят, что на их труд имеется из-
быточный спрос, они либо станут работать меньше, либо уволятся и
Пойдут работать туда, где платят больше, — во всяком случае, именно
так обстояло дело в тех странах, где только и имелся постоянный из-
83
быточный спрос на труд, — в странах с экономикой «советского» типа
(см.: Lane, 1985). При этом они будут стремиться достичь такого уров-
ня, при котором их предельный продукт равнялся бы фиксированной
оплате, или, по крайней мере, приблизиться к этому уровню настоль-
ко, насколько им позволят бригадиры и система контроля вообще.
Таков еще один механизм сокращения и устранения избыточного спро-
са на рабочую силу, если таковой возникнет.
УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ И ЗАНЯТОСТЬ. Прямой и явной
предпосылкой утверждений Вайцмана является то, что, участвуя в при-
были, рабочие не участвуют в управлении (это предпосылка именно
Вайцмана, а не Ванека, который не обещает ни полной, ни избыточ-
ной занятости и потому не нуждается в подобном ограничении)*. Из-
вестно, что при хронической безработице существует возможность не
допускать рабочих к управлению предприятием; при полной занятос-
ти сделать это было бы сложно, а при избыточном спросе на труд —
еще сложнее. В условиях же хронически избыточного спроса на труд,
о котором говорит Вайцман, неучастие работников в управлении —
причем управлении любом, как связанном с занятостью, так и нет, —
было бы невозможно без введения авторитарного или военного режи-
ма. И это не вопрос этики или права, это вопрос именно «практичес-
кой политики».
Как только рабочие получат право голоса при решении вопросов,
связанных с объемом производства, занятостью и ценами, а также дру-
гих смежных вопросов (инвестиции, новые технологии и пр.), они бу-
дут стараться противостоять самой возможности «разводнения» своей
доли точно так же, как держатели акций противятся разводнению ак-
ционерного капитала; плохо ли это, хорошо ли, но при прочих равных
условиях они будут стремиться ограничивать занятость ради повыше-
ния или сохранения личных доходов, хотя эта цель, возможно, непра-
вильная и сделает им только хуже. Это не аргумент против участия в
прибыли, а скорее некий довод против модели Вайцмана — не следует
* В более ранней версии своей работы Вайцман оптимистически отзывается о
возможности сдерживания участия рабочих в управлении: «...сильные ры-
ночные позиции профсоюзов не являются естественным правом» (1984а,
р. 109); в его модели: «...решения об объеме производства, занятости и це-
нах принимаются в основном капиталистами» (р. 132); «Я не вижу никакой
серьезной причины, по которой капиталистическому предприятию было бы
выгодно расширять участие рабочих в управлении только при какой-то од-
ной форме трудового договора» (р. 133). В своей последней работе он менее
категоричен: участие работников в управлении предприятием становится не
только возможным, но и желательным «как из соображений справедливос-
ти, так и из практических соображений», если только их участие не распро-
страняется на вопросы занятости (1986). Однако очень трудно представить
себе какое-либо важное решение, при принятии которого учитывалось бы
мнение рабочих, чтобы оно прямо или косвенно не было бы связано с заня-
тостью. Надо либо устранить это ограничение, либо устранить участие ра-
бочих.
84
ожидать, что избыточная занятость, если она вообще достижима, мо-
жет длиться долго (см.: Nuti, 1985).
УЧАСТИЕ В ПРИБЫЛИ И ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. В основе все-
го, что говорит Вайцман в пользу участия в прибыли, лежит утвержде-
ние, что даже в краткосрочном аспекте экономика участия «дает» пол-
ную занятость*.
Но чтобы экономика участия могла «давать» полную занятость, не-
обходимо одновременное выполнение трех условий:
1) физическая величина предельного продукта труда при полной
занятости должна быть положительной;
2) стоимость предельного продукта труда, получаемая предприяти-
ями при полной занятости, должна также быть положительной;
3) фиксированная часть оплаты труда, оговариваемая в договорах
об участии в прибыли, должна быть достаточно гибкой, чтобы при не-
обходимости снижаться до уровня стоимости предельного продукта
труда при полной занятости, которая должна быть положительной.
Первое условие исключает возможность существования классичес-
кой безработицы, т.е. безработицы, вызванной недостатком оборудова-
ния, земли или других ресурсов в количествах, необходимых для того,
чтобы обеспечить эффективную занятость для всех работников. Одна-
ко сегодня после глубокого и затяжного спада, длившегося более де-
сяти лет, деиндустриализации и декапитализации даже высокоразви-
тые промышленные страны, такие, как Великобритания и Франция,
вряд ли смогут выполнить это условие, не прилагая специальных уси-
лий, не говоря уже об Италии, Испании или других менее развитых
странах. В строгой формулировке своей модели Вайцман (1985b) по-
стулирует постоянную физическую производительность труда; это пред-
положение представляется правдоподобным при всех ситуациях вплоть
до почти полной загрузки производственных мощностей, но Вайцман не
объясняет, почему дальнейший рост производства должен сдерживаться
именно нехваткой труда, а не каких-либо иных ресурсов.
Второе условие исключает возможность кейнсианской безработицы,
т.е. безработицы, возникающей в результате того, что ограниченность
совокупного спроса обесценивает стоимость предельного продукта тру-
да еще до того, как будет достигнута полная занятость. Даже если бы
первое условие было соблюдено, несовершенная конкуренция —
а именно она в работах Вайцмана составляет ту среду, в которой дол-
жен реализовываться договор об участии, — может сплошь и рядом со-
здавать такие ситуации, в которых дополнительный физический про-
дукт труда с точки зрения предприятий не будет иметь положительной
* «Ресурсы всегда полностью используются при системе участия» (Weitzman,
1985b, р. 949); фрикции реального мира, его инерция и несовершенство упо-
минаются только для того, чтобы изгнать их и вновь провозгласить приход
полной занятости, — по крайней мере, в качестве «естественной тенденции»
(р. 949, 952) экономики участия, которая, как нас уверяют, «дает полную
занятость» (1986); см. также: Weitzman, 1984, р. 97.
85
цены. Вайцман может утверждать, что «при «чистой» системе участия,
в которой нет базовой ставки заработной платы, спрос на рабочую силу
был бы безграничным» (1985b, р. 944), но из этого следует, что предель-
ная выручка для любого уровня выпуска должна быть положительной,
поскольку введено одно очень специальное допущение — о том, что
эластичность спроса больше единицы (р. 938). Из-за этого допущения
кривые спроса становятся абсурдно и неограниченно эластичными
даже для фирм в условиях несовершенной конкуренции. Такое усло-
вие не может претендовать на универсальную применимость.
Даже если бы спрос на рабочую силу в чистой экономике участия,
т.е. в такой, где фиксированная часть заработка равна нулю, действи-
тельно был бесконечно большим, это вовсе не означало бы, что при
фиксированной части заработка больше нуля он будет бесконечно боль-
шим или достаточно высоким, чтобы достичь полной занятости. Вайц-
ман игнорирует проблему определения удельных весов фиксированного
и переменного компонентов заработка при участии в прибыли, хотя и
признает, что заработок рабочего не может полностью определяться
размерами прибыли; тем не менее, он почему-то считает само собой
разумеющимся, что фиксированный элемент заработка можно будет
сжать до уровня стоимости предельного продукта труда в условиях пол-
ной занятости, хотя мы даже не можем наверняка утверждать, будет ли
эта стоимость положительной.
Как было убедительно показано в работе Ванека (Vanek, 1965), при
одинаковых средних издержках для предприятия замещение части за-
работной платы участием в прибыли приводит к росту занятости, рос-
ту объема производства и снижению цен — при условии, что введение
подобного договора не создает сколько-нибудь серьезных неблагопри-
ятных последствий для инвестиций (Вайцман признает возможность
возникновения подобных неблагоприятных последствий в качестве
краткосрочного эффекта при введении системы участия) и что сопут-
ствующее участию в прибыли участие в управлении не окажет сколь-
ко-нибудь серьезного влияния на политику предприятия в области за-
нятости. Но существует огромная разница между более высокой заня-
тостью и полной занятостью, а также огромная разница между полной
занятостью и постоянной избыточной занятостью, и подменять одно
понятие другим просто недопустимо в серьезной научной работе.
ДОГОВОР ОБ УЧАСТИИ В ПРИБЫЛИ И ОБЩЕСТВЕННОЕ
БЛАГО. Если бы общим и необходимым следствием введения эконо-
мики участия действительно было достижение и сохранение полной
занятости без каких-либо отрицательных моментов, государство должно
было бы признать договор об участии «общественным благом» и по-
стараться убедить пользоваться им непросвещенную общественность,
в основной своей массе не подозревающую о потенциальных выгодах
этого договора, подобно тому, как оно поступает, пропагандируя при-
вивки против инфекционных заболеваний. При этом преимущества
экономики участия были бы не намного весомее, чем достоинства при-
нудительно гибкой зарплаты, введение которой также гарантировало
86
I
бы полную занятость и стабильность при тех Же самых условиях. При
зарплате «гибкой вниз», т.е. зарплате, которая может автоматически
понижаться, не возникало бы избыточного спроса на рабочую силу, но
это сомнительное достижение, к тому же при гибкой заработной плате
для защиты экономики от спада никакого избыточного спроса на труд
и не потребовалось бы; кроме того, при «гибкой вниз» зарплате для
достижения полной занятости потребовалось бы более резкое сокраще-
ние денежных доходов в краткосрочном аспекте и, возможно, с боль-
шей вероятностью, чем при договоре участия, проявились бы небла-
гоприятные последствия для совокупного спроса, но в остальном осо-
бой разницы между договором участия и гибкой зарплатой нет. Иными
словами, выбирать особенно не из чего, разве что общество, вероятно,
скорее согласится на участие в прибыли, чем на снижение заработной
платы.
На самом деле, если бы договор об участии мог действительно обес-
печить достижение и сохранение полной занятости, а экономика, ос-
нованная на зарплате, — не могла, исчезла бы более высокая степень
циклической изменчивости заработков, связанная с участием в прибы-
ли, а различие заработков между предприятиями было бы устранено
путем беспрепятственного перехода работников по собственному же-
ланию на те предприятия, где потребность в рабочей силе больше; из-
менчивость уровня занятости также исчезла бы; рабочие de facto име-
ли бы возможность получить работу на любом предприятии, где бы они
ни захотели, как в давно позабытых утопиях (Hertzka, 1980; Chilosi,
1986). Таким образом, мы действительно могли бы сказать, что «дви-
жение по направлению к участию в прибыли — это безусловное благо
для рабочего класса» (Weitzman, 1985b, р. 954). Но мы уже видели, что
участие в прибыли не может гарантировать полной (не говоря уже о
сверхполной, избыточной) занятости. А при отсутствии полной заня-
тости сохраняется и более высокая изменчивость доходов, связанных
с участием в прибыли, она может компенсироваться, а может и не ком-
пенсироваться более высокой в среднем занятостью и более высокими
в среднем реальными доходами. На самом деле при отсутствии избы-
точной занятости экономика участия столь же уязвима для шоков спа-
да, сколь и экономика заработной платы, поскольку, несмотря на гиб-
кость заработков в режиме участия, предельные издержки оплаты тру-
да для предприятий (которые представляют собой фиксированный
компонент заработка работников) остаются постоянными, как и зара-
ботная плата. Таким образом, большая стабильность занятости, кото-
рую мы наблюдаем в Японии, просто не может являться результатом
участия в прибыли, как полагает Вайцман, поскольку в Японии никогда
не было избыточной занятости; для повышения стабильности занято-
сти потребовалось бы участие работников в ВНП, а не в прибылях их
предприятий.
Поскольку переход на договоры об участии без гарантии стабиль-
ной полной занятости повлечет за собой издержки для работников, мы
уже не можем утверждать, что такой переход всегда и обязательно бу-
дет представлять собой «общественное благо», хотя такая возможность
87
остается. Применение вакцины тоже может быть связано с небольшим
риском, и степень этого риска будет общественно приемлемой, если
вакцинация будет всеобщей и в результате ее проведения снизится за-
болеваемость в обществе в целом. При этом каждый отдельный чело-
век, возможно, хотел бы ее избежать, но проведение поголовной вак-
цинации как «общественное благо» все-таки будет полезно для всех.
Если бы трудовые договоры заключались исключительно на уровне от-
дельных работников или отдельных фирм, то положительный внешний
эффект от участия в прибыли не был бы заметен на уровне общенацио-
нальных переговоров между ассоциациями нанимателей и профсоюза-
ми. Эти положительные внешние эффекты — в отличие от подлинных
«общественных благ» — полностью интернализируются. Очень может
быть, что широкая общественность до сих пор еще плохо осведомлена
о всех преимуществах, которые сулит участие в прибыли, и эти
преимущества следует более широко пропагандировать. Но если навя-
зывать хорошее лекарство скептически настроенной публике, утверж-
дая, что оно гарантирует долголетие и бессмертие, то ничего хорошего
не получится. Как только станет ясно, что эти обещания не сбывают-
ся, лекарство просто выбросят, хотя оно вполне могло бы принести
пусть более скромную, но реальную пользу.
БИБЛИОГРАФИЯ
Aoki, М., 1984. The Co-operative Game Theory of the Firm. Oxford: Oxford
University Press.
Bartlett, W. and Uvalic, M. 1985. Bibliography on labour-managed firms and employee
participation. European University Institute Working Paper, No. 85/198, Florence.
Cable, J.R., 1984. Employee participation and firm performance: a prisoners’ dilemma
framework. European University Institute Working Paper, No. 84/126, Florence.
Cable, J.R. and Fitzroy, F.R. 1980. Productive efficiency, incentives and employee
participation: some preliminary results for West Germany. Kyklos 33(2), 100-121.
Chilosi, A. 1986. The right to employment principle and self-managed market
socialism: a historical account and an analytical appraisal of some old ideas.
European University Institute Working Paper, No. 86/214, Florence.
Estrin, S., Jones, D.C. and Svejnar, J. 1984. The varying nature, importance and
productivity effects of worker participation: evidence for contemporary producer
cooperatives in industrialised Western societies. CIRIEC Working Paper. No. 84/04,
University of Liege.
Fitzroy, F.R. and Kraft, K. 1985. Profitability and profit-sharing. Discussion Papers
of the International Institute of Management, WZB, Berlin, IIM/IP 85-41,
December.
Fitzroy, F.R. and Mueller, D.C. 1984. Cooperation and conflict in contractual
organisations. Quarterly Review of Economics and Business 24(4), Winter, 24—49.
Furobotn, E.G. 1985. Codetermination, productivity gains and the economics of the
firm. Oxford Economic Papers 37, 22—39.
Hertzka, T. 1980. Freiland. Ein soziales Zukunftsbild. Dresden: Pierson. English
translation, London: Chatto & Windus, 1981.
88
Jensen, M.C. and Meckling, W.H. 1979. Rights and production functions: an
application to labor-managed firms and codetermination. Journal of Business 52,
October, 469-506.
Lane, D. (ed.) 1985. Employment and Labour in the USSR. London: Harvester Press.
Nuti, D.M. 1985. The share economy: plausibility and viability of Weitzman’s model.
European University Institute Working Paper, No. 85/194, Florence. Italian
translation in Politica ed Economia 1, January, 1986.
Nuti, D.M. 1986. A rejoinder to Weitzman. (In Italian.) Politica ed Economia 4, April.
Nutzinger, H.G. 1983. Empirical research into German codetermination: problems and
perspectives. Economic Analysis and Workers’ Management 17(4), 361—82.
Pagano, U. 1984. Welfare, productivity and self-management. European University
Institute Working Paper, No. 84/128, Florence.
Reich, M. and Devine, J. 1981. The microeconomics of conflict and hierarchy in capitalist
production. Review of Radical Political Economics 12(4), Winter, 27—45.
Samuelson, P.A. 1977. Thoughts on profit-sharing. Zeitschrift fur die Gesamte
Staatswissenschaft. (Special issue on profit-sharing)
Vanek, J. 1965. Workers’ profit participation, unemployment and the Keynesian
equilibrium. Weltwirtschaftliches Archiv 94(2), 206-14.
Vanek, J. 1970. The General Theory of Labor-Managed Market Economies. Ithaca:
Cornell University Press.
Ward, B.M. 1958. The firm in Illyria: market syndicalism. American Economic Review
48(4), 566-89.
Weitzman, M.L. 1983. Some macroeconomic implications of alternative compensation
systems. Economic Journal 93(4), 763—83.
Weitzman, M.L. 1984. The Share Economy. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press.
Weitzman, M.L. 1985a. Profit sharing as macroeconomic policy. American Economic
Review, Papers and Proceedings 75(2), May, 41-5.
Weitzman, M.L. 1985b. The simple macroeconomics of profit sharing. American
Economic Review 75(5), December, 937-53.
Weitzman, M.L. 1986. Reply to Nuti. (In Italian.) Politica ed Economia 4, April.
ОБЩЕЕ ПРАВО
П.С. Атия
Common Law
P.S. Atiyah
Общее право — это система права и юридических процедур, кото-
рая зародилась в Англии вскоре после Норманнского завоевания, а пос-
ле нескольких столетий непрерывного развития была экспортирована
в английские колонии и, таким образом, легла в основу законодатель-
ства большей части Соединенных Штатов, а также Австралии, Новой
Зеландии, большей части Канады, а также (в меньшей степени) Ин-
дии, Пакистана, Бангладеш и многих регионов Африки. Главная ха-
рактеристика общего права всегда состояла в том, что его развитие
находилось в основном в руках судей, оно росло и менялось пошаго-
во, от дела к делу, в ходе фактического судопроизводства.
В наше время термин «общее право» применяется в ряде смыслов.
В самом широком значении он продолжает использоваться для обозна-
чения целостной системы права, зародившейся в Англии, которая те-
перь формирует основу правовой системы в большей части бывшей
Британской империи, часто называемой в настоящее время «миром
общего права». В этом значении общее право часто противопоставля-
ется гражданскому праву, которое происходит от правовой системы
Древнего Рима и сегодня действует в большей части Западной Евро-
пы, а также во многих других странах (таких, как, например, Япония
и Египет), которые позаимствовали свою правовую систему от европей-
ских стран. Одна из главных характеристик современного гражданского
права заключается в том, что оно опирается на один или несколько
основных кодексов. Главным различием между странами общего пра-
ва и гражданского права остается то, что первые обычно не сводят свои
правовые нормы в виде кодексов. И даже в тех областях юрисдикции
общего права (таких, как, например, Калифорния), где сегодня сущест-
вует своего рода Кодекс общего права, он по сути отличается корен-
ным образом от Кодексов гражданского права; в частности, система
прецедентов и полномочия судей по интерпретации и развитию таких
Кодексов общего права совершенно отличны от тех, которые призна-
ны в странах гражданского права.
Термин «общее право» также часто используется в различных бо-
лее узких смыслах. В наиболее важном из них общее право противо-
поставляется законодательству, так что юрист в стране общего права
по-прежнему считает законодательство типом права, отличным от об-
щего права, которое является в основном правом, созданным судьями.
90
Термин «общее право» иногда используется еще и в третьем значении,
в котором он отличается от так называемого права справедливости
(«Equity»), которое было первоначально дополнением к общему праву
и разрабатывалось отдельным канцлерским судом («Court of Chancery»).
Сегодня общее право (в этом узком значении) и право справедливости
почти везде объединяются и осуществляются одними и теми же суда-
ми.
Общее право (в первых двух смыслах, названных выше) по тради-
ции связывалось с экономикой свободного рынка по крайней мере
двумя разными способами. Во-первых, существует направление мыс-
ли, представленное, в частности, Хайеком (Hayek, 1973), которое, оче-
видно, считает, что система права, подобная общему праву, в основ-
ном создаваемая судьями, наиболее благоприятствует индивидуальным
и особенно экономическим свободам и защищает их. Но это — невер-
ное и даже эксцентричное утверждение, в котором, видимо, перепута-
ны первые два смысла термина «общее право», указанные выше. По-
скольку большинство видов перераспределения осуществляется в со-
временных демократических странах посредством законодательных
мер, можно легко допустить, что правовая система, в которой законо-
дательство занимает не слишком важное место, скорее будет призна-
вать и защищать свободу рынка. Однако объем перераспределения,
которое происходит в правовой системе, не обязательно зависит от того,
является ли данное общество частью «мира общего права». Нет апри-
орных причин полагать, что судьи, предоставленные самим себе, бу-
дут обязательно действовать на пользу рыночной экономике. Как по-
казывают последние исследования, проводимая судьями политика за-
висит от их собственных предпочтений, культуры и традиций.
Существует, однако, и второй способ, с помощью которого общее
право по традиции связывают со свободным рынком, и эта связь ос-
нована на исторических фактах последних трех столетий. Принцип
верховенства права (Rule of Law), который был признан и стал защи-
щаться в Англии после революции 1688 г., по мнению многих, способ-
ствовал развитию экономики свободного рынка в Англии до начала и
в течение первых лет промышленной революции. Из-за этого истори-
ческого факта долгое время среди английских авторов тесная связь
между общим правом и свободой рынка была почти предметом веры.
Этот взгляд сегодня менее распространен в Англии, поскольку англи-
чане, хотя еще по-прежнему верят в верховенство права (несмотря на
глубокие сомнения некоторых кругов в том, что это понятие имеет се-
рьезный смысл), уже не верят в свободный рынок, как когда-то преж-
де. В Америке, где Конституция 1788 г. в значительной степени во-
плотила английские традиции в том, что касается принципа верховен-
ства, а также была пронизана идеологией свободного рынка, связь
между этими двумя понятиями по-прежнему осталась сильной.
Причины традиционной веры в тесную связь между общим правом
и свободным рынком нужно, следовательно, искать в истории, и в ча-
стности в английской истории, в течение периода приблизительно от
1770 до 1870 г., когда экономика свободного рынка находилась в про-
91
цессе становления. Из всех частей общего права с этой точки зрения
нам наиболее важно договорное право, поскольку оно наиболее тесно
связано с экономической системой. Действительно, история английс-
кого права между 1770 и 1870 гг. была в большой степени историей того,
как договорное право преобразовывалось в право свободного рынка и
как идеология свободы контрактов стала одним из великих интеллек-
туальных течений в истории (Atiyah, 1979).
Первые три четверти XVIII в. были в Англии переходным перио-
дом, в течение которого многие более старые идеи о контрактах и рынке
были замещены более новыми идеями, которые постепенно стали до-
минирующими к концу столетия. Среди этих старых идей по крайней
мере три могут считаться особенно враждебными возникающей эконо-
мике свободного рынка. Во-первых, в праве и экономике присутство-
вали регулирующие элементы, восходящие к временам Тюдоров. Речь
идет, например, о предусмотренном законом контроле над заработной
платой и ценами многих товаров, а также законах об ученичестве, ко-
торые регулировали доступ ко многим профессиям и содержали уста-
ревшие и в основном ненужные ограничения. Во-вторых, в договор-
ном праве того времени присутствовал значительный патерналистский
элемент, когда суды желали облегчить для различных групп последствия
заключенных ими неудачных сделок. Это отеческое попечение особен-
но присутствовало в различных доктринах права справедливости
(Equity), таких, как, например, правила, облегчающие положение долж-
ников по закладным, правила против принуждения к выплате договор-
ных штрафов и конфискаций, правила защиты моряков и «ожидающих
наследников» и т.д. Таким образом, если говорить о третьем значении
термина «общее право», охарактеризованном выше, можно утверждать,
что общее право было всегда более рыночно-ориентированным, чем
право справедливости. В-третьих, в договорном праве XVIII в. был
традиционный моралистский элемент, который принимал различные
формы, как, например, общая враждебность к ростовщичеству (об этом
см.: Simpson, 1975, р. 510-518) и попытки регулировать продажи ос-
новных продуктов питания и напитков, запрещая нарушать традици-
онные способы маркетинга. «Моральные» корни старого права были
также связаны с идеями о «справедливой цене», которые, хотя и редко
открыто признавались в общем праве, видимо, имели влияние, по край-
ней мере, в некоторых делах, рассмотренных в канцлерском суде, где
судьи явно испытывали некоторое неудобство, если их просили обес-
печить осуществление контрактов по ценам, которые казались им очень
несправедливыми, или на условиях, которые были (на языке права)
«недобросовестными».
В дополнение к этим специфическим случаям, в которых ограни-
чивалась обязательность исполнения частных контрактов, были и важ-
ные причины, по которым само понятие общего договорного права
оставалось в то время сравнительно неразработанным. Так, в то время
как закон признавал и гарантировал некоторые специфические типы
контрактов, такие, как, например, контракты о продаже земли, кон-
тракты страхования и т.д., не было общего законодательства о контрак-
92
тах, которое бы распространялось на все виды сделок. Далее, остается
неясным, в какой степени договорное право того периода действитель-
но признавало и обеспечивало контракты с исполнением в будущем,
т.е. покрытие ущерба при нарушении контракта до начала его испол-
нения или потери доверия одной из сторон. И наконец, ясно, что с
сегодняшних позиций договорное право в XVIII столетии еще не осво-
бодилось от зависимости от права собственности. Конечно, в некото-
ром смысле договорное право не может быть свободным от права собст-
венности, поскольку договорное право является механизмом, который
обеспечивает обмен правами собственности; есть, однако, явные
признаки того, что в XVIII в. договорное право все еще тесно связы-
валось с правом собственности в другом смысле, например договорные
аспекты многих сделок все еще считались более важными, чем аспек-
ты, связанные с обязательствами. Так, например, право должника по
закладной выкупать заложенную собственность защищалось судами,
даже когда по условиям документов закладной он утрачивал это право
вследствие задержки в возвращении займа. Считалось, что если зало-
годержатель получил назад свои деньги с процентом и возмещением
издержек, то он адекватно защищался законом, даже если сам контракт
давал ему более широкие права.
В течение столетия начиная примерно с 1770 г. эти устаревшие идеи
и традиции постепенно уступили идеологии свободы контрактов, но
было бы неправильно думать, что эта идеология не имела глубоких
корней и предыстории в более ранних периодах. Даже в XVI и XVII вв.
наблюдалось много признаков зарождающегося экономического либе-
рализма среди таких юристов, как, например, Кок (Соке), который
привил общему праву ненависть к монополиям, а также любовь к ин-
дивидуальным свободам (Wagner, 1935). Томас Гоббс в известном пас-
саже «Левиафана» отмел все средневековые теории о «справедливой
цене» и объявил, что «цена всех вещей, о которых заключается кон-
тракт, измеряется аппетитами контрагентов; и, следовательно, справед-
ливая ценность — это та, на которую они согласятся» (Hobbes [1651]
1968, р. 208). Итак, идеология свободы контрактов несомненно берет
начало намного раньше XVIII в. Тем не менее, кажется (хотя вопрос
остается спорным), что основные изменения в законодательстве нача-
лись и набирали темп в течение этого столетия.
Несомненно, многое изменилось в характере договорного права с
последней четверти XVIII в. до середины XIX в., и есть немало под-
тверждений тому, что многие из этих изменений в праве происходили
под глубоким влиянием классической экономической теории и, воз-
можно, даже большим — популярных версий последней. Во-первых,
реликты регулируемой экономики эпохи Тюдоров постепенно исчез-
ли. Регулирование заработной платы считалось все более устаревшим
в практике XVIII столетия, и главный вызов устаревшим законам под
лозунгом свободы контрактов был брошен в знаменитом деле Глостер-
ширских ткачей (1756—1757), (Atiyah, 1979, р. 73-74). К началу XIX в.
большинство законов, дающих право фиксировать заработную плату,
были аннулированы. То же самое произошло с Уставом об ученичестве
93
после многих лет, в течение которых его функционирование постепен-
но было сведено на нет судьями. Во-вторых, признаки патернализма,
которые все еще обнаруживаются в праве справедливости XVIII в.,
кажется, постепенно исчезли по мере того, как судьи делали более твер-
дыми свои сердца и более закаленными — свои умы. Например, попыт-
ки введения при продаже товаров гарантий для защиты покупателей,
которые случались в XVIII в., в основном прекратились и принцип
caveat emptor («пусть покупатель будет осмотрительным») был подтверж-
ден с полной силой. Доктрины «справедливости», позволяющие судам
облегчать участь пострадавших от невыгодных сделок, постепенно сво-
дились к минимуму, хотя не исчезли совсем. В-третьих, моралистские
элементы в законодательстве также постепенно сокращались. Контрак-
тное право постепенно превратилось в механизм осуществления нейт-
ральных соглашений, которые предполагались выгодными для обеих
сторон. Единственный моральный компонент, сохранявшийся в дого-
ворном праве в течение XIX в., происходил, по-видимому, из обязы-
вающей природы обещаний.
Субъективная теория цены также, по-видимому, была взята на во-
оружение судьями даже до того, как она была полностью принята эко-
номистами. Хотя в общем праве всегда действовал принцип, что «обе-
щание для того, чтобы принудить к его исполнению, должно иметь
некоторые «основания», что содержало элемент патернализма, возрас-
тающее признание субъективной теории цены в течение XIX в. изме-
нило положение. Так, например, в деле «Хейг против Брукса» (Haigh
V. Brooks, 1840, 113 English Reports 124) судьи заставили одну из сто-
рон выполнить обещание и заплатить 9000 фунтов стерлингов за отказ
от гарантии, прежде данной обещавшим, хотя оказалось, что гарантия
не имела исковой силы и являлась юридически ничтожной. Обещав-
ший оценил свою гарантию в 9000 фунтов стерлингов, заявили судьи;
ничтожность документа их не заботила. По аналогичным причинам по-
степенно преодолевалось предубеждение против ростовщичества, и за-
коны о ростовщичестве были полностью аннулированы в Англии в
1854 г.
Таким образом, к середине XIX в. принцип, согласно которому кон-
тракты являются обязательными и их выполнение должно быть обес-
печено, существенно усилился и исключения были сведены на нет.
Кроме того, в договорном праве произошли и другие изменения, ко-
торые способствовали его превращению в право свободного рынка. Во-
первых, именно в течение этого периода в мире общего права впервые
появилось общее договорное право. Процесс обобщения правовых
норм во многих отношениях был важен для идеологии права. В част-
ности, обобщение идей контрактного права означало, что право долж-
но стать более абстрактным, основанным на более универсальных
принципах. Должны быть разработаны принципы, которые могут быть
одинаково применены для, скажем, коммерческих контрактов о про-
даже пшеницы, трудовых контрактов и личных контрактов, таких, как,
например, брачные. Эта абстракция помогла праву стать более нейт-
ральным, менее подверженным перераспределительным тенденциям,
94
которые могли бы существовать, если бы для контрактов в области за-
нятости, аренды жилья или ссудных операций имелись бы отдельные
юридические доктрины.
Еще одним важным направлением развития в течение этого пери-
ода был постепенный сдвиг от такого подхода к договорному праву,
когда контракты рассматривались как текущие, частично осуществлен-
ные обмены, к трактовке их как форм частного планирования, осущест-
вляемого заранее, чтобы распределить риски. Договор с исполнением
в будущем стал, несомненно, признаваться законом, так что стало воз-
можным предъявить судебный иск о возмещении убытков от наруше-
ния обещания, даже если не было предпринято никаких действий и не
было обмануто чье-либо доверие. Необходимость возмещения ущерба
при таких обстоятельствах никогда явно не провозглашалась, и в дей-
ствительности это редко оказывалось необходимым. Всегда считалось,
что общий принцип свободы контракта требует не только свободы осу-
ществления сторонами обмена, но и законного права одной из сторон
претендовать на компенсацию ущерба, если другая сторона не выпол-
нила обязательств. Джон Стюарт Милль был первым экономистом,
отметившим, что принцип laissez-faire не может использоваться для
оправдания принуждения к исполнению контрактов, заключенных на
будущий срок (Mill, 1848, vol. 2, р. 386), но и некоторые современные
экономисты обычно высказывают ту же точку зрения. Противополож-
ного мнения придерживаются либертарианцы.
Наконец, договорное право XIX в. все более освобождалось от сво-
ей зависимости от права собственности. Хотя очевидно, что права соб-
ственности по-прежнему составляют содержание всех контрактов, до-
говорное право стало значительно меньше заниматься специфически-
ми имущественными объектами и больше — богатством как родовым
понятием собственности. Причина заключалась, главным образом,
в том, что договорное право XIX в. определялось в основном потреб-
ностями купцов и торговцев, для которых вся собственность в прин-
ципе замещаема деньгами. Можно предположить, что для купца без-
различно, обладать объектом собственности или стоимостью этого
объекта. Аналогично, по мере того как контракты все более рассмат-
ривались как формы распределения риска, отдельные связанные с рис-
ком права собственности стали менее важными.
К последней четверти XIX в. процесс развития общего договорно-
го права в Англии был в основном завершен. Аналогичный процесс
происходил в Америке (Horwitz, 1977), но есть основания полагать, что
там он не был завершен в течение еще примерно 50 лет. Свобода кон-
трактов, очевидно, достигла в этот период своей высшей точки. Это,
однако, касалось взглядов юристов и судей, но не среди экономистов,
политиков и населения в целом. В конце XIX в. экономисты-неоклас-
сики уже начали скептически высказываться о разрушительных эффек-
тах свободы контрактов, защита которой приписывалась ими экономи-
стам классической школы, отмечая многие возможные причины несо-
стоятельности рынка; таких, как, например, информационные
трудности, внешние эффекты и монополия. И хотя большая часть ста-
95
рого регулирующего законодательства была аннулирована в первой по-
ловине XIX в., английский парламент в то же самое время постепенно
принял совершенно новую совокупность регулирующих актов, каса-
ющихся новых явлений индустриального общества и относящихся к
заводам, каменноугольным шахтам, безопасности в море для моряков
и пассажиров-эмигрантов, здравоохранению, подделке пищевых про-
дуктов и напитков, регулированию мер и весов в торговле и т.д. Зна-
чительная часть этого нового законодательства была прагматическим
ответом на замеченные пороки рыночной экономики, и хотя кое-что
из этого могло быть экономически оправдано с помощью аргументов
о недостаточной информации или внешних эффектах, большинство
этих актов трудно было бы оправдать чем-либо, кроме патерналистских
или перераспределительных мотивов. Некоторые из этих мер, возмож-
но, были плодами нетерпения, нежелания дать рынку время порабо-
тать или убеждения, что краткосрочные издержки несостоятельности
рынка были столь серьезными, что возникла необходимость корректи-
ровки законодательства, несмотря на те долгосрочные искажения, ко-
торые при этом возникали.
Ясно одно: к тому времени, когда английское общее право и рабо-
тающие в его рамках юристы приняли учение (как они считали) эко-
номистов-классиков о свободе контрактов, это учение было уже отча-
сти устаревшим. В результате развитое общее договорное право имело
целый ряд недостатков. Прежде всего следует назвать почти полное
игнорирование проблем внешних эффектов. Договаривающиеся сто-
роны имели право преследовать свои собственные интересы независи-
мо от влияния их контракта на третьи стороны или население. Только
в наиболее экстремальных случаях явной незаконности суды отказы-
вались признать контракт. Во-вторых (хотя это, несомненно, нельзя
поставить в вину классической экономической теории), в течение
XIX в. имело место серьезное пренебрежение со стороны юристов про-
блемами монополии. Это объяснялось во многом тем, что в течение
большей части этого периода британская экономика была очень кон-
курентной и опасность со стороны монополий была невелика. Опти-
мистическая предпосылка о том, что картели неустойчивы и всегда
уязвимы для внутренней или внешней конкуренции, была в Англии
(но не в Америке) перенесена юристами и судами в новые условия кон-
ца XIX в., а также в значительной мере и в нынешнее столетие, когда
она совершенно устарела. Вторым результатом этого отставания общего
права от экономической теории и политической действительности было
возрастание разрыва между общим правом и законодательством. Ши-
рокое законодательное вмешательство в свободу контрактов снова во-
шло в привычку, и значительная его часть была, в сущности, перерас-
пределительной.
В течение XX столетия этот процесс продолжался возрастающим
темпом примерно до 1980 г., после чего наметился перелом. Разочаро-
вание в свободном рынке, особенно в Англии, росло в течение Вели-
кой депрессии в 1930-е годы. В конце Второй мировой войны на вы-
борах с огромным преимуществом победили лейбористы, получившие
96
мандат на то, чтобы заложить основы для социалистического государ-
ства и социалистической экономической системы. С тех пор Англия
училась жить со «смешанной экономикой», в значительной части ко-
торой традиционное договорное право представляется неприменимым,
поскольку государственный сектор чаще управляется государственным
законодательством, а не договорным правом. Но даже в тех областях,
где продолжает действовать частное право, общее договорное право
попало под сильное законодательное воздействие. Фактически все типы
потребительских сделок, включая потребительские кредитные контрак-
ты, трудовые контракты, аренду жилья и страховые контракты, сегод-
ня контролируются или до некоторой степени испытывают воздействие
со стороны законодательства. Недобросовестные или нечестные кон-
тракты все больше подлежат судебному контролю. Многие области
права, которые прежде регулировались в основном контрактами, как,
например, семейное право, теперь подлежат широкому судебному дис-
креционному контролю. Даже деловые и коммерческие контракты яв-
ляются объектом многочисленных законодательных и регулирующих
актов, некоторые из них, например современные антимонопольные или
антитрестовские законы, разработаны для защиты конкурентного рын-
ка, но другие, напротив, ограничивают конкуренцию или функциони-
рование свободного рынка.
Америка не прошла пока еще по этому пути столь далеко, как Бри-
тания и другие страны общего права, — в течение долгого времени в
конце XIX и начале XX в. конституционные решения Верховного суда
Соединенных Штатов в защиту свободы контрактов предотвращали
подобные тенденции. Большая часть законодательного вмешательства
в свободу контрактов была в течение этого периода объявлена некон-
ституционной, часто вопреки мнению судьи Холмса. Однако к концу
1930-х годов большинство в Верховном суде в основном приняло точ-
ку зрения Холмса, и с тех пор законодательное вмешательство в сво-
боду контрактов не считается само по себе неконституционным. Из-
менение позиции суда открыло дверь для регулирования и вмешатель-
ства типа того, что уже имело место в Великобритании, и хотя в
Америке в отличие от Великобритании нет значительного государствен-
ного сектора, который находится частично вне контроля договорного
права, большинство британских законодательных актов, несомненно,
имеют свои аналоги в Америке. Конечно, некоторые виды контрактов
сильнее регулируются в Великобритании, но есть и много таких при-
меров законодательного вмешательства в свободу контрактов в Амери-
ке, которые нельзя обнаружить в Великобритании.
Эти обширные изменения в функционировании общего права со-
провождались изменениями в идеологии (а может быть, и породили их).
Патернализм и перераспределение были, по крайней мере примерно
до 1980 г., чрезвычайно популярны среди многих юристов и препода-
вателей договорного права, а также у больших групп избирателей.
Даже судьи стали гораздо больше прислушиваться к аргументам,
базировавшимся на понятиях, подобных недобросовестности и нера-
венству возможностей торга. В Америке категории недобросовестнос-
97
ти была придана легитимность Единым коммерческим кодексом, по-
зволяющим отменять нечестные контракты, она также все больше ис-
пользовалась судьями и как элемент общего права. Многие отношения
договорного характера (например, между врачом и пациентом) и фак-
тически договорного характера (например, между производителями
продуктов и их конечными покупателями и потребителями) в Амери-
ке и Великобритании все более регулируются законами о гражданских
правонарушениях, а не договорным правом, по крайней мере в особо
серьезных случаях, когда необходимы юридические действия для воз-
мещения ущерба вследствие небрежности или дефектов товаров. Для
случаев небрежного лечения или ответственности за качество продук-
тов соответствующие стандарты лечения или качества товаров устанав-
ливаются судьями и присяжными, а не договаривающимися сторона-
ми и снимающие вину статьи договоров часто не имеют юридической
силы.
Примерно начиная с 1980 г. появились нарастающие признаки того,
что направление развития права в Великобритании и Америке вновь
поменялось. Правительства Великобритании и Соединенных Штатов
с этого времени очевидно и явно попытались вновь утвердить досто-
инства свободного рынка и отодвинуть границы регулирования, в чем
их энергично поддерживают некоторые юристы и преподаватели пра-
ва в Америке (но не в Великобритании). Еще не ясно, какое влияние
это окажет на будущее развитие общего договорного права. Один из
возможных сценариев состоит в том, что, как и в конце XIX в., суды
будут отставать от жизни и в данном случае займут негативную пози-
цию по отношению к восстановлению веры в свободный рынок и про-
должат защищать патерналистское и перераспределительное вмеша-
тельство в свободу контрактов, особенно если одна из сторон контрак-
та — потребитель или «маленький человек», позиции которого в сделке
считаются слабыми. Другой возможный сценарий состоит в том, что
новый энтузиазм по поводу свободы рынка окажется недолговечным
отклонением от долгосрочной тенденции к патернализму и перерас-
пределительной политике. И в том и в другом случае кажется малове-
роятным, что в течение многих предстоящих лет британские или аме-
риканские суды будут принуждать к выполнению контрактов всей стро-
гостью общего права.
БИБЛИОГРАФИЯ
Atiyah, P.S. 1979. The Rise and Fall of Freedom of Contract. Oxford: Oxford
University Press.
Hayek, F.A. 1973. Law, Legislation and Liberty, vol. I, Rules and Orders. London:
Routledge & Kegan Paul; 3 vols. Chicago: University of Chicago, 1979.
Hobbes, T. 1651. Leviathan. Ed. C.B. Macpherson, Harmondsworth: Penguin Books,
1968.
Horwitz, M.J. 1977. The Transformation of American Law 1780-1860. Cambridge,
Mass, and London: Harvard University Press.
98
Mill, J.S. 1848. Principles of Political Economy. Fromtlie 5th London edn. New York:
D. Appleton & Co., 1908 // Милль Дж. С. Основы политической экономики.
Simpson, A.W.B. 1975. A History of the Common Law of Contract. Oxford: Clarendon
Press; New York: Oxford University Press.
Wagner, D.O. 1935. Coke and the rise of economic liberalism. Economic History
Review 6(1), October, 30.
Общие права собственности
Стивен Н.С. Чен
Common Property Rights
Steven N.S. Cheung
В обществе, где индивиды конкурируют за использование редких
ресурсов, должны существовать определенные правила или критерии
такой конкуренции, направленные на разрешение возникающих кон-
фликтов. Такие правила, известные как права собственности, могут
быть установлены в правовом или административном порядке, могут
быть закреплены обычаями или иерархической структурой общества.
Структура прав может принимать различные формы — от частных прав
собственности на одном конце спектра до общих прав на другом. На
практике в большинстве случаев встречаются формы, лежащие между
этими крайностями, — встретить последние в «идеально чистом» виде
можно очень редко.
В случае частной собственности спецификация прав на ее исполь-
зование выражается через характеристики самой собственности. Эти
права исключают доступ всех остальных частных субъектов к объекту
собственности, они могут быть свободно переданы другому лицу, а до-
ход, ими обусловленный, не может быть ограничен или изъят в соот-
ветствии с каким-либо законом или административным правилом.
Поэтому контроль над ценами, налогообложение и установленные го-
сударством ограничения на передачу имущества могут рассматривать-
ся как нарушения частных прав собственности. В случае общей соб-
ственности такая спецификация или разграничение прав частных
субъектов на пользование собственностью отсутствуют. Никто не мо-
жет исключить кого-либо из пользования собственностью, все имеют
возможность свободно конкурировать за ее использование. Поэтому
исключительные права пользования отсутствуют, права собственнос-
ти не могут быть кому-либо переданы; кроме того, в предельном слу-
чае пользование общей собственностью не может обеспечить никако-
го чистого дохода.
Последнее условие опирается на существующий в экономической
теории тезис о распылении ренты (dissipation). Оно гласит, что в связи
с отсутствием исключительных прав пользования конкуренция инди-
видов за пользование общей собственностью сокращает ее рентную
(или чистую приведенную) стоимость до нуля. Причина состоит в сле-
дующем: если никто не обладает исключительными правами на цен-
ность данной собственности (т.е. на присвоение порождаемой ею рен-
ты), конкуренция за использование данной собственности будет про-
100
в
I'
должаться до тех пор, пока каждый конкурирующим пользователь не
исчерпает возможности получать от своих ресурсов, необходимых для
эксплуатации общей собственности, доход сверх их альтернативной
стоимости. Другими словами, в условиях конкуренции, когда никто не
имеет специфических преимуществ, ценность «приза», не имеющего
исключительного собственника, будет распылена или поглощена за-
тратами других ресурсов, которые необходимо инвестировать для его
получения. Таким образом, чистая ценность завоеванного «приза» ока-
жется нулевой.
Стандартные примеры общих прав собственности — это обществен-
ные пляжи и зоны рыболовства в открытом море, а распыление ренты
обычно принимает форму их чрезмерного использования и эксплуата-
ции. Однако оно может также принимать форму недостаточного ис-
пользования ресурса. К примеру, участок плодородной земли в усло-
виях общих прав собственности может использоваться как пастбище
(или вообще не использоваться), вместо того чтобы быть занятым под
фруктовый сад.
В реальности, конечно же, полное распыление ренты наблюдается
редко. Это обусловлено тем, что кривая предложения труда и других
производственных ресурсов может быть возрастающей (что обеспечи-
вает присвоение рентных доходов (intramarginal rent)), величина аль-
тернативных издержек у конкурирующих пользователей может быть
различной (в результате пользователи, издержки которых ниже предель-
ных, присваивают ренту) или же проникновение в соответствующую
отрасль может быть ограничено административными правилами, обы-
чаями или высокими информационными издержками. Тем не менее,
при режиме общих прав собственности известное распыление ренты
является неизбежным и ни одно общество не может себе позволить
ситуации, когда данный режим прав собственности распространялся
бы на значительную часть ценных ресурсов.
Собственность может оставаться общей, если издержки установле-
ния исключительных прав превышают сумму ренты, которая может
быть получена с этой собственности. В таком случае распыление рен-
ты не влечет за собой общественных потерь. Если же распыление рен-
ты рассматривается в качестве источника общественных потерь, это
объясняется игнорированием определенных ограничений в ходе ана-
лиза. Попытки сократить распыление ренты позволяют объяснить, по-
чему общую собственность в ее «чистой» форме редко можно наблю-
дать на практике. Например, существует множество правил, регулиру-
ющих использование зон рыболовства в открытом море; они касаются
сроков рыболовного сезона, максимального размера улова, водоизме-
щения судов и диаметра ячеи сетей; кроме того, различные лицензи-
онные ограничения накладываются на число рыболовецких судов и
находящихся на них рыбаков. Рыночная стоимость рыболовецкой ли-
цензии, порою астрономическая, является одним из вариантов изме-
рения присваиваемой «океанской ренты». Даже в случае с обществен-
ными пляжами часто можно встретить определенного рода правила,
регулирующие использование наиболее популярных из них.
101
Хотя правила и ограничения на доступ к использованию общих ре-
сурсов часто сокращают масштабы распыления ренты, размер доступ-
ной присвоению ренты обычно все же оказывается ниже, чем в случае
частной собственности. Чтобы примирить данное наблюдение с прин-
ципом максимизации в условиях ограничений, мы должны предполо-
жить, что помимо издержек обеспечения прав собственности сущест-
вуют иные трансакционные издержки, связанные с институциональ-
ными изменениями, которые должны препятствовать формированию
частных прав собственности.
Ни одна экономика не сможет выжить, если большая часть редких
ресурсов находится в общей собственности. Разумеется, администра-
тивные правила могут ограничить масштаб распыления ренты, однако
их претворение в жизнь не только вызывает диспропорции в исполь-
зовании ресурсов, но и стимулирует коррупцию и возникновение групп
особых интересов. Строго говоря, неограниченный режим общей соб-
ственности отрицает какую бы то ни было собственность; если данный
правовой режим будет распространен на все ресурсы, наступит всеоб-
щий голод. Если установление частных прав собственности исключе-
но, единственной возможностью избежать появления бесчисленного
множества административных правил является установление системы
коллективизма или коммунистического государства.
В коммунистическом государстве отсутствуют частные собственни-
ки производственных ресурсов: каждый его подданный в буквальном
смысле слова лишен собственности. Поскольку распыление ренты,
связанное с режимом общей собственности, гарантирует всеобщий
голод, в коммунистическом государстве права на пользование ресур-
сами и получение от них дохода распределяются в соответствии с иерар-
хическими рангами. Иными словами, граждане коммунистического
государства, лишенные прав собственности на какие бы то ни было
ценные ресурсы (включая производственные), обладают правами
пользования этими ресурсами и получения от них дохода — правами,
которые различаются в зависимости от статуса человека. К примеру,
в китайских народных коммунах эпохи «Большого скачка» никто не об-
ладал собственностью на производственные ресурсы, однако партий-
ные руководители различных рангов пользовались разного рода права-
ми и привилегиями. В коммунистическом обществе ценность представ-
ляют сами «ранги» и именно за их получение идет конкуренция,
поэтому система «прав собственности» выступает в косвенной форме.
Однако ценные права в этих условиях получаются иначе — не через
неотъемлемые характеристики производственных ресурсов.
В этом состоит ключевое различие между системой частной соб-
ственности и коммунистическим государством: система частной соб-
ственности специфицирует права через определенные характеристики
самих производственных ресурсов, в то время как коммунистическое
государство определяет права через характеристики (ранги) людей,
лишенных производительного человеческого капитала. В коммунисти-
ческом государстве конкуренция за получение и сохранение иерархи-
ческих рангов сопровождается расходованием ценных производствен-
102
ных ресурсов (т.е. имеет место особая форма распыления ренты). Бо-
лее того, отсутствие рыночного ценообразования повышает информа-
ционные издержки, а отсутствие возможностей выбора контрактов
повышает издержки обеспечения их выполнения. При этом, однако,
обеспечивается экономия издержек по установлению и обеспечению
прав собственности.
Именно данные переменные издержки — в широком смысле опре-
деляемые как трансакционные — обусловливают различия уровней эко-
номической эффективности в условиях коммунистической системы и
системы частной собственности. Если абстрагироваться от трансакци-
онных издержек, спецификация прав собственности через иерархичес-
кие ранги обеспечивает такое же использование ресурсов, что и спе-
цификация прав через характеристики самих ресурсов. Однако можно
с полным основанием утверждать, что трансакционные издержки (по-
нимаемые в широком смысле) при режиме общих прав собственности
обычно выше, чем при режиме частных прав собственности. Неэффек-
тивность коммунистической системы связана не с тем, что она теоре-
тически ущербна, а с тем, что свойственные ей трансакционные издерж-
ки выше трансакционных издержек в условиях системы частных прав
собственности. Тем не менее, спецификация прав через иерархичес-
кие ранги сокращает масштабы распыления ренты в государстве, где
частные права собственности отсутствуют.
Строго говоря, распыление ренты, связанное с режимом общей соб-
ственности, вообще не имеет никакого отношения к «теории», посколь-
ку простое распыление ренты в процессе установления равновесия не
позволяет объяснить экономическое поведение. Хуже того: воздержа-
ние от каких-либо действий и допущение распыления ренты несовме-
стимо с постулатом максимизации в условиях ограничений.
С точки зрения получения экономических объяснений полезно и
важно признать, что ситуации распыления ренты соответствует мини-
муму целевой функции при существующих ограничениях, поскольку
согласно постулату о максимизации каждый индивид обладает стиму-
лом к сокращению такого распыления. Поведение, ведущее к распы-
лению ренты, должно поэтому рассматриваться как способ сокраще-
ния указанных потерь, и эта новая точка зрения объясняет многие на-
блюдаемые явления. Тот факт, что известное распыление все же имеет
место, должен в таком случае быть обусловлен наличием ограничений
со стороны трансакционных издержек. Стоящая перед экономистом
проблема заключается в спецификации и идентификации этих издер-
жек и определении их величины в различных условиях.
БИБЛИОГРАФИЯ
Коуз Р. Проблема социальных издержек // Фирма, рынок и право. М.: Дело
ЛТД, 1993. С. 87-141.
103
Alchian A.A. Some Economics of Property Rights // Il Politico, 1965, vol. 30, no. 4,
p. 816-829.
Bottomley A The Effect of the Common Ownership of Land upon Resource Allocation
in Tripolitania // Land Economics, February 1963, vol. 39, p. 91-95.
Cheung S.N.S. The Structure of a Contract and the Theory of a Non-Exclusive
Resource // Journal of Law and Economics, April 1970, vol. 13, p. 49-70.
Cheung S.N.S. A Theory of Price Control // Journal of Law and Economics, April
1974, vol. 17, p. 53-71.
Cheung S.N.S. Will China Go «Capitalist?» // Hobart Paper 94. London: IEA, 1982.
Demsetz H. The Exchange and Enforcement of Property Rights //Journal of Law and
Economics, October 1964, vol. 7, p. 11—26.
Gordon H.S. The Economic History of a Common Property Resource: The Fishery //
Journal of Political Economy, April 1954, vol. 62, p. 124-142.
Knight F.H. Some Fallacies in the Interpretation of Social Cost I I Quarterly Journal
of Economics, August 1924, vol. 38, p. 582—606.
МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Роджер Дж. Нолл
Communications
Roger G. Noll
Экономика массовых коммуникаций представляет собой некий до-
вольно произвольный, без четко очерченных границ набор вопросов из
области прикладной микроэкономики. Хотя экономика средств связи
тесно связана с микроэкономической теорией информации, ее было бы,
пожалуй, правильнее считать подразделом теории отраслевых рынков
(industrial organization), регулирования и общественного сектора эко-
номики, а именно тем подразделом этой теории, в котором рассмат-
ривается сектор массовых коммуникаций — телеграф, телефон, теле-
и радиовещание, печатные средства массовой информации, исполни-
тельские виды искусства (performing arts), почта. Конечно, список этот
несколько произволен, но в принципе он отражает те виды деятельно-
сти, которые специалисты обычно включают в понятие «массовые ком-
муникации» и которые объединяют ряд общих свойств, делающих спе-
циализированное изучение сектора массовых коммуникаций вполне
правомочным и самостоятельным направлением научных исследова-
ний. Первая из этих особенностей заключается в том, что все подотрас-
ли, входящие в отрасль «массовые коммуникации», тесно между собой
переплетены. Теле- и радиовещание конкурируют с исполнительски-
ми видами искусства как за аудиторию, так и за исполнителей, теле-
коммуникации конкурируют с почтой. Кроме того, средства компью-
терной связи сегодня могут выполнять некоторые функции телевиде-
ния, и наоборот. Напряженная конкурентная борьба развернулась
сегодня между почтовой системой, компьютерными телекоммуникаци-
ями и кабельным телевидением вокруг доставки потребителю инфор-
мации, содержащейся в печатной периодике.
Другой общий для всех подотраслей сектора массовых коммуника-
ций момент заключается в том, что изучение любых компонентов это-
го сектора всегда связано с вопросами экономической теории общест-
венных благ и внешних эффектов. Основная функция всех подотрас-
лей этой отрасли заключается в производстве и распространении
информации. Произведенная информация, по крайней мере в некото-
рых своих аспектах, составляет общественное благо, а ее распростра-
нение и использование могут производить важные внешние эффекты.
Большая часть этих внешних эффектов носит неэкономический харак-
тер, например вследствие распространения информации может повы-
шаться или понижаться уровень политической активности населения,
105
формируются культурные ценности, может расти или падать уровень
насилия в обществе. Вследствие уникального характера этих внешних
эффектов мотивы государственной политики в области массовых ком-
муникаций тесно переплетаются с фундаментальными политическими
и социальными ценностями всего общества. Поэтому главные вопро-
сы развития массовых коммуникаций: как установить правильное со-
отношение между свободой слова и правом на неприкосновенность
частной жизни, как не допустить использования рычагов государствен-
ного контроля над средствами массовой информации для манипули-
рования политическим процессом — находятся в центре политических
дискуссий.
ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА. Нет ничего удивительного в том, что роль
государственного сектора в области массовых коммуникаций чрезвы-
чайно велика практически во всех странах. Буквально повсюду этот
сектор в значительной мере финансируется за счет государства, в нем
очень велика доля государственной собственности, осуществляется
детальное регулирование цен и качества выпускаемой продукции.
В странах с рыночной экономикой в пользу сохранения государствен-
ной собственности на телекоммуникации и почту или государственного
регулирования в этой области приводятся в основном те же доводы, что
и применительно к другим отраслям инфраструктуры. Делается упор
на то, что эти отрасли являются естественными монополиями и что их
функционирование и развитие в значительной мере определяют раз-
витие большинства других отраслей экономики. Но даже в таком кон-
тексте обязательно упоминают и об уникальных внешних неэкономи-
ческих эффектах, которые должны учитывать политики. Во-первых, на-
личие доступа к современным телекоммуникационным сетям или даже
просто к обычной почте дает человеку возможность получать инфор-
мацию от других. Отправитель, посылающий по почте письмо, или
абонент телефонной сети, решивший позвонить кому-то по телефону,
принимает в расчет только свой собственный чистый выигрыш от ком-
муникации; желание или нежелание реципиента получать эту коррес-
понденцию или отвечать на телефонный звонок в расчет не принима-
ется. Ясно, что для пользователей средств связи их ценность во мно-
гом определяется степенью охвата этой сетью потенциальных
абонентов. Но если бы каждый человек должен был целиком оплачи-
вать издержки подключения, например, к телефонной сети, а потом
еще платить за каждый исходящий звонок, то степень охвата населе-
ния телефонной сетью и связи между абонентами были бы, по всей
вероятности, неэффективными. Допустим, что некоторые потенциаль-
ные абоненты не испытывают большого желания заплатить, чтобы под-
ключиться к телефонной сети, но раз они не станут абонентами, с ними
не смогут связаться по телефону другие, и для этих других притягатель-
ность телефона вследствие этого тоже снизится. Иными словами, если
каждый должен будет оплачивать полную стоимость подключения к
телефонной сети из своего кармана, общее количество абонентов мо-
106
жет оказаться слишком низким. Именно этот довод лежит в основе
задачи «100-процентного охвата», т.е. политики максимизации числа
абонентов телефонной сети, и почти повсеместно практикуемой поли-
тики субсидирования платы за установку телефона и ежемесячной або-
нентной платы, особенно для жителей сельских районов, где издерж-
ки телефонной связи высоки.
Другим неэкономическим внешним эффектом развития системы
телекоммуникаций считается ее вклад в национальную безопасность.
Совместный продукт частных телекоммуникационных компаний явля-
ется готовым ресурсом, который государство может реквизировать и
использовать по иному назначению во времена чрезвычайных ситуа-
ций, как-то: война, стихийные бедствия, несчастные случаи. Соответ-
ственно, возможность использования телекоммуникационных каналов
для координации мер реагирования при возникновении подобных си-
туаций должна учитываться при решении вопроса о пропускной спо-
собности и строении системы, и именно поэтому телекоммуникацион-
ным системам обычно с самого начала придают большую надежность,
возможность дублирования и широкий охват, чего бы не сделали не-
зависимые частные фирмы, исходя из своих соображений. Подобные
«чрезвычайные» нужды нередко приводят в качестве самостоятельно-
го аргумента в пользу естественных монополий, например говорят об
«экономии на масштабе» при переходе от частного использования к
государственному — экономии, которая может быть получена, только
если система представляет собой единое интегрированное целое. Ми-
нистерство обороны США, например, очень долго (на протяжении
60-х и 70-х годов) возражало против любых предложений о смягчении
государственного регулирования и развитии конкуренции в области те-
лекоммуникаций.
Внешними эффектами, порождаемыми средствами массовой ин-
формации, считаются социальные, политические и психологические
последствия обнародования той или иной информации. Изучением
этих влияний занимаются обычно не экономисты, а представители
других социальных дисциплин. (Важным исключением является изу-
чение эффективности рекламы; по этому вопросу уже много десяти-
летий ведется спор, пока ничем не завершившийся, — превосходит ли
информационная ценность рекламы сумму прямых издержек ее про-
изводства и возможных потерь от неправильной аллокации ресурсов
вследствие нечестной рекламы и неправильного понимания смысла
рекламы потребителями.) Аналитическим фундаментом веры в важ-
ность внешних эффектов, производимых информацией, является
утверждение, что информация, передаваемая средствами массовой ин-
формации, может оказывать очень сильное, по крайней мере кратко-
срочное, воздействие на поведение людей в качестве граждан, родите-
лей, потребителей, рабочих, друзей, и т.д. Но раз так, то, ссылаясь на
интересы общества, можно обосновать и необходимость цензуры со
стороны государства, с помощью которой, по крайней мере в принци-
пе, можно было бы предупредить появление некоторых негативных
внешних эффектов, равно как и необходимость направляющего воз-
107
действия со стороны государства, которое подталкивало бы средства
массовой информации к повышению удельного веса образовательных
и других развивающих программ в их программной сетке.
Наиболее яркое проявление эти идеи находят в области теле- и ра-
диовещания. Так, на явно патерналистских принципах создавалась
английская British Broadcasting Corporation (Би-Би-Си) — ее создатели
с самого начала предполагали использовать ее для образовательных и
воспитательных целей. До недавней децентрализации телевидения, раз-
вития кабельного, частного коммерческого телевещания главным прин-
ципом политики Франции в области средств массовой информации
было сохранение французской культуры и национальных ценностей
путем ограничения доступа к французскому эфиру программ и пере-
дач других государств. Система телерадиовещания, возникшая после
Второй мировой войны в Германии, специально создавалась как децен-
трализованная квазигосударственная система монопольных региональ-
ных станций, чтобы ее не могли захватить ни национальное правитель-
ство, ни «газетные бароны», поскольку как то, так и другие могли бы
воспользоваться национальной телерадиовещательной сетью для раз-
дувания деструктивных политических страстей. А в США до самого
недавнего времени существовала система лицензирования теле- и ра-
диовещания, с помощью которой государство могло оценивать претен-
дентов на каждую лицензию по длинному перечню критериев, вклю-
чая личные характеристики претендентов, сведения о других компани-
ях, которыми они владеют, прошлые заслуги и обязательства на
будущее в отношении показа программ, «служащих общественному
благу», причем это касалось как некоммерческих, так и коммерческих
станций.
Конечно, другие средства массовой информации тоже подвергают-
ся определенной политической цензуре, хотя обычно печатные сред-
ства массовой информации и исполнительские искусства пользуются
большей свободой, чем теле- и радиовещательные компании. По сей
день остаются нерешенными такие вопросы, как определение ответ-
ственности за клевету, вмешательства в частную жизнь, грани между
порнографией и искусством, между подстрекательством и критикой, не
выходящей за рамки разумного.
Основной экономический вопрос в этой связи заключается в том,
действительно ли свободный «рынок идей» работает хорошо или, по
крайней мере, лучше, чем при активном вмешательстве того самого
государства, чья безопасность и власть могут быть затронуты содержа-
нием информации. В пользу невмешательства выдвигают два довода.
Первый — позитивный. Он гласит, что люди, в конце концов, должны
иметь возможность выбирать информацию себе по вкусу, точно так же,
как они выбирают любые другие товары, если только потребление та-
кой информации не дает отрицательных внешних эффектов. Если по-
лучение информации толкает людей к неподобающему поведению и
люди будут об этом предупреждены, т.е. будут знать, какое наказание
их ждет за такое поведение, они будут учитывать это, когда станут ре-
шать, какую передачу им смотреть или слушать и как поступать с по-
108
лученной информацией. И точно как же, как «хорошие» товары в ко-
нечном итоге вытесняют «плохие», «правильные» идеи о жизни и о том,
как устроен мир, в конечном итоге победят «неправильные», посколь-
ку потребитель будет отдавать им предпочтение. Второй довод в пользу
нерегулируемого рынка идей — негативный. Он основан на пессимис-
тическом представлении о возможных последствиях политической ин-
тервенции: ориентации на пропаганду в интересах сохранения статус-
кво и крайней восприимчивости либо к требованиям крикливых, хо-
рошо организованных группировок, озабоченных решением какого-то
одного, конкретного вопроса и стремящихся навязать свои ценности
всему остальному миру, либо к тирании большинства, преследующего
всех, кто хоть чуть-чуть отклоняется от общепринятых норм.
Другой аспект этого спора, который обычно больше подчеркивают
неэкономисты, относится к существованию вполне реальной связи
между содержанием массовых коммуникаций и поведением, связи,
существование которой, пожалуй, лучше всего подтверждается данны-
ми о том, как телевидение влияет на уровень насилия в обществе
(и в особенности на уровень насилия среди детей), и о том, как поли-
тики добиваются своих краткосрочных целей, манипулируя подачей но-
востей. Если согласиться с этой точкой зрения, эффективность рынка
идей оказывается очень низкой, по крайней мере в краткосрочном ас-
пекте; здесь неявно предполагается, что люди вовсе не являются таки-
ми рациональными, разумными существами, как это принято считать
в экономической теории, — фактически им даже отказано в способно-
сти по своему желанию выбирать, что смотреть и что слушать. Сторон-
ники государственного вмешательства особенно подчеркивают возмож-
ность вредного влияния средств массовых коммуникаций на несфор-
мировавшуюся и податливую психику детей.
И, наконец, последней общей чертой, свойственной всем средствам
массовых коммуникаций и заслуживающей более подробного разгово-
ра, является то, что потребление информации по своей природе отча-
сти неконкурентно. Любая информация — это общественное благо
в том смысле, что раз новый информационный продукт создан и до-
шел до своего первого потребителя, его не надо заново создавать для
последующих потребителей: по крайней мере, в принципе первое ис-
пользование информации не препятствует ее использованию другими
потребителями. Но на практике это свойство может оказаться несущест-
венным. Информацию необходимо каким-то образом доводить до по-
следующих потребителей, и распространение ее может даже стоить до-
роже, чем повторное создание, — это, например, относится к простей-
шим компьютерным программам. Или, например, информацию можно
приватизировать, причем стоить это будет очень недорого, так что свой-
ство информации служить общественным благом не внесет значитель-
ной неэффективности в систему ее рыночного распространения по
частным каналам. Тем не менее, публичность информации — это се-
рьезная проблема, которая должна учитываться как при оценке эффек-
тивности работы институтов, через которые осуществляется аллокация
ресурсов в секторе массовых коммуникаций, так и при формировании
109
рыночных каналов аллокации ресурсов в этом секторе. Независимо от
того, является ли информационный продукт газетным обзором после-
дних событий, романом, театральной постановкой, телепередачей или
телефонной услугой типа платного канала, по которому рассказывают
анекдоты, проблема, в сущности, остается той же: производители не
будут поставлять свой продукт, если они не смогут покрыть связанные
с его производством альтернативные издержки, хотя предельные из-
держки доставки продукта еще одному потребителю не включают ни-
каких издержек на производство информации. Таким образом, чтобы
система снабжения населения информацией работала эффективно,
необходимо либо субсидировать производство информации, либо вво-
дить ценовую дискриминацию, предусматривающую защиту от арбит-
ража, чтобы не допускать неэффективного исключения потребителей
с относительно низкой склонностью платить за информацию. На прак-
тике оба этих метода используются довольно часто. Телерадиовещание
и исполнительские искусства обычно финансируются из госбюджета
напрямую, а потребители почтовых услуг и услуг телекоммуникацион-
ной системы — по-разному: некоторые — напрямую, другие — через
дискриминационную систему тарифов, в частности, за счет того, что
многие тарифы, например месячная плата за телефон, для населения
ниже, чем для предприятий, а стоимость перевозки для подписных
изданий меньше, чем для других товаров. Разумеется, ни прямые суб-
сидии, ни дискриминационные тарифы не строятся с расчетом на то,
чтобы количественно компенсировать неэффективность частной фор-
мы распределения общественных благ, так что проблема оптимальных
цен на услуги связи и телекоммуникаций остается актуальной, актив-
но изучается и разрабатывается. Здесь мы ограничимся рассмотрени-
ем двух вопросов, которым посвящено большинство работ по этой теме,
а именно — цены на услуги телекоммуникаций (в качестве примера
возьмем телефонную связь) и теле- и радиовещания. Кроме того, мы
немного поговорим также об исследованиях структуры отраслевых
рынков, поскольку они тесно связаны с политикой ценообразования.
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ И СТРУКТУРА РЫНКА ТЕЛЕКОММУ-
НИКАЦИЙ. Индустрия телекоммуникаций в США предлагает широ-
кий спектр услуг, которые до недавнего времени поставлялись потре-
бителям в качестве совместной продукции производителей, входящих
в состав защищенной законом монополии. Когда существованию мо-
нополии ничего не угрожало и правомерность ее существования ни-
кем не оспаривалась, проблема ценообразования состояла в том, как
построить систему тарифов, чтобы она позволяла покрывать совмест-
ные и постоянные издержки с минимальной потерей эффективности
(т.е. с минимальной потерей клиентов). Позже вопрос о том, насколь-
ко правомерно предположение о естественной природе монополии
применительно к телекоммуникациям, все же возник, и тогда пробле-
ма оптимальных тарифов начала приобретать новое измерение — как
построить цены так, чтобы соответствующие сигналы доходили до по-
110
тенциальных участников рынка в неискаженном виде и чтобы струк-
тура рынка могла эффективно развиваться.
Чтобы разобраться в том, что осталось от проблемы формирования
тарифов на услуги телефонной сети, необходимо иметь представление
об основных технических особенностях этого вида связи. Традицион-
ную телефонную систему можно представить в виде совокупности че-
тырех компонентов: терминальное оборудование у клиентов (телефон-
ные аппараты, компьютеры, коммутаторы); телефонные линии, соеди-
няющие каждый такой терминал с телефонной станцией; местная
телефонная станция, которая обслуживает окружающую территорию;
иерархия каналов приемопередачи и коммутаторов следующего уров-
ня, через которые соединяются между собой местные телефонные стан-
ции. Плата за телефон складывается обычно из трех элементов: плата
за установку аппарата, которая взимается за прокладку телефонного
провода и подключение к телефонной линии; ежемесячная абонентная
плата, которая берется за аренду терминала (телефонного аппарата) и
линии; повременная плата за междугородные телефонные звонки.
Обычно за установку телефона берут низкую плату, покрывающую
лишь небольшую долю реальных издержек, — это делается для того,
чтобы обеспечить максимальный охват телефонизацией всех потенци-
альных абонентов; месячная плата тоже, как правило, не покрывает из-
держек, поскольку обычно она дает абоненту право на неограничен-
ное число местных телефонных звонков, причем часто не только мест-
ных, т.е. звонков абонентам той же самой телефонной станции, но по
большей территории, включая звонки через смежные местные комму-
таторы. Обычно месячная абонентная плата за телефон для фирм на-
много (в 2—3 раза) выше, чем для владельцев домашних телефонов, но
внутри каждой из этих двух категорий пользователей она, как прави-
ло, одинакова для всех независимо от конкретного местонахождения
абонента на обслуживаемой территории и от разницы в истинных из-
держках предоставления им услуг.
До начала 60-х годов платежи за установку телефона и месячные
абонентные платежи примерно покрывали издержки местной телефон-
ной связи, включая издержки эксплуатации телефонных станций. Но
с ростом удельного веса междугородных звонков телефонные компа-
нии стали все больше перекладывать груз местных издержек на кли-
ентов, пользующихся междугородной связью. При этом им даже не
нужно было повышать цены за междугородные переговоры, эти цены
даже постоянно снижались, так как технология в этой сфере совершен-
ствовалась необычайно быстрыми темпами. Достаточно было просто
чуть-чуть задержать снижение цен, чтобы они снижались с некоторым
отставанием от снижения издержек, и этого было достаточно, чтобы
за счет междугородных звонков покрывать большую и постоянно рас-
тущую долю затрат на обслуживание местной связи. Нередко эти «из-
лишки» пускались на телефонизацию сельских районов, где издержки
телефонной связи значительно выше, чем в городах, но цены на базо-
вые услуги телефонной сети при этом обычно сохранялись на том же
111
уровне, что и в городах, — опять-таки для стимулирования всеобщей
телефонизации.
Поскольку междугородные звонки проходят через местные телефон-
ные станции, они создают издержки для локальной сети, так как мест-
ные станции приходится с самого начала проектировать достаточно
емкими и сложными, чтобы они могли принимать и передавать звон-
ки в другие города и из других городов. Следовательно, при эффектив-
ной структуре тарифов тарифы на междугородные переговоры долж-
ны включать определенный компонент на покрытие местных издержек.
Но чтобы междугородная связь стала возможной, необходим еще опре-
деленный объем постоянных издержек (на терминальное оборудование,
провода и т.д.), которые также должны покрываться за счет междуго-
родных тарифов, хотя ясно, что объем инвестиций на эти цели не за-
висит от количества и продолжительности звонков.
Ясно, что подобная система тарифов не только способствовала все-
общей телефонизации и поощряла и местные звонки (поскольку их
предельная цена была нулевой), но и создавала отрицательные стиму-
лы для пользования междугородной связью, которая использовалась в
меньшем объеме, чем того требовал стандарт эффективности. Поощ-
рение максимально широкой телефонизации, возможно, оправдано с
точки зрения эффективности, хотя величина внешнего эффекта от
массовой телефонизации, т.е. то, насколько возрастает потребность в
услугах телефонной связи в зависимости от полноты охвата потенци-
альных абонентов, никем так и не была просчитана, и потому сказать,
оправданы ли эти субсидии в таком размере, невозможно. Точно так
же само по себе субсидирование местных звонков, может быть, и не-
обходимо, но метод субсидирования, используемый ныне, вызывает со-
мнения. Ведь все внешние выгоды (как, впрочем, и издержки) от по-
лучения телефонного звонка достаются тем, кому звонят, а не обществу
в целом.
Таким образом, оптимальная структура цен должна предусматривать
разделение издержек на телефонный разговор между теми, кто в этом
разговоре участвует. При этом под издержками мы понимаем как затра-
ты на эксплуатацию системы, так и воздействие числа и продолжитель-
ности разговоров на требуемую емкость коммутационного оборудования.
Брать плату за местные переговоры не имело бы смысла только в том
случае, если бы хронометраж стоил дорого по сравнению со стоимостью
самого телефонного времени, но при современных электронных комму-
таторах, когда установить счетчик времени буквально ничего не стоит,
продолжающееся субсидирование местных телефонных разговоров
оправдать совершенно невозможно. Кроме того, невозможно оправдать
взимание дани с тех, кто пользуется услугами междугородной связи, что-
бы за их счет субсидировать местные звонки, если только нет уверенно-
сти в том, что от местных звонков общество получает больше положи-
тельных внешних эффектов, чем от междугородных.
Оптимальную структуру тарифов на услуги телефонной связи с уче-
том неэкономической важности этих услуг для общества и того, что
телефонная связь относится к разряду естественных монополий, мож-
112
но построить следующим образом. Начать нужно с базового месячно-
го тарифа, который должен покрывать предельные издержки эксплуа-
тации терминалов и телефонных линий, соединяющих эти терминалы
с местной телефонной станцией, а также с введения повременной пла-
ты за все звонки — как междугородные, так и местные, — которая по-
крывала бы предельные издержки эксплуатации коммутаторного и при-
емно-передаточного оборудования в зависимости от рабочей нагрузки
на линию со стороны каждого абонента. Эти цены необходимо будет
впоследствии откорректировать, поскольку они могут давать слишком
много или слишком мало совокупных поступлений. Но еще до этой
корректировки их необходимо сдвинуть вниз, чтобы отразить внешние
положительные эффекты поголовной телефонизации и телефонной
связи (исходя из того предположения, что люди любят, чтобы им зво-
нили). При установлении тарифов за телефонные разговоры часть по-
временной платы можно переложить на того, кому адресован звонок,
но месячная абонентная плата должна быть снижена для всех. На этом
этапе, скорее всего, получится, что месячная абонентная плата не бу-
дет покрывать фиксированных издержек, так что потребуется дальней-
шая корректировка. Один из возможных вариантов — дотировать те-
лефон за счет отчислений от какого-нибудь местного налога с широ-
кой базой, но проще и лучше покрывать эти расходы за счет структуры
тарифов самой телефонной компании. Наилучшим вариантом может
быть, например, повышение тарифов на определенное количество пер-
вых звонков в каждом месяце (фактически это означает предоставле-
ние скидки в зависимости от количества сделанных телефонных звон-
ков). Другой вариант — поднять цены в первую очередь на те услуги,
спрос на которые неэластичен по ценам (ценообразование по Рамсею).
Полученная в результате структура тарифов будет иметь ряд очень
интересных особенностей. Определенную часть стоимости каждого
звонка оплачивали бы те, кому звонят. При этом, чтобы не заставлять
человека платить за те звонки, которые ему неприятны и нежелатель-
ны, начислять плату получателю звонка можно было бы не с того мо-
мента, как он снял трубку, а после некоторого интервала. При жела-
нии звонящие могут заранее сообщить телефонной компании, что они
будут сами оплачивать полную стоимость своих звонков. Все цены стро-
ились бы на основе предельных издержек, т.е. исходя из стоимости
обслуживания связи в условиях пиковой нагрузки. Цены за подключе-
ние и звонки в периферийных районах должны быть выше. Если пред-
полагается устанавливать повышенные (рамсеевские) тарифы на услу-
ги с неэластичным спросом, то первыми кандидатами на такое повы-
шение будут месячные абонентские тарифы, поскольку эластичность
спроса по ним самая низкая: по оценкам она колеблется где-то от
—0,02 до —0,10. Таким образом, даже если новые подключения к сети
производят значительный положительный внешний эффект, при дан-
ном методе калькуляции тарифов оплата этого эффекта производится
за счет повышения базовой платы за доступ к сети. То же самое мож-
но сформулировать иначе: неучет указанного внешнего эффекта при
Назначении тарифов окажет лишь очень незначительное влияние на
113
численность абонентов телефонной сети и потому практически не ска-
жется на эффективности. И, наконец, разницу между месячной або-
нентной платой за телефон для населения и фирм следовало бы сохра-
нить лишь в том случае, если бы удалось показать, что внешний эф-
фект или польза от этих звонков для всего общества различны, что они
дают разную нагрузку на систему или имеют разную эластичность спро-
са по цене.
Ясно, что реальные прейскуранты телефонных услуг никогда не
строились по этим принципам. До начала 70-х годов представители
соответствующих государственных агентств США считали, что вопрос
о степени неэффективности тарифов на услуги телефонной сети их
вообще никак не касается и может представлять лишь чисто научный
интерес. Но технологический прогресс и ложные сигналы, которые
действующие цены давали потенциальным участникам рынка теле-
фонных услуг, привели к возникновению сильного давления со сто-
роны потенциальных конкурентов, желающих проникнуть на преж-
де заповедную территорию телефонной монополии. Благодаря ком-
пьютерным технологиям произошла широкая диверсификация спроса
на телекоммуникации, резко увеличился его объем, при этом исполь-
зование компьютеров и другой микроэлектроники изменило и техно-
логию предложения. Примерами из широкого спектра новых компь-
ютерных услуг могут служить оперативное подключение по коммути-
руемым телефонным линиям к хранящимся компьютерным базам
данных технического и коммерческого профиля, банкоматы, дистан-
ционный контроль за срабатыванием противопожарной и противо-
взломной сигнализации, заказ билетов, гостиниц и пр. через компь-
ютер. Каждая из этих функций предъявляет свои технические требо-
вания, так что оптимальной структурой рынка для этой отрасли
вполне может оказаться олигополия при определенной степени диф-
ференциации продукта, даже если в рамках каждого такого функци-
онального сегмента не будет полностью реализована экономия на
масштабе. К тому же возросший в результате технического прогресса
спрос позволяет получать весьма ощутимую экономию на масштабе
даже при сегментированной системе.
Что касается предложения, то прогресс в электронике позволил
совершенно преобразовать местные телефонные сети. Высокоплотные
сети, в которых к каждому телефонному терминалу шел отдельный
телефонный провод, ушли в прошлое. Микроэлектронная технология
позволяет по одному и тому же проводу посылать и принимать мно-
жество сигналов, так что теперь в каждой местной сети существует
множество малых коммутаторов, которые выполняют функции концен-
траторов, преобразующих сигналы, идущие от многих терминалов, в не-
большое число активных цепей — это возможно, так как все телефоны
одновременно никогда не используются. Это резко снижает стоимость
единицы мощности и дает значительную экономию на масштабе на
уровне местных сетей. Появление таких технологий заставляет пере-
смотреть предложенную нами выше оптимальную структуру тарифов,
поскольку с их внедрением в телефонной сети практически не остает-
114
I
ся фиксированных издержек, не зависящих от объема предоставляемых
услуг. Сегодня терминальное оборудование практически полностью
принадлежит не телефонной компании, а самим клиентам, и если кон-
центрация линии начинается с небольшого числа терминалов, которые
подсоединены к многоканальной линии, ведущей к первому коммута-
тору, то это значит, что практически все физическое оборудование,
принадлежащее телефонной компании, состоит из элементов, износ и
обслуживание которых определяются объемом проходящего через них
трафика. А раз так, то необходимо постепенно отходить от месячной
абонентной платы как основного источника поступлений и все боль-
ше полагаться на повременную оплату.
То, что действующая система тарифов не отражает реальных издер-
жек и используемой технологии, создает дополнительное конкурент-
ное давление со стороны альтернативных поставщиков тех услуг, ко-
торые телефонная компания продает по цене выше издержек. В част-
ности, практика взимания повышенной платы за междугородные
разговоры, чтобы за счет этого источника субсидировать местную связь,
приводит к тому, что те, кто часто звонит в другие города, просто ухо-
дят к конкуренту, который специализируется на междугородной свя-
зи. Крупные предприятия, которым нужно много телефонных номе-
ров, могут вообще установить свои собственные внутренние АТС, что-
бы не выходить лишний раз в городскую сеть. Существуют и другие
альтернативные способы связи — например, по каналам кабельного те-
левидения, выделенным частотам радиосвязи и т.д.
До сих пор лица, отвечающие за политику в области телекоммуни-
каций — как руководители государственных предприятий связи, так и
руководители ведомств, регулирующих работу частных предприятий в
этой области, — главное внимание уделяли не тарифам, а структурным
проблемам развития отрасли. Даже в Соединенных Штатах, где ори-
ентация на рыночную конкуренцию сильна как ни в какой другой стра-
не, государственная политика по отношению к компаниям, желающим
выйти на рынок телекоммуникаций, исходила прежде всего из целей
ограничения конкуренции, и в результате действующая структура та-
рифов до сих пор еще далека от эффективной. Скорее всего, такое
положение дел объясняется тем, что, по мнению политиков, стоимость
телефонных услуг для населения — это в первую очередь то, сколько
им приходится платить за местную связь, и что если структуру тари-
фов сделать более эффективной, то для большинства жителей телефон
станет более дорогим: придется платить более высокую месячную пла-
ту или оплачивать местные разговоры на повременной основе. Поли-
тики рассуждают примерно так: чтобы не вызывать недовольства на-
селения, нельзя допускать роста базовых телефонных тарифов, а это
значит, что за некоторые другие, не базовые, услуги цены придется под-
нять выше издержек. В свою очередь, чтобы цены не опускались ниже
этого искусственно завышенного уровня в условиях, когда естествен-
ная монополия угасает или вообще исчезает, необходимо воздвигать
барьеры и не допускать на этот рынок потенциальных конкурентов,
готовых предложить свои услуги по более низкой цене.
115
ЦЕНЫ И СТРУКТУРА РЫНКА РАДИО- И ТЕЛЕВЕЩАНИЯ.
Самый распространенный способ взимания оплаты за услуги телеве-
щания — это вести передачи бесплатно для зрителей, а плату получать
либо с рекламодателей, либо из бюджета в качестве субсидии. В каком-
то смысле такая система соответствует представлению о том, что теле-
передачи — это классический образец общественного блага; предель-
ные издержки телекомпании в связи с увеличением ее аудитории на од-
ного человека равны нулю, при этом между зрителями нет никакой
конкуренции за «потребление» передач. Таким образом, попытки взи-
мать со зрителя плату за передачу могут просто привести к тому, что
эти передачи не станут смотреть даже те, кто был бы не против запла-
тить известную сумму.
Трудность с бесплатным вещанием, однако, состоит в том, что оно
вовсе не гарантирует такого подбора программ, которые максимизи-
ровали бы сумму, которую зрители готовы были бы заплатить. Если на
минуту отвлечься от различных «трений», возникающих в политичес-
ком процессе, и склонности политиков манипулировать содержанием
телевизионных программ в своих собственных интересах, т.е. если не
считать тех программ, выбор которых продиктован неэкономически-
ми соображениями, то в отношении всех остальных программ действует
простой критерий — передача тем лучше, чем больше народа ее смот-
рит. Причем по этому критерию оценивается деятельность любых те-
левизионных кампаний — и тех, которые финансируют рекламодате-
ли, и тех, которые финансируются из бюджета. Если речь идет о кана-
лах, финансируемых за счет бюджета, то интерес финансирующей
стороны заключается в том, чтобы заручиться как можно более широ-
кой политической поддержкой аудитории, а у коммерческих каналов,
продающих рекламодателям внимание своей аудитории, от размера
аудитории зависят их доходы. И в том и другом случае проблема не в
том, чтобы максимально удовлетворить интересы аудитории, а в том,
чтобы обеспечить такой уровень ее удовлетворенности, чтобы достаточ-
но большое число людей смогли максимизировать свои доходы в усло-
виях, когда плата зависит не от степени удовлетворения предпочтений,
а от количества удовлетворенных потребителей. В частности, потреб-
ности небольших групп телезрителей, готовых платить высокую плату
за то, чтобы увидеть по телевизору какой-то необычный материал, как
правило, не будут удовлетворяться, даже если их совокупная готовность
платить превосходит аналогичный показатель у многочисленной ауди-
тории традиционных телевизионных программ.
Существуют три пути, чтобы справиться с подобной неэффектив-
ностью. Первый — наращивать число телевизионных каналов до тех
пор, пока запросы всех групп зрителей не будут удовлетворены. Пред-
положим, что существует многочисленная массовая аудитория плюс от-
дельные мелкие группы зрителей, имеющие собственные узкие инте-
ресы. С ростом числа телевизионных каналов доля массовой аудито-
рии, на которую каждый из этих каналов может рассчитывать, будет
равна исходной численности массовой аудитории, деленной на число
каналов. В какой-то момент число каналов увеличится настолько, что
116
численность самой большой группы зрителей с узкими интересами
окажется больше, чем численность массовой аудитории, на которую
сможет рассчитывать следующий новый канал. Таким образом, стрем-
ление к максимизации аудитории приводит в конечном итоге к спе-
циализации. В США примерно по такой схеме происходило развитие
радиовещания. Когда радиовещание в США только начиналось, Фе-
деральная комиссия по коммуникациям решила позаботиться о разно-
образии коммерческого радиовещания, для чего был выработан набор
«форматов» (т.е. типов) передач, которые могли передавать радиостан-
ции. Недавно от регулирования формата в США отказались, но сами
категории сохранились, так что радиостанции в США до сих пор клас-
сифицируются по тематике, как книги в книжном магазине.
В телевидении добавить новый канал не так просто, как новую ра-
диостанцию. Телевизионные станции занимают намного больший ди-
апазон радиочастот, чем радиостанции, и в мире пока еще не нашлось
стран, которые бы решились отдать телевидению достаточно широкий
диапазон высококачественного радиоспектра, чтобы выяснить, будет ли
оно, как и радио, развиваться по пути специализации. Впрочем, в Ита-
лии как раз сейчас проводится незапланированный эксперимент —
в 70-е годы суды этой страны постановили, что государство не имеет
конституционного права ограничивать количество телевизионных стан-
ций, так что все барьеры были сняты и на телевизионный рынок ри-
нулись все желающие. Впрочем, пока еще слишком рано судить о том,
что из этого получится.
Второй путь обеспечения большего разнообразия телепрограмм за-
ключается в том, чтобы позволить зрителям непосредственно выражать
свою готовность платить. Речь идет о развитии кабельного (платного)
телевидения, где может быть гораздо больше каналов, чем у телевиде-
ния, вещающего через эфир, и плата с потребителей взимается в за-
висимости от числа и типа каналов, абонентами которых они являют-
ся. Неэффективность этой системы заключается в издержках привати-
зации программ или каналов, которая (приватизация) необходима для
того, чтобы эти программы или каналы можно было продавать поштуч-
но. До того как кабельное телевидение получило в США большое рас-
пространение, считалось, что в связи с приватизацией телевизионных
станций интерес аудитории к традиционным, рассчитанным на широ-
кую публику телевизионным программам снизится и кабельное теле-
видение будет делать больший упор на культуру, образование и собы-
тия в обществе. В основе этих ожиданий лежало мнение, что зрители
с более высокими доходами захотят смотреть более нетрадиционные
программы и что их слово при определении содержания платных ка-
налов будет решающим. На практике эти ожидания не оправдались.
Новые кабельные системы в основном показывают такие же програм-
мы, как и по обычному телевидению, — художественные фильмы,
спортивные передачи, сериалы. Главное исключение составляют пере-
дачи новостей, которые теперь все в основном предпочитают смотреть
по национальному и местному кабельному телевидению, а вот обще-
образовательные передачи и передачи по культуре на кабельном теле-
177
видении не получили особого распространения. Напрашивается вывод,
что исходный дефицит телевизионных станций привел к возникнове-
нию избыточного спроса на телевидение массовое, в первую очередь —
на программы, аналогичные тем, которые показывают по обычному
телевидению.
В качестве третьего пути увеличения разнообразия телевещания
можно создать единую многоканальную монопольную систему. Если
такая компания захочет максимизировать число зрителей, ей будет
просто невыгодно пускать по разным каналам программы, рассчитан-
ные на массового зрителя, поскольку переключение массового зрите-
ля с одного канала на другой не принесет ей никакой пользы. Однако
этот путь себя не оправдал. Добавлением второй или третьей станции,
рассчитанной на массового зрителя, еще можно надеяться увеличить
зрительскую аудиторию, но, как показывает опыт, по сравнению с со-
зданием специализированных программ эффект от такой добавки бу-
дет небольшим. В США, например, первому телевизионному каналу
достается чуть менее половины потенциальной аудитории в самое луч-
шее вечернее время (прайм-тайм), причем сколько бы станций ни
было, телевизор никогда не будут смотреть более 80% от общего (по-
тенциального) числа зрителей, и на эти 80% практически всегда уда-
ется выйти уже при наличии 3-4 станций. Так что многоканальная ком-
пания-монополист на самом деле станет либо диверсифицировать про-
граммы на втором или третьем канале, либо просто предпочтет
ограничиться одним-двумя каналами в зависимости от соотношения
между выгодой, которую ей дает чистый прирост численности аудито-
рии, и издержками на добавление еще одного канала.
Общественное телевидение США дает пример нового способа под-
держки. Новизна заключается в попытке применить децентрализован-
ное принятие решений к приобретению общественного блага (в дан-
ном случае — телевизионных программ). Первым компонентом дан-
ной системы является метод государственного финансирования, когда
телевидению авансом выделяется финансирование на несколько лет
вперед, что является определенной защитой от попыток манипулиро-
вать программами в политических целях. Выделенные средства делят-
ся на три части: фонд, средства из которого идут на финансирование
различных экспериментальных программ, — этим фондом распоря-
жается независимая, квазигосударственная организация (она называ-
ется «Корпорация общественного телевещания» — Corporation for
Public Broadcasting); фонд, средства из которого идут на техническое
обслуживание национальной сети телевещания («Служба обществен-
ного телевещания» — Public Broadcasting Service); прямые субсидии
местным станциям. Размер выделяемых местным станциям субсидий
отчасти зависит от того, сколько частных взносов удалось собрать
самой станции от своей аудитории. Таким образом, система дотиро-
вания местных станций учитывает пожелания конкретной аудито-
рии — сколько бы денег частные телезрители ни вложили в свою лю-
бимую программу, из бюджета будет выделено еще столько же (сис-
тема зеркальных грантов).
118
Вторым компонентом системы является механизм, с помощью ко-
торого телестанции решают, какие программы они будут транслировать.
Этот механизм сочетает в себе элементы аукциона и ценового регули-
рования. Вначале определяется цена программы для каждой станции
в зависимости от размера аудитории, которую эта станция обслужива-
ет, после чего станции голосуют за программы, которые они хотели бы
у себя показать. Голосование происходит в несколько раундов. Если
какие-то станции не хотят покупать программу, их доля в покрытии
издержек на создание этой программы вычитается из совокупных из-
держек, и остаток заново делится между станциями, которые хотят ее
купить, так что стоимость программы для желающих возрастает, но не
более, чем это необходимо для покрытия издержек на ее создание.
Процесс продолжается до тех пор, пока все станции не определят свою
позицию по всем программам, — обычно на это уходит не более дю-
жины итераций. Если станция проголосовала против программы, она
не будет иметь права ее транслировать, но если позже она захочет из-
менить свое решение, то она сможет это сделать, но заплатить ей при-
дется несколько дороже, чем станциям, захотевшим показывать эту
программу с самого начала.
Подобный процесс закупки децентрализует процесс формирования
состава телевизионных программ, доводя его до уровня местных стан-
ций. Благодаря этому решаются две задачи. Во-первых, поскольку сум-
ма средств, которой сможет распоряжаться станция, зависит от разме-
ра добровольных взносов, отражающих готовность аудитории платить,
возникает механизм обратной связи от аудитории к телевизионной
сети, который работает аналогично системе платного телевидения. Во-
вторых, подобная система оставляет политикам меньше возможности
манипулировать составом телевизионных передач, поскольку теперь,
если бы кому-то из центрального правительства захотелось диктовать
телевидению свою волю, ему пришлось бы иметь дело не с руковод-
ством центрального телевидения, а со 150 станциями-лицензиатами.
К тому же этим станциям теперь далеко не все равно, что показывать,
поскольку размер их финансирования зависит от размера доброволь-
ных пожертвований, так что к подбору программ они подходят очень
ответственно.
Конечно, нельзя сказать, что система финансирования обществен-
ного телевидения в США удовлетворяет всем базовым требованиям
эффективности: ни добровольные взносы телезрителей, ни механизм
отбора программ станциями не являются полноценной заменой инди-
видуального рыночного выбора. Тем не менее, если учесть, что создать
совершенный механизм распределения общественных благ невозмож-
но в принципе, действуют эти приемы очень и очень неплохо, и экс-
периментальные исследования в лабораторных условиях позволяют
предположить, что данный метод закупки телепрограмм может с успе-
хом применяться и в других ситуациях, когда требуется принятие кол-
лективного решения.
119
ВОПРОСЫ, ОСТАЮЩИЕСЯ ОТКРЫТЫМИ. По крайней мере
два момента делают сектор массовых коммуникаций интереснейшим
объектом для дальнейших исследований. Во-первых, это быстрое раз-
витие технологии — как со стороны спроса, так и со стороны предло-
жения, во-вторых — наличие сильного и переменчивого влияния по-
литических процессов на структуру и деятельность данного сектора.
С развитием технологии происходят серьезные изменения и в струк-
туре спроса на услуги, поэтому предугадать дальнейшее развитие это-
го сектора, ориентируясь на прошлый спрос и прогнозные оценки
спроса на конкретные услуги, нельзя. При этом практически неизучен-
ным остается вопрос о том, каким образом развитие технологии — сни-
жение издержек, расширение способов использования и технических
возможностей — влияет на основные параметры спроса, как-то: тем-
пы роста спроса по конкретным услугам и категориям потребителей,
эластичность спроса по цене как по отдельным услугам, так и пере-
крестную.
Политические силы, которые направляют развитие данного секто-
ра, также должны действовать с учетом новых технических возможно-
стей и новых параметров спроса. Сегодня большинство развитых стран
подвергают свою политику в области массовых коммуникаций или, по
крайней мере, некоторые аспекты этой политики серьезному пересмот-
ру. В Японии и Великобритании, например, проводится приватизация
телекоммуникаций, создаются предпосылки для развития рыночной
конкуренции в этой области, во Франции и Италии ликвидируется
государственная монополия на телевещание. Эти перемены представ-
ляют интерес как минимум с двух точек зрения: как скажутся эти ко-
ренные перемены на эффективности работы данных отраслей и как эти
перемены могут повлиять на будущую политику в области коммуни-
каций и на будущую структуру этого сектора.
В периоды быстрых перемен обычно происходит и быстрое накоп-
ление новых знаний. Думается, что обзор по экономическим пробле-
мам массовых коммуникаций, который будет написан через одно-два
десятилетия, поведает читателю о многих важных и удивительных от-
крытиях в этой области.
БИБЛИОГРАФИЯ
Bloch, Н. and Wirth, М. 1984. The demand for pay services on cable television.
Information Economics and Policy 1(4), 311—32.
Brock, G. 1981. The Telecommunications Industry: The Dynamics of Market
Structure. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Coase, R. 1959. The Federal Communications Commission. Journal of Law and
Economics 2(1), 1-40.
Courville, L., de Fontenay, A., Dobell, R. 1983. Economic Analysis of
Telecommunications. Amsterdam: North-Holland.
Evans, D. (ed.) 1971. Breaking Up Bell. Amsterdam: North-Holland.
120
Levin, H. 1971. The Invisible Resource. Baltimore: Johris Hopkins Press.
Machlup, F. 1980. The Production and Distribution of Knowledge in the United States.
Princeton: Princeton University Press.
Mitchell, B. 1978. Optimal pricing and local telephone services. American Economic
Review 68(4), September, 517—37.
Network Inquiry Special Staff. 1980. New Television Networks: Entry, Jurisdiction,
Ownership and Regulation. Washington, DC: Federal Communications
Commission.
Noll, R. 1985. ‘Let them make toll calls’: a state regulator’s lament. American
Economic Review 75(2), May, 52—6.
Noll, R., Peck, M.J. and McGowan, J.J. 1973. Economic Aspects of Television
Regulation. Washington, DC: Brookings.
Owen, B. 1975. Economics and Freedom of Expression. Cambridge, Mass.: Ballinger.
Owen, B., Beebe, J. and Manning, W. 1974. Television Economics. Lexington, Mass.:
D.C. Heath.
Park, R.E. 1972. Prospects for cable in the 100 largest television Markets. Bell Journal
of Economics 3(1), Spring, 130-50.
Park, R.E. 1975. New television networks. Bell Journal of Economics 6(2), Autumn,
607-20.
Rosse, J. 1967. Daily newspapers, monopolistic competition, and economies of scale.
American Economic Review 52(2), May, 522—33.
Rosse, J., Detrouzos, J., Robinson, M. and Wildman, S. 1979. Economic issues in mass
communications industries. Proceedings of the Symposium on Media
Concentration. Washington, DC: Federal Trade Commission, vol. I, 40-192.
Snow, M. 1986. Marketplace for Telecommunications: Regulation and Deregulation
in Industrialized Democracies. White Plains, NY: Longman.
Spence, A.M. and Owen, B. 1977. Television programming, monopolistic competition
and welfare. Quarterly Journal of Economics 91(1), February, 103-21.
Steiner, P. 1952. Program patterns and preferences, and the workability of competition
in radio broadcasting. Quarterly Journal of Economics 66(2), May, 194—223.
Spitzer, M. 1985. Controlling the content of print and broadcast. Southern California
Law Review 58(6), September, 1349—405.
Taylor, L. 1980. Telecommunications Demand: A Survey and Critique. Cambridge,
Mass.: Ballinger.
von Weizsacker, C. 1984. Free entry into telecommunications? Information Economics
and Policy 1(3), 197-216.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Рональд Финдли
Comparative Advantage
Ronald Findlay
He вызывает сомнений тот факт, что современная экономика да и
сам мир, в котором мы живем, решающим образом зависят от специа-
лизации и разделения труда между индивидами, фирмами и нациями.
Принцип сравнительных преимуществ, впервые четко сформулирован-
ный и доказанный Давидом Рикардо в 1817 г., является фундаменталь-
ным аналитическим объяснением источника огромного «выигрыша от
торговли». Хотя выгоды специализации осознавались представителями
всех цивилизаций еще в древнейшие времена, именно Рикардо мы
обязаны получением этого вывода, наиболее глубокого и наиболее впе-
чатляющего за все время существования экономической науки. Хотя
та же логика в равной мере применима к торговле между индивидами,
фирмами и регионами, принцип сравнительных преимуществ был от-
крыт и до нынешних пор подвергается анализу именно применитель-
но к международной торговле.
Под «нацией» Рикардо понимал две вещи: «наделенность фактора-
ми производства», т.е. в простейшей модели определенное количество
условных единиц труда, и «технологию», т.е. уровень производитель-
ности труда в отраслях, производящих различные блага, такие, как сук-
но и вино в примере, рассматриваемом самим Рикардо. Как в Англии,
так и в Португалии труд может свободно перемещаться между произ-
водством сукна и вина, однако он не может покинуть национальные
пределы. Предположим, что условная единица труда в Португалии
может произвести одну условную единицу сукна или одну условную
единицу вина, в то время как в Англии одна единица труда может про-
извести четыре единицы сукна и две единицы вина. Таким образом,
альтернативная стоимость единицы вина в Португалии составляет одну
единицу сукна, а в Англии — две единицы сукна. Если рынки конку-
рентны и господствует режим свободной торговли, в каждой из стран
никогда не будут производиться оба товара, поскольку производство
вина в Англии и производство сукна в Португалии всегда может быть
подорвано за счет простых арбитражных операций, связанных с экс-
портом сукна из Англии и импортом вина из Португалии. Благодаря
этому выпуск вина в Англии и сукна в Португалии будет сокращаться
до тех пор, пока по крайней мере в одной из отраслей он не достигнет
нулевого значения. Если же в обеих странах потребляется и тот и дру-
122
гой товар, то «условия торговли» после достижения равновесия долж-
ны установиться в интервале от одной до двух единиц сукна за едини-
цу вина. В какой из двух стран будет достигнута полная специализа-
ция производства, зависит от сравнительной величины стран (измеря-
емой на основе объема рабочей силы и ее производительности в каждой
из отраслей), а также от того, в какой мере каждый из двух товаров
пользуется спросом на мировом рынке. Отсюда следует, что вероят-
ность полной специализации Португалии на производстве вина будет
тем выше, чем меньше эта страна по сравнению с Англией (в указан-
ном выше смысле) и чем выше мировой спрос на вино по сравнению
со спросом на сукно.
Рассматриваемый в качестве «позитивной» теории принцип срав-
нительных преимуществ позволяет построить предсказания относитель-
но: а) направления торговых потоков: каждая страна экспортирует то-
вары, для которых соотношение альтернативных стоимостей, опреде-
ляемое господствующей в каждой из стран технологией, окажется
меньше; и б) условий торговли: они должны находиться в интервале,
заданном указанным соотношением альтернативных стоимостей.
С «нормативной» точки зрения принцип сравнительных преимуществ
означает, что в результате торговли благосостояние граждан каждой из
стран повышается, причем масштаб полученного выигрыша зависит от
того, в какой мере условия торговли превышают альтернативную сто-
имость товара внутри страны. Именно «нормативная» сторона доктри-
ны всегда вызывала наибольшие споры, а потому к ее оценке необхо-
димо подходить с особым вниманием.
В использованном Рикардо примере источниками предложения ра-
бочей силы, как можно предположить, являются домохозяйства, для
каждого из которых уровень сравнительной производительности в обеих
отраслях совпадает со средним национальным уровнем. Таким образом,
все домохозяйства в обеих странах могут повысить свое благосостояние
в результате торговли, если условия торговли устанавливаются в проме-
жутке между альтернативными стоимостями товара в каждой из стран.
Импортозамещающие отрасли в каждой из стран просто переключают-
ся — за короткий промежуток времени и без всяких издержек — на про-
изводство экспортных товаров (перемещаясь в противоположный угол
линейной границы производственных возможностей, если использовать
для иллюстрации известный геометрический инструментарий), а жела-
емый уровень потребления соответствующих товаров достигается путем
импорта, причем в ходе описанного процесса уровень благосостояния в
каждой из стран повышается. Если одна из стран не достигает состоя-
ния полной специализации, то благосостояние всех домашних хозяйств
в данной стране остается на прежнем уровне, а весь выигрыш от тор-
говли достается гражданам «меньшей» страны. Как следствие мы име-
ем дело с ситуацией, когда благодаря торговле в выигрыше оказываются
все граждане по крайней мере одной из стран, в то время как никто из
граждан обеих стран не оказывается в проигрыше.
Столь однозначный результат обусловлен предположением Рикар-
до о полной мобильности работников между отраслями. Рассмотрим
123
прямо противоположный случай, когда наблюдается полная специали-
зация рабочей силы в каждой из отраслей, так что страна производит
сукно и вино в фиксированной пропорции, изменить которую не пред-
ставляется возможным. В этом случае под влиянием торговли занятые
в импортозамещающем секторе обеих стран с необходимостью оказы-
ваются в проигрыше, в то время как благосостояние занятых в экспорт-
ном секторе обеих стран повышается. Однако можно показать, что тор-
говля повышает потенциальный уровень благосостояния в каждой из
стран в том смысле, который вкладывает в это понятие П. Самуэльсон,
а именно: граница потенциальной полезности (utility-possibility frontier)
в условиях международной торговли будет пролегать выше границы
потенциальной полезности, соответствующей условиям автаркии, так
что в случае, если был бы возможен трансферт благосостояния от «вы-
игравших» к «проигравшим», никто не испытал бы снижения уровня
благосостояния в результате торговли, а по крайней мере у некоторых
он оказался бы более высоким (Samuelson, 1962).
Другим важнейшим нормативным вопросом является вопрос о свя-
зи между равновесием в условиях свободной торговли и эффективно-
стью и благосостоянием в мировом масштабе. В модели Рикардо сво-
бодная торговля в общем случае не обеспечивает максимизации благо-
состояния в мировом масштабе. В рассматриваемых численных
примерах Рикардо подчеркивает тот факт, что Англия может получить
выигрыш от торговли даже в том случае, если она имеет абсолютные
преимущества в производстве обоих благ, т.е. производительность тру-
да англичан как в производстве сукна, так и в производстве вина выше,
чем производительность труда португальцев (хотя в производстве сук-
на это преимущество проявляется сильнее). Предположим, что труд
португальцев, если бы они переехали в Англию, оказался бы столь же про-
изводительным, как и труд англичан, — это равнозначно предположе-
нию о том, что преимущество англичан в производительности обуслов-
лено климатическими и иными факторами «окружающей среды», а не
различиями в способностях и производственных навыках. Если бы ра-
ботники могли свободно перемещаться между странами и были бы
лишены «национальных» чувств, все производство было бы сконцент-
рировано в Англии, а Португалия прекратила бы свое существование.
Бывшие работники-португальцы повысили бы свое благосостояние по
сравнению с состоянием свободной торговли, поскольку их реальная
заработная плата повысилась бы с одной до двух единиц вина. Работ-
ники-англичане оказались бы в проигрыше, если бы в исходном состо-
янии условия торговли были выше, чем 0,5 единицы вина за одну еди-
ницу сукна, однако легко показать, что они могли бы получить доста-
точную компенсацию, поскольку граница потенциальной полезности
для мировой экономики в целом благодаря объединению рабочей силы
сдвигается вправо и вверх.
Больший интерес представляет случай, когда каждая из стран име-
ет абсолютные преимущества в производстве одного из товаров. Как
легко показать (см.: Findlay, 1982), в этой ситуации будет иметь место
переток рабочей силы в страну, где в условиях свободной торговли
124
уровень реальной заработной платы будет выше, в результате чего вы-
пуск экспортных товаров в данной стране будет нарастать, в то время
как в стране, где уровень реальной заработной платы в условиях сво-
бодной торговли окажется ниже, выпуск экспортных товаров будет
сокращаться. Динамика условий торговли окажется неблагоприятной
для страны с более высоким уровнем заработной платы, в результате
чего постепенно будет достигнуто выравнивание реальной заработной
платы. Условия торговли, при которых будет достигнуто равенство ре-
альной заработной платы, будут равны соотношению уровней произ-
водительности труда в экспортных секторах обеих стран; иными сло-
вами, двойные факторные условия торговли окажутся равными едини-
це. При этом сочетание свободной торговли с полной мобильностью
рабочей силы обеспечит не только максимизацию эффективности в
масштабах мировой экономики, но и установление равенства. «Неэк-
вивалентный обмен» будет отсутствовать; одновременно будут удовлет-
воряться либерально-утилитаристские и ролзианские критерии спра-
ведливости распределения (см.: Findlay, 1982). Несмотря на высказан-
ные аргументы, было бы утопично надеяться на то, что в современном
мире национальных государств с чьей-либо стороны возможно проведе-
ние политики «открытых границ».
Многие авторы работали над расширением исходной модели Рикар-
до, в которой фигурировали две страны и два товара, для случаев боль-
шего числа товаров и стран; детальный обзор соответствующих подхо-
дов можно найти в книгах Г. Хаберлера и Дж. Вайнера (Haberler, 1936
[1933]; Viner, 1937). Для случая двух стран и п товаров была выдвинута
концепция «цепи сравнительных преимуществ», в рамках которой то-
вары ранжируются по убыванию относительной эффективности их про-
изводства в обеих странах. Несложно показать, что при едином уровне
заработной платы в каждой из стран экспортироваться будут все това-
ры, имеющие ранги от 1 до некоторого j, в то время как импортиро-
ваться будут все товары, имеющие ранги от (J + 1) до п. Значение ран-
га j будет зависеть от относительного размера стран и структуры миро-
вого спроса. Аналогичная «цепная» концепция применяется в случае с
двумя товарами и большим числом стран. На этот раз ранжированию
подвергаются страны, а критерием служит уровень производительнос-
ти в сфере выпуска двух рассматриваемых товаров; при этом первый
ранг получает страна, имеющая наивысший относительный уровень
эффективности производства сукна, а п-й ранг — страна, имеющая
наивысший относительный уровень эффективности производства вина.
Мировой спрос и объем рабочей силы в каждой из стран будет детер-
минировать ранг «предельной» страны (J): все страны с рангами от 1
Доу будут экспортировать сукно, а все страны с рангами от (j + 1) до л
будут экспортировать вино.
Изучение проблемы сравнительных преимуществ для случая, когда
одновременно фигурируют множество товаров и множество стран,
представляет значительные аналитические трудности. Ф. Грэхам
(Graham, 1948) рассмотрел несколько тщательно подобранных числен-
ных примеров, иллюстрирующих эту проблему; под влиянием его ра-
125
боты теоретики из Рочестерского университета Л. Маккензи и Р. Джонс
(McKenzie, 1954; Jones, 1961) применили к данному конкретному ва-
рианту линейной модели общего экономического равновесия мощные
инструменты анализа видов деятельности (activity analysis). В связи с
применением методов математического программирования и анализа
видов деятельности интересно отметить, что Л. Канторович в своей
знаменитой книге, посвященной планированию в советской экономи-
ке, разработал пример оптимальной структуры специализации предпри-
ятий, который в точности соответствует рикардианской модели меж-
дународной торговли (Канторович, 1960).
В большинстве работ, посвященных рикардианской модели торгов-
ли, внимание концентрируется на модели, которая приведена в главе 7
«Оснований политической экономии»; характерной особенностью этой
модели является тот факт, что труд рассматривается в качестве един-
ственного ограниченного фактора производства. В то же время более
развернутая модель Рикардо, которая содержится в его «Эссе о прибы-
лях», курьезным образом оказалась невостребованной, хотя представ-
ленный там анализ взаимосвязей между торговлей, распределением
доходов и экономическим ростом является достаточно впечатляющим.
Формальная структура этой модели очень скрупулезно изложена в ра-
боте Л. Пазинетти (Pasinetti, 1960). В экономике производятся два бла-
га — зерно и промышленные товары; в каждой из этих отраслей суще-
ствует временной лаг (длиной в один условный период времени) меж-
ду затратой труда и получением выпуска. В связи с этим оплата труда
должна осуществляться из «фонда заработной платы», который в ис-
ходном периоде представляет собой фиксированную сумму, накоплен-
ную за счет сбережений из прибыли. Производство зерна, кроме того,
требует использования земли, ограниченное предложение которой
обусловливает снижение отдачи от дополнительных единиц труда, ис-
пользуемых в зерновой отрасли. Уровень заработной платы в зерновом
выражении является экзогенно заданным; промышленные товары яв-
ляются предметами роскоши, потребляемыми исключительно землевла-
дельцами, которые получают ренту, соответствующую предельному
продукту земли. Прибыль представляет собой разность между предель-
ным продуктом труда и фиксированным уровнем реальной заработной
платы и одновременно равна предельному продукту, «дисконтирован-
ному» по текущей процентной ставке, которая в данной модели равна
норме прибыли (норма прибыли, в свою очередь, равна отношению
суммы прибыли к сумме заработной платы, которая должна быть аван-
сирована в предыдущий период). Равновесие (momentary equilibrium)
определяет относительные цены зерна и промышленных товаров, ве-
личину ренты в расчете на 1 акр и норму прибыли, а также уровень
выпуска и распределение рабочей силы между отраслями. Темп роста
в этой системе равен произведению нормы прибыли на склонность
класса капиталистов к сбережению. Для данной системы характерно
приближение к стационарному состоянию при монотонном снижении
нормы прибыли и росте величины ренты в расчете на 1 акр земельной
площади.
126
Возможность импортировать дешевое зерно из-за границы имеет
важные последствия с точки зрения распределения доходов и эконо-
мического роста. Как утверждал сам Рикардо по поводу отмены «хлеб-
ных законов», приобретение более дешевого зарубежного зерна ведет
к снижению ренты и росту нормы прибыли в национальной экономи-
ке, а следовательно, к ускорению экономического роста. Приближение
к рикардианскому стационарному состоянию откладывается на буду-
щее (хотя, разумеется, его нельзя избежать полностью). Перспективы
же роста для страны, являющейся экспортером зерна, неблагоприят-
ны (Findlay, 1974).
Однако основное значение этой расширенной модели Рикардо со-
стоит в том, что она показывает, в сколь существенной мере разрабо-
танный впоследствии подход к изучению международной торговли с
точки зрения общего экономического равновесия (или «неоклассичес-
кий» подход) был уже заложен в рамках рикардианского анализа. Преж-
де всего сама структура сравнительных преимуществ зависит от комп-
лексной взаимосвязи между технологией, наделенностью страны фак-
торами производства и предпочтениями потребителей. В главе 7
«Оснований политической экономии» предполагается, что структура
сравнительных преимуществ носит экзогенный характер и диктуется
четырьмя фиксированными технологическими коэффициентами, ха-
рактеризующими производительность труда англичан и португальцев
в сфере производства сукна и вина. Границы производственных воз-
можностей для обеих стран имеют линейную форму, а сравнительные
преимущества определяются просто-напросто наклоном отрезков, изоб-
ражающих эти границы на графике. Однако, как было продемонстри-
ровано в моей работе (Findlay, 1974), приведенная в «Эссе о прибылях»
модель подразумевает существование в каждый конкретный момент
времени выпуклой границы производственных возможностей, посколь-
ку, хотя производительность труда в промышленности остается посто-
янной, в производстве зерна имеет место убывание отдачи от увеличе-
ния затрат трудовых ресурсов. В случае двух стран структура сравни-
тельных преимуществ будет зависеть от наклона данных кривых в
условиях равновесия, соответствующего состоянию автаркии; величи-
на этого наклона является эндогенной переменной, которая зависит от
отношения «фонда заработной платы» к величине предложения зем-
ли, от структуры потребления землевладельцев, а также от технологии
производства обоих товаров.
Вместе с тем, как указал Бургшталлер (Burgstaller, 1986), решение
модели, соответствующее стационарному состоянию, восстанавливает
линейный характер структуры сравнительных преимуществ. Для того
чтобы норма прибыли в стационарном состоянии была нулевой, необ-
ходимо равенство предельного продукта труда и экзогенно заданной
реальной заработной платы, а соблюдение этого условия, в свою оче-
редь, предусматривает неизменность пропорции использования земли
и труда, а значит, и неизменность выпуска на единицу труда, вложен-
ного в производство зерна. Таким образом, мы вновь приходим к двум
заданным технологическим коэффициентам, и наклон линейной гра-
127
ницы производственных возможностей вновь оказывается экзогенным
показателем сравнительных преимуществ.
В рамках неорикардианского подхода, предложенного Стидменом
(Steedman, 1979а; 1979b), рассматриваются более общие структуры про-
изводства в контексте временных фаз. Используемая технология явля-
ется единственным фактором, который определяет форму имеющих
отрицательный наклон кривых, характеризующих зависимость между
заработной платой и нормой прибыли (или границу факторных цен);
каждой точке на этих кривых соответствует набор относительных цен
товаров, а значит, и определенная структура сравнительных преиму-
ществ по отношению к другой стране, экономика которой описывает-
ся в аналогичных терминах.
Хотя и Дж.С. Милль, и А. Маршалл, и Ф. Эджуорт внесли значи-
тельный вклад в развитие теории международной торговли, концепция
сравнительных преимуществ в их работах не претерпела никакой эво-
люции по сравнению с тем состоянием, которым она была обязана
работам Рикардо. Эти авторы концентрировали свое внимание главным
образом на определении условий торговли и решении иных частных
вопросов методами сравнительной статики. Однако в межвоенный пе-
риод в рассматриваемой сфере был достигнут фундаментальный про-
рыв, связанный в основном с работами шведских исследователей
Э. Хекшера и Б. Улина (Heckscher, 1919; Ohlin, 1933). Разработка Ха-
берлером, Леонтьевым, Лернером (Haberler, 1936 [1933]; Leontief, 1933;
Lerner, 1932) и другими авторами графического аппарата для анализа
взаимодействия предпочтений, технологии и наделенности факторами
производства в условиях общего экономического равновесия привела
к тому, что теория внешней торговли и сравнительных преимуществ
прочно утвердилась в качестве одного из направлений неоклассической
теории общего экономического равновесия.
Суть данного подхода можно разъяснить с использованием хорошо
знакомой модели, описывающей случай двух стран, двух товаров и двух
факторов производства (алгебраическое описание этой модели см. в
работе: Jones, 1965, а графическое изображение — в работе; Findlay,
1970). Если в отраслях, выпускающих рассматриваемые товары, фак-
торы производства используются в различных пропорциях, конкретная
форма выпуклых границ производственных возможностей будет зави-
сеть от заданного предложения факторов производства и технологии,
характеризующейся постоянной отдачей от масштабов производства.
Тем самым задается структура модели «со стороны предложения», за-
мыкание модели производится посредством спецификации предпочте-
ний потребителей. В экономиках, использующих одинаковые техноло-
гии, в одинаковой мере наделенных факторами производства и не от-
личающихся с точки зрения предпочтений потребителей, равновесные
соотношения цен в условиях автаркии будут совпадать, а потому такие
экономики не будут иметь стимулов к установлению между собой тор-
говых отношений. Таким образом, для возникновения различий в срав-
нительных преимуществах страны должны иметь различия по крайней
мере по одной из трех указанных характеристик. При идентичности
128
используемых в двух странах технологий и одинаковой наделенности
этих стран факторами производства конкретная страна будет иметь
сравнительные преимущества в производстве товара, который для граж-
дан этой страны представляет меньший интерес, чем для граждан со-
седней страны, поскольку при таких условиях в рассматриваемой стра-
не цена этого товара будет ниже, чем за границей. Равным образом,
если наделенность факторами производства и предпочтения потреби-
телей в двух странах одинаковы, то различия в сравнительных преиму-
ществах будут определяться относительной эффективностью техноло-
гий: конкретная страна будет иметь сравнительные преимущества в
производстве того товара, выпуск которого осуществляется с помощью
относительно более эффективной технологии (точно так же, как и в
рикардианской модели). Эти различия в технологической эффектив-
ности могут найти отражение, к примеру, в величине констант-мно-
жителей производственной функции; в этом случае следует говорить о
различиях в эффективности, «нейтральных по Хиксу».
Однако в соответствии с идеями Хекшера и Улина именно разли-
чиям в наделенности стран факторами производства неоклассическая
литература отводила центральное место в объяснении сравнительных
преимуществ. В строгом виде была сформулирована теорема Хек-
шера — Улина, гласящая, что каждая страна должна экспортировать
товар, в производстве которого наиболее интенсивно используется
фактор, имеющийся в данной стране в относительном изобилии; были
также детально специфицированы возможные оговорки к этой теореме.
Одна из наиболее важных оговорок заключается в том, что не должны
иметь места случаи «инверсии» факторных пропорций; иными словами,
производство одного товара должно быть более капиталоемким, чем
производство другого, при всех значениях соотношения между заработ-
ной платой и нормой прибыли (или, по крайней мере, при тех его зна-
чениях, которые лежат в промежутке, определяемом факторными про-
порциями участвующих в торговле стран).
С теоремой Хекшера — Улина связана теорема Столпера — Саму-
эльсона (Stolper and Samuelson, 1941), согласно которой торговля уве-
личивает вознаграждение редкого фактора производства, а также зна-
менитая теорема о выравнивании цен факторов производства, сфор-
мулированная в работах Лернера (статья Лернера, опубликованная в
1952 г., была написана еще в 1932 г.; см.: Lerner, 1952) и Самуэльсона
(Samuelson, 1948, 1949, 1953); данная теорема гласит, что при наличии
определенных предпосылок свободная торговля обеспечивает полное
выравнивание вознаграждений факторов производства даже в услови-
ях, когда международное движение этих факторов отсутствует. Норма-
тивное значение этой теоремы состоит в том, что она (в отличие от
рикардианской модели) постулирует возможность достижения эффек-
тивной структуры мирового производства и эффективного размещения
мировых ресурсов исключительно за счет свободной торговли. Однако
предпосылки, соблюдение которых необходимо для получения такого
вывода, являются очень жесткими. Необходимо, в частности, чтобы
факторные пропорции в обеих странах отличались не слишком значи-
129
тельно, что обеспечивает большое сходство структуры производства.
Таким образом, тщетно было бы ожидать, чтобы выравниванию под-
верглись, к примеру, уровни оплаты труда неквалифицированных ра-
бочих в Бангладеш и США.
Одно из ограничений модели Хекшера — Улина заключалось в том,
что запас «капитала» (в том или ином понимании) должен выступать в
качестве эндогенной переменной, определяемой склонностью к сбере-
жению или временными предпочтениями в каждой из стран. Данная
модель получила расширенную трактовку (Oniki and Uzawa, 1965) при-
менительно к случаю, когда в обеих странах имеет место рост чис-
ленности рабочей силы (темп которого экзогенно задан) и накопление
капитала, темп которого зависит от склонности к сбережению в каж-
дой из стран. Предполагается, что одно из благ играет роль универсаль-
ного «капитального блага». Из модели следует, что в долгосрочном
периоде в каждой из стран установится специфическое соотношение
«капитал — труд», причем оно будет выше в той стране, где выше
склонность к сбережению. По мере изменения этого соотношения
структура сравнительных преимуществ рассматриваемой «небольшой»
страны в условиях свободной мировой торговли также будет изменять-
ся, сдвигаясь в ходе экономического развития в пользу капиталоемких
благ. Таким образом, сравнительные преимущества не следует рассмат-
ривать как заданные и неизменные; они претерпевают изменения бла-
годаря накоплению капитала и технологическому прогрессу. Однако
отвлеченные рассуждения о «динамических» сравнительных преимущест-
вах в литературе, посвященной экономическому развитию, по большей
части являются некорректными, поскольку их авторы призывают из-
менить структуру производства посредством протекционистских меро-
приятий до того, как реально произойдет изменение производственных
возможностей. К числу других моделей, рассматривающих запас капи-
тала в торгующих странах в качестве эндогенной переменной, относят-
ся модели Стиглица и Финдли (Stiglitz, 1970; Findlay, 1978), которые
используют переменную норму временных предпочтений и «австрий-
скую» концепцию технологии точечных затрат/точечного выпуска,
в рамках которой континуум капитальных благ рассматривается как
«деревья» различного «возраста».
Начало систематическим исследованиям, направленным на эмпи-
рическую проверку позитивной стороны теории сравнительных пре-
имуществ, положила работа Макдугалла, посвященная рикардианской
теории (MacDougall, 1951), и знаменитая статья Леонтьева (Leontief,
1954), которая засвидетельствовала наличие очевидного парадокса, за-
ключающегося в том, что США экспортируют более трудоемкие това-
ры, чем импортируют. Открытие Леонтьева стимулировало большое
число дальнейших эмпирических исследований, ориентированных на
поиск удовлетворительного объяснения указанного парадокса. Я. Ва-
нек (Vanek, 1963) указал на роль возрастающей редкости природных
ресурсов, которая вынуждает замещать их капиталом в тех отраслях
американской экономики, которые испытывают конкуренцию со сто-
роны импорта. В работах П. Кенена (Кепеп, 1965) и многих других
130
исследователей подчеркивался вклад человече’ского капитала: было
обнаружено, что выпуск товаров, экспортируемых из США, требует
существенно более высоких затрат квалифицированного труда, чем
выпуск товаров, являющихся объектами импорта; в то же время кор-
реляция между интенсивностью использования капитала в производ-
стве экспортных и импортируемых товаров оказывается незначитель-
ной. Данное обстоятельство указывает на необходимость реинтерпре-
тации упрощенной модели Хекшера — Улина с целью рассмотрения
квалифицированного и неквалифицированного труда в качестве само-
стоятельных факторов производства, вместо того чтобы противопостав-
лять физическому капиталу труд единообразного качества. Так как
приобретение квалификации посредством образования является эндо-
генным фактором, зависящим от разности в оплате труда квалифици-
рованных и неквалифицированных работников (которая, в свою оче-
редь, обусловлена внешнеторговым обменом), необходимо построение
модели общего экономического равновесия, одновременно рассматри-
вающей оба указанных аспекта; попытка построения такой модели
предпринята в работе Р. Финдли и Г. Кьежковски (Findlay and
Kierzkowski, 1983).
Обзор большого числа других направлений развития теории
Хекшера — Улина можно найти в работе Р. Джонса и П. Нири (Jones
and Neary, 1984); в свою очередь, работа Дирдорфа (Deardorf, 1984)
содержит всеобъемлющий обзор попыток эмпирической проверки
теории сравнительных преимуществ в различных ее формулировках.
Статья Этье (Ethier, 1984) представляет собой работу, очень полезную
с точки зрения ознакомления с тонкостями анализа сравнительных
преимуществ для случая большого числа товаров и факторов произ-
водства. Наконец, лишь недавно началось тщательное изучение важ-
нейшей роли, которую играет в определении структуры специализации
и международной торговли растущая отдача от масштабов производ-
ства, обусловливающая отклонение от ситуации совершенной
конкуренции. Работа Э. Хелпмена и П. Кругмена (Helpman and Krug-
man, 1985) во всей полноте отражает современное состояние знаний в
этой сфере.
БИБЛИОГРАФИЯ
Канторович Л.В. Экономический расчет наилучшего использования ресурсов.
М.: Издательство Академии Наук СССР, 1960.
Burgstaller A. Unifying Ricardo’s Theories of Growth and Comparative Advantage //
Economica, 1986.
Deardorf A. Testing Trade Theories. In: Handbook of International Economics.
Ed. R.W. Jones and P.B. Kenen. Vol. 1. Amsterdam: North-Holland, 1984.
Ethier W, Higher Dimensional Issues in Trade Theory. In: R.W.Jones and P.B.Kenen.
Handbook of International Economics. Vol. 1. Amsterdam: North-Holland, 1984.
Findlay R. Trade and Specialization. Harmondsworth: Penguin, 1970.
Findlay R. Relative Prices, Growth and Trade in a Simple Ricardian System 11
Economica, February 1974, vol. 41, p. 1—13.
/3/
Findlay R. An «Austrian» Model of International Trade and Interest Equalization //
Journal of Political Economy, December 1978, vol. 86. no. 6, p. 989-1007.
Findlay R. International Distributive Justice // Journal of International Economics,
1982, no. 13, p. 1-14.
Findlay R. and Kierzkowski H. International Trade and Human Capital: A Simple
General Equilibrium Model // Journal of Political Economy, December 1983,
Vol. 91, no. 6, p. 957-978.
Graham F. The Theory of International Values. Princeton: Princeton University Press,
1948.
Haberler G. The Theory of International Trade. Trans, by A. Stonier and Benham.
London: W.Hodge, 1936 [1933].
Heckscher E. The Effects of Foreign Trade on the Distributions of Income/ In:
Readings in the Theory of International Trade. Ed. H.S. Ellis and L.A. Metzler.
Philadelphia: Blakiston, 1949.
Helpman E. and Krugman P. Market Structure and Foreign Trade. Cambridge, Mass.:
The MIT Press, 1985.
Jones R.W. Comparative Advantage and the Theory of Tariffs // Review of Economic
Studies, 1961, no. 28, p. 161-175.
Jones R.W. The Structure of Simple General Equilibrium Models // Journal of Political
Economy, December 1965, no. 73, p. 557—572.
Jones R.W. and Neary P. Positive Trade Theory. In: Handbook of International
Economics. Ed. R.W. Jones and P.B. Kenen. Vol. 1. Amsterdam: North-Holland,
1984.
Kenen P.B. Nature, Capital, and Trade // Journal of Political Economy, October 1965,
no. 73, p. 437-460; Erratum — December 1965, p. 658.
Leontief W.W. The Use of Indifference Curves in the Analysis of Foreign Trade //
Quarterly Journal of Economics, May 1933, no. 47, p. 493—503.
Leontief W.W. Domestic Production and Foreign Trade: The American Capital Position
Re-Examined // Economica Intemazionale, February 1954, no. 7, p. 9—38.
Lerner A.P. The Diagrammatic Representation of Cost Conditions in International
Trade // Economica, August 1932, no. 12, p. 345-356.
Lerner A.P. Factor Prices and International Trade // Economica, February 1952,
no. 19, p. 1-15.
MacDougall G.D.A. British and American Exports // Economic Journal, December
1951, no. 61, p. 697-724.
McKenzie L.W. Specialisation and Efficiency in World Production // Review of
Economic Studies, 1954, vol. 21, no. 3, p. 165—180.
Ohlin B. Inter-Regional and International Trade. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1933.
Oniki H. and Uzawa H. Patterns of Trade and Investment in a Dynamic Model of
International Trade // Review of Economic Studies, 1965, no. 32, p. 15—38.
Pasinetti L. A Mathematical Formulation of the Ricardian System // Review of
Economic Studies, 1960, no. 27, p. 78-98.
Ricardo D. The Works and Correspondence of David Ricardo (ed. P.Sraffa). Vols I
and IV. Cambridge: Cambridge University Press, 1951.
Samuelson P.A. International Trade and Equalization of Factor Prices // Economic
Journal, June 1948, no. 59, p. 163—184.
Samuelson P.A. International Factor Price Equalization Once Again // Economic
Journal, June 1949, no. 58, p. 181-197.
132
Samuelson P.A. Prices of Factors and Goods in General Equilibrium // Review of
Economic Studies, 1953, no. 21, p. 1-20.
Samuelson P.A. The Gains from International Trade Once Again // Economic Journal,
December 1962, p. 820-829.
Steedman I. Trade Amongst Growing Economies. Cambridge: Cambridge University
Press, 1979a.
Steedman I. (ed.). Fundamental Issues in Trade Theory. London: Macmillan, 1979b.
Stiglitz J. Factor-Price Equalization in a Dynamic Economy // Journal of Political
Economy, May—June 1970, Vol. 78, no. 3, p. 456-488.
Stolper W. and Samuelson P.A. Protection and Real Wages // Review of Economic
Studies, 1941, vol. 9, p. 58—73.
Vanek J. The Natural Resource Content of US Foreign Trade, 1870-1955. Cambridge,
Mass.: MIT Press, 1963.
Viner J. Studies in the Theory of International Trade. New York: Harper, 1937.
КОНКУРЕНЦИЯ И ОТБОР
Сидни Уинтер
Competition and Selection
Sidney G. Winter
В конкурентных условиях фирма, чтобы выжить, должна максими-
зировать прибыль — по крайней мере, так часто утверждается. Подра-
зумеваемая при этом аналогия с принципом естественного отбора в
биологии оказала существенное влияние на развитие экономической
мысли, а само это утверждение продолжает сохранять свой вес и по сей
день. В общем его роль сводилась к тому, чтобы служить неформаль-
ным вспомогательным аргументом в пользу традиционных теоретичес-
ких подходов, основанных на принципах оптимизации и равновесия.
Открыто оно использовалось в этой роли в знаменитом пассаже мето-
дологического эссе Милтона Фридмена (Friedman, 1953, ch. 1), и по-
хоже, что большинство экономистов знакомы с ним исключительно в
этом контексте.
Существует, однако, и другая роль, которую может играть — и иг-
рает — данное утверждение. Оно является нестрогой формулировкой
вывода, общего для класса теорем, встречающихся в моделях экономи-
ческого отбора. Модели данного типа постулируют, во-первых, спектр
возможных вариантов поведения фирмы. Чтобы вывод из модели был
нетривиальным, этот спектр, очевидно, должен быть шире, чем про-
сто максимизация прибыли: для того же, чтобы решение вообще было
логически достижимым, этот спектр должен включать в себя и вари-
ант поведения, соответствующий «максимизации прибыли». Кроме
того, модель должна характеризовать специфический динамический
процесс, так или иначе соответствующий общей идее, согласно кото-
рой «прибыльные» фирмы показывают тенденцию к выживанию и ро-
сту, а «неприбыльные» — к стагнации и уходу с рынка. Стационарной
точкой такого процесса является «равновесие отбора» (selection
equilibrium).
Модели данного типа занимают важное, хотя и не центральное мес-
то в эволюционной экономической теории (Nelson and Winter, 1982).
Они свидетельствуют, что точки равновесия традиционной теории кон-
куренции могут быть «имитированы» (в разных смыслах этого слова)
точками равновесия моделей отбора. Более существенно то, что, фор-
мулируя в явном виде строгие предположения, которые, несомненно,
необходимы для получения результатов такого рода, они представля-
ют собой основу для критической оценки степени общности этих ре-
зультатов и того фундамента, на который опирается традиционная те-
134
ория. Они также представляют собой полезное введение к более ши-
рокому классу эволюционных моделей, для которых «имитационные»
результаты не имеют силы. Это введение имеет то удобное свойство,
что обратный путь к традиционной теории четко обозначен: становит-
ся ясным, в каком смысле эволюционная теория включает в себя ряд
положений традиционной теории.
Концепция конкуренции, разумеется, не обязательно должна рас-
сматриваться в контексте равновесия совершенной конкуренции. В бо-
лее широком смысле термина любая нетривиальная модель отбора,
в которой «приспособленные» процветают, а «неприспособленные» —
нет, является моделью «конкурентного» процесса. Этот процесс может
и не приводить к установлению статического и вообще какого-либо
равновесия и, напротив, с легкостью может привести к результатам,
которые по стандартам экономической теории отраслевых рынков яв-
ляются безусловно неконкурентными.
Оставшаяся часть данной статьи построена следующим образом.
Сначала мы более детально рассмотрим теоретические связи между
процессами отбора и конкурентным равновесием. Затем мы перейдем
к более интересной и менее исследованной проблеме, которая касает-
ся отбора и конкуренции в широком смысле слова — шумпетерианской
конкуренции.
КОНКУРЕНТНОЕ РАВНОВЕСИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ОТБОРА.
Наши намерения состоят в том, чтобы описать эвристический фунда-
мент данного типа теорем или, другими словами, описать базовый ре-
цепт получения широкого класса аналогичных по сути результатов.
Возможно, существуют и другие базовые рецепты, до нынешних пор
неизвестные. Разумеется, есть способы обойти некоторые положения
данного рецепта и, тем не менее, получить тот же результат, но лишь
за счет внесения необходимых изменений в другие предпосылки.
(Чтобы избежать путаницы, с самого начала следует указать, что в
дальнейшем обсуждении слово «равновесие» используется в двух раз-
ных смыслах. Один из них, принятый в экономической теории, пред-
полагает «отсутствие стимулов к изменению поведения»; второй, при-
нятый в окружающем экономистов мире, соответствует «стационарной
точке динамического процесса». Цель обсуждения на деле состоит в
том, чтобы определенным образом увязать эти два представления о рав-
новесии.)
(1) Должна иметь место постоянная отдача от масштабов производ-
ства в том особом смысле, что для отдельной фирмы функции предло-
жения и спроса в любой конкретный момент времени можно выразить
через объем производства этой фирмы (или ее «мощности»), умножен-
ный на функции, зависящие от цен, но не от самого объема производ-
ства или времени. Возможность возрастания отдачи от масштаба про-
изводства по известным причинам должна быть исключена. Возмож-
ность снижения отдачи от масштаба производства также должна быть
исключена, поскольку она в общем случае обусловливает возникнове-
ние равновесной «предпринимательской ренты», которая может быть
135
отчасти рассеяна в результате отклонения от стратегии максимизации,
которое в данном случае не угрожает выживанию фирмы. Таким об-
разом, к примеру, U-образная долгосрочная кривая средних издержек,
традиционно фигурирующая при описании теории конкуренции в учеб-
никах, не обеспечивает условий для того, чтобы теория отбора имити-
ровала традиционную теорию, если конкурентное равновесие предпо-
лагает, что некоторые фирмы находятся на восходящей ветви кривой.
(2) Фирмы должны наращивать масштаб производства, будучи при-
быльными, и снижать его (или же вообще покидать рынок), будучи
неприбыльными. Иначе: прибыльность конкретной фирмы должна
вести к проникновению на рынок фирм, в точности имитирующих ее
действия. Очевидно, что несоблюдение этих предпосылок в общем слу-
чае ведет к существованию точек равновесия с ненулевым уровнем при-
были, которые при соблюдении условия (1) не могут имитировать кон-
курентный результат. Предположение о «стагнации и уходе с рынка»
является правдоподобным отражением долгосрочного ограничения без-
убыточности, соблюдение которого необходимо для выживания реально
функционирующих капиталистических институтов. Однако отсутству-
ют какие-либо реалистичные причины, подкрепляющие требование о
том, что прибыльность ведет к экспансии. Если фирмы не максими-
зируют прибыль в долгосрочном аспекте — путем расширения масш-
табов деятельности при положительной прибыльности, — стационар-
ной точке может соответствовать положительный уровень прибыли.
Уже в связи с одним этим обстоятельством в таких точках не достига-
ется имитация конкурентного равновесия (при постоянной отдаче от
масштабов производства). Кроме того, в них вновь возникает уже опи-
санная ситуация, когда краткосрочная реакция выживших фирм мо-
жет привести к рассеиванию положительной прибыли, потенциально
достижимой при масштабе производства, соответствующем равновесию
отбора.
В традиционной теории расширение объемов производства при
прибыльности операций может рассматриваться в качестве элемента
стратегии максимизации прибыли при предположении, что фирма рас-
сматривает цены как переменные, независимые от ее собственных ре-
шений относительно объема производства. Для этого, в свою очередь,
обычно бывает необходимо, чтобы рассматриваемая фирма была одной
из бесчисленного числа фирм, имеющих доступ к одним и тем же тех-
нологическим и организационным возможностям.
Хотя предположение о том, что фирмы имеют одинаковые наборы
производственных возможностей и придерживаются одинаковых пра-
вил поведения, является обычным для традиционной теории и выгля-
дит вполне «невинно», оно во многом противоречит эволюционной
теории. Традиционная позиция сводится к утверждению, что все не-
обходимые для производства знания бесплатны и доступны всем и каж-
дому, — например, они имеются в общественной библиотеке. Напро-
тив, эволюционная теория подчеркивает роль фирм как высокоинди-
видуализированных «накопителей» производительного знания, часть
которого имеет неартикулируемый характер. С эволюционной точки
136
зрения тот факт, что теоремы об имитации опираются на предположе-
ние о свободном доступе ко всему комплексу существующих знаний,
сам по себе достаточен для того, чтобы сделать вывод: аргументы, ос-
нованные на принципе отбора, могут служить лишь слабой и ненадеж-
ной опорой для традиционной теории конкуренции.
(3) Фирма, которая работает безубыточно в условиях, когда сущест-
вующие цены обеспечивают положительный уровень выпуска, не долж-
на вносить коррективы в свое поведение: потенциальный кандидат на
вход в отрасль, который при существующих ценах сможет только
покрыть издержки, не должен входить в отрасль. Это предположение
необходимо для того, чтобы точка конкурентного равновесия соответ-
ствовала стационарной точке процесса отбора.
Предпосылка такого рода не является типичной для моделей естест-
венного отбора в биологии; однако из этих моделей также не следует
вывод о том, что выживают только наиболее приспособленные гено-
типы (это утверждение является биологическим аналогом тезиса, об-
суждаемого нами). Скорее, они показывают, как в результате установ-
ления баланса между факторами отбора, направленными на уничтоже-
ние разнообразия, и факторами мутации, которые все время его
возрождают, определяются доминирующие уровни распространенно-
сти генов (gene frequencies). Строго говоря, аналогичная трактовка эко-
номического отбора была бы гораздо привлекательнее, чем рассматри-
ваемые здесь результаты. Она принимала бы во внимание возможность
возникновения случайных отклонений от равновесия вследствие слу-
чайных изменений поведения или входа в отрасль чрезмерно оптими-
стично настроенных субъектов. Таким образом, она (по крайней мере,
потенциально) могла бы служить обоснованию тезиса, что результаты,
получаемые в рамках традиционной теории конкуренции, в некотором
смысле являются устойчивыми по отношению к ее поведенческим
предпосылкам. К сожалению, традиционная теория не дает ключа к по-
ниманию того, в каком именно смысле они могут быть «устойчивыми».
Очевидно, что в центре внимания находятся процессы адаптации сис-
темы; при этом отсутствует правдоподобная с поведенческой точки
зрения теория адаптации, в динамическом аспекте соответствующая
статической теории конкурентного равновесия.
В рамках, заданных требованием строго статического конкурентного
результата, наиболее адекватный подход заключается в синтезе двух
идей: идеи описания фирм в процессе отбора через принятые ими «пра-
вила поведения» — эта идея была выдвинута в пионерной работе Ар-
мена Алчиана (Alchian, 1950) — и идеи Герберта Саймона о нахожде-
нии удовлетворительного варианта (Simon, 1955). Согласно наиболее
простой версии этого подхода каждая фирма просто неколебимо
придерживается своего собственного поведенческого правила, носяще-
го детерминирующий характер (или «рутины», выражаясь языком ра-
боты Р. Нельсона и С. Уинтера, — Nelson and Winter, 1982). Такое пра-
вило исходит из данных функций спроса и предложения фирмы, и при
выполнении рассмотренных выше условий (1) и (2) в одинаковой сре-
де имеет место одинаковая реакция. Данная картина может быть до-
137
полнена нахождением удовлетворительного варианта — это достигает-
ся с помощью предположения о том, что фирма, которая терпит убыт-
ки, будет осуществлять поиск лучшего правила поведения. Благодаря
этому процесс адаптации становится более правдоподобным с поведен-
ческой точки зрения, однако по-прежнему не предусматривается веро-
ятность того, что случайное изменение правила может привести к от-
ходу от стабильного конкурентного равновесия.
(4) Заключительное требование может быть кратко (но неточно)
сформулировано так: «Некоторые фирмы должны на самом деле мак-
симизировать прибыль». Хотя эта формулировка является адекватной
применительно к некоторым простым случаям, она не отражает глу-
бины и сложности затронутого вопроса.
Здесь следует отдельно остановиться на двух содержательных мо-
ментах. Во-первых, это различие между правилами поведения (т.е. функ-
циями), направленными на максимизацию прибыли, и действиями,
направленными на максимизацию прибыли. В общем случае равнове-
сие отбора, имитирующее конкретное конкурентное равновесие, с не-
обходимостью должно предусматривать, что некоторые фирмы пред-
принимают действия, которые соответствуют цели максимизации при-
были в условиях данного конкурентного равновесия, — в этом смысле
указанные фирмы максимизируют прибыль. Но это наблюдение не
предполагает, что фирмы, оказавшиеся жизнеспособными при установ-
лении равновесия отбора, придерживаются максимизационных пра-
вил, — в общем случае жизнеспособные фирмы не обязательно макси-
мизируют прибыль в этом более строгом смысле слова. (Доказательство:
рассмотрим конкурентное равновесие при постоянной отдаче от мас-
штаба производства. Наложим следующее ограничение: пусть функции
спроса и предложения фирм будут неизменными при значениях объ-
ема производства, возможных в условиях данной модели равновесия.
Встроим это статическое равновесие в динамическую систему адапта-
ции, в которой объемы производства фирм реагируют на изменения
уровней прибыльности согласно предположению (2). Тогда данное
конкурентное равновесие окажется равновесием отбора, поскольку
реально используемые технологии обеспечивают только нулевую при-
быль; однако фирмы при этом не максимизируют прибыль в более стро-
гом смысле слова.)
Следующий содержательный момент является развитием предыду-
щего. Представление о поведенческих правилах, направленных на мак-
симизацию прибыли, само по себе опирается на концептуальное пред-
ставление о наборе производственных возможностей или о производ-
ственной функции, которые рассматриваются в качестве заданных.
В эволюционной теории, однако, заданными являются сами правила:
они логически предшествуют результатам (действиям), которые гене-
рируются ими в конкретной обстановке. Таким образом, в данном кон-
тексте возникает проблема интерпретации базовой идеи о том, что рав-
новесие отбора имитирует традиционное конкурентное равновесие: не
существует очевидного заданного набора «возможностей».
138
Наиболее полезным здесь является подход, подчеркивающий прин-
цип внутренней последовательности. Предположения относительно
структуры «возможностей» могут выдвигаться без дополнительной
предпосылки о том, что конкретный набор последних является дан-
ным, — например, можно делать предположения об аддитивности и де-
лимости, не предполагая при этом, что набор технологий, к которым
применимы эти аксиомы, задан в рамках рассматриваемой системы. Та-
кой подход закладывает фундамент для обсуждения вопроса о том, пра-
вомерно ли интерпретировать конкретное равновесие отбора как кон-
курентное равновесие при сохранении прочих предпосылок. В рамках
этой линии рассуждений можно рассмотреть широкий спектр ситуа-
ций равновесия отбора, которые могут расцениваться как ситуации
конкурентного равновесия. Именно потому, что этот спектр так ши-
рок, просто знать, что равновесный результат может интерпретировать-
ся таким образом, — это еще очень мало.
Насколько серьезной опорой для традиционной теории может слу-
жить принцип отбора, если судить об этом в свете формального ана-
лиза моделей отбора типа тех, которые описаны выше? Применитель-
но ко многим аналитическим задачам решающий недостаток такой
опоры заключается в том, что принцип отбора относится только к рав-
новесным действиям, но не к поведенческим правилам: результаты,
получаемые с помощью моделей сравнительной статики, опираются на
положение о том, что сами правила ориентированы на максимизацию
прибыли. Система отбора, отклонившаяся в результате изменения па-
раметров от равновесия, имитирующего конкурентное равновесие, не
обязательно придет к новому «имитирующему» равновесию, не говоря
уже о том, чтобы придти к положению равновесия, которое соответ-
ствует — говоря языком традиционной теории — информации, выяв-
ленной в условиях первоначального равновесия. Что еще более важно,
принцип отбора не может компенсировать недостатки традиционной
теории, связанные с фундаментальным предположением о том, что
производственные возможности в рамках системы являются заданны-
ми.
ШУМПЕТЕРИАНСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ. В двух своих великих
трудах, а также во многих других работах Йозеф Шумпетер провозгла-
сил идею о ключевом значении инновационной деятельности для раз-
вития капитализма. В его ранней книге «Теория экономического раз-
вития» внимание сфокусировано на роли и вкладе индивидуального
предпринимателя. С современной точки зрения эта работа остается
образцом глубокого проникновения в суть проблемы и продолжает
будить мысль, хотя и может показаться устаревшей: за абстрактным
рассмотрением фигуры предпринимателя явно скрываются образы «ка-
питанов индустрии» конца XIX в. Более поздняя его работа «Капита-
лизм, социализм и демократия» в равной мере является глубоко содер-
жательной, провокативной и немного анахроничной. В данном случае
анахронизм заметен в предсказаниях, согласно которым инновацион-
ный процесс будет бюрократизирован, роль индивидуального предпри-
139
нимателя полностью «узурпирована» крупными организациями и тем
самым подорван социально-политический фундамент капитализма.
Современная реальность не соответствует этим предсказаниям: стано-
вится все более ясно, что Шумпетер сильно недооценивал серьезность
проблемы стимулов, возникающей в крупных организациях, — как в
капиталистических корпорациях, так и в социалистических государ-
ствах.
К настоящему времени накопилось большое количество литерату-
ры, посвященной рассмотрению отдельных вопросов, гипотез и про-
гнозов, выдвинутых Шумпетером в различных работах. Независимо от
вердиктов, вынесенных в конечном итоге по тому или иному поводу,
ежедневные наблюдения неизменно подтверждают адекватность его
утверждения о центральном значении инноваций для современного ка-
питализма. Они подтверждают также неадекватность сохраняющейся
в экономической науке тенденции рассматривать темы, связанные с
технологическими изменениями, в рамках узкоспециализированных об-
ластей исследования, удаленных от теоретического «ядра».
Цель данного обсуждения заключается в оценке связи между отбо-
ром и конкуренцией с шумпетерианской точки зрения, т.е. в расши-
рении границ предшествующей дискуссии путем изучения вопроса о
том, какие новые моменты появляются в связи с деятельностью фирм
в области изобретательства, открытий и нахождения новых способов
делания дел. Очевидно, одним из таких новых моментов является то,
что «конкуренцию» теперь надо понимать в широком смысле, прини-
мая во внимание ряд дополнительных измерений конкурентного про-
цесса, наряду с определением объема выпуска, исходя из уровня цен.
В частности, к набору методов конкурентного поведения фирмы при-
бавляются сопряженные с издержками усилия по осуществлению ин-
новаций, по имитации инноваций, сделанных другими, и по присвое-
нию выгод от инновационной деятельности.
Отбор теперь осуществляется на двух взаимосвязанных уровнях.
Между организационными рутинами, управляющими использованием
существующих продуктов и процессов в каждой фирме, происходит
рыночное взаимодействие, и рынок распределяет между соперниками
поощрения и наказания. Эти поощрения и наказания являются, в свою
очередь, основой рыночного рейтинга рутин более высокого уровня,
на которые опирается процесс создания новых продуктов и процес-
сов, — например, рутин, определяющих тот или иной уровень расхо-
дов на инновационные и имитационные НИОКР. В более долгосроч-
ной перспективе факторы отбора благоприятствуют фирмам, которые
достигают положительного баланса между величиной рентных доходов,
присваиваемых в ходе последовательных раундов инновационной дея-
тельности, и затратами на НИОКР, которые делают возможными эти
инновации.
Формальные модели, построенные в соответствии с указанной ло-
гикой, четко демонстрируют, как возникают различные экстремальные
случаи. Один из классов моделей формализует сделанное Шумпетером
предостережение, согласно которому конкуренция, являющаяся «совер-
140
шейной (и мгновенной)», делает инновативную деятельность нежиз-
неспособным типом поведения*. Достаточно высокие издержки инно-
вационной деятельности и низкие издержки имитации (включая издерж-
ки преодоления любых институциональных барьеров, например патент-
ных) в конце концов приводят к вытеснению с рынка всех фирм,
которые продолжают попытки осуществления инноваций, и система
приходит в положение статичного равновесия. Характер данного рав-
новесия может, однако, зависеть от первоначальных условий и случай-
ных событий на протяжении эволюционного пути: итоговый набор
производственных возможностей определяется в этом процессе эндо-
генно. Можно также построить примеры моделей, иллюстрирующих
принцип «осуществляй инновации или умри!»: основным условием
возникновения такой ситуации является простая инверсия сделанного
выше предположения о величине издержек инновации и имитации.
За исключением некоторых экстремальных или крайне упрощенных
случаев, модели шумпетерианской конкуренции описывают сложные
стохастические процессы, которые трудно поддаются изучению с по-
мощью аналитических методов. Разумеется, создание специфических
формальных моделей часто само по себе является содержательным за-
нятием в том смысле, что оно освещает концептуальные проблемы фун-
даментального характера и ставит ключевые вопросы относительно
того, как с помощью моделей аппроксимировать сложные черты эко-
номической реальности. Применение имитационных методов при изу-
чении конкретных случаев может быть источником новых идей (Nelson
and Winter, 1982, part V; Winter, 1984). Одним из наиболее важных пре-
имуществ имитационного моделирования является случайное откры-
тие механизмов, которые задним числом можно признать «очевидны-
ми», имеющими общий характер элементами модели.
Ниже мы объединим ряд подобных соображений, особенно подчерк-
нув некоторые вопросы, которые не затрагиваются в теоретической
литературе, трактующей различные затронутые Шумпетером темы с ис-
пользованием неоклассического инструментария. (По большей части
эти неоклассические исследования касаются упрощенных ситуаций,
когда возможно осуществление только одной инновации; таким обра-
зом, они не рассматривают вопросы, связанные с кумулятивными по-
следствиями динамической шумпетерианской конкуренции. См. ссыл-
ки на исследования, использующие такой подход, и оценку его пер-
спектив в работах: Kamien and Schwartz, 1981; Dasqupta, 1985.)
Фундаментальной составляющей любой динамической модели шум-
петерианской конкуренции является модель технологических возмож-
ностей. Эта модель устанавливает связь между ресурсами, которые
рассматриваемые фирмы используют для осуществления инноваций,
и результатами инновационной деятельности. Характер долгосрочных
прогнозов, построенных на основе такой динамической модели, в ре-
шающей мере зависит от ответов на ключевые вопросы, касающиеся
технологических возможностей. Сталкивается ли отдельная фирма в
* См.: Шумпетер, 1995, с. 151. — Примеч. пер.
141
краткосрочном периоде с убыванием отдачи от инновационной дея-
тельности при выделении на нее дополнительных ресурсов? Если это
так, то какие «фиксированные факторы» обусловливают падение отдачи
и в какой мере эти факторы могут быть изменены усилиями самой
фирмы или благодаря действию других механизмов? Следует ли изу-
чать силы отбора в том контексте, когда технологические возможнос-
ти в течение длительного времени являются с точки зрения политики
НИОКР более или менее постоянными, или же эволюционный отбор
(sorting out) различных методов поведения фирмы представляет собой
процесс, который протекает одновременно с историческим процессом
изменения критериев самого отбора?
Технологические возможности считаются неизменными, если
НИОКР сводятся к поиску раз и навсегда заданного их набора, —
т.е. фактически существует метанабор производственных возможнос-
тей или производственная метафункция, описывающая результаты, ко-
торые в конечном счете могут быть достигнуты. Расширение техноло-
гических возможностей означает, что они увеличиваются с течением
времени благодаря действию факторов, экзогенных по отношению к
рассматриваемым НИОКР; при этом подразумевается, что при данном
уровне технологических достижений и усилий на проведение НИОКР
эти усилия будут тем эффективнее с точки зрения генерирования ин-
новаций, чем позже они осуществлены. При неизменных технологи-
ческих возможностях отдача от НИОКР в конечном счете должна быть
убывающей, приближаясь к нулю по мере достижения границ фикси-
рованного набора возможностей.
Тот факт, что нахождение эмпирической базы для моделирования
технологических возможностей в рамках прикладного анализа проблем
отдельной фирмы, отрасли или страны может быть сопряжено со зна-
чительными трудностями, совершенно очевиден. Не существует лег-
кого способа преодоления проблемы, связанной с тем, что эффектив-
ность инновационной деятельности одновременно зависит как от тех-
нологических возможностей, так и от эндогенно определяемого уровня
инновационных усилий, не говоря уже о том, что отсутствуют точные
методы измерения и самих усилий, и их эффективности, а также — этот
вопрос еще более важен — о том, может ли изучение прошлого опыта
быть полезным для прогнозирования будущего. К сожалению, эти труд-
ности операционализации концепции технологических возможностей
ни в коей мере не снижают ее ключевой роли в шумпетерианской кон-
цепции конкуренции.
Эволюционный анализ шумпетерианской конкуренции до нынеш-
них пор не привел к формулированию чего-либо похожего на теоремы
об имитации, которые могут быть доказаны для условий статического
равновесия. Другими словами, не существует моделей, с помощью ко-
торых можно было бы показать, что факторы отбора — сами по себе
или во взаимодействии с адаптивными правилами поведения — обес-
печивают асимптотическое приближение системы к траектории разви-
тия, при которой выжили фирмы и которая в моделируемой ситуации
успешно решила бы «оставшуюся» часть проблемы динамической оп-
142
тимизации (за исключением случая, когда асимптотическая ситуация
соответствует статическому равновесию с нулевым уровнем НИОКР).
Перечень выявленных препятствий на пути получения нетривиально-
го положительного результата достаточно объемен, а сами эти препят-
ствия достаточно серьезны, так что здесь мы можем говорить о чем-то
похожем на «теорему невозможности». Крайне маловероятно, чтобы
положительный результат мог быть получен в рамках эволюционного
подхода, т.е. без наделения моделируемых фирм большим массивом
точной информации относительно структуры глобальной системы,
в которую они встроены.
Наиболее значительное препятствие связано с прямым противоре-
чием между ориентированным на будущее характером динамической
оптимизации и тем фактом, что процессы отбора и адаптации отража-
ют опыт прошлого. Если фирмы не могут «знать» будущую траекторию
развития технологических возможностей, если их решения могут от-
ражать лишь прошлый опыт и выводы, сделанные на его основе, то в
общем случае фирмы оказываются не в состоянии избрать оптималь-
ный с точки зрения будущего вариант. В принципе они могли бы сде-
лать это, если бы структура технологических возможностей была до-
статочно простой и оправдывала применение простых экстраполяций.
Однако предположение о простой структуре технологических возмож-
ностей не представляется адекватным: кто может опровергнуть утверж-
дение о том, что в конкретном случае технологические возможности
являются неизменными, возрастают, по экспоненте следуют логисти-
ческой кривой или подчиняются какой-либо стохастической комбина-
ции перечисленных альтернатив? И каким образом моделируемые фир-
мы должны определять свою политику НИОКР, если отсутствуют вся-
кие ограничения на набор возможностей?
В работе Нельсона и Уинтера эти сложности продемонстрированы
не в полной мере, поскольку ее горизонт в основном ограничен очень
условными и упрощенными технологическими режимами, в которых
технологические возможности описываются лишь одной экспоненци-
ально возрастающей переменной, именуемой «латентная производи-
тельность» («latent productivity»). Данные предположения — по ряду
признаков, напоминающие неоклассическую теорию экономического
роста, — на первый взгляд, выглядят многообещающими с точки зре-
ния выявления условий сбалансированного роста, когда фактическая
и латентная производительность возрастают одинаковым темпом; про-
блема, с которой сталкиваются фирмы, является в некотором смысле
неизменной, и факторы отбора и адаптации могут привести к выбору
выживающими фирмами оптимальных параметров политики НИОКР.
На самом деле получение такого результата оказывается сопряжен-
ным с трудностями даже при очень жестких ограничениях, описанных
выше. Условия спроса на продукт отрасли (или экономики в целом)
оказывают влияние на ее долгосрочную динамику, и в этой сфере так-
же необходим тщательный подбор специфических предпосылок для
того, чтобы не исключить результат, соответствующий ситуации сба-
лансированного роста. Рассмотрим, к примеру, модель отрасли, функ-
143
ция спроса на продукцию которой постоянна, причем эластичность
спроса (что вполне возможно) меньше единицы при низких значени-
ях цен. Тогда продолжающееся бесконечно снижение издержек при-
вело бы к падению выручки от продаж до нулевой отметки. Нулевая
выручка от продаж не позволит покрывать издержки, необходимые для
обеспечения постоянного прогресса. В данном случае мы имеем дело
с действием базовых положений экономической теории информации:
издержки, связанные с открытием, не зависят от размеров сферы при-
менения их результатов, а при сформулированных выше условиях эко-
номическое значение этой сферы стремится к нулю. Из этого следует,
что условия спроса могут воспрепятствовать прогрессу даже в том слу-
чае, если технологические возможности непрерывно расширяются.
Действительно, такая ситуация может быть достаточно реалистичной
для любой отрасли, если определить ее достаточно узко.
Эти сложности также могут быть сняты посредством соответству-
ющего подбора предпосылок. Однако существуют и другие проблемы.
Модель, принимающая во внимание отчасти стохастическую природу
успеха в инновационной деятельности, будет предсказывать постепен-
ное возрастание уровня концентрации производства (Phillips, 1971),
если только не присутствует какая-либо противодействующая тенден-
ция. Вероятным кандидатом на роль такой тенденции является исполь-
зование рыночной мощи (market power), полученной в результате слу-
чайного стечения обстоятельств (Nelson and Winter, 1982, ch. 13). Од-
нако рыночная мощь, вероятно, также может обусловливать различные
отклонения от стратегии максимизации приведенной дисконтирован-
ной величины доходов фирмы, включая отклонения от динамически
оптимальной политики НИОКР.
Повторим, что поиск аналогов теорем об имитации в контексте
шумпетерианской конкуренции представляется заранее обреченным на
неудачу. Поскольку модели шумпетерианской конкуренции, несомнен-
но, более точно описывают мир, в котором мы живем, по сравнению с
моделями статического равновесия, то общий вывод относительно под-
держки, которую оказывают традиционной теории аргументы отбора,
является гораздо более негативным, чем в случае, когда мы рассмат-
ривали исключительно статические модели. Предпосылки о том, что
фирмы максимизируют прибыль или дисконтированные доходы, долж-
ны рассматриваться сами по себе, без внешней поддержки, по край-
ней мере до того момента, когда кто-либо найдет лучшее обоснование
их адекватности. Пока это обоснование отсутствует, основанные на
этих предпосылках прогнозы по-прежнему будут временами верными,
а временами абсурдными, причем традиционная теория бессильна пред-
угадать, что из этого случится в конкретном случае. Более присталь-
ное внимание должно быть обращено на те механизмы отбора, адап-
тации и обучения, которые позволяют объяснить все то рациональное,
что экономисты действительно наблюдают в экономической реально-
сти, при этом оставляя в ней место для множества очевидных «неувя-
зок».
144
БИБЛИОГРАФИЯ
Фридмен М. Методология позитивной экономической науки //THESIS. 1994.
№ 4. С. 20-52.
Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995.
Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.
Alchian А.А. Uncertainty. Evolution and Economic Theory // Journal of Political
Economy. June 1950, no. 58. p. 211—221.
Dasgupta P. The Theory of Technological Competition. In: J.Stiglitz and
G.F.Mathewson (eds.). New Developments in the Analysis of Market Structure.
Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985.
Kamien M. and Schwartz N. Market Structure and Innovation. Cambridge: Cambridge
University Press. 1981.
Nelson R. and Winter S. An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge,
Mass.: Belknap Press of the Harvard University Press, 1982 // Нельсон P. Уин-
тер С. Эволюционная теория экономических изменений.
Phillips A. Technology and Market Structure: A Study of the Aircraft Industry.
Lexington, Mass.: D.C. Heath. 1971.
Simon H. A Behavioral Model of Rational Choice // Quarterly Journal of Economics.
February 1955, no. 69, p. 99—118.
Winter S.G. Economic «Natural Selection»’ and the Theory of Firm // Yale Economic
Essays. Spring 1964. Vol. 4, no. 1, p. 225—272.
Winter S.G. Satisficing, Selection and the Innovating Remnant // Quarterly Journal
of Economics. May 1971, vol. 85, no. 2, p. 237—261.
Winter S.G. Schumpeterian Competition in Alternative Technological Regimes //
Journal of Economic Behavior and Organization. September—December 1984,
vol. 5, no. 3—4, p. 287—320.
КОНФЛИКТЫ
И ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЕ
Джек Хиршлайфер
Conflict and Settlement
Jack Hirshleifer
Все живые существа являются конкурентами в борьбе за средства
существования. Конкуренция принимает более интенсивную форму,
которую мы называем конфликтом, когда участники стремятся вывес-
ти из строя или уничтожить оппонентов или даже преобразовать их в
ресурсы. Конфликт не обязательно должен быть связан с насилием, мы
говорим, например, о промышленных конфликтах (забастовки и лока-
уты) и юридических конфликтах (тяжбы). Физическая борьба, однако,
является подходящей метафорой и для этих обычных ненасильствен-
ных столкновений.
СТАТИКА КОНФЛИКТА. Описывая рациональное решение всту-
пить в конфликт, экономисты используют такие понятия, как предпоч-
тения, возможности и восприятие лица, принимающего решения. Эти
три элемента соответствуют традиционным вопросам, которые обсуж-
дают историки и политологи, когда рассуждают о «причинах войны»:
происходят ли войны главным образом из-за ненависти и врожденной
воинственности (враждебных предпочтений)? Или их причина — воз-
можность получить материальную выгоду за счет более слабых жертв?
Или же войны происходят главным образом из-за ошибочного воспри-
ятия одной или обеими сторонами мотивов или возможностей другой?
Конечно, между выбором индивидов и принятием решений о во-
енных действиях сообществами, такими, как племя или государство,
пролегает немалая дистанция. Процессы группового выбора, как извест-
но, не удовлетворяют правилам рациональности главным образом
вследствие расхождения интересов индивидуальных членов группы.
Таким образом, внутренние структуры принятия решений взаимодей-
ствующих групп могут также оказаться среди причин войны.
Оставив в стороне это последнее усложнение, рассмотрим на рис. 1
и 2 альтернативные иллюстрации того, как предпочтения, возможнос-
ти и восприятия могут объединиться в простом бинарном взаимодей-
ствии. На каждой диаграмме кривая QQ ограничивает «множество воз-
можностей урегулирования», т.е. то, чего стороны могут совместно
достигнуть путем мирного соглашения или компромисса.
На осях представлены доход Синих 1В и доход Красных IR. Точки
Рв и PR, напротив, показывают отдельное восприятие сторонами рас-
146
Рис. 1. Статика конфликта —
большая потенциальная область урегулирования
Рис. 2. Статика конфликта —
небольшая потенциальная область урегулирования
147
пределения доходов, проистекающего из конфликта. Семейства кри-
вых, обозначенных Ug и £/Л, — знакомые кривые безразличия, отража-
ющие функции полезности двух участников.
Рисунок 1 иллюстрирует сравнительно благоприятную ситуацию:
возможности урегулирования взаимодополняющи, так что возможен
значительный взаимный выигрыш от избежания конфликта; соответ-
ствующие предпочтения отображают взаимную доброжелательность
каждой из сторон, а выигрыш от конфликта обе стороны воспринима-
ют достаточно осторожно и при этом одинаково (Рв и PR совпадают).
Потенциально «область урегулирования» PSR (затененная область на
диаграмме), т.е. такая совокупность распределений дохода, при кото-
рой обе стороны считают свое положение лучшим, чем при конфлик-
те, велика, что практически означает высокую вероятность достижения
соглашения. На рис. 2 показана менее благоприятная ситуация: про-
тивостоящие возможности, взаимно недоброжелательные предпочтения
и расходящиеся оптимистические оценки выигрышей от конфликта.
Область PSR, следовательно, невелика, и перспективы для урегулиро-
вания здесь значительно меньше.
Теория конфликтов, которую можно назвать материалистической,
связывает конфликт в конечном счете с конкуренцией за ресурсы.
Отсталые племена атакуют друг друга из-за земли, запасов потребитель-
ских благ или для завоевания рабов. Подобными целями, очевидно,
объяснились и вторжения варваров в цивилизованные города и импе-
рии в древности, и европейский колониальный империализм в совре-
менную эпоху. Тем не менее, у соперничающих сторон почти всегда
есть какие-то взаимодополняющие интересы, возможность для взаим-
ного выигрыша, представленная потенциальной областью урегулиро-
вания PSR. Ортодоксальная экономическая наука всегда подчеркива-
ла существование области взаимной выгоды вплоть до потери из виду
самого конфликта; определенные диссидентские школы, особенно
марксисты, совершали противоположную ошибку. Хотя подробный
анализ не может быть здесь проведен, среди факторов, лежащих в ос-
нове относительной выгодности борьбы по сравнению с ведением пе-
реговоров, присутствуют различия в богатстве, мальтузианские факто-
ры, военные технологии и возможность контроля за соблюдением со-
глашений.
В противовес материалистическому подходу, аттитюдные теории
конфликта привлекают внимание к соответствующим функциям пред-
почтения. Значительный интерес привлек вопрос о соотношении ге-
нетических и культурных детерминант аттитюдов. Одна экстремальная
точка зрения, например, рассматривает ксенофобные войны семейства
против семейства, племени против племени или страны против стра-
ны как биологически «нормальные» для человеческого рода. Противо-
положная позиция изображает человека как врожденно уступчивое су-
щество, которому воинственность должна быть привита культурой.
Наконец, теории, которые можно охарактеризовать как информаци-
онные теории конфликта, делают акцент на различиях восприятий или
убеждений. Неоклассическая экономическая теория стремится мини-
148
мизировать значение таких различий — частично из-за того, что они
с точки зрения теории больших чисел взаимопогашаются, частично из-
за того, что неправильные убеждения корректируются опытом в про-
цессе установления экономического равновесия. Но конфликты и вой-
ны — это проблемы преимущественно «малых чисел», проблемы нерав-
новесные. В некотором смысле конфликт может рассматриваться как
процесс обучения. Школа реальной борьбы учит стороны регулировать
свое восприятие, делая его более реалистичным. Войны заканчивают-
ся взаимным согласием, когда потенциальные возможности урегули-
рования становятся более привлекательными, чем продолжение борь-
бы.
ДИНАМИКА КОНФЛИКТА. Статические и динамические элемен-
ты одинаково важны для процессов конфликта и его урегулирования.
В терминах теории игр условия платежа (payoff environment), представ-
ленные известной матрицей нормальной формы, — это статический
элемент. Динамический элемент может быть назван протоколом игры;
как показывает дерево игры, протокол на каждом этапе определяет
допустимые ходы в свете имеющейся у игроков информации.
Некоторые очень простые условия платежа показаны на примере
матриц 1—4. Числа в каждой ячейке показывают ординально проран-
жированные значения («платежи») для каждого игрока, так что худший
результат в каждом случае представлен единицей. В матрице 1 игра
«Суша или море» условия характеризуются полностью антагонистичес-
кими (с постоянной суммой) платежами. Другие три матрицы игры:
«Цыпленок», «Взаимность» и «Дилемма заключенного» — представля-
ют некоторые другие возможные ситуации со смешанной мотивацией,
Матрица 1 СУША ИЛИ МОРЕ Оборона Оборона на суше на море Матрица 2 ЦЫПЛЕНОК Мягкая Жесткая стратегия стратегия
Атака на суше 1,2 2,1 Мягкая стратегия 3,3 2,4
Атака на море 2,1 1,2 Жесткая стратегия 4,2 1,1
Матрица 4 Матрица 3 ДИЛЕММА ВЗАИМНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННОГО Мягкая Жесткая Сотрудни- Отказ стратегия стратегия честно
Мягкая стратегия 4,4 1,3 Сотрудничество 3,3 1,4
Жесткая стратегия 3,1 2,2 Отказ 4,1 2,2
149
объединяющие элемент противоположности интересов с возможнос-
тями для взаимного выигрыша.
Самый простой для анализа протокол у однокруговой последователь-
ной игры. В такой игре сначала строка выбирает одну из своих альтер-
натив, а затем столбец делает свой ход с учетом выбора строки, и игра
заканчивается. В протоколе последовательной игры всегда можно найти
«рациональное» решение. Если столбец может полагаться на выбор
своего наилучшего конечного хода, то строка, зная это, может соответ-
ственно определить свой наилучший первый ход. (Этот процесс закан-
чивается тем, что называется «совершенным равновесием».) Наоборот,
если согласно протоколу игроки в однокруговой игре делают свой вы-
бор одновременно или, что то же самое, каждый делает выбор, не зная
хода другого, — решения более сложны для объяснения. Наиболее ча-
сто используется так называемое равновесие по Нэшу (или «точка рав-
новесия»); это такая пара стратегий, от которых ни один игрок не хо-
тел бы отклониться в одностороннем порядке.
В игре «Суша или море» условия платежа таковы, что при однокру-
говой игре с последовательными ходами второй игрок, или защитник,
получает преимущество. Если, например, строка ходит первой, то стол-
бец всегда может успешно защититься; например, если строка атакует
на суше, то столбец будет на суше обороняться. Следовательно, пла-
тежная пара (1,2) является результатом независимо от начального хода
строки. В военных терминах обороняющаяся сторона имеет преиму-
щество всякий раз, когда нападающий должен открыто сосредоточить
свои усилия на том или ином направлении атаки. И конечно, если
обороняющаяся сторона имеет такое преимущество, то ни одна сторо-
на не может быть мотивирована начать военные действия. Если же
«Суша или море» играется по протоколу одновременных ходов, то обе
стороны действуют наугад и немногое можно сказать с уверенностью.
(Здесь равновесие по Нэшу заключается в том, что каждая сторона
выбирает ход случайным образом, подобно бросанию жребия.)
В условиях платежа игры «Цыпленок» (матрица 2) возможности по-
прежнему противостоят друг другу, но здесь есть взаимный интерес к
избежанию «катастрофического» результата (1, 1), который достигает-
ся, когда обе стороны играют жестко. По сравнению с «Сушей или
морем» в «Цыпленке» условия платежа дают преимущество делающе-
му первый ход. В частности, для строки рационально играть жестко,
зная, что столбец затем будет вынужден выбрать мягкую стратегию.
В этом случае столбец должен предпочесть плохое (платеж 2), чтобы из-
бежать худшего (платежа 1). Если, однако, протокол подразумевает
одновременные ходы, то игроки снова выбирают наугад. В равновесии
по Нэшу они делают вероятностный выбор, который подразумевает, что
в некотором проценте случаев будет иметь место «катастрофический»
результат (1, 1). Эта модель может быть приложена к случаю промыш-
ленного конфликта. Если профсоюз (или администрация) решает из-
брать мягкую стратегию, то он окажется в более сложном положении
на переговорах, — другая сторона при этом, несомненно, будет играть
жестко. Но если оба будут играть жестко, то нет надежды на мирное
750
урегулирование. Следовательно, каждая сторона должна при рациональ-
ном выборе принять «смешанную» стратегию, при которой забастов-
ки и локауты произойдут в определенной части случаев.
Условия платежа в игре «Взаимность» (матрица 3) в большей сте-
пени вознаграждают кооперативное поведение. Идея здесь состоит в
том, что каждый игрок должен отвечать мягкой стратегией на мягкую,
что ведет к взаимно предпочтительным платежам (4, 4), но, потерпев
в этом неудачу, нужно отвечать жесткой стратегией на жесткую. Если
игра предполагает последовательные ходы, то первый игрок при рацио-
нальном поведении должен всегда выбирать мягкую стратегию, и тог-
да достигается идеальная пара платежей (4, 4). Но при игре с одновре-
менными ходами, когда каждая сторона не знает о ходе другой, резуль-
тат снова не ясен. Фактически здесь есть три равновесия по Нэшу:
решения в чистых стратегиях (4, 4) и (2, 2), а также решение в сме-
шанных стратегиях.
Наконец, в знаменитой «Дилемме заключенного» условия платежа
(матрица 4) таковы, что стороны, вероятно, окажутся в «ловушке» с
платежами (2, 2), куда их приведет некооперативная стратегия, хотя
точка (3, 3) могла бы быть достигнута при сотрудничестве обоих игро-
ков. Здесь «ловушка» достигается независимо от того, используются ли
в игре одновременные или последовательные ходы.
Предыдущее обсуждение было ограничено однокруговыми играми
с двумя игроками, и оно дает пищу для размышлений только в преде-
лах этой категории игр, для случая с симметричными условиями пла-
тежа при двух стратегиях и, наконец, при самых простых протоколах,
когда исключены, например, любые переговоры и контакты между сто-
ронами. Ограниченный объем статьи позволяет прокомментировать
лишь несколько дополнительных моментов.
Восприятия. Стандартные игровые модели предполагают, что игро-
ки знают не только свои собственные платежи, но также и платежи
своих оппонентов. Непреднамеренная ошибка в этой оценке или даже
умышленный обман может играть критическую роль. Предположим,
что два игрока в игре «Взаимность» при условиях платежа в виде мат-
рицы 3 оказались первоначально в положении «жесткая-жесткая» с ре-
зультатом (2, 2). Представим себе теперь, что они получили возмож-
ность изменить стратегии при протоколе последовательных ходов. Как
первый игрок строка должна предпочесть заменить жесткую стратегию
на мягкую, если только она могла бы положиться на столбец в ожида-
нии правильного ответа. Но строка может ошибочно полагать, что пла-
тежи столбца — такие, как в игре «Цыпленок», из чего она делает вы-
вод, что столбец должен твердо стоять на жесткой стратегии. Строка
не должна, следовательно, отходить от жесткой стратегии, и, значит,
столбец в свою очередь тоже не должен от нее отходить. (Некоторые
авторы дошли до того, чтобы приписать все или почти все человечес-
кие конфликты таким ошибочным «самореализующимся убеждениям»
о враждебности оппонентов, но, конечно, этот случай является только
одной из многих возможностей.)
151
Обязательства и средства сдерживания. В некоторых обстоятельствах
ходящий вторым столбец может заранее выбрать для себя ответную
стратегию, прежде чем строка сделала свой первый ход. Хотя столбец
отказывается тем самым от свободы выбора, но поступать так может
оказаться выгодным. Рассмотрим случаи угроз и обещаний. Угроза яв-
ляется обязательством выбрать при ответном ходе стратегию нака-
зания, даже если ее реализация обойдется дорого. Аналогично обеща-
ние означает обязательство выбрать дорогостоящую стратегию возна-
граждения. Матрицы 5 и 6 показывают, как работает угроза. Выбор
строки — атаковать или воздержаться, в то время как выбор столбца —
ответить или не ответить на атаку строки. Проблема столбца, конеч-
но, в том, чтобы удержать строку от атаки. В матрице 5 столбец пред-
почитает ответить на атаку, что при данных предпочтениях строки яв-
ляется достаточным средством сдерживания, заранее брать на себя обя-
зательство не требуется. (Поскольку столбец предпочитает ответить, нет
необходимости брать на себя соответствующее обязательство.) В мат-
рице 6 столбец предпочитает при атаке подставить другую щеку; он
предпочел бы не отвечать на атаку. К несчастью, это дает гарантию, что
он будет атакован! (Отметим, что здесь не чрезмерная враждебность,
а ее отсутствие приводит к конфликту.) Но если бы столбец мог взять
на себя обязательство ответить, например автоматизируя действие не-
которых систем вооружения, делая невозможным их последующую
перенастройку, то сдерживание удалось бы. Короче говоря, если мир-
ный игрок может достоверно угрожать тем, что он в действительнос-
ти не хочет сделать, то он и не должен будет исполнять свою угрозу!
(Разумеется, нет нужды говорить о том, что такой опасный подход не
должен рекомендоваться в каждом случае.)
Матрица 5 СДЕРЖИВАНИЕ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Не ответить Ответить Матрица 6 СДЕРЖИВАНИЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Принять Ответить
Воздержаться Атаковать 2,2 2,3 3,1 1,2 Сотрудничество Отказ 2,3 2,3 3,2 1,1
ТЕХНОЛОГИЯ БОРЬБЫ. Конфликт является аналогом «отрасли»,
в которой различные фирмы конкурируют, пытаясь вывести из строя
оппонентов. Так же, как, не будучи менеджером или инженером, эко-
номист может применить определенные широкие принципы в процессе
промышленного производства, так и, не пытаясь заменить военного
командира, он может сообщить нечто о принципах «получения» жела-
емых результатов посредством насилия.
Сражения обычно заканчиваются определенным результатом — по-
бедой или поражением. Войны в целом чаще бывают менее завершен-
152
ними, нередко заканчиваясь урегулированием в виде компромисса. Эти
исторические обобщения отражают преобладание возрастающей, а не
убывающей отдачи от масштаба при «производстве» насилия.
(1) В пределах достаточно небольшой географической области, та-
кой, как, например, поле боя, существует критический диапазон по-
вышения отдачи от военной мощи — небольшое приращение силы
может обусловить переход от поражения к победе.
(2) Имеет место, однако, уменьшение отдачи, если планируется
применить военную силу на чужой территории, так что становится
трудным достичь преимущества на всей территории в нем. «Возраста-
ющая отдача от масштаба» объясняет, почему существует «естествен-
ная монополия» военной силы в пределах национального государства.
«Уменьшающаяся отдача от масштаба» объясняет то, почему до сих пор
множество национальных государств остались с военной точки зрения
жизнеспособными. (Тем не менее, есть некоторые основания полагать,
что технология атаки посредством межконтинентального оружия ста-
ла теперь так преобладать над защитой, что нам предстоит эпоха един-
ственного мирового государства.)
Повышение отдачи объясняется тем, что сильнейший в сражении
может в любой момент нанести более чем пропорциональный ущерб
своему оппоненту, таким образом становясь еще более сильным. Важ-
ные частные случаи этого процесса описываются с помощью уравне-
ний Ланчестера. В бою, в идеальном случае, когда все военные едини-
цы распространяют свой огонь одинаково по вражеской линии, урав-
нения процесса имеют вид:
dB/dt = -kRR,
dR/dt = —kRB.
Здесь В и R — исходные показатели силы Синих и Красных, а их
удельные военные эффективности заданы коэффициентами кв и kR.
Отсюда следует, что эти военные силы равны, когда
кйВг = k„R.
D Л
Но даже если военная мощь изменяется в меньшей степени (и не
пропорциональна квадрату величины вооруженных сил), остается ти-
пичным случаем, когда в процессе боя сильный становится сильнее,
а слабый — слабее, что ведет к его окончательному уничтожению, если
только не произойдет бегство с поля боя или сдача в плен. (Конечно,
искусный командир, обнаружив себя в неблагоприятной с точки зре-
ния баланса сил тактической ситуации, попытается ее изменить свое-
временным отходом, обманом или другим маневром.)
Одно из следствий возрастающей отдачи может быть названо «прин-
* Ципом последнего толчка». В ходе конфликта каждая сторона, естест-
; венно, не полностью осведомлена о количестве и эффективности тех
{сил, которые противник в конце концов способен и желает задейство-
|Вать. Следовательно, есть стимул сражаться до конца даже за высокую
Иену, чтобы потенциально выигранная битва не была проиграна. (Как
рказал Фош: «Выигранная битва это битва, в которой один из против-
753
ников не признает себя побежденным».) Эта правильная точка зрения,
к несчастью, нередко ведет на поле боя к резне, выходящей за рамки
всех разумных предшествующих расчетов, как это показала, например,
битва при Вердене.
С другой стороны, эффективным заменителем размера силы служит
ее более высокая организация. Организованная военная единица всегда
намного сильнее, чем простое соединение индивидуальных бойцов,
какими бы храбрыми они ни были. Организационное превосходство
значительно лучше, чем преимущество в оружии, объясняет, почему
небольшие европейские экспедиционные группы в раннюю современ-
ную эпоху оказались способны победить обширные туземные силы в
Америке, Африке и Азии. Борьба, таким образом, часто является кон-
курсом организационных форм; армия, чьи командные структуры пер-
выми дрогнут под давлением противника, проигрывает.
В случае уменьшающейся отдачи от масштаба равновесие в простей-
шем случае достигается на такой географической границе, где
Мв ~ sbxb = Mr ~ Vr-
Здесь Mbvl MR — военные силы на соответствующих домашних ба-
зах; sB и sR — градиенты разрушения; хв и xR — соответствующие рас-
стояния от базы. Условие равенства определяет распределение терри-
тории.
«Социальная физика» борьбы, конечно, значительно сложнее, чем
предполагают эти упрощенные базовые модели. Существуют более или
менее четкие технологии нападения и защиты, способность к первому
удару не равнозначна ответной силе, борьба с повстанцами очень от-
личается от битвы в центральной части страны и т.п.
КОНФЛИКТ, ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА. Теория конфликта
может помочь в объяснении не только размеров и формы стран, но
также и результатов конкуренции во всех аспектах жизни: конфлик-
тов между общественными классами, между политическими партиями
и идеологиями, между администрацией и работниками, между претен-
дентами на лицензии и привилегии («поиск ренты»), между истцами
и ответчиками в суде, между участниками картелей, подобных ОПЕК,
между мужем и женой, между братьями в семье и т.д. Всякий раз, ког-
да ресурсы могут захватываться путем агрессии, можно предположить,
что произойдут попытки вторжения. Затрачиваемые на вторжения и их
отражение усилия поглощают очень большую часть ресурсов общества
в любой возможной общественной структуре — уравнительной или
иерархической, либеральной или тоталитарной, централизованной или
децентрализованной. Более того, каждая форма организации челове-
ческого общества, помимо всего, должна в конце концов пройти тест
на выживание в ходе внутренних и внешних конфликтов.
Заметка о литературе по теории конфликта, представляющей особый
интерес для экономистов. Классическая военная мысль, от Макиавелли
до Клаузевица и Лиддела Харта, хотя и редко является аналитической, с
точки зрения экономиста по-прежнему заслуживает внимательного изу-
154
чения. Отличный обзор дан в работе Эдварда Мида Эрла (Edward Mead
Earle, 1941). Современные работы в этом классическом жанре по понят-
ной причине концентрируются на факторе ядерного вооружения и про-
блеме сдерживания; здесь примечателен вклад Германа Кана (Herman
Kahn, 1960, 1962). Существует, конечно, огромная историческая лите-
ратура по конфликтам и войнам. Интересная экономически ориентиро-
ванная интерпретация истории современных войн дана Джеффри Блэй-
ни (Geoffrey Blainey, 1973). Уильям Макнейл (William Н. McNeill, 1982)
рассматривает ход развития военной организации и технологии от древ-
ности до настоящего времени с особым вниманием к социальному и
экономическому контексту. Джон Киган (John Keegan, 1976) дал цен-
ную, хотя и более узкую интерпретацию того, как люди, оружие и так-
тика конкурируют и дополняют друг друга на поле боя. Имеется также
значительное количество статистических работ, пытающихся различны-
ми способами обобщить и классифицировать причины и результаты
войн; наиболее известна среди них работа Льюиса Ричардсона (Lewis F.
Richardson, 1960b). Математический анализ военной деятельности, та-
кой, например, как количественная модель столкновения сопернича-
ющих сил, на удивление редок. Классической работой здесь является ра-
бота Ланчестера (Frederick William Lanchester, 1916 [1956]).
Современный анализ конфликтов, обычно объединяющий теорию
игр с экономической теорией рационального выбора, представлен тре-
мя важными книгами экономистов: Томаса Шеллинга (Thomas
С. Schelling, 1960), Кеннета Боулдинга (Kenneth Е. Boulding, 1962) и
Гордона Таллока (Gordon Tullock, 1974). Существуют и близкие к ним
по духу работы, написанные неэкономистами: Гленном Снайдером и
Полом Лизингом (Glenn Н. Snyder and Paul Diesing, 1977) и Брюсом
Буэно де Мескита (Bruce Bueno de Mesquita, 1981). Косвенно связан-
ная с ними литература, использующая довольно механистический пси-
хологический метод Ричардсона (Richardson, 1960а), включает очень
легко читаемую книгу Анатоля Рапопорта (Anatol Rapoport, 1960).
БИБЛИОГРАФИЯ
Blainey, G. 1973. The Causes of War. New York: The Free Press.
Boulding, K.E. 1962. Conflict and Defense: A General Theory. New York: Harper &
Brothers.
Bueno de Mesquita, B. 1981. The WarTrap. New Haven and London: Yale University
Press.
Earle, E.M. (ed.) 1941. Makers of Modem Strategy: Military Thought from Machiavelli
to Hitler. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Kahn, H. 1960. On Thermonuclear War. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Kahn, H. 1962. Thinking About the Unthinkable. New York: Avon Books.
Keegan, J. 1976. The Face of Battle. New York: Viking Press.
Lanchester, F.W. 1916. Aircraft in Warfare: The Dawn of the Fourth Arm. London:
Constable. Extract reprinted in The World of Mathematics, ed. James R. Newman,
Vol. 4, New York: Simon & Schuster, 1956.
155
McNeill, W.H. 1982. The Pursuit of Power: Technology, Armed Force, and Society
since AD 1000. Chicago: University of Chicago Press.
Rapoport, A. I960. Fights, Games, and Debates. Ann Arbor: University of Michigan
Press.
Richardson, L.F. 1960a. Arms and Insecurity. A Mathematical Study of the Causes
and Origins of War. Pittsburgh: Boxwood; Chicago: Quadrangle.
Richardson, L.F. 1960b. Statistics of Deadly Quarrels. Pittsburgh: Boxwood; Chicago:
Quadrangle.
Schelling, T. C. I960. The Strategy of Conflict. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press.
Snyder, G.H. and Diesing, P. 1977. Conflict Among Nations: Bargaining, Decision
Making, and System Structure in International Crises. Princeton, NJ: Princeton
University Press.
Tullock, G. 1974. The Social Dilemma: The Economics of War and Revolution.
Blacksburg, Virginia: University Publications.
ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
(«ПЕРЕГРУЗКА»)
Алан Артур Уолтерс
Congestion
А.А, Walters
Чрезмерное потребление, подобно «дефициту», в условиях редкос-
ти ресурсов возникает тогда, когда права собственности не являются
четко определенными или же людям запрещено торговать и заключать
контракты. Пусть, к примеру, пятнадцать человек хотят воспользовать-
ся лифтом, рассчитанным на десять человек: при этом по крайней мере
пятеро должны будут нести издержки, связанные с ожиданием следу-
ющего лифта. В большинстве современных обществ отсутствует зара-
нее заданное распределение прав на то, чтобы занять места в лифте в
первую очередь. Вместе с тем социальное поведение иногда руковод-
ствуется правилами статуса, отдающими приоритет людям старшего
возраста, инвалидам, руководителям организации и женщинам. Одна-
ко для того, чтобы полностью исключить возможные конфликты, эти
правила должны быть крайне сложными. На практике в большинстве
обществ признается простое правило очереди: «первым пришел — пер-
вым получил». Примечательно, что правила очереди имеют повсемест-
ное распространение и рассматриваются в очень разных обществах как
справедливые, хотя и сопряженные с достаточно высокими издержка-
ми. По всей видимости, равенство стоит этих издержек.
Вместе с тем даже при наличии правила очереди существуют до-
статочные возможности для заключения взаимовыгодных сделок. Че-
ловек, стоящий в очереди одиннадцатым, может обратиться к одному
из первых десяти с предложением о покупке его места в очереди; с дру-
гой стороны, человек, которому гарантировано место в лифте, может
быть готов «продать» его и подождать другого лифта в обмен на блага,
предложенные одиннадцатым человеком из очереди. Результатом мо-
жет стать заключение сделок, так что те, кто высоко ценит возможность
быстро воспользоваться лифтом, могут приобрести место тех, кто це-
нит эту возможность ниже. Поскольку все контракты заключаются на
добровольной основе, все участвующие повысят или по крайней мере
сохранят прежний уровень благосостояния, благодаря чему будет обес-
печено повышение общего благосостояния по критерию Парето. Тем
не менее, очередь остается несовершенным инструментом рациониро-
вания потребления; разумеется, было бы гораздо лучше, если бы на
места в лифте претендовало не более десяти человек, — причем тех,
которые выше всего ценят возможность воспользоваться его услугами
157
в данное время. Очереди связаны с издержками ожидания. Однако в
принципе несложно разработать альтернативные схемы распределения
прав собственности, не связанные с растратой времени и ресурсов на
ожидание в очереди. К примеру, места в лифте могут распределяться
по жребию. Именно такая схема использовалась в Лондонской школе
экономики при распределении мест для парковки автомобилей, но,
разумеется, ее действие распространялось только на сотрудников шко-
лы.
Предположим, что право определения условий, обеспечивающих
доступ к пользованию лифтом, принадлежит собственнику лифта. Если
исходить из того, что собственник стремится к максимизации прибы-
ли, он сочтет целесообразным — абстрагируясь от трансакционных
издержек и фактора стохастической вариации — продавать права по-
ездок на лифте. При этом не возникнет ни очередей, ни перегрузки.
Четко специфицированные права собственности, отсутствие трансак-
ционных издержек, максимизация прибыли и свобода заключения кон-
трактов представляют собой достаточные (но, бесспорно, не необходи-
мые) условия предотвращения перегрузки. Предоставление услуг лиф-
тов частными лицами (во многих случаях — самими их пользователями)
обеспечивает отсутствие перегрузки, носящей устойчивый или струк-
турный характер.
С чрезмерным потреблением, носящим устойчивый или структур-
ный характер (в отличие от «случайного» и временного), обычно можно
столкнуться там, где отсутствует спецификация прав собственности,
что особенно часто наблюдается в государственном секторе. К приме-
ру, широко распространено представление о чрезмерной эксплуатации
зон промысла рыбы, когда численность рыбаков непропорционально
велика по сравнению с объемом рыбных запасов. Рыбные запасы
ограничены; поэтому для каждого судна предельные издержки вылова
рыбы должны отражать тот факт, что прирост вылова увеличивает из-
держки других рыболовецких судов, ибо уменьшает численность рыбы,
объем выметанной во время нереста икры и т.д. Суть проблемы состо-
ит в том, что рыба не находится в собственности какого-либо максими-
зирующего прибыль субъекта, который получал бы роялти за каждую
выловленную рыбу. Номинально рыба (если она находится в нацио-
нальных водах) является собственностью государства, однако государ-
ство не взимает роялти за ее вылов. Рыбные ресурсы являются редки-
ми, но на них не устанавливается цена — они рассматриваются как бес-
платные ресурсы. Вследствие этого зоны рыболовных промыслов
подвергаются чрезмерному использованию, а объем вылова превыша-
ет оптимальный.
ПЕРЕГРУЗКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. Наиболее важной
формой чрезмерного потребления является перегрузка дорог, особен-
но городских улиц, которые обычно находятся в собственности и под
управлением государства. Если бы государственные органы были ори-
ентированы на максимизацию прибыли, они назначали бы цены про-
езда по городским улицам, отражающие соотношение уровня спроса и
158
реальной ограниченной пропускной способности’ улиц. Они установили
бы специальные сборы, направленные на максимизацию чистого до-
хода от городской дорожной системы. Однако традиционно государство
не устанавливает «цен» или сборов за пользование городскими улица-
ми, отражающих ограниченную пропускную способность последних.
Пользование городскими улицами является «бесплатным» для всех, кто
уплатил сбор за получение водительских прав и приобрел право пользо-
ваться национальной дорожной системой в той мере, в какой ему бу-
дет угодно. Таким образом, в местах, где пропускная способность до-
рог ограничена по сравнению с размерами спроса на возможность про-
езда, люди пытаются использовать дороги чрезмерно интенсивно.
Городские улицы становятся перегруженными; автомобили, преграж-
дающие путь друг другу, движутся медленно; издержки поездок растут.
Перегрузка дорог отличается от случая очереди: никто не может при-
обрести место на дороге, минуя транспортную «пробку», как это было
бы возможно в «дисциплинированной» очереди. Однако в остальных
аспектах — к примеру, в аспекте растраты ресурсов, — очереди и пере-
грузка дорог имеют одинаковые последствия.
Формальное экономическое моделирование чрезмерного потребле-
ния может осуществляться либо со стороны спроса, либо со стороны
предложения и издержек. Следуя за историческими прецедентами, со-
зданными работами Ж. Дюпюи и А. Пигу (Dupuit, 1993; Pigou, 1912),
анализ обычно производится со стороны предложения и издержек.
Первое предположение состоит в том, что транспортный поток состо-
ит из идентичных транспортных средств с одинаковыми технически-
ми характеристиками и функциями издержек. Каждый автомобиль
управляется индивидами, имеющими одинаковые функции полезнос-
ти и одинаковый уровень дохода, так что они придают одинаковую
ценность времени. Чтобы избежать проблем, связанных с существова-
нием начального и конечного пунктов дороги, она может рассматри-
ваться нами как кольцеобразная, обеспечивающая непрерывное дви-
жение транспорта. Пусть через с(х) обозначаются издержки в расчете
на 1 км пути, где х — число километров, пройденных всеми автомоби-
лями по кольцевой дороге, длина окружности которой составляет
к километров. Следовательно, плотность автомобилей на дороге равна
х/к. Общие издержки х поездок на расстояние 1 км каждая составляют
при этом С(х) = х х с(х).
По мере роста числа поездок по данной дороге плотность автомо-
билей увеличивается, из-за чего скорость движения транспорта пада-
ет, а значение с(х) повышается. Это — стандартные условия перегруз-
ки дороги. Индивид, принимающий решение о дополнительной поезд-
ке, оценивает величину издержек поездки на расстояние 1 км — с(х);
он совершит поездку, если величина с(х), по крайней мере, не превы-
шает его оценку ценности такой поездки. Однако появление на дороге
еще одного транспортного средства приведет к дополнительному замед-
лению движения всех уже находящихся на дороге автомобилей и тем
самым повысит издержки для всех пользователей дороги. Таким обра-
зом, предельные издержки, связанные с дополнительной поездкой,
159
состоят не только из частных издержек конкретного водителя, но так-
же из обусловленного ростом перегрузки дороги прироста издержек
остальных водителей. Пусть С обозначает величину совокупных издер-
жек х поездок; тогда предельные издержки поездки составляют
dC/dx = с + x(dc/dx), где с — частные предельные издержки индивида
и x(dc/dx) — произведение прироста издержек каждого пользователя до-
роги (dc/dx) на число поездок каждого пользователя (х). Очевидно, что
при отсутствии платы за пользование дорогой (предполагаемом нами
с самого начала) частные предельные издержки оказываются ниже ис-
тинных предельных издержек. Частные решения обусловливают чрез-
мерную интенсивность транспортного потока.
Подобное положение дел удобно описывать термином «перегрузка»
(congestion). В обычном словоупотреблении он может использоваться
для обозначения ситуаций, когда имеют место некоторое стеснение
транспортных средств на дороге и относительное замедление их дви-
жения по сравнению со скоростью движения по свободной дороге.
С точки зрения такого широкого определения известная степень пере-
грузки дорог практически всегда имеет место, причем на некоторых
дорогах она может оказаться даже недостаточной. В данном обзоре мы
воздерживаемся от употребления данного значения термина и исполь-
зуем его техническое определение, обозначающее чрезмерно интенсив-
ное движение и чрезмерно плотный транспортный поток.
Коренная причина перегрузки заключается в том, что власти не
взимают плату за пользование дорогой. Если бы дорога принадлежала
максимизирующему прибыль субъекту, сбор за пользование ею был бы
по крайней мере не ниже x(dc/dx), т.е. величины издержек пользова-
телей дороги, обусловленных присутствием на ней «предельного» во-
дителя. (Если бы собственник дороги не был просто одним из боль-
шого числа субъектов, конкурирующих в сфере предложения дорож-
ных услуг, а обладал монопольным статусом, он получал бы сверх
величины x(dc/dx) еще и монопольную ренту. Однако мы не будем от-
клоняться от вымышленного примера с большим числом конкуриру-
ющих собственников дорог, чтобы аналогия с частным бизнесом была
очевидной.) В своей классической работе А. Пигу (Pigou, 1912) исполь-
зовал пример с «бесплатной» дорогой как типичный случай конкурент-
ной отрасли и на его основании сделал вывод, что конкурентная от-
расль всегда будет иметь тенденцию к чрезмерному расширению и де-
градации, приближению к ситуации «перегрузки». Как указал Ф. Найт
(Knight, 1924), в условиях частной собственности на ресурсы (включая
дороги) такого рода чрезмерное использование, как «перегрузка», не бу-
дет наблюдаться, поскольку собственники дорог будут назначать кон-
курентные цены за пользование ими. Пигу был прав, рассматривая кон-
кретный пример «бесплатной» дороги, однако этот пример представ-
ляет собой аномалию (distortion), которая обусловлена деятельностью
государственного сектора и не может возникнуть в условиях частной
собственности.
Нормативный вывод состоит в том, что оптимальным (или, по край-
ней мере, лучшим) решением было бы принятие властями системы це-
160
нообразования, которая обеспечила бы получение результатов, близких
к результатам функционирования частной конкурентной дорожной
системы. Для заданного уровня интенсивности транспортного потока
х = Xj власти должны установить сбор за пользование дорогой в разме-
ре x(dc/dx) при х = х(, Эта величина может быть интерпретирована как
произведение частных издержек поездки (с) на эластичность этих из-
держек по числу поездок [(x/c)(dc/dx)] при х = х;.
По данной формуле определяется оптимальная цена предложения
места на дороге при уровне интенсивности транспортного потока, рав-
ном х(. Однако если х(. есть равновесное значение интенсивности транс-
портного потока при нулевой цене пользования дорогой (как показа-
но на рис. 1), то необходимо принимать во внимание сокращение ин-
тенсивности транспортного потока вдоль кривой спроса под влиянием
роста цены поездки с с(х(.) до [с(х(.) + x(dc/dx)]. По мере падения ин-
тенсивности транспортного потока издержки и величина дорожного
сбора также сокращаются. Новая равновесная величина сбора будет
равна x0(dc/dx) при оптимальном уровне интенсивности транспортно-
го потока х0 и частных издержках с(х0). Оптимальная величина сбора
всегда будет меньше той, которая рассчитывается при уровне интен-
сивности транспортного потока, соответствующем равновесию в усло-
виях отсутствия дорожного сбора.
Интуитивно представляется правильным, что функция с(х) являет-
ся растущей. Это соответствует аналогичным представлениям в теории
фирмы. Однако на рис. 1 график функции с(х) становится вертикаль-
ным при числе поездок, обозначенном как max', при значениях свыше
с(тах) он начинает загибаться назад, в конечном итоге асимптотичес-
ки приближаясь к оси ординат. Интерпретацию загибающейся назад
ветви графика лучше всего дать с точки зрения соотношения величи-
ны, плотности и скорости транспортного потока. Очевидно, что число
автомобилей, проходящих мимо какого-либо пункта нашей кольцевой
дороги за единицу времени, отражает число завершенных поездок.
Однако величина транспортного потока в расчете на 1 час равна про-
изведению плотности автомобилей (т.е. их числа в расчете на 1 км пути)
и их скорости (км/ч). Появление на дороге новых автомобилей повы-
шает плотность транспортного потока и сокращает его скорость. При
низких значениях плотности сокращение скорости оказывается незна-
чительным, так что прирост числа транспортных средств и плотности
транспортного потока будет обеспечивать рост его величины. Однако
по мере того, как все больше автомобилей претендуют на использова-
ние ограниченного дорожного пространства, влияние роста плотнос-
ти транспортного потока на его скорость будет столь велико, что со-
кращение скорости приведет к сокращению числа поездок. В итоге
можно представить себе ситуацию сплошной дорожной пробки, в ко-
торой транспортные средства стоят вплотную друг к другу. Величина
транспортного потока при этом будет равна нулю, а издержки достиг-
нут очень высоких значений.
Приведенному выше описанию транспортного потока можно най-
ти точную аналогию в теории гидродинамики (Walters, 1961). В про-
161
стейшей форме стационарное состояние в гидродинамике описывает-
ся формулой
s = Z>[logD(s = 0) - log/Xs)],
где s — скорость; D — плотность жидкости, при которой достигается
указанная в скобках скорость, а х = sD. Отсюда можно получить очень
простую формулу эластичности скорости транспортного потока по его
величине: dlog s/d log х = b/(b - s). Параметр b задает критический уро-
вень скорости, при котором достигается максимизация интенсивнос-
ти транспортного потока. Статистические исследования свидетельству-
ют, что значение b составляет примерно 12 км/ч для городских улиц и
26—30 км/ч для автострад в черте города. Таким образом, гидродина-
мическая модель, видимо, оказывается эффективной для интерпрета-
ции условий транспортного потока высокой плотности.
Разумеется, оперировать загибающимися назад кривыми достаточ-
но трудно. Для любого заданного числа поездок существует два возмож-
ных уровня издержек: высокий при большой плотности транспортно-
го потока, и низкий при незначительной плотности. Можно ожидать,
что при любом «разумном* положении дел наступление условий, при
которых кривая приобретает отрицательный наклон, будет предотвра-
щено с помощью какой-либо системы ограничения транспортного
потока, например установления ценового механизма и т.д. Однако было
бы опрометчиво предполагать, что положение дел всегда является «ра-
зумным»: очевидно, что существование в реальности многочисленных
дорожных пробок несовместимо с экономической рациональностью.
Рис. 1. Спрос и предложение в условиях перегруженной дороги
162
Возможность существования равновесия при высоком уровне плотно-
сти транспортного потока и высоком уровне издержек, подобного точке
А на рис. 1, не может быть исключена. Существует, однако, еще одно
локально-устойчивое равновесие в точке С на восходящей ветви гра-
фика функции с(х). Может существовать множество таких локально-
устойчивых равновесных точек, так же, как и локально-неустойчивых,
подобных точке В на рис. 1. Хаотический характер транспортного дви-
жения во многих городах свидетельствует о том, что было бы неразум-
но игнорировать такого рода явления — хотя можно утверждать, что
условия их возникновения, скорее всего, являются преходящими и
представляют ограниченный интерес. До сих пор в аналитических и эм-
пирических исследованиях проблемам множественности точек равно-
весия и их устойчивости уделялось очень мало внимания.
Для анализа проблем перегрузки систем дорожного движения ис-
пользовались и другие модели, заимствованные из теории термодина-
мики и статистической теории очередей. Хотя термодинамические ана-
логии оказались полезными для моделирования взаимосвязи уровня
перегрузки и величины транспортного потока, они не получили ши-
рокого распространения в экономической теории перегрузки (Haight,
1963). Теория очередей и стохастические процессы, используемые для
построения моделей низкого уровня перегрузки, не обеспечили успеш-
ности теоретического моделирования наблюдаемых явлений, так что их
экономическая интерпретация также не получила серьезного развития.
Эмпирические исследования проблемы перегрузки транспортной
системы, однако, показали, что работы транспортных инженеров, по-
священные соотношению между скоростью, величиной и плотностью
транспортного потока, представляют собой неоценимый фундамент для
экономической оценки издержек перегрузки и адекватного уровня до-
рожных сборов. Регрессионный анализ зависимости скорости транс-
портного потока от его величины составлял ядро исследований, опи-
рающихся порой на неадекватные линейные аппроксимации восходя-
щей ветви кривой издержек (и нисходящей ветви кривой скорости
транспортного потока), а порой использующих логарифмическую фор-
му функций, заимствованную из области гидродинамики. Задача эко-
номиста заключалась в «переводе» соотношения «скорость — величина
потока» в соотношение «издержки — величина потока». Простейшая
аппроксимация для условий крайне перегруженной транспортной сис-
темы заключается в предположении, что издержки обратно пропорци-
ональны скорости. Однако для менее высокого уровня перегрузки
обычно используется аппроксимации с = т + n/s, где т и п —
константы, зависящие от единиц измерения, а с — издержки в расчете
на километр пути (Smeed, 1968).
Поскольку соотношения между скоростью и величиной транспорт-
ного потока соответствуют теоретическим предположениям (за исклю-
чением случая незначительной величины и плотности потока), форма
функции зависимости издержек от величины транспортного потока
также совпадает с изображенной на рис. 1. Исходя из наблюдаемых
уровней величины потока, плотности, скорости и издержек движения
163
по городским дорогам, можно рассчитать разрыв между предельными
общественными издержками и предельными частными издержками,
т.е. величину x(dc/dx). При допущении, что издержки обратно про-
порциональны скорости, «гидродинамическая» модель позволяет
определить оптимальную величину сбора t(s) при скорости 5; она равна
(cb)/(s — Ь). Однако ситуация на некоторых городских дорогах соответ-
ствует загибающейся назад ветви графика функции издержек. С фор-
мальной точки зрения дорожный сбор в этой ситуации должен быть
бесконечно большим. Однако такой вывод не принимает во внимание
реакцию спроса; следует иметь в виду, что ездить по столь перегружен-
ной дороге стало бы очень накладно. Даже если кривая спроса лежит
правее всей восходящей ветви кривой издержек, оптимальным вари-
антом всегда будет сокращение интенсивности транспортного потока
до такого уровня, чтобы точка равновесия располагалась на восходя-
щей ветви кривой издержек. В связи с этим необходимо знать форму
кривой спроса и значения эластичностей спроса при соответствующих
значениях величины транспортного потока.
К сожалению, об эластичности спроса на поездки мы знаем гораз-
до меньше, чем о кривых издержек. Оценка эластичности замещения
между разными дорогами может быть выполнена на основе анализа
максимально экономичных маршрутов (обычно — маршрутов, требу-
ющих наименьших затрат времени) с помощью моделей программиро-
вания. Однако оценка возможностей замещения между различными
типами и тенденциями развития городских районов и маршрутов дви-
жения является гораздо более проблематичной. Тем не менее, из ра-
боты Джона Таннера, о которой сообщает Р. Смид (Smeed, 1968), сле-
дует, что оптимальный уровень дорожного сбора слабо зависит от вы-
бора между различными предположениями относительно эластичности
спроса, однако данный результат не получил всеобъемлющего иссле-
дования и объяснения.
Эмпирические исследования свидетельствуют, что оптимальный
уровень городского дорожного сбора «в часы пик» составляет по мень-
шей мере 50%, а во многих случаях превышает 100% частных издер-
жек поездки. В остальное время оптимальный уровень сбора, вероят-
но, находится ближе к диапазону от 10 до 40% частных издержек поезд-
ки. Отметим, что во многих городах, особенно «третьего мира»
(например, в Бангкоке, Лагосе и Сан-Пауло), время пиковой загрузки
дорог продолжается более восьми часов в день. Основное следствие
такого положения дел с точки зрения политики регулирования заклю-
чается в том, что связанные с перегрузкой улиц издержки оказывают-
ся очень высокими, а потому существуют веские доводы в пользу сокра-
щения спроса на поездки, например путем использования некоторого
ценового механизма.
Вероятно, наилучшей политикой борьбы с перегрузкой городских
дорог является введение того или иного варианта дорожных сборов.
Однако на практике использование дорожных сборов является скорее
исключением, чем правилом. Большинство правительств остаются без-
участными наблюдателями роста издержек перегрузки дорог. Когда
164
дорожные пробки становятся нетерпимыми, обычно принимаются ад-
министративные правила, ограничивающие движение транспорта.
В Лагосе, например, машины с нечетными номерами имеют право по-
являться на улицах только по нечетным числам, а машины с четными
номерами — только по четным. Наиболее распространена политика
ограничения частного автотранспорта, для которого характерно самое
низкое соотношение между численностью пассажиров и занимаемым
на дороге местом, и содействие развитию общественного транспорта —
железнодорожного или автобусного. Используются различные методы
реализации такого приоритета, самыми типичными из которых явля-
ются выделение на дорогах специальной полосы движения для автобу-
сов и дискриминация на дорогах легкового автотранспорта. Реально
система дорожных сборов используется только в одном городе — Син-
гапуре. Водители частного автотранспорта обязаны выплачивать ежед-
невные или ежемесячные взносы за право въезда в центр города в ут-
ренние «часы пик». Данная схема была внедрена в 1975 г. и рассмат-
ривается как правительством, так и независимыми наблюдателями как
успешная с точки зрения экономических и политических критериев
(World Bank, 1985). Обсуждалась также возможность введения таких
схем в Лондоне, Вашингтоне и многих других городах, однако поли-
тические соображения воспрепятствовали их претворению в жизнь.
Развитие информационных технологий сделало реальным внедрение
многих сложных систем дорожных сборов, основывающихся на ком-
пьютерном контроле. Одна из таких систем в экспериментальном по-
рядке была введена в Гонконге (World Bank, 1985). Технические пре-
пятствия на пути установления дорожных сборов в основном преодо-
лены, однако еще предстоит преодолеть барьеры, связанные с
факторами перераспределения, влиянием групп интересов и полити-
ческими соображениями.
ПЕРЕГРУЗКА АЭРОПОРТОВ И ГАВАНЕЙ. Возможно, следу-
ющими по степени важности после проблемы использования автомо-
бильных дорог являются примеры перегрузки аэропортов и гаваней.
Существенное отличие, однако, состоит в том, что взимание платы за
посадку самолетов и швартовку судов является обычной практикой.
Проблема перегрузки возникает тогда, когда указанная плата не адек-
ватно отражает ограниченность пропускной способности аэропортов и
гаваней. (Рассмотрение ряда примеров применительно к случаю гава-
ней см. в работе: Bennathan and Walters, 1979; применительно к случаю
аэропортов — в работе: Park, 1971). Величина аэродромных и портовых
сборов может быть ограничена юридическими правилами или полити-
ческим давлением. Однако на практике привести эти сборы в соответ-
ствие с ограниченными возможностями аэропортов и гаваней (прини-
мая во внимание сезонные и ежедневные пики загрузки) гораздо про-
ще, чем ввести дорожные сборы.
ВЫВОДЫ. В экономическом анализе чрезмерного потребления (пе-
регрузки) был достигнут значительный прогресс, а идеи и политичес-
165
кие рекомендации, опирающиеся на его понятийный аппарат, заняли
прочное место в теории государственной экономической политики.
Однако большинство правительств воздерживаются от использования
сборов, предотвращающих возникновение перегрузки, — возможно,
потому, что подобные сборы непопулярны у избирателей. В этом смыс-
ле политическая экономия таких сборов не получила достаточного
практического применения. Трудно представить себе, что могло бы
привести к изменению ситуации.
БИБЛИОГРАФИЯ
Bennathan Е. and Walters А.А. Port Pricing and Investment Policy for Developing
Countries. New York: Oxford University Press, 1979.
Dupuit J. On the Measurement of the Utility of Public Works. Reprinted in: D.Munby
(ed.). Transport. London: Penguin, 1968 [1844] // Дюпюи Ж. О мере полезно-
сти гражданских сооружений // Теория потребительского поведения и спроса
/ Под ред. В.М. Гальперина. — СПб.: Экономическая школа, 1993. С. 28-66.
Demsetz Н. Economic, Legal, and Political Dimensions of Competition. Amsterdam:
North-Holland, 1982.
Haight F. Mathematical Theories of Traffic Flow. New York: Academic Press, 1963.
Knight F. Some Fallacies in the Interpretation of Social Cost // Quarterly Journal of
Economics, August 1924, no. 38, p. 582-606.
Park R. Congestion Tolls for Commercial Airports// Econometrica, September 1971,
no. 39, p. 683-694.
Pigou A.C. Wealth and Welfare. London: Macmillan, 1912.
Smeed R. Traffic Studies and Urban Congestion // Journal of Transport Economics
and Policy, January 1968, no. 2, p. 33—70.
Vikrey W. Congestion Theory and Transport Investment // American Economic
Review, May 1969, no. 59, p. 251-260.
Walters A.A. The Theory of Measurement of Private and Social Costs of Highway
Congestion // Econometrica, October 1961, no. 29, p. 676—699.
World Bank. Urban Transport. Washington, DC: World Bank, 1985.
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Джеймс М. Бьюкенен
Constitutional Economics
James М. Buchanan
Термин «конституциональная экономическая теория» («конститу-
циональная политическая экономия») был введен для обозначения и
классификации специфического направления исследований и связан-
ных с ними политических дискуссий, протекавших в 1970-е годы и
позже. Предмет исследования этой теории не является новым и досе-
ле неизвестным; можно даже утверждать, что «конституциональная
экономическая теория» имеет более тесные связи с работами Адама
Смита и экономистов-классиков, чем современная «неконституцио-
нальная» теория. Обе области исследования опираются на позитивный
анализ, в конечном счете направленный на содействие обсуждению
политических вопросов. Различие между ними состоит в уровне ана-
лиза или его контексте (setting), что, в свою очередь, подразумевает
обращение к различным аудиториям.
Задача традиционного экономического анализа, маршаллианского
или вальрасианского, состоит в объяснении выбора, который делают
экономические субъекты, их взаимодействия, а также результатов это-
го взаимодействия в рамках существующей правовой, институциональ-
ной и конституциональной структуры политической общности. Нор-
мативная аргументация строится при этом на основе критериев эко-
номической теории благосостояния, в соответствии с которыми
осуществляется оценка политических альтернатив. Исследователь эко-
номической политики в явном или неявном виде представляет резуль-
таты проделанного анализа субъектам принятия политических реше-
ний, которые затем делают окончательный выбор из имеющихся аль-
тернатив. Указанная роль исследователя экономической политики
непосредственно (а роль теоретика — косвенно) заключается в том, что-
бы давать рекомендации субъектам принятия государственных поли-
тических решений, кем бы они ни были.
Напротив, конституциональный экономический анализ направлен
на объяснение особенностей функционирования альтернативных на-
боров правовых, институциональных и конституционных правил, ко-
торые накладывают ограничения на осуществление выбора и деятель-
ность экономических и политических субъектов, правил, определя-
ющих структуру, в рамках которой экономические и политические
субъекты обычно решают проблему выбора. В этом смысле конститу-
167
циональная экономическая теория предусматривает более «высокий»
уровень исследования, чем традиционная экономическая теория; она
должна опираться на результаты, полученные как традиционной эко-
номической теорией, так и другими субдисциплинами менее абстракт-
ного характера. Нормативные моменты привносятся в анализ не с по-
мощью искусственно-прямолинейных критериев эффективности, а бо-
лее сложным способом. Альтернативные наборы правил должны
оцениваться в некотором смысле аналогично ранжированию полити-
ческих альтернатив в рамках заданной институциональной структуры,
но при этом эпистемологическое содержание критериев «эффективно-
сти» становится более проясненным.
Специалист в области конституциональной экономической теории
именно потому, что предметом его анализа являются альтернативные
наборы правил, не может дать никаких рекомендаций политическим
субъектам, функционирующим в рамках установленных правил. В этом
отношении он не может с полным правом считаться представителем
«политической науки». На другом уровне рассмотрения, однако, смысл
его деятельности направлен на создание ориентиров для тех, кто участ-
вует в обсуждении проектов конституционных изменений. Другими
словами, специалист в области конституциональной экономической
теории способен предоставлять нормативные рекомендации членам
постоянно действующего конституционного совещания, в то время как
специалисты в области традиционной экономической теории способ-
ны предоставлять рекомендации практикующим политикам. Фактичес-
ки конституциональная экономическая теория изучает выбор ограниче-
ний в отличие от выбора в рамках ограничений. Сфера внимания профес-
сиональных экономистов до сих пор почти исключительно
ограничивалась второй из указанных проблем.
Предварительной иллюстрацией данного различия может служить
пример с изучением денежно-кредитной политики. Специалист в об-
ласти конституциональной экономической теории непосредственно не
рассматривает вопрос о том, какая стратегия необходима для стабили-
зации в данных конкретных условиях — стратегия увеличения денеж-
ной массы или сдерживания ее роста. Он непосредственно занят оцен-
кой особенностей альтернативных денежно-кредитных систем (напри-
мер, систем фиксированных или произвольно определяемых темпов
роста денежной массы, систем неразменных или товарных денег). Глав-
ной целью такого анализа является выбор институтов, в рамках кото-
рых функционируют политические субъекты. При этом при анализе
альтернативных наборов ограничений принимается во внимание ожи-
даемое поведение этих субъектов.
I. КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И
КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ. Конституцио-
нальная экономическая теория имеет «родственные связи* с классичес-
кой политической экономией и может рассматриваться как важный
аспект общего возрождения классического подхода, особенно в том его
ракурсе, который представлен в работах Адама Смита. (Другие аспек-
168
ты указанного возрождения, тесно связанные? с конституциональной
экономической теорией и дополняющие ее, кратко освещаются в раз-
деле III.) Одна из очевидных целей экономистов-классиков состояла в
том, чтобы объяснить и понять функционирование рынков в отсутствие
детального политического регулирования. В этом отношении ортодок-
сальная неоклассическая экономическая теория в точности следует
классической традиции. Однако базовый классический анализ пробле-
мы функционирования рынков был лишь необходимым шагом к бо-
лее глобальной цели — продемонстрировать, что именно в связи со спо-
собностью рынков функционировать с достаточной степенью эффек-
тивности при отсутствии политического вмешательства существуют
мощные нормативные доводы в пользу установления конституционной
структуры. Адам Смит непосредственно занимался сравнением альтер-
нативных институциональных структур, альтернативных наборов огра-
ничений, в рамках которых экономические субъекты осуществляют
выбор. При проведении этого сравнительного анализа он пришел к
необходимости моделировать особенности функционирования неполи-
тизированной экономики (которой в реальности не существовало),
а также особенности функционирования в высшей степени политизи-
рованной меркантилистской экономики, которую он мог непосред-
ственно наблюдать.
Здесь нет необходимости ввязываться в спор по поводу того, действи-
тельно ли «идеи изменяют мир». Мы знаем, что экономика Великобри-
тании была успешно «деполитизирована» в конце XVIII — начале XIX в.,
а на основе проделанного Смитом и его сподвижниками, экономиста-
ми-классиками, анализа возникли как позитивное понимание экономи-
ческого процесса, так и философские доводы в пользу конкретного эко-
номического режима. Нормативные доводы в пользу режима laissez-faire
тесно переплелись (возможно, это было неизбежным) с позитивным
анализом взаимодействия субъектов в рамках конкретной структуры
ограничений, по существу, описывающей «минимальное», «защища-
ющее» или выполняющее роль «ночного сторожа» государство. Но в про-
цессе становления экономической теории как социальной науки инсти-
туциональная структура «выпала» из сферы исследования. Даже естест-
венная реакция против чрезмерно рьяного проведения принципов laissez-faire
выразилась в терминах «провалов рынка», а не в сопоставлении инсти-
туциональных систем в духе Смита. Ранняя критика рыночного поряд-
ка с социалистических позиций (как марксистская, так и немарксист-
ская) носила почти исключительно негативный характер, всячески под-
черкивая предполагаемые «провалы рынка» в рамках оставшегося
неизученным набора юридических и политических правил, при этом
абсолютно игнорируя анализ альтернативных правил, введение которых
было бы необходимо для исправления этих якобы имеющих место «про-
валов рынка». Вопросы сравнения альтернативных структур стали рас-
сматриваться только в 20—30-х годах XX в. в рамках дискуссий об «эко-
номическом расчете» при социализме.
Лишь спустя полстолетия после этих дебатов политическая эконо-
мия — в ее широком понимании — постепенно возвратилась к своим
769
классическим корням. Если функционирует юридическая система «за-
щищающего государства» (защита собственности и обеспечение выпол-
нения контрактов), то мы знаем, что при определенных условиях име-
ют место «провалы рынка» с точки зрения некоторых идеализирован-
ных критериев, будь то критерии «эффективности», «справедливости»
или других абстрактных норм. Мы также осведомлены о «провалах
политики», оцениваемых по тем же самым критериям. Любой позитив-
ный анализ, пригодный для вынесения окончательных нормативных
суждений, должен отражать опирающееся на всю полноту информации
сравнение особенностей функционирования альтернативных наборов
правил или ограничений. Этот анализ составляет сферу приложения
конституциональной экономической теории.
II. КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И
СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ. Классическая политическая экономия
возникла на основе моральной философии, а ее основатели рассмат-
ривали свои изыскания как естественную часть философского дискур-
са. Как современная отрасль знания конституциональная экономичес-
кая теория относится к той же сфере, несмотря на фрагментацию на-
учных дисциплин. Как сделать совместную жизнь людей свободной,
мирной и процветающей? Получение ответа на этот центральный во-
прос социальной философии требует постоянной работы специалистов
разных областей знания, включая, разумеется, специалистов в области
конституциональной экономической теории. Поскольку объектом их
исследования является фундаментальный выбор набора правил-огра-
ничений, в рамках которых протекает обычное социальное взаимодей-
ствие, специалисты в области конституциональной экономической те-
ории находятся по крайней мере на один шаг дальше от ошибочной
позиции «социальных инженеров», чем их коллеги, работающие в об-
ласти традиционной экономической теории. Именно потому, что спе-
циалисты в области конституциональной экономической теории не
располагают «простым» критерием оценки (аналогичным критерию
«аллокационной эффективности*), они менее склонны ранжировать
альтернативы по некому неисследованному универсальному критерию.
Для тех, кто концентрирует внимание на выборе между ограничения-
ми, искусственная абстракция «общественной полезности», скорее все-
го, окажется менее привлекательной, чем для тех, кто изучает выбор в
рамках заданных ограничений.
Однако, если отсутствует подлежащая максимизации функция, как
можно получить итоговые нормативные выводы? Один из путей за-
ключается в углублении позитивного анализа взамен поспешного пе-
рехода к нормативной оценке. Классическая политическая экономия
содержит важный принцип спонтанной координации, который пред-
ставляет собой великое открытие XVIII в. Этот принцип гласит, что
рынок под юридической защитой «минимального государства» и при
соблюдении ряда других условий «функционирует успешно». Даже если
мы, отдавая дань современной моде, должны будем добавить к этому
принципу оговорку: «при всех своих недостатках», он, тем не менее,
170
существенно продвигает нас к более полному пониманию альтернатив-
ных вариантов социального порядка. В той мере, в какой его усилия
содействуют лучшему пониманию людьми действия данного принци-
па применительно ко всем институциональным режимам, специалист
в области конституциональной экономической теории в меньшей сте-
пени стремится выдвинуть свое личное «решение» фундаментальной
проблемы выбора между альтернативными режимами.
III. НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ. Необходимо избе-
гать чрезмерного расширения предмета конституциональной экономи-
ческой теории, особенно если используется узкое ее определение. Как
указывалось выше, данная научная дисциплина возникла в 1970-х го-
дах для описания попыток анализа последствий, к которым ведет ис-
пользование альтернативных наборов правил, — в отличие от анализа
проблем выбора в рамках существующих структур, не подвергающих-
ся исследованию. С точки зрения более широкой перспективы после-
военного развития экономической науки конституциональная теория
принадлежит к числу взаимопересекающихся исследовательских про-
грамм, корни которых уходят в классическую политическую экономию.
В фокусе этих исследовательских программ находятся разные пробле-
мы, однако все они являются плодом усилий по преодолению относи-
тельно узких пределов традиционной неоклассической экономической
теории.
В континентальной Европе весь набор этих дисциплин рассматри-
вается под рубрикой «новая политическая экономия». В рамках дан-
ного набора мы можемвыделить: 1) теорию общественного выбора, на
базе которой возникла конституциональная экономическая теория;
2) экономическую теорию прав собственности; 3) теорию экономики
и права, или экономический анализ права; 4) политическую экономию
государственного регулирования; 5) неоинституциональную экономи-
ческую теорию; 6) новую экономическую историю. Если предложить
более широкое определение, то конституциональная экономическая
теория охватывает все эти дисциплины, поскольку в каждом случае
определенное внимание уделяется юридическим и политическим огра-
ничениям, в рамках которых экономические и политические субъекты
решают проблему выбора. Вместе с тем можно выделить и ряд отли-
чий; некоторые из них полезно рассмотреть, хотя детальное обсужде-
ние исследовательских программ не может быть предпринято в данном
очерке.
Теория общественного выбора (в той мере, в какой она не затраги-
вает проблемы конституционного характера) концентрирует внимание
на альтернативных структурах политического выбора и поведении
субъектов в рамках данных структур. Она ориентирована прежде всего
на построение прогнозных моделей политического взаимодействия и
представляет собой предварительный, но необходимый шаг на пути к
проведению конституциональных исследований более общего характе-
ра. Экономическая теория прав собственности, теория экономики и
права, а также политическая экономия государственного регулирова-
171
ния имеют больше общего с традиционной экономической теорией,
чем конституциональная экономическая теория или теория обществен-
ного выбора. Ключевое значение для этих отраслей экономической
жизни сохраняют стандартные критерии экономической эффективно-
сти, выполняющие одновременно и роль основы для построения объяс-
нений, и роль нормативного идеала. Неоинституциональная экономи-
ческая теория ориентирована скорее на изучение взаимодействия в
рамках конкретных институциональных форм, чем на изучение сово-
купной структуры политических правил (Furubotn and Richter, 1980;
Frey, 1984). Некоторые подходы в рамках новой экономической исто-
рии имеют много общего с конституциональной экономической тео-
рией, при том, разумеется, что основной акцент в них сделан на исто-
рический, а не сравнительный анализ (North and Thomas, 1973).
IV. ПРЕДПОСЫЛКИ АНАЛИЗА. Конституциональная экономи-
ческая теория, наряду с упомянутыми выше родственными исследова-
тельскими программами, имеет общий методологический фундамент
со своей предшественницей — классической политической экономи-
ей, а также своим антиподом — современной неоклассической микро-
экономической теорией. Лишь индивиды осуществляют выбор и совер-
шают действия. Коллективы как таковые не могут осуществлять ни
выбора, ни действий, и анализ, исходящий из обратного, не соответ-
ствует канону научности. Общественные агрегатные показатели рас-
сматриваются исключительно как результат индивидуального выбора
и индивидуальных действий. Традиция, придающая особое значение
объяснению непреднамеренных агрегатных результатов индивидуаль-
ного взаимодействия, берет начало еще в ранних идеях моральных
философов шотландской школы. Доступный наблюдению агрегатный
результат, который не может быть «разложен» на следствия индивиду-
альных актов выбора и объяснен на их основе, рассматривается как
брошенный исследователю вызов, а вовсе не как доказательство сущест-
вования «неиндивидуалистического» органического субъекта.
Методологический индивидуализм в изложенной выше формули-
ровке принят практически всеми экономистами, работающими в тра-
дициях «основного течения» (т.е. в рамках немарксистской традиции).
Но философское дополнение к принципу индивидуализма, которому
отводится центральная роль в конституциональной экономической
теории, пользуется менее широким признанием, а часто открыто от-
рицается. Следует проводить различие между методологическим инди-
видуализмом, в фундаменте которого лежит представление об индиви-
дуальном выборе как базовой единице анализа, и второй методологи-
ческой предпосылкой, которая видит источник ценностных суждений
исключительно в суждениях индивидов.
Первая предпосылка в отрыве от второй оставляет сравнительно
мало возможностей для определения конституционных структур на
основе индивидуальных предпочтений. Между интересами и ценнос-
тями, которым хотят следовать индивиды, и неиндивидуалистически-
ми ценностями, которые, как предполагается, служат высшим норма-
772
тивным критерием, отсутствует концептуальное связующее звено нор-
мативного характера. В данных условиях конституциональная теория
по большей части (если не полностью) теряет свой raison d’etre. Если
высшие ценности, которые необходимо принимать во внимание при
выборе между институтами, носят неиндивидуалистический характер, то
в пользу определения этих ценностей через индивидуальные предпоч-
тения можно выдвинуть в лучшем случае инструментальные доводы.
С другой стороны, если принимается вторая предпосылка о конеч-
ном источнике ценностных суждений, то не существует иного спосо-
ба определения «логики правил», чем опора на индивидуальные
предпочтения. В своей основе вторая предпосылка подразумевает де-
мократическое правление с сопутствующим условием, что демокра-
тическая структура принятия решений обладает нормативной леги-
тимностью лишь в том случае, если к ней прилагается эпитет «кон-
ституционная».
V. КНУТ ВИКСЕЛЛЬ КАК ПРЕДШЕСТВЕННИК КОНСТИТУ-
ЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. Единственным
предшественником конституциональной экономической теории в ее
современном варианте является Кнут Викселль, который придерживал-
ся принципа индивидуализма в обеих его разновидностях, о которых
шла речь выше. В своей основной работе, посвященной теории нало-
гообложения (Finanztheoretische Untersuchungen, 1896), Викселль привлек
внимание к существенной роли правил, регулирующих решение про-
блемы выбора политическими субъектами, и указал на то, что рефор-
маторские усилия должны быть направлены на изменение правил при-
нятия решений, а не на изменение ожидаемых результатов деятельно-
сти субъектов путем воздействия на их поведение.
Для этого Викселлю был необходим некоторый критерий, на осно-
ве которого можно было бы судить о вероятной эффективности пред-
лагаемых изменений. Он ввел ныне широко известный критерий
единогласия (консенсуса), который был воспринят конституциональ-
ной экономической теорией и обусловливает ее тесную связь с тради-
цией общественного договора в политической философии. Следует
также остановиться на взаимосвязи между критериями Викселля и
Парето. Если во внимание принимаются лишь ценностные представ-
ления индивидов, а единственным источником информации об этих
представлениях является фактическое поведение индивидов при реше-
нии проблемы выбора, то ни одно изменение не может быть признано
«эффективным», если не будут найдены средства для обеспечения со-
гласия всех индивидов (и групп). Если добиться такого согласия не-
возможно, то нельзя вынести никаких рекомендаций. Благодаря Вик-
селлю современные экономисты могут осуществлять сравнительный
анализ правил или институтов в рамках методологического подхода,
опирающегося на критерий эффективности, который, будучи интер-
претирован в соответствии с приведенной выше схемой, не требует
отказа от какой-либо из двух обсуждавшихся нами индивидуалистичес-
ких предпосылок.
173
VI. HOMO ECONOMICUS В КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. Конституциональная экономическая тео-
рия в отличие от дополняющих ее исследовательских программ, посвя-
щенных изучению политических конституций в рамках юриспруден-
ции, политологии, социологии и других наук, не ограничивается
предпосылками методологического индивидуализма и включает в себя
нетавтологичные модели максимизации индивидами полезности. Ното
economicus играет центральную роль в сравнительных институциональ-
ных исследованиях. Предполагается, что индивиды преследуют соб-
ственный интерес, определение которого строится таким образом, что-
бы сохранить его операциональное содержание.
В поддержку данного постулата конституциональной экономичес-
кой теории можно выдвинуть два довода. Первый заключается в мето-
дологической последовательности. Поскольку предполагается, что ин-
дивиды в процессе рыночного взаимодействия максимизируют полез-
ность, нет очевидных причин предусматривать изменение мотивации
применительно к их поведению в рамках нерыночных ограничений. По
меньшей мере, очень вероятно, что индивиды не претерпевают «сущ-
ностной трансформации», переходя от выполнения ролей покупателей
или продавцов на рынке к выполнению ролей избирателей, налогопла-
тельщиков, получателей субсидий, политиков или чиновников в поли-
тической сфере. Более глубокая причина для постулирования последо-
вательности поведения заключается в плодотворности использования
такой модели для сравнения институтов. Если задача состоит в срав-
нении последствий альтернативных наборов ограничений, то для иден-
тификации различий в результатах, обусловленных различиями в
ограничениях, необходимо предположение о последовательном харак-
тере индивидуального поведения, не зависящем от конкретных огра-
ничений.
Второй довод в пользу применения модели homo economicus в кон-
ституциональной экономической теории более сложен и более важен.
Он также является источником путаницы, поскольку необходимо про-
водить четкое различие между использованием этой модели в соци-
альных науках, ориентированных на получение прогнозов развития
событий (особенно в позитивной теории общественного выбора и нео-
классической экономической теории), с одной стороны, и в конститу-
циональной экономической теории, с другой. Существует основание
для применения этой модели во втором случае, несмотря на выявлен-
ную эмпирически ограниченность ее аналитического потенциала при-
менительно к первому случаю.
Этот довод имплицитно содержится в работах экономистов-клас-
сиков. В качестве методологического принципа он был выдвинут
Д. Юмом и Дж. Ст. Миллем:
«При введении ограничений любой системы правления и определении кон-
ституционных сдержек и противовесов необходимо исходить из пред-
положения, что каждый человек является мошенником и преследует во
174
всех своих действиях единственную цель — цель удовлетворения лично-
го интереса» (Ните, [1741] 1963, р. 117—118).
«В соответствии с самим принципом конституционного правления не-
обходимо предполагать, что лицо, наделенное политической властью,
будет злоупотреблять ею для достижения своих личных целей, — не по-
тому, что это злоупотребление всегда имеет место, а потому, что та-
кова естественная тенденция развития событий, защиту от которой
и должны предоставить свободные институты» (Mill [1861], 1977,
р. 505).
Конечной целью анализа альтернативных наборов правил является
предоставление информации для осуществления выбора между этими
наборами. Необходимо исследовать ожидаемые особенности функци-
онирования каждого набора, причем эти особенности будут отражать
модели индивидуального поведения в рамках соответствующих огра-
ничений. Следует, разумеется, ожидать отклонения реального поведе-
ния от предполагаемых моделей, использованных для определения этих
особенностей. Однако издержки, связанные с ошибками прогнозиро-
вания, могут иметь несимметричное распределение относительно «иде-
альной» прогнозной модели. Ожидаемые потери, обусловленные откло-
нением реального поведения от модели, опирающейся на «оптимистич-
ные» мотивационные предпосылки, могут оказаться выше ожидаемых
выгод, реализация которых будет иметь место, если с помощью этой
модели окажется возможным получать точные прогнозы. Следователь-
но, сравнительная оценка института, основанная на альтруистической
модели поведения, должна принимать во внимание возможную нели-
нейность функции потерь, описывающей отклонения от наилучших
оценок. (В юридической практике формальные договоры содержат га-
рантии на случай наихудших вариантов поведения.) Применительно к
проблеме конституционального выбора, таким образом, существует
основание для использования моделей индивидуального выбора, пре-
дусматривающих более узкое определение личного интереса, чем это
может показаться оправданным на основании эмпирических наблюде-
ний (Brennan and Buchanan, 1985).
VII. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. Практические приложе-
ния конституциональной экономической теории как исследовательской
программы затрагивают несколько сфер. Рассмотрим, во-первых, про-
блему налогообложения. После Маршалла инструменты экономичес-
кой теории — будь то модели частичного или общего равновесия, —
часто использовались для изучения распределения налогового бреме-
ни. Анализ был направлен на предсказание влияния экзогенно вводи-
мого налога на экономическое поведение индивидов, выступающих в
роли покупателей и продавцов товаров и услуг на рынке. На основе
этого позитивного анализа нормативная экономическая теория благо-
состояния позволяет ранжировать налоговые инструменты, обеспечи-
вающие одинаковый объем поступлений, с точки зрения критерия
Парето. Как в позитивном, так и в нормативном своем аспекте нео-
классическая теория налогообложения опирается на предположение,
175
что с точки зрения процесса выбора налоги как таковые носят экзо-
генный характер.
Важнейший вклад теории общественного выбора как самостоятель-
ной дисциплины заключается в эндогенизации процесса принятия по-
литических решений. Данная теория уделяет основное внимание изу-
чению существующих правил принятия политических решений для
того, чтобы дать прогноз о том, какие налоговые институты и налого-
вые инструменты будут приняты. Конституциональная экономическая
теория как более широкая дисциплина, возникшая на основе теории
общественного выбора, делает еще один шаг вперед и использует ре-
зультаты, полученные как в рамках неоклассической экономической
теории, так и теории общественного выбора, для изучения вопроса о
том, как использование различных политических правил может вести
к возникновению различных правил налогообложения.
Варианты конституционального выбора могут заключаться в том,
чтобы предоставить правительству взимать налоги с налоговой базы А
или налоговой базы В. Предположим, что при соблюдении неокласси-
ческого предположения о равенстве объема налоговых поступлений
анализ показывает, что взимание налогов с А обеспечивает меньшие
потери благосостояния, чем взимание налогов с В. Однако анализ про-
цесса политического выбора может продемонстрировать, что правитель-
ство, если дать ему полномочия взимать налоги с А, будет склонно де-
лать это таким образом, чтобы обеспечить себе более высокие поступле-
ния по сравнению с теми, которые оно собрало бы, будучи
уполномочено взимать налоги с В. Альтернативы, обеспечивающие
одинаковый объем налоговых поступлений, могут оказаться нереалис-
тичными с точки зрения сколь-либо правдоподобных моделей поведе-
ния политических субъектов. Как только эта простая истина осознана,
нормативное значение неоклассического ранжирования налоговых
инструментов падает. Дискуссия с необходимостью поднимается на
уровень взаимодействия структур принятия политических решений и
фискальных институтов.
Второе практическое приложение конституциональная экономичес-
кая теория нашла в посткейнсианских дискуссиях по поводу бюджет-
ной политики. Аргументы Кейнса об использовании государственно-
го бюджета для достижения макроэкономических целей были основа-
ны на игнорировании структуры принятия политических решений.
Склонность демократических правительств уделять больше внимания
расходам, а не доходам и соответственно тенденция к дефицитности
государственного бюджета без труда находят объяснение в элементар-
ных положениях теории общественного выбора (Buchanan and Wagner,
1997). Этот существенный вывод, опирающийся на логику теории об-
щественного выбора, естественно ведет к изучению взаимосвязи меж-
ду ограничениями, которые могут быть наложены на политический
выбор, и их прогнозируемыми бюджетными последствиями. Это важ-
ное приложение конституциональной экономической теории, имеющее
большое практическое значение, заложило основу для нормативного
утверждения, которое гласит, что в посткейнсианскую эру, когда мо-
176
ральные ограничения деятельности политических субъектов по боль-
шей части утратили свою былую эффективность, для обеспечения вы-
работки ответственных фискальных решений могут оказаться необхо-
димыми формальные правила, ограничивающие возможности дефицит-
ного финансирования. В современных условиях такие правила могут
ограничивать объем расходов. Небезынтересно, однако, упомянуть о
том, что в политических условиях Швеции 90-х годов XIX в. К. Вик-
селль выдвинул аналитически сходные предложения о проведении ре-
формы, предполагая, что в случае ее осуществления расходы государ-
ственного сектора возрастут.
Анализ альтернативных правил «конституции трансфертов» пред-
ставляет собой третье направление практического приложения консти-
туциональной экономической теории. Начиная с 1971 г., когда была
опубликована книга Дж. Ролза «Теория справедливости» (Rawls, 1996),
принципы справедливости распределения вновь оказались объектом
внимания. Хотя работа Ролза явно относится к доконституционально-
му этапу, она тесно связана с усилиями по выработке критериев оцен-
ки политических и экономических правил социального взаимодействия.
Экономисты, как и представители других социальных наук и соци-
альные философы, все больше убеждаются в том, что политика, опре-
деляемая под влиянием групп интересов, вряд ли может содействовать
достижению справедливости распределения доходов и богатства. Ана-
лиз действия такой политики в сфере бюджетных трансфертов пока-
зывает, что принципиальные изменения в распределении доходов и
богатства (с учетом как объема взимаемых налогов, так и объема транс-
фертов) могут быть достигнуты лишь в том случае, если институцио-
нальные правила резко ограничат прибыльность инвестиций, направ-
ленных на подрыв процесса осуществления трансфертов.
Другие практические приложения могут касаться конституций го-
сударственного регулирования, а также организации государственных
предприятий. Конституциональная экономическая теория в широком
смысле становится каналом, посредством которого в порой излишне
стерильную социальную науку вновь возвращается представление о
роли институциональных факторов. В более узком смысле конститу-
циональная экономическая теория, наряду со смежными и дополня-
ющими ее исследовательскими программами, привносит «политичес-
кое» в «экономику», тем самым восстанавливая связь, которая бьиа на-
рушена все то время, когда «экономическая теория» претендовала на
независимый статус.
БИБЛИОГРАФИЯ
Бьюкенен Дж. Границы свободы: между анархией и Левиафаном. М.: Фонд эко-
номической инициативы, 1997.
Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Издательство Новосибирского
университета, 1996.
177
Brennan G. and Buchanan J.M. The Power to Tax: Analytical Foundations of the
Fiscal Constitution. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
Brennan G. and Buchanan J.M. The Reason of Rules: Constitutional Political
Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
Buchanan J.M. and Tullock G. The Calculus of Consent: Logical Foundations of
Constitutional Democracy. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962.
Buchanan J.M. and Wagner R.E. Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord
Keynes. New York: Academic Press, 1977.
Frey B. A New View of Economics: Comparative Analysis of Institutions // Scelte
Pubbliche, 1984, no. 1, p. 17-28.
Furubotn E.G. and Richter R. (eds.). The New Institutional Economics —
A Symposium // Zeitschrifi fur gesamte Staatswissenschafl, 1980, no. 140.
Hayek F.A. 1973—1979. Law, Legislation, and Liberty. 3 vols. Chicago: University of
Chicago Press.
Hume D. On the Interdependency of Parliament. In: Essays, Moral, Political, and
Literary. London: Oxford University Press, 1963 [1741].
McKenzie R. Bound to Be Free. Palo Alto: Hoover Press, 1982.
McKenzie R. (ed.). Constitutional Economics. Lexington, Mass.: Lexington Books,
1984.
Mill J.S. Considerations on Representative Government. In: Essays on Politics and
Society, vol. XIX of Collected Works of J.S.Mill. Toronto: University of Toronto
Press, 1977 [1861].
North D.C. and Thomas R.P. The Rise of the Western World: A New Economic
History. Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
Wicksell K. Finanztheoretische Untersuchungen. Jena: Gustav Fischer, 1896.
НЕПРЕРЫВНОСТЬ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
Дональд Н. Макклоски
Continuity in Economic History
Donald N. McCloskey
Непрерывность и прерывность — это приемы повествования (story-
telling). Мы пользуемся этими приемами, когда рассказываем истории
о денежно-кредитной политике последних месяцев или об экономичес-
ком росте последних десятилетий. С этими понятиями связан ряд фи-
лософских вопросов, а также проблем, относящихся к менее высоким
сферам, например к исторической последовательности или политике.
Говоря на подобную тему, желательно опираться на конкретный
случай. Возьмем наиболее важный случай — промышленную револю-
цию в Англии.
Если это была действительно «революция» — а она ею несомненно
была, — то она произошла в какое-то время. Иными словами, должен
был произойти разрыв исторической непрерывности, возникнуть де-
ление на «до» и «после». Так когда же, собственно, произошла эта ре-
волюция? Назывались самые разные сроки и даты, некоторые с точ-
ностью до года и даже до дня. Среди них 9 марта 1776 г., дата выхода в
свет «Исследования о природе и причинах богатства народов» Адама
Смита, выразившего мировоззрение целой эпохи; первые 5 месяцев
1769 г., когда Уатту был выдан патент на паровой двигатель, а Аркрай-
ту — патент на прядильную машину с приводом от водяного колеса;
1 января 1760 г., когда в местечке Стирлингшайр были пущены домны
металлургического завода «Саггоп Ironworks».
Попытки установить точную дату выглядят, конечно, несерьезно.
Точная дата уместна на мемориальной доске или на свитке, но не тог-
да, когда речь идет о сложных явлениях. В данном случае разрыв не-
прерывности выглядит чрезмерно резким, внимание привлекается к
каким-то мелким деталям. Великая депрессия в США началась отнюдь
не 24 октября 1929 г., а дерегулирование банковской системы в США
не было завершено с отменой Правила «Кью»*. Сошлемся на Никола-
са Крафтса (Crafts, 1977), который верно подметил, что пытаться уста-
новить точную дату, когда произошла промышленная революция, бес-
* Правило «Кью» — распоряжение совета управляющих Федеральной резерв-
ной системы США, которым был введен «потолок» процентных ставок по
депозитам в банках — членах ФРС. Оно было отменено 31 марта 1986 г. —
Примеч. пер.
179
полезно, поскольку на мелких событиях нет ярлыков, на которых на-
писано, с какой вероятностью они приведут к великой революции.
В этом заключается первая трудность. Джоэль Мокир (Mokyr, 1985,
р. 44) обращает внимание на другую трудность, связанную с попыткой
отыскать среди множества желудей тот самый, из которого произрос
великий дуб промышленной революции. Она, по его мнению, напоми-
нает «изучение истории иудейских сект с 50-го г. до н.э. по 50-й г. н.э.
Мы ищем то, что современникам казалось мелким и даже страннова-
тым», хотя потом этому «суждено было изменить жизнь всех мужчин
и женщин в западном мире»*.
У всех нас разное представление о том, чему суждено изменить нашу
жизнь, а чему — нет. Поэтому каждый историк по-своему датирует
промышленную революцию и по-своему видит разрыв непрерывности
поступательного хода истории. Карус-Уилсон (Carus-Wilson, 1941, р. 41)
писала о «промышленной революции ХШ в.» — она считала, что при-
менение сукновальной машины стало возможным «благодаря научным
открытиям и технологическому прогрессу» и что именно этой машине
«суждено было изменить лицо средневековой Англии». Бридбери
(Bridbury, 1975, р. XIX-XX) пишет, что на излете Средневековья Ан-
глия «медленно двигалась по тому же пути... что и во времена Адама
Смита, только во времена Адама Смита она стала двигаться гораздо
быстрее». Марксисты считают, что скачок произошел в XVI в., — ведь
именно тогда капитализм в поисках наживы начал распространяться
на весь мир. Джон У. Неф, марксистом не являющийся, тоже усмат-
ривает начало промышленной революции в XVI в. — главным образом
в угольной промышленности (Nef, 1932), хотя и признает замедление
ее темпов в XVII в. Специалист по XVII в. Коулмен (Coleman, 1977)
видит признаки современного экономического роста даже в этом не-
мирном веке. В основном промышленная революция датируется вто-
рой половиной XVIII в., где-то 60—70-ми годами (Mantoux, 1928;
Landes, 1969), но в последних работах по этому вопросу (Harley, 1982;
Crafts, 1984) выявлено множество поразительных достижений, имевших
место в начале XVIII в. Ростоу (Rostow, 1960) считает, что «взлет» к
состоянию «самовоспроизводящегося роста» произошел в последние
два десятилетия XVIII в., хотя иные исследователи считают, что еще в
1850 г. большинство британцев были по-прежнему заняты в традици-
онных отраслях. И только потом произошла еще одна — вторая — про-
мышленная революция (связанная с химией, электричеством и двига-
телями внутреннего сгорания), а за ней и третья (связанная с электро-
никой и биологией).
Конечно, на эту проблему можно взглянуть и в более широкой пер-
спективе, стараясь увидеть не столько скачки истории, сколько непре-
рывность ее хода. Рассматривая, например, вопрос о промышленной
революции 1907 г„ американский историк Генри Адамс смог разгля-
деть «переход от однообразия к разнообразию, происходивший с 1200
по 1900 год... непрерывный в своем развитии и быстро ускоряющий-
* Имеется в виду рождение и жизнь Иисуса Христа. — Примеч. пер.
180
ся» (Adams, 1931, р. 498). Один из крупнейших’современных исследо-
вателей промышленной революции Р.М. Хартвелл защищает идею не-
прерывности в противовес попыткам отыскать единственно правиль-
ную дату (Hartwell, 1965, р. 78). «Так ли необходимо нам объяснение, по-
чему произошла промышленная революция? Разве не может она быть
кульминацией ничем не примечательного процесса, следствием дли-
тельного периода экономического роста?»
Подобные вопросы о прерывности и непрерывности исторических
процессов довольно часто возникают у экономистов, хотя они и сами
не вполне отдают себе в этом отчет. Не следует оставлять подобные
вопросы на усмотрение историков. Экономическая наука — это глав-
ным образом наука о современности, о том, что происходит сейчас,
и поэтому ей непросто решить, имеет ли в данном конкретном случае
место историческая непрерывность или нет. Например, Роберт Хиггс
(Higgs, 1987) утверждает, что точкой скачкообразного роста государ-
ственного вмешательства в экономику можно считать как период воз-
никновения идеи институтов централизованного вмешательства в эко-
номику (1900-1918), так и период их создания (1930-1945) или экспан-
сии (1960—1970). Даже при изложении истории последних десятилетий
возникают аналогичные проблемы. Когда именно в 70-х годах произош-
ло крушение валютных паритетов, если оно вообще имело место? Когда
антимонопольная политика сменилась политикой поощрения слияний?
В какой момент денежная политика государства стала вдруг экспанси-
онистской? Как определить эти переломные моменты?
Трудность ответа на подобные вопросы часто ошибочно принима-
ли за трудность философского плана. Впервые эта философская про-
блема была сформулирована в V в. до н.э. Парменидом и его учени-
ком Зеноном: если все совершенно непрерывно, то невозможны ни-
какие изменения (Korner, 1967). Все, если можно так выразиться,
слишком плотно «подогнано», чтобы было возможно движение. Эко-
номисты могут увидеть в этом аналогию с вырожденным экономичес-
ким равновесием, физики — с максимальной энтропией. Если челове-
ческая природа «действительно» не меняется, то все изложение исто-
рии сведется к череде надоевших заявлений о том, что чем больше
перемен, тем больше все остается по-старому. Если экономика «дей-
ствительно» все время находится в состоянии равновесия, то с этим уже
ничего не поделаешь.
Экономист-историк Александр Гершенкрон, внесший значитель-
ный вклад в разработку проблемы прерывности и непрерывности в
экономической истории, отмечал, что подобная метафизика означала
бы конец истории вообще (Gerschenkron, 1962, р. 12). История эконо-
мики, если бы она строилась в соответствии с идеей Парменида, не
смогла бы ничего сказать.
Применительно к общественным наукам Гершенкрон отвергает
переход от связанности всех перемен к отсутствию изменений вообще.
Действительно, если соответствующим образом подгонять кривые, то
с математической точки зрения никакие экономические перемены не
будут казаться разрывами непрерывности; но было бы неверно делать
181
из этого вывод о том, что «на самом деле» никаких перемен не про-
изошло или что промышленная революция — это мираж. Следует раз-
личать «непрерывность» в строгом математическом смысле и «непре-
рывность» в повествовательном смысле.
Экономисты часто путались в этом философском различии, извле-
кая из него подчас неожиданные выводы. Альфред Маршалл поместил
на титульном листе своих «Принципов» девиз «nature non facit saltum»
(«природа не делает скачков»; у автора этой фразы Лейбница она зву-
чала как «1а nature ne fait jamais des sauts», т.е. «природа никогда не де-
лает скачков»). Сам Маршалл, по всей видимости, полагал, что если
поведение можно отразить с помощью дифференцируемых функций,
то из этого следует, что маржинализм лучше всего подходит для опи-
сания человеческого поведения. Неизвестно, считал ли он, что отсут-
ствие скачков в природе (и это накануне возникновения квантовой
физики!) означает, что и люди не должны делать никаких скачков и
должны изменять общество лишь постепенно. Во всяком случае, оба
этих вывода неверны. И хотя оба они приписывались неоклассической
школе, ни тот, ни другой не является для нее необходимым. Сколько
ожесточенных споров возникало из-за предположения, что неокласси-
ческая школа полагается на гладкие кривые и, следовательно, должна
выступать за сглаживание и преемственность социальной политики!
Этим же объясняется и своеобразный альянс между дискретной мате-
матикой и марксистской экономической теорией, а также привержен-
ность некоторых консервативных авторов идее непрерывного хода эко-
номической истории. Гершенкрон обрушивает проклятия на оба этих
дома: ученый-обществовед должен изучать изменения и преемствен-
ность событий «без оглядки на любителей или ненавистников револю-
ций, которым следует подыскать место для игр или баталий вне сферы
серьезной науки» (Gerschenkron, op. cit., р. 39).
В одном из значений этого слова экономическая история, безуслов-
но, непрерывна. История имеет причины (таково четвертое из пяти
исторически релевантных определений непрерывности, которые выде-
ляет Гершенкрон). Таким образом, непрерывность можно понимать
просто как очень длинную причинную цепь. Разработка шотландских
месторождений железной руды в XVIII в. стала возможной благодаря
смелым капиталовложениям, а капиталовложения эти стали возможны
благодаря наличию законов, надежно защищающих права собственно-
сти и торговли, принятие которых было подготовлено некоторыми со-
бытиями в области юриспруденции, имевшими место в XVI в., а так-
же укреплением политической стабильности в начале XVIII в., что,
в свою очередь, явилось результатом всех предшествующих событий.
В прослеживании непрерывных причинно-следственных цепочек и за-
ключается, по мнению Гершенкрона, задача историка или, добавим уже
от себя, экономиста, который выполняет работу историка, когда он не
занят выполнением работы философа. Задача может заключаться в том,
чтобы найти, например, причину Великой депрессии. Для этого потре-
бовалось бы найти череду таких событий, отсутствие которых привело
бы к иным результатам: скажем, можно сослаться на безответственную
182
внешнеэкономическую политику США, как счйтает Кайндлбергер, или
на безответственную политику Федеральной резервной системы, как
полагают Фридман и Шварц. Прослеживание таких цепочек имеет свои
трудности философского плана (см. статью «Контрфактические утверж-
дения» в данной книге).
Однако основные проблемы непрерывности и ее отсутствия невозмож-
но решить на семинарах по философии. Это практические проблемы,
связанные с измерением, и решать их должны экономисты или истори-
ки. Так когда же произошла промышленная революция? Гершенкрон
отвечает на этот вопрос применительно к одной только промышленнос-
ти, поскольку он, как и большинство экономистов-историков, считает, что
сельское хозяйство и сфера услуг развивались с отставанием.
«В ряде основных европейских стран... после длительного периода до-
статочно низких темпов роста наступил момент более или менее вне-
запного их увеличения, после чего они оставались на этом высоком уров-
не на протяжении значительного периода. То был период великого рывка
в промышленном развитии этих стран... Темпы роста и разница в уров-
не экономического развития этих стран до и после рывка определялись,
по-видимому, степенью относительной отсталости той или иной стра-
ны на момент начала ускорения» (Gerschenkron, op. cit., р. 33-34).
Уровень, на котором следует искать подобные разрывы в непрерыв-
ности, зависит от нашего выбора. Гершенкрон пишет:
«Если очагом «великого рывка» была обрабатывающая промышленность,
то было бы бесполезно искать разрыв непрерывности по данным о таких
крупных агрегатах, как национальный доход... К тому времени, когда объем
промышленного производства увеличился настолько, что это отразилось
на столь крупном агрегате, увлекательный период большого рывка, скорее
всего, остался уже позади» (Gerschenkron, op. cit., р. 34—35).
Добавим также, что в примечании к этому месту он замечает: «...то,
что Уолт Ростоу этого не понимает, значительно ослабляет его концеп-
цию «взлета», которая в принципе имеет много общего с концепцией
«большого рывка», разработанной автором».
Возвращаясь к цитате скажем, что в ней сформулирована очень
верная мысль, и она применима к любым вопросам о непрерывности
в агрегированной экономике. Крохотные (и самые интересные) рост-
ки оказываются скрытыми за множеством других явлений и становят-
ся заметными только тогда, когда они уже вырастут и ничего интерес-
ного в них не останется. Джоэл Мокир приводит такой арифметичес-
кий пример: если традиционный сектор экономики растет всего на 1%
в год и первоначально дает 90% всей продукции, а новый сектор рас-
тет на 4% в год и первоначально дает 10% всей продукции, то потребу-
ется три четверти века, чтобы новый сектор начал давать половину всей
продукции (Mokyr, 1985, р. 5). Эту теорему можно назвать «теоремой
о взвешивании» (Weighting Theorem) или «теоремой об ожидании»
(Waiting Theorem), поскольку когда начальный вес невелик, то ждать
приходится долго. Аналогичные примеры можно привести и примени-
тельно к другим вопросам экономической теории и общественных наук
вообще. Например, в теории экономического роста, как было верно за-
183
мечено вскоре после ее появления, на то, чтобы произошел сдвиг, в ре-
зультате которого рост составил бы 90% от исходного состояния, в боль-
шинстве моделей уходит 100 теоретических лет. Если говорить в более
общем смысле, то экономисты давно заметили, что между микроэконо-
мическими объяснениями и макроэкономическими явлениями, которые
они должны объяснить, всегда существует определенная напряженность.
Социологи тоже спорят на аналогичную тему уже целое столетие, при-
чем даже словечки используют те же — «микро» и «макро».
Иными словами, поиск разрывов непрерывности по временным
рядам агрегированных показателей ставит вопрос об уровне, на кото-
ром мы должны проводить экономический (или общественно-научный)
анализ, т.е. об уровне агрегирования. Сам Гершенкрон не смог дать
удовлетворительного ответа на этот вопрос и попался в собственные
сети. Производя расчеты объема промышленного производства Италии,
он датировал «большой рывок» 1896—1908 гг. и в качестве объяснения
его причины сослался на то, что в 90-х годах XIX в. в Италии возник-
ло сразу несколько крупных банков. Его бывший ученик Стефано
Феноальтеа решил применить к данному случаю теорему о взвешива-
нии (Fenoaitea, 1987). Рассуждал он при этом так: «настоящими» объек-
тами экономического анализа являются, конечно, такие компоненты
индекса промышленного производства, как объем производства в ста-
лелитейной и химической промышленности (обратите внимание на
сходство этих рассуждений с логикой тех, кто пытается подвести мик-
роэкономические основания под макроэкономические явления). Если
ускорение темпов роста этих компонентов началось еще до появления
новых банков, значит, дело не в банках. Увы, именно так оно и оказа-
лось. История Гершенкрона о ведущей роли банков была безнадежно
испорчена — оказалось, что темпы роста сталелитейной и химической
промышленности начали расти не в 90-х, а в 80-х годах XIX в., т.е. еще
до появления банков. Говоря словами самого Гершенкрона, к тому
времени, когда объем прогрессивных компонентов промышленного
производства увеличился настолько, что это отразилось на более круп-
ном агрегате, все самое интересное было уже позади.
И все же «мораль сей басни» остается за Гершенкроном: и непре-
рывность, и ее нарушение — это скорее орудия, «выкованные истори-
ком, чем неотъемлемое и непременное свойство самой истории...
Именно историк своей волей создает и историческую непрерывность,
и ее отсутствие» (Gerschenkron, op. cit., р. 38). Гершенкрон ошибся, но
в этой ошибке был глубокий смысл, как есть этот смысл и в множест-
венности датировок промышленной революции. Как есть он и в вы-
боре между гладкостью развития событий и резким скачком в любой
экономической истории, которую мы рассказываем.
Суть в том, что история, как и экономическая наука, — это повесть,
которую рассказываем мы сами. И плавный ход событий, и неожидан-
ные повороты — все это приемы изложения, к которым прибегают рас-
сказчики, чтобы рассказ получился интереснее. Нильс Бор однажды
сказал: «Неверно считать, что задача физики состоит в том, чтобы
узнать, что такое природа. Физика — это наука о том, что мы можем
184
сказать о природе». Все зависит от нас самих. Мы можем захотеть под-
черкнуть преемственность: Авраам родил Исаака... родил... родил...
Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус». Или
ее отсутствие: «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник име-
нем Захария». Это один и тот же рассказ, но плавный или рваный ход
событий — это наше творение, а не Божье. Но то, что прерывность или
непрерывность не дана нам от Бога, еще не значит, что выбирать между
тем и другим можно чисто произвольно. Одни ученые могут считать
промышленную революцию ранней или поздней, постепенной или
внезапной. Другие ученые могут с этим соглашаться или не соглашать-
ся, но оспаривать это мнение они будут на обычных основаниях.
БИБЛИОГРАФИЯ
Adams, И. 1907. The Education of Henry Adams. New York: Modern Library, 1931.
Bribbery, A.C. 1975. Economic Growth: England in the Later Middle Ages. Brighton
Harvester.
Carus-Wilson, E.M. 1941. An industrial revolution of the thirteenth century. Economic
History Review 11(1), 39-60. Reprinted in Essays in Economic History. Vol. I,
ed. E.M. Carus-Wilson, London: Edward Arnold, 1954.
Coleman, D.C. 1977. The Rconomy of England 1450—1750. Oxford: Oxford University
Press.
Crafts, N.F.R. 1977. Industrial revolution in England and France: some thoughts on
the question ‘Why was England first?’ Economic History Review, 2nd series 30 (3),
August, 429-41.
Crafts, N.F.R. 1984. Economic Growth During the British Industrial Revolution.
Oxford: Oxford University Press.
Fenoaltea, S. 1987. Italian Industrial Production, 1861—1913: A Statistical
Reconstruction. Cambridge: Cambridge University Press.
Gerschenkron, A. 1962. On the concept of continuity in history. Proceedings of the
American Philosophical Society, June. Reprinted in A. Gerschenkron, Continuity
in History and Other Essays, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968.
Harley, C.K. 1982. British industrialization before 1841: evidence of slower growth during
the industrial revolution. Journal of Economic History 42(2), June, 267-90.
Hartwell, R.M. 1965. The causes of the industrial revolution: an essay in methodology.
Economic History Review, 2nd series 18, August, 164-82. Reprinted in The Causes
of the Industrial Revolution in England, ed. R.M. Hartwell, London: Methuen, 1967.
Higgs, R. 1987. Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American
Government. New York: Oxford University Press.
Korner, S. 1967. Continuity. In The Encyclopedia of Philosophy, New York:
Macmillan and Free Press.
Landes, D.S. 1969. The Unbound Prometheus. Cambridge: Cambridge University Press.
Mantoux, P. 1928. The Industrial Revolution in the Eighteenth Century. New York:
Harper, 1961.
Mokyr, J. (ed.) 1985. The Economics of the Industrial Revolution. Totowa, NJ:
Rowman and Allanheld.
Nef, J.U. 1932. The Rise of the British Coal Industry. 2 vols, London: Routledge.
Rostow, W.W. 1960. The Stages of Economic Growth. Cambridge: Cambridge
University Press.
185
КОНТРФАКТИЧЕСКИЕ
УТВЕРЖДЕНИЯ
Дональд Н. Макклоски
Counterfactuals
Donald N. McCloskey
Контрфактические утверждения представляют собой мысленные
эксперименты, опирающиеся на условные предположения «что, если
бы». Это — альтернативы фактическому развитию событий; они опи-
сывают, что стало бы с экономикой, если бы, вопреки реальности, не-
которые существующие условия были бы изменены. Поэтому в фило-
софской литературе они известны также как «контрфактические услов-
ные утверждения».
Наиболее осознанно контрфактические утверждения используются
специалистами в области экономической истории. Например: «Если бы
не был изобретен железнодорожный транспорт, уровень национального
дохода США в 1890 г. в худшем случае был бы на 5% ниже». Однако
такие утверждения встречаются и во многих других областях экономи-
ческой науки, например в макроэкономике: «Если бы было введено в
действие специальное правило денежной политики, ограничивающее
ежегодный темп прироста денежного агрегата Ml, имело бы место сни-
жение инфляции». Или в теории отраслевых рынков: «Если бы в от-
расли, выпускающей аппараты мгновенной фотосъемки, действовало
100 поставщиков, она была бы конкурентной».
С контрфактическими утверждениями связана проблема философ-
ского свойства. Причины внимания к ней со стороны современных
философов могут быть отчасти объяснены с помощью следующего
примера. Мы хотим противопоставить существующую монополию в
отрасли, выпускающей аппараты мгновенной фотосъемки, с ситуаци-
ей (почти) совершенной конкуренции. Возможно, это необходимо нам
для измерения потерь благосостояния, связанных с функционировани-
ем монополии, и консультирования судьи, рассматривающего дело о
нарушении антимонопольного законодательства. Разумеется, если бы
каким-то образом оказалось, что в данной отрасли функционируют
100 поставщиков, то индивидуальный объем предложения каждого из
них был бы незначителен по сравнению с совокупными объемами спро-
са или предложения. Если рассуждать механистически, стандартные
формулы эластичности подразумевают, что эластичность спроса на про-
дукцию каждого из поставщиков будет очень велика, — примерно в
100 раз выше, чем эластичность общего отраслевого спроса или пред-
ложения. Такого рода расчеты являются ключевыми для прикладной
186
экономической теории. Если бы был понижен налог на сигареты, ка-
кова была бы их новая относительная цена? Если бы предложение де-
нег увеличилось, что произошло бы с уровнем цен? Если бы врачи-
иностранцы могли беспрепятственно практиковать в США, как изме-
нились бы расходы американцев на получение медицинской помощи
в Америке?
Решение такого рода вопросов предполагает рассмотрение мира,
в котором функционируют, условно говоря, 100 производителей аппа-
ратов мгновенной фотосъемки, а не один. Это — мир, чуждый реаль-
ному, который был свидетелем чудесного рождения «Полароида», его
борьбы с «Кодаком» и триумфа патентного законодательства над ан-
тимонопольным. Все это понятно. Однако как при этом представить
себе контрфактический мир? Мир, в котором технологические, личные
и юридические факторы обеспечивают существование 100 таких ком-
паний, как «Эдвин Лэнде» и 100 миниатюрных компаний «Полароид»,
был бы совершенно иным по сравнению с реально существующим —
это и есть условие, противоречащее реальности.
Выдвижению контрфактических утверждений могут препятствовать
проблемы двоякого рода, а именно проблемы неясности и абсурднос-
ти. Неясность возникает тогда, когда модель не полностью специфи-
цирована. Существует множество путей, с помощью которых число
фирм в отрасли могло бы увеличиться до 100, и рассмотрение каждого
из этих путей подразумевает получение различных выводов с точки
зрения изучаемого вопроса об уровне экономического благосостояния.
К примеру, можно представить себе образование 100 компаний типа
«Полароид» путем издания в настоящее время, спустя много лет после
изобретения соответствующей технологии, закона о разукрупнении
компании подобно тому, как это было сделано в случае с компанией
«Америкен Телефон энд Телеграф». Каковы бы ни были преимущества
этого шага, он мог бы повлечь за собой также и отрицательные послед-
ствия. Он, безусловно, привел бы в будущем к изменению патентного
законодательства. Изменения в законодательстве, в свою очередь, при-
вели бы к изменениям — к лучшему или к худшему — в других сферах
экономики. Мир, в котором патенты сначала выдаются, а затем до-
срочно отменяются, отличается от мира, в котором мы живем. С дру-
гой стороны, можно представить себе, что в 1940-х годах были введе-
ны субсидии, использование которых обеспечило одновременную раз-
работку 100 различных технологий изготовления аппаратов мгновенной
фотосъемки (хотя на самом деле было открыто только две такие тех-
нологии). Это контрфактическое утверждение также предусматривало
бы существование издержек, хотя и другого типа, — например, связан-
ных с изменением ожиданий изобретателей относительно величины
субсидий. Контрфактическое исследование требует создания модели,
которая носила бы достаточно общий характер, чтобы учесть все эти
факторы.
Проблема неясности преодолевается за счет исчерпывающего опи-
сания предпосылок модели. Условия, необходимые для выдвижения
контрфактических утверждений, формулируются эксплицитным обра-
187
зом, в результате чего становится возможным проверить их на соответ-
ствие действительности. Специалисты в области экономической исто-
рии начали выдвигать эксплицитные контрфактические утверждения
начиная с 1960-х годов, используя их для изучения причин Американ-
ской революции и последствий существования института рабства в
США (содержательный обзор контрфактических исследований содер-
жится в работе: McClelland, 1975).
В наиболее известном контрфактическом исследовании Р. Фогель
(Fogel, 1964) оценил возможное состояние транспортной системы в
США в случае отсутствия железных дорог. Он утверждал, что сужде-
ние о «незаменимости» железных дорог требует оценки того, как вы-
глядела бы без них жизнь в США. Некоторые историки не склонны
обсуждать контрфактические утверждения такого рода, полагая, что
«история в сослагательном наклонении («as-if» history), квазиистория,
фантастическая история — это не настоящая история... а вымысел»
(Redlich, 1968, р. 95—96). Однако экономисты находят это понятие впол-
не естественным, а философы воспринимают его как рутину. В самом
деле, философы указывают, что следующие положения являются по-
чти тождественными (Goodman, 1965, р. 44):
«Научный закон: всякая инфляция вызвана расширением денежной массы.
Каузальное утверждение: лишь рост денежной массы вызывает ин-
фляцию.
Фактуальное условное утверждение: поскольку темп инфляции изме-
нился, то изменился темп роста денежной массы.
Характеристическое утверждение: инфляцию можно регулировать че-
рез темп роста денежной массы.
«Параллельные миры»: в мире, который идентичен (или в достаточной
степени подобен) нашему во всех отношениях, кроме темпа роста де-
нежной массы, темп инфляции будет иным.
Контрфактическое утверждение: если бы величина денежной массы не
претерпевала изменений, темп инфляции был бы равен нулю».
Философия контрфактических утверждений строится вокруг транс-
формации одних из вышеуказанных видов утверждений в другие. Ис-
торики, не осознавая их взаимной тождественности, с ужасом избега-
ют контрфактических утверждений и цепляются за каузальные утверж-
дения. Однако экономистам в данной связи также нечем гордиться,
поскольку они подвержены сходной фобии: они также избегают кау-
зальных утверждений, как историки — контрфактических, и, подобно
историкам, полагают, что использования соответствующих утвержде-
ний можно избежать, если не вспоминать о них.
Расчеты Фогеля вызвали бурные споры, но сами эти расчеты кор-
ректны (Fogel, 1979). Это обусловлено тем, что он интересовался во-
просами долгосрочного экономического роста и не пытался предста-
вить себе последствия внезапного закрытия всех железных дорог в
1890 г., что, разумеется, привело бы к резкому падению национально-
го дохода. Мысленные эксперименты такого рода обычно лежат в ос-
нове заявлений, что железные дороги (или авиалинии, или почтовые
услуги, или уборка мусора) являются незаменимыми. Вместо этого
188
Фогель представил себе, как выглядела бы американская экономика в
том случае, если бы строительство железных дорог с самого начала было
бы невозможным, в результате чего с 30-х годов XIX в. ей пришлось
бы ориентироваться на использование альтернативных видов транспор-
та.
Подобной экономике пришлось бы больше инвестировать в разви-
тие сети каналов и дорог (Фогель предусмотрел наличие некоторых из
таких каналов и дорог в своем контрфактическом мире, опираясь на
предлагавшиеся в рассматриваемое время инженерные проекты). Это
была бы экономика, центр тяжести которой был бы смещен к водным
путям; развитие Сент-Луиса было бы более значительным, а Денвера —
менее значительным. Несомненно, что в ней было бы сделано больше
изобретений, направленных на совершенствование дорожного транс-
порта, так что двигатель внутреннего сгорания был бы изобретен не-
сколько раньше, чем это фактически произошло.
Фогель не был в состоянии описать «истинный» контрфактический
мир в мельчайших деталях. Однако, во всяком случае, он предположил,
что уровень национального дохода в таком мире был бы ненамного
ниже фактически наблюдавшегося. Чтобы проверить это утверждение,
он выдвинул более строгое предположение, рассмотрев «вспомогатель-
ный» (practical) контрфактический мир, в котором уровень националь-
ного дохода в любом случае должен был бы быть ниже, чем в «истин-
ном» контрфактическом мире: он абстрагировался от «досрочного»
изобретения двигателя внутреннего сгорания и сдвигов в размещении
населения, обусловленных адаптацией к использованию альтернатив-
ных видов транспорта. Он исходил из того, что во «вспомогательном»
контрфактическом мире все перевозки в Денвер, который по размерам
не уступал Денверу в разгаре эры строительства железных дорог, осу-
ществлялись по рекам и каналам, а также с помощью тягловой силы
лошадей (а не грузовиков, оснащенных двигателями внутреннего сго-
рания). Результатом стало определение максимального воздействия же-
лезных дорог на национальный доход — максимального, поскольку «ис-
тинный» контрфактический мир был бы более «экономичным» по срав-
нению с нелепым «вспомогательным» контрфактическим миром,
рассмотрение которого завышает размеры данного воздействия. Фогель
рассчитал, что это максимальное воздействие составило 5% от уровня
национального дохода в 1890 г., — это отставание, которое могло было
быть восполнено за два года экономического роста.
Подход Фогеля заключался в смелом применении стандартных эко-
номических методов. Он заключается в создании эксплицитной эконо-
мической модели М с параметрами Р и исходными условиями (или
экзогенными переменными) I, результатами которой являются эндо-
генные переменные R. Контрфактическое исследование заключается в
модификации некоторых элементов этого набора, в простейшем слу-
чае — в модификации переменных класса I (где I может отражать вы-
соту ставки налога в примере с потреблением сигарет или число фирм
в «наивной» модели установления цен на аппараты мгновенной фо-
тосъемки) и рассмотрении полученных результатов. Фогель исключил
189
из исходных условий одну из транспортных технологий. Аналогичным
образом модель американской экономики, состоящая из 500 уравнений,
позволяет осуществлять эксперименты с «контрфактическими мира-
ми»: что произошло бы, если бы понизилась цена на нефть? каковы
были бы последствия изменения в налогообложении? (Основная кри-
тика работы Фогеля с эмпирических позиций была связана с построе-
нием эксплицитной модели экономики Среднего Запада и Востока
США (Williamson, 1974).)
Контрфактические модели представляют собой один из двух основ-
ных инструментов, с помощью которых современные экономисты по-
знают мир (третий — контролируемый эксперимент — до настоящего
времени не приобрел широкого распространения). Первый инстру-
мент — метод регрессии, или сравнительный метод — ставит вопрос о
том, как в действительности изменялись результаты под влиянием из-
менений в исходных или экзогенных условиях. Второй инструмент —
контрфактические исследования, или модельная имитация (simula-
tion) — ставит вопрос о том, как они изменялись бы. Метод регрессии
определяет значения параметров Рна основе данных об исходных усло-
виях I и результатов R, а также утверждений о структуре модели М;
контрфактическое моделирование определяет значение результатов R
на основе данных о параметрах Р и утверждений относительно Мм I.
Однако, преодолевая проблему неясности путем построения экс-
плицитных моделей, экономист сталкивается с другой философской
проблемой, связанной с контрфактическими утверждениями, — с про-
блемой абсурдности. Рассмотрим вновь контрфактический пример с
отраслью, производящей камеры мгновенной фотосъемки, в которой
функционируют 100 фирм. Проблема заключается в том, что исходные
условия, которые могли бы привести к возникновению такой ситуации,
сами по себе могут быть абсурдными. В самом деле, они могут проти-
воречить иным условиям модели. Контрфактическое утверждение:
«Если бы для отрасли, производящей камеры мгновенной фотосъем-
ки, была характерна совершенная конкуренция, уровень цен был бы
ниже, чем в настоящее время» — имеет много общего с пословицей:
«Если бы моя бабушка имела колеса, она была бы трамваем». Модель
может быть истинной (оснащенные колесами бабушки действительно
могут рассматриваться в качестве трамваев), однако выдвижение контр-
фактического утверждения в данном случае невозможно — другими
словами, внутреннее противоречие такой модели или ее несоответствие
с более широкой моделью представляется безусловным.
По указанной причине можно заключить, что все контрфактические
утверждения являются абсурдными. Можно настаивать, в духе Лейбни-
ца, что мир, в котором не были бы изобретены железные дороги, строго
говоря, не имел бы ничего общего с нашим миром, предшествовавшим
изобретению. Это мог бы быть мир, в котором моря кипят, или мир, в ко-
тором свиньи имеют крылья; возникающие в таких мирах транспортные
проблемы носили бы совершенно иной характер. Контрфактические
утверждения противоречат теории, постулирующей, что все в мире вза-
имосвязано. Как заметил Дж. Ст. Милль, критикуя контрфактическое
190
!
сопоставление свободной торговли и протекционизма: «две страны, до-
стигшие согласия по всем вопросам, кроме торговой политики, достигнут
согласия и по этому вопросу» (Mill, 1872, р. 575).
Скептицизм по этому поводу (хотя и менее выраженный) был широ-
ко распространен в экономической науке. Теория игр, к примеру, может
рассматриваться как изучение контрфактических утверждений, которые
иногда противоречат более общим теориям (Selten and Leopold, 1982);
критика решения Курно исследователями отраслевых рынков обычно
опирается именно на это обстоятельство. Наиболее примечательный при-
мер связан с критикой Р. Лукасом эконометрических процедур оценки
экономической политики (Lucas, 1976), которая может быть истолкована
как критика типичных контрфактических утверждений. Стандартное
контрфактическое исследование оценивает последствия изменений в ис-
ходных условиях /в модели Мпри данных параметрах Р, значение кото-
рых определяется применительно к прежнему характеру экономической
политики. Изменение денежно-кредитной политики модифицирует пред-
ставления людей об ее характере, в результате чего наряду с I меняются
также Р и М. Для определения последствий необходимо использовать
более широкую модель, описывающую реакцию людей на изменение ха-
рактера денежно-кредитной политики: эти последствия будут резко раз-
личаться в зависимости от того, рассматривают ли люди это изменение
как временное или же как признак радикальной смены курса правитель-
ства. Обычные контрфактические модели противоречат более общим мо-
делям, предполагая, что люди не предвидят изменений характера эконо-
мической политики или не понимают сути происходящих изменений.
Более общая модель рациональных ожиданий показывает, что такие контр-
фактические модели являются абсурдными.
Юн Эльстер в своем глубоком исследовании роли контрфактичес-
ких утверждений в экономических науках формулирует основный па-
радокс: чем менее неясной является теория, тем более приближаются
к абсурду используемые в ней контрфактические утверждения. Если бы
Фогель разработал теорию появления изобретений, чтобы внести боль-
ше ясности в картину развития транспорта в отсутствие железных до-
рог, он столкнулся бы с проблемой, которая заключается в том, что сама
эта теория предсказала бы появление железных дорог. В конце концов,
в реальности они были изобретены, а потому сам этот факт должен быть
предсказан корректной теорией появления изобретений. Эльстер пи-
сал: «Если бы он [Фогель. — Примеч. пер.] попробовал усилить свой вы-
вод... он сам подпилил бы сук, на котором сидит. В рассуждениях та-
кого рода часто оказываются верными утверждения, гласящие, что “чем
больше, тем меньше”, а “незнание — сила”» (Elster, 1978, р. 206). Контр-
фактические утверждения должны быть «пригодны для описания ре-
ального прошлого».
Основный парадокс контрфактических утверждений проливает свет
на ведущиеся в экономической науке дискуссии по поводу использо-
вания упрощенных моделей. Чем проще модель, тем труднее поверить
в полученные на ее основе результаты, поскольку она не принимает во
внимание многие факторы; однако именно благодаря абстрагированию
/9/
от широкого набора факторов с ее помощью легче описать реальное
прошлое. Модель экономики, состоящая из 500 уравнений, наклады-
вает на прошлое (составляющее ее фундамент) более жесткие ограни-
чения, чем модель, состоящая из 10 уравнений. Выбор модели сам свя-
зан с ошибками как первого, так и второго типа.
Таким образом, значительная часть выдвигаемой на метауровне кри-
тики экономической науки сводится к замечаниям по поводу использо-
вания контрфактических утверждений. Это неудивительно, поскольку
контрфактические утверждения тождественны каузальным утверждени-
ям, выдвижение которых и составляет цель экономической науки. По-
мощь в этой связи может оказать посвященная контрфактическим
утверждениям философская литература, хотя она очень обширна, носит
технический характер и в основном не содержит четких выводов (Lewis,
1973; Goodman, 1965). Философская позиция более сложная и не сво-
дится к простому скептицизму. Контрфактические утверждения пред-
ставляют собой способ коммуникации экономистов, а философы обыч-
но предпочитают способствовать коммуникации, а не прекращать ее.
Осознанно или нет, экономисты будут продолжать вести контрфакти-
ческие рассуждения о некооперативных играх, макроэкономической
политике и историко-экономических ретроспективных оценках влияния
тех или иных факторов на уровень экономического благосостояния. За-
дача философского исследования принятых в экономической науке
контрфактических утверждений заключается в понимании практики их
использования, а не в изменении этой практики.
БИБЛИОГРАФИЯ
Elster J. Logic and Society: Contradictions and Possible Worlds. New York: Wiley, 1978.
Fogel R.W. Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History.
Baltimore: Johns Hopkins Press, 1964.
Fogel R.W. Notes on the Social Saving Controversy // Journal of Economic History,
March 1979, vol. 39, no. 1, p. 1—54.
Goodman N. Fact, Fiction and Forecast. 2nd ed. Indianapolis: Bobbs-Merril, 1965.
Lewis D.K. Counterfactuals. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1973.
Lucas R.E. Econometric Policy Evaluation: A Critique // Journal of Monetary
Economics, 1976, Supplementary Series, Vol. 1, p. 19-46.
McClelland P.D. Causal Explanation and Model Building in History, Economics and
the New Economic History. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1975.
Mill J.S. A System of Logic. 8th ed. London: Longmans, 1956.
Redlich F. Potentialities and Pitfalls in Economic History // Explorations in
Entrepreneurial History II, 1968, Vol. 6, no. 1, p. 93-108. Reprinted in:
R.L.Andreano (ed.). The New Economic History: Recent Papers on Methodology.
New York: Wiley, 1970.
Selten R. and Leopold U. Subjective Conditionals in Decision and Game Theory. In:
Studies in Contemporary Economics. Berlin: Springer-Verlag, 1982.
Williamson J.G. Late Nineteenth-Century American Development: A General
Equilibrium History. Cambridge: Cambridge University Press, 1974.
192
«ВЫТЕСНЕНИЕ»
Оливье Жан Бланшар
Crowding Out
Olivier Jean Blanchard
Термин «вытеснение» используется применительно к любым непри-
ятностям, которые могут произойти при попытках государства оказать
воздействие на объем производства через фискальную политику, пред-
полагающую рост государственного долга. Если раньше под этим тер-
мином подразумевалось в основном изменение угла наклона кривой
LM, отражающей равновесный уровень дохода и процента на рынке
денег, то сейчас он используется применительно к любым причинам,
в силу которых фискальная политика как инструмент стимулирования
производства становится малоэффективной или даже приводит к от-
рицательному влиянию на объем производства.
ПРЯМОЕ «ВЫТЕСНЕНИЕ» И РИКАРДИАНСКАЯ ТЕОРЕМА
ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ. Во-первых, необходимо выяснить, может ли
вообще фискальная политика государства оказать влияние на уровень
расходов.
Изменения в структуре налогообложения, не влияющие на струк-
туру государственных расходов, не изменяют межвременного бюджет-
ного ограничения частного сектора и поэтому могут практически не
отразиться на расходах частного сектора. Впрочем, это утверждение об
эквивалентности государственного долга и налогов в качестве источ-
ника финансирования государственных расходов, известное как «ри-
кардианская теорема эквивалентности» (Ricardian equivalence), верно
лишь в том случае, если налоги трактуются как единовременные пла-
тежи.
Некоторые меры налоговой политики, дающие сильный эффект
межвременного замещения, например предоставление налоговых льгот
при инвестициях, сильнее влияют на расходы частного сектора, если
они введены в качестве временной меры; но для большинства налогов,
в частности подоходного, изменения в их межвременной структуре если
и сказываются на структуре расходов, то лишь незначительно. Рикар-
дианская эквивалентность эмпирически не подтверждена, и справед-
ливость этого утверждения, безусловно, зависит от конкретных обсто-
ятельств. Так, изменение межвременного распределения налогообло-
жения имущества, скажем жилья или акций предприятий, оставляющее
дисконтированную сумму этих налогов без изменений, практически
никак не отразится на рыночной стоимости соответствующих активов,
793
а следовательно, не скажется и на расходах частного сектора; явно вре-
менное повышение подоходного налога, скорее всего, тоже никак не
отразится на расходах, а вот ожидание длительного увеличения бюд-
жетного дефицита может побудить налогоплательщиков проигнориро-
вать предстоящий в конечном счете рост налоговых обязательств. Кон-
кретные примеры, такие, как последствия введения в США в 1968 г.
временной налоговой надбавки, позволяют в лучшем случае говорить
лишь о частичном компенсирующем сокращении расходов частного
сектора в ответ на эту меру.
Изменения в структуре государственных расходов оказывают реаль-
ное воздействие на расходы частного сектора, но и здесь могут возник-
нуть различные формы прямого вытеснения. Замещение частных рас-
ходов государственными может быть совершенным или несовершен-
ным, так что рост государственных расходов может непосредственно
приводить к сокращению расходов населения или предприятий в том
же или меньшем объеме. Даже если возросшие государственные рас-
ходы идут на производство общественных благ, последствия такого
роста будут зависеть от того, как к нему относится частный сектор —
как к необратимому или временному явлению. Если рост носит не-
обратимый (долгосрочный) характер и финансируется за счет необра-
тимого увеличения налогов, то в первом приближении произойдет зер-
кальное уменьшение частных расходов, так что совокупный объем рас-
ходов останется без изменения. Если имело место временное
повышение государственных расходов, связанное с временным повы-
шением налогов, то объем расходов частного сектора тоже уменьшит-
ся, но не в той же мере, в какой выросли расходы государственного
сектора, так что совокупные расходы повысятся.
Не следует, таким образом, ожидать, что всякое изменение налого-
обложения или государственных расходов приводит к точно такому же
изменению совокупного спроса. Если подвести итог вышесказанному,
то он может быть таким: гарантированный рост совокупного спроса
можно получить только в результате длительного сокращения подоход-
ных налогов, налоговых мер, дающих сильный эффект межвременно-
го замещения, или в результате временного увеличения государствен-
ных расходов. Ниже мы остановимся на каждой из этих форм фискаль-
ного стимулирования экономического роста подробнее.
«ВЫТЕСНЕНИЕ» В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ. Не вся-
кое увеличение совокупного спроса приводит к росту производства.
Ясно, например, что никакого роста не произойдет, если в экономике
и так уже достигнута полная занятость. Хотя анализ последствий фис-
кальной политики в условиях полной занятости особого эмпирического
интереса не представляет — если, конечно, речь не идет о функцио-
нировании экономики в условиях военного времени, — для наших по-
следующих рассуждений он необходим.
Если предложение труда неэластично, то объем производства не
изменится и любое увеличение совокупного спроса приводит к повы-
шению процентных ставок при неизменном выпуске. Если вырастут
194
государственные расходы, расходы частного сектора должны будут со-
кратиться; если сократятся подоходные налоги, то расходы частного
сектора в конечном счете останутся на прежнем уровне, но структура
их изменится за счет уменьшения удельного веса компонентов, чув-
ствительных к изменению процентных ставок. В той мере, в какой
предложение труда эластично, межвременное замещение капитала тру-
дом в ответ на краткосрочное повышение процента может привести к
временному росту производства и занятости.
Но это только начало. Спустя некоторое время изменения капита-
ла и государственного долга будут оказывать дальнейшее воздействие
на выпуск. Сокращение капиталовложений в ответ на рост процент-
ных ставок приведет к сокращению накопления капитала и падению
производства, к уменьшению предложения на рынке товаров. Если
фискальная политика стимулирования роста поддерживается за счет
постоянного бюджетного дефицита, рост спроса со стороны государ-
ства на кредитном рынке приводит к дальнейшему росту богатства и
расходов частного сектора при данных ставках процента, что ведет к
еще большему повышению ставок процента и ускоряет падение накоп-
ления капитала. Насколько сильным может быть отрицательный эф-
фект роста государственной задолженности на накопление капитала?
Одним из ключевых звеньев этого механизма является влияние госу-
дарственного долга на процентные ставки, однако эмпирические дан-
ные о разных странах и по США за последние два века свидетельству-
ют о том, что между этими двумя показателями едва ли существует
сколько-нибудь ощутимая связь.
Если мы сделаем поправку на существование неопределенности и
введем предположение о том, что вложения в государственный долг и
капитал имеют разную отдачу, история станет еще более интересной.
В зависимости от того, как связаны между собой частное богатство и
государственная задолженность, с одной стороны, и частное богатство
и капитал, с другой, повышение удельного веса государственных об-
лигаций в структуре инвестиционного портфеля может либо увеличить,
либо понизить норму дохода на капитал. Можно, таким образом, пред-
положить, что, хотя увеличение уровня задолженности повышает об-
щий уровень процентных ставок, рост удельного веса вложений в го-
сударственные ценные бумаги в структуре инвестиций снижает требу-
емую норму дохода на капитал относительно ставки процента по
государственным облигациям; если это так, то постоянное увеличение
государственного долга может оказать небольшое чистое воздействие
на требуемую норму дохода на капитал и на накопление капитала. Од-
нако теоретические аргументы и эмпирические данные говорят о том,
что влияние структуры инвестиционного портфеля, по всей вероятно-
сти, невелико и им можно пренебречь.
Может быть и хуже: фискальная программа может провалиться.
Если государство реализует фискальную программу, в рамках которой
рост государственного долга временно опережает рост процента, при-
чин для беспокойства нет. Причины для беспокойства появляются тог-
да, когда возникает ненулевая вероятность того, что даже при самых
195
оптимистических предположениях долг будет постоянно расти быст-
рее, чем ставка процента. В этом случае государству, чтобы заплатить
процент по уже имеющимся долгам, придется делать все новые и но-
вые долги. Чем это может кончиться, будет зависеть от конкретных
обстоятельств. Например, держатели облигаций могут почувствовать,
что государство собирается отказаться платить по долгам, и потребо-
вать, чтобы оно увеличило премию за риск, в результате чего дефицит
и государственная задолженность начнут расти еще быстрее. Если им
покажется, что ради погашения своих долгов государство может отпу-
стить инфляцию, они потребуют повышения номинальной ставки про-
цента и введения премий за инфляционный риск на все долговые ин-
струменты, погашаемые по номиналу, независимо от того, кто их вы-
пустил — государство или частный сектор. В любом случае
неопределенность на финансовых рынках возрастет и это приведет к
дальнейшему сокращению производства и богатства. Как свидетель-
ствует исторический опыт, участники рынка слишком поздно начина-
ют понимать, что уровень дефицита и долга достиг опасных размеров.
В Англии в XIX в. отношение задолженности к ВНП приблизилось к
200% без всяких неприятных последствий. И сегодня среди европей-
ских стран есть такие, у которых отношение госдолга к ВНП превы-
шает 100%, а они все равно идут на высокий дефицит бюджета, и пока
никаких признаков того, что кто-то потребует у них введения премии
за риск по государственным облигациям, не наблюдается. Так что на
самом деле проблем в связи с необеспеченностью долга почти не воз-
никает.
Но если даже исключить этот самый пессимистический сценарий,
мы, несомненно, должны признать, что попытка экспансии с помощью
фискальной политики способна оказать отрицательное влияние на
производство в условиях полной занятости. Вопрос, однако, в том,
может ли она привести к аналогичным отрицательным последствиям
в том случае, если проводится в целях снижения безработицы, посколь-
ку, по идее, именно для этого к ней чаще всего и прибегают.
«ВЫТЕСНЕНИЕ» ПРИ НЕПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ. Историчес-
ки вопрос об эффекте вытеснения впервые возник в связи с моделью
IS — ЬМь постоянных ценах. В этой модели фискальная политика при-
водит к росту совокупного спроса и производства. Процентные ставки
растут, но происходит это уже не из-за полной занятости, как раньше,
а из-за повышения спроса на деньги в связи с ростом производства.
Таким образом, чем ниже эластичность спроса на деньги по процент-
ной ставке, тем меньше будет фискальный мультипликатор. Фискаль-
ная экспансия вытесняет те компоненты частных расходов, которые
чувствительны к изменению процента, но в отношении производства
эффект мультипликатора будет положительным. Поскольку растут и
выпуск, и процентные ставки, вполне возможно, что одновременно
будут расти и инвестиции, и потребление.
Посмотрим теперь, что произойдет, если включить в модель дина-
мику, ожидания и т.д. Не может ли случиться так, что вместо положи-
196
тельного влияния произойдет полное «вытеснение» или даже эффект
мультипликатора станет отрицательным?
На самом деле, нулевые или отрицательные значения мультипли-
катора можно получить и на статической модели IS - LM. Скажем, если
спрос на деньги со стороны частных лиц выше, чем со стороны госу-
дарства, и в результате финансовой экспансии происходит перерас-
пределение дохода от государства к частным лицам. Хотя случай этот
кажется довольно надуманным, он вполне допустим, если речь идет о
небольшой стране с открытой экономикой, где возможен свободный
перелив капиталов и действует гибкий валютный курс, как это пред-
полагается в модели Манделла — Флеминга. В этом случае, если ставка
процента задается извне и количество денег в обращении неизменно,
объем выпуска определяется спросом на деньги; если бы государство
решилось на фискальную экспансию, это привело бы только к повы-
шению валютного курса, в результате чего произошло бы вытеснение
компонентов частных расходов, чувствительных к валютному курсу,
и никакого роста производства не было бы. Таким образом, мультипли-
катор государственных расходов в этом случае будет равен нулю.
Если включить в модель динамические эффекты, появляются и дру-
гие каналы, через которые может происходить вытеснение. Анализ этих
динамических эффектов с учетом динамики накопления долга перво-
начально проводился исходя из допущения о том, что цены неизмен-
ны и объем выпуска определяется спросом. В этом случае по мере на-
копления долга растут также богатство и расходы частного сектора,
в результате чего долгосрочное воздействие фискальной политики на
выпуск оказывается даже более сильным, чем краткосрочное. Но до-
пущение о неизменности цен в условиях, когда продолжается накоп-
ление долга и капитала, разумеется, нереалистично. Если позволить
ценам реагировать на это накопление, воздействие фискальной поли-
тики становится более сложным и вероятность вытеснения возраста-
ет. Причина в том, что вновь возникает ряд эффектов, которые мы
наблюдали при полной занятости.
Если фискальная экспансия государства продолжается даже после
того, как в экономике достигнута полная занятость, рост процента
вновь начинает оказывать такое же тормозящее влияние на накопле-
ние капитала и рост выпуска, которое характерно для условий полной
занятости. Это произойдет даже в том случае, если дефицит исчезнет
еще до того, как экономика достигнет полной занятости: в экономике
останется высокий уровень задолженности, и неизбежно будет наблю-
даться относительно высокий процент и относительно низкий уровень
накопления капитала. Фискальная экспансия позволяет быстрее вер-
нуться к полной занятости, но за счет более низкого уровня выпуска
при полной занятости.
Ожидания подобных эффектов, свойственных условиям полной
занятости, по всей видимости, будут уже заранее сказываться на эф-
фективности фискальной политики, модифицируя ее воздействие еще
до того, как в экономике будет достигнута полная занятость. Столкнув-
шись с ростом бюджетного дефицита, экономические субъекты начи-
197
нают действовать, исходя не только из ожиданий скорого возврата к
полной занятости, но и из скорого повышения процентных ставок.
В зависимости от силы этих двух эффектов мультипликатор
фискальной экспансии тоже может быть больше или меньше, чем в
простой модели IS — LM. Если доминирует эффект ставки процента,
воздействие фискальной политики на объем производства может быть
незначительным.
Недавний опыт США привлек внимание к другому тормозящему
эффекту ожиданий, связанному, впрочем, с теми, о которых речь шла
выше, — эффекту ожидания будущего бюджетного дефицита. Ожида-
ние дефицита ведет к ожиданию грядущего повышения процентных
ставок, увеличения объема производства, а если речь идет о странах с
открытой экономикой, то и повышения валютного курса. Это, в свою
очередь, приводит к росту ставок процента по долгосрочному кредиту
и немедленному повышению валютного курса. Если доминируют эф-
фекты ставок процента и валютного курса, ожидание дефицита при-
ведет к уменьшению совокупного спроса и вызовет спад. Подобный
отрицательный эффект мультипликатора, однако, имеет временный
характер и исчезает, как только фискальная экспансия из ожидаемой
превращается в реальную.
И наконец, свою роль вновь может сыграть эффект доверия.
Фискальные программы, которые в конечном счете грозят банкрот-
ством государства, его отказом от уплаты долга или монетизацией долга,
могут привнести достаточно сильную дополнительную неопределен-
ность, чтобы уменьшить фискальный мультипликатор или изменить его
знак на противоположный. Но чтобы события пошли по такому пути,
требуется очень мощная фискальная экспансия, намного
превосходящая ту, которая обычно требуется для достижения полной
занятости.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Следует ли из всего вышеизложенного, что фис-
кальная экспансия как инструмент макроэкономического регулирова-
ния ненадежна, что ее использование может оказать лишь незначитель-
ное, а то и отрицательное влияние на выпуск?
Разумеется, нет. Действительно, даже при самых благоприятных
обстоятельствах фискальная экспансия может привести к частичному
вытеснению некоторых компонентов частных расходов, но она, безу-
словно, может помочь вывести экономику к состоянию полной заня-
тости.
Эквивалентность, по Рикардо, и эффект прямого вытеснения пре-
дупреждают нас о том, что не всякое снижение налогового бремени или
увеличение расходов приводит к увеличению совокупного спроса, од-
нако краткосрочный рост расходов или необратимое снижение подо-
ходного налога такой эффект, несомненно, имеют.
Эффект полного вытеснения при неполной занятости, наподобие
того, который был получен Манделлом и Флемингом, должен служить
напоминанием о том, что необходимо соблюдать правильные пропор-
ции между фискальными и кредитно-денежными формами экономи-
198
ческого регулирования. Во всяком случае, удовлетворение возросшего
спроса на деньги путем увеличения денежной массы позволяет преодо-
леть нулевой или отрицательный мультипликационный эффект фис-
кальной экспансии.
То, что в условиях неполной занятости фискальная экспансия от-
рицательно сказывается на накоплении капитала и производстве,
а чрезмерное государственное заимствование может породить кризис
доверия, должно служить напоминанием о том, что фискальную экс-
пансию не следует понимать как такую политику, при которой проис-
ходит постоянный рост задолженности по отношению к ВНП, не пре-
кращающийся даже тогда, когда в экономике достигается полная за-
нятость. В этом заключается одна из трудностей фискальной экспансии:
если она проводится через снижение налогов, это снижение должно
быть ориентировано на достаточно длительный период, чтобы оно су-
мело повлиять на расходы частного сектора, но при этом оно не долж-
но быть рассчитано на период настолько долгий, чтобы породить ожи-
дания неконтролируемого роста дефицита. Впрочем, и при таких огра-
ничениях для маневра остается еще достаточно места. Некоторые меры
налоговой политики, например налоговые скидки при инвестициях,
лучше всего работают тогда, когда они вводятся временно. Историчес-
кий опыт показывает, что коридор безопасности, за пределами кото-
рого обслуживание долгов порождает новые долги и наступает кризис,
достаточно широк.
ОТРАСЛИ,
ПЕРЕЖИВАЮЩИЕ УПАДОК
Лестер С. Туроу
Declining Industries
Lester С. Thurow
Термин «отрасли, переживающие упадок» может употребляться в двух
разных смыслах. Отрасль может приходить в упадок либо из-за того, что
выпускаемая ей продукция замещается новыми товарами, обладающи-
ми лучшими потребительскими качествами, либо из-за того, что продук-
ты, которые раньше было выгодно производить в стране А, теперь ста-
новится выгоднее производить в стране Б и экспортировать в страну А.
Примером первого рода является компьютер, идущий на смену пишу-
щей машинке. Примером второго рода является перемещение производ-
ства стали из Соединенных Штатов в Бразилию, когда потребности США
в стали начинают покрываться за счет импорта из Бразилии.
В экономических дискуссиях термин «отрасли, переживающие упа-
док» почти всегда применяется именно в связи с перемещением про-
изводства из одной страны в другую. Объясняется это тем, что такой
тип упадка оценивается обществом далеко не так однозначно, как пер-
вый, который обычно возражений не вызывает. Действительно, если
говорить о переходе от одних продуктов к другим, то ясно, что попыт-
ки помешать этому процессу могли бы в конечном итоге привести к
сдерживанию роста уровня жизни. Сохраняя рынок старых товаров и
старые рабочие места, мы препятствовали бы появлению новых това-
ров и более высокооплачиваемых рабочих мест, связанных с их произ-
водством. Поступать подобным образом значило бы тормозить про-
гресс, и, конечно, никто не станет всерьез ратовать за подобные меры.
На самом деле, попытки не допустить упадок второго типа точно
так же препятствуют росту уровня жизни, только связь эта не так за-
метна. В случае сокращения производства первого типа каждому ясно,
что вместо старых рабочих мест появятся новые, а потребители полу-
чат лучший продукт. Во втором случае происходит сокращение рабо-
чих мест в собственной стране, и политически это очень болезненный
вопрос, а то, что новые рабочие места возникают где-то за границей,
с политической точки зрения мало кого волнует. Выигрыш внутри стра-
ны в данном случае выражается в росте реальных доходов потребите-
лей, которые вместо дорогих товаров внутреннего производства начи-
нают покупать дешевые иностранные продукты.
Обычно производители, потерявшие работу, немедленно ощущают
резкое сокращение своих доходов, но число таких лиц невелико, тогда
200
как число потребителей, чьи реальные доходы выросли хотя бы незна-
чительно, очень велико. Таким образом, совокупный выигрыш превы-
шает совокупные потери, но потери воспринимаются очень болезнен-
но, а выигрыш в подушевом выражении столь невелик, что его поли-
тическая значимость практически равна нулю. А если к тому же учесть,
что мы живем в мире, где интересы производителей почти всегда име-
ют больший политический вес, чем интересы потребителей, то мы по-
лучим полный набор политических причин, толкающих правительство
на осуществление протекционистских мер по защите убыточных про-
изводств, хотя проведение подобной политики приводит к снижению
темпов экономического роста.
Почти все страны в той или иной степени стремятся защитить свои
убыточные отрасли. Так, в Европе, США и Японии разнообразные
протекционистские меры применяются для защиты сталелитейной
промышленности, поскольку производство основной сталелитейной
продукции во всех этих странах обходится дорого. Однако чем обшир-
нее система подобных протекционистских мер, тем больше вреда на-
носится развитию экономики.
События развиваются по хорошо известному сценарию. Если внут-
ренний рынок огражден протекционистскими барьерами, производи-
тели дешевой продукции из других стран сначала вытесняют продук-
цию данной страны с незащищенных экспортных рынков. Так, после
Второй мировой войны сталелитейная промышленность США снача-
ла потеряла свои экспортные рынки. В результате потери экспортных
рынков сокращается внутреннее производство. Вскоре местные про-
изводители несложных металлоизделий обнаруживают, что они не вы-
держивают конкуренции иностранных производителей, которые поку-
пают дешевую иностранную сталь, в то время как сами они вынужде-
ны покупать дорогую местную сталь. Например, гвозди и проволоку
США давно уже не производят, а только импортируют. Внутреннее
производство сокращается еще больше. В конце концов, и иностран-
ные производители сложных металлоемких изделий, таких, как авто-
мобили, начинают понимать, что более дешевые материалы являются
одним из козырей в их конкурентной борьбе с американской автомо-
бильной промышленностью с ее дорогой сталью. И вот уже сталь им-
портируется не как сталь, а в виде автомобилей. Как показывает при-
мер со сталью, протекционизм может лишь замедлить темпы сниже-
ния объемов производства, но остановить этот процесс он почти
никогда не способен.
Защищать какую-либо отрасль, переживающую упадок, — значит
ослаблять смежные отрасли, которые в этом случае вскоре тоже при-
дется защищать. Протекционизм распространяется как круги по воде.
Защищать угасающие отрасли — все равно что пытаться сжать наду-
тый воздушный шар: если в одном месте мы его сожмем, он обязатель-
но расширится в другом.
Хотя ясно, что государство не должно стремиться отсрочить сни-
жение производства в тех отраслях, где сравнительные преимущества
перешли к зарубежным производителям, ответ на вопрос о том, дей-
201
ствительно ли имело место перемещение сравнительных преимуществ,
далеко не всегда очевиден. Теоретически валютные курсы должны из-
меняться так, чтобы обеспечивалась сбалансированность экспорта и
импорта страны, однако в реальности это происходит далеко не все-
гда. За последние 15 лет возникало множество ситуаций, когда курсы
валют неправильно сигнализировали о сравнительных преимуществах
тех или иных стран, причем эти сигналы могли быстро меняться.
Например, в феврале 1985 г. курс доллара был столь высок, что
иностранная пшеница в США стоила дешевле, чем собственная аме-
риканская, хотя ясно, что в производстве зерна США все еще сохра-
няют за собой позиции мирового лидера. Впечатление о том, что это
не так, создалось из-за временного скачка курса доллара, а также из-
за существования рынков, фактически закрытых для американских
экспортеров из-за принятых правил и регламентаций, — примером мо-
жет служить Общий рынок.
Поскольку было бы слишком дорого закрывать производство при
высоком курсе доллара и вновь открывать его при падении курса, го-
сударственное вмешательство в рыночные процессы в данном случае
имеет смысл. Но возникает вопрос, что лучше: внутренний протекци-
онизм, т.е. государственное дотирование отраслей, оказавшихся в слож-
ной ситуации, или принятие мер на международном уровне — мер,
направленных на сглаживание колебаний курсов основных валют и
открытие закрытых иностранных рынков? С учетом того, что, раз всту-
пив на путь протекционизма, свернуть с него оказывается нелегко по
политическим причинам, предпочтение, очевидно, следует отдать меж-
дународным мерам, т.е. мерам, направленным на смягчение колебаний
валютных курсов и на снятие торговых барьеров.
В отраслях, переживающих упадок, мы часто можем обнаружить
вполне жизнеспособные вкрапления. Например, в сталелитейной про-
мышленности США это сталелитейные мини-заводы, где в электричес-
ких печах из дешевого железного лома выплавляется высококачествен-
ная легированная сталь. Такие производства могут быть вполне кон-
курентоспособными на американском рынке при условии, что курс
доллара установится на уровне, балансирующем экспорт и импорт.
Таким образом, если отрасль переживает упадок, это вовсе не значит,
что она обречена на исчезновение.
Упадок самой отрасли также вовсе не обязательно ведет к упадку
действующих в ней фирм. Хотя совершенно очевидно, что в развитых
странах удельная потребность в стали на единицу ВНП сократилась,
происходит рост новых высокотехнологичных отраслей, связанных с
производством новых материалов — порошковых металлов, композитов,
прессованного графита. Все это — завтрашний день сталелитейной про-
мышленности. Те сталелитейные компании, которые сегодня пережи-
вают упадок, завтра могут стать процветающими предприятиями по вы-
пуску новых материалов. Правда, в жизни подобное случается нечасто.
Все дело в том, что любому предприятию сложно начать разработ-
ку новой продукции, появление которой приведет к уничтожению об-
ширных старых рынков сбыта, где этому предприятию принадлежали
202
ведущие позиции. Любая компания слишком заинтересована в старом
рынке, и влиятельные силы внутри нее будут всячески противодейство-
вать быстрой переориентации на новые производства. Так, например,
будучи одним из крупнейших в мире производителей пишущих маши-
нок, фирма IBM не спешила разрабатывать текстовые процессоры, хотя
и являлась уже к тому времени мировым лидером в производстве ком-
пьютеров. Главное подразделение компании «Дженерал электрик»,
выпускавшее вакуумные электронные лампы, долго не давало ходу
транзисторам, что в результате не позволило этой фирме стать лиде-
ром в производстве транзисторов. Классическим примером, конечно,
являются железные дороги — железнодорожные компании упрямо счи-
тали своим делом лишь железнодорожное сообщение, отказываясь счи-
тать себя транспортными компаниями в широком смысле слова.
Упадок — это оборотная сторона прогресса, но он связан с реаль-
ными издержками, и основная тяжесть этих издержек падает на вы-
свобождающихся рабочих, которым не так-то просто найти себя на но-
вом месте. Скажем, 55-летнему безработному металлургу из Пенсиль-
вании не так-то просто переучиться на сборщика компьютеров и найти
работу где-нибудь в Калифорнии, где эти компьютеры собирают. Если
такой человек и найдет себе новую работу, то, как правило, гораздо
хуже оплачиваемую, а обществу в целом придется расплачиваться рос-
том расходов на социальную защиту.
В экономической теории ничего не говорится о проблемах и издерж-
ках подобной перестройки, поскольку предполагается, что переток любых
ресурсов из отрасли в отрасль осуществляется безболезненно и не стоит
ничего или почти ничего. Согласно равновесному подходу работники,
потерявшие работу в старых отраслях, быстро находят работу в новых
местах, причем их заработок остается примерно на прежнем уровне. Но
если действительно проследить судьбу тех, кто потерял работу в отраслях,
переживающих упадок, то мы увидим, что большинство из них искало
работу очень долго, а те, кто ее нашел, сильно потеряли в заработке. Та-
ким образом, сокращение реальных доходов вовсе не является незначи-
тельным, как это принято считать в экономической теории.
В результате вопрос о том, как именно следует относиться к отрас-
лям, переживающим упадок, остается открытым. Государство не мо-
жет и не должно предотвращать сокращение производства в убыточ-
ных отраслях, но ему все-таки приходится решать, как обеспечить пе-
релив трудовых ресурсов из старых, клонящихся к закату отраслей в
новые, находящиеся на подъеме, и что делать с теми людьми, которые
в результате этого перехода оказались за бортом.
БИБЛИОГРАФИЯ
Borrus, М., Millstein, J. and Zysman, J. 1982. U.S. Japanese competition in the
semiconductor industry. Policy Papers in International Affairs, no. 17, Berkeley:
Institute of International Studies, University of California.
203
Eckstein, О., Caton, C., Brinner, R. and Duprey, P. 1984. The DRI Report on U.S.
Manufacturing Industries. New York: McGraw-Hill.
Hatsopoulos, G.N. 1983. High Cost of Capital: Handicap of American Industry.
Waltham, Mass.: American Business Conference, Thermo Electron Corp.
Konaga, K. 1983. Industrial policy: the Japanese version of a universal trend. Journal
of Japanese Trade and Industry 4, 2 If.
Krist, W.K. 1984. The U.S. response to foreign industrial policies. In High Technology
Public Policies for the 1980s, Washington, DC: a National Journal Issues Book.
Krugman, P. 1984. The United States response to foreign industrial targeting. Brookings
Papers on Economic Activity 1, 77—121.
Labor-Industry Coalition for International Trade. 1983. International Trade, Industrial
Policies, and the Future of American Industry. Washington, DC: Labor-Industry
Coalition for International Trade, 40f.
Lawrence, R.A. 1984. Can America Compete? Washington, DC: Brookings.
Magaziner, I. 1983. New policies for wealth creation in the United States. In Growth
with Fairness, Institute on Taxation and Economic Policy.
McKenna, R., Borrus, M. and Cohen, S. 1984. Industrial policy and international
competition in high technology — Part I: blocking capital formation. California
Management Review 26(6), Winter, 15-32.
Melman,S. 1984. The high-tech dream won’t come true. INC Magazine, August.
Office of Technology Assessment. 1981. US Industrial Competitiveness: A Comparison
of Steel, Electronics and Automobiles. Washington, DC: Congress of the US, Office
of Technology Assessment.
Phillips, K. 1984. Staying on Top: The Business Case for a National Industrial Strategy.
New York: Random House.
Piore, M.J. 1982. American labor and the industrial crisis. Challenge 25, March—April,
5-11.
Reich, R.B. 1982. Why the United States needs an industrial policy. Harvard Business
Review 60 (1), January, 74—80.
Schultze, C. 1983. Industrial policy: a dissent. The Brookings Review 2, Fall, 3-12.
Zysman, J. 1983. Governments, Markets, and Growth. Ithaca: Cornell University
Press.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Эдмунд С. Фелпс
Distributive Justice
Edmund S. Phelps
Социальная справедливость требует, чтобы в обществе господство-
вало справедливое отношение ко всем: к преступникам, детям, преста-
релым, домашним животным, странам-конкурентам и т.д. Концепция
распределительной справедливости (другое ее название — концепция
экономической справедливости) затрагивает более узкий круг проблем.
Она имеет дело со справедливостью в экономических отношениях меж-
ду членами общества: со справедливостью в совместной производствен-
ной деятельности, в торговле потребительскими товарами, в предостав-
лении общественных благ. Обычно данные формы обмена (особенно
если они осуществляются добровольно) дают возможность получения
взаимной выгоды. При этом распределительная справедливость — это
справедливость структур (arrangements), оказывающих влияние на рас-
пределение соответствующих выгод между индивидами с учетом их
усилий, альтернативных издержек и затрат ресурсов (необходимо от-
метить, что влияние на распределение выгод в общем случае означает
влияние и на их производство).
В прежних дискуссиях по поводу распределительной справедливо-
сти внимание концентрировалось главным образом на обязанностях
индивида по отношению к его партнерам по сделкам. Так, от работо-
дателя ожидалось справедливое отношение к работникам (или недопу-
щение несправедливого отношения к ним), а центральная проблема
состояла в том, чтобы определить критерии проявления несправедли-
вости со стороны работодателя. По мере развития перераспределитель-
ной деятельности правительства и распространения идей экономичес-
кого либерализма в фокусе внимания оказались обязанности централь-
ного правительства в сфере распределения. Предположим, что
предприятия и домашние хозяйства преследуют собственный интерес,
в то время как правительство (в рамках своих полномочий) занимает-
ся вопросами распределения. В этих условиях к проблематике распре-
делительной справедливости относятся главным образом перераспре-
делительные налоги и субсидии. Налоги и субсидии могут выступать в
самых различных формах — например, в форме бесплатного образова-
ния и профессиональной подготовки (масштабы которых являются
чрезмерными по критерию Парето), а также выплачиваемых работода-
телям или работникам денежных субсидий, цель которых состоит в
205
стимулировании занятости, в частности занятости низкооплачиваемых
рабочих.
Отметим, что так называемый отрицательный подоходный налог*,
каковы бы ни были доводы «за» и «против» его использования с точки
зрения социальной справедливости, не может рассматриваться как
инструмент достижения распределительной справедливости, если сфера
его действия не ограничена кругом людей, участвующих (сверх неко-
торого порогового уровня) в экономической деятельности, а значит,
и в создании выгод, подлежащих (пере)распределению. В любом слу-
чае вопрос об «отрицательном подоходном налоге» не будет обсуждаться
в данном очерке, хотя некоторые утверждения относительно субсидий
справедливы также и для случая «отрицательного подоходного налога».
Предположение о том, что достижение распределительной справед-
ливости может (по крайней мере, в принципе) потребовать выплаты
субсидий, а не только предоставления малообеспеченным работникам
налоговых льгот и освобождений, у многих может вызвать недоумение,
а у некоторых — неприятие самой концепции распределительной спра-
ведливости. Пока, скажем, индейцы племен ирокезов и сиу не имеют
контактов между собой, подлежащие распределению выгоды отсутству-
ют, а принципы распределительной справедливости не могут приме-
няться; если же им предоставляется возможность свободного соверше-
ния двусторонних межплеменных сделок, субсидирование заработной
платы членов «низкооплачиваемого» племени (например, членов пле-
мени сиу) может достигаться частично или полностью за счет ироке-
зов. Возражения некоторых комментаторов сводятся к тому, что индей-
цы племени сиу, вступающие в добровольный обмен с индейцами пле-
мени ирокезов и, как можно предположить, получающие (или
имеющие возможность получить) благодаря этому выгоды, не «заслу-
живают» какого-то дополнительного трансферта за счет ирокезов (осу-
ществляемого, возможно, некоей надплеменной властной инстанцией).
Э. Рэнд (Rand, 1973) утверждает, в частности, что одно дело, когда
материально необеспеченного человека заставляют оплачивать проезд
в автобусе, свободные места в котором другие люди могут оплачивать
за счет выгод, полученных ими от пользования автобусом (в данном
случае безбилетный проезд не вызывает у нее осуждения), и совсем
другое дело, когда в пользу этого материально необеспеченного чело-
века взимается налог с других пассажиров. Однако она в данном слу-
чае допускает неправильное приложение своих (а фактически —
Дж. Ролза) этических принципов к экономическим рассуждениям.
До некоторых пор, выплачивая субсидию членам «низкооплачиваемо-
го» племени — в нашем примере членам племени сиу, — члены друго-
го племени (племени ирокезов) остаются в чистом выигрыше, величи-
на которого равна совокупной величине выигрыша за вычетом вели-
чины налога, необходимого для финансирования субсидии. Это связано
* Программа, в соответствии с которой лица с доходом ниже некоторого ми-
нимального уровня получают пособия, зависящие от уровня дохода. — При-
меч, научн. ред.
206
с фактором убывающей отдачи: когда группа рабочих-сиу присоединя-
ется к фиксированному набору трудовых и земельных ресурсов племени
ирокезов, дополнительный продукт первых рабочих-сиу (или в более
общем случае — средняя величина дополнительного продукта, создан-
ного рабочими-сиу) оказывается выше дополнительного продукта по-
следнего из этих рабочих, который можно назвать предельным продук-
том труда рабочих-сиу; ирокезы могут выплачивать сиу субсидию в раз-
мере превышения среднего дополнительного продукта над предельным
продуктом. Если корректно интерпретировать возражение, выдвинутое
Э. Рэнд, то оказывается, что оно относится не к любым субсидиям,
а только к тем, которые приводят к полному исчезновению выгод или
возникновению убытков.
Другое возражение против концепции распределительной справед-
ливости и использования субсидий заключается в том, что, если бы эти
концепции были обоснованными, их имело бы смысл по аналогии при-
менять к подбору супружеских пар, т.е. к определению кандидатур в
мужья и жены; поскольку же мы никогда не слышали о таком прило-
жении идеи справедливости распределения, то сама эта идея, по-ви-
димому, является некорректной. Разумеется, очень странно выгляде-
ли бы налог на вступление в брак с мужчиной-ирокезом и субсидии на
вступление в брак с мужчиной из племени сиу, установленные на ос-
новании того, что мужчины-ирокезы более привлекательны для жен-
щин того и другого племени, а потому возникающее неравенство в
«выгодах» является несправед ливым и должно быть преодолено. Однако
причины отсутствия таких налогов и субсидий могут быть не связаны
с предполагаемой некорректностью идеи распределительной справед-
ливости. Возможно, препятствием является невозможность принятия
решений об установлении налогов и субсидий. Быть может, субсидии
на вступление в брак рассматривались бы как нечто унизительное в
отличие от субсидий занятым (почасовой размер которых может быть
дифференцированным и даже постоянным). Однако ключевое обсто-
ятельство может заключаться в том, что, несмотря на наличие в дан-
ном случае экономического обмена и несмотря на то, что расовая дис-
криминация или расовые предрассудки могут привести к возникнове-
нию реальной несправедливости, мужчины-сиу и мужчины-ирокезы в
нашем примере не участвуют в совместной взаимовыгодной деятель-
ности, а потому не возникает и вопроса о справедливом распределе-
нии выгод, которые могли бы быть получены от такой деятельности;
мужчины данных племен конкурируют за семейных партнеров, а не
устанавливают партнерские отношения друг с другом. Таким образом,
принципы справедливости распределения в данном случае непримени-
мы.
Как уже указывалось, условия найма малообеспеченных рабочих
представляют собой locus classicus (классическое место — лат.) приме-
нения концепции распределительной справедливости. Однако следует
упомянуть и о двух других сферах, где идет борьба вокруг вопросов
распределительной справедливости. Одной из них является проблема
справедливости в отношениях между представителями различных по-
207
колений. Она была впервые поставлена Ф. Рамсеем в его знаменитой
работе (Ramsey, 1928), где был использован утилитаристский критерий
оптимальности — сумма полезности за период времени. Данная кон-
цепция справедливости в отношениях между поколениями встретилась
с серьезными трудностями, когда в 1960-х годах ее стали применять для
изучения проблемы оптимальных сбережений в обществе с безгранич-
ным ростом населения (хотя, возможно, столь странный демографи-
ческий случай был некорректным и абсурдным тестом на приемлемость
принципов утилитаризма). В 1971 г. Дж. Ролз подверг рассмотрению
проблему справедливости в отношениях между поколениями в очень
спорном разделе своей книги, но в результате был вынужден конста-
тировать, что «принцип различия (т.е. ролзовский принцип максими-
на, или, точнее, лексимина*, в соответствии с которым оценка поло-
жения вещей должна производиться исходя из уровня благосостояния
наименее обеспеченного индивида) неприменим к проблеме сбереже-
ний. Нет никакого способа, которым более позднее поколение могло
бы помочь менее удачливому предыдущему поколению» (Ролз, 1996,
с. 255—256. — Примеч. пер.). Смысл данного утверждения, как представ-
ляется, сводится к тому, что проблема отношения между поколения-
ми — если она вообще существует, — не является проблемой распре-
делительной справедливости, поскольку между различными поколе-
ниями (и даже между двумя «смежными» поколениями) отсутствует
сотрудничество с целью получения взаимной выгоды. Тем не менее,
предположение о том, что ныне живущее поколение не может восполь-
зоваться помощью поколений, идущих ему на смену, представляется
серьезным изъяном экономической концепции Ролза. В закрытой эко-
номике ныне живущее поколение может оказать помощь будущим по-
колениям, накапливая капитал; даже в открытой экономике со свобод-
ным перемещением капиталов будущим поколениям может быть пе-
редан капитал, вложенный в инфраструктуру, который не может быть
получен на мировом рынке (по крайней мере, на столь выгодных ус-
ловиях). Будущие поколения также могут оказать нам помощь, прини-
мая на себя обязательства, которые мы — с целью повышения собствен-
ного потребления — накопили в форме внутреннего долга или прав на
пенсионное обеспечение. Таким образом, здесь можно с полным ос-
нованием говорить о распределительной справедливости. Одна из воз-
можных интерпретаций утверждения Ролза заключается в том, что, если
нынешнему поколению, обделенному по сравнению со следующими
поколениями (например, в связи с ожиданием чудесных технологичес-
ких открытий в будущем), было бы позволено вообще ничего не инве-
стировать (и даже не восполнять выбытие производственного капита-
ла!) — по аналогии с тем, как в статической ситуации наиболее мате-
риально необеспеченный человек претендовал бы на осуществление
мер по достижению равенства, — будущие поколения не смогут с по-
мощью «подкупа» побудить нынешнее поколение сделать что-либо, со-
* То есть речь здесь идет о лексикографическом предпочтении общества. —
Примеч. научи, ред.
208
ответствующее взаимной выгоде разных поколений, — в отличие от ста-
тической ситуации, когда «богатые» могут объяснить «бедным», что вы-
годы богатых со временем «просочатся» (trickle-down) в низшие слои.
Однако на самом деле будущие поколения могут «подкупить» нынеш-
нее поколение, обещая его представителям в обмен на осуществление
ими инвестиций обеспечить им более высокий уровень потребления в
старости. Можно предположить, что оптимальная максиминная траек-
тория сбережений в модели Фелпса — Райли (Phelps and Riley, 19'8)
будет существовать даже тогда, когда в рассмотрение вводится фактор
технологического прогресса.
Еще одной сферой, где мы можем столкнуться с дебатами вокруг
распределительной справедливости, является проблематика междуна-
родной торговли. Когда страна-«гигант» ведет торговлю с небольшим
числом стран-«пигмеев», которые даже в совокупности не могут ока-
зать влияние на уровень цен страны-«гиганта», эта страна присваивает
все выгоды от международной торговли, в то время как благосостоя-
ние стран-«пигмеев» остается без изменения; если при этом страны-
«пигмеи» являются (в соответствии с каким-либо приемлемым крите-
рием) более бедными по сравнению со страной-«гигантом», ситуация
в точности соответствует ролзовскому случаю максиминного решения.
Однако если страны-«пигмеи», осуществляя экспортно-импортные
операции со страной-«гигантом», испытывают ухудшение условий тор-
говли (поскольку они, по крайней мере в совокупности, оказывают
влияние на уровень цен), свободный рынок не может обеспечить рол-
зовское решение. Сегодняшние проблемы в торговых отношениях меж-
ду «Севером» и «Югом», на которые жалуются страны «Юга», могут рас-
сматриваться сквозь призму склонности и без того богатых стран «Се-
вера» (например, стран Северной Америки и Европы) сохранить за
собой выгоды от внешней торговли, обусловленные указанным выше
изменением условий торговли, причиной которого являются действия
стран «Юга» в их торговле со странами «Севера». Страны же «Юга»
полагают справедливым требовать от стран «Севера» обратного транс-
фера этих выгод с помощью соответствующего международного меха-
низма.
Некоторые талантливые и серьезные философы были бы счастли-
вы отнести проблематику распределительной справедливости к исклю-
чительной сфере ведения экономистов. Действительно, историю фи-
лософии можно рассматривать как процесс обретения отдельными
философскими субдисциплинами самостоятельности, как только они
получали возможность выжить по отдельности. Сходным образом есть
экономисты, которые хотели бы оставить проблематику распредели-
тельной справедливости в ведении философов. Однако вне зависимо-
сти от того, кому придется выполнять львиную долю работы в данной
сфере, представляется, что экономические (как и философские) состав-
ляющие изучаемых проблем имеют существенное значение. В этом
смысле — и по данной причине — изучение справедливости распреде-
ления, несмотря на неизбежное пересечение со сферой философских
исследований, является важной сферой экономической науки.
209
БИБЛИОГРАФИЯ
Rawls, J. 1971. A Theory of Justics Cambridge, Mass.: Harvard University Press;
Oxford: Oxford University Press, 1972 // Ролз Дж. Теория справедливости.
Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 1996.
Phelps E.S. and Riley J.G. Rawlsian Growth: Dynamic Programming of Capital and
Wealth for Intergeneration «Maximin» Justice // Review of Economic Studies,
February 1978, vol. 45, no. 1, p. 103—120.
Ramsey F.P. A Mathematical Theory of Saving // Economic Journal, December 1928,
vol. 38, p. 543-559.
Rand A. Government Financing in a Free Society. In: E.S.Phelps (ed.). Economic
Justice. Harmondsworth: Penguin, 1973.
ПОЛИТИКА
ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ
Джеймс Э. Брикли и Джон Дж. Макконнелл
Dividend Policy
James A. Brickley and John J. McConnell
Существуют два основных канала, через которые компания может
выплачивать деньги своим акционерам, — она может либо всем им вы-
платить дивиденды, либо провести выкуп акций. Выкуп акций может
производиться в различной форме, в том числе — путем аукциона,
скупки акций на открытом рынке или покупки у крупного держателя
по договорной цене, однако гораздо более распространенным спосо-
бом выплаты денег акционерам является выплата дивидендов. Так,
в 1985 г. американские корпорации выплатили дивидендов на сумму бо-
лее 83 млрд дол.
В США дивиденды обычно выплачиваются поквартально. Размер
дивиденда определяется советом директоров, который объявляет о сво-
ем решении в заранее оговоренный день, который называется «датой
объявления дивидендов» (announcement date). В заявлении совета ди-
ректоров говорится, что выплата дивидендов будет производиться толь-
ко тем акционерам, которые являлись зарегистрированными держате-
лями акций по состоянию на определенную дату, которая называется
«последней датой регистрации» (record date). День, в который произ-
водится рассылка дивидендных чеков акционерам, называется «платеж-
ным днем» и наступает обычно через две недели после «последней даты
регистрации». По правилам фондовой биржи акции должны продавать-
ся и покупаться с правом на дивиденд вплоть до наступления срока,
именуемого «днем, когда акция теряет право на дивиденд» (ex-dividend
date), после которого акции продаются уже без дивидендов. Наступает
этот день за несколько рабочих дней до последней даты регистрации.
Дивиденды бывают «особыми» (labelled) или «обычными» (regular).
В большинстве случаев дивиденды бывают обычными. Особые диви-
денды чаще всего называются «дополнительными» (extra). Примерно
в 30% случаев прироста дивидендов по сравнению с предыдущим квар-
талом по решению руководства компании возросшие выплаты получа-
ют то или иное особое название.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. До 1961 г. подход к дивидендам в
экономической литературе был главным образом описательным, при-
мером чего может служить, например, работа Дьюинга (Dewing, 1953).
Упоминания о политике корпораций в области выплаты дивидендов,
211
как правило, ограничивались утверждениями, что акционеры предпо-
читают высокие дивиденды низким (см., например: Graham and Dodd,
1951). Единственный вопрос, на который оставалось ответить, заклю-
чался в том, с каким весом учитывать дивидендный доход по сравне-
нию с курсовым доходом при оценке стоимости акций (Gordon, 1959).
Перефразировав известную пословицу, один из авторов той поры ска-
зал, что один дивиденд в руках стоит двух (или нескольких) курсовых
доходов в небе. Оставалось лишь решить, каким должно быть количест-
венное соотношение между ними.
С публикацией в 1961 г. классического труда Миллера и Модилья-
ни в научных исследованиях мотивов и следствий дивидендной поли-
тики корпораций наступил прорыв. Возможно, самым главным досто-
инством этой работы было то, что в ней были четко и подробно изло-
жены все предположения, из которых исходили авторы при проведении
своего исследования. Самые важные из этих предположений заключа-
лись в том, что инвестиционная политика фирмы неизменна и известна
держателям акций, что ни дивиденды, ни доходы от прироста капита-
ла не облагаются налогом, что купля-продажа акций не связана ни с
какими издержками для ее участников, что все инвесторы располага-
ют одинаковой информацией, что инвесторы обладают той же инфор-
мацией, что и руководство фирмы, и, наконец, что держатели акпий
не несут никаких потерь, связанных с тем, что руководство фирмой
осуществляют не они сами, а действующие от их имени и по поруче-
нию управляющие (agency costs). Модильяни и Миллер показали, что
при таких допущениях проводимая фирмой политика выплаты диви-
дендов не имеет никакого значения для держателей акций. Иными
словами, стоимость фирмы не зависит от того, какую политику выплаты
дивидендов проводит ее руководство.
Суть доказательства теоремы Модильяни — Миллера заключается
в том, что держатели акций могут сами себе создавать «дивиденды»
путем продажи принадлежащих им акций. Если фирма решает не рас-
пределять прибыль между акционерами, а вложить ее в новые проек-
ты, держатели акций могут продать свою долю и «проесть» выручен-
ные деньги. Таким образом, они окажутся в том же положении, как
если бы фирма выплатила им дивиденды. Если же фирма решает вы-
платить дивиденды, то для финансирования новых проектов ей при-
дется выпускать новые акции. Если владельцы акций предпочитают
свои деньги реинвестировать, а не проедать, они могут купить на вы-
плаченные им дивиденды соответствующую долю акций нового выпус-
ка. При этом владельцы акций оказываются в том же самом положе-
нии, как если бы им не были выплачены дивиденды. Таким образом,
независимо от того, какой политики выплаты дивидендов придержи-
вается фирма, владельцы акций могут без всяких для себя издержек са-
мостоятельно получать дивиденды, поэтому дивидендная политика
фирмы для них безразлична и, следовательно, стоимость фирмы не
зависит от ее дивидендной политики.
Вывод о том, что рыночная стоимость фирмы не зависит от про-
водимой ею дивидендной политики, означает, что инвестиционные
2/2
решения корпорации могут приниматься без учета дивидендной по-
литики. Тем не менее, известно, что приток средств, получаемых
фирмой, и отток средств от фирмы зависят от принимаемых ею инве-
стиционных решений. Если потребность в средствах для
инвестирования превышает сумму внутренних средств, то для
максимизации стоимости фирмы придется выпустить новые акции (или
отказаться от выплаты дивидендов и реинвестировать всю чистую
прибыль). Если же внутренне генерируемые средства превышают
инвестиционные потребности, фирма должна либо прибегнуть к
выкупу своих акций, либо произвести выплату дивидендов. При этом,
исходя из предположений Модильяни — Миллера, каким бы из этих
методов ни воспользовалась фирма, на ее стоимости (стоимости ее
акционерного капитала) это не отразится.
После непродолжительных, но бурных дебатов всем пришлось со-
гласиться, что теорема Модильяни — Миллера при используемых ими
предпосылках верна. Тем не менее, недоверие к ней осталось — ведь
не может быть, чтобы дивидендная политика никак не влияла на сто-
имость фирмы, если руководители корпораций и специалисты по цен-
ным бумагам уделяют этой политике столько внимания. Но если это
так и если тезис Модильяни — Миллера верен, значит, какие-то из
принятых Модильяни и Миллером допущений в реальной жизни не
соблюдаются.
Научные споры о дивидендах не затихают с начала 60-х годов. Эко-
номисты анализировали, как влияет на стоимость фирмы ослабление
различных исходных предположений Модильяни — Миллера, вели
активный поиск данных в подтверждение того, что политика диви-
дендов влияет на курс акций и поведение инвесторов. Во главу угла
ставились при этом три взаимосвязанных вопроса. Во-первых, влияет
ли размер выплачиваемых фирмой дивидендов на стоимость фирмы?
Иными словами, оценивает ли рынок стоимость фирмы,
выплачивающей высокие дивиденды, иначе, чем стоимость фирмы,
выплачивающей низкие дивиденды, при прочих равных условиях? Во-
вторых, влияют ли изменения установленного размера дивидендов на
оценку стоимости фирмы? В-третьих, влияет ли на стоимость фирмы
используемый ею метод денежных выплат? Скажем, если одна фирма
решит выплатить дивиденды, а другая — выкупить акции, окажут ли
эти решения различное влияние на рыночную стоимость
акционерного капитала фирмы при прочих равных условиях? Или,
если речь идет о дивидендах, есть ли какая-нибудь разница между
особыми и обычными дивидендами с точки зрения того, как они
влияют на стоимость фирмы? Ниже мы остановимся на каждом из
этих трех вопросов отдельно.
СТОИМОСТЬ ФИРМЫ И РАЗМЕР ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЕЮ
ДИВИДЕНДОВ. Налоги. Пожалуй, самым естественным будет начать
ослабление предпосылок Модильяни — Миллера с введения налогов.
В США размер выплачиваемых фирмой дивидендов не влияет на раз-
мер уплачиваемых этой фирмой налогов. Однако, по крайней мере до
213
сих пор, при налогообложении личного дохода налог с полученных
дивидендов взимался по более высокой ставке, чем доходы от реали-
зованного прироста рыночной стоимости капитала. Таким образом,
налоговое законодательство США, казалось бы, должно было благопри-
ятствовать политике выплаты низких дивидендов.
Предположив, что дивидендный доход и доходы от прироста капи-
тала облагаются налогом по разным ставкам, Бреннан (Brennan, 1970)
построил модель оценки стоимости акций, по которой требуемый ин-
весторами уровень дохода до вычета налогов по акциям с высокими
дивидендами должен быть выше, чем по акциям с более низкими ди-
видендами. Однако попытки эмпирической проверки этой модели,
предпринимавшиеся Блэком и Скоулзом (Black and Scholes, 1974),
Литценбергером и Рамасвами (Litzenberger and Ramaswamy, 1979),
а также Миллером и Скоулзом (Miller and Scholes, 1982), не дали од-
нозначного результата. Оказалось, в частности, что решение вопроса о
существовании зависимости между налогообложением дивидендов и
доходностью акций в значительной степени зависит от используемого
определения дивидендного дохода. Любопытное исследование провел
Лонг (Long, 1978), который проанализировал цены на два класса ак-
ций корпорации Citizen Utility, отличавшихся друг от друга только усло-
виями выплаты дивидендов и налогообложения, и пришел к выводу,
что инвесторы все-таки предпочитают покупать акции с высокими
дивидендами.
Возражая Бреннану, Миллер и Скоулз (Miller and Scholes, 1978)
утверждают, что предположение о более высоком налогообложении
дивидендов по сравнению с доходами от прироста капитала необосно-
ванно. Они утверждают, что в налоговом законодательстве США все-
гда существовало достаточно лазеек, позволявших держателям акций
укрывать дивиденды от налогов и фактически сводить ставку налога на
них к нулю. Однако Финберг (Feenberg, 1971), а также Питерсон, Пи-
терсон и Энг (Peterson, Peterson and Ang, 1985), рассмотрев данные по
реальным налоговым декларациям, не нашли подтверждений тому, что
получатели дивидендов пользуются описанными Миллером и Скоул-
зом методами уклонения от налогов.
Авторы, занимавшиеся эмпирической проверкой гипотезы о сущест-
вовании связи между налогообложением и уровнем цен на акции, не
ограничивались данными по США. Так, например, Потерба и Саммерс
(Poterba and Summers, 1984) работали с английскими данными, а Мор-
ган (Morgan, 1980) — с канадскими, однако и на этих данных не уда-
лось получить однозначного вывода.
Приходится признать, что эмпирическая проверка гипотезы о су-
ществовании зависимости между дивидендами, налогами и стоимостью
акционерного капитала фирмы не позволяет пока придти к окончатель-
ному выводу. Интересно отметить, что в новом налоговом законода-
тельстве США предусматривается обложение дивидендов и доходов от
реализованного прироста рыночной стоимости капитала по одинако-
вым ставкам, так что вскоре можно будет сравнить данные, относящие-
ся к периоду до и после принятия этих законов.
214
Издержки поручительства (agency costs). Вторая потенциально важ-
ная поправка, которую реальная жизнь вносит в допущения Модилья-
ни — Миллера, заключается в том, что владение акциями связано для
их держателей с издержками поручительства. Предположим, что управ-
ляющие корпорации максимизируют свою собственную полезность, что
не всегда совпадает с максимизацией рыночной стоимости обыкновен-
ных акций. Издержки, связанные с этим потенциальным конфликтом
интересов, включают расходы на составление контракта между держа-
телями акций и управляющими, контроль и обеспечение исполнения
этого контракта, а также остаточные убытки, возникающие из-за не-
совершенства заключенных контрактов (Jensen and Meckling, 1976).
Некоторые авторы считают, что дивидендам может принадлежать
важная роль в разрешении конфликтов между менеджерами и акцио-
нерами. Если дивиденды снижают издержки поручительства, то фир-
мы станут выплачивать их даже в том случае, если они облагаются на-
логом по более высокой ставке, чем доходы от прироста капитала.
Истербрук (Easterbrook, 1984) и Розефф (Rozeff, 1982) считают, что
если фирма решает пустить прибыль на выплату дивидендов, а не на
реинвестирование, то тем самым она как бы принуждает своих управ-
ляющих проходить периодическую аттестацию на рынке капитала. Раз
фирма выплачивает дивиденды, ее руководству приходится чаще об-
ращаться к рынку капитала, чтобы получить средства для реализации
инвестиционных проектов. Периодическая проверка рынком — один
из путей снижения издержек поручительства, а оно, в свою очередь,
способствует повышению стоимости фирмы; таким образом, стоимость
фирмы все же зависит от выплаты дивидендов. Тем не менее, даже
такие модели не позволяют ответить на вопрос, какой же уровень ди-
видендных доходов по акциям должен считаться «оптимальным».
До настоящего времени гипотеза о существовании связи между по-
литикой выплаты дивидендов и издержками поручительства ни пря-
мым, ни косвенным образом не проверялась. Отчасти это объясняется
тем, что подобные модели начали разрабатываться совсем недавно, но
также и тем, что подобные теории недостаточно конкретны для того,
чтобы их можно было проверить эмпирически.
СТОИМОСТЬ ФИРМЫ И ИЗМЕНЕНИЕ ДИВИДЕНДНЫХ
ВЫПЛАТ. Хотя фактические данные о влиянии уровня дивидендных
выплат на стоимость фирмы весьма противоречивы, результаты иссле-
дований неизменно подтверждают, что изменение доходности акций
после объявления об изменении выплачиваемых по ним дивидендов
находится в прямой зависимости от изменения дивидендов (Aharony
and Swary, 1980; Asquith and Mullins, 1983; Brickley, 1983; Pettit, 1972).
Основное объяснение этого заключается в том, что изменение диви-
дендов служит показателем текущей или будущей прибыли фирмы.
В отличие от предположения Модильяни — Миллера о том, что
держатели акций располагают той же информацией, что и управляющие
фирмы, гипотеза об информационной функции дивидендов основы-
вается на предположении о том, что управляющие располагают боль-
275
шей информацией о перспективах фирмы, чем рядовые инвесторы.
Данная гипотеза заключается в том, что внутренняя информация управ-
ляющих доводится до других участников рынка через изменения в ди-
видендном доходе. Эта идея была предложена Миллером и Модилья-
ни (Miller and Modigliani, 1961) и восходит своими корнями к класси-
ческой работе Линтнера (Lintner, 1956) о дивидендной политике.
Линтнер провел опрос среди менеджеров корпораций, который, в част-
ности, показал, что значительная часть менеджеров старается поддер-
живать выплачиваемые фирмой обычные дивиденды на постоянном
уровне. По словам Линтнера, менеджеры проявляют «упорное неже-
лание (причем оно характерно для менеджеров всех компаний) снижать
или повышать однажды установленную ставку обычных дивидендов»
(р. 84). Вывод Линтнера получил дальнейшее эмпирическое подтверж-
дение в работе Фамы и Бэбиака (Fama and Babiak, 1968). Если менед-
жеры изменяют ставку обычных дивидендов только при серьезном из-
менении доходного потенциала фирмы, то изменение этой ставки слу-
жит достаточно надежным индикатором того, как пойдут дела у фирмы
в будущем.
Несколько позже появились и математические модели, в которых
дивиденды играли роль информационных сигналов (Bhattachaiya, 1979,
1980; John and Williams, 1985; Miller and Rock, 1985). Все эти модели
исходят из разных предпосылок, но общей для них является предпо-
сылка о том, что менеджеры располагают информацией, недоступной
для внешних инвесторов. Как правило, эта информация касается те-
кущих или будущих прибылей фирмы.
Накопленные эмпирические данные свидетельствуют о том, что
объявления об изменении в уровне дивидендов действительно служат
источником информации для рынка. При этом данные согласуются с
моделями динамики дивидендов в условиях асимметричной информа-
ции. Вопрос только в том, действительно ли эти модели отражают ту
информацию, на которую реагирует рынок в момент объявления об
изменении дивидендов, и какая из этих моделей лучше всего описы-
вает процесс распространения информации.
СТОИМОСТЬ ФИРМЫ И ФОРМА ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ.
Анализ данных показывает, что как при повышении обычных дивиден-
дов, так и при выплате особых дивидендов и при скупках фирмой соб-
ственных акций происходит устойчивое повышение курса этих акций
(Brickley, 1983; Dann, 1981; Vermaelen, 1981). Однако не совсем понят-
но то, какие именно факторы заставляют менеджеров выбирать тот или
иной метод выплат.
Исходя из допущений Модильяни — Миллера, выбор конкретного
механизма выплат, равно как и выбор самой дивидендной политики,
на стоимость фирмы не влияет. Таким образом, если форма выплат все-
таки имеет значение, какие-то допущения Модильяни — Миллера
должны нарушаться.
Экономисты лишь недавно стали интересоваться вопросом о том,
исходя из каких именно соображений фирма выбирает ту или иную
216
форму выплат. Если какие-то закономерности какого выбора существу-
ют, значит, с различными методами выплат должны быть связаны раз-
личные издержки или выгоды. С учетом того, что обычные дивиденды
как форма выплат используются гораздо чаще, чем выкуп акций или
выплата особых дивидендов, теория, объясняющая такой выбор, должна
показать, почему выбор обычных дивидендов дает существенные вы-
годы по сравнению с другими формами или, наоборот, почему другие
формы выплат связаны с существенными издержками. При этом срав-
нительные выгоды и издержки должны быть тем более значимы, что,
по крайней мере в прошлом, дивиденды в составе личных доходов об-
лагались более высокими налогами, чем выручка от обратной продажи
акций фирме, и, тем не менее, именно дивиденды получили большее
распространение.
Авторы двух недавно предложенных теорий, в которых предприни-
мается попытка объяснить, как происходит выбор между дивидендами
и выкупом акций, исходят из предположения о том, что менеджеры
владеют информацией, недоступной для рядовых держателей акций,
и могут использовать эту внутреннюю информацию, прибегая к выку-
пу акций тогда, когда это выгодно им самим, а не акционерам (Barclay
and Smith, 1986; Offer and Thakor, 1985). И в том и в другом случае пред-
полагается существование определенных издержек, связанных с подоб-
ным своекорыстным использованием информации. Менеджеры срав-
нивают потенциальные выгоды и издержки выкупа, и если издержки
оказываются больше, распределяют деньги среди акционеров путем
выплаты дивидендов.
Подобно многим другим гипотезам, касающимся дивидендной
политики корпораций, теории, объясняющие выбор между выплатой
дивидендов и выкупом акций, возникли совсем недавно и потому се-
рьезной эмпирической проверке пока не подвергались. Что же касает-
ся выбора между обычными и особыми дивидендами, то сколько-ни-
будь разумных попыток объяснить его было еще меньше. Впрочем,
Брикли (Brickley, 1983) приводит данные, указывающие на то, что вы-
плата особых дивидендов служит для участников рынка менее надеж-
ным индикатором будущего изменения стоимости фирмы, нежели уве-
личение обычных дивидендов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. После двадцати пяти лет напряженных исследо-
ваний мы все еще знаем о дивидендной политике корпораций гораздо
меньше, чем хотелось бы. Мы знаем, что фирмы ежегодно выплачива-
ют держателям акций значительные суммы и что большая часть этих
выплат производится в форме обычных дивидендов. Время от време-
ни фирмы выплачивают также особые дивиденды и прибегают к мас-
совым выкупам акций. Кроме того, мы знаем, что при повышении
обычных дивидендов, при объявлении о выплате особых дивидендов и
при выкупе акций происходит долгосрочное повышение курса акций,
а также то, что при снижении регулярных дивидендов курс акций па-
дает. Все большее признание получает идея о том, что изменение раз-
мера дивидендов делает информацию, доступную лишь для менедже-
217
ров, достоянием широкого круга инвесторов, и это приводит к изме-
нению курса акций. Однако остается пока неясным, какую именно
информацию доносят до участников рынка дивидендные платежи и
какая именно связь существует между переданной информацией и сто-
имостью фирмы. Нет пока единого ответа и на вопросы о том, как вли-
яет размер денежных выплат на стоимость фирмы, имеет ли значение
способ, которым эти выплаты производятся, и если имеет, то в силу
каких именно факторов производится выбор этого способа.
Возникает искушение завершить этот обзор на пессимистической
ноте. Но большинство экономических явлений таковы, что 25 лет —
это слишком короткий период для досконального их изучения. Пусть
мы знаем о дивидендной политике намного меньше, чем хотели бы
знать, зато мы знаем о ней гораздо больше, чем 25 лет тому назад. Не-
сомненно, что в течение следующих 25 лет мы станем свидетелями
дальнейшего значительного прогресса в понимании факторов, опреде-
ляющих дивидендную политику корпораций.
БИБЛИОГРАФИЯ
Aharony, J, and Swaiy, I. 1980. Quarterly dividends, earnings announcements, and
stockholder returns. Journal of Finance 35(1), March, 1-12.
Asquith, P. and Mullins, D. 1983. The impact of initiating dividend payments on
shareholders’ wealth. Journal of Business 56, January, 77—96.
Barclay, M. and Smith, C.W. 1986. Corporate payment policy. Cash dividends vs. share
repurchases. Unpublished ms., August.
Bhattacharya, S. 1979. Imperfect information, dividend policy, and the ‘Bird in the
hand’ fallacy. Bell Journal of Economics 10(1), Spring, 259—70.
Bhattacharya, S. 1980. Nondissipative signalling structures and dividend policy.
Quarterly Journal of Economics, December 95, August, 1—24.
Black, F. and Scholes, M.S. 1974. The effects of dividend yield and dividend policy
on common stock prices and returns. Journal of Financial Economics 1(1), May,
1-22.
Brennan, M.J. 1970 Taxes, market valuation, and corporate financial policy. National
Tax Journal 23(4), December, 417-27.
Brickley, J.A. 1983. Shareholder wealth, information signalling, and the specially
designated dividend: an empirical study. Journal of Financial Economics 12,
August, 187—209.
Dann, L.Y. 1981. Common stock repurchases: an analysis of the returns to bondholders
and stockholders. Journal of Financial Economics 9(2), June, 113-38.
Dewing, A.S. 1953. The Financial Policy of Corporations. 5th edn, New York: Roland
Press.
Easterbrook, F.H.1984. Two agency-cost explanations of dividends. American
Economic Review 74(4), September, 650-59.
Fama, E.F. and Babiak, H. 1968. Dividend policy: an empirical analysis. Journal of
the American Statistical Association 63, December, 1132—61.
Feenberg, D. 1971. Does the investment interest limitation explain the existence of
dividends? Journal of Financial Economics 9, September, 265-9.
218
Gordon, M.J. 1959. Dividends, earnings, and stock prices. Review of Economics and
Statistics 41, May, 99—105.
Graham, B. and Dodd, D. 1951. Security Analysis: Principles and Techniques. New
York: McGraw-Hill.
Jensen, M.C. and Meckling, W. 1976. Theory of the firm: managerial behavior, agency
costs, and capital structure. Journal of Financial Economics 3(4), October, 305-60.
John, K. and Williams, J. 1985. Dividends, dilution and taxes: a signalling equilibrium.
Journal of Finance 40(4), September, 1053—70.
Lintner, J. 1956. The distribution of incomes of corporations among dividends, retained
earnings, and taxes. American Economic Review, Papers and Proceedings 46, May,
97-113.
Litzenberger, R.H. and Ramaswamy, K. 1979. The effect of personal taxes and
dividends on capital asset prices: theory and empirical evidence. Journal of Financial
Economics 7(2), June, 163—95.
Long, J.B. 1978. The market valuation of cash dividends: a case to consider. Journal
of Financial Economics 6(2/3), June/September, 235-64.
Miller, M.H. and Modigliani, F. 1961. Dividend policy, growth, and the valuation of
shares. Journal of Business 34, October, 235—64.
Miller, M.H. and Rock, K. 1985. Dividend policy under asymmetric information.
Journal of Finance 40(4), September, 1031—51.
Miller, M.H. and Scholes, M.S. 1978. Dividends and taxes. Journal of Financial
Economics 6(4), December, 333-64.
Miller, M.H. and Scholes, M.S. 1982. Dividends and taxes: some empirical evidence.
Journal of Political Economy 90(6), December, 1118—41.
Morgan, I. 1980. Dividends and stock price behavior in Canada. Journal of Business
Administration, Fall.
Offer, A. and Thakor, A. 1985. A theory of stock price response to alternative corporate
cash disbursement methods: stock repurchases and dividends. Unpublished ms.,
December.
Peterson, P.P., Peterson, D.R. and Ang, J.S. 1985. Direct evidence on the marginal
rate of taxation on dividend income. Journal of Financial Economics 14(2), June,
267-82.
Pettit, R.R. 1972. Dividend announcements, security performance, and capital market
efficiency. Journal of Finance 27(5), December, 993—1007.
Poterba, J.M. and Summers, L.H. 1984. New evidence that taxes affect the valuation
of dividends. Journal of Finance 39(5), December, 1397—1415.
Rozeff, M.S. 1982. Growth, beta and agency costs as determinants of dividend payout
ratios. Journal of Financial Research 2, Fall, 249-59.
Schleifer, A and Vishny, R.W. 1986. Large stockholders and corporate control. Journal
of Political Economy 94(3) Part 1, June, 461-88.
Vermaelen, T. 1981. Common stock repurchases and market signalling: an empirical
study. 1 of Financial Economics 9(2), June, 139-83.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ
Бела Баласса
Economic Integration
Bela Balassa
В повседневном словоупотреблении интеграция определяется как
соединение частей в единое целое. Однако в экономической литерату-
ре термин «экономическая интеграция» не получил столь прямого и
однозначного толкования. С одной стороны, само существование тор-
говых взаимоотношений между независимыми странами рассматрива-
ется как форма экономической интеграции; с другой, рассматриваемый
термин употребляется и для обозначения полного объединения эконо-
мик различных стран.
Экономическая интеграция определяется здесь и как процесс, и как
состояние. В качестве процесса она подразумевает совокупность мер,
направленных на устранение дискриминации между экономическими
единицами, относящимися к различным государствам; представленная
как состояние, она подразумевает отсутствие каких-либо форм дис-
криминации между экономиками отдельных стран.
Экономическая интеграция может существовать в нескольких фор-
мах, соответствующих нескольким уровням (степеням) объединения.
В зонах свободной торговли, например, устраняются тарифы и коли-
чественные импортные квоты между странами-участницами, но каж-
дая страна при этом вправе сохранять свои собственные тарифы по
отношению к остальному миру. Создание таможенного союза, поми-
мо отмены внутренних ограничений, предполагает также выравнива-
ние импортных тарифов для стран, в этот союз не входящих.
Более высокой степенью интеграции по сравнению с таможенным
союзом является общий рынок, поскольку он предусматривает также
свободное движение факторов производства. Экономический союз,
в свою очередь, представляет собой сочетание мер по отмене ограни-
чений на передвижение товаров и факторов производства с так назы-
ваемой гармонизацией экономической политики стран-участниц,
т.е. с устранением всех видов дискриминации, являющейся результатом
различий в проводимой политике. Наконец, полная экономическая ин-
теграция означает проведение объединенной экономической полити-
ки, ведущей в итоге к созданию наднациональной властной и управ-
ленческой структуры, решения которой обязательны для всех.
220
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Первым значимым случаем эконо-
мической интеграции стал в XIX в. Германский таможенный союз,
образование которого впоследствии привело к полной интеграции по-
средством объединения германских государств и образования Герман-
ской империи. В XX в. создание Бенилюкса как таможенного
(в 1948 г.), а затем экономического (в 1949 г.) союза, объединившего
Бельгию, Люксембург и Нидерланды, стало первым шагом на пути к
европейской экономической интеграции. Вслед за этим были созданы
Европейское объединение угля и стали (1953 г.) и Европейское эконо-
мическое сообщество — ЕЭС (1958 г.). В оба эти объединения входили
Бельгия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерланды и Западная Гер-
мания.
Австрия, Дания, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария и
Великобритания в 1960 г. основали Европейскую ассоциацию свобод-
ной торговли (ЕАСТ), к которой вскоре присоединилась и Финлян-
дия — вначале на правах ассоциированного, а затем и полноправного
члена. Дания и Великобритания, напротив, вышли из Ассоциации и
вместе с Ирландией вступили в ЕЭС в 1968 г. Греция стала членом ЕЭС
в 1978 г., а Испания и Португалия присоединились в 1986 г.
В Восточной Европе в 1948 г. был создан Совет Экономической
Взаимопомощи, или СЭВ. Участниками его стали СССР, Болгария,
Чехословакия, Венгрия, Польша и Румыния. Албания и ГДР присо-
единились чуть позже, за ними последовали Куба и Монголия, но по-
том Албания прекратила свое участие в деятельности СЭВ.
Развивающиеся страны также предпринимали неоднократные шаги
по пути экономической интеграции. В результате создавались зоны
свободной торговли, например Латиноамериканская зона свободной
торговли (1960), объединившая Аргентину, Боливию, Бразилию, Чили,
Колумбию, Мексику, Эквадор, Перу, Уругвай и Венесуэлу, или тамо-
женные союзы, такие, как Таможенный союз стран Западной Африки
(1959), куда вошли Берег Слоновой Кости, Мали, Мавритания, Нигер,
Сенегал и Верхняя Вольта. В 1960 г. был создан Центрально-Амери-
канский общий рынок, включающий Коста-Рику, Гватемалу, Гонду-
рас, Никарагуа и Сальвадор в качестве полноправных членов. В свою
очередь, Кения, Танзания и Уганда объединились в Восточно-Афри-
канский общий рынок, трансформировавшийся в 1967 г. в Восточно-
африканское экономическое сообщество, которое должно было в пер-
спективе стать экономическим союзом. Однако ни одна из этих попы-
ток не увенчалась успехом, так как внутренние торговые барьеры или
не полностью устранялись, или восстанавливались впоследствии.
ЭФФЕКТЫ РАСШИРЕНИЯ И ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕ-
ТОРГОВЫХ ПОТОКОВ. Работа Вайнера «Вопрос о таможенных со-
юзах» (Viner, 1950) стала первым важнейшим вкладом в развитие тео-
рии экономической интеграции. Вайнер исследовал влияние, которое
образование таможенных союзов оказывает на торговлю между стра-
нами, и выделил так называемые эффекты расширения и перенаправ-
ления торговых потоков. В первом случае происходит переход от ис-
221
пользования возможностей внутреннего рынка к рынку страны-парт-
нера как источника ресурсов для производства какого-либо товара; во
втором же случае аналогичный переход осуществляется с внешних по
отношению к союзу рынков на рынок ресурсов страны-партнера.
Расширение торговли повышает благосостояние стран в той степе-
ни, в которой внутреннее производство замещается понижающим из-
держки импортом из стран-партнеров; относительно более дешевый
импорт становится возможным благодаря отмене тарифов. В свою оче-
редь, перенаправление внешнеторговых потоков влечет за собой сни-
жение благосостояния, так как введение тарифов, направленных на
дискриминацию стран, не участвующих в таможенном союзе, ведет к
замещению низкозатратного импорта из этих стран более дорогим
импортом из страны-партнера.
Чистый эффект повышения (снижения) благосостояния как резуль-
тат создания таможенного союза зависит как от объемов расширения
(перенаправления) торговых потоков, так и от различий в издержках
производства единицы продукции. В системе частичного равновесия
и при постоянных издержках прирост (снижение) благосостояния про-
изойдет, если объем расширения торговли, умноженный на разницу в
уровне затрат между данной страной и ее партнером по таможенному
союзу, превысит (окажется меньше) перенаправленного объема внеш-
ней торговли, умноженного на разницу в уровне затрат между страной-
партнером и внешним миром.
В дальнейшем Мид (Meade, 1955) рассматривал воздействие тамо-
женных союзов на замещение одних товаров другими, включая заме-
щение товаров на внутреннем рынке импортом из страны-партнера
(расширение торговых потоков) и замещение импорта из «внешних»
стран продукцией страны-партнера (перенаправление товарных по-
токов). Так же, как и в рассмотренном случае замещения производ-
ственных ресурсов (эффект производства), при замещении одних го-
товых товаров другими (эффект потребления) расширение внешней
торговли ведет к росту благосостояния, а ее перенаправление — к по-
терям.
Разделение эффекта производства и эффекта потребления не озна-
чает отсутствия взаимосвязи между ними. Замещение одних ресурсов
другими оказывает воздействие на структуру потребления посредством
изменения цен, которые платит покупатель. В свою очередь, замена
одних товаров другими приводит к сдвигам в структуре производства,
так как с изменившимися ценами сталкиваются производители.
В то же время Липси и Ланкастер (Lipsey and Lancaster, 1956-1957)
впервые отметили, что эффекты производства и потребления, как и
теория таможенных союзов в целом, должны рассматриваться как осо-
бые случаи теории «второго оптимума» (second-best). Если обычные
условия Парето-оптимальности выполнены, свободная торговля при-
водит к эффективной аллокации ресурсов, в то время как ситуации и
до, и после возникновения таможенного союза являются субоптималь-
ными, поскольку в обоих случаях существуют тарифы. Таким образом,
в отрыве от контекста невозможно сделать однозначный вывод о том,
222
повысится или снизится благосостояние страны в результате образо-
вания таможенного союза. Тем не менее, анализ определенных факто-
ров позволяет сделать предположение о том, в каком направлении эта
мера может повлиять на благосостояние.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯ-
НИЯ УЧАСТНИКОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА. Липси (Lipsey, 1960)
предположил, что эффект роста благосостояния от создания таможен-
ного союза должен зависеть от соотношения доли во внутреннем по-
треблении товаров, производимых внутри страны, и товаров, импор-
тируемых из стран, не входящих в союз. При прочих равных условиях,
чем выше в потреблении доля местной продукции и чем ниже доля
импорта из стран — нечленов союза, тем больше вероятность повыше-
ния благосостояния в результате образования таможенного союза. Это
объясняется тем, что замена производимых внутри страны товаров на
товары стран — партнеров по союзу повлечет за собой расширение
внешнеторговых потоков, в то время как замена товаров, импортиру-
емых извне, приведет к их перенаправлению.
Данные выводы совпадают с заключением Тинбергена (Tinbergen,
1957) о том, что увеличение размера таможенного союза повысит ве-
роятность положительного воздействия на благосостояние участников.
Предельным случаем здесь является включение всех стран мира в та-
моженный союз, что, по сути, означает переход к полностью свобод-
ной торговле. Исходя из выгодности расширения таможенного союза,
связанной с появлением дополнительных возможностей для реаллока-
ции производства, можно сделать вывод о положительной корреляции
ожидаемого эффекта благосостояния с величиной расширения рынка
стран-участниц (иными словами, чем меньше страна, тем больше она
выиграет от вступления в таможенный союз).
В дальнейшем Вайнер анализировал влияние имеющихся межстра-
новых различий в структуре производства на эффект роста благосо-
стояния от заключения таможенного союза. Он предположил, что чем
более конкурентны (менее комплементарны) структуры производства
стран-участниц, тем выше вероятность повышения благосостояния в
результате создания таможенного союза.
Этот тезис отражает предпосылку, что страны со сходными струк-
турами производства при создании таможенного союза стремятся за-
менить отечественные товары на конкурентоспособный импорт из
стран-партнеров, в то время как различия в структуре производства
внутри союза ведут к отказу от продукции партнеров в пользу более
дешевого импорта извне (данная посылка неверна, если производитель
товара с низкими издержками оказывается внутри союза).
Эффект повышения благосостояния в результате вступления в та-
моженный союз также будет зависеть от транспортных расходов. При
прочих равных условиях, чем ниже транспортные издержки в странах —
участницах союза, тем больше положительный эффект интеграции.
Так, участие соседних стран, у которых больше возможностей для рас-
ширения торговли друг с другом, предпочтительно по сравнению с
223
участием более отдаленных стран, которое могло бы привести к пере-
направлению внешней торговли.
Размеры тарифов также будут оказывать воздействие на потенци-
альные выгоды и потери в результате образования таможенного союза.
Отмена высоких тарифов, существовавших до объединения, создаст
более широкие возможности для расширения торговли, что означает
повышение благосостояния стран-участниц, в то время как относитель-
но низкие тарифы по отношению к остальному миру снизят риск пе-
ренаправления. Однако все эти выводы практически непригодны в
случае существования режима наибольшего благоприятствования, ко-
торый предполагает установление одинаковых тарифных правил еще
до того, как создан таможенный союз.
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ИЛИ ОДНОСТОРОННЕЕ СНИЖЕНИЕ
ТАРИФОВ? В работах Вайнера — Мида — Липси участие страны в
таможенном союзе, ведущее к расширению внешней торговли, рас-
сматривалось как средство уменьшения искажающего воздействия ее
собственных тарифов. Данный аргумент был доведен до своего логи-
ческого завершения Купером и Мэсселлом (Cooper and Massell, 1965а),
а также Джонсоном (Johnson, 1965а). Эти исследователи предположи-
ли, что участие в таможенном союзе приводит к меньшему эффекту по
сравнению с односторонней отменой тарифов, которая в большей сте-
пени стимулирует расширение торговли, не создавая при этом перена-
правления внешнеторговых потоков.
Те же авторы утверждали, что причины создания таможенных со-
юзов связаны с достижением участниками внеэкономических целей и
выгод. К одной из таких целей они относили, в частности, установле-
ние благоприятного режима для развития промышленности и предпо-
лагали, что в рамках таможенного союза ее достижение возможно при
меньших затратах, чем на внутреннем рынке отдельной страны.
Как отмечал Джонсон, образование таможенных союзов, преследу-
ющих данную цель, предполагает, что в области производства промыш-
ленных товаров страны-участницы находятся в относительно менее
благоприятном положении по сравнению с остальным миром. Купер
и Мэсселл (Cooper and Massel, 1965b) отнесли такие страны к развива-
ющимся, предполагая, что власти, ответственные за их экономическое
развитие, приносят в жертву часть национального дохода в целях рас-
ширения промышленного производства.
Остается невыясненным вопрос о том, почему предпочтение отда-
ется промышленности. Джонсон (Johnson, 1965) выразил мнение, что
это может отражать честолюбивые националистические замыслы от-
дельных стран и их соперничество с другими государствами, мощь про-
мышленных компаний и возможности повышения дохода для них и их
работников, а также веру в то, что промышленное производство создает
положительные внешние эффекты. Последнее подразумевает, однако,
что нет никакой необходимости вводить неэкономические факторы,
чтобы прийти к выводам Купера — Мэсселла — Джонсона, так как
желательность таможенного союза может быть доказана и в экономи-
224
ческих терминах при условии, что создание союза позволяет достичь
ряда внешних эффектов, которые невозможно получить иным спосо-
бом.
Еще один немаловажный вопрос состоит в следующем: окажется ли
одностороннее снижение тарифов предпочтительнее союза при отсут-
ствии положительных внешних эффектов или режима благоприятство-
вания для промышленности? Уоннакоты (Wonnacotts, 1981) показали,
что это не обязательно, если тарифы существовали в странах-партне-
рах и других (внешних) странах до образования таможенного союза.
Отмена тарифов партнерами окажет положительный эффект на
экономику страны, так как теперь на рынках стран-партнеров она смо-
жет продавать свои товары по более высоким ценам. Данный эффект
будет тем больше, чем выше были тарифы в странах-участницах до
вступления в союз; кроме того, на него окажут влияние тарифы в стра-
нах, внешних по отношению к союзу. Это связано с тем, что, прода-
вая беспошлинные товары на рынках партнеров, производители избе-
гают уплаты пошлин и в других странах.
Наконец, Купер и Мэсселл (Cooper and Massel, 1965b) отметили, что
так называемый союз субсидий, в котором каждый из участников суб-
сидирует свое собственное промышленное производство, более пред-
почтителен, чем таможенный союз. Они пришли к такому выводу, по-
скольку можно избежать негативного влияния тарифов на потребление,
если поддерживать цены на промышленную продукцию на мировом
рынке посредством субсидирования. Однако каждая страна может суб-
сидировать свою промышленность в индивидуальном порядке и извле-
кать соответствующую выгоду, не вступая в союз.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВОКУПНОГО ЭФФЕКТА ТАМОЖЕННО-
ГО СОЮЗА. Традиционно изменение благосостояния в результате об-
разования таможенных союзов рассматривалось с точки зрения одной
отдельно взятой страны. Однако эти эффекты могут быть неодинако-
вы для различных стран-участниц в зависимости от их структуры про-
изводства, расположения, размеров ранее существовавших тарифов и
других характеристик. Более того, одна из стран может выиграть, а дру-
гая — проиграть, в то время как любая попытка выяснить совокупные
выгоды или потери сталкивается с хорошо известными трудностями
международных сопоставлений.
Изменения условий торговли также оказывают влияние на распре-
деление выгод и потерь в таможенном союзе. Создание союза может
увеличить ценовые различия между странами-участницами, даже если
условия торговли с внешним миром остаются неизменными (это ка-
сается небольших по размеру таможенных союзов).
В более общем случае условия торговли с внешним миром также
меняются. Негативное воздействие, которое оказывает перенаправле-
ние внешнеторговых потоков на уровень благосостояния стран — чле-
нов союза при неизменных условиях торговли, может быть компенси-
ровано выгодами, получаемыми благодаря улучшению условий торгов-
ли вследствие того же самого перенаправления. И напротив, если при
225
неизменных условиях торговли создание таможенного союза не оказы-
вает воздействия на благосостояние внешних стран, последние могут
все же понести потери вследствие негативного влияния перенаправле-
ния внешнеторговых потоков на их условия торговли. Это можно ин-
терпретировать как результат сдвигов кривых взаимного спроса
(reciprocal demand) всех участников таможенного союза на продукцию,
производимую внешними странами.
Таким образом, улучшение условий торговли создает предпосылки
для образования таможенных союзов даже при отсутствии внеэконо-
мических стимулов и положительных внешних эффектов. Это улучше-
ние также делает таможенный союз более выгодным по сравнению с
односторонним снижением тарифов, которое может ухудшить условия
торговли для рассматриваемой страны.
При прочих равных условиях, чем больше образованный союз, тем
больше выгода, получаемая в результате его создания, и тем большие
потери несут остальные страны вследствие изменения условий торгов-
ли. Это обусловлено тем, что, опять же при прочих равных условиях,
эластичность взаимного спроса стран — членов союза на продукцию
своих партнеров прямо пропорциональна величине союза, а эластич-
ность взаимного спроса на их продукцию со стороны внешнего мира
обратно пропорциональна величине союза.
Степень воздействия изменяющихся условий торговли на благосо-
стояние зависит также от размеров тарифов, существовавших до и пос-
ле образования таможенного союза. Как впервые было показано Ване-
ком (Vanek, 1965), таможенный союз не влечет за собой потери для
внешнего мира и выгоды его участникам, если тарифы, установленные
союзом по отношению к другим странам, оказываются существенно
ниже, чем ранее существовавшие тарифы стран-участниц.
Идея Ванека была сформулирована в виде модели, рассматрива-
ющей три страны и два товара (3 х 2). Затем модель была расширена
до общего случая с введением фактора компенсационных платежей для
стран, не входящих в союз (Kemp and Wan, 1976). Эти работы иссле-
дуют скорее теоретическую возможность, нежели практический резуль-
тат, поскольку в действительности участники таможенных союзов не
проявляли желания компенсировать другим странам негативное воз-
действие союза на их экономику.
Модель с тремя странами и тремя товарами (3 х 3) представляет со-
бой промежуточный вариант между моделями (3 х 2) и (т х п). Она по-
зволяет расширить круг анализируемых вариантов изменения торговых
потоков, рассматривать дифференцированные тарифы, дополняемость
и замещение в потреблении, учитывая большое число предельных усло-
вий в производстве и потреблении, а также производстве промежуточ-
ных продуктов (Lloyd, 1982). Модель (3 х 3), таким образом, богаче по
содержанию, чем модель (3 х 2). Однако, несмотря на попытки вне-
дрить новую терминологию (Collier, 1979), введение третьего товара, по-
хоже, не оказало существенного влияния на основные положения теории
таможенных союзов. Это же можно сказать и о моделях (т х п).
226
ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ. В зонах свободной торговли
сохранение различных тарифов в странах-участницах на продукцию,
ввозимую извне, создает почву для изменения направления торговых
потоков. Более того, при наличии торговли промежуточной продукцией
возможны также сдвиги в структуре производства и инвестиций.
Направление торговых потоков изменится, если импорт попадет в
зону свободной торговли через рынок той из стран-участниц, которая
установила минимальный тариф. Если не учитывать транспортные из-
держки, это равнозначно тому, что все страны-участницы установили
одинаковую планку тарифа на минимальном уровне. При неизменных
условиях торговли данное изменение направления внешнеторговых
потоков окажет положительное воздействие на благосостояние стран-
участниц за счет ограничения эффекта перенаправления, о котором
было упомянуто выше. Если же условия торговли меняются, воздей-
ствие будет оказываться на распределение выгод или потерь между
странами-участницами и внешним миром: снижение цен на импорт
извне означает выгоду для инсайдеров и потери для аутсайдеров.
Сдвиги в структуре производства происходят, когда производство
продукции, требующей импортного сырья, перемещается в страны,
сохраняющие более низкие тарифы на ввоз этого сырья, поскольку
разница в уровне тарифных ставок может перевешивать различия в
уровне издержек производства. Воздействие на благосостояние в дан-
ном случае оказывается негативным, так как структура производства
определяется размерами пошлин, а не сравнительными преимущества-
ми.
Сдвиги в структуре производства могут затронуть и инвестиции.
При прочих равных условиях, инвесторы будут создавать новое про-
изводство там, где ниже пошлины на импортные ресурсы. Как и в пре-
дыдущем случае, ориентация на таможенные барьеры, а не на уровень
издержек производства оказывает отрицательное воздействие на эко-
номику.
Изменения направления внешнеторговых потоков, производства и
инвестиций представляют собой побочные эффекты образования зон
свободной торговли. Для того чтобы избежать их, страны-участницы
вводят «правила страны происхождения», которые ограничивают сво-
боду торговли внутри зоны только товарами, в производстве которых
участвует определенная часть «внутренних» ресурсов или которые под-
вергаются обработке в одной из стран-участниц. Применение таких
правил снижает, но не устраняет полностью вышеупомянутые искаже-
ния внутри зоны свободной торговли. Таким образом, при прочих рав-
ных условиях, интересы каждой из стран-участниц должны заставить
их в итоге существенно понизить свои тарифные ставки.
ДВИЖЕНИЕ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА. Сдвиги в потоках
инвестиций могут происходить в рамках одной страны или всего меж-
дународного рынка капитала. В первом случае затронутым окажется
распределение капитала страны между ее отраслями, во втором — меж-
дународная аллокация капитала.
227
Последний тезис подводит к рассмотрению ситуации общего рын-
ка, где по определению обеспечивается полная мобильность всех фак-
торов производства. Мид (Meade, 1953) впервые проанализировал воз-
действие этого фактора на благосостояние стран в рамках интеграци-
онной зоны. Он пришел к выводу о том, что свобода передвижения
факторов производства выгодна для стран-участниц, так как она сни-
жает относительную степень редкости этих факторов. Данный вывод
предполагает, что выравнивания цен на факторы производства за счет
развития торговли не происходит.
Если мобильность факторов производства между странами — участ-
ницами интеграционной зоны и внешним миром ограничена, сниже-
ния благосостояния не происходит благодаря усиленному передвиже-
нию факторов на внутреннем рынке союза как реакции на перена-
правление потоков торговли конечной продукцией. Однако в данном
случае возможно возникновение эффектов, аналогичных эффектам
расширения и перенаправления внешнеторговых потоков. Это проис-
ходит, когда до объединения стран движение факторов производства
облагалось налогами, которые затем были отменены внутри союза.
В любом случае косвенное воздействие на благосостояние стран будет
оказано в той степени, в которой потоки факторов производства заме-
стят потоки товаров. В частности, возможны потери для стран, не вхо-
дящих в интеграционную зону, поскольку вновь создающиеся произ-
водства создают замену импорту.
ЭКОНОМИЯ НА МАСШТАБАХ. Экономическая интеграция мо-
жет привести к снижению издержек за счет увеличения объемов вы-
пуска продукции. Для различных типов оборудования, например кон-
тейнеров, резервуаров, трубопроводов, компрессорных установок, из-
держки производства находятся в функциональной зависимости от
занятой ими площади, а производственные мощности — от объема про-
изводства; затраты на производство единицы продукта снижаются с
увеличением объема выпуска в случае крупных сделок, а также для та-
ких непропорциональных выпуску видов деятельности, как дизайн,
исследовательская работа, сбор и распространение информации, пла-
нирование производства; складские запасы не должны увеличиваться
пропорционально объему выпуска продукции; рост выпуска позволя-
ет применить технологии, которые требуют специализированного обо-
рудования или конвейерных линий; крупномасштабное производство
может быть необходимо для оптимального использования различных
видов неделимого оборудования.
Корден (Corden, 1972) показал, что традиционные концепции рас-
ширения и перенаправления торговых потоков уместны в случае эко-
номии на масштабе на уровне предприятия, однако необходимо допол-
нить их новыми, а именно: эффектом снижения издержек и эффек-
том подавления торговой активности. Первый связан со снижением
средних издержек производства единицы продукции по мере роста
внутреннего производства в результате образования интеграционной
зоны, второй — с замещением более дешевого импорта из стран, не
228
входящих в союз, отечественной продукцией, Которая стала дешевле за
счет экономии на масштабе. По мнению Кордена, эффект снижения
издержек оказывается сильнее эффекта подавления торговой активно-
сти, поэтому вполне возможно получение чистой выгоды.
Для фирм, выпускающих несколько видов товаров, размеры пред-
приятия и издержки в расчете на единицу продукции не обязательно
напрямую связаны между собой. В таких случаях затраты можно сни-
зить путем сужения ассортимента и специализации на определенном
наборе видов продукции, что позволит увеличить величину произво-
димых партий для каждого из видов.
Преимущества, извлекаемые при увеличении производимых партий
и, соответственно, более длительном производстве каждого товара, воз-
никают за счет нескольких факторов: 1) повышения эффективности
промышленного производства, которое выражается в продвижении
вдоль «кривой обучения» по мере увеличения общего объема выпуска;
2) снижения затрат, связанных с переходом от одной производствен-
ной операции к другой, что требует перезагрузки оборудования, пере-
распределения рабочей силы и реорганизации всего процесса; 3) ис-
пользования специализированного оборудования вместо оборудования
более общего назначения.
Помимо горизонтальной существуют также возможности для вер-
тикальной специализации, которая осуществляется посредством разде-
ления производственного цикла между несколькими предприятиями
(подразделениями), функционирующими в рамках одной интеграци-
онной зоны. По мере увеличения продаж конечной продукции произ-
водство ее составных компонентов и дополнительных аксессуаров мож-
но размещать на отдельных предприятиях, каждое из которых получит
преимущества, связанные с экономией на масштабах. В результате из-
держки снизятся.
КОНКУРЕНЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Экономи-
ческая интеграция создает условия для более эффективной конку-
ренции (см.: Scitovsky, 1958). Увеличение числа предприятий, кото-
рые каждый производитель рассматривает как своих конкурентов,
и открытие границ между странами способствуют ослаблению моно-
полистических и олигополистических рыночных структур в отдель-
ных странах. В то же время между распространением конкуренции
и получением экономии на масштабе не существует противоречия,
так как на расширившемся рынке может сосуществовать значитель-
ное количество эффективно функционирующих производственных
единиц (Balassa, 1961).
Усиление конкуренции может оказывать положительное воздей-
ствие как за счет повышения эффективности производства, так и пу-
тем технического прогресса. Хотя первый из этих факторов не отра-
жен в традиционной теории, которая постулирует выбор оптимально-
го метода производства из имеющихся вариантов, он может оказаться
довольно значимым для стран, рынки которых были ранее защищены
от иностранной конкуренции.
229
«Кнут и пряник» конкуренции также создают стимулы для техничес-
кого прогресса в странах, объединенных экономической интеграцией.
В частности, увеличение конкуренции может стимулировать исследова-
тельскую деятельность, направленную на разработку новых видов про-
дукции и совершенствование производственных технологий. Наконец,
экономическая интеграция способствует распространению знаний и
информации, расширяя тем самым доступ всех производителей к новым
товарам и технологиям, выпускаемым в других странах-партнерах.
Высказывалось мнение, что выгоду, получаемую в результате раз-
вития конкуренции и экономии на масштабах, можно извлечь посред-
ством односторонней либерализации торговли, а также что эта выгода
зависит главным образом от реакции экономических агентов на созда-
ваемые конкуренцией стимулы (Krauss, 1972). В то время как справед-
ливость второго тезиса зависит от конкретных условий каждой стра-
ны, первый не учитывает преимущества, связанные с ростом объема
выпуска за счет выхода на рынки стран-партнеров.
ГАРМОНИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ. Различия в экономической по-
литике стран-партнеров могут оказать значительное влияние на тор-
говые потоки и движение факторов производства; тем самым они ока-
зывают влияние и на эффект благосостояния в результате экономичес-
кой интеграции. Это касается промышленной, фискальной,
денежно-кредитной, социальной и валютной политики (Balassa, 1961).
Промышленная политика может подразумевать льготное кредито-
вание и/или налоговые льготы, оказываемые либо всем отечественным
производителям, либо конкретным отраслям. «Горизонтальная» поли-
тика, поощряющая всех производителей, не привносит никаких иска-
жений до тех пор, пока ее условия не ставят один из видов деятельно-
сти в преимущественное положение перед другими. Напротив, «вер-
тикальная» политика, нацеленная на определенные виды производства,
искажает равномерность развития и тем самым может снизить эффект
снятия тарифов странами-партнерами.
Различия в социальной политике не должны оказывать отрицатель-
ного воздействия, если предположить, что все пособия финансируют-
ся за счет страховых поступлений от работников и работодателей. Даже
введение в модель мобильности факторов производства не отражается
на результате до тех пор, пока работники воспринимают получаемые
социальные пособия и льготы как часть заработка.
Однако ситуация меняется, если социальные программы финанси-
руются из общих налоговых поступлений, что равнозначно субсидиро-
ванию заработной платы, стимулирующему развитие трудоемких про-
изводств. Соответственно, различия в способах финансирования соци-
альной сферы, существующие между странами-партнерами, искажают
размещение ресурсов. Влияние этого фактора еще усиливается, если
учесть движение факторов производства, вызванное различием цены
труда в разных странах.
Отмена вертикальной промышленной политики и выравнивание
условий финансирования социальных программ способствуют умень-
230
шению деформаций в аллокации ресурсов и разницы налогового бре-
мени между странами. Налоговые различия, тем не менее, могут про-
должать существовать как отражение национальных приоритетов в от-
ношении производства общественных благ. Воздействие этих различий
на движение факторов производства зависит от того, как будут израс-
ходованы налоговые поступления. Кроме того, могут возникнуть так
называемые эффекты предложения, т.е. увеличение предложения тру-
да и склонности к риску в связи со снижением налогового бремени.
Следующий вопрос состоит в том, какое влияние на развитие кон-
куренции оказывают межстрановые различия в косвенном и подоход-
ном налогообложении при данном общем налоговом бремени. Если
продукция облагается налогом в стране продажи, косвенные налоги не
взимаются с экспортных товаров и взимаются с импортных без соот-
ветствующих поправок к подоходному налогообложению. Тем не ме-
нее, больших искажений в условиях конкуренции не возникает, по-
скольку их предотвращает политика гибких валютных курсов.
Если одна из стран-партнеров основывает свою политику на выше-
упомянутом принципе, а другая облагает косвенными налогами про-
дукцию в месте производства вне зависимости от того, где она будет
продана, возможные искажения также снимаются политикой гибких
валютных курсов. Этого, однако, не произойдет, если в одной из стран
используется каскадный принцип налогообложения (повышение нало-
гового бремени для производств, предусматривающих многоступенча-
тую обработку, на каждой стадии которой взимается определенный
налог), а в другой — налог на добавленную стоимость. В данном слу-
чае, чтобы избежать искажений, потребуется переход на систему НДС
всеми странами — участницами союза.
Хотя гибкость валютных курсов является необходимым условием
компенсации различий в налоговых системах, считается, что за интег-
рацией должен следовать переход к фиксированным курсам. Однако
успех такого рода мероприятия зависит от координации — а впослед-
ствии и объединения — денежно-кредитной и фискальной политики,
поскольку в противном случае возникает давление, ведущее к измене-
нию курсов. Фиксированный валютный курс должен, таким образом,
рассматриваться как окончательный результат координации экономи-
ческой политики, а не как промежуточный шаг на пути к экономичес-
кой интеграции (Balassa, 1975).
БИБЛИОГРАФИЯ
Balassa, В. 1961. The Theory of Economic Integration. Homewood, 11.: Richard D.
Irwin.
Balassa, B. 1975. Monetary integration in European Common Market. In European
Economic Integration, ed. B. Balassa, Amsterdam: North-Holland, 175-220.
Collier, P. 1979. The welfare effects of a custom union: an anatomy. Economic Journal
83, 84-7.
237
Cooper, C.A. and Massell, B.F. 1965a. A new look at customs union theory. Economic
Journal 75, 742—7.
Cooper, C.A. and Massell, B.F. 1965b. Towards a general theory of customs unions
for developing countries. Journal of Political Economy 73, 461—76.
Corden, W.M. 1972. Economies of scale and customs union theory. Journal of Political
Economy 80, 465—75.
Johnson, H.G. 1965. An economic theory of protectionism, tariff bargaining, and the
formation of customs unions. Journal of Political Economy 73, 256—83.
Kemp, M.C. and Wan, H.Y., Jr. 1976. An elementary proposition concerning the
formation of customs unions. Journal of International Economics 6, 95-7.
Krauss, M.B. 1972. Recent developments in customs union theory: an interpretative
survey. Journal of Economic Literature 10, 413—36.
Lipsey, R.G. I960. The theory of customs unions: a general survey. Economic Journal
70, 496-513.
Lipsey, R.G. and Lancaster, K.J. 1956-7. The general theory of second best. Review
of Economic Studies 24, 11-32.
Lloyd, P.J. 1982. The theory of customs unions. Journal of International Economics
12, 41-63
Meade, J.E. 1953. Problems of Economic Union. London: Alien & Unwin.
Meade, J.E. 1955. The Theory of Customs Union. Amsterdam: North-Holland.
Scitovsky, T. 1958. Economic Theory and Western European Integration. London:
Alien & Unwin.
Tinbergen, J. 1957. Customs unions: influence of their size on their effect. Zeitschrift
dergesamten Staatswissenschaft 113, 404—14.
Vanek, J. 1965. General Equilibrium of International Discrimination. The Case of
Customs Unions. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Viner, J. 1950. The Customs Union Issue. New York: Carnegie Endowment for
International Peace.
Wonnacott, P. and Wonnacott, R. 1981. Is unilateral tariff reduction preferable to a
customs union? The curious case of the missing foreign tariffs. American Economic
Review 71, 704—14
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИИ
Эрнест Геллнер
Economic Interpretation of History
Ernest Gellner
Марксизм не обладает монополией на экономическую интерпрета-
цию истории. Могут быть сформулированы и другие теории такого
рода — к примеру, одну из них можно найти в выдающейся книге Карла
Поланьи, делящего историю человечества на три стадии, каждая из
которых определяется специфическим типом экономики. Если Пола-
ньи прав в своем предположении, что взаимообмен (reciprocity), пере-
распределение и рынок характеризуют различные типы общества, это
в некотором смысле равносильно признанию примата экономики, а его
концепция представляет собой одну из разновидностей экономической
интерпретации истории. Тем не менее, несмотря на важность работы
Поланьи и возможность создания других альтернативных экономичес-
ких интерпретаций истории, марксизм остается в данной области наи-
более влиятельной, наиболее важной и, вероятно, наиболее разработан-
ной теорией, поэтому наше внимание будет сконцентрировано имен-
но на нем.
Характеристику теорий часто начинают с указания на то, что они
отрицают и отвергают. Этот подход достаточно часто используют при-
менительно к марксизму, где он отчасти является полезным, а отчасти
вводит в заблуждение. Вначале мы также будем придерживаться этого
подхода, впоследствии указав на его недостатки.
Марксизм возник как реакция на гегелевский идеализм, домини-
ровавший в эпоху, когда формировалось мировоззрение молодого Мар-
кса. Это, без сомнения, наиболее известный факт относительно исто-
ков марксистской теории. Центральной особенностью гегельянства
было пристальное внимание к истории и социальным изменениям,
которые ставились в центр внимания философа (в противоположность
более распространенному подходу, когда философ обращал на них вни-
мание в свободное время от созерцания вневременных объектов). Кро-
ме того, гегельянская доктрина заключалась в том, что ход истории
детерминируется главным образом интеллектуальными, духовными,
идейными или религиозными факторами. Как писали К. Маркс и
Ф. Энгельс в «Немецкой идеологии», «младогегельянцы разделяют со
старогегельянцами их веру в то, что в существующем мире господствует
религия, понятия, всеобщее» (Marx and Engels [1845-1846] Маркс и
Энгельс, 1988, с. 13).
233
I1
Вопрос состоит в том, почему Гегель и его последователи придер-
живались таких взглядов. Если понимать эту доктрину конкретно,
т.е. как доктрину, утверждающую, что идеи определяют всю деятель-
ность людей, то она не представляется сколько-нибудь адекватной, осо-
бенно если рассматривать ее в качестве глобального обобщения. Если
же она трактуется — как у Гегеля — как доминирование в человечес-
кой истории некоторого абстрактного принципа или сущности, то мож-
но задать вопрос: какие у нас имеются доказательства существования
этого таинственного «Духа», якобы управляющего историческими со-
бытиями? Почему образованные люди так убежденно придерживались
этой неадекватной или туманной (или и то и другое) доктрины?
Ответ на этот вопрос может оказаться сложным, но его основные
моменты, вероятно, могут быть изложены в простой и краткой форме.
Гегельянство появилось на интеллектуальной сцене тогда, когда в об-
щественные дискуссии вошло понятие, которое мы теперь называем
культурой. Суть его такова: люди — это не машины. Их действия не
являются реакцией на некий внешний импульс. Действуя, они имеют
определенную идею, представление о том действии, которое они вы-
полняют. Эта идея или концепция, в свою очередь, является частью
более общей системы. Человек, участвующий в церемонии бракосоче-
тания, обладает идеей о том, какую роль играет институт брака в общест-
ве, частью которого данный человек является, и понимание им сути
института составляет неотъемлемую часть его действия. Человек, со-
вершающий акт кровной мести, отстаивая честь семьи, обладает идея-
ми о том, что означают понятия «семья» и «честь», и твердо их при-
держивается. Эти идеи не являются выдумкой каждого конкретного
индивида; он берет их из комплекса идей, специфичного для каждого
общества и претерпевающего изменения с течением времени, — комп-
лекса, который в наши дни именуется культурой.
Будучи описана подобным образом, «идейная» детерминанта чело-
веческого поведения более не кажется фантастической — напротив, она
выглядит очевидной и тривиальной. В настоящее время она достаточ-
на популярна в различных терминологических облачениях («герменев-
тика», «структурализм» и др.). Представление о том, что поведение
является идейно-насыщенным и что идеи не являются единичными,
но образуют системы, носителями которых являются не индивиды,
а развивающиеся исторические общности, обладает большой убедитель-
ностью и силой. Надо сказать, что его приверженцы — как во времена
Гегеля, так и в наши дни — во многих случаях нечетко формулируют
свою позицию. Нередко из их слов неясно, считают ли они культуру
просто важным фактором (с чем трудно спорить) или же утверждают,
что она является наиболее важной детерминантой всех общественных
феноменов и первичным источником всех изменений, что является
более сильным и гораздо более спорным утверждением. Тем не менее,
представление о том, что культура играет важную роль во всех общест-
венных явлениях, очень убедительно и плодотворно, и гегельянство
следует по достоинству оценить как одну из философских систем, ко-
торая на своем специфическом языке стала оперировать этим представ-
234
лением. Важно заметить также, что в гегельянстве часто речь идет о
«Духе» в единственном числе; наше предположение состоит в том, что
«Дух» в данном случае можно интерпретировать как культуру, как дух
времени. Данное обстоятельство уподобляет гегельянство суррогатно-
му христианству: те, кто более не способен верить в персонализиро-
ванное божество, могут сказать себе, что его можно рассматривать как
метафору для духа истории. Для тех, кто исповедовал гегельянство в
такой форме, оно представляло собой продолжение религии другими
средствами.
Однако гегельянство не исчерпывается своим пониманием культу-
ры, выраженным несколько странным языком. Оно пронизано и дру-
гой идеей, тесно связанной с только что рассмотренной; ее разделяли
многие мыслители того периода. Это — идея исторического плана. Ру-
беж XVIII и XIX вв. представлял собой эпоху, когда люди были вдох-
новлены чувством непрерывных и поступательных исторических изме-
нений — другими словами, идеей Прогресса.
Центральная особенность марксизма заключается в том, что, сохра-
нив приверженность второй идее — идее исторического «плана», он
произвел инверсию первой идеи — романтического идеализма, припи-
сывающего культуре деятельную роль. Как писали сами основатели
марксизма в работе «Немецкая идеология»:
«В прямую противоположность немецкой философии, спускающейся с
неба на землю, мы здесь поднимаемся с земли на небо... для нас исход-
ной точкой являются действительно деятельные люди, и из их действи-
тельного жизненного процесса мы выводим также и развитие идеоло-
гических отражений и отзвуков этого жизненного процесса... Таким
образом, мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соот-
ветствующие им формы сознания утрачивают видимость самостоя-
тельности. У них нет истории, у них нет развития: люди, развивающие
свое материальное производство и свое материальное общение, изменя-
ют вместе с этой своей действительностью также свое мышление и
продукты своего мышления. Не сознание определяет жизнь, а жизнь
определяет сознание» (Маркс и Энгельс, 1988, с. 20).
Позднее в той же самой работе К. Маркс и Ф. Энгельс описали
концепцию, которой, по их мнению, придерживались авторы идеали-
стической мистификации. Во-первых, идеи были отделены от своего
эмпирического контекста и интересов правящих кругов, которые их
выдвигали. Во-вторых, был обнаружен набор логических связей меж-
ду сменяющими друг друга господствующими идеями, логика которых
стала затем рассматриваться в качестве объяснения исторического раз-
вития. (Отсюда — связь между «идейной насыщенностью» истории и
понятием исторического замысла. Историческое развитие есть отраже-
ние внутренней связи между сменяющими друг друга идеями.) В-тре-
тьих, чтобы сделать эту картину менее мистической, свободно парящая
и самотрансформирующаяся идея вновь была признана достоянием
отдельного индивида или группы людей.
Если данная разновидность теории является ложной, то что же ис-
тинно? В уже цитированной работе авторы говорят следующее:
235
«Та сумма производительных сил, капиталов и социальных форм обще-
ния, которую каждый индивид и каждое поколение застают как не-
что данное, есть реальная основа... «сущности человека»... Условия
жизни, которые различные поколения застают в наличии, решают так-
же и то, будут ли периодически повторяющиеся на протяжении исто-
рии революционные потрясения достаточно сильны, или нет, для того,
чтобы опрокинуть основу всего существующего; и если нет налицо этих
материальных элементов всеобщего переворота... то... для практичес-
кого развития не имеет никакого значения то обстоятельство, что уже
сотни раз высказывалась идея этого переворота» (Маркс и Энгельс,
1988, с. 37—38).
Этот отрывок представляется совершенно недвусмысленным: сохра-
няется идея исторического плана, а также идея о преимущественно
внутреннем, эндогенном «двигателе» развития. Изменяется же пони-
мание того, что именно является «двигателем», движущей силой транс-
формации. Изменение продолжает оставаться законом всех вещей,
причем оно осуществляется по плану, а не произвольно; однако меха-
низм, управляющий им, теперь определяется иначе.
Начиная с этого пункта, критику рассматриваемой нами позиции
можно подразделить на два основных направления: критику иденти-
фикации управляющего механизма и критику идеи исторического пла-
на. Наиболее драматическое изложения вклада К. Маркса мы можем
найти в работе Р. Таккера «Философия и миф у Карла Маркса» (Tucker,
1961, р. 123):
«Маркс основал марксизм в приступе гегельянства. Он рассматривал
себя... как переводчика уже открытой истины... с языка идеализма на
язык материализма... Само по себе гегельянство латентно или эзоте-
рически представляло собой экономическую интерпретацию истории.
Оно рассматривало историю как «историю производства»... в которой
дух экстернализировал себя в мысленных объектах. Но это — не более
чем мистифицированное представление о человеке, экстернализирующем
себя в материальных предметах».
В данном пассаже речь идет как об истоках, так и о степени адек-
ватности экономической интерпретации истории. На этой стадии мож-
но выделить два очевидных и вместе с тем важных момента. Драматизм
и убедительность противопоставления Гегеля и Маркса в значительной
мере объясняется радикальной и безоговорочной формой самого это-
го противопоставления. Разумеется, эту безоговорочную, абсолютизи-
рующую интерпретацию можно найти в базовых марксистских текстах.
Вопрос о том, является ли эта интерпретация «верной», в принципе
неразрешим: ответ на него зависит от того, какие работы рассматри-
ваются в качестве итоговых, — те, в которых эта интерпретация при-
нимается без ограничений и оговорок, или те, которые содержат мо-
дификации, оговорки и ограничения.
Та же самая дилемма, без сомнения, возникает и применительно к
гегельянству, где она к тому же сопровождается вопросом о том, должна
ли движущая сила, дух истории, рассматриваться в качестве своего рода
абстрактного принципа (в этом случае идея покажется большинству из
236
нас абсурдной) или же она должна рассматриваться как обращение к
фактору, который мы теперь называем культурой (в этом случае она
представляет интерес и может служить объектом обсуждения).
Следует отметить, что две указанные позиции — гегельянская и
марксистская — представляют собой противоположности, но не всту-
пают друг с другом в противоречие. Они не могут одновременно быть
верными, но они вполне могут одновременно оказаться ложными.
Можно легко представить себе мир, в котором ни одна из них не яв-
ляется истинной: это мир, в котором социальные изменения иногда
происходят как следствие экономических изменений, а иногда — в ре-
зультате напряженности в культурной сфере. Этот мир не только лег-
ко себе представить; на самом деле он очень похож на тот мир, в кото-
ром мы живем. (Отчасти привлекательность марксизма в ранний пе-
риод его развития была обусловлена тем, что идеализм гегельянского
типа и марксизм рассматривались в качестве противоречащих друг
другу концепций, благодаря чему за «доказательства» истинности мар-
ксизма выдавались простые ссылки на очевидную абсурдность «стро-
гих» версий гегельянства.) В этой связи стоит отметить, что наиболее
влиятельным критиком социологических построений Маркса (хотя и
не лишенным к нему симпатии) является Макс Вебер, который при-
держивается именно такой точки зрения. Достаточно странно, что,
несмотря на ясно и категорично высказанные им на этот счет возра-
жения, Макс Вебер часто ошибочно рассматривается как сторонник
возврата к определенной разновидности идеализма (возможно, без
мистической идеи о «движущей роли» абстрактных идей, которую мы
находим у Гегеля). К примеру, М. Моришима (Morishima, 1982, р. 1)
делится следующим наблюдением: «В то время как Карл Маркс утверж-
дал, что идеология и этика являются всего лишь отражениями
(reflections)... Макс Вебер... показал существование прямо противопо-
ложной связи». Вебер принимал во внимание оба типа ограничений;
он просто утверждал, что в определенных случаях «культурный» или
«религиозный» элемент может играть решающую роль.
С этим связано еще одно отличие позиции Вебера и многих других
современных социологов. Они отказались от идеи имманентного ис-
торического плана, объединявшей Гегеля и Маркса. Если главная дви-
жущая сила истории имеет только один источник, то существование
некоего плана, реализация некоего замысла оказываются, по меньшей
мере, очень вероятными, хотя, строго говоря, не обязательными. Если
бы эта главная движущая сила представляла собой сознание, а стоящая
перед нею цель заключалась в достижении самоосознания, то было бы
естественным заключить, что с течением времени наблюдался бы про-
гресс этого сознания. Таким образом, исторический план мог бы на
самом деле рассматриваться как проявление стремления Абсолютного
Духа (или человечества) к прогрессу сознания. Напротив, если движу-
щей силой является развитие средств производства, тогда опять-таки
нет ничего абсурдного в предположении, что история может представ-
лять собой последовательность актов организационной адаптации к
развитию производительных сил, кульминацией которой является пол-
237
ная адаптация к итоговому грандиозному расширению наших произ-
водственных возможностей. (Что-то подобное составляет сущность
марксистского видения истории.)
Если же, напротив, движущие силы имеют множество источников,
которые к тому же по природе своей разнородны, то неясно, почему
должна существовать определенная «модель» исторического развития
в смысле его приближения к требованиям некоторого единственного
критерия (будь то критерий сознания, производительности, соответ-
ствия между производительностью и социальным этосом или какой-
либо иной). Поэтому Вебер, а также более поздние авторы более не
рассматривают драматические и уникальные исторические аспекты
развития современного индустриального мира как неизбежное прояв-
ление и кульминацию действия факторов, которые существовали все-
гда; напротив, они рассматриваются как результат совместного дей-
ствия целого набора факторов в определенный момент времени — как
события, которые в противном случае могли не произойти и которые
ни в коей мере не долженствовали произойти. Случайность приходит
на смену неизбежности.
Такова центральная проблема, связанная с экономической интер-
претацией истории. Вопрос об относительном значении идейных (куль-
турных) и производственных факторов является наиболее известным,
заметным и «нашумевшим» вопросом в данной области. Однако на
самом деле отнюдь не очевидно, что он является также наиболее важ-
ным вопросом с точки зрения проверки адекватности экономической
теории исторического процесса. Существует другая проблема — менее
очевидная и менее известная, но, вероятно, более важная в теорети-
ческом и практическом смысле. Она связана с относительной важнос-
тью производительной деятельности и принуждения.
Обычные ассоциации, которые вызывает термин «исторический
материализм», действительно заключаются в том, что чисто идейным,
интеллектуальным и культурным факторам придается второстепенное
значение при объяснении хода истории. Однако он обычно не ассо-
циируется с приуменьшением значения таких факторов, как сила, на-
силие, принуждение. Напротив, для большинства людей идея принуж-
дения посредством угроз, насилия, причинения боли и смерти пред-
ставляется столь же «реалистичной» и «материальной», как и
императивы, диктуемые материальными потребностями в пище и
крове. Обычно предполагается, что различие между принуждением
посредством насилия или его угрозы, с одной стороны, и принужде-
нием, обусловленным нуждой, с другой стороны, заключается лишь
в том, что первое носит более непосредственный характер и действу-
ет быстрее. Можно даже утверждать, что всякое принуждение на деле
является насильственным: к примеру, индивид или группа, принуж-
дающие других членов общества к определенным действиям посред-
ством контроля над предложением продовольствия, могут делать это
только в том случае, если они могут контролировать и защищать за-
пасы продовольствия или других необходимых благ с помощью силы,
даже если к ней не приходится прибегать напрямую. Экономическое
238
принуждение, как можно утверждать (и как фактически утверждают
сами марксисты в других случаях), осуществляется только в силу на-
вязывания государством определенной системы правил, которая впол-
не может оставаться невидимой. Экономическое принуждение, таким
образом, «паразитирует» на действительном механизме обеспечения
выполнения правил, который основан на монополии использования
инструментов насилия.
Логика этого утверждения может показаться убедительной, однако
ей противоречит центральный принцип марксистского варианта эко-
номической интерпретации истории. Насилие в соответствии с этой
теорией не является базовым или первичным фактором, оно не ини-
циирует фундаментальных социальных изменений и не является уни-
версальной основой любого социального порядка. Это — центральное
положение марксизма, и именно этим «настоящий» марксизм отлича-
ется от того, что можно назвать вульгарным представлением о нем,
которое сложилось у неспециалистов. Марксизм подчеркивает ведущую
роль экономических факторов и отводит подчиненное положение не
только идейным, «надстроечным» факторам, но также — и в очень су-
щественной мере — факторам насилия.
Это положение четко выражено в «Анти-Дюринге» Ф. Энгельса:
«Вообще, возникновение частной собственности в истории отнюдь не
является результатом грабежа или насилия... Частная собственность
образуется повсюду в результате изменившихся отношений производ-
ства и обмена, — следовательно, по экономическим причинам. Насилие
не играет при этом никакой роли. Ведь ясно, что институт частной
собственности должен уже существовать, прежде чем грабитель мо-
жет присвоить себе чужое добро... Но мы также не можем ссылать-
ся на насилие или на насильственную собственность для объяснения
«принуждения человека к подневольной службе» в его самой современ-
ной форме, в форме наемного труда... Весь процесс объяснен чисто эко-
номическими причинами, причем ни разу не было необходимости прибе-
гать к ссылке на грабеж, насилие, государство или какое-либо полити-
ческое вмешательство» (Энгельс, 1988, с. 161—163).
Энгельс продолжает развивать эту мысль применительно к инсти-
туту рабства:
«Таким образом, насилие, вместо того чтобы господствовать над хо-
зяйственным положением, было вынуждено, наоборот, служить ему.
Рабство было открыто. Оно скоро сделалось господствующей формой
производства у всех народов, которые в своем развитии пошли дальше
древней общины, но в конце концов оно стало также одной из главных
причин их упадка» (Энгельс, 1988, с. 181).
Ранее в той же работе Энгельс обосновывал этот тезис несколько
более убедительно, обсуждая, как буржуазия вытеснила дворянство с
позиций наиболее влиятельного сословия. Если решающее значение
имеет физическая сила, как мирные торговцы и производители могли
одержать верх над профессиональными воинами? Как пишет Энгельс,
«в течение всей этой борьбы политическое насилие было на стороне
дворянства» (Энгельс, 1988, с. 164).
239
Можно, разумеется, поразмыслить над объяснениями этого пара-
докса: дворяне могли враждовать друг с другом, мог существовать аль-
янс между монархией и средним классом (сам Энгельс упоминает о
такой возможности, но не считает, что она представляет собой реаль-
ное объяснение парадокса), и т.д. В любом случае, найдено удовлетво-
рительное объяснение или нет, данный конкретный случай победы
торговцев над воинами представляет собой иллюстрацию принципа,
отвергающего доминирующую роль насилия в истории. Проблема с
точки зрения теории возникает тогда, когда данному утверждению при-
дается столь обобщенный характер, что оно претендует на объяснение
всякого социального порядка и любых глобальных трансформаций, —
а именно это наблюдается в марксизме.
Энгельс пытается доказать это утверждение применительно к соци-
альной формации, которая может рассматриваться как самый яркий
пример доминирования силы, — применительно к «восточному деспо-
тизму». (В действительности именно по этой причине многие маркси-
сты впоследствии утверждали, что эта формация несовместима с марк-
систской теорией, а потому не могла существовать.) Энгельс делает это,
что достаточно интересно, с помощью своего рода функционалистской
теории общества и государства: существенная функция, роль и обязан-
ность деспотических государств в обществах, основанных на ороша-
емом земледелии, заключались в обеспечении непрерывности произ-
водства путем поддержания ирригационной системы. Энгельс пишет:
«Сколько ни было в Персии и Индии деспотий, последовательно расцве-
тавших, а потом погибавших, каждая из них знала очень хорошо, что
она прежде всего — совокупный предприниматель в деле орошения реч-
ных долин, без чего там невозможно было какое бы то ни было земле-
делие» (Энгельс, 1988, с. 180).
Это странный аргумент. Автор не может всерьез утверждать, что мо-
тивация поведения «восточных деспотов» всегда основывалась на созна-
нии долга перед управляемыми ими людьми. Вероятно, он хотел сказать,
что если бы деспоты не выполняли своей «обязанности», рассматрива-
емые общества не могли бы выжить, а значит, не могли бы выжить и
сами деспоты как «политические паразиты» этих обществ. Таким обра-
зом, реальным фундаментом «восточного деспотизма» была не сила дес-
потов, а функциональные императивы созданной деспотизмом иррига-
ционной системы. Экономическая необходимость, как и в случае
рабства, обусловливает использование насилия для достижения опреде-
ленных целей, однако само по себе насилие ничего не порождает и ни-
чего не поддерживает. Эта интерпретация подтверждается тем, что Эн-
гельс говорит несколько ниже. Те, кто использует силу, могут либо спо-
собствовать экономическому развитию и ускорять его, либо ему
противодействовать, что бывает редко (хотя, как отмечает Энгельс, все
же иногда случается), и тогда они обычно терпят поражение: «Там, где
внутренняя государственная власть какой-либо страны вступала в анта-
гонизм с ее экономическим развитием... там борьба каждый раз окан-
чивалась ниспровержением политической власти» (Энгельс, 1988, с. 184).
240
Мы видели, что материализм Энгельса является удивительно функ-
циональным, фактически даже телеологическим: экономический по-
тенциал общества или его производственная база каким-то образом
ищет существующую «силу» и «рекрутирует» ее себе на службу. Он
вполне мог бы сказать, что принуждение является — и должно являть-
ся — «рабом» производства. Этот телеологический элемент можно об-
наружить также в наиболее известной и наиболее сжатой формулировке
марксистской теории, а именно в отрывке из предисловия К. Маркса
к работе «К критике политической экономии»:
«Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьют-
ся все производительные силы, для которых она дает достаточно про-
стора, и новые, высшие производственные отношения никогда не появ-
ляются раньше, чем созреют материальные условия их существования
в лоне самого старого общества. Поэтому человечество ставит себе
всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как
при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача воз-
никает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже су-
ществуют или, по крайней мере, находятся в процессе становления.
В общих чертах, азиатский, античный, феодальный и современный, бур-
жуазный, способы производства можно обозначить как прогрессивные
эпохи экономической общественной формации» (Маркс, 1949, с. 8).
Утверждение о том, что новый порядок не возникает, прежде чем
складываются условия его существования, фактически является тавто-
логией: ведь ничто не может возникнуть в том случае, если отсутству-
ет необходимая для этого причина. В этом и заключается смысл кате-
гории «причина». Однако идея о том, что ни одна социальная система
[в цитированном выше русском переводе — общественная формация. —
Примеч. пер.] не исчезает прежде, чем она израсходует весь свой потен-
циал, является парадоксально телеологической и спорной. Почему за-
мена социальной системы не может произойти прежде, чем она пол-
ностью себя исчерпает? Почему часть ее потенциала не может остать-
ся нереализованной?
Из приведенной цитаты ясно, что прогрессивное, восходящее дви-
жение по пути последовательной смены способов производства не мо-
жет быть ни остановлено, ни ускорено с помощью силы. Энгельс в
«Анти-Дюринге» насмехается над правителями типа Фридриха-Виль-
гельма IV или тогдашнего русского царя (Александра II. — Примеч.
пер.), которые, несмотря на мощь своих армий, не могли противосто-
ять экономической логике событий. Энгельс также иронически отно-
сится к страху Дюринга перед насилием как перед «абсолютным злом»,
к его представлению о том, что первый акт насилия явился «первород-
ным грехом», и т.д. С точки зрения Энгельса, напротив, сила не в со-
стоянии инициировать зло. Оно, однако, «играет в истории еще и дру-
гую роль, именно революционную роль» — роль «повивальной бабки»:
«... [насилие] является повивальной бабкой всякого старого общества,
когда оно беременно новым... насилие является тем орудием, посредством
которого общественное движение пролагает себе дорогу и ломает ока-
меневшие, омертвевшие политические формы...» (Энгельс, 1988, с.185).
241
Сравнение с повивальной бабкой представляется очень удачным —
оно прекрасно передает основную идею. Повивальная бабка не рожает
детей сама, она может только оказывать помощь и немного ускорять
их рождение; в свою очередь, когда ребенок уже родился, она не мо-
жет причинить особого вреда. Самое большее, что можно сказать о ее
возможностях, заключается в том, что ее присутствие необходимо для
успешного хода родов. Энгельс, по-видимому, не опасается того, что
этот зловещий персонаж может «задержаться» и отказаться уходить
после того, как выполнит свою функцию. Это видно из его замечания
по поводу возможности «насильственного столкновения» в Германии,
которое «имело бы по меньшей мере то преимущество, что вытравило
бы дух холопства, проникший в национальное сознание из унижения
Тридцатилетней войны» (Энгельс, 1988, с. 185).
Вероятно, в теории о том, что принуждение является и должно яв-
ляться «рабом» производства, заключается элемент истины. Этот эле-
мент сводится к следующему: в доаграрных обществах охотников и
собирателей, живших в условиях относительного изобилия пищи, но
не имевших средств для ее сохранения, отсутствовали устойчивые со-
циальные и экономические мотивы к применению насилия, отсутство-
вало постоянное занятие для рабов. Напротив, с возникновением мето-
дов систематического производства и сохранения богатства принужде-
ние и насилие (или угроза их применения) обрели свою необходимую
функцию и стали эндемичными. Необходимо обеспечивать охрану
«прибавочного продукта» и его общественно-«легитимное» распреде-
ление. Существуют некоторые свидетельства в пользу того, что общест-
ва охотников и собирателей были более миролюбивыми, чем пришед-
шие им на смену аграрные общества.
Данную мысль можно изложить следующим образом: общества, где
отсутствует сохраняемый «прибавочный продукт», не нуждаются в его
охране и обеспечении принципов его распределения. Напротив, об-
щества, где такой прибавочный продукт существует, сталкиваются с
проблемой его защиты от внутренних и внешних «агрессоров», а так-
же проведения в жизнь принципов его распределения. Поэтому они не-
избежно должны прибегать — в явной или неявной форме — к на-
силию или угрозам его применения. Но из всех этих рассуждений, сколь
бы верными они ни были, отнюдь не следует, что общества, лишен-
ные прибавочного продукта, являются свободными от насилия: из при-
веденных рассуждений следует лишь, что в таких обществах не сущест-
вует объективной необходимости применения насилия. С еще меньши-
ми основаниями эти рассуждения могут быть интерпретированы в том
смысле, что в обществах, где прибавочный продукт существует, наси-
лие само по себе не может более или менее часто генерировать или
тормозить изменения. Приведенная аргументация не противоречит
тому, что насилие может инициировать социальные изменения или же
препятствовать возникновению тех из них, которые, при прочих рав-
ных условиях, имели бы место. «Отцы-основатели» марксизма обруши-
вались с обличениями на тех, кто указывал на существование указан-
ной возможности, однако им так и не удалось показать, что она не со-
242
ответствует фактам. Как представляется, весь ход исторических собы-
тий свидетельствует о том, что эта возможность часто является реаль-
ной.
Почему эта бездоказательная и фактически ложная доктрина о не-
значительной социальной роли насилия занимает центральное место в
теории марксизма?
Сущность марксизма заключается в том, что он сохраняет представ-
ление об историческом плане, но указывает новую причину его осущест-
вления. Однако идея прогрессивного исторического плана поддержи-
вается марксистами не только из желания найти элегантное концепту-
альное обобщение исторических событий. Существует и более глубокий
мотив. Марксизм — это религия спасения, гарантирующая не индиви-
дуальное, но коллективное спасение всего человечества. Курьезно, что
представление о «блаженстве», которое даруется спасенным (blessed
condition), является глубоко буржуазным. В самом деле, оно представ-
ляет собой апофеоз буржуазного видения жизни. Буржуазное предпоч-
тение мирного производства насильственным захватам возводится в
статус универсального принципа исторических изменений. Желание —
мать веры. Трудовая этика начинает рассматриваться как человеческая
сущность, как видовое определение человека. Труд — это самореали-
зация, но способы трудовой деятельности (work patterns) одновремен-
но являются ключевыми детерминантами исторических изменений.
Добровольный, ничем не ограниченный труд, творчество — вот наша
цель и наша судьба. Способы трудовой деятельности также определя-
ют ход истории и способы принуждения, но не наоборот. Господство
насилия и его усовершенствование не являются ни истинным идеалом,
ни важным фактором исторического развития. Эти представления
вполне удовлетворяют тех, кто движим этикой производителя и враж-
дебно относится к этике господства и насилия, но насколько верны эти
представления?
Отметим, что, если бы они были справедливы, марксисты имели бы
полное право восхвалять добровольное кооперативное производство,
свободное от отношений собственности и институтов принуждения,
как альтернативу производству, организованному на конкурентной
основе, и подчиняющемуся централизованно гарантируемым правилам.
При этом их не должен заботить тот аргумент, что только конкурен-
ция сдерживает централизованное принуждение и что любая попытка
отменить собственность и установить полную кооперацию приведет
лишь к появлению новой формы централизованной тирании. Если ти-
рания возникает только для защиты патологических в основе своей
форм труда и патологической его организации, то свободная от недо-
статков модель трудовой деятельности сама по себе навсегда освобож-
дает нас от необходимости существования как властей, так и механиз-
мов контроля за их деятельностью. Отчуждение человека от своей ис-
тинной сущности неизбежно сохраняется до тех пор, пока он вынужден
работать во имя чуждых ему целей; он обретает свою истинную сущ-
ность лишь тогда, когда начинает трудиться во имя творчества, форму
которого он выбирает самостоятельно. Разумеется, это в точности со-
243
ответствует жизненному идеалу среднего класса. Производительная
деятельность служит для его представителей источником гордости, они
сами выбирают для себя форму творчества и понимают, что делают.
Труд для них — не непонятная обязанность обусловленная внешними
силами, а подлинная самореализация.
В марксистской экономической интерпретации истории человече-
ство в целом движется к достижению именно этой цели — к буржуаз-
ного типа самореализации в труде, свободном от принуждения. Одна-
ко самореализация может быть гарантирована лишь в том случае, если
движущая сила истории ориентирована на достижение именно такого
результата. Если все многочисленные факторы: экономические, соци-
альные, культурные, факторы насилия — могут взаимодействовать меж-
ду собой непредсказуемым образом, едва ли может существовать какой-
либо исторический план. Если же только один фактор играет опреде-
ляющую роль, если он носит «векторный» характер, т.е. возрастает со
временем и имеет четкую направленность (а именно — направленность
на развитие производительной силы человека), тогда исторический
план в конечном счете опирается на прочное основание. Это — необ-
ходимое требование теории, и это действительно утверждается.
Проблемы однофакторной теории, подчеркивающей роль четко на-
правленного и постоянно действующего фактора, без сомнения, тесно
связаны с проблемами, которые вытекают из плана, который марксис-
ты обнаруживают в истории. В соответствии с приведенной выше ци-
татой из работы Маркса вслед за примитивным коммунизмом общест-
во проходит четыре классовые стадии: азиатскую, античную, феодаль-
ную и современную буржуазную, которая, как утверждается, является
последней из «антагонистических» стадий (за ней следует «мирная са-
мореализация»), Широко известны сложности, которые всегда пресле-
довали марксизм при объяснении «азиатской» стадии, поскольку, не-
смотря на утверждение Энгельса, она на самом деле представляется
примером, иллюстрирующим и подчеркивающим автономную роль
насилия в истории, а также торможение прогресса стагнирующей со-
циальной системой, ориентированной на самосохранение.
Однако, оставляя в стороне эти обстоятельства, марксизм — чтобы
сохранить верность базовому интуитивному представлению о неизбеж-
ном прогрессе и «благоприятном исходе» развития, — не акцентирует
внимание на конкретном числе или даже конкретной последователь-
ности стадий. Фактические трудности, с которыми столкнулась марк-
систская историография в определении этих стадий и должной исто-
рической последовательности их смены, сами по себе не обязательно
являются катастрофическими. Жесткая заданность единственной ли-
нии развития не представляет собой существенную характеристику
системы. Такой чертой является (кроме выделения в конечном счете
единственной движущей силы) отрицание возможности стагнации —
как в форме абсолютной стагнации и остановки развития, так и в форме
развития «по замкнутому кругу» с повторением стадий. Чтобы исклю-
чить такую возможность, необходимо соблюдение ряда положений: все
эксплуататорские формы общества должны быть имманентно неста-
244
бильны; число таких форм должно быть конечным; возможность раз-
вития общества «по замкнутому кругу» должна отсутствовать. Если все
они выполняются, то в конечном счете должно быть достигнуто пре-
одоление отчуждения человека от своей истинной сущности путем сво-
бодной самореализации в труде, не связанном ограничениями. Но если
в развитии системы может произойти остановка или система может
развиваться «по замкнутому кругу», обещание спасения оказывается
пустым звуком. Это утверждение справедливо даже в том случае, если
развитие системы останавливается по чисто экономическим причинам.
Такая остановка вдвойне катастрофична, если она может быть вызва-
на другими факторами, — например, факторами насилия. Отрицание
роли насилия в истории является наиболее важным и наиболее спор-
ным элементом марксистской экономической интерпретации истории.
Таким образом, реальные требования, предъявляемые марксистской
экономической интерпретацией истории, заключаются в том, чтобы
никакие неэкономические факторы не могли тормозить развитие об-
щества; чтобы это развитие стимулировалось непрерывным (хотя вре-
менами и замедленным) ростом производительных сил; чтобы число
социальных форм, соответствующих стадиям развития производитель-
ных сил, было конечным и чтобы последняя из них соответствовала
максимально полному развитию производительных сил и человеческих
способностей.
Глубокая ирония заключена в том, что система представлений, от-
рицающая автономную роль принуждения и идейных факторов в ис-
тории, призвана обосновывать и вызывать к жизни социальную систе-
му, которой свойственны доминирование и всепроникающий характер
централизованного принуждения. Независимая роль принуждения и
идейных факторов может быть наиболее полно продемонстрирована на
примере общества, построенного в соответствии с теорией, которая
отрицает такую роль.
БИБЛИОГРАФИЯ
Маркс К. К критике политической экономии. М.: Государственное издатель-
ство политической литературы, 1949.
Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология. М.: Издательство политической
литературы, 1988.
Энгельс Ф. Анти-Дюринг. М.: Издательство политической литературы, 1988.
Morishima М. Why has Japan «Succeeded»? Western Technology and the Japanese
Ethos. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
Tucker R.C. Philosophy and Myth in Karl Marx. Cambridge: Cambridge University
Press, 1961.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
И ГИПОТЕЗА РАЦИОНАЛЬНОСТИ
Кеннет Дж. Эрроу
Economic Theory
and the Hypothesis of Rationality
Kenneth J. Arrow
В этом эссе я хотел бы прояснить некоторые значения, в которых
используется в экономической теории термин «гипотеза рационально-
сти». В частности, я хотел бы подчеркнуть, что рациональность явля-
ется свойством, присущим не только отдельному индивиду, хотя в ли-
тературе это обычно представляется именно таким образом. Не только
объясняющую силу, но и само значение гипотезе рациональности при-
дает окружающий социальный контекст. Гипотеза рациональности
наиболее правдоподобна в совершенно идеальных условиях. Когда эти
условия перестают выполняться, допущения о рациональности стано-
вятся натянутыми и подчас внутренне противоречивыми. Эти условия
предполагают, что способность людей к обработке информации и рас-
чету находится на уровне значительно выше возможного и не может
рассматриваться как результат обучения и адаптации.
Я хотел бы поспорить с точкой зрения, которая не всегда выража-
ется открыто, но, похоже, имплицитно присутствует во многих трудах.
Эта точка зрения заключается в том, что экономическая теория в прин-
ципе должна основываться на гипотезе рациональности. Иначе якобы
не может быть никакой теории. Этого положения придерживаются и
ученые, которые допускают, что экономическое поведение не являет-
ся полностью рациональным. Джон Стюарт Милль (1848, кн. 2, гл. 4)
утверждал, что значительной частью экономики управляют обычаи, а не
конкуренция. Но при этом он добавлял, что единственно возможная
экономическая теория должна исходить из конкуренции (которая у него
включает определенные элементы рациональности, в частности пере-
мещение капитала и труда в те виды деятельности, которые дают наи-
большую отдачу: «Лишь благодаря принципу конкуренции политичес-
кая экономия имеет право притязать на научный характер» ([1848] 1909,
р. 242 // Милль Дж.С. Основы политической экономии. М.: Прогресс,
1980, т. I, с. 394).
Безусловно, не существует общего принципа, который препятство-
вал бы созданию экономической теории, основанной на гипотезе, от-
личной от гипотезы рациональности. Действительно, существуют опре-
деленные условия, которые должны быть заложены в фундамент при-
емлемого теоретического анализа экономики. Прежде всего в их число
246
должна входить теория рыночных взаимодействий, соответствующая
концепции расчистки рынка в неоклассической теории общего равно-
весия. Но в том, что касается поведения индивидов, любая последова-
тельная теория реакций на стимулы, встречающиеся в экономическом
контексте (в простейшем случае — на цены), может в принципе при-
вести к созданию теоретического описания экономики. Применитель-
но к потребительскому спросу должно быть удовлетворено бюджетное
ограничение, однако легко построить множество теорий, совершенно
отличных от максимизации полезности. Например, теорию можно по-
строить на основе формирования привычки; для заданного изменения
цены и дохода выберите набор потребительских благ, удовлетворяющий
бюджетному ограничению, который требует наименьшего изменения
(в некотором смысле) по сравнению с предыдущим набором. Хотя и в
этой теории присутствует момент оптимизации, она отличается от мак-
симизации полезности; например, если после нескольких изменений
цены и доход возвращаются к своим первоначальным значениям, куп-
ленный в конце этого процесса потребительский набор будет отличать-
ся от первоначального. Многим непрофессиональным наблюдателям
такая теория может представиться правдоподобной; тем не менее, она
не является рациональной в том смысле, который вкладывают в дан-
ный термин экономисты. Не конкретизируя далее этот аргумент, я про-
сто констатирую, что эта теория не только является логически завер-
шенным объяснением поведения, но и обладает большей объясняющей
силой, чем стандартная, и, по меньшей мере, столь же поддается эм-
пирической проверке.
Возможность построения завершенной экономической теории на
основании гипотезы, отличной от гипотезы рациональности, не явля-
ется чисто умозрительной; на самом деле в какой-то мере это можно
сказать о любой макроэкономической теории, имеющей выход на прак-
тику. Положения кейнсианской теории о жесткости цен и заработной
платы трудно вписать в рамки рациональности, несмотря на предпри-
нятые доблестные попытки. В своем изначальном виде мультиплика-
тор был выведен из потребительской функции, в которой аргументом
был только текущий доход. Теории, более непосредственно основан-
ные на предпосылке рациональности, ставят потребление в зависимость
от дохода на протяжении всей жизни или «постоянного» дохода
(permanent income), соответственно величина мультипликатора в них
снижается, а вместе с ней — и объяснительная ценность кейнсианской
модели. Но если кейнсианская модель выступает естественным объек-
том критики со стороны приверженцев всеобщей рациональности, то
следует добавить, что и монетаризм не лучше. Мне не известны сколь-
ко-нибудь серьезные построения, в которых спрос на деньги выводился
бы из рациональной оптимизации. Слабые аргументы, заменяющие
собою подлинные построения подобного рода — экономия на подошвах
Фридмена* или трансакционный спрос Тобина, основанный на из-
* В одной из работ 1950-х годов М. Фридмен высказал мысль, что люди хранили
бы все свои деньги на процентном вкладе в банке, каждый день забирая нужную
сумму, если бы не издержки в виде износа обуви. — Примеч. научн. ред.
247
держках покупки и продажи облигаций, — содержат допущения, не-
совместимые с положением о рынках, на которых отсутствуют издерж-
ки, подразумеваемые в других случаях. Использование гипотезы о ра-
циональности в этих аргументах носит ритуальный, а не сущностный
характер. Далее, в использованных аргументах предполагается не ус-
тойчивая взаимосвязь, а взаимосвязь, которая будет быстро меняться
при любом значительном изменении в структуре и технологии финан-
совой сферы. Между тем стабильность функции спроса на деньги дол-
жна быть присуща любой форме монетаризма, не исключая тех моде-
лей рациональных ожиданий, в которых количественная теория денег
играет основную роль.
Я полагаю, что аналогичные соображения применимы к множеству
других областей прикладной экономической теории. Гипотеза рацио-
нальности не является в них универсальной и часто, если не всегда,
сопровождается дополнительными допущениями иного характера.
До сих пор я просто утверждал, что гипотеза рациональности в
принципе не является обязательной для экономической теории, а тео-
рии, непосредственно применяемые к экономической действительно-
сти, обычно основаны на иного рода допущениях. Это было сделано
для того, чтобы расчистить почву для обсуждения роли рациональнос-
ти в экономической теории. Как отмечалось выше, рациональность
является не просто свойством индивида. Ее важные и полезные след-
ствия возникают при соединении индивидуальной рациональности и
других базовых концепций неоклассической теории — равновесия,
конкуренции и полноты рынков. Важность этих предпосылок впервые
была отмечена Фрэнком Найтом (Knight, 1921, р. 76-79). С точки же
зрения учившегося одно время у Найта Эдварда Чемберлина (Cham-
berlin, 1950, р. 6-7), нам необходима не просто чистая, а совершенная
конкуренция, чтобы гипотеза рациональности заработала в полную
силу.
Именно на этой теме я хотел бы остановиться более подробно. Когда
упомянутые выше предпосылки не выполняются, ставится под угрозу
сама концепция рациональности, поскольку представления об осталь-
ных субъектах, в частности об их рациональности, становятся частью
собственной рациональности индивида. Даже если понятие индивиду-
альной рациональности не станет внутренне противоречивым, это бу-
дет означать, что требования, предъявляемые к счетным способностям
и информированности индивидов, будут не соответствовать представ-
лениям традиционного экономиста-теоретика о децентрализованной
экономике.
Позвольте мне добавить еще одну вводную ремарку к данному раз-
делу. Даже если мы примем все структурные предпосылки, необходи-
мые для совершенной конкуренции (необходимые знания, вогнутость
производственных функций, отсутствие крупных фирм, которые мог-
ли бы иметь власть над рынком, и т.д.), вопрос все равно останется.
Каким образом может быть установлено равновесие?
Достижение равновесия требует неравновесного процесса. Что озна-
чает рациональное поведение в отсутствие равновесия? Пытаются ли
248
индивиды сыграть на процессе установления равновесия? Если да,
можно ли рассматривать неравновесие как своего рода равновесный
процесс более высокого порядка? Поскольку никто не обладает влас-
тью над рынком, то никто не устанавливает цены; тем не менее, они
как-то устанавливаются и изменяются. На эти вопросы не существует
хороших ответов, и я не стремлюсь получить их здесь. Однако они ил-
люстрируют трудности с понятием рациональности, возникающие в
мире, состоящем из многих индивидов.
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ КАК МАКСИМИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ ФУНК-
ЦИИ В ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. Экономическая
теория, с тех пор как она приобрела систематический характер, осно-
вывалась на той или иной предпосылке рациональности. В трудах эко-
номистов-классиков, таких, как Смит и Рикардо, рациональность имела
ограниченное значение и рассматривалась как предпочтение больше-
го меньшему; капиталисты предпочитают инвестировать в отрасль, да-
ющую наибольшую норму дохода, владельцы земельной собственнос-
ти сдают ее в аренду тому, кто предлагает наибольшую арендную пла-
ту, в то время как никто не платит за землю больше стоимости ее
продукта. Разрозненные замечания относительно технологического
замещения, особенно у Рикардо, могут быть истолкованы так, что в
конкурентной среде фирмы выбирают такие пропорции между факто-
рами производства (если они переменные), которые позволяют ми-
нимизировать издержки на единицу продукции. Сделав некоторые
усилия, можно сказать, что содержащаяся в этих теориях гипотеза ра-
циональности представляла собой гипотезу максимизации прибылей
фирмы, хотя эта формулировка впервые прозвучала только в 1880-х го-
дах.
У классиков отсутствовала гипотеза рациональности применитель-
но к потребителям. До Джона Стюарта Милля ни один из английских
экономистов-классиков не признавал саму идею, что спрос может за-
висеть от цены. У Курно эта концепция появилась несколько раньше,
но ни Милль, ни Курно не заметили, хотя это вытекает уже из бюд-
жетного ограничения, что спрос на любой товар должен зависеть от цен
на все товары. Это открытие было сделано великими пионерами мар-
жиналистской революции — Джевонсом, Вальрасом и Менгером, ко-
торым предшествовал Грегор Мендель; экономической науки*
(Г.Г. Госсен, основной труд которого, абсолютно не замеченный в мо-
мент публикации (1854), в настоящее время переведен на английский
(1983)). Применительно к потребителю их гипотеза рациональности
представляла собой максимизацию полезности при бюджетном огра-
ничении. Из такой формулировки непосредственно вытекает опреде-
ление спроса как функции от цен всех товаров, что позволило сфор-
мулировать систему общего равновесия в экономике.
* Работы Грегора Менделя (1822— 1884) о закономерностях наследственности
предвосхитили и положили начало генетике как самостоятельной науке. —
Примеч. научи. ред.
249
Основные моменты в дальнейшем развитии теории полезности при-
менительно к потребителю хорошо известны. (1) Рациональное пове-
дение описывается ординальной функцией полезности. (2) Из допуще-
ния о рациональном поведении индивида действительно вытекают не-
которые эмпирически проверяемые выводы — соотношения Слуцкого,
которые, однако, недостаточно сильны без введения дополнительных
допущений. (3) На агрегированном уровне из гипотезы о рациональ-
ном поведении индивидов в целом нельзя сделать однозначного выво-
да, т.е. для любого набора агрегатных функций избыточного спроса
существует набор карт предпочтения и изначальных наборов благ для
каждого индивида, максимизация которого совместима с данными
функциями избыточного спроса (Sonnenschein, 1973; Mantel, 1974;
Debreu, 1974; обзор см.: Shafer and Sonnenschein, 1982, sec. 4).
Последние два момента противоречат чрезвычайно многочислен-
ным эмпирическим и теоретическим исследованиям, в которых из мак-
симизации полезности делаются сильные выводы относительно пове-
дения индивидов (особенно в области предложения труда) и макроэко-
номических явлений («новые классические» модели или модели
«рациональных ожиданий»). В обеих областях выводы достигаются
путем добавления к общей модели рациональности сильных дополни-
тельных допущений. Наиболее распространенное из этих допущений
состоит в том, что все индивиды имеют одинаковую функцию полез-
ности (или что различия функций полезности существуют лишь меж-
ду широкими категориями людей, различающихся объективными при-
знаками, например размером семьи). Но этот постулат ведет к любо-
пытным и, на мой взгляд, серьезным трудностям в интерпретации
эмпирических данных. Рассмотрим простейшие модели формирования
человеческого капитала.
Данные по разным отраслям свидетельствуют о росте заработной
платы по мере роста уровня образования или опыта, и это трактуется
как доход на инвестиции в человеческий капитал, сделанные в форме
дохода, от которого пришлось отказаться, или других затрат. Но если
все индивиды одинаковы, то почему они не делают один и тот же вы-
бор? Откуда берется наблюдаемая нами дисперсия? В модели челове-
ческого капитала (частное приложение гипотезы рациональности)
единственное объяснение состоит в том, что индивиды неодинаковы
либо по способностям, либо по их вкусам. Но в этом случае наши ста-
тистические данные свидетельствуют только о безнадежно неразличи-
мых последствиях субъективных, индивидуальных различий и объек-
тивных различий в производительности. Аналогичным образом в мак-
роэкономических моделях, включающих долгосрочные активы,
особенно ценные бумаги, из допущения об однородности агентов сле-
дует, что торговля этими активами вообще никогда не будет осуществ-
ляться, несмотря на изменения их цен.
Эта дилемма существенна. Если все агенты одинаковы, то места для
торговли не остается. Начиная со Смита, основу экономического ана-
лиза составляет существование различий между агентами. Но если эти
различия невозможно специфицировать, то из тезиса (3), упомянутого
250
выше, следует, что мы можем сделать лишь очень немногие выводы
(если это вообще возможно). Кстати, эта проблема уже существует в
описании Смитом различий в заработной плате. Смит не верил в су-
щественные различия в способностях между людьми; у носильщика,
по его мнению, было больше сходства с философом, чем у гончей с
мастифом. Поэтому различия в заработной плате зависели от тягости
(антиполезности) различных видов труда, включая различную степень
рискованности дохода. Это достаточно верно и проницательно. Но если
взглянуть на дело серьезно, то это означает, что индивидам безразли-
чен выбор профессий, а заработная плата служит компенсацией за раз-
личия другого характера. Этот вывод вполне логичен, но даже в пер-
вом приближении он находится в вопиющем противоречии с действи-
тельностью.
В мои задачи не входил обзор различных применений гипотезы ра-
циональности. Но я прочел достаточно литературы, чтобы убедиться в
том, что ее очевидная объясняющая сила возникает лишь в результате
введения дополнительных гипотез. Однородность индивидуальных
агентов является не единственной дополнительной гипотезой, хотя и
наиболее глубокой. Часто добавляют также многочисленные допуще-
ния о сепарабельности. Действительно, стало обычным делом начинать
с введения очень сильных допущений об аддитивности и сепарабель-
ности и очень короткого списка значимых переменных и добавлять
остальные переменные лишь по мере того, как изначальная гипотеза
становится явно неадекватной, причем введение дополнительных пе-
ременных прекращается при достижении некоего удовлетворительно-
го результата. Неудача модели объясняется доселе непринимаемыми в
расчет выгодами или издержками. С точки зрения статистики такая
практика приостановки исследований ведет к очевидному смещению
результатов. Когда я учился в магистратуре, меня учили, что основное
преступление состоит в подгонке данных; с тех пор, как и в других
областях общественной жизни, мораль в данной сфере изменилась, но
я не убежден в том, что все эти изменения к лучшему.
Урок состоит в том, что гипотеза о рациональности сама по себе
слаба. Пытаясь сделать ее полезной, исследователь испытывает иску-
шение ввести какие-либо сильные допущения. В частности, особенно
опасным мне представляется допущение об однородности. Оно проти-
воречит фундаментальной предпосылке о том, что экономика постро-
ена на выгодах от торговли, возникающих в результате существования
индивидуальных различий. Кроме того, оно отвлекает внимание еще
от одного очень важного аспекта экономики, а именно — от влияния
на экономику распределения дохода и других индивидуальных харак-
теристик. В качестве важнейшего примера можно сказать, что вся ли-
тература о поведении сбережений, основанная на агрегированных дан-
ных, предполагает однородность экономических субъектов. Между тем
результаты неоднократно проведенных исследований говорят о том, что
сбережения не пропорциональны доходу, из чего следует, что важную
роль играет фактор распределения дохода. (В целом, по мере совершен-
ствования данных, становится все труднее найти простую, основанную
251
на рациональности модель, которая объясняла бы имеющиеся данные
о сбережениях, богатстве и наследовании.)
История экономической мысли дает и некоторые другие примеры
трудностей, возникающих при применении гипотезы рациональности.
Смит и более поздние представители классической школы неоднократ-
но, хотя и недостаточно внятно, ссылались на риск как один из фак-
торов различий в заработной плате, а также в норме прибыли на капи-
тал (например, Mill [1848] 1909, р. 385, 406, 407, 409). Английские мар-
жиналисты знали о существовании теории ожидаемой полезности
Бернулли, объясняющей поведение в условиях неопределенности (воз-
можно, из «Истории теории вероятности» Тодхантера), но относились
к ней осторожно и не прибегали к ее количественному использованию
(Jevons, [1871] 1965, р. 159-160; Marshall, 1920, р. 842-843). На самом
деле, лишь в последние 30 лет началось ее систематическое использо-
вание в качестве экономического объяснения, причем его начало со-
впало с получением первых эмпирических данных, опровергающих
данную теорию (см.: Allais, 1979). Гипотеза ожидаемой полезности яв-
ляется интересным переходом к теме следующего раздела. Фактичес-
ки это более сильная гипотеза, чем простая максимизация полезности.
Поэтому ее легче проверить и она ведет к более сильным и более ин-
тересным выводам. Однако об этом вопросе было уже написано столь
много, что я не стану здесь в него углубляться.
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ, ЗНАНИЕ И ВЛАСТЬ НАД РЫНКОМ.
Примечательно, что повседневное использование термина «рациональ-
ность» не совпадает с определением, которое дано ему экономистами
и которое предполагает такие свойства, как транзитивность и полнота
(всеохватность) предпочтений, т.е. максимизацию чего-либо. Напротив,
в повседневном употреблении данный термин означает полное исполь-
зование информации, здравый смысл и т.п. В экономическом анали-
зе, как теоретическом, так и эмпирическом, эта тема стала подвергаться
систематическому изучению лишь в последние 35 лет или около того.
Важной, но забытой предшественницей была работа Холбрука Уоркин-
га по теории случайных блужданий цен товарных фьючерсов и ценных
бумаг (Working, 1953). Она основывалась на гипотезе, согласно кото-
рой индивиды делают рациональные выводы из имеющихся данных и
действуют в соответствии с ними. Гипотеза состоит в том, что, если бу-
дущие цены активов предсказуемы, на них может основываться сегод-
няшний спрос, что приведет к изменению нынешних цен до тех пор,
пока возможность получения выгоды не исчезнет.
На самом деле в рамках классического подхода многое говорилось
о роли знания, но весьма специфическим образом. Подчеркивалось, что
полная, всеобъемлющая система цен требует от людей лишь очень не-
больших знаний об экономике, за исключением их собственной част-
ной сферы производства и потребления. Глубочайшим наблюдением
Смита было то, что система работает помимо ее участников; направ-
ляющая ее «рука» «невидима». Имплицитно подразумевалось, что при-
обретение знаний сопряжено с затратами.
252
Даже в конкурентном мире индивидуальный агент должен знать
все (или, по крайней мере, очень многие) цены, а затем оптимизиро-
вать, основываясь на этом знании. Всякое знание небесплатно, даже
знание цен. Теория поиска Стиглера (Stigler, 1961) учитывает эту про-
блему. Но теорию поиска непросто согласовать с существованием
равновесия или даже индивидуальной рациональностью субъектов,
устанавливающих цены, поскольку находящиеся в идентичных ситу-
ациях продавцы станут устанавливать идентичные цены, а в этом слу-
чае искать нечего.
Требования к знаниям при принятии решений могут радикально
измениться в условиях монополии или какой-либо другой формы не-
совершенной конкуренции.
Рассмотрим простейший случай чистой монополии в модели час-
тичного равновесия с единственным товаром, подобной модели, впер-
вые рассмотренной Курно в 1838 г. Фирма должна знать не только
цены, но и кривую спроса. Как бы мы ни определили сложность зна-
ния, кривая спроса является более сложной, чем цена. Она предпола-
гает знание поведения других агентов. Измерение кривой спроса обыч-
но считается делом эконометрика. Мы сталкиваемся с любопытной
ситуацией, когда научный анализ предполагает, что его объекты ведут
себя как ученые. Это не обязательно ведет к противоречиям, но, похо-
же, неизбежно ведет к бесконечному регрессу.
Если рассмотреть ситуацию с точки зрения общего равновесия,
трудности умножаются. Кривую спроса на продукт монополиста сле-
дует рассматривать mutatis mutandis [при изменении всех переменных
величин], а не ceteris paribus. Изменение цены монополиста в общем
случае приведет к изменению спроса покупателя на другие товары,
а значит, и цен на эти товары. В свою очередь, эти изменения цен по
многим каналам окажут воздействие на спрос на продукт монополис-
та и, возможно, на цены факторов производства, приобретаемых мо-
нополистом. Даже в простом случае, когда в экономике существует
только один монополист, он должен отдавать себе отчет во всех этих
последствиях. Короче говоря, монополист должен располагать полной
моделью общего равновесия.
Требования к информации и способности к расчетам становятся
гораздо сильнее в случае олигополии или любой другой системы эко-
номических отношений, в которой по крайней мере некоторые аген-
ты имеют власть над другими. При этом в природе знаний появляется
качественно новый аспект, поскольку каждый агент предполагает ра-
циональность других агентов. На самом деле, чтобы построить основан-
ную на рациональности теорию экономического поведения, следует
допустить даже нечто большее, а именно то, что рациональность всех
агентов должна быть общим знанием (common knowledge) (если исполь-
зовать термин, введенный философом Дэвидом Льюисом (Lewis, 1969))-
Каждый агент должен не только знать, что другие агенты (по крайней
мере, обладающие существенной властью над рынком) действуют ра-
ционально, но и знать, что каждый другой агент знает, что все осталь-
ные действуют рационально, и т.д. (см. также: Aumann, 1996). Именно
253
в этом смысле рациональность и знание о рациональности являются
социальным, а не только индивидуальным феноменом.
Олигополия является просто наиболее очевидным примером. Логи-
чески та же самая проблема возникает при наличии двух монополий
на двух различных рынках. С практической точки зрения второй слу-
чай может и не быть связан с такими затруднениями при условии, что
связи между этими рынками достаточно слабы и сами монопольные
отрасли достаточно малы в сравнении с экономикой в целом, так что
данным взаимодействием можно пренебречь. Однако это взаимодей-
ствие не может быть нулевым, а может быть и значительным. Когда,
как это обычно представляется в литературе, стороны торгуются, до-
стигая в результате точки на контрактной кривой, то в простейшем слу-
чае для этого требуется наличие «общего знания» предпочтений тор-
гующихся сторон и их производственных функций. Очевидно, что тре-
бования к знаниям в данном случае намного превышают аналогичные
требования для системы с заданными ценами. Экономисты-классики
были совершенно правы, подчеркивая важность ограниченности зна-
ний. Если бы каждый из агентов располагал полной моделью эконо-
мики, рука, управляющая экономикой, была бы на самом деле очень
видимой.
При таких предпосылках касательно знаний превосходство рынка
над централизованным планированием исчезает. Фактически при этом
каждый индивидуальный агент использует столько же информации,
сколько потребовалось бы плановику, осуществляющему руководство
экономикой из центра. Этот довод серьезно ограничивает примени-
мость аргумента о том, что права собственности являются достаточным
условием для достижения общественной рациональности даже в отсут-
ствие конкурентной системы (Коуз, 1960).
Можно, как это делают многие авторы, рассмотреть процесс торга,
при котором индивиды располагают ограниченным знанием о функ-
циях полезности друг друга (аналогичным образом можно построить
теорию олигополии, где олигополисты располагают ограниченными
знаниями о функциях издержек остальных олигополистов, см.: Arrow,
1979). Как ни странно это звучит, напрашивающиеся заключения, что
ограниченное знание означает меньшее количество информации, чем
полное знание, и что оптимизация в условиях ограниченного знания
наверняка требует более сложных расчетов, совсем не очевидны. Если
индивиды располагают частной информацией, другие формируют не-
которого рода догадки о ней. Эти догадки должны стать общим знани-
ем для того, чтобы можно было применить гипотезу рациональности.
Но последняя предпосылка требует столь же обширных знаний и столь
же неправдоподобна, как и всеобщее знание частной информации.
Далее, применительно к каждому индивиду проблема оптимизации,
основанной на догадках (в рациональном мире они представляют со-
бой вероятностные распределения) о частной информации, которой
располагают остальные индивиды, является более сложной, а значит,
и требующей более значительных расчетов, чем оптимизация в усло-
виях, когда частная информация отсутствует.
254
РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ И НЕПОЛНОТА РЫНКОВ. Из из-
ложенного выше можно сделать вывод, что в конкурентном мире тре-
бования к информации значительно ниже. Но я утверждаю, что для
получения данного вывода необходима совершенная, а не просто чис-
тая конкуренция и что критерий совершенной конкуренции намного
более строг, чем, видимо, предполагал Чемберлин. Полная система
общего равновесия, описанная Дебрё (Debreu, 1959), требует рынков
для всех условных благ (contingencies) для всех будущих периодов. Та-
кая система не может существовать. Во-первых, количество цен было
бы столь велико, что поиск стал бы непреодолимым препятствием;
т.е. ценность знания не слишком важных цен (связанных с события-
ми, отдаленными во времени или имеющими более низкую вероят-
ность) была бы ниже издержек, а это означает, что такие рынки не
могли бы существовать. Во-вторых, рынки условных благ, получение
которых зависит от событий, наблюдаемых лишь отдельными индиви-
дами, не могут существовать по определению.
В любом случае мы точно знаем, что многие, а фактически — боль-
шинство рынков не существуют. Когда рынок не существует, возни-
кает пробел в информации, необходимой для принятия индивидом
решения, и этот пробел должен быть заполнен какой-либо догадкой
точно так же, как в случае с властью над рынком. Действительно, между
ситуацией власти над рынком и неполнотой рынков можно провести
сильные аналогии, несмотря на то что они внешне представляются
совершенно разными явлениями.
Разрешите мне проиллюстрировать это на примере равновесия при
рациональных ожиданиях. Благодаря тому что потребление и производ-
ство происходят во времени, решения, принятые сегодня, имеют ожи-
даемые последствия в будущем. Маршалл (Маршалл, 1920, кн. 5, гл.
3—5) был, пожалуй, первым экономистом, придавшим значение этой
проблеме. В этих целях он ввел туманные и путаные понятия кратко-
срочных и долгосрочных периодов, но главное в том, что он по край-
ней мере признал связанные с этим трудности, а именно то, что неко-
торые из важных условий торговли не являются наблюдаемыми на
рынке величинами. (Почти во всех остальных исследованиях импли-
цитно или эксплицитно предполагалось стационарное состояние, в ко-
тором информация об относительных ценах в будущем и относитель-
ных ценах между настоящим и будущим периодами практически все-
гда доступна. Вальрас (Walras, 1874, lessons 23—25) претендовал на
рассмотрение динамического состояния с чистым накоплением капи-
тала, однако невольно впал в противоречие, отмеченное Джоном Иту-
эллом в его неопубликованной диссертации. Аргументы Вальраса дей-
ствуют лишь в стационарном состоянии.) Маршалл фактически ставил
текущие решения (включая решения о сбережениях и инвестициях) в
зависимость от ожиданий. Но ожидания не были полностью произволь-
ными, в отсутствие возмущающих воздействий они должны стремить-
ся к правильным значениям. Хикс (Hicks, ch. 9—10) представлял зави-
симость текущих решений от ожиданий в еще более явной форме, но
меньше говорил об их соответствии реальности.
255
Как уже отмечалось, полная конкурентная модель общего равнове-
сия включает рынки всех будущих благ и (чтобы учесть фактор не-
определенности) всех условных благ, получение которых зависит от на-
ступления будущих событий. Не все из этих рынков существуют. В со-
ответствии с новой теоретической парадигмой рациональных ожиданий
ожидания каждого индивида формируются на основе правильной мо-
дели экономики, т.е. фактически той же самой модели, которую ис-
пользует эконометрик. В мире конкурентных, находящихся в равно-
весии рынков индивидуальному агенту требуются ожидания только цен,
а не количеств. Хорошее изложение основной литературы по рацио-
нальным ожиданиям дают Лукас и Сарджент (Lucas and Sargent, 1981).
Поскольку мир характеризуется неопределенностью, ожидания прини-
мают форму вероятностных распределений, и ожидания каждого из
агентов зависят от доступной ему или ей информации.
Таким образом, со знанием дело обстоит примерно так же, как с
властью над рынком. Чтобы сохранить рациональность, каждому агенту
нужно иметь модель экономики в целом. Издержки приобретения зна-
ний, которые так подчеркивали сторонники системы рыночных цен,
противопоставляя ее централизованному планированию, исчезли; каж-
дый из агентов по определению вовлечен в сбор обширной информа-
ции и обработку данных.
Теория рациональных ожиданий является стохастической формой
совершенного предвидения. Не только практическая реализуемость, но
даже логическая корректность этой гипотезы была давно оспорена
Моргенштерном (Morgenstorn, 1935). Аналогично социолог Роберт
К. Мертон (Merton, 1957) утверждал, что прогнозы могут быть либо са-
моопровергающимися, либо самосбывающимися; это означает, что
само существование прогноза может сказаться на поведении таким об-
разом, что прогноз будет опровергнут (или оправдается прогноз, кото-
рый в другой ситуации оказался бы ложным). Связанные с этим логи-
ческие проблемы были рассмотрены Грюнбергом и Модильяни
(Grunberg and Modigliani, 1954), а также Саймоном (Simon, 1957, ch. 5).
Употребляя термины Мертона, они утверждали, что всегда существу-
ют самосбывающиеся прогнозы. Если поведение постоянно меняется
в зависимости от прогнозов, а их будущая реализация является непре-
рывной функцией поведения, то существует прогноз, который приво-
дит к реализации самого себя. Из этих аргументов следует, что нельзя
отрицать вероятность рациональных ожиданий. Но они требуют не
только наличия обширных знаний «первого порядка», но и «общего
знания», поскольку предсказания будущего зависят от его предсказа-
ний, сделанных другими индивидами. Помимо требований к инфор-
мации следует также отметить, что вычисление неподвижных точек по
сути своей является более сложным, чем оптимизация.
Рассмотрим теперь сигнальное равновесие, первоначально изучен-
ное Спенсом (Spence, 1974). У нас есть большое число работодателей
и рабочих и свободный вход на рынок труда. Власть над рынком
в обычном понимании этого термина отсутствует. Способности каждого
рабочего являются частной информацией, которая известна этому ра-
256
бочему, но не работодателю. Каждый рабочий может приобрести об-
разование, в факте его приобретения легко удостовериться. Однако
затраты на приобретение образования являются возрастающей функ-
цией способностей. В этой ситуации представляется естественным ис-
следовать конкурентное равновесие. Оно принимает форму уровня за-
работной платы для каждого уровня образования, который восприни-
мается как данность и работодателями, и рабочими. Рабочий, наблюдая
за зависимостью заработной платы от образования, выбирает оптималь-
ный уровень образования. Оптимизация работодателя приводит к усло-
вию «информационного равновесия», а именно к тому, что работода-
тели узнают среднюю производительность рабочих с данным уровнем
образования. Неясно, какой динамический процесс приведет к тому,
что рынок узнает эти уровни производительности, поскольку
предполагается, что работодатели не могут наблюдать производитель-
ность отдельных рабочих. В данном случае существует более одного
возможного типа равновесия. Один тип состоит в том, что образова-
ние отсутствует и уровень производительности каждого рабочего ста-
новится равным средней производительности всех рабочих (для про-
стоты я допускаю, что конкуренция среди работодателей ведет к рав-
новесию с нулевой прибылью). Другой тип предполагает распределение
рабочих по уровням образования: все рабочие с данным уровнем спо-
собностей выбирают одинаковый уровень образования, т.е. способно-
сти рабочих могут быть вычислены из уровня образования ex post —
задним числом.
Несмотря на привлекательность этой модели в определенных обсто-
ятельствах, существуют, причем на различных уровнях, трудности, свя-
занные с ее практическим применением. (1) Как уже было отмечено,
условие, в соответствии с которым для каждого уровня образования
заработная плата равна средней производительности рабочих, являет-
ся весьма сильным с точки зрения информации. (2) Равновесие не толь-
ко не является единственным, но и существует континуум возможных
равновесий. Грубо говоря, единственным мотивом для рабочих к при-
обретению образования является относительный уровень заработной
платы при различных уровнях образования; значит, различные соотно-
шения между заработной платой и образованием являются в равной
степени самосбывающимися. Ниже будет показано, что этот феномен
не является специфической особенностью лишь данной модели. На-
против, похоже, что существование континуума равновесий является
характеристикой многих моделей с неполными (не всеохватывающи-
ми) рынками. Отсутствие единственности равновесия означает, что
теория обладает относительно небольшой объяснительной силой.
(3) Конкурентное равновесие является неустойчивым относительно
действий индивидов. Хотя мы исходим из отсутствия власти над рын-
ком, часто будет возникать возможность того, что какая-либо фирма
сможет извлечь прибыль посредством отхода от равновесия. А имен-
но: при равновесном соотношении между заработной платой и обра-
зованием для фирмы может оказаться выгодным предложить иную та-
рифную сетку и таким образом получить положительную прибыль
257
(Riley, 1979). Этого не может быть при конкурентном равновесии на
всеохватывающих рынках, при котором фирма никогда не сможет из-
влечь выгоды из того, что предложит любую цену или систему цен, от-
личную от рыночной. Пока что такая неустойчивость конкурентного
равновесия является особенностью сигнальных моделей, но она может
оказаться и более общим явлением.
Как отмечалось выше, считается, что существование континуума
равновесий является достаточно общим свойством моделей рациональ-
ного поведения на рынке в условиях неполной информации. Таким
образом, если присутствуют только два товара, а значит — только одно
соотношение цен, континуум равновесий примет вид целого интерва-
ла ценовых соотношений. Эта множественность будет нетривиальной
в ситуации, когда каждое из различных возможных равновесных соот-
ношений цен будет соответствовать различной реальной аллокации
ресурсов.
Недавно был рассмотрен очень интересный случай. Предположим,
что у нас имеется некоторая неопределенность относительно будуще-
го. Рынки благ, зависящих от определенных обстоятельств, отсутству-
ют: товары могут быть куплены на рынках наличного товара после
устранения неопределенности. Однако присутствует набор ценных бу-
маг — страховых обязательств, по которым выплачиваются деньги в слу-
чае каждого непредвиденного обстоятельства. Таким образом, покупа-
тельная способность может быть перераспределена в зависимости от со-
стояний мира. Если существует столько же видов страховых
обязательств, сколько состояний мира, равновесие будет таким же, как
и конкурентное равновесие на всеохватывающих рынках, которое уже
упоминалось в работе (Arrow, 1953). Допустим, что видов страховых
обязательств меньше, чем состояний мира. Тогда, как показано в не-
давних, отчасти еще не опубликованных работах (Duffle, 1985; Werner,
1985; Geanakoplos and Mas-Collel, 1986), цены страховых обязательств
могут быть произвольными (цены на наличные товары меняются со-
ответственно). Это не только проблема, связанная с numeraire (едини-
цей измерения); соответствующий набор реальных равновесных алло-
каций имеет размерность, равную числу состояний природы.
Родственную модель с аналогичным выводом о наличии континуу-
ма равновесий представляет собой модель «солнечных пятен» (Cass and
Shell, 1983). Предположим, что существует неопределенность относи-
тельно события, которое не оказывает никакого влияния на экономи-
ку. Предположим далее, что существует полный набор рынков услов-
ных благ, зависящих от наступления данного события, а в дальнейшем
появятся соответствующие рынки наличных благ.
Однако некоторые участники рынков наличных благ не могут дей-
ствовать на рынках условных благ — возможно, потому, что они еще
не родились. Тогда существует континуум равновесий. Одно из них на
самом деле является «фундаментальным» равновесием, в рамках тако-
го равновесия все непредвиденные обстоятельства игнорируются. Но
есть и другие равновесия, которые действительно зависят от непред-
виденного обстоятельства, которое начинает оказывать воздействие
258
просто потому, что все верят, что оно оказывает воздействие. Модель
«солнечных пятен» показывает, что гипотеза Мертона была, по край-
ней мере частично, верна; мы можем столкнуться с ситуацией, когда
общественная истина является в значительной мере результатом при-
нятых в обществе условностей, а не фундаментальных реалий.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ РАЗЛИЧИЙ В ИНФОРМАЦИИ. Раз-
решите упомянуть еще одно, неочевидное следствие универсальной
рациональности. Как я отмечал выше, идентичные индивиды не ведут
между собой торговли. Модели рынков ценных бумаг, основанные на
однородности индивидов, на самом деле означают отсутствие торгов-
ли; все изменения в информации отражаются в изменениях цен, что
склоняет каждого участника торговли к тому, чтобы сохранять прежний
портфель ценных бумаг. Естественно предположить, что одной из при-
чин торговли выступает разница в информации. Если я узнаю что-либо,
влияющее на цены ценных бумаг, чего не знают другие, то представ-
ляется разумным предположить, что у меня будет возможность продать
или купить их с прибылью.
Достаточно немного подумать, чтобы увидеть, что если информа-
ция о рациональности действий всех сторон представляет собой общее
знание, то этого не может случиться. Продажа существующих ценных
бумаг просто является сложным пари, т.е. сделкой с нулевой суммой
(между индивидами, которые совершенно одинаковы, за исключени-
ем располагаемой информации). Если оба стремятся избежать риска,
они, конечно, никогда не станут участвовать в пари, или, выражаясь в
более общих терминах, продавать или покупать друг у друга ценные бу-
маги в ситуации, когда они располагают одной и той же информаци-
ей. Если они располагают различной информацией, каждый из них
будет считать, что другой располагает определенной информацией,
которой он сам (или она сама) не располагает. Предложение купить или
продать само по себе содержит информацию. Такое предложение само
по себе говорит о том, что предлагающая сторона ожидает получить для
себя какие-то преимущества, что означает потери для другой стороны;
вывод о наличии таких потерь следует из расчетов, проделанных на
основе информации, которой располагает сторона, делающая предло-
жение. Если несколько детализировать этот анализ, легко увидеть, что
на самом деле никакой сделки не произойдет, хотя будет иметь место
некая передача информации в результате выдвижения предложения и
отказа от него. Цена корректируется таким образом, чтобы отражать
информацию, которой располагают все стороны, хотя это не обязатель-
но будет вся информация.
Откровенно говоря, такой результат представляется крайне неверо-
ятным. В качестве объяснения существования торговли ценными бу-
магами и товарными фьючерсами здесь выдвигается только разнород-
ность участников по характеристикам, отличным от информации. Од-
нако характеристики, по которым различаются индивиды, изменяются
относительно медленно, и вряд ли исходя из этого можно объяснить
наличие большого и быстрого оборота финансовых инструментов. Го-
259
воря более обобщенно, роль биржевых спекулянтов и объем ресурсов,
затрачиваемых на информационные услуги, похоже, требует субъектив-
ной убежденности по крайней мере в том, что продажа и купля осно-
ваны на изменениях в информации.
НЕКОТОРЫЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Основной
вывод, вытекающий из данного пространного рассмотрения того, как
используется концепция рациональности в экономическом анализе,
состоит в том, что она содержит чрезвычайно сильные требования к
способности человека собирать информацию и проводить расчеты.
Такого рода поведение несовместимо с ограниченными возможностя-
ми человека, даже преумноженными при помощи использования ис-
кусственных вспомогательных инструментов (которые доселе, как пред-
ставляется, не оказали существенного влияния на производительность
и эффективность процесса принятия решений). Я, безусловно, прини-
маю идею Герберта Саймона (Simon, 1957, ch. 14, 15) о том, как важно
признать, что рациональность ограничена. Я просто пытаюсь показать,
что многие привычные защитные построения, которые используют
экономисты, доказывая, что проблемы принятия решений достаточно
просты, разбиваются, как только мы признаем существование власти
над рынком неполноты рынков.
Но из этого можно вынести еще несколько уроков. Прежде всего
следует отметить, что сочетание рациональности, неполноты рынков
и равновесия в некоторых случаях ведет к очень слабым выводам в том
смысле, что существуют целые континуумы равновесий. Между про-
чим, этот вывод все чаще встречается при анализе игр со структурой,
протяженной во времени; игры являются еще одним примером соци-
ального взаимодействия, так что сходство здесь не удивительно. След-
ствия, вытекающие из этого результата, неясны. С одной стороны,
признание ограничений, налагаемых на рациональность, вероятно,
приведет к сокращению числа возможных равновесий. С другой сто-
роны, проблема может заключаться в самой концепции равновесия.
Похоже, что гипотеза рациональности может привести к выводам,
однозначно противоречащим наблюдаемой реальности. Я уже упоми-
нал о следствии, согласно которому в результате различий в информа-
ции сделки с ценными бумагами могут быть невозможны. Можно вы-
двинуть и другие аналогичные предположения, включая хорошо извест-
ное предположение о том, что деньги не могут лежать на улице,
поскольку их уже должен был кто-то подобрать.
Я предполагаю, что следующим шагом анализа станет введение бо-
лее обоснованных допущений о вычисляемости (computability) при
формулировке экономических гипотез. С этим могут быть связаны из-
вестные затруднения, поскольку, конечно, не все поддается вычисле-
нию, и в этом смысле в рациональном поведении будет неизбежно
присутствовать непредсказуемый элемент. Впрочем, некоторые обра-
дуются такому выводу.
260
БИБЛИОГРАФИЯ
Allais, М. 1979. The so-called Allais paradox and the rational decisions under
uncertainty. In Expected Utility Hypothesis and the Allais Paradox, ed. M.Allais
and O.Hagen, Boston: Reidel.
Arrow, K.L. 1953. Le role des valeurs boursicres dans la repartition la meilleure des
risques. In Econometric, Paris: Centre National de la Resherche Scientifique.
Arrow, K.J. 1979. The property rights doctrine and demand revelation under
incomplete information. In Economics and Human Welfare, ed. M.J.Boskin, New
York: Academic Press.
Aumann, R.J. 1976. Agreeing to disagree. Annals of Statistics 4, 1236—9.
Cass, D. and Shell, K. 1983. Do sunspots matter? Journal of Political Economy 91,
193-227.
Chamberlin, E. 1950. The Theory of Monopolistic Competition. 6th edn, Cambridge,
Mass.: Harvard University Press // Чемберлин Э. Теория монополистической
конкуренции М.: Экономика, 1996.
Coase, R. 1960. The problem of social cost. Journal of Law and Economics 3, 1—44.
Cournot, A.A. 1838. Researches into the Mathematical Principle of the Theory of
Wealth. Translated by N.T.Bacon, New York: Macmillan, 1927.
Debreu, G. 1959. Theory of Value. New York: Wiley.
Debreu, G. 1974. Excess demand functions. Journal of Mathematical Economics 1,
15-23.
Duffle, J.D. 1985. Stochastic equilibria with incomplete financial markets. Research
Paper No. 811, Stanford: Stanford University, Graduate School of Business.
Geanakoplos, J. and Mas-Colell, A. 1986. Real indeterminacy with financial assets.
Paper No. MSRI 717—86, Berkeley: Mathematical Science Research Institute.
Gossen, H.H. 1854. The Laws of Human Relations. Cambridge, Mass.: MIT Press,
1983.
Grunberg, E. and Modigliani, F. 1954. The predictability of social events. Journal of
Political Economy 62, 456—78.
Hicks, J.R. 1946. Value and Capital. 2nd edn, Oxford: Clarendon 11 Хикс Дж. Сто-
имость и капитал. М.: Прогресс, 1988.
Jevons, W.S. 1871. The Theory of Political Economy. 5th edn; reprinted, New York:
Kelley, 1965.
Knight, F. 1921. Risk, Uncertainty, and Profit. Boston: Houghton Mifflin.
Lewis, D. 1969. Convention. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Lucas, R. and Sargent, T. 1981. Rational Expectations and Econometric Practice. 2
vols, Minneapolis: University of Minnesota Press.
Mantel, R. 1974. On the characterization of excess demand. Journal of Economic
Theory 6, 345—54.
Marshall, A. 1920. Principles of Economics. 8th edn; reprinted, New York: Macmillan,
1948 // Маршалл А. Принципы экономической науки. M.: Прогресс, 1993.
Merton, R.K. 1957. The self-fulfilling prophecy. In R.K.Merton, Social Theory and
Social Structure, revised and enlarged edn, Glencoe, Ill.: Free Press.
Mill, J.S. 1848. Principles of Political Economy. London: Longmans, Green, 1909 //
Милль Дж. С. Основы политической экономии. М.: Прогресс, 1980.
Morgenstern, 0. 1935. Vollkommene Voraussicht und wirtschaftliches Gleichgewicht.
Zeitschrift fur Nationalokonomie 6, 337—57.
Riley, J.G. 1979. Informational Equilibrium. Econometrica 47, 331—60.
26/
Shafer, W. and Sonnenschein, H. 1982. Market demand and excess demand functions.
In Handbook of Mathematical Economics, vol. 2, ed. K.J. Arrowand and M. Intri-
ligator, Amsterdam: North-Holland.
Simon, H. Models of Man. New York: Wiley.
Spence, A.M. 1974. Market Signaling. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Sonnenschein, H. 1973. Do Walras’s identity and continuity characterize the class of
community excess demand functions? Journal of Economic Theory 6, 345—54.
Stigler, G.J. 1961. The economics of information. Journal of Political Economy 69,
213—25 // Стиглер Дж. Экономические теории информатизации // Теория
фирмы
Walras, L. 1874. Elements of Pure Economics. Translated by W.Jaffe, London: Alien
& Unwin, 1954 // Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии. М.:
Начала-Пресс, 2000.
Werner, J. 1985. Equilibrium in economics with incomplete financial markets. Journal
of Economic Theory 36, 110-19.
Working, H. 1953. Futures trading and hedging. American Economic Review, 43,
314-43.
ГИПОТЕЗА
ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА
Бертон Мэлкиел
Efficient Market Hypothesis
Burton G. Malkiel
Говорят, что рынок капитала эффективен, если он полностью и
правильно учитывает всю необходимую информацию при определении
курса ценных бумаг. Формальное же определение звучит так: рынок
называется эффективным по отношению к некоему информационно-
му множеству ф, если при разглашении этой информации всем участ-
никам рынка цены на акции не изменяются. Кроме того, эффектив-
ность рынка по отношению к информационному множеству ф предпо-
лагает, что, используя информацию ф, на нем невозможно с выгодой
продать или купить акции.
Вслед за Робертсом (Roberts, 1967) стало принято различать три
уровня эффективности рынка, соответствующие трем разным типам
информационных множеств:
(1) Слабая форма гипотезы эффективного рынка (ГЭР) предпола-
гает, что цены акций полностью отражают всю информацию, содержа-
щуюся в исторических данных об их динамике. Таким образом, инве-
сторы не смогут изобрести такую инвестиционную стратегию, которая
приносила бы им сверхнормальную прибыль, на базе анализа прошлой
динамики цен (этот метод называется «технический анализ»). Именно
такую форму эффективности имеют в виду, когда говорят о гипотезе
«случайных блужданий» (Randon Walk Hypothesis).
(2) Умеренная (полусильная) форма ГЭР предполагает, что текущий
курс акций отражает не только всю историческую информацию об их
динамике, но также и всю общедоступную информацию, имеющую
отношение к акциям данной фирмы. Если рынок эффективен в этом
смысле, то инвесторы не смогут построить сверхприбыльную страте-
гию купли-продажи акций, сколько бы они ни изучали балансовые
отчеты данной фирмы, ее отчеты о прибылях и убытках, объявления
об изменении дивидендов, дроблении акций или любую другую откры-
тую информацию о компании (этот метод называется «фундаменталь-
ный анализ»).
(3) Сильная форма ГЭР предполагает, что в рыночных ценах пол-
ностью отражена любая информация о компании, известная хотя бы
одному участнику рынка. Таким образом, даже те участники рынка,
которые имеют доступ к конфиденциальной информации, не смогли
бы с помощью этой информации получить сверхнормальную отдачу на
263
свои инвестиции. Любая, даже конфиденциальная информация пол-
ностью отражена в рыночных ценах акций.
СЛАБАЯ ФОРМА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА И ГИПОТЕЗА
СЛУЧАЙНЫХ БЛУЖДАНИЙ. Если рынки являются эффективными,
то (технический) анализ закономерностей прошлой динамики цен для
прогнозирования будущего будет бесполезен, поскольку любая инфор-
мация, которую можно извлечь из такого анализа, уже отражена в те-
кущих рыночных ценах. Предположим, что участники рынка уверены,
что на следующей неделе цены на некий товар вырастут вдвое. В этом
случае цена не будет изменяться постепенно, медленно приближаясь
к своему новому равновесному значению, а вырастет немедленно и
скачкообразно. В самом деле, если бы цена не изменилась немедлен-
но и скачкообразно, возникла бы возможность совершения выгодных
арбитражных сделок, и если рынок эффективен, такой возможностью
немедленно воспользовались бы все. Точно так же и с курсом ценных
бумаг: если существует какая-то надежная и сулящая выгоду сезонная
закономерность в динамике курсов акций (например, значительный
рост курсов перед Рождеством), участники рынка начнут набавлять
цены задолго до Рождества, чтобы не осталось никаких неиспользован-
ных возможностей для получения арбитражной прибыли. Самуэльсон
(Samuelson, 1965) и Манделброт (Mandelbrot, 1966) убедительно дока-
зали, что если потоку информации ничто не препятствует и трансак-
ционных издержек не существует, то завтрашнее изменение цен на
спекулятивных рынках будет отражать только завтрашние «новости» и
не будет зависеть от сегодняшних изменений цен. Но «новости» пото-
му и новости, что они непредсказуемы, и потому возникающее в ре-
зультате их изменение цен тоже будет непредсказуемым и случайным.
Термин «случайное блуждание» обычно используется в финансовой
литературе для характеристики таких рядов цен, где все изменения
представляют собой случайные отклонения от предыдущих цен. Таким
образом, «случайное блуждание» цен означает, что их будущие изме-
нения никак не связаны с прошлыми изменениями. (Более строгое
определение формулируется так: модель случайных блужданий пред-
полагает, что доходы от инвестиций в ценные бумаги не имеют серий-
ной корреляции и распределения их вероятностей инвариантны во
времени.) Считается, что термин «случайные блуждания» был впервые
использован в переписке с читателями, опубликованной в журнале
«Nature» в 1905 г. (см.: Pearson and Rayleigh, 1905). Там обсуждалась
проблема, какой должна быть оптимальная процедура поиска пьяно-
го, которого последний раз видели посреди поля. Ответ заключался в
том, что начать нужно с того самого места, где его видели последний
раз. Эта точка является несмещенной оценкой будущего местонахож-
дения пьяного, так как его блуждания будут предположительно непред-
сказуемы и случайны.
Самое первое эмпирическое исследование по оценке гипотезы слу-
чайных блужданий было выполнено Башелье (Bachelier, 1900). Он при-
шел к выводу, что динамика товарных цен соответствует принципу
264
случайных блужданий, хотя сам этот термин у него еще не использо-
вался. Позже этот вывод был подтвержден и другими авторами, кото-
рые работали с другими временнйми рядами, в частности Уоркингом
(Working, 1934 — различные временные ряды), Каулзом и Джонсом
(Cowles and Jones, 1937 — курсы акций американского фондового рын-
ка) и Кендаллом (Kendall, 1953 — курсы акций и цены на товары в
Англии). Во всех этих работах было показано, что серийная корреля-
ция между последовательными изменениями цен несущественно отли-
чалась от нуля. Робертс (Roberts, 1959) пришел к выводу, что времен-
ной ряд, составленный из последовательности случайных чисел, вы-
глядит так же, как и временной ряд курсов акций американского
фондового рынка, а Осборн (Osborne, 1959) установил, что движение
курсов акций очень напоминает случайное броуновское движение фи-
зических частиц. Он также показал, что логарифмы изменений цен
независимы друг от друга.
Авторы более поздних эмпирических работ, используя другие ме-
тоды анализа и другие исходные данные, пытались отыскать более
сложные закономерности динамики цен на спекулятивных рынках.
Так, Грэйнджер и Моргенштерн (Granger and Morgenstern, 1963) пы-
тались искать их с помощью такого мощного метода, как спектраль-
ный анализ, но сколько-нибудь устойчивых, повторяющихся законо-
мерностей в движении биржевых курсов им найти так и не удалось.
Фама (Fama, 1965) не ограничился анализом коэффициентов серий-
ной корреляции (которые были близки к нулю), он пробовал исследо-
вать корреляцию приростов цен с разными лагами, а также выполнил
ряд непараметрических тестов на наличие серийности. Фама и Блум
(Fama and Blume, 1966) экспериментировали с разными фильтрами —
например, они рассматривали модель купли-продажи, где сигналы к
покупке (продаже) генерируются некоторыми повышательными (пони-
жательными) движениями цен относительно последних «ям» («пиков»),
но получить сверхприбыль так и не смогли. Другие исследователи пы-
тались имитировать применение некоторых более сложных приемов
технического анализа динамики курсов акций на компьютерах, но вся-
кий раз получалось, что с помощью этих приемов нельзя построить
стратегию купли-продажи акций, приносящую сверхнормальную при-
быль. Солник (Solnik, 1973) измерял коэффициенты серийной корре-
ляции по данным о ежедневных, недельных и месячных изменениях
цен по девяти странам, но ничего, кроме чрезвычайно слабых зависи-
мостей, не нашел и вынужден был признать, что на этой основе по-
строить прибыльную инвестиционную стратегию нельзя.
Хотя эмпирический анализ всякий раз с удивительным постоян-
ством приводит к выводу о случайности изменения цен, фондовые
рынки не вполне соответствуют представлениям статистиков о том, как
должно выглядеть «идеальное» случайное блуждание. Выше мы уже
упоминали о том, что, хотя коэффициенты серийной корреляции все-
гда оказываются близкими к нулю, некоторые слабые зависимости все
же удавалось найти. Хотя тесты на наличие серийности показывали
лишь незначительные отклонения от случайности, слабая тенденция к
265
сохранению серийных закономерностей в дневных данных об измене-
ниях цен все же существует. Мертон (Merton, 1980) показал, что изме-
нения в дисперсии доходностей (цен) акций можно предсказать по их
прошлой дисперсии. Такие отклонения от чисто случайного блужда-
ния не противоречат ГЭР в слабой форме, которая лишь предполага-
ет, что на эффективном рынке не должно быть неиспользованных воз-
можностей извлечения арбитражной прибыли. Тем не менее, модель
случайных блужданий в строгом смысле слова здесь не работает. Рас-
пределения вероятности доходности акции не являются инвариантны-
ми при сдвигах по времени, а значит, в качестве модели динамики курса
акций лучше подошло бы не случайное блуждание, а что-то иное — ска-
жем, модель субмартингала (Mandelbrot, 1966).
Вдобавок в рядах биржевых курсов были обнаружены сезонные
эффекты, нарушающие предположение о случайных блужданиях. Кайм
(Keim, 1983) и другие показали существование «январского эффекта»,
выражающегося в том, что в течение первых дней года доходность ак-
ций (особенно мелких фирм) ненормально высока. Френч (French,
1980) и другие обнаружили так называемый эффект уик-энда, который
заключается в том, что с момента закрытия торговли в пятницу до во-
зобновления торговли в понедельник средняя доходность акций отри-
цательна. О том, что сезонные эффекты присутствуют также на неко-
торых международных рынках, писали Галтекинс (Gultekins,1983),
Жаффе и Уэстерфилд (Jaffe and Westerfield, 1984). Но отклонения от
случайности обычно крайне малы, и инвестор, который несет трансак-
ционные издержки, не может построить прибыльную инвестиционную
стратегию на основе таких аномалий. Таким образом, хотя гипотеза
случайных блужданий не всегда соблюдается строго, существующие
отклонения от случайности недостаточно велики, чтобы можно было
говорить о наличии каких-то неиспользованных инвестиционных воз-
можностей. Иными словами, эмпирические данные весомо свидетель-
ствуют в пользу слабой формы гипотезы эффективного рынка. Про-
шлая динамика биржевых курсов не дает инвесторам какой-либо ин-
формации, которая позволила бы им добиться лучших результатов, чем
при использовании простейшей инвестиционной стратегии «купил и
держи».
УМЕРЕННАЯ (ПОЛУСИЛЬНАЯ) ФОРМА ЭФФЕКТИВНОСТИ.
Слабая форма ГЭР получила широкое признание в финансовом сооб-
ществе, где к техническому анализу никогда не относились с особым
уважением. Более сильное утверждение, что вся общедоступная инфор-
мация уже отражена в текущих рыночных ценах, вызвало куда более
активное сопротивление со стороны профессиональных инвесторов,
среди которых фундаментальный анализ общедоступной информации
для выработки инвестиционных решений получил широкое признание.
Тем не менее, эмпирические данные дают основания полагать, что
общедоступная информация учитывается в текущих рыночных ценах
настолько быстро, что с помощью фундаментального анализа вряд ли
удастся получить выгоду.
266
Для того чтобы выяснить скорость приспособления рыночных цен
к новой информации, использовались разные методы. Фама, Фишер,
Дженсен и Ролл (Fama, Fisher, Jensen and Roll, 1969) решили посмот-
реть, какой эффект оказывает дробление акций на их курс. Хотя само
по себе дробление никакого экономического эффекта не дает, одно-
временно с ним или чуть спустя обычно происходит повышение ди-
видендов, которое сообщает рынку, что руководство предприятия уве-
рено в его будущем успехе. Таким образом, хотя дробление обычно
действительно приводит к повышению курса акций, причина этого, по-
видимому, в том, что рынок полностью и немедленно учитывает ин-
формацию, содержащуюся в объявлении о дроблении. Если бы о пред-
стоящем дроблении было известно заранее, можно было бы заработать
большие деньги, но никаких данных о том, что кто-то сумел зарабо-
тать сверхвысокие доходы уже после того, как о дроблении было пуб-
лично объявлено, нет. На самом деле, в тех случаях, когда вслед за дроб-
лением не происходило повышение дивидендов, акции теряли в цене —
по-видимому, рынок воспринимал неожиданный отказ фирмы увели-
чить размер дивидендов как сигнал, что с ней что-то не так. То же
происходит и с объявлениями о слияниях: как только публикуется та-
кое объявление, цены на акции подскакивают, причем иногда доволь-
но существенно, особенно если держателям акций приобретаемой фир-
мы обещана премия, но рынок, видимо, реагирует мгновенно, скачко-
образно и именно на само объявление, полностью учитывая
содержащуюся в нем информацию. Во всяком случае, Додду (Dodd,
1981) не удалось найти никаких аномальных изменений в курсах ак-
ций уже после публикаций объявлений о предстоящих слияниях.
Скоулс (Scholes, 1972) рассматривал, какое влияние на курс акций
оказывает выброс на вторичный рынок крупных партий акций. Среди
профессионалов-биржевиков бытует мнение, что такие выбросы вызы-
вают временное понижение цен, которое помогает разместить крупную
партию, превосходящую обычный объем продаж. Однако подобный
временный спад был бы несовместим с эффективностью рынка. Ско-
улс выдвигает гипотезу, что такое снижение будет не временным, а по-
стоянным, однако отражать оно будет не общедоступную информацию
о том, что на рынок поступила крупная партия акций, а конфиденци-
альную информацию о том, что дела у компании вскоре пойдут хуже
(ведь маклеры, оперирующие крупными пакетами акций, обычно име-
ют доступ к внутренней информации фирмы). Проведя эмпирический
анализ, Скоулс пришел к выводу, что падение курса в таких случаях
носит постоянный характер, особенно когда продажи осуществлялись
инсайдерами, так что гипотеза о временном характере снижения кур-
сов должна быть отвергнута. Краус и Столл (Kraus and Stoll, 1972), од-
нако, не вполне согласились с этим выводом. Анализируя данные о
колебаниях курсов в течение дня, они обнаружили-таки некоторые
признаки обратного движения цен и существования арбитражных воз-
можностей. Правда, по времени это обратное движение укладыва-
лось всего в 15 минут — такая скорость реакции рынка свидетельству-
ет о его поразительно высокой эффективности.
267
Хотя значительное большинство исследователей поддерживают уме-
ренную ГЭР, некоторые приходят к другому результату. Например,
Болл (Ball, 1978) обнаружил, что реакция биржевых курсов на объяв-
ление о дивидендах свидетельствует о том, что эта информация учи-
тывается не полностью, поскольку в период, следующий за таким
объявлением, отклонение реальной доходности от нормальной с по-
правкой на риск систематически оказывается ненулевым. Болл объяс-
нил это расхождение неадекватностью модели оценки финансовых
активов (capital asset pricing model — САРМ), используемой для учета
разницы в риске, и порекомендовал ряд мер для уменьшения смещен-
ности оценки. Его рекомендации попробовал выполнить Уоттс (Watts,
1978), но это не помогло — доходность все равно систематически ос-
тавалась сверхнормальной. Рэнделман, Джонс и Латане (Rendleman,
Jones and Latane, 1982) также обнаружили существование связи между
непредвиденно высокими квартальными доходами фирмы и избыточ-
ной доходностью ее обычных акций после даты объявления дивиден-
дов. Роллу (Roll, 1984) удалось показать, что цены фьючерсных кон-
трактов на апельсиновый сок в краткосрочном аспекте информацион-
но неэффективны из-за того, что по правилам биржи движение
дневных цен ограничивается определенным потолком, но во всем ос-
тальном они полностью отражают всю известную информацию. Что ка-
сается других отклонений от нормальности, то их стабильность во вре-
мени доказать не удалось; к тому же, когда такие отклонения возника-
ют, они обычно настолько малы, что только профессиональный
брокер-дилер мог бы извлечь из них экономическую прибыль. Таким
образом, осталось посмотреть, достаточно ли устойчивы или стабиль-
ны эти аномалии, чтобы перевесить обширный эмпирический матери-
ал, подтверждающий умеренную ГЭР. Свидетельства в пользу того, что
рынок почти мгновенно перерабатывает всю новую информацию, на-
столько убедительны, что если не все, то, по крайней мере, подавля-
ющее большинство специалистов по эконометрическим исследовани-
ям финансовых рынков сегодня с этим согласны.
СИЛЬНАЯ ФОРМА ГИПОТЕЗЫ ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА.
Итак, как показали упомянутые выше исследования, объявления о
дроблении акций, об увеличении дивидендов и о слияниях могут ока-
зать значительное влияние на курс акций. А раз так, то инсайдеры,
имеющие доступ к такой информации, могут попытаться использовать
ее в собственных интересах, прежде чем она будет объявлена публич-
но, что, как показал Жаффе (Jaffe, 1974), и происходит на самом деле.
Хотя закон такое использование обычно запрещает, тот факт, что ры-
нок зачастую предвидит такие объявления (по крайней мере, частич-
но), говорит о том, что возможность нажиться на доступе к конфиден-
циальной информации существует и кое-кто ею пользуется. Таким об-
разом, самая сильная форма ГЭР явно опровергается. Тем не менее,
есть много данных о том, что рынок подходит достаточно близко к эф-
фективности в сильной форме.
268
Был проведен целый ряд исследований с использованием реальных
данных, которыми пользуются профессиональные инвестиционные
менеджеры. В целом эти исследования показали, что случайным обра-
зом сформированные портфели или индексы курсов акций, не вошед-
ших в управляемый инвестиционный портфель, приносят не меньшую,
а то и большую чистую прибыль, чем портфели, управляемые профес-
сионалами. Каулз (Cowles, 1933) внимательно проанализировал резуль-
таты выборки компаний, оказывающих финансовых услуги, и профес-
сиональных инвесторов, но никаких доказательств того, что, восполь-
зовавшись услугами этих фирм и инвесторов, можно получить прибыль
большую, чем в среднем по рынку, он не нашел. Френд и его соавто-
ры (Friend et al., 1962) показали, что эффективность среднего взаим-
ного фонда незначительно отличается от эффективности неуправля-
емого портфеля с аналогичной структурой активов. Дженсен (Jensen,
1969) измерял эффективность взаимных фондов с поправкой на риск,
используя для расчета тех точек, где риск и доходность уравновешива-
ют друг друга, модель ценообразования на капитальные активы. Он
приходит к выводу, что, хотя на валовых данных тенденция к получе-
нию фондами положительных сверхдоходов прослеживается, любое
сравнительное преимущество использования профессиональных менед-
жеров исчезает после выплаты им вознаграждения за работу. Заметим,
что ГЭР вовсе не исключает возможность получения небольших сверх-
нормальных доходов на валовом уровне, чтобы был стимул добывать
нужную информацию. Гроссман и Стиглиц (Grossman and Stiglitz,
1980), а также Корнелл и Ролл (Cornell and Roll, 1981) показали, что
разумное рыночное равновесие должно оставлять какие-то стимулы для
анализа. У тех, кто приобретает дорогостоящую информацию, валовой
доход будет выше среднего, но чистый доход — не выше среднего.
И подавляющее большинство данных о финансовых результатах про-
фессиональных инвесторов свидетельствует именно о том, что чистые
доходы у них находятся на среднем уровне или даже ниже. Например,
в течение 20 лет до 1984 г. 2/3 профессиональных менеджеров пенси-
онных фондов США уступали по своим финансовым результатам не-
управляемому фондовому индексу «Стандард энд Пурс» для акций
500 компаний. Кроме того, если даже кому-то и удавалось добиться вы-
дающихся результатов, этот успех, как правило, носил однократный ха-
рактер, т.е. если какой-то профессиональный менеджер сорвал неожи-
данно высокий куш в одном периоде, он точно с такой же вероятнос-
тью в следующем периоде может остаться в минусе. Это, конечно, не
значит, что гениальных инвестиционных менеджеров не может сущест-
вовать в принципе, но, по крайней мере, встречаются они крайне ред-
ко.
НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ АНОМАЛИИ. В целом эмпирические сви-
детельства в пользу ГЭР очень сильны. Вероятно, ни одна другая эко-
номическая или финансовая гипотеза не удостаивалась столь тща-
тельной эмпирической проверки, а потому не удивительно, что, хотя в
целом гипотеза эту проверку выдержала, отдельные аномалии, проти-
269
воречащие самым сильным формам ГЭР, все же встречались. Базу
(Basu, 1977, 1983) показал, что акции, у которых отношение цены к
доходу невелико, приносят в среднем более высокие доходы с учетом
риска, чем акции с высоким уровнем этого показателя. Банц (Banz,
1981) показал, что, если инвестировать в портфели акций сравнитель-
но мелких фирм, можно выйти на долгосрочную доходность, которая
будет существенно превышать нормальную (с поправкой на риск),
причем, как мы уже говорили, значительная часть этой сверхприбыли
приходится на начало января. Известно, что трансакционные издерж-
ки у более мелких фирм выше средних, но за счет одного только этого
фактора эффект размера, по-видимому, не объяснить. Между тем эф-
фект размера оказался достаточно живуч, т.е. пусть в разной степени,
но обнаруживается практически всегда, и, вероятно, как-то связан с
тем, что акции с низким отношением цены к доходам обладают более
высокой доходностью. Разумеется, не следует забывать и то, что все эти
выводы о ненормально высоких прибылях могут опровергать не столько
гипотезу рыночной эффективности, сколько ту или иную модель оцен-
ки финансовых активов, поскольку обе эти гипотезы всегда проверя-
ются вместе. Таким образом, мы не можем сказать, действительно ли
рассчитанная сверхприбыль свидетельствует о неэффективности рын-
ка или это просто результат использования неадекватной модели оцен-
ки финансовых активов как метода измерения риска.
Автор другого эмпирического исследования, опровергающего
концепцию эффективного рынка, Шиллер (Shiller, 1981), утверждал,
что колебания агрегированного индекса цен фондовой биржи слиш-
ком велики, чтобы их можно было объяснить реакцией рынка на
предстоящие изменения дивидендных выплат, поскольку колебания
самих дивидендов происходят в значительно более узких пределах.
Таким образом, на частный вопрос о том, могут или нет отдельные
инвесторы или какая-то инвестиционная стратегия победить рынок,
он отвечает тем, что вообще отвергает гипотезу эффективного рын-
ка для фондового рынка в целом. Однако выполненные Шиллером
расчеты — это проверка не одной только гипотезы эффективного
рынка, но и правильности разработанной им модели дивидендного
процесса. Марш и Мертон (Marsh and Merton, 1983) построили иную
модель поведения дивидендов и курса акций и показали, что обна-
руженная Шиллером «чрезмерная неустойчивость» курсов акций
есть следствие неадекватности его модели дивидендного процесса,
а не результат неэффективности рынка. К аналогичному заключе-
нию пришел и Клейд он (Kleidon, 1986). Тем не менее, история раз-
личных аномалий, бумов и крахов, возникающих на спекулятивных
рынках (Malkiel, 1985), начиная с луковиц тюльпанов и до современ-
ных «голубых фишек», заставляет автора этих строк усомниться в
том, что существующая картина рыночных курсов акций дает самые
лучшие оценки дисконтированной стоимости из всех, которые толь-
ко возможны.
Приводились и другие примеры неэффективности (см. обзоры в:
Jensen, 1978; Ball, 1978). Я и сам (Malkiel, 1980) утверждал, что акции
270
«закрытых» инвестиционных фондов* (даже тех, которые являются, по
существу, держателями «рыночных» портфелей) в течение многих лет
оценивались неэффективно и приносили инвесторам прибыли, намно-
го превышающие те, которые можно было бы получить, если непо-
средственно инвестировать средства в покупку акций компаний, вхо-
дящих в хорошо диверсифицированный портфель этих фондов.
Однако этот последний пример не столько убеждает меня в сущест-
вовании обширных областей, где рынок неэффективен, сколько под-
водит к прямо противоположному выводу. Если некая область неэф-
фективных цен, которая может быть выявлена рынком и использова-
на с заведомо положительным результатом, действительно существует,
то максимизирующие прибыль биржевые маклеры и инвесторы посте-
пенно, через покупки и продажи доведут рыночные цены до уровня
эффективных и тем самым устранят возможность получения сверхпри-
былей. Так получилось и с «закрытыми» фондами: со временем инвес-
торы поняли, что, когда акции «закрытых» фондов продаются и поку-
паются с дисконтом**, они оказываются чрезвычайно выгодными, и по-
степенно дисконты по таким акциям были отменены.
Так что мы опять вернулись на позиции ГЭР. Ясно, что время от
времени неэффективные цены могут возникать и даже какое-то время
сохраняться, что на рынках могут возникать какие-то эксцессы и мод-
ные поветрия. Однако со временем любые такие перекосы в рыночных
ценах будут исправлены. Можно не сомневаться, что в будущем, ког-
да появятся более совершенные базы данных и методы эмпирических
проверок, мы еще не раз будем сталкиваться с отклонениями от эф-
фективности и, возможно, сумеем лучше понять их причины. Но я
подозреваю, что, как бы далеко ни зашел прогресс, он не сумеет опро-
вергнуть веры экономистов в то, что фондовый рынок необычайно
эффективно использует информацию.
БИБЛИОГРАФИЯ
Bachelier, L. 1900. Theorie de la speculation. Annales de 1’Ecole Normale Superieure,
3rd series, 17, 21—86. Trans, by A.J. Boness in The Random Character of Stock
Market Prices, ed. P.H. Cootner, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1967.
Ball, R. 1978. Anomalies in relationships between securities’ yields and yield-surrogates.
Journal of Financial Economics 6(2—3), 103—26, June—September, 1981.
* «Закрытый» инвестиционный фонд — инвестиционное учреждение, выпус-
кающее акции как акционерная компания, т.е. это инвестиционный фонд с
фиксированным капиталом. Его акции могут обращаться на рынке, но но-
вых вкладчиков за счет размещения акций новых выпусков (как это делают,
например, взаимные фонды, которые относятся к «открытому» типу) он не
привлекает. — Примеч. пер.
** То есть акции продаются и покупаются по номиналу за вычетом дисконта,
который представляет собой будущее вознаграждение, например процент-
ный доход, который еще только предстоит получить по этим акциям, а по-
гашаются по номиналу. — Примеч. пер.
271
Banz, R. 1981. The relationship between return and market value of common stocks.
Journal of Financial Economics 9(1), March, 3—18.
Basu, S. 1977. Investment performance of common stocks in relation to their price
earnings ratios: a test of the efficient markets hypothesis. Journal of Finance 32(3),
June, 663—82.
Basu, S. 1983. The relationship between earnings’ yield, market value and the return
of NYSE common stocks: Further evidence. Journal of Financial Economics 12(1),
June, 129—56.
Cornell, B. and Roll, R. 1981. Strategies for pairwise competitions in markets and
organizations. Bell Journal of Economics 12(1), Spring, 201-13.
Cowles, A. 1933. Can stock market forecasters forecast? Econometrica 1(3), July, 309-
24.
Cowles, A. and Jones, H. 1937. Some posteriori probabilities in stock market action.
Econometrica 5(3), July, 280-94.
Dodd, P. 1981. The effect on Market Value of Transactions in the Market for Corporate
Control. Proceedings of Seminar on the Analysis of Security Prices, CRSP.
Chicago: University of Chicago, May.
Fama, E. 1965. The behaviorof stockmarket prices. Journal of Business 38(1), January,
34-105.
Fama, E. and Blume, M. 1966. Filter rules and stock market trading. Security Prices:
A Supplement, Journal of Business 39(1), January, 226-41.
Fama, E., Fisher, L., Jensen, M. and Roll, R. 1969. The adjustment of stock prices to
new information. International Economic Review 10(1), February, 1-21.
French, K. 1980. Stock returns and the weekend effect. Journal of Financial Economics
8(1), March, 55-69.
Friend, I., Brown, F., Herman, E. and Vickers, D. 1962. A Study of Mutual Funds.
Washington, DC: US Government Printing Office.
Grander, D. and Morgenstern, O. 1963. Spectral analysis of New York Stock Market
prices. Kyklos 16, January, 1—27.
Grossman, S. and Stiglitz, J. 1980. On the impossibility of informationally efficient
markets. American Economic Review 70(3), June, 393-408.
Gultekin, M. and Gultekin, N. 1983. Stockmarket seasonality, international evidence.
Journal of Financial Economics 12(4), December, 469—81.
Jaffe, J. 1974. The effect of regulation changes on insider trading. Bell Journal of
Economics and Management Science 5(1), Spring, 93-121.
Jaffe, J. and Westerfield, R. 1984. The week-end effect in common stock returns: the
international evidence. Unpublished manuscript, University of Pennsylvania,
December.
Jensen, M. 1969. Risk, the pricing of capital assets, and the evaluation of investment
portfolios. Journal of Business 42(2), April, 167-247.
Jensen, M. 1978. Some anomalous evidence regarding market efficiency. Journal of
Financial Economics 6(2—3), June—September, 95—101.
Keim, D. 1983. Size related anomalies and stock return seasonality: further empirical
evidence. Journal of Financial Economics 12(1), June, 13-32.
Kendall, M. 1953. The analysis of economic time series. Part I: Prices. Journal of the
Royal Statistical Society 96(1), 11—25.
Kleidon, A. 1986. Variance bounds tests and stock price valuation models. Journal of
Political Economy 94(5), October, 953—1001.
Kraus, A. and Stoll, H. 1972. Price impacts of block trading on New York Stock
Exchange. Journal of Finance 27(3), June, 569.
272
Malkiel, В. 1980. The Inflation-Beater’s Investment Guide. New York: Norton.
Malkiel, B. 1985. A Random Walk Down Wall Street. 4th edn, New York: Norton.
Mandelbrot, B. 1966. Forecasts of future prices, unbiased markets, and martingale
models. Security Prices: A Supplement, Journal of Business 39(1), January, 242—
55.
Marsh, T. and Merton, R. 1987. Aggregate dividend behaviour and its implications for
tests of stock market rationality. Journal of Business 60(1), January, 1 — 10.
Merton, R. 1980. On estimating the expected return on the market: and exploratory
investigation. Journal of Financial Economics 8(4), December, 323—61.
Osborne, M. 1959. Brownian motions in the stock market. Operations Research 7(2),
March/April, 145-73.
Pearson, K. and Rayleigh, Lord. 1905. The problem of the random walk. Nature 72,
294, 318, 342.
Rendleman, R., Jones, C. and Latane, H. 1982. Empirical anomalies based on
unexpected earnings and the importance of risk adjustments. Journal of Financial
Economics 10(3), November, 267—87.
Roberts, H. 1959. Stock market ‘patterns’ and financial analysis: methodological
suggestions. Journal of Finance 14(1), March, 1-10.
Roberts, H. 1967. Statistical versus clinical prediction of the stock market. Unpublished
manuscript, CRSP, Chicago: University of Chicago, May.
Roll, R. 1984. Orange juice and weather. American Economic Review 74(5), December,
861-80.
Samuelson, P. 1965. Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly.
Industrial Management Review 6(2), Spring, 41—9.
Scholes, M. 1972. The market for securities; substitution versus price pressure and the
effects of information on share prices. Journal of Business 45(2), April, 179—211.
Shiller, R.J. 1981. Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes
in dividends? American Economic Review 71(3), June, 421—36.
Solnik, B. 1973. Note on the validity of the random walk for European stock prices.
Journal of Finance 28(5), December, 1151-9.
Thompson, R. 1978. The information content of discounts and premiums on closed-
end fund shares. Journal of Financial of Economics 6(2—3), June—September,
151-86.
Watts, R. 1978. Systematic ‘abnormal’ returns after quarterly earnings announcements.
Journal of Financial Economics 6(2—3), June—September, 127—50.
Working, H. 1934. A random difference series for use in the analysis of time series.
Journal of the American Statistical Association 29, March, 11-24.
ПРАВОМОЧИЯ
Хилел Стайнер
Entitlements
Hillel Steiner
В сильной форме «правомочное требование» — это то, что одна сто-
рона должна другой. Должна она может быть либо выполнить какое-
то действие — например, удалить зуб, если речь идет о стоматологе и
пациенте, либо, наоборот, воздержаться от каких-либо действий, за-
трагивающих субъекта правомочий, — например, не ходить на чужую
территорию. Сильное правомочие предполагает наличие двух сторон,
у одной из которых есть право что-либо требовать, а у другой — соот-
ветствующая обязанность это требование выполнить. Обычно лицо,
имеющее право что-либо требовать, т.е. лицо, предъявляющее право-
мочное требование, обладает также сопутствующим правом отказаться
от своего требования, т.е. освободить другую сторону от ее обязаннос-
ти, или, наоборот, инициировать процедуру принуждения к выполне-
нию этой обязанности. Другая ситуация, когда возникает сильное пра-
вомочное требование (хотя этот случай, скорее, вторичен и не все его
признают), — это случай, когда такое требование возникает примени-
тельно к третьей стороне, являющейся бенефициаром отношений «пра-
ва — обязанности» между двумя другими сторонами. В качестве при-
мера можно привести бенефициара страхового полиса. Третьи сторо-
ны, как правило, не уполномочены ни отказаться от своего права, ни
принудить к исполнению обязательства, поскольку они, строго гово-
ря, не являются субъектами, перед которыми существует обязательство.
Более слабая форма правомочия относится к тем действиям
субъекта, которые хотя и не защищены непосредственными обязатель-
ствами других субъектов, но, тем не менее, находят широкое косвен-
ное подтверждение в обязанностях этих субъектов воздержаться от
вмешательства. Например, никто не обязан пускать к себе посторон-
них позвонить по телефону, однако если человек, который хочет по-
звонить по телефону, является жертвой насилия, если его обокрали
или ограбили, то владелец телефона — так, во всяком случае, приня-
то считать — не должен чинить такому человеку препятствий,
т.е. существует некая достаточно сильная (хотя и не полная) гарантия
того, что такому человеку будет разрешено позвонить. Однако подоб-
ное правомочие все-таки не дает стопроцентной гарантии, посколь-
ку оно не защищено правом, — в частности, если по телефону уже
кто-то разговаривает, оно не дает права преимущественного доступа
к телефону.
274
Помимо сильных и слабых правомочий существуют также свободы,
которые, по существу, ничем не защищены. Свободы — это такие дей-
ствия, от которых субъект не обязан воздерживаться, но которые не
защищены прямыми или сколько-нибудь обширными косвенными
обязанностями других субъектов не чинить препятствий. Таким обра-
зом, можно сказать, что сильные правомочия субъекта совместно об-
разуют сферу его прав собственности, тогда как слабые правомочия и
незащищенные свободы образуют сферу деятельности, в рамках кото-
рой субъект реализует полномочия и привилегии, предоставляемые
правом собственности. Обычно именно сильные правомочия ставятся
во главу угла при выработке правовых норм, а слабые правомочия и
незащищенные свободы определяются по остаточному принципу.
Правомочия могут быть как юридическими, так и моральными.
Юридические правомочия обычно отражают разнообразные требования
традиций, моральных принципов, судебных решений и государствен-
ной политики. Моральные правомочия, с другой стороны, обычно
выводятся или обосновываются исходя из некоторого базового прин-
ципа, заложенного в моральном кодексе. Природа такого выведения
или обоснования определяется типом соответствующего кодекса. Во
многих кодексах, построенных вокруг какой-либо ценности (например,
в моральном кодексе утилитаристском), правомочия инструментальны
по своему характеру, т.е. решение вопроса о том, кто, кому и что дол-
жен, зависит от сравнительной величины того вклада, который вносит
выполнение того или иного обязательства в реализацию соответству-
ющей ценности (в данном случае — пользы). При этом изменение
объективных условий максимизации пользы дает основания для того,
чтобы изменить содержание правомочий и их распределение между
членами общества. В кодексах, предполагающих наличие множества не-
зависимых ценностей, правомочия обычно выводятся из принципа
справедливости. Полученное последним способом множество правомо-
чий имеет внутреннюю ценность, а не только инструментальную, хотя
нормативный статус этих правомочий зависит от относительной важ-
ности справедливости по отношению к другим ценностям, заложен-
ным в основу кодекса. В подобных кодексах главное различие между
моральными обязательствами, которые (как, например, доброта) не
связаны с какими-либо правомочиями, и юридическими обязательст-
вами, с ними связанными, заключается в том, что только от последних
можно отказаться и только их исполнения можно потребовать прину-
дительно.
Философские проблемы правомочий обсуждаются в спорах между
приверженцами различных теорий справедливости. Теории эти разли-
чаются тем, какие нормы предлагаются в них для определения того, кто,
что и кому должен. Хотя все они признают классические формальные
условия справедливости — «воздавать каждому должное» и «в сходных
ситуациях поступать сходным образом», — в них во всех по-разному
понимается, что есть «должное» и что считать «сходными ситуациями».
Процедурные и содержательные критерии, которые в разных теориях
предлагались для определения «правомочных требований субъекта»,
275
включали следующее: относительная нуждаемость, продуктивность, рав-
ная свобода, равная полезность, личная моральная ценность, беспри-
страстность, личная неприкосновенность, первоначальная договорен-
ность и т.д. Совершенно очевидно, что природа и распределение пра-
вомочий, вытекающих из каждого такого критерия, отнюдь не
самоочевидны, и идентификация критериев, следовательно, требует на-
личия вспомогательных посылок, вытекающих из разных источников —
психологических теорий, теорий морального и рационального выбора
и из концептуального анализа самих критериев. Верно также и то, что
не все такие критерии являются необходимыми и достаточными: при
наличии подходящего набора посылок некоторые из них выводятся из
других.
Помимо распределительных норм, теории справедливых правомо-
чий могут различаться еще по целому ряду параметров. Некоторые из
таких различий логически обусловлены природой самих норм, другие
никак с ними не связаны. Примером может служить определение
объектов, которые должны распределяться в соответствии с заданным
критерием. В качестве таковых выдвигались любые блага, приносящие
пользу, средства производства, природные ресурсы, рента, обусловлен-
ная особой квалификацией или талантом, и даже части человеческого
тела. То, что субъект может делать с вещами, в отношении которых он
обладает сильными правомочиями — т.е. перечень слабых правомочий
и незащищенных правами свобод, которыми располагает субъект, —
в основном зависит от того, какими сильными правомочиями облада-
ют другие субъекты. Сложная структура дозволенных действий, обра-
зуемая совместно теми правами, которыми субъект обладает по отно-
шению к другим, и теми правами, которыми обладают другие в отно-
шении субъекта, образует ту сферу действий, в рамках которых каждый
человек осуществляет эти права. Тем самым определяются и соответ-
ствующие сферы рыночной, государственной и благотворительной де-
ятельности.
Третьим параметром или аспектом, по которому происходит диф-
ференциация теорий справедливых правомочий, является охват субъек-
тов, обладающих правомочиями. Взрослых людей к классу этих субъек-
тов права относят все теории. Различия начинаются тогда, когда вста-
ет вопрос о том, распространяются ли те или иные распределительные
нормы на несовершеннолетних, лиц, не являющихся членами данно-
го сообщества, на умерших (в отношении завещаний), на зачатых, но
еще не рожденных детей (проблема абортов), на будущие поколения
(проблемы накопления капитала и сохранения природы) и животных.
И здесь природа и толкование критерия, на базе которого происходит
распределение правомочий в рамках той или иной теории, как прави-
ло, позволяют очертить и круг правомочных лиц в соответствии с дан-
ной теорией.
В свете множественности аспектов, по которым происходит диф-
ференциация, классификация — не говоря уже об оценке — теорий
справедливых правомочий представляет собой достаточно сложную
задачу. Один (хотя далеко не единственный) важный аспект, по кото-
276
рому многие из них можно сравнивать, — это то, какой простор они
оставляют для индивидуального выбора. Так, теории можно выстроить
по порядку: от тех, которые предписывают только некоторый началь-
ный набор правомочий (позволяющий после этого людям распоряжать-
ся этими правомочиями, как им будет угодно), до теорий, которые тре-
буют постоянного — при необходимости и принудительного — приве-
дения содержания правомочий и их распределения в соответствие с
некоторыми нормами. Однако даже такой способ упорядочения кон-
курирующих теорий правомочий следует признать не полностью объек-
тивным, поскольку он не учитывает разнообразных последствий огра-
ничений, налагаемых разным исходным содержанием или распределе-
нием правомочий.
Таким образом, остается открытым вопрос о том, в каком месте
этого спектра находятся теории, требующие единогласия, рассматри-
вающие исходное правомочие каждого человека в качестве права вето
в отношении общественного или конституционного контракта. Подоб-
ное правомочие можно, в свою очередь, вывести из некоторых толко-
ваний равной свободы, личной неприкосновенности или отсутствия
личной дискриминации. Или оно само может быть принято в качестве
интуитивно приемлемого фундаментального постулата, из которого
выводится более сложное множество правомочий. Вопрос о том, как
относится теория первоначального договора к индивидуальному выбо-
ру — поощряет его или ограничивает, — зависит от того, как она трак-
тует условия такого договора. Логическое обоснование этих условий
обычно отталкивается от некоторого свойства человеческой природы —
человеческого знания или мотивации, а также от некой метаэтической
теории о природе морали. Условия договора, вытекающие из этих по-
сылок, могут распространяться только на структуру политических ин-
ститутов, оставляя тем самым содержание индивидуальных правомо-
чий на усмотрение законодательства. Или наоборот, в подобных дого-
ворах может быть оговорен лишь некий базовый набор индивидуальных
прав, на которые законодательство не может посягать. В любом случае
сфера индивидуального выбора остается недоопределенной. В первом
случае она зависит от степени проработанности законодательства, во
втором — от объема и природы оговоренного набора неотъемлемых
прав. Законы и конституционные права предполагают наличие ограни-
чений на поведение каждого человека, но [тем самым] также наличие
ограничений на степень дозволенного вмешательства каждого челове-
ка в поведение других.
Если отвлечься от теории первоначального договора и гипотетичес-
кого единогласного соглашения, то в некоторых теориях набор право-
мочий выводится непосредственно (т.е. без какой-либо специальной
оговоренной процедуры) из сущностных, фундаментальных ценностей.
В части подобных теорий правомочия распределяются дифференциро-
ванно в зависимости от значения некоторого признака. В качестве та-
кого признака чаще всего выступают «нуждаемость» (потребность)
(need) и «производительность» (productivity), причем нормативные функ-
ции этих параметров, как правило, выводятся из ценностных устано-
277
вок общества на выравнивание и максимизацию благосостояния его
членов. Совершенно ясно, что применение подобных распределитель-
ных критериев предполагает и ведение соответствующего учета основ-
ных человеческих потребностей и экономических ценностей. В таких
теориях всякое изменение значений признака приводит к соответству-
ющему перераспределению правомочий, однако вопрос о том, должна
ли такая корректировка производиться осознанно или она происходит
спонтанно, зависит от того, какая используется модель интерактивно-
го поведения (взаимодействия). Вообще говоря, в моделях, предпола-
гающих спонтанную адаптацию, этот вывод проистекает из того, что
главная роль приписывается поведению либо альтруистическому (нуж-
даемость), либо максимизирующему доход (производительность). По-
скольку обе эти предпосылки эмпирически нереалистичны, из подоб-
ных теорий вытекает необходимость наложения действенных (прину-
дительных) ограничений на сферу индивидуального выбора.
Еще один тип непосредственно выводимых правомочий (т.е. пра-
вомочий, не основанных на договоре) вытекает из таких основопола-
гающих ценностей, как равная свобода, личная неприкосновенность,
беспристрастность, которые по определению распределяются между
правомочными субъектами равномерно и недифференцированно. Раз-
личные толкования этих концепций, тем не менее, сходятся к кантов-
ской норме, гласящей, что люди есть сами по себе цель и относиться к
ним нужно соответственно; в частности, недопустимо, чтобы цели од-
ного человека систематически подчинялись целям другого человека.
Здесь теоретическая задача заключается в создании такой системы пра-
вомочий, чтобы она была независимой от какой-либо конкретной кон-
цепции «добра», т.е. независимой от личных предпочтений и (иных) мо-
ральных ценностей. Эта система должна также гарантировать, чтобы
отрицательные или положительные последствия действий одних лиц не
несли другие лица. Типичным, хотя ни в коем случае не имманентным
структурным свойством такой системы правомочий является ее широ-
кая опора на классификацию всего сущего на три категории: субъекты
(selves), природные ресурсы и объекты, которые являются комбинаци-
ями первых двух. Хотя каждый обладатель правового титула наделен
также правом собственности на себя самого (т.е. на собственное тело
и собственный труд), подобные теории, как правило, предусматрива-
ют некое уравнительное ограничение на права индивидов на природ-
ные ресурсы. Конкретная форма этого ограничения определяет при-
роду условий для права собственности на объекты, относящиеся к тре-
тьей категории. Но, поскольку такими условиями исчерпываются
ограничения на свободу действий индивидов со своей собственностью,
считается, что подобные теории оставляют значительную свободу для
индивидуального выбора.
Вряд ли стоит говорить, что многие теории правомочий сочетают в
себе аспекты всех трех перечисленных выше типов. Оценка конкури-
рующих теорий — а мы уже говорили о том, что это непростая зада-
ча, — обычно заключается в проверке теории на внутреннюю непро-
тиворечивость и в оценке интерпретаций, вытекающих из ее ключевых
278
положений. Так, если предполагается, что моральный принцип, лежа-
щий в основе системы правомочий, — это принцип справедливости и
что справедливость аналитически связана с понятием прав, то остает-
ся место для спора о том, правомерно ли считать первый (первоначаль-
ный контракт) и второй (нуждаемость, производительность) типы те-
ории справедливости теориями правомочий. Отличительное норматив-
ное свойство любых прав заключается в том, что они наделяют своих
носителей правом самостоятельно распоряжаться. Правда, при этом
вопрос о том, можно ли считать право вето в рамках коллективного
выбора достаточно индивидуализированной сферой свободного распо-
ряжения, остается открытым. С другой стороны, правомочия, вытека-
ющие из соображений нуждаемости или производительности, будучи
даже достаточно индивидуализированными, по-видимому, не обяза-
тельно наделяют своих носителей правом самостоятельного распоря-
жения. Трудность с первым и третьим типами теории связана с поня-
тием первоначальных правомочий. А именно представляется ясным,
что идентификация исходного правомочия каждого лица — будь то в
рамках процедуры коллективного выбора или с учетом эгалитарного
ограничения на владение природными ресурсами, — не может толко-
ваться как исключительное право в историческом смысле, поскольку
нам неизвестно точное число будущих поколений, которые к тому же
частично пересекаются во времени с нашим. Таковы основные вопро-
сы, которые рассматриваются в современных работах по проблемати-
ке правомочий.
БИБЛИОГРАФИЯ
Buchanan, J.M. 1974. The Limits of Liberty. Chicago: University of Chicago Press.
Demsetz, H. 1964. Toward a theory of property rights. American Economic Review,
Papers and Proceedings 57, 347—349.
Dworkin, R. What is equality? Philosophy and Public Affairs 10, 185—246, 283-345.
Hohfeld, W.N. 1919. Fundamental Legal Conceptions. New Haven: Yale University
Press.
Lyons, D. (ed.) 1979. Rights. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
Nozick, R. 1974. Anarchy, State and Utopia. Oxford: Blackwell; New York: Basic
Books.
Rawls, J. 1971. A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: Harvard University Press;
Oxford: Oxford University Press, 1972.
Sen, A.K. 1981. Rights and agency. Philosophy and Public Affairs 11, 3-39.
Steiner, H. 1987. An Essay on Rights. Oxford: Blackwell.
РАВНОВЕСИЕ:
КОНЦЕПЦИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ОЖИДАНИЙ
Э.С. Фелпс
Equilibrium: an Expectational Concept
Edmund S. Phelps
Экономическое равновесие — по крайней мере, в том смысле, в ка-
ком этот термин традиционно использовался, — всегда предполагало
некий результат (как правило, от применения каких-то ресурсов), ко-
торый отвечал бы ожиданиям участников экономической деятельнос-
ти. Многие теоретики, особенно те, кто употреблял постулат об «эко-
номическом человеке», требовали, кроме того, дополнительного усло-
вия равновесия: каждый участник должен максимизировать свою
целевую функцию относительно этих правильных ожиданий. Однако
именно первое условие — о правильных ожиданиях — является сущест-
венным свойством равновесия — по крайней мере, в ортодоксальном
значении этого термина. Экономическое равновесие, следовательно, не
определяется в тех же терминах, что равновесие физическое. Положе-
ние покоя или затухающие колебания маятников не могут быть ни рав-
новесиями, ни неравновесиями в экономическом смысле, поскольку у
маятников нет ожиданий.
Однако, что вполне естественно, в первых применениях идеи рав-
новесия фигурировало некое положение покоя, или стационарное со-
стояние, которое выступало в качестве равновесия в конкретно реша-
емой задаче. Несомненно, что термин «равновесие», обозначающий
«равный вес» сил, толкающих капитал или что-нибудь еще в сторону
увеличения и в сторону уменьшения, обязан своим происхождением
балансу сил, существующему в стационарном состоянии. Но возмож-
на также и некая последовательность положений, в которой при каж-
дом новом положении устанавливается новый баланс. И не было ни-
каких оснований считать, что равновесия могут существовать только в
виде стационарных состояний или траекторий сбалансированного ро-
ста.
С тех пор как усилия были направлены на то, чтобы распространить
экономическую теорию на случай траекторий движущегося равновесия,
смысл равновесия с точки зрения ожиданий стал явным. Пионерами
здесь были двое — Мюрдаль и Хайек. В своей (изданной на шведском)
книге 1927 г. о ценообразовании и ожиданиях Мюрдаль обращается к
двусторонней взаимозависимости, возникающей при динамическом
анализе движущейся экономики: нынешние нарушения равновесия
280
оказывают влияние на будущие цены, а ожидания будущих нарушений
равновесия влияют на нынешние цены (последняя зависимость была
основным предметом анализа у Мюрдаля). В статье 1928 г., изданной
на немецком языке и посвященной тому, что он называл межвремен-
ным равновесием, Хайек провел аналогию между межвременной и
межстрановой (или межпространственной) торговлей: цены на одну и
ту же вещь в двух разных местах или в два разных момента времени
обычно неодинаковы, хотя они могут одновременно подниматься или
опускаться. В статье 1929 г. (на шведском) Линдаль исследовал первую
математическую модель межвременного равновесия. Обзор этой лите-
ратуры дается у Милгейта (Milgate, 1979).
Англоговорящий мир с опозданием взялся за это новое направле-
ние исследования. В своей «Общей теории» (General Theory) 1936 г.
Кейнс с важным видом говорит о том, что показал существование (оче-
видно, движущегося) равновесия при неполной занятости, и утверж-
дает, что ожидание падения заработной платы, а значит, и цен, усугуб-
ляет спад деловой активности. Из этого следует, что он, видимо, рас-
сматривал равновесия с точки зрения ожиданий. Однако он не
раскрывает, что именно он понимает под равновесием, так что и при-
рода, и обоснование его утверждения остаются неясными. В англоязыч-
ную литературу новая тема межвременного равновесия и подход к рав-
новесию с точки зрения ожиданий были впервые внедрены в 1939 г. в
книге Хикса «Ценность и капитал» (Value and Capital). (В том же году
появляются основанное на равновесии ожиданий понятие «гарантиро-
ванного роста» («warranted growth») Харрода и перевод работ Линдаля.)
Хикс проясняет аналитическую задачу, которую, чтобы найти равно-
весие, должны решать как аналитики, так и участники экономической
деятельности: при зависимости будущих эндогенных переменных, та-
ких, как цена будущего периода, от нынешних действий фирм и до-
машних хозяйств, а также обратной зависимости таких действий от
ожиданий будущих переменных, какое ожидание вызвало бы совпаде-
ние действительного результата с ожидаемым? К примеру, если фак-
тическая цена Р является функцией/ожидаемой цены Ре, надо найти
такое значение Ре, чтобы Ре = f(Pe). Таким образом, математический
характер равновесия как неподвижной точки имеет и «человеческое»,
реальное объяснение. Можно сказать полушутя, что маятник не может
находиться в экономическом равновесии, поскольку его движения в от-
личие от движений артистов на трапеции не являются функцией ожи-
даний, если те у них вообще имеются.
В послевоенный период понятие равновесия всплывает в контек-
стах, совершенно отличных от тех, что были у экономистов-теорети-
ков межвоенных лет. В теории игр, начало которой положили фон
Нейман и Моргенштерн, термин «равновесие» используется в смысле
теоретического решения, относящегося к поведению или игре двух или
более игроков, находящихся в стратегическом взаимодействии. Если в
этой модели постулируется оптимизационное, или максимизирующее
ожидаемую полезность поведение всех игроков, как неизменно дела-
ется в игровых моделях, то равновесие обязательно обладает той осо-
281
бенностью, что никто из игроков в одиночку не может достичь лучше-
го результата; но за этой особенностью лежит то существенное свой-
ство, что каждый игрок имеет правильные ожидания относительно
стратегии других и, следовательно, максимизирует свою целевую функ-
цию относительно этих правильных ожиданий.
В конце 1960-х годов понятие равновесия стало укореняться на но-
вой территории неклассических рынков — рынков, где нет бесплатной
и, следовательно, полной информации. В экономике могут быть рын-
ки (подходящим примером был бы, вероятно, рынок курортных оте-
лей), на которых существуют затраты на приобретение или обработку
информации о ценах (и, может быть, о свойствах продукта), так что
арбитражные сделки запаздывают и классический закон единственной
цены действует только с лагом. В одном из хорошо известных описа-
ний такого рынка рисуется воображаемая ситуация, когда нацио-
нальный рынок состоит из фелпсианских «островов», на каждом из ко-
торых не хватает текущей информации о ценах на других островах. На
другой воображаемой картинке каждая фирма представляется островом
со своим собственным кругом клиентов, которые не имеют представ-
ления о политике (а вероятнее всего, даже о местонахождении или су-
ществовании) других фирм. Можно предположить (и, как правило, так
и делают), что на таких невальрасианских рынках преобладают те цены,
которые обеспечивают расчистку рынка: никто из покупателей или
продавцов не подвергается рационированию (иногда особо педантич-
ные авторы называют его неценовым рационированием). Однако ры-
нок будет находиться в состоянии равновесия тогда и только тогда, когда
цены (и другие переменные) отражают правильные ожидания со сто-
роны продавцов и покупателей относительно цен, существующих в
других местах, — на других островах или в других фирмах, в против-
ном случае существует неравновесие.
В экономике также могут быть рынки (например, рынки труда или
рынки арендуемого жилья), на которых, несмотря на немедленную пе-
редачу информации, те, кто устанавливает заработную или арендную
плату, должны принимать решение на некоторый, пусть небольшой,
срок и без заблаговременной информации относительно подобных ре-
шений других фирм. На таких квазивальрасианских рынках могут су-
ществовать причины того, почему заработная плата имеет тенденцию
превышать, а арендная плата быть ниже уровня, обеспечивающего рас-
чистку рынка. Эти причины могут быть связаны со специфическими
стимулами или недостаточной эффективностью рынка. И все же ры-
нок будет находиться в состоянии равновесия в том случае (если тако-
вой существует), когда никто из тех, кто устанавливает заработную
плату или арендные платежи, не испытывает удивления по поводу со-
ответствующих решений, принимаемых одновременно (или, возмож-
но, несколько позже в пределах периода действия данного контракта)
другими субъектами, устанавливающими заработную плату или аренд-
ные платежи; в противном случае рынок должен находиться в состоя-
нии неравновесия, длительного или кратковременного (см.: Phelps et
al., 1970).
282
Таким образом, аналогия между межвременным и межпростран-
ственным равновесием, проведенная Хайеком и другими при анализе
первого из них, представляется более глубокой, чем это могло бы по-
казаться поначалу. «Ожидательная» природа равновесия, столь очевид-
ная в контексте межвременного равновесия, где будущие цены — это
обычно ожидаемые будущие цены, оказывается такой же естественной
и неизбежной в межпространственном контексте, если только отказать-
ся от фиктивного вальрасовского аукционера и, таким образом, при-
знать, что в иных местах существуют «другие» цены, относительно ко-
торых должны существовать ожидания, а не просто одна-единственная
цена, действующая на всем рынке.
В 1970-х годах мы стали очевидцами развития формального анализа
равновесия с точки зрения ожиданий, или прогнозов вероятностного
распределения цен. Лукас, принимая схему отдельных островов, где су-
ществуют цены, обеспечивающие расчистку рынка, проанализировал
модель, в которой существует не общедоступная, или местная, инфор-
мация (позднее названная асимметричной информацией), а именно
местные цены. Наблюдения за этими ценами используются для обнов-
ления прогнозов людей относительно ненаблюдаемых в данный момент
текущих цен в других местах. Здесь может существовать равновесие ра-
циональных ожиданий, в котором каждый знает и использует условные
(conditional) ожидания ненаблюдаемых цен, т.е. статистически оптималь-
ные прогнозы, обусловленные доступной ему информацией. Это мож-
но назвать равновесием лишь с некоторыми оговорками.
Исследуя смысл равновесия, Гроссман отметил, что у Хикса «совер-
шенное предвидение — это скорее концепция равновесия, чем усло-
вие индивидуальной рациональности». Подобный комментарий с еще
большим правом применим и к статистическому равновесию, а также
к его варианту с рациональными ожиданиями. Действующие субъек-
ты моделей равновесия не просто рациональные создания; каким-то
образом они обладают просто фантастическими знаниями. Предпосыл-
ка равновесия связана с очевидными проблемами знания: почему долж-
но предполагаться, что все участники находят верную модель, как им
удается оценить ее и все более соответствовать ей? В экономической
теории, начиная с Моргенштерна в 1930-х годах до Р. Фридмена в наши
дни, существовало направление мысли, сторонники которого считали,
что нельзя надеяться понять важнейшие события в экономике, а так-
же, вероятно, и ее повседневное функционирование, не придержива-
ясь гипотез неравновесия.
БИБЛИОГРАФИЯ
Frydman, R. and Phelps, E.S. (eds) 1983. Individual Forecasts and Aggregate
Outcomes. Cambridge: Cambridge University Press.
Grossman, S.J. 1981. An introduction to the theory of rational expectations under
asymmetric information. Review of Economic Studies 54, June, 541—60.
283
Harrod, R.F. An essay in dynamic theory. Economic Journal 49, March, 14—33.
Errata, June 1939, 377.
Hayek, F.A. 1928. Das intertemporale Gleichgewichtssystem der Preise und die
Bewegungen des Geldwertes. Weltwirtschaftliches Archiv 28(1), July, 33—76.
Hicks, J.R. 1939. Value and Capital. Oxford: Clarendon Press; 2nd edn. New York:
Oxford University Press, 1946 // Хикс Дж. Стоимость и капитал. М.: Прогресс-
Универс, 1993.
Keynes, J.M. 1936. General Theory of Employment, Interest and Money. London:
Macmillan // Кейнс Дж. M. Общая теория занятости, процента и денег. М.:
Прогресс, 1978.
Lindahl, Е. 1929. Prisbildningproblemets upplaggning fran kapitalteoretisk synpunkt.
(Формулирование теории цен с точки зрения теории капитала). Ekonomisk
Tidskrift 31(2), 31-81.
Lucas, R.E., Jr. 1972. Expectations and the neutrality of money. Journal of Economic
Theory 4(2), April, 103—24.
Milgate, M. 1979. On the origin of the notion of ‘intertemporal equilibrium’.
Economica 46(1), February, 1—10.
Morgenstern, 0.1935. Vollkommene Voraussicht und wirtschaftliches Gleichgewicht.
Zeitschrift fiir Nationalokonomie 6(3), 337-57.
Myrdal, G. 1927. Prisbildningsproblemet och foranderigheten. Uppsala and Stockholm:
Almqvist and Wiksell.
Phelps, E. S. et al. 1970. Microeconomic Foundations of Employment and Inflaton
Theory. New York: W.W. Norton.
Von Neumann, J. and Morgenstern, O. 1944. The Theory of Games. Princeton:
Princeton University Press // Фон Нейман Й., Моргенштерн О. Теория игры
и экономическое поведение. М., 1970.
РАВНОВЕСИЕ:
РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ
Мюррей Милгейт
Equilibrium: Development of the Concept
Murray Milgate
С момента, как теперь выясняется, первого применения данного
термина в экономической науке Джеймсом Стюартом в 1769 г. до се-
годняшнего дня анализ равновесия (вместе с его производным — ана-
лизом неравновесия) являлся основанием, на котором экономическая
теория смогла построить свои отнюдь не малые претензии на «науч-
ный» статус. Несмотря на постоянное использование данной концеп-
ции экономистами на протяжении более чем 200 лет, ее значение и роль
претерпели в течение этого периода ряд довольно глубоких изменений.
На самом элементарном уровне о «равновесии» говорят в несколь-
ких смыслах. Его можно рассматривать как «баланс сил», например, для
описания известной идеи баланса между силами спроса и предложе-
ния. Или его можно использовать для обозначения точки, начиная с
которой отсутствует эндогенная «тенденция к изменению»: этим свой-
ством обладают стационарные или устойчивые состояния. Однако по-
нятие равновесия можно также представить в виде результата, к кото-
рому, если можно так сказать, «стремится» любой конкретный эконо-
мический процесс; как пример можно привести идею о том, что
конкурентные процессы имеют тенденцию давать детерминированные
результаты. Именно в этой последней форме концепция равновесия,
как представляется, и была впервые применена в экономической тео-
рии. Равновесие, как мог бы сказать Адам Смит (хотя он и не употреб-
лял этого термина), является центром притяжения экономической си-
стемы, это тот набор значений, к которому непрерывно стремятся все
экономические величины.
В этой первоначальной концепции воплощены два свойства, кото-
рые, если их выявить, придают ей гораздо более точное значение и
более четкий методологический статус. Речь идет о формальном опре-
делении «условий равновесия» и идее об использовании их в качестве
полезного объекта анализа.
Мало мест можно найти в литературе, где первые два свойства рав-
новесия в этом первоначальном смысле выделены лучше, чем в седь-
мой главе первой книги Адама Смита «Богатство народов». Приводи-
мая там аргументация включает два этапа. Первый состоит в том, что-
бы определить «естественные условия»:
285
«В каждом обществе... существует обычная или средняя норма как
заработной платы, так и прибыли... Если цена какого-либо товара со-
ответствует тому, что необходимо для оплаты в соответствии с их
естественными нормами... заработной платы рабочим и прибыли на ка-
питал, товар этот продается, можно сказать, по его естественной
цене» (Smith, 1776, I. VII, р. 62 // Смит, 1962, с. 56).
Ключевым моментом здесь является то, что «естественные условия»
увязываются с общей нормой прибыли, т.е. одинаковой доходностью
капитала, вложенного в различные отрасли при существующих на дан-
ный момент лучших методах производства. Говоря языком того време-
ни, это свойство должно характеризовать результат процесса «свобод-
ной конкуренции».
Второй этап аргументации относится к аналитическому статусу,
который должен придаваться «естественным условиям»:
«Естественная цена... как бы представляет собой центральную цену,
к которой постоянно тяготеют цены всех товаров. Различные случай-
ные обстоятельства могут иногда держать их на значительно более вы-
соком уровне, а иногда понижать их по сравнению с нею. Но каковы бы
ни были препятствия, которые отклоняют цены от этого устойчиво-
го центра, они постоянно тяготеют к нему» (Smith, op. cit. р. 65 //
Смит, указ, соч, с. 58).
Считалось, что эта особая «тенденция к равновесию» действует в
реальной экономической системе в любое время. Не следует путать ее с
хорошо известной проблемой устойчивости конкурентного равновесия
в современном анализе. Там вопрос о «сходимости» к равновесию ста-
вится применительно к некоторому гипотетическому состоянию мира,
где преобладает чисто конкурентная среда. Важно также отметить, что
при определении «естественных условий» пока ничего не было сказа-
но (да в том и нет необходимости) о факторах, определяющих естест-
венные нормы заработной платы и прибыли или естественные цены
товаров. Следовательно, в нашем последующем изложении мы можем
воздержаться от обсуждения теорий, предложенных различными эко-
номистами для определения этих переменных. Подобным же образом
мы не будем здесь обсуждать вопрос о существовании или единствен-
ности равновесия.
«Естественные условия», определенные и понимаемые таким обра-
зом, являются формальным выражением идеи о том, что в экономи-
ческой системе регулярно и систематически действуют определенные
преобладающие силы. Более ранняя идея Смита о том, что «сосущест-
вующие части вселенной... образуют одну огромную, внутренне связан-
ную систему» (Smith, 1759, VII. II, 1.37), в этой более поздней форму-
лировке преобразуется в аналитический инструмент, способный при-
водить к заключениям, претендующим на всеобщую значимость
(в противоположность частной, или специальной). На эти общие вы-
воды в экономической литературе XVIII и XIX вв. обычно ссылались
как на «тенденции», «законы» или «принципы». Стоит подчеркнуть, что
из этого отнюдь не следовало, что эти общие тенденции считали быс-
тродействующими или не подверженными вмешательству иных при-
286
входящих обстоятельств. Как и уровень моря, «естественные условия»
имели однозначный смысл, даже при наличии бесчисленных противо-
действующих факторов.
Иначе говоря, различие между «общим» и «особым» случаями (как
и его аналог — различие между «равновесием» и «неравновесием») не
имеет отношения ни к непосредственной практической актуальности
этого рода случаев для фактически существующих рыночных условий,
ни к преобладанию, частоте или вероятности того, что они будут про-
исходить. На самом деле, если речь идет о простом наблюдении, то
вполне вероятно, что в центре внимания окажутся «особые случаи».
Джон Стюарт Милль выразил эту идею особенно отчетливо, когда вы-
сказал мнение, что выводы экономической теории применимы только
«в абстракции», т.е. «они верны только при определенных предполо-
жениях, а именно при том, что не учитываются никакие другие при-
чины, кроме всеобщих, — общих для всего рассматриваемого класса
случаев» (Mill, 1844, р. 144—145). Маршалл, безусловно, понимал, что
их применение зависит не только от этого ограничения (о котором он
говорил с точки зрения «времени»), но также и от условия «при про-
чих равных» (Marshall, 1890, 1.III, р. 36). У нас будет еще повод вер-
нуться к этому вопросу ниже.
Чтобы выявить эти закономерности, необходимо провести, так ска-
зать, закулисное расследование, чтобы вскрыть то, что в противном
случае осталось бы скрытым. Адам Смит изложил основу этой проце-
дуры в своем раннем эссе «Принципы, ведущие и направляющие фи-
лософские исследования» (The Principles which Lead and Direct
Philosophical Enquiries):
«Природа, несмотря на обширнейший опыт, который может быть об-
ретен с помощью простого наблюдения, кажется, изобилует явления-
ми, которые представляются единичными и бессвязными..., выявляя не-
видимые цепи, которые связывают вместе все эти разрозненные пред-
меты, [философия] старается ввести порядок в этот хаос
диссонирующих и противоречивых явлений» (Smith, 1795, р. 45).
Короче говоря, «равновесие», если позволить себе на время вернуть-
ся к современной терминологии, стало центральной организующей
категорией, вокруг которой должна была строиться экономическая те-
ория. Совсем не случайно, что формальное введение этой концепции
в экономическую науку ассоциируется с теми самыми авторами, чьи
имена тесно связаны с закладыванием основ «этой науки». Можно было
бы даже утверждать, это событие знаменует основание экономической
теории как таковой, поскольку оно вполне четко отделяет последующую
литературу от работ, анализирующих отдельные проблемы, которые
доминировали до Смита и физиократов.
Цементируя эту традицию, Рикардо говорил о сосредоточении «все-
i го своего внимания на постоянном положении вещей», которое выте-
I кает из данных перемен, если исключить в целях общего анализа «слу-
I чайные и временные отклонения» (Ricardo, 1817, р. 88). Маршалл, хотя
I и заменил термином «долгосрочные нормальные условия» старый тер-
I мин «естественные условия», исключил из этой категории результаты,
287
на которые преобладающее влияние оказало сложившееся в данный
момент стечение обстоятельств (Маршалл, 1993, т. 1, с. 47 // Marshall,
1890, р. VII). Аналогично Дж.Б. Кларк полагал, что «естественные или
нормальные» значения переменных — это те, к которым «в долгосроч-
ной перспективе стремятся их рыночные значения» (Clark, 1899, р. 16).
Джевонс (Jevons, 1871, р. 86), Вальрас (Walras, 1874-1877, р. 350), Бём-
Баверк (Bohm-Bawerk, 1899, II, р. 380) и Викселль (Wicksell, 1901, I,
р. 97) — все следовали тому же самому методу.
Статус «равновесия» как центра притяжения системы (эталонного
случая) не только сохранялся, но и определялся в духе Смита. Главной
теоретической задачей у всех этих авторов было объяснить данную си-
туацию, характеризующуюся единой нормой прибыли относительно
цены предложения капитала, вложенного в различные отрасли произ-
водства. Вальрас, чья аргументация довольно типична, убедительно
сформулировал природу этой связи:
«Единообразие... цены чистого дохода [нормы прибыли] на рынке капи-
тальных благ... [является тем]условием, которое управляет миром эко-
номических интересов» (Walras, 1874—1877, р. 305).
С исторической точки зрения новизна этих доводов, которые были
разработаны в XVIII в. Смитом и физиократами, состоит не в том, что
они признали возможность существования ситуаций, которые можно
было бы описать как «естественные», но и в том, что они связывали эти
условия с результатом специфического процесса, общего для всех ры-
ночных экономик (свободной конкуренции), и использовали их в обще-
экономическом анализе рыночного общества. Ранние случаи примене-
ния аргументов «естественного порядка» были не более чем норматив-
ными высказываниями о некоем существующем или возможном
состоянии общества. Их авторы, безусловно, не воспользовались идеей
систематических тенденций в «научных» целях даже там, где это напра-
шивалось. Это особенно очевидно в случае философов «естественного
права», но это также верно и в отношении ранних либералов, таких, как
Локк и Гоббс. Даже Юм, который, в сущности, обладал всеми блоками,
из которых строилась позиция Смита, отступил назад, не сделав одного
решающего шага, который привел бы его к «методу» Смита: он просто
не был готов признать, что мышление на языке закономерностей, сколь
бы полезным оно ни оказалось для развеивания теологических и про-
чих предрассудков (и, таким образом, для прогресса «человеческого по-
нимания»), было чем-то большим, чем удобным и удовлетворительным
способом мышления. Вопрос о том, действительно ли социальный и
экономический мир управлялся такими закономерностями, настолько
важный для Смита и физиократов, Юма просто не беспокоил.
Ранние нормативные значения таких понятий, как «естественные
условия», «естественный порядок» и тому подобных, довольно быстро
исчезли, когда эта терминология была взята на вооружение экономи-
ческой теорией. Ничто не могло быть «хорошим» лишь в силу своей
«естественности». Это, конечно же, не значит, что если теоретический
анализ естественных тенденций, действующих в рыночных экономи-
ках, завершен и результаты конкурентного процесса в абстрактном виде
288
выделены, то отдельный теоретик не может захотеть сделать некото-
рые выводы о «желательности» результатов (так сказать, вынести нор-
мативное суждение). Но такие суждения не вытекают из концепции
равновесия: это оценочные суждения о характеристиках результатов ее
применения.
Действительно, в противоположность иногда высказывающимся
взглядам, даже использование Смитом деистских аналогий и метафор
в «Теории нравственных чувств», где мы читаем о Боге как создателе
«великой машины вселенной» и где мы впервые сталкиваемся со зна-
менитой «невидимой рукой», это не более чем не имеющие отноше-
ния к существу декорации, которые окружают четко определенную
теоретическую аргументацию, основанную на действии так называемо-
го механизма «симпатии». Таким образом, как отметил У. Джонсон в
первом издании Словаря Пэлгрейва, «путаницы между научным зако-
ном и законом этическим более не существует»; он также заметил, что
«термин «нормальный» заменил старое слово «естественный»» и {в рам-
ках} этой терминологии он должен пониматься как «нечто, обладающее
определенным эмпирически наблюдаемым единообразием или регуляр-
ностью» (Palgrave, R.H.I. (ed.), 1899, р. 139).
В то время как «естественные условия» или «долгосрочные нормаль-
ные условия» представляют собой первоначальную концепцию «равно-
весия», использованную в экономической теории, «Основы политичес-
кой экономии» Джона Стюарта Милля, по-видимому, стали источни-
ком, благодаря которому получил широкое распространение сам
термин «равновесие» (хотя, как и многое другое, его также можно об-
наружить в «Исследованиях» (Recherches) Курно). Более важным, од-
нако, является тот факт, что у Милля претерпевают изменение значе-
ние и статус этой концепции. Сохраняя идею равновесия как долго-
срочного состояния, Милль вводит мысль о том, что теория равновесия
является, по существу, «статической». Соответствующие замечания по-
являются в начале четвертой книги:
«Нам предстоит еще рассмотреть экономические условия человеческого
общества, подверженного изменениям,., тем самым мы дополним нашу
теорию равновесия теорией движения, дополним раздел «Статика» по-
литической экономии разделом “Динамика”» (Mill, 1848, IV.i,p. 421//
Милль, 1981, т. 3, с. 7).
Поскольку Милль сохранил базовую категорию «естественных и
нормальных условий», это означает, что он прибавил «статику» к списку
свойств концепции равновесия. Однако по вопросу о том, было ли это
дополнительное свойство необходимым, единого мнения не было. Этот
вопрос возбудил дебаты, в которые в то или иное время (по крайней
мере, до 1930-х годов) внесли свой вклад все заметные теоретики. Про-
блема была проста: тождественны ли естественные или долгосрочные
нормальные условия «знаменитой фикции» стационарного или устой-
чивого состояния. От ответа зависело многое; утвердительный ответ
ограничил бы применение концепции равновесия воображаемым ста-
ционарным обществом, в котором никто не занимается обычными по-
вседневными делами.
289
Как и можно было ожидать, Маршалл колебался, отвечая на этот
вопрос. Видимо, он (как и основные его современники, за важным ис-
ключением Парето) предполагал, что предпосылка статического состо-
яния не была существенно важной для его цели, но, как и во многих
других случаях, он сделал некоторые оговорки в сноске (Marshall 1890,
р. 379, п. 1 // Маршалл, 1993, т. 2, с. 52, сн. 2). В конечном счете от-
вет, по-видимому, больше зависел от объяснения, как определяются
равновесные величины, чем от самой концепции равновесия. Только
в 1930-х годах этот вопрос, кажется, был решен к всеобщему удовлет-
ворению всех представителей профессии. Но его «решение» потребо-
вало введения нового определения равновесия (концепции межвремен-
ного равновесия), связанного главным образом с именем Хикса.
Между тем до 1930-х годов концепция равновесия подверглась даль-
нейшему совершенствованию и изменению. Здесь выделяются две ли-
нии развития. Первая касается различия между анализом частичного
равновесия и анализом общего равновесия. Вторая, как представляет-
ся, произошла из трактовки Маршаллом элемента времени, которая
привела его к тройной типологии периодов («рыночный», «короткий»
и «долгий» — мы оставим в стороне категорию «вековых тенденций»).
В итоге, что важно, экономисты стали вести разговор о возможности
«равновесия» в каждом из этих Маршалловых периодов.
Аналитическая основа для анализа частичного равновесия была за-
ложена в 1838 г. Курно в «Исследованиях» (Recherches). По-видимо-
му, Курно привлекло скорее удобство математического аппарата, чем
методологический принцип (см. к примеру: Cournot, 1838, р. 127). Не-
смотря на то что этот небольшой томик не смог оказать большого вли-
яния на экономическую науку до XX столетия, Маршалл (говоривший
о Курно как о своем «учителе гимнастики») о нем знал и его читал. Ана-
лиз частичного равновесия во многом обязан своей популярностью
«Принципам» (Principles) Маршалла, хотя было бы непозволительно
забыть Аушпица, Либена и фон Мангольдта. Однако, в отличие от
Курно, Маршалл вряд ли натолкнулся на метод частичного равнове-
сия, идя окольным путем (хотя некоторые доказывали, что главная
привлекательность этого метода заключалась в той легкости, с какой
он позволяет изложить теорию Маршалла с минимальным обращени-
ем к математике).
Когда Маршалл в «Принципах» впервые ввел идею «прочих рав-
ных», условие ceteris paribus, которое считал отличительным призна-
ком подхода частичного равновесия, то он, по-видимому, поступил так
не для того, чтобы оправдать процедуру анализа «одной вещи за раз»,
а для того, чтобы достичь совсем другого. Он хотел подчеркнуть, что
долгосрочное нормальное равновесие возникало бы в действительнос-
ти только в том случае, если бы действовали только самые общие при-
чины без вмешательства извне (см. к примеру: Marshall, 1890, р. 36, 366
и 369—370). Другими словами, «прочие», которые считались «равны-
ми», — это исходные данные теории и внешняя среда: если исходные
данные оставались одними и теми же и окружающая среда была сре-
дой свободной конкуренции, в результате должно было установиться
290
долгосрочное нормальное равновесие. Действительно вальрасианское
общее равновесие соблюдается при «прочих равных» именно в этом
смысле. В первоначальных же аргументах Маршалла ничего не гово-
рилось о возможности допустить, что взаимозависимости между дол-
госрочными переменными сами по себе имеют второстепенное значе-
ние, как это обычно бывает в анализе частичного равновесия.
Это последнее требование маршаллианского анализа — идея о не-
значительности косвенных эффектов при рассмотрении отдельных
рынков (Marshall, 1919, р. 677 и далее) — возникло, по-видимому, из
его привычки представлять теорию равновесия на языке кривых спро-
са и предложения для отдельных рынков (с сопутствующими им поня-
тиями репрезентативных потребителей и фирм). Фактически именно
этим изложение теории спроса и предложения у Маршалла и отлича-
ется столь заметно от ее изложения у Вальраса. В той мере, в какой это
верно, лучше, видимо, признать, что идея «частичного» равновесия,
в противовес «общему», более связана со способом изложения теории
спроса и предложения на отдельных рынках и склонностью Маршал-
ла к рассмотрению рынков по одному, чем с абстрактной категорией
равновесия, которая составляет предмет нашего обсуждения. Эта точ-
ка зрения была бы, между прочим, в согласии с тем фактом, что боль-
шие споры по поводу относительных достоинств этих двух способов
анализа (к примеру, спор между Вальрасом, с одной стороны, и Ауш-
пицем и Либеном — с другой) велись именно вокруг спецификации
функций спроса и издержек.
Другая модификация концепции равновесия, которая обрела боль-
шее значение в современной литературе, также появилась у Маршал-
ла, хотя дело у него не заходило так далеко, как в последних публика-
циях. Во второй, третьей и пятой главах пятой книги «Принципов»
Маршалла излагаются условия для определения того, что он называет
«временным равновесием», «краткосрочным равновесием» и «долго-
срочным равновесием» спроса и предложения. Последняя из этих ка-
тегорий — Маршалл высказывается здесь совершенно однозначно —
соответствует «естественным условиям» Адама Смита (Marshall, 1890,
р. 347 // Маршалл, 1993, т. II, с. 31). Первые две в большей или мень-
шей степени «более подвержены влиянию преходящих событий и фак-
торов, действие которых неравномерно и кратковременно» (Marshall,
р. 349 // Маршалл, 1993, т. 2, с. 33). Что поражает в терминологии Мар-
шалла, так это факт, что ситуации, которые с аналитической точки
зрения традиционно рассматривались как «отклонения» от долгосроч-
ного нормального равновесия (т.е. как ситуации неравновесия), он явно
относит к различным случаям «равновесия». Это направление приоб-
рело совершенно новое значение в последних публикациях и имело ис-
ключительно важные последствия для значения и статуса концепции
равновесия в экономической теории. Но столь же важным для пони-
мания этого развития теории равновесия является введение в теорети-
ческий обиход понятия межвременного равновесия.
Понятие межвременного равновесия (введенное Хайеком, Линда-
лем и Хиксом в межвоенные годы и развитое в 1950-е годы Маленво,
291
Эрроу и Дебрё) заслуживает особого внимания, поскольку «условия
равновесия» здесь определяются совершенно по-другому, чем «естест-
венные» или «долговременные нормальные» условия. Задачей модели
межвременного равновесия является определение nt цен, обеспечива-
ющих равновесие спроса и предложения (для п товаров за t элементар-
ных периодов времени начиная с произвольного начального момента).
Главное следствие, вытекающее из этого определения условий равно-
весия, и то, что отделяет его от долговременных нормальных условий,
состоит не только в том, что цена одного и того же товара в разные
периоды времени будет различной, но также и в том, что капитал не
обязательно должен приносить одинаковую прибыль относительно
цены его предложения.
Это фундаментальное изменение в концепции равновесия не озна-
чало, что концепция межвременного равновесия немедленно лишилась
того статуса, который всегда придавался «равновесию», начиная с Ада-
ма Смита. В определенных кругах межвременное равновесие продол-
жали рассматривать как положение, к которому действительно «стре-
мится» экономическая система (или как эталонный случай).
Однако с тех пор, как исследователи осознали, что данная концеп-
ция равновесия представляет собой последовательность во времени, стало
очевидно, что «тенденции» к равновесию здесь быть не может — по
крайней мере, в прежнем значении. Либо мы находимся в равнове-
сии — и тогда путь, которым мы к нему пришли, является «несущест-
венным», либо мы в нем не находимся — и в этом случае последова-
тельность «существенна» (см.: Hahn, 1973, р. 16). Последняя ситуация
во много раз более вероятна. Внимание, таким образом, было обраще-
но к отдельным точкам последовательности — временным равновеси-
ям, как окрестил их Хикс (применяя терминологию Маршалла в но-
вом контексте). Стал изучаться новый класс случаев — неравновесных
с точки зрения полного межвременного равновесия. В теории к насто-
ящему времени накоплено столько разновидностей моделей, что про-
сто невозможно все их здесь перечислить. Вместо этого мы могли бы
отметить две главные черты этого направления: во-первых, ту роль,
которую, таким образом, приобрели ожидания; во-вторых, тот факт, что
для такого рода случаев теперь применяется общее название — «рав-
новесие».
Когда равновесие толкуется как решение модели в том смысле, что
все решения для всех моделей (для которых существуют решения) имеют
равный аналитический статус и различаются только тем, что становятся
«cynjecTBeHHbiMH»(«significant») (в формулировке фон Нейманна и
Моргенштерна, когда они «подобны реальности в тех отношениях,
которые являются существенными в проводимом исследовании» (Mor-
genstern, 1944, р. 32)), то иногда говорят, что экономическая теория
пользуется очень мощным понятием равновесия. В этом смысле валь-
расианское равновесие и, скажем, условное равновесие [conjectural
equilibrium] конкурируют друг с другом не за звание «общее» (посколь-
ку, по крайней мере в традиционном смысле, не существует такой ка-
тегории), а за звание «существенное».
292
Более того, в любой данный момент времени они конкурируют за
это звание со всеми другими моделями, имеющимися в науке.
По всей видимости, статус концепции равновесия в экономическом
анализе прошел полный круг с момента, когда его ввели в конце
XVIII в. Ведя свое происхождение от идеи о том, что рыночные общест-
ва управляются определенными систематическими силами, более или
менее регулярно действующими в различных местах и в разное время,
теперь она (концепция равноправия), кажется, основывается на мне-
нии, что за множеством различных ситуаций, в которых могут в дей-
ствительности оказаться рыночные экономики, «не спрятано» ничего
существенного. По-видимому, эти многочисленные случаи с точки
зрения современной теории должны рассматриваться как более или
менее единичные. Будучи центральной организующей категорией, во-
круг которой была построена вся экономическая теория, и, следователь-
но, конечным основанием, на котором строилась посылка о ее прак-
тическом применении, равновесие стало категорией, имеющей значе-
ние только для точной спецификации исходных условий в любой
модели. Вместо того чтобы видеть в ней способ получения теории,
применимой, как сказал бы Милль, к целому классу исследуемых слу-
чаев, она все больше рассматривается теоретиками как концепция ре-
шения частной модели, применимой к ограниченному числу случаев.
Нынешняя мода на замену собственно экономической теории теори-
ей игр — подход, который даже такой теоретик, как профессор Эрроу,
не так давно рассматривал лишь как средство, дающее «математичес-
кие инструменты» для экономического анализа (Arrow, 1968, р. 113),
кажется, отражает направление современной экономической теории.
БИБЛИОГРАФИЯ
Arrow, K.J. 1968. Economic equilibrium. In International Encyclopedia of the Social
Sciences, as reprinted in The Collected Papers of Kenneth J. Arrow, Vol. 2,
Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Bohm-Bawerk, E. von. 1899. Capital and Interest. 3 vols; reprinted, Ill.: Libertarian
Press, 1959.
Clark, J.B. 1899. The Distribution of Wealth. London: Macmillan// Кларк Дж. Б.
Распределение богатства. М.: Экономика, 1992.
Cournot, А.А. 1838. Researches into Mathematical Principles of the Theory of Wealth /
Translated by N.T. Bacon with an introduction by Irving Fisher, 1897; 2nd edn,
London and New York: Macmillan, 1927.
Garegnani, P. 1976. On a change in the notion of equilibrium in recent work on value.
In Modem Capital Theory, ed. M. Brown et al., Amsterdam: North-Holland.
Hahn, F.H. 1973. On the Notion of Equilibrium in Economics. Cambridge: Cambridge
University Press.
Hicks, J.R. 1939. Value and Capital. 2nd edn, Oxford: Clarendon Press, 1946 // Сто-
имость и капитал. M.: Прогресс, 1988.
Jevons, W.S. 1871. Theory of Political Economy. Edited from the 2nd edition (1879)
by R.D.C. Black, Harmondsworth: Penguin, 1970.
293
Marshall, A. 1890. Principles of Economics. 9th (variorum) edition, taken from the
text of the 8th edition, 1920, London: Macmillan; New York: Macmillan, 1948 //
Маршалл А. Принципы экономической науки. M.: Прогресс, 1999.
Marshall, А. 1919. Industry and Trade. 2nd edn, London: Macmillan.
Mill, J.S. 1844. Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy. 2nd edn,
1874; reprinted New York: Augustus M. Kelley.
Mill, J.S. 1848. Principles of Political Economy. 6th edn, 1871 (reprinted 1909),
London: Longmans, Green & Company; New York: A.M. Kelley, 1965 //
Милль Дж. С. Основы политической экономии. М.: Прогресс, 1980.
Palgrave, R.H.I. (ed.) 1899. Dictionary of Political Economy, vol. Ill, London:
Macmillan.
Pareto, V. 1909. Manual of Political Economy. Translated from the French edition of
1927 and edited by A.S. Schwier and A.N. Page, New York: Augustus M. Kelley,
1971.
Ricardo, D. 1817. The Principles of Political Economy and Taxation. Edited from the
3rd edition of 1821 by P. Sraffa with the collaboration of M. Dobb, vol. I of The
Works and Correspondence of David Ricardo, 11 vols, Cambridge: Cambridge
University Press, 1951-73. New York: Cambridge University Press, 1973 // Ри-
кардо Д. Начала политической экономии и налогообложения // Рикардо Д.
Соч., т. 1. М., 1995.
Smith, А. 1759. The Theory of Moral Sentiments. Edited by D.D. Raphael and
A.Z. Macfie from the 6th edn of 1790, Oxford: Oxford University Press, 1976 //
СмитА. Теория нравственных чувств. М.: Республика, 1997.
Smith, А. 1776. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
2 vols, ed. E. Cannan, London: Methuen, 1961; Chicago: University of Chicago
Press, 1976 // Смит А. Исследование о природе и причинах богатства наро-
дов. М.: Соцэкгиз, 1962.
Smith, А. 1795. Essays on Philosophical Subjects. Edited by W.P.D. Wrightman and
J.C. Bryce, Oxford: Oxford University Press, 1980.
Von Neumann, J. and Morgenstern, O. 1944. Theory of Games and Economic
Behavior. 3rd edn, Princeton: Princeton University Press, 1953 // Нейман Дж.,
Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука, 1970.
Walras, L. 1874—7. Elements of Pure Economics. Translated and edited by W. Jaffe
from the definitive edition of 1926, London: Allen & Unwin, 1954; Homewood,
Ill.: R.D. Irwin.
Wicksell, K. 1901. Lectures on Political Economy. 2 vols, ed. L. Robbins, London:
Routledge and Kegan Paul, 1934; New York: A.M. Kelley, 1967.
ОБМЕН
Роберт Б. Уилсон
Exchange
Robert В. Wilson
Общепризнанным предметом экономической науки является алло-
кация редких ресурсов. Аллокация включает производство и обмен,
т.е. процессы, которые преобразуют блага, и процессы, в которых пе-
редается контроль над ними. Для эффективного использования ресур-
сов в производстве или потреблении важен обмен. Он позволяет суще-
ствовать децентрализованному и специализированному производству
что же касается потребления, то агенты с различными способностями
или предпочтениями нуждаются в обмене для получения максималь-
ных выгод. Если два экономических агента имеют разные предельные
нормы замещения, то существует вариант обмена, приносящий выго-
ду обоим. Преимущества бартера распространяются широко, например
вплоть до торговли между странами и между законодателями («торговля
голосами»), но здесь достаточно выделить рынки с обязательными к
исполнению контрактами по торговле находящимися в частной соб-
ственности благами, потребление которых не связано с внешними
эффектами. На таких рынках добровольный обмен означает торговлю
наборами благ или обязательств ко взаимной выгоде всех участников
сделки.
В рыночной экономике, использующей деньги или кредит, условия
торговли обычно определяются ценами. Помимо покупки благ по це-
нам, объявленным производителями и дистрибьюторами, обмен про-
исходит на торгах, аукционах и в других формах с повторяющимися или
конкурентными предложениями цен. На институционализированных
товарных биржах брокеры предлагают цены покупки и цены продажи;
что же касается торговли финансовыми инструментами, то здесь спе-
циалисты обмениваются заказами и непрерывно поддерживают рын-
ки, торгуя за свой собственный счет.
Информация о ценах и объемах сделок служит исходными данны-
ми для многих эмпирических исследований хозяйственной деятельно-
сти, и объяснение этих данных является основной целью экономичес-
кой теории. Теории обмена пытаются предсказать условия торговли и
результаты сделок в зависимости от рыночной структуры и свойств
участников, включая такие характеристики, как имеющийся у каждо-
го агента запас благ, производственные возможности, предпочтения и
информация. Важны также доступность рынков, используемые правила
торговли и возможные формы контрактов, которые, в свою очередь,
295
могут зависеть от прав собственности, издержек поиска и трансакци-
онных издержек, а также от наблюдаемых событий, использующихся
для проверки исполнения контрактов. Правила торговли определяют
действия, доступные для каждого агента в каждом случае, и виды тор-
говли, обусловленные любой комбинацией индивидуальных действий.
Упомянутые характеристики используются в экспериментальных иссле-
дованиях, предназначенных для проверки теорий, они инициируют
разработку моделей, используемых для эмпирических оценок рыноч-
ного поведения. Нормативные соображения также актуальны, а анализ
в рамках экономической теории благосостояния делает акцент на рас-
пределительных последствиях альтернативных торговых процедур и
контрактов.
Большинство теорий строятся на гипотезе о том, что каждый эко-
номический агент целенаправленно стремится максимизировать выго-
ды от торговли (или их ожидаемую полезность). В некоторых случаях
поведение может быть случайным, привычным или отражать зависи-
мость от «статус-кво», но экспериментальные и эмпирические данные
в значительной степени подтверждают гипотезу «рационального» по-
ведения, по крайней мере, в среднем для больших совокупностей. Хотя
имеются и более общие теории, основные характеристики поведения
объясняются упорядоченными предпочтениями: монотонными, выпук-
лыми, в меру «гладкими», возможно, предусматривающими неприятие
риска.
Обычно существует множество вариантов эффективной аллокации
данных ресурсов; любая аллокация, при которой предельные нормы
замещения равны для всех экономических агентов, эффективна. В слу-
чае распределения риска, например, аллокация эффективна, если все
агенты достигают одних и тех же предельных норм замещения между
доходом в любых двух состояниях. Однако распределение ресурсов
между агентами, очевидно, имеет важное значение. Поэтому важно
выделить небольшой набор приемлемых эффективных аллокаций. На-
званный в честь Леона Вальраса, этот набор является центром почти
всех теорий — в том смысле, что все другие аллокации объясняются от-
клонениями от вальрасианской модели. Важная задача состоит в уточ-
нении особой роли вальрасианских аллокаций.
Аллокация является вальрасианской, если она достижима при тор-
говле по таким ценам, при которых для каждого агента получение бо-
лее предпочтительного распределения стоило бы больше. То есть все
товары покупаются по одним ИТем же ценам, доступным для всех,
и каждый агент выбирает предпочтительный вариант торговли в рам-
ках бюджетного ограничения, заданного стоимостью проданных им то-
варов. Вальрасианская аллокация обязательно является эффективной
в той степени, в какой рынки являются полными (всеохватывающи-
ми): каждая другая аллокация, предпочитаемая всеми агентами, долж-
на стоить в текущих ценах больше для каждого агента и, следователь-
но, для всех агентов в целом, что не может быть верно, если более пред-
почтительная аллокация является перераспределением данной.
И наоборот, каждая эффективная аллокация является вальрасианской
296
без дальнейшей торговли, поскольку общие для всех агентов предель-
ные нормы замещения служат в ней относительными ценами. Основ-
ная формулировка теории предполагает торговлю будущими благами с
поставкой при условии наступления любых будущих обстоятельств, но
усовершенствованные формулировки рассматривают реалистичный
случай, когда рынки регулярно возобновляются, а торговля ограничи-
вается узким кругом контрактов на немедленную и условную будущую
поставку (spot and contingent future delivery).
Установлены достаточные условия для существования вальрасиан-
ских аллокаций. Главным образом они требуют, чтобы предпочтения
агентов были выпуклыми и ненасыщаемыми и чтобы каждый агент
имел достаточно ресурсов для получения положительного дохода. Для
«большинства» экономик число вальрасианских аллокаций конечно, но
для обеспечения единственности необходимы сильные предположения
об эффектах замещения и дохода.
Вальрасианские аллокации и цены для специфицированных моде-
лей могут быть рассчитаны путем решения задачи о неподвижной точ-
ке, для чего разработаны общие методы. Задача является сложной (на-
пример, линейные модели с целочисленными данными могут привес-
ти к иррациональным ценам), но важная упрощающая оговорка состоит
в том, что вальрасианские цены зависят только от распределения
свойств агентов, в частности только от агрегированной функции из-
быточного спроса. По существу, любая непрерывная функция, удов-
летворяющая закону Вальраса и требованию однородности цен, есть
функция избыточного спроса для некоторой экономики.
Ключевое требование вальрасианской аллокации состоит в том, что
каждый агент максимизирует свою выгоду в рамках бюджета, обуслов-
ленного назначенными ценами; и рынки расчищаются при этих ценах.
Однако полное использование всех выгод торговли может предотвра-
щаться неполнотой рынков, внешними эффектами (такими, как, на-
пример отсутствие необходимых дополняющих товаров), недостаточ-
ными контрактами или стратегическим поведением. Если производи-
тели, имеющие монопольную власть, сдерживают выпуск с целью
поднять цены или практикуют любую из бесчисленных форм ценовой
дискриминации, то возникающая в результате аллокация — не вальра-
сианская. Дискриминация сегментирует рынки через дифференциро-
вание качества или продажу в «нагрузку», но столь же часто встреча-
ется дискриминационное ценообразование для различных условий
поставки (например, пространственные, временные, сервисные при-
оритеты) или нелинейное ценообразование со скидкой, зависящей от
величины покупки (например, двухшаговые и многошаговые убыва-
ющие тарифы), если покупки могут контролироваться и отсутствует
рынок перепродаж.
Вальрасианская модель обмена в значительной степени определя-
ется отсутствием таких методов влияния на цены. Она также основана
на неизменной спецификации агентов, продуктов, рынков и контрак-
тов. Теория экономики с большими фирмами, способными влиять на
цены и дифференцировать продукт, весьма неполна. Ее недостатки
297
проистекают частично из неадекватных формулировок, а частично из
технических причин: характеристики и даже существование равнове-
сия (в чистых стратегиях) зависят от особых структурных свойств. На-
пример, простейшие модели с одновременным выбором качества и цен
различными фирмами не имеют состояния равновесия; модели с по-
следовательным выбором встречают аналогичные препятствия, хотя и
в меньшей степени. Кроме того, если фирмы имеют постоянные из-
держки и должны избегать убытков, то условие эффективности может
потребовать нелинейного ценообразования и применения других дис-
криминационных методов, если исключена возможность получения с
клиентов единовременных сумм.
Для вальрасианской модели существенна также расчистка рынка,
и цены полностью определяются необходимым равенством спроса и
предложения. Напротив, последовательные рынки с перекрывающими-
ся поколениями участников не обязаны расчищаться «в бесконечнос-
ти». Такие рынки могут иметь сложную динамику, даже если базисные
показатели экономики стационарны. Аналогично постоянно возобнов-
ляемые рынки, на которые новые покупатели и продавцы прибывают
тем же темпом, каким их покидают прежние агенты после завершения
сделок, допускают невальрасианские цены и могут иметь устойчивые
избыточное предложение или избыточный спрос, если поиск или рас-
пределенный во времени процесс торга не препятствует безотлагатель-
ной расчистке рынка.
Ответ на вопрос о том, когда среди возможных аллокаций наилуч-
шим прогнозом является одна из вальрасианских аллокаций, имеет
несколько вариантов.
Первый ответ связан с конкуренцией. На стороне предложения, на-
пример, при наличии многих продавцов возрастает стимул у каждого
из них для того, чтобы отойти от тайных соглашений о ценах. При от-
сутствии сговора, если цены отражают предложение товаров на рынке
и каждый продавец выбирает оптимальный объем предложения как
ответ на ожидаемое предложение других продавцов, то оптимальная
доля прибыли в цене для каждого продавца обратно пропорциональна
числу продавцов, предлагающих субституты. Ценовая дискриминация,
например в виде нелинейного ценообразования, затрудняется, если есть
много продавцов, существуют рынки перепродажи или сделанные по-
купки трудно проследить со стороны. При отсутствии ограничений на
производственные мощности прямая ценовая конкуренция между близ-
кими или совершенными заменителями «съедает» прибыль, посколь-
ку становится привлекательным устанавливать цену ниже, чем у кон-
курента. Хотя эти выводы ослабляются тем, что издержки поиска или
переключения лежат на покупателях, для обеспечения состоятельнос-
ти (contestability) рынка и устранения монопольной ренты остается
важной легкость доступа в отрасль, не требующего безвозвратных из-
держек. Монопольная рента часто в значительной степени «улетучи-
вается» из-за сдерживания доступа на рынок «новичков», ценовых войн
и других видов конкурентной борьбы за сохранение или завоевание
монопольных позиций. Это верно и в тех случаях, когда «новички»
298
приносят на рынок совершенные заменители, и в более общем случае,
когда они стремятся заполнить весь спектр характеристик качества и
условий доставки.
На товарных рынках со стандартизованным качеством, и особенно
на финансовых рынках, большое значение имеют арбитражные опера-
ции; если полученная от некоторого актива отдача идентична отдаче
от сочетания других активов или от некоторой торговой стратегии, то
его цена связана с ценой последних. Кроме того, повторяющиеся воз-
можности торговли, обусловленной наступлением определенного со-
бытия, позволяют некоторым ценным бумагам заменять значительно
более широкий ряд отсутствующих условных контрактов.
В одной из форм гипотезы о конкуренции допускается то, что каж-
дое подмножество участников рынка может перераспределять свои
ресурсы между собой. Например, продавец и его покупатели составля-
ют коалицию, в рамках которой могут перераспределяться их ресурсы.
Ядро составляют такие аллокации, при которых никакая коалиция не
может перераспределить свои ресурсы с получением преимуществ для
каждого члена. Ядро включает вальрасианские аллокации. Основной
вывод, первым полученный Ф. Эджуортом (F.Y. Edgeworth), гласит, что
если экономика расширяется путем добавления участников, идентич-
ных существующим, то набор аллокаций, входящих в ядро, сжимается
до совокупности вальрасианских аллокаций.
Другая форма гипотезы придает особое значение тому факту, что в
экономике, которая так велика, что поведение каждого агента оказы-
вает незначительное воздействие на условия торговли, наилучшей стра-
тегией для каждого участника рынка является максимизация прибыли
от торговли по существующим ценам. Например, потенциальный вы-
игрыш любого участника рынка от поведения, которое влияет на усло-
вия торговли, становится несущественным (в общем случае), по мере
того как совокупность этих участников расширяется, обеспечивая в
пределе «непрерывное» распределение. Аналогичные результаты полу-
чаются для различных моделей рынков с открытым ценообразованием
через аукционы. Вообще говоря, эффективное распределение обяза-
тельно является вальрасианским, если поведение каждого агента не
является необходимым для того, чтобы другие агенты получили выго-
ды от торговли. Идеализированная формулировка рассматривает непре-
рывное пространство участников рынка, в котором имеют значение
только измеримые совокупности участников и поведение каждого от-
дельного участника не вызывает каких-либо последствий. В этом слу-
чае вальрасианские аллокации являются единственными, относящими-
ся к ядру. Аналогично распределение Шепли, в котором каждый участ-
ник имеет долю, пропорциональную его ожидаемому предельному
вкладу в случайным образом сформированную коалицию, является
вальрасианской аллокацией.
Со структурными характеристиками торговых процессов связана
альтернативная гипотеза. Проблемы согласования (например, в случае
рабочих, ищущих рабочие места) допускают процедурные правила,
которые при оптимальных действиях приводят к аллокациям, принад-
299
лежащим ядру. В общем случае соответствующим образом организо-
ванный аукцион обеспечивает аллокацию, принадлежащую ядру. Раз-
работаны и другие игры, в которых оптимальные действия участников
приводят к вальрасианской аллокации. Непрерывный двусторонний
торг между многочисленными агентами (с достаточно разными пред-
почтениями), при котором агенты многократно сводятся друг с другом
случайным образом и один из них стремится предложить условия тор-
говли другому, также сводится к вальрасианской аллокации при опти-
мальной игре. Сходным образом некоторые методы выбора аллокаций
стимулируют агентов фальсифицировать сообщения о своих предпоч-
тениях, и если они делают это оптимальным образом, то в результате
получается вальрасианская аллокация. Вообще говоря, любой процесс,
который является справедливым в том смысле, что все агенты имеют
одни и те же возможности торговли, сходится к вальрасианской алло-
кации. В одном из вариантов вначале публично объявляется некото-
рый «сигнал», и затем на основе своих предпочтений каждый агент
делает «сообщение», которое влияет в итоге на заключенные сделки:
если требуется аллокация, принадлежащая ядру, и каждый сигнал мог
бы быть правильным сигналом для некоторой большей по размерам
экономики, то сигнал должен быть, по существу, эквивалентен объяв-
лению вальрасианской цены, на которую каждый агент реагирует пред-
почтительной для себя торговлей в рамках своего бюджетного ограни-
чения, определенного ценой.
Нетерпение участников рынка также может повлиять на условия тор-
говли. При самой простой форме нетерпения агенты дисконтируют
отложенные прибыли от торговли. Динамическая игра предполагается
последовательно рациональной в том смысле, что стратегия должна
определять оптимальное продолжение в любой ситуации; это сильное
требование, которое значительно ограничивает допустимый набор со-
стояний равновесия. Например, если продавец и покупатель, торгуясь,
предлагают цены по очереди, то в единственном состоянии равнове-
сия торговля происходит немедленно по цене, зависящей от их норм
дисконта. По мере того как интервал между предложениями уменьша-
ется, доля продавца в прибыли от торговли становится пропорциональ-
ной относительной величине нормы дисконта покупателя: например,
при равных нормах дисконта прибыль делится поровну. Расширение
ситуации до многосторонней приводит к аналогичным результатам.
Монополист с неограниченным предложением, имеющий континуум
покупателей, вполне может получить благоприятные условия, но в дей-
ствительности в любом состоянии равновесия, в котором стратегии
покупателей стационарны, при сокращении интервала между предло-
жениями прибыль продавца исчезает и вся торговля немедленно про-
исходит по вальрасианской цене. Аналогично производитель товара
длительного пользования, не контролирующий рынки перепродажи или
аренды своего товара, имеет стимул увеличить выпуск при сокращении
производственного периода или заранее взять обязательство ограничить
производственные мощности. Это отражает тот факт, что монопольная
власть зависит в значительной степени от возможности заранее взять
300
на себя обязательство (powers of commitment), которую дает возраста-
ние предельных издержек, ограниченность мощностей или других ре-
сурсов.
Нетерпение и последовательная рациональность могут, тем не ме-
нее, вызвать неэффективность в форме (design) продукта, как при вы-
боре изготовителем продолжительности срока службы товара, или не-
эффективность в рыночной структуре, как, например, в случае, когда
продавец предпочитает сдать в аренду, а не продать товары длитель-
ного пользования.
Полная информация является основным фактором, оправдывающим
прогнозы достижения вальрасианских цен. При полной информации
и симметричных возможностях торговли у агентов многие модели пред-
сказывают вальрасианский результат, неполнота же информации час-
то приводит к отклонениям от вальрасианской ситуации.
Хотя информация обычно бывает полезной, в экономике обмена
поступление информации может иметь тот недостаток, что не распо-
ложенные к риску агенты откажутся страховаться от ее последствий.
Основной результат относится к экономике обмена, которая достигла
эффективной аллокации ресурсов прежде, чем некоторые агенты по-
лучили дальнейшую частную информацию, и где этот факт стал обще-
известным: предсказываемая реакция состоит в отсутствии дальнейшей
торговли, хотя цены могут изменяться.
Каждая эффективная аллокация имеет «эффективные цены»
(efficiency prices), которые отражают преобладающие предельные нор-
мы замещения; в вальрасианском случае вся торговля происходит по
этим ценам. Они обобщают массу информации о технологии, ресур-
сах и предпочтениях. Цены (и другие эндогенные наблюдаемые вели-
чины), следовательно, являются не только достаточными инструмен-
тами децентрализации, но и носителями информации. Если информа-
ция рассредоточена среди участников рынка, то вальрасианские цены
являются сигналами, возможно, достаточно «шумными», которые мо-
гут дать агенту информацию для торговли. Модели «временного рав-
новесия» предусматривают последовательность рынков, на каждом из
которых цены содержат информацию о будущих возможностях торгов-
ли. Модели «рациональных ожиданий» предполагают, что каждый агент
максимизирует ожидаемую полезность, исходя как из его частной ин-
формации, так и из информационного содержания цен. В простых слу-
чаях достаточно знать цены, которые включают в себя частную инфор-
мацию агента, тогда как в сложных реальных экономиках информаци-
онное содержание цен может быть неуловимым; тем не менее, рынки
испытывают влияние цен (например, фондовых индексов и индексов
оптовых цен), и различные модели пытаются реалистично отразить эту
особенность. И, наоборот, реакции цен на события и открытие инфор-
мации фирмами изучаются эмпирически.
Секретность информации каждого агента относительно его предпоч-
тений и возможностей влияет на реализуемые выгоды и условия тор-
говли. Многие модели требуют, чтобы относительные цены «свойств»
обеспечивали стимулы для его выбора. Примером служит серия про-
зе/
дуктов, которая состоит из несовершенных заменителей и в которой
приращения цены, соответствующие последовательным приращениям
качества, стимулируют потребителей делать выбор согласно их пред-
почтениям. Различные формы дискриминации, в которых цены зави-
сят от качества (например, времени, местоположения, приоритетнос-
ти и других условий доставки) или, если невозможна перепродажа, от
приобретаемого количества, действуют аналогично.
Отсутствие соответствующих условных контрактов неявно служит
основным источником неэффективности и распределительных эффек-
тов. Торговля может не состояться, если отбор худших (adverse selection)
исключает распространение эффективных сигналов о качестве продук-
та: без гарантий качества каждая цена, при которой может быть реали-
зовано некоторое качество, привлекает продавцов, предлагающих то-
вары более низкого качества. Инвестиции в распространение сигналов,
возможно, непродуктивные, которые дороже для продавцов товара с
более низким качеством, порождают ситуации, в которых уплаченная
цена зависит от поданного сигнала. Например, чтобы дать сигнал о
своих способностях, рабочий может предпринять излишние инвести-
ции в образование или пойти на работу, для которой ему не хватает
квалификации с точки зрения эффективности. Если покупатели дела-
ют повторные покупки, основываясь на пробах качества продукта, то
сама по себе начальная цена или даже расточительные расходы, такие,
как, например, неинформативная реклама, могут быть сигналами, ко-
торые использует продавец, чтобы побудить покупателя попробовать
свой товар.
Отношения «принципал — агент», в которых не расположенный к
риску агент имеет более полную информацию и его действия не могут
полностью контролироваться принципалом, требуют сложных контрак-
тов. Например, в повторяющейся ситуации с совершенными рынками
капитала и несовершенным страхованием оптимальный контракт пред-
полагает для подчиненного разное вознаграждение за каждый измери-
мый результат, а общее вознаграждение есть накопленная сумма этих
вознаграждений. На заключение контрактов в целом сильно влияет
ограниченная возможность наблюдения исходов (событий или дей-
ствий, порожденных стимулами), а в несимметричных отношениях
нелинейное ценообразование часто является оптимальным. Страховая
премия может меняться, например, в зависимости от числа застрахо-
ванных для того, чтобы компенсировать эффекты отбора худших или
морального риска.
Рынки труда изобилуют сложными стимулами и формами контрак-
тов частично потому, что рабочие не могут заключить форвардный
контракт о продаже своего труда, а частично потому, что трудовые кон-
тракты заменяют несовершенные ссудные рынки и отсутствующие
страховые рынки (например, страхования против риска снижения про-
изводительности). Рабочие могут иметь более полную информацию
относительно своих способностей, технических данных, предпринятых
усилий и действий, в то время как фирмы могут иметь более полную
информацию об условиях, влияющих на предельный продукт труда.
302
Стимулы для немедленного повышения производительности могут за-
висеть от оценок способностей рабочих при текущем уровне выпуска
или от процедур выбора рабочих для выдвижения на те рабочие места,
где эффект способностей приумножается большей ответственностью.
Сложность результирующих стимулов и контрактов отражает многочис-
ленные эффекты неполноты рынков и несовершенства мониторинга.
Что касается правил торговли, которые непосредственно влияют на
определение цен, анализ стратегического поведения участников рын-
ка показывает важную роль частной информации. Предполагается, что
торговое правило и вероятностное распределение свойств участников
(точно известных лишь им самим) являются общим знанием; следова-
тельно, такие ситуации формализуются в виде игр с неполной инфор-
мацией. Примером является аукцион с закрытыми предложениями,
в котором выигрывает тот, кто предложил самую высокую цену: пред-
положим, что каждый участник рассматривает выборку, независимо и
одинаково распределенную (independently and identically distributed)
относительно неизвестной цены предмета. При равновесных стратегиях
участников и по мере того, как число участников торга увеличивается,
максимальное предложение, вероятно, сходится к математическому
ожиданию ценности, предполагающему знание максимумов всех вы-
борок; для обычных распределений это означает сходимость к истин-
ной ценности товара. Альтернативные правила аукциона предпочти-
тельны для продавца, если их процедуры устраняют информационные
преимущества покупателей (например, этим свойством обладает вы-
крикивание цен в порядке возрастания) и предотвращают любые фор-
мы риска. Могут создаваться правила, максимизирующие ожидаемую
выручку продавца: если оценки участников торга независимо и одина-
ково распределены, то для обычных распределений оптимальна пере-
дача предмета торга тому, кто предложил наивысшую цену на первом
или втором круге в зависимости от оптимальной цены продажи, уста-
новленной продавцом. В таком аукционе «второй цены» или устном
прогрессивном аукционе без предельной цены продажи участники тор-
га предлагают свои фактические оценки, и поэтому цена является валь-
расианской.
Другим примером является двойной аукцион, используемый на лон-
донском рынке золота и японском фондовом рынке, где многочислен-
ные продавцы и покупатели заявляют свои цены предложения и спро-
са, а затем равновесная цена выбирается на интервале, полученном при
пересечении результирующих шкал спроса и предложения. Для огра-
ниченного класса моделей, требующих достаточно большого числа
покупателей и продавцов с независимо и одинаково распределенными
оценками, двойной аукцион дает эффективные стимулы в том смыс-
ле, что не существует другого правила торговли, более предпочтитель-
ного для каждого участника; кроме того, по мере увеличения числа
участников равновесная цена сходится к вальрасианской цене.
Эффекты привилегированного обладания информацией некоторы-
ми из участников рынка изучались для рынков с посредничеством бро-
керов и других специалистов, которыми являются большинство фон-
303
довых рынков. Результаты показывают, что стратегии специалистов
перелагают все ожидаемые убытки от отбора худших (adverse selection)
на неинформированных участников. С другой стороны, специалисты
могут выиграть на знании списка заказов и на непосредственном до-
ступе к торговым возможностям.
Частная информация сильно влияет на процесс торга. При чередо-
вании предложений цен покупки и цен продажи даже самые простые
случаи имеют множество состояний равновесия, причем приемлемы-
ми могут быть несколько из них, так что возможны различные аллока-
ции. В большинстве состояний равновесия задержка в выдвижении
серьезного предложения (того, которое имеет некоторый шанс быть
принятым) сигнализирует о том, что оценка продавца не является низ-
кой или оценка покупателя невысока; или же сделанные предложения
не дают возможности одной стороне делать существенные выводы от-
носительно оценки другой. Когда обе оценки частным образом извест-
ны обеим сторонам, должен последовать некоторый сигнал о том, что
возможен выигрыш от торговли. Обычно все выгоды от торговли в
конечном счете реализуются, но задержка может быть сопряжена со
значительными издержками.
В особом случае продавец, оценка которого общеизвестна, много-
кратно предлагает цены покупателю с неизвестной оценкой: допустим,
что стратегия покупателя постоянна и состоит в принятии первого
предложения по цене меньшей, чем его предельная цена спроса, зави-
сящая от его оценки. Как упоминалось выше для случая монополии,
при уменьшении периода между предложениями продавца последние
падают до уровня, не превосходящего наименьшей оценки покупате-
ля и торговля происходит быстро: покупатель получает большую часть
выигрыша. Даже при чередующихся предложениях продавца и поку-
пателя покупатель не делает серьезных предложений, если его оценка
высока, а периоды между предложениями коротки. Таким образом, со-
четание нетерпения, частых предложений и асимметричной информа-
ции смещает условия торговли в пользу осведомленной стороны.
Первичной формой обмена является товарная биржа, где располо-
жившиеся по кругу участники выкликают свои цены спроса и предло-
жения или принимают предложения других. Эти рынки действуют, по
существу, как многосторонние торги, но с эндогенно определяемой
разбивкой покупателей и продавцов по парам. Задержка в приеме се-
рьезного предложения здесь также может быть сигналом об оценке
товара данным участником, но источником нетерпеливости в данном
случае является «давление конкуренции». То есть допустивший задерж-
ку участник рискует тем, что благоприятная возможность может быть
перехвачена конкурентом. Эти рынки были изучены эксперименталь-
но с поразительными результатами: обычно большая часть выигрышей
от торговли реализуется при ценах, в конечном счете близких к валь-
расианским равновесным ценам, особенно если данные субъекты уже
имеют предшествующий опыт. Однако, если подойти к вопросу с точ-
ки зрения «рациональных ожиданий», субъекты иногда оказывались
304
неспособными делать необходимые выводы на основе информации,
выявленной в ходе ценовых предложений, и заключение сделок.
Торговые правила могут разрабатываться для максимизации ожи-
даемых реализуемых выгод от торговли с использованием «принципа
выявления». Каждое торговое правило и связанная с ним равновесная
стратегия порождают «прямую игру выявления», в которой торговое
правило является сочетанием первоначального торгового правила и
связанных с ним стратегий; в состоянии равновесия каждый участник
имеет стимул, чтобы точно сообщить о своей неизвестной другим лю-
дям оценке блага. В случае когда покупатель и продавец имеют неза-
висимые друг от друга, одинаково распределенные оценки, оптималь-
ное правило выявления эквивалентно двойному аукциону, в котором
торговля происходит в том случае, если предложение покупателя пре-
вышает предложение продавца и используется средняя между ними
цена. В более общем случае с многими покупателями и продавцами и
оптимальным правилом ожидаемые нереализованные выгоды от тор-
говли быстро падают по мере увеличения количества покупателей и
продавцов. Однако такие статические модели зависят от предположе-
ния, что дальнейшие возможности торговли исключены.
Контракты с гарантией исполнения облегчают обмен, и большинство
теорий основаны на них, однако они не абсолютно необходимы. На
практике важны «неявные контракты», которые не имеют обязатель-
ной силы и поддерживаются лишь угрозой прекращения отношений
после первого нарушения. Аналогично в бесконечно повторяющейся
ситуации, если продавец определяет качество продукта (скажем, высо-
кое или низкое) и цену перед продажей, а покупатель узнает качество
только после приобретения, то стратегия покупателя, состоящая в го-
товности платить только цену, соответствующую качеству предыдущей
покупки, достаточна для обеспечения постоянного высокого качества.
Исследования обмена без обязательных к исполнению контрактов
фокусируются на игре с дилеммой заключенного: обе стороны могут
выиграть от обмена, но каждая имеет стимул к тому, чтобы нарушить
свою часть соглашения. При любом конечном числе повторений этой
игры с полной информацией равновесные стратегии исключают какие-
либо соглашения, поскольку каждый ожидает от другого их нарушения.
Бесконечные повторения могут обеспечить соглашения только через
угрозу отказа от дальнейшего сотрудничества. При неполной инфор-
мации эффекты репутации могут обеспечить соглашения почти до кон-
ца периода. Например, если одна сторона считает, что другая будет
автоматически отвечать сотрудничеством на сотрудничество, то у нее
есть стимул, чтобы сотрудничать до первого нарушения со стороны парт-
нера, а он, в свою очередь, имеет стимул, чтобы сотрудничать вплоть до
того, как незадолго до конца периода действия соглашения нарушение
станет привлекательным. Репутация важна также в конкурентной борь-
бе среди фирм, обладающих частной информацией о своих издержках:
в войнах на уничтожение выживают эффективные участники.
Современный анализ обмена в основном опирается на теоретико-
игровые методы. Этот подход полезен для изучения стратегического
305
поведения в динамических ситуациях; для того, чтобы уточнить роль
частной информации, нетерпеливости, неприятия риска и других ха-
рактеристик предпочтений и ресурсов участников; чтобы описать по-
следствия неполноты рынков и неполноты контрактов, вызванной из-
держками мониторинга и обеспечения их исполнения; чтобы опреде-
лить эффективность общих правил торговли. Он также объединяет
теории обмена с теориями дифференциации продукта, дискриминаци-
онного ценообразования и других форм стратегического поведения
производителей. Технически теоретико-игровой подход делает воз-
можным переход от теорий большой экономики с определенным
распределением особенностей участников к теориям экономики с не-
сколькими участниками, имеющими частную информацию, но при об-
щеизвестных стохастических параметрах; дальнейшее усиление реали-
стичности анализа может быть связано с уменьшением предполагаемого
общего знания и лучшим описанием конкуренции среди больших
фирм.
Большие модели общего экономического равновесия, включающие
все эти реалистичные аспекты, вряд ли возможны, пока не заложены
их основания.
Суммируя сказанное, отметим, что вальрасианская модель остает-
ся парадигмой эффективного обмена при «совершенной» конкуренции,
где равенство спроса и предложения является основным детерминан-
том условий торговли. Дальнейший анализ стратегического поведения
участников с частной информацией и рыночной властью исследует
причины появления неполных или несовершенно конкурентных рын-
ков, которые препятствуют эффективности. Он описывает тонкие де-
тали эндогенного дифференцирования продуктов, контрактации и це-
нообразования, существенные для применения вальрасианской моде-
ли.
БИБЛИОГРАФИЯ
Arrow, K.J. and Debreu, G. 1954. Existence of an equilibrium for a competitive
economy. Econometrica 22, 265-90.
Arrow, K.J. and Hahn, F.H. 1971. General Competitive Analysis. San Francisco:
Holden-Day.
Aumann, R.J. 1964. Markets with a continuum of traders. Econometrica 32, 39-50.
Debreu, G. 1959. Theory of Value. New York: John Wiley & Sons.
Debreu, G. 1970. Economies with a finite set of equilibria. Econometrica 38, 387—92.
Debreu, G. and Scarf, H. 1963. A limit theorem on the core of an economy.
International Economic Review 4, 235—46.
Gresik, T. and Satterthwaite, M.A. 1984. The rate at which a simple market becomes
efficient as the number of traders increases: an asymptotic result for optimal trading
mechanisms. Discussion Paper 641, Northwestern University; Journal of Economic
Theory (1987).
Grossman, S.J. and Perry, M. 1986. Sequential bargaining under asymmetric
information. Journal of Economic Theory 39, 120—54.
306
Gul, F., Sonnenschein, H. and Wilson, R.B. 1986. Foundations of dynamic monopoly
and the Coase conjecture. Journal of Economic Theory 39, 155—90.
Hildenbrand, W. 1974. Core and Equilibria of a Large Economy. Princeton: Princeton
University Press.
Holmstrom, B.R. and Milgrom, P.R. 1986. Aggregation and linearity in the provision
of intertemporal incentives. Report Series D, No. 5, School of Organization and
Management, Yale University.
Holmstrom, B.R. and Myerson, R.B. 1983. Efficient and durable decision rules with
incomplete information. Econometrica 51, 1799—820.
Kreps, D.M., Milgrom, P.R., Roberts, D.J. and Wilson, R.B. 1982. Rational
cooperation in the finitely repeated prisoners’ dilemma. Journal of Economic
Theory 27, 245-52.
McKenzie, L. 1959. On the existence of general equilibrium for a competitive market.
Econometrica 27, 54—71.
Milgrom, P.R. 1979. A convergence theorem for competitive bidding with differential
information. Econometrica 47, 679-88.
Milgrom, P.R. 1985. The economics of competitive bidding: a selective survey. In Social
Goals and Social Organization, ed. L. Hurwicz, D. Schmeidler and
H. Sonnenschein. Cambridge: Cambridge University Press.
Milgrom, P.R. and Stokey, N. 1982. Information, trade, and common knowledge.
Journal of Economic Theory 26, 17—27.
Myerson, R.B. and Satterthwaite, M.A. 1983. Efficient mechanisms for bilateral
trading. Journal of Economic Theory 29, 265—81.
Radner, R. 1972. Existence of equilibrium of plans, prices and price expectations in a
sequence of markets. Econometrica 40, 289—303.
Roberts, D.J. and Postlewaite, A. 1976. The incentives for price-taking behavior in large
exchange economies. Econometrica 44, 115—28.
Roberts, D.J. and Sonnenschein, H. 1977. On the foundations of the theory of
monopolistic competition. Econometrica 45, 101-13.
Rubinstein, A. 1982. Perfect equilibrium in a bargaining model. Econometrica 50, 97-
109.
Scarf, H. (with T. Hansen.) 1973. The Computation of Economic Equilibria. New
Haven: Yale University Press.
Schmeidler, D. 1980. Walrasian analysis via strategic outcome functions. Econometrica
48, 1585-93.
Schmeidler, D. and Vind, K. 1972. Fair net trades. Econometrica 40, 637—42.
Smith, V. 1982. Microeconomic systems as experimental science. American Economic
Review. 72, 923—55.
Sonnenschein, H. 1972. Market excess demand functions. Econometrica 40, 549-63.
Sonnenschein, H. 1974. An axiomatic characterization of the price mechanism.
Econometrica 42, 425—34.
Spence, A.M. 1973. Market Signalling: Information Transfer in Hiring and Related
Processes. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Wilson, R.B. 1985. Incentive efficiency of double auctions. Econometrica 53,1101—16.
СЕМЬЯ
Гэри С. Беккер
Family
Gary S. Becker
Практически во всех известных обществах, включая древние, при-
митивные, развивающиеся и развитые общества, семьи были главны-
ми производителями и распределителями благ и услуг. Особую роль они
играли в рождении и воспитании детей, уходе за ними, в приготовле-
нии пищи, в защите от болезней и других опасностей и в поддержа-
нии репутации своих членов. Кроме того, родители часто проявляли
высокую степень самопожертвования ради детей и друг друга, что сви-
детельствует о героической природе мужчин и женщин.
Конечно, со временем семьи существенно изменялись. Разветвлен-
ные отношения родства в примитивных обществах, прослеживаемые
антропологами, сменились преобладанием нуклеарных семей в совре-
менных обществах, где двоюродные братья и сестры часто едва знают
ДРУГ друга, не говоря уже о взаимодействии в производстве и распре-
делении. Обязательное для многих обществ требование поддержки по-
жилых родителей чаще всего отсутствует в современных обществах, где
пожилые люди живут отдельно или в домах престарелых.
При этом семьи по-прежнему играют в экономической теории зна-
чительно меньшую роль, чем в реальной жизни. Хотя ведущие эконо-
мисты утверждали, что семьи являются основанием экономической
жизни, ни «Принципы экономической науки» Маршалла, ни «Осно-
вы политической экономии» Милля, ни «Богатство народов» Смита, ни
любой другой из выдающихся трудов в области экономической науки
не выходят в этой области за рамки случайных замечаний.
Существенным исключением является лишь модель роста населе-
ния Мальтуса. Мальтус рассмотрел взаимосвязь между фертильностью,
семейными заработками и возрастом вступления в брак и утверждал,
что, когда экономические обстоятельства менее благоприятны, пары
обычно откладывают (или должны откладывать) вступление в брак. Тем
не менее, эта важная работа (см. работу: Wrigley and Schofield, 1981, где
подтверждается, что до наступления XIX в. в Англии при росте зара-
ботков увеличивалась частота заключения браков) не оказала кумуля-
тивного воздействия на анализ семьи экономистами.
В течение последних 40 лет экономисты, наконец, начали анализи-
ровать поведение семьи систематически. Любой аспект семейной жизни
теперь может быть интерпретирован с позиций теории рационального
выбора. Это относится к таким своеобразным проблемам, как причи-
308
ны предпочтения одних способов контрацепции другим, причины того,
что сократилось распространение полигамии, а также более «традици-
онные» предметы, как, например, вопрос о том, что определяет воз-
раст вступления в брак, число детей, сумму инвестиций в человечес-
кий капитал детей, а также сумму затрачиваемых детьми средств на
помощь пожилым родителям. В этом очерке излагается «экономичес-
кий подход» к рассмотрению различных аспектов семейного поведения.
Детальное обсуждение конкретных аспектов можно найти в источни-
ках, указанных в библиографии.
1. ФЕРТИЛЬНОСТЬ. Давайте начнем с мальтузианской проблемы:
чем определяется число детей, или фертильность типичной семьи?
Критическим для любой дискуссии является признание (считавшееся
Мальтусом само собой разумеющимся) того, что мужчины и женщи-
ны действительно предпочитают своих собственных детей детям, рож-
денным другими. Предпочтение семьей рождения своих собственных
детей в конечном счете помогло экономистам признать, что семьи и
домохозяйства являются не только потребителями, но и важными про-
изводителями.
Желание иметь собственных детей означает, что число детей в се-
мье определяется условиями предложения. В данном случае предложе-
ние определяется знакомством с методами контроля над рождаемостью
и возможностью иметь детей, которая зависит от возраста, питания,
здоровья и других переменных.
Спрос на детей задается через максимизацию полезности семьи,
которая зависит от количества детей (л) и от других благ (z):
U= U(n, z). (1)
Полезность максимизируется при ограничениях, задающихся не
только производственными функциями домохозяйств относительно
числа детей и других благ, но и ресурсными ограничениями семьи.
Денежный доход ограничивается ставками заработной платы и рабо-
чим временем, а время, имеющееся для домашнего производства, огра-
ничивается общим имеющимся временем. Эти ограничения описыва-
ются приведенными ниже уравнениями, где X предельная полезность
семейного дохода. Общие чистые издержки рождения и воспитания
ребенка (77л) равняются стоимости благ и услуг, которые он потребля-
ет, плюс стоимость времени, затраченного на него членами семьи
), минус его заработки, которые добавляются к семейным ресур-
сам.
+ pzz = Ywi^, + v
tn, + ~ t
для всех i e f,
(2)
где tw — часы работы /-го члена семьи; wt — его или ее часовая зара-
ботная адата; г — семейный доход помимо заработной платы; tn и / —
время, потраченное на детей и на другие виды деятельности (кроме
наемного труда — примеч. ред.) i-м членом семьи, и t — общее име-
ющееся время за год или другую единицу времени.
309
Подставив ограничения по времени в ограничение по доходу, по-
лучим полный доход семьи (5):
(Л + ЕИ'Д)Я + (Рг + + v = 5,
П„п + nzZ = S. (3)
Если полезность максимизируется при ограничении на полный до-
ход, то обычные условия первого порядка таковы:
17 = КПп (4)
И
= (5)
oZ
Основная теорема спроса утверждает, что если реальный доход по-
стоянен, то увеличение относительной цены блага уменьшает величи-
ну спроса на это благо. Если отвлечься от условия постоянства дохода,
то увеличение относительной «цены» детей приведет к сокращению
числа детей, желаемых семьей. Когда есть возможность для детского
труда, как в традиционном сельском хозяйстве, то чистые затраты на
детей уменьшаются. Отсюда следует, что дети обладают большей цен-
ностью в традиционном сельском хозяйстве, чем в городах или совре-
менном сельском хозяйстве; и это объясняет, почему фертильность в
традиционном сельском обществе была выше (см. подтверждение в
работах: Jaffe, 1940; Gardner, 1973).
Рождение и воспитание детей обычно требовало больших затрат
времени матерей, а иногда также и других близких родственниц, по-
скольку дети обычно более «времяинтенсивны», чем другие блага, осо-
бенно если речь идет о материнском времени (т.е. в соотношениях (3)
pjn.n < Pj/П^- Следовательно, повышение цены материнского време-
ни должно уменьшить спрос на детей, поднимая относительную сто-
имость (relative cost). Во многих эмпирических исследованиях для
примитивных, развивающихся и развитых обществ установлено, что
число детей отрицательно связано с различными измерителями цены
материнского времени (см., например, работы: Mincer, 1962, Locay,
1987).
Женщины с детьми имеют стимулы для занятий деятельностью,
которая является дополняющей к воспитанию ребенка, включая рабо-
ту в семейном бизнесе, домашнее шитье и вязание на продажу. Ана-
логично женщины, которые заняты деятельностью, дополняющей вос-
питание детей, заинтересованы иметь детей, поскольку дети не требу-
ют особенно больших затрат их времени. Это объясняет тот факт,
почему женщины, работающие на молочных фермах, имеют больше
детей, чем женщины, занятые в зерновых хозяйствах: молочное живот-
новодство не требует работы вне фермы, которая не является допол-
няющей к воспитанию детей.
В течение последних ста лет фертильность заметно сократилась во
всех странах Запада: так, например, на одну замужнюю женщину в
310
США в среднем приходится сейчас немногим более двух рождений
живых детей по сравнению с примерно пятью с половиной рождения-
ми в 1880 г. (см.: Бюро переписи населения США (US Bureau of the
Census), 1977). Экономическое развитие подняло относительную сто-
имость детей, поскольку повысилась ценность времени родителей, со-
кратилась доля сельского хозяйства в экономике и труд ребенка стал
менее полезным в современном сельском хозяйстве. Кроме того, ро-
дители замещали численность детей расходами на каждого ребенка по
мере того, как в технологически развитых экономиках XX в. челове-
ческий капитал стал более важен не только в сельском хозяйстве, но и
во всех областях жизни (см.: Becker, 1981, ch. 5).
II. «КАЧЕСТВО» ДЕТЕЙ. Экономический подход вносит важный
вклад в объяснение фертильности, вводя в рассмотрение «качество»
детей. Качество является характеристикой детей, которая входит в функ-
ции полезности родителей и измеряется эмпирически образованием,
здоровьем, заработками или богатством детей. Хотя удача, генетичес-
кая наследственность, государственные расходы и другие факторы,
находящиеся вне контроля семьи, влияют на качество ребенка, оно
также зависит от решений родителей и других родственников.
Качество и количество детей взаимозависимы не потому, что они
являются особенно близкими заменителями в функции полезности
родителей, но потому, что истинная (неявная) цена количества частич-
но определяется качеством, и наоборот. Для того чтобы показать это,
запишем функцию полезности (1) как
U= U(n, q, Z), (6)
где q — качество детей. Запишем также семейное бюджетное огра-
ничение в (3) как
Ппп + nqq+ ПспЧ + S, (7)
где Пп — постоянные затраты на каждого ребенка, Пд — постоян-
ные затраты на единицу качества и Пс— переменные затраты на де-
тей.
Максимизируя полезность при выполнении семейного бюджетно-
го ограничения, получаем следующие условия первого порядка:
= Мад ад = тХ (8)
ОП
^- = ЦПд + Псп) = ХП;, (9)
Количество и качество взаимозависимы, поскольку неявная цена
количества (Я*) положительно связана с качеством детей, а неявная
цена качества (П*) положительно связана с количеством детей.
Для того чтобы проиллюстрировать природу этого взаимодействия,
рассмотрим повышение постоянных затрат на количество детей (Яя),
311
что поднимает неявную цену количества (Л*) и тем самым уменьшает
спрос на него. Однако уменьшение количества снижает неявную цену
качества (П*), что вызывает повышение качества. Но повышение ка-
чества, в свою очередь, поднимает еще больше неявную цену количест-
ва, что еще больше сокращает количество детей. В результате проис-
ходит дальнейшее повышение качества, и так далее, пока не будет до-
стигнуто новое равновесие. Следовательно, небольшое увеличение
постоянных затрат на количество может существенно уменьшить ко-
личество детей и существенно повысить их качество даже тогда, когда
количество и качество не слишком хорошо замещают друг друга в функ-
ции полезности.
Взаимовлияние между количеством и качеством может объяснить,
почему большие снижения фертильности обычно сочетаются со зна-
чительным ростом показателей образования, здоровья и других мер
качества детей (см. подтверждение в работе: Becker, 1981, ch. 5). Это
также объясняет, почему количество и качество детей часто отрицатель-
но связаны в семьях: для многих стран продолжительность образова-
ния и здоровье детей отрицательно связаны с числом детей у данных
родителей (см., например: De Tray, 1973; Blake, 1981).
Влияние родителей на качество своих детей означает, что положе-
ние семьи связано с достижениями детей и, следовательно, с неравен-
ством возможностей и социальной мобильностью поколений. До сих
пор в обсуждении проблем социальной мобильности поколений доми-
нировали социологи, но за последние годы экономисты показали, что
связь между занятиями, заработками и богатством родителей и детей
зависит от решений родителей о том, чтобы потратить время, деньги и
энергию на своих детей. Экономисты использовали понятия инвести-
ций в человеческий капитал и наследования материального богатства
в моделях перехода заработков и богатства от родителей к детям (см.,
например, работы: Conlisk, 1974; Loury, 1981; Becker and Tomes, 1986).
Эти модели показывают, что, скажем, соотношение между заработка-
ми родителей и детей зависит не только от биологических и культур-
ных особенностей, унаследованных от родителей, но также от взаимо-
действия между этими особенностями, государственными расходами на
детей и инвестициями родителей в образование и другой человеческий
капитал их детей.
III. АЛЬТРУИЗМ В СЕМЬЕ. До сих пор мы следовали агностицист-
скому отношению экономистов к формированию предпочтений и не
уточняли, как измеряется качество детей. Одна из аналитически удоб-
ных и правдоподобных предпосылок заключается в том, что родители
альтруистичны по отношению к своим детям. «Альтруизм» означает,
что функция полезности родителей зависит от функций полезности
детей, что отражается в соотношении
где z — потребление родителей, — полезность /-го ребенка
(1=1, п).
312
Экономисты обычно объясняли рыночные сделки, исходя из пред-
положения о том, что индивиды эгоистичны. Согласно знаменитым
словам Смита, «то, что мы ожидаем получить наш обед, связано не с
благотворительностью мясника, пивовара или пекаря, но с их отноше-
нием к своему собственному интересу. Мы обращаемся не к их чело-
вечности, а к их любви к себе, и всегда ведем разговор не о собствен-
ных надобностях, а об их преимуществах».
Предположение об эгоистичности в рыночных сделках было очень
плодотворным, но оно неуместно при попытке понять жизнь семьи. На
самом деле основная характеристика, которая отличает семейные до-
мохозяйства от фирм и других организаций, — это то, что аллокация
ресурсов в пределах семей в основном определяется альтруизмом и
связанными с ним обязательствами, в то время как аллокация внутри
фирм в основном определяется неявными или явными контрактами.
Поскольку семьи конкурируют с правительством за распоряжение ре-
сурсами, тоталитарные правительства часто добивались лояльности
своих граждан, атакуя семейные традиции и привязанности.
Предпочтение иметь собственных детей, уже упомянутое раньше,
предполагает особые чувства по отношению к своим детям. Жертвы
родителей ради детей и детей ради родителей, любовь, которая часто
связывает мужей и жен друг с другом, свидетельствуют о чрезвычайно
персонализированных отношениях в пределах семей, которые нетипич-
ны в других сообществах (см. также: Ben-Porath, 1980; Pollak, 1985).
Хотя альтруизм является главной объединяющей силой внутри се-
мей, систематический анализ альтруизма стал проводиться лишь недав-
но и многие его последствия еще не определены. Один важный резуль-
тат назван (возможно, неудачно) «теоремой об испорченном ребенке»
(Rotten Kid theorem) и объясняет согласование решений среди членов
семьи, когда альтруизм ограничен. В частности, если один из членов
семьи достаточно альтруистичен по отношению к другим членам, что-
бы тратить свое время или деньги на каждого из них, то у них имеется
стимул добиваться повышения благосостояния семьи в целом, даже
если сами они абсолютно эгоистичны.
Доказательство этой теоремы наиболее просто, когда полезность
альтруиста (назовем его «главой семьи») зависит от объединенных ре-
сурсов всех членов семьи. Рассмотрим единственное благо (х), потреб-
ляемое всеми членами семьи: главой и и его родственниками (не толь-
ко детьми, но, возможно, также супругом и другими родственниками).
Функция полезности главы семьи может быть записана в виде
Uh= U(xh,xv (12)
Бюджетное ограничение имеет вид:
й
Xh + = 4’ (13)
/=й
где Д — доход главы семьи; — дар z-му родственнику и цена бла-
га х равна единице. При отсутствии трансакционных издержек каждый
вложенный доллар будет получен кем-то из родственников, так что
313
x^Ii+gi, (14)
где — доход z-го родственника. Подставив это выражение в урав-
нение (13), имеем
ха+2х; = 7а + Ц = 5. (15)
Таким образом, можно сказать, что глава семьи максимизирует
функцию полезности (12) в рамках семейного дохода (5А).
Для того чтобы проиллюстрировать эту теорему, рассмотрим мать,
которая альтруистична по отношению к своим двум детям, Тому и
Джейн, и тратит, скажем, 200 дол. на каждого. Положим, что Том смо-
жет предпринять действие, которое принесет ему пользу в 50 дол., но
повредит Джейн на 100 дол. Эгоистичный Том предпримет это дей-
ствие, если его ответственность за нанесение ущерба Джейн не будет
обнаружена (и, следовательно, останется безнаказанной). Тем не ме-
нее, полезность главы семьи уменьшится в результате действия Тома,
поскольку семейный доход сократится на 50 дол. Если альтруизм —
«высшее благо», то глава семьи уменьшит полезность, достающуюся
каждому ребенку, если собственная полезность для этого ребенка
уменьшилась. Следовательно, если Том предпримет это действие, то
мать уменьшит свой дар ему с 200 дол. до менее чем 150 дол. и увели-
чит свой дар Джейн до менее чем 300 дол. В результате Том окажется
в худшем положении в результате своих действий.
Таким образом, эгоистичный Том, если он верно предвидит реак-
цию матери, не предпримет это действие, даже если мать не накажет
Тома, не зная, что Том является источником ущерба для Джейн и вы-
игрыша для себя. Эта теорема требует только того, чтобы глава семьи
знала результаты как для Тома, так и для Джейн и имела право «по-
следнего слова» (этот термин введен в работе: Hirshleifer, 1977).
Глава семьи имеет право «последнего слова», если его/ее дары за-
висят (возможно, только косвенно) от действий их получателей. В част-
ности, если дары z-му получателю зависят и от его дохода, и от дохода
семьи, как в соотношении
g.t = v,(^A) — I;, при dv/./dSh > 0, (16)
то после подстановки в уравнение (14) получаем:
= W- (17)
Глава семьи имеет здесь право «последнего слова», поскольку
максимизируется при максимизации 5А; для дальнейшего обсуждения
«теоремы об испорченном ребенке» см. работы: Becker, 1981, ch. 5;
Hirshleifer, 1977; Pollak, 1985.
Хотя эта теорема применима даже в том случае, когда получатели
даров завидуют друг другу или главе семьи, она не исключает конф-
ликты в семьях с альтруистичными главами. Детская ревность, напри-
мер, возможна, когда дети эгоистичны из-за того, что каждый хочет
получить больше от главы семьи, и каждый пытается убедить главу в
своих достоинствах. Конфликт также возникает, когда члены семьи
альтруистичны по отношению к одним и тем же своим родным, но не
друг к другу. Например, если родители альтруистичны к своим детям,
но не друг к другу, то каждый выигрывает, если другой тратит на де-
тей больше. Родители-супруги легко могут прийти к соглашению о
314
распределении этого бремени, но разведенные родители имеют более
серьезные основы для конфликта. Отдельно проживающие родители
(обычно отцы) занижают свои платежи на поддержку ребенка, частич-
но стремясь передвинуть бремя поддержки на другого родителя
(см. дискуссию в работе: Weiss and Willis, 1985).
Альтруизмом можно объяснить и много других форм поведения
семей. Например, эффективное разделение труда возможно в альтру-
истичных семьях без обычного конфликта между принципалом и аген-
том, поскольку как эгоистичные, так и альтруистичные члены таких
семей учитывают интересы других членов. Кроме того, вопреки рас-
пространенному мнению, наследство и подарки детям не являются
совершенными взаимозаменителями даже в альтруистичных семьях.
Наследство не только позволяет передавать ресурсы детям, но так-
же оставляет за родителями последнее слово, которое побуждает детей
учитывать интересы пожилых родителей (см. работы: Becker, 1981, ch. 5;
Bernheim, SchleifTer and Summers, 1986). Кроме того, если бы государ-
ственный долг или социальное обеспечение финансировались налога-
ми на последующие поколения, которые предвидят альтруистичные
родители, делающие завещания, то родители увеличили бы размер на-
следства, чтобы скомпенсировать более высокие налоги, уплачиваемые
их детьми. Такие компенсирующие реакции снижают воздействие го-
сударственного долга или социального обеспечения на потребление и
сбережения (см. подробный анализ в: Вано, 1974).
IV. РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА МЕЖДУ ПОЛАМИ. Резкое разделение
труда на занятия, выполняемые мужчинами и женщинами, обнаружи-
вается практически во всех обществах. Женщины несли основную от-
ветственность за заботу о детях, в то время как мужчины отвечали за
охоту и военную деятельность; даже когда мужчины и женщины вмес-
те занимались сельским хозяйством, торговлей или другой рыночной
деятельностью, они обычно выполняли разные функции (см. дискус-
сию в: Boserup, 1970).
Существенное разделение труда наблюдается в семьях не только
потому, что альтруизм уменьшает стимулы для отлынивания и обмана
(см. раздел III), но также вследствие возрастающей отдачи от инвес-
тиций в специфический человеческий капитал, как, например, в на-
выки, которые особенно полезны в воспитании детей или в рыночной
деятельности. Специфический человеческий капитал порождает специ-
ализацию, поскольку инвестиционные затраты частично (или полнос-
тью) независимы от времени, в течение которого используется капи-
тал. Например, человек получает наивысшую отдачу от своего медицин-
ского образования, если он тратит больше времени на медицинскую
практику. Аналогично семья более эффективна, когда ее члены посвя-
щают свое «рабочее» время разным видам деятельности и каждый ин-
вестирует главным образом в капитал, специфический для его или ее
деятельности (см.: Becker, 1981, 1985; о применении этой аргумента-
ции к другим проблемам, см.: Rosen, 1981).
315
Преимущества разделения труда в семье сами по себе не подразу-
мевают, что женщины должны заниматься уходом за детьми и другой
работой по дому. Тем не менее, выигрыш от специализированных ин-
вестиций подразумевает традиционное разделение труда между пола-
ми, если женщины имеют сравнительное преимущество в воспитании
детей или если женщины страдают от дискриминации в рыночной де-
ятельности. Действительно, поскольку разделение труда между пола-
ми ведет к сегрегации деятельности мужчин и женщин, а сегрегация —
эффективный способ избежать дискриминации (см.: Becker, 1981), то
даже небольшие различия в сравнительных преимуществах или неболь-
шая дискриминация женщин могут породить резкое разделение труда.
До недавних пор степень разделения труда между полами в странах
Запада была крайне велика; например, в 1890 г. менее 5% замужних
женщин в Соединенных Штатах входили в состав рабочей силы.
В 1981 г., напротив, свыше 50% даже замужних женщин с детьми млад-
ше шести лет входили в состав рабочей силы (см.: Smith and Ward,
1985). Тем не менее, профессии, в которых заняты мужчины и жен-
щины, все еще сильно различаются и на долю женщин все еще прихо-
дится большая часть работы по воспитанию детей и другой домашней
работы (см.: Journal of Labour Economics, January 1985).
Большой прирост вовлеченности замужних женщин в состав рабо-
чей силы в течение XX в. объясняется главным образом экономичес-
ким развитием, которое преобразило экономику стран Запада. Увели-
чение доли рыночного сектора в общей деятельности женщин порож-
далось повышением потенциальных заработков женщин (см.: Mincer,
1962). Кроме того, прирост числа рабочих мест для конторских служа-
щих в секторе услуг в целом позволил женщинам более гибко сочетать
работу на рынок и воспитание детей (см.: Goldin, 1983). Кроме того,
большой спад фертильности в течение этого периода (см. раздел I) су-
щественно облегчил более активное участие замужних женщин в
составе рабочей силы. Верно и обратное, поскольку повышение учас-
тия женщин в составе рабочей силы отрицательно сказалось на дето-
рождении.
V. РАЗВОДЫ. Специализация женщин на уходе за детьми ведет к
их большей экономической уязвимости в случае развода или смерти
супруга. Все общества признали существование этой проблемы, требуя
заключения долгосрочных контрактов, именуемых «браком», между
мужчинами и женщинами, законно занимающимися воспроизводством
человеческого рода. Часто в христианских обществах эти контракты не
могли быть расторгнуты, за исключением случаев прелюбодеяния, от-
сутствия или смерти супруга. В исламских и азиатских странах браки
могли расторгаться и по другим причинам, но при этом требовалось,
чтобы мужья, если они разводились без уважительной причины, пла-
тили компенсацию женам.
Рост числа разводов в течение этого столетия в странах Запада был
значительным. В Англии, по существу, не разрешались никакие раз-
воды до 1850-х годов (см.: Hollingsworth, 1965), в то время как теперь
316
почти 30% браков завершается разводом. Эта доля еще больше в Со-
единенных Штатах, Швеции и некоторых других западных странах
(см.: US Bureau of the Census, 1977). Что вызвало этот огромный рост
разводов за сравнительно короткий период времени?
Подход с позиции рационального выбора, максимизирующего по-
лезность, подразумевает, что человек хочет развестись, если полезность,
ожидаемая от того, чтобы оставаться женатым, ниже полезности, ожи-
даемой от развода (на последнюю воздействует перспектива заключе-
ния нового брака — большинство людей, разводящихся в западных
странах, теперь в конечном счете вступает в новый брак) (см., напри-
мер: Becker, Landes and Michael, 1977). Этот простой критерий не пол-
ностью тавтологичен, поскольку некоторые детерминанты выигрыша
от того, чтобы оставаться женатым, могут быть количественно оцене-
ны.
Некоторые лица разочаровываются, поскольку их супруги оказыва-
ются менее желанны, чем первоначально ожидалось. То, что эта новая
информация является важным источником разводов, подтверждается
тем, что большая доля разводов приходится на несколько первых лет
брака. Хотя разочарование, вероятно, присутствует в большинстве раз-
водов, большой рост показателя разводов, особенно его ускорение в
течение последних 20 лет, вряд ли можно объяснить каким-либо вне-
запным ухудшением качества информации. Вместо этого мы рассмот-
рим те силы, которые уменьшили выгоды от сохранения неблагополуч-
ного брака.
Сильное падение фертильности в последнее время способствовало
разводам, поскольку преимущества от сохранения брака больше, если в
семье есть маленькие дети. И наоборот, фертильность частично сокра-
тилась потому, что развод стал более вероятен при вступлении в брак, —
менее вероятно, что супружеские пары будут иметь детей, если они пред-
видят возможность развода (см.: Becker, Landes and Michael, 1977). По-
вышение доли замужних женщин, входящих в состав рабочей силы, так-
же уменьшило выигрыш от сохранения брака, поскольку разделение
труда между полами уменьшилось и женщины стали материально более
независимыми. В то же время, когда развод стал более вероятен, участие
замужних женщин в составе рабочей силы повысилось, поскольку замуж-
ние женщины хотят приобрести навыки, которые позволят поднять их
доходы, если им придется опираться на свои силы после развода.
Законодательство, несомненно, снизило юридические препятствия
для развода, но эмпирические исследования не обнаруживают значи-
мых постоянных воздействий этого факта на уровень числа разводов
(см., например: Peters, 1983). Более того, экономический анализ пока-
зывает, что беспрепятственность развода и другие радикальные изме-
нения в законодательстве о разводах не должны значимо влиять на долю
разводов, поскольку торг между мужьями и женами относительно усло-
вий сохранения брака или развода компенсирует даже резкие измене-
ния в законах о разводе.
Для того чтобы показать это, предположим, что доход мужа (Л) и
жены (w) равен If и Ц соответственно, если h и w решают развестись,
317
Iwm соответственно, если они остаются в браке. Бюджетное огра-
ничение принимает вид:
^+x' = Ih+I' = Id <18>
при разводе и
xhm + х» = АГ + АГ = 09)
при сохранении брака. Будем полагать, что решение о разводе в основ-
ном не связано с законодательством о разводе и зависит главным об-
разом от того, выполняется ли условие Р>Р, поскольку как Л, так и w
могут выиграть в случае развода, если Р > и в случае сохранения
брака, если Р <
Сравним, например, односторонний развод с разводом только по
взаимному согласию. Допустим, что муж оказывается в выигрыше от
развода (7/ > /Ат), но явный проигрыш жены больше, так что Р < Р.
Если развод может быть односторонним, то у мужа есть искушение
развестись, даже если жена существенно пострадает. Тем не менее, она
могла бы изменить его решение, предложив «взятку» (Z>A), что должно
сделать для обоих предпочтительным сохранение брака:
„ (20)
Эта «взятка» возможна, поскольку х™ + х" = Р1 > Р. Муж должен
теперь предпочесть сохранение брака, даже если бы он мог развестись
без согласия жены. Отметим, что супруги решили бы сохранить брак и
в том случае, если бы развод требовал взаимного согласия, поскольку
по крайней мере один из них должен был пострадать в случае развода.
Показатели числа разводов в меньшей степени зависят от законо-
дательства, определяющего условия развода, чем от законодательства,
определяющего выигрыш от развода. Например, помощь матерям,
имеющим на иждивении малолетних детей, или отрицательные став-
ки подоходного налога поощряют разводы, обеспечивая более бедных
женщин пособиями на детей и «алиментами» (см.: Hannan, Tuma and
Groeneveld, 1977). VI.
VI. БРАКИ. Браки, можно сказать, происходят на «рынке», кото-
рый «соединяет» мужчин и женщин друг с другом или оставляет их
одинокими до появления лучших возможностей. Оптимальная разбивка
на пары на эффективном рынке с участниками, максимизирующими
полезность, характеризуется тем, что мужчина и женщина, не «соеди-
ненные» друг с другом, не могут выиграть, вступая в брак друг с дру-
гом.
Во всех обществах супруги чаще всего происходят из одинаковых
социальных и религиозных групп и имеют положительную корреляцию
по образованию, росту, возрасту и многим другим переменным. Тео-
рия разбивки на пары на эффективных рынках объясняет формирова-
ние пар по сходству взаимодополняемостью, или «супераддитивностью»
свойств мужей и жен в домашнем производстве. Теория эффективных
разбивок также частично объясняет альтруизм в отношениях между
мужьями и женами: любящие люди, вероятно, вступят в брак, посколь-
ку на уровне формального анализа любовь может считаться одним из
источников «взаимодополняемости». С оптимальными разбивками свя-
318
заны и условные расчеты, которые определяют распределение доходов
или полезности в каждом браке. Равновесные доходы имеют свойство:
4m + #=4 (2D
и
#-+7/^,/^, (22)
где /„ — «продукт» брака между i-м мужчиной (/л(.) и J-й женщиной
ф, а 7.™ и If— доходы т, и / соответственно. Неравенство в соотно-
шении (22) указывает на то, что {//} — оптимальная разбивка, посколь-
ку т1 и fj при i j не могли бы выиграть, вступая в брак друг с другом,
вместо доставшихся им супругов (ft и соответственно). Равновесные
доходы включают приданое, «выкуп» за невесту, досуг и «власть» (бо-
лее подробно об этом см. в работах: Becker, 1974, 1981; анализ опти-
мальных разбивок в работах: Gale and Shapley, 1962; Roth, 1984 — ме-
нее актуальна для анализа брака, поскольку там равновесные цены,
т.е. доходы, не учитываются).
В последние десятилетия многие факторы, уменьшающие выигрыш
от сохранения брака (см. раздел V), увеличили в то же время выигрыш
от откладывания первого брака и повторных браков. Сюда относятся
сокращение фертильности и повышение доли участия замужних жен-
щин в составе рабочей силы. Сокращение стимулов для вступления в
брак в обществах Запада подтверждается быстрым увеличением коли-
чества пар, живущих вместе без заключения брака, и числа детей, рож-
денных незамужними женщинами. Тем не менее, даже в Скандинавии,
где тенденция к совместному проживанию без заключения брака, ве-
роятно, зашла дальше, чем где-либо, для лиц состоящих в браке, веро-
ятность остаться вместе и родить детей все еще значительно больше,
чем для лиц, которые совместно проживают без заключения брака (дан-
ные по Швеции см.: Trost, 1975).
VII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Семьи не
только тратят, но и производят. Их первичная роль состоит в том, чтобы
произвести будущие поколения, рожая детей и заботясь о них, хотя они
также помогают защищать своих членов от болезней, старости, безра-
ботицы и других опасностей в жизни.
Выполняя все эти функции, семьи основываются на альтруизме,
лояльности и нормах, в отличие от фирм, где основой служат контрак-
ты. Альтруизм и лояльность — это понятия, которые не используются
широко в анализе рыночных сделок, и их анализ только начал разви-
ваться. Для того чтобы полнее изучить поведение и эволюцию семьи,
требуется гораздо лучшее понимание этих явлений.
Фирмы и семьи конкурируют как различные формы организации
производства и распределения товаров и услуг. Успех в этой конкурен-
ции зависит от экономии, масштаба, проблемы «принципала — аген-
та» и других факторов. В сельском хозяйстве и розничной торговле
преобладали семейные фирмы, сочетающие производство для рынка с
производством для своих членов. Возможно, такие «гибридные» орга-
низации важны в тех случаях, когда альтруизм и лояльность более эф-
фективны в организации рыночного производства, чем контракты
319
(см.: Becker, 1981, ch. 8; Pollak, 1985), и когда рождение и воспитание
детей является дополняющим видом деятельности по отношению к
производству для рынка.
В течение последних тридцати лет семьи в странах Запада резко
изменились: фертильность упала ниже уровня простого воспроизвод-
ства, участие замужних женщин в составе рабочей силы и число раз-
водов повысились, совместное проживание без заключения брака и
рождение детей незамужними женщинами стали общепринятыми, гла-
вами многих домохозяйств с детьми являются теперь незамужние жен-
щины, большая часть пожилых людей живут одни или в домах для пре-
старелых, и в одной семье часто живут вместе дети от первого, второго
и иногда даже третьего брака.
Тем не менее, писать некролог институту семьи явно преждевремен-
но. Семьи по-прежнему необходимы для рождения и воспитания де-
тей, и они остаются важными факторами защиты своих членов от бо-
лезней, безработицы и многих других опасностей. Хотя роль семьи бу-
дет меняться и в будущем, я уверен, что семьи будут по-прежнему нести
основную ответственность за детей, а альтруизм и лояльность будут, как
и прежде, связывать родителей и детей.
БИБЛИОГРАФИЯ
Barro, R.J. 1974. Are government bonds net wealth? Journal of Political Economy
82(6), November-December, 1095-117.
Becker, G.S. 1974. A theory of marriage: Part II. Journal of Political Economy 82(2).
Part II, SI 1-26.
Becker, G.S. 1981. A Treatise on the Family. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press.
Becker, G.S. 1985. Human capital, effort, and the sexual division of labor. Journal of
Labor Economics 3(1), Part II, 533—58.
Becker, G.S., Landes, E.M., and Michael, R.T. 1977. An economic analysis of marital
instability. Journal of Political Economy 85(6), December, 1141-87.
Becker, G.S. and Tomes, N. 1986. Human capital and the rise and fall of families.
Journal of Labor Economics 4(2, Part 2), SI—39.
Ben-Porath, Y. 1980. The F-connection: families, friends, and firms and the
organization of exchange. Population and Development Review 6(1), 1—30.
Bernheim, B.I., Schleiffer, A. and Summers, L.H. 1986. Bequests as a means of
payment. Journal of Labor Economics 4(3), Part 2, S151—82.
Blake, J. 1981. Family size and the equality of children. Demography 18(4), 421—42.
Boserup, E. 1970. Woman’s Role in Economic Development. London: Alien & Unwin,
New York: St. Martin’s Press.
Conlisk, J. 1974. Can equalization of opportunity reduce social mobility? American
Economic Review 64(1), March, 80—90.
De Tray, D.N. 1973. Child quality and the demand for children. Journal of Political
Economy 81(2), Part II, March-April, S70-95.
Gale, D. and Shapley, L.S. 1962. College admissions and the stability of marriage.
American Mathematical Monthly 69(1), January, 9—15.
320
Gardner, В. 1973. Economics of the size of North Carolina rural families. Journal of
Political Economy 81(2), Part П, March-April, S99-122.
Goldin, C. 1983. The changing economic role of women: a quantitative approach.
Journal of Interdisciplinary History 13(4), 707—33.
Hannan, M.T., Tuma, N.B. and Groeneveld, L.P. 1977. Income and marital events:
evidence from an income maintenance experiment. American Journal of Sociology
82(6), 611-33.
Hirshleifer, J. 1977. Shakespeare vs Becker on altruism: the importance of having the
last word. Journal of Economic Literature 15(2), 500—502.
Hollingsworth, Т.Н. 1965. The Demography of the British Peerage. Supplement to
Population Studies 18(2).
Jaffe, A.J. 1940. Differential fertility in the white population in early America. Journal
of Heredity 31(9).
Locay, L. 1987. Population Density of the North American Indians. Cambridge, Mass.:
Harvard University Press.
Loury, G.C. 1981. Intergenerational transfers and the distribution of earnings.
Econometrica, 49(4), 843—67.
Marshall A 1890. Principles of Economics // Маршалл А. Принципы экономичес-
кой науки. M.: Прогресс, 1999.
Mill, J.S. 1848. Principles of Political Economy, with some of their applications to
Social Philosophy// Милль Дж. С. Основа политической экономии. М.: Про-
гресс, 1980.
Mincer, J. 1962. Labor force participation of married women. In Aspects of Labor
Economics, Princeton: Princeton University Press.
Peters, E. 1983. The impact of state divorce laws on the marital contract: marriage,
divorce, and marital property settlements. Discussion Paper No. 83—19. Economics
Research Center/NORC.
Pollak, R.A. 1985. A transactions cost approach to families and households. Journal
of Economic Literature 23(2), 581—608.
Rosen, S. 1981. Specialization and human capital. Journal of Labor Economics 1(1),
43-9.
Roth, A. 1984. The evolution of the labor market for medical interns and residents: a
case study in game theory. Journal of Political Economy 92(6), 991-1016.
Smith, A. 1776. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations //
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэк-
гиз, 1962.
Smith, J.P. and Ward, М.Р. 1985. Time series growth in the female labor force. Journal
of Labor Economics 3(1) Part II, 559—90.
Trost, J. 1975. Married and unmarried cohabitation: the case of Sweden and some
comparisons. Journal of Marriage and the Family 37(3), 677-82.
US Bureau of the Census. 1977. Current Population Reports. Series P-20, No. 308,
Fertility of American Women: June, 1976.
Weiss, Y. and Willis, R. 1985. Children as collective goods and divorce settlements.
Journal of Labor Economics 3(3), 268—92.
Wrigley, E.A. and Schofield, R.S. 1981. The Population History of England 1541—
1871. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ
Джеймс Тобин
Financial Intermediaries
James Tobin
Материальное (tangible) богатство страны включает природные ре-
сурсы, запасы товаров и чистую сумму требований данного государства
к остальному миру. В круг товаров входят также здания и сооружения,
оборудование, которыми пользуются потребители и производители,
а также товарные запасы готовой продукции, сырья и незавершенное
производство. Национальное богатство помогает удовлетворить потреб-
ности населения в последующий период. Материальные активы исполь-
зуются различным образом: иногда они непосредственно обеспечива-
ют потребительские товары и услуги, но чаще такие активы интенси-
фицируют производственную и интеллектуальную деятельность,
направляемую на изготовление потребляемых товаров и услуг. Сущест-
вуют также многочисленные «нематериальные» (intangible) формы на-
ционального богатства, среди которых можно упомянуть умения, зна-
ния и особенности менталитета населения, характер законов, традиций
и механизмов социального взаимодействия, которые способствуют
объединению усилий в рамках всего общества.
Некоторые компоненты национального богатства могут являться
объектами присвоения, они могут быть присвоены государством или
образовать частную собственность физических или других (юридичес-
ких) лиц. Некоторые «нематериальные» ценности также могут стать
объектами присвоения, в особенно большой степени это относится к
патентам и авторским правам. В капиталистическом обществе большая
часть присваиваемого богатства находится в частной собственности,
в США эта доля (по стоимости) превышает 80%. Частная собствен-
ность, как правило, может передаваться от собственника к собствен-
нику. Рынки, на которых в качестве объекта купли-продажи выступа-
ет такое имущество, т.е. рынки капитала, представляют собой важный
сектор экономики капиталистических стран. Рыночные операции с «че-
ловеческим капиталом» при отсутствии рабовладения достаточно огра-
ничены.
Отдельный человек может быть богатым тогда, когда он владеет
какими-либо активами, включаемыми в присваиваемое национальное
богатство. В этом случае в состав его личного богатства будут входить
бумажные деньги и монеты, банковские вклады, облигации, акции,
накопления во взаимных фондах (mutual funds), выраженная в день-
гах стоимость таких документов, как страховые полисы и права на по-
322
лучение пенсии. Все они представляют собой «бумажные» активы (paper
assets), воплощающие разного рода требования по отношению к дру-
гим физическим лицам, компаниям, учреждениям или государству.
При определении чистой стоимости своего богатства каждый человек
исключает из совокупной стоимости принадлежащих ему активов де-
нежные требования, предъявляемые ему другими лицами. В 1984 г.
валовая сумма финансовых активов, которыми владели американские
семьи, достигала примерно 75% всей чистой стоимости их имущества,
а чистая стоимость их финансовых активов — примерно 55% (Federal
Reserve, 1984). В процессе агрегирования чистой стоимости имущества,
принадлежащего всем «хозяйственным единицам» страны, «бумажные»
требования и обязательства взаимно погашаются. Если оценки можно
считать сопоставимыми, а сфера учета (census) достаточно полна, то в
итоге удается рассчитать стоимость национального богатства.
Допустим, что при подобном агрегировании не учитывается имущест-
во центрального правительства, тогда чистая стоимость частного иму-
щества, в которой агрегирована чистая стоимость всего имущества,
принадлежащего физическим и юридическим лицам, а также местным
органам власти (последние включены в «частный» сектор, поскольку,
не обладая полномочиями денежных властей, они ограничены в своих
возможностях заимствования средств), охватывает не только их акти-
вы, входящие в состав национального богатства, но также чистую сумму
их требований по отношению к центральному правительству. Такие
требования включают монеты и бумажные деньги, представляющие
собой эквивалент депозитных обязательств Центрального банка, а так-
же казначейские (treasury) обязательства, обеспечивающие процентный
доход. В случае когда сумма таких обязательств центрального прави-
тельства превосходит стоимость принадлежащих ему реальных активов,
чистая стоимость частного имущества будет превосходить националь-
ное богатство. Учтем, однако, что при подсчете чистой стоимости част-
ного имущества отдельные участники хозяйственной жизни могут вы-
читать из стоимости своего богатства некоторые суммы, предназначен-
ные для уплаты тех налогов, за счет которых будут обслуживаться
правительственные долги. Одни экономисты полагают, что такие вы-
четы и последующие платежи полностью компенсируют друг друга, так
что государственный долг не фигурирует в составе совокупной стоимо-
сти частного имущества (Вагго, 1974), тогда как другие экономисты
приводят доводы в пользу утверждения, согласно которому подобная
компенсация оказывается неполной (Tobin, 1980). (Более подробное
рассмотрение этого вопроса можно оставить вне рамок данного очер-
ка.)
ВНЕШНИЕ АКТИВЫ,
ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
Таким образом, чистое частное имущество состоит из следующих
двух компонентов: элементов национального богатства, находящихся
в частной собственности (большей частью это материальные активы),
323
и правительственных обязательств. Такие внешние активы (outside
assets) становятся объектом частного присвоения не непосредственно,
а косвенным образом благодаря посреднической деятельности, пред-
полагающей функционирование сложной системы долговых обяза-
тельств и требований (те и другие относят к внутренним активам (inside
assets)).
Статистические характеристики. В Соединенных Штатах сто-
имость всех материальных активов, земли и воспроизводимых товаров
к концу 1984 г. оценивалась в 13,5 трлн дол., это примерно в 4 раза
превосходит годовую величину валового национального продукта. Из
этой суммы 11,2 трлн дол. приходится на частную собственность. Доба-
вив чистую сумму требований к другим государствам и находящиеся в
частной собственности требования к федеральному правительству, чис-
тую стоимость частного имущества можно определить в 12,5 трлн дол.,
из которых только 1,3 трлн дол. представляют собой внешние финан-
совые активы. Степень «посредничества» может характеризоваться ва-
ловой суммой финансовых активов, что составляет приблизительно
14,8 трлн дол. Даже в том случае, если рассматривать акции предприя-
тий просто как титулы собственности на реальное имущество и исклю-
чить их из круга финансовых активов, стоимость остающихся внутрен-
них активов составит 9,6 трлн дол. Более половины из них, 5,6 трлн
дол., представляют собой требования по отношению к финансовым уч-
реждениям. При этом оценка в 9,6 трлн дол.* представляется недоста-
точной, поскольку многие внутренние финансовые активы не охваты-
ваются статистическим учетом. С 1953 г. основные пропорции в рас-
пределении этих величин очень мало изменились, в то время чистая
стоимость частного имущества составляла 1,27 трлн дол., валовые фи-
нансовые активы были равны 1,35 трлн дол. (1,05 трлн дол. без ак-
ций) и ВНП составлял 0,37 трлн дол. (Federal Reserve, 1984).
Реймонд Голдсмит, который на протяжении всей своей научной
деятельности успешно исследовал финансовое посредничество и зна-
ет об этом много больше, чем кто-либо другой, количественно оценил
степень развития такого посредничества во многих странах на протя-
жении длительных промежутков времени (1969, 1985). Ниже приводит-
ся отрывок, содержащий некоторые результаты его исследования:
«Создание современной финансовой «надстройки» в целом — если речь
идет не о деталях, а об основных характеристиках — завершилось на
довольно ранних стадиях экономического развития, обычно этот про-
цесс занимал от 5 до 7 десятилетий от начала современного экономи-
ческого роста. Таким образом, в большинстве развитых стран указан-
ный процесс в своих существенных чертах был завершен к концу XIX в.
или к началу первой мировой войны, хотя в Великобритании процесс
формирования финансовой структуры завершился несколько ранее.
В течение этого периода соотношение между финансовыми и матери-
альными активами — коэффициент, характеризующий степень разви-
* В тексте оригинала опечатка — 9,6 млн дол. — Примеч. научн. ред.
324
тия финансовых взаимосвязей (financial interrelations ration) — непрерыв-
но возрастал довольно быстрыми темпами. Однако начиная с первой ми-
ровой войны или с Великой депрессии изменения этого соотношения в
большинстве развитых стран не обнаруживали повышательного трен-
да, хотя на отдельных более коротких временных отрезках можно было
наблюдать значительные изменения, например стремительное падение
этого соотношения в периоды инфляции. Наряду с этим на протяже-
нии рассматриваемого периода существенно менялось относительное
значение отдельных финансовых институтов и инструментов. С дру-
гой стороны, у менее развитых стран в недавнем прошлом можно было
наблюдать существенный рост коэффициента финансовых взаимосвя-
зей, в особенно большой степени это относится к послевоенному пери-
оду, хотя, вообще говоря, значение этого коэффициента все еще оста-
валось значительно ниже уровня, достигнутого развитыми странами
к началу XX в.»
Голдсмит установил, что значение рассматриваемого коэффициен-
та, близкое к единице, может служить признаком зрелости финансо-
вой системы, о чем свидетельствуют приведенные выше данные, от-
носящиеся к Соединенным Штатам (Goldsmith, 1985, р. 2—3).
Голдсмит показал также, что относительная роль финансовых ин-
ститутов, особенно небанковских, обнаруживала тенденцию к росту в
большинстве стран с рыночной экономикой, вместе о тем указанный
рост замедлялся по мере формирования финансовой системы. Обыч-
но финансовым институтам принадлежит от четверти до половины всех
финансовых инструментов. К 1978 г. это соотношение чаще всего со-
ставляло примерно 0,4, при этом коэффициент финансовых взаимо-
связей, исчисленный для различных стран, обнаруживал значительный
разброс. Соединенные Штаты (у которых коэффициент был равен 0,27)
оказывались среди стран с низким значением данного коэффициента,
вероятно, потому, что эта страна обладает множеством высокооргани-
зованных финансовых рынков (Goldsmith, 1985, Table 47, р. 136).
Валовой объем финансовых операций поражает воображение.
В Соединенных Штатах скорость обращения денег, рассчитанная по
ВНП, составляет 6-7 (раз в год); если же рассматриваются не только
конечные, но и промежуточные операции с товарами и услугами, чис-
ло оборотов за год может составить 20 или 30. В то же время сред-
ства, размещенные на текущих депозитах в банках, совершают более
500 оборотов в год, а в нью-йоркских банках число оборотов дости-
гает 2500, что свидетельствует о том, что преобладающая часть рас-
сматриваемых операций носит финансовый характер. В Соединенных
Штатах только стоимость операций на фондовых рынках составляет
сумму, равную трети валового национального продукта; акция меня-
ет собственника в среднем один раз в 19 месяцев. Ежедневный вало-
вой объем операций с иностранной валютой оценивается в сотни
миллиардов долларов. На «добавленную стоимость», создаваемую в
сфере финансовых услуг, приходится до 9% ВНП Соединенных Шта-
тов (Tobin, 1984).
325
«Внешние» и «внутренние» деньги (outside and inside money). При ана-
лизе денег чаще всего различаются «внешние» и «внутренние» деньги.
Внешние деньги представляют собой денежные обязательства, выпуска-
емые государством и его Центральным банком; наличные деньги
(currency) и вклады в Центральном банке иногда называют «денежной
базой», или «деньгами повышенной мощности» («high-powered» money).
Внутренние деньги, или деньги пониженной мощности» («low-powered»
money), включают частные депозитные обязательства других банков и
депозитарных институтов (за вычетом принадлежащих им внешних
денежных активов). Какой же вид депозитных обязательств учитыва-
ется в качестве «денег»? Ответ на этот вопрос зависит от исходных
определений. Существуют различные определения, причем все они
носят несколько условный характер. К концу 1983 г. в Соединенных
Штатах масса внешних денег составляла 186 млрд дол., из которых
36 млрд дол. использовались банками и другими депозитарными инсти-
тутами в качестве резервов, а остальные 150 млрд дол. использовались
другими частными лицами в качестве наличных денег. Денежный аг-
регат Ml, т.е. наличные деньги, находящиеся в обращении, плюс вкла-
ды на чековых счетах, в сумме составил 480 млрд дол. Таким образом,
на долю внутренних денег в Ml приходилось 294 млрд дол., т.е. более
чем 60% общей суммы.
Организованные и неформальные финансовые рынки. При агрегирова-
нии внутренних активов и внутренних обязательств они взаимно по-
гашаются; актив одного лица представляет собой обязательство друго-
го. Анализируя механизм функционирования экономики, особенно
важно выделить «внутреннюю сеть» операций. Финансовые рынки обес-
печивают возможность появления внутренних активов и внутренних
обязательств; на этих рынках осуществляется свободный обмен одних
объектов торговли на другие, а также их обмен на внешние финансо-
вые активы. На них обращаются и зафиксированные на бумаге кон-
тракты и требования.
Финансовые рынки дополняют рынки, на которых обращается «ре-
альное» имущество. Частные лица нередко берут деньги взаймы, что-
бы купить «реальное» имущество, и используют это имущество в каче-
стве залога. Так, покупатели закладывают покупаемые ими новые дома,
предприниматели берут взаймы деньги, чтобы на них купить сырье или
полуфабрикаты или чтобы приобрести здания, сооружения, оборудо-
вание. Термин «рынки капитала» охватывает как финансовые рынки,
так и рынки, на которых ведутся операции с «реальным» имуществом.
Денежные рынки — это такие финансовые рынки, на которых кратко-
срочные обязательства обмениваются на внешние деньги.
Многие активы, обращающиеся на финансовых рынках, содержат
обязательство уплатить фиксированную сумму наличных денег на опре-
деленную дату, причем иногда подобное обязательство обусловлено
наступлением заранее оговоренных событий или возникновением пре-
дусмотренных в контракте особых обстоятельств. Обращение денег не
всегда ограничивается национальными рамками; облигации, деноми-
326
нированные в национальных валютах, могут служить объектом купли-
продажи в различных частях света. Стоимость многих обращающихся
активов не деноминирована в каких-либо денежных единицах: это от-
носится к акциям* корпораций, а также к контрактам на поставку то-
варов — золота, нефти, соевых бобов, или, скажем, свиной грудинки.
Существуют также «гибридные» активы различного вида; так, при рас-
пределении прибыли компании привилегированная акция обеспечивает
ее владельцу некоторое преимущество (в заранее обусловленных пре-
делах): конвертируемые долговые обязательства предполагают не только
последующую денежную оплату, но и предоставление их владельцу
права обмена этих обязательств на акции.
Рынки капитала, включая финансовые рынки, могут быть органи-
зованы различным образом. На некоторых из них используется высо-
коразвитая система аукционов; такие рынки могут рассматриваться как
наибольшее приближение в реальной жизни к абстрактным совершен-
ным рынкам, которые исследуются в экономической теории. На совер-
шенных рынках в любой момент времени все сделки с тем или иным
товаром или ценной бумагой должны совершаться по единой цене,
причем каждый участник, желающий купить или продать по этой цене,
может осуществить свое желание. На таких рынках продаются и поку-
паются акции, облигации, предоставляются в ссуду на одни сутки
(overnight loans) внешние деньги, осуществляется торговля стандарт-
ными товарами, принимаются вклады в иностранной валюте, по боль-
шинству из этих позиций на них обращаются также фьючерсные кон-
тракты и опционы.
Однако многие операции в финансовой сфере и торговле имущест-
вом могут осуществляться другим способом: они связаны с прямыми
переговорами сторон, участвующих в сделке. Для функционирования
организованных открытых рынков требуется предложение больших
масс однородных товарных ресурсов или финансовых инструментов
(с точной их спецификацией). В то же время многие финансовые обя-
зательства специфичны, например долговое обязательство владельца
местного предприятия, закладная на ту или иную ферму либо жилой
дом. В каждом случае определяются соответствующие сроки, условия
и характер обеспечения. Для таких разнородных торговых операций
понятие «рынки» представляет собой скорее метафору, так же, как по-
нятие «рынок труда» используется для того, чтобы описать децентра-
лизованные процессы формирования заработной платы и заполнения
вакансий, а понятие «компьютерный рынок» — для того, чтобы опи-
сать цены и продажи множества дифференцированных технических
устройств. В этих случаях рассуждения экономистов обычно исходят
из принципа «если бы» (as if), т.е. предполагается, что результаты рас-
сматриваемых операций совпадают с результатами тех операций, кото-
рые осуществлялись бы на совершенных высокоорганизованных аук-
ционных рынках.
* Обыкновенным акциям. — Примеч. научн. ред.
327
ФИНАНСОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И РЫНКИ, НА КОТОРЫХ ОНИ ДЕЙСТВУЮТ
Финансовые посредники — это предприятия, осуществляющие куп-
лю-продажу финансовых активов. В бухгалтерском балансе финансо-
вого посредника как в активах, так и в пассивах фигурируют одни «бу-
мажки». Типичный финансовый посредник владеет сравнительно не-
большим реальным имуществом, необходимым для его деятельности,
например зданиями, сооружениями, оборудованием. Собственный ак-
ционерный капитал предприятия или его эквивалент — паевые счета
(счета резервов капитала) во взаимных фондах, кооперативах, на бес-
прибыльных предприятиях и в государственных учреждениях — неве-
лики по сравнению с финансовыми обязательствами соответствующих
учреждений.
Финансовые посредники — это главные участники организованных
финансовых рынков. В их активах большое место занимают рыночные
финансовые инструменты; на финансовых рынках продаются акции
этих посредников и некоторые обязательства, например депозитные
сертификаты или долговые бумаги. Их операции не сводятся просто к
выполнению функций таких посредников, как дилеры и брокеры, ко-
торые обычно осуществляют операции по заказу своих клиентов.
Финансовые посредники представляют собой главных организато-
ров тех неформальных финансовых рынков, которые упоминались
выше. Банки и сберегательные учреждения выдают ссуды под залог
закладных, предоставляют коммерческие и потребительские кредиты,
в их пассивах фигурируют главным образом чековые счета, сберегатель-
ные вклады и депозитные сертификаты. Среди страховых компаний и
пенсионных фондов осуществляется частное размещение корпоратив-
ных облигаций и закладных, выпущенных предпринимателями; их обя-
зательства обусловлены контрактами с держателями полисов, а также
предстоящими платежами будущим пенсионерам. Таким образом, роль
финансовых посредников выходит далеко за пределы простого участия
в операциях, осуществляющихся на организованных рынках. Подлин-
ное значение их хозяйственных операций отнюдь не сводится к тому,
что они обслуживают своих кредиторов, осуществляя куплю-продажу
обязательств на рынке.
Финансовый бизнес стремится привлечь клиентов — как кредито-
ров, так и заемщиков, — не только прибегая к конкуренции процент-
ных ставок, но также с помощью дифференциации и рекламы своих
«продуктов». «Продукты» финансовых посредников легко поддаются
дифференциации; для этого достаточно изменить сроки погашения,
величину комиссионных платежей, объем дополнительных услуг, мес-
то размещения офисов и время их работы, а также многие другие ха-
рактеристики их операций.
Неценовая конкуренция, как и следовало ожидать, особенно актив-
на в тех случаях, когда цены (в нашем случае процентные ставки) ока-
зываются зафиксированными вследствие регулирующих мероприятий
или в результате скрытого или явного сговора участников. Однако не-
328
однородность «продукта», производимого в данной отрасли, вызывает
к жизни монополистическую конкуренцию; неценовая конкуренция
набирает размах и в тех случаях, когда процентные ставки могут сво-
бодно изменяться. В таких отраслях можно наблюдать симптомы «ра-
сточительства, порождаемого монополистической конкуренцией»
(«wastes of monopolistic competition»). Офисы банков и сберегательных
учреждений, ведущих «розничные» операции, также «сбиваются в стаи»
как и конкурирующие между собой бензоколонки. Несмотря на все
восхваления и преувеличения рекламы, превозносимая дифференциа-
ция «продукта» на деле во многих случаях носит тривиальный и поверх-
ностный характер.
Финансовые посредники стремятся установить долгосрочные отно-
шения со своими клиентами. Даже в сильно децентрализованной фи-
нансовой системе Соединенных Штатов, в которой местные финансо-
вые посредники располагают некоторой монопольной властью, часть
клиентуры будет по-прежнему пользоваться их услугами и в том слу-
чае, если устанавливаемые этими посредниками процентные ставки
окажутся несколько менее благоприятными для клиента, чем ставки в
других учреждениях. Большая часть этих операций может реализоваться
лишь с помощью двусторонних переговоров, поэтому здесь возника-
ют широкие возможности для ценовой дискриминации. Типичное
предприятие — клиент банка выступает то в качестве заемщика, то в
качестве кредитора, а часто — в обеих ролях одновременно. Если кли-
ент нуждается в кредитной поддержке, он «зарабатывает» право на нее,
ссужая этому банку временно свободные средства, которыми клиент
располагает в соответствующий момент. Аналогичные отношения вза-
имной «поддержки» существуют между кредитными союзами и взаим-
ными (mutual) сберегательными учреждениями, с одной стороны, и не-
которыми их членами — с другой. Часто формируются тесные связи
между финансовым посредником и теми «нефинансовыми» предпри-
нимателями, продажи которых зависят от доступности кредита для их
клиентов, например между дилерами, торгующими автомобилями,
и банками. Аналогично строительные и риэлторские компании обыч-
но осуществляют финансирование многих ссудосберегательных ассо-
циаций и устанавливают контроль над ними для того, чтобы облегчить
покупателям домов возможности получения ипотечных кредитов.
Для того чтобы привести спрос на кредит, с которым сталкиваются
финансовые посредники, в соответствие с предложением наличных
ресурсов, эти учреждения используют не только процентные ставки,
они меняют также другие условия предоставления кредита. Они при-
бегают и к количественному рационированию кредита, причем степень
жесткости при таком рационировании меняется в зависимости от того,
какими средствами располагает посредник, и от цены капитала. При
этом рационирование финансовых ресурсов возникает естественным
образом как «побочный продукт» решений о предоставлении кредита —
решений, которые складываются в процессе торга и меняются от слу-
чая к случаю. Большинство таких ссуд требует обеспечения, а стоимость
этого обеспечения и его качественные характеристики могут меняться
329
в зависимости как от конкретных обстоятельств, так и от общей ры-
ночной ситуации. Ссуды заемщикам подразделяются по степени рис-
ка и по установленным ставкам, меняющимся в соответствии с клас-
сификацией заказчиков по указанным критериям.
Коммерческие банки Соединенных Штатов придерживаются «со-
глашения о базовой ставке» («prime rate convention»). Один из крупней-
ших банков выступает в качестве ценового лидера и устанавливает став-
ку по шестимесячным коммерческим ссудам для наиболее надежных
заемщиков (prime quality borrowers). Если указанная ставка устраивает
другие крупные банки (а обычно так и случается, они следуют за ли-
дером), данная ставка выступает в качестве стандартной для всех бан-
ков. Это продолжается до тех пор, пока один из ведущих банков не
примет решения о новых изменениях, необходимых для того, чтобы
восстановить соответствие с другими процентными ставками свобод-
ного рынка. При установлении рейтинга заемщиков для каждой сле-
дующей категории по мере увеличения риска прибавляется подпункта
(отсчитывая от базовой ставки). При этом некоторые заявки на полу-
чение кредита, разумеется, могут просто отвергаться. Один из механиз-
мов краткосрочного приспособления к новым условиям рынка банков-
ских ссуд сводится к изменению (ужесточению или смягчению) клас-
сификации ссуд по степени риска. Это равносильно отказу в кредитах
большему или меньшему числу клиентов, подававших заявку на полу-
чение ссуды. Аналогичные механизмы рационирования помогают уста-
новить равновесие между спросом и предложением в сфере ипотечно-
го финансирования, используемого при продажах жилья, и в сфере
потребительского кредита.
ФУНКЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
И ПОСРЕДНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Выше была определена и охарактеризована в общих чертах посред-
ническая деятельность; эта деятельность придает имеющемуся в эко-
номике частному богатству совершенно другие формы, позволяющие
конечным собственникам с выгодой хранить накопленные сбережения.
Лишь финансовые рынки могут осуществлять посредничество в зна-
чительных масштабах просто благодаря тому, что облегчают процессы
возникновения и обмена внутренних активов. Вместе с тем финансо-
вые посредники в большой степени расширяют сферу распростране-
ния этих процессов, добавляя «рынки», которые без них просто не
могли бы существовать. Кроме того, наряду с прочими участниками
они функционируют на других рынках, как организованных, так и
неформальных.
Какие же экономические функции осуществляет посредничество в
общем процессе? Что могут добавить внутренние рынки к рынкам ос-
новных внешних активов? В чем состоят функции институционального
посредничества, осуществляемого финансовыми учреждениями (поми-
мо функций открытых рынков, на которых осуществляется купля-про-
дажа финансовых инструментов)? Таковы типичные вопросы, которы-
330
ми задаются экономисты-теоретики, хотя практикам ответы на подоб-
ные вопросы не кажутся столь уж непонятными. Экономическая тео-
рия исходит из предположения, согласно которому финансовые опе-
рации представляют собой эпифеномены*, что они образуют «вуаль»,
скрывающую от поверхностного наблюдателя внутреннее содержание
реальных процессов, на которые они не влияют. На самом деле это как
бы подразумевается и знаменитой теоремой Модильяни — Миллера
(Modigliani and Miller, 1958), если рассмотреть ее с более общих пози-
ций, чем это сделали сами авторы. Используя указанную теорему, ква-
лифицированный экономист может проникнуть в суть явлений и об-
наружить, что стоимость финансовых активов в точности равна сто-
имости тех внешних активов, в отношении которых в конечном счете
предъявляют свои требования владельцы финансовых активов; при
этом вовсе не имеет значения, насколько извилистым оказывается путь
от одного к другому.
Экономисты понимают также, что существование некоторых рын-
ков меняет (обычно к лучшему) ситуацию по сравнению с той, кото-
рая имела бы место при отсутствии таких рынков. В качестве простей-
шего примера рассмотрим функции, осуществляемые внутренними
рынками ссуд; блистательный анализ этого вопроса проведен Ирвин-
гом Фишером (Fisher, 1930). Предпочтения каждого потребителя харак-
теризуются функцией полезности, определяющей соотношения меж-
ду сегодняшним и будущим потреблением (intertemporal utility
function); межвременная функция полезности описывает то, что мы
сегодня назвали бы возможностями приуроченного к определенной
дате потребления (dated «endowments» of consumption). Вместе с тем
предполагается, что каждый потребитель располагает «подсобным хо-
зяйством» («backyard»), описываемым производственной функцией,
в соответствии с которой разность между исходными ресурсами, име-
ющимися в наличии в начальный момент, и текущими потребностями
может быть преобразована в дополнительное потребление сверх тех
ресурсов, которыми потребитель смог бы располагать в любом случае
в последующий период. Если предположить, что возможности межвре-
менного обмена с другими потребителями отсутствуют, то каждому из
них придется самому наилучшим образом решать указанную пробле-
му. В такой ситуации наилучшее решение предполагает совпадение пре-
дельной нормы межвременного замещения, определяемой межвремен-
ной функцией полезности, и предельной нормы производственного
преобразования (marginal rate of transformation in production), относя-
щейся к тем же самым промежуткам времени, при этом должны учи-
тываться обычные поправки, связанные с возможностью угловых ре-
шений (comer solutions). Выгода от торговли, т.е. в данном случае вы-
года, обеспечиваемая аукционными рынками, обслуживающими
кредитные отношения между потребителями, возникает вследствие
того, что автаркическая норма замещения у этих потребителей и нор-
ма производственного преобразования различаются между собой.
* Сопутствующие явления. — Примеч. научн. ред.
331
В принципе речь идет о тех же выгодах, которые обеспечивает в насто-
ящее время свободная торговля товарами между отдельными участни-
ками или странами.
При введении потребительских ссуд в фишеровскую модель траек-
тории индивидуального и совокупного потребления и сбережения пре-
терпевают изменения. Невозможно предсказать, приведет ли это к уве-
личению или уменьшению совокупного капитала (в нашем примере
речь идет о затратах труда в процессе производства благ, которые бу-
дут потреблены лишь в последний период). В любом случае этим до-
стигается, вероятно, Парето-оптимальное улучшение, хотя даже такое
утверждение не всегда можно считать априорно справедливым.
Подобные соображения обычно предполагают ряд причин, в силу
которых конечные владельцы сбережений, заемщики и кредиторы
предпочитают обязательства финансовых посредников не только непо-
средственному владению реальным имуществом, но и прямым займам,
а также акциям, выпускаемым инвесторами, кредиторами и заемщи-
ками.
Преимущества деноминации (convenience of denomination). С точки зре-
ния эмитентов, выпуск множества различных ценных бумаг малых и
крупных деноминаций потребовал бы слишком больших расходов, хотя
именно такое разнообразие представлялось бы удобным и разумным,
с точки зрения владельцев сбережений. А финансовый посредник мо-
жет раздробить облигации и ссуды большого достоинства на суммы,
наиболее удобные для владельцев мелких сбережений, или, наоборот,
объединить обязательства должников, что оказывается особенно удоб-
ным для богатых инвесторов. Экономия, обусловленная ростом мас-
штабов операций (economies of scale), и специализация финансовых
операций позволяют финансовым посредникам приводить активы и
пассивы в соответствие с нуждами и предпочтениями как кредиторов,
так и заемщиков. Посреднические услуги особенно важны для обеих
групп участников именно потому, что требующиеся им суммы непре-
рывно меняются; они предпочитают использовать депозитные счета и
кредитные линии, поскольку в этом случае они могут варьировать по
своему усмотрению масштабы своих операций.
Объединение, уменьшение и аллокация рисков. Риски, присущие эко-
номической деятельности, могут принимать самые различные формы.
Некоторые из них охватывают целую страну или даже весь мир — вой-
ны и революции, изменения сравнительных преимуществ для отдель-
ных стран, переход к иной фискальной и денежной политике прави-
тельства, перебои в снабжении нефтью и другими важными ресурса-
ми, а также скачки цен на эти ресурсы. Некоторые события затрагивают
лишь операции отдельных предприятий и используемые этими фирма-
ми технологии: речь идет, например, об уровне компетенции менед-
жеров и степени согласованности их действий, качестве новой продук-
ции или о погоде в данном регионе. Финансовый посредник может
специализироваться на оценке рисков, особенно специфических рис-
332
ков, выступая в качестве эксперта при сборе и интерпретации инфор-
мации: подобные операции оказывались бы слишком дорогими или
просто невозможными для отдельных владельцев сбережений. Объеди-
няя средства своих кредиторов, финансовый посредник может намно-
го лучше, чем индивидуальные кредиторы, с помощью диверсифика-
ции уменьшить риски, а также добиться сравнительно большего сни-
жения трансакционных издержек и предоставления клиентам больших
удобств благодаря гибкой деноминации своих операций.
Й. Шумпетер (Shumpeter, [1911] 1934, р. 72—74) называл банкиров
привратниками (он использует при этом термин «эфор»*) капиталис-
тического хозяйственного развития; их стратегическая функция состоит
в выявлении потенциальных инноваторов и предоставлении денежных
средств наиболее перспективным из них. Наряду со сбережениями,
накопленными в ходе предыдущего хозяйственного развития, благодаря
банкирам появляется дополнительный источник финансирования ин-
вестиций и нововведений. На практике содействие банкира часто по-
зволяет его клиентам к тому же получать кредит из других источников
или размещать ценные бумаги на открытом рынке.
Изменение сроков погашения. Финансовый посредник обычно устра-
няет несовпадения в сроках платежа для заемщиков и кредиторов. Бан-
ковские вкладчики предпочитают помещать деньги на короткий срок,
а заемщики хотели бы получить их на более длительный период. Пред-
принимателям кредит требуется для того, чтобы преодолеть временной
разрыв между затратами, обеспечивающими рентабельное производ-
ство, и продажей изготовленной продукции. Эта сторона банковской
деятельности отражена в модели Даймонда и Дыбвига (Diamond and
Dybvig, 1983). Большие масштабы банковских операций позволяют
распределить сроки, скажем, полугодовых ссуд таким образом, чтобы
удовлетворить требования вкладчиков, которые хотели бы получить
свои деньги через три месяца, через месяц или по первому требованию.
У других финансовых посредников может возникнуть необходимость
в изменении соответствующих сроков погашения в противоположном
направлении (reverse maturity shift). Так, страховая компания или пен-
сионный фонд может инвестировать на короткий срок те сбережения
владельцев полисов или будущих пенсионеров, которые не будут вос-
требованы на протяжении многих лет.
Преобразование неликвидных активов в ликвидные пассивы. Понятие
ликвидности относительно. Совершенно ликвидный актив можно
определить как такой актив, который может быть немедленно продан
по полной приведенной стоимости, т.е. эта стоимость может превра-
титься в средства, позволяющие приобрести соответствующие товары
и услуги. Долларовые банкноты совершенно ликвидны, вместе с тем с
практической точки зрения совершенно ликвидными можно считать
также вклады до востребования и иные вклады, передаваемые третьим
* Эфор (греч.) — буквально — чиновник. — Примеч. научн. ред.
333
лицам с помощью чеков или специальных электронных устройств.
Ликвидность в этом смысле не обязательно означает безошибочное
предсказание стоимости актива. Ликвидностью обладают ценные бу-
маги, продаваемые на хорошо организованных (well organized) рынках.
Любой участник, продающий ценную бумагу в некоторый момент вре-
мени, получит одинаковую цену независимо от того, решил ли он про-
дать эту бумагу месяц назад и долго готовился к этому или же принял
решение в последнюю минуту. А вот сама цена каждое мгновение мо-
жет непредсказуемо меняться. Если же речь идет, например, о доме,
то его нельзя считать полностью ликвидным, а его стоимость предска-
зуемой. Доход от продажи в данный момент времени, по-видимому,
окажется тем больше, чем дольше он выступал на рынке в качестве
объекта продажи. Рассмотрим шестимесячное долговое обязательство
мелкого предпринимателя, которого знает лишь местный банкир.
В данном случае, сколь бы ни была велика уверенность в своевремен-
ном выполнении платежей, такое обязательство может вообще не найти
покупателя на рынке. Если кредитор хочет реализовать его до наступ-
ления срока платежа, то ему придется искать покупателя и вступать с
ним в переговоры. Финансовый посредник хранит неликвидные акти-
вы, тогда как его пассивы ликвидны; при этом, хотя стоимость акти-
вов трудно предсказуема (unpredictable), посредник гарантирует сто-
имость пассивов. В этом, собственно, состоит традиционная функция
коммерческих банков; этим определяются тесные и продолжительные
отношения между банками и их клиентами.
ЗАМЕЩЕНИЕ ВНЕШНИХ АКТИВОВ ВНУТРЕННИМИ
Что определяет величину совокупных обязательств и активов фи-
нансовых посредников? Что определяет агрегированную сумму внут-
ренних активов, возникающих на всех финансовых рынках, включая
как открытые рынки, так и операции финансовых посредников? Как
можно объяснить обнаруженные Голдсмитом эмпирические закономер-
ности, о которых шла речь выше?
Экономическая теория не дает ответов на эти вопросы. Различия
между участниками финансовых операций — различия, которые вызы-
вают к жизни взаимно выгодные сделки вроде тех, что упоминались в
предшествующем изложении, обеспечивают возможности развития
внутренних рынков. Априори теория вряд ли может сообщить нам
много сведений о размерах подобных различий. Более того, операции
на рынках требуют издержек и в тех случаях, когда речь идет об орга-
низованных аукционных рынках, на которых продаются однородные
финансовые инструменты, и тогда, когда предполагается существова-
ние несовершенных «рынков», на которых обращаются разнородные
контракты, а в качестве главных участников выступают финансовые
посредники. Общество вряд ли может допустить существование всех
тех рынков, которые могли бы функционировать при отсутствии
трансакционных издержек и других «несовершенств», и теория может
334
сказать лишь немногое о том, какие рынки смогли бы возникнуть и
выжить в подобной ситуации.
Макроэкономическим следствием развития рынков и операций
финансовых посредников в общем случае оказывается появление суб-
ститутов внешних активов; тем самым обеспечивается возможность
экономии таких активов. Иными словами, при наличии финансового
посредничества удается достичь тех же макроэкономических результа-
тов при меньшем количестве одного или нескольких видов внешних
активов. Классическая работа Герли и Шоу (Gurley and Show, 1960),
оказавшая большое влияние на последующее развитие теории, посвя-
щена как раз рассмотрению вопроса о роли финансовых посредников:
каким образом им удается мобилизовать «избыточные» средства неко-
торых участников рынка для того, чтобы финансировать дефициты,
возникающие у других участников.
Рассмотрим для примера, как функционирование коммерческих
банков уменьшает потребность деловых фирм в финансировании чис-
тых товароматериальных запасов. Это удается осуществить благодаря
тому, что «избыточные» сезонные кассовые остатки одних фирм ис-
пользуются для финансирования возникающих на протяжении этого
периода сезонных дефицитов средств у других фирм. Представим две
фирмы А и В, которые имеют противоположные и как бы «дополня-
ющие» друг друга траектории сезонных колебаний. В нулевой период
фирма А нуждается в 2 дол. наличными для того, чтобы приобрести
материалы, используемые в производстве, а результаты производства,
которое велось в период 1, продаются за 2 дол.* Аналогичные ситуа-
ции будут наблюдаться и в периоды 3,4... Фирме В в период 1 потре-
буются 2 дол. наличными, чтобы приобрести сырье, используемое в
процессе производства на протяжении периода 2; эта продукция будет
продаваться за 2 дол. на протяжении периода 3. Аналогичные ситуа-
ции будут иметь место в периоды 4, 5... При отсутствии коммерческих
банков для проведения деловых операций как фирма А, так и фирма В
нуждаются в 2 дол. для финансирования чистой стоимости инвести-
ций; от периода к периоду владение деньгами сменяется владением
сырьем, используемым в производстве. В совокупности обе фирмы
всегда располагают 2 дол. наличности и 2 дол. товарных запасов. Фир-
ма 5через банк ссужает фирме А половину суммы в 2 дол., которая ей
необходима для поддержания своих товарных запасов в течение пери-
ода 1; в следующий период 2 фирма А погашает ссуду из средств, по-
лученных от продажи своей продукции; теперь банк ссужает 1 дол.
фирме В и т.д. В такой ситуации фирмам А и В требуется лишь 1 дол.
наличных денег; каждая фирма располагает в среднем 1,5 дол. налич-
ности — 2 дол. и 1 дол. попеременно. При этом, как и в предыдущем
случае, товароматериальные запасы обеих фирм каждый раз оказыва-
ются равными 2 дол. Более того, если какая-либо третья сторона вне-
сла бы в банк на длительный срок вклад в 2 дол., банк оказался бы в
состоянии финансировать обе фирмы; в этом случае им вообще не
* На протяжении периода 2. — Примеч. научи, ред.
335
потребовались бы собственные денежные средства. Подобные приме-
ры тривиальны, однако они позволяют лучше понять функции коммер-
ческих банков, проявляющиеся в движении депозитов и ссуд от фир-
мы к фирме и собирании обращающегося фонда (revolving fund), мо-
билизуемого из других источников и направляемого в форме ссуд
деловым фирмам.
Рассмотрим теперь другой простейший пример, когда появление
финансовых рынков позволяет перераспределить риски в сторону тех
владельцев сбережений, которые больше готовы к этому. Рассмотрим
два исходных внешних актива: наличные деньги и реальный капитал —
причем доход, приносимый последним, характеризуется сравнительно
большей дисперсией. Те владельцы сбережений, которые обнаруживают
нейтральное отношение к риску, будут помещать все свое имущество
(возможно, за исключением минимальных сумм наличных денег, не-
обходимых для ведения операций) в реальный капитал до тех пор, пока
ожидаемый доход от этого капитала будет превосходить ожидаемый
реальный доход, приносимый деньгами. Будем полагать, что число та-
ких более предприимчивых владельцев сбережений не очень велико и
они не настолько богаты, чтобы приобрести весь имеющийся в нали-
чии реальный капитал; в таком случае ожидаемый доход от использо-
вания реального капитала должен будет превосходить доход от денег в
такой степени, чтобы это побуждало не склонных к риску собственни-
ков богатства приобрести оставшийся капитал. При подобном равно-
весии выраженная в деньгах цена капитала и средний реальный доход
на него будут определяться таким образом, чтобы распределить в опи-
санных пропорциях эти два актива между двумя видами владельцев
сбережений. Предположим теперь, что обнаруживающие нейтральное
отношение к риску участники могут взять взаймы у тех, кто не скло-
нен к риску. Для большей реалистичности будем полагать, что они
прибегают к услугам финансовых посредников и что не склонные к
риску владельцы сбережений рассматривают такие долги, как близкий
субститут денег (по существу, если рассматривается деятельность фи-
нансовых посредников, то речь идет просто о «внутренних» деньгах).
Внутренние активы как бы несут двойную нагрузку: они обеспечива-
ют «услуги», которые предоставляют деньги, и уверенность в возврате
(security) денег для тех, кто предпочитает хранить средства в денежной
форме; вместе с тем более предприимчивым участникам они позволя-
ют распоряжаться капиталом, превосходящим чистую стоимость их
собственных средств. В результате при любых ожидаемых реальных
доходах на капитал частный сектор в целом будет стремиться помещать
большую долю своего богатства в реальный капитал. В ситуации рав-
новесия совокупный запас капитала окажется больше, а ожидаемый
доход в случае устойчивого равновесия (соответствующей предельной
производительности капитала) будет меньше, чем они были бы при
отсутствии финансового посредничества.
Финансовое посредничество может уменьшить потребность частно-
го сектора не только во внешних деньгах, но также и в собственных
средствах и реальном капитале. Экономия такого рода обычно дости-
336
гается благодаря функционированию финансовых рынков, на которых
в качестве главных участников выступают финансовые посредники,
поскольку это позволяет использовать разнородные кредитные инст-
рументы и объединение рисков (risk pooling). Так, при отсутствии за-
кладных на дома, потребительского кредита и ссуд частным лицам на
образование молодые люди не смогли бы расходовать свою будущую
заработную плату или свое будущее жалованье до тех пор, пока они не
получат их. Благодаря ограничениям на заимствования из будущих
доходов увеличивается средняя, взвешенная по возрасту сумма чисто-
го богатства населения (исключая стоимость «человеческого капитала»),
но смягчение подобных ограничений ликвидности способствует уве-
личению благосостояния населения. Финансовые посредники направ-
ляют накопления более пожилого населения и более состоятельных
семей в виде займов более молодым и не столь богатым; в противном
случае эти накопления направлялись бы во внешние активы. Анало-
гичным образом страхование избавляет ряд участников от необходимо-
сти накапливать сбережения, предназначенные для защиты от опреде-
ленных рисков (например, в случаях накопления средств для последу-
ющей оплаты возможных медицинских и прочих расходов, которые
могут потребоваться на протяжении чрезвычайно продолжительного
срока). К числу весьма распространенных заблуждений относится
утверждение, согласно которому мероприятия, способствующие увели-
чению совокупных сбережений и реального богатства, всегда ведут к
росту общественного благосостояния.
СОЗДАНИЕ ДЕПОЗИТОВ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ
Хорошо известная схема создания депозитов предполагает замену
внешних денег внутренними, при этом функционирование банковской
системы превращает один доллар денежной базы, или «денег повышен-
ной мощности», в несколько долларов депозитов. Дополнительные
доллары представляют собой внутренние деньги, или «деньги понижен-
ной мощности». В качестве резерва, включаемого в состав денежной
базы, банкам приходится хранить только часть своих депозитных обя-
зательств (обозначим эту часть к); такая пропорция определяется за-
коном либо соглашением, либо просто благоразумием (prudence). В со-
стоянии равновесия, при котором у банков отсутствуют избыточные ре-
зервы, их депозиты равны произведению 1/к на сумму их резервов;
такой процесс ведет к созданию на каждый доллар (1 — к)/к долларов,
представляющих собой дополнительные деньги.
Из сказанного следует очень важный вывод: каждый банк, распо-
лагающий избыточными резервами, может предоставить дополнитель-
ные ссуды примерно на сумму, соответствующую приведенным выше
расчетам, причем заемщик получает кредит в форме записи на депо-
зитные счета. Так как заемщики выписывают чеки, средства, числящиеся
на новых вкладах, переводятся на другие счета, которые, скорее всего,
окажутся в других банках. По мере того как средства переводятся в
другие банки, переводятся и резервы — «доллар за доллар». Теперь уже
337
другие банки оказываются владельцами избыточных резервов и ведут
себя аналогичным образом. Процесс продолжается до тех пор, пока не
наступит «насыщение» по всем банкам (all banks are «loaned up»),
т.е. пока вклады не возрастут настолько, что избыточные резервы пол-
ностью исчезнут или будут сохраняться на уровне, оптимальном с точки
зрения банков.
Приводимая в учебниках схема создания депозитов не полностью
охватывает все макроэкономические аспекты этого процесса. Изложе-
ние останется неполным до тех пор, пока мы не выясним, что побуж-
дает участников прибегать к дополнительным займам и хранить боль-
шую сумму своих средств на вкладах. Ведь состав заемщиков может
сильно отличаться от состава вкладчиков. Никто не занимает деньги
под процент для того, чтобы хранить их в форме неиспользуемых вкла-
дов. Для того чтобы привлечь дополнительных заемщиков, банки долж-
ны снизить процентные ставки, смягчить требования, предъявляемые
к залогам, либо ослабить свои стандарты риска. Новыми заемщиками,
скорее всего, окажутся те предприниматели, которым банковский кре-
дит необходим для того, чтобы финансировать увеличение товарных
запасов или обеспечить производство полуфабрикатов и комплекту-
ющих. В этих случаях получение ссуд в скором времени влечет за со-
бой расширение производства и рост экономической активности. Рас-
смотрим теперь иной случай: банки покупают на открытом рынке цен-
ные бумаги, что приводит к росту цен на эти бумаги и снижению
рыночных процентных ставок. Более низкие рыночные процентные
ставки могут побудить предпринимателей прибегнуть к дополнитель-
ной эмиссии краткосрочных коммерческих бумаг, облигаций или ак-
ций, однако в этом случае результаты инвестирования в товарные за-
пасы или вложений в производственные сооружения и оборудование
смогут реализоваться не столь быстро и могут оказаться менее интен-
сивными, чем в случае предоставления дополнительных банковских
кредитов фирме, столкнувшейся с недостатком ликвидных средств.
В каждом из этих случаев более низкие процентные ставки побуждают
других участников — тех, кто в конечном счете получает расходуемые
заемные средства, или тех, кто продает ценные бумаги банкам, — хра-
нить дополнительные ресурсы в форме депозитов. Вместе с тем у них
появятся также и другие активы; часть средств окажется размещенной
в банках, часть средств — у других финансовых посредников, а часть
средств будет направлена на открытые финансовые рынки. Более низ-
кие процентные ставки могут также побудить банки хранить дополни-
тельные избыточные резервы.
Процентные ставки оказываются не единственной переменной,
меняющей свои значения в ходе рассматриваемого процесса. При не-
котором сочетании изменений цен и реальных объемов производства
(подобные пропорции зависят от общих макроэкономических условий)
может одновременно наблюдаться рост номинальных доходов. Увели-
чение доходов и рост хозяйственной активности порождают дополни-
тельный трансакционный спрос на денежные остатки. Таким образом,
процесс, в ходе которого имеет место поглощение избыточных резер-
338
bob, предполагает определенное сочетание изменений в процентных
ставках и в реальной хозяйственной активности, а также изменение
уровня цен. Можно сконструировать сценарии, в которых окончатель-
ная «адаптация» будет осуществляться в результате изменений лишь
одной из указанных переменных. Классический пример такого рода
представляет собой описанный Викселлем кумулятивный процесс кре-
дитной экспансии, ведущий в результате просто к повышению общего
уровня цен.
Обладают ли банки некой уникальной магической силой, благода-
ря которой покупка активов сама себя финансирует? Проистекает ли
такая магическая сила просто из того, что банковским обязательствам
присущи денежные свойства («moneyness»)? Приведенные выше рас-
суждения могут свидетельствовать о том, что указанные процессы по-
рождаются не магической силой, а существованием обязательных ре-
зервов. Более того, аналогичные эффекты, по существу, можно было
бы наблюдать и тогда, когда обязательные резервы устанавливались бы
по отношению к общей сумме банковских активов или неденежным
обязательствам банков. Сходный эффект можно было бы наблюдать
даже в том случае, когда все обязательства банков носили бы неденеж-
ный характер. Рассмотрим, например, ситуацию, в которой обязатель-
ные резервы отсутствуют. Тогда совокупные банковские активы и пас-
сивы, зависящие от масштабов экономики, естественно, были бы огра-
ничены спросом со стороны населения и исходящим от него
предложением депозитов; соотношение между спросом и предложени-
ем обеспечивало бы такие процентные ставки, которые полностью по-
крывали бы банковские издержки и приносили нормальную прибыль.
Допустим, что резервные требования относятся не к банкам, а к сбе-
регательным учреждениям, специализирующимся на предоставлении
ссуд под закладные; тогда стремление этих учреждений к минимиза-
ции избыточных резервов породило бы знакомый процесс: предостав-
ление дополнительных ссуд под закладные приведет к соответству-
ющему увеличению «жилищных» сберегательных счетов (Tobin, 1963).
РИСКИ, «НАБЕГИ» НА БАНКИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
Некоторые финансовые посредники ограничивают свою деятель-
ность операциями, которые, по существу, не связаны с риском ни для
самих институтов, ни для их клиентов. Так, взаимный фонд открыто-
го типа или паевой траст (unit trust) хранит только совершенно лик-
видные активы, которые непрерывно обращаются на организованных
рынках. Тем самым предполагается, что собственники паев по перво-
му требованию могут получить pro rata* сумму, равную чистой стоимо-
сти фонда, исчисленной исходя из рыночных цен базовых активов, —
не более и не менее. Продав хранимые им активы, фонд всегда может
удовлетворить подобные требования. Владельцы паев вносят в соответ-
ствии с той или иной согласованной с ними схемой плату за услуги
* Соразмерно своей доле. — Примеч. научн. ред.
339
фонда, к числу которых относятся предоставление больших удобств
клиентам, гибкое деноминирование финансовых инструментов, веде-
ние бухгалтерских счетов, уменьшение трансакционных издержек,
большая диверсификация портфеля, возможность использования экс-
пертных услуг при выборе активов. Владельцы паев несут рыночный
риск, связанный с хранением принадлежащего фонду портфеля, — не
менее, а при условии, что фонд ведет «честную игру», и не более. Го-
сударственное регулирование чаще всего сводится к регулированию
деятельности тех фондов, которые имеют дело с ценными бумагами
публичных корпораций*, такое регулирование осуществляется для того,
чтобы защитить покупателей от обмана и инсайдерских манипуляций.
В Соединенных Штатах такого рода регулирование входит в сферу дея-
тельности Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам
(Securities and Exchange Commission).
Преобладающая часть финансовых посредников принимает на себя
риски. Риски присущи самой природе тех функций, которые они вы-
полняют, с рисками связаны и те возможности получения прибыли,
благодаря которым финансовые операции оказываются привлекатель-
ными для предпринимателей и инвесторов. В операциях, осуществля-
емых банкирами и аналогичными финансовыми посредниками, основ-
ной риск состоит в том, что вкладчики в любой момент могут потре-
бовать выплат, а финансовый посредник если и может удовлетворить
это требование, то только ценой чрезвычайно больших издержек. Дело
в том, что многие из их активов неликвидны и их просто не удается
продать. Другие можно продать в короткий срок, только понеся сущест-
венные потери. В некоторых случаях невезение или неблагоразумное
управление приводит к банкротству; такое учреждение просто не мо-
жет оплатить свои обязательства, сколь долго ни ждали бы этого вклад-
чики и другие кредиторы. В других случаях проблема сводится просто
к недостаточной ликвидности активов посредника; все было бы в по-
рядке, если бы можно было продолжать хранить эти активы до наступ-
ления срока погашения, или до тех пор, пока не удалось бы найти по-
купателей (или кредиторов), или, наконец, до тех пор, пока не восста-
новятся нормальные рыночные условия.
Учитывая возможность востребования средств вкладчиками, банки
и другие финансовые посредники формируют резервы, храня некото-
рую сумму денег наличными или (в качестве эквивалента) на вкладе в
Центральном банке, или в других формах ликвидных активов. Для от-
дельного банка отток средств обычно связан с перемещением вкладов
в другие банки или к иным финансовым посредникам; такой отток
возникает вследствие того, что образовалось отрицательное сальдо в
межбанковских взаимных расчетах, осуществлявшихся с помощью че-
ков, или из-за того, что по инициативе вкладчиков осуществлялись
прочие выплаты «третьим лицам». Отток средств, покидающих банков-
* Публичным обычно называют акционерное общество, выпускающее свои цен-
ные бумаги на условиях открытого («публичного») предложения; акции такой
корпорации продаются и покупаются на открытом рынке. — Примеч. научн. ред.
340
скую систему в целом, связан с переходом населения от банковских
вкладов к хранению наличных денег.
В практической жизни отток средств может наблюдаться вследствие
реализации ранее согласованных прав заимствования. В других госу-
дарствах, и особенно в Великобритании и странах Британского содру-
жества, система льготного, автоматического овердрафта встречается
чаще, чем в Соединенных Штатах. В настоящее время такая система
получает все более широкое распространение и в Соединенных Шта-
тах — эта система дополняет операции, осуществляемые с помощью
банковских кредитных карточек. Клиентам банков, пользующимся
коммерческими ссудами, часто предоставляется (в явной или скрытой
форме) кредитная линия, в рамках которой они могут заимствовать
деньги по первому требованию.
В тех случаях, когда у финансовых посредников структура ликвид-
ных активов (предсказуемой стоимости) по суммам и срокам не соот-
ветствует его обязательствам, — например, банк не хранит наличные
деньги или какой-либо их эквивалент в количестве, соответствующем
всей сумме его обязательств до востребования, — ни эти учреждения,
ни их кредиторы никогда не могут считать себя полностью защищен-
ными от угрозы оттока средств. То же самое справедливо для банков-
ской системы в целом и для всех финансовых посредников (исключая
простейшие взаимные фонды). В таких случаях всегда сохраняется
возможность «набегов» на банки, предполагающих внезапный масси-
рованный и распространяющийся подобно эпидемии отток средств.
Подобные «набеги» оказываются одинаково разрушительными как для
«благоразумных» (prudent), так и для неосторожных финансовых ин-
ститутов, а вместе с тем для их вкладчиков и кредиторов. Осторожные
вкладчики, разумеется, собирают информацию о тех финансовых по-
средниках, которым они доверили свои средства: о составе их портфе-
лей активов, политике, проводимой финансовыми учреждениями,
и уровне квалификации менеджеров. Существование выбора между
конкурирующими депозитными банками обеспечивает некоторую фи-
нансовую дисциплину, и все же такая дисциплина никогда не была до-
статочной для того, чтобы предотвратить бедствие. Дело в том, что даже
наиболее осторожный вкладчик не может предвидеть, как поведут себя
другие вкладчики; поэтому в соответствии с принципами рациональ-
ного поведения хорошо информированный вкладчик «здорового» банка
станет изымать свои средства, если он полагает, что другие поступают
(или собираются поступить) таким же образом.
Государственное регулирование деятельности банков и других фи-
нансовых посредников обычно носит более детальный характер, чем
регулирование операций нефинансовых предприятий. Основные побу-
дительные мотивы такого регулирования, по-видимому, можно описать
следующим образом.
Оценка надежности и ликвидности финансовых учреждений отдель-
ными вкладчиками, вероятно, потребовала бы огромных средств, если
бы вообще оказалась возможной. Это же относится к оценке вероят-
ности банкротства, даже если полагать, что каждый вкладчик исходит
341
из того, что другие станут поступать точно так же, как они. Вкладчики
не в состоянии оценить вероятность «набегов» на банки. И если бы
регулирование отсутствовало, то в денежных расчетах обязательства
«сомнительных» финансовых институтов оценивались бы ниже их но-
минальной стоимости. До 1866 г. банкам Соединенных Штатов разре-
шалось выпускать банкноты, владельцы которых могли по первому
требованию получить наличные деньги; такие банкноты выступали в
качестве суррогатов выпускаемых государством денег. При обращении
таких банкнот возникал дисконт, причем величина дисконта менялась
в зависимости от репутации соответствующего банка. Денежная сис-
тема, в которой платежные средства (помимо денег, выпускаемых го-
сударством) непрерывно меняют свою покупательную способность в
зависимости от изменений репутации банка-эмитента, характеризует-
ся неповоротливостью и порождает дополнительные издержки.
Правительство обязано обеспечивать функционирование эффектив-
ной системы платежных средств, а также существование известного
набора (menu) надежных активов; эти активы должны быть приемле-
мы для граждан, которые стремятся сберегать средства, деноминиро-
ванные в национальных денежных единицах. При этом государство
должно осуществлять эту задачу, избегая больших общественных затрат.
Банки и другие финансовые посредники могут предложить платежные
средства и инструменты, предназначенные для сбережений, причем
децентрализация решений и конкуренция могут, как обычно, обеспе-
чивать наибольшую эффективность функционирования подобной си-
стемы тогда и только тогда, когда государство осуществляет регулиру-
ющие мероприятия и берет на себя некоторую, так сказать, остаточ-
ную (residual) ответственность. Подобная деятельность правительства
может принимать различные формы.
Обязательные резервы. На ранних стадиях развития банковской си-
стемы денежные власти осуществляли регулирование самым наглядным
образом: они требовали, чтобы банки формировали свои резервы в
предписанных властями надежных ликвидных формах и чтобы сумма
резервов как-то соответствовала величине обязательств каждого бан-
ка, особенно когда речь шла об обязательствах по вкладам до востре-
бования. Если бы таких требований не существовало, то, предоставлен-
ные сами себе, некоторые банки в погоне за краткосрочной прибылью
могли бы вести себя неосторожно. Парадоксально, однако, что при
обнаруживающемся оттоке средств требующиеся резервы всегда ока-
зываются недостаточными (за исключением случая, когда установлен-
ная ставка резерва равна 100%). Если обязательные резервы равны 10%
от вкладов, то изъятие одного доллара из банка уменьшает сумму ре-
зервов на один доллар, тогда обязательные резервы уменьшаются толь-
ко на 10 центов. Только наличие избыточных резервов или хранение
других ликвидных активов могло бы надежно противостоять оттоку
средств. Что же касается устанавливаемых законом резервных требо-
ваний, то они просто модифицируют расчет благоразумной стратегии
банков, исходящий из наличия подобных «вторичных» резервов. Функ-
342
ции обязательных резервов принципиально отличны от первоначаль-
но задуманных. В тех банковских системах, в которых используются
обязательные резервы, и особенно в Соединенных Штатах, такие тре-
бования представляют собой рычаг управления ситуацией, складыва-
ющейся в денежной сфере, которое осуществляет Центральный банк.
Обязательные резервы представляют собой также источник беспроцен-
тного кредитования государства, однако в настоящее время в Соеди-
ненных Штатах на такие формы финансирования приходится лишь
45 млрд дол., тогда как общая сумма размещенной среди частных ин-
весторов государственной задолженности составляет 1700 млрд дол.).
Функция кредитора последней инстанции (last-resort lending). Банки
и другие финансовые посредники, сталкивающиеся с временной не-
хваткой обычных резервов, а также вторичных резервов, представлен-
ных ликвидными активами, могут позаимствовать их у других финан-
совых учреждений. В Соединенных Штатах, например, организован-
ный рынок «федеральных фондов» позволяет банкам, испытывающим
недостаток в резервах, одалживать их на сутки («овернайт») у других
банков. В других случаях банки могут обеспечить себя резервами, при-
влекая дополнительные депозиты; для этого они предлагают такие про-
центные ставки по вкладам, которые превышают аналогичные ставки
в других банках. Однако подобными способами регулирования резерв-
ных позиций не всегда могут воспользоваться те банки, которые столк-
нулись с трудностями; это относится прежде всего к ситуациям, когда
вкладчики питают подозрения относительно глубоко укорененных про-
блем, порождающих неликвидность или неплатежеспособность банка,
а может быть, ту и другую проблему одновременно (например, в слу-
чае «плохих долгов»). Они не могут противостоять также «системному
набегу» (system-wide run), связанному с переводом обязательств банков
и других финансовых посредников в наличные деньги.
Нуждающиеся в резервах банки могут позаимствовать средства так-
же у Центрального банка; подобные займы предполагают большей ча-
стью рутинную процедуру, обеспечивающую сезонные потребности
банков. Большой кредит, предоставляемый Центральным банком, слу-
жит «последним прибежищем» для банков, которые испытывают за-
труднения в связи с тем, что не могут удовлетворить требования своих
вкладчиков, не прибегая к форсированной распродаже своих активов.
В такой ситуации государство выступает в качестве конечного источ-
ника предложения денег и совокупных резервов. Raison d’etre* для ре-
гулирования, осуществляемого Центральным банком, с самого начала
состоит в том, чтобы предохранить экономику от «бегства» к наличным
деньгам (runs into саггепсу). Системную нехватку наличных средств и
резервов можно смягчить не только с помощью ссуд, которые Цент-
ральный банк предоставляет отдельным банкам, но также действиями
Центрального банка, направленными на закупку ценных бумаг на от-
крытом рынке. Неспособность Федеральной резервной системы снаб-
* Разумное основание. — Примеч. пер.
343
дить наличными деньгами всех банковских вкладчиков, предъявлявших
спрос на деньги в начале 1930-х годов, или ее нежелание поступать
таким образом — до сих пор обсуждается, какая из этих двух причин
играла главную роль, — вызвали гибельную панику и «эпидемию» бан-
ковских банкротств. В настоящее время не существует каких-либо за-
конодательных ограничений или теоретических доктрин, которые не
допускали бы подобной помощи.
Страхование депозитов. С 1935 г., когда страхование банковских
депозитов в Соединенных Штатах стало законом, оно успешно предот-
вращало панический отток средств и «эпидемии» банкротств. Вклады
в сберегательных учреждениях застрахованы аналогичным образом. По
существу, федеральное правительство принимает на себя условные ос-
таточные обязательства (contingent residual liability); в соответствии с
этими обязательствами оно должно полностью выплатить деньги вклад-
чикам по застрахованным депозитам в тех случаях, когда стоимость
активов, принадлежащих соответствующему финансовому посредни-
ку, постоянно оказывается недостаточной для такой оплаты. Застрахо-
ванные финансовые посредники платят регулярные взносы за эти услу-
ги, однако резервы, которые удается накопить таким образом, недоста-
точны, они не могут быть настолько велики, чтобы полностью
исключить возможную помощь со стороны Казначейства. Хотя по за-
кону гарантийные обязательства ограничены определенной суммой
(в настоящее время для одного вклада она составляет 100 000 дол.), на
практике в большинстве случаев вкладчикам в конце концов полнос-
тью возвращают их вклады. В настоящее время можно утверждать, по-
видимому, что de facto* гарантии распространяются на все вклады, по
крайней мере в ведущих банках.
Страхование депозитов ослабляет финансовую дисциплину, пред-
полагающую контроль за поведением посредников, который могли бы
осуществлять крупные вкладчики. Вместо этого такой надзор осущест-
вляют сами государственные учреждения, занимающиеся страховани-
ем депозитов (в Соединенных Штатах — Федеральная корпорация по
страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation) и Феде-
ральная корпорация по страхованию накоплений в ссудосберегатель-
ных ассоциациях (Federal Savings and Loan Insurance Corporation), а так-
же другие органы государственного регулирования (Контролер денеж-
ного обращения Соединенных Штатов (the United States Comptroller of
the Currency), Федеральная резервная система (the Federal Reserve) и
другие государственные учреждения). Страхование переносит некото-
рые риски с вкладчиков и собственников финансовых учреждений на
налогоплательщиков в целом, тем самым устраняя в конечном счете
риски, связанные с «набегами» на банки. Подобные риски мы порож-
даем сами; вследствие этого усиливаются риски, неизбежно присущие
хозяйственным процессам. В то же время страхование представляет со-
бой взаимное соглашение, которое позволяет нам в критической ситу-
* Фактически. — Примеч. пер.
344
ации воздерживаться от поведения, следующей) принципу «sauve qui
pent»*, т.е. от поведения, которое могло бы нанести всем серьезный
ущерб. С формальной точки зрения в незастрахованной системе сущест-
вуют два равновесия: «хорошее», основанное на взаимном доверии, и
«плохое», предполагающее «набеги» на банки. Страхование исключает
переход к «плохому» равновесию (Diamond and Dybvig, 1983).
Конечно, в случае стопроцентных резервов система была бы совер-
шенно надежной — столь же надежной, как национальная валюта, —
и тогда не возникла бы потребность в страховании вкладов. Такие вкла-
ды являлись бы подлинными деньгами, причем надежной и удобной
формой денег, позволяющей осуществлять чековые расчеты. Вообще
говоря, можно представить систему, в которой банки и другие финан-
совые посредники предлагают подобные счета, причем резервы по этим
вкладам были бы отделены от резервов, которые связаны с другими опе-
рациями данного учреждения. Последние включали бы прием вкладов,
относительно которых формируются лишь частичные (или нулевые) ре-
зервы и которые были бы лишь частично застрахованы (или вообще не
застрахованы). Издержки, связанные с ведением депозитных счетов,
опирающихся на стопроцентные резервы, могли бы покрываться за счет
специальных платежей или процентами по вкладам на резервных сче-
тах, оплачиваемыми государством; с точки зрения всего общества та-
кая система была бы оправдана, поскольку она обеспечивает надежное
и эффективное средство осуществления расчетов. Тем самым удалось
бы в большей степени ограничить риск и «бремя надзора», которые
сегодня вынуждены брать на себя страховые учреждения и регулиру-
ющие органы. В конце концов, то, что предложение платежных средств
в современной экономике оказалось побочным продуктом деятельно-
сти банков и, соответственно, оказалось подверженным всем тем рис-
кам, с которыми сталкивается банковская деятельность, — это истори-
ческая случайность.
Правительство может страховать не только вклады в финансовые
учреждения, но и их ссуды. В Соединенных Штатах страхование за-
кладных на дома не только укрепило положение учреждений, которые
хранят эти бумаги, а также клиентов таких учреждений, но и превра-
тило застрахованные закладные в рыночные финансовые инструмен-
ты.
Контроль над балансовой отчетностью. Для того чтобы уменьшить
риски вкладчиков и страхователей, государство осуществляет контроль
за деятельностью финансовых посредников, ограничивая их свободу в
выборе различных активов и обязательств. С той же целью обычно ис-
пользуются стандартные нормы «достаточности капитала»: в случае
частных корпораций речь идет о доле акционерной собственности в
общей сумме обязательств, в случае взаимных обществ или других «бес-
прибыльных» учреждений имеется в виду чистая стоимость фирмы.
Периодически проводятся проверки состояния дел в финансовых уч-
* Спасайся, кто может. — Примеч. пер.
345
рождениях, качества их ссуд и правильности составления отчетных
документов. Регулирующие органы могут закрыть соответствующее
учреждение в том случае, если, по их мнению, его дальнейшая деятель-
ность может нанести ущерб интересам вкладчиков и страхователя.
Законодательство, которое регулирует деятельность финансовых по-
средников, группирует их по целям деятельности и по функциям. Ком-
мерческие банки, сберегательные учреждения, строительные общества,
кредитные союзы и страховые компании создаются в соответствии с за-
коном для разных целей. На них распространяются различные правила,
зависящие от характера их активных операций. Например, от строитель-
ных обществ — в Соединенных Штатах они называются ссудосберега-
тельными ассоциациями — требуется, чтобы преобладающая часть их
активов была представлена закладными на жилые здания. Ограничения
такого рода оказывают влияние на структуру спроса на активы: когда
собственники переводят свои ресурсы от одного финансового посред-
ника к другому, они тем самым меняют спрос на различные виды акти-
вов. Так, перевод вкладов из коммерческих банков в строительные об-
щества увеличивает сумму ипотечного кредитования по отношению к
коммерческим ссудам. Регулирование также ограничивает сферу пассив-
ных операций, которые разрешены тем или иным финансовым посред-
никам. В Соединенных Штатах до недавнего времени только банкам
разрешалось принимать на себя обязательства до востребования, опла-
чиваемые третьей стороне с помощью чека или электронного перевода.
Проводимое в последнее время дерегулирование ослабляет ряд ограни-
чений, налагаемых на активные и пассивные операции финансовых
посредников, и постепенно размывает исторически сложившиеся раз-
личия целей и функций отдельных финансовых учреждений.
«Потолки» процентных ставок. Во многих странах государственное
регулирование предусматривает для банков и других финансовых по-
средников «потолок» процентных ставок, взимаемых по ссудам, а так-
же ограничивает проценты, выплачиваемые по банковским вкладам.
В Соединенных Штатах Закон о банковских операциях (Banking Act),
принятый в 1935 г., запретил выплату процентов по текущим вкладам.
После Второй мировой войны регулирование предусматривало ограни-
чения на процент, выплачиваемый по сберегательным и срочным вкла-
дам в банках и сберегательных учреждениях; от случая к случаю феде-
ральные органы меняли эти процентные ставки. Закон 1980 г. преду-
сматривает постепенную ликвидацию этих ограничений.
Система финансовых посредников, в которой процентные ставки
по вкладам различных типов, а также по ссудам устанавливаются си-
лами свободной конкуренции, функционирует совсем иначе, чем сис-
тема, в которой они ограничиваются законом, непосредственно регу-
лируются Центральным банком или устанавливаются в соответствии с
соглашением, достигнутым между несколькими финансовыми учреж-
дениями. Например, когда на свободном рынке процентные ставки
повышаются, а проценты по вкладам регулируются в административ-
ном порядке, средства «уходят» из финансовых учреждений; в проти-
346
воположной ситуации (снижение процента йа свободном рынке)
ресурсы возвращаются к финансовым посредникам. Такие процессы
«дезинтермедиации» («disintermediation») и «реинтермедиации» («re-
intermediation») выражены слабее в тех случаях, когда процентные став-
ки по операциям финансовых посредников могут свободно двигаться
и меняются вместе со ставками свободного рынка. Аналогичным об-
разом масштабы перераспределения средств между финансовыми по-
средниками, вызванного административно установленными различи-
ями в процентных ставках по их операциям, сокращаются в тех случа-
ях, когда такие учреждения могут свободно вступать в соперничество
за привлечение ресурсов.
Система, в которой процентные ставки по денежным обязательствам
и операциям, в которых участвуют денежные субституты (near-money),
устанавливаются рынком, обладает существенно иными макроэконо-
мическими характеристиками по сравнению с системой, в которой су-
ществуют ограничения на размеры выплачиваемых по вкладам процент-
ных ставок. Поскольку альтернативные издержки, связанные с хране-
нием вкладов, в значительной степени независимы от общего уровня
процентных ставок, при нерегулируемом режиме кривая LM наклоне-
на круче. Можно полагать, что в этом случае как операции Централь-
ного банка, так и экзогенные денежные шоки должны оказывать срав-
нительно большее влияние на движение номинальных доходов, в то
время как фискальные мероприятия и другие шоковые изменения со-
вокупного спроса на товары и услуги будут оказывать сравнительно
меньшее влияние (Tobin, 1983).
«Вход» в отрасль, организация филиалов, слияния. «Вход» в сферу
финансового бизнеса обычно регулируется, регулированию подлежат
также создание филиалов или дочерних компаний и слияние существу-
ющих финансовых учреждений. В Соединенных Штатах лицензии
выдаются либо федеральным правительством, либо правительствами
штатов, между ними распределяются и различные регулирующие пол-
номочия. До недавнего времени независимо от того, кем выдана ли-
цензия, банкам и сберегательным учреждениям не разрешалось про-
водить операции более чем в одном штате. Это правило в сочетании с
различными ограничениями на деятельность отделений внутри штатов
обусловило особенно большое число финансовых учреждений в Соеди-
ненных Штатах, при этом многие из них характеризуются гораздо
меньшими масштабами и более узкой, локальной сферой операций по
сравнению с деятельностью аналогичных финансовых учреждений в
других странах. Запрет на банковские операции, проводимые за пре-
делами штата, постепенно ослабевает и в ближайшие несколько лет
может, по-видимому, фактически утратить значение.
Дерегулированию способствовали инновации в области финансо-
вых технологий, они позволили легко обойти старые ограничения и
преодолевать сохранявшиеся препятствия на пути повышения эффек-
тивности. Благодаря новым возможностям постепенно стирается раз-
делительная черта между финансовыми посредниками различного типа
347
и различной специализации. Наряду с этим технологические нововве-
дения позволяют предпринимателям-финансистам и нефинансовым
фирмам вторгнуться в те сферы деятельности, в которые раньше до-
пускались лишь регулируемые финансовые учреждения. Так, взаимные
фонды и брокеры теперь открывают текущие счета, с которых средства
могут быть сняты по требованию или направлены третьей стороне с
помощью чека или электронного перевода. Национальные цепи роз-
ничной торговли (national retail chains) превращаются в финансовые
супермаркеты — наряду с обширным ассортиментом потребительских
товаров и услуг они предлагают кредитные карточки, услуги различных
взаимных фондов, платежи в рассрочку и страхование; по существу,
они хотели бы стать финансовыми посредниками с полным набором
предоставляемых услуг. В то же время традиционные финансовые по-
средники по мере того, как им удается получить разрешение правитель-
ства, вторгаются в те области предпринимательской деятельности, ко-
торые ранее были им недоступны. Только время может показать, как в
конечном счете смогут разрешиться эти коммерческие и политические
конфликты и какой окажется будущая финансовая система
(см.: Economic Report of the President, 1985, ch. 5).
ПОРТФЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ
В литературе можно найти многочисленные попытки эконометричес-
кой оценки факторов, влияющих на выбор активных и пассивных опера-
ций финансовых посредников; изучается также зависимость этого выбо-
ра от уровня процентных ставок на свободном рынке и от других экзо-
генных переменных. Модели портфельной политики, проводимой
различными финансовыми посредниками, включают помимо прочего
оценки факторов, влияющих на предложение предоставляемых этим уч-
реждениям ресурсов (supplies of funds), а также на спрос на их кредиты со
стороны других секторов экономики, прежде всего со стороны нефинан-
совых компаний и населения. Последние исследования в этой области
представлены в работе Дьюэлда и Фридмена (Dewaid and Friedman, 1980).
При использовании для указанных целей временных рядов возни-
кают серьезные эконометрические проблемы, связанные с необходи-
мостью учета структурных изменений изучаемой системы. Например,
в ситуации, когда «потолок» процента по вкладам препятствует даль-
нейшему росту этой ставки, финансовые посредники не могут влиять
на величину привлекаемых ресурсов — она задается им извне. Если «по-
толок» процента не является эффективным ограничением или просто
отсутствует, то процентные ставки и объемы ресурсов определяются
совместно; в этом случае речь идет о взаимодействии предложения
вкладов со стороны населения и спроса на них со стороны финансо-
вых посредников. Аналогичные проблемы возникают при изучении
таких кредитных рынков, на которых процентные ставки — даже в тех
случаях, когда они не регулируются государством, — устанавливаются
самими финансовыми посредниками и обнаруживают недостаточную
348
подвижность. Примером такой цены может служить базовая ставка
(prime rate) по коммерческим ссудам; другой пример — это уровень
процентных ставок по ипотечному кредиту в различные периоды. Как
в этих, так и в других случаях при недостаточно подвижных процент-
ных ставках рынки не «расчищаются». В таких случаях или финансо-
вые посредники, или заемщики оказываются quantity-takers; возмож-
но, это относится в некоторой пропорции как к тем, так и к другим.
За этим следуют изменения в процентных ставках, причем масштабы
таких изменений зависят от размеров избыточного спроса или избы-
точного предложения. Рассмотренные проблемы моделирования и эко-
нометрического оценивания обсуждаются в упоминавшихся выше ра-
ботах. Плодотворный подход к исследованию указанных проблем со-
держится в работе Модильяни и Жаффе (Modigliani and Jaffee, 1969).
БИБЛИОГРАФИЯ
Barro, R. 1974. Are government bonds net wealth? Journal of Political Economy 82(6),
November-December, 1095-117.
Dewaid, W.G. and Friedman, B.M. 1980. Financial market behavior, capital formation,
and economic performance. (A conference supported by the National Science
Foundation.) Journal of Money, Credit, and Banking, Special Issue 12(2), May.
Diamond, D.W. and Dybvig, P.H. 1983. Bank runs, deposit insurance, and liquidity.
Journal of Political Economy 91(3), June, 401—19.
Economic Report of the President. 1985. Washington, DC: Government Printing
Office, February.
Federal Reserve System, Board of Governors. 1984. Balance Sheets for the US
Economy 1945-83. November, Washington, DC.
Fisher, I. 1930. The Theory of Interest. New York: Macmillan.
Goldsmith, R.W. 1969. Financial Structure and Development. New Haven: Yale
University Press.
Goldsmith, R.W. 1985. Comparative National Balance Sheets: A Study of Twenty
Countries, 1688—1978. Chicago: University of Chicago Press.
Gurley, J.G. and Shaw, E.S. 1969. Money in a Theory of Finance. Washington, DC:
Brookings Institution.
Modigliani, F. and Miller, M.H. 1958. The cost of capital, corporation finance and
the theory of investment. American Economic Review 48(3), June, 261—97.
Modigliani, F. and Jaffee, D.M. 1969. A theory and test of credit rationing. American
Economic Review 59(5), December, 850-72.
Schumpeter, J.A. 1911. The Theory of Economic Development. Trans, from the
German by R. Opie, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1934.
Tobin, J. 1963. Commercial banks as creators of «money». In Banking and Monetary
Studies, ed. D. Carson, Homewood, Ill.: Richard D. Irwin.
Tobin, J. 1980. Asset Accumulation and Economic Activity. Oxford: Blackwell;
Chicago: University of Chicago Press.
Tobin, J. 1983. Financial structure and monetary rules. Kredit and Kapital 16(2), 155—71.
Tobin, J. 1984. On the efficiency of the financial system. Lloyds Bank Review 153,
July, 1-15.
349
ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА
Фрэнсис М. Бэйтор
Fine Tuning
Francis М. Bator
Термин «точная настройка» был введен в научный оборот Уолтером
Хеллером. Под ним он понимал предпринимаемые государством меры
фискального и кредитно-денежного регулирования, направленные на
ликвидацию прогнозируемых или фактических отклонений совокупно-
го спроса от некой целевой траектории экономического роста и соот-
ветствующей ему инфляции. Эта идея ознаменовала собой важное из-
менение доктрины. Отныне цель заключалась не просто в том, чтобы
сглаживать колебания, но в том, чтобы держаться определенной тра-
ектории «производство — занятость — инфляция», выбранной из на-
бора достижимых траекторий в соответствии с предпочтениями лица,
формирующего политику.
Проще говоря, сторонники «настройки» считают, что 1) сама эко-
номика не может адекватно «настраиваться»; 2) мы знаем достаточно
много о ее динамической структуре, т.е. о ее лагах и мультипликато-
рах, чтобы добиться лучших результатов, чем те, к которым могла бы
привести политика непринятия мер в ответ на нежелательные измене-
ния совокупного спроса, например попытка фиксированного темпа
роста денежной массы или «пассивная» фискальная политика. (Чтобы
картина стала совсем полной, нужно еще допустить, что лица, ответ-
ственные за проведение политики, не испортят своей «настройкой» все
дело, а то результаты могут получиться еще хуже, чем при политике
«отсутствия настройки».)
Обе технические предпосылки подвергались резкой критике.
СЛУЧАЙ «КЛАССИЧЕСКОЙ» ЭКОНОМИКИ. Новая классичес-
кая макроэкономика (НКМ), которая последние пятнадцать лет в боль-
шой чести у молодых макротеоретиков, учит, что, если бы лица, отве-
чающие за экономическую ситуацию в стране, прекратили вмешиваться
в экономику, она бы сразу стала вести себя так, как предсказывает сто-
хастическая версия совершенно конкурентной, мгновенно сходящей-
ся модели НКМ, т.е. цены и заработная плата установились бы на та-
ком уровне, при котором спрос и предложение более или менее посто-
янно уравновешивали бы друг друга, а аллокация ресурсов оставалась
бы в окрестностях своего квазиэффективного вальрасианского (под-
вижного) равновесия. Если это действительно так — и это чисто эмпи-
рический вопрос, а не дело методологической эстетики или политичес-
350
ких предпочтений, — то попытки государства управлять совокупным
спросом в лучшем случае неуместны, а скорее всего являются главной
причиной макроэкономической неэффективности. Экономические
циклы, во всяком случае в той мере, в какой они не связаны с само-
корректировкой экономики в ответ на изменения в доступности фак-
торов производства, технологиях и вкусах, объясняются непредсказу-
емостью фискальной и кредитно-денежной политики государства. Эко-
номические субъекты принимают социально ошибочные решения,
поскольку они не могут предугадать поведения государства.
Органы денежного регулирования в НКМ-экономике, по крайней
мере в ее канонической монетаристской версии, не могут влиять на
реальные экономические величины — разве что если будут вести себя
непредсказуемо. Они контролируют уровень цен и ничего более, их
дело — заставить его вести себя как надо. Фискальные органы тоже
должны заниматься своими прямыми «неоклассическими» обязаннос-
тями — следить за тем, чтобы бюджет соответствовал предпочтениям
электората в отношении перераспределения доходов и дележа продук-
та между частным использованием и государственными услугами, на-
стоящими и будущими. Если и правительство, и Центральный банк
ведут себя предсказуемо, то совокупный спрос, совокупный объем про-
изводства и занятость позаботятся о себе сами. (Что понимать под эф-
фективностью в макроэкономическом контексте, — не совсем ясно,
поэтому я пользуюсь термином «квазиэффективность», чтобы учесть
возможность микроэкономических неэффективностей, а также неэф-
фективностей, связанных с отсутствием рынков условных фьючерсных
контрактов, т.е. обязательств купить или продать некоторый товар в
будущем в зависимости от выполнения некоторых условий. Разумеет-
ся, квазиэффективность — понятие относительное, оно имеет смысл
только применительно к данному множеству информации.)
СЛУЧАЙ КЕЙНСИАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ. Предположим, од-
нако, что цены и номинальная заработная плата (или темпы измене-
ния того и другого) реагируют на избыточный спрос или предложение
довольно вяло. Реальные нарушения равновесия порождают кумулятив-
ные, самовозрастающие реакции реальных переменных (quantities),
причем эти реакции одновременно и неэффективны, и медленно «рас-
сасываются». Даже ожидаемое событие чисто денежного порядка, на-
пример рост предложения денег в результате совершенно бесплатного
выброса в экономику дополнительных денег, вызывает реальные эф-
фекты. В этом случае политика реагирования на нарушения равнове-
сия в принципе могла бы поправить дело.
В принципе, но не на практике, считают оппоненты. Коэффици-
енты (а на самом деле и сами уравнения) в кейнсианских моделях
слишком ненадежны, а лаги слишком изменчивы и слишком длинны.
В результате политика активного вмешательства, даже если она свобод-
на от политических ограничений, принесет скорее вред, чем пользу.
В качестве доказательства своей правоты оппоненты ссылаются на пло-
хое состояние американской экономики в конце 1960-х и 1970-е годы.
351
С крайней точки зрения, которую представляет НКМ, кейнсианские
модели вообще никуда не годятся. То, что выдается за количественную
«структуру» таких моделей, на самом деле просто мираж, отражающий
не устойчивые закономерности, которые можно было бы использовать
в экономической политике, а поведение частных экономических аген-
тов, зависящее от ожиданий в отношении государственной политики.
Любое ожидаемое изменение в политике заставит рациональных эко-
номических агентов изменить свое поведение; при этом коэффициен-
ты сместятся подобно тому, как сместилась кривая Филлипса, отража-
ющая зависимость между безработицей, инфляцией и заработной пла-
той, в ответ на предпринятые в 1962-1968 гг. попытки правительства
США использовать эту зависимость в своей экономической политике.
Существует также мнение, что кейнсианская методология экономет-
рики не позволяет эффективно идентифицировать истинную структу-
ру экономики. Сторонники этого мнения считают, что методы авторег-
рессии, с помощью которых структурные взаимосвязи между перемен-
ными выводятся исключительно из фактических опережений и
отставаний относительно друг друга и не опираются ни на какую пред-
варительно построенную теорию, скорее позволят обнаружить устой-
чивые закономерности, чем структурные эконометрические модели.
Сторонники активной политики с готовностью признают, что кейн-
сианские эконометрические закономерности приблизительны, непос-
тоянны и могут меняться в результате больших изменений в полити-
ческом режиме. Но при этом они считают, что подобные «структурные»
изменения, как правило, происходят редко, или постепенно, или и ред-
ко, и постепенно, — во всяком случае, коэффициенты достаточно
устойчивы, чтобы их можно было считать пригодными для осторож-
ного использования. Они считают, что значительное государственное
вмешательство оправдано только в том случае, если разрыв между со-
вокупным спросом и его желательным уровнем уже достиг больших
размеров или когда вероятность того, что такой разрыв может стать
большим, достаточно высока. Если же разрыв небольшой или равно-
весие нарушено в незначительной мере, то и государство тоже должно
принимать незначительные меры или вообще воздержаться от вмеша-
тельства. Конечно, ошибки могут быть и в этом случае. Но, как под-
черкивают сторонники активной государственной политики, у эконо-
мики должна быть поистине уникальная структура, и характер нару-
шений равновесия, которым она подвергается, должен быть
совершенно особым, чтобы можно было считать оправданным выбор
«пассивной» политики (например, политики постоянного темпа роста
различных показателей денежной массы или использования фискаль-
ных инструментов строго в тех рамках, которые им предписывает нео-
классическая теория).
ОПЫТ США 1965-1981 гг. Противники активного вмешательства
часто ссылаются на опыт США 1965—1981 гг. Но то, какой именно урок
можно извлечь из этого опыта, в значительной мере зависит от того,
является ли экономика США классической или кейнсианской. На са-
352
мом деле, если экономика США является кейнсианской, то опыт 1961—
1981 гг. не подтверждает правоты «антиактивистов».
Причиной ускорения темпов инфляции в США в период с 1965 по
1968 г. была вовсе не сверхгибкая политика государства, а нечто пря-
мо противоположное, а именно — отказ правительства прислушаться
к советам кейнсианцев и противопоставить чрезмерному давлению
совокупного спроса повышение налогов и ужесточение условий пре-
доставления кредита. Скорее всего, именно этот отказ и произошед-
шее в результате него повышение темпов инфляции, которое сказалось
как на работодателях, так и на работниках, и явились причиной того,
что установленная в форме кривой Филлипса связь между безработи-
цей и инфляцией с 1946 по 1965 г. вдруг потеряла устойчивость (под-
тверждая, таким образом, предсказанную Фелпсом — Фридменом ак-
селерацию, хотя и не вполне подтверждая данное ими обоснование
причин такой акселерации, которое у них сводилось к одним лишь
ожиданиям). То, что избыточный спрос 1965—1968 гг. был вызван зна-
чительным ростом государственных расходов, а не непредвиденным
изменением в объеме расходов частного сектора, делает политику от-
каза от настройки в той ситуации еще более вопиющей ошибкой.
Видеть причину всплесков инфляции, имевших место в 1970-х го-
дах, и одновременного роста инфляции и безработицы в 1973—1975 и
1979—1981 гг,, в активном вмешательстве государства — значит игно-
рировать вывод, вытекающий из современных кейнсианских моделей,
включающих уравнение зарплаты в виде расширенной кривой Филлип-
са, в которой инфляция берется с лагом, и уравнение цен, чувствитель-
ное к изменению цен на сырье. Если в недавнем прошлом темп ин-
фляции был неприемлемо высоким или если экономика испытала силь-
ное шоковое воздействие роста цен на сырье (вспомним скачок цен на
нефть в 1973-1974 гг. и в 1979 г.), то, как показывают современные
кейнсианские модели, никакие традиционные меры фискальной или
денежной политики не дадут хороших результатов ни по отношению к
уровню производства и занятости, ни по отношению к инфляции. Сре-
ди множества комбинаций «производство — занятость — инфляция»,
доступных Федеральной резервной системе, а также президентам Фор-
ду, Картеру и Рейгану, не было ни одной привлекательной. В отсут-
ствие эффективной политики прямого сдерживания роста цен и зара-
ботной платы Форд и Картер (а также Федеральная резервная систе-
ма) смогли бы добиться снижения темпов инфляции только ценой еще
большего сокращения объема производства и еще большей (временной)
безработицы. А Рейган и Волкер смогли бы выйти на тот объем произ-
водства и уровень занятости, которые были намечены на 1981 г., толь-
ко ценой сохранения высоких темпов инфляции. (Единственное объяс-
нение, которое дает модель НКМ ускорению темпов инфляции в се-
редине и конце 1970-х годов, заключается в том, что это был просчет
Федеральной резервной системы. Последовательная политика сдержи-
вания денежной массы, цели и задачи которой были бы донесены до
всех участников экономического процесса, могла бы предотвратить
любое ускорение инфляции практически без ущерба для производства
353
и занятости. Из этой же модели следует, что Федеральная резервная
система может останавливать инфляцию, практически ничем ради этого
не жертвуя. Кейнсианские же модели утверждают, что лекарство от
инфляции стоит дорого, что и подтвердилось опытом 1981—1984 гг.)
ЗАМЕЧАНИЯ. Проблемы поиска компромисса между инфляцией
и безработицей будут мучить политиков даже в кейнсианском мире,
характеризующемся акселерационистской моделью, естественной нор-
мой безработицы и расширенной кривой Филлипса с запаздывающей
инфляцией, особенно если в этом мире случаются скачки цен на сы-
рье. Выбрать оптимальную комбинацию «инфляция — безработица» в
такой экономике Фелпса — Фридмена — Филлипса — Кейнса гораздо
сложнее, чем в старомодной экономике Филлипса — Кейнса типа той,
которую имел в виду Уолтер Хеллер в начале 1960-х годов (вероятно,
он был прав с учетом того разброса темпов изменения цен (Р'), кото-
рый наблюдался с 1958 по 1964 г., — наверняка сказать невозможно).
Но кривая совокупного предложения в пространстве Р' — Q (где Q —
выпуск) будет идти вертикально только в том случае, если, во-первых,
цены мгновенно расчищают все рынки и, во-вторых, если ожидания
совершенно неинерционны и никак не связаны у различных участни-
ков рынка, т.е. если экономика по своей структуре соответствует мо-
дели НКМ, а иначе мы получим растянутое краткосрочное состояние.
(В новой классической модели только своевольные, непредсказуемые
действия правительства могут создать ситуацию, когда придется выби-
рать между инфляцией и безработицей.)
Можно придерживаться активной политики управления совокуп-
ным спросом и при этом не отпускать инфляцию на свободу. Выбор
значений Р', Р", ..., Qh £7 (где Р" — ускорение изменения цен, a U—
безработица) зависит от выбора целевого уровня совокупного спроса,
а не от того, насколько активной является политика правительства по
достижению этой цели. Не следует считать, что у тех руководителей,
перед которыми стоит задача добиться минимизации инфляции с наи-
меньшими затратами, жизнь более спокойная, чем у тех, перед кото-
рыми поставлена задача добиться роста производства за счет ускоре-
ния инфляции.
В неклассическом, кейнсианском мире политика должна ставить
перед собой как номинальные, так и реальные цели, признавая взаи-
мозависимость тех и других. Чисто номинальная стратегия, направлен-
ная на достижение заданного прироста номинального ВНП по срав-
нению с предыдущим годом (ДР0 независимо от того, как этот при-
рост будет делиться между повышением цен (ДР) и повышением объема
производства (ДО, не имеет смысла. Этот момент особенно важен, если
ценовые шоки со стороны предложения достигают значительных раз-
меров. Политика, ориентирующаяся на одни лишь реальные показате-
ли, для которой все равно, высока инфляция или низка, также непри-
емлема, разве что допустить, что лицо, проводящее политику, просто
не беспокоит инфляция как таковая и те потери в эффективности,
которые она вызывает на микроуровне.
354
Теоретические соображения, опирающиеся на разумное портфель-
ное поведение (т.е. поведение, при котором максимизируется стоимость
портфеля активов. — Примеч. ред.) и эмпирические данные, отражаю-
щие чуткость реакции спроса на деньги на изменение процента, как
мне кажется, доказывают несостоятельность старого монетаристского
утверждения, что даже в краткосрочном аспекте только деньги имеют
значение, т.е. что фискальные мероприятия не оказывают самостоя-
тельного влияния на общий уровень расходов. Что касается очень дол-
госрочной перспективы, здесь может получиться по-разному. Как
именно — будет зависеть от влияния процентной ставки на спрос на
богатство, т.е. на сбережения, и от влияния богатства на спрос на день-
ги. Но то, что будет в такой далекой перспективе, когда экономика до-
стигнет следующей точки равновесия, вряд ли может иметь практичес-
кое значение.
Выбор конкретных составляющих экономической политики среди
огромного множества комбинаций бюджетных режимов и темпов рос-
та денежной базы, совместимых с выбранными целевыми показателя-
ми темпов экономического роста и инфляции, должен отражать общест-
венные предпочтения в отношении распределения дохода и дележа
продукта между потреблением и инвестициями, как частными, так и
государственными. И в других аспектах экономическая политика тоже
должна уделять внимание не только спросу, но и предложению: речь
идет о том, как обеспечить максимальный объем производства при дан-
ной величине труда и капитала, решить, как усовершенствовать и уве-
личить капитал и повысить производительность труда и удовлетворен-
ность работников.
Толковые руководители смогут в тактических целях использовать
любой промежуточный показатель (это могут быть данные о свободных
резервах банков, объявления в разделе «Требуются работники», резуль-
таты мичиганских обследований финансового положения населения
и т.д.) — лишь бы эти показатели обладали достаточно хорошими свой-
ствами для краткосрочных прогнозов. Но они никогда не станут отно-
ситься к таким вспомогательным ориентирам как к настоящим целям,
поскольку это сократило бы число имеющихся в их распоряжении сте-
пеней свободы. Они будут избегать ставить перед собой такие цели, как
пресловутая сбалансированность бюджета. Инструментов и без того
достаточно мало, даже если ставить перед собой только истинные цели.
Поскольку американская экономика стала гораздо более «откры-
той», управлять совокупным спросом сегодня стало гораздо труднее,
чем еще два десятилетия назад. Причинно-следственные связи стали
более неопределенными, а инструментов по сравнению с целями ста-
ло еще меньше, чем было. Но все это вовсе не означает, что управле-
ние вообще можно поставить в «автоматический режим». Скорее это
говорит в пользу того, что необходима эклектичная стратегия государ-
ственного вмешательства, ориентированная не столько на достижение
каких-то амбициозных целей, сколько на минимизацию потерь.
355
БИБЛИОГРАФИЯ
Bator, F.M. 1982. Fiscal and monetary policy: in search of a doctrine. In Economic
Choices: Studies in Tax/Fiscal Policy. Washington, DC: Center for National Policy.
Blinder, A.S. and Solow, R.M. 1984. Analytical foundations of fiscal policy. In
Economics of Public Finance, Washington: Brookings Institution.
Council of Economic Advisers. 1962. Annual Report of the Council of Economic
Advisers. Economic Report of the President. Washington, DC: US Government
Printing Office.
Friedman, M. 1948. A monetary and fiscal framework for economic stability. American
Economic Review 38, June, 245-64.
Friedman, M. 1968. The role of monetary policy. American Economic Review 58(1),
March, 1-17.
Heller, W.W. 1967. New Dimensions of Political Economy. New York: Norton.
Lerner, A.P. 1941. The economic steering wheel. University Review, Kansas City, June,
2-8.
Lucas, R. 1976. Econometric policy evaluation: a critique. Journal of Monetary
Economics BTX Supplement, Carnegie-Rochester Conference Series 1, 19-46.
Lucas, R. 1977. Understanding business cycles. Journal of Monetary Economics.
Supplement, Carnegie-Rochester Conference Series 5, 7-29.
Lucas, R. 1980. Methods and problems in business cycle theory. Journal of Money,
Credit, and Banking 12(4), Part II, November, 696-715.
Modigliani, F. 1977. The monetarist controversy, or, should we forsake stabilization
policies? American Economic Review 67(2), March, 1-19.
Okun, A.M. 1971. Rules and roles for fiscal and monetary policy. In Issues in Fiscal
and Monetary Policy: The Eclectic Economist Views the Controversy, ed. James
J. Diamond, Chicago: DePaul University Press. Reprinted in Economics for
Policymaking, Selected Essays of Arthur M. Okun, ed. Joseph Pechman,
Cambridge, Mass.: MIT Press, 1983.
Okun, A.M. 1980. Rational-expectations-with-misperceptions as a theory of the
business cycle. Journal of Money, Credit, and Banking 12(4), Part II, November,
817-25.
Phelps, E.S. 1968. Money-wage dynamics and labor-market equilibrium. Journal of
Political Economy 76(4), Part II, July—August, 678—711.
Samuelson, P.A. 1951. Principles and rules of modem fiscal policy: a neo-classical
reformation. In Money, Trade and Economic Growth: Essays in Honor of John
Henry Williams, ed. Hilda L. Waitzman, New York: Macmillan.
Samuelson, P.A. and Solow, R.M. 1960. Analytical aspects of anti-inflation policy.
American Economic Review 50, May, 177—94.
Sargent, T.J. and Wallace, N. 1975. ‘Rational’ expectations, the optimal monetary
instrument, and the optimal money supply rule. Journal of Political Economy
83(2), April, 241-54.
Sims, C. 1980. Macroeconomics and reality. Econometrica 48(1), January, 1—48.
Solow, R.M. 1976. Down the Phillips curve with gun and camera. In Inflation, Trade
and Taxes, ed. David A. Besey et al., Columbus: Ohio State University Press.
Solow, R.M. 1979. Alternative approaches to macroeconomic theory: a partial view.
Canadian Journal of Economics 12(3), August, 339-54.
Solow, R.M. 1980. What to do (macroeconomically) when OPEC comes? In Rational
Expectations and Economic Policy, ed. Stanley Fisher, Chicago: University of
Chicago Press.
356
Tobin, J. 1977. How dead is Keynes? Economic Inquiry 15(4), October, 459-68.
Tobin, J. 1980. Are new classical models plausible enough to guide policy? Journal of
Money, Credit, and Banking 12(4), Part II, November, 788-99.
Tobin, J. 1980. Stabilization policy ten years after. Brookings Papers on Economic
Activity. No. I, (10th Anniversary Issue), 19—71.
Tobin, J. 1982. Steering the economy then and now. In Economics in the Public
Service, ed. Joseph A. Pechman, New York: W.W. Norton & Co.
Tobin, J. 1985. Theoretical issues in macroeconomics. In Issues in Contemporary
Macroeconomics and Distribution, ed. George Feiwel, New York: State University
of New York.
бесплатный завтрак
Роберт Хеесен
Free Lunch
Robert Hessen
Фраза «В мире не бывает бесплатных завтраков» уходит корнями в
XIX столетие, когда владельцы салунов и таверн рекламировали «бес-
платные» сэндвичи и закуски для привлечения клиентов в полуденные
часы. Всякий, кто пытался воспользоваться приглашением, не приоб-
ретая при этом напитков, скоро убеждался, что выражение «бесплат-
ный завтрак» не следовало понимать буквально: таких посетителей бес-
церемонно вышвыривали из таверны.
Выражение «бесплатный завтрак» вошло в политическую экономию
в эпоху Нового курса и без достаточных оснований приписывается раз-
личным консервативным журналистам — Х.Л. Менкену, Альберту Джею
Нокку, Генри Хэзлитту, Фрэнку Чодорову и Изабель Патерсон. (Все
попытки определить настоящего автора данного выражения оказались
безуспешными.) Его смысл заключался в том, что государство благосо-
стояния суть не более чем иллюзия: правительство не располагает сво-
им собственным богатством, так что оно может только перераспределять
богатство, изъятое у граждан посредством налогообложения.
В эпоху вьетнамской войны выражение «бесплатный завтрак» при-
обрело либертарианский оттенок. Когда сторонники всеобщей воин-
ской повинности утверждали, что молодые люди обязаны нести воин-
скую службу, поскольку в отрочестве они получали бесплатное обра-
зование и субсидируемые школьные завтраки, выражение «бесплатный
завтрак» стало использоваться либертарианцами в качестве идиомы,
означающей, что нельзя получить что-либо, ничего не дав взамен, что
рано или поздно людям придется расплачиваться по счетам за все бла-
га и «бесплатные услуги», которые они получают от правительства.
Выражение «бесплатный завтрак» было бы предано забвению, если
бы его жизнеспособность не была подтверждена решающим тестом на
рынке идей. В начале 1970-х годов каждая политическая или философ-
ская идея должна была иметь такую формулировку, чтобы ее можно
было поместить на майках или самоклеящихся плакатах, прикрепля-
емых к автомобильным бамперам. Новая версия выражения —
TANSTAAFL (there ain’t no such thing as a free lunch) — была популя-
ризована в научно-фантастическом бестселлере Роберта Хайнлайна
«The Moon is a Harsh Mistress», а также в пользовавшихся большим
успехом у читателей колонках Милтона Фридмена в журнале
«Newsweek».
358
ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
Г. УОРСУИК
Full Employment
G.D.N. Worswick
Термин «полная занятость», который вошел в употребление среди
экономистов после депрессии 30-х годов, применяется к промышлен-
но развитым странам, в которых большинство экономически активного
населения составляют работающие по найму в фирмах или государ-
ственных учреждениях и получающие доход в виде заработной платы.
В ходе развития капиталистической экономики безработица в той
или иной мере существовала всегда, но мнения о причинах этого яв-
ления и о том, в какой мере государство должно им заниматься, вы-
сказывались разные. В начале XX в. господствовало три основных тео-
ретических взгляда на безработицу. Во-первых, последователи Маркса
считали, что экономические циклы являются неотъемлемой частью
капиталистического развития и будут приводить к постоянному углуб-
лению кризиса самой системы; попытка избежать этого с помощью
колониальной экспансии привела бы только к конфликту между им-
периалистическими державами. Сторонники другой школы интересо-
вались главным образом измерением и датировкой экономических
циклов, выделяя среди них циклы различной периодичности, но, как
правило, не выдвигали системных теорий. Третья группа состояла из
экономистов, утверждавших, что если предоставить рыночные силы
самим себе, то экономика сама будет стремиться к равновесию или, как
теперь принято говорить, к полной занятости.
В табл. 1 представлены данные о доле безработных в шести разви-
тых странах за разные периоды XX в. Оценки безработицы по странам
получены либо путем выборочных обследований, либо из отчетов адми-
нистративных структур, например по данным системы страхования от
безработицы. Проблема заключалась в том, что и численность безработ-
ных, и численность экономически активного населения в трудоспособ-
ном возрасте (рабочей силы), отношение между которыми и дает уро-
вень безработицы, в разных странах и в разное время считались по-раз-
ному, поэтому в целях сравнения их необходимо было специально
пересчитывать. Цифры в табл. 1, взятые из работы Мэддисона (Maddison,
1982) и справочника «Main Economic Indicators», публикуемого Органи-
зацией экономического сотрудничества и развития (см. сноску к табл. 1),
считаются более или менее сопоставимыми. По периоду до Первой ми-
ровой войны оценки удалось построить только по двум странам. За пе-
риод между войнами есть данные по четырем странам, за период после
359
1950 г. — по шести странам. Данные таблицы показывают, что в годы
Великой депрессии (1930—1934) средняя доля безработных была самой
высокой за весь период наблюдений и даже в конце 30-х годов безрабо-
тица все еще оставалась высокой везде, кроме Германии.
Таблица 1
ДОЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ В СОВОКУПНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЕ, %
Франция Германия Япония Швеция Велико- британия США
1900-1913 - - - - 4,3 4,7
1920-1929 - 3,8 - 3,1 7,5 4,8
1930-1934 - 12,7 - 6,3 13,4 16,5
1935-1938 - 3,8 - 5,4 9,2 11,4
1950-1959 1,4 5,0 2,0 1,8 2,5 4,4
1960-1969 1,6 0,7 1,3 1,7 2,7 4,7
1970-1979 3,8 2,2 1,7 2,0 4,3 6,1
1980-1989 9,1 6,1 2,5 2,5 10,0 7,2
Источники: 1900-1969, A. Maddison, Phases of Capitalist Development, Oxford
University Press. 1982; 1970—1989, OECD, Main Economic Indicators, Paris.
Возникла необходимость в теории, которая смогла бы объяснить,
почему безработица может оставаться высокой столь длительное вре-
мя, и такая теория действительно появилась. Автором ее стал Джон
Мейнард Кейнс, написавший знаменитую книгу «Общая теория заня-
тости, процента и денег» (Keynes, 1936), содержание которой сам он
определил как «моя теория полной занятости». Механизмы, заставля-
ющие экономику всегда возвращаться в положение равновесия, опи-
санные авторами, которых Кейнс называл «классики», далеко не все-
гда действовали так, как им было положено, и возникло опасение, что
капиталистическим странам придется постоянно иметь дело с высокой
безработицей. В соответствии с традиционными представлениями при
высокой безработице заработная плата должна сокращаться, поэтому
спрос на труд будет расти, так что любой человек, желающий получить
работу, сможет ее получить и безработными останутся только те, кто
сам не хочет работать. Подобным же образом должен падать и процент
по кредитам, в результате чего восстановится инвестиционный климат.
Кейнс же утверждал, что денежная заработная плата может проявлять
негибкость при движении вниз, но, даже если бы она могла падать сво-
бодно, ее сокращение в номинальном выражении не должно сопровож-
даться столь же сильным падением реальной заработной платы, по-
скольку цены тоже будут падать. А что касается процентных ставок, то
нет никаких гарантий, что подобное падение, если бы оно и произо-
шло, было бы достаточно сильным стимулом для экономического ожив-
ления. В этих рассуждениях явно прослеживается мысль — и позже
Кейнс выскажет ее прямо, что фискальная политика государства,
360
т.е. регулирование соотношения между бюджетными доходами и рас-
ходами, может оказаться более мощным рычагом для достижения пол-
ной занятости, чем механизмы экономической самонастройки.
Не прошло и десяти лет, как английское коалиционное правитель-
ство военного времени в своей знаменитой «Белой книге» признало
поддержание высокого и стабильного уровня занятости одной из сво-
их важнейших целей и обязанностей, и правительства многих других
стран, в том числе Австралии, Канады и Швеции, сделали аналогич-
ные заявления. Статья 55 Устава ООН призывала страны, вступающие
в эту организацию, обеспечивать «высокий уровень жизни, полную
занятость, создание необходимых условий для социально-экономичес-
кого прогресса и развития». Причины столь резкой перемены в госу-
дарственной политике не сводятся к победе кейнсианской теории. Го-
раздо более сильным аргументом оказалось то наблюдение, что на про-
тяжении жизни целого поколения полная занятость достигалась лишь
дважды и оба раза — в военное время. Вопрос о том, в какой мере эко-
номический рост в послевоенный период связан с переходом на
новые принципы — принципы государственного регулирования, явля-
ется спорным. Факты же говорят о том, что в течение двадцати пяти
лет после 1945 г. темпы роста производительности в европейских стра-
нах были небывало высокими, а средний уровень безработицы — не-
бывало низким, при этом колебания производительности и занятости
были меньше, чем когда-либо раньше. В 1968 г. вышел отчет группы
экспертов, в котором утверждалось, что результаты фискального регу-
лирования в целях поддержания экономической сбалансированности
оказались обнадеживающими, хотя кое-что оставляло желать лучшего.
В Соединенных Штатах отношение правительства к этим новым иде-
ям было поначалу более прохладным. Некоторый рост производитель-
ности был, но он не был столь значительным по сравнению с прежни-
ми годами. По сравнению с Великой депрессией уровень безработицы
упал намного, но оказался примерно таким же, как в 20-е годы и до
Первой мировой войны. Только начиная с 60-х годов государственное
регулирование в кейнсианском духе стало проводиться и в США.
В большинстве стран конец эры высоких темпов роста и полной заня-
тости пришелся на начало 70-х, после чего вновь стали случаться дли-
тельные периоды высокой безработицы.
Полная занятость не означает нулевой безработицы. Безработица
может быть структурной, когда происходит массовое вытеснение рабо-
чих с одних рабочих мест, а новые рабочие места еще не созданы. Такое
возможно после окончания войны или в результате серьезных техноло-
гических изменений. Кроме таких особых случаев бывает также фрик-
ционная и сезонная безработица, которая возникает регулярно. Таким
образом, целью государственной политики должно быть не сведение
безработицы к нулю, а преодоление той безработицы, причиной кото-
рой является низкий спрос. Но для этого, конечно, необходимо знать,
какой уровень измеряемой доли безработных соответствует этой цели.
Среди работ, посвященных данному вопросу, особого внимания заслу-
живают три. (1) Определение, данное Бевериджем (Beveridge, 1944), гла-
361
сит, что число безработных (U) должно равняться числу незаполненных
вакансий (V). Когда U очень высоко, то V, скорее всего, будет низким,
и наоборот. Если собрать пары таких значений после некоторого числа
колебаний и нанести их на график, должна получиться достаточно гладко
снижающаяся кривая. На ней следует взять точку, в которой U— V Эта
точка и будет точкой полной занятости. (2) Филлипс (Phillips, 1958)
утверждал, что на данных по Англии хорошо прослеживается статисти-
ческая зависимость между уровнем безработицы и темпом изменения но-
минальной заработной платы. Если выбрать такой уровень безработи-
цы, при котором инфляция заработной платы равна нулю, или если про-
изводительность труда растет и при несколько более высоком уровне
достигается нулевая инфляция цен, то этот уровень и будет соответство-
вать полной занятости. (3) Возражая Филлипсу, Фридмен (Friedman,
1968) утверждал, что в долгосрочном аспекте вопрос о выборе между
безработицей и инфляцией вообще не стоит. Он считал, что существует
так называемая естественная нормы безработицы — такая, что если дей-
ствительная норма безработицы опустится ниже него, то возникнет не
просто инфляция, но инфляция, постоянно ускоряющаяся. А раз так,
то в качестве целевой можно было бы выбрать самую низкую норму без-
работицы из тех, при которых инфляция не ускоряется (так называемую
NAIR.U — «non-accelerating inflation rate of unemployment»). Очевидно,
что практическая ценность каждого из перечисленных подходов зави-
сит от того, насколько сильна наблюдаемая зависимость и насколько она
устойчива. В разных странах наблюдалась разная картина, но наиболее
показателен пример Англии. Начиная с 50-х до конца 60-х годов эконо-
метрический анализ показывал достаточно стабильные зависимости по
всем трем моделям, из которых следовало, что полная занятость должна
достигаться при безработице порядка 2—3%. Однако в 70-е годы кривая
Филлипса перестала вести себя стабильно и оценка не ускоряющей ин-
фляцию доли безработных (NAIR.U) подскочила от 2% и ниже до 10% и
выше, причем каких-либо институциональных или структурных изме-
нений, которые могли бы послужить причиной такого большого сдвига
за такое короткое время, замечено не было. Кривая зависимости между
U и V также сместилась, но в данном случае существует хоть какое-то
объяснение, почему она могла сместиться вверх. По мнению Брауна
(Brown, 1985), в Соединенных Штатах, Великобритании и Франции с
начала 60-х годов до 1981 г. имело место усиление несовершенств рын-
ка труда, а в условиях полной занятости (U= И) за счет этого фактора к
безработице может добавиться пара «лишних» процентов. И тем не ме-
нее, резкий рост безработицы в 70-х и 80-х годах, по всей видимости,
можно лишь в небольшой мере объяснить ростом безработицы в усло-
виях полной занятости, тогда как большая его часть была связана с дру-
гими причинами.
Исключительно высокими в развитых странах после 1945 г. были не
только темпы роста производства, но и темпы роста цен: в Англии,
например, такие высокие и устойчивые темпы роста цен (в среднем на
3—4% в год) в мирное время не наблюдались более двух веков. В неко-
торых странах рост происходил еще быстрее, но в большинстве случа-
362
ев никаких явных признаков его ускорения не было. Резкое ускорение
инфляции цен произошло между 60-ми и 70-ми годами, что было во
многом подготовлено двумя крупными скачками цен, причины кото-
рых лежат на стороне издержек. Примерно в 1969 г. во многих странах
произошло резкое повышение зарплаты, которое Фелпс Браун (Phelps
Brown, 1983) назвал «поворотной точкой», а в 1973 г. страны ОПЕК
произвели свое первое крупное повышение цен на нефть. Оказавшись
перед фактом спонтанного и резкого повышения цен, власти должны
были выбирать, что лучше — позволить последствиям такого повыше-
ния проявиться в существующих денежных и фискальных условиях или
скорректировать эти условия, что означало бы, что цены на конечную
продукцию также подскочат. Они все больше и больше склонялись к
первому решению. Интеллектуально в этом решении их поддержива-
ли представители первой волны «монетаристской» контрреволюции
против кейнсианского регулирования спроса, которое к тому времени
уже стало нормой. Во-первых, они утверждали, что сокращение безра-
ботицы ниже естественной нормы приведет к ускорению инфляции.
Во всяком случае, говорили они, мы слишком мало знаем о структуре
экономики, в частности о том, какие в ней действуют лаги, чтобы счи-
тать, что государство сможет своим вмешательством обеспечить ее «точ-
ную настройку». Лучше придерживаться простых правил: скажем, уста-
новить фиксированные целевые показатели роста денежной массы —
тогда и инфляция будет под контролем, и выпуск с занятостью посте-
пенно выйдут на уровень, соответствующий «естественному» уровню
безработицы. Авторы более поздних работ в русле новой классической
макроэкономики пошли еще дальше и стали вообще отвергать возмож-
ность того, что государство способно оказать длительное влияние на
безработицу — скажем, наращивая свои расходы за счет заемного фи-
нансирования. Они утверждали, что единственный способ снизить без-
работицу — это сократить монопольную власть профсоюзов и предпри-
нять другие меры для очищения рынка труда от всего того, что меша-
ет свободной конкуренции: в частности, необходимо отменить закон
о минимальной заработной плате и сократить пособия по безработи-
це. И хотя эти новые идеи не опирались на сколько-нибудь значитель-
ный фактический материал, они, несомненно, помогли убедить цент-
ральные банки принять в качестве целевых показателей или правил
фиксированные темпы роста денежной массы, и после второго повы-
шения цен на нефть странами ОПЕК в 1979 г. многие государства стали
проводить ограничительную кредитно-денежную политику, предпола-
гавшую сокращение государственных расходов. Расчеты бюджетов «по-
стоянной занятости» показывают, что в некоторых случаях сокраще-
ние бюджета достигало нескольких процентных пунктов от ВНП, осо-
бенно в Европе, где после 1980 г. безработица значительно выросла.
Соединенные Штаты в 1983 г. пошли своим путем, допустив рост как
фактического бюджетного дефицита, так и дефицита бюджета посто-
янной занятости, и оказались в результате единственной из развитых
стран, которой удалось добиться сокращения безработицы.
363
Хотя гипотеза о существовании единственной «естественной» нор-
мы безработицы слабо подкрепляется фактами, тем не менее ясно, что
снижение инфляции, связанной с ростом цен на факторы производ-
ства (в том числе с ростом зарплаты), путем сокращения спроса мо-
жет привести к возникновению высокой безработицы, которая про-
длится долгие годы. Предлагалось и предпринималось множество раз-
личных мер «политики доходов», направленных на то, чтобы
предприятия и рабочие удовлетворились бы более низкими ценами и
более низкой зарплатой, чем те, которых бы они добивались, при усло-
вии, что и другие поступят так же. Полную занятость наподобие той,
что существовала в Европе в 50-х и 60-х, вряд ли удастся вернуть без
подобных мер. На протяжении всей великой послевоенной экспан-
сии международная торговля росла беспрецедентными темпами. Фик-
сированные курсы валют, паритеты которых при необходимости мож-
но было менять, для большинства стран работали достаточно хоро-
шо, обеспечивая бездефицитный внешнеторговый баланс. Однако
бреттонвудская система рухнула и была заменена плавающими кур-
сами, и одновременно с этим начался демонтаж системы контроля за
переливами капитала. Валютные курсы стали зависеть от переливов
капитала в такой же мере, как и от состояния внешней торговли, и мо-
гут теперь сильно и надолго отклоняться от уровня, который опреде-
ляется паритетом покупательной силы соответствующих валют. Таким
образом, достижение полной занятости все больше начинает зависеть
от совместных мер, предпринимаемых если не всеми, то, во всяком
случае, многими странами.
Политика в области занятости многими нитями связана с полити-
кой государства благосостояния в области социального обеспечения, и
нередко эти связи носят противоречивый характер. С одной стороны,
пособия по безработице, приглушая остроту экономических трудностей,
способствуют повышению того уровня, вплоть до которого безработи-
ца еще может считаться приемлемой; с другой стороны, более высо-
кие издержки на выплату пособий по безработице тяжелым бременем
ложатся на экономику стран с высокой безработицей.
БИБЛИОГРАФИЯ
Дж. М. Кейнс. Общая теория занятости, процента и денег. М., Прогресс, 1978.
Beveridge, W. 1944. Full Employment in a Free Society. London: George Allen & Unwin.
Brown, A.J. 1985. World Inflation since 1950. Cambridge: Cambridge University Press.
Friedman, M. 1968. The role of monetary policy. American Economic Review 58 (1),
March, 1-17.
Maddison, A. 1982. Phases of Capitalist Development. Oxford: Oxford University Press.
OECD. 1968. Fiscal Policy fora Balanced Economy. Paris: Organization for Economic
Cooperation and Development.
Phelps Brown, E.H. 1983. The Origins of Trade Union Power. Oxford: Clarendon Press.
Phillips, A.W. 1958. The relation between unemployment and the rate of change of
money wage rates in the United Kingdom. Economica 25, November, 283—299.
364
ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Франсин Д. Блау
Gender
Francine D. Blau
Традиционно термин «гендер» (gender), как и термин «пол», от-
носился к биологическим различиям между мужчиной и женщиной.
Но в последнее время в социальных науках и общественном словоу-
потреблении значение этого термина расширилось, распространив-
шись (в отличие от термина «пол») также на те различия, которые
общество воздвигло на этой биологической основе. В данном эссе мы
рассмотрим, как соотносятся это расширенное понятие и экономи-
ческая теория.
Исторически гендерные проблемы не относились к числу централь-
ных в экономическом анализе как для представителей классической и
неоклассической школы, так и для экономистов-марксистов. Однако,
поскольку события последнего времени придали актуальность гендер-
ным вопросам, экономисты попытались дать свой анализ этих вопро-
сов. В результате им удалось не только углубить понимание природы
различий в экономическом поведении мужчин и женщин и рыночной
оценке его результатов, но и расширить границы самой экономичес-
кой науки.
Хотя, как мы уже отметили, основное течение экономической на-
уки долгое время практически не интересовалось вопросами, связан-
ными с половыми различиями, развернувшееся в XIX в. движение за
предоставление женщинам избирательных прав все-таки заставило
экономистов обратить внимание на неравенство полов. Из экономис-
тов-классиков «принцип совершенного равенства» между мужчинами
и женщинами отстаивал Дж. С. Милль (Mill, 1869, р. 91). Он не толь-
ко выступал за равенство мужчин и женщин в рамках семьи, но и тре-
бовал «допуска женщин ко всем функциям и профессиям, считавшимся
до сих пор привилегией сильного пола». Он утверждал, что «миф об их
ущербности во всех иных сферах, кроме семейной, поддерживается
лишь для того, чтобы сохранить их подчиненное положение в семье»
(р. 94). Если обратиться к марксистской школе, то Энгельс (1884) свя-
зывал подчиненное положение женщин с развитием капитализма и
утверждал, что для освобождения женщин необходимо их участие в
наемном труде вне дома, а также пришествие социализма. Веру в эман-
сипирующий эффект более активного участия женщин в наемном труде
разделяли не только Милль и Энгельс, но и такие современные им ав-
торы-феминистки, как Гилмен (Gilman, 1898).
365
Со временем стало ясно, что эти взгляды были чересчур упрощен-
ными. Как верно предвидели Энгельс и Гилман, удельный все женщин,
особенно замужних, в общей численности рабочей силы в большин-
стве промышленно развитых стран действительно увеличился. Это,
несомненно, во многом изменило как отношения между мужчинами
и женщинами, так и организацию самого общества. Тем не менее, хотя
доля женщин среди работающего населения во многих странах резко
возросла, между видами работ, выполняемых мужчинами и женщина-
ми, а также между заработками, которые они получают, до сих пор
сохраняются существенные различия.
Заслуга представителей современной неоклассической теории, иде-
ям которых в основном и посвящено настоящее эссе, заключается в
том, что они более внимательно рассмотрели и более тщательно про-
анализировали как экономические функции женщин в семье, так и
причины различной экономической оценки мужского и женского тру-
да. Ниже мы остановимся на каждом из этих вопросов отдельно. Что
же касается взаимосвязей между семьей и рынком рабочей силы и, са-
мое главное, воздействия женщин-работниц на их роль и статус в се-
мье, то эти вопросы не получили еще должного освещения. Тем не
менее, возможное существование подобной обратной связи — это важ-
ный вопрос, на котором мы тоже здесь остановимся.
АЛЛОКАЦИЯ ВРЕМЕНИ В РАМКАХ СЕМЬИ
Традиционная теория предложения рабочей силы специально рас-
смотрением домашней работы не занималась, но после Второй миро-
вой войны границы теории были расширены и эти вопросы стали рас-
сматриваться более подробно, что в какой-то мере объяснялось стрем-
лением экономистов понять причины начавшегося в тот период роста
занятости среди замужних женщин. В результате удалось не только
лучше понять мотивы, определяющие предложение рабочей силы, но
и разработать экономическую теорию таких связанных с этим явлений,
как браки, разводы, деторождение.
Традиционная теория предложения рабочей силы. Традиционная тео-
рия предложения рабочей силы, известная также как дихотомия «труд —
отдых», представляла собой простое продолжение теории потребления.
В этой модели индивиды максимизируют полезность, носителем кото-
рой являются рыночные блага и досуг, при наличии бюджетных и вре-
менных ограничений. Если решение существует, то индивидуальная
полезность оказывается максимальной тогда, когда предельная норма
замещения досуга доходом у данного индивида устанавливается на
уровне рыночной ставки зарплаты.
Поскольку в этой модели все время, которое не потрачено на от-
дых, тратится на работу, и наоборот, функцию предложения труда
(спроса на досуг) можно вывести как функцию от зарплаты, дохода, не
связанного с трудом, и вкусов. Из этого непосредственно следуют хо-
рошо известные выводы теории потребления. Увеличение доходов, не
366
связанных с трудом, при прочих равных приводит к росту спроса на
все обычные блага, включая досуг, побуждая человека больше отдыхать
и меньше работать (эффект дохода). Рост заработной платы при про-
чих равных оказывает двойственный эффект на продолжительность
труда, так как при этом возникают два противоположных явления. С од-
ной стороны, увеличение заработной платы есть увеличение дохода и
в этом смысле способствует сокращению времени труда вследствие
эффекта дохода. С другой стороны, увеличение зарплаты повышает
цену (альтернативные издержки) досуга, что заставляет человека мень-
ше отдыхать и больше работать, т.е. приводит к возникновению эффек-
та замещения досуга трудом.
Эта теория позволяет пролить свет на мотивацию решений о рабо-
те по найму — ведь если предельная норма замещения досуга доходом
при нулевой продолжительности работы превышает рыночную ставку
зарплаты, возникает «угловое решение», т.е. индивид максимизирует
свою полезность тем, что отказывается работать. При росте заработной
платы однозначно повышается вероятность того, что будет принято
решение работать, поскольку при нулевой продолжительности време-
ни работы никакого противоположно направленного эффекта дохода
от роста зарплаты не будет.
Производство в домашнем хозяйстве и аллокация времени. Хотя про-
стая модель для некоторых целей оказывается вполне достаточной, она
мало подходит для понимания факторов, определяющих распределение
домашних обязанностей между мужем и женой и решение женщин
работать или не работать как в каждый данный момент времени, так и
в динамике. Чтобы разобраться во всех этих вопросах, необходимо под-
робнее рассмотреть и проанализировать процесс производства в домаш-
нем хозяйстве.
Первый шаг в этом направлении был предпринят Минсером
(Mincer, 1962), который указал на важность, особенно для женщин, так
называемого тройного выбора, т.е. выбора между работой по найму,
работой по дому и досугом. Он утверждал, что рост занятости среди
женщин объясняется ростом их реальной заработной платы, который
повышает альтернативные издержки расходования времени в нерыноч-
ном секторе. Но поскольку реальная зарплата мужчин тоже росла, это
должно было означать, что эффект замещения, связанный с ростом
реальной заработной платы самих женщин, преобладал над эффектом
дохода, порождаемым ростом реальной зарплаты их мужей. Эту часть
анализа можно было проделать, не выходя за рамки традиционной мо-
дели, но на следующий поставленный Минсером вопрос в рамках этой
модели ответить уже нельзя. Вопрос был такой: почему у женщин эф-
фект замещения превалирует над эффектом дохода, хотя, судя по име-
ющимся данным — в частности, данным о том, что продолжительность
рабочей недели все время сокращалась, — у мужчин эффект дохода
превалирует над эффектом замещения? Минсер считает, что все дело
в том, что у женщин есть еще обязанности по дому, а время, затрачи-
ваемое на исполнение домашней работы, легче заменить на рабочее
367
время на рынке труда (путем приобретения товаров и услуг на рынке),
чем время досуга. Поскольку замужние женщины расходуют большую
часть своего «нерыночного» времени на домашнее хозяйство, тогда как
мужчины в основном тратят это время на отдых, эффект замещения
«нерыночного» времени «рыночным» при повышении зарплаты у за-
мужних женщин будет проявляться сильнее, чем у мужчин.
Беккер (Becker, 1965) существенно продвинул этот анализ, предло-
жив заменить традиционную теорию предложения труда общей теори-
ей аллокации времени. В этой и других своих работах (см. обзор
в: Becker, 1981) он заложил основы так называемой новой экономичес-
кой теории домашнего хозяйства и дал мощный толчок развитию эко-
номического анализа браков, разводов и деторождения. Любопытно,
что, хотя Минсер открыл дорогу экономическим исследованиям
домашнего производства, введя различие между нерыночной работой
и отдыхом, которого не существовало в традиционной теории предло-
жения труда, Беккеру удалось обеспечить дальнейший прогресс в этом
направлении за счет того, что он вновь отказался от этого различия, —
правда, если в традиционной модели предложения труда все нерыноч-
ное время тратится на отдых, в модели Беккера все нерыночное время
тратится на домашнее производство.
В частности, Беккер предполагает, что для домохозяйств носителя-
ми полезности являются товары (commodities), которые производятся
путем затрат рыночных благ и нерыночного времени. Интересно от-
метить, что у Беккера «товары» целиком производятся и потребляются
дома; его «товары» — это нечто прямо противоположное товарам у
Маркса (Marx, 1867), которые производятся и обмениваются на рын-
ке*. Примерами беккеровских «товаров» являются сон, который про-
изводится с помощью затрат нерыночного времени и рыночных благ,
как-то: кровать, простыни, подушка, одеяло (а иногда еще и таблетка
снотворного); игра в теннис, которая образуется благодаря сочетанию
нерыночного времени и теннисных мячей, ракетки, теннисного кос-
тюма и оплаченного времени аренды корта; чистый дом, уборка кото-
рого производится в результате затрат нерыночного времени при ис-
пользовании пылесоса, ведра со шваброй, различных моющих средств.
В этой модели к ограничениям, в рамках которых решается задача
максимизации полезности, добавляются производственные функции
для основных объектов выбора. Полезность при этом по-прежнему
может быть выражена как функция от количеств потребленных рыноч-
ных благ и нерыночного времени; однако рыночные блага и нерыноч-
ное время производят теперь полезность исключительно косвенным
образом, т.е. через их потребление в процессе производства основных
объектов выбора. Относительная предпочтительность рыночных благ
по сравнению с домашним (нерыночным) временем зависит от того,
насколько легко домохозяйствам заменить нерыночное время рыноч-
ными благами в потреблении и производстве. Замещение в потребле-
* Предпочтительнее переводить этот термин как «основные объекты выбо-
ра». — Примеч. ред.
368
нии зависит от степени предпочтительности «благоинтенсивных»
объектов выбора, при производстве которых используется много ры-
ночных благ и мало нерыночного времени, по сравнению с «времяин-
тенсивными», для производства которых требуются большие затраты
нерыночного времени, а рыночных благ используется сравнительно
мало. Замещение в производстве зависит от наличия более благоинтен-
сивных (с большим использованием рыночных благ) технологий для
производства того же объекта выбора.
Поясним это на примере зависимости между наличием детей и за-
нятостью женщин в рыночном секторе. Детей (особенно когда они
малы) можно считать «времяинтенсивным объектом выбора». Тради-
ционно именно мать занимается воспитанием детей. Возможность за-
менить домашнее время матери на рыночные блага и услуги, конечно,
существует (можно пригласить няню, можно отдать ребенка в детский
сад), но эти альтернативные производственные технологии обычно
довольно дороги и подобрать подходящий вариант (и по качеству, и по
временному графику) бывает непросто. Таким образом, вероятность
того, что женщина пойдет работать по найму, тем меньше, чем боль-
ше у нее маленьких детей. В разное время рост занятости среди жен-
щин объясняли и падением рождаемости, и ростом доступности раз-
личных услуг по присмотру за детьми, как формальных так и нефор-
мальных. Изменение социальных норм (Brown, 1984), сделавшее
замещение времени, затрачиваемого родителями на воспитание детей,
наемным трудом, более приемлемым в глазах общества, также могло
этому способствовать, хотя в этом, как и в других случаях, достаточно
трудно сказать наверняка, что первично, а что вторично: происходит
ли вначале изменение взглядов, а потом меняется поведение, или вна-
чале меняется поведение, а потом взгляды под него подстраиваются.
Зависимость между участием женщин в рабочей силе и количеством
детей усиливает влияние на фертильность потенциальной рыночной
зарплаты. Расширение возможностей трудоустройства для женщин
привело к увеличению альтернативных издержек имения детей (по-
скольку время, потраченное на детей, матери могли бы потратить на
зарабатывание денег), и это привело к тому, что рождаемость посте-
пенно снизилась. Аналогичным образом рост спроса на альтернатив-
ные варианты присмотра за детьми (который также объясняется повы-
шением стоимости единицы рыночного времени женщин) привлек в
этот сектор больше производителей, что расширило предложение по-
добных услуг.
Разделение труда между мужчинами и женщинами. Говоря о детях,
мы исходим из того, что обычно именно жены несут основной груз
ответственности по воспитанию детей. Однако причины существова-
ния разделения труда между мужем и женой — это также один из во-
просов, который рассматривает новая экономическая теория домаш-
него хозяйства. По Беккеру (Becker, 1981), разделение труда диктуется
сравнительными преимуществами. Если женщины обладают сравни-
тельным преимуществом в работе по дому, а мужчины — в работе по
369
найму, то для женщин имеет смысл в какой-то мере специализировать-
ся на домашнем хозяйстве, а для мужчин — на рыночном производ-
стве. Согласно этой точке зрения более высокий конечный результат
для всей семьи, соответствующий такому укладу, составляет одно из ос-
новных преимуществ семейной жизни. Таким образом, рост женской
занятости ослабляет преимущества семейной жизни и тем самым спо-
собствует росту числа разводов и снижению брачности. Представление
о том, что в семье обычно бывает эффективно и, следовательно, опти-
мально, чтобы один ее член — как правило, жена — в какой-то мере
специализировался на домашнем производстве, а другой на рыночном
производстве, имеет серьезные последствия для статуса женщины на
рынке труда. Как мы увидим чуть ниже, сторонники теории человечес-
кого капитала полагают, что такое разделение труда снижает заработ-
ки женщин по сравнению с заработками мужчин из-за перерывов в
рабочем стаже и более низких вложений в формирование ориентиро-
ванного на рынок человеческого капитала. По этой и другим причи-
нам важно подробнее разобраться, действительно ли такая специали-
зация желательна для семьи и сохранится ли она в будущем. В связи
с этим необходимо сделать три замечания.
Во-первых, возможно, что подобное разделение труда не так выгод-
но женщинам, как мужчинам (Ferber and Birnbaum, 1977; Blau and
Ferber, 1986). А раз так, то даже если подобная специализация во мно-
гих отношениях эффективна, она может не обеспечивать максимум
полезности для всей семьи. Действительно, если интересы мужа и жены
не совпадают, если у них совершенно разные вкусы, то сама концеп-
ция семейной функции полезности становится бессмысленной, по-
скольку удовлетворительным образом агрегировать в единую функцию
конфликтующие интересы мужа и жены невозможно.
В чем проигрывают женщины из-за своей частичной специализа-
ции на домашнем хозяйстве? Прежде всего в условиях рыночной эко-
номики подобное положение делает их в той или иной степени эконо-
мически зависимыми от мужей (см. также: Hartmann, 1976). Это, ско-
рее всего, ослабляет позиции жены на семейном совете по сравнению
с позицией мужа и усиливает отрицательные экономические послед-
ствия для жены, а часто также и для детей в случае распада семьи.
В условиях нынешнего роста числа разводов выбор подобной специа-
лизации становится все более опасным. Во-вторых, по мере того как
все больше женщин начинают подобно мужчинам заботиться о своей
карьере, стремясь добиться и более высокого положения, и более вы-
сокой зарплаты, специализация на домашнем хозяйстве, особенно если
она начинает мешать их успеху в работе, становится для них все менее
приемлемой. Семья, максимизирующая полезность, должна при алло-
кации времени своих членов учитывать не только преимущества спе-
циализации, но и перечисленные выше ее недостатки.
Если специализация действительно значительно более продуктив-
на, чем разделение домашних обязанностей между мужем и женой,
следует подумать, нельзя ли как-то компенсировать женщинам их по-
тери за счет того выигрыша, который дает специализация. Однако, ско-
370
рее всего, потери от специализации со временем начнут перевешивать
выигрыш от нее. Если женщины с юных лет будут знать, что им, по-
видимому, предстоит долгие годы работать, они будут охотнее идти на
инвестиции в формирование ориентированного на рынок человечес-
кого капитала, а их сравнительные преимущества по выполнению до-
машней работы относительно мужчин сократятся. Кроме того, с рас-
ширением возможностей, которые открывает перед женщинами рынок
труда, отрицательные стороны специализации на домашней работе в
форме упущенных заработков и несостоявшейся карьеры также будут
усиливаться. Таким образом, можно ожидать, что распределение обя-
занностей по дому между мужчиной и женщиной будет со временем
становиться все более равномерным, даже если женщины еще сколь-
ко-то времени будут сохранять за собой сравнительные преимущества
в ведении домашнего хозяйства.
Второе, что необходимо сказать о специализации женщин на до-
машнем производстве, — это что указанные сравнительные преимуще-
ства не являются единственным экономическим выигрышем, который
дает формирование семьи или домохозяйства (Ferber and Birnbaum,
1977; Blau and Ferber, 1986). К числу таких выгод следует также отнес-
ти выгоды от экономии масштаба при производстве некоторых това-
ров, а также выгоды, связанные с совместным потреблением «общест-
венных» благ. При ослаблении специализации эти выгоды сотрудни-
чества останутся, даже если все выгоды, основанные на сравнительных
преимуществах, исчезнут. Другие плюсы семьи или домохозяйства при
переходе к более равноправному разделению домашних обязанностей
могут даже возрасти. Например, семья, в которой работают оба —
и муж, и жена, — более диверсифицирована по своим источникам до-
хода и, следовательно, лучше защищена от риска потери дохода, чем
семьи, где работает только один человек. Кроме того, очень может быть,
что удовлетворение, доставляемое совместным потреблением, возрас-
тает, когда у супругов есть много общего, т.е. когда они оба и работа-
ют, и делят между собой домашние обязанности. Таким образом, сти-
мулы придерживаться традиционного разделения труда ради реализа-
ции экономических преимуществ супружества могут быть вовсе не
такими сильными, как это получается, если рассматривать одни толь-
ко сравнительные преимущества.
И наконец, необходимо подчеркнуть, что сравнительное преимущест-
во женщин в области ведения домашнего хозяйства может объяснять-
ся не только биологическими особенностями и половыми различиями
воспитания и вкусов, но также и эффектом дискриминации женщин
на рынке труда, которая проявляется в том, что женщины получают
более низкую зарплату, чем мужчины. Решения о том, что лучше —
пойти работать или остаться дома, когда они базируются на таких ис-
каженных сигналах рынка, не являются оптимальными с точки зрения
общественного благосостояния, хотя с точки зрения конкретной семьи
они могут быть вполне рациональны. Ниже мы будем говорить о по-
добных эффектах обратной связи подробнее.
371
РАЗЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН НА РЫНКЕ ТРУДА
Посмотрим теперь, как экономическая теория объясняет причины
разной оплаты мужчин и женщин на рынке труда. Объяснение этих
причин в основном происходило путем разработки новых, интересных
прикладных решений в рамках уже существующих теоретических под-
ходов.
Главные вопросы заключаются здесь в причинах существования
профессиональной сегрегации, а также различий в уровне зарплаты
мужчин и женщин. Под профессиональной сегрегацией имеется в виду
концентрация женской занятости в некотором ограниченном наборе
профессий, которые считаются «женскими», а мужской занятости —
в другом наборе профессий, считающихся «мужскими». Причины та-
кой сегрегации и ее соотношение с разницей в мужской и женской зар-
плате — это два основных вопроса, которые мы рассмотрим в насто-
ящем разделе.
Как и при анализе ролевых функций женщин в семье, катализато-
ром разработки этих подходов стали практические проблемы. Впервые
интерес к этому вопросу возник в Англии после Первой мировой вой-
ны. Поскольку мужчины ушли на войну, на некоторые гражданские
специальности, традиционно считавшиеся мужскими, впервые пришли
женщины, хотя и не в таких размерах, как позже, в ходе Второй миро-
вой войны. Как бы то ни было, встал вопрос о том, какой должна быть
зарплата женщин, выполняющих мужскую работу, что подтолкнуло к
проведению экономических исследований по вопросу о различиях в
заработной плате между мужчинами и женщинами, и во всех этих ис-
следованиях важная роль отводилась профессиональной сегрегации.
Среди работ того первого периода можно упомянуть публикации Фо-
сетта (Fawcett, 1918), Эджуорта (Edgeworth, 1922) (которая послужила
фундаментом для модели избыточного предложения Бергмана
(Bergmann, 1974), о которой мы будем говорить ниже) и Уэбба (Webb,
1919).
Вопрос о различном отношении к мужчинам и женщинам как к
работникам вновь приобрел актуальность в начале 60-х годов — на сей
раз в США в связи с набиравшим силу движением женщин за равно-
правие и принятием законов, гарантирующих равенство мужчин и
женщин при приеме на работу. С тех пор сложилось два общих подхо-
да к этому вопросу. Первый — с позиций теории человеческого капи-
тала, в которой основной акцент при объяснении различий между
структурой мужской и женской занятости и мужскими и женскими
заработками делается на собственный добровольный выбор женщин.
Второй — это различные модели дискриминации на рынке труда, ко-
торые главной причиной неодинаковых успехов мужчин и женщин на
рынке труда считают разное отношение других участников этого рын-
ка к равноквалифицированным (или, во всяком случае, потенциально
равноквалифицированным) мужчинам и женщинам. Хотя некоторые
считают эти подходы альтернативными, на самом деле они друг друга
372
не исключают. И тот и другой помогают прояснить причины различий
в заработках мужчин и женщин и в структуре их занятости, что под-
тверждается эмпирически (см. например: Treiman and Hartmann, 1981).
На самом деле, и мы постараемся это показать, обе группы причин, как
правило, действуют вместе и усиливают друг друга. Рассмотрим теперь
каждый из этих двух подходов подробнее.
Объяснение с точки зрения теории человеческого капитала. Объясне-
ние различий между мужчинами и женщинами по видам занятости и
уровню оплаты с позиций теории человеческого капитала (см.: Mincer
and Polachek, 1974; Polachek, 1981, и др.) непосредственно вытекает из
приведенного выше анализа семьи. Предполагается, что разделение
труда в семье приводит к тому, что женщины в течение своего жизнен-
ного цикла придают большее значение выполнению своих семейных
обязанностей, чем мужчины. Заранее ожидая, что их трудовая биогра-
фия окажется короче и более «рваной», чем у мужчин, женщины ме-
нее склонны тратить время и деньги на образование, которое приго-
дилось бы им при найме на работу, и меньше, чем мужчины, заинте-
ресованы в обучении без отрыва от производства. А более скромные
инвестиции в человеческий капитал влекут за собой и более низкие,
чем у мужчин, заработки.
Теми же причинами объясняются и различия в профессиональном
распределении мужчин и женщин. Сторонники этого подхода утверж-
дают, что женщины склонны идти работать на такие места, где не тре-
буется особого образования и где потери в заработной плате в связи с
перерывами в стаже (из-за утраты квалификации за пропущенное вре-
мя) будут минимальны. Поскольку женщины заранее знают, что им
придется прерывать работу, они избегают таких работ, которые требу-
ют серьезного обучения специфическим для данной фирмы навыкам,
поскольку преимущества от обладания подобными навыками можно
реализовать, только продолжая работать на этой фирме. Поскольку
ожидаемый рабочий стаж у женщин короче, чем у мужчин, работода-
тели тоже неохотно нанимают женщин на подобные работы, посколь-
ку часть стоимости такого обучения они обычно оплачивают из своего
кармана. Таким образом, поскольку нельзя заранее отличить женщин,
в первую очередь ориентированных на карьеру, от женщин, для кото-
рых главное — это семья, женщинам, ориентированным на карьеру,
пробиться наверх труднее, чем мужчинам (см. ниже о статистической
дискриминации).
В развитие этих рассуждений Беккер (Becker, 1985) добавляет, что
даже если мужчина и женщина проводят на работе одинаковое время,
тот факт, что женщина еще несет домашние обязанности, может от-
рицательно сказаться на размере ее заработка и продвижении по служ-
бе. В частности, Беккер утверждает, что, поскольку воспитание детей
и ведение домашнего хозяйства требуют больше сил, чем отдых и дру-
гие виды домашней деятельности, замужние женщины тратят на ра-
боте меньше сил, чем мужчины, а потому и получают меньше, чем муж-
373
чины. Зная все это, они с самого начала стараются найти себе работу
попроще — отсюда и существование «женских профессий».
Таким образом, теория человеческого капитала дает логически не-
противоречивое объяснение различий в рыночных результатах для муж-
чин и женщин как работников исходя из традиционного разделения
труда между мужчиной и женщиной в семье. Но если это так, то —
и этот вывод многие сторонники теории человеческого капитала поче-
му-то упускают из виду — невыгодность для женщин специализации
на домашнем труде, о которой мы говорили раньше, становится еще
более наглядной. Поскольку разницу в зарплате между мужчинами и
женщинами не всегда удается объяснить одними только различиями в
производительности, то для объяснения остаточной разницы мы обра-
тимся теперь к моделям дискриминации женщин на рынке труда.
Модели дискриминации на рынке труда. Как мы уже говорили, моде-
ли дискриминации были разработаны для того, чтобы лучше понять,
как влияет разное отношение участников рынка к двум разным груп-
пам работников на зарплату и карьеру этих работников. Исходным
пунктом дискриминационных моделей является предположение о том,
что представители обеих групп обладают равной или потенциально
равной производительностью. Иначе говоря, предполагается, что, за
исключением прямых последствий самой дискриминации, мужской и
женский труд (вообще говоря, дискриминация на рынке труда может
осуществляться не только по половому признаку, но здесь мы будем
говорить именно о мужчинах и женщинах) полностью взаимозаменя-
емы. Это предположение вводится не столько потому, что оно соответ-
ствует действительности, сколько из-за главного вопроса, на который
призваны ответить дискриминационные модели, а именно: в силу ка-
ких обстоятельств могут обладающие одинаковой квалификацией ра-
ботники и работницы получать неодинаковую зарплату? Если мы су-
меем ответить на этот вопрос, мы сумеем объяснить и то, как возни-
кает разница в оплате мужского и женского труда, превышающая ту,
которую можно было бы ожидать исходя из различий в производитель-
ности мужского и женского труда.
Начало теоретическим разработкам в этой области было положено
моделью расовой дискриминации, предложенной Беккером (Becker,
1957). Беккер считал, что дискриминация — это вопрос личного вкуса
или предубеждения. Он рассмотрел три случая, когда склонность к
дискриминации проявляют работодатели, коллеги и клиенты соответ-
ственно. Разумеется, чтобы такие склонности могли отрицательно ска-
заться на экономическом статусе конкретной группы, они должны ре-
ально определять поведение своих носителей, которых Беккер называет
«дискриминаторами».
Может возникнуть вопрос, пригодна ли модель дискриминации по
расовому признаку для объяснения дискриминации по признаку пола —
ведь мужчины и женщины обычно тесно контактируют друг с другом
в семьях, чего не происходит при расовой дискриминации. Ответить
на этот вопрос, а также установить связь между теорией Беккера и
374
профессиональной сегрегацией нам поможет понятие «социально при-
емлемых ролей», которое, впрочем, у самого Беккера в явном виде не
встречается. Означает это понятие примерно следующее. Работодате-
ли могут быть вполне согласны, чтобы женщины работали секретар-
шами, регистраторшами или воспитательницами, и при этом отказаться
принимать женщин на работу в качестве юристов, профессоров или
электриков. Мужчины — коллеги по работе могут чувствовать себя
вполне комфортно, если женщины работают у них в подчинении или
занимают вспомогательную должность, но если женщина — их началь-
ник или занимает равное с ними положение, то это может показаться
им унизительным, неприемлемым. Клиентам кафе может нравиться,
что их обслуживают женщины-официантки, но если те же клиенты
придут в модный дорогой ресторан, вполне может оказаться, что они
предпочтут увидеть там официантов-мужчин. Женщина может прода-
вать женские блузки и даже мужские галстуки, но продавец в отделе
бытовой техники, юрист или врач должны быть мужчинами. Подобные
представления о социально приемлемых ролях вполне могут служить
и фактором расовой дискриминации.
Работодатели, склонные к дискриминации женщин при приеме на
определенные работы, максимизируют не столько прибьиь, сколько
полезность. В их представлении полные издержки использования жен-
ского труда включают не только зарплату, но также и коэффициент
дискриминации (dr > 0), отражающий денежный эквивалент антипо-
лезности, причиняемой тем, что эту работу выполняет женщина. Та-
ким образом, они согласятся принять женщину на работу только в том
случае, если она будет получать более низкую зарплату, чем мужчина
(иу= wm — dr). Если зарплата мужчин равна их предельному продукту,
то дискриминация женщин со стороны работодателей приводит к тому,
что их зарплата оказывается меньше их предельного продукта. Если
степень дискриминации женщин у разных работодателей разная, ры-
ночный коэффициент дискриминации установится на таком уровне,
при котором предложение женского труда совпадет со спросом на жен-
ский труд при действующей ставке оплаты этого труда. Таким образом,
разница в оплате женского и мужского труда будет зависеть от пред-
ложения женского труда, количества дискриминирующих работодате-
лей и величины их коэффициентов дискриминации.
Одна из особенно интересных идей Беккера (Becker, 1957) заклю-
чается в том, что работодатели, максимизирующие прибьиь, даже если
сами они ничего против женщин не имеют, будут, тем не менее, про-
водить политику дискриминации женщин, если их работники или кли-
енты настроены против женщин. Не желающие работать рядом с жен-
щинами сотрудники-мужчины, если им все же приходится это делать,
ведут себя так, как если бы им уменьшили зарплату на их собственный
коэффициент дискриминации de (> 0). Таким образом, они согласятся
работать вместе с женщинами только в том случае, если им назначат
более высокую зарплату, — фактически они требуют компенсацию за
то, что им приходится работать в столь неприятных условиях.
375
Очевидное решение этой проблемы с точки зрения работодателя
заключается в том, чтобы принимать на работу лиц одного пола. Если
бы так поступали все работодатели, сегрегация между мужчинами и
женщинами проходила бы на уровне фирм, но дифференциации по
зарплате не было бы. Однако, как верно заметил Эрроу (Arrow, 1973),
те работодатели, которые вкладывали средства в своих работников-
мужчин, т.е. несли издержки по подбору, найму и обучению кадров,
вряд ли согласятся уволить всех мужчин и заменить их женщинами,
даже если бы последним можно бьио бы меньше платить. Хотя подоб-
ные рассуждения не позволяют объяснить, как же получилось, что не-
которые профессии оказались преимущественно мужскими, а другие —
преимущественно женскими, по крайней мере один фактор из тех, что
приводят к постоянному воспроизводству этой ситуации (а именно:
почему нужно платить премию работникам-мужчинам, имеющим пред-
убеждения против женщин, чтобы они согласились работать вместе с
женщинами), они объясняют. Где бы женщины ни работали рядом с
дискриминирующими мужчинами, всегда будет возникать разница в
зарплате.
Представляют также интерес некоторые работы, развивающие тео-
рию Беккера о дискриминации со стороны сотрудников-коллег (Becker,
1957). Так, Бергман и Дэрити (Bergmann and Darity, 1981) утверждают,
что работодатели могут не хотеть брать женщин на традиционно муж-
ские работы, поскольку это может отрицательно сказаться на мораль-
ном климате и производительности труда мужского коллектива. С уче-
том издержек замены всех мужчин на женщин, о которых мы упоми-
нали выше, этот фактор может оказаться достаточно весомым. Блау и
Фербер (Blau and Ferber, 1986) отмечают также, что дискриминация со
стороны коллег может служить непосредственной причиной более низ-
кой производительности женского труда по сравнению с мужским.
В частности, поскольку обучение без отрыва от производства нередко
носит неформальный характер, если бригадир-мужчина или мужчины-
коллеги откажутся обучать работающих рядом с ними женщин приемам
повышения производительности труда или просто не сочтут нужным
это делать, производительность женского труда окажется ниже произ-
водительности мужского. Аналогичным образом исключение женщин
из участия в неформальном общении между членами коллектива, от-
сутствие поддержки со стороны наставников у женщин, выполняющих
традиционно мужскую работу, мешают им учиться и перекрывают до-
ступ к информации, необходимой для выполнения работы на хорошем
уровне.
Дискриминация со стороны клиентов также может снижать произ-
водительность женского труда по сравнению с мужским. Клиенты,
имеющие предубеждения против женщин, будут вести себя так, как
если бы цена товара или услуги, предложенной им женщиной, повы-
силась на их личный коэффициент дискриминации dc (> 0). Таким
образом, по какой бы цене ни продавались товар или услуга, женщи-
на-продавец будет приносить предприятию меньше доходов, чем про-
давец-мужчина. Женщинам будут либо отказывать в приеме на такую
376
работу, либо платить меньше. Потенциальная применимость этой мо-
дели не сводится к одной только сфере торговли в традиционном по-
нимании, поскольку в современной экономике, где удельный вес услуг
чрезвычайно высок, появляется все больше работ, предполагающих
личный контакт между работником и заказчиком или клиентом.
Модели, основанные на «предубеждениях» или «склонности к дис-
криминации», хорошо объясняют профессиональную сегрегацию, но
это не значит, что они всегда позволяют предсказать наличие такой
сегрегации. Если зарплату можно гибко изменять, то вполне может
оказаться, что дискриминация женщин будет выражаться в том, что им
будут меньше платить, но профессиональной сегрегации при этом мо-
жет и не быть или она будет выражена слабо. Однако, если предубеж-
дения против использования женщин на традиционно мужских рабо-
тах (будь то со стороны работодателей, сотрудников-коллег или кли-
ентов) сильны и превалируют, женщин могут до таких работ не
допускать. С другой стороны, наличие профессиональной сегрегации
не обязательно должно сопровождаться разным уровнем зарплаты у
мужчин и женщин. Если в секторе женской занятости достаточно мно-
го возможностей найти работу, женщины, обладающие равной с муж-
чинами квалификацией, могут и зарабатывать не меньше мужчин.
Модель избыточного предложения труда (Bergmann, 1974) дает не-
сколько иное объяснение связи между профессиональной сегрегацией
и разницей в оплате мужского и женского труда. Если по какой-либо
причине — будь то дискриминация на рынке труда или свой собствен-
ный выбор — потенциально равноквалифицированные мужчины и жен-
щины сегрегируются по профессиям, зарплата у мужчин и женщин на
соответствующих работах будет определяться спросом и предложением
труда в каждом секторе (мужском и женском) отдельно. Работники на
мужских работах будут пользоваться относительными преимуществами
по зарплате только в том случае, если в мужском секторе труд таких ра-
ботников более дефицитен, чем в женском секторе. «Переизбыток»
предложения женского труда может усиливать разницу в оплате женского
и мужского труда, возникшую из-за того, что сами женщины меньше
заботятся о своем обучении, или из-за того, что работодатели не слиш-
ком стремятся вкладывать средства в их обучение.
Возможно, самый серьезный вопрос, который ставился в связи с
теорией Беккера, и в особенности в связи с дискриминацией со сто-
роны работодателя, заключается в том, что эта теория не способна
объяснить, почему дискриминация столь живуча. Если предположить,
что склонность к дискриминации у всех разная, то у фирм, меньше
других склонных к дискриминации, процент дешевого женского тру-
да должен был бы быть самым высоким. Благодаря этому у них будут
самые низкие производственные издержки и, если предположить от-
сутствие экономии от масштабов, в долгосрочном аспекте такие фир-
мы должны были бы расширить свое производство и вытеснить с рынка
фирмы, склонные к дискриминации (Arrow, 1973).
Этот вопрос, по крайней мере отчасти, послужил поводом для раз-
работки альтернативных моделей дискриминации, одной из которых
377
стала статистическая модель дискриминации, о которой речь пойдет
ниже. В других моделях, которые мы не будем здесь рассматривать,
основное внимание уделялось неконкурентное™ рынков труда (см., на-
пример: Madden, 1973). Следует, впрочем, признать, что критика тео-
рии Беккера не только способствовала дальнейшему развитию моделей
дискриминации, но и заставила ряд экономистов вообще усомниться
в том, что именно дискриминация на рынке труда виновата в неравен-
стве оплаты мужского и женского труда. На самом деле явление, в ко-
тором мы стремимся разобраться, отличается внутренней сложностью,
и потому нет ничего удивительного в том, что простого и ясного отве-
та на вопрос, почему дискриминация столь живуча, до сих пор так и
не удалось найти. Этой внутренней сложностью объясняется и то, по-
чему различные модели дискриминации, каждая из которых указывает
на разные мотивы и разные источники такого поведения, не следует
рассматривать как альтернативные. Они скорее освещают разные ас-
пекты одного и того же сложного явления.
Как мы уже сказали, модели статистической дискриминации бьии
специально построены Фелпсом (Phelps, 1972) и другими авторами для
того, чтобы объяснить живучесть дискриминации. Основаны эти моде-
ли на предположении о том, что в условиях неполноты информации у
работодателей могут быть мотивы для дискриминации женщин, кото-
рые не противоречат максимизации прибыли. Статистическая дискри-
минация имеет место тогда, когда работодатели считают, что при про-
чих равных условиях женщины в среднем работают менее производи-
тельно или менее стабильно, чем мужчины. Примером может служить
весьма распространенное убеждение в том, что женщины более склон-
ны увольняться с работы «по собственному желанию», чем мужчины.
Так же, как и в модели дискриминации, в силу вкусов или пред-
убеждений работодателей статистическая дискриминация будет застав-
лять работодателей отдавать предпочтение работникам-мужчинам и
брать на работу женщин только в том случае, если зарплата их будет
меньше. Разница между этими двумя моделями заключается в том, что
в модели статистической дискриминации мужчины и женщины в ка-
честве работников не считаются совершенно взаимозаменяемыми.
Кроме того, если женщины считаются менее стабильными работника-
ми, между мужскими и женскими работами будут, как правило, иметься
существенные различия: скажем, на мужских работах будет в большей
мере требоваться наличие навыков, специфических для данного конк-
ретного предприятия, чем на женских. Именно такую, в общих чер-
тах, картину рисует модель двойственного рынка (Piore, 1971; Doeringer
and Piore, 1971). Эта модель исходит из того, что женщины, как пра-
вило, исключаются из «первичного сектора», т.е. не допускаются до
работ, требующих навыков или умений, специфических для данной
конкретной фирмы, на которых, соответственно, и зарплата самая
высокая, и возможности для продвижения по службе самые лучшие,
и текучесть низкая, и находят работу во «вторичном секторе», к кото-
рому относятся работы с низкой зарплатой, где отсутствует перспек-
тива роста и высока текучесть кадров.
378
Как и модель, основанная на теории человеческого капитала, мо-
дель статистической дискриминации объясняет связь между ролью
женщин в семье и их неравным положением на рынке труда. Однако
здесь эта связь объясняется разным отношением к мужчинам и жен-
щинам со стороны работодателей, а не тем, что они сами делают раз-
ный выбор.
Важнейший вопрос, разумеется, заключается в том, насколько вер-
ны представления работодателей о женщинах и мужчинах как работ-
никах. Если они верны, то, как показали Эйгнер и Кэйн (Aigner and
Cain, 1977), в традиционном смысле дискриминации женщин на рын-
ке труда вообще не существует: более низкая зарплата женщин объяс-
няется тем, что у них ниже производительность труда. Тем не менее,
неспособность работодателя отличить женщин, ориентированных на
карьеру, от женщин, для которых важнее дом, все же ставит «карьер-
ных» женщин в неравное положение по сравнению с работниками-
мужчинами.
С другой стороны, представления работодателей могут быть невер-
ными или преувеличенными. Различия, причиной которых являются
подобные ошибочные взгляды, несомненно, образуют дискриминацию
в традиционном смысле. Однако, как убедительно показали Эйгнер и
Кэйн (Aigner and Cain, 1977), различия в отношении к мужчинам и
женщинам, основанные на ошибочных представлениях работодателей,
скорее всего, исчезли бы еще раньше, чем различия, основанные на
«вкусе работодателей к дискриминации». Тем не менее, во времена
быстрых изменений ролевых функций мужчин и женщин смена пред-
ставлений работодателей может просто не поспевать за этими изме-
нениями. Неправильные представления работодателей могут также
усиливать влияние дискриминации со стороны сослуживцев или кли-
ентов — например, если дискриминация, которую работодатели при-
писывают клиентам, либо не заходит так далеко, либо более подвер-
жена изменениям, чем считают работодатели.
Потенциально более сильная роль отводится статистической дис-
криминации в моделях, которые учитывают существование эффекта
обратной связи, например в модели перцептуального равновесия Эр-
роу (Arrow, 1973). В этой модели предполагается, что мужчины и жен-
щины потенциально совершенно взаимозаменяемы в качестве работ-
ников, но работодатели считают, что женщины, например, работают
менее стабильно (Arrow, 1976). Таким образом, они берут женщин на
те работы, где вред от текучести кадров минимален, а женщины отве-
чают на это тем, что обнаруживают то самое нестабильное поведение,
которого от них и ждет работодатель. Таким образом, представления
работодателей о женщинах задним числом подтверждаются, хотя на
самом деле такое поведение женщин есть следствие собственных дис-
криминационных действий работодателей. Такое равновесие будет
устойчивым даже при том, что возможно равновесие и в другой точ-
ке — когда женщин берут на достаточно высокооплачиваемую и пре-
стижную работу, которую они не захотели бы бросить. В более общем
случае любая форма дискриминации может отрицательно влиять на же-
379
лание женщин инвестировать в преумножение своего человеческого
капитала и на их желание оставаться на рынке труда, снижая рыноч-
ное вознаграждение женщин за подобные действия или поведение
(см также: Blau, 1984; Blau and Ferber, 1986; Ferber and Lowry; 1976,
Weiss and Gronau, 1981).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы рассмотрели то новое, чем неоклассическая экономическая те-
ория дополнила наше понимание мотивов, исходя из которых женщи-
ны принимают решение, хотят они работать по найму или не хотят,
причин существования разделения труда между мужем и женой в се-
мье и различий в оплате мужского и женского труда. С добавлением
эффекта обратной связи различные направления неоклассической те-
ории, в которых анализируется экономическая роль женщин в семье и
их положение на рынке труда, возможно, переплетутся еще теснее.
Направление причинно-следственной связи идет не только от ролей,
исполняемых женщинами в семье, к их успехам на рынке, как это
утверждает теория человеческого капитала, но также и от отношения
к ним как к работникам — отношения, определяющего их мотивацию
инвестировать в ориентированный на рынок человеческий капитал и
продолжать оставаться на рынке труда. Так, даже незначительная сте-
пень дискриминации в начале трудового пути может иметь очень су-
щественные последствия для всей дальнейшей карьеры. Хотя достаточ-
но маловероятно, что именно дискриминация на рынке труда породи-
ла традиционное разделение труда между мужчинами и женщинами в
семье, наличие дискриминации, по-видимому, во многом способству-
ет сохранению этого разделения.
Однако верно и то, что новые возможности, которые раскрывает
перед женщинами рынок труда, могут создать мощные стимулы д ля со-
кращения различий между ролевыми функциями мужчин и женщин
в семье и в их поведении на рынке труда. В то же время рост числа
работающих женщин, который объясняется не только новыми возмож-
ностями трудоустройства, но также и изменением домашней техноло-
гии и вкусов, может непосредственно привести к росту производитель-
ности женского наемного труда и, соответственно, зарплаты, а также
ослабить статистическую дискриминацию женщин. Аналогичным об-
разом освоение женщинами традиционно мужских профессий может
не только привести к повышению зарплаты женщин, которые испол-
няют такую работу, но и снизить избыточное предложение женского
труда на женских работах, что приведет к росту зарплаты и на тради-
ционно женских работах. Таким образом, более полное понимание вза-
имосвязи между ролью женщин в семье и их статусом на рынке труда
помогает нам понять не только то, почему так долговечно неравенство
в экономической оценке мужского и женского труда, но и то, каким
образом изменения в какой-то одной из этих областей или в них обеих
могут запустить процесс взаимно усиливающихся кумулятивных изме-
нений. Проявляющиеся в последнее время во многих промышленно
380
развитых странах признаки сокращения разницы в оплате женского и
мужского труда вполне могут оказаться симптомами начала такого про-
цесса.
Стараясь подчеркнуть взаимозависимость положения женщины в
семье и на рынке труда, мы в каком-то смысле вернулись к тому, с чего
начали, поскольку этот вывод весьма сильно напоминает взгляды уче-
ных XIX в., о которых мы рассказали в самом начале. Однако ясно так-
же и то, что неоклассическая теория углубила наше понимание при-
чин существования различий между мужчинами и женщинами и в се-
мье, и на рынке труда, а также позволила нам лучше понять связи
между этими двумя секторами.
БИБЛИОГРАФИЯ
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства //
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 21. М.: Издательство политической
литературы, 1967.
Aigner, D. and Cain, G. 1977. Statistical theories of discrimination in labor markets.
Industrial and Labor Relations Review 30 (2), January, 175-87.
Arrow, K. 1973. The theory of discrimination. In Discrimination in Labor Markets,
ed. O. Ashenfelter and A. Rees, Princeton: Princeton University Press.
Arrow, K. 1976. Economic dimensions of occupational segregation: comment I. Signs
1(3), Part II, 233-7.
Becker, G. 1957. The Economics of Discrimination, 2nd. edn, Chicago: University of
Chicago Press, 1971.
Becker, G. 1965. A Theory of the Allocation of Time. Economic Journal 75, September,
493-517.
Becker, G. 1981. A Treatise on the Family. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press.
Becker, G. 1985. Human capital, effort, and the sexual division of labor. Journal of
Labor Economics 3(1), January, 533—58.
Bergmann, B. 1974. Occupational segregation, wages and profits when employers
discriminate by race or sex. Eastern Economic Journal 1, April/July, 103-10.
Bergmann, B. and Darity, W., Jr. 1981. Social relations in the workplace and employer
discrimination. In Proceedings of the Thirty-Third Annual Meeting of the
Industrial Relations Research Association, ed. B.D. Dennis, new York: Industrial
Relations Research Association, 155—62.
Blau, F. 1984 Discrimination against women: theory and evidence. In Labor
Economics: Modem Views, ed. W. Darity, Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
Blau, F. and Ferber, M. 1986. The Economics of Women, Men and Work. Englewood
Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Brown, C. 1984. Consumption norms, work roles, and economic growth. Paper
presented at the conference on Gender in the Workplace, Washington, DC:
Brookings Institution, November.
Doeringer, P. and Piore, M. 1971. Internal Labor Markets and Manpower Analysis.
Lexington, Mass.: D.C. Heath and Co.
Edgeworth, F. 1922. Equal pay to men and women for equal work. Economic Journal
32, December, 431-57.
381
Fawcett, M.G. 1918. Equal pay for equal work. Economic Journal 28, March, 1-6.
Ferber, M. and Birnbaum, B., 1977. The ‘new home economies’: a retrospects and
prospects. Journal of Consumer Research 4(1), June, 19—28.
Ferber, M. and Lowry, H. 1976. The sex differential in earnings: a reappraisal.
Industrial and Labor Relations Review 29(3), April, 377-87.
Gilman, C. 1898. Women and Economics: a study of the economic relation between
men and women as a factor of social evolution. New York: Harper & Row, 1966.
Hartmann, H. 1976. Capitalism, patriarchy and job segregation by sex. Signs 1(3),
Part II, 137-69.
Madden, J. 1973. The Economics of Sex Discrimination. Lexington, Mass.: D.C.
Heath and Co.
Marx, K. 1867. Capital: A Critique of Political Economy, vol. I. New York:
International Publishers, 1967.
Mill, J.S. 1869. The Subjection of Women. 4th edn, London: Longmans, Green,
Reader & Dyer, 1878; New York: Stokes, 1911.
Mincer, J. 1962. Labor force participation of married women. In Aspects if Labor
Economics, National Bureau of Economic Research, Princeton: Princeton
University Press.
Mincer, J. and Polachek, S. 1974. Family investments in human capital: earnings of
women. Journal of Political Economy 82(2), Part II, S76—S108.
Phelps, E. 1972. The statistical theory of racism and sexism. American Economic
Review 62(4), September, 659—61.
Piore, M. 1971. The dual labor market: theory and implications. In Problems in
Political Economy: an urban perspective, ed. D. Gordon, Lexington, Mass.: D.C.
Heath and Co.
Polachek, S. 1981. Occupational self-selection: a human capital approach to sex
differences in occupational structure. Review of Economics and Statistics 63(1),
February, 60-69.
Treiman, D. and Hartmann, H. (eds) 1981. Women, Work, and Wages: equal pay for
jobs of equal value. Washington, DC: National Academy Press.
Webb, B. 1919. The Wages of Men and Women: should they be equal? London: Fabian
Bookshop.
Weiss, Y. and Gronau, R. 1981. Expected interruptions in labor force participation and
sex-related differences in earning growth. Review of Economic Studies 48(4),
October, 607-19.
ДАРЫ
К.А. Грегори
Gifts
С.А. Gregory
Дар в соответствии с определением Краткого Оксфордского слова-
ря — это «добровольная передача собственности; отданная вещь, по-
дарок». С точки зрения большинства экономистов, особенно тех, кто
знаком только с индустриальной капиталистической экономикой, — это
все, что необходимо знать о дарении: совершенно ясно, что представ-
ляет собой обмен дарами, и ничто здесь не требует дополнительных
объяснений. Единственная проблема, которую создает перед экономи-
стами феномен обмена, — это проблема «ценности», возникающая в
контексте товарного обмена.
Но антропологи, исследуя феномен обмена, ставят вопросы о при-
роде обмена дарами. Эти вопросы составляют ядро всей дисциплины
и часто находятся в центре теоретических дискуссий. Антропологи об-
ращают внимание на то, что, хотя подарки кажутся добровольными,
бескорыстными и спонтанными, фактически они, наоборот, обязатель-
ны и продиктованы интересами. Антропологи стремятся понять то
обязательство, которое лежит в основе дарения: в чем состоит прин-
цип, согласно которому следует расплатиться за полученный подарок?
Что в отданной вещи заставляет получателя расплатиться за нее?
Очевидно, что одна и та же экономическая категория — обмен —
имеет совершенно различные значения для разных людей. Более того,
противоположные понимания процесса обмена породили различные
теоретические традиции. Причина этого лежит в тех исторических усло-
виях, в которых развивались антропология и экономическая теория как
академические дисциплины. История экономической мысли должна
восприниматься в контексте развития меркантилизма и промышлен-
ного капитализма в Европе, а развитие антропологической теории свя-
зано с империалистической экспансией европейского капитализма,
и особенно с колонизацией Африки и Тихоокеанского региона в кон-
це XIX в. Тот факт, что в центре внимания экономистов был товар-
ный обмен, в то время как антропологи в основном занимаются обме-
ном дарами, просто отражает коренные различия между организацией
европейской экономики и экономических систем стран Африки, Тихо-
океанского региона и им подобных. Данные, собранные антрополога-
ми в этих странах за последнее столетие, совершили революцию в на-
шем понимании племенной экономики и теории дарения; их теорети-
ческое отражение составляет важный вклад в теорию сравнительного
383
анализа экономических систем, а также в теорию развития и слабораз-
витое™. Антропологическая литература ведет нас далеко за пределы
поверхностного определения дара, почерпнутого из энциклопедиче-
ского словаря; возникают важные вопросы, казалось бы, о не связан-
ной с этим проблеме раковин, используемых в качестве денег; кроме
того, интересно, что в антропологии мы возвращаемся к первоначаль-
ным значениям слова «дар» (gift) — «плата за жену», «свадьба», кото-
рые можно найти в Оксфордском словаре этимологии английского
языка.
Антропологические аспекты дарения впервые начали исследовать-
ся в конце XIX в.; к окончанию Первой мировой войны уже было со-
брано большое количество информации. Наиболее впечатляющие от-
четы поступили от исследователей индейцев племени Квакиутль с се-
веро-западного побережья США и меланезийцев, живущих в районе
залива Милна (Папуа — Новая Гвинея). В племени Квакиутль суще-
ствует обрядовая система уничтожения большого количества ценного
имущества (в основном одеял) — она называется «потлач» (Boas, 1897).
В соответствии с этой системой престиж личности тесно связан с да-
рением, передачей: будущий «большой человек», или «вождь», вынуж-
ден отдать или уничтожить все, чем он владеет. Основные принципы
системы «потлач» — конкуренция и антагонизм, и люди соревнуются
друг с другом, пытаясь отдать больше чем другие, чтобы иметь боль-
ший престиж. Статус отдельных индивидуумов и целых кланов опре-
деляется в этой «войне собственности». В Папуа — Новой Гвинее,
«классическом» ареале конкурентного дарения, «война подарков» про-
исходит путем дарения пищи (Young, 1971), а также раковин различ-
ной формы и размеров (Leach and Leach, 1983), которые не разруша-
ются, а передаются другим людям теми, кто пытается повысить свое
положение в обществе. Такие «сделки» совершаются в соответствии с
целыми сводами правил, которые ученые еще только начинают пости-
гать. В большинстве сообществ Папуа — Новой Гвинеи нет четкой,
закрепленной структуры, члены общин не имеют закрепленного соци-
ального статуса, и эгалитарная идеология новогвинейских сообществ
подразумевает, что соревновательное дарение скорее связано с поддер-
жанием равенства, чем со стремлением к доминирующему положению.
Поддержание равенства, как указал Фордж (Forge, 1972), — это очень
тяжелая задача, требующая постоянных усилий и бдительности: совер-
шенного баланса достичь невозможно, поскольку процесс обмена да-
ров имеет временное измерение и в его ходе возникает неравенство
статусов. Может быть, наиболее сложная система обмена дарами — это
денежная система острова Росселя. Впервые она была описана Армст-
ронгом (Armstrong, 1924), а недавно была повторно изучена Липом
(Liep, 1983). На острове Росселя существует два типа первобытных де-
нег: ндап и ко. Один ндап представляет собой полированный кусок
раковины spondytlus толщиной несколько миллиметров, площадью от
2 до 20 см2 приблизительно треугольной формы. Один ко — это 10 ра-
кушек чама приблизительно одинакового размера и толщины с малень-
кими дырочками посередине, чтобы раковины можно было связать друг
384
с другом. Раковины каждого типа подразделяются на 40 и больше
иерархических подгрупп. Что необычно, эти подгруппы характеризу-
ются скорее не ценностью, а рангом: они соотносятся не кардиналь-
но, а ординально. Например, соотношение большой и маленькой ра-
ковин ндап скорее аналогично разнице между тузом и двойкой червей,
чем между долларом и центом.
Публикация Армстронгом в 1928 г. книги по этнографии острова
Росселя и классическое описание Малиновским (Malinowsky, 1922)
системы «куда» — обмена дарами между островами — вызвали взрыв
споров по поводу природы ракушечных денег, которые до сих пор не
утихли. Эти споры ведутся не из «антикварского» интереса к архаич-
ным денежным системам, а из-за того, что системы обмена дарами до
сих пор процветают несмотря на то, что они встроились в мировую ка-
питалистическую экономику (MacIntyre and Young, 1982; Gregory, 1980,
1982). Так, на острове Росселя предметом дарения являются не только
ндап и ко, но и раковины чама, используемые в процветающем меж-
островном процессе обмена дарами; спрос на последние так стреми-
тельно возрос, что остров Росселя превратился в основного рыночно-
го производителя и экспортера раковин чама (Liep, 1981, 1983).
Эти факты порождают важные вопросы о разнице между обменом
дарами и товарным обменом, а также теоретические и эмпирические
вопросы о природе их взаимодействия. Неоклассическая экономичес-
кая теория освещает этот вопрос с помощью универсалистской субъек-
тивистской концепции «блага» — категории, которая по определению
не может объяснить партикуляристскую и объективную природу даре-
ния и товарного обмена (Gregory, 1982). «Дар» в связи с этим стано-
вится «традиционным благом», и для его отделения от «современного
блага» используются весьма сомнительные психологические критерии.
Например, Айнциг утверждает, что «интеллектуальный уровень» пред-
ставителей племенных обществ «гораздо ниже, и их менталитет корен-
ным образом отличается от нашего» (Einzig, 1948, р. 16). Стент и Уэбб
(Stent and Webb, 1975, р. 524) доказывают, что «традиционные» потре-
бители в Папуа — Новой Гвинее достигают точки высшего «блажен-
ства» на своих кривых безразличия. Следующая трудность, которую
экономисты испытывают, сравнивая экономические системы, причем
не только экономисты неоклассического направления, связана с их
привычкой начинать изложение с анализа бартера на «ранних и гру-
бых стадиях развития общества». Бартерное хозяйство в этих теориях —
плод евроцентристского воображения, не имеющий ни малейшего сход-
ства с тем, что действительно представлял собой племенной хозяйствен-
ный уклад. Экономические антропологи уже более 50 лет доказывают
это положение, но без особого успеха (Malinowski, 1922, р. 60—61;
Polanyi, 1944, р. 44—45). Необходима эмпирически обоснованная ком-
паративистская экономическая теория. Основы такой теории были за-
ложены Марксом (Marx, 1867), но усилившееся влияние неокласси-
ческой теории помешало дальнейшему развитию компаративистики в
рамках экономической науки. Продвижение теории осуществлялось
извне — антропологами, социологами и историками экономики.
385
Выдающимся вкладом в литературу XX в. стала работа Мосса «Дар:
формы и функции обмена в архаических обществах», впервые опубли-
кованная на французском языке в 1925 г. под названием «Essai sur le
don, forme archaique de 1’echange» (Очерк о даре, архаической форме
обмена) в издававшемся Дюркгеймом журнале «L’Annee Sociologique».
Мосс (1872-1950) был племянником Дюркгейма и стал ведущей фигу-
рой во французской социологии после смерти дяди. Его очерк о дарах —
замечательное научное произведение. Автор не только проанализиро-
вал все существующие этнографические данные о дарении в Мелане-
зии, Полинезии, Северо-Восточной Америке и других регионах, но и
исследовал литературу Древнего Рима, Индии классического периода
и германских народов. Очерк завершается критикой западного капи-
талистического общества, основанной на моральных, политических,
экономических и этических выводах из проведенного анализа.
Ключ к пониманию дарения — в осознании того, что в племенных
экономиках вещи производятся неотчужденным трудом. Это создает
особую связь между производителем и продуктом, связь, которая раз-
рушается в капиталистическом обществе, основанном на отчужденном
наемном труде. Анализ Мосса фокусировался на «неразрывной связи»
между людьми и вещами в экономических системах, построенных на
дарении; он доказывал, что «отдать что-то — значит отдать часть само-
го себя» (Mauss, 1925, р. 10). Поэтому дары становятся олицетворени-
ем «духа» дарителя, и эта «сила» подаренной вещи вынуждает получа-
теля дара ответить на него. Этого нет в нашей системе собственности
и обмена, основанной на четком разграничении людей и вещей, т.е. от-
чуждении (Mauss, 1925, р. 56). Наемный работник в капиталистичес-
ком обществе делает «дары» без ответа (Mauss, р. 75). Таким образом,
капитализм, с точки зрения Мосса, — это система невзаимного обме-
на дарами, когда получатели даров не обязаны дарить что-то в ответ.
Такой анализ наемного труда имеет много общего с теорией Марк-
са. Однако Мосс сделал из него совершенно иные политические вы-
воды. Он выступал за капитализм всеобщего благосостояния, где госу-
дарство обеспечивало бы компенсацию рабочим за их дары.
Характерной чертой работы Мосса, так же, как и других ранних те-
орий дарения, был эволюционный подход, в рамках которого анали-
зировались этнографические данные. Племенные экономические укла-
ды, исследуемые антропологами, рассматривались как живые ископа-
емые европейской предыстории, откуда и применение терминов
«архаический», «примитивный». Кроме того, ранние теоретики были
заинтересованы только в сравнительном изучении экономических си-
стем. В той степени, в какой ученые занимались проблемой благосо-
стояния, они имели в виду благосостояние жителей Европы и не ин-
тересовались политикой, преследующей цель развития народов, живу-
щих в условиях племенных обществ.
Другой выдающийся теоретик в той же эволюционной традиции —
французский ученый Клод Леви-Стросс. Его теория дарения изложе-
на в работе «Элементарные структуры родства» (Levi-Strauss, 1949). Как
и указанная книга Мосса, это произведение содержит энциклопедичес-
386
кий обзор этнографической литературы. В центре внимания автора —
брак. В духе давней антропологической традиции он поддерживает
концепцию брака как обмена женщинами. Новым является утвержде-
ние о том, что женщины являются «высшим даром», а табу на инцест —
ключом к пониманию обмена дарами. Всеобщий запрет браков между
близкими родственниками, как доказывается в этой работе, лежит в
основе обязательства отдавать, обязательства получать, а также обяза-
тельства дарить что-либо в ответ.
Теория Леви-Стросса — аналитический синтез буквально тысяч эт-
нографических отчетов об аборигенах Австралии, Азии и Океании.
Согласно Леви-Строссу, первоначальной, или наиболее примитивной,
формой обмена дарами был «ограниченный» обмен, когда две полови-
ны населения обменивались сестрами для заключения брака; второй
формой стал «отложенный» обмен, когда за отданную женщину в сле-
дующем поколении возвращалась ее дочь; наиболее продвинутой фор-
мой стал «обобщенный» обмен, когда один клан отдает женщин дру-
гому, никого не получая взамен, а замкнутость системы обеспечивает-
ся круговым дарением. Параллельно переходу от одной формы к другой
развивались другие сферы обмена дарами, выступавшими в качестве
символических заменителей женщин. Они были нужны для поддержа-
ния брачных связей, стремительно расширяющихся в связи со сменой
ограниченного обмена обобщенным. Движение от брака к обмену есть
аспект противоположного движения от обмена к браку. Леви-Стросс
рассматривает непрерывно происходящий процесс перехода от войны
к обмену и от обмена к смешанным бракам как осуществление пере-
хода от враждебности к сотрудничеству и от страха к дружбе.
Теория Леви-Стросса вызвала много критических отзывов; один из
принципиальных оппонентов назвал ее «в большой степени заблужде-
нием» (Leach, 1970, р. 111). Однако, несмотря на возможные недостат-
ки, эта теория смогла установить важную связь между дарением и со-
циальной организацией родственных связей и брака. Иными словами,
это связь между обязанностью дарить и получать подарки и биологи-
ческой и социальной основой воспроизводства человечества.
В то же время, когда Леви-Стросс разрабатывал свою теорию даров,
историк экономики Карл Поланьи, автор классического произведения
«Великая трансформация» (Polanyi, 1944), подошел к проблеме с другой
стороны. Предметом его исследования было возникновение «саморегу-
лируемого рынка»; чтобы постигнуть те «необычайные предпосылки»,
которые лежали в его основе, Поланьи на основе этнографических и
исторических фактов развил сравнительную теорию экономических си-
стем.
Карл Поланьи справедливо заметил, что «парадигма занимающего-
ся бартером дикаря» Смита, принимаемая в качестве аксиомы многи-
ми учеными, препятствует правильному пониманию нерыночной эко-
номики. В племенной экономике, как пишет ученый, склонность к
обмену не проявляется: труда за плату в принципе не существует;
стремление к прибыли запрещено, а дарение объявлено добродетелью.
Чем же тогда гарантируются производство и распределение? Поланьи
387
посвятил ответу на этот вопрос всего десять страниц своей книги, но
глубина и проницательность его выводов оказали значительное воздей-
ствие на развитие антропологической мысли (см., например: Dalton and
Коске, 1983). Поланьи доказывал, что племенная экономика строится
на основе двух принципов: взаимности (reciprocity) и перераспределения.
Принцип взаимности применяется в основном в области семейных и
родственных отношений, и этот широкий принцип помогает обеспе-
чивать как производство, так и жизнеспособность семьи. Принцип пе-
рераспределения относится к процессу, в рамках которого основная
часть всего, что произведено в обществе, отправляется на хранение к
вождю. Эти продукты перераспределяются на общественных пиршест-
вах и плясках, когда жители развлекаются вместе с представителями
соседних районов.
Названные принципы могут применяться благодаря симметричной
и пространственно-централизованной организации племен. Племена,
пишет Поланьи, имеют симметричную структуру, а на этой двойствен-
ности социальной структуры базируется система взаимности (система
ограниченного обмена подарками Леви-Стросса также предполагает
двойственность социальной организации). Основу перераспределения
составляет институт территориальной централизации.
К этим двум принципам Поланьи добавляет третий — ведение до-
машнего хозяйства (householding), т.е. производство ради потребления,
основанное на самодостаточности хозяйства, и утверждает, что все
известные экономические системы до конца феодализма были постро-
ены по одному из трех принципов — взаимности, перераспределения
или ведения домашнего хозяйства — либо их различных комбинаций.
Они опирались соответственно на симметричные, централизованные
и самодостаточные структуры и использовали обычаи, законы, магию
и религию, чтобы побудить индивида подчиняться определенным пра-
вилам поведения.
Капитализм, с точки зрения Поланьи, предполагает полное разру-
шение этих принципов и установление свободного рынка земли, де-
нег и труда, действующих в соответствии с принципом прибыли. Как
и Маркс, он считает появление наемной рабочей силы как товара ре-
шающей характерной чертой капитализма. Рынок труда в Англии сфор-
мировался последним из всех рынков, и как Маркс, так и Поланьи
указывают на решающую роль огораживания в этом процессе, особен-
но в период промышленной революции. Однако Поланьи более точен
в историографии. Началом эры саморегулируемого рынка он считает
реформу закона о бедных 1834 г. (Poor Law Reform), положившую ко-
нец всем препятствиям на пути свободного функционирования рынка
рабочей силы.
Послевоенное развитие теории дарения осуществлялось на основе
фундамента, заложенного Моссом, Леви-Строссом и Поланьи. В част-
ности, наиболее заметен вклад Годелье (Godelier, 1966, 1973), Мейассу
(Meillasoux, I960, 1975) и Салинза (Sahlins, 1972), которые во многом
обязаны своим предшественникам, чьи идеи они пытаются развить в
свете компаративистской экономической теории Маркса. Эмпиричес-
388
кие исследования последнего времени (например, Strathem, 1971;
Young, 1971; Leach and Leach, 1983) предоставили и будут предостав-
лять в дальнейшем данные для новых, более глубоких выводов в тео-
рии дарения (Forge, 1972).
Важным послевоенным вкладом в теорию дарения стал анализ вли-
яния колонизации и капиталистического империализма на племенные
общества.
Ранние исследователи стремились объяснить разрушительное воз-
действие капитализма. Пауль Боханнан (Bohannan, 1959), американ-
ский антрополог, проводивший полевые исследования в Западной Аф-
рике, выдвинул теорию влияния денег на племенную экономику, ос-
нованную на идеях Поланьи. Товарный обмен, согласно теории
Поланьи, представляет собой «моноцентричную экономику» благода-
ря тому, что «деньги общего назначения» позволяют измерять цену всех
товаров по общей шкале. В племенном же обществе, наоборот, эконо-
мика «мультицентрична»: существует множество сфер обмена, каждая
со своими «деньгами для определенной цели», которые могут цирку-
лировать только внутри этой сферы. Так, в племени Тив в Западной
Африке существовало три сферы обмена. В первую сферу включались
местные продукты питания, орудия и сырье; во вторую — нерыночные
«престижные» товары, такие, как рабы, крупный рогатый скот, лоша-
ди, престижная ткань (тугуда) и медные жезлы; к третьей же сфере
относился «высший дар» — женщины. Боханнан считал, что многоце-
левые деньги общего назначения, введенные в обращение колониза-
торами, превратили три сферы в одну, тем самым разрушая их.
Теория Боханнана применялась и в других частях света при анали-
зе влияния колонизации, в частности в Папуа — Новой Гвинее (напри-
мер, Meggitt, 1971). Хотя исследования Боханнана явились серьезным
продвижением вперед в развитии компаративистики, сейчас призна-
ется, что его теория влияния колонизации неточно описывает то, что
произошло в Западной Африке (см.: Dorward, 1976); более того, она не
ставит проблему, которая действительно требует объяснения. Сегодня
уже понятно, что проблема не в том, «как была разрушена племенная
экономика, построенная на дарении», а скорее в том, «почему эта эко-
номика процветала под влиянием колонизации».
Для иллюстрации сказанного возьмем известную систему потлач.
Развитие консервной промышленности в этом регионе в 1882 г. при-
вело к стремительному росту дохода на душу населения в племени
Квакиутль, к возможности приобретать значительно больше одеял,
и, следовательно, стремительно возросло количество одеял, отдаваемых
на церемониях потлач. До начала развития консервирования наиболь-
ший потлач составлял 320 одеял, а в период между 1930 и 1949 гг. были
зарегистрированы обряды потлач, на которых было отдано 33 000 (!)
одеял (Codere, 1950, р. 94). Стремительный рост происходил, несмотря
на запрет этих церемоний в 1885 г. Однако система потлач не сохра-
нила свою первоначальную форму. Правовые и иные формы внешне-
го влияния привели к многочисленным изменениям внешней формы
389
обряда, но они не затронули его сути — выражения притязания на спе-
цифическое социальное положение (Drucker and Heizer, 1967, р. 47-52).
Приведем другой пример. Открытие одной из самых больших в мире
медных шахт в Бугенвилле, Папуа — Новая Гвинея, стимулировало рост
импорта раковин на остров. Раковины экспортировались племенем
Лангаланга с Соломоновых островов, что приблизительно в 1550 км от
Бугенвилля. Благодаря добыче меди доход жителей Бугенвилля значи-
тельно превысил возможности других островитян, и они смогли поку-
пать раковины Лангаланга по цене, недоступной остальным. В свою
очередь, племя Лангаланга переориентировало продажи своего товара
с соседних племен на бугенвилльский рынок. В Бугенвилле раковины
в основном используются племенем Сивай в качестве свадебных по-
дарков и в традиционном обмене подарками, включающими землю и
свиней; кроме того, эти раковины используются как украшения
(см.: Connell, 1977).
Такой симбиоз коммерциализации и обмена дарами наблюдается во
всей Папуа — Новой Гвинее. Известная система обмена подарками кула
до сих пор господствует в районе Бухты Милна, несмотря на более
100 лет колонизации (Leach and Leach, 1983). Бухта Милна сейчас пе-
реживает экономический застой — расцвет коммерческого развития
этого региона пришелся на эру золотодобычи в начале века. Сегодня,
по всей видимости, наиболее важным вывозимым товаром является
рабочая сила. Однако мигранты поддерживают тесный контакт со сво-
ими родными и часто посылают домой деньги, значительная часть ко-
торых используется в обрядах кула. Мигранты, ставшие высокопостав-
ленными государственными служащими, управляющими, политиками,
даже в городах свято чтут свои культурные традиции. В результате си-
стема обмена подарками кула перенеслась и в Порт Морсби, где уже
давно «мерседесы» и телефоны пришли на смену лошадям и первобыт-
ным средствам коммуникации.
Некоторые эмпирические данные противоречат тезису о том, что
обмен подарками процветает под влиянием колонизации. До освоения
колонизаторами Западная Африка и Индия входили в международную
экономическую систему, основанную на использовании раковин кау-
ри в качестве денег. Эти раковины поступали в Африку и Индию с
Мальдивских островов и использовались в первую очередь как сред-
ство обмена, а также в религиозных целях и как украшения (Heimann,
1980). Каури были важным и прибыльным товаром международной
торговли. Они в изобилии встречались на Мальдивах и поэтому поку-
пались за бесценок для экспорта в Европу и Индию. Европейские куп-
цы затем переправляли эти раковины в Западную Африку и там на них
покупали рабов.
Эта международная экономика, построенная на основе использо-
вания раковин в качестве денег и существовавшая несколько столетий,
начала разрушаться в середине XVIII в. Предложение раковин начало
стремительно расти, а цена на них — падать. Например, в 1865 г. в Лагос
было поставлено 1636 т раковин каури; к 1878 г. был достигнут пик
импорта, составивший 4472 т; а уже спустя десять лет импорт упал до
390
10 т. Цены на раковины каури (в фунтах стерлйнгов) с 1851 по 1879 г.
упали почти в 5 раз (Hopkins, 1966; Johnson, 1970). К началу XX в. ка-
ури уже не использовались; на их место пришли бумажные деньги,
введенные колониальным правительством.
Однако приведенное доказательство деструктивного влияния коло-
низации только на первый взгляд опровергает тезис «процветания об-
мена дарами». В действительности этот тезис, наоборот, подтвержда-
ется, а приведенные факты доказывают только то, что обмен, являясь
социальной категорией, изменяется под влиянием политических и ис-
торических факторов. То обстоятельство, что один и тот же предмет,
как, например, раковина, может использоваться в разных качествах:
в одном месте — как средство обмена дарами, в другом — как предмет
товарного обмена, а в третьем — как деньги, внесло немалую смуту в
литературу. Еще большую путаницу вносит то, что, например, сегодня
в Папуа — Новой Гвинее раковина может использоваться во всех трех
качествах в один и тот же день. Вопрос можно прояснить, выявив пер-
воначальную роль предмета обмена и поместив его в контекст конк-
ретной модели воспроизводства общества. С этой точки зрения уни-
кальность такого места, как Папуа — Новая Гвинея, становится оче-
видной. Папуа — Новая Гвинея в отличие от Западной Африки и
Индии не была составной частью системы международной торговли до
начала колонизации, вследствие чего коммерческие меновые сделки
были второстепенной, не слишком важной частью обмена в целом.
С другой стороны, доколониальные Индия и Западная Африка были
сильно коммерциализированы: земля и рабочая сила свободно покупа-
лись и продавались, а золото и серебро выступали в качестве средств
обмена. Колонизация Западной Африки превратила безгосударствен-
ную товарную экономику в товарную экономику, контролируемую го-
сударством. Это подразумевало отказ от негосударственных товарных
денег и введение государственных бумажных денег. Похожий процесс
происходил и в Индии, когда британское правительство установило же-
сткий административный контроль за множеством слабых, коррумпи-
рованных княжеств. Падение экономики, основанной на обращении
раковин каури, должно рассматриваться как часть перехода от негосу-
дарственных товарных денег к государственным бумажным деньгам.
Каури использовались в качестве «мелкой разменной монеты» для зо-
лота и серебра. Соотношение каури с золотом и серебром — копия со-
отношения пенсов с шиллингами и фунтами стерлингов. Однако если
соотношение каури с золотом зависело от условий импорта и могло
день ото дня меняться, то соотношение пенсов и фунтов устанавлива-
ется указом правительства и не подлежит изменению. Там, где сущест-
вует стабильное правительство и ценность денег остается неизменной,
очевидно, что купец или потребитель откажется от непредсказуемых
раковин в пользу бумажных денег.
Раковины использовались в Индии и Западной Африке прежде все-
го как средство товарообмена, и в этом контексте к ним вполне при-
меним термин «ракушечные деньги». Напротив, в Меланезии и везде,
кроме Индии и Западной Африки, где раковины использовались в си-
391
стеме обмена, они в доколониальный период не являлись «разменной
монетой». В первую очередь раковины там выступали как средство
обмена дарами, и поэтому здесь больше подходит термин «ракушечные
дары». Колонизация привела к расцвету обмена дарами потому, что
колониальное государство положило конец племенным войнам и по-
зволило перейти от борьбы посредством оружия к борьбе посредством
даров. В качестве таких даров могут выступать женщины, раковины,
пища, а сегодня даже деньги. Эти подарки не связаны с «доброволь-
ной передачей собственности», которую понимает под даром Краткий
Оксфордский словарь. Они являются результатом обязательств, выте-
кающих из стремления людей к богатству и высокому социальному
положению, в ситуации, когда туземные институты владения землей,
родства и брака инкорпорируются в международную экономическую и
политическую систему, которую племенные народы и крестьяне прак-
тически не могут контролировать.
БИБЛИОГРАФИЯ
Armstrong, W.E. 1924. Rossel Island money: a unique monetary system. Economic
Journal 34,423-9.
Armstrong, W.E. 1928. Rossel Island: An Ethnological Study. Cambridge: Cambridge
University Press.
Boas, F. 1897. Kwakiutl Ethnography. Ed. H. Codere, Chicago: University of Chicago
Press, 1966.
Bohannan, P. 1959. The impact of money on an African subsistence economy. Journal
of Economic History 19(4), 491-503.
Codere, H. 1950. Fighting with Property. New York: Augustin.
Connell, J. 1977. The Bougainville connection: changes in the economic context of
shell money production in Malaita. Oceania 48(2), December, 81—101.
Dalton, G. and Kocke, J. 1983. The work of the Polanyi group: past, present and future.
In S. Ortiz (ed.), 1983.
Dorward, D.C. 1976. Precolonial Tiv trade and cloth currency. The International
Journal of African Historical Studies 9(4), 576—91.
Drucker, P. and Heizer. R.F. 1967. To Make My Name Good: A Reexamination of
the Southern Kwakiutl Potlatch. Los Angeles: UCLA Press.
Einzig, P. 1948. Primitive Money. London: Eyre and Spottiswoode.
Forge, A. 1972. The Golden Fleece. Man 7(4), 527—40.
Godelier, M. 1966. Rationality and Irrationality in Economics. London: New Left
Books, 1972.
Godelier, M. 1973. Perspectives in Marxist Anthropology. Cambridge: Cambridge
University Press, 1977.
Gregory, C.A. 1980. Gifts to men and gifts to god: gift exchange and capital
accumulation in contemporary Papua. Man 15(4), 626-52.
Gregory, C.A. 1982. Gifts and Commodities. London: Academic Press.
Heimann, J. 1980. Small change and ballast: cowry trade and usage as an example of
Indian Ocean economic history. South Asia 3(1], 48-69.
392
Hopkins, A.G. 1966. The currency revolution in south-west Nigeria in the late
nineteenth century. Journal of the Historical Society of Nigeria 3(3), 471—83.
Johnson, M. 1970. The cowrie currencies of West Africa. Journal of African History
11(1) 17-49; 11(3), 331-53.
Leach, E.R. 1970. Levi-Strauss. London: Fontana.
Leach, J.W. and Leach, E. (eds) 1983. The Kula. Cambridge: Cambridge University
Press.
Levi-Strauss, C. 1949. The Elementary Structures of Kinship. Trans., London: Eyre
and Spottiswoode, 1969.
Liep, J. 1981. The workshop of the Kula: production and trade of shell necklaces in
the Louisade Archipelago. Folk og Kultur 23, 297-309.
Liep, J. 1983. Ranked exchange in Yela (Rossel Island). In The Kula, eds J.W. Leach
and E. Leach, Cambridge: Cambridge University Press.
MacIntyre, M. and Young, M. 1982. The persistence of traditional trade and
ceremonial exchange in the Massim. In Melanesia: Beyond Diversity, ed. R.J. May
and Hank Nelson, Canberra: Australian National University.
Malinowski, B. 1922. Argonauts of the Western Pacific. New York: E.P. Button, 1961.
Marx, K. 1867. Capital. Vol. 1: A Critical Analysis of Capitalist Production. Moscow;
Progress Publishers, n.d; New York: International Publishers, 1967.
Mauss, M. 1925. The Gift. London: Routledge and Kegan Paul, 1974.
Meggitt, M.J. 1971. From tribesmen to peasants: the case of the Mae-Enga of New
Guinea. In Anthropology in Oceania, ed. L.R. Hiatt and C.J. Jayawardena,
Sydney; Angus and Robertson.
Meillassoux, C. 1960. Essai d’interpretation du phenomene economique dans les societes
traditionelles d’auto-subsistance. Cahiers d’Etudes Africaines 4, 38-67.
Meillassoux, C. 1975. Maidens, Meal and Money. Cambridge: Cambridge University
Press, 1981.
Ortiz, S. (ed.) 1983. Economic Anthropology. Topics and Theories. New York:
University Press of America.
Polanyi, K. 1944. The Great Transformation. New York: Rinehart.
Sahlins, M. 1972. Stone Age Economics. Chicago: Aldine.
Stent, W.R. and Webb, L.R. 1975. Subsistence, affluence and market economy in
Papua New Guinea. Economic Record 51, 522—38.
Strathem, A.J. 1971. The Rope of Moka. Cambridge: Cambridge University Press.
Young, M.W. 1971. Fighting with Food: Leadership, Values and Social Control in a
Massim Society. Cambridge: Cambridge University Press.
ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
Марчелло де Чекко
Gold Standard
Marcello De Cecco
На протяжении почти трех тысяч лет в качестве денег использова-
лись отчеканенные весовые количества металлов, и практически на
протяжении всего этого периода излюбленными металлами для изго-
товления монет были золото, серебро и медь. Однако при этом редко
использовались деньги, стоимость которых определялась бы рыночной
стоимостью воплощенного в монетах металла.
До осуществления металлистических (metallist) реформ необходи-
мые для чеканки монет металлы доставлялись на Монетный двор
монархами или гражданами. Исключительное право монарха в де-
нежной сфере заключалось в фиксации цены металла для Монетного
двора, т.е. определении того, какое число монет определенного дос-
тоинства должно быть отчеканено из данного весового количества ме-
талла. Цена металла для Монетного двора устанавливалась в расчет-
ных денежных единицах и могла отклоняться (и зачастую отклоня-
лась) от рыночной цены металла. Когда монарх находил необходимым
девальвировать деньги, он мог изменить паритет между монетами и
«идеальными» деньгами — в роли таких «идеальных» денег чаще все-
го фигурировали деньги, находившиеся в обращении в прошлом.
Такая процедура делала необязательной полную перечеканку денег.
Возможность перечеканки также существовала, однако она рассмат-
ривалась в качестве более радикального средства, в то время как из-
менение относительной стоимости монет в единицах «идеальных»
денег было более гибким инструментом, к которому в случае необхо-
димости можно было прибегать хоть каждый день. Случаи, когда мо-
нарх по закону отказывался от своего исключительного права опре-
делять номинальную стоимость денег, были очень редкими. Для мно-
гих исследователей денежной проблематики именно это
исключительное право монарха конституировало превращение отче-
каненных кусочков металла в деньги. Теодор Моммзен (Mommsen,
1865, vol. 3, р. 157) посвятил незабываемые строки решению импера-
тора Константина, правившего в IV в., прибегнуть к неограниченной
чеканке золотых монет, стоимость которых определялась на основа-
нии рыночной цены воплощенного в них весового количества метал-
ла. Для Моммзена это решение знаменовало низшую точку падения
суверенитета римской денежной системы. Римские монеты всегда
принимались по их номинальной стоимости независимо от их веса.
394
Действительно, это выступало в качестве решающего свидетельства
доверия к Римскому государству.
После распада Римской империи ни в одном из государств-«наслед-
ников» на протяжении последующих столетий степень суверенитета
денежной системы даже отдаленно не приближалась к римскому образ-
цу. Множественность государств-«наследников» обусловила множест-
венность валют и широкие возможности валютной спекуляции и ар-
битража. Граждане научились защищать свои интересы в тех случаях,
когда монархи злоупотребляли своими правами в денежной сфере.
Обычно наблюдалась отрицательная зависимость между сеньоражем и
степенью коммерческой открытости государств. Чем меньше торговых
контактов имели граждане страны с иностранцами, тем существеннее
могло быть расхождение между легальной и реальной стоимостью мо-
нет. Торговые нации очень скоро обнаружили, что стоимость их валют
должна находиться в соответствии с металлическим содержанием де-
нег. С появлением абсолютистских государств исключительные права
монархов в денежной сфере вновь приобрели чрезмерный характер.
Несмотря на распространение меркантилизма, отношение объемов
внутренней и внешней торговли возрастало, а использование денеж-
ной политики в фискальных целях находило все большее распростра-
нение. Очевидно, что исключительные права монарха в денежной сфе-
ре, если ими злоупотребляли, делали жизнь подданных крайне труд-
ной, поскольку единственным способом защиты для них было
повышение цен (если такая практика не рассматривалась в качестве
незаконной). Металлистические реформы отражали изменение балан-
са сил между подданными и государством в пользу первых. Ядром этих
реформ был реальный выпуск «идеальных» денег, т.е. полновесных
монет фиксированного веса и установленной пробы; такие монеты
стали «стандартом» национальной денежной системы. В результате этих
реформ исключительные права монарха в денежной сфере были усе-
чены: он остался лишь «хранителем мер и весов». С точки зрения на-
мерений сторонников реформ, в этом заключался способ установления
конституционных рамок деятельности монарха, с тем чтобы он был
вынужден открыто прибегать к использованию своих фискальных пол-
номочий, конституционализация которых произошла задолго до это-
го.
Золотой стандарт был лишь одним из возможных металлических
стандартов. Он был принят в Англии, в то время как Франция пред-
почла выбрать серебряный стандарт. На протяжении последующих сто-
летий в центре дискуссий оказалась проблема выбора металлов для
металлического стандарта; в ходе этих дискуссий экономисты, государ-
ственные деятели и интеллектуалы выступали «за» или «против» золо-
та или серебра, «за» или «против» биметаллизма или монометаллизма.
Однако фундаментальный выбор в пользу собственно металлического
стандарта, при котором единственным видом денег являлись металли-
ческие деньги, чья стоимость определяется рыночной ценой воплощен-
ного в них металла, на протяжении длительного времени не являлся
предметом обсуждения; так продолжалось до тех пор, пока развитие
395
банковской системы и интеграция мировых товарных и финансовых
рынков не дали повод поставить под сомнение существующие инсти-
туты.
Великие металлистические реформы явились результатом интеллек-
туального движения, которое впоследствии получило наименование
«политической экономии». Сейчас этот термин используется для обо-
значения академической дисциплины, изучаемой в университетах, в то
время как со второй половины XVII в. до первых десятилетий XIX в.
политическая экономия была интеллектуальным, почти политическим
движением. Оно состояло из людей, которые, проживая в различных
странах, разделяли представление о том, что человеческое общество
организовано в соответствии с естественными принципами, исследо-
вание которых можно вести с использованием тех же методов, что и
исследование природы. В результате таких научных исследований мо-
гут быть открыты законы, управляющие обществом; в соответствие с
этими законам и должна быть приведена деятельность государства.
В частности, могут быть познаны законы, управляющие производством
и распределением благ, а также принципы определения ценности благ
и услуг. Политэкономы вскоре столкнулись с существенным препят-
ствием в виде особого института человеческого общества, а именно
денег, которые непрерывно влияли на результаты оценки благ. Как
указывалось выше, была предпринята попытка предложить такое ре-
шение, которое позволило бы обществу пользоваться выгодами от су-
ществования денег, в то же время избегая проблем, связанных с их
созданием и использованием. Это решение состояло в том, чтобы при-
дать деньгам товарный характер, т.е. установить такой денежный ре-
жим, стандартом для которого была бы металлическая монета фикси-
рованных веса и пробы. Инициаторы такого решения надеялись, что
использование товарных денег освободит экономический мир от не-
определенности, связанной с деятельностью субъектов, наделенных ис-
ключительными правами в денежной сфере или узурпировавших эти
права. Металлические деньги подчинялись бы тем же самым законам
ценности, что и остальные товары; спрос на них и их предложение
определялись бы исключительно потребностями торговли.
Таким образом, выступая за введение «чистого» металлического
стандарта, политэкономы одним выстрелом убивали двух зайцев. Они
обеспечивали ликвидацию чрезмерных привилегий государства, ис-
пользовавшего свои исключительные права в денежной сфере для на-
логообложения подданных, не спрашивая их согласия, а также реко-
мендовали использование денег, которые не вступали бы в противоре-
чие с действием экономических законов, поскольку сами подчинялись
бы этим законам. С введением «чистого» металлического стандарта
деньги приобрели бы подлинно нейтральный характер.
Однако, если намерения политэкономов и сыграли важную роль в
реальном введении металлического стандарта, это произошло скорее
потому, что как правящие круги, так и общественное мнение склоня-
лись к ликвидации предшествующей системы, основанной на неопре-
деленности и исключительных правах монарха в денежной сфере, а не
396
потому, что существовала широко осознаваемая потребность поставить
экономическую политику на более адекватную теоретическую основу.
В этом отношении опыт Великобритании существенно отличался
от опыта Франции. В Англии металлический стандарт установился
вскоре после великой перечеканки монеты в конце XVII в. В начале
следующего столетия директор Монетного двора сэр Исаак Ньютон
установил классическое золотое содержание фунта стерлингов, состав-
лявшее 123,274 грана золота пробы 22/24 карат (что соответствует
7,988 г золота 916-й пробы). Свободная чеканка серебряной монеты ос-
тавалась возможной, однако вследствие ограниченного выпуска сереб-
ряных монет они были низведены до роли вспомогательной валюты:
отчеканенные по старому образцу, без насечки по ребру, они бывали
сильно испорчены в результате многократной обрезки. Таким образом,
в начале XVIII в. Англия перешла к золотому стандарту.
Во Франции металлистические реформы были осуществлены толь-
ко после революции. После ранних попыток ввести золотой стандарт
и гигантского оттока золота в эпоху террора, на XI году республики
была провозглашена свободная чеканка золотой и серебряной монеты.
Металлическое содержание одного франка устанавливалось на уровне
5 г серебра 900-й пробы. Был установлен фиксированный курс обмена
золотой и серебряной монеты, хотя французские законодатели в отче-
те Комитета по денежным вопросам в 1790 г. объявили, что фиксация
паритета между золотой и серебряной монетой не представляется воз-
можной, в подтверждение этого тезиса цитируя Ньютона и Локка. Та-
ким образом, во Франции был установлен биметаллизм, который про-
существовал почти так же долго, как и золотой стандарт в Англии; од-
нако при этом с самого начала было признано, что обменный курс
между золотом и серебром в случае необходимости может претерпевать
изменения, даже если для этого в каждом случае требуется принятие
особого закона. Таким образом, во Франции законодатели создали си-
стему, которую сегодня мы назвали бы системой фиксированного, но
корректируемого паритета между золотом и серебром.
Литература тех лет уделяла большое внимание сравнительным дос-
тоинствам монометаллизма и биметаллизма. Однако в фокусе литера-
туры, изданной после окончания Первой мировой войны, находился
почти исключительно золотой монометаллизм. С точки зрения денеж-
ной истории этот факт вызывает сожаление, поскольку то, что обычно
именуется Международным золотым стандартом, на деле являлось
сложной комбинацией монометаллизма и биметаллизма, в рамках ко-
торой роль монометаллизма в функционировании всей системы была
ничуть не больше, чем роль биметаллизма. В дальнейшем мы увидим,
что для беспрепятственного функционирования золотого стандарта
было необходимо наличие «биметаллической периферии», окружающей
«монометаллический центр».
Сначала заострим внимание на британском золотом стандарте. Пос-
ле почти столетия его функционирования в 1797 г. от него вынуждены
были временно отказаться под влиянием трудностей управления денеж-
ной системой, обусловленных наполеоновскими войнами. На протя-
397
жении более чем 25-летнего периода, когда платежи золотом были при-
остановлены, в кругах политэкономов, политиков, банкиров и про-
мышленников велись очень оживленные дискуссии о том, как прекра-
щение платежей золотом влияет на внутренние и внешние экономи-
ческие связи. С этими дискуссиями было связано написание некоторых
наиболее ярких страниц в истории политической экономии.
Платежи золотом были прекращены в феврале 1797 г. в соответствии
с Чрезвычайным законом (Order in Council). Согласно тому же закону
они должны были возобновиться с сохранением прежнего паритета
через шесть месяцев после подписания окончательного мирного дого-
вора. В период открытых военных действий валюта была обесценена,
долг правительства достиг огромной суммы (при этом основная часть
правительственных обязательств находилась в руках финансистов
Сити), а спрос военного времени на все разновидности товаров благо-
приятствовал появлению группы нуворишей, сколотивших огромные
состояния. По наступлении мира выяснилось, что возвращение к преж-
нему паритету приведет к углублению послевоенного спада, который
уже наметился после Ватерлоо. Такая перспектива привела к объеди-
нению прежних заклятых врагов — землевладельцев и промышленни-
ков — против кредиторов, владельцев обязательств государственного
долга, а также в целом против людей с фиксированными доходами.
Поскольку размер государственного долга был огромен, для правитель-
ства было бы естественным занять сторону должников. Однако в во-
енные годы была создана система, при которой правительство поддер-
живало на высоком уровне цены облигаций государственного долга, тем
самым обеспечивая благоприятное для новых выпусков облигаций со-
стояние финансового рынка. Данная система предусматривала выкуп
облигаций долгосрочного долга и замену их текущими долговыми обя-
зательствами. Пэскоу Гренфелл и Давид Рикардо с самого начала вы-
ступали с критикой политики правительства в сфере управления дол-
гом. В 1816 и 1817 гг. намеченные правительством результаты были
достигнуты, однако в 1818 г. этого сделать не удалось, поскольку пра-
вительство было вынуждено выкупать свои долговые обязательства по
высоким ценам, а выпускать новые — по низким. Тем временем соот-
ношение суммы долгосрочных долговых обязательств к сумме текущих
долговых обязательств сократилось, пресекая возможность сокращения
общей суммы долга.
Возобновление платежей золотом было столь же политически обу-
словленной мерой, как и их прекращение. Находившиеся в оппозиции
виги выступали за возобновление платежей золотом, называя прави-
тельство комитетом при Банке Англии. И действительно, Банк Англии
прилагал все усилия, чтобы оправдать такое обвинение. Он пытался
шантажировать правительство, угрожая прекращением поддержки пра-
вительственной политики управления долгом в случае возобновления
платежей золотом. Он также угрожал, что не будет удерживать от рез-
ких действий Майера Натана Ротшильда, который был основным дер-
жателем государственных долговых обязательств. Однако в Кабинете
министров были и сторонники возобновления платежей золотом; к ним
398
относился, к примеру, Хаскиссон, который вместе с Парнеллом, Ген-
ри Торнтоном и Фрэнсисом Хорнером подготовил в 1810 г. проект От-
чета о золотом обращении (Bullion Report) и все время находился в оп-
позиции к интересам Сити. В меморандуме, представленном в 1816 г.,
он выступал за скорейшее восстановление золотого обращения; позд-
нее, в начале 1819 г., он представил меморандум, в котором содержа-
лось предложение восстановить золотое обращение одновременно с
проведением фискальной дефляции. Чтобы рассмотреть возможности
восстановления золотого обращения, правительство создало Секретный
комитет, в котором быстро возобладало мнение в пользу положитель-
ного решения этого вопроса. Во время обсуждения отчета Секретного
комитета в парламенте пламенные выступления Рикардо в поддержку
восстановления золотого обращения оказали существенное влияние на
позицию парламентариев. В мае 1819 г. платежи золотом были возоб-
новлены по старому паритету. Рикардо назвал это решение «триумфом
науки и истины над предрассудком и заблуждением». Несомненно, это
было триумфом нового поколения банкиров Сити над старой финан-
совой группой, представители которой в беззаботные дни инфляцион-
ного финансирования сколотили себе состояния за счет кредитования
нуждающегося в средствах правительства по процентным ставкам, ко-
торые они же и повышали путем манипулирования денежным рынком.
После восстановления золотого обращения и возвращения к преж-
нему паритету все британские деловые круги испытали шок. Золотой
стандарт лишился всех своих сторонников среди промышленников и
финансистов. Банк Англии всегда выступал против его восстановле-
ния; тем более угрожающе звучали с его стороны обвинения в том, что
правительство имело наглость разорвать сложившийся в военное вре-
мя плодотворный союз с Банком, — союз, державшийся, как показал
опыт, на политике «дешевых денег». Напротив, землевладельцы ока-
зались вполне довольны. Мероприятие, которое привело к частично-
му обесценению их земельных активов, в то же самое время повысило
реальную стоимость получаемой ими ренты. Кроме того, восстановле-
ние золотого стандарта означало также и восстановление старых цен-
ностей в противовес произошедшему в период отказа от золотого стан-
дарта развитию промышленности с присущими ей социальными язва-
ми. Если золотой стандарт оказался невыгоден для промышленности,
процветавшей в период бумажного обращения, сравнительная мощь
Старого Порядка, олицетворяемого сельским хозяйством, смогла вновь
возрасти.
Сторонники золотого обращения, выступавшие за возвращение к
прежнему паритету, полагали, что дефляция очистит общество от наи-
более одиозных спекулянтов, от нерадивых промышленников и в бо-
лее общем смысле — от выскочек, обогатившихся на политике «деше-
вых денег». В то же время они считали, что золотой стандарт может
привести к превращению Британии — в качестве свидетельства дан-
ной позиции мы имеем слова Хаскиссона — в главный мировой ры-
нок драгоценных металлов. Лондон должен был стать «расчетной па-
латой, обслуживающей денежные операции всего мира». Таким обра-
399
зом, цель состояла в обеспечении интересов Нового Сити, в обретении
страной статуса мирового «финансового центра и банкира», а вовсе не
«мастерской мира».
Наконец, восстановление золотого обращения рассматривалось в
качестве инструмента обеспечения социальной справедливости. Де-
фляция возвращает кредиторам, ссужавшим деньги своей стране в во-
енный период, полную стоимость предоставленных ими средств. В гла-
зах политиков автоматически действующий золотой стандарт выглядел
как средство, освобождающее их от трудных обязанностей по управ-
лению экономикой. Он должен был привести к возобновлению ими
обычной политической деятельности, ознаменовав окончательный пе-
реход от войны к миру.
Денежная реформа во Франции имела совершенно иной характер.
Она была непосредственно направлена против Старого Режима, кото-
рый, однако, понимался как чисто фискальная система, а не как по-
рочный союз политиков и финансистов. Она привела к установлению
биметаллической системы, которой была суждена долгая жизнь; эта си-
стема обеспечивала соблюдение интересов тех, чьи доходы фиксиро-
вались в серебре, — в частности, интересы мелких торговцев и лиц,
живущих на заработную плату. Таким образом, французская реформа
(в отличие от восстановления золотого обращения в Англии) не явля-
лась актом четко определенного общественного выбора. Она привела
к установлению более «нейтральной» системы, учитывающей нужды
как третьего, так и четвертого сословий. Революционные события не-
давнего прошлого требовали учитывать возможность возникновения
новых общественных беспорядков в случае проведения дефляционной
денежной политики. Достаточно курьезно, что страна, находившаяся
на грани поражения, придерживалась денежной политики, которая
была намного менее дефляционной, чем денежная политика страны-
победителя. В обеих странах были оформлены конституционные пра-
вила денежного обращения, однако союз Нового Сити и землевладель-
цев сделал Британию лидером по степени радикализма денежной по-
литики. Можно сказать, что ожидания британских сторонников
золотого стандарта не оправдались. Дефляция привела к росту безра-
ботицы и общественным беспорядкам. Она также вынудила британских
промышленников искать рынки сбыта за рубежом, поскольку спрос на
внутреннем рынке сократился. Выгоды, которые ожидали получить
представители Нового Сити, действительно были ими получены, но
лишь несколько десятилетий спустя. Золотой стандарт обусловил в
Британии экономический рост, стимулированный экспортом, и для
достижения статуса мирового «финансового центра и банкира» ей при-
шлось стать сначала «мастерской мира». Таким образом, механизмы,
становлению которых способствовали сторонники золотого обращения,
функционировали прямо противоположным образом. Однако было бы
неправильно утверждать, что все сторонники золотого обращения раз-
деляли ожидания Хаскиссона. Давид Рикардо, к примеру, считал, что
восстановление золотого стандарта приведет к промышленному росту.
При этом он полагал, что промышленный рост обеспечит занятость
400
рабочей силы, численность которой в соответствии с законом народо-
населения (а в его истинности Рикардо не сомневался) должна непре-
рывно возрастать.
Предполагалось, что золотой стандарт ограничит власть Банка Ан-
глии, которая за годы бумажно-денежного обращения столь возросла,
что стала представлять опасность для подлинно конституционных вла-
стных институтов, — таких, как парламент. Однако на деле восстанов-
ление золотого стандарта привело к дальнейшему усилению власти
Банка Англии. Роль Лондона как финансового центра быстро возрас-
тала по мере того, как Британия становилась мастерской мира, а фунт
стерлингов все шире использовался в качестве международной валю-
ты. Таким образом, Банк Англии стал стержнем системы международ-
ных платежей, основанной на промышленной и финансовой гегемо-
нии Британии. Влияние Банка Англии как коммерческого банка уси-
ливалось его монопольной позицией как акционерного банка. Точно
так же, как в эпоху бумажно-денежного обращения, Банк Англии про-
цветал в роли главного источника финансовых средств правительства,
в эпоху золотого стандарта он процветал — уже в роли коммерческого
банка — в результате установления промышленного и торгового лидер-
ства Британии.
Гегемония Банка Англии в международной сфере основывалась на
его гегемонии в самой Британии. Под эгидой монополии Банка Анг-
лии возникла централизованная резервная система, которая на протя-
жении долгого времени оставалась уникальной особенностью Брита-
нии. Эта система опиралась на низкий уровень резервов и была очень
эффективной; она позволяла минимизировать массу денежной налич-
ности, играющей роль «смазки» механизма внутренних платежей. Од-
нако она была и очень нестабильной, поскольку поддержание низкого
уровня резервов требовало отсутствия сколь-либо серьезных препят-
ствий на пути внутреннего и международного движения наличных де-
нег и капиталов. Тот факт, что данная система функционировала в
течение столь долгого времени — до Первой мировой войны, — объяс-
няется серией удачно складывающихся обстоятельств. Ниже мы рас-
смотрим их подробнее.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что в условиях золотого стандарта
британская экономика претерпевала очень существенные циклические
колебания. Столетие, последовавшее за восстановлением золотого об-
ращения, было отмечено торговыми и финансовыми кризисами, воз-
никавшими с промежутком примерно в десять лет (хотя в конце на-
званного периода промежуток между кризисами увеличился). Регуляр-
ность кризисов обусловила появление множества монокаузальных
теоретических объяснений, в которых золотому стандарту часто отво-
дилась роль одной из главных причин кризисов. Его недостаток усмат-
ривался в чрезмерной жесткости денежного режима, препятствующей
плавному росту экономики. Критики золотого стандарта все время ста-
вили в пример денежные системы Франции и Германии, которые, как
предполагалось, были более гибкими и позволяли осуществлять более
эффективное управление экономикой.
407
Однако, несмотря на незначительную величину централизованных
резервов и периодические финансовые кризисы, Британия никогда не
отказывалась от золотого стандарта под давлением кризисных обстоя-
тельств. Одна из основных причин, по которым она не испытывала
необходимости в отмене золотого стандарта, заключалась, как мы уже
говорили, в особенностях функционирования международной финан-
совой системы, представляющей собой комбинацию монометаллизма
и биметаллизма. С древних времен для чеканки монеты в странах Даль-
него Востока использовалось преимущественно серебро. И почти на
всем протяжении истории сальдо торгового баланса европейских стран
со странами Дальнего Востока было отрицательным. Структурный дис-
баланс торговли с Дальним Востоком означал постоянный отток сереб-
ра из Европы. Примерно в середине XIX в. эта структурная тенденция
в сочетании с открытием крупных золотых месторождений обуслови-
ла снижение цен на золото. Однако в последние три десятилетия XIX в.
изменилось направление потоков серебра, что было связано с тем,
что наиболее развитые страны стали лишать серебро статуса денеж-
ного металла. Соответственно, паритет между золотом и серебром
повысился.
На протяжении всего XIX в. Лондон сохранял квазимонополию на
сделки с золотом и серебром. Кроме того, он непрерывно поддержи-
вал функционирование свободного рынка золота. Очевидно, что это
невозможно было бы сделать в том случае, если бы сначала Франция,
а затем Индия не выступили в роли «спасательного круга» для подоб-
ной системы.
Англо-французские финансовые отношения являются одним из
наиболее впечатляющих и наименее исследованных аспектов между-
народной платежной системы XIX в. Однако, насколько мы знаем,
Британия искусно использовала более высокий уровень ликвидности,
который был характерен для французской денежной системы на про-
тяжении всего XIX в. За возникновением давления на резервы Банка
Англии должно было следовать повышение процентной ставки, одна-
ко в таких случаях ожидалось, что основной приток золота будет обес-
печен за счет Парижа. Почему так происходило? Прежде всего пото-
му, что этого требовали обстоятельства: богатство французской эконо-
мики и неразвитость французской банковской системы обусловливали
необходимость использования при осуществлении крупных сделок зо-
лотых монет (тогда как в Британии обычно использовались чеки). Од-
нако мы не должны забывать и о той роли, которую играл банковский
дом Ротшильдов в поддержании связи между английским и француз-
ским денежными рынками. Архивные документы свидетельствуют, что
в годы большинства кризисов резервы Банка Англии пополнялись за
счет золота, доставляемого Ротшильдами из Франции. Банковский дом
Ротшильдов являлся посредником между «монометаллической» и «би-
металлической» компонентами международной денежной системы. Он
был высококлассным арбитражным агентом, обладающим огромными
резервами и престижем, необходимыми для успешного выполнения той
роли, которую еще предстоит детально исследовать; однако ее значе-
402
ние очевидно и при нынешнем состоянии знаний. Ротшильды были
«протекторами» процентной ставки Банка Англии. Немаловажно, что
один из Ротшильдов был членом Совета директоров Банка Англии,
а представитель французской ветви дома Ротшильдов занимал анало-
гичный пост в Совете директоров Банка Франции.
Однако в конце XIX в. резкое падение цены серебра, обусловлен-
ное отходом от серебряного стандарта во всех развитых странах (и в
свою очередь ускорившее этот отход), привело к падению роли фран-
цузской денежной системы как стабилизатора золотого стандарта.
Франция сама была вынуждена прекратить чеканку серебряной моне-
ты, чтобы избежать массового притока металла, который никто более
уже не был склонен признавать в качестве денежного. В последующий
период, который обычно именуется «золотым веком золотого стандар-
та», продолжение прежней политики Банка Англии обеспечивалось за
счет двух других амортизаторов возникающих шоков — а именно за счет
индийской денежной системы, по-прежнему основанной на серебря-
ном стандарте, и производства золота в Южной Африке. Британия со-
хранила в Индии серебряный стандарт даже тогда, когда серебро
стало быстро обесцениваться по отношению к золоту. Такой шаг об-
легчил экспорт сырья и другой продукции первичного сектора, поэто-
му его следует рассматривать в качестве одной из главных причин зна-
чительного положительного сальдо внешней торговли Индии в конце
предвоенного периода. Именно в управлении этим положительным
сальдо в интересах поддержания стабильности золотого стандарта бри-
танская финансовая элита добилась наиболее впечатляющих успехов.
Средства, обеспечиваемые положительным сальдо внешней торговли
Индии, инвестировались в Лондоне в облигации государственного дол-
га или в банковские депозиты. С помощью системы консолей, создан-
ной для осуществления финансовых трансфертов между Индией и
метрополией, удавалось удерживать стабильный курс рупии. Денежная
система в целом, именуемая «золотовалютным стандартом», превозно-
силась в качестве образца совершенства и эффективности Дж.М. Кейн-
сом в книге «Индийская валюта и финансы» (Keynes, 1913), впервые
принесшей ему известность. Действительно, в том, что касается функ-
ционирования золотого стандарта, молодой Кейнс был прав. Способ-
ствовала ли такая система экономическому развитию Индии — совер-
шенно иной вопрос, которому редко уделяют внимание исследователи
экономической истории Индии.
Производство золота в Южной Африке также являлось фактором
поддержания стабильности золотого стандарта. В Лондоне осуществ-
лялись продажи всего золота, добытого в Южной Африке; в Лондоне
же инвестировались — по крайней мере, на краткосрочный период —
доходы от этих продаж. Легко представить себе, какое большое значе-
ние придавали контролю над столь огромным потоком финансовых
средств британские институты денежно-кредитной политики. Эта роль
стала очевидной после Первой мировой войны, когда была предпри-
нята попытка вновь вернуться к золотому стандарту. Следуя совету про-
фессора Кеммерера, Южная Африка установила золотой стандарт и от-
403
казалась от фиксации курса своей валюты к фунту стерлингов. Тем са-
мым были разорваны связи с Лондоном к великому неудовольствию
Монтегю Нормана*, который оказался свидетелем внезапного падения
одной из главных опор британской валюты.
Если Франция, Индия и Южная Африка способствовали стабиль-
ности золотого стандарта, то Соединенные Штаты на протяжении сто-
летия доминирования золотого стандарта представляли собой одну из
главных угроз его беспрепятственному функционированию. После того
как на протяжении первых десятилетий XIX в. потерпели поражение
политические и экономические силы, выступавшие за упорядоченное
развитие финансовой системы США, рост американской экономики
приобрел спазматический характер, который сохранялся вплоть до Вто-
рой мировой войны. Центральный банк Соединенных Штатов, создан-
ный Александром Гамильтоном по образцу Банка Англии, был созна-
тельно лишен всех полномочий. Банки возникали повсюду в соответ-
ствии с моделью «диких финансов», которая, хотя и способствовала
феноменальному росту американской экономики, придала ему четко
выраженный циклический характер. На протяжении всей эпохи золо-
того стандарта Банк Англии должен был играть трудную роль креди-
тора последней инстанции по отношению к американской финансо-
вой системе. Рост американского сельскохозяйственного экспорта в
сочетании с развитием местной промышленности и особенностями
банковской системы США, сочетавшей в себе черты развития и отста-
лости одновременно, породил знаменитую сезонную модель финансо-
вых затруднений, получившую название «осенней утечки золота». Она
происходила каждый год, когда выручка от реализации урожая на внеш-
них рынках исчезала в недрах абсолютно децентрализованной амери-
канской банковской системы и, по большей части, оседала в карманах
фермеров. Утечка золота ощущалась сначала в Нью-Йорке — основ-
ном финансовом центре США. Процентные ставки резко возрастали,
поскольку в Нью-Йорке отсутствовали сколь-либо значительные цен-
трализованные банковские резервы, а государственное казначейство,
обладавшее очень большими золотыми резервами, плохо разбиралось
в возможностях их использования для достижения стабилизационных
целей. Рост процентных ставок в Нью-Йорке неизбежно должен был
отразиться на состоянии единственного свободного рынка золота, ко-
торый функционировал в Лондоне. Как следствие наблюдался переток
золота из Лондона в Нью-Йорк, после чего оно «исчезало» на несколько
месяцев — до тех пор, пока фермеры не израсходуют выручку от про-
дажи урожая, а местные банки не переведут средства обратно в Нью-
Йорк.
Помимо этой сезонной утечки золота (против которой Банк Анг-
лии так и не смог найти действенного средства) имели место и другие
утечки, связанные с периодическими паниками, которым была подвер-
жена специфическая банковская система США. После того как наи-
* Британский финансист, занимал пост управляющего Банком Англии в
1920-1944 гг. — Примеч. пер.
404
более губительная из них — паника 1907 г. — привнесла хаос во всю
мировую экономику, Конгресс США решил принять адекватные меры
и в 1913 г. была создана Федеральная резервная система (ФРС). Одна-
ко потребовались еще 20 лет и еще один глубокий кризис (1929—
1933 гг.), чтобы ФРС действительно стала функционировать в качестве
центрального банка.
Мы уделили столь значительное место обзору финансовой истории
США потому, что следует четко представлять себе то влияние, кото-
рое специфика американской финансовой структуры оказывала на
мировую финансовую систему в эпоху золотого стандарта. Страна, ко-
торая к концу XIX в. стала крупнейшим производителем промышлен-
ной продукции и крупнейшим сельскохозяйственным экспортером, по-
прежнему импортировала огромные финансовые ресурсы. Она не имела
центрального банка и сохраняла абсолютно децентрализованную бан-
ковскую систему, которая, хотя и обеспечивала высокие темпы эконо-
мического роста, была подвержена периодическим всплескам неста-
бильности. Конгресс и правительство США способствовали усугубле-
нию этой нестабильности своей некомпетентной и предвзятой
политикой, касающейся, в частности, цен на серебро и управления
фискальными доходами.
Неблагоприятная динамика цен на серебро в последнее десятиле-
тие XIX в. привела к лихорадочному принятию золотого стандарта пра-
вительствами и парламентами большинства стран. Выбор в пользу зо-
лота диктовался не столько падением цен на серебро, сколько их рез-
кими колебаниями, увеличению амплитуды которых способствовала
необдуманная политика США в данной сфере. Даже европейские фер-
меры, ведущие отчаянную борьбу против дешевого импорта из Ново-
го Света, были вынуждены выступать за золотой стандарт вследствие
невозможности предсказать в момент посева цены на будущий урожай.
Промышленники из развивающихся стран, приступивших к реализа-
ции стратегии импортозамещения, являлись сторонниками твердой
валюты, позволяющей осуществлять беспрепятственное погашение
внешних займов, а также протекционистских мер, направленных на
недопущение на внутренний рынок импортных промышленных това-
ров. Большинство стран, перешедших на золотой стандарт, приступи-
ли к аккумуляции золотых резервов, которые, как предполагалось, долж-
ны были служить в качестве стабилизационного фонда для поддержа-
ния устойчивости валюты. Очень часто накопление золотых резервов
сопровождалось накоплением «буферных» резервов иностранной валю-
ты, которыми в случае возникновения финансовых проблем жертво-
вали ради сохранения золотых резервов.
В противоположность намерениям и действиям послевоенных ру-
ководителей британской денежно-кредитной политики, их предшест-
венники до Первой мировой войны были крайне озабочены повсеме-
стной тенденцией к установлению золотого стандарта и созданию цен-
тральных банков по английскому образцу. Они совершенно правильно
осознавали, что Британия сможет сохранить статус центра мировой
финансовой системы лишь до тех пор, пока эта система будет основа-
405
на на свободном международном перетоке золота, все резервы которого
сосредоточены в Банке Англии. Накопление золота Францией рассмат-
ривалось как положительный фактор, поскольку оно увеличивало воз-
можности маневра для Банка Англии практически без всяких издер-
жек с его стороны. Однако накопление золота Германией уже представ-
ляло собой угрозу, поскольку Германия не испытывала доверия к
свободному рынку золота, и процентные ставки Банка Англии не обес-
печивали беспрепятственного притока немецкого золота. К несчастью
для Британии, германская модель нашла наибольшее число привержен-
цев среди стран, которые для управления системой золотого стандарта
создали центральные банки и аккумулировали золотые резервы. Резуль-
татом явился переход от свободного перетока золота к формированию
все более крупных золотых запасов, на величину которых процентные
ставки Банка Англии — традиционный британский инструмент конт-
роля за золотым рынком — не оказывали практически никакого влия-
ния. При этом накопление соответствующих запасов означало одновре-
менное сокращение золотых запасов Банка Англии.
Наряду с рассмотренными внешними, имелись и внутренние за-
труднения, представлявшие серьезную проблему для руководителей
британской денежно-кредитной политики.
Британская финансовая система совершенно не пострадала в годы
наполеоновских войн. Ее составляли ряд торговых банков и иных фи-
нансовых институтов (таких, как дисконтные дома), а также крупней-
ших бирж товаров и услуг; в центре этой системы находился Банк
Англии. В составе руководства Банка были представлены основные
интересы Сити. Степень сплоченности и единства данного органа пе-
реоценить невозможно (особенно сейчас, когда эта система подверга-
ется разрушению). Исследование деятельности Сити в эпоху золотого
стандарта должны проводить скорее представители структурной ант-
ропологии, а не экономисты. В последние годы эпохи золотого стан-
дарта быстро нарастала угроза существованию этой почти племенной
системы, на протяжении десятилетий контролировавшей мировую тор-
говлю и платежные операции. Этой угрозой являлась быстрая концен-
трация капитала депозитных банков, в результате которой на плаву
остались лишь несколько гигантских акционерных банков. Клиринго-
вые банки — как они стали называться — служили для Сити главными
источниками краткосрочных денежных ресурсов, которые использова-
лись для финансирования мировой торговли товарами. Они имели раз-
ветвленную систему филиалов, с помощью которой осуществлялся
трансферт сбережений из самых отдаленных уголков Британии в Лон-
дон, а оттуда — при посредничестве Сити — во все страны света. Та-
ким образом, клиринговые банки составляли основу всей финансовой
системы Британии. Однако их влияние не было увязано с адекватной
степенью ответственности. Они не могли оказывать влияние на опре-
деление денежной политики. Они не были представлены в Совете ди-
ректоров Банка Англии. Более того, по мере концентрации капиталов
клиринговые банки сочли возможным проникновение на рынки, тра-
диционно обслуживаемые торговыми банками, — в частности, они на-
406
чали экспансию в сферу финансирования внешнеторговых операций.
Наконец, они приступили к формированию своего собственного цен-
трализованного золотого резерва, представляющего собой альтернати-
ву золотому резерву Банка Англии.
В целом, на протяжении последних 25 лет предвоенной эпохи зо-
лотого стандарта в британской финансовой системе наблюдались тен-
денция к отходу от единообразия и движение в сторону децентрализа-
ции. Клиринговые банки становились все более независимыми от Бан-
ка Англии. Часто — особенно в периоды кризисов — они буквально
выбивали почву из-под ног финансового истеблишмента, изымая свои
депозиты из финансовых институтов Сити. Тем самым они демонст-
рировали свою мощь и требовали адекватного признания. Такая модель
поведения особенно четко прослеживалась в ходе кризисов 1890, 1907
и 1914 гг. Эта тенденция подорвала единство финансовой элиты и в
сочетании с рассмотренными выше экзогенными факторами способ-
ствовала дестабилизации золотого стандарта. Можно даже утверждать,
что именно утрата британской финансовой системой своего единства
и однородности привела к отмене золотого стандарта в июле 1914 г.
Коллапс системы произошел задолго до того, как Британия была втя-
нута в военный конфликт.
ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ И ЭКОНОМИСТЫ. Развитие теории зо-
лотого стандарта совпадает с развитием экономической теории. В це-
лом мы уже отмечали ту роль, которую концепция товарных денег иг-
рала в теоретическом аппарате экономистов-классиков. Предложение
товарных денег, спрос на них и их цены определяются законами При-
роды (частью которой является и человеческое поведение). Таким об-
разом, предполагалось, что денежная экономика, основанная на «чис-
том» металлическом стандарте, будет пользоваться всеми преимущест-
вами, обусловленными существованием денег, и в то же время будет
свободна от многих недостатков, связанных с обращением «искусст-
венных» денег, не имеющих металлического обеспечения. Для Давида
Рикардо рекомендуемое им введение золотого стандарта означало не
просто предотвращение узурпации Банком Англии полномочий в де-
нежной сфере (которые Рикардо относил к сфере ответственности пар-
ламента); оно означало также привнесение в экономику стандарта —
такого, как золото, — который служил бы хорошей аппроксимацией
универсального мерила ценности. Рикардо хотел, чтобы ценовая сис-
тема не испытывала влияния со стороны политической власти, — так,
чтобы действие законов Природы не сталкивалось с какими бы то ни
было препятствиями, а золото было бы распределено «между различ-
ными цивилизованными нациями земного шара соответственно состо-
янию их торговли и богатства, а следовательно, и соответственно чис-
лу и частоте платежей, которые им приходилось производить» (Рикар-
до, 1955 [1811], с. 48). В случае свободного международного движения
золота такое перераспределение вскоре приведет к состоянию, когда
каждая нация получит необходимое ей количество золота и его между-
народный переток прекратится. Если все страны предпримут металли-
407
стические реформы и зафиксируют золотое содержание своих валют,
в интервале между золотыми точками могут совершаться арбитражные
операции, поддерживающие единообразие цен на золото. В рамках ми-
ровой экономической системы золото будет функционировать в качест-
ве numeraire, причем одних арбитражных операций с золотом будет
вполне достаточно для того, чтобы обеспечить единообразие мировых
ценовых систем. В этих условиях отсутствовала бы потребность в ар-
битражных операциях с иными, более «габаритными» товарами, транс-
портировка которых связана с более высокими издержками. Это, разу-
меется, не означает, что международная торговля прекратится. Това-
ры будут пересекать границы в соответствии с законом сравнительных
преимуществ, а золотой стандарт будет гарантировать, что действие
этого закона не будет искажено «нерегулируемым» предложением де-
нег. «Регулирование», разумеется, в данном случае означает, что пред-
ложение бумажных денег будет зависеть от динамики золотых резер-
вов института, их выпускающего. Представления Рикардо о функцио-
нировании мировой экономики, основанные на анализе системы
товарных денег, быстро завоевало умы не только экономистов, но и
политиков и интеллектуалов. Они конституировали научную систему
политической экономии, ядром которой был золотой стандарт. На долю
Джона Стюарта Милля и Альфреда Маршалла выпала задача уточнить
эти представления о мировой экономике.
Милль очень тщательно проанализировал особенности функциони-
рования режима товарных денег, меновая ценность которых равна из-
держкам их производства. Вместе с тем он очень четко подчеркнул роль
имеющегося запаса золота по сравнению с его текущим или даже по-
тенциальным приростом или сокращением. Устойчивость отношения
золотого запаса к текущему потоку делает процесс полной корректи-
ровки достаточно длительным, так что по крайней мере в краткосроч-
ном периоде уровень цен должен определяться спросом на деньги и их
предложением. Однако Милль никогда не сомневался в том, что товар-
ные деньги не смогут изменить структуру международного производ-
ства, соответствующую условиям бартерной торговли. В его глазах день-
ги являлись «изобретением, направленным на сокращение трения»,
подобно смазке механизма. Он всецело разделял мнение о том, что
действие описанного Юмом механизма автоматического выравнивания
торгового баланса будет иметь только номинальные последствия в слу-
чае открытия в какой-либо стране больших запасов золота. Это откры-
тие приведет к росту цен в данной стране, а значит, к сокращению
экспорта и увеличению импорта. Как следствие дефицит торгового
баланса обеспечит отток золота за границу и возвращение цен в рас-
сматриваемой стране к прежнему уровню. Однако, по мнению Милля,
на реальный сектор будет оказывать влияние предоставление одной
страной займа другой стране. В этом случае должен иметь место реаль-
ный трансферт.
Ни Милль, ни Маршалл не считали золотой стандарт идеальной
системой. Оба автора выступали против биметаллизма, основанного на
фиксированном соотношении между золотом и серебром. Они указы-
408
вали на возможность изменений относительных издержек производства
этих металлов; такие изменения привели бы к росту редкости более
дорогого металла и использованию для чеканки монет более дешево-
го. Таким образом, биметаллизму имманентно присуща нестабиль-
ность. Милль выступал за «усеченный» (limping) золотой стандарт, при
котором золото было бы единственным законным денежным металлом,
а выпуск серебряных денег осуществлялся бы исходя из рыночной цены
серебра. В этих рекомендациях, несомненно, отражалась традиция, иду-
щая еще от Джона Локка.
Творческий подход Маршалла к вопросам денежного стандарта про-
явился, помимо всего прочего, в разработке концепций «симеталлизма»
и «табличного стандарта». В соответствии с первой валютной схемой
(являвшейся отдаленной аналогией древнейшей лидийской денежной
единицы, чеканившейся из электрона [природного сплава золота и се-
ребра. — Примеч. пер.]) обмен бумажных денег может осуществляться
только на слитки, содержащие золото и серебро в фиксированной про-
порции. Маршалл полагал, что такая мера обеспечила бы определение
стоимости бумажных денег на основе средней цены обоих металлов, тем
самым интегрируя в едйное денежное пространство страны, придержи-
вающиеся как золотого, так и серебряного стандарта. Легко видеть, что
данная валютная схема Маршалла является предшественницей экю —
денежной единицы Европейской валютной системы.
В свою очередь, предлагавшийся Маршаллом табличный стандарт
представлял собой возвращение к идее функционирования особых рас-
четных денег наряду с деньгами, выполняющими функцию средства
платежа. Расчетные деньги служили бы для заключения долгосрочных
контрактов, а их стоимость была бы увязана с «официальным индек-
сом, отражающим усредненные изменения цен важнейших товаров»
(Marshall, 1923, р. 36).
Что касается механизма выравнивания торгового баланса в услови-
ях золотого стандарта, то его ключевой элемент Маршалл усматривал
в растущей интеграции рынков капитала, отодвигающей на второй план
факторы товарного арбитража и международного перетока золота. Это,
разумеется, означало признание роли дифференциалов процентных
ставок и обусловленных ими финансовых арбитражных операций, что,
в свою очередь, вызывало возрастание роли банков (в том числе цент-
ральных).
Работы Дж.С. Милля, Маршалла и особенно Ирвинга Фишера зна-
меновали отход от «натуралистического» взгляда на мир, пронизывав-
шего работы Рикардо, а также его предшественников и последователей.
Мир управляется не только естественными силами, познание которых
составляет задачу экономиста и игнорирование которых неизбежно вле-
чет за собой наказание. Золотой стандарт не является «научным мето-
дом» организации денежной системы. Подобно Маршаллу, Ирвинг
Фишер подходил к оценке золотого стандарта скорее с исторических, чем
с научных позиций. Само принятие системы золотого стандарта было
результатом исторической случайности. Условия спроса и предложения
золота и серебра нестабильны. Система не является совершенной, но
409
может быть улучшена; таким образом, оправданными оказываются ре-
комендации, направленные на повышение ее эффективности.
По мере того как приближалось наступление «золотого века золо-
того стандарта», его достоинства в глазах экономистов-современников
становились все более сомнительными, а его недостатки — все более
очевидными. По мнению Кнута Викселля, при режиме товарных де-
нег отсутствуют какие бы то ни было гарантии существования причин-
ной связи между предложением денег и динамикой уровня цен. Такую
связь можно усмотреть только в очень долгосрочном периоде. Подоб-
но теоретикам, работавшим в Британском казначействе послевоенно-
го периода, Викселль указывал на то, что центральные банки, аккуму-
лируя значительные запасы золота, тем самым разрывают зависимость
между предложением золота и изменением цен. Функция стабилиза-
ции цен, возлагаемая на центральные банки, и новая институциональ-
ная структура в любом случае представляют собой более совершенную
альтернативу «чистому» металлическому стандарту, который, с точки
зрения Викселля, всецело зависел от непредсказуемых колебаний пред-
ложения золота или спроса на него.
«Золотой век золотого стандарта», который (как, надеемся, нам уда-
лось показать выше) в исторической реальности был началом его за-
ката, был также эпохой заката теории золотого стандарта. Описанный
Юмом ценовой механизм перетока драгоценных металлов стал рассмат-
риваться все более скептически. Роль товарного арбитража представ-
лялась более важной по сравнению с ролью золотого арбитража. Вы-
равнивание торгового баланса требовало реальных, а не чисто номи-
нальных изменений. Все большее внимание уделялось международному
движению капиталов. Наибольший интерес для экономистов-теорети-
ков той эпохи представлял феномен корректировки объема запасов на
различных рынках. Интеллектуальная дистанция между признанием
корректировки объема запасов и указанием на необходимость управ-
ления ими оказалась очень короткой и была очень быстро пройдена
большинством теоретиков.
Курьезно, что в течение последних 25 лет перед Первой мировой
войной маятник теоретических предпочтений качнулся от взглядов Ри-
кардо и Локка к взглядам Лаундса и Торнтона. Господство «чистого»
металлического стандарта и в теории, и на практике оказалось недол-
гим. Экономисты не могли игнорировать гигантские темпы развития
банковской системы и мировой интеграции в экономической и финан-
совой сферах. От «золотых правил» Рикардо, простых и непогрешимых,
мы переходим к работам Милля, Маршалла, Викселля и Фишера с их
новаторскими рецептами управления системой национальных и меж-
дународных платежей. Сомнения стали превалировать над увереннос-
тью. Мы не можем принять критические высказывания Дж.М. Кейн-
са относительно восприятия золотого стандарта современниками до
Первой мировой войны. Он отнюдь не рассматривался ими в качестве
не подверженной изменениям, лишенной противоречий и автомати-
чески действующей системы. Предпосылки критики золотого стандарта
и освобождения от иллюзий, характерных для послевоенного периода,
410
были заложены еще в предвоенные годы. Фактически мы можем даже
утверждать, что до Первой мировой войны представители интеллекту-
ального сообщества были в гораздо меньшей степени склонны к апо-
логетическим взглядам на «чистый» металлический стандарт, чем эко-
номисты и политики послевоенного периода. Наблюдатели предвоен-
ных лет осознавали, что золотой стандарт — это игра, играть в которую
становится все труднее, и связано это как раз с тем, что все выучили
ее правила и хотели стать ее участниками.
БИБЛИОГРАФИЯ
Доклад комитета о высокой цене золотых слитков // Рикардо Д. Сочинения.
Т. И. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955.
С. 331-390.
Рикардо Д. Высокая цена слитков — доказательство обесценения банкнот //
Рикардо Д. Сочинения. Т. II. М.: Государственное издательство политичес-
кой литературы, 1955. С. 45-103.
Ashton T.S. and Sayers R.S. Papers in English Monetary History. Oxford: Clarendon
Press, 1953.
Bagehot W. Lombard Street. New York: Amo Press, 1969.
Bloomfield A.I. Monetary Policy under the International Gold Standard. New York:
Federal Reserve Bank of New York, 1959.
Bordo M. and Schwartz A.J. (eds.). A Retrospective of the Classical Gold Standard,
1821-1931. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
Clapham J.H. A History of the Bank of England. 2 vols. Cambridge: Cambridge
University Press, 1944.
Cottrell P.L. Industrial Finance, 1830—1914. London: Methuen, 1980.
De Cecco M. The International Gold Standard: Money and Empire. 2nd edn. London:
Frances Pinter, 1984.
Fanno M. Le banche e il mercato monetario. Roma: Loescher, 1912.
Feaveryear A. The Pound Sterling. 2nd edn. Oxford: Clarendon Press, 1963.
Fetter F.W. Development of British Monetary Orthodoxy, 1717-1875. Cambridge:
Harvard University Press, 1965.
Ford A.G. The Gold Standard, 1880-1914: Britain and Argentina. Oxford: Clarendon
Press, 1962.
Goodhart C.A.E. The Business of Banking, 1891-1914. London: Wiedenfeld and
Nicholson, 1972.
Hilton B. Cash, Com and Commerce: the Economic Policies of the Tory Governments,
1815—1830. Oxford: Oxford University Press, 1977.
Ingham G. Capitalism Divided? The City and Industry in British Social Development.
London: Macmillan, 1984.
Keynes J.M. Indian Currency and Finance. In: The Collected Writings of J.M.Keynes.
Vol.l. London: Macmillan, 1971.
Lindert P.H. Key Currencies and Gold, 1890-1913 // Princeton Studies in
International Finance, no. 24. Princeton: Princeton University Press, 1969.
Marshall A. Money, Credit and Commerce. London: Macmillan, 1923.
411
McCloskey D.N. and Zecher J.R. How the Gold Standard worked. In: J.Frenkel and
H.G. Johnson (eds.). The Monetary Approach to the Balance of Payments Theory.
Toronto: University of Toronto Press, 1976.
Mommsen T. Histoire de la monnaie romaine. Paris: Rollin et Feuardent, 1865.
Morgan E.V. The Theory and Practice of Central Banking, 1797-1913. London: Frank
Cass, 1965.
Nogaro B. L’experience bimetalliste du XIXе siecle // Revue d’Economie Politique,
October 1908, vol. 22, no. 10, p. 641—721.
Sayers R.S. Bank of England Operations, 1890—1914. London: P.S.King & Son, 1936.
Supino С. Il mercato monetario intemazionale. Milano: Hoepli, 1910.
Thornton H. An Inquiry into the Nature and Effects of the Paper Credit of Great
Britain. New York: Augustus Kelley, 1978.
Triffin R. The Evolution of the International Monetary System. Princeton Essays in
International Finance, no. 12. Princeton: Princeton University Press, 1964.
Williams D. The Evolution of the Sterling System. In: C.R.Wittlesley and J.S.G.Wilson
(eds.). Essays in Honour of R.S.Sayers. Oxford: Clarendon Press, 1968.
ЭКОНОМИКА
ОХОТЫ И СОБИРАТЕЛЬСТВА
Вернон Л. Смит
Hunting and Gathering Economies
Vernon L. Smith
Люди (Homo erectus), которых можно с культурной и биологичес-
кой точек зрения отличить от других человекообразных, живут на Земле
приблизительно 1,6 млн лет (Pilbeam, 1984). Вероятно, что биологичес-
кие изменения за этот период образуют эволюционную последователь-
ность: первобытный человек разумный, Homo sapiens, в частности не-
андерталец, появился 125 000 лет назад, а анатомически современный
человек — около 45 000 лет назад. Исследования показывают, что Ното
erectus изготовлял и использовал орудия и, возможно, начал использо-
вать огонь примерно 700 000 лет назад. Изменения, отмечаемые нами
в доисторическом периоде, разграничивают менее и более совершен-
ные технологии в пределах каменного века. Следовательно, мы можем
сказать, что на протяжении всей эпохи своего существования на Зем-
ле человек успешно выживал как исключительно умелый охотник.
И только недавно, в последние 8—10 тыс. лет (менее 1% времени свое-
го существования на Земле), человек оставил кочевой образ жизни
охотника и, осев в деревнях, начал выращивать урожай и приручать жи-
вотных. Трудно переоценить значение этой сельскохозяйственной или
первой экономической революции (North and Thomas, 1977) для пони-
мания того, кто мы есть и кем мы стали. Выбрав образ жизни пахаря и
пастуха, человек сделал самый важный шаг по лестнице, ведущей к
гораздо более сложной специализации, обмену, значительному росту
избыточного продукта, возникновению государства и, наконец, про-
мышленной революции. Наши сведения о первобытном человеке огра-
ничиваются остатками тех вещей, что от него сохранились. Тем не
менее, в сочетании с результатами антропологических исследований
жизни охотников-собирателей недавнего прошлого эти находки могут
интерпретироваться как свидетельство того, что все элементы «богат-
ства народов» в современном понимании: инвестиции в человеческий
капитал, специализация и обмен, развитие прав собственности или
института контрактов, даже загрязнение окружающей среды — разви-
вались в течение этого обширного доисторического, досельскохозяй-
сгвенного периода.
Какова же причина внезапного отказа от кочевой, охотничьей жиз-
ни? Мы не знаем ответа, поскольку не имеем достаточно сведений о
переходе людей от охоты к земледелию. Этот переход можно назвать
413
главной тайной человечества, поскольку благодаря ему стало возмож-
ным все то, что мы называем цивилизацией, все великие достижения
промышленности, науки, искусства и литературы, которые возникли,
образно говоря, за последние несколько минут человеческого дня на
этой планете. Тем не менее, существуют факторы, определявшие пути
эволюции человека от его ранних форм до современного Homo sapiens
и его интеллектуальное и социальное развитие. Их существование пред-
полагает преемственность между доземледельческим, охотничьим
периодом палеолита, земледельческим и всеми последующими перио-
дами.
ЧЕЛОВЕК - ОХОТНИК И СОБИРАТЕЛЬ. Существует много рас-
пространенных представлений об образе жизни охотника-собирателя,
повторявшихся в академической литературе на протяжении несколь-
ких сотен лет и нашедших свое отражение в массовых заблуждениях
современного человечества относительно своего доисторического про-
шлого. До недавнего времени эти представления определяли даже воз-
зрения профессиональных антропологов на то, как происходило «вы-
живание» охотника-собирателя. В этих представлениях недооценива-
ется, очевидно, всегда существовавшая человеческая способность
реагировать на изменения в окружающей среде, заменяя старые ресур-
сы (труд, капитал, знания) на новые, разрабатывая новые продукты вза-
мен старых, когда их цена (усилия, необходимые для их производства)
изменялась.
Со времен Гоббса преобладало мнение о том, что жизнь в естествен-
ном состоянии была «одинокой, нищей, отвратительной, жестокой и
короткой». Более точное представление (хотя и неприменимое ко всем
аборигенским обществам) состоит в том, что общества с охотничьей
культурой были относительно изобильными (Lee and DeVore, 1968).
Полученные ранее обширные данные о сохранившихся до наших дней
охотниках-собирателях показывают, что, за редким исключением (эс-
кимосы Нетсилик), их питание было как минимум стабильным, а то и
излишним.
Африканские бушмены племени кунг населяли северо-западную
область пустыни Калахари — весьма неблагоприятную среду обитания,
в которой засухи случались каждый второй или третий год. Но такие
условия скорее изолировали племя кунг от соседей-земледельцев, чем
обрекли его на животное существование. Взрослые обычно работали
12—19 ч в день, добывая пищу. Как во всех подобных обществах, жен-
щины в основном собирали, а мужчины охотились. Количество полу-
чаемых таким образом протеинов и калорий в несколько раз превос-
ходило различные нормы питания. Собирательство было более надеж-
ным и продуктивным занятием, и женщины производили более чем
вдвое больше пищи в час (в пересчете на калории), чем мужчины. Этот
рабочий день обеспечивал и мужчинам и женщинам свободное время —
отдых, развлечения, посещение гостей и для мужчин — ритуальные
танцы. Примерно 40% населения составляли дети, холостые взрослые
414
(15—25-летнего возраста) или пожилые (более 60 лет), которые не вно-
сили вклад в общее пропитание и которых не заставляли это делать.
Похожую макроэкономическую картину представляла собой жизнь
племени Хазда в Танзании. Как крупные, так и мелкие животные там
были многочисленны, и на всех — за исключением слонов — Хазда охо-
тились. Охотой занимались мужчины и мальчики в одиночку, полага-
ясь в основном на отравленные стрелы. В среднем Хазда затрачивал не
больше 2 ч в день на охоту. Основным видом препровождения време-
ни у мужчин были азартные игры, занимавшие больше времени, чем
охота.
Другие племена Африки, Австралии, северо-западной части Тихо-
го океана, Аляски, Малайского архипелага и Канады, промышлявшие
охотой (или рыболовством), сравнительно хорошо приспособились к
этому образу жизни. Недоедание, голодание и хронические болезни
были редкостью, хотя вероятность случайной гибели и была в некото-
рых случаях высока, например у эскимосов.
Мнение о том, что жизнь в каменном веке была невыносимо тяже-
ла, никак не подтверждается произведенными в прошлом веке много-
численными этнографическими исследованиями доживших до того
времени охотничьих обществ. За немногими исключениями подобные
общества жили вполне неплохо и не торопились менять образ жизни в
пользу земледелия либо скотоводства, которым занимались их соседи.
Похожа ли была жизнь в каменном веке на эту современную картину,
нельзя сказать наверняка, но очевидно, что мнение о том, что охота по
определению связана с чрезвычайно тяжелыми условиями жизни, не
подтверждается. Экономика охотников палеолита, несомненно, обла-
дала высокой степенью выживаемости в мире, гораздо более обильном
дичью по сравнению с предшествовавшими эпохами, начиная с мас-
сового вымирания животных в позднем плейстоцене. Таким образом,
в то время могло существовать большое число зажиточных обществ.
Хотя и естественно предположить, что уникальность человека яв-
ляется следствием его интеллектуального превосходства, его хорошие
физические характеристики, похоже, сыграли важную роль в станов-
лении его как суперхищника по отношению ко всем остальным видам.
То, что было дано ему от природы, кое-что значило бы даже при от-
сутствии инвестиций в орудия и человеческий капитал, необходимый
для их изготовления и использования. Как заметил Дж. Б.С. Хоэлдейн,
только человек способен проплыть милю, пройти двадцать миль и за-
тем забраться на дерево. Добавьте к этому способность пробежать милю
за четыре минуты, непревзойденную выносливость при беге на длин-
ные дистанции, способность унести ношу больше собственного веса,
способность жить на больших высотах, способность американских
индейцев буквально загнать лошадь или оленя, преследуя его по пя-
там, невероятные достижения акробатов и гимнастов и, наконец, лов-
кость пальцев и координацию, необходимую для того, чтобы выдоить
корову, — и мы получаем портрет вида, обладающего потрясающим
физическим превосходством над конкурентами. Похоже, основы это-
го физического превосходства человека обеспечивались его прямохож-
415
дением и его знаниями. В результате человек на трех континентах ус-
пешно охотился даже на различных гигантских хоботных (мастодон-
тов, мамонтов, слонов).
Предположение о том, что первобытные люди были слишком щуп-
лыми и немногочисленными, чтобы оказать заметное влияние на окру-
жающую их среду, недооценивает уникальную способность людей ис-
пользовать орудия, огонь, высокую подвижность этого вида, то, что
около 8000 г. до н.э. люди заселили Землю полностью (за исключени-
ем Мадагаскара, Новой Зеландии и Антарктиды). Археологи свидетель-
ствуют, что люди были прирожденными охотниками на крупную дичь.
Они охотились на мамонтов, мастодонтов, лошадей, бизонов, верблю-
дов, ленивцев, северных оленей, антилоп, благородных оленей, туров и
других крупных млекопитающих на протяжении минимум 30—40 тыс. лет
и оставили это занятие только с началом массового вымирания живот-
ных, которое затронуло большую часть планеты 8—12 тыс. лет назад.
Пол Мартин (Martin, 1967) объяснял это вымирание тем, что люди ис-
требляли слишком много животных во время охоты. Естественным ар-
гументом в пользу такой точки зрения является то, что остальные ги-
потезы и самая убедительная из них — гипотеза о перемене климата не
объясняют всемирного характера этого вымирания, начавшегося в
Африке и, возможно, Юго-Восточной Азии 40-50 тысячелетий назад,
потом распространившегося на север через Евразию 11—13 тыс. лет
назад, переместившегося в Австралию, возможно, 13 тыс. лет назад и
вступившего на территорию Северной Америки 11 тыс. лет, а затем
Южной Америки 10 тыс. лет назад. Последние подобные вымирания
произошли в Новой Зеландии 900 лет назад (несколько видов нелета-
ющих птиц моа) и на Мадагаскаре 800 лет назад, вскоре после поздне-
го проникновения человека на эти острова.
Использование человеком огня как инструмента контроля и распо-
ряжения природными ресурсами имело глубокое влияние на окружа-
ющую человека среду. Несколько авторов, изучавших формы подсеч-
но-огневого земледелия первобытных людей, заключили, что трава,
которой покрыто большинство великих степей мира, выросла в резуль-
тате устроенных человеком поджогов (обзор см.: Heizer, 1955). Там, где
климатические условия сильно благоприятствуют росту деревьев, ре-
гулярное выжигание служит отбору таких видов деревьев^ как сосны.
Возникновение сосновых лесов в южной части штата Нью-Йорк и даль-
ше к западу приписывают подсечно-огневому земледелию индейцев.
Попытки современного человека предотвратить пожары, случающие-
ся теперь почти всегда из-за молний, возможно, привели к большим
экологическим бедствиям, чем контролируемое использование огня,
свойственное аборигенам. Периодические пожары предотвращают об-
разование подлеска, который впоследствии может служить пищей особо
сильному лесному пожару, который уничтожит всю лесную раститель-
ность.
Третьим видом экологического влияния, оказываемого первобыт-
ными людьми, был перенос ими семян растений в ходе своих мигра-
ций. Это занесло некоторые экзотические виды растительности в но-
416
вне районы. Археологи часто замечали соответствие распространения
некоторых видов растений местам древних стоянок и жилищ. Напри-
мер, широкое распространение дикого кабачка, который собирали ради
семян, связано с деятельностью людей. Привнесение несвойственных
конкретной местности видов способно вызвать и вызывало серьезные
изменения в окружающей среде в наше время. Этот феномен имеет
древние корни, и, возможно, он был гораздо более разрушителен в то
время, когда первобытные люди передвигались из одного «первоздан-
но нетронутого» района в другой.
Чтобы достичь успеха, охотнику-собирателю необходим человечес-
кий капитал, который обычно ассоциируется только с представителя-
ми сельскохозяйственных и индустриальных обществ: обучение, пере-
дача знаний, разработка орудий и социальная организация. Всесторон-
нее изучение того, как аборигены используют огонь в охоте и
собирательстве, показывает, что первобытные люди знали о репродук-
тивных циклах кустарников и трав и использовали огонь, чтобы под-
держать рост и цветение нужных им растений и подавить рост неже-
лательных (Lewis, 1973). А для этого необходимо знать, когда, где, как
и насколько часто применять выжигание, чтобы сохранить и поддер-
жать запас ресурсов, делающих собирательство эффективным и про-
изводительным способом существования. Первобытные люди знали,
что время вегетации полезных растений можно приблизить выжигани-
ем, разогревающим землю, что в засушливую погоду огонь нужно раз-
водить на вершинах холмов, чтобы избежать неконтролируемого пожа-
ра, но когда воздух влажен, огонь нужно разводить в низменностях,
чтобы не дать ему потухнуть. Они знали, что выжигание густого под-
леска помогает росту дубов, желуди которых были пищей для людей и
привлекали лосей, которым густой подлесок не нравится, что оленей
и других животных привлекают нежные молодые побеги, которые вы-
растают после выжигания старых.
Жить охотой — значит заниматься деятельностью, требующей боль-
ших затрат интеллекта, физических сил, определенных технологий,
навыков, социальной организации, определенного разделения труда,
знания повадок животных, привычки к наблюдениям, изобретательно-
сти, способности решать проблемы, нести риск и высокой мотивации,
так как ценность выигрыша и цена ошибки очень велики. Такие ис-
ключительные требования к охотнику могли быть хорошим средством
эволюционного отбора и повлиять на развитие интеллекта и генетичес-
кого фонда, которые способствовали последующему быстрому созда-
нию человеком современной цивилизации. Этот естественный отбор
мог быть усилен широко распространенной у аборигенов практикой
предоставлять лучшим охотникам много жен.
Именно в роли охотника человек научился учиться. В частности, он
понял, что маленьких мальчиков надо учить целенаправленному наблю-
дению и знакомить их с поведением и анатомией животных. Из того,
что стада копытных перемещаются по дуге, вытекало, что можно быст-
рее настичь их, следуя по хорде. Знание повадок животных заменяло
развитие оружия. Даже с оружием позднего доземледельческого пери-
477
ода (копья, лук и стрелы, гарпун) охотнику нужно было подойти к
жертве на десять ярдов для верного выстрела. А для этого нужно было
часами ждать, скорчившись на земле, когда переменится ветер или
животное встанет поудобнее или, например, когда мамонт зайдет по-
глубже в трясину на водопое. Оружие изменялось, когда люди переклю-
чались на новую дичь. Так, наконечник копья культуры Кловис — рас-
пространенная находка в Северной Америке — использовался в охоте
на мамонтов и мастодонтов 11—12 тыс. лет назад. Затем был изобретен
наконечник культуры Фолсом для охоты на крупного, теперь вымер-
шего бизона Bison antiquus. Он уступил свое место наконечнику куль-
туры Скотсблафф, которым охотились на несколько меньшего, теперь
также вымершего Bison occidentalis (Haynes, 1964; Wheat, 1967). Эти
факты говорят о наличии высокой специализации, которая требует
новых форм человеческого и физического капитала, приспособленных
для охоты на новую жертву.
Факты, свидетельствующие об организации, требующейся для ус-
пешной охоты, были найдены в ходе раскопок на участке Олсен-Чаб-
бак в штате Колорадо, где выкопанные остатки костей и наконечни-
ков копий типа Скотсблафф указывают на то, что около 8500 лет на-
зад пара сотен Bison occidentalis были загнаны в русло высохшей после
сезона дождей реки 5—7 футов глубиной. Вооруженные охотники, рас-
положившиеся с обеих сторон бегущего стада, устроили настоящую
бойню (Wheat, 1967).
Модели поведения первобытного человека часто строились исходя
из «культурных факторов», а не аксиом рационального экономическо-
го поведения. Однако тот бушмен племени кунг, который, отвечая на
вопрос, почему они до сих пор не занялись земледелием, сказал: «А за-
чем нам что-то сажать, когда в мире так много орехов монгонго?», явно
признавал важность такого принципа, как подсчет альтернативных
издержек (Lee and DeVore, 1968, р. 33). Этот бушмен, как я бы пред-
положил, дал ответ на известный вопрос науки: почему человек-охот-
ник оставил то занятие, которое так верно ему служило 1,6 млн лет и к
которому он так приспособился (об этом говорит растущее усложне-
ние его оружия по мере того, как он развивался из homo erectus в ана-
томически современного homo sapiens)? Человек не бросил бы охоту
и собирательство, если бы не изменились условия его взаимодействия
с природой и охотничий образ жизни не стал бы более затратным, чем
сельскохозяйственный. Эта гипотеза не исключает влияния «культуры»
на поведение первобытного человека. Описание охотников-собирате-
лей как субъектов, стремящихся поддержать свой престиж, не проти-
воречит гипотезе о том, что человек, как и природа, ведет себя «эко-
номично». Высокий престиж, придаваемый охоте, может быть просто
тонким способом рекламы, пропаганды охоты и связанных с ней тех-
нологий как оптимального образа жизни, в результате которой каждо-
му новому поколению нет нужды заново открывать это для себя. Мифы
о великих охотниках, баснословной добыче, жестоких наказаниях за
утраченное мастерство, об убийстве курицы, несущей золотые яйца,
418
являются частью устной традиции, с помощью которой данная эконо-
мическая система сохраняет свой человеческий капитал.
Гипотеза, считающая сельскохозяйственную революцию следстви-
ем падения производительности охоты и собирательства по сравнению
с сельским хозяйством (Smith, 1975; North and Thomas, 1977), вполне
совместима с тем фактом, что этот культурный сдвиг:
а) произошел в разное время в разных частях света с сохранением
в ряде мест маленьких охотничьих анклавов;
б) не был окончательным и бесповоротным для каждого племени.
Что касается пункта а), то волна массового вымирания наземных
животных имела место на протяжении периода в несколько тысяч лет,
и потому относительное падение эффективности охоты поразило раз-
ные районы в разное время. Кроме того, люди в разных природных
условиях с разными альтернативными издержками должны были вы-
работать разные механизмы адаптации: некоторые могли остаться
собирателями и охотниками на мелкую дичь, а другие — перейти к ры-
боловству или остаться рыболовами в районах, непригодных для сель-
ского хозяйства (как алеутские эскимосы и индейцы с северо-восточ-
ного побережья Тихого океана).
В подтверждение пункта б) можно отметить, что ввоз испанцами
лошадей в Северную Америку (лошади вида Equus caballus были вве-
зены всего лишь через 8000 лет после того, как другие представители
этого рода были уничтожены в обеих Америках) серьезно преобразо-
вал образ жизни равнинных индейцев. На северных равнинах «воин-
ственные» шайены (Cheyenne), каких позже назвали европейцы, и пле-
мя арапаху быстро оставили свои деревни, забыли свое гончарное ре-
месло и садоводство и стали кочующими охотниками на бизонов
(см. ссылки в работе: Smith, 1975.) Очевидно, продуктивность сельского
хозяйства уступала резко увеличившейся производительности охоты на
бизонов, которая стала возможной благодаря технологическим переме-
нам, совместившим лошадь с луком и стрелами. К югу, где сезон веге-
тации длиннее и климат более благоприятен, индейцы пони (Pawnee),
начав охотиться на бизонов, продолжали выращивать маис, став сме-
шанным охотничье-сельскохозяйственным обществом. Юго-западные
апачи, которых Коронадо в 1541 г. назвал охотниками на бизонов, про-
сто внедрили лошадей в свою ранее существовавшую охотничью куль-
туру. Обширные лагеря из бизоньих шкур, увиденные первыми евро-
пейцами, пересекшими равнины, были продуктом уже технологически
перевооруженных коренных американцев, многие из которых только
недавно отошли от сельскохозяйственного образа жизни.
ВЫМИРАНИЕ КРУПНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ПЛЕЙСТО-
ЦЕНЕ И ПОДЪЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. Итак, вот краткое
описание истории человечества: человек появляется 1,6 млн лет назад
как охотник среди охотников, но выделяется тем человеческим капи-
талом, что дан ему от природы, и своей способностью «инвестировать»
в развитие человеческого и физического капитала. Его орудия стано-
вятся сложнее, в состав его человеческого капитала входит умение об-
419
ращаться с огнем — возможно, самым могущественным его инструмен-
том. Его оружие постепенно совершенствуется — дубинки, камни, ка-
менные топоры, копья, каменные наконечники к ним, атлатли (в ко-
торых используется принцип рычага) и в поздний доземледельческий
период — лук (в котором сочетается принцип рычага с временной ак-
кумуляцией энергии для последующего ее мгновенного высвобожде-
ния). Сочетание его собственных физических преимуществ, его ору-
дий и подвластного ему огня делает его хищником, которому нет рав-
ных. До какой-то степени подобный успех принес ему относительно
безбедное существование, а также, что очень важно, свободное время,
что, возможно, способствовало развитию языка и сделало возможны-
ми инвестиции в развитие других форм человеческого и физического
капитала.
Хотя Homo erectus и древний Homo sapiens, которые, очевидно, рас-
пространились из Африки на территорию Евразии и Азии, были хоро-
шими охотниками, только Homo sapiens, заселивший большую часть
мира около 8000 лет до н.э. стал преимущественно охотником на круп-
ную дичь. Именно с этим связана волна истребления млекопита-
ющих — в основном крупных наземных травоядных и питающихся ими
хищников и пожирателей падали. (Другие эпохи вымирания живых су-
ществ в истории Земли затрагивали вместе с наземными животными
еще и растения и морских обитателей.) Нет ни одного континента или
острова, на котором быстрое вымирание животных в эпоху позднего
плейстоцена предшествовало бы появлению там человека (Martin, 1967).
Виновен ли в этом человек, нельзя сказать точно, но гипотеза Марти-
на об истреблении животных в результате охоты соответствует модели
экономики охоты на гигантских травоядных, в которой ресурсы явля-
ются общей собственностью (Smith, 1975). Крупных стадных животных,
подвергшихся истреблению, было легко найти, и в качестве добычи они
представляли для людей большую ценность. Отсутствие частных прав
на животных (в виде одомашнивания или клеймления) сделало непри-
влекательным сохранение ресурсов и поощрило неконтролируемое ис-
пользование. Было обнаружено несколько стадных ловушек (ям-лову-
шек и обрывов) в России, Европе, и Северной Америке. Эти находки
указывают на избыточное убийство животных в количестве, превыша-
ющем потребности племени. Принимая во внимание комплекс усло-
вий, необходимых для сохранения таких ловушек до наших дней, мож-
но предположить, что мы наблюдаем всего лишь остатки некогда рас-
пространенного феномена. Наконец, медленный рост, взросление и
долгая продолжительность жизни крупных животных сделало их более
уязвимыми для истребления охотниками.
Но наша модель экономически рационального человека может обой-
тись без такой противоречивой гипотезы, как истребление дичи охот-
никами. Достаточно сказать, что легкая и ценная добыча исчезла, и это
вызвало падение продуктивности охоты. Следует ожидать замещения
ее чем-либо еще, раз относительные «цены» (выраженные через уси-
лия) изменились. И именно в этот поздний доземледельческий период
исследователи отмечают появление лука и стрел, примитивных мель-
420
ниц, котлов, лодок, более совершенных жилищ, даже «деревень» (воз-
можно, жилищ клановых групп), гужевых саней-волокуш и домашних
собак (почти наверняка выведенных из одомашненных волков). Эти
новшества говорят о замещении старых инструментов и технологий
новыми, что возместило утрату возможности охоты на крупную дичь,
которую можно было загнать и забить, вонзая или бросая оружие. Лук
и стрелы стало возможно совершенствовать, и собирательство стало
более важным для добычи пропитания. Если прежде собирали только
те семена и растения, которые можно было есть сырыми, то теперь
собирают некоторые семена, съедобные только в смолотом, размочен-
ном, вареном виде. Все это располагает к более оседлым и менее коче-
вым видам охоты и собирательства.
Отсюда привлекательность инвестиций в разработку новой кухон-
ной утвари, саней и жилищ. Лодки позволяют рыбачить, охотиться на
тюленей и китов. Волки, также способные к организации на охоте,
становятся союзниками людей в охоте на ту дичь, что осталась доступ-
ной. Может быть, еще важнее то, что волк послужил моделью для одо-
машнивания других зверей, так как на собаке дети могли изучать по-
ведение одомашненных животных. С переходом к более оседлой жиз-
ни приходит накопление частной собственности и недвижимости,
подвергаются усложнению и спецификации права собственности и
типы контрактов. Изучение доколониальных аборигенских обществ в
Северо-Западной Америке и Меланезии обнаружило существование
развитых многосторонних контрактных соглашений в форме «церемо-
ний обмена», таких, как потлач, кула, мока и абуту (Dalton, 1977). Ис-
пользование ценностей или товарных денег (браслетов, перламутровых
раковин, раковин каури, молодых женщин) в этих примитивных об-
ществах было гораздо сложнее, чем использование наличных денег в
национальных государствах с их хорошо юридически определенными
институтами обмена. Эти ценности не только обменивались на другие
в ходе обмена на внутреннем или внешнем рынке, на них можно было
купить родственные связи (обменявшись женщинами), военную по-
мощь в случае нападения, право на кров, если для нападения надо было
оставить дома, помощь в случае неурожая, плохой охоты или улова.
В общем, они вносили политическую стабильность и утверждали пра-
во собственности, что сделало возможным обмен и специализацию.
Собственность передавалась по наследству и включала землю, места для
рыбалки, места на кладбище, домашних животных, но, что любопыт-
но, и такие общественные блага, как прически, имена, танцы, ритуа-
лы и торговые пути, которые могли принадлежать индивидам или груп-
пам. Эти моменты, характеризующие аборигенов, не имеющих государ-
ства, показывают, что феномен многосторонних контрактов
(Williamson, 1984), столь обычный для рыночных экономик нацио-
нальных государств, зародился еще до появления государства и сель-
скохозяйственной революции.
Человек долго был охотником и изучил повадки животных; выми-
рание крупных травоядных изменило относительные издержки; зани-
маясь собирательством, человек изучил свойства различных семян и
421
яиц; жизнь приобрела более оседлый характер, имущество, право соб-
ственности и контракты стали важнее. В этих более стабильных усло-
виях человеку было легче научиться выращивать урожай и одомашнить
некоторых более послушных животных, на которых он раньше охотил-
ся. С появлением земледелия и скотоводства были усовершенствова-
ны и старые институты охоты и собирательства: контракты, собствен-
ность, обмен и специализация, и, наконец, продолжилась революция
в области производства и коммуникаций. Но задолго до того, как про-
изошли эти радикальные перемены, можно усмотреть зарождение не-
прерывной тенденции человека развивать свою способность адаптиро-
ваться, создавая новые, более дешевые продукты и технологии на за-
мену старым, более дорогим.
БИБЛИОГРАФИЯ
Dalton, G. 1977. Aboriginal economies in stateless societies: interaction spheres. In
Exchange Systems in Prehistory, ed T.K.Earle and J.E.Ericson, New York:
Academic Press.
Haynes, C.V. 1964. Fluted projectile points: their age and dispersion. Science 145, 25
September, 1408—13.
Heizer, R. 1955. Primitive man as an ecological factor. Krober Anthropological Society
Papers, no. 13.
Lee, R.B. and DeVore, I. 1968. Man the Hunter. Chicago: Aldine.
Lewis, H. 1973. Patterns of Indian Burning in California: Ecology and Ethnohistory.
Ballena Press. Anthropological Papers, no. 1.
Martin, P. 1967. Prehistoric overkill. In Pleistocene Extinctions, ed. P.S. Martin and
H.E. Wright, Jr., New Haven: Yale University.
North, D.C. and Thomas, R.P. 1977. The first economic revolution. Economic History
Review 30(2), May, 229-41.
Pilbeam, D. 1984. The descent of hominoids and hominids. Scientific American 250(3),
60-69.
Smith, V.L. 1975. The primitive hunter culture, pleistocene extinction, and the rise
of agriculture. Journal of Political Economy 83(4), August, 727-55.
Wheat, J.B. 1967. A Paleo-Indian bison kill. Scientific American 216(1), January,
44-52.
Williamson, 0.1984. Credible commitments: using hostages to support exchange.
American Economic Review 74(3), September, 488-90.
ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ
Филлип Кейган
Hyperinflation
Phillip Cagan
Гиперинфляция — это чрезвычайно быстрый рост общего уровня
цен товаров и услуг. Она обычно продолжается несколько лет или —
в наиболее экстремальных случаях — значительно меньше, а затем смяг-
чается или заканчивается. Четко определенного порога гиперинфляции
нет. Это лучше всего пояснить на перечне различных конкретных слу-
чаев. Многочисленные случаи гиперинфляции послужили основой для
проверки теорий денежной динамики, которым посвящена обширная
литература.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР. Рекордный уровень гиперинфляции был
отмечен в Венгрии после Второй мировой войны, когда индекс цен рос
в среднем на 19 800% в месяц с августа 1945 г. до июля 1946 г., достиг-
нув в июле наивысшего уровня 4 х 2 х 10|6%. Последствиями Второй ми-
ровой войны были вызваны также экстремальные темпы роста цен в
Китае, Греции и на Тайване. После Первой мировой войны гиперин-
фляция наблюдалась в Австрии, Германии, Венгрии, Польше и России.
Если измерить общее увеличение цен от первого до последнего месяца,
в которые увеличение цен превышало 50%, оставаясь затем ниже этого
уровня в течение года или более, то получим, что индекс цен поднялся
от 1 до 3 х 8 х 10эт в рекордном венгерском случае до 10*1 в Китае, Ю10
в Германии, или до более низкого уровня 70 в Австрии и 44% в Венгрии
после Первой мировой войны. В последнем случае, наиболее мягком из
вышеуказанных, повышение цен составляло в среднем 46% за месяц.
До Первой мировой войны случаи экстремальной инфляции были
редкими. Индекс цен поднялся от 1 до примерно 18 с середины 1795
до середины 1796 г. в разгар инфляции ассигнаций во Франции, а также
с 1778 до 1780 г. во время Американской войны за независимость, до
12 с 1863 до 1865 г. в Конфедерации Южных штатов в течение Граж-
данской войны в США, сравнимые с этими темпы инфляции отмеча-
лись в Колумбии в 1902 г. Часто упоминаемые случаи обесценения де-
нег Древнего мира, Средневековья и Европы в XVII в. вследствие при-
тока драгоценных металлов были мягкими по современным стандартам.
Случаи экстремальной инфляции прежде были редкими из-за преоб-
ладания товарных денег и конвертируемости. Только неконвертиру-
емые бумажные деньги могут выпускаться быстро и без ограничений,
что и вызывает гиперинфляцию.
423
Случаи сильнейшей гиперинфляции произошли в странах, разру-
шенных войной, однако не связанные с войной темпы инфляции в
несколько сот процентов за год были зарегистрированы на короткое
время в 1926 г. в Бельгии и Франции. Со времени окончания Второй
мировой войны до момента написания этой статьи (1985) частота слу-
чаев как мягкой, так и экстремальной инфляции, не имеющих отно-
шения к войне, выросла во всем мире. Показатели в несколько сот
процентов или более в пересчете на год за короткие периоды стали
типичными после Второй мировой войны, в нескольких случаях ин-
фляция превышала 1000% в годовом исчислении в течение нескольких
месяцев (Meiselman, 1970) и, следовательно, подошла очень близко к
великим гиперинфляциям. Темп инфляции выше 10 000% в год в Бо-
ливии в 1985 г. — это все-таки исключение.
МОНЕТАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Экстремальные увеличения
уровня цен не могут произойти без соразмерного роста денежной мас-
сы, который обычно несколько уступает росту цен из-за уменьшения
спроса на реальные денежные остатки. Правительства прибегают к
расширенному выпуску денег, когда они не в состоянии поддерживать
рост расходов бюджета и получать для этого достаточные средства пу-
тем обычного налогообложения и заимствования у населения. Денеж-
ная эмиссия является особой формой налога, которым облагается за-
пас денег у населения. Этот налог административно легко установить
и собрать. Излишняя денежная эмиссия для финансирования государ-
ственного бюджета увеличивает совокупные расходы и поднимает
цены; результирующее снижение покупательной способности име-
ющихся денежных остатков и составляет налог. Бейли (Bailey, 1956) на-
ходит, что общественные издержки этого налога более высоки по срав-
нению с другими формами налогообложения.
Ускорение инфляции на любом уровне временно стимулирует эко-
номическую активность. Однако, поскольку высокий уровень инфля-
ции приводит к искажению относительных цен, значительная часть
хозяйственной деятельности оказывается общественно непроизводи-
тельной. Положение многих предприятий и работников зависит от цен
и ставок заработной платы, которые отстают от общей инфляции; та-
ким образом, они страдают от серьезного сокращения реальных дохо-
дов. Кроме того, непредвиденное обесценение финансовых и денеж-
ных активов в реальном измерении приводит к серьезным перерас-
пределениям общественного богатства. Эти эффекты имеют
разрушительные социально-политические последствия (Bresciani-
Turroni, 1931). При этом сокращение темпов инфляции временно со-
кращает совокупный спрос, что также разрушительно и, следователь-
но, политически трудно осуществимо.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ. Обесценение денег в ходе инфля-
ции существенно увеличивает издержки их хранения. Хотя обесцени-
вающиеся валюты не отвергаются полностью, что свидетельствует о
большой выгоде от их использования в качестве общего средства об-
424
ращения, население предпринимает требующие больших издержек
меры, чтобы сократить свои запасы быстро обесценивающихся денег,
включая бартерные сделки и использование таких более стабильных
заменителей, как, например, иностранные валюты (Вагго, 1970). Эти
меры заканчиваются еще большим сокращением денежных остатков в
реальном выражении и существенным повышением скорости обраще-
ния денег.
Исследования (Cagan, 1956) показали, что спрос на реальные денеж-
ные остатки при гиперинфляции обратно пропорционален ожидаемо-
му темпу инфляции. Ожидания будущих изменений могут сильно от-
личаться от оценки текущих условий. Но именно они определяют ре-
акцию населения на инфляцию. Кейган выдвинул гипотезу, согласно
которой ожидания формируются адаптивно, т.е. ожидаемые величины
корректируются в пропорции к их отклонению от фактических вели-
чин. Отсюда следует теоретический вывод, что ожидаемая инфляция
может быть оценена как экспоненциально взвешенное среднее пока-
зателей прошлой инфляции.
Такие адаптивные ожидания отстают от изменений фактических
величин, что может объяснить, почему гиперинфляция имеет внутрен-
нюю тенденцию усиливаться. В то время как инфляционный налог
позволяет государству извлекать доход из реальных денежных остатков,
ожидаемые темпы инфляции увеличиваются, пытаясь соответствовать
ее растущим фактическим темпам, и доход государства в реальном
выражении сокращается, но с лагом. Реальный доход может повышать-
ся путем ускорения денежной эмиссии, но только до тех пор, пока
ожидания не придут в соответствие с более высокими темпами ин-
фляции. Если темп инфляции будет оставаться постоянным, так что
ожидаемый ее темп в конечном счете придет с ним в соответствие, то
реальный доход от денежной эмиссии будет поддерживаться на посто-
янном уровне. Максимальный реальный доход государства из этих
постоянных уровней обеспечивается при некотором постоянном тем-
пе инфляции, который зависит от эластичности спроса на реальные
денежные остатки по темпу инфляции. Этот доход может быть еще
более увеличен путем непрерывного ускорения роста денежной массы
и темпов инфляции. В наблюдавшихся случаях гиперинфляция усили-
валась далеко за пределы постоянного темпа, обеспечивающего макси-
мум инфляционного налога.
Инфляция обычно также уменьшает реальную величину других
налоговых поступлений из-за лагов между начислением и сбором на-
лога. Налог на денежные остатки должен превысить сокращение ре-
альных поступлений других налогов, чтобы не допустить сокращения
общего реального дохода государства. Это часто имеет место вначале и
сопровождается общественными волнениями, но гиперинфляция
уменьшает все налоги в реальном выражении, что очень скоро делает
ее влияние на доходы государства чисто негативным.
Адаптивные ожидания могут быть «рациональным» способом раз-
личения временных и перманентных изменений переменной (Muth,
1960). Но если темп инфляции непрерывно растет, то адаптивные ожи-
425
Дания как среднее взвешенное прошлых показателей оказываются все-
гда слишком низкими, и такой ряд коррелированных ошибок ожида-
ний противоречит принципам рационального поведения. Теория раци-
ональных ожиданий утверждает, что население использует для предска-
зания темпа инфляции всю доступную информацию, включая
экономические модели данного процесса. Отсюда, в частности, следу-
ет, что инфляционные ожидания с учетом значения денег фокусиру-
ются на политике изменения денежной массы, проводимой денежны-
ми властями. Если правительство нуждается в определенной сумме по-
ступлений от инфляционного налога, то население может оценить
соответствующий темп роста денежной массы, исходя из которого мож-
но предсказать траекторию движения цен. Однако, как правило, сум-
ма выпущенных денег может меняться непредсказуемо или же быть не-
известной с нужной точностью.
Из гипотезы рациональных ожиданий вытекают два важных эмпи-
рических следствия для анализа гиперинфляции. Во-первых, если день-
ги постоянно выпускаются, чтобы получить определенный размер го-
сударственного дохода в реальном выражении, то рост денежной мас-
сы зависит от темпа инфляции (Webb, 1984). Денежная масса в этом
случае статистически эндогенна по отношению к процессу инфляции.
Сарджент и Уоллес (Sargent and Wallace, 1973) и Френкель (Frenkel,
1977) представили статистическое подтверждение тому, что денежная
масса зависела от цен в случае гиперинфляции в Германии, хотя их
вывод и был оспорен (Protopapadakis, 1983).
Установленная эндогенность предложения денег не означает, что
спрос на деньги независим от ожидаемых темпов инфляции. Но эта
эндогенность обесценивает эконометрические регрессии реальных де-
нежных остатков от темпов инфляции. Для измерения ожидаемых из-
держек обладания наличностью нужны другие переменные. Френкель
(Frenkel, 1977) использовал в качестве такой переменной форвардную
премию в цене иностранной валюты во время гиперинфляции в Гер-
мании, которая отражала рыночные оценки будущего снижения курса
национальной валюты и, судя по всему, определялась инфляционны-
ми ожиданиями. (Это также помогает избежать возможной случайной
корреляции, когда показатели цен, примененные для расчета реальных
денежных остатков, используются в той же регрессии для получения
темпов изменения цен.) Форвардная надбавка объясняет изменения
реальных денежных остатков и подтверждает в качестве замещающей
переменной эффект ожидаемого темпа инфляции. Форвардная надбав-
ка в Германии оказалась также некоррелированной с прошлыми тем-
пами инфляции, что удовлетворяет требованию рациональных ожида-
ний, согласно которому надбавка не должна зависеть от прошлой ин-
формации и корректироваться в зависимости от лаговых значений
переменных. Однако это не объясняет, почему показатель инфляции в
Германии вышел за рамки постоянного уровня, максимизирующего
доход от инфляционного налога, поскольку при рациональных ожида-
ниях ожидаемый рост инфляции не дает повышения дохода государ-
ства. Сарджент (Sargent, 1977) высказал мнение, что максимизирующий
426
доход темп инфляции, если его правильно оценить при гипотезе ра-
циональных ожиданий, не отставал от фактических показателей ин-
фляции. Другая возможность состоит в том, что поведение населения
не в полной мере учитывало последующее ускорение инфляции, что,
таким образом, временно увеличило инфляционный доход государства.
СТАБИЛИЗАЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ. Если гиперинфляция под-
держивается ростом инфляционных ожиданий, а не ускорением роста
денежной массы, то она может стать самоподдерживающимся процес-
сом. Этого, тем не менее, никогда не происходило, кроме очень крат-
ких периодов. Гиперинфляция может быть, следовательно, всегда оста-
новлена при прекращении денежной подпитки. Но правительствам
часто трудно выживать без доходов от денежной эмиссии или заменить
их другими доходами, что объясняет, почему некоторые страны пере-
живают высокие темпы инфляции в течение длительных периодов.
Во многих случаях гиперинфляцию удавалось остановить с помо-
щью программы реформ без продолжительных потрясений экономи-
ки. После короткого периода экономика обычно восстанавливается и
испытывает подъем. Эти программы стабилизации были изучены для
определения необходимых условий успеха (Sargent, 1982; Bombergerand
Makinen, 1983). Некоторые предпринятые реформы потерпели неуда-
чу — в частности, дважды в Греции после Второй мировой войны
(Makinen, 1984). Прежде всего критически важно получить право кон-
троля над приростом денежной массы, а это требует положить конец
правительственной зависимости от эмиссии денег для финансирова-
ния бюджета. Успешные реформы включают реорганизацию государ-
ственных финансов путем как сокращения расходов, так и повышения
налогов, а также представление Центральному банку полномочий на
то, чтобы отказаться выпускать деньги для кредитования правительства.
Хотя часто выпускается новая денежная единица, заменяющая обесце-
ненную, это является лишь символическим шагом. Иностранные зай-
мы или финансовая помощь, направленные на поддержание резервов
иностранной валюты и финансирование на некоторое время государ-
ственного бюджетного дефицита, могут создать веру в успех стабили-
зации, но они не всегда необходимы. Конвертируемость новой валю-
ты в золото или в базовую иностранную валюту закрепляет успех ре-
формы, но не всегда вводится немедленно. Такая конвертируемость,
вводимая для прекращения сильной инфляции, оказалась труднодо-
стижимой в постбреттонвудскую эпоху, когда курс базовой иностран-
ной валюты (обычно доллара) является плавающим. Фиксирование
обменного курса национальной валюты может в этом случае породить
огромные торговые дефициты (если ценность базовой валюты растет),
которые невозможно поддерживать. Примечательный пример — Чили
в начале 1980-х годов (Edwards, 1985).
В большинстве случаев реформы вначале пользуются популярнос-
тью, обещая вернуть преимущества хорошо функционирующей денеж-
ной системы. При этом обычно происходит возрождение обществен-
ного доверия к национальной валюте, что обеспечивает надежное уве-
427
личение спроса на деньги по сравнению с низким гиперинфляцион-
ным уровнем. Это позволяет провести разовое увеличение денежного
предложения, не приводящее к росту цен. Расширение денежной мас-
сы, однако, не должно выходить за рамки увеличения спроса, иначе оно
положит начало новому кругу инфляции и стабилизация потерпит не-
удачу. Многие реформы, которые в конечном счете потерпели неуда-
чу, вначале вызывали доверие и увеличение спроса на деньги, но впос-
ледствии происходила чрезмерная эмиссия и возвращение к высоким
темпам инфляции. Чтобы избежать этого, необходимо обязательство
поддерживать стабильный индекс цен или конвертируемость нацио-
нальной валюты.
Стабилизационные реформы, которые преуспели в борьбе с гипер-
инфляцией, нельзя путать с длительными усилиями снизить умерен-
ную инфляцию. Одно из различий состоит в том, что при гиперин-
фляции уже не заключаются долгосрочные контракты, определяющие
цены или ставки процента, а также соглашения о заработной плате,
поскольку существует большая неопределенность относительно темпов
инфляции. Следовательно, при резком прекращении гиперинфляции
немногие несут ущерб от таких контрактов и дальнейшая негибкость
в системе цен не препятствует необходимой существенной корректи-
ровке относительных цен. Индексируемые в соответствии с предшест-
вующими изменениями цен финансовые сделки и трудовые контрак-
ты придают инфляции размах, еще более затрудняют попытки остано-
вить этот процесс. Широкое использование индексирования, как в
Бразилии и Израиле в начале 1980-х годов, уменьшает искажающие
сдвиги относительных цен и ставок заработной платы, но создает пре-
пятствие для успеха реформы.
Гиперинфляция такого уровня, какой наблюдался после двух ми-
ровых войн, сейчас редка, и когда она происходит, то скоро усилива-
ется до уровней, которые требуют ее пресечения энергичными мера-
ми. Инфляцию порядка от 50 до несколько сот процентов в год труд-
но прекратить, хотя она часто на некоторое время ослабевает. Такая
инфляция, несмотря на ее серьезные экономические последствия, ра-
зумеется, не собирается исчезать.
БИБЛИОГРАФИЯ
Bailey, М. 1956. The welfare cost of inflationary finance. Journal of Political Economy
64, April, 93-110.
Barro, R.J. 1970. Inflation, the payments period and the demand for money. Journal
of Political Economy 78, November/December, 1228-63.
Bomberger, W. A. and Makinen, G.E. 1983. The Hungarian hyperinflation and
stabilization of 1945—46. Journal of Political Economy 91, October, 801-24.
Bresciani-Turroni, C. 1931. The Economics of Inflation: A Study of Currency
Depreciation in Post-War Germany: 1914—1923. Trans., London: Alien & Unwin,
1937.
428
Cagan, P. 1956. The monetary dynamics of hyperinflation. In Studies in the Quantity
Theory of Money, ed. M. Friedman, Chicago: University of Chicago Press.
Edwards, S. 1985. Stabilization with liberalization: an evaluation of ten years of Chile’s
experiment with free-market policies. 1973—1983. Economic Development and
Cultural Change 33, January, 223—54.
Frenkel, J.A, 1977. The forward exchange rate, expectations, and the demand for
money: the German hyperinflation. American Economic Review 67, September,
653-70.
Makinen, G.E. 1984. The Greek stabilization of 1944—46. American Economic Review
74, December, 1067-74.
Meiselman, D. (ed.) 1970. Varieties of Monetary Experience. Chicago: University of
Chicago Press.
Muth, J. 1960. Optimal properties of exponentially weighted forecasts. Journal of the
American Statistical Association 55, June, 299-306.
Protopapadakis, A. 1983. The endogeneity of money during the German hyperinflation:
a reappraisal. Economic Inquiry 21, January, 72-92.
Sargent, T.J. 1977. The demand for money during hyperinflation under rational
expectations I. International Economic Review 18, February, 59—82.
Sargent, T.J. 1982. The ends of four big inflations. In Inflation: Causes and Effects,
ed. R. Hall, Chicago: University of Chicago Press.
Sargent, T.J. and Wallace, N. 1973. ‘Rational’ expectations and the dynamics of
hyperinflation. International Economic Review 14, June, 328-50.
Webb, S.B. 1984. The supply of money and Reichsbank financing of government and
corporate debt in Germany, 1919—1923. Journal of Economic History 44, June,
499-507.
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЙ
И ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Джон Итуэлл
Import Substitution and Export-led Growth
John Eat well
В экономике, рост которой сдерживается ограничением платежно-
го баланса, необходимо предпринимать действия для увеличения экс-
порта или ограничения импорта. Эта избитая истина получает допол-
нительное измерение, если принятая внешнеторговая стратегия рас-
сматривается как часть общей стратегии развития. В этом случае оценка
любой конкретной внешнеторговой стратегии должна учитывать не
только аспект аллокации ресурсов, но также и последствия данной стра-
тегии для нормы накопления и технического прогресса.
В 1950-х и начале 1960-х годов, когда доллар был в дефиците, про-
мышленные страны, испытывающие ограничения со стороны платеж-
ного баланса, принимали совершенно разные внешнеторговые и про-
мышленные стратегии. Западная Германия проводила стратегию рас-
ширения экспорта посредством заниженного курса марки и субсидий
экспортным отраслям промышленности. В условиях быстрого роста
мировой торговли промышленными товарами и роста доли Западной
Германии в этой торговле бурный рост ее промышленного экспорта
создавал основы для внутреннего роста (Shonfield, 1962). Италия про-
водила аналогичную стратегию посредством регулярной девальвации
лиры даже при положительном сальдо счета текущих операций Ита-
лии.
Эти два примера экспортоориентированного экономического рос-
та заметно контрастируют со стратегиями, принятыми Францией и
Японией. Обе эти страны энергично защищали свои внутренние рын-
ки, используя рост промышленности в пределах внутреннего рынка как
трамплин для завоевания экспортных рынков. Обоснование этой по-
литики замещения импорта было дано заместителем министра внеш-
ней торговли и промышленности Японии г-ном Одзими:
«После войны японский экспорт вначале состоял из игрушек и других
подобных товаров и низкокачественных текстильных изделий. Следо-
вало ли Японии, согласно теории сравнительного преимущества, осно-
вывать свое будущее на этих отраслях промышленности с интенсив-
ным использованием труда ? Это было бы, возможно, разумным сове-
том для страны с небольшим населением в 5 или 10 млн человек. Но
Япония имеет большое население. Если бы японская экономика приняла
430
простую доктрину свободной торговли и решила специализироваться на
промышленности данного типа, она практически навсегда оказалась бы
привязанной к азиатскому пути стагнации и бедности...
Министерство внешней торговли и промышленности решило создать в
Японии отрасли промышленности, которые требуют интенсивного ис-
пользования капитала и техники, отрасли, которые, с точки зрения
сравнительных издержек, были бы наиболее неподходящими для Японии,
как, например, сталеплавильная, нефтеперерабатывающая, нефтехи-
мическая, автомобильная промышленность, производство оборудования
всех типов и электроника, включая производство компьютеров. С крат-
косрочной, статической точки зрения, поддержка таких отраслей про-
мышленности должна, кажется, противоречить экономической раци-
ональности. Но с перспективной точки зрения, это — именно те от-
расли промышленности, где эластичность спроса по доходу высока,
технологический прогресс интенсивен, а производительность труда
быстро растет...» (Ojimi, 1970).
Аргументация Одзими отражает дискуссию об импортозамещающем
и экспортоориентированном росте как стратегиях развития. Ортодок-
сальная теория международной торговли считает, что наиболее эффек-
тивную аллокацию ресурсов обеспечивает режим свободной торговли.
Эффективное развитие, следовательно, требует принятия концепции
свободной торговли с использованием валютных курсов в качестве
средства балансирования внешнеторговых потоков.
Этот аргумент основан на многих сильных предпосылках, в част-
ности на предположениях о том, что все страны имеют доступ к одним
и тем же технологиям, что рынки факторов находятся в равновесии
(труд используется полностью) и что все страны имеют равный доступ
ко всем рынкам, включая финансовые. Если эти и другие известные
предположения не выполняются, то эти аргументы в пользу свободной
торговли не проходят и нам приходится иметь дело с неопределеннос-
тью, характерной для субоптимальных ситуаций (second best).
Опровержение аргументов в пользу эффективности ценового ме-
ханизма, например на основе кейнсианского подхода, ведет также к
отрицанию эффективности свободной торговли. Кейнсианская аргу-
ментация лежала в основе так называемой стратегии структурных пре-
образований в Латинской Америке ECLA. Если при расширении внут-
реннего спроса не «выпускать» его за границу с помощью протекцио-
нистских мер, то внутренние сбережения и налоговые поступления
будут финансировать внутренние инвестиции и государственные рас-
ходы. Кроме того, прибыльность защищенного от конкуренции внут-
реннего производства будет способствовать дальнейшим инвестициям.
Процесс экономического роста будет тем самым самоподдержива-
ющимся.
Применение стратегий импортозамещения в Латинской Америке в
1950-х годах позволило вначале достичь значительных успехов. Выпуск
отечественных промышленных товаров быстро рос, как и занятость в
промышленности. Но позже эта политика была развенчана. Выясни-
лось, что замещение импорта имеет место в первую очередь в легкой
431
промышленности, в производстве потребительских товаров, в то вре-
мя как инвестиционные товары продолжают импортироваться. Следо-
вательно, после некоторого роста, связанного с замещением импорта
потребительских товаров, рост снова испытывал ограничение в виде
необходимости импорта оборудования. Кроме того, выяснилось, что
защищенная отечественная промышленность сравнительно неэффек-
тивна и не в состоянии конкурировать на мировых рынках. Эти аспекты
стали предметом оживленных дискуссий прежде всего потому, что они
затрагивают не только вопросы экономической эффективности, но и
вопросы национального суверенитета. Дискуссия началась с тех пор,
как МВФ отреагировал на трудности, с которыми встретились некото-
рые латиноамериканские страны, требованием устранения торговых ба-
рьеров, на которых была основана предшествующая стратегия развития.
Критика импортозамещения выходила за пределы традиционной
защиты свободы торговли и предполагала рассмотрение воздействия
различных внешнеторговых стратегий на структурные и технологичес-
кие изменения. Именно на этих основаниях Одзими оправдывал япон-
скую стратегию импортозамещения. Японский случай показывает, что
традиционная дихотомия между ростом, основанным на импортозаме-
щении, и ростом, ориентированным на экспорт, неверна. Хотя япон-
ская промышленность развивалась в пределах быстро расширяющего-
ся и защищенного внутреннего рынка, этот рост оказался трамплином
для экспансии на мировые рынки. Экспорт стимулировался внутрен-
ним ростом экономики.
Успешность японского (и французского) опыта импортозамещения
и проблемы, возникшие в странах Латинской Америки, не могут быть
объяснены в рамках статической концепции аллокационной эффектив-
ности. Успехи (как и их отсутствие), несомненно, были связаны с тех-
ническим прогрессом и промышленной модернизацией. Аргумент в
пользу свободной торговли должен, очевидно, состоять в том, что она
способствует наиболее быстрому внедрению новой техники, которая
обеспечивает сравнительные преимущества.
В интерпретации Николасом Калдором закона Вердоорна (Kaldor,
1966) предполагается, что темп прироста производительности в обра-
батывающей промышленности зависит от темпа прироста спроса на ее
продукты. С помощью этого тезиса могут быть оценены внешнеторго-
вые стратегии (см., например: Brailovsky, 1981).
Рост спроса на продукцию страны зависит от темпов роста ее внут-
реннего рынка, темпов роста экспортных рынков и темпов изменения
ее доли на этих рынках. Изменение долей рынков является медленным
и неопределенным процессом. Основным детерминантом роста спро-
са выступает рост рынков. Поскольку все страны конкурируют за доли
(приблизительно) одного и того же экспортного рынка, то именно рост
внутреннего рынка обусловливает основные отличия темпов роста
спроса на продукцию обрабатывающей промышленности разных стран.
Отсюда следует, что управление ростом внутреннего рынка с исполь-
зованием любых необходимых средств для ослабления ограничения
платежного баланса — наиболее эффективная стратегия развития.
432
Однако аргументация Вердоорна не учитывает реакцию производи-
тельности на данный темп роста спроса. Осуществление такой про-
мышленной политики, которая гарантирует, что промышленное раз-
витие «сбалансировано» и, следовательно, не базируется чрезмерно на
импорте, и направляет спрос к секторам, имеющим как наибольший
потенциал конкурентоспособности, так и самое высокое отношение
внутренней добавленной стоимости к объему замещаемого импорта,
скорее всего, принесет ощутимый результат.
Эффективность любой внешнеторговой стратегии зависит от поло-
жения мировой экономики в целом. Все страны не могут одновремен-
но добиться экспортоориентированного роста. Кроме того, успех стра-
тегии восстановления Западной Германии, несомненно, связан с тем,
что она осуществлялась в период бурного роста мировой торговли.
В эпоху, когда мировая торговля растет сравнительно медленно, ори-
ентация на экспорт вряд ли может служить надежной основой для бур-
ного роста спроса и, следовательно, для быстрого технического прогрес-
са.
БИБЛИОГРАФИЯ
Brailovsky, V. 1981. Industrialization and oil in Mexico: a long-term perspective. In
Oil or Industry?, ed. T. Barker and V. Brailovsky, London: Academic Press.
Kaldor, N. 1966. The Causes of the Slow Rate of Growth of the UK. Cambridge:
Cambridge University Press.
Ojimi, V. 1970. Japan’s industrialization strategy. In OECD, Japanese Industrial
Policy, Paris: OECD.
Shonfield, A. 1962. Modem Capitalism. Oxford: Oxford University Press.
ИНТЕРЕСЫ
Альберт О. Хиршман
Interests
Albert О. Hirschman
«Интерес» или «интересы» — одно из центральных и наиболее спор-
ных понятий в экономической науке и вообще в общественных науках
и истории. С тех пор как в конце XVI в. в различных европейских стра-
нах производные от латинского слова (interet, interesse и т.п.) приобре-
ли широкое распространение, данное понятие обозначает фундамен-
тальные силы, основанные на стремлении к самосохранению и само-
возвеличиванию, которые мотивируют или должны мотивировать
действия князя или государства, индивида, а позже групп людей, за-
нимающих сходное общественное или экономическое положение (клас-
сов, групп интересов). Что касается индивида, то понятие интереса в
некоторые периоды имело очень широкое значение, включая «заинте-
ресованность» в чести, славе, самоуважении и даже загробной жизни,
тогда как в другие периоды оно целиком ограничивалось стремлением
к экономической выгоде. Отношение к движимому интересом поведе-
нию также сильно менялось. Это понятие было первоначально введе-
но в оборот как эвфемизм уже в конце Средних веков, чтобы сделать
уважаемой деятельность по сбору «интереса» (процента) по займам,
которая долго считалась противоречащим божественному закону «гре-
хом ростовщичества». В своем более широком значении этот термин
временами пользовался огромным престижем, поскольку считалось, что
он обозначает ключ к действенному и мирному общественному поряд-
ку. Одновременно интерес подвергался нападкам как мотив, ведущий
к деградации человеческого духа и разрушению основ общества. Ис-
следование всех этих многочисленных смыслов и оценок есть, по сути,
изучение значительной части экономической истории, и в особеннос-
ти истории экономических и политических учений на Западе за по-
следние четыре столетия.
Кроме того, понятие интереса по-прежнему играет центральную
роль в современной экономической теории и политической экономии:
движимый собственным интересом изолированный индивид, который
свободно и рационально делает выбор между альтернативными вари-
антами действий после сопоставления их ожидаемых издержек и вы-
год для себя, т.е. игнорируя издержки и выгоды для других людей и для
общества в целом, в значительной мере лежит в основе экономичес-
кой теории благосостояния. Этот же подход породил такие важные, хотя
и дискуссионные результаты для более широкой области наук об об-
434
шественных взаимодействиях, как теорема о дилемме заключенного и
вывод о препятствиях для коллективных действий, возникающих из
наличия «безбилетников».
Два существенных элемента характеризуют действие, движимое
интересом: сосредоточенность на себе (self-centredness), т.е. преоблада-
ющее внимание субъекта к последствиям любого обдумываемого дей-
ствия для себя самого, и рациональный расчет, т.е. систематическое
стремление оценивать ожидаемые издержки, выгоды, удовольствия
и т.п. Расчет может считаться доминирующим элементом: если пред-
полагается, что действие основывается только на тщательной оценке
издержек и выгод, причем больший вес придается более известным и
более квантифицируемым среди них, оно становится сосредоточенным
на себе благодаря тому простому факту, что каждый человек наилуч-
шим образом информирован относительно своих собственных удовлет-
ворений и огорчений.
ИНТЕРЕСЫ И ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ.
Рациональный расчет сыграл также главную роль в возникновении
концепции движимых интересом действий князя в XVI и XVII вв. Этим
объясняются высокие оценки, которые движимое интересами полити-
ческое поведение получало в конце XVI — начале XVII в. Понятие
интереса использовалось на двух фронтах. Во-первых, оно позволило
зарождающейся науке об искусстве управления государством воспри-
нять важные идеи Макиавелли. Автор «Государя» изо всех сил пропа-
гандировал те аспекты политики, которые сталкивались со стандарт-
ной моралью. Он остановился на примерах, где правителю рекоменду-
ется или он вынужден практиковать жестокость, лживость, измену,
и т.д. Подобно тому как термин «интерес» стал использоваться как эв-
фемизм в связи с кредитованием вместо предшествующего термина
«ростовщичество», он вошел в политический словарь как средство для
анестезии, усвоения и развития шокирующих идей Макиавелли.
В начале новой эры, однако, «интерес» стал не только прикрыти-
ем, благодаря которому правитель получал новые возможности или осво-
бождался от чувства вины, совершая действия, которые прежде рас-
сматривались как безнравственные; этот термин также стал служить для
введения новых ограничений, так как он предписывал правителю пре-
следовать свои интересы рационально, расчетливо, что часто подразу-
мевало благоразумие и умеренность. В начале XVII в. интересы монарха
противопоставлялись диким и разрушительным страстям, таким, как
чрезмерное и неумное стремление к славе и всяческим излишествам,
входящее в дискредитированный к тому времени героический идеал
Средних веков и Возрождения. Этот дисциплинирующий аспект докт-
рины интереса был особенно убедительно изложен в существенно по-
влиявшем на умы очерке «Об интересах христианских князей и госу-
дарств», написанном государственным, деятелем, гугенотом, герцогом
Роганом (Rohan, 1579—1638).
Доктрина интереса, таким образом, снимала с правителя определен-
ные традиционные ограничения (или чувство вины) только для того,
435
чтобы подвергнуть его новым ограничениям, которые стали бы значи-
тельно более эффективными, чем приевшиеся апелляции к религии,
морали или абстрактному разуму. Возникла надежда, что если прави-
тель будет руководствоваться своими или национальными интересами,
то искусство управления государством сможет обеспечить более ста-
бильный политический порядок и более мирную жизнь.
ИНТЕРЕС И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Раннее разви-
тие концепции интереса в искусстве управления государством нашло
параллель в той роли, которую эта концепция сыграла в формирова-
нии норм поведения отдельных мужчин и женщин в обществе. Здесь
также новые послабления шли рука об руку с новыми ограничениями.
Новые послабления состояли в легитимизации и даже восхвалении
целенаправленного стремления к индивидуальному материальному
богатству и деятельности, благоприятствующей его накоплению. Так
же, как Макиавелли открыл новые горизонты для государя, то же са-
мое сделал через два столетия Мандевиль, ревизовав список заповедей
для обычного гражданина, прежде всего касавшихся делания денег.
И вновь новые идеи о человеческом поведении и общественном поряд-
ке сначала предстали поразительным, шокирующим парадоксом. По-
добно Макиавелли, Мандевиль изложил свои идеи, продемонстриро-
вав положительное воздействие на общее благосостояние отраслей, про-
изводивших предметы роскоши (которые в течение долгого времени
строго регулировались), в чрезвычайно вызывающей форме называя де-
ятельность, мотивы и чувства, связанные с этими видами деятельнос-
ти, «частными пороками». И вновь его существенные выводы в конеч-
ном счете были усвоены обществом путем изменения языка. В третий
раз термин «интерес» послужил эвфемизмом, на этот раз заменив та-
кие слова, как «жадность», «любовь к наживе» и т.д. Переход от одно-
го набора терминов к другому отражен в первых строках очерка Дави-
да Юма «О независимости парламента»:
«Политики установили принцип, согласно которому при формировании
любой системы правления и установлении конституционных издержек
и противовесов каждый человек предполагается плутом, и нет друго-
го объяснения всем его действиям, кроме частного интереса. Через этот
интерес мы должны управлять им, и, заставить его, вопреки ненасыт-
ной жадности и амбициям, содействовать общественному благу»
(Ните, 1742, vol. I, р. 117—118, выделено в подлиннике).
Здесь интерес явно приравнивается к плутовству и «ненасытной
жадности». Но вскоре память об этих неприятных синонимах интере-
са была стерта, как, например, в знаменитом утверждении Адама Смита
о мяснике, пивоваре и пекаре, которых влечет к обеспечению наших
ежедневных потребностей их собственный интерес, а не благожелатель-
ность. Смит, таким образом, сделал для Мандевиля то же, что герцог
Роган сделал для Макиавелли. Его принцип «невидимой руки» узако-
нил общую поглощенность гражданина стремлением к частной выго-
де и тем самым послужил смягчению чувства вины, которое, вероят-
но, испытывали многие англичане, вовлеченные в торговлю и промыш-
436
ленность во время коммерческой экспансии XVIII в., но были воспи-
таны на гуманистических принципах, предписывавших им служить
общественному интересу непосредственно (Рососк, 1982). Теперь они
могли успокоить свою совесть тем, что, стремясь к получению выго-
ды, они служили общему благу косвенно.
На самом деле Адам Смит не ограничился восхвалением стремле-
ния к частной выгоде. Он также критиковал вовлеченность граждан в
общественные дела. Сразу после тезиса о «невидимой руке» он напи-
сал: «Мне ни разу не приходилось слышать, чтобы много хорошего
было сделано теми, которые делали вид, что они ведут торговлю ради
блага общества» (Smith, 1776, р. 423 // Смит, 1961, с. 332). За десять
лет до этого сэр Джеймс Стюарт дал интересное обоснование анало-
гичного неприятия участия граждан в общественных делах:
«...если бы каждый действовал в интересах общества и пренебрегал
собой, то государственные деятели были бы поставлены в тупик... если
бы люди не были заинтересованы, то не было бы никакой возможности
управлять ими. Люди могли бы рассматривать интересы страны в раз-
ном свете, и многие могли бы объединиться в ее разрушении, пытаясь
добиться ее блага» (Steuart, 1767, vol. I, р. 243—244).
В дополнение к открытию новой области санкционированного и
рекомендуемого поведения эти утверждения указывают на важные огра-
ничения, которые сопровождали концепцию интереса. Для индивиду-
ального гражданина или подданного, как и для правителя, движимое
интересом действие означало первоначально действие на основе раци-
онального расчета в любой области человеческой деятельности — по-
литической, культурной, экономической, личной и т.д. В XVII и в на-
чале XVIII в. такое методичное, благоразумное, движимое интересом
действие выглядело значительно предпочтительнее действий, продик-
тованных сильными, неуправляемыми и беспорядочными страстями.
В то же время интересы огромного большинства людей, находящихся
вне верхних этажей власти, были определены более узко как экономи-
ческие, материальные или «денежные» интересы, вероятно, потому, что
не входящие в элиту люди считались занятыми главным образом по-
иском средств к существованию, не имея времени, чтобы беспокоить-
ся о чести, славе и тому подобных вещах. Превознесение интереса да-
ровало легитимность и престиж коммерческой и связанной с ней част-
ной деятельности, которая ранее ранжировалась довольно низко в
общественной оценке; соответственно, идеал славы эпохи Возрожде-
ния, для которого было характерно возвышение публичной сферы,
принижался и развенчивался как простая уступка разрушительной стра-
сти себялюбия (Hirschman, 1977, р. 31-42).
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА, ОСНОВАННОГО НА ИНТЕРЕСАХ. Идея о том, что ин-
тересы, понятые как методичное стремление к приобретению и накоп-
лению частного богатства, должны принести многие выгоды в поли-
тической области, приняла многообразные формы. Прежде всего су-
ществовало ожидание того, что интересы позволят достигнуть на
437
макроуровне того, что, как предполагалось, было достигнуто на уров-
не индивида, — сдержать разрушительные страсти «правителей чело-
вечества». Здесь наиболее известен высказанный в начале XVIII в. те-
зис о том, что развитие торговли несовместимо с использованием силы
в международных отношениях и должно постепенно обеспечить проч-
ный мир. Еще более утопические надежды возлагались на роль торговли
во внутренней политике: сеть интересов, тонко сотканная тысячами
сделок, должна помешать правителю осуществлять свою власть грубо
и безоглядно, прибегая к тому, что было названо Монтескье «grands
coups d’autorite» (причудами власти) и сэром Джеймсом Стюартом «кап-
ризами деспотизма». Эта мысль получила дальнейшее развитие в на-
чале XIX в., когда сложности растущего промышленного производства
наложились на сложности торговли: согласно технократической теории
Сен-Симона наступало время, когда экономическая необходимость
положит конец не только злоупотреблениям властью со стороны госу-
дарства, но и любой власти человека над человеком, — политика должна
быть заменена управлением «вещами». Как известно, это предположе-
ние было принято марксизмом, предсказывавшим отмирание государ-
ства при коммунизме. Аргумент, который столетием ранее был выдви-
нут от имени возникающего капитализма, таким образом, обновлялся
для нужд новой, антикапиталистической утопии.
Другая линия политической мысли, говоря об обществе, движимом
интересами, обращает больше внимания не на ограничения, налага-
емые обществом на руководителей, а на трудности управления. Как уже
отмечалось, мир, где люди методично преследуют свои частные инте-
ресы, будет значительно более предсказуемым и, следовательно, более
управляемым, чем мир, где граждане соперничают друг с другом ради
чести и славы.
Устойчивость и отсутствие волнений, которые, как ожидалось, ха-
рактеризуют страну, где люди преследуют только свои материальные
интересы, занимали умы таких «изобретателей Америки», как, напри-
мер, Джеймс Мэдисон и Александр Гамильтон. Огромный престиж и
влиятельность концепции интереса в период основания американско-
го государства хорошо отражены в утверждении Гамильтона:
«Самое надежное, на что может полагаться любое правительство, —
это интересы человека. Это — принцип человеческой природы, на ко-
тором, чтобы быть справедливыми, должны быть основаны все поли-
тические рассуждения» (Hamilton [1784], приведено в Terence Ball, 1983,
р. 45).
Наконец, многие авторы, по существу, экстраполировали предпо-
лагаемые признаки личности индивидуального торговца как прототи-
па движимого интересами человека на общие характеристики общества,
где такие торговцы преобладают. В XVIII в., возможно в результате
продолжавшегося несколько пренебрежительного отношения к эконо-
мическим мотивам, торговля и «делание денег» часто описывались как
по существу безвредные или «невинные» способы времяпрепровожде-
ния, в противовес несомненно более связанной с насилием или требу-
ющей больших усилий деятельности высших или низших классов.
438
Коммерция должна была привнести в жизнь «мягкие» и «изысканные»
манеры. Во французском языке термин «невинный» в приложении к
коммерции часто сочетался со словом «doux» (нежный, мягкий), и так
называемая доктрина «doux commerce» утверждала, что коммерция яв-
ляется могущественной цивилизующей силой, распространяющей бла-
горазумие, честность и другие подобные достоинства внутри торгующих
обществ и между ними (Hirschman, 1977, 1982а). Только под влияни-
ем Французской революции возникли некоторые сомнения в направ-
ленности причинной связи между коммерцией и цивилизованным об-
ществом: пораженный столь масштабным взрывом общественного на-
силия, Эдмунд Берк предположил, что развитие коммерции само
зависит от предшествующего наличия «хороших манер» и «цивилизации»
и от того, что он назвал «естественными защитными принципами»,
основанными на «духе джентльменства» и «религиозном духе» (Burke,
1790, р. 115; Рососк, 1982).
НЕВИДИМАЯ РУКА. Краеугольным камнем доктрины собствен-
ного интереса стала, конечно, концепция «невидимой руки» Адама
Смита. Хотя эта концепция, ограниченная экономической областью,
была более умеренной, чем более ранние предположения о благотвор-
ных политических эффектах торговли и обмена, она вскоре стала до-
минирующей в научных дискуссиях. Интригующий парадокс заключал-
ся в утверждении, что общий интерес и общее благосостояние обеспе-
чивают деятельность на основе собственных интересов бесчисленных
децентрализованных агентов. Разумеется, это был не первый и не по-
следний случай утверждений о тождественности, совпадении или гар-
монии интересов части и целого. Гоббс отстаивал абсолютную монар-
хию на том основании, что этот способ правления приводит к тожде-
ственности интересов управляющего и управляемых; как только что
отмечалось, авторы шотландского Просвещения считали тождествен-
ными общие интересы британского общества и интересы средних сло-
ев; такое тождество между интересами одного класса и общества стало
позже краеугольным камнем марксизма (пять средних слоев, разуме-
ется, занял пролетариат), и наконец, американская школа плюрализ-
ма в политической науке возвратилась, по существу, к описанной Сми-
том схеме гармонии между многими отдельными интересами и общим
интересом, где индивидуальные экономические агенты Смита замене-
ны соперничающими «группами интересов» на политической арене.
Все эти «учения о гармонии» («Harmonielehren») имеют два общих
момента: «реалистичное» утверждение о том, что мы должны иметь дело
с мужчинами и женщинами или с их группами в том виде, «как они
действительно существуют», и попытку доказать, что можно достичь
осуществимого и прогрессивного общественного порядка с этими очень
несовершенными субъектами как бы за их спиной. Смесь парадоксаль-
ных идей и некоторой «алхимии», присутствующая в этих конструкци-
ях, делает их очень привлекательными, но она также приводит, в кон-
це концов, к их уязвимости.
439
АТАКА НА ИНТЕРЕСЫ, В XVII столетии доктрина интересов, воз-
можно, достигла высшей точки. Управление обществом миром с по-
мощью интересов в тот период рассматривалось как альтернатива гос-
подству разрушительных страстей, считалось меньшим злом, а возмож-
но, однозначным благом. В XVIII столетии эта доктрина существенно
продвинулась в области экономики с помощью теории «невидимой
руки», но ей принесло косвенный урон появление более оптимисти-
ческого взгляда на «страсти»: таким страстным чувствам, как чувство
любопытства, щедрости и симпатии, стало уделяться большее внима-
ние, последнему из них — в «Теории нравственных чувств» самого
Адама Смита. По сравнению с этими замечательными, вновь обнару-
женными или реабилитированными пружинами человеческих действий
интерес больше не выглядел таким привлекательным. Это стало одной
из причин движения против парадигмы интереса, которое развернулось
к концу XVIII в. и питало несколько мощных интеллектуальных дви-
жений XIX в.
В действительности страсти не должны были целиком трансформи-
роваться в благотворные чувства, чтобы новые поколения относились
к ним с уважением и даже с восхищением. Поскольку считалось, что
за эпохой активной коммерческой и промышленной экспансии стояли
интересы, кампания против них шла под лозунгом сожаления о «мире,
который мы потеряли». Французская революция принесла с собой еще
одно чувство потери, и Эдмунд Берк соединил два этих чувства, когда
он воскликнул в своих «Рассуждениях о революции во Франции»: «Век
рыцарства ушел; пришло время софистов, экономистов и расчетчиков;
и слава Европы угасла навсегда» (Burke, 1790, р. 111). Это знаменитое
утверждение появилось ровно через 14 лет после того, как в «Богатстве
народов» было осуждено правление «великих лордов» как «время на-
силия, грабежа и беспорядков» и были отмечены преимущества, выте-
кающие из следования каждого его собственным интересам через реа-
лизацию нормальных экономических устремлений. Берк был страстным
поклонником Адама Смита и очень гордился совпадением своих взгля-
дов на экономические вопросы со взглядами Адама Смита (Winch, 1985;
Himmelfarb, 1984). Его заявление об «эпохе рыцарства», столь проти-
воречащее интеллектуальному наследию Смита, следовательно, свиде-
тельствует об одном из тех внезапных изменений в общем настроении
и понимании, происходящих при смене эпохи, о которых едва ли в пол-
ной мере догадываются их носители. Критика Берка задала тон значи-
тельной части последующих романтических протестов против поряд-
ка, базировавшегося на интересах, у которого, как только он оказался
доминирующим, многими был отмечен недостаток благородства, таин-
ственности и красоты.
Эта ностальгическая реакция соединилась с наблюдением о том, что
интересы, т.е. стремление к материальному богатству, не оказались
столь «безвредными», «невинными» или «мягкими», как некоторые
думали или утверждали. Наоборот, у стремления к материальному бо-
гатству вдруг обнаружилась подрывная сила огромной мощности. То-
мас Карлейль утверждал, что все традиционные ценности испытыва-
440
ют угрозу со стороны «этой грубой и забывшей о Боге философии при-
былей и убытков», и, протестуя, указывал, что «денежный платеж — не
единственная форма уз, связывающих человека с человеком» (Carlyle,
1843, р. 187). Эта фраза — «денежные узы» — была широко и эффек-
тивно использована Марксом и Энгельсом в первом разделе «Комму-
нистического Манифеста», где они нарисовали яркую картину мораль-
ного и культурного опустошения, приносимого побеждающей буржу-
азией.
Многие другие критики капиталистического общества отмечали
разрушительность новых сил, высвобождаемых тем общественным
порядком, в котором интересы получили свободу и господство. Возник-
ло мнение, что эти силы были дикими и саморазрушительными, что
они могли подорвать сами основы, на которых покоился обществен-
ный порядок. Внезапно феодальное общество, которое раньше счита-
ли «грубым и варварским» и постоянно находящимся на грани разру-
шения из-за неконтролируемых страстей правителей и грандов, стало
восприниматься в ретроспективе как оплот таких ценностей, как честь,
уважение, дружба, доверие и лояльность, которые, оставаясь сущест-
венными для функционирования общества, где доминируют интере-
сы, неумолимо, хоть и неумышленно подрывались им. Этот аргумент
отчасти уже содержался в утверждении Берка о том, что цивилизован-
ное общество создает фундамент для коммерции, а не наоборот; этот
тезис развивался в дальнейшем большой группой разных авторов, от
Рихарда Вагнера через Шумпетера до Карла Поланьи и Фреда Хирша
(Hirschman, 1982а, р. 1466-1470).
«ВЫХОЛОЩЕННЫЕ» ИНТЕРЕСЫ. Хотя в XIX в. доктрина ин-
тересов столкнулась со значительной оппозицией и критикой, ее пре-
стиж оставался, тем не менее, высоким, особенно вследствие бурного
развития экономической науки — новой области научной мысли. Успех
этой новой науки привел к попыткам использовать ее идеи, такие, на-
пример, как концепции интереса, для объяснения некоторых неэконо-
мических аспектов социального мира. В своем «Очерке о государствен-
ном управлении» Джеймс Милль (Mill, 1820) сформулировал первую
«экономическую» теорию политики и основал ее — так же, как позднее
Шумпетер, Энтони Даунс, Мансур, Олесон и другие, — на предполо-
жении о рациональном следовании собственным интересам. Но это
расширенное использование понятия интереса имело и негативные
последствия. В политике, как пришлось признать Миллю, разрыв меж-
ду «реальным интересом» гражданина и «ложным предположением
[т.е. восприятием] интереса» может быть чрезвычайно широким и вести
к большим проблемам (Mill, 1820, р. 88).
Эта трудность была отмечена в статье Маколея в Edinburgh Review
(Macaulay, 1829). Маколей отметил, что теория Милля оказалась пус-
той; понятие «интерес» «означает, что люди, если могут, делают то, что
считают нужным... глупо придавать какое-либо значение предположе-
нию, которое будучи осмысленным означает только, что человек пред-
почитает делать то, что он предпочитает делать» (р. 125).
441
Обвинение в том, что доктрина интереса была, по существу, тавто-
логичной, приобретало тем ббльшую силу, чем больше сторон пыта-
лось ее использовать, стараясь подогнать концепцию интереса к сво-
им собственным нуждам. Как и многие ключевые понятия, использо-
вавшиеся в повседневном обиходе, «интерес» никогда не был строго
определен. Наиболее часто он понимался как индивидуальное стрем-
ление к материальной выгоде, но более широкие значения также ни-
когда полностью не упускались из виду. Чрезвычайно широкая и все-
объемлющая интерпретация этого понятия была выдвинута на весьма
раннем этапе его истории: «пари» Паскаля было не чем иным, как по-
пыткой показать, что вера в Бога (и, следовательно, поведение в соот-
ветствии с его предписаниями) строго соответствует нашим собствен-
ным (долгосрочным) интересам. Таким образом, понятие просвещенного
собственного интереса имеет долгую историю. Но в XIX в. оно пере-
жило расцвет и получило специальное, конкретное значение. На зло-
вещем фоне революционных взрывов и сдвигов защитники обществен-
ных реформ утверждали, что доминирующая общественная группа нуж-
дается в добром совете, чтобы расстаться с некоторыми привилегиями
и улучшить плачевное положение низших классов с тем, чтобы обес-
печить общественный мир. К «просвещенному» собственному интересу
высших классов и консервативному общественному мнению апелли-
ровали, например, французские и английские защитники всеобщего
избирательного права или избирательной реформы в середине столе-
тия, аналогично поступали сторонники первых мер социального зако-
нодательства в Германии и других странах в конце столетия и, нако-
нец, Кейнс и кейнсианцы, поддерживавшие ограниченное вмешатель-
ство государства в экономику посредством антициклической политики
и «автоматических стабилизаторов», являющихся результатом функци-
онирования государства благосостояния. Эти призывы часто делались
реформаторами, которые, будучи полностью убеждены в значимости и
социальной справедливости предлагаемых ими мер, пытались привлечь
на свою сторону влиятельные общественные группы, обращаясь к их
долгосрочным, а не краткосрочным и, следовательно, как предполага-
лось, близоруко понимаемым интересам. Однако этот прием нельзя
назвать чисто тактическим. Он применялся совершенно искренне, что
свидетельствовало о сохраняющей престиж концепции, согласно кото-
рой движимое интересами общественное поведение является наилуч-
шей гарантией стабильного и гармоничного общественного порядка.
В то время как высшие классы общества испытывали давление с
тем, чтобы они проявили свои собственные просвещенные интересы,
низшим классам примерно в ту же эпоху также настойчиво рекомен-
довалось подняться над повседневными заботами. Маркс и марксисты
призвали рабочий класс познать свои действительные интересы и от-
бросить «ложное сознание», от которого, по их словам, он страдает,
пока целиком не посвятит себя классовой борьбе. Терминология ин-
тересов была вновь позаимствована для того, чтобы охарактеризовать
и представить достойным тип поведения, рекомендованный определен-
ной социальной группе.
442
Таким образом, понятие движимого интересами поведения оказа-
лось выхолощенным. К этому добавлялось прогрессирующее стирание
резких граней между страстями и интересами. Уже Адам Смит исполь-
зовал эти два понятия совместно и взаимозаменяемо. Хотя в XIX в.
стало абсолютно ясно, что желание накапливать богатство было мало
похоже на «спокойную страсть», как его характеризовали некоторые
философы XVIII в., не произошло никакого возврата к более раннему
различию между интересами и страстями или между «дикими» и «мяг-
кими» страстями. «Делание денег» было раз и навсегда идентифици-
ровано с понятием интереса, так что все формы этой деятельности,
даже движимые страстью или иррациональные, автоматически счита-
лись движимыми интересами. По мере того как появились новые фор-
мы накопления и построения промышленных или финансовых импе-
рий, вводились и новые понятия, такие, как, например, предпринима-
тельское лидерство и интуиция (Schumpeter, 1911) или «animal spirits»*
капиталистов (Keynes, 1936, р. 161-163). Они, однако, не контрасти-
ровали с интересами и вполне принимались как их проявления.
Таким образом, интересы покрыли фактически всю область чело-
веческой деятельности — от узкоэгоистичной до жертвенно альтруис-
тической и от разумно просчитанной до движимой страстями. В кон-
це концов интерес стали видеть за всем, что делают или хотят делать
люди, и объяснение человеческих действий интересами превратилось
в пустую тавтологию, осужденную Маколеем. Примерно в то же вре-
мя и другие ключевые и освященные веками понятия экономического
анализа, такие, как, например, полезность и ценность, аналогичным
образом были очищены от своего более раннего психологического или
нормативного содержания. Позитивистски ориентированная экономи-
ческая наука, которая процветала в течение значительной части
XX столетия, почувствовала, что она смогла бы обойтись без любого из
этих понятий, и заменила их на менее ценностно или психологически
нагруженные «выявленные предпочтения» и «максимизацию при нали-
чии ограничений». Таким образом, дошло до того, что интерес, служив-
ший столь долго и верно в качестве эвфемизма, теперь был заменен, в
свою очередь, различными еще более нейтральными и бесцветными
неологизмами.
Развитие понятия собственного интереса да и экономического ана-
лиза в целом в направлении позитивизма и формализма, возможно,
было связано с открытием в конце XIX в. инстинктивно-интуитивно-
го, привычного, подсознательного, движимого идеологическими и не-
вротическими факторами поведения — короче говоря, чрезвычайной
популярностью всего нерационального, которая была характерна прак-
тически для всех влиятельных философских, психологических и соци-
ологических течений этого времени. Экономическая наука, полностью
базировавшаяся на рациональном стремлении к реализации собствен-
ного интереса, не могла включить в свой арсенал эти новые открытия.
Поэтому данная дисциплина среагировала на интеллектуальную моду
* В русском издании переведено как «жизнерадостность». — Примеч. ред.
443
эпохи, отойдя от психологии в максимально возможной степени и ли-
шив свои основные понятия их психологического начала, — это была
стратегия выживания, которая оказалась весьма успешной. Конечно,
трудно доказать, что подъем иррационализма в психологии и социоло-
гии и торжество позитивизма и формализма в экономической науке
действительно были связаны таким образом. Некоторым подтвержде-
нием может служить замечательный пример Парето: он внес фундамен-
тальный вклад как в социологию, где выделил сложные «не-логичес-
кие» (как он их называет) аспекты социального действия, так и в эко-
номическую теорию, которая освободилась от зависимости от
психологического гедонизма.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ. В последнее время появились
признаки недовольства растущим выхолащиванием понятия интереса.
Сторонники консервативных взглядов вернулись к ортодоксальному
значению понятия интереса и стали оспаривать доктрину «просвещен-
ного собственного интереса». Помимо открытия, впервые сделанного
Токвилем о том, что реформы скорее способны «спустить с привязи»,
чем предотвратить революцию, отмечалось, что даже продиктованные
самыми благими намерениями реформистские меры имеют негативные
побочные эффекты, которые усиливают, а не смягчают общественное
зло, для устранения которого эти реформы проводятся. С этой точки
зрения было бы лучше всего не отклоняться от пути узко трактуемого
собственного интереса, и выхолащивание этого понятия представлялось
ошибочным и сбивающим с толку.
Другие исследователи согласились с последним утверждением, но
по иным причинам и с иными выводами. Они также испытывали не-
приязнь к попытке подвести каждое из многообразия человеческих
действий под категорию интереса. Они, однако, считали значимыми для
экономической теории определенные виды человеческой деятельнос-
ти, которые не могут быть объяснены традиционным понятием соб-
ственного интереса: действия, мотивированные альтруизмом, этичес-
кими ценностями, заботой о групповых или общественных интересах
и — возможно, самое важное — различные виды неинструментального
поведения. Начало было положено рядом экономистов и представите-
лей других общественных наук, которые всерьез приняли эти виды
деятельности, отказавшись от попыток определить их просто как раз-
новидности поведения, движимого интересами (Boulding, 1973; Collard,
1978; Hirschman, 1985; Margolis, 1982; McPherson, 1984; Phelps, 1975;
Schelling 1984; Sen, 1977).
Важный аспект указанных форм поведения, который не соответ-
ствует классической концепции действия, движимого интересом, — это
то, что они подвержены значительным вариациям. Рассмотрим как
пример действие в общественных интересах. Существует большое раз-
нообразие таких действий — от общего участия в некотором движении
протеста до голосования в день выборов и т.д. вплоть до простого вор-
чания или комментирования государственной политики в рамках не-
большого круга друзей или семьи — то, что Гильермо О’Доннелл на-
444
звал «горизонтальным голосом» в противовес «вертикальному голосу»,
непосредственно обращенному к властям (O’Donnel, 1986). Фактичес-
кая степень участия в этих видах деятельности при более или менее
нормальных политических условиях подвержена постоянным колеба-
ниям в соответствии с изменениями экономических условий, деятель-
ностью правительства, личным развитием и многими другими факто-
рами. В результате с учетом ограниченности общего времени для час-
тной и общественной деятельности интенсивность преследования
гражданами их частных интересов также подвержена постоянным из-
менениям. Почти полная приватизация происходит только при опре-
деленных авторитарных правительствах, поскольку наиболее репрессив-
ные режимы не только уничтожают свободу голосования и любые от-
крытые манифестации несогласия, но также подавляют путем
демонстрации готовности к террору все частные выражения несогла-
сия с государственной политикой, т.е. все те проявления «горизонталь-
ного голоса», которые являются действительно важными формами уча-
стия в общественной жизни.
Отсюда следует поразительный вывод. Хваленый идеал предсказу-
емости, воображаемая идиллия общества, состоящего из частных лиц,
уделяющих исключительное внимание своим экономическим интере-
сам и тем самым косвенно (но никогда — прямо) служащих обществен-
ному интересу, становится действительностью только при абсолютно
кошмарных политических условиях! Более цивилизованные политичес-
кие обстоятельства обязательно подразумевают менее прозрачное и
менее предсказуемое общество.
На самом деле этот результат последних исследований видов дея-
тельности, строго не мотивированных традиционными индивидуаль-
ными интересами, ведет к оптимистическому выводу: единственной
определенной и предсказуемой характеристикой человеческих дел яв-
ляется их непредсказуемость, и бесполезно пытаться свести человечес-
кое действие к единственному мотиву — такому, как, например, инте-
рес.
БИБЛИОГРАФИЯ
Ball, Т. 1983. The ontological presuppositions and political consequences of a social
science. In Changing Social Science, ed. D.R. Sabia, Jr. and J.T. Wallulis, Albany.
State University of New York Press.
Boulding, K.E. 1973. The Economy of Love and Fear: A Preface to Grants Economics.
Belmont, California: Wadsworth.
Burke, E. 1790. Reflections on the Revolution in France. Chicago: Regnery, 1955.
Carlyle, T. 1843. Past and Present. New York: New York University Press, 1977.
Collard, D. 1978. Altruism and Economy: A Study in Non-selfish Economics. Oxford:
Robertson.
Collini, S., Winch, D. and Burrow, J. 1983. That Noble Science of Politics: A Study
in Nineteenth-century Intellectual History. Cambridge: Cambridge University
Press.
445
Hamilton, A. 1784. Letters from Phocion, Number I. In The Works of Alexander
Hamilton, ed. John C. Hamilton, New York: C.S. Francis, 1851, Vol. II, 322.
Himmelfarb, G. 1984. The Idea of Poverty: England in the Early Industrial Age. New
York: Knopf.
Hirschman, A. O. 1977. The Passions and the Interests: Political Arguments for
Capitalism Before its Triumph. Princeton: Princeton University Press.
Hirschman, A. 0.1982a. Rival interpretations of market society: civilizing, destructive,
or feeble? Journal of Economic Literature 20(4), December, 1463—84.
Hirschman, A. 0.1982b. Shifting Involvements: Private Interest and Public Action.
Princeton: Princeton University Press.
Hirschman, A. O. 1985. Against parsimony: three easy ways of complicating some
categories of economic discourse. Economics and Philosophy 1, 7—21.
Hume, D. 1742. Essays Moral, Political and Literary. Ed. Т.Н. Green and Т.Н. Grose,
London: Longmans, 1898.
Keynes, J.M. 1936. The General Theory of Employment, Interest and Money. London:
Macmillan; New York: Harcourt, Brace // Кейнс Дж. M. (1978). Общая тео-
рия занятости, процентов и денег. М.: Прогресс.
Macaulay, Т.В. 1829. Mill’s Essay on Government. In Utilitarian Logic and Politics,
ed. J. Lively and J. Rees, Oxford: Clarendon, 1978.
McPherson, M.S. 1984. Limits on self-seeking: the role of morality in economic life. In
Neoclassical Political Economy, ed. D.C. Colander, Cambridge, Mass.: Ballinger.
Margolis, H. 1982. Selfishness, Altruism and Rationality. Cambridge: Cambridge
University Press.
Meinecke, P. 1924. Die Idee der Staatsrason in der neueren Geschichte. Munich: Oldenburg.
Mill, J. 1820. Essay on Government. In Utilitarian Logic and Politics, ed. J. Lively
and J. Rees, Oxford: Clarendon, 1978.
O’Donnell, G. 1986. On the convergences of Hirschman’s Exit, Voice and Loyalty and
Shifting Involvements. In Development, Democracy and the Art of Trespassing:
Essays in Honor of A.O. Hirschman, ed. A. Foxley et al, Notre Dame, Ind.:
University of Notre Dame Press.
Phelps, E.S. (ed.) 1975. Altruism, Morality and Economic Theory. New York: Russell
Sage Foundation.
Pocock, J.G.A. 1982. The political economy of Burke’s analysis of the French
Revolution. Historical Journal 25, June, 331-49.
Rohan, H., Due de. 1638. De I’interet des princes et etats de la chretienite. Paris: Pierre
Margat.
Schelling, T.C. 1984. Choice and Consequence. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press.
Schumpeter, J.A. 1911. The Theory of Economic Development. Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1951 // Шумпетер Й. (1982). Теория экономичес-
кого развития.
Sen, А. 1977. Rational fools: a critique of the behavioral foundations of economic
theory. Philosophy and Public Affairs 6(4), Summer, 317—44.
Smith, A. 1776. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Ed.
E. Cainnan, New York: Modem Library, 1937 // Смит A. (1962). Исследова-
ние о природе и причинах богатства народов.
Steuart, J. 1767. Inquiry into the Principles of Political Oeconomy. Ed. A.S. Skinner,
Chicago: University of Chicago Press, 1966.
Winch, D. 1985. The Burke-Smith problem and late eighteenth century political and
economic thought. Historical Journal 28(1), 231-47.
446
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ
СРАВНЕНИЯ ПОЛЕЗНОСТИ
Джон Харсаньи
Interpersonal Utility Comparisons
John C. Harsanyi
Предположим, у меня есть билет на концерт музыки Моцарта, но
попасть на него я не смогу и поэтому намереваюсь предложить его
одному из моих близких друзей. Кого же из друзей мне выбрать? В по-
исках ответа на этот вопрос я, конечно, приму во внимание то, какой
из моих друзей получит наибольшее удовольствие от посещения концер-
та. В более общем случае, когда люди решают, кому они в частном
порядке окажут помощь, или когда избиратели или государственные
чиновники определяют, кому должно помогать правительство, — одним
из естественных критериев выбора всегда оказывается ответ на следу-
ющий вопрос: кто получит наибольшую выгоду или наибольшую полез-
ность от этой помощи? А такой ответ неизбежно предполагает осущест-
вление межличностных сравнений полезности (или хотя бы попытки
таких сравнений).
На уровне здравого смысла такие межличностные сравнения дела-
ем мы все. Однако с философской точки зрения значение и ценность
этих сравнений могут быть поставлены под сомнение. Ведь непосред-
ственная интроспекция дает нам доступ лишь к нашим собственным
психическим процессам (таким, как наши предпочтения или наши
чувства удовлетворенности и неудовлетворенности). Эти процессы
определяют нашу собственную функцию полезности; в то же время ин-
формация о процессах, происходящих в психике других людей, может
быть лишь весьма косвенной. Многие экономисты и философы при-
держиваются той точки зрения, что ограниченность нашей информа-
ции о психике других людей делает значимые межличностные сравне-
ния полезности в принципе невозможными.
СРАВНЕНИЯ УРОВНЕЙ ПОЛЕЗНОСТИ И РАЗНОСТЕЙ ПО-
ЛЕЗНОСТИ. Если такие сравнения в принципе все же возможны, то
во всяком случае надо строго различать межличностные сравнения
уровней полезности и межличностные сравнения разностей (т.е. уве-
личений или уменьшений) полезности.
Одно дело — сравнить уровень полезности ЩА), которого достиг-
нет (или может достичь) индивид i в ситуации Л, с уровнем полезнос-
ти U^B), которого достигнет (или может достичь) другой индивиду в
ситуации В (А и В могут обозначать как одни и те же, так и разные
447
ситуации). И совсем другое дело — провести межличностное сравне-
ние разностей полезности — например, сравнить приращение
ДЦ(4 А') = ЩА) - ЩА), (1)
которое индивид i мог бы получить при переходе из ситуации А в си-
туацию А, с приращением
В’) = ЩВ') - ЩВ), (2)
которое индивид J мог бы получить при переходе из В в В’. Возмож-
ность одного из этих двух видов межличностных сравнений (уровней
или разностей полезности) еще не означает возможности другого (Sen,
1970).
Разные этические теории подразумевают разные виды межличност-
ной сравнимости полезности. Так, утилитаризм, который требует мак-
симизировать функцию общественной полезности (общественного
благосостояния), определенную как сумма всех индивидуальных по-
лезностей, неизбежно должен исходить из межличностной сравнимо-
сти разностей полезности. (По некоторым причинам общественную
полезность имеет смысл определять как среднее арифметическое ин-
дивидуальных полезностей, а не как их сумму (Harsanyi, 1955). Одна-
ко для большинства задач — точнее, для тех, которые не связаны с
анализом демографической политики, — эти последние определения
эквивалентны, так как если число индивидов можно считать посто-
янным, то максимизация суммы полезностей с математической точ-
ки зрения эквивалентна максимизации их средней арифметической.)
Вместе с тем полезности разных людей нельзя складывать, если только
их нельзя выразить в одинаковых единицах полезности, а чтобы по-
нять, соблюдается ли это условие, надо сравнить разности полезнос-
тей для разных индивидов. С другой стороны, утилитаризм не требу-
ет сравнения уровней полезности индивидов, поскольку сравнимость
начал координат индивидуальных шкал полезности для этой доктри-
ны не имеет значения.
Межличностные сравнения полезностей, которые мы делаем в по-
вседневной жизни, по большей части также связаны с сопоставления-
ми разностей полезности. Так, сравнение полезности разных людей от
посещения концерта в нашем исходном примере, очевидно, требует
сравнения разностей их полезностей.
Напротив, основанная на концепции полезности теория справед-
ливости Ролза (Rawls, 1971) требует межличностного сравнения уров-
ней полезности, при том что сравнимость ее разностей не обязательна.
Это связано с тем, что данная теория при оценке экономических до-
стижений каждого общества использует принцип максимина (сам Ролз
называет его принципом разности): за основной критерий обществен-
ного благосостояния принято благосостояние индивида или социаль-
ной группы, находящихся в наихудшем положении. Чтобы решить,
благосостояние какого именно индивида (или социальной группы)
является самым низким, Ролз вынужден прибегать к сравнениям уров-
ней полезности разных людей. (В ранних своих работах он, по-види-
мому, определял наименьшее благосостояние как наименьший уровень
полезности, однако впоследствии перешел к определению через наи-
448
меньшее количество «первичных благ». Критику теории Ролза можно
найти в Harsanyi, 1975.)
ОРДИНАЛИЗМ, КАРДИНАЛИЗМ И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ
СРАВНЕНИЯ. Сопоставляя полезности различных благ для одного кон-
кретного индивида I, также следует различать сравнения уровней по-
лезности и сравнения ее разностей. Первое выражается в сравнении
уровней полезности Ц(Л) и которые индивид i связывает с дву-
мя разными ситуациями А и В. Второе требует сопоставления прира-
щения полезности
ДЦ(Д А) = Ц(Л') - СЛ(Л), (3)
которое индивид i мог бы получить при переходе из ситуации А в си-
туацию А, с приращением полезности
Д1/.(Д В’) = Ц(Д') - Ц(Д), (4)
которое он мог бы получить при переходе из В в В'.
Если функция полезности Ui индивида i хорошо определена, тогда
он, безусловно, должен быть в состоянии сравнить уровни полезности,
связанные с разными ситуациями, и эти сравнения будут иметь ясный
поведенческий смысл, соответствуя отношениям предпочтения и без-
различия, выраженным в его выборе. В то же время экономический
смысл сравнений разностей полезности, определенных в (3) и (4), го-
раздо менее очевиден (детальное обсуждение см. ниже).
Функция полезности I/, позволяющая осуществлять значимые срав-
нения только между уровнями полезности индивида I, но не между
разностями его полезностей, называется ординальной. Функция полез-
ности, допускающая значимые сравнения как уровней, так и разно-
стей полезности, называется кардинальной.
Как хорошо известно, в большинстве разделов экономической тео-
рии используются только ординальные функции полезности. Однако,
как показали фон Нейман и Моргенштерн (von Neumann and
Morgenstern, 1947), кардинальные функции полезности могут быть
чрезвычайно полезны в теории отношения к риску. Оказывается, что
сравнениям разностей полезности, определяемым функциями полез-
ности фон Неймана — Моргенштерна, можно придать прямой пове-
денческий смысл. Рассмотрим, к примеру, такую функцию Uj и раз-
ности полезности А*/ и Д*‘, определенные в (3) и (4). Тогда неравен-
ство Д* > Д ” будет алгебраически эквивалентно неравенству
>/2Ц(Л') + '/2ЩВ) > '/2ЩВ') + >/2Ц(Л). (5)
Это неравенство, в свою очередь, нетрудно проинтерпретировать в
терминах человеческого поведения: индивид i предпочитает лотерею из
равновероятных ситуаций А и В со сходной лотереей из ситуаций В' и
А. Конечно, поскольку функции полезности фон Неймана — Морген-
штерна используются в теории отношения к риску, их можно исполь-
зовать и в других областях экономической теории, в том числе в эко-
номической теории благосостояния и в этических исследованиях. Впро-
чем, существует и такое мнение, что функции полезности фон
Неймана — Моргенштерна не могут использоваться в этике или эко-
номической теории благосостояния, поскольку они отражают отноше-
449
ния людей лишь к риску, азартной игре, лишенные какой-либо эти-
ческой составляющей (Arrow, 1951, р. 10; Rawls, 1971, р. 172, 323; см.,
однако: Harsanyi, 1984).
Заметим, что принятие ординалистской или кардиналистской пози-
ции ограничивает набор воззрений на межличностное сравнение полез-
ностей, которых можно придерживаться, не впадая в противоречие.
1) Ординалист логически вправе отрицать возможность межличност-
ных сравнений обоих типов. Может он допустить и возможность срав-
нения уровней полезности разных людей. Однако ординалист никак не
может допускать сравнимости разностей индивидуальных полезнос-
тей — в этом случае он стал бы кардиналистом. Причина этого проста:
если разности полезности для индивида i сопоставимы с аналогичны-
ми разностями для другого индивида j, то разности полезности для од-
ного человека (скажем, I) можно косвенно сравнить и друг с другом для
разных ситуаций, что позволит выстроить кардинальную функцию по-
лезности для каждого индивида.
2) Кардиналист также имеет полное логическое право отрицать оба
типа межличностных сравнений. Может он и признавать их оба. Кро-
ме того, он может считать возможными только сравнения разностей по-
лезностей разных индивидов. (Правда, непонятно, что может побудить
кого-либо отрицать межличностные сравнения для уровней полезнос-
ти, признав их возможность для разностей.) Но кардиналист не может,
не впадая в противоречие, признавать межличностные сравнения уров-
ней полезности, отрицая вместе с тем сопоставимость ее разностей.
В этом можно убедиться следующим образом. Если уровни полезнос-
ти разных людей сопоставимы между собой, то можно подобрать та-
кие четыре ситуация А, А', В, В', что ЩА) = ЩВ) и ЩА') = U](B’). Но
отсюда следует, что
Д/ = ЩА') - ЩА) = Д* = ЩВ') - ЩВ),
а это означает, что по крайней мере разности полезностей Д(* и Д.* срав-
нимы между собой для разных индивидов. Далее, поскольку U. и £7.
являются кардинальными функциями полезности, то любые разности
полезности Д ” для индивида i сравнимы с Д(’, а любые разности по-
лезности А/ для индивида j сравнимы с Ду*. А это, в свою очередь, озна-
чает, что все разности полезности Д " индивида I сравнимы со всеми раз-
ностями полезности Ду" индивида j. Таким образом, кардинализм вкупе
с межличностной сопоставимостью уровней полезности автоматически
подразумевает возможность сравнения и разностей полезности.
РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ. Ниже я буду ис-
пользовать символы Ар Вр ... для обозначения экономических и неэко-
номических ресурсов, доступных индивиду / в ситуациях А, В, ... Сим-
вол Aj будет обозначать такое размещение ресурсов, при котором в рас-
поряжении индивида j оказываются те же ресурсы, какими индивид i
обладал в ситуации Ар Эти величины Ар Вр ..., Aj, Bj, ... назовем пози-
циями.
Если бы функция полезности у всех индивидов была одинаковой,
то межличностные сравнения полезности не представляли бы пробле-
450
мы. Ведь в этом случае всякий индивид j мог бы предположить, что
уровень полезности U£A), которого индивид i достигнет в данной по-
зиции Ар должен совпадать с тем, которого достиг бы он сам, находясь
в аналогичной позиции. Тогда индивиду смог бы просто считать, что
ЦЦ) = U/A). (6)
Разумеется, на самом деле функции полезности разных людей, оче-
видно, различаются, так как различаются вкусы людей, т.е. их способ-
ности получать удовлетворение от каждой из возможных комбинаций
ресурсов. Символами Rp Rj, ... я буду обозначать векторы, содержащие
те личные психологические характеристики каждого индивида
которые объясняют различия в индивидуальных функциях полезности
ZZ, Uj, ... Векторы Rp Rj,..., по всей видимости, должны отражать воз-
действия генетической предрасположенности, образования и жизнен-
ного опыта каждого индивида на его функцию полезности. Это озна-
чает, что любой индивиду может попытаться следующим образом оце-
нить уровень полезности Ut(A^, которого другой индивид i достигнет
в позиции А:.
ЩА) = V(Ap R), (7)
где функция V играет роль психологических законов, определяющих
функции полезности £7., Uj,... разных индивидов i, j, ... в соответствии
с их психологическими характеристиками, отраженными в векторах Rp
Rj, ... Поскольку, как мы предположили, все различия между функци-
ями полезности £7, £7, ... полностью объясняются векторами R., Rj, ...,
сама функция V будет одной и той же для всех индивидов. Назовем V
расширенной функцией полезности (см.: Arrow, 1978 и Harsanyi, 1977,
р. 51-69, хотя основные идеи этого определения уже содержатся в
Arrow, 1951, р. 114-115).
Разумеется, мы очень мало знаем о психологических законах, опре-
деляющих индивидуальные функции полезности, а значит, и об истин-
ной математической форме расширенной функции полезности V. Это
означает, что если мы пытаемся применить уравнение (7), то лучше
всего будет использовать нашу личную (конечно, очень несовершен-
ную) оценку функции V, а не саму эту функцию. В результате, пытаясь
осуществить межличностные сравнения полезности, время от време-
ни мы неизбежно будем допускать значительные ошибки — особенно
в тех случаях, когда речь идет об оценке функций полезности тех лю-
дей, чей культурный и социальный опыт сильно отличается от нашего
собственного. Но даже если наши оценочные межличностные сравне-
ния легко могут оказаться ошибочными, это еще не означает, что они
бессмысленны.
Ординалисты интерпретируют функции £7. и Икак ординальные функ-
ции полезности, а (7) — просто как основание для межличностных
сравнений уровней полезности (ср.: Arrow, 1978). Напротив, кардина-
листы будут понимать эти функции как кардинальные функции полез-
ности, а (7) — как основание для обоих типов межличностных сравне-
ний (ср.: Harsanyi, 1977).
451
ПРЕДЕЛЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ СРАВНЕНИЙ. Как мне пред-
ставляется, экономисты и философы, находящиеся под влиянием ло-
гического позитивизма, существенно преувеличили сложность межлич-
ностных сравнений полезности при оценке полезностей и антиполез-
ностей, связанных с обычными благами и (в более общем случае) с
обычными удовольствиями и страданиями, которыми полна человечес-
кая жизнь. (К числу весьма влиятельных оппонентов идеи о возмож-
ности значимых межличностных сравнений относится Роббинс
(Pobbins, 1932).) Но когда мы имеем дело с проблемой оценки полез-
ностей и антиполезностей, которые другие люди испытывают в ходе
различной культурной деятельности, мы, по-видимому, сталкиваемся с
весьма реальными, а подчас, может быть, даже непреодолимыми труд-
ностями. Предположим, к примеру, что я встретил группу людей, ко-
торые утверждают, что некая эзотерическая разновидность абстрактно-
го искусства доставляет им огромное эстетическое наслаждение, тогда
как во мне это искусство не вызывает ни малейшей эмоции, несмотря
на все мои стремления постичь его. В этом случае я, вероятно, никак
не смогу решить, действительно ли почитатели этого искусства полу-
чают от него очень сильное и подлинное наслаждение или же они лишь
обманывают самих себя, заявляя, что это так.
Возможно, в таких случаях межличностные сравнения полезности
и вправду сталкиваются с непреодолимыми препятствиями. Однако,
к счастью, лишь очень немногие из наших индивидуальных этических
и общественных политических решений зависят от таких исключитель-
но сложных межличностных сравнений полезности. (Ссылки на лите-
ратуру по этой проблеме, кроме уже упомянутых работ, см. в: Hammond,
1977 и Suppes and Winet, 1955.)
БИБЛИОГРАФИЯ
Arrow, К.J. 1951. Social Choice and Individual Values. 2nd edn, New York: Wiley,
1963.
Arrow, K.J. 1978. Extended sympathy and the possibility of social choice. Philosophia
7, 223-37.
Hammond, P.J. 1977. Dual interpersonal comparisons of utility and the welfare
economics of income distribution. Journal of Public Economics 7,51-71.
Harsanyi, J.C. 1955. Cardinal utility, individualistic ethics, and interpersonal
comparisons of utility. Journal of Political Economy 63, 309—21. Reprinted as ch. 2
of Harsanyi (1977).
Harsanyi, J.C. 1975. Can the maximum principle serve as a basis for morality?
A critique of John Rawls’ theory. American Political Science Review 69, 594-606.
Reprinted as ch. 4 of Harsanyi (1977).
Harsanyi, J.C. 1976. Essays on Ethics, Social Behavior and Scientific Explanation.
Dordrecht: Reidel.
Harsanyi, J.C. 1977. Rational Behaviour and Bargaining Equilibrium in Games and
Social Situations. Cambridge: Cambridge University Press.
452
Harsanyi, J.С. 1984. Von Neumann-Morgenstern utilities, risk taking, and welfare.
In Arrow and the Ascent of Modem Economic Theory, ed. G.R. Feiwel, New York:
New York University Press.
Rawls, J. 1971. A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Robbins, L. 1932. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science.
London: Macmillan.
Sen, A.K. 1970. Collective Choice and Social Welfare. San Francisco: Holden-Day.
Suppes, P. and Winet, M. 1955. An axiomatization of utility based on the notion of
utility diflferences. Management Science 1, 259-70.
Von Neumann, J. and Morgenstern, O. 1947. Theory of Games and Economic
Behavior. 2nd edn, Princeton: Princeton University Press.
КЕЙНСИАНСТВО
Джон Итуэлл
Keynesianism
John Eatwell
Влияние «Общей теории» Кейнса сказалось не только на макроэко-
номическом анализе, статистике национального дохода и прикладной
экономике, но и на экономической теории в целом. «Кейнсианство»
стало одним из признанных подходов к экономическим проблемам.
Этот термин используется и применительно к выводам, сделанным в
«Общей теории», и применительно к тем утверждениям, которых в этой
работе не было, хотя считалось (часто — ошибочно), что они из нее
вытекают.
Отличительный признак кейнсианства в экономической теории —
это тенденция не придавать большого значения ценовым эффектам при
определении совокупной величины выпуска и занятости и отдавать
приоритет эффектам дохода. В области формирования экономической
политики для кейнсианства характерен акцент на интервенционист-
ской роли государства, особенно в определении и достижении удовлет-
ворительного уровня совокупного спроса, а также на его ответствен-
ности за экономический рост.
Такой акцент на эффектах дохода вытекает непосредственно из
анализа, проделанного в «Общей теории». Принцип эффективного
спроса, в котором сам Кейнс видел главное новшество своего подхо-
да, совершенно не зависит от механизма цен, представляя собой лишь
соотношение между инвестициями («автономными» расходами) и вы-
пуском. Распространить идею мультипликатора с простой модели, в ко-
торой равенство между желаемым уровнем сбережений и инвестиция-
ми поддерживается за счет колебаний выпуска, на более общий ана-
лиз впрыскиваний («injections») и «протечек» («leakages»), включая
бюджетный и торговый баланс, было совсем нетрудно, и это породило
целое семейство «кейнсианских» моделей доходов — расходов.
Аналогичным образом основной вывод «Общей теории», который
заключается в том, что у рыночной экономики нет автоматического
механизма, который поддерживал бы объем производства на уровне
полной занятости, естественным образом подводит к мысли о том, что
именно государство в целях обеспечения полной занятости должно
взять на себя ответственность за управление общим уровнем расходов.
Сам Кейнс утверждал, что «достаточно широкая социализация инвес-
тиций окажется единственным средством, чтобы обеспечить прибли-
жение к полной занятости, хотя это не должно исключать всякого рода
454
компромиссы и способы сотрудничества государства с частной иници-
ативой» (Кейнс, 1978, с. 453).
Как теоретические выводы Кейнса, так и его практические установ-
ки в области экономической политики вполне можно было бы вывес-
ти из отрицания идеи о том, что рыночный механизм обеспечивает
эффективную аллокацию ресурсов, т.е. из отрицания фундаментальной
идеи экономической теории благосостояния. И поскольку это отрица-
ние проистекает не из несовершенств нынешнего рыночного механиз-
ма, а из утверждения, что даже в идеальном случае рыночная эконо-
мика не смогла бы обеспечить эффективной аллокации ресурсов, при-
нятие аргументации Кейнса должно было автоматически означать
полное отрицание неоклассической теории цены и распределения.
Однако подобные интерпретации значения «Общей теории» в духе
«эффектов дохода» и «государственного вмешательства в экономику»
были поколеблены, если не опровергнуты, заявлением самого Кейнса
о том, что «если система централизованного контроля приведет к уста-
новлению общего объема производства, настолько близкого к полной
занятости, насколько это вообще возможно, то с этого момента клас-
сическая теория вновь вступает в свои права» (Кейнс, 1978, с. 453).
Кейнс как бы реабилитирует ценовой механизм в качестве эффектив-
ного средства аллокации ресурсов, отрицая при этом его эффектив-
ность как средства обеспечения полного использования имеющихся
производственных факторов, несмотря на то, что это два аспекта од-
ного и того же явления.
Эта заманчивая (хотя и противоречивая) позиция была подкрепле-
на развитием теории Кейнса в духе неоклассического синтеза (Hicks,
1937; Modigliani, 1944). В этой версии кейнсианства подчеркивалось,
что выводы Кейнса основываются на предположении о том, что дан-
ному количеству денег жестко соответствует денежная зарплата опре-
деленного уровня, так что именно «тот факт, что денежная зарплата
слишком высока по отношению к количеству денег, и объясняет, по-
чему невыгодно доводить занятость до уровня “полной занятости”»
(Modigliani, 1944, р. 255).
То, что анализ Кейнса свели к краткосрочной «негибкости», меша-
ющей эффективному функционированию рынка труда, восстановило
в правах концепцию долгосрочной эффективности рыночного механиз-
ма, которая была поколеблена аргументацией «Общей теории», и при-
крепило ярлык «кейнсианства» к макроэкономической политике госу-
дарственного регулирования, которая избегала микроэкономического
вмешательства и уж, конечно, не предусматривала никакой «широкой
социализации инвестиций». Экономическое регулирование преврати-
лось в поиск подходящего сочетания мер денежной и фискальной по-
литики, причем относительный вес, придаваемый мерам в той и дру-
гой области, определялся из предположений об относительной эластич-
ности кривых IS и LM, которые, в свою очередь, в какой-то мере
зависели от веры в эффективность рыночного механизма.
Таким образом, вместо того чтобы вытеснить неоклассическую те-
орию и вытекающие из нее взгляды на экономическую политику госу-
455
дарства — взгляды, которые были дискредитированы в 1930-х годах,
кейнсианство сохранило экономическую теорию свободного рынка на
микроэкономическом уровне, «законсервировав» ее до того времени,
когда эти идеи вновь были востребованы с возрождением монетариз-
ма и возвратом к государственной политике поощрения свободного
рынка.
Возрождению монетаризма способствовала обнаружившаяся эмпи-
рическая несостоятельность одного аналитического инструмента, при-
сутствовавшего в версии кейнсианства, названной неоклассическим
синтезом, хотя в самой «Общей теории» ему никакой роли не отводи-
лось.
Этим механизмом была кривая Филлипса. Кривая Филлипса дала
ответ на загадку неоклассического синтеза — чем определяется жест-
кая денежная заработная плата (а точнее, чем определяется изменение
жесткой денежной зарплаты), причем ответ этот был дан в динамичес-
кой форме. Кривая Филлипса заполнила пустующий четвертый квад-
рант знакомых всем по учебникам графиков, приведя количество не-
известных в соответствие с количеством уравнений и тем самым замк-
нув модель.
После этого события приняли уж совсем неожиданный оборот.
Совершенно очевидное отсутствие какой бы то ни было обратной за-
висимости между темпом инфляции (выраженным в темпах роста но-
минальной заработной платы) и уровнем безработицы в начале 70-х го-
дов было истолковано как явное свидетельство «провала» кейнсианской
экономической теории, хотя в «Общей теории» нигде не говорилось,
что такая связь должна существовать, да и сама логика «Общей теории»
совершенно не требовала ее наличия. (Мысли об инфляции, высказан-
ные Кейнсом в работе «Как заплатить за войну», сам он, конечно же,
не считал составной частью своей теории занятости.)
«Разводнение» теоретических выводов «Общей теории» в рамках
«кейнсианства» привело к тому, что те, кто считал государственное
вмешательство в экономику необходимым для обеспечения экономи-
ческой эффективности, перестали обращать внимание на микроэконо-
мические проблемы. Так, политика управления совокупным спросом,
которую стала проводить Англия после 1951 г., оказалась неадекватна
задаче перестройки обрабатывающей промышленности, поддержания
ее конкурентоспособности. Принимаемые Англией меры резко отли-
чались от тех, которые принимались во Франции, Германии и Японии,
где основным методом государственного регулирования было активное
вмешательство государства на микроэкономическом уровне и где
«кейнсианство» не играло такой существенной роли в выработке эко-
номической политики.
Интеллектуальная несостоятельность кейнсианства, а точнее — вхо-
дящего в неоклассический синтез варианта теории Кейнса, была без-
жалостно выставлена напоказ признанием, что теоретическую подопле-
ку этого синтеза образуют те же самые вальрасианские основы, на ко-
торых покоятся идеи монетаризма. Это признал Модильяни в своей
речи в качестве президента Американской экономической ассоциации,
456
где он заявил, что тезис о «долгосрочной нейтральности денег... в на-
стоящее время не встречает серьезных возражений со стороны не-
монетаристов» (Modigliani, 1977, р. 119). Таким образом, разница между
монетаризмом и кейнсианством свелась к спору о краткосрочных и
долгосрочных эластичностях — никаких фундаментальных различий
между ними не осталось (Gordon, 1974). Итак, и с точки зрения эко-
номической теории, и с точки зрения практической экономической
политики «кейнсианство», как это ни покажется парадоксальным, лишь
укрепляло мнения, предвидя возникновение которых Кейнс писал в
предисловии к «Общей теории»:
«Я думаю, что те, кто сильно преданы тому, что я буду называть
«классической теорией», будут колебаться между убеждением, что я
совершенно не прав, и убеждением, что ничего нового я не сказал».
Нынешний беспорядок в макроэкономической теории и практике
макроэкономического регулирования заставляет задуматься: может
быть, как говорил сам Кейнс, «верна третья альтернатива».
БИБЛИОГРАФИЯ
Gordon, RJ. (ed.) 1974. Milton Friedman’s Monetary Framework. Chicago:
University of Chicago Press.
Hicks, J.R. 1937. Mr. Keynes and the ‘classics’: a suggested interpretation.
Econometrica 5, April, 147—59.
Keynes, J.M. 1936. The General Theory of Employment, Interest and Money. London:
Macmillan // Кейнс Дж. M. Общая теория занятости, процента и денег. М.:
Прогресс, 1978.
Keynes, J.M. 1940. How to Pay for the War. London: Macmillan.
Modigliani, F. 1944. Liquidity preference and the theory of interest and money.
Econometrica 12, January, 45—88.
Modigliani, F. 1977. The monetarist controversy, or should we forsake stabilization
policies? American Economic Review 67(2), March, 1-19.
Philips, A.W. 1958. The relation between unemployment and the rate of change of
money wage rates in the United Kingdom. Economica 25, November, 283—299.
ПРАВО
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Дэвид Фридмен
Law and Economics
David Friedman
Экономический анализ права включает три различных, но связан-
ных области. Первая — использование экономической теории для того,
чтобы предсказать последствия юридических правил. Вторая — исполь-
зование экономической теории для того, чтобы определить, какие юри-
дические правила экономически эффективны, и рекомендовать, каки-
ми они должны быть. Третья — использование экономической теории
для того, чтобы предсказать, какими будут юридические правила. В пер-
вом случае речь идет прежде всего о приложении теории цены, во вто-
ром — об экономической теории благосостояния, а в третьем — о тео-
рии общественного выбора.
ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНОВ. Из
трех областей, перечисленных выше, наименее дискуссионной является
первая — использование экономического анализа для предсказания
последствий действия альтернативных юридических правил. Во мно-
гих случаях результат такого анализа показывает, что последствия дей-
ствия правила радикально отличаются от тех, какие мог бы ожидать
неэкономист.
Рассмотрим следующий простой пример. Городские власти издают
распоряжение, требующее от домохозяев уведомлять арендаторов за три
месяца до того, как выселить их, даже если договор аренды предусмат-
ривает более короткий период уведомления. На первый взгляд, основ-
ным результатом должно стать улучшение положения арендаторов,
поскольку оно станет более безопасным, и ухудшение положения до-
мохозяев, поскольку для них теперь оказывается более трудным высе-
лить нежелательных арендаторов.
Вывод очевиден; тем не менее, он неверен. Новое распоряжение
сдвигает вверх кривую спроса; цена, по которой арендаторы готовы
снимать любое данное количество жилья, станет выше, поскольку они
теперь получают более привлекательное благо. Но оно также поднимет
и кривую предложения, поскольку затраты на предоставление жилья в
аренду теперь выше. Если кривые спроса и предложения одновремен-
но сдвигаются вверх, то цена возрастает. В краткосрочном периоде
распоряжение принесет выгоду арендатору за счет домовладельца. Пос-
ле того как арендная плата адаптируется к новым условиям, арендатор
458
выиграет от повышения надежности своего проживания, но проигра-
ет от повышения арендной платы; хозяин — проиграет в связи с воз-
растанием трудности выселения и выиграет от возрастания получаемой
им арендной платы.
Можно легко привести примеры, в которых подобное регулирова-
ние ухудшает положение как домохозяев, так и арендаторов, добавляя
такие условия аренды, которые увеличивают издержки хозяина в боль-
шей степени, чем приходится дополнительно платить арендатору, под-
нимая при этом рыночную квартирную плату в большей степени, чем
необходимо для устранения выигрыша арендаторов, но в меньшей, чем
требуется для компенсации потерь домохозяев. Можно также смодели-
ровать примеры, в которых обе стороны выигрывают, поскольку регу-
лирование устраняет издержки на ведение переговоров, что соответ-
ствует взаимным интересам. Таким образом, экономический анализ ра-
дикально меняет основы оценки правового регулирования, заменяя
очевидную, но недостаточно глубокую аргументацию (помощь аренда-
торам за счет хозяев) другим, гораздо более сложным комплексом во-
просов.
В этом примере, как и во многих других аналогичных примерах, две
стороны связаны условиями контракта и ценой. В таких случаях пер-
вый и наиболее важный вклад экономической теории в правовой ана-
лиз — признание того, что юридически налагаемое изменение в усло-
виях контракта приведет к изменению рыночной цены. Обычно резуль-
тат выражается в устранении того трансферта, который подразумевался
вносимым изменением.
Это не относится к случаям, например, аварий и преступлений, где
нет ни контракта, ни цены. При анализе таких ситуаций существен-
ный вклад экономической теории должен заключаться в том, чтобы
включить в рассмотрение элемент рационального выбора в ситуациях,
где действия людей обычно рассматриваются как нерациональные или
невыбираемые.
Рассмотрим автомобильные аварии. Хотя водитель попадает в ава-
рию не по своему выбору, он делает множество выборов, которые вли-
яют на вероятность того, что авария произойдет. Решая, с какой ско-
ростью ехать, как часто проверять тормоза или сколько внимания уде-
лить дороге, а сколько — разговору с сидящим рядом пассажиром, он
неявно выбирает между издержками возрастающего риска аварии и
выгодами от более раннего возвращения домой, экономии денег и при-
ятного разговора. Количество «безопасности», которое водитель «по-
купает», определяется, таким образом, соответствующими функциями
издержек и выгод. Так, например, Пелтцман (Peltzman, 1975) проде-
монстрировал, что большая надежность автомобиля приводит к боль-
шей рискованности вождения и уменьшение показателя смертности в
авариях по крайней мере частично компенсируется большим числом
аварий, так как водители выбирают более быструю езду и менее осто-
рожное управление, зная, что издержки такого выбора сократились.
Такой взгляд на аварии важен при анализе законов, предназначен-
ных для их предотвращения, таких, как, например, установление пре-
459
дела скорости, а также законов, определяющих, кто должен платить за
аварию, если она произошла. С экономической точки зрения эти два
вида законов являются своего рода альтернативными инструментами
для достижения одной и той же цели — снижения числа аварий.
Водитель, который знает, что он будет отвечать за издержки любых
вызванных им аварий, примет этот факт в расчет при решении о том,
насколько аккуратно он должен вести машину. Элизабет Ландее, ана-
лизируя последствия перехода к выплате страховки независимо от уста-
новления вины, выяснила, что одним из эффектов уменьшения ответ-
ственности стало увеличение показателей смертности на дорогах при-
мерно на 10-15%.
Преимущество имущественной ответственности над прямым адми-
нистративным регулированием в том, что, если водитель знает, что,
вызвав аварию, он должен будет платить, у него есть стимул изменить
свое поведение так, чтобы уменьшить шанс аварии, независимо от того,
наблюдают ли это другие. Нормы же, такие, как, например, установ-
ление пределов скорости, влияют только на те параметры поведения
водителя, которые могут легко наблюдаться со стороны, — скорость,
например, но не внимание. Недостаток имущественной ответственно-
сти в том, что она как бы заставляет и тех водителей, кто не располо-
жен к риску, участвовать в лотерее — при одном шансе, скажем из двух
тысяч, причинить аварию и оплатить все ее издержки.
Авария является одним примером непреднамеренного взаимодей-
ствия; другим примером может служить преступление. Экономический
анализ преступности начинается с предположения о том, что решение
стать преступником является рациональным, подобно решению вы-
брать любую другую профессию. Изменения в законах, которые меня-
ют или вероятность, с которой виновник преступления будет наказан,
или размер наказания, как можно предположить, повлияют на привле-
кательность профессии и, следовательно, на частоту, с которой пре-
ступления происходят — это показано эмпирически в работе Эрлиха
(Ehrlich, 1972). Аналогично изменения в показателях преступности
повлияют через рациональные решения потенциальных жертв на рас-
ходы, идущие на защиту от преступлений.
Еще одна область права, в которой применение экономического
анализа более привычно, — это антитрестовское законодательство.
Важный вклад экономического анализа состоит в демонстрации того,
что некоторые элементы антитрестовского законодательства могут ба-
зироваться на неправильном понимании способов получения и удер-
жания фирмами монопольной власти.
Макги (McGee, 1958) использовал аргументы, первоначально пред-
ложенные Аароном Директором, чтобы показать, что если бы, как это
обычно утверждают, «Стандард Ойл» попыталась поддерживать свою
рыночную позицию путем разорительного ценообразования — сниже-
ния цены нефти ниже издержек — с целью устранить меньших по раз-
меру, но равноэффективных конкурентов, то эти усилия, вероятно,
потерпели бы неудачу. Большие активы «Стандард Ойл» компенсиро-
вались бы большим объемом продаж и, следовательно большими убыт-
460
ками, если бы эти продажи делались по цене ниже издержек. Даже если
бы меньшая фирма обанкротилась первой, ее завод физически сохра-
нился бы и мог бы быть приобретен новым конкурентом. На основе
анализа материалов антитрестовского дела против «Стандард Ойл»
Макги пришел к выводу, что «разорительное ценообразование»
(predatory pricing) в данном случае было мифом: Рокфеллер поддержи-
вал свое монопольное положение, покупая конкурентов, причем обыч-
но по высоким ценам.
Если эта аргументация правильна, то отсюда следует, что некото-
рая стандартная антитрестовская политика теряет смысл. Ценовая по-
литика, которую критиковали как разорительную, может фактически
быть способом, которым новые фирмы прорываются на существующие
рынки, используя низкие цены, чтобы побудить потенциальных кли-
ентов попробовать их продукцию. Если это так, то запрещение такой
политики уменьшает конкуренцию и способствует монополии, кото-
рую закон призван предотвратить.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ: КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКОНЫ. Ис-
пользование экономического анализа для того, чтобы определить, каким
должен быть закон, начинается с одной простой и спорной предпосыл-
ки, что единственная цель закона состоит в способствовании экономи-
ческой эффективности. С этой предпосылкой есть две проблемы. Пер-
вая — она зависит от утилитаристского предположения, что единствен-
ным благом является человеческое счастье, определяемое не тем, чего
люди должны хотеть, а тем, чего они хотят на самом деле. Вторая — эко-
номическая эффективность дает в лучшем случае лишь очень прибли-
женную оценку того, что большинство из нас понимает под «общим
человеческим счастьем», поскольку при этом обходится проблема меж-
личностных сравнений полезности, так как фактически считается, что
все люди имеют одну и ту же предельную полезность дохода.
Возможный ответ на эту критику состоит в том, что хотя немногие
люди считают, что экономическая эффективность — это единственное,
что имеет значение, большинство людей, знакомых с этим понятием,
готовы согласиться, что оно является или важной целью, или важным
средством для достижения других целей. Следовательно, хотя макси-
мизация экономической эффективности не может быть единственной
целью права, но это — важная цель, а экономическая теория может,
в принципе, сообщить нам способы ее достижения. Далее, экономи-
ческая теория считает, что повышение эффективности в отличие от пе-
рераспределения (см. выше обсуждение отношений домовладельца и
арендатора) может быть достигнуто решением суда.
Если принять экономическую эффективность как цель, то стандарт-
ные инструменты экономической теории благосостояния могут исполь-
зоваться при анализе широкого круга правовых вопросов. Рассмотрим,
например, регулирование условий выселения арендатора, обсужденное
ранее. Если дополнительная надежность проживания имеет для арен-
датора ббльшую ценность, чем ее издержки для хозяина, то домохозя-
ева найдут включение этого условия в контракт аренды соответству-
461
ющим их интересам независимо от того, требует ли этого закон; допол-
нительная арендная плата, которую они смогут получить, будет с лих-
вой покрывать издержки, связанные с затруднением выселения неже-
лательных арендаторов. Если, с другой стороны, издержки повышен-
ной надежности проживания для хозяев больше выгоды, которую она
приносит арендаторам, то они не будут ее предлагать, а правило, вы-
нуждающее их сделать это, нежелательно с точки зрения экономичес-
кой эффективности.
Итак, важный вывод из проведенного анализа — это сильный аргу-
мент в пользу свободы контракта, т.е. свободы внести в договор арен-
ды или любой другой контракт любые условия, взаимно приемлемые
для сторон. В той степени, в которой принимается этот аргумент, функ-
ция юридических правил состоит просто в определении типового кон-
тракта — комплекса условий, которые принимаются, если только сто-
роны не хотят сами их изменить. Если типовой контракт близок к тому,
на что стороны согласились бы, если бы они сами определяли все де-
тали их соглашения, то он служит полезной цели уменьшения издер-
жек ведения переговоров о заключении контракта.
Важный пример такого анализа связан с законами об ответствен-
ности за качество продукта. Как и в случае с договорами аренды, пер-
вый шаг здесь должен состоять в уяснении того, что изменения в рас-
пределении ответственности за дефекты продукта повлияют на изме-
нения рыночной цены, так что перемещение ответственности, скажем,
от покупателя к продавцу в общем случае не приведет к улучшению
положения покупателя и ухудшению положения продавца. Однако из-
менения в законе об ответственности за качество продукта изменят
стимулы как покупателя, так и продавца при принятии решений, влия-
ющих на ущерб, произведенный дефектами. Поскольку покупатель не
может судить о качестве продукта прежде, чем он его купил, правило
ответственности покупателя (caveat emptor) дает продавцу слишком
слабый стимул для того, чтобы предотвратить дефекты, поскольку он
оплачивает стоимость контроля качества и не получает никакой ком-
пенсации. Напротив, правило ответственности продавца (caveat
venditor) дает продавцу соответствующий стимул, поскольку он опла-
чивает стоимость дефектов через иски о причиненном ущербе, но оно
дает покупателю слишком низкий стимул для использования продукта
таким образом, который минимизирует ущерб от дефектов, — напри-
мер, для осторожного управления автомобилем, когда водитель не по-
лагается слишком сильно на идеально работающие тормоза.
Из сказанного вытекает, что для разных видов товаров могут быть
подходящими разные юридические правила. Отсюда также следует, что
в таких ситуациях, как, например, неосторожное обращение, повлек-
шее за собой несчастный случай, когда производитель дефектного то-
вара может защищаться против иска о нанесении ущерба, доказав, что
происшествие было частично результатом неправильного использова-
ния товара покупателем, использование некоторого промежуточного
правила может быть лучшим, чем правила исключительной ответствен-
ности как покупателя, так и продавца.
462
Как и в случае с арендатором и домовладельцем, анализ показыва-
ет, что, хотя закон может установить типовое правило, он должен раз-
решать свободу контракта. Тогда продавцы могут преобразовать ответ-
ственность покупателя в ответственность продавца, предлагая гаран-
тию, а покупатели могут преобразовать ответственность продавца в
ответственность покупателя, подписывая отказ от претензий.
Другую интересную область представляет собой корпоративное за-
конодательство. Здесь центральная проблема состоит в том, чтобы
структурировать соглашение, конституирующее корпорацию, так, что-
бы держать под контролем проблему принципала — агента, происте-
кающую из разделения собственности и управления. Одно из решений,
упущенное в классической постановке проблемы Смитом (Smith, 1776),
состоит в угрозе поглощения компании, которая используется, чтобы
дисциплинировать менеджеров, которые не максимизируют величину
активов, которыми управляют. Вопрос в том, должен ли закон помо-
гать или противостоять менеджерам в их попытке предотвратить по-
глощение, оживленно обсуждается в последнее время в литературе.
Свобода контракта бесполезна там, где нет добровольной договорен-
ности между сторонами. Закон должен как-то определить, кто и на
каких условиях несет ответственность за потери от аварий и какое на-
казание должно быть предусмотрено для преступлений. Традицион-
ный метод решения этой проблемы — «формула Хэнда», согласно ко-
торой некто признается допустившим небрежность и, следовательно,
юридически ответственным за аварию, только если он мог бы предот-
вратить ее с помощью мер предосторожности, которые стоили бы ме-
нее, чем ожидаемые издержки (вероятность, помноженная на ущерб)
аварии. Это, очевидно, вполне соответствует экономическому подходу
к праву, поскольку человек наказывается только в том случае, если он
действовал неэффективно и не предпринял оправданных с точки зре-
ния издержек мер предосторожности.
Однако с этой формулой связаны две серьезные сложности. Одна
заключается в том, что «аварии» — обычно результат совместных дей-
ствий двух или более сторон. Мои плохие тормоза не нанесли бы вам
вреда, если бы вы не решили поехать на велосипеде вечером в темной
одежде, но ваша езда на велосипеде не должна была бы привести вас в
больницу, если бы у моего автомобиля были хорошие тормоза. В та-
кой ситуации эффективное решение заключается в том, что меры пред-
осторожности принимаются той из сторон, которая может осуществить
их с меньшими затратами, даже если бы другая сторона могла предот-
вратить аварию, затратив сумму, меньшую, чем нанесенный ей ущерб.
Отсюда следует, что «формулу Хэнда» можно интерпретировать как
возложение ответственности на ту сторону, которая могла предотвра-
тить аварию с меньшими издержками. Ситуации, в которых вероят-
ность и издержки аварий — непрерывные функции мер предосторож-
ности обеих сторон, требуют доработки формулы.
Вторая проблема состоит в том, что «формула Хэнда» требует от суда
выносить суждения как о вероятности аварий при различных уровнях
мер предосторожности, так и об издержках мер предосторожности и
463
самих аварий для вовлеченных сторон, что он не способен сделать ком-
петентно. Отсюда желательны такие юридические правила, которые
являются достаточно общими, чтобы не зависеть от суда, делающего
оценки конкретных издержек и выгод, но дают сторонам стимулы для
того, чтобы, используя свои собственные знания издержек и выгод, они
достигали эффективных результатов. Попытки создать такие правила для
широкого круга правовых проблем составляют значительную часть ли-
тературы, посвященной приложению экономической теории к праву.
Преступления, подобно несчастным случаям, являются непредна-
меренными взаимодействиями. Экономический анализ преступности
фокусируется на двух взаимосвязанных проблемах: мотивации преступ-
ника и мотивации судебной системы и полиции. Первая из них ведет
к вопросу о том, каким должно быть в эффективной системе сочета-
ние тяжести наказания и вероятности ареста для любого преступления;
ответ требует сопоставления издержек и выгод для преступников, жертв
и пенитенциарной системы. Вторая проблема ставит вопросы о про-
цедурах, используемых судебной системой для установления вины или
невиновности (что также важно и для других сторон законности), и об
относительных преимуществах частного правоприменения (private
enforcement of law) в нашей системе гражданского права, по сравнению
с государственным правоприменением (public enforcement), как в уго-
ловном праве.
ЭКОНОМИСТЫ УЧАТСЯ У ЮРИСТОВ: ТЕОРЕМА КОУЗА. До
сих пор все примеры экономического анализа права включали исполь-
зование существующей экономической теории в правовом анализе. Но
есть по крайней мере одна область, где взаимодействие права и эконо-
мической теории вылилось в создание новой экономической теории.
Это комплекс идей, выдвинутых в работе Рональда Коуза и обычно
именуемых теоремой Коуза.
Согласно традиционному анализу внешних эффектов, связанному
с именем Пигу, внешний эффект возникает там, где действия одной
стороны причиняют другой такие расходы, которые первая не должна
компенсировать. Это ведет к неэффективному результату, поскольку
первая сторона, принимая решение, игнорирует издержки второй. Та-
ким образом, например, железнодорожная компания может допускать
разбрасывание искр своими локомотивами, даже если это вызывает
случайные пожары на соседних полях. Модификация двигателя для
предотвращения разбрасывания искр должна быть оплачена компани-
ей; издержки пожаров являются внешним эффектом, который испы-
тывают фермеры. Традиционное решение называется налогом Пигу:
железнодорожная компания объявляется несущей ответственность за
нанесенный ущерб и может либо платить, либо перестать наносить
ущерб — в зависимости от того, какой вариант связан с меньшими из-
держками.
Коуз отметил, что в этом и многих других случаях издержки не про-
сто навязываются одной стороной другой, а скорее возникают в резуль-
тате несовместимой деятельности двух сторон. Пожары являются ре-
464
зультатом действий как железнодорожной компании, использующей
разбрасывающие искры локомотивы, так и фермеров, выращивающих
огнеопасный урожай прямо около железной дороги.
Эффективным решением могла бы быть модификация локомоти-
вов, но им также могло бы стать и выращивание другой культуры. В по-
следнем случае налог Пигу на железную дорогу ведет к неэффектив-
ному результату.
Следовательно, первый шаг анализа Коуза — это вывод, что у про-
блемы внешних эффектов нет общего решения. Законодательная власть
при установлении общих законов не может знать, какая сторона в каж-
дом конкретном случае может избежать возникновения проблемы с
самыми низкими издержками. Если же попытаться решить эту пробле-
му с помощью закона, делающего ответственной ту сторону, которая
может избежать данной проблемы с меньшими издержками, то пробле-
ма оценки издержек перекладывается на суд. В этом случае каждая сто-
рона имеет стимул исказить издержки своих потенциальных мер пред-
осторожности, чтобы сделать другую сторону ответственной за предот-
вращение ущерба.
Второй шаг Коуза состоял в том, что он отметил: как этот аргу-
мент, так и традиционный анализ внешних эффектов игнорируют воз-
можность соглашений между сторонами. Если закон делает железную
дорогу ответственной за ущерб, в то время как фермеры могут пред-
отвратить его с меньшими издержками, то в интересах как фермеров,
так и железной дороги провести переговоры и заключить соглашение,
по которому железная дорога платит фермерам за то, чтобы те выра-
щивали клевер вместо зерновых вдоль железнодорожной линии. Сле-
довательно, это направление анализа ведет к выводу о том, что неза-
висимо от начального распределения прав — имеет ли железная дорога
право разбрасывать искры или фермеры могут предписывать прави-
ла железной дороге и требовать возмещения ущерба — рыночные сдел-
ки между сторонами приведут к эффективному результату.
На заключительном этапе рассуждений показывается, что неэффек-
тивные результаты все же имеют место на практике и что причиной
этого являются трансакционные издержки. Если, например, любой
фермер может запретить железной дороге разбрасывать искры, то же-
лезная дорога, имея дело с фермерами, встречается с проблемой шан-
тажа. Отдельный фермер может попытаться присвоить большую долю
того, что железная дорога экономит, не модифицируя локомотивы,
угрожая, что если его требование не будет удовлетворено, то он нало-
жит запрет на железную дорогу независимо от того, как поступят дру-
гие фермеры. Если, с другой стороны, железная дорога имеет полное
право разбрасывать искры и оплата модификации локомотивов — это
забота фермеров, то при сборе денег для этого они сталкиваются с про-
блемой общественного блага; фермер, уклоняющийся от внесения сво-
его вклада, все равно получает выгоду. Проблема трансакционных из-
держек данного вида может сорвать процесс торга между сторонами,
который мог бы привести к эффективному результату.
465
I
Выводом из всех этих рассуждений является теорема Коуза, кото-
рая гласит, что в мире с нулевыми трансакционными издержками лю-
бое начальное определение прав приведет к эффективному результа-
ту, Она важна не потому, что мы живем в таком мире, а потому, что
помогает нам по-новому взглянуть на большую область проблем, по-
являющихся в результате трансакционных издержек, из-за которых
стороны не могут прийти к соглашению на пути к эффективному ре-
зультату.
Этот подход представляет собой как важное изменение в традици-
онном экономическом анализе внешних эффектов, так и мощный ин-
струмент для анализа правовых институтов. Многие такие вопросы
могут быть рассмотрены как вопросы о наборах или «пучках» прав соб-
ственности. Если я приобретаю участок земли, то покупаю ли я тем
самым право громко шуметь на этом участке? Право запрещать про-
ходящим локомотивам выбрасывать на него искры? Право хранить
находящиеся на нем объекты, могущие быть опасными для соседей при
случайном нарушении правил обращения с ними? С точки зрения те-
оремы Коуза решение всех таких вопросов должно начинаться с выяс-
нения того, какой набор прав должен привести при различных обсто-
ятельствах к эффективному результату, и далее, если конкретный на-
чальный набор прав ведет к неэффективным результатам, насколько
легко будет для участников провести переговоры об изменениях, что-
бы сторона, придающая наибольшую ценность одному из прав в набо-
ре, приобрела это право у его первоначального владельца.
Приведем один пример, называемый законом о привлекательной
опасности. Включает ли право собственности на земельный участок
право устанавливать на нем открытые цементные баки, полные смер-
тельно опасными химикатами, огражденные только большим плакатом,
который вовсе не является препятствием для малолетних нарушителей,
не умеющих читать? Немедленный ответ заключается в том, что право
принятия решения о необходимости огораживания баков должно при-
надлежать скорее родителям в округе, чем владельцу собственности.
Продолжение ответа — в том, что если закон дает это право владельцу,
включая его в совокупность прав, называемых «правом собственности
на землю», то купить это право будет сложно для родителей, посколь-
ку родители при покупке согласия владельца на установку высокого
ограждения вокруг его баков сталкиваются с проблемой общественно-
го блага. Следовательно, у нас есть аргумент в пользу существующего
закона о привлекательной опасности, по которому родитель может
предписать владельцу собственности огородить баки, в противном слу-
чае он может предъявить иск о возмещении убытков, если пострадал
его ребенок. Это — один из примеров того, как метод Коуза освещает
разнообразные правовые вопросы.
ПРОГНОЗ: КАКИМ БУДЕТ ЗАКОН. Экономический анализ пра-
ва или чего-либо другого может рассматриваться либо как попытка
понять то, что должно быть, либо как попытка объяснить то, что есть,
и предсказать то, что будет. Применительно к экономическому анали-
466
зу права попытки объяснять и предсказывать приняли две довольно
различные формы.
С одной стороны, существует аргумент Ричарда Познера, согласно
которому общее право по ряду причин имеет тенденцию к обеспечению
экономической эффективности. Анализ того, какие из юридических
правил эффективны, таким образом, дает объяснение существующих
юридических правил; и, в свою очередь, существующие юридические
правила служат проверкой теорий о том, какие правила эффективны.
С другой стороны, существует подход, связанный с теорией общест-
венного выбора, которая рассматривает изданные законы, администра-
тивное и, возможно, даже общее право как порождения политического
рынка, на котором группы интересов преследуют частные цели государ-
ственными средствами. Поскольку та сумма, которую группа желает
потратить на принятие желаемого закона, зависит не только от ценнос-
ти закона для этой группы, но также и от ее способности решить про-
блему общественного блага, побудив участников внести свой вклад, рас-
ходы на политическом рынке не отражают точно ценность закона для
тех, кто содействовал его принятию, и, следовательно, неэффективные
законы — законы, которые наносят больше вреда проигравшей сторо-
не, чем приносят пользы выигравшей стороне, — вполне могут пройти,
а эффективные законы могут провалиться. Наиболее очевидное след-
ствие из этого направления анализа — то, что законы имеют тенденцию
обслуживать интересы сконцентрированных групп за счет интересов
рассредоточенных групп, поскольку носители первых более способны
собрать деньги для лоббирования желаемых ими законов.
ВЫВОДЫ. При взгляде на экономический анализ права поражает,
как экономисты пытаются перевести обсуждение с вопросов равенства,
законности, справедливости и других подобных вещей на вопросы
эффективности. Отчасти дело здесь в том, что экономисты учитыва-
ют, а ученые-юристы, как правило, не учитывают воздействия юриди-
ческих правил на рыночные цены. Приняв во внимание такие воздей-
ствия, часто можно прийти к выводу, что распределительный эффект
законов исчезает. Частично причина в том, что экономисты предпола-
гают, а ученые-юристы — не всегда, что законы модифицируют пове-
дение людей. Если это так, то при оценке юридических правил мы
должны задать вопрос не только о том, обеспечивают ли они справед-
ливый исход в данном конкретном случае, но также и о том, будет ли
в некотором смысле желательным их воздействие на тех, кто знает эти
правила и изменяет свое поведение в соответствии с ними.
Второе наблюдение заключается в том, что экономический анализ
часто обнаруживает, что в основе юридических правил, которые обычно
рассматривались как полностью вытекающие из требований справед-
ливости, лежат аргументы эффективности. Простым примером служит
закон против воровства. На первый взгляд, кража совсем не связана с
экономической эффективностью и вор выигрывает ровно столько,
сколько проигрывает его жертва, и поэтому данная трансакция, буду-
чи несправедливой, не является экономически неэффективной.
467
Этот вывод, однако, неправилен. Возможность выиграть путем
воровства направляет ресурсы в эту сферу деятельности. В состоя-
нии равновесия «предельный» вор получает такой же доход от во-
ровства (очищенный от риска оказаться в тюрьме, стоимости инвен-
таря и т.д.), какой он получил бы и в другом виде деятельности,
т.е. «предельный» вор не получает того выигрыша, который компен-
сировал бы ущерб для его жертвы. Значит, даже не говоря о спра-
ведливости, вор мог бы быть осужден за одну лишь неэффективность
его деятельности.
Третье наблюдение заключается в том, что анализ действительных
правовых проблем и реальных случаев вынуждает экономиста прини-
мать во внимание некоторые из сложностей реального мира, которые
иначе он никогда бы не заметил, и тем самым дает ему возможность
проводить более глубокий и адекватный анализ.
Последнее важное наблюдение состоит в том, что экономическая
теория обеспечивает единый подход к различным областям права, ко-
торый, как правило, отсутствует в традиционном правовом анализе. По
словам одного из ведущих практиков в этой области, «почти каждое
дело о гражданском правонарушении может быть рассмотрено как про-
блема договора, если задать вопрос о том, на какие меры предосторож-
ности заранее согласились бы вовлеченные в несчастный случай люди,
если бы трансакционные издержки не были запретительными... Рав-
ным образом почти любая проблема, связанная с контрактом, может
быть решена как проблема гражданского правонарушения, если задать
вопрос о том, какие санкции необходимы для предотвращения неже-
лательного поведения одной из сторон (например, она может восполь-
зоваться тем, что другая сторона выполнила свои контрактные обяза-
тельства первой). И обе указанные проблемы: контракта и гражданского
правонарушения — могут быть рассмотрены в терминах прав собствен-
ности; например, при формулировании закона о преступной небреж-
ности можно подумать об определении права личности на защиту от
случайных травм. Определение прав собственности, в свою очередь,
может рассматриваться как процесс выявления мер, на которые сто-
роны согласились бы, при незапретительных трансакционных издер-
жках, чтобы создать стимулы против неэффективного расходования
ценных ресурсов (Posner, 1986).
Любая столь короткая статья может дать лишь очень неполное опи-
сание данной области исследования, и оно обычно сильно смещено в
сторону собственных интересов автора. Ссылки на литературу, приве-
денные ниже, а также ссылки в работах Познера (Posner, 1986) и Гет-
ца (Goetz, 1984) позволяют сделать гораздо более широкий обзор.
БИБЛИОГРАФИЯ
Коуз Р. Проблема социальных издержек // Рынок, фирма и право. М.: Дело
ЛТД, 1993.
468
Becker, G. 1968. Crime and punishment: an economic approach. Journal of Political
Economy 76, March, 169—217.
Becker, G. 1976. The Economic Approach to Human Behavior. Chicago: University
of Chicago Press.
Calabresi, G. 1961. Some thoughts on risk distribution and the law of torts. Yale Law
Journal 70, March, 499—553.
Calabresi, G. and Melamed, A.D. 1972. Property rules, liability rules, and
inalienability: one view of the cathedral. Harvard Law Review 85(6), 1089—182.
Demsetz, H. 1967. Toward a theory of property rights. American Economic Review,
Papers and Proceedings 57(2), May, 347—59, especially 351—3.
Ehriich, I. 1972. The deterrent effect of criminal law enforcement. Journal of Legal
Studies 1(2), 259-76.
Goetz, C.J. 1984. Cases and Materials on Law and Economics. St Paul, Minn.: West.
Landes, E.M. 1982. Insurance, liability, and accidents: a theoretical and empirical
investigation of the effect of no-fault on accidents. Journal of Law and Economics
25(1), April, 49-65.
Landes, W. and Posner, R. 1978. Salvors, finders, good Samaritans, and other rescuers:
an economic study of law and altruism. Journal of Legal Studies 7(1), 83—128.
McGee, J.S. 1958. Predatory price cutting: the Standard Oil (N.J.) case. Journal of
Law and Economics 1, October, 137—69.
Peltzman, S., 1975. The effects of automobile safety regulations. Journal of Political
Economy 83(4), 677—725.
Posner, R. 1986. Economic Analysis of Law. Boston: Little, Brown.
Smith, A. 1776. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
London: W. Strahan & T. Cadell // Смит А. Исследования о природе и при-
чинах богатства народов. М.: Изд-во иностранной литературы, 1962.
Tullock, G. 1971. The Logic of the Law. New York: Basic Books.
ДОСУГ
Гордон Уинстон
Leisure
Gordon С. Winston
Понятие «досуг» проникло в экономический анализ с черного хода.
Даже Веблен, в названии первой работы которого (Veblen, 1899 — The
Theory of the Leisure Class — «Теория праздного класса») слово
«leisure» — «досуг» — занимало важное место, собственно досугом осо-
бенно не интересовался, разве что в той мере, в какой досуг или празд-
ность воплощали в себе бездействие, пустую трату ресурсов «в денеж-
ном соревновании», которые, по мнению Веблена, были и побудитель-
ным мотивом, и наградой имущего класса. В появившихся позже более
серьезных работах, посвященных анализу реакции предложения труда
на изменение реальной заработной платы, начатых Найтом (Knight,
1921) и Пигу (Pigou, 1920) и продолженных Роббинсом (Robbins, 1930),
досуг уже фигурировал, но только как остаток, т.е. как то время, кото-
рое остается после того, как было учтено все время, занятое работой.
Досуг превратился в потребительское благо. Требования к нему были
минимальными — он должен доставлять достаточно удовольствия, что-
бы при сравнении его с доходом, как у любого потребительского бла-
га, возникала бы хорошо себя ведущая кривая безразличия в простран-
стве время — доход, которая позволяла бы определять, сколько време-
ни тратить на работу.
С выходом статьи Гэри Беккера в «Economic Journal» (Becker, 1965)
и книги Стеффана Линдера «Измотанный праздный класс» (Linder,
1970) все это изменилось. Возникло понимание того, что потребление
I тоже требует времени. Отныне досуг стал рассматриваться не просто
' как время, не занятое работой, но как время, необходимое для потреб-
ления товаров и услуг, купленных на заработанные деньги. Досуг на-
равне с работой стал неотъемлемой частью экономической системы.
Но этот новый досуг оказался совсем не таким «праздным», каким
считали его Веблен или Найт, понимая под «досугом» время, потрачен-
ное на безделье, на деятельность, не приносящую дохода. Если люди
расходуют свой досуг на потребление, т.е. на извлечение из экономи-
ческой системы полезности, которая только и оправдывает ее (систе-
мы) существование, то термин «досуг» неизбежно должен был приоб-
рести новый смысл.
Задачи, которые ставили перед собой Линдер и Беккер, были не
вполне одинаковыми, несмотря на аналитическое сходство их моделей.
И тот и другой считали, что полезность извлекается не из самих мате-
470
риальных благ и услуг, а из «commodities» (у Беккера) или
«consumption» (у Линдера), производимых за счет того, что человек
сочетает свое собственное время с приобретенными благами и услуга-
ми. Для создания полезности необходимы и время, и блага — чашечка
кофе не доставит удовольствия, если нет времени ее выпить. Беккер
поставил перёд собой задачу интегрировать результаты всех тех заня-
тий, которым человек отдает свое время в течение дня, показав, что за
ними стоит неявно последовательный или даже оптимальный межвре-
менной выбор; Линдер видел свою задачу в том, чтобы выявить все
значительные (и многие незначительные, но любопытные) социальные
последствия постоянно растущей относительной редкости времени.
В центре'анализа Линдера был рост реальной заработной платы,
обусловленный историческим ростом производительности труда. В то
время как большинство исследователей считало подобный рост мате-
риальной обеспеченности источником повышения благосостояния,
Линдер утверждал, что, поскольку «предложение времени» фиксиро-
вано, именно время, а не материальный доход будет во все возраста-
ющей степени определять благосостояние. По мере того как матери-
альные блага и услуги дешевеют, относительная ценность времени бу-
дет все время расти. В результате будет определенным образом меняться
структура человеческих занятий: люди будут все меньше времени от-
давать неторопливым, созерцательным занятиям, требующим много
времени, но мало материальных благ и услуг, и все больше заниматься
гиперактивной деятельностью, требующей много товаров и услуг, но
мало времени.
Линдеру нельзя отказать в том, что свою теорию он изложил пре-
красно. Незадолго до выхода его книги «Измотанный праздный класс»
рецензия на нее вышла в журнале «Тайм» (Time, 1969) — этой чести
книги по экономической теории удостаиваются нечасто, а три года
спустя ей был посвящен специальный выпуск журнала Quarterly Journal
of Economics (1973) под редакцией Томаса Шеллинга, в котором в числе
других были помещены статьи Хиршмана, Спенса и Баумоля.
«Тайм» привлекли главным образом дерзкие утверждения Линдера
о том, что наслаждение изысканной кухней и посещение оперы пали
жертвой растущей нехватки времени и что даже легкая доступность
женщин, которую Линдер усматривал в их поведении в конце 1960-х го-
дов, была, по его мнению, вызвана дефицитом времени — любовь на
бегу, чтобы все успеть. Качество принимаемых решений — рациональ-
ность — будет все время падать по мере того, как люди, действуя со-
вершенно сознательно и рационально, будут все меньше времени тра-
тить на тщательное обдумывание своих решений, на занимающее много
времени выяснение всех обстоятельств, наведение справок, раздумья.
Но самой серьезной потерей стала утрата людьми чувства неторопли-
вого, размеренного темпа жизни, который приносит подлинное удов-
летворение:
«Замедленный темп жизни характеризует способ препровождения вре-
мени, который может служить, пожалуй, наилучшим примером дея-
тельности, полезную отдачу от которой нельзя увеличить за счет до-
471
давления потребительских благ. Это так по определению, и с этим ни-
чего не поделаешь. Таким образом, наслаждение «тишиной и покоем»
является «инфериорным» (inferior) способом проведения времени»
(Linder, 1970, р. 152).
Таким образом, смысл так называемого парадокса досуга у Линде-
ра заключался в том, что рациональные люди чувствуют себя все более
несчастными, поскольку, максимизируя полезность, они страдают из-
„ за растущей относительной редкости времени. Линдер представил не-
задачливого потребителя в виде ученика чародея, который старается ус-
певать поглощать все возрастающий объем товаров и услуг за фикси-
рованное время, а при этом вещей, с которыми что-то нужно делать,
становится все больше и больше, поскольку они становятся все дешевле
и дешевле. Поэтому потребителю поневоле приходится выбирать те
виды деятельности, которые позволяют поглощать как можно больше
благ в единицу времени.
Но хотя нарисованная Линдером картина производила сильное впе-
чатление, возникало смутное ощущение, что его парадокс досуга мо-
жет и не выдержать более тщательной проверки логикой; раз поведе-
ние, направленное на максимизацию полезности, не способно макси-
мизировать полезность, так может, в каком-то фундаментальном
отношении неверен сам анализ? Несчастье как следствие максимиза-
ции полезности — здесь что-то не так, явно должна быть какая-то не-
увязка. И неувязки действительно есть, причем целых три.
Первая состоит в том, что парадокс досуга не учитывает потреби-
тельскогсгкапитала с длительным сроком службы, а вместе с этим —
самый несуетный из всех способов потребления товаров и услуг — по-
купку вещей, которые большую часть времени не используются. Пред-
положение, неявно заложенное в аллегории с учеником чародея, о том,
что потребление товаров и услуг требует времени и усилий, не учиты-
вает того, что потребитель сам выбирает цену, которую он будет пла-
тить за потоки услуг, оказываемых принадлежащим ему домашним
капиталом. По желанию он может варьировать цену за час использо-
вания своего имущества от минимальной до бесконечно высокой с
помощью простейшего приема — пользоваться принадлежащими ему
вещами большую или меньшую часть времени (Winston, 1982).
Вместо того чтобы истязать себя безумной гонкой из оперы в мага-
зин стереоаппаратуры, из магазина — на футбольный матч, а потом —
на работу, преуспевающий потребитель может придерживаться моде-
ли поведения в духе Веблена и оставить свой дорогостоящий фотоап-
парат «Никон» пылиться в бардачке «Феррари», пока сам он отправ-
ляется поплавать на яхте, которую держит на кооперативном причале
в Ньюпорте, в те дни, которые он не проводит в Нью-Йорке, где вла-
деет квартирой, или в Колорадо, где у него пустует охотничий домик.
Редко используемый потребительский капитал предоставляет обшир-
ные — и, безусловно, несуетные и приятные — возможности поглотить
несчетное количество плодов растущей производительности.
j Вторая аналитическая проблема Линдера заключается в его класси-
I фикации видов деятельности на «интенсивные по материальным бла-
472
гам» и «интенсивные по времени», причем ту же ошибку допускает и
Беккер при анализе сходных проблем. Они не учитывают того, что эти
соотношения затрат сами могут меняться при росте доходов. Так что
«тишина и покой» вовсе не обязательно достигаются за счет больших
временных затрат и малых затрат товаров и услуг. Во всяком случае,
где-нибудь в центре Манхэттэна или в других шумных центрах город-
ской жизни, даже в развивающихся странах, без значительных расхо-
дов на кондиционирование воздуха, на другие устройства, позволяющие
контролировать свет и шум, никакой «тишины и покоя» просто не бу-
дет. Низкий уровень производительности труда у рабочих, работающих
в ночную смену, в развивающихся странах является следствием скуд-
ности их жилищного капитала, который не обеспечивает им тишины
и покоя в дневное время. А неторопливая прогулка по пляжу требует
не столько времени, сколько денег, если пляж находится за тысячи миль
от дома, а в разгар сезона и билеты на самолет, и гостиница стоят осо-
бенно дорого.
С ростом материального благополучия выживают не те виды дея-
тельности, которые изначально характеризуются самой высокой това-
роинтенсивностью, а те, которые лучше других впитывают прирост
товаров и услуг в ходе производства полезности. И среди них вполне
могут оказаться такие виды деятельности, в которых велик компонент
праздного досуга. Веблен никогда не стал бы утверждать, что богатые
люди неадекватно обеспечены возможностями скрыться от дел.
И, наконец, последнее и самое главное возражение заключается в
том, что формальная математическая модель Линдера построена на том
предположении, что источник полезности — это только то, что люди
делают, т.е. виды деятельности и продолжительность этой деятельнос-
ти, но в своих словесных рассуждениях он говорит, что полезность так-
же существенно зависит от интенсивности этой деятельности, что нам
далеко не безразличен темп нашей жизни, и если темп этот слишком
высок, мы чувствуем себя плохо, некомфортно. Но если этот аспект
занятий, которые мы выбираем, для нас так важен, то он, разумеется,
должен быть включен в функцию полезности в качестве одного из ее
аргументов. Если же он в нашу функцию полезности не входит, то в
логически непротиворечивой модели мы не смогли бы чувствовать
неудовольствие от того, что наша деятельность становится все более
«интенсивной». Линдер просто незаметно вставляет переменную ин-
тенсивности в свои словесные рассуждения, хотя в математической
формулировке модели максимизации полезности этой переменной у
него нет. Вот и получается, что мы максимизируем полезность в рам-
ках неправильно специфицированной модели, и этот процесс прино-
сит нам сплошные страдания.
Но даже если парадокс досуга не выдерживает проверки логикой,
безусловной заслугой Линдера и Беккера является то, что альтернати-
ву «работа» или «досуг» экономисты теперь никогда не будут считать
исчерпывающей дихотомией человеческих занятий. На свете есть срав-
нительно мало занятий, которые можно было бы считать чистым до-
сугом, не приносящим побочно никакой практической пользы, но срав-
473
нительно мало встречается и занятий, которые можно было бы считать
чистой работой, не заключающей в самой себе также и элемента удо-
вольствия. Так что выбор мы осуществляем не просто между работой
и не-работой, и та более богатая теория выбора деятельности, родона-
чальниками которой были Линдер и Беккер, может в большинстве на-
ших занятий разглядеть более сложную мотивационную структуру, со-
четающую в разных пропорциях некоторые внутренние радости, кото-
рые раньше мы связывали только с досугом, и некоторую внешнюю
пользу, которую принято считать атрибутом работы.
БИБЛИОГРАФИЯ
Пигу А. Экономическая теория благосостояния. Т. I—II. М.: Прогресс, 1985.
Becker, A theory of the allocation of time. Economic Journal 75, September, 493-517.
Knight, F. 1921. Risk, Uncertainty and Profit. Chicago: University of Chicago Press,
1971.
Linder, S. 1970. The Harried Leisure Class. New York: Columbia University Press.
Quarterly Journal of Economics. 1973. Symposium: Time in economic life. Quarterly
Journal of Economics 87(4), November, 627-75.
Robbins, L. 1930. On the elasticity of demand for income in terms of effort. Economica
10, June, 123-129.
Time Magazine. 1969. Leisure. August.
Veblen, T. 1899. The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions.
New York, New American Library, 1953.
Winston, G. 1982. The Timing of Economic Activities: Firms, Households, and
Markets in Time-Specific Analysis. New York: Cambridge University Press.
ЛИБЕРАЛИЗМ
Ральф Дарендорф
Liberalism
Ralf Dahrendorf
Либерализм — это теория и практика реформ, вдохновлявшая мир
в течение двух столетий. Либерализм вырос из английских революций
XVII в., распространился по многим странам на заре американской и
французской революций XVIII в. и доминировал большую часть XIX в.
Правда, в XIX в. он претерпел серьезные изменения. Некоторые счи-
тают, что он умер или уступил дорогу социализму или, во всяком слу-
чае, позволил социалистическим идеям себя извратить. Другие счита-
ют социальные преобразования второй половины XIX и XX вв. торжест-
вом нового либерализма. Ближе к нашим дням интерес к исходным
идеям либерализма возобновился. Таким образом, следует различать
классический либерализм, социальный либерализм и неолиберализм.
Классический либерализм представляет собой простую, но яркую
философию. Ее центральная идея — это свобода в рамках закона. Не-
обходимо разрешить людям преследовать собственные интересы и цели,
ограничив их свободу лишь правилами, не позволяющими ущемлять
свободу других. Ранние либералы до и после Джона Локка любили ссы-
латься на метафору общественного договора: общество возникает из
некоего соглашения между его членами, призванного защитить каж-
дого от эгоистических устремлений остальных. «Несоциальная соци-
альность» человека (по Канту) требует введения правил, которые бы
всех связывали, оставляя при этом максимально допустимый простор
для конкуренции и конфликта.
В действительности ранние либералы не собирались, конечно, стро-
ить общество на пустом месте. Они хотели лишь заставить диктаторов,
наделенных абсолютной властью, уступить требованиям свободы. Идея
о диктате закона, о котором мечтали либералы, была поистине рево-
люционной силой, возвестившей о наступлении просвещенной эпохи
в современной истории.
Понятие главенства закона не является однозначным. Во-первых,
оно во многом формально. На ум приходит сравнение законов с пра-
вилами игры, которым должны подчиняться все игроки и которые ре-
гулируют социальные, экономические и политические процессы в об-
ществе. По идее, эти правила не должны предопределять исход самой
игры. Впрочем, выполнение даже таких формальных требований, как
равенство всех перед законом и судом, предполагало осуществление
фундаментальных перемен в обществе, позволяющих называть либе-
475
рализм движением реформ, однако на протяжении всей истории ли-
берализма оставался нерешенным вопрос об основных неотъемлемых
правах человека, т.е. о том, как должны соотноситься права человека
и закон. Неприкосновенность личности и свобода выражения всегда
признавались либеральными идеалами наряду с конституционными
правилами, но обосновать необходимость столь существенных прав
либералам удавалось не часто. Нет сомнений, что между либеральной
мыслью и концепцией естественных прав человека всегда существова-
ла некоторая напряженность.
Начало классическому либерализму было положено в Англии и
Шотландии. Джон Локк, Давид Юм и Адам Смит — вот лишь три име-
ни из многих, о которых можно было бы упомянуть. С британских ос-
тровов идеи либерализма перенеслись в Соединенные Штаты и стра-
ны континентальной Европы. У либералов-англичан их частично по-
заимствовали Монтескье и Кант. Принятие Декларации независимости
и Конституции США, а также Декларации прав человека спустя три
года после Великой французской революции — это лишь два примера
практической реализации идей либералов. Если угодно, можно, следуя
Фридриху фон Хайеку, различать британский «эволюционный» либе-
рализм и континентальный «конструктивистский». Однако в начале
XIX в. оба этих течения стали основными в реформаторском движе-
нии и определили развитие Европы и Северной Америки начиная с
80-х годов XVIII в. и вплоть до 40-х или даже 50-х годов XIX в.
Либерализм оказал влияние на экономическую, социальную и по-
литическую мысль. Его приложение к экономике наиболее очевидно
и наиболее известно. Если необходимо установить только правила игры,
а во всем остальном частные интересы могут проявлять себя как угод-
но, это и есть все необходимое для рынка. Это именно та среда, в ко-
торой равное право доступа и участия в сочетании с различными и
конкурирующими интересами ведут через действие «невидимой руки»
(Адам Смит) к максимальному благополучию для всех. Либерализм и
рыночный капитализм неразделимы, как бы ни старались более позд-
ние европейские теоретики (особенно в Германии и Италии) их разъ-
единить.
В социальной области либерализм привел к появлению понятия
«общественность» (public) или публичного форума, где сходятся раз-
личные точки зрения и возникает «общественное мнение». В Европе
предпочитают выражаться более категорично — здесь говорят об эман-
сипации общества от государства. Во всяком случае, основная идея
состоит в переходе от всеохватывающей системы подчинения традици-
онным властным структурам к такой, где государственная власть огра-
ничена некоторыми задачами регулирования и, таким образом, долж-
на даровать и защищать свободу индивидуумов выражать свое мнение.
Именно в этом классический либерализм способствовал становле-
нию не только рыночного капитализма и общественного участия, но и
того, что ныне называется демократией. Впрочем, и это понятие яс-
ным и четким никак не назовешь. Демократию можно понимать как
систему правления, основанную на конкуренции взглядов — индиви-
476
дуальных или групповых — в борьбе за власть, которая ведется в рам-
ках правил, ограничивающих выбор дозволенных приемов и допуска-
ющих возможность перемен. В этом смысле целый ряд конституцион-
ных форм демократии отвечает либеральным взглядам, включая раз-
ные формы представительной власти и плебисцита. Либерализм — это
не анархия, хотя анархия в каком-то смысле есть экстремальная фор-
ма либерализма. Закон играет ключевую роль в учении либералов, од-
нако долгое время их основной заботой было освобождение человека
от невольничьих цепей, в которые его заковывала конкретная власть
государства (и церкви) или абстрактная власть привычки. Не удиви-
тельно поэтому, что многие довели эту сторону либерализма до край-
ности. Если они верили в изначальную добродетельность человека, то
выступали за отмену всех общественных ограничений (временами не-
что подобное проповедовал Жан-Жак Руссо). Если же они признавали
амбивалентность человеческой природы, то не боялись требовать ни-
чем не ограниченного пространства для маневра «единственному и его
собственности» (Макс Штирнер).
Возможно, именно эта анархическая струя, присущая раннему ли-
берализму, и послужила причиной наступившей в XIX в. реакции.
Маркс был первым, кто отметив историческую заслугу идей «буржуаз-
ного» равенства перед законом, включая договорную основу экономи-
ческой деятельности, при этом указал и на ту цену, которую многим
приходится платить за «анархичность» возникающего в результате рын-
ка. Рынок — и эта точка зрения завоевывала все больше сторонников —
на самом деле не нейтрален, он благоприятствует одним игрокам за счет
других. В качестве примеров приводились массовое обнищание, тяже-
лые условия труда и жизни в промышленных центрах. Причем так счи-
тали не только антилибералы — значительная амбивалентность идей
Джона Стюарта Милля свидетельствует о том, что он также частично
придерживался подобных взглядов.
Существуют две разные точки зрения на то, какими путям шло раз-
витие либеральных идей и общественных движений. Одни считают, что
во второй половине XIX и первых десятилетиях XX в. либерализм в
качестве доминирующей силы был заменен социализмом. Идея ничем
не ограниченного рынка стала терять сторонников, начался поиск но-
вых форм регулирования. Сегодняшние авторы добавляют, что за этим
последовали «структурные изменения общественности» (Ю. Хабермас)
и бюрократизация демократии. Либерализм «умер странной смертью»:
он перестал быть движущей силой реформ и превратился в оплот ин-
тересов господствующего класса.
Другие считают, что и новые реформы произошли благодаря либе-
ралам, хотя они и исповедовали несколько иной либерализм. В своем
выступлении на чтениях памяти Альфреда Маршалла в 1949 г.
Т.Х. Маршалл утверждал, что с определенного момента развитие граж-
данских прав должно было выйти за рамки правовой и политической
сферы и вторгнуться в сферу социальную. Оказалось, что социальные
гражданские права являются необходимой предпосылкой для реализа-
ции равенства всех перед законом и всеобщего избирательного права.
477
Таким образом, социальное государство или «государство всеобщего
благосостояния» есть всего лишь логическое продолжение процесса, на-
чало которому положили революции XVIII столетия.
В поддержку данного утверждения можно привести много доводов,
особенно если вспомнить, что два человека, которые делали погоду в
политической мысли и политике с 1930-х по 1940-е годы — Джон Мей-
нард Кейнс и Уильям Беверидж, — сами себя считали либералами. На
самом деле, они развивали идеи, которые предполагали ограничение
стихии рынка. Первый из них останется в истории как автор концеп-
ции экономической политики как целенаправленных мер, принима-
емых государством по регулированию экономики, второй внес большой
вклад в создание систем социальных пособий, через которые государ-
ство перераспределяет средства между своими членами во имя пред-
полагаемого общего интереса. Другими словами, это были либералы,
выступавшие в поддержку мер, которые вели не к ограничению, а к
усилению государства. Их либерализм был уже не требованием фор-
мального равенства, а содержательным социальным либерализмом.
Либеральным партиям было не просто следить за всеми поворота-
ми либеральной теории. До Первой мировой войны, когда социалис-
тические партии переживали период младенчества и еще не могли
определять политику ни в одной крупной стране, либералы часто вы-
ступали от имени бесправных и неимущих. Так что по крайней мере
одно течение либеральной традиции в то время еще продолжало оста-
ваться реформаторским. Однако после Первой мировой войны социа-
листы и социал-демократы пришли к власти во многих странах. Их
победа стала поражением либералов. Либеральные партии сошли с
политической сцены или же, сохранив слово «либеральная» в своем
названии, до неузнаваемости изменили свою политику, приблизив ее
либо к социал-демократии (в Канаде), либо к консерватизму (в Авст-
ралии). В самом деле, либерализм как политическое движение стал
представлять собой настолько запутанную картину, что это позволило
Хайеку утверждать, что о либерализме можно говорить лишь как об ин-
теллектуальной, но уже не как о политической силе.
Опыт тоталитаризма прервал этот процесс, не остановив его, прав-
да, окончательно. К удивлению и негодованию многих вопрос об ос-
новных правах человека и о правилах игры для гражданского прави-
тельства снова встал в 1930-х и 1940-х годах. Это послужило толчком к
появлению целого направления литературы, в котором заново раскры-
вались ценности, лежащие в основе либеральной идеи. Примером про-
изведений такого рода могут служить «Дорога к рабству» Хайека и са-
мая, пожалуй, главная работа — «Открытое общество и его враги» Карла
Поппера. Основной заслугой Поппера можно считать то, что он раз-
работал эпистемологию либерализма. Мы живем в мире неопределен-
ности. Поскольку никто не может знать все ответы, не говоря уж о том,
чтобы знать, который из них верный, очень важно иметь возможность
получать разные варианты ответов и в каждый данный момент време-
ни, и с течением времени в особенности. Политика, как и познание,
478
идет путем проб и ошибок. Этот принцип может быть применен и к
экономике, и к обществу в целом.
Либеральный отпор тоталитаризму исчез вместе с памятью о самом
тоталитаризме*. Хотя в 1950-х годах для развития Германии был при-
думан термин «социальное рыночное хозяйство», четверть века эконо-
мического чуда была на самом деле эпохой торжества социал-демо-
кратических идей. Экономический рост почти повсеместно сопровож-
дался усилением роли государства и расширением его социальных
функций. Пособия приобрели не меньшую важность, чем достижения.
Согласие стало значить больше, чем конкуренция или конфликт.
Несмотря на отдельные трудности, это был очень успешный пери-
од для стран «первого мира». Однако в 1970-х годах побочные эффекты
этого прогресса сами превратились в серьезную проблему. И речь идет
не только об очевидных проблемах типа экологических или социальных
«пределов роста», но и о проблемах системных, связанных с государ-
ственным вмешательством в экономику. Идеи Кейнса и Бевериджа стали
ставиться под вопрос. Ни стагфляция 1970-х, ни всплеск безработицы
в 1980-х годах уже не поддавались государственному регулированию. Со-
циальное государство вышло из-под контроля, финансировать его стано-
вилось все трудней и трудней, а бюрократизация лишала его остатков
привлекательности. Раздавались требования о смене курса.
Там, где этот поворот произошел, он оказался половинчатым, роб-
ким и непоследовательным. Но этот новый климат дал также толчок к
появлению новых элементов в теории либерализма. В некотором смыс-
ле эти новые элементы ознаменовали собой возврат к первоначальным
идеалам либерализма — идее приоритета общества перед государством,
рынка — перед планированием и регулированием, прав человека —
перед могуществом власти и коллектива. Американские авторы внесли
особенно большой вклад в новое осмысление идей либерализма. Мил-
тон Фридмен привел ряд аргументов в пользу того, что большая роль
государства обычно противоречит интересам граждан. Роберт Нозик
убедительно обосновывал «минимальное государство» и выступал про-
тив самонадеянности современной государственной власти. Джеймс
Бьюкенен и «конституциональные экономисты» вновь обратились к
идее общественного договора и потребовали резко ограничить сферу
государственного регулирования, в том числе — фискальную систему.
Именно эта тенденция в гораздо большей степени, чем так называемая
«экономика предложения» (которая в известном смысле есть просто
поставленный с ног на голову Кейнс), означает возрождение либера-
лизма.
У этого многогранного понятия есть и другие грани. Для кого-то
либеральная программа — это борьба за предоставление гражданских
прав угнетенным. Другие главной задачей либерализма до сих пор счи-
тают отделение церкви от государства и уменьшение ее влияния в об-
ществе. Третьи воспринимают либерализм как защиту культурных цен-
* Речь в данном случае, очевидно, идет только о германском тоталитаризме. —
Примеч. ред.
479
ностей, включая такие, как плюрализм и творчество. Нетрудно увидеть
связь всех этих движений с основным течением либеральной мысли.
В этом основном течении есть три основных элемента. Либера-
лизм — это теория и практика реформ во имя индивидуальных свобод
перед лицом неопределенности. А раз так, то у либерализма нет и не
может быть раз и навсегда заданной главной идеи. Перед лицом абсо-
лютизма его главным идеалом является свобода, ограниченная лишь
законом, перед лицом рыночного капитализма — это полная реализа-
ция гражданских прав, перед лицом «рабских оков» современного бю-
рократического государства (по Максу Веберу) — борьба за оптималь-
ное, если не минимальное, вмешательство государства. В развитых сво-
бодных странах сегодня очень активно ведется борьба за идею
общественного договора. Кризис социального государства, новая без-
работица, проблема закона и порядка — все это ставит фундаменталь-
ные вопросы: что же по праву принадлежит кесарю и где должен быть
положен предел притязаниям индивида? И не случайно в ряде стран
на передний план сегодня вышли конституционные проблемы. В та-
кие моменты либерализм обретает второе дыхание. Он не сможет раз-
решить всех проблем, но останется источником движения и прогрес-
са, раскрывающего все больше возможностей в жизни для все большего
числа людей.
БИБЛИОГРАФИЯ
Поппер К. Открытое общество и его враги. М.: Феникс; Международный фонд
«Культурная инициатива», 1992.
Хайек Ф.А. Дорога к рабству. М.: Эконов, 1992.
Buchanan, J. 1975. The Limits of Liberty. Chicago: University of Chicago Press I I
Бьюкенен Д. Избранные труды. M.: Тауруг Альфа, 1997. С. 207-439.
Habermas, J. 1962. Strukturwandel der Offentlichkeit. Neuwied: Luchterhand.
Hume, D. 1740. A Treatise of Human Nature. Ed. L.A. Jelby-Bigge, Oxford:
Clarendon Press, 1888 // Юм Д. Трактат о человеческой природе.
Kant, L. 1784. Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbiirgerlicher Absicht. In
Kants Populare Schriften, ed. P. Menzer, Berlin: Georg Reimer, 1911.
Locke. J. 1690. Second Treatise of Government. Ed. T.P. Peardon, New York: Liberal
Arts Press, 1952.
Marshall, Т.Н. 1950. Citizenship and Social Class. Cambridge: Cambridge University
Press.
Smith, A. 1776. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
Oxford University Press, 1976.
Stimer, M. 1845, Der Einzige und sein Eigentum. Leipzig: D. Wigand // Штирнер M.
Единственный и его собственность.
Weber, М. 1922. Wirtschaft und Gesellschaft. 4th edn., Tubingen: Mohr/Siebeck, 1956.
Границы экономического роста
Уилфред Беккерман
Limits to Growth
Wilfred Beckerman
В течение 1950-х и 1960-х годов экономический рост стал одной из
центральных проблем для экономистов и политиков. Это было, веро-
ятно, результатом беспрецедентных темпов экономического роста, до-
стигнутых развитыми странами мира, а также значительных различий
в показателях роста у разных стран. Отсюда возник серьезный интерес
к объяснению общего ускорения роста и причин различий между стра-
нами.
В течение 1960-х годов возникло мнение, что, возможно, высокие
темпы роста развитых стран несоразмерно увеличили благосостояние
их населения. Различные причины для этого беспокойства вначале
были блестяще, в исчерпывающей и убедительной форме показаны
Э. Мишеном (Mishan, 1967). Мишен перечислил различные нежела-
тельные аспекты экономического роста, такие, как, например, загряз-
нение окружающей среды, перегрузка транспортных путей й лучших
курортов и другие виды внешних эффектов, в том числе нематериаль-
ных, таких, как, например, подчинение общественных ценностей ком-
мерческим целям и последовательное снижение моральных стандартов
общества. Осуществленная Мишеном тонкая илогичная критика без-
думной политики максимизации экономического роста соответствовала
возрастающей общественной осведомленности о некоторых нежела-
тельных внешних эффектах, связанных с экономическим ростом, из
которых наиболее очевидны различные типы загрязнений окружающей
среды и рост насилия в городах, оказавшие влияние на многие общест-
венные группы в большинстве наиболее богатых стран.
В то же время некоторые авторы выражали беспокойство по пово-
ду возможности поддержания высоких темпов роста из-за возможных
ресурсных ограничений для человечества в целом. Это беспокойство
вместе с предполагаемой связью между экономическим ростом и за-
грязнением среды было четко сформулировано в «Пределах роста» —
исследовании, проведенном Римским клубом (Meadows et al., 1972).
Этот анализ был проведен с целью показать, что при любых разумных
предпосылках дальнейшее поддержание высоких показателей роста
приведет к тому, что (1) человечество будет испытывать недостаток ос-
новных материальных ресурсов; (2) рост загрязнения вызовет серьез-
ные последствия и (3) рост населения опередит потенциальное миро-
вое предложение продовольствия. Этот доклад сначала был воспринят
481
многими общественными группами как научная демонстрация необ-
ходимости принять меры для замедления роста.
Основная методология, использованная в «Пределах роста», осно-
вана на подходе Джея Форрестера (Forrester, 1961, 1968), заключающем-
ся в построении компьютерной модели «системной динамики», уделя-
ющей особое внимание взаимодействиям и обратным связям между
различными частями сложной модели. Данное конкретное приложение
методики Форрестера имело серьезные недостатки, которые после вы-
хода «Пределов роста» подверглись острой критике некоторыми экс-
пертами (см.: The Economist, 1972; Sir (now Lord) Eric Ashby, 1972;
Mellanby, 1973; a World Bank task force, 1972; H.S.D. Cole et al., 1973).
Основные недостатки оказались следующими:
(1) Непринятие во внимание того, что изменения в балансе между
спросом и предложением любых материалов всегда вели в конечном
счете к изменениям цен, которые там, где это необходимо, давали сти-
мул к открытию новых видов ресурсов, к использованию заменителей,
к технологическим усовершенствованиям методов разведки, добычи и
обогащения полезных ископаемых, к замещению содержащих данные
материалы продуктов и т.д. История полна страшных прогнозов о том,
что если спрос на определенный продукт будет продолжать расти, как
и прежде, то все известные ресурсы будут израсходованы за х лет, и все
они со временем оказались абсурдом. Понятие «известные ресурсы»
вводит в заблуждение; обществу «известны» только те ресурсы, кото-
рые стоило обнаруживать при данных нынешнем и ожидаемом спро-
се, издержках и ценах.
(2) Метод основан на введении в компьютер фиксированного объ-
ема предложения, иногда с некоторыми предположениями относитель-
но его возможного ограниченного увеличения, которое затем противо-
поставляется бесконечно возрастающему спросу, который должен в
конечном счете превзойти предложение. Этот подход не имеет ничего
общего с тем путем, по которому развивались спрос и предложение в
прошлом, и не может быть обоснован ни экономическим анализом, ни
конкретным анализом технологических инноваций.
(3) Кроме того, даже если бы понятие «конечных ресурсов» имело
смысл, медленный рост не позволил бы обществу существовать беско-
нечно долго: он просто позволил бы отложить роковой «последний
день». Если ресурсы были бы действительно «конечными», то единст-
венный путь, позволяющий гарантировать бесконечно долгое существо-
вание общества, заключался бы в снижении жизненных стандартов до
бесконечно малого уровня, что не представляется политически дости-
жимым в демократических странах.
(4) Загрязнение среды на единицу выпуска продукции уменьшалось
и могло бы быть уменьшено еще больше, если бы проводилась правиль-
ная ценовая политика для интернализации внешних эффектов, вызван-
ных загрязнением. Это является проблемой аллокации ресурсов в дан-
ный момент времени, которая не имеет ничего общего с неэффектив-
ным распределением ресурсов во времени, которое выражалось бы в
излишних темпах роста. На самом деле загрязнение среды обычно наи-
482
более велико в самых бедных странах, а в условиях низких и медленно
растущих доходов ресурсы на сокращение загрязнения до оптимального
уровня обычно выделяются в меньшем объеме.
(5) Мировое производство продовольствия в течение нескольких
десятилетий росло быстрее, чем численность населения, и более быст-
рый экономический рост приводит к замедлению роста населения, а не
наоборот. Острая нехватка продовольствия во многих частях мира от-
ражает диспропорции в распределении мировых продовольственных
ресурсов. Замедление темпов экономического роста США вряд ли по-
зволит увеличить доступность пищи в тех частях Африки, которым
постоянно угрожает голод. Это замедление могло только усугубить си-
туацию в таких странах, поскольку оно означало бы сокращение ока-
зываемой им экономической помощи.
Эти и различные другие серьезные недостатки «Пределов роста»
были подробно проанализированы автором этой статьи (Beckerman,
1972, 1974). Полностью продемонстрировав технические ошибки в
Докладе Римского клуба, Беккерман подчеркнул также то, что основ-
ной силой движения против роста стала элита общества, его средний
класс. Средний класс, отметил автор, в наибольшей мере опасается
потери своих привилегий в быстро растущем обществе, а средние клас-
сы всегда стремились представить свои собственные интересы как ос-
нову общественной морали, за которую борются люди высокой нрав-
ственности и особой эстетической чувствительности, в противовес гру-
бому материализму лоббистов экономического роста. Этот вызов
произвел некоторое впечатление на молодых идеалистов и радикально
настроенных членов общества, которые рассматривали пагубные эф-
фекты роста как свидетельства зла, приносимого капиталистическим
обществом, основанным на погоне за прибылью (несмотря на представ-
ленные Беккерманом данные о еще большем пренебрежении к окру-
жающей среде в странах советского блока). В значительной мере ав-
тор здесь, конечно, развил точку зрения Энтони Кросленда (Crosland,
1956,1962).
Бросающиеся в глаза ошибки в Докладе Римского клуба и очевид-
ная пристрастность в критике изобилия типа мишеновской были час-
тично продемонстрированы на Конференции ООН по окружающей
среде в Стокгольме в 1972 г. представителями более бедных стран, чьи
граждане были больше обеспокоены тем, как прокормиться на следу-
ющий день, чем возможным накоплением двуокиси серы в атмосфере
к 2050 г. Это постепенно ослабило влияние движения против эконо-
мического роста. Оно уже начало «выдыхаться», когда мировой эконо-
мический рост был внезапно приостановлен первым нефтяным шоком
1973/74 г. С тех пор показатели экономического роста в мире были
намного ниже, чем прежде. Одними из последствий этого были воз-
никновение массовой безработицы в большинстве развитых стран мира
и экономический кризис во многих развивающихся странах. Полити-
ка правительства, направленная на ограничение спроса и сокращение
бюджетных дефицитов, перед лицом возрастания расходов на социаль-
ное обеспечение и более низких налоговых поступлений означает, по-
483
мимо прочего, что расходы на охрану окружающей среды теперь име-
ют значительно более низкий приоритет, чем это было до сих пор. Те
группы населения, чье общественное сознание наиболее активно, ока-
зались теперь среди тех, кто наиболее громко жалуется на неудачи пра-
вительств в принятии мер для ускорения экономического роста. Не-
которым людям просто слишком трудно угодить.
БИБЛИОГРАФИЯ
Ashby, Е. 1972а. Lecture on Pollution in Perspective, to The Times 1000 Conference.
The Spectator, 27 May.
Ashby, E. 1972b. Pollution and the Public Conscience, fifty-first Earl Gray memorial
lecture. Newcastle upon Tyne: University of Newcastle.
Beckerman, W. 1972. Economists, scientists and environmental catastrophe. Oxford
Economic Papers 24(3), November, 327—44.
Beckerman, W. 1974. In Defence of Economic Growth. London: Jonathan Cape.
Reprinted as Two Cheers for the Affluent Society, New York: St Martins, 1975.
Cole, H.S.D. et al. (eds) for the Science Policy Research Unit of Sussex University.
1973. Thinking About the Future: A Critique of the Limits of Growth. London:
Chatto and Windus.
Crosland, A. 1956. The Future of Socialism, London: Jonathan Cape.
Crosland, A. 1962. The Conservative Enemy. London: Jonathan Cape. The Economist,
II March, 1972.
Forrester, J.W. 1961. Industrial Dynamics. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Forrester, J.W. 1968. Principles of Systems. Cambridge, Mass.: Wright Allen Press.
Meadows, D.H. et al. 1972. The Limits to Growth: a report for the Club of Rome’s
project on the predicament of mankind. New York: Universe // Пределы роста.
Доклад Римского клуба...
Mellanby, К. 1973. The phoney crisis. Minerva 10(3), July.
Mishan, E.J. 1967. The Costs of Economic Growth. London: Staples Press.
World Bank. 1972. Report on the Limits to Growth. Report by a special task force of
the International Bank for Reconstruction and Development (known as the World
Bank). Washington, DC, September, Mimeo.
Макроэкономика:
отношения с микроэкономикой
Питер Хауитт
Macroeconomics:
Relations with Microeconomics
Peter Howitt
Отсутствие ясной взаимосвязи между макроэкономикой и микро-
экономикой долгое время было источником беспокойства среди эко-
номистов. Эрроу (Arrow, 1967) назвал «большим скандалом» то, что
неоклассическая теория цены не может объяснить такой макроэконо-
мический феномен, как безработица. Лукас и Сарджент (Lucas and
Sargent, 1979) утверждали, что кейнсианская макроэкономическая те-
ория обладает «фундаментальным изъяном» — отсутствием прочных
микрооснований. Бесчисленные студенты и практики жаловались на
«шизофреническую» природу дисциплины, две основные ветви кото-
рой имели столь радикально различающиеся взгляды на мир.
Нетрудно понять, почему это отсутствие единства должно беспоко-
ить экономистов. В любой научной дисциплине фрагментарные объяс-
нения интеллектуально неудовлетворительны и справедливо именуются
объяснениями ad hoc. Теории, которые нуждаются в изменении при
переходе от одной сферы приложения к другой, не дают всеохватыва-
ющих законов и чреваты провалом при попытке новых приложений или
при появлении новых данных.
Желание устранить разрыв между «микро» и «макро» было особен-
но сильным среди специалистов по макроэкономической теории, чье
стремление к единству экономической теории усиливалось по крайней
мере тремя особыми факторами. Во-первых, это редукционистская ме-
тодологическая установка, разделяемая в той или иной степени эконо-
мистами почти любых убеждений, в соответствии с которой никакое
объяснение экономических явлений не будет подлинно удовлетвори-
тельным, если оно не сможет свести эти явления к индивидуальным
действиям основных агентов, принимающих решения. Во-вторых, это
отсутствие решающих эмпирических тестов или экспериментов в эко-
номике, которое помешало продемонстрировать, что макроэкономиче-
ская теория приложима в пределах четко определенной области при-
менения, даже несмотря на то, что она с трудом согласуется с микро-
экономическими принципами. Этот же фактор заставлял экономистов
в большой степени опираться на интроспекцию как на критерий и
источник новых идей, что усиливало их редукционистские тенденции,
поскольку интроспекцию легче применять в том случае, когда теория
485
формулируется в терминах индивидуальных действий, нежели в тер-
минах общественных сил или простых взаимосвязей между агрегиро-
ванными переменными. И, в-третьих, макроэкономика только выхо-
дила из преданалитической стадии, когда микроэкономика уже была
заключена в четко выраженные математические структуры. Историче-
ски одной из наиболее плодотворных стратегий для макроэкономис-
тов стало заимствование и применение тех принципов, допущений и
методов, которые оказались успешными в теоретически более разви-
той ветви экономической науки.
Таким образом, поиски микрооснований стали основным источни-
ком развития макротеории. Это, однако, не означает, что макротеория
превратилась в ветвь прикладной микротеории. Силам, подталкива-
ющим макротеорию на более тесное согласие с микропринципами, про-
тивостояли столь же значительные силы, требующие радикально мо-
дифицировать эти принципы перед тем, как применять их к вопросам
макротеории. Конкретным сдерживающим началом для применения
микропринципов послужило широко распространенное признание
того, что некоторые из наиболее важных макроэкономических фено-
менов выявляют такие дефекты экономической системы, которые ос-
таются за бортом стандартной микротеории, базирующейся на предпо-
ложении о равновесии. В состоянии общего равновесия, как это тра-
диционно представляют себе теоретики микроэкономики, все планы
бесплатно координируются «рынком», функционирование которого
часто эвристически персонифицируется в лице вальрасовского аукци-
ониста. Аукционист устанавливает такие цены, что все планы оказы-
ваются взаимно совместимыми и спрос и предложение по каждому
товару уравниваются. Утверждается также, что при этом условии со-
вместимости аукционист гарантирует, что все торговые планы выпол-
няются без издержек.
При такой работе аукциониста решения одного индивида взаимо-
действуют с решениями другого лишь в той степени, в какой они вли-
яют на вектор равновесных цен. Таким образом, единственное огра-
ничение со стороны социальных взаимодействий, которое влияет на
формирование торговых планов, — это бюджетное ограничение, кото-
рое требует, чтобы стоимость покупок не превышала стоимости про-
даж. Сверх того никому не приходится беспокоиться, что ему удастся
продать меньше запланированного, что он не сможет отыскать потен-
циальных торговых партнеров или что коллапс кредитных рынков мо-
жет помешать превратить будущие продажи в сегодняшние покупки по
определенным ценам.
Естественным было нежелание большинства макроэкономистов
применять теорию, базирующуюся на этой концепции идеальной ко-
ординации, для объяснения циклов деловой активности, крупномас-
штабной безработицы и кредитных кризисов. Эти явления, очевидно,
характеризуются заметным недостатком координации между экономи-
ческой деятельностью различных агентов, а также особой значимостью
как раз тех проблем, которые с точки зрения теории общего равнове-
сия могут безболезненно игнорироваться всеми агентами.
486
История развития макроэкономической теории, начиная с кейнси-
анской революции, представляет собой в значительной степени исто-
рию борьбы между этими двумя противоборствующими течениями:
поиском микрооснований и признанием того, что существующая мик-
ротеория не адекватна макрозадачам. Важнейшие нововведения в мак-
ротеории заключались в новых путях использования мощных орга-
низующих концепций микротеории: равновесия и рационального
выбора — для объяснения явлений, которые упускались из виду тра-
диционной макротеорией.
Основным аналитическим нововведением Кейнсовой общей теории
было развитие альтернативной концепции равновесия, которая позво-
лила, не предполагая идеальную координацию, применить модифици-
рованные версии анализа спроса и предложения к решению макроэко-
номических вопросов. Ключом к этому нововведению было признание
того, что цены не являются единственными уравновешивающими пе-
ременными. В равновесии Кейнса такой переменной стал агрегирован-
ный выпуск. Вместо того чтобы определять занятость из условия ра-
венства спроса и предложения на рынке труда, Кейнс использовал усло-
вие равенства величин совокупного спроса и произведенного
выпуска — условие равновесия известного Кейнсианского креста. Хикс
(Hicks, 1937) показал, каким образом Кейнсов анализ может быть фор-
мализован в виде двух уравнений относительно двух уравновешива-
ющих переменных — выпуска и нормы процента, — формализация, ко-
торая стала стандартной парадигмой макротеории на следующие 30 лет.
Вооруженные этой новой концепцией равновесия, экономисты-кейн-
сианцы немедленно добились ближайшей цели: они получили в свое
распоряжение макроэкономическую теорию с достаточным числом
уравнений для определения интересующих их переменных. Не будучи
теперь обязанными рассматривать флуктуации выпуска и занятости как
отклонения от равновесия и использовать для этого доступные в то
время громоздкие и небесспорные динамические методы, макроэконо-
мисты после Кейнса смогли воспользоваться намного более простыми
методами сравнительной статики. Кроме того, опираясь на новую кон-
цепцию равновесия, они смогли начать анализ совокупного спроса
исходя из теории выбора. Начиная с Хиксовой работы и вплоть до
1960-х годов основные достижения в макротеории состояли в рацио-
нализации и модификации соотношений, описывающих агрегирован-
ное поведение и постулированных Кейнсом, с помощью оптимизаци-
онного подхода.
Хотя имелись значительные разногласия относительно того, следу-
ет ли кейнсианское равновесие называть равновесием и действитель-
но ли оно воплощает центральные идеи Кейнса, тем не менее, среди
макроэкономистов после кейнсианской революции существовало ши-
рокое согласие по поводу областей относительной применимости кейн-
сианской макроэкономики и вальрасианской микротеории. Модилья-
ни (Modigliani, 1944) показал, как можно вывести результаты Кейнса
из классической модели, если зафиксировать номинальную ставку за-
работной платы. Поскольку было широко распространено убеждение
487
в том, что ставка заработной платы в краткосрочном периоде достаточ-
но негибка, представлялось естественным считать сферой применимо-
сти кейнсианской теории краткосрочные флуктуации, а сферой при-
менимости теории общего равновесия — долгосрочные аспекты, в ко-
торых вопросы адаптации вполне можно игнорировать. Эта точка
зрения стала известна как «неоклассический синтез».
Однако к 1960-м годам возникли серьезные сомнения относительно
логической непротиворечивости такого деления на сферы. Прежде все-
го следует упомянуть Клауэра (Clower, 1965), который указал, что кейн-
сианская потребительская функция — ключевое понятие в кейнсовом
мультипликаторном процессе установления равновесного выпуска —
оказалась несовместимой с вальрасианским анализом общего равнове-
сия. В частности, она базировалась на представлении о том, что типич-
ное домохозяйство рассматривает свой доход — текущий или ожида-
емый — как заданный, в то время как в теории общего равновесия пред-
полагается, что хозяйство само определяет свой доход, выбирая, какой
объем услуг труда предлагать на продажу. Клауэр поднял вопрос о том,
как теория, включающая потребительскую функцию такого рода, может
быть увязана со стандартной микроэкономической теорией.
Ответ, предложенный Клауэром, заключался в том, что кейнсиан-
ский «эффективный» спрос перемещался в вальрасианскую систему,
находящуюся вне равновесия. Если цены общего равновесия еще не
установились, то избыточный спрос или предложение на рынках не дает
всем участникам возможности успешно реализовать планы торговли,
которые были ими сформированы на основе одного лишь бюджетного
ограничения. Как только они это видят, они начинают учитывать не
только свои бюджетные ограничения, но и количественные лимиты,
устанавливаемые неценовым рационированием. Безработный будет
основывать свой спрос не на количестве труда, которое он хотел бы
продать за подходящую плату, а на том количестве, которое он реаль-
но продает или ожидает продать.
Идея Клауэра была далее развита Бэрроу и Гроссманом (Barro and
Grossman, 1971), которые объединили его с аналогичным, проделанным
Патинкиным (Patinkin, 1956, ch. 13) анализом того, как величина спроса
на выпускаемый продукт влияет на спрос на рабочую силу, если сис-
тема не находится в общем равновесии. Бэрроу и Гроссман показали,
как можно соединить эти идеи для того, чтобы обобщить Кейнсово
понятие равновесия, достигаемого через изменение выпуска. Допустим,
что цены зафиксированы на уровнях, которые создают избыточное
предложение труда и выпускаемой продукции. Тогда равновесным бу-
дет в общем случае набор величин спроса со стороны участников, при-
нимающих во внимание ограничения на продажи, вытекающие из этих
величин.
Для многих авторов анализ Бэрроу — Гроссмана представлялся тем
микрооснованием макротеории, которое служило подтверждением нео-
классического синтеза. Бэрроу и Гроссман назвали свою теорию ана-
лизом «общего неравновесия», подчеркнув тем самым, что она дает
кейнсианские результаты только тогда, когда цены отличаются от сво-
488
их равновесных значений по Вальрасу. Как подчеркивалось в после-
дующей литературе, этот анализ может сочетаться с механизмом нащу-
пывания (tatonnement) теории общего равновесия, в соответствии с
которым цена любого блага при неравновесии повышается либо пони-
жается как функция от избыточного спроса либо предложения на рын-
ке этого блага. По мере изменения цен равновесие объемов меняется
вместе с ними. Единственная в долгосрочном периоде точка покоя в
такой системе будет точкой вальрасианского равновесия. В краткосроч-
ном периоде система будет обычно находиться в кейнсианском равно-
весии при фиксированных ценах.
Главная проблема, связанная с таким микрооснованием, заключа-
ется в том, что оно зависит от того, что обычно считается самым сла-
бым звеном микротеории, — от механизма нащупывания. Никому пока
не удалось успешно интегрировать этот механизм с основной частью
микротеории — теорией равновесия. Проблема, связанная с попыткой
такого интегрирования, была четко поставлена Эрроу (Arrow, 1959),
который отметил, что поскольку в теории общего равновесия предпо-
лагается, что все участники принимают существующие цены как дан-
ные, то никто не может изменить цены, отличные от равновесных.
Эвристическая конструкция, называемая «аукционистом», скорее по-
зволяет уйти от этой проблемы, чем решить ее.
Эта проблема заставляла в 1960-х и 1970-х годах некоторых авторов
обратиться в поисках микрооснования к экономической теории инфор-
мации. В теории общего равновесия нащупывание может мыслиться
как механизм, с помощью которого рынок сопоставляет и распростра-
няет информацию, требуемую для достижения координированного
состояния. Когда в экономику вносится возмущение из-за изменения
вкусов или технологий, которое на первых порах обнаруживается толь-
ко ограниченным числом участников, то избыточный спрос и предло-
жение, создаваемые этими изменениями, действуют для остальной ча-
сти общества как сигнал к изменению аллокации ресурсов. Этот сиг-
нал передается другим индивидам в форме изменения относительных
цен. С точки зрения неоклассического синтеза макроэкономические
проблемы возникают из-за того, что данный процесс требует времени.
Трудность, отмеченная Эрроу, заключалась в том, что информацион-
ные аспекты этого процесса не отражены в теоретической модели при-
нятия решений. Поэтому многим казалось, что выход из этих трудно-
стей лежит в более явном выделении роли не вполне совершенной
информации в принятии индивидуальных решений.
Значительный прогресс в этом направлении был осуществлен ав-
торами знаменитого «Сборника Фелпса» (Phelps et al., 1970), причем
наиболее заметным вкладом оказалась «метафора об островах», изло-
женная во вводной статье Фелпса. Согласно Фелпсу, типичный участ-
ник сделок как бы последовательно переходит с одного «информаци-
онного острова» на другой. Цены на каждом острове всегда уравнива-
ют спрос и предложение в пределах этого острова, но люди остаются
неосведомленными относительно цен и объемов сделок на других ост-
ровах.
489
Эта метафора, как представляется, дает микрооснование для нео-
классического синтеза без опоры на проблематичный механизм нащу-
пывания. Рассмотрим, в частности, случай непредвиденного чисто
номинального падения совокупного спроса. В соответствии с теорией
Фелпса система отреагирует в краткосрочном периоде падением выпус-
ка и занятости и меньшим падением цен, как в кейнсианской теории,
но в долгосрочном периоде произойдет пропорциональное понижение
цен, нейтрализующее реальный результат, что соответствует теории
общего равновесия. Причина того, что в краткосрочном периоде ней-
трализация не происходит, заключается в том, что продавцы, которые
видят, что их продажные цены падают, воспринимают это как падение
относительных цен на них. Они до поры до времени не осознают, что
цены падают также и во всей экономике, и поэтому стремятся сокра-
щать продажи. Это сокращение предложения смягчает первоначальное
падение цен. В конечном счете осознание того, что перед ними всеоб-
щее, а не просто локальное явление, побудит людей предлагать на про-
дажу прежнее количество товара, и цены повсеместно окажутся сни-
женными до новых равновесных значений.
Это микрооснование не связано с механизмом нащупывания, но в
значительной мере опирается на теорию формирования ожиданий.
В ней, в частности, постулируется, что единственным препятствием на
пути достижения долгосрочного равновесия является задержка с фор-
мированием точных ожиданий общего уровня цен. Этот постулат не
удовлетворил некоторых авторов, поскольку он подразумевает несоот-
ветствие между формированием планов торговли, которое, по предпо-
ложению, осуществляется участниками рационально, и формировани-
ем ожиданий, которое, как предполагается, производится в соответ-
ствии с некоторым механическим правилом. Эта неудовлетворенность
привела к «революции рациональных ожиданий» в макроэкономике.
Основополагающей для этой революции была статья Лукаса (Lucas,
1972). В этой работе Лукас представил точную модель для метафоры об
островах, в которой участники формируют субъективные ожидания,
являющиеся математическими ожиданиями в рамках модели. Эта схе-
ма ожиданий не выводилась явным образом из какой-либо оптимиза-
ционной схемы; однако она получила наименование «рациональной»
из-за веры в то, что люди, которые формируют ожидания каким-либо
иным образом, неизбежно оставляют неиспользованными некоторые
возможности для повышения своего благосостояния. Модель Лукаса в
1970-х и 1980-х годах стала теоретической парадигмой для представи-
телей новой классической экономической теории, чья исследователь-
ская программа открыто стремилась подвести под всю макроэкономи-
ку твердые микроэкономические принципы.
К началу 1980-х годов новая классическая теория стала доминирую-
щим направлением в макроэкономике. Но этому резко сопротивлялись
экономисты-кейнсианцы, которые утверждали, что хотя эта теория имеет
прочные микрооснования, она базируется на понятии равновесия, слиш-
ком близком к идеалу экономики «без трения» в вальрасовской теории.
Среди прочих возражений они обращали внимание на то, что платой за
490
устранение проблемы нащупывания с помощью метафоры об островах
Фелпса является отказ от фундаментального кейнсианского представ-
ления об объемах и других неценовых сигналах уравновешивающих пе-
ременных. Это заставляло отказаться от надежды объяснить многие из
проблем явно координационного характера, встающих перед людьми в
низшей точке цикла деловой активности.
В середине 1980-х годов, однако, произошло возрождение теорети-
ческой поддержки кейнсианских идей. В частности, такие авторы, как
Даймонд (Diamond, 1982) и Хауитт (Howitt, 1985), построили модели,
в которых все участники явным образом рациональны, а состояния рав-
новесия обнаруживают кейнсианские черты. Объединяющей чертой
этих моделей является допущение о том, что даже при полной гибкос-
ти цен люди реагируют на неценовые сигналы. В частности, увеличе-
ние экономической активности на одной стороне рынка (и следователь-
но, увеличение совокупного спроса) уменьшит торговые издержки из-
за облегчения поиска торговых партнеров и, следовательно, подействует
на решения, принимаемые на другой стороне рынка, например вызо-
вет увеличение совокупного предложения, даже если оно не повлияет
на рыночные цены. Однако эти модели пока еще находятся в стадии
становления.
Интересно поразмышлять о том, будет ли поиск микрооснований
продолжать играть важную роль в будущем развитии макроэкономи-
ки. Разрыв между «микро» и «макро», который стимулировал столь
многих исследователей, быстро сужается в пограничной зоне исследо-
ваний. В этой зоне микротеория постепенно преобразуется путем уче-
та информационных проблем — тех, которые часто выдвигаются мак-
роэкономистами. А макроэкономические работы без явного упомина-
ния хозяйствующих субъектов, их проблем, связанных с принятием
решений, и условий равновесия появляются все реже.
В то же время остается вопрос, могут ли микроэкономические прин-
ципы равновесия и рациональности, которые оказались столь плодо-
творными для развития макроэкономики, играть более весомую роль.
Сами по себе они являются не более чем организующими приемами:
без большого числа вспомогательных гипотез они не приводят к зна-
чимым эмпирически проверяемым утверждениям.
БИБЛИОГРАФИЯ
Arrow, K.J. 1959. Towards a theory of price adjustment. In The Allocation of Economic
Resources, ed. M. Abramovitz et al., Stanford: Stanford University Press.
Arrow, K.J. 1967. Samuelson collected. Journal of Political Economy 75, October,
730-37.
Barro, R.J. and Grossman, H.I. 1971. A general disequilibrium model of income and
employment. American Economic Review 61(1), March, 82—93.
Clower, R.W. 1965. The Keynesian counter-revolution: a theoretical appraisal. In The
Theory of Interest Rates, ed. F.H. Hahn and F.P.R. Brechling, London:
Macmillan.
491
Diamond, P. A. 1982. Aggregate demand management in search equilibrium. Journal
of Political Economy 90(5), October, 881—94.
Hicks, J.R. 1937. Mr Keynes and the ‘classics’: a suggested interpretation.
Econometrica 5, April, 147—59.
Howitt, P. 1985. Transaction costs and the theory of unemployment. American
Economic Review 75(1), March, 88-100.
Lucas, R.E. 1972. Expectations and the neutrality of money. Journal of Economic
Theory 4(2), April, 103-24.
Lucas, RE. and Sargent, T.J. 1979. After Keynesian macroeconomics. Federal Reserve
Bank of Minneapolis Quarterly Review 3(2), Spring, 1-16.
Modigliani, F. 1944. Liquidity preference and the theory of interest and money.
Econometrica 12, January, 45-88.
Patinkin, D. 1956. Money, Interest, and Prices. New York: Harper & Row.
Phelps, E.S. et al. (eds) 1970. Microeconomic Foundations of Employment and
Inflation Theory. New York: Norton.
ТЕОРИЯ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ
МАЛЬТУСА
Д.Р. Уэйр
Maltus’s Theory of Population
D.R. Weir
Часто говорят, что Мальтус был лучшим историком, чем пророком.
Он был бы очень удручен, услышав подобный приговор, поскольку,
создавая свою теорию народонаселения, он как раз намеревался зало-
жить научную базу для предсказания будущего состояния человечества,
которая противостояла бы теориям утопистов, в особенности Годвина.
Чаще всего ссылаются на то, что Мальтус не сумел предвидеть про-
мышленную революцию. Однако даже с позиций сегодняшнего дня
специалисты по экономической истории затрудняются найти задним
числом хоть какие-то признаки ее скорого прихода. Самым значитель-
ным вкладом Мальтуса в науку является не его пессимистическое от-
ношение к технологическому прогрессу, а то, что ему удалось предуга-
дать демографические последствия смены технологий и неизбежное
воздействие численности населения на уровень жизни. Теория наро-
донаселения Мальтуса продолжает оказывать влияние на экономичес-
кую мысль и сегодня — ее отголоски мы встречаем и в публицистике,
и в политических дискуссиях, и в экономическом моделировании, тогда
как многие классические теории того времени, например трудовая те-
ория ценности, давно уже сошли со сцены.
В настоящей статье мы рассмотрим демографическую сторону тео-
рии Мальтуса. Сначала мы представим его идеи в виде простой моде-
ли в современном смысле этого слова. При этом мы не собираемся вда-
ваться во все тонкости его концепций — тем более, что они часто про-
тиворечивы. «Опыт о законе народонаселения», впервые увидевший
свет в 1798 г., перерабатывался шесть раз, и последнее, седьмое, изда-
ние было опубликовано в 1878 г. — через 38 лет после смерти автора.
Используемая здесь модель призвана отразить только самые существен-
ные и неустаревающие аспекты этой теории. Кроме того, она задает
схему для обсуждения всех фактов, подтверждающих или опроверга-
ющих правильность предсказаний теории Мальтуса на периодах как до,
так и после написания его трудов.
МОДЕЛЬ. На рис. 1 представлены основные элементы равновесия
по Мальтусу. Три кривые отражают три главные функциональные за-
висимости. На первом графике представлена агрегированная производ-
ственная функция, показывающая связь между численностью населе-
493
ния и уровнем жизни (реальной заработной платой, подушевым дохо-
дом). Главная особенность этой функции заключается в постоянно
убывающей отдаче труда — здесь Мальтус следует примеру других эко-
номистов-классиков, излюбленным коньком которых были подобные
функции. Второй график отражает демографические процессы. Смерт-
ность (в данном случае она измеряется количеством смертей на 1000 че-
ловек в год) растет с падением уровня жизни. Это непосредственное
препятствие для роста населения (positive check). Рождаемость (в дан-
ном случае она измеряется количеством рождений на 1000 человек в
год) с падением уровня жизни падает. Это «предупредительное» пре-
пятствие для дальнейшего роста населения (preventive check). Если
рождаемость превышает смертность, численность населения растет,
если смертность превышает рождаемость, численность населения па-
дает. Рост населения приводит к снижению уровня жизни (через про-
изводственную функцию), что в свою очередь увеличивает смертность
и снижает уровень рождаемости, тем самым останавливая рост насе-
ления. Точка равновесия в этой простой модели достигается при нуле-
вом росте населения. В этой точке заработная плата не меняется, а зна-
чит, смертность и рождаемость тоже не меняются. Равновесие устой-
чивое, поскольку любое его нарушение приводит в действие механизм,
компенсирующий это нарушение.
Устойчивость этого равновесия и служит причиной пессимизма
Мальтуса. Представьте, что произошло расширение пахотных земель.
Производственная функция при этом сдвинется вверх, поскольку уро-
вень жизни населения повысится. Но раз уровень жизни повысился,
рождаемость начнет расти, а смертность — падать, и рост населения
будет поглощать все возникшие выгоды, пока уровень оплаты труда не
упадет, наконец, до прежнего уровня. Демографическое поведение яв-
ляется тем горнилом, из которого выходит «железный» закон заработ-
ной платы. Уровень жизни может сохраниться на более высоком уров-
не только при условии снижения рождаемости (более низкой норме
494
рождаемости при любой заработной плате) или повышения смертнос-
ти (более высокой смертности при любой заработной плате).
Приведенные выше гладкие кривые описывают долгосрочные тен-
денции в том виде, в каком они представлялись Мальтусу. Процесс
схождения к точке равновесия, однако, виделся ему отнюдь не глад-
ким. Он считал, что компенсирующий рост населения, как правило,
«проскакивает» точку равновесия. Непосредственные препятствия в
виде массового голода или болезней проявляются не сразу, но впослед-
ствии приводят к снижению численности населения ниже точки рав-
новесия, и весь цикл повторяется вновь. Мальтус ничего не говорил
ни о периодичности такого цикла, ни об амплитуде колебаний в его
рамках, он утверждал лишь, что численность населения должна коле-
баться вокруг уровня долгосрочного равновесия.
СВИДЕТЕЛЬСТВА «ЗА» И «ПРОТИВ». При подробном рассмот-
рении отдельных компонентов этой модели необходимо обратить осо-
бое внимание на три аспекта каждого такого компонента. Во-первых,
следует проанализировать то, каким образом эволюционировали соб-
ственные взгляды Мальтуса на ту или иную функциональную зави-
симость. Во-вторых, необходимо рассмотреть все исторические сви-
детельства «за» и «против» существования каждой такой функции. На-
конец, необходимо соотнести каждую такую функцию с основными
экономическими и демографическими изменениями, имевшими ме-
сто в течение двух последних столетий. Сам Мальтус придавал огром-
ное значение эмпирической верификации. Критикуя утопистов, он
писал:
«Автор может утверждать, что, по его мнению, человек в конечном
счете превратится в страуса. Я не могу должным образом опроверг-
нуть это. Но прежде, чем надеяться на то, что какой-либо разумный
человек согласится с его мнением, он должен показать, что человечес-
кая шея постепенно удлиняется, губы становятся все тверже и вытя-
гиваются вперед, ноги и ступни меняют свою форму, а волосы превра-
щаются в зачатки перьев» (Мальтус, 1798).
Большая часть работы над последующими изданиями «Опыта о за-
коне народонаселения» была посвящена сбору фактов, подтвержда-
ющих действие этого закона.
Главная проблема при использовании данной или любой другой
теории равновесия для объяснения взаимосвязей между экономичес-
кими и демографическими переменными (будь то во времени или в
пространстве) или при попытке проверить модель эмпирическими дан-
ными заключается в размежевании экзогенных воздействий и эндоген-
ных реакций. Мальтус догадывался о существовании такой проблемы,
подтверждение чему мы находим уже в первом издании его «Опыта...».
Дэвид Юм, отмечая тот факт, что женщины в Китае вступают в брак в
раннем возрасте, делает вывод о том, что вследствие этого население
Китая должно быть очень большим. Мальтус же, считая брачный воз-
раст не экзогенным, а эндогенным фактором, приходит к заключению,
что население Китая, напротив, должно быть сравнительно небольшим,
495
а заработная плата — сравнительно высокой, чтобы столь ранние бра-
ки получили распространение.
СМЕРТНОСТЬ. Мальтус называл рост смертности в ответ на рост
заработной платы «непосредственным препятствием», поскольку, ког-
да численность населения становится слишком большой, подобный
эффект оказывается совершенно неизбежным и неотвратимым. Что же
касается рождаемости, то ее снижение является «предупредительным
препятствием» в том смысле, что если рост населения сдерживается за
счет низкой рождаемости, то реакция в виде роста смертности может
быть предупреждена.
Мальтус предполагал существование двух типов реализации непо-
средственного препятствия. Первый заключается в том, что падение
уровня жизни приводит к росту «несчастий и пороков». Несчастья и
пороки включают в себя некоторые обстоятельства, которые одновре-
менно и снижают, и повышают уровень смертности. В этом случае за-
висимость получается гладкой и непрерывной, как на приведенном
выше рисунке. Второй тип реализации непосредственного препятствия
заключается во внезапном скачке смертности, приводящем к резкому
сокращению численности населения за год или два. Если переложить
это на современный язык, вероятность резкого увеличения смертно-
сти на любую заданную величину должна быть тем больше, чем ниже
уровень жизни. Если изобразить зависимость ожидаемого значения
нормы смертности от заработной платы графически, мы получим глад-
кую функцию наподобие той, которая представлена выше. В действи-
тельности же все происходит далеко не так гладко. Приближение к
равновесию неизбежно, но идет не постоянным темпом.
Авторы, изучавшие вопрос о существовании непосредственного
препятствия на историческом материале, подходили к решению этой
задачи с двух противоположных сторон. Одни из них рассматривали
только крупные кризисы и пытались установить, не являлись ли эти
кризисы следствием роста населения. Другие пытались определить сте-
пень давления, оказываемого величиной населения на имеющиеся ре-
сурсы в разные моменты времени, и установить связь между этим дав-
лением и динамикой смертности.
Во время массовой эпидемии бубонной чумы в 1347-1348 гг., во-
шедшей в историю под названием «Черной смерти», погибло от одной
трети до половины всего населения Европы. Хэтчер (см.: Hatcher, 1977)
считает, что для Англии Черная смерть не была «мальтузианской» ре-
акцией, т.е. она не явилась следствием перенаселения. Однако есть
множество фактов, свидетельствующих о том, что эпидемии предшест-
вовал длительный период устойчивого роста населения: так, рента и
цены на основные продукты питания росли по меньшей мере в тече-
ние двух столетий. В 20-х годах XIV в. было несколько голодных лет.
«Антимальтузианский» вывод Хэтчера был сделан на основании отсут-
ствия логической связи между уровнем жизни и масштабами эпидемии
чумы, а также исходя из того, что, даже если допустить существование
перенаселения, рост смертности оказался непропорционально высоким.
496
Что же касается экономической реакции на Черную смерть, то она была,
несомненно, мальтузианской (см.: Hatcher, 1977, р. 101-194). Однако
то обстоятельство, что индуцированная (эндогенная) реакция смертно-
сти на рост населения оказалась чрезмерной и превратилась в экзоген-
ный шок, сокративший численность народонаселения до уровня ниже
равновесного, вполне согласуется с более тонкими аргументами Маль-
туса. Изучение одного-единственного исторического эпизода не позво-
ляет ответить на вопрос, возросла ли вероятность такого события вслед-
ствие предшествовавших ему экономических обстоятельств. Един-
ственное, что можно утверждать наверняка: последующие эпидемии
чумы и дальнейшее сокращение численности населения на протяже-
нии по меньшей мере всего следующего столетия не были следствием
повышения уровня жизни в результате первой эпидемии.
Разразившийся в Ирландии полтысячелетия спустя голод из-за не-
урожая картофеля вновь дал повод для споров вокруг неомальтузиан-
ских идей. Мокир (Мокуг, 1983) объясняет главенствующую роль кар-
тофеля в пищевом рационе местных жителей давлением перенаселе-
ния в уникальных институциональных условиях Ирландии. Как и в
случае с чумой, то, что голод произошел именно в этом месте и в это
время, было во многом случайным. Однако в отличие от Черной смер-
ти здесь была возможность смягчить последствия и не допустить тако-
го роста смертности. Остается только гадать, что стало бы с ирландца-
ми, если бы английские политики 40-х годов XIX столетия не были зна-
комы с теорией Мальтуса.
Главные доказательства существования непосредственного препят-
ствия дает изучение демографических последствий голодных лет, ког-
да вслед за неурожаем происходят краткосрочные скачки смертности.
Мёвр (Meuvret, 1946) обратил внимание на существование тесной связи
между ценами на зерно и смертностью в отдельных эпизодах француз-
ской истории. Последующие исследования, проведенные на более дли-
тельных исторических периодах и использовавшие данные по более
широкому кругу стран, подтвердили существование четкой статисти-
ческой зависимости между смертностью и неурожаями. Однако разви-
тие сельского хозяйства и торговли практически уничтожило эту зави-
симость в Англии к концу XVI в. и во Франции — к середине XVIII в.
Во времена Мальтуса средняя продолжительность жизни составля-
ла не более 40 лет, ныне в большинстве развитых стран она превыша-
ет 70 лет. Поскольку уровень жизни также повысился, создается впе-
чатление, что идеи Мальтуса о смертности не столько описывают пре-
дыдущую историю, сколько предсказывают будущее. Некоторое
сомнение в правомерности такого утверждения высказал Престон
(Preston, 1976), который указал на отсутствие тесной связи между про-
должительностью жизни в разных странах и уровнем подушевого до-
хода. Из этого он делает вывод, что уровень развития здравоохранения
и медицины имеет для продолжительности жизни большее значение,
чем уровень материального благополучия. Однако вполне допустимо
предположить, что уровень развития медицины является функцией от
подушевого дохода в ведущей стране или в группе ведущих стран, и в
497
этом случае выводы Престона следует понимать лишь в том смысле,
что теория Мальтуса более не применима к отдельным странам.
Подводя итоги, можно сказать, что свидетельств, подтверждающих
существование постулированной Мальтусом связи между уровнем до-
хода и смертностью, находится не так уж много. Зато имеется очень
много свидетельств в пользу того, что бблыпую часть изменений в уров-
не смертности невозможно объяснить в рамках столь простой модели.
РОЖДАЕМОСТЬ. В первом издании «Опыта о законе народонасе-
ления» Мальтус утверждал, что «страсть между полами является необ-
ходимой и сохранится в практически неизменном виде и в будущем»,
что фактически означает то же самое, что норма рождаемости есть ве-
личина более или менее постоянная, которая не зависит от уровня
жизни. В этом случае кривая рождаемости на нашем рисунке выроди-
лась бы в вертикальную линию. Позже Мальтус пропагандировал идею
поздних браков как средства сдерживания роста населения. Будучи
викарием англиканской церкви, он осуждал как контрацепцию, так и
безбрачие, называя и то и другое «грехом». Тот факт, что возникшее в
конце XIX в. движение за контроль над рождаемостью связывалось с
именем Мальтуса, является следствием очередного заблуждения, кото-
рыми так богата человеческая история. Тем не менее, поскольку в мо-
дели Мальтуса только ограничение рождаемости позволяет повысить
уровень жизни и увеличить ее продолжительность, нет ничего удиви-
тельного в том, что те, кто был согласен с его теорией, пусть даже не
разделяя его моральных принципов, рано или поздно должны были
обратиться к его теории в поддержку своих идей.
Свидетельств в пользу существования эндогенной реакции уровня
рождаемости становится все больше, однако убедительно доказать ее
существование так пока и не удалось. Ригли и Скофилд (Wrigley and
Schofield, 1981) показали, что долгосрочная динамика рождаемости в
Англии повторяет долгосрочную динамику заработной платы с 1541 по
1871 г. При этом лаг составлял 40 лет, и из 330 лет в 140 случаях эти
показатели двигались в разных направлениях. Кроме того, в Англии,
как и в остальных европейских странах того периода, средний брачный
возраст и фертильность в браке оставались достаточно стабильными
величинами, и до наступления промышленной революции основной
причиной изменений уровня рождаемости в Англии было изменение
доли лиц, когда-либо состоявших в браке, в составе всего населения
(Weir, 1984).
Самой большой неудачей теории народонаселения Мальтуса явля-
ется то, что она не смогла объяснить переход от высокой, практически
неконтролируемой рождаемости в браке к современной низкой рож-
даемости. Процесс этот начался раньше всего во Франции, как раз в
то время, когда Мальтус писал свою работу. Примерно тогда же им
оказалась затронута часть Соединенных Штатов и Венгрия, а где-то
между 1870 и 1914 гг. этому примеру последовали и остальные страны
Европы. При этом ни в одном случае долгосрочное падение рождае-
мости не было обусловлено падением национального дохода. Если взять
498
сегодняшний день, то в ряде развивающихся стран удалось добиться
снижения рождаемости за счет одних только политических мер, не
сопровождавшихся экономическим ростом, однако в целом долгосроч-
ный экономический рост продолжает оставаться важнейшим фактором,
приводящим к снижению рождаемости.
Неоклассические теории рождаемости, в частности теория Беккера
(Becker, 1981), пытаются спасти мальтузианскую теорию, встраивая ее
в модель спроса на детей в качестве эффекта дохода. Поскольку по
сравнению с другими потребительскими благами дети обходятся все
дороже, возникает эффект замещения, который может оказаться более
важным фактором, определяющим динамику рождаемости, чем эффект
дохода. Подобная модель действительно помогает понять, почему маль-
тузианская модель достаточно хорошо объясняет циклические колеба-
ния уровня рождаемости как до (Lee, 1981), так и после (Easterlin, 1973)
перехода от высокой рождаемости к низкой, — ведь относительные
цены не могут колебаться так же сильно, как и доход. Маркс, резко кри-
тиковавший Мальтуса, не удивился бы такому выводу. Он всегда
утверждал, что мальтузианские законы народонаселения присущи лишь
специфическому способу производства в допромышленной Европе и
что другим способам производства будут соответствовать иные режи-
мы воспроизводства населения. К сожалению, никаких конкретных
указаний о том, как получить правильный прогноз, он не оставил.
Забавно, что теория народонаселения Мальтуса, призванная пред-
сказывать долгосрочное равновесие, хорошо согласуется с краткосроч-
ными колебаниями, но не отражает долгосрочных тенденций. Челове-
чество не достигло идиллического состояния, предсказываемого уто-
пистами — оппонентами Мальтуса. Не выполнили мы и предсказаний
Мальтуса. Отделение функции воспроизводства от «страсти между по-
лами» привело к тому, что рождаемость в богатейших странах мира
упала даже ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства,
а в беднейших странах множество детей обречено прожить свою корот-
кую жизнь в нищете. Современные теории народонаселения должны
признать свой долг перед Мальтусом и двигаться дальше.
БИБЛИОГРАФИЯ
Becker, G.S. 1981. A Treatise on the Family. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press.
Easterlin, R.A. 1973. Relative economic status and the American fertility swing. In
Family Economic Behavior: Problems and Prospects, ed. E.B. Sheldon,
Philadelphia: J.B. Lippincott.
Hatcher, J. 1977. Plague, Population, and the English Economy, 1348—1530. London:
Cambridge University Press.
Lee, R.D. 1981. Short-term variation: vital rates, prices and weather. In Wrigley and
Schofield (1981), ch. 9.
Malthus, T.R. 1798. An Essay on the Principle of Population, as it affects the future
improvement of society. With remarks on the speculations of Mr Godwin, M.
499
Condorcet, and other writers. Harmondsworth: Penguin, 1970; 7th edn, New York:
Kelley 1970 // Мальтус T. Опыт о законе народонаселения //Антология эко-
номической классики: В 2 т. Т. 2. М.: Эконов, 1992.
Meuvret, J. 1946. Les crises de subsistences et la demographic de la France de 1’Ancien
Regime. Population 1 (4), November, 643—650.
Mokyr, J. 1983. Why Ireland Starved. London: Allen & Unwin.
Preston, S.H. 1976. Mortality Patterns in National Populations. New York: Academic
Press.
Weir, D.R. 1984. Rather never than late: celibacy and age at marriage in English cohort
fertility, 1541—1871. Journal of Family History 9 (4), Winter, 340-54.
Wrigley, E.A. and Schofield, R. 1981. The Population History of England, 1541-1871:
A Reconstruction. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
(ПРОВАЛЫ) РЫНКА
Джон Ледьярд
Market Failure
John О. Ledyard
Наилучший способ понять феномен несостоятельности рынка за-
ключается в том, чтобы сначала рассмотреть феномен успешного функ-
ционирования рыночного механизма, т.е. условия, при которых набор
идеализированных конкурентных рынков способен обеспечить равно-
весную аллокацию ресурсов, оптимальную по Парето. Данная способ-
ность рынков, смутные догадки о которой были высказаны еще Ада-
мом Смитом, получила наиболее четкое выражение в теоремах совре-
менной экономической теории благосостояния. Преимущественный
интерес для нас представляет первая из них, именуемая «первой фун-
даментальной теоремой» экономической теории благосостояния^
В упрощённой фбрмееё можно изложить следующим образом: (1) если
соблюдается условие полноты рынков, (2) если поведение потребите- ।
лей и производителей является конкурентным и (3) если существует i
состояние равновесия, то аллокацйядтесурсов в условиях данного рав- 1
новесия будет оптимальной по Парето (см.: Arrow, 1951 или Debreu,
1959). Считается, что несостоятельность рынка имеет место в том слу-
чае, если вывод данной теоремы не соответствует действительности,
т.е. аллокация ресурсов, достигнутая на рынках, не является эффектив-
ной.
Наличие несостоятельности рынка часто рассматривается как оправ-
дание государственного вмешательства в рыночные процессы (одна из
точек зрения по этому поводу содержится в работе: Bator, 1958,
section V). Стандартные доводы состоят в том, что в случае неэффек-
тивности рыночной аллокации ресурсов благосостояние субъектов
может и должно быть повышено. Чтобы понять возможность и жела-
тельность такого вмешательства, повышающего благосостояние по кри-
терию Парето, необходимо добиться более глубокого осознания при-
чин несостоятельности рынка. Поскольку они неизбежно должны быть
связаны с нарушением хотя бы одного из трех условий «первой фун-
даментальной теоремы», мы последовательно рассмотрим каждое из
этих условий.
Первое условие требует полноты рынков. Хотя четкие критерии
«полнть1» отсутствуют, общий принцип состоит в том, что, если не-
кий” субъект в экономике испытывает потребность в получении како- >
го-либо блага (или в прекращении вынужденного потребления анти- ;
507
блага), причем данная потребность может быть удовлетворена только
посредством взаимодействия по крайней мере с еще одним субъектом,
то для данного блага (или антиблага) должен существовать рынок и на
него должна устанавливаться цена (Arrow, 1969). Это услбвиёТдолжно
выполняться для любого блага (антиблага), будь то хлеб, фабричный дым
или национальная оборона. В первом случае мы имеем дело со стандар-
тным частным благом, во втором — с внешним эффектом, в третьем —
с общественным благом. Чтобы было достигнуто оптимальное по Паре-
то распределение ресурсов, на все перечисленные блага (антиблага)
должны устанавливаться цены; в случае отсутствия рынков этих благ (ан-
тиблаг) субъекты могут оказаться не в состоянии информировать дру-
гих субъектов о возможности заключения взаимовыгодных сделок, обес-
печивающих повышение благосостояния обеих сторон.
Информационная роль рынков четко раскрывается в классическом
примере несостоятельности рынка, проанализированном Т. Ситовски
(Scitovsky, 1954). В данном примере вновь создаваемая сталелитейная
отрасль может оказаться прибыльной лишь в том случае, если в бли-
жайшие пять лет начнет функционировать железнодорожный транс-
порт. Железнодорожный же транспорт будет прибыльным лишь в том
случае, если в момент начала его функционирования будет работать
сталелитейная отрасль. Разумеется, каждая из отраслей заинтересова-
на в функционировании другой и обе могут работать эффективно; ста-
лелитейная отрасль должна начать работу в данный момент времени,
а железнодорожный транспорт — несколько позже. Тем не менее, в слу-
чае отсутствия фьючерсного рынка стали железнодорожному транспор-
ту трудно с помощью рыночного механизма довести до сталелитейной
отрасли информацию о своих интересах. Невозможность обмена ин-
формацией о желательном направлении взаимодействия и координа-
ции времени осуществления конкретных шагов представляет собой
пример несостоятельности рынка, который часто использовался для
оправдания государственного вмешательства в процессы экономичес-
кого развития, т.е. для оправдания государственного планирования.
Однако, если мы признаем, что в реальности некоторых рынков не
хватает, мы с легкостью можем найти альтернативное решение, кото-
рое заключается в создании фьючерсного рынка стали. Если предпри-
ятия железнодорожного транспорта могут сегодня заплатить за поставку
стали в оговоренный момент времени в будущем, то как сталелитей-
ная, так и железнодорожная отрасль окажутся в состоянии информи-
ровать друг друга о своих интересах через рыночный механизм. Легко
показать, что при конкурентном поведении хозяйственных субъектов
и при наличии равновесия развитие фьючерсных рынков может устра-
нить данный вид несостоятельности рынка.
Совершенно иной пример информационной роли рынков относится
к случаю, когда рыночные субъекты обладают асимметричной инфор-
мацией об истинном положении дел в условиях неопределенности.
Классический пример здесь — фондовый рынок, на котором инсайде-
ры могут обладать определенной информацией, недоступной аутсай-
дерам. Даже если получение информации, которой обладает инсайдер,
502
важно и потенциально прибыльно для аутсайдеров, условие полноты
рынков, необходимое для достижения эффективной аллокации ресур-
сов, может не выполняться. Чтобы лучше понять суть дела, предполо-
жим, что существуют только два возможных состояния мира. Предпо-
ложим далее, что имеются два потребителя, один из которых осведом-
лен об истинном состоянии мира, а другой рассматривает оба состояния
как равновероятные. Если существует только рынок готовых продук-
тов, то распределение ресурсов в общем случае не будет оптимальным
по Парето. Один из вариантов решения проблемы заключается в со-
здании рынка условных обязательств (coritingent clairhs fnarl<et). M6xeT
быть заключен «страховбиГкбнтракт, в котором поставка и получение
установленного количества товара поставлены в зависимость от истин-
ного состояния мира. Если обе стороны ex post могут определить, ка-
кое состояние мира было характерно для периода выполнения контрак-
та, то при конкурентном поведении субъектов и существовании рав-
новесия это равновесие при описанной структуре информации будет
оптимальным по Парето. Более общую и точную формулировку дан-
ной теоремы можно найти в работе Р. Раднера (Radner, 1968).
Дальнейший анализ рассматриваемого случая показывает, что в со-
стоянии равновесия товарные цены для не реализованного в действи-
тельности состояния мира стремятся к нулю (или равны нулю), посколь-
ку при положительном значении указанных цен информированный
субъект будет готов заключить обусловленный «ложным» состоянием
мира контракт на поставку неограниченного количества товара, заранее
зная, что реального осуществления поставок не потребуется. Если не-
информированный субъект окажется сообразительным и поймет данную
закономерность, он может получить информацию о том, какое состоя-
ние мира истинно, понаблюдав, для какого именно состояния мира цены
условных обязательств равны нулю. Если далее он будет использовать эту
информацию, бесплатно полученную им благодаря действию рыночно-
го механизма, то будет достигнуто оптимальное по Парето равновесие
при полной информации. Такова — в очень упрощенной форме — идея,
которая лежит в основе концепции рациональных ожиданий (см.: Muth,
1961). При наличии «сообразительных» конкурирующих субъектов усло-
вие полноты рынков не является обязательным для достижения опти-
мальной по Парето равновесной аллокации ресурсов.
Обеспечение полноты рынков представляется простейшим спосо-
бом корректировки несостоятельности рынка. На нем непосредствен-
но основаны предложения по ее устранению с использованием нало-
гов и субсидий (Пигу, 1985), а также путем перераспределения прав
собственности (Коуз, 1993). Однако создание таких рынков иногда
приводит к непредвиденным последствиям. В некоторых случаях «до-
бавление» новых рынков ведет к нарушению второго и третьего усло-
вий «первой фундаментальной теоремы». Устранение одного вида не-
состоятельности рынка может привести к возникновению другого вида.
Чтобы понять, почему это происходит и чем вызвано нарушение вто-
рого условия (которое требует, чтобы поведение субъектов было кон-
курентным), рассмотрим поведение информированного потребителя в
503
предыдущем примере. Если он осознает, что неинформированный
потребитель собирается делать выводы, косвенно основанные на на-
блюдении за его поведением, он не будет придерживаться конкурент-
ного поведения, поскольку, притворяясь неинформированным, он
сможет повысить свое благосостояние. Он может по стратегическим
соображениям ограничивать предложение информации (монопольным
владельцем которой он является) и добиться более высокого уровня
благосостояния, чем в случае конкурентного поведения. Раскрытие
информации о действительном состоянии мира связано исключитель-
но с его желанием заключать контракты на поставку неограниченного
количества товаров. Предложение по низкой цене небольшого коли-
чества товара, обусловленное наступлением «ложного» состояния мира,
не позволит неинформированному субъекту сделать какие-либо выво-
ды и обеспечит информированному субъекту возможность получить
прибыль, обусловленную его монопольной позицией. Данный пример
лишь незначительно отличается от стандартного примера нарушения
условия (2), связанного с монопольным предложением товара.
Другой случай непредвиденных результатов возникает при создании
рынков для аллокации общественных благ. Теперь широко известно,
что использование частных цен (цен Линдаля) в качестве индивидуаль-
ных цен спроса на общественные блага (т.е. цен, обеспечивающих еди-
ногласие по поводу объема спроса на общественное благо в условиях
добровольного обмена) действительно ведет к установлению оптималь-
ного по Парето распределения ресурсов, если поведение потребителей
является конкурентным (см.: Foley, 1970). Однако в рамках данной схе-
мы каждый субъект становится монопсонистом на одном из вновь со-
зданных рынков и поэтому заинтересован в том, чтобы занижать свой
объем спроса и не рассматривать цены в качестве заданных. В этом
заключается суть «проблемы безбилетника», которая часто рассматри-
вается в качестве объяснения, почему метод создания новых рынков
для преодоления провала рынка является неэффективным. Чтобы по-
нять это утверждение, рассмотрим второе условие «первой фундамен-
тальной теоремы» более подробно.
Это условие предусматривает, что поведение всех рыночных субъек-
тов является конкурентным. Это означает, что каждый из них должен
действовать так, как если бы он не имел возможности повлиять на уро-
вень цен и следовал бы оптимизационной стратегии, принимая цены
в качестве заданных. Потребители максимизируют степень удовлетво-
рения потребностей при данных бюджетных ограничениях, а произво-
дители максимизируют прибыль, причем и те и другие рассматривают
цены как фиксированные параметры. Это условие нарушается, когда
субъекты имеют возможность повлиять на равновесные значения цен
и благодаря этому повысить свое благосостояние. Стандартным при-
мером провала рынка, связанного с нарушением этого условия, явля-
ется случай монополии, когда имеется только один поставщик товара.
Путем искусственного ограничения предложения он может повысить
цены и добиться для себя более высокого уровня благосостояния, хотя
равновесие аллокации ресурсов при этом будет неэффективным.
504
Можем ли мы исправить несостоятельность рынка, возникшую в
связи с неконкурентным поведением? Для получения ответа на данный
вопрос следует сначала определить условия, при которых субъекты
рынка сочтут, что конкурентное поведение соответствует их интересам.
В работе Робертса и Постлуэйта (Roberts and Postlewaite, 1976) показа-
но, что, если каждый агент обладает лишь незначительной долей со-
вокупного количества ресурсов, он, как правило, окажется не в состо-
янии манипулировать ценами в сколько-нибудь существенной степе-
ни и будет принимать цены как заданные. Центральную роль в данном
случае играет «глубина» рынков*. Аналогичные рассуждения примени-
мы и тогда, когда в роли товара выступает информация. Если каждый
субъект обладает лишь незначительной долей совокупной информации,
т.е. его знания либо слишком малы, либо не представляют особой важ-
ности для остальных, то его потери, связанные с выбором конкурент-
ного поведения, незначительны (Postlewaite and Schmeidler, 1986).
С другой стороны, если он обладает большой долей информации (как
в предыдущем случае), у него может возникнуть стимул к неконкурен-
тному поведению. Ключевым фактором является отношение объема
ресурсов (как реальных, так и информационных), которыми распола-
гает субъект, к размеру соответствующего рынка.
В связи с этим, как представляется, преодоление несостоятельности
рынка, обусловленной неконкурентным поведением, может быть до-
стигнуто в том случае, если субъекты будут контролировать незначитель-
ную долю совокупного объема ресурсов и информации. Разумеется, для
достижения такого положения дел необходимо прямое государственное
вмешательство, как это имеет место в случае антитрестовского законо-
дательства или регулирования фондового рынка в США; однако такое
вмешательство не всегда возможно. К примеру, невозможно устранить
данный тип несостоятельности рынка путем простого предписания
субъектам придерживаться конкурентного поведения. Для этого можно
было бы принять правило, обязывающее фирмы устанавливать цены на
уровне предельных издержек. Однако, если прямой мониторинг издер-
жек и технологии производства на фирме невозможен, монополист мо-
жет без каких-либо затруднений сделать вид, что он устанавливает цены
на уровне предельных издержек, ориентируясь при этом на фиктивную
кривую издержек. Без прямого мониторинга кривой издержек сторон-
ний наблюдатель был бы не в состоянии отличить указанный тип некон-
курентного поведения от конкурентного. Если бы в роли монополиста
выступал потребитель, предпочтения которого не поддаются наблюде-
нию, то и мониторинг не помог бы. В общем случае несостоятельность
рынка, вызванную неконкурентным поведением, трудно исправить без
вмешательства в рыночный механизм. Ниже мы обсудим некоторые
возможные альтернативы.
Увеличение числа рынков может также привести к нарушению тре-
тьего условия «первой фундаментальной теоремы». Рассмотрим для
* Под «глубиной» рынков имеется в виду невозможность влияния на них от-
дельного продавца или покупателя. — Примеч. ред.
505
иллюстрации три примера. Первый и простейший из них касается слу-
чая возрастающей отдачи от масштабов производства. Классический
случай — производство продукта при определенных начальных затра-
тах и постоянных предельных издержках. (В более общем случае мы мо-
жем рассматривать невыпуклый набор производственных возможнос-
тей.) Если фирма, функционирующая в такой отрасли, придерживает-
ся конкурентного поведения, а цена превышает предельные издержки,
то объем производства данной фирмы будет бесконечно большим. Если
же предельные издержки равны цене или превышают ее, объем про-
изводства будет нулевым. Если при цене, равной предельным издерж-
кам, потребители готовы купить некоторое конечное количество това-
ра, то цены, уравновешивающей спрос и предложение, вообще не су-
ществует. Равновесие не может быть достигнуто. Реально такая
ситуация проявляется не в том, что спрос на рынке не равен предло-
жению или сделки полностью отсутствуют, а в том, что имеет место ес-
тественная монополия. В данной отрасли может эффективно функци-
онировать лишь одна фирма. И вновь мы видим, что в конечном сче-
те нарушается условие конкурентного поведения.
Второй пример, рассмотренный в работе Д.Старретта (Starrett, 1972),
связан с отрицательными внешними эффектами. Предположим, что
некая фирма загрязняет реку, а другая фирма, расположенная ниже по
течению, нуждается в чистой воде для осуществления своего производ-
ственного процесса. Легко показать, что в данном случае, если вторая
фирма имеет возможность не функционировать вообще (т.е. не исполь-
зовать воду, не производить продукцию и не нести издержки), то со-
вокупный набор производственных возможностей в экономике не мо-
жет быть выпуклым. (Формальное доказательство этого утверждения
см. в работе: Ledyard, 1976.) Если же набор производственных возмож-
ностей в экономике не является выпуклым, то, как и в предыдущем
примере, конкурентное равновесие может не существовать. Увеличе-
ние числа рынков с целью устранить неэффективность, вызванную
отрицательными внешними эффектами, может привести к ситуации,
когда конкурентное равновесие отсутствует.
Последний пример, на который впервые было обращено внимание
в работах Дж. Грина (Green, 1977) и Д. Крепса (Kreps, 1977), характерен
для ситуаций с асимметричной информацией. Вспомним один из пре-
дыдущих примеров, где первый субъект обладает полной информацией
о реальном состоянии мира, а второй рассматривает каждое из двух воз-
можных состояний как одинаково вероятное. Предположим, что пред-
почтения субъектов и объем имеющихся у них ресурсов при каждом
состоянии мира таковы, что, если бы оба они знали реальное состояние
мира в данный конкретный момент времени, равновесные цены, соот-
ветствующие каждому из состояний, были бы одинаковы. Допустим
далее, что если неинформированный субъект не делает никаких выво-
дов о реальном состоянии мира на основании наблюдений за поведени-
ем информированного субъекта, то уровни цен при каждом из состоя-
ний будут разными. При описанных условиях равновесие (основанное
на рациональных ожиданиях) будет отсутствовать. Если информирован-
506
ный субъект предпримет попытку делать выводы на основании сложив-
шихся цен, они ничего не скажут ему; если же неинформированный
субъект не будет пытаться делать выводы на основании сложившихся
цен, они дадут ему ценную информацию. Достаточно несложно пока-
зать далее, что при создании рынка информации (если абстрагировать-
ся от стимулов к ее сокрытию) итоговый набор производственных воз-
можностей в общем случае окажется невыпуклым. При всех перечислен-
ных вариантах равновесие будет отсутствовать.
Как представляется, большинство примеров отсутствия равновесия
в конечном счете ведут к ситуации неконкурентного поведения. В при-
мере, когда причиной отсутствия равновесия является асимметрия
информации, естественной формой поведения информированного
субъекта является монополистическое поведение в информационной
сфере. В примере с отрицательным внешним эффектом возникнове-
ние рыночных отношений между расположенными на реке фирмами
привело бы к тому, что каждая из них заняла бы монопольное положе-
ние. Если имеется только одна фирма, загрязняющая реку, и много
фирм, страдающих от такого загрязнения, то фирма-загрязнитель за-
няла бы позицию, сходную с позицией монопсониста. Проблема отсут-
ствия равновесия, обусловленная невыпуклостью набора производ-
ственных возможностей (которая, в свою очередь, вызвана использо-
ванием рыночного механизма для устранения отрицательного внешнего
эффекта), в случае принятия одной или несколькими сторонами не-
конкурентной линии поведения приобретает лишь более утонченный
характер. Искомый результат достигается, однако он не является кон-
курентным, а следовательно, и эффективным.
Несостоятельность рынка, т.е. неэффективная рыночная аллокация
ресурсов может иметь место в том случае, если набор рынков неполон,
поведение субъектов не является конкурентным или отсутствует рыноч-
ное равновесие. Многие предлагавшиеся рецепты исправления несосто-
ятельности рынка — такие, как использование налогов и субсидий, пере-
распределение прав собственности и принятие специальных правил це-
нообразования, — являются инструментами, направленными на создание
прежде отсутствовавших рынков. Если это может быть достигнуто с со-
хранением выпуклости набора производственных возможностей и с обес-
печением глубины рынков, эти рецепты окажутся благотворными, а но-
вая аллокация ресурсов будет оптимальной. С другой стороны, если вслед-
ствие создания новых рынков набор производственных возможностей
теряет свойство выпуклости или же сокращается глубина рынков, то по-
пытки преодолеть несостоятельность рынка, вызванную неполнотой рын-
ков, приведет к несостоятельности, вызванной монополистическим по-
ведением. В последнем случае несостоятельность рынка носит фундамен-
тальный характер. В качестве примеров можно привести случаи
естественной монополии, отрицательного внешнего эффекта, обществен-
ных благ и монополии на информацию. Чтобы достичь эффективной ал-
локации ресурсов при наличии этих фундаментальных видов несостоя-
тельности рынка, необходимо смириться с тем, что субъекты руководству-
ются собственным интересом, и воспользоваться нерыночными
507
вариантами решения проблемы. Данное направление исследований, ко-
торое иногда называют теорией имплементации, а иногда — теорией ме-
ханизма стимулирования, опирается на работу Л. Гурвича (Hurwicz, 1972);
обзор литературы, посвященной данному направлению, можно найти в
работе Т. Гроувса и Дж. Ледьярда (Groves and Ledyard, 1986).
БИБЛИОГРАФИЯ
Коуз Р. Проблема социальных издержек // Фирма, рынок и право. М.: Дело
ЛТД, 1993. С. 87-141.
Пигу А.С. Экономическая теория благосостояния. Т. I—II. М.: Прогресс, 1985.
Arrow К. An Extension of the Basic Theorems of Classical Welfare Economics. In:
J.Neyman (ed.). Proceedings of the Second Berkeley Symposium on Mathematical
Statistics and Probability. Berkeley: University of California Press, 1951.
Arrow K. The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of
Market versus Non-Market Allocation. In: Joint Economic Committee. The
Analysis and Evaluation of Public Expenditures: The PPB System. Washington,
DC: Government Printing Office, p. 47-64.
Bator F. The Anatomy of Market Failure // Quarterly Journal of Economics, 1958,
p. 351-379.
Debreu G. Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium. Cowles
Foundation Monograph, no. 17. New York: Wiley, 1959.
Foley D. Lindahl’s Solution and the Core of an Economy with Public Goods //
Econometrica, 1970, vol. 38, p. 66—72.
Green J. The Nonexistence of Informational Equilibria // Review of Economic Studies,
1977, vol. 44, p. 451-463.
Groves T. and Ledyard J. Incentive Compatibility Ten Years Later. In: T.Groves,
R.Radner and S.Reiter (ed.). Information, Incentives, and Economic Mechanisms.
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986.
Hurwicz L. On Informationally Decentralized Systems. In: C.B. McGuire and
R. Radnered (ed.). Decision and Organization. Amsterdam: North-Holland, 1972.
Kreps D. A Note on «Fulfilled Expectations» equilibria // Journal of Economic Theory,
1977, vol. 14, p. 32-43.
Ledyard J. Discussion of «On the Nature of Externalities». In: S.Lin (ed.). Theory and
Measurement of Economic Externalities. New York: Academic Press, 1976.
Muth J. Rational Expectations and the Theory of Price Movements // Econometrica,
1961, vol. 29, p. 315-335.
Postlewaite A. and Schmeidler D. Differential Information and Strategic Behavior in
Economic Environments: A General Equilibrium Approach. In: T.Groves,
R.Radner and S.Reiter (ed.). Information, Incentives, and Economic Mechanisms.
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986.
Radner R. Competitive Equilibrium under Uncertainty 11 Econometrica, 1968, vol. 36,
p. 31-58.
Roberts J. and Postlewaite A. The Incentives for Price-Taking Behavior in Large
Exchange Economies // Econometrica, 1976, vol. 44, p. 115-127.
Scitovsky T. Two Concepts of External Economies // Journal of Political Economy,
1954, vol. 62, p. 70-82.
Starrett D. Fundamental Non-Convexities in the Theory of Externalities // Journal
of Economic Theory, 1972, vol. 4, p. 180—199.
508
«ТОРГОВЫЕ УПРАВЛЕНИЯ»
Питер Бауэр
Marketing Boards
Peter Bauer
За незначительными исключениями, все государственные органи-
зации, занимающиеся торговлей сельскохозяйственной продукцией,
относятся к одному из двух классов: одни из них наделены государством
монопольными правами в области продаж контролируемой продукции,
вторые наделены монопольными правами в области закупок контро-
лируемой продукции. Организации первого типа действуют в основном
в развитых странах, организации второго типа — в некоторых развива-
ющихся странах.
I. Установление монопольного режима продаж сельскохозяйствен-
ной продукции в конкретной стране невозможно без государственной
поддержки и правовой защиты, поскольку производителей стандарт-
ной сельскохозяйственной продукции всегда много, и к тому же есть
возможность импорта. Не будь такой поддержки, функционирование
рынков сельскохозяйственной продукции скорее напоминало бы мо-
дель совершенной конкуренции, как ее описывают в учебниках.
Попытки сельскохозяйственных производителей добиться повыше-
ния цен на свою продукцию без помощи государства, просто путем
сговора между собой, довольно часто предпринимались в период между
двумя мировыми войнами и даже ранее, но все они были безуспешны-
ми, так как контроль над рынком был неполным. В начале 1930-х годов
цены на сельскохозяйственную продукцию резко упали, что отчасти
объяснялось возросшей производительностью, но отчасти было также
следствием экономической депрессии. Под влиянием политического
давления и по соображениям социального характера многие государ-
ства стали применять специальные меры, чтобы сдержать падение цен
на сельскохозяйственную продукцию и не допустить падения доходов
фермеров. При этом прямое субсидирование фермеров по фискальным
соображениям часто считалось нежелательным. Что же касается кво-
тирования или даже полного запрещения импорта, то оно было беспо-
лезным для производителей некоторых важных видов сельскохозяйст-
венной продукции, не подлежащих длительному хранению, например
молока или картофеля. Создание государственных или поддерживае-
мых государством монополий, получивших в Англии название «торго-
вых управлений» («marketing boards»), стало одной из мер, направлен-
ных на поддержание или повышение цен на сельскохозяйственную
продукцию и фермерских доходов административно приемлемым и
509
политически безболезненным путем. Такие организации, созданные в
Англии в соответствии с законами о торговле сельскохозяйственной
продукцией 1931 и 1933 гг., — это пример торговых монополий, конт-
ролируемых производителями (Astor and Rowntree, 1938; Bauer, 1948;
Warley, 1967).
Для повышения рентабельности сельскохозяйственного производ-
ства торговые управления могут использовать следующие методы: огра-
ничение площади под культурой (этот метод применялся, например,
в отношении хмеля и картофеля); прямое и косвенное ограничение
объема продукции, который производители имеют право продавать
(этот метод применялся в отношении картофеля); установление диск-
риминационных монопольных цен — более высоких для защищенных
рынков и более низких для рынков, доступных для проникновения им-
порта (если взять молоко и молочные продукты, то примером продук-
ции, реализуемой на защищенном рынке, может служить скоропортя-
щееся свежее молоко, а молочные продукты — примером продукции,
реализуемой на незащищенном рынке).
Основной целью и результатом функционирования подобных мо-
нопольных структур является повышение цен на сельскохозяйственную
продукцию и доходов фермеров. Существуют, однако, некоторые дру-
гие стороны этих организаций и их деятельности, которые могут пред-
ставлять куда больший интерес, чем банальный эффект монопольного
роста цен. (1) Введение ограничений на площади, отведенные под кар-
тофель и хмель, принесли их производителям неожиданные прибыли
(windfall profits). (2) Торговые управления поощряли и поддерживали
создание картелей по переработке и сбыту сельскохозяйственной про-
дукции, а также заботились о поддержании минимального уровня пе-
репродажных и розничных цен на контролируемые товары. Подобная
политика, лишний раз подтверждая, что монополия плодит монополии,
на первый взгляд, могла показаться странной, поскольку она сокращала
долю фермеров в уплачиваемой потребителями цене. Возможно, что
причиной ее проведения было желание успокоить оптовиков и пере-
работчиков сельскохозяйственной продукции, а может быть, и жела-
ние подыграть тем производителям, которые одновременно занимались
и розничной продажей (впрочем, таких было меньшинство). Во вся-
ком случае, есть основания предполагать, что некоторые управления,
в частности управления по молоку и картофелю, просто следовали при-
меру производителей фирменных товаров, которые стремятся поддер-
живать цены перепродажи на определенном уровне, хотя в данном слу-
чае такая аналогия была совершенно неуместна. (3) Торговые управ-
ления, созданные для оказания помощи фермерам во время резкого
падения цен и доходов, продолжали действовать и после войны (более
того, к ним даже добавились новые), хотя условия к тому времени ко-
ренным образом изменились, это наглядный пример действия закона
самосохранения государственных организаций. (4) Система принятия
решений была двухуровневой, она состояла из уровня управлений и
уровня самих производителей. Управления сталкивались с наклонны-
ми кривыми спроса, а производители — с горизонтальными. В отсут-
510
ствие квот на производство и сбыт кривая спроса у производителей
имела вид бесконечной горизонтальной прямой, а если квоты устанав-
ливаются, то кривая спроса у производителей идет горизонтально
вплоть до предписанной квоты, а затем становится вертикальной (или
почти вертикальной).
II. Торговые управления второго типа пользуются исключительны-
ми правами на закупку продукции, идущей на экспорт. Во время Вто-
рой мировой войны такие управления были созданы в бывших британ-
ских колониях в Западной Африке для закупок какао, пальмового мас-
ла, пальмовых ядер, арахиса, а впоследствии и хлопка. Закупки для
управлений делались заготовителями из числа местных торговцев, ко-
торые действовали как агенты этих управлений. Во время войны и в
первые послевоенные годы они закупали контролируемую экспортную
продукцию в пределах официальных квот, установленных для них
управлениями, причем квоты эти определялись в зависимости от пред-
военного оборота агентов. Агенты, превысившие свои квоты, обязаны
были платить крупные штрафы, которые управления перераспределя-
ли в пользу тех, кто свои квоты недобрал. Официальной целью введе-
ния подобных мероприятий было не допустить резкого падения мест-
ных цен на какао (которое могло произойти из-за нехватки морского
транспорта и потери некоторых основных рынков сбыта, в частности
Германии) и способствовать росту экспорта других культур (необходи-
мость в котором возникла из-за прекращения поставок с Дальнего
Востока).
Все эти меры создавали ненормальную ситуацию. Британское пра-
вительство вознамерилось скупить весь урожай экспортных культур в
своих колониях по фиксированным сезонным ценам, так что для мест-
ных производителей спрос на их продукцию по этим ценам оказался
ничем не ограничен. На самом деле ни монополии на экспорт, ни за-
купочных квот для поддержания местной цены на какао не требова-
лось, и меры эти только сдерживали производство и экспорт других
культур. Идея установить монопсонию и систему квот была предложе-
на в 1939 г. ассоциацией крупнейших западно-африканских торговцев.
Система квот обеспечила реальную нормативную защиту достигнутых
между ними еще до войны соглашений о разделе рынков, которые
прежде не имели особого успеха, — они постоянно нарушались, к тому
же на рынок все время проникали новые конкуренты. Зато теперь си-
стема заработала на полную мощность, поскольку там, где официаль-
ный покупатель только один и где этот покупатель строго штрафует за
нарушение закупочной дисциплины, обеспечить соблюдение квот го-
раздо легче. К тому же управления не допускали на рынок новых заку-
почных агентов.
В первые послевоенные годы систему квот пришлось отменить вви-
ду ее непопулярности у представителей влиятельных местных групп и
Давления со стороны конкурентов. Однако государственная монополия
на закупку экспортной продукции не только сохранилась, но и распро-
странилась на другие британские колонии в Африке, а также на Бир-
577
му, причем правительства новых независимых государств, возникших
на месте британских колоний, также сохранили эту систему и ее госу-
дарственный статус, взяв ее под свой контроль.
Официально главной причиной сохранения Великобританией госу-
дарственной монополии на закупки сельскохозяйственной продукции
в колониях была необходимость стабилизации доходов производителей,
т.е. их защиты от отрицательных последствий краткосрочных колеба-
ний цен. Среди других причин называли также полезность сохранения
структур, созданных во время войны, и их адаптации к задачам мир-
ного времени, а также невозможность вернуть многим тысячам нигде
не учтенных мелких производителей значительные товарные излишки,
которые управления по торговле уже успели к тому времени накопить.
Последние две причины были просто плохо прикрытыми попытками
самих управлений доказать свою нужность и выжить несмотря ни на
что, пусть даже в преобразованном виде. В частности, если накоплен-
ные управлениями за время войны излишки нельзя вернуть произво-
дителям, чье производство и принесло эти излишки, то же самое мож-
но будет сказать и о накоплениях тех организаций, которые станут
преемниками управлений военного времени.
Согласно правительственной Белой книге, посвященной организа-
ции закупок западно-африканского какао (Statement on the Future
Marketing of West African Cocoa, Cmnd. 6950, 1946), управления по за-
купкам какао должны были ежегодно устанавливать для производите-
лей фиксированные сезонные цены, разрывая тем самым всякую связь
между колебанием мировых рыночных цен и ценами местных произ-
водителей. При высоких мировых ценах управление должно было по-
лучать прибыль и за счет этой прибыли поддерживать цены произво-
дителей в периоды низких цен, в результате чего цены, по которым реа-
лизуют свою продукцию производители, оставались бы стабильными.
В упомянутой Белой книге специально подчеркивалось, что управле-
ние по торговле какао не должно использовать свои полномочия для
систематической недоплаты производителям и постоянного наращива-
ния резервов. Управления должны были действовать в интересах про-
изводителей, как бы по доверенности управляя их накоплениями, и ни
в коем случае не должны были заниматься поборами в свою пользу или
в пользу стоящего за их спиной государства, превращаясь в своего рода
налоговую службу. Аналогичные обещания давались и применительно
к управлениям по торговле другими контролируемыми продуктами.
Но все эти громкие обещания и клятвы скоро были нарушены. С са-
мого начала своего существования торговые управления расплачива-
лись с производителям по ценам много ниже рыночных. Уровень на-
логового бремени, возникавшего в результате проводимой этими управ-
лениями политики, в разное время и для разных культур был разным,
но для большинства культур он был крайне высоким. Управления фак-
тически удерживали значительные суммы, причитавшиеся производи-
телям. По некоторым расчетам (см.: Killick, 1966), получается, что с 1939
по 1961 г. (когда управления по закупкам какао в Гане прекратили пуб-
ликовать свои годовые отчеты) из чистых доходов от экспорта, соста-
512
вивших 805 млн ф. ст., примерно 357 млн (44%) было удержано у про-
изводителей. По всем закупочным управлениям Нигерии соответству-
ющие цифры с 1939 по 1962 г. составили порядка 1096 млн и 301 млн
ф. ст. соответственно, т.е. удержанная у производителей сумма соста-
вила порядка 27% от чистой прибыли (Helleiner, 1964). За более поздние
годы достоверных данных нет, но практика недоплаты производителям
продолжалась, и самые крупные суммы недоплаты были на счету управ-
ления в Гане. (В оценку получаемой управлениями сверхприбыли в этих
расчетах совершенно справедливо были включены местные налоги и
экспортные пошлины, с помощью которых часть этой сверхприбыли
откачивалась в государственный бюджет). В течение многих лет про-
изводители, имевшие очень низкие годовые доходы, платили управле-
ниям дань по такой ставке, которая в Великобритании применялась
только к лицам с самыми высокими доходами. С другой стороны, люди,
чьи доходы намного превышали доходы производителей, прямых на-
логов часто не платили вообще или платили, но по очень низким став-
кам и часто фактически напрямую субсидировались за счет средств тор-
говых управлений.
Бремя этого налогообложения практически целиком ложилось на
производителей. Экспорт растительного масла, семян масличных куль-
тур и хлопка из Западной Африки составляет очень незначительную
часть мировой торговли этой продукцией, поэтому на мировых ценах
деятельность торговых управлений не отражается. Но если мы посмот-
рим на экспорт какао из Нигерии и Золотого Берега (Ганы), то в кон-
це 1930-х годов он составлял около 50-60% мирового экспорта, а к
началу 1980-х годов в результате сокращения экспорта из Ганы и рас-
ширения поставок из других регионов он сократился до 25—30%. Нет
никакого сомнения, что одной из причин сокращения экспорта какао
из Ганы, фактического прекращения новых посадок какао и снижения
экспорта пальмовой продукции из Нигерии была именно системати-
ческая недоплата производителям. Какао из Ганы пытались контрабан-
дой вывозить в соседние страны, где цены были выше, но из-за отда-
ленности ряда основных производящих районов от границ, вооружен-
ной охраны границы и объемности самой культуры больших масштабов
это явление не приобрело. Дороговизна потребительских товаров в
какаопроизводящих районах в последние десятилетия также дает ос-
нования предполагать, что контрабанда имела довольно ограниченный
характер. А из Нигерии контрабанда пальмового масла и пальмовых
ядер была просто бесперспективной. Сокращение экспорта явилось
результатом действия ряда факторов, самым важным из которых по-
чти наверняка была недоплата производителям.
Превращение торговых управлений в органы налогообложения
объясняется двумя группами причин. К первой относится неодинако-
вая политическая сила управлений и фермеров. Управлениями руко-
водили сначала английские чиновники, а после обретения этими стра-
нами независимости — представители африканских политических кру-
гов и администрации. Эти группы были намного влиятельнее и
образованнее, чем фермеры, к тому же недоплата производителям от-
513
вечала их политическим и личным интересам. В колониальные време-
на для английских чиновников было престижно отчитаться перед мет-
рополией о получении большой прибыли. После обретения колония-
ми независимости резервы и доходы торговых управлений преврати-
лись в источники финансовой мощи африканских политиков. Действуя
через управления, они собирают налоги с производителей и тем самым
определяют их уровень жизни. Кроме того, именно они решают, кому
выдать лицензии на переработку сельскохозяйственной продукции и на
ее закупку, а кому — нет. Эти полномочия стали важным фактором по-
литизации жизни и обострения политических конфликтов в тех стра-
нах, где действовали закупочные монопсонии.
Деятельность торговых управлений служит ярким примером той
пропасти, которая разделяет городские политические элиты и неорга-
низованное, малообразованное сельское население. Первые, по сущест-
ву, контролируют все политические и административные структуры,
средства массовой информации и обычно также все ключевые позиции
в вооруженных силах. Наличие подобной пропасти вообще характер-
но для слаборазвитых стран, но в Африке она особенно заметна. В За-
падной Африке, в частности в Гане и Южной Нигерии, позиции го-
родских политических элит и их ставленников в вооруженных силах,
в правительственных кругах, среди представителей средств массовой
информации и бизнеса особенно укрепились в конце колониального
правления, когда традиционные племенные вожди лишились всякой
власти и влияния.
Вторая причина подобной трансформации управлений по торговле
экспортными сельскохозяйственными продуктами заключалась в нечет-
кости самого понятия стабилизации доходов и господстве крайне упро-
щенных взглядов на эту проблему.
Деятельность закупочных управлений в Западной Африке послужи-
ла поводом для развернутой научной дискуссии по вопросам стабили-
зации цен и доходов первичных производителей. Начало этой дискус-
сии положили Бауэр и Пэйш (Bauer and Paish, 1952), а итог подвел
Хедлайнер (Helleiner, 1964). Чтобы стабилизация цен не превращалась
в скрытые поборы, Бауэр и Пэйш предложили, чтобы управления уста-
навливали цены производителей по формуле, которая позволяла бы
сглаживать колебания, но не давала бы расчетным ценам слишком да-
леко отклоняться от основного тренда в динамике рыночных цен, про-
водя тем самым четкое различие между сглаживанием колебаний и
другими целями экономической политики. На эту статью было много
критических откликов, самым серьезным из которых был отклик Фрид-
мена (Friedman, 1954). Он утверждал, что принудительное сглаживание,
даже при наличии четкой и ясной формулы, которая не позволяет от-
клоняться от тренда, не оправдано, поскольку производители всегда
могут сами отложить часть своих доходов, полученных в урожайные
годы, на черный день. В этой статье Фридмен едва ли не впервые при-
менил свою гипотезу постоянного дохода. Он обратил также внимание
на ряд других отрицательных моментов, с которыми связана система
принудительного выравнивания.
514
Впоследствии Бауэр пересмотрел свою позицию, что было сделано
отчасти под влиянием Фридмена, а отчасти на том основании, что в
развивающихся странах любая система принудительного сглаживания
всегда склонна превращаться в инструмент поборов, сколько бы влас-
ти ни твердили обратное. Позже Бауэр и Ямеи даже написали статью,
в которой они показали, как могла бы действовать модель доброволь-
ной стабилизации цен или доходов для мелких производителей сель-
скохозяйственной продукции (Bauer and Yamey, 1968).
Кроме того, Бауэр и Пэйш (Bauer and Paish, 1952) указали также на
неопределенность самого понятия «стабилизация». Стабилизация мо-
жет относиться к текущим ценам, текущим доходам, реальным ценам
или реальным доходам. Она может означать установление максималь-
ных или минимальных цен или доходов. Чтобы задача стабилизации
приобрела смысловую определенность, необходимо пояснить, на какой
период рассчитана стабилизация, т.е. за какой период политика стаби-
лизации должна уравновешивать излишки и дефициты. Необходимо
также четко объяснить, какой вариант стабилизации лучше — когда
изменения производятся часто, но помалу или редко, но помногу, а так-
же объяснить соотношение между ценами открытого рынка и ценами
производителей.
Пока не будет ответов на все эти вопросы, стабилизация остается
пустым понятием, который каждый волен толковать, как ему заблаго-
рассудится, в том числе ею можно будет объяснить необходимость
любой политики официальной монопсонии. Все эти неоднозначности
понятия стабилизации становятся особенно заметны, когда цены об-
наруживают долгосрочную тенденцию к росту, как это было с экспорт-
ными ценами в Западной Африке после окончания войны: чем выше
поднимались цены, тем большие суммы нужны были для сохранения
их на данном уровне, так что в такой ситуации какой резерв ни нако-
пи, все равно будет казаться (или всегда можно сделать так, чтобы ка-
залось), что этих денег недостаточно, и на этом основании можно тре-
бовать дальнейшего накопления излишков.
Тот факт, что впервые удалось показать всю расплывчатость поня-
тия «стабилизация» и показать все трудности и опасности, которые
могут встретиться при попытке осуществления стабилизации цен на
практике, был, вероятно, самым ценным результатом долгой научной
дискуссии о западно-африканских торговых управлениях.
БИБЛИОГРАФИЯ:
Astor, Viscount and Rowntree, B.S. 1938. British Agriculture. London: Longmans & Co.
Bauer, P.T. 1948. A review of the agricultural marketing schemes. Economica 15, May,
132-50.
Bauer, P.T. 1954. West African Trade. Cambridge: Cambridge University Press. Revised
edn, London: Routledge & Kegan Paul, 1963.
515
Bauer, P.T. and Paish, F.W. 1952. The reduction of fluctuations in the incomes of
primary producers. Economic Journal 62, December. Reprinted in Bauer and
Yamey (1968).
Bauer, P.T. and Yamey, B.S. 1968. Markets, Market Control and Marketing Reform:
Selected Papers. London & Nicolson.
Friedman, M. 1954. The reduction of fluctuations in the incomes of primary producers:
a critical comment. Economic Journal 64, December, 698-703.
Helleiner, G.K. 1964. The fiscal role of the marketing boards in Nigerian economic
development, 1947—1961. Economic Journal 74, September, 582—610.
Killick, A.T. 1966. The economics of cocoa. In A Study of Contemporary Ghana:
Vol. I, The Economy of Ghana, ed. W. Birmingham, I. Neustadt and
E.N. Omaboe, London: George Alien & Unwin.
Report of the Committee Appointed to Review the Working of the Agricultural
Marketing Acts. 1947. Ministry of Agriculture and Fisheries, Economic Series
No. 48, London: HMSO.
Statement on the Future Marketing of West African Cocoa. 1946. Colonial Office,
Cmnd. 6950, London: HMSO.
Warley, T.K. 1967. A synoptic view of agricultural marketing organizations in the
United Kingdom. In Agricultural Producers and their Markets, ed. T.K. Warley,
Oxford: Oxford University Press.
РЫНКИ КАК МЕСТА ТОРГОВЛИ
Полли Хилл
Market Places
Polly Hill
Определение рынка как места торговли, приведенное в итоговом от-
чете Британской Королевской Комиссии по пошлинам и правам торгов-
ли за 1891 г., не устарело до сих пор: там этот термин определяется как
«санкционированный публичный сход продавцов и покупателей товаров,
встречающихся на территории с более или менее строго очерченными
или определенными границами и в заранее назначенное время». Ярмар-
ки — это тоже некий сход продавцов и покупателей, но от рынка он от-
личается тем, что проводится гораздо реже (обычно раз в год в течение
нескольких дней подряд). Тем не менее, для наших целей в этом опре-
делении нам понадобится несколько уточнить формулировки и расста-
вить дополнительные акценты. Во-первых, предлагаемые на продажу
товары должны быть разложены на виду, так что хлебные и прочие то-
варные биржи (не говоря уж о фондовых) сразу отпадают; во-вторых,
продавцов на рынке должно быть очень много, их численность должна
быть сравнима с численностью покупателей, поэтому отпадают супер-
маркеты, а также торговки, продающие разную снедь на улицах, даже
если они собираются в группы по несколько человек (такие сценки очень
характерны для Западной Африки); в-третьих, рынки функционируют
только день (иногда вечер), поэтому у них есть время открытия и время
закрытия; в-четвертых — и это еще одна важная особенность рынка, —
в его функционировании присутствует некий ритм или периодичность,
которые задаются принятым ритмом торговой жизни в данной местно-
сти, «торговой неделей»; в-пятых, наряду с предложением товаров на
рынке могут предлагаться различные услуги (например, мелкий ремонт,
приготовление еды, услуги парикмахерских); в-шестых, аукционы как
таковые к рынкам не относятся, хотя на некоторых специализирован-
ных рынках продажа с молотка может практиковаться; в-седьмых, рын-
ки — это «публичное» место сбора в том смысле, что любой желающий
что-то купить или просто поглазеть должен иметь возможность свобод-
но зайти, т.е. слово «публичное» не означает, что рынок должен быть
общественной собственностью; в-восьмых, налогообложение продавцов
обычно осуществляется посредством сбора пошлины за товары или
арендной платы за место; и, наконец, в-девятых, несмотря на то что
рынок в том смысле, в каком мы его рассматриваем здесь, — это место
торговли, все же не место, а действия различных его участников (то, как
они организованы) определяют лицо рынка.
517
К рынкам как местам торговли в отличие от рынков как совокуп-
ности социально-экономических отношений экономисты никогда не
проявляли особого интереса, снисходительно отдавая этот предмет на
откуп экономической истории, — см., например, статью «Рынок как
место торговли» в Словаре политической экономии Пэлгрейва, издан-
ном в 1925 г. («Market as Place of Sale», Palgrave's Dictionary of Political
Economy, 1925). Сегодня это пренебрежение достигло крайнего преде-
ла, поскольку в предметных указателях бесчисленных публикаций по
теории и практики маркетинга, т.е. рыночной стратегии, «рынок как
место для торговли» даже уже не упоминается. Такое отношение не
может не вызывать удивления, поскольку рынки как места купли-про-
дажи, особенно те, на которых продается домашний скот, оптовые
рынки, торгующие мясом, рыбой, овощами и другими продуктами
сельского хозяйства, даже в Европе никак не назовешь отмирающим
институтом; правда, розничных рынков в Европе осталось совсем
мало — не то что во времена Сэмюэля Пеписа* (когда единственными
продовольственными магазинами в центре Лондона были бакалейные
лавки и булочные), а те, что остались, настолько неинтересны по срав-
нению с рынками и базарами в развивающихся странах, что Европу мы
здесь вообще рассматривать не будем. Что же касается Соединенных
Штатов, то там рыночная торговля в том смысле, в каком мы понима-
ем ее здесь, никогда не играла сколько-нибудь заметной роли.
Поступая так, мы вовсе не проявляем неуважения к истории, по-
скольку рынки многих стран третьего мира являются очень древними.
Еще Кортес сообщал о рынке в Теночтитлане, столице ацтеков, где,
по словам очевидцев, ежедневно собиралось 60 000 торговцев, причем
сама организация торговли у испанцев удивления не вызывала. Другой
очевидец, Ибн Баттута, рассказывал о существовании огромных рын-
ков на территории Западного Судана в XIV в.; Питер де Марес гово-
рил о том, что в 1600 г. у каждого города на Золотом Берегу был свой
специальный базарный день; расположенный в верховьях Нигера
Дженне в середине XVII столетия считался одним из самых больших
рынков мусульманского мира. Исследователь поздней Китайской им-
перии антрополог Дж.Скиннер (Skinner, 1964, р. 5) подчеркивает, что
иерархические системы китайских рынков формировались в течение
многих столетий; его анализ (1964, 1965, 1977) истории возникновения
и развития таких систем является поистине монументальным.
К счастью, существуют два объемных библиографических справоч-
ника, свидетельствующих о важности рынков в странах незападного
мира. Один из них (Frohlich, 1940) посвящен африканским рынкам и
насчитывает 406 наименований, в том числе содержит много ссылок
на материалы, представляющие интерес для историков. Другой — это
даже не один справочник, а целая библиографическая серия о миро-
* Сэмюэль Пепис (1633—1703) — английский морской офицер и автор днев-
ника, который он вел с 1 января 1660 г. по 31 мая 1669 г., записывая туда
свои мысли и впечатления о лондонской жизни, о событиях при дворе и
командовании флотом. — Примеч. пер.
518
вых рынках и ярмарках, издававшаяся Международным географичес-
ким союзом на всех основных европейских языках (International
Geographical Union, 1977, 1979, 1985). К сожалению, вышло только три
номера, потом публикация была прекращена. Хотя в этих номерах было
много ссылок на работы, относящиеся скорее к маркетингу, чем к
рынкам как месту торговли, а многие работы, посвященные рынкам в
последнем смысле, указывались по нескольку раз, поскольку попада-
ли в разделы по разным географическим регионам, важно то, что не
менее 45% из 2155 ссылок, содержащихся в двух первых номерах, от-
носятся к Западной Африке, Центральной Америке, Южной Азии и
Андским республикам. При этом на Западную Африку приходится
418 наименований (19%) — это наиболее полно документированный ре-
гион из четырех вышеперечисленных.
Однако степень документированности — это не вполне достовер-
ный показатель значимости рынков в том или ином регионе, посколь-
ку в некоторых регионах рынки могут просто оставаться неизученны-
ми. Пожалуй, самый поразительный пример в этом смысле дает индий-
ский субконтинент, так как только в последние годы у нас стали
появляться сведения о том, что периодически устраиваемые здесь сель-
ские базары, по-видимому, долгое время играли гораздо более важную
роль, чем это могло показаться по крайне скудной литературе о них.
Создается впечатление, что из-за своей крайней озабоченности систе-
мами земельных рент британские колониальные власти совершенно
упустили из виду и существование местных базаров, и торговлю вооб-
ще, верно отражая тем самым интересы современных им экономистов,
чьи идеи произвели на них столь сильное впечатление. Даже став не-
зависимой, Индия, судя по всему, до сих пор продолжает придержи-
ваться прежнего британского подхода, причем не только в отношении
рынков, но и в отношении многих других социально-экономических
реалий сельской жизни. С другой стороны, в Западной Африке, где
колониальные власти часто менялись и были не столь впечатляющи,
как английская власть в Индии, и где антропологи и путешественни-
ки уже давно сумели оценить местные базары по достоинству, конец
колониализма был связан с расцветом исторических исследований но-
вого стиля, благодаря чему современные исследования рынков-базаров
имеют сегодня вполне удовлетворительную историческую базу
(см.: Meillassoux, 1971). И приснопамятные идеи Карла Поланьи — за-
блуждение, получившее в 1960-е годы большое распространение, — не
произвели здесь сколько-нибудь серьезного впечатления. Поланьи пло-
хо представлял себе, как была организована экономика Западной Аф-
рики в доколониальный период, и его основная идея — что свободный,
ничем не неконтролируемый обмен на рынках свойствен только про-
мышленным странам XIX и XX столетий, — казалась абсурдной при-
менительно к региону, где рядовые крестьяне привыкли покупать на
рынках рабов за деньги не только в XIX в., но и в значительно более
ранние времена.
Вскоре после того, как в конце 1960-х годов лидерами в исследова-
ниях рынков стран третьего мира стали географы, они, как и все ин-
519
теллектуальные лидеры, взялись за поиск единой теории, в данном слу-
чае — теории периодической рыночной торговли (Smith, 1978). Но их
поиски не увенчались успехом, поскольку функции крупных сельских
периодических рынков — а именно такие рынки служат краеугольным
камнем всех систем рыночной торговли — очень сильно различаются
как по регионам, так и внутри самих регионов. В некоторых регионах,
в частности в поздней Китайской империи, существовала строгая
иерархия рынков, в которой уровень рынка определялся в зависимос-
ти от его значения в оптовом обороте, а крупные городские рынки иг-
рали роль вершин. Но Скиннер был неправ, считая (Skinner, 1964, р. 3),
что описанные им великолепные структуры были «характерны для це-
лого класса цивилизаций, известных как «крестьянские» или “тради-
ционные аграрные общества”», поскольку в Западной Африке, напри-
мер, самый главный рынок в регионе может быть вообще расположен
в чистом поле вдали от городов и поселков, играя роль связующего зве-
на между различными экологическими зонами, т.е. связь между «уров-
нем» рынка и размером населения (если таковое вообще поблизости
имеется) здесь вовсе не обязательна. Огромная территория Китая, древ-
ность и стабильность его устоев делают эту страну совершенно нети-
пичной, поэтому проводить какие-либо параллели между Китаем и
другими регионами — задача безнадежная. У народов других стран
могло просто не хватить времени, чтобы так разумно распределиться
по территории в точном соответствии с теорией «центров торговли»
(central places). Только синолог может утверждать, что наличие тесной
зависимости между плотностью населения и урожайностью для тради-
ционных аграрных обществ является «практически аксиомой» (Skinner,
1977, р. 283).
Однако базовое различие между сельскими периодическими рын-
ками и ежедневными рынками действительно полезно с содержатель-
ной точки зрения: ежедневные рынки всегда располагаются в городах
или поселках, и на них довольно много постоянных торговцев, рабо-
тающих каждый день и имеющих свои места, а на периодических рын-
ках торгуют в основном сами крестьяне или их жены, продающие свою
собственную продукцию, причем они и сами нередко становятся по-
купателями, но торговать на рынке каждый день у них просто нет вре-
мени.
Теория «центров торговли» Кристаллера, в которой нужно чертить
шестиугольники, намного лучше подходит для поздней Китайской
империи, чем для своей родной Германии. То же самое, по-видимому,
верно и для многих других развивающихся регионов, которые более или
менее удовлетворяют строгим критериям этой теории, в том числе
имеют плоский ландшафт без особых примет, хотя географы пока еще
это окончательно не доказали. Конечно, они приложили немало уси-
лий, чтобы разобраться во всех временных и пространственных фак-
торах, но, например, ответ на вопрос, является ли четырехдневная тор-
говая неделя «матерью» восьмидневной или наоборот, пока еще не
найден. Скиннер считал (см.: Hill, 1966), что интенсификация рыноч-
ной торговли в ответ на рост численности населения всегда приводит
520
к сокращению, обычно наполовину, продолжительности торговой не-
дели; Фрёлих же предполагал нечто прямо противоположное: он счи-
тал, что смена существующих рынков новыми происходит путем удли-
нения торгового цикла. Большинство авторов считают, что торговая
неделя (длина которой в разных регионах обычно составляет 3, 4, 5, 6,
7, 8 или 10 дней подряд, хотя бывают и рынки, работающие через день)
определяется скорее экономическими, нежели календарными факто-
рами, но дальше этого объяснение обычно не идет. Сохранение во
многих районах Западной Африки несемидневной недели, несмотря на
значительное распространение европейской семидневки, на которую
давно перешли все коммерческие и учебные заведения, представляет-
ся весьма любопытным явлением.
Отношение государства к периодическим рынкам в разных странах
разное. Так, в Мехико-Сити такие рынки считаются важным компо-
нентом структуры розничной торговли, несмотря на попытки властей
ликвидировать их. В Папуа — Новой Гвинее, наоборот, правительство
еще только стремится их внедрить. В Индии органы городского пла-
нирования придают большое значение развитию городских регулиру-
емых рынков и пренебрежительно относятся к стихийно возникшим
сельским базарам, хотя такое отношение им вскоре придется изменить.
Кения и Танзания, по-видимому, даже как-то стыдятся, что до XX в. у
них почти не было рынков, если не считать прибрежных. Скиннер рас-
сказывает (Skinner, 1965, р. 371) о том, как китайские власти пытались
покончить с рынками в конце 1950-х годов, и о том, какие катастро-
фические последствия это имело, хотя уничтожить рынки так и не уда-
лось. Что же касается городских рынков, их, пожалуй, везде ругают за
отсутствие складских помещений и антисанитарию.
Любые попытки построить какую-то общую теорию, связывающую
торговлю на местных рынках с межрегиональной торговлей (не обяза-
тельно караванной) обречены на неудачу. В некоторых регионах кара-
ваны кочуют от рынка к рынку, связывая их между собой, в других —
стараются обходить рынки стороной, хотя бы потому, что вьючные
животные требуют пастбищ, к тому же караваны сами являются мо-
бильными рынками со своими устоявшимися маршрутами. Что каса-
ется «челноков» на грузовиках, многие из них вообще никогда на рын-
ках не бывают, потому что покупают они свой товар — бананы или
ямс — крупными партиями прямо в деревнях, а продают его в городах,
там, где разрешена торговля с колес, в том числе — на специальных
стоянках для грузовиков. Не учитывая таких моментов, географы со-
здали огрубленные, ложные представления об отношениях между го-
родом и деревней.
В более ранние времена, когда первую скрипку в изучении местных
рынков играли не географы, а антропологи, основной упор в их иссле-
дованиях делался не на экономические функции рынков, а на их роль
в местной политической и религиозной жизни, в проведении досуга и
формировании социума. Но и с точки зрения неэкономических функ-
ций рынков в разных регионах дела обстоят по-разному. Где-то ры-
нок — это идеальное место для свиданий юношей и девушек: там ни-
521
кто никого не знает, там нет поблизости родственников и никому ни
до кого нет дела, а ислам, наоборот, запрещает девушкам брачного воз-
раста показываться на рынках.
Для географов самое важное — это место и время, а на людей (по-
купателей, продавцов, зевак, из которых многие — дети) они не обра-
щают внимания, а ведь именно люди делают рынок живым организ-
мом. Их предшественники, антропологи, красочно описывали людей
и товары, но лишь немногие из них видели в торговцах экономичес-
ких субъектов. Пожалуй, самым примечательным исключением был
С.У. Минц, написавший множество работ о торговцах Карибских ост-
ровов и Латинской Америки. Общепризнанно, что продавцы любых
товаров — а в целом ряде важных регионов торгуют в основном жен-
щины — обычно на рынках держатся группами и пытаются (в основ-
ном — безуспешно) «застолбить» цены на свои товары на каждый день.
Хотя конкуренция, как правило, бывает настолько острой, что искус-
ственно завысить цену практически невозможно, само существование
практики особых отношений продавцов с «постоянными покупателя-
ми» говорит о том, что конкуренция эта, по-видимому, несовершен-
на. Кроме того, стандартные меры, которыми пользуются продавцы
(взвешивание встречается достаточно редко), как правило, все с «под-
вохом» — например, на многих рынках на юге Ганы для отмеривания
кукурузного зерна используются жестяные банки из-под керосина, и во
все эти банки для уменьшения объема вставлено двойное дно; вставить
фальшивое дно можно тут же на рынке — умельцы работают ни от кого
не таясь.
Очень интересно организованы рынки, где торгуют крупным рога-
тым скотом, особенно в Западной Африке; именно в Западной Афри-
ке лучше всего изучать традиционные системы такой торговли, вклю-
чающие землевладельцев и посредников, которые снабжают торговцев
товаром и для ускорения оборота предоставляют им кредиты (см.: Hill,
1985).
Один из сторонников Поланьи утверждал, что «на протяжении боль-
шей части истории» человека окружали рынки с фиксированными це-
нами, базары, не формировавшие единых цен, и экономические сис-
темы, основные законы которых не соответствуют ортодоксальной эко-
номической теории. Что ж, может быть... только период этот был
каменным веком исследований рынков как мест торговли.
БИБЛИОГРАФИЯ
Frohlich, W. 1940. Das afrikanische Marktwesen. Zeitschrift fur Ethologie. (An English
translation was published in 1982 by the International Geographical Union).
Hill, P. 1966. Notes on traditional market authority and market periodicity in West
Africa. Journal of African History 7(2), 295-311.
Hill, P. 1985. Indigenous Trade and Market Places in Ghana 1962-4. Jos Oral History
and Literature Texts, University of Jos, Nigeria.
522
International Geographical Union. 1977,1979,1985. Periodic Markets, Daily Markets
and Fairs: a Bibliography, 1st 2 issues ed. R.J. Bromley, University College of
Swansea: last issue ed. W. McKim, Towson State University, Maryland.
Meillassoux, C. (ed.) 1971. The Development of Indigenous Trade and Markets in West
Africa. International African Institute, London: Oxford University Press.
Skinner, G.W. 1964, 1965. Marketing and social structure in rural China. Journal of
Asian Studies, Part 1,24(1), November 1964, 3-43; Part II, 24(2), February 1965,
195-228; Part III, 24(3), May 1965, 363-99.
Skinner, G.W. (ed.) 1977. The City in Late Imperial China. Stanford: Stanford
University Press.
Smith, R.H.T.(ed.) 1978. Periodic Markets, Hawkers and Traders in Africa, Asia and
Latin America. Vancouver: Centre for Transportation Studies, University of British
Columbia.
РЫНКИ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ
ОТБОРОМ
Чарльз Уилсон
Markets with Adverse Selection
Charles Wilson
Рассмотрим рынок, на котором обращаются продукты разного ка-
чества. Покупатели и продавцы одинаковым образом упорядочивают
свои предпочтения относительно продуктов разного качества, но только
продавцам известно качество каждой конкретной единицы блага, вы-
ставленной ими на продажу; покупателям же в лучшем случае извест-
но распределение качества ранее проданных благ. Если покупатели не
могут каким-либо способом отличить хорошие продукты от плохих, то
наряду с доброкачественными товарами им будут всегда попадаться и
недоброкачественные. Такой рынок служит иллюстрацией проблемы
отбора худших, или неблагоприятного отбора (adverse selection).
Экономисты уже давно поняли, что эта проблема может оказать не-
желательное влияние на эффективность функционирования рынка. Тем
не менее, отправной точкой современного теоретического анализа от-
бора худших по праву считается статья Джорджа Акерлофа «Рынок “ли-
монов”» (Akerlof, 1970). Предметом рассмотрения статьи является модель
рынка подержанных автомобилей. Каждой из множества машин соответ-
ствует параметр качества q, равномерно распределенный на отрезке от 0
до 1. Предполагается, что максимально приемлемая цена автомобиля ка-
чества q для покупателя равна (3/2)<7, тогда как минимальная запрашивае-
мая цена того же блага для продавца составляет q. Акерлоф рассмотрел
проблему определения рыночной цены и количества сделок для случая,
когда число потенциальных покупателей превосходит число продавцов.
Если при этих условиях качество автомобилей известно обеим сто-
ронам, то на эффективных рынках должны быть проданы все автомо-
били; а если рынок является конкурентным, то автомобили качества q
должны продаваться по цене (3/2)д. Однако Акерлоф предположил, что
покупатели могут отследить только среднее качество р автомобиля, вы-
ставленного на продажу по любой цене.
Поскольку в этом случае всякий продавец автомобиля качества р или
ниже выставит его на рынок, среднее качество р всех автомобилей,
продаваемых по любой цене, будет равно q/2. При таком соотношении
цены и среднего качества покупатели оценят выставленные на прода-
жу автомобили только в (3/4)р. Следовательно, единственное равновес-
ное значение цены окажется равным нулю и на рынке не состоится ни
одна сделка.
524
Пример Акерлофа представляет собой самое крайнее проявление
проблемы отбора худших, в общем случае объем торговли не упадет до
нуля. Тем не менее, аллокация на таком рынке почти всегда будет не-
эффективной по следующим причинам. Поскольку продавцы выставят
на рынок любое благо, которое они ценят меньше возможной выруч-
ки от его продажи, то их оценка среднего из выставленных на рынок
благ в общем случае будет ниже рыночной цены. Напротив, менее
информированные покупатели будут совершать покупки лишь до тех
пор, пока, с их точки зрения, ценность среднего из выставленных на
продажу продуктов не упадет до уровня рыночной цены. Следователь-
но, при любом равновесии по Вальрасу ценность предельного автомо-
биля для покупателя превышает его ценность для продавца. Кроме того,
все покупаемые единицы отбираются из одной и той же массы благ.
Поскольку существуют покупатели, готовые заплатить больше за при-
обретение продуктов более высокого качества, отсутствие такой воз-
можности в условиях отбора худших представляет собой еще один ис-
точник неэффективности.
Анализ Акерлофа был обобщен Уилсоном (Wilson, 1980), который
показал, что если предпочтения покупателей разнородны, то не исклю-
чено возникновение множественных равновесий по Вальрасу, которые
можно проранжировать по критерию Парето. Его аргументация осно-
вана на следующем наблюдении. Если среднее качество выставленных
на продажу благ в достаточной степени повышается вместе с ценой, то
некоторые покупатели и в самом деле могут предпочесть заплатить за
продукт побольше. Следовательно, даже если не брать в расчет эффекты
дохода, кривая спроса на некоторых участках может оказаться возрас-
тающей. Если при этом кривые предложения и спроса пересекаются
более чем однажды, то возникают множественные равновесия по Валь-
расу. Более того, поскольку кривая предложения непременно должна
иметь положительный наклон, то при более высоких равновесных це-
нах спрос также должен быть выше. Тогда по теории выявленных пред-
почтений при более высоких ценах благосостояние некоторых покупа-
телей также должно быть выше. В самом деле: как показал Уилсон, для
всякого покупателя с постоянной предельной нормой замещения между
качеством автомобиля и потреблением других благ высокая равновес-
ная цена предпочтительнее низкой. А так как продавцы всегда пред-
почитают продавать по более высокой цене, отсюда сразу следует, что
высокие равновесные цены по критерию Парето превосходят низкие.
Можно также придумать примеры, когда законодательно установлен-
ная наименьшая цена будет превосходить по критерию Парето всякую
равновесную цену, даже если избыточное предложение рационирует-
ся случайным образом.
Основываясь на этих наблюдениях, Уилсон пришел к выводу, что
в условиях отбора худших рыночные силы не обязательно должны при-
вести к установлению единственной цены. На практике характер рав-
новесия будет в общем случае зависеть от природы институтов или
конвенций (обычаев), используемых для определения цены. Анализ
Акерлофа в неявном виде предполагает существование некоторого ме-
525
ханизма вальрасианского типа: в состоянии равновесия все товары
обмениваются по одной цене, которая уравнивает величины спроса и
предложения. Предположим вместо этого, что каждый покупатель обя-
зан объявить цену, а затем ждать предложений продавцов. Тогда если
кто-то из покупателей предпочтет объявить более высокую цену, чем
предполагает вальрасианский механизм, то может установиться равно-
весие с избыточным предложением, которое придется рационировать.
Но для повышения среднего качества продукта продавцы могут пред-
почесть такую высокую цену, при которой предложение превысит спрос
и не все продавцы смогут продать свой продукт.
Эта идея была использована Стиглицем и Вайссом (Stiglitz and Weiss,
1981) для объяснения рационирования кредита. Они рассмотрели кон-
курентную банковскую систему, в которой предложение заемных
средств является возрастающей функцией от ставки процента по де-
позитам. Каждый заемщик предъявляет спрос на одну и ту же величи-
ну капитала, и все потенциальные заемщики равноценны с точки зре-
ния банков. Однако поскольку перспективу невозврата кредита нельзя
исключить, то заемщики приносят банкам разные ожидаемые доходы
при каждом уровне процентных ставок. В этой модели банки выступа-
ют в той же роли, что и неинформированные покупатели из примера
Акерлофа с подержанными автомобилями, а заемщики аналогичны ин-
формированным продавцам. Стиглиц и Вайсс доказали, что при опре-
деленном классе параметров рыночное равновесие означает избыточ-
ный спрос на заемные средства.
Я проиллюстрирую их рассуждение на простом примере. Предпо-
ложим, что существует два типа заемщиков, каждому из которых ну-
жен капитал В для финансирования инвестиционного проекта с оди-
наковым ожидаемым доходом. Каждый из п заемщиков с низкой сте-
пенью риска получает от своего проекта нулевой доход с вероятностью
’/2 и доход 2В с вероятностью '/2. Каждый из п заемщиков с высокой
степенью риска получает нулевой доход с вероятностью 3/4 и доход 45
с вероятностью ’Д- Чтобы получить заем от банка, фирмы должны
предоставить залог С = 5/2. Таким образом, при всякой (валовой) став-
ке процента г заемщик выплатит свой долг, только если его доход пре-
высит [г - ('/2)5]. В противном случае он окажется несостоятельным
и банку достанется все, что заработала фирма, плюс залог.
Рассмотрим теперь кривую спроса на займы. Если ожидаемый доход
превосходит процентную ставку, то фирма-заемщик не уйдет с рынка.
Однако из-за различий в распределениях будущих доходов приемлемая
ставка процента по займам для фирм разных типов окажется различной.
Прибыли заемщиков с низким риском будут неотрицательными, толь-
ко если г < 3/2, тогда как заемщики с высоким риском получат неотри-
цательные прибыли при г < 5/2. Следовательно, спрос на займы соста-
вит 2пВ при 0 < г < 3/2, пВ при 3/2 < г < 5/2 и 0 при г > 5/2.
Наконец, рассмотрим предложение заемных средств. При 0 < г < 3/2
(т.е. г < 3/2) банк имеет равные шансы столкнуться с заемщиками обо-
их типов, так что ожидаемая (валовая) норма дохода банка составит
[Зг + (5/2)]/8. Если 3/2 < г < 5/2, кредит будет предоставлен только заем-
526
щикам с высоким уровнем риска и ожидаемая норма дохода банка соста-
вит [2г + 3]/8. Предположим теперь, что уровень предложения банковс-
ких займов достиг (|б/|3)лА Тогда кривая «предложения» принимает вид
л(|б/13)5[Зг + 5/2]/8 при г< 3/2 и л(1б/13)5[2г + 3]/8 при 3/2 < г< 5/т За-
метьте, что такая кривая предложения имеет положительный наклон
на всей области определения, кроме точки разрыва г = 3/2, где она па-
дает с л(|4/13)5до л(12/|3)Л Следовательно, «предложение» сравняется со
спросом при ставке процента r=1 /*— при такой ставке спрос предъ-
явят только заемщики с высоким уровнем риска и средняя норма до-
хода каждого банка составит l3/lg.
Хотя процентная ставка 7/4 является расчищающей рынок, вряд ли
можно ожидать, что если бы максимизирующие прибыль банки могли
сами устанавливать свои процентные ставки, они установили бы их
именно на этом уровне. Поскольку равновесная процентная ставка
превышает 3/2, наименее рисковые заемщики уже ушли с рынка. Сле-
довательно, снижение процентной ставки до 3/2 позволит вновь при-
влечь именно эту категорию вкладчиков, сделав тем самым возможным
повышение ожидаемой нормы дохода банков, даже несмотря на сни-
жение нормы дохода от кредитования каждого из более рисковых за-
емщиков. В этом примере всякий банк, снижающий процентную ставку
до 3/2, привлечет равное число заемщиков обоих типов, что позволит
ему добиться повышения ожидаемой нормы дохода до 7/g. Поскольку
каждый заемщик предпочитает кредиты под низкую процентную став-
ку, более высокая «расчищающая рынок» ставка процента окажется
неустойчивой. В результате установившаяся равновесная норма дохо-
да будет сочетаться с избыточным спросом на займы.
В своей статье в «Bell Journal» Уилсон отметил, что если бы инфор-
мированные агенты сами устанавливали цену, то могло бы сложиться
еще одно равновесие. Вернемся к примеру с подержанными автомо-
билями. Легко показать, что чем выше минимально приемлемая цена
товара для продавца, тем на меньшее снижение цены он согласится
пойти ради того, чтобы увеличить свой шанс продать товар. Это наблю-
дение дает основания полагать, что устойчивым может оказаться и рав-
новесие с распределением цен. Продавцы высококачественных продук-
тов объявляют высокие цены, которые привлекут лишь немногих кли-
ентов. Продавцы же низкокачественных продуктов предложат свои
товары по низким ценам, которые привлекут большее число покупате-
лей. Покупатели будут согласны покупать по этим разным ценам, так как
качество предложенных товаров растет вместе с ценой; а качество авто-
мобилей будет расти с ценой потому, что низкие цены привлекут боль-
ше покупателей, чем высокие. Подобный компромиссный выбор (trade-
off) между ценой и вероятностью продажи был подробно исследован
Самуэльсоном (Samuelson, 1984) и другими авторами, разрабатывавши-
ми оптимальные механизмы аллокации благ в условиях отбора худших.
Оба рассмотренных выше класса равновесий невальрасианского
типа обусловлены тем, что индивиды стремятся избежать проблемы
отбора худших, используя связь между ценой и качеством благ. Значи-
тельная часть литературы по проблеме отбора худших посвящена ис-
527
следованию того, каким образом люди пытаются решить проблемы,
встающие перед ними в связи с этим. Одной из наиболее важных вех в
этом направлении стала разработка понятия рыночных сигналов Май-
клом Спенсом (Spenc, 1973). Идея состоит в том, что продавцы высо-
кокачественных продуктов стремятся сами «выдать» себя, предприняв
некоторые действия, которые им обходятся дешевле, чем продавцам
низкокачественных продуктов. В примере Спенса более производитель-
ные рабочие посылают сигналы о своей производительности, покупая
образование. На товарных рынках сигналом надежности товара явля-
ется гарантия фирмы. Наконец, на рынках заемных средств сигналом
кредитоспособности заемщиков служат залоги (Bester, 1984).
БИБЛИОГРАФИЯ
Akerlof, G. 1970. The market for lemons. Quarterly Journal of Economics 84(3),
August, 488-500.
Bester, H. 1984. Screening versus rationing in credit markets with imperfect
information. University of Bonn Discussion Paper No. 136, May.
Samuelson, W. 1984. Bargaining under asymmetric information. Econometrica 52(4),
July, 995-1005.
Spence, M. 1973. Job market signalling. Quarterly Journal of Economics 87(3), August,
355-74.
Stiglitz, J. and Weiss, A. 1981. Credit rationing in markets with imperfect information.
American Economic Review 71, June, 393—410.
Wilson. C. 1980. The nature of equilibrium in markets with adverse selection. Bell
Journal of Economics 11, Spring, 108-30.
Марксистская экономическая теория
Эндрю Глин
Marxist Economics
Andrew Glyn
Под марксистской экономической теорией мы понимаем работы тех
экономистов, методология и подход которых опирались на творчество
Карла Маркса. В данной статье не затрагивается огромное количество
литературы, исследующей генезис и развитие мысли самого Маркса
(Rosdolsky, 1968). Перед тем как обсудить три области, вклад марксис-
тов в которые был наиболее важным, будет полезным выделить общие
черты их подхода, которые и отличают их от представителей других
традиций в экономической теории.
Экономисты-марксисты считают, что капиталистическая система по
сути своей противоречива в том смысле, что нарушения функциониро-
вания капиталистической системы порождаются самой ее структурой,
а не являются «сбоями» в принципе гармоничного механизма. Ядро
этой структуры составляют отношения между капиталом и трудом,
которые неизбежно носят характер эксплуатации. Этот конфликт ока-
зывает решающее влияние на все аспекты развития капиталистической
системы от форм технологии до форм государственной политики. На-
копление капитала, двигатель системы, нельзя, следовательно, анали-
зировать лишь в количественном аспекте: порождаемые им структур-
ные изменения в экономике испытывают влияние отношений между
классами и, в свою очередь, их формируют. Поэтому, хотя логика ка-
питализма остается неизменной, его историю можно подразделить на
различные периоды, характеризующиеся определенным набором клас-
совых отношений, технологий, форм государственной политики и меж-
дународных структур.
Некоторые из этих идей покажутся экономистам, которые хоть не-
много интересуются экономической историей, самоочевидными. Это
объясняет широкое признание, которым в XIX в. пользовались мно-
гие центральные идеи Маркса. К сожалению, нельзя сказать, что их
подхватило основное течение экономической теории, сохранившее под
прикрытием все более могущественной формальной техники свою кон-
цептуальную поверхностность.
Основные темы марксистской экономической теории, которые про-
низывают подход экономистов-марксистов к анализу конкретных фаз
и аспектов развития капитализма: 1) процесс труда; 2) стоимость (цен-
ность), прибыль и эксплуатация; 3) накопление капитала и кризисы.
Далее мы сделаем краткий обзор развития данных аспектов теории
529
Маркса и споров вокруг них. Этот обзор носит «узкоэкономический»
характер (работы по теории государства и классов не рассматривают-
ся) и сосредоточивается на теоретических спорах, а не на историчес-
ких приложениях.
ПРОЦЕСС ТРУДА. Наиболее фундаментальную критику своих
предшественников-классиков, и особенно Рикардо, Маркс основывал
на том, что им не удалось проанализировать путь возникновения ка-
питалистической системы как особого способа производства в резуль-
тате определенного исторического процесса. Потеря собственности
некогда независимыми производителями привела к делению общества
на рабочих, могущих лишь продавать свою рабочую силу, и работода-
телей, владеющих средствами производства. Такое владение было ос-
новой прибыли, получаемой капиталистами, что давало им контроль
над самим процессом производства. Оно позволяло всему классу ка-
питалистов заставлять рабочий класс работать больше, чем требуется
для производства средств к существованию. Маркс обращал особое
внимание на этот контроль над процессом труда, детально анализируя,
как развитие машинного производства качественно углубляет контроль
капиталистов, лишая рабочих возможности определять темп своей ра-
боты. Сосредоточение внимания на процессе производства как процес-
се труда, по мнению многих исследователей, является наиболее важ-
ной отличительной чертой марксистской экономической теории по
сравнению с другими школами, которые анализируют производство
только в технических терминах (Rowthorn, 1980, ch. 1).
Тем не менее, на протяжении более чем 100 лет после публикации
I тома «Капитала» Марксов анализ капиталистического контроля над
процессом труда не применялся к последующему развитию экономи-
ки. В работе «Труд и монополистический капитал» Гарри Брейвермана
(Braverman, 1972) центральной темой является стремление работодате-
лей разделить разработку производственных задач и их исполнение для
того, чтобы сохранить и увеличить контроль над трудовым процессом.
«Научная система управления» Фредерика Тейлора, например, преду-
сматривает анализ операций квалифицированных фабричных рабочих
для того, чтобы иметь возможность перенести «научный» расчет вре-
мени на новые типы работ. Аналогично внедрение Фордом сборочно-
го конвейера было предназначено для того, чтобы навязать рабочим
определенный темп работы. Последующие авторы расширили анализ,
описав систему «бюрократического» контроля, применяемую в круп-
ных современных корпорациях, где для увеличения трудовых усилий
применяются платежные системы, допускающие постоянный рост за-
работка у лояльных работников (Edwards, 1979).
Эти более поздние работы пересмотрели, а также расширили соб-
ственный анализ Маркса. В его концепции «современной индустрии»
контроль над темпом работы устанавливался самой машиной, которая
автоматически выполняла операции с материалами; рабочему лишь
оставалось подавать материал и устранять небольшие неполадки. Та-
кая картина, которую Маркс наблюдал на основе развития современ-
530
ной ему текстильной промышленности, не стала универсальной. Во
многих типах производства рабочий все еще сам выполняет операции
с материалами. Это заставило работодателей попытаться контролиро-
вать скорость работы посредством механического приспособления (по-
точной линии, которая заставляла рабочих выполнять задания с уста-
новленной скоростью) или организационных средств (научная систе-
ма управления). Более того, в последнее время утверждалось, что
«фордистская» система массового производства, при которой существу-
ет разделение труда на мелкие операции, уступает более гибким систе-
мам, в рамках которых рабочий выполняет больший набор задач
(Aglietta, 1979). Такое положение отражает тенденцию к появлению
более сложных потребительских товаров, производство которых требует
малых серий и частых изменений модели, а также проблему преодоле-
ния неудовлетворенности рабочего бездумной, повторяющейся рабо-
той, которая резко проявилась в конце 1960-х годов в ряде стран.
Тем не менее, фундаментальные идеи Маркса остаются в основе
исследований вопроса, имеющего в наше время огромное значение:
борьбы работодателей с необходимостью структурной перестройки
производства в условиях жесточайшей конкуренции 1980-х годов (в ка-
честве примера может быть рассмотрена работа Уилмена и Уинча
(Wilman and Winch, 1985). Только сравнительно недавно основное на-
правление экономической теории стало обращаться к проблеме конт-
роля над трудовым процессом, но и тогда, как утверждает Боулс
(Bowles, 1985), ее подход остался менее убедительным.
СТОИМОСТЬ, ПРИБЫЛЬ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ. Критики Маркса,
начиная с Бёма-Баверка (Bohm-Baverk, 1896), постоянно утверждали, что
коренным пороком его теории прибыли и эксплуатации была ее опора на
примитивную «трудовую теорию ценности» (товары обмениваются в про-
порции, определяемой затраченным на их производство рабочим време-
нем). Если цена товара непосредственно определяется таким «овещест-
вленным трудом», то заработная плата непосредственно измерялась бы ра-
бочим временем, необходимым для производства товаров, которые
покупаются рабочими для поддержания своей жизни (стоимостью рабо-
чей силы в терминологии Маркса). Аналогично прибыль, будучи разницей
между добавленной рабочим стоимостью и заработной платой, непосред-
ственно измеряла бы избыток рабочего времени над стоимостью рабочей
силы, т.е. прибавочную стоимость, произведенную рабочим под контро-
лем работодателя. На уровне общества в целом общая прибыль была бы
мерой прибавочного труда, совершенного всем рабочим классом, т.е. ра-
бочего времени, затраченного сверх времени, достаточного для воспро-
изводства средств существования. Норма эксплуатации, по Марксу, — это
отношение прибавочной стоимости к стоимости рабочей силы, которое
непосредственно выражалось бы отношением суммы прибыли к сумме
заработной платы. Точка зрения Маркса, состоящая в том, что источни-
ком прибыли являлась возможность капиталиста контролировать трудо-
вой процесс и тем самым принуждать рабочий класс к выполнению при-
бавочного труда, получает здесь четкое выражение.
531
Маркс и сам вполне понимал, что принятое им в I томе «Капита-
ла» допущение, состоящее в том, что товары обмениваются по их сто-
имости, т.е. в пропорции к затраченному на их производство труду,
было упрощением, направленным на выявление общего отношения
между капиталом и трудом. В III томе он объясняет, что это допуще-
ние верно только в том случае, когда органическое строение капитала,
т.е. отношение стоимости расходов на оборудование и материалы (по-
стоянный капитал) и расходов на заработную плату (стоимость пере-
менного капитала), одинаково во всех отраслях. Если органическое
строение различается по отраслям, то прибавочная стоимость, произ-
веденная рабочими в определенной отрасли, даст большую или мень-
шую отраслевую норму прибыли на весь функционирующий капитал
в зависимости от того, высоким или низким, является органическое
строение. Но обмен в соответствии с рабочим временем неизбежно
означает, что капиталисты данной отрасли получают прибавочную сто-
имость, равную той, которая произведена их рабочими. Дело в том, что
стоимость товаров, которые они получили бы в обмен, была бы равна
стоимости товаров, произведенных на их предприятиях. Таким обра-
зом, прибавочная стоимость, которую получат капиталисты после того,
как будет вычтена необходимая сумма для расходов на постоянный и
переменный капитал, будет в точности равна прибавочной стоимости,
произведенной их рабочими. Соответственно, обмен по рабочему вре-
мени приводил бы к неравным нормам прибыли в различных отрас-
лях, что невозможно в условиях конкуренции.
Собственное решение Маркса заключалось в том, что товары обме-
ниваются не по их стоимостям, а по ценам производства, которые пред-
ставляют собой модификацию или трансформацию стоимости, кото-
рая должна обеспечить равные нормы прибыли во всех секторах, не-
смотря на неравное органическое строение капитала. Ему было
несложно показать, что обмен по ценам производства предполагает, что
отрасли с высоким органическим строением, которым для компенса-
ции больших затрат на постоянный капитал требуется большая приба-
вочная стоимость, чем производят их рабочие, должны иметь соотно-
шение цены производства к стоимости выше среднего (для секторов с
низким органическим строением — наоборот). Таким образом, Марк-
сово решение проблемы трансформации заключало в себе простое пе-
рераспределение общей прибавочной стоимости от трудоинтенсивных
отраслей к капиталоинтенсивным.
Борткевич (Bortkiewicz, 1906) был первым, кто указал, что решение
Марксом проблемы трансформации неверно. Цены производства, по
Марксу, получаются путем добавления средней нормы прибыли к сто-
имости производственных затрат. Но если товары не продаются по их
стоимостям, то капиталисты производят затраты не по их стоимостям,
а по ценам производства. Таким образом, точные цены производства
должны рассчитываться на основе одновременной оценки затрат и вы-
пуска продукции не по стоимостям, а по ценам производства. Маркс в
действительности знал, что этот дальнейший шаг был необходим, но
532
думал, не без некоторых оснований, что он не имеет большого значе-
ния. К сожалению, он был не прав.
Дело в том, что «правильное решение» проблемы трансформации
делает невозможным сохранение марксистского равенства между таки-
ми совокупными стоимостными показателями, как прибавочная сто-
имость и общая стоимость выпущенной продукции, с одной стороны,
и соответствующими совокупными ценовыми показателями — прибы-
лью и общим выпуском продукции, выраженными в деньгах. Основ-
ная часть последующей литературы (см.: von Bortkiewicz, 1906 и более
позднее обобщение: Seton, 1957) сосредоточивается на описании обсто-
ятельств, при которых выполняется, по крайней мере, одно из «инва-
риантных» соотношений между ценовыми и стоимостными показате-
лями. Однако, следуя школе японских марксистов, возглавляемой Уно
(см.: Itoh, 1980), можно сказать, что поиск численного равенства меж-
ду прибавочной стоимостью и прибылью с самого начала не имеет
смысла, поскольку Маркс не смог последовательно придерживаться
проведенного в I томе различия между субстанцией стоимости (рабо-
чее время) и ее формой (цена в денежном выражении). Любая попытка
«силой» добиться численного равенства является искусственной и, сле-
довательно, вводит в заблуждение.
Однако «проблема» на этом не заканчивается. При правильном од-
новременном решении норма прибыли на функционирующий капи-
тал также отличается от общей нормы прибыли Маркса, рассчитыва-
емой как отношение прибавочной стоимости к стоимости капитала
(см.: von Bortkiewicz, 1906 и Steedman, 1977). Еще более разрушитель-
ным для теории Маркса представляется то, что норма эксплуатации в
стоимостном выражении в общем не равна отношению прибыли к за-
работной плате. Таким образом, основное марксистское выражение ин-
тенсивности капиталистического господства не находит прямого отра-
жения в совокупных денежных показателях.
На самом деле это никак не затрагивает теорию Маркса. Отноше-
ние прибыли к заработной плате отражает отношение прибавочного
продукта к набору товаров, образующих заработную плату, так как она
проявляется в процессе обмена (совокупная заработная плата представ-
ляет здесь цену производства прибавочного продукта). Норма же экс-
плуатации — это соотношение труда, затраченного на производство
этих двух наборов товаров. Эти два соотношения могут быть равны
только в том случае, когда органические строения в секторах, произ-
водящих товары, образующие заработную плату и прибавочный про-
дукт, равны. Ясно, что теоретически данное соотношение выполнять-
ся не обязано, хотя эмпирические расчеты Вулфа (Woolf, 1979) пред-
полагают, что отклонение относительных цен от относительных
стоимостей для этих наборов товаров может быть достаточно неболь-
шим.
Такое отклонение между формой эксплуатации (отношение прибы-
ли к заработной плате) и ее реальной субстанцией (отношение приба-
вочной стоимости к стоимости рабочей силы) может быть легко при-
нято. Использование стандартного товара Сраффы для того, чтобы
533
показать, какого типа отрасли обеспечат равенство между двумя эти-
ми соотношениями, кажется, немногое добавляет (см.: Medio, 1972).
Отход на позиции претенциозно названной «фундаментальной марк-
систской теоремы», которая заключается в том, что положительной
прибыли должна соответствовать положительная прибавочная сто-
имость (Morishima, 1973), также представляется излишне оборонитель-
ным ходом, так как при этом не удается ясно объяснить соотношения
между ценовым и стоимостным измерениями. Важно подчеркнуть, что
такая интерпретация проблемы трансформации не доказывает верность
Марксова анализа в стоимостном выражении. Она всего лишь показы-
вает, как стоимостные категории могут быть согласованы с их поверх-
ностными проявлениями — прибылями и ценами.
Дальнейшая полемика по поводу адекватности и полезности теории
стоимости Маркса относилась к двум другим вопросам. Вся дискуссия
вокруг «проблемы трансформации» предполагает, что стоимость това-
ров может быть недвусмысленно определена как рабочее время, общест-
венно необходимое для производства товара при преобладающем уров-
не механизации, умелости и интенсивности труда. Но критики, на-
чиная с Бёма-Баверка, оспаривали, что различные типы труда могут
быть «сведены» к простому труду (см.: Rowthorn, 1980, ch. 6). В даль-
нейшем было доказано (Steedman, 1977), что в ситуации совместного
производства трудовая стоимость вообще может быть неопределима.
Если пастухи производят баранину и шерсть, как может быть распре-
делен их труд между двумя продуктами? Если работодатель исполь-
зует шерсть, а пастухи потребляют баранину, невозможно разделить
весь рабочий день пастухов на необходимый труд, затраченный на
производство средств к существованию, и прибавочный труд на ра-
ботодателя. В более общем плане можно сказать, что там, где суще-
ствуют различные методы совместного производства, стандартный
метод установления трудовой стоимости может привести к ее отри-
цательному значению. Было показано, как отрицательный показатель
прибавочной стоимости может сочетаться с положительным показа-
телем прибыли (Steedman, 1977), хотя этот вывод не остался без воз-
ражений (King, 1982).
Эта критика, по крайней мере, заставила марксистов признать, что
существуют реальные аналитические трудности в составлении после-
довательной стоимостной схемы. Ответ некоторых экономистов
(Himmelweit and Mohun, 1981), основывавшийся на работе И. Рубина
(Rubin, 1928) и заключавшийся в том, что вся идея определения сто-
имостей, прежде чем они выразятся в рыночных ценах, является вво-
дящим в заблуждение «неорикардианским» упражнением, не нашел
поддержки. Это означает отказ от любого количественного аспекта тео-
рии стоимости, и остается лишь качественный акцент на понимание
обмена как обмена трудом (см. полемику Гильфердинга с Бёмом-Ба-
верком (Bohm-Bawerk [1896]; Sweezy, 1942; Rubin, 1928).
Концептуальные проблемы формализации теории стоимости не
делают ее исключением среди других теорий. Наиболее серьезная ата-
ка на трудовую теорию ценности была произведена теми, кто заявил,
534
что она является излишней, поскольку ничего не добавляет к концеп-
туализации равновесных цен и прибылей, измеряемых в физических
количествах. Такая критика, восходящая, по крайней мере, к Джоан Ро-
бинсон (Robinson, 1942), была формализована Самуэльсоном
(Samuelson, 1971). Вновь привлек к ней внимание Стидмен (Steedman,
1977). Следуя Сраффе (Sraffa, 1960), доказывается, что цены и прибыль
могут быть напрямую рассчитаны, если мы знаем реальную заработную
плату, а также количество труда и средств производства, необходимых
для производства товаров, а стоимость может быть рассчитана только
на основе таких же данных. Следовательно, утверждается, что опреде-
ление прибыли через стоимость не является необходимым (даже допус-
кая, что стоимость может быть определена однозначно). Эта атака по-
ставила марксистов перед вопросом: для чего, собственно, служит по-
нятие стоимости.
Аргументы в поддержку использования труда как центральной кон-
цептуальной категории и, следовательно, анализа обмена и эксплуата-
ции в терминах овеществленного рабочего времени варьируют от до-
вольно абстрактных утверждений о фундаментальной роли, которую
играет труд во всей теории общества Маркса (Shaikh, 1981), до заявле-
ния, что анализ стоимостных величин привлекает внимание к роли
труда в производстве (Dobb, 1937). Сен (Sen, 1978) указывал, что вни-
мание к человеческому вкладу в производство так же естественно, как
внимание к роли художника в скульптуре. Действительно, критики
теории стоимости могут задать себе вопрос, почему они готовы рассмат-
ривать производительность труда в качестве важной категории (во все
времена, во всех странах и т.д.), но возражают против концепции тру-
довой стоимости (которая всего лишь представляет собой величину,
обратную производительности труда). Конечно, для тех, кто принима-
ет центральную роль экономического излишка, производимого рабо-
чим классом, в развитии общества и считает взаимоотношения на фаб-
рике ключевым фактором при объяснении производства данного из-
бытка, анализ в терминах рабочего времени представляется ясным и
простым. Если мы хотим ярко и убедительно проанализировать взаи-
моотношения между капиталом и трудом, то кажется вполне объясни-
мым использование категории рабочего времени. В конце концов, ка-
питалисты действительно заставляют рабочих трудиться.
НАКОПЛЕНИЕ И КРИЗИСЫ. «Капитал» Маркса был направлен
не только на раскрытие основы капиталистической эксплуатации, но
и, кроме всего прочего, на раскрытие «законов движения» капитализ-
ма. Маркс утверждал, что конкуренция между капиталистами велась
путем инвестирования в новые, более эффективные технологии про-
изводства, а экономия на масштабах, к которой приводит данная си-
туация, действует как пресс, заставляющий индивидуальных капитали-
стов накапливать (концепция, совершенно отличная от неоклассичес-
кой идеи о накоплении как замене настоящего потребления будущим —
см.: Marglin, 1984). Результатом данного процесса стало увеличение
концентрации промышленности (по Марксу — централизация), кото-
535
рая в дальнейшем была ускорена развитием кредитной системы. Мно-
гие марксистские теоретики от Гильфердинга (Hilferding, 1910) до пос-
левоенных марксистов (Mandel, 1962) зафиксировали эту тенденцию,
сделав в ряде случаев вывод, что монополизация разрушала стимул к
накоплению (Baran and Sweezy, 1966). Однако данный вывод, видимо,
противоречит большому буму 1950-х и 1960-х годов в Европе и Япо-
нии и сопутствующему развитию международной конкуренции.
Для Маркса воздействие накопления как на рабочий класс, так и
на прибыль было обусловлено его предполагаемой трудосберегающей
формой. Маркс доказывал, что более высокая производительность тре-
бовала увеличения объема постоянного капитала в расчете на одного
рабочего (позднее экономистами это было названо коэффициентом
капитал — труд). Хотя это не обязательно справедливо, так как новые
технологии могут давать экономию на постоянном капитале, последу-
ющее развитие подтвердило точку зрения Маркса. Более спорными
являются ее следствия применительно к занятости, заработной плате
и норме прибыли.
Возрастающая масса постоянного капитала на одного рабочего под-
разумевает, что занятость растет более медленно, чем величина капи-
тала. Но приводит это или нет к увеличению/уменыпению резервной
армии труда, зависит от силы накопления, степени, в которой техни-
ческий прогресс является трудосберегающим, и роста рабочей силы. По
крайней мере, в передовых странах тенденция заключалась в победе
капиталистического сектора над докапиталистическими, такими, как
крестьянское сельское хозяйство, но «высвобождаемые работники»
поглощались работой по найму. Здесь важно отличить влияние тенден-
ции накопления на занятость (при полном использовании мощностей)
от периодов — возможно, затяжных — «циклической» безработицы, воз-
никающей из недогрузки мощностей во время кризисов. Очевидно, что,
например, массовая безработица 1970-х и 1980-х годов в Европе была
обусловлена в основном, если не в целом, кризисом накопления (т.е. его
недостаточным объемом), а не формой, которую оно принимает.
Несмотря на периодические приступы безработицы, в передовых
странах существовала тенденция к росту реальной заработной платы в
соответствии с ростом производительности труда, так что доля прибы-
ли в продукте была более или менее постоянной либо даже уменьши-
лась. Несмотря на сложности, связанные с измерением самозанятос-
ти, такое положение предполагает, что норма эксплуатации, по Марк-
су, не показывает тенденции к увеличению, которое, как он
предполагал, будет вызвано ростом резервной армии труда. Некоторые
авторы (например, Gillman, 1957) старались подтвердить рост нормы
эксплуатации посредством обращения к марксистской концепции не-
производственного труда (труд управленческого персонала, банковских
работников и т.д.). Если отнести данных работников к оплачиваемым
из прибавочной стоимости и не считать их оплату издержками произ-
водства, уменьшающими прибавочную стоимость, и если их доля в ра-
бочей силе возрастает (а так оно и есть), то увеличение нормы эксплу-
атации совместимо с увеличением доли заработной платы в националь-
536
ном доходе. Но утверждение, что прибавочный продукт, остающийся
капиталистам для накопления, уменьшается, так как при росте произ-
водительности производственных рабочих доля непроизводствен-
ных рабочих растет, немногое добавляет к более простой идее, заклю-
чающейся в том, что рост производительности всех рабочих является
недостаточно быстрым в сравнении с ростом реальной заработной пла-
ты.
Тенденция увеличения реальной заработной платы подняла вопрос
об обоснованности в наше время марксистской концепции стоимости
рабочей силы, зависимой от времени, необходимого для производства
«товаров первой необходимости». Обычным ответом марксистов стало
подчеркивание «нравственного и исторического» элемента в определе-
нии Марксом стоимости рабочей силы. Периоды сильного спроса на
труд и развитие профессиональных союзов позволили расширить для
рабочих круг «товаров первой необходимости», включая и предостав-
ление более широкого набора государственных услуг. Трудности, с ко-
торыми, несмотря на массовую безработицу, столкнулись работодате-
ли при попытках сократить реальную заработную плату и правитель-
ства при попытках серьезно уменьшить набор социальных услуг в
1970-х и 1980-х годах, придали большую убедительность тому аргумен-
ту, что имеющийся в настоящее время уровень жизни является общест-
венно необходимым (Rowthom, 1980, ch. 7).
Маркс доказывал, что тенденция к возрастанию органического стро-
ения позволит увеличить норму эксплуатации, но, тем не менее, при-
ведет к падению нормы прибыли по отношению ко всему использу-
емому капиталу, так как вырастут затраты на постоянный капитал. Не-
смотря на то что «закон тенденции нормы прибыли к понижению»
рассматривался Марксом как «наиболее важный закон политической
экономии», в классических работах марксистской экономической тео-
рии он сыграл, пожалуй, лишь второстепенную роль (Luxemburg, 1913;
Hilferding, 1910). В конце 1960-х годов с возрождением интереса к марк-
систской экономической теории закон получил развитие в работах та-
ких экономистов, как Мандел (Mandel, 1975). Основным предметом
спора стал вопрос: существует или нет требуемая законом тенденция к
возрастанию стоимости основного капитала на одного рабочего. Маркс
и сам признавал, что тенденция является результатом двустороннего
процесса. Увеличивающаяся масса постоянного капитала на одного
рабочего ведет к соответствующему росту стоимости капитала. С дру-
гой стороны, рост производительности, который является неотъемле-
мой частью процесса, ведет к уменьшению стоимости постоянного
капитала на одного рабочего. Увеличение или падение стоимости ос-
новного капитала на одного рабочего зависит соответственно от более
медленного или более быстрого роста производительности по сравне-
нию с увеличивающимся физическим объемом постоянного капитала
на одного рабочего. Сам Маркс не дал убедительных причин, согласно
которым рост производительности должен быть более медленным,
и впоследствии утверждалось, что такой причины не существует
(Robinson, 1942; Sweezy, 1942; von Parijs, 1980). Попытки доказать, что
537
увеличение физической массы постоянного капитала на одного рабо-
чего в некотором смысле является более существенным и что «закон
тенденции нормы прибыли к понижению» действует, даже если сущест-
вует очевидная тенденция к росту нормы прибыли (Fine and Harris,
1978), не были признаны убедительными. Те марксисты, которые пы-
тались дать эмпирическое обоснование закону, обычно путали физи-
ческий объем постоянного капитала с его стоимостью: отношение ка-
питала к выпуску продукции, которое является ценовым аналогом сто-
имости капитала на одного рабочего, не показывает тенденции к
возрастанию.
Если данное возражение связывает тенденцию падения прибыли с
темпом роста производительности труда (эмпирический вопрос), то
второе возражение (Okishio, 1971) заключается в том, что технологии,
внедряемые капиталистами, никогда не приведут к более низкой нор-
ме прибыли для всего класса капиталистов. Может быть показано, что
новые технологии, увеличивающие норму прибыли для капиталистов-
новаторов, также подразумевают, вопреки убеждению Маркса, эконо-
мию затрат и, следовательно, более высокую норму прибыли, получа-
емой капиталистическим классом. Для того чтобы с внедрением новых
технологических процессов произошло падение нормы прибыли, долж-
на вырасти к тому же и реальная заработная плата. Все это не означа-
ет, что стоимость постоянного капитала в некоторые периоды не мо-
жет расти и это не может сочетаться с падением нормы прибыли (оба
этих явления наблюдались в начале 1970-х), просто в этом случае зара-
ботная плата также должна увеличиться (что и наблюдалось). Шейх
(Shaikh, 1978) доказывал, что олигополисты могут не максимизировать
норму прибыли, но даже если это действительно так, отсюда не следу-
ет необходимости падения нормы прибыли.
Споры о «законе тенденции нормы прибыли к понижению» подчерк-
нули важность тенденции изменения реальной заработной платы для
развития капитализма. Две основные школы марксистской теории кри-
зисов действительно уделяли главное внимание реальной заработной
плате, но совершенно по разным причинам. Теоретики недопотребле-
ния (в классический период — Люксембург, и Суизи среди более позд-
них авторов) доказывали, что недостаточный рост реальной заработной
платы ослабляет стимулы для инвестирования в производство потре-
бительских товаров, ограничивая их рынок; как показал с помощью
марксистской схемы воспроизводства Туган-Барановский (см. изложе-
ние Суизи (Sweezy, 1942)), невозможно вывести неизбежность кризиса
недопотребления из увеличения нормы прибавочной стоимости. Со-
гласно схеме воспроизводства Маркса реализация прибавочной стоимо-
сти полностью зависит от решения капиталистов о расходах (на инве-
стиции или потребление). Рост доли прибавочной стоимости в стоимо-
сти продукта может быть достигнут капиталистами в том случае, если
они готовы производить все больше и больше инвестиций в сектор,
производящий капитальные блага (I подразделение общественного вос-
производства), даже если эти инвестиции предназначены всего лишь
для увеличения производства капитальных благ (Bukharin, 1924). Та-
538
ким образом, кризисы недопотребления, которые возникают, когда ка-
питалисты не увеличивают свои инвестиции в соответствии с ростом
потенциальной прибавочной стоимости, зависят от поведенческого до-
пущения, в соответствии с которым капиталисты не поддерживают на
высоком уровне свои инвестиционные расходы. В более серьезном
послевоенном исследовании по данной тематике — книге «Монополи-
стический капитал» Барана и Суизи (Baran and Sweezy, 1966), в кото-
ром содержится признание теоретического вклада Стейндла (Steindl,
1952), отмечено, что растущая монополизация американского капита-
лизма усиливает тенденцию к росту доли прибавочной стоимости при
одновременном ослаблении принуждения к инвестированию.
По иронии судьбы как раз в то самое время, когда был написан «Мо-
нополистический капитал», Европа и Япония переживали феноменаль-
ный бум. В этих странах многие марксистские экономисты отдали
предпочтение теории перенакопления (Glyn and Sutcliffe, 1972;
Rowthom, 1980, chs. 4—6; Itoh, 1980). Сильный бум рассеял резервную
армию труда и привел к росту заработной платы и, следовательно, па-
дению прибыли, а также к инфляции и спаду (Armstrong, Glyn and
Harrison, 1984). Особое внимание данные теории также уделяли роли
усиливающихся профессиональных союзов, требующих увеличения
государственных расходов на социальные нужды, а также трудностям,
которые возникают в условиях полной занятости у капиталистов, ре-
организующих производство с целью увеличения производительности
(Bowles, Gordon and Weisskopf, 1983).
Причина того, что эти трудности приводят к кризису, а не просто
к замедлению роста, опять следует искать в центральной проблеме ин-
вестиционного поведения капиталистов. Моделирование точных при-
чин и определение момента, когда падение прибыли приведет к стре-
мительному падению инвестиций, как известно, чрезвычайно затруд-
нено. Японские марксисты (Itoh, 1980) внесли важный вклад в развитие
теории, подчеркнув важную роль кредитной системы как в продлении
бума, так и в наступлении коллапса. Калецки, который обессмертил
идеи Маркса следующим изречением: «Рабочие тратят то, что они по-
лучают, капиталисты получают то, что они тратят», в конце своей жизни
написал, что решения об инвестициях «остаются величайшей загадкой
(piece de resistance) экономической теории» (Kalecki, 1971, р. 165).
Марксисты всегда подчеркивали оздоровляющую роль кризисов в
восстановлении условий для возобновления накопления. О ней с боль-
шим правом можно говорить в случае кризиса, возникшего в резуль-
тате перенакопления (где проблема заключается в росте заработной пла-
ты), чем кризиса недопотребления (причиной которого является слиш-
ком медленный рост заработной платы). Кейнсианская политика
расширения спроса, скорее, создана для разрешения кризиса недопот-
ребления, но преградой такому очевидному решению считаются поли-
тические трудности (Baran and Sweezy, 1966). В случае кризиса пере-
накопления кейнсианскую политику следовало бы запустить в обрат-
ном направлении с целью усилить влияние безработицы на ослабление
позиций рабочих при переговорах о соотношении заработной платы и
539
производительности. Некоторые французские марксисты, известные
под названием «школа регулирования», недавно обратили внимание на
необходимость реформирования всей системы институтов, государ-
ственной политики, технологического процесса и т.д. для преодоления
значительного структурного кризиса (Aglietta, 1979; Boyer, 1979;
de Vroey, 1984). В настоящее время проходит широкая дискуссия о том,
являются ли микрочипы, децентрализация производства, интернацио-
нализация производства и рынков капитала, японский тип отношений
в промышленности, увеличение свободы действия рыночных сил и
тому подобное новым «выходом» для капитализма в 1990-х годов.
Поскольку данный анализ марксистской экономической теории
сосредоточивается на обсуждении, пересмотре и развитии собственных
идей Маркса, то необходимо подчеркнуть, что дни сталинистской ор-
тодоксии и догматического повторения священных текстов ушли.
Марксистская экономическая теория снова вносит действенный и
творческий вклад в анализ современного общества.
БИБЛИОГРАФИЯ
Aglietta, М. 1979. A Theory of Capitalist Regulation. London: New Left Books.
Armstrong, P., Glyn, A. and Harrison, J. 1984. Capitalism Since World War II.
London: Fontana
Baran, P. and Sweezy, P. 1966. Monopoly Capital. New York: Monthly Review Press.
Bohm-Bawerk, E. 1896. Karl Marx and the Close of his System. Ed. P. Sweezy, New
York: Kelly, 1948. (Впервые опубликовано на немецком.)
Bortkiewicz, L. von. 1906. On the correction of Marx’s fundamental theoretical
construction in the third volume of Capital. In Bohm-Bawerk (1948). (Впервые
опубликовано на немецком.)
Bowles, S. 1985. The production process in a competitive economy. American
Economic Review 75(2), March, 16—36.
Boyer, M. 1979. Wage information in historical perspective: the French experience.
Cambridge Journal of Economics 3(2), June, 99—118.
Braverman, H. 1972. Labor and Monopoly Capital. New York: Monthly Review Press.
Bukharin, N. 1924. Imperialism and the Accumulation of Capital. Ed. K. Tarbuck,
London: Allen Lane, 1972. (Впервые опубликовано на немецком.)
Dobb, М. 1937. Political Economy and Capitalism. London: Routledge & Kegan Paul.
Edwards, R. 1979. Contested Terrain. London: Heinemann.
Fine, B. and Harris, L. 1978. Rereading Capital. London: Macmillan.
Gillman, J. 1957. The Falling Rate of Profit. London: Dobson.
Glyn, A. and Sutcliffe, B. 1972. British Capitalism, Workers and the Profit Squeeze.
Harmondsworht: Penguin.
Gough, I. 1979. The Political Economy of the Welfare State. London: Macmillan.
Hilferding, R. 1910. Finance Capital. London: Routledge & Kegan Paul, 1981 (впер-
вые напечатано на немецком.) / Гильфердинг Р. Финансовый капитал.
Himmelweit, S. and Mohun, S. 1981. Real abstractions and anomalous assumptions.
In The Value Controversy, ed. I. Steedman et al., London: Verso.
Itoh, M. 1980. Value and Crisis. London: Pluto Press.
540
Kalecki, M. 1971. Selected Essays on the Dynamics of the Capitalist Economies.
Cambridge: Cambridge University Press.
King, J. 1982. Value and exploitation: some recent debates. In Classical and Marxian
Political Economy, ed. I. Bradley and J. Howard, London: Macmillan.
Luxemburg, R. 1913. The Accumulation of Capital. London: Routledge & Kegan Paul,
1951. (Впервые опубликовано на немецком.)
Mandel, Е. 1962. Marxist Economic Theory. London: Merlin.
Mandel, E. 1975. Late Capitalism. London: New Left Books.
Marglin, S. 1984. Growth, Distribution and Prices. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press.
Medio, A. 1972. Profits and surplus value. In A Critique of Economic Theory, ed. E.
Hunt and J. Schwartz, Harmondsworth: Penguin.
Morishima, M. 1973. Marx’s Economics. Cambridge: Cambridge University Press.
O’Connor, J. 1973. The Fiscal Crisis of The State. New York: St Martin’s Press.
Okishio, N. 1961. Technical change and the rate of profit. Kobe University Review 7,
85-99.
Parijs, P. van. 1980. The falling-rate of profit theory of crisis. Review of Radical Political
Economics 12(1), Spring, 1-16.
Robinson, J. 1942. An Essay on Marxian Economics. London: Macmillan.
Rosdolsky, R. 1968. The Making of Marx’s Capital. London: Pluto Press, 1977. (Впер-
вые опубликовано на немецком.)
Rowthom, R. 1980. Capitalism, Conflict and Inflation. London: Lawrence & Wishart.
Rubin 1.1928. Essays on Marx’s Theory of Value. Detroit: Black & Red, 1972. (Впер-
вые опубликовано на русском.)
Samuelson, Р. 1971. Understanding the Marxian notion of exploitation. Journal of
Economic Literature 9, June, 399—431.
Sen, A. 1978. On the labour theory of value. Cambridge Journal of Economics, June,
175-80.
Seton, F. 1957. The transformation problem. Review of Economic Studies 24, June,
149-60.
Shaikh, A. 1978. Political economy and capitalism. Cambridge Journal of Economics
2(2), June, 232-51.
Shaikh, A. 1981. The poverty of algebra. In The Value Controversy, ed. I. Steedman
et al., London: Verso.
Sraffa, P. 1960. Production of Commodities by Means of Commodities. Cambridge:
Cambridge University Press.
Steedman, I. 1977. Marx After Sraffa. London: New Left Books.
Steindl, J. 1952. Maturity and Stagnation in American Capitalism. Oxford: Blackwell.
Sweezy, P. 1942. The Theory of Capitalist Development. New York: Monthly Review
Press.
Vroey, M. de. 1984. A regulation approach interpretation of the contemporary crisis.
Capital and Class 23, Summer, 45-66.
Willman, P. and Winch, G. 1985. Innovation and Management Control. Cambridge:
Cambridge University Press.
Woolf, E. 1979. The rate of surplus value, the organic composition of capital and the
general rate of profit in the US economy 1947-67. American Economic Review
69(3), June, 329-41.
МЕРКАНТИЛИЗМ
Уильям Р. Аллен
Mercantilism
William R. Allen
В соответствии с традиционными представлениями термин «мер-
кантилизм» характеризует длительный период гармонии между евро-
пейской экономической мыслью и национальной экономической по-
литикой, продолжавшийся примерно с 1500 по 1800 г. Люди, пропа-
гандировавшие и реализовывавшие на практике его идеи, жили в
разное время и в разных странах, однако его сущность неизменно за-
ключалась в содействии производственной и торговой деятельности
частных предпринимателей, которые были заинтересованы в консоли-
дации, процветании и могуществе национальных государств, и сами,
в свою очередь, вносили вклад в достижение этих целей; наиболее важ-
ной стратегической сферой при этом была внешняя торговля.
К числу авторов-меркантилистов, занимавшихся написанием пам-
флетов и пропагандой своих взглядов, принадлежали преимуществен-
но англичане — представители деловых кругов и свободных профес-
сий; были в числе этих авторов и государственные чиновники стран
континентальной Европы. Все они были «деловыми людьми», заинте-
ресованными в проведении выгодной им политики, а не беспристраст-
ными учеными, объединенными общими представлениями, склонно-
стями и взглядами на цели экономической деятельности и экономи-
ческую практику. Прагматическая, ориентированная на получение
выгоды «приземленность» резко отличала их от предшественников —
ученых-схоластов Средневековья; их твердая приверженность альянсу
между деловым сообществом и регулирующе-субсидирующим государ-
ством была той чертой, которая противопоставляла их более поздним
исследователям-классикам, стоявшим на позициях индивидуализма.
Эту традиционную картину следует признать скорее правильной, чем
неправильной. Однако для современных исследователей она представ-
ляется достаточно проблематичной. В самом деле, на протяжении двух
столетий она создавала такое количество проблем для комментаторов,
что некоторые из них ныне считают использование термина «меркан-
тилизм» в истории интеллектуальных течений или экономической мыс-
ли нецелесообразным. Если и можно выделить здесь особое мерканти-
листское направление, оно было достаточно разнородным и в нем едва
ли можно найти единство. И сколь бы естественным ни было возник-
новение этого направления в определенном историческом контексте, оно
внесло достаточно скромный вклад в развитие экономической теории.
542
I. Обзор и оценка меркантилистских произведений, написанных
многочисленными авторами, жившими в разное время и в разных стра-
нах, существенно облегчаются возможностью рассмотрения английской
литературы XVII в. в качестве наиболее репрезентативной. Англия на-
ряду с Францией была одной из двух наиболее мощных держав своего
времени; в Англии увидели свет наиболее важные экономические про-
изведения рассматриваемого периода; она была основной базой
последующего развития классической экономической мысли, в особен-
ности в сфере международной торговли. XVII столетие, примечатель-
ное возникновением династического национального государства и рас-
цветом политической мысли (а также науки и искусства), также явля-
ется адекватным объектом внимания. На протяжении предыдущего
столетия еще сохранялась зависимость от средневековых традиций,
в следующем же столетии были заложены прочные основы современ-
ной экономической науки.
Итак, имеем ли мы объект для обсуждения? У Э. Хекшера «не вы-
зывал сомнения» тот факт, что «допустимо говорить о меркантилизме
как о политике и как о теории, находящихся во внутренней гармонии»
(Coleman, 1969, р. 33). Д. Коулмен (Ibid., р. 117) отчасти соглашается с
этим утверждением в отношении теории, но отрицает его справедли-
вость в отношении политики, а ведь именно политика, а не общее те-
оретизирование интересовала меркантилистов. Напротив, Джаджес не
допускает возможности рассмотрения меркантилизма в качестве «еди-
ной доктрины»: поскольку в меркантилизме на протяжении его исто-
рии не сложилось ни «символа веры», ни «духовенства», он представля-
ет собой «воображаемую систему, созданную экономистами для целей
теоретического описания и некорректно использовавшуюся историка-
ми для выражения своих политических идей» (Ibid., р. 35, 58-59).
В любом случае представление о четко определенной эре «меркан-
тилизма» использовалось — хотя и не всегда удачно — с достаточно
давних пор. А большинство тех, кто использовал его «для целей теоре-
тического описания», инкорпорировали в него некоторые элементы, по
которым можно судить об исторической роли, теоретических принци-
пах и политической стратегии меркантилизма.
Рецепты и предписания меркантилизма представляли собой эконо-
мический компонент стратегии создания национальных государств,
обосновывая национальную унификацию и предлагая некоторые про-
цедуры ее достижения; особенно это проявилось в Англии, Франции
и Испании. Торговцы и промышленники, рассматривали государствен-
ный протекционизм и создаваемый им порядок (а также монопольное
субсидирование их предприятий из казны) в качестве необходимых
условий дальнейшего развития своего бизнеса. Правители искали ма-
териальные средства для приобретения и консолидации власти внутри
страны и военной мощи, необходимой для зарубежных военных похо-
дов и колонизации. Национальная унификация должна была быть до-
стигнута — это происходило не без трудностей и отнюдь не быстро —
в противодействии универсализму средневековой мысли и мировос-
приятия (воплощенным в Римско-католической церкви и Священной
543
Римской империи) и одновременно в противодействии средневеково-
му партикуляризму, проявлявшемуся в существовании небольших, по
преимуществу самодостаточных политических и экономических еди-
ниц. Унификация была предпосылкой накопления мощи в междуна-
родном масштабе и богатства внутри страны, причем богатство долж-
но было концентрироваться главным образом в казне и в руках торго-
вой элиты, а не доставаться широким слоям населения.
Экономическое благосостояние и его рост определялись и измеря-
лись отнюдь не с точки зрения удовлетворения выявленных предпоч-
тений общества. Равным образом в XVII в. не придавалось приоритет-
ного значения производству, за исключением случая, когда оно обес-
печивало превышение экспорта над импортом и компенсирующий
приток в страну драгоценных металлов. Однако накопление богатства
было ключевым фактором приобретения мощи (точно так же, как и его
следствием). В свою очередь, богатство прочно ассоциировалось с ме-
таллическими деньгами. Лучшие авторы-меркантилисты в своих луч-
ших работах прямо не отождествляли богатство с металлическими день-
гами. Однако богатство и металлические деньги четко ассоциировались
друг с другом; накопление золота и серебра рассматривалось если не в
качестве источника прироста богатства, то в качестве отражения этого
прироста. В эпоху, предшествующую появлению центральных банков
и эффективной системы налогообложения, увеличение количества дра-
гоценных металлов могло обеспечить удобные государственные резер-
вы («деньги — это мускулы войны»); кроме того, в эпоху, восхваляв-
шую бережливость, оно обеспечивало возможность осуществления
частных сбережений. В то же время чрезмерная концентрация денег в
руках правительства или граждан могла привести к снижению цен и
сокращению занятости. Более поздние авторы во все большей степени
переносили акценты с накопления денежных запасов на денежное об-
ращение. Увеличение количества драгоценных металлов и их расходо-
вание должны были ослабить осознававшуюся всеми проблему «редко-
сти денег» и служить «ускорению торговли». Непрерывно увеличива-
ющаяся и беспрепятственно циркулирующая денежная масса каким-то
образом должна была способствовать процветанию, облегчать обмен и
стимулировать занятость. Меркантилисты признавали, что приток дра-
гоценных металлов отражает превышение экспорта товаров и услуг над
их импортом, — о том, что активное торговое сальдо может быть про-
финансировано оттоком капитала, не было и мысли; казалось очевид-
ным, что для нации, так же, как для индивида или фирмы, процвета-
ние связано скорее с доходами (экспортом), чем с расходами (импор-
том). Авторы довольствовались рассмотрением торгового баланса
страны в целом, не требуя, чтобы превышение экспорта над импортом
достигалось в каждой из двусторонних торговых операций.
Ничто не может быть лучше золота. Однако в Англии отсутствова-
ли месторождения золота, а пиратские рейды к берегам испанских ко-
лоний в духе таких героев XVI в., как Джон Хокинс, Фрэнсис Дрейк и
Уолтер Рэли, представляли собой ненадежный источник драгоценных
металлов. Отсюда — решающая роль положительного («благоприятно-
544
го») сальдо торгового баланса как источника безграничного накопле-
ния драгоценных металлов. Однако выгоды от торговли и выгоды, свя-
занные с приростом государственной мощи, выражающиеся во ввозе
драгоценных металлов, рассматривались как односторонние: что при-
обретает одна страна, другая страна должна потерять. Принципы
адекватного анализа взаимовыгодного обмена, основанного на прин-
ципе сравнительных преимуществ, были сформулированы лишь в на-
чале XIX в. Вместе с тем здесь существовала, по крайней мере, возмож-
ность получения односторонней выгоды, выраженной в притоке дра-
гоценных металлов, в то время как внутренний обмен не считали
источником непосредственных выгод, поскольку прибыль одной сто-
роны опять-таки должна быть уравновешена потерями другой.
Специфическая тактика меркантилистов в сфере экономической
политики непосредственно вытекала из их теоретических постулатов.
Достижение вожделенного превышения экспорта над импортом требо-
вало поощрения большинства типов экспорта (кроме экспорта продук-
ции машиностроения, который может стимулировать развитие стран —
конкурентов в сфере торговли или содействовать перевооружению
стран — конкурентов в военной сфере) и ограничения импорта (кро-
ме импорта сырья и экзотических товаров, предназначенных для ре-
экспорта). Наряду с товарами иностранцам могут быть проданы транс-
портные услуги торговых судов и портовые услуги. Необходим мощ-
ный военный флот, а также большой торговый флот (при этом торговые
суда могут в случае необходимости использоваться в качестве военных).
Чтобы иметь возможность много экспортировать и не иметь потреб-
ности в значительном импорте, следует много производить и как можно
меньше потреблять внутри страны. Рост населения рассматривался в
качестве желательного, поскольку в нем видели источник рабочей и
военной силы, а также основу для роста совокупного выпуска. По все-
общему мнению, заработная плата должна была удерживаться на низ-
ком уровне с целью минимизации издержек производства, избежания
чрезмерного потребления и стимулирования интенсивного труда. Про-
центная ставка также должна быть низкой для обеспечения миними-
зации издержек производства и издержек хранения запасов; низкие
процентные ставки ассоциировались с большими денежными запаса-
ми и высокими сбережениями, хотя некоторые авторы выступали за
законодательную фиксацию верхнего предела процентной ставки. Зем-
ля должна использоваться полностью и эффективно; минеральные ре-
сурсы подлежат разработке; зоны рыболовства должны быть защище-
ны. Меркантилисты сохраняли некоторые из средневековых предубеж-
дений против монополии, а в Англии они изредка выступали против
непосредственных операций государства в экономической сфере; тем
не менее, пропагандировалось патерналистское субсидирование (в раз-
личных формах) деятельности организаций-«фаворитов» внутри стра-
ны и предоставление им исключительных преимуществ в зарубежных
предприятиях. Колонии рассматривались в качестве потенциальных
рынков сбыта экспортных товаров метрополии, источников налоговых
доходов, сырья, экзотических товаров и золота, а также играли роль
545
плацдармов для размещения военных баз. Кроме того, колонии служи-
ли — в зависимости от характера демографических проблем — источ-
ником человеческих ресурсов или же резервуаром для оттока излиш-
него и «нежелательного» населения.
II. В настоящем обзоре при всей его краткости и ориентации на
общие вопросы нельзя полностью обойти стороной все внутренние
несогласованности и кажущиеся противоречия в меркантилистской
мысли. Однако он создает впечатление большей систематичности, чем
была присуща самой оригинальной литературе, и отодвигает на задний
план дискуссионные моменты и особенности вклада отдельных авто-
ров.
Продажи — как внутри страны, так и за рубежом — были для мер-
кантилистов своего рода самоцелью. В рамках национальной экономи-
ки процветание торговли рассматривалось не как источник удовлетво-
рения потребностей граждан, а как метод «избавления» от товаров и
повышения цен, причем оба результата процесса купли-продажи счи-
тались потенциально благотворными с точки зрения роста националь-
ного богатства. В международном контексте «страх перед товарами» был
непосредственно связан с трепетным отношением к металлическим
деньгам. Единственное обоснование товарного импорта усматривалось
в стимулировании экспорта — при этом признавалась определенная
зависимость между экспортом и импортом, — однако металлические
деньги считались гораздо более предпочтительным средством финан-
сирования экспорта.
Обратной стороной желания вызвать приток металлических денег
была паническая боязнь их оттока из страны; в середине XVII в. су-
ществовали запреты на вывоз металлических денег за границу. Подоб-
ные ограничения, являющиеся продолжением средневековой полити-
ки, постепенно ослаблялись и впоследствии были отменены; отчасти
это было обусловлено осознанием трудностей, связанных с их выпол-
нением. Кроме того, в результате продолжительных дебатов возникло
чувство или представление (не оформившееся в строгую концепцию),
что отток металлических денег за границу иногда может в столь зна-
чительной мере стимулировать коммерческие операции, что в конеч-
ном итоге будет обеспечен еще больший приток металлических денег
из-за границы. Осуществления таких зарубежных расходов, в частно-
сти, требовали операции созданных под эгидой государства торговых
компаний. Томас Ман провел в этой связи образное сравнение с дея-
тельностью земледельца: он производит впечатление сумасшедшего,
когда бросает зерна в землю, однако во время жатвы можно убедиться
в мудрости предусмотрительно осуществленных им инвестиций. Назва-
ние главной книги Мана (написанной около 1628 г., опубликованной
в 1664 г.) — «Английский трактат о внешней торговле, или Баланс на-
шей внешней торговли как залог нашего богатства» указывает на со-
ответствующую причинно-следственную цепочку: условием возраста-
ния национального богатства является баланс торговли, а не ограни-
чения на движение металлических денег и иные типы манипулирования
546
денежным рынком. Впоследствии Джозайя Чайлд сделал еще один важ-
ный шаг вперед. Хотя он высказывался в пользу превышения экспор-
та над импортом, а также обеспечиваемых им непрерывного увеличе-
ния денежной массы и роста уровня цен, Чайлд выступал против го-
сударственных ограничений на обслуживающий интересы деловых
людей вывоз металлических денег — даже в том случае, если он не обе-
щает еще большего притока металлических денег в будущем.
Дело не ограничивалось учетом косвенных и долгосрочных момен-
тов, связанных с накоплением металлических денег; в трудах меркан-
тилистов имеются также некоторые намеки на механизм выравнива-
ния торгового баланса. Связь между сальдо торгового баланса и урав-
новешивающими потоками металлических денег неизменно находилась
в фокусе внимания авторов-меркантилистов. К концу XVII в. всеоб-
щее признание получило представление об определенной зависимос-
ти между изменением денежной массы и соответствующими измене-
ниями цен. Была отчасти постигнута зависимость между товарными
ценами и объемами продаж; можно даже найти намеки на представле-
ние об эластичности спроса. Более того, некоторые современные ком-
ментаторы указывают на то, что многие авторы XVII в.: Антонио Сер-
ра в Италии, а также Эдвард Мисселден, Жерар де Малин, Ман, Дад-
ли Норт и Джон Локк в Англии — более или менее осознанно пытались
описать автоматический рыночный механизм выравнивания торгово-
го баланса. Однако влияние, которое изменения денежной массы в
разных странах и вызванные ими противоположные изменения цен в
«теряющих» и «приобретающих» металлические деньги странах оказы-
вают на международный спрос и международную торговлю, а также
связанный с таким влиянием механизм выравнивания торгового балан-
са и прекращения международного перетока металлических денег, не
были осознаны, изложены и оценены вплоть до XVIII столетия. Сис-
темная и самодостаточная модель установления равновесия торгового
баланса под влиянием динамики цен нашла завершенное выражение
только в эссе Дэвида Юма, опубликованном в 1752 г.
Если не всякий отток золота должен обязательно рассматриваться
как нечто вредное и если чистый приток золота не может продолжать-
ся вечно, не может ли быть подвергнута сомнению идея о непрерыв-
ном накоплении золота внутри страны? С аналитической точки зрения
отнюдь не легко согласовать непрерывность притока золота в страну с
механизмом выравнивания торгового баланса, который содействует
прекращению этого притока. Даже некоторые из числа предполагаемых
ранних создателей модели выравнивания торгового баланса в действи-
тельности считали желательным непрерывный ввоз металлических де-
нег. К примеру, Жерар де Малин, который, как ныне утверждается,
видел механизм выравнивания торгового баланса «почти во всей его
полноте» (Schumpeter, 1954, р. 365), понимал, что рост национальной
денежной массы по сравнению с денежной массой в соседних странах
ведет к установлению внутри страны уровня цен более высокого, чем
за границей; в общем случае (хотя и не всегда) Малин приветствовал
высокие цены, поскольку они ассоциировались с высоким спросом,
547
процветанием торговли и крупными доходами от деловых операций,
а также с благоприятными условиями международной торговли.
Ближе к концу XVII в. Локк и Чарлз Дэвенант, пользовавшиеся
гораздо более строгой системой рассуждений по сравнению со своими
предшественниками, испытывали, по-видимому, столь же глубокий
пиетет перед устойчивым превышением экспорта над импортом и свя-
занным с этим непрерывным притоком металлических денег в страну,
как и Малин и Ман — сравнительно более поверхностные авторы пер-
вой половины века. Интерес к данной проблеме (ставшей едва ли не
главным объектом внимания) характеризовал меркантилистскую лите-
ратуру начиная с XIV столетия. Однако доктрина-долгожительница,
постулирующая желательность устойчивого превышения экспорта над
импортом, была лишена прочного аналитического основания. Если
благотворный эффект внешней торговли заключается в превышении
суммы товарного экспорта над импортом, какова связь между выигры-
шем от торговли и торговым балансом? Современные комментаторы
предприняли попытку пролить свет на этот вопрос, четкий ответ на
который отсутствует в оригинальных работах. Является ли размер саль-
до торгового баланса мерилом выигрыша от внешней торговли, или
выигрыш конституируется положительным сальдо торгового баланса,
или же положительное сальдо торгового баланса является единствен-
ным источником выигрыша? Й. Шумпетер однозначно отрицает пред-
положение о том, что меркантилисты имели в виду какое-либо из трех
перечисленных утверждений (хотя при этом не выдвигает альтернатив-
ных обоснований меркантилистской доктрины, которые он считал бы
согласующимися с работами авторов той эпохи); напротив, Дж. Вай-
нер считает приемлемыми все три интерпретации (Schumpeter, 1954,
р. 357; Viner, 1937, р. 16-17).
Возможно, нам следует в корне пересмотреть всю логику интерпре-
тации меркантилистской доктрины. Вместо того чтобы полагать, что
меркантилизм усматривает в росте числа низкооплачиваемых усердных
рабочих, полностью и продуктивно занятых в хозяйственной сфере,
а также в росте числа субсидируемых производителей и торговцев усло-
вие итогового превышения экспорта над импортом и чистого притока
металлических денег, быть может, имеет смысл рассматривать меркан-
тилизм в качестве стратегии использования внешней торговли для сти-
мулирования национальной экономики. В рамках этой альтернативной
концепции причинно-следственных связей конечной целью оказыва-
ется национальное процветание и государственная мощь, в то время
как положительное сальдо торгового баланса и увеличение денежной
массы приобретают характер решающего средства, а достижение пол-
ной занятости — характер операциональной цели. Поздние авторы,
включая авторов XVIII в., особенно много внимания уделяли занятос-
ти. Кроме того, была предложена модифицированная концепция сальдо
торгового баланса, в рамках которой сравнению подлежат не стоимос-
тные объемы экспорта и импорта товаров и услуг, а количества труда,
воплощенные в этих товарах и услугах. При такой интерпретации це-
лью становится положительное сальдо экспорта услуг национальной
548
рабочей силы (занятости), а желательность товарного экспорта оказы-
вается обусловленной его прямым (а не косвенным — через прирост
денежной массы) влиянием на величину занятости. Некоторые совре-
менные исследователи, стремящиеся привести в систему концептуаль-
ные построения меркантилистов, пришли к выводу, что большинство
меркантилистских рекомендаций проще всего и полнее всего могут
быть объяснены именно на основе предположения, что основной це-
лью их авторов было обеспечение полной занятости (см., например:
Grampp, 1965, vol. 1, part 2).
Протекционистские меры, рекомендуемые авторами-меркантилис-
тами, идеально согласуются с акцентом на «балансе занятости», при-
чем с течением времени протекционизм во все большей степени про-
пагандировался без сколь-либо серьезной оглядки на приток металли-
ческих денег и рост денежной массы, а то и без всякого упоминания о
них. Однако многие меркантилисты сохранили верность идее о важ-
ности «здорового» денежного обращения и лишь немногие признали
бумажные деньги в качестве полноценного субститута металлических.
Поскольку объему денежной массы по-прежнему придавали большое
значение, а под деньгами по-прежнему понимались только металличес-
кие деньги, вопрос о балансе внешней торговли не мог оставаться без
серьезного внимания на протяжении сколь-либо продолжительного
времени.
Рассмотрение занятости и производства в качестве главных объек-
тов экономической политики может способствовать разрешению про-
тиворечия между поддержанием «благоприятного» торгового баланса и
непрерывным увеличением денежной массы. Пока наблюдается пре-
вышение экспорта над импортом, неизбежен приток металлических
денег в страну. Однако если увеличение денежной массы ведет к росту
цен, а спрос на товары зависит от уровня цен, то внутренняя инфля-
ция, обусловленная притоком денег, в сочетании с дефляцией за рубе-
жом будет содействовать сокращению товарного экспорта и стимули-
ровать импорт, тем самым корректируя торговый баланс. Мы указы-
вали, что многие меркантилисты напрямую увязывали изменения
денежной массы с изменениями цен; некоторые меркантилисты не
акцентировали эту зависимость, а некоторые в зависимости от кон-
кретного контекста то учитывали ее, то игнорировали. Однако даже тог-
да, когда связь между денежной массой и ценами признавалась, она
очень редко упоминалась при рассмотрении вопросов внешней торгов-
ли, а в тех случаях, когда такое упоминание имело место, едва ли не
единственной его целью было указание на улучшение условий торгов-
ли под влиянием роста экспортных цен. Хотя рост цен не всегда рас-
сматривался в качестве приоритета, денежную массу рекомендовалось
поддерживать надостаточно высоком уровне, необходимом для предот-
вращения дефляции, поскольку падение цен однозначно интерпрети-
ровалось как препятствие на пути экономической активности и эко-
номического развития.
Некоторые современные комментаторы (см., например: Blaug, 1985,
р. 18) предложили решение головоломки, связанной с проблемой вы-
549
равнивания торгового баланса. Меркантилисты, выступая за расшире-
ние предложения денег и увеличение расходов, возможно, имели в
виду — используя нереалистические предположения о высокой мобиль-
ности факторов производства и быстрой адаптации экономики к скла-
дывающимся условиям — не повышение уровня цен, а увеличение
объема сделок: в рамках «уравнения обмена» (которое не было сфор-
мулировано самими меркантилистами) рост предложения денег и ско-
рости их обращения уравновешивается ростом положительного саль-
до торгового баланса или ростом национального выпуска при сравни-
тельно небольших изменениях уровня цен. Однако там, где они
действительно опирались на логику количественной теории денег —
отметим, в частности, яркую иллюстрацию такого подхода у Локка, —
из нее вытекает не только вывод об исчезновении желаемого превы-
шения экспорта над импортом, но и заключение о том, что более вы-
сокий уровень цен (Л) при данном показателе национального дохода
(PQ) ведет к снижению физического объема выпуска (Q). С этим за-
труднением неизбежно приходится сталкиваться при использовании
мер инфляционной политики для стимулирования выпуска и заня-
тости — вне зависимости от того, связаны ли эти меры с увеличением
положительного сальдо торгового баланса или нет.
Меркантилизм был ориентирован на достижение как экономичес-
ких, так и геополитических целей, а представления о торговом балан-
се находили четкие аналогии в представлениях о международном ба-
лансе сил. Всеобщим признанием пользовалась точка зрения, соглас-
но которой как богатство, так и государственная мощь в мировом
масштабе являются заданными величинами, поэтому их абсолютный
прирост в одной из стран означает одновременно их прирост по отно-
шению к другим странам и за счет других стран. Однако, хотя в цент-
ре внимания меркантилистов находился рост как богатства, так и го-
сударственной мощи, можно предположить, что достижение одной из
этих целей рассматривалось в качестве средства достижения другой.
И если отношения между богатством и мощью были отношениями
средства и цели, то согласно интерпретации, разделяемой большин-
ством современных историков экономической мысли, богатство долж-
но рассматриваться в качестве средства для достижения более общей
цели, заключающейся в повышении государственной мощи. Как и по
большинству других вопросов, работы авторов-меркантилистов не по-
зволяют сделать однозначного вывода на этот счет. Однако представ-
ляется разумным при описании базовой меркантилистской позиции
рассматривать и богатство, и мощь как два ключевых элемента, в дол-
госрочном аспекте находящиеся в отношении взаимной зависимости
и взаимной гармонии. Как заключает Чайлд, «внешняя торговля по-
рождает богатство, богатство порождает мощь, а мощь содействует со-
хранению нашей торговли и нашей религии» (Coleman, 1969, р. 79).
III. Трудности, с которыми сталкиваются историки экономической
мысли при работе с произведениями авторов-меркантилистов, не огра-
ничиваются изложением содержания этих произведений. Существует
550
также проблема их оценки. Было высказано предположение, что по-
пытки оценивать меркантилистский анализ и рекомендации с точки
зрения современной теории — занятие бессмысленное: мы не должны
чрезмерно критически относиться к работам прежних авторов, хотя
иногда мы можем указать, что их построения были предшественника-
ми последующих, более совершенных теорий. Негативная оценка пред-
ставляется некорректной потому, что к исторической литературе необ-
ходимо подходить, принимая во внимание «обстоятельства эпохи».
Вывод из подобных рассуждений, по-видимому, состоит в следующем:
если экономическая теория того времени была однозначно обусловле-
на «обстоятельствами эпохи», то оказывается, что она и не могла при-
нять иной формы, а потому является оправданной. Эта мистическая
точка зрения не позволяет объяснить разногласий между авторами,
жившими в одних и тех же условиях, или отсутствие четкой корреля-
ции между популярностью идей и степенью их аналитической прора-
ботанности, или причины того, что соответствующие обстоятельства
могли обусловить получение некоторыми авторами правильных выво-
дов, но не содействовали выбору адекватных методов аналитического
объяснения. Несомненно, обстоятельства времени могут подсказать
объект исследования; но в равной степени не вызывает сомнений, что
от них никак не зависят методы и содержание анализа.
Многие современные комментаторы утверждают, что меркантилис-
ты были высококомпетентными людьми: авторов XVII в. стараются пред-
ставить в качестве рациональных, прагматически настроенных исследо-
вателей наиболее актуальных проблем. В подавляющем большинстве
случаев с этим можно согласиться. Однако отсюда не следует, что все
эти «деловые люди» были хорошими экономистами. В то время как на
одном уровне горизонт их интересов был очень широким (что может
носить более глобальный характер, чем забота о национальной мощи и
национальном богатстве в эпоху зарождения национализма?), их замыс-
лы отнюдь не были ориентированы на объяснение экономической сис-
темы или постижение экономического механизма. Отмечаемый здесь
изъян меркантилистской литературы заключается даже не в том, что она
не отличалась полнотой рассмотрения проблем и носила отрывочный
характер. Важно то, что эти «отрывки» были столь различны с точки
зрения предмета и контекста исследования, столь часто были направле-
ны на рассмотрение специальных тем ad hoc в зависимости от непосред-
ственных тактических интересов, были столь полемичны по форме и
цели, имели столь хаотичный и несистематизированный характер, что
они не только не конституировали какой-либо самостоятельной концеп-
ции экономического порядка или процесса, но и едва ли вносили не-
посредственный вклад в формирование такой концепции.
Разумеется, в наше время можно выявить в меркантилистских ра-
ботах (или выстроить на их основе) некоторое общее направление,
набор общих политических приоритетов и глобальных общественных
целей, более или менее единый блок обсуждаемых вопросов и подле-
жащих решению проблем, широкий набор типичных «отклонений»,
выделить некоторые повторяющиеся темы, а затем провести обобща-
551
ющую ретроспективную кодификацию совокупности всех этих элемен-
тов и даже присвоить ей имя «теории». Однако едва ли можно найти
здесь единый стиль или механизм анализа, инструментарий аналити-
ческих конструкций и методов, общепринятый и общепризнанный
комплекс взаимно согласованных, систематически формулируемых и
эмпирически верифицируемых гипотез. Построения авторов-меркан-
тилистов, вероятно, можно классифицировать как небрежно сформу-
лированную философскую доктрину, которую Дж. Вайнер (Viner, 1968,
р. 436) назвал «по существу народной доктриной». Они обеспечили
переход от средневековой интеллектуальной традиции к физиократи-
ческой и классической теории, переместив экономический дискурс из
сферы этических предпосылок и рассуждений о вопросах справедли-
вости в сферу служения собственному интересу и материального про-
гресса, а также заменив сравнительно статические и ограниченные
представления об обществе и перспективах его развития на новые, бо-
лее динамичные и оптимистические. Однако они ни в малейшей сте-
пени — ни на абстрактном, ни на конкретном уровне — не сумели
объяснить общественные закономерности и процедуры; отсутствие у
меркантилистов корректной теории цены служит не только иллюстра-
цией, но и по большей части выражением сущности этого коренного
недостатка. Для меркантилистской экономической мысли — особенно
в континентальной Европе — было характерно представление о том,
что для организации экономики, установления экономической дисцип-
лины и экономического руководства, разрешения общественного кон-
фликта интересов и достижения гармонии между индивидуальными и
общественными целями необходимо, чтобы частное предприниматель-
ство ограничивалось и направлялось в первую очередь правительством,
а не ценовой системой свободного рынка.
БИБЛИОГРАФИЯ
Allen W. The Position of Mercantilism and the Early Development of International
Trade Theory. In: R. Eagly (ed.). Events, Ideology and Economic Theory: The
Determinants of Progress in the Development of Economic Analysis. Detroit:
Wayne State University, 1968.
Blaug M. Economic Theory in Retrospect. 4th edn. Cambridge: Cambridge University
Press, 1985. // Блауг M.
Coleman D. (ed.). Revisions in Mercantilism. London: Methuen, 1969.
Grampp W. Economic Liberalism. New York: Random House, 1965.
Heckscher E. Mercantilism. 2 vols. London: Allen & Unwin, 1934.
Schumpeter J. History of Economic Analysis. New York: Oxford University Press, 1954.
II Шумпетер Й.
Spengler J. Mercantilist and Physiocratic Growth Theory. In: Spengler J. Theories of
Economic Growth. Glengoe: Free Press, I960.
Viner J. Studies in the Theory of International Trade. New York: Harper, 1937.
Viner J. Mercantilist Thought. In: International Encyclopedia of the Social Sciences.
New York: Macmillan and Free Press, 1968.
552
г
МОНЕТАРИЗМ
Филлип Кейган
Monetarism
Phillip Cagan
Монетаризм — это точка зрения, согласно которой количество де-
нег оказывает решающее влияние на экономическую активность и уро-
вень цен, а цели денежной политики наилучшим образом достигаются
посредством регулирования темпов роста предложения денег.
ИСТОКИ И ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Монетаризм са-
мым тесным образом ассоциируется с работами Милтона Фридмена,
который считал контроль над предложением денег более предпочти-
тельным, чем кейнсианские фискальные меры стабилизации совокуп-
ного спроса. Фридмен (Friedman, 1948) предложил правительствам фи-
нансировать бюджетный дефицит посредством выпуска новых денег и
использовать бюджетный профицит для изъятия денег из обращения.
Образующиеся контрциклические колебания денежной массы должны
стабилизировать экономику при условии, что правительство устанав-
ливает свои расходы и ставки налогов на уровне, балансирующем бюд-
жет при полной занятости. Тем не менее, в работе «А Program for
Monetary Stability» (1960) Фридмен предполагает, что постоянный рост
количества денег независимо от состояния государственного бюджета
был бы более простым и столь же эффективным средством стабилиза-
ции экономики.
Подчеркивая важное значение денег, предложения Фридмена сле-
довали традициям Чикагской школы экономической теории. Предше-
ственник Фридмена в Чикагском университете Генри Саймон (Simons,
1936) выступал за контроль за денежной массой для достижения ста-
билизации уровня цен, а Ллойд Минтс (Mints, 1950) изложил специ-
фически монетарную программу стабилизации индекса уровня цен. Эти
авторы отвергали золотой стандарт, так как его использование для ста-
билизации уровня цен или экономической активности потерпело не-
удачу. Такие взгляды высказывались не только в Чикагском универси-
тете. В 1930-х годах Джеймс Энгел из Колумбийского университета
(Angell, 1933) отстаивал постоянный темп прироста денежной массы,
а в послевоенный период Карл Бруннер и Аллан Мелтцер были влия-
тельными проповедниками монетаризма. Термин «монетаризм» был
впервые использован Бруннером (Brunner, 1968). Он и Мелтцер осно-
вали в 1970-х годах «Теневой комитет по операциям на открытом рын-
ке» для распространения монетаристских взглядов на то, как Федераль-
553
ная резервная система должна проводить денежную политику. Моне-
таризм постепенно находил последователей не только в США, но и в
Великобритании (Laidler, 1978) и других западно-европейских странах
и затем во всем мире. Растущее влияние монетаризма привело к ин-
тенсивной дискуссии между экономистами о полезности таргетирова-
ния темпов роста денежной массы.
Корни монетаризма лежат в количественной теории денег, на ко-
торой основывалась классическая денежная теория, по крайней мере,
с XVIII в. Количественная теория объясняет изменения номинальных
совокупных расходов, отражающие изменения как в физическом объ-
еме производства, так и в уровне цен, в терминах изменений денеж-
ной массы и скорости обращения денег (отношение совокупных рас-
ходов к количеству денег). В долгосрочном периоде изменения скоро-
сти обращения обычно меньше, чем изменения количества денег, и в
какой-то степени являются результатом произошедших ранее измене-
ний количества денег. Исходя из этого, совокупные расходы в основ-
ном определяются изменением количества денег. Более того, в долго-
срочной перспективе рост физического объема производства опреде-
ляется в основном реальными (т.е. неденежными) факторами, поэтому
монетарные изменения влияют, главным образом, на уровень цен. На-
блюдаемая долгосрочная зависимость между деньгами и ценами под-
тверждает то, что причиной инфляции является чрезмерная денежная
экспансия и инфляция может быть предотвращена посредством над-
лежащего контроля над предложением денег. Это является основой
часто повторяющегося утверждения Фридмена, что инфляция — это
всегда и везде монетарный феномен.
Важность влияния монетарных факторов на движение цен была
поддержана эмпирическими исследованиями классических и неоклас-
сических экономистов, таких, как Кэрнс, Джевонс и Кассель. Однако
эти исследования страдали от ограниченности данных, и распростра-
ненное неправильное понимание влияния монетарных факторов во
время Великой депрессии 1930-х годов усилило сомнения в важной
роли этих факторов в деловых циклах. Революционизировав мышле-
ние экономистов в конце 1930-х и 1940-х годов, кейнсианская теория
предложила влиятельную альтернативу монетарной интерпретации эко-
номических циклов.
Первая весомая эмпирическая поддержка монетарной интерпрета-
ции деловых циклов появилась в серии исследований Кларка Уорбер-
тона (Warburton, 1946) в США. Продолжая работы Уорбертона, Фрид-
мен и Анна Дж. Шварц составили новую базу данных в Национальном
Бюро экономических исследовании. В 1962 г. они продемонстрирова-
ли, что колебания роста денежной массы предшествовали пикам и па-
дениям всех экономических циклов США после гражданской войны.
Значительное увеличение или сокращение роста денежной массы опе-
режало соответствующую поворотную точку цикла в среднем на пол-
года при пиках активности и на квартал при низших точках спада, хотя
временной лаг значительно варьировал. Другие исследования показа-
554
ли, что монетарные изменения требуют от одного до двух и более лет,
чтобы повлиять на уровень цен.
В работе «А Monetary History of the United States, 1867—1960»
(Friedman and Schwartz, 1963b) Фридмен и Шварц более подробно опи-
сали роль денег в экономических циклах и, в частности, заявили, что
огромные падения деловой активности, такие, как в 1929—1933 гг., были
полностью вызваны необычайно большими сжатиями денежной мас-
сы. Их монетарные исследования были продолжены в работах «Mone-
tary Statistics of the United States» (1970) и «Monetary Trends in the United
States and the United Kingdom» (1982). Сопровождающее исследование
Национального Бюро «Determinants and Effects of Changes in the Stock
of Money» (1965) Филлипа Кейгана представило доказательство тому,
что обратное влияние экономической активности и цен на деньги не
объясняет основной части замеченной корреляции, что, следователь-
но, указывает на то, что активной стороной в этом взаимодействии
были деньги.
Монетаристский тезис о том, что монетарные изменения ответствен-
ны за деловые циклы, широко оспаривался, однако к концу 1960-х го-
дов точка зрения, заключающаяся в том, что денежная политика ока-
зывает важное влияние на совокупную экономическую активность,
была в целом принята. Очевидное влияние денежной экспансии на ин-
фляцию 1970-х годов вернуло деньгам место в центре внимания мак-
роэкономической теории.
МОНЕТАРИЗМ ПРОТИВ КЕЙНСИАНСТВА. Монетаризм и кейн-
сианство резко отличаются в стратегиях исследования и теориях сово-
купных расходов. Кейнсианская теория фокусируется на детерминан-
тах компонентов совокупных расходов и не придает большого значе-
ния денежным остаткам. В монетаристской теории спрос на деньги и
их предложение являются первостепенными факторами при объясне-
нии совокупных расходов.
Чтобы противопоставить кейнсианскую и монетаристскую теории,
Фридмен и Дэвид Майзелмен (Friedman and Meislman, 1963) сосредо-
точились на основных гипотезах экономического поведения, лежащих
в основе каждой из этих теорий: для кейнсианской теории потребитель-
ский мультипликатор устанавливает устойчивую связь между потреб-
лением и доходом, а для монетаристской теории скорость обращения
денег устанавливает стабильную функцию спроса на деньги. Фридмен
и Майзелман протестировали эмпирически эти две теории, используя
данные США для различных периодов. В первой регрессии потреби-
тельские расходы соотносились с инвестиционными, предполагая по-
стоянный коэффициент потребления, а во второй — с количеством де-
нег, предполагая постоянную скорость обращения денег. Авторы за-
ключили, что монетаристская регрессия, в общем, гораздо лучше
отражает данные. Эти результаты не были приняты последователями
кейнсианской теории, которые заявили, что единственное регрессион-
ное уравнение неадекватно представляет кенсианскую теорию и что
большие эконометрические модели всей экономики, базирующиеся на
555
кейнсианской теории, имеют преимущество по сравнению с моделя-
ми небольшого масштаба, основанными только на монетарных изме-
нениях.
Преимущество кейнсианских моделей было оспорено экономиста-
ми Федерального резервного банка Сент-Луиса (см.: Andersen and
Jordan, 1968). Они протестировали сент-луисское уравнение, в котором
изменения в номинальном ВНП зависят от текущих и лаговых изме-
нений количества денег, текущих и лаговых изменений в государствен-
ных расходах и константы, отражающей тенденции изменения скоро-
сти обращения денег. На исторических данных по США уравнение
показывало сильное постоянное влияние денег на ВНП и слабый вре-
менный (в поздних работах — несуществующий) эффект фискальных
переменных, что противоречило кейнсианским заявлениям о том, что
фискальная политика более важна, чем денежная. Хотя сент-луисское
уравнение широко критиковалось с эконометрической точки зрения,
оно при его первом использовании в конце 1960-х годов достаточно точ-
но прогнозировало ВНП, что оказало влияние на позицию академичес-
ких кругов и привлекло внимание делового мира к монетаризму.
Хотя бюджетный дефицит или профицит изменяет процентную
ставку и, таким образом, может оказывать влияние на спрос на день-
ги, монетаристы полагают, что фискальное влияние на совокупный
спрос невелико по причине низкой эластичности спроса на деньги по
проценту. Правительственные заимствования вытесняют частные за-
имствования и связанные с ними расходы, и поэтому дефициты ока-
зывают незначительное чистое воздействие на совокупный спрос. Эм-
пирические результаты сент-луисского уравнения были сочтены под-
тверждением слабого и временного влияния фискальной политики.
Споры вокруг эффективности фискальной политики как стабилизаци-
онного механизма породили огромную литературу.
В своем анализе передачи монетарных изменений по всей эконо-
мике Бруннер и Мелтцер (Brunner and Meltzer, 1976) сравнили эффекты
выпуска правительством в обращение денег и облигаций. Если прави-
тельство финансирует возросшие расходы посредством увеличения
предложения денег, совокупные расходы увеличиваются и номиналь-
ный доход возрастает. Кроме того, увеличившееся предложение денег
дает прирост общественного богатства, это усиливает спрос на товары
и услуги, что также увеличивает номинальный доход. Увеличение но-
минального дохода вначале отражает увеличение реального дохода и
лишь затем увеличение цен. Они сравнили этот результат с тем, кото-
рый получается, если правительство финансирует свои увеличившие-
ся расходы посредством выпуска облигаций, а не денег. Здесь тоже
увеличивается богатство, и это повышает совокупные расходы. Пока
правительство выпускает деньги или облигации для финансирования
дефицита, номинальный доход должен возрастать за счет увеличения
богатства. Следовательно, Бруннер и Мелтцер соглашаются с кейнси-
анцами в том, что в принципе дефицит, финансируемый посредством
выпуска как облигаций, так и новых денег, ведет к росту деловой ак-
тивности. Однако они эмпирически показали, что национальный до-
556
ход более возрастает от выпуска в обращение доллара денег, чем дол-
лара стоимости облигаций.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ ИЗ МОНЕТАРИЗМА. Так как
временные лаги, по прошествии которых сказывается воздействие де-
нежной массы на экономическую активность, варьируют от одного до
нескольких и более кварталов, достаточно трудно правильно выбрать
время для мер контрциклической денежной политики. Фридмен, Брун-
нер и Мелтцер утверждали, что активная денежная политика в отсутст-
вие недостижимого идеального прогноза скорее усилит, чем ослабит
экономические колебания. На их взгляд, стабильный темп роста коли-
чества денег позволит избежать монетарных причин экономических на-
рушений и достичь относительно стабильного уровня цен в долгосроч-
ном периоде. Остающаяся нестабильность экономической активности
будет несущественной и, во всяком случае, не может быть предотвра-
щена средствами экономической политики. Провозглашенная привер-
женность денежных властей политике стабильного роста количества
денег также поможет устранить постоянное политическое давление в
пользу краткосрочного монетарного стимулирования экономики и по-
может устранить неуверенность инвесторов, связанную с непредсказу-
емыми результатами дискреционной денежной политики.
Политике постоянного темпа роста денежной массы можно проти-
вопоставить практику центрального банка, направленную на процик-
лические вариации предложения денег. Обычно центральные банки
свободно ссужают средства коммерческим банкам во времена увели-
чивающегося спроса на кредит с целью избежать увеличения процент-
ных ставок. И хотя такое таргетирование процентной ставки помогает
стабилизировать финансовые рынки, оно часто не обеспечивает изме-
нений ставок, достаточных для того, чтобы компенсировать колебания
спроса на кредит. Например, предотвращая рост процентных ставок
при росте спроса на кредит, эта политика приводит к монетарной экс-
пансии, которая порождает более высокие расходы и инфляционное
давление. Такие ошибки политики таргетирования процентных ставок
были ясно продемонстрированы в 1970-х годах, когда на некоторое вре-
мя увеличение номинальных процентных ставок отставало от увеличе-
ния темпов инфляции, а результирующие низкие ставки реального про-
цента (т.е. с учетом инфляции) слишком сильно стимулировали инве-
стиции и совокупный спрос.
Аналогичное регулирование рыночного спроса на банковский кре-
дит достигается путем практики таргетирования объема заимствований
У центрального банка. Попытки держать этот объем на некотором же-
лательном уровне требуют от центрального банка предложения резервов
посредством операций на открытом рынке в качестве альтернативы зай-
мов коммерческим банкам в то время, когда увеличивающийся рыноч-
ный спрос на кредит усиливает давление на резервы банка. В обратной
ситуации резервы изымаются. Результирующего проциклического пред-
ложения денег можно избежать посредством операций, направленных
на поддержание постоянного темпа роста денежной массы.
557
Бруннер и Мелтцер (Brunner and Meltzer, 1964а) разработали ана-
литическую схему, описывающую то, как денежная политика должна
ориентироваться на достижение некоторых промежуточных целей, для
того чтобы в конечном счете повлиять на совокупные расходы. Про-
межуточными целями являются такие переменные, как предложение
денег или процентные ставки. (Так как Федеральная резервная систе-
ма прямо не контролирует долгосрочные процентные ставки или ко-
личество денег, она действует посредством таких инструментальных
переменных, как банковские резервы или ставка на рынке «федераль-
ных фондов», на которые она может влиять непосредственно). Вопрос
об адекватных промежуточных целях денежной политики вскоре стал
наиболее обсуждаемым вопросом в данной области.
Признавая недостатки политики таргетирования процентной став-
ки, в 1970-х годах некоторые страны обратились к модифицированно-
му монетарному таргетированию, в рамках которого объявлялся и обес-
печивался допустимый диапазон темпов роста денежной массы в год,
хотя и с частыми исключениями, объяснявшимися нарушениями во
внешней торговле и другими причинами. Главными странами, приняв-
шими некоторые формы таргетирования роста денежной массы, явля-
лись Федеральная Республика Германии, Япония и Швейцария. Во
всех этих странах инфляция держалась на низком уровне, и, таким об-
разом, они на своем примере демонстрировали антиинфляционные до-
стоинства монетаризма. В США в 1970-х годах Федеральная резервная
система также начала таргетировать диапазон темпов роста денежной
массы, однако наметки в целом не выполнялись и таргетирование про-
центных ставок продолжалось. В октябре 1979 года, когда инфляция
резко ускорилась, Федеральная резервная система объявила более стро-
гие процедуры таргетирования для сокращения роста денежной мас-
сы. Несмотря на то что средний уровень роста денежной массы был
сокращен, монетаристы критиковали значительные краткосрочные
колебания этого показателя. В конце 1982 г. Федеральная резервная си-
стема ослабила свою политику монетарного таргетирования.
В середине 1980-х годов США и многочисленные другие страны сле-
довали частичным формам монетарного таргетирования, при котором
ставилась задача удержаться в относительно широком диапазоне годо-
вых темпов роста, которые, однако, в случае необходимости могли ме-
няться. Эту политику можно назвать монетаристской только в смыс-
ле, что один или несколько денежных агрегатов являются важными
индикаторами целей политики; ей, однако, недоставало строгой при-
верженности устойчивому и уж, конечно, не инфляционному темпу
роста денежной массы.
МОНЕТАРИСТСКАЯ ТЕОРИЯ. Монетаристская теория совокуп-
ных расходов основана на функции спроса на денежные активы, ко-
торая провозглашается стабильной в том смысле, что следующие одна
за другой остаточные ошибки в основном погашают друг друга и не
накапливаются. Поскольку в современных денежных системах исполь-
зуются деньги, не конвертируемые в благородный металл, то считает-
558
ся, что количество денег находится под контролем государства. Несмот-
ря на то что в теории делается различие между факторами, определя-
ющими количество наличных денег у домохозяйств и фирм, функция
спроса на деньги обычно формулируется для домохозяйств и приме-
няется для всей экономики. В такой формулировке спрос на деньги за-
висит от объема сделок, доли дохода и богатства, которые население
хочет держать в форме денежных остатков, и от альтернативных издер-
жек владения деньгами, а не другими приносящими доход активами
(что означает разницу между доходом от денежных и альтернативных
активов). Широкая трактовка альтернативных активов включает в них
не только финансовые инструменты, но и такие физические активы,
как потребительские товары длительного пользования, недвижимость,
а также производственные здания и оборудование. Считается, что на-
селение реагирует на изменения в предложении денег трансакциями,
которые приводят действительные остатки как денежных, так и дру-
гих активов в соответствие с желаемым уровнем. В результате замеще-
ния между деньгами и активами, начиная с близких заменителей де-
нег, изменяется доходность широкого списка активов, включая потре-
бительские товары длительного пользования и капитальные блага. Это
расширяет колебания заимствований, инвестиций, потребления и про-
изводства во всех секторах экономики.
Конечный результат находит отражение в совокупных расходах и
среднем уровне цен. Независимо от монетарного влияния на совокуп-
ные расходы и уровень цен процессы, характерные для определенных
секторов, определяют распределение расходов между товарами и услу-
гами и относительные цены. Таким образом, монетаристская теория
отвергает известную технику прогнозирования совокупного производ-
ства посредством сложения прогнозов по отдельным отраслям и объяс-
нения изменений в уровне цен через изменения цен отдельных това-
ров и услуг.
Монетаристы были первыми критиками когда-то влиятельной кейн-
сианской теории высокоэластичного спроса на деньги при краткосроч-
ных изменениях процентной ставки на ликвидные краткосрочные ак-
тивы, что в своей крайней форме становится «ловушкой ликвиднос-
ти». Эмпирические исследования, напротив, показали, что процентная
ставка по сберегательным депозитам и краткосрочным торгуемым цен-
ным бумагам имеет эластичность даже меньшую, чем —'Д, которая
вытекала из простой теории денежных остатков Баумоля — Тобина
(Baumol, 1952; Tobin, 1956).
В эмпирических исследованиях функция спроса на деньги обычно
включает одну или две процентные ставки и реальный ВНП в качестве
аппроксимации реального дохода. Предполагается постепенное прибли-
жение действительных денежных остатков к желаемым — полная адап-
тация к изменению денежной массы растягивается на несколько квар-
талов. Запаздывающая адаптация имеет также альтернативную интер-
претацию, в которой спрос на деньги отражает «перманентный», а не
текущий уровень дохода и процентных ставок. Эта интерпретация не
считает объем трансакций главным детерминантом спроса на деньги и
559
исходит из монетаристского подхода к деньгам как к капитальному
активу, дающему поток определенных услуг и зависящему от «перма-
нентных» (permanent) значений богатства, дохода и процентных ста-
вок (в большинстве эмпирических исследований, моделируемых с по-
мощью лаговых значений переменных). Рассмотрение спроса на день-
ги, подобно спросу на другие активы, в настоящее время является
стандартной практикой.
Монетаристский взгляд на деньги как на капитальный актив пред-
полагает, что спрос на деньги зависит от совокупности характеристик,
а не только от их трансакционных услуг. Определение денег для целей
монетарной политики зависит от двух обстоятельств: возможности де-
нежных властей контролировать их количество и эмпирической устой-
чивости функции, описывающей спрос на деньги. В своих исследова-
ниях по США Фридмен и Шварц использовали раннюю версию агре-
гата М2, при которой в деньги включались срочные и сберегательные
вклады в коммерческих банках, однако они утверждали, что небольшие
изменения в определении денежного агрегата значительно не повлия-
ют на их результаты. Впоследствии величина денежных остатков, участ-
вующих в сделках (Ml), стала наиболее часто используемым опреде-
лением денег в большинстве стран, хотя многие центральные банки
утверждают, что при проведении денежной политики придают также
значение более широким агрегатам.
При широком круге активов, в которые население может поместить
избыточные денежные остатки, передача монетарных изменений по
всей экономике, которая влияет на совокупные расходы и другие пе-
ременные, может происходить несколькими путями. Монетаристы со-
мневаются, что эти эффекты могут быть отслежены детализированной
эконометрической моделью, которая предполагает фиксированный
механизм этого процесса. Вместо этого они предпочитают модели, ко-
торые не постулируют определенный путь передачи эффектов и дела-
ют упор на стабильные общие отношения между изменениями коли-
чества денег и совокупных расходов.
Как в монетаристских, так и в больших эконометрических моделях
изменения количества денег обычно рассматриваются как экзогенные
(т.е. определяемые за рамками модели). Очевидно, что деньги прибли-
жаются к строгой экзогенности только в долгосрочной перспективе.
Исследования на основе данных по США, проведенные Фридменом и
Шварц, а также Кейганом, установили, что предложение денег не толь-
ко влияет на экономическую активность, но и, в свою очередь, зави-
сит от нее. Это создает трудности при эмпирической проверке денеж-
ного влияния на экономическую активность, так как должна быть сде-
лана поправка на обратное влияние экономической активности на
предложение денег. Эконометрические модели предложения денег
могут учесть это обратное влияние, оказываемое через банковскую си-
стему (Brunner and Meltzer, 1964b). Однако в рамках современных сис-
тем неконвертируемых денег этот обратный эффект определяется
политикой центрального банка, а до сих пор попытки моделирования
поведения центрального банка были неудовлетворительными. Статис-
560
I
тическое тестирование экзогенности предложения денег с использова-
нием методологии Грэнджера — Симса дало неоднозначные результа-
ты. И хотя взаимодействие между деньгами и экономической активно-
стью трудно распутать, но можно утверждать, что чем больше лаг мо-
нетарных эффектов, тем менее вероятно, что наблюдаемая корреляция
может зависеть от обратного воздействия экономической активности
на денежную массу. Например, в сент-луисском уравнении корреля-
ция между одновременными изменениями ВНП и количества денег мо-
жет объясняться обратным влиянием ВНП на деньги, но такое объяс-
нение гораздо менее вероятно в случае корреляции между изменения-
ми ВНП и лаговыми изменениями в количестве денег.
ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ МОНЕТАРНОГО ТАРГЕТИРОВАНИЯ.
В то время как монетаризм перенес внимание на деньги и денежную по-
литику, существуют широко распространенные сомнения в том, что ско-
рость обращения является достаточно стабильной, чтобы обеспечить
успех политики таргетирования роста денежной массы. Изменения ско-
рости обращения денег, в то время как рост денежной массы поддержи-
вается на постоянном уровне, вызывают расширения и сокращения эко-
номической активности. В США тренд этого показателя был относитель-
ноустойчивым и предсказуемым с начала 1950-х до середины 1970-х годов,
однако уравнения спроса на деньги, построенные на этом периоде, по-
казали значительно завышенные прогнозы после середины 1970-х годов
(Judd and Scadding, 1982). Финансовые инновации, предоставляя новые
способы платежей и близкие заменители денег, заставили пересмотреть
определение денег и параметры функции спроса. В США постепенный
отход от практики установления верхних границ процентных ставок,
которые банки могут платить по депозитам, сыграл главную роль в этом
процессе, увеличив конкуренцию в банковской сфере.
В Великобритании устранение внутреннего контроля над междуна-
родными финансовыми сделками привело к неожиданному движению
денежных остатков в 1979-1980 гг. В Германии и Швейцарии также об-
наружилось, что растущий приток капитала из-за границы в опреде-
ленные периоды времени оказывал разрушительное воздействие на их
денежную политику.
«Монетарная теория платежного баланса» (Frenkel and Johnson,
1976) является распространением монетаризма на открытые экономи-
ки, где предложение и спрос на деньги в разных странах связаны меж-
ду собой посредством международных платежей. Вопрос о том, может
ли отдельная страна, даже в рамках гибких валютных курсов, прово-
дить независимую денежную политику, является дискуссионным. Ра-
стущая интернационализация рынков капитала часто приводится в ка-
честве аргумента против монетаристской предпосылки, согласно кото-
рой скорость обращения и внутреннее предложение денег при гибких
валютных курсах являются в значительной мере независимыми от ино-
странного влияния.
Неопределенность в вопросе о правильном определении денежной
Массы и нестабильность скорости обращения различных денежных аг-
561
регатов привели к монетаристским предложениям таргетировать денеж-
ные обязательства центрального банка — так называемую денежную
базу, состоящую из наличных денег в обращении и банковских резер-
вов. Денежная база имеет преимущество в том, что на нее прямо не вли-
яют рыночные инновации и, таким образом, она не требует переопре-
деления при появлении таких инноваций. Последователи монетариз-
ма предложили поддерживать постоянный темп роста денежной базы
потому, что это упростит — и косвенно фактически устранит — функ-
цию центральных банков и правительств по проведению денежной по-
литики. Некоторые из европейских центральных банков сочли тарге-
тирование денежной базы более предпочтительным, чем таргетирова-
ние предложения денег, хотя и допускали существенные отклонения
от поставленной цели.
Однако развитие финансового рынка может также вызвать неста-
бильность в соотношении денежной базы и совокупных расходов. Эко-
номисты, выступающие против монетаризма, предлагают, чтобы целью
денежной политики был стабильный рост совокупных расходов, что
достигается посредством необходимых дискретных изменений роста
денежной базы. Это резко контрастирует с мнением монетаристов о
недопущении дискреционной политики.
КОМПРОМИССНЫЙ ВЫБОР В СООТВЕТСТВИИ С КРИВОЙ
ФИЛЛИПСА. Инфляционные последствия дискреционной денежной
политики после Второй мировой войны могут быть объяснены в тер-
минах компромиссного выбора между инфляцией и безработицей,
изображаемого кривой Филлипса. Вдоль кривой Филлипса все более
низкий уровень безработицы ассоциируется со все более высоким тем-
пом инфляции. Такое соотношение, впервые выявленное на основе
данных по Великобритании, соответствует также данным по США для
1950-х, 1960-х и более ранних годов. Компромиссный выбор объясня-
ется жесткими ставками заработной платы и жесткими ценами. При
увеличении совокупного спроса рост зарплат и цен отстает, вызывая
расширение производства для покрытия части возросшего спроса.
Опыт США первоначально свидетельствовал, что любая желаемая по-
зиция на кривой Филлипса может быть достигнута посредством управ-
ления совокупным спросом. Таким образом, более низкий уровень без-
работицы может быть достигнут и может поддерживаться посредством
допущения более высокого уровня инфляции. Принимая во внимание
этот предполагаемый выбор, политики склонялись к поддержанию бо-
лее низкого уровня безработицы за счет более высокого уровня ин-
фляции.
Однако в 1970-х годах кривая Филлипса сдвинулась к более высо-
ким темпам инфляции при заданном уровне безработицы. Фридмен
(Friedman, 1968) утверждал, что экономика стремится к «естественной
норме безработицы», которая в долгосрочной перспективе независима
от темпа инфляции и не может быть изменена посредством денежной
политики. Зарплаты и цены медленно приспосабливаются к неожидан-
ным изменениям в совокупном спросе, но гораздо более быстро при-
562
спосабливаются к увеличениям спроса и цен, которые ожидаются. Со-
ответственно, единственным путем поддержания нормы безработицы
ниже ее естественного значения является поддержание более быстро-
го увеличения совокупного спроса по сравнению с ожидаемым темпом
инфляции. Такой «принцип ускорения» предполагает, что не существу-
ет постоянного выбора между инфляцией и безработицей. Существо-
вание естественной нормы безработицы также предполагает, что ста-
бильность цен не ведет к более высокому уровню безработицы в дол-
госрочной перспективе.
Монетаризм придает основное значение долгосрочным последстви-
ям политики. Он отвергает попытки уменьшить краткосрочные коле-
бания процентных ставок и экономической активности, поскольку
обычно они находятся за пределами возможностей денежной полити-
ки и, как правило, мешают достичь в принципе достижимых целей
долгосрочной стабильности цен и максимального экономического ро-
ста. Монетаристы верят в то, что экономическая активность, если из-
бавить ее от денежных нарушений, является сама по себе стабильной.
Большинство их расхождений с кейнсианцами может быть отнесено
именно к этому вопросу.
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ. Одна из версий теории рацио-
нальных ожиданий идет дальше монетаризма, провозглашая, что вы-
бор между инфляцией и безработицей, предполагаемый кривой Фил-
липса, весьма невелик или не существует вообще, даже в краткосроч-
ной перспективе, так как рынки в состоянии предсказать любую
систематическую противоциклическую политику, направленную на ста-
билизацию экономики. Только неожиданный отход от такой полити-
ки воздействует на производство, ожидаемые же монетарные измене-
ния полностью поглощаются изменениями цен. Так как несистемати-
ческая политика будет иметь небольшую противоциклическую
эффективность, то наилучшей политикой будет минимизация неопре-
деленности с помощью предсказуемого роста количества денег.
Эта теория разделяет монетаристскую точку зрения, согласно кото-
рой непредсказуемые колебания денежной массы являются нежелатель-
ным источником неопределенности. Однако эти два подхода расходятся
по вопросу о скорости адаптации цен к предсказуемым мерам денеж-
ной политики и по вопросу о сопутствующих воздействиях на эконо-
мическую активность. Монетаристы не утверждают того, что противо-
циклическая политика не оказывает реального воздействия, но они
скептически относятся к нашим возможностям использовать ее эффек-
тивно. Неправильно выбранное время для мер противоциклической
политики в результате меняющихся лагов монетарного эффекта лежит
в основе предпочтения, которое монетаристы отдают постоянному ро-
сту денежной массы для избежания неопределенности и инфляции.
ИНТЕРЕС К ЧАСТНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ ДЕНЕГ. Монета-
ризм является первоисточником возобновившегося интереса к предме-
ту, заброшенному во время кейнсианской революции, а именно к про-
563
вотированию денежной системы, которая поддерживает стабильность
уровня цен. Скептическое отношение к возможности достичь стабиль-
ности уровня цен при постоянном росте количества денег, как бы его
ни определять, или денежной базы привело к предложениям об исполь-
зовании строгого золотого стандарта или денежной системы, в кото-
рой деньги поставляются частным сектором в условиях конкуренции,
что позволяет поддерживать их стабильную стоимость. Хотя монетари-
сты симпатизируют предложениям об устранении дискреционной де-
нежной политики, они считают такие альтернативные системы непрак-
тичными и полагают, что недискреционная государственная политика
постоянного темпа денежной массы является наилучшей.
ДРУГИЕ ВЗГЛЯДЫ МОНЕТАРИСТСКОЙ ШКОЛЫ. Монетаризм
обычно ассоциируется с определенным отношением к государству.
Монетаристы делят со сторонниками laissez faire веру в долгосрочные
преимущества конкурентной рыночной системы и ограничение госу-
дарственного вмешательства в экономику. Они отвергают ограничения
свободного движения кредитных средств и движения процентных ста-
вок, такие, например, как потолки процентных ставок по депозитам в
США (устранены к середине 1980-х годов, за исключением депозитов
до востребования). Разрушительный потенциал таких ограничений стал
очевидным в 1970-х годах, когда финансовые инновации, частично
предпринятые для обхода этих ограничений, привели к переходным из-
менениям в традиционной функции спроса на деньги, что создало труд-
ности в проведении денежной политики. Однако контроль правитель-
ства над количеством денег рассматривается монетаристами как обо-
снованное исключение из принципов laissez faire, предпринимаемое для
обеспечения стабильной стоимости денег.
БИБЛИОГРАФИЯ
Andersen, L.C. and Jordon, J.L. 1968. Monetary and fiscal actions: a test of their
relative importance in economic stabilization. Federal Reserve Bank of St Louis
Review 50, November, 11—24.
Angell, J. 1933. Monetary control and general business stabilization. In Economic
Essays in Honour of Gustav Cassel, London: Alien and Unwin.
Baumol, W.J. 1952. The transactions demand for cash: an inventory theoretic approach.
Quarterly Journal of Economics 66, November, 545—56.
Brunner, K. 1968. The role of money and monetary policy. Federal Reserve Bank of
St Louis Review 50, July. 8—24.
Brunner, K. and Meltzer, A. 1964a. The federal reserve’s attachment to the free reserve
concept, US Congress House Committee on Banking and Currency, Subcommittee
on Domestic Finance, April.
Brunner, K. and Meltzer, A. 1964b. Some further investigations of demand and supply
functions for money. Journal of Finance 19, May, 240—83.
Brunner, K. and Meltzer, A. 1976. An aggregative theory for a closed economy. In
Studies in Monetarism, ed. J. Stei, Amsterdam: North-Holland.
564
Cagan, P. 1965. Determinants and Effects of Changes in the Stock of Money 1875—
1960. New York: Columbia University Press for the National Bureau of Economic
Research.
Frenkel, J.A. and Johnson, H.G. (eds) 1976. The Monetary'Approach to the Balance
of Payments. Toronto: University of Toronto Press.
Friedman, M. 1948. A monetary and fiscal framework for economic stability. American
Economic Review 38, June, 256—64.
Friedman, M. 1960. A Program for Monetary Stability. New York: Fordham University
Press.
Friedman, M. 1968. The role of monetary policy. American Economic Review 58,
March, 1-17.
Friedman, M. and Meiselman, D. 1963. The relative stability of monetary velocity and
the investment multiplier in the United States, 1897-1958. In Commission on
Money and Credit, Stabilization Policies, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Friedman, M. and Schwartz, A.J. 1963a. Money and business cycles. Review of
Economics and Statistics 45(1), Part 2, Supplement, February, 32—64.
Friedman, M. and Schwartz, A. 1963b. A Monetary History of the United States 1867—
I960. Princeton: Princeton University Press for National Bureau of Economic
Research.
Friedman, M. and Schwartz, A. 1970. Monetary Statistics of the United States
Estimates, Sources, Methods. New York: National Bureau of Economics Research.
Friedman, M. and Schwartz, A. 1982. Monetary Trends in the United States and the
United Kingdom: Their Relation to Income, Prices and Interest Rates, 1867-1975,
Chicago: University of Chicago Press.
Judd, J.P. and Scadding, J.L. 1982. The search for a stable money demand function:
a survey of the post-1973 literature. Journal of Economic Literature 20, September,
993-1023.
Laider, D. 1978. Mayer on monetarism: comments from a British point of view. In
The Structure of Monetarism, ed. T. Mayer, New York: W.W. Norton & Co.
Mayer, T. (ed.) 1978. The Structure of Monetarism. New York: W.W. Norton & Co.
Mints, L.W. 1950. Monetary Policy for a Competitive Society. New York: McGraw-
Hill.
Simons, H. 1936. Rules versus authorities in monetary policy. Journal of Political
Economy 44, February, 1-30.
Tobin, J. 1956. The interest elasticity of transactions demand for cash. Review of
Economics and Statistics 38, August, 241—7.
Warburton, C. 1946. The misplaced emphasis in contemporary business-fluctuation
theory. Journal of Business, October.
ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Дэвид Е. Линдсей, Генри С. Уоллин
Monetary Policy
David Е. Lindsey and Henry C. Wallich
Понятие денежная политика относится к действиям центральных
банков, направленным на то, чтобы повлиять на денежные и другие
финансовые условия ради достижения общих целей: обеспечения
устойчивого роста реального выпуска продукции, высокой занятости
и стабильности цен. Средние темпы прироста количества денег в об-
ращении в течение столетий рассматривались как основной детерми-
нант движения цен в долгосрочном периоде. Общие финансовые усло-
вия, связанные с «созданием» или «разрушением» денег, включая из-
менения ставок процента, также считались в течение определенного
времени важным фактором экономического цикла.
В современную эпоху денежная масса в развитых странах состоит в
большей степени из банковских депозитов, а не из золота и серебра или
выпущенных государством бумажных денег и монет. Соответственно,
правительства уполномочили центральные банки направлять развитие
денежной сферы с помощью инструментов, которые позволяют конт-
ролировать создание депозитов и влиять на общие финансовые усло-
вия. Действия центральных банков сознательно нацелены на то, что-
бы повлиять на состояние экономики страны, и не базируются на обыч-
ных деловых соображениях, таких, как, например, получение прибыли.
Общие принципы денежной политики и степень, в какой при ее осу-
ществлении центральным банкам следует полагаться на активные меры,
остаются спорными, как и вопросы согласования денежной политики
с фискальной политикой и с экономической политикой в других стра-
нах.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ. Инструменты по-
литики, имеющиеся в распоряжении центральных банков, меняются от
страны к стране в зависимости от институциональной структуры, по-
литической системы и стадии развития. В большинстве развитых ка-
питалистических экономик центральные банки в основном использу-
ют для контроля над созданием депозитов и влияния на финансовые
условия один или более из трех основных инструментов. Нормы обяза-
тельных резервов устанавливают минимальные доли определенных ви-
дов депозитных обязательств, которые коммерческие банки и, в неко-
торых случаях, сберегательные учреждения должны держать в форме
наличных резервов в своих хранилищах или на депозитах в централь-
566
ном банке. Учетная ставка центрального банка — это процент, взима-
емый центральным банком за предоставление средств с резервных де-
позитов непосредственно банковской системе либо путем кредитова-
ния через «дисконтное окошко», либо путем редисконтирования или
покупок финансовых активов, имеющихся у банков.
Третьим инструментом являются операции на открытом рынке. Они
включают окончательные или временные покупки и продажи централь-
ным банком, как правило, государственных ценных бумаг на рынке.
Центральный банк платит за приобретение ценных бумаг, кредитуя
резервный депозитный счет банка продавца, который в свою очередь
кредитует депозитный счет продавца. Центральный банк получает пла-
теж за продажу ценных бумаг, дебетуя резервный счет банка покупа-
теля, который в свою очередь дебетует счет покупателя. Таким обра-
зом, операциям на открытом рынке, которые изменяют сумму ценных
бумаг в портфеле активов центрального банка, соответствуют измене-
ния незаимствованных резервов банков, т.е. резервов, которые не по-
рождены заимствованиями у центрального банка. Сумма этих незаим-
ствованных резервов изменяется также в результате движения других,
неуправляемых статей активов или пассивов центрального банка, та-
ких, как, например, активы в виде золота, которые были особенно важ-
ны в прежние времена, или депозиты своего и иностранных прави-
тельств, которые могут значительно изменяться в наши дни. Однако
центральные банки постоянно следят за этими статьями и могут пред-
отвратить их значительное нежелательное воздействие на незаимство-
ванные резервы, компенсируя его операциями на открытом рынке.
Сумма заимствованных и незаимствованных резервов составляет
общие резервы банковской системы. Центральный банк может
осуществлять значительный контроль над этими двумя источниками ре-
зервов. Операции на открытом рынке, как отмечалось, используются
в основном для достаточно «плотного» контроля над общими незаим-
ствованными резервами. Уровень учетной ставки, а также другие ад-
министративные процедуры влияют на сумму заимствованных резер-
вов. При данных процентных ставках по другим источникам кратко-
срочного финансирования банков изменение учетной ставки или
других условий кредитования, что характерно для некоторых стран,
изменяет стимулы банков к заимствованию резервов через «дисконт-
ное окошко». Увеличение учетной ставки, например, должно побуж-
дать банки к уменьшению заимствования через дисконтное окошко и
обращению к другим источникам средств. Банки в этом случае будут
пытаться заимствовать резервы у других банков, выпускать крупные
депозитные сертификаты или даже продавать ликвидные финансовые
активы на вторичных рынках. Эти действия должны вызвать увеличе-
ние ставки процента по этим инструментам.
Контроль центральных банков над доступностью резервов для част-
ных банков позволяет им косвенно оказывать решающее влияние на
доступность депозитов для частных лиц, а также на ситуацию на денеж-
ном рынке. При данном объеме общих резервов норма обязательных
резервов устанавливает верхний предел для суммы депозитов, которые
567
могут быть созданы. На практике этот верхний предел не достигается,
поскольку частные банки предпочитают держать часть дополнительных
резервов сверх необходимых требований. Но поскольку избыточные ре-
зервы в отличие от займов и инвестиций обычно не приносят никакого
процента, то банки стремятся держать их на минимальном уровне.
Если резервы представляют собой тот рычаг, который центральные
банки могут использовать для управления депозитами, то норма обя-
зательных резервов — это точка опоры в этом управлении. Увеличение
суммы общих резервов оказывает умноженное влияние на депозиты.
Это влияние имеет место независимо от того, осуществляется ли оно
через операции на открытом рынке, которые увеличивают незаимство-
ванные резервы, или через снижение учетной ставки, что увеличивает
заимствованные резервы. Банки, первыми получающие новые резер-
вы, могут немедленно попытаться разместить излишек резервов в виде
займов другим банкам, понижая таким образом ставку процента на
рынке межбанковских займов «на одну ночь». Смягчение условий на
этом рынке снижает процентные ставки по другим инструментам де-
нежного рынка, таким, например, как казначейские векселя (treasury
bills) или крупные депозитные сертификаты. Это общее уменьшение
краткосрочных процентных ставок способствует тому, чтобы частные
лица держали больше денег на текущих и сберегательных счетах, по-
скольку сокращаются альтернативные издержки (в виде упущенного
процентного дохода) хранения денег на низкодоходных депозитах, а не
на других формах активов, приносящих процентный доход. Депозиты
будут расти, увеличивая обязательные резервы, до тех пор, пока по-
следние не поглотят все нежелательные избыточные резервы, что тре-
бует расширения депозитов, в несколько раз превышающего исходное
увеличение резервов.
Нормы обязательных резервов представляют собой альтернативный
инструмент для изменения предложения денег и кредитов. Пересмотр
резервных требований меняет сумму банковских вкладов, которая мо-
жет поддерживаться имеющимся количеством общих резервов. Одна-
ко эта мера является, в лучшем случае, довольно грубым инструмен-
том, так как даже сравнительно небольшие изменения оказывают силь-
ное влияние на допустимую сумму депозитов. Поэтому центральные
банки редко прибегают к пересмотру норм обязательных резервов.
Некоторые страны не устанавливают резервных требований. В этих
случаях обязательства центральных банков перед коммерческими бан-
ками представлены добровольно хранимыми в центральных банках
наличными и остатками на клиринговых, или текущих счетах. Эти цен-
тральные банки также могут использовать операции типа операций на
открытом рынке, чтобы повлиять на создание депозитов и на условия
денежного рынка, изменяя предложение резервов относительно этого
добровольного спроса на резервы. Тем не менее, соотношение между
резервами и депозитами, которое в этих странах зависит от среднего
размера желаемых банками соотношений резервных активов и депози-
тов населения, в данном случае менее предсказуемо, чем при наличии
норм обязательных резервов.
568
Независимо от того, хранятся ли наличные внутри банковской си-
стемы и средства на депозитах в центральном банке на обязательной
или добровольной основе, общие резервы плюс наличные за предела-
ми банков представляют собой совокупную денежную базу страны. Этот
агрегат также потенциально контролируется центральным банком. Тем
не менее, поскольку наличные деньги по традиции удовлетворяют
спрос населения, на практике центральные банки находят более пред-
почтительным осуществление прямого контроля над резервами, а не
над денежной базой.
Изменения в предложении резервов относительно спроса на них,
непосредственно влияющие на издержки хранения резервов, на про-
чие процентные ставки и денежную массу, служат теми первичными
каналами, через которые большинство центральных банков развитых
капиталистических стран воздействуют на макроэкономические про-
цессы. Некоторые страны с менее развитыми рынками ценных бумаг
больше доверяют политике, контролирующей кредитную деятельность
банков, включая в некоторых случаях прямое управление банковским
кредитом через «потолки» или требования обязательных резервов от-
носительно банковских активов. Деятельность этих центральных бан-
ков по контролю совокупного кредита и его аллокации в принципе не
относится к денежной политике как таковой и не рассматривается в
данной статье.
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКОЙ, УПРАВЛЕ-
НИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ И ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКОЙ. Денежную политику можно отделить от управления государ-
ственным долгом и фискальной политики. Управление долгом и денеж-
ная политика аналогичны только в ограниченном смысле, поскольку
в обоих случаях изменяется структура финансовых активов населения
и состояние его ликвидности из-за изменения соотношения между
краткосрочными и долгосрочными активами. Большая ликвидность
обеспечивается в том случае, если правительство сокращает средний
срок погашения своего долга. Аналогично, если центральный банк
приобретает государственные долговые обязательства у отдельных лиц,
ликвидность растет, поскольку эти лица продали менее ликвидные
ценные бумаги в обмен на более ликвидные депозиты. В то же время
приобретение центральным банком государственных ценных бумаг на
открытом рынке сокращает долг, заменяя ценные бумаги в руках бан-
ков или населения на банковские резервы и связанные с ними вклады
населения, на которые приходится нулевой (или ниже рыночного) про-
центный доход. Впрыскивание центральным банком этого вида резерв-
ных обязательств в частную экономику приводит к значительным кор-
ректировкам портфеля активов, снижающим рыночные ставки процен-
та как один из аспектов расширения денежной массы. Операции по
управлению долгом федерального правительства, напротив, просто за-
меняют одни ценные бумаги в руках населения другими, влияя на
структуру срока погашения основного долга и, возможно, на времен-
ную структуру, но не на общий уровень процентных ставок.
569
Денежная политика, несомненно, отличается от фискальной, по-
скольку каждая из них влияет на экономику своим путем. Фискальная
политика непосредственно влияет на расходы через государственные
расходы, а на частные доходы — через налоговые ставки.
Фискальная политика имеет и финансовый аспект, поскольку бюд-
жетные дефициты или профициты приводят к изменениям государ-
ственного долга, что, очевидно, влияет на общий спрос на кредиты и
на ставки процента. (С другой стороны, в той степени, в которой на-
селение рассматривает государственный долг как причину роста по-
следующих налоговых обязательств — эта степень является спорной, —
большой дефицит государственного бюджета косвенно должен способ-
ствовать равному компенсирующему увеличению частных сбережений
для финансирования будущих налоговых платежей и, следовательно,
сокращению частных расходов.) В отличие от прямого воздействия
фискальной политики на расходы и доходы влияние денежной поли-
тики всецело косвенное и зависит от реакции расходов и заимствова-
ний частного сектора на изменения в денежных и финансовых усло-
виях, определяемые политическими мерами.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И ЦЕЛИ ДЕНЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ. Сегодня обязанности центральных банков в области де-
нежной политики далеко выходят за первоначальные рамки, которые
включали гарантирование устойчивости банковской системы и конвер-
тируемости вкладов, особенно во время финансовых паник. В начале
своей истории центральные банки играли роль «кредитора последней
инстанции», что означало, что они должны быть источником средств
для испытывающих финансовые проблемы банков, чтобы предотвра-
тить кризисы ликвидности. Последующий опыт показал, что централь-
ным банкам необходимо смягчать сезонные колебания спроса на ре-
зервы. Делая это, центральные банки помогают избежать периодичес-
кой нехватки резервов, которая отрицательно влияла на состояние
финансовых рынков и иногда подрывала доверие вкладчиков, вызы-
вая их «набеги» на банки. Для обеспечения стабильности банковской
системы были также введены страхование депозитов, контроль над
банками, включая мониторинг на местах и банковское регулирование —
от ограничения определенных рискованных видов деятельности до
установления минимальных размеров банковского капитала или опре-
деленных статей банковских активов или обязательств. Правда, в не-
которых странах ответственность за многие из этих функций возложе-
на на другие государственные органы.
Ведущая роль центральных банков в поддержании надежности и
стабильности финансовой системы сохраняется и по сей день, хотя в
нынешнем столетии к ней присоединилась ответственность за общую
макроэкономическую стабилизацию. Макроэкономическая стабиль-
ность предполагает надежную финансовую систему; слабая финансо-
вая система не способна противостоять экзогенным шокам или выдер-
жать воздействие необходимых ограничительных мер кредитно-денеж-
ной политики.
570
Доминирующее влияние денежной политики на уровень цен тра-
диционно выдвигало долгосрочную устойчивость цен на первое место
среди макроэкономических целей центральных банков. В условиях
золотого стандарта мировые запасы золота исторически служили дол-
госрочным якорем для среднемирового уровня цен. При этом обяза-
тельство центральных банков покупать и продавать золото по фикси-
рованной цене в национальной валюте автоматически вызывало зна-
чительный приток или утечку золота из отдельных стран в процессе
международной адаптации. Значительные воздействия этих процессов
на внутреннюю экономическую деятельность и уровень цен вели к
циклической нестабильности и затяжным инфляционным или дефля-
ционным процессам. Отмена золотого стандарта ослабила ограничения,
в рамках которых центральные банки могли осуществлять краткосроч-
ную стабилизационную политику внутри страны, но при этом было
утрачено дисциплинирующее влияние золотого запаса на долгосрочную
динамику мировых цен. В наше время на центральные банки возло-
жена задача осуществлять самодисциплину, стремясь к цели долгосроч-
ной стабильности цен. Одновременно широко признаваемое кратко-
срочное влияние денежной политики на экономическую активность и
занятость способствовало возрастающему вниманию и к ее антицик-
лическим целям.
В течение длительных периодов денежная политика оказывает вли-
яние почти исключительно на номинальные величины, т.е. те, которые
измеряются в денежных единицах. Как отмечалось, центральные бан-
ки могут управлять номинальной величиной банковских резервов и
посредством этого — денежной массой. Тенденции изменения среднего
уровня цен формируются в результате взаимодействия во времени но-
минального количества денег и спроса частного сектора на реальные
денежные остатки, т.е. реальной ценности денег после корректировки
на влияние инфляции или дефляции. Таким образом, денежная поли-
тика оказывает значительное влияние на средний уровень цен в дол-
госрочном периоде. Кроме того, в определении общего уровня цен так-
же играют роль те факторы, которые влияют на спрос на реальные де-
нежные остатки, как, например, финансовые инновации и, в более
общем плане, те факторы, которые влияют на совокупный спрос или
на совокупное предложение (выпуск).
Совокупное предложение (выпуск) в долгосрочном периоде опре-
деляется главным образом реальными факторами, такими, как, напри-
мер, прирост населения, доля в нем рабочей силы, накопление капи-
тала и тенденции изменения производительности. Реальные величины
заработной платы, ставок процента и валютных курсов также реагиру-
ют в течение длительных периодов на основные реальные факторы.
Влияние денежной политики на уровень и тенденции изменения но-
минального уровня цен опосредованно сказывается на номинальных
значениях упомянутых переменных, но не влияет на их реальные зна-
чения. Реальные величины заработной платы, ставок процента и валют-
ных курсов, порождаемые рыночной экономикой, взаимодействуют во
времени с движением номинального уровня цен. В результате опреде-
571
ляются номинальные величины этих показателей. За очень длительный
период изменение номинального количества денег будет нейтральным,
так как (при прочих равных) все номинальные показатели цен и ста-
вок заработной платы пропорционально адаптируются.
В то время как незначительность влияния денежной политики на
поведение реальных величин в долгосрочном периоде широко призна-
ется, отмечается также, что денежная политика может существенно
влиять на реальные переменные в краткосрочном циклическом контек-
сте. Сомнения в эффективности стимулирующей денежной политики
в условиях депрессии внутри страны, возникшие в ходе кейнсианской
революции, в настоящее время в основном рассеяны. Взгляды ведущих
современных макроэкономистов, представляющих «основное течение»
(mainstream), на влияние кредитно-денежных импульсов на реальную
хозяйственную деятельность недалеки от тех, которые выражены в сле-
дующих словах Дэвида Юма:
«Хотя высокие цены товаров и будут необходимым последствием уве-
личения количества золота и серебра, это произойдет не сразу после
этого увеличения; некоторое время потребуется прежде, чем деньги со-
вершат свой оборот в государстве и произведут свой эффект, кото-
рый почувствуют люди любого общественного положения. Сначала не
происходит никакого изменения; постепенно цены растут, сначала на
один товар, затем на другой, пока, наконец, не будет достигнуто вер-
ное соотношение с новым количеством драгоценного металла... По-мо-
ему, только в этом временном интервале, то есть в промежутке между
увеличением денег и повышением цен, увеличение количества золота и
серебра благоприятно сказывается на промышленности» (David Ните,
«Of money», 1752; перепечатано в: Ните D. Writings on Economics. Ed.
by Eugene Rotwein, Madison: University of Wisconsin Press, 1955).
Предположение о том, что кредитно-денежная политика обязатель-
но оказывает краткосрочное воздействие на реальные переменные,
принято не всеми. В последнее десятилетие макроэкономическая школа
рациональных ожиданий высказала мнение, что изменения в денеж-
ной политике не могут воздействовать на реальные переменные даже
в краткосрочном периоде. Если вызванное мерами экономической по-
литики изменение номинальной денежной массы заранее ожидается
населением, то оно будет иметь стимул, чтобы соответственно пере-
смотреть фактические, а также ожидаемые уровни всех номинальных
величин. Такая реакция в принципе должна нейтрализовать даже крат-
косрочное влияние ожидаемого изменения политики на реальные пе-
ременные.
Этот недавний вызов традиционным воззрениям допускает, хотя и
в неявном виде, что неожиданные меры кредитно-денежной полити-
ки могут изменять реальные переменные хотя бы на некоторое время.
Такие непредвиденные меры могут вызвать временное отклонение раз-
личных номинальных и, следовательно, реальных величин от их ожи-
даемых значений. Но школа рациональных ожиданий подчеркивает, что
население научится ожидать те политические меры, которые система-
тически принимаются в ответ на определенные экономические собы-
572
тия. Только те меры экономической политики, которые были бы чис-
то произвольными или базировались бы на недоступной населению
информации, оказались бы неожиданными, а в этом случае область для
проведения эффективной противоциклической политики оказалась бы
существенно суженной.
В последние годы, тем не менее, появилось значительное количе-
ство эмпирических исследований, опровергающих, что только неожи-
данные изменения политики могут повлиять на реальные величины.
Большинство их показывает, что даже систематические и ожидаемые
изменения направления денежной политики, хотя и не полностью ска-
зываются на номинальных величинах, но оказывают краткосрочное
влияние на реальные экономические показатели.
Очевидные лаги в воздействии денежной политики на номиналь-
ные величины объясняются различными фрикциями, издержками адап-
тации и несовершенством информации. В то время как на аукцион-
ных рынках цены могут пересматриваться мгновенно, на других рын-
ках присутствие явных или неявных долгосрочных контрактов придает
устойчивость номинальным ценам и заработной плате, предотвращая
их полную краткосрочную адаптацию даже в ответ на ожидаемые из-
менения номинальных переменных под действием денежной полити-
ки. Издержки изменения некоторых цен также могут обусловить по-
степенность адаптации номинальных величин. Кроме того, амортизи-
рующая роль запасов делает даже ожидаемое изменение в номинальных
расходах на товары и услуги ощутимым не для всех производителей
одновременно. Наконец, поскольку фирмы и рабочие получают инфор-
мацию о спросе на свои товары и услуги раньше, чем информацию о
спросе во всей экономике, они могут воспринять как локальные собы-
тия, которые в действительности являются всеобщими и в долгосроч-
ном периоде влияют на все номинальные величины. Экономические
агенты могут попытаться в краткосрочном периоде изменить свое ре-
альное поведение, меняя предложение товаров и услуг, а не номиналь-
ные цены или заработную плату, что вытекало бы из общего развития
ситуации.
КАНАЛЫ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ВЛИЯ-
ЕТ НА ЭКОНОМИКУ. Хотя экономисты теперь лучше понимают опи-
санные общие закономерности поведения, точное описание каналов,
через которые меры денежной политики оказывают воздействие на
экономику в целом, и определение специфических переменных, кото-
рые наилучшим образом характеризуют кредитно-денежную политику,
остаются пока нерешенными задачами. Непосредственные воздействия
инструментов, управляемых центральными банками, на предложение
и стоимость приобретения банковских резервов очевидны. Как приоб-
ретение государственных ценных бумаг на открытом рынке, которое
увеличивает незаимствованные резервы, так и снижение учетной ставки
увеличивают доступность обязательных и избыточных резервов отно-
сительно спроса. Это приводит к понижающему давлению на процент-
ные ставки по различным инструментам денежного рынка. Далее сле-
573
дует почти бесконечная последовательность «волновых эффектов», и
аналитики до сих пор по-разному определяют наиболее важные из них.
Эти различия во взглядах отражают сложность связей между современ-
ной финансовой системой и экономической деятельностью, а также
принятые различными школами альтернативные упрощения в попыт-
ке отразить наиболее существенные моменты.
Наиболее распространенная точка зрения основана на кейнсиан-
ской традиции и рассматривает порождаемые денежной политикой из-
менения рыночных ставок процента по займам разной продолжитель-
ности как первичный канал влияния денежной политики на частные
расходы. «Смягчение» или «ужесточение» денежной политики отража-
ется в уменьшении или увеличении рыночных ставок процента. Конеч-
но, признается различие между номинальными и реальными ставками
процента; изменение рыночных ставок процента, которое просто ком-
пенсирует сопутствующее изменение в инфляционных ожиданиях,
может иметь минимальный реальный экономический эффект.
Эти кейнсианские «каналы» влияния изучены довольно подробно —
как теоретически, так и в больших эконометрических моделях. Меры
по смягчению денежной политики, например начальное снижение ста-
вок процента денежного рынка, побуждает участников рынка к пере-
смотру в направлении снижения также и ожидаемых краткосрочных
ставок процента, что ведет к снижению и долгосрочных ставок. Счи-
тается, что инфляционные ожидания постепенно и с запаздыванием
реагируют на фактическую инфляцию и в целом малоотзывчивы к смяг-
чению денежной политики самой по себе. Поэтому рост инфляцион-
ных ожиданий, который может отчасти компенсировать уменьшение
номинальных долгосрочных процентных ставок, считается маловеро-
ятным. Более управляемые ставки процента, такие, как, например,
публикуемая банками ставка по кредитам первоклассным заемщикам
(прайм-рейт), ставки процента по потребительскому и ипотечному
кредиту, также со временем начинают снижаться, и сроки и условия
кредитования становятся менее жесткими.
Расходы в чувствительных к ставке процента секторах, таких, как,
например, покупка жилья, товаров длительного пользования и произ-
водственные инвестиции, испытывают вначале наибольшее воздей-
ствие, поскольку уменьшение стоимости кредита стимулирует спрос.
Начинают также действовать и некоторые вторичные эффекты. Про-
исходящее увеличение дохода и производства еще более стимулирует
потребление и инвестиционные расходы. Падение ставок процента
отражается и в повышении стоимости финансовых активов, и этот
прирост богатства способствует еще большему увеличению расходов на
потребление.
Цены с некоторым лагом начинают повышаться — отчасти потому,
что оживление на рынках труда, по крайней мере на время, опускает
норму безработицы ниже «естественного» уровня, соответствующего
реализации ожиданий в области заработной платы и цен. Такое паде-
ние уровня безработицы сочетается с ускорением роста показателей за-
работной платы. Более полное использование мощностей может так-
574
же поднять долю прибыли в цене. По мере того как растет фактиче-
ский показатель инфляции, инфляционные ожидания также начина-
ют увеличиваться, подталкивая вверх уровни цен и заработной платы.
Канал, связанный с внешнеэкономическими связями, также может
стать важным, особенно в странах со значимым внешнеэкономичес-
ким сектором и плавающими курсами валют. Те меры денежной по-
литики, которые уменьшают внутренние ставки процента, вероятно,
уменьшат и спрос на активы, оцененные в национальной валюте. При
плавающем обменном курсе результирующее снижение курса нацио-
нальной валюты уменьшит экспортные цены и поднимет импортные
цены. Эти тенденции будут действовать в течение некоторого време-
ни, подталкивая рост чистого экспорта. Но поскольку одновременное
повышение импортных цен отразится на структуре внутренних цен,
общие индексы цен также будут иметь повышательную тенденцию.
Монетаристы придерживаются несколько иной точки зрения,
утверждая, что стимулы, создаваемые денежной политикой, наилучшим
образом измеряются приростом денежной массы. Устойчивое повыше-
ние темпов роста денежной массы приводит с некоторой задержкой к
временной активизации реальной хозяйственной деятельности и лишь
позднее — к ускорению инфляции. Этот процесс развивается, посколь-
ку «инъекция» резервов порождает денежную массу больше той, кото-
рую население хотело бы держать при данных преобладающих уровнях
реального дохода, цен и ставок процента. Поскольку излишние денеж-
ные остатки «жгут руки», стимулируется приобретение широкого кру-
га товаров и услуг, а также финансовых активов. Краткосрочные ры-
ночные ставки процента могут вначале упасть, но более важно то, что
растут цены на широкий спектр финансовых и реальных активов, что
стимулирует спрос и производство инвестиционных и потребительских
товаров. Монетаристы, подобно кейнсианцам, утверждают, что в дол-
госрочном периоде влияние на реальную хозяйственную деятельность
сходит на нет и денежные стимулы полностью преобразуются в ин-
фляцию. В конце концов, люди начинают нуждаться в дополнитель-
ных деньгах для осуществления обычного объема сделок по выросшим
ценам, не имея больше дополнительных стимулов для реальных рас-
ходов.
ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ. При наличии
широкого арсенала финансовых и нефинансовых мер воздействия на
процесс адаптации экономики к мерам денежной политики остается
вопрос о том, какая переменная является наилучшим индикатором
направления этой политики, т.е. какая переменная наиболее точно
описывает будущее воздействие денежной политики на экономику.
Кроме того, поскольку принятые меры действуют с лагом, а принима-
ющие решения политики, естественно, не имеют полной информации
. об экономических зависимостях и тенденциях, такая переменная, слу-
жа в качестве промежуточного индикатора, могла бы также использо-
ваться для того, чтобы политики не впали в заблуждение. Промежуточ-
ный индикатор — это переменная, которую центральный банк должен
575
пытаться поддерживать на заранее определенном целевом уровне, по-
этому она должна поддаваться разумному контролю со стороны цент-
рального банка. Центральный банк должен корректировать целевой
уровень промежуточного индикатора реже, чем устанавливать парамет-
ры денежной политики.
Центральные банки в разное время использовали различные пер-
вичные индикаторы денежной политики. Исторически эту роль игра-
ла цена, по которой золото или некоторый другой металл конвертиро-
вался в национальную валюту. Впоследствии большее значение как
индикаторы политики получили рыночные ставки процента и показа-
тели валютных курсов. В последние десятилетия во многих промыш-
ленно развитых странах были установлены целевые уровни общего
объема денежной массы и задолженности. Предлагались и другие воз-
можные показатели, такие, как денежная база, индексы цен некоторых
товаров или общий уровень цен, номинальный ВНП и реальные став-
ки процента.
К несчастью, как макроэкономический анализ, так и практический
опыт показывают, что никакая единственная переменная не может
последовательно служить в качестве надежного ориентира денежной
политики, так что однозначно выбрать лучшую из них при всех обсто-
ятельствах не представляется возможным. Все переменные, за исклю-
чением незаимствованных резервов и учетной ставки, находятся под
влиянием и других факторов, помимо мер денежной политики, и по-
этому те стимулы, которые получает экономика в ответ на изменения
любой из них, зависят от природы воздействия этих факторов. Эту
дилемму можно продемонстрировать, рассмотрев преимущества и не-
достатки некоторых переменных.
Денежные агрегаты представляют собой наборы финансовых акти-
вов, сгруппированных согласно степени их «денежности». Денежная
масса в узком смысле включает наличные деньги и чековые счета, ве-
личина которых отражает первичные трансакционные потребности
населения. Более широкие показатели включают также другие высоко-
ликвидные счета с дополнительными сберегательными характеристи-
ками. Резкие линии разграничения между различными агрегатами про-
вести трудно, поскольку характеристики различных активов часто пе-
рекрывают друг друга в широком спектре, особенно в странах с
развитыми, дерегулированными и восприимчивыми к инновациям
финансовыми рынками.
Денежные агрегаты служат хорошими ориентирами для денежной
политики, когда спрос на них устойчиво связан с номинальными рас-
ходами и рыночными ставками процента и имеет сравнительно неболь-
шую чувствительность к процентным ставкам. Предположим, напри-
мер, что наблюдается циклический спад общих расходов. Если цент-
ральный банк изымает резервы из системы для поддержания
существующего уровня рыночных ставок процента перед лицом паде-
ния спроса на деньги, то денежная масса будет уменьшаться, в то вре-
мя как необходим дополнительный денежный стимул. Если, наоборот,
центральный банк поддерживает исходный уровень резервов для под-
576
держания денежной массы на ее целевом уровне, то процентные став-
ки должны упасть. Чем менее чувствителен к процентным ставкам
спрос на деньги, тем сильнее должны сокращаться процентные став-
ки, чтобы компенсировать угнетающий эффект сокращения расходов
на желаемый размер денежной наличности у населения. Таким обра-
зом, при поддержании денежной массы на целевом уровне облегчение
условий кредитования и, возможно, снижение курса национальной
валюты через некоторое время способны частично компенсировать
исходное сокращение расходов и смягчить циклический спад.
Тем не менее, когда желание населения держать деньги в форме
определенных денежных агрегатов испытывает сильные сдвиги, при
данных номинальных расходах и ставке процента сдвиги показателей
денежной массы дают ложные сигналы о денежных стимулах или огра-
ничениях. Такие сдвиги спроса на деньги происходили в ответ на ин-
новации на денежном рынке и дерегулирование ставок процента по
депозитам, а также вследствие усиления или ослабления мотива пред-
осторожности у населения. В результате свойства эмпирической связи
между денежной массой, с одной стороны, и номинальными расхода-
ми и рыночными ставками процента, с другой, изменились, в некото-
рых случаях — навсегда. Природу такого влияния трудно точно оце-
нить, пока этот процесс не закончится. Например, в Соединенных
Штатах в течение 1980-х годов процесс замедления инфляции сочетался
с медленной адаптацией предлагаемых процентных ставок по подвер-
гавшимся дерегулированию чековым вкладам, что существенно повы-
сило чувствительность спроса на узкие денежные агрегаты к измене-
ниям рыночных ставок процента. Значительное снижение рыночных
процентных ставок после начала 1980-х годов расширило относитель-
ную привлекательность приносящих процентные доходы ликвидных
чековых счетов, которые включаются в узкие денежные агрегаты. При-
ток средств на эти счета был огромным, причем его значительная часть
приходилась на сберегательные институты.
В случае необычного поведения спроса на деньги центральному банку
лучше всего не сопротивляться отклонениям денежной массы от целе-
вого уровня, а вместо этого корректировать банковские резервы в соот-
ветствии с изменениями спроса на деньги. Он может делать это, под-
держивая существующие условия рынка резервных фондов. В против-
ном случае благодаря самому процессу возвращения денежной массы к
целевому уровню возмущения в спросе на деньги сказались бы на рас-
ходах и уровне экономической активности. Изменение условий на рын-
ках резервов и кредитов, связанное с возвращением денежной массы к
целевому уровню, не отвечало бы требованию стабилизации расходов.
Центральные банки, которые полагаются на денежные агрегаты как на
ориентиры денежной политики, делали вывод, что такие эпизоды дока-
зывают необходимость мониторинга общих тенденций экономического
развития и корректировок денежных целевых показателей в ответ на
очевидные сдвиги спроса на деньги относительно дохода.
Рыночные ставки процента, таким образом, могут служить лучшим
ориентиром денежной политики, чем денежные агрегаты, если возму-
577
щающие воздействия касаются лишь функции спроса на деньги. В ре-
альной экономической среде, однако, вполне вероятны и независимые
возмущающие воздействия, сказывающиеся на связи между номиналь-
ными расходами и рыночными ставками процента. Запаздывания в
сборе данных о хозяйственной деятельности, неопределенность отно-
сительно структуры поведенческих связей в экономике, а также непре-
рывные возмущающие воздействия затрудняют определение адекват-
ной реакции на неожиданное давление на процентные ставки и на от-
клонения денежной массы от целевого уровня. Предположим,
например, центральный банк видит, что для того, чтобы денежная мас-
са не превысила целевого уровня, необходимо неожиданное повыше-
ние ставок процента. Причиной может быть неожиданное усиление ин-
фляции и рост номинальных расходов, что повышает спрос на деньги,
или неожиданное повышение спроса на деньги относительно расходов,
или некоторая комбинация того и другого. Источник превышения де-
нежной массой целевого уровня может оказаться самокорректиру-
ющимся, а может и вызвать кумулятивный процесс. Если только неопре-
деленность функции спроса на деньги не является исключительно боль-
шой, для центрального банка может быть более надежным допустить
некоторый сдвиг вверх номинальных ставок процента, чем держать
ставки процента на стабильном уровне путем полного приспособления
резервного обеспечения к чрезмерному росту денежной массы. Послед-
няя реакция не сможет предотвратить возникающего инфляционного
роста номинальных расходов.
С другой стороны, предположим, что расходы явно снизились и
центральный банк откликнулся на это увеличением доступности резер-
вов в условиях очень чувствительного к ставке процента спроса на це-
левой денежный агрегат. Результирующее падение ставок процента
привело к значительному превышению денежной массой целевого
уровня. В этих обстоятельствах для экономики может оказаться лучше,
если центральный банк смирится со значительным превышением це-
левого уровня денежной массы. При очень чувствительном к ставке
процента спросе на деньги поддержание денежной массы на целевом
уровне, если расходы падают, ведет лишь к небольшому уменьшению
ставок процента. Это смягчение финансовых условий обеспечит лишь
незначительную компенсацию ослабления экономической деятельно-
сти, если не происходит корректирующего роста денежной массы в
направлении целевого уровня.
Полагаясь на ставки процента как на основной инструмент денеж-
ной политики, не всегда можно решить проблему определения правиль-
ной реакции центрального банка на неожиданные события. Связь меж-
ду номинальными значениями расходов и рыночных процентных ста-
вок качественно менее предсказуема и стабильна во времени, чем
лежащая в ее основе и так уже слабая взаимосвязь между их реальны-
ми значениями. Определение того, какой уровень реальной ставки
процента соответствует данному уровню номинальной процентной
ставки, затруднено тем, что инфляционные ожидания населения весьма
трудно измерить. Более долгосрочные реальные процентные ставки,
578
которые, как полагают, оказывают наиболее сильное влияние на мно-
гие важные компоненты реальных расходов, особенно трудно предска-
зать, поскольку инфляционные ожидания населения на отдаленное
будущее наиболее туманны.
Центральные банки, таким образом, должны иметь в виду, что, вы-
бирая конкретный целевой уровень номинальной ставки процента, они
не смогут сколько-нибудь надежно контролировать реальную ставку
процента. Кроме того, если результирующий уровень реальной ставки
процента случайно не оказался соответствующим полной занятости и
стабильному темпу инфляции, реальная процентная ставка будет со
временем изменяться в дестабилизирующем направлении, как первым
отметил Кнут Викселль. Предположим, что центральный банк в тече-
ние длительного периода поддерживает номинальные ставки процен-
та на уровне, который с самого начала обеспечивал чрезмерно стиму-
лирующую реальную ставку процента. Хозяйственная деятельность в
этом случае вышла бы за рамки имеющихся в экономике производ-
ственных мощностей и трудовых ресурсов, и инфляция имела бы тен-
денцию к ускорению. Но по мере того, как инфляционные ожидания
повышаются в соответствии с фактическим темпом инфляции, реаль-
ная ставка процента, подразумеваемая целевым уровнем номинальной
процентной ставки, еще более упадет. Это падение реальной ставки
процента дает новые стимулы номинальным расходам и инфляции. При
этом прирост резервов и денежной массы должен непрерывно уско-
ряться для поддержания целевого уровня номинальной ставки процен-
та. Следовательно, «фиксирование» номинальной ставки процента на
слишком низком уровне привело бы к еще более быстрому росту но-
минальных расходов и инфляции. Те центральные банки, которые ис-
пользуют рыночные ставки процента как ориентиры денежной поли-
тики, считают, что для предотвращения таких ситуаций им необходи-
мо постоянно наблюдать за общим развитием денежной сферы и всей
экономики и со временем корректировать установленные целевые уров-
ни рыночных ставок процента.
Потенциальные недостатки денежных агрегатов или рыночных ста-
вок процента как ориентиров денежной политики побудили централь-
ные банки к тому, чтобы ориентироваться на конечные показатели функ-
ционирования экономики, — такие, как, например, номинальный ВНП,
уровень цен и безработица. Некоторые исследователи рекомендовали,
чтобы вместо установления промежуточных целей центральные банки
ограничились бы устремлением непосредственно к одной из этих конеч-
ных целей. Этот метод, однако, имеет недостатки. Дело не только в том,
что неясно, из каких соображений выбирать конкретную целевую пере-
менную. Любая из результирующих переменных находится под влияни-
ем многочисленных факторов, не контролируемых центральным банком,
включая внутреннюю фискальную политику, а также фискальную и де-
нежную политику других стран. Данные о большинстве из этих перемен-
ных поступают с некоторой задержкой, а затем подвергаются значитель-
ному пересмотру. Наконец, попытка использовать конечную цель в
качестве ориентира краткосрочной политики связана с риском макро-
579
экономической нестабильности вследствие неопределенности и времен-
ных лагов, присущих влиянию денежной политики.
По этим причинам центральные банки считают, что на них нельзя
возлагать ответственность за функционирование экономики в кратко-
срочном периоде. Несмотря на проблемы, связанные с интерпретаци-
ей различных денежных агрегатов, общей величины задолженности и
ставок процента, центральные банки, а также многие аналитики рас-
сматривают совокупность этих финансовых переменных, которые в
большей мере находятся под их текущим контролем, как более надеж-
ные ориентиры долгосрочной денежной политики, чем текущие зна-
чения конечных экономических показателей. Ориентация денежной
политики на любой из финансовых индикаторов при некоторых обсто-
ятельствах вредна, и чрезмерно полагаться на один из них не следует.
Однако преимущества этих индикаторов при других обстоятельствах
свидетельствуют, что в контексте более широких экономических тен-
денций ни один из них не может полностью игнорироваться при про-
ведении или оценке денежной политики.
Тем не менее, долгосрочная связь между ростом денежной массы и
инфляцией, наряду с традиционным вниманием центральных банков
к устойчивости цен, придает денежным агрегатам особую роль среди
финансовых переменных. Уделяя внимание среднему темпу роста де-
нежной массы за длительный период, центральные банки учитывают
и эффект изменений спроса на деньги. Поэтому, когда они корректи-
руют денежную политику в ответ на краткосрочные финансовые и эко-
номические изменения, они не упускают из виду долгосрочные цено-
вые ориентиры.
ПРАВИЛА ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ИЛИ ГИБКОЕ РЕГУЛИ-
РОВАНИЕ. Некоторые критики активной денежной политики, описан-
ной выше, придают еще большее значение долговременному «номи-
нальному якорю» экономики. Трудности прогнозирования как эконо-
мических тенденций, так и влияния мер денежной политики приводят
их к выводу, что центральные банки не должны даже пытаться стаби-
лизировать экономику в краткосрочные периоды посредством актив-
ной денежной политики. Они полагают, что при имеющихся лагах и
неопределенности такая гибкость в политике, вероятно, принесет боль-
ше вреда, чем пользы, несмотря на наилучшие намерения.
Эти критики считают, что денежная политика должна базировать-
ся на фиксированных правилах, а не на активных действиях централь-
ного банка. Наибольшее влияние имело предложение монетаристов о
том, чтобы, несмотря ни на что, поддерживать низкий, но постоянный
темп прироста денежной массы. Эти экономисты, интеллектуальным
лидером которых является Милтон Фридмен, утверждают, что чрезмер-
ный рост денежной массы — основная причина инфляции и что коле-
бания темпов роста денежной массы исторически были причиной боль-
ших циклических колебаний реального выпуска. При стабильном рос-
те денежной массы самокорректирующие механизмы предотвратят
580
сильное устойчивое влияние макроэкономических шоков на экономи-
ческую деятельность.
Школа рациональных ожиданий добавила новый аспект к аргумен-
там в пользу правил. Ее сторонники считают, что активные регулиру-
ющие меры сделают кредитно-денежную политику проинфляционной,
поскольку центральные банки время от времени сталкиваются с непре-
одолимым искушением отложить заявленные долгосрочные планы под-
держания устойчивости цен, стремясь к краткосрочным целям в обла-
сти производства и занятости. Если население скорректировало свои
ценовые ожидания в соответствии с заявлениями центрального банка
о стремлении поддерживать устойчивость цен, то временное ускорение
роста денежной массы будет неожиданным и вызовет желательное, хотя
и непродолжительное повышение выпуска и занятости, хотя и с неболь-
шими издержками в виде инфляции. Но согласно гипотезе рациональ-
ных ожиданий население должно разгадать эту ловушку и ожидать по-
добных мер политики. Накануне денежного стимулирования должны
возникать инфляционные ожидания, в результате чего данная политика
приведет только к увеличению цен, но не к росту выпуска. Если же
центральный банк в конце концов все-таки не предпримет ожидаемых
стимулирующих мер, то выпуск, наоборот, временно сократится. Столк-
нувшись с этой дилеммой, центральные банки в конечном счете при-
бегнут к денежным стимулам, даже если это только усиливает текущую
инфляцию и не оказывает влияния на выпуск.
Следуя неизменным правилам денежной политики, можно избежать
этой проблемы, убедив население, что антиинфляционная политика
будет проводиться последовательно. Тогда население будет ожидать
только тех мер политики, которые согласуются с устойчивостью цен.
Школа рациональных ожиданий поддерживает правило, состоящее в
сохранении фиксированного прироста денежной массы или уровня
цен.
В то время как взгляды монетаристов воздействовали на практику
центральных банков в последние десятилетия, что подтверждается рас-
ширением ее опоры на денежные агрегаты в течение 1970-х годов, цен-
тральные банки отказались от принятия фиксированных правил в
пользу гибкой политики. Абстрактная, даже гипотетическая природа
аргументации теории рациональных ожиданий ограничила ее влияние.
Существенное снижение темпов инфляции во всем мире в начале и
середине 1980-х годов, несмотря на непрерывный быстрый рост денеж-
ных агрегатов, ослабило, как представляется, влияние обеих школ на
выработку правил денежной политики.
СОГЛАСОВАНИЕ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ВНУТРЕННЕЙ ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И С ПОЛИТИКОЙ ДРУГИХ СТРАН.
Поскольку на макроэкономическую ситуацию внутри страны оказыва-
ют воздействие внутренняя фискальная политика, а также фискальная
и денежная политика других стран, то встает вопрос об их согласова-
нии с внутренней денежной политикой. Например, стимулирующая
фискальная политика внутри страны, включающая расширение госу-
581
дарственных расходов или уменьшение налогов, может потребовать
уравновешивающих действий, которые сделали бы денежную полити-
ку более ограничительной. Даже если бы сочетание мер политики из-
менилось таким образом, что общая занятость, объем производства и
цены остались бы на прежнем уровне, номинальные и реальные вели-
чины рыночных ставок процента и валютных курсов должны будут
измениться, как и структура совокупного выпуска — доля реального
потребления, инвестиций и чистого экспорта.
Традиционный взгляд состоял в том, что после некоторой точки
сдвиг по направлению к более стимулирующей фискальной политике
и более ограничительной денежной политике становится нежелатель-
ным, поскольку инвестиции и чистый экспорт при более высоких ре-
альных ставках процента и более высоком валютном курсе будут «вы-
тесняться» большими государственными расходами или частным по-
треблением. Сокращение темпов инвестирования задержит накопление
капитала и ограничит потенциал экономики в более длительной перс-
пективе, тогда как уменьшение чистого экспорта нанесет ущерб экс-
портной и импортозамещающей промышленности. Возрастающий де-
фицит государственного бюджета будет сопровождаться большим де-
фицитом платежного баланса, вызывая более быстрое увеличение как
государственного, так и внешнего долга. Выплаты по обоим видам долга
через некоторое время становятся более обременительными для насе-
ления, требуя отказа от все большего объема будущего потребления.
Если приток капитала извне вкладывается эффективно, он может обес-
печить ресурсы для будущих выплат по обслуживанию долга, но если
эти средства просто используются для финансирования государствен-
ного бюджетного дефицита, то они не могут поддерживать частное
накопление капитала.
В недавнее время распространились взгляды «экономики предло-
жения», представители которой считали, что значительное уменьшение
предельных налоговых ставок способствует частным сбережениям,
инвестициям, трудовым усилиям и предпринимательству. В этом слу-
чае потенциал роста экономики значительно увеличится и не потребу-
ется более ограничительная кредитно-денежная политика, даже если
государственный бюджетный дефицит вначале существенно вырос. Тем
не менее, опыт Соединенных Штатов, где было осуществлено значи-
тельное снижение предельных налоговых ставок в начале 1980-х годов,
показал, что результирующие стимулирующие воздействия на потен-
циальные темпы экономического роста сравнительно незначительны.
На практике фискальная политика в отличие от денежной не заре-
комендовала себя гибким средством макроэкономического регулиро-
вания для каких-либо общественных целей помимо антициклического
воздействия. Кроме того, законодательные задержки не дают возмож-
ности быстро скорректировать программы государственных расходов
и налоговое законодательство в ответ на общие экономические тенден-
ции. В этой ситуации денежная политика выдвигается на первый план
политики макроэкономической стабилизации. Меры денежной поли-
тики становятся наиболее чувствительными к политике при проведе-
582
нии стимулирующей фискальной политики, когда рост частных расхо-
дов, заработной платы и цен приводит к перегреву экономики. Необ-
ходимый поворот к более ограничительной денежной политике вызы-
вает протест против повышения процентных ставок, особенно со сто-
роны тех секторов, где занятость и производство сильно страдают от
повышения процентных ставок и валютного курса. Следует избегать
возлагать на денежную политику слишком большую антициклическую
нагрузку, частично поскольку центральный банк практически не мо-
жет вынести политического давления, а частично поскольку экономи-
ческие дисбалансы между секторами становятся в это время более за-
метными.
Трудности правильного сочетания денежной и финансовой поли-
тики обостряются, если их рассмотреть в межстрановом контексте.
Международное согласование политики — это не просто вопрос пра-
вильной структуры кредитно-денежной политики в целом. Оно вклю-
чает также область возможных взаимодействий между странами. Более
высокая степень согласования политики, очевидно, становится необ-
ходимой при режиме фиксированных валютных курсов или зон сво-
бодной торговли, а также в той степени, в какой различные страны
преследуют общие цели в области регулирования валютных курсов. Но
даже в случае отсутствия явных целевых уровней валютных курсов не-
которое международное согласование политики может все же прино-
сить выгоды в результате переноса воздействий мер экономической
политики. Общий сдвиг к ограничительной фискальной политике за
рубежом, например, уменьшит зарубежные расходы на приобретение
отечественного экспорта. Аналогично падение процентных ставок за
рубежом может повысить готовность международных инвесторов дер-
жать отечественные финансовые активы; это увеличение спроса на
активы отразится в установлении внутренних процентных ставок на
более низком уровне, чем они были бы в противном случае, но подни-
мет валютный курс, ухудшая в конечном счете отечественный торго-
вый баланс. Могут даже возникнуть самоподдерживающиеся циклы:
стимулирующая фискальная политика за границей, сопровождающая-
ся повышением там ставок процента, вызовет снижение обменного
курса отечественной валюты. В свою очередь более низкая стоимость
отечественной валюты затем ведет к росту внутренней инфляции и
инфляционных ожиданий, что может содействовать дальнейшему обес-
ценению валюты в зависимости от того, какие будут приняты ответ-
ные меры внутренней денежной политики.
Процесс международного согласования экономической политики
соответствует интересам взаимосвязанных стран. Более тесная коор-
динация может в принципе обеспечить большую устойчивость на ва-
лютных рынках, поскольку одновременно сохраняются некоторые осо-
бенности системы плавающих валютных курсов, которая приводит к
смягчению международных нарушений равновесия и ослаблению огра-
ничений на меры политики, вызванных автоматическими потоками
международных резервов при системе фиксированных обменных кур-
сов. Тем не менее, интересы независимых государств и ситуации в них
583
могут время от времени существенно расходиться. Это может произой-
ти либо из-за различий в определении конечных экономических целей,
либо из-за того, что страны находятся на разных стадиях экономичес-
кого цикла. В таких ситуациях область для соглашения о соответству-
ющем типе согласованной между странами макроэкономической по-
литики может быть ограничена.
БИБЛИОГРАФИЯ
Axilrod, S.H. 1985. US monetary policy in recent years: an overview. Federal Reserve
Bulletin 71(1), January, 14—24.
Bank of England. 1984. The Development and Operation of Monetary Policy, 1960-
1983. London: Oxford University Press.
Friedman, M. I960. A Program for Monetary Stability. New York: Fordham University
Press.
Goodhart, C.A.E. 1984. Monetary Theory and Practice: The UK Experience. London:
Macmillan.
Lindsey, D.E. 1986. The monetary regime of the Federal Reserve System. In Alternative
Monetary Regimes, ed. C.D. Campbell and W.R. Dougen, Baltimore: Johns
Hopkins University Press.
McCallum, B.T. 1984. Credibility and monetary policy. In Price Stability and Public
Policy. Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas City.
Poole, W. 1970. Optimal choice of monetary policy instruments in a simple stochastic
macro model. Quarterly Journal of Economics 84(2), May, 197—216.
Wallich, H.C. and Keir, P.M. 1979. The role of operating guides in US monetary policy
a historical review. Federal Reserve Bulletin 65(9), September, 679-91.
монополия
Эдвин Дж. Уэст
Monopoly
Edwin G. West
Ирвинг Фишер (Fisher, 1923) однажды определил монополию про-
сто как «отсутствие конкуренции». С этой точки зрения, критическое
или иное отношение к монополии связано с видением конкуренции
каждым автором. С точки зрения экономиста неоклассического направ-
ления, монополия — полная противоположность хорошо известной из
учебников «совершенной конкуренции». С другой стороны, современ-
ные авторы, придерживающиеся классической традиции, критикуют
модель совершенной конкуренции за то, что она не отражает процесс
конкурентной деятельности, игнорирует значение времени в кон-
курентных процессах, а также абстрагируется от трансакционных и ин-
формационных издержек.
В действительности «совершенная конкуренция» означает для эко-
номиста-неоклассика совершенную децентрализацию при нулевых из-
держках обмена. Но их современные критики настаивают, что обмен
не обходится без издержек. И по этой причине конкуренция может
сочетаться с существованием широкого спектра институтов, которые
требуются для компенсации влияния фактора времени, неопределен-
ности и трансакционных издержек (Demsetz, 1982). Такие институты
включают, например, связанные продажи, вертикальную интеграцию
и поддержание субсидированной изготовителем цены перепродажи.
Такое влияющее на цену поведение означает, что в реальном мире де-
централизация не является совершенной. Именно несовершенная де-
централизация лежит в основе классической парадигмы laissez faire.
Следовательно, многие явления, которые автоматически рассматрива-
ются неоклассиками как отсутствие совершенной конкуренции или
поведение, которое выглядит монополистическим, часто с одобрением
рассматриваются в рамках классической традиции.
Широко распространено мнение, что исторически наиболее обосно-
ванная и уничтожающая критика монополии содержится в «Богатстве
народов» Адама Смита. Действительно, Смит говорит о «монополии»
весьма часто, но обычно он использует этот термин в широком смыс-
ле, что характерно для XVIII в., относя сюда все виды политических
ограничений. Монополия в современном значении как единственная,
не испытывающая конкуренции фирма не была предметом рассмотре-
ния для Смита. Чаще всего он использовал данный термин, говоря об
отраслях с многими фирмами, пользующихся защитой закона. Таким
585
образом, «закон дал монополию нашим обувщикам не только против
наших животноводов, но и против наших дубильщиков» (Smith [1776],
1960, vol. 2, р. 153). Кроме того, вся система меркантилизма была осуж-
дена Смитом как монополистическая: «Монополия того или иного
типа, на самом деле, кажется, служит единственным двигателем мер-
кантилистской торговой системы» (Ibid., р. 129).
Последователи Рикардо больше занимались общими ограничения-
ми экономической деятельности, особенно связанными с фиксирован-
ным предложением земли. В «Началах политической экономии и на-
логообложения» Рикардо только на пяти страницах из 292 обсуждает-
ся монополия, а в «Основах политической экономии» Джона Стюарта
Милля — только на двух из 1004. Вслед за рикардианцами свой вклад
в утверждение необходимости или даже неизбежности конкуренции
внесла философия дарвинизма в середине XIX в. Действительно совре-
менная и более строгая теория монополии, показывающая, что равно-
весие должно определяться равенством предельной выручки и предель-
ных издержек, была выдвинута Курно в 1838 г. Но долгое время ей не
уделялось большого внимания.
В Америке классический (с позиций laissez faire) взгляд на конкурен-
цию и неполную децентрализацию преобладал, по крайней мере, до кон-
ца XIX в. Когда в 1890 г. был принят Антитрестовский закон Шермана,
экономисты почти единодушно противостояли ему. Несмотря на свое
общее расположение к широкому государственному вмешательству, ос-
нователь Американской экономической ассоциации Ричард Т. Эли (Ely,
1900), твердо отверг политически популярную политику «охоты на тре-
сты». Аналогично в конце 1880-х годов Джон Бейтс Кларк опасался, что
антитрестовские законы могут привести к потере эффективности, ко-
торую дают объединения предприятий или тресты. Объединение часто
было необходимо, чтобы привлечь капитал и избежать проблем в тече-
ние фазы спада экономического цикла. Другие экономисты того време-
ни, включая Саймона Н. Пэттена, Дэвида А. Уэллса и Джорджа Гайто-
на, были того же мнения. Последний утверждал, что концентрация ка-
питала не вытесняет небольших производителей из бизнеса, «но просто
объединяет их в более крупную и сложную систему производства, в ко-
торой они имеют возможность производить богатство более дешево для
общества и получать больший доход для себя». Гантон писал, что кон-
центрация капитала не ведет к уничтожению конкуренции, а наобо-
рот: «путем использования большого капитала, улучшенных машин и
оборудования трест может продавать и фактически продает дешевле, чем
отдельная корпорация» (Gunton, 1888, р. 385).
Рассмотрим теперь для контраста последующий неоклассический
подход, который в конечном счете сводился к сравнению монополии
с ее полной противоположностью — рыночной структурой совершен-
ной конкуренции. Этот подход постепенно развивался начиная с кон-
ца XIX в. и в конце концов в 1950-х годах достиг этапа эмпирического
измерения так называемых общественных издержек монополии. Наи-
более влиятельной стала работа Харбергера (Harberger, 1954), чья аргу-
ментация может быть обобщена на рис. 1.
586
Допустим, что долгосрочные средние издержки являются констан-
той для фирмы и для отрасли и представлены линией Мс ~ Ас. Выпуск
в условиях совершенной конкуренции должен быть равен величине Qc,
при которой линия Мс пересекает кривую спроса DD. Монополист мог
бы максимизировать свою прибыль, произведя Qm при цене Р. Его
монопольная прибыль (л) была бы представлена прямоугольником
АВСР. Потери потребительского излишка измеряются трапецией АЕСР.
Однако часть этой площади, представленная АВСР, соответствует не
чистой потере благосостояния, а простой передаче богатства от потре-
бителей монополисту. Чистые потери от монополии для общества в
целом соответствуют площади «треугольнйка благосостояния» АВЕ,
обозначенной на рис. 1 как у. Сделав ряд очень сильных предположе-
ний, в частности о том, что предельные издержки (Мс) постоянны для
всех отраслей и что эластичность спроса по цене всюду одинакова,
Харбергер оценил годовые потери благосостояния от монополий в про-
мышленности США в 1920-е годы в 59 млн дол. Эта цифра была на
удивление невелика, поскольку она составила только 0,1% националь-
ного дохода США в этот период.
Последующие авторы утверждали, что измерение Харбергера серьезно
недооценивало эффект монополии в силу статистических и других при-
чин. Джордж Стиглер (Stigler, 1956) возразил, что: 1) монополисты обыч-
но действуют в тех областях, где эластичность спроса больше единицы;
2) некоторые монопольные преимущества проявляются в балансовой
стоимости активов, что ведет к недооценке прибыли. Последующие ис-
следования, которые учли возражения Стиглера, оценили общественные
издержки монополии значительно выше, чем Харбергер. Так, Д.Р. Ка-
мершен (Kamerschen, 1966) сообщил о годовых потерях благосостояния
587
из-за монополии в 1956-1961 гг., равных примерно 6% национального
дохода. С другой стороны, Д.А. Уорчестер-младший (Worcester, Jr., 1973),
используя данные по фирмам, а не по отраслям и принимая эластичность
спроса равной —2, сообщил о максимальной оценке потери благососто-
яния порядка 0,5% национального дохода в период 1965-1969 гг. Возра-
жая против того, что Харбергер отождествлял нормальную конкурент-
ную норму прибыли с фактической средней нормой прибыли, в то вре-
мя как последняя содержит элемент монопольной прибыли, Каулинг и
Мюллер (Cowling and Mueller, 1978) сообщили, что 734 большие фирмы
в США генерировали в период 1963-1966 гг. потери благосостояния, со-
ставляющие 15 млрд дол. ежегодно, что равно 13% валового продукта
корпоративного сектора. Все эти возражения, очевидно, имели техни-
ческую природу, и их авторы неявно принимали основную методологию
Харбергера.
Рассмотрим теперь другой тип уточнений на базе той же основной
методологии. В бесконфликтном мире неоклассической модели, где все
издержки обмена равны нулю, для монополиста было бы выгодным
произвести больше, чем Qm на рис. 1. Это было бы так, например, при
установлении раздельного тарифа, где вторая цена берется за все по-
купки сверх Qm. Если эта цена находится точно на полпути между Р и
С, то можно показать, что треугольник потерь благосостояния умень-
шается до одной четверти своего первоначального размера у. Более ши-
рокое применение такого «составного» ценообразования может, конеч-
но, уменьшить треугольник потерь благосостояния еще больше. В слу-
чае нулевых издержек обмена, соответствующем неоклассическому
«миру», возможна совершенная ценовая дискриминация. В этом слу-
чае вся трапеция СРАЕ представляет собой трансферт богатства от по-
требителей производителям. Чистые потери благосостояния от моно-
полии в этом случае были бы нулевыми.
Если неоклассический аналитик возразит, что совершенная цено-
вая дискриминация не существует в реальном мире, то он должен обо-
сновать это. Однако трудно представить иной аргумент, кроме издер-
жек обмена, например положительных информационных издержек и
риска. Но такое объяснение подрывает «чистоту» неоклассической
модели и возвращает нас к классическому «миру» неполной децентра-
лизации, в котором имеющиеся знания ограничены и существуют ди-
намические изменения в условиях неопределенности.
Теперь опишем классическую модель монополии с помощью того
же рис. 1. Но сначала напомним, что вместо понятия совершенной
конкуренции как статического долгосрочного равновесия мы будем
придерживаться здесь взгляда на конкуренцию Адама Смита и его по-
следователей, а именно представим ее как процесс конкуренции, име-
ющий временное измерение. По Шумпетеру, например, конкурен-
ция — это «вечный поток созидательного разрушения». Вводящим нов-
шества предпринимателем движет, конечно, возможность получения
прибыли. Без этого модель децентрализации с laissez faire рухнет. Но
как только удачливый предприниматель получает прибыль, его дей-
ствия немедленно копируются другими, так что предпринимательская
588
прибыль постоянно находится под угрозой исчезновения в результате
конкуренции. Таким образом, в фокусе исследования находится непре-
рывная серия коротких периодов, что отличает классический анализ от
модели «совершенной конкуренции», которая всегда описывается в
терминах долгосрочного периода.
Предположим, что новый продукт X открыт предпринимателем, ко-
торый выпускает его количество Qm, продаваемое по цене Р(рис. 1). Те-
оретически он должен ограничить выпуск в сравнении с тем, который
произвели бы его потенциальные конкуренты, если бы они обладали его
знаниями и деловой проницательностью. Но поскольку в действитель-
ности они ими не обладают, единственной альтернативой для произ-
водства Qm продукта X является выпуск некоторого положительного
количества стандартных продуктов, которые производились ранее (пред-
ложение при этом Л"равно нулю). Следовательно, результат предприни-
мательской деятельности предпринимателя, производящего X, — чистый
общественный выигрыш, который измеряется на рис. 1 прибылью плюс
потребительский излишек S. Треугольник потерь общественного благо-
состояния (у) здесь отсутствует. Можно ожидать, что действия предпри-
нимателя приведут к возможному приходу в отрасль конкурентов. На
этом этапе конкуренция приведет к понижению цены и ее сближению
с издержками. Этот процесс будет означать трансферт богатства от пер-
вого предпринимателя к потребителям. Но его первоначальная времен-
ная прибыль была необходима для того, чтобы стимулировать его рань-
ше вынести продукт на рынок. Именно более раннее начало производ-
ства обеспечивает общественную выгоду. Итак, хотя эта временная
прибыль может быть описана как проистекающая из рыночной струк-
туры «несовершенной конкуренции», тем не менее, согласно смитиан-
ско-шумпетерианскому анализу описанные таким образом монополии
являются необходимыми институтами, поскольку экономический рост
без них был бы значительно более слабым. На самом деле общество при-
знает пользу таких монополий, когда предоставляет временные юриди-
ческие монопольные права в форме патентов.
Теперь необходимо рассмотреть особый феномен, называемый «ес-
тественной монополией». Говорят, что она существует там, где техни-
чески более эффективно иметь единственного производителя. Выжи-
вание такой единственной фирмы является обычно естественным ре-
зультатом первоначальной конкуренции между несколькими
производителями. Дж.С. Милль (Mill [1848], 1965, р. 962) был первым,
кто, говоря об этой монополии, использовал эпитет «естественная», че-
редуя его с эпитетом «практичная». Примеры, упомянутые Миллем,
включали газо- и водоснабжение, дороги, каналы и железные дороги.
В своей «Общественной экономии» (von Wieser, 1914) Фридрих фон
Визер был, вероятно, первым, кто провел различие между современ-
ной и классической концепциями монополии. Классическое (а, воз-
можно, также и марксистское) утверждение, что для монополии харак-
терна благоприятная рыночная позиции капитала в сравнении с пози-
цией труда, было ошибочным. То же относится и к ссылке Рикардо на
«монополию» на сельскохозяйственные угодья. Ведь ставки арендной
589
платы за жилье были конкурентными. Типичной реальной монополи-
ей для фон Визера было то, что он называл «единственным предприя-
тием», что аналогично «естественной монополии» в терминах Милля.
Прекрасной иллюстрацией служили услуги почты:
«В случае [такого] единственного предприятия принцип конкуренции
становится совершенно разрушительным. Параллельная почтовая сеть,
рядом с уже функционирующей, была бы экономическим абсурдом;
огромные суммы денег на ее создание и управление должны были бы тра-
титься совершенно впустую» (von Wieser [1914], 1967, р. 216—217).
Вывод состоял в необходимости некоторого государственного кон-
троля, такого, как, например, регулирование цен.
Можно предположить, что фон Визер был бы удивлен приложени-
ем (в 1980-е годы) к естественным монополиям новой теории «сорев-
новательного рынка (contestable market)». Согласно ее сторонникам
соревновательный рынок — это ситуация, в которой «доступ на рынок
совершенно свободный, а выход совершенно бесплатный» (Baumol,
1982). Для этих экономистов даже почтовая служба фон Визера — по
крайней мере, в принципе — открыта для такой рыночной соревнова-
тельности (хотя основной приводившийся новыми аналитиками при-
мер касался авиалиний). Сущность соревновательного рынка в том, что
он дает возможность для стратегии «бей — беги»: «Даже очень неста-
бильная возможность прибыли не должна упускаться потенциальным
«новичком», если он может войти на рынок и получить свой выигрыш
прежде, чем цены изменятся, а затем уйти без издержек, если ситуа-
ция станет для него неблагоприятной» (Baumol, 1982, р. 4).
В действительности такой новый анализ является теоретическим раз-
витием неоклассической модели совершенной конкуренции и особен-
но ее условия свободного доступа на рынок. Один из авторов даже пред-
почитает говорить о «сверхсвободном доступе», а не о «совершенной
соревновательности» (Shepherd, 1984). Существенной здесь является не
только возможность для новой фирмы закрепиться на рынке (стандарт-
ное условие «свободного доступа»), но и способность немедленно занять
положение, аналогичное позиции существующего в отрасли монополи-
ста и полностью заменить его. Более того, новичок может закрепиться
прежде, чем существующая фирма отреагирует на его появление сниже-
нием цен (предположение Бертрана — Нэша). Наконец, выход из отрас-
ли совершенно свободен и не связан с издержками. Безвозвратные из-
держки, другими словами, равны нулю. При выполнении этих условий
даже угроза входа в отрасль (потенциальная конкуренция) может держать
цену на уровне издержек. Следовательно, государственная схема регули-
рования цен может в этих условиях быть общественно вредной.
Хотя это теоретическое новшество открывает новые горизонты, оно
породило значительные разногласия относительно как внутренней со-
гласованности данной теории, так и ее эмпирической обоснованности.
Предположение о нулевых безвозвратных издержках вызвало наиболь-
шую критику. Отмечалось, например, что на большинстве рынков, по
определению, безвозвратные издержки более явно выражены в крат-
косрочном периоде, чем в долгосрочном. При наличии в любом виде
590
безвозвратных издержек «старожил» имеет пропорциональное потен-
циальное преимущество в ценообразовании перед новичком. Но лишь
в самом коротком периоде чистая теория соревновательных рынков
предусматривает реакцию в виде нулевой цены со стороны старожила.
Что же касается вопроса об эмпирической обоснованности, то Баумоль
и другие признают, что пока свидетельств в ее пользу недостаточно.
Сомнения в эффективности государственного регулирования цен
естественных монополий были также высказаны Демсетцем (Demsetz,
1968). Он предположил, что формальное регулирование необязатель-
но, если правительства могут найти «враждующих конкурентов», бо-
рющихся за исключительные права поставлять товар или услугу в те-
чение данного «контрактного периода». Появление единственной фир-
мы не обязательно обозначает монопольное ценообразование,
поскольку конкуренция могла проявиться прежде, на этапе борьбы за
привилегию. Монопольная структура рынка, следовательно, не обяза-
тельно предсказывает монопольное поведение, хотя некоторый элемент
последнего мог бы появиться, если, скажем, условия производства из-
менились бы в период действия контракта.
Аналогичная линия аргументации была в свое время предложена
Бентамом и Чедвиком. Исследование Чедвиком водоснабжения в Лон-
доне в 1850-е годы обнаружило ситуацию естественной монополии. Но
он утверждал, что причина неэффективности состояла в том, что дан-
ная область была поделена между «семью отдельными компаниями и
организациями, из которых шесть первоначально конкурировали в дан-
ной области так, что по одним и тем же улицам были проложены два
или три комплекта труб» (цит. по: Crain and Ekelund, 1976). Следуя ре-
комендациям Чедвика, конкуренция из расточительной формы конку-
ренции «в рамках отрасли» была переведена в форму «конкуренции за
отрасль». Та же аргументация была применена к железным дорогам.
Здесь отстаивалась общественная собственность, в то время как опе-
ративное управление должно было быть представлено тому, кто прой-
дет через конкурентную конкурсную процедуру с участием всех заин-
тересованных частных предприятий.
В качестве следующего шага нужно признать, что очень многие
монополии, если не большинство, неестественны, они возникают не из
непреодолимых экономических условий, а из искусственной ситуации,
обычно связанной с манипуляциями политической властью. В этих
случаях монопольное право обычно дается государством, но не для того,
чтобы способствовать введению нового продукта (как в случае с патен-
тами). Вместо этого одному поставщику предоставляется исключитель-
ное право торговли существующим продуктом или услугой, а все дру-
гие поставщики этого права лишаются. Естественное состояние кон-
куренции, таким образом, преобразовывается декретом в состояние
легальной монополии. В этом случае классический аналитик мог убе-
диться в полезности модели Харбергера, описывающей потери благо-
состояния при монополии.
Там, где монопольное право предоставляется правительством и це-
новая дискриминация запретительно дорога, на первый взгляд долж-
591
но казаться, что монопольная рента или «премия» успешному произ-
водителю может быть изображена прямоугольником, таким, как АВСР
на рис. 1. Но со времени выдающейся работы Тайлока (Tullock, 1967)
экономисты пришли к признанию того, что стремление к подобной
монопольной ренте само является конкурентной деятельностью, тре-
бующей затрат ресурсов. После работы Крюгер (Krueger, 1974) этот
процесс стал известен как «соискание ренты» (rent seeking) и часто
приобретает форму лоббирования, вкладов в избирательные кампании,
взяточничества и других способов влияния на власти, чтобы получить
исключительные права на производство, которые затем охраняются
аппаратом государственного принуждения.
В недавних работах был модифицирован вывод о том, что стоимость
ресурсов, использованных на соискание ренты, должна точно равняться
величине ренты. Некоторые авторы пришли к выводу, что лоббирова-
ние со стороны потребителей может в известной мере компенсировать
лоббирование со стороны потенциальных монополистов, так что регу-
лируемая цена устанавливается на уровне ниже, чем Р (но выше, чем
С) на рис. 1. В этом случае, конечно, прямоугольник ожидаемой мо-
нопольной ренты должен уменьшиться и производители, вместе взя-
тые, не должны тратить при соискании ренты больше, чем его площадь.
Джедлоу (Jadlow, 1985) еще более уменьшил ожидаемую величину
таких прямоугольников монопольной ренты, введя многопериодную
модель, в которой другие соискатели ренты продолжают конкурировать
! за монопольную премию, в то время как потребители, регулирующие
чиновники и те, кто ответствен за антимонопольную политику, про-
должают свои попытки устранить эту ренту. Следовательно, посколь-
ку монопольная рента рассматривается не как разовая премия, а как
дисконтированная ожидаемая стоимость рентных потоков за ряд буду-
щих периодов времени при наличии неопределенности, то инвестиру-
емые в деятельность по соисканию ренты ресурсы вряд ли могут быть
существенно сокращены.
Обычно экономисты подразумевают, что задачей государственной
политики в отношении монополии является устранение монопольной
прибыли теми или иными средствами. Однако проведенный анализ об-
наруживает, что общепринятые меры общественных потерь, выражен-
ные через «треугольники благосостояния» плюс прямоугольники потен-
циальных трансферов, которые частично «съедаются» за счет ресурсов,
направляемых на соискание ренты, преимущественно относятся к мо-
нополиям, установленным политически. Таким образом, мы пришли к
выводу, что адекватная (с точки зрения экономистов) государственная
политика проводится правительством с целью корректировки того, что
оно само создало. Прямым способом решить эту проблему, по крайней
мере по мнению наивных людей, было бы воздержание правительства
от предоставления монопольных привилегий. Однако недавно разрабо-
танная «экономическая теория политики» выявила причины того, почему
законодательная деятельность, создающая монопольную ренту, прису-
ща самой структуре демократической выборной политической системы.
Некоторые авторы (Brennan and Buchanan, 1980) считают, что сам ин-
592
статут правительства также является монополией. Если это действитель-
но так, мы встречаемся с парадоксальной ситуацией, когда государствен-
ная политика, предписываемая экономическими учебниками, состоит в
том, что монополия в целом регулируется или управляется учреждени-
ем, которое само есть монополия.
БИБЛИОГРАФИЯ
Baumol, W.J. 1982. Contestable markets: an uprising in the theory of industry structure.
American Economic Review 72(1), March, 1—15.
Brennan, G. and Buchanan, J. 1980. The Power to Tax: Analytical Foundations of
the Fiscal Constitution. Cambridge: Cambridge University Press.
Cowling, K. and Mueller, D.C. 1978. The social cost of monopoly power. Economic
Journal 88, December, 727-48.
Crain, W.M. and Ekelund, R.E., Jr. 1976. Chadwick and Demsetz on competition and
regulation. Journal of Law and Economics 19(1), April, 149—62.
Demsetz, H. 1968. Why regulate utilities? Journal of Law and Economics 11, April,
55-65.
Demsetz, H. 1982. Economic, Legal, and Political Dimensions of Competition,
Professor Dr F. de Vries Lectures in Economics. Vol. 4, Amsterdam: North-
Holland.
Ely, R.T, 1900. Monopolies and Trusts. New York: Macmillan.
Fisher, I. 1923. Elementary Principles of Economics. New York: Macmillan.
Gunton, G. 1888. The economic and social aspects of trusts. Political Science Quarterly
3(3), September, 385-408.
Harberger, A.C. 1954. Monopoly and resource allocation. American Economic
Association. Papers and Proceedings 44, May, 77—87.
Jadlow, J.M. 1985. Monopoly rent-seeking under conditions of uncertainty. Public
Choice 45(1), 73-87.
Kamerschen, D.R. 1966. An estimation of the «welfare losses» from monopoly in the
American economy. Western Economic Journal 4, Summer, 221—36.
Krueger, A.O. 1974. The political economy of the rent-seeking society. American
Economic Review 64, June, 291—303.
Mill, J.S. 1848. Principles of Political Economy. Ed. W.Y. Ashley. Reprinted, New
York: A.M. Kelley, 1965 // Милль Д.С. Основы политической экономии.
Shepherd, W.G. 1984. «Contestability» vs competition. American Economic Review
74(2), September, 572-87.
Smith, A. 1776. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 2
vols, ed. E. Cannan, London: Methuen, 1960 // Смит А. Исследование о при-
роде и причинах богатства народов. М., 1962.
Stigler, G. 1956. The statistics of monopoly and merger. Journal of Political Economy
64, February, 33-40.
Tullock, G. 1967. The welfare costs of tariffs, monopolies, and theft. Western Economic
Journal 5, June, 224-32.
von Wieser, F. 1914. Social Economics. Trans. A. Ford Hinrichs, New York: A.M.
Kelley, 1967.
Worcester, D.A., Jr. 1973. New estimates of the welfare loss to monopoly, United
States: 1956—69. Southern Economic Journal 40(2), October, 234—45.
593
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
Уилфред Беккерман
National Income
Wilfred Beckerman
Существуют многочисленные сложности и неясности, связанные с
понятием национального дохода, а также несколько его разумных аль-
тернативных определений. Тем не менее, можно сказать, что это по-
нятие обозначает тот доход, который население страны получает в силу
своей производительной деятельности. Некоторая неясность возника-
ет на почве различных определений «производительной деятельности».
Поэтому к понятию национального дохода лучше всего подойти через
более употребительный термин «национальный продукт» или один из
его вариантов. Самым распространенным из них является «валовой
национальный продукт».
Валовой национальный продукт — это ценность всего, что произ-
водит нация без повторного счета. Выражение «без повторного счета»
означает, что мы не должны учитывать цены тех благ, которые полно-
стью потребляются в процессе производства других благ, дважды: впер-
вые, когда они были произведены, и во второй раз, когда их ценность
вошла в ценность тех продуктов, в которых они воплотились. Напри-
мер, в условном примере, когда в стране производится только пшени-
ца, которая перемалывается в муку, а из муки выпекается хлеб, было
бы ошибкой прибавлять к ценности хлеба ценность муки и пшеницы,
так как она уже включает в себя ценность всех затраченных на произ-
водство хлеба ресурсов. В связи с этим один из способов измерения
национального продукта состоит в том, чтобы учитывать товары и услу-
ги, пересекающие «границу производственной сферы», т.е. переходя-
щие из сферы производства в сферу «конечного спроса», где блага уже
не используются для производства других благ.
Иначе говоря, один из путей измерения валового национального
продукта страны (ВНП) в любой период времени (скажем, год) — за-
ключается в том, чтобы просто суммировать ценность всех товаров, во-
шедших в конечный спрос за данный период. В конечный спрос, по
определению, входят «капиталообразование» (capital formation — капи-
тальные блага плюс изменение запасов), личное потребление (еда,
одежда, развлечения и т.д.) и общественное потребление (расходы на
содержание школ, больниц, национальную безопасность и т.д.). Необ-
ходимо также прибавить величину экспорта, так как, хотя население
данной страны и не использует эти блага и услуги, они были им про-
изведены и дают ему право предъявлять требования к другим странам.
594
По тем же причинам необходимо вычесть величину импорта, посколь-
ку, хотя эти блага и услуги входят в потребление данной нации, они
не были ей произведены и представляют собой притязания граждан дру-
гих стран.
Эта классификация конечного спроса не является единственной: ту
же величину можно получить и иначе. По историческим причинам
миллионы индивидуальных сделок, составляющих спрос, классифици-
руются согласно определенной теоретической «модели», в соответствии
с которой измеряется экономическая деятельность. Система счетов
национального дохода, по крайней мере в Англии (в меньшей степени
в США), сложилась в тесной связи с широким распространением кейн-
сианской теории среди английских экономистов к концу 1930-х годов,
и в частности в связи с влиянием Кейнса, в годы Второй мировой вой-
ны, которое способствовало количественной формулировке проблемы
аллокации ограниченных ресурсов между различными весьма остры-
ми потребностями в них. В результате выработанные — в основном под
руководством Ричарда Стоуна — методы и приемы национального сче-
товодства неизбежно попали под серьезное влияние кейнсианской
модели определения дохода.
В частности, расходы на приобретение конечного продукта были
разделены на две группы: государственные закупки товаров и услуг,
инвестиции и экспорт, которые в простейшей кейнсианской модели
рассматриваются как экзогенные впрыскивания в поток доходов, и эн-
догенно определяемые личное потребление и импорт. Это как раз те
переменные, которые фигурируют в простейших кейнсианских макро-
экономических моделях.
Национальное счетоводство интересовало Кейнса с точки зрения
финансирования военных расходов Великобритании. Этот интерес
нашел отражение в переориентации национального счетоводства США
с измерения «национального дохода» на измерение ВНП. Эти два по-
нятия различаются, поскольку инвестиционные блага, включаемые в
конечный спрос, фактически «потребляются» в процессе производства
других благ, хотя и не в тот период, к которому относится подсчитан-
ная величина национального продукта или дохода. В связи с этим каж-
дый раз требуется производить некоторые вычеты, чтобы учесть амор-
тизацию капитала за данный период и перейти, таким образом, к чис-
тому продукту. В результате мы получаем чистый (в отличие от валового)
национальный продукт страны, который совпадает с национальным
доходом. В этом случае «доход» определяется как доход нации за вы-
четом того, что было отложено на поддержание запаса капитала. Хотя
в краткосрочном периоде ВНП страны измеряет объем произведенных
товаров и услуг, которые можно использовать за этот период, страна
не могла бы поддерживать этот уровень производства и потребления
ресурсов, не откладывая часть выпуска на восстановление капитала.
Причиной переключения внимания с национального дохода на
ВНП была необходимость измерить производительную способность
экономики страны в краткосрочном периоде, что было актуально в
военное время, — в отличие от долгосрочного устойчивого уровня вы-
595
пуска. Так, в классическом примере анализа национального дохода
одним из пионеров в этой области, Саймоном Кузнецом (1933), чис-
тый национальный доход распределялся по формам, в которых он был
получен: заработная плата рабочих, жалованье служащих и т.д., но об-
щий выпуск не разделялся по типу конечного потребления, в то время
как в более позднем американском исследовании в этой области (Gilbert
and Jaszi, 1944) проводились оба эти деления и подчеркивалась важность
оценки валового национального продукта.
Какими бы ни были достоинства приведенной выше общеприня-
той системы классификации конечного спроса, и здесь существует до-
статочно неясностей и различий во мнениях о том, что составляет
конечный продукт (и следовательно, должно включаться в ВНП). На-
пример, часто считают, что часть — и даже большая часть — государ-
ственного потребления представляет собой скорее нежелательные, но
необходимые расходы, чем вклад в конечный продукт, и, таким обра-
зом, должна рассматриваться в качестве промежуточных благ (и услуг),
полностью потребляемых в процессе производства других благ, как
пшеница в производстве хлеба. Это может относиться, например,
к услугам полиции, которые — как порой утверждается — должны рас-
сматриваться как вклад в производственный процесс (поскольку без
них не существовало бы организованной экономики), и потому вклю-
чение ценности их услуг в конечное потребление по статье «государ-
ственное потребление» является «повторным счетом». Подобным
образом, часто утверждается, что различные услуги, вроде обществен-
ного транспорта, в действительности являются затрачиваемыми ресур-
сами, поскольку они являются для людей своего рода издержками, свя-
занными с необходимостью добраться до места работы.
Подобным образом, не существует четкого различия между доходом
от некой производительной деятельности (связанной с производством
конечных или промежуточных благ) и платежами, рассматриваемыми
как перераспределение, не связанное ни с какой производительной де-
ятельностью. Трансфертные платежи, например пенсии, являются яр-
ким примером последних. Но есть много других, которые трудно од-
нозначно отнести к тому или другому типу. В частности, в странах со-
ветского блока было принято рассматривать оплату многих услуг:
развлечений, услуг пассажирского транспорта, предоставляемых госу-
дарственным сектором, в качестве трансфертных платежей, а не опла-
ты производительной деятельности, ведущей к увеличению националь-
ного дохода.
Очевидно, граница между благами и услугами, которые в качестве
ресурсов используются в производительной деятельности (кстати, а ка-
кая деятельность является производительной?), и благами и услугами,
которые увеличивают конечное экономическое благосостояние, явля-
ется произвольной.
В принципе логически можно придти к выводу о том, что вся эко-
номическая деятельность представляет собой неизбежные издержки,
а чистый прирост экономического благосостояния равен нулю. Учиты-
вая произвольность решений о том, где провести границу между ко-
596
нечными и промежуточными благами или между трансфертными пла-
тежами и оплатой производительной деятельности, неудивительно, что
в разных странах способы расчета ВНП различаются.
Благодаря действиям международных организаций, особенно Орга-
низации экономического сотрудничества и развития и ООН, некото-
рые международные стандарты были введены и зафиксированы в сис-
теме национальных счетов (СНС). Первая версия этой системы, опуб-
ликованная в 1952 г. (ИЛО, 1952), была развитием доклада Лиги наций
«Измерение национального дохода и создание системы социальных
счетов», который во многом базировался на работе Ричарда Стоуна.
Время от времени в систему вводились изменения, и не все страны
могли взять на вооружение последние разработки. В 1983 г. Статисти-
ческим отделом ООН было установлено, что лишь 55% «рыночных
экономик» (не учитывались так называемые страны с централизован-
но планируемой экономикой — эвфемизм для обозначения стран со-
ветского блока и нескольких стран со схожей экономической системой)
смогли взять на вооружение новую систему стандартов во всей ее пол-
ноте.
Кроме того, некоторые страны — особенно страны советского бло-
ка — предпочитали иную концептуальную базу, известную как «систе-
ма материального продукта», которая ограничивала национальный про-
дукт благами и услугами, относящимися к сферам производства, ре-
монта, транспортировки и распределения материальных благ. Таким
образом, эта система учета исключает нематериальные услуги типа го-
сударственного управления, обороны, финансовых услуг, образования
и здравоохранения, личных услуг и того, что в большинстве современ-
ных обществ называется поддержанием закона и порядка. Французская
система национального счетоводства во многом напоминает советскую,
отчасти оттого, что она возникла в ранние послевоенные годы, когда
во Франции широко применялась система национального экономичес-
кого планирования. Франкоязычные страны Африки использовали
систему «Курсье», во многом близкую к системе материального про-
дукта, но включающую специальный метод оценки благ и услуг, про-
изведенных проживающими в стране негражданами (детали СНС
и других систем описаны в различных публикациях ООН, в том числе
в последних выпусках «А System of National Accounts»).
Однако не стоит думать, что единственной помехой на пути срав-
нения показателей национального дохода разных стран является раз-
личие методов, по которым они были вычислены. Следует подчеркнуть,
что любой показатель ВНП или национального дохода основан на оцен-
ках, порой довольно шатких предположениях и ненадежной информа-
ции. Как следствие показатели национального дохода часто подверга-
ются серьезным пересмотрам. Например, сравнение показателей ВНП
1977 г. нескольких стран, подсчитанных в 1977 г., и этих же показате-
лей, приведенных в 1979 г. в «World Tables», изданных Всемирным бан-
ком, показывает, что они изменились за эти два года более чем на 30%
для Замбии и Ганы, на 25% для Нигерии и примерно на 20% для мно-
гих других стран. Часто существуют несколько квазиофициальных по-
597
казателей ВНП для одной и той же страны (например, оценки цент-
рального банка и национальных статистических служб). Фактически
даже для стран с относительно развитой и сложной статистикой часто
одно и то же агентство, пользуясь разными методами, получает различ-
ные показатели ВНП.
Среди других теоретических проблем СНС можно назвать разницу
между валовым национальным продуктом и валовым внутренним продук-
том. Грубо говоря, «национальный продукт» — это то, что было про-
изведено резидентами страны, где бы они это ни произвели, а «внут-
ренний продукт» — это то, что было произведено людьми, оказываю-
щими услуги труда и капитала на территории страны независимо от их
гражданства и постоянного места проживания. В последней версии
СНС внутренний национальный продукт теперь определяется как цен-
ность всех товаров и услуг, произведенных и оказанных на территории
страны резидентами и временными резидентами независимо от того,
предъявляют ли на них спрос граждане данной страны или иностран-
цы. ВНП же определяется как общая ценность продукта жителей стра-
ны на ее территории и за рубежом, включая доход от услуг факторов
производства, оказанных за границей, за вычетом дохода, перечислен-
ного резидентами других стран за границу. Все упирается, таким об-
разом, в понятие «резидентов», которое обычно определяется как фак-
тическое население страны плюс число людей, пребывающих за гра-
ницей меньше года, и минус число людей, прибывших в данную страну
на такой же срок. Таким образом, для стран с заметной миграцией ра-
бочей силы или стран, где большая часть капитальных ресурсов при-
надлежит иностранцам, ВВП (произведенный на территории страны)
и ВНП (произведенный резидентами страны в определенном выше
значении этого слова) могут существенно различаться. Например, от-
ношение ВВП к ВНП колеблется от 1,22 в Бахрейне до 0,75 в Кувей-
те. В последней версии СНС понятие ВНП исключено и оставлено
только ВВП, но большинство стран все еще оценивают показатели
ВНП, и эти показатели фигурируют в статистике международных орга-
низаций. Действительно, существует распространенное мнение, что для
сравнения экономического благосостояния стран ВНП годится лучше,
чем ВВП.
Это не значит, что ВНП является хорошим показателем экономичес-
кого благосостояния, не говоря о благосостоянии в более широком
смысле этого слова. Кроме вышеуказанных теоретических проблем,
у ВНП как меры экономического благосостояния есть много других
недостатков, например: невозможность учесть внешние эффекты (за-
грязнение окружающей среды, перегрузку транспортных путей и тому
подобные отрицательные факторы); сложность оценки продукта, про-
изведенного в домашних хозяйствах, который может быть очень важ-
ным для бедных стран; неспособность оценить выпуск государствен-
ного сектора через величину прироста благосостояния, а не через
величину затрат; невозможность учесть деятельность многих государ-
ственных институтов и другие нерыночные виды деятельности (извест-
ным примером являются услуги домохозяек); невозможность оценить
598
различия в условиях труда и отдыха и, наконец, невозможность отра-
зить степень равномерности распределения дохода.
Кроме того, особые проблемы возникают при сравнении разных
временных периодов и разных стран. Пытаясь сопоставить уровни бла-
госостояния на основе показателей национального дохода разных лет,
нужно делать поправки на изменения общего уровня цен в стране.
В данном случае необходима оценка «реального» национального дохо-
да или реального ВНП. Но сравнить разные уровни цен вовсе не про-
сто, поскольку меняется качество продукции, ее ассортимент, а также
структура потребления.
Сходные проблемы возникают при сравнении «реального» нацио-
нального дохода разных стран, поскольку обменные курсы валют не
точно отражают различия в уровнях цен и паритетах покупательной
способности. Что касается стран с большими различиями в уровне
жизни, обычаях, структурах относительных цен и т.п., то для них не-
возможно выполнить надежное сопоставление реального национально-
го дохода, несмотря на выдающуюся работу, проделанную в этой об-
ласти командой под руководством Ирвинга Крэвиса, по методу, раз-
работанному в 1954 г. Гилбертом и Крэвисом.
Конечно, сравнение экономического благосостояния — это не са-
мое главное применение оценок национального дохода. Гораздо чаще
они используются в роли макроэкономических индикаторов: они по-
казывают, в какой степени экономическая деятельность расширяется
или сокращается, позволяют оценить вероятность таких явлений, как
напряженность на рынке труда или трудности с платежным балансом.
Такой вид макроэкономического анализа требует, конечно, гораздо
большего, нежели рассмотрение агрегированной величины националь-
ного дохода; нужен детальный анализ структуры ВНП по секторам,
типу произведенных товаров и услуг, типу расходов и т.д. Действитель-
но, главным изменением статистики национального дохода за многие
годы было не усложнение понятия национального дохода, а колоссаль-
ный рост сложности и детализации таблиц, отражающих его структу-
ру. Это сопровождалось привязкой счетов национального дохода к дру-
гим статистическим данным, например таблицам «затрат — выпуска»,
которые показывают связи между затратами и выпуском различных
отраслей экономики.
В последние годы существовала тенденция к дальнейшей дезагре-
гации национальных счетов и включению в них матрицы социальных
счетов, имеющей целью связать экономические данные с другими фор-
мами данных, характеризующих положение различных общественных
групп в экономике. Все эти изменения происходили в рамках общего
усложнения экономических моделей, объясняющих экономическое
поведение и предсказывающих различные экономические события.
К несчастью, несмотря на многократно увеличившиеся вычислитель-
ные возможности, эти усилия не увенчались заметным успехом.
599
БИБЛИОГРАФИЯ
Gilbert, М. and Jaszi, G. 1944. National product and income statistics as an aid in
economic problems. Dun’s Review. Reprinted in Readings in the Theory of Income
Distribution, ed. W. Fellner and B.F. Haley, Philadelphia: Blakiston, for the
American Economic Association, 1946.
Gilbert, M. and Kravis, I.B. 1954. An International Comparison of National Products
and the Purchasing Power of Currencies. Paris: Organisation of European Economic
Cooperation.
Gilbert, M. et al. 1958. Comparative National Products and Price Levels. Paris:
Organisation of European Economic Cooperation.
Kravis, I.B., Heston, A. and Summers, R. 1982. World Product and Income.
Baltimore: John Hopkins Press, for the World Bank.
Kuznets, S. 1933. National Income. Encyclopedia of the Social Sciences. Reprinted
in Readings in the Theory of Income Distribution, ed. W. Fellner and B.F. Haley,
Philadelphia: Blakiston, for the American Economic Association, 1946.
UNO. 1952. A System of National Accounts and Supporting Tables. New York: United
Nations Publications, Series F, no. 3
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
Генри У. Шпигель
National System
Henry W. Spiegel
Термин «национальная система политической экономии» ведет
происхождение от американских и немецких идей, которые возникли
в противовес универсалистскому характеру классической экономичес-
кой науки и, по замыслу, должны были способствовать тому, чтобы
государственная политика служила экономическому развитию нации.
Это развитие, как представлялось, должно было привести к равнове-
сию между сельским хозяйством и промышленностью и наилучшим
образом раскрыло бы экономический потенциал страны. Термин «аме-
риканская система» появляется уже в 1787 г. в 11-м номере «Федера-
листа» (The Federalist), в котором Александр Гамильтон призывал своих
читателей: «Пусть тринадцать штатов, связанных вместе в тесный и
неразрывный Союз, сообща возводят единую великую американскую
систему, стоящую выше контроля или влияния любой силы с той сто-
роны Атлантического океана и способную диктовать условия, на ко-
торых будет поддерживаться связь между Старым и Новым Светом».
В более подробном виде предложения Гамильтона относительно
путей и средств построения американской системы можно найти в
принадлежащих его перу великих государственных документах, напи-
санных в то время, когда он был министром финансов в правительстве
президента Вашингтона, и посвященных вопросам мануфактур, наци-
онального банка и государственного долга. Он хотел, чтобы новая нация
с помощью этих трех инструментов вышла за рамки сельской эконо-
мики отцов-основателей, которую пытался сохранить Томас Джеффер-
сон, главный противник Гамильтона. Среди названных Гамильтоном
специальных средств содействия промышленному развитию выделя-
лись [поощрительные экспортные] премии [bounties], или субсидии
[subsidies]. Впоследствии экономисты делали больший упор на протек-
ционистские тарифы [protective tariffs], чем на поощрительные премии.
В число этих авторов входил Дэниэл Рэймонд, балтиморский про-
курор, чья работа 1820 г. «Мысли о политической экономии» (Thoughts
on Political Economy) хотя и не развивала понятие национальной сис-
темы во всех подробностях, но внесла существенный вклад в последу-
ющую интерпретацию термина. Рэймонд ввел в оборот концепцию
«производственных возможностей» производить товары («capacity» to
produce goods), которую он отождествлял с национальным богатством.
607
Он возлагал на правительство обязанность использовать и наращивать
эту способность с помощью политики протекционизма. Его призыв к
протекционистским тарифам был основан на аргументах защиты за-
рождающихся отраслей и повышения уровня занятости (Раймонд не-
двусмысленно писал о «полной занятости»).
Следующий шаг в разработке концепции национальной системы
сделал Фридрих Лист, немецкий экономист и предприниматель, кото-
рый в 1827 г. во время своего пребывания в Соединенных Штатах опуб-
ликовал «Очерки американской политической экономии» (Outlines of
American Political Economy). Как и Гамильтон, Лист пишет об «амери-
канской системе», которой предстояло реализовать свой потенциал с
помощью тарифного протекционизма. Эта работа была написана и рас-
пространена по настоянию Пенсильванской ассоциации промышлен-
ников, члены которой требовали защиты от конкуренции с помощью
импортных тарифов. Сочиненная в форме писем, адресованных одно-
му из ведущих протекционистов, работа публиковалась по частям с про-
должением в филадельфийской «Национальной газете» (National Ga-
zette) и перепечатывалась более чем 50 другими газетами. После изда-
ния в форме памфлета ее распространяли, как позднее сообщал Лист,
во «многих тысячах» экземпляров. Она была отправлена членам Кон-
гресса и, несомненно, способствовала принятию Акта о тарифах 1828 г.
В 1837 г., пытаясь выиграть конкурс и получить премию, Лист на-
писал на французском языке эссе «Естественная система политичес-
кой экономии» (The Natural System of Political Economy), которое, од-
нако, оставалось неопубликованным до 1927 г., когда его напечатали
на французском и немецком. Английский перевод появился только в
1983 г. Эта работа в ряде отношений предвосхищала главный труд Ли-
ста «Национальная система политической экономии» (National System
of Political Economy), в котором доктрина национальной системы до-
стигла своего расцвета. Эта работа была опубликована в Германии в
1841 г.; английский перевод, финансовую поддержку которому оказа-
ли протекционистские круги в Соединенных Штатах, появился в
1856 г., а еще один, изданный в Англии, — в 1885 г. Эта работа — сама
по себе достаточно существенная — планировалась как первая часть бо-
лее обширного проекта, который, однако, так и не был завершен. Из
английских переводов в более раннем отсутствует предисловие, в то
время как в более позднем содержатся выдержки из этого предисло-
вия, но опущена вводная глава, в которой кратко излагается содержа-
ние работы.
В «Национальной системе...» Лист критикует представителей клас-
сической политической экономии по различным направлениям. Он об-
виняет их в том, что они построили такую теоретическую систему, ко-
торая пронизана индивидуализмом и космополитизмом, но игнориру-
ет нацию. Согласно Листу, сообщество наций не является однородной
группой, а образуется из членов, которые находятся на разных уров-
нях своего развития. Затем Лист переходит к построению теории ста-
дии, которая рассматривает прогресс от аграрной стадии к стадии, на
которой сельское хозяйство сочетается с промышленностью, а далее
602
следует стадия, на которой сельское хозяйство, промышленность и тор-
говля объединяются в единое целое. Лист склонен отождествлять сель-
ское хозяйство с бедностью и низким уровнем культуры, в то время как
промышленность и урбанизация приносят благосостояние и культур-
ные достижения. Классики с их однородной картиной мира, в кото-
рой игнорировались национальные различия, были склонны к выводу
о том, что слабое развитие Соединенных Штатов и континентальной
Европы относительно высокоразвитой Британии сохранится навсегда.
Согласно Листу, каждая стадия и каждая нация, находящиеся на соот-
ветствующей стадии своего развития, требуют особого набора эконо-
мических доктрин, тогда как «классики» претендовали на универсаль-
ную применимость своего учения.
В глубине души Лист хотел усовершенствовать замысел Провиде-
ния, обратив всех людей в англичан. Чтобы продвинуться к более вы-
соким стадиям, слаборазвитым странам необходимо было обратить
внимание на свои производственные возможности. Их развитие и ис-
пользование, согласно Листу, было непосредственной задачей перед
национальными правительствами. В связи с этим Лист призывал к со-
зданию либеральных политических институтов, к построению того, что
сегодня известно как социальная инфраструктура, особенно транспорт-
ных коммуникаций, к сбалансированному росту и тарифному протек-
ционизму для зарождающихся отраслей промышленности (но не для
сельского хозяйства). Лист одобрял фритредерскую ориентацию «клас-
сиков» для будущего, когда все нации используют свой потенциал и
достигнут наиболее прогрессивной стадии. Тогда свободная торговля
сочеталась бы со всеобщим миром и всемирной федерацией.
Ряд вопросов у Листа остался без ответа. Начнем с наиболее часто
встречающегося возражения против аргумента в пользу протекциониз-
ма, связанного с зарождающейся отраслью: каковы критерии для того,
чтобы определить зарождающиеся отрасли промышленности, устано-
вить, когда они достигнут зрелости и протекционизм, предположитель-
но, должен закончиться? Лист также не объяснил, каким образом тот
род экономической войны, который он рекомендовал, готовил бы по-
чву для всеобщего мира. Не предусматривал он и возможность того,
что, как только все страны достигнут того уровня, который он назы-
вал нормальным состоянием, одна нация может опять вырваться впе-
ред, возможно, в силу технологических успехов — вопрос, который с
большой проницательностью рассматривал Юм, анализируя «миграцию
экономических возможностей».
Лист был протекционистом еще в молодые годы в своей родной
Германии. Его протекционистские пристрастия особенно ярко прояви-
лись в Соединенных Штатах, где он столкнулся с еще более мощным
потенциалом экономического развития и где изменение экономичес-
ких условий было более быстрым и больше бросалось в глаза. Там су-
ровая критика Листом «классиков» нашла плодородную почву, посколь-
ку много элементов их «мрачной науки» очевидно не подходило для
американских условий, особенно Мальтусова теория народонаселения
и рикардианские теории зарплаты, основанной на прожиточном ми-
603
нимуме, убывающей отдачи и свободы торговли. Таким образом, ра-
бота Листа влилась в единый поток с работами критиковавших «клас-
сиков» коренных американцев, особенно Генри Кэри, который разра-
ботал теорию возрастающей (а не убывающей) отдачи и одновремен-
ного роста заработной платы и прибылей и заявил, что любой прирост
населения порождает одновременно потребителей и производителей.
Согласно Самуэльсону, «логика Кэри нередко была непоследователь-
ной, а его многословный стиль ужасен. Но его фундаментальные эм-
пирические выводы представляются правильными для его времени и
страны, в которой он жил» (Samuelson, 1960, р. 1732). С 1848 г. Кэри
становится ревностным пропагандистом протекционизма. К этому вре-
мени Лист уже умер, и неизвестно, в какой степени (если это вообще
имело место) Кэри находился под его влиянием. Ни тот, ни другой не
разрабатывали свои рецепты тарифного протекционизма изолирован-
но, а делали это в качестве составной части более широкого учения —
теории экономического развития Листа и теории гармонично органи-
зованного общества Кэри.
Среди политических лидеров Соединенных Штатов Генри Клей
обычно упоминается как архитектор американской системы, в которой
промышленный восток и аграрный запад были объединены в могучий
союз. Он призвал к созданию такой системы в 1824 г. в знаменитой
речи, в которой поддержал протекционистские тарифы как инструмен-
ты промышленного развития. Позднее, в 1870 г., Фрэнсис Боуэн, один
из первых преподавателей экономики в Гарварде, опубликовал работу
«Американская политическая экономия» (American Political Economy),
в которой поддержал тарифный протекционизм и из-за которой он
потерял свое место, так как президент университета перевел его на
должность преподавателя истории — как предполагалось, менее спор-
ной области науки.
В Германии идеи Листа оказали глубокое и продолжительное вли-
яние. Он выступал за создание таможенного союза, который в 1844 г.
охватил почти всю Германию, и агитировал за строительство железных
дорог и тарифный протекционизм. Само название экономической на-
уки в Германии — «национальная экономия» (Nationaloconomie) вы-
зывает ассоциации с работой Листа. Некоторые немецкие историки
экономической мысли сравнивали Листа с Марксом. Оба имели уто-
пическое представление о будущем обществе. Оба в значительной мере
смешивали теорию и практику, а также экономическую науку и эко-
номическую политику. Оба имели репутацию бунтарей, которые про-
тивостояли установленному порядку. Интересна такая мелочь: в 1841 г.
Лист отклонил предложение стать редактором «Рейнской газеты»
(Reinische Zeitung) — пост, который в следующем году занял Маркс.
Идеи Листа родственны исторической школе и институциональной
экономической теории, которые имели свое представление о возмож-
ности универсально применимых экономических доктрин. Слово «си-
стема», очищенное от содержащегося в нем протекционистского смыс-
ла, продолжало играть ключевую роль в сочинениях таких немецких
экономистов XX в., как Вальтер Ойкен и Вернер Зомбарт. Слабый от-
604
голосок гамильтоновской идеи можно различить также в современном
использовании этого слова в связи со сравнительным изучением эко-
номических систем.
БИБЛИОГРАФИЯ
Carey, Н. 1858-9. Principles of Social Science. 3 vols, Philadelphia; Lipincott.
Conkin, P.K. 1980. Prophets of Prosperity: America’s First Political Economists.
Bloomington: Indiana University Press.
Dorfman, J. 1946. The Economic Mind in American Civilization, vols 1—2. New York:
Viking Press.
Hamilton, A. 1934. Papers on Public Credit, Commerce and Finance. Ed. S. McKee,
New York: Columbia University Press.
Henderson, W.O. 1983, Friedrich List: Economist and Visionary 1789—1846. London:
Cass.
Hirst, M.E. 1909. Life of Friedlich List and Selections from His Writings. London:
Smith, Elder.
Samuelson, P.A. 1960. American economics. In.: Postwar Economic Trends in the
United States, ed. R.E. Freeman, New York: Harper. Reprinted in P.A.
Samuelson, Collected Scientific Papers, vol. 2, ed. J.E. Stiglitz, Cambridge, Mass.:
MIT Press, 1966.
Spiegel, H.W. I960, The Rise of American Economic Thought. Philadelphia: Chilton.
Spiegel, H.W. 1983. The Growth of Economic Thought. Revised and expanded edn,
Durham, North Carolina: Duke University Press.
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
И ЭВОЛЮЦИЯ
Сидни Уинтер
Natural Selection and Evolution
Sidney G. Winter
Для важных теоретических концепций часто трудно бывает найти
удовлетворительные определения (ср.: Stigler, 1957). Такие концепции
часто используются для того, чтобы расширять сферу влияния теорий,
в рамках которых они возникают, и поэтому должны быстро приспо-
сабливаться к новым требованиям, для того чтобы поддерживать по-
рядок в меняющей свои границы интеллектуальной империи. Термин
«эволюция», играющий несомненно важную роль в биологии, а также
в других естественных науках, является хорошей иллюстрацией указан-
ного принципа. Видный биолог, автор фундаментального труда, посвя-
щенного биологической эволюции, предлагает в глоссарии следующее
определение:
«Эволюция». Любое постепенное изменение. Биологическая эволюция,
часто для краткости именуемая просто «эволюция», есть любое гене-
тическое изменение организмов, происходящее от поколения к поколе-
нию. Более строго, это протекающее от поколения к поколению изме-
нение уровней распространенности генов (gene frequencies) внутри по-
пуляции» (Wilson, 1975).
Обратим внимание на внезапное резкое сокращение понятийного
поля в каждой последующей фразе этого определения по сравнению с
предыдущей. Первая фраза относится к обычному употреблению тер-
мина; упоминание об уровнях распространенности генов в финальной
части определения свидетельствует о том, что термин принадлежит ис-
ключительно биологической сфере, но мало проясняет его смысл. Не-
специалисту остается гадать, приложим ли этот термин к истории с вы-
миранием динозавров; возможно, у него возникнет также вопрос, на-
сколько адекватно слова «постепенные изменения» отражают типичные
особенности биологической эволюции, эволюции культуры и эволюции
небесных тел.
В той мере, в которой биологии принадлежит «преимущественное
право» на концепции «естественного отбора» и «эволюции», значение
этих терминов обычно рассматривается как специфическое для данной
науки. Отсюда, как представляется, следует, что приложение эволюци-
онного подхода к другим научным сферам можно отнести к рубрике
«биологических аналогий». Из этого, как обычно полагают, в свою оче-
редь следует, что адекватность использования эволюционного подхода
606
каким-то образом зависит от обоснованности параллелей между рас-
сматриваемой ситуацией и ситуациями, изучаемыми в биологии. По-
иск обоснованных параллелей в существенной мере затрудняется бла-
годаря тому факту, что наиболее яркая черта биологической эволю-
ции — половое размножение — является, если можно так выразиться,
специфической. Хотя бесполое и гаплоидное размножение играет важ-
ную роль в реальности, изучаемой биологической теорией (в связи с
чем им отведено должное место в соответствующих ее разделах), кри-
тики «биологических аналогий» обычно делают акцент на вопросе, «что
является аналогией генетической наследственности», имея в виду по-
ловое размножение. Можно привести убедительные аргументы в пользу
того, что невозможность проведения в этой части абсолютно точных
аналогий не обязательно сводит на нет пользу от их применения. Тем
не менее, безусловно справедливым является утверждение, что сущест-
венную часть биологической теории трудно адаптировать для изучения
вопросов, не относящихся к биологии, поскольку феномен полового
размножения имеет ключевое значение для анализа. В данном очерке
выдвигается радикальный подход к этим вопросам: в нем ставятся под
сомнение предпочтительные права биологии на концепцию эволюции,
осуществляемой в процессе естественного отбора. Излагается базовая
структура эволюционного анализа, и, хотя при этом в термины «эво-
люция» и «отбор» вкладывается содержание, которое, несомненно, ис-
пытывает сильное влияние эволюционной биологии, данная структу-
ра более адекватна для обсуждения различных типов эволюции куль-
туры, чем биологической эволюции (по крайней мере, в той степени,
в какой механизм биологической эволюции связан с фактором поло-
вого размножения). Затем приводятся примеры использования эволю-
ционного подхода в экономической науке: с эволюционной точки зре-
ния рассматриваются развитие производительного знания и свойства
«экономического человека».
ОБЩАЯ СХЕМА ЭВОЛЮЦИОННОГО АНАЛИЗА. В фундамен-
тальном — и наиболее абстрактном — значении термин «эволюцион-
ный процесс» представляет собой процесс избирательного сохранения
информации. Рассмотрим для иллюстрации комплект книг в библио-
теке, обслуживающей студентов начальных курсов. Такая библиотека
обычно имеет много экземпляров одних и тех же книг. С учетом того
что книги могут быть утеряны, украдены или приведены в негодность
вследствие длительного употребления, а также ввиду того, что програм-
мы преподавания не претерпевают существенных изменений, библио-
тека будет достаточно часто заказывать новые экземпляры книг, уже
имеющихся в ее фондах.
Хотя каждый конкретный том является сложным информационным
объектом и во многом уникален, тем не менее, можно выделить «типы»
книг — например, книги одного автора под одним и тем же названи-
ем. С формальной точки зрения критерий «один и тот же автор и на-
звание» задает отношение идентичности в рамках набора книг — от-
ношение, которое имеет наиболее важное значение для библиотекарей,
607
студентов, профессоров и пр. Однако наряду с этим существует мно-
жество других отношений идентичности: «то же издательство», «та же
классификация по каталогу библиотеки Конгресса»», «обложка того же
цвета» и т.д. Принимая во внимание множество «измерений» каждой
из книг, находящихся в фондах библиотеки, возможности нахождения
отношений идентичности, которые на деле представляют собой альтер-
нативные подходы к «описанию» фондов библиотеки, являются прак-
тически неограниченными.
Теперь рассмотрим изменения, происходящие в такой библиотеке
в течение года — скажем, в промежутке между регулярными инвента-
ризациями, происходящими по окончании учебного года, когда выда-
ча книг прекращается, а все книги, подлежащие возврату, действитель-
но возвращаются в хранилище. С точки зрения гипотетического все-
объемлющего описания фондов библиотеки (которое, к примеру,
принимает во внимание все сделанные читателями выделения в тек-
сте и проставленные на полях вопросительные знаки) объем измене-
ний является огромным — в том смысле, что его описание потребует
очень много битов информации. Более практичный подход к описанию
изменений заключается в том, чтобы выделить одно или несколько
существенных отношений идентичности и подсчитать для двух момен-
тов времени число объектов, принадлежащих к одному и тому же типу.
К примеру, в момент времени t можно подсчитать число объектов,
идентичных по критерию «заглавие и автор», а полученный результат
сравнить с результатом, полученным для того же круга объектов в мо-
мент времени / + 1. И в то время как библиотекарь может быть заин-
тересован главным образом в оценке разности между полученными
цифрами, теоретик-эволюционист, скорее всего, разделит второй ре-
зультат на первый и назовет частное (наблюдаемой) степенью «приспо-
собленности» (fitness) данной книги данного автора. (Разумеется, эта
процедура имеет смысл только в том случае, если делитель не равен
нулю.)
Рассуждая подобным образом, представляется возможным обсуж-
дать проблему о том, каким образом фонды библиотеки претерпевают
«естественный отбор» (по признаку «заглавие и автор»). Этот термин
описывает действие сложного набора процессов, которые приводят к
появлению в библиотеке новых книг и исчезновению старых. Слово
«естественный» отражает точку зрения, что эти процессы нельзя пол-
ностью объяснить намерениями некоего индивидуального действующе-
го лица, контролирующего ситуацию в целом, — например, заведую-
щего библиотекой. Там, где эта точка зрения не обоснована, эволюци-
онный подход к изучению фондов библиотеки может быть отвергнут
и заменен изучением намерений агента, контролирующего ситуацию.
Эволюционный подход к изучению фондов библиотеки в том виде,
в каком он изложен выше, может служить полезной аналитической
структурой, но он не является теорией. В частности, понятие «приспо-
собленность» дает лишь чисто тавтологическое «объяснение» измене-
ний, происходящих в фондах библиотеки с течением времени. (Кроме
того, это лишь частичное объяснение: во-первых, потому, что существу-
608
ет проблема новых приобретений — в этом случае делитель будет ра-
вен нулю, и, во-вторых — что гораздо важнее, — потому, что он рас-
сматривает достаточно простую структуру отношений идентичности и
не претендует на всеобъемлющее описание объектов.) Превращение
данной аналитической структуры в теорию не представляет сложнос-
ти: достаточно предположить, к примеру, что степень приспособлен-
ности по признаку «заглавие и автор» постоянна во времени. Такая
теория имеет богатое эмпирическое содержание, но, к сожалению, она
является ложной. С ее «слабой версией», опирающейся на предполо-
жение о «приблизительном постоянстве» степени приспособленности,
дела обстоят ненамного лучше. Сложность состоит в создании в рам-
ках эволюционного подхода успешных теорий, имеющих эмпиричес-
кое содержание. Говоря более конкретно, необходимо получить нетав-
тологичные утверждения относительно теоретической приспособлен-
ности, которые подтверждались бы путем наблюдений за фактической
степенью приспособленности. Будет ли поиск таких утверждений ус-
пешным, зависит от того, какие отношения идентичности подвергаются
изучению.
В примере с библиотекой выбор отношения идентичности «загла-
вие и автор» является мастерским ходом творческого мышления (или
был бы таковым, если бы не был столь очевиден). Путем использова-
ния признаков «заглавие» и «автор» в качестве таксономических кри-
териев в краткой форме суммируется значительный объем детальной
информации об отдельных книгах. Кроме того, на точность механиз-
ма «наследственности» в данной эволюционной системе оказывают
влияние типографии и издатели (а также законы об авторских правах
на воспроизведение печатной продукции). Механизм отбора имеет так-
же устойчивые характеристики, отражающие существование и неизмен-
ность академических кафедр, профессорских должностей, поточных
курсов, списков рекомендуемой литературы и размеров бюджета биб-
лиотеки.
Для ученого-эволюциониста, занимающегося изучением фондов
библиотеки, могут представлять интерес детальные знания о реальных
системах, которые управляют наследственностью и отбором, но такие
знания не являются для него настоятельно необходимыми. Единожды
обратившись к идее о том, что использование критерия «заглавие и
автор» находится в важной связи с более широким комплексом фак-
торов, определяющих эволюцию фондов библиотеки, исследователь
может добиться значительного прогресса, не располагая ответами на
многие вопросы о причинах плодотворности этой идеи.
С точки зрения формальной, тавтологической структуры эволю-
ционного подхода исследователь может с тем же успехом выделять
типы книг по таким отношениям идентичности, как «одно и то же
первое слово на пятнадцатой странице». Он может подсчитать чис-
ло книг, относящихся к выделенным типам, и измерить степень их
приспособленности по соответствующему признаку. При этом (ех
post) может оказаться верным утверждение, что в библиотеке наблю-
дается доминирование «наиболее приспособленных» книг — или,
609
точнее, что для долгосрочного сосуществования книг в библиотеч-
ном фонде необходимо, чтобы они имели приблизительно равную
степень приспособленности. Тем не менее, было бы удивительно,
если бы такого рода исследование выявило интересные эмпиричес-
кие закономерности.
Если рассматривать предшествующее обсуждение эволюции фон-
дов библиотеки, обслуживающей студентов начальных курсов, как по-
пытку проведения аналогии с биологической сферой, то теперь при-
шло время остановиться на соответствиях, которые до сих пор не были
артикулированы. Типы книг, выделенные по признаку «заглавие и ав-
тор», соответствуют видам. Различные издания данной книги соответ-
ствуют генотипам, поскольку между ними существуют систематичес-
кие различия, которые, однако, являются незначительными по срав-
нению с различиями между собственно типами книг. Подчеркнутые и
выделенные читателями фразы, разорванные страницы и т.п. являют-
ся примерами фенотипических вариаций, связанных с различными
ситуациями, в которые попадала конкретная книга в течение своего
жизненного цикла. Библиотека Конгресса представляет собой готовую
таксономическую структуру для обсуждения эволюции, протекающей
на надвидовом уровне. Очевидно, что журналы выступают совершен-
но специфической формой литературы, поскольку традиционная чет-
кая зависимость между названием и автором для них не является до-
минирующей.
Однако с равным успехом можно отталкиваться от «эволюционной
библиографии» как от прототипа эволюционной науки и описывать
биологические процессы в терминах библиографических аналогий (ра-
зумеется, абстрагируясь от фактов реальной истории и глубоких раз-
личий в степени разработанности двух этих сфер исследования). В этом
контексте ключевая идея, на которой основывается сила эволюцион-
ного подхода, — это идея о типах, в рамках которых отдельные объек-
ты (особи) являются, с точки зрения наблюдателя, близкими «копиями»
друг друга. Значение слова «близкие» в данном случае подразумевает
контраст между небольшими различиями внутри типа и значительны-
ми различиями между типами. С этой идеей связаны идея подсчета —
или измерения каким-либо иным способом — общего числа объектов,
относящихся к одним и тем же типам в разные моменты времени, а так-
же представление о том, что с течением времени в рамках существо-
вавшего прежде типа появляются новые особи, — при этом подразу-
мевается, что существует некоторая возможность «производства» но-
вых «копий» объектов.
Биологические виды, размножающиеся половым путем, представ-
ляют собой сложный вариант этой базовой эволюционной парадигмы.
Процесс производства наиболее точных копий — репликация хромо-
сом в ходе гаметогенеза — связан отчасти с передачей информации,
которая не является полным генетическим описанием ни родительской,
ни дочерней особи. Концепция генетически идентичных особей — осо-
бей, сходных между собой, как отдельные книги одного и того же ти-
ража — занимает место в теоретических моделях, однако в связи со
610
сложностью генетической структуры особей и специфическим харак-
тером полового размножения данный феномен редко встречается сре-
ди тех видов организмов, которые размножаются половым путем. Одно
из следствий этого заключается в том, что концепция «видов», игра-
ющая центральную роль в эволюционной биологии, отражает непол-
ностью разрешенное противоречие между таксономическими критери-
ями и репродуктивными критериями (критериями скрещивания). Это
затруднение обусловлено спецификой феномена полового размноже-
ния. Возможно, оно отчасти является отражением того факта, что окон-
чательное решение наиболее фундаментальной проблемы происхожде-
ния видов еще не найдено: жесткое определение понятия «вид» пре-
пятствовало бы достижению этой важной цели.
В любом случае наша точка зрения заключается в том, что прило-
жение структуры эволюционного анализа к эмпирическому материалу
в общем случае требует разработки таксономической системы (или,
более формально, системы отношений идентичности между рассмат-
риваемыми особями), к которой могут быть применены обобщенные
концепции наследственности, приспособленности и отбора.
ЭВОЛЮЦИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЗНАНИЯ. Много видных эко-
номистов придерживались того или иного варианта идеи о том, что эво-
люционные принципы, или биологическая наука, содержат интеллек-
туальные модели, на которые экономистам следовало бы равняться.
Знаменитое утверждение А. Маршалла, что «Меккой экономиста яв-
ляется скорее экономическая биология, нежели экономическая дина-
мика» (Маршалл, 1993, с. 53), является очевидным и веским выраже-
нием этой идеи. Б. Томас (Thomas, 1983) со всесторонней полнотой
анализирует истоки, значение и следствия данного утверждения в раз-
витии теоретической концепции Маршалла, подчеркивая важность
идеи о необратимых эволюционных изменениях в экономической жиз-
ни. Возможно, несколько менее известным является следующее утверж-
дение Й. Шумпетера:
«Важно понять, что, говоря о капитализме, мы имеем дело с эволюци-
онным процессом... Капитализм по самой своей сути — это форма или
метод экономических изменений, он никогда не бывает и не может
быть стационарным состоянием» (Шумпетер, 1995, с. 126).
По-видимому, Шумпетер, который достаточно часто употреблял
термин «эволюция», также подразумевал под ним главным образом
«необратимые изменения».
Ни Маршалл, ни Шумпетер не сформулировали положения, явля-
ющегося, как следует из предшествующей дискуссии, ключевым для
развития эволюционной науки, способной делать эмпирически вери-
фицируемые прогнозы. Это — положение о способе интерпретации
экономической реальности в терминах системы отношений идентич-
ности, которое придает эмпирическое содержание абстрактным поня-
тиям наследственности и отбора. Это положение было высказано, хотя
и в самом схематичном виде, в работе Т. Веблена «Почему экономи-
ческая наука не является эволюционной»:
611
«Процесс кумулятивных изменений, который должна принимать во
внимание экономическая наука, — это последовательность изменений
в методах делания дел, т.е. методов обращения с материальными сред-
ствами существования» (Veblen, 1898, р. 70—71, выделено мной — С.У).
Сходный тезис, касающийся имитации «правил поведения», выдви-
нул — возможно, независимо от Веблена — А. Алчиан в классической
работе по эволюционной экономической теории (Alchian, 1950). Этой
идее уделяется большое внимание в статье С. Уинтера (Winter, 1971),
и еще большее — на этот раз применительно к «рутинам» — в книге
Р. Нельсона и С. Уинтера (Nelson and Winter, 1982). Она представляет
собой ответ экономистов-эволюционистов на важные аспекты крити-
ки «биологических аналогий», с которой выступила Пенроуз (Penrose,
1952).
Таким образом, эволюционная экономическая теория придает цен-
тральное значение вопросу, который не только не находит ответа, но
и вообще не ставится в традиционной экономической теории: в резуль-
тате каких социальных процессов осуществляется сохранение произ-
водительного знания? Очевидно, что концепции набора производствен-
ных возможностей и производственной функции всерьез не затраги-
вают этот вопрос. Даже в теоретической литературе, посвященной
технологическим изменениям, при изучении причин и последствий по-
явления новых знаний этот вопрос по большей части не рассматрива-
ется. С эволюционной точки зрения такое абстрагирование от процес-
са сохранения знаний неизбежно подрывает усилия, направленные на
то, чтобы понять, как возникают новые методы делания дел и факто-
ры отбора, действию которых подвержены инновации и инноваторы.
В частности, может быть упущен из внимания тот факт, что роль фирм
как источников инноваций в конечном счете обусловлена их ролью
«накопителей» производительного знания.
В данной статье не представляется возможным рассмотреть указан-
ные темы сколько-нибудь детально. Рассмотрим для иллюстрации толь-
ко один пример метода делания дел — метод создания текстов, по ка-
честву схожих с типографской печатью, т.е. метод машинописи.
Устройства, используемые для машинописи, подчинены отношению
идентичности «та же самая (алфавитная) клавиатура», на основе кото-
рого выделяется тип объектов «стандартная клавиатура», или «клавиа-
тура QWERTY». С этим связаны определенные человеческие навыки —
«навыки машинописи» — и специфический тип работников, «обучен-
ных машинописи с использованием стандартной клавиатуры». Ранние
стадии эволюции этого столь знакомого всем приспособления превос-
ходно проанализированы и описаны в работах Артура и Дэвида (Arthur,
1984; David, 1985). Эта история служит предостережением против упро-
щенного приписывания характеристик оптимальности результатам эво-
люционных процессов. Как пишет Дэвид, привычное нам расположе-
ние клавиш на стандартной клавиатуре возникло в качестве адаптив-
ной реакции на специфически техническую проблему, связанную с
нажатием клавиш на пишущих устройствах, резко отличающихся от ис-
пользуемых ныне (будь то механические, электрические или электрон-
612
ные). В частности, устройства, о которых идет речь, не позволяли ра-
ботнику видеть напечатанный текст, в результате чего контроль за на-
жатием клавиш был сложен, а последствия ошибки — очень серьез-
ными. Клавиатура QWERTY, пережив многие десятилетия эволюции,
в течение которых пишущие устройства претерпели радикальные из-
менения, осталась прежней и до сих пор выполняет свою изначаль-
но предусмотренную функцию — замедлять работу человека, печата-
ющего текст.
Дэвид убедительно доказывает, что главным фактором социаль-
ного процесса, который из поколения в поколение обеспечивал вос-
произведение клавиатуры QWERTY и исключал появление более
удобных типов клавиатур, было отношение комплементарности меж-
ду пишущими устройствами и работниками, которые их использу-
ют. Если отсутствуют устройства с альтернативной клавиатурой,
никто не может научиться ими пользоваться. А если отсутствует до-
статочное число людей, способных работать на альтернативной кла-
виатуре, то переход к использованию снабженных ею пишущих
устройств себя не окупает.
Существуют некоторые интересные аспекты этой ситуации, кото-
рые не рассматриваются в работах Артура и Дэвида. Одна из причин
того, что предложение обученных машинописи работников сыграло
указанную выше роль, заключается в том, что навыки машинописи
являются неартикулируемыми. Хотя они связаны с созданием симво-
лов, они не могут быть переданы от индивида к индивиду в процессе
символической коммуникации. Нельзя научить работников пользовать-
ся альтернативной клавиатурой, прочитав им лекцию. Сами работни-
ки не знают (на сознательном или артикулируемом уровне), как им уда-
ется справляться со своими функциями. На самом деле, возможность
достижения того уровня производительности, который демонстриру-
ют высококвалифицированные машинистки, остается загадкой для
научного анализа, выходя, по-видимому, за рамки человеческих спо-
собностей, насколько о них можно судить по известным фактам ней-
ропсихологии человека (Salthouse, 1984). Неартикулируемый характер
навыков машинописи обусловливает высокие издержки переучивания:
высокий уровень производительности, достижимый даже с помощью
несовершенной клавиатуры QWERTY, снижает стимулы обучаться
использованию альтернативной клавиатуры (с учетом предположения
о том, что спрос на машинописные услуги неэластичен по цене).
Социальный процесс, обеспечивающий широкомасштабное исполь-
зование метода машинописи, основанного на клавиатуре QWERTY,
является сложным и многогранным и включает в себя как набор фак-
торов, традиционно рассматриваемых как экономические, так и дру-
гие факторы — неартикулируемое знание (tacif knowledge), — которые
лишь недавно вошли в лексикон экономической теории. Приведенный
пример консервативности социальной памяти иллюстрирует историю
одной инновации: с другой стороны, он описывает причины, обрек-
шие на неудачу усилия по осуществлению других инноваций. В обоих
этих отношениях он имеет множество параллелей в сегодняшней ре-
613
альности. Применительно к ним, как и применительно к клавиатуре
QWERTY, понимание того, как и почему методы делания дел не пре-
терпевают изменений, является фундаментом для понимания того, как
и почему они изменяются.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК: КРИТИКА С ЭВОЛЮЦИОН-
НЫХ ПОЗИЦИЙ. Экономисты имеют привычку считать себя здраво-
мыслящими реалистами, трезво оценивающими мир в целом и чело-
веческую природу в частности. Тренированный взгляд экономиста про-
никает за фасад помпезного притворства, хитроумного обмана и
вдохновенной демагогии, выявляя рациональное преследование соб-
ственного интереса у мучеников за веру, торговцев и убийц. В значи-
тельной мере примеры такого анализа, несомненно, несут в себе важ-
ный элемент истины. Возможно, его осуществление представляет со-
бой важную функцию, которую экономисты — и не только они —
выполняют в свободном обществе. Однако с точки зрения целей эко-
номической науки модель рационального индивида, преследующего
собственный интерес, имеет ряд серьезных ограничений. Там, где она
не является очевидной карикатурой на реальность (как в случае рас-
сматриваемого в учебниках примера с «потребителем», который забо-
тится только о потреблении товаров и услуг), она часто оказывается
скрытой тавтологией (когда не накладывается никаких четких ограни-
чений на набор факторов, оказывающих влияние на «уровень полез-
ности», а значит, и на сам выбор).
С эволюционной точки зрения ключевой вопрос заключается в том,
какая из описываемых в теории разновидностей homo economicus яв-
ляется наиболее адаптированной к реальным условиям формирования
человечества (если такая разновидность вообще существует). Реалис-
тичная и научная оценка человеческой натуры, а также степени прояв-
ления и природы свойственного ей стремления к следованию собствен-
ному интересу может опираться на факты, касающиеся биологических
и культурных детерминант поведения современного человека, а также
эволюционных факторов, обусловивших возникновение этих детерми-
нант. Если в данном конкретном случае результаты такой оценки ока-
жутся отличными от предпосылок «здравого» экономического анали-
за, экономическая теория должна претерпеть трансформацию — разу-
меется, если мы стремимся к прогрессу экономической науки.
За пределами сферы человеческой мотивации экономисты по тра-
диции (чаще всего неявно) используют теоретические предположения,
которые нельзя назвать «здравыми», — скорее наоборот. Наиболее яр-
ким примером является предположение, согласно которому общество
каким-то образом обеспечивает безусловное соблюдение контрактов, не
связанное с несением каких-либо издержек. Другой пример — игно-
рирование различных сетей социальных взаимоотношений, определя-
ющих модели заключения сделок. Чтобы понять, что основанный на
таких предположениях экономический анализ может привести к серь-
езным искажениям образа реальности, не надо быть приверженцем эво-
люционного подхода, достаточно быть лишь немного знакомым с са-
614
мой реальностью. Что же касается эволюционного подхода, то он мо-
жет оказаться полезным при обсуждении того, как и почему экономи-
ка функционирует, несмотря на ограниченные возможности обеспече-
ния выполнения контрактов путем привлечения третьей стороны, а
также того, какую роль при этом могут играть неэкономические типы
социальных отношений.
Ошибки, связанные с использованием «излишне здравых» и «недо-
статочно здравых» предположений, в известной степени компенсиру-
ют друг друга. Рынки иногда функционируют стабильно, а иногда —
нет, и экономической теории удалось многого достичь в изучении этого
вопроса, несмотря на то, что она полностью игнорировала две важней-
шие категории факторов. Тем не менее, груз двоякого вида ошибок
очень обременителен. Цель состоит в том, чтобы преодолеть их.
На пути к этой цели уже достигнут некоторый прогресс. Экономи-
ческая теория вырвалась из рамок, заданных базовым набором пред-
посылок, обеспечивающих «первую аппроксимацию» реальности: свя-
зи экономической теории с другими социальными науками и с биоло-
гией стали как более очевидными, так и более плодотворными.
Взаимозависимые темы: роль собственного интереса в поведении и
основа социальной кооперации — имеют фундаментальное значение не
только для экономической теории, но и для всей социальной науки,
а также — в значительной мере — для биологии. Джек Хиршлайфер,
неоднократно проницательно указывавший на универсальный харак-
тер этих тем, провозгласил недавно, что «существует только одна со-
циальная наука» (Hirschleifer, 1985, р. 53). Чтобы «обобщенная эконо-
мическая теория» могла выступать в роли такой науки, она «должна бу-
дет описывать человека таким, каков он есть, — преследующим или не
преследующим собственные интересы, полностью или неполностью ра-
циональным» (Ibid., р. 59).
Хотя сейчас, вероятно, еще рано объявлять конкурс на лучшее на-
звание для единой социальной науки — конкурс, в котором, несомнен-
но, будут фигурировать и другие варианты названия, помимо «обоб-
щенной экономической теории», тем не менее, представляется, что
многие необходимые предпосылки для создания такой науки уже име-
ются. Значительные достижения в различных научных сферах суще-
ственно улучшили наши представления о том, как, несмотря на сла-
бость или отсутствие институциональной поддержки, может возникнуть
кооперативное поведение вообще и обмен в частности. Некоторые из
этих достижений прямо опираются на использование эволюционной
аналитической структуры (см., например: Axelrod, 1984), другие — нет
(Williamson, 1985). Все они, по крайней мере отчасти, укладываются в
общую многоуровневую эволюционную схему, в которой типы пове-
дения, воспроизводимые благодаря действию различных механизмов,
испытывают влияние процесса отбора. Наибольшие трудности и наи-
большую полемику вызывает проблема описания связей между уров-
нями. На этом фронте к сегодняшнему дню также достигнут прогресс,
в частности благодаря работе Р. Бойда и П. Райчерсона (Boyd and
Richerson, 1985), в которой с использованием набора моделей «двой-
615
ной наследственности» (dual inheritance) изучаются взаимосвязи меж-
ду эволюцией биологической и эволюцией культурной. Такие взаимо-
связи, разумеется, имеют значение как для понимания биологии чело-
века, так и для исследования культуры.
Если суммировать сказанное, концепции естественного отбора и
эволюции не следует рассматривать в качестве концепций, созданных
для решения специфических вопросов биологической науки и име-
ющих потенциальную ценность для изучения специфических вопросов
экономической теории. Скорее, они являются элементами новой кон-
цептуальной структуры, которая может с успехом использоваться в
биологии, экономической теории и других социальных науках.
БИБЛИОГРАФИЯ
Маршалл А. Принципы экономической науки. М.: Прогресс-Универс, 1993.
Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995.
Уильямсон О. Экономические институты капитализма. СПб.: Лениздат, 1996.
Alchian A. Uncertainty, Evolution and Economic Theory // Journal of Political
Economy. June 1950, vol. 58. p. 211-221.
Arthur W.B. Competing Technologies and Economic Prediction // Options (I.I.A.S.A.,
Laxenburg, Austria), April 1984, p. 10—13.
Axelrod R. The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books, 1984.
Boyd R. and Richerson P. Culture and the Evolutionary Process. Chicago: University
of Chicago Press, 1985.
David P. CLIO and the Economics of QWERTY // American Economic Review, May
1985, vol. 75, no. 2, p. 332-337.
Hirshleifer J. The Expanding Domain of Economics // American Economic Review,
December 1985, vol. 75, no. 6, p. 53-68.
Nelson R. and Winter S. An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge,
Mass.: Harvard University Press, 1982 // Нельсон P., Уинтер С. Эволюцион-
ная теория экономических изменений.
Penrose Е. Biological Analogies in the Theory of the Firm // American Economic
Review, December 1952, vol. 42, p. 804—819.
Salthouse T. The Skill of Typing // Scientific American, February 1984, vol. 250, no.
2, p. 128-135.
Stigler G. Perfect Competition, Historically Contemplated. In: G. Stigler. Essays in
the History of Economics. Chicago: University of Chicago Press, 1905.
Thomas B. Alfred Marshall on Economic Biology. Paper presented to the History of
Economic Society, May 1983.
Veblen T. 1898. Why Economics is not an Evolutionary Science. In: T. Veblen. The
Place of Science in Modem Civilization. New York: Russell & Russell, 1961.
Wilson E. Sociobiology: A New Synthesis. Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
1975.
Winter S. Satisficing, Selection and the Innovating Remnant // Quarterly Journal of
Economics, May 1971, vol. 85, no. 2, p. 237-261.
НЕОКЛАССИЧЕСКИМ
Тони Аспромургос
Neoclassical
Tony Aspromourgos
Термин «неоклассический» был впервые применен Вебленом
(Veblen, 1900, р. 242, 260-262, 265-268) для характеристики Маршалла
и маршаллианской экономической теории. Веблен не обосновывал вве-
дение этого нового обозначения ссылками на какую-либо общность те-
оретических построений экономической теории Маршалла и класси-
ческой экономической теории. Скорее, он считал кембриджскую школу
Маршалла преемницей классической теории, потому что она якобы со-
храняет тот же утилитаристский подход и предпосылку гедонистичес-
кой психологии. Впоследствии этот заимствованный в данном значе-
нии у Веблена термин получил некоторое распространение в 1920—
1930-х годах, например, в работах Уэсли Митчелла, Дж.А. Гобсона,
Мориса Добба и Эрика Ролла. Очевидно, появление взгляда на маршал-
лианскую теорию как на «неоклассическую» частично объясняется мол-
чаливым согласием с тем, как сам Маршалл понимал преемственную
связь своей теории с классической традицией. Кейнс (Keynes, 1936,
р. 177-178) также использовал этот термин, однако весьма своеобраз-
но, исходя из своих представлений о классической теории.
Использование этого термина в значении, которое после Второй
мировой войны стало общепризнанным и включает маржиналистскую
теорию в целом, берет свое начало у Хикса (Hicks, 1932, р. 84) и Стиг-
лера (Stigler, 1941, р. 8, 13, 297). Из какого источника они позаимство-
вали этот термин, не вполне ясно. Весьма маловероятно, что каждый
из них ввел его самостоятельно. Хикс, скорее всего, взял его из статьи
Добба, напечатанной в собственном журнале Лодонской школы эко-
номики. Вслед за Гамильтоном (Hamilton, 1923) Добб (Dobb, 1924, р. 68)
отмечает, что эпитет «неоклассическая» отчасти подходит для характе-
ристики маршаллианской экономической теории, «так как заслугой
кембриджской школы является то, что она освободила классическую
политическую экономию от ее наиболее заметных упрощений, разо-
рвала ее связь с философией естественного права и сформулировала
ее в терминах дифференциального исчисления. Довольно четкая пре-
емственность прослеживается от Смита, Мальтуса и Рикардо». Веро-
ятнее всего, Стиглер заимствовал термин либо непосредственно из ста-
тьи Хикса, либо у Веблена. Стиглер ссылается на оба источника. Хикс
и Стиглер были, безусловно, ближе к истине, чем Веблен, считая, что
методологический индивидуализм, с одной стороны, и теория распреде-
617
ления на основе предельной производительности, вытекающая из
субъективной теории ценности, — с другой, являются стержнем мар-
жиналистских теорий. Однако ни тот, ни другой не выдвинули суще-
ственных аргументов в пользу неявного (в то время) мнения о том, что
труды классических экономистов характеризуются таким же теорети-
ческим подходом. Впоследствии это мнение, как и следующая из него
характеристика маржинализма, уступили место признанию резкого те-
оретического различия между классической и маржиналистской эко-
номическими теориями. Однако влияние этого термина в несколько
туманной трактовке Стиглера оказалось не меньшим, чем влияние са-
мой его книги. Начало его широкого применения связано с дискусси-
ей о капитале и экономическом росте 1950-1960-х годов. Безусловно,
распространению термина способствовало и широкое использование
его в учебнике Самуэльсона. Начиная с третьего издания Самуэльсон
представлял свою книгу как изложение «великого неоклассического
синтеза» (Samuelson, 1955, р. vi).
БИБЛИОГРАФИЯ
Dobb, М. 1924. The entrepreneur myth. Economica 4(10), 66-81.
Hamilton, W.H. 1923. Vestigial economics. The New Republic, 4 April.
Hicks, J.R. 1932. Marginal productivity and the principle of variation. Economica
12(35), 79-88.
Keynes, J.M. 1936. The General Theory of Employment, Interest and Money. London:
Macmillan.
Samuelson, P.A. - 1955. Economics: An Introductory Analysis. 3rd edn, New York:
McGraw-Hill.
Stigler, GJ. 1941. Production and Distribution Theories. New York: Macmillan.
Veblen, T.B. 1900. The preconceptions of economic science III. Quarterly Journal of
Economics 14, 240-69.
НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
Оливье Жан Бланшар
Neoclassical Synthesis
Olivier Jean Blanchard
Термин «неоклассический синтез» был, по-видимому, введен По-
лом Самуэльсоном для обозначения консенсуса в области макроэконо-
мики, который оформился в середине 1950-х годов в США. Сошлемся
на третье издание его учебника «Экономика»:
«В последние годы 90% американских экономистов уже не делятся на
«кейнсианцев» и «антикейнсианцев». Вместо этого они стремятся со-
единить все ценное из старой экономической теории и новых теорий
определения доходов. Результат этого синтеза, который можно на-
звать неоклассической теорией, принимается в общих чертах всеми, за
исключением примерно пяти процентов крайне левых и стольких же
крайне правых авторов» (Samuelson, 1955, р. 212).
В отличие от прежней неоклассической теории новый синтез не
предполагал полной занятости в условиях laissez faire, однако считалось,
что при правильной денежной и бюджетной политике старые класси-
ческие истины вновь станут актуальными.
Этому синтезу суждено было стать господствующей системой воз-
зрений в последующие двадцать лет, в которую вполне естественно
вписалась большая часть того, что было предложено Хиксом, Модиль-
яни, Солоу, Тобином и др. Его высшим достижением явились, по-ви-
димому, большие эконометрические модели, в частности разработан-
ная Модильяни и его сотрудниками модель MPS, включавшая в себя
большую часть названных теоретических достижений и представляв-
шая собой эмпирически обоснованную и математически последователь-
ную модель экономики США. Однако с самого начала для синтеза было
характерно шизофреническое отношение к микроэкономике. Эта ши-
зофрения не могла в конце концов не привести к серьезному кри-
зису, который пока еще не преодолен. К этому кризису привел вызов
«новой классической макроэкономики», возглавляемой Лукасом, Сар-
джентом и др. Рассмотрим последовательно первоначальный синтез,
зрелый синтез и текущий кризис.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ. В ретроспективе можно утверж-
дать, что послевоенный консенсус состоял из двух основных убежде-
ний.
Первое заключалось в том, что решения, принимаемые фирмами и
индивидами, в основном рациональны и, будучи таковыми, поддают-
6/9
ся изучению с применением стандартных микроэкономических мето-
дов. В предисловии к собранию своих сочинений Модильяни подчер-
кивает это:
«[Одной из] главных тем, определявших мои научные интересы, [было
объединение] основных элементов «Общей теории» с более общеприня-
той методологией, которая опирается на основополагающий постулат
рационального максимизирующего поведения экономических агентов...»
(Modigliani, 1980, р. xi).
Вера в рациональность была далеко не слепой: признавалось, что
«жизнерадостность» (animal spirits), влияющая на инвестиции, была
основным источником динамики совокупного спроса. Например, воз-
можность того, что корпоративные сбережения слишком велики и не
компенсируются личными сбережениями, рассматривалась как серь-
езная проблема и обсуждалась скорее на эмпирическом, чем на теоре-
тическом уровне.
Эта вера в рациональность не включила, тем не менее, веру в эф-
фективность функционирования рынков. Второе убеждение заключа-
лось в том, что цены и заработная плата не могут быстро приводить
рынки в равновесие. Существовало широкое согласие в том, что рын-
ки не могут считаться конкурентными. Однако вызывает некоторое
удивление то, что при популярных в то время теориях несовершенной
конкуренции не делалось попыток рассуждать в терминах теорий, в ко-
торых экономические агенты назначали цены и заработную плату.
Вместо этого преобладал способ рассуждений в терминах tatonnement
(нащупывания), когда цены приспосабливаются к избыточному пред-
ложения или спросу с помощью динамического процесса адаптации,
разработанному Самуэльсоном в его Foundutions («Основаниях эконо-
мического анализа»). Кривая Филлипса, завезенная Самуэльсоном и
Солоу в США в 1960 г., явилась в этом контексте одновременно и бла-
гословением, и проклятием. Она оказала мощную эмпирическую
поддержку «нащупывающему» типу взаимосвязи между скоростью из-
менения номинальной заработной платы и уровнем безработицы, но
вместе с тем уменьшила потребность в совершенствовании микроэко-
номических оснований рыночной адаптации. Имея в руках надежную
эмпирическую взаимосвязь и осознавая при этом сложность решения
теоретической задачи, разумно было заняться другими, более насущ-
ными делами, дающими большую предельную отдачу.
Из этой пары убеждений вытекали важные последствия как для
исследований, так и для экономической политики.
Так как предполагалось, что цены и заработная плата в конце кон-
цов приводят рынки в равновесие, а экономическая политика в любом
случае позволит избегать продолжительного неравновесия, то макро-
экономические исследования могли развиваться в двух различных на-
правлениях. Одно из них могло изучать долгосрочную динамику про-
изводства, занятости и капитала, пренебрегая циклическими колеба-
ниями деловой активности как второстепенными явлениями и
используя стандартный инструментарий равновесного анализа. «Реше-
ние важнейших проблем денежной и бюджетной политики с исполь-
620
зованием инструментария анализа доходов подтвердит и вновь придаст
актуальность классическим истинам» (Samuelson, 1955). Или же мож-
но было изучать краткосрочные флуктуации относительно тренда, пре-
небрегая самим трендом. Именно на этих путях к середине 1950-х го-
дов было осуществлено большинство прорывов. Работы Хикса (Hicks,
1937) и Хансена (Hansen, 1949), в которых была сделана попытка фор-
мализовать основные элементы неформализованной модели Кейнса,
привели к созданию модели IS — LM. Модильяни (Modigliani, 1944)
прояснил роль жесткости номинальной заработной платы в кейнсиан-
ской модели. Метцлер (Metzler, 1951) показал значение эффекта богат-
ства и роль государственного долга. Патинкин (Patinkin, 1956) прояс-
нил структуру макроэкономической модели и взаимосвязь между спро-
сом на товары, деньги и облигации в случае гибких цен и заработной
платы. Было принято считать, что, за исключением маловероятных и
редких случаев, кривая IS падает, а кривая LM растет. Послевоенные
процентные ставки по сравнению с предвоенными были достаточно
высокими, и можно было не беспокоиться о «ловушке ликвидности».
Тем не менее, имела место существенная неясность относительно воз-
действия размеров процентных ставок на инвестиции и, следователь-
но, относительно наклона кривой IS. Допущение Кейнса и ранних кейн-
сианских моделей о фиксированной номинальной заработной плате
было ослаблено и заменено медленной адаптацией цен и заработной
платы к условиям рынка. Однако это не рассматривалось как сущест-
венное изменение прежних выводов. «Эффект Пигу» (как его окрес-
тил Патинкин в 1948 г.), согласно которому достаточно низкие цены
ведут к увеличению реальных денег и богатства, не рассматривался как
важное практическое соображение. Только политика активного госу-
дарственного вмешательства давала возможность избежать больших ко-
лебаний экономической активности.
Усовершенствования не изменили общий вывод теории Кейнса о
необходимости активной роли государства. Так как цены и заработная
плата не приходили в равновесие достаточно быстро, то для поддержа-
ния почти полной занятости требовалось проводить активную антицик-
лическую политику. Так как цены и заработная плата — или сама эко-
номическая политика — в конечном итоге заставляют экономику ос-
таваться в окрестностях ее траектории роста, то для подбора нужного
в каждый момент времени сочетания фискальных мер следует исполь-
зовать стандартные микроэкономические принципы фискальной по-
литики. Считалось, что подлежит обсуждению скрытое противоречие
между относительной результативностью этих мер с точки зрения ре-
гулирования совокупного спроса и их воздействием на аллокационную
эффективность. Однако ни это, ни тот факт, что несостоятельность
рынка, ведущая к краткосрочным колебаниям, не только не была пол-
ностью осознана, но даже и не была выявлена, не рассматривались в
качестве действительно важных проблем.
Основные правила антициклической бюджетной политики были
сформулированы, в частности, Самуэльсоном в серии его статей (на-
пример: Samuelson, 1951). Антициклическая фискальная политика
621
должна охватывать как налоги, так и расходы; лучшим способом уве-
личения спроса во время депрессии является налоговое стимулирова-
ние как государственных, так и частных инвестиций с тем, чтобы вы-
равнять общественные предельные нормы дохода на них. В чем зак-
лючалась позиция неоклассического синтеза по поводу денежной
политики, не столь ясно. Хотя возможности денежной политики по
сглаживанию колебаний признавались всеми, тем не менее, предпоч-
тение отдавалось фискальным средствам, а денежная политика играла
лишь подчиненную роль.
ЗРЕЛЫЙ СИНТЕЗ. В течение последующих двадцати лет первона-
чальный неоклассический синтез обеспечивал удобные для большин-
ства макроэкономистов концептуальные рамки, в которые вполне ес-
тественно вписывалась их работа. Как отмечал Лукас, критикуя нео-
классический синтез в 1980 г., приверженцы этих рамок относились с
некоторой нетерпимостью «к тем из экономистов, кто, подобно Мил-
тону Фридмену, не использовал его в своей работе» (Lucas, 1980). Про-
грамма исследований в большой степени предопределялась первона-
чальным синтезом, а также упором на поведенческие компоненты мо-
дели IS — LM и его агностическим подходом к адаптации цен и
заработной платы. Как писал Модильяни, «кейнсианская система дер-
жится на четырех основных блоках: потребительской функции, инве-
стиционной функции, спросе и предложении на рынке денег, а также
на механизмах, определяющих цены и заработную плату» (Modigliani,
1980, р. xii). На многих из этих направлений были достигнуты впечат-
ляющие результаты. Коротко перечислим их.
Тот факт, что предсказывавшийся всеми избыток сбережений пос-
ле Второй мировой войны так и не наступил, привел к пересмотру те-
ории потребительской функции. Основным претендентом постепенно
становилась теория межвременной максимизации полезности. Она
была разработана независимо Фридменом (Friedman, 1957) как «гипо-
теза постоянного (перманентного) дохода» и Модильяни с соавторами
(в частности, 1954) как «гипотеза жизненного цикла». Как бы то ни
было, в большинстве эмпирических исследований использовалась кон-
цепция жизненного цикла, модифицированная, чтобы учесть несовер-
шенство финансовых рынков и ограничения, накладываемые ликвид-
ностью. Частично это объяснялось тем, что эта концепция более четко
выделяла роль богатства в потреблении, а через богатство — значение
процентных ставок. В первоначальном синтезе ни богатство, ни про-
центные ставки не играли заметной роли.
Исследования в области инвестиционной функции были менее
успешными. Трудность здесь частично объяснялась сложностью эмпи-
рической задачи, неоднородностью капитала, а также возможностью за-
мещения факторов ex ante, но не ex post. Хотя многие теоретические
проблемы были прояснены в исследованиях экономического роста, их
рассмотрение на эмпирическом уровне было затруднено. Проблема
здесь частично заключалась в неоднозначности неоклассической тео-
рии поведения цен. Было неясно, можно ли считать, что фирмы сами
622
устанавливают цены, или адаптация цен означает, что фирмы испыты-
вают ограничения со стороны объема производства. «Неоклассическая
теория инвестиций», разработанная Джоргенсоном и его соавторами,
неоднозначна в этом отношении. Она косвенно допускает, что цена
равна предельным издержкам, но в то же время включает в эмпири-
ческую инвестиционную функцию в качестве аргумента объем произ-
водства, а не реальную заработную плату.
Исследования спроса и предложения на рынке денег были распро-
странены на все активы. Солидные основания под теорию спроса на
деньги были заложены Тобином (Tobin, 1956) и Баумолем (Baumol,
1952), а теория финансов дала теорию спроса на все активы (Tobin,
1958). Гипотеза ожиданий, благодаря которой не требуется оценивать
полные модели спроса и предложения на финансовых рынках, была
тщательно проверена и широко принята в качестве аппроксимации ре-
альности.
В духе первоначального синтеза исследования цен и заработной
платы были значительно слабее обоснованы теоретически, чем иссле-
дования по другим компонентам кейнсианской модели. Продолжавшие-
ся исследования по микроэкономическим основаниям динамики зара-
ботной платы и цен (в частности, см.: Phelps, 1972) были плохо связа-
ны с эмпирическими уравнениями, связывающими заработную плату
и цены. Построенная для конкретного случая, но успешно показавшая
себя на практике кривая Филлипса, модифицированная со временем
для учета постепенно растущего воздействия прошлой инфляции на
инфляцию, вызываемую ростом заработной платы, продолжала в рас-
сматриваемое время играть роль этого блока кейнсианского синтеза.
Все эти блоки вместе с теорией роста были разработаны в связи с
макроэконометрическими моделями, а затем встроены в них. Начало
этому было положено моделями, оцененными Клейном. Наиболее важ-
ной моделью была, по-видимому, разработанная Модильяни с сотруд-
никами модель MPS - FMP. Эта модель, сохраняя первоначальную
структура предшествующих моделей — IS— ЬМи кривой Филлипса, —
показала множество каналов, по которым внешние шоки и политика
могут воздействовать на экономику. Она могла использоваться для
нахождения оптимальной политики, для демонстрации результатов
структурных изменений на финансовых рынках. К началу 1970-х го-
дов считалось, что неоклассический синтез достиг большого успеха и
намеченная после войны программа исследований в основном выпол-
нена.
КРИЗИС. Начиная с 1975 г. неоклассический синтез борется за
выживание. Хотя кризис начался с его неспособности объяснить теку-
щие события, вскоре стало ясно, что проблема значительно глубже.
Научный успех неоклассического синтеза в большой степени объяс-
няется его успешным практическим применением, особенно во время
президентства Кеннеди и в первый период президентства Джонсона.
По мере ускорения инфляции в конце 1960-х годов практические до-
стижения неоклассического синтеза и, соответственно, его теоретичес-
623
кие основания стали во все большей степени подвергаться сомнению.
Однако наиболее чувствительным ударом для него явилась стагфляция
середины 1970-х годов, которая явилась результатом повышения цены
на нефть: стало очевидным, что экономическая политика не в силах
поддержать устойчивый рост и низкую инфляцию. Призвав на борьбу
с неоклассическим синтезом, Лукас и Сарджент (Lucas and Sargent,
1983) оценили его предсказания как «эконометрический провал круп-
ного масштаба». Но не следует осуждать теорию за неспособность пред-
угадать шоки и их последствия, которые не наблюдались никогда ра-
нее; немногие теории выдержали бы такую проверку. Если событие
может быть объяснено постфактум, то нет оснований для особого бес-
покойства. И действительно, вскоре после этого были предложены рас-
ширенные модели с учетом такого шокового изменения предложения,
как изменение цены на нефть. Такие основанные на неоклассическом
синтезе аналитически или эмпирически расширенные модели все еще
успешно применяются при анализе и определении политики. Тем не
менее, стало ясно, что, хотя модели действительно могут пересматри-
ваться ex post, имелись более серьезные проблемы, которые не позво-
лили предсказать события 1970-х годов. В вышеупомянутой полемичес-
кой статье Сарджент и Лукас писали: «То, что доктрина, на которой
зиждились [эти предсказания], имела коренной изъян, просто очевид-
но».
«Коренной изъян» заключался в асимметричном подходе: с одной
стороны — экономические агенты, которые считались в высшей сте-
пени рациональными субъектами, а с другой — рынки, не способные
привести заработную плату и цены к соответствующим уровням. Со-
бытия 1960-х годов, а также несогласованность между представлением
покупателей и фирм в качестве чрезвычайно рациональных агентов,
принимающих решения с учетом временной перспективы, придали
противоречию между рациональными экономическими разумными
агентами и близорукими обезличенными рынками еще большую оче-
видность. Еще более подчеркнуло это противоречие исследование рав-
новесий при ценах, которое впало в такую крайность, как принятие цен
и объемов без объяснений и нахождения их на условиях макроэконо-
мического равновесия при внерыночной расчистке рынков. Безрезуль-
татность этого исследования ясно показала, что продвигаться вперед
можно, лишь понимая, почему рынки не приходят в равновесие и по-
чему цены и заработная плата не адаптируются. В результате в США
исследования в этом направлении в основном прекратились, хотя и
продолжаются весьма активно в Европе.
Решение, предложенное Лукасом и другими исследователями в рам-
ках «нового классического синтеза», было и продолжает оставаться
крайне непопулярным среди экономистов, воспитанных в духе неоклас-
сического синтеза. Это решение должно было формализовать эконо-
мику так, будто бы рынки конкурентны и моментально приходят в рав-
новесие. Априори вызывало возражение допущение «будто бы», так как
рынки труда и товаров непосредственно свидетельствовали о том, что
происходит существенный отход от конкуренции; кроме того, многие
624
считали этот подход неперспективным для объяснения экономических
колебаний и безработицы. Фишер (Fisher, 1977) и Тейлор (Talor, 1980)
в своих работах показали, что кривую Филлипса «инфляция—безрабо-
тица» можно заменить моделью подробного назначения цен и заработ-
ной платы, сохраняя при этом большую часть традиционных результа-
тов. Но было также ясно, что рынки труда и товаров несравнимо слож-
нее, чем это отражено этими моделями. Поэтому последние
исследования в большой степени обращены к микроэкономическому
функционированию рынков труда и товаров. Эти исследования охва-
тывают влияние страхования и асимметричной информации, эффек-
тивную оплату труда, монополистически конкурентное и олигополис-
тическое поведение на товарных рынках. Теперь уже ясно, что боль-
шинство предложенных объяснений динамики цен и заработной платы
могут быть отнесены и на другие компоненты модели и что изолиро-
ванное рассмотрение в неоклассическом синтезе решений по объемам
и динамики цен может часто вводить в заблуждение. Как бы то ни было,
эти исследования носят пока еще в значительной степени умозритель-
ный характер и далеки от завершения. Новый синтез, в лучшем слу-
чае, только зарождается.
БИБЛИОГРАФИЯ
Baumol, W.J. 1952. The transactions demand for cash. Quarterly Journal of Economics
66, November, 545-56.
Fischer, S. 1977. Long-term contracts, rational expectations, and the optimal money
supply rule. Journal of Political Economy 85(1), February, 191—205.
Friedman, M. 1957. A Theory of the Consumption Function. New York: Natioanl
Bureau of Economic Research.
Hansen, A. 1949. Monetary Theory of Fiscal Policy. New York: McGraw-Hill.
Hicks, J. 1937. Mr Keynes and the ‘classic’: a suggested interpretation. Econometrica
5, April, 147—59.
Lucas, R. 1980. Methods and problems in business cycle theory. Journal of Money,
Credit and Banking 12 (4), Part 2, November, 696-715.
Lucas, R. and Sargent, T. 1983. After Keynesian macroeconomics. In After the Phillips
Curve: Persistence of High Inflation and High Unepmloyment, Federal Reserve
of Boston.
Metzler, L. 1951. Wealth, saving and the rate of interest. Journal of Political Economy
59, April, 93-116.
Modigliani, F. 1944. Liquidity preference and the theory of interest and money.
Econometrica 12, January, 45—88.
Modigliani, F. 1980. Collected Papers. Vol. 1: Essays in Macroeconomics. Cambridge,
Mass.: MIT Press.
Modigliani, F. and Brumberg, R. 1954. Utility analysis and the comsumption function:
an interpretation of cross section data. In Post-Keynesian Economics, ed. K.K.
Kurihara, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
Patinkin, D. 1948. Price flexibility and full employment. American Economic Review
38, September, 543-64.
625
Patinkin, D. 1956. Money, Interest and Prices. New York: Harper & Row.
Phelps, E. 1972. Inflation Policy and Unemployment Theory. London: Macmillan.
Samuelson, P. 1951. Principles and rules in modern fiscal policy: a neoclassical
reformulations. In Money, Trade and Economic Growth: Essays in Honor of John
Henry Williams, ed. H.L. Waitzman, New York: Macmillan.
Samuelson, P. 1955. Economics. 3rd edn, New York: McGraw-Hill.
Taylor, J. 1980. Aggregate dynamics and staggered contracts. Journal of Political
Economy 88(1), February, 1-23.
Tobin, J. 1956. The interest-elasticity of transactions demand for cash. Review of
Economics and Statistics 38, August, 241-7.
Tobin, J. 1958. Liquidity preference as behavoir towards risk. Review of Economic
Studies 25, February, 65—86.
НЕЙТРАЛЬНОЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Арнольд Дж. Харбергер
Neutral Taxation
Arnold С. Harberger
В литературе по экономической теории можно выделить два направ-
ления мысли по вопросу нейтрального налогообложения. Одно из них
подчеркивает экономическую эффективность (например, устранение
чистых потерь) как цель, через соответствие которой определяется ней-
тральность налогообложения. Второе делает упор на всеобщий харак-
тер налога, который сам по себе придает ему качество нейтральности.
Два примера, каждый из которых давно обсуждается в экономической
теории, иллюстрируют различия этих главных направлений.
С одной стороны, рассмотрим налогообложение арендной платы за
землю или стоимости земли. Оно основано на допущении (не совсем
правильном в действительности), что предложение каждого куска или
участка земли абсолютно зафиксировано. Отсюда выходит, что любой
налагаемый на этот участок налог будет в конечном счете выплачивать-
ся из чистой экономической ренты.
С другой стороны, существует сравнительно недавняя идея о все-
общем налоге на добавленную стоимость, который налагается на всю
экономическую деятельность по унифицированной ставке. Здесь не
предполагается, что в каждом виде деятельности ресурсы фиксирова-
ны; наоборот, мобильность ресурсов между различными видами нало-
гооблагаемой деятельности принимается как нечто само собой разуме-
ющееся.
Достаточно легко с помощью искусной формулировки объединить
эти два допущения. Например, мы можем предположить, что человек
не может улучшить состояние почвы или что налоговые оценщики все-
гда смогут отличить «внутренние и неизменные качества почвы», на
которых справедливо основывается налог, от произведенных человеком
улучшений почвы, с которых (в рамках нашей удобной предпосылки)
налог не выплачивается. Таким же образом в случае с налогом на до-
бавленную стоимость мы можем предположить, что существует всего
три базовых ресурса в экономике — земля, труд и капитал — и что пред-
ложение каждого из них фиксировано. Следовательно, унифицирован-
ный налог на предельный продукт каждого из них будет нейтральным,
им будет одинаково облагаться каждый фактор вне зависимости от
конечной цели его использования и не оставляя ни единой возможно-
сти для ухода от налогообложения ни одному из факторов, даже про-
627
стаивающему (из-за предполагаемой нулевой эластичности их предло-
жения).
Сделанные выше допущения удобны, чтобы определить термин
«нейтральное налогообложение» в словаре. (Нейтральное налогооб-
ложение — это налогообложение продукта или фактора с неэластич-
ным предложением, при этом налог взимается так, что он не влияет
на аллокацию ресурсов как внутри облагаемых категорий, так и меж-
ду ними или между другими видами деятельности, не облагаемыми
налогом.) Однако, скорее всего, такое определение будет не слиш-
ком полезным.
Я полагаю, что для того, чтобы дать действительно полезное опре-
деление нейтрального налогообложения, необходимо отбросить такие
искусственные подпорки, как два упомянутых выше допущения. Оно
должно быть применимо в реальном мире, где, как мы знаем, эластич-
ность предложения редко равна нулю, и мы не знаем точно, чему она
равна и как изменяется при переходе от краткосрочного к средне- или
долгосрочному периоду. Оно должно учитывать реальный факт, что, по
крайней мере с точки зрения налоговой политики, товары — объекты
налогообложения не имеют объективных свойств в качестве товаров;
скорее, они таковы, как их определяет налоговое законодательство
(включая подзаконные акты и практику применения). И наконец, оно
должно ответить на серьезные требования, согласно которым равенство
применяемой ставки налогообложения (для всех затрагиваемых видов
активности) является атрибутом нейтральности, а его отсутствие создает
презумпцию отсутствия нейтральности.
Экономическая теория дальше всего продвинулась в удовлетворе-
нии первого из перечисленных выше пожеланий, о которых шла речь
выше. Концепция чистых потерь хорошо известна экономистам, как
и идея минимизации при определенных ограничениях чистых потерь,
вызванных сбором определенной суммы налоговых поступлений. Тео-
ретические работы на эту тему появляются в 1920-х годах (Рамсей),
продолжаются в 1930-х (Хотеллинг), 1940-х (Мид), 1950-х (Корлетт и
Хейг, Липси и Ланкастер), 1960-х (Харбергер). Важнейшие современ-
ные работы по оптимальному налогообложению принадлежат Аткин-
сону, Даймонду, Дикситу, Мирлису и Стиглицу. Данное направление
мысли развивает следующие идеи: (а) единообразное налогообложение
не всегда является нейтральным; (б) специальное условие, при кото-
ром единообразное налогообложение определенного набора товаров
или видов деятельности минимизирует чистые потери от сбора опре-
деленной суммы налоговых поступлений, выполняется, когда равно-
весное количество (или уровень деятельности) каждого элемента нало-
гооблагаемого набора в равной пропорции реагирует на (гипотетичес-
кий) единообразный налог на все товары или виды деятельности,
которые не входят в данный набор; (в) если условие (б) не выполняет-
ся, тогда вместо единообразного налогообложения минимизация чис-
тых потерь требует налогообложения по ставке выше средней тех то-
варов, количество которых уменьшится в результате введения (гипо-
тетического) единообразного налога на объекты, не входящие в наш
628
набор, и налогообложения по ставке ниже средней на те объекты, рав-
новесное количество которых вырастет наиболее резко.
Анализ, лежащий в основе вышеприведенных утверждений, доста-
точно несложен, и для их объяснения можно даже воспользоваться
экономической интуицией. Если налоговые органы не имеют возмож-
ности ввести налоги на определенные виды товаров или деятельности,
то они могут обойти запрет, повышая налоги на те объекты внутри
налогооблагаемого набора, которые являются дополняющими (комп-
лементарными) для тех, на которые нет возможности ввести налог.
Аналогично, поскольку неправильная аллокация ресурсов ввиду нало-
гообложения только ограниченного набора видов деятельности ведет
к тому, что ресурсы «искусственно» переводятся из облагаемого в не-
облагаемый набор, то представляется правильным, что установление
оптимальных ставок налогов в рамках налогооблагаемого набора тре-
бует облагать по ставке ниже средней те виды деятельности, для кото-
рых повышение налога на один процентный пункт приведет к замет-
ному, выше среднего, оттоку ресурсов в необлагаемые виды деятель-
ности.
Такая аргументация оказалась настолько убедительной, что некото-
рые экономисты поспешили отказаться от единообразия как цели на-
логовой политики. Однако о многих нельзя этого сказать. Принимая
во внимание легкость вывода тезисов (а), (б) и (в), можно надеяться,
что большинство тех, кто продолжает придерживаться теории едино-
образного налогообложения, исходят из соображений, внешних по от-
ношению к выводу правила Рамсея и других подобных тезисов в лите-
ратуре по оптимальному налогообложению. Дальнейшее обсуждение
подтверждает это.
Чтобы отстаивать единообразное налогообложение вопреки приве-
денной выше логике, необходимо (на мой взгляд) постулировать, что
не существует двух произвольных категорий товаров и/или видов дея-
тельности, т.е. налогооблагаемого набора и необлагаемого набора. На-
против, необходимо предположить, что облагаемый набор не является
«любым произвольным набором», а включает все товары и виды дея-
тельности, которые обоснованно и без особых административных
и регламентационных усилий могут быть обложены налогом. Тогда
проблема рассматривается не как простая аналитическая головоломка,
а как проблема регулирования или руководства взаимоотношениями
между фискальными властями и членами общества.
Держа в голове эту цель, защитник единообразного налогообложе-
ния может поставить проблему, достаточно сильно отличающуюся от
описанной выше. Он может трактовать «нарушения», с которыми он
сталкивается, как решение потребителя иначе потратить деньги или
изменение предпочтений рабочего относительно того, где и на кого
работать. Защитник единообразного налогообложения, скорее всего,
подчеркнет, что властям просто безразличны такие изменения.
При решении проблемы Рамсея вкусы и предпочтения экономичес-
ких агентов берутся как данные, а государственные доходы максими-
зируются для заданного совокупного уровня благосостояния хозяй-
629
ственных агентов. В рамках дифференцированного пакета налоговых
ставок, который возникает из этого упражнения, тот, кто максимизи-
рует государственные доходы, не является безразличным к изменени-
ям во вкусах агентов: его устраивает, если предпочтения агентов сдви-
гаются от низкооблагаемых к высокооблагаемым видам деятельности,
и разочаровывают изменения в обратном направлении.
Примерно то же самое происходит при внедрении единообразного
налогообложения. Здесь «хорошим» событием является такое измене-
ние во вкусах, которое заставляет сокращать необлагаемые виды дея-
тельности и расширять налогооблагаемые; «плохим» событием является
обратная ситуация. Но существует и широкий спектр изменений во
вкусах, который будет находиться в нейтральной зоне, т.е. будут изме-
няться предпочтения между товарами или видами деятельности внут-
ри сектора, подпадающего под единообразный налог, или внутри нео-
благаемого сектора. В той степени, в которой власти способны распро-
странить налогообложение на достаточно широкий ряд товаров или
видов деятельности, может считаться правильным, что большинство
изменений во вкусах просто ведет к изменению структуры товаров
внутри налогооблагаемой группы. Этот сценарий лучше всего подхо-
дит защитникам широкого единообразного налогообложения и в то же
время создает проблемы для сторонников налогообложения по прави-
лу Рамсея (по крайней мере, если изменения во вкусах внутри облага-
емого сектора являются частными и важными).
При сравнении правила налогообложения Рамсея с широко приме-
няемой единообразной ставкой возникают и тонкие проблемы менее
технического характера. При налогообложении по правилу Рамсея
предполагается, что индивиды обладают стимулами перенести объект
своего спроса с высокооблагаемых на низкооблагаемые товары, а мо-
тивация рабочих состоит в перемещении своего труда с высокооблага-
емых на низкооблагаемые виды деятельности. Все эти стимулы явля-
ются контрпродуктивными с общественной точки зрения. В основании
формулировки проблемы неявно лежит допущение, что вкусы людей
являются заданной величиной. Реальность же состоит в том, что нало-
говые законы изменяются редко; однажды принятые, они остаются в
силе в течение долгого промежутка времени, на протяжении которого
экономисты могут быть уверены, что важных изменений в параметрах
вкусов и технологии не произойдет. Цель существования налоговой си-
стемы, которая будет стойкой к этим неизвестным будущим изменени-
ям в спросе и предложении, не является капризом; она заслуживает се-
рьезного рассмотрения.
С другой стороны, возникает вопрос, до какой степени мы хотим,
чтобы наш выбор налоговых параметров зависел от таких показателей,
как эластичность предложения и спроса, наше знание о которых явля-
ется фрагментарным и несовершенным. Сторонники единообразного
налогообложения имеют право утверждать, что их выбор не сильно
зависит от знания параметров спроса и предложения. Экономическая
теория уверяет нас, что доминантной силой является замещение (в том
смысле, что налог на вид деятельности, при прочих равных, приведет
630
к сокращению этого вида деятельности). Следовательно, существует
достаточно сильная презумпция, что расширение охвата и снижение
ставки единообразного налога уменьшит связанные с ним чистые по-
тери (при заданной сумме поступлений). На этой основе можно по-
строить налоговую политику, не зная точных параметров спроса и пред-
ложения и без определенной надежды получить что-то большее, чем
достаточно обрывочную информацию о них в будущем. И действитель-
но, существует почти полная уверенность, что, какими бы ни были эти
параметры в настоящее время, они претерпят существенные измене-
ния в будущем. Если предположить, что эти условия достаточно точно
отразят наши нынешние и, возможно, будущие знания о соответству-
ющих параметрах, мы должны будем склониться к принятию едино-
образного налогообложения, а не правила Рамсея.
Последнее направление аргументов в пользу теории единообразно-
го налогообложения связано с взаимодействием между соображения-
ми равенства и эффективности при управлении налоговой политикой.
Мотивации, которые объединяются под рубрикой «равенства», явля-
ются настолько многочисленными и настолько варьируют, что не сто-
ит пытаться их здесь излагать. Но исходя из них невозможно сказать,
что более справедливо облагать по более высокой ставке: те факторы
производства, которые не могут быть перемещены в другие виды ак-
тивности, или те товары, спрос на которые является менее эластичным.
Установление более высокой налоговой ставки на соль, чем на сахар,
только потому, что соль имеет меньшую эластичность спроса, являет-
ся, по крайней мере, таким же капризом (с точки зрения равенства),
как и различное налогообложение людей с разным цветом глаз.
Наконец, я полагаю, что выбор между единообразным налогообло-
жением и правилом Рамсея может обернуться всего лишь одной из
граней гораздо более широких философских разногласий. Предполо-
жим такую философию государства, согласно которой правительство
создает законодательную и нормативную базу, в рамках которой затем
свободно действует частный сектор. Согласно этой философии следу-
ет одобрить власти, не заботящиеся о деятельности частных агентов,
пока они соблюдают правила. Здесь желательно создать налоговую си-
стему, которая является стойкой к изменениям во вкусах и технологии.
С другой стороны, мы имеем философию социальной инженерии,
в которой детализированные показатели вкусов и технологии общества
вводятся в качестве данных в процесс, с помощью которого политики
выбирают такие показатели, как ставки и охват налогообложением, для
максимизации некоторого показателя общественного благосостояния.
Каждая из этих философий имеет свою собственную долгую исто-
рию в экономической теории. В настоящее время у каждой из них есть
свои представители. Каждая из них будет обязательно отражена в ли-
тературе будущих десятилетий. По моему мнению, будущие споры о
том, как должна быть отражена концепция нейтральности налогооб-
ложения в реальных политических решениях, будут основываться на
тонких различиях между методами, с помощью которых сторонники
этих двух философий рассматривают мир, между ролями, которыми
631
они наделяют правительство, и между возможностями, которые они
видят для взаимодействия экономистов и правительства при формиро-
вании политики.
БИБЛИОГРАФИЯ
Atkinson, А.В. 1977. Optimal taxation and the direct versus indirect tax controversy.
Canadian Journal of Economics 10, 590—606.
Atkinson, A.B. and Stiglitz, J.E. 1980. Lectures on Public Economics. New York and
Maidenhead: McGraw-Hill (особенно лекции 12—14).
Corlett, W.J. and Hague, D.C. 1953. Complementarity and the excess burden of
taxation. Review of Economic Studies 21, 21—30.
Diamond, P.A. and Mirrlees, J.A. 1971. Optimal taxation and public production. I:
Production efficiency: II: Tax rules. American Economic Review 61,8—27, 261—78.
Dixit, A.K. 1970. On the optimum structure of commodity taxes. American Economic
Review 60, 295—301.
Harberger, A. C. 1964. Taxation, resource allocation and welfare. In The Role of Direct
and Indirect Taxes in the Federal Revenue System, ed. J.F. Due, Princeton:
Princeton University Press.
Hotelling, H. 1938. The general welfare in relation to problems of taxation and of
railway and utility rates. Econometrica 6, 242-69.
Lipsey, R.G. and Lancaster, K. 1956—7. The general theory of second best. Review of
Economic Studies 24, 11—32.
Meade, J.E. 1955. Trade and Welfare. Vol. II: Mathematical Supplement. Oxford:
Oxford University Press.
Mirrlees, J.A. 1976. Optimal tax theory: a synthesis. Journal of Public Economics 6,
327-58.
Mirrlees, J.A. 1979. The theory of optimal taxation. In Handbook of Mathematical
Economics, ed. K.J. Arrow and M.D. Intriligator, Amsterdam: North-Holland.
СИСТЕМА «ОТКРЫТЫХ ПОЛЕЙ»
Дональд Н. Макклоски
Open Field System
Donald N. McCloskey
Системой «открытых полей» называется устройство крестьянского
хозяйства, существовавшее в Северной Европе до начала XX в. в виде
раздробленных небольших участков земли, которые являлись частны-
ми владениями, но пользование ими регулировалось общиной. Систе-
ма имеет схожие черты со многими формами устройства крестьянско-
го сельского хозяйства по всему миру, для которых особенно характерна
раздробленность земельных участков. Постепенно вытесненная «ого-
раживанием» (Turner, 1984) сначала в Англии и Скандинавии, а затем
во Франции (Grantham, 1980), Германии (Mayhew, 1973) и славянских
странах (Blum, 1961), она считается препятствием для развития сель-
ского хозяйства. Наиболее подробные сведения существуют об англий-
ской системе (Gray, 1915; Ault, 1972; Baker and Butlin, 1973; Yelling, 1977
и сотни исследований отдельных регионов). Английскому варианту
системы долгое время придавалось несоразмерное значение, так как он
послужил основой для множества домыслов о других типах традици-
онного сельского хозяйства и способах его реформирования. (Россий-
ский вариант системы, «мир», важен по той же причине, но его уни-
кальная черта (периодическое перераспределение участков земли между
семьями) возникла в XVIII в. из необходимости уплаты налогов, а не
из древней родовой общины.)
Разброс участков в пределах двух или трех больших неогражденных
(отсюда «открытое») полей, в каждом из которых было около тысячи
акров, предполагал общий выпас скота на стерне. В противном случае
среднему землепользователю пришлось бы огораживать семь участков
земли, каждый размером около акра, что было бы слишком дорого. Об-
щий выпас скота, в свою очередь, означал общее принятие решений о
том, что и где надо выращивать. Пасущееся стадо принуждало всех кре-
стьян деревни выращивать и собирать урожай по общему графику.
Слово «общинный» («common») послужило причиной неправиль-
ного понимания системы экономистами и географами, незнакомыми
с историей (Hardin, 1968; Baack and Thomas, 1974; Cohen and Weitzman,
1975). «Общинными» землями («commons»), прославленными в детских
стихах и научных фантазиях, были необработанные земли, пригодные
лишь для выпаса скота, обычно не встречавшиеся или занимавшие
крошечные площади в регионах, где существовали «открытые поля».
Их необходимо отличать от основных полей с пахотной землей, где
633
«сообща» пасли скот после сбора урожая (их называли «общими поля-
ми» — «common fields», что порождало дополнительную путаницу).
«Общинный» выпас скота и сбор урожая не означают, что скот был
социализирован и что земля возделывалась общими бригадами. Общ-
ность проявлялась в координации, а не в общей собственности; в ре-
гулировании, а не в распределении доходов. Земля, труд и капитал
полностью были частными и приносили ренту, они не были «общими»
(как полагали экономисты). Неэффективность «открытых полей» — это,
следовательно, неэффективность не примитивного социализма, а не-
совершенного капитализма.
Неэффективность «открытых полей» возникает из раздробленнос-
ти участков и неразвитой специализации (потеря земли на границах
участков и потеря времени при перемещении с одного участка на дру-
гой были несущественны). Судебные дела о ссорах между соседями и
поэзия того времени красноречиво говорят о неудобстве слишком близ-
кого соседства. В поэме «Жалобы пахаря» («Piers Ploughman»), напи-
санной около 1378 г., жадность хвастает: «Во время пахоты я делаю так,
что борозда проходит на расстоянии фута от земли моего соседа. А во
время жатвы я стараюсь скосить серпом то, что не сеял». Три века спу-
стя, после того как добровольное огораживание сузило распростране-
ние системы «открытых полей» (которая, кстати, не существовала в гор-
ных районах Северной Шотландии), Томас Тассер рекомендовал «от-
дельное» ведение хозяйства вместо «открытых полей». «На земле, где
хозяйствуют отдельно, урожай может быть: три к одному, не то на зем-
ле, где господствуют общинники, там все надо делать как все, а иначе
нельзя». Хотя деревня, где господствует система «открытых полей»,
объединившись, может внедрить инновации, но отдельный крестьянин,
зависящий от решения общины, не может это сделать. Система про-
должала существовать в центральных графствах Англии в XVIII в. и по-
степенно была окончательно вытеснена специальными законами, при-
нятыми парламентом. Артур Янг был типичным представителем исто-
риков этой последней эпохи, которые, оглядываясь назад, высмеивали
неэффективность системы «открытых полей», называя ее привержен-
цев «готами» и «вандалами».
При полном наборе рынков, как объяснили нам А. Смит, Р. Коуз и
К. Дж. Эрроу, готы и вандалы избавились бы от своей неэффективной
системы. Объяснение «открытых полей», следовательно, должно осно-
вываться на существовании некоторых препятствий для торговли. Сто-
ронники прежнего объяснения, основанного на духе товарищества в
примитивной германской общине, спрашивали: «Кто обустроил эти
поля? Очевидный ответ, как предполагалось, состоит в том, что они
были обустроены теми людьми, которые жертвовали экономикой и
эффективностью в пользу равенства» (Maitland, 1897). С XIX в. были
накоплены доказательства того, что эти поля не были обустроены в одно
время и люди, обустроившие их, не были преданы идеалу равенства.
Но, даже если бы это действительно было так, позднее они могли бы
обменять свои раздробленные участки и создать более рациональную
систему землепользования. Следовательно, эгалитаристское объяснение
634
устойчивости «открытых полей» должно быть основано на несостоя-
тельности рынка земли. Однако и здесь факты свидетельствуют об об-
ратном: в деревнях средневековой Англии и большинства стран Евро-
пы в действительности существовал оживленный и довольно дешевый
рынок небольших участков земли.
С аналогичными трудностями сталкиваются и любые другие объяс-
нения раздробленности земельных участков. Ее объясняли эгалитарным
наследием (Dorving, 1965), совместной обработкой земли (Seebohm,
1883), совместным выпасом скота (Dahlman, 1980), графиком убороч-
ных работ (Fenoaltea, 1976) и диверсификацией локальных рисков
(McCloskey, 1976). Все объяснения основаны на несостоятельности
рынков соответственно земли, услуг по обработке земли, прав на вы-
пас скота, труда и страхования. Все они могут быть подвергнуты кри-
тике, и лишь немногие смогли ее выдержать.
Гипотеза о страховании была проверена наиболее тщательно. Эконо-
мистам кажется, что раздробленность участков — это диверсификация.
Антропологи, приученные воспринимать всерьез доводы, приводимые
людьми, которых они опрашивают, сообщают, что хопи дробили пло-
дородную землю для защиты от наводнений, а швейцарские крестьяне
диверсифицировали участки по высоте. Велико разнообразие участков
и в Англии: в дождливый год затоплялись глиняные равнинные земли,
в то время как меловая почва холмов хорошо пропускала влагу; местными
явлениями были заражение паразитами и градовые бури. Ценность порт-
феля активов, приобретаемого крестьянином посредством раздробления
участков, можно рассчитать по средневековым данным об урожайности
и по современным данным агрономических опытов. Оптимальное чис-
ло участков земли приблизительно совпадает с фактическим.
Гипотеза страхования, как и другие объяснения, могут быть подвер-
гнуты критике за игнорирование рынка, в данном случае рынка страхо-
вания (Fenoaltea, 1976). Вполне может быть, что раздробление было
формой страхования, однако элемент страхования был встроен в боль-
шинство социальных институтов, причем в XIV в. больше, чем в насто-
ящее время. Крестьянин мог осуществлять страхование посредством
испольной системы, вхождения в «большую» семью, получения займов
у лендлорда, покупки ликвидных активов и создания запасов зерна.
Однако предельная доходность от каждого вида страхования была бы
одинаковой. Раздробление участков вызывает издержки на уровне 15%
урожая. Другой формой страхования, затраты на которую легко можно
рассчитать, является создание запасов зерна (McCloskey and Nash, 1984).
Запас зерна на год в XIV в. стоил 40% стоимости урожая — в основном
за счет того, что процентные ставки равнялись 30% в год (в XVI в., ког-
да упали процентные ставки и издержки составили всего 15%, быстро
осуществлялся процесс «огораживания»). В случае страхования, по край-
ней мере, мы находим меру значительного несовершенства этого рынка
и, следовательно, объяснение существования «открытых полей».
Если оставить в стороне точные выводы, все последние объяснения
сходятся в том, что картина средневекового сельского хозяйства резко
отличается от романтической, выдвинутой в XIX в. немецкими учены-
635
ми. Новая картина, которая рисуется перед нами, насыщена разнооб-
разными рынками (Popkin, 1979) и индивидуалистична (Macfarlane,
1978); по крайней мере, она превосходит по этой части «натуральное
хозяйство», которое господствовало в средневековой Европе, и «мо-
ральную экономику», как предполагалось, которая якобы преобладает
сейчас в бедных странах.
БИБЛИОГРАФИЯ
Ault, W.O. 1972. Open-Field Fanning in Medieval England: a study of village by-laws.
London: Alien and Unwin; New York: Barnes and Noble.
Baack, B.D. and Thomas, R.P. 1974. The enclosure movement and the supply of labor
during the Industrial Revolution. Journal of European Economic History 3(2), Fall,
401-23.
Baker, A.H.R. and Butlin, R.A. (eds) 1973. Studies of Field Systems in the British
Isles. Cambridge: Cambridge University Press.
Blum, J. 1961. Lord and Peasant in Russia: from the Ninth to the Nineteenth Century.
Princeton: Princeton University Press.
Cohen, J. and Weitzman, M.L. 1975. Marxian model of enclosures. Journal of
Development Economics 1 (4), February, 287-336.
Dahlman, C. 1980. The Open Field System and Beyond: a property rights analysis of
an economic institution. Cambridge: Cambridge University Press.
Dovring, F. 1965. Land and Labor in Europe in the 20th Century. 3rd edn. The Hague:
Nijhoff.
Fenoaltea, S. 1976. Risk, transaction costs, and the organization of medieval agriculture.
Explorations in Economic History 13(2), April, 129-51.
Grantham, G. 1980. The persistence of open field farming in nineteenth-century
France. Journal of Economic History 40(3), September, 515—31.
Gray, H.L. 1915. English Field Systems. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Hardin, G. 1968. The Tragedy of the Commons. Science 162, 13 December, 1243—8.
McCloskey, D.N. 1975. The persistence of common fields. In European Peasants and
Their Markets, ed. W.N. Parker and E.L. Jones, Princeton: Princeton University
Press.
McCloskey, D.N. 1976. English open fields as behavior towards risk. Research in
Economic History 1, 124-70.
McCloskey, D.N. and Nash, J. 1984. Com at interest: the cost and extent of grain
storage in medieval England. American Economic Review 74(1), March, 174-87.
Macfarlane, A. 1978. The Origins of English Individualism. Oxford: Basil Blackwell.
Maitland, F.W. 1897. Domesday Book and Beyond. Cambridge: Cambridge University
Press.
Mayhew, A. 1973. Rural Settlement and Farming in Germany. New York: Barnes and
Noble.
Popkin, S.L. 1979. The Rational Peasant: the political economy of rural society in
Vietnam. Berkeley: University of California Press.
Seebohm, F. 1883. The English Community. London: Longman & Co.
Turner, M. 1984. Enclosures in Britain, 1750-1830. London: Macmillan.
Yelling, J.A. 1977. Common Field and Enclosure in England 1450—1850. London:
Macmillan.
636
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ
Джеймс М. Бьюкенен
Opportunity Cost
James М. Buchanan
Концепция альтернативных издержек (opportunity cost or alter-
native cost) выражает фундаментальное соотношение между редкос-
тью и выбором. Если все предметы или виды деятельности, представ-
ляющие ценность для кого-либо, существуют в достаточном коли-
честве, то все потребности всех лиц во все периоды могут быть
удовлетворены. Нет необходимости выбирать между отдельными ва-
риантами; отсутствует необходимость в процессах общественной ко-
ординации, которые эффективно определяют, чьи потребности име-
ют приоритет. В такой вымышленной ситуации, где отсутствует ред-
кость, не существует упущенных или принесенных в жертву
возможностей или альтернатив.
В условиях редкости не все потребности могут быть удовлетворе-
ны. За исключением случаев, когда аллокация объектов, имеющих цен-
ность, предопределяется «природными» ограничениями (например,
речь может идти о таком благе, как солнечный свет в Шотландии в фев-
рале), редкость связана с необходимостью выбора: либо непосредствен-
ного — между конечными благами, либо косвенного — между инсти-
тутами или процедурами социального взаимодействия, которые, в свою
очередь, порождают определенный набор конечных благ.
Выбор предполагает существование не только отобранных, но и
отвергнутых альтернатив. Альтернативные издержки являются оценкой,
наиболее ценной из отвергнутых альтернатив или возможностей. Имен-
но такая ценность оказывается отвергнутой или пожертвованной для
того, чтобы получить большую ценность, воплощенную в выбранном
объекте.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ И ВЫБОР. Альтернативные
издержки являются предположительной ценностью «того, что могло бы
быть», если бы выбор был сделан иначе. Отметим, что речь идет не
«о том, что могло бы быть» при отсутствии выбора. В отсутствие вы-
бора иногда имеет смысл обсуждение ценности событий, которые могли
бы произойти, но не произошли. Однако эти ценности не имеет смысла
определять как альтернативные издержки, поскольку альтернативный
сценарий не отражает потерянной или отвергнутой возможности. При-
знав базовую взаимосвязь между выбором и альтернативными издерж-
ками, мы может вывести из нее несколько следствий.
637
Первое. Если выбор производится из имеющих самостоятельную
ценность вариантов, кто-то должен его осуществлять. То есть требует-
ся лицо, делающее выбор, принимающее решение. Из этого вытекает
второе следствие. Ценность, придаваемая отвергнутому варианту —
альтернативные издержки, — существует в сознании делающего выбор
индивида и нигде более. Значит, издержки несет исключительно вы-
бирающий, они не могут быть переложены на кого-либо еще. Третье
необходимое следствие состоит в том, что альтернативные издержки
должны быть субъективными. Они существуют в сознании выбира-
ющего и не могут быть объективизированы или измерены кем-то вне-
шним по отношению к выбирающему. Их нельзя просто перевести в
иное измерение: некоторое количество ресурсов, благ или денег. Чет-
вертое: альтернативные издержки существуют только в момент осуще-
ствления выбора и мгновенно исчезают после него. Из этого следует,
что данные издержки никогда не могут реализоваться: тем, от чего от-
казался, никогда нельзя воспользоваться.
Наиболее важное следствие, вытекающее из взаимосвязи между
выбором и альтернативными издержками, состоит в том, что издерж-
ки в этой ситуации отнесены к будущему (ex ante). Альтернативные
издержки — ценность, придаваемая отвергнутому варианту, — являются
препятствием к выбору: этот вариант изучают, оценивают и в конеч-
ном итоге отвергают, прежде чем выбрать предпочтительный вариант.
В каждом конкретном случае на альтернативные издержки, конечно,
влияют ранее сделанные выборы, однако, что касается самого данного
выбора, альтернативные издержки скорее сами обусловливают выбор,
чем обусловлены им.
ДРУГИЕ КОНЦЕПЦИИ ИЗДЕРЖЕК. Различие между концепци-
ей альтернативных издержек и другими подходами или концепциями
издержек наилучшим образом объясняется в рамках классификации
издержек на обусловливающие выбор и обусловленные выбором. Сде-
ланный выбор влечет за собой последствия, которые могут быть свя-
заны с потерей полезности либо самим индивидом, осуществившим
этот выбор, либо другими лицами. В определенном смысле может по-
казаться полезным рассматривать эти потери (ожидаемые или факти-
ческие) в качестве издержек, однако необходимо признать, что эти
обусловленные выбором издержки, по определению, не могут обусло-
вить сам выбор.
Этот тезис можно прояснить при помощи одного примера. Некто
решает приобрести автомобиль в рассрочку, причем сумму предпола-
гается выплачивать по частям в течение трехлетнего периода. Альтер-
нативными издержками, которые учитываются при выборе, обуслов-
ливают его, является ценность, которую покупатель придает отвергну-
той альтернативе, в данном случае — ожидаемой ценности предметов,
которые могли бы быть приобретены на средства, используемые для
платежей по займу. Рассмотрев потенциальную ценность этой альтер-
нативы и сделав выбор в пользу покупки, покупатель столкнется с по-
следствиями выполнения графика платежей по займу. Ему предстоит
638
осуществлять ежемесячные платежи, которых, в обыденном понима-
нии, «стоит» приобретение автомобиля. Индивид явно почувствует
потерю полезности при наступлении срока платежей, которые придется
вносить. Однако эти «издержки» не являются фактором, обусловлива-
ющим выбор. Тот факт, что последствия выбора никогда не могут быть
капитализированы в терминах полезности, создает большую путаницу.
Экономисты отчасти признают отмеченное разграничение. Их ши-
роко известный тезис о том, что «невозвратные издержки прошлых
периодов (sunk asts) не принимаются в расчет», говорит именно о том,
что последствия выбора не могут обусловить сам выбор. С другой сто-
роны, используя формализованные графики издержек и функции из-
держек, которые неизбежно предполагают измеримость издержек и их
объективизацию, экономисты отделяют понятие издержек от процес-
са выбора.
По сути, с теми же результатами сталкиваются бухгалтеры, которые
измеряют издержки (ex post), т.е. издержки, обусловленные выбором.
Эти «издержки», оцененные бухгалтерами, никогда не смогут точно
отразить ценность потерянных или пожертвованных возможностей.
Числовые оценки могут быть использованы в альтернативных планах
действий до принятия решения, однако подобные оценки альтернатив-
ных издержек являются бухгалтерской оценкой ценности еще не реа-
лизованных проектов, а не стоимостью затрат, сделанных в рамках ото-
бранного проекта.
Как уже говорилось, обусловливающие выбор альтернативные из-
держки существуют только в сознании лица, осуществляющего выбор.
По определению, альтернативные издержки не могут «перейти» на
других лиц. Конечно, выбор индивида может привести к последстви-
ям, связанным с потерей полезности другими лицами, и иногда полез-
но рассматривать эти потери как «внешние издержки» (external costs).
Следует подчеркнуть, что такие внешние издержки выступают препят-
ствием к выбору, а значит, являются мерой отвергнутых возможнос-
тей только в том случае, когда лицо, осуществляющее выбор, прини-
мает их во внимание при оценке своей будущей полезности.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ И НОРМЫ БЛАГОСОСТОЯ-
НИЯ. Источник наибольшей путаницы при анализе и использовании
теории альтернативных издержек заключается в попытках использовать
результаты исследования идеальных процессов рыночного взаимодей-
ствия при определении правил или норм для субъектов принятия ре-
шений в нерыночных условиях. В условиях полного рыночного равно-
весия индивидуальные акты выбора, осуществляемые многочисленны-
ми покупателями и продавцами, ведут к результатам, которые
формально могут быть описаны в категориях взаимосвязей между це-
нами и издержками. При некоторых оговоренных условиях цены под
действием конкуренции становятся равными предельным издержкам.
Далее можно показать, что состояния общего равновесия, описывае-
мые этими равенствами, соответствуют определенным нормам эффек-
тивности.
639
Цены поддаются наблюдению, они объективно измеримы. Услови-
ем рыночного равновесия выступает единая цена единицы данного
товара при всех сделках. Исходя из этого, может показаться, что пре-
дельные издержки, уровень которых для каждого отдельного участни-
ка сделок по условию равновесия должен сравняться с уровнем цены,
также могут быть объективно измерены. Из этого вывода, в свою оче-
редь, следует, что, поскольку предельные издержки измеримы, эффек-
тивность использования ресурсов может быть установлена независи-
мо от самого процесса конкуренции посредством механизма, вынуж-
дающего субъектов принятия решений приравнять цены к предельным
издержкам.
Такое логическое построение представляет собой путаницу, осно-
ванную на непонимании понятия альтернативных издержек. Выравни-
вание предельных альтернативных издержек и цены для каждого от-
дельно взятого участника сделок вызвано теми корректировками, ко-
торые каждый из участников сделок осуществляет, изменяя количество
соответствующего товара или услуги. Тот факт, что предельные альтер-
нативные издержки всех участников сделок уравниваются с единой
ценой товара, означает лишь то, что участники сделок имеют возмож-
ность корректировать имеющееся у них количество товара до тех пор,
пока это условие не окажется выполненным. Отсюда отнюдь не выте-
кает, что предельные альтернативные издержки выравниваются в ка-
ком-то ином, объективном смысле.
Рассмотрим идеальный рынок блага, которое согласно наблюдени-
ям продается по единой цене в 1 дол. за единицу. Следовательно, вы-
раженная в деньгах ценность предполагаемой потери единицы блага
должна составить 1 дол. для каждого из участников сделок. Но участ-
ник сделки может уравнять выраженную в деньгах субъективно ощу-
щаемую и ожидаемую потерю полезности с объективно устанавлива-
емой ценой, с которой он сталкивается только в результате корректи-
ровки количества покупаемого или продаваемого товара. Ожидаемая
ценность того, от чего отказываются, выбрав определенный образ дей-
ствий, поддается объективизации и измерению не более, чем ожида-
емая ценность самого этого образа действий. Обе стороны выбора эк-
вивалентны во всех отношениях.
Не существует способов выравнивания предельных альтернативных
издержек и цен, не зависящих от рыночного выбора. Следовательно,
любое «правило», предписывающее действующим в нерыночных усло-
виях «менеджерам» использовать издержки как основу для установле-
ния цены, является бессодержательным. Однако совершенно отдель-
но от вопроса об измеримости предельных издержек концепция аль-
тернативных издержек дает еще одно, не менее важное направление
критики правила благосостояния, которое предписывает искусствен-
но приравнивать цены предельным издержкам. Даже если проигнори-
ровать первое направление критики и предположить, что предельные
альтернативные издержки могут быть каким-либо образом измерены,
указания «менеджерам» использовать издержки как основу для установ-
ления цены должны исходить из того, что эти «менеджеры» ведут себя
640
как роботы, а не рационально действующие индивиды, стремящиеся
максимизировать полезность. Почему от «менеджера» следует ожидать
соблюдения правила? Разве не следует ожидать от него такого поведе-
ния, при котором его личные предельные издержки приводились бы в
состояние равенства с ценностью тех выгод, которые он ожидает от
выбора? Тот факт, что «менеджер» находится в нерыночной ситуации,
говорит о том, что он не может выступать в качестве ответственного
носителя выгод и потерь, порожденных сделанными им выборами. Его
собственные, личные выгоды и потери, оцененные как до, так и после
момента выбора, должны категорически отличаться от выгод и потерь
принципалов.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ И ВЫБОР МЕЖДУ ИНСТИ-
ТУТАМИ. Как было отмечено выше, в отсутствие «естественных» огра-
ничений, предопределяющих аллокацию ресурсов, наличие редкости
означает необходимость выбора либо напрямую между конечными «бла-
гами», либо косвенно — между правилами, институтами и процедура-
ми, которые обусловливают решение об окончательной аллокации. Нам
остается изложить вопрос об альтернативных издержках во второй из
этих ситуаций выбора. В каком-то смысле использование институцио-
нализированных процедур для аллокации ограниченных ресурсов мо-
жет устранить «выбор» в его использовавшемся выше традиционном
значении, в этом отношении оно сродни упомянутым «естественным»
ограничениям. Результаты могут быть следствием некоторого инсти-
туционализированного процесса, не предполагающего наличия лица
или группы лиц, «выбирающих» между альтернативными конечными
состояниями, а следовательно — наличия субъективно ощущаемых аль-
тернативных издержек. Однако, несмотря на отсутствие обычного «мо-
стика» между издержками и выбором, ценность может придаваться
результатам, которые могли бы иметь место при различных аллокаци-
ях ресурсов. Такие предполагаемые потери ценности, связанные с ин-
ституционально предопределенными вариантами аллокации ресурсов,
могут стать существенной составляющей расчетов при рациональном
выборе более высокого уровня — выборе между альтернативными ин-
ституциональными процедурами аллокации ресурсов. При этом выбо-
ре более высокого уровня альтернативные издержки опять же состав-
ляют негативную сторону выбора, даже если «выбор» в стандартном по-
нимании этого термина не является фактором, предопределяющим
каждую из аллокаций, взятую в отдельности.
Рассмотрим следующий крайний случай. Допустим, что на термо-
стате, определяющем температуру в здании, есть только два взаимоис-
ключающих положения — «высокая» и «низкая» (температура). Инсти-
тут выбора между этими положениями представляет собой ежедневное
подбрасывание монетки, положение которой предопределяет «выбор».
Для индивида имеет смысл обсуждать потенциальную ценность, кото-
рую следует ожидать при установке термостата на положение «высокая»,
а не «низкая», даже если он не делает этот выбор самостоятельно или
как член коллектива. Ситуация, которая «выбирается» посредством
641
подбрасывания монетки, имеет последствия для индивидуальной по-
лезности, и эти последствия можно ожидать до реального «выбора».
Однако до тех пор, пока ежедневный выбор продолжает определяться
институциональной процедурой, ожидаемое значение ценности, поте-
рянной в результате установки одного положения термостата, а не дру-
гого, не может представлять собой альтернативных издержек.
Теперь допустим, что вместо беспристрастного механизма, дающе-
го результаты с равной вероятностью, используемый институт дает воз-
можность всем людям, живущим или работающим в здании, каждое
утро голосовать по поводу положения термостата, причем воля боль-
шинства определяет «выбор» положения термостата на день. Допустим
далее, что группа голосующих велика и воздействие отдельного инди-
вида на исход мажоритарного голосования совсем невелико. Важно
подчеркнуть, что в рамках этой процедуры, как и в случае с подбрасы-
ванием монеты, ни один человек не осуществляет реального «выбора»
между альтернативными конечными состояниями. Каждый из голосу-
ющих сталкивается с совершенно другим внутриинституциональным
выбором между «голосованием за высокую» и «голосованием за низкую»
(температуру), зная при этом, что каждый голос имеет относительно
небольшое влияние на результат. Выбор, с которым сталкивается го-
лосующий, не дает ему возможности рационально учесть ожидаемые
потери при конечных альтернативах как для себя, так и для остальных
в сколько-нибудь полноценном смысле этого термина. Потеря, ожи-
даемая при положении термостата, соответствующем, скажем, «низкой»
(температуре), может быть оценена индивидом в 1000 дол. Однако если
он считает, что может воздействовать на выбор, предопределяемый
результатом голосования, лишь в одном случае из тысячи, то ожида-
емая полезность предполагаемой потери в денежном выражении соста-
вит лишь 1 дол. Тогда этот 1 дол. будет отражать денежную величину
альтернативных издержек, связанных с голосованием за «высокую» (тем-
пературу).
Поскольку эти результаты (возможно, при численных различиях)
верны для всех голосующих, то никто не «выбирает» в соответствии с
полностью оцененными выгодами и потерями. «Выбор» является след-
ствием институциональной процедуры, не предполагающей полной
оценки выгод и издержек со стороны отдельного индивида или их со-
вокупности. С точки зрения концепции альтернативных издержек фак-
тический выбор смещается в сторону выбора между институтами. Ре-
зультаты «выборов», сделанных в рамках данного института на протя-
жении последовательности периодов (на протяжении многих дней в
нашем примере с термостатом), могут, конечно, составить исходные
данные для выбора между самими альтернативными институтами. И в
той мере, в какой индивид, сталкивающийся с выбором между инсти-
тутами, знает, что он несет индивидуальную ответственность за резуль-
таты выбора, все логические построения вокруг понятия альтернатив-
ных издержек распространяются на уровень институционального или
конституционального выбора. Однако этот результат достигается только
тогда, когда каждый индивид в соответствующем сообществе реально
642
получает возможность выбора между институциональными правилами.
Только в том случае, когда на некоем окончательном уровне институ-
ционально-конституционального выбора начинает действовать прави-
ло единогласия Викселля, давая тем самым каждому индивиду потен-
циальные полномочия выбора, можно ожидать, что альтернативные
издержки, связанные с альтернативными вариантами выбора, станут
принимаемой во внимание составляющей индивидуальных решений.
РЕЗЮМЕ. Концепция альтернативных издержек является одной из
базовых концепций экономической теории. При простейшем понима-
нии альтернативных издержек как ценности возможностей, отвергну-
тых в результате выбора в условиях ограниченности ресурсов, данная
концепция проста, однозначна и понятна для широкого круга. При
анализе выборов, осуществляемых на рынке продавцами и покупате-
лями, сложности, возникающие лишь при строгом определении дан-
ного понятия, остаются относительно несущественными. Однако при
попытке распространения концепции альтернативных издержек на
нерыночные ситуации — либо при выводе норм, руководящих реше-
ниями, либо при рассмотрении выбора внутри институтов и между
институтами — наблюдаемая путаница и неопределенность говорят о
том, что даже столь фундаментальная концепция нуждается в анали-
тическом прояснении.
БИБЛИОГРАФИЯ
Alchian, А. 1968. Cost. Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 3,404—15. New York:
Macmillan.
Buchanan, J.M. 1969. Cost and Choice. Chicago: Markham. Published as Midway
Reprint, Chicago: University of Chicago Press, 1977.
Buchanan, J.M. and Thirlby, G.F. (eds) 1973. LSE Essays on Cost. London:
Weidenfeld and Nicholson. Reissued by New York University Press, 1981.
Coase, R.H. 1960. The problem of social cost. Journal of Law and Economics 3,
October, 1—44.
ОПТИМАЛЬНЫЕ
ВАЛЮТНЫЕ ЗОНЫ
Масахиро Каваи
Optimum Currency Areas
Masahiro Kawai
Понятие оптимальной валютной зоны относится к «оптимальной» в
географическом смысле территории, в границах которой общеупотреби-
тельным средством платежа является либо единая валюта, либо несколько
валют, прочно привязанных одна к другой при неограниченных возмож-
ностях конвертации как для текущих, так и для капитальных операций;
при этом курсы всех этих валют синхронно колеблются по отношению
к остальным мировым валютам. Слово «оптимальный» в данном случае
относится к достижению макроэкономической цели поддержания балан-
са как внешних, так и внутренних расчетов. Внутренний баланс дости-
гается в точке оптимального соотношения инфляции и безработицы
(если такие точки действительно существуют), а достижение внешнего
баланса предполагает равновесие платежного баланса как внутри рас-
сматриваемой территории, так и в ее отношениях к внешнему миру.
Концепция оптимальных валютных зон развивалась в контексте
дебатов об относительных преимуществах и недостатках фиксирован-
ных и плавающих валютных курсов. Защитники плавающих курсов,
например Милтон Фридмен (Friedman, 1953), утверждали, что странам,
связанным жесткими ограничениями цен и заработной платы, плава-
ющие курсы необходимы для поддержания как внутреннего, так и
внешнего баланса. Если же при подобных ограничениях зафиксиро-
вать и валютный курс, то любые политические мероприятия, направ-
ленные на корректировку международного платежного баланса, при-
ведут к росту безработицы или инфляции, в то время как при плава-
ющих курсах дисбаланс в результате изменения условий торговли и
размеров реальной заработной платы исчезнет без значительных болез-
ненных изменений. Из подобного рода аргументации вытекает точка
зрения, согласно которой каждая страна должна переходить на поли-
тику плавающих курсов вне зависимости от своих экономических ха-
рактеристик. Однако межстрановые различия достаточно велики и раз-
нообразны. Теория оптимальных валютных зон утверждает, что если
степень интеграции той или иной страны в мировую систему финан-
совых сделок, движения факторов производства и товарных потоков
достаточно велика, то фиксированный валютный курс является более
эффективным средством достижения внутреннего и внешнего балан-
са по сравнению с гибким курсом.
644
Первые исследования в этой области (Mundell, 1961; McKinnon,
1963; Ingram, 1962) пытались выявить наиболее значимые экономичес-
кие характеристики, определяющие оптимальную валютную зону.
В дальнейшем внимание исследователей (Grubel, 1970; Corden, 1972;
Ishiyama, 1975; Tower and Wollet, 1976) обратилось к оценке издержек
и выгод, возникающих в результате участия в оптимальной зоне. Ха-
мада (Hamada, 1985) рассматривал влияние, которое вхождение в оп-
тимальную валютную зону оказывало на благосостояние отдельных
стран.
1. ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПТИМАЛЬНОЙ ВАЛЮТНОЙ ЗОНЫ
Гибкость цен и заработной платы. Данный вопрос был центральным
в дискуссии о преимуществах и недостатках фиксированных и плава-
ющих валютных курсов. В самом деле, предположение о негибкости
цен и ставок заработной платы служило основой для аргументации
Фридмена в пользу плавающих курсов и для последующего развития
теории оптимальных валютных зон. (При этом, однако, необходимо
отметить, что Фридмен никогда полностью не отвергал мысль о том,
что группа стран, например стерлинговая зона, может привязать свои
курсы валют друг к другу, сохраняя их при этом плавающими по отно-
шению к внешнему миру (см.: Friedman, 1953, р. 193).)
Рассмотрим группу стран или регионов, составляющих некую зону.
Тогда можно ввести постулат о том, что если ни цены, ни реальная
заработная плата в рамках данной зоны не являются фиксированны-
ми и зависят от спроса и предложения, то все страны (регионы) долж-
ны быть связаны между собой посредством фиксированного валютно-
го курса. Полная гибкость заработной платы и цен позволит достичь
расчистки рынков и облегчить процесс мгновенной реальной адапта-
ции к шокам, влияющим на межрегиональные платежи, не вызвав при
этом увеличения безработицы. Реальная адаптация означает «измене-
ние в аллокации производственных ресурсов и в структуре товаров,
доступных для потребления и инвестиций» (Friedman, 1953, р. 182).
Необходимые сдвиги относительных цен и реальной заработной пла-
ты обеспечивают адаптацию, так что гибкость межрегиональных валют-
ных курсов внутри данной зоны перестает быть необходимым услови-
ем. Связывание регионов посредством фиксированных курсов означа-
ет определенную выгоду для валютной зоны в целом, так как полезность
денег возрастает (см. раздел 2). Баланс внешних расчетов удерживает-
ся благодаря как совместным колебаниям валют зоны относительно
внешнего мира, так и гибкости заработной платы и цен в рамках зоны.
Если же цены и реальная заработная плата являются негибкими,
необходимая адаптация может привести к росту безработицы в одних
регионах и к инфляции в других. В такой экономической системе гиб-
кость валютных курсов между регионами или заменяющие ее факторы
могут частично играть роль гибких цен и заработной платы в процессе
реальной адаптации к внешним изменениям. В качестве альтернатив
645
гибкому валютному курсу, которые обосновывали бы создание едино-
го валютного пространства, предлагались описываемые ниже меры
внутренней рыночной интеграции.
Интеграция финансовых рынков. Ингрэм (Ingram, 1962) отметил, что
внутри США, а также между США и Пуэрто-Рико высокая степень
внутренней финансовой интеграции обеспечила достаточно мягкий
процесс сглаживания неравновесий межрегиональных платежных ба-
лансов и облегчила процесс адаптации. Это привело его к предполо-
жению, что оптимальная валютная зона может иметь тесно интегри-
рованный финансовый рынок.
В случаях когда межрегиональный дефицит платежного баланса
вызывается временными и обратимыми явлениями, потоки капитала
могут служить своего рода буфером, который уменьшит или вовсе
устранит необходимость реальной адаптации. Если же дефицит возни-
кает вследствие постоянно действующих факторов, хотя потоки финан-
сового капитала (за исключением формирующихся за счет разницы в
долгосрочных реальных нормах дохода) не могут сохранять дефицит в
течение сколь угодно долгого времени, процесс реальной адаптации
может быть растянут на достаточно длительный период. Связанные с
ним издержки снижаются благодаря гибкости цен и заработной пла-
ты, а также внутренней мобильности факторов производства — и то и
другое повышается с течением времени. Кроме того, финансовые
трансакции усиливают процесс адаптации и другим образом, а имен-
но посредством эффекта богатства. Профицитный регион, накаплива-
ющий сумму чистых финансовых претензий, повышает расходы, а де-
фицитный — снижает, тем самым внося вклад в процесс реальной адап-
тации. Таким образом, интеграция финансовых рынков снижает
потребности в изменениях условий торговли между регионами (в рам-
ках зоны) за счет колебаний обменных курсов, по крайней мере, в крат-
косрочном периоде. С учетом нежелательных последствий гибкости
валютных курсов и связанного с ней риска обменных операций
(т.е. разделения «местных» и «общих» финансовых претензий и, сле-
довательно, разделения региональных финансовых рынков — Ingram,
1962, р. 18), можно придти к выводу о предпочтительности фиксиро-
ванных курсов в рамках территории с интегрированным финансовым
рынком.
Интеграция рынков факторов производства. Манделл (Mundell, 1961)
утверждал, что оптимальная валютная зона определяется внутренней
мобильностью факторов производства, включая межотраслевую и меж-
региональную мобильность. Внутренняя мобильность факторов произ-
водства может снижать необходимость изменения реальных цен на них,
которая в противном случае возникала бы как реакция на изменение
спроса и предложения. Тем самым исчезает и необходимость колеба-
ний обменных курсов в качестве средства для изменения реальных цен.
С этой точки зрения мобильность факторов частично является заме-
нителем гибкости цен и заработной платы — «частично» потому, что в
646
течение краткого промежутка времени мобильность не бывает доста-
точно высокой. Следовательно, она более эффективна для снижения
издержек долгосрочной реальной адаптации к постоянному неравно-
весию платежного баланса, чем для краткосрочной адаптации к времен-
ному дисбалансу, которая облегчается за счет мобильности финансо-
вого капитала.
Таким образом, интеграция рынков факторов производства позво-
ляет избежать воздействия системы фиксированных обменных курсов
на межрегиональные платежные балансы, повышая полезность денег
внутри валютной зоны. Внутренний баланс (оптимальное соотношение
уровня инфляции и безработицы) может поддерживаться с помощью
средств фискальной и денежной политики, а внешний (по отношению
к остальному миру) — за счет совместного плавания валют.
Интеграция товарных рынков. Видимая относительная гладкость
процесса долгосрочной межрегиональной адаптации, наблюдающаяся
в Соединенных Штатах, нередко приписывается внутренней открыто-
сти экономики. Это приводит к мысли, что оптимальная валютная зона
должна обладать высокой степенью внутренней открытости, т.е. интен-
сивным внутренним товарообменом. «Открытость» определенной тер-
ритории измеряется посредством таких показателей, как соотношение
торгуемых и неторгуемых товаров в производстве и потреблении, от-
ношение совокупной величины экспорта и импорта к объему валово-
го выпуска, а также предельной склонностью к импортированию.
Маккиннон (McKinnon, 1963) поднял вопрос о том, должна ли тер-
ритория при наличии определенной степени внешней открытости вво-
дить плавающий валютный курс по отношению к другим зонам или
присоединиться к ним для создания более крупной валютной зоны. Во-
первых, предположим, что открытость зоны к внешнему миру настоль-
ко высока, что участвующие во внешней торговле товары составляют
большую часть производимых и продаваемых товаров. Тогда гибкость
валютного курса по отношению к другим зонам не является эффектив-
ным механизмом для исправления несбалансированности платежей, так
как любые колебания валютного курса будут погашены изменениями
цен, не оказывая значительного влияния на условия торговли или ре-
альные зарплаты. То есть зона слишком мала и открыта, чтобы поли-
тика переключения расходов была действенной, хотя эффект богатства
действует в сторону восстановления равновесия платежей. Побочным
эффектом при этом является нестабильность общего уровня цен. Вме-
сто этого для зоны будет выгодно проводить политику уменьшения
расходов для достижения внешнего баланса и устанавливать фиксиро-
ванный валютный курс для обеспечения стабильности цен при усло-
вии, что цены на участвующие во внешней торговле товары во внеш-
ней валюте являются стабильными. Во-вторых, если зона относитель-
но закрыта по отношению к остальному миру, она должна привязать
свою валюту к корзине не участвующих во внешней торговле товаров
для того, чтобы стабилизировать ценность денег, а также проводить
политику гибкого обменного курса для регулирования внешнего балан-
647
са. Плавающий обменный курс эффективен, так как он приводит к
желаемым изменениям в относительной цене внешнеторговых товаров
и реальных зарплат.
Таким образом, оптимальная денежная политика внутренне откры-
той, а внешне относительно закрытой экономики заключается в при-
вязке своей валюты (или валют совместно) к набору внутренних това-
ров, не участвующих во внешней торговле с остальным миром, — для
обеспечения стабильности цен и принятии гибкого валютного курса для
регулирования внешнего баланса. Разделение такого хозяйства на ряд
территориально меньших с независимыми плавающими курсами неже-
лательно так же, как и присоединение его к внешнему миру для учас-
тия в более крупной валютной зоне.
Политическая интеграция. Проведенный выше анализ демонстриру-
ет пользу валютной зоны, когда страна имеет высокую степень интег-
рации внутренних рынков финансовых активов, производительных
ресурсов или продуктов. (Другие характеристики, такие как диверси-
фикация продуктов (Kenen, 1969) или сходное отношение к выбору
между инфляцией и безработицей, также предлагались в качестве «кри-
териев» оптимальной валютной зоны.) Очевидно, что успешное функ-
ционирование системы валютных зон основывается на абсолютной
уверенности в постоянстве политики фиксированного валютного кур-
са и неограниченной конвертируемости валют-членов внутри зоны. Это
потребует тесной координации деятельности национальных денежных
властей и, возможно, даже создания наднационального центрального
банка. Передача суверенитета над проведением денежной политики
наднациональному органу — не только экономический, но и полити-
ческий процесс. Последний пример Европейской валютной системы
(ЕВС) показывает, что без принятия усилий по достижению некото-
рой формы политической интеграции управление такой свободной ва-
лютной зоной, как европейская, будет нелегким. (ЕВС является сво-
бодной валютной зоной, или псевдовалютным союзом (Corden, 1972),
так как разрешены отдельные отступления.)
2. ВЫГОДЫ И ИЗДЕРЖКИ
УЧАСТИЯ В ВАЛЮТНОЙ ЗОНЕ
Для полного анализа оптимальных валютных зон в идеале необхо-
димо исследовать, каким образом вся мировая экономика может быть
разделена на независимые валютные зоны с целью максимизации ми-
рового благосостояния. Однако конструирование общей аналитической
основы для решения этой задачи является практически невозможным.
Поэтому исследователи, занимающиеся анализом выгод и издержек,
такие, как Ишияма (Ishiyama,1975) и Тауэр и Уиллет (Tower and Willet,
1976), фокусировали свое внимание на более ограниченном вопросе,
а именно: должны ли отдельные страны объединяться и образовывать
валютные зоны? Предполагается, что каждая страна оценивает выго-
ды и издержки участия в валютной зоне с чисто националистической
648
точки зрения. Ценой такого ограниченного подхода является то, что
определенная таким образом «национально»-оптимальная валютная зона
может не соответствовать «глобально»-оптимальной валютной зоне.
Выгоды. Единственной наиболее существенной выгодой, которую
страна может получить от участия в валютной зоне, является то, что
увеличивается полезность (usefulness) денег (Mundell, 1961; McKinnon,
1963; Kindleberger, 1972; Tower and Willet, 1976). Деньги — это соци-
альное приспособление, необходимое для упрощения экономических
расчетов и учета, получения экономии при приобретении и использо-
вании информации для совершения сделок и ускорения интеграции
рынков. Использование единой общей валюты (или валют, жестко при-
вязанных друг к другу при полной конвертируемости) устранит риск
будущих колебаний валютного курса, максимизирует выгоды от тор-
говли и специализации и, таким образом, усилит аллокационную эф-
фективность. Полезность денег в основном возрастает вместе с разме-
ром территории, на которой они используются. Деньги — это, по сути,
общественное благо.
К упомянутой выше выгоде имеет отношение и факт, что внешние
эффекты проявляются в нескольких формах. Во-первых, участие в ва-
лютной зоне означает, что участвующая страна привязывает свою ва-
люту к классу репрезентативных товаров зоны. Таким образом, финан-
сово нестабильная страна может повысить ценность денег посредством
вступления в более финансово-устойчивую валютную зону. Во-вторых,
хорошо финансово-интегрированная валютная зона предлагает возмож-
ности для территориального разделения риска. Межрегиональный пла-
тежный дисбаланс незамедлительно поглощается потоком финансовых
операций, который позволяет стране, испытывающей дефицит, пола-
гаться на ресурсы страны с профицитом до того момента, пока со вре-
менем издержки адаптации не будут распределяться эффективно. (Су-
ществуют другие выгоды от участия в валютной зоне, такие, как сокра-
щение официальных валютных резервов и устранение потоков
спекулятивного капитала.)
Издержки. В принципе система гибких валютных курсов позволяет
каждой стране сохранять валютную независимость. Система же фик-
сированных валютных курсов требует унифицированной или тесно
координируемой денежной политики, ограничивая свободу участву-
ющих стран в проведении независимой денежной политики. Эта по-
теря денежной независимости рассматривается как главные издержки
участия в валютной зоне, так как это может заставить страны отойти
от соблюдения внутреннего баланса с целью сохранения внешнего ба-
ланса. Эти издержки считаются особенно высокими, если страна об-
ладает низким порогом чувствительности к изменениям в уровне без-
работицы и испытывает сильное давление на цены и зарплаты со сто-
роны монополистических предприятий, профсоюзов и долгосрочных
контрактов. С другой стороны, издержки могут быть меньше, если су-
ществует приблизительно вертикальная кривая Филлипса (как в слу-
649
чае с небольшой экономикой с высокой степенью открытости), так как
в таком случае страна не будет иметь большой свободы выбора наилуч-
шего положения при компромиссном выборе между инфляцией и без-
работицей.
Расчет выгодности участия. Формирование валютной зоны явля-
ется динамичным процессом. В процессе движения к более тесной
монетарной интеграции вырастает доверие общества к системе, воз-
никнут новые выгоды, расширятся существующие преимущества,
а издержки сократятся. Таким образом, необходимо балансирование
выгод и издержек во времени. Следовательно, можно утверждать, что
отдельная страна решит участвовать в валютной зоне, если ожида-
емые (дисконтированные во времени) выгоды превышают ожида-
емые (дисконтированные во времени) издержки. По поводу такого
расчета выгодности участия можно сделать два замечания. Во-пер-
вых, предполагается, что страна сравнивает два противоположных
валютных режима, а именно полностью фиксированный валютный
курс и свободно плавающий валютный курс. Однако с точки зрения
максимизации национального благосостояния (т.е. величины выгод
за вычетом величины издержек) всегда будет существовать оптималь-
ная стратегия регулирования валютного рынка, которая допускает
некоторую гибкость валютного курса и некоторые изменения валют-
ных резервов, а полярные случая фиксированного и плавающего ва-
лютных курсов вряд ли могут быть оптимальными (см., например:
Воуег, 1978; Roper and Turnovsky, 1980; Aizenman and Frenkel,1985).
Во-вторых, каждая страна выбирает наилучший для себя механизм
валютного курса исходя из того предположения, что ее выбор и по-
литика не окажут влияния на остальной мир, хотя она и может обу-
словить свои действия в зависимости от политики других стран. В ре-
зультате «оптимальные» валютные зоны, определенные таким обра-
зом, могут не быть «глобально»-оптимальными. Как подчеркивает
Хамада (Hamada, 1985), когда выгоды создания валютной зоны носят
характер общественных благ, а внешние эффекты и издержки доста-
ются на долю отдельных стран, рациональная теория коллективного
действия (например: Buchanan, 1969) предполагает, что решения об
участии отдельных стран обычно приводят к созданию валютной зоны,
меньшей по величине, чем «общественно»-оптимальная. (Однако если
издержки воспринимаются как общественные антиблага и превыша-
ют общественные блага, полученные от образования валютной цены,
то валютная зона, основанная на индивидуальных расчетах, может
быть больше, чем «глобально»-оптимальная). Очевидно, что предла-
гаемые расчеты игнорируют возможное стратегическое взаимодей-
ствие между странами: лидерство или сотрудничество. Подход к ме-
ханизмам оптимального валютного курса с позиций теории игр за по-
следнее время привлек внимание экономистов — см.: Hamada, 1985;
Canzoneri and Gray, 1985 и главы в работах Бауитера и Марстона
(Buiter and Marston, 1985).
650
3. ЧТО МЫ УЗНАЛИ?
В литературе, касающейся оптимальных валютных зон и примене-
ния к ним анализа выгод и издержек, выявился ряд проблем.
Во-первых, выбор гибкого или фиксированного валютного курса
для экономик с большими фрикциями — это выбор субоптимального
решения по принципу (second-best). Если рынки готовых товаров, фак-
торов производства и финансовых активов были бы полностью интег-
рированы в мировую экономику, относительные цены и реальные зар-
платы стали бы абсолютно гибкими, а экономический национализм
(который пытается отделить национальную экономику от остального
мира посредством создания искусственных ограничений для торговли,
потоков капитала и валютных операций) не существовал бы, то валют-
ной зоной стал бы целый мир. В таком случае реальная адаптация с
целью устранения платежных дисбалансов была бы крайне легка, про-
изводственные ресурсы были бы полностью заняты, а полезность де-
нег была бы максимальной. Однако, пока работе механизма адаптации
платежей мешает фрагментированность рынков и слабая подвижность
цен и ставок зарплаты, страна может принять гибкий валютный курс
как «второе лучшее» решение для поддержания внутреннего и внеш-
него баланса. Литература по оптимальным валютным зонам контроля
показала, что меры интеграции рынков финансовых активов, факто-
ров и товаров могут частично и более эффективно, чем гибкость ва-
лютного курса, выполнить функцию обеспечения гибкости соотноше-
ния цен — зарплат.
Во-вторых, подход с позиций выгод и издержек к оптимальным
валютным зонам, основанный только на национальном интересе, имеет
ограниченную применимость к созданию оптимальной международной
денежной системы. Принимая во внимание эффекты примера
(spillover) и экономическую взаимосвязь между тесно интегрированны-
ми странами, стратегическое поведение национальных политиков долж-
но учитываться, чтобы углубить наше понимание природы «глобаль-
но»-оптимальных валютных зон и оптимальных международных валют-
но-денежных механизмов.
В качестве заключительного замечания хотелось бы отметить, что
два экономиста, которые сильно продвинули теорию оптимальных ва-
лютных зон, Манделл и Маккиннон, в настоящее время поддержива-
ют установление фиксированных валютных курсов. Манделл выступал
за общемировую систему золотого стандарта, а Маккиннон (McKinnon,
1984) — за фиксацию валютных курсов между тремя основными инду-
стриальными странами (США, Западная Германия и Япония). Таким
образом, они считают, что мир в целом или индустриальное ядро за-
падного общества способны создать валютную зону.
651
БИБЛИОГРАФИЯ
Aizenman, J. and Frenkel, J. 1985. Optimal wage indexation, foreign exchange
intervention, and monetary policy. American Economic Review 75(3), June,
402-23.
Boyer, R.S. 1978. Optimal foreign exchange market intervention. Journal of Political
Economy 86, December, 1045-55.
Buchanan, J.M. 1969. Cost and Choice. Chicago: Markham.
Buiter, W.H. and Marston, R.C. (eds) 1985. International Economic Policy
Coordination. Cambridge: Cambridge University Press.
Canzonery, M.B. and Gray, J. 1985. Monetary policy games and the consequences of
non- cooperative behavior. International Economic Review 36(3), October, 547—64.
Corden, W.M. 1972. Monetary Integration. Essays in International Finance, no. 93,
April, Princeton: International Finance Section, Princeton University.
Friedman, M. 1953. The case for flexible exchange rates. In M. Friedman, Essays in
Positive Economics, Chicago: University of Chicago Press.
Grubel, H.G. 1970. The theory of optimum currency areas. Canadian Journal of
Economics 3, May, 318-24.
Hamada, K. 1985. The Political Economy of International Monetary Interdependence.
Cambridge, Mass.: MIT Press.
Ingram, J.C. 1962. Regional Payment Mechanisms: The Case of Puerto Rico. Chapel
Hill: University of North Carolina Press.
Ishiyama, Y. 1975. The theory of optimum currency areas: a survey. IMF Staff Papers
22, July, 344-83.
Kenen, P.B. 1969. The theory of optimum currency areas: an elective view. In
Monetary Problems of the International Economy, ed. R.A. Mundell and A.K.
Swoboda, Chicago: University of Chicago Press.
Kindleberger, C.P. 1972. The benefits of international money. Journal of International
Economics 2, September, 425-42.
Komiya, R. 1971. Saitekitsukachiiki no riron (Theory of optimum currency areas). In
Gendaikeizaigaku no Tenkai (The development of contemporary economics). Ed.
M. Kaji and Y. Murakami, Tokio: Keisoshobo.
McKinnon, R.I. 1963. Optimum currency areas. American Economic Review 53,
September, 717-25.
McKinnon, R.I. 1984. An International Standard for Monetary Stabilization. Policy
Analyses in International Economics 8, March, Washington, D.C.: Institute for
International Economics.
Mundell, R.A. 1961. A theory of optimum currency areas. American Economic Review
51, September, 657-65.
Roper, D.E. and Tumovsky, S.J. 1980. Optimal exchange market intervention in a
simple stochastic macro model. Canadian Journal of Economics 13, May, 269—
309.
Tower, E. and Willet, T.D. 1976. The Theory of Optimum Currency Areas and
Exchange-Rate Flexibility. Special Studies in International Economics, no. 11,
May, Princeton: International Finance Section, Princeton University.
Yeager, L. 1976. International Monetary Relations: Theory, History, Policy. 2nd edn,
New York: Harper & Row.
РЫНКИ СОВЕРШЕННОЙ
И НЕСОВЕРШЕННОЙ
КОНКУРЕНЦИИ
Джон Робертс
Perfectly and Imperfectly
Competitive Markets
John Roberts
В конкурентной борьбе между экономическими моделями теория
совершенной конкуренции удерживает преобладающую долю рынка:
ни один другой набор идей не используется экономистами столь ши-
роко и успешно, как логика рынков совершенной конкуренции. Со-
ответственно, все другие модели рынка (всем вместе им присвоили
название рынков «несовершенной конкуренции» и относят к их числу
монополию, монополистическую конкуренцию, рынок, на котором
доминирует одна фирма — ценовой лидер, двустороннюю монополию
и другие ситуации торга, а также все разновидности теорий олигопо-
лии) представляют собой всего лишь ее периферийных конкурентов.
В том, что совершенная конкуренция играет центральную роль в
качестве ориентира для нормативной теории, нет ничего удивительно-
го, однако доминирование анализа совершенной конкуренции в деск-
риптивных и прогностических работах примечательно. Во-первых, эко-
номисты-теоретики все больше склоняются к точке зрения, что осно-
вополагающей должна являться модель несовершенной конкуренции,
а совершенная конкуренция должна быть выведена из моделей, в ко-
торых допускается поведение, соответствующее несовершенной кон-
куренции, и, в частности, экономические агенты полностью представ-
ляют себе имеющиеся в их распоряжении стратегии и монопольную
власть, которой они обладают. За последние 25 лет на основе такого
подхода были проведены обширные исследования, основная часть ко-
торых наводит на мысль о том, что совершенная конкуренция соответ-
ствует крайне специфическому, предельному случаю более общей тео-
рии рынков. Во-вторых, по мере уточнения идеи совершенной конку-
ренции и более полного понимания ее условий стало очевидно, что ни
один из сколько-нибудь значительных рынков не отвечает полностью
условиям совершенной конкуренции и, похоже, большинство из них
даже к ним не приближается. Это не означает, что модели должны быть
точными с дескриптивной точки зрения; единственный способ обес-
печить дескриптивную точность карты — это придать ей масштаб
1 : 1, но такая карта бесполезна. И все же поразительно, что экономи-
653
сты столь упорно выбирают модель с, казалось бы, очень низкой деск-
риптивной ценностью. В-третьих, существующая теория совершенной
конкуренции, являясь теорией ценовой конкуренции, не содержит
связного объяснения того, как формируются цены. Поразительно, что
незавершенность данной теории в столь фундаментальном вопросе не
снижает сколько-нибудь серьезно ее ценности в глазах исследователей.
С учетом всего вышесказанного доминирование методов, основан-
ных на посылке о совершенной конкуренции, видимо, следует считать
признаком слабости моделей несовершенной конкуренции. На самом
деле не существует достаточно сильной общей теории несовершенной
конкуренции. Вместо нее присутствуют мириады конкурирующих мо-
делей частичного равновесия рынков, где господствует несовершенная
конкуренция, а немногие модели общего равновесия либо основаны на
сомнительных предпосылках, либо содержат институциональные аспек-
ты, которые не более удовлетворительны, чем аналогичные аспекты
моделей совершенной конкуренции.
Несмотря на неудовлетворительное состояние теории рынков как
совершенной, так и несовершенной конкуренции, последние работы,
опирающиеся на методы теории игр, обещают вылиться в более удов-
летворительную теорию несовершенной конкуренции рынков и про-
лить больше света на то, почему анализ, основанный на модели совер-
шенной конкуренции, так неплохо работает, а также объединить эти
теории.
СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ. Идея совершенной конкурен-
ции имеет ряд аспектов: отсутствие монопольной власти; кривые спроса
и предложения, которые индивиду представляются горизонтальными;
пренебрежимо малый размер индивидуальных объемов продаж и по-
купок по сравнению с отраслевыми агрегатами; принятие цен, задан-
ных рынком (price-taking behaviour) (публично объявленных цен); ну-
левые прибыли и равная отдача от всех видов деятельности; цены, рав-
ные предельным издержкам, а также доходы факторов производства,
равные ценности их предельных продуктов; наконец, Парето-эффек-
тивность рыночной аллокации ресурсов и действенность «невидимой
руки». Стиглер (Stigler, 1957) проследил историческое развитие идеи
совершенной конкуренции в зеркале «революции несовершенной кон-
куренции» 1930-х годов, отметив появление многих этих характерис-
тик и отразив растущее признание строгих условий, которые являются
необходимыми и/или достаточными для существования совершенной
конкуренции. Эти условия включали: большое число продавцов и по-
купателей; возможность свободного входа на рынок и ухода с рынка;
наличие полной информации и пренебрежительно малые издержки на
поиск информации; однородность и делимость продукта; отсутствие
сговора; отсутствие внешних эффектов и возрастающей отдачи.
Теория, описанная Стиглером, соответствует тому, что излагается
в учебниках промежуточного уровня и, вероятно, отражает представ-
ления о совершенной конкуренции большинства экономистов, веду-
щих прикладные исследования. Фирмы и потребители рассматриваются
654
в качестве субъектов, осуществляющих выбор продаваемых и покупа-
емых количеств при заданных ценах, поскольку предполагается, что при
больших числах продавцов и покупателей количества товара, продава-
емые и покупаемые каждым из них, «пренебрежимо малы» в сравне-
нии с агрегированными отраслевым показателями, от которых соглас-
но допущению зависят цены. (Эти доводы приводятся в работе Курно
1838 г. — Cournot, 1838.) Однако модель не описывает то, как устанав-
ливаются цены. В подтверждение этого подхода выдвигаются нестро-
гие аргументы, согласно которым цены на самом деле устанавливают-
ся отдельными экономическими агентами, но при наличии на рынке
большого числа как продавцов, так и покупателей любой продавец не
сможет существенно отклоняться от цен, назначаемых остальными, не
утратив при этом всех покупателей на свой товар или, наоборот, не ока-
завшись захлестнутым волной покупателей. Эта идея восходит к рабо-
те Бертрана (Bertrand, 1883), однако она не подкреплена формальным
доказательством, что исход подобного ценообразования окажется со-
вершенно конкурентным при принятых в качестве допущений струк-
турных условиях (большие числа продавцов и покупателей, однород-
ность продукта, свободный вход на рынок и т.д.).
Когда Стиглер писал свою работу, Эрроу, Дебрё и Маккензи уже
представили результаты своего новаторского формального анализа
Вальрасова общего равновесия, и через два года Дебрё опубликовал
«Теорию ценности» [Theory of Value] (Debreu, 1959), которая до сих пор
является образцовой трактовкой данного предмета. В этой теории кон-
куренции дается определение в терминах поведения хозяйственных
субъектов. Существует заданный перечень потребителей и фирм и за-
данный перечень благ. Вводится единая цена для каждого блага и да-
ется определение поведению хозяйственных субъектов, соответству-
ющему совершенной конкуренции. Оно предполагает, что каждый по-
требитель выбирает сделки, которые максимизируют чистую полезность
при условии выполнения бюджетного ограничения, установленного
при условиях, что каждый потребитель может покупать или продавать
неограниченные количества товаров по заданным ценам, а осуществ-
ляемые потребителем закупки не влияют на прибыли, которые он или
она получает. Аналогично каждая фирма выбирает объемы ресурсов и
выпуска продукта, которые позволяют ей максимизировать чистые до-
ходы опять же при условии, что фирма может покупать или продавать
любые количества продукта по своему усмотрению, не влияя при этом
на цены. Наконец, равновесие является вектором цен, и при этих це-
нах сделанные в условиях совершенной конкуренции выборы каждого
из экономических агентов в совокупности дают такую аллокацию ре-
сурсов, которая обеспечивает расчистку рынков.
Для этой модели доказаны три основных результата. Они опреде-
ляют, при каких условиях, касающихся вкусов, наделенности ресурса-
ми и технологии, конкурентные равновесия существуют (существова-
ние), равновесные аллокации Парето-оптимальны (эффективность),
а при изменении первоначальной аллокации ресурсов любой оптимум
по Парето является конкурентным равновесием (несмещенность —
655
unbiasedness). Теоремы об эффективности и существовании, вместе
взятые, подводят формальную основу под утверждение Адама Смита о
«невидимой руке», направляющей основанное на личном интересе
поведение к общему благу, в то время как теорема о несмещенности
говорит о том, что система конкурентных цен по сути своей не ставит
в привилегированное положение какую-либо группу (капиталистов,
рабочих, владельцев ресурсов, потребителей и т.д.). Вывод о нерасто-
чительности системы (non-wastefulness) требует встроить в модель не-
которые дополнительные допущения сверх сделанных ранее: достаточ-
но того, чтобы не все потребители достигли точки насыщения. Теоре-
ма о существовании, однако, предполагает куда более строгие условия,
включая, в частности, отсутствие возрастающей отдачи. (Это также
требуется для получения теоремы о несмещенности.)
В формулировках Дебрё учтены и многие другие условия, возника-
ющие при менее формализованных подходах к совершенной конкурен-
ции. Например, в самом определении блага подразумевается его одно-
родность, а делимость задается в явном виде. Поразительно, однако,
что свободный доступ на рынок и большое число продавцов и покупа-
телей не играют в его теории какой-либо явной роли: теоремы сохра-
няют силу даже при наличии одного потенциального покупателя или
продавца любого блага.
Это свойство независимости от числа участников рынка объясня-
ется тем, что теория Дебрё выступает исключительно как теория рав-
новесия, т.е. описывает происходящее только при условии, что поведе-
ние в точности отвечает заложенным в нее предпосылкам и что цены
являются равновесными, т.е. обеспечивают расчистку рынков. Не рас-
сматривается вопрос о том, что могло бы произойти, если бы цены не
находились на вальрасианских уровнях, а тем более о том, как на са-
мом деле определяются цены. Более того, такое равновесие не вытека-
ет даже из знаменитых тезисов Вальраса о беспристрастном аукциони-
сте и процессе «нащупывания» (tatonnement) (т.е. об отсутствии тор-
говли при неравновесных ценах), которые дают целостную модель
формирования цены при рациональных действиях экономических аген-
тов. (Напротив, в модели Дебрё существовал бы стимул в ответ на
объявляемые аукционистом цены последовательно давать ложные сиг-
налы о своих предпочтениях с целью достичь монопольного положе-
ния и соответствующих цен (Hurwicz, 1972).)
Возможность индивида оказывать воздействие на процесс установ-
ления цены аукционистом исчезает при переходе к модели, в которой
индивидом действительно можно пренебречь. Такая модель впервые
была предложена Ауманом (Aumann, 1964); в ней множеству экономи-
ческих агентов присваивается индекс, отражающий некий континуум,
имеющий неатомистическую размерность. Эта размерность задается
сопоставлением размера группы агентов с размерами экономики в це-
лом. Отсутствие массовых точек означает, что избыточный спрос ни
одного из индивидов не является положительной долей агрегатной ве-
личины. Таким образом, прекращение предложения со стороны любого
из индивидов не влияет ни на размер избыточного спроса (измерен-
656
ного в расчете на душу населения), ни, соответственно, на факт рас-
чистки рынка при данной цене. Таким образом, принятие цен (price-
taking) является абсолютно рациональным, если их устанавливает бес-
пристрастный аукционист.
Модели бесконечно большой экономики включают такие аспекты
совершенной конкуренции, как большое число и пренебрежительно
малые размеры продавцов и покупателей и (при наличии аукционис-
та) принятие цены продавцами. Модели бесконечно большой эконо-
мики также задают рамки анализа, в которых результаты множества
других моделей производства и обмена согласуются с результатами
вальрасианской теории. Однако очевидно, что модели бесконечной эко-
номики предельно абстрактны, и главным является здесь вопрос о том,
в какой мере они аппроксимируют конечные экономики. Этот вопрос
подводит к рассмотрению последовательностей увеличивающихся по
размеру конечных экономик, в которых каждый индивид становится
относительно все менее значительным, — возможно, наряду со мно-
гими другими подобными ему индивидами. Определение совершенной
конкуренции, связанное с такими последовательностями экономик и
асимптотическими свойствами присущих им аллокаций ресурсов, вос-
ходит к работам Курно (Cournot, 1838) и Эджуорта (Edgeworth, 1881);
оно составило основу нескольких важнейших направлений исследова-
ний.
Наиболее завершенные из этих исследований демонстрируют, что
аллокации ресурсов в таких экономиках стремятся к вальрасианским
(см.: Hildenbrand, 1974). Между тем в последнее время внимание было
сосредоточено на направлении исследований, восходящем к Курно,
которое предполагает выведение совершенной конкуренции в качестве
предела, к которому стремятся несовершенно конкурентное поведение
и его результаты (см.: Mas-Colell, 1982).
Существует три подхода к данной проблеме. Один их них (Roberts
and Postlewaite, 1976) фактически принимает одну из версий гипотезы
об аукционисте и исследует стимулы к тому, чтобы реагировать на
объявленные цены исходя из своих истинных потребностей. В рамках
данного направления показывается, что если экономика растет посред-
ством реплицирования или если рассматриваемая последовательность
экономик стремится к той, в которой вальрасианская цена является
локально непрерывной функцией экономических переменных, то пра-
вильное раскрытие предпочтений и принятие цен асимптотически ста-
новится доминирующей стратегией. Второе направление исследований
еще непосредственнее связано с моделью Курно. Экономические аген-
ты выбирают количества, а возникающие в результате цены каким-то
образом приводят к расчистке рынков, причем некоторые агенты
(обычно это фирмы) осознают влияние своего выбора на уровень цен,
в то время как другие (потребители) воспринимают цены как данность.
Наиболее значительные результаты на данном направлении были до-
стигнуты Новшеком и Зонненшайном (Novshek and Sonnenschein,
1978), которые показали, что равновесия Курно в условиях свободно-
го доступа на рынок сходятся к вальрасианским аллокациям по мере
657
того, как минимальный эффективный размер фирмы становится не-
большим, и при допущении, что соблюдено условие убывающей кри-
вой спроса. Наконец, основанные на теории игр модели некооператив-
ного обмена между экономическими субъектами, у истоков которых
стоял Шубик (Shubik, 1973), также асимптотически стремятся к валь-
расианскому равновесию (см.: Postlewaite and Schmeidler, 1978). Важ-
ной чертой этих моделей, основанных на теории игр, является то, что
в них в явном виде рассматривается неравновесное поведение эконо-
мических субъектов: определяются результаты любого способа поведе-
ния, а не только то, что имеет место при равновесии. Это важный шаг
вперед. Однако в этих моделях цены представлены только в виде от-
ношения количества предлагаемых за товар денег к количеству пред-
лагаемого товара, а не выбираются непосредственно экономическими
агентами.
Еще один подход к совершенной конкуренции (Ostroy, 1980) свя-
зан с теорией предельной производительности и горизонтальными кри-
выми спроса. Важнейшую роль в этом подходе играет условие, что, если
ресурсы и производственные возможности одного из агентов удаляются
из экономики, у оставшихся агентов не произойдет сокращения бла-
госостояния (no surplus condition). Это условие соответствует экономи-
ке, которая находится в вальрасианском равновесии при тех же ценах
независимо от того, присутствует или отсутствует в ней каждый отдель-
ный агент (т.е. кривые спроса горизонтальны). Экономика определя-
ется как совершенно конкурентная при условии, что данное условие
соблюдается. Это может произойти при конечном числе экономичес-
ких агентов, но, как правило, для этого требуется бесконечное их чис-
ло.
Таким образом, различными направлениями формальной теории
охвачено большинство аспектов интуитивного представления о совер-
шенной конкуренции, но эта теория указывает, что совершенная кон-
куренция является предельным случаем, возникающим при наличии
большого числа агентов на каждом рынке или при существовании близ-
ких заменителей продукции каждой из фирм, а также при вальрасиан-
ской цене, являющейся непрерывной функцией экономических пере-
менных, и убывающей кривой спроса. В этой теории также недостает
моделей, в которых цены открыто выбирались бы экономическими
агентами. Ни один из этих результатов не дает объяснения тому успе-
ху, с которым экономисты используют модель совершенной конкурен-
ции в качестве аналитического инструмента.
НЕСОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ. Построение формальных
моделей рынков начинается с моделирования Курно (Cournot, 1838)
олигополии без сговора, где участники устанавливают продаваемое
количество товара. Результатом модели Курно являются цены, превы-
шающие уровень предельных издержек, причем это расхождение асимп-
тотически сокращается до нуля по мере роста числа фирм. XIX в. был
отмечен еще двумя важными вкладами в теорию несовершенной кон-
куренции: это модель дуополии Бертрана (Bertrand, 1883), в рамках
658
которой фирмы устанавливают цены, и при неизменных издержках это
дает результаты, аналогичные совершенной конкуренции, а также про-
демонстрированная Эджуортом (Edgeworth, 1897) ситуация, при кото-
рой введение в модель Бертрана ограничения на производственные
мощности может исключить существование равновесия при чистых
стратегиях.
Таким образом, еще до начала революции несовершенной конку-
ренции в адрес теории рынков несовершенной конкуренции стал вы-
двигаться упрек, раздающийся до сих пор: она состоит из слишком
большого числа моделей, дающих противоречивые прогнозы. Такие
нарекания еще более усилились по мере распространения начиная с
1930-х годов моделей фирм, сталкивающихся с убывающими кривы-
ми спроса. Как правило, эти модели отражают какой-то элемент реаль-
ной конкуренции (по крайней мере, они выглядят более реалистично,
чем альтернативная модель совершенной конкуренции). Однако иногда
кажется, что можно придумать модель несовершенной конкуренции,
которая предскажет любой результат, который пожелает ее автор.
Второе нарекание, высказываемое в адрес анализа несовершенной
конкуренции, заключается в том, что в нем отсутствует удовлетворитель-
ная формулировка для одновременного рассмотрения многих рынков.
Первым значительным вкладом в теорию общего равновесия при
несовершенной конкуренции была модель Негиши (Negishi, 1961),
а также более поздние разработки многочисленных авторов в 1970-е годы.
Хотя по некоторым важным направлениям эти модели и расходятся,
общим для них является дополнение модели многорыночной экономи-
ки Эрроу — Дебрё допущением о том, что некое экзогенно определен-
ное множество фирм осознает возможность повлиять на цены. (При
этом данные фирмы могут как верно, так и неверно оценивать факти-
ческий спрос.) Тогда равновесие представляет собой множество выбо-
ров (цен или количеств) для каждого участника несовершенной кон-
куренции, которое максимизирует оцениваемую им прибыль при дан-
ном поведении других участников и данном механизме адаптации к
выборам участников несовершенной конкуренции конкурентных сек-
торов экономики (в которых господствует вальрасианское поведение,
когда цены принимаются как данные).
Данная теория по ее состоянию на середину 1970-х годов была явно
незавершенной по нескольким причинам. Прежде всего важно то, что
не дается объяснения, почему некоторые экономические агенты долж-
ны воспринимать цены как данность, в то время как другие, формаль-
но им идентичные, ведут себя как участники несовершенной конку-
ренции. Более того, позднее обнаружилось наличие серьезных пороков
в критически важных теоремах существования, которые должны были
показать, что эти модели не были бессодержательными.
Из этих теорем вытекали не противоречащие друг другу, максими-
зирующие прибыль выборы участников несовершенной конкуренции.
Доказательство основывалось на теореме Брауэра о неподвижной точ-
ке. Для того чтобы применить эти методы, оптимальные выборы лю-
бого из агентов должны находиться в непрерывной зависимости от
659
предположительных выборов остальных. В данном случае роль непре-
рывности функций реакции аналогична роли непрерывности функций
спроса в модели Эрроу — Дебрё. Однако в отличие от непрерывности
функций спроса непрерывность функций реакции не выводилась из
состояния основных параметров экономики. Она либо непосредственно
принималась в качестве допущения, либо выводилась из предположе-
ния о том, что оценки спроса участниками несовершенной конкурен-
ции порождали вогнутые функции прибыли.
В работе Робертса и Зонненшайна (Roberts and Sonnenschein, 1977)
была показана проблематичность такого подхода на предельно простых,
непатологических примерах, при которых функции реакции являются
прерывными и равновесия при совершенной конкуренции не сущест-
вует. Источником этих неудач является невогнутый характер функций
прибыли, причем стандартные ограничения на предпочтения не обес-
печивают требуемой вогнутости: она могла быть нарушена при нали-
чии единственного потребителя или в ситуации, когда все потребите-
ли имеют гомотетические предпочтения. (Отметим, однако, что сущест-
вование равновесия перестает быть проблемой при использовании
моделей общего равновесия Курно при условии, что экономика, вклю-
чая число участников несовершенной конкуренции, становится доста-
точно большой в результате реплицирования.)
Наличие этих проблем с теорией несовершенной конкуренции, воз-
можно, отчасти объясняет популярность моделей, основанных на до-
пущении о совершенной конкуренции. Однако из них вытекают два
важных положительных момента. Во-первых, множественность моде-
лей и разнообразие основанных на них прогнозов указывает на то, что,
по крайней мере, при небольшом числе участников важное значение
имеют институциональные аспекты. Экономисты, привыкшие исполь-
зовать методы, основанные на модели совершенной конкуренции,
обычно не могут точно ответить на следующие вопросы: каким обра-
зом на самом деле устанавливаются цены, принимаются ли решения
одновременно или последовательно, выбирают ли индивиды цены,
количества или и то и другое одновременно, а также что происходит,
когда планы участников несовместимы. При работе с моделями несо-
вершенной конкуренции с этими факторами нельзя обращаться столь
бесцеремонно, и, вероятно, этого не следует делать при анализе реаль-
ных рынков. Во-вторых, отсутствие равновесия в моделях общего рав-
новесия, основанных на несовершенной конкуренции, и необьяснен-
ная асимметричность предполагаемого поведения в этих моделях гово-
рят о том, что простое перенесение участников несовершенной
конкуренции в стандартную модель Эрроу — Дебрё не позволит создать
удовлетворительную теорию. Скорее следует начать с самых основ и
приступить к более тщательному построению модели уже на этом уров-
не.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КОНКУРЕНЦИИ. Еще один под-
ход к этим вопросам возможен на основе методов теории некоопера-
тивных игр, особенно игр в развернутой форме. Недавние работы в
660
этой области привели к существенным уточнениям теории частичного
равновесия в условиях несовершенной конкуренции, и есть основания
надеяться, что эти же методы позволят создать удовлетворительную
теорию общего равновесия. Более того, этот подход также дает надеж-
ду на построение в конечном счете единой теории конкуренции, ко-
торая описывала бы как совершенную, так и несовершенную конку-
ренцию.
Чтобы смоделировать рынок в виде игры в развернутой форме, сле-
дует определить множество ее участников; их представления о харак-
теристиках других агентов; последовательность, в которой каждый из
них предпринимает действия; информацию, которая доступна каждо-
му из них на момент принятия решения; вероятные действия, возмож-
ные в каждой точке принятия решений; физические исходы, вытека-
ющие из каждой из возможных комбинаций выборов и оценки этих
исходов агентами. Таким образом, подобная модель требует полного
описания конкретного набора институтов. Это можно рассматривать
как недостаток, однако на самом деле это потенциально сильная сто-
рона данных методов.
(Отметим, что использование этого подхода не требует, чтобы в
модели агенты выбирали цены. Действительно, исходная модель Кур-
но представляет собой хорошо специфицированную игру, но форми-
рование цены там не моделируется в явном виде. Однако такой под-
ход создает предпосылки для подобной спецификации.)
После задания условий игры следующий шаг состоит в определе-
нии концепции решения. В принципе здесь существует очень значи-
тельная степень свободы, однако большинство исследователей останав-
ливаются на равновесии Нэша или каких-либо его модификациях.
Отметим, что принятие равновесия Нэша (в соответствии с которым
каждый агент максимизирует свою полезность при данных стратегиях
всех остальных агентов) не исключает возможности сговора между
ними, если возможность координации и гарантированного выполне-
ния заключенных соглашений отражены в модели в качестве состав-
ной части игры. Не означает это и того, что агенты действуют одно-
временно: последовательность ходов является составной частью игры,
и равновесие по Нэшу в равной мере применимо к играм как с одно-
временным, так и с последовательным осуществлением ходов. В каче-
стве иллюстрации отметим, что решение фон Штакельберга соответ-
ствует совершенному равновесию по Нэшу субигры в игре, где некий
лидер делает ходы первым, а ведомый учитывает выбор лидера, преж-
де чем сделать свой собственный. Наконец, критерий Нэша не огра-
ничивает анализ однократными ситуациями; он в равной мере приме-
ним к моделям повторяющейся игры.
Когда появился первый трактат по теории игр фон Неймана и Мор-
генштерна (Neumann and Morgenstern, 1944), среди экономистов была
надежда, что эти модели позволят обобщить и продвинуть анализ не-
совершенной конкуренции. Поскольку этим надеждам не суждено было
быстро осуществиться, многие экономисты списали теорию игр со сче-
тов. Эта позиция до сих пор находит отражение во многих учебниках
661
промежуточного уровня. Однако в последнее десятилетие эти надеж-
ды возродились в результате усовершенствований данных методов.
Первым достижением было начало унификации существующей теории
несовершенной конкуренции. Это было достигнуто посредством вы-
работки общего языка и определения рамок анализа, в которых мог-
ли быть осмыслены предшествующие работы. Например, подход с по-
зиций теории игр придал формальный смысл таким идеям, как кри-
вые реакции и ломаные кривые спроса: были получены равновесия
точно специфицированных динамических игр, наделенных этими ха-
рактеристиками. Кроме того, было показано, что многие более ранние
теории, которые считались противоречащими друг другу, вытекают из
общей, более фундаментальной модели. Например, решения Курно и
решения фон Штакельберга можно получить в виде равновесий по
Нэшу в рамках единой модели, где последовательность ходов задается
эндогенно. Аналогично были интегрированы модели Курно, Бертрана
и Эджуорта: было показано, что в результате двустадийной игры, в
которой дуополисты сначала выбирают размер производственных мощ-
ностей, а затем ведут ценовую конкуренцию, устанавливаются те же
равновесные количества, что и в модели Курно.
Второе достижение состояло в разработке моделей, воплощающих
те аспекты несовершенной конкуренции, которые были широко осве-
щены в литературе по теории отраслевых рынков, но не были изложе-
ны формально. В качестве наилучшего примера в данной области мож-
но привести исследования о том, как установление предельных цен,
разорительное ценообразование (predatory pricing) и ценовые войны
могут быть рациональным поведением при асимметричном распреде-
лении информации между конкурентами (см.: Roberts, 1986). Другие
примеры затрагивают политику компаний в области продаж и другие
виды дискриминационного ценообразования, определение и поддер-
жание уровня качества продукции, использование инвестиций в про-
изводственные мощности и других инвестиций в целях недопущения
новых конкурентов на рынок, а также возможности и ограничения
неявного сговора. Эти работы произвели революцию в теории отрас-
левых рынков.
Третье достижение состояло в том, что стало можно анализировать
реалистичные модели институтов обмена, которые фактически сущест-
вуют в экономике. Лучшим примером является здесь анализ аукцио-
нов по продаже одного объекта одному из многих потенциальных по-
купателей (см.: Milgrom, 1986), однако важная работа была проведена
и применительно к аукционам, на которых продаются несколько объек-
тов, а также к другим институтам монополистического ценообразова-
ния (включая объявленные цены (posted prices), приоритетное ценооб-
разование и нелинейное ценообразование), двусторонним монополи-
ям и двустороннему торгу, рынкам, где цены предлагаются и
продавцами, и покупателями (bid-ask markets) или открытым двойным
аукционам. В этих работах моделирование правил функционирования
соответствующего института, распределения информации о вкусах,
издержках и т.д., которой владеют различные участники, а также пред-
662
почтений этих агентов предопределяют развернутую форму игры. Эта
игра охватывает все множество стратегий, доступное всем участникам,
поскольку в ней точно устанавливаются все цены и аллокации ресур-
сов, вытекающие из любого выбранного образа действий. Таким обра-
зом, равновесие по Нэшу в данной игре позволяет получить в явном
виде прогноз выбранных цен, количеств, временной последовательно-
сти и способа торга. Часто эти прогнозы являются достаточно жестки-
ми и соответствуют наблюдаемому поведению.
Эта работа дает более полное описание и более ясное теоретичес-
кое понимание функционирования реально существующих рынков.
Кроме того, давая детальные прогнозы результатов равновесного по-
ведения в условиях действия различных институтов, она закладывает
основы для теории выбора между рыночными институтами (см., напри-
мер: Harris and Raviv, 1981). Наконец, она содержит подход к обобще-
нию теории совершенных и несовершенных рынков и рыночного по-
ведения. В рамках этой работы поведение агентов является рациональ-
ным, что в данной экономической ситуации означает, что оно является
стратегическим. Однако в конкретных ситуациях данное поведение в
модели несовершенной конкуренции может очень тесно приближать-
ся к поведению в модели совершенной конкуренции или привести к
результатам, которые, по сути, являются конкурентными (см.: Wilson,
1986). Определив ситуации, в которых это действительно так, мы в
конечном счете можем понять, когда и почему анализ с использованием
модели совершенной конкуренции бывает успешным.
БИБЛИОГРАФИЯ
Aumann, R.J. 1964. Markets with a continuum of traders. Econometrica 32, 39-50.
Aumann, R.J. 1975. Values of markets with a continuum of traders. Econometrica 43,
611-46.
Bertrand, J. 1883. Theorie mathematique de la richesse sociale. Journal des Savants
48, 499-508.
Cournot, A. 1838. Recherches sur les principes mathematique de la theorie des richesses.
Paris: Riviere.
Debreu, G. 1959. The Theory of Value. New York: John Wiley & Sons.
Edgeworth, F.Y. 1881. Mathematical Psychics. London: P.Kegan; New York: A.M.
Kelley, 1967
Edgeworth, F.Y. 1897. La teoria pura del monopolio. Giomale degli Economisti 15,
13 fr.
Harris, M. and Raviv, A. 1981. A theory of monopoly pricing schemes with demand
uncertainty. American Economic Review 71, 347—65.
Hildenbrand, W. 1974. Core and Equilibria of a Large Economy. Princeton: Princeton
University Press.
Hurwicz, L. 1972. On informationally decentralized systems. In Decision and
Organiztion, ed. by C.B.McGuire and R.Radner, Amsterdam: North-Holland.
Kalai, E. and Stanford, W. 1985. Conjectural variations strategies in accelerated
Cournot games. International Journal of Industrial Organization 3, 133-52.
663
Kreps, D.M. and Scheinkman, J.A. 1983. Quantity precommitment and Bertrand
competition yield Cournot outcomes. Bell Journal of Economics, 14, 326-37.
Mas-Colell, A. (ed.). 1982. Non-cooperative Approaches to the Theory of Perfect
Competition. New York: Academic Press.
Milgrom, P.R. 1986. Auction theory. In Advances in Economic Theory, ed. T.Bewley,
Cambridge: Cambridge University Press for Econometric Society.
Negishi, T. 1961. Monopolistic competition and general equilibrium. Review of
Economic Studies 28, 196-201.
Novshek, W. and Sonnenschein, H. 1978. Cournot and Walras equilibrium. Journal
of Economic Theory, 223—66.
Ostroy, J. 1980. The no-surplus condition as a characterization of perfectly competitive
equilibrium. Journal of Economic Theory 22, 183-207.
Postlewaite, A. and Schmeidler, D. 1978. Approximate efficiency of non-Walrasian
equilibria. Econometrica 46,127—37.
Roberts, J. 1986. Competition for market share: incomplete information, aggresive
strategic pricing, and competitive dynamics. In Advances of Economic Theory, ed.
T. Bewley, Cambridge: Cambridge University Press for the Econometric Society.
Roberts, J. and Postlewaite, A. 1976. The incentives for price-taking behavior in large
exchange economies. Econometrica 44, 115-27.
Roberts, J. and Sonnenschein, H. 1977. On the foundations of the theory of
monopolistic competition. Econometrica 45, January, 101-13.
Shubik, M. 1973. Commodity, money, oligopoly, credit and bankruptcy in a general
equilibrium model. Western Economic Journal 11, 24-38.
Stigler, G. 1957. Perfect competition, historically contemplated. Journal of Political
Economy 65, 1-17.
Von Neuman, J. and Morgenstern, 0.1944. Theory of Games and Economic Behavior.
Princeton: Princeton University Press.
Wilson, R. 1986. Game theoretic analyses of trading process. In Advances in Economic
Theory, ed. T. Bewley, Cambridge: Cambridge University Press for the
Econometric Society.
Исполнительские искусства
Уильям Дж. Баумоль
Performing Arts
William J. Baumol
За последние двадцать лет в мировой литературе накопилось много
работ по экономике искусства. Помимо важности культурного вклада,
производимого искусством, интерес к данному предмету среди эконо-
мистов вызывался некоторыми специфическими чертами экономики
искусств, которые оказались интересными с аналитической точки зре-
ния и анализ которых имеет важные применения вне данной сферы.
Примечательна ссылка на «болезнь издержек в исполнительских искус-
ствах», которая выдвигалась в качестве объяснения того факта, что, за
исключением периодов быстрой инфляции, издержки на деятельность
в сфере искусств практически везде повышаются быстрее, чем любой
индекс общего уровня цен. Другой серьезный теоретический вопрос,
которому посвящена литература, — причины, по которым можно
оправдать финансирование искусства государственным сектором.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ. Структура индустрии
исполнительских искусств сходна во многих развитых странах. Круп-
нейшее предприятие в смысле бюджета и кадров — опера, за ней сле-
дуют в порядке убывания оркестр, театр и танцевальное шоу. Театры —
это единственная группа, которая включает существенный сектор, стре-
мящийся к получению прибыли. Все остальные, а также многие теат-
ры получают серьезную долю своих доходов от государства и частных
филантропов. Соединенные Штаты с их политикой освобождений от
уплаты налогов — это, вероятно, единственная страна, в которой ве-
лика доля частной благотворительности, и здесь она намного превы-
шает размеры правительственного финансирования. Во многих стра-
нах большая часть такого финансирования предоставляется единствен-
ным агентством, тогда как в США организация, занимающаяся
искусством, при получении отказа от одного источника финансирова-
ния может обычно обратиться к другим.
Доступные статистические данные демонстрируют, что спрос на
посещение зрелищ эластичен по доходу, но совершенно неэластичен
по цене — по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Это говорит
о том, что широко поддерживаемая государством цель обеспечивать
разнообразие аудитории не дает ценам на билеты подниматься выше
их настоящего уровня, хотя несомненно, что также свою роль играет
страх перед тем, что такое повышение вызовет временное, но серьез-
665
ное снижение доходов и сократит филантропическую или правитель-
ственную помощь.
Во всех странах, в которых проводились регулярные изучения ауди-
тории, было показано, что аудитория представляет собой очень узкую
группу. Она гораздо лучше образована, чем население в среднем, ее
средний доход гораздо выше среднего, она несколько старше и вклю-
чает удивительно малую долю работников физического труда. Даже
бесплатные и обширно субсидируемые представления влияют на эти
тенденции в очень малой степени.
Хотя общие расходы на покупку билетов, конечно, с течением вре-
мени выросли, данная тенденция серьезно изменяется, если сделать
поправки на изменения численности населения, уровня цен и реаль-
ных доходов. Так, в США доля располагаемого дохода, выделенная на
посещение художественных представлений, сократилась с примерно
0,15 дол. с каждых 100 дол. в 1929 г. до примерно 0,05 дол. в 1982 г.
Последнее число практически не изменилось за весь период со Второй
мировой войны.
БОЛЕЗНЬ ИЗДЕРЖЕК В ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТ-
ВАХ. Одна из характерных особенностей экономики исполнительских
искусств, которая, как представляется, влияет на структуру издержек, —
это их «болезнь издержек». В соответствии с ней издержки на живые
представления упорно повышаются с большей скоростью, чем издерж-
ки производства обычных продуктов обрабатывающей промышленно-
сти. Иллюстрация, сравнивающая издержки производства часов и му-
зыкальных представлений на протяжении веков, показывает спра-
ведливость этого тезиса. В производстве часов имел место
значительный и постоянный технический прогресс, тогда как в отрас-
ли живых представлений не было никаких нововведений, позволяющих
сократить численность рабочей силы, они продолжают выполняться
старым способом. В конце XVII в. швейцарский мастер мог произво-
дить примерно 12 часов в год. Тремя столетиями позже та же единица
рабочей силы производит более 1200 (некварцевых) часов. Однако му-
зыкальное произведение, написанное три века назад Перселлом или
Скарлатти, для своего исполнения требует точно столько же человеко-
часов сегодня, сколько требовалось в 1685 г. при использовании того
же оборудования.
Эти цифры означают: для того чтобы оплатить билет в оперу, чело-
век должен работать сегодня примерно столько же, сколько на анало-
гичной работе нужно было работать 300 лет назад, в то время как из-
держки по производству часов и других товаров обрабатывающей
промышленности резко сократились, если измерить их в часах рабо-
чего времени, которые следует за них заплатить. Другими словами,
поскольку производимые товары подвергаются технологическим усо-
вершенствованиям из года в год, а живые представления — нет, то
почти каждый год билеты в театр и на концерты становятся все более
дорогими по сравнению с ценой часов. Данный феномен называется
«болезнью издержек живых представлений».
666
Чтобы облегчить сравнение с дискуссией о структуре издержек
средств массовой информации, которая идет далее, будет полезно опи-
сать болезнь издержек формально. Пусть:
уи — объем производства продукта i в период Г,
xkit — количество ресурса к, использованного при производстве i;
AC!t — средние издержки на i в период г,
wkt — (реальная) цена к в период г,
я.= Ур™к?кц — совокупная производительность факторов производ-
ства в производстве i;
* — темп прироста для любой функции, fit);
r = tf/f
Тогда мы имеем:
Утверждение 1.
Пусть уи у2/ — два объема производства фирм, производящих один
вид продукции. Тогда, если л, * < < г2 < л2 *, так что объем производ-
ства 1 может называться относительно «застойным» (а объем производ-
ства 2 — относительно «растущим»), отношение средних издержек про-
изводства 1 к средним издержкам производства 2, AClt/ AC2t, будет ра-
сти без ограничений.
Доказательство: по определению,
ЛСк/ЛС2, = n2l/nit,
так что
(АС^/АС^)* = к*21 - > г2 - г, (что и требовалось доказать).
Здесь, конечно, yt может толковаться как объем производства зре-
лищ и у2 — как объем производства продуктов обрабатывающей про-
мышленности. Следует ожидать, что цены производимых продуктов
будут расти менее быстро, чем цены билетов на концерты, балеты и
театральные представления. Цены на билеты должны, следовательно,
расти быстрее общего темпа инфляции в экономике, поскольку темп
инфляции в экономике — это среднее значение увеличения цен на все
товары в экономике.
Иногда утверждается, что средства массовой информации: кино,
радио, телевидение и звуко- и видеозапись — могут излечить от болез-
ни издержек, однако недавний анализ показывает, что, несмотря на их
сложную технологию, многие из этих СМИ в долгосрочном плане под-
вержены, по сути, той же проблеме. Фактически, данные показывают,
что цены билетов в кино и цены часа передач в прайм-тайм по телеви-
дению росли по крайней мере так же быстро, как и цены на билеты в
коммерческие театры. Объяснение, по-видимому, заключается в струк-
туре производства СМИ, которая состоит из двух базовых компонен-
тов, которые очень различаются технологически. Первый включает
подготовку материала и действительный показ перед камерами, тогда
как второй — это трансляция или запись на пленку.
Показ по телевизору нового материала требует этих двух элементов
в относительно фиксированных физических пропорциях — один час
съемки программы (с некоторой гибкостью во время репетиций) дол-
жен сопровождаться одним часом трансляции. Однако, поскольку пер-
667
вый компонент телевидения практически аналогичен живому представ-
лению на театральной сцене, технические изменения здесь могут мало
что сделать, как и в живом представлении, тогда как второй компонент
по своему характеру является «электронным» и «высокотехнологичным»
и постоянно подвергается инновациям. Отрасли с такой структурой
издержек называются «асимптотически стагнирующими». Эволюция
такой отрасли с течением времени характеризуется начальным перио-
дом сокращения валовых издержек (в реальных ценах), за которым
должен следовать период, когда ее издержки начнут вести себя в ма-
нере, более или менее аналогичной исполнительским искусствам. При-
чина в том, что издержки по высокотехнологичному компоненту (из-
держки по вещанию) будут сокращаться или, по крайней мере, не бу-
дут расти на одном уровне с инфляцией. В то же время издержки по
подготовке программ будут увеличиваться со скоростью, превосходя-
щей темпы инфляции.
Если каждый год издержки по вещанию уменьшаются, а расходы
на подготовку программ растут, в силу болезни издержек, которая при-
суща живым представлениям, издержки по подготовке программ,
в конце концов, должны будут стать доминирующими в совокупном
бюджете. Соответственно, общие издержки и издержки по подготовке
программ должны будут постоянно сближаться, пока практически весь
бюджет не станет жертвой этой болезни, а стабильные технологичес-
кие издержки будут иметь слишком малую долю, чтобы оказывать за-
метное воздействие.
Такие результаты отражены в следующих утверждениях:
Утверждение 2.
Предположим, что деятельность А использует стагнирующий ресурс
X] и растущий ресурс х2 в фиксированной пропорции г, так что х2[ =
= vxy. Если wk, цена единицы xiP увеличивается с неотрицательной ско-
ростью не меньше, чем rp a w2t растет со скоростью, не большей, чем
г2, где г2 < Гр то доля общих расходов на А, приходящаяся на хк, будет
приближаться в пределе к единице. Более того, для любого g, такого,
что 0 < g < 1, существует Ттакое, что для всех t > Т
1 VirAVi,+ w2^) 1 - 8-
Доказательство: нам дано
wk >
w2, < а2е™, х2, = vxw
Тогда
1 < = j + < 1 + (а2/а^\
W],
что и требовалось доказать.
Аналогичным образом можно доказать утверждение 3.
Пусть А в утверждении 2 будет снабжаться при условиях свободной
конкуренции, и пусть его объем производства (у,) удовлетворяет равен-
ству У] = иХу (и — постоянная), и пусть его цена будетрг р* будет при-
ближаться к цене его застойного ресурса.
668
Следствие. Чем меньше значение w2l, т.е. чем быстрее увеличивает-
ся вводимый ресурс А, тем быстрее будет динамика цены А, прибли-
жающейся к цене его застойного вводимого ресурса.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ ГОСУДАР-
СТВА. Ряд экономистов исследовали причины, если таковые имеют-
ся, которые могут оправдать поддержку исполнительских искусств со
стороны государства. Они изучили все обычные критерии и нашли
большинство из них неубедительными. Например, заботы о более спра-
ведливом распределении доходов, очевидно, не объясняют обществен-
ное финансирование деятельности, которая широко потребляется ли-
цами, чьи доходы выше среднего уровня. Благотворность посещения
представлений не только трудно обосновать документально, их даже тя-
жело описать теоретически. То же верно и в отношении того, что пред-
ставления имеют характер общественных благ. Максимум, что можно
сделать, это сказать, что (1) у общества есть «ценность отложенной
альтернативы»: даже те, кто не любит посещать представления сам,
могут захотеть сохранить искусство и для своих внуков и (2) представ-
ление отчасти является общественным благом благодаря его участию в
образовательном процессе и (национальной) гордости, которую оно
порождает даже в тех, кто не посещает представления сам (или благо-
даря неловкости, которую оно устраняет среди тех, кто не хочет при-
надлежать к нации обывателей). В последнем случае просто утвержда-
ется, что искусство заслуживает поддержку, поскольку оно относится
к «достойным благам» (merit goods) (используя термин Масгрейва). Од-
нако это означает подмену предмета анализа. В итоге можно сказать,
что общество считает искусство достойным поддержки и что при де-
мократии общество имеет право поддерживать то, что хочет. Теория
благосостояния в данном случае мало чем может помочь.
Анализ «болезни издержек» использовался руководителями зрелищ-
ных мероприятий по всему миру в качестве основания для государ-
ственной поддержки, но, конечно, тот факт, что деятельность находит-
ся под финансовым давлением, сам по себе не является достаточным
основанием для государственного субсидирования, что ясно показы-
вает экономическая теория. Тем не менее, если поддержка имеет дру-
гие причины, анализ «болезни издержек» обоснованно помогает опре-
делить суммы, которые будет уместно предоставлять. Он также предуп-
реждает нас об опасности недофинансирования в результате того, что
У. Оутс назвал «фискальной иллюзией». Болезнь издержек подразуме-
вает, что издержки по представлению зрелищ будут расти быстрее, чем
общий уровень цен. Если так происходит в условиях, когда правитель-
ственная поддержка искусства увеличивается лишь немного быстрее,
чем общий уровень цен, политики могут сделать вывод, что, хотя они
увеличили реальный уровень поддержки, количество и качество дея-
тельности, которую общество получает за свои деньги, уменьшаются.
Могут появиться обвинения в бесхозяйственности и расточительстве,
и бюджеты могут быть урезаны по этим причинам ниже уровня, кото-
рый требуется исходя из действительных предпочтений общества.
669
БИБЛИОГРАФИЯ
Baumol, Н. and Baumol, W.J. (eds) 1984. Inflation and the Performing Arts. New
York: New York University Press.
Baumol, W.J. and Bowen, W.G. 1966. Performing Arts: The Economic Dilemma. New
York: Twentieth Century Fund.
Blaug, M. (ed.) 1976. The Economics of the Atrs. London: Martin Robertson.
Feld, A.L., O’Hare, M. and Schuster, J.M.D. 1983. Patrons Despite Themselves:
Taxpayers and Arts Policy. New York: New York University Press.
Netzer, D. 1978. The Subsidized Muse. New York: Cambridge University Press.
Throsby, C.D. and Withers, G.A. 1979. The Economics of the Performing Arts. New
York: St Martin’s Press.
ПЕРИФЕРИЯ
Иммануил Валлерстайн
Periphery
Immanuel Wallerstein
Термин «периферия» имеет смысл только в рамках парной анти-
номии «ядро (центр) — периферия». Она относится к экономическим
отношениям, имеющим пространственные характеристики. Эта пара
терминов с давних пор используется в социальных науках, однако до
последнего времени она имела скорее метафорический, чем «про-
странственный» смысл и прилагалась к социальным и политическим,
а не экономическим феноменам. В первом издании The Palgrave’s
Dictionary of Economics (1894-1899) термин «периферия» вообще отсут-
ствовал.
Такой пробел нельзя объяснить чисто семантически: мы не можем
сказать, что в предшествующий период существовала иная, близкая
по смыслу концепция. Проблема носит более фундаментальный ха-
рактер. Основное течение в экономической мысли XIX столетия — как
классическая и неоклассическая экономическая теория, так в значи-
тельной мере и марксизм — не уделяло внимания пространственным
аспектам экономической деятельности (за исключением случаев, когда
факторы пространственного размещения могли воздействовать на
цены факторов производства). Разумеется, признавалось, что величи-
на транспортных издержек оказывает влияние на величину совокуп-
ных издержек; кроме того, было очевидно, что факторы размещения
могут обусловить преимущества, порождающие природную ренту. Ме-
сторождения минеральных ресурсов и водные ресурсы, которые мож-
но было бы использовать для получения энергии посредством устрой-
ства плотин, в одних местах имеются в наличии, а в других — отсут-
ствуют. Вследствие этого фактор пространства не рассматривался как
теоретически существенный; считалось, что он представляет собой эк-
зогенную переменную, которую следует принимать во внимание в
текущей хозяйственной деятельности, однако за ним не признавался
статус неотъемлемой характеристики функционирования экономичес-
кой системы.
Классическую формулировку такой точки зрения можно найти в
теории сравнительных издержек. И Англия, и Португалия обладают
определенными естественными преимуществами, которые, если
вспомнить пример, приводимый Рикардо, побуждают Португалию об-
менивать производимое ею вино на производимое в Англии сукно,
даже если издержки производства сукна в Португалии ниже, чем в
671
Англии. О Метюэнском договоре* в данном примере не говорится ни
слова.
Нельзя сказать, что никто не поднимал вопроса об обусловленнос-
ти естественных преимуществ экономическими и политическими ре-
шениями, которые сами по себе являются интегральной частью эко-
номического поведения. Этот вопрос, к примеру, занимал центральное
место в теоретическом направлении, направленном на обоснование
протекционизма. В роли наиболее видного выразителя подобных взгля-
дов в XIX в. выступал Фридрих Лист. Аргументы протекционистов за-
ключались в том, что структура сравнительных преимуществ опреде-
ляется социальными факторами, а потому государственная политика
может и должна использоваться для преодоления существующих в дан-
ной сфере диспропорций. Однако необходимо сделать два замечания
по поводу указанного протекционистского направления в теории. Во-
первых, оно всегда рассматривалось в качестве маргинального предста-
вителями ведущих центров академической экономической науки, и да-
же в тех случаях, когда ее подходы принимались во внимание, государ-
ственной политике опять-таки отводился статус экзогенной
переменной. Во-вторых, протекционистская точка зрения не только не
подрывала, но, наоборот, подкрепляла ключевое для основного тече-
ния представление о параллелизме и теоретической независимости тра-
екторий развития групп государств (обществ, экономик), каждое из
которых в отдельности управляется одними и теми же экономически-
ми законами.
В межвоенный период мировая аграрная депрессия, зародившаяся
еще в начале 1920-х годов, обусловила возрождение интереса к протек-
ционистскому теоретическому направлению — особенно в тех странах,
где одновременно выполнялись три условия: доминирование сельско-
хозяйственного производства, скромные размеры промышленного сек-
тора и достаточно развитое научное сообщество. Тремя географичес-
кими регионами, для которых в наибольшей степени было характерно
сочетание этих условий, являлись Восточная Европа, Латинская Аме-
рика и Индия; во всех этих регионах появились работы, посвященные
рассматриваемой проблематике. Однако эти работы оказали очень не-
значительное влияние на проводимую соответствующими государства-
ми политику и еще меньшее влияние — на мировое научное сообщест-
во.
Ситуация изменилась после 1945 г. Хотя мировой экономический
подъем, без сомнения, способствовал укреплению позиций фритредер-
ской идеологии, появление на политической арене стран третьего мира
привело к тому, что под вопрос оказался поставлен — если использо-
вать терминологию 1970-х годов — существующий «мировой экономи-
ческий порядок». Именно в этих условиях произошло формирование
концепции периферии, впервые выдвинутой в работах Рауля Преби-
* Договор 1703 г. между Англией и Португалией, предоставлявший Англии
широкие торговые преимущества и, по сути, знаменовавший установление
экономической зависимости Португалии. — Примеч. пер.
672
ша и его коллег из Экономической комиссии ООН по Латинской Аме-
рике (ECLA).
Исходный тезис Пребиша подчеркивал значение «структурных»
факторов, обусловливающих феномен, который в 1950-е годы называ-
ли «экономической отсталостью». Пребиш утверждал, что страны пе-
риферии главным образом выступают в роли экспортеров сырья в про-
мышленно развитые «страны ядра»; при этом условия торговли стран —
экспортеров продукции первичного сектора в долгосрочном периоде
имеют тенденцию к ухудшению. Пребиш сделал вывод о двух основ-
ных следствиях такой взаимосвязи. По его мнению, существует пороч-
ный круг, не позволяющий странам периферии преодолеть отставание
в уровне производительности и уровне нормы сбережения от промыш-
ленно развитых стран. Кроме того, страны периферии оказываются
неспособными воспользоваться выгодами от того роста производитель-
ности, который может быть достигнут в их экономиках.
Объяснение при этом носило «структурный» характер, поскольку
именно социополитические структуры оказывают влияние на рынок и
даже формируют его, а потому в известной (быть может, в решающей)
мере определяют характер рыночных преимуществ. Экономики промыш-
ленно развитых стран являются «самоподдерживающимися» в отличие
от экономик отсталых стран, которые функционируют в роли перифе-
рии по отношению к экономическим центрам. Силы мирового рынка
обеспечивают поддержание такого нежелательного «равновесия». Выво-
ды для государственной политики в этих условиях вполне очевидны.
Поскольку «нормальное» функционирование рынка гарантирует лишь
воспроизводство указанной зависимости, необходимы государственные
меры, направленные на ее преодоление. Ключевая практическая реко-
мендация заключается в проведении индустриализации на основе им-
портозамещения. Долгосрочные выводы, однако, носят более фундамен-
тальный характер. В отличие от схемы Рикардо аргументация Пребиша
подчеркивает, что структура международной торговли определяется в
существенной (а быть может, и в преобладающей) мере политическими
решениями, а потому и изменение ее может быть достигнуто путем
изъявления политической воли. Или, в более общей формулировке, за-
висимость структуры «мирового рынка» от мировой политической струк-
туры является более сильной, чем зависимость обратного характера.
Рассмотренный ключевой тезис был подхвачен и подвергнут даль-
нейшей разработке большим числом экономистов и представителей
других социальных наук прежде всего в Латинской Америке, а также в
странах Карибского бассейна, в Индии и Африке. Он также оказался
в центре внимания группы специалистов в области социальных наук,
работающих в Европе и Северной Америке (хотя следует заметить, что
научные интересы многих из этих специалистов были сконцентриро-
ваны на проблемах стран, которые сейчас называются странами тре-
тьего мира). Одним из первых представителей данной группы был Ханс
Зингер, главная работа которого была опубликована в 1950 г. одновре-
менно со знаменитым докладом Пребиша. По этой причине рассмат-
риваемая точка зрения часто именуется тезисом Пребиша — Зингера.
673
В 1960-е годы на основании тезиса Пребиша возникла доктрина, по-
лучившая название dependista, поскольку она делала акцент на «зави-
симое» (dependent) положение периферийных районов (по сравнению
с более «автономными» зонами) в рамках более широкой системы эко-
номических связей. Основным объектом критики сторонников данной
доктрины стала господствующая теоретическая модель основного те-
чения, которая получила название «теории модернизации» или «деве-
лопментализма».
Девелопментализм основное внимание уделяет вопросу о том, как
«отсталые» страны могут включиться в процесс «развития». При этом
девелопментализм опирается на ряд предположений. Развитие обуслов-
лено определенной комбинацией страновых характеристик (по поводу
того, какие именно это характеристики, бушевали бурные споры). Все
страны могут двигаться по единой траектории развития, коль скоро они
смогут обеспечить необходимую комбинацию характеристик, — в этом
смысле рассматриваемая доктрина отличалась верой в возможность
совершенствования мира. Существует определенная последователь-
ность развития. Последнее предположение часто именуется теорией
стадий. Наибольшее влияние из всех работ, следующих в русле теории
стадий, оказала книга У. Ростоу «Стадии экономического роста»
(Rostow, 1960). Девелопментализм возник как экономическая доктри-
на, однако вскоре представители иных наук начали проводить парал-
лели с процессами политического и социального развития. Вокруг про-
блемы связей между различными «аспектами» развития разворачива-
лись бурные дискуссии, которые в немалой степени стимулировали так
называемый междисциплинарный анализ.
К 1960-м годам девелопментализм стал доминирующим направле-
нием в мировой научной мысли, особенно во всех дискуссиях по про-
блемам стран третьего мира, или «отсталых» стран. Объектом критики
со стороны Пребиша была классическая идеология свободной торгов-
ли. «Второе поколение» теоретиков, занимавшихся проблематикой пе-
риферии — сторонники доктрины dependista в 1960-е годы, — напра-
вили острие своей критики против «девелопменталистов», хотя многие
из последних к тому времени уже признали оправданность определен-
ного государственного вмешательства в экономику. К этому второму
поколению принадлежали главным образом исследователи из стран Ла-
тинской Америки — особо среди них следует отметить Ф. Кардозу,
Т. Душ Сантуша, Селсо Фуртадо, Руи Мауро Марини, О. Зункеля,
Р. Ставенхагена; однако были среди них представители и других
стран — Ллойд Бест (Тринидад), Самир Амин (Египет) и Уолтер Род-
ни (Гайана). Все эти ученые так или иначе выступали против положе-
ний теории модернизации и особенно против представления о том, что
страны третьего мира должны «повторить» европейско-североамери-
канские модели развития путем более или менее точного копирования
политического курса, проводимого в данное время (или проводивше-
гося в прошлом) теми странами, пример которых можно назвать «ус-
пешным».
674
Вклад Андре Гундера Франка в теоретические разработки «второго
поколения» заключается в том, что он четко артикулировал два аргу-
мента, которые, хотя и присутствовали в работах его коллег, не были
должным образом акцентированы и не получили широкой известнос-
ти. Суть первого аргумента отражена в выдвинутом Франком терми-
не-лозунге «развитие отсталости». Иными словами, отсталость — это
не «неразвитость», т.е. некая исходная докапиталистическая или досо-
временная стадия бытия, а следствие исторического процесса мирово-
го развития, ведущего к установлению взаимозависимости между яд-
ром и периферией. Отсюда следует, что дальнейшее расширение и
углубление разделения труда в мировом масштабе приведут не к наци-
ональному развитию, как утверждали девелопменталисты, а к усугуб-
лению отсталости стран периферии. Очевидно, что политические ре-
комендации, опирающиеся на две указанные позиции, прямо проти-
воположны друг другу.
Второй аргумент направлен не против сторонников теории модер-
низации, а против так называемых ортодоксальных марксистов. Что-
бы понять суть данного аргумента, бросим взгляд на историю марксист-
ской теории. Примерно с 1875 г. стал складываться вариант марксист-
ской теории, который занял доминирующие позиции в двух
крупнейших мировых организационных структурах — Втором и Тре-
тьем интернационалах; он в решающей мере отражал теоретический
вклад Германской социал-демократической партии (примерно с 1875
по 1920 гг.) и партии большевиков, впоследствии — Коммунистичес-
кой партии Советского Союза (примерно с 1900 по 1950 гг.). Вопрос о
том, следовала ли эта версия марксизма логике теории самого Марк-
са, — это другой вопрос, который не имеет никакого отношения к рас-
сматриваемой проблеме.
Поскольку и Второй, и Третий интернационалы были ориентиро-
ваны на завоевание государственной власти, де факто единицей эко-
номического анализа стало государство, и в этом отношении какие-
либо реальные отличия от неоклассических моделей экономического
развития отсутствовали. Более того, при Сталине была создана жест-
кая стадиальная модель «способов производства», по структуре анало-
гичная модели Ростоу, хотя в деталях этих моделей наблюдалось ради-
кальное различие.
На протяжении периода 1875-1950 гг. проблемы структуры всемир-
ного капиталистического развития исчезли из ортодоксально-марксист-
ских теоретических разработок или отошли в них на второй план; ис-
ключением был короткий период, связанный с Первой мировой вой-
ной, когда эти проблемы на непродолжительное время оказались в поле
зрения таких марксистов, как Отто Бауэр, Николай Бухарин, Роза
Люксембург, и — отчасти — Ленин. К 1920-м годам все дискуссии в
данной области прекратились, и до 1950-х годов коммунистические
партии в странах Латинской Америки (так же, как и везде) строили на
основании ортодоксальной этатистской теории очень специфические
политические рекомендации. Логика была следующей. Феодализм
предшествует капитализму, который в свою очередь предшествует со-
675
циализму. Латинская Америка до сих пор находится на стадии феода-
лизма. На повестке дня стоит вопрос о прогрессивном развитии наци-
онального капитализма. Следовательно, коммунистические партии
должны вступить в альянс с национальной буржуазией с целью уско-
рения национального развития, откладывая на будущее реализацию
планов «социалистической революции».
Сторонники доктрины dependista указывали на то, что подобные
рассуждения ведут фактически к тем же самым политическим выво-
дам, что и рассуждения девелопменталистов — сторонников теории
модернизации. Поскольку конец 1960-х годов был также периодом
ослабления напряженности в отношениях между СССР и США, они
рассматривали теоретическую «конвергенцию» как следствие полити-
ческой конвергенции, одной из предпосылок которой, в свою очередь,
являлась ранее не привлекавшая к себе внимания общность фундамен-
та теоретических построений.
Популяризации концепции «периферии» в духе доктрины dependista
способствовали две теоретические работы, которые претендовали на
принадлежность к марксистскому направлению в экономической тео-
рии, однако в обоих случаях бросали вызов «ортодоксальной» марксист-
ской экономической теории. Первой работой была непосредственно
вдохновленная работами сторонников доктрины dependista книга П. Ба-
рана «Политическая экономия роста», вышедшая в свет в 1957 г. (на
русском языке издана под названием «К экономической теории общест-
венного развития» — Баран, 1960. — Примеч. пер.). Баран модифици-
ровал концепцию прибавочного продукта (surplus), введя различие между
«фактическим» и «потенциальным» экономическим излишком, указы-
вая при этом, что капитализм не только обусловливает специфическое
распределение фактического экономического излишка, но и препят-
ствует созданию потенциального экономического излишка. Это послед-
нее обстоятельство, по мнению Барана, характерно для всей капита-
листической системы, однако одним из важнейших его проявлений
является закрепление «отсталости» экономически слаборазвитых стран.
Вторым вызовом ортодоксальному марксизму стала книга А. Эмма-
нуэля «Неэквивалентный обмен», опубликованная в 1969 г. (Emmanuel,
1969). Автор начал наступление на рикардианскую теорию сравнитель-
ных преимуществ, отметив, что лежащая в ее основе предпосылка об
отсутствии мобильности факторов производства никогда прежде не
подвергалась сомнению даже марксистами. Признавая свойство мо-
бильности в международном масштабе за капиталом, но не за трудом,
Эммануэль сделал вывод о том, что уровень заработной платы опреде-
ляет уровень цен, а не наоборот. В условиях международных различий
в уровнях заработной платы и отсутствия международной мобильнос-
ти труда международная торговля предполагает неэквивалентный об-
мен, поскольку в товарах, имеющих одинаковую цену и обеспечива-
ющих одинаковую норму прибыли на капитал, воплощено неодинако-
вое количество труда. Данная теория, таким образом, подвергает
ревизии идею о том, что трансферт экономического излишка (surplus)
имеет место только в процессе производства, а фактор пространства не
676
играет при этом никакой роли. То обстоятельство, что товары пересе-
кают национальные границы, имеет ключевое значение для теории
неэквивалентного обмена.
Дальнейшему усложнению проблемы способствовали две дискуссии,
вначале развивавшиеся независимо друг от друга. В конце 1950-х годов
между М. Доббом и П. Суизи развернулись публичные дебаты (в ко-
торых участвовали также и другие исследователи) по поводу так на-
зываемого перехода от феодализма к капитализму в Западной Европе
в начале Нового времени. Разногласия возникли по многим вопро-
сам, касающимся, в частности, датировки перехода, его движущих
сил, а также самих дефиниций феодализма и капитализма. Одним из
результатов этих дебатов явился пересмотр определения феодализма;
значение такого пересмотра обусловливалось тем, что во многих пе-
риферийных зонах усматривалось наличие «феодальных» характери-
стик. Когда в конце 1950-х и в 1960-х годов развернулась новая дис-
куссия о природе (да и о самом существовании) «азиатского способа
производства», споры разгорелись с новой силой. По мере расшире-
ния дискуссии во все большей мере стало подвергаться сомнению
разделение факторов на «внутренние» и «внешние» (по отношению
к нации/государству/обществу), имеющее столь фундаментальное
значение как для ортодоксального марксизма, так и для неокласси-
ческого направления.
Вторая дискуссия носила чисто политический характер и была очень
далека от академических кругов. Это были загадочные, почти эзотери-
ческие «дебаты» между советским и китайским партийными аппарата-
ми по поводу гипотетического перехода от социализма к коммунизму.
Они также имели место в 1950-е годы. Вопрос заключался в том, долж-
ны ли государства совершать такой переход поодиночке или все вмес-
те. Данный вопрос предполагал также различия в выборе единицы ана-
лиза. Позиция, занятая Китаем, впоследствии получила далеко идущее
развитие, которое в конце 1960-х годов получило название «идей Мао
Цзедуна».
В 1970-е годы эти направления анализа проблематики «периферии»
и смежных вопросов пересеклись. Термин dependista исчез. Некоторые
начали говорить о «миросистемном анализе». Взаимоотношения меж-
ду ядром и периферией стали определяться как описание «осевого»
(axial) разделения труда в капиталистическом мире-экономике (world-
economy). Ядро и периферия стали пониматься не столько как взаи-
мосвязанные географические зоны, сколько как взаимосвязанные про-
цессы, находящие отражение в географической концентрации. Одним
из главных следствий этих процессов является формирование госу-
дарств в рамках межгосударственной системы. Под межгосударствен-
ной системой можно понимать политическую надстройку капиталисти-
ческого мира-экономики. Этот мир-экономика является исторически
сложившейся социальной системой, социально-обусловленным целым,
сформировавшимся благодаря различным обстоятельствам своей исто-
рии. Вся эта структура рассматривается в качестве детерминанта пара-
метров капиталистического мирового рынка. По мере инкорпорации
677
в данную систему новых географических зон большинство из них при-
обретало периферийный статус. Это означает, что различные действу-
ющие в мировом масштабе механизмы (политические, финансовые и
культурные) делают для отдельных предпринимателей выгодным такое
географическое разделение производственного процесса, при котором
в некоторых географических регионах возникает непропорционально
высокая концентрация периферийных процессов (т.е. процессов, тре-
бующих больших затрат труда и использования сравнительно дешевой
рабочей силы). Это обусловлено вовлеченностью рабочей силы в этих
регионах в семейные (как правило, реорганизованные) структуры, в
рамках которых доходы, полученные человеком на протяжении его
жизни от труда по найму, составляют лишь незначительную долю со-
вокупных реальных доходов.
Хотя государственная политика может оказать влияние на описан-
ные взаимосвязи, способность любого отдельного государства повли-
ять на ситуацию ограничена его позицией в межгосударственной сис-
теме и поэтому в существенной мере зависит от изменений баланса сил.
В межгосударственной системе периоды господства единственной дер-
жавы-гегемона предсказуемым образом чередуются с периодами ост-
рой конкуренции между несколькими мощными державами.
Кроме того, возможность государств воздействовать на процесс
«периферизации» рассматривается как функция циклических ритмов
мира-экономики, в рамках которых, как полагают, сменяются (опять-
таки предсказуемым образом) периоды экспансии и стагнации.
Регулярные циклические ритмы и изменения условий межгосудар-
ственной системы обусловливают непрерывное, но ограниченное по
масштабу изменение экономической роли конкретных географических
зон в рамках системы, не обязательно затрагивая базовую структуру
взаимосвязей между ядром и периферией.
Утверждалось, наконец, что географическая концентрация различ-
ных хозяйственных процессов является тримодальной, а не бимодаль-
ной, поскольку во все времена существовали и существуют также по-
лупериферийные зоны, под которыми понимаются регионы с примерно
равным соотношением хозяйственных процессов, характерных для ядра
и для периферии.
Разработка концепции периферии, таким образом, была связана с
резкой теоретической критикой экономических парадигм, сложивших-
ся в XIX столетии. Концепция не избежала контратак со стороны трех
главных групп оппонентов. К ним относились, разумеется, сторонни-
ки теории модернизации/девелопментализма, большинство из которых
были кейнсианцами; еще более активными были выступления так на-
зываемых неолибералов (особенно язвительной была критика, с кото-
рой выступил П.Т. Бауэр); и, наконец, следует упомянуть об «ортодок-
сальных» марксистах.
В последние 20 лет концепция периферии служила главным обра-
зом полемическим целям. Чтобы доказать полезность этой концепции,
ее сторонники в настоящее время должны более четко сформулировать
ключевые взаимосвязи трех антиномий капиталистического мира эко-
678
номики: международного разделения труда между ядром и перифери-
ей; чередования фаз подъема и спада в длинных циклических волнах
и чередования периодов гегемонии и конкуренции в межгосударствен-
ной системе.
БИБЛИОГРАФИЯ
Баран П. К экономической теории общественного развития. М.: Издательство
иностранной литературы, 1960 [1957].
Amin S. Accumulation on a World Scale. New York, London: Monthly Review Press,
1974.
Arrighi G. The Geometry of Imperialism. Revised edn. London: Verso, 1983.
Bauer P.T. Dissent on Development. Cambridge: Harvard University Press, 1972.
Emmanuel A. Unequal Exchange. New York, London: Monthly Review Press, 1972.
Franc A.G. Latin America: Underdevelopment or Revolution. New York, London:
Monthly Review Press, 1969.
Furtado C. The Economic Growth of Brazil. Berkeley, Los Angeles: University of
California Press, 1963.
Hilton R. (ed.). The Transition from Feudalism to Capitalism. Revised edn. London:
New Left Books, 1976.
Hirschman A.O. The Strategy of Economic Development. New Haven, London: Yale
University Press, 1958.
Hopkins T.K. and Wallerstein I. World-Systems Analysis. Beverly Hills: Sage, 1982.
Love J.L. Raul Prebisch and the Origins of the Doctrine of Unequal Exchange // Latin
American Research Review, 1980, vol. 15, no. 1, p. 45—72.
Prebisch R. The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems.
New York: United Nations, 1950.
Rostow W.W. The Stages of Economic Growth. New York, London: Cambridge
University Press, 1960.
Singer H.W. The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries //
American Economic Review, May 1950, vol. 40, no. 2, p. 472—485.
Wallerstein I. The Modem World System. 2 vols. New York, San Francisco, London:
Academic Press, 1974, 1980.
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ»
И «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА»
Петер Груневеген
«Political Economy» and «Economics»
Peter Groenewegen
Настоящая статья посвящена происхождению термина «политичес-
кая экономия» и изменениям его значения, причем акцент будет сде-
лан в первую очередь на его употреблении в XVIII столетии, когда он
впервые получил современное значение, на прекращении его исполь-
зования начиная с конца XIX столетия, когда он постепенно был вы-
теснен термином «экономическая наука» (economics), и на его возрож-
дении в различных формах главным образом на протяжении 1960-х
годов уже в новом значении, отличном от традиционного. Дискуссия,
таким образом, будет концентрироваться главным образом вокруг де-
финиций и носить этимологический характер, подчеркивая отсутствие
точных определений термина «политическая экономия» и его более со-
временного синонима «экономическая наука».
Слова с корнем эконом ведут свое происхождение от греческих слов
oikos — «дом» и nomos — «закон» (в том же смысле, как и в термине
«астрономия», — наука, имеющая дело с «законами и порядком звезд»
(Саппап, 1929, р. 37). Таким образом, в традиционном понимании тер-
мин oikonomike означает «домоводство». Аристотель использует его
именно в таком смысле, указывая, что эта наука «предполагает три
элемента власти: во-первых, власть господина по отношению к рабам;
во-вторых, отношение отца к детям; в-третьих, отношение мужа к
жене» (Аристотель. Политика, I, V, 1 // Аристотель, 1983, с. 398). Дан-
ное значение термина сохранялось в моральной философии до сере-
дины XVHI в.; именно в этом смысле его использовали, к примеру, Ф. -
Хатчесон и А. Смит (Hutcheson, 1755; Smith, 1763, р. 141 // Смит, с. 37).
Сходным образом, латинский термин oeconomia также означал управ-
ление домашними делами, а в более широком смысле распространял-
ся на «управление» вообще, включая вопросы правильного составле-
ния речей и литературных произведений. Французский термин
oeconomie или ёсопопйе воспринял расширенное латинское значение и
в сочетании с определением politique характеризовал государственное
управление или руководство государственными делами. Именно это
расширенное значение имел в виду Артур Янг, используя термин
оесопоту в заглавии книги об управлении сельскохозяйственной дея-
тельностью (Young, 1770). Употребление слова «экономия» в качестве
синонима «бережливости» и продуманного управления бюджетом до-
680
машних хозяйств и других организаций также основывается на
латинском его понимании. Свойственное XVII столетию повышенное
внимание к проблеме строительства национальных государств приве-
ло к расширению зрения термина «государственное управление», и с
учетом процессов, протекавших во Франции в годы правления Ген-
риха IV и Ришелье, не приходится удивляться тому, что именно здесь
впервые стал использоваться термин «политическая экономия». Его
первое упоминание обычно приписывается Монкретьену (Montch-
retien, 1615), однако Дж. Кинг (King, 1948) указывает на то, что его
употреблял еще Майерн-Тюрк (Mayeme-Turquet, 1611). Кинг предпо-
лагает, что, принимая во внимание то огромное значение, которое в
ту эпоху придавалось связи между государством и экономикой, можно
было бы найти и другие — возможно, еще более ранние — случаи упот-
ребления этого термина. В Англии его стал использовать У. Петти
(Petty, 1691, р. 181; ср.: 1683, р. 483). Согласно гипотезе Кэннана
(Саппап, 1929, р. 39) при рассмотрении ирландской экономики Петти
употреблял термин «политическая экономия» в смысле «политическая
анатомия»; эта гипотеза строится на том, что Петти использовал тер-
мин «политическая арифметика» для описания искусства выносить
точные суждения о политической экономии государств, которая в дан-
ном случае трактовалась как их сравнительная мощь (ср.: Verri, 1763,
р. 9—10, где в том же смысле говорится о «науке политической эконо-
мии»), Р. Кантильон (Cantillon, 1755, р. 46) употребляет термин оесопоту
для обозначения экономического организма, в рамках которого в виде
взаимозависимых единиц функционируют классы; его книга, тем не
менее, называется «Эссе о торговле».
Более точные определения политической экономии как науки об
экономической организации (хотя и при сохранении связей с управ-
лением, регулированием и даже естественными законами) можно найти
у физиократов. Кенэ изначально употреблял термин «политическая
экономия» главным образом в его традиционном значении, однако в
дополнение к нему он распространил этот термин на обсуждение при-
роды богатства, его воспроизводства и распределения. Эта двойствен-
ность значений особенно заметна в «Экономической таблице». Поэто-
му не случайно, что Мирабо (Mirabeau, 1760) говорил об economic
politique, «включающей в себя трактаты о сельском хозяйстве и государ-
ственном управлении, наряду с трудами о природе богатства и спосо-
бах его получения» (Саппап, 1929, р. 40). На протяжении последующих
десятилетий второе значение термина стало более распространенным;
к нему добавилось слово «наука» (нововведение, приписываемое
П. Верри, — Verri, 1763, р. 9); к 70-м годам XVIII в. он стал относить-
ся почти исключительно к производству и распределению богатства в
контексте управления ресурсами государства.
Сэр Джеймс Стюарт (Steuart, 1767) был первым английским эконо-
мистом, который использовал термин «политическая экономия» в за-
главии своей книги. Во вводной главе автор объясняет, что подобно
тому, как «экономия вообще есть искусство удовлетворения потребно-
стей семьи», так и наука политической экономии стремится «обеспе-
681
чить определенный фонд средств существования для всех жителей,
предотвратить всякий риск возникновения недостатка этих средств,
обеспечить все блага, необходимые для удовлетворения потребностей
общества, и дать занятость всем жителям... таким образом, чтобы со-
здать между ними отношения взаимности и зависимости, так чтобы их
личные интересы побуждали их содействовать удовлетворению взаимо-
связанных потребностей друг друга» (Steuart, 1767, р. 15, 17). Полное
название книги Стюарта характеризует предмет его исследования: «на-
родонаселение, сельское хозяйство, торговля, промышленность, день-
ги, монеты, процент, обращение, банки, обмен, государственный кре-
дит и налоги». В 1771 г. П. Верри опубликовал работу «Рассуждения о
политической экономии», в предисловии к которой он говорил о но-
вой отрасли знаний, именуемой «политическая экономия». Хотя
А. Смит не использовал термин «политическая экономия» в названии
своей книги, во «Введении и плане сочинения» он упоминает о сущест-
вовании «различных теорий политической экономии», а во введении
к книге IV указывает, что политическая экономия — это «отрасль зна-
ния, необходимая государственному деятелю или законодателю», двой-
ственная цель которой состоит в том, чтобы «обеспечить народу обиль-
ный доход или средства существования... [и] доставлять государству и
обществу доход, достаточный для общественных потребностей» (Смит,
1962, с. 18, 313). В другом месте (Смит, 1962, с. 480-481) он дает по-
нять, что политическая экономия рассматривается им как исследова-
ние природы и причин богатства народов или, в исходной трактовке
физиократов, как наука о природе, воспроизводстве, распределении и
использовании богатства.
Связь науки политической экономии с материальным благосостоя-
нием оказалась особенно устойчивой, так же, как и ее связь с искусст-
вом законодательства. Бентам в сжатой форме изложил суть дела: «По-
литическая экономия может рассматриваться и как наука, и как искус-
ство. Однако в данном случае, как и в прочих, польза науки состоит
только в том, чтобы служить руководством для искусства» (Bentham,
1793-1795, р. 223). Торренс (Torrens, 1819, р. 453) также называл ее «од-
ной из наиболее важных и полезных отраслей науки», в то время как
Джемс Милль (Mill, 1821, р. 211) и Маккуллох (McCulloch, 1825, р. 9)
определяли ее как систематическое исследование законов, управля-
ющих производством, распределением, потреблением и обменом това-
ров или продуктов труда. Н. Сениор (Senior, 1836, р. 3) подверг критике
«смешение» искусства с наукой как фактор, препятствующий развитию
политической экономии; сходную позицию занял и Дж.С. Милль, под-
черкивавший моральную и социальную природу политической эконо-
мии. В своей работе, оказавшей большое интеллектуальное влияние,
он определяет политическую экономию как «науку, изучающую зако-
ны, которые управляют общественными явлениями, возникающими
как следствие объединенных усилий людей по производству богатства
в той мере, в какой эти явления не модифицированы стремлением к
достижению какой-либо иной цели» (Mill, 1831—1833, р. 140). Этой
позиции он более или менее строго придерживался в своей более по-
682
здней работе «Основы политической экономии», предметом которой,
по его словам, являются «законы производства и распределения и не-
которые вытекающие из них следствия» (Mill, 1848, р. 21 // Милль
[1848], 1980, с. 105). Дж. Кэрнс предложил еще более сжатую форму-
лировку этого утверждения, гласящую, что «политическая экономия...
объясняет законы феноменов богатства» (Caimes, 1875, р. 35).
В середине XIX столетия возникло два направления критики тако-
го определения политической экономии. К. Маркс отождествил изу-
чение политической экономии с исследованием «анатомии граждан-
ского общества» (Маркс [1859], 1949, с. 7) или, как выразился Ф. Эн-
гельс в обзоре книги Маркса, «теоретическим анализом современного
буржуазного общества» (Энгельс [1859], 1949, с. 227). При этом термин
«политическая экономия» сохранился, но ее предмет и метод подверг-
лись критике. Другие авторы предлагали изменить сам термин, по-
скольку он стал вводить в заблуждение. У. Хирн (Hearn, 1863) выдви-
нул термин «плутология» для обозначения теории, изучающей явления,
удовлетворяющие человеческие потребности. Маклеод (MacLeod, 1875)
предложил термин economics [экономика или экономическая наука],
определяя его как «науку, которая рассматривает законы, управляющие
соотношениями между количествами товаров, подлежащих обмену;
в достоинствах такой терминологии он успешно убедил Джевонса
(Black, 1977, р. 115). Когда в 1879 г. А. и М. Маршаллы опубликовали
учебник политической экономии, они назвали его «Экономика про-
мышленности» (Marshall and Marshall, 1879). Новый термин, введен-
ный в оборот Маклеодом и Маршаллами, получил одобрительную оцен-
ку во втором издании «Теории политической экономии» Джевонса
(Jevons, 1879, р. xiv) благодаря своему благозвучию и наукообразию
(поскольку он [в англоязычном написании — economics] аналогичен
«математике», «этике» и «эстетике» [соответственно mathematics, ethics
и aesthetics]); последняя из опубликованных Джевонсом работ называ-
лась «Principles of Economics» («Принципы экономической науки»).
Хотя Кэннан (Саппап, 1929, р. 44) утверждал, что А. Маршалл (изда-
нием «Принципов экономической науки» в 1890 г.) положил начало
широкому употреблению нового термина, это справедливо лишь по
отношению к последующим изданиям книги; полная замена терминов
завершилась не раньше начала 1920-х годов (Groenewegen, 1985). Но
даже тогда, по-видимому, Маршалл использовал соответствующие тер-
мины в качестве синонимов: «Политическая экономия, или экономи-
ческая наука, занимается исследованием нормальной жизнедеятельно-
сти человеческого общества; она изучает ту сферу индивидуальных и
общественных действий, которая теснейшим образом связана с созда-
нием и использованием материальных основ благосостояния» (Marshall,
1890, р. 1 И Маршалл, 1993, с. 56).
Подобно тому, как Дж.С. Милль в 1820-х годах предпринял попыт-
ку ретроспективной кодификации предмета и метода политической
экономии (Mill, 1831-1833, р. 120-121), так и Л. Роббинс выдвинул
новое определение экономической науки в ее маржиналистской фор-
ме, охарактеризовав ее как науку, «изучающую человеческое поведение
683
с точки зрения соотношения между целями и ограниченными сред-
ствами, которые могут иметь различное употребление» (Robbins, 1932,
р. 16 И Роббинс, 1993, с. 18). Эго определение не только наполнило зна-
чением новый термин «экономическая наука»; оно, как ясно показал
Майнт (Myint, 1948), означало отказ от взглядов на предмет самой на-
уки, которых придерживались экономисты-классики. Другие авторы
(например, Ф. Найт — Knight, 1951, р. 6) сетовали на то, что выдвину-
тое Роббинсом определение игнорирует связь между экономической
наукой и «индивидуалистическим или «либеральным» мировоззрени-
ем, экономической составляющей которого является «капитализм»
(конкурентная система, свободное предпринимательство), а политичес-
кой — демократия». Однако главный недостаток предложенного Роб-
бинсом определения заключался в его несовместимости с выводами
Кейнса, который доказал возможность существования равновесия в
условиях неполной занятости; эти выводы противоречат утверждению
Роббинса о том, что условием существования экономической пробле-
мы является ограниченность ресурсов. Современные определения эко-
номической науки в рамках «основного течения» (Rees, 1968;
Samuelson, 1955, р. 5). просто комбинируют отмеченную Роббинсом
проблему аллокации ресурсов с новой теорией занятости, инфляции и
экономического роста, созданной на основе работ Кейнса.
Определение Роббинса также имело целью превращение экономи-
ческой науки в «систему теоретического и позитивного знания» (Fraser,
1937, р. 30) с сохранением прежнего термина «политическая экономия»
для изучения прикладных проблем, таких, как проблема монополий,
протекционизма, планирования и государственной налоговой полити-
ки, — т.е. тех проблем, которые сам Роббинс рассматривал в «Очерках
политической экономии» (Robbins, 1939). Хотя Й. Шумпетер придер-
живался аналогичной позиции, он предупреждал: «Под политической
экономией разные авторы понимают разные вещи (в некоторых слу-
чаях — то, что сейчас называется «чистой» экономической теорией»
(Шумпетер [1954], 1989, с. 265). Эта точка зрения на политическую эко-
номию находится в конфликте с прагматическими воззрениями Кем-
бриджской школы на экономическую науку, опирающимися на пред-
ложенное А. Маршаллом ее описание как «механизма для нахождения
конкретной истины», интегрированное Кейнсом в его знаменитое
«Введение» к серии Cambridge Economics Handbooks'. «Экономическая
наука является скорее не доктриной, а методом, аппаратом и техникой
мышления, которые помогают владеющему ими приходить к правиль-
ным выводам» (Keynes, 1921, р. v). Это представление в сжатой форме
обобщила Дж. Робинсон, охарактеризовавшая экономическую науку
как «ящик с инструментами» (Robinson, 1933, р. 1 // Робинсон, 1986,
с. 37).
Марксисты никогда не отказывались от использования старого тер-
мина «политическая экономия». М. Добб (Dobb, 1937, р. vii) выступал
против замены термина «политическая экономия» новым термином
«экономическая наука», поскольку экономические дискуссии «заключа-
ют в себе ответы на определенные, крайне важные с практической точ-
684
ки зрения вопросы», которые связаны с «природой и поведением» ка-
питалистической системы. Сходным образом П. Баран (Баран, 1960,
с. 69) выступает за использование термина «политическая экономия ро-
ста»*, поскольку «понимание факторов, определяющих размеры и спо-
собы использования экономического излишка, представляет собой одну
из важнейших проблем... [которая] даже не затрагивается «чистой» эко-
номической наукой». Для экономистов-классиков вопрос об исполь-
зовании излишка был главным вопросом исследования. Таким обра-
зом, термин «политическая экономия» очень подходит для характери-
стики усилий некоторых современных экономистов воскресить
практические и теоретические аспекты классической традиции в рам-
ках подхода, в центре которого, по их словам, находится проблема из-
лишка (surplus).
К 1960-м годам термин «политическая экономия» был «присвоен»
праворадикальными либертарианцами из Чикаго и Центра исследова-
ний в области общественного выбора, которые развивают предписание
Роббинса (Robbins, 1932) о том, что отличительной чертой экономи-
ческой науки является анализ в категориях альтернатив. Они замени-
ли поставленный Роббинсом вопрос: «Что по своей природе относит-
ся к экономической сфере, а что — нет?» на более широкий вопрос:
«Как экономическая наука может содействовать пониманию той или
иной проблемы?» Такая постановка вопроса создает предпосылки для
разработки экономической теории «семейной жизни, воспитания де-
тей, смерти, сексуальных отношений, преступности, политики и мно-
гих других явлений», которые, по мнению некоторых сторонников та-
кого подхода, находились еще в сфере внимания Адама Смита
(McKenzie and Tullock, 1975, р. 3). Другие авторы продолжают ассоци-
ировать термин «политическая экономия» со «специфическими реко-
мендациями, выносимыми одним или несколькими экономистами...
правительству или общественности в целом по общим политическим
вопросам или по конкретным предложениям», т.е. используют его как
синоним термина «нормативная экономическая наука» (Mishan, 1982,
р. 13).
Оба термина: «политическая экономия» и «экономическая наука» —
дожили до кануна XXI в. За прошедшее время смысл, вкладываемый в
них, существенно изменился. Тем не менее, они и сейчас могут по су-
ществу рассматриваться как синонимы. Данная особенность термино-
логии отражает интересный аспект науки, к которой она относится.
В своем порой прерывистом развитии экономическая наука, или по-
литическая экономия, никогда не отказывалась полностью от прежних
взглядов, и наследие старой доктрины неразрывно переплетено с по-
зднейшими научными достижениями.
* Political economy of growth; в русском издании дан некорректный перевод
«экономическая теория общественного развития». — Примеч. пер.
685
БИБЛИОГРАФИЯ
Аристотель. Политика // Сочинения: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 375-644.
Баран П. К экономической теории общественного развития. М.: Издательство
иностранной литературы, 1960 [1957].
Маркс К. К критике политической экономии. М.: Государственное издатель-
ство политической литературы, 1949 [1859].
Маршалл А. Принципы экономической науки. Т. 1. М.: Прогресс-Универс, 1993
[1890].
Милль Дж.С. Основы политической экономии. Т.1. М.: Прогресс, 1980 [1848].
Роббинс Л. Предмет экономической науки // THESIS, зима 1993, № 1, с. 10-23.
Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М.: Про-
гресс, 1986 [1933].
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Издатель-
ство социально-экономической литературы, 1962 [1776].
Шумпетер Й. История экономического анализа. Часть 1: Введение, предмет и
метод// Истоки. Вып. 1. 1989. С. 248—310.
Bentham J. Manual of Political Economy. Harmondsworth: Penguin Books, 1973
[1793-1795].
Black R.D.C. (ed.). Papers and Correspondence of William Stanley Jevons: Correspondence
1873—1878. London: Macmillan for the Royal Economic Society, 1977.
Cairnes J.E. The Character and Logical Method of Political Economy. London.
Reprinted, New York: Kelly, 1965 [1875].
Cannan E. A Review of Economic Theory. London: P.S.King & Son, 1929.
Cantillon R. Essay on the Nature of Commerce in General. Ed. H.Higgs. London:
Macmillan & Co., 1931 [1755].
Dobb M.H. Political Economy and Capitalism. London: G.Routledge & Sons, 1937.
Fraser L.M. Economic Thought and Language. London: A. & C. Black, 1937.
Groenewegen P. Professor Arndt on Political Economy: A Comment // Economic
Record, December 1961, vol. 61, p. 744-751.
Hearn W.E. Plutology. Melbourne: Robertson, 1863.
Hutcheson F. A System of Moral Philosophy. Glasgow: Robert and Andrew Foulis,
1755.
Jevons W.S. The Theory of Political Economy. 2nd edn. London: Macmillan; 1879.
Предисловие к 4 изданию: London, 1910.
Jevons W.S. Principles of Economics. London: Macmillan, 1905.
Keynes J.M. Introduction to Cambridge Economic Handbooks. In: D.H.Robertson.
Money. London and Cambridge: Cambridge Economic Handbooks, 1921.
King J.E. The Origin of the Term «Political Economy» // Journal of Modem History,
1948, vol. 20, p. 230-231.
Knight F.H. Economics. In: F.H.Knight. On the History and Method of Economics.
Chicago: University of Chicago Press, 1963 [1951].
McCulloch J.R. Principles of Political Economy with Sketch of the Rise and Progress
of the Science. London: Murray, 1870 [1825].
MacLeod H.D. What is Political Economy? I I Contemporary Review, 1875, vol. 25,
p. 871-893.
McKenzie R.B. and Tullock G. The New World of Economics: Explorations into the
Human Experience. Homewood: Irwin, 1975.
686
Marshall A. and Marshall M.P. The Economics of Industry. London: Macmillan, 1879.
Mayerne-Turquet L. de. La Monarchic Aristodemokratique; ou le Gouvernement
compose et mesle des trois formes de legitimes republiques. Paris, 1611.
Mill J. Elements of Political Economy. 3rd edn. London, 1926 [1821]. Reprinted in:
James Mill. Selected Writings. Ed. D.Wisen. Edinburgh: Oliver & Boyd for the
Scottish Academic Society, 1966.
Mill J.S. 1848. On the Definition of Political Economy; and on the Method of
Investigation Proper to It. Essay V in J.S.Mill. Essays on Some Unsettled Questions
of Political Economy. LSE Reprint. London, 1948.
MirabeauV.R., Marquis de. L’ami des hommes ou traite de la population. Avignon et
Paris, 1758-1760.
Mishan E.J. Introduction to Political Economy. London: Hutchison, 1982.
Montchretien A. de. Traite de I’economie politique. Ed. Th. Funck-Drentano. Paris:
Pion, 1889.
Myint H.L.A. Theories of Welfare Economics. London: Longmans, Green & Co.,
1948.
Petty, Sir W. 1683. Observations Upon the Dublin Bills of Mortality and the State of
that City. In: C.H.Hull (ed.). The Economic Writings of Sir William Petty.
Reprinted. New York: Kelley, 1963.
Petty, Sir W. 1691. The Political Anatomy of Ireland. In: C.H.Hull (ed.). The
Economic Writings of Sir William Petty. Reprinted. New York: Kelley, 1963.
Rees A. Economics. In: D.L.Sills (ed.). International Encyclopaedia of the Social
Sciences. New York: Macmillan, 1968, vol. 4, p. 472—485.
Robbins L. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. 2nd edn.
London: Macmillan, 1935.
Robbins L. The Economic Basis of Class Conflict and Other Essays in Political
Economy. London: Macmillan, 1939.
Samuelson P.A. Economics. New York: McGrow-Hill, 1955 (3rd edn.); 1967 (7th
edn.).
Senior N.W. An Outline of the Science of Political Economy. London: Unwin Library
of Economics, 1938 [1836].
Smith A. Lectures on Jurisprudence. Ed. R.L.Meek, D.D.Raphael and P.G.Stein.
Oxford: Oxford University Press, 1978.
Steuart J. An Inquiry into the Principles of Political Economy. Ed. A.S.Skinner.
Edinburgh and London: Oliver & Boyd for the Scottish Economic Society, 1966
[1767].
[Torrens R.] Mr Owen’s Plans for Relieving the National Distress // Edinburgh Review,
October 1819, vol. 32, Article XI.
Verri P. Memorie storiche sulla economia pubblica dello sato di Milano. In: Scrittori
Classici Italian! di Economia Politica. Parte Modema. Vol. XVII. Milan, 1804
[1763].
Verri P. Reflections on Political Economy. Ed. P.Groenewegen. Reprints of Economic
Classics, Series 2, no. 4. Sydney: University of Sydney, 1986 [1771].
Young A. Rural Oeconomy, or Essays on the Practical Parts of Husbandry. London,
1770.
БЕДНОСТЬ
А.Б. Аткинсон
Poverty
А.В. Atkinson
Проблема бедности беспокоила людей на протяжении веков, хотя
и не всегда имела приоритет для политических деятелей. Различные
аспекты и проявления бедности становились объектом изучения для
историков, социологов и экономистов. Были установлены ее различ-
ные причины — от неэффективных схем социальной защиты до общей
несправедливости экономической и социальной системы. Реформы
социального страхования, вмешательство государства в функциониро-
вание рынка труда и значительные изменения форм экономической
организации были направлены на снижение остроты проблемы бедно-
сти и ее уничтожение.
В наши дни феномен бедности наиболее очевиден и, соответствен-
но, привлекает наибольшее внимание общества в мировом масштабе.
Неравномерное распределение доходов как между странами, так и внут-
ри них приводит к тому, что уровень жизни огромного числа людей в
Африке, Азии и Латинской Америке может быть охарактеризован как
«бедность». По оценке Всемирного банка, «в мире в целом около од-
ного миллиарда людей живут в абсолютной бедности» (World Bank,
1982, р. 78), причем предположительно около 400 млн из них прожи-
вают в Южной Азии, 150 млн в Китае, порядка 100 млн в Юго-Вос-
точной Азии и Центральной Африке. В этих регионах риск смерти от
голода и холода, а также степень подверженности различным болезням
на несколько порядков выше, чем в развитых странах. Наиболее на-
глядным подтверждением остроты проблемы стали случаи массового
голода. Каковы бы ни были непосредственные причины этого бед-
ствия — недостаток снабжения продовольствием или неравномерное
распределение, — напряженность ситуации в таких регионах, как Са-
хель и Эфиопия, является показателем того, сколь сложно выжить
людям во многих странах с низкими доходами.
Массовая бедность в таких странах отличается от бедности, сущест-
вующей в развитых государствах. Война с бедностью в США, начатая
в 1964 г., была направлена на улучшение положения меньшинства аме-
риканцев, чей доход в расчете на семью из четырех человек был ниже
черты бедности (3000 дол. в год в ценах 1962 г.). Заметим, что амери-
канская черта бедности превышала в несколько раз среднедушевой
доход в Индии. Основой для расчетов официального показателя черты
бедности в США является стандарт потребления пищи (разработанный
688
Министерством сельского хозяйства), которая отражает преобладающие
в данной стране стандарты уровня жизни. Можно утверждать, что оза-
боченность проблемой бедности в развитых странах, в то время как
развивающиеся переживают настоящую катастрофу, не является оправ-
данной, и потому нецелесообразно употреблять в данном случае сам
термин «бедность». Борьбу с бедностью в развитых странах можно было
бы сравнить с перестановкой скамей на палубе идущего ко дну «Тита-
ника», хотя данное сравнение не выглядит вполне адекватным. Более
точным, пожалуй, является сравнение с кораблями, спешащими на
помощь терпящему бедствие судну. Понятно, что их основная цель —
оказаться рядом с тонущими как можно быстрее, но при этом они
должны обеспечить безопасность и своих собственных пассажиров.
Борьба с голодом и перераспределение доходов в целях облегчения по-
ложения бедных в мировом масштабе должны быть приоритетными
вопросами, но бедность в развитых странах, определенная в соответст-
вии с их стандартами, также должна быть включена в список проблем
человечества.
Поскольку термин «бедность» используется в нескольких значени-
ях, необходимо прояснить, в каком смысле мы его употребляем. К на-
стоящему времени дискуссия по этому поводу затронула несколько
аспектов, на которых следует остановиться. После небольшого исто-
рического обзора исследований проблемы бедности в разделе 1 мы рас-
смотрим некоторые ключевые концептуальные вопросы. Какие пока-
затели должны использоваться для измерения масштабов бедности?
В чем суть концепции бедности и как она связана с неравенством? Эти
вопросы рассматриваются в разделе 2. Чрезвычайно важным моментом
является определение стандарта бедности, и здесь нужно рассмотреть
подходы, базирующиеся на «абсолютных» (необходимый рацион) и
«относительных» показателях. Важно также проанализировать методы
работы с семьями, потребности которых различаются. Об этом говорит-
ся в разделе 3. Как только масштаб бедности измерен, на первый план
выходят ее причины. В первую очередь мы должны выяснить, кто же
такие «бедные», чему посвящен раздел 4. Насколько бедность харак-
терна для отдельных классов и групп общества? Для разных возраст-
ных групп? Состав населения, пребывающего в бедности, в свою оче-
редь, служит точкой отсчета для исследования причин бедности и ана-
лиза методов борьбы с ней. Об этом говорится в разделе 5.
1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМЫ
БЕДНОСТИ. Началом научного анализа проблемы бедности в англо-
саксонском мире обычно считаются исследования Бута и Раунтри
в конце XIX в. Конечно, и раньше в Британии Кинг и другие давали
оценки численности нищих, а в работе Идена «Положение бедных»
(Eden, 1797) приводились данные обследования более чем ста церков-
ных приходов, включающие информацию о семейных бюджетах. Эн-
гельс и Мэйхью рассматривали положение бедных в городах Англии.
Однако анализ ситуации в Лондоне, содержащийся в работе Бута
«Жизнь и труд» (Booth, 1892-1897), сочетал в себе элементы первич-
689
ного наблюдения, которое началось в Ист-Энде в 1880-х годах, с сис-
тематическими попытками количественно оценить масштабы пробле-
мы. Взяв улицу за единицу анализа, Бут построил в итоге свою знаме-
нитую карту бедности в Лондоне.
Задачей работы Раунтри (Rowntree, 1901) было сопоставление си-
туации в Йорке как типичном провинциальном городе с результатами
Бута. Однако с точки зрения методов анализа Раунтри пошел дальше —
он рассмотрел доходы отдельных семей и разработал так называемый
стандарт бедности, основанный на оценках потребностей в продуктах
питания и других необходимых благах. Методика обследования домо-
хозяйств была в дальнейшем развита Боули (Bowley, 1912-1913), кото-
рый впервые использовал выборочный анализ для своей случайной вы-
борки '/2о части семей рабочих в Рединге. В дальнейшем было прове-
дено большое количество исследований на местном уровне, включая
обследование пяти городов, начатое Боули в 1915 г. и повторенное в
1920 г., а также новое обследование условий жизни и труда в Лондоне,
результаты которого увидели свет в начале 1930-х годов. Сам Раунтри
повторил свое обследование ситуации в Йорке в 1936 и 1950 гг. По-
следнее обследование использовалось как стандартный источник ин-
формации относительно эффективности послевоенной системы соци-
альной защиты, причем большинство аналитиков пришли к выводу, что
Великобритания решила проблему бедности, эффективно сочетая пол-
ную занятость с новой системой пособий. Сомнения в этом появились
в результате социологических эмпирических исследований и оказались
в центре внимания с публикацией в 1965 г. работы «Бедные и бедней-
шие» (Abel-Smith and Townsend, 1965), которая с помощью анализа
данных национального обследования показала, что в 1960 г. около 2 млн
человек находились ниже черты бедности, несмотря на систему соци-
альной защиты. Данный вывод подтвердился и в официальных оцен-
ках, которые Департамент здравоохранения и социальной защиты на-
чал публиковать в 1970-х годах, а также в собственном обследовании
Таунсенда (Townsend, 1979).
Как и во многих других сферах, американцы стали разрабатывать
эту проблему позже и продвинулись дальше. Попытка дать определе-
ние черты бедности была предпринята Хантером (Hunter, 1904), кон-
цепция которого формировалась в ходе серии исследований нью-йорк-
ских семей, включившей так называемое исследование «бюджета ми-
нимального комфорта». В 1949 г. вышел доклад о положении семей с
низкими доходами, представленный Совместным комитетом по под-
готовке экономического доклада Президента США. Однако вплоть до
1960-х годов проблема бедности не исследовалась систематически, за
исключением нескольких заслуживающих внимания примеров, таких,
как работа Лэмпмэна (Lampman, 1959). Позже «Другая Америка» Хар-
рингтона (Harrington, 1962) и «Общество изобилия» Гэлбрейта
(Galbraith, 1958) привлекли к ней внимание широкой общественнос-
ти, политиков и ученых. Доклад Совета экономических консультантов
за 1964 г., основываясь главным образом на исследованиях Оршански
(Orshansky, 1965), оценил черту бедности в 3000 дол. годового дохода;
690
в дальнейшем методика расчета была доработана и была утверждена
официальная черта бедности, применяемая по настоящее время (с не-
которыми модификациями, например добавлением альтернативных
показателей, включая трансферты в натуральной форме).
Подобного типа исследования проводились и во множестве других
стран, в результате чего у ученых возник интерес к межстрановым со-
поставлениям. ОЭСР осуществила одну из первых попыток таких со-
поставлений, а более широкое исследование было проведено в рамках
Люксембургского исследования доходов. Любая оценка бедности в гло-
бальном масштабе зависит от наличия информации по распределению
жизненных условий в отдельных странах, и в данном вопросе сущест-
венную роль сыграли Всемирный банк и Международная организация
труда (МОТ). В некоторых небогатых странах также проводились ин-
тенсивные исследования проблемы бедности. Примером может слу-
жить Индия с ее многочисленными дискуссиями по поводу того, уве-
личиваются или уменьшаются размеры бедности с течением времени.
МОТ и Всемирный банк также оказывали влияние на распростране-
ние интереса к данной проблематике, что отражено в докладе Брандта
(Brandt, 1980), в котором выдвинута концепция «основных потребно-
стей» (basic needs), включающая минимальный набор отдельных благ
и необходимое состояние окружающей среды.
2. БЕДНОСТЬ, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ПРАВА. Озабоченность про-
блемой бедности может быть направлена на удовлетворение основных
потребностей в пище, жилье и одежде. В этом случае необходимо чет-
ко определить, потребление каких именно товаров нас интересует.
Подобный подход ведет к многокомпонентной оценке масштабов бед-
ности, когда семья может быть лишена одних благ, но обладать други-
ми, а действительно серьезной следует считать ситуацию, в которой
отсутствует значительная их часть. Ее нередко называют «множествен-
ной» депривацией (multiple deprivation).
Данный подход позволяет фиксировать специфические виды де-
привации, но можно использовать и агрегированные индикаторы. На-
пример, можно использовать показатель общих расходов и принять, что
бедной является семья, общие расходы которой не превосходят неко-
торого определенного уровня. Однако исследователи в большинстве
развитых стран предпочитают отказаться от этого подхода и оценива-
ют бедность по уровню доходов. В принципе показатель доходов может
занижать реальный уровень жизни. Семья может брать в долг или жить
частично за счет сбережений. В этом случае ее реальный уровень жиз-
ни не ограничивается текущим доходом, а более подходящим для оцен-
ки является показатель расходов. (В короткий промежуток времени,
однако, может наблюдаться расхождение между объемами расходов и
потреблением, поскольку домохозяйства используют запасы продуктов
и т.п.) Уровень жизни также оказывается выше, чем можно судить на
основании уровня дохода, если члены семьи могут участвовать в про-
цессе потребления благ другими семьями. Например, престарелые ро-
дители, живущие с детьми, могут частично увеличивать свое потреб-
691
ление за счет последних. Возможна и обратная ситуация, когда пока-
затель текущего дохода завышает оценки уровня жизни семьи по срав-
нению с реальным. Это происходит в условиях дефицита и в других
случаях, когда одного обладания деньгами недостаточно для приобре-
тения тех или иных товаров. Бывает также, что люди сами выбирают
заниженный уровень потребления, и именно по этой причине сущест-
вует аргумент в пользу показателя доходов как наиболее приемлемого
индикатора уровня бедности — доходы означают возможности семьи в
денежном выражении, они не зависят от индивидуальных потребитель-
ских решений.
Выбирая между показателями бедности, основанными на доходах и
расходах, важно различать две различные концепции бедности. Одна
из них связана с уровнем жизни, а другая — с правом на минимальные
ресурсы. Согласно первой целью борьбы с бедностью является дости-
жение людьми определенного уровня потребления (или переход к по-
треблению определенных товаров); в рамках второй индивиды рассмат-
риваются как граждане страны, которые в силу одного этого факта
обладают правами на получение некоего минимального дохода. На
практике эти два понятия нередко смешивают, но их важно различать,
так как выбор между ними обусловливает выбор показателя для оцен-
ки уровня бедности. Доходы находятся в центре внимания концепции
«права на минимальные ресурсы», а их использование при оценке уров-
ня жизни должно рассматриваться как приближение к оценке уровня
потребления.
Использование термина «права на ресурсы» заставляет задуматься
о взаимосвязи между бедностью и неравенством. Здесь можно выделить
четыре школы. Первую волнует только проблема бедности, но она не
придает значения неравенству в распределении доходов между домо-
хозяйствами, находящимися выше черты бедности. Вторая рассматри-
вает снижение степени неравенства как политическую задачу, но все
же считает приоритетным уменьшение масштабов бедности, так что в
результате получается лексикографическая целевая функция*. Предста-
вители третьей школы придают равное значение обоим вопросам, а чет-
вертой — рассматривают бедность не самостоятельно, а только как часть
более общей проблемы неравенства.
В этом контексте необходимо взглянуть и на выбор показателей
размера бедности. Там, где масштабы бедности ставят под угрозу вы-
живание, естественно измерить долю населения, находящегося под
угрозой. Если общество волнует проблема гарантий минимальных прав
для его членов, наиболее подходящим приемом может оказаться рас-
чет количества людей, доходы которых не дотягивают до черты бедно-
сти. Не менее важной может являться, особенно в концепции уровня
жизни, проблема остроты бедности, и в этом случае показатель так
называемой глубины бедности (величина отклонения доходов населе-
* Примером лексикографической функции является расположение слов в сло-
варе: они расположены по месту в алфавите первых букв, при их тождестве
значение имеют вторые буквы и т.д. — Примеч. ред.
692
ния от черты бедности) может быть более удачным. Можно пойти и
дальше, как предлагал Сен (Sen, 1976), и выяснить распределение до-
ходов среди бедного населения: например, так чтобы индекс бедности
зависел от коэффициента Джини для этого распределения.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРТЫ БЕДНОСТИ. Самый простой подход
к определению черты бедности заключается в том, чтобы определить
набор товаров («корзину»), обозначенный вектором х*, которые при-
обретаются по ценам р. Тогда формула примет вид:
(1 + й) р х*,
где h обозначает неэффективные расходы или потери, включающие
также приобретение товаров, не входящих в список х*. Данный метод,
собственно, был внедрен Раунтри. К примеру, дневной рацион для
вторников включал у него овсяную кашу на завтрак, хлеб с сыром на
обед и овощной суп на ужин. Тем же способом пользовался и Оршан-
ски, у которого вектор х* представлял собой требуемый набор продук-
тов питания, a h (= 2) — поправку для учета расходов на другие това-
ры. Такой подход нередко называют «абсолютным» стандартом бедно-
сти в отличие от «относительного стандарта», соотносящего черту
бедности со средним уровнем жизни. Примером последнего может
служить предложение Фукса установить в США черту бедности на
уровне половины доходов медианной семьи. Иногда считается, что аб-
солютный стандарт создает меньше проблем, чем относительный, он
также в меньшей степени зависит от ценностных суждений.
Термин «абсолютный», однако, вряд ли может употребляться здесь
в том же значении, что и в естественных науках, и существуют серьез-
ные разногласия по поводу того, где же проходит черта бедности. В наи-
большей степени это проявляется при применении концепции прав на
минимальный доход, поскольку в данном случае определение мини-
мального дохода является предметом общественного суждения. Одна-
ко проблемы возникают и с концепцией уровня жизни. Даже при опре-
делении необходимого набора продуктов питания, когда физиологиче-
ские нормы, по идее, должны служить адекватной точкой отсчета, на
самом деле оказывается непросто с точностью определить х*. Это свя-
зано с тем, что невозможно однозначно описать набор и количество
продуктов, необходимых для выживания. Существует достаточно ши-
рокий интервал, в котором физиологическая эффективность снижается
с уменьшением количества белков и калорий. Потребность в продук-
тах питания зависит от того, где человек живет и чем он занимается;
тем самым этот уровень неодинаков для разных людей, а любые оцен-
ки носят вероятностный характер: при определенном уровне потреб-
ления существует некая вероятность того, что человек питается неадек-
ватно своим потребностям. Даже если бы эти проблемы можно было
решить, остается еще одна сложность, связанная с расхождением между
рекомендациями экспертов и реальным потребительским поведением.
Фактор h предназначен для отражения этого расхождения, но его зна-
чение зависит от субъективного суждения исследователя. Раунтри,
693
к примеру, включил в необходимый набор чай, который имеет очень
низкую питательную ценность, но является традиционным элементом
структуры потребления.
В случае когда речь идет о непродовольственных товарах, влияние
оценок исследователя оказывается еще сильнее вне зависимости от
того, стремимся ли мы включить непродовольственные товары в век-
тор х* или отражаем их потребление посредством мультипликатора h.
Например, методы Оршански критиковались за переоценку значения
h за счет соответствующей недооценки доли дохода, потраченного на
покупку продуктов питания. С более фундаментальной точки зрения
роль благ в определении черты бедности должна быть пересмотрена.
Исследователи отметили роль благ, используемых в качестве ресурсов
для «домашнего производства», при этом масштаб домашнего произ-
водства оказывается важнее расходов на приобретение товаров. Осно-
вываясь на этом, мы можем обозначить желаемый уровень производи-
тельной деятельности в домохозяйстве через г*, и если при этом извест-
на матрица «затрат — выпуска» А, связывающая количество товаров,
приобретаемых в качестве ресурсов, с уровнем домашнего производ-
ства, то необходимый объем расходов выглядит следующим образом:
Y= (1 + h)pAz*.
Значение этого подхода состоит в том, что уровень бедности может
измеряться в абсолютном выражении в том смысле, что вектор г* яв-
ляется фиксированным, но необходимый набор товаров может при
этом меняться, поскольку матрица «затрат — выпуска» находится под
влиянием процессов, происходящих в данном обществе. Если, напри-
мер, мы берем вид производительной деятельности «посещение шко-
лы», то очевидно, что соответствующий спрос на одежду, книги, не-
обходимые канцелярские принадлежности значительно отличается от
того, который существовал сто лет назад. Это не означает, что между
концепциями абсолютной и относительной оценки бедности нет чет-
ких разграничений. Принципиальное различие между ними состоит в
том, что в первом случае мы рассматриваем вектор г* как фиксирован-
ный, а во втором считаем, что он находится под влиянием распрост-
раненного в обществе образа жизни и поведенческих моделей, как это
сделал Таунсенд (Townsend, 1979), который занимался изучением во-
проса о том, в какой степени семьи могут разделять «стиль жизни дан-
ного общества».
Таким образом, понятие абсолютного фиксированного стандарта
бедности, применимого ко всем общественным системам в любые вре-
мена, — это химера. Неочевидно также, что однажды установленная
черта бедности может оставаться адекватной в течение длительного
времени, пересматриваясь только в связи с изменениями индекса по-
требительских цен. В случае как абсолютного, так и относительного
подхода приходится сталкиваться с проблемой субъективных оценок,
и здесь можно отметить несколько подходов к ее решению. Существу-
ют исследования, согласно которым официальные стандарты уровня
694
бедности воплощают в себе социальные ценности, что выглядит естест-
венным в свете подхода, основанного на правах на минимальный до-
ход и, по крайней мере, помогает количественно оценить успех меро-
приятий правительства. Существуют также работы, в которых черта бед-
ности проводится на основе взглядов населения, выявленных в ходе
обследований. В США в опросах Гэллапа (Gallup Poll) регулярно зада-
вался один и тот же вопрос: «Какой минимальной суммой средств
должна, по-вашему, обладать семья из четырех человек, чтобы прожить
в вашей местности?» Подобного рода подходы приводят в результате к
некоему набору уровней бедности, и достижение соглашения относи-
тельно единого уровня становится маловероятным. Вот почему сущест-
вуют серьезные основания для того, чтобы в явном виде признать воз-
никающие в данном случае трудности и перейти к использованию
нескольких черт бедности. Это означает, что мы можем и не прийти к
недвусмысленному выводу, — к примеру, может выясниться, что при
использовании одной из черт бедности уровень бедности будет расти,
а при использовании другой — нет, но это хотя бы поможет выйти из
тупика. Аналогичным образом, проводя сравнения во времени, было
бы целесообразно сравнивать данные 1950 г. с двумя альтернативами
для 1980 г., одна из которых учитывала бы изменения индекса потре-
бительских цен, а другая — реальных доходов. Тем самым мог бы быть
получен «доверительный интервал» для оценок 1980 г.
До сих пор мы обсуждали черту бедности, как будто ее уровень пред-
ставляет собой некое единое для всех значение, но семьи различного
типа и размера заслуживают различного рассмотрения. В Великобри-
тании, к примеру, выплаты социального характера для семейной пары
приблизительно на 60% выше, чем для отдельно живущего человека.
Соотношения между чертой бедности для семей различных типов обыч-
но называют шкалой эквивалентности (equivalence scale). Однако, преж-
де чем определить шкалу эквивалентности, необходимо рассмотреть
вопрос о выборе единицы исследования, и в этом случае различие между
подходами с точки зрения уровня жизни и прав на доход приобретает
особое значение. Принимая за основу концепцию прав на доход, мы
сталкиваемся с тем, что эти права могут принадлежать только индиви-
дам. Если же брать за единицу исследования семью из нескольких че-
ловек, то приходится иметь дело с внутрисемейными трансфертами,
которые чрезвычайно трудно поддаются наблюдению и оценке. Семья
выбирается в качестве единицы анализа при измерении бедности, так
как считается, что многие из людей с нулевым заявленным денежным
доходом располагают определенными ресурсами. Однако о распреде-
лении дохода внутри семьи известно недостаточно. Ясно, что было бы
неверно рассматривать все семейные пары как имеющие права на рав-
ный общий доход. В соответствии с подходом, основанным на стан-
дартах уровня жизни, логичным является выбор в качестве единицы
анализа группы людей, у которых общее потребление. Это может быть
домохозяйство, а не семья в узком смысле слова. Здесь учитывается
также и факт, что на некоторые виды расходов приобретаются блага,
которые в определенном смысле носят для членов семьи характер об-
695
щественных. Однако и в этом случае внутри домохозяйства могут на-
блюдаться различия в уровне жизни между отдельными членами.
При определении шкалы эквивалентности для домохозяйств различ-
ного размера применяются несколько подходов. Для этой цели исполь-
зовались, в частности, данные обследований, отражающие мнение ин-
дивидов относительно того, что необходимо для того, чтобы «свести
концы с концами». Чаще исследователи пытались наблюдать за реаль-
ным поведением людей. Например, рассматривая какой-либо товар,
который может потребляться только взрослыми (скажем, верхняя одеж-
да для взрослых), можно выяснить уровень дохода, при котором семья
с одним ребенком может достичь того же уровня потребления этого
товара, что и бездетная семья. Подобный метод и другие более слож-
ные его варианты широко обсуждались на протяжении длительного
периода. Проблема здесь состоит в предположении, что предпочтения
относительно рассматриваемого товара не зависят от состава семьи;
на самом же деле рождение ребенка может означать, что родители мень-
ше времени проводят вне дома и меньше тратят на одежду. При дру-
гих методах, основанных на наблюдении потребительского поведения,
возникают такие же проблемы для идентификации. На более фунда-
ментальном уровне можно отметить, что этический статус шкалы эк-
вивалентности весьма далек от ясности. Дело не только в том, что не-
возможно сделать вывод относительно уровня благосостояния для се-
мей различного состава, но и в том, что с точки зрения общества
лежащие в основе метода посылки могут нуждаться в пересмотре: на-
пример, оценка необходимого прожиточного минимума родителями
может пересматриваться для того, чтобы в большей мере учесть инте-
ресы детей.
4. СОСТАВ БЕДНОГО НАСЕЛЕНИЯ. Одной из важнейших задач,
стоящих перед исследователями проблем бедности, является определе-
ние того, кто составляет группу наименее обеспеченных членов общест-
ва. Общественное мнение по этому вопросу, как правило, базируется
на достаточно выразительных, но не обязательно репрезентативных
историях о жизни за чертой бедности. По этой причине Совет эконо-
мических консультантов в начале так называемой «войны с бедностью»
в США активно подчеркивал необходимость рассматривать бедность
не только как явление, относящееся к меньшинству населения. В част-
ности, в докладе 1964 г. указывалось, что «многие убеждены, что бед-
ных людей можно встретить только в трущобах крупных городов, в то
время как другие полагают, что бедные концентрируются в районах с
отсталым сельским хозяйством. Кто-то находится под впечатлением
широкого распространения бедности среди пожилых, а кто-то уверен,
что эта проблема относится исключительно к расовым и этническим
меньшинствам. Однако объективная реальность такова, что бедность
распространена среди самых различных слоев населения... среди всех
групп и во всех частях страны» (Council of Economic Advisers, 1964,
p. 61—62).
696
В развитых странах бедность действительно является уделом мень-
шинства, но при этом она не ограничивается специфическими марги-
нальными группами. В то же время можно выделить определенные
«группы риска». В 1983 г. уровень бедности среди чернокожего насе-
ления США был примерно в 3 раза, а для испаноговорящих — почти в
2 раза выше, чем среди белых. В сравнении со средним уровнем в 2 раза
чаще бывают бедными семьи с детьми; еще хуже положение семей,
главой которых является женщина. Значительные различия в распрос-
транении бедности между группами населения просматриваются и в
других странах. Например, в Малайзии официальные показатели бед-
ности среди малайцев значительно выше, чем у индийской или китай-
ской этнических групп. Всемирный банк утверждает, что в странах с
низкими душевыми доходами бедность в большей степени является
проблемой сельского, чем городского населения, что ярко иллюстри-
руется статистикой по Индии.
Чтобы попытаться глубже проанализировать вопрос о составе бед-
ных, необходимо принять в расчет динамику бедности. Можно ли счи-
тать бедность временным явлением, т.е. какова вероятность того, что
нынешние бедные на следующий год справятся со своим положением
и их доходы окажутся выше черты бедности? Связана ли бедность с
определенными этапами жизненного цикла? Временная бедность мо-
жет иметь под собой ряд причин. Доходы семьи могут резко упасть в
результате внезапной тяжелой болезни, потери работы или сокраще-
ния заработной платы, из-за неурожая, развода родителей, один из
которых оказывается неспособным обеспечивать семью в одиночку.
Результаты так называемых панельных интервью, в ходе которых опре-
деленные семьи обследуются периодически на регулярной основе (при-
мером может служить Мичиганское панельное исследование динами-
ки доходов), показали, что обстоятельства жизни и уровень доходов
бедных слоев населения в значительной степени подвержены переме-
нам. Значительная часть людей, зарегистрированных как бедные в те-
чение одного года, оказываются выше черты бедности на следующий
год. Это не означает, что проблему бедности можно оставить без вни-
мания, — низкий уровень текущих доходов создает серьезные трудно-
сти в жизни людей, но это означает, что бедные не представляют со-
бой постоянный «низший класс».
Однако такая мобильность требует аккуратной интерпретации. Ее
может объяснить смена фаз жизненного цикла. В 1899 г. Раунтри сде-
лал вывод о том, что жизнь трудящегося состоит из «пяти периодов,
которые характеризуются различными соотношениями потребностей и
возможностей их удовлетворения». Потребности явно превышают воз-
можности в течение трех периодов: в детстве, при появлении собствен-
ных детей и в старости. Влияние такого рода факторов, связанных с
жизненным циклом, зависит от того, в какой степени государственные
или частные трансферты поддерживают текущий уровень доходов.
В этом смысле ситуация в Великобритании с 1899 г. значительно из-
менилась: была создана система государственного пенсионного обе-
спечения, расширились объемы частного пенсионного страхования,
697
увеличились пособия на детей и другие социальные выплаты. В других
странах также наблюдался значительный рост социальных трансфер-
тов: между 1960 и 1981 гг. доля социальных расходов в ВВП выросла с
США с 7 до 15%, в Западной Германии — с 18 до 27%, а в Японии —
с 4 до 14% (Institute for Research on Poverty, 1985). Трансферты и дру-
гие социальные программы, в том числе в области здравоохранения,
должны были снизить масштабы бедности, связанной с влиянием фак-
торов жизненного цикла. В США, к примеру, считается, что доходы
пожилых людей возросли в большей степени, чем доходы населения в
целом. Однако вопрос о влиянии определенных периодов жизненного
цикла, особенно на доходы семей с детьми, остается актуальным, и,
в частности, в США при падении доли бедных среди пожилых она по-
высилась среди населения трудоспособного возраста.
Анализ бедности как явления, связанного с жизненным циклом,
приводит к мысли о том, что в определенные периоды жизни риск
оказаться бедным увеличивается, но продолжительность этих периодов
ограничена. С другой стороны, попадание в число бедных на одной
стадии жизненного цикла может негативно сказаться на следующих
стадиях. Семьи с низкими доходами, воспитывающие детей, вряд ли
могут накопить достаточно сбережений для обеспечения своей старо-
сти. Их дети, вырастая, также с большей вероятностью попадают в ка-
тегорию малообеспеченных, как показали обследования, проведенные
в 1970-х годах на той же выборке семей, которая изучалась Раунтри в
1950 г. (см.: Atkinson, Maynard and Trinder, 1983). Более того, важно по-
мнить, что все же существуют люди, в течение всей жизни являющие-
ся бедными. Сельскохозяйственные рабочие или фермеры, владеющие
маленькими участками, могут так и не выбраться из этого состояния
даже в «благополучные» годы. То же самое встречается и среди заня-
тых в промышленности: доходы не всегда обеспечивают нормальное су-
ществование даже самому работнику. Над низкооплачиваемыми с по-
вышенной вероятностью нависают и такие временные угрозы, как бо-
лезни и безработица.
5. ПРИЧИНЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ. Еще в 1913 г.
Тони (Tawney, 1913) отстаивал новую формулировку проблемы бедно-
сти: «Значительную долю того внимания, которое еще одно поколение
назад целиком уделялось вопросам оказания помощи бедным, необхо-
димо переключить на вопросы социальной организации». По его сло-
вам, данная проблема была «индустриальным явлением». С точки зре-
ния определения того, кого относить к категории бедных, это означа-
ет, что причины бедности надо искать не в неадекватной поддержке
уровня доходов трансфертами, а в том, почему доходы изначально ока-
зываются неадекватными.
Тони признавал значимость индивидуальных факторов, но делал
основной акцент на экономической ситуации и позиции различных
групп и классов. Этот подход может быть столь же актуален и в наши
дни. Бедность работников может быть связана с общей отсталостью
отрасли и соответствующей низкой оплатой, с бедственным положе-
698
нием региона, который не в состоянии привлекать дополнительный
капитал, со слабостью профсоюзного движения, неспособного отста-
ивать права работников, и т.д. Все эти аспекты учитывались в так на-
зываемой теории сегментации рынка труда, которая пришла к выводу
о необходимости государственного вмешательства. Это вмешательство
может принимать различные формы: законодательное регулирование
минимальной заработной платы; гарантии минимального уровня дохо-
дов, подкрепленные набором мер, призванных компенсировать фак-
торы, негативно влияющие на уровень занятости, и модернизировать
отрасли или регионы, находящиеся в уязвимом положении. На макро-
уровне ответственность государства довольно значительна. Исследова-
ния, проведенные в США, показали, что для низкодоходных групп
безработица является намного более серьезной проблемой, чем даже
инфляция. Вряд ли, к примеру, кто-то усомнится в том, что спад
1980-х годов увеличил масштабы бедности в развитых странах.
Аналогичное структурное объяснение для стран с менее развитой,
преимущественно аграрной экономикой заключается в роли землевла-
дения и распределения прав на землю, а также в состоянии рынков
труда и капитала. Уровень бедности в сельских районах достаточно
высок среди наемных работников, не владеющих землей, и фермеров
с мелкими или неплодородными участками. Сложность их положения
может усугубляться теми условиями, на которых они вынуждены при-
обретать или заимствовать промежуточный продукт. В данном случае
необходимо государственное вмешательство, результатом которого
должно стать или перераспределение земельных владений, или уско-
рение внедрения новых методов хозяйствования, устранение наиболее
существенных искажений в механизме земельной аренды, или созда-
ние рабочих мест вне фермерских хозяйств. Масштабные мероприятия,
такие, как земельная реформа, вызывают множество политических
трудностей; и можно утверждать, что для уничтожения бедности как в
развитых, так и в развивающихся странах необходимы серьезные пе-
ремены в экономической системе. Всемирный банк, например, отме-
чал значимую роль политики обеспечения продовольствием в Китае для
снижения уровня бедности, а также связь этой политики с принятой в
Китае формой коллективного хозяйства.
Структурному объяснению феномена бедности можно противопо-
ставить объяснение «с точки зрения предложения», которое рассматри-
вает низкую заработную плату как неизбежность для работников, у ко-
торых отсутствуют производительные навыки по причине незакончен-
ного образования или низкой профессиональной подготовки. В свою
очередь, такая интерпретация с позиций теории человеческого капита-
ла ведет к политическим рекомендациям по расширению программ об-
разования и подготовки кадров, что соответствует стратегии, направлен-
ной на снижение неравенства возможностей. Профессиональная подго-
товка и образование играли ведущую роль в американской программе
войны с бедностью; создавались такие организации, как Корпус заня-
тости (Job Corps) и Корпус местной молодежи (Neighborhood Youth
Corps). В Соединенных Штатах расовая принадлежность является одной
699
из характеристик работника и дискриминация по данному признаку
приводит к различиям в оплате труда, несмотря на одинаковую квали-
фикацию. Более того, представителям чернокожего населения Америки
путь на некоторые должности был полностью заказан. Усилия Комис-
сии по предоставлению равных возможностей занятости и законодатель-
ство о гражданских правах снижают степень прямой и косвенной (че-
рез ограничение доступа к образованию) дискриминации, но опыт по-
казывает, что различия существуют, несмотря на общую политическую
стратегию, и устранить их довольно сложно.
Политика правительства, направленная на улучшение ситуации на
рынке труда (как с рабочими местами, так и с уровнем заработной пла-
ты), должна стать центральным элементом борьбы с бедностью. Одна-
ко для успешного достижения цели она должна дополняться соци-
альными программами, поддерживающими уровень доходов населения.
Увеличение трансфертов социального характера само по себе не дает
гарантию доходов для категорий людей, которые не получают трудо-
вой доход или имеют дополнительные нужды. Причины этого в непол-
ном охвате нуждающихся, особенно в случае возникновения новых
потребностей, в неадекватном размере пособий (к примеру, пособий,
выплачиваемых работникам с недостаточным стажем) и в неполном
использовании пособий для лиц с низкими доходами. Что касается
последнего фактора, то практика показывает, что сложность заявитель-
ных процедур или стыд не позволяет многим действительно нужда-
ющимся семьям обращаться за пособиями, и такие семьи оказывают-
ся вне сферы действия органов социальной защиты.
На сегодняшний день в развитых странах были выдвинуты предло-
жения по реформированию систем социальных трансфертов. В США
на протяжении многих лет передовой идеей считается так называемый
отрицательный подоходный налог, т.е. прибавка к доходу нуждающихся
семей, выплачиваемая по принципу, аналогичному механизму налого-
обложения. Некоторые реформаторы предлагают полностью объеди-
нить подоходный налог и систему социальной защиты и создать таким
образом схему гарантированного минимального дохода, в которой каж-
дый получает законный минимум, а доход сверх минимального обла-
гается налогом. Такого рода реформа означала бы практическое устра-
нение различий между категориями населения: например, в ней не
предусматривается особых мер поддержки безработных или инвалидов.
Альтернативным вариантом может стать сохранение структуры соци-
ального страхования по категориям, предусматривающее одновремен-
но более адекватное страховое возмещение, чтобы не возникало необ-
ходимости прибегать к системе социальной защиты или пособи-
ям по нуждаемости. Анализируя преимущества и недостатки каждого
из вариантов реформы, необходимо обратить внимание как на ариф-
метику перераспределения доходов, так и на причины, по которым та
или иная схема перераспределения не была успешно реализована ра-
нее. Как подчеркивали экономисты так называемой школы обществен-
ного выбора (public choice), действия правительства объясняются эко-
номическими и другими мотивами. Поэтому очень важно понять, по-
700
чему до сих пор не удавалось осуществить успешную программу борь-
бы с бедностью.
В данной главе мы говорили о политике, направленной на преодо-
ление бедности внутри страны и не затрагивающей вопросы перерас-
пределения доходов между странами. Конечно, меры, специально раз-
работанные для того, чтобы помочь низкооплачиваемым работникам
в развитых странах, могут оказать обратный эффект, будучи применен-
ными в развивающихся странах. Социальные трансферты в богатых
странах по своему объему являются микроскопическими, если оценить
их с точки зрения масштабов бедности во всем мире, и невозможно
усомниться в том, что перераспределение доходов в глобальном мас-
штабе является приоритетной задачей человечества.
БИБЛИОГРАФИЯ
Abel-Smith, В. and Townsend, Р. 1965., The Poor and the Poorest. London: Bell.
Atkinson, A.B., Maynard, A.K. and Trinder, C.G. 1983. Parents and Children.
London: Heinemann.
Booth, C. 1892-7. Life and Labour of the People of London. 9 vols, London:
Macmillan.
Bowley, A.L. 1913. Working class households in Reading. Journal of the Royal
Statistical Society 76, June, 672-701.
Brandt. W. (Chairman). 1980. North-South. London: Pan.
Council of Economic Advisers. 1964. Annual Report. Washington, DC: Government
Printing Office.
Eden, Sir F.M. 1797. The State of the Poor. London: Cass.
Galbraith, J.K. 1958. The Affluent Society. Boston: Houghton Mifflin.
Harrington, M. 1962. The Other America. New York: Macmillan.
Institute for Research on Poverty. 1985. Antipoverty policy: past and future. Focus,
Summer.
Lampman, R.J. 1959. The Low Income Population and Economic Growth. Study
Paper No. 12, US Congress Joint Economic Committee. Washington, DC:
Government Printing Office.
Orshansky, M. 1965. Who’s who among the poor: a demographic view of poverty. Social
Security Bulletin 28(7), July, 3-32.
Rowntree, B.S. 1901. Poverty. London: Macmillan.
Sen, A.K. 1976. Poverty: an ordinal approach to measurement. Econometrica 44(2),
March, 219-31.
Tawney, R.H. 1913. Poverty as an Industrial Problem. London: London School of
Economics.
Townsend, P. 1979. Poverty in the United Kingdom. London: Penguin.
World Bank. 1982. World Development Report, 1982. New York: Oxford University
Press.
«РАЗОРИТЕЛЬНОЕ»
(«ХИЩНИЧЕСКОЕ»)
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Пол Милгром
Predatory Pricing
Paul Milgrom
Среди представителей делового мира издавна имеют хождение ис-
тории о «разорительных» действиях некоторых фирм в их борьбе с кон-
курентами. К примеру, одна из фирм, действующих на локальном кон-
курентном рынке, может снизить цену до такого уровня, что ни она
сама, ни ее конкурент не смогут получать прибыль. Подобные действия
несовместимы с задачей максимизации прибыли фирмы в краткосроч-
ном периоде, а в долгосрочной перспективе они, видимо, окажутся
оправданными, только если приведут к банкротству или ослаблению
позиций соперников. Такое ценообразование некоторые исследовате-
ли называют «разорительным» (predatory). Разумеется, «разорительные»
действия не ограничиваются сферой ценовой политики — так, разме-
щение крупной бакалейной фирмой сети своих филиалов по соседству
с магазинами конкурентов может оказаться аналогичным по своим
последствиям. В рамках этой небольшой статьи мы ограничимся про-
блемой разорительного ценообразования и связанными с ней теорети-
ческими дискуссиями.
Эта проблема в конце XIX — начале XX в. вызывала большой тео-
ретический интерес. Считалось, что резкие снижения цен исполь-
зуются трестами и монополистическими объединениями для усиления
своего влияния. Вероятно, самое известное из ранних обвинений в
«разорительном» ценообразовании было предъявлено правительством
Соединенных Штатов гигантскому тресту «Стандард Ойл» Джона Д.
Рокфеллера в ходе судебного разбирательства, ставшего одним из пер-
вых случаев успешного применения антитрестовского закона Шерма-
на. В числе прочих обвинений в незаконной деловой практике юрис-
ты, представлявшие в суде правительство, утверждали, что «Стандард
Ойл» с целью вытеснения конкурентов снизил цены на ряде локаль-
ных рынков ниже уровня, обеспечивающего рентабельность (US v.
Standard Oil et al., 1911). Как только конкуренты покинули эти рынки,
«Стандард Ойл» вновь повысил цены, чтобы получить монопольные
прибыли. Даже если оставить в стороне чисто этические аспекты, та-
кое поведение приводит к неэффективному использованию ресурсов:
производственные мощности конкурентов простаивают, а итоговый
уровень производства монополиста падает ниже эффективного.
702
Затем интерес к проблеме «разорительного» ценообразования на
некоторое время утих, вновь возродившись после статьи Джона Мак-
ги (McGee, 1958), оказавшей немалое влияние на последующие иссле-
дования. Макги изучил стенограммы судебных заседаний по делу
«Стандард Ойл» и пришел к выводу, что факты, представленные об-
винением как доказательство «разорительного» ценообразования, не-
достаточно убедительны. Кроме того, что существенно, он привел те-
оретические доводы в пользу того, что «разорительные» действия не-
прибыльны для самой фирмы-инициатора, а значит, маловероятны на
практике. Отсюда следовало, что меры, направленные на запрет подоб-
ной практики, способны привести лишь к ограничению конкуренции.
Аргументация Макги и его последователей (см.: Telser, 1966; Areeda
and Turner, 1975; Bork, 1978; Easterbrook, 1981) преобладала в теорети-
ческой литературе вплоть до конца 1970-х годов и может быть сумми-
рована следующим образом. Во-первых, если компания, с успехом осу-
ществившая «разорительную» ценовую политику, захочет воспользо-
ваться плодами обретенного монополизма и поднимет цены, то ей
вскоре придется столкнуться с вторжением на рынок новых конкурен-
тов. Таким конкурентом при возросших ценах может оказаться и только
что вытесненная с рынка фирма. Если же эта фирма не захочет снова
втягиваться в ценовую войну, ее простаивающие производственные
мощности могут быть скуплены по дешевке новым претендентом. Та-
ким образом, вхождение в отрасль выглядит вполне доступным и по-
тенциально прибыльным делом — значит, его вероятность весьма ве-
лика. А если это так, то сама исходная тактика «разорительного» цено-
образования не принесет ожидаемых плодов.
Во-вторых, если компания вроде «Стандард Ойл», владеющая 80%
рынка, значительно снизит цены в надежде вытеснить фирму-конку-
рента, владеющую 20% рынка, то снижение выручки на 80% рынка,
вероятно, не окупится получением прибыли на 20% рынка — такая игра
вряд ли стоит свеч.
В-третьих, в распоряжении компании-«разорителя» имеются более
выгодные стратегии. Она может, к примеру, купить фирму-конкурен-
та с ее производственными мощностями, обеспечив себе монопольное
положение и снизив вероятность появления новых конкурентов.
В-четвертых, конкуренту, которому навязывают ценовую войну, нет
особого смысла сдаваться и уходить с рынка. Ведь «разоритель» тоже
несет потери — и конкуренты вправе рассчитывать, что он вскоре вер-
нется к прежнему прибыльному уровню цен. Осознание этого обстоя-
тельства поможет конкурентам крупной фирмы, их кредиторам и ин-
весторам пережить трудную, но кратковременную ценовую войну.
Всякий, кто согласен с этими с виду вполне убедительными аргу-
ментами, неизбежно должен прийти к заключению, что правовые огра-
ничения, направленные на то, чтобы не допустить «разорительного»
ценообразования или сделать его невыгодным, не достигают цели и
лишь ограничивают правомерную конкурентную борьбу. Угроза при-
менения юридических санкций может помешать тем фирмам, которые
добились снижения издержек, снизить цены готовой продукции. Это
703
ослабляет стимулы к снижению издержек и наносит прямой ущерб
потребителям. Запрет на снижение цен в ответ на вход конкурентов в
отрасль способен лишить потребителей одного из самых полезных пло-
дов такого входа, а кроме того, провоцирует фирмы на тайный цено-
вой сговор. Короче говоря, ограничения, направленные на решение в
действительности не существующей проблемы «разорительных» цен,
могут лишь помешать нормальному и желательному функционирова-
нию конкурентных рынков.
Вопреки такому теоретическому вердикту, имеется немало свиде-
тельств того, что в пылу конкурентной борьбы фирмы нередко прибе-
гают к «разорительной» тактике. Так, в начале XX в. картели, специа-
лизировавшиеся на трансокеанских грузовых перевозках, снаряжали
«боевые корабли», которые следовали за судами конкурентов в порт
назначения и сбивали им цены (US Department of Justice, 1977).
«Разорительное» ценообразование выглядит также наилучшим
объяснением ценовых войн на локальных рынках бензина, борьбы
между продавцами кофе, последовавшей за вхождением новых фирм
на ряд региональных рынков США, и резкого снижения цен на пери-
ферийные устройства к компьютерам в начале 1970-х годов (и это лишь
малая толика примеров!). Очевидно, теории Макги и его последовате-
лей не учли ряд существенных обстоятельств.
Когда фирма собирается выйти на новый рынок, она принимает
решение, исходя из ожидаемой прибыльности вторжения. Она задает-
ся вопросом: встретит ли ее компания-старожил (incumbent) в штыки,
и если да, то насколько упадут цены. Сможет ли фирма-новичок
(entrant) производить достаточно дешевый товар, чтобы остаться с при-
былью и в этом случае? Будет ли рыночный спрос достаточен для того,
чтобы продукция нового производителя нашла сбыт? Ожидания фир-
мы, т.е. ее ответы на эти вопросы, играют ключевую роль при приня-
тии окончательного решения. В этом-то и заключается суть проблемы:
компания-старожил своими действиями в состоянии повлиять на ожи-
дания потенциального новичка.
Мысль о том, что компания, обладающая некоторой властью над
рынком, может пытаться воздействовать на ожидания конкурентов с
целью «удержать» их от вхождения, в современной литературе по орга-
низации отрасли впервые была высказана Милгромом и Робертсом
(Milgrom and Roberts, 1982а), которые развили ее применительно к
проблеме сдерживающих цен (limit pricing). Эта же идея вскоре (Kreps
and Wilson, 1982; Milgrom and Roberts, 1982b) была использована для
объяснения отдельных примеров «разорительного» ценообразования.
Агрессивная реакция старожила может убедить новичка и других по-
тенциальных новичков в бесперспективности вторжения на его рынок.
К примеру, в отрасли, продукция которой претерпевает быстрые
изменения, компания-старожил может резко снизить цены после вхож-
дения новой фирмы, с тем чтобы охладить стремление новичка к ак-
тивным разработкам новых видов продукции. Новичок может припи-
сывать низкий уровень прибыли высоким издержкам собственного
производства, недостаточному рыночному спросу, избытку мощностей
704
в отрасли или агрессивности конкурента — в любом случае ему при-
дется снизить свои оценки будущей прибыли. Если капитал такой
фирмы имеет выгодные альтернативные применения, она может пред-
почесть уйти из отрасли; но даже если этого не произойдет, на планах
относительно новых инвестиций и разработок новых продуктов, воз-
можно, придется поставить крест. Кроме того, другие фирмы, возмож-
но, откажутся от своих планов войти в отрасль. Если хотя бы одно из
этих последствий будет иметь место, то компания, развязавшая цено-
вую войну, окажется в выигрыше.
Заметьте, что в соответствии с этой теорией «разорительные» дей-
ствия не обязательно должны приводить к устранению конкурентов с
рынка. Если же «разорителю» удалось их выжить, то последующее мо-
нопольное повышение цен не обязательно приводит к появлению но-
вых желающих войти в отрасль, как это следовало из теории Макги:
возможно, потенциальные конкуренты более не ожидают получения
прибыли. Наконец, для того чтобы ценовая война оказалась прибыль-
ной для затеявшей ее компании, она не обязана получить непосред-
ственную прибыль от снижения цены на оспариваемом рынке. Когда
компания «Максвелл Хаус» препятствовала выходу кофе фирмы «Фолд-
жерс» на ряд ее рынков Среднего Запада, выигрыш старожила заклю-
чался в том, что фирма «Фолджерс» отложила свое вторжение на круп-
нейшие рынки Востока США, в частности города Нью-Йорка.
Новые теории «разорительного» ценообразования основаны на
учете ожиданий и имеют ряд существенных отличий от теорий се-
редины века, которые делали акцент на стремлении довести конку-
рента до банкротства. Во-первых, воздействие на ожидания конку-
рентов может быть более или менее интенсивным, что усложняет его
отнесение к категории «разорительного» ценообразования по срав-
нению с очевидным критерием старых теорий. Во-вторых, в соот-
ветствии с новыми теориями основные издержки «разорительного»
ценообразования с точки зрения общественного благосостояния воз-
никают не в статике, а в динамике. Чтобы такое поведение было
выгодным, оно не обязательно должно приводить к простою обору-
дования конкурента или завершаться монополизацией оспариваемо-
го рынка — вместо этого вполне достаточно, чтобы конкуренты от-
казались от дальнейших инвестиций и разработок новых продуктов.
«Разорительная» тактика лишает предпринимателей стимулов к ин-
новациям, убеждая их, что отдача от их существенных усилий ока-
жется слишком низкой. Такое замораживание инноваций и новых
инвестиций в растущих отраслях или в отраслях с быстрым разви-
тием технологий в перспективе приводит к еще большим обществен-
ным издержкам, чем в случае неэффективного распределения ресур-
сов в статике, исследованном старыми теориями. В-третьих, в свете
новых теорий конкурентная борьба путем воздействия на ожидания
конкурентов не всегда есть зло с общественной точки зрения. Если
два или более сильных конкурента стремятся захватить как можно
большую долю рынка, демонстрируя свое желание во что бы то ни
стало остаться в данной отрасли снижением цен и внедрением но-
705
вых продуктов, то такая активная конкуренция, несомненно, выгод-
на для общества.
Последствия «разорительного» ценообразования весьма неоднознач-
ны, что осложняет выработку адекватной политики. Разумеется, чрез-
мерное снижение цен способно лишить инновационную фирму сти-
мулов к новым инвестициям. Но, с другой стороны, те же низкие цены
позволяют эффективным предприятиям воспользоваться плодами сни-
жения своих издержек, заодно подталкивая неэффективные фирмы к
повышению эффективности или сокращению производства. По край-
ней мере одно заключение новых теорий представляется вполне одно-
значным: на «разорительное» ценообразование следует особенно чут-
ко реагировать в растущих, высокотехнологичных отраслях, где велик
соблазн противостоять появлению новых фирм, а общественные издерж-
ки ограничения конкуренции самые большие.
БИБЛИОГРАФИЯ
Areeda, Р. and Turner, D. 1975. Predatory pricing and related practices under Section 2
of the Sherman Act. Harvard Law Review 88(4), 697—733.
Bork, R. 1978. The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself. New York: Basic
Books.
Brook, G. 1975. The US Computer Industry: A Study in Market Power. Cambridge,
Mass.: Ballinger.
Easterbrook, F. 1981. Predatory strategies and counterstrategies. University of Chicago
Law Review 48(2), 263-337.
Kreps, D. and Wilson, R. 1982. Reputation and imperfect information. Journal of
Economic Theory 27(2), 253—79.
McGee, J. 1958. Predatory price cutting: the Standard Oil (NJ) Case. Journal of Law
and Economics 1, October, 137—69.
McGee, J. 1980. Predatory pricing revisited. Journal of Law and Economics 23(2),
289-330.
Milgrom, P. and Roberts, D.J. 1982a. Limit pricing and entry under incomplete
information: an equilibrium analysis. Econometrica 50(2), 443-59.
Milgrom, P. and Roberts, D.J. 1982b. Predation, reputation and entry deterrence.
Journal of Economic Theory 27(2), 280—312.
Telser, L. 1966. Cut-throat competition and the long purse. Journal of Law and
Economics 9, October, 259—77.
US Department of Justice. 1977. The Regulated Ocean Shipping Industry. Washington,
DC: Department of Justice.
ДИЛЕММА ЗАКЛЮЧЕННОГО
Анатоль Рапопорт
Prisoner’s Dilemma
Anatol Rapoport
Игра, названная А. Таккером «дилеммой заключенного», безуслов-
но, привлекла широкое внимание по той причине, что она вызвала со-
мнения в универсальной применимости так называемого принципа
обеспеченного успеха (Sure-ting Principle) как принципа принятия ра-
циональных решений.
Эту игру можно проиллюстрировать следующей ситуацией. Два че-
ловека пойманы с крадеными вещами, они подозреваются в краже со
взломом, но для вынесения приговора по этому преступлению нет до-
статочных оснований, если один из них или оба не признаются. Одна-
ко им можно вынести приговор за хранение краденого, что является
менее серьезным нарушением закона.
Заключенным не разрешается общаться друг с другом. Ситуация
объясняется каждому из них отдельно. Если оба признаются, то обоим
выносится приговор за кражу со взломом и они приговариваются к двум
годам тюрьмы. Если никто из них не признается, то обоим выносится
приговор за хранение краденого и они получат по шесть месяцев тюрь-
мы. Если только один из них признается, то он не будет наказан, в то
время как другому выносится приговор на основании свидетельских
показаний напарника и он получает максимальное наказание — пять
лет тюрьмы.
В интересах каждого из заключенных признаться в содеянном. Ведь
если его напарник признается, это закончится двухлетним заключени-
ем, в то время как непризнание приведет к пятилетнему сроку. Если
же напарник не признается то непризнание ведет к шестимесячному
заключению, в то время как признание дает свободу. Таким образом,
«признание» является доминирующей стратегией, т.е. такой, которая
приносит более предпочтительный результат независимо от стратегии,
использованной партнером. Можно сказать, что выбор доминирующей
стратегии диктуется «принципом обеспеченного успеха». Тем не менее,
если оба участника, ведомые «принципом обеспеченного успеха», со-
знаются, то оба они окажутся в худшем положении (с двухлетним сро-
ком заключения), чем если бы оба они не сознались и получили шес-
тимесячный срок.
В указанном смысле «дилемма заключенного» может рассматривать-
ся как иллюстрация расхождения между индивидуальной и коллектив-
ной рациональностьюГтешёнйя. которыё'являются рациональными с
707
точки зрения каждого индивида, могут быть ущербными с точки зре-
ния обоих или, в более общем случае, всех индивидов в ситуациях, где
решение каждого участника влияет на положение всех.
Обобщенная для случая более двух участников (игроков), «дилем-
ма заключенного» становится вариантом так называемой «общинной
трагедии» (Tragedy of the Commons) (Hardin, 1968). В интересах каж-
дого отдельного фермера добавить еще одну корову к своему стаду, па-
сущемуся на общественном пастбище. Но если каждый фермер будет
следовать своим индивидуальным интересам, то пастбище может быть
«перегружено», от чего проиграют все. Чрезмерные уловы каждой стре-
мящейся к выгоде страны, занимающейся коммерческим рыболов-
ством, — по существу, «общинная трагедия» в современном виде.
Многие ситуации в обществе характеризуются аналогичным расхож-
дением между решениями, диктуемыми индивидуальной и коллектив-
ной рациональностью. Известные примеры дают ценовые войны и гон-
ка вооружений. В контексте «дилеммы заключенного» непризнание
должно считаться кооперативной стратегией (конечно, с партнером,
а не с властями), а признание — некооперативной, или «изменой».
Поскольку требования индивидуальной и коллективной рациональ-
ности противоречат друг другу, нормативная теория принятия реше-
ний в ситуациях подобного типа становится неоднозначной. Естествен-
но, усилия исследователей обращаются на проблему создания дескрип-
тивной теории, нацеленной на описание (и, если возможно,
предсказание) того, как люди, встретившиеся с дилеммами подобного
типа, действительно принимают решения при тех или иных обстоятель-
ствах.
По мере того как в 1950-е годы быстро развивалась эксперименталь-
ная социальная психология, «дилемма заключенного» стала любимым
экспериментальным инструментом исследователей. Она дала им воз-
можность собирать большие массивы данных при сравнительно неболь-
ших усилиях. Кроме того, все эти данные «надежны», поскольку дихо-
томия между выбором кооперативной стратегии в «дилемме заключен-
ного» (С) и отказом от нее (D) однозначна. Частоты выбора этих
альтернатив стали главными зависимыми переменными в эксперимен-
тах, в которых следовало выбрать между действиями в индивидуальных
или коллективных интересах. Независимые переменные включают
индивидуальные характеристики игроков (пол, род занятий, националь-
ность, тип личности), условия, в которых решения были приняты
(предшествующий опыт, возможности для коммуникации), характери-
стики поведения партнера, связанные с исходами игры платежи, и т.п.
(см.: Rapoport, Guyer and Gordon, 1976, chs. 9, 15, 18, 19).
«Дилемма заключенного» в исследованиях обычно представляется
в форме матрицы 2x2, строки которой Ct и Dt представляют возмож-
ные решения первого игрока, а столбцы С2 и D2 — возможные реше-
ния второго. Решения игроков обычно принимаются независимо друг
от друга. Таким образом, четыре ячейки матрицы соответствуют четы-
рем возможным результатам игры: С,С2, CVD2, D{C2 и DyD2. Каждая
ячейка содержит два числа, первое из которых показывает платеж
708
«Строке», т.е. игроку, выбирающему между Ct и Dv а второе — платеж
«Столбцу» т.е. игроку, который выбирает между С2 и Ь2. Величины
платежей таковы, что стратегия (выбор) D каждого игрока доминирует
над стратегией С. Проблема выбора решения видится как дилемма,
поскольку оба игрока предпочитают результат С\ С2 результату DVD2, но
выбор стратегии С означает отказ от возможного получения преиму-
щества над другим игроком, если бы он выбрал С, или получения наи-
худшего из четырех платежей, если соперник выберет D.
Эксперименты обычно проводятся в одном из трех форматов:
1) единственная игра, где каждый игрок принимает только одно
решение;
2) повторяющаяся игра, в которой пара игроков последовательно
принимает несколько одновременных решений;
3) повторяющаяся игра против «запрограммированного» игрока, где
решения партнера данного субъекта являются заданными и обычно
зависят от решений самого субъекта.
Цель единственной игры — в том, чтобы увидеть, как делают вы-
бор различные субъекты, когда отсутствует возможность взаимодей-
ствия с другим игроком. Цель повторяющейся игры с двумя реальны-
ми субъектами — в изучении эффектов взаимовлияния между после-
довательными выборами. Цель игры против запрограммированного
игрока — в том, чтобы увидеть, как различные (управляемые) страте-
гии повторяющихся игр влияют на поведение субъекта, будет ли, на-
пример, игрок отвечать на сотрудничество тем же или эксплуатировать
его, является ли наказание за «измену» средством сдерживания и т.п.
Расширенный обзор экспериментов с запрограммированным игроком
приведен в работе Оскампа (Oskamp, 1971).
Выводы, полученные на основе экспериментов с «дилеммой заклю-
ченного», представляют различный интерес. Некоторые из них лишь
подтверждают ожидания, вытекающие из здравого смысла. Например,
частота выбора кооперативной стратегии в повторяющихся играх из-
меняется, как и ожидается, в зависимости от платежей, связанных с
исходами игры. Чем больше вознаграждение, связанное с обоюдным
сотрудничеством, и чем больше наказание, связанное с двойной «из-
меной», тем чаще наблюдается выбор кооперативной стратегии. Чем
больше потери, связанные с отвергнутым сотрудничеством, тем более
распространены «измены», и т.д. Как и ожидалось, возможность об-
щаться с партнером делает сотрудничество более частым, а конкурент-
ная ориентация субъектов затрудняет его.
Больший интерес представляет динамика повторяющейся игры.
Обычно частота выбора кооперативной стратегии, усредненная по боль-
шому числу субъектов, сначала убывает, отражая разочарование неудач-
ными попытками установить сотрудничество. Если игра продолжает-
ся достаточно долго, то средняя частота кооперативной стратегии в
конечном счете увеличивается, отражая установление молчаливого со-
глашения между игроками. Полученная асимптотическая частота ко-
оперативной стратегии представляет собой только среднее значение, но
709
не моду распределения. Обычно игроки приходят либо к исходу С\ С2
либо к исходу 0^2 (Rapoport and Chammah, 1965).
Бимодальность наблюдается и в повторяющихся играх против за-
программированного игрока, который «настроен» на кооперативную
стратегию. Приблизительно половина наблюдаемых субъектов «отвеча-
ет» на это сотрудничество тем же, в то время как другая половина пы-
тается его использовать с целью получения максимального платежа.
Сравнение результатов различных программируемых стратегий в
повторяющейся игре показало, что так называемая стратегия взаимно-
сти «как ты мне, так и я тебе» (tit for tat) оказалась наиболее эффек-
тивной для установления сотрудничества между субъектами. Эта стра-
тегия начинает с выбора С и далее повторяет выбор партнера в пред-
шествующей игре. Некоторый психологический интерес содержится в
наблюдении, что субъекты почти никогда не знают, что они на самом
деле играют против своего собственного зеркального отражения с от-
ставанием на одну игру. В некотором смысле этот факт демонстриру-
ет, как трудно признать, что поведение других по отношению к тебе
может быть в значительной степени отражением твоего поведения по
отношению к ним. Следствием этого непонимания может быть, напри-
мер, эскалация взаимной враждебности в различных ситуациях.
Возможно, наиболее интересный результат экспериментов с повто-
ряющейся игрой в рамках «дилеммы заключенного» состоит в том, что,
даже если количество повторений игры известно обоим субъектам, тем
не менее, часто достигается неявное соглашение о сотрудничестве. Это
наблюдение интересно тем, что оно иллюстрирует недостаточность
рекомендаций, базирующихся на абсолютно строгих стратегических
рассуждениях.
На первый взгляд, неявное соглашение рационально для повторя-
ющейся игры, поскольку «измена», как можно предположить, вызовет
ответную «враждебную позицию» в целях «самозащиты», поскольку
другой игрок стремится избежать наихудшего исхода, связанного с
предложенным, но отвергнутым сотрудничеством. Тем не менее, этот
аргумент не относится к игре, о которой известно, что она последняя,
поскольку за ней не может последовать расплата. Таким образом, D
доминирует над С в последней игре, и согласно «принципу обеспечен-
ного успеха» результат D}D2 является предопределенным. Это переклю-
чает внимание на игру, предшествующую последней, которая теперь,
по сути, сама есть «последняя игра» и к которой теперь может быть
применена та же аргументация. И так далее. Таким образом, строгий
стратегический анализ показывает, что стратегия, состоящая из D для
всех повторений игры, — единственно рациональная независимо от
числа повторений.
Индукция «от конца» не может быть проведена, если количество
повторений бесконечно, неизвестно или определено стохастически.
В таких случаях, если вероятность завершения игры не слишком вели-
ка, индивидуальная рациональность не обязательно диктует 100%-е ис-
пользование стратегии D. Естественно, возникает вопрос о сравнитель-
ных достоинствах различных стратегий в повторяющейся игре типа
710
«дилеммы заключенного». Этот вопрос рассмотрен эмпирически в ра-
боте Аксельрода (Axelrod, 1984).
Лиц, заинтересованных в этой проблеме, попросили представить
программы для проведения 200-шаго вой игры типа «дилеммы заключен-
ного». Каждая программа должна была «сыграть» с каждой другой пред-
ставленной программой, включая саму себя. Программа с самой боль-
шой суммой полученных платежей объявлялась победителем конкурса.
Было предложено 15 программ, и среди них — программа со стра-
тегией «взаимности» (tit for tat). Она и получила самую высокую оцен-
ку. Был объявлен второй конкурс, на этот раз со стохастическим за-
вершением, при ожидаемом числе итераций около 150. Одновременно
с приглашением к участию во втором конкурсе были оглашены резуль-
таты первого конкурса вместе с полными описаниями представленных
программ. На этот раз было подано 63 программы из шести стран.
Программа со стратегией «взаимности» вновь была среди них (пред-
ложенная тем же конкурсантом и никем другим), и она снова получи-
ла самую высокую оценку.
Интересная особенность этого результата состояла в том, что вы-
игравшая стратегия не «победила» ни одну программу, против которой
она играла. Действительно, она не может победить ни одну програм-
му, поскольку единственный путь получить более высокую оценку, чем
партнер, состоит в применении большего, чем он, числа стратегий D,
чего, по определению, стратегия «взаимности» не может сделать. Она
может только сыграть вничью либо проиграть, но не более чем одну
игру. Из этого следует, что стратегия «взаимности» получила самую
высокую оценку, потому что другие программы, очевидно, разработан-
ные так, чтобы победить своих оппонентов, каждый раз сокращали
выигрыш обоих партнеров, включая свой собственный. Результаты этих
конкурсов могут быть проинтерпретированы как дальнейшее подтверж-
дение ущербности стратегий, базирующихся на попытках увеличивать
индивидуальные выигрыши в ситуациях, где возможны как коопера-
тивные, так и конкурентные стратегии. Кроме того, преимущество
кооперативных стратегий не обязательно зависит от наличия возмож-
ностей для явных соглашений.
Поддержка последнего вывода пришла из такого отчасти неожидан-
ного источника, как приложения игровых концепций в теории эволю-
ции (Maynard Smith, 1982; Rapoport, 1985). До недавних пор игровыми
моделями, использовавшимися в теоретической биологии, были так
называемые игры против природы (см., например, работу: Lewontin,
1961). «Выбор стратегии» был представлен появлением определенного
генотипа в популяции, живущей в стохастической среде. Степень адап-
тации к среде выражалась в относительном воспроизводственном успе-
хе данного генотипа, т.е. статистически ожидаемой численности потом-
ства, доживающего до репродуктивного возраста. В данном случае по-
пуляция эволюционировала к наилучшим образом приспособленному
генотипу.
В этой модели адаптация зависит только от вероятностного распре-
деления наблюдаемых состояний природы (например, влажные или
711
сухие сезоны), но не от доли популяции, которая приняла данную стра-
тегию. Когда эта зависимость вводится, модель становится действитель-
но игровой с более чем одним настоящим игроком.
Модель, описанная в виде «дилеммы заключенного», появилась в
теоретической биологии в связи с борьбой между особями одного и того
же вида, например, за самок или за территорию. Предположив для
простоты наличие двух способов борьбы, «жесткого» и «мягкого», мож-
но, изучая вероятный результат эволюции, увидеть связь с «дилеммой
заключенного». В столкновении между «жесткой» и «мягкой» особями
первая выигрывает, а вторая — проигрывает. Тем не менее, столкно-
вение между двумя «жесткими» особями может вызвать более серьез-
ный ущерб для обеих, чем столкновение между двумя «мягкими» про-
тивниками. При соответствующем ранговом упорядочении платежей
(относительных воспроизводственных успехов) модель становится «ди-
леммой заключенного». Развитие несмертельных орудий борьбы, таких,
как, например, загнутые назад рога, или поведенческие ограничения,
возможно, были результатом естественного отбора, благодаря которо-
му смертельные поединки между особями одного и того же вида ста-
новились редкими.
Повторяющиеся схватки предполагают сравнение эффективности
стратегий в повторяющейся игре. Мейнард Смит и Прайс (Maynard
Smith and Price, 1973) наблюдали компьютерно имитируемую популя-
цию в повторяющейся игре типа «дилеммы заключенного» при исполь-
зовании игроками различных стратегий, где платежами были диффе-
ренцированные коэффициенты воспроизводства игроков, использую-
щих соответствующие стратегии. Таким образом, происходило
наблюдение за эволюцией данной популяции. В конечном счете отве-
чающие взаимностью, т.е., по существу, игроки со стратегией «как ты
мне, так и я тебе», стали отчетливо преобладать.
Центральным понятием в игровых моделях эволюции является «эво-
люционно стабильная стратегия» (ЭСС). Она стабильна в том смысле,
что популяция, состоящая из генотипов, применяющих данную стра-
тегию, не может быть «завоевана» изолированными мутантами или
мигрантами, поскольку такие «захватчики» не должны иметь «воспро-
изводственного успеха». С помощью компьютерного моделирования
было показано, что популяция, поведение которой описывается про-
граммами, представленными на вышеупомянутый конкурс, эволюци-
онирует к стратегии «взаимности». Тем не менее, впоследствии было
показано и то, что стратегия «взаимности» не является во всех случаях
эволюционно стабильной.
В итоге большой интерес к «дилемме заключенного» среди специа-
листов по теории поведения и в последнее время среди многих биоло-
гов может быть отнесен на счет новых идей, порожденных на основе
анализа этой игры и результатов экспериментов с ней. Различные ре-
комендации относительно решений, базирующихся на индивидуальной
и коллективной рациональности в некоторых конфликтных ситуаци-
ях, порождают сомнения в том, что простое определение «рациональ-
ности» как эффективной максимизации чьих-либо ожидаемых выгод
772
имеет смысл. Именно такое определение подразумевается во всех фор-
мах стратегического мышления, особенно в экономической, полити-
ческой и военной областях. Модели, производные от «дилеммы заклю-
ченного», указывают на явное опровержение основного предположе-
ния классической экономической теории, согласно которому
стремление участников к собственной выгоде в условиях свободной
конкуренции приводит к оптимальному для них состоянию равнове-
сия. Эти модели также отражают ошибочность ориентации на наибо-
лее неблагоприятный исход в конфликтных ситуациях. Эта предпосыл-
ка полностью оправдана в случае игры двух лиц с нулевой суммой, но
не в более общих формах конфликта, где интересы участников частич-
но противоположны, а частично совпадают. Большинство конфликтов
за пределами чисто военной сферы относятся именно к этому типу.
Наконец, «дилемма заключенного» и ее обобщение, «трагедия об-
щины», обеспечивают строгое обоснование категорического императи-
ва Канта: поступай так, как ты желаешь, чтобы поступали другие. Сле-
дование этому принципу отражает нечто большее, чем альтруизм. Оно
отражает такую форму рациональности, которая принимает во внима-
ние то обстоятельство, что эффективность стратегии может критичес-
ки зависеть от того, насколько другие ее принимают, и то, что перво-
начально успешная стратегия может нанести поражение себе самой,
поскольку ее успех заставляет других ее имитировать. Таким образом,
«изменники» в «дилемме заключенного» могут вначале иметь успех в
популяции тех, кто придерживается кооперативной стратегии. Но если
этот успех ведет к увеличению числа первых и уменьшению числа вто-
рых, то он обращается в неудачу. Подобное рассуждение имеет очевид-
ное отношение к многим формам человеческих конфликтов.
БИБЛИОГРАФИЯ
Axelrod, R. 1984. The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books.
Hardin, G. 1968. The Tragedy of the Commons. Science 162,1243—8.
Lewontin, R.C. 1961. Evolution and the theory of games. Journal of Theoretical
Biology 1, 382—403.
Maynard Smith, J. 1982. Evolution and the Theory of Games. Cambridge: Cambridge
University Press.
Maynard Smith, J. and Price, G.R. 1973. The logic of animal conflict. Nature 246,
15-18.
Oskamp, S. 1971. Effects of programmed strategies on cooperation in the Prisoner’s
Dilemma and other mixed-motive games. Journal of Conflict Resolution 15, 225-59.
Rapoport, A. 1985. Applications of game-theoretic concepts in biology. Bulletin of
Mathematical Biology 47, 161-92.
Rapoport, A. and Chammah, A.M. 1965. Prisoner’s Dilemma. Ann Arbor: University
of Michigan Press.
Rapoport, A., Guyer, M. and Gordon, D. 1976. The 2x2 Game. Ann Arbor:
University of Michigan Press.
713
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Армен Алчиан
Property Rights
Armen A. Alchian
ЧАСТНЫЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. Право собственности -
это обеспечиваемое обществом право на выбор способов использова-
ния экономического блага. Частным называется право собственности,
которым обладает конкретный индивид; оно может быть отчуждено в
обмен на аналогичные права по отношению к другим благам. Сила это-
го права измеряется вероятностью и издержками его реализации
(enforcemtnt), которые зависят от деятельности правительства, нефор-
мальных общественных акций, а также господствующих этических и
моральных норм. Говоря проще, никто не может законно использовать
или как-либо воздействовать на физическое состояние благ, на кото-
рые вы обладаете правами собственности, без вашего разрешения или
выплаты вам компенсации. В гипотетическом состоянии, для которо-
го характерна полнота частных прав собственности, ни одно мое дей-
ствие с принадлежащими мне ресурсами не может оказать влияние на
физическое состояние частной собственности других людей. К приме-
ру, ваши частные права собственности на ваш компьютер ограничи-
вают допустимую сферу моих и чьих бы то ни было действий по отно-
шению к вашему компьютеру, а мои частные права собственности огра-
ничивают ваши и чьи бы то ни было действия по отношению ко всему,
чем я владею. Важно отметить, что защита от действий других людей
распространяется на физическое использование и физическое состоя-
ние блага, но не на его меновую ценность.
Частные права собственности являются правами на совершение
выбора между несовместимыми способами использования благ. Они
представляют собой не надуманные или навязанные извне ограниче-
ния на спектр возможных направлений использования, а исключитель-
ные права на выбор между этими направлениями. Запрет выращивать
кукурузу на моей собственной земле был бы навязанным, или «наду-
манным», ограничением, лишающим меня определенных прав без пе-
редачи их другим. Лишение меня права выращивать кукурузу на моей
собственной земле ограничило бы мой круг альтернатив поведения без
расширения числа возможных вариантов поведения у кого-либо еще.
Надуманные ограничения, необходимость в которых отсутствует, не
являются базой прав собственности. Кроме того, поскольку такие огра-
ничения обычно налагаются только по отношению к отдельным людям,
те, кто свободен от них, получают «законную монополию» на виды
774
деятельности, которыми другие безосновательно лишены возможнос-
ти заниматься.
При режиме частных прав собственности допускается совершение
контрактов на любых условиях, являющихся продуктом взаимного со-
гласия, хотя исполнение не всех контрактов обязательно обеспечива-
ется государством. Там, где контрактные соглашения запрещены, част-
ные права собственности отрицаются. К примеру, согласие работать
более 10 часов в день может рассматриваться как противоречащее за-
кону вне зависимости от размера предлагаемого вознаграждения. Или
же может быть незаконной практика продаж по ценам, превышающим
официально установленные пределы. Эти ограничения снижают силу
частных прав собственности и сокращают значение рыночного обме-
на и контрактов как средств координации производства и потребления
и разрешения конфликтов интересов.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ЧАСТНЫЕ ПРАВА СОБ-
СТВЕННОСТИ. Успешный теоретический анализ прав собственнос-
ти позволил объяснить метод управления и координации использова-
ния экономических ресурсов в системе, основанной на частной соб-
ственности (т.е. в капиталистической системе, или системе «свободного
предпринимательства»). Этот анализ опирается на предположение о
выпуклости предпочтений, а также на два ограничения: ограничение
производственных возможностей и ограничение возможностей обме-
на частной собственностью, иллюстрируемое библейской заповедью
«Не укради» или математически — принципом сохранения меновой
ценности принадлежащих кому-либо благ.
Для эффективной децентрализованной координации производ-
ственной специализации, основанной на хорошо известном принципе
сравнительных преимуществ, в обществе с рассеянной информацией
люди должны обладать твердо гарантированными отчуждаемыми част-
ными правами собственности на производственные ресурсы и продук-
ты, которые могут обмениваться по взаимно согласованным ценам при
низких издержках выработки условий надежных сделок (контрактов).
Способность такой системы обеспечивать координацию рассеянной ин-
формации приводит к повышению доступности благ, которые ценят-
ся выше или издержки производства которых снижаются. Набор прав
собствен ности на благо, которое я вл я етсяобъектом обмена, служиг
мерилом ценности блага; эта ценность не эквивалентна ценности та-
кого же количества рассматриваемого блага, которое не находится в
частной собственности (а является, например, собственностью государ-
ства). Вероятно, никто не будет спорить с утверждением, что более
сильные права являются более ценными, чем менее сильные, т.е. в
обмен на предлагаемое им благо продавец будет запрашивать большее
количество блага, на которое установлены менее сильные права соб-
ственности, по сравнению с тем количеством того же блага, которое
он запросил бы, если бы права собственности на него были более силь-
ными.
। 715
I/
ФИРМЫ, СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ФИРМ И СТРУКТУ-
РА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ. Хотя частные права собственности
играют огромную роль в обеспечении роста выгод от специализации
производства, делимость, сепарабельность и отчуждаемость частных
прав собственности создают условия для организации совместной про-
изводственной деятельности в рамках современной корпорации. Этот
процесс совместного производства — не столь хорошо формально обо-
снованный, но, тем не менее, важный — опирается на разделение и спе-
циализацию отдельных компонентов частных прав собственности. Од-
нако этот метод часто неверно интерпретируется как сопряженный с
чрезмерными ограничениями, способствующий снижению эффектив-
ности и социальной приемлемости частных прав собственности. Что-
бы увидеть заключенную в такой оценке ошибку, необходимо проана-
лизировать природу фирмы, в особенности корпоративной ее формы,
которая обеспечивает львиную долю производства экономических благ.
«Фирма», обычно рассматриваемая как «черный ящик», обеспечива-
ющий выпуск продукции, представляет собой связанный контрактами
набор ресурсов, принадлежащих различным взаимодействующим соб-
ственникам. Источником обеспечиваемого фирмой прироста произво-
дительности является «производительность команды» (team). Продукт
здесь является не суммой отдельных «вкладов» каждого конкретного
ресурса, участвующего в производстве, а неразложимой ценностью,
совместно производимой группой. Таким образом, в случае производ-
ства, предусматривающего совместное использование нескольких ре-
сурсов, находящихся в собственности разных субъектов, невозможно
идентифицировать или оценить часть стоимости выпуска, которую
«произвел» каждый отдельный ресурс. Определена и измерена может
быть только стоимость предельного продукта каждого ресурса.
В то время как управление специализированным производством и
обменом, которые ведутся в соответствии с принципом сравнительных
преимуществ, осуществляется с помощью децентрализованных процес-
сов рыночного ценообразования и заключения сделок, производитель-
ность команды, именуемой «фирмой», опирается на долгосрочные кон-
тракты, связывающие собственников, которые осуществили инвести-
ции в ресурсы, специфические для данной фирмы. В частности,
некоторые ресурсы являются специфическими для данной «команды»,
поскольку после того, как они вовлекаются в деятельность фирмы, их
альтернативная (ликвидационная) ценность оказывается намного ниже,
чем их ценность в рамках данной фирмы. Такие ресурсы называются
«специфическими ресурсами фирмы» (firm-specific). В рамках фирмы
специфические ресурсы находятся обычно в общей собственности;
в противном случае между отдельными собственниками специфичес-
ких ресурсов заключаются контракты, которые ограничивают исполь-
зование данных ресурсов спектром альтернатив, соответствующих ин-
тересам группы собственников в целом, а не отдельного индивида. Эти
контрактные ограничения предназначены для предотвращения оппор-
тунизма и «морального риска», связанных с действиями отдельных
собственников, каждый из которых стремится присвоить часть той доли
716
совокупной квазиренты, обеспечиваемой использованием специфичес-
ких ресурсов, которая должна принадлежать другим собственникам.
Ограничиваясь в целях краткости изложения только «полярными» слу-
чаями, отметим, что остальные ресурсы фирмы — ресурсы «общего ха-
рактера» — не теряют своей ценности при изменении сферы приложе-
ния. Фирма, таким образом, представляет собой группу специфичес-
ких ресурсов и некоторых ресурсов «общего характера», связанных
обязующими контрактами и порождающих неразлагаемую по отдель-
ным ресурсам ценность конечного продукта. Как следствие наиболее
интенсивный контроль и мониторинг деятельности и функционирова-
ния команды будут осуществлять собственники специфических для
данной фирмы ресурсов, выигрыш или убытки которых в максималь-
ной степени зависят от преуспевания или краха «фирмы». Они часто
рассматриваются в качестве «собственников», «работодателей» или
«боссов» фирмы, хотя в действительности фирма является набором
ресурсов, находящихся в собственности различных людей.
Специфические для фирмы ресурсы могут быть и человеческими.
Фирмы, функционирующие в области юриспруденции, архитектуры,
медицины, состоят из команд людей, которые в любой другой группе
оценивались бы ниже. Они могут «нанимать» иные ресурсы «общего
характера», например арендовать и приобретать здания и оборудование.
Контракты, определяющие такого рода «наем», зависят от того, носят
ли ресурсы специфический или общий характер, а не от того, кто из
собственников ресурсов богаче и относятся ли соответствующие ресур-
сы к человеческим или нет. В частности, незначительное распростра-
нение «промышленной демократии» связано с тем, что собственники
ресурсов более общего характера менее заинтересованы в управлении
фирмой, чем собственники специфических ресурсов.
КОРПОРАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЧАСТНЫХ ПРАВ СОБ-
СТВЕННОСТИ. В корпорации ресурсы, находящиеся в собственнос-
ти акционеров, относятся к числу тех, ценность которых специфична
для данной фирмы. Сложность специализации на отдельных компонен-
тах прав собственности и связанные с этим контрактные ограничения
заставили многих полагать, что в корпорации существует тенденция к
«отделению» принятия решений об использовании ресурсов от несе-
ния последствий этих решений (т.е. к отделению контроля от собствен-
ности), а потому корпорации подрывают способность основанной на
частной собственности системы к аллокации ресурсов в те области, где
они имеют наибольшую рыночную ценность. Утверждалось, к приме-
ру, что «распыленная» акционерная собственность ведет к столь серь-
езному отделению управления и контроля за использованием ресурсов
от «собственности», что менеджеры оказываются в состоянии действо-
вать, не обращая должного внимания на рыночную ценность ресурсов
и интересы мелких акционеров. Адам Смит был в числе первых при-
верженцев данной точки зрения. Вне зависимости от эмпирической
обоснованности такого представления лежащий в его основе логичес-
кий анализ базируется на неверном понимании структуры частных прав
777
собственности в корпорации и природы конкурентных рынков конт-
роля и собственности, которые ограничивают автономию менеджеров.
Между тем, к чему стремятся менеджеры, и тем, что реально удается
делать тем из них, которым удается выдерживать конкуренцию на рын-
ке контроля, существует большая разница.
Преимущество корпорации состоит в том, что она привлекает зна-
чительные средства для инвестиций в ресурсы, специфические для фир-
мы, с целью обеспечения широкомасштабных операций. Привлечение
больших ресурсов возможно, если акции, удостоверяющие права соб-
ственности, являются свободно отчуждаемой частной собственностью,
тем самым позволяя индивидам ликвидировать зависимость динамики
своего потребления от динамики отдачи на инвестиции в специфичес-
кие для фирмы ресурсы. Отчуждаемость возможна в том случае, если
владение акциями сопряжено с ограниченной ответственностью, кото-
рая элиминирует зависимость отдельного акционера от объема богатства
любого другого акционера. Связанное с этим терпимое отношение к
анонимности, отсутствие интереса к положению других акционеров обес-
печивают более высокую степень рыночной отчуждаемости акций.
Когда к отчуждаемости присоединяется добровольное согласие на
разделение функции управления специфичными для фирмы ресурса-
ми и функции несения имущественных последствий этих решений,
связанных с изменением рыночной ценности, тогда возможность спе-
циализации на управленческих решениях и способностях (на контро-
ле), не сопряженной с необходимостью нести риск имущественных
последствий, позволяет достичь эффективной специализации произ-
водства и координации совместной производительной деятельности.
Специализация не обязательно связана с производством различных
конечных продуктов; о ней можно также говорить и применительно к
различным производственным ресурсам или навыкам. Добровольно
обеспечиваемая делимость и отчуждаемость набора прав позволяет
эффективно специализироваться: (1) на реализации прав принятия ре-
шений об использовании ресурсов; (2) несении имущественных послед-
ствий этих решений, связанных с изменением рыночной (или мено-
вой) ценности. Первую функцию иногда называют «контролем», а вто-
рую — «собственностью» и, соответственно, говорят об «отделении»
контроля от собственности. Разделение функций обеспечивает дости-
жение выигрыша за счет специализации на выборе и мониторинге спо-
собов использования ресурсов, оценке результатов, а также на несении
рисков, связанных со степенью обоснованности решений и их влия-
нием на стоимость активов фирмы в будущем. Поскольку различные
способы использования ресурсов обусловливают различные вероятно-
стные распределения результатов, а сами результаты в неодинаковой
степени зависят от мониторинга предшествующих решений, сепара-
бельность и отчуждаемость отдельных прав собственности позволяют
достичь выигрыша от специализации на обладании «делимыми» пра-
вами и их реализации.
Таким образом, современная корпорация опирается на ограничен-
ную ответственность, которая содействует повышению степени отчуж-
718
даемости и делимости набора частных прав собственности, обеспечи-
вает, таким образом, выигрыш от широкомасштабной специализации
на управлении производственной командой, ее ресурсами и навыками.
Вместо того чтобы снижать или подрывать эффективность частных
прав собственности, пресловутое «отделение» позволяет осуществлять
эффективную и продуктивную «специализацию» на реализации част-
ных прав собственности как способа контроля и координации эконо-
мической деятельности.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. Можно было
бы предположить, что государственные права собственности в условиях
демократии аналогичны правам собственности в корпорациях с боль-
шим числом мелких акционеров, а потому обеспечивают получение
сходных результатов. Эта аналогия была бы корректной, если бы вли-
яние каждого гражданина, имеющего право голоса, на результат голо-
сования было пропорционально его доле в совокупном богатстве об-
щества и, кроме того, если бы каждый человек мог перевести свое бо-
гатство под юрисдикцию других правительств, подобно тому, как он
может выбирать между различными корпорациями. Если, к примеру,
индивид может покупать и продавать землю (актив, на который при-
ходится основная часть стоимости государственной собственности в
каждой стране), находящуюся под юрисдикцией различных прави-
тельств, и участвовать в голосовании в соответствии со своей долей
«земли», то в этом случае последствия режима государственной соб-
ственности были бы близки к последствиям режима частной собствен-
ности. Однако такую возможность трудно рассматривать всерьез. При-
рода государственных, общественных или коммунальных прав соб-
ственности, несомненно, зависит от типа государственного правления.
Поскольку дефиниции данных типов прав собственности лишены яс-
ности и четкости, попытки формального анализа последствий распре-
деления ресурсов и поведения в условиях каждого из них наталкива-
ются на препятствия.
ОТСУТСТВУЮЩИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. Не все ресур-
сы удовлетворительно контролируются частными правами собственно-
сти. Примерами могут служить воздух, вода, электромагнитные волны,
шумы и точки зрения (views). Грунтовые воды, находящиеся под при-
надлежащей мне землей, протекают далее под земельными участками
других людей. Звуки и свет с моего участка земли проникают на участ-
ки других людей. Применительно к таким случаям вырабатываются
иные формы контроля, например политические и общественные груп-
повые решения и действия, хотя иногда эти «иные формы» использу-
ются в идеологических или политических целях даже там, где частные
права собственности уже существуют.
Если такие формы контроля гарантируют каждому индивиду сво-
бодный, бесплатный и равный доступ к пользованию ресурсом, а так-
же и средний уровень отдачи от него, то использование данного ресурса
может оказаться чрезмерным. Чрезмерное использование означает, что
719
величина дополнительных издержек превысит совокупный прирост
ценности: иными словами, максимизация ценности общественного
продукта не достигается. Это обусловлено тем, что для каждого пользо-
вателя ресурса его предельный продукт оказывается ниже среднего, в то
время как пользователь ориентируется именно на величину среднего
дохода. Таким образом, использование продолжается до тех пор, пока
средний продукт не сокращается до уровня предельных издержек; как
следствие предельный продукт оказывается ниже предельных издер-
жек — явление, часто иллюстрируемое перегрузкой общественных шос-
сейных дорог или общественных парков или чрезмерным выловом
рыбы в зонах свободного рыболовства. Классический принцип «ком-
мунальной собственности», гласящий, что яблокам в общественном
саду никогда не дают созреть, является крайним примером утверЖдё-
ния, что существование прав собственности, отличных от частных,
нарушает соответствие использования ресурсов их выявленной рыноч-
ной ценности. С другой стороны, если коммунальные права собствен-
ности предусматривают, что фактические пользователи могут блоки-
ровать другим пользователям доступ к ресурсам, использование ресур-
сов будет недостаточным, поскольку фактические пользователи
максимизируют средний, а не предельный доход от имеющихся в их
распоряжении ресурсов. Результат — сокращение круга пользователей.
Хотя расширение круга пользователей или способов использования
ресурсов привело бы к снижению среднего продукта для фактических
пользователей, а потому снизило бы интенсивность использования ими
данных ресурсов, прирост ценности продукта (или дополнительного ис-
пользования ресурса) для всей группы превысит дополнительные из-
держки. Примером могут служить государственные колледжи с низкой
платой за обучение, практикующие ограничения на прием абитуриен-
тов с целью максимизации «качества» обучения принятых, т.е. с целью
максимизации среднего продукта в расчете на студента. Для некото-
рых профсоюзов (например, профсоюза водителей грузовиков) харак-
терна сходная практика.
Обычный ошибочный вывод, обусловленный аналогией с чрезмер-
ным выловом рыбы в озере, права собственности на которое не уста-
новлены, заключается в утверждении, что независимые продавцы, име-
ющие свободный доступ к покупателям, часто для их привлечения при-
бегают к чрезмерной дифференциации продукта и чрезмерной рекламе,
причем остальные продавцы несут скрытые издержки такой практики.
Если, к примеру, некоторые покупатели сигарет «Сате!» начинают
покупать сигареты «Pall Mall», потери фирмы «Camel» равны не сни-
жению стоимости продаж, а сокращению ценности ресурсов, специ-
фических для данной фирмы. Ресурсы общего характера могут быть
изъяты из производства сигарет «Сате!» и направлены в другую сферу
использования без каких-либо потерь для общества. Однако стоимость
ресурсов, специфических для фирмы «Camel», снижается в той мере,
в какой сигареты «Pall Mall» оказываются лучше или дешевле сигарет
«Camel». Потери фирмы «Camel» меньше суммы прироста частного до-
хода фирмы «Pall Mall» и трансферта благосостояния в пользу потре-
720
бителей за счет снижения цен или повышения качества сигарет. Поте-
ри фирмы «Сате!» связаны не с действиями фирмы «Pall Mall», а с
неверным прогнозом исходной ценности инвестиций. Здесь предпола-
гается, что выполнение ошибочных прогнозов не должно быть подстра-
ховано путем запрета на появление в будущем непредвиденных улуч-
шений. Данный случай отличается от случая с чрезмерным выловом
рыбы, поскольку потребители в отличие от рыбы обладают правами
собственности на свои деньги и покупаемый товар. Если бы каждая
рыба принадлежала конкретному собственнику (или «принадлежала бы
самой себе»), никто не мог бы вылавливать ее, не уплатив соответству-
ющую сумму, поэтому чрезмерный вылов не имел бы места. Наличие
единственного собственника всей рыбы не является обязательным;
достаточно того, чтобы каждая рыба (или каждый покупатель) находи-
лись в «собственности» того, кто может отказаться от покупки. (Разу-
меется, если на само озеро не установлены права собственности, на его
поверхности может находиться чрезмерно много рыболовных судов,
каждому из которых придется вести промысел на меньшей площади.
Такая картина наблюдалась бы даже в том случае, если были бы уста-
новлены права собственности на рыбу.)
Тот факт, что потребители обладают правами, которые могут слу-
жить объектом торговли, отличает рассматриваемый случай от случая
с чрезмерным выловом рыбы. Поскольку нет необходимости в приоб-
ретении прав на промысел рыбы или китов, чрезмерный промысел не
тождествен «чрезмерному числу покупателей» в случае, когда покупа-
тели обладают правами на то, что стремятся получить продавцы. Ины-
ми словами, аналогия между рыбой и покупателями была бы коррект-
ной в том случае, если бы продавцы одновременно конкурировали (1) за
установление прав собственности на покупателей и (2) за владение эти-
ми правами. Сопряженная со значительными издержками излишняя
конкуренция за установление прав может быть устранена простым за-
креплением за покупателями прав собственности на самих себя, что в
действительности и имеет место. Если предшествующие рассуждения
покажутся вам фантастическими, замените в них слово «рыба» на сло-
во «люди», а «поверхность озера» на «улицы, по которым ездят такси-
сты в поисках клиентов». Излишние издержки возникли бы в случае
конкуренции за ценные ресурсы, не находящиеся в чьей-либо соб-
ственности, — в данном примере таким ресурсом являются сами ули-
цы.
ВЗАИМНЫЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. Очевидная цель «вза-
имных» форм организации состоит в том, чтобы поддерживать макси-
мальный средний уровень дохода в расчете на члена группы или гаран-
тировать каждому «старожилу» группы прирост дохода при увеличении
численности группы. Взаимная частная собственность — форма, кото-
рая почти не подвергалась анализу, — не обеспечивает анонимной от-
чуждаемости принадлежащей индивиду доли прав, которые во всех
остальных аспектах являются частными правами собственности. Чле-
ны «взаимной» организации могут передать свою долю другим лишь
721
при получении согласия на это со стороны остальных собственников
или их полномочных представителей. Примерами соответствующих
организаций являются братства и клубы. Их деятельность обычно не
может быть эффективно организована на тех же принципах, что и де-
ятельность ресторанов, оздоровительных центров и спортивных залов,
а их услуги не могут быть проданы на рынке так же, как услуги ука-
занных организаций. Специфическими для группы ресурсами являются
сами ее члены, которые взаимодействуют друг с другом и создают для
себя общественную полезность. Увеличение числа членов группы ока-
зывает двоякое влияние на полезность для каждого ее старожила: за счет
фактора личной совместимости и за счет фактора «перегрузки»
(congestion). Независимый внешний собственник, заинтересованный
в максимальной ценности организации, но не в максимальном сред-
нем доходе каждого ее члена, может создать угрозу увеличения группы
путем дополнительной продажи членских прав, что позволит повысить
совокупную общественную ценность организации из-за возросшего
числа членов, в то же время снижая средний доход каждого из старо-
жилов. Это — пример проанализированного ранее различия между мак-
симизацией средней отдачи на вложенные ресурсы и максимизацией
совокупного дохода за счет привлечения новых членов группы, присут-
ствие которых, хотя и может повысить их собственное благосостояние
по сравнению с ситуацией, когда они не являлись членами данной
группы, одновременно сокращает доход прежних ее членов. Кроме
того, возможности новых членов группы компенсировать прежним ее
членам снижение индивидуальной (средней) ценности может быть
ограничено, если взносы, сопряженные с членством в группе, переда-
ются внешнему собственнику клуба. Если денежная компенсация, вып-
лачиваемая внешнему собственнику в форме вступительного взноса,
превышает сокращение уровня полезности для отдельных членов груп-
пы и группы в целом, то вступление в группу новых членов будет раз-
решено и собственник окажется в выигрыше, однако совокупный
объем основанных на «личных отношениях» квазирент субъектов, с
самого начала являвшихся членами группы, сократится. (До сих пор
нет объяснения — за исключением указания на особенности режима
налогообложения — тому факту, почему взаимные формы организации
используются в ссудосберегательных и страховых фирмах.)
НЕНАКАЗУЕМОЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ,
УСЛОВНЫЕ И НЕСПЕЦИФИЦИРОВАННЫЕ ПРАВА СОБСТВЕН-
НОСТИ. Частные права собственности могут в принципе существо-
вать, однако их защита от потенциальных «узурпаторов» может не быть
безусловной и бескомпромиссной. К примеру, возможны ситуации,
когда чьи-либо предполагаемые права собственности не исключают
пользования ей со стороны «узурпатора». Случайное или обусловлен-
ное экстремальными обстоятельствами использование частной соб-
ственности другого лица иногда называется ненаказуемым нарушени-
ем прав собственности («tort»). Другая возможность состоит в том, что
права собственности могут быть столь неточно специфицированы, что
722
неясно, имела ли место узурпация прав собственности или же они из-
начально принадлежали предполагаемому «узурпатору». К примеру,
дерево, которое я посадил, может загораживать вид с вашего участка.
Однако имели ли вы право на то, чтобы любоваться пейзажем, распо-
ложенным за моим участком? Если бы права на любование пейзажем
(или на солнечные лучи) были четко определены и специфицированы,
мы могли бы вести переговоры о плате за сохранение вида с вашего
участка или за предоставление мне возможности посадить дерево —
в зависимости от того, какая из альтернатив ценится нами больше, при-
чем плату получит тот, кто докажет, что права принадлежат ему. Дру-
гой пример: переплывая озеро на яхте и будучи застигнут внезапным
штормом, я, спасая яхту и свою жизнь, воспользовался вашим прича-
лом без вашего разрешения. Нарушил ли я в этом случае ваши права
или же вам не принадлежит право препятствовать тому, чтобы люди,
находясь в столь бедственном положении, пользовались вашим прича-
лом? Если такое вынужденное действие рассматривается как правомер-
ное, ваши права на причал являются не столь полными, как вам это
могло представляться. В то время как в случае с посадкой дерева пред-
варительные переговоры могли предотвратить ситуацию ненаказуемо-
го нарушения прав собственности (за исключением варианта, когда нам
с самого начала не удалось бы достичь согласия по вопросу о том, кому
какие права принадлежат), в случае вынужденного использования при-
чала предварительные переговоры невозможны. Если предварительные
переговоры являются неэкономичными, то право на вынужденное ис-
пользование ресурсов «должно» существовать и действительно будет
существовать, коль скоро такой вариант использования ресурсов в рас-
сматриваемых условиях дает большую ценность, чем альтернативные
варианты. При этом изначальному «собственнику» может полагаться
компенсация, а может и не полагаться. Принцип, лежащий в основе
этого юридического постулата, представляется бесспорным и согласу-
ющимся с принципами эффективного экономического поведения. Для
целей настоящего очерка достаточно указать на данный аспект эконо-
мической эффективности, лежащий в основе правовых норм.
РЕНТА
Армен А. Алчиан
Rent
Armen A. Alchian
«Рентой» называют плату за использование ресурсов — земли, тру-
да, оборудования, идей или даже денег. Рента за использование труда
обычно называется «заработной платой», плата за пользование землей
и оборудованием — «рентой», плата за использование идеи — «роял-
ти» (royalty), а плата за пользование деньгами — «процентом». В эко-
номической теории плата за ресурс в том случае, когда его предложе-
ние не зависит от величины платежа, называется «экономической рен-
той», или «квазирентой» — в зависимости от того, носит ли такая
нечувствительность к изменениям цены постоянный или временный
характер.
Вплоть до второй половины XIX в. под «рентой» экономисты по-
нимали плату за пользование землей. В частности, Рикардо называл так
плату «за пользование первоначальными и неразрушимыми силами
почвы» (Рикардо [1955], 1993, с. 432). Впоследствии экономисты при-
шли к пониманию того, что отличительной особенностью тех ресур-
сов, которые принято объединять под рубрикой «земля», по-видимо-
му, является их неразрушимость (indestructibility), что и обусловливает
нечувствительность величины их предложения к цене. «Ренту» стали
называть «экономической», обозначая этим термином плату за любой
ресурс, предложение которого поддерживается на неизменном уровне
без издержек, но не может быть увеличено, а следовательно, не зави-
сит от цены. На языке экономистов настоящее и будущее предложе-
ние такого ресурса совершенно неэластично по цене, что соответству-
ет вертикальной кривой предложения в общепринятой «маршаллиан-
ской» системе координат «цена — количество».
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕНТА. Понятие «экономическая рента» гра-
фически представлено на рис. 1 при помощи стандартных кривых спро-
са и предложения. Последняя кривая направлена вертикально вверх,
так что величина предложения остается на одном уровне Хг независи-
мо от цены. В этом случае «экономической рентой» будет весь доход,
приходящийся на данный ресурс. И даже если совокупное количество
этого и ему подобных ресурсов может в будущем быть увеличено бла-
годаря тому, что рост цены стимулировал производство дополнитель-
ного количества неразрушимых единиц ресурса, — даже в этом случае
кривая моментального предложения остается вертикальной, посколь-
724
ку имеющееся в каждый момент количество ресурса фиксировано не-
зависимо от рентной платы. Кривая предложения тех единиц, которые
могут быть произведены впоследствии, имеет положительный наклон,
начиная с точки, соответствующей нынешней величине предложения
ресурса, как показывает кривая ГГна рис. 1. Уровень рентных плате-
жей по долгосрочным контрактам должен быть равен Рг, а равновес-
ный запас ресурса составит Х~. при этом запасе «рыночное предложе-
ние» (в терминах Маршалла) остается вертикальной линией. Таким
образом, хотя предложение неразрушимых единиц ресурса и зависит
от прошлых ожиданий относительно цен на настоящий момент време-
ни, предложение наличных единиц никак не будет реагировать на из-
менения текущей цены или ренты. Доход на такие ресурсы также мо-
жет считаться «экономической рентой», хотя этот термин и не утвер-
дился в отношении таких разрушимых ресурсов, запас которых может
быть увеличен.
КВАЗИРЕНТА. С термином «экономическая рента» тесно связано
понятие «квазирента», по-видимому, введенное в обиход Альфредом
Маршаллом (Маршалл [1983], 1993, т. 1, с. 135; т. 2, с. 116). Поскольку
предложение практически всех существующих ресурсов (хотя бы на
протяжении какого-то очень небольшого промежутка времени) вовсе
не реагирует на изменение цены, доход на каждый ресурс на протяже-
нии этого промежутка сходен с «экономической рентой». Со временем
величина предложения изменится — будь то вследствие производства
дополнительных единиц ресурса или из-за выбытия наличных единиц,
не замещенных новыми. Тем не менее, уже само то обстоятельство, что
наличная величина предложения не мгновенно изменяется вслед за
725
ценой, дает основания для введения понятия «квазирента», обознача-
ющего доход, колебания которого не влияют на величину текущего
предложения блага, но воздействуют на это предложение в будущем.
Даже если поток рентных платежей за пользование существующим
ресурсом недостаточен для покрытия издержек его воспроизводства,
услугами имеющихся единиц ресурса во всяком случае можно пользо-
ваться на протяжении всего времени их существования, каким бы огра-
ниченным оно ни было. Иными словами, поскольку срок службы ре-
сурса отличен от нуля, он может какое-то время использоваться по-
прежнему, даже если рентные платежи не покрывают издержек его
производства. Необходимо лишь, чтобы рентный доход на этот ресурс
покрывал текущие издержки использования ресурса, включая процент
на ликвидационную стоимость (salvage value), равную наивысшей сто-
имости ресурса при альтернативном использовании. Всякое превыше-
ние доходов над этими текущими издержками составляет «квазирен-
ту».
«Квазирента» сходна с «экономической рентой», так как она соот-
ветствует пусть временному, но все же излишку дохода над издержка-
ми текущего использования ресурса. Различие между ними заключа-
ется в том, что если потоки рентных доходов не покрывают всю «ква-
зиренту», то такой излишек сохранится только на протяжении
конечного промежутка времени, по истечении которого ресурс будет
стоить ниже его ликвидационной стоимости. Если доход на ресурс
превысил все изначально ожидавшиеся и фактические издержки его
производства и функционирования, то его использование дало при-
быль, т.е. некоторый доход, превышающий чистый процент на вложен-
ный в него капитал. В этом свете встает вопрос: следует ли считать
«квазирентой» только превышение рентных доходов над минимальны-
ми операционными издержками на протяжении остающегося срока
службы актива или же все излишки, включая возможную прибыль? Как
нам представляется, этот вопрос до сих пор остается открытым. Мар-
шалл, видимо, исключал процент на вложенный капитал и другие эле-
менты прибыли из того, что он называл «квазирентой». Таким обра-
зом, в его концепции все излишки над величиной операционных пе-
ременных издержек распадаются на квазиренту, процент на вложенный
капитал и прибыль (Маршалл [1983], 1993, т. 2, с. 102, 112; т. 3, с. 35).
СОВМЕСТНАЯ КВАЗИРЕНТА (composite quasi-rent). Другое важ-
ное, но впоследствии забытое понятие «совместная квазирента» также
было изобретено Маршаллом (Маршалл [1983], 1993, т. 3, с. 38)*. Если
два ресурса находятся в собственности двух разных лиц, но настолько
тесно связаны друг с другом в эксплуатации, что рента от их совмест-
ного использования превысит сумму рент, которые каждый из них в
состоянии приносить по отдельности, такие два ресурса приносят «со-
вместную квазиренту» (composite quasi-rent). Подобная специфичность
* В русском переводе названа «совокупной» квазирентой, что, на наш взгляд,
менее точно. — Примеч. ред.
726
двух ресурсов относительно друг друга, повышающая их ценность при
совместном использовании, зачастую бывает обусловлена какими-то
специальными взаимосвязанными инвестициями. В качестве примера
таких ресурсов Маршалл приводит водяную мельницу и плотину: мель-
ница может быть построена вблизи плотины и принадлежать отдель-
ному собственнику. Один или оба собственника в этом случае могут
постараться придержать или извлечь в свою пользу часть квазиренты,
приходящейся на долю собственника другого ресурса. Суждение Мар-
шалла по этому поводу заслуживает того, чтобы его привести:
«Мельницу, очевидно, не построят до тех пор, пока не будет достиг-
нуто соглашение о поставках энергии воды на какое-то определенное
количество лет, но по истечении этого срока снова возникнут анало-
гичные трудности дележа совокупного производителъского излишка, до-
ставляемого энергией воды и участком с построенной на нем мельни-
цей. [...] Например, когда заводчики Питтсбурга едва успели постро-
ить котельные для работы на газе вместо угля, цена на газ внезапно
повысилась вдвое. История эксплуатации рудников дает множество
примеров такого рода трудностей в отношениях с ближайшими земле-
владельцами из-за права проезда и т.п. и с владельцами ближайших
коттеджей, железных дорог и пристаней» (Маршалл [1983], 1993, т. 2,
с. 149-150).
Теперь становится понятно, почему мы уделяем «совместной ква-
зиренте» такое внимание. Раз она приносится теми ресурсами, кото-
рые были специфическим образом связаны друг с другом, так что цен-
ность услуг одного из них зависит от наличия другого, то совместная
квазирента может оказаться объектом экспроприации собственником
одного из них (как правило, того ресурса, который способен давать
стабильный высокий поток доходов в случае его альтернативного ис-
пользования). Чтобы избежать или ограничить возможность такого
поведения, прежде чем будут сделаны реальные инвестиции, которые
поставят хотя бы один из ресурсов в специфическую зависимость от
другого, имеет смысл заключить специальные контракты или другие
соглашения. Эти соглашения могут, например, оформляться как пра-
во совместной собственности или как совместное предприятие; обу-
словливаться разнообразными залогами или взаимными обязательства-
ми; регламентироваться государством; наконец, для отслеживания ис-
пользования взаимно специфических активов можно нанять
специальных агентов. Здесь не место обсуждать все эти виды соглаше-
ний, так что мы ограничимся заключением, что без понятия «квази-
ренты», и в особенности «поддающейся экспроприации» или, в тер-
минах Маршалла, «совместной квазиренты», широкая гамма институ-
циональных соглашений в целях повышения эффективности
экономической деятельности не могла бы получить своего объяснения.
Маршалл коротко упоминал о существовании аналогичных проблем
во взаимоотношениях между нанимателями и наемными работниками,
однако в его работах я не нашел более подробного обсуждения предуп-
редительных контрактных соглашений и институтов, нацеленных на
разрешение противоречий, существующих в этой сфере. Такие согла-
727
шения стали предметом последующих важных исследований, авторы
которых рассматривали эти противоречия в рамках проблем оппорту-
низма, отлынивания (shirking), экспроприируемой квазиренты, конф-
ликтов между принципалом и агентом, мониторинга поведения, изме-
рения результатов работы, асимметричной информации и т.п.
РИКАРДИАНСКАЯ РЕНТА. Величина ренты может оказаться раз-
личной для разных единиц некоторого ресурса, однородного во всех
прочих отношениях. Значит, для каждой из таких единиц окажутся раз-
личными и разности между рентой и доходом от их использования сле-
дующим по выгодности способом. Эти разности носят название «ри-
кардианских рент». Они существуют там, где отдельные единицы, рас-
сматриваемые как «однотипные» при их использовании любым другим
способом, при данном использовании отличаются некоторым важным
качеством, которое, будучи значимым здесь, нигде более не представ-
ляет собой ценности. Примерами таких качеств могут служить место-
положение, специфическое плодородие почвы или личные способно-
сти, которые не найдут применения на любом другом возможном мес-
те работы. Для некоторых целей грубое «усреднение» разных единиц
ресурса может оказаться приемлемым упрощением, однако, когда речь
идет о действительной ренте на каждую единицу ресурса, оно чревато
путаницей и непониманием. Цены услуг разных единиц ресурса, а зна-
чит, и величина ренты за их использование данным образом бывают
различными, даже когда во всех прочих отношениях эти единицы пред-
ставляются одинаковыми. Уникальность данного ресурса при некото-
ром использовании может быть порождена его природными свойства-
ми или волей чистого случая, но во всяком случае различие их потре-
бительных ценностей при данном использовании приводит к различиям
в плате за разные единицы подобных ресурсов. Эту разницу и называ-
ют «рикардианской рентой» в отличие от «монопольной ренты» — раз-
личий в рентных доходах (ценах), вызванных монополистическими или
искусственными ограничениями конкуренции, также способными уве-
личить ренту.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ РЕНТА. Понятие «дифференциальная
рента» также характеризует различия в рентных платежах вследствие
неоднородности ресурсов, но определяется в «противоположном» на-
правлении. На этот раз единицы ресурса имеют одинаковую ценность
при данном использовании и различную ценность, если их использо-
вать как-то иначе. Такая ситуация изображена графически на рис. 2,
где дифференциальная рента для каждой из последовательности еди-
ниц соответствует разнице между уровнем цены и кривой RR, упоря-
дочивающей все единицы ресурса по возрастанию их потребительской
ценности в альтернативном использовании. Все такие единицы не яв-
ляются равноценными при использовании иным образом, поэтому,
несмотря на их идентичность с точки зрения данного использования,
их не вполне корректно называть последовательными единицами од-
ного и того же блага. Ведь они не являются совершенно однородны-
728
ми: если бы это было так, то потребительная ценность всех таких еди-
ниц и приходящаяся на них рента были бы одинаковыми во всех ис-
пользованиях. Кривая RR в терминах Маршалла называется «кривой
конкретных затрат» (particular expences curve), она упорядочивает еди-
ницы ресурса по возрастанию издержек их производства или их потре-
бительной ценности при альтернативном использовании (Маршалл
[1983], 1993, т. 3, с. 270-272, прим.). Разница между ценой или рентой
при данном использовании ресурса и соответствующей точкой на кри-
вой RR называется «производительским избытком» или «дифференци-
альной рентой». Суммируя, можно сказать, что если «рикардианская
рента» показывает разницу в рентных доходах на единицы ресурсов,
которые равноценны при использовании наилучшим образом, но име-
ют различную ценность при данном использовании, то «дифференци-
альная рента» есть премия за использование данным образом тех еди-
ниц, которые равноценны в настоящем качестве, но различаются при
использовании наилучшим альтернативным способом.
Здесь следует сделать небольшое отступление и заметить, что нашу
кривую RR не следует путать с возрастающей истинной кривой пред-
ложения (true supply curve), отражающей возрастающие предельные
издержки производства. В отличие от случая с кривой RR, площадь
между истинной кривой предложения и уровнем цены (пунктирной
линией) не соответствует ни названным выше видам ренты, ни «про-
изводительскому избытку». Площадь над истинной кривой предложе-
ния — это та часть доходов продавца, которая превышает переменные
издержки и идет на покрытие издержек, остающихся неизменными при
любом объеме выпуска (например, на покрытие инвестиционных за-
729
трат). Так как под кривой предельных издержек лежат лишь перемен-
ные издержки, то площадь над ней вовсе не представляет собой ника-
кого избытка ренты или продажной цены над полными издержками
производства каждой единицы блага. Иными словами, эта площадь
соответствует понятию дохода на капитал в классической модели, где
капитал играет роль постоянного, а труд — переменного фактора.
ВЫСОКИЕ РЕНТНЫЕ ПЛАТЕЖИ - ЭТО РЕЗУЛЬТАТ, А НЕ
ПРИЧИНА ВЫСОКИХ ЦЕН. Ранние исследования проблемы ренты,
к сожалению, запутались в аналитических построениях, в результате
возникло ошибочное представление, что высокая земельная рента при-
водит к вздорожанию продуктов земли. Так, высокая плата за землю в
Нью-Йорке считалась (и нередко до сих под считается) причиной вы-
сокой стоимости жизни или предпринимательской деятельности в этом
городе. Аналогично высокая рента за пользование сельскохозяйствен-
ными угодьями воспринимается как фактор, повышающий издержки
выращивания пшеницы на данном участке земли. Подобной ошибки
можно избежать, если точнее определить, что понимается под «спро-
сом» и «издержками». Спрос на некоторую единицу ресурса в данном
качестве соответствует максимальной потребительной ценности ресурса
при его использовании данным образом. Издержки использования ре-
сурса данным способом, напротив, соответствуют самому выгодному
из альтернативных способов его использования, от которого пришлось
отказаться. Таким образом, издержки использования любого ресурса в
данном месте — это его максимальная ценность, т.е. спрос на него в
другом качестве. Земельная рента высока при «данном» ее использо-
вании именно потому, что ценность использования того же участка
земли иным образом велика. Земельная рента в данном месте велика в
силу того, что потенциальные арендаторы, имея в виду ее высокую
потребительную ценность, конкурируют за использование этого участ-
ка. Именно поэтому рента оказывается высокой и превосходит цен-
ность земли при другом ее использовании. Продукт земли в данном
месте может быть продан дороже всего, и именно поэтому здесь за-
прашивают такую высокую ренту, даже если арендатор, предложивший
наивысшую ренту, считает, что за продукт надо запрашивать высокую
цену потому, что рента высока, а не наоборот. Таким образом, как и в
случае с любыми ресурсами, которые продаются и покупаются на рын-
ке, не ценность ресурса определяется рентой, а рента определяется
наивысшей потребительной ценностью ресурса при его использовании
данным образом. Вывод из такого рода анализа сформулировал Мар-
шалл в известном афоризме, приписанном им Рикардо: «Рента не яв-
ляется составной частью (денежных) издержек производства» (Marshall,
1890, р. 482).
Источником подобной путаницы и убежденности в том, что высо-
кий уровень земельной ренты приводит к повышению цен на выращен-
ные на ней продукты, возможно, послужило бы обстоятельство, что
пользователь дорогим ресурсом должен продать свой продукт по вы-
сокой цене, так как иначе он не сможет выплатить положенную ренту.
730
Те, кто хочет получить право пользоваться землей, услуги которой стоят
так дорого, вынуждены соревноваться друг с другом. В то же время для
того, кто выиграет в этой конкурентной борьбе, величина рентных
платежей окажется фиксированной и не будет зависеть от того, удаст-
ся ли ему в действительности использовать этот ресурс наиболее вы-
годным образом. По этой причине потенциальные пользователи зем-
лей действительно могут воспринимать ренту как фактор, однозначно
определяющий будущую цену готового продукта. Они не осознают, что
как раз большая потенциальная ценность этого участка позволяет тому,
кто лучше других способен распознать и использовать эту возможность,
предложить за землю наибольшую ренту.
ЗНАЧЕНИЕ РЕНТЫ. Некоторые исследователи на основании толь-
ко что описанного механизма конкуренции за «землю» делали вывод,
что рента бессмысленна с общественной точки зрения, так как земель-
ные ресурсы существовали бы и в отсутствие ренты. Тем не менее, вы-
сокая плата за землю как следствие конкуренции за право ее исполь-
зования на деле играет свою полезную роль: она показывает, какие
способы использования земли ценятся выше всего, и отводит земель-
ные ресурсы именно на эти цели. Если словом «земля» обозначить вся-
кий неразрушимый ресурс, предложение которого неизменно, то даже
теоретический стопроцентный налог на земельную ренту не в состоя-
нии был бы изменить ее предложение. Во всяком случае, так будет, если
только у собственника земельного участка останутся стимулы к выяв-
лению самого выгодного претендента, предложение которого и опре-
делит ренту. Правда, последнее утверждение будет справедливо, толь-
ко если наиболее выгодный способ использования земли каким-то об-
разом можно действительно определить и если налог взимается вне
зависимости от реальной ценовой конкуренции за право пользования
облагаемым ресурсом. Понятно, что эта предпосылка выглядит сомни-
тельной, если не откровенно ложной.
МОНОПОЛЬНАЯ РЕНТА. Под «монополией» мы будем понимать
любого продавца, чья способность к обогащению увеличивается бла-
годаря искусственным или умышленным ограничениям потенциальной
конкуренции, которые не были неизбежны при естественном стечении
обстоятельств. Примерами таких ограничений могут служить законы,
запрещающие конкуренцию на рынках белых вин, открытие новых
ресторанов или частной адвокатской практики. Сразу же следует под-
черкнуть, что из факта существования ограничений не вытекает, что
они безусловно нежелательны, — такое заключение было бы слишком
сильным. Тем не менее, возросшая способность к обогащению порож-
дает «монопольную ренту». Осознается ли она как прирост богатства
самим монополистом, зависит от величины издержек, связанных с со-
зданием таких ограничений. Борьба за обретение «монопольной рен-
ты» нередко перераспределяет часть самой ренты в пользу других лиц —
например, политиков, которые вводят эти ограничения. Эта часть,
в свою очередь, может распределяться между разными политиками,
731
конкурирующими за право занять положение, которое позволяет им ус-
танавливать такие привилегии. Занимаясь «соисканием ренты» (rent-
seeking), политики конкурируют друг с другом за обретение подобного
статуса, так как сама «монопольная рента» нередко тратится на пере-
купку ресурсов, позволяющих его добиться. Те, кому изначально уда-
лось успешно и с небольшими издержками обрести этот «монополь-
ный» статус, сами получают возможность быстро обогатиться — точно
так же, как удачливые первопроходцы в бизнесе получают немалый
куш, прежде чем поток их прибыли не окажется разделен между мно-
гочисленными конкурентами из числа опоздавших последователей.
БИБЛИОГРАФИЯ
Маршалл А. Принципы экономической науки. М.: Прогресс, 1993 (1983). Т. 1—3.
Рикардо Д. Основы политической экономии и налогового обложения. Сочине-
ния. М.: Госполитиздат, 1955.
Marshall A. Principles of economics. 1st edition. London. Macmillan, 1890.
КОНТРОЛЬ
НАД УРОВНЕМ ПЛАТЫ
ЗА ЖИЛЬЕ
Курт Клапхольц
Rent Control
Kurt Klappholz
Существует повсеместно распространенная практика назначения
правительственным органом максимальной платы, которую частные
домовладельцы могут взимать за жилье. Эта мера вводится в интересах
нанимателей жилья. В разделе I обосновывается тот тезис, что конт-
роль над уровнем платы за жилье способен защитить тех, кто уже сни-
мает жилье, но лишь при том условии, что он сопровождается допол-
нительными правовыми мерами. Так как эти меры различаются по
странам, а в пределах одной страны изменяются во времени, то дан-
ный тезис нельзя сформулировать более конкретно, — его можно лишь
проиллюстрировать на примерах. Однако при любой правовой систе-
ме контроль бессилен как-либо помочь потенциальным нанимателям
(за исключением ряда нестандартных ситуаций — например, таких,
когда домовладельцы ожидают, что ныне действующие ограничения
скоро будут отменены). В разделе II мы выясняем, почему контроль над
уровнем платы за жилье приводит к потерям экономической эффек-
тивности.
I. В тех главах учебников экономической теории, где обсуждается
проблема контроля над ценами на конкурентных рынках, обычно под-
черкивается, что установление максимальной цены бывает действен-
ным лишь тогда, когда установленный потолок оказывается ниже ры-
ночной цены. Это условие является необходимым, но не достаточным.
Предположим, что правительство провело закон, устанавливающий
плату за аренду жилья определенного типа, но не дополнило его ника-
кими другими правовыми нормами. Если землевладельцы не ожидают
дальнейших ужесточений законодательства, то принятие этого закона
принесет лишь временные плоды. Нынешние наниматели будут пла-
тить законодательно установленную невысокую плату до окончания
срока действия текущих договоров. Когда этот срок истечет, дальней-
шие действия домовладельцев будут зависеть от других положений за-
кона — например, от того, распространяется ли контроль на все дого-
воры об аренде жилья данного типа или только на те, которые заклю-
чены на момент введения контроля. Если под контроль подпадает
только плата нынешних нанимателей, то по истечении текущих дого-
733
воров им, видимо, будут предложены новые условия аренды по [более
высокой] рыночной ставке. В противном случае перед домовладельца-
ми открывается целый ряд возможностей, в том числе продажа жилья
в собственность нынешнему нанимателю, что лишает действенности
введенный контроль над арендной платой. Этих примеров достаточно,
чтобы показать, что само по себе установление потолка арендной пла-
ты ниже равновесного рыночного уровня не может гарантировать дей-
ственного контроля над ней. Чтобы обеспечить такой контроль, тре-
буются дополнительные меры.
Самой очевидной и распространенной из таких мер является вве-
дение наряду с потолком ренты права гарантированного пользования
(security of tenure), т.е. предоставление нанимателю права пользовать-
ся подпадающим под контроль жильем на протяжении всего срока дей-
ствия введенных ограничений при условии исправного внесения мак-
симально разрешенной арендной платы. (Впрочем, продолжительность
действия ограничений всегда трудно предсказать по политическим
причинам.)
Гарантированное пользование представляет собой неявную форму
рационирования — оно обессмысливает и делает юридически недей-
ствительными все сроки окончания ранее заключенных договоров арен-
ды. Если единственная цель контроля над уровнем арендной платы за-
ключается в защите нынешних нанимателей, то эта мера, дополненная
эффективной защитой от всевозможных вымогательств (Cullingworth,
1979, р. 68), оказывается достаточной, чтобы защитить их интересы за
счет домовладельцев. (Условие справедливости этого вывода уточняется
ниже в разделе II.)
Однако иногда законодательство о контроле над уровнем арендной
платы гарантирует пользование жильем и новым нанимателям (как,
например, в британском Законе об арендной плате за жилье 1965 г.).
В таком случае контроль оказывается не просто чрезвычайной мерой,
но и «долгосрочной политикой в отношении рынка частного аренду-
емого жилья» (Cullingworth, 1979, р. 67). К каким же еще последствиям,
кроме только что описанных, приводит такая политика? Ответить на
такой вопрос нельзя без дополнительной информации о законодатель-
ных нормах — в частности, о том, имеют ли домовладельцы право взи-
мать с новых нанимателей отдельную плату (задаток) при заключении
договора аренды. Если задатки разрешены, то контроль над уровнем
арендной платы не исключает сдачи жилья новым нанимателям по рав-
новесным рыночным ценам (предполагается, что домовладельцы не
ожидают ужесточения закона, которое будет иметь «обратную силу», —
например, потребуется вернуть ранее полученные задатки). Будут ли в
этом случае общие арендные платежи такими же, как и в отсутствие
контроля? В литературе встречается мнение, что общие платежи будут
одинаковыми в обоих случаях, так как величина задатков будет стре-
миться к «текущей дисконтированной стоимости разности между рав-
новесной рыночной арендной платой и ее законодательно установлен-
ным уровнем на протяжении всего периода действия ограничений»
(Cheung, 1979, р. 28). Однако такое утверждение, по-видимому, игно-
734
рирует два различия между этими случаями. Во-первых, потенциаль-
ным нанимателям будет нелегко получить кредит для выплаты задат-
ков: ведь договор аренды — «плохое» обеспечение, а если бы кредит
предоставлял сам домовладелец, то он не смог бы [на законных осно-
ваниях] выселить нанимателя за неуплату долга. Во-вторых, при лю-
бой величине задатка как издержки нанимателя, так и выгода домовла-
дельца будут тем меньше, чем больше срок аренды. В условиях гаран-
тированного пользования (см. ниже) ни одно соглашение о сроках
проживания не может быть реализовано (enforced). При этих условиях
домовладельцы легко поймут, что у нанимателей появляется стимул
искать жилье якобы на короткий период времени с тем, чтобы в дей-
ствительности остаться надолго. Наниматели также будут знать, что
если им захочется съехать раньше изначально оговоренного срока, то
им не избежать неприятных переговоров с домовладельцами (см. ниже,
раздел II). Эти стратегические соображения подсказывают, что в усло-
виях контроля часть взаимовыгодных сделок окажется блокированной,
и конечный результат будет не таким, как в той ситуации, когда про-
должительность аренды является предметом открытых переговоров.
Утверждалось также, что «писаный закон бессилен что-либо сделать с
практикой требования задатков, которую легко скрыть» (Cheung, 1979,
р. 28), однако и это общее утверждение не может быть признано ис-
тинным без всяких доказательств. Статутное право Великобритании
(сведенное в Законе о ренте в 1977 г., раздел 126), по всей видимости,
положило конец практике выдачи задатков при аренде жилья. Ведь если
исходить из того, что, несмотря на введенный запрет, практика задат-
ков сохранилась и рынок функционировал по-прежнему, то трудно
объяснить наблюдавшееся тогда сокращение предложения жилья
(см. ниже).
Итак, в отсутствие задатков домовладельцы не захотят заключать
новые договоры на сдачу в аренду жилья, подпадающего под контроль.
Учебники экономической теории (см., например: Le Grand and
Robinson, 1984, p. 9-99) не подчеркивают различного воздействия кон-
троля над арендной платой на нынешних и потенциальных нанимате-
лей, упуская тем самым из виду необходимый элемент, без которого
нельзя объяснить сокращение предложения нового арендуемого жилья.
Этот элемент — правовой статус гарантированного пользования для
лиц, нанимающих жилье в соответствии с законом (Baxter v. Eckersley
[1950], 480 at 485). К примеру, законодательство, действовавшее в Ве-
ликобритании в 1965-1980 гг., стимулировало существенное увеличе-
ние числа действительных и потенциальных нанимателей жилья. По
тогдашним законам новый арендатор, сам пожелавший платить более
высокую, чем разрешало законодательство, арендную плату и добро-
вольно отказаться от права гарантированного пользования, не мог пре-
доставить домовладельцу никакой юридически закрепленной гаран-
тии выполнения этих обещаний, так как закон давал нанимателям
юридически неотчуждаемую защиту. В этих условиях домовладелец,
сдавший жилье в аренду, должен был полагаться исключительно на
устное обещание арендатора. Если к тому же правовая защита новых
735
и старых нанимателей одинакова (как это было в Великобритании), то
в общем случае потенциальные арендаторы просто не найдут себе жи-
лья, Отмечалось, что «если бы долгосрочной целью жилищной поли-
тики было устранение частных домовладельцев как таковых, то следу-
ет признать, что на этом пути Великобритания достигла замечательных
успехов» (Cullingworth, 1979, р. 73).
Кроме того, не следует забывать о том, что все люди смертны, и это
в полной мере относится как к нынешним нанимателям, так и к на-
следникам их прав на аренду. Когда дома наконец освободятся, домо-
владельцы не будут искать новых жильцов, а скорее используют их как-
то иначе — например, будут жить в них сами. Поэтому в долгосрочной
перспективе (которая в данном случае и вправду может оказаться весь-
ма длительной) жилье, подпадающее под контроль над уровнем аренд-
ной платы, станет исчезать с рынка. Как видим, такой контроль ско-
рее наносит ущерб потенциальным нанимателям, чем защищает их
интересы (Whitehead and Kleinman, 1986, ch. 6).
Следует также упомянуть о соображениях справедливости и о кон-
ституционной правомочности подобных мер контроля над уровнем
арендной платы. Крайне маловероятно, что перераспределение богат-
ства, вызванное контролем над уровнем ренты, соответствовало бы хоть
какому-то разумному критерию справедливости (Friedman, 1985, р. 460).
Кроме того, такое перераспределение никак не отражается в государ-
ственном бюджете и не рассматривается в явном виде законодателя-
ми.
II. Помимо перераспределительных эффектов, о которых говорилось
в разделе I, контроль над уровнем арендной платы сказывается и на
эффективности экономической деятельности. Одно из подобных след-
ствий вытекает из сказанного в предыдущем разделе — жилье стано-
вится недоступным для новых нанимателей, которые сняли бы его, если
бы уровень арендной платы не контролировался. Величина таких по-
терь благосостояния зависит от того, найдутся ли у подпадающего под
контроль жилья близкие заменители, остающиеся вне сферы контро-
ля, — а это, в свою очередь, определяется тем, какие типы жилья под-
падают под ограничения. К примеру, в Великобритании с 1965 до
1974 г. контроль над уровнем арендной платы с полными гарантиями
пользования распространялся только на немеблированное жилье, и по-
этому обставленные дома и квартиры оставались доступными для но-
вых нанимателей. В 1974 г. эта законодательная защита была распро-
странена и на арендаторов меблированного жилья, что привело к впол-
не предсказуемому результату (Maclennan, 1978; Cullingworth, 1979,
р. 71—72). Естественно предположить, что и потери благосостояния в
результате увеличились. О причинах устойчивости этой неэффектив-
ности уже говорилось в разделе I.
Другие нарушения эффективности, которые принято относить на
счет контроля над уровнем арендной платы, можно без остатка разде-
лить на два типа. Одни из них связаны с неэффективной аллокацией
имеющегося жилья, классическим примером которой могут служить
736
нежелание «прижившихся» нанимателей освобождать квартиру и из-
лишки жилой площади, приходящейся на одного арендатора (Olsen,
1972, р. 1096-1097); другие связаны с плохим содержанием жилого фон-
да, включая реконструкцию домов. Хотя существование этих явлений
уже давно приписывается контролю над уровнем арендной платы
(см.: Rent Control, 1975), лишь в последнее время в экономической
науке утвердились концепции, позволяющие объяснить их причины.
Эти концепции связывают законотворчество (например, контроль над
уровнем арендной платы) с порожденными им изменениями в правах
собственности и трансакционных издержках.
В разделе I мы уже видели, что установление контроля над уров-
нем арендной платы, по сути, означает введение налога на капитал для
нынешних арендодателей и предоставление субсидии тем, кто в насто-
ящее время снимает жилье. Почему же такое неожиданное благодея-
ние, снизошедшее на нанимателей, приводит к вышеупомянутым по-
терям эффективности; почему оно должно препятствовать полной ре-
ализации всех потенциальных выгод от будущих сделок? К примеру,
было подсчитано, что потери домовладельцев Нью-Йорка вследствие
введения контроля над уровнем арендной платы в 2 раза превысили
выгоды, полученные нанимателями жилья (Olsen, 1972). Но что же
помешало устранить такое проявление неэффективности? Казалось бы,
нынешние наниматели вполне могли сдать квартиры в субаренду тем
желающим, которые готовы платить за них больше, или, на худой ко-
нец, за некоторую плату договориться с домовладельцами об освобож-
дении занимаемого жилья, с тем чтобы последние могли использовать
его с большей выгодой?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, какие стимулы
для потенциальных участников подобных сделок создает контроль над
уровнем арендной платы, дополненный правом гарантированного
пользования. А для этого, в свою очередь, надо рассмотреть конкрет-
ные правовые нормы, содержащиеся в законодательстве (Cheung, 1974,
1975, 1979).
На первый взгляд непонятно, почему контроль над уровнем аренд-
ной платы должен мешать перераспределению арендуемого жилья от
нынешних к потенциальным нанимателям, если последние готовы за-
платить первым определенную премию. Механизм такой передачи уже
был рассмотрен в разделе I. Однако для этого нужно, чтобы закон раз-
решал нынешним нанимателям принять предложенные им деньги, —
к примеру, в Великобритании это отнюдь не так (Farrell v. Alexander
[1977]). С другой стороны, предполагается, что нынешние наниматели
имеют право сдать снимаемое жилье в субаренду без согласия домовла-
дельца, а это условие также редко соблюдается на практике (Friedman,
1985, р. 460). Если же такое согласие требуется, то дележ полученных
премий между домовладельцами и нанимателями не зависит от рыноч-
ных условий, а определяется в ходе двустороннего торга, что увеличи-
вает издержки достижения соглашения, устраивающего всех. Можно
заметить, что с точки зрения эффективности как таковой было бы же-
лательно, чтобы домовладельцы не имели права отказать нанимате-
737
лям в сдаче жилья в субаренду более выгодным арендаторам, — при том,
разумеется, что сами нынешние наниматели имеют право принять
предложенные премии.
Освобождение жилья нынешними нанимателями ничуть не умень-
шит издержек торга между ними и домовладельцами. Будет ли наблю-
даться систематическое смещение в использовании жилья? Это зави-
сит от того, как правовые нормы влияют на те составные элементы
трансакционных издержек, которые не входят в издержки торга
(bargaining). Рассмотрим такой пример: если гарантированное пользо-
вание является юридически неотчуждаемым правом нанимателя, то
домовладелец не может составить контракт, обязывающий того за не-
которую компенсацию освободить помещение. Напротив, если домо-
владелец захочет продать жилье в собственность нанимателю, то в этой
сделке не будет ничего необычного. Однако ничто не мешает домовла-
дельцам предложить нанимателям вознаграждение за то, что те осво-
бодят жилье, с тем чтобы выплату этого вознаграждения произвел его
будущий пользователь и только после того, как нынешний наниматель
освободит помещение. Все эти соображения не подводят ни к каким
общим выводам: по-видимому, будущее использование жилья будет
зависеть от конкретных обстоятельств.
Обращаясь к неэффективности второго типа, также уместно задать-
ся вопросом: почему контроль над уровнем арендной платы вообще
должен ее порождать? Когда речь заходит о неоптимальном содержа-
нии жилья, то в ответ часто можно услышать, что домовладельцы «не
могут себе позволить» в должном состоянии поддерживать собствен-
ность, арендная плата с которой находится под контролем. Однако та-
кой ответ не может считаться удовлетворительным (Ricketts, 1981,
р. 509). Подобающее объяснение состоит в том, что домовладельцы, без-
условно, лишаются всяких стимулов содержать свою собственность в
лучшем состоянии, чем то, за которое наниматель только-только со-
гласен заплатить арендную плату на контролируемом уровне. На самом
деле домовладелец вполне может быть заинтересован в том, чтобы его
собственность приходила в упадок и разрушалась до тех пор, пока на-
ниматель не съедет по своей воле, что даст хозяину возможность про-
дать дом тому, кто будет жить в нем сам. Доведение дома до такого
состояния, конечно, может быть запрещено законодательно (Ricketts,
1981, р. 511).
Однако это не объясняет, почему наниматели не могут взять под-
держание дома в надлежащем состоянии на себя, — ведь естественно
предположить, что это должно повысить их благосостояние. Тут снова
следует вспомнить тот факт, что в условиях контроля над уровнем
арендной платы и гарантированного пользования права собственнос-
ти как нанимателей, так и домовладельцев специфицированы менее
четко, чем в отсутствие таких ограничений. Поэтому инвестиции на-
нимателей в благоустройство дома оказываются более рискованными,
чем аналогичные инвестиции домовладельцев при отсутствии контро-
ля. Отсюда вытекает, что этот контроль способен даже ухудшить благо-
состояние нынешних нанимателей (Ricketts, 1981, р. 507-510).
738
Наконец, рассмотрим проблему перестройки здания. Если закон
обязывает домовладельцев предоставлять нанимателям жилье не хуже
установленного властями стандарта, то в принципе может случиться
так, что домовладельцы сочтут перестройку дома более выгодной, чем
его ремонт. Однако на практике этого, по всей видимости, не проис-
ходит — домовладельцы перестраивают дома в тех случаях, когда это
позволяет вывести их из-под контроля над уровнем арендной платы
(Cheung, 1975). Способны ли юридические нормы, содержащиеся в
соответствующем законодательстве, воздействовать на решения домо-
владельцев о перестройке зданий? Рассмотрим лишь две из таких воз-
можных норм: а) если домовладелец может доказать, что он должен
перестраивать здание, то он имеет право выселить нанимателей, аренд-
ные платежи которых подпадают под контроль, безо всякой компен-
сации (такая норма на протяжении некоторого времени действовала в
Гонконге — Cheung, 1975); б) домовладелец не вправе выселить нани-
мателей для перестройки здания, не предложив им «равноценного по
качеству» жилища (такими правами с 1965 г. пользовались нанимате-
ли жилья в Великобритании — Hill and Redman’s, 1976, р. 824-827; 899).
Казалось бы, очевидно, что в условиях действия нормы а) перестрой-
ки здания не просто будут происходить чаще, чем в условиях нормы
б), но и окажутся избыточными. К такому заключению подталкивает
то соображение, что в первом случае частная выгода домовладельца
превышает общественную, так как частная выгода включает отмену
перераспределения благосостояния в пользу нанимателя, осуществля-
ется в рамках контроля над уровнем арендной платы. Правда, такой
вывод не вполне обоснован, поскольку он не учитывает стимулов на-
нимателя к подкупу домовладельца, с тем чтобы тот не перестраивал
здание без необходимости. Тем не менее, даже с учетом этого обстоя-
тельства первоначальный вывод, пусть и не полностью обоснованный,
все же не теряет значения. Ведь с учетом издержек двусторонних тор-
гов с нанимателями частная выгода домовладельцев от перестройки
зданий все равно, вероятно, превысит общественную (Cheung, 1975).
Напротив, условия б), видимо, приводят к обратным последствиям, так
как на домовладельцев, кроме всего прочего, возлагаются издержки
определения «равноценности» качества нового жилья.
БИБЛИОГРАФИЯ
Baxter v. Eckersley. [1950] 1 КВ 480.
Cheung, S. N. S. 1974. A theory of price control. Journal of Law and Economics 17,
April, 53-71.
Cheung, S. N. S. 1975. Roofs or stars: the stated intents and actual effects of a rent
ordinance. Economic Inquiry, April, 1—21.
Cheung, S. N. S. 1979. Rent control and housing reconstruction: the postwar
experience of prewar premises in Hong Kong. Journal of Law and Economics 22,
April, 27-53.
739
Cullingworth, J. В. Essays on Housing Policy. London: George Allen & Unwin.
Fartell v. Alexander. [1977] All E. R. 721, H. L. (E.).
Friedman, L. S. 1985. Microeconomic Policy Analysis. New York and London:
McGraw-Hill.
Hill and Redman’s Law of Landlord and Tenant. 16th edn, London: Butterworths,
1976.
Le Grand, J. and Robinson, R. 1984. The Economics of Social Problems. 2nd edn,
London: Macmillan.
Maclennan, D. 1978. The 1974 Rent Act — some short run supply effects. Economic
Journal 88, June, 331—40.
Olsen, E. O. 1972. An econometric analysis of rent control. Journal of Political
Economy 80, November — December, 1081-1100.
Rent Act 1977. London: HMSO.
Rent Control — A Popular Paradox. 1975. Ed. F. A. Hayek et. al., Vancouver: Fraser
Institute.
Ricketts, M. 1981. Housing policy: towards a public choice perspective. Journal of
Public Policy, October, 501—22.
Whitehead, С. M. E. and Kleinman, M. P. 1986. Private Rented Housing in the 1980s
and 1990s. Cambridge, University of Cambridge Deparment of Land Economy,
Occasional Paper 17.
СОИСКАНИЕ РЕНТЫ
Гордон Таллок
Rent Seeking
Gordon Tullock
Хотя термин «соискание ренты» ввела в научный оборот Энн Крю-
гер (Krueger, 1974), соответствующая теория к тому времени уже была
разработана (см.: Tullock, 1967). В самом простом виде основную ее
идею можно проиллюстрировать с помощью рис. 1. По оси абсцисс,
как обычно, откладывается объем продаж некоторого товара, по оси
ординат — его цена. В конкурентных условиях прямая РР характери-
зует уровень издержек, а также цену. С учетом кривой спроса DD по
этой цене будет продано количество Q товара. Если бы в отрасли воз-
никла монополия, объем продаж составил бы Q' при цене Р'.
Традиционная теория монополии утверждает, что чистые потери
благосостояния общества равны площади заштрихованного треуголь-
ника, представляющего потребительский избыток, который мог бы
возникнуть в случае приобретения количества товара, равного разно-
сти между Q и Q', т.е. того количества, на которое в условиях монопо-
лии сокращается объем производства и продаж. При этом площадь зак-
рашенного прямоугольника традиционно рассматривается просто как
объем трансферта благосостояния от потребителей к монополисту.
Поскольку и потребители, и монополист являются членами одного и
того же общества, данный трансферт не ведет к снижению благосо-
стояния общества в целом.
Этот довод часто раздражает изучающих основы экономической
теории (поскольку они не любят монополистов); тем не менее, до по-
явления работ, посвященных соисканию ренты, большинство эконо-
мистов считали его правильным. Однако ключевая проблема, с ним
связанная, заключается в следующем: оно опирается на предположе-
ние, что создание монополии не требует издержек, что она возникает
как бы по Божьей воле. В то же время на практике создание монопо-
лий требует использования реальных ресурсов.
Большая часть дискуссий по проблеме соискания ренты обычно
велась вокруг тех монополий, которые создаются государством или
получают от него поддержку. Это, возможно, обусловлено тем, что та-
кие монополии являются наиболее распространенными и устойчивы-
ми. Однако следует иметь в виду, что возможен вариант создания и
полностью частных монополий, — некоторые из них реально существу-
ют. Концентрацию внимания на монополиях, созданных государством
(или на различного рода государственных ограничениях, ведущих к
741
повышению доходов определенного контингента лиц), следует, по-ви-
димому, признать целесообразной, если принять во внимание широ-
кое распространение соответствующих феноменов в наши дни. Вмес-
те с тем, как мы указываем ниже, имеются также определенные важ-
ные сферы, в которых стремление частных лиц к извлечению ренты
приводит к снижению благосостояния общества.
В основополагающих работах Г. Таллока и Э. Крюгер предполага-
лось, что бизнесмен, стремящийся к получению прибыли, готов за-
трачивать свои ресурсы, чтобы установить монополию (независимо от
того, связана ли она только с частными действиями или с государ-
ственной поддержкой) до тех пор, пока последний доллар, инвести-
руемый на достижение этой цели, не будет приносить в точности один
доллар прибыли за счет увеличения вероятности установления моно-
полии. Отсюда вытекает, что объем расходов на установление моно-
полии будет соответствовать всей площади закрашенного прямоуголь-
ника (рис. 1). Хотя против указанного предположения могут быть вы-
двинуты возражения (см.: Tullock, 1980), мы до настоящего времени
продолжаем исходить из того, что в реальности речь идет не о транс-
ферте благосостояния от покупателей к монополисту, а о чистых по-
терях от непроизводительного использования ресурсов, т.е. их расхо-
дования на деятельность по созданию определенных ограничений,
производительность которой отрицательна. Существуют теоретичес-
кие основания считать, что данное предположение, возможно, не все-
гда является безусловно справедливым, однако оно с одинаковой ве-
роятностью может как переоценивать, так и недооценивать общест-
742
венные потери благосостояния; ниже данный вопрос рассматривает-
ся подробнее.
Афоризм, часто используемый в литературе о соискании ренты,
гласит: «Создание монополий является конкурентной отраслью». В свя-
зи с этим можно ожидать, что в любой конкретный момент времени
достаточно большое число людей будет инвестировать, по крайней
мере, некоторое количество ресурсов на деятельность, направленную
на обеспечение монопольного статуса, которая не всегда окажется ус-
пешной. Здесь можно провести аналогию с лотереей, когда большое ко-
личество людей покупает лотерейные билеты и лишь немногие из них
выигрывают, в то время как остальные остаются в большем или мень-
шем проигрыше, размер которого зависит от того, сколько средств было
вложено в покупку билетов. Разумеется, почти во всех известных ло-
тереях совокупный объем средств, вложенных игроками, намного пре-
вышает общую сумму выигрышей, в то время как в нашем случае пред-
полагается, что общая сумма ресурсов, израсходованных на соискание
ренты, равна сумме монопольной прибыли.
Таким образом, деятельность по созданию монополий может тре-
бовать затраты очень большого количества ресурсов — особенно тех
ресурсов, которые принимают форму услуг исключительно талантли-
вых людей, посвящающих свои усилия этой трудной, но сопряженной
с высоким вознаграждением задаче, и в то же время ведет к существен-
ному перераспределению богатства в рамках общества. Предположим,
что в Вашингтон прибывают десять лоббистов, представляющих инте-
ресы десяти различных ассоциаций, причем каждый из них на протя-
жении двух лет расходует по миллиону долларов в надежде побудить
Конгресс предоставить соответствующей ассоциации монопольный
статус. Лишь один из этих лоббистов добьется цели, поэтому дискон-
тированная стоимость монополии окажется равной 10 млн дол. Оче-
видно, что имеет место значительное перераспределение ресурсов от
лоббистов-неудачников к лоббисту, деятельность которого увенчалась
успехом.
Данное перераспределение происходит одновременно со значитель-
ной совокупной растратой ресурсов: во-первых, участвующие в лобби-
ровании высококвалифицированные специалисты могли бы при прочих
равных условиях заниматься более производительной деятельностью;
во-вторых, создание монополии вносит дополнительные диспропорции
в использование ресурсов в рамках экономики. Более того, хотя до сих
пор дискуссия велась главным образом о монополии, на деле очень
многие виды вмешательства в рыночные процессы приводят к возник-
новению аналогичной проблемы. Простое установление верхних или
нижних границ изменения цен может приводить к широкомасштабно-
му перераспределению доходов, и индивиды, интересам которых оно
служит, могут направлять на лоббирование соответствующих меропри-
ятий большое количество ресурсов. Разумеется, существует множество
случаев, когда один лоббист стремится к введению какого-либо огра-
ничения на рыночную деятельность, а другой лоббист препятствует
этому. Применительно к деятельности второго рода иногда употребляют
743
термин «предотвращение ренты», однако она также сопряжена с рас-
ходомресурсов и, несомненно, не осуществлялась бы, если бы отсут-
ствовала деятельность по соисканию ренты.
Другая ситуация относится к простым прямым трансфертам. Взи-
маемый с субъекта А налог, поступления от которого планируется пе-
редать субъекту В, обусловливает лоббистскую деятельность в пользу
налога со стороны В и против налога со стороны А. Общая сумма ре-
сурсов, потраченная обоими субъектами в процессе лоббистской дея-
тельности, вполне может быть равна совокупной сумме трансферта
(или сумме, трансферт которой удастся предотвратить), хотя, разуме-
ется, тот или другой из этих лоббистов окажется в выигрыше, если его
усилия окажутся успешными. Предположим, что субъект А инвестирует
50 дол. на лоббирование в пользу трансферта в сумме 100 дол. от В, в то
время как В инвестирует 50 дол. на лоббирование против соответству-
ющего трансферта. Вне зависимости от исхода борьбы лоббистов один
из них получит выигрыш в размере 50 дол.; потери же общества соста-
вят 100 дол.
Естественно, не все субъекты в обществе обладают одинаковой спо-
собностью к соисканию ренты. Одним группам субъектов, имеющих
общие интересы, легче организовать свои усилия, чем другим; мы мо-
жем ожидать, что именно первой категории групп будет сопутствовать
успех. Однако число групп интересов очень велико; любой, кто прове-
дет некоторое время в Вашингтоне, может убедиться, что там функ-
ционирует крупная «отрасль», специализирующаяся именно в данной
сфере.
В то же время совокупный объем общественных издержек, с ней
связанных, во много раз превышает издержки функционирующих в
Вашингтоне лоббистских организаций. В частности, группы, занима-
ющиеся соисканием ренты, обычно осуществляют производительную
деятельность таким образом, что она не отвечает критериям рыночной
эффективности; это обусловлено необходимостью прибегнуть к обма-
ну в процессе перераспределения. В 1937 г., когда было организовано
Управление гражданской авиации США, с политической точки зрения
не представлялось возможным ввести налог на покупателей авиацион-
ных билетов с целью использования полученных средств для выплаты
дивидендов акционерам авиакомпаний. Однако политически возмож-
ным оказалось ввести правило, обеспечивающее аналогичный объем
трансфертов, но ведущее к гораздо более высокому уровню издержек
пользователей авиалиний в расчете на каждый доллар дополнительной
прибыли владельцев авиакомпаний. Необходимость использования
неэффективных методов для осуществления трансфертов потенциаль-
ным реципиентам, обусловленная чересчур открытым и «откровенным»
характером эффективных методов, часто является одним из главным
источником издержек, связанных с соисканием и извлечением ренты.
Задача лоббиста, ориентированного на «предотвращение ренты», была
бы очень простой, если бы рассматриваемое предложение предусмат-
ривало введение налога на пользователей авиалиний в интересах вла-
дельцев авиакомпаний.
744
Отметим, что в данном случае доводы против соискания ренты на-
правлены также и против политической коррупции. Предположим, что
в обществе действует система валютного контроля, при которой ино-
странную валюту можно приобрести путем подкупа чиновника орга-
низации, отвечающей за проведение мер валютного контроля в жизнь.
Ситуация такого рода рассматривается в работе Э. Крюгер (Krueger,
1974), которой удалось определить общий объем соответствующих из-
держек применительно к Турции и Индии, где суммы взяток, необхо-
димых в описанных случаях, хорошо известны. Данные издержки на-
ходились в пределах от 7 до 15% общей суммы сделок с валютой.
Традиционно экономисты рассматривали взяточничество такого
рода как желательный вид деятельности, поскольку оно позволяет обой-
ти «нежелательные» ограничения. Однако оно порождает соискание
ренты. В данном случае эта деятельность связана не с борьбой претен-
дентов за получение разрешений на приобретение валюты, а с борьбой
претендентов на получение должности, позволяющей брать взятки.
Повсеместно в развивающихся странах большое число людей получа-
ет достаточно высокое образование в сферах, которые не имеют ника-
кого практического значения с точки зрения их последующей жизни,
и совершают длительные и сложные политические маневры в надежде
получить назначение, скажем, на должность таможенного инспектора
в Бомбее. Поскольку молодые люди имеют возможность свободно вы-
бирать свою будущую карьеру, ожидаемая отдача от карьеры, описан-
ной выше, вероятно, окажется эквивалентной отдаче от любой другой
карьеры. Разница состоит в том, что, к примеру, врач начинает зара-
батывать деньги непосредственно по окончании медицинского учеб-
ного заведения, в то время как молодой человек, который изучал эко-
номику и теперь пытается получить назначение на должность таможен-
ного инспектора, на протяжении длительного периода времени не
получит этой должности. Действительно, кандидатов на эту должность
может оказаться столько, что шансы получить ее будут оцениваться как
один к пяти. Совокупные издержки соискания ренты будут включать
в себя неадекватное образование и «политические маневры» пяти кан-
дидатов, лишь один из которых получит желаемую должность
До настоящего времени мы предполагали, что совокупные издерж-
ки соискания ренты равны дисконтированному потоку доходов, пред-
ставленному на рис. 1 закрашенным прямоугольником. Это предпола-
гает определенную форму функции «производства» монополии или
других привилегий. Она должна быть линейной, т.е. каждый инвести-
рованный доллар должен обеспечивать такой же прирост вероятности
установления монополии, как и предыдущий (Tullock, 1980). Большин-
ство же производственных функций являются нелинейными и преду-
сматривают возрастание или убывание удельных издержек.
Если организация частных монополий или воздействие на правитель-
ство с целью получения от него монопольных прав связаны с отрица-
тельной экономией от масштаба, тогда совокупные инвестиции в соис-
кание ренты будут меньше, чем совокупный объем извлекаемых рент,
даже в том случае, если мы предположим наличие совершенно конку-
745
рентного рынка с полностью свободным доступом на него. В случае
положительной экономии на масштабах результат оказывается еще бо-
лее необычным: равновесие либо отсутствует вовсе, либо имеет место
псевдоравновесие, когда совокупный объем инвестиций, направленных
на извлечение ренты, превышает собственно объем рент. Термин «псев-
доравновесие» используется в связи с тем, что, несмотря на соблюдение
всех математических условий равновесия, было бы, очевидно, абсурд-
ным предполагать, что люди согласились бы, к примеру, платить 75 дол.
за возможность выиграть 100 дол. с вероятностью 50%.
В связи с этим очевидно, что существует потребность в эмпиричес-
ких исследованиях, направленных на измерение параметров производ-
ственных функций извлечения ренты. До настоящего времени, одна-
ко, никому не удалось разработать адекватные методы решения этой
задачи. Представляется вероятным, что измерить издержки политичес-
кого воздействия было бы легче, чем издержки установления частной
монополии, поскольку значительная часть издержек, обусловленных
воздействием на решения правительства, отражается на различных бух-
галтерских счетах. Издержки по установлению частной монополии,
в свою очередь, гораздо легче скрыть. Однако это не означает, что они
отсутствуют.
Читатель, несомненно, пребывает в недоумении относительно того,
что плохого в существовании рент и почему мы столь глубоко рассмат-
риваем проблему соискания ренты. Ответ на этот вопрос состоит в том,
что сам термин является довольно неудачным. Разумеется, мы не име-
ем ничего против ренты, если ее возникновение обусловлено, скажем,
разработкой лекарства от рака и получением на него патента. Равным
образом мы не возражаем против того, чтобы популярные представи-
тели шоу-бизнеса типа Майкла Джексона получали огромные рентные
доходы за достаточно редкий набор личных качеств в сочетании с боль-
шими усилиями, направленными на создание собственного человечес-
кого капитала. С другой стороны, мы возражаем против того, чтобы
путем установления квот на импорт автомобилей их производитель
увеличивал ренту, получаемую со своей собственности, а его работни-
ки увеличивали ренту, связанную с членством в соответствующем про-
фессиональном союзе. Все перечисленные выше доходы носят харак-
тер экономических рент, однако, строго говоря, термин «соискание
ренты» применим только к двум последним случаям. Его значение
может быть распространено только на стремление к получению рент-
ных доходов от видов деятельности, которые сами по себе носят де-
структивный характер. Человек, ведущий поиск лекарства от рака, за-
нимается деятельностью, которая, безусловно, не является деструктив-
ной с точки зрения общества. Таким образом мы видим, что существует
континуум видов деятельности, непосредственно направленных на
получение доходов рентного характера, однако термин «соискание рен-
ты» применяется только к части этого континуума.
Анализ соискания ренты в последние годы был одним из наиболее
перспективных направлений экономической теории. Понимание того,
что объяснение общественных издержек монополии, содержащееся
746
практически во всех учебниках экономической теории, является лож-
ным или как минимум очень неполным, оказалось достаточно неожи-
данным. Для исправления этой ошибки необходим пересмотр многих
разделов экономической теории. Возникла потребность также в пере-
смотре взглядов на историю. Тот факт, что Дж.Г[. Морган на протя-
жении почти всей своей жизни занимался организацией картелей и
монополий, достаточно хорошо известен, так же, как и факт, что он
получал очень большие доходы от такого рода деятельности, — дохо-
ды, которые составляют часть издержек соискания ренты, связанной с
установлением этих монополий. Можно утверждать, что, содействуя
стабильности банковской системы, Морган более чем компенсировал
Соединенным Штатам сумму общественных издержек своей монопо-
листической деятельности в промышленности. Однако очевидно, что
издержки соискания ренты были очень высоки. Эти издержки являются
дополнением к «балласту» издержек, связанных с функционировани-
ем монополий.
На сегодняшний день исследования по проблематике соискания
ренты существенно изменили наши представления об экономической
реальности. Теперь мы говорим о существенной части государствен-
ной деятельности как о соискании ренты со стороны тех или иных
субъектов. Нам было известно, что существуют группы интересов, од-
нако традиционно мы серьезно недооценивали издержки, обусловлен-
ные их деятельностью, поскольку внимание обращалось только на «бал-
ласт» издержек, связанных с вносимыми в экономику диспропорция-
ми. Осознание того, что реальный размер общественных издержек
намного больше, что широкомасштабную деятельность индустрии лоб-
бирования действительно следует рассматривать как один из крупней-
ших источников общественных издержек, является новым, хотя, веро-
ятно, во все времена каждый, кто задумывался над данной проблемой,
должен был понимать, что занятые в этой отрасли высокоодаренные
люди могли бы принести больше пользы, если бы занимались каким-
либо другим видом деятельности.
БИБЛИОГРАФИЯ
Buchanan J., Tollison R. and Tullock G. (eds.). Toward a Theory of the Rent-Seeking
Society. College Station, Texas: Texas A and M University Press, 1980.
Krueger A.O. The Political Economy of the Rent-Seeking Society // American
Economic Review, 1974, vol. 64, p. 291—303.
Tullock G. The Welfare Cost of Tariffs, Monopolies, and Theft // Western Economic
Journal (now Economic Inquiry), 1967, vol. 5, p. 224-232.
Tullock G. Efficient Rent Seeking. In: Buchanan J., Tollison R. and Tullock G. (eds),
p. 91-112.
747
РИТОРИКА
Дональд Н. Макклоски
Rhetoric
Donald N. McCloskey
Под риторикой понимаются изучение и применение убеждающих
формулировок и выражений, являющиеся со времен Древней Греции
альтернативой философской программе эпистемологии. Риторика эко-
номической науки занимается исследованием вопроса о том, как эко-
номисты убеждают, — речь идет не о том, как они (или их официаль-
ные методологии) это описывают, а о том, как в действительности они
убеждают политиков, студентов или своих же коллег принять одну те-
орию и отвергнуть другую.
Некоторые их риторические приемы проистекают не из самых луч-
ших намерений, и именно такого рода риторику имеют в виду боль-
шинство людей, которые характеризуют то или иное произведение
письменного жанра как риторическое. Примером могут служить неуме-
стные и неаккуратные нападки на политические взгляды Милтона
Фридмена в процессе критики его экономических теорий, а также бе-
столковое и запутывающее использование математических методов в
экономике труда. Дело в данном случае не в самих методах (полити-
ческих комментариях или математическом инструментарии), а в ис-
пользующей их личности — любым методом можно при желании зло-
употребить. Еще Аристотель отметил, что «если возражать против ис-
кусства речи на том основании, что, используя его во зло, можно
причинить большой вред, то такой аргумент можно применить против
всего хорошего в мире, за исключением самой добродетели». Катон-
старший требовал, чтобы исследователь, прибегающий к аналогиям
(в наше время — к регрессии), непременно был vir bonus dicendi
peritus — достойный муж и искусный оратор. Защитой от дурной на-
уки служат хорошие ученые, а не хорошая методология.
Следовательно, и риторика может быть доброкачественной, созда-
вая уверенность, например, в том, что эластичность замещения между
трудом и капиталом в американской обрабатывающей промышленно-
сти равна, скажем, единице. Хорошие аргументы не исчерпываются
числами и силлогизмами. Они также включают аналогию (производ-
ство в точности подобно математической функции), ссылку на автори-
тет (Кнут Викселль и Пол Дуглас тоже так считали), обращение к сим-
метрии (если добывающая промышленность рассматривается как про-
изводственная функция, то же можно сделать и с обрабатывающей
промышленностью). Более того, использование силлогизмов и цифр
748
является само по себе риторическим, т.е. относится к способам убеж-
дения, принятым в человеческой речи. Эконометрическая проверка
зависит от того, насколько уместна аналогия между вектором ошибок
и случайным доставанием шаров из урны. Математическое доказатель-
ство может зависеть от того, насколько убедительным окажется обра-
щение к авторитету типа Бурбаки. «Факты» и «логика», разумеется,
имеют значение, но они сами являются элементами риторики и зави-
сят от наличия хороших аргументов.
Рассмотрим, к примеру, следующую фразу: «Кривая спроса наклоне-
на вниз». Официальная риторика говорит, что экономисты верят в это
благодаря статистическим подтверждениям приведенного факта (отрица-
тельные коэффициенты в функции спроса на чугун или отрицательные
диагональные элементы матрицы спроса на все товары), постепенно на-
капливающимся в различных научных журналах. Это и есть проверки,
подтверждающие гипотезу. Однако в большинстве случаев вера в гипоте-
зы проистекает из других источников: интроспекции (что бы я сделал?),
мысленных экспериментов (что бы сделали другие?), исключительных и
не поддающихся контролю случаев (примером служит нефтяной кризис),
авторитета других исследователей (Альфред Маршалл был в этом уверен),
симметрии (закон спроса как отражение закона предложения), определе-
ний (более высокая цена оставляет меньше возможностей для траты де-
нег, в том числе и на данный товар), аналогий (если кривая спроса на
жевательную резинку наклонена вниз, почему то же самое не должно быть
верно для кривых спроса на жилье или любовь?). На любом семинаре
нетрудно показать, что спектр аргументации в экономической науке го-
раздо шире, чем предполагает официальная риторика.
Область исследования под названием «риторика экономической
науки» применяет традиции риторики к изучению экономической ли-
тературы независимо от того, насколько математизирована последняя.
Фактически она означает литературную критику экономической на-
уки или суд над ней. Вот почему так многое можно почерпнуть из
работ литературных критиков, как Уэйн Бут (Booth, 1974), или адво-
катов, как Хаим Перельман (Perelman, 1958). В качестве предшествен-
ников можно назвать ее методологическую критику экономической
науки, (см.: Knight, 1940), профессиональный юмор самих экономис-
тов (Stigler, 1977) и предостерегающие речи президентов экономичес-
ких ассоциаций (таких, как Леонтьев или Майер, — см.: Leontief, 1971;
Mayer, 1975). Сама же работа в области риторики была в основном
сконцентрирована на выяснении того, каким образом экономисты (не-
зависимо от того, хорошо это или плохо) стремятся убедить свою ауди-
торию (см.: Klamer, 1984; Henderson, 1982; Kornai, 1983; McCloskey,
1986). У эконометрики была своя риторическая предыстория, причем
хорошо осознанная и восходящая к основателям теории принятия ре-
шений и Байесовского статистического анализа (Learner, 1978).
Параллельное движение происходило и в других областях. Имре
Лакатош (Lakatos, 1976), Дэйвис и Херш (Davis and Hersh, 1981) и дру-
гие ученые подняли завесу над риторикой в математике, Рорти (Rorty,
1982), Тулмин (Toulmin, 1958) и Розен (Rosen, 1980) — в философии;
749
можно привести массу примеров и из других сфер (Polanyi, 1962;
Medawar, 1964). Историкам и социологам науки начиная с 1960-х го-
дов удалось накопить немало подтверждений тому, что наука представ-
ляет собой скорее беседу, чем механическую процедуру (см.: Kuhn,
1977; Collins, 1985). Анализ же беседы как явления, проведенный ис-
следователями коммуникаций и литературоведами (Scott, 1967), создал
основу для пересмотра взглядов на различные сферы науки (примеры
можно найти в работе Нельсона и его соавторов (Nelson et al., 1987).
Риторика экономической науки ставит под сомнение правильность
разграничения естественно-научной и гуманитарной аргументации.
Она не стремится атаковать количественные методы или внести эле-
мент иррациональности в точные науки, но пытается осознать науку
как беседу. Она стремится поднять эту беседу на более высокий и стро-
гий уровень и сделать ее более адекватной.
БИБЛИОГРАФИЯ
Booth, W. 1974. Modem Dogma and the Rhetoric of Assent. Chicago: University of
Chicago Press.
Collins, H.M. 1985. Changing Order, replication and induction in scientific practice.
London: Sage.
Davis, P.J. and Hersh, R. 1981. The Mathematical Experience. Boston: Houghton
Mifflin.
Henderson, W. 1982. Metaphors in economics. Economics 18(4), no. 80, Winter,
147-53.
Klamer, A. 1984. Conversations with Economists: new classical economists and
opponents speak out on the current controversy in macroeconomics. Totowa, NJ:
Rowman and Allanheld.
Knight, F. 1940. «What is truth» in economics? Journal of Political Economy 48,
February, 1—32.
Komai, J. 1983. The health of nations: reflections on the analogy between medical
science and economics. Kyklos 36(2), June, 191—212.
Kuhn, T. 1977. The Essential Tension: selected studies in scientific tradition and
change. Chicago: University of Chicago Press.
Lakatos, I. 1976. Proofs and Refutations: the logic of mathematical discovery.
Cambridge: Cambridge University Press.
Learner, E. 1978. Specification Searches: ad hoc inferences with nonexperimental data.
New York: Wiley.
Leontief, W. 1971. Theoretical assumptions and nonobserved facts. American Economic
Review 61(1), March, 1—7.
McCloskey, D.N. 1986. The Rhetoric of Economics. Madison: University of Wisconsin
Press.
Mayer, T. 1980. Economics as a hard science: realistic goal or wishful thinking?
Economic Inquiry 18(2), April, 165-78.
Medawar, P. 1964. Is the scientific paper fraudulent? Saturday Review 1, August.
Nelson, J., Megill, A. and McCloskey, D.N. (eds) 1987. The Rhetoric of Human
Sciences: papers and proceedings of the Iowa Conference. Madison: University of
Wisconsin Press.
750
Polyani, M. 1962. Personal Knowledge: towards a post-critical philosophy. Chicago:
University of Chicago Press.
Rorty, R. 1982. The Consequences of Pragmatism: Essays. Minneapolisis: University
of Minnesota Press.
Rosen, S. 1980. The Limits of Analysis. New York: Basic Books.
Scott, R. 1967. On viewing rhetoric as epistemic. Central States Speech Journal 18(1),
February, 9-17.
Stigler, G.J. 1977. The conference handbook. Journal of Political Economy 85(2),
April, 441-3.
Toulmin, S. 1958. The Uses of Argument. Cambridge: Cambridge University Press.
РИКАРДИАНСКАЯ
ТЕОРЕМА ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
Эндрю Б. Эйбел
Ricardian Equivalence Theorem
Andrew В. Abel
Рикардианская теорема эквивалентности представляет собой утверж-
дение о том, что способ финансирования государственных расходов не
имеет значения. Если быть более точными, то выбор между сбором
единовременно взимаемых налогов и выпуском государственных обли-
гаций для финансирования расходов государства не влияет ни на по-
требление домохозяйств, ни на капиталообразование. Фундаменталь-
ная логика, лежащая в основе этого аргумента, содержится в главе XVII
(«Налоги на другие товары помимо сырья») «Начал политической эко-
номии и налогообложения» Давида Рикардо (1821). Несмотря на то что
Рикардо четко объяснил, почему государственные займы и налоги мо-
гут быть эквивалентны, он предупреждал против поспешного приня-
тия его вывода: «Из того, что мною сказано, нельзя делать вывод, что
я рассматриваю систему заимствований как наилучший способ покры-
тия чрезвычайных расходов государства. Это система делает нас менее
бережливыми, закрывая нам глаза на наше реальное положение»
(Ricardo, 1960, р. 162—163).
Еще одна формулировка вопроса о выборе между долгом и налога-
ми возникает в связи с определением национального дохода. Функция
совокупного потребления играет важную роль в моделях определения
национального дохода, причем совокупное потребление часто являет-
ся там функцией текущего совокупного располагаемого дохода и со-
вокупного богатства. Вопрос в том, следует ли рассматривать принад-
лежащие населению государственные облигации как часть совокупно-
го богатства. Если потребители сознают, что эти облигации в
совокупности представляют собой их будущие налоговые обязательства,
тогда их нельзя считать частью совокупного богатства. Если, с другой
стороны, потребители не сознают, что предполагаемые будущие нало-
говые обязательства связаны с имеющимися у них облигациями или по
какой-то причине это их не беспокоит, тогда облигации следует рас-
сматривать как часть совокупного богатства в функции совокупного
потребления. Патинкин (Patinkin, 1965, р. 289) занимался этим вопро-
сом и уточнил, что доля к всех выпущенных в обращение государствен-
ных облигаций должна рассматриваться как богатство. С точки зрения
рикардианской теоремы эквивалентности к было бы равно нулю; если
же придерживаться того взгляда, что потребители не принимают во
752
внимание свои будущие обязательства по налогам, то к было бы равно
единице. Бейли (Bailey, 1971) также исследовал вопрос о том, будут ли
будущие обязательства по налогам влиять на совокупное потребление
в модели определения национального дохода, хотя его вариант функ-
ции совокупного потребления не включает в явном виде совокупное
богатство.
Вопрос о том, являются ли государственные облигации чистым бо-
гатством, и вопрос о последствиях использования альтернативных спо-
собов финансирования определенной суммы государственных расхо-
дов — во многих ситуациях, по существу, идентичны. Но для удобства
изложения лучше выбрать какую-нибудь одну формулировку вопроса.
Ниже мы сосредоточим внимание на вопросе выбора между текущим
налогообложением и финансированием бюджета путем государствен-
ных займов.
Идея, лежащая в основе теоремы эквивалентности, вполне проста.
Возьмем для примера снижение текущих (единовременно взимаемых)
налогов на 100 дол. в расчете на душу населения. Это сокращение на-
логовых поступлений государства финансируется путем продажи на
открытом рынке государственных облигаций общей стоимостью
100 дол. на душу населения. Для простоты предположим, что эти об-
лигации представляют собой одногодичные облигации со ставкой про-
цента, равной 5% годовых. Кроме того, допустим, что численность на-
селения остается постоянной. На следующий год после снижения на-
логов облигации погашаются. Чтобы выплатить основную сумму и
процент по облигациям, на второй год налоги должны быть увеличе-
ны на 105 дол. в расчете на душу населения.
Теперь рассмотрим, как будут реагировать домохозяйства на это
межвременное перераспределение своих налоговых обязательств. До-
машние хозяйства могут быть в состоянии поддерживать первоначально
запланированное текущее и будущее потребление путем увеличения
своих текущих сбережений на 100 дол. Дополнительные 100 дол. сбе-
режений могут быть вложены в выпущенные государством облигации.
На второй год, когда государство увеличивает налоги на 105 дол., что-
бы погасить облигации, домохозяйство может выплачивать дополни-
тельный налог, используя основную сумму и процент на облигацию.
Таким образом, первоначально запланированная траектория потребле-
ния продолжает оставаться возможной и после изменения налога. Кро-
ме того, поскольку первоначально запланированная траектория потреб-
ления была избрана потребителем до изменения налога, ее выберут и
после изменения налога, потому что все относительные цены остают-
ся неизменными. Следовательно, поведение домашнего хозяйства ин-
вариантно к переходам от сбора налогов к получению займов и обрат-
но для данной суммы государственных расходов.
Вышеприведенный пример иллюстрирует главную идею, которая
лежит в основе рикардианской теоремы эквивалентности. Поскольку
пример предельно прост, полезно указать на то, какие из упрощающих
допущений являются фундаментальными для получения результата,
а какие приняты лишь для ясности изложения. В вышеприведенном
753
примере менялась только сумма единовременно взимаемых налогов и
предполагалось, что последующее увеличение налога распространяет-
ся поровну на всех потребителей. Каждое из этих допущений крити-
чески важно для доказательства теоремы и еще будет рассмотрено ниже.
В данном примере в явном виде не упомянуто о непредсказуемости
будущих налогов или будущих доходов, но теорема эквивалентности
Рикардо в данном случае соблюдалась бы, даже если будущее потреб-
ление нельзя определить точно. Она соблюдалась бы и в том случае,
если непредсказуемой является реальная ставка процента по государ-
ственным облигациям. При условии, что в первый год потребитель
увеличивает свой портфель активов на 100 дол. в форме государствен-
ных облигаций, он сможет позволить себе после изменения налога со-
хранять точно такую же траекторию текущего и будущего потребления,
как и до изменения налога.
В базовом примере сокращение налога в текущем году финансиру-
ется путем выпуска одногодичных государственных облигаций. Меж-
ду тем инвариантность сохраняется, если текущее снижение налогов
финансируется путем выпуска У-годичных облигаций. Мы вновь пред-
полагаем, что каждый потребитель использует дополнительные 100 дол.
располагаемого дохода в первый период, чтобы приобрести вновь вы-
пущенные государственные облигации на сумму 100 дол. Если по этим
государственным облигациям должен выплачиваться процент в годы,
предшествующие погашению облигаций, то правительство должно для
этого увеличить единовременно взимаемые налоги в эти годы. Потре-
бители, которые держат эти облигации и получают процент, использу-
ют процент по своим облигациям для того, чтобы выплачивать увели-
чившиеся налоги. Затем, когда через N лет придет срок погашения
облигаций, каждый потребитель использует основную сумму и послед-
ний процент, выплаченные по этим облигациям, чтобы оплатить бо-
лее высокие налоги, которые взимаются, чтобы погасить долг. Таким
образом, и здесь потребители смогут позволить себе сохранять перво-
начально запланированную траекторию текущего и будущего потреб-
ления и находить такое поведение оптимальным.
Убедившись, что рикардианская теорема эквивалентности соблю-
дается даже в том случае, если для покрытия текущего снижения на-
логов выпускаются долгосрочные облигации, естественно спросить,
будет ли сохраняться инвариантность даже в том случае, когда неко-
торые или все из ныне живущих потребителей умирают до того, как
облигации погашаются. Напрашивается ответ, что потребители, кото-
рые живут в период снижения налогов, но умирают до того, как вновь
выпущенные облигации изымаются из обращения, испытывают умень-
шение дисконтированной стоимости своих налогов и, таким образом,
увеличение дисконтированной стоимости своего располагаемого дохо-
да. Это означает, что такие потребители могли бы позволить себе уве-
личить текущее и будущее потребление. Для таких потребителей не
обязательно держаться за дополнительную облигацию, которая выпус-
кается в первый год, поскольку им не нужны будут облигации, чтобы
оплатить будущее повышение налогов, необходимое для погашения
754
облигаций. Следовательно, эти потребители ceteris paribus будут стре-
миться увеличить свое текущее и будущее потребление.
Если потребители всецело следуют своему личному интересу, то
избежание будущих налогов по причине смерти сделало бы теорему
эквивалентности Рикардо некорректной. Но Роберт Бэрроу (Barro,
1974) выдвинул оригинальные аргументы, расширяющие теорему эк-
вивалентности на тот случай, когда потребители умирают до того, как
произойдет увеличение налогов, компенсирующее их текущее сниже-
ние. До того как мы рассмотрим содержание аргументации Бэрроу по
существу, интересно отметить, что сам термин «рикардианская теоре-
ма эквивалентности» был, очевидно, впервые применен Джеймсом
Бьюкененом (Buchanan, 1976) в опубликованном комментарии к работе
Бэрроу. Комментарий Бьюкенена начинается с указания на то, что Бэр-
роу не удалось приписать Рикардо мысль о том, что долг и налоги мо-
гут быть эквивалентны, и носит название «Бэрроу о рикардианской
теореме эквивалентности». До этого Бьюкенен ссылался на этот тезис
как на «гипотезу эквивалентности» (Buchanan, 1958, р. 158).
Бэрроу постулирует, что у потребителей имеются завещательные
мотивы особого вида, которые можно назвать «альтруистическими».
Альтруистический потребитель получает полезность и от своего соб-
ственного потребления, и от полезности, получаемой его детьми. Сле-
довательно, потребитель, являющийся альтруистом по отношению ко
всем своим детям, заботится не только о своем собственном потребле-
нии, но также косвенным образом о потреблении всех своих детей.
Более того, если все дети потребителя-альтруиста также являются аль-
труистичными и заботятся о полезности для своих детей, тогда потре-
битель-альтруист косвенно заботится о потреблении всех своих внуков.
При условии, что все потребители являются альтруистами, этот аргу-
мент можно расширить ad infinitum с тем важным следствием, что по-
требитель-альтруист заботится — по крайней мере косвенно, — о всей
траектории текущего и будущего потребления себя и всех своих потом-
ков.
Идея Бэрроу о том, что потребитель, ведущий себя как альтруист в
отношении интересов разных поколений, заботится обо всей траекто-
рии потребления своей семьи, нейтрализует возражение, согласно ко-
торому потребители, которые из-за смерти избегают уплаты будущих
налогов, увеличат потребление в ответ на текущее снижение налогов.
Для потребителей-альтруистов неважно, кто именно — они или их по-
томки — платит более высокие налоги, необходимые для покрытия
основной суммы и процента по выпущенным облигациям. В ответ на
снижение налога на 100 дол. в текущем году потребитель-альтруист не
будет менять свое потребление, а приобретет дополнительные государ-
ственные облигации на сумму 100 дол. Если облигации не погашаются
до смерти этого потребителя, он завещает их своим детям, которые
затем смогут использовать эти облигации, чтобы выплачивать более
высокие налоги в тот год, когда облигации будут гаситься, или еще раз
завещать эти облигации своим детям, если в течение их жизни облига-
ции не будут погашены.
755
Важно отметить: тот факт, что потребитель оставляет наследство, не
является достоверным свидетельством того, что он является альтруис-
том в определенном выше смысле. Наследства могут быть случайным
результатом безвременной кончины или могут быть оставлены по мо-
тивам, отличным от чистого альтруизма в том смысле, какой исполь-
зует Бэрроу. К примеру, если полезность, которую потребитель полу-
чает от того, что оставляет наследство, зависит только от размера на-
следства, то он не будет беспокоиться об увеличении налогов, которые
могут быть взысканы с его детей или детей его детей. В этом случае
рикардианская теорема эквивалентности выполняться не будет.
Тот аргумент, что каждый текущий и будущий потребитель в семье
потребителей, ведущих себя альтруистично в отношении интересов
разных поколений, заботится как о своем собственном потреблении,
так и о потреблении всех своих потомков на веки вечные, позволяет
поставить вопрос о том, надо ли будет правительству вообще когда-
нибудь полностью рассчитываться по вновь выпущенным государствен-
ным облигациям. Если правительство смогло бы вечно оттягивать вы-
плату основной суммы и процента по этому долгу, так что никогда не
возникло бы необходимости увеличивать налоги, то, по всей видимос-
ти, финансирование текущего снижения налогов путем выпуска госу-
дарственных облигаций снизило бы дисконтированную ценность на-
логов, выплачиваемых нынешними и будущими членами семейства, и,
следовательно, привело бы к увеличению потребления этой семьи.
Вопрос о том, должно ли за текущим снижением налогов через какое-
то время следовать увеличение налогов, зависит от соотношения про-
центной ставки и темпа экономического роста. Если процентная став-
ка превышает темп экономического роста, тогда вечно оттягивать вы-
плату основной суммы и процента по выпущенным облигациям
невозможно. Если правительство попыталось бы это делать путем вы-
пуска новых облигаций, то число этих облигаций постоянно возраста-
ло бы темпом, равным процентной ставке. Если процентная ставка
превышает темпы роста данной экономики, эти облигации не стали бы
охотно держать в частных портфелях. И наоборот, если ставка процента
не дотягивает до темпов роста данной экономики — состояние, кото-
рое сигнализирует о неэффективном перенакоплении капитала, тогда,
как указал Фелдстайн (Feldstein, 1976), у правительства есть возмож-
ность постоянно оттягивать выплату долга; Кармайкл (Carmichael, 1982)
показал, что в этом случае мотив альтруистического завещания не бу-
дет работать, но может работать мотив альтруистического дарения ро-
дителям от детей (который обусловливает, что полезность для потре-
бителя зависит от его собственного потребления и полезности для его
родителей). Если действует мотив дарения, то, как утверждает Кар-
майкл, рикардианская теорема эквивалентности будет выполняться,
несмотря на то обстоятельство, что государственные облигации могут
рассматриваться как чистое богатство.
Теперь, когда мы описали довольно общий набор условий, при ко-
торых выполняется рикардианская теорема эквивалентности, полезно
рассмотреть ряд условий, которые могли бы вести к ее нарушению.
756
Четкий обзор тех причин, по которым теорема эквивалентности Рикар-
до может неверно описывать фактические последствия долгового и
налогового бюджетного финансирования, представил Тобин (Tobin,
1980).
Рикардианская теорема эквивалентности требует не только того,
чтобы потребители вели себя альтруистично в отношении интересов
других поколений, но и того, чтобы потребители могли завещать ка-
кую угодно сумму при условии выполнения бюджетного ограничения.
Если быть более точными, то потребитель-альтруист может захотеть
оставить своим детям наследство отрицательной величины, но он огра-
ничен условием оставлять наследство не меньше нуля. Тот факт, что
потребитель может пожелать оставить наследство отрицательной вели-
чины, не обязательно нарушает допущение о том, что он является аль-
труистом. Может статься, что все дети потребителя будут настолько
состоятельнее его самого, что, несмотря на альтруизм, он мог бы до-
стичь более высокого уровня полезности, забрав и потребив некоторые
из ресурсов своих детей. Формальные условия, в которых потребите-
ли-альтруисты хотели бы оставить наследства отрицательной величи-
ны, были представлены Дрейзеном (Drazen, 1978) и Вайлем (Weil,
1984). При этих условиях, если на потребителя накладывается ограни-
чение не оставлять отрицательное наследство, он оставит нулевое. В та-
ких случаях сокращение налогов, за которым последует их увеличение
после смерти этого потребителя, уменьшит текущую ценность налогов,
выплачиваемых потребителем, и он увеличит свое потребление. В ре-
зультате текущее снижение налогов поможет потребителю оставить
желаемое им отрицательное наследство — путем передачи ему текущих
ресурсов, изъятых у его потомков.
Вторая причина отступления от рикардианской теоремы эквивалент-
ности состоит в том, что политические меры нередко перераспределя-
ют ресурсы между семьями, а кроме того, у семей бывают разные пре-
дельные склонности к потреблению из дохода или из накопленного
богатства. К примеру, предположим, что снижение налога в текущем
году влияет только на половину потребителей. Если быть точнее, то
предположим, что половина потребителей сталкивается с двухсотдол-
ларовым снижением в текущем году, а у второй половины потребите-
лей в текущем году налоги остаются неизменными. Правительство
выпускает облигации общей величиной 100 дол. на душу населения и
в последующий период погашает облигации и выплачивает процент.
Для простоты допустим, что численность населения является постоян-
ной, а процентная ставка по государственным облигациям составляет
5% в год. Тогда в год, следующий за снижением налогов, произойдет
увеличение налогов на 105 дол. в расчете на одного потребителя. На-
конец, допустим, что это увеличение налогов поровну распространя-
ется на всех потребителей. В этом случае снижение налогов в текущем
году, очевидно, является перераспределением ресурсов от тех потреби-
телей, чьи налоги остались неизменными, к тем потребителям, чьи
налоги в текущем году были снижены. Получатели этого трансферта
увеличат свое потребление, а прочие потребители сократят свое теку-
757
щее потребление. Это перераспределение потребления может рассмат-
риваться как нарушение теоремы эквивалентности Рикардо. Возраста-
ние или падение совокупного потребления зависит от предельной
склонности к потреблению получателей трансферта по сравнению с
предельной склонностью к потреблению прочих потребителей. Если все
потребители имеют одинаковую предельную склонность к потребле-
нию, то на совокупное потребление или на накопление капитала не
будет оказываться никакого влияния. Однако если, к примеру, полу-
чатели трансфертов имеют более высокую склонность к потреблению,
чем прочие потребители, то совокупное потребление увеличится. Не-
обходимо отметить, что в некотором смысле этот пример не представ-
ляет собой нарушения рикардианской теоремы эквивалентности, по-
тому что не учитывает возможности существования страхового рынка
для индивидуальных налоговых обязательств. Если бы такой рынок
существовал, то потребители могли бы застраховать себя от перерас-
пределения налогов. Таких рынков, как правило, не существует, но вы-
полнение или невыполнение теоремы эквивалентности может зависеть
от причины, в силу которой этих рынков не существует.
Неопределенности относительно продолжительности жизни отдель-
ного потребителя самой по себе недостаточно для того, чтобы нарушить
рикардианскую теорему эквивалентности, хотя бывают ситуации, в ко-
торых это ведет к ее нарушению. Для простоты рассмотрим потреби-
телей, каждый из которых вносит 1000 дол. в фонд социального обес-
печения в течение своей трудовой карьеры. Допустим, что в конце тру-
довой карьеры некоторые из потребителей умирают, а некоторые
остаются в живых и живут на пенсии в течение определенного време-
ни. Число потребителей, не доживших до пенсии, может быть пред-
сказуемым, но кто именно умрет, а кто останется в живых, предсказа-
нию не поддается. Каждый из оставшихся в живых потребителей-пен-
сионеров получает одинаковую долю из фонда социального
обеспечения (с накопившимися процентами), в который они вносили
вклады в то время, когда работали. Доход за счет социального обеспе-
чения у каждого оставшегося в живых больше чем 1000 дол. (плюс про-
центы), потому что этот фонд содержит вклады плюс проценты на них
таких же, как он, людей, которые умерли в конце своей трудовой ка-
рьеры.
Возникает вопрос, влияет ли введение такого типа системы соци-
ального страхования на потребление и накопление капитала или в со-
ответствии с рикардианской теоремой эквивалентности потребление и
накопление капитала останутся незатронутыми. Чтобы ответить на этот
вопрос, полезно заметить, что эта стилизованная система социального
обеспечения имеет характеристики актуарно справедливого страхово-
го аннуитета. Потребители выплачивают страховую премию (налог на
социальное обеспечение) в молодости и получают платежи, если дожи-
вают до пожилого возраста. Более того, если у всех потребителей оди-
наковая вероятность умереть, то норма дохода для тех, кто останется в
живых, равна актуарно справедливой норме дохода. Если бы существо-
вал конкурентный рынок аннуитетов, то на нем предлагались бы так-
758
же аннуитеты, дающие актуарно справедливую норму дохода. В этом
случае социальное страхование действительно не будет оказывать ни-
какого влияния на потребление потребителей-альтруистов или на на-
копление ими капитала. Причина состоит в том, что работники, обла-
гаемые налогом в 1000 дол., по существу, вынуждены приобрести за
1000 дол. предлагаемый государством актуарно справедливый аннуитет,
называемый социальным страхованием; однако эти потребители могут
позволить себе сохранить первоначально запланированные ими уровень
потребления и величину наследства, сократив сумму находящихся в их
владении частных аннуитетов на 1000 дол. Такое сокращение суммы
частных аннуитетов будет избрано индивидуальным потребителем,
потому что позволит ему восстановить величину своего первоначаль-
ного портфеля аннуитетов и других активов, не меняя уровня своего
потребления. Таким образом, в этом случае рикардианская теорема
эквивалентности выполняется.
Если вероятность остаться в живых к моменту выхода на пенсию
среди потребителей различается и если индивидуальные потребители
лучше информированы о вероятности своего собственного дожития,
чем страховые компании, то описанная выше система социального
обеспечения будет оказывать воздействие на потребление и накопле-
ние капитала. Причина состоит в том, что если страховая компания
предложит аннуитеты по цене, которая являлась бы актуарно справед-
ливой для среднего потребителя, то она пострадает от того, что известно
под названием «неблагоприятного отбора» или отбора худших (adverse
selection). В качестве простого примера допустим, что страховые ком-
пании знают среднюю вероятность смерти, но не имеют никакой до-
полнительной информации о вероятности смерти индивидуальных
потребителей. Если бы страховая компания предложила аннуитеты по
актуарно справедливой цене для среднего потребителя, то те потреби-
тели, которые считали бы, что их здоровье лучше среднего уровня, рас-
сматривали бы приобретение этих аннуитетов как выгодную сделку; по-
требители, которые считали бы, что их здоровье хуже среднего уровня
(или они занимаются более опасной деятельностью, чем средний че-
ловек), рассматривали бы цены этих аннуитетов как завышенные, по-
тому что у этих потребителей было бы меньше шансов дожить до по-
лучения выплат. Поскольку здоровые потребители покупали бы непро-
порционально большую долю аннуитетов, то они — в среднем —
причиняли бы убытки их продавцам и побудили бы этих продавцов
взимать за них более высокую плату. Что же касается системы соци-
ального страхования, то она может предоставлять свои аннуитеты по
актуарно справедливой для среднего потребителя цене, потому что обя-
зательная система социального страхования не подвержена отбору худ-
ших. То есть, поскольку правительство может определить количество
выделяемых из государственного бюджета аннуитетов, которыми вла-
деет каждое лицо, ему не нужно беспокоиться о том, что здоровые по-
требители будут владеть непропорционально большой долей аннуите-
тов. Следовательно, как показал Эйбел (Abel, 1986), аннуитет, предла-
гаемый системой социального страхования, приносил бы более
759
высокую норму прибыли, чем частный аннуитет, или, что равнознач-
но, был бы доступным для потребителей по более низкой цене. Из-за
разницы в ценах аннуитетов, предоставляемых государством и частны-
ми компаниями, потребители не смогли бы точно компенсировать воз-
действие социального страхования, заключая сделки на рынке частных
аннуитетов.
Главный аргумент, лежащий в основе рикардианской теоремы эк-
вивалентности, сводится к тому, что не существует разницы между тем,
выпускает ли правительство облигации в количестве 100 дол. на душу
населения или собирает налоги в количестве 100 дол. на душу населе-
ния, поскольку в последнем случае потребители могут занять 100 дол.
в расчете на душу населения, чтобы уплатить более высокие налоги.
В первом случае на 100 дол. в расчете на душу населения увеличива-
ются государственные займы, а в последнем случае — частные заим-
ствования. При соответствующих условиях неважно, кто берет займы —
государственный или частный сектор. Чтобы выбор между финанси-
рованием путем займов и путем сбора налогов имел значение, необхо-
димо, чтобы любые изменения в государственном заимствовании
нельзя было бы полностью компенсировать изменениями поведения ча-
стного сектора. Равным образом, должно быть нечто, что государство
могло бы делать на кредитных рынках, а частный сектор не мог бы. На-
пример, как было показано выше, если индивидуальные потребители
захотели бы оставить наследство отрицательной величины, но были бы
не в состоянии это сделать, то снижение налогов, сопровождаемое
выпуском государственных облигаций, позволяет по крайней мере не-
которым из числа ныне живущих жителей осуществить передачу ресур-
сов от своих наследников самим себе. Этот трансферт ресурсов между
поколениями позволяет некоторым потребителям «оставлять наслед-
ство отрицательной величины», что они в индивидуальном порядке
были бы не в состоянии осуществить. Еще один пример того, что мо-
жет делать государство, но не частный сектор, дает рассмотрение от-
бора худших. По причине обязательного характера налогов правитель-
ство может избежать проблемы отбора худших, с которой неизбежно
столкнулись бы частные страховые компании.
Пример, в котором отбор худших ведет к нарушению рикардиан-
ской теоремы эквивалентности, был построен таким образом, чтобы
выполнялся набор строгих правил, которого требуют приверженцы те-
оремы. В частности, устанавливались следующие допущения: (1) у по-
требителей имеются альтруистические завещательные мотивы, так что
они проявляют интерес к налогам после своей смерти; (2) существует
всеохватывающая система конкурентных рынков и (3) изменяются
только единовременно взимаемые налоги. Между тем в реальной эко-
номике наблюдается ряд важных отступлений от каждого из этих до-
пущений. Эти отступления рассматриваются ниже.
Первое: у потребителей может не быть завещательного мотива либо
потому, что у них нет детей, либо потому, что они не заботятся ни о
чьем благе, кроме своего. Но даже если у потребителей действительно
имеется завещательный мотив, он может не реализоваться, как это было
760
рассмотрено выше. Даже если завещательный мотив реализуется, он
может реализовываться не в той форме, которая соответствовала бы
теореме эквивалентности. Если полезность для потребителя напрямую
зависит от размера того наследства, которое он оставляет, а не от по-
лезности для его наследников, то снижение текущих налогов, за кото-
рым последует повышение налогов для его наследников, приведет к
повышению текущего потребления данного потребителя. Причина
состоит в том, что его не заботит полезность для его наследников per se.
Его наследство приносит полезность непосредственно как любое дру-
гое потребительское благо. В результате снижения налогов, которые он
должен выплачивать в течение жизни, у этого потребителя будет более
высокий уровень прижизненного дохода и он сможет увеличить свое
собственное потребление и то наследство, которое он оставляет. Если
его собственное потребление и наследство представляют собой нор-
мальные блага в его функции полезности, то он выберет увеличение и
того, и другого.
Даже если у всех потребителей имеются реализуемые альтруистич-
ные завещательные мотивы, снижение налогов может увеличить теку-
щее потребление. Если все потребители имеют по нескольку детей, но
каждый потребитель заботится о полезности только для одного из сво-
их детей, то в будущих поколениях будут потребители, полезность для
которых не принимается в расчет всеми текущими потребителями.
В той мере, в какой будущие налоги взимаются с этих потребителей,
некоторая часть будущих налоговых обязательств, связанных с текущим
снижением налогов, не будет приниматься в расчет нынешними по-
требителями. В этом случае снижение налогов увеличивало бы текущее
совокупное потребление.
Второй тип отступлений от строгой системы допущений сводится
к тому, что может не существовать полной всеохватывающей системы
конкурентных рынков. К примеру, молодой потребитель с высоким
ожидаемым доходом хотел бы взять заем, чтобы увеличить свое потреб-
ление в молодости с намерением выплатить этот заем, когда его доход
в будущем повысится. Однако по множеству причин для молодого по-
требителя заимствование желаемой суммы может быть невозможным;
если это так, то данный потребитель характеризуется как имеющий
«ограничение по ликвидности» («liquidity constrained»). Если текущий
налог снижается, то потребитель с ограничением по ликвидности мо-
жет выбрать скорее потребление некой части или даже всей суммы
снижения налога, чем накопление всей этой суммы. Причина состоит
в том, что потребитель с ограничением по ликвидности, возможно,
и хотел бы взять заем, чтобы увеличить свое потребление, но не имел
возможности этого сделать. Фактически текущее снижение налогов
позволяет потребителю делать займы, чтобы увеличивать свое текущее
потребление. Финансирование текущего снижения налогов за счет
выпуска государственных облигаций может рассматриваться как полу-
чение государством займа от потребителя. И хотя из этого примера,
вроде бы, очевидно, что потребитель с ограничением по ликвидности
увеличил бы свое текущее потребление в ответ на текущее снижение
761
налогов, при интерпретации этого результата требуется некоторая осто-
рожность. До тех пор, пока не указано основание для ограничения
ликвидности, нельзя определить, каковы будут последствия снижения
налогов. Например, предположим, что потребитель в состоянии взять
взаймы некую сумму, но имеет ограничение по ликвидности в том
смысле, что хотел бы занять еще большую сумму. Если его кредиторы
определяют, сколько они хотят дать взаймы, исходя из его способнос-
ти возвратить этот кредит, то, предвидя будущее увеличение налогов,
сопровождающее текущее снижение налогов, кредиторы сократят сум-
му, которую они готовы дать взаймы, на сумму снижения налогов.
В этом случае рикардианская теорема эквивалентности по-прежнему
выполнялась бы.
Другого рода отступлением от системы всеобъемлющих конкурент-
ных рынков, которое могло бы нарушить действие теоремы эквивален-
тности, является отсутствие определенных типов страховых рынков.
Чен (Chan, 1983), а также Барски, Мэнкью и Зелдес (Barsky, Mankiw
and Zeldes, 1986) не так давно выступили с утверждением, что если от-
сутствуют рынки страхования от непредсказуемых колебаний дохода,
остающегося после уплаты налогов, то текущее снижение налогов могло
бы увеличить текущее потребление. Довод, разработанный Бэрроу
(Вагго, 1974, р. 1115) и Тобином (Tobin, 1980, р. 60), состоит в том, что
в той мере, в какой индивидуальные обязательства по выплате налогов
пропорциональны доходу, налоговая система предоставляет частичную
страховку против колебаний индивидуального располагаемого дохода.
Следовательно, увеличение налоговых ставок, которое следует за теку-
щим снижением налогов, уменьшит изменчивость будущего распола-
гаемого дохода. Снижение степени риска будущего располагаемого
дохода сокращает текущее страховочное сбережение, которое потреби-
тели осуществляют, чтобы оградить себя от низкого потребления в бу-
дущем. Сокращению страховочных сбережений соответствует увеличе-
ние текущего потребления.
Третьего рода отступление от строгой системы допущений, лежа-
щей в основе теоремы эквивалентности, состоит в том, что налоги боль-
шей частью не являются единовременно собираемыми налогами. Как
правило, налоги взимаются с результатов экономической деятельнос-
ти, и изменения в этих налогах создают стимулы для изменения мас-
штабов этой деятельности. И хотя существование искажающих эконо-
мическую деятельность налогов не всегда означает, что данная теоре-
ма нарушается применительно к изменениям в единовременно
взимаемых налогах, оно искажает интерпретацию эмпирических про-
верок рикардианской теоремы эквивалентности, при которых исполь-
зуются исторические данные о дефицитах и потреблении за предшест-
вующие периоды.
Как говорилось выше, существует множество потенциальных источ-
ников отступления от рикардианской теоремы эквивалентности, и в
конечном счете важность этих отступлений — вопрос эмпирический.
Существующая литература, в которой делается попытка эмпирически
проверить теорему, дала неоднозначные результаты: некоторые иссле-
762
дования доказывают, что теорема выполняется, другие демонстрируют
противоположное. Однако при оценке эмпирической обоснованности
теоремы эквивалентности важным вопросом с точки зрения формули-
рования налогово-бюджетной политики является не то, выполняется
ли теорема в точности или нет, а то, насколько существенными в ко-
личественном отношении являются отступления от нее. Существующие
эмпирические исследования пока еще не пришли к консенсусу по это-
му вопросу.
БИБЛИОГРАФИЯ
Abel, А.В. 1986. Capital accumulation and uncertain lifetimes with adverse selection.
Econometrica 54(5), September, 1079—97.
Bailey, M.J. 1971. National Income and the Price Level. 2nd edn, New York:
McGraw-Hill.
Barro, R.J. 1974. Are government bonds net wealth? Journal of Political Economy
82(6), November—December, 1095—117.
Barsky, R.B., Mankiw, G.N. and Zeldes, S.P. 1986. Ricardian consumers with
Keynesian propensities. American Economic Review 76(4), September, 676—91.
Buchanan, J.M. 1958. Public Principles of Public Debt. Homewood, Ill.: Richard D.
Irwin.
Buchanan, J.M. 1976. Barro on the Ricardian eqivalence theorem. Journal of Political
Economy 84(2), April, 337-42.
Carmichael, J. 1982. On Barro’s theorem and debt neutrality: the irrelevance of net
wealth. American Economic Review 72(1), March, 202-13.
Chan, L.K.C. 1983. Uncertainty and the neutrality of government financing policy.
Journal of Monetary Economics 11, May, 351—72.
Drazen, A. 1978. Government debt, human capital and bequests in lifecycle model.
Journal of Political Economy 86, June, 337—42.
Feldstein, M.S. 1976. Perceived wealth in bonds and social security: a comment.
Journal of Political Economy 84(2), April, 331—6.
Patinkin, D. 1965. Money, Interest and Prices, 2nd edn, New York: Harper & Row.
Ricardo, D. 1821. The Principles of Political Economy and Taxation. London: M. Dent
& Sons, 1911. Reprinted, 1960.
Tobin, J. 1980. Asset Accumulation and Economic Activity. Chicago: University of
Chicago Press.
Weil, P. 1984. ‘Love thy children’: reflections on the Barro debt neutrality theorem.
Mimeo, Harvard University, October. Forthcoming in Journal of Monetary
Economics.
РАСТУЩАЯ
ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Питер Ньюмен
Rising Supply Price
Peter Newman
Термин «растущая цена предложения» теоретики частичного рав-
новесия применяют, когда говорят об общем равновесии. Такие столк-
новения подходов частичного и общего равновесия имели место, долж-
но быть, с самого возникновения экономической науки, но для нас
история начинается в 1912 г. с Пигу, который утверждал, что
«в отраслях с возрастающей отдачей цена предложения больше, чем
предельная цена предложения; в отраслях с убывающей отдачей цена
предложения меньше, чем предельная цена предложения. Отсюда сле-
дует, что, при прочих равных, в отраслях с возрастающей отдачей
предельный чистый продукт инвестиций имеет тенденцию превы-
шать, а в отраслях с убывающей отдачей — не достигать предельно-
го чистого продукта, получаемого в экономике в целом» (Pigou, 1912,
р. 176—177).
Это привело его к выводу о том, что налоги следует вводить в от-
раслях с убывающей отдачей, а субсидии — в отраслях с возрастающей
отдачей. Если предположить (в чем Клэфем (Clapham, 1922) серьезно
сомневался), что фактически существующие отрасли можно рассорти-
ровать по этим категориям, то это — политическая рекомендация, ко-
торая одновременно оказывается достаточно специфичной по содер-
жанию и всеобщей по применению.
Для Пигу отрасль с убывающей отдачей — это такая отрасль, в ко-
торой затраты на производство х + Дх единиц превышают затраты на
производство х единиц на величину большую, чем затраты, относимые
напрямую к изготовлению х единиц; вот что означает его тезис о том,
что «предельная цена предложения» превышает цену предложения.
Однако поскольку предложенная политика субсидирования или нало-
гообложения имеет смысл только в долгосрочном периоде, то всегда
возможно воспроизведение предприятия оптимального размера, что
сразу же исключает убывающую отдачу в физическом смысле. Отсюда
неясно, как может существовать отрасль с убывающей отдачей, если
только увеличение выпуска продукции от х до х + Дх не вызывает рост
цены одного или нескольких ресурсов, используемых в этой отрасли.
Пигу был готов признать такую вероятность.
Но, как мягко указал Эллин Янг в своей рецензии на книгу Пигу,
существует
764
«более серьезная трудность, когда мы выясняем, какие именно «ресур-
сы» предназначены для процесса производства... Изменения в ценах про-
дукта и ресурсов составляют самую суть ситуации. Увеличение цен на
используемую землю и другие факторы производства не представляют
собой увеличения потребления ресурсов в процессе производства. Они
представляют собой лишь факты переноса покупательной способнос-
ти» (Young, 1913, р. 683, выделено автором).
Таким образом, рост цены предложения, который сопровождает
расширение отрасли (в отличие от расширения любой из действующих
в ней фирм), является просто следствием увеличения ренты за те ре-
сурсы, которые в ней относительно интенсивно используются. Исклю-
чая чистую физическую отрицательную внешнюю экономию
(diseconomies), он не соответствует какому-либо увеличению исполь-
зования реальных ресурсов.
На уяснение фундаментального положения Янга ушло много вре-
мени. В труде, который, в сущности, был вторым, значительно расши-
ренным и переименованным изданием книги Пигу, тот признал, что
критика Янга была «очень важна», но привел в свою защиту слабый
аргумент, что «каждая [отрасль]..., как предполагается, использует лишь
малую часть совокупных ресурсов страны» (Pigou, 1920, р. 934-936).
Поэтому Фрэнк Найт, который был студентом Янга в Корнелльском
университете в ту пору, когда появилась рецензия Янга на работу Пигу,
почувствовал, что призван еще раз указать на природу ошибок Пигу.
Его знаменитая статья, в которой он это проделал (Knight, 1924), была
столь эффективна, что ее несколько раз перепечатывали, чего никогда
не делали с более ранней работой Янга (даже он сам в своем собрании
сочинений — Young, 1927).
Но это касалось нормативной экономической теории благосостоя-
ния. В позитивной же экономической теории статья Клэфема, опуб-
ликованная в 1922 г., вызвала полемику о возрастающей отдаче и кон-
куренции, которая вспыхнула, как гирлянда шутих, на страницах
«Economic Journal» в течение последующих десяти лет, пока книги Чем-
берлина и Джоан Робинсон, посвященные несовершенной конкурен-
ции, с шипением ее не загасили. Полемика неизбежно затронула про-
блемы «растущей цены предложения», но с наибольшим толком это
сделал Рой Харрод в статье, написанной в 1928 г., однако не принятой
и не опубликованной до 1930 г. (в «эгоистическом примечании» в ра-
боте: Harrod, 1951, р. 159, прим. 2, отсрочка приписывалась неблаго-
желательному отзыву Фрэнка Рамсея). Его аргументация выглядела сле-
дующим образом.
«Обозначим предельную пропорцию, в которой факторы производства
А, В, С... соединяются в процессе использования в национальной промыш-
ленности в целом, как а: Ь: с:... если отрасль, где эти факторы исполь-
зуются в пропорции а + х: Ь: с:..., расширяется, то увеличивающееся
количество фактора А для нее можно получить только при повышении
его цены относительно В и С ... Несомненно, в соответствии с зако-
ном замещения величина х в результате расширения данной отрасли
будет уменьшаться; однако не до нуля...
765
...отсюда следует, что каждая отрасль, которая использует сущест-
венную долю факторов производства, если только это не отрасль, где
они используются в пропорции а; Ь; с; ..., подчиняется закону расту-
щей цены предложения...
Данный анализ, видимо, проясняет проблему старого классического раз-
деления между сельским хозяйством и обрабатывающими отраслями.
Если А — это земля, а а + х: Ь: с:... — пропорция, в которой факторы
соединяются в сельском хозяйстве в целом, то величина х/а очевидно
велика. Для сельского хозяйства в целом, таким образом, весьма харак-
терна растущая цена предложения» (Harrod, 1930, р. 240—241).
Это четко изложенное описание того, что Янг лишь наметил, хотя
нет свидетельств, что Харрод читал рецензию Янга. В следующем году
Вайнер (Viner, 1931) опубликовал много раз переиздававшуюся систе-
матизацию неоклассической теории частичного равновесия, в которой,
не ссылаясь ни на Харрода, ни на Янга, ввел идею «денежной эконо-
мии» или отрицательной денежной экономии, обусловленной как внут-
ренними, так и внешними факторами. Согласно этой классификации
все, что здесь до настоящего момента обсуждалось, есть «чистая вне-
шняя денежная экономия», которую в то время Вайнер особо не вы-
делял. Между тем почти 20 лет спустя Вайнер добавил «Дополнитель-
ное примечание» в повторное, 1950 г., издание своей работы 1931 г.,
в котором писал:
«Я считаю себя обязанным... чтобы избежать распространения серь-
езной ошибки, продолжить анализ... отойдя здесь от традиционной мар-
шаллианской системы допущений, которой придерживается статья.
Соответствующий подходу частичного равновесия характер маршал-
лианских допущений оставляет более широкий диапазон возможных
долговременных тенденций издержек для расширяющейся отрасли, чем
анализ общего равновесия. Впервые я увидел это в 1938 г., а затем ука-
зал на это своим студентам в Чикагском университете. Но первый и,
насколько мне известно, остающийся единственным опубликованный
анализ, подобный тому, что я имел в виду, это великолепная статья
Джоан Робинсон «Растущая цена предложения»... [1941]... не привлек-
шая того внимания, которое, по моему мнению, она в высшей степени
заслуживает» (Viner, 1951, р. 227).
В еще одной сноске, добавленной к новому, 1951 г., изданию версии
1950 г., Вайнер также признавал предшествующий вклад Харрода (Harrod,
1930). Прекрасная статья Джоан Робинсон, безусловно, является кульми-
нацией всей этой линии рассуждений, развивая гораздо более подробно
и в кристально ясном изложении способ анализа, начало которому поло-
жил Харрод; но озадачивает то, что Харрод (в отличие от Хикса, Маршал-
ла, Пигу, Роббинса и Сраффы) там ни разу не упомянут, несмотря на
поразительное сходство анализа этих двух авторов. Кстати, интересно, что
в письме, написанном вскоре после появления статьи Робинсон и опуб-
ликованном в книге (Robinson, 1951, р. 42-43), Кейнс использовал под-
ход к этой проблеме с позиций общего равновесия.
Кроме относящихся к данной проблеме обзоров, посвященных про-
блеме внешней экономии (Ellis and Fellner, 1943; Chipman, 1965, Sec-
766
tion 2.8, p. 736—749), в дальнейшем «растущая цена предложения» об-
суждалась мало, что свидетельствует о том, что на сегодня ее природа
понята хорошо. Однако даже не так давно, в 1954 г., хорошо принятая
статья Ситовски с ее политическими выводами в духе Пигу и замеча-
нием, что внешней «денежной экономии со всей очевидностью нет
места в теории равновесия» (Scitovsky, 1954, р. 149, 146), показала, что
путаница по-прежнему существует. Быть может, каждому поколению
теоретиков частичного равновесия надо заново проходить этот урок.
БИБЛИОГРАФИЯ
Arrow, K.J. and Scitovsky, Т. (eds) 1969. Readings in Welfare Economics. Homewood,
Ill.: Richard D. Irwin. Перепечатки работ: Knight (1924), Scitovsky (1954).
Boulding, K.E. and Stigler, G.J. (eds) 1951. Readings in Price Theory. Homewood,
Ill.: Richard D. Irwin. Перепечатки работ: Clapham (1922), Ellis and Fellner
(1943), Knight (1924), Robinson (1941) and Viner (1931).
Chamberlin, E.H. 1933. The Theory of Monopolistic Competition. 6th edn,
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1948 / Чемберлин Э. Теория мо-
нополистической конкуренции. М.: Экономика.
Chipman, J.S. 1965. A survey of the theory of international trade. Part 2. The neo-
classical theory. Econometrica 33, 685—760.
Clapham, J.H. 1922. Of empty economic boxes. Economic Journal 32, 305—14.
Clemence, R.V. (ed.) 1950. Readings in Economic Analysis. Vol. 2: Prices and
Production. Cambridge, Mass.: Addison-Wesley. Reprints Viner (1931).
Harrod, R.F. 1930. Notes on supply. Economic Journal 40, 232—41.
Harrod, R.F. 1951. The Life of John Maynard Keynes. London: Macmillan.
Harrod, R.F. 1952. Economic Essays. London: Macmillan. Reprints Harrod (1930).
Knight, F.H. 1924. Some fallacils in the interpretation of social cost. Quarterly Journal
of Economics 38, 582—606.
Knight, F.H. 1935. The Ethics of Competition. London: Alien & Unwin. Reprints
Knight (1924).
Pigou, A.C. 1912. Wealth and Welfare. London: Macmillan.
Pigou, A.C. 1920. The Economics of Welfare. London: Macmillan / Пигу A.C. Эко-
номическая теория благосостояния.
Robinson, J.V. 1933. The Economics of Imperfect Competition. London: Macmillan.
2nd edn 1969 / Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной кон-
куренции. М.
Robinson, J.V 1941. Rising supply price. Economica NS 8, 1—8.
Robinson, J.V 1951. Collected Economic Papers. Oxford: Basil Blackwell. Reprints
Robinson (1941).
Scitovsky, T. 1954. Two concepts of external economies. Journal of Political Economy
62, 143-51.
Viner, J. 1931. Cost curves and supply curves. Zeitschrift fur Nationalokonomie 3,
23-46.
Viner, J. 1951. Reprint of (1931) in Boulding and Stigler (1951).
Young, A.A. 1913. Pigou’s Wealth and Welfare. Quarterly Journal of Economics 27,
672-86.
Young, A.A. 1927. Economic Problems New and Old. Boston: Houghton Mifflin.
767
СХОЛАСТИЧЕСКАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
Генри У. Шпигель
Scholastic Economic Thought
Henry W. Spiegel
Схоластическая экономическая мысль, которая процветала в Сред-
ние века, во многих отношениях отличается от экономической мысли
нашего времени. Она была не позитивистской или гипотетической,
а нормативной, предписывая верующим, что делать и от чего воздер-
живаться. Расхождения между нормой и ее выполнением объяснялись
человеческой слабостью или греховностью. Более того, схоластическая
экономическая мысль не создавала правил, которые были бы единооб-
разно применимы к Homo economicus; вместо этого существовало раз-
деление между несколькими избранными, способными твердо следо-
вать рекомендациям, и обыкновенными людьми, для которых требу-
ются менее строгие правила. Более того, схоластическая экономическая
мысль не была представлена в систематической форме, а возникала
спорадически и случайно в связи с отдельными проблемами, касавши-
мися сбыта, мошенничества или ростовщичества. Она создавалась не
профессиональными экономистами, а теологами и юристами. Она не
образовывала какой-то автономной дисциплины, а опиралась на пред-
писания, взятые из теологии, философии и права. Ей был чужд ряд
общественных идеалов, характерных для современности, главным об-
разом — идеал прогресса; вместо этого стратифицированное средневе-
ковое общество, которое было организовано в большей степени по
принципу статуса, чем по принципу договора, искало золотой век ско-
рее в прошлом, чем в будущем. Схоластическая экономическая мысль
возникла в век веры, главнейшей заботой которого было скорее спасе-
ние душ в ином мире, чем посюсторонние реформы, которые могли
бы создать земной рай. С человеком, падшим и запятнанным перво-
родным грехом, совершенство следовало искать не в этом мире.
Что у схоластической экономической мысли было общего с совре-
менной, а на самом деле и со всякой экономической теорией, так это
ее направленность на решение главной экономической проблемы —
ограниченности благ. Она решала это своим собственным путем, от-
личающимся от того, как это делали мыслители иных времен. Гречес-
кие философы в качестве основного средства решения экономической
проблемы ограниченности рекомендовали умеренность, которая умень-
шила бы спрос на блага. Современная экономическая мысль пытается
решить эту проблему путем увеличения предложения благ. Что касает-
768
ся средневековых мыслителей, то можно показать, что их способ раз-
решения проблемы ограниченности состоял в том, чтобы внушить ве-
рующим необходимость максимизировать милосердие и минимизиро-
вать грех.
Схоластическая экономическая мысль имела свои основные источ-
ники в Библии, писаниях отцов церкви, в римском, каноническом и
гражданском праве, в эволюционирующей теологической традиции,
а на более позднем этапе — в работах Аристотеля, чей авторитет был
высок и которого называли просто «философом». Схоласты, как пра-
вило, применяли следующий метод анализа: задавался вопрос, подроб-
но обсуждался возможный ответ на этот вопрос, а после того, как
читатель был почти что убежден, обсуждался другой ответ и опять в под-
робностях — и все это с обильным цитированием авторитетов. После-
дний ответ и был тот, что выбирал автор.
Средневековый теолог мог высказать свои взгляды на экономику в
исчерпывающей Summa (сумма, окончательный итог (лат.) — примеч.
пер.), которая охватывала всю область теологии, или в монографии,
посвященной конкретной теме. Высшим авторитетом пользовались
«Сумма теологии» и другие работы св. Фомы Аквинского (1224—1274),
чье учение вначале было сочтено спорным, но в конце концов было
одобрено папством и стало официальной доктриной католичества.
Схоластическая экономическая теория, хотя и создавалась в не-
скольких странах, отражала не национальное разнообразие, а универ-
сализм цивилизации, объединенной общей верой. Так, св. Фома Ак-
винский уехал из своей родной Италии, чтобы получить образование
в Париже и Кельне и преподавать в Парижском университете, в то
время являвшемся центром теологических исследований, как Болон-
ский университет — центром юридических. Схоластическая экономи-
ческая мысль имела также и временное измерение. По мере ее роста и
развития в течение тысячелетнего периода некоторые черты вышли на
передний план, в то время как другие отступили на задний.
Схоласты отнюдь не были эгалитаристами, но практика частной
благотворительности, к которой настойчиво призывали верующих и, не
скупясь, занимались сами, внесла уравнительную тенденцию в сред-
невековое распределение дохода и богатства. Она, однако, не легла на
верующих чрезмерно тяжелым бременем, потому что они не должны
были позволить, чтобы благотворительные пожертвования угрожали их
положению в иерархически устроенном обществе. Следовательно, хотя
благотворительность весьма рекомендовалась, никому не рекомендо-
валось таким образом доходить до нищеты. Суровость и аскетизм ре-
комендовались избранному меньшинству. С другой стороны, богатых
увещевали проявлять не только милосердие, но также великодушие и
щедрость, т.е. использовать свои богатства не скупясь и для какой-
нибудь великой и благородной цели.
В конце Средних веков, с приходом реформаторов, роль частной
благотворительности снизилась, поскольку реформаторы делали упор
скорее на веру, чем на добрые дела. Эта перемена ознаменовалась при-
769
нятием в 1601 г. елизаветинского Закона о бедных. Он сделал облегче-
ние участи бедняков функцией государственной власти.
Если на владельца собственности возложена религиозная обязан-
ность проявлять милосердие, великодушие и щедрость, то его собствен-
ность является своего рода духовным залогом. Право распоряжения
богатством, которым он наделен, уступает абсолютному праву собствен-
ности, характерному для римского права. Средневековые авторы про-
водили различие между собственностью и использованием собствен-
ности, они признавали, что частная собственность не нарушает естест-
венного права, но не заходили настолько далеко, чтобы считать, что
естественное право ее требует. Последняя интерпретация была бы гру-
бым нарушением святоотеческой традиции раннего христианства, ко-
торая превозносила достоинства общинной собственности. Фактичес-
ки это являлось уступкой данной традиции, требовавшей так исполь-
зовать частную собственность, чтобы это способствовало общему благу.
Общинная собственность (communal ownership) рекомендовалась в
качестве пути к совершенствованию для духовной элиты.
Традиция, воплощенная в Библии, греческой философии и учени-
ях отцов церкви, также не имела четкого взгляда на зарабатывание де-
нег и коммерцию. С течением времени отношение становилось более
снисходительным, делалась ссылка на писания св. Августина, который
стоял на том, что нельзя путать коммерсанта с коммерцией, т.е. что
коммерция сама по себе в нравственном отношении нейтральна, но
порочный коммерсант может сделать ее греховной. Стало признавать-
ся, что коммерсант служит полезной цели, особенно если он обраба-
тывает или транспортирует товары, хранит их или заботится о них. Ему
стало позволительно получать доход, который покрывал бы его труд и
издержки, включая вознаграждение за риск. Даже чистая прибыль мог-
ла бы быть признана законной исходя из намерения данного коммер-
санта, т.е. если он собирался использовать данную прибыль себе на
жизнь или на благотворительность или же если его мотивом было же-
лание заниматься предпринимательством ради служения обществу.
Требования благотворительности и соблюдения деловой этики во-
обще накладывались совестью экономического агента, а не судом. Но
в случае со справедливой ценой — другой важнейшей концепцией схо-
ластической экономической теории — все было иначе. Здесь существо-
вала традиция римского права laesio enormis — чрезмерного наруше-
ния, которая первоначально применялась только к сделкам с землей по
неоправданно низким ценам. Средневековая практика расширила при-
менение этого правила на любые сделки, когда назначенная покупате-
лю цена более чем на 50% превосходила справедливую цену или когда
продавец получал менее 50% последней. В данных случаях можно было
прибегнуть к суду, гражданскому или церковному, а не только к внут-
реннему суду совести данного лица.
Справедливая цена была той рыночной ценой, которая, по оценке
беспристрастного наблюдателя, преобладала в известном месте в извест-
ное время. Оценка могла выражаться скорее в виде пределов цен, чем
фиксированной суммы. Если фактическая цена «существенно» откло-
770
нялась от справедливой цены, требовалось возместить убытки. Таким
образом, правило справедливой цены было более строгим, чем laesio
enormis, отражая, как считалось, большую строгость божественного
закона по сравнению с гражданским правом. Оправдание доктрины
справедливой цены было обнаружено в золотом правиле нравственно-
сти: делай другим то, что ты хочешь, чтобы они делали тебе, — равно
как и в необходимом условии ценовой справедливости, сформулиро-
ванном Аристотелем.
Некоторые авторы-схоласты определяли справедливую цену как
такую, которая покрывает затраты труда и расходы. Для других спра-
ведливая цена отражала полезность блага или его способность удовлет-
ворять человеческие потребности. Эти интерпретации позволили более
поздним философским шкалам утверждать, что схоласты были их пред-
шественниками. Некоторые считали схоластов выразителями трудовой
теории ценности в духе экономистов классической школы и Карла
Маркса. Другие доказывали, что схоласты предвосхитили подход к тео-
рии цены с точки зрения полезности, который обрел популярность в
конце XIX в. Третьи обнаруживали в доктрине справедливой цены зер-
но теории спроса и предложения. Четвертые истолковывали справед-
ливую цену как конкурентную. Можно отметить, что схоласты не были
знакомы с понятием конкуренции и даже не имели слова для ее обо-
значения, поскольку английское слово competition и его французский
аналог concurrence появились только в XVII в. Схоласты, однако, были
знакомы с монополией — как со словом, так и с концепцией, — и со-
вершенно однозначно ее осуждали. Слово «монополия» действитель-
но можно проследить в истории вплоть до Аристотеля, который исполь-
зует его в первой книге своей «Политики», в гл. 8. Схоласты были так-
же знакомы с монополистическими комбинациями, но не имели слова
для обозначения олигополии — слова, которое ввел Томас Мор в сво-
ей «Утопии», написанной в 1518 г., но которое вошло в обычный оби-
ход только 400 лет спустя.
Если цена, как это часто происходило, регулировалась государством,
то эта регулируемая цена считалась справедливой. Временами регули-
руемая цена составляла ценовой потолок; в другие времена она служила
нижним пределом. В зависимости от обстоятельств регулируемая цена
либо усиливала, либо ослабляла консервативную тенденцию средневе-
ковой ценовой системы.
Если подразумевалось, что справедливая цена должна была покры-
вать затраты труда и расходы продавца, то она вносила в средневеко-
вую ценовую систему консервативную тенденцию, которая сопротив-
лялась изменениям в аллокации производственных ресурсов. В совре-
менной рыночной экономике изменения цен служат сигналами,
отвлекающими производственные ресурсы из прежних областей при-
менения и направляющими их в новые. Ценовая система, в которой
легитимна та цена, которая покрывает издержки производства, сохра-
няла бы существующее размещение производственных ресурсов.
В центре схоластической экономической мысли стояла доктрина
ростовщичества. В Средние века ростовщичество как объект осужде-
771
ния со стороны церкви играло примерно такую же роль, как социализм
в XIX в., аборты и контроль над рождаемостью в XX в. Оно являлось
предметом глубокой озабоченности, которая охватывала равно священ-
нослужителей и юристов и породила многочисленную литературу. «Ро-
стовщичеством» в то время называлось намерение заимодавца получить
обратно больше, чем составляла основная сумма займа, так что любой
процент считался ростовщическим. В современном обиходе только
непомерно высокий процент называется ростовщическим.
Доктрина ростовщичества сочеталась с примитивными экономичес-
кими условиями, господствовавшими в период раннего Средневековья,
когда обычная ссуда представляла собой ссуду потребительскую. Позд-
нее процветающая экономика возникавших городов и требования ком-
мерции привели к ряду исключений из строгой доктрины ростовщи-
чества, которые разрешали процент или его эквивалент исходя из так
называемых особых прав собственности (extrinsic titles). Одним из важ-
нейших случаев была компенсация, предоставляемая заимодавцу вслед-
ствие упущенной выгоды (escaped gain). Такая компенсация была уза-
конена после больших колебаний, но раз уж она была установлена,
любой предприниматель, использовавший на своем предприятии про-
изводительные капитальные фонды (productive capital funds), мог с чи-
стой совестью требовать процент на те деньги, которые он дал взай-
мы.
В доктрине ростовщичества деньги рассматриваются как мера с
постоянной и устойчивой величиной. Если кредитор получал денег
больше, чем он давал заемщику, значит, была применена иная мера —
налицо очевидная несправедливость. Аналогично порча монеты, явля-
ющаяся результатом денежной политики власти — князя, также вела к
изменению меры, а это подлежало такому же осуждению, как и само
ростовщичество. В течение всего Средневековья порча монеты действи-
тельно представляла собой вечно повторяющуюся проблему, которая
поглощала настолько значительную часть внимания авторов, писавших
по вопросам денег, что это сравнимо с вниманием к проблеме инфля-
ции в наши дни. Все были против порчи монеты, но она практикова-
лась весьма широко.
Заметный вклад в теорию денег внес Жан Буридан, философ XIV в.,
до сих пор известный своим парадоксом об осле, который умер бы от
голода, находясь между двумя одинаковыми охапками сена. По своей
четкости и выразительности Буриданов анализ природы денег в тер-
минах четырех причин Аристотелевой логики является шедевром, ко-
торый наилучшим образом иллюстрирует достижения схоластической
экономической мысли. В своем рассуждении об «Этике» Аристотеля,
изданном после его смерти в 1489 г. в Париже, Буридан говорит сле-
дующее: «Материальная причина денег, материал, из которого они сде-
ланы, это редкий товар (rare commodity). Их эффективная причина,
которая производит деньги, — это правительство. Их формальная при-
чина, которая преобразует редкий товар в деньги, — это символ цен-
ности, который нанесен на монете. Их конечная причина, или цель, —
быть полезными человеку, служа средством обмена».
772
Поздние схоласты также внесли значительный вклад в теорию цен.
Количественная теория денег являлась множественным открытием,
в которое внесли вклад ряд авторов. Хотя вполне законченное форму-
лирование количественной теории обычно приписывается Жану Бодэ-
ну, ядро теории можно найти в учебнике по моральной теологии с при-
ложением, посвященным рассуждению о ростовщичестве, написанным
Мартином де Аспилькуэта, также известным как Наваррец, который
преподавал каноническое право в Тулузе и Саламанке. Этот учебник
был опубликован в 1556 г., за 12 лет до «Ответа на парадоксы г-на
Мальтруа» (Reply to the Paradoxes of M. Malestroit) Бодэна. Контекст,
в рамках которого Мартин Наваррец развивает количественную тео-
рию, — это дискуссия о легитимности прибыли, получаемой в резуль-
тате несоответствия ценности денег в различных странах. Такие несо-
ответствия в покупательной способности денег отражают относитель-
ную редкость разных валют. Деньги, по Мартину Наваррцу, больше
стоят там, где имеет место их нехватка, чем там, где они в изобилии.
Там, где существует нехватка денег, товары и услуги имеют низкие
цены; цены высоки там, где деньги в изобилии, как это было в Испа-
нии в результате притока драгоценных металлов из Нового Света.
В свете учения схоластов интересно рассмотреть тезис Макса Ве-
бера о протестантском или пуританском происхождении капитализма,
который породил оживленную дискуссию с начала этого столетия. Те-
зис Вебера, как и аналогичная аргументация Тони, не может объяснить
расцвет экономической жизни в итальянских городах, жители которых
придерживались другой веры. В их отношении, возможно, более уме-
стна идея, недавно высказанная французским историком Жаком Ле
Гоффом. В «Рождении Чистилища» (The Birth of Purgatory) (Le Goff,
1984) Ле Гофф развивает мысль о том, что Чистилище, третье место
между Раем и Адом, представление о котором было внедрено в умы ве-
рующих между 1150 и 1200 гг., способствовало рождению капитализ-
ма, делая возможным спасение души ростовщика (р. 305). Другие ав-
торы указывали: то, что известно как пуританская жизненная позиция,
можно обнаружить также и в более ранние периоды. К примеру, дела-
ется ссылка на устав св. Бенедикта с его настойчивым требованием
сурового образа жизни, дисциплины, неукоснительной регулярности,
тяжелой работы и бедности, который, возможно, располагал к подра-
жанию (Hallam, 1976, р. 28-49). Другие разъясняют сложные взаимо-
отношения, которые связывают нищенствующих монахов Средневеко-
вья с подъемом городской идеологии, благорасположенной к коммер-
ческому обществу (Little, 1978).
В Северной Америке наследие схоластической экономической мыс-
ли сказалось в деловой этике пуританских богословов. Иллюстрацией
служит случай Роберта Киэйна, бостонского купца, жестоко раскри-
тикованного с кафедры Первой церкви в 1639 г. пуританским священ-
нослужителем Джоном Коттоном за завышение цен и иную жульни-
ческую практику. В своей проповеди Коттон выдвинул требования
справедливой цены и перечислил ряд других правил правильного де-
лового поведения, похожих на правила схоластов (см.: Hosmer, 1908,
773
vol. 1, p. 315—318). Понятие справедливой цены продолжает играть роль
и в наше время в связи с такими концепциями, как справедливая нор-
ма дохода (fair return) и обоснованная цена (reasonable value), которые
определяются органами государственного регулирования.
БИБЛИОГРАФИЯ
Данный период рассматривается в трудах выдающихся экономистов Йозефа А.
Шумпетера (Schumpeter, 1954, ch. 2) и Джейкоба Вайнера (Viner, 1978, ch. 2),
последний представляет собой главы незаконченной работы, опубликованной
посмертно и доступной также и в виде отдельной книги. Обзор, в котором речь
идет не только о схоластах, но также о римском и каноническом праве, можно
найти у Гордона (Gordon, 1975, р. 122-272). Учебное изложение вопроса вмес-
те с обширной библиографией см.: Spiegel, 1983, ch. 3 and 4). Собрание статей
выдающегося специалиста, в котором рассматриваются такие темы, как схолас-
тическая экономическая наука, схоластический подход к торговле и предпри-
нимательству, а также теории монополии, вы найдете у де Рувера (de Roover,
1958, 1967, 1976). Работу историка на тот же предмет можно найти у Болдуина
(Baldwin, 1959). По поводу ростовщичества см.: Noonan, 1957 и Nelson, 1969,
первая работа принадлежит историку, занимающемуся правовыми вопросами,
вторая — социологу, обе они базируются на оригинальных источниках. О Мар-
тине Наваррце и других испанских авторах читайте в работе: Grice-Hutchinson,
1978. Английский перевод учебника деловой этики можно найти у Нидера
(Nieder, 1966), работа была первоначально опубликована на латыни в 1468 г. и
принадлежала перу малоизвестного автора-схоласта. Переводы из св. Фомы Ак-
винского и Николая Орезма можно найти у Монро (Monroe, 1924, ch. 3 and 4).
Baldwin, J.W, 1959. The medieval theories of the just price. Transactions of the
American Philosophical Society N3 49 (4), 15-92.
de Roover, R. 1958. The concept of the just price. Journal of Economic History 18,
December, 418-34.
de Roover, R. 1967. San Bemadino of Siena and Sant’Antonio of Florence: The Two
Great Economic Thinkers of the Middle Ages. Publication No. 19 of the Kress
Library of Business and Economics, Boston: Baker Library, Harvard Graduate
School of Business Adinistration.
de Roover, R. 1976. Business, Banking and Economic Thought In Late Medieval and
Early Modem Europe. Chicago: Universiy of Chicago Press.
Gordon, B. 1975. Economic Analysis before Adam Smith. London: Macmillan.
Grice-Hutchinson, M. 1978. Early Economic Thought in Spain, 1177-1740. London:
Allen & Unwin.
Hallam, H.E. 1976. The medieval mind. In Feudalism, Capitalism and Beyond, ed.
E. Kamenka and R.S. Neale, New York: St Martin’s Press.
Hosmer, J.K. (ed.) 1908. Governor John Winthrop’s Journal, vol. 1. New York;
Scribners.
Le Goff, J. 1984. The Birth of Purgatoiy. Chicago: Universiy of Chicago Press.
Little, L.K. 1978. Religious Poverty and the Profit Economy in Medieval Europe.
Ithaca: Cornell University Press.
Monroe, A.E. 1924. Early Economic Thought. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press.
774
Nelson, B.N. 1969. The Idea of Usury. 2nd edn, enlarged, Chicago: Universiy of
Chicago Press.
Nieder, J. 1966. On the Contracts of Merchants. Trans. C.H. Reeves, ed.
R.B. Schumann, Norman: University of Oklahoma Press.
Noonan, J.T., Jr., 1957. The Scholastic Analysis of Usury. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press.
Schumpeter, J. A. 1954. History of Economic Analysis. New York: Oxford University
Press.
Spiegel, H.W. 1983. The Growth of Economic Thought. Revised and expanded edn,
Durham, North Carolina: Duke University Press.
Viner, J. 1978. Religious thought and economic society. History of Political Economy
10(1), Spring, 9-189. Published as Religious Thought and Economic Society: Four
Chapters of an Unfinished Work by Jacob Viner, ed. J. Melitz and D. Winch,
Durham, North Carolina: Duke University Press.
ШОТЛАНДСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Джон Робертсон
Scottish Enlightenment
John Robertson
В период между 1740 и 1790 гг. в Шотландии получила развитие одна
из самых блестящих ветвей европейского Просвещения. Наиболее вы-
дающимися фигурами в этот период расцвета интеллектуальной актив-
ности стали Дэвид Юм и Адам Смит, а вокруг них располагалась плеяда
крупнейших мыслителей, включая Фрэнсиса Хатчесона, лорда Кеймса,
Адама Фергюсона, Уильяма Робертсона, Томаса Рейда, сэра Джеймса
Стюарта и Джона Миллара. Интересы отдельных мыслителей простира-
лись от метафизики до естественных наук, но основные достижения
шотландского Просвещения в целом бьши связаны с исследованиями
«общественного прогресса» — истории, моральной и политической фи-
лософии и, не в последнюю очередь, политической экономии.
В европейском контексте шотландское Просвещение было типич-
но «провинциальным». Сознавая свое участие в более широком дви-
жении, шотландские мыслители развивали связи с Парижем, признан-
ным центром Просвещения. Но, возможно, легче всего понять шот-
ландское Просвещение, если сравнить его с Просвещением во
французских провинциях или в провинциальных государствах Италии
и Германии. Интерес к экономическому прогрессу, его моральным и
политическим условиям и последствиям был столь же ярко выражен,
к примеру, в отдаленном Неаполитанском королевстве, а политичес-
кая экономия равным образом поглощала неаполитанских философов-
реформаторов Дженовези и Галиани.
В то же время опыт Шотландии XVIII в. в ряде отношений был
специфичным, что придавало особый стимул шотландским мыслите-
лям. Прежде всего был действительно достигнут экономический рост;
несколько замедленный, но все более ощутимый, он давал шотланд-
ским мыслителям необычную возможность прямого знакомства с фе-
номеном развития. Важны были также и политические перемены. Унию
с Англией 1707 г. нельзя назвать непосредственной причиной эконо-
мического роста или предпосылкой просвещения в Шотландии. Но
принесение в жертву независимости Шотландского парламента взамен
на возможность свободной торговли с Англией и Британской импери-
ей высветило проблему институциональных условий экономического
развития. Наиболее драматичными были изменения в религии и куль-
туре. Неистовое, стесняющее свободу пресвитерианство XVII в. поте-
ряло свои позиции, и к власти в Шотландской церкви пришла группа
776
«умеренного» духовенства. Четыре университета в Эдинбурге, Глазго,
Абердине и городе Сент-Эндрюс были реформированы так, что про-
фессора получили возможность специализации, а вокруг университе-
тов процветала мощная неформальная культура клубов, самым извест-
ным из которых было Избранное общество Эдинбурга. Вместе взятые,
эти перемены обеспечили шотландским мыслителям беспрецедентную
интеллектуальную свободу и общественную поддержку и дали предмет-
ный урок того, что нравственные и культурные аспекты прогресса так
же важны, как и материальные.
Более того, сравнительно удачный опыт развития придал шотланд-
скому Просвещению не слишком радикальный характер. Не то чтобы
шотландские мыслители были всем довольны: по конкретным вопро-
сам они стремились повлиять на лидеров шотландского общества. Но
если в отсталых провинциях, таких, как Неаполитанское королевство,
идеология Просвещения была программной, даже утопической, то иде-
ология шотландского Просвещения характеризовалась относительно
беспристрастным, аналитическим интересом к механизмам, лежащим
в основе развития общества.
Опираясь на конкретный провинциальный опыт Шотландии, шот-
ландские мыслители стремились изучать экономические феномены в
контексте более широкого исследования. У этого исследования было три
главных измерения: историческое, моральное и институциональное.
Историческая теория шотландского Просвещения разрабатывала
традицию, идущую от естественного права конца XVII в., с которой
шотландцы познакомились вследствие ее включения в учебный курс
моральной философии в реформированных университетах. Отбрасы-
вая старый, выдвигаемый правоведами тезис о договорных основах
общества и государства, шотландцы сосредоточились на новых идеях
Пуфендорфа и Локка о происхождении и развитии собственности.
Согласно Пуфендорфу, никогда не существовало такого первоначаль-
ного состояния, когда земля и блага были в общей собственности; с са-
мого начала право собственности являлось результатом индивидуаль-
ного присвоения. По мере того как рост населения приводил к дефи-
циту благ, индивидуальная собственность становилась нормой, и, чтобы
ее закрепить, были учреждены системы правосудия и государственно-
го правления. Шотландцы добавили к этой аргументации схему осо-
бых стадий общественного развития: охотничьей, пастушеской, земле-
дельческой и торговой. На каждой из этих четырех стадий степень рас-
пространения частной собственности соответствовала средствам к
существованию, которыми располагало данное общество, и оба фак-
тора формировали характер и сложную структуру государственного
управления данным обществом. Разные версии этой теории были пред-
ложены Адамом Фергюсоном в его «Очерке по истории гражданского
общества» (Essay on the History of Civil Society) (1767) и Джоном Мил-
ларом в его работе «Происхождение рангов» (Origin of the Distinction
of Ranks), которые легли в основу исследований лорда Кеймса по ис-
тории права и исторических повествований Уильяма Робертсона. Од-
нако классическим произведением этой теории были «Лекции по юрис-
777
пруденции» (Lectures on Jurisprudence) Адама Смита, прочитанные им
студентам в Глазго в начале 1760-х годов.
Как становится очевидно из изложения Смита, стадиальная теория
общественного развития создала исторические предпосылки для поли-
тической экономии. Модель «естественного» прогресса общества, откры-
то построенная на определенных предпосылках, дала общую схему для
сравнительно теоретической трактовки экономического развития как
«естественного прогресса изобилия». Ставя в основу системную взаимо-
связь между экономической деятельностью, собственностью и государ-
ственной властью, последствия которой индивиды не могут ни предви-
деть, ни контролировать, эта теория также установила сущностную нео-
братимость процесса развития. Она показала, что, если не произойдет
природной катастрофы, неизбежен приход коммерческого общества.
Этическая мысль шотландского Просвещения была тесно связана с
исторической, разделяя с ней общее происхождение от теории естест-
венного права XVII в. Стимулом здесь была все более усложняющаяся
трактовка правоведами потребностей. Было признано, что последние
больше нельзя было рассматривать только в связи с добыванием средств
к существованию; с прогрессом общества потребности охватывали все
более широкий круг редких благ, как необходимых, так и предметов
роскоши. Потенциал этой идеи был очевиден каждому шотландскому
философу-моралисту, но опять же в полной мере его использовал именно
Смит в своей «Теории нравственных чувств» (Theory of Moral Sentiments,
1759). Смит признавал, что, кроме самых основных потребностей, по-
требности человека всегда относительны, так как он все время стремит-
ся улучшить свое положение в соревновании с другими людьми. Но
именно тщеславные желания богатых и зависть остальных, действуя как
«невидимая рука», стимулировали людское усердие и, следовательно,
увеличивали сумму накопленных благ, доступных людям всех рангов.
Такая аргументация, однако, должна была преодолеть два наиболее
глубоко укоренившихся в европейской этической мысли убеждения:
взгляд последователей Аристотеля, что распределение благ должно быть
справедливым, и классический взгляд светских гуманистов, что роскошь
ведет к потере нравственной добродетели. Первым шотландцы ответи-
ли более уверенно (но, может быть, менее удовлетворительно), чем вто-
рым. Вслед за Гроцием, Гоббсом и Пуфендорфом они определили спра-
ведливость исключительно с точки зрения «исправления», оставляя в
стороне вопрос распределения. По вопросу о добродетели взгляды их
разделились. Юм высмеивал страхи перед роскошью; Фергюсон отста-
ивал идеал добродетели. Смит был ближе к Юму, отдавая предпочтение
приличиям перед добродетелью, по крайней мере для подавляющего
большинства случаев, но он показал, что разделяет и сомнения Фергю-
сона, когда в конце своей жизни добавил, что предрасположенность к
преклонению перед богатыми и великими действительно может вести к
порче нравственности. На уровне основ, однако, существовало всеоб-
щее согласие. Как следствие общественного прогресса умножение по-
требностей было не только необратимым, оно являлось существенной
характеристикой «культурного» или «цивилизованного» — в противопо-
778
ложность «варварскому» — обществу. А цивилизация — как бы ни была
она с нравственной точки зрения неоднозначна, — была предпочтитель-
нее варварства. При консенсусе по этому вопросу нравственные пред-
посылки политической экономии были обеспечены.
Определение справедливости в простых «исправительных» терми-
нах стало исходным пунктом институционального анализа шотландцев.
Приоритетом всякой государственной власти, считали шотландцы,
должна быть безопасность жизни и собственности, обеспечение каж-
дому отдельному человеку свободы в условиях действия закона. Это,
как определил Смит, и была свобода «в нашем нынешнем смысле это-
го слова», и, согласно общему убеждению, при существовавших в Ев-
ропе Нового времени правительствах, включая абсолютные монархии,
она довольно сносно обеспечивалась. В принципе, личная свобода яв-
лялась условием полностью коммерциализированного общества (fully
commercial society): ее предоставление, следовательно, являлось инсти-
туциональной предпосылкой политической экономии.
Лишь некоторые шотландцы проделали институциональный анализ,
выходящий за пределы этого относительно простого, хотя и существен-
ного положения; теория современного коммерциализированного госу-
дарства не была шотландским достижением. Но Юм и Смит действи-
тельно продвинулись дальше остальных, идентифицировав и исследо-
вав двойную проблему управления коммерциализированным обществом.
Они настойчиво доказывали, что необходимо ограничить возможности
разрастания государственной власти за счет «производительного» обще-
ства, сводя функции власти к обеспечению необходимого минимума
правосудия, обороны и общественных работ. В более длительной перс-
пективе, по мере того как нижние слои общества обретали бы матери-
альную и моральную независимость, появилась бы также необходимость
удовлетворять их требования о распространении гражданских прав и
обязанностей и расширении политической свободы. Ответственность за
такую постепенную адаптацию институтов, как полагали Юм и Смит,
лежит на законодателях. Оба нарисовали примерные модели того, каким
образом могли бы действовать законодатели: Юм — путем переработки
институциональных концепций классической, светской традиции в сво-
ей «Идее совершенного сообщества» (Idea of a perfect Commonwealth),
а Смит — путем разработки принципов парламентского суверенитета в
своем видении Британо-Американского имперского союза.
Оригинальность концепции политической экономии шотландско-
го Просвещения в значительной мере состоит в исследовании истори-
ческих, моральных и институциональных основ экономической дея-
тельности. Но, безусловно, шотландцы также и напрямую занимались
экономическим анализом; одна из таких аналитических работ, «Богат-
ство народов» (Wealth of Nations, 1776) Адама Смита, настолько затмила
все остальные, что, кажется, именно с нее берет начало политическая
экономия как самостоятельная наука.
Внимание шотландцев естественным образом сосредоточилось на
экономическом росте. Выражаясь современным языком, вопрос состо-
ял в том, какими средствами бедная страна (такая, как Шотландия)
779
быстрее всего могла бы догнать страну богатую (такую, как Англия).
Альтернативы, еще раз детально разобранные Юмом в работе 1752 г.
«Политические беседы» (Political Discourses), были те же, что звучали
во всеуслышание в ходе дебатов в Шотландии перед образованием унии
пятьюдесятью годами раньше: свобода торговли, дающая преимущество
бедной стране с низкой заработной платой, или протекционизм и кре-
дитование, содействующие отечественным производителям. Как опти-
мист Юм отдавал предпочтение свободе торговли. Сэр Джеймс Стю-
арт в своих «Принципах политической экономии» (Principles of Political
Economy, 1767) возражал, что богатые нации не разрешат свободы тор-
говли в ущерб себе и, следовательно, необходимы протекционизм и
кредитование. К несчастью для Стюарта, его доводы были просто про-
игнорированы в «Богатстве народов». Смит не брался судить о перс-
пективах бедных стран, но относительно свободы торговли он не знал
сомнений. Ничем не сдерживаемое расширение рынка, как он объяс-
нял, было необходимо для того, чтобы достичь максимального распро-
странения разделения труда и оптимальной аллокации капитала — этих
спаренных двигателей роста.
Уверенность Смита в возможностях рынка была краеугольным кам-
нем не только его концепции роста. Она повлияла на всю его полити-
ческую экономию. При написании «Богатства народов» Смит созна-
тельно поставил перед собой цель достичь образцовой простоты, согла-
сованности и легкости понимания, которые он считал присущими
удачным философским системам и, в частности, ньютоновской фило-
софии. Тем, чем для астрономии Ньютона была гравитация, для поли-
тической экономии Смита был рынок. Рынок был для него не просто
матрицей роста. Он полагал, что тот является механизмом, с помощью
которого плоды роста распределяются таким образом, что компенси-
руется беспрецедентное неравенство коммерциализированного общест-
ва посредством столь же беспрецедентного роста уровня жизни даже
самых низких и беднейших слоев. (Другими словами, как средство
улучшения положения бедных рынок был гораздо более эффективен,
чем любой другой механизм, движимый понятием о распределитель-
ной справедливости. Это была «невидимая рука», с помощью которой
тщеславные желания богатых трансформировались в возросшую сум-
му накопленных благ для всех.) В дополнение к этому рынок мог бы
помочь ограничивать рост непродуктивной правящей власти, посколь-
ку, по мнению Смита, большинство институтов могло бы в некоторой
степени быть подчинено его дисциплине. Короче, рынок в «Богатстве
народов» представал как основа законченной, фактически самоподдер-
живающейся экономической системы.
Скорее всего, не просто объяснение роста, а именно этот системный
и исчерпывающий анализ, основанный на вере в рынок, и поставил
«Богатство народов» выше любой другой работы в области политичес-
кой экономии эпохи Просвещения — шотландского или же европей-
ского. Стремление к системности и всеобщему охвату проявлялось и
раньше: по крайней мере, в «Экономической таблице» (Tableau
Economique) (1758—1759) Кенэ, «Лекциях по коммерции» (Lezioni di
780
Commercio, 1765) Дженовези и «Принципах» (Principles) Стюарта, но
«Богатство народов» всех заслонило. Более того, его успех был таков, что
политическая экономия обрела свою идентичность. Сам Смит не при-
знавал такого вывода, продолжая настаивать на том, что политическая
экономия была лишь «отраслью знаний государственного деятеля или
законодателя»; его собственная работа в области юриспруденции и мо-
ральной философии препятствовала тому, чтобы отбросить более широ-
кую интеллектуальную схему, в составе которой мыслилась политическая
экономия. Но когда единая концепция рынка сделала возможным ана-
лиз одновременно настолько обширный и настолько самостоятельный,
то стало можно предположить, что содержание «Богатства народов» и
было особой, автономной наукой — политической экономией.
Смерть Смита в 1790 г. совпала с концом шотландского Просвещения.
В Шотландии, как и повсеместно в Европе, Великая французская рево-
люция изменила условия и исходные посылки интеллектуальной жизни,
в то время как политическая экономия должна была объяснить примене-
ние машин. В самой Шотландии Дагалд Стюарт взялся за адаптацию по-
литэкономической концепции Просвещения к этим новым условиям, но
у его расширительного, дидактического подхода было мало подражателей.
Еще один шотландец, Томас Чалмерс, возглавил направление, привязы-
вавшее политическую экономию к новым теологическим концепциям, в
то же время в Англии Рикардо и его последователи просто сузили взгляд
на этот предмет. Но даже при этом было бы ошибкой рассматривать клас-
сическую политэкономию XIX в. как новое направление. Философский
анализ Гегеля (который многое узнал от Стюарта) и радикальная крити-
ка Маркса и ранних социалистов показали, что исторические, моральные
и институциональные предпосылки, на которых основывается политичес-
кая экономия, остались неизменными со времен шотландской школы.
В любом случае именно шотландское Просвещение и конкретно «Богат-
ство народов» впервые показали, как политическая экономия может быть
представлена в качестве независимой науки.
БИБЛИОГРАФИЯ
Bryson, G. 1945. Man and Society: the Scottish Enquiry of the Eighteenth Century.
Princeton: Princeton University Press.
Campell, R.H. and Skinner, A.S. 1982. The Origins and Nature of the Scottish
Enlightenment. Edinburgh: John Donald.
Hont, I. and Ignatieff, M. (eds) 1983. Wealth and Virtue. The Shaping of Political
Economy in the Scottish Enlightenment. Cambridge: Cambridge University Press.
Medick, H. 1973. Naturzustand und Naturgeschichte der biirgerfichen Gesellschaft.
Gottingen: Vandenhoeck and Ruprecht.
Phillipson, N.T. 1981. The Scottish Enlightenment. In The Enlightenment in National
Context, ed. R. Porter and M. Teich, Cambridge and New York: Cambridge
University Press.
Sher, R. B. 1985. Church and University in the Scottish Enlightenment. Princeton:
Princeton University Press; Edinburgh: Edinbuigh University Press.
781
Собственный интерес
Д.Г. Монро
Self-interest
D.H. Monro
Два основных вопроса, которые заботили философов-моралистов,
можно сформулировать так: (а) каковы фундаментальные принципы
морали и (б) почему мы должны им подчиняться. Один из напраши-
вающихся вариантов ответа на второй вопрос таков: поскольку подчи-
няться им в ваших собственных интересах. Такой ответ напрашивает-
ся потому, что любой иной ответ просто повлечет за собой дальнейшие
«почему?» К примеру, почему мы должны заботиться о том, чтобы дру-
гие получили то, что они хотят? Но вопрос «Почему мы должны доби-
ваться получения того, чего нам хочется?» конечно, может быть задан,
но едва ли имеет смысл.
Собственный интерес как ответ на второй вопрос между тем под-
разумевает аналогичный ответ и на первый. Собственный интерес мо-
жет являться основанием для подчинения моральным принципам,
только если эти принципы всегда выгодны нам как индивидам, и,
таким образом, фундаментальным принципом становится следующий:
делайте все, что позволит вам удовлетворять ваши собственные же-
лания. А это представляется ошибочным, поскольку большинство
моралистов говорят нам, что надо сначала учитывать интересы дру-
гих, а потом уже свои. Самопожертвование, говорят нам, благород-
но, а своекорыстие низменно.
Томас Гоббс отвечает на это возражение, указывая, что, в то время
как человеческие желания разнообразны и общей цели не существует,
есть одно средство, общее для всех целей. Достижение всех целей тре-
бует сотрудничества со стороны других людей или, по крайней мере,
их невмешательства. Каждый заинтересован в том, чтобы поддержи-
вать в обществе мир и гармонию. Моральные принципы — это просто
правила, которым каждый должен следовать, чтобы получить такое
общество. Нам следует подчиняться этим правилам, поскольку подчи-
нение им содействует миру и безопасности, а без мира и безопасности
ни у кого не будет шансов удовлетворить любые желания. Если мораль
требует от нас учитывать интересы других, то в долгосрочном плане это
делается ради нашей же собственной пользы.
Предположение о том, что люди поставили себе моральные ограни-
чения именно по этой причине, подразумевает большую дальновид-
ность, чем та, на которую большинство из нас способно. Бернар Ман-
девиль высказал мысль, что мотивы людей определяются в первую оче-
782
редь не этим соображением, а тщеславием. Происхождение морали, по
его предположению, связано с удачной выдумкой сравнительно неболь-
шого числа дальновидных людей, которые, чтобы заставить людей быть
полезными своим ближним, распространили миф о том, что человек
отличается от других животных и превосходит их тем, что способен
побеждать свои желания. «Моральные добродетели, - говорит он, - это
росток, который породила гордость под действием лести» (Mandeville,
1724, vol. 1, р. 51). Цель Мандевиля частично состояла в том, чтобы вы-
смеять доктрину, гласившую, что никакое действие не является доб-
родетельным, если не связано с самоотречением. Если это правда,
утверждает он, тогда добродетель не существует, поскольку все действия
имеют целью некое вознаграждение, даже если это всего лишь возрос-
шее самоуважение. Цивилизация возникла не через самоотречение,
а через то, что моралисты рассматривают как моральные слабости: ску-
пость, тщеславие, роскошь, честолюбие и все прочее. Отсюда и его
знаменитый парадокс: «Частные Пороки — Общественные Выгоды».
Развивая его, он приводит пример, который нередко цитировался:
множество материалов, собранных со всего света, а также тяжкий труд
и лишения, перенесенные множеством работников, чтобы изготовить
пурпурные одежды. Даже тиран, говорит Мандевиль, постыдился бы
«требовать от своих Невинных Рабов несения такой ужасной Службы»
лишь ради «Удовлетворения, которое Человек получает от владения
Одеянием, сделанным из Алой или Пурпурной Ткани». И все же, пре-
следуя свои собственные цели, люди в своих делах показывают приме-
ры выносливости, на которые их не сподвигла бы ни их собственная
добродетельность, ни тирания других людей (Mandeville, 1724, vol. 1,
р. 357—358). Этот отрывок нередко использовался для того, чтобы про-
иллюстрировать эффективность и гладкое функционирование рыноч-
ной экономики; но если посмотреть несколько под другим углом зре-
ния, он точно так же был бы уместен в первом томе «Капитала» Марк-
са, который полон жутких рассказов о страданиях рабочих при
капитализме.
Мандевиль проводит различие между добродетелью (virtue) и бла-
гом (goodness). Добродетель в смысле полного самоотречения являет-
ся иллюзией, поскольку все действия возникают из собственного ин-
тереса. Страсти подчинить невозможно, можно только противопоста-
вить одну страсть другой. Никакое действие не является полностью
добродетельным, но (как, по-видимому, подразумевается) оно может
быть хорошим, если полезно для других. Таким образом, Мандевиль
соглашается с Гоббсом в том, что личный интерес является конечным
мотивом всех действий, но, по всей вероятности, не согласен с другим
его тезисом, что личный интерес, в отличие от всеобщего счастья, в ко-
нечном счете является единственным благом.
Первый из этих двух тезисов является неоднозначным, поскольку
неоднозначно само понятие «собственный интерес». Если этот тезис
состоит в том, что каждое действие возникает из того или иного жела-
ния, включая бескорыстные желания благополучия для других, тогда
он представляет собой трюизм и в любом случае не заслуживает боль-
783
шого интереса. Если он означает, что каждым поступком действующее
лицо стремится в долгосрочной перспективе к своему собственному
наивысшему счастью («просвещенный собственный интерес» или «хо-
лодное себялюбие»), тогда он важен, но ложен. На самом деле Гоббс,
как представляется, опять имел в виду нечто иное, а именно, что не
существует альтруистических или бескорыстных желаний. Очевидный
альтруизм оказывается при ближайшем рассмотрении эгоистичным или
небескорыстным в обычном смысле этих слов, поскольку целью, воз-
можно, является общественное одобрение или более высокая само-
оценка.
Против теории Гоббса выдвигались те возражения, что доброжела-
тельность (benevolence), т.е. бескорыстное желание благополучия для
других, является такой же фундаментальной основой человеческой
природы, как и личный интерес. Но если существует два основных
человеческих инстинкта вместо одного, то какому мы должны следо-
вать, если они находятся в конфликте? Сильнейшему? Но было бы
опрометчиво утверждать, что доброжелательность — более сильная чер-
та человеческой природы, чем эгоизм. Шефтсбери и Хатчесон обнару-
жили третий инстинкт — внутреннее моральное чувство, которое тре-
бует, чтобы мы предпочли доброжелательность собственному интере-
су, когда они находятся в конфликте. Но почему мы должны отдавать
предпочтение этому третьему инстинкту? В ответе на вопрос «Почему
надо быть нравственным?» едва ли найдется что-то более уместное, чем
сказать (вместе с другими философами), что вечная и непреложная
истина, постигаемая интуитивно, состоит в том, что доброжелательно-
сти надо позволять брать верх над личным интересом.
Дэвид Юм и Адам Смит, соглашаясь с Хатчесоном в главном, все
же пытаются подкрепить его позицию, углубляясь в психологические
истоки доброжелательности. Весьма важным из них, говорят они, яв-
ляется симпатия — стремление проникнуть в радости и печали других
людей. Мандевиль считал жалость слабостью, поскольку это страсть,
хотя и привлекательная: желание избавиться от особого рода беспокой-
ства. Адам Смит настаивает на том, что симпатия бескорыстна, и вы-
сказывает предположение, что «объяснение человеческой природы...
которое выводит все чувства и привязанности из себялюбия... возник-
ло, как мне кажется, из некоего превратного понимания системы сим-
патии» (Smith, 1759, р. 317).
Смит привлек внимание и к другой тенденции в человеческой при-
роде: эстетическому восхищению «способностью любой системы или
машины давать результат, для которого она предназначалась», зачас-
тую приводя к тому, что средства становятся ценны сами по себе, со-
вершенно отдельно от первоначальной цели. (Смит понял бы секрета-
ря приюта для незамужних матерей, который сказал в годовом отчете:
«Было бы весьма жаль, если после такой самоотверженной работы та-
кого множества людей этот дом придется закрыть из-за недостатка де-
вушек, нуждающихся в помощи».) Несмотря на то что он рассматри-
вает эту тенденцию как отличную и от собственного интереса, и от
доброжелательности, ее рассмотрение приводит Смита к выводам, ко-
784
торые странно похожи на выводы Мандевиля. Одним из ее проявле-
ний, говорит он, выступает накопление богатств, намного превосходя-
щих потребности самих богачей:
«Из груды богатств богачи выбирают лишь то, что наиболее ценно и
приятно. Они потребляют немногим больше бедняков и, несмотря на
свою природную эгоистичность и жадность, хотя они имеют в виду
лишь собственные удобства, и единственной целью, которую они ожи-
дают от трудов всех тех тысяч людей, которых они нанимают, явля-
ется удовлетворение их собственных суетных и ненасытных желаний —
все же они разделяют с бедными результаты использования всех этих
трудов. Их ведет невидимая рука, производя почти такое же распре-
деление предметов первой жизненной необходимости, которое проис-
ходило бы, если б земля была поделена на равные доли между всеми ее
жителями, и таким образом, не ожидая этого, не зная об этом, дей-
ствует в интересах общества и предоставляет средства для преумно-
жения рода человеческого» (Smith, 1759, р. 184—185).
Из этого ясно, что Смит, как и Мандевиль, видит, что фактичес-
кие последствия действий могут быть совершенно отличными от ожи-
даемых. Пчелы в басне Мандевиля намеревались всего лишь вести доб-
родетельную и воздержанную жизнь; они не предвидели, что это при-
ведет к разорению портных, модисток, адвокатов, тюремщиков,
ливрейных лакеев, придворных, поваров и многих других, а в конце
концов — к экономическому краху всего улья. Мандевиль делает вы-
вод, что общественное благо вытекает из частных пороков; но очевид-
но, что те, кто этим порокам предается, думают не об общественной
пользе, а только о своем собственном удовлетворении.
Адам Смит в другой своей ссылке на невидимую руку говорит, что
большинство индивидов в своих экономических трансакциях не име-
ют намерения способствовать общественному интересу, да и не осо-
знают, что это делают.
«Он имеет в виду лишь свою собственную прибыль, и в этом, как и
во многих других случаях, его ведет невидимая рука, способствуя цели,
которая никак не входила в его намерения». Он добавляет, что в це-
лом это хорошо. «Преследуя свой собственный интерес, он зачастую
способствует интересу общества более действенно, чем тогда, когда в
действительности намеревается ему способствовать. Я никогда не слы-
шал, чтобы много пользы приносили те, кто делает вид, что торгует для
общественного блага. Это, конечно же, притворство, не слишком час-
то встречающееся среди купцов, и, чтобы их отговорить от этого, нуж-
но употребить очень немного слов» (Smith, 1776, р. 456).
Но это не все. Дело не только в том, что погоня за богатством или
властью приводит к тому, что честолюбцы способствуют общественно-
му интересу, преследуя при этом лишь свои собственные интересы; эс-
тетическая тенденция ценить средства достижения цели сами по себе
вызывает у людей ложное представление об их собственных интересах.
Удовольствия быть богатым и могущественным, которые на самом деле
не делают человека счастливым,
785
«поражают воображение, как нечто великое, прекрасное и благород-
ное, достижение чего вполне стоит всех трудов и забот, которые мы
столь склонны этому посвящать. И хорошо, что природа обманывает
нас таким образом. Именно этот обман воодушевляет и постоянно
поддерживает человеческое усердие» (Smith, 1759, р. 183).
Но, быть может, самая оптимистичная версия теории невидимой
руки была выдвинута Т. Грином. Действия плохих людей, говорит он
(по крайней мере, когда они обладают властью), «обращаются на бла-
го». В этом, уверяет он нас, нет ничего сверхъестественного; это всего
лишь одно из благотворных следствий жизни в обществе и, в частно-
сти, в национальном государстве. В качестве примера он приводит
Наполеона:
«При всем его эгоизме, его индивидуальностью настолько руководил
национальный дух, проявлявшийся как в нем самом, так и в виде внеш-
него влияния, что он мог прославлять себя лишь через величие Фран-
ции, и хотя это величие во многих отношениях носило вредный и иллю-
зорный характер, но в нем было так много от того, что можно назвать
духом гуманизма, и поэтому Наполеону доставляла удовлетворение вера
в то, что он служит гуманизму. Следовательно, возвышение Франции,
в котором находила проявление страсть Наполеона к славе, должно
было по крайней мере принимать подобие освобождения угнетенных
народов, а, принимая подобие, оно в значительной мере вело к этому и
в действительности...» (Green, 1886, р. 134).
Сомнительно, однако, что мировой опыт диктаторов мог бы дать
много доказательств такого «обращения во благо».
Для Гоббса моральные принципы («законы природы») являются
социологическими законами, описывающими то, как люди могут мирно
сотрудничать. Для Юма и Смита они скорее являются психологичес-
кими истинами относительно того, что люди одобряют исходя из дан-
ного своеобразного сочетания их мотивов (из которых собственный
интерес — лишь один из многих), а также общественной потребности
в неких зафиксированных стандартах поведения, которую подчерки-
вал Гоббс.
Психологический подход был принят также и ранними утилитари-
стами. Они, однако, были более склонны к поиску нравственного в
самом собственном интересе, поскольку альтернативы: «интуиция»,
«нравственное чувство», «естественное право» и пр. — казались им
лишь оправданием обожествления своих собственных предрассудков.
«Природа, — говорил Бентам, — отдала человечество во власть двух су-
веренных повелителей — страдания и наслаждения. Именно они ука-
зывают, что нам следует делать, а также и определяют, что мы будем
делать» (Bentham, 1789, р. 11). Можно было бы ожидать, что эти пове-
лители приказывают каждому индивиду искать наивысшего счастья
лично для себя. Но, по Бентаму, они ставят иную цель — счастье для
всех. Бентам никак не объясняет этого перехода.
Милль делает попытку объяснить это, приводя краткий и подверг-
шийся сильной критике довод. Как и Адам Смит, он апеллирует к тому,
что средства имеют тенденцию становиться целью. К добродетели, го-
786
ворит он, состоящей в желании способствовать всеобщему счастью и
первоначально культивировавшейся как средство достижения своего
собственного счастья, начинают стремиться ради нее самой. Из сред-
ства достижения счастья она стала составной его частью. Г.Э. Мур с
презрением отвергает этот аргумент, видя в нем как вопиющую неспо-
собность различить две весьма разные вещи — часть и средство. Одна-
ко возможно, что на самом деле довод Милля намного тоньше» (Moore,
1903, р. 71-72).
Согласно Гоббсу, моральные правила устанавливают, как должны
вести себя люди, чтобы общество могло существовать. Нуждаясь в об-
ществе, индивид выбирает в качестве своей цели не просто собствен-
ный интерес, а компромисс между своим собственным интересом и
интересами других людей. Он соглашается на компромисс потому, что
полкаравая лучше, чем остаться без хлеба вообще. Вследствие этого он
чувствует себя обязанным подчинять свои собственные интересы это-
му компромиссу, когда они вступают в конфликт. Но он подчиняется
законам морали лишь как средству, с тем чтобы склонить других так-
же им подчиняться. Его награда состоит в том, что им подчиняются
другие; ценой, которую он платит, является его собственное подчине-
ние. Но можно возразить, что на самом деле мы не думаем так о мора-
ли. Мы хотим делать правильные вещи ради них самих. По всей види-
мости, из мнения Гоббса надо было бы сделать вывод о том, что ра-
зумнее быть удачливым лицемером, чем подлинно хорошим человеком.
Рассмотрим, однако, что получается, если компромисс принят.
Поскольку общество зависит от этого согласия, оно возьмет на себя
заботу внушать его важность каждому новому поколению. Каждый,
кого так воспитывали, будет воспринимать этот компромисс не как
компромисс, а просто как правильный образ действий. Более того, он
будет испытывать неудобство при мысли о достижении своих личных
целей способом, который мог бы противоречить данному компромис-
су. По словам Милля, он начинает думать о себе как о существе, кото-
рое естественным образом считается с другими (Mill, 1863, р. 232). Под-
чинение нормам морали, необходимое для достижения всеобщего сча-
стья, стало частью его личного счастья, а не просто средством его
достижения.
Ответ Милля на вопрос «В чем состоит фундаментальный принцип
морали?» таков: делай все, что содействует наибольшему счастью окру-
жающих. Его ответ на другой вопрос (почему ему надо подчиняться?)
состоит в следующем: потому, что вы приучены обществом связывать
ваше собственное счастье со счастьем других людей. Если бы не суще-
ствовало этой социальной обусловленности, не было бы стабильного
общества и жизнь ваша была бы достойна жалости. Более того (и Милль
узнал это скорее от Дэвида Гартли, чем от Гоббса), исполнение наших
социально обусловленных желаний должно вызывать большее удовлет-
ворение, чем первичных или биологических.
Поздние утилитаристы, как правило, не следовали Миллю в данном
вопросе. Действительно, Генри Сиджуик, вопреки Бентаму, заявил, что
принцип наивысшего счастья основан на рациональной, самоочевид-
787
ной интуиции. Философы-моралисты, имевшие другие убеждения,
либо приняли какую-то из форм интуиционизма, либо доказывали (не-
убедительно), что вопрос «Почему надо быть нравственным?» не име-
ет смысла.
БИБЛИОГРАФИЯ
Bentham, J. 1789. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation.
Ed. J.H. Bums and H.L.A. Hart, London: Anthlone Press, 1970.
Green, Т.Н. 1886. Lectures on the Principles of Political Obligation. London:
Longman, 1941.
Hobbes, T. 1651. Leviathan, or The Matter, Forme & Power of a Commonwealth,
Ecclesiasticall and Civill. Oxford: Clarendon Press, 1909; New York: E.P. Dutton
& Co., 1934.
Hume, D. 1739. A Treatise of Human Nature. Ed. L.A. Selby-Bigge, Oxford:
Clarendon Press, 1896.
Hume, D. 1751. Enquiries Concerning the Human Understnding and Concerning the
Principles of Morals. Ed. L.A. Selby-Bigge, Oxford: Clarendon Press, 1902.
Hutcheson, F. 1728. An Essay on the Nature and Conduct of the Passions, with
Illustrations upon the Moral Sense. Facsimile edn prepared by B. Fabian,
Hildesheim: G. Olms, 1971.
Mandeville, B. 1724. The Fable of the Bees, or Private Vices, Publick Benefits.
Ed. F.B. Kaye, Oxford: Clarendon Press, 1924.
Mill, J.S. 1863. Utilitarianism. In Essays on Ethics, Religion and Society,
ed. J.M. Robson, Toronto: University of Toronto Press; London: Routledge &
Kegan Paul, 1969.
Moore, G.E. 1903. Principia Ethica. Camridge: Camridge University Press.
Shaftesbury [A.A. Cooper], 3rd Earl. 1699. An Inquiry Concerning Virtue or Merit.
Ed. D. Walford, Manchester: Manchester University Press, 1977.
Sigwick, H. 1907. The Methods of Ethics. 7th edn, ed. E.E.C. Jones, London:
Macmillan, 1962.
Smith, A. 1759. The Theory of Moral Sentiments. Ed. A.L. Macfie and D.D. Raphael,
Oxford: Clarendon Press, 1974.
Smith, A. 1776. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
Ed. R.H. Campbell, A.S. Skinner and W.B. Todd, Oxford: Clarendon Press, 1976.
НЕЯВНОЕ
(ТЕНЕВОЕ) ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Рави Канбур
Shadow Pricing
Ravi Kanbur
Когда предприниматель оценивает проект, он прежде всего стремит-
ся рассчитать его предполагаемую прибыль. Эти вычисления можно
рассматривать как двухходовую операцию. На первом этапе оценива-
ются все существенные для предпринимателя материальные послед-
ствия проекта — затраты и результаты. На втором этапе эти материаль-
ные затраты и результаты посредством рыночных цен переводятся в из-
держки и выручку. Естественно, частный предприниматель использует
при определении стоимости материальных затрат и продаж действу-
ющие рыночные цены, поскольку именно по этим ценам заключают-
ся сделки, результатом которых явится прибыль.
Теперь обратимся к оценке проекта правительством. Для него про-
цедура будет иной на каждом из указанных этапов. На первом из них
правительство должно будет принять во внимание все последствия про-
екта, в том числе и косвенные. В этом его отличие от частного пред-
принимателя, которого интересует лишь четко очерченная область соб-
ственной деятельности. На втором этапе правительство предпочтет
использовать не существующие рыночные цены, а такие цены, кото-
рые отражали бы издержки и выгоды общества в целом, что позволит
рассчитать так называемый общественный эффект (social profit). Та-
кие цены называются неявными (shadow), или учетными (accounting)
(см.: Little and Mirrlees, 1974), и сам термин подсказывает, что они пред-
назначены для использования вместо фактических рыночных цен.
Рыночные цены таковы, каковы они есть. Но каким образом сле-
дует вычислять цены неявные? Они, вне всякого сомнения, зависят от
целевой функции правительства и тех ограничений, с которыми оно
сталкивается. Неявные цены должны быть такими, чтобы обществен-
ный эффект проекта был положительным в том и только том случае,
когда в результате его реализации увеличивается значение целевой
функции правительства. Можно утверждать, что для небольшого про-
екта в условиях общего равновесия при свободной конкуренции неяв-
ные цены будут практически совпадать с ценами рынка, если прави-
тельство целенаправленно максимизирует экономическую эффектив-
ность. Если задачи, решаемые правительством, включают преодоление
неравенства, но в его распоряжении имеются средства для реализации
этих устремлений путем единовременных выплат, то неявные цены
789
будут по-прежнему совпадать с рыночными. По существу, правитель-
ству следует использовать перераспределительное единовременное на-
логообложение в интересах обеспечения равенства, а сам проект —
в интересах роста совокупного благосостояния.
Однако в том случае, если правительство не располагает набором
инструментов, достаточным для осуществления эффективного перерас-
пределения без искажения сложившихся предпочтений, неявные цены
могут отличаться от рыночных даже в условиях полного конкурентно-
го равновесия. Наконец, если экономика не находится в состоянии
полного конкурентного равновесия, доводы в поддержку использова-
ния неявных цен, отличных от рыночных, становятся совершенно на-
стоятельными.
В терминах программирования неявные цены являются двойствен-
ными оценками, характеризующими изменения целевой функции пра-
вительства. Один из аргументов в пользу их употребления заключается
в выгодах децентрализации: те, кто рассматривает проект на местах,
более компетентны в определении его материальных результатов, и при
расчете социальной эффективности проектов это локализованное зна-
ние должно использоваться в сочетании с централизованно определен-
ными неявными ценами. Но истинные трудности возникают при вы-
яснении целей правительства и сдерживающих его ограничений, что,
в свою очередь, прямо связано с тем, кто конкретно занимается оцен-
кой проекта.
В теории обыкновенно допускается, что это унитарное правитель-
ство, ориентированное на рост общественного благосостояния, своего
рода «добрый диктатор». Но на практике проект оценивают либо чле-
ны коалиционного правительства, либо международная организация,
вынужденная иметь дело с руководством, стремящимся к противоре-
чивым и даже взаимоисключающим целям. Алгоритм анализа для меж-
дународной организации достаточно очевиден: рассмотрение проекта
должно включать в себя моделирование политической ситуации с це-
лью выяснить, как будет сочетаться проект с проводимой правитель-
ством политикой. Сен (Sen, 1972) подробно рассмотрел случай, когда
проект требует закупок ресурса, импорт которого ограничен квотой, —
в результате чего цена ввоза разительно отличается от его цены внутри
страны, обусловленной редкостью ресурса. Предложенная Литтлом и
Мирлисом (Little and Mirrlees, 1974) методика использования в расче-
тах именно цен ввоза основана на предположении, что этими ценами
задаются возможности развития национальной экономики. Но если
анализ политической ситуации показал, что правительство не пойдет
на снятие квоты (из-за преобладающего влияния кругов, извлекающих
выгоду из порождаемых квотой рентных доходов), то для определения
стоимости ресурса надлежит использовать именно внутреннюю его
оценку, определяемую редкостью.
Аналогично любой проект, оказывающий существенное влияние на
распределение доходов, будет оказывать влияние на внутриполитичес-
кую ситуацию, и со стороны социальных слоев, которым он нанесет
ущерб, возникнут попытки восстановить прежний уровень жизни. Это
790
должно учитываться как при общей оценке проекта, так и, в частно-
сти, при определении неявных цен. В качестве примера рассмотрим
теневые цены на трудовые ресурсы. Если работники, необходимые для
осуществления проекта, привлекаются из сельскохозяйственной отрас-
ли, где труд является ограничивающим фактором, то уровень сельско-
хозяйственного производства сократится. Если доходы правительства
зависят от налогообложения этой продукции, то и они уменьшатся.
А если, в свою очередь, государственные расходы служат основным ис-
точником доходов вне сельскохозяйственной сферы (в городах), тогда
при фиксированном бюджетном дефиците снизятся доходы городских
жителей. Эти сдвиги в распределении доходов станут важной состав-
ляющей неявной стоимости трудовых ресурсов. Но теперь допустим,
что характер политической ситуации не допускает падения жизненно-
го уровня городского населения. Более вероятно, что государственные
расходы останутся на прежнем уровне, зато вырастет бюджетный де-
фицит. В этом случае необходимо учитывать увеличение бремени дол-
га, оставленного в наследство будущим поколениям. Как бы то ни было,
важно понять, что моделирование политической ситуации — ключевой
момент в определении неявных цен, даже если те, кто производит оцен-
ку проекта (будь то международная организация или уполномоченное
правительственное подразделение), имеют ясное представление о том,
в чем заключается его цель. Пример того, как можно учитывать эти
ограничения, дан Брэйвермэном и Канбуром (Braverman and Kanbur,
1985) на конкретном материале проектов, разработанных для Западной
Африки.
БИБЛИОГРАФИЯ
Braverman, A. and Kanbur, S.M.R. 1985. Urban bias, present bias, and the shadow
cost of labour for agricultural projects: the West African context. The World Bank.
Mimeo.
Little, I.M.D. and Mirrlees, J.A. 1974. Project Appraisal and Planning for Developing
Countries. London: Heinemann.
Sen, A.K. 1972. Control areas and accounting prices: an approach to economic
evaluation. Economic Journal 82, Supplement, 486-501.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ
Я. де В. Граафф
Social Cost
J. De V. Graaff
Идея, лежащая в основе понятия общественных издержек, крайне
проста. Человек, предпринимающий некоторое действие, не обязатель-
но несет все связанные с этим действием издержки (или присваивает
все связанные с ним выгоды). Издержки, которые несет лично он, на-
зываются частными издержками, в то время как издержки, которые
вынуждены нести другие, называются внешними издержками. Сумма
этих двух типов издержек и образует общественные издержки.
За этим кажущимся очевидным утверждением скрывается целый
набор проблем, связанных с определением, оценкой и агрегировани-
ем общественных издержек. Данные проблемы рассматриваются в па-
раграфе 1. В параграфе 2 дается краткий обзор ряда вопросов, для изу-
чения которых — несмотря на ряд разночтений — часто используется
концепция общественных издержек.
1. ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Частные издержки обычно определяются в терминах альтернатив-
ных издержек как наиболее ценный (или наиболее предпочтительный)
из альтернативных вариантов выбора, от которых пришлось отказать-
ся. На практике это обычно означает, что частные издержки получе-
ния блага равны сумме денег, которая за это благо уплачена. Такое
определение является корректным, поскольку предполагается, что ин-
дивид (или фирма) придерживается стратегии оптимизации. Каждый
акт выбора предполагает принесение в жертву каких-либо альтернатив.
Всегда существуют варианты, от которых с необходимостью приходится
отказаться.
Другие субъекты, которые несут внешние издержки данного дей-
ствия, также придерживаются стратегии оптимизации, поэтому приве-
денное определение справедливо и для данного типа издержек. Одна-
ко для общественных издержек оно является некорректным, посколь-
ку нет оснований предполагать, что стратегия оптимизации может
описать поведение общества в целом. Общество может, не сокращая
досуга своих членов и не жертвуя чем-либо еще, нарастить производ-
ство и пушек, и масла. С технической точки зрения это возможно тог-
да, когда в исходном состоянии оно не достигает границы обществен-
ных производственных возможностей, — такая ситуация может с рав-
792
ной вероятностью быть как нормой, так и исключением из правила. В
этих условиях не происходит отказа от каких-либо альтернативных ва-
риантов выбора, а потому отсутствуют и издержки.
Если общество достигло границы производственных возможностей,
существуют, по крайней мере, некоторые издержки. Однако их значе-
ние может зависеть от того, кто несет их бремя. Имеет ли отказ от по-
требления масла богатым субъектом А столь же важное значение, как
отказ от потребления масла бедным субъектом В? Можно ли просто
суммировать количества масла, от которых отказались эти субъекты, для
получения величины общественных издержек?
Определение общественных издержек как суммы частных и внеш-
них издержек дает возможность обойти проблему, связанную с тем, что
общество может не придерживаться стратегии оптимизации; однако
оно не позволяет преодолеть сложности, обусловленные необходимо-
стью суммирования издержек, бремя которых несут разные люди. Оно
не обеспечивает решения и некоторых иных проблем. Мы рассмотрим
эти проблемы последовательно, начав с наименее сложных.
(1) «Границы» общества. Если я построил дом, загораживающий вид
из окна моего соседа, но не создающий неудобства для кого-либо еще,
то внешние издержки, бремя которых я возложил на соседа, являются
единственным видом внешних издержек, который следует учитывать
при определении общественных издержек моего действия. При этом
так или иначе можно получить стоимостную оценку причиненных со-
седу непосредственных неудобств, а снижение цены на его собствен-
ность, если рынок функционирует должным образом, будет достаточ-
но корректно отражать потери с точки зрения ее покупателей.
В других случаях дело обстоит не так просто. Загрязнение атмосфе-
ры или водного бассейна может затрагивать несколько государств. Ка-
кие издержки представляют для нас интерес — издержки, которые не-
сет наше общество, или издержки, определяемые с точки зрения ми-
рового сообщества? А если рассматриваемая деятельность затрагивает
интересы будущих поколений? Как измерить издержки, возлагаемые на
них? При рассмотрении проблем, связанных, например, с обществен-
ными издержками использования ядерной энергии, перечисленные
вопросы могут оказаться очень важными.
Прежде чем говорить об общественных издержках, необходимо
уточнить пространственно-временные «границы» общества, которое
имеется в виду. После того как по этому вопросу достигнута ясность,
мы можем перейти к другим проблемам.
(2) Издержки и выгоды. Внешние издержки, причиняемые инициа-
тором действия другим субъектам, не обязательно должны быть поло-
жительными. Могут существовать и «отрицательные издержки», или
выгоды (benefits). (Если я выкрашу свой дом в ярко-желтый цвет, я могу
шокировать Джонса, но доставить удовольствие Смиту.) При этом не
имеет существенного значения, будем ли мы учитывать эти отрицатель-
ные издержки отдельно, называя их выгодами, или непосредственно
793
будем вычитать их из положительных издержек, получая величину чи-
стых издержек.
Обычная практика анализа издержек и выгод (Cost-Benefit Analysis)
заключается в том, чтобы рассматривать эти категории издержек по
отдельности, а затем проводить сопоставление их величин. Однако в
других сферах экономической науки принято рассчитывать чистые
издержки, т.е. издержки за вычетом выгод. Примером является утверж-
дение, встречающееся во многих учебниках, которое гласит, что об-
щественные издержки не включают в себя величину ренты. При этом под-
разумевается, что прирост ренты от фактора производства, цена кото-
рого благодаря увеличению спроса на его услуги повышается,
представляет собой всего лишь трансферт богатства и не ведет к воз-
никновению общественных издержек.
Если осуществляемый предпринимателем проект ведет к увеличе-
нию спроса на труд и другие факторы производства и посредством это-
го — к росту заработной платы и цен, то частные издержки данного
предпринимателя повышаются. Однако это повышение компенсирует-
ся отрицательными внешними издержками в форме прироста возна-
граждения факторов производства (т.е. доходов владельцев этих фак-
торов). Издержки двух указанных типов равны по величине, так что
суммирование частных и внешних издержек позволяет сделать вывод
об отсутствии общественных издержек. Прирост ренты учитывается
(с разными знаками) как в величине частных, так и в величине внеш-
них издержек, но — согласно рассматриваемому утверждению — не
влияет на величину общественных издержек.
Когда издержки, которые несут индивиды, не являются издержка-
ми с точки зрения общества, их во многих случаях целесообразно на-
зывать убытками (losses), а отрицательные издержки — прибылями
(gains). Если я владею магазином по соседству с вашим и перемани-
ваю ваших клиентов посредством снижения цен, вы несете потери,
которым противопоставляется прирост благосостояния потребителей и
получаемая мною прибыль (если таковая существует) от дополнитель-
ных продаж. Потери и убытки, связанные с изменением цен, не явля-
ются издержками с точки зрения общества.
Утверждение о том, что изменение цен не влечет за собой возник-
новения общественных издержек, опирается на неявное предположе-
ние о закрытом характере экономики. В открытой экономике измене-
ние международных условий торговли может либо возлагать на рези-
дентов данной страны бремя реальных издержек, либо позволять им
получать рентные доходы за счет резидентов иных стран. Кроме того,
указанное утверждение подразумевает, что проблемы измерения и аг-
регирования удалось успешно преодолеть.
(3) Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах. При измере-
нии издержек необходимо определить продолжительность рассматри-
ваемого периода. В долгосрочном периоде величина издержек, как
правило, меньше, чем в краткосрочном; в особенности это относится
к внешним издержкам. Для субъектов, на которых возлагается бремя
794
издержек, такое развитие событий вначале оказывается неожиданным,
однако затем они предпринимают усилия по снижению величины этих
издержек путем адаптации своей деятельности к новым условиям. Если
законы данного общества позволяют предъявить претензии субъекту —
инициатору действий, обусловивших возникновение внешних издер-
жек, то несущие эти издержки субъекты могут добиться еще большего
их сокращения путем принуждения инициатора к изменению своего
поведения. Разумеется, уменьшение суммы частных и внешних издер-
жек (т.е. величины общественных издержек) может быть при этом ме-
нее существенным, однако это — совсем другой вопрос.
Проиллюстрировать данное утверждение можно с помощью неболь-
шой модификации хорошо известного примера (Пигу, 1985, т. I, с. 201).
Если искры, вылетающие из локомотива, могут вызвать пожар и нанес-
ти ущерб урожаю фермера, земли которого располагаются вдоль желез-
ной дороги, то непредвиденное удвоение числа поездов может означать
для него возникновение дополнительных внешних издержек. С течени-
ем времени он может сократить величину этих издержек путем выращи-
вания вдоль дороги вечнозеленых культур или оставляя полосу земли
вдоль дороги необработанной. Далее, если закон это позволяет, фермер
может подать иск против железнодорожной компании за нанесение
ущерба или потребовать компенсации за потерю прибыли, связанную с
менее производительным использованием земли. Эти меры могут в конце
концов побудить железнодорожную компанию установить на локомоти-
вах фильтры, препятствующие образованию искр, или сократить число
поездов. Все эти факторы в совокупности позволяют предполагать, что
величина внешних издержек с течением времени будет снижаться.
Можно ожидать, что в случаях, подобных рассмотренному, когда
имеется только две заинтересованные стороны, реальной альтернати-
вой судебным процедурам окажутся непосредственные переговоры
между сторонами. Распределение выгод будет, разумеется, зависеть от
соотношения сил при торге (bargaining strength), которое отчасти опре-
деляется набором их прав, однако результат будет в основном одина-
ковым: сумма частных и внешних издержек будет сокращаться до тех
пор, пока дальнейшее ее сокращение не будет вызывать еще большего
сокращения выгод. Поскольку переговоры всегда требуют времени, то
опять-таки можно ожидать, что величина общественных издержек в
долгосрочном периоде будет ниже, чем в краткосрочном.
(4) Агрегирование. Суммирование внешних и частных издержек для
определения величины общественных издержек подразумевает агреги-
рование издержек, которые несут различные люди. В конечном итоге
это равносильно утверждению, что, при прочих равных условиях, из-
держки субъекта А в размере 10 дол. значат для общества больше, чем
издержки субъекта Б в размере 9 дол., вне зависимости от того, кем эти
субъекты являются. Для такой процедуры существует только два воз-
можных основания.
Первое, утилитаристское основание подразумевает безусловную воз-
можность межличностных сравнений полезности, а также равенство
795
предельной полезности денег для всех субъектов. При этом меньшие
общественные издержки представляют собой меньшую потерю «сово-
купного удовлетворения» (aggregate satisfaction).
Второе основание предполагает использование критериев компенса-
ции (Graaff, 1957, ch. 5). Если изложить суть дела кратко, в данном слу-
чае критерием социальной желательности изменений является возмож-
ность выплаты компенсаций теми, кто оказался в выигрыше благода-
ря происшедшим изменениям, в пользу тех, кто от этих изменений
пострадал; при этом после выплаты компенсаций благосостояние вы-
игравших не должно оказаться ниже, чем в исходных условиях. Разу-
меется, чем меньше сумма частных и внешних издержек, тем выше
вероятность того, что выигравшие окажутся в состоянии компенсиро-
вать потери проигравшим.
Ни одно из этих оснований не является полностью удовлетвори-
тельным. У утилитаризма до сих пор есть некоторое число привержен-
цев, однако лишь немногие из них стали бы утверждать, что предель-
ная полезность денег является одинаковой для бедных и богатых.
В свою очередь, возможность компенсаций немногого стоит до тех
пор, пока эти компенсации фактически не будут осуществлены. (Что
толку в утверждении, что — хотя некоторые люди голодают — общест-
венные издержки все же невелики, ибо этим людям может быть пре-
доставлено достаточное количество пропитания?) Если, с другой сто-
роны, компенсации действительно выплачиваются, изменение цен
может привести к случаям инверсии исходных условий (reversals), подоб-
ным тем, которые подверг анализу Т. Ситовски (Scitovsky, 1941). До
компенсации общественные издержки деятельности А могут быть
ниже, чем общественные издержки деятельности Б, а после компен-
сации соотношение издержек может оказаться обратным. Выбор вида
деятельности, обеспечивающего более низкий уровень общественных
издержек, требует предварительного выбора между двумя варианта-
ми распределения богатства. В противном случае возникает заколдо-
ванный круг.
2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Основное применение понятие общественных издержек находит в
сфере анализа издержек и выгод (Cost-Benefit Analysis). При этом воз-
никает множество проблем, связанных с оценкой. Как, к примеру,
оценивать стоимость человеческой жизни, если существует вероятность
дополнительных жертв вследствие экономии на затратах при обеспе-
чении безопасности нового шоссе или разработке специальных требо-
ваний к его строительству? Как оценить другие блага, которые не яв-
ляются объектами купли-продажи на рынке? (На практике использу-
ются рыночные цены родственных товаров; однако уровень этих цен
обусловлен как раз тем, что отсутствуют рынки товаров, ценность ко-
торых пытаются определить!) Исследователи, работающие над пробле-
матикой анализа издержек и выгод, используют различные методы
преодоления указанных затруднений, и если бы этим ограничивались
796
существующие в данной области проблемы, усилия этих исследовате-
лей заслуживали бы высокой оценки.
Однако теория неизбежно должна столкнуться с упомянутыми в
предыдущем разделе проблемами агрегирования. В рамках утилитарист-
ского подхода часто используются «распределительные веса», отража-
ющие приблизительные оценки исследователем предельной полезнос-
ти денег для различных людей. При этом издержки в размере 1 дол.,
если их бремя несет бедный человек, с точки зрения общественных
издержек могут значить больше, чем издержки богатого человека в раз-
мере 2 дол. С учетом этого можно с большой уверенностью утверждать,
что величина общественных издержек будет такой, какой ее хотел бы
видеть исследователь.
Сторонники подхода, основанного на критериях компенсации, на-
деются на то, что изменения цен, вызванные гипотетической компен-
сацией, будут не столь значительными, чтобы вызвать инверсию исход-
ных условий. Однако не все обстоит так просто. Сравнение обществен-
ных издержек с общественными выгодами для определения
оптимального варианта выбора является задачей, применительно к
которой справедливы теоремы невозможности из теории общественно-
го выбора. Исключить возможность инверсии исходных условий, при-
водящей к ситуации нетранзитивности выбора, можно только путем
введения специальных предположений. Утилитаристы признают нали-
чие этой проблемы, когда произвольно определяют распределительные
веса. Не прибегая к подобным произвольным процедурам, сторонни-
ки критериев компенсации тестов оставляют широкое поле для сомне-
ний в адекватности своих оценок величины общественных издержек.
Теория общественных издержек также используется при анализе не-
состоятельности рынка. Если оставить в стороне тонкости дефиниций,
прежняя теория (Пигу, 1985) состояла примерно в следующем: макси-
мизация национального дивиденда требует достижения равенства меж-
ду предельными общественными издержками и предельными общест-
венными выгодами. Оптимизирующее рыночное поведение обеспечивает
равенство предельных частных издержек и предельных частных выгод.
В случае если эти два набора издержек и выгод не совпадают, рыночное
поведение не может обеспечить максимизации национального дивиден-
да. Расхождения между частными и общественными издержками (и вы-
годами) являются причиной несостоятельности рынка. При этом воз-
можны различные пути преодоления данных расхождений.
Более современная трактовка проблемы заключается в том, что не-
состоятельность рынка связана с установлением на рынке равновесия
в условиях, когда не все возможные взаимовыгодные сделки были ре-
ально заключены. Выполнение этого условия наиболее вероятно в том
случае, если последствия сделок затрагивают интересы других субъек-
тов, непосредственно не участвующих в их заключении. Существова-
ние внешних издержек и выгод приводит (по определению) к расхож-
дению между частными и общественными издержками и выгодами.
Центральный вопрос при такой трактовке следующий: почему эти
«другие субъекты» не участвуют в торге? Даже если они не имеют юри-
797
дического статуса сторон сделки (которым в случае четкой специфика-
ции прав собственности они вполне могут обладать), возможность сни-
жения их благосостояния вследствие участия в торге полностью исклю-
чена. Причина, разумеется, заключается в существовании трансакцион-
ных издержек. Заключение сделки требует затрат времени и иных
ресурсов, особенно если в переговорах участвует большое количество
людей. Кроме того, для получения всех выгод от заключенных сделок
необходимо предпринять связанные со значительными издержками
меры, направленные на исключение «безбилетников» из пользования
плодами этих сделок. (Я могу заключить сделку с соседом, чтобы он не
парковал свою машину перед моим домом; однако, если я не смогу вос-
препятствовать другим людям использовать для парковки освободившее-
ся место, пользы от такой сделки будет мало.) Любое исследование не-
состоятельности рынка, не опирающееся на открытое признание роли,
которую играют издержки торга, заключает в себе серьезный изъян.
Если бы торг и заключение сделок не требовали издержек и не на-
талкивались бы на юридические ограничения, то оптимизирующее
поведение рыночных субъектов автоматически обеспечивало бы заклю-
чение всех взаимовыгодных сделок. При нулевых трансакционных из-
держках возникновение несостоятельности рынка невозможно. Этот
вывод, получение которого часто приписывается Р. Коузу (Коуз, 1993),
известен как «закон Сэя для экономической теории благосостояния»
(Calabresi, 1968). Однако это почетное наименование было бы коррект-
нее зарезервировать для той формулировки указанного тезиса, которая
гласит: если сделка не заключена, то это обусловлено исключительно
тем, что придерживающиеся стратегии оптимизации субъекты пришли
к заключению, что трансакционные издержки перевешивают потенци-
альные выгоды от заключения сделки. Было бы очень здорово, если бы
мир был действительно устроен подобным образом.
Концепция общественных издержек, которая уделяла бы адекват-
ное внимание издержкам заключения сделок, еще не разработана. Это
обстоятельство, а также нерешенные проблемы агрегирования требу-
ют от нас очень осторожного и осмотрительного использования дан-
ного понятия.
БИБЛИОГРАФИЯ
Коуз Р. Проблема социальных издержек // Фирма, рынок и право. М.: Дело
ЛТД, 1993. С. 87-141.
Пигу А.С. Экономическая теория благосостояния. Т. I—II. М.: Прогресс, 1985.
Calabresi G. Transaction Costs, Resource Allocation and Liability Rules: A Comment //
Journal of Law and Economics, April 1968, p. 67—73.
Graaff J. de V. Theoretical Welfare Economics. Cambridge: Cambridge University
Press, 1957.
Scitovsky T. A Note on Welfare Propositions in Economics // Review of Economic
Studies, 1941, vol. 9, no. 1, p. 77-88.
798
МЕХАНИЗМ ПЕРЕТОКА
ДЕНЕЖНЫХ МЕТАЛЛОВ
Уильям Р. Аллен
Specie-flow Mechanism
William R. Allen
«Механизм перетока денежных металлов» является аналитической
моделью автоматического, или рыночного, выравнивания баланса меж-
дународных платежей. На конкурентных рынках в условиях функцио-
нирования институтов, характерных для системы металлического стан-
дарта, национальные уровни цен и потоки доходов автоматически при-
водятся в соответствие с равновесием международных платежей, под
которым в данном контексте обычно понимается нулевое сальдо тор-
гового баланса.
Классическое изложение принципов действия этого механизма, ко-
торое на протяжении почти двух столетий пользовалось — по крайней
мере в качестве первой аппроксимации — практически повсеместным
признанием, было предложено в эссе Дэвида Юма «О торговом балан-
се», увидевшем свет в 1752 г. Хотя авторство данной модели по праву
принадлежит Юму, основные элементы его аргументации были разра-
ботаны задолго до него. Более того, и прежде предпринимались приме-
чательные попытки создать на базе разрозненных аналитических аргу-
ментов целостную модель. Кроме того, даже если мы признаем все за-
слуги Юма в области систематизации и четкой формулировки модели,
его модель нельзя считать всеобъемлющим описанием механизма пере-
тока денежных металлов; в свою очередь, рассмотрением этого механиз-
ма не ограничивается анализ выравнивания платежного баланса.
Модель Юма представляет собой простое приложение количествен-
ной теории денег к случаю международной торговли и ее финансиро-
вания. При «чистом» золотом стандарте, предусматривающем стопро-
центное обеспечение денег золотом, и при условии, что до этого пла-
тежный баланс находился в равновесии, сокращение денежной массы
в стране А ведет к прямо пропорциональному падению уровня цен —
как абсолютному, так и по отношению к первоначально неизменным
уровням цен в других странах. Реакция потребителей на падение цен в
стране А, по Юму, будет выражаться в сокращении импорта и росте
экспорта. Когда валютный курс достигнет «золотой точки», положи-
тельное сальдо торгового баланса будет финансироваться за счет при-
тока золота в страну А, который приведет к такому росту цен в стране
А и снижению уровня цен за границей, что исчезнут как международ-
ные различия цен, так и чистые торговые потоки. Причинная цепочка
799
при этом идет от изменения денежной массы к изменению уровня цен,
затем — к изменению чистых торговых потоков и далее — к междуна-
родному перетоку золота, который ведет к исчезновению первоначаль-
ных международных различий в уровнях цен, а потому обусловливает
выравнивание торговых балансов и прекращение перетока золота между
странами. В условиях равновесия распределение золота между страна-
ми (а также между регионами отдельных стран) обеспечивает установ-
ление таких национальных (и региональных) уровней цен, которые
соответствуют нулевому сальдо торгового баланса.
Данная теория равновесия торгового баланса связана с теорией спе-
циализации производства Рикардо. В модели сравнительных преиму-
ществ, рассматривающей случай двух стран, двух товаров и одного
фактора производства (труда), страна А имеет абсолютные преимущест-
ва в производстве обоих товаров. Чтобы имела место двусторонняя тор-
говля, ставка заработной платы в стране А должна быть выше, чем за
рубежом, причем границы допустимого соотношения ставок заработ-
ной платы определяются степенью превосходства страны А в сфере
производства обоих товаров. Переток золота будет иметь место до тех
пор, пока соотношение ставок заработной платы в обеих странах не
примет такое значение, которое обеспечивает равенство стоимостных
объемов импорта и экспорта.
Вывод о том, что неравновесие торгового баланса — а значит, и пе-
реток золота — не может существовать на протяжении длительного вре-
мени, резко контрастировал с меркантилистскими указаниями на не-
обходимость перманентно поддерживать положительное сальдо торго-
вого баланса и обеспечивать непрерывное накопление золота. Вместе
с тем меркантилисты четко прослеживали связь между притоком зо-
лота и чистым экспортом товаров и услуг; значительное число авторов
указывали на прямую зависимость между денежной массой и уровнем
цен; равным образом утверждалось, что относительные изменения на-
ционального уровня цен оказывают влияние на внешнеторговые пото-
ки. Однако, хотя нам и следует отдать должное за попытки построить
модель выравнивания торгового баланса таким предшественникам
Юма, как Исаак Жервез (Gervase, 1720) и Ричард Кантильон (Cantillon,
1734), а отчасти и Жерар де Малин (de Malynes, 1601), никто из них не
может сравниться с Юмом по логической стройности объединения всех
перечисленных элементов, по осознанию аналитических следствий опи-
санного механизма и по влиянию на последующие поколения иссле-
дователей.
Предложенный Юмом вариант модели описывает ценовой механизм
перетока денежных металлов, где в качестве «цен» выступают нацио-
нальные уровни цен (и валютные курсы). Однако модель Юма, даже
если ее рассматривать как модель ценового механизма, не свободна от
недостатков.
Хотя следует признать разумным предположение о том, что изме-
нения в уровнях цен будут происходить в том же направлении (пусть
даже не в той же пропорции), что и рассматриваемые Юмом масштаб-
ные изменения денежной массы; тем не менее, остаются вопросы от-
800
носительно динамики расходов на импортируемые и экспортируемые
товары. Если графики функций спроса страны А на импорт и спроса
остальных стран на экспортируемые страной А товары вертикальны,
изменение цен не окажет никакого влияния на физический объем
импорта и экспорта. Если вслед за Юмом мы рассмотрим нарушение
изначального равновесия в результате резкого сокращения денежной
массы — а значит, и уровня цен — в стране А, зарубежные расходы на
экспортируемые страной А товары сократятся пропорционально паде-
нию цен. Отрицательное сальдо торгового баланса страны А будет фи-
нансироваться за счет оттока золота, что повлечет за собой дальнейшее
падение национального уровня цен и стоимостного объема экспорта,
а также рост цен за рубежом и увеличение расходов страны А на им-
порт. Вместо того чтобы выравнивать торговый баланс, переток золо-
та при нулевых (или достаточно незначительных) эластичностях спро-
са увеличивает отрицательное сальдо торгового баланса страны А. Эм-
пирически правдоподобные условия, при которых эластичности спроса
и предложения для экспорта и импорта обеспечивают выравнивание
торгового баланса вслед за изменением цен (включая изменения валют-
ных курсов), были сформулированы гораздо позже как «условие Мар-
шалла — Лернера». При наиболее неблагоприятных обстоятельствах,
когда эластичности предложения бесконечно велики, восстановление
равновесия торгового баланса требует, чтобы арифметическая сумма
эластичностей зарубежного спроса на экспортную продукцию страны
А и спроса страны А на импорт превышала единицу.
Однако, даже оставляя в стороне проблемы, связанные с определе-
нием условий стабильности в терминах эластичностей, мы сталкива-
емся с вопросом: корректно ли формулировать модель в терминах раз-
личий национальных уровней цен или изменений цен на импортиру-
емую какой-либо страной продукцию относительно экспортных цен
данной страны? Предположим, страна А имеет положительное сальдо
торгового баланса, обусловленное, к примеру, изменением структуры
международного спроса, которое отражает сдвиг предпочтений в пользу
производимых страной А товаров, или введение страной А импортно-
го тарифа, или последствия неурожая в зарубежных странах. По мере
притока золота в страну А расходы в ней возрастают и ожидается рост
уровня цен. Цены на товары внутренней торговли, которые не входят
во внешнеторговые потоки, в стране А действительно возрастают; од-
нако цены товаров, являющихся объектами международной торговли,
если и претерпевают какое-либо изменение, то небольшое, поскольку
одновременно с ростом спроса на эти товары в стране А происходит
падение спроса на них в странах, испытывающих отток золота. Спрос
потребителей в стране А, столкнувшихся с различием между нацио-
нальным и международным уровнями цен, переключается с относи-
тельно более дорогих товаров внутренней торговли на относительно
более дешевые товары международной торговли (т.е. импортируемые
и экспортируемые товары), благодаря чему растет стоимостный объем
импорта и национальное потребление товаров, являющихся объекта-
ми экспорта. Производители в стране А изменяют структуру выпуска
801
в пользу товаров внутренней торговли за счет товаров международной
торговли, что ведет к сокращению экспорта и росту импорта. В зару-
бежных странах наблюдаются зеркально противоположные тенденции
изменения структуры спроса и производства. Описанные изменения в
сфере внутреннего потребления и производства будут происходить до
тех пор, пока не прекратится международный переток золота и не бу-
дет восстановлено равновесие торгового баланса.
Однако значительное число современных эмпирических исследова-
ний подтверждают скорее наличие описанных Юмом изменений в
условиях торговли или временных расхождений относительных цен на
товары, являющиеся объектами международной и внутренней торгов-
ли, чем предполагаемое инвариантное действие равновесного «закона
единой цены», обычно используемого в рамках современного «моне-
тарного подхода» к анализу платежного баланса.
Когда наблюдается приток золота в страну А, равновесие портфе-
лей активов индивидов и фирм нарушается, поскольку запасы налич-
ных денег оказываются излишними. Люди пытаются израсходовать
излишки наличности; расходы растут, а номинальные доходы повыша-
ются. Рост дохода обусловливает рост спроса на товары, включая им-
портируемые товары: при любом конкретном уровне товарных цен
объем спроса оказывается более высоким. Физический и стоимостный
объем импорта растет. За рубежом изменения денежной массы приво-
дят к противоположной корректировке портфелей активов и противо-
положным изменениям в уровне доходов, а следовательно, к сокраще-
нию экспорта страны А. При этом наблюдаются определенные изме-
нения цен товаров внутренней торговли и факторов производства
(повышательные в стране А, понижательные за границей), однако на-
ряду с изменениями цен процесс выравнивания торгового баланса пре-
дусматривает также и изменения в уровне доходов.
Роль изменений денежного дохода и сдвига функций спроса отме-
чалась — в различных контекстах и с разной степенью четкости и ак-
центированности — многими авторами XIX в. и начала XX в. Однако
полная концентрация внимания на переменной дохода (при отрица-
нии — или сведении к минимуму — явной роли денежной массы и цен)
явилась результатом приложения к проблеме выравнивания торгового
баланса разработанной Дж.М. Кейнсом теории национального дохода.
Возможности такого приложения — с преимущественным акцентом на
«предельные склонности» и вторичные мультипликативные эффекты —
никак не связаны с функционированием системы международного зо-
лотого стандарта. Далее, очень серьезным упущением является игно-
рирование роли денег в анализе мультипликатора внешней торговли.
Равновесие в модели доходов характеризуется равенством «утечек»
(leakages), т.е. суммы сбережений, налоговых платежей и расходов на
импорт, и «впрыскиваний» (injections), т.е. суммы инвестиций, госу-
дарственных расходов и поступлений от экспорта. Однако подобное
равенство «утечек» и «впрыскиваний» допускает наличие устойчивого
неравновесия торгового баланса. А неравновесие торгового баланса,
финансируемое за счет перетока золота, — или, в общем случае, свя-
802
занное с изменением денежной массы — ведет к последующему изме-
нению дохода; таким образом, доход не достигает истинно равновес-
ного уровня.
Реальные институты и процессы, даже в условиях классического
золотого стандарта в предшествующую Первой мировой войне эпоху,
плохо соответствовали аналитической конструкции Юма. Мир, для
которого в целом характерны использование неразменных на золото
бумажных денег, всеобщее распространение практики банковских вкла-
дов до востребования, а также банковская деятельность с частичным
резервным покрытием и дискреционная денежная политика, мир, в ко-
тором действует такой институт, как Международный валютный фонд,
ориентированный на искусственную поддержку валютных курсов на
протяжении неопределенно длительного времени, в большей степени
опирается не на автоматический механизм выравнивания торгового
баланса, а на набор специальных процедур. Таким образом, сама по себе
модель Юма является неадекватной и даже некорректной во многих
важных эмпирических аспектах. Однако на раннем этапе дискуссии
(которая продолжается и в наше время) она позволила добиться цело-
стности аналитических построений и ясности изложения.
БИБЛИОГРАФИЯ
Blaug, М. 1985. Economic Theory in Retrospect. Cambridge: Cambridge University
Press // Блауг M. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело ЛТД,
1994.
Юм Д. О торговом балансе. В: Юм. Д. Малые произведения. М.: Канон, 1996,
с. 110-130.
Darby М. and Lothian J. The International Transmission of Inflation. Chicago:
University of Chicago Press, 1983.
Fausten D. The Humean Origin of the Contemporary Monetary Approach to the
Balance of Payments//Quarterly Journal of Economics, November 1979, vol. 93,
p. 655-673.
Yeager L. International Monetary Relations: Theory, History, and Policy. 2nd edn.
New York: Harper & Row, 1976.
Экономика спорта
Джеймс Куирк
Sports
James Quirk
Как правило, профессиональные спортивные лиги и любительские
спортивные ассоциации действуют подобно картелям на рынках про-
изводственных ресурсов и готовых продуктов. Несмотря на то что в
каждом виде спорта имеются свои особенности, большинство профес-
сиональных лиг следуют образцу бейсбольной лиги, организационная
структура которой впервые была описана в статье Роттенберга
(Rottenberg, 1956). Проводились также исследования Национальной
лиги американского футбола (Neal, 1964), Профессиональной ассоци-
ации гольфа (Cottle, 1981), крикета (Schofield, 1982), английского фут-
бола (Bird, 1982; Sloane, 1971; Wiseman, 1977), Национальной хоккей-
ной лиги (Jones, 1969), Шотландской (Vamplew, 1982) и австралийской
футбольной лиги (Dabschek, 1975). Литература по любительскому
спорту менее обширна, но включает некоторые интересные исследо-
вания по спорту в университетских колледжах США (Koch, 1973). В ка-
честве основных источников данных можно использовать материалы
исследований, организованных Конгрессом США (US Congress, 1952а,
1952b, 1957, 1972), и том, изданный Брукингским институтом (Noll,
1974а).
Вне всякого сомнения, в обществе наблюдается широко распрост-
раненный и растущий интерес к спорту (см.: Horowitz, 1974), который
объясняет тяготение к исследованиям этой отрасли со стороны эконо-
мистов, особенно занимающихся изучением картелей. Более того, про-
фессиональные спортивные лиги относятся к тем немногим картелям,
для которых доступна подробная текущая и историческая информация
о правилах принятия решений, использованных ресурсах, произведен-
ных продуктах, а также о таких финансовых показателях, как посеща-
емость матчей, цены на билеты, доходы от теле- и радиотрансляций,
цены франшиз. Сомнительный статус спортивных лиг с точки зрения
антимонопольного законодательства привел к длительной серии судеб-
ных разбирательств, в ходе которых было предано огласке еще больше
информации о работе этих лиг.
Бейсбольная лига в США была первой организацией, которая раз-
работала свод правил, управляющих экономическими операциями.
Последующие организации в американском футболе, хоккее, баскет-
боле, европейском футболе и других видах спорта просто адаптирова-
ли правила бейсбольной лиги в соответствии со всей спецификой. Кар-
аси
тельные правила в каждом из этих видов спорта с течением времени
менялись под действием конкуренции с другими лигами, появления
союзов игроков, изменений законодательства в отношении лиг, судеб-
ных разбирательств и случаев мошенничества членов картелей. Про-
исходили также изменения в ответ на технологические нововведения
внутри лиг, такие, как изобретение системы фарм-клубов Бранчем
Рики и открытие Биллом Виком законного способа уменьшения на-
лога с собственности спортивных команд, или в ответ на нововведе-
ния извне, такие, как появление радио и платного телевидения. Дэвис
(Davis, 1974) представил эволюцию правил бейсбольной лиги как от-
ветную реакцию на эти факторы.
Следуя примеру организованного бейсбола, во всех профессиональ-
ных спортивных лигах были введены ограничения на рынках исполь-
зованных ресурсов и произведенного продукта, включающие предо-
ставление командам монопольных прав представлять игры лиги в пре-
делах оговоренных географических областей и принятие правил по
распределению денежных сборов и доходов от теле- и радиотрансля-
ций. Существуют также правила, регулирующие вступление в лигу но-
вых команд и продажу имеющихся команд или перевод команды в дру-
гую географическую область. Особенно важными являются ограниче-
ния в контракте мобильности игроков в пункте, оговаривающем право
«удерживания и перехода» игроков. Специальные оговорки отменяли
этот пункт применительно к ветеранам и вводили специальные правила
набора, контролирующие права новых игроков. В течение целого века
пункт, оговаривающий право удержания, был сформулирован в бейс-
боле таким образом, что игрок, подписывающий первый контракт с
командой, был обязан играть за эту команду всю оставшуюся игровую
карьеру или до тех пор, пока контракт не будет продан (в этом случае
он был обязан играть за команду, купившую контракт). В других ви-
дах спорта имела место менее строгая интерпретация этого пункта. Под
давлением конкурирующих лиг, союзов игроков и судов ограничения
мобильности игроков были в значительной степени ослаблены начи-
ная с 1975 г.
Правила лиг ограничивали права игроков при обсуждении условий
заработной платы, создавали местные монополии, ограничивали вход
в отрасль и перераспределяли доход картеля между его членами. Оценки
эффектов монопсонии, связанных с пунктами, оговаривающими пра-
во удержания игроков, в бейсболе колеблются от данных Скалли (Scully,
1974b), который вычислил, что заработок игроков в конце 1960-х годов
в среднем составлял всего лишь от 10 до 20% их чистого предельного
продукта в денежной форме, до оценки Медоффа (Medoff, 1976), по
которой этот же показатель составлял почти 50%. Эти оценки были про-
изведены на основании теоретических моделей, связывающих выступ-
ления игроков с доходами команды, и их можно сравнить с более позд-
ними данными, чтобы оценить эффект от либерализации правил в бей-
сбольной лиге. В среднем заработки в бейсболе поднялись от 51 000 дол.
в 1976 г. до 76 000 дол. в 1977 г., который был первым годом либерали-
зации (Hill and Spellman, 1983), и до 100 000 дол. в 1978 г. (Lehn, 1982).
805
Во время переговоров, предшествовавших однодневной забастовке
бейсболистов в 1985 г., в прессе сообщалось, что в среднем заработок
в сезоне 1985 г. составил 340 000 дол.
Большинство, если не все правила спортивных лиг нарушали бы
антимонопольные законы, если бы они существовали в других отрас-
лях. Но Верховный Суд освободил бейсбол от выполнения этих зако-
нов (Federal Baseball Club v. National League, 1922). Это решение было
вновь подтверждено в приговоре по делу Curtis С. Flood v. Bowie
К. Kuhn (1972), в то время как для других видов спорта освобождения
были введены законодательными актами Конгресса (объединение Аме-
риканской футбольной лиги и Национальной футбольной лиги, 1966;
совместные переговоры по телевизионным контрактам, 1961). Когда из-
за этих правил спортивные лиги подвергались нападкам и критике в
судах, Конгрессе или прессе, основным аргументом в их защиту был
тот, что при отсутствии таких ограничений конкуренции богатые
команды или команды больших городов приобретут непропорциональ-
ную долю лучших игроков, что приведет к неравновесию сил на игро-
вых полях, что в конечном счете вызовет распад лиги. Обоснованность
этого аргумента была основной темой в литературе по экономике
спорта.
Роттенберг был первым, кто показал его необоснованность при
предположении, что владельцы команд максимизируют прибыль; он
доказывал, что владельцы команд больших городов имели бы эконо-
мические стимулы ограничить качество своих команд (и, таким обра-
зом, помочь поддержать равенство сил и конкуренцию в рамках лиги),
даже если бы игроки могли свободно продавать свои услуги покупате-
лю, предложившему наивысшую цену на конкурентном рынке труда.
Эль Ходири и Куирк (Hodiri and Quirk, 1971, 1974) представили фор-
мальную модель спортивной лиги, в которой предположение о макси-
мизации прибылей было использовано для подтверждения того, что
если контракт игрока может быть свободно продан или куплен владель-
цами команд, то распределение силы игроков в лиге при праве удер-
жания будет таким же, как и при свободной конкуренции за игроков;
что команды больших городов в среднем будут сильнее, чем команды
малых городов; что распределение игровой силы не зависит от правил
распределения денежных сборов и позволяет максимизировать общие
прибыли лиги. Было показано, что пункт, оговаривающий право удер-
жания в сочетании с правилами набора новых игроков, согласно кото-
рым преимущество имеют команды, занявшие в прошлом году худшие
места, перераспределяет доходы от игроков к владельцам команд и от
больших городов к малым городам. Некоторые результаты исследова-
ний Эль Ходири — Куирка могут быть рассмотрены как приложение
теоремы Коуза.
Предположение о максимизации доходов было подвергнуто сомне-
нию Дэвенпортом (Davenport, 1969), который утверждал, что владель-
цы команд получают полезность от выигрыша самого по себе. Дабшек
(Dabschek, 1975), Скофилд (Schofield, 1982), Слоун (Sloane, 1971) и
Вэмплу (Vamplew, 1982) представили достаточно убедительные аргумен-
806
ты в пользу того, что предположение о максимизации доходов не вы-
полняется в крикете, английском футболе или в Австралийской фут-
больной лиге, где лишь немногие команды (если они есть вообще)
приносят прибыли, а не финансируются из средств спонсоров. (Так как
команды в любой момент могут бесплатно выйти из лиги, вместо того
чтобы работать в убыток, то выживание команд, которые несут убыт-
ки, противоречит предположению о максимизации прибыли.) Хотя эти
данные ослабляют аргумент экономистов в пользу того, что пункт, ого-
варивающий право удержания игроков, не нужен для поддержания
конкуренции на игровых полях, те же исследования также показыва-
ют, что лиги в этих видах спорта выжили, несмотря на доминирова-
ние нескольких команд из крупных городов, которое даже более выра-
жено, чем в спортивных лигах США. Избрав другой путь, Кейнс (Canes,
1974) показал, что одним из благоприятных эффектов права удержа-
ния игроков является ограничение уровня команд, который с точки
зрения аллокации ресурсов был бы чрезмерным, если бы существовал
свободный рынок трудовых услуг спортсменов. Эмпирические иссле-
дования спроса на спортивные соревнования показывают, что сорев-
нования по некоторым видам спорта: бейсболу (Noll, 1974b), футболу
(Bird, 1982) — это блага низшей категории (interior goods) и спрос на
спортивные матчи является неэластичным по цене. Оценка функции
спроса на спортивные соревнования проводилась на основании следу-
ющих двух фактов: того, что предельные издержки на проведение игры
близки к нулю и что команды работают при постоянной вместимости
стадионов. Если отвлечься от стохастических элементов, эти два фак-
та объясняют наблюдаемую единичную эластичность спроса на эти
соревнования, за исключением игр, дающих «аншлаги». Очевидно, что,
даже когда лига имеет монополию в своем виде спорта (исторически
наиболее распространенная ситуация, давшая основания для утверж-
дений Нила, что спортивные лиги являются естественными монопо-
лиями), она все равно остается объектом конкуренции для лиг, пред-
ставляющих другие виды спорта, и поставщиков других услуг, относя-
щихся к сфере развлечений. Нолл в числе других доказывает, что это
делает ценовую эластичность спроса на соревнования лиги выше для
больших городов, чем для малых, таким образом ограничивая моно-
польное могущество владельцев команд больших городов и увеличи-
вая их стимулы к созданию выигрывающих команд.
Так как производственный процесс в спорте относительно прост и
данные о затратах и выпуске легко доступны, был проведен ряд иссле-
дований зависимости между оплатой и результативностью в различных
спортивных лигах, эффективности управления и других связанных с
этим проблем (см.: Fort and Noll, 1984; Porter and Scully, 1982). По этой
же причине вопросы, связанные с расовой дискриминацией, легче
формулируются и решаются в этой отрасли, чем в других. Первой ра-
ботой в этой области было изучение Паскалем и Рэппингом расовой
дискриминации в бейсболе (Pascal and Rapping, 1972), за которой по-
следовала работа Скалли — тоже по бейсболу (Scully, 1974а) и более
поздняя работа по баскетболу Вайнинга и Керригана (Vining and
807
Kerrigan, 1978). Эти работы дали довольно убедительные выводы о на-
личии дискриминации в бейсболе и менее ясную картину в баскетбо-
ле; с другой стороны, было показано, что владельцы бейсбольных ко-
манд, первыми нанявшие чернокожих спортсменов, получили прибы-
ли от этого решения (Gwartney and Haworth, 1974).
Спорт оказался плодотворным полем деятельности и для других
прикладных экономических исследований. Кэссинг и Дуглас (Cassing
and Douglas, 1980) утверждали, что обнаружили «проклятье победите-
ля» (Winner’s curse), которое является результатом свободных аукцио-
нов, действующих в бейсболе. Де Брок и Рот (De Brock and Roth, 1981)
использовали модель торга Нэша, чтобы объяснить экономические
причины, лежащие в основе стратегий профсоюзов и администрации
в ходе бейсбольной забастовки 1980 г., когда администрация имела
страховку от забастовок, по которой выплачивался 1 млн дол. за каж-
дый из 50 дней забастовки, последовавших за двухнедельным перио-
дом отсрочки. Требования бастовавших были удовлетворены только
после того, как были исчерпаны страховые выплаты. Лен (Lehn, 1982)
рассматривал образцы контрактов при свободном найме игроков в кон-
тексте модели принципала — агента и распределения риска между иг-
роками и владельцами команд. Как и предсказывала модель принци-
пала — агента, переход от пункта, оговаривающего право удержания,
к долгосрочным свободным контрактам привел к значительному
(на 25—39%) увеличению времени, проведенному на «больничном ли-
сте» игроками, заключившими долгосрочные контракты.
Исследование Коха (Koch, 1973), посвященное спорту в американ-
ских колледжах, дает почти классический пример проблем, которые
стоят перед картелем (Национальной ассоциацией спорта колледжей),
имеющим большую по численности и разнообразную по составу груп-
пу членов, ограниченные ресурсы для проведения в жизнь его устава
(в котором содержатся условия набора новых спортсменов, поддержка
и сохранение академических стандартов студентов-спортсменов), ис-
пытывающим внешнюю конкуренцию со стороны таких организаций,
как Любительский атлетический союз и Олимпийский комитет США.
Он доказывает, что экономическая теория картелей обеспечивает ос-
нову для прогноза и объяснения поведения как профессиональных
спортивных команд, так и организаций любительского спорта.
БИБЛИОГРАФИЯ
Bird, Р. 1982. The demand for league football. Applied Economics 14, 637-49.
Canes, M. 1974. The social benefits of restrictions on team quality. In Government •
and the Sports Business, ed. R. Noll, Washington, DC: Brookings.
Cassing, J. and Douglas, R. 1980. Implications of the auction mechanism in baseball’s
free agent draft. Southern Economic Journal 48(1), 110—21.
Cottle, P. 1981. Economics of the PGA Tour. Social Science Quarterly 62(4),
721-34.
808
Dabschek, В. 1975. The wage determination process for sportsmen. Economic Record
51, 52-64.
Davenport, D. 1969. Collusive competition in major league baseball: its theory and
institutional development. American Economist 13(2), 6—30.
Davis, L. 1974. Self regulation in baseball, 1909—71. In Noll (1974a).
De Brock, L. and Roth, A. 1981. Strike two: labor-management negotiations in major
league baseball. Bell Journal of Economics 12(2), 413-25.
El Hodiri, M. and Quirk, J. 1971. An economic model of a professional sports league.
Journal of Political Economy 79, 1302-19.
El Hodiri, M. and Quirk, J. 1974. The economic theory of a professional sports league.
In Noll (1974a).
Fort, R. and Noll, R. 1984. Pay and performance in baseball: modeling regulars,
reserves and expansion. SS Working Paper, Caltech.
Gwartney, J. and Haworth, C. 1974. Employer costs and discrimination: the case of
baseball. Journal of Political Economy 82(4), 873-81.
Hill, J. and Spellman, W. 1983. Professional baseball: the reserve clause and salary
structure. Industrial Relations 22(1), 1—19.
Horowitz, I. 1974. Sports broadcasting. In Noll (1974a).
Jones, J. 1969. The economics of the National Hockey League. Canadian Journal of
Economics 2, February, 1-20.
Koch, J. 1973. A troubled cartel: the NCAA. Law and Contemporary Problems 38(1),
135-50.
Lehn, K. 1982. Property rights, risk sharing, and player disability in major league
baseball. Journal of Law and Economics 45, 343—66.
Medoff, M. 1976. On monopsonistic exploitation in professional baseball. Quarterly
Journal of Economics and Business. 16(2), 113—21.
Neale, W. 1964. The peculiar economics of professional sports. Quarterly Journal of
Economics 78(1), 1—14.
Noll, R. (ed.) 1974a. Government and the Sports Business. Washington, DC: Brookings.
Noll, R. 1974b. Attendance and price setting. In Noll (1974a).
Pascal, A. and Rapping, L. 1972. The economics of racial discrimination in organized
baseball. In Racial Discrimination in Economic Life, ed. A. Pascal, Lexington,
Mass.: Heath.
Porter, P. and Scully, G. 1982. Measuring managerial efficiency: the case of baseball.
Southern Economic Journal 48(3), 642—50.
Rottenberg, S. 1956. The baseball players’ labor market. Journal of Political Economy
64, 242-58.
Schofield, J. 1982. The development of first class cricket in England: an economic
analysis. Journal of Industrial Economics 30(4), 337—60.
Scully, G. 1974a. Discrimination: the case ofbaseball. In Noll (1974a).
Scully, G. 1974b. Pay and performance in major league baseball. American Economic
Review 64(6), 915-30.
Sloane, P. 1971. The economics of professional football club as utility maximizer.
Scottish Journal of Political Economy 18, 121-45.
US Congress. 1952a. House Committee on the Judiciary. Subcommittee on Study of
Monopoly Power. Study of Monopoly Power, Part 6, Organized Baseball. Hearings.
82 Cong. 1 sess. Washington: Government Printing Office.
US Congress. 1952b. Organized Baseball. Report of the Subcommittee on Study of
Monopoly Power. House Report 2002. 82 Cong. 2 sess. Washington: Government
Printing Office.
809
US Congress. 1957. Antitrust Subcommittee. Organized Professional Team Sports.
Hearings. 85 Cong. 1 sess. Washington: Government Printing Office.
US Congress. 1972. Professional Basketball. Hearing. 92 Cong. 1 sess. (Part 1) and 2
sess. (Part 2). Washington: Government Printing Office.
Vamplew, W. 1982. The economics of a sports industry: Scottish gate money football,
1890—1914. Economic History Review 48(3), 549—67.
Vining, R., Jr. and Kerrigan, J.F. 1978. An application of the Lexis Ratio to the
detection of racial quotas in professional sports: a note. American Economist 22(2),
Fall, 71-5.
Wiseman, N.C. 1977. The economics of football. Lloyds Bank Review 123, January,
29-43.
УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ
Рональд Финдли
Terms of Trade
Ronald Findlay
Два наиболее важных вопроса относительно международной торгов-
ли заключаются в следующем: «Какие блага будет экспортировать каж-
дая страна?» и «Каковы окажутся пропорции обмена экспортируемых
благ на блага, ввозимые из-за границы?»
Первый вопрос связан с проблематикой «сравнительных преиму-
ществ», а второй — с проблематикой «условий торговли», которые и бу-
дут служить объектом обсуждения в настоящем очерке. Давид Рикардо в
гл. 7 «Начал политической экономии» дал исчерпывающий ответ на пер-
вый вопрос и внес значительный вклад в разрешение второго, хотя окон-
чательный ответ на него был дан лишь Дж.С. Миллем и А. Маршаллом.
В последующем изложении будет удобно предположить для упроще-
ния, что имеется только один экспортируемый и один импортируемый
товар; иногда же полезно ввести еще более жесткое предположение о том,
что в наличии имеется лишь один фактор производства — например, труд
определенного качества. На практике, разумеется, нам пришлось бы ис-
пользовать индексы цен и физического объема экспорта и импорта, что
привело бы к возникновению комплекса известных проблем.
КОНЦЕПЦИИ И ДЕФИНИЦИИ. Существует несколько альтер-
нативных концепций и соответствующих статистических показателей
условий торговли. Самые известные концепции условий торговли пе-
речислены ниже.
(1) Товарные, или чистые бартерные, условия торговли. Это — наи-
более распространенное значение термина «условия торговли», кото-
рое, как правило, имеется в виду всякий раз, когда он используется без
каких-либо уточнений. В принципе товарные условия торговли пред-
ставляют собой относительную цену «экспортируемого блага», показы-
вая, сколько единиц «импортируемого блага» можно получить за одну
единицу экспортируемого. Представление о размерности этого пока-
зателя может дать выражение «девять сюртучных пуговиц за кусок меди
(copper disk)*» из песенки Белого рыцаря (Льюис Кэрролл, «Алиса в
* В русском переводе «Аписы в Зазеркалье» словосочетание «copper disk» обыч-
но передается как «медный грош», однако в данном контексте такой пере-
вод некорректен. Здесь используется именно «неденежная» трактовка обме-
на, когда одно «благо» непосредственно обменивается на другое. — Примеч.
пер.
811
Зазеркалье») — выражение, которое Д. Робертсон (Robertson, 1952,
ch. 13) использовал в качестве эпиграфа к детальному исследованию
проблемы условий торговли. В статистической практике товарные усло-
вия торговли исчисляются как частное от деления индекса экспортных
цен на индекс импортных цен (к уровню базового года).
(2) Концепция валовых бартерных условий торговли, предложенная
Ф. Тауссигом. Валовые бартерные условия торговли равны отношению
объема импорта к объему экспорта. В условиях, когда торговый баланс
находится в равновесии (т.е. когда отсутствуют международные займы
и односторонние трансферты), они совпадают с товарными условия-
ми торговли. Дефицит торгового баланса приводит к тому, что вало-
вые бартерные условия торговли оказываются более благоприятными,
чем товарные (чистые бартерные) условия торговли, и наоборот. Из
этого, разумеется, не следует, что дефицит торгового баланса всегда
является более предпочтительным, чем равновесие торгового баланса,
поскольку сегодняшний «дополнительный» импорт придется оплачи-
вать в будущем за счет положительного сальдо торгового баланса.
(3) Взвешенные условия торговли (income terms of trade), их иногда
именуют также «покупательной способностью экспорта». Они равны
товарным условиям торговли, умноженным на объем экспорта, и со-
ответствуют объему импорта в условиях сбалансированной торговли;
в случаях же, когда имеет место положительное или отрицательное саль-
до торгового баланса, они оказываются соответственно выше или ниже
фактического объема импорта. Иными словами, они обозначают объем
импорта в реальном выражении, который может поддерживаться при
данном уровне экспортных поступлений.
(4) Факторные условия торговли равны предельной производитель-
ности фактора производства, используемого в экспортном секторе,
рассчитанной в единицах импортируемого товара при существующих
товарных условиях торговли. Эта концепция имеет смысл для любого
отдельного фактора производства, рассматриваемого в отрыве от дру-
гих, хотя иногда в литературе некорректно утверждается, что она от-
носится к «единице производительной силы».
(5) Двойные факторные условия торговли. Данная концепция ори-
ентирована на переход от рассмотрения международного обмена то-
варами к рассмотрению международного обмена факторами произ-
водства, «воплощенными» в этих товарах. Таким образом, если вы-
брать такие условные единицы, чтобы с помощью одной единицы
труда в Англии производилась одна единица сукна, а с помощью
одной единицы труда в Португалии производилась одна единица
вина, то установление товарных условий торговли на уровне пяти
единиц вина за одну единицу сукна будет означать, что в ходе меж-
дународной торговли одна единица труда англичан обменивается на
пять единиц труда португальцев.
Первые три концепции условий торговли позволяют на практике
осуществлять расчет соответствующих показателей, в ходе которого
приходится сталкиваться с обычными проблемами индексов. Товарные
условия торговли традиционно определяются для большинства стран
812
мира такими международными организациями, как ООН, МБРР и
МВФ. Для некоторых стран рассчитываются также валовые бартерные
условия торговли и взвешенные условия торговли.
Факторные условия торговли также могут быть рассчитаны для каж-
дого конкретного фактора производства. На деле они в точности соот-
ветствуют концепции «теневых цен» первичных производственных ре-
сурсов (primary inputs), которая на протяжении последних лет разра-
батывается в литературе, посвященной анализу издержек — выгод
(cost-benefit analysis) применительно к случаю открытых экономик с не-
совершенным функционированием рыночного механизма. Они позво-
ляют определить отдачу от использования одного работника или акра
земли (занятых, к примеру, в производстве кофе на экспорт) в терми-
нах импортируемого продовольствия при существующих товарных
условиях торговли. Данный показатель, будучи сопоставлен с уровнем
выпуска, который те же ресурсы создает во внутреннем (производящем
продукты питания) секторе, может служить важным ориентиром для
аллокации производственных ресурсов.
Однако концепция двойных факторных условий торговли либо
вводит в заблуждение, если исчислять их для конкретного единично-
го фактора в ситуации, когда данный фактор является не единствен-
ным редким производственным ресурсом, либо оказывается неопера-
циональной, если использовать ее аморфное определение примени-
тельно к единицам «производительной силы». Многими
экономистами данная концепция рассматривается в качестве фунда-
ментальной, — в частности, такой признанный авторитет, как Д. Ро-
бертсон, в уже упоминавшейся работе назвал двойные факторные
условия торговли «истинными» условиями торговли. Однако такие не
менее авторитетные авторы, как Г. Хаберлер и Дж. Вайнер, высказы-
вались по поводу этой концепции более критично (Haberler, 1955;
Viner, 1937).
Эта концепция после многих десятилетий забвения вновь оказа-
лась в центре дискуссий в связи с теоретическими построениями
А. Эммануэля (Emmanuel, 1972) относительно «неэквивалентного об-
мена» в торговле между странами с низким и высоким уровнями за-
работной платы, представляющего собой форму эксплуатации стран
с низким уровнем заработной платы. Концепцию Эммануэля можно
интерпретировать в том смысле, что неэквивалентный обмен будет на-
блюдаться всякий раз, когда показатель двойных факторных условий
торговли не равен единице. Однако сам Эммануэль признает, что его
аргументация опирается на предположение о равенстве уровней ка-
питалоемкости в экспортных отраслях стран — торговых партнеров.
Мы можем согласиться, что все люди равны с точки зрения челове-
ческого достоинства и духовной ценности. Однако совсем другое
дело — утверждать, что квалификация или физический капитал, на-
копленные благодаря затрате ресурсов, вообще не должны принимать-
ся во внимание, а единственно «справедливым» является такой обмен,
который осуществляется в соответствии с простейшими постулатами
трудовой теории ценности.
813
Более того, очевидно, что товарные условия торговли могут улуч-
шаться параллельно с ухудшением факторных условий торговли, и на-
оборот. Предположим, что в исходном состоянии в странах «Севера»
и «Юга» один работник за один день производил соответственно одну
условную единицу стали и одну условную единицу кофе и что товар-
ные условия торговли были таковы, что одна единица стали обмени-
валась на одну единицу кофе. Пусть впоследствии каждый работник в
странах «Севера» стал производить три единицы стали за день, а днев-
ная выработка работников в странах «Юга» осталась неизменной; при
этом товарные условия торговли установились на уровне двух единиц
стали за одну единицу кофе. Таким образом, товарные условия торговли
для стран «Юга» стали в 2 раза более благоприятными, в то время как
факторные условия торговли ухудшились на */3. Какая из двух описан-
ных ситуаций является более предпочтительной для стран «Юга»?
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ. В гл. 7 «Начал поли-
тической экономии» Рикардо не изложил метода определения условий
торговли, указав лишь, что в условиях равновесия они должны лежать
в промежутке между соотношениями альтернативных стоимостей в двух
странах, определяемых «линейными» технологиями. Решение данной
проблемы было дано Дж.С. Миллем на основе рассмотрения числово-
го примера «относительного (взаимного) предложения и спроса»
(reciprocal supply and demand); впоследствии оно было уточнено А. Мар-
шаллом с использованием геометрического аппарата «кривых относи-
тельного предложения» (offer curve), показывающих зависимость избы-
точного предложения и спроса применительно к обоим товарам в каж-
дой из стран от условий торговли. Равновесное значение последних
соответствует положению, когда избыточное мировое предложение
оказывается равным нулю. Маршалл показал возможность множествен-
ности точек равновесия и разработал критерий стабильности равнове-
сия, который используется и по сей день; это — так называемое усло-
вие Маршалла — Лернера, согласно которому сумма эластичностей
спроса на импорт должна превышать единицу.
С современной точки зрения для завершения модели в нее необ-
ходимо инкорпорировать предпочтения потребителей. Коль скоро это
сделано, равновесное значение (значения) условий торговли опреде-
ляется как функция указанных предпочтений, размеров рабочей силы
и технологических коэффициентов производства в каждой из стран.
Дальнейшая разработка данной проблематики в экономической ли-
тературе привела к обобщению аналитической схемы Рикардо для слу-
чая произвольного числа товаров, факторов производства и стран,
а также переменных (а не заданных) технологических коэффициен-
тов. С технической стороны, следовательно, определение условий тор-
говли представляет собой всего-навсего нахождение равновесного век-
тора (векторов) сравнительных цен в модели общего экономическо-
го равновесия, включающей мировой рынок товаров и мобильных в
международном масштабе факторов производства, а также нацио-
нальные рынки товаров, не являющихся объектами международной
814
торговли, и факторов производства, немобильных в международном
масштабе.
Помимо того что проблема условий торговли является центральной
для теории международной торговли в ее «позитивном» аспекте, дан-
ная проблема играет, пожалуй, еще более существенную роль в «нор-
мативном» анализе, а именно при оценке «выигрыша от международ-
ной торговли». Очень важно не смешивать между собой эти две грани
проблемы, хотя, разумеется, обе они так или иначе проявляются при
рассмотрении практически любого теоретического или политического
вопроса. Другое существенное различие касается понимания условий
торговли как экзогенно заданного параметра (в моделях «небольшой»
открытой экономики) и как эндогенно определяемой переменной, рав-
новесное значение которой изменяется в зависимости от изменения
конкретных обстоятельств или параметров, — таких, как наделенность
факторами производства, технология или предпочтения. Эти базовые
различия необходимо все время иметь в виду; их игнорирование в не-
которых научных работах приводило к существенной путанице.
В сфере позитивного анализа условия торговли обычно играют роль
главной зависимой переменной моделей сравнительной статики; в цен-
тре внимания при этом оказывается влияние на условия торговли раз-
личных экзогенных шоков. Рассмотрим, к примеру, изменение струк-
туры внутреннего спроса в пользу импортируемого товара. При неиз-
менных условиях торговли это приведет к избыточному спросу на
импортируемый товар. Если соблюдаются условия устойчивости по
Вальрасу, такое развитие событий должно привести к ухудшению усло-
вий торговли рассматриваемой страны, необходимому для восстанов-
ления равновесия на мировом рынке.
Знаменитая «проблема трансферта» (transfer problem) представляет
собой еще один пример, относящийся к моделям сравнительной ста-
тики. Трансферт покупательной способности при неизменных условиях
торговли ведет к возникновению на мировом рынке избыточного пред-
ложения экспортного товара страны, осуществившей трансферт, если
склонность к потреблению данного товара в рассматриваемой стране
выше, чем в стране-реципиенте (так называемое классическое предпо-
ложение). Таким образом, если соблюдаются условия устойчивости по
Вальрасу, условия торговли страны, осуществившей трансферт, будут
ухудшаться, обусловливая возникновение «вторичного бремени транс-
ферта».
Наконец, мы можем рассмотреть влияние, которое оказывает на
условия торговли экономический рост, протекающий в форме экзоген-
ных изменений наделенности страны факторами производства или в
форме технического прогресса. Исследования по данной проблемати-
ке были стимулированы инаугурационной лекцией Дж. Хикса, посвя-
щенной проблеме «дефицита долларов» (Hicks, 1953). Суть анализа при
этом опять-таки состоит в определении влияния соответствующих из-
менений на величину избыточного предложения или спроса при неиз-
менных условиях торговли, посредством чего определяется направле-
ние изменений в условиях торговли, необходимых для восстановления
815
рыночного равновесия (при соблюдении условий устойчивости по
Вальрасу).
ВЛИЯНИЕ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ. Разумеется, все эти постро-
ения из области позитивной теории имеют непосредственное отноше-
ние к оценке влияния торговли на уровень благосостояния вовлечен-
ных в нее стран. В случае трансферта покупательной способности в
стране, осуществившей трансферт, уровень благосостояния претерпел
бы снижение даже в том случае, если бы изменения условий торговли
оказались для нее благоприятными; напротив, страна — получатель
трансферта испытывала бы прирост благосостояния, даже если бы ее
условия торговли ухудшились. Если структура внутреннего спроса из-
меняется в пользу импортных товаров, уровень благосостояния стра-
ны — партнера производителя импортируемых товаров при нормаль-
ных условиях (которые будут описаны в следующем параграфе) повы-
сится в результате улучшения ее условий торговли. Если
экономический рост в стране обусловливает возникновение избыточ-
ного спроса на импорт при неизменных условиях торговли, страна —
торговый партнер также выиграет от повышения относительных цен
ее экспорта.
В последних двух случаях страна — торговый партнер испытывает
экзогенное улучшение условий торговли при неизменности предпочте-
ний потребителей-резидентов, технологии и наделенности факторами
производства. Должно ли при этом возрасти ее благосостояние? В об-
щем случае — когда отсутствуют такие нарушения конкурентной струк-
туры внутренних рынков, как монополия или монопсония на рынках
товаров и факторов производства, экзогенные различия в ставках за-
работной платы или жесткость реальных факторных цен, — ответ на
этот вопрос должен быть положительным. Можно привести следующий
пример ситуации, когда страна, испытывающая улучшение товарных
условий торговли, может одновременно сталкиваться со снижением
уровня благосостояния. Предположим, национальное производство
полностью специализировано на выпуске экспортного блага, а реаль-
ная заработная плата выражается в единицах импортируемого блага.
При неизменном уровне занятости — и, соответственно, неизменной
предельной производительности труда в физических единицах экспор-
тируемого блага — реальная заработная плата, выраженная в единицах
импортируемого блага, при улучшении условий торговли будет сокра-
щаться. В результате уровень занятости и выпуска будет падать до тех
пор, пока предельный физический продукт труда не возрастет в той же
пропорции, в которой понизилась относительная цена импортируемо-
го блага, т.е. до тех пор, пока не будет восстановлен прежний уровень,
реальной заработной платы. Улучшение условий торговли при задан-
ных уровнях занятости и выпуска ведет к повышению благосостояния,
однако вследствие падения занятости и выпуска, обусловленного из-
менением условий торговли, уровень благосостояния снижается. Этот
негативный эффект вполне может быть достаточен для того, чтобы
перевесить выгоды от улучшения условий торговли, рассматриваемые
816
изолированно, поскольку — если предположить достаточную степень
эластичности предельной производительности труда, — снижение за-
нятости и выпуска может быть очень существенным.
Г. Хаберлер, глубоко и содержательно проанализировав данную
проблему, указал, что «при прочих равных условиях, улучшение товар-
ных условий торговли подразумевает рост реального национального
дохода» (Haberler, 1955, р. 30). Однако, как свидетельствует рассмот-
ренный нами пример, даже столь осторожная формулировка не долж-
на приниматься без оговорок. Разумеется, было бы ошибкой смеши-
вать изменения в уровне благосостояния, обусловленные экзогенным
изменением условий торговли, с прямым воздействием на уровень бла-
госостояния, который оказывает некоторый независимый шок. Вместе
с тем в нашем примере изменение условий торговли представляет со-
бой единственное изменение исходных параметров, и именно оно при-
водит к сокращению занятости и выпуска.
Когда изменение условий торговли является следствием некоторо-
го экзогенного шока, — например, изменения предпочтений потреби-
телей, технологии или наделенности факторами производства, — было
бы явно некорректным оценивать совокупное изменение благосостоя-
ния исключительно на основе динамики условий торговли. Техноло-
гический прогресс в экспортном секторе, обусловливающий ухудше-
ние условий торговли, несомненно, повышает благосостояние страны
(хотя, разумеется, уровень благосостояния был бы еще выше, если бы
условия торговли оставались неизменными). Именно рассуждения та-
кого рода вызвали к жизни концепцию факторных условий торговли,
поскольку соответствующий показатель будет демонстрировать благо-
приятную динамику, даже если товарные условия торговли будут ухуд-
шаться. Однако в общем случае было бы ошибкой ожидать, чтобы ка-
кая-либо одна дефиниция условий торговли позволила построить од-
нозначный индикатор изменения выигрыша от торговли, когда речь
идет об изменении основополагающих факторов — предпочтений по-
требителей, технологии и наделенности факторами производства.
Влияние таких изменений на уровень благосостояния можно раз-
ложить на две части: во-первых, это их влияние при неизменных усло-
виях торговли, и, во-вторых, это последствия соответствующих изме-
нений в условиях торговли. Таким образом, чистое влияние на уровень
благосостояния может быть как позитивным, так и негативным; при
этом оно не обязательно совпадает с направлением изменения условий
торговли. Дж. Бхагвати (Bhagwati, 1958) доказал, что чистое изменение
благосостояния страны, испытывающей экономический рост, может
быть негативным; этот феномен получил название «разоряющего рос-
та».
Наконец, мы может рассмотреть условия торговли как объект по-
литического манипулирования, когда одна из стран обладает опреде-
ленной степенью монопольной силы на международных рынках. Ра-
циональный субъект принятия политических решений будет склонен
(если игнорировать возможность ответных мер со стороны стран — тор-
говых партнеров) наложить такие ограничения на объем торговли, что-
817
бы уравновесить предельные выгоды от улучшения условий торговли
с предельным снижением благосостояния, обусловленным падением
объема торговли. В этом заключается знаменитая концепция «опти-
мального тарифа», уровень которого обратно пропорционален эластич-
ности зарубежного спроса на импорт.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ. Кроме анализа с использовани-
ем метода сравнительной статики, о котором шла речь до сих пор, в ли-
тературе были выдвинуты некоторые более умозрительные гипотезы
относительно долгосрочной динамики условий торговли. С точки зре-
ния рикардианской традиции накопление капитала и технический про-
гресс ведут к постепенному расширению предложения промышленных
товаров, в то время как предложение продукции первичного сектора
всегда ограничивается имеющимися запасами «земли» и других при-
родных ресурсов. Теорема Рикардо для случая закрытой экономики,
согласно которой экономический рост должен вести к повышению
цены продовольствия, а значит, и земельной ренты, до тех пор, пока
не будет достигнуто «стационарное состояние», была обобщена для слу-
чая мировой экономики в форме предположения о том, что в долго-
срочном периоде изменения условий торговли неблагоприятны для
экспортеров промышленных товаров и благоприятны для производи-
телей продукции первичного сектора. В длительных дебатах по этому
поводу принимали участие Кейнс, Беверидж, Д. Робертсон и Э. Робин-
сон. Причудливой иллюстрацией указанной фобии может служить при-
мер У.С. Джевонса, который хранил в подвале своего дома огромный
запас угля. В книге У. Ростоу (Rostow, 1962, chs 8 and 9) приводится
очень интересный обзор и анализ соответствующих работ; их авторы в
некотором смысле предвосхитили идеи, которые в более близкое к нам
время ассоциируются с Римским клубом.
Однако после Второй мировой войны в центре дискуссий по пово-
ду долгосрочной динамики условий торговли оказалась позиция Рауля
Пребиша и Ханса Зингера (Prebisch, 1950; Singer, 1950), утверждавших,
что исторический опыт свидетельствует о наличии долгосрочной тен-
денции к ухудшению товарных условий торговли экономически отста-
лых стран. Доказательством служили статистические ряды, однознач-
но указывающие на улучшение условий торговли Великобритании на
протяжении периода с 1870 по 1940 гг. В числе теоретических объяс-
нений этой гипотетической тенденции фигурировали указания на то,
что спрос на продукцию первичного сектора менее эластичен по дохо-
ду, чем спрос на промышленные товары, а также ссылки на техничес-
кий прогресс, обеспечивающий снижение потребности в использова-
нии импортируемого сырья, и на сочетание монополистической струк-,
туры рынков промышленно развитых стран с конкурентным
характером предложения продукции первичного сектора. В результате
статистических исследований, посвященных этой проблеме, было до-
стигнуто всеобщее согласие по поводу того, что какая-либо четко вы-
раженная долгосрочная тенденция к ухудшению товарных условий тор-
говли развивающихся стран отсутствует (см. обзор и оценку имеющихся
818
по этому поводу свидетельств в книге: Spraos, 1980; в работе Lewis, 1969
содержится альтернативный теоретический и эмпирической анализ
этой проблемы, представляющий большой интерес).
Гипотеза Пребиша — Зингера вместе с более общими проблемами,
возникающими в ходе диалога между странами «Севера» и «Юга», обу-
словили появление многочисленных моделей международной торгов-
ли, которые рассматривают в динамическом контексте взаимодействие
промышленно развитого региона с менее развитым, структурно не-
однородным регионом, обладающим значительными трудовыми ресур-
сами и производящим продукцию первичного сектора. Условия торгов-
ли играют в этих моделях ключевую роль, поскольку темп экономичес-
кого роста на Юге связан с этой переменной через зависимость от
инвестиционных товаров, импортируемых с Севера. Эти и другие ана-
литические вопросы, связанные с тенденциями долгосрочной динами-
ки условий торговли, более подробно обсуждаются в работах Финдли
(Findlay, 1981; 1984).
БИБЛИОГРАФИЯ
Bhagwati J. Immiserizing Growth: A Geometrical Note // Review of Economic Studies,
June 1958, vol. 25, p. 201-205.
Emmanuel A. Unequal Exchange. New York: Monthly Review Press, 1972.
Findlay R. The Fundamental Determinants of the Terms of Trade. In: S.Grassman
and E.Lundberg (eds.). The World Economic Order: Past and Prospects. London:
Macmillan, 1981.
Findlay R. Growth and Development in Trade Models. In: R.W.Jones and P.B.Kenen
(eds.). Handbook of International Economics, vol. 1, ch. 4. Amsterdam: North-
Holland, 1984.
Haberler G. The Survey of International Trade Theory. Princeton: International
Finance Section, 1955.
Hicks J.R. An Inaugural Lecture // Oxford Economic Papers, NS 5, June 1953,
p. 117-135.
Lewis W.A. Aspects of Tropical Trade, 1883—1965. Stockholm: Almqvist and Wiksell,
1969.
Prebisch R. The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems.
New York: United Nations, 1950.
Robertson D.H. The Terms of Trade. In: D.H.Robertson. Utility and All That. New
York: Macmillan, 1952, ch. 13.
Rostow W.W. The Process of Economic Growth. New York: Norton, 1962, ch. 8, 9.
Singer H.W. The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries //
American Economic Review, Papers and Proceedings, May 1950, vol. 5,
Supplement, p. 473—485.
Spraos J. The Statistical Debate on the Net Barter Terms of Trade between Primary
Commodities and Manufactures // Economic Journal, March 1980, vol. 90,
p. 107-128.
Viner J. Studies in the Theory on International Trade. New York: Harper, 1937.
819
ГИПОТЕЗА ТИБУ
Брюс У. Хэмильтон
Tiebout Hypothesis
Bruce W. Hamilton
Суть гипотезы Тибу заключается в том, что существует механизм
раскрытия предпочтений, относящихся к общественным благам, если
потребители-избиратели могут выбирать место проживания, а точнее,
территорию, подведомственную тому или иному органу власти
(jurisdiction), например — и это имели в виду Тибу и его последовате-
ли — речь идет о наличии большого количества автономных пригоро-
дов, предоставляющих своим жителям такие блага, которыми обычно
распоряжаются местные администрации: начальное и среднее образо-
вание, услуги полиции и пожарной охраны, канализация и водоснаб-
жение.
Основная идея Тибу изложена в его знаменитой работе 1956 г. Сле-
дует отметить, что, предлагая свою модель, он противопоставил ее до-
вольно мрачным выводам Самуэльсона о неспособности экономики
«найти» решение проблемы эффективного предложения общественных
благ. В самуэльсоновском мире общественных благ (Samuelson, 1954),
который до него был рассмотрен Боуэном (Bowen, 1943), потребители
не заинтересованы в раскрытии своих предпочтений в отношении об-
щественных благ, так как это приводит просто к увеличению оплаты
без существенного увеличения фактического уровня обеспечения бла-
гом. Вследствие этого голосование, как правило, приводит к тому, что
уровень предложения общественных благ оказывается ниже оптималь-
ного. Но Тибу наделил своих потребителей другим механизмом раскры-
тия предпочтений — мобильностью. Перемещаясь на территорию с
более предпочтительным уровнем предложения общественных благ,
потребитель тем самым раскрывает свои предпочтения и оказывается
на своей кривой спроса. Если имеется достаточное количество разно-
образных «юрисдикций», то все потребители имеют возможность ока-
заться на своих кривых спроса (или хотя бы вблизи их).
Идея Тибу обезоруживающе проста: если крупная городская агло-
мерация состоит из различных административных территориальных
единиц, которые, скажем, предоставляют образование различного
качества, то лица с высокими требованиями будут перемещаться в тот
район, где школы лучше. Но, несмотря на такую простоту, Тибу
проявил значительную осторожность, характеризуя многие аспекты
проблемы. Определяя местные общественные блага, он замещает зна-
менитое самуэльсоновское «несоперничество» (non-rivalry) «неисклю-
820
чаемостью из потребления» (non-excludability). Он также рассматрива-
ет поведение чиновников. И наконец, он признает, что его заключе-
ния теряют силу, если допустить наличие эффекта примера (spillovers)
между территориями. Другими словами, его догадка была значительно
более глубокой, чем простая формула «голосования ногами».
Модель Тибу оставалась невостребованной в течение десятилетия
после ее публикации. Интерес к ней возник в связи с выходом в свет
работы Оутса (Oats, 1969), в которой изучалось воздействие местных
налогов и расходов на образование на стоимость недвижимости. Оутс
обнаружил, что высокие налоги снижают стоимость недвижимости
(примерно на дисконтированную величину высоких налогов), а высо-
кие расходы на образование примерно в такой же степени поднимают
стоимость недвижимости. Вывод был очевидным: потребители, решая,
где поселиться, принимают в расчет состояние школ и налоги. Гипо-
теза Тибу, касающаяся поведения потребителей, нашла подтверждение.
(Как будет показано ниже, в современных версиях гипотезы Тибу роль
капитализации несравненно важнее, чем эмпирическое подтверждение
поведенческих допущений Тибу.)
После опубликования работы Оутса экономисты стали более тща-
тельно изучать теоретическое обоснование модели Тибу. Существен-
ной слабостью в рассуждениях Тибу является то, как он рассматри-
вает механизм ценообразования на местные общественные блага. Он
просто говорит об административно-территориальных единицах с вы-
сокими расходами на образование и высокими налогами. Но если не
уточнить условия модели, возникает проблема безбилетников. Рас-
смотрим ситуацию на территории с высоким налогом на имущество,
используемым для финансирования высококачественных школ. Лица
с низкими доходами могли бы переселяться сюда, покупать отвеча-
ющее их потребностям жилье (а они никогда не приобретают много
жилплощади) и пользоваться высококачественным образованием по
цене ниже издержек. Эта проблема была впервые рассмотрена Эллик-
соном (Ellickson, 1977), который отметил, что безбилетничество не яв-
ляется серьезной проблемой, если жилье и местные общественные
услуги являются взаимодополняющими благами. В таком мире стра-
тификация населения по признаку спроса на общественные услуги
происходит добровольно. Однако условия добровольной стратифика-
ции очень ограничительны, и нет оснований считать, что они носят
общий характер.
На основе простой модели, описывающей предельный случай, Хэ-
милтон (Hamilton, 1975) отметил, что безбилетничество может быть ис-
ключено путем тщательного районирования и контроля над строитель-
ством. Поимущественный налог в сочетании с нужной степенью рай-
онирования становится единовременным налогом или, лучше сказать,
ценой со всеми присущими ей свойствами эффективности. Жители за-
житочного района могут спокойно облагать себя налогами, достаточ-
ными для финансирования общественных услуг требуемого уровня,
будучи уверенными в том, что удастся предотвратить проникновение
безбилетников.
821
Даже менее ограничительная версия этой модели (Hamilton, 1976)
сталкивается с двумя очевидными трудностями. Первая заключается в
том, что общественные блага, как предполагается, производятся с по-
стоянной отдачей относительно размера территории, в отличие от
U-образной кривой средних издержек Тибу. Вторая проблема, которая
хоть и связана с первой, но значительно сложнее, заключается в том,
что не существует препятствий для создания новых административно-
территориальных образований. С учетом этих посылок мир состоит из
совершенно стратифицированных (в соответствии со спросом на об-
щественные услуги) территорий, в которых налоги равны средним из-
держкам предоставления общественных услуг. Так как в крупной го-
родской агломерации имеется широкий спектр территорий, производ-
ство общественных услуг в каждой из которых происходит при
некоторых средних (равных предельным) издержках, то потребитель
сталкивается, по сути, с такими же бюджетными ограничениями, как
если бы местные общественные услуги продавались в универмагах. Па-
радигма совершенной конкуренции применяется во всей полноте. От-
метим также, что вид налога имеет решающее значение для эффектив-
ности или даже самого существования равновесия Тибу. Уэстхофф
(Westhoff, 1977) проанализировал модель Тибу, в которой обществен-
ный сектор финансируется за счет подоходного налога (без какого-
нибудь зонирования или иных аналогичных ограничений на входе),
и обнаружил, что равновесия возможны только при очень сильных до-
пущениях.
Теперь стоит еще раз вернуться к результатам, полученным Оутсом
(Oates, 1969), который обнаружил, помимо прочего, что собственность
на территориях с высокими расходами на образование стоит дороже.
По размышлении становится ясным, что этот эффект капитализации
является частью цены, которую люди платят за привилегию пользова-
ния высококачественными школами. Налоги покрывают издержки пре-
доставления услуг таких школ; наличие эффекта капитализации озна-
чает, что цена спроса (для предельного потребителя) превышает издерж-
ки производства. Это, в свою очередь, можно считать свидетельством
избыточного спроса на высококачественные школы. В рассмотренной
выше модели гибких территориальных единиц это должно привести к
формированию территорий с высокими расходами, что, в свою очередь,
должно устранить эффект капитализации. В такой интерпретации эф-
фект капитализации Оутса является аналогом краткосрочной прибы-
ли в конкурентной модели.
Если формирование административно-территориальных единиц
происходит свободно, издержки производства общественных услуг
постоянны, а стратификация (добровольная или по принуждению) яв-
ляется полной, то модель Тибу является простым и элегантным допол-
нением конкурентной модели.
Остается рассмотреть два основных усложнения модели Тибу, ко-
торые, с одной стороны, представляют собой шаги к общей реалистич-
ности, а с другой — заставляют в определенной мере усомниться не
только в эффективности равновесия Тибу, но даже в самом его нали-
822
чии. Первое усложнение заключается в существовании неполного рас-
слоения, которое, возможно, объясняется институциональными огра-
ничениями, накладываемыми на образование новых административно-
территориальных единиц, или возрастающей отдачей производства об-
щественных услуг, или ограниченными возможностями территорий
предотвращать безбилетничество. Второе усложнение касается фунда-
ментальной природы технологий. Имеется все больше оснований по-
лагать, что издержки предоставления многих местных общественных
услуг существенным образом зависят от характеристик населения тер-
ритории, которые накладываются на производственную функцию пре-
доставления данной услуги. Очень много исследований было посвяще-
но первому из этих усложнений, в то время как второе практически не
изучалось. Рассмотрим их по порядку.
Если стратификация по спросу является полной и если всем потре-
бителям предлагается цена, равная средним издержкам (а также пре-
дельным издержкам), то местные администрации, по существу, не иг-
рают никакой роли. Любое поставленное на голосование предложение
единогласно принимается (либо единогласно отвергается). Размер тер-
ритории является безразличным для населения, а также для местных
администраций. Но как только мы отказываемся от предпосылок по-
стоянных издержек и полной стратификации, мы не можем игнори-
ровать значение процесса голосования. Мы не можем с уверенностью
сказать, что миграция потребителей способствует повышению эффек-
тивности. Предположим, например, что административно-территори-
альные единицы еще не достигли размеров, при которых исчерпыва-
ется экономия на масштабе. Потребитель, переселяющийся из терри-
тории А на территорию В, поднимает издержки в А и снижает издержки
в А В условиях меняющейся отдачи изменение благосостояния в ре-
зультате миграции распространяется не только на самого мигранта. Это,
конечно, лишает эффективности любое равновесие по Тибу. Но и пред-
посылка существования равновесия также ослабляется; в зависимости
от имеющихся у местных администраций средств они могут вести борь-
бу за мигрантов, маневрируя предложением общественных услуг в по-
пытках понизить кривые своих средних издержек. Ряд интересных
примеров «несостоятельности рынка» содержится в работе Бьюли
(Bewley, 1981). В наиболее интересном примере число административ-
но-территориальных единиц меньше числа желаемых потребительских
наборов либо по условию, либо в результате предпосылки растущей от-
дачи.
Из возражений, высказанных Бьюли и другими авторами, следует,
что важно учитывать, как формировались территориальные общины,
а также различия между ними, которые требуются для того, чтобы в
достаточной степени обеспечить возможность выбора, предусмотрен-
ную моделью Тибу. Предоставляют ли различные административные
районы наших больших городов возможности выбора, отвечающие
требованиям модели Тибу? Первым препятствием, видимо, является
возрастающая отдача. Для того чтобы разобраться с этой проблемой,
рассмотрим ассортимент благ, предоставляемых местными админист-
823
рациями. Очевидно, что лучше всего эмпирически оценить гипотезу
Тибу применительно к образованию. На образование в США идет около
половины совокупных расходов местных бюджетов, причем никакая
другая статья расходов не составляет более 10%. Значительная доля
оставшегося бюджета идет на канализацию, водоснабжение и содержа-
ние дорог. Если несколько десятилетий тому назад люди избегали се-
литься в некоторых городах из-за состояния их канализации, то сегод-
ня представляется весьма маловероятным, чтобы выбор местожитель-
ства происходил по этому критерию.
Что касается образования, то по имеющимся данным отдача по мере
роста общины перестает расти при населении около 10 тыс. человек.
Эти данные, взятые из работ Бергстрома и Гудмена (Bergstrom and
Goodman, 1973) и Борчердинга и Дикона (Borcherding and Deacon,
1972), основаны на результатах исследования связи между расходами
на образование и размерами общины. Результаты обоих исследований
показывают, что расходы на душу населения инвариантны по отноше-
нию к размеру общины, превышающему 10 тыс. человек. «Простейшее»
объяснение этому факту заключается в том, что удельные издержки не
зависят от размера населения. Однако другое объяснение заключается
в том, что имеет место единичная эластичность спроса по цене; в этом
случае, посчитав регрессию расходов от численности населения, невоз-
можно ничего сказать об эффекте масштаба.
Несмотря на сомнения относительно интерпретации эмпирических
результатов, можно с уверенностью утверждать, что экономию от мас-
штаба в образовании для поселений, превышающих некоторый неболь-
шой размер, обнаружить не удалось. Причина сомнений в наличии эко-
номии от масштаба заключается не только в том, что сказано выше о
регрессии расходов от размера поселения. При наличии экономии от
масштаба крупные территориальные единицы должны были бы обла-
дать преимуществом в издержках по сравнению с небольшими общи-
нами, что отражалось бы в стоимости собственности в этих поселени-
ях. Однако в процессе исследования капитализации этого не было об-
наружено, что говорит в пользу посылки о постоянной отдаче.
Все это означает, что нет никаких причин считать, что эффекты
масштаба являются препятствием для широкого выбора между места-
ми жительства. Конечно, отсутствие такого разнообразия может объяс-
няться другими причинами. Как бы то ни было, Хендерсон (Henderson,
1985), изучивший данные по формированию административно-терри-
ториальных единиц, обнаружил к некоторому удивлению, что в боль-
шинстве городских агломераций оно примерно соответствует росту
населения.
В заключение заметим, что поставленные Бьюли и другими пробле-
мы разнообразия и формирования новых административно-территори-
альных единиц заслуживают серьезного внимания. Однако наличие
эффекта масштаба и недостаточного разнообразия территорий не яв-
ляется убедительно доказанным.
Следующая проблема, которую мы рассмотрим, касается характера
производственной функции в образовании. Предположим, что мы со-
824
глашаемся с высказанным выше допущением, что уровень образова-
ния является единственным благом, в соответствии с которым класси-
фицируются административно-территориальные единицы. Далее, со-
гласимся с посылкой, что производство образования характеризуется
постоянной отдачей от величины населения. Теперь необходимо рас-
смотреть фундаментальную проблему, которая не была проанализиро-
вана ни одним из авторов моделей, построенных на основе гипотезы
Тибу.
Положим, что функция производства образования содержит в ка-
честве одного из своих аргументов качественные характеристики де-
тей и родителей. Бесчисленное множество наблюдений и публикаций
это подтверждают. Наблюдения показывают, что в центрах городов
расходы на одного ученика часто выше, чем в пригородах; тем не ме-
нее, никто не считает, что качество образования в центрах городов
выше. Статистические данные столь же убедительны. Когда мы счита-
ем регрессии, объясняющие количество произведенного образования,
например результаты контрольных работ или улучшение результатов
тестов за год, то характеристики родителей и одноклассников облада-
ют большой объясняющей силой. (Что действительно озадачивает в
этих исследованиях, так это то, что показатели приобретенных ресур-
сов, как, например, размер класса и качество учителей, часто оказыва-
ются несущественными. Подробный анализ экономики школьного
образования см. в работе Hanushek, 1986.) В таком случае мы не смо-
жем представить мир модели Тибу в виде набора общин, предлагающих
образование за определенную цену и ждущих покупателей, как бака-
лейщик ждет, когда семьи придут к нему за продуктами. Дело в том,
что качество образования зависит от характеристик получающих его
семей.
В таком мире высока вероятность того, что стихийная сортировка
по Тибу окажется неустойчивой, так как семьи с «плохими» производ-
ственными ресурсами будут вытеснять семьи с «хорошими» ресурса-
ми. Проблема заключается в том, что сортировкой по величине спроса
дело не ограничивается; для устойчивости вполне может потребовать-
ся, чтобы лица с высокими запросами, стоимость обучения которых
низка, были отделены от лиц с высокими запросами, стоимость обуче-
ния которых высока.
Вторая проблема возникает, когда мы рассматриваем эффектив-
ность. Как и в мире с возрастающей отдачей, мы должны решить две
проблемы эффективности. Во-первых, остается та же задача Тибу —
удовлетворение спектра запросов спектром предложений. Но теперь
перед нами стоит и вторая задача — минимизации издержек. В зави-
симости от характера образовательных технологий можно добиться
большой экономии издержек путем, например, помещения нескольких
высокомотивированных детей в каждый класс. Повышение эффектив-
ности (экономия издержек), достигаемое другими учащимися, может
с лихвой окупить увеличение стоимости обучения одаренных детей в
окружении уступающих им одноклассников. В таком мире существу-
ют внешние эффекты, связанные с различной одаренностью учеников
825
в одном классе. Поскольку не видно никакого очевидного механизма,
который бы позволил интернализировать эти внешние факторы, то нет
оснований предполагать, что сортировка по Тибу даст эффект даже при
наиболее благоприятных предпосылках по всем аспектам проблемы, за
исключением технологии производства.
БИБЛИОГРАФИЯ
Bergstrom, Т. and Goodman, R. 1973. Private demand for public goods. American
Economic Review 63, June, 280-96.
Bewley, T.F. 1981. A critique of Tiebout’s theory of local public expenditures.
Econometrica 49, May, 713-40.
Borcherding, T. and Deacon, R. 1972. The demand for the services of non-Federal
Governments. American Economic Review 62, December, 891-901.
Bowen, H.R. 1943. The interpretation of voting in the allocation of economic resources.
Quarterly Journal of Economics 58, November, 27-48.
Ellickson, B. 1971. Jurisdictional fragmentation and residential choice. American
Economic Review 61, December, 334-9.
Hamilton, B.W. 1975. Zoning and property taxation in a system of local governments.
Urban Studies 12(2), June, 205—11.
Hamilton, B.W. 1976. Capitalization of intrajurisdictional differences in local tax prices.
American Economic Review 66(5), December, 743-53.
Hanushek, E.A. 1986. The economics of schooling. Journal of Economic Literature
24, September, 1141—77.
Henderson, J.V. 1985. The Tiebout Model: bring back the entrepreneurs. Journal of
Political Economy 93, April, 248-57.
Oates, W.E. 1969. The effects of property taxes and local public spending on property
values: an empirical study of tax capitalization and the Tiebout hypothesis. Journal
of Political Economy 77(8), November—December, 957-71.
Samuelson, P.A. 1954. The pure theory of public expenditure. Review of Economics
and Statistics 36, November, 387—9.
Tiebout, C. 1956. A pure theory of local expenditures. Journal of Political Economy
64, October, 416—24.
Westhoff, F. 1977. Existence of equilibria in economies with a local public good. Journal
of Economic Theory 14, 84-112.
ВРЕМЕННОЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ
Мюррей Н. Ротбард
Time Preference
Murray N. Rolhbard
Термин «временное предпочтение» отражает идею о том, что люди
предпочитают «нынешние блага» (блага, доступные для использования
в настоящее время) «будущим благам» (благам, которые, как ожидает-
ся, станут доступными в некоторый момент в будущем). Предполага-
ется, что общественная норма временного предпочтения, результат
взаимодействия индивидуальных структур временных предпочтений,
определяет чистую процентную ставку в обществе и равна ей. Вся эко-
номика пронизана «рынками времени», где нынешние блага обмени-
ваются на будущие. Это происходит не только на рынке займов (где
кредиторы «продают» нынешние деньги за право получить деньги в
будущем), но и во всех процессах производства, где временное пред-
почтение принимает вид «естественной нормы дохода». Капиталисты
платят нынешние деньги (приобретая или арендуя землю, средства про-
изводства и сырья, нанимая рабочую силу или покупая труд в рабовла-
дельческой системе) ради приобретения ожидаемого будущего дохода
от конечных продаж продукции. Долгосрочная норма прибыли и нор-
ма дохода на капитал представляют собой, следовательно, формы ставки
процента. Поскольку бизнесмены стремятся получать прибыль и избе-
гать убытков, экономика стремится к состоянию общего равновесия,
в котором все ставки процента и нормы прибыли будут равными, а зна-
чит, не будет чистой предпринимательской прибыли или убытков.
В ходе многовековых размышлений над проблемой оправдания про-
цента католические философы-схоласты пришли к весьма изощренным
объяснениям и оправданиям дохода на капитал, включая риск и аль-
тернативные издержки в виде упущенной прибыли. Но они столкну-
лись с огромными трудностями при объяснении процента по безрис-
ковому займу и поэтому осудили такой процент как греховный и рос-
товщический.
Тем не менее, некоторые из поздних схоластов, более благожела-
тельно относившихся к ростовщичеству, заложили основы подхода к
объяснению процента с помощью временного предпочтения. В своей
подробной критике стандартных аргументов в пользу запрещения ро-
стовщичества в работе «Трактат о договорах» (1499) Конрад Зуммен-
харт (Conrad Summenhart, 1465—1511), теолог из Тюбингенского уни-
верситета, использовал временное предпочтение для объяснения при-
обретения долга со скидкой, даже если этот долг только что появился.
827
Когда кто-то платит 100 дол. за право получить ПО дол. в некоторый
момент в будущем, покупатель (кредитор) не получает ростовщичес-
кой выгоды от этого займа, поскольку и он, и продавец (заемщик) оце-
нивают будущие ПО дол. как стоящие 100 дол. в настоящий момент
(Noonan, 1957).
Спустя полвека выдающийся доминиканский юрист и денежный
теоретик из саламанкского университета Мартин де Аспилкуэта «На-
варрец» (Martin de Azpilcueta Navarrus, 1493—1586) ясно сформулиро-
вал понятие временного предпочтения, но не использовал его для за-
щиты ростовщичества. В «Комментарии о ростовщичестве» (1556) Ас-
пилкуэта отметил, что нынешнее благо, например деньги, обычно стоит
на рынке больше, чем будущие блага, т.е. права на получение денег в
будущем. Как считал Аспилкуэта, «претензия на нечто стоит меньше,
чем сама вещь, и... ясно, что то, что не может использоваться в тече-
ние года, менее ценно, чем нечто того же самого качества, пригодное
для употребления сразу» (Gordon, 1975, р. 215).
Примерно в то же время итальянский гуманист и политик Джан
Франческо Лоттини да Вольтерра (Gian Francesco Lottini da Volterra) в
своем сборнике советов правителям «Awedimenti civili» (1574) открыл
временное предпочтение. К сожалению, от Лоттини идет также тради-
ция морализаторского осуждения временного предпочтения как завы-
шенной оценки настоящего, которое может быть воспринято органа-
ми чувств немедленно (Kauder, 1965, р. 19-22).
Спустя два века неаполитанский аббат Фердинандо Галиани
(Ferdinando Galiani, 1728-1787) рассмотрел основы временного пред-
почтения в своем труде «Della Moneta», 1751 (Monroe, 1924). Галиани
отметил, что так же, как обменный курс двух валют приравнивает сто-
имости имеющих хождение в данном месте и пространственно отда-
ленных денег, ставка процента приравнивает нынешние и будущие,
т.е. отдаленные во времени, деньги. Приравниваются, таким образом,
не физические свойства, а субъективные ценности денег в умах инди-
видов.
Эти разрозненные наметки едва ли могли служить достаточной ос-
новой для замечательной разработки полномасштабной теории вре-
менного предпочтения процента французским государственным дея-
телем Анн Робером Жаком Тюрго (1727—1781), который в нескольких
довольно кратких набросках почти полностью предвосхитил последу-
ющее развитие австрийской школой теории капитала и процента
(Turgot, 1977). В своей работе, защищающей ростовщичество, Тюрго
спрашивает: почему заемщики готовы платить процент за использова-
ние денег? В центре внимания должна находиться не сумма выплачи-
ваемого драгоценного металла, а его полезность для кредитора и заем-
щика. В частности, Тюрго сравнивает «разницу в полезности, которая
существует на дату кредитования между суммой, имеющейся к насто-
ящему времени, и такой же суммой, которая должна быть получена
через определенное время», и ссылается на известное изречение: «Луч-
ше синица в руках, чем журавль в небе». Поскольку сумма денег, име-
ющаяся сейчас, предпочтительнее обещания получения аналогичной
828
суммы через один год или несколько лет, возврат той же основной сум-
мы означает, что кредитор «дает деньги, получая взамен только обеща-
ния». Следовательно, процент компенсирует это различие в ценности
суммой, пропорциональной длительности задержки. Тюрго добавил,
что в ссудной сделке должны сравниваться не ценности даваемых в долг
и возвращаемых денег, а скорее «ценность обещания суммы денег с
ценностью суммы денег, имеющейся в настоящее время» (Turgot, 1977,
р. 158-159).
Кроме того, Тюрго был, очевидно, первым, кто пришел к понятию
капитализации, вытекающему из временного предпочтения, которое
состоит в том, что текущая капитальная стоимость любого блага дли-
тельного пользования в тенденции равняется сумме ожидаемых годо-
вых доходов, дисконтированных с использованием рыночных норм
временного предпочтения или ставок процента.
Тюрго был также первым, кто проанализировал соотношение меж-
ду объемом денежной массы и процентом. Если прирост количества
денег достается людям со слабым временным предпочтением, то вы-
росшее затем отношение сбережений к потреблению уменьшает вре-
менное предпочтение и, следовательно, снижает процентные ставки
при повышении цен. Если, однако, прирост денежной массы достает-
ся людям с сильным временнйм предпочтением, то, напротив, процент-
ные ставки должны подниматься вместе с ценами. В целом Тюрго от-
метил, что за последние столетия в Европе вырос дух бережливости,
и потому нормы временного предпочтения и ставки процента имели
тенденцию к падению.
Одной из примечательных несправедливостей в историографии
экономической мысли было допущенное Бём-Баверком в его работе
1884 г. невнимание к предвосхищению Тюрго его собственной тео-
рии процента на основе временного предпочтения (Bdhm-Bawerk,
1959, vol. 1). Частично это невнимание проистекало из примененной
Бём-Баверком тактики расчистки почвы для своей позитивной тео-
рии процента путем опровержения, иногда несправедливого, подхо-
дов его предшественников (Wicksell, 1911, р. 177). Эта несправедли-
вость особенно заметна в случае с Тюрго, поскольку мы теперь зна-
ем, что в 1876 г., всего за восемь лет до публикации своей работы по
истории теорий процента, Бём-Баверк написал очень лестную, но до
сих пор не опубликованную работу о теории процента Тюрго, сохра-
нившуюся в трудах семинара Карла Книса в Гейдельбергском универ-
ситете (Turgot, 1977, р. xxix—ххх).
Опровергая трудовую теорию цены Рикардо — Джеймса Милля с
позиций субъективной теории полезности, Сэмюэль Бейли (Bailey,
1825) ясно излагает концепцию временного предпочтения. Опровергая
утверждение Милля о том, что время как «просто абстрактное слово»
не способно увеличить цену, Бейли заявил, что «мы обычно предпо-
читаем настоящее удовольствие или наслаждение будущему» и, следо-
вательно, предпочитаем нынешние блага ожиданию появления этих
благ в будущем. Бейли, тем не менее, не попытался применить свою
идею к объяснению процента.
829
В середине 1830-х годов ирландский экономист Сэмюэль Маунти-
форт Лонгфилд (Samuel Mountifort Longfield) разработал названную
впоследствии австрийской теорию капитала как предоставления услу-
ги для рабочих в виде предложения денег в настоящее время вместо их
ожидания в будущем, когда продукт будет продан. В свою очередь,
капиталист получает от рабочих дисконтированную величину их про-
изводительности. Как сформулировал это Лонгфилд,
«капиталист... платит заработную плату немедленно, и взамен полу-
чает ценность труда [рабочих]... [которая] больше, чем заработная
плата за этот труд. Разница составляет прибыль, полученную капи-
талистом на авансированные им деньги... являющуюся как бы дискон-
том, который работник платит за немедленную выплату» (Longfield
[1834], 1971).
«Предавстрийский» временной анализ капитала и процента наибо-
лее полно был проведен в том же 1834 г. шотландцем, а позднее ка-
надцем Джоном Ре (John Rae, 1786—1872), известным своими чудаче-
ствами. При попытке защитить протекционистские тарифы от крити-
ки Смита Ре в своей работе «Некоторые новые принципы относительно
предмета политической экономии» (1834) развил временной анализ
капитала в духе Бём-Баверка, отмечая, что инвестиции увеличивают
время, требующееся для процесса производства. Ре отметил, что капи-
талист должен взвесить, что для него ценнее — большая производитель-
ность более длительных производственных процессов или время, в те-
чение которого придется ожидать их завершения. Капиталисты жерт-
вуют нынешние деньги ради большей отдачи в будущем, и разница —
процент — отражает общественную норму временного предпочтения.
Ре сознавал, что нормы временнбго предпочтения людей отражают их
культурную и психологическую готовность избрать более короткий или
более длинный временной горизонт. Его моральные предпочтения
были, несомненно, на стороне бережливых людей со слабым времен-
ным предпочтением в сравнении с людьми с сильным временным пред-
почтением, страдающими «дефектом воображения». Анализ Ре не ока-
зал существенного влияния на экономическую теорию до своего вос-
крешения в XX в., когда он стал широко упоминаться в поздних
изданиях истории теорий процента Бём-Баверка (Bohm-Bawerk, 1959,
vol. 1).
Концепция временнбго предпочтения как понятие и как основа для
объяснения процента стала характерной чертой австрийской школы
экономической мысли. Ее основатель Карл Менгер (Carl Menger, 1840-
1921) сформулировал понятие временнбго предпочтения в 1871 г., от-
мечая, что удовлетворение безотлагательных потребностей жизни и
здоровья — необходимая предпосылка для удовлетворения более отда-
ленных будущих нужд. Кроме того, Менгер заявил: «Весь опыт учит,
что мы, люди, рассматриваем нынешние, или же ожидаемые в ближай-
шем будущем удовольствия, как более важные, чем удовольствия той
же интенсивности, но ожидаемые лишь по прошествии некоторого
более длительного времени» (Menger 1871, р. 153—154; Wicksell, 1924,
р. 195). Менгер, однако, никогда не распространял концепцию вре-
830
меннбго предпочтения со своей теории ценности на теорию процента,
и когда это сделал его последователь Бём-Баверк, он с неудовольстви-
ем удалил это место из второго издания своих «Оснований политичес-
кой экономии» (Wicksell, 1924, р. 195—196).
В работе «Капитал и процент» (1884) Бём-Баверк дает классичес-
кое изложение теории процента, основанной на временном предпоч-
тении. В первом, историческом томе он отверг все другие теории,
в частности теорию производительности капитала; но пятью годами
позже в своей «Позитивной теории капитала» (1889) Бём-Баверк вновь
привлек теорию производительности в попытке объединить ее с тео-
рией временного предпочтения (Bohm-Bawerk, 1959, vols I, II). При-
мечательно, что из своих «трех причин» существования процента, где
первые две вытекали из временнбго предпочтения, а третьей стала боль-
шая производительность длительных процессов производства, Бём-
Баверк считал наиболее важной именно третью. Находясь под сильным
влиянием Бём-Баверка, Ирвинг Фишер все более склонялся к выде-
лению предельной производительности капитала как основного детер-
минанта процента (Fisher, 1907, 1930).
После выхода работ Бём-Баверка и Фишера современная теория
процента стала придавать временному предпочтению подчиненную
роль в объяснении процента: оно используется только для объяснения
процентной ставки по потребительским займам и объема потребитель-
ских сбережений, в то время как производительность капитала опре-
деляла более важный спрос на займы и сбережения со стороны фирм.
Следовательно, современная теория процента не охватывает единым
объяснением процент по потребительским займам и доход производи-
теля.
Напротив, Фрэнк А. Феттер, развивая концепцию Бём-Баверка,
полностью отбросил производительность капитала как объяснение про-
цента и создал объединенную теорию цены и распределения, в кото-
рой процент определяется исключительно временнйм предпочтением,
в то время как предельная производительность определяет «рентные
цены» факторов производства (Fetter, 1915, 1977). В своей выдающей-
ся критике Бём-Баверка Феттер отметил его фундаментальную ошиб-
ку при формулировке третьей причины существования процента. Бём-
Баверк пытался объяснить отдачу на капитал тем, что «нынешние бла-
га» зарабатывают доход благодаря их производительности в будущем.
На самом деле капитальные блага сами являются будущими благами,
поскольку они представляют ценность только потому, что их ожидает-
ся использовать в производстве товаров, которые будут проданы потре-
бителю, в определенный предстоящий момент (Fetter, 1902). Убедить-
ся в ошибочности объяснения процента производительностью капитала
можно, заглянув в любой современный учебник микроэкономики: пос-
ле объяснения того, что предельная производительность труда опреде-
ляет кривую спроса на труд (по оси у откладывается ставка заработной
платы), учебник легко переходит к диаграмме, где по оси у размещает-
ся ставка процента для того, чтобы проиллюстрировать определение
процента предельной производительностью капитала. Но аналогом
831
ставки заработной платы должен быть не процент, который является
не ценой, а отношением, а рентная цена (цена за единицу времени
использования капитального блага). Таким образом, процент остается
полностью не объясненным. Короче говоря, как отмечал Феттер, пре-
дельная производительность капитала определяет ставки арендной пла-
ты, а временное предпочтение определяет ставку процента, в то время
как капитальная стоимость фактора производства является ожидаемой
суммой будущих арендных выплат за фактор длительного использова-
ния, дисконтированных по норме временного предпочтения или по
ставке процента.
Людвиг фон Мизес принял взгляд Феттера на определение процента
только временным предпочтением в своем труде «Human Action»
(Mises, 1949). Мизес скорректировал теорию в двух важных направле-
ниях. Во-первых, он освободил данное понятие от морализаторского
оттенка, который ему продолжал придавать Бём-Баверк, не одобряв-
ший людей, «недооценивающих» будущее. Мизес разъяснил, что по-
ложительная ставка временного предпочтения является неотъемлемым
атрибутом человеческой природы. Во-вторых, и это главное, в то вре-
мя как Феттер считал, что люди могут иметь положительные или от-
рицательные нормы временного предпочтения, Мизес показал, что
положительная норма может быть выведена из факта человеческого
действия, поскольку исходя из самой природы цели можно утверждать,
что люди стремятся достигнуть этой цели как можно скорее.
БИБЛИОГРАФИЯ
Bailey, S. 1825. A Critical Dissertation on the Nature, Measure, and Causes ofValue.
New York: Augustus M. Kelley, 1967.
Bohm-Bawerk, E. von. 1884-9. Kapital ind Kapitalzins. Zweite Abteilung: Positive
Theorie des Kapitales. 4th edn. Trans, by G.D. Huncke as Capital and Interest,
Vols I and II. South Holland, Ill.: Libertarian Press, 1959 I Бём-Баверк E.
Fetter, F.A. 1902. The ‘Roundabout process’ in the interest theory. Quarterly Journal
of Economics 17, November, 163-80. Reprinted in F.A. Fetter (1977).
Fetter, F.A. 1915. Economic Principles, vol. I. New York: The Century Co.
Fetter, F.A. 1977. Capital, Interest, and Rent: Essays in the Theory of Distribution.
Ed. M. Rothbard, Kansas City: Sheed Andrews and McMeel.
Fisher, I. 1907. The Rate of Interest. New York: Macmillan.
Fisher, I. 1930. The Theory of Interest. New York: Kelley & Millman. 1954.
Gordon, B. 1975. Economic Analysis Before Adam Smith: Hesiod to Lessius. New
York: Barnes & Noble.
Kauder, E. 1965. A History of Marginal Utility Theory. Princeton: Princeton
University Press.
Longfield, S.M. 1971. The Economic Writings of Mountifort Longfield. Ed. R.D.C.
Black. Clifton, NJ: Augustus M. Kelley.
Menger, C. 1871. Principles of Economics. Ed. J. Dingwall and B. Hoselitz, Glencoe,
Ill.: Free Press, 1950.
832
Mises, L. von. 1949. Human Action: A Treatise on Economics, 3rd revised edn,
Chicago: Regnery, 1966.
Monroe, A. (ed.) 1924. Early Economic Thought. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press.
Noonan, J.T., Jr. 1957. The Scholastic Analysis of Usury. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press.
Rae, J. 1834. Some New Principles on the Subject of Political Economy. In John Rae:
Political Economist, ed. R.W. James, Toronto: University of Toronto Press, 1965.
Turgot, A.R.J. 1977. The Economics of A.R.J.Turgot. Ed. P.D.Groenewegen, The
Hague: Martinus Nijhoff.
Wicksell, K. 1911. Bohm-Bawerk’s theory of interest. In K. Wicksell, Selected Papers
on Economic Theory, ed. E. Lindahl, Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
1958.
Wicksell, K. 1924. The new edition of Menger’s Grundsatze. In K. Wicksell, Selected
Papers on Economic Theory, ed. E. Lindahl, Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1958.
ПРОФСОЮЗЫ
Генри Фелпс Браун
Trade Unions
Henry Phelps Brown
Когда Сидней и Беатриса Вебб формулировали свое классическое
определение профсоюза, у них перед глазами была долгая борьба анг-
лийских рабочих за создание и сохранение ассоциаций, которые про-
тивостояли бы работодателям и пользовались признанием общества.
«Профсоюз, — писали они, — это долговременное объединение наем-
ных работников с целью поддержания или улучшения условий своего
труда» (Webbs, 1894, р. 1). Экономист, исходящий из предпосылки о
рациональном принятии решений, склонен рассматривать профсоюз
как картель или монополию, стремящиеся максимизировать выгоды
своих членов. Промежуточная точка зрения состоит в том, что люди
вступают в профсоюз по причинам, порождаемым несовершенством
рынка труда. В связи с замедленной реакцией работодателей на пони-
жение цены труда соискателям работы в каком-либо районе в данный
момент времени будет предложено ограниченное число рабочих мест.
Если их окажется хотя бы на одного человека больше этого числа, они
начнут конкурировать между собой, сбивая цену, пока ставка заработ-
ной платы не опустится до уровня, обеспечивающего простое выжи-
вание индивида, либо до уровня пособия по безработице.
Но предположим, что количество кандидатов и мест совпадает. Если
работодатель и работник не сговорятся о ставке заработной платы и
первый останется какое-то время без работника, а второй не получит
работы и денег, кто из них пострадает больше? Как сказал Адам Смит:
«В конечном счете работник, может быть, также необходим своему
хозяину, как и хозяин работнику, но эта необходимость не столь не-
посредственна». Работники в данном случае явно не могут уйти к дру-
гим работодателям, поскольку имеют дело с моно- или олигопсонис-
тами. Этому они пытаются противопоставить собственную монополию.
Они договариваются о минимальной ставке, за которую согласятся
работать; они хотят поддерживать цены на свой труд, сокращая его
предложение; они хотят защитить свои рабочие места от падения спро-
са, устанавливая права собственности на них. С этими целями они за-
дают «демаркационные линии», в рамках которых только члены проф-
союза имеют право работать, или контролируют количество новых ра-
ботников, которые могут обучаться определенным навыкам и
наниматься для определенных работ только с разрешения профсоюза.
В данном случае защита от урезания ставок заработной платы занятых
834
работников и вытеснения их труда услугами аутсайдеров перерастает в
намеренное сокращение предложения, направленное на повышение
заработков.
В современной западной экономике работники по-прежнему или
чаще, чем раньше (особенно «белые воротнички»), вступают в проф-
союзы, чтобы договариваться с работодателями о повышении заработ-
ной платы, компенсирующем рост стоимости жизни. Рост реальной за-
работной платы также считается защитной мерой, поскольку позволя-
ет данной социальной группе не отстать от других. Кроме вопросов
заработной платы и гарантий занятости, профсоюзы решают и пробле-
мы, возникающие непосредственно на рабочем месте. Люди вступают
в профсоюзы, чтобы защититься от дискриминации, произвола управ-
ляющих, чтобы договориться с нанимателем о правилах поведения на
работе, процедурах возмещения ущерба, продвижения по службе,
увольнения, темпе работы и т.д.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОХВАТ РАБОТНИКОВ ПРОФСО-
ЮЗАМИ. Эти причины, заставляющие людей вступать в профсоюз,
возникли и возымели эффект в определенных условиях. В разных стра-
нах формы и функции профсоюзов значительно различались. В запад-
ных демократиях доля охваченных профсоюзами работников сильно
колебалась с течением времени и от страны к стране (Bain and Price,
1960); иногда этот показатель падал даже во время экономического
роста, что было заметно в США с 1960-х годов. В условиях полной за-
нятости и в тех случаях, когда ищущий работу может обратиться к не-
скольким нанимателям или имеет непосредственный доступ к природ-
ным ресурсам, как во время освоения новых земель в США, человек
сможет постоять за себя. Отсутствие зарегистрированных снижений
ставок заработной платы, продолжавшееся веками (Phelps Brown and
Hopkins, 1981), указывает на то, что неписаные соглашения и обычаи
способны поддерживать ставки заработной платы на определенном
уровне при полном отсутствии профсоюзного движения. Индивиды,
которые в силу квалификации, темперамента и обстоятельств поступ-
ления на работу стремятся сделать карьеру, скорее всего, не вступят в
профсоюз; но эти причины, удерживающие государственных служа-
щих, администраторов и менеджеров от членства в профсоюзах, были
сведены на нет ростом и обезличиванием организаций, а также необ-
ходимостью добиваться частых повышений жалованья, чтобы компен-
сировать влияние инфляции. Способность работников физического
труда организовывать собственные профсоюзы зависела от наличия
грамотных, честных лидеров, которые были бы искусными организа-
торами, а также от способности самих рабочих платить взносы и дис-
циплинированно поддерживать стачку. Там, где этих условий нет, как
это зачастую бывает в странах третьего мира, профсоюзы организуют-
ся людьми со стороны, часто — политическими партиями.
Во всех странах способность профсоюзов поддерживать свое сущест-
вование зависит от правовых норм и их применения судами: вехами в
этом смысле стали иммунитет профсоюзов от гражданско-правовой
835
ответственности в Великобритании в 1906 г. и закрепление прав проф-
союзного движения и коллективных договоров в американском зако-
нодательстве в 1930-е годы. С этим связано и отношение к профсою-
зам со стороны нанимателей: в то время как во Франции, Германии и
Соединенных Штатах до 1914 г., а порой и до более позднего времени
они считали свою борьбу с профсоюзами справедливой, многие нани-
матели в Великобритании смирились с ними как со средством стаби-
лизации отношений в промышленности. В экономиках советского типа
недовольство условиями труда, выражающееся в коллективных дей-
ствиях, может привести только к политическим выступлениям: проф-
союзы существуют лишь формально, их единственная роль состоит в
том, чтобы раздавать социальные пособия и помогать правящей партии
сохранять контроль над предприятием.
Таким образом, профсоюзы должно рассматривать в историческом
контексте и локальном своеобразии. «Пытаясь написать наш трактат,
мы потянули за экономическую нить, — писали супруги Вебб в пре-
дисловии к своей «Истории профсоюзного движения» (Webbs, 1894),
но нашли целую паутину; и с этого момента поняли, что сперва нам
придется написать не теоретический трактат, а историю».
ПРОФСОЮЗЫ КАК МОНОПОЛИИ. Тем не менее, существуют
экономические нити, которые стоит проследить. Одна из них — это
влияние профсоюза на относительный размер заработной платы своих
членов. Здесь теория, исходящая из предпосылки о монопольной вла-
сти профсоюзов, привлекает внимание к эластичности замещения труда
работников другими факторами производства и эластичности спроса
на продукт. Многое зависит от возможности замещения труда капита-
лом и возможности профсоюзов осуществлять контроль над этим про-
цессом. Как правило, именно на фирмах, которые занимают прочные
позиции на рынке и способны удерживать высокую долю прибыли в
цене, профсоюзам обычно удается добиться большей оплаты, чем обыч-
но платят за подобную работу. То же можно сказать и о целых отрас-
лях. Работодатели в данном случае, видимо, платят за труд больше цены
его предложения, что подтверждается сравнением уровней расценок в
соседних фирмах. Профсоюзы здесь как бы пользуются монопольной
властью работодателей. Они могут и сами добиться монопольной вла-
сти, сокращая предложение труда и оказывая давление на спрос рабо-
тодателей.
Цеховые профсоюзы сокращали предложение труда, ограничивая
количество учеников; в начале существования профсоюза нападки на
нечленов профсоюза, продолжающих работать за цену, меньшую, чем
та, которую требует профсоюз, заставляют их либо уйти, либо вступить
в профсоюз. Со временем возникает общее правило, которое гласит,
что никто не должен выполнять определенную работу, не имея член-
ского билета. Это правило служит скорее вербовке новых членов, не-
жели вытеснению конкурентов. В случае когда обязательным является
членство в профсоюзе до приема на работу (pre-entry closed shop), обес-
печивается наиболее полный контроль. Профсоюзу, объединяющему
836
всех работников данной отрасли, приходится учитывать возможность
вторжения на рынок товара, произведенного нечленами профсоюза в
других местах, — за исключением тех случаев, когда товар по самой
своей природе должен потребляться там же, где и производится.
Профсоюзы оказывают давление на спрос работодателей, внедряя
правила, не позволяющие привлекать к работе не своих членов; напри-
мер, работникам рекламного агентства не разрешается выполнять ра-
боту наборщиков или производителям строительных материалов и де-
талей запрещается выполнять труд строителей. Бывают правила, запре-
щающие другим рабочим оказывать услуги на территории,
контролируемой профсоюзом, а также запрещающие внедрение уст-
ройств, сокращающих затраты труда на производстве, где они работа-
ют. Многие монопольные расценки направлены на увеличение доли
труда в стоимости продукта.
Велика монопольная власть группы работников, труд которых не-
обходим на одной из основных стадий производственной цепочки, но
составляет небольшую долю в общих издержках производства. Адам
Смит привел в пример полдюжины чесальщиков шерсти, необходимых
для работы тысячи ткачей и прядильщиков. Маршалл задался вопро-
сом, почему современные ему каменщики не добились «огромных вы-
год», повышая расценки на свои услуги. Эта монопольная власть на
практике ограничена способностью работодателя противостоять давле-
нию. Он может преобразовать производственный процесс или сам про-
дукт, чтобы избежать использования услуг работников той профессии,
с представителями которой у него возникли проблемы, он может при-
влечь для осуществления данной работы внешнего подрядчика или
использовать импортные детали и компоненты; наконец, он может
перенести все производство на территорию, не контролируемую проф-
союзом. Его сопротивление требованиям профсоюза будет подкрепле-
но сознанием того, что другие группы рабочих, услугами которых он
пользуется, будут в своих требованиях исходить из уступок, которые он
сделает профсоюзу.
ТОРГ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОЛЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ.
Наиболее распространенным использованием монопольной власти со
стороны профсоюзов является возможность повышать оплату труда при
заключении коллективного договора. Это заставляет самих работода-
телей ограничивать предложение труда, нанимая меньше рабочих по
большей цене. Если мы рассмотрим сделку, последствия которой име-
ют значение только для двух непосредственно договаривающихся сто-
рон, преимущество в торге может быть определено как способность
причинить ущерб, отказываясь от заключения сделки. Понятно, что,
если стороны не смогут договориться об условиях, на которых они будут
сотрудничать, им придется временно приостановить свою деятельность.
Но эта приостановка ставит стороны в затруднительное положение.
Рабочие сидят без денег. Цеховые профсоюзы часто имели фонды, из
которых выплачивались средства бастующим; другие профсоюзы, вы-
нужденные поддерживать взносы на низком уровне, не выплачивали
837
ничего. Однако и им иногда удавалось проводить долгие забастовки при
поддержке других профсоюзов и общественности. Существует риск, что
свободные места будут заняты изменниками из собственных рядов или
пришлыми штрейкбрехерами, которых оставят на работе после разре-
шения конфликта. Этот риск тем больше, чем дольше продолжается
забастовка. Но и работодателю приходится несладко. Он вынужден
приостановить прибыльное производство, а в некоторых отраслях про-
мышленности это не может быть компенсировано последующим уве-
личением выпуска, когда производство восстановится. Существует ве-
роятность, что клиенты за это время уйдут к другим производителям и
кто-то из них так и не вернется. Фирмы, не имевшие прибыли, не могут
позволить себе повышения заработной платы, однако вполне возмож-
но, им придется на него согласиться, поскольку иначе иссякнет при-
ток денежных средств (cash flow).
Испытываемые затруднения заставляют стороны согласиться на
пересмотр тех требований, с которыми они выступали в начале забас-
товки, они идут на уступки и достигают соглашения. По крайней мере,
такие выводы можно сделать из того факта, что большинство забасто-
вок закончились компромиссами. Размышляя об этом, Дж. Р. Хикс
пришел к заключению (Hicks, 1932, ch. 7), что, если бы стороны зара-
нее точно оценили силы друг друга, забастовка бы не состоялась и со-
гласие было бы достигнуто на тех условиях, которые были определены
только в ее конце. Таким образом, забастовки случаются, когда сторо-
ны не могут объективно оценить силы друг друга и с большими за-
труднениями выясняют их истинное соотношение опытным путем.
То, что большинство соглашений достигается без забастовок, не
значит, что стороны не используют свои преимущества в торге. Но при
заключении соглашения имеет значение и многое другое. Стороны ого-
варивают условия, на которых будет основываться их будущее сотруд-
ничество, а это — не сделка о покупке лошади между двумя лицами,
которые, возможно, видят друг друга в первый и последний раз. Отно-
шения между сторонами, продолжающими быть необходимыми друг
другу, скорее близки к брачным. В связи с этим для сторон имеет зна-
чение то, является ли их поведение честным и разумным с точки зре-
ния дальнейшего продолжения их сотрудничества. Члены профсоюза
могут быть движимы целью получить не максимальную выгоду, а только
то, что, по их мнению, им «полагается», или исправить несправедли-
вость. Если речь идет о нарушении справедливости, они будут бороть-
ся, несмотря на соотношение выгод и издержек.
Еще одним фактором при ведении переговоров является решимость
профсоюзов избежать подчинения работодателю. Они не могут принять
довод, что улучшения, которых удалось добиться, компенсируют поте-
рю заработной платы во время забастовки только через много лет, по-
скольку это означает, что, принимая в расчет превосходящие ресурсы
работодателя, рабочие всегда должны принимать его условия. Торг
может вылиться в войну, в ходе которой члены профсоюза, кровь ко-
торых взыграла, будут жертвовать собой без всякого расчета и атако-
вать штрейкбрехеров с ненавистью патриота к предателю.
838
До сих пор позиция профсоюзов в торге рассматривалась нами в
рамках схватки двух изолированных от окружающего мира сторон, но
это преимущество увеличивается вследствие влияния забастовок на
третьи стороны и на общество в целом. Третьими сторонами являются
те фирмы, которые поставляют работодателю большую часть собствен-
ного выпуска, и те, что получают от него ресурсы, утрату которых не
могут возместить из запасов или из других источников. Они будут, ско-
рее всего, обеспокоены остановкой деятельности работодателя и заин-
тересованы в том, чтобы он поскорее достиг соглашения с рабочими.
Профсоюз, способный приостановить поставки товара или услуги пер-
вой необходимости от целого региона, может добиться вмешательства
правительства.
В 1893 г. способность Английской федерации шахтеров лишить
страну изрядной доли тепла и света, а также остановить движение по-
ездов привела к тому, что еще недавно казалось немыслимым, — вме-
шательству правительства с целью урегулировать ситуацию. Когда за-
бастовали французские железнодорожники, правительство прервало
забастовку, призвав их на военную службу. Забастовка британских
шахтеров, угрожавшая в 1912 г. парализовать всю страну, была оста-
новлена актом парламента, давшим шахтерам многое из того, чего они
требовали. В случаях когда правительству приходится решать трудовой
спор, затрагивающий национальную безопасность, оно не может за-
ставить членов профсоюзов возобновить работу на условиях, которые
они считают нечестными и неоправданными, но в силах применить
меры принуждения к нанимателям.
Контроль над производством жизненно важных товаров и услуг дал
некоторым профсоюзам огромную власть. В Великобритании сложил-
ся Тройной союз шахтеров, работников транспорта и железнодорож-
ников с целью использовать эту власть; но правительство, в свою оче-
редь, разработало детальный чрезвычайный план снабжения страны.
В США закон Тафта — Харли в 1947 г. предусмотрел, что, если забас-
товка создает угрозу национальной безопасности, Президент вправе на-
ционализировать соответствующие предприятия на 80 дней, на протя-
жении которых служащие обязаны продолжать работу, пока расследу-
ющая дело комиссия не будет готова доложить об обстоятельствах
конфликта. С распространением профсоюзного движения на государ-
ственный сектор и сферу услуг в Великобритании целью забастовок
стало не причинить ущерб работодателю, а выразить свое недовольство
через нарушение нормальной работы какой-либо сферы общественной
жизни, что ставило в трудное положение родителей школьников, ин-
валидов или пассажиров общественного транспорта.
ПРОФСОЮЗЫ И ПРАВО. Позиция профсоюзов в торге зависит от
правовых норм. Работодатели могут отказаться признавать профсоюз,
если закон не обяжет их к этому. Во время забастовки услуги труда не
предоставляются нанимателю в нарушение индивидуальных договоров
о найме, убытки терпит и третья стороны. В США работодателям уда-
валось воспрепятствовать многим действиям профсоюзов, обращаясь
839
в суды и получая соответствующие постановления. Так было до зако-
на Норриса — Ла Гардиа 1932 г. Если потерпевшая убыток от забас-
товки сторона сможет возместить этот урон по суду, большинство за-
бастовок будут невозможны: британские профсоюзы находились под
защитой ряда иммунитетов, которые обрели форму кодекса в Законе о
трудовых спорах 1906 г. Кроме того, многие забастовки не будут эф-
фективны без устройства пикетов, которые будут препятствовать же-
лающим продолжать работу и останавливать подвоз ресурсов. Эффек-
тивность правовых положений, регулирующих такое пикетирование,
зависит от возможности и практики правоприменения, но и само су-
ществование профсоюза как объединения, ограничивающего свободу
торговли, является аномалией в стране, основные законы которой га-
рантируют индивиду свободу распоряжаться своим трудом и собствен-
ностью. В этих странах правовые условия для деятельности профсою-
зов были созданы скорее в результате сделанного исключения, нежели
путем предоставления законных прав.
Большое значение правовых норм для деятельности профсоюзов
побудило последние оказывать давление на законодательные органы.
Внесение законодательных предложений было первоначальной целью
Британского конгресса тред-юнионов и Американской федерации тру-
да при Гомперсе. Позднее британские профсоюзы стали основной
финансовой опорой лейбористской партии, а лидеры американских
профсоюзов связали себя с демократической партией. Основной при-
чиной для объединения профсоюзов с политической партией была общ-
ность социальных принципов и идеалов. Во Франции и Италии раз-
ные профсоюзные объединения связаны с разными партиями.
ПРЕДМЕТ ТОРГА. Позицию в торге нельзя рассматривать вне
круга вопросов, подлежащих решению в диалоге между работниками
и работодателями. Этот круг вопросов в каждом данном случае зави-
сит от исторических факторов. Иногда инициативу в его формирова-
нии брали на себя работодатели, иногда — представители профсоюза.
Американские работодатели, возможно из-за своей индивидуалистич-
ности и агрессивного конкурентного духа, неохотно шли на сотрудни-
чество друг с другом, даже с целью заключения коллективного догово-
ра; так что основным был контракт на уровне фабрики. В Великобри-
тании цеховые профсоюзы традиционно старались поддерживать
постоянные ставки заработной платы во всех сделках и удерживать их
даже во время спадов деловой активности; в таких условиях чем шире
фронт, тем лучше, и политика профсоюзов сближала крупнейших ра-
ботодателей каждого региона. Во время Первой мировой войны этот
процесс перерос в переговоры на уровне целой отрасли. Ограничение
конкуренции в целых отраслях путем таких договоров способствовало
возникновению в них картелей. Можно предположить, что это дало
профсоюзам возможность повышать оплату труда до границы, опреде-
ляемой эластичностью спроса на товары данной отрасли. Наблюдавша-
яся разница между заработной платой в подобных отраслях и во всех
остальных в военные годы заставляет предположить, что нечто подоб-
840
ное действительно осуществлялось в форме противодействия пониже-
нию расценок. Открытое повышение ставок заработной платы менее
вероятно, поскольку сопротивление работодателей будет базироваться
на том, что ожидаемое в результате повышение цен даст преимущества
конкурентам как дома, так и за рубежом.
В идеальном случае профсоюзы ведут торг на уровне отдельных
предприятий (контракты на уровне фабрики), сочетая контроль за уров-
нем «расценки за выполнение данной работы» на всех предприятиях
с извлечением всевозможных дополнительных выгод в контрактах с
наиболее прибыльными фирмами; однако в тяжелые времена местные
отделения профсоюзов могут предпочесть стабильность заработка раз-
меру последнего и пойти на уступки. В то время как соглашения на
уровне отрасли ограничиваются общими положениями, подлежащими
широкому применению, американский контракт, заключаемый на
уровне фабрики, обычно весьма объемен и предусматривает правила
на все случаи, возникающие в ходе работы фабрики. Поэтому проф-
союз может передать в арбитраж любой спор, который возникнет на
протяжении действия контракта, поскольку арбитр может надлежащим
образом интерпретировать и применить соответствующее правило.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ НА МЕСТЕ РАБОТЫ. Незави-
симо от того, заключают ли члены профсоюза, работающие на пред-
приятии, собственное соглашение с управляющими или нет, их каса-
ются все вопросы, которые возникают в его стенах. Такие вопросы
могут затрагивать место и темп работы, дисциплину, продвижение по
службе, увольнения, процедуры урегулирования трудовых споров. По
законам США исключительное право ведения переговоров со стороны
всех рабочих данного предприятия может принадлежать только одно-
му профсоюзу; соответственно, представители его местного отделения
будут представлять рабочих при решении всех перечисленных вопро-
сов. На британском предприятии рабочие могут принадлежать к раз-
ным профсоюзам, но уполномоченные представители рабочих, избран-
ные членами различных профсоюзов, объединяются в совет, который
представляет интересы всех рабочих на встречах с руководством; его
председатель при этом может заниматься исключительно профсоюзны-
ми вопросами. Там, где профсоюзные традиции восходят к средневе-
ковым ремеслам, основным местом, где возникают проблемы, объеди-
няющие работников в профсоюз, является цех. При этом по поводу
внедрения новых машин и методов производства происходили более
жесткие баталии, чем по поводу оплату труда.
Долгое время целью многих профсоюзов в Европе, но не в США,
было преодоление антагонистической системы, которая противопостав-
ляла друг другу их членов и представителей администрации на месте
работы. Многие пытались сделать это путем политической революции,
которая упразднила бы капитализм, а в странах, где у власти находи-
лись социал-демократы, частью аргументов в пользу национализации
было то, что она заменит безответственность частных работодателей
распоряжениями государства. Некоторые профсоюзы были более оза-
841
бочены непосредственными отношениями рабочих с нанимателями и
возможностью рабочего контроля и самоуправления. В связи с этим в
кодексы некоторых стран Европы, и особенно Германии, были вклю-
чены положения, предусматривающие создание рабочих советов и на-
значение директоров, которые будут представлять рабочих в советах
директоров предприятий. Общее мнение по поводу этих институтов
сводится к тому, что рабочие советы, где право голоса имеют все ра-
ботники предприятия, но их представителями фактически являются
профсоюзные активисты, имеют для профсоюзов большую ценность,
поскольку с ними консультируются и сообща рассматривают вопросы
управления предприятием; но назначение рабочих «директоров» не
приносит ощутимых выгод, хотя упразднение их вызвало бы возмуще-
ние.
ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ НА ЗАРАБОТ-
НУЮ ПЛАТУ. Некоторая оценка влияния профсоюзов может быть
получена путем сравнения поведения ставки заработной платы в пе-
риоды активной деятельности профсоюзов и во все остальное время.
В нескольких западных странах наблюдался быстрый рост численнос-
ти профсоюзов в годы после 1890 г.; в Британии их численность удво-
илась во время Первой мировой войны; во многих западных странах
(исключая США) численность профсоюзов вновь возросла в годы пол-
ной занятости после Второй мировой войны. Когда показатели силы и
активности профсоюзов сопоставляются с показателями экономичес-
кого роста тех стран, где эта активность наблюдалась, напрашиваются
определенные выводы о том, в какой степени профсоюзы повлияли на
развитие ситуации.
Оказывается, что их влияние на средний уровень номинальной за-
работной платы усиливает «эффект храповика», который препятствует
понижению этих расценок и действовал задолго до того, как появились
рабочие объединения. На этом фоне особенно резко выделяются от-
носительно небольшие спады в размерах заработной платы в отраслях,
охваченных профсоюзами в США во время Великой депрессии 1929-
1934 гг.
Вообще было замечено, что, когда во время фазы спада восьмилет-
него экономического цикла ставки заработной платы падали, профсо-
юзам удавалось или замедлить это падение, или даже предотвратить его.
Соответственно, во время подъема членам профсоюзов удавалось
добиться повышения ставок быстрее, чем это сделали бы неорганизо-
ванные работники. Но выяснилось, что даже обширным и сильным
профсоюзам не удавалось поднять общий размер заработной платы в
отраслях, находящихся в неблагоприятном положении, где производи-
тели не могли компенсировать повышение издержек повышением
цены. Дело обстояло иначе, когда ожидания работодателей, подкреп-
ленные обещаниями правительства, позволяли договариваться о повы-
шении заработной платы, необходимом для того, чтобы поддержать
уровень жизни данной группы рабочих вровень с уровнем жизни ос-
тальных, даже если цены на товар должны были вследствие этого под-
842
няться: в этих условиях, характерных для полной занятости, профсо-
юзы определяют уровень цен совместно с уровнем ставки номиналь-
ной заработной платы.
Влияние профсоюзов на реальную заработную плату зависит от их
воздействия на производительность труда и распределение, т.е. долю
продукта, причитающуюся рабочему. То, что «ограничительные меры»
тех профсоюзов, которые обладают достаточным контролем за наймом,
ведут к уменьшению производительности труда, ясно из самой их сути
и готовности менеджеров заплатить за их устранение; но договорен-
ность по поводу допустимой заработной платы существует и между не
объединенными в профсоюз рабочими — администрация должна учи-
тывать этот фактор при любых переговорах со своими работниками.
Вопрос состоит в том, как выделить влияние профсоюзов в чистом
виде. Если изменения в силе профсоюзного движения влияли на про-
изводительность, то всего лишь как один среди множества факторов,
в том числе и более значительных. Хотя считалось, что деятельность
профсоюзов и дух нового тред-юнионизма в Великобритании были
ответственны за замедленный рост производительности труда, который
стал заметным в начале XX в., расширение численности профсоюзов
и рост их активности на рабочих местах в 1950—1960-е годы пришлись
на время, когда производительность росла особенно быстро и устой-
чиво.
Некоторую информацию о влиянии профсоюзов на распределение
дает замеченный в нескольких странах факт сохранения пропорцио-
нальности между реальной заработной платой и производительностью,
т.е. реальным выпуском на одного рабочего (Phelps Brown and Browne,
1968). Какова бы ни была динамика ставок заработной платы и что бы
ни делали профсоюзы с целью повысить их, цены продуктов, очевид-
но, корректировались так, чтобы сохранить неизменной долю издер-
жек на оплату труда в цене продукта. В такие периоды, как 1874—1889
и 1923-1937 гг. в Великобритании, когда номинальные ставки заработ-
ной платы не росли вовсе, а производительность росла, реальные ставки
увеличивались в результате падения цен. Кроме того, отмеченный факт
означает, что пропорция распределения продукта между заработной
платой и прибылью была постоянной. Но эта пропорция и зависимость
между реальной ставкой заработной платы и производительностью тру-
да время от времени подвергалась смещениям. Во времена депрессии
и дефляции способность профсоюза противостоять урезанию ставок
заработной платы сокращает долю прибыли в цене, и когда потрясе-
ние достаточно глубоко, как после Первой мировой войны, нормы и
ожидания устойчиво смещаются и прошлые нормы рентабельности
могут не восстановиться никогда.
Очевидно, что подъем уровня жизни, который изменил условия
жизни всех наемных работников на Западе с 1950 г., представляется не
зависящим от борьбы профсоюзов за повышение заработной платы.
Профсоюзы в изменении распределения прибыли играли скорее роль
наковальни, нежели молота. Но эти выводы относительно изменения
среднего уровня заработной платы вполне совместимы с влиянием
843
профсоюзов на структуру ставок оплаты труда. Некоторые группы ра-
ботников, возможно, выиграли, образовав профсоюз. Один из эффек-
тов объединения в профсоюз состоит в сокращении разброса в оплате
сходного труда, который в ином случае может быть довольно широк
даже в пределах одного региона. Исследования также показали, что
образование профсоюза дает объединившимся преимущество над не
сделавшими этого. Это выражается в том выигрыше, которого группа
добивается, в первый раз вступая в торг; но это эффект первоначаль-
ного толчка. Наблюдения показывают динамические колебания между
заработной платой организованных и неорганизованных рабочих, но не
постепенно растущий разрыв. Степень влияния профсоюзов на зави-
симость оплаты от уровня квалификации зависит от того, существуют
ли отдельные профсоюзы для рабочих разной квалификации. Если же
они принадлежат к одному профсоюзу, то разрыв в оплате зависит от
политического влияния групп разной квалификации внутри этого
профсоюза. В Швеции в 1950-1960-е годы разброс ставок сократился
путем заключения на национальном уровне соглашений, продиктован-
ных эгалитаристской философией Landsorganisationen (национальной
профсоюзной организацией), но разница восстановилась в результате
дрейфа фактической заработной платы на низовом уровне. Статисти-
ческие исследования показали, что члены профсоюзов зарабатывают
значительно больше своих не охваченных союзами коллег, если учесть
различные составляющие личного дохода; проблема в том, чтобы учесть
все эти составляющие.
ИНФЛЯЦИЯ ИЗДЕРЖЕК, СТАГФЛЯЦИЯ И ПОЛИТИКА РЕ-
ГУЛИРОВАНИЯ ДОХОДОВ. Способность профсоюзов повышать раз-
мер оплаты труда в условиях, когда работодатели в силах повысить
цены, стала причиной инфляции издержек в 1960-х годах, когда чле-
ны профсоюзов пересмотрели осторожные ожидания, сформировавши-
еся у них в более тяжелые времена, и стали повышать требования. Раз-
личные формы политики, регулирующей доходы, были использованы
с целью убедить или обязать профсоюзы согласиться только на такие
повышения оплаты, которые не опережали бы рост производительно-
сти. Но для отдельного члена профсоюза повышение номинальной за-
работной платы является в момент ее выдачи и повышением реальной
заработной платы; и опыт показал, что терпение членов профсоюзов
перед лицом политики, заставляющей соглашаться на неполную ком-
пенсацию удорожания жизни, было ограниченным. Когда во время
спада 1970-х годов возобновились трудности для работодателей, ожи-
дания и требования профсоюзов остались неизменными. Полученная
в результате комбинация безработицы и инфляции издержек получила
название стагфляции. Все понимали, что в этих обстоятельствах уве-
личение совокупного спроса сократит безработицу, только если оно не
будет использовано профсоюзами как повод повысить заработную пла-
ту, и потому такое увеличение должно будет сопровождаться соглаше-
нием между правительством и профсоюзами о том, чтобы воздержи-
ваться от деструктивных действий.
844
БИБЛИОГРАФИЯ
Bain, G.S. and Price, R. 1960. Profiles of Union Growth. Oxford: Blackwel.
Hicks J.R. 1932. The Theory of Wages. 2nd edn, London: Macmillan, 1963.
Phelps Brown, E.H. and Hopkins, S.V. 1955. Seven centuries of building wages
Economica 22, August, 87. Reprinted in E.H. Phelps Brown and S.V. Hopkins,
A Perspective of Wages and Prices, London and New York: Methuen, 1981.
Phelps Brown, E.H. and Browne, M.H. 1968. A Century of Pay: the course of pay
and production in France, Germany, Sweden, the United Kingdom, and the Unites
States of America, 1860—1960. London: Macmillan.
Smith, A. 1776. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Ed.
E. Cannan. Reprinted, London: Methuen, 1961; New York: Random House, 1965.
Webb, S. and B. 1894. The History of Trade Unionism. 2nd edn; London: Longmans,
1920.
УТОПИИ
Грегори Клэйс
Utopias
Gregory Claeys
Слово «утопия» происходит от греческого, означающего «нигде».
Утопия — это рассказ о воображаемом совершенном или идеальном об-
ществе, которое с экономической точки зрения обычно является ста-
ционарным и в котором блага часто находятся в общей собственнос-
ти. Многие из предлагавшихся социальных реформ включали пункты,
вдохновленные утопиями, а большинство утопий явно или неявно при-
зывали к социальным изменениям. Не существует единой традиции в
жанре утопий, и потому нельзя четко выделить их место в истории эко-
номической мысли. Однако, поскольку обеспечение выживания чело-
вечества было целью всех направлений нормативной экономической
мысли, размышления о совершенных или гармоничных обществах,
называемые утопическими, обычно претендовали на то, чтобы дать
полный ответ на загадки, сформулированные экономистами. В совре-
менную эпоху утопические проекты стали широко использовать науч-
ные и технологические достижения как инструмент решения экономи-
ческих проблем. В свою очередь, наиболее амбициозные планы по
устранению экономических затруднений сами приобретали черты уто-
пий (т.е. становились фантастичными или недостижимыми). Чтобы
пролить свет на эту взаимосвязь, нужно отличать утопическую форму
мышления от по крайней мере четырех родственных ей форм. Так, мил-
ленаристы считали, что все социальные проблемы будут устранены бо-
жественным вмешательством, часто в форме Второго пришествия Хри-
ста, с приходом которого будет основано совершенное общество.
В средневековой английской легенде о «стране Кокейн» и подобных
произведениях все формы ограниченности благ исчезают: желания ос-
таются ограниченными, в то время как средства их удовлетворения уве-
личиваются без труда и потребляются без усилий. В повествованиях об
«аркадиях» больший упор делается на удовлетворение только «естест-
венных» потребностей и важность духовной и эстетической сфер. В ис-
ториях об «обществах безупречной морали» также предполагалась не-
обходимость предварительных перемен в человеческой природе, осо-
бенно в том, что касается потребностей. Больше внимания также
уделялось духовному возрождению как основе социальной гармонии.
Во всех видах идеальных обществ центральной является проблема
человеческих потребностей и желаний. Авторы, работающие в утопи-
ческой традиции, признавали существование центрального противоре-
846
чия между ограниченными ресурсами и ненасытимыми потребностя-
ми, но не надеялись на коренные изменения человеческой натуры. Фаз
(Fuz, 1952) выделил «утопии спасения» (utopias of escape), в которых
исходной предпосылкой является изобилие, и «утопии осуществления»
(utopias of realization), в которых исходной является редкость ресурсов.
Большинство утопий пытаются справиться с основными социальны-
ми бедами (преступностью, бедностью, пороками, войнами и т.п.),
которые происходят от человеческих слабостей, уделяя главное внима-
ние наилучшей организации общественных институтов, не идеализи-
руя природы (как в «стране Кокейн») или человека (как в «обществах
безупречной морали») и опираясь на результаты работы человеческого
ума, а не на божественное провидение. В экономическом, как и в дру-
гих аспектах, утопии стремятся скорее построить совершенную,
полностью упорядоченную во всех деталях социальную модель, чем до-
биться временного или частичного решения сегодняшних проблем.
В воображаемом всемогуществе и всеведении заключаются как привле-
кательность и полезность, так и опасность излишнего протекциониз-
ма, присущие утопическим схемам. Желая одновременно сохранить
лучшее из прошлого и разработать идеальное будущее, авторы утопий
сами часто давали образцы, по которым судили об адекватности насто-
ящего и его экстраполяции в будущее (особенно в области научно-тех-
нического развития).
С течением времени экономический аспект утопий сместился от
ограничения потребностей и обобществления благ, которые должны
были разрешить проблемы, связанные с производством и распределе-
нием, к большему упору на производительные силы, создаваемые раз-
витием науки, технологии и новых форм экономической организации.
Борьба с «неестественными» потребностями потеряла свою важность.
В этом смысле история утопической мысли отражает историю эконо-
мики и историю экономической мысли в той мере, в какой последняя
обосновывала возможность удовлетворения возрастающих потребнос-
тей на основе развития науки и техники. Когда в XVIII в. либеральное
основное течение политической экономии отказалось от идеализации
государственного регулирования и связало надежду на преодоление
ограниченности ресурсов с развитием рынка, утопизм также переклю-
чил акценты с воспитания добродетели на создание изобилия, часто в
сочетании с централизованным планированием и централизованной
организацией экономики. Технология, как предполагалось, уменьшит
количество необходимого обществу труда без сопутствующего сокра-
щения потребностей. Во многих современных утопиях неизбежность
глубокого разделения труда была вытеснена идеей о чередующихся
формах более интересного и творческого труда. Современный утопизм
одновременно опирается на многообещающее развитие технологий и
критикует формы общественной организации, не способные исполь-
зовать этот потенциал или обуздать его вредные проявления. Не удов-
летворяясь разработкой образа идеальных возможностей, современный
утопизм более занят проблемой осуществления проектов идеальных
обществ.
847
Хотя возраст утопического жанра обычно отсчитывают с даты пуб-
ликации «Утопии» Томаса Мора (1516), идея об обобществлении благ
как средстве борьбы с экономическими неурядицами гораздо старше.
Важным предшественником было «Государство» Платона (примерно
360 г. до н.э.), где общей была лишь собственность правящих «храни-
телей», что преследовало цель предотвратить возможность конфликта
между частными и общественными интересами. В конце II в.н.э. Плу-
тарх написал свое жизнеописание мифического спартанского законо-
дателя Ликурга, который покончил с жадностью, роскошью и неравен-
ством, разделив поровну земли, заменив золото и серебро в обороте
железом и введя различные законы, регулирующие потребление насе-
лением предметов роскоши. Хотя Платоновский коммунизм рано под-
вергся критике со стороны Аристотеля, идея об общественной собст-
венности на блага как идеале сохранилась в раннехристианскую эпо-
ху. Древнейший образ мифического Золотого века, где текут реки из
молока и меда, появлявшийся у Гесиода (750 г. до н.э.), Овидия и в
рассказах об «Островах Блаженных», вдохновленных стоиками, в хри-
стианскую эпоху превратился в образ рая, Эдемского сада, и было по-
всеместно признано, что возникновение частной собственности мог-
ло быть только результатом грехопадения и изгнания Адама и Евы из
рая. В какой-то мере общественная собственность существовала у иуда-
истской секты ессеев, среди последователей раннего христианства, как
и в последующих монашеских движениях, и позднее велись серьезные
споры о том, хотели ли апостолы сохранить ее для себя или распро-
странить на всех людей. Правда, уже ранняя христианская церковь
оправдывала частную собственность тем, что она обеспечивала мир, по-
рядок и экономическую эффективность. Однако благотворительность,
и особенно помощь бедным в пору нужды, считалась неотъемлемым
долгом, сопутствующим частной собственности на Земле, которая была
сотворена Богом так, чтобы прокормить всех. Такова была традиция,
которую опрокинул Томас Мор, вдохновляясь, с одной стороны, Пла-
тоном, а с другой, возможно, потенциалом Нового Света. Мор воскре-
сил идею светского социального усовершенствования и выразил ее в
новом фантастическом образе. В это и более позднее время быстрые
экономические перемены в Британии были причиной того, что утопи-
ческие произведения возникали по преимуществу здесь. Несомненно,
разгневанный влиянием «огораживаний» на бедных, Мор даровал уто-
пийцам не только равенство, но и изобилие, шестичасовой рабочий
день (и более достойную работу, чем в древних утопиях); каждые де-
сять лет дома переходили из рук в руки, а горожане менялись местами
с сельскими жителями еще чаще. На общественных рынках все блага
были бесплатными, а в общественных больницах выхаживали больных.
Баланс между зажиточными и неимущими внутри страны обеспечивал-
ся с помощью перераспределения; кроме того, избыток частично от-
давался беднякам других стран, а частично продавался по умеренным
ценам. Железо ценилось больше, чем золото или серебро, а драгоцен-
ные камни и жемчужины приравнивались к детским игрушкам. По-
требности четко фиксировались на уровне минимального комфорта.
848
С победой над боязнью нужды жадность была практически изжита,
а пышность и излишества, порожденные тщеславием, запрещались за-
коном. Середина XVI в. ознаменовалась многими попытками радикаль-
ных протестантов возродить предположительно имевший место ком-
мунизм раннего христианства (например, анабаптизм Петера Райдма-
на), существенным сдвигом в сторону борьбы с роскошью в нескольких
протестантских сектах. Предпочтение сельскохозяйственных занятий
и враждебность к роскоши характеризуют большинство утопий Ренес-
санса, например «Вольфарию» Йохана Гюнцберга (1621), «Христиано-
поль» Андре (1619), в котором играла определенную роль цеховая мо-
дель, «Город Солнца» Кампанеллы (1623), в котором впервые за всю
историю утопий отменен труд рабов, и «Анатомию Меланхолии» Ро-
берта Бертона, содержавшую нападки на жадность, национальный план
использования земли, управление экономическими ресурсами усили-
ями чиновников, создание общественных житниц и оплату услуг док-
торов и юристов государством. В «Новой Атлантиде» Фрэнсиса Бэко-
на (1627) экономической организации уделялось меньше внимания, чем
обоснованию диктатуры ученых. Именно здесь впервые появилось
новое отношение к технологии, которое не раз повторялось в последу-
ющих утопиях. Бэкон также обратил внимание на угрозу обществен-
ному порядку со стороны различных вводимых новшеств, в то время
как «Нова Солима» (Nova Solyma) Самуэля Готта (1648) была более
нетерпима к роскоши и расточительности. Среди английских утопий
периода гражданской войны особо выделяются две. Работа «Платфор-
ма Закона свободы» Джерарда Уинстэнли (1652) развила требования
диггеров передать общинные земли беднякам, описав механизм
общественного землевладения, в котором права на землю имели все за-
нимающиеся сельскохозяйственной деятельностью в возрасте до 40 лет.
Общественные хранилища предоставляли нужные блага нуждающим-
ся в них, а купля благ, их продажа и использование наемного труда
внутри страны запрещались. Золото и серебро использовались исклю-
чительно для внешней торговли. Более известной была «Океания»
(Oceana) Джеймса Хэррингтона (1656), которая популяризировала идею
принятия сельскохозяйственных законов, предотвращающих преобла-
дание аристократии, и с той же целью вводила ограничения на размер
приданого и наследства.
Конец XVII в. ознаменовался изобилием утопий благосостояния или
полной занятости в Британии (Франция увидит подобный расцвет
жанра только в следующем веке). В то время планы практических со-
циальных реформ и утопические проекты были не так уж далеки друг
от друга. Тогда же мы наблюдаем переход от идеи ограничения спроса
и удовлетворения исключительно естественных потребностей к концеп-
ции максимизации производства при полной занятости людских и ма-
териальных ресурсов с минимизацией потерь. (Эти же цели до неко-
торой степени преследовались и основным течением меркантилизма.)
Эти цели ставятся, например, в «Описании знаменитого королевства
Макарии» (1641), где большая часть законодательства связана с регу-
лированием производства; в «Защитнике Бедняка» Питера Чемберле-
849
на (1649), который содержал описание механизма общественных работ
для бедных под управлением государственных чиновников; «Способе
сделать бедняков в этой и других странах счастливыми» Питера Плок-
хоя (1659), где предлагалось переселение лучших ремесленников, зем-
ледельцев и торговцев в специальные общины, и «Предложениях по
организации промышленной коллегии» Джона Беллерса (1695), где бо-
гатые должны были помогать основывать общины, в которых в даль-
нейшем должны были жить бедняки, сами обеспечивая себя. В таких
проектах способы решения экономических проблем описывались на
уровне отдельных общин и общественных слоев, а не применительно
ко всей стране или ко всем беднякам. В 1981 г. Дж.С. Дэвис (Davis,
1981) предположил, что это было выражением возрастающего недове-
рия к способности государства решить проблему бедности, и действи-
тельно, Закон о престолонаследии 1662 г. переложил это бремя с цен-
трального правительства на отдельные приходы.
Период с 1700 по 1900 гг. отмечен не только расцветом утопичес-
ких идей, но и возрастающим переплетением практических экономи-
ческих мер и утопических предписаний. Тогда же обобществление благ
перестало быть непременным элементом утопических идей в отноше-
нии собственности и либеральный взгляд на выгоды частной собствен-
ности сам был выражен в утопической форме. Это повлекло за собой
сочетание утопического мышления и идеи прогресса, хотя они, как пра-
вило, считаются взаимно противоречащими. В современном социализ-
ме и классической политэкономии потребности считаются практичес-
ки неограниченными и социальная гармония во многом зависит от их
удовлетворения. Превознесение homo economicus началось с «Робин-
зона Крузо» Даниэля Дефо (1719) и было наиболее восторженным в
декларациях Ричарда Кобдена и Джона Брайта в середине XIX в. о
неизбежном воцарении всеобщего мира после распространения свобод-
ной торговли на все страны. Одним из первых серьезных вызовов этой
идее было признание Джоном Стюартом Миллем после 1850 г. жела-
тельности стационарной экономики, избегающей дальнейших перемен.
Многие утопии XVIII в. были посвящены идее прогресса (например,
«Год 2440» Мерсье (1770) и «Эскиз исторической картины развития
человеческого ума» Кондорсэ (1794)). В других утопиях критика ком-
мерческого общества имела различные формы: мягкой сатиры Свифта
в «Путешествиях Гулливера» (1726), где гуингнмы отличались презре-
нием к самоцветам и распределяли произведенный продукт в соответ-
ствии с потребностями, или более острой критики цивилизации в «Рас-
суждении о происхождении неравенства» Руссо (1755). Подобного рода
критика легла в основу современного коммунизма, которую заложили
Рейналь, Мерсье, Мабли, Морелли, Бабеф, а в Британии Спенс и Год-
вин. Для многих из них имела некоторое значение спартанская модель
и в роскоши виделась основная причина притеснения рабочего клас-
са, равно как и общего падения нравов.
Хотя весь жанр утопий был до основания потрясен пессимистичес-
ким прогнозом Мальтуса в его «Очерке о народонаселении» (1798),
первая половина XIX в. ознаменовалась возникновением многочислен-
850
ных маленьких «утопическо-социалистических» общин, стремящихся
воплотить утопические идеи на практике. Эти общины могли быть как
коммунистическими (Роберт Оуэн, Этьен Кабе), так и полукапитали-
стическими (Шарль Фурье). Другие планы сосредоточивались на со-
стоянии всей нации и благодетельном развитии массового производ-
ства (Сен-Симон). Утопии такого рода стали доминировать, когда по-
тенциальная роль машин в создании нового рога изобилия стала
очевидной. (Некоторое разочарование в этих взглядах произошло поз-
же, например в «Новостях ниоткуда» Вильяма Морриса (1890), где
предпочтение отдавалось деревенским и ремесленным добродетелям.)
Значительно больше внимания в начале XIX в. стало уделяться (напри-
мер, Оуэном и Фурье) отрицательным сторонам чрезмерной специа-
лизации и преимуществам постоянной перемены занятий. В середине
века в работах Маркса и Энгельса возникло наиболее радикальное ви-
дение данной эры. Их планы могут рассматриваться как утопические
в той мере, в какой они излишне оптимистично оценивали свойства
человеческой природы, технологию и социальное устройство будуще-
го общества, в котором частная собственность и отчуждение должны
быть преодолены. В последние два десятилетия века, по крайней мере
в Британии и Америке, мы наблюдаем почти непрерывный поток уто-
пий плановой экономики, наиболее известными из которых являются
«Взгляд назад» Эдварда Беллами (1887), где планировались отмена де-
нег, равная заработная плата и равный кредит для каждого, а также
промышленная трудовая армия, «Путешественник из Альтрурии»
У.Д. Хоуэлса (1894) и «Современная утопия» Г.Дж. Уэллса (1905), в ко-
торой была предпринята попытка увязать идеи прогресса с образом иде-
ального будущего, экономика которого была скорее смешанной, чем
плановой.
В XX в. утопизм дрогнул перед лицом некоторых последствий эпо-
хи модерна и гораздо большее распространение получили антиутопии.
В самой знаменитой из них — «1984» Джорджа Оруэлла (1948) — кри-
тиковались как капиталистическая агрессия и неравенство, так и ком-
мунистический деспотизм, а центральной темой работы было предот-
вращение пользования выгодами массового производства со стороны
большинства через намеренное уничтожение предметов потребления
в войне. Более сатирическим отношением к гедонистической утопии
отличается «Отважный новый мир» Олдоса Хаксли (1932), хотя его бо-
лее поздний «Остров» (1962) является позитивной утопией, которая
критикует духовную нищету материалистической цивилизации. Попу-
лярный утопизм конца XX в. включал несколько научно-фантастичес-
ких работ, либертарианские размышления Мюррея Ротбарда и Робер-
та Нозика («Анархия, государство и утопия», 1974) и стационарный эн-
вайронментализм «Экотопии» Эрнеста Калленбаха (1975). С прогрессом
используемой техники и развитием государства благосостояния опти-
мистически развивавшие эту тему утопии сошли на нет. Пресыщенным
товарами людям некоторые привлекательные стороны потребительско-
го рая уже не казались столь неотразимыми. Технологический детер-
минизм, казалось, делал неактуальным выбор формы экономической
851
организации общества. Две мировые войны и призрак ядерной ката-
строфы подорвали веру в возможность усовершенствования человека,
а полувековой эксперимент с коммунистическим центральным плани-
рованием, в свою очередь, серьезно дискредитировал последнее как
вернейший путь к моральному и экономическому усовершенствованию
общества. «Рост» также не является более безоговорочно принимаемым
идеалом, даже среди тех, кто еще не испробовал его на себе. Тем не
менее, значение утопий для экономической мысли не уменьшилось,
поскольку они освещают важные аспекты истории экономических уче-
ний и идей (особенно в области благосостояния и планирования), а так-
же позволяют совершать воображаемые прыжки в возможное будущее,
в которое мыслители, более склонные к позитивизму и эмпиризму,
заходить боятся. Если «прогресс» может быть осуществлен без «роста»,
то эта идея, скорее всего, впервые найдет отражение в форме очеред-
ной утопии.
БИБЛИОГРАФИЯ
Adams, R.P. 1949. The social responsibilities of science in Utopia, New Atlantis and
after. Journal of the History of Ideas 10, 374-98.
Armytage.W.H.G. 1984. Utopias: the technological and educational dimension. In
Utopias, ed. P. Alexander and R. Gill, London: Duckworth.
Boguslaw, R. 1965. The New Utopians: A Study of System Design and Social Change.
Englewood Clifts, NJ: Prentice-Hall.
Bowman, S. 1973. Utopian views of man and the machine. Studies in the Literary
Imagination 6, 105-20.
Claeys, G. 1986. Industrialism and hedonism in Orwell’s literary and political
development. Albion 18.
Claeys, G. 1987. Machinery, Money and the Millennium. From Moral Economy to
Socialism. Oxford: Polity Press.
Dautry, J. 1961. Le pessimisme economique de Babeuf et 1’histoire des Utopies.
Annales Historiques de la Revolution Francaise 33, 215-33.
Davis, J.C. 1981. Utopia and the Ideal Society. A Study of English Utopian Writing
1516—1700. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
Eurich, N. 1967. Science in Utopia. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Farr, J. 1983. Technology in the Digger Utopia. In Dissent and Affirmation: Essays
in Honor of Mulford Sibley, ed. A.L. Kalleberg, J.D. Moon and D. Sabia, Bowling
Green: Bowling Green University Popular Press.
Flory, C.R. 1967. Economic Criticism in American Fiction, 1792 to 1900. New York:
Russell & Russell.
Fogg, W.L. 1975. Technology and dystopia. In Utopia/Dystopia?, ed. P.E. Richter,
Cambridge, Mass.: Schenkman.
Fuz, J.K. 1952. Welfare Economics in English Utopias from Francis Bacon to Adam
Smith. The Hague: Martinus Nijhoff.
Gelbart, N. 1978. Science in French Enlightenment Utopias. Proceedings of the
Western Society for French History 6, 120—28.
Goodwin, B. 1984. Economic and social innovation in Utopia. In Utopias, ed.
P. Alexander and R. Gill, London: Duckworth.
852
Gusfield, J. 1971. Economic development as a modem Utopia. In Aware of Utopia,
ed. D.W. Plath, Urbana: University of Illinois Press.
Hall, A.R. 1972. Science, technology and utopia in the seventeenth century. In Science
and Society 1600—1900, ed. P. Mathias, Cambridge and New York: Cambridge
University Press.
Hont, I. and Ignatieff, M. 1983. Needs and justice in the Wealth of Nations: an
introductory essay. In Wealth and Virtue: the Shaping of Political Economy in the
Scottish Enlightenment, ed. I. Hont and M. Ignatieff, Cambridge: Cambridge
University Press.
Hudson, W. 1946. Economic and social thought of Gerrard Winstanley: was he a
seventeenth-century marxist? Journal of Modem History 18, 1-21.
Hymer, S. 1971. Robinson Crusoe and the secret of primitive accumulation. Monthly
Review 23, 11—36.
King, J.E. 1983. Utopian or scientific? A reconsideration of the Ricardian Socialists.
History of Political Economy 15, 345-73.
Klassen, P.J. 1964. The Economics ofAnabaptism 1525-60. The Hague: Mouton.
Krieger, R. 1980. The economics of Utopia. In Utopias: the American Experience, ed.
G.B. Moment and O.F. Kraushaar, London: Scarecrow Press.
Landa. L. 1943. Swift’s economic views and Mercantilism. English Literary History
10, 310-35.
Leiss, W. 1970. Utopia and technology: reflections on the conquest of nature.
International Social Science Journal 22, 576—88.
Levitas, R. 1984. Need, nature and nowhere. In Utopias, ed. P. Alexander and R. Gill,
London: Duckworth.
MacDonald, W. 1946. Communism in Eden? New Scholasticism 20, 101-25.
MacKenzie, D. 1984. Marx and the machine. Technology and Culture 25, 473-502.
Manuel, F.E. and Manuel, F.P. 1979. Utopian Thought in the Western World. Oxford:
Basil Blackwell; Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Mumford, L. 1967. Utopia, the city and the machine. In Utopias and Utopian
Thought, ed. F.E. Manuel, Boston: Beacon Press.
Novak, M. 1976. Economics and the Fiction of Daniel Defoe. New York: Russell &
Russell.
Perrot, J.-C. 1982. Despotische Verkunft und okonomische Utopie. In Utopiefor-
schung. Interdisziplinare Studien zur neuzeitlichen Utopie, ed. W. Vosskamp,
Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung.
Pocock, J.G.A. 1980. The mobility of property and the rise of eighteenth-century
sociology. In Theories of Property, Aristotle to the Present, ed. A. Parel and
T. Flanagan, Waterloo: Wilfred Laurier University Press.
Sargent, L.T. 1981. Capitalist utopias in America. In America as Utopia, ed.
K.M. Roemer, New York: Burt Franklin.
Schlaeger, J. 1982. Die Robinsonade als fruhbiirgerliche ‘Eutopia’. In Utopieforschung.
Interdisziplinare Studien zur neuzeitlichen Utopie, ed. W. Vosskamp, Stuttgart:
J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung.
Schoeck, R.J. 1956. More, Plutarch, and King Agis; Spartian history and the meaning
of Utopia. Philological Quarterly 35, 366-75.
Segal, H. 1985. Technological Utopianism in American Culture. Chicago: Chicago
University Press.
Sibley, M.Q. 1973. Utopian thought and technology. American Journal of Political
Science 17, 255-81.
853
Soper, К. 1981. On Human Needs: Open and Closed Theories in Marxist Perspectives.
London: Harvester Press.
Springborg, P. 1981. The Problem of Human Needs and the Critique of Civilisation.
London: George Allen & Unwin.
Steintrager, J. 1969. Plato and More’s Utopia. Social Research 36, 357—72.
Taylor, W.F. 1942. The Economic Novel in America. Chapel Hill: University of North
Carolina Press.
Thompson, N.W. 1985. The People’s Science. The Popular Political Economy of
Exploitation and Crisis, 1816-34. Cambridge: Cambridge University Press.
Welles, C.B. 1948. The economic background of Plato’s communism. Journal of
Economic History 8, 101-14.
ЦЕННОСТНЫЕ СУЖДЕНИЯ
Джон Харсаньи
Value Judgements
John С. Harsanyi
ПРИТЯЗАНИЕ НА ОБЪЕКТИВНУЮ ОБОСНОВАННОСТЬ. Цен-
ностные суждения можно определить как одобряющие или неодобря-
ющие суждения, претендующие на объективную обоснованность. Мно-
гие из наших одобряющих или неодобряющих суждений не подразу-
мевают таких претензий. Когда я говорю, что мне нравится
определенное блюдо, то не имею в виду, что другим людям оно тоже
должно нравиться или что те, кому оно не нравится, совершают ошиб-
ку. Я просто выражаю свое личное предпочтение и свой личный вкус.
(Но опытный шеф-повар или эксперт в сфере съестного мог бы пре-
тендовать на то, чтобы его суждения о пище обладали некоторой сте-
пенью объективной обоснованности, — в том смысле, что другие экс-
перты в гастрономической области, скорее всего, согласились бы с их
суждениями. Конечно, вопросы о том, является ли его претензия оправ-
данной и, в более общем плане, какова в действительности степень
согласия между знатоками в области съестного, носят чисто эмпири-
ческий характер.) И все же, когда я говорю, что уничтожение Гитле-
ром многих миллионов невинных людей явилось грубым попранием
морали, я не просто выражаю свою личную нравственную позицию и
действительно считаю, что любой, кто попытался бы защищать дей-
ствия Гитлера, был бы в нравственном отношении не прав.
Претендуя на объективную обоснованность, ценностные суждения
имеют сходство с суждениями, основанными на фактах, как эмпири-
ческих, так и логико-математических. С другой стороны, они похожи
на суждения, основывающиеся на личных предпочтениях, поскольку
выражают человеческое отношение (одобрение или неодобрение), а не
суждения о фактах. Но в связи с этим немедленно встает сложная фи-
лософская проблема: применительно к суждениям о фактах мы пони-
маем, что значит объективная обоснованность, т.е. истинность сужде-
ний, а также их объективная необоснованность, т.е. ложность. Они ис-
тинны, если описывают соответствующие факты такими, какими они
являются в действительности, и ложны, если не могут этого сделать.
Но в каком смысле суждения, выражающие позицию индивида, могут
являться объективно обоснованными или необоснованными?
Мне представляется, что это может происходить по крайней мере
двумя разными способами. Такие суждения могут быть объективно
необоснованными либо потому, что они противоречат фактам, либо
855
потому, что они основываются на неверной ценностной перспективе
[value perspective]. Ценностные суждения могут противоречить фактам
в следующем смысле: когда мы формируем нашу позицию, то делаем
это на основе некоторых специфических исходных посылок фактоло-
гического характера, так что наша позиция и наши суждения, выра-
жающие эту позицию, будут противоречить фактам, если они основы-
ваются на ложных фактологических посылках. Ошибочные фактоло-
гические посылки могут исказить наши ценностные суждения как о
целях, так и о средствах их достижения. Таким образом, если я одоб-
ряю использование А в качестве средства для достижения некой цели
В, я делаю это, основываясь на исходной посылке о том, что А имеет
причинно-следственную связь с достижением В. Следовательно, мое
одобрение будет ошибочным, если эта исходная посылка неверна. По-
добным же образом, если я одобряю А в качестве желанной цели, то
делаю это, основываясь на исходной посылке о том, что у А имеются
определенные свойства, которые я нахожу действительно привлекатель-
ными. Мое одобрение будет ошибочным, если А на самом деле не об-
ладает этими свойствами.
Ценностное суждение может быть объективно необоснованным и
в том случае, когда оно основано не на той ценностной перспективе,
которая провозглашается тем, кому принадлежит суждение: к приме-
ру, я могу утверждать, что моя поддержка некой государственной по-
литики основывается на том, что эта политика проводится в интере-
сах общества, даже если фактически моя поддержка основывается на
том, что эта политика соответствует моим личным интересам. Или же
я могу превозносить весьма посредственный роман как великое про-
изведение искусства лишь потому, что он выражает мои политические
взгляды. Когда человек утверждает, что основывает свое ценностное
суждение на одной ценностной перспективе, хотя фактически основы-
вает его на другой, он может просто лгать, полностью осознавая, что
говорит неправду. Есть и другая возможность: он может это не созна-
вать или сознавать частично. (Аналогично, когда человек выносит цен-
ностное суждение, основанное на ложных исходных посылках факто-
логического характера, он может полностью сознавать или не созна-
вать ложность этих посылок.)
РАЗНОГЛАСИЯ В ЦЕННОСТНЫХ СУЖДЕНИЯХ. Как все мы
знаем, разногласия в ценностных суждениях встречаются крайне час-
то и во многих случаях очень трудно или даже невозможно их разре-
шить. Мне представляется, что в большинстве случаев тщательный
анализ показал бы, что разногласия о ценностных суждениях основы-
ваются на разногласиях относительно фактов. И все же разрешить их
может быть весьма трудно, поскольку эти разногласия фактологичес-
кого характера могут касаться фактов, о которых очень сложно или даже
невозможно получить надежную информацию. К примеру, наши цен-
ностные суждения о поведении человека в большинстве случаев осно-
ваны на том, каковы, по нашему мнению, его мотивы. Некоторые на-
блюдатели могут приписывать ему весьма благородные мотивы, в то
856
время как другие считают обратное. При этом имеющиеся в наличии
факты могут согласовываться с каждой из этих исходных посылок.
Другие ценностные суждения, которые мы делаем, могут зависеть от
наших прогнозов относительно будущих фактов. Таким образом, раз-
ные экономисты могут выступать в защиту разных направлений эко-
номической политики, потому что они ожидают совершенно разных
результатов конкретных политических мер, — даже если о конечных
целях политики у них нет разногласий. На современном уровне наших
знаний об экономической системе мы не всегда можем сказать с до-
статочной степенью уверенности, чьи предсказания верны, а чьи нет.
Безусловно, мы могли бы избежать этих разногласий, если бы воз-
держивались от ценностных суждений до тех пор, пока не смогли бы
утверждать с некоторой уверенностью, что фактологические исходные
посылки, на которых основываются эти суждения, правильны. Но это
потребовало бы большей интеллектуальной самодисциплины, чем та,
которая свойственна большинству из нас. Мы должны действовать тем
или иным образом; и психологически нам значительно легче действо-
вать, если мы придерживаемся ценностных суждений, оправдывающих
наши действия, — даже если фактологические исходные посылки, на
которых основываются эти суждения, выходят за пределы имеющихся
в наличии фактов или даже совершенно не согласуются с ними.
Хотел бы добавить, что большинство разногласий в ценностных
суждениях не являются разногласиями по поводу того, каковы в дей-
ствительности базовые ценности человеческой жизни. Большинство их
скорее касается относительного веса и относительных приоритетов
различных базовых ценностей. Например, некоторые люди и общества
узнают из своего опыта — возможно, весьма специфического для дан-
ного человека или данной страны, что лучше всего дела идут, если цен-
ности А придается гораздо больший вес, чем ценности В. Другие люди
и другие общества на основе своего опыта могут прийти к противопо-
ложным выводам. Но как только ранжирование ценностей установле-
но, оно может сохраняться в течение долгого времени, даже если усло-
вия меняются и делают его абсолютно неадекватным. К примеру, ка-
кой-то отдельный человек или какое-то общество, которые весьма
сильно страдали от отсутствия индивидуальной свободы, могут быть
настолько озабочены политической свободой, что будут пренебрегать
необходимостью общественного порядка, — даже в условиях, которые
сделают потребность в общественном порядке первостепенной.
Помимо разногласий, касающихся фактов, еще одним источником
конфликтов являются философские разногласия по поводу правильных
ценностных перспектив, которые должны использоваться при вынесе-
нии ценностных суждений различных классов. Даже если два челове-
ка приходят к согласию по поводу всех относящихся к делу фактов, они
все же могут прийти к конфликтующим моральным ценностным суж-
дениям, если у них нет согласия относительно природы нравственно-
сти и, следовательно, они расходятся во мнениях относительно мораль-
ной перспективы, которая должна использоваться при вынесении мо-
ральных ценностных суждений. (К примеру, один человек может быть
857
расположен к утилитаристской интерпретации нравственности
(см.: Harsanyi, 1977), в то время как другой может склоняться к интер-
претации с точки зрения установленных норм (см.: Nozick, 1974).) Ана-
логично разногласия о природе эстетической перспективы, которая
должна использоваться при вынесении эстетических ценностных суж-
дений, могут вести к расхождению во мнениях относительно художест-
венного качества различных произведений искусства.
ЦЕННОСТНЫЕ СУЖДЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ.
Было время, когда многие экономисты хотели обеспечить объектив-
ность экономического анализа путем исключения ценностных сужде-
ний — и даже их изучения — из экономической теории. (Весьма влия-
тельным сторонником этой позиции являлся Роббинс (Robbins, 1932).)
К счастью, они не достигли цели, и теперь мы знаем, что экономичес-
кая теория была бы гораздо беднее, если бы им это удалось.
После некоторой важной подготовительной работы, {проведенной}
в 1930-х и 1940-х годов в основном в рамках экономической теории бла-
госостояния, с выходом работы Эрроу «Общественный выбор и инди-
видуальные ценности» (Social Choice and Individual Values) (Arrow, 1951)
началась новая эра в изучении ценностных суждений, имеющих отно-
шение к экономике. Эта книга показала, как выразить альтернативные
ценностные суждения в виде точно сформулированных формальных
аксиом, как строгими методами исследовать их логические следствия
и как изучить их взаимное соответствие или несоответствие. Книга
Эрроу и те исследования, которые она вдохновила, значительно обо-
гатили экономическую теорию не только в рамках теории благососто-
яния, но также в ряде других областей, включая теорию конкурентно-
го равновесия. Она дала начало новому разделу теории, называемому
«теорией общественного выбора», который представляет собой строгое
исследование процесса голосования и альтернативных избирательных
систем. Это теория внесла важный вклад в изучение альтернативных
политических систем и альтернативных моральных кодексов и, в бо-
лее косвенном плане, в изучение альтернативных экономических сис-
тем как механизмов общественного выбора.
Безусловно, ценностные суждения часто играют важную роль в эко-
номической теории, даже если они не являются главными предметами
исследования. Они влияют на политические рекомендации, которые
делают экономисты, и на их суждения о достоинствах альтернативных
систем экономической организации. Но это не обесценивает общест-
венную полезность работы, выполняемой экономистами, если это ра-
бота высокого интеллектуального качества и если экономисты знают,
что они делают, — знают о тех ограничениях, которыми обусловлены
их выводы, и сообщают своим читателям, в чем состоят эти ограниче-
ния. В частности, интеллектуальная честность требует от экономистов
формулировать свои политические и моральные ценностные суждения
и открыто высказываться о том, чем их выводы отличаются от тех, ко-
торые делают по обсуждаемым проблемам экономисты, придерживаю-
щиеся других точек зрения. И что отнюдь не менее важно, они долж-
858
ны ясно говорить о том, насколько неопределенными в действитель-
ности являются многие из их эмпирических утверждений и предсказа-
ний. Это особенно важно в публикациях, адресованных главным об-
разом людям, находящимся за пределами профессионального круга
экономистов.
БИБЛИОГРАФИЯ
Arrow, K.J. 1951. Social Choice and Individual Values. New York: Wiley.
Harsanyi, J.C. 1977. Morality and the theory of rational behavior. Social Research 44,
623-56.
Nozick, R. 1974. Anarchy, State and Utopia. Oxford: Blackwell.
Robbins, L. 1932. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science.
London: Macmillan.
ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ
Томас К. Шеллинг
Value of Life
Thomas C. Schelling
В этой статье речь пойдет не о ценности жизни отдельных индиви-
дов, а о ценности жизни среднестатистического человека, т.е. о про-
длении жизни некоторых слоев населения, снижении смертности по
тем или иным причинам. Однако ввиду того, что тема увеличения про-
должительности жизни каждого отдельного индивида в последнее вре-
мя привлекает все большее внимание, скажем несколько слов и об этом,
прежде чем обратиться к нашей основной теме.
«В нашем обществе человеческая жизнь является ценностью», —
заявил калифорнийский судья, вынося решение о принудительном
кормлении парализованной женщины, которая выразила желание по-
кончить с собой и попросила медиков помочь ей умереть от истоще-
ния. В наши дни в ответ на запросы медицинских учреждений ученые
разработали такие медицинские технологии, которые в состоянии це-
ной больших затрат продлить жизнь человека на неопределенно дол-
гое время, даже если качество этой жизни для пациента сомнительно.
Клиники не имеют права отказаться от применения такой процедуры
или ее прервать вне зависимости от ценности жизни, продленной та-
ким способом. Случается, что, когда смерть великодушно обрывает уси-
лия по продлению жизни, все просто вздыхают с облегчением.
Но даже если речь идет о ценности среднестатистического продле-
ния жизни, например путем сокращения риска одного из раковых за-
болеваний, далеко не все согласны с тем, что эта ценность может быть
измерена путем непосредственного сопоставления издержек и резуль-
татов (costs and benefits). Правительство Соединенных Штатов не смог-
ло выработать единого подхода к тому, стоит ли учитывать затраты на
спасение человеческой жизни при принятии решений, касающихся
безопасности на рабочих местах. Суды также столкнулись с целым ря-
дом трудностей при толковании законодательных актов, регламенти-
рующих учет подобных затрат. Не все согласны и с тем, что потенци-
ально опасные предприятия надо непременно перемещать в менее на-
селенные части страны, где меньше людей будет подвергаться риску.
Наконец, предельные издержки на спасение одной человеческой жиз-
ни по оценкам различных организаций расходятся на два порядка.
Для современной экономической теории «ценить человеческую
жизнь» означает предотвращать смерть, а не порождать новых людей,
которые могли бы никогда не появиться на свет. И хотя такое направ-
860
ление, как экономическая теория перенаселения, вполне мыслимо в
рамках экономического анализа, никто не возьмется оценить, насколь-
ко выросло благосостояние бесплодной семейной пары от устойчиво-
го предложения новорожденных детей, пригодных для усыновления.
Несложно учесть экономию от масштаба на численности населения в
малонаселенной местности; в то же время ценность простого увеличе-
ния числа «жизней», т.е. самого того факта, что больше людей может
наслаждаться этим даром, нечасто оказывается в поле зрения предста-
вителей нашего ремесла. Только философы, да и то лишь немногие
(Parfit, 1984, р. 351-454; 487-490), брались рассуждать о том, «может
ли обречение кого-то на жизнь быть благом для самого этого челове-
ка». По всем этим причинам тематика настоящей статьи остается «асим-
метричной»: я буду говорить только о ценности предотвращения смер-
ти, поскольку именно так проблему «ценности жизни» до сих пор по-
нимали экономисты. Остается лишь надеяться, что в следующем издании
«Пэлгрейва» эту проблему можно будет осветить более равномерно.
ЦЕННОСТЬ ДЛЯ КОГО?
Первый принцип, из которого следует исходить при определении
ценности спасения среднестатистической жизни (например, сокраще-
ния риска смерти для некоторой части населения), заключается в том,
что такое спасение должно представлять собой некоторую ценность для
какого-то человека или группы людей. Для кого же уменьшение риска
смерти среди части населения является подобной ценностью? Начнем
с самих людей, которые подвергаются этому риску. Они вовсе не обя-
заны быть искушенными в исчислении рисков, уметь оперировать ве-
роятностями и математическими ожиданиями; напротив, они вполне
могут преувеличивать риски, которые у всех на слуху или окутаны за-
весой тайны. Но так или иначе, поскольку люди подвержены опреде-
ленным рискам, они не могут не придавать им значения; и если эти
люди не чистые фаталисты, они, вероятно, должны сознавать, что со-
кращение статистического риска, которым подвергаются они и члены
их семей, стоит того, чтобы за это заплатить. Ведь на кону стоят не
только их собственные жизни, но и горе от вечной утраты для родите-
лей, детей, супругов.
Многие из тех, для кого сокращение подобных рисков имеет зна-
чение, являются кормильцами семьи. Семья как единое целое по чис-
то экономическим причинам заинтересована в том, чтобы ее кормиль-
цы были живы. Значимость для семьи человека как кормильца в отли-
чие от значимости его жизни зависит от таких факторов, как наличие
частных и государственных программ страхования и других мер по
обеспечению иждивенцев.
Сам факт существования общественных и частных страховых ком-
паний, благотворительных фондов, а также целого ряда прав, которые
семья погибшего получает в случае его смерти, обусловливает наличие
еще одного класса заинтересованных агентов. Речь идет об интересах
всех тех людей и институтов, которые оказываются плательщиками или
861
получателями платежей в случае смерти кого-либо. Хотя платежи об-
щественных и частных учреждений в точности равны полученным
иждивенцами умерших трансфертам, т.е. взаимно погашаются, это
вовсе не делает бессмысленным исследование таких интересов. Ведь все
означенные выше платежи изменяют и расширяют круг лиц, заинте-
ресованных в предотвращении подобных смертей.
Тот важный факт, что трансферты этого рода осуществляются в двух
направлениях, не учитывается в ходе некоторых современных дискус-
сий о политике в области здравоохранения. Нередко утверждают, что
курильщики ложатся дополнительным бременем на систему здраво-
охранения и что поэтому надо повышать налоги на продажу сигарет и
заставлять их раскошеливаться на более высокие взносы по медицин-
скому страхованию. Однако при этом забывают, что со смертью типич-
ного курильщика от рака легких общество становится богаче! Средний
возраст заболевания раком легких составляет 65 лет, и большинство
больных умирает в течение одного года. В то же время средний воз-
раст ухода мужчин на пенсию в США составляет 63 года, так что
65-летний мужчина, заболевший раком легких, теряет около пятнад-
цати ожидаемых лет жизни. Предполагая, что у него нет иждивенцев,
и дисконтируя под 5% годовых, получаем, что с его смертью общество
экономит около 50 000 дол. платежей по системе социального страхо-
вания; а если его доходы перед выходом на пенсию равнялись медиан-
ным по стране, то аналогичную сумму могут сэкономить и частные
пенсионные фонды. Его смертельная болезнь вынуждает общество
(в лице медицинских страховых обществ) нести лишь малую часть этих
расходов, которые к тому же окажутся последними затратами на этого
пациента.
Пример с раком легких демонстрирует, что финансовые вложения
в продление тех жизней, которые подвергаются повышенному риску,
в конечном счете могут оказаться как прибыльными, так и убыточны-
ми для общества в целом. И все же подсчитать баланс всех положитель-
ных и отрицательных финансовых последствий смерти для всех людей,
заинтересованных в преждевременной кончине или продлении жизни
той или иной части населения, гораздо проще, чем понять, в чем имен-
но состоят интересы плательщиков местных и федеральных налогов,
пайщиков отраслевых пенсионных фондов или владельцев полисов по
страхованию жизни при наступлении страхового случая. А ведь с точ-
ки зрения экономической политики выяснение того, кто же именно
заинтересован в уменьшении (или неуменьшении) какого-то смертель-
ного риска, может оказаться не менее важным, чем выведение алгеб-
раической суммы интересов всех сторон.
До сих пор мы выявили два источника «ценности» увеличения про-
должительности жизни: это «потребительский интерес» семьи, состо-
ящий в ее сохранении как таковой, и внешние эффекты, которые
выражаются главным образом в трансфертных платежах этой потреби-
тельской единицы или в ее пользу. Следует ли выводить баланс поло-
жительных и отрицательных трансфертов этого рода и затем прибав-
лять эту величину к ценности жизни с точки зрения самого индивида?
862
Ответ на этот вопрос зависит от цели того или иного исчисления цен-
ности жизни. Если эта цель заключается, к примеру, в определении
того, сможет ли программа по спасению человеческих жизней набрать
достаточное количество голосов, то на включение определенных пока-
зателей в такую оценку могут быть наложены законодательные огра-
ничения.
Интересы, связанные с продлением жизни, не ограничиваются пе-
речисленными выше. Так, существуют оценки потерь валового наци-
онального продукта, вызванных смертью одного индивида (Rice, 1967;
Hartunian, Smart and Thomson, 1981, p. 41—56). В этих работах «цен-
ность» жизней мотоциклистов, ехавших без мотоциклетного шлема и
погибших в дорожных происшествиях, приблизительно определялась
как величина дисконтированного дохода, полученного на протяжении
всей жизни людьми со сходными характеристиками (по большей час-
ти — молодыми людьми без иждивенцев). Однако при таком методе
оценки понять, кто же несет соответствующие потери, вовсе не так
легко. Погибший мотоциклист лишает общество части потенциально-
го ВНП, но ведь исчезает и потенциальный потребитель большей час-
ти этого продукта, т.е. сам погибший. Экономика страны как бы «не
замечает» его отсутствия — с тем же успехом он мог бы, скажем, пере-
ехать в другую страну. Конечно, можно также учесть и уже уплачен-
ные им налоги, и истощимые общественные блага, уже потребленные
им, но это и так уже сделано при его жизни. Таким образом, его уход
из жизни ничего не значит с точки зрения экономики страны в целом.
Сам такой подход к определению ценности утраченной жизни легко
довести до абсурда, если заметить, что при небольшой экстраполяции
предложенного метода [путем подсчета доходов неродившихся граждан]
одни аборты «обходятся» экономике Соединенных Штатов в четверть
триллиона долларов убытков каждый год.
ЗАБОТА О ЖИЗНИ ДРУГИХ
До сих пор проблема ценности жизни рассматривалась нами толь-
ко с позиций своекорыстного интереса (selfish interest). Но как быть с
чувством сострадания к согражданам, чья жизнь подвергается опасно-
сти; как учесть бескорыстную заинтересованность в уменьшении чис-
ла тех, кто подвергается высокому риску из-за своей бедности? Какие
обязательства по обеспечению безопасности граждан ложатся на пра-
вительство и с каких позиций оно должно оценивать регулирующие или
бюджетные меры, которые, как ожидается, могут спасти то или иное
количество жизней?
Вопрос тем более серьезен, что многие из числа мероприятий, на-
целенных на сокращение смертности, относятся к категории общест-
венных благ. На рынке можно приобрести мотоциклетные шлемы,
противопожарные датчики и ремни безопасности, но если общество
заинтересовано в более эффективном лечении коронарных болезней
сердца, то следует ожидать, что финансирование соответствующих
медицинских исследований возьмет на себя государство (правда, не
863
обязательно наше — в отличие от расходов, связанных с регулирова-
нием опасных видов деятельности или мерами по спасению попавших
в беду, в этом случае есть шанс воспользоваться результатами, полу-
ченными в других странах).
С учетом изложенного, как же должно правительство расценивать
последствия тех или иных мер, по снижению смертности — с учетом
того, что такие меры требуют бюджетных расходов или заставляют
граждан страны нести определенные издержки, связанные с государ-
ственным регулированием?
Для рассмотрения этого вопроса примем две предпосылки: 1) каж-
дой семье достается одинаковая доля потенциальных выгод от приня-
тых программ; 2) эти программы предоставляют людям разные выгоды
в зависимости от возраста, богатства, профессии, состояния здоровья или
места жительства. «Одинаковая доля» для каждого человека может по-
ниматься двояко: как равное сокращение некоторого смертельного риска
или как равное увеличение ожидаемой продолжительности жизни, —
различие между этими двумя показателями вызывается в основном воз-
растом конкретного индивида. Однако если «потенциальным пользова-
телем» считать семью как целое, то все различия в возрасте будут усред-
нены; к тому же тем самым снимается проблема, следует ли считать ре-
бенком плод в утробе матери? Предположим также для простоты, что раз
ожидаемое сокращение смертности касается всех граждан в равной сте-
пени, то и связанные с ним трансфертные платежи также одинаковы для
всех. Эта предпосылка, безусловно, нереалистична и вводится только из
соображений краткости дальнейшего изложения.
В первом приближении вполне можно предположить, что законо-
датель или администратор должен подходить к программам, сокраща-
ющим смертельный риск, точно так же, как к мерам по увеличению
производительности, сбережению рабочего времени, уменьшению мо-
нотонности труда, организации досуга работников или облегчению
страданий больных обычными несмертельными болезнями (Shelling,
1968; Mishan, 1971; Zeckhauser, 1975). В частности, можно сравнить
приращение благосостояния тех, кого затрагивает сокращение смерт-
ности, с приращением их благосостояния вследствие снижения нало-
гов или уровня цен. Как и в общем случае, ценность каждого из этих
благ может отличаться для разных людей, даже если программа по со-
кращению смертности трактует всех одинаково. В этом отношении
сокращение смертельного риска не отличается от остальных благ.
Отличие такого блага, как спасение жизни, от всех остальных за-
ключается в другом: очень маловероятно, что те, кто выигрывает от сни-
жения и без того очень небольших рисков смертельных исходов, при
необходимости окажутся в состоянии адекватно определить ценность
для них этого блага. Публичные слушания о целесообразности установ-
ления светофоров, организованные с тем, чтобы выявить их ценность
в деньгах, выглядят куда естественнее, когда назначение светофоров
сводится к предотвращению дорожных пробок, чем когда они нужны
прежде всего для спасения жизней детей. С другой стороны, стоит при-
нять тот принцип, что если за сокращение смертности все платят по-
864
ровну, то и все положительные эффекты принятых мер должны быть
пропорциональны количеству спасенных жизней (или, если угодно,
количеству спасенных лет жизни, см. ниже), — это позволит сэконо-
мить на сборе информации. В самом деле, если спасенные жизни це-
нятся одинаково вне зависимости оттого, были ли они спасены вслед-
ствие установки светофоров, исследований в области борьбы с рако-
выми заболеваниями или более эффективной работы полиции по
предотвращению преступлений против личности, то любая достовер-
ная оценка «ценности спасенной жизни» может использоваться повтор-
но без дополнительных обоснований (если, конечно, состав населения
на данной территории не слишком сильно изменился с тех пор, как
была проведена такая оценка). Верно, что оценки такого рода произ-
водятся нечасто (если производились где-либо вообще), но то же са-
мое можно сказать, например, об экономической ценности уменьше-
ния шума: отсутствие оценок и в том и в другом случае нельзя отно-
сить к недостаткам теории.
Настоящие трудности возникают тогда, когда разные люди имеют
неодинаковые возможности воспользоваться плодами подобной про-
граммы; особенно тогда, когда в мерах по снижению риска заинтере-
сованы прежде всего люди бедные или по воле случая оказавшиеся
близко от места какого-либо опасного вида деятельности. Тогда разво-
рачиваются всем хорошо известные дискуссии: экономисты, как пра-
вило, утверждают, что если те, кто выиграет от сокращения подобных
рисков, собираются оплачивать соответствующие программы, то реша-
ющее значение имеют именно их оценки. И хотя выявить подлинные
оценки нелегко, но можно полагать, что бедные люди оценят сокра-
щение риска по сравнению с другим благами, которые можно купить
за деньги, ниже, чем богатые.
Отсюда один шаг до следующего заключения: если увеличение без-
опасности для бедных все же происходит за счет богатых, то бедные
должны иметь право вместо сокращения опасного для их жизни риска
потребовать наличные деньги, которые они смогут потратить по свое-
му усмотрению на более ценные для них вещи. Вместе с тем по чисто
институциональным причинам средства, предназначенные для сокра-
щения смертельных рисков, редко когда могут быть потрачены каким-
либо альтернативным образом, даже если он более желателен для тех,
кому адресованы соответствующие программы.
На этот аргумент экономической теории трудно что-либо возразить.
В тот момент, когда «Титаник» столкнулся с айсбергом, спасательные
шлюпки были предусмотрены только для первого и туристического
классов — предполагалось, что пассажиры низших категорий должны
пойти ко дну вместе с кораблем. Хотя такое решение было эффектив-
ным с экономической точки зрения, это еще не делает его привлека-
тельным. И даже если бы для бедных людей были устроены специаль-
ные рейсы на переполненных кораблях без первого класса и без спа-
сательных шлюпок, — все равно и это решение легко признать
недопустимым, причем на таких основаниях, которые нелегко опро-
вергнуть простой ссылкой на экономическую эффективность.
865
НЕСКОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
Жизнь или риск. Хотя в центре нашего внимания находится пробле-
ма сокращения риска, в рамках этой темы напрашивается и другой по-
ворот, а именно проблема ценности спасенной жизни. Если индивид
ежегодно платит 100 дол. (или из его заработной платы вычитается
аналогичная сумма) за сокращение некоторого смертельного для его
жизни риска с 1 : 10 000 до 1 : 20 000 шансов в год (т.е. на 1 : 10 000),
отсюда легко вывести, что он «оценивает свою собственную жизнь» в
2 млн дол. Это утверждение звучит так, как будто бы индивид перед
лицом смерти соглашается расстаться с 2 млн с тем, чтобы остаться в
живых. Мы, однако, вовсе не имеем в виду такой вывод (который, кста-
ти, и не следует из экономического анализа малых рисков: если, к при-
меру, платеж за уменьшение риска вырастет со 100 до 100 000 дол. в год,
то скажется эффект дохода и «оценку жизни» во всяком случае при-
дется пересмотреть). Наше утверждение означает, что 20 000 одинако-
вых индивидов, в равной степени подверженных риску, в сумме соглас-
ны заплатить 2 млн за отмену смертного приговора кому-то одному из
их числа (кому именно — остается неизвестным в момент платежа). За-
имствуя термин, традиционно используемый для обозначения едини-
цы измерения неполной занятости — «эквивалент полной занятос-
ти» ЭПЗ (FTE — full-time equivalent), можно сказать, что наш инди-
вид оценивает сокращение риска для его жизни в 2 млн за ЭПЖ
«эквивалент полной жизни» (FLE — full life equivalent).
Спасенные годы жизни. «Спасение жизни» посредством снижения
какого-то смертельного риска, разумеется, означает только продление
жизни — рано или поздно каждый человек умирает. Поэтому вместо
оценки стоимости спасенной «жизни» разумно оценивать «спасенный
год жизни». Однако не следует забывать, что разные годы спасенной
таким образом жизни будут иметь разную ценность. Именно с учетом
этого обстоятельства были предложены различные индексы «лет жиз-
ни, скорректированных на их качество». Использование одного из этих
показателей исключает использование другого, мы можем придавать
молодым годам больший вес, чем годам в старости, или измерять по-
лученную выгоду в дополнительных годах жизни.
Страхование. Возможность застраховать свою жизнь должна оказы-
вать серьезное воздействие на ценность сокращения риска с точки зре-
ния того, кто является кормильцем семьи. Если дом или ферма пред-
ставляет собой все богатство индивида, то при отсутствии возможнос-
ти застраховать это имущество от пожара владелец может пойти на
колоссальные и неэффективные вложения средств в противопожарную
безопасность. Аналогично, если страхование жизни недоступно, то
молодые родители тройни, по-видимому, также должны любой ценой
избегать риска смерти детей. По этой причине любые институты, га-
рантирующие благосостояние иждивенцев, оставшихся после смерти
кормильца, имеют шанс предотвратить неэффективные инвестиции в
866
продление его жизни. Эта ситуация сходна со случаем, когда одино-
кие старики делают неэффективные совместные инвестиции в продле-
ние жизней друг друга за счет накопленного состояния, которое они
все равно потеряют в случае смерти. В этом случае удачным контракт-
ным решением является пожизненная рента для каждого из них.
Риск и страх смерти (anxiety). Помимо собственно спасения жизней,
устранение некоторых смертельных рисков способно уменьшить страх
смерти в обществе в целом. Страх смерти присущ людям не только в
момент гибели — он не чужд и тем, кто остается жить. По этой причине
включение такого фактора, как «уменьшение страха перед смертью», от-
дельной строкой в перечень положительных эффектов снижения риска
смерти не будет двойным счетом. Однако, как следует из ряда исследо-
ваний, страх смерти не всегда пропорционален действительному риску
(Starr and Whipple, 1980). Отчасти опасения людей связаны с психоло-
гическими раздражителями (например, историями о насилии на ночных
улицах), напоминающими людям об опасности. С этим обстоятельством
связаны два вопроса политического характера. Один из них можно сфор-
мулировать так: не следует ли правительству разумно и мудро распреде-
лить усилия по снижению риска, уделив непропорционально большее
внимание тем рискам, которые вызывают особую озабоченность в об-
ществе? Фактически речь идет о затрате в этих случаях больших удель-
ных средств на спасение одной жизни — подобно тому, как если бы к
лечению неопасных для жизни болезней подходили бы с той же меркой,
как и к лечению смертельно опасных болезней. Эта мера может быть
оправдана, поскольку в тех случаях, о которых идет речь, ощущение угро-
зы смерти по своему отрицательному воздействию на благосостояние
сопоставимо с самой смертью. Второй вопрос состоит в том, не следует
ли правительству направить ресурсы на уменьшение тех рисков, кото-
рых люди боятся больше всего, даже если оно располагает данными,
свидетельствующими о том, что эти страхи вызваны скорее чрезмерным
воображением, чем реальным положением дел.
Очевидно, в этом случае могут иметь место два подхода. Один из них
таков: граждане страны сильно преувеличивают какой-то риск (отрав-
ления пищевыми добавками, радиоактивного заражения, насилия на
ночных улицах), а правительство знает, что эти представления людей
попросту ошибочны, и не принимает никаких специальных мер. Вто-
рой подход предполагает, что предпочтения граждан не ограничивают-
ся максимизацией ожидаемой продолжительности жизни, но включают
в себя нечто большее. Тогда правительство должно признать, что опре-
деленные опасности (может быть, те, которые больше всего волнуют
население) заслуживают устранения в большей степени, чем остальные.
Дисконтирование. Многие мероприятия по обеспечению безопасно-
сти или сокращению смертности в будущем требуют инвестиций в на-
стоящем. (Заметим, что обеспечение безопасности в будущем и сокра-
щение будущей смертности — это не одно и то же: так, контакт с ас-
бестом или радиоактивное облучение увеличивают вероятность раковых
867
заболеваний несколько десятилетий спустя.) Возникает проблема дис-
контирования: надо ли оценивать жизнь, спасенную через двадцать или
сто лет, ниже, чем жизнь, спасенную сегодня? Снова встает вопрос: кто
будет оценивать? Видимо, можно ожидать, что наши современники,
которым сегодня предложат оплатить предотвращение смерти через сто
лет, проявят меньшую заинтересованность, чем если им предложат
профинансировать спасение жизни в настоящее время, когда это мо-
жет коснуться их самих или членов их семей. Аналогичного отноше-
ния естественно ожидать в том случае, если кому-то предложат опла-
тить программу спасения жизней на другом конце земли: раз люди
никак не смогут воспользоваться ее плодами, они будут рассматривать
свое вложение как благотворительность, а не как заботу о личной без-
опасности, а значит, могут проявить меньшую заинтересованность.
Но ведь многие программы по обеспечению безопасности и охране
здоровья появились именно по мотивам благотворительности, т.е. были
инициированы теми людьми, которые никак не рассчитывали восполь-
зоваться их плодами. Следует ли вообще дисконтировать будущие спасен-
ные жизни в этом случае? Можно привести ряд экономических аргумен-
тов в пользу того, чтобы дисконтировать не сами «жизни», а вмененную
денежную ценность жизней, спасенных в будущем ценой определенных
затрат в настоящем. 1) Деньги, истраченные сегодня на спасение жизней
в будущем, можно было бы вложить в прибыльное дело, с тем чтобы по-
лучить в будущем больше средств на те же цели и спасти в будущем боль-
ше жизней. 2) Технологический прогресс может в будущем сделать спа-
сение жизней более дешевым делом: надо только подоадать и купить то
же благо по более низким ценам. 3) С будущими опасностями связана
неопределенность: какие-то из них с течением времени могут исчезнуть
вовсе или перестать угрожать жизни, что сделает бессмысленной часть
нынешних расходов. 4) Наконец, есть основания полагать, что люди в
будущем будут богаче и смогут потратить собственные деньги на спасе-
ние своих жизней. Если стоимость спасенных жизней не дисконтировать,
то первые два аргумента вместе означают, что предельная отдача от спа-
сения будущих жизней выше, чем от спасения жизней в настоящем, и
поэтому все ресурсы, предназначенные на эти цели, должны перемещаться
в будущее до тех пор, пока предельные издержки спасения будущих жиз-
ней не сравняются с предельными издержками в настоящем. Тот факт,
что ничего подобного в действительности не происходит, можно считать
свидетельством в пользу того, что люди дисконтируют будущие жизни,
даже если сами они не отдают себе в этом отчет.
Неявные оценки. Нередко утверждают, что достаточно лишь взгля-
нуть на неявные оценки, находящие отражение в проводимой социаль-
ной политике, чтобы «убедиться» в том, что «наше общество» считает
человеческую жизнь ценностью. В Соединенных Штатах ежегодно
проводятся сотни тысяч операций коронарного шунтирования стоимо-
стью 25 000 дол. каждая. Большая часть этих операций делается в на-
дежде продлить человеческую жизнь. Поскольку соответствующие хи-
рургические технологии появились только в 1970-е годы, имеющиеся
868
данные не позволяют делать окончательных выводов об их влиянии на
продолжительность жизни, однако в среднем, по-видимому, эти опе-
рации вряд ли продлевают ее больше чем на один год. (Некоторые ис-
следования отрицают всякий положительный эффект.) Следовательно,
подвергаясь таким операциям, американцы неявно признают, что за
продление собственной жизни на один год они согласны платить не
менее 25 000 дол. Если исходить из этой цифры, то спасение 65-летне-
го человека от рака легких при дисконтировании под 5% годовых дол-
жно оцениваться в 250 000 дол., а предотвращение смерти молодого
мотоциклиста — в 500 000 дол. Возможно, эти цифры выглядят при-
емлемо, однако они ни в коей мере не означают, что среднее увеличе-
ние продолжительности жизни как следствие операции коронарного
шунтирования действительно должно оцениваться в ту сумму, какую
за него платят.
Исследования рынка. Отдельную область исследований составляет изу-
чение того, как соотносятся для представителей различных профессий
и отраслей различия в заработной плате и различия в уровнях риска (оце-
ниваемые как смертность от несчастных случаев на работе и частота
смертельно опасных профессиональных заболеваний, Viscusi, 1983).
Эконометрический анализ позволил оценить неявные ЭПЖ с точки зре-
ния самих работников, т.е. измерить тот доход, которого они лишают-
ся, меняя свои профессии на менее опасные. В ценах 1980 г. неявные
ЭПЖ колебались в диапазоне от 1 млн до 5 млн дол., при том, что у пред-
ставителей профессий, связанных с максимальным риском, неявный
ЭПЖ оказался ниже 1 млн. Расхождения в оценках отчасти связаны с
различиями в источниках данных и в методологии расчетов. И, тем не
менее, представляется вероятным, что они отражают и личностные ха-
рактеристики представителей тех или иных профессий, в частности их
готовность «обменивать» деньги на риск умереть, с вытекающим отсю-
да распределением по более и менее рискованным профессиям.
БИБЛИОГРАФИЯ
Hartunian, N.S., Smart, C.N. and Thompson, M.S. 1981. The Incidence and
Economic Costs of Major Health Impairments. Lexington: Lexington Books.
Mishan, E.J. 1971. Evaluation of life and limb: a theoretical approach. Journal of
Political Economy 79, 687-705.
Parfit, D. 1984. Reasons and Persons. Oxford: Clarendon Press.
Rice, D. 1967. Estimating the costs of illness. American Journal of Public Health 57,
424-40.
Schelling, T.C. 1968. The life you save may be your own. In Problems in Public
Expenditure Analysis, ed. S.B. Chase, Jr., Washington, DC: The Brookings
Institution.
Starr, C. and Whipple, C. 1980. Risks of risk decisions. Science 208, 1114—19.
Viscusi, W.K. 1983. Risk By Choice. Cambridge. Mass.: Harvard University Press.
Zeckhauser, R.J. 1975. Procedures for valuing lives. Public Policy 23, 419—64.
869
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Аллан М. Фелдман
Welfare Economics
Allan М. Feldman
В 1776 г., в год провозглашения американской Декларации незави-
симости, Адам Смит опубликовал «Богатство народов». Смит изложил
аргументы, которые теперь знакомы всем студентам-экономистам:
(1) главный человеческий мотив — собственный интерес; (2) невиди-
мая рука конкуренции автоматически превращает собственный инте-
рес многих в общее благо; (3) следовательно, наилучшая государствен-
ная политика для роста богатства страны — это политика наименьше-
го вмешательства.
Аргументы Смита направлялись против меркантилистов, которые
отстаивали активное государственное вмешательство в экономику, осо-
бенно в области торговой политики, о которой у них были неверные
представления. С того времени его аргументация использовалась вновь
и вновь сторонниками laissez faire на протяжении XIX и XX вв. Аргу-
менты Смита и его оппонентов используются и сегодня. Смитианцы
верят в рынок, считают, что предоставление товаров и услуг в обществе
должно обеспечиваться в основном частными покупателями и продав-
цами, конкурирующими друг с другом. Можно увидеть дух Адама Сми-
та в экономической политике, включающей дерегулирование некоторых
отраслей экономики, сокращение налогов и замедление роста государ-
ственного сектора в Соединенных Штатах; в политике денационализа-
ции в Соединенном Королевстве, Франции и других странах, в целена-
правленном восстановлении частных рынков в Китае. Антисмитианцы
также живут и процветают; меркантилисты теперь называются «сторон-
никами промышленной политики», но и помимо неомеркантилистов
есть немало интеллектуалов и политиков, верящих, что: (1) экономичес-
кое планирование лучше, чем политика laissez faire; (2) при отсутствии
государственного вмешательства рынки обычно монополизируются, что
парализует невидимую руку конкуренции; (3) даже если бы рынки были
конкурентными, существование внешних эффектов, общественных благ,
асимметричной информации и других случаев несостоятельности рын-
ка ведут к тому, что результатом политики laissez faire становятся общие
бедствия, а не общее благо; (4) в любом случае политика laissez faire при-
водит к недопустимой степени неравенства.
Отрасль экономической науки, называемая экономической теори-
ей благосостояния, возникла в результате фундаментальной дискуссии,
870
начало которой было положено Адамом Смитом, а может быть, и его
предшественниками. Собственно, теоретическая часть экономики бла-
госостояния основана на трех основных теоремах. Первая теорема от-
вечает на вопрос: будет ли общее благо результатом функционирова-
ния экономики с конкурирующими покупателями и продавцами? Вто-
рая теорема имеет отношение к проблеме распределительной
справедливости и отвечает на вопрос: может ли общее благо в эконо-
мике, где решения о распределении принимаются просвещенным по-
велителем, достигаться с помощью немного модифицированного ры-
ночного механизма или же рынок должен быть упразднен совсем? Тре-
тья теорема решает общий вопрос определения общественного
благосостояния, или общего блага, независимо от того, обеспечивает-
ся оно через рынок, через централизованный политический процесс
или через процесс голосования. Она отвечает на вопрос: существует ли
надежный путь, чтобы вывести из интересов индивидов истинные ин-
тересы общества применительно, например, к альтернативным вари-
антам распределения богатства?
Объектом нашей статьи является экономическая теория благосо-
стояния. Близкие проблемы, существующие в практической экономи-
ке благосостояния, здесь лишь упоминаются. Читатель, заинтересован-
ный в практических проблемах оценивания альтернативных политичес-
ких мер, может обратиться к обширной литературе по вопросам,
например, потребительского излишка, анализа издержек и выгод (cost-
benefit analysis) и принципа компенсации.
I. ПЕРВАЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА,
ИЛИ ПОЛИТИКА LAISSEZ FAIRE ВЕДЕТ К ОБЩЕМУ БЛАГУ
«Величайшее средство усовершенствования мира — это эгоистичная
торговля ради выгоды» (Р.У. Эмерсон: R. Ж Emerson, «Work and Days»).
В книге IV «Богатства народов» Смит писал: «Каждый человек обя-
зательно содействует тому, чтобы годовой доход общества был макси-
мально велик. Разумеется, обычно он не имеет в виду содействовать
общественной пользе и не сознает, насколько он содействует ей. Он
преследует лишь собственную выгоду, причем в этом случае, как и во
многих других, он невидимой рукой направляется к цели, которая со-
всем и не входила в его намерения» (Смит, 1962, с. 332). Философия
первой фундаментальной теоремы экономической теории благососто-
яния восходит к этим словам Смита. Подобно значительной части со-
временной экономической теории, она формулируется в контексте
модели общего равновесия Вальраса, разработанной почти столетием
позже «Богатства народов». Поскольку Смит писал задолго до изобре-
тения современного теоретического языка, он нигде строго не сфор-
мулировал, не говоря уже о доказательстве, какой-либо версии первой
теоремы. Эта честь выпала Лернеру (Lerner, 1934), Ланге (Lange, 1942)
и Эрроу (Arrow, 1951).
Чтобы продемонстрировать первую теорему, нам нужна схема мо-
дели общего равновесия. Предположим что все индивиды и фирмы в
871
экономике принимают цены как данные: все они не настолько велики
или не заинтересованы в том, чтобы действовать как монополисты.
Предположим, что каждый индивид выбирает набор потребительских
благ, максимизируя свою полезность при выполнении бюджетного
ограничения. Предположим, что каждая фирма выбирает свой вектор
производства, или вектор затрат и выпуска, чтобы максимизировать
свою прибыль при выполнении некоторых производственных ограни-
чений. Отметим предпосылку собственного интереса: индивид заботит-
ся только о своей полезности, которая зависит от его собственного
потребления, фирма заботится только о собственной прибыли.
Невидимая рука конкуренции действует через цены; они содержат
информацию о желаниях и редкости благ, которые координируют дей-
ствия движимых собственным интересом участников рынка. В модели
общего равновесия цены устанавливаются так, чтобы привести к рав-
новесию на рынках всех благ. Таким образом, цены корректируются
до тех пор, пока величина предложения не сравняется с величиной
спроса. Когда это происходит, а все индивиды и фирмы максимизиру-
ют полезность и прибыли соответственно, имеет место конкурентное
равновесие.
Первая теорема устанавливает, что конкурентное равновесие ведет
к общему благу. Но как определить общее благо? Традиционное опре-
деление обращается к общей ценности товаров и услуг, произведенных
в экономике. По Смиту, максимизируется «годовой доход общества»
(annual revenue of the society). Согласно Пигу (Pigou, 1920), следующе-
му за Смитом, «свободная игра личных интересов» ведет к максималь-
ному «национальному дивиденду».
Современная интерпретация «общего блага» обычно связана с оп-
тимальностью по Парето, а не с максимизацией валового националь-
ного продукта. Если в модели рассматриваются конечные потребите-
ли, говорят, что ситуация является оптимальной по Парето, если нет
допустимой альтернативы, которая была бы лучше для каждого из них.
Оптимальность по Парето, таким образом, характеризует доминиру-
ющий из сравниваемых векторов полезности. Эта концепция отверга-
ет возможность сравнения полезностей различных индивидов или их
суммирования, так что две альтернативные ситуации не могут сравни-
ваться на основе суммирования полезностей. Если в модели не рассмат-
риваются конечные потребители, как в чисто производственной моде-
ли, которая будет описана ниже, говорят, что ситуация оптимальна по
Парето, если нет альтернативы, обеспечивающей большее производство
некоторого продукта, или использование меньшего количества неко-
торого ресурса, при прочих равных. Очевидно, то, что ситуация, опти-
мальная по Парето, не обязательно предполагает максимизацию ВНП
и не обязательно является наилучшей в некотором абсолютном смыс-
ле. Оптимумов по Парето обычно существует много. Тем не менее, оп-
тимальность по Парето в качестве критерия общего блага не вызывает
возражений: никто не будет утверждать, что общество должно доволь-
ствоваться неоптимальной ситуацией, поскольку если А не оптималь-
но, то существует В, которое все ему предпочитают.
872
Хотя в модели общего равновесия множество оптимумов, большин-
ство состояний в ней неоптимальны. Если бы экономика была подоб-
на игре в «дротики» и решения о потреблении и производстве прини-
мались бы путем бросания дротиков, то шанс достигнуть оптимума был
бы равен нулю. Следовательно, сказать, что рыночный механизм ве-
дет экономику к оптимальному результату, — это вовсе не очевидный
вывод. Теперь мы можем вернуться к современной формулировке пер-
вой теоремы.
Первая фундаментальная теорема экономической теории благососто-
яния. Допустим, что все индивиды и фирмы преследуют собственные
интересы и принимают цены как данные. Тогда конкурентное равно-
весие оптимально по Парето.
Для того чтобы проиллюстрировать эту теорему, мы остановимся на
ее простой версии для чисто производственной экономики. Для рас-
смотрения общей версии теоремы, включающей производство и обмен,
читатель может обратиться к работе Маленво (Malinvaud, 1972).
В модели общего равновесия производственной экономики есть
А"фирм и т благ, но, для простоты, нет никаких потребителей. При
данном векторе рыночных цен каждая фирма выбирает допустимый
вектор затрат и выпуска ук, с тем чтобы максимизировать свою при-
быль. Мы принимаем обычное предположение о знаке вектора затрат
и выпуска фирмы ук. если ykJ < 0, то фирма к — чистый потребитель
блага /, а если ykJ > 0, то фирма к является чистым производителем бла-
га j. Состояния, достижимые для фирмы к, определяются некоторым
заданным набором производственных возможностей Yk. При описан-
ном предположении о знаках вектора затрат и выпуска, если р — век-
тор цен, то прибыль фирмы к описывается формулой
= Р • Ук-
Совокупность допустимых векторов затрат и выпуска у = (уру2, —’Ук)
называется производственным планом экономики. Конкурентным равно-
весием являются производственный план у и вектор цен р, при кото-
рых для каждого к у к максимизирует для всех допустимых ук. (Посколь-
ку производственная модель абстрагируется от конечных потребителей
выпуска и поставщиков ресурсов, равенство спроса и предложения для
равновесия не требуется.)
Если у = (ур у2, ..., ук) и z = (Zp z2, ..., zk) — альтернативные произ-
водственные планы для экономики, то говорят, что z доминирует над
у, если выполняется следующее векторное неравенство:
Х^ Хл-
к к
Наконец, если не существует производственного плана, который
доминирует над у, то у оптимален по Парето. (Принятые обозначения
очень важны для этой модели; заметим, например, что выражение ун +
+у21 + ... + ук1 представляет собой суммарный объем производства бла-
га 1 в экономике, если оно положительно, и суммарный объем исполь-
зования блага 1, если оно отрицательно. Заметим также, что некото-
рые ytl могут быть положительными, а некоторые — отрицательными,
873
и значение векторного неравенства не зависит от того, является ли бла-
го 1 в совокупности ресурсом или готовым продуктом.)
У нас теперь есть возможность сформулировать и доказать первую
теорему в контексте чисто производственной модели.
Первая фундаментальная теорема экономической теории благососто-
яния, производственная версия. Допустим, что все цены положитель-
ны, и ситуация (у, р) является конкурентным равновесием. Тогда у оп-
тимально по Парето.
Чтобы увидеть, почему это так, предположим, напротив, что про-
изводственный план конкурентного равновесия у{, у2, ..., ук неопти-
мален. Тогда существует производственный план гр z2, zk, который
доминирует над ним. Следовательно,
Х^ s И,Ук-
к к
Векторное произведение обеих частей на положительный вектор цен
р дает результат:
Р’Х^ Р^Ук-
к к
Но отсюда следует, что по крайней мере для одной фирмы к выпол-
няется неравенство
Р • Zk > Р Ук’
что противоречит предположению о том, что ук максимизирует прибыль
фирмы к.
II. НЕДОСТАТКИ ПЕРВОЙ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ТЕОРЕМЫ
И ВТОРАЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА
«Среди нашей высшей цивилизации люди слабеют и умирают в нужде,
и это не из-за скупости природы, а из-за несправедливости человека»
(Ггнри Джордж, «Прогресс и бедность»).
Первая теорема экономической теории благосостояния математи-
чески верна, но, тем не менее, вызывает возражения. Вот наиболее ча-
сто встречающиеся из них: (1) первая теорема является абстракцией,
которая игнорирует факты. Предпочтения потребителей не даны изна-
чально, они создаются рекламой. Реальная экономика никогда не на-
ходится в равновесии, большинство рынков характеризуются избыточ-
ным предложением или избыточным спросом, они никогда «не стоят
на месте». Экономика динамична, вкусы и технологии постоянно из-
меняются, в то время как в модели принимается, что они фиксирова-
ны. Состав действующих лиц в реальной экономике также постоянно
изменяется, а в модели он один и тот же; (2) первая теорема предпола-
гает конкурентное поведение, в то время как реальный мир полон мо-
нополистов; (3) первая теорема предполагает отсутствие внешних эф-
фектов. Если в меновой экономике полезность 1-го индивида зависит
не только от его собственного потребления, но также и от потребле-
874
ния 2-го индивида, то теорема неверна. Аналогично, если в производ-
ственной экономике возможности фирмы к зависят от производствен-
ного вектора некоторой другой фирмы, то теорема неприменима.
Аналогичным образом первая теорема предполагает отсутствие об-
щественных благ, т.е. благ, подобных национальной обороне или мая-
кам, пользование которыми является не исключительным. Если такие
блага предоставляются частным образом (как это было бы в чистой
экономике laissez faire), то объем их производства будет меньше опти-
мального; (4) наиболее беспокоящим аспектом первой теоремы явля-
ется ее пренебрежение вопросами распределения. Laissez faire может
обеспечить оптимальный по Парето результат, но существует много
других оптимумов Парето, и некоторые из них более справедливы, чем
другие. Некоторые люди обеспечены ресурсами, которые делают их
богатыми, а другие — нет, и вовсе не по причине своих недостатков.
Первая теорема игнорирует основные распределительные вопросы: как
можно несправедливые варианты распределения благ превратить в
справедливые, в производстве — как исправить производственные пла-
ны, в которых предполагается произвести много предметов роскоши
для богатых, и мало продуктов питания, жилья и медицинских услуг
для бедных?
Первое и второе возражения против первой теоремы выходят за
пределы этой статьи. Третье, относительно внешних эффектов и об-
щественных благ, экономисты признавали всегда. Стандартные сред-
ства для исправления этих случаев несостоятельности рынка включа-
ют незначительные модификации рыночного механизма, в частности
налоги Пигу (Pigou, 1920) на нежелательные внешние эффекты или
(Coase, 1960) установление прав собственности, например, на чистый
воздух, по Коузу.
Пигу внес важный вклад в анализ частичного равновесия, когда
издержки и выгоды, связанные с отрицательными внешними эффек-
тами могут измеряться в деньгах. Предположим, что завод производит
некоторые изделия, продаваемые по определяемой рынком цене, и как
часть своего производственного процесса, выпускает дым, который
наносит ущерб другому заводу, расположенному там, куда обычно дует
ветер. Максимизируя свою прибыль, первый завод будет расширять
свой выпуск, пока его предельные издержки не сравняются с ценой.
Но каждая дополнительная единица его выпуска причиняет вред заво-
ду, в сторону которого дует ветер, — в этом состоят предельные внеш-
ние издержки его деятельности. Если менеджер первого завода игно-
рирует эти предельные издержки, он создает ситуацию, неоптимальную
в том смысле, что совокупная чистая ценность произведенных обеими
фирмами благ будет не столь велика, как могла бы быть. Следователь-
но, то, что Пигу назвал «чистым общественным продуктом», не мак-
симизируется, хотя «чистый продукт» загрязняющей фирмы будет мак-
симален. Предложение Пигу заключалось в том, чтобы государство
устранило расхождение между частным и общественным чистым про-
дуктом путем установления соответствующих налогов (или, в случае
полезных внешних эффектов, субсидий). Налог Пигу должен быть ра-
875
вен предельным внешним издержкам, что устранило бы расхождение
между оценками издержек со стороны загрязняющей фирмы и обще-
ства. Оптимальность тем самым была бы восстановлена.Идея Коуза
подчеркивает двустороннюю природу внешних эффектов и предлага-
ет средства, основывающиеся на принципах общего права. С его точ-
ки зрения, ущерб от загрязнения имеет место только вследствие бли-
зости обоих агентов; например, заводской дым вреден другому заводу,
только если последний расположен близко и ветер дует в его сторону.
Коуз отвергает мнение, что государство должно вмешаться и обложить
налогом загрязнителя. Вместо этого может быть использован подход с
позиций общего права. Если закон предоставляет первому заводу ясно
сформулированное право выпускать дым, то несущий ущерб завод
может заключить с первым заводом соглашение о том, чтобы умень-
шить его выпуск; и если нет помех для торга, то две фирмы догово-
рятся об оптимальном результате. Напротив, если закон устанавлива-
ет ясно сформулированное право для «пострадавшего» завода получить
компенсацию за нанесенный дымом ущерб, то он взыщет с загрязни-
теля внешние издержки и тем самым будет мотивировать загрязните-
ля уменьшить выпуск дыма до оптимального уровня. Короче говоря,
юридическая система, которая предоставляет однозначные права на
воздух загрязняющему или страдающему от загрязнения, создает усло-
вия для достижения оптимального результата при условии отсутствия
трансакционных издержек
Что касается общественных благ, то после получения Самуэльсоном
(Samuelson, 1954) формальных условий оптимальности при их предо-
ставлении экономисты уделяли большое внимание этой проблеме; осо-
бенно важный теоретический вопрос связан с выяснением интенсив-
ности предпочтений людей относительно общественных благ. Если,
например, правительство финансирует подобную систему, то сколько
оно должно тратить на нее (и, соответственно, сколько средств взимать
в виде налогов). По крайней мере, со времен Самуэльсона известно,
что схемы получения государственных доходов наподобие предложен-
ных Линдалем (Lindahl, 1919), где налог, взимаемый с индивида, при-
равнивался его предельной выгоде, создают для людей стимулы для ис-
кажения своих истинных предпочтений. Схемы, которые устойчивы к
таким искажениям (в определенных обстоятельствах), разработаны в
последние годы (Clarke, 1971; Groves and Loeb, 1975).
Наиболее фундаментально, однако, четвертое возражение против
первой теоремы, касающееся распределения.
Есть два полярных метода исправления распределительного нера-
венства, характерного для политики laissez faire. Первый — подход ко-
мандной экономики: централизованная бюрократия принимает деталь-
ные решения о потреблении всех индивидов и выпуске всех произво-
дителей. Основные теоретические проблемы при командном подходе
заключаются в том, что он требует от чиновников собирать и перера-
батывать невозможные для реального человека объемы информации,
и в том, что в этом случае не удается создавать адекватные стимулы для
индивидов и фирм. С эмпирической точки зрения опыт восточно-ев-
876
ропейских и китайском командных экономик показал, что излишне
централизованные методы принятия экономических решений, мягко
говоря, оставляют желать много лучшего.
Второй полярный подход к решению распределительных проблем
состоит в передаче (трансферте) части дохода или покупательной спо-
собности другим индивидам, после чего вступает в действие рынок.
Единственным видом передачи покупательной способности, которая не
вызывает потерь, связанных с изменением стимулов, является едино-
временная выплата. Здесь можно ввести стандартное средство для ре-
шения распределительных проблем, выдвинутое рыночно-ориентиро-
ванными экономистами и заключающееся во второй фундаментальной
теореме.
Вторая фундаментальная теорема экономической теории благосо-
стояния утверждает, что рыночный механизм, модифицированный еди-
новременными трансфертами, может привести фактически к любому
желаемому оптимальному распределению. При более сильных услови-
ях, чем необходимы для первой теоремы, включая предположения о
квазивогнутости функций полезности и выпуклости допустимых про-
изводственных множеств, вторая теорема утверждает следующее.
Вторая фундаментальная теорема экономической теории благососто-
яния. Допустим, что все индивиды и производители движимы собствен-
ными интересами, а цены задаются рынком. Тогда почти любое
Парето-оптимальное равновесие может быть достигнуто через кон-
курентный механизм при условии взимания соответствующих единовре-
менных налогов и выплаты единовременных трансфертов.
Одна из версий второй теоремы, относящаяся к чисто производ-
ственной экономике, особенно актуальна для старой дискуссии о воз-
можности социализма: см., в частности, работы Ланге и Тейлора (Lange
and Taylor, 1939) и Лернера (Lerner, 1944). Противники социализма,
включая фон Мизеса (von Mises, 1922), утверждали, что информаци-
онные проблемы делают невозможной координацию производства в со-
циалистической экономике, в то время как социалисты, в частности
Ланге, утверждали что эти проблемы могли бы решаться центральным
планирующим органом, роль которого ограничивалась бы только объяв-
лением вектора цен. Это называлось бы «децентрализованным социа-
лизмом». При данных ценах менеджеры производственных единиц
должны действовать подобно своим коллегам при капитализме; в сущ-
ности, они должны максимизировать прибыль. Выбирая векторы цен
соответствующим образом, центральный планирующий орган мог бы
обеспечить достижение любого желаемого оптимального производст-
венного плана.
Производственная версия второй теоремы в терминах производ-
ственной модели, приведенной выше, такова.
Вторая фундаментальная теорема экономической теории благососто-
яния, производственная версия. Пусть у — любой оптимальный произ-
водственный план для экономики. Тогда существует такой вектор цен
р, что (у, р) является конкурентным равновесием. Таким образом, для
877
любого к ук максимизирует кк = р ук, при условии, что ук является
достижимым.
Доказательство второй теоремы требует использования теоремы
Минковского о разделяющей гиперплоскости и здесь не приводится.
III. ПОПЫТКА «ПОЧИНИТЬ» ЭКОНОМИКУ
И ГОЛОСОВАНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
Логика второй теоремы предполагает, что попытки «починить» эко-
номику оправданы и, возможно даже, являются моральным императи-
вом. И, в конце концов, разве не этим постоянно занимались творцы
экономической политики и их экономические консультанты? Как ча-
сто мы делаем выбор между экономикой laissez faire и командной эко-
номикой? Наши возможности для выбора обычно более скромны. Чем
нужно руководствоваться, выбирая среди альтернативных вариантов
налоговой, торговой и тарифной, антимонопольной политики, поли-
тики занятости или политики трансфертов? Совет специалиста по при-
кладной экономике благосостояния обычно базируется на некотором
критерии повышения общего выпуска в экономике. Практические
политические решения в странах западной демократии обычно бази-
руются на голосовании.
Прикладная экономика благосостояния. Внимание специалиста по
прикладной экономике благосостояния обычно фокусируется на путях
увеличения общего выпуска, «размера пирога» или, по крайней мере,
на измерении его изменений. К сожалению, теория считает, что «пи-
рог» не может быть измерен по многим причинам. Прежде всего любая
мера общего выпуска является скаляром, т.е. единственным числом.
Если это число определяется суммированием уровней полезности от-
дельных индивидов, значит, сделаны неправомерные межличностные
сравнения полезности. Если данное число находится суммированием
совокупных чистых выпусков всех товаров, то возникает проблема по-
строения общего индекса. Ценность производственного плана зависит
от вектора цен, в которых он оценен. Но в контексте общего равнове-
сия вектор цен зависит от вектора совокупного чистого выпуска, ко-
торый, в свою очередь, зависит от распределения собственности или
богатства среди индивидов. Экономисты всегда соглашались с тем, что
если q{ и q2 — альтернативные векторы совокупного чистого выпуска,
а ру и р2 — соответствующие векторы цен, то выполнение условия
< p2q2 не имеет отношения к благосостоянию. К сожалению, те-
перь они также согласны с тем, что если в экономике есть два или бо-
лее индивидов, то даже выполнение условия p2qt < p2q2 не может озна-
чать, что q2 с точки зрения благосостояния лучше, чем qv
Важнейший вклад в анализ того, вырос или нет «экономический
пирог», был сделан Калдором (Kaldor, 1939), который утверждал, что
отмена хлебных законов в Англии может быть оправдана тем, что вы-
игравшие могли в принципе компенсировать потери проигравших:
«вполне достаточно [для экономиста] показать, что даже если все те,
878
кто пострадал, в результате получат полную компенсацию своих убыт-
ков, то остальная часть общества будет все еще в лучшем положении,
чем прежде». К несчастью, Ситовски (Scitovsky, 1941) быстро отме-
тил, что компенсационный критерий Калдора (а также критерий,
предложенный Хиксом) был теоретически противоречивым: можно
одновременно сделать вывод, что ситуация В по Калдору лучше, чем
А, и что А лучше, чем В. Избежать парадокса Ситовски можно через
двусторонний компенсационный тест, согласно которому ситуация В
лучше, чем А, если: (1) потенциально выигравшие от перемещения из
Ав В могли бы компенсировать потери потенциальным неудачникам
и все еще оставаться в лучшем положении и (2) потенциальные не-
удачники не могут подкупить выигравших, чтобы предотвратить пе-
ремещение.
Двусторонний критерий Ситовски имеет некоторую логическую
привлекательность, но он, подобно одностороннему критерию Калдо-
ра, все еще имеет принципиальный недостаток: он игнорирует распре-
деление. Следовательно, этот критерий не позволяет нам сделать ни-
каких суждений об альтернативных распределениях «пирога» одного и
того же размера. И, что еще хуже, как отметил Литтл (Little, 1950), оба
критерия одобрят изменение, которое сделало бы самого богатого че-
ловека в Англии богаче на 1 000 000 000 ф. ст., делая при этом каждого
из 1 000 000 самых бедных беднее на 900 ф. ст. С точки зрения Литтла,
специалист по прикладной экономике благосостояния должен принять
двусторонний критерий Ситовски, но при этом также потребовать,
чтобы переход из А в В не сопровождался ухудшением распределения
благосостояния. К сожалению, как признает Литтл, ответ на вопрос о
том, какое распределение можно назвать «плохим», определяется чис-
то ценностным суждением и основан на личном мнении.
Другое важное средство для измерения изменений «экономичес-
кого пирога» — понятие потребительского излишка, который был
определен Маршаллом (Marshall, 1920) как различие между тем, что
индивид готов максимально заплатить за товар, и тем, что он дей-
ствительно платит. Имея некоторое доверие к этой концепции, эко-
номист-аналитик может измерить совокупный потребительский из-
лишек (т.е. суммарный излишек для всех потребителей), вычислив
площадь под кривой спроса, и это фактически обычно делается для
оценивания изменений в экономической политике. Специалист по
прикладной экономике благосостояния пытается судить о том, вы-
растет ли «пирог» при перемещении из А в В, изучая изменения со-
вокупного потребительского излишка (плюс прибыли, если они вхо-
дят в анализ). Доверие здесь требуется постольку, поскольку потре-
бительский излишек, подобно критерию Калдора, оказался
теоретически противоречивым; см., например, работу Боудуэя (Boad-
way, 1974).
Короче говоря, хотя инструментальные средства прикладной эко-
номики благосостояния крайне важны на практике, теория утвержда-
ет, что они должны применяться с осторожностью.
879
Голосование
«Меньшинство может быть право, большинство всегда неправо» (Ген-
рик Ибсен, «Враг народа»),
В большинстве случаев важные решения об экономической поли-
тике принимаются бюрократией, управляемой законодательными орга-
нами, самими законодательными органами, либо избранными руково-
дителями; короче говоря, прямым или косвенным голосованием. Сама
вторая теорема поднимает вопросы о распределении, которые многи-
ми рассматриваются как по существу политические: как общество вы-
бирает Парето-оптимальное распределение благ, которое должно до-
стигаться через модифицированный конкурентный механизм? Как
должно определяться распределение доходов? Как может быть выбра-
но наилучшее распределение доходов среди многих Парето-оптималь-
ных? Выборы в соответствии с большинством голосов — это наиболее
часто используемый метод политического выбора в демократических
странах.
Практические возражения против голосования: мошенничество,
обман, влияние погодных условий — хорошо известны. Процитируем
печально известного Босса Твида, руководителя нью-йоркского Там-
мани-холла: «Что Вы можете сделать, если я считаю голоса?» Но да-
вайте вернемся к теоретическим проблемам.
Центральный теоретический факт относительно голосования изве-
стен со времен работы Кондорсе «Essai sur 1’application de 1’analyse a la
probabilitc des decisions rendues a la pluralite des voix», опубликованной в
1785 г.: голосование может быть противоречивым. В общеизвестном
ныне парадоксе голосования Кондорсе имеются три индивида —1,2
и 3 и три альтернативы — х, у и z, Три избирателя имеют следующие
предпочтения:
1: ху z;
1: у zx;
3: zxy.
(альтернативы указаны в порядке предпочтения каждого индивида,
обозначенного своим номером, слева направо.) Правило большинства
голосов при выборе между парами альтернатив показывает, что х пре-
восходит у, у превосходит z, и, как ни странно, z превосходит х.
Недавно было установлено, что такие циклы в голосовании не спе-
цифичны, они обычны, особенно когда альтернативы имеют простран-
ственный аспект с двумя или более измерениями (Plott, 1967; Kramer,
1973). Это можно проиллюстрировать, взяв в качестве альтернатив раз-
личные распределения одного и того же экономического «пирога».
Предположим, что распределительные вопросы, поднятые первой и
второй теоремами, должны решаться большинством голосов, и примем
для простоты, что должно быть разделено фиксированное количество
богатства, оцененное, скажем, в 100 единиц.
Пусть теперь х значит 50 единиц для индивида 1, 30 единиц для
индивида 2 и 20 единиц для индивида 3. Пусть х = (50, 20, 30). Анало-
гично пусть у - (30, 50, 20) и z = (20, 30, 50). В результате предпочте-
ния наших трех индивидов в точности соответствуют парадоксу голо-
880
сования. Этот результат не изобретен искусственно; выясняется, что
все распределения 100 единиц богатства связаны бесконечными цик-
лами голосования (см.: McKelvey, 1976). Читатель может легко подтвер-
дить, что для любых распределений и и v, которые он может выбрать,
существует последовательность голосований, ведущая от и к v, и дру-
гая, ведущая обратно от v к и!
Реальность циклов голосования должна заставить задуматься эко-
номиста, изучающего или рекомендующего налоговые законопроекты.
И в наибольшей степени она должна беспокоить экономиста, ищуще-
го политическую основу для выбора среди альтернативных распреде-
лений.
IV. ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
И ТРЕТЬЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА
Итак, как же можно решить распределительную проблему? Одним
из потенциальных ответов является принятие гипотезы о существова-
нии функции экономического благосостояния Бергсона (Bergson, 1938)
Е( ), зависящей от объемов нетрудовых факторов производства, при-
меняемых каждой производственной единицей, количества труда, пред-
ложенного каждым индивидом, и объемов произведенных благ, потреб-
ленных каждым индивидом. Далее решается задача максимизации Е( ).
Если выписать необходимые условия для Парето-оптимальности, ко-
торые должны выполняться для любой Е( ), то это упражнение вполне
допустимо, но если принять некоторый конкретный вид Е( ), выведя
затем из него распределительные следствия, то может возникнуть воз-
ражение: почему именно эта Е( ), а не какая-то другая?
Де Грааф (de Graaff, 1957) «фокусирует» подход Бергсона, анали-
зируя функции благосостояния «индивидуалистического» типа: они
могут быть записаны как Щг/р w2, ..., w„), где ui представляет уровень
полезности /-го индивида. Де Грааф разъяснил, что максимизация
слишком широко определенной ЙД) просто вновь приводит к получе-
нию условия Парето-оптимальности, в то время как максимизация
слишком узко определенной ИД) отражает предпочтения экономиста,
изобретающего Щ( )! Таким образом, хорошая функция Щ ) должна
быть определена не слишком широко и не слишком узко; она должна
отражать некоторые широко распространенные мнения о том, какие
распределения желательны и какие — нет. Максимизация такой функ-
ции благосостояния обеспечивает как оптимальность по Парето, так и
надлежащее распределение богатства. Но можно ли найти хорошую
функцию Щ )? Де Грааф оптимистичен в том, что члены общества
могут прийти к согласию о степени равенства, которая должна заклю-
чаться в W( ). W( ) должна также включать предположения о принятом
временном горизонте (учитывать ли интересы еще нерожденных де-
тей?), а также отношение к неопределенности, временному дисконти-
рованию и т.д. Поэтому он считает крайне маловероятным достижение
согласия, необходимого для построения W( ). Таким образом, в конце
яркой книги по нормативной экономической теории де Грааф реко-
881
мендует, чтобы мы все обратились к позитивной теории. Это по-преж-
нему оставляет нас наедине с дилеммой общественной функции бла-
госостояния Бергсона.
В своей классической монографии «Общественный выбор и инди-
видуальные ценности» (Arrow, 1963) Эрроу сводит вместе течения эко-
номической и политической мысли, обрисованные выше. Теорема
Эрроу может рассматриваться в различных аспектах: это суждение о
распределительных вопросах, поднятых первой и второй теоремами; это
замечательное логическое расширение парадокса голосования Кондор-
се; это утверждение о логике выбора функций благосостояния Бергсо-
на и о логике компенсационных оценок, оценок потребительского из-
лишка и фактически всех инструментов прикладной экономики бла-
госостояния. Вследствие своей важности теорема Эрроу может по праву
быть названа третьей фундаментальной теоремой экономической тео-
рии благосостояния.
Анализ Эрроу выполнен на высоком уровне абстракции и требует
построения дополнительной модели. Рассмотрим набор альтернатив,
которые могут быть распределениями в экономике обмена, распреде-
лениями богатства, налоговых законопроектов или даже кандидатов на
выборах. Альтернативы записаны как х, у, z, и т.д. Мы считаем, что есть
заданное общество с индивидами, обозначенными 1, 2, ..., п. Пусть
обозначает структуру предпочтения /-го индивида, так что xRty озна-
чает, что z-й индивид оценивает х так же или выше, чем у. Структура
предпочтений общества состоит из предпочтений всех индивидов, сим-
волически описывается как Rv R2,..., Rn. Мы обозначим через R струк-
туру предпочтения общества, полученную некоторым образом, который
будет описан ниже. Отношение R — это, конечно, значительно модер-
низированная версия функции Бергсона Е(-), которая здесь записана
как бинарное отношение, а не как функция.
Эрроу рассмотрел логику трансформации индивидуальных предпоч-
тений в общественные предпочтения, т.е. того, как определяется R.
Формально мы можем представить это преобразование следующим
образом:
R{, R2, ..., Rn -э R.
Итак, если общество должно принять решение относительно рас-
пределения, оно должно «знать», что одна альтернатива на самом деле
равноценна или лучше, чем другая, даже если обе они Парето-опти-
мальны. Чтобы гарантировать возможность принятия обществом таких
решений, Эрроу считает отношение R полным. Это означает, что для
любых альтернатив х и у верно или xRy, или yRx (или то и другое, если
они равноценны для общества). Если общество хочет избежать нело-
гичности циклического голосования, то предпочтения должны быть
транзитивными: для любых альтернатив х, у и z, если xRy и yRz, то xRz.
Следуя Сену (Sen, 1970), назовем преобразование индивидуальных от-
ношений предпочтения в полные и транзитивные отношения общест-
венных предпочтений функцией общественного благосостояния Эрроу,
или, более кратко, функцией Эрроу.
882
Каждый может построить функцию Эрроу, так же, как каждый мо-
жет построить функцию Бергсона, т.е. судить о том, что одно распре-
деление богатства лучше, чем другое. Но произвольные решения не-
удовлетворительны, так же, как и произвольные функции Эрроу. По-
этому Эрроу добавил к своей функции некоторые разумные условия.
Следуя предложенной Сеном в 1970 г. версии теоремы Эрроу, укажем
четыре условия.
(1) Универсальность. Функция должна всегда существовать незави-
симо от того, каковы индивидуальные предпочтения. Было бы непри-
емлемым, например, потребовать единодушного согласия среди всех
индивидов прежде, чем определить общественные предпочтения.
(2) Приемлемость по критерию Парето. Если все предпочитают аль-
тернативу х альтернативе у, то в общественных предпочтениях х долж-
но быть выше, чем у.
(3) Независимость. Предположим, что есть два альтернативных про-
филя предпочтений индивидов в обществе, но индивидуальные предпоч-
тения относительно х и у одинаковы для этих двух альтернатив. Тогда и
общественное предпочтение относительно х и у должно быть одним и
тем же для обеих альтернатив. В частности, если индивиды изменяют
свое мнение о третьей, «несущественной» альтернативе, то это не должно
влиять на общественное предпочтение относительно х и у.
(4) Отсутствие диктатора. Диктаторов быть не должно. В абстракт-
ной модели Эрроу /-й индивид — диктатор, если общество всегда пред-
почитает в точности то, что предпочитает он, т.е. если функция Эрроу
превращает в R.
Экономист или политик, который хочет получить окончательный
ответ на вопросы, касающиеся распределения, или на вопросы, каса-
ющиеся выбора среди альтернатив, несравнимых по критерию Паре-
то, может руководствоваться функцией общественного благосостояния
Эрроу. К сожалению, Эрроу показал, что выполнение условий 1—4 га-
рантирует, что функция Эрроу не существует.
Третья фундаментальная теорема экономической теории благососто-
яния. Не существует функции общественного благосостояния Эрроу, ко-
торая удовлетворяет условиям универсальности, приемлемости по кри-
терию Парето, независимости и отсутствия диктатора.
Чтобы проиллюстрировать логику теоремы, мы будем использовать
несколько более сильное предположение, чем независимость. Это пред-
положение называется N — I — М, или нейтральность — независи-
мость — монотонность. Пусть V— группа индивидов. Предположим,
что для некоторого профиля предпочтений и некоторой конкретной
пары альтернатив х и у все члены И предпочитают х, а не у, а все инди-
виды вне Ипредпочитают у, а не х, и общественное предпочтение ста-
вит х выше у. Тогда для любого профиля предпочтений и любой пары
альтернатив х и у, если все члены Vпредпочитают х, а не у, то и обще-
ственные предпочтения должны ставить х выше, чем у. Короче гово-
ря, если V получает преимущество в одном случае, когда все осталь-
ные противостоят этому, то оно имеет достаточную власть, чтобы сде-
лать это снова при других, возможно, менее трудных обстоятельствах.
883
Говорят, что группа индивидов Иявляется решающей (decisive), если
для всех альтернатив х и у всякий раз, когда все члены V предпочита-
ют х, а не у, то и все общество предпочитает х, а не у. Предположение
N — I — М утверждает, что если мнение V преобладает, даже будучи
отвергаемым всеми остальными, то данная группа является решающей.
Если процедура общественного выбора — это правило большинства го-
лосов, то любая группа из (п + 1 )/2 участников при нечетном п или из
(л/2)+1 участников при четном п является решающей. Кроме того,
ясно, что правило большинства голосов удовлетворяет предположению
N— I— М, поскольку если Vпреобладает для конкретных х и у, когда
все индивиды вне V предпочитают у, а не х, то V должно быть боль-
шинством и оно должно преобладать всегда. (Правило большинства —
это просто один возможный пример процедуры, которая удовлетворя-
ет условию N — I — М: есть несчетное число других процедур, кото-
рые также удовлетворяют ему.) Теперь мы готовы обратиться к крат-
кой версии третьей теоремы:
Третья фундаментальная теорема экономической теории благососто-
яния, краткая версия. Не существует функции общественного благо-
состояния Эрроу, которая удовлетворяет условиям универсальности,
критерию Парето, нейтральности — независимости — монотонности
и отсутствия диктатора.
Логика доказательства такова. Прежде всего должны существовать
решающие группы индивидов, поскольку в соответствии с условием
приемлемости по критерию Парето такой группой является набор всех
индивидов. Далее, пусть И— решающая группа минимального разме-
ра. Если в ней есть только один человек, то он — диктатор. Предполо-
жим затем, что V включает более чем одного человека. Мы покажем,
что это ведет к противоречию.
Если в группе V есть два или более индивида, то мы можем разде-
лить ее на непустые подмножества и И2. Пусть V3 включает всех
людей, которые не входят ни в Ер ни в И2 (И3 может быть пустым). По
свойству универсальности функция Эрроу должна быть применимой
к любому профилю индивидуальных предпочтений. Возьмем три аль-
тернативы х, у и г и рассмотрим следующие предпочтения относи-
тельно них:
ДЛЯ ИНДИВИДОВ В Ир X у Z,
для индивидов в У2: у zx;
ДЛЯ ИНДИВИДОВ В Vy z х у.
(В этой точке тесная связь между теориями Эрроу и Кондорсе очевид-
на, поскольку здесь даны условия парадокса голосования!)
Поскольку V предполагается решающей, у должно предпочитаться
обществом в сравнении с z, что мы запишем как yPz. Согласно пред-
положению полноты для общественного отношения предпочтения
должно выполняться либо xRy, либо уРх. Если выполняется xRy, то при
выполнении xRy и yPz выполнение условия xRz обеспечивается тран-
зитивностью. Но тогда И, является решающей группой по предполо-
жению N— I— М, что противоречит минимальности V. Наоборот, если
выполняется уРх, то V2 является решающим по предположению N— I— М,
884
что снова противоречит минимальности V. В каждом случае предпо-
ложение о том, что Ивключает двух или более людей, ведет к противо-
речию. Следовательно, V должно содержать только одного человека,
который, конечно, и есть диктатор!
С тех пор как была доказана третья теорема, появилась целая лите-
ратура о ее модификациях и вариантах. Но остался более или менее
неизбежным огорчительный вывод: не существует логически надежного
пути, чтобы объединить предпочтения различных индивидов, что озна-
чает, что нет логически надежного пути, чтобы решить проблему рас-
пределения.
Что же можно сказать об экономической теории благосостояния
сегодня? Первая и вторая теоремы говорят о том, что рыночный меха-
низм имеет большое достоинство: конкурентное равновесие и опти-
мальность по Парето жестко связаны. Но измерение размеров эконо-
мического «пирога» или вынесение суждений о его разделе ведет к па-
радоксам и непреодолимым трудностям, обобщенным третьей
теоремой. И это — трагедия. Мы чувствуем, что знаем, подобно Адаму
Смиту, какие меры политики увеличивают благосостояние народов. Но
из-за теоретических трудностей не можем этого доказать.
БИБЛИОГРАФИЯ
Arrow, K.J. 1951. An extension of the basic theorems of classical welfare economics.
Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, ed.
J. Neyman, Berkeley: University of California Press, 507—32.
Arrow, K.J. 1963. Social Choice and Individual Values, 2nd edn. New York: John
Wiley and Sons.
Bergson, A. 1938. A reformulation of certain aspects of welfare economics. Quarterly
Journal of Economics 52, 310-34.
Boadway, R. 1974. The welfare foundations of cost-benefit analysis. Economic Journal
84, 926-39.
Clarke, E.H. 1971. Multipart pricing of public goods. Public Choice 11, 17—33.
Coase, R.H. 1960. The problem of social cost. Journal of Law and Economics 3,
1-44 11 Коуз P.
Graaff, J. de V. 1957. Theoretical Welfare Economics. Cambridge University Press.
Groves, T. and Loeb, M. 1975. Incentives and public inputs. Journal of Public
Economics 4, 211—26.
Kaldor, N. 1939. Welfare propositions of economics and interpersonal comparisons of
utility. Economic Journal 49, 549—52.
Kramer, G.H. 1973. On a class of equilibrium conditions for majority rule.
Econometrica 41, 285—97.
Lange, O. 1942. The foundations of welfare economics. Econometrica 10, 215—28.
Lange, O. and Taylor, F.M. 1939. On the Economic Theory of Socialism. Minneapolis:
University of Minnesota Press.
Lerner, A.P. 1934. The concept of monopoly and the measurement of monopoly power.
Review of Economic Studies 1, 157-75.
Lerner, A. P. 1944. The Economics of Control. New York: The Macmillan Company.
885
Lindahl, E. 1919. Just taxation — a positive solution. Translated and reprinted in
Classics in the Theory of Public Finance, ed. R.A. Musgrave and A.T. Peacock,
New York: Macmillan, 1958.
Little, I.M.D. 1950. A Critique of Welfare Economics. Oxford: Oxford University Press.
Malinvaud, E. 1972. Lectures on Microeconomic Theory. Amsterdam: North-Holland.
Marshall, A. 1920. Principles of Economics, 8th edn, London: Macmillan, ch. VI.
McKelvey, R. 1976. Intransitivities in multidimensional voting models and some
implications for agenda control. Journal of Economic Theory 12, 472-82.
Mises, L. von. 1922. Socialism: An Economic and Social Analysis. 3rd edn. trans.,
Indianapolis: Liberty Classics, 198111 Мизес.
Pigou, A.C. 1920. The Economics of Welfare. London: Macmillan, Part II // Пигу.
Plott, C. R. 1967. A notion of equilibrium and its possibility under majority rule.
American Economic Review 57, 787—806.
Samuelson, P.A. 1954. The pure theory of public expenditure. Review of Economics
and Statistics 36, 387—9.
Scitovsky, T. 1941. A note on welfare propositions in economics. Review of Economic
Studies 9, 77—88.
Sen, A.K. 1970. Collective Choice and Social Welfare. San Francisco: Holden-Day.
ИГРЫ С НУЛЕВОЙ СУММОЙ
Майкл Бахарах
Zero-sum Games
Michael Bacharach
Для теории игр игры с нулевой суммой являются тем же, чем две-
надцатитактовый блюз для джаза: одновременно и крайним случаем,
и исторической отправной точкой. Игрой называется ситуация, харак-
теризующаяся: 1) наличием множества агентов (игроков), у каждого из
которых имеется множество альтернативных линий поведения или
стратегий; 2) наличием исходов, зависящих от комбинации действий
игроков и определяющих предпочтения игроков на множестве этих
комбинаций; 3) тем, что каждый игрок знает, каковы эти предпочте-
ния у всех других игроков, и знает, что они известны всем остальным.
(Строго говоря, такая ситуация называется игрой с полной информаци-
ей в нормальной форме — в дальнейшем мы будем иметь в виду именно
ее.) В литературе по играм с нулевой суммой рассматриваются, как пра-
вило, два игрока, скажем, А и В, в распоряжении которых имеется ко-
нечное множество стратегий, а их предпочтения могут быть описаны
функциями полезности фон Неймана — Моргенштерна. Такую струк-
туру предпочтений можно представить в виде матрицы платежей, в
которой элемент, стоящий на пересечении /-й строки и у-го столбца,
т.е. (Uy, vj), обозначает ожидаемые полезности или платежи соответ-
ственно игроков А и В, если первый игрок выбирает стратегию /, а вто-
рой — стратегию j. Если в игре такого типа Uy + Vy = 0 для всех i nj, то
эта игра носит название матричной игры с нулевой суммой (в дальней-
шем мы называем ее просто игрой с нулевой суммой). В таких играх пред-
почтения игроков в отношении каждой пары стратегий в точности про-
тивоположны, поэтому у них нет никаких оснований действовать как
пара или команда, т.е. никаких причин для сотрудничества (коопера-
тивных действий). Поэтому теории кооперативных игр с нулевой сум-
мой не может быть в принципе: такие игры, по определению, являют-
ся некооперативными, и каждый игрок должен выбирать свою страте-
гию в условиях неопределенности относительно выбора другого.
На рис. 1 приводится матрица платежей игры с нулевой суммой,
которую можно назвать «Битва в Новогвинейском море». Как приня-
то в играх с нулевой суммой, в матрице отражены только платежи иг-
рока, выбирающего строки (поскольку тем самым заданы и платежи
игрока, выбирающего столбцы, — это те же числа, только с противо-
положными знаками. — Примеч. пер.). Генерал Кенни (игрок Л) должен
решить, искать ли ему японский флот в северном направлении (страте-
887
гия с^), где видимость плохая, или в южном (стратегия а2); япон-
ский командующий (игрок В) решает, плыть ли ему северным (страте-
гия Р,) или южным путем (стратегия Р2). Платеж для Кенни есть ожи-
даемое число дней, в течение которых он сможет бомбить вражеский
флот.
B's strategies
A's strategies Pi P2
СЦ 2 2
«2 1 3
Рис. 1
Фон Нейман и Моргенштерн (Neumann and Morgenstern, 1944) раз-
работали аппарат теории игр как часть теории рационального действия,
изучающую групповые взаимодействия людей, при том что результат
этих взаимодействий, т.е. платежи для каждого из агентов, существен-
ным образом зависят от решений других агентов. В такой ситуации ха-
рактеристика того или иного действия как рационального оказывается
проблематичной, что прекрасно понимали фон Нейман и Морген-
штерн. Основная теоретическая проблема состоит в том, что будут де-
лать А и В, если каждый из них стремится достичь лучшего для себя
результата. Но то, какое действие будет лучшим для А, зависит от того,
что будет делать В, т.е. от того, что лучше всего для В, и т.д. до беско-
нечности. Фон Нейман и Моргенштерн полагали, что они отыскали
удовлетворительное решение этой фундаментальной проблемы для
специального случая игр с нулевой суммой. Это решение обусловило
популярность таких игр.
Сильная сторона теории фон Неймана — Моргенштерна состоит в
том, что для широкого класса игр (игр с нулевой суммой) любой из двух
совершенно независимых друг от друга принципов рационального по-
ведения дает один и тот же совершенно определенный ответ на вопрос
о том, как же должны себя вести игроки. Столь высокая степень внут-
ренней непротиворечивости теории, проявляющаяся во взаимном под-
тверждении двух ее постулатов, возможно, привела к несколько
преувеличенной оценке достоинств каждого из этих постулатов само-
го по себе. Эти два постулата или принципа рационального действия
называются «принципом равновесия» и «принципом максимина».
«Принцип равновесия» гласит, что стратегии а* и р* рациональны лишь
тогда, когда каждая из них есть наилучший ответ на другую, т.е. когда
а* максимизирует w(d, р*), а р* максимизирует v(a*, Р), где и (a, Р) и
v(a, Р) означают платежи игроков А и В соответственно, если выбрана
пара стратегий (a, Р). (Термин «ответ» надо понимать метафорически,
поскольку в данном случае нет непосредственной коммуникации.) Та-
кая пара стратегий в теории игр называется некооперативным равно-
888
весием, или равновесием по Нэшу. В данном случае ввиду того, что
и(а, р) = — у(а, р), ее нередко называют также седловой точкой, по-
скольку она задает максимум и на множестве а и минимум и на мно-
жестве р. «Принцип равновесия» нередко понимался слишком повер-
хностно, однако в его защиту выдвигалось и немало строгих аргумен-
тов (см., например: Johansen, 1981). Фон Нейман и Моргенштерн
отчетливо осознавали, что он может служить не более чем необходи-
мым условием рационального выбора игроков: если рациональные стра-
тегии существуют, они, как можно доказать, должны отвечать этому
принципу, однако для их существования требуются другие, независи-
мые причины (Нейман и Моргенштерн, 1944 (1970), разд. 17. 3).
«Принцип максимина» гласит, что игрок А должен максимизиро-
вать на множестве а минимум w(a, р) на множестве р, т.е. искать «мак-
симин» и, а В должен искать максимин у или, что эквивалентно, «ми-
нимакс» и. Другими словами, А следует максимизировать свой уровень
безопасности, который для стратегии а есть не что иное, как
гшПр w(a, р) — наихудший исход, который может дать ему стратегия а;
а В надлежит минимизировать свои уровень риска гпаха и(а, Р) — наи-
лучший исход, который может дать стратегия р его сопернику. Этот
принцип неоднократно подвергался критике, и его принятие (с неко-
торыми оговорками) в конечном счете было отчасти обязано тому об-
стоятельству, что он удачным образом сочетался с другими положени-
ями теории фон Неймана — Моргенштерна. Их собственная аргумен-
тация в его защиту была скорее интуитивной, чем строгой: они
утверждали, что принцип максимина отражает рациональную осторож-
ность игрока, не имеющего веских оснований для того, чтобы припи-
сать определенные вероятности отдельным стратегиям оппонента. Вто-
рой аргумент (не стоящий своих авторов) был справедливо раскрити-
кован Элсбергом (Ellsberg, 1956); в соответствии с ним, рациональным
для игрока А может быть решение, принятое им при том предположе-
нии, что он принимает пассивную стратегию («Minorant game»), соот-
ветствующую матрице платежей. В такой игре А делает первый ход,
а В — второй, зная, как сыграл А (иначе говоря, А выступает в роли «ли-
дера по Штакельбергу»). В такой ситуации жесткие правила выбора в
условиях определенности действительно делают для А рациональной
стратегию максимина. Однако нет никаких убедительных оснований
в пользу того, что А должен воспринимать ситуацию именно так.
В игре с Новогвинейским морем легко видно, что набор максимин-
ных пар стратегий совпадает с набором седловых точек. Этот факт на-
глядным образом иллюстрирует общее правило (теорема 1): если в игре
с нулевой суммой имеется седловая точка, то определяющая ее пара
стратегий будет седловой тогда и только тогда, когда эта пара представ-
ляет собой максимин. Теорема 1 утверждает, что два принципа выбора
совпадают. Кроме того, оба принципа однозначно определяют реше-
ние, что утверждает теорема 2: если в игре с нулевой суммой есть сед-
ловая точка, то каждая максиминная стратегия одного игрока в соче-
тании с соответствующей максиминной стратегией другого игрока дает
один и тот же платеж.
889
Значимость этих результатов несколько обесценивается тем, что их
справедливость ограничивается играми, в которых есть хотя бы одна
седловая точка, — во многих играх их нет вообще. В качестве решения
этой проблемы фон Нейман и Моргенштерн предложили несколько
расширить множество стратегий игроков в произвольной игре с нуле-
вой суммой, с тем чтобы гарантировать существование седловой точ-
ки. Предложенный ими хитроумный способ состоял в том, чтобы наде-
лить игроков устройствами, генерирующими случайный выбор (своего
рода рулетками). Формально это означало, что к стратегиям ар ... ат
добавлялись стратегии вида «играть а, с вероятностью р, и... и ат с ве-
роятностью рт, где рх + ... + рт = 1». Исходные стратегии ар ..., аи по-
лучили название чистых, а новые, производные от них — смешанных
стратегий. При этих условиях стало возможно доказать, что (теорема 3)
в любой игре с нулевой суммой maxaminp и(а, Р) < min^max^ и(а, Р),
причем равенство имеет место тогда и только тогда, когда в игре име-
ется седловая точка. Таким образом, расширение множества стратегий,
повышающее максимальный уровень безопасности игрока А, приводит
к тому, что для игр данного класса гарантируется существование сед-
ловой точки. Разрешив игроку А «смешивать» свои стратегии, мы со-
здаем страхующее устройство, приводящее именно к этому результа-
ту. Уровень безопасности стратегии а есть то, что А может получить,
играя эту стратегию против оппонента, в точности предвидящего его
действия. Правда, не следует забывать, что на практике даже и в этом
случае игрок А сможет сыграть только какую-то одну из своих чистых
стратегий, [которым данная смешанная стратегия приписывает отлич-
ную от нуля вероятность]. Тем не менее, в общем случае применение
смешанных стратегий повышает уровень безопасности игрока А пото-
му, что в их присутствии противник с некоторой вероятностью [выбе-
рет не самую опасную для А стратегию и] не сможет нанести ему мак-
симальный урон.
Тот факт, что этот маневр фон Неймана — Моргенштерна оказал-
ся удачным, находит свое выражение в самой, пожалуй, знаменитой
теореме теории игр — так называемой теореме о минимаксе. Она гла-
сит, что в каждой (матричной) игре с нулевой суммой и смешанными
стратегиями существует седловая точка. Теорема о минимаксе являет-
ся естественным аналогом теорем 1 и 2 для множества всех игр с нуле-
вой суммой и смешанными стратегиями. Первые доказательства тео-
ремы о минимаксе были основаны на использовании теоремы о непод-
вижной точке, однако она может быть доказана и «по построению»,
основываясь на свойствах выпуклых множеств (см.: Gale, 1951). Основ-
ные принципы этого метода для случая, когда у игрока А имеются две
чистые стратегии, могут быть разъяснены при помощи рис. 2.
Обозначим чистые стратегии игрока А через а, и а2, а стратегии
игрока В — через Рр ..., Рл. Введем также q = (qt, ..., qn) — вектор сме-
шанных стратегий, при которых В играет Ру. с вероятностью qfl = 1,..., п).
На рис. 2 показан случай, когда п = 4; по осям отложены платежи иг-
рока А при стратегиях а, и а2 соответственно. Координаты вершин Yj
многоугольника R соответствуют двум платежам игрока А при двух его
890
чистых стратегиях в тех случаях, если В сыграет чистую стратегию Ру,
а все остальные точки R соответствуют комбинациям двух платежей А
при всех возможных смешанных стратегиях В: к примеру, абсцисса
точки Уесть м(ар q) при q = (0, 0, 1/2, 1/2). На каждой линии, анало-
гичной линии PYKP2 уровень риска для В одинаков — таким образом,
этот игрок минимизирует свой уровень риска в точке М (другие, не по-
казанные на рисунке точки минимального риска лежат на вертикаль-
ных линиях, аналогичных РХКР2, и в вершине Yr многоугольника R).
В точке Мигрок В использует смешанную стратегию q*(q*, 1 — q*, 0, 0),
где q* = AfJ^/У] Y2; а игрок А получает платеж и* при любой своей чис-
той или смешанной стратегии — обозначим этот платеж через OQV Как
область QjAfQjO, так и область R выпуклы. Рассмотрим разделяющую
их линию /: она получена как продолжение линии Yf Y2, так что ее урав-
нение может быть записано в виде p*ut + (1 - р*)и2 = и*, где 0 < р* < 1.
Если через р* обозначить смешанную стратегию, при которой А игра-
ет стратегию а, с вероятностью р*, то пара (р*, q*) и будет искомой
седловой точкой. В самом деле, с одной стороны, все стратегии А дают
один и тот же платеж, если оппонент играет q*, так что р* максимизи-
рует этот платеж. С другой же стороны, поскольку / есть определенная
выше разделяющая линия p*ut + (1 - р*)и2 > и* для всех (ир и2) из R,
то платеж А при его стратегии р* составит не менее и* при любой стра-
тегии В.
Теорема о минимаксе показывает, что два принципа рационально-
го выбора Неймана — Моргенштерна совпадают друг с другом во всех
играх с нулевой суммой, если в распоряжении игроков имеются сме-
891
шанные стратегии. Однако, к сожалению, сама предпосылка о допус-
тимости смешанных стратегий отнюдь не естественна. Мало того, что
правила игры или объективные ограничения могут исключать возмож-
ность применения таких стратегий, сама мысль о том, что рациональ-
ные игроки должны применять смешанные стратегии, содержит в себе
определенное противоречие. Дело в том, что чистая стратегия, выбран-
ная при помощи рулетки, может оказаться менее безопасной, чем дру-
гие варианты, так что индивид, максимизирующий минимальный пла-
теж, имеет все основания пересмотреть свое решение. Более того, он
может предвидеть это заранее.
Следует сказать несколько слов и о том, как на практике сбывают-
ся предсказания фон Неймана — Моргенштерна относительно пове-
дения индивидов в играх с нулевой суммой. Изо всех таких данных
самыми существенными являются результаты лабораторных экспери-
ментов. В ходе этих экспериментов, как правило, одна и та же ситуа-
ция сначала объясняется участникам на словах, после чего они участву-
ют в ряде игр с гипотетическими или небольшими реальными плате-
жами. Противником в такой игре может быть как другой участник, так
и компьютерная программа. Основная проблема в подобных экспери-
ментах состоит в том, чтобы заставить участников при принятии
решения в ходе игры руководствоваться исключительно своими пла-
тежами, не «привнося» влияний каких бы то ни было посторонних фак-
торов, — например, полезностей выигрыша своих оппонентов. В боль-
шинстве поставленных экспериментов участники однозначно не дей-
ствовали так, как того требует теория, хотя в некоторых случаях исходы
начинали стремиться к равновесным по мере накопления опыта. Не
следует, конечно, забывать о том, что отклонения от поведения, соот-
ветствующего седловой точке, могут быть рациональными, если инди-
вид имеет рациональные основания полагать, что его оппонент сам
отклоняется от такого поведения. Однако это объяснение неудовлет-
ворительно, поскольку участники, как правило, не использовали тех
возможностей, которые предоставлялись им организаторами экспери-
мента, закладывавшими в программу неседловые стратегии оппонен-
тов. Наконец, индивиды не проявляли особой склонности и к исполь-
зованию смешанных стратегий.
Впрочем, эти эксперименты были поставлены с целью исследова-
ния эмпирического феномена, а не собственно того вопроса, на кото-
рый Нейман и Моргенштерн предложили свой, по их мнению, убеди-
тельный ответ: какие стратегии рациональны в играх с нулевой сум-
мой. Вклад этих двух авторов в решение именно такой задачи поистине
можно назвать революционным, хотя на практике люди и не спешат
следовать такому решению. При всей элегантности, формальной стро-
гости и содержательной глубине теории, предложенной Нейманом и
Моргенштерном, на другой чаше весов лежат так и не разрешенные
сомнения в адекватности самой чистой теории рационального приня-
тия решений вообще и в играх с нулевой суммой в частности.
892
БИБЛИОГРАФИЯ
Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение.
Colman, А. 1982. Game Theory and Experimental Games. Oxford: Pergamon.
Ellsberg, D. 1956. Theory of the reluctant duelist. American Economic Review 46,
December, 909-23.
Gale, D. 1951. Convex polyhedral cones and linear inequalities. In Activity Analysis
of Production and Allocation, ed. T.C. Koopmans, New York: Wiley.
Johansen, L. 1981. Interaction in economic theory. Economic appliquee 34(2—3),
229-67.
Von Neumann, J. and Morgenstern, O. 1944. Theory of Games and Economic
Behavior. Princeton: Princeton University Press.
АВТОРЫ
Эндрю Б. Эйбел — профессор экономики и финансов Уортонской
школы Пенсильванского университета. Занимает кафедру банковско-
го дела имени Роберта Морриса.
Армен А. Алчиан — почетный профессор экономики Калифорний-
ского университета, Лос-Анджелес.
Уильям Р. Аллен — профессор экономики Калифорнийского уни-
верситета, Лос-Анджелес. Вице-президент Института исследований со-
временной экономики. Президент Западной экономической ассоциа-
ции. Вице-президент Южной экономической ассоциации.
Кеннет Дж. Эрроу — профессор экономики и исследования опера-
ций Стэнфордского университета. Занимает кафедру имени Джоан
Кенни. Награжден медалью Джона Бейтса Кларка Американской эко-
номической ассоциации в 1957 г., лауреат Нобелевской премии по эко-
номике 1972 г., лауреат премии фон Неймана Института исследований
в области менеджмента и Американского общества исследования опе-
раций, 1986.
Тони Аспромургос — старший преподаватель экономики Сидней-
ского университета.
П.С. Атия — королевский адвокат, профессор права Оксфордского
университета (1977—1988), член Британской академии.
А.Б. Аткинсон — профессор Лондонской школы экономики, зани-
мает кафедру экономики и статистики имени Тука, член Британской
академии.
Майкл Бахарах — лектор и научный сотрудник Крайстчерч-коллед-
жа, Оксфорд.
Бела Баласса — профессор университета Джонса Хопкинса. Кон-
сультант Всемирного банка. Почетный доктор парижского универси-
тета Сорбонна. Зарубежный член Венгерской академии наук.
Фрэнсис М. Бэйтор — занимает кафедру политической экономии
Фонда Форда в Школе государственного управления имени Дж.Ф. Кен-
неди в Гарвардском университете. Заместитель советника по нацио-
нальной безопасности президента Линдона Б. Джонсона, 1964—1967.
Обладатель награды за выдающиеся заслуги Государственного казна-
чейства США. Грант Фонда Гуггенхайма, Американской академии наук
и искусств.
Питер Бауэр — почетный профессор экономики Лондонской шко-
лы экономики. Научный сотрудник колледжа Гонвилля и Каюса, Кем-
бридж. Член Британской академии. Пожизненный пэр Англии.
Уильям Дж. Баумоль — профессор Принстонского и Нью-Йоркско-
го университетов. Президент Американской экономической ассоциации.
Гэри С. Беккер — профессор экономики и социологии Чикагского
университета. Обладатель званий почетного доктора Еврейского уни-
верситета, Иерусалим; Нокс-колледжа; Иллинойского университета,
Чикаго. Лауреат премии им. У.С. Войтинского, обладатель медали
894
Джона Бейтса Кларка, лауреат премии Фрэнка Э. Зайдмана в номина-
ции «политическая экономия», лауреат премии M.E.R.I.T., премии
Джона Р. Коммонса. Президент Американской экономической ассоци-
ации, 1987, член Национальной академии наук, Американского фило-
софского общества, Американской академии наук и искусств, Нацио-
нальной академии образования.
Уилфред Беккерман — научный сотрудник Бэллиол-колледжа, Ок-
сфорд.
Оливье Ж. Бланшар — профессор Массачусетского технологичес-
кого института. Член Эконометрического общества, главный редактор
Quarterly Journal of Economics.
Франсин Д. Блау — профессор экономики и анализа трудовых от-
ношений Иллинойского университета, Урбана-Чемпейн. Научный со-
трудник Национального бюро экономического анализа, Кембридж,
Массачусетс. В 1991—1992 президент, в 1983—1984 — вице-президент
Экономической ассоциации Среднего Запада. В 1987—1989 — член
правления Ассоциации изучения трудовых отношений.
Эстер Бозеруп — обладательница звания почетного доктора эконо-
мики (Копенгагенский университет), литературы (Брауновский универ-
ситет) и агрономии (Вагенингенский университет). Иностранный член
Национальной академии наук США.
Джеймс А. Брикли — профессор экономики Рочестерского универ-
ситета.
Джеймс М. Бьюкенен — профессор экономики университета Джор-
джа Мейсона, Вирджиния. Лауреат Нобелевской премии по экономи-
ке 1986 г.
Филлип Кейган — профессор экономики Колумбийского универси-
тета.
Стивен Н.С. Чен — профессор и заведующий кафедрой экономики
Гонконгского университета. Ведет исследования в области политичес-
кой экономии в Чикагском университете.
Грегори Клэйс — сотрудник факультета изучения зарубежных стран
и англистики в Ганноверском университете.
Роберт Д. Кутер — профессор права в Калифорнийском универси-
тете, Беркли. В 1988—1989 был приглашенным исследователем в Вир-
джинской школе права как обладатель Улиновской стипендии. При-
глашенный профессор Кельнского университета, факультет права,
май-июль 1989. Грант Фонда Гуггенхайма.
Ральф Дарендорф — глава колледжа Сент-Энтони, Оксфорд. Член
Британской академии.
Марчелло де Чекко — профессор монетарной экономики Римского
университета. Приглашенный профессор Европейского университета,
Флоренция.
Джон Итуэлл — научный сотрудник Тринити-колледжа, Кембридж.
Роберт Айснер — профессор экономики, занимает кафедру имени
У.Р. Кенана в Северозападном университете. Член Американской ака-
демии наук и искусств, Эконометрического общества. В 1988 — пре-
895
зидент Американской экономической ассоциации, 1988. Грант Фонда
Гуггенхайма.
Аллан М. Фелдман — доцент Брауновского университета, Прови-
денс, Род-Айленд.
Рональд Финдли — профессор экономики кафедры имени Рагнара
Нурксе в Колумбийском университете.
Дэвид Д. Фридмен — занимает кафедру имени Джона М. Улина в
Школе права при Чикагском университете.
Эрнест Геллнер — профессор кафедры социальной антропологии
имени Уильяма Вайза Кембриджского университета. Член Британской
академии.
Эндрю Глин — лектор колледжа «Корпус Кристи», Оксфорд.
Я. Ван де Граафф — почетный член колледжа Сент-Джон, Кемб-
ридж.
Кристофер А. Грегори — старший преподаватель антропологии, фа-
культет антропологии и доисторических исследований Австралийско-
го национального университета.
Питер Груневеген — профессор экономики Сиднейского универси-
тета. Директор Центра изучения истории экономической мысли при
Сиднейском университете. Член Австралийской академии обществен-
ных наук.
Брюс У. Хэмильтон — профессор экономики университета Джонса
Хопкинса.
Арнольд С. Харбергер — профессор экономики Калифорнийского
университета, Лос-Анджелес. Член Национальной академии наук
США, Эконометрического общества и Американской академии наук и
искусств.
Джон Харсаньи — почетный профессор Калифорнийского универ-
ситета, Беркли. Член Эконометрического общества, Американской ака-
демии наук и искусств, почетный доктор Северозападного универси-
тета.
Роберт Хеесен — старший научный сотрудник института Гувера при
Стэнфордском университете. Преподаватель американской экономи-
ческой истории в Стэнфордской бизнес-школе.
Полли Хилл — почетный преподаватель Кембриджского универси-
тета; почетный член колледжа Клэр Холл, Кембридж.
Альберт О. Хиршман — почетный профессор общественных наук
Принстонского университета. Почетный член Американской экономи-
ческой ассоциации, член Национальной академии наук, лауреат пре-
мии имени Толкотта Парсонса в области общественных наук и мно-
гих других почетных степеней. В 1986 был выпущен сборник научных
работ в его честь.
Джек Хиршлайфер — профессор экономики Калифорнийского уни-
верситета, Лос-Анджелес. Член Американской академии наук и ис-
кусств, Эконометрического общества, вице-президент Американской
экономической ассоциации.
Питер Хауитт — профессор монетарной экономики и теории фи-
нансов экономического факультета университета Западного Онтарио.
896
Рави Канбур — заведующий центром экономики развития исследо-
вательского центра при Уорвикском университете.
Масахиро Каваи — профессор института общественных наук Токий-
ского университета.
Чарльз П. Кайндлбергер — почетный профессор экономики Масса-
чусетского технологического института, доктор honoris causa Париж-
ского и Гентского университетов, почетный доктор Пенсильванского
университета.
Курт Клапхольц — преподаватель экономики Лондонской школы
экономики и политических наук.
Джон О. Ледьярд — профессор экономики и общественных наук Ка-
лифорнийского технологического института. Член Эконометрическо-
го общества, президент Общества исследований общественного выбо-
ра, член правления Ассоциации экономической науки.
Дэвид Е. Линдсей — член совета директоров Федеральной резерв-
ной системы.
Дональд Н. Макклоски — профессор экономики и истории универ-
ситета Айовы.
Джон Дж. Макконнелл — профессор теории финансов университе-
та Пердью. Член правления Американской финансовой ассоциации.
Эдмон Маленво — профессор Коллеж де Франс. Президент Меж-
дународной экономической ассоциации, 1974—1977. Президент Евро-
пейской экономической ассоциации, 1988.
Бертон Дж. Мэлкиел — профессор экономики, занимает кафедру
«Кемикал бэнка» в Принстонском университете. Бывший президент
Американской финансовой ассоциации.
Мюррей Милгейт — преподаватель общественных наук Гарвардского
университета, занимает кафедру Джона Л. Лоба.
Пол Милгром — профессор экономики Стэнфордского университе-
та. Грант Фонда Гуггенхайма. Член Эконометрического общества, сотруд-
ник Института высших экономических исследований в Иерусалиме.
Дэвид Гектор Монро — почетный профессор философии Универ-
ситета Монаш. Член Австралийской академии гуманитарных наук и Ав-
стралийской академии естественных наук.
Питер Ньюмен — почетный профессор экономики Университета
Джонса Хопкинса.
Роджер Дж. Нолл — профессор экономического факультета Стэн-
фордского университета, занимает кафедру публичной политики име-
ни Морриса М. Дойла.
Доменико Марио Нути — профессор экономики Европейского уни-
верситета, Флоренция, и Сиенского университета. Бывший научный
сотрудник Кингс-колледжа, Кембридж (1965-1979), профессор поли-
тической экономии и директор центра по изучению России и стран Во-
сточной Европы Бирмингемского университета (1980—1983).
Мансур Олсон — почетный профессор экономики Мэрилендского
университета. Почетный научный сотрудник Американского институ-
та мира (1990-1991). Член Американской ассоциации развития науки,
Американской академии наук и искусств, почетный сотрудник универ-
897
ситетского колледжа, Оксфорд. Лауреат премии имени Глэдис М. Кэм-
мерер Американской политологической ассоциации (за лучшую книгу
о национальной политике США — Rise and fall of nations).
Б. Питер Пашигян — профессор бизнес-школы Чикагского универ-
ситета. Удостаивался нескольких стипендий Фонда Форда, грантов На-
циональной научной ассоциации и Чикагской торговой палаты.
Эдмунд С. Фелпс — профессор политической экономии Колумбий-
ского университета, занимает кафедру им. МакВикера. Член Нацио-
нальной академии наук, Эконометрического общества. Вице-президент
Американской экономической ассоциации в 1983.
Генри Фелпс Браун — профессор экономики труда Лондонской шко-
лы экономики и политических наук (1947-1968). Член Британской ака-
демии. Кавалер медали Британской Империи (1945), кавалер ордена
Британской Империи (1976).
Джеймс П. Куирк — бывший профессор экономики Калифорний-
ского технологического института.
Анатоль Рапопорт — профессор конфликтологии университетского
колледжа в университете Торонто. Член Американской академии наук
и искусств, лауреат Международной премии за исследования проблем
мира имени Ленца в 1975, лауреат премии Общества общего систем-
ного анализа, 1983; лауреат премии за выдающиеся научные достиже-
ния в политической психологии имени Харольда Дж. Лассвелла, 1986;
почетный доктор литературы университета Западного Мичигана, 1971;
почетный доктор права университета Торонто, 1986.
Мелвин У. Редер — почетный профессор экономики труда и эко-
номики города бизнес-школы Чикагского университета, занимает ка-
федру имени Исидора и Глэдис Браун.
Джон Робертс — профессор экономики бизнес-школы Стэнфорд-
ского университета, занимает кафедру имени Джонатана Б. Лавлейса;
профессор экономики экономического факультета Стэнфордского уни-
верситета. Член Эконометрического общества.
Джон С. Робертсон — научный сотрудник, наставник и преподава-
тель современной истории колледжа св. Хьюберта, Оксфорд.
Сюзан Роуз-Аккерман — профессор права и политических наук
Йельского университета, занимает кафедру имени Эли.
Мюррей Н. Ротбард — почетный профессор экономики Невадско-
го университета, Лас-Вегас; занимает кафедру имени С.Дж. Холла.
Вице-президент Института имени Людвига фон Мизеса при Обернском
университете.
Томас К. Шеллинг — почетный профессор экономики и политоло-
гии Мэрилендского университета, Колледж-парк. Президент Амери-
канской экономической ассоциации, 1991.
Вернон Л. Смит — профессор экономики и научный директор эко-
номической лаборатории университета Аризоны. Первый президент и
основатель Ассоциации экономической науки (Economic Science Asso-
ciation), 1986—1987, президент общества по изучению общественного
выбора, 1988—1990, член Эконометрического общества, президент За-
падной экономической ассоциации, 1990-1991.
898
Генри У. Шпигель — почетный профессор экономики Католичес-
кого университета Америки. Грант Фонда Гуггенхайма, кавалер орде-
на Артуса.
Хилель Стайнер — старший преподаватель политической философии
Манчестерского университета.
Лестер С. Туроу — декан Школы менеджмента им. Слоуна при Мас-
сачусетском технологическом институте. Член Американской академии
наук и искусств, лауреат премии Джералда Лоба, 1982, обладатель не-
скольких почетных степеней.
Джеймс Тобин — почетный профессор экономики Йельского уни-
верситета, занимает кафедру имени Стерлинга. Лауреат Нобелевской
премии по экономике, 1981.
Гордон Таллок — профессор экономики и политических наук Ари-
зонского университета, занимает кафедру имени Карла Эллера. Дип-
ломат (специализируется по Китаю). Лауреат премии имени Лесли Т.
Уилкинса за «Выдающуюся книгу в области криминологии и уголов-
ного права» Исследовательского центра уголовного права в Олбани,
штат Нью-Йорк, 1982.
Иммануил Валлерстайн — директор центра имени Фернана Броде-
ля, университет штата Нью-Йорк, Бингемтон. Почетный доктор Па-
рижского университета, 1976.
Генри С. Уоллич (ум. 1988) — профессор экономики Йельского уни-
верситета в 1951-1974, член совета директоров Федеральной резервной
системы в 1974-1988, помощник Секретаря Казначейства, член Сове-
та экономических консультантов при президенте США .
Алан Уолтерс — профессор экономики университета Джонса Хоп-
кинса.
Дэвид Р. Уэйр — доцент Йельского университета.
Эдвин Дж. Уэст — профессор экономики Карлтонского универси-
тета, Оттава.
Чарльз А. Уилсон — профессор экономики Нью-Йоркского универ-
ситета. Член Эконометрического общества, исследователь Фонда Сло-
уна.
Роберт Уилсон — профессор Стэнфордской бизнес-школы.
Гордон С. Уинстон — профессор экономики и провост Уильямс-
колледжа. Занимает кафедру политической экономии имени Оррина
Сейджа.
Сидни Дж. Уинтер — главный экономист Центрального финансо-
во-контрольного управления США, Вашингтон, округ Колумбия. Про-
фессор экономики и менеджмента Йельского университета в 1976—
1989. Член Эконометрического общества, Американской ассоциации
развития науки.
Дж. Д. Н. Уорсуик — научный сотрудник Магдален-колледжа, Ок-
сфорд, 1945-1965. Директор Национального института экономических
и социальных исследований, Лондон, 1965-1982. Член Британской ака-
демии, президент Королевского экономического общества 1982-1984.
899
предметный и именной указатель
Страничный диапазон каждой статьи
дан полужирным курсивом после названия очерка.
абсолютное преимущество 124-125. См. также сравнительные преиму-
щества, бухгалтерские издержки, и альтернативные издержки 639
Австрийская школа экономической мысли 830
адаптивные ожидания, и паутинообразная модель 71—72; и гиперинфля-
ция 424—425. См. также рациональные ожидания
Акерлоф Дж. См. отбор худших
активы, см. финансовые посредники, деньги
акции, см. выплаты дивидендов политика
акций дробление 267
альтернативная стоимость, см. альтернативные издержки
альтернативные издержки 637—643', и бухгалтерские из [ержки 639; и
выбор 637—643; и конкурентное равновесие 639-640; в институтах
641—643; и редкие ресурсы 637
альтруизм', и семья 312—315; и рикардианская теорема эквивалентнос-
ти 754—756, 759. См. также собственный интерес
Американская система, см. национальная система.
анализ издержек и выгод 793—794; и оптимальные валютные зоны 646-
648; и ценность жизни 860. См. также неявное (теневое) ценообра-
зование
асимметричная информация, и дивидендная политика 215-216; и несо-
стоятельность рынка 507. См. также отбор худших
аукционист, см. вальрасовский аукционист
аукционы 300
Б
банковское дело, банковский кредит и монетаризм 557—558; банковские
резервы 337—339, 340-341. См. также финансовые посредники, зо-
лотой стандарт
Бауэр П., о торговых управлениях 514
бедность 688—70Г, абсолютная бедность 693; в развитых странах 688—
691, 696-698; Бут о 689; Боули о 690; причины 698-699; состав бед-
ного населения 696-698; в развивающихся странах 688, 698-700; и
семья 691, 698; государственное вмешательство 699—701; история
исследований 689—691; и потребительская функция домохозяйства
692; и доход домохозяйства 692; и интерпретация с точки зрения
900
человеческого капитала 699; международное распределение 701; и
рынки труда 699; черта бедности 693—696; уровень жизни и права
691—693; показатели 592; и расовая дискриминация 700; Раунтри о
689-690
безработицы теории, см. занятость, полная занятость, инфляция, инф-
ляции и безработицы выбор оптимального соотношения
Беккер Г.С., и Чикагская школа 57; и рождаемость 499; и гендерные
проблемы 368—370, 373—375; и досуг 470; и расовая дискриминация
374. См. также семья
Бём-Баверк Е. фон, о временном предпочтении, 831
Бергсон А., и экономическая теория благосостояния 881
Берк Э., и интересы 440-441
Бертран Ж.Л.Ф., и несовершенная конкуренция 655, 658-659
«бесплатный завтрак» 358
благосостояние, см. общественные издержки, благосостояния экономи-
ческая теория
благосостояния экономическая теория 870—886', и Эрроу 882—884; и Бер-
гсон 881—882; и Коуз 875—876; компенсационный критерий 879; и
конкурентное равновесие 872—874; и внешние эффекты 877—876;
первая фундаментальная теорема 871—874, 885; и государственное
вмешательство 870; и Калдор 878—879; и кейнсианство 455; и laissez
faire 870—871, 878; и Ланге 877; Линдаля цены 876; и Маршалл 879;
меркантилизм 870; оптимальность по Парето 872—874; и Пигу 872;
и общественные блага 875-876; и перераспределение 875-878; и
Самуэльсон 876; вторая фундаментальная теорема 877—881, 885; и
Ситовски 879; и Смит 870—872; общественного благосостояния фун-
кция 882—883; третья фундаментальная теорема 881—885; и голосо-
вание 880-881; и голосования парадокс 880-882. См. также обмен,
межличностные сравнения полезности, рынка несостоятельность,
альтернативные издержки, общественные издержки
«болезнь издержек в исполнительских искусствах» 665—666
Борткевич Л. фон 532
брак, и семья 319-320
бремя государственного долга 28—32; и рикардианская теорема эквива-
лентности 28
бумы, см. «мыльные пузыри»
Буридан Ж., Буриданов осел 772; о деньгах 772
Бьюкенен Дж.М., и паутинообразная модель 72; и либерализм 479; и
рикардианская теорема эквивалентности 755
Бэрроу Р. Дж., и Гроссман Х.И., об анализе неравновесия 488; и ри-
кардианская теорема эквивалентности 755-756, 762. См. также мак-
роэкономика: отношения с микроэкономикой
901
бюджетная политика, и конституциональная экономическая теория
176; и денежная политика 570, 580—581. См. также «вытеснение»,
«точная настройка»
бюрократия 33-42; и Коуз 35; и информация 39-40; и несостоятель-
ность рынка 37—39; и марксистская экономическая теория 530; и
технология 36; и трансакционные издержки 35; и транспортные из-
держки 36; и Вебер 34
В
Вайнер Дж., и Чикагская школа 49—50; и сравнительные преимущества
125; и экономическая интеграция 221, 223-224; о растущей цене
предложения 766
Вайцман М.Л., и участие в управлении и прибылях 81-87
валовой внутренний продукт, и национальный доход 598
валовой национальный продукт, и национальный доход 594-598; и цен-
ность жизни 863
Вальрас Л., и понятие равновесия 288; и рациональность 255; вальра-
совское равновесие и обмен 289—293. См. также классическая эко-
номическая теория, равновесие, совершенная конкуренция, валь-
расовский аукционист
вальрасовский аукционист 656-657; и соотношение макроэкономики и
микроэкономики 486. См. также Вальрас
валютные зоны, см. оптимальные валютные зоны
валютные курсы, и экономическая интеграция 231; и Фридмен 644; и
полная занятость 364; и денежная политика 575-576, 581—582. См.
также оптимальные валютные зоны
Вебб. С. и Б., и профсоюзы 834
Вебер М., и бюрократия 34; и экономическая интерпретация истории
237-238
Веблен Т., и история термина «неоклассический» 617
Вердоорна закон 432—433
взяточничество 19—23; и выборы 20; и несовершенства рынка 21-23; и
соискание ренты 745
Викселль К., и критерии экономической эффективности 173; и консти-
туциональная экономика 173; о золотом стандарте 410; о процент-
ных ставках 579
вкусы, и Чикагская школа 57; и сравнительные преимущества 128; и
дискриминация по признаку пола при приеме на работу 374-376; и
ценностные суждения 855
внешние активы, и финансовые посредники 323-324
внешние эффекты, и Коуза теорема 65—67; и общее право 95—96; и мас-
совые коммуникации 105—108; и равновесия теория 766; и право и
экономическая теория 464—466; и несостоятельность рынка 506—507;
902
и исполнительские искусства 668; и участие в прибылях 77—79; и
ценность жизни 861-862; и экономическая теория благосостояния
874-875. См. также рынка несостоятельность, общественные из-
держки
внешняя торговля, см. международная торговля
внутренние активы, и финансовые посредники 323—325
временное предпочтение 827—833; Бём-Баверк о 829—831; и эффектив-
ный обмен 300; Фишер о 831; Менгер о 830-831; и Милль 829; Ре
о 830; и рента 831-832; и Тюрго 828-829.
временное равновесие, см. равновесие
вторичные предложения 267
«второго оптимума» теория, и таможенные союзы 222
вход в отрасль, и финансовые посредники 347-348; и монополия 589—
590; и собственности права 719. См. также разорительное ценооб-
разование
выбор, и права собственности 276; и альтернативные издержки 637-643.
См. также рациональность, вкусы, Тибу гипотеза, полезность
выборы, и взяточничество 20. См. также голосование
выплаты дивидендов политика 211—219', и издержки поручительства 215;
форма выплаты 216-217; и информация 215-216; и Модильяни —
Миллера теорема 212-213; и налогообложение 213-214
«вытеснение» 193—199; и эффекты доверия 198; и динамические эффек-
ты 197; и эластичность предложения труда 195; при полной занято-
сти 194-196; и IS — LM модель 196-197; при неполной занятости
196-198; и рикардианская теорема эквивалентности 193-194, 198
выявление предпочтений, см. Тибу гипотеза, Буриданов осел
Г
Гамильтон А. 601
Гегель Г.В.Ф., и экономическая интерпретация истории 233—237
гендерные проблемы 365-382; Беккер 368-369, 373-375; и дискримина-
ция при приеме на работу 372—380; и Энгельс 365—366; разделение
труда между полами и сравнительное преимущество 369—371; и че-
ловеческий капитал 373—374; и предложение труда женщин 366—371;
и Милль 365. См. также семья
гиперинфляция 423—429; и адаптивные ожидания 425; Кейган о 425; и
ожидания 425-427; в Германии и «мыльные пузыри» 25—26; исто-
рический обзор 423-424; инфляция и обесценение денег 424; и
предложение денег 426; и рациональные ожидания 426; и стабили-
зация 427—428; и налогообложение 424
гипотеза о постоянном доходе, и неоклассический синтез 622. См. так-
же функция потребительская домохозяйства, цикла жизненного
гипотеза
903
гипотеза эффективного рынка 263—273, объявленные дивиденды 268; и
информация 263-272; и торговля с использованием внутренней ин-
формации 268; гипотеза «случайных блужданий» 263-266; сезонные
колебания цен 266; вторичные предложения 267; полусильная форма
266—268; дробление капитала 267; сильная форма 268-269; слабая
форма 264—266
Гоббс Т., и собственный интерес 782, 784, 786—787
голосование ногами, см. Тибу гипотеза
голосование, голосования парадокс 880—882; и благосостояния эконо-
мическая теория 880-881
государственное вмешательство, и рост сельскохозяйственного произ-
водства и демографические изменения 13—15; и участие в управле-
нии и прибылях 79-81, 86-88; и общее право 98; и массовые ком-
муникации 106; и перегрузка 165; и либерализм 475-478; и рынки
как места торговли 521; и монетаризм 564; и исполнительские ис-
кусства 665—666, 669; и бедность 699—700; и разорительное ценооб-
разование 703—706; и ценность жизни 860—865; и благосостояния
экономическая теория 870, 875—877. См. также Чикагская школа,
«вытеснение», «точная настройка», кейнсианство, «торговые уп-
равления», контроль за уровнем платы за жилье, рикардианская те-
орема эквивалентности, неявное (теневое) ценообразование
государственное регулирование, и финансовые посредники 339—348; и
монополия 590—592
государственные права собственности 719
государственный долг 28—32. См. также бремя государственного долга,
рикардианская теорема эквивалентности
государство благосостояния, и «бесплатный завтрак» 358; и занятости
политика 364; и либерализм 778
границы экономического роста 481—484; и Мишен 481; и загрязнение 481;
и населения рост 481, 483; и редкие ресурсы 481-483; и технология
482
Грин Т.Х., и собственный интерес 786
д
дары 383-393, и капитализм 388-389; и влияние колонизации на пле-
менные общества 389-392; Леви-Стросс о 386-388; Поланьи о 387-
388. См. также обмен
ДебрёЖ., модель Эрроу — Дебрё 660; и совершенная конкуренция 655—656
девелопментализм 674
деиндустриализация, см. Вердоорна закон
демократия, и либерализм 476-477
денежная политика 566-584; и конституциональная экономическая те-
ория 168; и государственным долгом управление 569—570; и учет-
904
ная ставка 567—568; активная 580; и экономические показатели 576—
570; и валютные курсы 575, 583; и фискальная политика 569, 581—
583; и Фридмен 580; и золотой стандарт 571, история 570—571, Юм
о 572; инструменты 566—569; и ставки процента 556—558, 574—579;
макроэкономическая роль 570—572, 581—583; и монетаризм 575, 581;
денежные агрегаты 576-578; операции на открытом рынке 567-568;
сочетание мер политики 582; и правила политики 580—581; и раци-
ональные ожидания 572, 581; и обязательные резервы 566—568; пе-
редача монетарных изменений по всей экономике 556. См. также
монетаризм 557—558
денежные рынки 326
деньги, Буридан о 772; инфляция и обесценение 424; и меркантилизм
544-545; «внутренние» и «внешние» 326. См. также золотой стан-
дарт, монетаризм, денежная политика, механизм перетока денеж-
ных металлов
дилемма заключенного 149, 151, 305 , 707- 713', и конфликт 712-713; до-
минирующая стратегия 707; проблема занятости в эксперименталь-
ной психологии 708; и эволюционная теория 711-712; информация
в 707; и интересы 435; повторяющиеся игры 709-710; и рациональ-
ность 707, 712; стратегии «взаимности» 711
дисконтирование и ценность жизни 867-868
дискриминация при приеме на работу, и гендерные проблемы 372—380;
и вкусы 374-375
Добб М., о периферии 677; и политическая экономия 684—685
долгосрочный — краткосрочный период, см. равновесие
домохозяйства доход 691
«достойные блага» 669
досуг 470—474', и Беккер 470—471; как потребительское благо 472—473;
и Линдер 470-474. См. также исполнительские искусства, экономи-
ка спорта
единообразное налогообложение, и нейтральное налогообложение 628—632
естественная монополия 589-591
естественная норма безработицы 362—364; и монетаризм 562—563
естественный отбор и эволюция 606— 616', общая схема эволюционного
анализа 607—611; и homo economicus 614—615; и Маршалл 611; и
продуктивное знание 611—614; и Шумпетер 611; и технология 612—
613. См. также эволюция
«естественные условия» 285—286, 292
Ж
женщины и экономическая теория, см. дискриминация при приеме на
работу, семья, гендерные проблемы
905
3
загрязнение, и Коуза теорема 63-68; и пределы роста 481-482
занятость, и участие в управлении и прибылях 77-80. См. также дис-
криминация при приеме на работу, полная занятость, безработицы
теория
заработной платы гибкость 360; и рост сельскохозяйственного произ-
водства и демографические изменения 6; и оптимальные валютные
зоны 645. См. также полная занятость
землевладение, сельскохозяйственное, и населения рост 11—12; гаран-
тии, и контроль за уровнем платы за жилье 733—739
золотой стандарт 394—412; в Америке 404—405; денежное обращение
перед реформами 394-395; в Британии 397-400, 401-403; золотое
обращение, дискуссия о 398-399; экономисты о 394-396; падение
цены серебра 403; Фишер о 409-410; во Франции 397-400; Кейнс
о 403, 410; Маршалл о 408—410; металлистические реформы 394—
398; Милль о 408-410; и монетаризм 449; и денежная политика 571;
и политическая экономия 396; власть Банка Англии 401; и переток
денежных металлов 408; Рикардо о 398-399,407-408; Викселль о 410
И
игры с нулевой суммой 887—893', и информация 887; экспериментальные
факты 892; и максимина принцип 888—889; минимакса принцип
890—891; и равновесие Нэша 889; и рациональность 888—889, 891
издержки трансакционные, и бюрократия 35; и Коуза теорема 63—68; и
над уровнем платы за жилье контроль 737—738; и общественные
издержки 798
изменения интенсивности факторов 129. См. также Леонтьева парадокс
изменчивая динамика, и перегрузка 163
импортозамещающий и экспортоориентированный экономический рост
430—433; и ограничения платежного баланса 430, 432; и сравнитель-
ное преимущество 430; и развивающиеся страны 431; и свободная
торговля 431-432; и специализация в торговле 430-431; и техноло-
гия 431
интеграция, см. экономическая интеграция
интересы 434—446', и Берк 439—441; и Гоббс 439; и Юм 436; и невиди-
мая рука 439; и право и экономическая теория 468; и Макиавелли
436; и Мандевиль 436; и Маркс 441-442; и Милль Дж. 441; и раци-
ональность 434-435; и Смит 436-437, 439-440; и Стюарт 437-438
инфляции и безработицы выбор оптимального соотношения, и точная на-
стройка 352; и оптимальные валютные зоны 648. См. также Фил-
липса кривая
инфляция, и приросты и сокращения стоимости капитала 44—45; как
денежный феномен 554; и профсоюзы 844. См. также гиперинфля-
ция, безработицы теория
906
информация, и бюрократия 40-41; и конфликт 148—149, 151; и диви-
дендная политика 215—217; макроэкономика: отношения с микро-
экономикой 485-486; и гипотеза эффективности рынка 263-268; и
эффективный обмен 301—304; и равновесие 282—283; и несостоя-
тельность рынка 502—506; и «заключенного дилемма» 707; и рацио-
нальность 252—255; и игры с нулевой суммой 887. См. также отбор
худших, ожидания
исполнительские искусства 665—670; «болезнь издержек в исполнитель-
ских искусствах» 665—669; внешние эффекты 669; и фискальная
иллюзия 669; и государственное вмешательство 665, 669; свойства
общественных благ 669; общественная поддержка для 669; и техно-
логия 665—666
исторический материализм 239—243
К
Калдор Н., и экономическая теория благосостояния 878-879
Калецки М., и марксистская экономическая теория 539
капитала органическое строение 532—533
капитала приросты и сокращения стоимости 43-47; концепция и срав-
нительное преимущество 129—130; их воздействие на экономичес-
кое поведение 45; и окружающая среда 46-47; Фишер о 43-44; и
потребительская функция домохозяйства 45; Хикс о 44; и инфля-
ция 44—45; и доход 43—44; и налогообложение 46
капитала рынки 263-273, 302-303, 645-646. См. также гипотеза эффек-
тивного рынка, финансовые посредники
кардинальной полезности сравнения 449—450. См. также экономическая
теория благосостояния
картели, в спорте 804, 808
квазирента 725-728
Кейнс Дж.М., о равновесии 281; и полная занятость 360—361; о золо-
том стандарте 410; и история термина «неоклассический» 617; и
национальный доход 595; и политическая экономия 684; и механизм
перетока денежных металлов 802; и негибкая заработная плата 360.
См. также кейнсианство
кейнсианская безработица 85
кейнсианство 454-457', сочетание кейнсианского равновесия с рацио-
нальными ожиданиями 489-490; и эффективный спрос 454; и точ-
ная настройка 351—354; и экономическая теория свободного рынка
456; и полная занятость 454-455; и монетаризм 456; и мультипли-
катор 454; и неоклассический синтез 455—456; и Филлипса кривая
456; и рациональность 247; и соотношение макро- и микроэконо-
мики 487-488; и благосостояния экономическая теория 455. См.
также макроэкономика, монетаризм, неоклассический синтез
907
Кенэ Ф., и политическая экономия 681
классическая безработица 85
классическая экономическая теория, и понятие равновесия 285—293; и
семья 308; и монополия 585-593; и национальная система 602—603.
См. также сравнительные преимущества, Маршалл, Маркс, Милль,
неоклассическая экономическая теория, политическая экономия,
Рикардо, Смит
Клауэр, Р.В., и кейнсианская потребительская функция 488
клубы 721-722.
количественная теория денег, и меркантилизм 550; и монетаризм 554; и
схоластическая экономическая мысль 773; и механизм перетока де-
нежных металлов 799
количественные методы в экономике, и Чикагская школа 49
коллективный договор, Хикс о 838; и профсоюзы 838
колонизация, и племенные общества 389—392
коммунизм, и общие права собственности 102—103
компенсационный критерий 879
конкурентное равновесие, условия для 135—139; и альтернативные издер-
жки 637—638; и нахождение удовлетворительного варианта; и эко-
номическая теория благосостояния 873-876. См. также равновесие,
совершенная конкуренция
конкуренция-, и конфликт 146; и экономическая интеграция 228-229; и
эффективный обмен 297-298; Фридмен о конкуренции и отборе 134;
и несостоятельность рынка 503—505; и рынки как места торговли 522;
ее значения 135; и схоластические экономические теории 770—771;
Шумпетер о конкуренции и выборе 139—143; и отбор 134—145; и тех-
нология 141—144. См. также совершенная конкуренция
конституциональная экономическая теория 167—178\ и классическая
политическая экономия 168—170; и справедливость распределения
177; и бюджетно-налоговая политика 178; homo economicus 174—175;
и либерализм 479; и денежно-кредитная политика 168; и новая по-
литическая экономия 171-172; и Ролз 177; и шотландское Просве-
щение 778-779; и Адам Смит 168-169; и собственный интерес 174—
175; и социальная философия 170—171; и налогообложение 175—176;
и Викселль 173
контракты и обмен 305
контроль за уровнем платы за жилье 733—739', и экономическая эффек-
тивность 736-739; и перераспределение 736; и трансакционные из-
держки 737; влияние на благосостояние 736
контрфактические утверждения 186—192; и экономические модели 186—
191; и теория игр 191
конфликты и их урегулирование 146—156; аттитюдные теории 148; и кон-
куренция 146; конфликт и «дилемма заключенного» 712—713; и
908
сдерживание и обязательства 152; динамика конфликта 149—152;
теория игр и динамика конфликта 149-152; материалистические
теории 148; и общественная организация 154; статика конфликта
146-149; технология борьбы 152—154. См. также профсоюзы
кооперативное поведение, см. «дилемма заключенного», игры с нулевой
суммой
Коуз Р.Х., и бюрократия 35; и ценовые ожидания 71—72; и благососто-
яния экономическая теория 875—876. См. также Коуза теорема
Коуза теорема 61-69, 798; и Чикагская школа 58—59, и общее право 67-
68; и внешние эффекты 63-67; и право и экономическая теория
464-466; и законные права собственности 61—65; и совершенная
конкуренция 62—65; и загрязнение 62—65; и права собственности
61-65; более удовлетворительная теория торга 63—66; и трансакци-
онные издержки 62-64
кредит, на рынках скота 522; рационирование кредита и отбор худших
526-527; роль в марксистской теории кризисов 539—540
кредитор последней инстанции 343
кризисы, и марксистская экономическая теория 538—539
Курно А.А., и понятие равновесия 299; и совершенная конкуренция 655,
657-658, 660-662
Л
Ланге О., и Чикагская школа 52-53; и благосостояния экономическая
теория 877
Леви-Стросс К., о дарах 386—387
Леонтьева парадокс 130
либерализм 475-480', британские и континентальные либералы 476; и
Бьюкенен 479; классический либерализм 475—477; и конституцио-
нальная экономическая теория 479; и демократия 476—477; и Фрид-
мен 479; и Хайек 479; и невидимая рука 476; и либертарианизм 478-
481; и Поппер 478; власть закона 475-477; и государство благосос-
тояния 478—479
либертарианизм 478-481; и «бесплатный завтрак» 358; и утопии 851
«лимонов» рынок, см. отбор худших
Линдаль Е.Р., о равновесии 281
Линдаля цены 504; и благосостояния экономическая теория 876
Линдер С, и досуг 470-474
Липси Р.Дж., и таможенные союзы 222-223
«ловушка ликвидности», и монетаризм 559
Лукас Р.Э., и неоклассический синтез 624; и рациональные ожидания 490
Льюис У.А. 3
909
м
Макиавелли Н., и интересы 435—436
макроэкономика, и рациональных ожиданий революция 490
макроэкономика: отношения с микроэкономикой 485—492', стремление к
единству экономической теории 485-486; и экономическая теория
информации 489-490; и кейнсианская экономическая теория 487-
488; и понятие общего равновесия 486-490; и вальрасовский аук-
ционист 486
максимизация прибыли, в спорте 806. См. также конкуренция, отбор
максимизация, и рациональность 249—252; полезности во времени 622
Мальтус Т.Р., о росте сельскохозяйственного производства и демогра-
фических изменениях 1; и семья 308. См. также теория народона-
селения Мальтуса
Мандевиль Б., и интересы 436; и собственный интерес 783, 785
Манделла — Флеминга модель, и вытеснение 197-198
мании 25
маржинализм, и непрерывность в экономической истории 182; и нео-
классическая экономическая теория 617-618; и рациональность 252
Маркс К., и экономическая интерпретация истории 233-245; и инте-
ресы 441; национальная система 604; и политическая экономия 683;
и утопии 851. См. также марксистская экономическая теория
марксистская экономическая теория 529—541; и накопление 535—537;
анализ процесса труда 529-531; и бюрократия 530; противоречия
капитализма 529; и кризисы 538—539; и обмен 532-533; и эксплуа-
тация 531-535; повышение нормы эксплуатации 536; и Калецки 539;
трудовая теория ценности 531-535; закон-тенденция нормы прибы-
ли к понижению 537; органическое строение капитала 532; перена-
копления теории 539; и периферия 675-676; и прибыль 531-535;
воспроизводства схемы 538; резервная армия труда 536; роль кре-
дитной системы 539; и «научное управление» 530; и технология 530—
537; и проблема трансформации 532—534; и недопотребления тео-
рия 539; и безработица 359; и ценность 414-417, 531-532. См. так-
же Маркс
Маршалл А., и понятие равновесия 260, 287-288, 290-291; и эволюция
611; о золотом стандарте 408—410; и неоклассическая экономичес-
кая теория 617; и политическая экономия 683—684; и рациональ-
ность 252, 255; о ренте 725—727, 729—730; об условиях торговли 814;
и благосостояния экономическая теория 879
Маршалла — Лернера условие 801
массовые коммуникации 105—121; радиовещание, телевидение и моно-
полия 118; и внешние эффекты 105—110; и государственное вмеша-
тельство 106-110; и монополия 110-115; и оптимальное ценообра-
зование 112; цены и рыночная структура в радиовещании и теле-
910
видении 110-119; ценообразование и структура рынка телекомму-
никаций 110—113; как общественное благо 105—110; и технология
114, 117
машинное производство 530
межвременная максимизация полезности 622
международная торговля', и распределительная справедливость 209; и
меркантилизм 546—550; и общественные издержки 794. См. также
сравнительные преимущества, экономическая интеграция, импор-
тозамещающий и экспортоориентированный экономический рост,
механизм перетока денежных металлов, условия торговли
международное экономическое сотрудничество, см. экономическая интег-
рация, оптимальные валютные зоны
межличностные сравнения полезности 447—453', и Ролз 448—449; и Роб-
бинс 452; и утилитаризм 448
Менгер К., о временном предпочтении 830
меркантилизм 542—552', оценка 551—552; изложение 547—550; и полная
занятость 549; и ставки процента 545; и международная торговля
543—547; и деньги 544, 546; и монополия 545—546; и рост населе-
ния 545; и протекционизм 543, 549; и количественная теория денег
550-551; и схоластическая экономическая теория 542; обзор 542-
544; и благосостояния экономическая теория 870
механизм перетока денежных металлов 799—803; и сравнительные пре-
имущества 799-800; и золотой стандарт 409; и Юм 799-803; и Кейнс
802; и Маршалла — Лернера условие 801; и количественная теория
денег 799
миграция населения, см. Тибу гипотеза, урбанизация
Мид Дж., и таможенные союзы 222, 224
микроэкономика, см. общее равновесие, макроэкономика: соотношение
с микроэкономикой
Милль Джеймс, и интересы 441; и политическая экономия 682—683
Милль Джон Стюарт, и понятие равновесия 287, 289; и собственный
интерес 174, 786-787; и гендерные проблемы 365; о золотом стан-
дарте 408-410; и монополия 586; и рациональность 246, 249; об ус-
ловиях торговли 811; и временные предпочтения 829. См. также
классическая экономическая теория
Мишен Е.Дж. и границы экономического роста 481
мобильность труда, и сравнительное преимущество 125. См. также мо-
бильность факторов
мобильность факторов, см. мобильность труда
модель IS— LM, и вытеснение 196—198; и неоклассический синтез 621—
623
Модильяни — Миллера теорема 212—217; и финансовые посредники 331
911
Модильяни Ф., и неоклассический синтез 619-623. См. также Модиль-
яни — Миллера теорема
монетаризм 553—565', и совокупные расчеты 559; связанные с ним
взгляды 564; истоки 553-555; и банковский кредит 557—558; конт-
роль за денежной массой 560; и спрос на деньги 560; эмпирические
аргументы в пользу 554—555; и Фридмен 554-555, 560; и полная
занятость 363; и золотой стандарт 553; и государственное вмешатель-
ство 564; и кейнсианство 456—457, 555—556; и «ликвидности ловуш-
ка» 559; долгосрочная, а не краткосрочная направленность 563;
монетаристская теория 558—561; и денежная политика 555-557, 575,
580; таргетирование денежной массы 561—562; монетарная теория
платежного баланса 561; и естественная норма безработицы 562; и
Филлипса кривая 562; и количественная теория денег 554; и раци-
ональные ожидания 563; и рациональность 247—248; передача мо-
нетарных изменений 556; и скорость обращения денег 554-556. См.
также новая классическая макроэкономика
монетарная теория платежного баланса 561
монополия 585—593', и сельское хозяйство 509-510; антитрестовское за-
конодательство 586; и радио- и телевещание 116; и классическая
экономическая теория 609-611; и общее право 96; и массовые ком-
муникации 107; и «соревновательный рынок» 590; и эффективный
обмен 297; и государственное регулирование 591-593; и Харбергер
586-588; и вход в отрасль 589—590; и меркантилизм 544-545; и
Милль 586; монопольная рента 731—732; естественная монополия
591—592; и патенты 589; и рента 592; и Рикардо 586; и схоластичес-
кая экономическая мысль 771; и Смит 585-586; общественные из-
держки 587-588; в спорте 805—806; и профсоюзы 836-837. См. так-
же несовершенной конкуренции теория, совершенная конкурен-
ция, ренты соискание
Мор Т., и термин «олигополия» 771; и утопии 848
моральный риск, и собственности права 716
Моргенштерн О., см. теория игр, фон Неймана — Моргенштерна по-
лезности функция, игры с нулевой суммой
мультипликатор 454; и монетаризм 555
Мут Дж.Ф., и паутинообразная модель 72—73. См. также рациональ-
ные ожидания
«мыльные пузыри» 25—27; и рациональные ожидания 26
Мюрдаль Г., о равновесии 280—281
н
Найт Ф.Х., и Чикагская школа 49—52; о растущей цене предложения
765
накопление 535—537. См. также экономический рост
налог на добавленную стоимость 627
912
налогообложение, приросты и сокращения стоимости капитала 45—46;
конституциональная экономическая теория 175—176; искажающее,
и рикардианская теорема эквивалентности 762; и дивидендная по-
литика 213—214; и экономическая интеграция 231; и экономичес-
кая рента 627; и гиперинфляция 425; предельные ставки налогооб-
ложения и «экономика предложения» 582; и торговые управления
512-513; и соискание ренты 744; и вкусы 629—630; и Тибу гипотеза
821—822. См. также распределительная справедливость, нейтральное
налогообложение, рикардианская теорема эквивалентности
наследство, и рикардианская теорема эквивалентности 755—757, 761
научное управление, и марксистская экономическая теория 530—531
национальная система политической экономии 601—605; и классическая
экономическая теория 602; и развивающиеся страны 602—603; и
Маркс 604; и протекционизм 602
национальные счета, и финансовые посредники 322—325. См. также
капитала приросты и сокращения стоимости, национальный доход
национальный доход 594—600; и капитала приросты и сокращения сто-
имости 43—44; развитие понятия 599; оценки в различных странах
597—598; конечный спрос 594; валовой внутренний продукт 598;
валовой национальный продукт 594-599; и Кейнс 595; и произво-
дительная деятельность 594-597. См. также рикардианская теорема
эквивалентности
не ускоряющий инфляцию уровень безработицы (NAIRU) 362
невидимая рука 780; и интересы 439; и либерализм 476; и совершенная
конкуренция 654; и рациональность 252; и собственный интерес 785.
См. также Смит
негибкая заработная плата, и Кейнс 360; и полная занятость 360
недопотребления теория 538
Нейман Дж. фон, см. фон Нейман Дж
нейтральное налогообложение 627—632; и эластичность предложения 628;
и Рамсей 628—631; и роль правительства 631; и единообразное на-
логообложение 630-631
неоклассическая экономическая теория, и сравнительное преимущество
127; и непрерывность в экономической истории 182; история тер-
мина «неоклассический» 617-618; и Добб 617; и Хикс 617; и Кейнс
617; и маржиналистская теория 617—618; и Маршалл 617; неоклас-
сическая теория цены и Чикагская школа 49-50; и Самуэльсон 618;
и Стиглер 617; и Веблен 617. См. также монетаризм, новая класси-
ческая макроэкономика
неоклассический синтез 619—626; и потребительской функции теории
622; кризис 623-625; успешное практическое применение 623-624;
неэффективные рынки 620; первоначальный синтез 619—622; и
модель IS — LM 621-622; и кейнсианство 455-456; и цикла жиз-
ненного гипотеза 622; и Лукас 624; макроэкономические исследо-
913
вания 621; зрелый синтез 622—623; и Модильяни 619—622; и новая
классическая макроэкономика 624—625; и постоянного дохода гипо-
теза 622; и Филлипса кривая 620, 623-625; и рациональность 620; Са-
муэльсон о 619-621. См. также кейнсианство
неопределенность, и рикардианская теорема эквивалентности 753—754,
758. См. также ожидания, информация, риск
неполный набор рынков и рациональность 255—259. См. также рынка не-
состоятельность
непрерывность в экономической истории 179—185', и экономический рост
183—184; и равновесие 181; и неоклассическая экономическая тео-
рия 182; и технология 179-180.
неравенство полов, см. гендерные проблемы
неравновесие 282—283, 488. См. также равновесие, макроэкономика
Нерлав М., и паутинообразная модель 71-72
несовершенная информация, см. отбор худших, информация
несовершенной конкуренции теория 658-660. См. также конкуренция,
монополия, совершенная конкуренция, разорительное ценообразо-
вание
несовершенные рынки, и взяточничество 21. См. также рынка несостоя-
тельность
неэффективные рынки, и неоклассический синтез 620. См. также вне-
шние эффекты, несовершенной конкуренции теория, рынка несо-
стоятельность
неявное (теневое) ценообразование 789— 791; и перераспределение 790; и
однофакторные условия торговли 814
новая классическая макроэкономика 490—491; и точная настройка 350—
352; и полная занятость 361—362; и неоклассический синтез 619—620;
и рациональность 250. См. также макроэкономика, монетаризм,
неоклассическая экономическая теория
«новая экономическая теория домашнего хозяйства» 368
О
о ценности золотых слитков, дискуссия 396. См. также Рикардо
обмен 295-307; отбор худших 302; и конкуренция 298—299; и контрак-
ты 305; и финансовые рынки 303-304; и теория игр 305; и инфор-
мация 301—304; и рынки труда 302; и расчистка рынка 298; и марк-
систская экономическая теория 531-532; и монополия 299-300; в
примитивных обществах 421; и редкие ресурсы 295; структура тор-
гового процесса 299-300; и условия торговли 295; и временное пред-
почтение 300; и вальрасианское равновесие 296—301. См. также
дары, благосостояния экономическая теория
общее право 90—99', и Коуза теорема 67-98, и внешние эффекты 96; и
свободные рынки 91—96; и государственное вмешательство 97-98;
914
и Хайек 91; и права собственности 92—95; и монополия 96. См. также
право и экономическая теория
общее равновесие, понятие, и соотношение макро- и микроэкономики
485—488. См. также Эрроу — Дебрё модель, равновесие
общественного выбора теория 858
общественные блага, и массовые коммуникации 105—110; и несостоя-
тельность рынка 504—508; и исполнительские искусства 66; и бла-
госостояния экономическая теория 875—876. См. также перегрузка,
внешние эффекты, Тибу гипотеза
общественные издержки 792—798', агрегирование 795—796; приложения
понятия 796-798; и Коуза теорема 798; и участие в управлении и
прибылях 86-88; и сравнительные преимущества 123—124; понятие
общества 793; анализ издержек и выгод 793-794; определение 792-
796; и экономическая интеграция 220-227; и международная тор-
говля 794; и несостоятельность рынка 797; монополии 586-588; и
рента 793; и контроль над уровнем платы за жилье 736—737; в крат-
косрочном и долгосрочном периоде 794; и условия торговли 816—
818; и трансакционные издержки 798. См. также компенсационный
критерий, чистая потеря, внешние эффекты, Парето критерий, рен-
ты соискание, неявное (теневое) ценообразование, благосостояния
экономическая теория
общие права собственности 100—104, 719—720; и коммунизм 102—103; и
открытых полей система 633—634; и рента 100—103. См. также соб-
ственности права
общий рынок, см. экономическая интеграция, оптимальные валютные
зоны
обязательства, см. собственности права
ограничения по ликвидности, и рикардианская теорема эквивалентнос-
ти 761-762
ограниченная рациональность 260
ожидания, и гиперинфляция 425-427; и разорительное ценообразова-
ние 705-706. См. также информация
окружающая среда, и приросты и сокращение стоимости капитала 46—
47. См. также загрязнение
олигополия, Мор о понятии 771; и рациональность 254
операции на открытом рынке, и денежная политика 567—568
оптимальное налогообложение, см. нейтральное налогообложение
оптимальное ценообразование, и телекоммуникации 113—114
оптимальные валютные зоны 644—652', выгоды и издержки 648—650; и
анализ выгод и издержек 648-651; и рынки факторов 646-647; и
финансовые рынки 646; и товарные рынки 647-648; уроки 651; и
политическая интеграция 648; и гибкость цен 645; свойства 645-648;
и гибкость заработной платы 645
915
оптимальные тарифы, и условия торговли 688
органическое строение капитала 532—536
ординальной полезности сравнения 449—450, см. также межличностные
сравнения полезности
«острова» (метафора) 252, 491
отбор худших (adverse selection), Акерлоф о 524-525, и рационирование
кредита 526-527; и эффективный обмен 301; рынки с 524-528; и
критерий Парето 525; и рикардианская теорема эквивалентности
758-759
отбор, см. конкуренция
отдача от масштаба, см. экономия на масштабе
«открытых полей» система 633—636, и общинные права собственности
633—634; и полный набор рынков 634; и страхование 635
отрасли, переживающие упадок 200—204; и сравнительное преимущество
201; и протекционизм 201-202; соотношение отраслей и фирм 202
отрицательный подоходный налог 206, 700
охоты и собирательства экономика 413—422', и принуждение 238—239;
и обмен 421; и человеческий капитал 417-419; и рост сельскохозяй-
ственный 413—414; 419-422
оценка проектов, см. неявное (теневое) ценообразование
п
Парето критерий, и отбор худших 425, и несостоятельность рынка 501—
503; и благосостояния экономическая теория 872-874, 884-885. См.
также совершенная конкуренция
патенты, и монополия 589
паутинообразная модель 70—74', и адаптивные ожидания 72-73; и Бью-
кенен 72; и Коуз 72; и рациональные ожидания 72—73; и статичес-
кие ожидания 70—71; более широкое приложение 73
«перегрузка» 157—166', эмпирический анализ 163-164; и государствен-
ное вмешательство 165; и Пигу 159—150; и права собственности 719—
721; и транспорт 158-166
перенакопления теории 539
перераспределение, и права собственности 277; и контроль над уровнем
платы за жилье 736; и соискание ренты 743-744; и схоластическая
экономическая мысль 469; и теневое ценообразование 789-790; и
профсоюзы 843; и благосостояния экономическая теория 875-885.
См. также распределительная справедливость
периферия 671—679; и сравнительное преимущество 671-673; dependista
674—677; девелопментализм 674; развитие отсталости 675; Добб о
677; и марксистская экономическая теория 676—677; Пребиш 672—
674; и протекционизм 672; Суизи о 677; и транспортные издержки
671
916
Пигу А.С., и перегрузка 159-160; о растущей цене предложения 764—
766; и благосостояния экономическая теория 872
Пигу эффект 621
питание, и рост сельскохозяйственного производства и демографичес-
кие изменения 12—13
платежный баланс, его ограничения 430; его монетарная теория 561. См.
также механизм перетока денежных металлов
поиска теория 253
показатели, см. экономические показатели
Поланьи дискуссия о 519
Поланьи К., и экономическая интерпретация истории 233; и интересы
441; о дарах 387-389
полезность, максимизация ее межвременная 622; и рациональность 249-
250. См. также межличностные сравнения полезности, Парето кри-
терий
политическая интеграция, и оптимальные валютные зоны 648
политическая экономия, и Чикагская школа 55—56, 685; и конституци-
ональная экономическая теория 167—170; и Добб 684; и экономи-
ческая наука — происхождение терминов 680—685; и золотой стан-
дарт 396—397; и Кейнс 684; и Маршалл 683—684', и Маркс 683; и
Джеймс Милль 682; Джон Стюарт Милль 683; новая политическая
экономия 171—172; и Кенэ 681; и Роббинс 683—684; и Шумпетер 684;
и шотландское Просвещение 779—780; и Смит 680, 682, 684; и Стю-
арт 681; и утопии 847. См. также классическая экономическая тео-
рия
полная занятость 359-364, и участие в управлении и прибылях 84-86;
и вытеснение 194-196; эмпирические оценки безработицы 359-360;
и валютные курсы 364; и Фридмен 362; утопии полной занятости
849; государственное отношение к 360-361; и Кейнс 360-361; и
кейнсианство 454-455; и меркантилизм 549; и монетаризм 362-363;
и национальная система 602; и естественная норма безработицы
362-363; и новая классическая макроэкономика 363; и не ускоря-
ющий инфляцию уровень безработицы (NAIRU) 362; ненулевая без-
работица 361; и Филлипс 362; и негибкая заработная плата 360; и
государство благосостояния 364
полнота рынков, и несостоятельность рынка 501—502, и открытых по-
лей система 633. См. также рынка несостоятельность, благосостоя-
ния экономическая теория
Понци займы (финансовые пирамиды) 27
Поппер К., и либерализм 478
потребление, и неоклассический синтез 622. См. также функция потре-
бительская домохозяйства
права, см. собственности права.
917
правила поведения 137—138
право и экономическая теория 458—469', и Коуза теорема 61-65,464—466;
и экономическая эффективность 461—463, 466; последствия дей-
ствия законов 458—461; и внешние эффекты 464—466; и интересы
462; и рыночные цены 467; и шотландское Просвещение 780; и ути-
литаризм 461. См. также общее право, собственности права, конт-
роль за уровнем платы за жилье
правомочия 274—279; и выбор 276; и теорема Коуза 634; и свобода 277;
и перераспределение 277-278
Пребиш Р., и периферия 672-674
Пребиша — Зингера гипотеза, и условия торговли 818—819
предложение денег, и гиперинфляция 424—427
предложение труда женщин 367-371
предложение труда, и рост сельскохозяйственного производства и де-
мографические изменения 3-5; его эластичность, и вытеснение 195;
традиционная теория 380
предпочтения, см. выбор, рациональность, благосостояния экономичес-
кая теория
преступления, см. взяточничество, право и экономическая теория
прибавочная стоимость 532-534; и развивающиеся страны 676
прибыль, и марксистская экономическая теория 531—538; и схоласти-
ческая экономическая мысль 770; единая норма и равновесие 288
привычка 247
принцип максимина, и игры с нулевой суммой 889
принципала — агента отношения 302; и акционерная собственность 717—
718. См. также моральный риск
проблема «безбилетника», и Тибу гипотеза 821
проблема трансферта 815
проблема трансформации 532-533
продуктивное знание, и эволюция 611-614
производительная деятельность, и национальный доход 594—597
производительность труда, и участие в прибылях 77
производство в домашнем хозяйстве 366—371; и семья 309—311
промышленная революция 179-183
протекционизм 543, 549; и переживающие упадок отрасли 201—202; и
национальная система 602; и периферия 672. См. также экономи-
ческая интеграция, свободная торговля
противоречия капитализма 529
профсоюзы 834—845', и заключение коллективных договоров 837-839;
влияние на заработную плату 842—844; и инфляция 1960-х и 1970-х
годов 844; и право 839-840; членство 835; как монополии 836-837;
918
и перераспределение 843; и Адам Смит 834, 837; и экономика спорта
808; и Вебб 834; на рабочем месте 841-842. См. также участие ра-
ботников в управлении и прибылях
процент, ставки процента потолок 346-347; и схоластическая экономи-
ческая мысль 772. См. также временнбе предпочтение
Р
равновесие Нэша, и совершенная конкуренция 661-662; и игры с нуле-
вой суммой 889. См. также теория игр
равновесие, и классическая экономическая теория 285—293; и непрерыв-
ность в экономической истории 180-181; и Курно 290; развитие
понятия 285-294; как понятие, связанное с ожиданиями 280—284;
и теория игр 281; Хайек о 280-281; Хикс о 281; и Юм 288; и ин-
формация 281-283; межпространственное равновесие 283; меж-
временное равновесие 283, 292; Кейнс о 281; Линдаль о 281; и Мар-
шалл 287, 290—292; его значения 135; и Милль 287, 289, 293; и «ес-
тественные условия» 286—289; его отсутствие и несостоятельность
рынка 506—507; траектория движущегося равновесия 280; Мюрдаль
о 280—281; частичного и общего равновесия анализ 290; и рацио-
нальные ожидания 283; и Смит 285-289, 291; временное, краткос-
рочное и долгосрочное равновесие 291; и единая норма прибыли
288; и Вальрас 291. См. также паутинообразная модель
развивающиеся страны, и рост сельскохозяйственного производства и
демографические изменения 14—15; и распределительная справед-
ливость 209; и экономическая интеграция 224—225; и импортозаме-
щение 431-432; и национальная система 603-604; и бедность 688,
697-700. См. также границы экономического роста, периферия
развод, и семья 315—318
разделение труда между полами, и семья 315—316
разорительное ценообразование 460, 702—706', и ожидания 704; и госу-
дарственное вмешательство 704, 706; история 702—706; сдерживаю-
щих цен установление 704. См. также вход в отрасль.
районирование 821
Рамсей Ф.П., и оптимальное налогообложение 628, 630-631; ценообра-
зование по Рамсею и телекоммуникации 113
расовая дискриминация, и бедность 699—700; в видах спорта 808
распределительная справедливость 205—210', и конституциональная эко-
номическая теория 177; и развивающиеся страны 206; и спра-
ведливость в отношениях между поколениями 207-208; и междуна-
родная торговля 209; и Рамсей 208; и Ролз 208
расчистка рынка, и эффективный обмен 298. См. также общее равно-
весие
рациональность, экономическая теория и гипотеза рациональности 246—
262', и теория игр 887-893; и неполнота рынков 255—259; и инфор-
919
мация 255—259; и интересы 434—435; и невидимая рука 252; и чело-
веческий капитал 250; кейнсианство 247; и маржинализм 252; и
Маршалл 252, 255; и максимизация 249-252; и Милль 246, 249; и
монетаризм 247; и неоклассический синтез 619-620; неоклассичес-
кая экономическая теория 250; и олигополия 254; и совершенная
конкуренция 248, 255; и рациональные ожидания 250, 255—256; и
Саймон 260; и Смит 249—252; и торговля 259; и полезности теория
249—250; и Вальрас 255. См. также выбор, «дилемма заключенного»
рациональные ожидания, и «мыльные пузыри» 26—27; и Чикагская школа
57; и паутинообразная модель 72—73; и равновесие 282; и гиперин-
фляция 426; и несостоятельность рынка 503; и монетаризм 563; и
денежная политика 572, 581; революция рациональных ожиданий в
макроэкономике 490. См. также информация, рациональность
Ре Дж., о временном предпочтении 830
регулирование, см. государственное регулирование
редкие ресурсы, и обмен 295; и границы экономического роста 481; и
альтернативные издержки 637-638; и утопии 846-848. См. также
Коуза теорема, общие права собственности, сравнительные преиму-
щества, перегрузка, собственности права, рента
редкость благ, и схоластическая экономическая мысль 768—769
резервная армия труда, и марксистская экономическая теория 536
реклама 106-107
рента 724—732', и общие права собственности 100-103; совместная ква-
зирента 726-728; дифференциальная рента 728-730; экономичес-
кая рента 724-725; ее значение 731; Маршалл о 725-728; и моно-
полия 592; монопольная рента 731—732; и цены 730—731; квазирен-
та 725-726; рикардианская рента 728; Рикардо о 724, 728, 730; и
общественные издержки 794; и временные предпочтения 831-832.
См. также контроль за уровнем платы за жилье, ренты соискание
ренты соискание 592, 741—747', применение термина 746—747; и взяточ-
ничество 745; и человеческий капитал 745; проблемы эмпирического
исследования 746; и перераспределение 743-744; предотвращение
ренты 744; и экономия на масштабе 745-746; и налогообложение
744
рикардианская теорема эквивалентности 752—763', и отбор худших 759—
760; и альтруизм 755-757; 760; и Бэрроу 755-756, 762; и наследство
756-757, 760-761; и Бьюкенен 755; и бремя государственного дол-
га 28; и «вытеснение» 193, 198; и искажающие налоги 760; и семья
755—757; и потребительская функция домохозяйства 752—756; и ог-
раничения со стороны ликвидности 761—762; и Рикардо 752; и соб-
ственный интерес 755; и неопределенность 754, 758
Рикардо Д., о росте сельскохозяйственного производства и демографи-
ческих изменениях 1—2; о сравнительных преимуществах 122-124;
и золотой стандарт 398—399, 407; и монополия 586; о ренте 724, 730;
и рикардианская теорема эквивалентности 752; рикардианская рента
920
728; об условиях торговли 814. См. также классическая экономичес-
кая теория, политическая экономия
риск, и финансовые посредники 332—333, 338, 340, 344; и ценность
жизни 860-865
риторика 748—751', и схоластическая экономическая мысль 768
Роббинс Л.С., и межличностные сравнения полезности 452; и полити-
ческая экономия 683-684; и ценностные суждения 858
Робинсон Дж., о растущей цене предложения 766
рождаемость и семья 309—311; и теория народонаселения Мальтуса 494—
496
Ролз Дж., и конституциональная экономическая теория 177; и справед-
ливость в отношениях между поколениями 208—209; и межличнос-
тные сравнения полезности 448
рост населения, и пределы роста 481—483; и рынки 522; и меркантилизм
544. См. также сельскохозяйственного производства рост и демог-
рафические изменения, теория народонаселения Мальтуса
рост, см. сельскохозяйственного производства рост, экономический
рост, границы экономического роста
ростовщичество 771—772
рынка несостоятельность (провалы) 501-508; и асимметричная инфор-
мация 507; и бюрократия 35-38; и конкуренция 503—505; и полно-
та набора рынков 501—503; и внешние эффекты 506-507; и инфор-
мация 502—505; и отсутствие равновесия 506; и оптимальность по
Парето 503-504; и общественные блага 502, 504; и рациональные
ожидания 503—504; и общественные издержки 797. См. также эко-
номическая эффективность, благосостояния экономическая теория
рынки как места торговли 517—523', и конкуренция 522; определения
517; отсутствие интереса экономистов к ним 518-519, 522; и госу-
дарственное вмешательство 521; история 518—519; и населения рост
520; роль кредита на рынках скота 522; и транспортировка 521
рынки труда, и эффективный обмен 302—303; и бедность 699. См. так-
же участие работников в управлении и прибылях, профсоюзы
рынки факторов, и оптимальные валютные зоны 646—677
рыночные цены, и право и экономическая теория 467. См. также неяв-
ное (теневое) ценообразование
С
Саймон Г.С. и рациональность 260; Саймонс Г.А., и Чикагская школа 51-
63; и удовлетворительное поведение 137-138
Самуэльсон П., и история термина «неоклассический» 619; о неоклас-
сическом синтезе 620—621; Столпера — Самуэльсона теорема 129;
и Тибу гипотеза 820; и благосостояния экономическая теория 876
921
свободная торговля 588; и сравнительное преимущество 124-125; и ре-
сурсов аллокация 431. См. также экономическая интеграция, про-
текционизм
свободные рынки, и общее право 91—96, и кейнсианство 455. См. также
Чикагская школа
сдерживание и обязательства, и конфликт и урегулирование 152
сдерживающих цен установление 704
Севера и Юга экономические отношения, и условия торговли 819
сельское хозяйство, развитие 413—414, 419—421. См. также открытых
полей система
сельскохозяйственного производства рост и демографические изменения 1—
18’, и развивающиеся страны 14—15; и семья 5, 16-18, 310; и рож-
даемость 15-18; и государственное вмешательство 13-15; и пред-
ложение труда 3—5; и избыточного труда теория 4; Льюис о 3; и
питание 12; Рикардо о 1—2; и технология 8—10; и землевладение 11—
12; и транспортные издержки 7—8; и урбанизация 7-9, и гибкость
рынка труда 6
сельскохозяйственные рынки, см. паутинообразная модель, торговые уп-
равления, рынки как места торговли
семья 308—32Г, и сельское хозяйство 5, 15—18, 310; и альтруизм 312—
315, 755-757, 761; и Чикагская школа 56; и классическая экономи-
ческая школа 308; и развод 315, 316-318; и фертильность 309-311;
и домашнее производство 309-311; и человеческий капитал 312, 315;
и Мальтус 308; и брак 318-319; «качество» детей 311—312; и бедность
697—698; и собственный интерес 312—315; и разделение труда меж-
ду полами 315—316; и ценность жизни 861—862. См. также гендер-
ные проблемы
Ситовски Т., и благосостояния экономическая теория 879. См. также
компенсационный критерий
скорость обращения денег, и монетаризм 554—555, 561
случайных блужданий гипотеза 263—266
смертность, и теория народонаселения Мальтуса 494—498
Смит А., и понятие равновесия 285—289, 291—292; и конституциональ-
ная экономическая теория 168—169; об экономическом развитии
778; о росте 779; и интересы 436—437; и невидимая рука 785-786; и
монополия 585—586; о потребностях 778; и политическая экономия
680, 682; и рациональность 249—251; и собственный интерес 784—
786; и профсоюзы 834, 837; и благосостояния экономическая тео-
рия 870—872. См. также классическая экономическая теория, поли-
тическая экономия, шотландское Просвещение
собственности права 714—723’, и Коуза теорема 61—67; и общее право
93—95; и перегрузка 720—721; их экономическая теория 715; госу-
дарственной собственности права 719; и вход на рынок 719-721; и
моральный риск 716; взаимные собственности права 721—722; от-
922
сутствующие собственности права 719—721; и организация фирмы
716—719; в примитивных обществах 420—421; частной собственно-
сти права 714—719; и схоластическая экономическая мысль 770; и
шотландское Просвещение 777; собственность на акции 717—718;
правонарушения 722—723. См. также общие права собственности,
перегрузка
собственный интерес 782—788, и конституциональная экономическая
теория 174-175; и семья 313-315; и Грин 786; и Гоббс 782—784, 786-
787; и Юм 786; и невидимая рука 785-786; и Мандевиль 782—783; и
Милль 786—787; и рикардианская теорема эквивалентности 755; и
Смит 784-786; и утилитаризм 786. См. также альтруизм, интересы,
политическая экономия
совершенная конкуренция, модель Эрроу — Дебрё 659-660; и Бертран 658,
662; и Коуза теорема 62—64; и Курно 655, 657—658, 660—662; и Дебрё
655—656; и Эджуорт 659; существование конкурентного равновесия
656; и невидимая рука 656; и равновесие Нэша 661—663; и совер-
шенной и несовершенной конкуренции рынки 653—664', и рацио-
нальность 248, 252-254; и Стиглер 654—655; стратегические модели
конкуренции 660—663; теория 654—658; теория несовершенной кон-
куренции 658—660. См. также обмен, монополия
«солнечных пятен» модель 258—259
соотношение долга и акционерного капитала, см. Модильяни — Милле-
ра теорема
соревновательные рынки 590
социальная наука 615
социальный выбор, см. ценностные суждения, благосостояния экономи-
ческая теория
сочетание мер экономической политики, и точная настройка 354—355; и
монетаризм 580—581; сочетание мер фискальной и кредитно-денеж-
ной политики 198—199
спекуляции, см. «мыльные пузыри», финансовые посредники
специализация, в торговле, и экспортоориентированный рост 430—433.
См. также сравнительные преимущества
справедливость в отношениях между поколениями, и распределительная
справедливость 208—209
спрос на деньги, и монетаризм 561—562
сравнительные преимущества 122—133 ; абсолютное преимущество 124—
125; и понятие капитала 130; отрасли, переживающие упадок 200—
201; направления торговли 122—123; и экономическая интеграция
220—221; и экспортоориентированный рост 430—432; изменения
факторной интенсивности 129; и свободная торговля 122—123; и
Хаберлер 125; и Хекшера—Улина теорема 128-130; и человеческий
капитал 131; и мобильность работников 122-123; парадокс Леонть-
ева 130; многих товаров и стран 123—124; и неоклассическая тео-
923
рия торговли 127-128; и периферия 671-677; Рикардо о 122-124; и
механизм перетока денежных металлов 799-800; Столпера — Саму-
эльсона теорема 129; и предпочтения 128-129; и технология 122—
123, 127; и Вайнер 125; и благосостояние 124. См. также условия
торговли
стабилизация, сельскохозяйственных цен и доходов 515; гиперинфля-
ции 427—428
ставки процента, ставки процента потолок 559, 564; и меркантилизм
545; и денежная политика 566—568, 574—577; таргетирование 557—
558, 577-578
статические ожидания, и паутинообразная модель 70—71
Стиглер Дж., и Чикагская школа 51—52, 54-55; и история термина
«неоклассический» 617—618; и совершенная конкуренция 654-655
Столпера — Самуэльсона теорема 129
страхование, и система открытых полей 635; и ценность жизни 866-867.
См. также отбор худших, моральный риск
Стюарт Дж., и интересы 437-438; и политическая экономия 681-682;
и шотландское Просвещение 780
Суизи П. 538-539; о периферии 677
схемы воспроизводства марксистские 538
схоластическая экономическая мысль 768— 775', Буридан о деньгах 772; и
конкуренция 771; и homo economicus 768; и интерес 434; и меркан-
тилизм 542; и монополия 771; и трудовая теория ценности 771; и
прибыль 770; и собственности права 770; и количественная теория
денег 773; и перераспределение 769; и риторика 769; и редкость благ
768-769
т
таможенные союзы, см. экономическая интеграция
таргетирование денежной массы 576—579
таргетирование процентных ставок 557—558, 577—579; денежной мас-
сы 557—558, 576—577. См. также точная настройка
тарифы, см. экономическая интеграция
телекоммуникации, ценообразование в 110—115, 120. См. также массо-
вые коммуникации
теория игр, Эрроу о 292; и конфликт и урегулирование 149—152;
и контрфактические утверждения 191; и равновесие 281—282; и мо-
дели конкуренции 660—663; и анализ обмена 305—306. См. также
«дилемма заключенного», игры с нулевой суммой
теория избыточного труда, и рост сельскохозяйственного производства
и демографические изменения 3—4
924
теория народонаселения Мальтуса 493—500; свидетельства «за» и «про-
тив» 495—496; и рождаемость 494—496, 498—499; и смертность 496—
498; и технология 493; и утопии 850-851
технология, и рост сельскохозяйственного производства и демографи-
ческие изменения 8-11; и бюрократия 36; и массовые коммуника-
ции 111-112; и сравнительное преимущество 122, 130; и конкурен-
ция и выбор 139—143; и непрерывность экономической истории
179—181; и экономическая интеграция 229—230; и эволюция 612—
613; и импортозамещение 431—432; и пределы роста 482; и теория
народонаселения Мальтуса 493; и марксистская экономическая те-
ория 530—531; и исполнительские искусства 666—668; Шумпетер о
139—143; и условия торговли 818; и утопии 847. См. также отрасли,
переживающие упадок
Тибу гипотеза 820—826', и проблема «безбилетника» 821; и отдача от
масштаба 823-824; и налогообложение 821
Тинберген Я., и таможенные союзы 223
торг 62
торговля с использованием внутренней информации, и гипотеза эффектив-
ности рынка 268
торговля, направление и сравнительное преимущество 122-123; эконо-
мическая интеграция 220-230; и рациональность 259. См. также
сравнительные преимущества, импортозамещающий и экспорто-
ориентированный экономический рост, периферия, условия торгов-
ли
«торговые управления» 509—516', Бауэр о 514-515; торговые управления
с монопольной властью 509—511; торговые управления с монопсон-
ной властью 511-515; Фридмен о 514; и стабилизация 514; и нало-
гообложение 513-514
«точная настройка» 350-357; и выбор оптимального соотношения инф-
ляции и безработицы 352; и кейнсианские модели 351—352; и но-
вая классическая макроэкономика 350—351; и сочетание мер поли-
тики 354-355; опыт США 352-354. См. также бюджетная политика
транспортировка, и перегрузка 158—165; и рынки как места торговли
522
транспортные издержки, и рост сельскохозяйственного производства и
демографические изменения 7—8; и бюрократия 36—37; и экономи-
ческая интеграция 223; и периферия 671
трудовая теория ценности, марксистская 531—535; и схоластическая
экономическая мысль 771
У
удовлетворительное поведение 137—138
Уно школа 533
925
управление государственным долгом, и денежная политика 569
управление спросом, см. точная настройка, монетаризм
урбанизация, и рост сельскохозяйственного производства и демографи-
ческие изменения 7-8
урегулирование, см. конфликты и их урегулирование
условия торговли 811— 819\ различные показатели 811-812; и экономи-
ческая интеграция 225—226; и обмен 295; и эксплуатация 813; Хар-
берлер о 817; долгосрочные тенденции 818; Маршалл о 814; Милль
о 814; и Севера и Юга экономические отношения 814; и оптималь-
ные тарифы 818; и Пребиша — Зингера гипотеза 819; Рикардо о 814;
и неявное (теневое) ценообразование 813; и технология 817; воздей-
ствие на благосостояние 816-818. См. также сравнительные преиму-
щества
утилитаризм, и межличностные сравнения полезности 448; и право и
экономическая теория 461; и собственный интерес 776—777
утопии 846—854', утопии полной занятости 849; и homo economicus 850;
и либертарианизм 851; и Мальтус 495; и теория народонаселения
Мальтуса 850; и Мор 848; и Маркс 851; и политическая экономия
847; и частной собственности права 850; и редкие ресурсы 846—848;
и технология 847; утопический социализм 851
участие в прибыли, и норма прибыли 79. См. также участие работников
в управлении и прибылях
участие работников в управлении и прибылях 75—89', и занятость 77-86; и
внешние эффекты 79; и полная занятость 82—84; и государственное
вмешательство 79-81, 84-86; их взаимозависимость 79-80; и спрос на
труд 82-84; и производительность труда 80; и норма прибыли 79; Вай-
цман о 81-86; и благосостояние 85-87. См. также профсоюзы
Ф
фактор доверия 198
фертильность, и динамика населения 15—18
Филлипс А.В.Х., и полная занятость 362. См. также Филлипса кривая
Филлипса кривая 352—354, 362; и кейнсианство 456; и монетаризм 562—
563; и неоклассический синтез 620. См. также инфляции и безра-
ботицы выбор оптимального соотношения
философия и экономическая наука, см. непрерывность в экономической
истории, контрфактические утверждения, экономическая интерпре-
тация истории, схоластическая экономическая мысль, утопии
финансовые посредники 328—339; аукционные рынки 327; контроль над
балансовой отчетностью 345—346; банковские резервы 337—339, 340;
деноминация ценных бумаг 332; депозитов создание 337-339; депо-
зитов страхование 344—345; их описание 328—330; статистические
характеристики активов и сделок 324-325; и Фишер 331; их функ-
926
ции 330—334; Голдсмит о 324—325; и государственное регулирова-
ние 341-347; и потребительская функция домохозяйства 331; и внут-
ренние активы 323-325; процентных ставок «потолки» 346—347;
кредитование последней инстанции 343-344; ликвидность активов
и пассивов 333—334; и вход на рынок 347—348; изменение сроков
погашения 333; и Модильяни — Миллера теорема 331; и нацио-
нальные счета 324-325; и внешние активы 323-324; и «внутренние»
и «внешние» деньги 326; их портфельная политика 348—349; и риск
330, 332—333, 336—337, 339—340; «налоги» на банки 341—342; заме-
щение внутренних активов внешними 334—337
финансовые рынки, как пример эффективного обмена 303—304; и опти-
мальные валютные зоны 645—646. См. также гипотеза эффективно-
го рынка, финансовые посредники
финансы, и Чикагская школа 57. См. также выплаты дивидендов поли-
тика, гипотеза эффективного рынка
фирма, организация, и права собственности 716-717. См. также бюрок-
ратия, политика выплаты дивидендов
«фискальная иллюзия» 669
Фишер И., о капитала приростах и сокращении стоимости 43—44; и
финансовые посредники 331; о золотом стандарте 409-410, о вре-
менном предпочтении 831
фон Нейман Дж., см. теория игр; фон Неймана — Моргенштерна по-
лезности функция, игры с нулевой суммой
фон Неймана — Моргенштерна полезности функция 449
фонд заработной платы 126
формула Хэнда 463
Фридмен М., и Чикагская школа 51, 53-54; о конкуренции и отборе 134;
и полная занятость 362; и либерализм 479; и монетаризм 553—555;
и денежная политика 580; и оптимальные валютные зоны 644, и
постоянного дохода гипотеза 514, 622
функция потребительская домохозяйства, и приросты и сокращения сто-
имости капитала 45; и финансовые посредники 331; и бедность 691;
и рикардианская теорема эквивалентности 753—757. См. также до-
суг, жизненного цикла гипотеза
Хаберлер Г., и сравнительное преимущество 125; об условиях торговли
817
Хайек Ф.В. фон, и общее право 91; о равновесии 280—281; и либерализм
478
Харбергер А.С., и монополия 586—588
Харрод Р., о повышении цены предложения 765-766
хеджирование 27
927
Хекшера — Улина теорема 129-131
Хикс Дж.Р., о приросте и сокращении стоимости капитала 44; о зак-
лючении коллективных договоров 838; о равновесии 281; и неоклас-
сическая экономическая теория 617. См. также IS — LM модель,
неоклассический синтез
ц
цена предложения растущая 764—767; и внешние эффекты 766; Харрод
о 765—766; Пигу о 764—766; Робинсон о 766; Вайнер о 766; Янг о
764-766
ценностные суждения 855—859', Эрроу о 858; разногласия в 857-858; в
экономической теории 858-859; их объективность 855—856; и Роб-
бинс 858; и вкусы 855
ценность жизни 860—869; забота о жизни других 863—865; и анализ зат-
рат и результатов 860; и дисконтирование 867—868; и внешние эф-
фекты 862; и семья 861-862; и государственное вмешательство 864;
и валовой национальный продукт 863; неявные оценки 868-869; и
страхование 866-867; и риск 860-869; и экономия на масштабе 861
ценность, субъективная теория ценности фирм 618. См. также выпла-
ты дивидендов политика, марксистская экономическая теория
ценовые ожидания, см. паутинообразная модель
центральные банки, см. денежная политика
цены, их гибкость, и оптимальные валютные зоны 645; и рента 729—730;
их теория и последствия действия законов 458—461
цикла жизненного гипотеза 622
ч
частичное равновесие, и общее равновесие 764. См. также равновесие
частной собственности права 714—719; и утопии 850. См. также общие
права собственности, собственности права
человеческий капитал, и семья 312, 315; и гендерные проблемы 373—374;
и экономика охоты и собирательства 417—419; и бедность 699; и
рациональность 425-426; и соискание ренты 743-744
Чикагская школа 48-60; и Беккер 57; чикагский монетаризм 52; и Коуза
теорема 58; ее «междисциплинарный империализм» 56; и семья 56;
и финансы 57; и Фридмен 53-54, 56; и Найт 49-51; и Ланге 52—53;
методология позитивной экономической теории 54; и неоклассичес-
кая теория цены 49; и политическая экономия 55—56, 685; и количе-
ственная экономическая теория 49; и рациональные ожидания 57—
58; и Саймонс 51-52; и Стиглер 55—56; и вкусы 57; и Вайнер 49-50
чистая потеря 628. См. также экономическая эффективность, обще-
ственные издержки
928
ш
шотландское Просвещение 776—781; и конституциональная экономичес-
кая теория 167; и Юм 778—779; и право и экономическая теория 779;
и политическая экономия 779; и собственности права 777; Смит об
экономическом развитии 778; Смит о росте 779; Смит и невидимая
рука 778; Смит и рынок 780; Смит о потребностях 778; и Стюарт
780-781
Шумпетер Й, и конкуренция и отбор 139-141; и эволюция 611; и по-
литическая экономия 684; о технологии 138
э
эволюция, эволюционная теория и теория игр 711-712. См. также кон-
куренция, отбор, естественный отбор и эволюция
Эджуорт Ф.И., и несовершенная конкуренция 659
экономика спорта 804—810', картели в 804—805, 808; монополия в 805—
806; максимизация прибыли в 806; расовая дискриминация в 808;
и профсоюзы 808. См. также досуг
экономика участия, см. участие работников в управлении и прибылях
экономическая интеграция 220—232; и сравнительное преимущество 223—
225; и конкуренция 229-230; и развивающиеся страны 224-225; эко-
номия от масштаба 228—229; влияние на торговлю 221—227; воздей-
ствие на благосостояние 222—228; и валютные курсы 231; мобильность
факторов 227—228; свободной торговли зоны 227; ее история 221; и
Липси 222-223; и Мид 222, 224, 228; многострановой анализ 225-226;
гармонизация политики 230—231; и налогообложение 231; и техно-
логия 230; и условия торговли 225—226; и теория «второго оптиму-
ма» 222; и Тинберген 223; и транспортные издержки 223; односто-
роннее снижение тарифов 224—225; и Вайнер 221, 223-224
экономическая интерпретация истории 233—245; и Энгельс 239-242; и
эксплуатация 242—244; и Гегель 234-237; и исторический материа-
лизм 241—245; и Маркс 234—245; и Поланьи 233; и Вебер 237—238
экономическая история, и гипотезы, противоречащие фактам 188—189.
См. также непрерывность в экономической истории, экономичес-
кая интерпретация истории
экономическая наука, происхождение термина 680—685
экономическая теория и гипотеза рациональности, см. рациональность
экономическая эффективность, и отбор худших 301, 525; и право и эко-
номическая теория 461—464; и контроль над уровнем платы за
жилье 734-738. См. также Коуза теорема, чистая потеря, обмен,
рынка несостоятельность, Парето критерий, совершенная конку-
ренция
экономические модели, и контрфактические утверждения 186—192
929
экономические показатели, и денежная политика 575—578. См. также
национальный доход
экономический рост 535—538; и непрерывность в экономической исто-
рии 183-184
экономический человек, см. homo economicus
экономического благосостояния функция 881—885
экономическое благосостояние, см. благосостояния экономическая тео-
рия
экономия на масштабе, и экономическая интеграция 228—229; и соис-
кание ренты 745-746; и Тибу гипотеза 824; и ценность жизни 861.
См. также цены предложения растущие
эксплуатация, и экономическая интерпретация истории 242-244; тру-
да 531-535; и условия торговли 814
экспортоориентированный рост, см. импортозамещающий и экспорто-
ориентированный экономический рост
эластичность предложения, и нейтральное налогообложение 627—628
Энгельс Ф., и экономическая интерпретация истории 240-242; и ген-
дерные проблемы 365-366
Эрроу —- Дебрё модель 659—660
Эрроу КДж., и первая теорема экономической теории благосостояния
501; и совершенная конкуренция 654—656; о ценностных суждени-
ях 858-859; и экономическая теория благосостояния 882-887
эффективный спрос 465. См. также Кейнс, неоклассический синтез
ю
Юм Д., и понятие равновесия 288; и интересы 436; о денежной поли-
тике 572; и шотландское Просвещение 778—779; и собственный
интерес 784, 786; и механизм перетока денежных металлов 799-803.
См. также классическая экономическая теория, политическая эко-
номия
Я
ядро — периферия, см. периферия
Япония, ее экономический рост 430—432
homo economicus, и эволюция 614—615; и схоластическая экономическая
мысль 768; и утопии 850. См. также классическая экономическая
теория
laissez-faire, и благосостояния экономическая теория 870, 875-878. См.
также классическая экономическая теория, невидимая рука, госу-
дарственное вмешательство
NAIRU, см. не ускоряющий инфляцию уровень безработицы
tatonnement (фр. «нащупывание»), см. вальрасовский аукционист
930
THE NEW PALGRAVE
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Перевод с английского
Научный редактор
чл.-корр. РАН В.С. Автономов
Редактор З.А. Басырова
Корректор Л. С. Куликова
Художественное оформление А.Н. Антонов
ЛР № 070824 от 21.01.93 г.
Сдано в набор 05.09.2003.
Подписано в печать 30.10.2003.
Формат 60x90/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Гарнитура Newton. Усл. печ. л. 59,0. Уч.-изд. л. 75,73.
Тираж 3000 экз. Заказ № 0315800.
Издательский Дом «ИНФРА-М»
127214, Москва, Дмитровское ш., 107
Тел.: (095) 485-71-77.
Факс: (095) 485-53-18.
Робофакс: (095) 485-54-44.
E-mail: books@infra-m.ru
http://www.infra-m.ru
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.
<J|