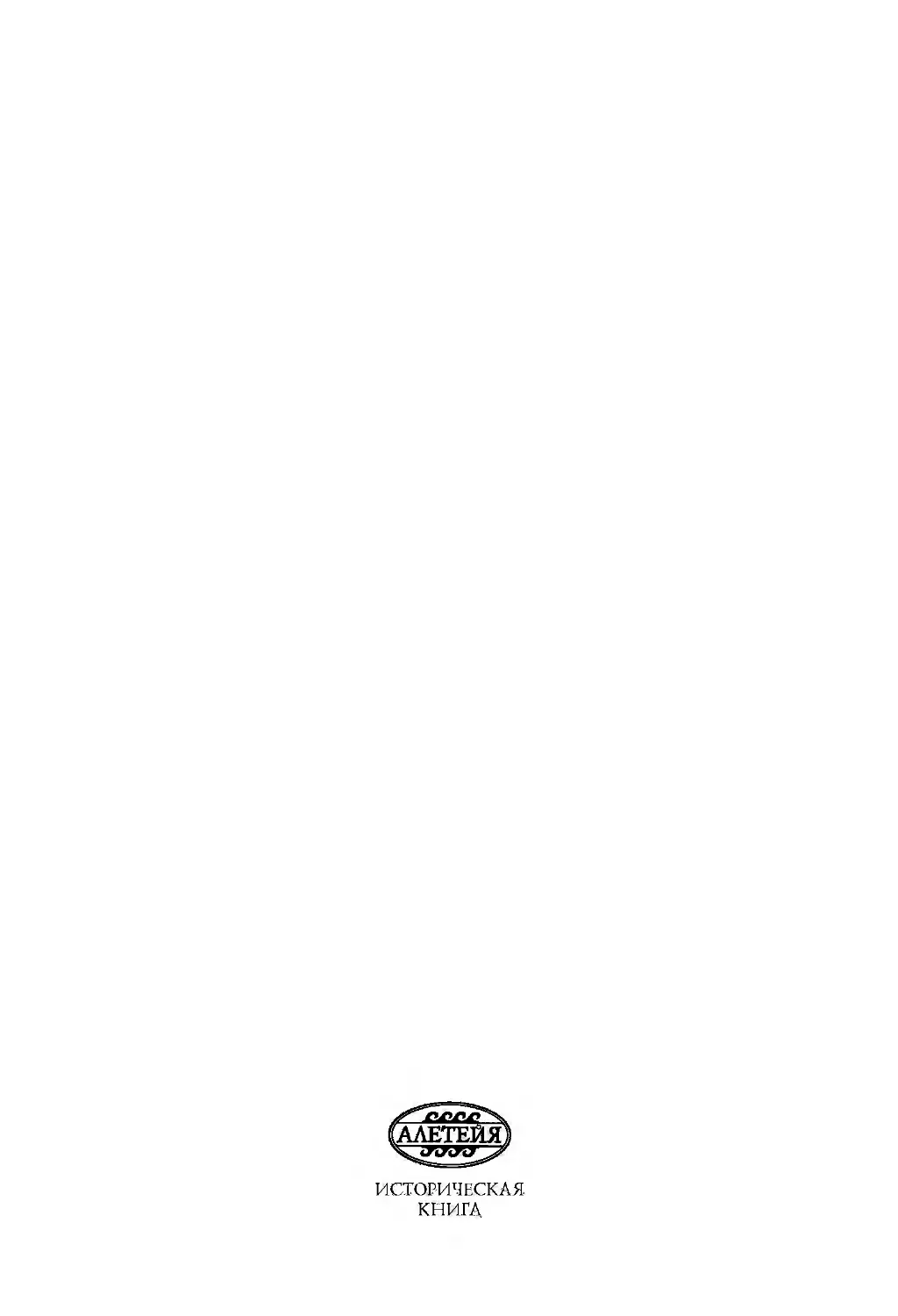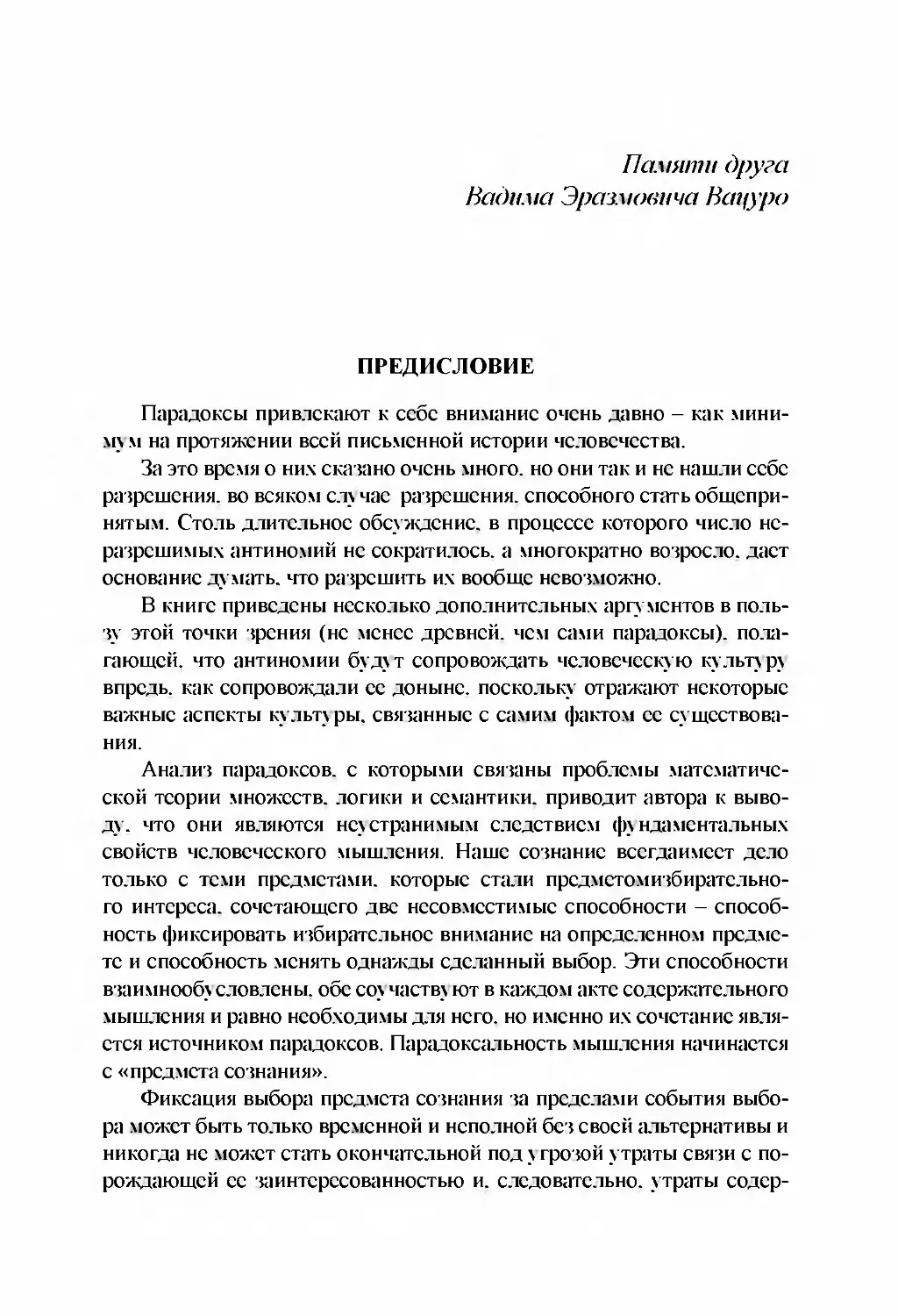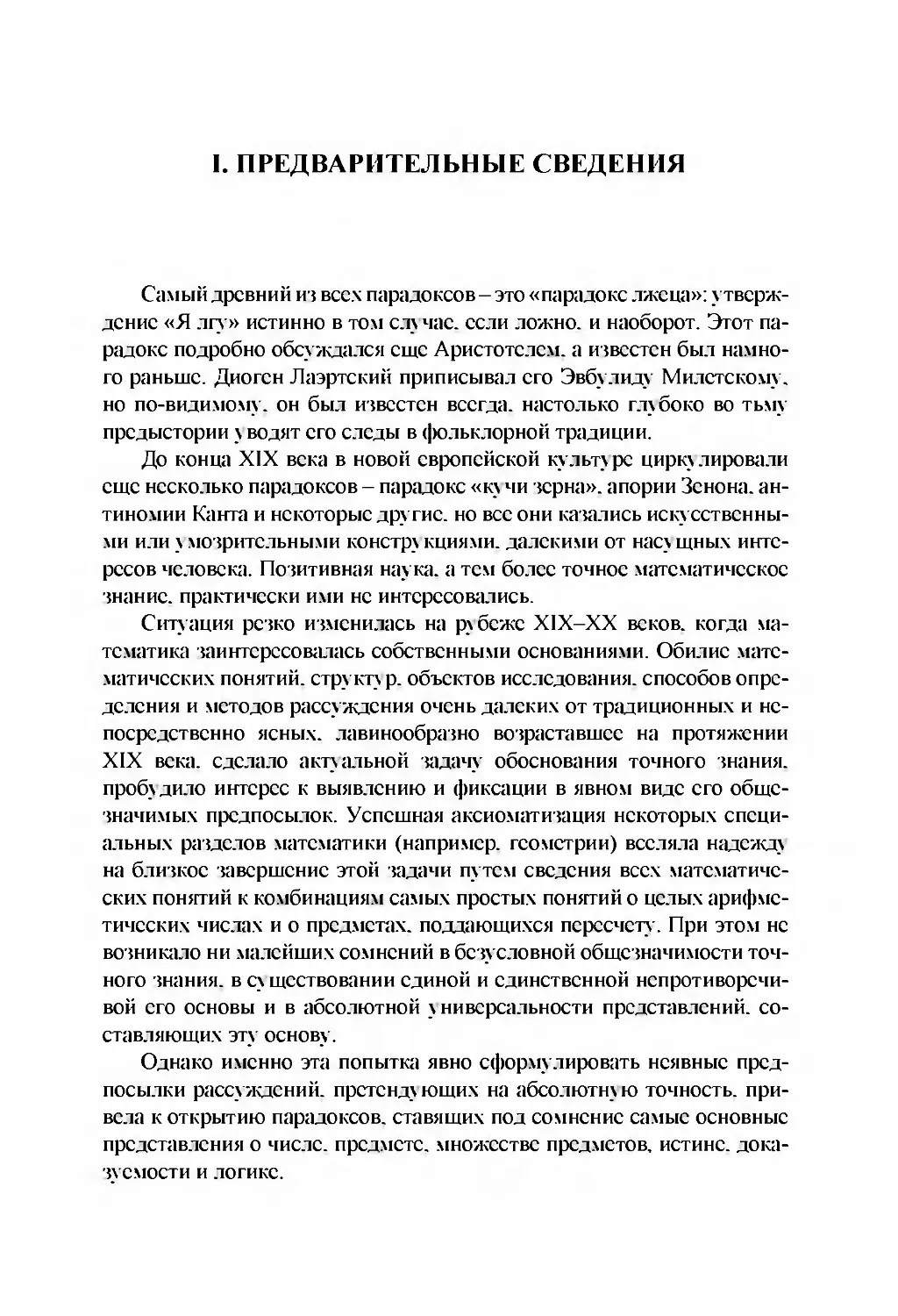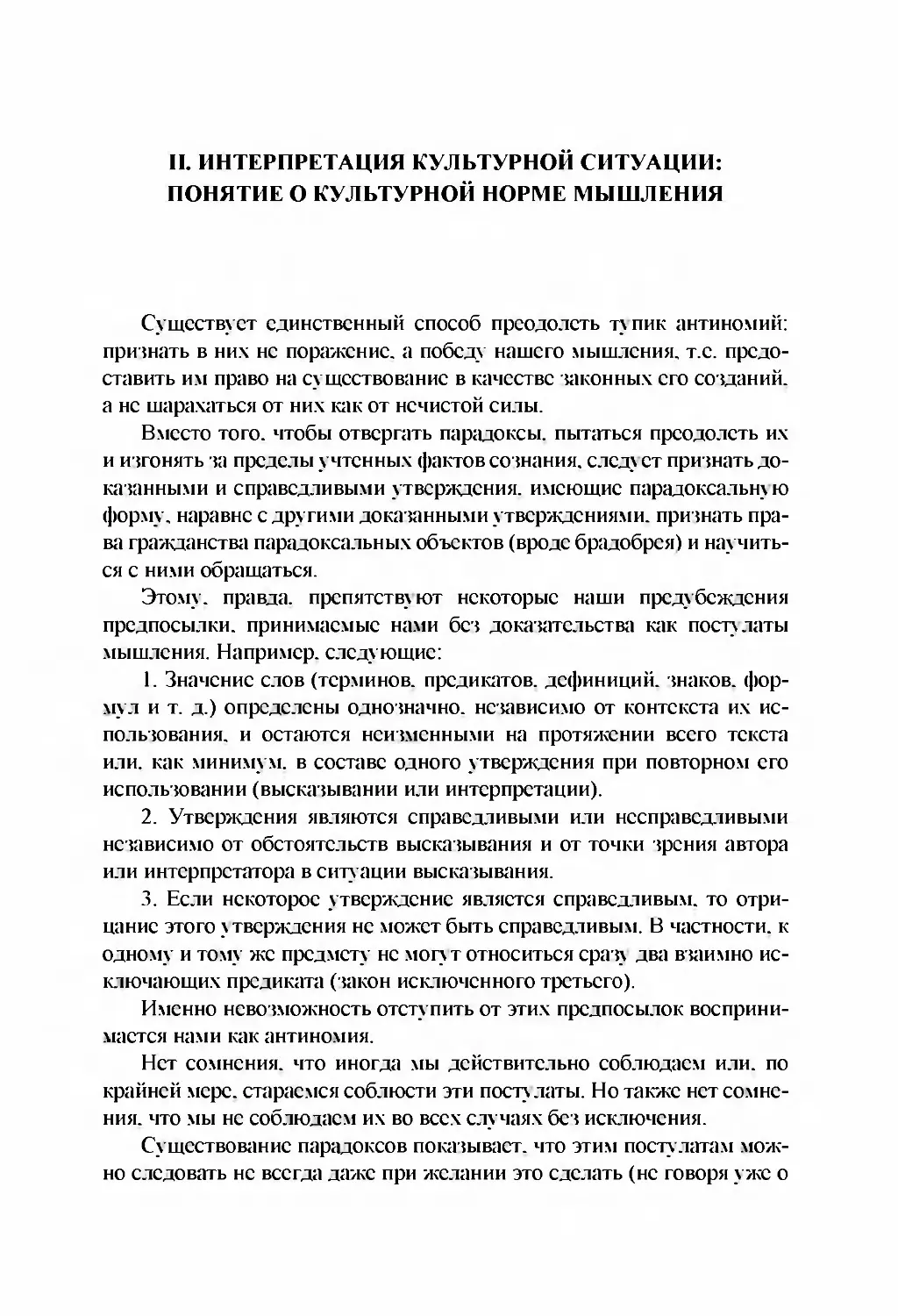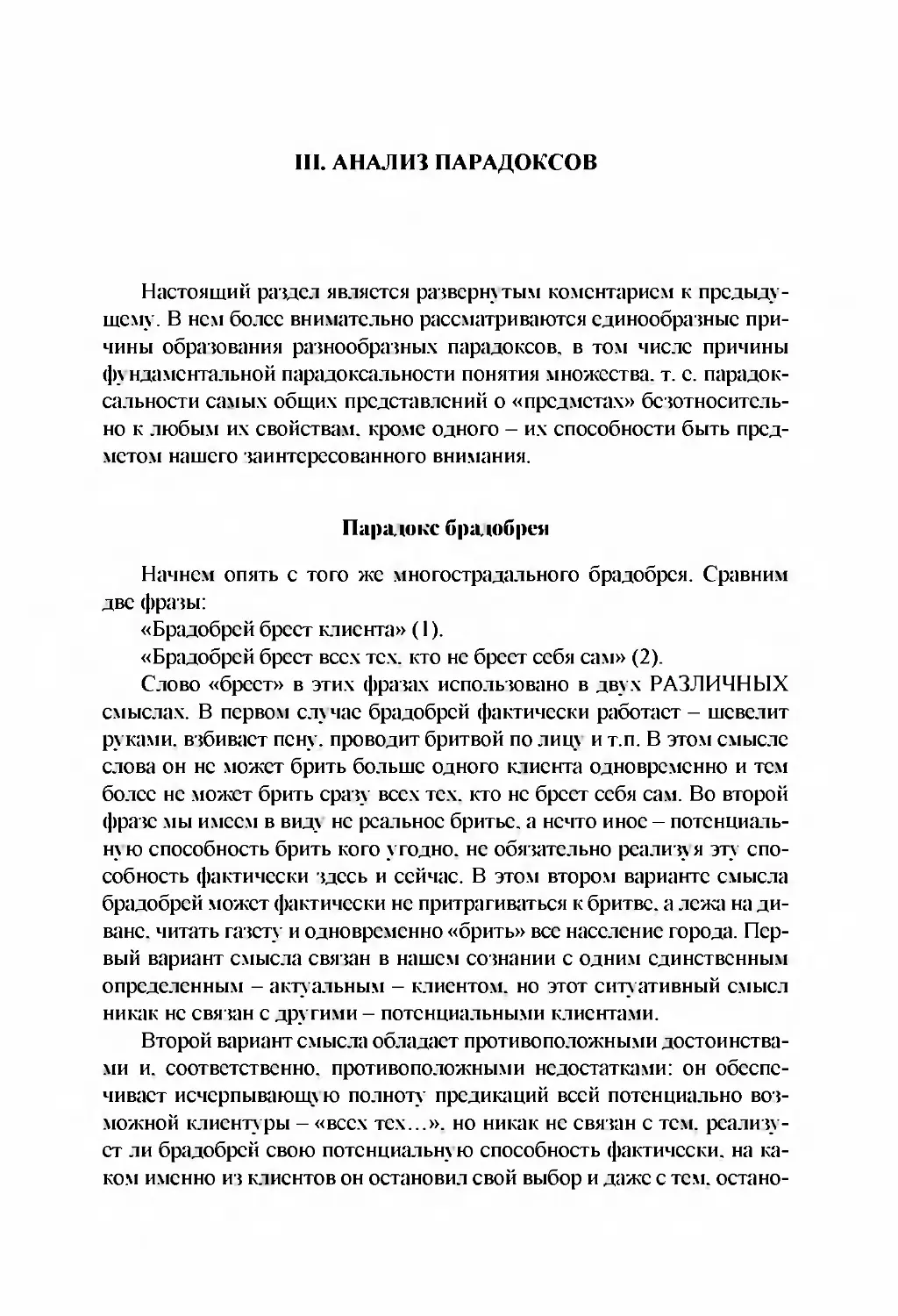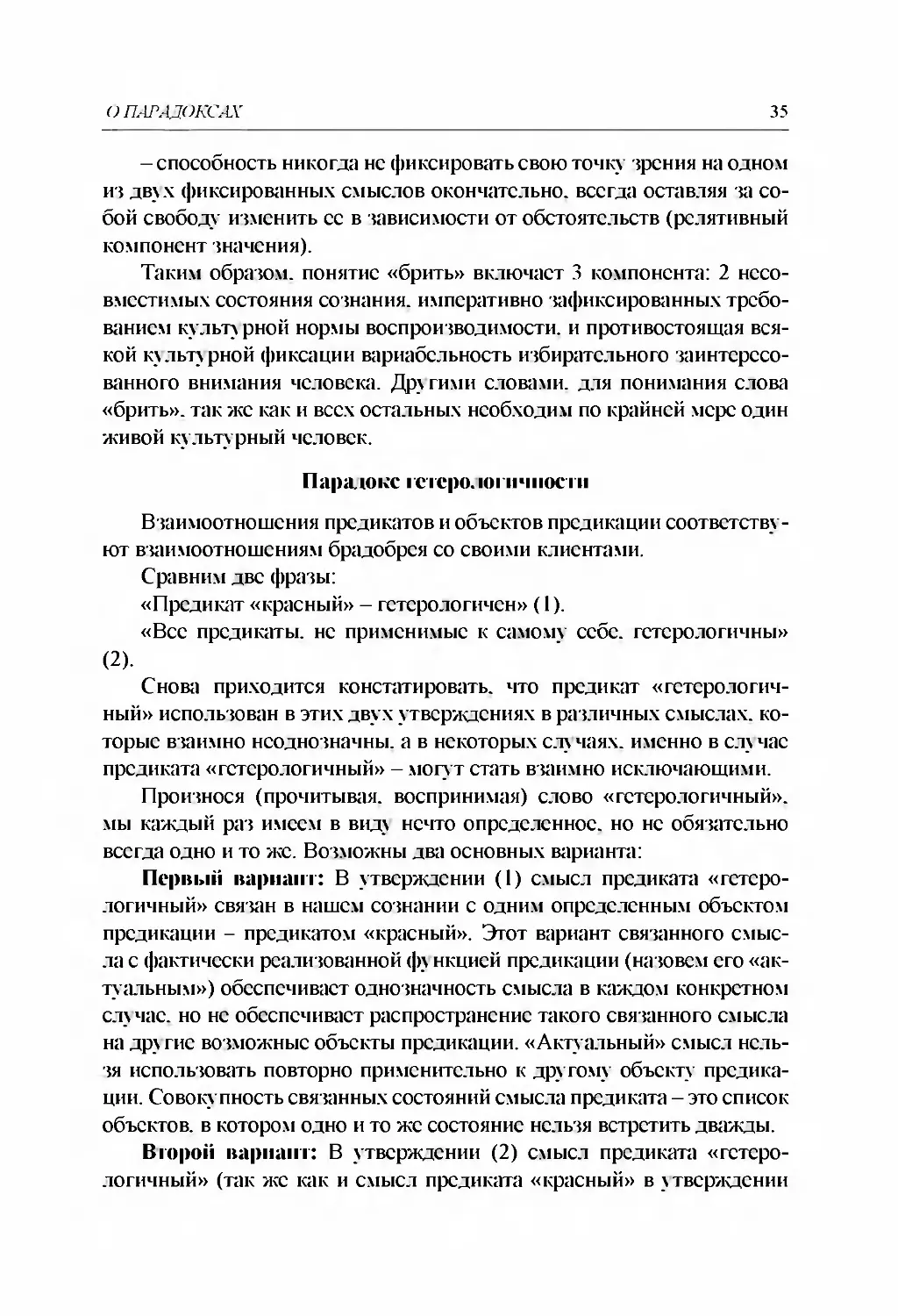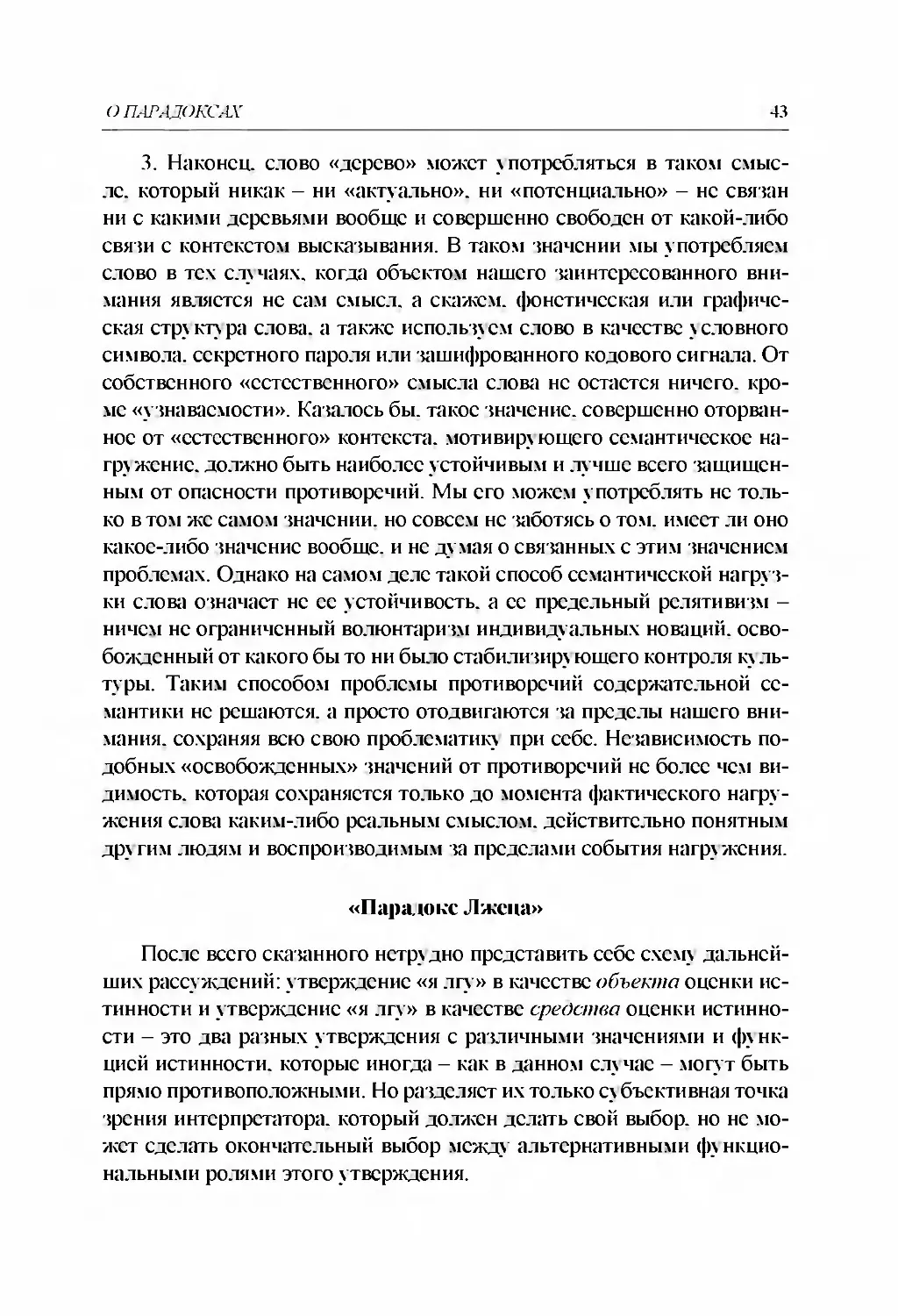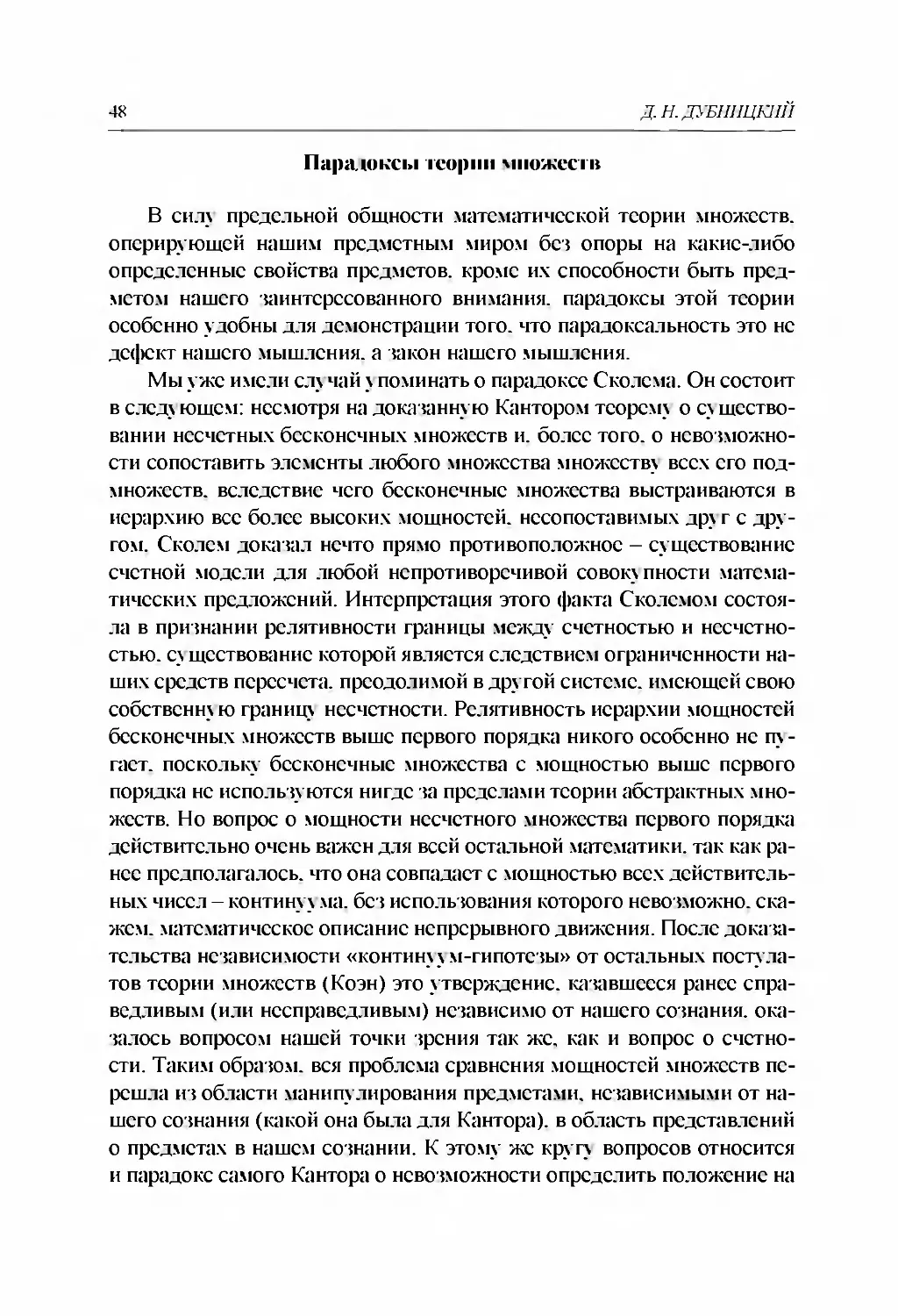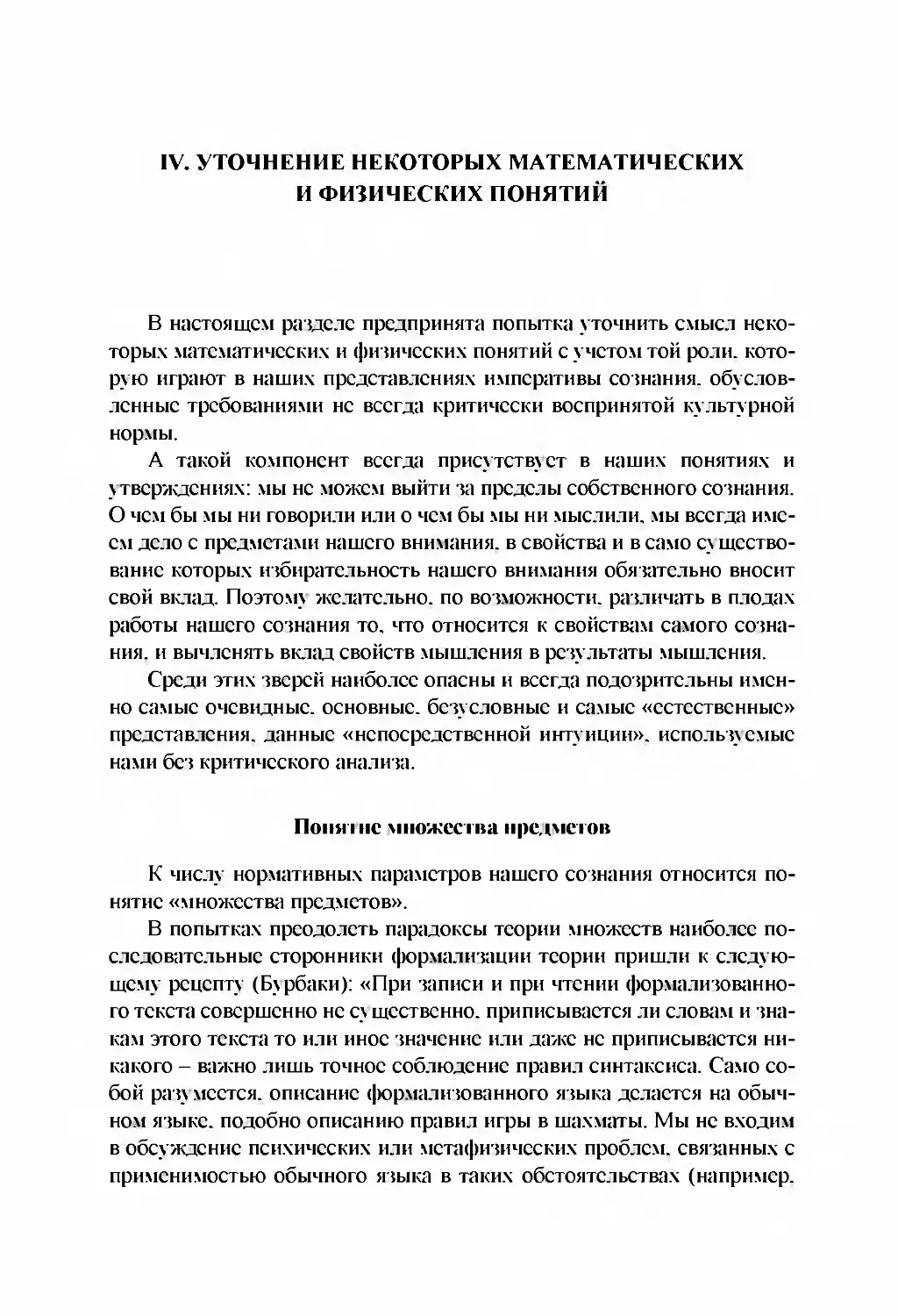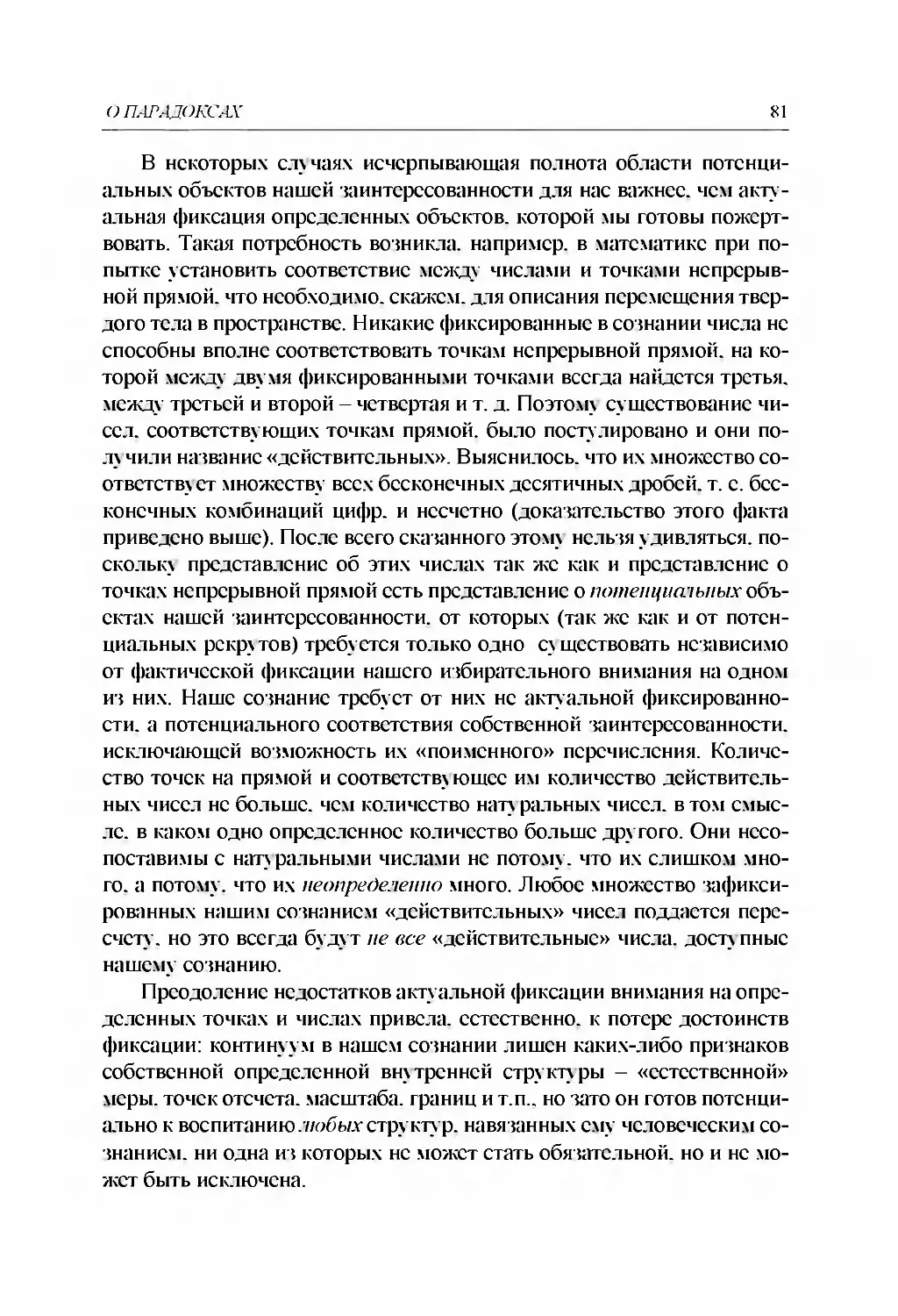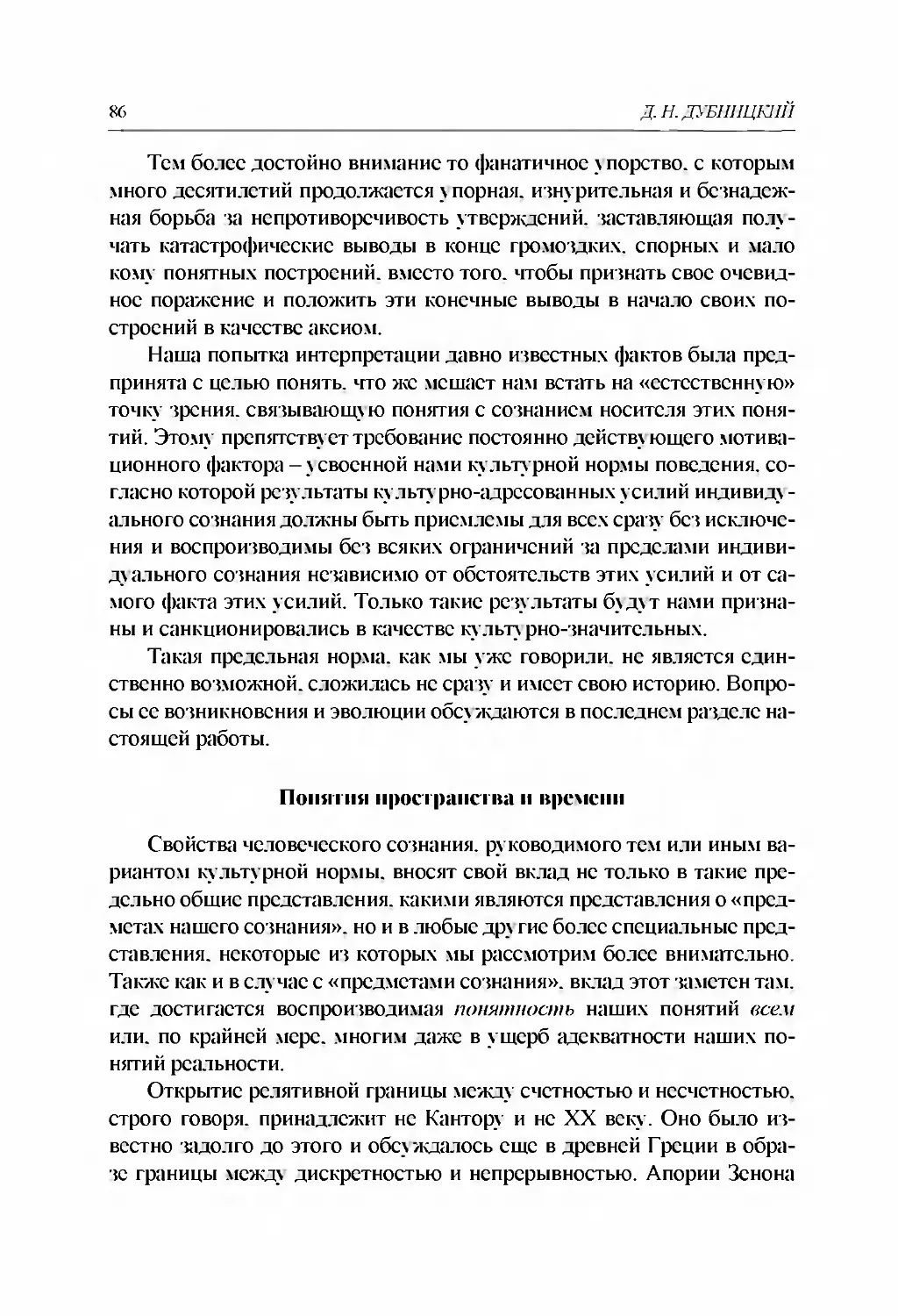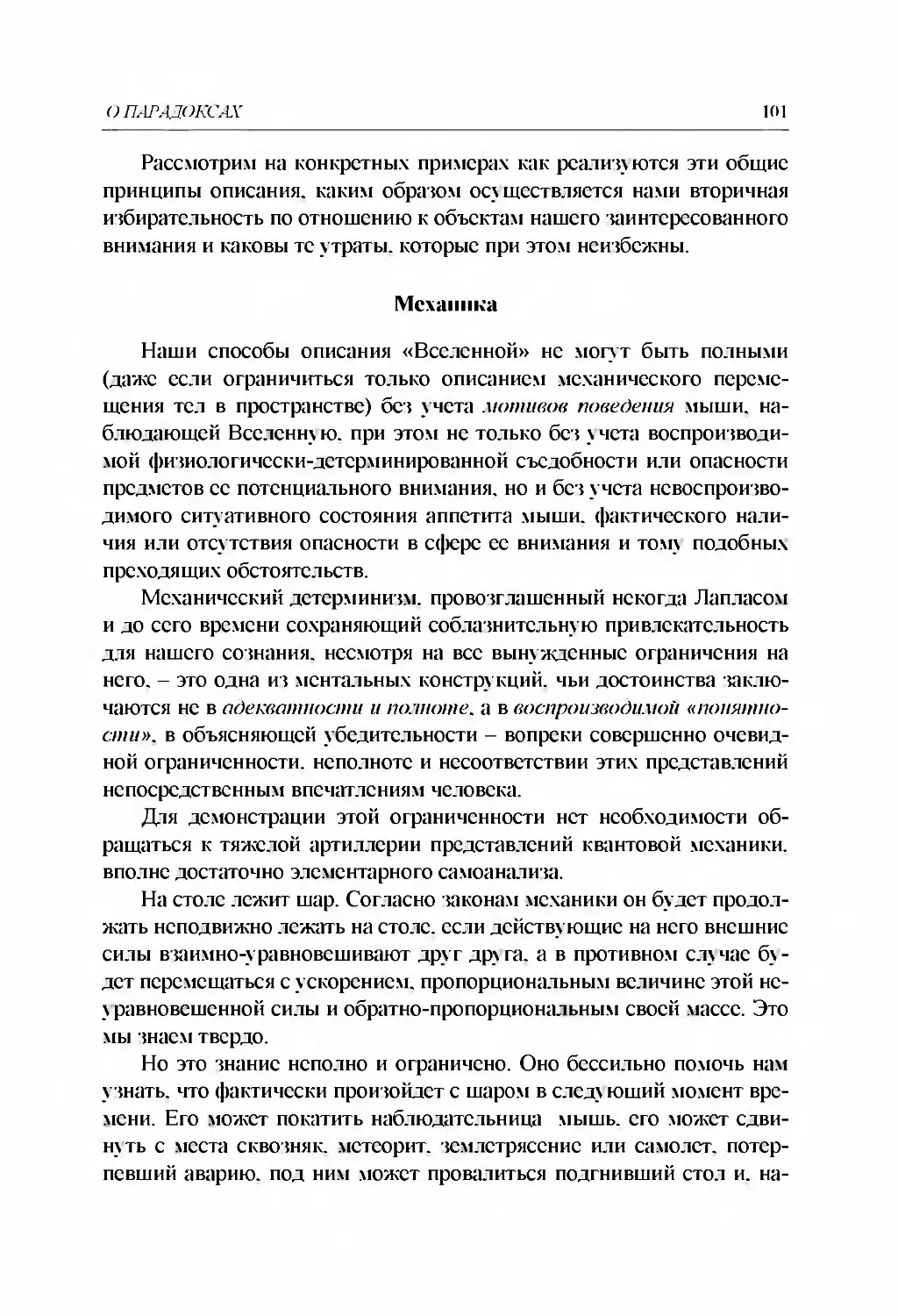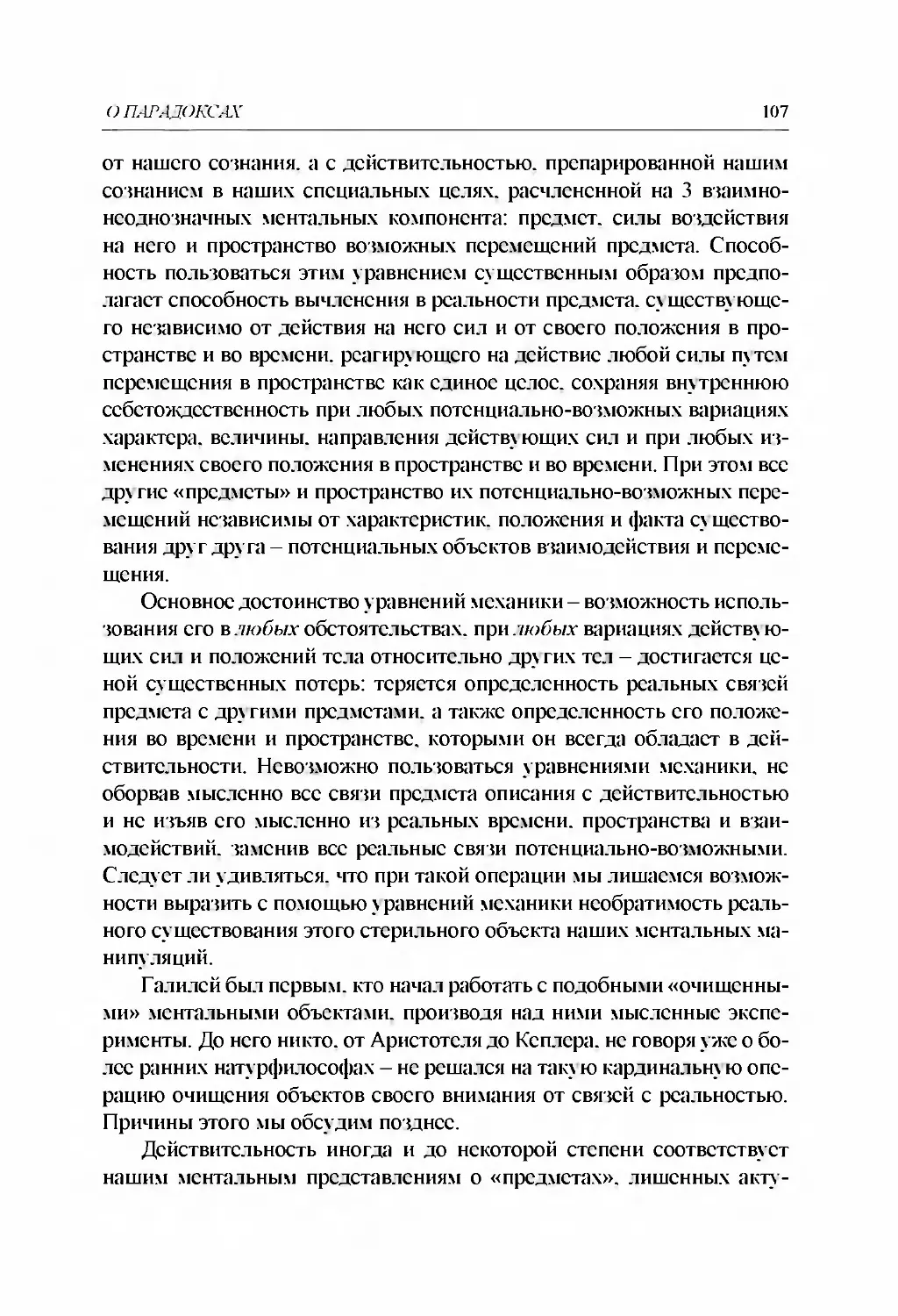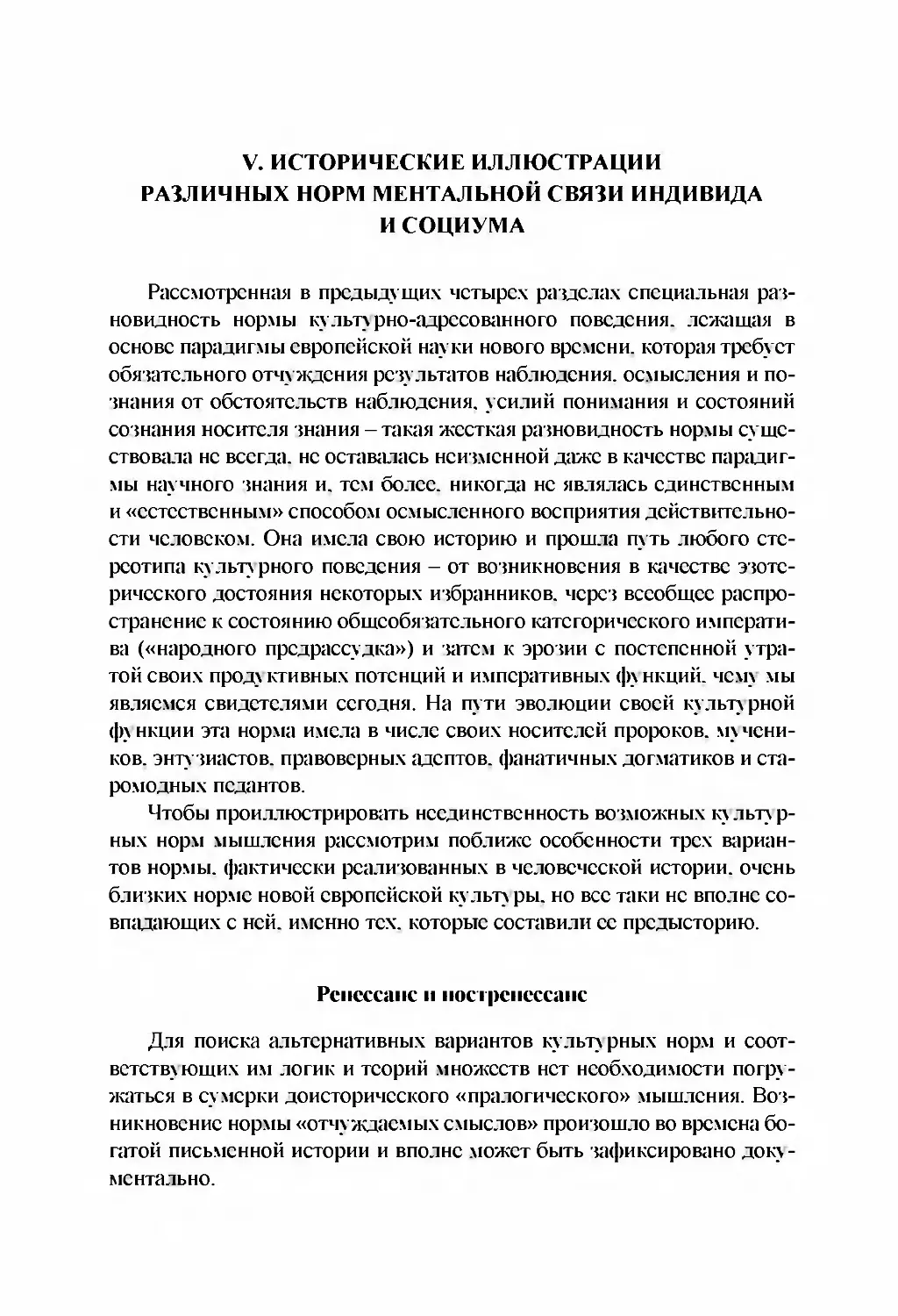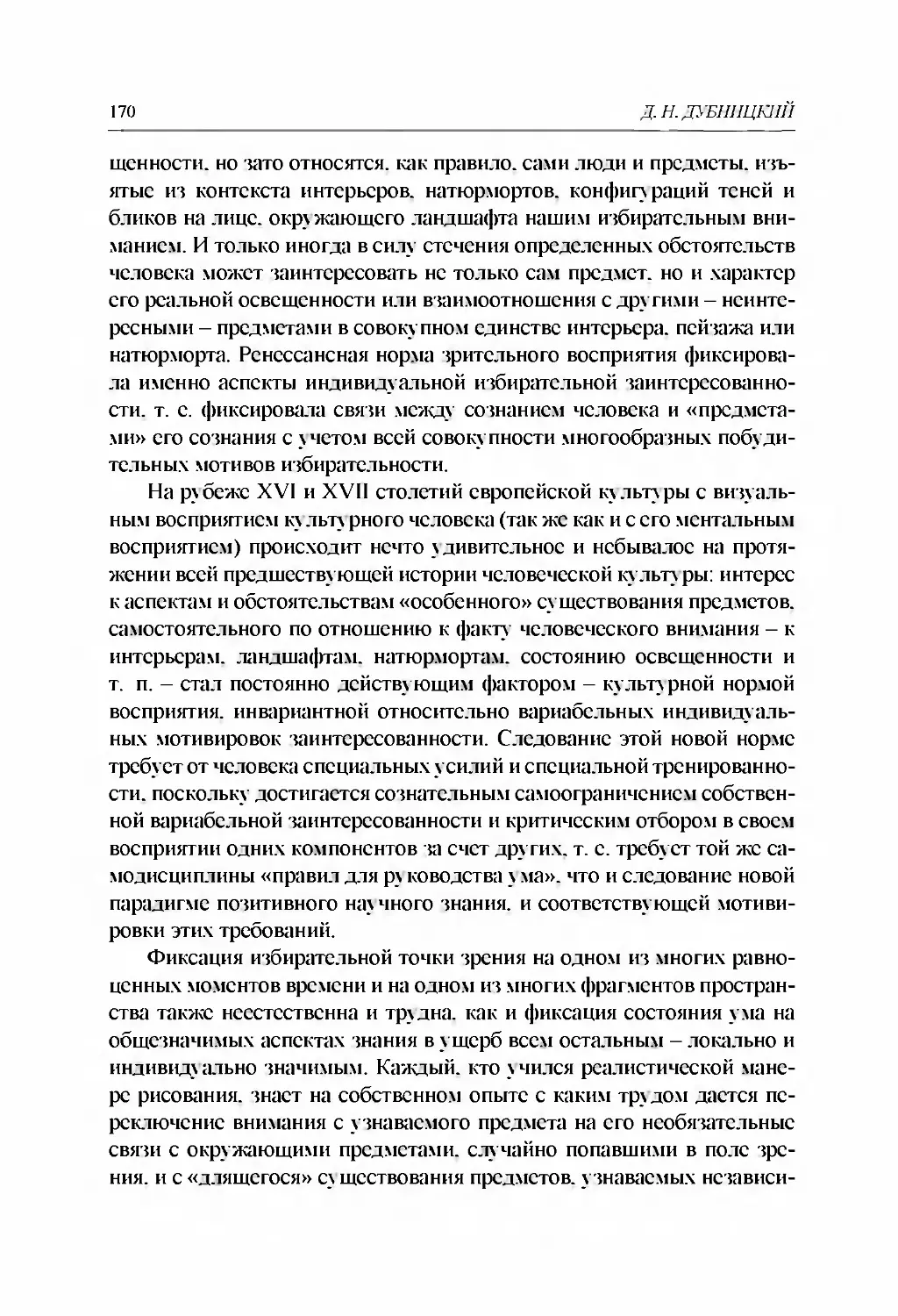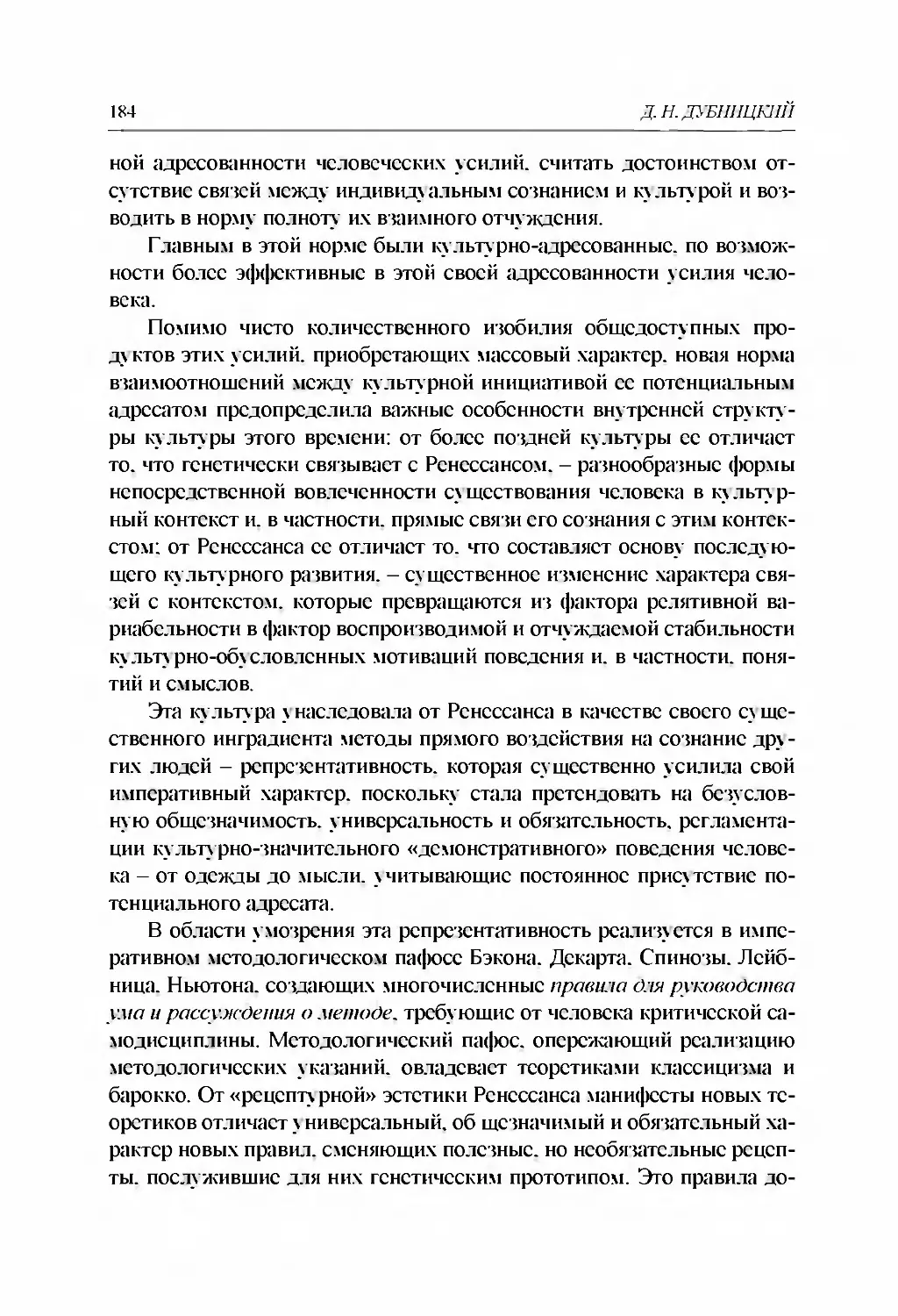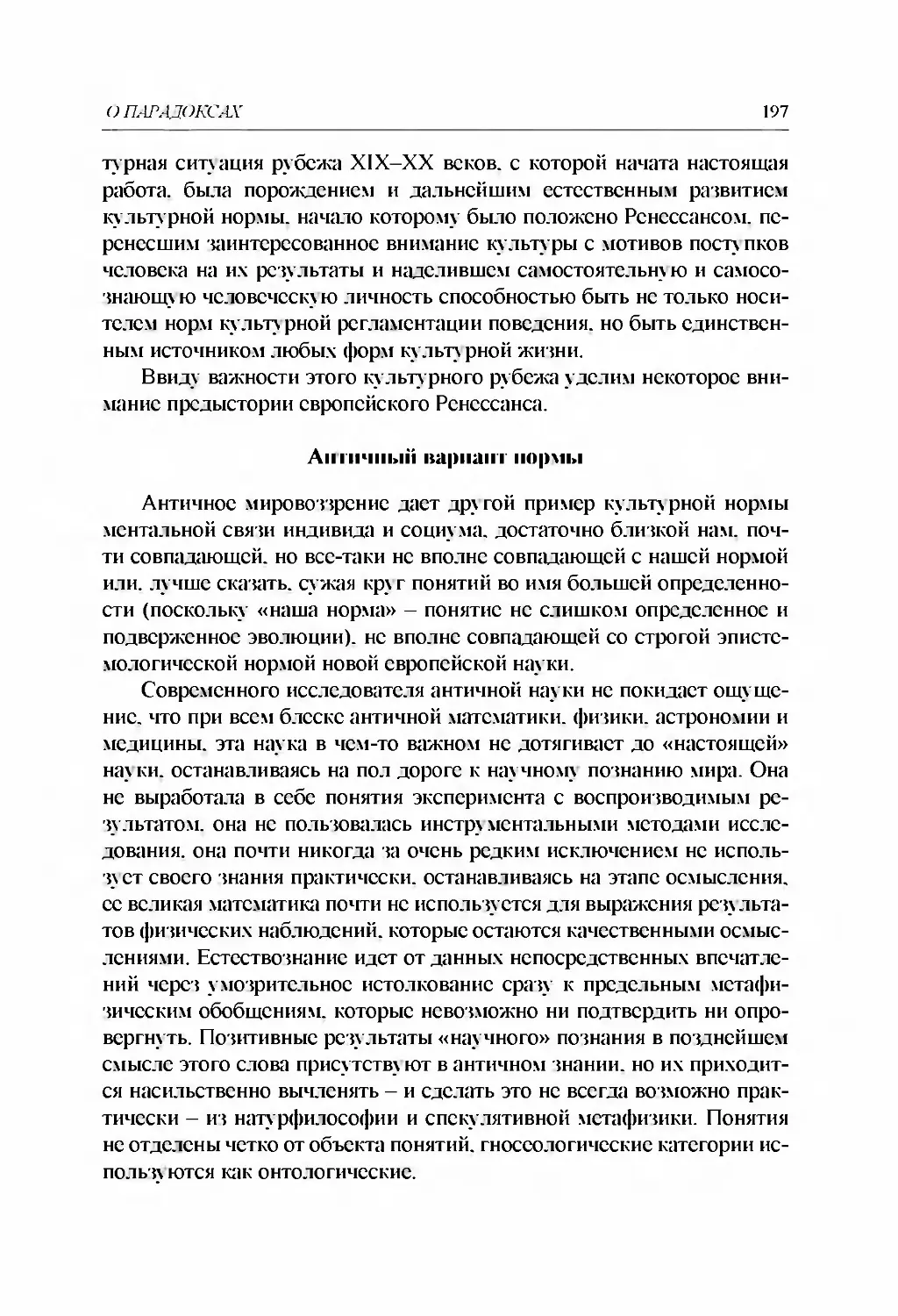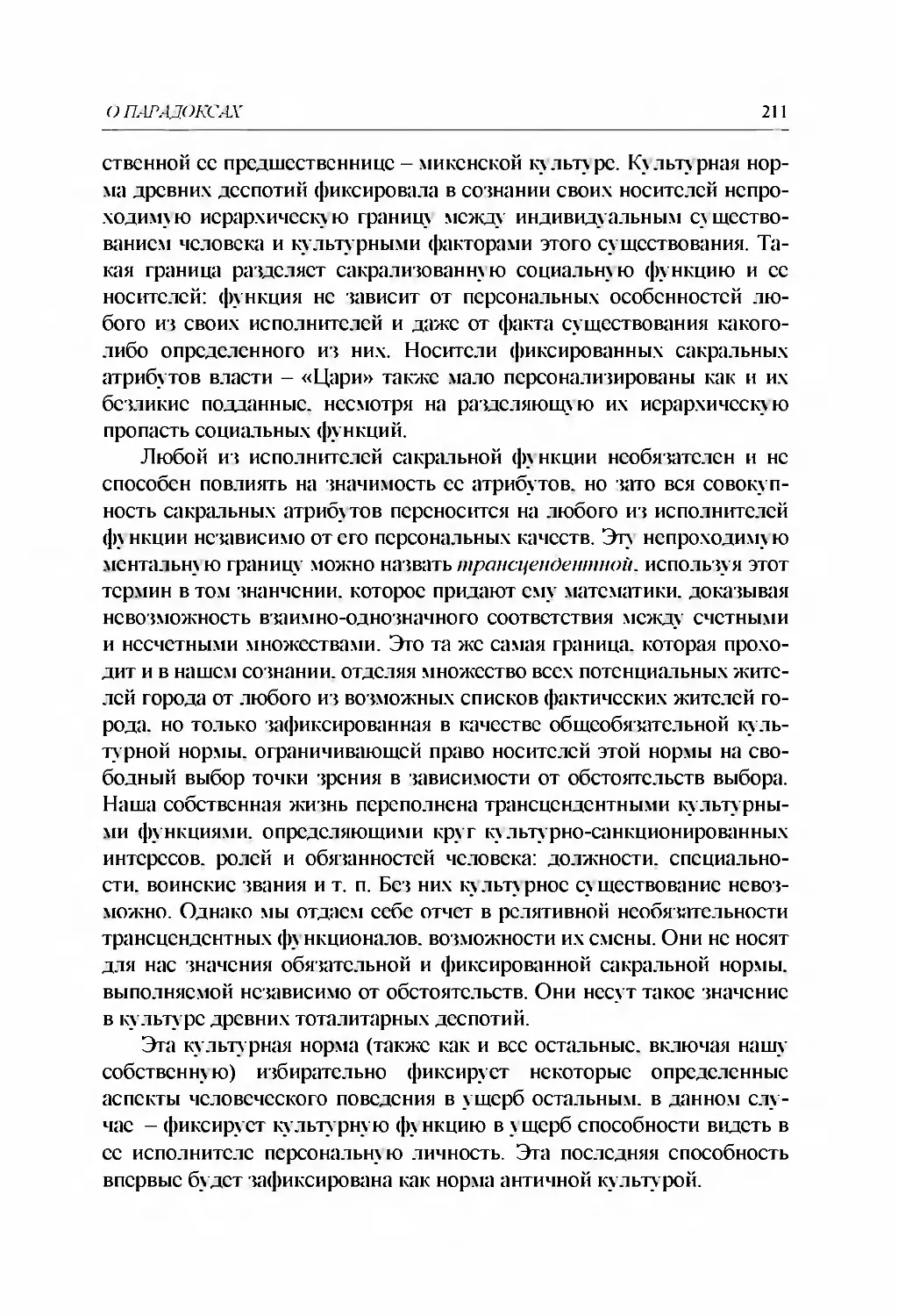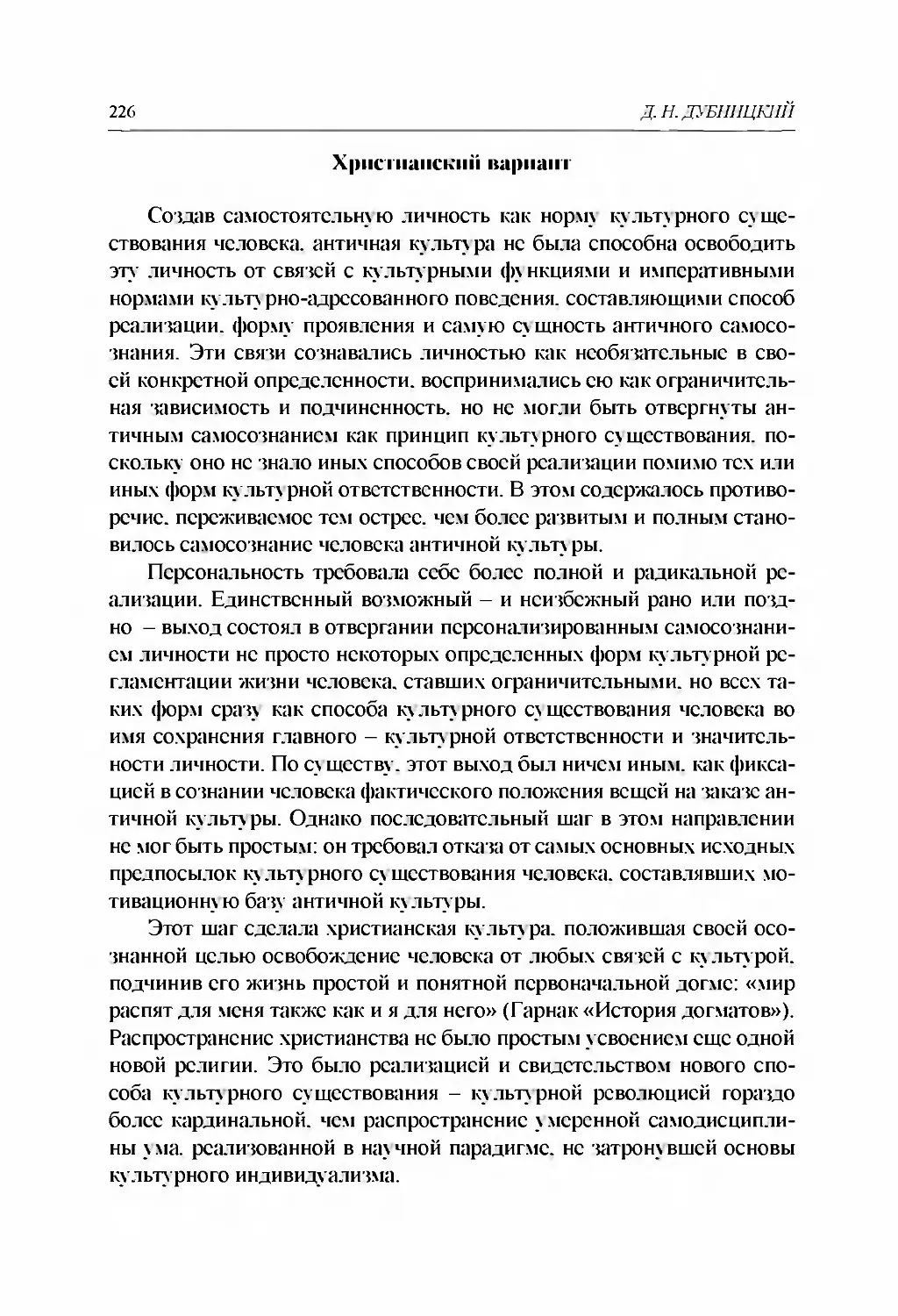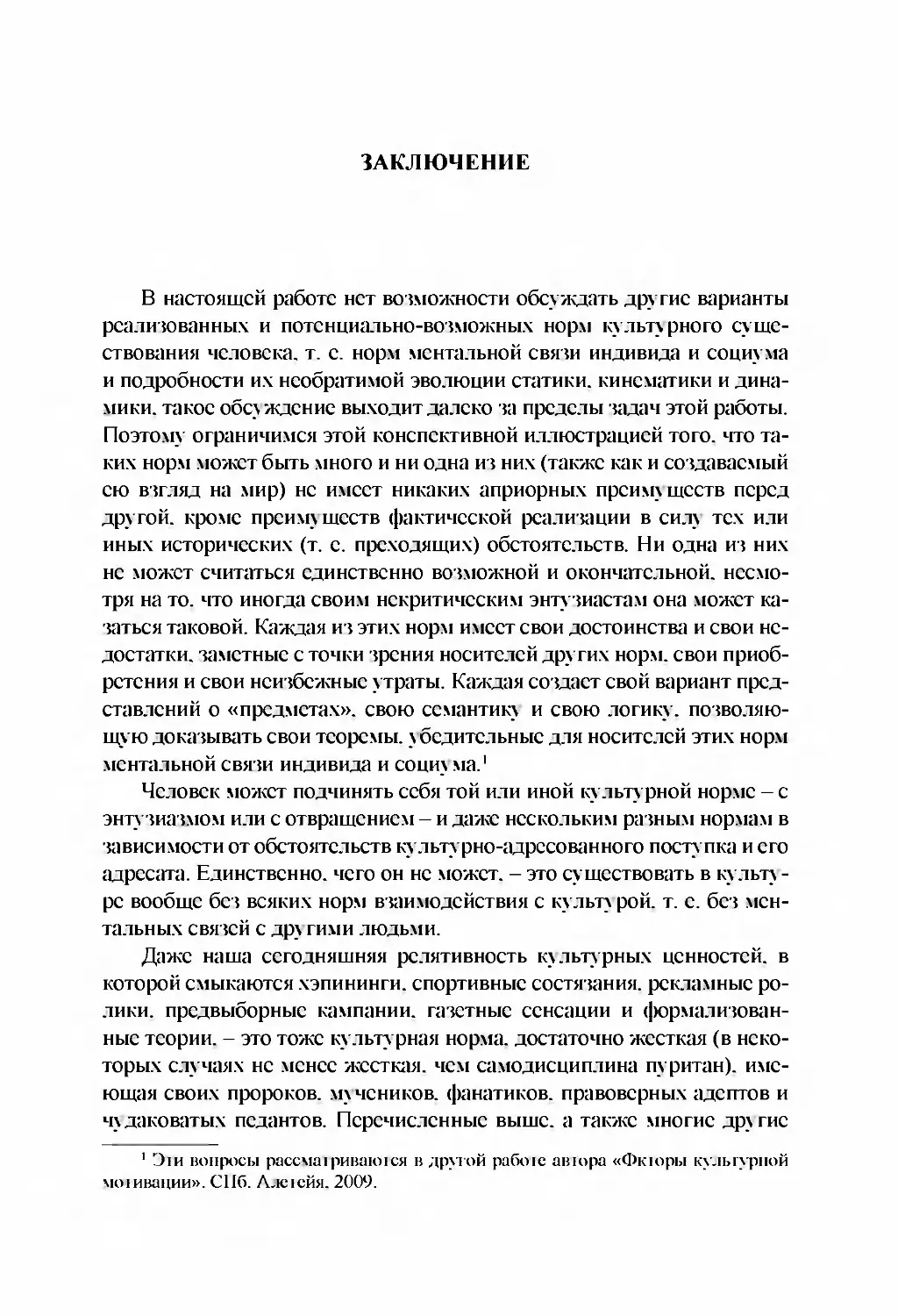Автор: Дубницкий Д.Н.
Теги: теория познания эпистемология гносеология (теория познания) социология
ISBN: 978-5-91419-832-6
Год: 2013
Текст
Д.Н. Дубницкий
О парадоксах
Санкт-Петербург
А Л E Т Е Й Я
2 0 13
.АЛЕТЕЙЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ КНИГА
УДК 165 ББК 87.22
Д795
Дубницкий Д. Н.
Д795 О парадоксах. - СПб.: Алетейя, 2013. - 262 с.
ISBN 978-5-91419-832-6
Проведенный в книге анализ неустранимых парадоксов, выявленных при попытке формализации оснований математики и логики, приводит к выводу, что парадоксы представляют собой не дефект нашего мышления, а его закономерное свойство. Они образуются при попытках освободить предметы нашего сознания от связи с состоянием этого сознания, в частности, освободить предметы осмысленного восприятия от обстоятельств, способов и самого факта осмысления восприятия, и доказывают, что этого сделать нельзя даже при желании это сделать.
Взаимное освобождение предметов от сознания, а сознания - от предметов не есть свойство мышления. Это не нечто действительное, а нечто желаемое, как требование неограниченной воспроизводимости и общезначимости, усилий осмысления, восприятия за пределами события восприятия индивидуальным сознанием. Это императив позитивного знания - специфической культурной нормы ментальной связи индивида и социума. Но невозможно совсем устранить из общезначимых итогов осмысления следы индивидуальных усилий человека, поскольку именно его избирательная заинтересованность, всегда способная и готовая к выходу за пределы культурной фиксации, определяет смысл, содержательность и сам факт осмысления восприятия.
Культурная норма предельного отчуждения предмета сознания от состояния сознания - не единственно возможная. Во второй части книги приводятся исторические примеры культур с иными нормами ментальной связи индивида и социума.
Книга адресована всем, кто интересуется тем, как работает человеческая культура.
УДК 165
ББК 87.22
ISBN 978-5-91419-832-6
© Д.Н. Дубницкий, 2013
9 785914 198326 © Издательство «Алетейя» (СПб.), 2013
Памяти друга
Вадима Эразмовича Ваиуро
ПРЕДИСЛОВИЕ
Парадоксы привлекают к себе внимание очень давно - как минимум на протяжении всей письменной истории человечества.
За это время о них сказано очень много, но они таки не нашли себе разрешения, во всяком случае разрешения, способного стать общепринятым. Столь длительное обсуждение, в процессе которого число неразрешимых антиномий не сократилось, а многократно возросло, дает основание думать, что разрешить их вообще невозможно.
В книге приведены несколько дополнительных аргументов в пользу этой точки зрения (не менее древней, чем сами парадоксы), полагающей, что антиномии будут сопровождать человеческую культуру впредь, как сопровождали ее доныне, поскольку отражают некоторые важные аспекты культуры, связанные с самим фактом ее существования.
Анализ парадоксов, с которыми связаны проблемы математической теории множеств, логики и семантики, приводит автора к выводу, что они являются неустранимым следствием фундаментальных свойств человеческого мышления. Наше сознание всегдаимеет дело только с теми предметами, которые стали предметомизбирательно- го интереса, сочетающего две несовместимые способности - способность фиксировать избирательное внимание на определенном предмете и способность менять однажды сделанный выбор. Эти способности взаимнообусловлены, обе соучаствуют в каждом акте содержательного мышления и равно необходимы для него, но именно их сочетание является источником парадоксов. Парадоксальность мышления начинается с «предмета сознания».
Фиксация выбора предмета сознания за пределами события выбора может быть только временной и неполной без своей альтернативы и никогда не может стать окончательной под угрозой утраты связи с порождающей ее заинтересованностью и, следовательно, утраты содер¬
6
ПРЕДИСЛОВИЕ
жательности. Попытка сделать эту фиксацию независимой от состояния сознания человека фиксирует тенденциозную ограниченность выбора. оставляя за своими пределами самое главное для него - побудительные причины выбора.
Ощущение парадоксальности создает именно невозможность окончательной фиксации предмета сознания независимо от состояния сознания в ущерб способности к релятивному изменению выбора. Стремление к такой окончательной фиксации (формализации) не принадлежит к числу свойств индивидуального мышления. Оно является дополнительным фактором мотивации выбора - требованием интерперсональной культурной нормы, ограничительной поотношению к персональному ментальному усилию и выполнимой (как показывают парадоксы) не всегда, а только иногда, даже при желании следовать этой норме. Фиксированные системы понятий, смыслов слов, представлений о предметах, а также построенные на их основе непротиворечивые теории, логики и языки всегда будут неполны и будут требовать для своего содержательного наполнения метатеорий, металогик и метаязыков, бесконечную пирамиду которых может замкнуть только одно: ситуативные и противоречивые побудительные причины выбора именно таких, а не иных представлений, понятий и смыслов.
Главный источник парадоксов человеческого сознания - это стремление к освобождению предметов сознания от состояний сознания, которое иногда бывает желаемым, но никогда не сможет стать действительным.
Культурная норма отчуждения предметов сознания от состояния- сознания, характерная, например, для эпистемологии европейскойна- уки нового времени, не является единственной, универсальной и общезначимой. Она локальна в пространстве и времени истории человеческой культуры, имеет начало, конец и эволюционирует между ними. Культурная норма - это тоже акт выбора, только не персонального, а интерперсонального.
Во второй части книги рассмотрены особенности некоторых других вариантов культурных норм, т. е. иных способов соучастия культуры в мотивации, иначе определяющих взаимодействие человеческого сознания со своими предметами, которые фактически функционировали в культурах европейского Ренессанса, Античности и христианского средневековья.
I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Самый древний из всех парадоксов - это «парадокс лжеца»: утверждение «Я лгу» истинно в том случае, если ложно, и наоборот. Этот парадокс подробно обсуждался еще Аристотелем, а известен был намного раньше. Диоген Лаэртский приписывал его Эвбулиду Милетскому, но по-видимому, он был известен всегда, настолько глубоко во тьму предыстории уводят его следы в фольклорной традиции.
До конца XIX века в новой европейской культуре циркулировали еще несколько парадоксов - парадокс «кучи зерна», апории Зенона, антиномии Канта и некоторые другие, но все они казались искусственными или умозрительными конструкциями, далекими от насущных интересов человека. Позитивная наука, а тем более точное математическое знание, практически ими не интересовались.
Ситуация резко изменилась на рубеже XIX-XX веков, когда математика заинтересовалась собственными основаниями. Обилие математических понятий, структур, объектов исследования, способов определения и методов рассуждения очень далеких от традиционных и непосредственно ясных, лавинообразно возраставшее на протяжении XIX века, сделало актуальной задачу обоснования точного знания, пробудило интерес к выявлению и фиксации в явном виде его общезначимых предпосылок. Успешная аксиоматизация некоторых специальных разделов математики (например, геометрии) вселяла надежду на близкое завершение этой задачи путем сведения всех математических понятий к комбинациям самых простых понятий о целых арифметических числах и о предметах, поддающихся пересчету. При этом не возникало ни малейших сомнений в безусловной общезначимости точного знания, в существовании единой и единственной непротиворечивой его основы и в абсолютной универсальности представлений, составляющих эту основу.
Однако именно эта попытка явно сформулировать неявные предпосылки рассуждений, претендующих на абсолютную точность, привела к открытию парадоксов, ставящих под сомнение самые основные представления о числе, предмете, множестве предметов, истине, доказуемости и логике.
8
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
«Наивные» - интуитивно ясные всем представления об этих вещах оказались противоречивыми и не смогли сыграть роль оснований математики. Специальные усилия многих людей уже долгоевремя направлены на преодоление этой противоречивости. Напомним существо вопроса в той мере, в какой это будет полезным для выяснения роли парадокса в человеческой культуре.
Новой теорией, которая открыла глаза на противоречивость «наивных» представлений, была теория бесконечных множеств Георга Кантора. Кантор доказал теорему о том, что для каждого множества некоторых объектов всегда найдется другое множество, превосходящее исходное по количеству входящих в его состав элементов, именно: множество всех подмножеств исходного множества. В частностим- ножество всех различных совокупностей натуральных чисел 1, 2, 3... нельзя пересчитать с помощью этих чисел - оно «несчетно». Согласно этой теореме множество всех подмножеств этого первого «несчетного» множества еще больше и т. д. Множества образуют иерархию бесконечно возрастающих мощностей, каждая из которых несоизмерима с предыдущей.
Теорема Кантора доказывается от противного путем приведения рассуждения к парадоксу. Действительно: предположим, что совокупности номеров пересчитаны, т.е. поставлены во взаимно-однозначное соответствие номерам. Некоторые из этих совокупностей включают собственные номера, другие - не включают. Рассмотрим совокупность номеров всех тех совокупностей, которые не включают собственных номеров. Эта совокупность не может иметь своего номера: она должна включать свой номер, если не включает его, и наоборот. Полученное противоречие опровергает первоначальное предположение и тем самым доказывает теорему.
Уже сам Кантор натолкнулся на то, что его теория не может быть универсальной и должна быть ограничена, именно: она не может распространяться на универсальную предметную область - «множество всех возможных множеств» - во избежание нового противоречия: мощность всех подмножеств универсуума не может быть больше мощности самого универсуума (парадокс Кантора).
Бертран Рассел попытался найти логическую ошибку в рассуждениях Кантора, но вместо этого обнаружил новый парадокс, который, по словам Гильберта, был воспринят математическим миром как катастрофа. Оказалось, что трудности с определением мощности «мио-
О ПАРАДОКСАХ
9
жества всех множеств» не исчерпывают всех проблем теории множеств. Среди множеств есть такие, которые не включают себя в качестве своего элемента - казалось бы, вполне безобидное и довольно распространенное свойство. Однако нельзя образовать без противоречия множество всех таких множеств: оно должно включать самого себя, если не включает себя, и наоборот (парадокс Рассела).
Эго была новая разновидность парадокса, по образцу которого незамедлительно вырос длинный ряд ему подобных. Рассел предложил юмористический вариант: единственный в городе брадобрей бреет тех (всех тех и только тех), кто не бреет себя сам. Вопрос «кто бреет самого брадобрея?» не может иметь определенного ответа: если он бреет себя сам, то не должен этого делать, и наоборот. На место брадобрея может быть поставлен учитель, врач, палач, религиозный проповедник, законодатель, слесарь-сантехник и т. и. К тому же типу относится «парадокс гетеро логичности» (Греллинг и Нельсон). Некоторые прилагательные применимы к самому себе, например: «многосложное», «русское»; другие - не применимы: «односложное», «французское», «красное» и т. и. Назовем первую разновидность прилагательных тавтологическими». а вторую - «гетерологическими». Прилагательное «гетерологическое» — автологично в том случае, если гетерологично, и наоборот.
Преодоление обнаруженных парадоксов требовало отказа от «наивных» представлений о множествах, от обыденных языков и логики, чреватых антинолиями, и создания специальных «не наивных» искусственных формализованных представлений о множествах языков и логик. Одной из первых таких формализованных теорий была «Теория типов» Рассела и Уайтхеда. В основе ее лежит идея о том, что в формализованной теории, претендующей на непротиворечивость, утверждение о свойстве и утверждение о свойстве свойства должны принадлежать к разным типам. Все возможные объекты утверждения располагаются согласно иерархии типов: индивидуумы принадлежат типу О, множество индивидуумов типу 1, множества этих множеств - типу 2 и т. д. Все известные к тому времени парадоксы преодолевались в «теории типов» тем, что в ней возможно образования понятий, подобных «множеству, включающему себя в качестве своего элемента» и «прилагательных, применимых к самому себе». Парадокс лжеца, например, преодолевается тем, что утверждение «это утверждение ложно» расчленяется на два, принадлежащих к различным типам: а) утверждение
10
Д. Н. ДУБНИЦКПП
факта ложности некоторого утверждения и б) объект первого утверждения. Однако последовательное проведение принципа разделения типов приводило к значительным трудностям; например, целые, рациональные, иррациональные числа оказывались в разных типах. Чтобы избежать подобных осложнений, Рассел и Уайтхед были вынуждены ввести так называемую «аксиому редукции»: любое высказывание более высокого типа эквивалентно одному из высказываний первоготи- па. Эта аксиома не была принята большинством других математиков и вызвала резкую критику в адрес теории типов. Способностьтеории служить общезначимым основаниям вызывала серьезные сомнения.
Развитием идей теории типов была предложенная Тарским иерархия формализованных языков, семантика которых определяется не внутри языка, а содержится в метаязыке более высокого ранга. Было предложено много иных вариантов формализации теории множеств и языка математики. Однако среди этого изобилия не оказалось таких концепций, которые смогли бы стать общепринятыми, не говоря уже о способности служить основанием точного знания, поскольку ограничения, накладываемые при формализации, оказывались слишком велики, а потери содержательности слишком значительными. Предполагаемое единство оснований математики оставалось недостижимым. Напротив, математический мир раскололся на враждующие группировки - логицисты, формалисты, интуиционисты, конструктивисты, а также отдельные неконформные личности, каждая из которых развивала собственные концепции, критикуя и отвергая все остальные.
Наиболее значительной - и принципиальной - потерей любых вариантов непротиворечивой формализации оказывался содержательный смысл формальных построений, выносимый за их пределы. Некоторые математики (Бурбаки) пришли к выводу о необходимости «синтаксической» концепции теории множеств, представляющей теорию в виде синтаксических правил оперирования набором символов, принципиально лишенных какого бы то ни было смысла, с вторичным введением «содержательных» терминов в качестве удобных сокращений слишком длинных формул. За пределами такой теории остаются важные вещи - мотивы, побуждающие нас предпочесть один бессмысленный набор символов другому, одни правила оперирования с ними другим, одни сокращения слишком длинных формул - другим и, тем более, мотивы, побуждающие людей заниматься такой заведомо «бессмысленной» деятельностью. Объяснение достоинств такой теории, а также описание
О ПАРАДОКСАХ
11
символов иправил операций возвращает нас к «наивным» представлениям и к необходимости использования неформализованного обыденного языка, непротиворечивым фрагментам которого, таким образом, оказывается формализованная теория множеств.
Выяснилось, что неполнота любых непротиворечивых систем носит принципиальный и неустранимый характер независимо от способа их построения. Были доказаны теоремы Тарского - о невозможности формализации понятия «Истина» и Гёделя - о невозможности доказать непротиворечивость системы средствами самой системы и невозможности описать натуральные числа с помощью непротиворечивой аксиоматической системы. Идея доказательства этих теорем проста, несмотря на трудоемкие подробности.
Теорема Тарского: если формализованная система обеспечивает возможность сформулировать предложение «Р - истинно», и следовательно, также предложение «Р - не истинно», то в ней можно сформулировать парадокс лжеца, т.е. предложение Р, утверждающее ложность Р (самого себя), которое истинно тогда, когда ложно, и наоборот. Следовательно, непротиворечивая система не может обладать средствами для разделения всех возможных в ней утверждений на истинные и ложные. Вывод Тарского был самым мрачным: невозможно не только определить то, что значит в разговорном языке «истинное высказывание», но и то. как им пользоваться в этом языке.
Теорема Гёделя: в формализованной системе, достаточно богатой, средствами, чтобы описать натуральные числа, возможно сформулировать предложение «Р - доказуемо» и, соответственно, «Р - не доказуемо» и, следовательно, предложение Р, утверждающее недоказуемость Р, которое доказуемо в том случае, если недоказуемо, и наоборот. Отсюда следует, что всякая непротиворечивая система заведомо неполна, поскольку в ней возможно формулировать предложения, которые средствами системы нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть (к их числу принадлежит предложение о собственной непротиворечивости).
Было обнаружено также, что никакая аксиоматическая непротиворечивая система не способна определить свои объекты однозначным образом, но допускает множество неоднозначных интерпретаций и моделей, которые могут противоречить одна другой. В частности, было доказано, что любое непротиворечивое множество предложений (предполагается, что именно такова совокупность аксиом) имеет счетную модель, т.е. реализуемо на множестве натуральных чисел, и это несмо¬
12
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
тря на то. что теорема Кантора доказывает существование несчетных множеств (парадокс Сколема). Этот факт был интерпретирован Ско- лемом как релятивность границы между счетностью и несчетностью, которая является следствием ограниченности любой непротиворечивой формальной системы, не способной пересчитывать некоторые собственные объекты, преодолимой в другой - более мощной и богатой средствами - формальной системе, имеющей, однако, свою собственную область «несчетности». Парадокс Сколема можно рассматривать как теорему неполноты формализованной теории множеств, так как из него следует, что ни в какой непротиворечивой теории множеств невыразима функция, пересчитывающая все множества данной теории.
Релятивность понятия мощности множества была подтверждена- доказательством независимости т. и. «континуум-гипотезы» от остальных аксиом теории множеств (Коэн). Гипотеза, выдвинутая Кантором, состояла в предположении, что мощность континуума (множества всех точек отрезка прямой или всех вещественных чисел от 0 до 1) соответствует первому несчетному множеству всех возможных совокупностей натуральных чисел. Однако Коэн доказал, что саксиомами теории множеств равно совместимо как это предположение, так и его отрицание. Ответ на вопрос о положении континуума на иерархической шкале мощности множеств Кантора утратил предполагаемую однозначность и стал вопросом точки зрения. Сам Коэн закончил свою книгу фразой: «Точка зрения, которая, как предчувствует автор, может стать в конце концов принятой, состоит в том, что ... С (обозначение мощности континуума) рассматривается как невероятно большое множество, к которому нельзя приблизиться путем какого бы то ни было постепенного процесса построения»1.
Таким образом, усилия, предпринятые с целью подвести общезначимое основание под здание точных наук, не привели к желанной цели. Нельзя сказать, что они не были продуктивными, потому что на этом пути созданы целые новые отрасли знания, плодотворно развивающиеся и имеющие большое прикладное и познавательное значение. Но конечный результат этих усилий оказался в некотором смысле прямо противоположным той задаче, ради которой они были предприняты. Вместо устойчивой общезначимости оснований точного знания они привели к фактическому релятивизму этих оснований, т. е. к зави1П. Ж. Коэн. «Теория множеств и континуум гипотез». М; 1969. С. 281.
О ПАРАДОКСАХ
13
симости их от точки зрения. Вместо универсальных всеобъемлющих и единственных непротиворечивых логики, семантики, теории множеств, существование которых «наивно» предполагалось в начале XX века, мы теперь имеем дело с необозримым океаном многочисленных и продолжающих плодиться формализованных логик, семантик, теорий множеств, необязательный выбор которых целиком определяется личной симпатией или антипатией автора, целью и обстоятельствами их предстоящего использования в каждом конкретном случае, их относительным удобством или эффективностью. Утихли споры двадцатых годов о сравнительных достоинствах различных аксиоматических систем логицизма, формализма, интуиционизма, конструктивизма и иных подходов к обоснованию математики, но не потому, что все пришли к единому мнению, а потому, что утрачено стремление к единству. Наивысшая добродетель математической точности сегодня состоит не в том, чтобы следовать общезначимой, единственной и безусловной логике, семантике или теории множеств - таких не существует, а в том, чтобы специально и каждый раз заново предупреждать какой именно формальной логике (семантике, теории множеств) из числа уже известных или создаваемых заново собирается следовать автор в данном конкретном случае, сознавая при этом отчетливо, что любая из них заведомо неполна и что некоторые объекты и понятия из числа самых важных (скажем, натуральные числа) вообще не соответствуют ни одной из непротиворечивых формализаций. Как это нередко бывает, усилия умозрения, облеченные в форму строгих математических теорем, оказались в полном соответствии этой эмпирической наблюдаемой картине интеллектуальной жизни, далекой от единообразной фиксации в гораздо большей степени, чем когда бы то ни было раньше.
Следует сказать, что представления о неполноте и релятивности фиксированных языков, логик и теорий, добытые усилиями напряженного умозрения, не являются чем-то слишком удивительным. Обыденное сознание всегда «наивно» полагало, что значения слов и утверждений зависят от точки зрения автора, адресата высказывания и обстоятельств высказывания, во всяком случае - всегда этим пользовалось и продолжает пользоваться, не слишком озабочиваясь абсолютной непротиворечивостью и в лучшем случае довольствуясь фрагментарной непротиворечивостью в пределах локального контекста ситуации высказывания, облекаля этот факт в строгие формы математических теорем.
14
Д. Н. ДУБНИЦКПП
Прежде чем углубиться в подробности, попытаемся в самом общем виде - с птичьего полета - показать, почему совокупность негативных выводов, к которым пришла математика, изучая собственные основания, нельзя считать неожиданной.
Для определенности вернемся к брадобрею, бреющему тех (всех тех и только тех), кто не бреется сам. Нетрудно заметить, что парадоксальность является следствием сочетания требования исчерпывающей полноты («всех тех...») и избирательности («только тех...»). Без парадокса мы легко образуем исчерпывающую сово купностьвсех тех, кто не бреется сам, включив туда брадобрея, если не требовать строгой избирательности. И наоборот, ничто не мешает нам образовать строго избирательную совокупность только тех, оставив за ее пределами брадобрея, если при этом не требовать ее всеобъемлющей и строгой полноты. Но одновременно выполнение этих требований оказывается невозможным. Императив полноты и императив избирательности предъявляют к брадобрею прямо противоположные требования: первый побуждает его побриться, второй - препятствует этому намерению.
Парадоксальность состоит в том, что оба требования одинаково дороги нам, мы не можем пожертвовать одним из них во имя другого, поскольку и исчерпывающая полнота и строгая избирательность в равной степени есть признаки определенности того же самого свойства, которое одновременно объединяет некоторых жителей города и избирательно выделяет их из числа всех остальных. Предикатный признак «те, кто не бреется сам» является носителем сразу двух альтернативных функций - избирательной и объединяющей. Они обычно мирно уживаются между собой, до тех пор, однако, пока мы не пытаемся с помощью избирательной способности предиката расчленить область его собственной интегрирующей способности. Тогда эти две способности, естественно, приходят в противоречие без всякой надежды на разрешение конфликта. В этой ситуации наше сознание встает перед неприятной необходимостью сделать между двумя точками зрения при невозможности следовать этому выбору раз и навсегда.
Условия для конфликта избирательности и полноты предикаций создаются тогда, когда потенциальным объектом предикации является сам предикат, потенциальным объектом описания - само средство описания, потенциальным объектом нумерации - совокупности номеров, потенциальным объектом некоторого утверждения само утверждение, потенциальным объектом действия - субъект этого действия и
О ПАРАДОКСАХ
15
т. п. Если при этом предикатный признак не препятствует средству описания быть объектом описания - ничего страшного не происходит. Но если он исключает средство описания (субъект действия) из числа объектов описания (объектов действия), противопоставляя его всем остальным потенциальным носителям интересующего нас свойства, то исчерпывающая полнота и строгая избирательность такого средства описания вступают между собой в конфликт.
Наши ментальные манипуляции, сталкивающие в нашем сознании избирательные и интегрирующие функции одного и того же предиката, не создают парадоксальности, но только делают заметным то, что уже содержится в каждом из предикатов, составляя такое же неотъемлемое его свойство, как способность круга быть круглым, именно: неспособность его обеспечить избирательность в пределах своей области идентификации и описывать в этой области какие-либо дифференцирующие признаки и, тем более, вычленять в ней отдельные экземпляры объектов суммарного описания. С помощью понятия «спичка» мы отличаем спичку от не спички, но не можем отличить одну спичку от другой.
Эта ограниченность - есть кардинальное свойство любых наших средств и способов описания. Каждое средство описания само ставит пределы собственной способности к описанию, и эта ограниченность не является чем-то устранимым. Она есть не что иное, как оборотная сторона главного достоинства описания - его фиксированной определенности, неограниченной воспроизводимости его смысла независимо от обстоятельств воспроизведения текста. Всякое описание с помощью фиксированных в своем значении дефиниций это не только приобретение, но и некоторая утрата. Определенность описаний в одном отношении достигается только ценой отказа от определенности в другом отношении. Аппарат фиксированных дефиниций - это аппарат фиксации тенденциозной избирательности нашего внимания, обусловленного нашей вариабельной заинтересованностью.
Эта ограниченность не преодолима для языка со строго фиксированным набором дефиниций, употребляемых всегда в одном и том же смысле (к чему мы стремимся, формализуя языки). Область идентичности одного предиката может быть расчленена и описана с помощью другого или многих других предикатов, принадлежавших более богатому расширению исходного фиксированного языка. Однако эти новые предикаты, будучи фиксированы в своем определенном значении
16
Д. Н. ДУБНИЦКИЙ
и в своем определенном количестве, снова будут иметь область нерасчленимое™ - свою собственную. Граница дескриптивной способности фиксированного языка просто отодвигается, оставаясь недостижимой, как горизонт.
Существует только одно единственное средство для преодоления фундаментальной неполноты и ограниченности фиксирующих описаний с неограниченно воспроизводимым смыслом - это дополнить нашу способность к фиксации средств описания нашей способностью не фиксировать их раз и навсегда, способностью не придерживаться однажды сделанного выбора и, при необходимости, менять точку зрения, направление избирательного внимания и, соответственно, состав и значение средств описания в зависимости от обстоятельств (чем все мы реально и пользуемся, не исключая сторонников строго формализованных систем). Фиксированные средства описания не могут существовать без своего нефиксированного и нефиксируемого релятивного дополнения - вариабельной заинтересованности человека, непосредственно ответственной за существование всякого смысла, в том числе хорошо воспроизводимого. Все. что можно сделать во имя хорошей воспроизводимости смысла - это вынести вариабельную заинтересованность человека за пределы фиксированного фрагмента описания, заведомо ограниченного и неполного. При этом за пределами такого фрагмента оказываются важная вещь - источник значения этого фрагмента, придающий смысл всему предприятию.
Желание избежать противоречий требует строго различать средство описания и объект описания с фиксированным значением, т.е. требует признать ограниченность таких средств, не способных описывать самих себя, в частности, не способных определить собственную семантику. В этом признании состоит выход, предлагаемый Кантором при введении иерархии мощностей бесконечных множеств, Расселом при введении иерархии типов утверждений, Тарским при введении иерархии метаязыков.
Однако такое ограничение не абсолютно, а релятивно: для каждого фиксированного средства описания граница неспособности - своя собственная (парадокс Сколема).
Но этого мало: расчленить средства описания и объекта описания можно не всегда, а только иногда. Нельзя отделить утверждения.в которых язык используется как средство описания, от утверждений, где он является объектом описания; в частности нельзя отделить преди¬
О ПАРАДОКСАХ
17
каты, не распространяющиеся на самих себя, от предикатов, распространяющихся на самих себя. Это можно сделать в каждом конкретном случае, но этого нельзя сделать раз и навсегда сразу для всех случаев жизни. Совокупность всех утверждений, не имеющих самих себя в качестве объекта утверждения, также противоречива, как совокупность всех «гетерологических» предикатов или всех множеств, не включающих себя в качестве своего элемента. Расчленение объектов описания и средств описания релятивно. т.е. определяется точкой зрения человека в зависимости от ситуации, что не удивительно, а вполне естественно и объяснимо. Способность утверждения быть средством описания или объектом описания это не свойство утверждения, независимое от нашего сознания, а его культурная функция в конкретных обстоятельствах его высказывания или восприятия.
Расчленение средств описания и объектов описания в качестве способа преодоления парадоксов может быть только временным и локальным и не решает проблему в целом. Действительно, не обладая способностью самостоятельно определять собственный состав и собственную семантику формализованные и любые иные знаковые системы с фиксированным составом и значением заведомо неполны и обязательно требуют других, внешних по отношению к ним средств описания (теоремы Тарского и Геделя). Они не могут ни возникнуть, ни существовать иначе, чем в качестве фрагмента другой - более полной - семантической системы. Эта более полная система не может быть бесконечной иерархией непротиворечивых языков со строго фиксированным составом и значением терминов, каждый из которых не обладает собственной семантикой, делегированной другому - очередному - метаязыку. Во избежание утраты всякого смысла вообще иерархия должна иметь предел, в качестве которого не может быть использован еще один формализованный язык, возвращающий нас к проблеме смысла.
Поскольку мы не можем выйти за пределы языка, для решения этой проблемы нужен такой язык, которому нет необходимости прибегать к другому - внешнему для себя - языку для наделения смыслом собственных слов и утверждений. Язык, наделяющий смыслом все непротиворечивые языки, не способные наделить себя смыслом, находясь в положении парадоксального брадобрея: если он наделяет себя смыслом сам, то не должен этого делать; если он не делает этого, то должен наделять себя смыслом - или остаться еще одним очередным непротиворечивым формальным образованием, не обладающим собственной
18
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
семантикой. Если мы хотим иметь дело с определенным смыслом, нам не обойтись без языка, который способен совмещать в себе функции объекта и средства собственного описания, вследствие чего в нем, к сожалению, возможны антиномии и парадоксы; который понимается носителями языка без дополнительных определений, но, к сожалению, не всеми сразу и не всегда одинаково; который обладает «естественной» связью между словами и их смыслом, не требуя «других» метаязыков, но эта связь, к сожалению, не всегда одна и та же и определяется преходящими обстоятельствами использования слова - контекстом культурной ситуации, обусловливающим и мотивирующим значительность воспроизводимых, эволюционирующих или вновь возникающих понятий, слов и смыслов, понятныхсоучастникам этого контекста, в котором слова и их смыслы не только существуют в готовом и неизмененном виде, но иногда могут возникать и, к сожалению, непредсказуемо изменяться при повторном употреблении. Этим же требованиям должен соответствовать универсуум - множество всех множеств, отвергнутое в свое время Кантором из-за своей противоречивости.
Такой язык и такой универсуум действительно существуют - это наш повседневный, обыденный, неформализованный язык с его денотатами. Формализованные языки, фиксирующие свои символы, знаки, термины ценой вынесения мотивировок их значения за собственные пределы, являются не более чем непротиворечивыми фрагментами противоречивого обыденного языка. Фиксация состава семантики непротиворечивых фрагментов языка, естественно, может быть только временной и сама обусловлена временными и преходящими обстоятельствами - избирательными интересами локальной группы соучастников определенной культурной ситуации, добровольно принимающих на себя обязательство самоограничительной дисциплины фиксированного знако-смысло-употребления во имя своих специальных и специфических целей. При этом один из парадоксов нашей культуры состоит в том, что как раз смысл терминов и утверждений формализованных теорий, призванных быть максимально точными, однозначными и абсолютно общезначимыми, практически не понятен никому, за исключением очень узкого круга специально подготовленных лиц.
Итак: известные средства предотвращать локальные парадоксы вкаждом конкретном случае не способны устранить их все сразу. Мы можем фиксировать (формализовать) значение любого нужного нам фрагмента существующего или искусственного языка, но при том обя¬
О ПАРАДОКСАХ
19
зательном условии, что это не будет сделано со всеми языками сразу и, тем более что это не будет реализовано как принцип обращения с языком. Невозможно ограничиться использованием фиксированных понятий, утверждений, текстов, языков, не относящихся к самим себе. За пределами непротиворечивой фиксации находятся понятия, утверждения, тексты, языки, знаки, смысл которых не остается неизменным до и после факта их использования - высказывания, начертания, восприятия. Утверждения, которые меняют смысл собственных терминов, встречаются, может быть, и не так уж часто, но без них нельзя обойтись, поскольку именно в них создаются и определяются смыслы и значения терминов и без них невозможно существование вообще никаких смыслов, в том числе фиксированных и формализованных. Строго говоря, любое новое утверждение может изменить значение использованных в его составе терминов. У нас нет никакой уверенности в том, что каждое следующее содержательное утверждение сохранит смысл слов языка, а не изменит его, не уничтожит или не создаст совершенно новый смысл. Более того, со всей уверенностью можно утверждать, что это рано или поздно произойдет. Хорошим примером этого могут как раз служить формализованные теории, изменяющие до неузнаваемости смысл исходных терминов, подлежащих стабилизации, как это произошло, скажем, с термином «множество».
Формализуя некоторые тексты и специальные языки, мы не устраняем противоречия полностью, но только удаляем их с глаз долой, временно и условно вычленяя во имя той или иной специальной цели непротиворечивый (заведомо неполный) фрагмент живого подвижного языка, но сохраняя при этом возможность черпать из противоречивого остатка осмысленность, мотивированность и культурную значительность своих формализованных теорий. При этом предельная полнота формализации, призванная обеспечить абсолютную воспроизводимость и независимость значения терминов языка от обстоятельств использования языка, означает одновременно полноту утраты всех следов «естественной» контекстуально обусловленной связи в нем слов со своими смыслами и, как следствие, предельную релятивизацию значений абстрактных знаков и формул, полностью зависящих от произвола интерпретатора и обстоятельств интерпретации.
Слова нашего языка имеют некоторое определенное значение при том обязательном условии, что оно не всегда одно и то же и сохраняет способность к эволюции, т.е. иначе говоря, при условии, что слова со¬
20 Д. Н. ДУБНИЦКПП
храняют связь с релятивным компонентом культуры - с вариабельной заинтересованностью человека, погруженного в контекст преходящих обстоятельств использования слова. Существование неустранимых антиномий сознания можно считать доказательством неустранимого соучастия индивидуального человеческого сознания в создании и существовании представлений, значений и смыслов, способных к воспроизведению за пределами индивидуального сознания, но не способных утратить связь со своей порождающей причиной.
Рассмотрим эти вопросы более внимательно.
II. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ: ПОНЯТИЕ О КУЛЬТУРНОЙ НОРМЕ МЫШЛЕНИЯ
Существует единственный способ преодолеть тупик антиномий: признать в них не поражение, а победу нашего мышления, т.е. предоставить им право на существование в качестве законных его созданий, а не шарахаться от них как от нечистой силы.
Вместо того, чтобы отвергать парадоксы, пытаться преодолеть их и изгонять за пределы учтенных фактов сознания, следует признать доказанными и справедливыми утверждения, имеющие парадоксальную форму, наравне с другими доказанными утверждениями, признать права гражданства парадоксальных объектов (вроде брадобрея) и научиться с ними обращаться.
Этому, правда, препятствуют некоторые наши предубеждения предпосылки, принимаемые нами без доказательства как постулаты мышления. Например, следующие:
1. Значение слов (терминов, предикатов, дефиниций, знаков, формул и т. д.) определены однозначно, независимо от контекста их использования, и остаются неизменными на протяжении всего текста или, как минимум, в составе одного утверждения при повторном его использовании (высказывании или интерпретации).
2. Утверждения являются справедливыми или несправедливыми независимо от обстоятельств высказывания и от точки зрения автора или интерпретатора в ситуации высказывания.
3. Если некоторое утверждение является справедливым, то отрицание этого утверждения не может быть справедливым. В частности, к одному и тому же предмету не могут относиться сразу два взаимно исключающих предиката (закон исключенного третьего).
Именно невозможность отступить от этих предпосылок воспринимается нами как антиномия.
Нет сомнения, что иногда мы действительно соблюдаем или, по крайней мере, стараемся соблюсти эти постулаты. Но также нет сомнения, что мы не соблюдаем их во всех случаях без исключения.
Существование парадоксов показывает, что этим постулатам можно следовать не всегда даже при желании это сделать (не говоря уже о
22
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
тех случаях, когда такого желания нет). Из этого не следует, что логика фиксированных смыслов (назовем ее так) никогда не верна, но следует, что она не всегда верна и не вполне совпадает с законами нашего мышления, имея границы области своей применимости. Мы иногда следуем ей, иногда не следуем ей, а иногда не можем следовать ей при всем желании. Парадоксальные утверждения дают пример того, как мы нарушаем постулаты 1, 2, 3, не нарушая законы мышления, а строго следуя им - в противном случае парадоксы было бы слишком легко устранить. Деформируют «естественные» законы нашего мышления именно попытки избавиться от парадоксов путем «неестественных» самоограничений вроде «Теории типов» Рассела.
Действительно: значение прилагательного в качестве средства описания и значение того же прилагательного в качестве объекта описания - это ДВА РАЗНЫХ значения, которые никогда не совпадают, а в некоторых специальных случаях (прилагательное «гетерологический») взаимно исключают друг друга (в чем именно состоит разница между ними будет специально обсуждаться в следующей главе при анализе конкретных парадоксов).
Выбор одного из этих двух альтернативных значений нельзя предопределить заранее и раз и навсегда независимо от контекста использования прилагательного. Этот выбор определяется именно и только точкой зрения человека - интерпретатора в контексте конкретного акта использования слова интерпретатором. Выбор не только не остается неизменным на протяжении одного текста, но может быть другим в каждом следующем эпизоде повторного высказывания или истолкования того же самого текста. За пределами ситуации осмысления определенным человеком оба альтернативных варианта значения сохраняются на равных правах.
Эта свобода контекстуального переосмысления текста является не в меньшей степени «естественным» законом нашего мышления, чем самодисциплина постулатов 1, 2, 3. Альтернатива выбора между функциональными значениями объектов описаний и средств описаний не единственная область необходимого присутствия индивидуального сознания, нарушающего своим релятивным вмешательством строгую фиксированность логических правил. Смысл любого слова распадается в нашем сознании на ДВА различных взаимно неоднозначных значения, которые в некоторых случаях могут стать взаимно исключающими. Например, слово «СПИЧКА» мы употребляем как минимум в
О ПАРАДОКСАХ
23
ДВУХ различных значениях, когда имеем в виду функциональное назначение спички (безотносительно к конкретному экземпляру носителя этой функции) и когда заинтересованы состоянием конкретного экземпляра спички (необязательно используемого по прямому назначению). Эти два значения взаимно неоднозначны: существует неопределенно много предметов, потенциально способных выполнять функцию спички, при том, что ни один из них не является обязательным и может быть заменен другим; в то же время для конкретного экземпляра спички существует неопределенно много потенциальных функций (зубочистка, средство для письма и т. и.), каждая из которых не является строго обязательной. Между предметами - носителями функций и функциями не может быть взаимно однозначного соответствия. Какое именно из двух значений слова «спичка» мы имеем в виду, произнося это слово, определяется только состоянием нашего сознания, фиксирующего свое избирательное заинтересованное внимание на одном альтернативном значении в ущерб другому. Но невозможно зафиксировать этот выбор раз и навсегда вне зависимости от контекста ситуации выбора. Каждый раз он может быть иным. Оба значения существуют в нашем сознании только вместе, и фиксация одного из них означает утрату определенности второго. Как увидим позже, из этого раздвоения значения слова «спичка» можно образовать свой парадокс.
Еще два примера. Одинаковые цифры 111 имеют для нас определенное и разное значение каждая, если видеть в этой троице обозначение числа «сто одиннадцать», но они же имеют одно и то же значение вместе со всеми остальными экземплярами цифры 1, где бы мы ее ни встретили, а также вместе с еще нереализованными ее экземплярами, которые мы можем встретить в будущем, если рассматривать эту троицу как фрагмент упражнения школьника в чистописании (за этой разницей тоже стоит свой парадокс). Слово «солдат» имеет одно значение, когда мы просим его уступить место старушке в трамвае, и другое - при обозначении социальной функции, которую может исполнять неопределенное множество потенциальных призывников, каждый из которых необязателен и взаимозаменяем.
В реальных жизненных ситуациях мы преспокойно пользуемся своим правом менять точку зрения на значение слова в зависимости от обстоятельств и практически никогда не затрудняемся этой неоднозначностью именно вследствие определенности контекста использования слова в каждом конкретном случае. Более того, мы совершен¬
24
Д. Н. ДУБНИЦКПП
но справедливо уверены во взаимном понимании нас другими людьми и в правильности повторного воспроизведения требуемого значения адресатами наших высказываний до тех пор. однако, пока сохраняется связь выбранного значения с обстоятельствами, мотивирующими сделанный выбор. Трудности начинаются там и тогда, где и когда мы пытаемся изолировать смысл слов и утверждений от обстоятельств высказывания, пытаясь определить их значение и степень справедливости независимо от контекста использования.
Значение слова - это не его имманентное свойство, а его культурная функция в конкретных обстоятельствах использования.
Несмотря на заведомое нарушение постулатов 1, 2, 3, мы не можем отказаться от способности совмещать в своем сознании два альтернативных (иногда - прямо противоположных) осмысления слова, отдав предпочтение одному из них за счет другого, как побуждает нас к тому закон исключенного третьего. Право свободного выбора точки зрения в каждом конкретном случае - такой же безусловный рефлекс нашего сознания, как и стремление следовать закону исключенного третьего после реализации выбора.
Существование границы взаимной неоднозначности, разделяющей альтернативные значения слов (в частности - значения слов в качестве средства описания и объекта описания), - обязательное свойство нашего восприятия, понимания, интерпретации слов, но свойство именно восприятия, понимания и интерпретации, принадлежащее сознанию интерпретатора, от которого это свойство нельзя оторвать и изолировать.
Эго объективная реальность субъективной позиции, обусловленной индивидуальной заинтересованностью в контексте тех или иных обстоятельств выбора. Определенное значение слова - это не. состояние, а событие, которое может повториться, а может и не повториться.
Вопрос - гетерологично или автологично прилагательное «гетерологический»? имеет следующий «позитивный» вариант определенного ответа, поддающегося контролю логики: иногда - да, иногда - нет, это зависит от точки зрения автора ответа, которую он имеет право изменять; и на этот вопрос не существует ответа, независимого от точки зрения автора, одинаково справедливого для всех случаев жизни сразу.
Возможность сформулировать парадокс, т.е. возможность привести сознание в такое состояние, где мы не можем не отказать себе в способности иметь сразу две взаимно исключающих точки зрения, остано¬
О ПАРАДОКСАХ
25
вив свой выбор на одной из них, ни избежать необходимости выбора, обнажает соучастие в нашем мышлении релятивного компонента - вариабельной точки зрения, избирательной и тенденциозной, которую в других случаях удается вывести за пределы культурно-значительных результатов мышления. Неразрешимость парадоксов в пределах фиксированных понятий и логик, регулирующих взаимоотношения фиксированных понятий, можно считать доказательством необходимого и неустранимого соучастия в нашем мышлении этого релятивного компонента - способности человека иметь сразу несколько точек зрения и менять их в зависимости от обстоятельств. Этот вариабельный компонент противостоит фиксированным смыслам, в обличии которых должны предстать общезначимые и воспроизводимые продукты нашего мышления, никогда не позволяя этой фиксации стать окончательной. Он недоступен формализации, цель которой состоит в его изгнании. Но без участия этого компонента, т. е. без участия избирательной тенденциозной заинтересованности человека в определенных обстоятельствах его фактического существования, невозможна фаза мышления, необходимо предшествующая фазе фиксации его результатов, именно: фаза образования, формирования и коллективного усвоения понятий, смыслов, значений.
Постулируемая предпосылками 1,2,3 независимость фиксируемых результатов нашего мышления от нефиксированных состояний нашего сознания, - это не столько нечто действительное, сколько желаемое или, лучше сказать, действительное в качестве желаемого, но не всегда достижимого. Воспроизводимая фиксируемая стабильность значения слов, справедливости утверждений, непротиворечивости логик - это норма культурно-адресованного поведения человека, обусловленная требованием предельной неопределенности адресата наших утверждений, в число которых должны входить все другие люди без всякого исключения (включая не родившихся младенцев), а не только соучастники локального контекста высказывания, способные опереться в своем понимании нашего утверждения на этот преходящий контекст. Употребление нами слов в одном и том же значении и следование законам непротиворечивых логик - это не эмпирический факт, а требование са- моограничительной дисциплины, условие культурной эффективности МОЕГО мышления, позволяющее сделать его результаты доступными НЕ ТОЛЬКО МНЕ, но кому угодно - достоянием сразу многих ДРУГИХ людей, а также и самого себя в той мере, в какой мои собствен¬
26
Д. Н. ДУБНИЦКПП
ные избирательные интересы соответствуют интересам неопределенного числа других людей (реально или потенциально).
Человек, выполняющий культурно адресованный акт, например, вводящий новое понятие или даже просто произносящий нетривиаль- ноеутверждение, которое не было тавтологическим повторением всем известного при первом высказывании, но становится таковым при повторном высказывании, - сразу после усвоения его адресатами (и это самое лучшее, что может случиться с нетривиальным утверждением именно в этом превращении утверждения из уникального в тривиальное состоит цель культурно-адресованного акта), такой человек каждый раз попадает в положение противоречивого брадобрея, бреющего тех, кто не бреет себя сам. Он должен решить для себя вопрос - противостоит ли он всем другим людям как активный автор инновации, нарушающей непротиворечивую тавтологию действующих фиксированных стереотипов сознания, или принадлежит к нерасчлененной массе «других» множеству - внеличных адресатов своей инновации, пассивно усваивающих и дисциплинированно воспроизводящих чужие утверждения. Как и расселовскому брадобрею, ему невозможно найти окончательный ответ на этот вопрос и приходится переходить из одного состояния в другое. Обеспечение требований культурной значительности - самодисциплины фиксированных семантик и логик - требует от человека специальных усилий, каждый раз новых, которым нужны специальные побудительные мотивы и которые никогда не смогут стать окончательными.
Строго говоря, взаимоотношения между индивидуально-релятивными и культурно-фиксированными компонентами значения обратны тем, которые являет радужная картина господства стабильных смыслов, регулируемых непротиворечивыми логиками, изредка нарушаемая парадоксами. Это картина сама есть нечто желаемое - продукт тенденциозной избирательности, обусловленной действующей культурной нормой. Правильнее говорить не о том, что релятивность смыслов и значений иногда нарушает и всегда ограничивает их фиксированную стабильность, а о том, что культурно-фиксированная стабильность ограничивает вариабельность индивидуальной человеческой заинтересованности, точнее: фиксация смыслов и логик есть частный случай вариабельности, ее специальная разновидность, продукт индивидуальной заинтересованности, временно ограничивающей саму себя во имя достижения своих общекультурных целей. Совершая культурно¬
О ПАРАДОКСАХ
27
адресованный поступок, человек попадает в состояние, если так можно выразиться, императивного волюнтаризма - невозможности избежать самоограничительных усилий выбора определенных значений слов, лишающих его свободы выбора после реализации выбора. И только сам человек в условиях данной конкретной интерпретации высказывания определяет для себя, имеет ли он дело со стабильным смыслом утверждения, инвариантным по отношению к факту высказывания, или с семантической новацией, необратимо меняющей смысл слова до и после высказывания. Каждый акт интерпретации - семантический контакт - требует определять эту позицию заново и чреват, строго говоря, непредсказуемым изменением семантического наполнения слова, высказывания, текста. Можно придерживаться однажды сделанного выбора значения неопределенно долго, даже - как угодно долго, при том обязательном условии, что его нельзя придерживаться всегда, исключив необходимость усилий выбора.
Язык наполняет смыслом не другой метаязык, а живой человек - интерпретатор.
При всем том, сказанное не означает, что культурная норма нашего мышления, требующая фиксации смыслов и отраженная в правилах логики 1, 2, 3, есть продукт свободного выбора человека. Она принадлежит не кому-либо одному, даже не нескольким - пусть многим лицам, достигшим конвенционального соглашения на основе произвольного набора аксиом. Конвенция не может служить нормой по той же причине, по которой формализованные языки не способны стать нормой языка: сама возможность выбора искусственных условий конвенции предполагает невыбранную, стественную базу, предваряющую конвенцию и лежащий за ее пределами язык конвенции, понятный до и без конвенции всем ее участникам, единообразную логику мотивировок, обусловливающих желательность заключения и поддержания конвенции в таком, а не ином виде.
Культурная норма есть не продукт чьих-то интеллектуальных усилий, а мотив и условие культурной санкции этих усилий.
Культурная норма принадлежит внеличному (точнее: неопределенно-личному) множеству всех потенциальных адресатов нашей культурной инициативы, не зависит от чьей-либо индивидуальной воли и в этом качестве функционально противостоит индивидуальному волюнтаризму нашего сознания в качестве необходимого условия культурной приемлемости и эффективности его культурно-адресованной инн-
28
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
циативы, сознаваемого нами независимо от того.в какой степени мы собираемся следовать этому условию.
Во всех культурно-адресованных актах мы имеем дело с релятивной границей, разделяющей «Я» и «другие» («Я» и «все остальные»), каждый раз требующей усилий для своего преодоления. Эго проблема не столько науки логики, сколько проблема существования человека в культуре, в том числе логики в той мере, в какой она выражает эту проблему (или, если угодно - парадокс) человеческого существования.
Откровенно говоря, следовало бы удивляться не этим выводам из факта существования парадоксов, а тому, что эти выводы нуждаются в аргументах. Непредвзятые - эмпирические - наблюдения над самим собой и над другими людьми свидетельствуют, что мы в реальной жизни не так уж часто следуем жесткой норме независимости смысла наших слов и утверждений от обстоятельств высказывания и, более того, даже не всегда считаем это желательным. Мы вспоминаем об этой норме только иногда и также редко, как редко вспоминаем об отсутствии «верха» и «низа» в физическом пространстве, существующем независимо от наблюдателя, т.е. «без нас». Мы вспоминаем об этом только тогда, когда нам это нужно, именно: когда собираемся сделать утверждение, имеющее предельно-неопределенной культурный адрес - сразу всем и никому в особенности - и претендующее на то, чтобы быть справедливым всегда независимо от обстоятельств высказывания и даже независимо от факта существования автора высказывания. За исключением этих специальных и исключительных обстоятельств, время от времени порождаемых контекстом нашего культурного существования, мы ведем себя так, как будто связанные с нашим присутствием в пространстве «верх» и «низ» реально существуют, солнце всходит и заходит, а связь значения слов и утверждений с обстоятельствами высказывания представляет их «естественное» состояние.
Но даже и в утверждении максимально строго отчужденном от обстоятельств высказывания - в формализованном математическом тексте или хорошо фальсифицируемом позитивном факте - мы не можем устранить совсем релятивный компонент, ответственный за осмысленную содержательность текста, но, в лучшем случае, во имя нормативной стабильности непротиворечивых смыслов, можем только временно отстранить его от участия в дальнейших культурных событиях после того, как он уже сыграл свою продуктивную и содержательную роль.
О ПАРАДОКСАХ
29
Нельзя, скажем, получить позитивный факт совсем без наблюдателя. Но можно, в соответствии с требованием нормы, постараться устранить наблюдателя, очистив по возможности плоды его наблюдательности от всех следов его реального существования, препарировав наблюдение и представив извлеченное значение в форме, не зависимой от состояния его сознания в момент наблюдения, от обстоятельств наблюдения, средств наблюдения, мотивов наблюдения и направления избирательной заинтересованности, а затем некоторое неопределенное время поддерживать такое неограниченно воспроизводимое состояние позитивного знания. Это возможно только до тех пор, однако, пока очередное наблюдение не вскроет очередное противоречие знания и не продемонстрирует нам релятивность основных средств представления позитивного знания - аппарата понятий и способов интерпретации наблюдений, их фактическую зависимость от тенденций заинтересованности, инспирированной локальным контекстом определенной культурной ситуации. Так было много раз.
Нельзя получить непротиворечивую формализованную математическую теорию совсем без живого математика. Но эта теория согласно норме должна быть в максимальной степени освобождена от следов его созидательных усилий путем вынесения за ее пределы всех мотивов предпочтения именно этой теории, именно этого набора бессмысленных символов и синтаксических правил оперирования с ними и, тем более, мотивов самого процесса формализации. Это возможно до тех пор только пока не вскроется неполнота теории или ее противоречивость, т. е. ее несоответствие тем самым мотивам, которые обусловили ее создание и были продуктом избирательной тенденциозной заинтересованности реально существующего живого математика, возвращающей формализованную теорию и само стремление к формализации в локальный контекст преходящей культурной ситуации.
Математическое или позитивное утверждение - это прежде всего поступок, такой же, как любое другое утверждение. Для понимания математической формулы нужно такое же «сопереживание» ситуации живым человеком, какое испытывает простодушный зритель мелодрамы, с той разницей, что сентиментальный зритель не стыдится своих слез, а математик стыдливо прячет свои эмоциональные состояния и изгоняет их следы за пределы фиксированных результатов усилий понимания.
Можно теперь указать пределы действия постулатов 1, 2, 3, приведенных в начале настоящей главы, - это сфера результатов индиви¬
30
Д. Н. ДУБНИЦКИЙ
дуальных мыслительных усилий, препарированных в соответствии с требованиями культурной нормы и подготовленных к фиксирующему усвоению культурой в форме, не зависимой от факта этих усилий и, соответственно, от порождающих эти усилия мотивировок. Закон исключенного третьего применим к любым фиксированным объектам человеческого внимания, но только к фиксированным. Объекты же эти могут быть зафиксированы только частично и только на время, но не могут быть зафиксированы все сразу раз и навсегда.
Изгнанный Кантором из своей непротиворечивой теории УНПВЕР- СУУМ- «множество всех множеств», требующий для своего описания «метаязыка» всех возможных языков, - это множество всех потенциальных объектов избирательной человеческой заинтересованности, которая обладает способностью не останавливаться на определенных объектах внимания и менять их в зависимости от обстоятельств, наряду с другой способностью - в иных обстоятельствах при необходимости следовать некоторое время однажды сделанному выбору. Без сочетания этих противоположных способностей - в зависимости от обстоятельств фиксировать или не фиксировать свое внимание - невозможно не только образовать множество всех множеств, но даже, как мы убедимся ниже, невозможно пользоваться номерами и представлением об одном и том же предмете нашего внимания.
III. АНАЛИЗ ПАРАДОКСОВ
Настоящий раздел является развернутым коментарием к предыдущему. В нем более внимательно рассматриваются единообразные причины образования разнообразных парадоксов, в том числе причины фундаментальной парадоксальности понятия множества, т. е. парадоксальности самых общих представлений о «предметах» безотносительно к любым их свойствам, кроме одного - их способности быть предметом нашего заинтересованного внимания.
Парадокс брадобрея
Начнем опять с того же многострадального брадобрея. Сравним две фразы:
«Брадобрей бреет клиента» (1).
«Брадобрей бреет всех тех, кто не бреет себя сам» (2).
Слово «бреет» в этих фразах использовано в двух РАЗЛИЧНЫХ смыслах. В первом случае брадобрей фактически работает - шевелит руками, взбивает пену, проводит бритвой по лицу и т.п. В этом смысле слова он не может брить больше одного клиента одновременно и тем более не может брить сразу всех тех, кто не бреет себя сам. Во второй фразе мы имеем в виду не реальное бритье, а нечто иное - потенциальную способность брить кого угодно, не обязательно реализуя эту способность фактически здесь и сейчас. В этом втором варианте смысла брадобрей может фактически не притрагиваться к бритве, а лежа на диване, читать газету и одновременно «брить» все население города. Первый вариант смысла связан в нашем сознании с одним единственным определенным - актуальным - клиентом, но этот ситуативный смысл никак не связан с другими - потенциальными клиентами.
Второй вариант смысла обладает противоположными достоинствами и, соответственно, противоположными недостатками: он обеспечивает исчерпывающую полноту предикаций всей потенциально возможной клиентуры - «всех тех...», но никак не связан с тем, реализует ли брадобрей свою потенциальную способность фактически, на каком именно из клиентов он остановил свой выбор и даже с тем, остано¬
32
Д. Н. ДУБНИЦКПП
вил ли он этот выбор или нет. Причем неопределенность клиента, лишенного индивидуализирующих признаков, в данном случае является не недостатком, а специальным достоинством. Она очень существенна и неустранима - именно она и только она обеспечивает исчерпывающую полноту клиентуры, которую не может обеспечить никакой перечень лиц. Эта потенциальная способность брить вообще не зависит ни от количества, ни даже от самого факта существования каких-нибудь клиентов. В смысле (1) брадобрей бреет только иногда и только некоторых определенных лиц. В смысле (2) он бреет именно всегда (даже читая газету) и всех сразу (даже тех, у кого еще нет бороды), но не бреет никого определенного.
Эти два смысла слова «брить» как минимум взаимно неоднозначны. Но в применении к самому брадобрею они становятся взаимно исключающими, прямо противоположными.
Брадобрей должен брить себя в смысле (2) - в смысле потенциальной способности, не допускающей исключений, если он не бреет себя фактически в смысле (1); и наоборот - он не должен брить себя в смысле (2), если бреет себя фактически в смысле (1). Он должен брить себя, читая газету, и может делать это как угодно долго до тех пор, пока не проведет бритвой по своему лицу, но он должен прекратить свое бритье в тот самый момент, когда намылит лицо.
Чтобы решить вопрос о судьбе своей бороды, брадобрею нет необходимости хвататься то за бритву, отложив газету, то за газету, отложив бритву. Эта проблема не реальная, а ментальная, т.е. это вопрос изменений состояний сознания, совершаемых без свидетелей, наедине с собой, с переходами от сознания потенциальной готовности брить всех (не брея никого) до готовности реально побрить свое лицо (отказавшись от остальной клиентуры), и обратно.
Естественно назвать смысл (1), связанный в нашем сознании с одним определенным клиентом, - «актуальным», а смысл (2), обеспечивающий исчерпывающую полноту клиентуры ценой отказа от связи с определенными клиентами, - «потенциальным». Актуальный и потенциальный смыслы разделяет граница взаимной неоднозначности, вполне реальная, существующая в действительности, но разделяющая в этой действительности не клиентов брадобрея, а наше отношение к клиентам. Эго граница между фиксированными воспроизводимыми состояниями нашего сознания, положение которой зависит от точки зрения обладателя сознания. В каждом конкретном случае мы употребляем
О ПАРАДОКСАХ
33
слово «брить» в одном из двух несовпадающих значений, но не можем остановиться на одном из них раз и навсегда - выбор приходиться делать самостоятельно и каждый раз заново. Выбор одного из вариантов значения обычно (но не всегда) мотивирован контекстом ситуации использования, и поэтому раздвоение смысла не создает препятствий для его однозначного понимания другим человеком - соучастником контекста. Но не существует способа определить однозначно смысл слова «брить» за пределами контекста. В утверждениях (1) и (2) контекст употребления слов «брить» достаточен для уточнения его значения в пределах альтернативного выбора между «актуальным» и «потенциальным» вариантом. Однако установить истинно или ложно утверждение «брадобрей должен брить себя» невозможно без дополнительного уточнения точки зрения интерпретатора на то, в каком именно смысле употреблено здесь слово «брить». Не только каждый новый экземпляр такого утверждения, но даже каждое новое прочтение и осмысление того же самого «физического» (если так можно выразиться) экземпляра утверждения тем же самым человеком может нести другой смысл и, в зависимости от этого, быть ложным или истинным.
Расчленение «актуального» и «потенциального» смыслов могло бы предотвратить появление парадокса. Но именно этого и невозможно сделать: при необходимости различать их в каждом конкретном случае. расчленить их навсегда нельзя под угрозой утраты всякого смысла. Мы не можем отказаться от одного из них ради другого: ни от способности брить определенного клиента - во избежание утраты самой способности брить; ни от противоположной способности - способности брить не только какого-то одного определенного клиента или даже не только некоторых определенных клиентов, но брить кого угодно, сохраняя свободу варьирования клиентуры, не ограниченную никакими списками - во избежание утраты полноты потенциальной клиентуры и способности брадобрея сохранять способность к бритью независимо от наличия клиентов. Слово «брить» имеет либо сразу оба взаимно неоднозначных смысла, либо ни одного. Нам не избежать необходимости индивидуального выбора одного из них в каждом конкретном случае, в зависимости от обстоятельств выбора и собственной заинтересованности.
Расчленение значения слова «брить» на два не есть свойство бритья, не зависимое от нашего сознания. Оно не имеет никакого отношения к фактическому количеству клиентов брадобрея в городе: даже
34
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
если он сам останется единственным жителем города, вымершего во время чумы, этого вполне достаточно для образования парадокса, демонстрирующего альтернативный характер «актуального» и «потенциального» варианта значения.
Эго расчленение значений принадлежит нашему сознанию и есть свойство нашего заинтересованного восприятия, точнее: свойство определенного способа представления результатов восприятия аппарата фиксированных понятий. Именно: это расчленение смыслов есть способ представления продуктов нашего восприятия в культурно приемлемой форме, воспроизводимой за пределами непосредственного акта восприятия. Существует ДВЕ и только ДВЕ возможности остановить и зафиксировать в воспроизводимой форме вариабельность клиентов брадобрея: соединить его с каким-либо определенным из них или освободить от любого определенного из них. Каждая из этих возможностей есть односторонняя крайность.деформирующая действительное положение вещей, и не полна без своей альтернативы, так как содержит только часть реального семантического наполнения понятия «брить». Фиксируемые аспекты бритья не могут исчерпать отношений брадобрея со своими клиентами. Их достоинство состоит в одном, но важном качестве: способности к фиксации бритья в понятиях, воспроизводимых за пределами ситуации восприятия реального бритья. Порознь эти односторонние аспекты смысла не приближают нас к реальности, а удаляют от нее, являясь не продуктом ее восприятия, а средством представления продуктов восприятия реальности в форме, не зависимой от факта восприятия реальности. Эго ментальные конструкции - операторы представлений. Для возвращения их к реальности необходимо их сочетание в незафиксированной и невоспроизводимой за пределами ситуации восприятия способности нашего индивидуального сознания свободно изменять точку зрения на бритье в зависимости от обстоятельств.
Возможность пользоваться словом «брить» предполагает в человеке три способности:
- способность иногда при необходимости фиксировать в своем сознании выбор одного определенного клиента бритья («актуальное» значение);
- способность в других случаях при необходимости фиксировать в своем сознании независимость способности бритья от наличия определенного клиента («потенциальное» значение);
О ПАРАДОКСАХ
35
- способность никогда не фиксировать свою точку зрения на одном из двух фиксированных смыслов окончательно, всегда оставляя за собой свободу изменить ее в зависимости от обстоятельств (релятивный компонент значения).
Таким образом, понятие «брить» включает 3 компонента: 2 несовместимых состояния сознания, императивно зафиксированных требованием культурной нормы воспроизводимости, и противостоящая всякой культурной фиксации вариабельность избирательного заинтересованного внимания человека. Другими словами, для понимания слова «брить», так же как и всех остальных необходим по крайней мере один живой культурный человек.
Парадокс гетерологичности
Взаимоотношения предикатов и объектов предикации соответствуют взаимоотношениям брадобрея со своими клиентами.
Сравним две фразы:
«Предикат «красный» - гетерологичен» (1).
«Все предикаты, не применимые к самому себе, гетерологичны» (2).
Снова приходится констатировать, что предикат «гетерологичный» использован в этих двух утверждениях в различных смыслах, которые взаимно неоднозначны, а в некоторых случаях, именно в случае предиката «гетерологичный» - могут стать взаимно исключающими.
Произнося (прочитывая, воспринимая) слово «гетерологичный», мы каждый раз имеем в виду нечто определенное, но не обязательно всегда одно и то же. Возможны два основных варианта:
Первый вариант: В утверждении (1) смысл предиката «гетерологичный» связан в нашем сознании с одним определенным объектом предикации - предикатом «красный». Этот вариант связанного смысла с фактически реализованной функцией предикации (назовем его «актуальным») обеспечивает однозначность смысла в каждом конкретном случае, но не обеспечивает распространение такого связанного смысла на другие возможные объекты предикации. «Актуальный» смысл нельзя использовать повторно применительно к другому объекту предикации. Совокупность связанных состояний смысла предиката - это список объектов, в котором одно и то же состояние нельзя встретить дважды.
Второй вариант: В утверждении (2) смысл предиката «гетерологичный» (так же как и смысл предиката «красный» в утверждении
36
Д. Н. ДУБНИЦКИЙ
(1)) связан в нашем сознании со всеми сразу потенциальными объектами предикации без исключения, не будучи связан с каким-либо одним определенным из них. Он выражает некоторое свойство, не зависимое от носителей этого свойства и даже от факта существования каких-либо реальных носителей этого свойства - их может не быть вовсе без всякого ущерба для предиката «гетерологичности». Этот вариант смысла с потенциальной функцией предикации (назовем его «потенциальным») обеспечивает исчерпывающую полноту предикации ценой строгой неопределенности объектов предикации, которая в данном случае является не недостатком, а важным достоинством. Предикат в «потенциальном» значении можно использовать повторно в том же самом смысле без всяких ограничений применительно к любым - ко всем без исключения - объектам предикации и даже вообще не имея в виду никакого объекта предикации. С таким вариантом смысла слова мы имеем дело, узнавая его значение в словаре или решая кроссворды.
В функции объекта предикации (объекта описания) значение предиката «потенциально» - в отличие от использования предиката вфунк- ции средства описания определенного объекта, где его значение должно быть «актуально».
Эти два альтернативных способа осмысления предиката несут в себе плохо совместимые достоинства: определенность избирательности (за счет определенности полноты) и определенность исчерпывающей полноты (за счет определенности избирательности). Эти значения разделяет граница взаимной неоднозначности: «потенциальное» значение не способно определить номенклатуру своих «актуальных» реализаций, а никакой (даже бесконечный) набор «актуальных» реализаций (скажем, набор примеров использования слова) не способен исчерпать область действия «потенциального» значения. Это обычное наше затруднение, знакомое каждому, кто пытался уточнить значения слов, которые не все понимают одинаково.
Так обстоят дела всегда и для всех предикатов. Но иногда они обстоят гораздо хуже.
В утверждении «предикат «гетерологический» - гетерологичен» два экземпляра того же самого предиката использованы в разных значениях, причем эти значения не просто взаимно неоднозначны, а прямопротивоположны. В первом случае употребления предиката - в кавычках - он использован в функции объекта описания с «потенциальным» (не реализованным фактически) значением; во втором - без ка¬
О ПАРАДОКСАХ
37
вычек - в функции средства описания с «актуальным» значением (фактически реализованным применительно к определенному объекту описания). В данной ситуации «актуальное» значение несовместимо с «потенциальным». Если интересующий нас предикат в роли объекта описания с нереализованной предикативной функцией (в кавычках) - ге- терологичен, т. е. не может быть применен к самому себе, то в роли средства описания с реализованной предикативной функцией (без кавычек) он соответствует определению автологичности, и наоборот - если он автологичен как объект описания, то в роли средства описания не годится для характеристики самого себя, т. е. гетерологичен.
Гетерологичность или автологичность этого предиката зависит от точки зрения на него интерпретатора и определяется способом его семантической нагрузки в нашем сознании. Роль объекта описания с «потенциальной» (не реализованной) функцией предикации вполне допускает соответствие этого предиката определению гетерологичности, но до тех пор только, пока мы не решим изменить точку зрения и реализовать «актуально» потенциальную функцию предиката, связав в своем сознании его значение с определенным объектом предикации, используя его в качестве средства описания. Беда нашего сознания в том, что мы не можем отказать себе в праве актуально реализовать иногда потенциальные функции предиката - во избежание утраты всякого значения предикатов. Следствием этого является невозможность окончательного выбора и «мерцание» смысла слова между взаимно исключающими значениями.
Парадоксальными являются не все предикаты и даже не все предикаты, предназначенные для описания самих предикатов, а только некоторые. Но значение всех без исключения предикатов расслаивается в нашем сознании на два взаимно неоднозначных компонента с невозможностью окончательного выбора между ними и «мерцанием» смысла. Отложив подробное обсуждение причин этого явления до рассмотрения парадоксов теории множеств, приведем несколько примеров.
Предикат «жители города Ленинграда» употребляется в двух взаимно неоднозначных смыслах. В первом - «актуальном» - совокупность жителей может быть представлена поименным списком. Однако никакой списочный состав не способен исчерпать всех возможных потенциальных жителей города, которые могут приезжать и уезжать, рождаться и умирать. Эту строго-неопределенную совокупность всех возможных жителей передает второе - «потенциальное» - значение
38
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
предиката, инвариантное по отношению к любым вариациям фактического списочного состава жителей, сохраняющее свое значение даже в том случае, если никаких жителей в списке не будет вовсе. Строгая неопределенность списочного состава в этом случае является не недостатком, а важным достоинством, позволяющим оперировать этим «потенциальным» представлением независимо от факта его «актуального» наполнения или, точнее говоря, «актуальных» наполнений, каждое из которых не является обязательным, но зато и ни одно возможное из них нельзя исключить. Оба альтернативных варианта смысла одинаково дороги для нашего сознания. Мы не можем отказаться от одного из них в ущерб второму и, различая их употребление в каждом конкретном случае в зависимости от контекста, не можем этого сделать раз и навсегда независимо от контекста использования предиката. При этом наш выбор каждый раз совершается ценой заведомой утраты альтернативного компонента значения. Значение предиката «жители города Ленинграда» имеет еще один аспект. Жители, поименно обозначенные в списке, могут быть жителями не только Ленинграда. При этом каждому поименованному жителю соответствует, во-первых, список его определенных «актуальных» мест жительства, включающий Ленинград, и, во-вторых, неопределенное множество потенциально возможных мест жительства, в котором ни одно из «актуальных» мест не обязательно, но и не может быть заранее исключено. Отношения между Ленинградом и его жителями в смысле неоднозначности вполне симметричны.
Неопределенность «актуального» наполнения предиката имеет место и в тех случаях, когда он содержит в себе прямое определение количества объектов (скажем, «взвод солдат» или просто - «10 человек»), и даже тогда, когда он заведомо распространяется на единственный объект - число всех лиц, потенциально способных стать главнокомандующим, царем или президентом, так же неопределенно, как и число всех потенциальных жителей Ленинграда, и так же не исчерпывается никаким списком определенных имен.
Расчленение «актуального» и «потенциального» смыслов предиката, в частности расчленение ролей объекта описания и средства описания, и их аккуратное однозначное использование только в какой-либо одной фиксированной роли позволяет предотвратить образование парадоксов. Однако такой неестественной и ограничительной фиксации функциональных ролей предикатов сопротивляются наши «наивные»
О ПАРАДОКСАХ
39
представления и «естественные» рефлексы мышления. Для этого есть основания.
Различая функциональные роли предикатов в каждом конкретном случае, нельзя провести между ними границу раз и навсегда.
Язык предикатов с фиксированными ролями объекта и средства описания, не способных описывать самих себя не может исчерпывающе описать по крайней мере один объект - сам этот язык. Любое такое фиксированное описание будет неполно, так как за его пределами должны оставаться некоторые средства описания, не способные стать объектами описания. Можно расширить язык, включив в него дополнительные средства описания, но если они по-прежнему будут не способны описать себя, граница неполноты просто отодвинется, как горизонт. Таким способом можно описать любые предикаты при том обязательном условии, что нельзя описать их сразу все - под угрозой возвращения парадоксов. Предположение о такой возможности ведет к противоречию: для описания всех предикатов, не способных описать самих себя, служит уже знакомый нам предикат «гетерологический».
Расчленение «актуальных» и «потенциальных» функций предикатов может быть только временным, а «непротиворечивые» тексты, включающие предикаты со строго фиксированными функциями, не более чем фрагментами осмысленного текста. Мы можем пользоваться такими текстами неограниченно долго. Но мы не можем ограничить себя только такими текстами, оставляющими за своими пределами возможность определить содержательный смысл используемых в тексте слов. Они обязательно должны иметь себе дополнение в других текстах, использующих предикаты как средство описания предикатов в двух функциях одновременно, разделяемых только контекстом употребления и позицией интерпретатора, с неустранимой возможностью парадоксов. Любой «непротиворечивый» текст, каким бы продолжительным он ни был, есть в действительности не носитель «абсолютного» общеобязательного значения, но акт избирательных усилий и само- ограничительной дисциплины его автора и интерпретаторов, временно объединенных общими интересами в условиях определенного культурного контекста и всегда сохраняющих способность в любой момент изменить свою точку зрения на функциональное значение текста и его компонентов. В этом отношении формализованные тексты не отличаются от всех остальных или, точнее, отличаются от них только специфическим культурным контекстом, инспирирующим поведение интер¬
40
Д. Н. ДУБНИЦКПП
претатора. Во имя сохранения возможности взаимопонимания с другими людьми, нам не остается ничего другого, как отказаться от вневременной абсолютно общезначимой фиксации функциональных ролей предикатов, возвратившись к противоречивому, но естественному совмещению этих ролей в своем сознании с правом - и обязанностью - каждый раз заново временно фиксировать одно из альтернативных значений в контексте ситуации использования, понятное другим соучастникам ситуации при том обязательном условии, что оно не обязательно понятно сразу всем без исключения.
Что мы и делаем.
Строго говоря, любое реальное использование предиката - высказывание, написание, прочтение, вспоминание - релятивно. Каждое из них есть акт усилий интерпретации, акт всегда нового выбора значения, обусловленного избирательной заинтересованностью интерпретатора в условиях определенного культурного контекста события выбора. Значений слов, совершенно независимых от контекста употребления, не существует.
Значение предиката (и шире - значение текста) - это НЕ СОСТОЯНИЕ, А СОБЫТИЕ, преходящее, как все события. Объяснять требуется не его релятивность (т.е. связь с сознанием интерпретатора), а его воспроизводимость при повторных употреблениях. Понимание любого текста (формализованного даже в большей степени, чем всех остальных) невозможно без слов, понятий, представлений, не требующих определений внутри текста и обладающих «естественным» значением, доступным интерпретатору без дополнительных объяснений. Эти «естественные» значения формируются общностью избирательных интересов соучастников единого контекста культурного существования. Взаимодействием этих факторов - индивидуального избирательного интереса и общего единообразного интереса соучастников культурного контекста - определяется возникновение, эволюция, относительная стабильность или исчезновение «естественных» значений и смыслов, а также общей нормы культурной приемлемости и культурной значительности индивидуальной культурной инициативы. Эти контекстуальные значения, ответственные за осмысленность текстов в целом, сами лежат за пределами досягаемости фиксирующих усилий. Скажем, для самых абстрактных формализованных математических систем минимальной «естественной» базой остается «естественная» способность пользоваться абстрактными символами и номерами, которой вполне достаточно для образования парадоксов, доказывающих теоремы Кан¬
О ПАРАДОКСАХ
41
тора - Сколема. Геделя и Тарского. Эти вопросы будут обсуждаться несколько позже.
Рассмотрим вслед за Витгенштейном фразу: «Эго - дерево». Понимание ее смысла у большинства людей (к их числу не принадлежит Витгенштейн) не вызывает никаких затруднений, но только в контексте обстоятельств определенного высказывания. За пределами контекста ее смысл становится совершенно неопределенным. Наше понимание фразы становится «потенциальным». Мы сохраняем уверенность в своей способности понять ее в каждом конкретном случае, но эта уверенность базируется на предполагаемой возможности в каждом конкретном случае возвратиться к реальному контексту, дополняющему ее смысл до однозначности. Но если мы попытаемся выявить ее «абсолютный смысл», общезначимый и справедливый всегда, независимо ни от какого контекста (к чему стремится Витгенштейн), то лишим себя вообще всякой надежды на понимание. «Если Вы увидите нас сидящими под деревом и время от времени произносящими фразу: «Я знаю, что это - дерево», не подумайте, что мы сошли с ума - мы философствуем»1.
Возможно несколько основных вариантов использования слова «дерево»:
1. Произнося фразу «это - дерево», мы имеем в виду действительно какое-то определенное дерево, на которое мы в данный момент смотрим, показываем пальцем или мысленно обращаем внимание. Это наиболее определенный исходный - «актуальный» смысл слова «дерево» как средства описания, ради которого оно и было некогда создано, и нужда в котором поддерживает его существование в качестве одного из культурных императивов интерпретации наших впечатлений. Но именно этот смысл наиболее связан с фактом высказывания, обстоятельствами высказывания и состоянием нашего сознания в момент высказывания. В каждом следующем утверждении он может быть иным - мы можем иметь в виду другое дерево. Каждое такое высказывание - это необратимое событие сразу в трех аспектах: для дерева, для нашего сознания, для человеческой культуры. В следующий момент, сразу после высказывания, ситуация может резко измениться: «это» может перестать быть деревом в нашем понимании - сгорит, распадется на атомы или превратится в нечто такое, для чего у нас пока нет 1 Витгенштейн.. «О достоверности». Философские работы. Ч. I. М; 1994. С. 378.
42
Д. Н. ДУБНИЦКПП
адекватных дефиниций; наше сознание может переключиться с дерева на рощу или на листья дерева; наконец, дефиниция «дерево», которой культура снабдила нас для фиксации собственных впечатлений, может изменить свой смысл, причем изменить его именно в процессе наблюдения (как это случилось некогда со смыслом слов «сила», «энергия», «элемент») или вообще утратить всякий смысл (как это произошло со словом «флогистон»). Но даже если в следующий за высказыванием момент ничего из подобных событий, катастрофических для смысла утверждения, не произойдет, этот факт сам по себе явится непредсказуемым, неожиданным и удивительным событием, которое отличается от перечисленных выше только одним единственным обстоятельством - своей способностью выглядеть в наших глазах событием, вызывающим наш интерес.
2. Второй вариант смысла: произнося фразу «это - дерево», мы не имеем в виду никакого конкретного дерева, но предполагаем возможность вернуться к «актуальному» варианту смысла слова при необходимости (подобно брадобрею, читающему газету в ожидании клиента). С таким смыслом мы имеем дело, отыскивая значение слова в толковом словаре, т.е. в тех случаях, когда слово «дерево» является для нас не средством описания (средством представления переживаемых нами состояний сознания), а объектом описания, в свою очередь требующим своих средств описания. В таком «потенциальном» варианте значения мы можем употреблять слово «дерево» неограниченное число раз в одном и том же смысле, не связанном с конкретными фактами высказывания, обстоятельствами высказывания и состоянием нашего сознания в момент высказывания. Это значение инвариантно по отношению к факту высказывания. Оно хорошо и стабильно воспроизводимо, но эта воспроизводимость не есть абсолютная общезначимость - «потенциальное» значение есть способ культурной фиксации избирательной заинтересованности человека, а не способ освобождения от нее. Оно противостоит вариабельности «актуального» значения как его функциональная альтернатива в конкретном утверждении, но за пределами конкретного утверждения и его контекста само теряет определенность по мере того, как теряет определенность культурный контекст, порождающий единообразие человеческих интересов.
Эти два значения слова «дерево» взаимно неоднозначны - определенность воспроизводимого «потенциального» смысла достигается только ценой отказа от определенности ситуативного «актуального» смысла.
О ПАРАДОКСАХ
43
3. Наконец, слово «дерево» может употребляться в таком смысле. который никак - ни «актуально», ни «потенциально» - не связан ни с какими деревьями вообще и совершенно свободен от какой-либо связи с контекстом высказывания. В таком значении мы употребляем слово в тех случаях, когда объектом нашего заинтересованного внимания является не сам смысл, а скажем, фонетическая или графическая структура слова, а также используем слово в качестве условного символа, секретного пароля или зашифрованного кодового сигнала. От собственного «естественного» смысла слова не остается ничего, кроме «узнаваемости». Казалось бы, такое значение, совершенно оторванное от «естественного» контекста, мотивирующего семантическое нагружение, должно быть наиболее устойчивым и лучше всего защищенным от опасности противоречий. Мы его можем употреблять не только в том же самом значении, но совсем не заботясь о том, имеет ли оно какое-либо значение вообще, и не думая о связанных с этим значением проблемах. Однако на самом деле такой способ семантической нагрузки слова означает не ее устойчивость, а ее предельный релятивизм - ничем не ограниченный волюнтаризм индивидуальных новаций, освобожденный от какого бы то ни было стабилизирующего контроля культуры. Таким способом проблемы противоречий содержательной семантики не решаются, а просто отодвигаются за пределы нашего внимания, сохраняя всю свою проблематику при себе. Независимость подобных «освобожденных» значений от противоречий не более чем видимость, которая сохраняется только до момента фактического нагружения слова каким-либо реальным смыслом, действительно понятным другим людям и воспроизводимым за пределами события нагружения.
«Парадокс Лжеца»
После всего сказанного нетрудно представить себе схему дальнейших рассуждений: утверждение «я лгу» в качестве объекта оценки истинности и утверждение «я лгу» в качестве средства оценки истинности - это два разных утверждения с различными значениями и функцией истинности, которые иногда - как в данном случае - могут быть прямо противоположными. Но разделяет их только субъективная точка зрения интерпретатора, который должен делать свой выбор, но не может сделать окончательный выбор между альтернативными функциональными ролями этого утверждения.
44
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
Уточним некоторые детали.
Сравним два утверждения:
«Утверждение (1) ложно» (1).
«Утверждение (1) ложно» (2).
Несмотря на почти полную семантическую тождественность, истинность этих утверждений прямо противоположна: если первое ложно, то второе истинно, и наоборот.
Значение утверждения (1) расслаивается в нашем сознании на два значения. Первое из них отлично от смысла утверждения (2) и существенно зависит от присвоенного утверждению номера. Второе - идентично смыслу утверждения (2), а также смыслу подобного же утверждения (3), (4) и так далее без всяких ограничений, будучи тождественным для всех экземпляров высказывания сразу, независимо от номера, независимо от самой возможности присвоения им номеров, независимо от обстоятельств высказывания и даже от факта высказывания утверждения.
В первом смысле утверждение выполняет в нашем сознании функции объекта оценки истинности, во втором - функции средства оценки истинности. Свойства утверждений, которые требуются для выполнения этих функций, существенно отличаются.
Смысл и истинность утверждения (2) (а также тождественного ему утверждения (1) в роли средства описания) в наших глазах не зависят от автора, времени, места и других преходящих обстоятельств высказывания, не связанных никак с его непреходящим смыслом; смысл и истинность утверждения инвариантны по отношению к фактам его актуальной реализации. Но зато они прямо и непосредственно зависят от факта реализации, автора, времени, места и других преходящих обстоятельств того утверждения, которое является объектом утверждения (2). Это «актуальное» значение утверждения ложности с фактически реализованной семантической функцией, связанной в нашем сознании с определенным объектом утверждения ложности. Оно изменяется вместе с изменением этого объекта, поэтому нам существенно важно зафиксировать в своем сознании этот объект и придать ему однозначную определенность, избирательно выделив его из множества других экземпляров идентичных по форме высказываний путем маркировки каких-либо признаков, не имеющих отношения к смыслу высказывания. Способы маркировки могут быть самыми разнообразными: номер, кавычки, объявление автором утверждения самого себя, объявле¬
О ПАРАДОКСАХ
45
ние автора паталогическим лжецом или жителем города лжецов и т.п. Гёделю принадлежит следующий вариант парадокса: 4 мая 1934 года некто А произносит единственную фразу: «Любое высказывание, которое А сделает 4 мая 1934 года - ложно».
Достоинства, которых мы ждем от объекта описания прямо противоположны тем, которыми должно обладать средство описания. Фактическая «актуальная» реализация высказывания совершенно необходима для утверждения, выполняющего роль объекта суждения. Но зато его смысл и истинность не связаны с каким-либо одним определенным его собственным объектом описания; его значение остается в нашем сознании тем же самым, независимо от возможных вариаций этого объекта - значение суждения инвариантно по отношению к факту реализации объекта суждения. Эго «потенциальный» смысл утверждения с нереализованной семантической функцией, не связанной в нашем сознании с каким-либо определенным объектом утверждения ложности. Объекты утверждения здесь образуют всеобъемлющее множество: «любые высказывания персонажа А 4 мая 1934 года (в том числе еще не высказанные) ложны», «все без исключения утверждения этого лжеца ложны», «все утверждения жителей города лжецов ложны» и т. и.
Утверждение типа (2) с «актуальным» значением хорошо выполняет роль средства описания, но не годится самому себе на роль объекта описания без дополнительных усилий, выделяющих среди этих идентичных утверждений единственный в своем роде экземпляр высказывания, сделанный определенным автором в определенных обстоятельствах. Но после этих усилий оно меняет структуру своей семантики и уже больше не годится на роль средства описания, которое должно сохранять свой смысл независимо от обстоятельств утверждения. Функциональные роли одного и того же утверждения разделяет граница взаимной неоднозначности, вполне реальная и непреодолимая, но проходящая в сознании человека.
«Парадокс лжеца» образуют состояния сознания человека, намеренного лгать в процессе высказывания утверждения «Я лгу», но нарушающего это намерение в момент его реализации. Подобно брадобрею, намеренному брить клиентов, лежа на диване, этот человек лжет в смысле потенциальной решимости лгать, но до тех пор только, пока он не попытается реализовать эту решимость фактически - «актуально», высказав намерение вслух. «Парадокс лжеца» - это совмещение
46
Д. Н. ДУБНИЦКПП
двух взаимно исключающих состояний человека сознания - императива намерения независимого от факта его реализации и события его реализации - сознания, вынужденного выбирать одно из них, но не способного отказаться от альтернативы окончательно.
Вопрос о том, лжет ли человек, утверждающий, что он лжет, не имеет ответа, способного оставаться справедливым независимо от точки зрения автора ответа.
Но точно также обстоят дела и во всех остальных случаях.
Любое утверждение имеет два взаимно неоднозначных и взаимно дополняющих смысла: «актуальный», связанный с контекстом события высказывания, и «потенциальный», инвариантный по отношению к контексту ситуации высказывания. Разница между парадоксальными и не парадоксальными утверждениями состоит в том, что в первом случае мы не в состоянии зафиксировать выбор между двумя альтернативными состояниями собственного сознания за пределами ситуации выбора, а во всех остальных случаях мы можем этот выбор зафиксировать и придерживаться его в течение некоторого времени; однако, так же как и в состоянии парадокса, мы не можем зафиксировать этот выбор раз и навсегда, отказавшись навсегда от способности к выбору. Обычные - не парадоксальные - состояния нашего сознания это тоже парадокс, но просто отложенный, отодвинутый за пределы нашего заинтересованного внимания на некоторое неопределенное, но все-таки ограниченное время.
Можно расчленить «актуальные» и «потенциальные» значения утверждений и их функциональные роли и пользоваться только одним фиксированным состоянием значения неопределенного долго без всяких ограничений, кроме одного: до тех пор, пока не попытаемся распространить эту позицию на все утверждения сразу. Нельзя иметь дело всегда только с такими утверждениями, которые не являются суждениями о своей собственной истинности и ложности и позволяют использовать себя только в одной из двух ролей одновременно, а не в двух сразу. Совокупность таких утверждений заведомо неполна. Подобно обществу пассивных лиц, не способных обойтись без брадобрея, совокупность утверждений, не способных установить собственную истинность, должна иметь за своими пределами семантическое замыкание - группу других утверждений, устанавливающих истинность или ложность каждого из утверждений исходной совокупности. Пополненная за счет семантических замыканий новая совокупность утверждений либо по-прежнему не способна исчерпывающим образом устано¬
О ПАРАДОКСАХ
47
вить собственную истинность и в таком случае семантически незамкнута - неполна, либо должна включать утверждения, способные оценить собственную истинность, выступая сразу в двух несовместимых функциях, т. е. утверждения противоречивые. Не впадая в противоречие, нельзя образовать полную совокупность всех без исключения утверждений, не способных оценить собственную истинность, по тем же причинам, по которым нельзя образовать совокупность всех гетерологических предикатов или всех множеств, не включающих себя в качестве своего элемента. Совокупность любых определенных утверждений с фиксированным смыслом либо семантически не замкнута, либо семантически замкнута с образованием парадоксов Лжеца (теорема Тарского).
Появление парадоксов можно задержать, но их нельзя избежать. Устраняя локальные парадоксы в каждом конкретном случае путем са- моограничительной фиксации в собственном сознании функциональных ролей утверждений, мы не можем устранить парадоксов, связанных с полнотой всех возможных множеств, всех возможных предикатов, всех возможных утверждений и т. и., которые демонстрируют нам временный характер фиксаций сознания и невозможность обойтись без вариаций состояний сознания под угрозой утраты всякой осмысленной содержательности наших утверждений. Содержательность обеспечивается только совокупностью альтернативных семантических функций, объединенных сознанием живого человека, способного выбирать их в зависимости от обстоятельств высказывания, всегда сохраняя право изменить свой выбор при необходимости.
В действительности мы никогда не ждем «локальных» парадоксов, чтобы зафиксировать в сознании функциональную роль наших высказываний, и «глобальных» парадоксов, чтобы ее нарушить. Мы совершенно свободно пользуемся своей способностью в зависимости от обстоятельств фиксировать в своем сознании «потенциальное» значение суждения, независимое от определенного объекта суждения, или «актуальное» значение суждения, связанного с определенным объектом суждения, всегда сохраняя при этом способность изменять свой выбор по мере необходимости, и делаем это в полном соответствии с законами нашего мышления.
48
Д. Н. ДУБНИЦКПП
Парадоксы теории множеств
В силу предельной общности математической теории множеств, оперирующей нашим предметным миром без опоры на какие-либо определенные свойства предметов, кроме их способности быть предметом нашего заинтересованного внимания, парадоксы этой теории особенно удобны для демонстрации того, что парадоксальность это не дефект нашего мышления, а закон нашего мышления.
Мы уже имели случай упоминать о парадоксе Сколема. Он состоит в следующем: несмотря на доказанную Кантором теорему о существовании несчетных бесконечных множеств и, более того, о невозможности сопоставить элементы любого множества множеству всех его подмножеств, вследствие чего бесконечные множества выстраиваются в иерархию все более высоких мощностей, несопоставимых друг с другом, Сколем доказал нечто прямо противоположное - существование счетной модели для любой непротиворечивой совокупности математических предложений. Интерпретация этого факта Сколемом состояла в признании релятивности границы между счетностью и несчетностью, существование которой является следствием ограниченности наших средств пересчета, преодолимой в другой системе, имеющей свою собственную границу несчетности. Релятивность иерархии мощностей бесконечных множеств выше первого порядка никого особенно не пугает, поскольку бесконечные множества с мощностью выше первого порядка не используются нигде за пределами теории абстрактных множеств. Но вопрос о мощности несчетного множества первого порядка действительно очень важен для всей остальной математики, так как ранее предполагалось, что она совпадает с мощностью всех действительных чисел - континуума, без использования которого невозможно, скажем, математическое описание непрерывного движения. После доказательства независимости «континуум-гипотезы» от остальных постулатов теории множеств (Коэн) это утверждение, казавшееся ранее справедливым (или несправедливым) независимо от нашего сознания, оказалось вопросом нашей точки зрения так же, как и вопрос о счетности. Таким образом, вся проблема сравнения мощностей множеств перешла из области манипулирования предметами, независимыми от нашего сознания (какой она была для Кантора), в область представлений о предметах в нашем сознании. К этому же кругу вопросов относится и парадокс самого Кантора о невозможности определить положение на
О ПАРАДОКСАХ
49
его шкале мощности универсуума - «множества всех множеств», которая не может быть меньше множества всех подмножеств универсуума.
Напомним доказательство теоремы Кантора.
Предположим противное тому, что утверждает теорема, т. е. предположим, что можно поставить в однозначное соответствие натуральные числа и любые совокупности этих чисел таким образом, чтобы каждая совокупность получила свой номер. Рассмотрим совокупности всех номеров, не входящих в состав той совокупности, которой они соответствуют. Этой совокупности не может соответствовать никакой номер, поскольку, если она не включает собственный номер, он должен входить в ее состав, и наоборот. Полученное противоречие опровергает исходное предположение и, тем самым, доказывает теорему.
Приведенное доказательство не исключает релятивной интерпретации границы счетности, а уже содержит ее. Действительно: для пересчета всех совокупностей номеров нам не хватило пустяка - всего одного «лишнего» номера. Если мы добавим к числу имеемых номеров новый номер, не использованный ранее в составе совокупностей - пускай для определенности это будет число л - то ничто больше не мешает нам с помощью этого расширения нумерации пересчитать любые совокупности исходной системы номеров. Однако дополнительный номер добавит также и число возможных совокупностей, которое после полного учета всех возможных вариантов снова станет недоступным для перечисления. Любые последующие расширения системы нумерации имеют те же последствия - они только отодвигают границу несчетности как горизонт, не позволяя ее преодолеть. Строго говоря, Кантор доказал только, что совокупности номеров невозможно пересчитать с помощью номеров, входящих в состав совокупностей, но его теорема ничего не говорит о возможности пересчитать их с помощью других номеров, не входящих в состав совокупностей. Этот вопрос положительно решила теорема Сколема. Можно, скажем, пересчитать все совокупности четных номеров с помощью нечетных номеров и наоборот, но нельзя пересчитать совокупность четных номеров с помощью только четных номеров и это все несмотря на то, что количество четных и нечетных номеров совершенно одинаково - вот вариант парадокса Кантора-Сколема.
Релятивность заложена уже в исходных принципах рассуждений Кантора и привнесена туда не как продукт недомыслия, но как фундаментальный принцип, обеспечивающий нашу способность пользо¬
50
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
ваться номерами. Номера в составе совокупностей и номера, используемые для перечисления совокупностей, несут различную функциональную нагрузку и наше отношение к ним существенно отличается в зависимости от того, чего мы от них хотим. Именно: мы можем использовать один и тот же номер повторно неограниченное число раз для образования все новых совокупностей, но отказываем себе в праве использовать его дважды в качестве номера определенной совокупности. Пытаясь перечислить совокупности номеров, мы сравниваем две свои собственные ментальные способности - способность повторно использовать тот же самый номер для участия в различных совокупностях и способность узнавать и идентифицировать этот номер в любых ситуациях независимо от его участия в каких-либо совокупностях. Эти две способности относятся не к свойствам чисел, как объектов, существующих независимо от нашего сознания, но к свойствам нашего сознания, воспринимающего и интерпретирующего числа и использующего их в своих собственных целях в той или иной роли в зависимости от обстоятельств.
Теорема Кантора доказывает нечто очень важное, но не совсем то. что предполагал Кантор. Она не доказывает, что совокупностей чисел больше, чем самих чисел. Она доказывает нам со всей возможной объективностью. что представления о числе в нашем сознании расщеплено на два функциональных значения, взаимно неоднозначных и способных иногда приходить во взаимное противоречие. При этом выбор одного из них в каждом конкретном случае определяется точкой зрения интерпретатора в зависимости от целей и обстоятельств выбора.
В качестве средства нумерации число наделяется нами значением, которое можно назвать «актуальным». В нашем сознании оно связано с одним единственным определенным фиксированным объектом нумерации и в этом связанном «актуальном» значении оно не может уже употребляться повторно для обозначения чего-либо другого.
В качестве объекта нумерации в составе совокупностей число не связано в нашем сознании ни с каким определенным объектом нумерации, т.е. используется в значении, которое можно назвать «потенциальным». В этом значении число сохраняет нереализованной способность быть номером чего угодно, когда угодно и готово к повторному использованию без всяких ограничений.
Эго два разных значения, которые, как минимум, взаимнонеоднозначны и могут приходить во взаимное противоречие, если по¬
О ПАРАДОКСАХ
51
требовать от числа сразу двух несовместимых достоинств (как это имеет место при доказательстве теоремы Кантора).
Строгая неопределенность потенциально-возможных объектов нумерации «потенциального» значения номера есть не недостаток, а очень важное достоинство - отсутствие каких бы то ни было ограничений на нашу способность к его повторному использованию, не менее важное в некоторых случаях, чем возможность «актуальной» связи с объектом нумерации в других случаях. Это отсутствие ограничения предстает как невозможность исчерпать потенциальную способность номера никаким фиксированным набором ее «актуальных» реализаций.
Несмотря на взаимную неоднозначность «актуальных» и «потенциальных» значений номеров, чреватую возможной парадоксальностью, мы не можем пожертвовать одним из них ради другого под угрозой утраты всякой способности пользоваться номерами вообще. Во избежании парадокса мы должны выбирать в каждом конкретном случае только одно из альтернативных значений, но также во избежание парадокса не можем сделать этого раз и навсегда и вынуждены делать это каждый раз заново, всегда сохраняя способность изменить выбор. Что мы и делаем в зависимости от обстоя-тельств и собственных избирательных интересов. Два экземпляра одинакового номера, обозначающих ту же страницу двух экземпляров книги, воспринимаются нами как один и тот же номер с тем же самым «актуальным» - реализованным фактически - значением, если нам не важен экземпляр книги, но только содержание текста. Те же два экземпляра номера будут восприниматься нами как различные - с различным «актуальным» значением, - если нам важна разница между экземплярами книги, один из которых утратил нужную нам страницу. Наконец, те же два экземпляра номера могут идентифицироваться нами в своем значении со всеми остальными номерами где бы мы их не встретили независимо от их фактической «актуальной» нагрузки и даже от факта реализации способности к нумерации при сохранении «потенциальной» способности служить номером чего угодно. Мы нисколько не затрудняемся в выборе своей позиции по отношению к номеру, также как и в изменении этого выбора при необходимости в конкретной ситуации восприятия номера. Но нет никакой возможности решить вопрос об идентичности или различии одинаковых номеров и их значений за пределами определенного контекста ситуации выбора. За этими пределами мы можем только конста¬
52
Д. Н. ДУБНИЦКПП
тировать возможность выбора между взаимно-неоднозначными и несовместимыми функциональными ролями номера, в совокупности составляющими его значение для человека. С такой же легкостью и свободой как и при нумерации страниц, мы меняем в своем сознании значения номеров при доказательстве теоремы Кантора - в полном соответствии с законами собственного мышления.
Рассмотрим еще один демонстративно-наглядный пример релятивности наших представлений о номерах. Несчетность действительных чисел, составляющих в совокупности континуум, доказывается в учебниках следующим образом. Точки отрезка прямой могут быть поставлены в однозначное соответствие множеству бесконечных десятичных дробей в диапазоне от 0 до 1. Предположим обратное утверждению теоремы, т. е. предположим возможность перенумеровать множества этих бесконечных дробей. Расположим их в порядке возрастания номеров, оставив только цифры после запятой. Получим квадратную таблицу цифр, бесконечную вправо и вниз:
а11 а12а13 ••• а1п •••
а21 а22а23 ••• а2п •••
а , а _ а , ... а .... m 1 m2 m3 mn
Первый индекс при букве является порядковым номером десятичной дроби (номер строки); второй индекс является порядковым номером десятичного знака дроби после запятой. Эта квадратная таблица позволяет образовать еще одну последовательность цифр, представляющих десятичную дробь, которая отлична от любой из дробей, вошедших в состав таблицы, и, следовательно, не имеет своего номера, именно: ее первый знак отличается от первого знака первой дроби, второй знак - от второго знака второй дроби и т. д. по диагонали до бесконечности. Существование дроби, не имеющей своего номера, противоречит исходной посылке о возможности нумерации всех дробей и, тем самым, доказывает теорему. Приведенное рассуждение представляет собой пример т.н. «диагонального процесса», широко распространенного в качестве способа доказательства математических теорем.
Представленная выше квадратная таблица цифр хорошо иллюстрирует релятивность наших представлений о цифрах. Строчек больше, чем столбцов, хотя столбцы и строчки ничем не отличаются друг от друга, кроме одного - точки зрения на них специально подготовленно¬
О ПАРАДОКСАХ
53
го интерпретатора, наделяющего их различными значениями в зависимости от своего избирательного и тенденциозного интереса.
Две одинаковые цифры в одной строке интерпретируются нами как разные цифры, каждая из которых наделена в нашем сознании своим собственным каждый раз новым значением, зависящим от ее порядкового номера в строчке - значением десятых, сотых, тысячных и т.д. долей единицы. Их нельзя спутать или дважды употребить в той же самой функциональной роли. Напротив, две одинаковые цифры в одном столбце интерпретируются нами как одна и та же цифра, используемая повторно и не меняющая при этом повторном употреблении своего значения, никак не связанного с ее порядковым положением в столбце. Такая фиксированная функциональная роль цифры обеспечивает не просто повторное, а ничем не ограниченное использование той же самой цифры. Именно эта асимметрия интерпретаций позволяет нам построить «лишнюю» строчку цифр, которая не может соответствовать «лишний» столбец. Мы сравниваем множество «актуальных» значений цифры, связанных в нашем сознании каждый раз с новым объектом обозначения, и множество всех потенциально-возможных цифр в одном и том же значении и убеждаемся в том, что предопределено с самого начала различием способов интерпретации, - в невозможности ограничить «потенциальное» множество цифр никаким перечнем их «актуальных» реализаций. Мы имеем здесь дело с конфликтом двух способностей нашего сознания, взаимно-ограничивающих друг друга - способности избирательно фиксировать определенные предметы нашего внимания и способности не фиксировать их, сохраняя полноту свободы вариаций в пределах зафиксированного императива идентификации этих предметов. Мы не сомневаемся в своем естественном праве занимать ту или иную из двух взаимно-неопределенных точек зрения, а также в своем праве не придерживаться раз и навсегда однажды сделанного выбора точки зрения, а менять его в зависимости от направления наших интересов.
Счетно или несчетно множество одинаковых цифр 1 1 1 ... ? Это зависит от точки зрения. Оно счетно, если мы различаем эти цифры, наделяя в своем сознании каждый из экземпляров одинаковых цифр собственной индивидуальностью (как это имеет место, например, при обозначении числа сто одиннадцать), связанной с фактом и обстоятельствами реализации цифры, включенной в контекст существования живого человека-интерпретатора в качестве объекта его «актуально» за¬
54
Д. Н. ДУБНИЦКПП
интересованного внимания. Оно несчетно, если мы идентифицируем эти цифры и видим в них необязательные реализации императива «узнавания» цифры в любых обстоятельствах, не связанного с определенным фактом и обстоятельствами реализации. Множество всех потенциально-возможных экземпляров цифры не может быть поставлено во взаимно-однозначное соответствие множеству актуальных реализаций той же цифры, они - взаимно-неоднозначны. Неопределенность обстоятельств реализации цифры является не недостатком, а существенно важным достоинством с точки зрения определенности императива интерпретации. Любые уточняющие подробности - место, время, форма, цвет, размер, порядок расположения - не полезны, а вредны, поскольку ограничивают область действия императива «узнавания» цифры и свободу выбора нами цифры в случае необходимости. Исчерпывающая полнота и однозначность определения множества цифр в качестве потенциального (а не актуального) объекта нашего внимания достигается ценой отказа от какой-либо определенности его перечисленного списочного состава.
Пользуясь цифрами и номерами мы свободны выбирать любую из альтернативных точек зрения на цифру, но мы не вольны избежать необходимость самостоятельных усилий выбора. Только обе функциональных роли цифры - роль императива «узнавания» с неисчерпаемой областью потенциальных реализаций и роль актуальной реализации императива «узнавания» - или, что то же, только обе способности человеческого сознания в отношении цифры - сохранять способность узнавания цифры независимо от обстоятельств и фактически реализовать эту способность в определенных обстоятельствах - в совокупности обеспечивают фактическое пользование цифрами и не обеспечивают его порознь друг от друга.
Значение цифры - это не состояние, а событие, которое может не повториться, именно: это поступок интерпретатора.
Все, что сказано о номерах и цифрах как объектах нашего заинтересованного внимания, относится в равной степени к любым объектам, способным стать предметом нашего заинтересованного внимания независимо от их свойств и особенностей. Раздвоение объектов внимания является не свойством объектов, а свойством фиксации внимания, проявляющим себя совершенно независимо от конкретных свойств того, на что оно направлено. Доказательство теоремы Кантора не требует обращения к каким-либо определенным свойствам предметов, кроме спо¬
О ПАРАДОКСАХ
55
собности предмета оставаться самим собой в процессе наших мысленных с ним манипуляций. Множество таких фиксированных предметов нашего внимания не может быть поставлено в однозначное соответствие множеству всех возможных комбинаций этих предметов - множеству всех подмножеств исходного множества.
Предположим противное этому утверждению - возможность реализации такого однозначного соответствия. Рассмотрим совокупность всех тех объектов, которые не входят в состав соответствующих их совокупностей. Эта новая совокупность не может иметь себе соответствия среди объектов, поскольку в противном случае она должна включать в себя этот объект, если не включает его. и наоборот. Полученное противоречие опровергает первоначальное предположение, и, тем самым, доказывает теорему.
В процессе этого доказательства мы изменяем свое представление о «предметах» или, лучше сказать, свое отношение к ним в пределах, предоставленных нашими представлениями: в одном случае мы оперируем номенклатурой определенных, т. е. «актуально» зафиксированных в сознании «предметов», каждый из которых мы позволяем себе использовать в качестве объекта сравнения только один единственный раз, а в другом - при образовании совокупностей - неопределенным «потенциальным» множеством повторных использований того же предмета, каждое из которых необязательно, что лишает это множество в наших глазах определенности номенклатуры, но придает ему определенность полноты.
Отношения предметов и совокупностей напоминают отношения брадобрея со своими клиентами. Предметы обладают способностью образовывать множества в двух смыслах - в «актуальном» смысле, который исключает фактическое присутствие «предмета» более чем в одной совокупности сразу, и в «потенциальном» смысле, который, напротив, предполагает его потенциальное присутствие сразу во всех возможных совокупностях без исключения, не требуя фактического присутствия ни в одной из них. Эти смыслы взаимно-неоднозначны: полнота «потенциальной» способности предмета входить в состав различных множеств требует полной неопределенности ее «актуальных» реализаций. В некоторых случаях они могут стать взаимно-противоположными: совокупность объектов, поставленных в однозначное соответствие совокупностям и не входящих в состав тех совокупностей, которым они соответствуют, должна включать соответствующий себе объект в
56
Д. Н. ДУБНИЦКПП
«потенциальном» смысле, если не включает его в «актуальном», и наоборот.
Граница взаимной неоднозначности, разделяющая объекты и совокупности объектов, проходит в нашем сознании. Это свойство - необходимое - наших ментальных манипуляций с предметами, не зависящими от этих манипуляций, и состоит оно в конфликте двух способностей нашего сознания по отношению к своим объектам - способности фиксировать внимание на связи «предмета» внимания с другими «предметами» внимания в составе совокупности и способности фиксировать свое внимание на их взаимной свободе и необязательности любых фиксированных связей предмета с какой-либо определенной совокупностью. Любые совокупности, фактически ставшие объектом нашего заинтересованного внимания, вполне сопоставимы с номенклатурой зафиксированных нашим сознанием «предметов», но это заведомо не все потенциально-возможные совокупности, в которые наше вариабельное внимание способно включить «предмет». Как бы ни расширяли мы область фактически - «актуально» - зафиксированных в сознании совокупностей, мы никогда не сможем исчерпать область потенциальных совокупностей, всегда остающуюся за пределами способностей фиксации по той простой причине, что она образована прямо противоположной способностью нашего сознания - способностью не ограничивать себя только одним определенным фиксированным состоянием внимания.
Для реального образования различных совокупностей предметов необходимы обе ментальные способности - способность комбинировать из предметов множества и способность не ограничивать себя только одной определенной или даже несколькими определенными комбинациями.
Чтобы сделать более наглядным этот конфликт, переведем разговор с абстрактных множеств на конкретные предметы - спички и их совокупности - коробки. Теорема Кантора доказуема и на этой специальной разновидности предметов, хотя, возможно, ее доказательство может показаться пародией. Множество всех спичек нельзя поставить в однозначное соответствие множеству всех возможных совокупностей спичек (коробков), поскольку такое соответствие ведет к противоречию: совокупность всех спичек, не входящих в состав соответствующих этим спичкам коробков, не может соответствовать никакая определенная спичка, т. к. она должна принадлежать своему коробку в том случае, если не принадлежит ему, и наоборот.
О ПАРАДОКСАХ
57
Сравнивая спички и совокупности спичек, мы меняем свое отношение к одной и той же спичке: в множестве «всех спичек» мы позволяем каждой спичке участвовать только один единственный раз. образуя совокупность «всех возможных коробков» мы используем спичку многократно без всяких ограничений.
Реальная спичка может одновременно находиться только в одном определенном реальном коробке, но ничто не мешает нам переложить ее в другой реальный коробок. При этих манипуляциях мы всегда будем иметь дело с некоторыми (заведомо не всеми) спичками и с некоторыми (заведомо не всеми) коробками. «Множество всех спичек», также как и «множество всех возможных совокупностей спичек (коробков)» - это МЕНТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ сознания, продолжающие нашу способность реально манипулировать с некоторыми спичками и коробками в область ментальной способности манипулировать любыми спичками и коробками. Эти ментальные экстраполяции отражают противоречивую двойственность наших реальных способностей по отношению к спичке и коробку - способность помещать определенную спичку в определенный коробок, во-первых, и способность перекладывать ту же спичку из одного коробка в другой без всяких ограничений, во-вторых. Этим двум способностям реальных манипуляций соответствуют две противоречивые способности ментальных манипуляций - способность фиксировать внимание на «актуальном» присутствии определенной спички в определенном коробке и способность фиксировать внимание на «потенциальной» способности спички присутствовать не только в одном определенном, но в любом из возможных коробков, существование каждого конкретного из которых совершенно необязательно, но зато и ни один из которых не может быть исключен из числа потенциальных объектов нашего внимания.
Таким образом, понятие о «совокупности коробков» расчленяется в нашем сознании на два взаимно-неоднозначных представления - представление о множестве всех определенных коробков, зафиксированных нашим избирательным вниманием, и представление о множестве всех потенциально-возможных коробков, существенно превышающем возможности любых усилий фиксации. В первом случае мы имеем дело с определенной номенклатурой коробков, которые вполне могут быть поставлены в соответствие множеству всех определенных спичек, но это будут заведомо не все потенциально-возможные коробки. Достичь исчерпывающей полноты «всех мыслимых совокупностей спи¬
58
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
чек» можно только ценой отказа от мысленной фиксации определенности этих совокупностей, вследствие чего это исчерпывающе-полное множество неопределенных коробков теряет однозначность соответствия множеству определенных спичек. Разница эта релятивна, т. е. зависит только от точки зрения.
Отношения между спичками и коробками вполне равноправны и симметричны. Определенных (зафиксированных в сознании) спичек меньше, чем всех мыслимых (не зафиксированных в сознании) коробков, куда потенциально могут попасть эти спички. Но определенных коробков меньше, чем всех мыслимых спичек, которые потенциально способны в них побывать. «Множество всех спичек» также расщеплено в нашем сознании на два взаимно-неоднозначных компонента, как и «множество всех совокупностей спичек». «Мощность» того и другого множества зависит от того, склонны ли мы в силу тех или иных побудительных причин зафиксировать свое заинтересованное внимание на определенных спичках (коробках) или на функции спичка (коробка) безотносительно к особенностям определенной спички и даже к факту ее реального существования. Первый вариант совокупности определенных спичек всегда можно дополнить новой определенной спичкой, но никакие дополнения совокупностей определенных спичек не способны исчерпать - множество всех мыслимых спичек, в понятии о котором заключена наша способность узнавать «спичку» где бы то ни было в любых ситуациях. Для того, чтобы пользоваться спичками (и коробками) нужны сразу обе способности нашего сознания: способность фиксировать внимание на определенной спичке (независимо от избирательного интереса, зафиксированного в понятии «спичка») и способности фиксировать в сознании наш избирательный интерес (независимо от особенностей определенного объекта этого интереса); или, другими словами, для пользования спичками, нужна потенциальная способность узнавать спичку независимо от обстоятельств и способность время от времени делать это в определенных обстоятельствах.
Наше сознание расщепляет понятие «спичка» (также как и любое другое) на два взаимно-связанных, взаимно-дополняющих, но взаимнонеоднозначных представления, разделенных непроходимой границей:
1. Объект нашего заинтересованного внимания, зафиксированный независимо от мотивов этой заинтересованности и безотносительно к факту заинтересованности - «эта спичка», способная стать членом неопределенного числа совокупностей и носителем неопределенного чис¬
О ПАРАДОКСАХ
59
ла возможных функций и свойств, вызывающих и поддерживающих наш интерес к этому объекту;
2. Предикат «спичка», фиксирующий наш избирательный интерес к подобного рода объектам безотносительно к факту существования любого определенного из них - культурно-обусловленный императив узнавания и идентификации объектов нашего внимания, продолжающий действовать до и после фактического присутствия спичек в сфере нашего внимания.
Первое представление индуцирует в нашем сознании ментальную конструкцию счетного «потенциально-бесконечного» (как говорят математики) множества актуально-определенных объектов нашего внимания, сохраняющих себетождественность, независимую от любых ментальных манипуляций с ними; второе представление индуцирует альтернативную ментальную конструкцию несчетного «актуальнобесконечного» множества всех потенциальных объектов нашей избирательной заинтересованности.
В каждом конкретном случае мы используем ту из двух доступных нам ментальных конструкций, которая соответствует нашим интересам в контексте фактически переживаемой ситуации. Когда нам нужно прикурить, ищем спичку, все индивидуальные особенности которой нам безразличны за исключением одной единственной - способности соответствовать своей функции. После того, как мы фактически реализовали свой выбор определенной спички, мы получаем в руки предмет который может быть наделен в наших глазах совершенно неопределенным множеством функциональных ролей - от пересчета коробков до чистки зубов.
Мы можем как угодно варьировать свое отношение к спичкам в зависимости от обстоятельств, но не можем сделать свой выбор раз и навсегда независимо от обстоятельств, т.е. не можем избежать необходимости выбора точки зрения в каждом конкретном случае.
Оппозиция счетных и несчетных объектов нашего сознания принадлежит к числу свойств нашего сознания и перемещается вместе с перемещением внимания с одних объектов на другие, оставаясь инвариантом любых воспроизводимых форма восприятия и мышления. Никак нельзя исхитриться так, чтобы избежать самостоятельных усилий выбора, навсегда оставив в пределах собственного внимания только один член альтернативной оппозиции понятий, отвергнув второй. Невозможно, например, осуществить рекомендации сторонников «инту¬
60
Д. Н. ДУБНИЦКПП
иционизма» в математике, предлагавших ограничить математические рассуждения областью счетных множеств натуральных чисел и отвергнуть результаты, полученные с привлечением представлений об актуальной бесконечности.
Представления «предмет», «спичка» и «эта спичка» или «число», «натуральное число» и «число пять» в этом отношении не отличаются друг от друга. Представление «спичка» выполняет предикатную функцию по отношению к неопределенному множеству «этих спичек», но служит избирательному выделению «спички» среди предметов - не спичек. Но и представление «эта спичка» имеет свою собственную область нерасчлененной множественности - это множество всех повторных «узнаваний» «этой спички» в различных совокупностях. В свою очередь «эта спичка в определенном коробке» также имеет свою область нерасчленимой несчетности и т. д. Во всех этих случаях речь идет не о предметах, независимых от нашего сознания, а о предметах нашего сознания, временно зафиксированных в нем независимо от вариаций состояний нашего сознания. Счетность или несчетность предметов нашего избирательного интереса зависит только от способа фиксации этого интереса.
При этом, фиксация сознания на «этой спичке» (на «этом коробке». на числе «пять» и т. д.) с необходимостью порождает в том же сознании нефиксируемое множество повторных воспроизведений таких состояний сознания. Двойственность предметов нашего сознания это необходимое следствие фиксации состояний сознания за пределами определенной ситуации акта осознания. Эго двойственность может быть преодолена только ценой отказа от фиксации состояний сознания или, лучше сказать (коль скоро такой отказ невозможен, поскольку означает отказ от способности к мышлению) ценой отказа от окончательной фиксации, т. е. ценой понимания релятивной необязательности любой фиксации и сохранения способности в любой момент выйти за ее пределы. Этой способностьюв полной мере обладает обыденное сознание человека, пользующегося спичками или номерами.
Представление «эта спичка», инвариантное к ментальным манипуляциям с ним, это такая же ментальная конструкция, как и понятие «спичка», такой же точно продукт мыслительных усилий, имеющий свою ситуативную побудительную причину. Эго продукт усилий императивного избирательного узнавания «этой спички» в различных ситуациях осознанного восприятия или сознательного использования не¬
О ПАРАДОКСАХ
61
зависимо от обстоятельств и даже от самого факта восприятия или использования.
Императивно-ментальный характер наших представлений об «этом предмете» и необходимость специальных усилий сознания для выделения предмета нашего внимания, инвариантного к фактам реализации этого внимания, станет ясной, если вспомнить, что выбирать в различных коробках приходится спичку среди совершенно одинаковых спичек. Проблема идентификации начинается уже для двух последовательных взглядов на одну и ту же спичку - когда и в какой мере объекты этих взглядов можно считать идентичными? Маркировка спички краской может облегчить реальный выбор «этой определенной спички» при различных встречах с ней, но не решает проблему выбора среди одинаково-маркированных спичек и, тем более, не решает проблему идентификации при ментальных манипуляциях со спичкой. «Интуиция целого числа», на которую предлагал опереться родоначальник «интуиционизма» Брауэр, уже содержит в себе то, что он решил последовательно изгонять из математики - актуальную бесконечность несчетного множества повторных использований целого числа в различных совокупностях, несоизмеримого с множеством натуральных чисел. Без этого компонента «интуиции целях чисел» ими просто невозможно пользоваться. В этой связи можно напомнить ценой каких значительных усилий ребенка достигается формирование этой нетривиальной «интуиции» - способности узнавать и идентифицировать число в различных ситуациях его конкретных реализаций.
В дальнейшем эта работа ума над самим собой - над преобразованием своих впечатлений становится привычной и мало заметной, но она никогда не может стать ненужной. Выделение «спички» среди не спичек, «этой спички» среди других спичек, «этой спички в этом коробке» среди потенциального множества коробков с «этой спичкой» и т. д. требует совершенно одинаковых ментальных усилий, стимулированных нашей преходящей потребностью. Причем любой вариант осознанного восприятия, будучи зафиксирован в соответствующих представлениях, с необходимостью порождает в сознании неопределенное множество их потенциальных реализаций.
Куда бы мы не обратили свое заинтересованное внимание, нам никогда не уйти от совмещения сразу двух представлений, разделенных релятивной границей взаимной неоднозначности, пока мы хотим пользоваться фиксированными понятиями и представлениям. Фиксация на¬
62
Д. Н. ДУБНИЦКПП
ших понятий и представлений является необходимым условием существования каких бы то ни было понятий и представлений о реальности в нашем сознании, однако до тех пор только, пока она остается релятивной, т. е. связанной с состоянием сознания носителя представлений и понятий, и существенным образом предполагает возможность изменения точки зрения. И они немедленно теряют всякую связь с реальностью, как только теряют свою релятивность и фиксируются в сознании независимо от реально-переживаемых вариаций сознания, превращаясь в пустой, предвзятый и ограничительный стереотип сознания. Фиксация в сознании представлений о «спичке» продуктивна как средство поддержания связей между сознанием и действительностью, но не как средство разрушения этих связей. Будучи заведомо избирательным самоограничением сознания, наши представления о мире эффективны только при обязательной готовности преодолевать, при необходимости, рамки этой ограниченности. Путь к объективности лежит не через исключение индивидуального человеческого фактора, а через возможно полный учет этого фактора - вот какой вывод следует из существования парадоксов теории множеств.
Культурные предпосылки представлений о множествах
Все, что сказано о спичках, цифрах и числах остается справедливым для любых предметов нашего внимания безотносительно к любым их свойствам, кроме одного - способности быть предметом нашего внимания.
Существует только 2 способа представить продукты нашего мышления в форме, воспроизводимой за пределами реализации единичного акта мышления и за пределами состояния единичного сознания, которым и следует наше сознание, расщепляя каждый объект сознания на два взаимно-неоднозначных компонента:
1. Зафиксированный в сознании предмет внимания, инвариантный по отношению к незафиксированным вариациям потенциальных мотивов заинтересованности этим предметом.
2. Зафиксированный в сознании мотив избирательной заинтересованности, инвариантный по отношению к незафиксированным вариациям потенциальных объектов этой заинтересованности.
Фиксируя в собственном сознании и сознании других людей нечто такое, что можно воспроизвести за пределами уникального переживания мыслщего сознания, мы с необходимостью реализуем оба способа сразу.
О ПАРАДОКСАХ
63
В первом случае мы имеем дело с фиксированными инвариантами вариабельных осмыслений и описаний - «предметами» наших ментальных манипуляций, независимыми от этих манипуляций. Мы можем неограниченно наделять их различными предикатами и включать в различные совокупности, каждая из которых потенциально-допустима, но не обязательна.
Во втором случае мы имеем дело с фиксированными средствами осмыслений и описаний вариабельных объектов нашего сознания - представлениями, понятиями, смыслами слов и другими подобными императивами нашего сознания, принадлежащими ему независимо от факта фиксации внимания на определенном «предмете» внимания и от факта существования «предметов», соответствующих своим «понятиям».
Эти два компонента воспроизводимого осмысления с необходимостью дополняет третий - никогда не фиксируемая в принципе и вариабельная избирательная заинтересованность индивидуального человеческого сознания, соединяющая в каждом акте фактически - реализованного внимания первые два, которые, в сущности, являются ничем иным, как самоограничительной формой проявления этой заинтересованности.
Первый вариант фиксации сознания можно назвать «онтологическим», второй - «гносеологическим». При этом следует помнить, что представление об «онтологическом» объекте нашей потенциальной заинтересованности, независимом от состояний сознания, такая же принадлежность нашего сознания, такое же создание усилий разума, как и прямо связанный с нашим сознанием «гносеологический» императив избирательной заинтересованности. И тот и другой компоненты фиксированного осмысления есть ментальные конструкции, требующие для своего образования специальной мыслительной работы сознания над материалом непосредственной сенсорной реактивности, преобразующей ее в представления, понятия и другие подобные средства фиксации результатов мышления за пределами акта единичного восприятия. Эти ментальные конструкции противостоят друг другу, взаимно дополняют друг друга, но отличаются друг от друга только своей функциональной ролью, которая определяется нашим избирательным интересом, в каждом конкретном случае может быть иной. Это две стороны одной и той же нашей ментальной способности: способности фиксировать объект своей избирательной заинтересованности из числа всех
64
Д. Н. ДУБНИЦКПП
остальных ценой обязательного (но временного) ограничения при этом собственной способности изменять сделанный выбор.
«Предметы» нашего сознания, которыми оперирует теория множеств, это не те осязаемые предметы, которые мы видим, слышим.нюхаем. трогаем руками и перекладываем из одного коробка в другой, или, точнее говоря, не совсем те предметы. Для того, чтобы установить, что мы каждый раз имеем дело с тем же самым предметом, недостаточно его видеть, слышать, нюхать или трогать, необходимо еще нечто сверх того - способность «узнавать» его и идентифицировать при повторной встрече с ним нашего сознания. А для этого уже недостаточно работы рецепторов, нужна работа сознания - нечто дополнительное к рукам, глазам, ушам и другим рецепторам. Как только мы стали «узнавать» предмет, так мы уже имеем дело не с «предметом», независимым от нашего сознания и нашего внимания, а с чем-то существенно иным - с «представлением о предмете в нашем сознании», которое принадлежит сознанию и не зависит более ин от вида рецептора, ни от факта ощущений и переживаний. Это инвариант реальных и ментальных манипуляций - императив воспроизводимого осмысления наших ощущений и переживаний, который не просто связан с индивидуальным сознанием, но является его специфическим - воспроизводимым - состоянием.
Именно из этих ментальных инвариантов мы формируем, комбинируем и рассыпаем в своем сознании бесконечные множества. Наше сознание не способно выйти за пределы круга предметов, составляющих предмет избирательной заинтересованности нашего сознания, и всегда имеет дело только с ними. Поэтому все предметы, доступные нашему сознанию, несут на себе неустранимую печать избирательной работы нашего сознания - это трюизм, но мы не всегда склонны отдавать себе отчет в следствиях этого факта. Минимальная способность «узнавать» уже есть свойство не только предмета, но и сознания; именно - это функция сознания в отношении своих предметов, соединяющая (а не разделяющая) сознание и его предмет. Эго функция формирования воспроизводимых инвариантов вариабельных ментальных состояний, сохраняющих себетождественность при всех ментальных манипуляциях с ними, путем избирательного вычленения и фиксации в потоке впечатлений некоторые разновидности впечатлений, способных заинтересовать нас и остановить наше внимание по той или иной причине, в ущерб всем остальным. Способность «узнавания» продол¬
О ПАРАДОКСАХ
65
жается за пределами породившей ее ситуации или нескольких повторных ситуаций и, коль скоро она возникла (если возникла), противостоит ситуативным обстоятельствам как их инвариант. Она распространяется не только на фактически имевшие место ситуации «узнавания» в прошлом и даже не только на фактические «узнавания» в будущем, но вообще на все потенциально-возможные узнавания в прошлом, настоящем и будущем, независимо от обстоятельств реализации «узнавания» и даже от факта реализации «узнавания».
Образуется устойчивые воспроизводимые императивы идентификации объектов сознания. Пусть, для определенности, это будут: «дерево», «спичка», «цифра», «число». Но ими также могут быть «это дерево», «эта спичка», «цифра 2», «число два». Или: «это дерево - расцветшее» (засохшее, украшенное новогодними игрушками и т. и.), «эта сырая (сухая) спичка», «цифра 2 в обозначении десятков (единиц) в составе цифры 22 (двадцать два)», «число два, реализованное в двух яблоках (двух грушах)», и т. д. в обе стороны. Изъятый из контекста определенной ситуации «узнавания» каждый из перечисленных императивов идентификации при его дальнейшем употреблении может выступать в одной из двух функциональных ролей, которые зависят от того, фиксируется или варьируется в нашем сознании избирательная заинтересованность внимания в отношении своего объекта. - в роли объекта описания или средства описания. В реальной ситуации «узнавания» эти функции совмещены, но, освобождая императив от связи с определенной ситуацией, мы вынуждены выбрать одну из двух точек зрения (под угрозой вообще утратить способность «узнавать» что-либо повторно) в зависимости от направления нашей заинтересованности в контексте ситуации. Функции императива идентификации в нашем сознании - «актуальная» или «потенциальная», «предметная» или «предикативная», «онтологическая» или «гносеологическая» определяются только контекстом события идентификации.
В нашем наборе императивов представления второго ряда выполняют функции объектов описания и осмысления для понятий первого ряда, но сами выполняют функции средств понятийного осмысления для множества тождественных предметов нашего внимания, некоторые из которых (заведомо не все) названы в третьем ряду. Будучи зафиксированы в нашем сознании «это дерево», «эта цифра», «это число» индуцируют в нем сразу два ряда потенциальных объектов: ряд всех потенциально-возможных осмыслений (узнаваний) этих «предме-
66
Д. Н. ДУБНИЦКИЙ
тов» и ряд всех потенциально возможных реализаций «предикатов». То же самое можно сказать и об императивах первого и третьего ряда примеров: если мы зафиксируем в сознании императивы первого или третьего ряда, то представления второго ряда станут принадлежностью неопределенного множества объектов для определенных предикатов первого ряда или соответственно, принадлежности неопределенного множества всех возможных предикатов для определенных объектов третьего ряда.
При всей своей релятивности и связи с состояниями индивидуального сознания, граница взаимной неоднозначности, разделяющая в нашем сознании фиксированные объекты интереса и фиксированные интересы к объектам (объекты понятий и понятия об объектах, значения знаков и носители значений и т. д.) не есть нечто такое, что можно преодолеть и чего можно при желании избежать. Избежать этого расчленения нельзя во избежание полной утраты воспроизводимости результатов мышления и, вместе с тем, утраты возможности самого мышления, начиная с уровня тропизмов, как способности избирательно реагировать на некоторые из внешних раздражителей единообразным воспроизводимым - «узнаваемым» - образом.
Два альтернативных компонента интерперсональной воспроизоди- мости состояний сознания человека образуют устойчивое герменевтическое кольцо обратной связи (взаимной обусловенности): императив идентификации предопределяет избирательную заинтересованность, способную выделить предмет внимания на фоне нерасчлененных сенсорных реакций независимо от встречи с предметом, предмет, независимый от избирательного интереса к нему, возбуждает при встрече с ним усилия сознания по идентификации и осмыслению.
Расчленение «предметов узнавания» есть атрибут сознания. Оно происходит всегда (даже в сознании животного), но далеко не всегда (даже в сознании человека) этому расчленению сопутствует стремление зафиксировать это расчленение раз и навсегда, исключив по возможности все следы работы собственного сознания из результатов этой продуктивной работы и представив эти результаты в форме, независимой от обстоятельств их получения (как это имеет место в эписте- миологической норме научного знания новой европейской культуры).
Результаты работы сознания обязательно должны быть интерперсонально воспроизводимы - это условие существования ментальной связи индивида и социума, т. е. культуры, но они не обязательно долж¬
О ПАРАДОКСАХ
67
ны быть фактически воспроизводимы всегда в том же виде. т. е. независимо от порождающих избирательных интересов. Стремление к такой «независимости» само по себе есть не более, чем специфическая форма избирательной заинтересованности, частный случай более общей закономерности - этнографический стереотип поведения, локальный в историческом времени и географическом пространстве человеческой культуры. К специальным усилиям сознания, преобразующим продукты индивидуального мышления в нечто, независимое от индивидуального мышления, нас побуждает определенная культурная норма человеческого поведения (в сфере культурно-адресованного поведения). Эта норма требует всеобъемлющей полноты, т. е. полной неопределенности культурного адресата усилий нашего сознания, их не локальной, ничем не ограниченной воспроизводимости и независимости от обстоятельств реализации и от факта реализации этих усилий в качестве непременного условия культурной значимости и культурной сакции наших утверждений.
Эта норма побуждает нас вычленять в наших впечатлениях компоненты, воспроизводимые не только за пределами определенного локального контекста ситуации, но за пределами всякого контекста вообще, требуя оперировать только навсегда зафиксированными в сознании объектами и безусловно общезначимыми понятиями, лишенными всякой связи с вариабельной и избирательной человеческой заинтересованностью. При этом за пределами культурной фиксации остается основополагающий компонент культуры - не фиксируемая избирательная человеческая заинтересованность индивидуального сознания, соединяющая компоненты осмысления, расчлененные культурнозначительной фиксацией смыслов, и тем самым преодолевающая неизбежную ограниченность любых фиксированных представлений, способная корректировать их, продуцировать и выбирать в зависимости от обстоятельств, т. е. другими словами, поддерживать их связь с реальностью.
Не только животные, но даже мы сами - носители эпистемологической нормы научного знания - за пределами специальной разновидности утверждений, адресованных «сразу всем и никому в особенности», не стремимся оборвать связи наших представлений с контекстом ситуации их использования. В большинстве случаев понятия и представления имеют значение в ситуации узнавания, а не за пределами всех возможных ситуаций узнавания. Они значимы в контексте существования
68
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
их носителей, а не за пределами факта существования носителей, т. е. значимы как параметр встречи и взаимного контакта заинтересованного внимания с объектом своего избирательного интереса, а не как параметр освобождения их друг от друга.
Характер воспроизводимых императивов сознания - понятий и представлений животного и человека отличается только способом мотивации и стимулирования избирательной заинтересованности, ответственной за формирование относительно устойчивых понятий и представлений в сознании. Для животного базой мотивации являются индивидуальные биологические потребности, сформированные видовой наследственностью. Для человека сохраняют свое значение все эти источники мотивации, но к ним добавляются также и другие, побуждающие его учитывать не только свои индивидуальные интересы, но также и интересы других людей, делая возможным воспроизведение значения таких представлений не только за пределами наличной ситуации, переживаемой собственным сознанием, но и за пределами собственного сознания и даже собственного индивидуального существования. Эта дополнительная разновидность мотиваций может не противоречить интересам индивидуального человеческого существования, но может и входить с ним в конфликт.
Парадоксальный факт существования общезначимого (в тенденции) научного знания показывает, что среди культурно-обусловленных мотиваций могут присутствовать и эффективно работать такие их разновидности, как стремление человека исключить следы соучастия собственного сознания из результатов работы мышления или, в силу недостижимости этой задачи, по крайней мере, свести его к минимуму, по возможности полностью подчинив свои собственные индивидуальные интересы интересам всех других людей без исключения (в том числе не родившихся младенцев). Подобные мотивировки при всем желании невозможно свести к индивидуальным биологическим или даже просто прагматическим компонентам.
Не всегда требования культуры к своим носителям имеют такой предельно внеличный характер, как парадигма общезначимого научного знания. Но в культурном существовании людей всегда присутствует внеситуативный мотивационный фактор, источник которого лежит за пределами индивидуального сознания и представляет интересы неопределенного числа других людей в сознании одного человека. Наиболее общие из них можно назвать нормой культурного поведения. Порождаемые культурной нормой императивы осмысления впечатлений
О ПАРАДОКСАХ
69
принадлежат индивидуальному созданию, но только в той мере, в какой оно не принадлежит самому себе или, лучше сказать, принадлежит не только самому себе, т. е. способно избирательно вычленить в своих собственных избирательных и вариабельных интересах те из них, которые способны стать (реально или потенциально) культурнозначительными интересами неопределенного множества многих людей сразу. Императивная норма мышления, требующая воспроизводимости результате осмысления восприятия не только за пределами события восприятия, но и за пределами единичного сознания - это форма самодисциплины нашего сознания, обеспечивающая ментальную связь индивида и социума - необходимое условие существования культуры.
Степень подчинения индивидуального сознания культурной норме может быть весьма различной - от полного некритического усвоения до полного критического неприятия и меняться для каждого человека в зависимости от обстоятельств. Мы можем соблюдать или не соблюдать действующую культурную норму, но мы лишены возможности по своему произволу выбирать ее и совсем никак не учитывать, если стремимся к некоторому заметному эффекту наших культурноадресованных действий.
Математическая теория множеств, в сущности, изучала императивы сознания, порождаемые специфической культурной нормой, в той ее форме, которая сложилась в европейской культуре к началу XX века, требующей предельной независимости культурно-значительного итога индивидуальных усилиий осмысления восприятия от состояний индивидуального сознания, побуждающей его к этим усилиям избирательной заинтересованности индивида и от самого факта усилий.
Этот вариант культурной нормы, реализованный в парадигме научного знания, - не единственно возможный и даже не самый «естественный» из всех возможных. В человеческой истории существовали и другие нормы, порождающие иные императивы ментальных связей индивида и социума и, соответственно, иные варианты теорий множеств (не Канторовых) и логик (не Аристотелевых), в пределах которых возможны доказательства иных теорем и другие способы убеждающих рассуждений и которые не столь чувствительны и более терпимы к парадоксам и противоречиям. В последнем разделе настоящей работы рассмотрен в качестве примера несколько таких фактически реализованных культурных норм человеческого поведения, порождающих в сознании человека понятия, представления и картины реальности, не совпадающие с тем, к чему мы привыкли.
IV. УТОЧНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ
В настоящем разделе предпринята попытка уточнить смысл некоторых математических и физических понятий с учетом той роли, которую играют в наших представлениях императивы сознания, обусловленные требованиями не всегда критически воспринятой культурной нормы.
А такой компонент всегда присутствует в наших понятиях и утверждениях: мы не можем выйти за пределы собственного сознания. О чем бы мы ни говорили или о чем бы мы ни мыслили, мы всегда имеем дело с предметами нашего внимания, в свойства и в само существование которых избирательность нашего внимания обязательно вносит свой вклад. Поэтому желательно, по возможности, различать в плодах работы нашего сознания то, что относится к свойствам самого сознания, и вычленять вклад свойств мышления в результаты мышления.
Среди этих зверей наиболее опасны и всегда подозрительны именно самые очевидные, основные, безусловные и самые «естественные» представления, данные «непосредственной интуиции», используемые нами без критического анализа.
Понятие множества предметов
К числу нормативных параметров нашего сознания относится понятие «множества предметов».
В попытках преодолеть парадоксы теории множеств наиболее последовательные сторонники формализации теории пришли к следующему рецепту (Бурбаки): «При записи и при чтении формализованного текста совершенно не существенно, приписывается ли словам и знакам этого текста то или иное значение или даже не приписывается никакого - важно лишь точное соблюдение правил синтаксиса. Само собой разумеется, описание формализованного языка делается на обычном языке, подобно описанию правил игры в шахматы. Мы не входим в обсуждение психических или метафизических проблем, связанных с применимостью обычного языка в таких обстоятельствах (например.
О ПАРАДОКСАХ
71
возможность опознать, что какая-нибудь буква алфавита является той же самой в двух различных местах страницы и т. д.). Равным образом невозможно выполнить такое описание без того, чтобы не применять нумерации, хотя строгие умы могли бы почувствовать затруднение при этом и даже найти здесь логическую ошибку, тем не менее ясно, что в данном случае цифры используются лишь как опознавательные метки (впрочем, заменимые другими знаками, например, цветами или буквами) и что подсчет знаков в выписанной формуле еще не составляет никакого математического рассуждения. Мы не будем обсуждать возможность обучить принципам формализованного языка существа, умственное развитие которого не доходило бы до умения читать, писать и считать»1.
Таким образом, Бурбаки добивается непротиворечивости теории множеств, вынося за пределы формализованной теории с набором фиксированных символов, лишенных смысла, и произвольных правил синтаксиса необходимую для понимания такой теории способность опознавать буквы алфавита, пользоваться цифрами, считать, писать и читать осмысленные тексты. Во избежание порочного круга за пределами непротиворечивой теории оказываются такие множества, как совокупность букв алфавита, цифр, чисел, опознавательных меток, цветов, осмысленных слов и утверждений, без которых, однако, непротиворечивая теория не может быть сформулирована. Не следует поэтому удивляться «неполноте» такой теории, построенной на существенных самоограничениях сознания, требующих специальных усилий для поддержания этой самодисциплины, но оставляющих мотивы этих усилий за пределами теории.
На простом (неформализованном) человеческом языке это называется не решить проблему противоречивости «наивного» представления о «множестве», а - убрать ее с глаз долой.
Противоречие заключено именно в умении читать, писать, считать и пользоваться опознавательными метками. «Опознавание одной и той же буквы алфавита в двух различных местах страницы» - это ПАРАДОКСАЛЬНОЕ состояние сознания человека, который одновременно воспринимает эти буквы как один и тот же объект и как разные объекты. Для преодоления этой парадоксальности необходимо сделать выбор одного из двух возможных способов «опознавания» буквы:
1 Бурбаки. Теория множеств. Мир, 1965. С. 26-27.
72
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
а) фиксируя в сознании идентичность букв в различных местах страницы, но игнорируя их заведомое различие, т. е. оставляя за пределами фиксации неопределенную множественность потенциальновозможных реализаций буквы;
б) фиксируя в сознании определенный экземпляр буквы, отличающийся от всех остальных своим особенным местом на странице, но игнорируя идентичность повторных реализаций той же буквы, т.е. оставляя за пределами фиксации неопределенное множество потенциально-возможных интерпретаций этого знака, в том числе - его способность выполнять функцию буквы алфавита.
Альтернативу несовместимых способов «опознавания» буквы дополняет третья способность нашего сознания:
в) не ограничивать себя однажды сделанным выбором, а менять его в зависимости от обстоятельств и направления собственных избирательных интересов.
Фиксация сознания на определенном экземпляре буквы сама создает ограничительный и избирательный императив идентификации в отношении заведомо различных состояний этого фиксированного предмета сознания (буква мокрая - сухая, яркая - бледная и т. и.) или его потенциальных функций. В свою очередь зафиксированный в сознании императив идентификации различных экземпляров той же буквы создает новый уникальный предмет нашего избирательного внимания, инвариантный к ментальным манипуляциям с ним, в частности к особенностям фактических реализаций буквы (величина, цвет, положение на странице и т.п.) и к наделению этой буквы множеством различных значений и культурных функций. Между «предметом» - экземпляром знака и «знаком», узнаваемом во всех своих реализованных экземплярах, нет принципиальной разницы. Эта разница принадлежит не предмету сознания, а сознанию о предмете и есть не разница свойств, а разница функций, определяемая «актуальной» или «потенциальной» связью сознания со своим предметом. Опознавание предмета нашего сенсорного восприятия как в качестве «буквы алфавита» так и в качестве «экземпляра буквы» - в равной степени есть только одна из возможных и необязательных реализаций ментального императива, существующего до и независимо от любого из актов сенсорного контакта.
Два альтернативных варианта «опознавания» буквы не исчерпывают всех возможных взаимоотношений сознания со своим объектом. Используя метки (реальные или мысленные), в частности, придавая
О ПАРАДОКСАХ
73
значительность положению буквы на странице или в ряду других букв, мы получаем возможность фиксировать те ли иные формы разнообразия среди идентичных объектов нашего внимания среди различных экземпляров той же самой буквы, но при этом каждый раз получаем новый класс идентичных объектов, неразличимых новыми средствами фиксации разнообразия. Эта манипуляция сдвигает границу взаимной неоднозначности, но не устраняет ее.
Любой вариант фиксации сознания помимо очевидных достоинств воспроизводимости обязательно сопровождается неизбежным недостатком ограниченности, преодолеть который может только одно - неустранимая и неограниченная свобода вариабельности точек зрения, принадлежащая индивидуальному сознанию. Три перечисленных способности человеческого сознания в отношении своих объектов в совокупности могут быть источником парадоксов, но все три в совокупности совершенно необходимы для того, чтобы пользоваться буквами, цифрами, метками, считать, читать и писать. При этом способность человека варьировать предмет своего избирательного внимания так же важна, как и способность его фиксировать.
Во имя непротиворечивости тот или иной вариант избирательной фиксации сознания можно поддерживать неопределенно долго, но нельзя сохранить ее навсегда во избежание фиксации навсегда ограниченности собственного сознания. Фиксация объектов сознания одним из возможных способов необходима для воспроизводимости результатов нашего мышления - результатов усилий индивидуального сознания за пределами индивидуального сознания. Но она продуктивна только в той мере, в какой она дополнена постоянной готовностью индивидуального сознания не придерживаться однажды сделанного выбора, но изменять его в зависимости от обстоятельств. Результат сделанного выбора воспроизводим, но сам факт выбора всегда остается неповторимым усилием индивидуального сознания - поступком, которого нельзя избежать или перепоручить другому человеку.
Противоречие заключено в самом представлении о «множестве предметов» и состоит в противоречии двух способностей нашего сознания, взаимно-ограничивающих друг друга: 1) узнавать и идентифицировать предмет нашего внимания независимо от обстоятельств и 2) различать и дифференцировать повторные случаи узнавания в зависимости от обстоятельств. Эго противоречие проявляет себя безотносительно к каким-либо свойством предметов, кроме одного - быть «пред¬
74
Д. Н. ДУБНИЦКПП
метом нашего сознания», и представляет собой универсальное свойство нашего сознания и любых его «предметов». Поэтому для прояснения нашего «наивного» представления о «множестве предметов» нет другого разумного пути, как с самого начала включить в число основополагающих аксиом противоречивость нашего сознания, принимающего неустранимое соучастие в формировании воспроизводимых результатов мышления, прямым следствием которой являются неполнота и релятивность любых фиксированных форм сознания, в том числе представлений о фиксированном «множестве предметов». «Наивная» интуиция «предмета», руководившая рассуждениями Кантора при создании понятия «множества» и позволяющая нам пользоваться буквами, цифрами, числами, словами и осмысленными утверждениями, включает как безусловную данность взаимную ограниченность двух противоположных способностей нашего сознания - одновременно различать и идентифицировать - воспринимаемую как наличие непроходимой, но релятивной границы между «предметами» сознания. Поскольку в своих ментальных манипуляциях с предметами мы не можем выйти за пределы собственного сознания, граница, разделяющая способы избирательной фиксации сознания на своих «предметах» следует за нашим сознанием всюду, куда бы оно ни обратилось. Единственным способом преодолеть эту ограниченность фиксированных «предметов» (которой мы широко пользуемся) является релятивность, т.е. готовность всегда изменить способ избирательной фиксации «предмета» в сознании, если в этом возникает необходимость.
Фиксированные предметы нашего внимания и их множества это не факты действительности, независимой от нашего сознания, а факты реальности состояний сознания, подчиненного самодисциплине императивных форм избирательных представлений о действительности во имя тех или иных - в той или иной степени воспроизводимых, но каждый раз новых, целей. С этой точки зрения нет принципиальной разницы между такими фиксированными предметами нашего сознания, как «буква алфавита» и «экземпляр буквы алфавита». Разница между ними, конечно, есть и она понятна даже ребенку. Она состоит, например, в том, что «экземпляр буквы» можно потрогать руками, а «букву алфавита» нельзя. Но эта разница перестает не то, чтобы быть понятной, но быть заметной математику Кантору, для которого важно только одно - то, что и «буква» и «экземпляр буквы» являются фиксированными предметами нашего внимания - инвариантами ментальных
О ПАРАДОКСАХ
75
манипуляций, образующих и рассыпающих совокупности этих предметов. Разница между «буквой» и «экземпляром буквы» состоит в мотивах того избирательного интереса, который формирует эти «предметы» нашего сознания. Но именно определенность мотивов этих вариабельных интересов остается за пределами, более того - сознательно изгоняется за пределы тех представлений, с которыми оперирует теория множеств.
Формируя множества, математик говорит о «существовании» числа и «существовании» человека, не делая разницы между оттенками смысла этих слов. Различие между «буквой» и «экземпляром буквы» невозможно формализовать, т. е. освободить от связей с состояниями индивидуального сознания и его избирательными интересами, останавливающими наше внимание на тех или иных предметах. «Теория множеств» имеет дело с предметами внимания уже после остановки внимания, безотносительно к побудительным причинам остановки. Она оперирует данными сознания, очищенными от следов работы сознания и, тем более, от таких пустяков, как возможность или невозможность потрогать предмет сознания руками.
Когда Кантор доказал свою теорему о невозможности сопоставить число предметов числу всех возможных совокупностей этих предметов, он доказал не совсем то. что думал. Он не доказал, что совокупностей больше. чем предметов в том смысле, в каком два предмета больше, чем одни предмет. Установленная им граница оказалась релятивной. Но он все-таки доказал объективный (не релятивный) факт кардинальной важности, относящийся к свойствам нашего сознания, оперирующего представлениями о фиксированных предметах, именно: он доказал существование неустранимой границы взаимной неоднозначности между двумя способами фиксации «предметов» в сознании. Разница между множеством «предметов» и множеством «всех совокупностей предметов» другой природы, чем разница между двумя множествам предметов с фиксированным составом. При доказательстве теоремы Кантора мы сравниваем множества, одно из которых представляет набор актуально-фиксированных в сознании объектов, а другое - потенциальную совокупность объектов, отсутствие актуальной фиксации которых является не недостатком, а специальным достоинством - необходимым условием исчерпывающей полноты. В первом случае мы фиксируем в сознании «предмет» независимо от факта его соучастия в каких-либо совокупностях, и именно это
76
Д. Н. ДУБНИЦКПП
порождает в нашем сознании представление о неопределенности множества потенциально-возможных совокупностей, в которых способен соучаствовать этот «предмет». При этом множество фактов соучастия «предмета» в определенных совокупностях, фиксированных нашим сознанием, вполне соизмеримо с любым из множеств любых «предметов», фиксированных сознанием, но это множество не сможет достичь исчерпывающей полноты потенциально-возможных совокупностей «предметов».
Кантор доказал отсутствие взаимно-однозначного соответствия между воспроизводимыми продуктами двух способностей нашего сознания: между неограниченной свободой ментальных манипуляций с «предметами» нашего сознания и ограничительной самодисциплиной ментальных инвариантов этих манипуляций.
Граница взаимной неоднозначности разделяет в нашем сознании множество вполне определенных лиц и неопределенное множество всех потенциально-возможных мест их проживания или, как вариант, множество определенных городов и неопределенное множество всех потенциально-возможных лиц, способных в них проживать, или, наконец, список фактических жителей одного города (квартиры) и множество всех потенциально-возможных жителей этого города (квартиры),т. е. предметы нашего внимания, актуально зафиксированные в сознании независимо от их потенциального соответствия предикату, и предикаты, актуально зафиксированные в сознании независимо от их потенциального наполнения. При этом не совсем правильно утверждать, что потенциальных жителей квартиры «больше», чем фактических, во всяком случае их «больше» не в том смысле, в каком жителей города больше, чем жителей квартиры. Число потенциальных жителей несоизмеримо вообще ни с каким определенным количеством их неопределенно много.
Обращаться с потенциальными множествами нужно с некоторой осторожностью. Потенциальных солдат определенной роты нельзя построить по росту, поднять в атаку, образовать из них подмножества - взводы, поставить в однозначное соответствие какому-либо списку. Все это можно сделать только после актуализации списка роты - очередного рекрутского набора. Но список роты это еще не рота. Актуализация лишает функциональное понятие роты его потенциальной полноты, обеспечивающей возможность неограниченно пополнять ее поредевший состав новыми рекрутскими наборами. Однако при всех
О ПАРАДОКСАХ
77
таких пополнениях граница между актуальным списком роты и ее потенциальным наполнением остается непреодолимой. Только совокупность взаимно-исключающих компонентов - определенности списка и сознательный отказ от определенности списка - образуют в нашем сознании понятие «рота». Такая же релятивная граница разделяет, связывает совокупности более высоких рангов - множества множеств:роты и полки, полки и дивизии, дивизии и армии. При этом «рота», выполняя по отношению к своим взводам функцию предиката, по отношению к «полку» выполняет функцию «предмета» - объекта предикации. Но это не разные границы, а всегда одна и та же граница, проходящая в нашем сознании.
Вернемся к обсуждению проблем теории множеств.
Мы можем ставить во взаимное соответствие с определением соотношения количеств только множества актуально-фиксированных предметов нашего внимания, но не можем сравнивать по количеству эти множества с множествами неопределенного потенциального состава, исчерпывающая полнота которых как специальное достоинство достигается ценой отказа от фиксированной определенности их состава. Именно это мы делаем, сравнивая множество «предметов» и множество всех потенциально-возможных совокупностей (множество всех подмножеств) этих предметов. При переходе от «предметов» к «совокупностям предметов» количество объектов, которое способно зафиксировать наше сознание, не возрастает, оно остается тем же самым. Сознание просто переходит от актуальной фиксации внимания на своих «предметах», составляющих определенные количества, к фиксации внимания на интересующем нас свойстве «предметов» безотносительно к актуальной реализации носителей этого свойства, что лишает потенциальный состав нового объекта заинтересованности всякой, в том числе количественной, определенности. Составлять новые совокупности из этих потенциальных объектов нашей заинтересованности, включающие совокупности исходных предметов в качестве своих элементов, можно только после возвращения нашего сознания из состояния фиксации полноты потенциальной неопределенности состава этого объекта заинтересованности к состоянию актуальной фиксации некоторых (заведомо не всех) его определенных реализаций (т. е., другими словами, после возвращения от представлений о неограниченно пополняемой роте с неопределенным списком к определенному списку роты ценой отказа от возможности его вариаций). Однако эта операция
78
Д. Н. ДУБНИЦКПП
актуализации «снижает» количество определенных подмножеств до уровня количества исходных «предметов». Таким путем невозможно добиться последовательного повышения мощности бесконечных множеств. Это иллюзия мышления, которая имеет свое основание в естественном праве нашего сознания не придерживаться раз и навсегда однажды выбранного способа фиксации объектов своей заинтересованности, но менять его в зависимости от своей заинтересованности.
Составляя совокупности из фиксированных предметов нашего внимания, а затем совокупности совокупностей и, далее, множества совокупностей и т. д., мы имеем дело не с последовательно возрастающей иерархией мощностей (как думал Георг Кантор и как до сих пор утверждают элементарные руководства по теории множеств), а каждый раз все с одной и той же границей неоднозначности, отделяющей определенность зафиксированных объектов нашего заинтересованного внимания от неопределенности потенциальных объектов нашей зафиксированной заинтересованности.
Но зато с этой границей мы имеем дело всегда и неизбежно.
Она проявляет себя даже в том предельном случае, когда интересующее нас множество состоит заведомо из одного единственного элемента. Число императоров, как правило, меньше числа их подданных, но мощность множества всех потенциальных императоров не меньше, чем мощность множества всех потенциальных подданных, и несоизмерима с мощностью любого из списков подданных.
Свойства «счетности» или «несчетности» - это не параметры действительности, независимой от нашего сознания, а параметры отображения действительности в сознании - способы представления объектов своего избирательного внимания в форме, независимой от мотивов избирательности и воспроизводимой за пределами факта выбора. Достоинства этих представления не в способности адекватного описания действительности (точнее: своих впечатлений от действительности), а в их способности воспроизводимого описания действительности, понятного всем кому угодно без всякого исключения. Вопрос может стоять не о соответствии этих понятий действительности, но только о большей или меньшей эффективности применения этих императивов восприятия и «понимания» в каждом конкретном случае применительно к объектам, вызвавшим наш избирательный интерес, при отчетливом понимании их заведомой неполноты и односторонней ограниченности.
О ПАРАДОКСАХ
79
«Нумеруемость» - способность быть объектом обозначения некоторого номера - это далеко не тривиальная и тем более не универсальная способность потенциальных объектов нашего внимания. Мы можем присвоить определенный номер только чему-то такому, что инвариантно операции присвоения номера, сохраняя свою фиксированную определенность в нашем сознании - в восприятии, понятии, представлении независимо от любых манипуляций с этим объектом нашего внимания, в частности от факта присвоения ему номера. Эго не означает выключенность такого объекта из нашего сознания и отсутствия связей с ним, но означает напротив, жесткую императивную фиксацию его воспроизводимых связей с нашим сознанием. Эго означает, что, сделав определенный выбор узнаваемого объекта своего внимания, вызва- шего наш интерес в определенных обстоятельствах, мы затем решаем следовать этому выбору в дальнейшем независимо ни от каких обстоятельств и вариацией нашей заинтересованности. Эта ограничительная самодисциплина сознания может поддерживаться некоторое неопределенное время, но было бы странно думать, что она может поддерживать всегда. В лучшем случае такое «вечное» поддержание является желательным, но не выполнимым требованием культурной нормы, которая сама является фактором не вечным, но продуктом преходящих обстоятельств существования человека - компонентом культурного контекста. Действительное выполнение ограничительного требования фиксация объектов сознания в качестве общеобязательного категорического империатива означало бы катастрофу именно для познания «действительности» вне нашего сознания. Фиксация внимания на определенном нумеруемом предмете полезна и эффективна в той степени, в какой она представляет собой не обязанность, а право, которое мы реализуем не всегда, а только иногда в меру необходимости. В действительности мы никогда (за редким исключением) не следуем буквально такой предельной норме. Даже самые последовательные ее сторонники (вроде Бурбаки) не требуют распространения ее на собственные способности к счету, чтению и содержательному мышлению, оставляя их за пределами жестких непротиворечивых формализаций, призванных реализовать требования культурной нормы в полной мере.
«Нумеруемые» предметы, зафиксированные в нашем сознании, сами кладут предел нашей способности к нумерации, образуя в нашем сознании каждый свою область императивной идентификации, недоступной расчленению на нумеруемые предметы. В частности, номера
80
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
сами кладут предел своей перечисляющей способности в виде множества всех совокупностей номеров. Они не способны пересчитывать совокупность незафиксированных потенциальных объектов нашего внимания, чья потенциальная неопределенность является в наших глазах специальным достоинством - совокупности потенциальных солдат, спичек, городов и их жителей, всех потенциальных объектов нумерации, предикации, дескрипции, всех потенциальных значений определенных знаков и всех потенциальных знаков определенных значений и т. д. Все эти совокупности счетны или несчетны в зависимости от точки зрения заинтересованного интерпретатора, но реализация выбора точки зрения каждый раз связана с некоторой утратой и самоограни- чительными усилиями сознания: мы достигаем определенности выбора «списка» актуально зафиксированных предметов ценой отказа от вариаций и, тем самым, от полноты; или мы достигаем исчерпывающей полноты множества потенциальных предметов нашего интереса ценой отказа от определенности выбора фиксированного списка.
Способность к пересчету фиксированных объектов нашего внимания опирается на неспособность к пересчету как на свое необходимое дополнение, или (вариант) способность к пересчету некоторых объектов достигается только ценой отказа от пересчета некоторых других объектов.
Теперь мы более подготовлены к тому, чтобы точно определить, какова мощность «множества всех множеств», фигурирующего в парадоксе Кантора, - она неопределенна и зависит от точки зрения интерпретатора точно так же, как и мощность множества всех солдат одной роты, всех спичек в одном коробке или всех жителей одной квартиры.
Фиксация нашего интереса определяет некоторые важные для нас свойства потенциальных объектов этого интереса. Мы уверены в том, что спичку можно зажечь, любых рекрутов можно будет построит по росту, император будет единственным, числа всегда можно упорядочить, а из множества предметов можно комбинировать разные подмножества. Но все это можно будет делать только после «актуализации» потенциальных объектов нашего интереса и не ранее. При этом после любой «актуализации» область потенциальных объектов заинтересованности не претерпевает никакого ущерба. За пределами актуализации всегда остается неисчерпаемое в силу своей неопределенности количество потенциальных спичек, рекрутов, императоров, чисел, предметов, о которых нельзя сказать ничего определенного.
О ПАРАДОКСАХ
81
В некоторых случаях исчерпывающая полнота области потенциальных объектов нашей заинтересованности для нас важнее, чем актуальная фиксация определенных объектов, которой мы готовы пожертвовать. Такая потребность возникла, например, в математике при попытке установить соответствие между числами и точками непрерывной прямой, что необходимо, скажем, для описания перемещения твердого тела в пространстве. Никакие фиксированные в сознании числа не способны вполне соответствовать точкам непрерывной прямой, на которой между двумя фиксированными точками всегда найдется третья, между третьей и второй - четвертая и т. д. Поэтому существование чисел, соответствующих точкам прямой, было постулировано и они получили название «действительных». Выяснилось, что их множество соответствует множеству всех бесконечных десятичных дробей, т. е. бесконечных комбинаций цифр, и несчетно (доказательство этого факта приведено выше). После всего сказанного этому нельзя удивляться, поскольку представление об этих числах так же как и представление о точках непрерывной прямой есть представление о потенциальных объектах нашей заинтересованности, от которых (так же как и от потенциальных рекрутов) требуется только одно существовать независимо от фактической фиксации нашего избирательного внимания на одном из них. Наше сознание требует от них не актуальной фиксированности, а потенциального соответствия собственной заинтересованности, исключающей возможность их «поименного» перечисления. Количество точек на прямой и соответствующее им количество действительных чисел не больше, чем количество натуральных чисел, в том смысле, в каком одно определенное количество больше другого. Они несопоставимы с натуральными числами не потому, что их слишком много, а потому, что их неопределенно много. Любое множество зафиксированных нашим сознанием «действительных» чисел поддается пересчету, но это всегда будут не все «действительные» числа, доступные нашему сознанию.
Преодоление недостатков актуальной фиксации внимания на определенных точках и числах привела, естественно, к потере достоинств фиксации: континуум в нашем сознании лишен каких-либо признаков собственной определенной внутренней структуры - «естественной» меры, точек отсчета, масштаба, границ и т.п., но зато он готов потенциально к воспитанию любых структур, навязанных ему человеческим сознанием, ни одна из которых не может стать обязательной, но и не может быть исключена.
82
Д. Н. ДУБНИЦКПП
После иерархического упорядочения мощностей бесконечных множеств Георг Кантор высказал так называемую «гипотезу континуума», согласно которой мощность континуума соответствует первому рангу несчетных множеств, получаемых как множество всех подмножеств натуральных чисел. Гипотеза не была доказана. Вместо этого Коэн доказал независимость этой гипотезы от остальных аксиом теории множеств, т.е. возможность без противоречия как принять ее так и отвергнуть в зависимости от вкусов интерпретатора одной из многих форма- лированных теорий множеств. Сам он также высказал гипотезу о том, что в действительности мощность континуума превосходит все мыслимые определенные мощности. Из всего сказанного выше следует, что правы ОБА - и Кантор, и Коэн. Интуиция их не подвела и оказалась надежней доказанных теорем, потому что в большей степени соответствовала действительности - действительности собственного сознания носителей этой интуиции. Мощность континуума в точности соответствует мощности несчетных множеств первого - и единственного ранга и несоизмерима с мощностью любого множества, расчлененного на элементы, подающиеся количественной оценке. Можно говорить о нашей «интуиции континуума» так же, как говорят об «интуиции целого числа» - это взаимно дополняющие интуиции нашего сознания, неполные одна без другой. Только в совокупности они обеспечивают способность нашего сознания оперировать «предметами» как устойчивыми и воспроизводимыми объектами избирательной заинтересованности. При этом одна из интуиций обеспечивает воспроизводимую устойчивость инвариантов наших ментальных манипуляций с объектами сознания, а вторая - неограниченную свободу этих манипуляций.
Несмотря на декларированную борьбу с парадоксами, формализованные математические теории множеств и логики не могут совершенно устранить их, поскольку в полном соответствии с естественными законами человеческого мышления пользуются всеми тремя противоречивыми способностями сознания - фиксировать объект интереса независимо от вариаций интереса, фиксировать интерес к определенного сорта объектам независимо от вариаций потенциальных объектов заинтересованности и, наконец, совмещать обе несовместимые точки зрения на один и тот же предмет и менять их в зависимости от направления заинтересованности. Эти противоречия проникают в формализованные теории вместе с минимальным умением пользоваться номерами, символами, метками и т. д. Мы совершаем, например, изменение
О ПАРАДОКСАХ
83
точки зрения на номер всякий раз. когда меняем в нашем сознании его функцию средства описания (нумерации) и функцию объекта описания - эти функции ставят номера по разные стороны границы взаимной неоднозначности. Результаты, полученные с помощью такой релятивной манипуляции, и сами релятивны. Выше мы подробно рассмотрели как используется функциональная двусмысленность номеров при доказательстве теоремы Кантора. То же самое происходит при доказательствах основополагающих теорем Сколема, Тарского, Гёделя.
При доказательствах теорем Гёделя (первой и второй) мы пользуемся способностью нумеровать утверждения о номерах и, тем самым, предопределяем характер тех объектов, с которыми собираемся работать - их актуализированную «высказанность», фиксированную определенность в нашем сознании. Такие утверждения можно нумеровать также как реальных жителей города, но это заведомо не все разновидности объектов, с которыми приходиться иметь дело нашему сознанию, в том числе при доказательстве этих теорем. Таким ограничительным выбором объектов изучения мы предопределяем те выводы, которые получаем в конце, именно: выполнимость любой фиксированной совокупности предложений о числах в области натуральных числе (несмотря на доказанное существование несчетных множеств числе), во- первых (первая теорема Гёделя), и неустранимую неполноту любой непротиворечивой совокупности фиксированных предложений, не способной определить семантику всех собственных терминов и доказать справедливость всех возможных в ней утверждений, в том числе доказать собственную непротиворечивость, во-вторых (вторая теорема Гёделя).
Напомним, для примера, ход рассуждений при доказательстве теоремы Гёделя о выполнимости любой непротиворечивой совокупности предложений о числах в области натуральных чисел. Любая непротиворечивая совокупность предложений расширяется до размеров системы утверждений, исчерпывающе полной в том смысле, что в ней обязательно доказуемо либо предложение (Р), либо его отрицание (не Р) путем последовательного присоединения к первоначальной совокупности одного из тех альтернативных предложений, которые не могут быть доказаны в предшествующем расширении. Все предложения этой полной системы типа «существует число х, обладающее свойством Р» нумеруются таким способом, чтобы по номеру предложения можно было однозначно определить некоторое натуральное число, обладающее свойством Р.
84
Д. Н. ДУБНИЦКПП
В такой полной системе (а следовательно и в исходной не полной совокупности) предложений любой утверждение Р справедливо для всех чисел сразу в том и только в том случае, когда оно справедливо для каждого (любого) из натуральных чисел в отдельности. Справедливость утверждения, справедливых для всех чисел сразу в области натуральных чисел - очевидна. Обратное утверждение доказывается следующим рассуждением. Предположение, что некоторое предложение Р недоказуемо в полной системе применительно ко всем числам сразу, хотя доказуемо для натуральных чисел, ведет к противоречию. Действительно: если в полной системе недоказуемо предложение Р, то доказуемо его отрицание, т.е. предложение «существует такое число х, для которого верно (не Р)». В полной системе это предложение должно иметь свой номер, по которому восстанавливается определенное натуральное число, обладающее свойством (не Р), что противоречит первоначальному предположению.
Как видим, доказательство теоремы базируется на нашей способности неограниченно пополнять систему предложений, во-первых, и способности пересчитывать такие неограниченно-пополняемые системы предложений, во-вторых. Это те самые способности, которые позволяют нам пользоваться номерами, цифрами, словами и утверждениями, но взаимно ограничивают друг друга, проводя релятивную границу между счетностью и несчетностью. Убежденность в способности всегда пополнить систему предложений одним из двух альтернативных предложений равносильно убежденности в способности всегда пополнить роту путем нового рекрутского набора или, что то же самое, всегда дополнить ограниченный набор средств нумерации, не способных пересчитать все комбинации собственных номеров, новыми дополнительными средствами, устраняющими этот недостаток. Достигаемая при этом «полнота» не реальная (актуальная), а потенциальная. В каждом конкретном - фиксированном - случае она ограничена и недостижима (о чем и говорят теоремы Кантора и вторая теорема Гёделя). После любого актуального - реального - пополнения состава роты, средств нумерации или перечня фактически высказанных предложений о числах вновь немедленно восстанавливается ограниченность этих фиксированных списков, за пределами которых остается не понесшая никакого ущерба и неисчерпаемая никакими списками и фиксациями в сознании область потенциальных объектов нашего внимания - потенциальных солдат, действительных чисел, невысказанных
О ПАРАДОКСАХ
85
утверждений, неопределенность которой в качестве специального достоинства только и обеспечивает неисчерпаемость нашей способности по мере необходимости актуально пополнять роты, средства нумерации и системы предложений.
Область неисчерпаемой потенциальности объектов пересчета всегда ограничивает способность к пересчету фиксированных актуально средств нумерации, но она же является для нашего сознания неисчерпаемым потенциальным источником новых средств нумерации всегда способным восполнить недостатки исходной системы, образуя, однако, при этом новые области несчетности. Нет таких фиксированных предметов нашего сознания, которые мы не могли бы пересчитать при необходимости, при том что каждая фиксация предметов ограничивает наши способности к перечислению. Все что мы можем сказать определенного о числах (солдатах, предметах) справедливо тогда и только тогда, когда сказанное справедливо для определенных (фиксированных в сознании) чисел (солдат, предметов), но при этом всегда за пределами этой определенности останется неопределенное множество чисел (солдат, предметов), о которых нельзя сказать ничего определенного.
Все сказанное здесь о числах, множествах и утверждениях совершенно не затрагивает строгости основных разделов математики, основанных на «наивных» естественных представлениях о числах, множествах и утверждениях, кроме узкой области рассуждений о свойствах бесконечных множеств. Но и в этой узкой области здесь не сказано ничего такого, что не было бы уже давно всем известно. Все, что нужно для доказательства необходимого соучастия в строгих математических рассуждениях релятивного человеческого фактора - состояний индивидуального сознания, давно доказано и, более того, давно уже из неожиданного и удивительного стало привычным и даже старомодным.
Уже в «теории типов» Расселом было достигнуто понимание того, что утверждение как средство описания и как объект описания имеют разные значения и разные функции истинности, между которыми нет взаимной однозначности, что натуральные и вещественные числа лежат по разные стороны границы неоднозначности, принадлежа к разным «типам». Релятивность границы между типами зафиксирована специальной «аксиомой сводимости». Давно стала ясной принципиальная неполнота и ограниченность формализованных систем, вынужденных оставлять за своими пределами способность пользоваться номерами и осмысленность утверждений.
86
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
Тем более достойно внимание то фанатичное упорство, с которым много десятилетий продолжается упорная, изнурительная и безнадежная борьба за непротиворечивость утверждений, заставляющая получать катастрофические выводы в конце громоздких, спорных и мало кому понятных построений, вместо того, чтобы признать свое очевидное поражение и положить эти конечные выводы в начало своих построений в качестве аксиом.
Наша попытка интерпретации давно известных фактов была предпринята с целью понять, что же мешает нам встать на «естественную» точку зрения, связывающую понятия с сознанием носителя этих понятий. Этому препятствует требование постоянно действующего мотивационного фактора - усвоенной нами культурной нормы поведения, согласно которой результаты культурно-адресованных усилий индивидуального сознания должны быть приемлемы для всех сразу без исключения и воспроизводимы без всяких ограничений за пределами индивидуального сознания независимо от обстоятельств этих усилий и от самого факта этих усилий. Только такие результаты будут нами признаны и санкционировались в качестве культурно-значительных.
Такая предельная норма, как мы уже говорили, не является единственно возможной, сложилась не сразу и имеет свою историю. Вопросы ее возникновения и эволюции обсуждаются в последнем разделе настоящей работы.
Понятия пространства и времени
Свойства человеческого сознания, руководимого тем или иным вариантом культурной нормы, вносят свой вклад не только в такие предельно общие представления, какими являются представления о «предметах нашего сознания», но и в любые другие более специальные представления, некоторые из которых мы рассмотрим более внимательно. Также как и в случае с «предметами сознания», вклад этот заметен там, где достигается воспроизводимая понятность наших понятий всем или, по крайней мере, многим даже в ущерб адекватности наших понятий реальности.
Открытие релятивной границы между счетностью и несчетностью, строго говоря, принадлежит не Кантору и не XX веку. Оно было известно задолго до этого и обсуждалось еще в древней Греции в образе границы между дискретностью и непрерывностью. Апории Зенона
О ПАРАДОКСАХ
SI
рассматривались - и с достаточным основанием - софистами как свидетельство ограниченности понятийного аппарата нашего сознания, не способного в этих альтернативных формах дать адекватное и непротиворечивое представление о действительности.
Также как не имеет ответа вопрос о счетности или несчетности «предметов», находящихся вне сферы нашего заинтересованного внимания, не имеет ответа вопрос дискретно или непрерывно пространство вне связи с заинтересованным взглядом наблюдателя. «Пространство», независимое от присутствия наблюдателя, это ментальная конструкция. такая же как «предмет сознания, независимый от сознания». Оно так же отличается от того пространства, в котором мы существуем, как понятие «спичка», которым манипулирует наше сознание, отличается от тех спичек, которые мы перебираем руками. И так же, как понятие «спичка», понятие «пространство» расщепляется нашим сознанием во имя воспроизводимости на два взаимно-неоднозначных компонента, связь между которыми и право выбора одного из них сохраняется за индивидуальным сознанием. Это отчуждаемое «пространство» не воспринимается нами непосредственно, но есть результат специальной, целенаправленной ограничительной работы сознания над непосредственными впечатлениями, избирательно и тенденциозно выделяющей среди них те аспекты, которые соответствуют культурному требованию неограниченной воспроизводимости результатов этой работы сознания за пределами состояния индивидуального сознания.
Такое представление о «пространстве без наблюдателя», полученное ценой значительных очистительных усилий, не является «естественным» и существовало не всегда.
Каждый человек, австралийский абориген или ребенок не в меньшей степени, чем Ньютон или Эйнштейн, имеют некоторые «естественные» пространственные представления, которые дают ему возможность ориентироваться, не погибать и иногда добиваться своих целей - существовать в пространстве, присутствуя в нем. Но это не совсем то отчуждаемое «пространство отсутствия», о котором идет речь в законах Ньютона и Эйнштейна, из которого наблюдатель должен быть удален после выполнения наблюдений и, по возможности, из результатов наблюдений. Совершенно напротив, это «пространство присутствия» неотчуждаемо от существования наблюдателя и его сознания, прямо связано с ним и с его преходящими избирательными интересами. Оно имеет «естественную» структуру - естественно выделен¬
88
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
ные направления вперед, назад, влево, вправо, вверх, вниз, связанные с направлением заинтересованного взгляда наблюдателя, естественный масштаб измерения, естественную точку отсчета, оно никогда не бывает пустым, а всегда населено предметами заинтересованного внимания наблюдателя; расстояния в нем - это параметры «досягаемости» предметов, заинтересовавших наблюдателя; оно расчленено релятивными границами, проведенными заинтересованностью человека - его дом, сад, город, родина, планета, места его воспоминаний, стремлений, предпочтений или отвращений и т. д.; наконец, что важно, собственно пространственные представления невозможно здесь отделить от всех остальных - не пространственных, в сознании человека нет такой «естественной» границы. Всякое такое вычленение, превращающее «естественные» «пространственные представления» в «представления о пространстве» - не естественно.
Существенным недостатком с научной точки зрения таких «пространственных представлений» является их релятивность, невозможность воспроизвести пространственные структуры, связанные с сознанием наблюдателя, за пределами этого сознания или, во всяком случае, за пределами восприятия (или, лучше сказать, «переживания») локальной группой лиц, объединенных общими избирательными интересами в едином контексте ситуации существования.
Чтобы достичь общезначимой воспроизводимости «представлений о пространстве», отчуждаемых от существования наблюдателя, требуются специальные усилия сознания по вычленению их из нерасчленен- ных пространственных представлений, нужны критерии такого отбора и, главное, нужны мотивы для усилий отбора. Такие мотивы вместе с критериями появляются тогда, когда норма культурно-адресованного поведения человека расширяет область адресованности от локальной группы актуальных соучастников определенного культурного контекста до всеобъемлющей неопределенности потенциальных адресатов, включая усопших предков и неродившихся потомков. Эта норма довольно позднего происхождения, она складывается в европейской культуре где-то на рубеже XVI-XVII столетий и имеет своим следствием представления об однозначной воспроизводимости смысла слов и утверждений, взаимной независимости знака и значения, необходимости «правил для руководства ума» и другие компоненты эпистемологической нормы отчуждаемого знания новой европейской науки. Только с этого времени можно уверенно говорить о су¬
О ПАРАДОКСАХ
89
ществовании «представлений о пространстве» в собственном смысле, отличном от нерасчлененных «пространственных представлений» и очищенном от всей синкретической совокупности неотчуждаемых релятивных вариабельных осмыслений, связывающих эти представления с индивидуальным сознанием их носителя и вовлекающих пространство в контекст существования человека. Отчетливая граница между этими представления разделяет современников Кеплера и Галилея.
В истории, в том числе и в европейской, культурная норма не всегда обрывала связи знания, в частности знания о пространстве, с сознанием их носителя. В некоторых случаях норма, напротив, фиксировала эти связи, санкционируя их культурную значимость и наделяя обязательными сакральными функциями те самые релятивные структуры, которые составляют естественную основу пространственных представлений, вовлекая пространственные представления в контекст культурного существования человека, - верх - низ, право - лево, восток - запад север - юг, границу предела в храме, храма в городе, города в стране, родины в мире, этого мира в мире ином и т. д. Подобная норма- осмысления восприятия продолжала действовать еще в культуре Ре- несанса, отличаясь от нормы средневековой культуры не требованием отсутствия связей с индивидуальным сознанием, а только изменением характера этих связей, лишенных обязательной догматической каноничности. Еще Кеплер продолжал наделять пространственные структуры сакрализованным смыслом, вовлекающим их в контекст культурного существования человека, и видел свою задачу и заслугу именно в выявлении новых - ранее скрытых или непонятых - связей космоса с наблюдателем. Но для него, в отличие от средневекового схоласта, как сами структуры космоса, так и способ их нового нетрадиционного са- крализованного осмысления стали делом ответственности собственного сознания, не склонного некритически следовать традиционным императивам интерпретации своих впечатлений, но тем менее склонного делить свои права интерпретации с кем-либо другим, кроме самого себя. Это не ослабляло, а усиливало связь знания с сознанием носителя понимания. Некоторые подробности дальнейшей эволюции культурной нормы обсуждаются в последнем разделе настоящей работы. А пока возвратимся к эволюции представлений о пространстве.
Эти изменения, сопровождающие изменение нормы культурноадресованного поведения, можно зримо наблюдать на скачке изобразительных средств живописи в это время.
90
Д. Н. ДУБНИЦКПП
Типичная картина Ренесанса являет нам типичное «пространство присутствия» наблюдателя со всеми его характерными атрибутами. На ней нет «пустого» пространства, независимого от зрителя, но все значащие компоненты картины адресованы определенному «актуальному» зрителю - интерпретатору, соучастнику определенного локального культурного контекста, и фиксируют связи с его сознанием. Точка зрения зрителя относительно картины четко зафиксирована внутри картины гипертрофированно-выраженной точкой перспективного сокращения параллельных линий, поднятой слишком высоко для нормального восприятия, но зато наилучшим образом для репрезентации объектов изображения. При этом изобразительной иллюзии реального пространства, несмотря на выраженность перспективных сокращений, препятствуют некоторые факторы, наличие которых «естественно» и даже необходимо для пространства событий, важных для зрителя: расчленение непрерывности перспективного сокращения системой нескольких репрезентативных плоскостей, обращенных к взгляду зрителя, плохо связанных или никак не связанных между собой с провалами между ними; разномасштабность персонажей в зависимости от их значительности для зрителя; наличие источников освещенности в пространстве зрителя, не совпадающих с присутствующими в картине источниками естественной освещенности; наличие сразу нескольких не совпадающих и несовместимых точек перспективного сокращения для различных участков картины и практически всегда разных для переднего и задних планов; вываливание персонажей переднего плана вообще из системы перспективных сокращений в сторону зрителей (что может нередко фиксироваться рамой у них за спиной или стеной с окошком); распластанность персонажей в своих репрезентативных плоскостях в застывших вычурных позах, обращенных зрителю, и их очевидная неспособность передвигаться за пределами этих плоскостей; яркая пестрота и интенсивность красок, устанавливающих свои собственные зрительные связи между предметами, противоречащие пространственным связям; продолжение орнамента сложной рамы и ее членений внутрь изображения, что делает раму ее принадлежностью сразу и пространства картины и пространства зрителя, соединяя их (а не разделяя) между собой; скорпулезная четкость изображений крупных и мелких предметов как переднего, так и самого заднего планов; наличие надписей, цифр, геометрических фигур, символических предметов, геральдических и аллегорических эмблем, выключенных из простран¬
О ПАРАДОКСАХ
91
ственных связей; демонстративная жесткость композиционных структур, образующих правильные треугольники, круги и квадраты; отсутствие единства места, времени и действия и множественность разновременных и разно-пространственных событий, включающих часто одного и того же персонажа по несколько раз и т. д. Собственно пространственные компоненты изображения - верх, низ, право, лево, точка перспективного сокращения - несут самостоятельную сакрализо- ванную нагрузку, включенную в контекст всех остальных выразительных средств. Практически значение этих компонентов совершенно невозможно вычленить из сложного синкретического смысла картины, требующего специально подготовленного интерпретатора, предваряющие знания которого составляют совершенно необходимый компонент семантики картины, соединяющий в единство ее слабо связанные или несвязанные элементы.
Следует отметить, что такой синкретический способ представления мира, связанного с сознанием наблюдателя, гораздо ближе к «естественному» восприятию, чем отчуждаемое научное знание, расчленяющее мир на независимые и безразличные к человеческому существованию компоненты. Примерно такой же способ представления мира и пространства можно увидеть на лубочной картинке.
Способ фиксации зрительных впечатлений заметно меняется на рубеже XVI и XVII веков. «Естественное» неотчуждаемое и синкретическое восприятие пространственных соотношений меняется на «неестественное» восприятие пространства, отчуждаемого от событий индивидуального существования. Представленное в картинах XVII века пространство освобождено от заинтересованности определенного зрителя ради соответствия интересам любого неопределенного зрителя. Мы видим на них совершенно определенное место действия персонажей, обладающее собственным - независимым от зрителя единством и внутренней связностью, которое на ренессанской картине можно было увидеть только иногда в качестве фрагмента самого заднего плана. Персонажи вполне соответствуют друг другу по размерам и не повторяются дважды в одной картине. Они освободились от своей привязанности к репрезентативным плоскостям, утратили демонстративную статуар- ность поз, жестов и выражения лиц, которые теперь со всей определенностью мотивированы ситуацией, переживаемой ими (а не зрителем), и стали быстро и энергично перемещаться в пространстве и времени собственного бытия, не обращая внимания на зрителя. Передние планы
92
Д. Н. ДУБНИЦКПП
оторвались от зрителя и соединились с остальным пространством изображения, они отодвинулись от зрителей за раму картины. Репрезентативные плоскости рухнули. Вместо выраженной границы между передним планом и всеми остальными появилась четко выраженная ментальная граница между пространством событий картины и пространством зрителя, расположенная в плоскости рамы, которая никогда более не появляется за спиной персонажей - она теперь разделяет, а не соединяет пространства картины и зрителя. Источники освещенности переместились из пространства зрителя в пространство картины. Точка перспективного сокращения более не фиксирует взгляд зрителя по отношению к пространству картины, она либо закрыта предметами, либо тонет в глубокой тьме или мутном тумане, облегающем все предметы и скрывающем от нас их границы. Не выражена или слабо выражена линия горизонта, опустившаяся до обычного уровня и не показывающая более мир с птичьего полета. Но зато нет и множественности сразу нескольких точек зрения и горизонтов, нарушающих внутреннее единство пространства ренессансной картины. Исчезли посторонние предметы, надписи, геометрические фигуры. Пространственные компоненты изображения, вовлеченные на ренессансной картине в контекст существования зрителя, освободились от синкретизма сакрализованных интерпретаций. Отныне мы видим на картине не «пространство присутствия определенного зрителя», а «пространство отсутствия определенного зрителя», лишенное структур, фиксирующих его избирательную заинтересованность - выделенных его избирательным вниманием масштабов, точек отсчета, преимущественных направлений, плоскостей наилучшей репрезентации и т. и.
Перед нами здесь пространство неопределенного, т. е. любого потенциально-возможного зрителя - зрительный эквивалент возникающих в это же время «представлений о пространстве», независимом от наблюдателя.
Только с этого времени можно говорить о существовании таких представлений. Пространство становится объектом пристального изучения новой науки, парадигма которой складывается в это же время на той же мотивационной базе, что и новая живопись. Эпистемологическая норма обновляется одновременно с эстетической, хотя в этом участвуют разные люди - их объединяет единообразие побудительных мотивов: расширение культурного адресата от локального круга избранных единомышленников до полноты не ограниченного множества не¬
О ПАРАДОКСАХ
93
определенных лиц в качестве нормы культурной значительности результатов индивидуальных усилий, побуждающей человека, в частности, к дополнительному отбору и вычленению среди своих «пространственных представлений» «представлений о пространстве».
Ренессансная живопись, также как и ренессансная натурфилософия выделяли в мире и представляли зримо или вербально объекты избирательной заинтересованности человека непосредственно, не избегая, а фиксируя как достоинство компоненты этой заинтересованности, вовлекая мир в контекст существования человека, связывая мир с сознанием человека, а не освобождая их друг от друга. Новая живопись и новая наука XVII века стали выделять и представлять те же самые объекты человеческой заинтересованности, но не все, а только дополнительно отобранные, пропущенные через сито критического самоконтроля, вычленяющего среди этих объектов те, которые могут представлять интерес не только для ограниченного круга некоторых определенных лиц, объединенных контекстом переживаемой культурной ситуации, но для неограниченного круга неопределенных - всех потенциально-возможных - лиц независимо от вариаций их индивидуальных или групповых интересов.
Между индивидуальной ситуативной значимостью и внеситуативной общезначимостью пролегла отныне граница взаимной неоднозначности.
Многое из того, что стало отчуждаемым достоянием позитивного зрительного и ментального восприятия мира в новой культуре, уже содержалось в ренессансных картинах и трактатах, точно также, как фрагмент ландшафта или интерьера в своем единстве может иногда привлечь внимание человека, в других обстоятельствах расчленяющего это единство в соответствии с вариациями своей избирательной заинтересованности. Но также как и в картине мира, фиксируемой некритическим вниманием человека в обычных обстоятельствах, в ренессансных картинах и трактатах есть много такого, что отвергается позитивным зрением и значением в силу излишне тесной связи с релятивным сознанием определенного человека. Человек культуры ренессанса не обладал ни мотивами, ни критериями строгого отбора позитивных восприятий и знаний из числа всех остальных; ничто не побуждало его к самодисциплине собственного сознания, выделяющей общезначимые результаты работы сознания.
Такие мотивы и критерии появились в европейской культуре XVII века. В глазах адептов нового научного (в собственном смысле)
94
Д. Н. ДУБНИЦКПП
знания пространственная протяженность предметов, до того бывшая всего лишь одной из возможных и необязательных категорий описания мира, используемой только в меру необходимости, но далеко не всегда, перестала быть параметром узкоспециального знания и приобрела исключительное значение: она стала универсальной умозрительной и метафизической и даже сакральной категорией онтологическим атрибутом. «Бог - субстанция протяженная» провозгласил Спиноза. «Объектом идеи, составляющей человеческую душу, служит тело, иными словами, известный модус протяжений в действительности (актуально) и ничего более» (Этика, теорема 13 части II). Представления об отчуждаемом «пространстве» как о специальном ментальном объекте в европейской культуре XVII века приобрели определенность и заняли совершенно исключительное положение, которое они не имели ни до ни после. Они вышли далеко за пределы специальной области позитивного знания. Можно говорить о новом «пространственном» мироощущении человека этой культуры. Мы уже упоминали о специально- тренируемых приемах представления пространства, применяемых в живописных изображениях и свидетельствующих о массовом характере изменения точки зрения на мир. В это время пространственная терминология появляется даже в музыке, отражая практику размещения сразу нескольких групп хора в различных местах храма (справа, слева, за спиной, вверху, внизу).
Паскаль (и не он один) оставил нам известное свидетельство глубоко личного переживания взаимного отчуждения собственного сознания и «пространства», которому можно найти параллели в распространенных сюжетах барочной поэзии. «Когда я размышляю о мимолетности моего существования, погруженного в вечность, которая была до меня и пребудет после; и о ничтожности пространства, не только занимаемого, но и видимого мной, пространства.растворенного в безмерной бесконечности пространств, мне неведомых и не ведающих обо мне. - я трепещу от страха и спрашиваю себя. - почему я здесь, а не там, ибо нет причины мне быть здесь, а не там, нет причины быть сейчас, а не потом или прежде. Чей приказ, чей промысел предназначил мне это время и место?» («Мысли», 205).
«Представление о пространстве», независимом от существования наблюдателя, по сравнению с «пространственными представлениями», связанными с существованием наблюдателя, при всех своих неоспоримых достоинствах общезначимости обладает важными недостатка¬
О ПАРАДОКСАХ
95
ми. Во-первых, оно заведомо неполно, поскольку оставляет за своими пределами нечто существенно важное для проистекающих в нем процессов сознание наблюдателя, способного приводить в движение по крайней мере некоторые предметы. В частности, понятия «предмета» и «пространства» не могут быть универсальным средством описания мира, так как с необходимостью, порождают объекты, находящиеся за пределами их дескриптивной способности - сами эти понятия, не локализуемые в пространстве именно в силу своей общезначимости и независимости от факта существования любого из своих потенциальных носителей.
Второй недостаток «представлений о пространстве» состоит в том, что вместе с утратой связи с определенным наблюдателем они утратили определенность структур внутренней связанности. Это выяснилось не сразу. Сначала казалось, что такое пространство потенциальных взаимодействий протяженных предметов густо населено и «не терпит пустоты» (Декарт). Но через некоторое время после сильного сопротивления распространились новые представления о нем как о совершенно пустом абсолютном вместилище всех возможных предметов (Ньютон). Еще через 100 лет эти некоторые спорные представления представлялись Канту категорическим императивом восприятия (и были таким императивом фактически для современной ему науки), но еще при его жизни эта категоричность (но не императивность) рухнула после открытий неевклидовых геометрий, вновь разделивших пространственные наблюдения и «представления о пространстве» и поставивших вопрос о степени соответствия пространства реального существования человека одному из нескольких вариантов возможных представлений о нем. Дело осложнилось тем, что с этого времени термин «пространство» стал употребляться во множественном числе и расширительно применяться к объектам, которые не имели никакого отношения к пространству реального существования протяженного тела человека («пространство чисел», «пространство событий» ит. и.), в результате чего к концу XIX века возникла обратная проблема - возвращения от абстрактных представлений о множестве потенциально возможных пространств к единственному реальному (Пуанкаре).
Сегодня мы можем сказать что-либо определенное о собственной структуре пространства существования тела наблюдателя менее, чем когда либо в прошлом. Все его параметры и структуры находятся под сомнением - размерность, связанность, непрерывность, кривиз¬
96
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
на и т. д. Неразрешимый спор о дискретности или непрерывности «реального» пространства возвращает нас к истокам этих представлений в древнюю Грецию. Таким образом сформулированный вопрос не имеет однозначного ответа.
Дискретность и непрерывность - это не параметры действительности, а взаимно-дополняющие императивы осмысления действительности в воспроизводимой форме, независимой от наблюдателя. Эго параметры «понимания», принадлежащие сознанию, эффективность использования которых не снижается, а повышается от сознания этого факта. Ментальная конструкция представления о «пространстве, свободном от заинтересованного наблюдателя» имеет право быть объектом нашего внимания и мы должны констатировать ее объективную противоречивость и неполноту также как выше констатировали противоречивость и неполноту ментальной конструкции «предмета» нашего внимания, лишенного связи с сознанием носителя этого внимания. Эта ментальная конструкция совмещает оба достоинства сразу - доказательством этого можно считать апорию Зенона. Эго результат, независимый ни от какого экспериментального подтверждения. С этим уже ничего не может случиться так же, как ничего не может случиться с круглостью круга или квадратностью квадрата.
Но мы существуем не в ментальной конструкции, откуда удален наблюдатель, а в «пространстве», из которого нельзя удалить наблюдателя, и которое связано с его существованием. Относительно этого пространства имеет смысл вопрос о его дискретности или непрерывности, но не как о параметрах его существования независимого от наблюдателя, а как о параметрах его связи с сознанием наблюдателя, т.е. вопрос о том в какой степени, в каком случае и до каких пределов оно соответствует понятию дискретности или понятию непрерывности, с помощью которых мы способны зафиксировать наши впечатления от пространственных соотношений в воспроизводимой форме, отдавая себе полный отчет в том, что как один, так и другой способ фиксации являются заведомо односторонней ограничительной деформацией действительности, и всегда сохраняя при этом способность изменить свою точку зрения при необходимости для преодоления этой односторонности и приближения к реальности.
Все, что сказано о «пространстве» сохраняет справедливость для «времени». Точно также следует отличать «представления о времени, протекающем независимо от наблюдателя» от тех представлений, ко¬
О ПАРАДОКСАХ
97
торые отражают факты существования наблюдателя во времени (что мы всегда и делаем практически, не всегда учитывая это различие теоретически).
Первое - это ментальная конструкция сознания, императив интерпретации, призванный вычленять и фиксировать в сознании воспроизводимые аспекты невоспроизводимого переживания человека за пределами этих переживаний и, по возможности, независимо от факта переживания. Эта фиксирующая ментальная конструкция (как и любая другая ментальная конструкция) внутренне противоречива. Обязательной ее принадлежностью является релятивная граница взаимной неоднозначности, разделяющая два способа фиксации в сознании переживания за пределами ситуации переживания - «актуальное» событие настоящего момента времени и континуум «потенциальных» событий прошлого и будущего времени за пределами события восприятия осмысленного, дискретное событие и непрерывную длительность. Являясь продуктом самоограничительной дисциплины сознания эта фиксирующая ментальная конструкция (также как и любая другая) существенно неполна и не может автономно существовать за пределами своего не фиксируемого дополнения - сознания своего носителя, выбирающего ту или иную точку зрения в зависимости от направления собственных интересов. Любой фактический наблюдатель «времени, независимого от наблюдателя» необязателен, но при том обязательном условии, что этого нельзя сказать о всех наблюдателях сразу. Для наблюдения такого «времени» необходим необязательный - «потенциальный» - наблюдатель.
Неустранимая неполнота представлений об «объективном» времени сказывается, например, в невозможности измерять пустое «абсолютное время», т. е. наделять его масштабом, точкой отсчета и даже направлением без участия индивидуального сознания. Его протекание (в нашем понимании) не должно зависеть от хода какого-либо определенного экземпляра часов - никакой из них нельзя признать обязательным, при том обязательном условии, что невозможно отказаться от всех часов сразу. Подобные парадоксы уже встречались нам при обсуждении неполноты формализованных (фиксированных) языков, лишенных связи с индивидуальным сознанием, они с необходимостью сопровождают любые попытки фиксации понятий независимо от сознания носителей этих понятий.
«Абсолютное» время характеризует не столько действительность, существующую вне нас и без нас, сколько нашу способность представ-
98
Д. Н. ДУБНИЦКПП
лять в своем сознании заинтересовавшую нас действительность в качестве существующей независимо от нашей заинтересованности или, точнее, независимо от избирательного интереса каждого конкретного из нас. Это параметр способности понимания.
Время, в котором реально существует человек, не свободно от событий существования человека. Оно наполнено важными для него событиями, избирательно выделяемыми его заинтересованным вниманием, расчленено и организовано его предпочтениями, ожиданиями, воспоминаниями, наделено «естественной» релятивной структурой, связанной с его сознанием - масштабом, точкой отсчета, направлением, оно, увы, необратимо.
«Абсолютное» время наших представлений, также как и «абсолютное пространство» - это продукт вторичного отбора, руководимого специальной разновидностью избирательной заинтересованности, результат самоограничительных усилий сознания, препарирующего собственные «естественные» переживания времени в общезначимые понятия в соответствии с требованиями культурной нормы. При этом вместе с предпочтениями индивидуальной заинтересованности мы теряем «естественную» структуру реально-переживаемого времени (также как теряем «естественную» семантику формализованных языков). В том числе мы теряем такие важные ее компоненты, как отличие «настоящего» момента времени, переживаемого наблюдателем, от всех остальных и необратимость ситуации до и после наблюдения. Не существует другого пути возвращения к реальному времени, как возвращение в наши представления о нем реального наблюдателя, обладающего способностью выбрать фиксированную точку зрения, масштаб, часы, начало отсчета для измерения времени, но также и способностью всегда изменить свои выбор точки зрения, масштаба, часов и начала отсчета, если его ограниченность стала препятствием к его эффективности, приближаясь к реальности, вызвавшей по тем или иным причинам реальный избирательный интерес реального наблюдателя.
Представления о «времени» претерпели такую же историческую эволюцию, как и представление о «пространстве» и представления о «предметах». Не будем здесь останавливаться на этом вопросе, поскольку ему уделено специальное внимание в последнем разделе, носящем характер исторического комментария.
Все, что сказано о «пространстве», «времени» и «предметах» можно сказать о любых попытках представить наблюдаемый мир в терми¬
О ПАРАДОКСАХ
99
нах, образцах и понятиях, независимых от наблюдателя. Все без исключения представления, основанные на требовании превращения релятивных связей нашего сознания с миром в отсутствие всяких связей между ними, кроме общезначимых, и исключения индивидуального сознания как связующего звена между нашими понятиями и миром по мотивам его релятивности, - все такие представления будут заведомо неполными, ограничительно-односторонними и неспособными адекватно представлять мир нашего реального существования. Они обязательно будут противоречивыми, т.е. разделенными на несовместимые компоненты границей взаимной неоднозначности, проведенной нашим избирательным интересом. Насильственная фиксация понятий независимо от обстоятельств проявления интереса устраняет из наших понятий вместе с вариациями этого интереса также и все «обстоятельства», т. е. все следы реального существования, превращая понятия в предвзятые императивы интерпретации, лишенные реального смысла и содержания. И только релятивная необязательность каждого из наших понятий способна возвратить им связь с реальностью действительного существования.
Выявление общезначимых результатов нашей наблюдательности из всех остальных - это вторичный отбор из уже однажды выбранного. Эго не расширение точки зрения на мир, а ее принудительное сужение, не преодоление избирательности, а ее ограничительная фиксация.
Знаменитый сакраментальный вопрос Эйнштейна - «если мышь смотрит на Вселенную, меняется ли от этого состояние Вселенной?» - один из тех вопросов, ответ на которые зависит от точки зрения отвечающего.
Если мышь не принадлежит ко Вселенной, а наблюдает ее извне, то на вопрос следует ответить отрицательно (видимо, это и имел в виду Эйнштейн). Однако подобный взгляд на «Вселенную», исключающий мышей, лишает «Вселенную» ее всеобъемлющей полноты. Мышь, глядящая на Вселенную, находясь за ее пределами подобно Господу Богу, точно так же как и «Вселенная», на которую можно смотреть, находясь за ее пределами, - это ментальные конструкции, отражающие наши специальные избирательные интересы по отношению к внешнему миру - императивные «параметры понимания». Они соответствуют действительности не вполне и, наряду с несомненной полезностью в определенных случаях, существенно ограничивают нашу способность к пониманию в других случаях. Гипотетический взгляд на «Все¬
100
Д. Н. ДУБНИЦКПП
ленную» извне допустим иногда с практической точки зрения, скажем в случае изучения галактик, на перемещения которых взгляд мыши не оказывает заметного влияния. Но перемещения галактик не исчерпывают происходящего во Вселенной и поэтому взгляд извне не годиться на роль универсального принципа описания Вселенной.
Обычно мыши интересуются не галактиками, а чем-нибудь съедобным или опасным, и в этой области их взгляд может иметь самые непредсказуемые последствия для существования той Вселенной, которой мыши принадлежат. С учетом этого обстоятельства следует безусловно положительно ответить на риторический вопрос Эйнштейна: да, состояние Вселенной безусловно и необратимо меняется до и после взгляда мыши на нее, поскольку при этом меняется состояние сознания мыши, реагирующей на еду или опасность, и последствия этих изменений составляют неустранимый компонент существования Вселенной. Разница между перемещением галактик и перемещением кусочка сыра, лапок или челюстей мыши не принципиальна, и состоит она не в факте события, а только в масштабе значительности этого события для наблюдателя, и проводит между ними границу не что иное, как наша избирательная заинтересованность. При этом колебания масштаба значительности события неограниченно широки: ничто не мешает подключить датчик биотоков мышиного мозга к пусковой системе ракетной установки и тогда между двумя последовательными взглядами мыши на вселенную может лежать начало мировой войны, уничтожающей и мышь и неосторожного наблюдателя. Но даже если ничего этого не произошло и галактики, кусочки сыра, лапки, челюсти и ракеты остались на своих местах, это тоже является событием, которое отличается от всех перечисленных выше только тем, что мы не располагаем средствами для его фиксации. Но это уже наши проблемы и они возникают только в силу избирательности нашей заинтересованности, формирующей средства для фиксации некоторых событий в ущерб остальным. Эти трудности преодолимы в другой системе понятий, фиксирующих другие события, но нет такой фиксированной системы понятий, в которой бы эти трудности не сопровождали избирательную фиксацию.
Проводя границы между значительными и незначительными для нас событиями - и только проводя такие границы - мы приобретаем возможность существовать во Вселенной, в том числе - описывать ее. Но, проводя такие границы, мы должны отказаться от претензий на исчерпывающую полноту любого из ее фактически - реализованных описаний.
О ПАРАДОКСАХ
101
Рассмотрим на конкретных примерах как реализуются эти общие принципы описания, каким образом осуществляется нами вторичная избирательность по отношению к объектам нашего заинтересованного внимания и каковы те утраты, которые при этом неизбежны.
Механика
Наши способы описания «Вселенной» не могут быть полными (даже если ограничиться только описанием механического перемещения тел в пространстве) без учета мотивов поведения мыши, наблюдающей Вселенную, при этом не только без учета воспроизводимой физиологически-детерминированной съедобности или опасности предметов ее потенциального внимания, но и без учета невоспроизводимого ситуативного состояния аппетита мыши, фактического наличия или отсутствия опасности в сфере ее внимания и тому подобных преходящих обстоятельств.
Механический детерминизм, провозглашенный некогда Лапласом и до сего времени сохраняющий соблазнительную привлекательность для нашего сознания, несмотря на все вынужденные ограничения на него, - это одна из ментальных конструкций, чьи достоинства заключаются не в адекватности и полноте, а в воспроизводимой «понятности», в объясняющей убедительности - вопреки совершенно очевидной ограниченности, неполноте и несоответствии этих представлений непосредственным впечатлениям человека.
Для демонстрации этой ограниченности нет необходимости обращаться к тяжелой артиллерии представлений квантовой механики, вполне достаточно элементарного самоанализа.
На столе лежит шар. Согласно законам механики он будет продолжать неподвижно лежать на столе, если действующие на него внешние силы взаимно-уравновешивают друг друга, а в противном случае будет перемещаться с ускорением, пропорциональным величине этой неуравновешенной силы и обратно-пропорциональным своей массе. Это мы знаем твердо.
Но это знание неполно и ограничено. Оно бессильно помочь нам узнать, что фактически произойдет с шаром в следующий момент времени. Его может покатить наблюдательница мышь, его может сдвинуть с места сквозняк, метеорит, землетрясение или самолет, потерпевший аварию, под ним может провалиться подгнивший стол и, на¬
102
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
конец, он может остаться лежать на своем месте. Шар может рассыпаться из-за внутренних сварочных напряжений, взорваться из-за детонации или сигнала заключенного в нем часового механизма, из него может вылупиться цыпленок или крокодил. Даже если с шаром ничего такого не случиться и он сохранит свою себетождественность и состояние покоя - это следует считать столь же удивительным и необратимым событием во вселенной, как и любое из перечисленных выше. Разница между ними принадлежит не миру без нас. а нашему избирательному интересу к миру.
Шар открыт всем потенциально-возможным внешним и внутренним воздействиям без всякого исключения. Все, что происходит во Вселенной - вне шара и внутри него - имеет к нему отношение, так как способно оказать на него воздействие. Если шар продолжает сохранять состояние покоя, это не значит, что с ним ничего не происходит - возможно метеорит, порыв ветра или самолет уже начали свое движение в сторону шара, напряжения в земной коре приближаются к критическому уровню, мышь уже устремила на него свой плотоядный взгляд, часовой механизм внутри подошел к роковому рубежу, а крокодил готовится разбить скорлупу. Чтобы достичь полноты знания, наши уравнения механики должны учитывать все эти обстоятельства.
Концепция механического детерминизма полагает, что мы способны с помощью уравнений механики учесть все без исключения факторы механического перемещения. Эта уверенность не имеет под собой- никаких оснований, кроме некритического познавательного энтузиазма, отвергающего очевидность ради предвзятого принципа.
Несколько обстоятельств делают такой детерминизм невозможным в принципе (а не только вследствие ограниченности реального объема человеческого знания). Во-первых, наличие во Вселенной непредсказуемых, необратимых механических процессов, связанных с потерей устойчивости (скажем, турбулентных вихрей в атмосфере), не поддающихся детерминистскому описанию. Во-вторых, наличие во Вселенной явлений, возможность сведения которых к механическому перемещению предметов в пространстве, мягко говоря, весьма проблематична даже с учетом механических процессов, связанных с потерей устойчивости (возникновение жизни, рождение организмов, мотивация поведения мышей с учетом состояния их организма и их сознания и т. и.), а также существование процессов и явлений, о которых нельзя сказать ничего определенного в силу того, что мы о них ничего
О ПАРАДОКСАХ
103
не знаем (для Лапласа - это радиоактивность и другие квантовые процессы, но и мы не можем быть уверены, что нам все известно). Наконец, но не в последнюю очередь, это поведение наблюдателя. присутствие которого мы не просто игнорируем в уравнениях механики, а сознательно и целенаправленно стараемся изгнать из наших представлений о Вселенной.
Если наблюдатель - реальный наблюдатель, присутствующий в мире, а не ментальная конструкция наблюдателя, изолированного от мира смотрит на покоящийся шар, это не значит, что с шаром ничего не происходит. Этого нельзя сказать даже о покоящемся шаре, ставшем предметом размышлений реального наблюдателя с закрытыми глазами. Шар стал «предметом сознания наблюдателя» - и это может иметь для шара самые прямые и непредсказуемые последствия - от перемещения его в пространстве до полного разрушения.
Если в отношении процессов, протекающих с шаром за пределами сознания наблюдателя, мы еще можем не то, чтобы надеяться, на возможность их детерминистского описания, но, скажем так, не иметь полной уверенности, что такое описание невозможно, то в отношении вариабельных состояний сознания наблюдателя у нас есть полная 100-процентная уверенность, что никакое воспроизводимое описание мира не сможет его учесть по той простой причине, что независимость такого описания от состояний сознания наблюдателя представляет его специальное достоинство, утрата которого, даже частичная, равносильна утрате определенности описания и воспринимается нами так же, как парадокс в математических рассуждениях. А между тем события, происходящие в сознании реального наблюдателя, имеют решающее значение для судьбы реально-наблюдаемого шара - в отличие от ментальной конструкции потенциально наблюдаемого шара в сознании потенциального наблюдателя. Метеорит может не прилететь, ветер не подуть, сытая мышь не заинтересоваться шаром. Но есть нечто такое, что обязательно и необратимо меняется в состоянии покоящегося шара, попавшего в сферу внимания заинтересованного наблюдателя, расчленяя существование шара на определенное, но невозвратимое прошлое и совершенно неопределенное будущее. Это нечто, создающее пропасть между уже реализованными и еще нереализованными состояниями шара, не что иное, как способность или неспособность наблюдателя вмешаться в судьбу шара - покатить, подбросить, разрушить или оставить в покое. И именно этот основополагающий крите¬
104
Д. Н. ДУБНИЦКПП
рий, разделяющий прошлое и будущее, мы оставляем за пределами любых средств воспроизводимых описаний мира, фиксирующих его состояния независимо от состояний сознания наблюдателя, в том числе за пределами средств описания классической механики.
Между двумя последовательными взглядами на тот же самый предмет, даже - между двумя последовательными помышлениями о том же самом предмете, разделенными усилиями узнавания. Вселенная необратимо меняется. Тот факт, что этого не учитывают наши средства описания, является не свойством Вселенной, а свойством средств описания, созданных нашими избирательными интересами, выделяющими одни аспекты существования Вселенной за счет других.
Невозможно утверждать, что мы ничего не знаем об этой необратимости существования Вселенной. Совершенно напротив - это «естественное» знание в равной мере доступное ребенку, автралийскому аборигену, Ньютону и Эйнштейну, гораздо более универсальное, достоверное и общезначимое, чем механика Ньютона и, тем более, чем теория относительности. Но механика Ньютона, призванная описывать мир так, как он существует без участия наблюдателя, игнорирует это знание или, лучше сказать, выносит его за пределы своих фиксированных дефиниций, продолжая нуждаться в реальном наблюдателе в каждом конкретном случае применения своих уравнений к действительности. Знание о необратимости реальных состояний мира совершенно бесполезно и даже вредно для той специальной задачи, ради которой эта механика создавалась, именноюно не помогает, а только мешает связать прошлое с будущим с целью по возможности более определенного, полного и точного прогнозирования будущего на основании сведений о прошлом. Чем более эффективно решается эта задача и преодолевается разница между прошлым и будущим, тем более необратимо утрачивается способность учитывать эту разницу между ними в эффективном описании, тем менее остается места в этом решении для необратимости настоящего и тем менее такие способы сохраняют способность выражать и фиксировать эту необратимость.
Ограниченность и неполнота механической точки зрения не является помехой для эффективности такого рода знаний в своей специальной области применения, скажем в инженерных расчетах или в астрономических наблюдениях планет. Однако при всей своей эффективности такого сорта знание совсем не обязательно должно превращаться в универсальный мировоззренческий принцип, как это произошло в но¬
О ПАРАДОКСАХ
105
вой европейской культуре. Для этого, кроме эффективности, нужна дополнительная побудительная причина: эпистемологическая норма, согласно которой знание о мире должно быть независимым от состояния сознания наблюдателя и обстоятельств наблюдения и исключать релятивный компонент, подобный переживанию наблюдателем «настоящего» момента времени собственного существования.
Утрата способности фиксировать очевидную необратимость времени не единственная утрата механики. Мы всегда знаем о лежащем шаре гораздо больше того, что способны учесть уравнения механики. Кроме инертной массы и формы он имеет цвет, запах - приятный или неприятный, определенный материал, внутреннюю структуру, температуру, совпадающую с температурой окружающей среды или не совпадающую с ней; он может быть холодным или горячим на ощупь, сухим или влажным, съедобным или несъедобным; он имеет в наших глазах культурную функцию в качестве средства для забивания гвоздей, метательного орудия, сакрального символа, геральдического атрибута, предмета азартной игры (кегли, биллиард), объекта эстетического наслаждения или вербального осмысления и т. д. Некоторые из этих свойств зависят от состояния сознания наблюдателя, другие - не зависят. Но все эти свойства без исключения объединяет способность быть мотивом заинтересованности, привлекающим к шару избирательное внимание наблюдателя, причем среди этого множества названных и не названных свойств шара нет ни одного, которым можно было бы при- небречь в этом качестве и, следовательно, принебречь в качестве компонента детерминированного описания его предстоящих (действительных, а не потенциальных) механических перемещений, подчиняющихся законам механики. С этой точки зрения знание культурной или физиологической функции шара не менее важно чем знание его инертной массы и начальных условий.
«Естественным» восприятием человека (независимо от степени его осведомленности в законах механики) является именно комплексное синкретическое и релятивное восприятие шара, нерасчлененное на общезначимые и невоспроизводимые аспекты. Напротив, очищенное от релятивных и ситуативных компонентов контекста и, тем самым, от мотивировок избирательной заинтересованности, восприятие шара как объекта уравнений механики, тем более такое восприятие, взведенное в норму, на зависящую от обстоятельств восприятия, является глубоко «неестественным». Эго продукт вторичной избирательности, про¬
106
Д. Н. ДУБНИЦКПП
дукт специальных «очистительных» усилий сознания, требующих специальной подготовки, тренировки и, самое главное, специальной мотивировки.
Такая мотивировка существовала не всегда (да и сейчас проявляет себя не всегда, а только в некоторых случаях). Европейский Ренессанс, например, такой мотивировки еще не знал. Его нормой восприятия предметов сознания был именно релятивный всеобъемлющий и нерасчленимый синкретизм, вовлекающий любые предметы, попадающие в сферу внимания человека, в контекст его собственного существования и требующий от человека каждый раз новых и всегда самостоятельных усилий осмысления предмета с привлечением по возможности более полного (но заведомо неисчерпаемого) многообразия традиционных и не традиционных форм осмысления. Возможности механического перемещения предмета были только одной из многих возможных - и не главных - форм его осмысленного восприятия. Только наука XVII века ввела в состав эпистемологической нормы мотивы и критерии «очищения» механических аспектов предметов от всех остальных, но это было не более чем еще одной специфической разновидностью вовлечения предметов в культурный контекст существования человека. Некоторые подробности описанных изменений восприятия можно найти в последнем разделе настоящей работы.
Все перечисленные факторы, препятствующие фактическому знанию о реальном поведении спокойно лежащего шара в момент времени, следующий за фактическим наблюдением, можно суммировать как существенную неопределенность, с необходимостью сопутствующую знанию о способности шара к механическим перемещениям.
Представление о шаре как объекте уравнений механики в принципе неполно, избирательно и ограничено в том же самом смысле, в каком неполны, избирательны и ограничены любые представления, фиксирующие избирательность нашего внимания - формализованные языки, множества себетождественных предметов и прочее. Они не могут существовать без своего релятивного дополнения, мысленно вынесенного за пределы подобных фиксированных представлений - без индивидуального сознания наблюдателя, обладающего способностью определять область их эффективного применения, отдавая себе отчет в существовании границ этой эффективности, преодолимых изменением точки зрения.
Уравнение механики Р = ша (сила равна произведению массы тела на ускорение) оперирует не с действительностью, независимой
О ПАРАДОКСАХ
107
от нашего сознания, а с действительностью, препарированной нашим сознанием в наших специальных целях, расчлененной на 3 взаимнонеоднозначных ментальных компонента: предмет, силы воздействия на него и пространство возможных перемещений предмета. Способность пользоваться этим уравнением существенным образом предполагает способность вычленения в реальности предмета, существующего независимо от действия на него сил и от своего положения в пространстве и во времени, реагирующего на действие любой силы путем перемещения в пространстве как единое целое, сохраняя внутреннюю себетождественность при любых потенциально-возможных вариациях характера, величины, направления действующих сил и при любых изменениях своего положения в пространстве и во времени. При этом все другие «предметы» и пространство их потенциально-возможных перемещений независимы от характеристик, положения и факта существования друг друга - потенциальных объектов взаимодействия и перемещения.
Основное достоинство уравнений механики - возможность использования его в любых обстоятельствах, прилюбых вариациях действующих сил и положений тела относительно других тел - достигается ценой существенных потерь: теряется определенность реальных связей предмета с другими предметами, а также определенность его положения во времени и пространстве, которыми он всегда обладает в действительности. Невозможно пользоваться уравнениями механики, не оборвав мысленно все связи предмета описания с действительностью и не изъяв его мысленно из реальных времени, пространства и взаимодействий, заменив все реальные связи потенциально-возможными. Следует ли удивляться, что при такой операции мы лишаемся возможности выразить с помощью уравнений механики необратимость реального существования этого стерильного объекта наших ментальных манипуляций.
Галилей был первым, кто начал работать с подобными «очищенными» ментальными объектами, производя над ними мысленные эксперименты. До него никто, от Аристотеля до Кеплера, не говоря уже о более ранних натурфилософах - не решался на такую кардинальную операцию очищения объектов своего внимания от связей с реальностью. Причины этого мы обсудим позднее.
Действительность иногда и до некоторой степени соответствует нашим ментальным представлениям о «предметах», лишенных акту¬
108
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
альных связей с реальностью: некоторые объекты нашей избирательной заинтересованности ведут себя подобно себетождественным инвариантам пространственных взаимодействий в достаточно широком диапазоне интересующих нас событий, что делает уравнения механики эффективным средством описания таких событий. Но совершенно очевидно, что действительность соответствует этим представлениям далеко не всегда, вследствие чего область эффективности любого конкретного уравнения механики всегда ограничена областью себетожде- ственности объекта описания. При этом уравнения механики оставляет за пределами определенности всю область потенциальных взаимодействий себетождественного объекта, которую невозможно актуализировать никаким уточнением начальных условий - это неизбежное свойство всех потенциальных объектов нашего внимания.
Граница, разделяющая актуальные и потенциальные аспекты существования объектов описания уравнений механики, должна быть определена в каждом конкретном случае - это условие эффективности уравнений, но в каждом конкретном случае ее положение может быть иным. Она релятивна, причем ее релятивность, т. е. способность перемещаться вместе с точкой зрения наблюдателя, представляет собой не только неустранимый недостаток, не позволяющий добиться исчерпывающе - точного описания, но и необходимое достоинство, позволяющее преодолеть неизбежную ограниченность средств описания, утрата которого равносильна утрате всякой связи нашего знания - в данном случае механики - с реальностью.
Мы ничего не знаем о реальной судьбе спокойно лежащего шара, несмотря на знание механики - область его потенциально-возможных взаимодействий неопределенна. Чтобы приблизиться к реальному знанию, надо актуально включить в сферу внимания наблюдателя другие предметы - стол, землю, земную атмосферу, солнечную систему, мышей, наблюдателей, а также расчленить внутреннее устройство шара как единого целого на механически-взаимодействующие между собой компоненты. Наши прогнозы поведения шара станут безусловно более достоверными, но область строго-неопределенной и не фиксируемой потенциальности при этом не уменьшится, а расширится, как расширяется она при пополнении состава средств пересчета совокупностей номеров. Как бы ни расширяли мы область актуально-учтенных объектов механического взаимодействия, мы не сможем никогда преодолеть границу взаимной неоднозначности, разделяющую актуальные и по¬
О ПАРАДОКСАХ
109
тенциальные компоненты нашего знания, заключенного в уравнениях механики, точно также как это нельзя сделать, расширяя списки потенциальных рекрутов или жителей определенного города. Эта граница проходит в нашем сознании и представляет собой необходимое условие какого бы то ни было воспроизводимого знания о мире. Она отодвигается каждый раз, как горизонт, вместе с вниманием наблюдателя, оставаясь недосягаемой для любого из фиксированных воспроизводимых состояний сознания.
При расширении границ актуализации объектов механического описания за пределы шара до уровня галактик и внутрь шара до уровня кварков от самого шара как единого целого мало что остается. Он превращается в нашем представлении в то, чем он и является на самом деле, - во фрагмент не расчленяемой реальности, вычлененный из нее нашим избирательным вниманием по мотивам, которые принадлежат не реальности, а контексту существования в реальности наблюдателя, озабоченного разумным сокращением объема математических выкладок, эффективностью способа прогнозирования событий или выигрышем в биллиард. Область целесообразности такого вычленения и фиксации шара определяется в каждом конкретном случае наблюдателем. Все это можно повторить с равным основанием для галактик и молекул - предела для ментального расширения актуального поля зрения не существует, но зато обязательно существует предел определенности для каждого конкретного из таких расширений.
Способность неограниченно расширять совокупность актуально- учтенных факторов и объектов механического взаимодействия не совпадает со способностью учесть все такие факторы и объекты без исключения. Эта вторая способность уже есть не эмпирический факт, а факт некритической веры, аналогичной вере в способность пересчитывать все возможные предметы человеческого сознания; это есть, строго говоря, некритическое перенесение на Мир требований эпистемологической нормы, представляющей параметр не объектов описания, а средств описания.
Убежденность Лапласа в возможности детерминированного описания Мира с помощью уравнений механики базировалась на способности нашего сознания неограниченно раздвигать границы актуально- учтенного компонента знания за любые определенные пределы. Но такое описание не может быть реализовано фактически: его исчерпывающей полноте препятствует релятивная граница, составляющая не¬
по
Д. Н. ДУБНИЦКПП
отъемлемое свойство самого объекта описания и всегда оставляющая за пределами актуально-учтенных объектов и событий область потенциально-возможных объектов и событий. Как факт наличия этой непреодолимой границы, так и ее релятивная подвижность представляют собой необходимые компоненты воспроизводимости человеческого знания. Механика в этом отношении не представляет исключения, хотя, возможно, и обладает преимуществами большей «понятности» в силу однозначности ее предсказаний в тех областях, где ее уравнения эффективны.
Принципиальные ограничения на детерминированность описания механического перемещения действуют не только сверху - на уровне неполноты учтенных фактов, но и снизу - на уровне отдельного зафиксированного факта. Нельзя пользоваться уравнениями механики, не расчленив в своем сознании реальность на взаимно-неоднозначные ментальные компоненты - «предметы», независимые от своего положения в «пространстве» и «времени», и «пространство» и «время», независимые от присутствия в них каких-либо «предметов». Но также невозможно ими пользоваться, зафиксировав это расчленение раз и навсегда, т.е. совершенно освободив пространство и время от определенных предметов, а предметы от определенной локализации во время и пространстве. «Пространство» и «время» наших механических представлений отличается той характерной особенностью, что они могут существовать без любого из конкретных предметов, но не могут существовать без всех предметов сразу. Для описания поведение «себе- тождественных предметов» в пустом «пространстве» и «времени» нам необходимы предметы, которые обязательно связаны в своем существовании с реальным пространством и временем: эталоны длины, времени, силы, массы, носители точек отсчета и шкал - линейки, часы, иридиевые цилиндры, измерительные приборы, рецепторы наблюдателя (реального, а не потенциального) и т. и. Эти предметы реального мира, составляя необходимое условие воспроизводимого описания мира, не могут стать объектом однозначного детерминированного описания мира.
Их существование в наших представлениях противоречиво: они выполняют функцию расселовского брадобрея, измеряя все «другие» предметы, не способные измерить сами себя, и в этом отношении они делят судьбу любых средств описания, не способных описывать самих себя в силу релятивной границы, разделяющей в нашем сознании объекты описания и средства описания. Это не должно нас удивлять, пото¬
О ПАРАДОКСАХ
111
му что все эти приборы и эталоны, также как и средства фиксированного описания призваны нести знание, воспроизводимое независимо от определенного наблюдателя, но невозможное без определенного наблюдателя, который, находясь в мире, подлежащем воспроизводимому описанию, должен исключить себя из результатов такого описания, вследствие чего описание мира теряет свою полноту. Приборы, эталоны, шкалы и сенсорные рецепторы наблюдателя не могут включаться в состав позитивного описания мира, хотя без их присутствия в описываемом мире никакое его описание невозможно. Классическая механика заведомо способна описать только фрагмент реальности, вычленяемый нашим избирательным интересом из нерасчленённого фона сенсорных рефлексов.
Также как и граница механического описания «сверху», граница этого описания «снизу» релятивна и подвижна. Она принадлежит не миру, а сознанию реального наблюдателя, не может быть зафиксирована независимо от сознания наблюдателя и целиком определяется его выбором, который он способен всегда изменить при необходимости. Приборы, эталоны и рецепторы всегда могут быть описаны в другом - расширенном фрагменте позитивного описания. Но превратившись в объект описания, они немедленно теряют функцию средств описания, и требуют новых - других - средств описания, всегда остающихся за пределами объектов описания при любых подобных ментальных манипуляциях. И при всех таких манипуляциях остается неизменной фрагментарность и неполнота описанного мира. Фиксация границы между объектами описания и средствами описания раз и навсегда недопустима, так как означала бы, как и в теории множеств, фиксацию ограниченности наших способностей к описанию мира.
Напомним, что создание далеких от очевидности представлений о независимости результатов наблюдения от инструментальных средств и способов наблюдения - заслуга все того же Галилея, с которого начинается революция эпистемологической нормы новой европейской науки. Эти представления были чужды современникам Галилея и распространились не сразу, а после сильного сопротивления.
Итак, чтобы воспользоваться уравнением механики, необходимо каждый раз заново в зависимости от обстоятельств наблюдения и собственных интересов наблюдателя выбрать точку зрения на объект своего наблюдения, т. е. проделать следующее:
1) очистить свое восприятие мира от всего богатства возможных ментальных и эмоциональных реакций, вычленив в нем один един¬
112
Д. Н. ДУБНИЦКПП
ственный общезначимый аспект - протяженность предметов в пространстве;
2) выбрать в этом очищенном мире механических перемещений свои «шары», т. е. актуально зафиксировать в сознании некоторые (заведомо не все) предметы своего заинтересованного внимания, способные на протяжении некоторого времени и некоторого расстояния (заведомо ограниченных) перемещаться как единое целое, сохраняя се- бетождественность, независимую также от характера.направления и величины действующих сил (также в ограниченных пределах); при этом отодвинуть весь остальной мир внутри и снаружи актуальновыделенных предметов своего избирательного внимания в область неопределенного потенциально-возможного;
3) провести в своем сознании границу между средствами описания и объектами описания, т. е, выбрать размерности, масштабы, точки отсчета и назначить некоторые реальные предметы (часы, линейки, собственные глаза, собственные руки, собственное тело) «приборами», подлежащими изъятию из воспроизводимого описания фрагмента мира;
4) после выполнения ментальных операций по пунктам 1, 2, 3,зафиксировать мысленно свою избирательную точку зрения в качестве общезначимой, удалив за пределы наблюдаемого мира самого себя и все следы своего присутствия в нем и, с невинным видом, принять позицию своего невмешательства в происходящее в мире и придерживаться ее некоторое время (заведомо ограниченное), сохраняя при этом за собой способность и право в любой момент вмешаться в этом мир и обнаружить свое присутствие произвольным изменением собственного выбора. Проделывать все эти самоограничительные операции над собственным сознанием нас побуждает эпистемологическая норма социума, требующая независимости знания от состояния сознания его носителя.
Представленная в механическом описании ограниченная картина мира соответствует действительности заведомо не вполне и не всегда, а только иногда и до некоторой степени и только живой наблюдатель может решить - когда именно и до какой степени.
Соответствие или несоответствие выбранного наблюдателем фрагмента мира уравнениям механики, обратимым относительно времени и нелокальным относительно места действия - это не состояние мира, а необратимое событие, локальное во времени и пространстве. Эго ло¬
О ПАРАДОКСАХ
113
кальное соответствие может быть установлено только в момент ситуации фактического наблюдения. За пределами ситуации фактического наблюдения это соответствие становится неопределенным. Оно сохраняется до тех пор и в той степени, пока и в какой степени сохраняются порождающие его условия: реально сохраняется вневременная и вне- пространственная себетождественность «предметов», описываемых уравнениями механики, реально остается ненарушенной релятивная граница между актуально-учтенными и потенциально-возможными взаимодействиями «предметов», установленная сознанием наблюдателя, реально соблюдается позиция невмешательства наблюдателя и связанных с ним приборов и рецепторов в то, что происходит в пределах заинтересовавшего нас фрагмента реальности. Сохранение всех этих реальностей за пределами события наблюдения как минимум проблематично. Некритическая уверенность в таком сохранении принимает желаемое за действительное - это есть не более, чем ментальная экстраполяция - приписывание предвзятых императивных структур понимания познаваемому миру, которое не обеспечивает его действительное понимание, а препятствует ему.
Соответствие мира уравнениям механики - это необратимое событие сразу в трех отношениях - в существовании мира, в существовании наблюдателя и в существовании культуры, представляющей наблюдателю императивы для интерпретации и представления собственных впечатлений в качестве общезначимых, а также нормы и критерии отбора культурно-значительных компонентов наблюдения из числа всех остальных. В момент, следующий за событием наблюдения, все три соучастника события - мир, сознание человека и культура могут необратимо измениться: мир может разрушить границы воспроизводимости, проведенные сознанием наблюдателя - «предметы» взорвутся и потеряют себетождественность, из неучтенного мира потенциальных объектов актуализируется непредсказуемый метеорит или сам наблюдатель, отказавшийся от позиции невмешательства, начнет переставлять предметы своего внимания руками; наблюдатель может изменить свой выбор точки зрения, расчленяющей мир на объекты заинтересованности, и провести границы воспроизводимости иначе, чем в первый раз; культура может изменить систему императивов воспроизводимой интерпретации мира, создав новые понятия (скажем, квантовую механику). Но даже если ничего такого не произойдет в следующий за реальным наблюдением момент времени, это следует считать событием, столь же необратимым, как и все перечисленные выше.
114
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
Законы механики, также как и законы геометрии, сами по себе еще не есть действительное знание о реальности. Это лишь потенциальное знание о реальности.
Шар как объект ментальных представлений, описываемый уравнениями механики, и реальный шар как узнаваемый объект наших наблюдений - это не одно и то же. Разницу между ними мы обсуждали на примере спичек. «Ментальный» шар наших механических представлений ведет себя всегда одинаково и строго подчиняться законам механики во всех без исключения мысленных экспериментах, независимо от состояния сознания наблюдателя, обстоятельств наблюдения и даже от самого факта наблюдения. Поведение такого шара однозначно предсказуемо, но это всего лишь ментальная конструкция - императив интерпретации реальности, а не сама реальность. К сожалению, этого нельзя сказать о реальном шаре, составляющем предмет фактического наблюдения. Реальный эксперимент отличается от мысленного тем, что в нем нельзя принебречь как раз теми обстоятельствами, от которых освобожден и очищен мысленный эксперимент. Между ними гетерогенная пропасть взаимной неоднозначности. Их результаты никогда не совпадают полностью, а только частично при определенных условиях. Чтобы законы механики стали из потенциального знания действительным знанием необходимо лишить их стерильной чистоты ментального императива и возвратить в ситуацию реального наблюдения, в исходе которого мы никогда не можем быть уверены, в том числе не можем быть уверены в сохранении ментальных конструкций и понятийного аппарата интерпретации до и после факта наблюдения. В чем можно быть совершенно уверенным, так это в том, что нельзя получить вообще никакого знания о реальном мире, не нарушая время от времени позицию невмешательства в этот мир реального наблюдателя. Принципу универсального детерминизма Вселенной кладет пределы как раз главный источник знания о формах проявления реального детерминизма - наблюдения и эксперименты, представляющие собой непредсказуемое и необратимое вмешательство в мир наблюдателя, сама возможность которого исключает универсальную полноту последовательно-детерминированного описания мира, не учитывающего состояний сознания наблюдателя в момент наблюдения. Также как и непротиворечивое описание, детерминированное описание в лучшем случае возможно только для ограниченного фрагмента мира, не содержащего противоречивых наблюдателей и средств наблюдения и описания.
О ПАРАДОКСАХ
115
Реальный шар. находящийся в реальном мире, не выключен из мира подобно себетождественному шару наших ментальных представлений, противостоящему пустому пространству, обратимому времени, потенциально-возможным силам и сознанию наблюдателя, а принадлежит этому миру вместе со всеми этими инградиентами и сознанием наблюдателя. Самое большее, что можно сделать во имя объективности позитивного описания реальной Вселенной - это не фиксировать окончательно границу между своим сознанием и миром, а признать неустранимую релятивность проводимых границ и связь знания с собственным сознанием и собственным существованием.
Знание законов механики представляет собой знание о реальности только в той степени, в какой сохраняет связь с сознанием реального заинтересованного наблюдателя в контексте определенной ситуации наблюдения. Механика эффективна как способ прогнозирования перемещения заинтересовавших нас «предметов», но даже в этом отношении неполна, не может быть замкнута в себе и поэтому не годится на роль познавательного принципа и, тем более, на роль онтологического принципа. Эго не знание о мире, существующем безотносительно к нашему сознанию, а знание о степени соответствия мира как объекта нашего заинтересованного внимания нашему избирательному интересу, мотивы которого принадлежат не миру без наблюдателя, а наблюдателю в культурном контексте его существования. Именно: это знание о степени соответствия мира той специфической разновидности этого интереса, которая принадлежит не одному человеку, а сразу многим - неопределенной совокупности потенциальных наблюдателей, каждый из которых необязателен, и требует, вследствие этого, представления знания о мире в соответствующей форме, воспроизводимой независимо от способов, средств и обстоятельств наблюдения и от самого факта наблюдения. Предполагаемая независимость зафиксированного в уравнениях механики мира от сознания наблюдателя есть не факт, а культурная функция такого знания. Как и всякое другое знание, оно полезно и эффективно не как обрыв связей сознания и мира, а как фиксация этих связей, не как взаимное освобождение мира и сознание, а, напротив, как культурно-обусловленное единообразие состояний индивидуальных сознаний, вычлененное из вариабельного многообразия их потенциальных состояний путем ограничительной самодисциплины. Действительное знание о реальности включает в себя знание о неполноте и недостаточности знания, основанного на фиксиро¬
116
Д. Н. ДУБНИЦКПП
ванной границе между сознанием и миром, проведенной нашим сознанием, и о необходимости дополнения его представлением о необязательности именно такого, а не иного расчленения мира на предметы, полезного в некоторых определенных обстоятельствах, но бесполезного безотносительно к определенным обстоятельствам.
Выбор нами параметров механического движения в качестве средства описания мира, направляемый действующей эпистемологической нормой, не слишком отличается от той избирательности, с которой смотрит на мир мышь. Разница только в характере побудительных мотивов и критериев отбора, но не в факте отбора. Вниманием мыши руководит «съедобность», вниманием ученого - «понятность». И то и другое содержит компоненты внеситуативные (физиологическая приемлемость пищи для мыши, определяемая ее видовыми биологическими особенностями; готовые понятия, предоставляемые культурой человеку в качестве императива интерпретации восприятий) и ситуативные (чувство голода мыши, чреватое адаптивной биологической эволюцией вида к среде обитания; непосредственная заинтересованность человека, чреватая эволюцией старых или образованием новых культурно-усвоенных понятий).
Термодинамика (понятие энтропии и необратимости)
Иногда надежды на возможность «объективной» - не зависящей от наблюдателя - фиксации направления времени связывают с необратимым возрастанием термодинамического параметра энтропии, расширительно трактуемого как мера упорядоченности.
Есть основания полагать, что на этом пути нас ждет разочарование. Эффект однонаправленности времени в уравнении - теплопроводности такой же продукт специфической избирательной заинтересованности наблюдателя, как эффект обратимости времени в уравнениях механики. Только направлена эта заинтересованность несколько иначе.
Пусть лежащий на столе шар представляет собой не твердый предмет, а традиционный объект термодинамических описаний - хорошо изолированный от внешнего мира баллон с газом, в котором шары меньшего размера - молекулы газа находятся в беспорядочном движении. Большой шар является для нас объектом описания уравнений механики, а молекулы - объектом описания уравнений термодинамики, оперирующих суммарными, усредненными по объему газа параме¬
О ПАРАДОКСАХ
117
трами - давлением, температурой, энтропией и т. и., не зависящими от фактического положения молекул в пространстве и времени.
Такое разделение описания эффективно с практической точки зрения, но практическая эффективность - это единственное, что побуждает нас применять разные способы описаний к этим объектам нашего внимания. Движение молекул внутри баллона однозначно описать с помощью механических уравнений действительно трудно, а может быть даже вообще невозможно, учитывая эффекты потери устойчивости. Но те же самые трудности встают перед нами и при попытках описать поведение шара по мере расширения пределов учтенного в описании фрагмента пространства и времени. Разница состоит только в масштабе событий и уровне затруднений, но это уже заботы наблюдателя, природа не обязана знать о наших затруднениях.
Реальность не знает этой границы. Зафиксированные в этих способах описания расчленение единой действительности в лучшем случае соответствует ей до известной степени и только временно: баллон представляет собой не более чем временный и пространственный фрагмент действительности, который ни сам не может всегда оставаться се- бетождественным объектом потенциально-возможных внешних воздействий, ни сохранить навсегда изолированную замкнутость от этих воздействий своих газообразных внутренностей. Даже зная все это, мы не способны расширить границы учтенных обстоятельств до такой степени, чтобы преодолеть ограниченность описания. Единственно, что может приблизить нас к реальности, а не отдалить от нее, - это признание релятивной необязательности любого из конкретных расчленений и дополнение своей способности фиксировать положение границы взаимной неоднозначности способностью менять ее в зависимости от реалий собственного существования.
Разница между способами описания баллона и наполняющего баллон газа - это разница между актуальным и потенциальным способом представления объектов в нашем сознании. Баллон вычленен из действительности нашим вниманием актуально в качестве себетожде- ственного инварианта любых потенциально возможных взаимодействий; газ выделен как дополняющая это инвариант область его потенциальных взаимодействий, в которой каждый конкретный акт взаимодействия не является обязательным. И тот и другой способы фиксации представлений о действительности имеют свои достоинства и свои недостатки: актуальная фиксация объекта (баллона) отодвигает в область
118
Д. Н. ДУБНИЦКПП
полной неопределенности его реальные взаимодействия; термодинамические параметры позволяют придать этой области потенциальных взаимодействий определенность, но ценой утраты однозначной определенности индивидуальных параметров объектов взаимодействий. Термодинамически епараметры области потенциальных взаимодействий представляют собой ментальную конструкцию (императив интерпретации), дополняющую ментальную конструкцию изолированного себетождественного предмета, выделенного нашим вниманием в качестве объекта взаимодействий. При этом внутренность баллона и его внешность не отличаются с этой точки зрения принципиально. Их отличает только наша большая уверенность в эффективной стабильности воспроизводимого описания внутренней области по сравнению с внешней в силу замкнутости первой для внешних взаимодействий и открытости для них второй, т. е. большая степень соответствия внутренней области ментальному императиву интерпретации. Термодинамическим параметрам внешней области баллона также можно придать определенность в пределах некоторого замкнутого пространственно- временного фрагмента с мысленно-установленными границами, до некоторой степени и до поры до времени соответствующими реальной стабильности параметров, позволяющей осмысленно оперировать их определенным значением. Но и ограниченность внутренней области баллона является ментальным упрощением, а не реальным фактом, так что единственным критерием различия между ними остается степень эффективности заведомо неполного описания, определяемая в каждом конкретном случае живым заинтересованным наблюдателем.
И та и другая ментальные конструкции - и представления об определенном объекте потенциальных взаимодействий и представление об определенной потенциальной области его взаимодействий - изымают свои объекты из реального времени. Термодинамические параметры предполагают как условие своего существования термодинамическую равновесность как минимум в локальной области своего определенного значения, т.е. инвариантность их по отношению к необратимым событиям взаимодействия.
Дополнив уравнения механики уравнениями термодинамического состояния газа и теплопроводности, мы по-прежнему не приблизились к знанию того, что фактически произойдет с баллоном газа, лежащим на столе, в следующий момент времени. Никакого эффекта течения времени в изолированном объеме газа внутри баллона при равновесном состоянии газа не наблюдается. Эффекты необратимости вре¬
О ПАРАДОКСАХ
119
мени лежат по прежнему за пределами такого баллона и проявляются только при нарушении его изолированности.
Чтобы обнаружить этот эффект, мы должны нарушить замкнутость газового объема баллона и соединить его с другим баллоном, в котором температура или давление газа отличаются от первого. При этом давление и температура газа через некоторое время выравниваются, газ переходит в новое равновесное состояние. Энтропия конечного равновесного состояния газа в двух баллонах выше, чем энтропия исходного неравновесного состояния - таков третий закон термодинамики и нет оснований сомневаться в его справедливости (также как нет оснований сомневаться в справедливости теоремы Пифагора). Процессы, связанные с возрастанием энтропии необратимы - для обратного разделения газа в баллонах и приведения его в исходное состояние необходимо затратить энергию.
Однако энтропия возрастает не бесконечно, но останавливается на определенной цифре при достижении нового равновесного состояния, параметром которого она является (иначе ее просто нельзя было бы измерять и фиксировать в численных величинах). Повысить ее выше этого значения также трудно, как и понизить, для этого тоже нужна затрата энергии. Кроме того, процессы с возрастанием энтропии сами являются источником локальных негоэнетропийных процессов. Инженеры теплотехники знают, как сложно добиться рассеяния энергии в тех случаях, когда это стоит не как теоретическая, а как практическая задача, скажем при интенсификации теплообмена или при борьбе с шумом. Рассеять энергию не менее трудно, чем ее получить.
Некоторые полагают, что несимметричность во времени процесса выравнивания термодинамических параметров дает надежду на возможность зафиксировать необратимость времени в уравнениях теплопроводности, несимметричных относительно координаты времени. Однако, следует признать, что это довольно специальная разновидность времени, которое протекает необратимо не везде, а только в локальных замкнутых объемах, и не всегда, а только некоторое ограниченное время от момента нарушения замкнутости объема до восстановления равновесия в нем, после чего время снова становится обратимым. Возможность распространения такого пульсирующего времени за пределы замкнутого объема и, тем более, на всю вселенную сразу совсем не очевидна. Для этого нужна такая же некритическая экстраполяция ограниченной ментальной модели, какая послужила основой убеж¬
120
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
дения Лапласа в универсальном значении детерминизма классической механики. Изолированная замкнутость ментального объекта термодинамики составляет такую же ее необходимую и существенную особенность, как и изолированная себетождественность ментального объекта уравнений классической механики, что определяет их фрагментарную ограниченность и неполноту при любых ментальных расширениях.
За пределами пространственно-временного фрагмента действительности, где наблюдаются процессы с ростом энтропии, остаются очень важные вещи, без которых подобные процессы вообще не могут иметь места: причины исходного не равновесия параметров между двумя объемами газа, причины и обстоятельства потери их первоначальной взаимной замкнутости и, наконец, причины восстановления и поддержания нового варианта изолированной замкнутости, позволяющего достичь нового равновесия. Уравнения теплопроводности, определяющие направления времени для двух внезапно соединенных баллонов, ничего не в состоянии сказать об окружающем баллоны внешнем мире, причем эта ограниченность весьма существенна и составляет совершенно необходимое условие соответствия этих уравнений действительности и правомерности их использования. Возможность распространения представлений о росте энтропии за пределы отведенных им рамок есть не эмпирический факт, а факт некритической веры и не годите на роль онтологического принципа, также как не годится на эту роль механика.
Когда мы имеем дело с баллонами, лежащими на столе, все ясно: внезапные замыкания и размыкания объемов газа и связанные с ними эффекты необратимости времени являются следствием вмешательства человека-наблюдателя, вынесенного за пределы интересующих нас объемов и, соответственно, их описаний. Но это объяснение не годится для закона природы самой по себе, существующей без участия наблюдателя, каким мы бы хотели видеть третье начало термодинамики.
Если мы хотим оставить природу наедине с собой, то нам придется возвратить ей причины факта замкнутости, факта нарушения этой замкнутости и факта исходной разницы параметров. Нам следует признать, что вне пределов заинтересовавшего нас фрагмента природы, но не за пределами природы происходят процессы, способные создавать разницу термодинамических параметров в локальной области пространства и времени, ускользающие от фиксации в нашем термодинамическом описании или, точнее говоря, вынесенные за пределы наше¬
О ПАРАДОКСАХ
121
го описания. Во имя приближения к реальности и устранения ограниченности такого описания нам следует признать существенную фрагментарную неполноту термодинамики, как это уже сделали математики по отношению к теории множеств.
Если мы полагаем, что причины локального повышения энтропии находятся не в наблюдателе, а в природе, то следует попытаться расширить границы нашего объекта описания таким образом, чтобы оно учитывало все процессы и факторы не только повышения, но и понижения энтропии. Предположим, что нам удалось это сделать. Но в такой дополненной системе суммарная энтропия будет постоянна и мы теряем способность определять в ней направление времени с помощью этого параметра. Необратимость времени в исходном фрагменте действительности оказывается не более чем эффектом неправильного выбора границы замкнутости.
Желательной полноты учета всех факторов понижения и повышения энтропии можно добиться не всегда, но в некоторых случаях эта ментальная модель может подойти достаточно близко к объекту своего описания. Такому «полному» состоянию хорошо соответствует, например, равновесное состояние газа внутри изолированного баллона, только описанное более подробно, чем позволяют суммарные термодинамические параметры, с выделением в качестве объекта наблюдения не всего объема сразу, а некоторых меньших объемов, ограниченных в пространстве и во времени нашим избирательным интересом без установки физических перегородок. При этом нам станут заметны флуктуации термодинамических параметров (в том числе энтропии) в каждом из этих ограниченных объемов, создаваемые движением молекул. Они дают равные основания для наблюдения как процессов роста энтропии в локальной области, временно оказавшейся в положении изоляции от остального объема, так и для ее снижения при нарушении этой временной замкнутости, но не дают оснований для определения направления времени сразу для всего объема газа в баллоне. Предельным случаем такого подробного описания состояния газа является описание движения всех молекул с помощью уравнений механики, которые, как известно, обратимы относительно направления времени, также как и термодинамические параметры равновесного состояния. Только позицией заинтересованного наблюдателя - и ничем - другим определяется возможность считать движение молекул газа полностью упорядоченным или полностью беспорядочным. Обе ментальные модели эписте¬
122
Д. Н. ДУБНИЦКПП
мологически совершенно равноправны, хотя трудности описания могут быть различными (но наши трудности не должны иметь отношения к законам природы).
Но равноценны - не означает идентичны. Между ними приходится выбирать, потому что они взаимно-неоднозначны, причем каждая обладает не только своими достоинствами, но и своими недостатками, и сопровождается не только приобретением, но и утратой определенности.
Термодинамический способ описания газа с помощью суммарных параметров характеризует объем в целом и предоставляет нам сведения, независимые от точки измерения и момента измерения параметра. Эго в некотором отношении - большое достоинство, но это существенный недостаток, если для нас важно знание именно мгновенного значения параметра в заинтересовавшей нас локальной области пространства. Механический способ описания движения молекул газа дает в принципе полную информацию о том, что происходит в любой из моментов времени в любой точке пространства при условии, что мы обладаем исчерпывающим знанием начальных условий и уверенностью в том, что при этом учтены все без исключения объекты и факторы механических взаимодействий. Но именно поэтому мы не в состоянии с помощью механического описания дать информацию, независимую от момента времени и места фактического наблюдения, о значении и степени стабильности суммарных термодинамических параметров. Чтобы получить эти данные, нужно проводить очень много (в принципе - бесконечное количество) последовательных фактических наблюдений и усреднять их по интересующим нас фрагментам времени и пространства, нивелируя индивидуальные различия в показаниях приборов. Такой процесс усреднения может сходиться к определенному устойчивому и воспроизводимому результату, но может и не сходиться. Он сходится только в том случае, когда и до тех пор пока заинтересовавший нас фрагмент реальности близок к ментальной модели изолированной замкнутости. Но у нас нет уверенности в том, что эта замкнутость не будет рано или поздно нарушена, а есть уверенность в обратном.
При этом нельзя исключить как фактор нарушения замкнутости самого наблюдателя, способного открывать краны, и его приборы, без которых невозможно получить вообще никакого знания о замкнутом фрагменте реальности. Возможность измерения давления или температуры в ограниченном объеме газа обеспечивается тем, что применяе¬
О ПАРАДОКСАХ
123
мые нами датчики обычно достаточно грубы по отношению к размерам флуктаций и непосредственно дают сразу усредненное значение параметра по объему, не реагируя на его флуктации в месте установки. Но это не значит, что их нет - при использовании более точных датчиков (скажем - масс-спектрографов) мы сможем замерять энергию отдельных ударов молекул, но при этом определение давления и температуры газа во всем объеме потребует таких же дополнительных усилий, какие необходимы для определения и температуры атмосферы земли и ее суточных, годовых, вековых и эпохальных изменений.
Каждый из двух способов описания имеет свою область неопределенности и ограниченности: суммарные термодинамические параметры - область локальной дифферентации их значения, детальные механические параметры область внешних потенциально-возможных взаимодействий. Эго свойства ментальных эпистемологических моделей описания и с этим уже ничего нельзя поделать. То «дополнительное» до учета всех факторов снижения и роста энтропии описание фрагмента реальности, которому приблизительно соответствует равновесное состояние газа в баллоне, на самом деле такое же не полное, как и любое другое, и не имеет других преимуществ перед «не дополненным» описанием фрагмента реальности с растущей энтропией, кроме большего или меньшего соответствия ментальных границ фрагмента избирательному человеческому интересу. «Полных» описаний реальности, независимой от избирательных интересов наблюдателя, не бывает. Проводимая нами граница замкнутости или граница актуально- учтенных объектов механического взаимодействия - это граница ментальных предметов нашего избирательного внимания; она не может быть «правильной» или «неправильной», поскольку никогда не соответствует реальности адекватно: она может быть только эффективной или неэффективной с точки зрения интересов наблюдателя реальности.
Эпистемологической моделью для вывода третьего начала термодинамики о росте энтропии в замкнутом объеме послужила в свое время работа цилиндра паровой машины, которая наглядно демонстрировала разницу между механической работой поршня и теплотой, заключенной в цилиндре, и необратимость превращения первой во вторую. Эта разница состоит в том, что под механической работой поршня мы понимаем обмен энергии пара, находящегося в цилиндре, с внешней средой с измерением положения цилиндра, т.е. объема газа, а под теплотой - то же самое, но без этих изменений. Эта разница имеет значе¬
124
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
ние только для наблюдателя, которому важно именно изменение положения поршня, и не имеет значения для природы, лишенной такого избирательного интереса. Границу между теплотой и работой проводит ПОЛЬЗА, под которой в данном конкретном случае понимается изменение объема цилиндра. Энергия, заключенная внутри границ замкнутости, считается нами бесполезной. Первую разновидность энергии пара добыть из него легко и удобно, а вторую энергию теплового движения молекул пара - трудно и неудобно. В этом вся разница. Эта трудность объективна - она не зависит от конкретного наблюдателя, но она зависит от избирательной заинтересованности наблюдателя.
Такое разделение энергии по принципу пользы вполне оправдано в случае паровой машины, но для универсального мирового закона это разделение слишком тесно связано с избирательным человеческим интересом, хотя и не индивидуальным, а коллективным. В случае паровой машины нам действительно практически трудно использовать энергию флуктаций и, тем более, энергию отдельных молекул. Но это не означает, что этого нельзя сделать в принципе. Энергию никогда не затухающих колебаний параметров пара внутри замкнутого цилиндра вполне можно использовать для «полезной» механической работы, надо только применять инструмент временного и пространственного масштаба, соизмеримого с размером флуктаций. Устройства, извлекающие энергию беспорядочных флуктаций давления были известны задолго до паровой машины - это ветряные мельницы. Даже для объема газа, заключенного в цилиндре паровой машины, возможно извлечение энергии флуктаций, если пользоваться, скажем, массспектрогра- фом, воспринимающим и регистрирующим удары отдельных молекул как детерминированное механическое воздействие из-вне.
С другой стороны, все эффекты термодинамической необратимости, обусловленные наличием границы замкнутости цилиндра паровой машины, время от времени нарушаемой, имеют место даже тогда, когда «беспорядочное» движение молекул внутри цилиндра будет заменено конечным числом одномерных упорядоченных макроскопических осциляторов - шаров на пружинке. Для проявления этих эффектов необратимости требуется единственное условие: проведение мысленной границы, разделяющей «бесполезную» энергию колебаний шаров на пружинке и «полезную» с нашей точки зрения энергию перемещения границы замкнутости, в данном случае - одной из точек крепления пружин осциляторов. Расстояние между точками подвеса шаров - это
О ПАРАДОКСАХ
125
«объем цилиндра». Усредненная по времени и направлению суммарная энергия колебаний осциляторов - это «температура». Усредненное по времени усилие на фиксированные точки подвеса - это «давление» «газа осцилляторов». Перемещение границы замкнутости одной из точек подвеса - под влиянием усредненного «давления» может послужить источником «полезной» для нас механической работы. Если мы в полной мере использовали эту работу при перемещении точки подвеса (т. е. отвели от нашего «газа осцилляторов» энергию в точности равную произведению давления на перемещение под действием давления), то мы можем возвратить эту точку в исходное состояние, затратив ту же самую работу. Этот процесс обратимый, он соответствует процессу адиабатического расширения и сжатия обычного газа. Но можно позволить нашему «газу осцилляторов» расширяться совсем без отбора какой-либо энергии от него, просто переставив точку подвеса подальше. Энергия колебания осцилляторов при этом никак не изменится, «температура» сохранится неизменной, зато частота импульсов усилий на точку подвеса снизится и, соответственно, снизится усредненное по времени усилие на нее - «давление». Этот процесс соответствует изотермическому расширению газа в пустоту или в другой баллон.
При постоянстве энергии, аккумилированной в колебательных движениях осциляторов, мы частично теряем возможность преобразовать ее в «полезную» для нас механическую работу, получаемую при перемещениях точки подвеса. Эта потеря равна той самой работе, которую мы могли бы получить, если бы захотели, перемещая точку подвеса на то же самое расстояние «адиабатически».
Относительное значение этой потери (т.е. потерянная работа, поделенная на температуру) - это и есть знаменитая энтропия. Эта потеря необратима: мы не можем теперь вернуть точку подвеса в исходное состояние без затраты механической работы на ее перемещение. Сделав это, мы добавляем энергию осцилляторам, которые повышают свою «температуру» по сравнению с исходным состоянием. Таким образом два последовательные процесса - изотермического расширения без обмена энергией с внешней средой и последующего адиабатического сжатия до прежнего объема с добавлением энергии осциля- торам привели к нагреванию нашего «газа» при неизменном положении границы замкнутости. Такую добавку энергии осциляторам без изменения положения точки подвеса можно назвать «теплотой», отличая ее от «полезной» механической работы перемещения точки подве¬
126
Д. Н. ДУБНИЦКПП
са. При этом «нагревании» энтропия «газа» возросла на величину относительной добавки энергии (т. е. количества «теплоты», поделенной на «температуру» газа). «Теплота» отличается от «полезной работы» только одним - тем, что энергия к осциляторам подводится или отводится при неизменном конечном или усредненном во времени положении единственного источника нашей «пользы» - границы замкнутости. «Теплота» может передаваться путем колебаний (больших или маленьких - все равно) границы замкнутости вокруг стабильного среднего положения. При этом, повышая «температуру» осциляторов без изменения «объема» «газа осцилляторов» (т. е. без изменения расстояния между точками подвеса), мы необратимо теряем некоторую часть этой энергии с точки зрения возможности превращения ее в «полезную работу» в процессах адиабатического расширения в тех колебательных движениях, которые не являются строго адиабатическими. Величина этой потери характеризуется ростом энтропии, равном приращению «теплоты», деленному на «температуру». Отводить и подводить «теплоту» к системе осциляторов, не затрагивая положения точки подвеса. можно разными путями, например, просто раскачивая или придерживая колеблющиеся шары пальцами (это соответствует нагреву или охлаждению газа в баллоне через стенки). Все рассуждения при этом остаются в силе.
Если соединить механически две системы осциляторов, одна из которых имеет более высокую «температуру» колебательных движений, чем другая, то энергия будет передаваться в обе стороны, но усредненное ио времени энергия колебаний каждого из осциляторов будет стремиться к значению, усредненному для них обоих. Количество «тепла», переданное от системы с более высокой температурой, равно количеству «тепла» воспринятому системой с менее высокой «температурой». Именно в силу этого равенства добавок «теплоты» и неравенства исходных значений «температуры» снижение относительной добавки «теплоты» - энтропии - у системы с более высокой температурой будет меньше, чем рост энтропии у системы с более низкой температурой, вследствие чего суммарная энтропия двух систем после их соединения возрастет, а процесс взаимного обмена энергией будет «необратимым». Эту необратимость фиксирует уравнение теплопроводности.
Располагаемая «полезная» работа совокупности осцилляторов - это та часть энергии, аккумулированной в колебательных движениях осциляторов, которую может совершить опора, находящаяся под
О ПАРАДОКСАХ
127
усредненным во времени «давлением» осциляторов, т. е. это энергия адиабатического расширения «газа» без обмена «теплотой» со внешней средой. Но такое извлечение «полезной» для нас работы - это разовая операция. Для преобразования «теплоты» в работу с помощью «газа осцилляторов» необходимо после адиабатического расширения возвращать его в исходное положение. Этого нельзя сделать с помощью адиабатического сжатия: процесс обратим, но от него мало толку, так как при сжатии приходится возвращать «газу» всю ту «полезную» работу, которая получена при расширении. Такая возможность используется в пневмоаккумуляторах энергии, но для преобразования «теплоты» в «полезную» работу она бесполезна. Когда мы имеем дело с «теплотой» невозможно обойтись без необратимых процессов передачи тепла с ростом энтропии.
Поскольку перед нами стоит задача подводить энергию с осцилято- рам без изменения положения точки подвеса, а отводить с изменением этого положения (именно так обстоят дела, когда требуется преобразовать «тепло» в «полезную работу»), то для возвращения газа к исходному состоянию необходимо сделать две вещи; во-первых, вернуть в исходное положение границу замкнутости (точку подвеса), затратив на сжатие работы меньше, чем получено при расширении, и, во-вторых, вернуть к исходному значению энтропию, которая возросла в процессе «нагревания» осциляторов, потеряв при этой операции меньше энергии, чем получено при нагревании. Для решения этих задач существует единственное средство: после завершения «полезного» расширения дополнительно отвести от «газа» еще часть аккумулированной энергии колебаний но уже не в виде «полезной» работы, а в виде «бесполезного» тепла, отдав его ровно столько, сколько нужно для восстановления первоначального значения энтропии. При этом снизится также работа, необходимая для «сжатия» «газа» до первоначального «объема». Сделать это следует при возможно более низкой «температуре», поскольку изменения энтропии обратно-пропорциональны значениям «температуры», при которых они происходят, и потеря энергии на восстановление значения энтропии будет тем ниже, чем ниже нижняя «температура» цикла.
Таким образом, для получения «полезной» работы необходимы 4 процесса: «расширение» «газа» с использованием энергии, аккумулированной в колебаниях осциляторов, на выполнение механической работы точки подвеса; затем - дополнительное охлаждение «газа» с от-
128
Д. Н. ДУБНИЦКПП
во дом от него энергии в виде «тепла» (т. е. без изменения положения границы замкнутости); механическая работа по «сжатию» «газа» до первоначального «объема» и, наконец, пополнение «газа» энергией в виде «тепла», т. е. без изменения положения точки подвеса, в размерах, компенсирующих затраты энергии на механическую работу точки подвеса и доохлаждение. «Полезной» для нас во всем этом цикле является только работа точки подвеса в «адиабаческом» процессе «расширения», да и то не вся, а за вычетом работы последующего сжатия. Рассуждения, выполненные в свое время Карно, показывают, что теоретически максимально-возможный коэффициент полезного действия имеет цикл, в котором расширение и сжатие происходят адиабатически (без обмена теплом со внешней средой и без изменения энтропии), а отвод и подвод тепла изотермически. Подведенная в таком цикле энергия равна произведению перепада энтропии на верхнюю температуру цикла, а потерянная - произведению такого же перепада энтропии на нижнюю температуру цикла. К.п.д. такого цикла, соответственно, равен отношению разницы начальной и конечной температур цикла к начальной температуре цикла. Практически реализовать такой цикл очень трудно, все циклы реальных энергетических установок являются только более или менее успешным приближением к этому теоретическому циклу и имеют к.п.д. гораздо ниже теоретического.
Все описанные выше эффекты проявляются даже в том случае, если мы имеем дело с одним единственным осцилятором, скажем с мячом, прыгающим под рукой баскетболиста. Под «объемом» этой «замкнутой» системы следует понимать уровень от пола до руки баскетболиста, встречающей мяч, все остальные компоненты интерпретации могут быть сохранены. Эта модель показывает, что в «необратимости» нет ничего рокового и тем более - универсального. Необратимость в термодинамике является следствием использования усредненных по времени и объему параметров энергии, взаимно-неоднозначных с параметрами полностью детерминированных механических перемещений. Именно: «необратимость» является следствием нашей неспособности вернуть точку подвеса осцилятора в исходное положение после «изотермического расширения». Но если масштаб события соответствует нашим реакциям (как это имеет место у баскетболиста), мы вполне способны возвратить точку подвеса на старое место после «изотермического расширения» без обмена энергией с внешней средой, если воспользуемся моментом, когда фактическое усилие осцилятора на опо¬
О ПАРАДОКСАХ
129
ру отсутствует (мяч отскочил от руки баскетболиста вниз). В более общем случае - нам надо перестать считать энергию колебаний осцилято- ра «бесполезной» и использовать ее для восполнения утрат «полезной» энергии перемещения опоры. Чтобы устранить «необратимость» термодинамического описания замкнутого объема газа нужно всего лишь изменить объект описания и перенести свою избирательное внимание с «границы замкнутости» интересующего нас фрагмента действительности на сам осцилятор. подчиняющийся обратимым уравнениям механики. Другой вопрос, что это не всегда практически возможно и просто нецелесообразно. Но «практическая возможность» и «целесообразность» - это не параметры состояния реальности, независимой от присутствия наблюдателя, а параметры избирательной заинтересованности наблюдателя. Иногда удобна для описания одна ментальная конструкция, иногда - другая.
Работа паровой машины очень хорошо соответствует ментальной модели, представленной в понятиях и уравнениях термодинамики. И хотя эта модель эффективна не только для паровой машины, этого не достаточно для того, чтобы считать ее годной для всех случаев жизни, предрекая тепловую смерть Вселенной. Довольно странно думать, что вся неограниченная Вселенная может соответствовать той же ментальной конструкции, что и цилиндр паровой машины, зная, что эта ментальная конструкция заведомо ограничена, не включая такие необходимые для ее реализации вещи, как источник тепла и потребитель механической энергии. Нет никаких оснований полагать, что Вселенная в большей степени напоминает цилиндр паровой машины, чем топку котла или систему зубчатых колес редуктора. Она может напоминать и то, и другое, и третье - в зависимости от точки зрения, избирательно выделяющей в ней фрагменты для описаний. Вопрос, встающий каждый раз заново перед человеком, наблюдающим окружающую его реальность (но никогда не наблюдает «Вселенную» - это ментальная конструкция) состоит не в том, адекватны ли его представления реальности - они никогда не адекватны, а в том, до какой степени окружающая его реальность соответствует ментальным императивам интерпретации, сформированным нашими избирательными интересами в определенных обстоятельствах, но применяемым за пределами этих обстоятельств и независимо от порождающих причин интересов.
Есть более существенные препятствия для однозначного описания реальности, чем технические трудности. Перенося свое внимание на
130
Д. Н. ДУБНИЦКИЙ
мельницы, осциляторы, мячи и отдельные молекулы, мы не приближаемся к однозначному описанию реальности, а хорошо, если не удаляемся от него. Во всяком случае мы вполне реально можем удалиться от эффективности описания заинтересовавшего нас фрагмента реальности. Например, перенося внимание с «границ замкнутости» на механические перемещения осциляторов и молекул, мы устраняем недостатки «замкнутости», но лишаемся и всех ее преимуществ как эффективного способа воспроизводимых прогнозов состояния газа, недостижимых другим способом.
Заменяя объекты потенциального описания суммарных и усредненных параметров на объекты актуального описания механических уравнений, мы не устраняем неопределенности и неоднозначности наших описаний, а только меняем положения границы неоднозначности. Причем суммарные термодинамические параметры могут нести для нас более важную и значительную информацию, чем дает знание координат и скоростей каждой из молекул. При пользовании ветряными мельницами в качестве устройства для извлечения механической работы из энергии флуктаций атмосферы или массспектрографом в качестве датчика давления газа сразу обнаруживается их существенный недостаток - локальность. Извлекая с помощью ветряной мельницы «полезную» энергию одной флуктаций, мы теряем энергию всех остальных; замеряя скорость одной молекулы, мы теряем информацию обо всех остальных.
Мы даже не можем однозначно определить на основании только локальной информации замкнут (временно, конечно) или не замкнут фрагмент реальности, ставший объектом нашего актуального интереса, поскольку никогда не можем быть до конца уверены в сходимости значений замеряемых параметров и какому-либо устойчивому и воспроизводимому усредненному значению. Сделав молекулу или мельницу объектом своего актуального интереса, мы, тем самым, неизбежно отодвигаем ее реальные взаимодействия за исключением некоторых избранных - в область потенциально-возможного. Мы просто смещаем «границу замкнутости» объектов своего внимания, не преодолев ее: вместо неопределенных потенциальных объектов - носителей определенных термодинамических параметров мы получили определенные объекты неопределенных потенциально-возможных взаимодействий. Причем процессы, протекающие «внутри» новых объектов нашего фиксированного внимания скрыты от нас за ментальной грани¬
О ПАРАДОКСАХ
131
цей их себетождественности ничуть не хуже, чем движение молекул за прочной оболочкой цилиндра паровой машины.
Осцилятор, ветряная мельница, отдельная молекула, лишенные той защиты от внешних воздействий, которые предоставляет им «граница замкнутости», немедленно становятся в нашем сознании объектом, открытым любым внешним воздействиям. Немедленно становится ясным временный и избирательный характер тех призрачных рамок, в которые помещал их наш избирательный интерес и представления о «пользе». Даже полностью контролируя поведение осцилятора или мельницы, мы не сможем извлечь больше «пользы» из области их потенциальных взаимодействий, чем это позволяет сделать паровая машина. Даже исчерпывающая полнота сведений о перемещениях некоторых определенных молекул, актуально учтенных нашим сознанием, не позволит добиться лучших результатов в извлечении из их движений «полезной» нам энергии, чем дают ветряные мельницы по отношению к движениям воздуха. Этому не может помочь даже так называемый «Демон Макесвелла», обладающий полнотой информации, но не обладающий полнотой реализации своих сведений о перемещениях молекул. Как известно «Демон Максвелла» открывает отверстие в переборке между двумя равновесными объемами газа перед молекулой, летящей слева, и закрывает его перед молекулой, летящей справа, добиваясь таким образом перепада давления между ранее равновесными объемами, в нарушение закона возрастания энтропии.
Можно подумать, что в реальной жизни не может быть соответствия такой вычурной ментальной конструкции. Это не так. По этому принципу работают не только ветряные мельницы, но и рыболовные бредни (с конусообразным входом), «волчьи ямы», обратные клапана в гидравлических системах с неопределенным направлением движения воды. Если посмотреть на вещи шире и рассматривать в категориях случайных процессов циркуляцию воды в природе, то к числу «Демонов Максвелла» можно будет отнести также плотины гидроэлектростанций. Во всяком случае эта ментальная модель интерпретации реальности ничем не хуже, чем ментальная модель цилиндра паровой машины. Возникает вопрос об эффективности такого способа извлечения «пользы» без затраты собственной энергии. Следует признать, что она не слишком велика и в принципе ограничена. Она соответствует эффективности охотника, который ждет добычи, сидя у открытой калитки собственной дачи, готовый закрыть ее сразу после того, как добы¬
132
Д. Н. ДУБНИЦКПП
ча пробежит. Таким способом можно поймать несколько соседних кур или поросят, которых много бродит вокруг, но значительно труднее поймать зайца (хотя и это не исключено). Причем и кур нельзя поймать слишком много - они начнут разбегаться при каждом новом открытии калитки. Работа «Демона Максвелла» у своей переборки эффективна только в некотором диапазоне концентраций молекул и ее перепада. Она эффективна пока молекулы подлетают к отверстию в переборке достаточно часто, но не слишком часто для того, чтобы успеть пропустить молекулу справа налево, не пропуская в это время ни одной молекулы слева направо. По мере увеличения достигнутого перепада эта возможность все время снижается, поскольку молекулы справа начнут подлетать все реже, а молекулы слева - все чаще. По мере опорожнения объема справа время ожидания очередной молекулы возле отверстия будет все время увеличиваться и в конце концов станет практически бесконечным. Зато от молекул слева не будет отбоя, что, фактически сделает работу. «Демона» невозможной, даже несмотря на его полную информированность о положении молекул. И конечно не может даже идти и речи о том, чтобы таким способом переловить все молекулы из «незамкнутого» объема.
«Демон Максвелла» находится в том же положении, что и человек, знающий с точностью до долей секунды движения звезд, планет и галактик, а также некоторых молекул, ядер и элементарных частиц, но не способный в полной мере использовать это знание для извлечения «полезной» для него энергии за исключением той ее микроскопической доли, которая доступна ему в месте и времени его реального локального присутствия. Наиболее удачной для моделирования Мира представляется ментальная конструкция «Демона Максвелла», сидящего у двери в переборке, разделяющей два объема, один из которых незамкнут, а второй замкнут, и выполняющего задачу пополнения замкнутого объема объектами из незамкнутого. Эта ментальная конструкция хорошо моделирует взаимоотношение человека и Мира с тем необходимым уточнением, что граница замкнутости проводится самим человеком, а именно: его представлениями о «пользе», способными изменяться в зависимости от обстоятельств.
Иногда человеку нужна от Мира энергия и тогда он пользуется ветряными мельницами, гидроэлектростанциями или паровыми машинами, между которыми нет принципиальной разницы как способами преодоления границы, разделяющей «бесполезные» и «полезные» с точ¬
О ПАРАДОКСАХ
133
ки зрения человека аспекты мира (в данном случае - «бесполезную» и «полезную» формы энергии).
В других случаях человеку нужна воспроизводимая информация о Мире, независимом от наблюдателя и от факта наблюдения, и тогда он пользуется теми же предметами, но уже как приборами, которые объединяет способность восстанавливать и фиксировать границу между Миром и наблюдателем после ее временного нарушения.
Физические принципы работы поршня паровой машины и мембраны манометра, измеряющего давление в цилиндре, совершенно идентичны - и тот и другой перемещаются под действием давления пара. Принципиальную разницу между ними создает наше отношение к этим предметам. От поршня требуется как можно более полное извлечение энергии, аккумулированной в движениях молекул пара; от манометра требуется прямо противоположное - по возможности сохранить неизменным состояние пара до и после измерения (что невозможно в полной мере). Измеряющий прибор не должен влиять на величину измеряемого параметра, но не сможет ничего измерить без взаимного влияния параметра и прибора. Каждое фактическое измерение нарушает замкнутость объема пара и, тем самым, воспроизводимость результатов измерения. Сам факт измерения служит источником неопределенности измеряемого параметра. Лучшее, что мы можем сделать, это возвращать мембрану манометра в исходное состояние каждый раз после выполнения измерения, но и это не позволяет избежать необратимого вмешательства наблюдателя в наблюдаемый мир. Величина, определяемая таким способом, может быть только усредненной по времени и по объему объекта наблюдения.
Можно снижать масштаб неизбежного вмешательства в состояние пара при измерении, обеспечивая точность, достаточную для наших практических потребностей. Но это не решает проблему. По мере снижения масштаба вмешательства располагаемая информация становится все более локальной в пространстве и во времени и все менее способной представлять состояние всего интересующего нас объема пара. В принципе можно довести точность измерения до определения импульса отдельной молекулы, но это одновременно будет означать утрату информации об импульсах всех остальных. С другой стороны, если мы во имя полноты информации начнем увеличивать количество таких сверхточных приборов, каждый из которых необратимо меняет состояние молекул пара, мы утратим достоинства минимизации вмешатель¬
134
Д. Н. ДУБНИЦКПП
ства, интересующий нас объем пара перестанет быть замкнутым и, более того, перестанет быть предметом наблюдения, независимым от наблюдателя, о состоянии которого можно что-нибудь сказать за пределами факта наблюдения. Большое количество таких «приборов» приближается к поршню паровой машины по характеру взаимодействия с паром.
Нам ничего не остается, как во имя воспроизводимости результатов измерений сохранить небольшим число достаточно точных приборов, но отказаться от части располагаемой точной информации, пользуясь усредненными по времени и объему параметрами состояния пара, безразличными к индивидуальному состоянию отдельной молекулы (что мы и делаем). Мы расчленяем всю располагаемую информацию в своем сознании на два взаимно-неоднозначных компонента, один из которых фиксирует актуальную связь объекта наблюдения с наблюдателем и определяет способность его вмешательства в реальность, а второй - фиксирует взаимную независимость (замкнутость) объекта наблюдения и наблюдателя и свободу их друг от друга. Следствием этого расчленения являются эффекты необратимости.
Наличие границы взаимной неоднозначности между объектами нашего сознания можно считать объективным законом природы, поскольку она есть необходимое следствие выполнения требования воспроизводимой объективности описания природы.
«Актуальное» механическое и «потенциальное» термодинамическое описание - это два взаимно-неоднозначных и взаимно-ограничи- вающих способа зафиксировать в сознании результаты реального наблюдения в форме, независмой от обстоятельств наблюдения, но ни тот, ни другой в стерильночистой форме не дают возможности определить направление времени независимо от наблюдателя и только переход от одного к другому с участием наблюдателя позволяет это сделать. Для определения направления времени необходимы те же способности сознания человека, которые позволяют ему писать, считать, читать и наделять смыслом формализованные системы знаков: способность делать выбор точки зрения и способность менять ее при необходимости, восстанавливая контакт отчуждаемых предметов своего внимания с собственным сознанием.
В реальной жизни человек никогда не сомневается в необратимости времени и не затрудняется в выборе его направления. Все затруднения начинаются после фиксации своих впечатлений от мира в форме.
О ПАРАДОКСАХ
135
независимой от наблюдателя. Невозможно определить направление времени во «Вселенной» совершенно лишенной контактов с живым наблюдателем, в которую наблюдатель никогда не вмешивается. Реальность, в которую наблюдатель вмешивается только иногда, но представляет ее способом, независимым от факта вмешательства, т. е. «Вселенная», открытая наблюдению, дает равные основания для наблюдения как обратимости, так и необратимости времени протекающих в ней процессов. В ней всегда можно найти процессы, проходящие с увеличением энтропии, но в ней также много процессов, снижающих энтропию. Газы не только смешиваются, но и разделяются, горы не только разрушаются, но и поднимаются, люди не только умирают, но и рождаются, причем одно невозможно без другого: гора обязательно рано или поздно разрушится, но для этого она должна подняться. Процесс восстановления равновесия всегда есть не более, чем только локальный фрагмент реальности, за пределами которого остается причина исходной неравновесности; в свою очередь отклонения от равновесных состояний могут рассматриваться или как локальные фрагменты более общего процесса, протекающего с ростом энтропии (концепция Пригожина), или как флуктаций вокруг среднего значения параметров равновесного состояния. Общим для всех этих ментальных моделей, также как и для концепции механистического детерминизма, является их концептуальная и неустранимая неполнота и ограниченность, всегда оставляющая за их пределами нечто существенно важное для их реализации. Вопрос об обратимости или необратимости абсолютного мирового времени наших представлений о «Вселенной» - это вопрос о том, какую из этих (или других) заведомо ограничительных ментальных моделей, полученных путем расчленения реальности нашим избирательным вниманием, мы сочтем более «понятной» и более достойной некритической экстраполяции на весь мир (за исключением, разумеется, наблюдателя). Это вполне соответствует готовности некоторых энтузиастов непротиворечивости пожертвовать реальным смыслом знаков, утверждений и языков во имя чисто ментальных достоинств.
Так обстоят дела с классической термодинамикой, имеющей, по крайней мере, определенный традиционный объект исследования и если и не общезначимые, то общепринятые представления о том, что можно считать «пользой», извлекаемой из этого объекта. При попытках расширения понятия энтропии как меры «упорядоченности» с традиционных объектов термодинамики на любые явления видимого мира
136
Д. Н. ДУБНИЦКПП
релятивность этого понятия становится не просто заметной, а вызывающе демонстративной. Какая-либо общепринятая определенность объектов упорядоченности и понятий об их желательным порядке становятся делом такого же свободного индивидуального выбора объектов заинтересованности, ограниченной только призрачными границами необязательной самодисциплины, каким стали логика, семантика, синтаксис, язык и представления о «множествах» формализованных теорий. Там, где нет руководящей идеи общепринятой «пользы», значение энтропии зависит только от выбора точки зрения на то, что считается «пространством событий». В зависимости от способа фиксации объектов избирательного внимания желательный для нас по тем или иным прагматическим, эпистемологическим и другим мотивам порядок среди них может оставаться неизменным, возрастать или падать и каждый раз это будет возможно представить фактом, «независимым» от вариаций нашего избирательного внимания, временно остановленного культурной самодисциплиной. С изменением выбора «пространства событий» связан, например, известный парадокс химической термодинамики: если мы соединяем два объема того же газа с одинаковым давлением и температурой, то энтропия суммарного объема остается постоянной, но если в разных объемах находились разные изотопы газа при прочих равных условиях, то энтропия возрастает. Единственно, что остается объективным фактором любых вариаций нашей заинтересованности, - это ее избирательность, которая имеет следствием необратимую утрату полноты любых воспроизводимых сведений о действительности, зафиксированных нашим сознанием, и ставит пределы нашему ментальному (информация) и реальному (энтропия) вмешательству в мир, независимый от нашего существования.
Невозможно описать мир без участия того, кто его описывает - самого себя, и это соучастие себя в мире является как источником воспроизводимой определенности любого описания, так и причиной его ограниченности и неполноты. На сакраментальный вопрос Эйнштейна нужно ответить со всей определенностью положительно: да, мир необратимо изменяется под взглядом наблюдателя и не может остаться тем же самым до и после наблюдения. Необратимым событием в мире при этом является факт его наблюдения - осмысленного восприятия его наблюдателем, которого невозможно удалить не из мира, не из результатов описания этого мира.
О ПАРАДОКСАХ
137
В заключение уточним разницу между искусственным интеллектом вычислительной машины и человеческим мышлением. Машина (в принципе) может все то же. что и человеческий мозг, за исключением одного: она не может формировать «пространство событий» и менять точку зрения на тот же самый предмет в силу отсутствия собственной избирательной заинтересованности. Она (также как и мозг, изолированный от тела) имеет дело только с фиксированным «пространством событий», сформированным вне машины до и независимо от факта ее существования, т. е. с изолированным фрагментом реальности, за пределы которого она не способна выйти без своего необходимого дополнения - сознания человека, всегда сохраняющего способность и готовность менять точку зрения на мир, следуя своему прихотливому избирательному интересу, формируя новое (т. е. всякое) «пространство событий», преодолевая ограниченность любого из уже существующих.
V. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ НОРМ МЕНТАЛЬНОЙ СВЯЗИ ИНДИВИДА
И СОЦИУМА
Рассмотренная в предыдущих четырех разделах специальная разновидность нормы культурно-адресованного поведения, лежащая в основе парадигмы европейской науки нового времени, которая требует обязательного отчуждения результатов наблюдения, осмысления и познания от обстоятельств наблюдения, усилий понимания и состояний сознания носителя знания - такая жесткая разновидность нормы существовала не всегда, не оставалась неизменной даже в качестве парадигмы научного знания и, тем более, никогда не являлась единственным и «естественным» способом осмысленного восприятия действительности человеком. Она имела свою историю и прошла путь любого стереотипа культурного поведения - от возникновения в качестве эзотерического достояния некоторых избранников, через всеобщее распространение к состоянию общеобязательного категорического императива («народного предрассудка») и затем к эрозии с постепенной утратой своих продуктивных потенций и императивных функций, чему мы являемся свидетелями сегодня. На пути эволюции своей культурной функции эта норма имела в числе своих носителей пророков, мучеников, энтузиастов, правоверных адептов, фанатичных догматиков и старомодных педантов.
Чтобы проиллюстрировать неединственность возможных культурных норм мышления рассмотрим поближе особенности трех вариантов нормы, фактически реализованных в человеческой истории, очень близких норме новой европейской культуры, но все таки не вполне совпадающих с ней, именно тех, которые составили ее предысторию.
Ренессанс и постренессанс
Для поиска альтернативных вариантов культурных норм и соответствующих им логик и теорий множеств нет необходимости погружаться в сумерки доисторического «пралогического» мышления. Возникновение нормы «отчуждаемых смыслов» произошло во времена богатой письменной истории и вполне может быть зафиксировано документально.
О ПАРАДОКСАХ
139
Еще люди европейского Ренессанса ничего не знали о необходимости представлять объективное знание в форме, независимой от состояний собственного сознания, проистекающей из требования неограниченности и строгой неопределенности адресата своих культурно-значительных утверждений. Еще Джордано Бруно, Парацельс, Кеплер, Кампанелла, Кардано - мы намеренно называем свидетелей возникновения и активных участников формирования нового научного знания - не видели никаких причин вычленять в своих впечатлениях, наблюдениях, рассуждениях, знаниях общезначимые компоненты, способные стать достоянием кого угодно, и целенаправленно устранять из них следы усилий собственного сознания. Более того - они стремились к прямо противоположному: к максимально возможной связи знания с собственным сознанием, к максимально возможной полноте синкретического соединения в собственном сознании самых разнообразных и (с нашей точки зрения) совершенно разнородных инградиентов знания - физических, метафизических, символических, геометрических, геральдических, музыкально-гармонических, этических, эстетических, сенсорных, эмоциональных, спекулятивных, мифологических, прагматических, сакральных, историко-культурных и многих иных возможных способов осмысления и интерпретации, совершенно не имея ни желания, ни возможности, ни критериев для расчленения этого конгломерата на общезначимые и релятивные компоненты.
В отличие от более поздней европейской науки для деятелей Ренессанса связь знания с состоянием собственного сознания носителя знания была не недостатком, а важным достоинством; эта связь не противоречила эпистемологической норме, а составляла необходимое условие соответствия норме. Основу этой связи составляли культурные амбиции самосознающей личности, для которой знания были не способом приобщиться к общедоступной культуре, а способом выделиться из нее - пережить состояние личной избранности.
Люди Ренессанса видели в знании не всем доступное общее достояние, но не каждому доступное состояние сознания носителей знания - личное «понимание», «мудрость», «потентность», нечто вроде ремесленного умения, неотчуждаемого от своего обладателя. Фальсифицируемая отчуждаемость знания от своего носителя, столь важная для парадигмы позднейшей науки, не представляла в глазах человека Ренессанса самостоятельной цены или, точнее, могла представлять со¬
140
Д. Н. ДУБНИЦКПП
бой цену только в меру своей способности сообщать дополнительное достоинство своему обладателю.
Они адресовали продукты своих ментальных усилий не всем сразу. но только некоторым избранникам - эзотерически замкнутому кругу специально подготовленных лиц, таких же как они сами носителей всеобъемлющей эрудиции, способных к самостоятельному осмыслению, истолкованию и перетолкованию смыслоносных текстов и фактов, взывающих к интерпретации. Культурной адресат их ментальных усилий - в отличие от культурного адресата позитивного утверждения - представлен не бесконечным потенциальным множеством неопределенного числа людей, каждый из которых необязателен, а счетным множеством вполне определенных избранных персон. С точки зрения Джордано Бруно: «Смысл тем лучше, чем менее общедоступен».
Люди ренессанса искали культурную значительность слова, знака, предмета, числа, геометрической фигуры, утверждения, факта, текста и т.д. не в освобождении их от ситуации понимания и контекста осмысления человеком, а в максимально полном вовлечении их в контекст осмысления, а точнее говоря, во множество самых различных ситуативных и внеситуативных контекстов осмысления, составляющих в совокупности культурный контекст существования человека.
Они не стремились к фиксированному единообразию найденных смыслов и значений. Напротив, в отличие от нас они были вполне уверены в релятивности любого из смыслов и значений, связанных с состоянием сознания интерпретатора и представляющих собой никогда не исчерпываемую «тайну», требующую каждый раз новых усилий осмысления в зависимости от обстоятельств осмысления, толкования, перетолкования, нескончаемого и неокончательного комментирования. Зато нормативной фиксации в ренессансной культуре подлежало как раз то, что по нашим представлениям является второстепенным, не представляет интереса для всех, кроме узкого круга специалистов, и по этой причине подлежит вынесению за пределы «настоящего» отчуждаемого знания - императивы обретения познания, т. е. алгоритмы и рецепты наблюдения, поведения, осмысления, интерпретации, предполагающие самостоятельные усилия своих обладателей по их применению.
Не самоустранение из результатов собственного мышления, не обрывание связей с состояниями собственного сознания, но именно поиски, утверждение и уж как минимум - поддержание и сохранение таких
О ПАРАДОКСАХ
141
связей - вот что составляло предмет специальной культурной озабоченности и условие культурной значительности ментальных усилий человека культуры ренессанса и присутствовало как постоянно-действующий фактор мотивации культурно-адресованных поступков человека.
Мир, который открывался человеческому сознанию с этой точки зрения, отличается от мира, освобожденного от присутствия наблюдателя. Это мир реальных посюсторонних событий жизни человека, значимых и значительных для него - т. е. определенного живого человека, но ни в коем случае не без него и не независимо от факта его существования. Таким образом ориентированное восприятие создает свои собственные представления о «множестве предметов» нашего внимания. Но это не множество тех ментальных инвариантов, независимых от ментальных манипуляций, с которыми пытается оперировать «теория множеств» Кантора (наталкиваясь при этом на протворечия). Культурная норма здесь не требует полного взаимного отчуждения тех компонентов осмысленного восприятия, на которые человеческое сознание расчленяет свои объекты - предметы избирательной заинтересованности, независимые от факта заинтересованности, и императивы избирательной заинтересованности, независимые от факта существования предметов заинтересованности. Норма, напротив, требует сохранения связи этих компонентов, реализуемой фактически в актах сознания в любой культуре. Обязательным параметром таких «предметов» сознания является именно их необорванная связь с состоянием сознания человека, осмысленно воспринимающего этот предмет. Перед сознанием человека культуры Ренессанса предстает множество предметов - носителей значений, сакрализованных в широком смысле этого слова, т.е. вовлеченных в контекст его собственного культурного существования, и требующих каждый раз новых усилий осмысления, вовлекающих это значение в изменяющийся ситуативный контекст восприятия. Человек культуры Ренессанса также уверен в сакральной значительности любого факта воспринимаемой реальности для него лично, как мы уверены в независимости предметов нашего восприятия еще до начала восприятия - и то и другое есть предваряющие императивы восприятия, мотивированные действующей культурной нормой.
В этом мире сакрализованных предметов, предстающих сознанию человека, совершенно на равных правах участвует все, что может стать предметом его заинтересованного внимания - традиционно сакральные символы и бытовые предметы, тексты, отдельные буквы и их со¬
142
Д. Н. ДУБНИЦКПП
четания, слова, книги, люди, звери, цветы, птицы, растения камни, небесные тела, очевидные факты, непроверенные слухи, природные явления, исторические события и события личной жизни, мифологемы и натуралистические наблюдения, числа, геометрические фигуры и т. д. - все в равной степени обладает в норме функцией смыслоносного знака или даже знамения, обладающего самой непосредственной значительностью по отношению к собственному существованию интерпретатора. Подобную семантическую структуру имеет, например, крест, икона или литургия для сознания верующего человека, с той разницей, что в ренессансной культурной норме сакрализованное значение лишилось общезначимой догматической каноничности, трансцендентной по отношению к индивидуальным усилиям понимания. Оно не предшествует этим усилиям (как в средневековом мировоззрении), а следует за ними, являясь их результатом.
Логика, контролирующая утверждения о таких «предметах сознания», также несколько отличается от более привычной нам «логики стабильных смыслов». Норма мышления ренессансной культуры отнюдь не была столь же нетерпима к противоречиям и парадоксам, как норма мышления Кантора, Рассела и Геделя. «Когда он писал о каких- либо проблемах.особую радость доставляли ему парадоксы» - писал Кеплер в сочинении под названием «О себе» и в этом отношении он был не исключением, а иллюстрацией общего правила, или, лучше сказать, общего принципа. В качестве другой иллюстрации этого принципа можно напомнить парадоксальный догмат Кальвинизма об изначальном предопределении к спасению, который не парализовал усилия своих адептов, а парадоксальным образом позволял им остро переживать состояние собственного избранничества и пробуждал бурную энергию свободного предпринимательства в самых широких слоях населения.
Именно парадоксальное сочетание множественности и исключительности, тяжело доставшееся современному сознанию в облике парадоксов теории множеств, представляло не просто приемлемую, но, можно сказать, императивно-обязательную форму осмысления действительности, столь же «естественную» и очевидную, как наше «наивное» представление о множестве предметов нашего сознания, инвариантных по отношению к состояниям нашего сознания. Этот императив осмысления в области высокого умозрения принимал разнообразные - традиционные и новаторские - формы диалектики неоплатониз¬
О ПАРАДОКСАХ
143
ма, но (также как и наше представление о «множестве») пронизывал культуру гораздо глубже тонкого слоя элитарного умозрения. Спекулятивные конструкции (аналоги наших формализованных «теорий множеств») не создавали, а только выявляли этот императив как источник базовых очевидностей культуры.
С преодолением релятивной границы взаимной неоднозначности между предметами наших понятий и нашими понятиями о предметах наше сознание имеет дело каждый раз при попытках «понимания». Необходимость этих индивидуальных усилий понимания попадает в центр внимания человека (в любой культуре) в тех случаях, когда задачей является именно достижение «понимания», скажем при действительно новом понимании чего-то дотоле непонятного или при первоначальном объяснении человеку того, что понятно всем, кроме него. В этих случаях соединяются понятие с сознанием, а сознания с понятием, как событие в жизни носителя сознания. Эпистемологическая норма новой европейской науки выносит эти ситуации за пределы санкционированных форм общезначимого знания, которое не должно зависеть от способов его получения и дидактических приемов обучения (хотя они и являются необходимым этапом его получения). Но в ренессансной культуре фиксации внимания на индивидуальном и самостоятельном преодолении границы между «пониманием» и «непониманием» была именно санкционированной нормой, действующей (как и наша норма) вне зависимости от переживаемой ситуации. С нашей точки зрения ренессансное знание как бы останавливается на дидактической стадии, не доходя до того отчуждения его общезначимых компонентов, к которому мы привыкли. Эта норма требует не отчуждения значения утверждения, слова, числа, текста, факта, представления от индивидуального сознания, а установления и поддержания прямой и непосредственной связи их с состояниями индивидуального сознания человека; она требовала не изъятия значения из контекста события понимания значения и даже не пассивной терпимости к его потенциальной зависимости от контекста понимания значения (как это имеет место в обыденном сознании), но специальных и сознательных усилий вовлечения значения воспринятого в наличный контекст человеческого существования.
Такой способ осмысленного восприятия действительности может показаться несколько странным, но только с предвзятой точки зрения, ограниченной стереотипами другой культуры. На самом деле он го¬
144
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
раздо ближе к «естественному», «наивному» не нормированному обыденному восприятию человека, чем противоестественные и лишенные «наивности» формализованные логики и теории множеств, хотя и не совпадает с обыденным восприятием, будучи (как и всякая норма) его ограничительным и избирательным регулятором. Мы и сами-то не совсем чужды такому сакрализованному восприятию мира в тех случаях, когда это нам необходимо, например, при выработке дидактических приемов понимания, отбрасываемых потом за сферу «готового» знания. При этом, как мы выяснили, само это нормативное освобождение знания от обстоятельств его получения и сознания носителя является в действительности не более, чем одной из форм - специфической разновидностью - сакрализующего вовлечения результатов наблюдения в культурный контекст существования наблюдателя. Ренессансная эпистемологическая норма является более широкой, чем норма новой европейской науки, и включает ее как частные случай (а не наоборот).
Чтобы все эти рассуждения не показались голословными, приведем несколько примеров функционирования ренессансной эпистемологической нормы.
Мы настойчиво и не всегда успешно пытаемся научить наших детей обрывать «естественные» связи чисел, выражающих количество, с ситуативной реализацией этих количеств, побуждая оперировать двойками, тройками, четверками и т. д., освобожденными от их реального наполнения яблоками, карандашами, счетными палочками.
Перед сознанием человека культуры ренессанса стоит прямо противоположная задача: связать число с его вариабельными наполнениями, реализуя со всей доступной полнотой неисчерпаемый и невыразимый до конца «таинственный» смысл числа, не расчлененный на общезначимые, локально-значимые и ситуативно-значимые компоненты, а включающий все варианты своих реализаций (как актуально зафиксированные так и потенциально-возможные) в сознании своего носителя, переживающего состояния «понимания».
«Пру денций: Но клянусь Геркулесом! Почему вы, Теофил, сказали, что число два таинственно?
Теофил: Потому что два есть первая координация, как говорит Пифагор, конечное и бесконечное, кривое и прямое, правое и левое и так далее.
Два вида чисел: четное и нечетное, из которых одно - мужчина, другое - женщина. Два Эроса: высший - божественный, низший - вульгарный. Два дела в жизни: познание и действие. Две цели в них:
О ПАРАДОКСАХ
145
истина и добро. Два вида движения: прямолинейное и кругообразное. Два существенных начала вещей: материя и форма. Два специфических различия субстанции: разреженная и плотная, простая и смешная. Два первых противоположных и активных начала: тепло и холод. Двое первых родителей предметов природы: солнце и земля.
Ф р у л л а: Сообразно этим вышеупомянутым двоицам я предлагаю другую лестницу двойственности. Животные входят в ковчег по паре, выходят оттуда тоже парами. Два корифея небесных знаков: Баран и Бык. Два вида упомянуты в псалме: конь и мул. Двое животных по образу и подобию человека: обезьяна на земле и сыч на небе. Две поддельные и почитаемые флорентийские реликвии в нашем отечестве: зубы Сассето и борода Петруччо. Двух - животных называет пророк, как имеющих больше ума, чем народ Израиля: быка, потому что он знает своего владельца, и осла, так как он умеет найти хозяйские ясли. Двое было таинственных животных, годных для верховой езды нашего Искупителя: ослица и молодой осел, которые означают древнееврейское верование и новое, языческое. От них произошли два имени, обычные прозвища секретаря императора Августа: Ослицын и Ослен- кин. Две породы ослов; домашние и дикие. Два наиболее обычных цвета их: серый и черный. Две пирамиды, на которых должны быть записаны и посвящены вечности имена двух и им подобных докторов: правое ухо Силенова коня и левое - антагониста бога садов»1.
Мы привыкли сами и учим наших детей видеть в лежащем шаре главным образом предмет, способный к перемещению в пространстве независимо от интереса наблюдателя, факта наблюдения и факта существования наблюдателя и, тем более, от возможных вариабельных культурных функций шара. Такое расчленение собственного восприятия на воспроизводимые - общезначимые и не воспроизводимые релятивные компоненты не является «естественным» для человека, независимо от степени его осведомленности в механике. «Естественным» как раз является не расчлененное синкратическое восприятие во всех совокупности актуально-реализованных и потенциально-реализуемых культурных значений (подобных значению числа два для участников диалога Джордано Бруно). По отношению к этому не расчленяемому синкретизму очищенное от релятивных и ситуативных компонентов значительности восприятие шара в качестве себетождественного 1 Джордано Бруно. Пир на пепле. Диалоги. М., 1949. С. 51.
146
Д. Н. ДУБНИЦКПП
объекта уравнений механики представляет частный случай, требующий специальных ментальных усилий «очищения» и, соответственно, мотивировок таких усилий. Это не означает, конечно, что обыденное сознание необразованного человека не способно при необходимости сформировать представлений о пространственном перемещении предмета. Но оно создает и использует такие представления именно «при необходимости» и только в меру необходимости, обусловленной обстоятельствами переживаемой ситуации, а не безотносительно к обстоятельствам. Это сознание не выделяет пространственные представления из числа всех остальных и не противопоставляет их иным - релятивным - компонентам восприятия, связанным с составлением сознания заинтересованного наблюдателя. Мотивировка такой вторичной избирательности в качестве постоянно действующего фактора осмысления сама принадлежит определенному культурному контексту и действует не всегда. Эпистемологическая норма Ренессанса еще не включала в себя требований подобной вторичной избирательности, они появились в европейской культуре позднее. В том же самом нерасчленен- ном «естественном» восприятии человека, откуда научная парадигма вычленяет «предметы», независимые от нашего сознания, ренессансная культура в силу обстоятельств, которые мы обсудим позднее, фиксировала как норму, именно релятивный и вариабельный синкретизм связей продуктов осмысленного восприятия с сознанием человека, погруженного в культурный контекст, предоставляя ему право и ответственность выбора императивов интерпретации - готовых или вновь созданных.
Вот пример. К концу XVI века сведения по естественной истории, накопленные к исходу Ренессанса, были суммированы в гигантском труде Альдрованди, составившем 13 фолиантов. Современного исследователя (Олыпки) останавливают и вызывают неприязненное недоумение принципы отбора и классифкации сведений в труде Альдрованди, которые определяются совокупностью культурных функций предмета исследования, а совсем не стремлением освободить этот предмет от связей с культурным контекстом. Первые две книги «Орнитологии» Альдрованди посвящены Орлу. Перечислим названия глав: «Об орлах как о роде», «О достоинствах орлов», «Синонимы слова Орел», «Омонимы и их корни», «Форма и описание Орлов как рода», «О чувствах Орла и прежде всего о зрении», «Об обонянии, вкусе и прочих чувствах», «О поле», «О местоприбывании», «О полете», «Об уме и нравах
О ПАРАДОКСАХ
147
Орла», «О понятливости», «Голос», «Пища», «Совокупление», «Высиживание птенцов», «Великодушие», «Воздержанность», «Щедрость», «Охота», «Битва», «Добыча», «Ненависть», «О болезнях Орла», «История», «Польза», «Обозначения одноименные и неправильные», «Применение в ложных языческих таинствах», «Гадания и предсказания», «Мистика», «Мораль», «Иероглифы», «Эмблемы», «Басни», «Притчи», «Использование в медицине», «Использование на охоте», «Использование в знаках, знаменах и изображениях», «Использование на щитах и других предметах», «Использование на гербах».
Нельзя сказать, чтобы в труде Альдрованди не содержались воспроизводимые эмпирические сведения естественно-научного характера в более позднем понимании. Но вычленение таких сведений из этого труда было бы насильственной деформацией картины мира, предстоящего сознанию Альдрованди, который не имеет ни желания, ни средств, ни критериев такой вторичной избирательности. Он сам и его современники должны были носить в голове и вспоминать по возможности в большем количестве всю неисчерпаемую и открытую для пополнения совокупность потенциально-возможных осмыслений Орла, где бы они его не встретили - в реальной жизни, в картине, на «щитах и других предметах».
Еще один пример. После открытия Галилеем четырех спутников Юпитера научный мир раскололся на враждебные группировки. Одни решительно отвергали возможность существования спутников Юпитера, поскольку это противоречило представлениям об универсальном значении числа семь, выражающего совершенство Космоса. Другие встретили открытие с восторгом как подтверждение космической значительности сакрального числа четыре. Сам Галилей был в то время едва ли не единственным человеком, для которого подобные аргументы враждующих группировок не представляли никакого значения. На восторженные письма Кампанеллы, требующие от Галилея переработать свою физику в натурфилософию и метафизику, Галилей дал ответ на полях одной из книг: «отцу Кампанелле: я больше ценю открытие одной, хотя бы и незначительной истины, чем диспуты о самых высоких вопросах, из которых не выходит ни одной истины». По существу, это декларация нового представления об истине и новой эпистемологической парадигмы.
Для Кеплера эмпирические данные наблюдений Галилея были безусловно убедительны. Тем более характерна его интерпретация этих
148
Д. Н. ДУБНИЦКПП
данных, которая не ограничивается эмпирическим фактом, безотносительным к возможности его осмысления наблюдателем и независимым от факта наблюдения. Кеплер сознательно и целенаправленно стремится погрузить факт в контекст «диспута о самых высоких вопросах» и восстановить ускользающую связь с фактом существования наблюдателя - интерпретатора и состоянием его сознания.
«Я погрузился в размышления о том, каким образом число планет могло бы увеличиться без ущерба для моей «Космографической тайны ...». В ней пять евклидовых тел, которые Прокл, следуя Пифагору и Платону, называет космическими, допускают не более шести планет вокруг Солнца... Я далек от мысли усомниться в твоей правоте там, где речь идет о четырех лунах Юпитера. Я предпочел бы вместо этого иметь зрительную трубу, с которой превзошел бы тебя, открыв две (как того требует, на мой взгляд, пропорция) Луны у Марса, шесть или восемь лун у Сатурна и, быть может, одну или две луны у Венеры или Меркурия.
Ради созерцания, для которого человек сотворен, украшен и наделен глазами, человек не мог пребывать в состоянии покоя в центре; требовалось, чтобы он на земном корабле ради вящей возможности проводить наблюдения в годичном движении переносился в пространстве подобно землемеру с тем, чтобы из расстояния между двумя станциями получить надлежащий базис для измеряемого треугольника.
После солнца ни одно небесное тело не обладает столь возвышенной природой и не подходит для людей лучше, чем Земля. Во-первых она занимает среднее положение среди первичных небесных тел, а именно: вне ее лежат Марс, Юпитер и Сатурн, внутри ее замкнутой орбиты быстро бегущие Венера и Меркурий, а в центре - вращается Солнце, движущая сила всех орбит, истинный Апполон.
Во-вторых, поскольку пять правильных тел распадаются на два класса - три первичных тела (куб, тетраэдр, додекаэдр) и два вторичных (икосаэдр, октаэдр), то сфера Земли, как ограда, лежит между обоими классами так, что сверху она проходит через центры 12 граней додекаэдра, а снизу через 12 вершин соответствующего икосаэдра...
В-третьих, мы на земле едва можем различить невооруженным глазом Меркурий, последнюю из первичных планет, из-за близости его к очень яркому Солнцу. Сколь же слабее виден он с Юпитера или Сатурна! По-видимому, наш земной шар был высшим промыслом отведен человеку для того, чтобы тот мог наблюдать все планеты. Но кто
О ПАРАДОКСАХ
149
тогда решиться отрицать, что Юпитеру взамен планет, скрытых от его обитателей, но наблюдаемых нами с земли, ниспосланы четыре другие планеты по числу верхних планет Марса, Земли, Венеры и Меркурия, обращающихся вокруг Солнца за пределами орбиты Юпитера?
Итак, пусть у существ на Юпитере будет нечто, приносящее им утеху. Я считаю, что свои четыре планеты они также могут упорядочить по образцу классов трех ромбических тел, первым из которых является сам куб, вторым - кубооктаэдр, а третьим - икосаэдрододекаэдр ... Пусть же, говорю я, существа на Юпитере владеют тем, что принадлежит им: мы, люди, обитающие на Земле, не напрасно можем восславлять недосягаемое превосходство нашего излюбленного места обитания и должны быть благодарны за это Богу-создателю \
«Таинственные» Числа Джордано Бруно, натурально-мистико- геральдические Орлы Альдрованди, ниспосланные высшим промыслом наблюдателю «для наслаждения недосягаемым превосходством излюбленного места обитания» Планеты Кеплера, нагруженные вариабельным, но обязательно сакрализованным значением в контексте культурного существования человека, требующим постоянно возобновляемых усилий самостоятельного «понимания» с привлечением всего груза предваряющей осведомленности - вот ПРЕДМЕТЫ, окружающие человека ренессансной культуры. Каждый из таких ПРЕДМЕТОВ исполнен множеством потенциальных - «таинственных» - смыслов, которые нужно вспомнить (как Дж. Бруно), перечислить (как Аль- брованди) или понять заново (как Кеплер). Именно эти «предметы» со всей возможной отчетливостью, в наилучших ракурсах и с наилучшим освещением представлены на ренессансных картинах.
Множества таких предметов отличаются от тех, с которыми оперирует «Теория Множеств» Кантора. Именно: они не обязательно сохраняют себетождественность при наших ментальных манипуляциях с ними; они не свободны в своем существовании от нашего заинтересованного внимания, а связаны с ним; они не индифферентны по отношению к нашей потенциальной заинтересованности, а представляют собой ее концентрированное выражение. Поэтому предметы, события, числа, а также моменты времени, точки пространства, пространственные структуры и любые другие объекты человеческого внимания не обладают здесь в сознании людей той обезличенной равноправно-
1 «Разговор со Звездным вестником, недавно ниспосланным смертным Галилео Галилеем» в книге Кеплер. «О шестиугольных снежинках». М., 1982. С. 33.
150
Д. Н. ДУБНИЦКПП
стью, которая позволяет нам оперировать множеством всех подмножеств множества некоторых предметов, лишенных индивидуальных признаков, пользоваться алгебраической символикой и представлениями об изотропном «пустом» пространстве и времени, текущем независимо от событий в неопределенном направлении.
Зафиксированная ренессансной культурой в качестве нормы восприятия избирательная заинтересованность вырывала объекты этой заинтересованности из контекста их собственного-независимого от человека - существования и вовлекла в совершенно иной контекст - в контекст существования наблюдателя-интерпретатора. Число два (три, четыре, пять...) осмыслялось не как равноправное в числе других равноправных - равно претендующих на внимание человека - количеств, способных быть обозначенным одним алгебраическим символом, а как совершенно исключительное событие в ряду событий человеческого существования. Поэтому Бруно, Альдрованди, Кеплер всегда готовы пополнить компендиум располагаемых значений и осмыслений Числа, Орла, Планеты данными новых эмпирических наблюдений, но не готовы (в отличие от своего современника Галилея) отказаться от неисчерпаемой полноты этого компендиума потенциально-возможных значений, позволяющего осмыслять факты в качестве событий существования интерпретатора.
Рассуждения Бруно, Альдрованди, Кеплера позволяют отметить характерные особенности эпистемологической нормы Ренессанса:
1) доверие к индивидуальному усилию наблюдения и осмысления как источнику культурно-значительного значения, с нашей - более поздней - точки зрения даже доверие чрезмерное, недостаточно критическое и не вполне разборчивое;
2) необорванная связь результатов осмысленного наблюдения с состоянием сознания носителя «понимания», обстоятельствами осмысления, фактом существования автора осмысления и культурным контекстом этого существования в качестве нормы и необходимого условия «понимания»; Кеплеру пришлось даже специально придумывать гипотетических наблюдателей - жителей Юпитера, контекст существования которых мог бы спасти осмысленность существования четырех спутников этой планеты;
3) необорванная связь результатов осмысленного наблюдения с потенциальным адресатом индивидуальных усилий «понимания», для которого этот результат не есть готовый продукт для пассивного усвое¬
О ПАРАДОКСАХ
151
ния кем угодно, а императивный побудитель собственных усилий понимания, не конец осмысления, а его начало; продукты такого «понимания» сохраняют явную социальную функциональность, подобную той, которую в более ранней культуре имеет текст молитвы или литургии, но без компонента их фиксированной догматичности; в нашей культуре аналогичную функцию выполняет дидактический материал, обращенный ученикам, готовым перейти из состояния «непонимания» к состоянию «понимания», с той разницей, что для нас он теряет свое значение после выполнения дидактической роли, а в культуре Ренессанса не теряет; эта культура выше всего ценит как раз переход от личного «непонимания» к личному «пониманию», выделяющий личность носителя «понимания» из числа всех остальных и сообщающий ему культурную значительность и достоинство, и именно поэтому не проявляет специального интереса к общезначимым аспектам знания, не находя достоинств в отчуждаемой окончательности знания, доступного для всех сразу; эта эпистемиологическая норма фиксирует способность человека к узнаванию Двоек, Орлов и Октаэдров во всех возможных ситуациях встречи с ними - на земле, в космосе, в книге, на картине, но не в самостоятельном значении, освобожденном от избирательного интереса наблюдателя, а сразу во всем неисчерпаемом богатстве потенциально-возможных осмыслений, порождаемых вариабельным человеческим интересом.
Первая из трех перечисленных особенностей эпистемологической нормы Ренессанса доверие к индивидуальному сознанию - был главной заслугой Ренессанса перед грядущей за ним новой европейской культурой, гораздо более важной, чем несколько знаменитых открытий, которые подобно законам движения планет Кеплера позднее были насильственно вычленены из нерасчлененного океана «Гармонии мира» и сохранены последующей позитивной наукой, отвергнувшей не только «Гармонию», но и сами эпистемологические принципы и мотивировки, побуждавшие людей к ее поискам.
Можно даже сказать, что сам факт европейского Ренессанса состоял в создании и распространении в качестве постоянно действующего нормативного фактора культурного поведения человека осознание им необусловленной самостоятельности собственной личности по отношению к культуре, послужившей базой и исходной точкой дальнейшего развития европейской культуры, в частности - в создании доверия к индивидуальному и самостоятельному усилию осмысленного на¬
152
Д. Н. ДУБНИЦКПП
блюдения как источнику культурно-значительного знания. Ренессанс начинался там и тогда, где и когда человек принимал на себя неразделенную ответственность за свою собственное существование, не передоверяя ее никому, переживая свое избранничество.
Две других особенности эпистемологической нормы Ренессанса - связь знания с состоянием сознания носителя знания и неокончатель- ность знания, требующего собственных усилий осмысления от своего адресата - были следствием этого главного сдвига в сознании людей. Утверждение необусловленной самостоятельности индивидуального сознания как культурная задача не способствовало самоограничи- тельному отбору общезначимых результатов индивидуальных усилий «понимания» - эти усилия представляли ценность для культуры непосредственно. культурное значение имел сам факт усилий. Связь между индивидуальным и культурным компонентами значительности, отличающая ренессансную натурфилософию от более поздней науки и не позволяющая нам в полной мере причислить ее к числу научных достижений, не была легко устранимым недостатком, от которого можно было отказаться. Она была необходимым и важным достоинством в глазах людей, для которых способность знания доставлять своему носителю острые переживания собственного избранничества была гораздо важнее способности знания быть воспроизводимым за пределами индивидуальных усилий понимания и доступным кому угодно, уравнивая в правах всех своих потенциальных носителей. Эти две способности плохо совместимы и не могут быть обеспечены одновременно. Связь знания с состоянием сознания своего носителя поддерживалась осознанием личности своей новой культурной роли и, вследствие этого, была необходимым компонентом эпистемологической нормы.
При этом компонент позитивно-научного (в позднейшем смысле слова) знания не отвергался ренессансной эпистемологической нормой, а не замечался и не выделялся ею. Он безусловно присутствует в натурфилософии и в более широко понятой культуре Ренессанса. Однако этот позитивный компонент нам приходится тщательно выбирать из многого такого, что при всем желании невозможно спутать с позитивным знанием. Редкие перлы гениальных открытий (вроде «законов движения планет Кеплера») сочетаются с плохо проверяемыми умозрительными концепциями (вроде «Гармонии мира» того же Кеплера), совсем не проверяемыми сплетнями и слухами и, нередко, с монструозными предрассудками. Ренессансная культура не обладала ни стрем¬
О ПАРАДОКСАХ
153
лением, ни критерием вычленения в себе того, что способно заинтересовать в ней современного человека. Наши попытки ее расчленения на «приемлемые» и «неприемлемые» компоненты не способствуют ее реальному пониманию, а ведут к утрате понимания ее реальных побудительных мотивов вследствие насильственной их модернизации.
Нам представляется, что по отношению к позитивному значению спутников Юпитера в глазах Галилея и его последователей их синкретическое значение для Кеплера и его предшественников-носителей ренессансной нормы знания содержит нечто «лишнее»: сакрализуюгцую добавку значения, позволяющую вовлечь «голый» позитивный факт в контекст существования наблюдателя. Можно было бы сказать, что такая же сакрализующая добавка к семантической нагрузке имеет место при восприятии любых «предметов» человеком культуры Ренессанса и входит в состав его представления о «предмете», если бы дело не обстояло как раз наоборот - специальные усилия сознания требуются не для дополнения, а для очищения «предмета» от следов человеческой заинтересованности. Позитивное понятие о «предмете» является продуктом специальной секуляризации, т.е. вычленения «предмета» из контекста восприятия, само являясь при этом фактором определенного локального культурного контекста. Галилей был одним из первых, кто стал последовательно, систематически и целенаправленно выделять воспроизводимые компоненты знания из числа всех остальных компонентов предвзятой избирательности восприятия, реализуя новую эпистемологическую норму на фоне почти безраздельного господства старой. Причем для него это вычленение было именно специальной мыслительной работой, продуктом значительных и сознательных усилий вторичной избирательности, преодолевающих некритически воспринятые очевидности «естественного» некритического восприятия, в частности, очищающих представления об инертной массе тела от отягощающих представлений о материале, запахе, цвете, фактуре, от эстетических оценок совершенства, реальных и потенциальных культурных, физиологических и иных функций. Сегодня образованный человек выполняет эту операцию «очищения» машинально почти без усилий, но это свидетельствует не о том, что также усилия не нужны, а только о некритической стереотипности специально тренированного восприятия. При этом он достигает обманчивой простоты и «понятности» законов механического перемещения такого «голого» тела, забывая о том, что вместе с запахами и культурными функциями предмета
154
Д. Н. ДУБНИЦКПП
оставил за пределами своего сознания знание фактических причин его реальных перемещений.
Итак, в ренессансной культуре уже содержалось вполне достаточно материала, способного стать общезначимым позитивным знанием при критическом его отборе, но не содержалось стимулов и критериев такого отбора. Для превращения ренессансной эпистемологической нормы в научную парадигму фальсифицируемого (проверяемого) знания недоставало только одного, но необходимого компонента - культурного стимула для критического отбора общезначимого знания из числа продуктов самостоятельных индивидуальных усилий осмысленного восприятия мира человеком.
Возникновение культурных механизмов критического отбора не могло произойти плавно и давалось не просто, поскольку требовало критической самодисциплины индивидуального сознания, разбуженного Ренессансом, противоречащей той самой культурной норме, которая будила самосознание. Необходим был пересмотр действующей культурной нормы, причем не в сторону ее приближения к «естественному» отсутствию нормы обыденного сознания, а в сторону как раз неестественного преодоления «естественных» реакций обыденного поведения и повседневного здравого смысла.
Условия для такой революции эпистемологической нормы реализовались в европейской культуре тогда, когда самоутверждение личности как носителя и источника культурной значительности перестало быть предметом специальной озабоченности и стало свершившимся фактом. По мере распространения и усвоения культурной нормы Ренессанса менялся не только круг ее фактических носителей, менялись функции этой нормы в сознании ее адептов, именно: из удела избранных она превращалась в общедоступное общее место. Ее социальная база расширялась от избирательного поименного списка до неопределенного множества всех желающих. Она растворяла своих «избранников» в безличной и неопределенной совокупности единомышленников. Она переставала быть преодолением ограничительных стереотипов и сама становилась источником новых ограничительных стереотипов.
В частности, она перестала быть нарушением очевидностей, требующим специальных мотивировок, обоснований и доказательств, и сама стала источником базовых очевидностей для доказательств.
Эго обычная эволюция всех культурных норм, в том числе эпистемологической нормы научной парадигмы.
О ПАРАДОКСАХ
155
Именно успех массового распространения и усвоения ренессансной культурной нормы стал причиной ее кризиса, возвратил эту норму в зону критической релятивности и побудил людей искать ей альтернативу. Эта слишком хорошо усвоенная норма перестала требовать от своих адептов специальных усилий самоутверждения, но зато и утратила вместе с тем способность доставлять им некогда острые переживания собственного изранничества. Одного только самосознания культурной личности стало для этого недостаточно.
«Предмет озабоченности» сместился с факта усилий личности по факту за пределы социума на результат этих усилий. «Предметом озабоченности» стала способность личности реалыю (а не только потенциально) стать источником культурной значительности. Культура перенесла оценивающее внимание с факта культурно-адресованной инициативы личности на то, что следует за этим фактом - на эффективность культурно-адресованной инициативы, т. е. с поступка человека в контексте определенной ситуации (узнавание предмета, его осмысление, понимание, истолкование, высказывание, умозаключение и т. д.) на отчуждаемый и воспроизводимый независимо от контекста ситуации культурно-значительный продукт этого поступка (понятие, знание, утверждение). Меняется способ ментальной связи индивида и социума: личность, озабоченная выходом за пределы социума, обретя свободу, стремится подчинить социум себе.
Забота о реальной культурной эффективности индивидуальной инициативы расширяет культурный адрес этой инициативы: адресат теряет определенность персонализированных соучастников культурного контекста (какую он имел в ренессансной культуре) и расширяется до пределов исчерпывающей полноты всех потенциально-возможных лиц, от которых не требуется более соучастия в определенном культурном контексте.
Адептов новой культурной нормы отличает от носителя старой наличие в сознании четкой границы взаимной неоднозначности между самим собой и всеми остальными, между «я» и «другими» - неопределенным множеством потенциальных адресатов своей инициативы. Преодоление этой границы требует от человека специальной критической самодисциплины сознания, расчленяющей продукты его ментальных усилий на «общезначимые» и «необщезначимые» компоненты. При этом функция индивидуального сознания как источника культурной значительности, воспитанная Ренессансом, не только сохраняется, но усиливается, выходя из пределов, ограниченных контекстом
156
Д. Н. ДУБНИЦКПП
усилий индивидуального самосознания; связь результатов осмысления восприятия с обстоятельствами осмысления - отвергается, а императивная связь с адресатом осмысления расширяется до уровня общеобязательности.
Стремление вычленить в своем знании устойчивые общезначимые компоненты, неограниченно воспроизводимые и доступные всем сразу без всяких ограничений, впервые проявило себя как норма мышления где-то на рубеже XVI и XVII веков европейской культуры (совпадение с гранью веков, разумеется, случайно). Со всей отчетливостью нового норматива на фоне еще господствующего старого оно полемически выражено в «Правилах для руководства ума» Декарта, в «Новом Органоне» Бэкона, в концепции воспроизводимого эксперимента Галилея. «Никогда не принимать за истинное то, что я не познал бы таковым с очевидностью, иначе говоря, тщательно избегать опрометчивости и предвзятости и включать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и отчетливо, что не дает мне никакого повода подвергать их сомнению» - это «первое правило для руководства ума» отделило европейскую науку нового времени от опрометчивости и предваряющей предвзятости натурфилософии Ренессанса. «Ничто так не согласно с разумом, как его недоверие к себе» - ничто так не было несогласно с некритическим доверием к себе разума Кеплера или Монтеня, чем эта мысль Паскаля.
Стремление к самоограничительной дисциплине ума в это время было гораздо шире, чем может зафиксировать этот или любой другой перечень имен. Новая культурная норма проявляла себя в таких фактах, которые невозможно связать с каким-либо определенным именем или списком имен, также как этого нельзя сделать с потенциальным составом роты или населением города. Эти факты отражали не столько чью-то личную новацию, сколько усвоение личным сознанием неопределенно-личных императивов, не локализуемых в сознании одного или нескольких человек.
Назовем некоторые симптомы этих сдвигов в коллективном сознании людей новой европейской культуры.
Расширение культурного адресата до уровня всеобъемлющей полноты, проводило рубеж между индивидуальной значительностью действия человека и культурной общезначимостью его результатов, способных сохранять свое значение за пределами не только определенного состояния индивидуального сознания, но и за пределами факта су¬
О ПАРАДОКСАХ
157
ществования определенного носителя индивидуального сознания, и с необходимостью требовало освобождения продукта ментальных усилий от факта этих усилий, результатов наблюдения от факта наблюдения, предмета сознания от сознания, знания от носителя знания, объекта описания от средства описания, знака - от своего значения и значения от знака и т. д. Все эти и многие другие взаимные «освобождения» можно наблюдать в начале XVII века.
Происходит сознательное вычленение и очищение «отчетливых» (выражение Декарта) позитивных и воспроизводимых фактов в качестве результатов натуралистических (астрономических, физических, химических, ботанических, физиологических и т. д.) наблюдений, измерений, экспериментов из океана «неотчетливых», неоднозначных и вариабельных истолкований, интерпретаций и осмыслений, далеко опережающих возможности их проверки. Кардинально меняются способы убедительных и доказательных рассуждений. Рассуждения Бруно о числе «два» или Кеплера о спутниках Юпитера не были предназначены для воспроизводства, они давали способ рассуждения, а не отчуждаемый результат. Главное достоинство рассуждений Галилея, Декарта, Спинозы - в их воспроизводимой понятности каждому.
Формируется такой привычный для нас, но совершенно новый для человеческой культуры ментальный объект - «предмет» сознания, независимый от состояния сознания и, в том числе, от культурного контекста существования обладателя сознания, сохраняющий себетождественность при любых ментальных манипуляциях с ним. Гносеологи- ческие и онтологические аспекты ментальных структур расчленяются.
В натурфилософии этот «предмет» сознания принимает образ «тела» - себетождественного инварианта любых потенциальновозможных пространственных перемещений и механических взаимодействий, обладающего пространственной протяженностью в качестве основного онтологического атрибута. «Первое, что составляет действительное бытие (актуальность) человеческой души, есть не что иное, как идея некоторой отдельной вещи, существующей в действительности (актуально)». «Объектом идеи, составляющей человеческую душу, служит тело, иными словами, известный модус протяженности в действительности (актуально) и ничего более» (Спиноза, теоремы 11, 13 части II «Этики»),
Число освобождается (впервые в человеческой культуре) от груза неисчерпаемых «таинственных» истолкований, которыми оно облада¬
158
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
ло еще так недавно в глазах Джордано Бруно и Кеплера, с вычленением единственной способности - выражать количество, безразличное к существованию человека - интерпретатора. Новая культурная функция числа, освобожденного от сакрализующих истолкований, сделав возможным введение и распространение алгебраической символики, лишающей числа всяких индивидуальных атрибутов, кроме значения количества, и окончательно отрывающей в сознании человека числа от их ситуативных реализаций, что требует известных усилий (как нам известно по собственному школьному опыту). Кеплер, например, так и не смог преодолеть этот семантический рубеж - он до конца жизни отвергал алгебраическую символику, применяемую уже некоторыми его современниками, несмотря на очевидное, казалось бы (для нас), ее удобство. Яркая значительность сакрализованной синкретической и «таинственной» семантики, индивидуальной для каждого из чисел, вовлеченных в культурный контекст, была для Кеплера слишком важна и содержательна, чтобы он смог пожертвовать ею ради прагматических удобств алгебраической символики, полезной при решении некоторых задач, но лишающей значение числа его индивидуальности. Параллельные изменения претерпевала в это время структура значения геометрических фигур - «правильные» фигуры (круги, октаэдры, додекаэдры и т. и.), несущие груз сакрализованных (не обязательно традиционных) осмыслений, теряют свое исключительное значение и уравниваются в правах на человеческое внимание со всеми другими «неправильными» фигурами.
Аналогичная революция происходит с пространственными представлениями. Пространство лишается своих «естественных», но релятивных структур - преимущественных направлений, границ, точек отсчета, масштабов и других форм связи с населяющими его предметами актуальной человеческой заинтересованности. Фиксированная се- бетождественность новых ментальных объектов - «протяженных тел», инвариантных по отношению к любым потенциально-возможным перемещениям, предопределяет потенциальный характер их связей с другими окружающими предметами, лишая реальные связи предмета с миром обязательности и определенности. Тела окружает пространство их потенциальных перемещений, для описания которого создано специальное средство - система декартовых координат, наделенная теми же достоинствами и недостатками, что и алгебраическая символика для чисел, - обезличенной равноправностью и необязательностью зафик¬
О ПАРАДОКСАХ
159
сированных в ней точек отсчета, направлений, масштабов, отражающих обезличенную равноправность и необязательность любого из реальных наблюдателей, фиксирующих свою точку зрения на мир способом, не зависящим от факта наблюдения.
В этом время рухнула существовавшая 20 веков аристотелевская концепция пространства, согласно которой покой является нормой, а движение - отклонением от нормы, требующим специальных усилий. Она рухнула не под напором новых эмпирических фактов, а в результате несложного умозрительного рассуждения Галилея, доступного любому школьнику. Многовековая устойчивость концепции Аристотеля вполне объяснима: она хорошо соответствует очевидностям повседневного опыта существования человека, тратящего меньше усилий при лежании, чем при ходьбе. Легкая победа «неестественного» принципа инерции над «естественной» очевидностью требует осмысления.
Напомним рассуждение Галилея, приведенное в «Диалоге о двух главнейших системах мира - птоломеевой и коперниковой» (День второй): «На наклонной плоскости движущееся тело самопроизвольно опускается, двигаясь с непрерывным ускорением, так что требуется применить силу для того, чтобы удержать его в покое. На плоскости, поднимающейся вверх, требуется сила для того, чтобы двигать тело вверх и даже для того, чтобы удержать его в покое, причем сообщенное телу движение непрерывно убывает, так что в конце концов вовсе уничтожается. Добавим еще, что, кроме того, в том и другом случае возникает различие в зависимости от того, больше или меньше наклон или подъем плоскости. То же тело, движимое той же самой силой, продвигается на тем большее расстояние, чем меньше высота подъема. А теперь скажите мне, что произошло бы с тем же движущимся телом на поверхности, которая не поднимается и не опускается?
...Я не могу открыть здесь причины для ускорения или для замедления, поскольку нет ни наклона, ни подъема. Тем менее может находиться здесь причина для покоя. Поэтому движение этого тела продолжалось быть долго, сколь велика длина такой поверхности без спуска и подъема... Если бы такое пространство было беспредельным, движение по нему равным образом не имело бы предела, т.е. было бы постоянным».
Утверждение Галилея об инерциальности прямолинейного движения справедливо в том случае, если на тело, после того как оно скатилось с наклонной плоскости перестают действовать какие бы то ни
160
Д. Н. ДУБНИЦКПП
было силы. Галилей совершил революцию в физике тем, что он первый в истории человеческой культуры стал оперировать новыми ментальными объектами - «телом», лишенным каких-либо актуальных связей с другими предметами, и «беспредельным пространством» перемещения этих тел, существующими безотносительно к существованию любого из наблюдателей, отказавшись от принадлежащих его сознанию избирательных предпочтений «тел», пространственных мест, положений и свойств этих «тел», в том числе отказавшись от «естественной» способности человека отличать собственное движение от собственного покоя. Последующая механика была извлечением следствий из этого основного факта изменения точки зрения ученого на «предмет» своего заинтересованного внимания.
Физику Галилея и физику Аристотеля разделяло нечто большее, чем сравнительные достоинства теории движения. И та и другая теории - ментальные конструкции, имеющие каждая свою область соответствия реальности и свои границы этому соответствию. Главное, что их разделяло - это разные способы «понимания». Аристотель и наследующая ему культурная традиция (вплоть до Кеплера) полагали условием «понимания» мира вовлечение «предметов» заинтересованного внимания в реальную ситуацию существования наблюдателя. Галилей и наследующая ему культурная традиция полагали условием «понимания» освобождение мира и наблюдателя друг от друга.
Рассуждения Галилея свидетельствовали об эпистемологической революции, т.е. об изменении структуры базовых очевидностей сознания, именно: о разрыве прямых связей знания с сознанием его носителя. Достоинством нового знания - нового способа мотивации человеческой заинтересованности и отбора приемлемых результатов - становится независимость знания от условий наблюдения, процедур наблюдения, состояния сознания наблюдения, факта наблюдения и даже от факта существования наблюдателя. Однако в жертву этому новому достоинству приходится приносить то, что было несомненным достоинством еще для современников Галилея (в том числе для Кеплера): предваряющее знание человека о «предмете» своего внимания, погружающее его в связный и синкретичный контекст ранее достигнутого «понимания» и «очевидность» непосредственного впечатления, не подвергнутого критической фильтрации. Чтобы следовать за рассуждениями Галилея, необходимо признать, что знание может противоречить «очевидности», которая не является «естественным» источником знания и способом обоснования его достоверности; что предваряющая осведом¬
О ПАРАДОКСАХ
161
ленность об объекте наблюдения не помогает, а препятствует получению нового знания; что локальные эмпирические факты свободны от императивных структур связной системы «понимания» и интерпретации, но зато доступны инструментальным методам наблюдения, искажающим непосредственные впечатления, при условии, что результаты наблюдений представлены в форме, независимой от свойств инструмента и от факта его применения, и т. д.
Новый способ понимания мира требовал ментального очищения «предметов» от действительных (актуальных) связей их между собой, а не фиксации этих связей в сознании, изъятия «предметов» из контекста реальных взаимодействий с другими «предметами» и ментальными структурами наблюдателя, а не погружения в них.
На каждом из этих путей познания могли быть свои успехи, ошибки и предрассудки, свои «понятности» и свои «необъяснимости». Их результаты могли частично совпадать или частично противоречить друг другу, но главное, что их отличало - это способ задавать природе вопросы и отбирать приемлемые ответы. Кеплер был уверен в существовании реальных связей «предмета» со всем миром, включающем наблюдателя, еще до того, как эти связи были фактически обнаружены. Мы вслед за Галилеем, уверены в том, что «предметы» можно освободить от любой из реальных связей с миром и наблюдателем независимо от того, способны ли мы сделать это фактически. Аристотель мог ошибаться в универсальном значении для мира геоцентрической системы (не ошибаясь в ее значении для земного наблюдателя), в которой покой предмета соответствует покою наблюдателя и каждый предмет имеет свое законное место. Но искать преодоления своей ошибки он мог только путем создания другой- новой - системы мира, по-прежнему связанной с наблюдателем, как это сделал Кеплер. В мире их интересовала реальная связь его с наблюдателем и наблюдателя с миром как норма существования, и именно обнаружение, а не обрыв такой связи переживалось как «понимание». Им в голову не могло прийти совсем оборвать эту связь и изолировать шар от актуальных взаимодействий - это означало для них утрату «понимания». Этот шаг сделал Галилей и за ним последовала новая европейская наука, для которой нормой существования «предмета» стала именно необязательность его реальных (актуальных) взаимодействий.
Главная заслуга Галилея перед культурой в том, что он первый сознательно разделил «понимание» и «объект понимания», избиратель-
162
Д. Н. ДУБНИЦКПП
ный человеческий интерес и объект этого интереса, освободив этот объект от предваряющих восприятие форм предвзятой интерпретации, вовлекающей предметы в контекст существования наблюдателя. Следствием этого стала изоляция ментального предмета от онтологически необходимых связей как принцип интерпретации действительности.
Однако это «освобождение» было всего лишь новой разновидностью предваряющей предвзятости. Об этом свидетельствуют те потери уже приобретенного позитивного знания, на которые пришлось найти новой науке на первых порах, скажем, на отказ Галилея признать теорию Кеплера об образовании морских приливов под действием луны или, более широко, на отказ новой науки признать возможность «дистанционного» влияния предметов друг на друга по умозрительным мотивам, ставшим «народным предрассудком» рационализма. Это в свое время - через 100 лет - обусловило негативную реакцию научного мира на теорию всемирного тяготения Ньютона. В конце концов под давлением фактов она стала общепризнанной, но не стала «понятной». То, что было непосредственно «понятным» Аристотелю и Кеплеру - реальная связанность мира, перестало быть понятным и остается по существу «непонятным» нам до сих пор до такой степени, что в наше время пришлось вообще отказаться от «понятности» как эпистемологического принципа во имя эффективности описаний.
Освобождение знания от сознания реальных носителей знания стало функциональной парадигмой всей новой европейской науки в собственном смысле слова, сознательно отделившей себя от эзотерических форм знания, продуцирующих «герметические» рецепты, а не общезначимые результаты - от магии, алхимии, астрологищиндивидуального мастерства и ремесленного умения. Новая европейская наука представляла собой совершенно новый, «неестественный» и дотоле нигде и никогда не встречавшийся в человеческой культуре способ задавать вопросы действительности и отбирать приемлемые ответы, основное достоинство которого состоит в непредвзятости вопросов и воспроизводимости ответов, т. е. в безразличии к реальным мотивировкам избирательной человеческой заинтересованности, к обстоятельствам ее реализации и к самому факту ее существования. Ментальной базой новой науки стали «предметы» сознания независимые от состояния сознания.
Не вызывает сомнения необычайная эффективность и продуктивность новых форм воспроизводимого, общедоступного и общезначи¬
О ПАРАДОКСАХ
163
мого знания по сравнению, скажем, с неразборчивой избыточной эрудицией и герметической мудростью элитарных «избранников» Ренессанса. Однако новая эпистемологическая норма несла не только одни достоинства. Именно в это время складываются те ментальные структуры, которые через триста лет, когда окончательная победа новых принципов отчуждаемого знания казалась такой близкой, полной и безусловной, поставят европейскую культуру перед тупиком неразрешимых антиномий теории множеств.
Взаимное освобождение общезначимого знания и индивидуального сознания, расчеленение сознания и предмата сознания принесло с собой проблему, незнакомую культуре Ренессанса, - проблему их обратного соединения. Вопросы: как так получается, что достоверное знание, полученное в глубине индивидуального сознания, наедине с собой, оказывается универсально-общезначимым, как можно получить вообще какое-либо достоверное знание о предметах, никак не связанных с сознанием наблюдателя, и каким образом можно убедиться в достоверности такого отчуждаемого знания - эти вопросы становятся с этого момента и до настоящего времени мучительной и неразрешимой проблемой умозрения новой европейской культуры.
Аналогичные сдвиги претерпевала в это время семантическая норма. Отчуждаемое общезначимое знание требовало отчуждаемых и устойчивых средств выражения - значений, независимых от обозначений, и знаков, независимых от своих значений. Возникает и распространяется выраженное стремление к однозначной определенности и воспроизводимой точности смысла слов, утверждений, обозначений, не требующего повторных усилий осмысления и свободного от связи со способом выражения или обозначения. «Для выражения своих мыслей каждый может пользоваться таким языком, который ему нравится, лишь бы он известил об этом.., каждый имеет право создавать для себя собственный словарь, но никто не имеет права ни навязывать свои словарь другим, ни истолковывать значении слов чуждого словаря на основе тех частных значений, которые он для себя выбрал» - таким образом «Логика ПорРояля» зафиксировала сдвиг семантической нормы, еще недавно требовавшей именно истолкований значения слов на основе тех частных значений, которые каждый выбирал для себя сам. В новой семантической норме знак и его значение взаимно освобождаются. Объектом обозначения становится «денотат» - нечто отличное от самого знака и инвариантное по отношению к факту и обстоятельствам
164
Д. Н. ДУБНИЦКПП
обозначения. Также как числа, геометрические фигуры. Орлы и Планеты, любые предметы человеческого внимания, способные стать объектом обозначения, теряют вариабельную многозначительность, которой наделяет их определенный контекст культурного существования человека, но зато приобретают устойчивость к потенциально-возможным вариациям неопределенного культурного контекста «отдельной вещи существующей в действительности» (Спиноза).
Проблема понимания знака существенно меняется: вместо истолкования Знака как символа, наделенного неотчуждаемым смыслом, раскрывающимся человеку в контексте его существования, перед человеческим сознанием встает теперь задача соединения изначально отчужденных смыслов и знаков, существующих независимо друг от друга и от контекста ситуации истолкования.
Возможно, нигде так ярко не проявляется сдвиг семантической нормы, как на таком массовом для этого времени явлении, как аллегорические эмблемы. Культура Ренессанса переполнена эмблемами с эзотерическим «таинственным», неотчуждаемым, не фиксируемым и многозначительным смыслом. Они встречаются повсюду и не будет преувеличением сказать, что они во многом определяют лицо этой культуры, присутствуя как необходимый семантический компонент в равной мере в живописи, литературе, естествознании, умозрении и в бытовом убранстве. Роль аллегорических эмблем в культуре XVII века также достаточно заметна, однако способ их семантического нагружения решительно меняется: их смысл становится, общедоступным и фиксируется вербально в многочисленных сборниках эмблем. Приведем свидетельство двух современников и участников событий, разделенных рубежом столетий.
1. «Аллегория отражает страсти, мысли и обычаи не только в их внешнем проявлении, но главным образом открывая их внутреннюю сущность. Она ... обозначает их темными и таинственными знаками, которые с трудом доступны пониманию лишь знатоков самой сущности природы вещей».
2. Под эмблемой в собственном смысле гуманисты в наши дни понимают общепонятный знак, состоящий из слов и изображения, выражающий нечто, относящееся к жизни человека. Поэтому эмблематические изображения появляются на картинах, они также появляются в залах, апартаментах, в академиях или же печатаются в книгах с объяснениями для просвещения народа. Под народом... следует понимать
О ПАРАДОКСАХ
165
тех. кто одарен средними способностями и имеет известное знание латыни и хотя бы поверхностно понимает гуманистическую литературу».
Первая цитата принадлежит Торквато Тассо («Гоффредо или освобожденный Иерусалим»), вторая - теоретику маринизма Эммануэле Тезауро.
Говоря о семантическом сдвиге не надо, конечно, понимать его- так, что Кеплер все слова употреблял как «таинственные» эзотерические символы, а Декарт как символы алгебраические. Они отличались только своими представлениями о семантической норме. Кеплер сознательно наделял некоторые (но не все) слова и числа многозначным са- крализованным смыслом эзотерического символа и никогда не пользовался сознательно семантической индифферентностью алгебраического символа; Декарт сознательно использовал в нужных случаях (но тоже не всегда) математическую символику, индифферентную к своему потенциальному смыслу, и избегал по возможности заведомо двусмысленного и неоднозначного словоупотребления. Во всех остальных случаях они оба говорили на одном и том же «естественном» человеческом языке, который совмещает в себе оба альтернативных достоинства и может дать материал для подтверждения как той, так и другой точки зрения на семантическую функцию знаков языка.
Рассмотрим еще одну группу фактов, которые явились результатом расширения культурного адресата до уровня исчерпывающей полноты - сдвиг нормы зрительного восприятия.
Даже человеку, не подозревающему о существовании теорий Вель- флина, при самом поверхностном просматривании альбома репродукций бросается в глаза разительная разница между ренессансной живописью и живописью XVII века.
Ренессансная картина являет зрителю сложный и странный конгломерат сразу нескольких разновременных и разноместных эпизодов, не связанных с ними посторонних персонажей, растений, плодов, геометрических фигур, животных, птиц, надписей, отдельных букв, цифр, фантастических монстров, геральдических символов, аллегорических эмблем, размещенных на фоне условных декораций, демонстрационных подмостков или пейзажа с неестественно высоким горизонтом.напоминающего карту местности. Все предметы от пуговиц костюма персонажа переднего плана до птиц на краю горизонта изображены с натуралистической отчетливостью и даны в наилучших
166
Д. Н. ДУБНИЦКИЙ
для узнавания ракурсах. Вычурные жесты и позы персонажей, не вполне мотивированные ситуацией, слабо связывают людей между собой, но зато демонстративно обращены к зрителю, как позы манекенщицы в модном журнале. Их лица лишены определенного живого выражения и застыли в неподвижной маске. Рассеянное освещение не имеет определенного источника света или имеет его вне картины в пространстве зрителя, даже если в картине есть собственные источник света (свеча, луна, костер). Нередко в одной картине разные эпизоды или даже разные персонажи одного эпизода освещены с разных сторон. Гипертрофированно выраженные точки перспективного сокращения фиксируют точку зрения зрителя относительно картины, однако иллюзия реального пространства нарушается системой нескольких репрезентативных плоскостей, обращенных взгляду зрителя, с провалами между нимщприсутствием разномасштабных персонажей и предметов и наличием нередко сразу нескольких несовпадающих точек перспективного сокращения для разных участков картины и, практически, всегда разных для переднего и остальных задних планов. Задние планы представляют скорее декоративный фон, чем определенное место действия главных персонажей переднего плана. Эти персонажи нередко демонстративно выделяются из остального изображения размещенной у них за спиной рамой или выполняющими ту же функцию стеной с окном, занавеской, архитектурной аркой или декоративной конструкцией. Орнамент и расчленяющие структуры наружной рамы продолжаются внутри изображения, что делает ее средством соединения пространства зрителя с пространством картины, а не отделения их друг от друга. Изображения скомпонованы в жесткие геометрические фигуры - круги, квадраты, треугольники. Яркие интенсивные цвета предметов и поверхностей образуют самостоятельные зрительные структуры, наделенные собственным «таинственным» значением.
Более подготовленный зритель может догадываться или прочитать о каком-то не вполне понятном ему значении всех этих разнородных изобретательных средств и сакральных функциях фигур, чисел, эмблем, предметов, поз, жестов, выражений лиц, центров перспективного сокращения, локальных цветов, пространственных структур - верх- низ, правое - левое и т. п. Эго действительно так - семантика ренессансной картины адресована не всем, а только некоторым специально подготовленным «знатокам самой сущности природы вещей» (Торквато Тассо). При этом также безнадежно пытаться определить окончательно раз и навсегда этот «таинственный» герметический смысл, как
О ПАРАДОКСАХ
167
исчерпать «таинственный» смысл числа «два» в рассуждениях Джордано Бруно. - каждый «знаток сущности» должен определять его сам. Значение ренессансной картины - это начало самостоятельных усилий осмысления, а не их конец.
Семантика ренессансной картины, также как и все ее выразительные средства, не замкнуты в себе, ей необходим живой наблюдатель истолкователь. Эта картина не обладает собственным единством времени, места, действия и смысла, независимым от присутствия зрителя, и достигает такого единства только в восприятии реального зрителя, чья предваряющая осведомленность и способность к усилиям самостоятельного осмысления составляют необходимый компонент ее значения.
Ренессансная картина являет собой зримую реализацию представлений о множестве сакрализованных «предметов сознания», избирательно вырванных заинтересованным человеческим вниманием из контекста собственного - независимого от внимания человека существования и вовлеченных в совершенно иной контекст - в контекст культурного существования человека. Весь аппарат зрительных средств выразительности ренессансной картины - фронтальные репрезентативные плоскости, декоративные подставки и фоны, элементы аллегорических эмблем и гротескных арнаментов, изменения масштабов и способов включения персонажей в пространство, репрезентативное освещение, надписи, чрезмерно-отчетливый натурализм мелких деталей, функциональные (а не ситуативные) позы, жесты, выражения лиц, высокий уровень горизонта, жесткость композиционных форм и т. д. - все эти и другие неназванные средства мотивированы репрезентацией смыслоносных «предметов сознания» определенному зрителю и подчинены наилучшему выполнению этой основной задачи. Эго сочетание выразительных средств в различных вариантах будет сохраняться или регенерировать каждый раз, когда будет возникать соответствующая функциональная задача - в парадном портрете, семейной любительской фотографии, рекламной витрине, служебном пропуске, дидактическом учебном пособии. Но после ренессанса эта фунциональ- ная задача и соответствующие средства ее решения уже никогда не будут доминантным фактором культурной нормы, действующим независимо от обстоятельств.
В ренессансной картине зафиксированы те же особенности нормы зрительного восприятия, которые были характерны для эпистемологической нормы: безусловное доверие к индивидуальному усилию на¬
168
Д. Н. ДУБНИЦКПП
блюдения и осмысления в качестве источника культурной значительности, необорванная связь результатов осмысленного наблюдения с состоянием сознания наблюдателя и его адресата - зрителя, многозначный синкретизм компоновки или «композиции» (термин Альберти) самых разнообразных и разнородных ментальных и чувствительных компонентов осмысления восприятия, способных стать «предметом» человеческого сознания.
Структура семантики ренессансной картины и многих ее основных выразительных средств имеет глубокие корни в своем генетическом прототипе - в иконе, семантика которой подчинена сакральной функции императивного воздействия религиозного догмата на сознание верующего человека в реальном акте восприятия иконы. Так же как и в области эпистемологии, главная новость ренессансной нормы зрительного восприятия состояла в утверждении необусловленной самостоятельности индивидуального сознания и его усилий в качестве источника культурной значительности. Ренессансную картину от иконы отличает не отчуждение ее значения от состояния сознания зрителя-интерпретатора, а изменение характера их связи: индивидуальный взгляд и индивидуальный интерес встают на место унифицированной каноничности и принимают на себя ответственность за формирование семантики. При этом связь семантики с индивидуальным сознанием человека не разрушается, а усиливается. Задачи репрезентации и, во многом, средства ее реализации сохраняются, но репрезентируется теперь не императив религиозного догмата, а личная и самостоятельная точка зрения на мир человека во всем неисчерпаемом богатстве его вариабельной заинтересованности. Мы сможем лучше понять экстатические восторги Учелло по поводу перспективы, описанные Вазари, если будем помнить, что перспектива, фиксирующая индивидуальную точку зрения на мир, вставала на место золотого фона, имеющего для Учелло и его современников значение сакрального неземного Света - манифестации Святого Духа, и, сохраняя сакральные функции, была способом соединить существование Мира (Космоса) с бытием человека, но не способом представить зрительный мир независимым от наблюдателя. Аналогичные сакральные (в широком смысле слова) функции выполнял и два других великих открытия флорентийского кватроченито - светотень и натурализм в изображении человеческого тела и других предметов, связывающих (а не разделяющих) сознание и предмет сознания. Без учета «дополнительного» сакрализующе-
О ПАРАДОКСАХ
169
го осмысления в контексте всей синкретической совокупности семантических нагружений мы не сможем понять действительную роль этих натуралистических элементов в формировании значения ренессансной картины, в которой именно утверждение индивидуальной точки зрения на мир соединяет (а не разделяет) зрительные и ментальные компоненты осмысленного восприятия и освобождает (а не фиксирует) релятивную вариабельность избирательной заинтересованности человеческого внимания. В частности, нам будет трудно понять множественный плюрализм источников освещенности, отдающий предпочтение сакральным источникам света перед реальными, не единственность горизонтов, гротескные сочетания и фантастические комбинации тел и предметов, изображенных с мелочным натурализмом.
Точно так же, как ренессансная эпистемиология, ренессансная эстетика включала компонент натуралистической наблюдательности, но не имела ни стремления, ни средств, ни критериев его преднамеренного вычленения и очищения от всех остальных способов синкретического восприятия действительности. Мы видим на ренессансной картине множество натуралистических фрагментов - фрагментов интерьеров, пейзажей, натюрмортов, отдельных фигур людей, растений, животных, предметов и т. д., но расчленение картины на эти натуралистические фрагменты было бы такой же насильственной деформацией, как вычленение закона движения планет из «Гармонии мира» Кеплера, с утратой понимания действительного смысла этих картин.
Так же как и ренессансная парадигма естествознания, ренессансные способы визуального представления гораздо ближе естественным «наивным» формам обыденного сознания, скажем, к детским рисункам или лубочным картинкам, чем отчужденные формы изображения новой европейской живописи.
Мы воспитаны на отчуждаемых формах изобразительности и поэтому, возможно, нам трудно понять, какими они по существу являются противоестественными. Человек никогда практически не воспринимает мир так, как он представлен на европейской картине нового времени. Он замечает в мире то, что его избирательно заинтересовало, т.е. то, что он способен узнать и устойчиво идентифицировать при повторной встрече по причинам, которые находятся в нем самом - в его сознании, а не в независимом от него мире.
К этим «естественно» узнаваемым объектам не относятся, за редким исключением, интерьеры, ландшафты, натюрморты, условия осве¬
170
Д. Н. ДУБНИЦКПП
щенности, но зато относятся, как правило, сами люди и предметы, изъятые из контекста интерьеров, натюрмортов, конфигураций теней и бликов на лице, окружающего ландшафта нашим избирательным вниманием. И только иногда в силу стечения определенных обстоятельств человека может заинтересовать не только сам предмет, но и характер его реальной освещенности или взаимоотношения с другими - неинтересными - предметами в совокупном единстве интерьера, пейзажа или натюрморта. Ренессансная норма зрительного восприятия фиксировала именно аспекты индивидуальной избирательной заинтересованности, т. е. фиксировала связи между сознанием человека и «предметами» его сознания с учетом всей совокупности многообразных побудительных мотивов избирательности.
На рубеже XVI и XVII столетий европейской культуры с визуальным восприятием культурного человека (так же как и с его ментальным восприятием) происходит нечто удивительное и небывалое на протяжении всей предшествующей истории человеческой культуры: интерес к аспектам и обстоятельствам «особенного» существования предметов, самостоятельного по отношению к факту человеческого внимания - к интерьерам, ландшафтам, натюрмортам, состоянию освещенности и т. и. - стал постоянно действующим фактором - культурной нормой восприятия, инвариантной относительно вариабельных индивидуальных мотивировок заинтересованности. Следование этой новой норме требует от человека специальных усилий и специальной тренированности, поскольку достигается сознательным самоограничением собственной вариабельной заинтересованности и критическим отбором в своем восприятии одних компонентов за счет других, т. е. требует той же самодисциплины «правил для руководства ума», что и следование новой парадигме позитивного научного знания, и соответствующей мотивировки этих требований.
Фиксация избирательной точки зрения на одном из многих равноценных моментов времени и на одном из многих фрагментов пространства также неестественна и трудна, как и фиксация состояния ума на общезначимых аспектах знания в ущерб всем остальным - локально и индивидуально значимым. Каждый, кто учился реалистической манере рисования, знает на собственном опыте с каким трудом дается переключение внимания с узнаваемого предмета на его необязательные связи с окружающими предметами, случайно попавшими в поле зрения, и с «длящегося» существования предметов, узнаваемых независи¬
О ПАРАДОКСАХ
171
мо от обстоятельств, на уникальный момент в их существовании, не обладающий никакими преимуществами перед другими моментами, кроме одновременной открытости этих предметов неразборчивому взгляду в составе визуально-связной совокупности предметов безноситель- но к избирательной заинтересованности зрителя и его способности к их «узнаванию».
Человек встретил на прогулке приятеля и узнал его. Через 10 минут он хорошо помнит факт встречи, но уже не способен вспомнить как располагались блики и тени на лице приятеля в момент встречи. Он помнит место встречи, но не способен вспомнить на фоне какого именно из деревьев он его увидел, какую форму имели куст и облако за спиной приятеля, в какую именно сторону он отбрасывал тень и где проходила линия горизонта. Если человек захочет изобразить эту встречу, то, скорее всего (если он не научен другому), он изобразит приятеля не так, как он его увидел при встрече, а так, как он его помнит по всем предыдущим встречам - в наилучшем ракурсе и при оптимальной освещенности, изъяв изображение из контекста обстоятельств встречи, в том числе из условий реальной освещенности и окружающего ландшафта. За спиной главного персонажа он изобразит, скорее всего, окружающий пейзаж, но также изъятый из контекста обстоятельств встречи в качестве места встречи, узнаваемого независимого от факта встречи, т. е. в наиболее характерных и узнаваемых ракурсах и при наилучшей освещенности. На этом фоне будут присутствовать не все предметы и случайные прохожие, а только те, которые человек смог запомнить, обратив на них избирательное внимание. Зато эти заинтересовавшие человека предметы будут представлены отчетливо в наилучших для «узнавания» ракурсах» и при оптимальном освещении, но все-таки, благодаря неразборчивости переферийного внимания, их визуальная связность между собой будет значительно выше, чем связность всего фона с главным персонажем. Если обстоятельства и место встречи не слишком важны для художника, то ландшафтный фон может вообще оторваться от персонажа, приобретя другой масштаб изображения, собственные источники освещенности, независимую линию горизонта и т. и.
Эта картина соответствует «естественному» человеческому восприятию мира. Обычный человек (если, повторяем, его не научили другому) рисует не все то, что видит, а то, что его избирательно интересует, как минимум - то, что он способен узнать и запомнить за пределами ситуации непосредственного визуального восприятия. Ему в го¬
172
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
лову не придет пунктуально фиксировать все обстоятельства этой ситуации, скажем, изобразить приятеля с ярко освещенным затылком и лицом, погруженным в глубокую тень.
Именно так воспринимает и представляет мир зрителю художник Ренессанса. И культура этого времени не побуждала его учиться «другому» восприятию. Она не отвергала, а фиксировала как специальное достоинство, как норму зрительного восприятия осмысленную избирательность внимания человека к зримому миру и связи зримой картины мира - «предмета сознания» - с состоянием сознания заинтересованного наблюдателя. Недостатком такой картины мира является ее плохая воспроизводимость, поскольку избирательная заинтересованность - релятивна. Она может быть своя у каждого человека и совпадает только иногда и только для ограниченного круга единомышленников, объединенных общим интересом. Но значение ренессансной картины и адресовано не всем сразу, а именно ограниченному кругу избранников - «знатоков самой сущности природы вещей» (Торквато Тассо).
В XVII веке с осознанным восприятием культурного человека происходит нечто «противоестественное». Важным и интересным в картине мира для него вдруг становится то, что еще недавно не представляло в его глазах особой ценности и находилось на переферии восприятия - игра бликов света на лице, форма куста и облака, направление и форма теней, отбрасываемых предметами, интенсивность взаимных цветовых рефлексов, зрительные связи персонажей с фоном (независимые от семантических связей), т. е. единство времени, места и действия, объединенных фактом зрительного восприятия. Зато его совершенно перестают интересовать те вещи, которые еще так недавно составляли предмет его специально озабоченности - средства фиксации «узнаваемости»: оптимальная освещенность предметов своего избирательного внимания, отчетливость границ изображения, наилучшие для «узнавания» «фотогеничные» ракурсы и т. и.
Все то, что имело значение для визуальной фиксации личной заинтересованности человека, уступает место тому, что имеет значение для фиксации заинтересованности многих людей сразу. Единственное достоинство «неестественной» фиксации внимания человека на единстве места, времени и действия своего зрительного восприятия состоит в том, что такая точка зрения инварианта по отношению к релятивным вариациям избирательности индивидуального человеческого внимания, что делает ее приемлемой для кого угодно. Именно это достоин¬
О ПАРАДОКСАХ
173
ство становится в XVII веке постоянно действующим фактором мотивации культурно-адресованного поведения - культурной нормой зрительного восприятия. Воспроизведение точки зрения, с которой мир выглядит более или менее одинаково для любого человека, а не только для единомышленников наблюдателя, стала условием культурной значительности точки зрения наблюдателя более важным для него, чем собственные избирательные интересы.
Художник нового времени (также как и ученый) стал учитывать точку зрения своего потенциального (т. е. неопределенного) зрителя и вычленять в картине мира, представшего его взгляду, компоненты, узнаваемые любым потенциальным зрителем. Его индивидуальная точка зрения на мир, оставаясь со времени Ренессанса основой визуального восприятия, должна была теперь подвергаться вторичной - критической - избирательности. Именно: он должен был проделывать над своим осмысленным восприятием операцию, рекомендованную «правилами для руководства ума» ученному - освобождаться от предваряющей предвзятости, т. е. стараться подавить в себе все то, что в обычной жизни составляет основу воспроизводимой узнаваемости предметов внимания человека: фиксированные границы предметов, характерные «фотогеничные» ракурсы, собственный цвет предметов в наилучшем нейтральном освещении, а также, что важно, ментальную значительность предметов, выходящую за пределы зрительных впечатлений, но предопределяющую интерес к предметам его внимания. И, напротив, он должен теперь избирательно заметить, узнать, запомнить, зафиксировать и воспроизвести то, что обычно находится за пределами его избирательного внимания и не привлекает его без особой необходимости: гомогенное единство всей совокупности инградиентов зрительных впечатлений и предметов, попавших в поле зрения, безотносительно к их ментальной значительности и собственной предваряющей осведомленности. Ментальные и визуальные компоненты семантики изображения, соединенные в ренессансной картине, в картине XVII века освобождаются друг от друга. Происходит такое же самоустранение из визуальной картины мира определенного наблюдателя (но не всех сразу наблюдателей), какое в другой области деятельности реализуется введением в гомогенном непрерывном пространстве декартовой системы координат, фиксирующей точку зрения наблюдателя, необязательного для результатов наблюдения. Воспроизведение осмысленных восприятий определенного человека, поощряемое культурной нормой Ре¬
174
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
нессанса, уступает место воспроизведению зрительных впечатлений, не обязательно осмысленных, многих людей сразу и самого наблюдателя в том числе - в меру его способности быть одним из многих. Цель таких усилий в том, чтобы «доставлять радость и возбуждать в нас разнообразные аффекты» (Декарт).
Следует напомнить, что картина пишется художником длительное время - от нескольких часов до нескольких лет, и поэтому фиксация и воспроизведение определенного момента зрительного восприятия в единстве времени, места и действия задача чрезвычайно трудная, требующая от художника значительных усилий сознания, специальной продолжительной тренировки восприятия, обучения и выработки специальных приемов. То, что выглядит «естественным» для всех сразу, совершенно «неестественно» для того, кто фиксирует эту «естественность».
Все эти эффекты можно видеть на картинах XVII века.
Новая живопись изображает персонажей, предметы, интерьеры, ландшафты в гомогенном связном единстве времени, места и действия их собственного - самостоятельного по отношению к зрителю - существовании. Персонажи не озабочены принятием демонстративных поз и фотогеничных ракурсов, предназначенных зрителю, но находятся в энергичном движении, мотивированном контекстом ситуации переживаемой ими, а не зрителем, и имеющем продолжение за пределами зафиксированного момента времени и фрагмента пространства. Зрителю при этом могут достаться самые случайные объекты - спины, затылки, локти, пятки. Выражения лиц - там где их можно разглядеть - вполне определенны и также мотивированы ситуацией, переживаемой персонажами: они смеются, улыбаются, хохочут, плачут, негодуют. Не возникает больше тех неразрешимых проблем интерпретации выражения лиц, которые до сих пор ставят в тупик зрителя кислых полуулыбок персонажей Леонардо, Рафаэля или Кореджо. Персонажи живут собственной жизнью и заняты собой и друг другом, не замечая присутствия зрителя. Их члены соразмерны, также как они сами соразмерны друг другу, интерьерам и ландшафтам, представляющим отныне не демонстрационный фон, соучаствующий в формировании синкретического смысла, а среду обитания персонажей. Не видно больше демонстрационных подставок, постаментов, арок и внутренних рамок. Исчезли надписи, цифры, геометрические фигуры. Рухнули фронтальные репрезентативные плоскости, пространство изображения приобрело глубину внутренней связности, в которую персонажи переднего пла¬
О ПАРАДОКСАХ
175
на включаются наравне со всеми остальными. Они получают возможность свободно перемещаться в этом пространстве в отличие от своих ренессансных предшественников, извивающихся в репрезентативных плоскостях подобно препарированным экспонатам кунсткамеры. Вместо границы между передним планом и всеми остальными появилась выраженная граница между пространством событий изображения и пространством зрителя. Исчезли, как правило, гипертрофировано- выраженные точки перспективного сокращения параллельных линий, фиксирующие взгляд относительно изображения, но зато законы перспективы не нарушаются более множественностью горизонтов и раз- номасштабностью фигур, а линия горизонта опускается до нормального положения, единого для всего пространства изображения. Все персонажи, предметы, интерьеры, ландшафты, натюрморты освещены одним единственным и вполне определенным источником света, расположенным в пределах изображения или, как минимум, в пространстве изобаржения.
При этом лица главных персонажей (не говоря уже о второстепенных) могут оказаться в глубокой тени, тогда как блики яркого света выхватывают ухо, колено или кончик носа. Отчетливая узнаваемость изображаемых предметов не является более самоцелью. Их границы тонут в мутном или даже непроницаемо-черном тумане, объемлющем все предметы и персонажи и представляющем собой зримое выражение вместилища всех предметов - пространства, занимающего по другим поводам Декарта и Паскаля. Пестрая яркость смыслоносного локального цвета принесена в жертву единому колориту и эффектам взаимной цветовой рефлексии предметов. В составе изображения нет, как правило, аллегорических эмблем. Во всяком случае их присутствие не является обязательным и если даже они встречаются, изображения входящих в их состав предметов подчинены тем же принципам изобразительности и включены в гомогенное пространство картины, что совершенно бессмысленно с точки зрения функциональной семантики эмблемы, требующей отчетливого узнавания своих предметов, избирательно выделяемых из состава визуального фона. Изменилась роль живописной композиции, утратившей функции поставщика сакральных геометрических символов и ставшей средством организации зрительных впечатлений, допускающим любые (а не только геометрически правильные) формы.
Картина представляет зрительные впечатления независимо от возможности их дополнительного ментального нагружения смыслом, а се¬
176
Д. Н. ДУБНИЦКПП
мантическое нагружение не требует более специального вычленения «предмета сознания» из гомогенного единства зрительных впечатлений. Зрительные и ментальные компоненты семантики картины свободны друг от друга. Строго говоря, только с этого момента можно уверенно говорить о разделении в сознании человека изображения и объекта изображения как норме восприятия. Этого еще нельзя было сказать об «изображениях» ренессансной картины. Для Альдрованди и его единомышленников встреча с живым Орлом и с изображением Орла на геральдической эмблеме отличаются не так сильно, как для нас - живой Орел наделяется функцией смыслоносного сакраментального знака, а изображение Орла в картине - функцией реального предмета, подлежащего восприятию по той же самантической схеме, по какой верующий человек воспринимает крест, а солдат - полковое знамя, т.е. как реальное событие в жизни наблюдателя. Соответственно меняется функция рамы. Она уже не появляется за спиной персонажей, не имеет продолжения внутри картины и не позволяет выходить за свои пределы отдельным фрагментом изображения (руки, ноги, драпировки), как это систематически происходит на ренессансных фресках или гравюрах. Она перестала быть средством включения пространства изображения в состав пространства событий зрителя, а стала средством их разъединения, пролагая между ними ментальную границу взаимной замкнутости.
В отличие от ренессансной картины, ментальное значение картины XVII века замкнуто в себе. Оно легко воспроизводится и устойчиво по отношению к вариациям и обстоятельствам осмысления, ему не нужна предваряющая осведомленность специально подготовленного комментатора, обеспечивающая полноту, связность и замкнутость незамкнутого «таинственного» смысла. Мы уже не говорим о таинственном значении гротесков Босха и Брейгеля, но даже смысл «Афинской школы» Рафаэля был не вполне понятен уже Вазари, не посвященному в эзотерический жаргон Флорентийской Платоновской академии, а неоднозначность интерпретации «Тайной вечери» Веронезе привела его на суд инквизиции. Ничего подобного не может произойти со смыслом картин XVII века. Зрительное воплощение, не связанное задачей фиксации узнаваемых предметов сознания, может быть в них чрезвычайно усложнено и даже затемнено, но сюжет их прозрачно ясен и доступен «человеку средних способностей» (Тезауро), минимально осведомленному в дюжине популярных сюжетов Священной или античной исто¬
О ПАРАДОКСАХ
177
рии. Семантический синкретизм ренессансной картины рассыпался на разнообразие жанров с независимой и устойчивой семантикой- религиозный или античный сюжет, бытовая сцена, пейзаж, натюрморт, портрет, парадный портрет и т. п.
Подготовительные рисунки художников позволяют заметить сдвиг нормы зрительного восприятия в начале XVII века даже лучше, чем законченные картины. Они наглядно демонстрируют, как существенно меняется в это время то, чем озабочен художник, на что направлены его усилия, к какому зрительному эффекту он стремится.
Художник Ренессанса озабочен наилучшей репрезентацией смысла и узнаваемостью предметов, несущих этот смысл и выделенных заинтересованным вниманием человека. Его рисунки - это изолированные фигуры людей, животных, птиц, растений или части фигур (лица, головы, руки, ноги) в поисках наиболее выразительных «фотогеничных» и смыслоносных ракурсов, поз, жестов, освещенности, которые он затем в готовом виде переносит в картину или, нередко, в несколько различных картин с несхожими изобразительными контекстами, не чураясь повторений и заимствований и не обращая внимания на несоответствие освещенности фигуры, ее масштаба, ее позы, жестикуляции или выражения лица другим фигурам и изобразительному контексту фона. В свою очередь, пейзажный фон может иметь свои предварительные заготовки, кочующие из картины в картину независимо от основного сюжета и персонажей переднего плана подобно заднику с лебедями на старомодных фотографиях.
Художник XVIII века озабочен совсем другим - зрительной фиксацией ситуации в единстве времени места и действия. В своих рисунках он отрабатывает средства погружения персонажей и предметов в ситуативный контекст зрительного восприятия - способы изображения прерванного движения, продолжающегося до и после остановленного момента, разнообразие выражений одного и того же лица, эффекты освещенности с игрой теней и бликов, распределение взаимных цветовых рефлексов, взаимодействие персонажей друг с другом и с окружающей средой обитания. И меньше всего художник озабочен фиксацией «узнаваемости» предметов изображения, которые подчас почти невозможно различить в беспорядочном месиве линий и пятен, а четких границ визуальной замкнутости предметы и фигуры в этих рисунках не имеют практически никогда. Художники специально тренируют свой взгляд и руку на переключении внимания с предметов, узнаваемых вне ситуации, на визуальную связность узнаваемой ситуации.
178
Д. Н. ДУБНИЦКПП
Ментальная рефлексия эстетических норм следовала за сдвигом нормы восприятия и фиксировала этот сдвиг именно как расширение культурного адреса от некоторых «знатоков самой сущности природы вещей», с трудом понимающих темные и таинственные знаки (Тассо), до уровня всех «тех, кто одарен средними способностями» понимать общепонятные знаки (Тезауро). Эстетика Леонардо, Дюрера, Цукка- ро - это герметическая эстетика узкого круга посвященных - специалистов в своем деле, соревнующихся между собой в достижении совершенства; это советы ремесленника ремесленнику или носителя мудрости другому носителю мудрости о тайнах мастерства, которые адресат может реализовать, но которыми не может ограничиться. Теория аффектов Декарта или «модусов» Пуссена, «производящих чудеснейшие эффекты» - это эстетика восприятия (а не производства), эстетика эффектов восприятия и способов воздействия на восприятие зрителя, которым может быть кто угодно.
Также как и сдвиг эпистемологической нормы, сдвиг зрительного восприятия протекал не гладко. Усилия первых энтузиастов нововведений контрастно выделяются на фоне еще безраздельного господства старых стереотипов восприятия даже для нас - сторонних наблюдателей, а современниками они воспринимались почти как удар и встречались сопротивлением, о чем говорят многочисленные конфликты художников с более консервативными заказчиками. Тем не менее, распространение новых изобразительных принципов было на удивление быстрым, эффективным и повсеместным. Это говорит о том, что культура в это время уже созрела для перемен. Распространение новых форм зрительного восприятия шло синхронно с революцией эписте- миологической нормы. Впервые со всей определенностью до того разрозненные и фрагментарные находки позитивной изобразительности были отобраны, объединены и сконцентрированы в последовательно проводимый руководящий принцип в картинах современника Галилея молодого Караваджо. Через 30 лет эти принципы уже господствуют в изобразительном искусстве Европы, лишив устаревшие способы визуальных представлений статуса нормы и оттеснив их в область специальных и вспомогательных функциональных задач, где они могут существовать неопределенно долго в меру существования специальных задач, доживая до нашего времени в области парадного портрета, семейной фотографии или служебного удостоверения.
Как всегда в периоды революционных культурных сдвигов на первых порах на передний план выступает полемическое противопостав¬
О ПАРАДОКСАХ
179
ление инноваций устаревшим стереотипам, принимающее несколько гипертрофированный характер и оттесняющее на задний план безусловную генетическую преемственность конфликтующих культурных форм, хорошо заметную с более далекого расстояния. В свое время (XV в.) такой гипертрофированный характер принимали средства фиксации осмысленного визуального восприятия художниками кватроченто - увлечение эффектами перспективного сокращения, мистический натурализм предметов, деталей и фрагментов изображения, скомпонованных в избыточный гротескный винегрет смыслоносных инградиен- тов. На рубеже XVI-XVII веков гипертрофированный характер приобретали эффекты объективации зрелища, т. е. отчуждения его от взгляда определенного зрителя во имя взгляда зрителя неопределенного: погружение предметов в непроницаемую черную или мутно-серую среду, поглощающую их едва ли не целиком, вычурные эксперименты с внутренними источниками контрастного освещения, расчленяющими предметы игрой бликов и теней до неузнаваемости, демонстративнослучайный характер фрагментов, выделенных яркой освещенностью, преувеличенная экспрессия движений персонажей, педалированные эффекты связности пространства от очень крупных передних планов до самых далеких задних. Позднее, по мере распространения и усвоения новых принципов позитивной изобразительности, их полемическое утверждение теряет смысл и они реализуются в более спокойных и уравновешенных вариантах.
Подавляющее великолепие итало-бельгийского барокко, строгий рационализм «первого» французского классицизма и скорпулез- ная объективность голландского жанра в равной степени участвуют в этом необратимом процессе. При всем видимом различии их связывает общность культурной базы мотивации. Эго различные средства для решения единой культурной задачи - утверждения личного взгляда на мир в качестве общезначимой культурной ценности, и, соответственно, расширения культурного адресата от избирательной предвзятости ограниченного круга единомышленников знатоков самой сущности до ничем не ограниченной всеобъемлющей полноты потенциальновозможных зрителей средних способностей. Они отдают предпочтение разным способам достижения общезначимых эффектов восприятия, но легко их заимствуют и взаимно-обогащают друг друга находками средств эффективного воздействия на своих потенциальных адресатов. Выразительные средства этих стилей практически невозможно расчле¬
180
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
нить даже в наиболее характерных проявлениях, не говоря уже о промежуточных формах или о таком синтетическом феномене, как испанская живопись. Напряженная экзальтация барочной экспрессии выявляет и демонстрирует жесточайшую, почти нечеловеческую - «космическую» - упорядоченность. Взвешенная рассудочность приемов классицизма имеет целью наиболее верное приведение зрителя в состояние повышенного эмоционального тонуса - аффекта (Декарт). И для всех вариантов живописных выразительных средств характерна в это время взаимная эмансипация визуальных и ментальных компонентов семантики картины.
Аналогичные процессы протекают в это время в европейской поэзии, где яркая и даже избыточная метафоричность не затемняет более общепонятного, отчетливого и, в сущности, очень простого смысла, доступного любому «человеку средних способностей» и воспроизводимого в прозе. В это время предпринимаются попытки изложить прозой содержание гомеровских поэм, что было такой же гипертрофией приемов отчуждения смысла, полемически противопоставленных ренессансной привычке к «темным и таинственным» аллегорическим истолкованиям чего угодно, включая те же гомеровские поэмы, каким был непроницаемо-черный фон, съедающий форму «узнаваемых» предметов. Другим примером издержек гипертрофии полемических приемов можно считать разрушение пуританами шекспировского театра. Нечто подобное происходит в это время и в музыке, где внятный и выразительный речитатив и мелодия под гармонический аккомпанемент итальянской оперы, адресованные непосредственной впечатлительности слушателя, вытесняют многоголосую полифонию строгого стиля с ментально-нагруженными символическими фигурами, которые с трудом способен уловить на слух, понять и оценить в полной мере только сам исполнитель или, как минимум, хорошо подготовленный знаток.
Дополним эту иллюстрацию еще одним примером расширении культурного адресата индивидуальных усилий от определенности реальных потребителей до неопределенности потенциальных потребителей с далеко идущими последствиями. Возникающее в это время капиталистическое производство товаров на склад и на рынок без определенного адресата как норма производительной деятельности свидетельствует о существенном сдвиге системы культурных побудительных мотиваций в этой области товарного производства таком же как
О ПАРАДОКСАХ
181
и в области знания и зрительного восприятия. Производитель и потребитель взаимно эмансипируются. Между ними пролегает граница взаимной неоднозначности и отчужденности предшествующая в сознании людей факту продажи товара. Перестала быть необходимой какая-либо определенная связь между производителем и товаром и между товаром и потребителем кроме одной, но зато универсальной, общезначимой и независящей от обстоятельств обмена - численно выраженной стоимости. Рушится дряхлеющая система цеховых шедевров, концентрирующих на себе фиксированные атрибуты культурной значительности производимого продукта, предвзято связывающих производителя с потребителем и, тем самым, ограничивающих инициативу того и другого. Все разнообразные локально-значимые способы оценки культурноадресованной деятельности человека - этические, эстетические, политические, сакральные, символические, мифологически, цеховые и иные, связанные с контекстом события оценки и вовлекающие значение продукта в этот контекст, приносятся в жертву одной, но зато универсальной, общезначимой и независимой от вариаций релятивной заинтересованности оценивающего лица - оценке по размеру денежного капитала, отчуждаемого (в отличие от личного умения, эрудиции или достоинства) от своего обладателя. Ментальный объект оценки «очищается» от контекста человеческого существования подобно ментальному объекту механики, а принимаемая для оценки шкала стоимости имеет тот же отчужденно-релятивный характер, что и система декартовых координат для оценки механических перемещений, устанавливающая в каждом конкретном случае точки отсчета и масштабы, необязательные для всех случаев сразу.
Также как элементы позитивного знания или позитивной изобразительности, элементы позитивно-стоимостной оценки производительной деятельности уже содержались в культурной норме Ренессанса, но не были в ней специально выделены и очищены в качестве основных и универсальных способов оценки. Они входили в состав компонентов сложной, синкретической контекстуальной системы оценки неотчуждаемого личного достоинства и были подчинены в этой системе сакральным мотивировкам. Такое сакрализованное (в широком смысле) значение имеют размеры капитала, скажем, в системе бухгалтерии Луки Паччоли или в доктрине Кальвинизма как свидетельство избранничества их обладателя к спасению.
До сих пор в центре внимания находились факторы культурного сдвига, разделившего европейский Ренессанс и новую европейскую
182
Д. Н. ДУБНИЦКПП
культуру XVII и последующих веков. Необходимо теперь уделить некоторое внимание их преемственности.
Распространение нового способа культурной регламентации человеческой деятельности с обязательным требованием расширения культурного адресата и сопутствующими эффектами в качестве постоянно действующей нормы не могло быть таким эффективным, всеобъемлющим и полным, если бы европейская культура к этому времени уже не была к этому готова, т.е. не была переполнена той проблемой, которой Галилей, Декарт, Караваджо, Малерб и многие другие каждый в своей области дали определенное имя, способы разрешения и средства для реализации этих решений. Культура XVII века была прямым продолжением культуры Ренессанса в том смысле, что решала проблемы культурного существования человека, поставленные Ренессансом.
Новая критическая самодисциплина ума, зрения и поведения не была фактором доминанты культуры над личностью, как это было, скажем, в христианском средневековье, но фактором эффективной доминанты личности над культурой. Эго было дальнейшим логичным продолжением и развитием культурного индивидуализма, возведенного в норму ренессансной парадигмой культурного существования человека, именно: повышением функциональной роли индивидуального личностного компонента от ситуативной культурной значимости до безграничной культурной общезначимости.
Новая культура начала с того, что было концом Ренессанса. Она утвердила как исходную безусловную базу нормы то, что для человека Ренессанса составляло предмет специальной озабоченности - сознание необусловленной самостоятельности индивидуальной инициативы в качестве источника культурной значительности, и переместила заинтересованное внимание человека с факта самостоятельности инициативы на факт ее реальной эффективности, с утверждения ее значимости на достижение ее общезначимости, с культурно-адресованного усилия на его культурно-значительный результат.
Фиксация актуального контакта индивидуального человеческого сознания с миром не только за пределами этого состояния индивидуального сознания, но и за пределами сознания определенного человека - вот сущность новой культурной нормы, запечатленная в «cogito ergo sum» Декарта и в нескончаемых упражнениях Рембрандта по фиксации моментальных выражений собственного лица в качестве общечеловеческого достояния. Это означало фиксацию человеческого со¬
О ПАРАДОКСАХ
183
знания на границе, отделяющей себя от других, собственное сознание от культурно-значительного предмета сознания, собственное существование от существования мира. Культурный человек должен был в соответствии с новой нормой постоянно помнить об этой грани, искать ее и держать ее перед своими глазами.
Как ни близка нам культура XVII века, есть в ней нечто, что не вполне совпадает с нашим привычным мировосприятием и затрудняет нам ее адекватное понимание. Мы почти готовы ее воспринять, но не смогли бы уже в ней участвовать. В меньшей степени, чем для культуры Ренессанса, но нам все же приходится расчленять ее на понятные и не вполне понятные компоненты. Трудности ее адекватного понимания заключаются для нас в том, что взаимное отчуждение индивидуальных и общезначимых компонентов (в частности, отчуждение состояний сознания и предмета сознания) еще не было в этой культуре таким полным, каким оно стало позднее и к какому мы привыкли, полагая это полное отчуждение «законом мышления».
Осмысление восприятия мира в культуре XVII в. отличается от позднейшего сохранением связи с состоянием индивидуального сознания, а от ренессансного - характером этой связи. Она перестает быть непосредственной, но становится опосредствованной тем, что Декарт назвал правилами для руководства собственного ума - императивами «ясного понимания», разделяющими осмысленное восприятие на компоненты, воспроизводимые за пределами состояния индивидуального сознания - общезначимые и необщезначимые.
Культура XVII века еще продолжает удерживать унаследованный от Ренессанса «лишний» (с нашей точки зрения) сакральный компонент значения (в том числе знания), вовлекающий значение предметов человеческой деятельности и человеческого сознания в контекст его культурного существования. Меняется лишь характер этого сакрального компонента: его обязательным параметром становится отчуждаемая общезначимость. Эго сохранение сакрального компонента не было простым рудиментом прошлого, от которого можно легко освободиться. Напротив, оно была весьма существенным и неустранимым элементом новой культуры. Связь знания с персональным сознанием не обрывалась, а, напротив, фиксировалась.
Культурная норма, формирующаяся в XVII веке, требовала безграничного расширения культурного адресата индивидуальных усилий, но именно поэтому не могла мотивировать необязательность культур¬
184
Д. Н. ДУБНИЦКПП
ной адресованное™ человеческих усилий, считать достоинством отсутствие связей между индивидуальным сознанием и культурой и возводить в норму полноту их взаимного отчуждения.
Главным в этой норме были культурно-адресованные, по возможности более эффективные в этой своей адресованности усилия человека.
Помимо чисто количественного изобилия общедоступных продуктов этих усилий, приобретающих массовый характер, новая норма взаимоотношений между культурной инициативой ее потенциальным адресатом предопределила важные особенности внутренней структуры культуры этого времени: от более поздней культуры ее отличает то, что генетически связывает с Ренессансом, - разнообразные формы непосредственной вовлеченности существования человека в культурный контекст и, в частности, прямые связи его сознания с этим контекстом; от Ренессанса ее отличает то, что составляет основу последующего культурного развития, - существенное изменение характера связей с контекстом, которые превращаются из фактора релятивной вариабельности в фактор воспроизводимой и отчуждаемой стабильности культурно-обусловленных мотиваций поведения и, в частности, понятий и смыслов.
Эта культура унаследовала от Ренессанса в качестве своего существенного инградиента методы прямого воздействия на сознание других людей - репрезентативность, которая существенно усилила свой императивный характер, поскольку стала претендовать на безусловную общезначимость, универсальность и обязательность, регламентации культурно-значительного «демонстративного» поведения человека - от одежды до мысли, учитывающие постоянное присутствие потенциального адресата.
В области умозрения эта репрезентативность реализуется в императивном методологическом пафосе Бэкона, Декарта, Спинозы, Лейбница. Ньютона, создающих многочисленные правила для руководства ума и рассуждения о методе, требующие от человека критической самодисциплины. Методологический пафос, опережающий реализацию методологических указаний, овладевает теоретиками классицизма и барокко. От «рецептурной» эстетики Ренессанса манифесты новых теоретиков отличает универсальный, об щезначимый и обязательный характер новых правил, сменяющих полезные, но необязательные рецепты, послужившие для них генетическим прототипом. Это правила до¬
О ПАРАДОКСАХ
185
стижения рассчитанных и вполне определенных эффектов воздействия на любого потенциального адресата - читателя, слушателя, зрителя. Распространение вновь получают средства непосредственного воздействия на сознание адресата, способные напомнить о временах, предшествующих Ренессансу, - дидактика, риторика, назидательность, морализаторство, проповедничество. Но спутать их все-таки нельзя; восстановление в правах дидактики означало не реакцию, а путь вперед, с ее помощью в человеческое сознание внедрялась не традиция, а новация. Разновидностью новых дидактических средств следует считать «геометрический» метод, принятый Спинозой для изложения «Этики», и рассуждение Декарта, ставящее «понимание» факта впереди фактического знания о факте, далеко опережающее возможности экспериментальной проверки и приводившее Декарта не только к великим открытиям, но и многочисленным фактическим ошибкам (также как, впрочем, и Аристотеля). Однако, в отличие от открытий и ошибок Кеплера и Джордано Бруно, ошибки и открытия Декарта были открыты критической фальсификации, что было главной новостью культуры.
Живопись наследовала - и также усиливала - свои средства прямого воздействия на потенциального зрителя. Предельно-крупные планы, преувеличенная экспрессия движений, напряженная экзальтация поз, жестов, выражения лиц, театральная демонстративность мизансцен и интерьеров, выраженная упорядоченность композиционных приемов, утративших ментальную многозначительность правильных геометрических фигур, но от этого только выигравших в качестве мощного средства организации зрительных впечатлений, контрастность света и тени - все эти и другие подобные приемы были усилением и развитием средств выразительности, уже используемых художниками Ренессанса, с той разницей, что теперь их назначением стало приведение в состояние аффекта любого потенциально-возможного зрителя, наделяемого функцией пассивного восприятия. Вследствие изменения своего назначения эти проверенные в работе средства употребляются в сочетании с такими приемами изобразительности, какие никогда не употреблялись художниками Ренессанса. Можно отметить и некоторые более тонкие эффекты не до конца оборванной связи изображения с сознанием потенциального адресата, например, взгляды и жесты персонажей, обращенные к зрителю, или помещение позитивных изображений внутри позитивных изображений (например, автопортрет Анибалле Крач- чи, стоящий на мольберте в натуралистическом интерьере), заставляю¬
186
Д. Н. ДУБНИЦКПП
щие зрителя по несколько раз менять установку сознания, преодолевая ментальную границу между предметом и изображением предмета и обнажающие тот забытый ныне факт, что отчуждение позитивного изображения является результатом специальных усилий сознания.
Широко понятая репрезентативность была в это время постояннодействующим фактором культурного существования человека. Человек Ренессанса чувствовал свою связь с миром и жил в окружении реальных людей - единомышленников или врагов, предметов - Планет или Орлов, значимых событий, имеющих непосредственное отношение к его собственному существованию (даже если это события античной или священной истории). Человек XVII века остро переживает утрату непосредственной (актуальной) связи с окружающим миром. Он ощущает себя «мыслящим тростником» (Паскаль), заброшенным в мир на произвол судьбы, окруженным посторонними и чуждыми ему людьми, предметами, пространствами в чуждом и необратимо ускользающем времени. Культура XVII века переполнена жалобами на несовершенство мира и собственную ничтожность в нем. Они становятся общим местом - блуждающим сюжетом нового интеллектуального фольклора культурных людей, независимо от того, где они живут - в разрушенной войной Германии или в благополучной и цветущей (до поры) Англии. Но зато свою потенциальную связь с этим чуждым миром человек чувствует также остро и постоянно. Он практически никогда не остается наедине с собой и живет как актер на сцене под отчужденными взглядами зрителей. Он приучается смотреть на самого себя так же, как и на весь мир - со стороны, как смотрят в зеркало: отчужденным, критическим и оценивающим взглядом других людей, даже если вокруг фактически никого нет - на свое лицо, одежду, привычки, характер, внутрь собственного сознания, сенсорного восприятия, эмоционального возбуждения. Рационалист Декарт, моралист Лярошфуко, неутомимый портретист самого себя Рембрандт, король-солнце заложник версальского этикета Людовик XIV, поборник абсолютного «естественного» права Кромвель, энтузиаст строгого единства времени, места и действия Малерб - каждый в своей области деятельности реализуют требования одной и той же культурной нормы поведения. Строитель «Града на холме» в Новой англии Джон Уинтроп записывает в своем дневнике на борту «Арабеллы», везущей «отцов-основателей» подальше от Европы: «Мы должны иметь ввиду, что будем подобны городу на холме и глаза всех будут устремлены на нас. поэтому если мы будем кри¬
О ПАРАДОКСАХ
187
вить душой перед Богом в деле, которое мы начали, и, таким образом, вынудим его лишить нас помощи, которую Он нам сейчас оказывает, мы ославим себя и станем притчей во языцах для всего мира, мы откроем уста врагов для хулы Господа и всех деяний во имя Бога».
Пользуясь физической терминологией (и это не будет простой метафорой), можно сказать, что если человек Ренессанса ощущал себя точкой отсчета и масштабом событий мира, актуальным соучастником которых он является, то человек культуры XVII века продолжает ощущать себя точкой отсчета и масштабом событий, но уже несколько иного мира, где его собственное присутствие не является обязательным, т. е. отчуждаемого мира, адекватно представляемого, скажем, декартовой системой координат и независимого от выбора начала, направления и масштаба этих координат. В отличие от человека Ренессанса человек культуры XVII века уже отказался от обязательной связи мира с собственным сознанием и существованием, но, в отличие от нас, делает это во имя связи мира с сознанием любых других потенциальновозможных наблюдателей, в число которых входит и он сам. Он еще не стремится представить мир совсем независимым от всяких наблюдателей (хотя и создает базу для такой возможности, реализованной позднее), но уже стремится представить мир независимым от любого конкретного наблюдателя, прежде всего - от самого себя.
Культура XVII века не освободилась еще от свойственного своей генетической предшественнице «лишнего» (с нашей точки зрения) семантического нагружения фактов и событий, ставших предметом человеческого внимания, их до- и переосмысления, придающего им «сакральную» (в широком смысле слова) значительность в контексте человеческого существования и удерживающего их в этом контексте. Напротив, это доосмысление стало даже более заметным, более явным и демонстративным в силу того, что стало более определенным, однозначным и воспроизводимым, будучи несколько принудительным соединением инградиентов, способных существовать независимо друг от друга: ментального объекта осмысления, устойчивого по отношению к вариациям потенциальных осмыслений, и ментального императива интерпретации, инвариантного по отношению к потенциальным объектам интерпретации. Эго осмысление перестало быть принадлежностью контекста личного существования человека и стало параметром общекультурного, т. е. неопределенно-личного контекста.
Мы уже упоминали о широком распространении в это время сборников «эмблем», в которых изображения наделяются вполне опре¬
188
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
деленным, вербально-зафиксированным смыслом, облегчающим их единообразное и воспроизводимое понимание любым потенциальновозможным зрителем (что существенно отличает их от ренессансных гротескных ребусов с «таинственным» смыслом, доступным только посвященным избранникам). Этому массовому варианту народного рационализма соответствовал неотъемлемый «метафизический» компонент семантики самых высоколобых, значительных и изощренных проявлений культурной деятельности - живописи Рембрандта и Пуссена, поэзии Герберта и Мильтона, драм Корнеля и Кальдерона, умозрительных размышлений Декарта, Паскаля и Спинозы, музыки Монтеверди и Щютца. Провиденциальному истолкованию подвергались самые незначительные бытовые факты, события и впечатления существования человека (дуновение ветра, колебания пламени свечи и т. и.), его производственная и экономическая деятельность. Компонент рациональных осмыслений в искусстве барокко также силен и важен, как и в искусстве классицизма. Все это - наследство Ренессанса, используемое, однако. в новой культурной функции: не для пополнения вариаций многозначной семантики, а для фиксации ее воспроизводимой определенности. Ментально - рациональный компонент семантики несет здесь на себе груз универсальной общезначимости и реализуется в разнообразных формах упорядоченности и гармонии всемирных «космических» масштабов, так или иначе, но всегда непосредственно связанных с индивидуальным существованием человека, осознавшего себя личностью. «Мистический натурализм» Ренессансаимел свое продолжение в «мистическом рационализме» культуры XVII века.
«Мистический» компонент рационализма этого времени состоял в прямой связи рациональности с состоянием индивидуального сознания человека. В отличие от более позднего времени рациональность не была еще общечеловеческим достоянием, вполне отчуждаемым от индивидуального сознания и противостоящим обстоятельствам человеческого существования, но была личным человеческим переживанием - актом осуществления мысли, подчиненной критической самодисциплине ощекулыурной адресованности, требующим специальных, каждый раз возобновляемых и довольно значительных усилий.
Этим людям было очевидно то, что позднее перестало быть заметным: культурная обусловленность усилий рационального осмысления, привязывающая их к локальному культурному контексту, который воспринимается соучастниками как «новый» в отличие от «старого», несмотря на достоинства общезначимости. Зато им не была очевидной
О ПАРАДОКСАХ
189
универсальная общезначимость результатов мысли, которая уже была для них сознательной целью, но не стала еще безусловным фактом. В глазах человека XVII века позитивные понятия, утверждения, изображения наделены культурной функцией и значительностью в силу способности выполнять эту функцию. Расчленение сознания и предмета сознания, мышления и объекта мышления, знака и смысла, знания и носителя знания, онтологических и гносеологических точек зрения для него еще не очевидный факт, а предмет самостоятельных личных усилий сознания, которые и являются предметом нормативной культурной мотивации - предметом «Этики». Непосредственной данностью сознания как раз является для него слишком тесная соединенность перечисленных инградиентов, взывающая к возобновлению усилий расчленения. Взаимное освобождение их для него не состояние, а поступок.
В частности, в глазах человека культуры XVII века предметы человеческого внимания еще не вполне освободились от этого внимания, их отчуждаемая устойчивость к вариациям избирательной заинтересованности есть результат не свободы от этой заинтересованности, а фиксация этой заинтересованности до состояния общекультурной значительности, не обрыв связи с состоянием собственного сознания, а фиксация этой связи в качестве общезначимой.
Соответственно, пространство, в котором перемещаются такие предметы фиксированного внимания, еще не освободилось совсем от этих предметов; это форма реализации универсального атрибута существования - «протяженности». Пространство Декарта не пусто, а переполнено, в нем не просторно, а тесно.
«Субстанция мыслящая и субстанция протяженная составляют одну и ту же субстанцию, понимаемую в одном случае под одним атрибутом, а в другом под другим». «Душа и тело составляют один и тот же индивидуум, представляемый в одном случае под атрибутом мышления, в другом - под атрибутом протяжения» (схолии к теоремам 7 и 21 «Этики» Спинозы).
То же самое относится ко времени. Время, с которым человек Ренессанса (скажем, Монтень) находился в самом тесном и интимном контакте, свободно выбирая в нем события, непосредственно относящиеся к его собственному существованию, и не делая слишком больших различий для переживаемого настоящего, сакрализованного прошлого и провиденциального будущего, связывая их между собой и даже, подчас, путая их, переживая в настоящем прошлое или будущее.
190
Д. Н. ДУБНИЦКПП
или то и другое сразу. - это время сознанием человека XVII века четко разделяется на неудержимо-преходящий «мимолетный» (Паскаль) актуально-переживаемый момент настоящего и отчужденную длительность недоступного прошлого и будущего. Однако, также как и в случае с пространством, время не превратилось еще для него в пустое вместилище событий, безразличных к его собственному существованию. Напротив, одновременность событий во времени - «единство времени» - было для него расширением до космической беспредельности значения самого главного события его существования - актуально и непосредственно переживаемого «мимолетного» момента времени, связывающего его со всем миром. Прошлое и будущее были для него наполнены такими же онтологически-важными фиксируемыми в сознании событиями, но только (в отличие от актуального настоящего) потенциально-возможными. Идея непрерывности времени, свободного от событий, столь «естественная» была для этих людей почти непреодолимым препятствием к пониманию, требующим, как минимум, специальной громоздкой аргументации, не всегда убедительной.
По сравнению с Ренессансом менялся не факт «сакральной» (т. е. культурно-мотивированной и культурно-санкционированной) избирательности внимания, но ментальные объекты «сакральной» избирательности: место значимых «предметов» и «событий»; изъятых из пространства и времени, занимали значимые ситуации существования «предметов» внимания как событий в единстве определенного места и определенного времени.
Наконец, следует отметить еще одну важную особенность культуры XVII века, унаследованную от Ренессанса и доведенную до уровня универсального принципа, суммирующую в себе все остальные: ее драматическую парадоксальность.
Парадоксальность непосредственно заложена в норме этой культуры, которая требует от человека сразу двух несовместимых вещей: соучастия в культуре и отчуждения ее от себя или, лучше сказать, требует соучастия путем отчуждения.
Строго говоря, любые человеческие усилия по установлению контакта с культурой являются парадоксальными, но эта парадоксальность становится демонстративной и заметной самому соучастнику событий, когда осознанной целью контакта является противопоставление себя независимой от себя культуре и культурно-осмысленному миру, а общезначимые культурные императивы сознания представляются фиксацией личных необусловленных усилий самого сознания.
О ПАРАДОКСАХ
191
Человек культуры XVII века жил в состоянии парадокса и, в отличие от слабонервных первооткрывателей парадоксов теории множеств, прекрасно это сознавал, что превращало сознательное существование человека в постоянный драматический конфликт с действительностью. Норма удерживала сознание человека непосредственно на релятивной границе между личностью и культурой, между «я» и «все остальные», которую сознание человека - носителя этой нормы должно постоянно преодолевать, но не может преодолеть раз и навсегда.
Противоречие между необусловленной самостоятельностью культурного существования человека и обязательной общекультурной вне- личной значительностью его самостоятельных усилий не позволяет человеку ни соединиться с культурой вполне, ни освободиться от регламентации ее императивов, и сообщает всей культуре XVII века повышенный градус личного возбуждения, драматической напряженности и лихорадочной экзальтации в сочетании с внеличной - космической - упорядоченностью и сухой рассудочностью форм, в которые выливается это личное возбуждение. Это был парадокс неподконтрольного культуре эгоцентризма, зафиксированного в качестве императивной культурной нормы.
Жизнь человека в культуре была исполнена парадоксов и главным из них был постоянно и остро переживаемый парадокс связи самых интимных сторон личного бытия с внеличной отчужденностью культурно-санкционированных форм этого бытия, в частности, парадокс связи состояния собственного сознания с порождаемой этим сознанием универсальной общезначимостью форм осмысления мира, отчуждаемых не только от определенного состояния собственного сознания, но и от факта существования любого из носителей сознания, открывшийся, скажем, в «Метафизических размышлениях» Декарта.
Парадоксами были: сочетание сознания собственной исключительности и даже собственного провиденциального избранничества с полным пониманием и глубоким переживанием собственной ничтожности, необязательности, бессилия, и заброшенности; утверждение неподконтрольной самостоятельности человеческой инициативы в формах жесткой регламентации не только внешней, но внутренней жизни человека; открытое неприятие любых форм принуждения при энтузиазме добровольного подчинения универсальным и общеобязательным императивам, почитаемым «естественными» законами; повышенная эмоциональная возбудимость и слезливая чувствительность молит¬
192
Д. Н. ДУБНИЦКПП
венных экстазов, призванных утвердить человека в сурой трезвости, мелочной и даже циничной расчетливости, понимаемой как исполнение провиденциального долга; доктрина свободного предпринимательства и стремление к безграничному обогащению, требующие от предпринимателя самоотверженного личного аскетизма; трагическое педалирование конфликтов чувства и долга.
В области интеллектуальной деятельности парадоксом были необусловленные усилия разума, направленные на создание и соблюдение критической самодисциплины безусловных «правил для руководства ума», требующих самоустранения автора мыслительных усилий из области общезначимых результатов этих усилий. Драматическим противоречием было возведение в принцип недоверия разума к самому себе Паскалем, радикального сомнения в собственном существовании Декартом и отказа от права «навязывать свой словарь другим» при сохранении права «создавать для себя собственный словарь» «Логикой Пор-рояля». Драматической проблемой культуры на долгое время стало воссоединение с действительностью существования человека позитивного знания, отчужденного от этого существования.
Парадоксальность сочетания необходимости наблюдателя мира - для определения точки отсчета, направления и масштаба расстояний - с необязательностью этого наблюдателя для описания механических перемещений «тел», зафиксированное в декартовой системе координат - эта парадоксальность одновременной включенности и выключен- ности человека из мира, почти не заметная для нас, была источником драматических глубоко личных переживаний человеком XVII века парадоксальности собственного существования - собственного присутствия в чуждом мире. Напомним в этой связи еще раз знаменитое рассуждение Паскаля: «Когда я размышляю о мимолетности моего существования погруженного в вечность, которая была до меня и пребудет после, и о ничтожности пространства, не только занимаемого, но и видимого мной, пространства, растворенного в безмерной бесконечности пространств, мне неведомых и не ведающих обо мне. - я трепещу от страха и спрашиваю себя - почему я здесь, а не там, ибо нет причины мне быть здесь, а не там, нет причины быть сейчас, а не потом или прежде. Чей приказ, чей промысел предназначил мне это время и место? (Мысли, 205). Самоустранение наблюдателя из наблюдаемого мира, которое мы выполняем почти автоматически, огорчаясь не факту своей изоляции от мира, а ее недостаточной полноте, было в культу¬
О ПАРАДОКСАХ
193
ре XVII века сознательным персональным «поступком», наделенным общекультурной значительностью, и по характеру своей культурной функции лежащим очень близко к сакральному ритуалу. Акт самоустранения был актом присутствия человека в мире.
С культурной нормой Постренессанса случилось то же самое, что некогда случилось с нормой Ренессанса и что рано или поздно случается с каждой из многочисленных разновидностей норм, регулирующих человеческое поведение: она утратила способность фактически регулировать человеческое поведение, причем эта утрата явилась следствием причин не внешних, а внутренних. По мере усвоения новой нормы не просто количественно расширяется круг ее адептов, но меняется также и ее функция в сознании ее носителей. Будучи вначале реакцией людей на определенную ситуативную совокупность обстоятельств их культурного существования, т.е. компонентом локального контекста и атрибутом избранничества соучастников локальной «порождающей» ситуации, складывавшаяся норма по мере ее усвоения и распространения освобождается от связи с породившими ее обстоятельствами и приобретает в глазах ее адептов значение самостоятельного внеситуативного фактора, действующего не зависимо ни от каких обстоятельств, представляясь носителям нормы универсальной мотивационной базой культурного существования человечества. При этом фактическая социальная база этой нормы, возможно, будет еще достаточно далека от универсальной. Универсальная значимость нормы - не эмпирический факт, а культурная функция нормы как регулятора поведения ее носителей. Однако эта функция безусловного категорического императива не может осуществляться бесконечно. Рано или поздно становится заметным не только стимулирующий и продуктивный характер нормы в таком функциональном состоянии, но и ее ограничительный характер. Функциональное освобождение нормы от обстоятельств индивидуального человеческого существования сменяется освобождением индивидуального существования из-под контроля стереотипов действующей нормы. Постоянно норма утрачивает самостоятельные мотивационные потенции и возвращается в зону релятивности. Она превращается в сознании людей в обыденную привычку, не способную самостоятельно привлекать и удерживать внимание человека независимо от обстоятельств, но способную существовать неопределенно долго в той степени, в какой она не противоречит реальным обстоятельствам человеческого существования или мотивируется обстоятельства-
194
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
ми локальной ситуации. Но. утрачивая свои продуктивные функции, реально-существовавшая норма не утрачивает своего исторического значения как фактор локального культурного контекста. Ее функционирование не проходит бесследно: она порождает в среде своих бывших носителей новую норму, связанную с ней генетически тем, что новая норма эксплуатирует затруднения и противоречия старой как аргументы для своего утверждения и распространения.
Где-то к концу XVII века (совпадение с гранью веков снова случайно) культурная норма постренессанса исчерпала свои мотивационные потенции. По мере успешного усвоения и распространения этой нормы задача расширения культурного адреса индивидуальных усилий была практически решена, потеряла свою актуальность и отошла на второй план, уступая место иным культурным задачам. Культурное внимание к индивидуальным усилиям и возобновляемым контактам индивидуального человеческого существования с культурой становилась анахронизмом, таким же, как в начале века выглядели попытки Кеплера удержать связи наблюдаемого мира с сознанием наблюдателя. Новая культурная норма окончательно переносит внимание с культурноадресованных усилий человека на их конечные общезначимые результаты. Эго не означает, что такие усилия перестают быть нужными, это означает, что культура перестает замечать и контролировать что-либо, помимо отчуждаемых результатов этих усилий, а усилия сами по себе (скажем, усилия понимания) теряют культурный интерес. Мотивировки таких усилий рассыпаются на локально-значимые стереотипы перестают быть постоянно-действующим фактором культурной жизни. Их еще можно узнать в «мистическом рационализме» массонских лож, в умилительных восторгах Бенжамена Франклина перед долларом, не истраченном, а пущенном в оборот, в сакральном символизме Моби Дика, но все это уже есть не более, чем повторение пройденного, консервация культурных форм, родившихся намного раньше и утративших значение нормы в условиях иного культурного контекста.
Ментальная граница взаимной неоднозначности между личностью и культурой, проведенная постренессансом, расширяется до размеров непроходимой пропасти. Культурным адресатом человеческих усилий становятся не просто потенциально-возможные люди, а все поколения людей прошлых и будущих веков сразу: культурный адрес становится абсолютным. Если человек культуры XVII века ощущал себя проповедником, оратором или актером в окружении слушателей и зрителей.
О ПАРАДОКСАХ
195
подлежащих приведению в состояние единообразного аффекта, то человек культуры XVIII века находится «наедине с человечеством» всюду. включая необитаемый остров. Наступает «Век просвещения» с его уверенностью в том, что Истина. Закон. Справедливость всегда одни и те же для всех людей во все времена и не зависят от обстоятельств.
Нормативная связь между сознанием и предметом сознания, знаком и значением, знанием и носителем знания окончательно обрывается, их взаимная эмансипация становится нормой. Человек - наблюдатель и интерпретатор мира окончательно выпадает из наблюдаемого времени и пространства. Общий сдвиг эпистемологической нормы заметен по тому, что в сознание людей входят новые ментальные конструкции - абсолютное «пустое» время, независимое от событий, и абсолютное «пустое» пространство, независимое от присутствия в нем предметов и, тем более, наблюдателей. Именно в это время утрачивается способность зафиксировать в общезначимых понятиях и категориях необратимость времени. Абсолютные пространство и время, предложенные впервые Ньютоном, встретили и о началу критическое сопротивление всей континентальной науки, сохранявшей верность картезианским принципам, но уже к середине XVIII века были усвоены до такой степени полно и некритически, что дали основание Канту увидеть в них абсолютные категорические императивы человеческого восприятия мира. Они и были таковыми в действительности в те времена (это можно проверить независимо от Канта) с тем уточнением, что их нормативная категоричность была не абсолютной, а локальноисторической культурной функцией. Она существовала не всегда и рухнула еще при жизни Канта и не без участия его критической метафизики, возвратившей утраченное было понимание связи отчуждаемых и культурно-общезначимых форм понимающего восприятия мира с индивидуальным сознанием (вместе с парадоксами такой связи), обнажив их императивную функцию по отношению к этому сознанию. После этого понимания индивидуальному сознанию оставалось только освободиться от подчинения ограничительной регламентации общезначимых императивов, что и последовало очень скоро. Но это уже было концом «просветительской» нормы, начало которой мы обсуждаем и культурной задачей которой было именно вычленение, отчуждение и обособление абсолютно-общезначимых форм культурноадресованного поведения человека от его сознания и существования, в связи с чем связи этих компонентов должны были оставаться за преде¬
196
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
лами культурно-обусловленного внимания (точно также, как они остаются ныне за пределами формализованных непротиворечивых систем).
Эволюция представлений о пространстве и времени может служить удобным индикатором эволюции эпистемологической нормы, но. конечно, она не была единственным проявлением этой эволюции, состоящей в интересующую нас эпоху в последовательном и окончательном расчленении гносеологических и онтологических аспектов восприятия мира. Эго расчленение принесло с собой новые проблемы: солипсизм, не встречающий опровергающих аргументов.
Как и во всех предыдущих случаях сама эволюция эпистемологической нормы была выражением, реализацией и свидетельством эволюции более широкой нормы взаимоотношений человека с культурой, проявляющей себя в широком спектре вновь возникающих и уходящих с первого плана явлений культурной жизни.
Эго заметно, например, по тому, что культура освобождается от нормативной обязательности прямых связей между человеком и культурой и сопутствующих этим связям эффектов: навязчивой репрезентативности, назидательности, дидактики, методологического пафоса. Ментальные, сенсорные, эмоциональные компоненты значительности окончательно освобождаются друг от друга. В живописи перестают быть правилом и характерной особенностью явно-выраженные крупные передние планы с персонажами, стоящими в экспрессивных театральных позах у самого среза рамы. Изображения отодвигаются далеко от зрителя и, если так можно выразиться, гомогенизируются в том смысле, что не дают оснований для избирательного расчленения изображения на более важные и менее важные компоненты: лица, позы, сами персонажи, детали пейзажа или интерьера, цветовые и световые пятна, складки драпировок - все приобретает более или менее равное значение и равное право на внимание зрителя, одинаково индифферентное к его специальным интересам и отчужденное от его ментальных и эмоциональных состояний.
На этом эволюция нормы новой европейской культуры не кончается. Однако в пределах скромных задач настоящей иллюстрации неединственности культурных норм нет места для систематической истории европейской культуры*. Ограничимся этим кратким намеком на возможность такой истории. Скажем только в заключение, что куль* Подробности этой эволюции можно найти в книге: Д. Н. Дубницкий. Факторы культурной мотивации. СПб., Алетейя, 2009.
О ПАРАДОКСАХ
197
турная ситуация рубежа XIX-XX веков, с которой начата настоящая работа, была порождением и дальнейшим естественным развитием культурной нормы, начало которому было положено Ренессансом, перенесшим заинтересованное внимание культуры с мотивов поступков человека на их результаты и наделившем самостоятельную и самосознающую человеческую личность способностью быть не только носителем норм культурной регламентации поведения, но быть единственным источником любых форм культурной жизни.
Ввиду важности этого культурного рубежа уделим некоторое внимание предыстории европейского Ренессанса.
Античный вариант нормы
Античное мировоззрение дает другой пример культурной нормы ментальной связи индивида и социума, достаточно близкой нам, почти совпадающей, но все-таки не вполне совпадающей с нашей нормой или, лучше сказать, сужая круг понятий во имя большей определенности (поскольку «наша норма» - понятие не слишком определенное и подверженное эволюции), не вполне совпадающей со строгой эпистемологической нормой новой европейской науки.
Современного исследователя античной науки не покидает ощущение, что при всем блеске античной математики, физики, астрономии и медицины, эта наука в чем-то важном не дотягивает до «настоящей» науки, останавливаясь на пол дороге к научному познанию мира. Она не выработала в себе понятия эксперимента с воспроизводимым результатом, она не пользовалась инструментальными методами исследования, она почти никогда за очень редким исключением не использует своего знания практически, останавливаясь на этапе осмысления, ее великая математика почти не используется для выражения результатов физических наблюдений, которые остаются качественными осмыслениями. Естествознание идет от данных непосредственных впечатлений через умозрительное истолкование сразу к предельным метафизическим обобщениям, которые невозможно ни подтвердить ни опровергнуть. Позитивные результаты «научного» познания в позднейшем смысле этого слова присутствуют в античном знании, но их приходится насильственно вычленять - и сделать это не всегда возможно практически - из натурфилософии и спекулятивной метафизики. Понятия не отделены четко от объекта понятий, гносеологические категории используются как онтологические.
198
Д. Н. ДУБНИЦКПП
В то же время античная наука включает многое такое, что решительно отвергает эпистемологическая норма современной науки - различные формы герметического и «таинственного» знания, требующего от своих адептов ритуальных процедур мистического сопричастия и способности к истолкованиям значения смыслоносных знаков.
Все эти претензии современного сознания к античной науке можно суммировать, указав более точный адрес нашей неудовлетворенности: отсутствие в ней критериев строгой фальсифицируемости знания, освобождающих «научное» знание от связей с состоянием сознания его носителя и с обстоятельствами познания.
С подобной особенностью эпистемологической нормы и ее характерными следствиями мы уже имели дело при рассмотрении культуры Ренессанса. В основе античного мировоззрения лежит эпистемио- логическая норма, которая - в отличие от нормы современной науки и подобно норме ренессансной культуры - не отвергала естественного соучастия сознания наблюдателя в событиях мира и не требовала строгого отчуждения знания от сознания его носителя. Более того, она (так же подобно норме ренессансной культуры) требовала обязательного наличия этой связи в качестве условия культурной санкции результатов умственных усилий, именно: той специальной разновидности этой связи - достаточно свободной, взаимно-неоднозначной, но неустранимой, - которая связывает сознание живого человека и культурную норму поведения этого человека. Античность не знала требования полной секуляризации знания, подобного парадигме знания новой европейской науки, - требований знания факта, совершенно индифферентного к факту существования сознания носителя знания. Она лишена интереса к специальному коллекционированию таких фактов, оторванных от мотивов и обстоятельств их получения. Зато она знала требование соответствия поведения человека и его сознания норме и стимулировала получение знания в таких формах, которые позволяли ему выполнять функции нормы по отношению к индивидуальному сознанию реально-существующих людей. Культурной (в том числе эпистемологической) нормой античности была культурная нормативность.
Связь знания с сознанием носителя знания с точки зрения человека античной культуры не недостаток, подлежащий устранению, но важное, более того - необходимое достоинство. Наши попытки вычленить в античной натурфилософии строго фальсифицируемые и секуляризированные компоненты, удовлетворяющие нашим критериям зна¬
О ПАРАДОКСАХ
199
ния, - это насильственная деформация, приводящая не к пониманию, а к утрате понимания действительных мотивировок получения, распространения и поддержания знания, подобная насильственной деформации, совершенной наукой XVII века при вычленении эмпирических законов движения планет из «Гармонии Мира» Кеплера.
Современному человеку кажется, что античное значение несколько задержалось на пути к полному отчуждению от сознания своего носителя на дидактической стадии, безусловно необходимой при возникновении нового или усвоении старого знания, но подлежащей преодолению без остатка в норме представления знания. Но для античного сознания такой последний шаг к полному отчуждению знания не только не нужен, но и прямо противопоказан, он противоречит действующей эпистемологической норме. Эта норма требует не отчуждения знания от индивидуального сознания, а превращения его в императивный регулятор состояний индивидуального сознания. Античное знание имеет дело не с отчуждаемыми результатами усилий познания (как это предполагает наша наука), достигнутыми всем без исключения, а именно с фактом этих усилий и с сознанием живого человека, реализующего «понимание», переходящего от состояния «непонимания» к состоянию «понимания».
Античное познание адресовано несколько иначе, чем познание новой европейской науки: не всем сразу, а всем, желающим обладать этим знанием. Разница, возможно, не так уж велика, но она все-таки есть и ее можно обнаружить. Наиболее точно этому способу адресо- ванности соответствует речь оратора перед собранием народа, побуждающего народ к определенным действиям, или лектора, убеждающего свою аудиторию встать на определенную точку зрения. Риторика как форма культурной жизни играла в античности очень важную роль и непосредственно, но реализованная в ней модель взаимоотношений индивидуума и культуры продолжалась далеко за пределы ораторского искусства. Она проявляет себя в способе философствования перипатетиков и софистов, в сократических диалогах, редко завершаемых определенными выводами, в нескончаемом коментаторстве текстов великих предшественников, в наставничестве, учительстве, поучительстве и дидактичности, в распространенном жанре нравственных писем к псевдо-определенному адресату, в театральных представлениях.
Эта модель взаимодействия человека с культурой путем непосредственно императивного воздействия на других людей затрагивала не
200
Д. Н. ДУБНИЦКПП
только внешние формы познавательности. но реализовалась и в самой структуре знания. На ее счет следует отнести выраженное стремление к возможно более убедительной экстраполяции от очевидностей непосредственных впечатлений сразу к предельно общим умозрительным принципам, главным достоинством которых (если не единственным) является «понятность», не обязательно сопровождаемая универсальной общезначимостью и проверяемостью, стремление к осмыслению. рассуждению, объяснению, доказательству, т. е. стремление к прямому императивному воздействию на состояние сознания адресата, от которого требуются ответные самостоятельные усилия, позволяющие ему лично пережить (точнее - переживать) состояние «понимания». Утверждения античных мудрецов предполагают в их адресате не способность к критической экспериментальной проверке, отчуждающей знание от его носителя, а способность к неотчуждаемым переживаниям «состояния истинности» этих утверждений. Главным достоинством знания в античности считалась не отчуждаемая воспроизводимость, а неотчуждаемая понятность.
Чтобы не быть голословными, предоставим слово свидетелю осведомленному и авторитетному - Платону, хорошо описавшему характерные особенности и объяснившему специальные достоинства такой эпистемологической модели и способа адресованности:
«С о кр ат: «...Придя к царю, Тевт показал свои искусства и сказал, что их надо передать другим египтянам... По поводу каждого искусства Тамус много высказал Тевту хорошего и дурного... Когда же дошел черед до письмен, Тевт сказал: «Эта наука, царь, сделает египтян более мудрыми и памятливыми, так как найдено средство для памяти и мудрости».
Царь же сказал: «Искуснейший Тевт, один способен порождать предметы искусства, другой судить, какая в них доля вреда или выгоды для тех, кто будет ими пользоваться. Вот и сейчас ты, отец письмен, из любви к ним придал им прямо противоположное значение. В души научившихся им они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами... тот, кто рассчитывает запечатлеть в письменах свое
О ПАРАДОКСАХ
201
искусство, и кто, в свою очередь, черпает его из письмен, потому что оно будто бы надежно и прочно сохраняется там на будущее. - оба преисполнены простодушия и, в сущности, не знают прорицания Аммона, раз они записанную речь ставят выше, чем напоминание со стороны человека, сведующего в том, что записано... В этом, Федр, дурная особенность письменности, поистине сходной с живописью: ее порождения стоят как живые, а спроси их - они величаво и гордо молчат. То же самое и с сочинениями: думаешь, будто они говорят, как разумные существа, но если кто спросит о чем-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда отвечают одно и то же. Всякое сочинение, однажды записанное, находится в обращении везде - и у людей понимающих и, равным образом, у тех, кому вовсе не подобает его читать, и оно не знает, с кем оно должно говорить, а с кем нет. Если им пренебрегают или несправедливо его ругают, оно нуждается в помощи своего отца, само же не способно ни защититься, ни себе помочь... Что же, не взглянуть ли нам, как возникает другое сочинение, родной брат первого, и насколько оно по своей природе лучше того и могущественнее?
...Это то сочинение, которое по мере приобретения знаний пишется в душе обучающегося', оно способно себя защитить и при этом умеет говорить с кем следует, умеет и промолчать.
Федр: Ты говоришь о живой и одушевленной речи знающего человека, отображением которого справедливо можно назвать письменную речь?
Сократ: Совершенно верно ...
Когда он (человек, обладающий знанием справедливого, прекрасного, благого) пишет, он накапливает запас воспоминаний для себя самого на то время, когда наступит старость - возраст забвения, да и для всякого, кто пойдет по его следам... Но еще лучше, по-моему, станут такие занятия если пользоваться искусством диалектики: взяв подходящую душу, такой человек со знанием дела насаждает и сеет в ней речи, способные помочь и сами себе и сеятелю, ибо они не бесплодны, в них есть семя, которое родит новые речи в душах других людей, способные сделать это семя навеки бессмертным, а его обладателя счастливым настолько, насколько может быть человек.
(«Федр», 274-277)
Описанный Платоном способ реализации знания, не освобождающий, а соединяющий знание с сознанием носителя этого знания, предопределяет некоторые важные характерные особенности такого зна¬
202
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
ния и способов его фиксации, заметно отличающие его от более привычных нам форм отчуждаемого знания новой европейской науки. Эго знание релятивно, т. е. неокончательно и не общезначимо, оно «сакра- лизовано» (в широком смысле), т. е. погружено в культурный контекст существования его носителя, оно «таинственно» (в том смысле, какой вкладывал в «таинственность» числа «два» Джордано Бруно), т. е. требует усилий живого интерпретатора, оно синкретично и императивно нт. д. - все эти особенности мы уже имели случай наблюдать, рассматривая эпистемологическую норму Ренессанса (отличия будут обсуждаться специально несколько позже).
Понимание мира реализуется человеком античной культуры в таких понятиях и категориях, значение которых не является чем-то окончательным, общезначимым, устойчиво-воспроизводимым и независимым от обстоятельств использования, но, напротив, погружено в ситуацию использования, представляя собой неисчерпаемую совокупность своих возможных реализаций в различных контекстах, подобно «таинственному» смыслу числа два в диалоге Бруно. Именно такова структура семантики основных оперативных понятий античного умозрения - «логоса», первоэлементов «земля», «огонь», «воздух», «вода», чисел, правильных геометрических фигур и пропорций, квазиэмпири- ческих категорий гипиократовой медицины. Эти понятия и категории призваны соединять понимающее сознание человека с понимаемым миром, а не освобождать их друг от друга. Человек, воспитанный в такой культурной традиции, должен узнавать «логос», первоэлементы, определенные числа, фигуры, пропорции и т. и. всюду, где бы он их не встретил, со всем шлейфом возможных вариабельных культурно- обусловленных прошлых и будущих реализаций - в небе, на земле, в макро- и микро- космосе, в повседневном быту, в ритуале или обряде.
Первоэлементы «вода», «земля», «воздух», «огонь» в античном сознании уже утратили строго канонический ритуальный мысл, но еще не освободились от культурной сакральности в качестве культурно- зафксированных императивов интерпретации осмысленных восприятий и впечатлений - понятийные комплексы, наделенные значением только в культурном контексте и призванные вовлечь в этот контекст те явления, в которых они могут быть «узнаны». Также как «Орел» для Альдрованди не только птица, первоэлемент «Вода» для античного сознания не только физическое тело, но все то, что можно сказать о воде, включая ее физический свойства, способные представлять интерес для
О ПАРАДОКСАХ
203
человека - бесформенность и способность принимать любую форму, текучесть, прохладность, способность очищать тело от грязи и утолять жажду, альтернативность «огню», но также и непосредственно культурные функции в частности, мифологизированные (но не только) и ни одну из этих потенциально-возможных интерпретаций нельзя исключить из семантики понятия «вода» в создании человека античной культуры. Хотя в каждом конкретном случае использования понятия может доминировать одно определенное или группа близких значений, оно никогда не исчерпывает значения даже в этом конкретном случае. Римский плебей также как и Аристотель никогда не забывали о синкретической многозначности «Воды», даже когда просто пили ее или умывали руки. Понятие «вода» наделялось дополнительной (с нашей точки зрения) сакрализующей добавкой значения, вовлекающей его в контекст культурного существования человека, или, что более точно, понятие «Вода» не очищалось от вариабельной заинтересованности, руководящей избирательным вниманием человека и ответственной за культурную значительность предмета этого внимания. Культурная норма античности не требует освобождения смысла понятия от связи с избирательной заинтересованностью, а фиксирует эту связь как норму семантики. И вновь, как и в случае с ренессансной семантической нормой, следует отметить, что такое понимание гораздо ближе «естественному» обыденному - ненормированному - человеческому восприятию, чем жесткая норма отчуждаемости от человеческого интереса формализованных понятий новой европейской науки. Умозрительный первоэлемент «Вода» сублимировал те же самые качества и свойства воды, которые обеспечивали эффективность ее использования в повседневном быту.
Ситуативная вариантность семантики, порождаемой избирательным человеческим интересом, - это, как мы уже говорили, «естественное» свойство нашего и любого другого содержательного реальноиспользуемого языка, не обязательно соответствующее действующей культурной норме. В античности она соответствовала норме. От категорий обыденного языка, узнаваемых и осмысляемых человеком в зависимости от обстоятельств не всегда осознанно, категории античного умозрения отличаются нормативной, совершенно-сознательной и отчетливо осознанной связью смысла с контекстом и фактом человеческого существования.
Эту связь прямо фиксирует одна из основных категорий античного умозрения - «Логос». Будучи и сама характерным носителем синкрети¬
204
Д. Н. ДУБНИЦКПП
ческого комплекса вариабельных смыслов, реализуемых в зависимости от обстоятельств - речь, судебная речь, грамматическое предложение, высказывание, счет, отчет, разум, мысль и т. д. до бесконечности, - эта категория концентрирует свое значение вокруг связи культурнозначительного «смысла» с его реализацией в состояниях индивидуального сознания носителя «смысла», представляя «смысл» как событие человеческого существования, как поступок - акт осмысления. Категория «Логос» побуждает носителей ее значения узнавать и фиксировать в своем сознании связь знания, понимания и существования, употребляясь в равной мере как онтологическая и как гносеологическая категория и возводя эту связь до уровня принципа мироздания.
Семантическая структура основных категорий античного умозрения по своей функции является ничем иным, как культурно- зафиксированной императивной нормой индивидуального человеческого поведения, в данном случае - человеческого «понимания». Варианты осуществления античной нормативной регламентации состояний индивидуального сознания столь же разнообразны, как и порождения эпистемологической нормы новой европейской культуры, вплоть до взаимных противоречий и несовместимости. Порождением этой нормы был аксиоматический метод геометрии Евклида, являвший собой, по существу, не что иное, как фиксацию дидактического диалога мыслителя со своими адептами. Та же эпистемологическая модель порождает не прекращающиеся на протяжении всей античности напряженные и всегда неокончательные поиски эзотерического «таинственного» и многозначительного смысла чисел - единицы, двойки, тройки, семерки, девятки, десятки и т. д., правильных многогранников, геометрических пропорций, музыкальных аккордов. В эту же модель эпи- стемы укладывались истолкования прорицаний аракулов, гомеровских поэм и гимнов.
Наконец, все характерные черты описанной эпистемологической нормы являет учение Платона - как со стороны своей формы, так и со стороны своего идейного содержания: нескончаемая и всегда неокончательная диалектика диалога, стимулирующая собственные усилия осмысления его соучастниками, устанавливающая принципы осмысления собственного существования человека, но не поддающаяся систематической, окончательной, воспроизводимой и отчуждаемой фиксации в какой-нибудь определенной совокупности текстов, осмысляющая сам процесс осмысления как способ существования в терминах.
О ПАРАДОКСАХ
205
категориях, образах и мифологемах, требующих новых самостоятельных осмыслений.
Рассмотрим еще один частный случай реализаций античной эпистемологической нормы, который уже обсуждался в несколько иной связи. Аристотелевская концепция пространства в отличие от механики Галилея и Ньютона постулирует связь пространства с наполняющими его предметами как норму их существования, понимая механическое перемещение (для Аристотеля оно не было единственной и даже главной формой движения, но только одной из многих) как отклонение от нормы, которое должно обязательно иметь специальную побудительную причину. Эта связь предмета со своим место в пространстве не была продуктом вынужденного вывода под напором эмпирических фактов, а, напротив, была исходной базой для интерпретации эмпирических наблюдений, предваряющей наблюдение, а не следующей за ним. В локальных областях обыденного опыта обе концепции пространства и движения - Аристотеля и Галилея - дают близкие результаты и способны в равной степени объяснять непосредственно наблюдаемые факты, имея при этом каждая свои собственные границы объясняющей способности. Их кардинальное отличие начинается за пределами обыденного опыта при попытке расширить его до уровня абстрактного метафизического принципа. Аристотель и Галилей оперируют с разными ментальными объектами.
Подобно тому, как обстоит дело с первоэлементом «Вода», «пространство» Аристотеля есть расширение до метафизического принципа опыта существования человека в этом мире, сохраняющее (а не устраняющее) присутствие наблюдателя в наблюдаемом мире. Аристотель не ставил задачу изолировать (мысленно) мир и наблюдателя друг от друга, но, совершенно напротив, имел цель найти и зафиксировать в понятиях их взаимный контакт. Ментальной моделью пространственных перемещений, в наилучшей степени соответствующей концепции Аристотеля, является собственное тело наблюдателя, требующее усилий для своего перемещения и не требующее их в состоянии покоя. Эта концепция утверждает существование в пространстве актуальных связей мира с наблюдателем предпочтительной «естественной» структуры: определенных точек отсчета, масштабов, направлений, расстояний и других средств понятийной организации описания пространственных перемещений прежде всего самого наблюдателя и окружающих его предметов. Можно спорить о такой структуре, уточнять ее или за¬
206
Д. Н. ДУБНИЦКПП
менять другой, но для античного сознания не существовало сомнения в факте ее реального существования.
Концепция инерциального - безпричинного - движения родилась также не из эмпирических наблюдений, а из умозрительного рассуждения Галилея, оперирующего новым ментальным объектом - «предметом», изолированным от всех без исключения актуальных связей с миром, и представляющего мир с точки зрения наблюдателя, изолированного в темном трюме корабля и не способного отличить собственный покой от собственного движения. Достоинством такой ментальной модели изолирующей (мысленно) мир и наблюдателя друг от друга, является ее универсальная воспроизводимость и общезначимость, выводящая ее за пределы обстоятельств определенного наблюдения и факта наблюдения. Но можно представить себе точку зрения, с которой такая модель выглядит вычурно и «неестественно», а ее сомнительная способность уравнять в правах взгляды на мир мудреца и галерного каторжника не окупает связанных с этим потерь реальных связей наблюдателя с миром своих наблюдений. В любом случае сама эта «общезначимая» ментальная модель МИРА, независимого от наблюдателя, является заведомо ограниченной в своей способности объяснять реальный мир.
Также как и ренессансная культура, античная эпистемологическая норма не исключала воспроизводимую эмпирическую достоверность и логическую строгость из числа культурно-санкционированных достоинств знания, но было бы неверным идентифицировать значение этих компонентов знания в античной науке с их ролью в новой европейской науке. Они не были ни обязательными, ни даже главными достоинствами и, что важно, их функции были заметно иными. Именно: они не выступали средством критической фальсификации знания, отражающим интересы внеличного «потенциального» человечества, а были средством императивного воздействия на сознание фактически существующей личности - средством эффективного достижения личной убедительности, чем-то вроде удачного риторического приема в ряду других более или менее эффективных дидактических средств. Логический си- логизм и непосредственная очевидность эмпирии обладали способностью подтвердить справедливость знания в глазах слушателя, читателя или участника диалектического диалога, но не обладали способностью его опровергнуть. Софисты на афинских площадях учили каждого желающего доказать что угодно.
О ПАРАДОКСАХ 207
Античное умозрение не боялось парадоксов и не стремилось изгнать противоречие за пределы санкционированного культурой знания, как это делала еще недавно логика, семантика и теория множеств. Парадоксы служили доказательством наравне с силогизмами и роль их в интеллектуальной культуре была весьма существенной: они активно используются для исследования связей культурной нормы со своей реализацией через границу взаимной неоднозначности - будь то этическая норма человеческого поведения, норма социального существования человека в полицейской утопии «Законов», логическая норма понимания человеком мира или норма существования мира в понятиях платоновской «идеи», аристотелевской формы или «Единого» неоплатоников. В центре понимания мира, социума и самого себя стояла релятивная граница взаимной неоднозначности единого и множественного в качестве главного атрибута существования. Способом ее умозрительного осмысления и представления была диалектика, связывающая противоположности через эту границу и отражающая реальности существования человека в культуре.
Также как и человек культуры ренессанса, человек античной культуры видел вокруг себя предметы, заметно отличающиеся по своим свойствам от тех, которыми оперирует математическая теория множеств Кантора. Эго не предметы, индифферентные к существованию наблюдателя, сохраняющие свою себетождественность при любых ментальных манипуляциях с ними. Мир предметов, предстоящих сознанию человека античной культуры, не исключает сознания наблюдателя, а включает его.
Человеку современной европейской культуры требуются специальные и значительные усилия, чтобы преодолеть собственное предубеждение против включения собственного сознания в состав наблюдаемых феноменов окружающего мира в качестве необходимого их компонента. И только под угрозой неразрешимых антиномий ему приходится признать неприятный факт соучастия собственной избирательной заинтересованности в предстающей его сознанию картине мира. Рассматривая парадоксы теории множеств в первой части этой работы, мы были вынуждены признать присутствие трех компонентов в каждом из «предметов нашего сознания»: объекта нашего избирательного внимания, зафиксированного в сознании независимо от причин заинтересованности; императива «узнавания» и идентификации «предмета», зафиксированного в сознании независимо от наличия фактиче¬
208
Д. Н. ДУБНИЦКПП
ского объекта внимания; и. наконец, третьего - релятивного и не фиксируемого компонента, объединяющего первый и второй - собственно нашего сознания, способного не останавливаться навсегда на одной из зафиксированных альтернатив, а менять свою избирательную точку зрения в зависимости от обстоятельств, совершая свой выбор заново в каждом конкретном случае, но не способного избежать необходимости выбора и его, хотя бы временной, фиксации, воспроизводящей его результаты за пределами акта выбора. Граница взаимной неоднозначности разделяет зафиксированные в сознании объекты описания и средства описания, но граница эта релятивна - она разделяет не свойства, а функции и проходит именно в индивидуальном сознании, связана с сознанием и не может быть проведена раз и навсегда помимо индивидуального сознания. В частности такая релятивная граница разделяет объект суждения и субъект суждения: после воспроизводимой фиксации выбора в индивидуальном сознании, ум никакого из реальных субъектов не является больше обязательным, но при этой процедуре невозможно обойтись совсем без индивидуального ума всех субъектов сразу.
К нашему сожалению, все эти рассуждения не могут претендовать ни на новизну, ни на оригинальность. Все это давно было общим местом умозрения античной культуры. Онтологический статус УМА, разделение УМА на УМ - объект суждения, УМ - субъект суждения и третий УМ - единство первого и второго, последовательно проводимый принцип этой Триады, прозреваемой в каждом объекте человеческого внимания и релятивно перемещающийся вместе с направлением внимания, а также извлечение всевозможных следствий из этих общих принципов - один из основных предметов подробного обсуждения в трактатах неоплатоников, восходящий к временам еще более ранним. Следует признать, что включение наблюдателя в состав наблюдаемого мира в качестве «меры всех вещей» и триадический принцип, соединяющий объект суждения, субъект суждения и средства фиксации смысла суждения, т.е. мир, сознание и культуру в акте восприятия, осмысления и переживания в акте существования, с гораздо большим основанием могут претендовать на роль универсального онтологическо-гносеологического принципа, чем, скажем, детерминизм классической механики или постулаты математической «теории множеств», фиксирующие расчлененность этих трех компонентов мира. Античная культура создала свой вариант «теории множеств», ко¬
О ПАРАДОКСАХ
209
торый включает (а не исключает) существование наблюдателя - интерпретатора и допускает (а не изгоняет) Парадоксы в качестве компонента теории. Это теория сакрализованных неотчуждаемых от сознания человека предметов сознания - «Богов», ведущая начало от платоновского «Тимея» и достигающая в «Первоосновах Теологии» Прокла высокой степени развития, по сложности, изощренности и эффективности понятийного аппарата не уступающей теориям Гёделя и Коэна.
Подведем некоторый итог.
Подобно эпистемологической норме Ренессанса, эпистемологическая норма античности имела дело с результатами индивидуальных ментальных усилий (известны нормы, имеющие дело с мотивами этих усилий), требовала их фиксации, отчуждаемой от ситуации осмысления восприятия, но не доводила эту фиксацию до тех степеней отчуждения, которые свойственны нормам новой европейской науки. Она фиксировала человеческое знание в той неокончательной форме, которая является формой связи культурно-санкционированного знания с индивидуальным сознанием, т. е. позволяет человеку достичь индивидуального «понимания», но не позволяет ему при этом избежать самостоятельных усилий понимания, а, напротив, предполагает их даже требует этих персональных усилий. Будучи способом воспроизводимой фиксации результатов культурно-адресованных усилий человека, она. тем не менее, не обрывает связи этих результатов с фактом усилий, с состоянием сознания автора усилий и его культурного адресата. Мотивированная и санкционированная культурой цель персональных ментальных усилий - единообразная унифицированная норма этих усилий, т. е. некоторый неотчуждаемый от индивидуального сознания императив усилий осмысления, но не прекращение этих усилий; их регулирование, а не подавление.
Также как в ренессансной натурфилософии (и в отличие от позднейшей европейской науки) адресат античного знания неопределенен, но не всеобъемлющ и избирателен. Этим адресатом является не все человечество сразу, а только некоторые соучастники определенного культурного контекста, избранники, сознающие свою избранность и объединенные «пониманием», т. е. реализацией перехода своего сознания через релятивную, подвижную, но неустранимую границу, отделяющую состояние «понимания» от «непонимания». Культурный адресат античного знания персонализирован. В отличие от адресата новой европейской науки он представляет собой не множество всех потенци¬
210
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
альных носителей знания, в составе которого присутствуют неродив- шиеся младенцы, гуманоиды и дрессированные обезьяны, но может не оказаться живых людей, а некоторый - пусть не вполне определенный по составу и открытый пополнению - персональный «список» реальных живых людей - «подходящих душ», в которые «человек со знанием дела насаждает и сеет речи, способные помочь и самим себе и сеятелю, ибо... в них есть семя, которое родит новые речи в душах других людей» (Платон). Избранников, объединенных знанием, отличает от всех остальных то же самое, что отличает список жителей города от множества всех потенциальных жителей того же города - счетность. Эго один из тех случаев, когда релятивная субъективная установка индивидуального сознания, зафиксированная в качестве культурной нормы, приобретает характер объективного параметра культуры.
Как и в культуре Ренессанса, описанная выше эпистемологическая парадигма античного сознания не была изолированным фактом. Она была реализацией в своей области более широкой парадигмы существования человека в культуре, определяющей взаимоотношения индивидуума и надиндивидуальных регуляторов культурно-адресованного поведения - культурных императивов. Главной особенностью специфической нормы античной культуры была ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ культурного компонента, т. е. персонализация субъекта и адресата культурно-адресованных усилий человека в чем бы они не состояли, сохраняющая неотчуждаемую связь с индивидуальным существованием, поведением и сознанием носителей этой разновидности культурной нормы.
Персонализация культурного компонента, воспитывающая в своих носителях и адептах самосознание личности, персональную ответственность за свое культурное существование и самостоятельность в принятии решений в качестве постоянно-действующего фактора культурной жизни, была главной исторической новостью античности - культурной революцией. Вопрос о возникновении, существовании, характерных особенностях и упадке античной культуры - это вопрос о возникновении, распространении и утрате мотивационных потенций этой специфической разновидности культурной нормы.
Нормативная персонализация культурного компонента человеческого существования свойственна не всякой культуре. Она не была свойственна, например, культуре предваряющих и окружающих античность древних ближневосточных деспотий, в том числе непосред¬
О ПАРАДОКСАХ
211
ственной ее предшественнице - микенской культуре. Культурная норма древних деспотий фиксировала в сознании своих носителей непроходимую иерархическую границу между индивидуальным существованием человека и культурными факторами этого существования. Такая граница разделяет сакрализованную социальную функцию и ее носителей: функция не зависит от персональных особенностей любого из своих исполнителей и даже от факта существования какого- либо определенного из них. Носители фиксированных сакральных атрибутов власти - «Цари» также мало персонализированы как и их безликие подданные, несмотря на разделяющую их иерархическую пропасть социальных функций.
Любой из исполнителей сакральной функции необязателен и не способен повлиять на значимость ее атрибутов, но зато вся совокупность сакральных атрибутов переносится на любого из исполнителей функции независимо от его персональных качеств. Эту непроходимую ментальную границу можно назвать трансцендентной, используя этот термин в том знанчении, которое придают ему математики, доказывая невозможность взаимно-однозначного соответствия между счетными и несчетными множествами. Эго та же самая граница, которая проходит и в нашем сознании, отделяя множество всех потенциальных жителей города от любого из возможных списков фактических жителей города. но только зафиксированная в качестве общеобязательной культурной нормы, ограничивающей право носителей этой нормы на свободный выбор точки зрения в зависимости от обстоятельств выбора. Наша собственная жизнь переполнена трансцендентными культурными функциями, определяющими круг культурно-санкционированных интересов, ролей и обязанностей человека: должности, специальности, воинские звания и т. и. Без них культурное существование невозможно. Однако мы отдаем себе отчет в релятивной необязательности трансцендентных функционалов, возможности их смены. Они не носят для нас значения обязательной и фиксированной сакральной нормы, выполняемой независимо от обстоятельств. Они несут такое значение в культуре древних тоталитарных деспотий.
Эта культурная норма (также как и все остальные, включая нашу собственную) избирательно фиксирует некоторые определенные аспекты человеческого поведения в ущерб остальным, в данном случае - фиксирует культурную функцию в ущерб способности видеть в ее исполнителе персональную личность. Эта последняя способность впервые будет зафиксирована как норма античной культурой.
212
Д. Н. ДУБНИЦКПП
Фиксация сакральной трансцендентности социальных функций была мотивационной базой культуры древних деспотий, определяющей способ существования человека в культуре, в том числе формы ментальности.
Аналогии между реальными социальными структурами и ментальными структурами космоса в культуре древних цивилизаций лежат на поверхности. Некоторые считают ментальные структуры космоса проекцией реальных, другие - социальные структуры реализацией сакральных. И то и другое, безусловно, упрощение. Фактическая политическая структура слишком ненадежный источник для ментальных конструкций - она не всегда исторически опережает ментальную, гораздо менее устойчива и долговечна, чем ментальные конструкции и, кроме того, само ее возникновение и существования нуждается в объяснении не менее, чем возникновение и существование представлений о космосе. С другой стороны, любая реальная политическая структура гораздо «богаче» своих ментальных интерпретаций, содержит много такого, что вообще невозможно учесть в понятиях и, кроме того, ни одна попытка фактически реализовать ментальную конструкцию политической структуры (а их предпринималось более чем достаточно) не увенчалась успехом. Взаимоотношение реальных социальных структур и их ментальных моделей сложнее, чем их соответствие или несоответствие. Причем неправомерным является уже само представление о возможности их расчленения перед уподоблением, как будто ментальность не является частью реальности, а социальная структура способна функционировать без участия работы сознания ее соучастников.
Разделение ментального и реального - это не универсальный принцип, а характерная особенность восприятия в культуре, гораздо более поздней, чем те, о которых идет речь. Ментальные стереотипы играют важную роль в формировании, поддержании (или ниспровержении) и функционировании социальных структур в любой культуре, но в культуре древних цивилизаций эта роль была в явном виде зафиксирована нормой как необходимый компонент, обеспечивающий внепер- сональную фиксацию значения этих структур в индивидуальном сознании. Задаче внеперсональной фиксации в индивидуальном сознании культурно-значительных функций был подчинен весь понятийный аппарат этих культур, представлявший собой совокупность сакрализованных функционалов, вовлекавших окружающий человека мир (в том числе космос) в культурный контекст в обеспечение ста¬
О ПАРАДОКСАХ
213
бильности и воспроизводства трансцендентных социальных структур. «Понять» мир в это время означало - найти фактам место в структуре трансцендентальных культурных функций, установить связь между фактом и внеличным сакральным контекстом существования человека в культуре.
В культуре древних деспотий мы имеем дело с таким же трансцендентным отчуждением знания от индивидуального сознания, какого требует эпистемологическая парадигма новой европейской науки, с той разницей, что освобождение знания от обстоятельств ситуации его приобретения достигается здесь не путем устранения связей с культурным контекстом избирательной заинтересованности, а путем фиксации этих связей в качестве обязательного условия понимания.
В каждом конкретном акте осмысленного восприятия или наблюдения - без всяких исключений - присутствуют компоненты культурного контекста: ситуативный, без которого человек не делает ни одного фактического наблюдения, утверждения и помышления, и внеситуативный, предопределяющий возможность распространения значения результатов наблюдения, утверждения, помышления за пределами ситуации. Иногда - и не так уже редко - компонент внеситуативного внеличного культурного контекста является достаточно явным: это тенденциозная избирательность внимания, мотивированная предвзятыми идеологическими политическими или даже просто полемическими факторами, побуждающими ученого защищать интересы научной школы, новые или, напротив, традиционные взгляды, «не замечая» фактов, не соответствующих готовым понятиям. Но обычно ученые стесняются такой предвзятости и стараются защититься от обвинений в ней, поскольку она не соответствует усвоенной ими эпистемиологи- ческой норме. Но даже ученый, демонстрирующий чудеса научной добросовестности, т. е., с одной стороны, готовый пожертвовать содержательным смыслом ради абсолютной общезначимости своих оперативных понятий, а с другой - лишенный всякой предвзятости и готовый изменять точку зрения и набор фиксированных понятий при каждом новом утверждении и наблюдении (такие педанты, как мы имели случай убедиться, встречаются, хотя и не слишком часто) - даже такой экспонат кунсткамеры находится (причем в значительно большей степени, чем его менее добросовестные коллеги) в жестких рамках предвзятости внеперсонального внеситуативного культурного контекста, реализуя некритически усвоенные требования культурной нор¬
214
Д. Н. ДУБНИЦКПП
мы вне зависимости от реальных обстоятельств и вопреки очевидной невозможности последовательно выполнять эти требования. Выполнение требований этой специфической разновидности культурной нормы так же невозможно, как и требований любой другой нормы, но к нему можно стремиться ценой такой же предвзятой «сакральной» трансформации реальности наблюдения в сознании наблюдателя во имя ограничительных культурных стереотипов, как и халдейская астрология. Следование этой норме требует от человека ритуального самопожертвования во имя культуры, т. е. по существу, выполнения ритуальной жреческой функции. Обязанность видеть в планетах и звездах исключительно «предметы», независимые от сознания наблюдателя, подчиненные законам механики, не способным передать даже очевидную необратимость реального времени, - это такой же сакральный ритуал, как и обязанность видеть в них прямых соучастников человеческой и культурной жизни. Каждый из способов интерпретации реальности имеет свои достоинства, свои недостатки, свои области соответствий, эффективности и ограниченности. Один из них не более предвзятый, чем другой.
Человек культуры древних деспотий в отличие от ученого не старался очистить свои наблюдения от связей с внеситуативным культурным контекстом. Он старался эти связи обнаружить и зафиксировать.
Подобно тому, как современный ученый, строго следуя некритически усвоенной им норме мышления, преобразует свои впечатления от окружающего мира представления о нем, независимые не только от факта переживания им впечатления, но и от факта существования наблюдателя, человек культуры сакральных деспотий, следуя нормам своей культуры, также преобразует свои впечатления от окружающего мира в представления о нем, независимые от факта собственного существования, с той только разницей, что экстраполирует он в противоположную сторону: не вперед к фиксации в индивидуальном сознании общезначимых императивов нового позитивного знания, а назад - к фиксации в индивидуальном сознании сакральных императивов предвзятой избирательности, обеспечивающих выполнение им внелич- ной культурной функции. И тот и другой «очищают» свои реальные впечатления от ситуативных компонентов, следуя культурной норме, но делают это различными способами.
И та и другая картина мира, представшего наблюдателю, - «сакральная» и «научная» - есть формы предвзятости, полученные тенденциозной обработкой данных наблюдения, оставляющей за предела¬
О ПАРАДОКСАХ
215
ми конечного результата осмысления альтернативный компонент реального знания, необходимо соучаствующий в его получении: в одном случае - это объект избирательного внимания, независимый от факта заинтересованности, в другом - избирательная заинтересованность, независимая от факта существования своего объекта и предваряющая наблюдение. Подобно тому, как мы предвзято видим вокруг себя предметы, «независимые» от нашего нимания, носитель другой формы предвзятости склонен видеть повсюду - на небе и на земле - реализацию фиксированных в сознании сакральных функций, непосредственно связанных в своем значении с культурно-обусловленными императивами человеческого уществования, в том числе с выполнением самим человеком своей сакрализованной социальной функции. При этом гетерогенная ерархичность функциональных границ нерасчлененных социально-космических структур является здесь такой же предваряющей нормой осмысления реальности, какой для нас является гомогенная изотропия пространства и отсутствие в нем фиксированных трук- тур, границ и точек отсчета.
В системе мышления, жестко фиксирующей трансцендентную са- кральность предметов мышления, знание также отчуждено от индивидуального сознания, как и наше позитивное знание, но в глазах оси- телей этой нормы оно есть не продукт индивидуальных человеческих усилий, а условие культурной эффективности индивидуальных человеческих усилий; оно не следует за усилиями сознания, а предшествует им. Усилия понимания нужны здесь не для того, чтобы создавать знание, а для того, чтобы приобщаться к знанию, существующему до и независимо от этих усилий.
Не следует думать, что «сакрализующий» способ осмысления ред- ставляет собой отклонение от законов мышления. Он являет обой отклонение от них в той же степени, в какой отклонением вляется любая ограничительная культурная норма, побуждающая нас избирательно отдавать предпочтение одной определенной разновидности продуктов ментальных усилий перед всеми остальными и действующая независимо от реальных обстоятельств этих усилий. Последовательная реализация строгой парадигмы научного знания не менее вычурна и неестественна (хотя и эффективна в своей узкой области), чем халдейская астрология или герметический гностицизм жрецов Аммона (также эффективные в своей области). Сакрализация (в частности - идеологизация и политизация) реальности как норма ее осмысления, возможно, не
216
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
самый лучший способ для пополнения науки новыми фактами и закономерностями, но, как показывает исторический опыт, это достаточно хороший (если не лучший) способ фиксации и воспроизводства культурных функций, в частности, социальных структур политической власти. Между «сакральным» и «научным» способами осмысления реальности нет непроходимой границы: человек способен следовать как той, так и другой норме, меняя их в зависимости от обстоятельств. Поколение, сохранившее память о сессии ВАСХНИЛ 1948 ГОДА, хорошо знает, как это делается.
При всей нашей антипатии к сакрализующим способам осмысления реальности, возведенным в норму, следует признать за ними одни только безобразия, но и исторические заслуги. Эта культурная норма была необходимой предпосылкой, мотивационной базой и ментальным обеспечением первых цивилизаций.
Первоначальная «цивилизованность» состояла в освобождении самостоятельного и воспроизводимого культурного компонента существования человека от непосредственной связи с обстоятельствами этого существования. Она не могла быть ничем иным, кроме надперсональной и внеситуативной - трансцендентной - фиксации культурного компонента поведения человека, т. е. фиксации социальной функции, отчужденной от определенного носителя этой функции. Соответственно надперсональная внеситуативная фиксация в индивидуальном сознании значительности культурных императивов поведения, т. е. сакрализация, возведенная в норму мышления, была необходимым средством реализации цивилизованности. Норма первоначальной цивилизованности не могла быть иной, это был единственный возможный путь к «цивилизованности».
Культура освобождалась от прямых связей с индивидуальным человеческим существованием и это имело важные последствия. Существенным образом изменялся субъект культуры - он становился «потенциальным», т. е. необязательным в своем конкретном существовании - неопределенным. Такая культурная норма расширяла пособность культурных форм к интеграции своих носителей, снимая какие-либо количественные ограничения в принципе, что было необходимой предпосылкой возникновения больших городов, государств и империй. С другой стороны неограниченно расширялся диапазон возможных культурных функций, значений, смыслов, задач, не связанных более с обеспечением непосредственных потребностей существования челове¬
О ПАРАДОКСАХ
217
ка. В частности, открылась возможность воспроизводимого, в том числе спекулятивного (умозрительного) знания о мире. Культурные мотивировки заинтересованности приобретали «самостоятельность» и свободу по отношению к мотивировкам индивидуального бытия подобно тому, как это имеет место в нашей науке.
Одним из наиболее продуктивных созданий этой культурной нормы была письменность. Фиксация знаков и значений появляется там и тогда, где и когда появляются культурные задачи, требующие фиксации знаков и значений не от случая к случаю, не время от времени и не в зависимости от ситуации для соучастников ситуации, а для всех сразу независимо от ситуации и от факта существования соучастников, переживаемой ситуации. Будучи созданной, письменность создает определенные удобства в обыденной жизни, но обыденная жизнь не порождает задач, требующих письменной фиксации смыслов и утверждений. Громадные народы (в частности, русский) веками способны существовать, не испытывая потребности в грамотности и обходясь нефиксированными знаковыми средствами со значением, опирающимся на ситуативный контекст (каким является язык быденного общения в любой культуре). Зато совершенно необходима письменность для фиксации в индивидуальном сознании общезначимых сакральных смыслов, утверждений и текстов, значение оторых изъято из ситуативного контекста существования отдельного человека и адресовано всем сразу независимо от факта существования определенного единичного адресата. Потребность в ней возникает при фиксации в сознании человека культурно-обусловленных функций в качестве трансцендентных сакральных инвариантов поведения, в частности - мышления. До настоящего времени грамотность и книжная образованность сохраняют способность проводить достаточно заметную границу социальной функции независимо от (а иногда - вопреки) степени их фактической прагматической полезности. Тем более это справедливо для условий возникновения письменности.
Сакральность культурных связей и структур не была созданием первых цивилизаций. На этой базе строилась культура всех доцивили- зованных, в частности родовых и племенных сообществ. Главной ово- стью цивилизации была внеситуативная универсальная и вневременная фиксация - канонизация сакральных связей человека с ультурой, надстроенная над любыми ограниченными и локальными (в том числе родовыми и племенными) структурами, поглощавшая их вариабель¬
218
Д. Н. ДУБНИЦКПП
ность, лишавшая их нормативности и отодвигавшая проявление локальных связей в область действия необязательных и преходящих обстоятельств. Как всегда в подобных случаях, новая норма ментальных связей индивида и социума на первых порах носила характер избыточной контркультурной реакции на старые нормы культурной жизни, находя себе несколько гипертрофированное выражение. Пирамиды, хранящие нетленные мумии фараонов, гигантские империи, стремящиеся раздвинуть свои границы за пределы ойкумены, гигантский корпус древне-месопотамских текстов, воспроизводившийся в стандартном виде в течение 2-х тысяч лет на языке, давно переставшим быть понятным, надписи, высеченные на недоступных скалах или замурованные в фундаментах - вот плоды внеситуативного и вневременного энтузиазма первоначальной цивилизованности.
Многое (но не всё) из того, что подлежало сакральной фиксации уже существовало в прото-цивилизованных обществах. Традиционный обычай фиксировался как писаный закон, племенной вождь становился надплеменным Царем, обрядовые причитания канонизировались как ритуальный гимн, заклинания - как литургический псалом. Зиккурат или культовая пирамида фиксировали сакральную структуру космоса, которая в шаманском камлании реализуется в любом предмете, вовлеченном в процесс камлания и позволяющем мысленно интерпретировать его как сакральную «гору». Неоднозначно-релятивные символы культовых процедур становятся иероглифами с фиксированным воспроизводимым значением, сохраняющими это значение во всех обстоятельствах использования. Сакральной фиксации подвергаются структуры политической власти, места обитания людей, элементы ландшафта, социальные функции (в частности, жреческие) гадательные рецепты, культовые процедуры и сооружения, народные песни, беседы и поучения мудрецов, прорицания пророков, отдельные знаки, слова, утверждения, тексты, священные книги, эпические сказания, события политической истории, позитивные факты, производственные навыки и т.д. - культурный компонент человеческого существования освобождается от непосредственных и релятивных связей со своими необязательными носителями и отчуждается от них в своем значении за трансцендентную границу, недоступную индивидуальным усилиям. Нечто подобное мы можем наблюдать сегодня при выделении формализованных языков из состава обыденных - новую разновидность сакральных иероглифов, обладающих значением, изъятым из контекста человеческого существования.
О ПАРАДОКСАХ
219
Античная культурная революция состояла в персонализации отчуждаемых культурных компонентов цивилизованности, в вовлечении их в ситуативные связи с индивидуальным человеческим существованием. Субъект культуры из «потенциального» становится «актуальным» ее участником. Человек обретает самосознания личности, выделяющее его из нерасчлененного социума как носителя культурной ответственности и исполнителя культурной функции.
Античная культура начинается там и тогда, где и когда сакральная функции и соответствующие им сакрализующие ментальные структуры осмысления реальности теряют свою трансцендентную независимость от индивидуального существования человека, перестают быть отчужденными внеперсональными культурными инвариантами поведения и становятся нормой персонального поведения, требующей самостоятельных индивидуальных усилий для своей реализации. Граница между человеком и его культурными функциями теряет свою трансцендентную непроходимость и из форм их взаимного отчуждения становится формой их взаимной связи. Античная культура начинается там, где человек осознает свою личную неразделенную ни с кем персональную ответственность за культурную значительность самостоятельно принимаемых решений и собственного осмысленного существования (как это происходило, например, в мистериях орфизма, освобождающих личную бессмертную душу человека или на олимпийских соревнованиях атлетов, наделяющих победителей личной бессмертной славой).
Культурное внимание переключается с сакрализованных культурных функций, независимых от факта существования своего необязательного носителя, на факт существования исполнителя необязательной для него культурной функции. Сущность сдвига культурной нормы от древних цивилизаций к античности можно понять по отношению к письменности, в частности по той аргументации, которой Платон обосновывает достоинства ситуативно-значимой устной речи перед общезначимостью письменной в уже цитированном выше диалоге «Федр». Платон полемизирует здесь не с новыми поборниками однозначности, не с Декартом и, тем более, не с Расселом, а с семантической нормой трансцентального функционализма, которую он относит в древнему Египту. Напомним эти аргументы в новом контексте:
«С о к р а т: Тот, кто рассчитывает запечатлеть в письменах свое искусство, и кто, в свою очередь, черпает его из письмен, потому что оно
220
Д. Н. ДУБНИЦКПП
будто бы надежно и прочно сохраняется там на будущее, - оба преисполнены простодушия и, в сущности, не знают прорицания Аммона, раз они записанную речь ставят выше, чем напоминания со стороны человека, сведущего в том, что записано... В этом, Федр, дурная особенность письменности, поистине сходной с живописью: ее порождения стоят, как живые, а спроси их - они величаво и гордо молчат. То же самое и с сочинениями: думаешь, будто они говорят, как разумные существа, но если кто спросит о чем-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда отвечают одно и то же. Всякое сочинение, однажды записанное, находится в обращении везде - и у людей понимающих и, равным образом, у тех, кому вовсе не подобает его читать и оно не знает, с кем одно должно говорить, а с кем нет... Что же, не взглянуть ли нам, как возникает другое сочинение, родной брат первого, и насколько оно по своей природе лучше того и могущественнее?.. Это то сочинение, которое по мере приобретения знаний пишется в душе обучающегося; оно способно себя защитить и при этом умеет говорить с кем следует, умеет и промолчать.
Федр: Ты говоришь о живой и одушевленной речи знающего человека, отображением которой справедливо можно назвать письменную речь?
Сократ: Совершенно верно... Человек обладающий знанием справедливого, прекрасного, благого... не станет всерьез писать по воде чернилами, сея при помощи тростниковой палочки сочинения, неспособные помочь себе словом и должным образом научить истине... Но вероятно, ради забавы он засеет сады письмен и станет писать; ведь когда он пишет, он накапливает запас воспоминаний для самого себя на то время, когда наступит старость - возраст забвения да и для всякого. кто пойдет по его следам...»
Существует важное свидетельство того, что эти рассуждения Платона не были интеллектуальным софизмом, а отражали действующую культурную норму, - это распространение нового - фонетического - принципа организации письменности, лишающего знаки (иероглифы) их нормативной сакральности и требующего соучастия индивидуального сознания в их ситуативном осмыслении. Следствием этого было расширение сферы применения письменности, получившей способность передавать не только строго фиксированные сакрализованные смыслы, но и любые ситуативно-значимые смыслы в любых повседневных и обыденных ситуациях и на любых языках. Письменность стала техническим средством для личного «припоминания».
О ПАРАДОКСАХ
221
Теперь мы лучше подготовлены для того, чтобы уточнить характер и функцию той связи форм античной культуры с индивидуальным существованием и, в частности, релятивной связи понятий и смыслов с состоянием индивидуального сознания, которая с нашей точки зрения представляется не до конца преодоленной.
В античной культуре эта связь является не помехой последовательному персонализму, освобождающему личность от обязательности культурных императивов, а источником и способом реализации персонализма, единственным и необходимым. Античный персонализм - это не освобождение человека от культуры, а утверждение необходимой роли человека в культуре как постоянно-действующего нормативного фактора.
Связь между самосознающей личностью и ее культурными функциями не могла быть до конца оборвана носителями этой нормы по той простой причине, что утверждение необходимого соучастия в культуре такой личности было сущностью античной нормы, отвергнув которую, культура переставала быть античной. Осознанная культурная ответственность была формой существования персональности. В пределах античной нормы еще не существовало и не могло возникнуть осознанного представления о личности, существующей вне, до и независимо от своих культурных связей. Такие представления есть порождение гораздо более поздней культуры. Эго не исходный пункт античного мировоззрения, а его итог и конец.
Античный вариант индивидуального самосознания не противостоит самодисциплине, а требует нормативной самодисциплины как единственного возможного способа своей реализации или, точнее говоря, античные нормативные формы культурного существования человека предъявляют к его сознанию требованиям самостоятельности усилий самоконтроля, воспитывая в нем персональную культурную ответственность. Примером такой нормы может служить сознательная самодисциплина в бою спартанского гоплита, личная доблесть которого состоит не в убийстве возможно большего числа врагов, а в сохранении строя.
Сказанное в равной мере относится к формам социальной организации, реализуемой в античном полисе, и к ментальным структурам, в которых реализуется понимание действительности античным сознанием. Новая культурная норма ментальных связей индивида и социума требует, стимулирует, поощряет, фиксирует индивидуальные усилия.
222
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
направленные на поиски и исполнение нормативов культурного существования человека, в том числе нормативов осмысления, т. е. поиски понятий и представлений, которые смогли бы стать нормативным регулятором индивидуального поведения и понимания. Эта норма реализует себя в поисках первоначал милетской натурфилософией, в проповеди самопознания Сократом, в знаменитой максиме «человек мера всех вещей», в платоновских «идеях» и «Законах», в аристотелевской логике, в евклидовой геометрии, в нравственном стоицизме Сенеки, в мистике неоплатонизма, в афинском патриотизме и в императивах римской гражданственности.
Внеличностное избранничество трансцедентной сакральной функции древних деспотий преобразуется в персонализированное избранничество самосознающей личности, от собственных усилий которой теперь зависит ее культурная значительность. Непроходимые рубежи сакральных функций превращаются в проходимые границы гражданских состояний. Хранители «готовых» догматических форм традиционного сакрального знания уступают место любителям мудрости - философам, самостоятельно ищущим новых истин, не обязательно обладающих догматической общеобязательностью. Человек в самом себе и в адресате своей инициативы учится видеть, замечать, различать, узнавать не трансцендентную культурную функцию, а прежде всего индивидуальную личность, самостоятельные усилия которой необходимы для реализаци культурной нормы. Изменяется субъект культуры - из потенциального и неопределенного он становится актуальным.
Человеку открылся мир, требующий его собственного - личного - понимания, доступный его личному пониманию, нуждающийся в его понимании - мир посюсторонних событий человеческого существования, происходящих с каждым человеком, с любым человеком, но обязательно с определенным живым человеком - а не без него и не безотносительно к факту его существования и понимания.
Античная культурная норма (как и всякая другая) проявляла себя сначала отдельными эпизодами на фоне почти полного господства старых норм и даже после своей победы в качестве нормы поведения сосуществовала с другими - более традиционными - формами поведения, ассимилировав некоторые «приемлемые» из них и отодвинув остальные в область не общезначимых и локальных обстоятельств культурного существования. При этом характерные особенности античной нормы, возвращающей культурно-значимые компоненты в ситу-
О ПАРАДОКСАХ
223
ативность индивидуального существования и восстанавливающей связи между ними, позволяли ей не то, чтобы восстанавливать, но терпеть или даже ассимилировать формы культурной жизни гораздо более архаичные, чем культуры древних цивилизаций. Но это, конечно, не было регрессом, как не было, скажем, возвращением к средневековью восстановление форм жесткой регламентации «мирского аскетизма» пуритан в XVII веке после вольницы ренессанса. С полной определенностью новые - античные - нормы культурного существования проявили себя именно как нормы, в законодательстве Солона, не исключающие, а предполагающие осознанные личные усилия их исполнения гражданами полиса.
Античная и ренессансная нормы культурного существования были чрезвычайно близки по своим внешним проявлениям. И та и другая не обрывали, а утверждали взаимную связь индивидуального существования с внеличными императивами культуры. Но была между ними и очень существенная разница, определяемая различием способов утверждения этой связи. Эти нормы близки как зеркальные отражения друг друга.
Культурные амбиции ренессансной личности, претендующей на роль источника императивов культурного поведения, были чужды человеку античной культуры и не могли составить мотивационную базу поддержания связей между культурной и самосознательной личностью. Эту мотивационную базу составляло нечто прямо противоположное - самодисциплина культурной ответственности самосознательной личности, стремящейся не создать, а понять и усвоить культурно- обусловленные императивы собственного сознательного существования. Активная роль в связях личности и культуры в античности принадлежала не личности, а культуре, подталкивающей личность к самосознанию.
Человек античной культуры знал только негативную свободу нормативной культурной самодисциплины. Его индивидуальная культурно-адресованная активность направлена не вперед на создание новых императивов, а назад - на поиски, выявление, усвоение и соблюдение императивных норм, существующих над ним, до него и независимо от него (даже если это фактически совершенно новые нормы), либо - и это самая большая доступная ему степень свободы - в отказе от подчинения любым - каким бы то ни было - определенным культурным нормам, что равносильно самоубийству в культурном, а иногда и
224
Д. Н. ДУБНИЦКПП
в прямом физиологическом смысле. Диапазон самостоятельности личности простирался от следования норме до выхода изпод ее контроля, но он не включал способность самостоятельного создания норм подобных «общественному договору», декларации прав человека или экспериментальным закономерностям новой европейской науки.
Побудительные импульсы персонализации и самосознания исходили не от личности, а от культуры, которая требовала от человека.существующего в ней, сознательной самостоятельности решений и ставила его в условия необходимости пробуждения самосознания ради и во имя его соучастия в культуре. Античная культура создавала, формировала, воспитывала самосознание личности, но делала это в формах культурной ответственности, а не в формах освобождения личности от культурной ответственности. Она использовала старые или создавала новые формы и разновидности индивидуальной культурной ответственности как способа существования человека в культуре, но она не могла создать форм культурной жизни, освобождающих человека от культурной ответственности, а его сознание от связей с культурно-мотивированными (культурно-обусловленными) императивами избирательной заинтересованности.
Отличие античной культуры от своих непосредственных предшественниц - древних сакральных деспотий - состоит в персонализации связей человека с культурой, но не в отрицании доминанты культуры по отношению к индивидуальному существованию. Доминирование итегральных факторов культурной мотивации - это то, что объединяет античную культуру со своими предшественниккми - сакральными деспотиями и делает ее фактом истории древнего мира. Вычленение персонального самосознания из социума не означало еще освобождения от него и, тем более, способности подчинять его себе. Для этого нужен совсем другой уровень самосознания, выходящий за пределы античной кульутры. Также как человек культуры сакральных деспотий (и в отличие от человека культуры Ренессанса) античный человек экстраполирует от реальности непосредственных впечатлений не вперед, а назад - к факторам внеперсонального культурного контекста собственных впечатлений, только делает он это сам и самостоятельно, не пользуясь строго фиксированными сакральными процедурами, начинает от им самим лично переживаемых событий, а не от сакрально фиксированных событий или их ритуальных воспроизведений, и реализует свои ментальные усилия в формах, способных быть
О ПАРАДОКСАХ
225
индивидуально-убедительными и пригодных к индивидуальному пониманию и критическому усвоению, а не в форме трансцендентных общеобязательных императивов, подлежащих ритуальному воспроизводству независимо от степени их индивидуального понимания. Результатом этих усилий будут не воспроизводимые эмпирические закономерности безотносительные к наблюдателю, а выявление нормы, порядка, закона, долга, идеи, формы, порждающей причины человеческого существования и, в частности, осмысленного восприятия. По такой эпистемологической модели Сократ на пиру сублимирует от разнообразных и вариабельных проявлений красоты в жизни к идее Прекрасного в качестве онтологического принципа.
Античная культура не требовала отказа от сакральности, она создала новую разновидность сакральности, т.е. новую разновидность способов вовлечения человека, его сознания и продуктов его ментальных усилий в культурный контекст. Именно: сакральные формы культуры (в том числе понятия) перестают быть обязательными и общезначимыми и рассыпаются на множество локально-значимых норм, обязательных не для всех сразу, но только для некоторых избранных соучастников контекста ситуации, обладающих индивидуальным самосознанием и способностью к самостоятельным усилиям усвоения и реализации нормы.
Человек Ренессанса ощущал себя источником культурной значительности, человек античности ощущал себя ее носителем. Поэтому так различны были судьбы дальнейшего развития ренессансного и античного мировоззрений: одного - к взаимному отчуждению индивидуального сознания и культурно-значительных плодов его собственных усилий, реализованному в новой европейской культуре (в частности, в науке), а другого - к взаимному отчуждению индивидуального сознания и любых определенных норм культурно-санкционированного поведения, реализованному в добровольной культурной смерти верующего христианина. Ренессансная культурно-активная личность подчинила себя и свой ум добровольной самодисциплине во имя общезначимости ее культурно-адресованных усилий. Античная культурно-пассивная личность подчинила свое сознание и существование общезначимым - трансцендентным - императивам «не от мира сего», освободившись от подчинения любым локально-значимым нормативам посюстороннего земного существования.
226
Д. Н. ДУБНИЦКПП
Христианский вариант
Создав самостоятельную личность как норму культурного существования человека, античная культура не была способна освободить эту личность от связей с культурными функциями и императивными нормами культурно-адресованного поведения, составляющими способ реализации, форму проявления и самую сущность античного самосознания. Эти связи сознавались личностью как необязательные в своей конкретной определенности, воспринимались ею как ограничительная зависимость и подчиненность, но не могли быть отвергнуты античным самосознанием как принцип культурного существования, поскольку оно не знало иных способов своей реализации помимо тех или иных форм культурной ответственности. В этом содержалось противоречие, переживаемое тем острее, чем более развитым и полным становилось самосознание человека античной культуры.
Персональность требовала себе более полной и радикальной реализации. Единственный возможный - и неизбежный рано или поздно - выход состоял в отвергании персонализированным самосознанием личности не просто некоторых определенных форм культурной регламентации жизни человека, ставших ограничительными, но всех таких форм сразу как способа культурного существования человека во имя сохранения главного - культурной ответственности и значительности личности. По существу, этот выход был ничем иным, как фиксацией в сознании человека фактического положения вещей на заказе античной культуры. Однако последовательный шаг в этом направлении не мог быть простым: он требовал отказа от самых основных исходных предпосылок культурного существования человека, составлявших мотивационную базу античной культуры.
Этот шаг сделала христианская культура, положившая своей осознанной целью освобождение человека от любых связей с культурой, подчинив его жизнь простой и понятной первоначальной догме: «мир распят для меня также как и я для него» (Гарнак «История догматов»). Распространение христианства не было простым усвоением еще одной новой религии. Это было реализацией и свидетельством нового способа культурного существования - культурной революцией гораздо более кардинальной, чем распространение умеренной самодисциплины ума, реализованной в научной парадигме, не затронувшей основы культурного индивидуализма.
О ПАРАДОКСАХ 227
С принятием христианства меняются не только номенклатура сакральных объектов и формы религиозного ритуала - как раз этим компонентам христианства можно найти достаточно близкие параллели, аналогии и прототипы. Кардинально меняются способы ментальной связи между человеком и культурой, в том числе - социальная организация, критерии ментального знания, способы его вербального и зрительного выражения, структура семантики (т.е. структура связей знака со значением), функции понятий, принципы логики, эстетические и эпистемологические нормы; иными становятся способы остановки внимания человека на узнаваемых «предметах» и их множествах. В дальнейшем мы будем различать понятия «христианской культуры» как области действия специфической культурной нормы, более широкой, чем религия, и «христианской религии» как важной, но не всеобъемлющей формы реализации этой нормы (надолго пережившей саму норму).
Новая норма при всей отчетливости рубежа (особенно для самих соучастников) была завершением развития личностного самосознания, достигнутого античной культурой, разрешающим ее противоречия. Она доводила персонализацию адресата и объекта нормативных императивов культуры до предела, недоступного самой античности.
Освобождая личность от любых определенных локально-значимых связей с культурой и фиксируя в сознании человека их необязательность, новая норма обращала сознание человека на самого себя и доводила самосознание до уровня абсолютной самоизоляции, утверждая неразделенную ответственность личности за собственное существование.
В то же время всеобъемлющая полнота этого освобождения, зафиксированная как норма ментальных связей индивида и социума, подчиняла существование человека абсолютным и безусловным общезначимым императивам, трансцендентным по отношению к любым возможным фактам и обстоятельствам индивидуального человеческого существования. Норма замыкала внимание человека на самом себе - его собственное существование становились, по существу, единственным объектом культурно-мотивированного внимания. Культурный статус самосознания поднимался до уровня провиденциальной общезначимости космических масштабов, но эта напряженная саморефлек- сия погружала самого человека в ту же область радикального отрицания: норма требовала переживания собственной унизительной ничтожности. Все остальные предметы человеческого внимания без исключе¬
228
Д. Н. ДУБНИЦКПП
ния вовлекались в непосредственную связь с сознанием человека в состоянии саморефлексии, но сама эта радикальная релятивность становилась безусловным императивом человеческого сознания, подчиняющим себе все остальные - не абсолютные. Объектом нормативной регламентации становятся не какие-либо определенные результаты человеческих усилий, но состояния (или, лучше сказать, единственное состояние) индивидуального сознания, фактически переживаемые человеком. Зато нормативные императивы этих состояний приобретают статус абсолютной универсальности, источник которых отодвигается за пределы факта существования человека и доступного ему мира.
В новой норме культурный компонент представлен абсолютнообщезначимым трансцендентным императивом, обращенным непосредственно к индивидуальному сознанию и требующим реализации в акте самосознания личности, освобождающим ее существование от любых локально-значимых связей с миром, помимо трансцендентных абсолютно общезначимых.
Иногда в христианстве видят соединение «восточных» и «эллинистических» компонентов. Такие компоненты, безусловно, в нем присутствуют, но сведение нового к уже известному не позволит нам понять побудительные причины такого соединения и, самое главное, совершенную историческую уникальность христианского мировоззрения и его тысячелетнюю жезнеспособность. Христианство реализовало такую норму существования человека в культуре, которая действительно совмещала в себе компоненты, частично совпадающие с формами культур античности и древних ближневосточных деспотий. Но оно не было их простым сложением. Подобно тому, как античность, восстанавливая связь между индивидуальным существованием человека и культурой, возвращало к жизни или усваивало некоторые архаичные формы, отвергнутые культурой сакральных деспотий, христианская культура, восстанавливая трансцендентные границы между личностью и культурой, возвращало к жизни или допускало некоторые формы культуры сакральных деспотий, отвергнутые античностью и ставшие архаичными к моменту возникновения христианства. И в том и в другом случае это не было регрессом, но было шагом вперед.
От античности христианская культура отличается трансцендентной универсальностью культурного компонента, от древних деспотий - явно выраженной ролью индивидуального компонента - чело¬
О ПАРАДОКСАХ
229
веческого самосознания как переживания человеком собственной греховности, имеющего провиденциальное значение и соединяющего существование человека с сокровенным смыслом существования мира. При этом личностный компонент, созданный античностью, никогда не знал в античности столь полной реализации, такой громадной и безусловной значительности и таких космических масштабов культурной ответственности. И никакие самые жестокие деспотии не знали такого полного и безусловного поглощения трансцендентными императивами культуры всего существования человека, самостоятельно, сознательно и добровольно идущего навстречу этому поглощению в уповании на спасение.
Культурная норма, реализованная христианством, существенно отличается от всех тех, которые мы обсуждали (древние деспотии, античность, ренессанс, новая европейская культура): она имеет дело не с результатами человеческих действий, поступков и усилий, а с их мотивами. Она оценивает действия человека по отразившимся в них намерениям - по степени готовности соответствовать императивам культурной смерти - выхода за пределы существующей культуры мира сего. Эта норма вообще не требует от человека каких-либо определенных результатов деятельности, отчуждаемых от существования самого человека. Она оперирует состояниями его сознания и нормирует эти состояния непосредственно. Именно: нормой является реальное переживание самим человеком состояния контакта - сопричастия общезначимому общечеловеческому императиву через трансцендентную пропасть, разделяющую ситуативный мир и внеситуативный (вневременной) сакральный императив. Единственным способом достижения этого состояния трансцендентного избранничества является осознание собственного ничтожества погружение в культурную смерть во имя возрождения к жизни вечной не от мира сего.
Античное мировоззрение допускает и использует время от времени парадоксы для доказательства релятивности воспроизводимых понятий и дефиниций вследствие невозможности исключить индивидуальное сознание из соучастия в осмыслении реальности. Для христианского мировоззрения нормальным способом существования является пребывание на самом острие неразрешимой антиномии, а выход за пределы антиномий, т. е. выбор одной из двух несовместимых точек зрения - даже временный - отклонением (точнее: уклонением) от нормы. Погружение собственного сознания в антиномию является необхо¬
230
Д. Н. ДУБНИЦКИЙ
димым условием достижения состояния спасительного просветления; соответствующие ментальные процедуры включаются в состав ритуала и вероисповедальной догмы. «Вся церковная служба, особенно же каноны и стихиры, переполнены этим непрестанно кипящим остроумием антитетических сопоставлений и антиномических утверждений»1.
Предметом сознания христианина являются не альтернативы индивидуально-значимого и культурно-общезначимого, а именно трансцендентная пропасть между ними, требующая постоянных усилий человека для своего осмысления и преодоления, несмотря на заведомую невозможность этого сделать, во всяком случае, сделать раз и навсегда или, хотя бы, на некоторое время. Необходимое условие собственного спасения - переживание собственной ничтожности; необходимое условие знания о мире - осознания его абсурдности и невозможности «самостоятельного» существования; необходимое условие личной свободы - понимание своей полной зависимости от воли, источник которой за пределами мира сего.
Все императивные формы культуры сжаты до уникального состояния человеческого сознания, зато это состояние сознания фиксируется культурой с абсолютной безусловностью. Весь воспринимаемый мир целиком, вся культура и вся без остатка личность человека во всех аспектах своего существования сливаются в то единственное, что представляет ценность, но зато ценность абсолютную, общечеловеческую, более того, вселенскую: нерасчленимое на компоненты неповторимое переживание человеком состояния «ликования в трепете» (Августин). Адресатом культурно-обусловленного поведения человека становится не другой человек и не множество других людей, а нечто, лежащее за пределами любых проявлений посюстороннего ситуативного существования человека - универсальный трансцендентный сакральный объект, обладающий всеми свойствами личности или, иначе говоря, все люди сразу - жившие, живущие и еще не родившиеся - в той мере, в какой они способны отказаться от собственного индивидуального посюстороннего существования ради трансцендентной общности «не от мира сего». Но зато общение с этим сакральным объектом не требует свидетелей, может совершаться в интимном одиночестве «наедине с собой». Универсальному запредельному объекту адресованы 1 Флоренский. «Столп и утверждения истины». С. 158. Там же дана таблица догматических антиномий.
О ПАРАДОКСАХ
231
все действия, помыслы, упования и делегирована вся ответственность, вся власть и весь смысл существования, человека.
Лично пережитое состояние трансцендентного контакта имеет своим результатом только личное спасение, оно не может быть зафиксировано, воспроизведено, передано, адекватно выражено зримо или вербально для других людей и не освобождает даже своего собственного носителя от необходимости возобновления повторных усилий переживания заново (в отличие, скажем, от сознания «понимания»). То, что лежит по ту или другую сторону трансцендентной границы за пределами экзистенциального переживания человека не имеет самостоятельного культурного значения и значимо только в меру своей способности возвращать человека к этому переживанию. Оно релятивно в гораздо большей степени, чем скажем, релятивны способы фиксации знания в античной культуре: там внеличной культурный и личный компонент связаны между собой, здесь они существуют, как тогда говорили, «неразрывно-неслиянно»: культурно-общезначимое реализует себя в неповторимых состояниях индивидуального сознания, а усилия индивидуального сознания подчиняют его культурно-общезначимым безусловным императивам. Фиксируются до состояния абсолютного догматизма предельно-радикальные формы релятивизма. Сказанное касается понятий о бренном мире, но в еще большей степени это относится к понятиям об основном объекте сакрального сопричастия - о Боге, трансцендентном по отношению к бренному миру, о котором нельзя сказать ничего определенного, такого, что могло бы сохранить свое значение за пределами восторженного переживания «ликования в трепете». «Бог есть сущее, благо, бытие, свет, мудрость, красота, жизнь, причина, разум. Он не есть ни свет, ни бытие, ни благо, ни красота, ни жизнь, ни сущее... Более того: Бог не является ни бла гом, ни не благом, ни подобием, ни не подобием, ни сущим, ни не сущим, ни мраком, ни светом, ни заблуждением, ни истиной. Бог является одновременно всем, что существует и, однако, ничем из того, что существует. Бог пребывает во всем и вне всего. Бог превышает все сущее и не сущее, постигаемое и непостигаемое, он пребывает по ту сторону бытия и небытия, познаваемости и непознаваемости, по ту сторону всеохватывающего отрицания... Бог есть сверхблаго, сверхбожество, сверхмудрость.., сверхсветлая тьма, сверхбожественное божество, сверхсущее сущее... Бог познается во всем и вне всего, познается ведением и неве¬
232
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
дением... Он, будучи всем во всем и ничем в чем-либо, всеми познается из всего и никем из чего-либо» и т. д.1
«К познанию Совершеннейшего мы можем приступить лишь отказавшись от какой-бы то ни было умственной деятельности».2
Такова норма, руководящая культурным поведением христианина, но (также как и норма позитивного знания) достижимая не всегда, а лучше сказать - не достижимая в полной мере никогда. Точно также как, несмотря на все усилия формализации, невозможно достичь стерильной чистоты смысла утверждений от следов вариабельной индивидуальной заинтересованности и от преходящих обстоятельств высказывания, невозможно реализовать стерильно-чистое переживание сопричастия к трансцендентному сакральному императиву, лишенное всех следов связи с посюсторонним миром. И даже «не вполне чистые» мистические переживания реализуются так же редко, как и наши обессмысленные формализованные утверждения на фоне множества не столь общезначимых, но зато более осмысленных утверждений.
Роль культурной нормы (любой) проявляется в создании культурно- санкционированных моделей поведения и средств для их реализации. Рассматриваемая нами норма христианской культуры требует сакрализации всех без исключения аспектов реальности существования человека, т. е. вовлекает их все во взаимоотношения человека с трансцендентным сакральным объектом. Она побуждает своего носителя всюду, на что бы ни направлялось его заинтересованное внимание, видеть и опознавать прежде всего трансцендентную границу, разделяющую возможные средства реализации сакрального переживания «ликования в трепете» и соблазны, препятствующие достижению такого состояния. Мир посюстороннего существования не отвергается вовсе и не лишается всякого значения, но наделяется новым - и главным - значением в контексте реализации человеком культурно-санкционированных состояний собственного сознания. Эта граница релятивна и прямо связана с сознанием человека и его избирательным вниманием: видит ли он, глядя на мир, красоту мира, хотя и преходящую, но свидетельствующую о мудрости Творца, или порочную красоту мира, отвлекающую его от мысли о Творце.
1 АреопагитД. Антологии мировой философии. М.; 1962. Т. 1. С. 609, 612, 617.
- Ареопагит Д. О божественных именах. Общественная мысль, вып. II. М. Наука, 1990. С. 168.
О ПАРАДОКСАХ
233
Границу приходится проводить каждому и каждый раз заново, причем в зависимости от состояния сознания человека самые, казалось бы, невинные или даже святые объекты внимания (скажем, церковь) могут оказаться по нижнюю сторону этой границы, а самые мерзкие и отвратительные (трупы, черви, испражнения, язвы) - по верхнюю. Такое знание о реальности невозможно выразить и зафиксировать в позитивных утверждениях и отчуждаемых понятиях, смысл которых независим от состояния сознания за пределами факта высказывания. К такому знанию необходимо постоянно возвращаться. Единственно, что остается неизменным и устойчивым инвариантом этого восприятия - это факт существования сакральной границы, зафиксированной в сознании человека как безусловный императив восприятия реальности и перемещающейся с одного предмета внимания на другой вместе с перемещением внимания. Эта «пограничность», соединяющая мир с сознанием, представляет для носителей христианской культуры такой же предваряющий императив восприятия, какой для нашего сознания представляет прямо-противоположная предваряющая уверенность в возможности полностью освободить их друг от друга и зафиксировать раз и навсегда в этом состоянии без противоречий.
Ментальному иерархическому расчленению подвергаются все формы и проявления реальности, наделяемые значением в зависимости от своей способности служить или препятствовать человеку в достижении сакрализованных состояний сознания - структуры социальной организации, повседневный быт, позитивные факты, умозрительные конструкции, собственное тело, космос. При этом положение трансцендентной границы всегда остается релятивным; твердых границ са- кральности не существует: даже помазанник божий Римский папа (не говоря уже об Императоре) может оказаться антихристом. Существуют более или менее эффективные рекомендации, рецепты, алгоритмы - пути к достижению сакрального переживания: литургия, молитвы, обряды, умозрительные рассуждения, медитационные упражнения, физиологические ограничения - от поста и власяницы до произнесения слова «Христос» на каждом вдохе, практикуемое византийскими исихастами, и т. д. Помощь на этом пути могут оказать специальные предметы, тексты, книги, иконы, изображения, звуки, ароматы, наделенные сакральным значением. Но ни один из компонентов пути не дает полной гарантии спасения и каждый раз требует возобновления личных усилий. Это не цель, а средства для достижения цели, необя¬
234
Д. Н. ДУБНИЦКПП
зательные также, как необязательны для позитивного знания обстоятельства и способы его получения. Глумливое пародирование литургии не противоречит этой норме, а предполагается ею, если совершается с верой в Бога.
Для носителей нормы христианской культуры задача познания состоит не в приобретении знания, отчуждаемого от своих носителей, а в приобретении знания о способах достижения собственного спасения в гибнущем мире. Утверждения и понятия, выражающие это знание, не обладают устойчивым смыслом, воспроизводимым за пределами факта высказывания. Основные оперативные понятия теряют даже ту долю фиксированной воспроизводимости смысла, какую имели античные первоэлементы и пифагорийские числа. Понятия здесь не просто связаны с контекстом ситуации осмысленного восприятия, они погружены в него без остатка. Значение текста - не сообщать сведения, а приводить человека через восприятие текста к определенному состоянию, которое должно быть реальным переживанием «здесь и сейчас», соединяющим все компоненты реального человеческого существования - ментальные, сенсорные, эмоциональные - в нерасчленимом единстве. Семантика текста заключается во всей нерасчленимой совокупности его контактов с интерпретатором: это должен быть реальный экземпляр текста с неотчуждаемым значением, который можно трогать, видеть, слышать, произносить, вспоминать, и лучше всего делать это все сразу, но достаточно и чего-нибудь одного для восстановления всей совокупности в реальном переживании. При этом собственно ментально-вербальный компонент значения текста оказывается релятивным и не фиксированным - некоторой загадкой, «тайной», «энигмой», всегда требующей самостоятельных усилий осмысления. Он не сущесвует без этих ситуативных - применительно к обстоятельствам - осмыслений и переосмыслений, которые могут быть чрезвычайно далеки от прямого воспроизводимого смысла, а иногда - прямо противоположны ему, но в любом случае неотчуждаемы от состояний сознания интерпетатора. Зато совершенно необходимым компонентом семантики здесь является фактический экземпляр текста в его реальном осуществлении, т. е. в присутствии и в соучастии в реальном переживании интерпретатора. Текст, наделенный сакральным значением, требует для реализации этого значения своего буквального воспроизведения. Тексты, порождаемые самостоятельными усилиями осмысления - это многократное повторение или близкое варьирование поч¬
О ПАРАДОКСАХ
235
ти одного и того же. призванное не столько сообщить новые сведения, сколько передать возбужденное состояние сознания автора, достигающего «понимания». Даже в тех случаях, когда мы имеем дело с текстом, производящим впечатление связного, не следует слишком доверять этой связности - она важна не сама по себе, но представляет лишь исходный пункт в лучшем случае для нескончаемого коментаторства, переосмысляющего буквальное значение этого текста применительно к потребностям достижения сакральных состояний сознания, не способного зафиксировать воспроизводимый смысл, либо и это в большей степени соответствует норме - для расчленения на узнаваемые в своей сакральной значительности фрагменты, фразы.слова или даже отдельные буквы и их сочетания, используемые непосредственно как материал для медитации. Текст - это «всем открытая тайна» (Августин).
«Познание духовного смысла невозможно без познания смысла буквального. Буквальный же смысл познаваем лишь тогда, когда человек понимает смысл отношений и свойств означенных вещей. Ибо в них вся глубина буквального смысла и из них извлекается бездна смыслов духовных посредством подобающих применений и уподоблений ... А поскольку таким творениям, как Ноев Ковчег, храм Соломона, книги пророков... и т. п. в священном писании несть числа, буквальный смысл возможно понять лишь тогда, когда человек нарисует их в уме, но более того, когда они изображены в своих физических формах; отчего и прибегают священнослужители... к картинам и различным образам, дабы буквальный смысл был воочию явлен, а вслед за ним и духовная истина» (Роджер Бэкон).
Такой семантический волюнтаризм не придает большого значения тому, что мы привыкли воспринимать как определенный смысл утверждения, отчуждаемый после его высказывания. Но зато он имеет жестко детерминированный и непосредственно подконтрольный культуре императивный стержень семантики, предваряющий любые высказывания: императивно детерминированное состояние сознания, определяемое с помощью понятий, связывающих состояние сознания с культурным императивом - не рассуждающая Вера, «безнадежная Надежда» (Августин), всеохватывающая Любовь несмотря ни на что, вопреки здравому смыслу. От утверждений (высказываний) требуется, в сущности, только одно - свидетельство о состоянии веры, надежды, любви. «Вера», «Надежда», «Любовь» - вот основные оперативные онтологические и гносеологические понятия христианской культуры.
236
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
В подтверждение наших общих рассуждений приведем свидетельство автора хорошо осведомленного и авторитетного - Блаженного Августина.
«Рассказ, возвещающий слова Твои, струит узенькой струйкой потоки чистой истины, откуда каждый в меру своих сил извлекает один одну истину, другой - другую, чтобы затем влачить ее по долгим словесным извивам. Если кто-нибудь спросит меня, что думал Моисей.., то и исповедь моя не будет истиной, если я не скажу «Я не знаю», знаю только, что мысли его верны... Поэтому, когда один скажет: «он думал как я», другой: «нет как раз как я», то благочестиво скажу я: «а почему не так как вы оба, если оба вы говорите правильно. И если кто увидит в этих словах и третий смысл и четвертый и еще какой-то, только бы истинный, почему не поверить, что все их имел ввиду Моисей, которому Единый Бог дал составить священные книги так, чтобы множество людей увидело в них истину в разном облике?.. Среди такого разнообразия правильных мыслей да установит согласие сама Истина... будем законно пользоваться законом, имея в виду его цель: чистую Любовь... Ты Сам откроешь истину в этих словах будущим читателям, если даже тот, через кого они сказаны (т. е. Моисей) из многих верных мыслей имел в виду лишь одну... Нам же. Господи, ты покажешь или ее, или какую Тебе угодно другую истинную - но откроешь ли Ты открытое самому слуге Твоему или другое, вложенное в те же самые слова, только питай нас. чтобы мы не стали игралищем заблуждения... Только верой, не видением, надеждой спасены мы»1.
Представленная в рассуждениях Августина семантическая норма существенно, как видим, отличается от нормы, защищаемой Платоном в диалоге «Федр», в двух отношениях: во-первых, своим радикальным релятивизмом, далеко превосходящим дозированный релятивизм античного философа, и, во-вторых, столь же радикальным самоотречением в беспредельной готовности подчиниться трансцедентальному императиву. Но, несмотря на пропасть, разделяющую семантические нормы Платона и Августина, их соединяет несомненная преемственность, именно: предельный радикализм нормы христианства есть не что иное, как доведение до своего логического конца, почти до абсурда персонализации культурной ответственности, составляющей основу античной культуры.
1 Аврелий Августин. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского. М.. 1991.
О ПАРАДОКСАХ
237
Границу семантической нормы античности и христианства можно непосредственно наблюдать в «Исповеди» Блаженного Августина. Время от времени бывший учитель риторики переходит от связного повествования или рассуждения к переизбыточному, почти бессвязному плетению словес, свидетельствующему о восторженном состоянии его сознания, причем воспроизводимый компонент семантики утверждений совершенно сознательно девальвируется: их можно повторять в точности или варьировать, пополнять в том же духе до бесконечности, но при всем желании из них невозможно извлечь «позитивную» воспроизводимую информацию.
«Что же Ты, Боже мой? Что как не Господь Бог? Кто Господь, кроме Господа? и кто Бог, кроме Бога нашего? Высочайший, Благостнейший, Могущественнейший, Всемогущий, Милосерднейший и Справедливейший, Недвижный и Непостижимый, Неизменный, Изменяющий все, вечно Юный и вечно Старый, Ты обновляешь все и старишь гордых; вечно в действии, вечно в покое, собираешь и не нуждаешься,., творишь, питаешь и совершенствуешь, ищешь, хотя у Тебя есть все. Ты любишь и не волнуешься, ревнуешь и не тревожишься, раскаиваешься и не грустишь, гневаешься и остаешься спокоен; меняешь Свои труды и не меняешь совета; подбираешь то, что находишь и никогда не теряешь; никогда не теряешь и радуешься прибыли; никогда не бываешь скуп и требуешь лихвы. Тебе дается с избытком, чтобы Ты был в долгу; но есть ли у кого-нибудь, что не Твое? Ты платишь долги, но Ты никому не должен; отдаешь долги, ничего не теряя. Что сказать еще. Господь мой. Жизнь моя, моя Светлая радость? И что вообще можно сказать, говоря о Тебе? Но горе тем, которые молчат о Тебе ибо и речистые онемели...» и т. д.
Христианская культура создала свой вариант «теории множеств». Подобно тому, как слова теряли фиксированную воспроизводимость смысла, представления о «предметах» теряли фиксированную и воспроизводимую однозначность и, тем более, всякие следы независимости от ментальных манипуляций с ними. В норме восприятия - это необязательные «предметы» сакральных состояний сознания, теряющие значение и определенность за пределами этих переживаний. Они вычленяются избирательным вниманием по мере необходимости и в зависимости от способности соучаствовать в этом сакральном переживании и от своей функции в нем, которая каждый раз может быть иной. Знание о предметах (также как и знание о смысле слов и значении тек¬
238
Д. Н. ДУБНИЦКПП
стов) состоит в определении - каждый раз заново - их положения относительно иерархической трансцендентной границы, составляющей основу осмысления. В соответствии с нормой христианской культуры видимость «самостоятельного» существования «предметов» за пределами их сакральных функций есть отступление от нормы, от абсолютной трансцендентной общезначимости в сторону ограниченной и преходящей необязательности, подлежащее преодолению личными усилиями осмысления человека, подобно тому, как наша норма требует таких усилий для взаимного освобождения сознания и предметов сознания. Разница в том, что наша норма превращает человека в наблюдателя внешнего мира, а норма христианской культуры - в соучастника существования мира, неразделимый на внешний и внутренний.
Вот вариант такой - достаточно развитой и вполне осознанной - «теории множеств»: «Задумавшись об абсолютном зрении, которое я отделяю умом от всех и всяческих органов зрения, и поняв, что абсолютное зрение в своем конкретном бытии как оно присуще разным видящим, привязано к времени, сторонам света, условиям отдельных предметов и так далее, тогда как, наоборот, в своей абсолютности это зрение от всех таких обстоятельств отрешено и освобождено я начинаю прекрасно понимать, что сущности зрения вовсе необязательно принадлежит поочередность и неодинаковость видения, пускай в своей конкретной ограниченности каждое зрение и неспособно, обратившись к одному, видеть другое или абсолютно все... Зрение, свободное от всякой ограниченности, как точнейшая мера и истиннейший прообраз всевозможных зрений вместе и сразу вбирает в себя все способы видения и каждый в отдельности, ведь без абсолютного зрения не может быть конкретно-ограниченного. Абсолютное видение свернуто в себе заключает все способы видения... но от всякого разнообразия остается совершенно свободным: в абсолютном зрении все способы его конкретизации существуют без ограничения и всякое ограничение зрения коренится в абсолютном, потому что абсолютное - это ограничение ограничений...
Он (Бог) - то абсолютное основание, в котором всякое различие есть единство и всякое разнообразие есть тождество, так что различие оснований, которое в нашем понимании различия отлично от тождества, в Боге существовать не может»1.
1 Николай Кузанский. О видении Бога. М.; 1980. Т. 2. С. 37.
О ПАРАДОКСАХ
239
Эго абстрактное умозрительное рассуждение достаточно точно отражает синхронную ему и давно ставшую по времени Кузанца глубоко традиционной практику массового «наивного» восприятия предметов, также как другой вариант «наивной» практики восприятия предметов отражает первоначальная теория множеств Кантора. И в том и в другом случае согласно требованиям нормы человеческое сознание совершает процедуры исключения вариаций собственной избирательной заинтересованности из состава культурно-значительных продуктов этой заинтересованности во имя абсолютной общезначимости. В одном случае фиксируются предметы сознания, независимые от вариаций внимания; в другом - состояния сознания, независимые от вариаций своих предметов.
По аналогичной модели совершается в христианской культуре восприятие пространства и времени.
Время здесь даже не дискретный набор локально-значимых событий, каким оно представлялось в античности. Все необязательное разнообразие локально-значимых событий приносится в жертву единственному сакральному событию, абсолютно-общезначимому во всех смыслах - для личности, для культуры и для мира. Постоянно возобновляемые переживания этого события человеком в его «настоящем» наделяют смыслом его индивидуальное существование и способностью преодолеть преходящую временность своего бытия, соединяя его с вневременной вечностью. При этом фиксируется не чередование событий, происходящих независимо от заинтересованного внимания человека (как это имеет место в науке), и не связь событий с существованием наблюдателя (как это было в античности и в ренессансе), а непосредственно состояние сознания человека, зафиксированного на абсолютно-общезначимом событии.
«Совершенно ясно одно: ни будущего, ни прошлого нет и неправильно говорить о существовании трех времен, прошедшего, настоящего и будущего. Правильнее было бы, пожалуй говорить так: есть три времени - настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе и нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшее это память, настоящее настоящего - его непосредственное созерцание (переживание) настоящее будущего - его ожидание». Этот вывод о радикальной релятивности времени получен Августином путем погружения своего сознания в качели безысходной антиномии, сопровождая это погруже¬
240
Д. Н. ДУБНИЦКПП
ние многословными самоуничтожительными причитаниями, не имеющими значения для описания позитивных фактов, но существенно важными в пределах новой эпистемологической нормы, резко повысившей онтологическую ответственность личности и поставившей переживание парадокса существования в центр культурной значительности. «Не скрывай от меня. Господи Боже мой, добрый Отец мой, умоляю Тебя ради Христа, не скрывай от меня разгадки, дай проникнуть в это явление сокровенное и обычное, и осветить его при свете милосердия Твоего, Господи ... Признаюсь Тебе, Господи, я до сих пор не знаю, что такое «время», но признаюсь. Господи, и в другом: я знаю, что говорю это во времени, что я долго уже разговариваю во времени и что это самое «долго» есть не что иное, как некий промежуток времени. Каким же образом я это знаю, а что такое «время» не знаю? А может быть, я не знаю, каким образом рассказать о том, что я знаю? Горе мне! Я не знаю даже, чего я не знаю...» и т. д. (Исповедь Августина).
Следует признать, что исповедальная честность Августина перед самим собой выгодно отличается от самонадеянного чванства ученого, возводящего свои убогие и заведомо ограниченные представления, заведомо противоречивые и не способные передать очевидную всем и ему самому необратимость времени, до уровня «закона природы», точнее сказать - «закона» того обрубка «природы», который остается после удаления из нее наблюдателей. Безысходность и безответность мучительного вопрошательства, погружающая сознание человека в переживание неразрешимых парадоксов собственного существования, есть не отказ от знания, а совершенно необходимый компонент любого знания (в том числе необходимое условие пополнения «позитивных» фрагментов знания), возведенный в эпистемологическую норму христианской культурой. Эго, возможно, не лучший способ получать внятные ответы на свои вразумительные вопросы, но это хороший способ преодолевать одностороннюю ограниченность любых вразумительных ответов и избегать опасности рабского и некритического подчинения собственного сознания этой ограниченности. Недостатки этой разновидности знания есть продолжение его достоинств, предопределенных его культурными задачами - оно не освобождает мир и носителя знания о мире друг от друга, а позволяет им возвратиться (точнее: возвращаться) к взаимному контакту из состояния отчужденности, делая носителя знания соучастником существования мира.
Радикальная релятивность времени, соединенного с собственным сознанием, для Августина не конечный вывод, а только необходимая
О ПАРАДОКСАХ
241
подготовительная ступень для дальнейшего движения в том же направлении трансцендентного скачка - за пределы релятивных альтернатив сознания в состоянии антиномии путем фиксации своего сознания в этом противоречивом состоянии безотносительно к альтернативам - концентрации сознания на переживании настоящего момента как вневременного события, связывающего человека непосредственно с вечностью. «Уйдя от ветхого человека и собрав себя, да последую за одним. Забывая прошлое, не рассеиваясь в мыслях о будущем и преходящем, но сосредоточиваясь на том, что передо мною, не рассеяно, но сосредоточенно пойду к победе призвания свыше и услышу голос Хвалы и буду созерцать красоту Твою, которая не появляется и не исчезает. Теперь же «годы мои проходят в стенаниях» и утешение мое Ты, Го- споди. Ты мой извечный Отец, я же низвергся во время, строй которого мне не ведом, мысли мои, самая сердцевина души моей раздираются в клочья шумной его пестротой, доколе не сольюсь я с Тобой, очищенный и расплавленный в огне Любви Твоей».
Интеллектуальные восторги Августина были, конечно, доступны не всем. Но каждый неграмотный христианин ежедневно повторял этот путь (или, лучше сказать. Блаженный Августин в своих спекулятивных рассуждениях повторял ежедневный путь каждого христианина) в ритуале литургии или молитвенной медитации, отвлекаясь от преходящего и временного и концентрируя свое сознание на переживании в настоящем собственного существования вневременной абсолютной значительности единственно важного и необратимого события мировой и культурной истории, расщепляемого сознанием на два: «настоящее прошедшего» - самопожертвование Спасителя и «настоящее будущего» - ожидание второго пришествия и страшного суда. Все, что между ними, не имеет самостоятельного значения.
В рассуждениях о времени Августин погружается сознательно в мучительную интеллектуальную смерть, но это единственный путь к восторгам интеллектуального спасения. Точнее сказать, достижение и переживание последнего предела самоотречения это и есть интеллектуальное возрождение к новой жизни. Такое возрождение через смерть составляло сущность религиозного переживания христианина, запечатленную в литургических ритуалах, текстах молитв и символе веры. Рассуждения Августина показывают, что такой способ культурного существования в пограничной ситуации выходил далеко за пределы культовых процедур и был живым источником совершенно самостоятельных и новых человеческих усилий.
242
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
На своем исходе античная культура очень близко подошла к рубежу культурных норм отделяющих ее от христианской культуры, но переход этого рубежа означал фактически гибель античности как способа культурного существования, разрушения всей системы культурных мотиваций и культурных санкций индивидуального поведения.
В своих умозрительных спекуляциях неоплатоники развили диалектику единого и множественного до такой степени, что христианская культура смогла ее принять и усвоить целиком как собственную ментальную базу практически без изменений. Но античная диалектика - в отличие от христианской - оставалась еще целиком областью ментального умозрения, не переходя в область экзистенциальной реализации. При некоторой дозированной релятивности это все-таки была система связных и внятных утверждений, воспроизводимых за пределами высказывания, а для диалектиков экстатическое переживание парадоксального взаимодействия единого и множественного не стало главным фактом собственного существования, источником провиденциальных восторгов, подчиняющих себе все остальное. Стоическая этика воспитывала в человеке нравственную самодисциплину, но эта суровая самодисциплина изолировала человека от культуры, а не соединяла их; она не доставляла радости и, тем более, не могла стать источником «ликования в трепете».
Античная культура подводила человека вплотную к пограничным ситуациям, культивируя философскую невозмутимость, иронию, бесцельность героического подвига, самоубийство как способ освобождения от страдания, но не могла перейти того рубежа, за которым пограничная ситуация становится нормальным способом существования Мотивировки подобных пограничных состояний человека не давали ему полного освобождения, поскольку находились еще целиком в области посюсторонних ценностей и внимание человека не выходило за эти предельт. Отказ от некоторых из этих ценностей или даже от всех не предполагал существования каких-либо иных более значительных ценностей, ради которых можно жить за этим пределом. Это могла быть негативная связь человека с «бренным» миром, но все-таки связь. Отчуждение личности от культуры могло стать причиной самоубийства, но было еще недостаточно полным для того, чтобы стать причиной провиденциального энтузиазма.
Христианство сделало трансцендентный скачок, зафиксировав пограничное состояние человека как норму повседневного существова¬
О ПАРАДОКСАХ
243
ния независимо от фактического наличия обстоятельств, способных подвести человека к самоубийству.
Ни элитарный платонизм, ни более доступный стоицизм не могут помочь в ответе на вопрос, что привлекало к христианству столь различных по воспитанию, образованности, уму, роду деятельности, социальному положению людей как искушенный в интеллектуальных спорах учитель риторики Аврелий Августин и его неграмотная мать, и предопределило победу сначала такого слабого и ничтожного течения над мощными и разнообразными формами античной культуры. Эту победу обеспечила кардинальная полнота и радикальность решения новой культурной нормой, реализованной в христианстве, сразу всех тех неразрешимых проблем, противоречий и мучительных вопросов, которые в изобилии порождала античная культура в конфликтах самосознания личности и доминирующего над ней социума.
Личность, порожденная античной культурой освобождалась сразу от всех проблем и неразрешимых противоречий существования в культуре путем изменения культурной нормы поведения, именно: путем обесценивания сразу всех позитивных посюсторонних ценностей и локальных форм культурной значительности, в том числе самого способа взаимодействия личности с культурой путем восприятия, усвоения и подчинения ее локальным императивам. При этом реальные неразрешимые противоречия старой культурной нормы становились мотивационной базой - питательным бульоном - для новой. Они специально изыскивались, вспоминались, культивировались, скурпулезно исследовались, тенденциозно заострялись и нещадно эксплуатировались даже тогда, когда для этого не было прямых и достаточных оснований, примерно также, как мы эксплуатируем в дидактических целях парадоксальный опыт Майкельсона, доказывая непосвященным преимущества релятивистской механики перед классической. Пребывание в состоянии мучительного неразрешимого противоречия личности и культуры фиксировалось как нормальное, более того - как желанное состояние, обеспечивающее своему носителю трансцендентное спасение от мира сего. Радикальное решение, которое предлагало христианство, состояло в том, что мучительные и безвыходные поиски решения оно превращало в само решение, сознание невозможности выхода - в сам выход, состояние рабской безисходной зависимости от всего, что угодно, в необходимое условие спасения. Человек становился христианином с той минуты, как менял в своем сознании одно рабство на другое: ненавист¬
244
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
ное рабство в мире - рабство зависимости - на сладкую радость абсолютного рабства не от мира сего, на провиденциальный восторг «безнадежной надежды» (Августин).
Ценностные ориентиры античной культуры инвертировались христианством - меняли знак с плюса на минус и наоборот. Место принципиальной невозмутимости, бесчувствия, героического бесстрашия, неозабоченности, готовности к самоубийству в качестве санкционированных культурой атрибутов личного человеческого достоинства занимают противоположные качества: сосредоточенная озабоченность, острая чувствительность, слезливая жалость, боль за весь мир, чувства смертной тоски, страха, любви и надежды, постоянная готовность к самопожертвованию и к унижению личного достоинства как специально культивируемое состояние души независимое от преходящих обстоятельств. «Нищ я и беден, но я лучше, когда, опротивев себе и стеная, втайне ищу милосердия Твоего, пока не восполнится ущербность моя и не исполнюсь я мира, неведомого оку гордеца...» (Августин).
Любые ментальные усилия при этом становились не более, чем средством для погружения в культурную смерть в уповании возрождающего спасения. На фоне радикальных решений христианства интеллектуальные упражнения неоплатоников и стоиков выглядят худосочными полумерами и компромиссами. Они только усугубляли проблему культурного существования человека и углубляли культурное одиночество и изолированность личности и именно в этом качестве годились христианину в его главное дело - как исходный пункт. Но сами по себе - без новой Веры - они еще не давали возможности пережить реально радость трансцендентного соучастия. Их надо было довести до уровня мучительной беспомощности собственного сознания (как это делает Августин), для того, чтобы можно было забыть о них и отбросить как ненужный хлам.
«Исповедь» Августина дает возможность непосредственно наблюдать границу (лучше сказать - пропасть), разделяющую нормы античной и христианской культур. Августин подробно описывает момент своего просветления - иллюминации. Скептический интеллектуал стал искренне-верующим христианином не тогда, когда был убежден разумными аргументами, а когда эти аргументы перестали иметь для него какое-либо самостоятельное значение, когда он реально-физиологически (а не только ментально) пережил полуобморочное нерасчлененное состояние слезливого «ликования в трепете» и
О ПАРАДОКСАХ
245
понял невозможность, ненужность и бессильность любых и всех сразу разумных аргументов и доводов, способных быть полезными только в одном отношении - в приведении сознания к абсурду, в погружении сознания в состояние неразрешимой антиномии - ментального эквивалента очищающей культурной смерти и, тем самым, к возможности спасения.
«Все истинное, вычитанное мной в книгах философов, говорится и в Твоем Писании при посредстве благодати Твоей. Но не было в тех страницах облика благочестия, слез исповедания, жертвы Тебе - духа униженного, сердца сокрушенного и смиренного... Никто там не воспевает: «разве не Богу покорна душа моя»... Никто не услышит там призыва «придите ко мне, страждущие»... Не больше знать о Тебе, а уверенней жить в Тебе я хотел»...
В этом «апокалиптическом восторге» невозможно находиться долго и, тем более, нельзя находиться всегда. Но это состояние перевернуло жизнь античного ритора, стало новой вожделенной нормой его существования, под контроль которой попадала вся дальнейшая - невосторженная - жизнь, переосмысленная и подчиняемая отныне связям с этим состоянием. Августин дает представление о формах этой жизни, целиком заполняя первые пять глав и заключение «Исповеди» безответным вопрошательством и неразрешимыми парадоксами, возвращаясь время от времени к этому невразумительному (но вразумляющему) способу выражения мысли в процессе связного повествования.
Нерасчлененные восторги люди переживали, конечно, и до и после христианства. Эго состояние известно даже ученым. Например, Пуанкаре оставил подробное описание одного своего яркого переживания просветления после мучительного тупика, связанного с открытием новой разновидности математических функций. Но, в отличие от Августина, он не считал это состояние восторга главным в своей жизни и более значимым, чем внятное описание функций, и не стремился зафиксировать это состояние с целью повторных погружений в него. В отличие от христианской культуры наша культура не фиксирует такие состояния сознания в качестве обязательной нормы, сознательной цели и смысла всего культурного существования человека протекающего за пределами состояния восторга, но, напротив, отвергает их и требует устранения всяких следов подобных переживаний из области их общезначимых результатов. Норма христианской культуры (также как и все остальные) избирательно фиксировала некоторые реальности че¬
246
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
ловеческого существования в культуре в ущерб всем остальным. При этом реализовать эту норму (также как и любую другую) не так просто. Не всем христианам были реально доступны состояния «ликования в трепете», также как не всем убежденным сторонникам фальсифицируемого знания доступны предельные формы отчуждения знания формализованных теорий, жертвующих смыслом во имя непротиворечивости.
Христианская культура не была единственной формой реализации нормы, основанной на культурном контроле мотивов (намерений), а не результатов человеческих поступков, имеющей дело с неотчуждаемыми состояниями сознания и экзистенциальными переживаниями человека. Подобная норма реализуется, скажем, в разнообразных вариантах «первобытного» мышления, руководимого «логикой сопричастия» (их также много, как и вариантов «логики отчуждения») или в очень далекой от первобытности буддийской мистике с высоко развитой и изощренной рефлексией. Есть характерные особенности, общие для всех логик «сопричастия» (также как есть они и для логик «отчуждения»), К их числу можно отнести сакральную процедуру «возрождения через смерть», ментальным эквивалентом которой является погружение сознания в абсурд неразрешимой антиномии.
Уникальность христианской культуры на фоне любых других как угодно близких к ней культурных форм определялась ее происхождением из кризиса античной культуры и генетической преемственностью с породившими ее формами культурного существования. Именно: она была радикальным завершением античного персонализма, освобождающим самосознание сформированной античностью личности от связей с локальными формами культурной ответственности, ставшими для нее слишком ограничительными, во имя ответственности универсальной, безусловной и абсолютно-общезначмой.
Норма ментальных связей индивида и социума, наследовавшая античной культуре, определялась радикальной персональностью адресата и объекта нормативных императивов, требующих от личности неразделенной ответственности за собственное существование, радикальной трансцендентностью этих абсолютно-общезначимых императивов, выходящих за пределы любых фактов реального существования человека, и радикальной релятивностью любых локально-значимых форм культурного существования, не совпадающих с трансцендентной универсальностью.
О ПАРАДОКСАХ
247
Эта норма формировала средства своей реализации в виде сакральных догматов новой религиозности, обеспечивающих фиксацию и воспроизводство ее структур и способов мотивации человеческого поведения. Необходимыми компонентами этой догмы стали:
• абсолютный и строгий радикальный монотеизм единого и единственного источника нормативной императивности;
• его столь же строгая и абсолютная радикальная трансцендентность по отношению к реальностям мира;
• персонально-личный характер взаимоотношений с сакральным источником императивности и персонально личный характер самого сакрального объекта - Спасителя, обеспечивающего контакт человека с трансцендентным источником осмысленного существования ценой собственного самопожертвования, «смертию смерть поправ»;
• персонально-личный путь к спасению человека, наделенного индивидуальной бессмертной душой, и его персональная ответственность за собственное спасение, достигаемое ценой культурной смерти, исповедального покаяния и погружения в переживание собственной ничтожности, рабской зависимости и греховности;
• строгое и последовательное отвергание любых локально-значимых форм культурной регламентации человеческой жизни во имя соучастия и растворения в общечеловеческой абсолютной и трансцендентной сакральной общности Града Божьего - Церкви.
Христианство началось не с учения о праведной жизни, культивируемого в изолированной секте, а с преодоления сектантской замкнутости. Оно началось с того момента, когда персональное избранничество к спасению стало переживаться (по крайней мере некоторыми людьми) как провиденциальное событие космического значения и стало базой общечеловеческой религии, противостоящей любой форме замкнутости. И главным в этом возникновении новой культуры было осознание непроходимого культурного рубежа. Христианство создало не проповедь Христа, а смерть Христа как Спасителя, указавшего путь к спасению человечества путем личного воспроизведения его подвига - смерти в этом мире ради возрождения к вечной жизни в мире «ином». Новая норма формировала средства своей реализации из самых разнородных ингредиентов, избирательно вовлекая в свои ментальные и социальные структуры все, что могло ей способствовать - элементы архаических эзотерических культов наравне с элементами новейшей античной философии, не теряя при этом выраженного единства мотиваци¬
248
Д. Н. ДУБНИЦКПП
онной базы и способности к генерации совершенно новых культурных форм поведения. В числе прочих компонентов она отбирала, усваивала и использовала в своих собственных целях предания и учения замкнутых иудейских сект, отвергнув, однако, их сектантскую замкнутость, придав им общезначимый общечеловеческий характер и сменив локальную коллективную изолированность членов секты на абсолютную трансцендентную изолированность личности.
Усвоение христианством любых - архаических, традиционных и новаторских культурных инградиентов не было неразборчивой ассимиляцией, но всегда - критическим переосмыслением по требованиям новой культурной нормы. Более того, некоторые из числа наиболее важных компонентов христианского мировоззрения, имеющих близкие аналоги в традиционных культурных формах, вообще не были заимствованы или усвоены из - вне, а регенерировали заново, вызванные к жизни действующей логикой поведения и ее ментальным отражением. Не могла быть рудиментом обряда инициации или архаичных земледельческих культов сакральная сущность христианства - «возрождения через смерть», выполнявшая совершенно новую культурную функцию: индивидуальное личное спасение человека через сопричастность неповторимому уникальному событию, необратимо изменившему мир, - смертные муки жившего среди нас человека - Спасителя.
К числу заново вызванных к жизни и переосмысленных христианством традиционных форм следует отнести также догмат Троичности, имеющий столь же универсальное распространение в человеческих культурах, как и мифологема «возрождения через смерть», но получающий в христианстве новые функции и новые мотивировки для фиксации в качестве догмата. Новозаветная троица не была простым усвоением и утверждением ветхозаветной традиции и, тем более, наследованием троичности античного умозрения. Универсальное распространение концепта «троичности» в самых различных функциональных вариантах реализации определяется тем, что это такой же предваряющий императив осмысления реальности, каким для нас является дуализм наблюдателя и наблюдаемого мира, с той разницей, что «троичность» - это способ ментального включения человека в реальность, а не изоляции их друг от друга. Она появляется там и тогда, где и когда культурная норма ставит перед ментальностью задачу включения человека в акт существования реальности, а характер ее функций зависит от характера постановки задач сопричастия.
О ПАРАДОКСАХ
249
В античной культуре «троичность» была релятивным (т. е. связанным с сознанием человека) императивом восприятия реальности, переносимом с одного предмета внимания на другой вместе с избирательным вниманием. В христианстве «Троичность» превращается в абсолютный трансцендентный принцип существования.
Радикальная релятивность реальности, в которой не остается ничего, кроме обращенного на самого себя переживания человеком собственного существования, прямо и непосредственно связывающего его с трансцендентными первопричинами существования, оставляет от многочисленных «троек» античного умозрения одну единственную, но зато возведенную в ранг безусловного догмата.
Для христианина единственной и истинной реальностью является реальность религиозного переживания, достигаемого фиксацией сознания на спасительной смерти Христа, включающая 3 компонента: собственную жизнь человека в мире без Бога, осознание ее полной невозможности и греховности - «смерть» и, наконец, спасение в этой «смерти» - ликование в трепете, причащающие человека Богу. Такую же структуру должны иметь переживания христианина за пределами собственно культового обряда. Примером такого переживания может служить рассуждения Блаженного Августина о времени: 1) попытка определенного суждения о времени (жизнь); 2) суждения о себе самом, о собственной неспособности определенно судить о времени - мучительное погружение своего сознания в антиномии (смерть); 3) переживание на пределе самоуничижения восторженного состояния «ликования в трепете», лежащего за пределами любых определенных дефиниций, позволяющее достичь сопричастности трансцендентной сущности реальности. 3 компонента переживания реальности - «жизнь», «смерть» и «дух» - трансформация сознания, выходящая за пределы «жизни» - возрождение к жизни не от мира сего. Этой реальности экзистенциального переживания соответствует триединство сакрального трансцендентного переживания: Творец мира. Спаситель мира, приносящий себя в жертву, и Дух святой животворящий, пребывающие «нераздельно неслиянно» в единстве.
Знание, заключенное в догмате троичности - это не позитивное знание способное освобождаться от сознания своего носителя. Эго радикально релятивное знание, - персональная «Вера», требующая себе реализации в реально-переживаемом состоянии человека, неотчуждаемая от этого состояния, «Тайна» не доступная фиксации в определен¬
250
Д. Н. ДУБНИЦКПП
ных понятиях, которую каждый сам должен пережить, превратив ее в знание о себе самом.
Христианская религия не всегда могла удержаться на уровне жестких требований нормы (также как и наука), допуская иногда неполноту их реализации и компромиссы. Но в более общем плане этот нормативный стержень продолжал оставаться достаточно эффективным регулятором культурного поведения на протяжении всего европейского средневековья, воспитывая в носителях этой нормы сознание персональной культурной ответственности и радикальный релятивизм трансцендентального монотеизма. Западное католичество, отделенное от светской власти и региональных культурных стереотипов, делало это более строго, решительно и последовательно, чем восточное православие, зашедшее слишком далеко в своих компромиссах с локальными - национальными, сословными, административными, традиционными и т. и. формами культурной регламентации поведения человека.
Византийское православие так и не смогло выработать в своих адептах той персональной неразделенной ответственности личности за собственное существование, которая стала нормой существования западно-европейца, последствия чего сказываются до сих пор. Католичество шло по пути постоянного усиления конфронтации светского и трансцендентно-сакрального во всех областях - от разделения и противопоставления локальной светской и абсолютной сакральной власти (с господством в последней античных форм права, имеющего в качестве субъекта персональную личность) до наднациональной латиноязычной литургии и бытовой индивидуальной (а не коллективной) исповеди. Оно постоянно вовлекало человека в эти конфликты светского и сакрального, навязывая позицию критического релятивизма по отношению к любым не общезначимым формам культурной жизни, заставляя человека принимать самостоятельные решения и побуждая человека к самостоятельному выбору. Оно систематически стимулировало индивидуальные религиозные и мистические переживания, обращало сознание человека на самого себя и выдергивало его из коллективной безответственности традиционных стереотипов поведения, воспитывая самосознание.
Такой строгой и последовательной трансцендентности и абсолютной универсальности сакрального восточное православие не знало. Оно не знало таких жестоких форм религиозной нетерпимости, столь глубокой пропасти между градом Божьим и миром, столько открытой
О ПАРАДОКСАХ
251
вражды между церковной и светской властью. Оно пошло слишком далеко навстречу контактам со светской властью, с национальными языками и другими локальными - не обязательными и не общезначимыми формами культурной жизни, освобождая человека от необходимости принятия самостоятельных решений и связанной с ними персональной ответственности. Лишенная строго универсального и трансцендентного характера подчиненность локально-значимым коллективным императивам, санкционированным авторитетом универсальных принципов, не способствовала воспитанию индивидуального личностного самосознания как нормы культурного существования. Она воспитывала, напротив, готовность подчиняться, не выделяясь, культивировала и тренировала не личную ответственность, а делегирование ответственности за собственное существование.
Компромиссы абсолютных императивов восточного православия с локально-значимыми императивами человеческого существования приводили к консервации патриархальных и рудиментарных форм культурной мотивации. Вместо единственной трансцендентной и универсальной границы, разделяющей в сознании человека сакральный и посюсторонний миры, в этом сознании закреплялось представление о множественности иерархических границ, разделяющих посюсторонний мир культурно-осмысленного существования. На долю самостоятельных решений человека оставался только выбор этих границ, выбор тех или иных локальных императивов, сменяющий один другим, но не затрагивающий сущности нормативной иерархичности как принципа культурной регламентации человеческого существования. Диапазон поведения человека в этой системе мотивации лежит в пределах от безусловного подчинения императивам мотивации до их безусловного отвергания, т. е. от самоотверженности культурно-обусловленного героического энтузиазма до самоотверженности юродства, от беззаветного служения до апатии, от безответственной исполнительности до безответственного бунта. Культура в регионах Восточного православия так и не смогла выйти за пределы логики мотивации поведения, в которых социум определяет смыслы, ценности и оценки поступков индивида, контролируя его намерения, оперируя категориями взаимного императивного долженствования индивида и социума. Для этой логики характерны делегирование ответственности социуму, демонстрация лояльности («готовности») выбранным императивам, групповая замкнутость мотивировок, проводящая гетерогенные границы меж¬
252
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
ду потенциальными исполнителями императива и всеми остальными, избирательная сакральная фиксация локальных - групповых мотивировок осмысления восприятия, вовлекающая реальность в локальный контекст переживаемой культурной ситуации, фиксация некоторых событий и связанных с ними мест, дат, предметов в качестве сакрального источника мотивационных императивов, составляющих непременный компонент семантической, эпистемологической и эстетической нормы. Культурная ответственность личности за собственное существование не стала нормой культурного существования, действующей независимо от обстоятельств, как это произошло в культуре западной Европы.
Западно-европейский Ренессанс начал с того, чем кончила античность - с утверждения культурной значительности индивидуального самосознания, но в новой роли, не известной античности - как источника и создателя (а не только восприемника и исполнителя) императивных форм культурно-адресованного поведения человека. Для этой инверсии позиции самосознающей личности в отношении культуры с «пассивной» на «активную» потребовался - и был совершенно необходим - опыт существования человека в условиях культуры с нормой радикальной релятивности, которая принудительно требовала и воспитывала в пассивных носителях культурной функции активную самостоятельность систематически возобновляемых индивидуальных усилий, подвергающих критическому переосмыслению любые не общечеловеческие локально-значимые формы культурного существования во имя сопричастия общечеловеческим.
Также как и эпистемологическая норма европейской науки, норма христианской культуры в сознании ее носителей не оставалась постоянной, но развивалась и эволюционировала, имея более нежные градации, обсуждать которые в этой ограниченной по целям иллюстрации не представляется возможным. Главный результат этой эволюции состоял в изменении функциональной роли индивидуального самосознания по отношению к своему трансцендентному адресату с пассивной на активную. Доминанты реализации обретенного благочестия по отношеню к зримому миру смещаются от стремления к выходу за его пределы с вычленением сакрального из профанного (с концентрацией культурной жизни в монастырях), на реализацию благочестия в зримом мире, вовлекая его в сакральные состояния собственного созна¬
О ПАРАДОКСАХ
253
ния (с концентрацией культурной жизни за пределами монастырей - в городах). В мистическом натурализме проторенессанса личноостный компонент взаимодействия человека с культурой приобретает доминирующее положение, вовлекая в поиски мистического конкакта все без исключения аспекты посюстороннего индивидуального человеческого существования и даже быта. Зримый посюсторонний мир подвергается энергичному самостоятельному переосмыслению, не отвергающему его реальность и значимость (как это было при возникновении христианства). а вовлекающему его без остатка в сферу сакрального, реальность наделяется сакральностью.
Через 1000 лет после «Исповеди» Августина Николаем Кузан- ским руководит все тот же основной мотив и та же конечная цель интеллектуальных усилий: достижение нерасчлененного парадоксального состояния сознания как единственный способ постижения реальности.
«Кто прочтет написанное мной в разных книжках, заметит, что я очень часто занят совпадением противоположностей и постоянно пытаюсь прийти в итоге к интеллектуальному видению, превосходящему силу рассудка». «Снова я убеждаюсь, что надо вступить в область мрака, признать не вмещаемое никаким рассудком совпадение противоположностей и искать истину там, где встает перед глазами невозможность. Над этим, над всякой высотой интеллектуального восхождения, в конце пути, ведущего к тому, что никакому разуму неведомо и что всякий разум сочтет максимально далеким от истины, - там Ты, Бог мой.
Ты - абсолютная необходимость, и чем более темной и невозможной я вижу ту непроглядную невозможность, тем истиннее сияет необходимость, тем откровеннее и ближе ее присутствие. Тогда я благодарю Тебя, Бога моего, за ясность, с какой вижу, что к тебе нельзя подняться никаким другим путем, кроме того, который всем людям, даже ученейшим философам, кажется совершенно непроходимым и невозможным: ты показал мне, что тебя можно увидеть только там, где на пути встает преградой невозможность. И Ты, Господи, дал мне мужество усилием преодолеть самого себя, поскольку невозможность совпадает в тебе с необходимостью.
Так я увидел, что место, где Ты обретаешься без покровов, опоясано совпадением противоположностей. Эго стена рая, в котором ты обитаешь; дверь туда стережет высочайший дух разума, который не
254
Д. Н. ДУБНИЦКПП
дает войти, пока не одолеешь его. Тебя можно видеть только по ту сторону совпадения противоположностей, ни в коем случае не здесь»1.
Однако за прошедшее тысячелетие существенно изменился способ достижения вожделенного состояния сознания. Августин через осознание ничтожности и радикальной релятивности видимого посюстороннего мира стремится достичь переживания собственной абсолютной ничтожности, фиксируемого как состояние просветления и сопри- частии Богу. Кузанец идет в противоположном направлении: он не подавляет значения посюсторонних впечатлений собственного бытия, а поднимает самые ничтожные из них до уровня сакральной общезначимости, стараясь прозреть за их видимым и преходящим разнообразием единство универсального абсолюта. Главное для него - это самостоятельность напряженных и нескончаемых исканий Бога во всех его посюсторонних проявлениях. «Нам ясно, что неведомый Бог влечет нас к себе, побуждая светом своей благодати. Его невозможно обрести иначе, чем если он явит себя сам. Но он хочет, чтобы Его искали и хочет дать ищущим свет, без которого они не могут его искать. Хочет, чтобы искали, и хочет, чтобы нашли, поскольку хочет открыться ищущим и явить сам себя. Его поэтому ищут тоже с желанием обладать - и бег умозрительного искания ведет бегущего к покою и конечной цели движения тогда, когда желание ищущего максимально ...
Как же я владею Тобой, Господи, если я недостоин даже появиться перед Твоим лицом?.. Как мне молить Тебя? Ведь нет ничего нелепее, чем просить у Тебя в дар Тебя самого, когда Тобой полно все во всем. И как Ты подаришь мне себя, не подарив мне вместе небо, землю и все, что в них?.. Как Ты подаришь мне себя, не подарив мне заодно и меня самого?
И когда я умолкаю так в созерцательном молчании. Ты, Господи, в глубине моего сердца отвечаешь и говоришь: «Принадлежи себе, и Я буду принадлежать тебе». О, Господи, сладость всего желанного. Ты дал мне свободу принадлежать себе, если я захочу. Ты будешь моим, лишь, когда я стану самим собой. Ты требуешь моей свободы, раз не можешь быть моим, пока я сам не буду принадлежать себе, и, предоставив это моей свободе. Ты не понуждаешь меня, а ждешь, когда я решусь быть самим собой. Так что за мной дело стало, не за Тобой, Господи ... Но как мне стать самим собой, если Ты, Господи, не научишь меня? Впрочем, Ты учишь меня подчинять чувства главенству разума: 1 Николай Кузанский. О видении Бога. М.; 1980. Т. 2. С. 97.
О ПАРАДОКСАХ
255
когда чувства служат разуму, я принадлежу сам себе, а разумом правишь только Ты, Господи. Если я буду слушать Твое слово, не перестающее говорить во мне и постоянно сияющее в моем разуме, то буду свободно владеть собой и перестану служить греху»1.
Мистический натурализм, сакрализующий реальности человеческого бытия, не был изолированной умозрительной концепцией Кузан- ского философа. Чтобы убедиться в том, что это было широким, по существу, общеевропейским культурным движением, достаточно посмотреть на картины Ван Эйка и других художников золотого века живописи Нидерландов, итальянцев Пизанелло и Лоренцетти, французов братьев Лимбург и германца Конрада Витца.
Ко времени Николая Кузанского смещение нормативной доминанты к самостоятельности индивидуально-личного компонента культурной значительности, начинавшееся значительно раньше, зашло уже очень далеко, подводя действующую культурную норму к самой последней грани ее реализации. Культурные мотивировки еще субъективно переживались человеком как традиционные общезначимые и общеобязательные трансцендентные - императивы, но фактически они уже переставали быть таковыми. Субъективная позиция человека в отношении собственного существования и его связей с разнообразием посюстороннего мира, практически полностью реабилитированного сакрализующей интерпретацией, оставалась единственной областью действия традиционной культурной нормы, возникшей вместе с христианством. Присутствие или отсутствие этой субъективной позиции не так просто различить в продуктах человеческих усилий, доступных внешнему - объективному - наблюдателю. Оставалось совсем немного - отказаться от этого сакрального трансцендентного стрежня культурных мотивировок и принять на себя неразделенную ни с кем безусловную ответственность за собственное существование, но каждый человек должен был сделать это сам - в своем собственном сознании.
Эго и был Ренессанс. Границу между проторенессансом и Ренессансом зафиксировать достаточно трудно, хотя самими соучастниками она переживалась остро - как удар. Эта граница проходила в сознании человека, состояла в изменении его субъективной позиции и не сразу проявляла себя в результатах его действий, отчуждаемых от состояния сознания. Происходила инверсия взаимоотношений между 1 НиколайКузанский. Тоже соч. С. 98.
256
Д. И. ДУБНИЦКИЙ
индивидуально-личностным и внеличным культурным компонентом значения в состоянии их почти неразличимой близости: они меняются местами. Культурный адресат человеческих поступков возвращается из трансцендентной запредельности в посюсторонний мир: заинтересованное внимание культуры снова перемещается с мотивов поступка на его результаты; человек осознает себя не только восприемником культурно-санкционированных императивов, но их создателем. При этом связь между культурными императивами и состояниями индивидуального сознания, составляющая основу предшествующей культуры, не исчезает и не рвется; она сохраняется и даже усиливается, поскольку лишается своего догматического универсального и общеобязательного значения, не теряя своего индивидуального значения. Эта связь становится не просто локальной, но персональной личностной.
Носители новой нормы больше не получают удовольствия от сознания и смакования собственной ничтожности, но ощущают себя провиденциальными избранниками. Сказанное в равной мере относится к протестанту Кальвину, иезуиту Лойоле, богемному интеллектуалу Леонардо да Винчи, политику Маккиавели, конквистадору Писсаро, наблюдателю «Гармонии мира» Кеплеру.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе нет возможности обсуждать другие варианты реализованных и потенциально-возможных норм культурного существования человека, т. е. норм ментальной связи индивида и социума и подробности их необратимой эволюции статики, кинематики и динамики, такое обсуждение выходит далеко за пределы задач этой работы. Поэтому ограничимся этой конспективной иллюстрацией того, что таких норм может быть много и ни одна из них (также как и создаваемый ею взгляд на мир) не имеет никаких априорных преимуществ перед другой, кроме преимуществ фактической реализации в силу тех или иных исторических (т. е. преходящих) обстоятельств. Ни одна из них не может считаться единственно возможной и окончательной, несмотря на то, что иногда своим некритическим энтузиастам она может казаться таковой. Каждая из этих норм имеет свои достоинства и свои недостатки, заметные с точки зрения носителей других норм, свои приобретения и свои неизбежные утраты. Каждая создает свой вариант представлений о «предметах», свою семантику и свою логику, позволяющую доказывать свои теоремы, убедительные для носителей этих норм ментальной связи индивида и социума.1
Человек может подчинять себя той или иной культурной норме - с энтузиазмом или с отвращением - и даже нескольким разным нормам в зависимости от обстоятельств культурно-адресованного поступка и его адресата. Единственно, чего он не может, - это существовать в культуре вообще без всяких норм взаимодействия с культурой, т. е. без ментальных связей с другими людьми.
Даже наша сегодняшняя релятивность культурных ценностей, в которой смыкаются хэпининги, спортивные состязания, рекламные ролики, предвыборные кампании, газетные сенсации и формализованные теории, - это тоже культурная норма, достаточно жесткая (в некоторых случаях не менее жесткая, чем самодисциплина пуритан), имеющая своих пророков, мучеников, фанатиков, правоверных адептов и чудаковатых педантов. Перечисленные выше, а также многие другие
1 Эти вопросы рассматриваются в другой работе автора «Фкторы культурной мотивации». СПб. Алетейя, 2009.
258
Д. Н. ДУБНИЦКПП
факты, характерные для современной культуры, объединяет то, что их санкционированное значение прямо связано с состоянием индивидуального сознания и ситуативно, т. е. существует только в момент фактической реализации этого значения для ее непосредственных соучастников. Общезначимый компонент последовательно приносится нами в жертву ситуативной и вариабельной заинтересованности. Множественность возможных логик - вот наша нормативная логика, плюрализм ситуативных семантик - вот норма нашей семантики. В отличие от поколения Рассела и Кантора мы сегодня уверены в локальной ограниченности выявленных нами физических закономерностей еще до того, как они фактически сформулированы, в неоднозначности смысла слов и утверждений еще до того, как они произнесены, и в преходящей необязательности значения произведения искусства еще до того, как оно создано. Критерием культурной значительности для нас стала «эффективность», погружающая ценности в локальный контекст непосредственно переживаемых обстоятельств (а не, скажем, «справедливость», изолирующая их от контекста). Средством рефлексии стали герменевтика и феноменология, возвращающие любые формы культурной значительности в контакт с состоянием сознания единичного человека, переживаемым здесь и сейчас.
Эта норма стала логичным завершением развития культурной функции индивидуального самосознания, начатого Ренессансом и, в известной мере, возвращением к этому исходному пункту развития в том, что касается доминанты индивидуально-значимых компонентов культуры над общезначимыми. Наш радикальный релятивизм, восстановивший значение абсурда как культурного фактора, существенно отличается от других известных форм радикального релятивизма (скажем, от христианства или буддийской мистики) полным отсутствием какого бы то ни было общезначимого императивного стержня, обеспечивающего контроль культуры над мотивами индивидуального поступка. Доминирование индивидуально-значимого в культуре стало полным, являя собой единственную форму императивности.
Разнообразие исторически-реализованных норм культурного поведения человека велико, еще больше разнообразие норм пока не реализованных, но потенциально-возможных. При всем том есть нечто такое, что со всей определенностью можно утверждать о любой из них - прошлой, будущей или потенциальной, поскольку это составляет сущность культуры как способа взаимодействия человека с други¬
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
259
ми людьми, именно: невозможность, следуя норме, выйти за пределы неразрешимого парадокса, создаваемого самим фактом кольца взаимной обусловленности несовместимых компонентов - состояний персонального сознания в ситуации, переживаемой здесь и сейчас, и состояний сознания интерперсонального социума, неограниченно воспроизводимых за пределами единичного сознания в переживаемой ситуации и независимо от нее.
SUMMARY
The book «On paradox» is dedicated to study an philosophical problem, that of the formation and function of cultural normes. Each cultural norm predetermines its own variaty of the logic of human behavior, thought, semantics, epistemology, and aesthetics. Certain of this norms, their relations and evolution, are analyzed in the book. In particular which presents, as historical illustration of cultural norms, the Renaissance and the subsequent period, classical antiquity and the Christian Middle Ages. The way the question is posed is profoundly original. While studying the general principles of human thought as expressed in logical and mathematical paradoxes, the authore formulates the a priori incomplete solutions of the paradoxes in a way that is clearly connected with the corresponding cultural norms. In this way an apparatus is created for studying these norms.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 5
I. Предварительные сведения 7
II. Интерпретация культурной ситуации: понятие о культурной норме мышления 21
III. Анализ парадоксов 31
Парадокс брадобрея 31
Парадокс гетеро логичности 35
«Парадокс Лжеца» 43
Парадоксы теории множеств 48
IV. Уточнение некоторых математических и физических понятий 70
Понятие множества предметов 70
Понятия пространства и времени 86
Механика 101
Термодинамика (понятие энтропии и необратимости) 116
V. Исторические иллюстрации различных норм ментальной связи индивида и социума 138
Ренессанс и постренессанс 138
Античный вариант нормы 197
Христианский вариант 226
Заключение 257
Summary 260
Дубницкий Дмитрий Николаевич
О парадоксах
Главный редактор издательства И.А. Савкин Дизайн обложки И.Н. Граве Оригинал-макет Л. Г. Иванова Корректор И. Е. Иванцова
ИД № 04372 от 26.03.2001 г. Издательство «Алетейя», 192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47
Редакция издательства «Алетейя»: СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304, тел. (812) 577-48-72, aletheia92@mail.ru
Отдел продаж: fempro@yandex.ru, тел. (812) 951-98-99 www.aletheia.spb.ru
Книги издательства «Алетейя» в Москве можно приобрести в следующих магазинах: «Историческая книга», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95 «Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83 Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.
Тел. (495) 915-27-97
Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27. Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21
Магазин «Циолковский», Новая площадь, 3/4, подъезд 7д. Тел. (495) 628-64-42
«Галерея книги „Нина"», ул. Бахрушина, д. 28. Тел. (495) 959-20-94
Интернет-магазин: www.ozon.ru
Формат 60x88/16. Усл. печ. л. 15.89. Печать офсетная.
Заказ №