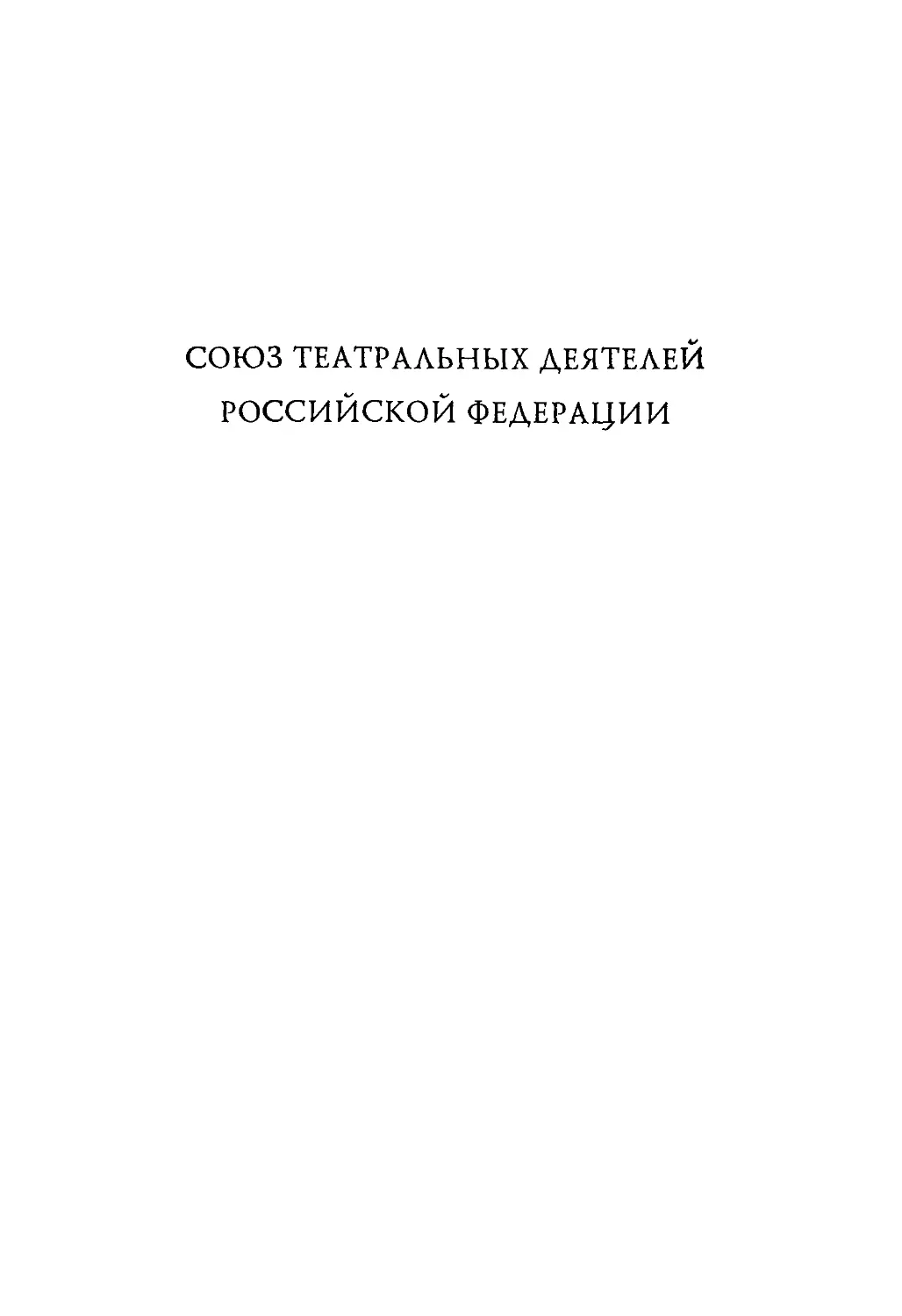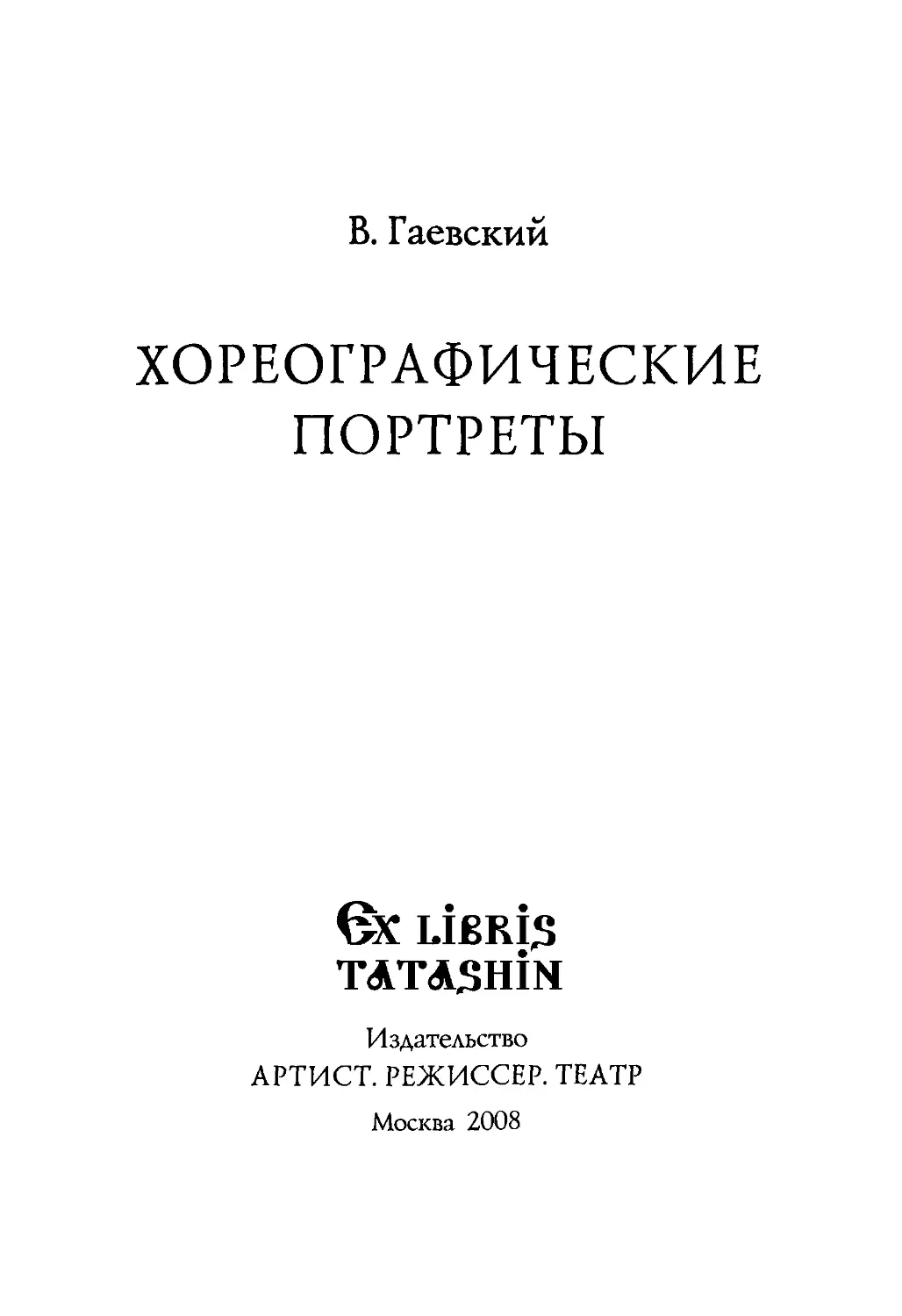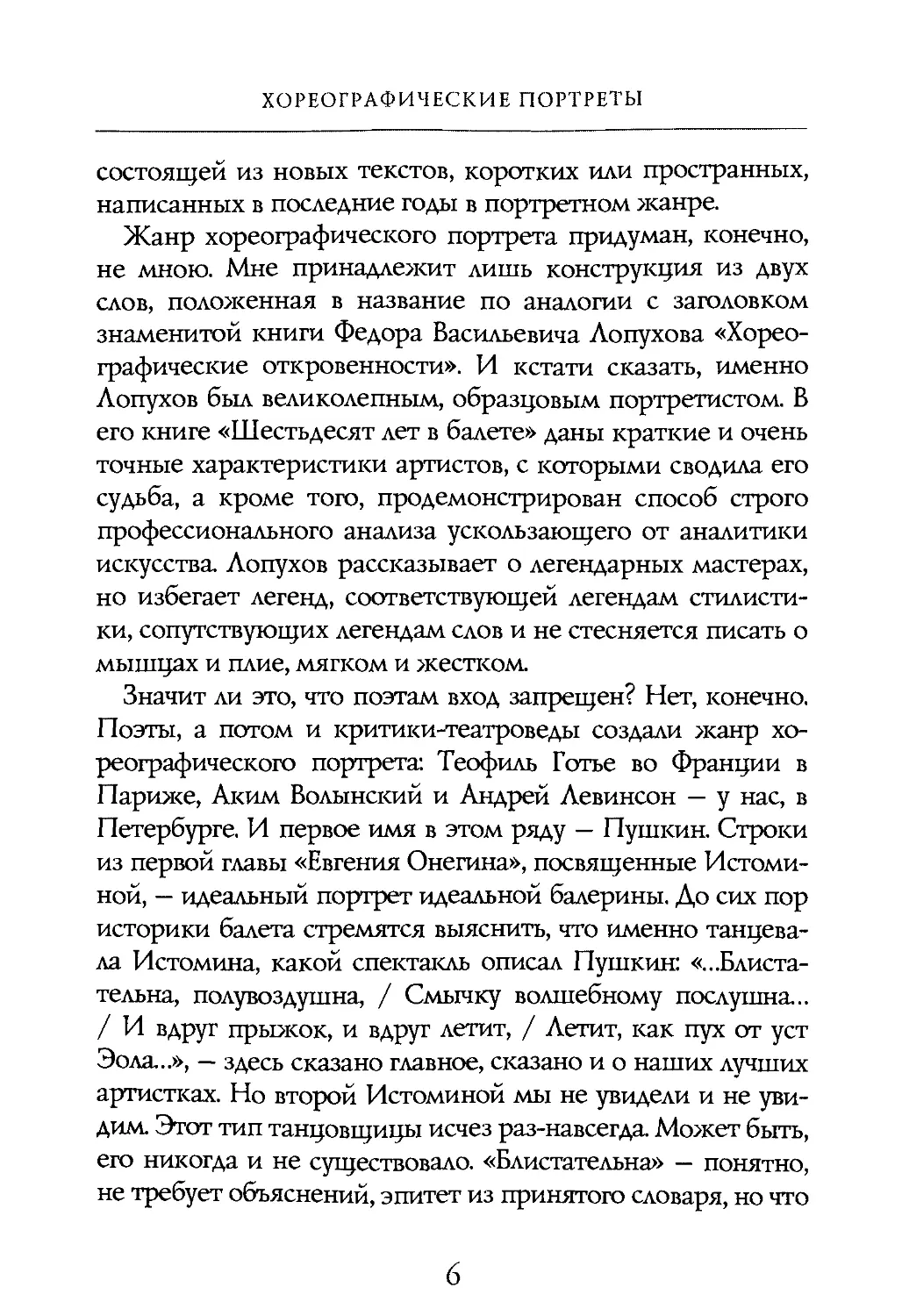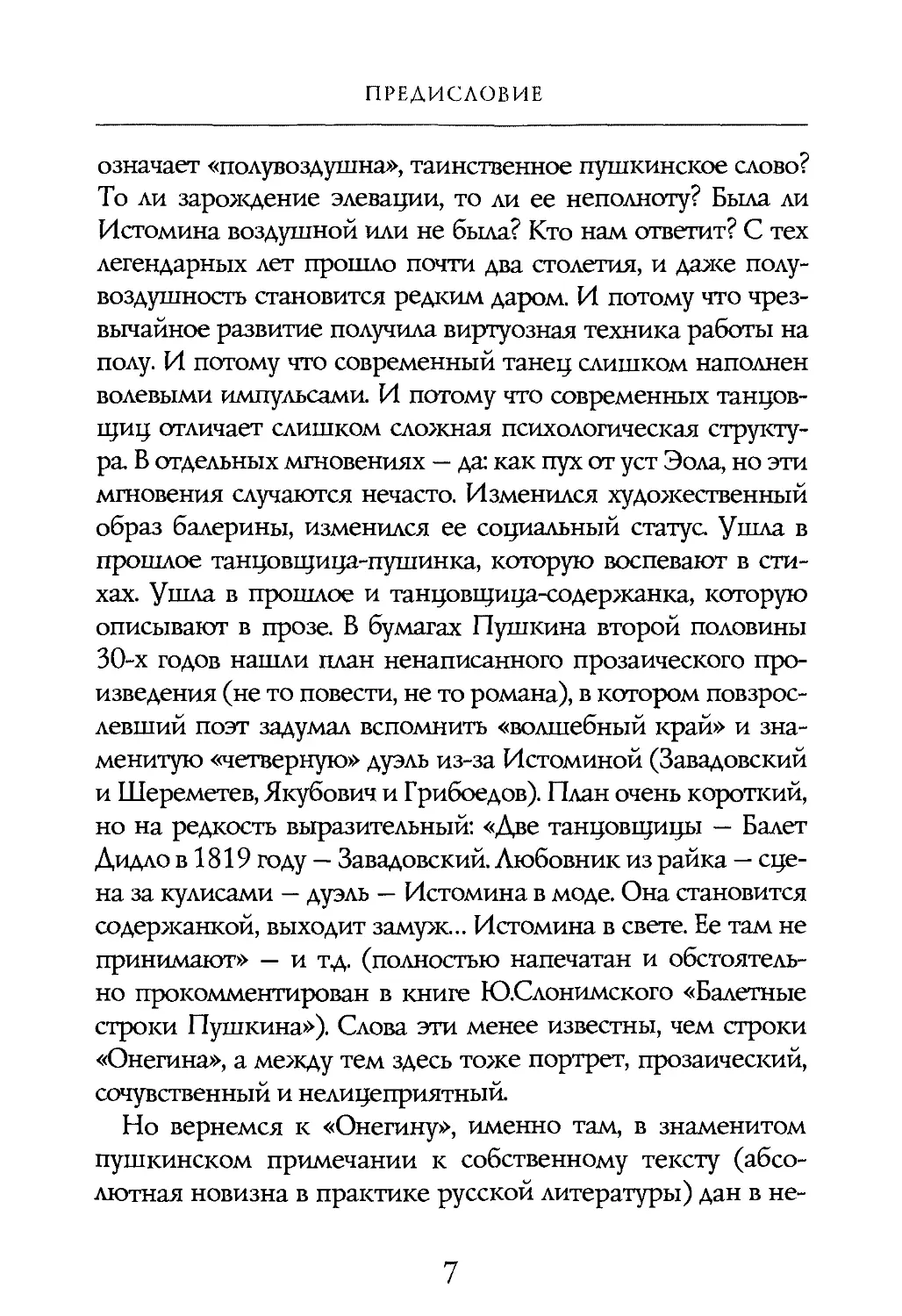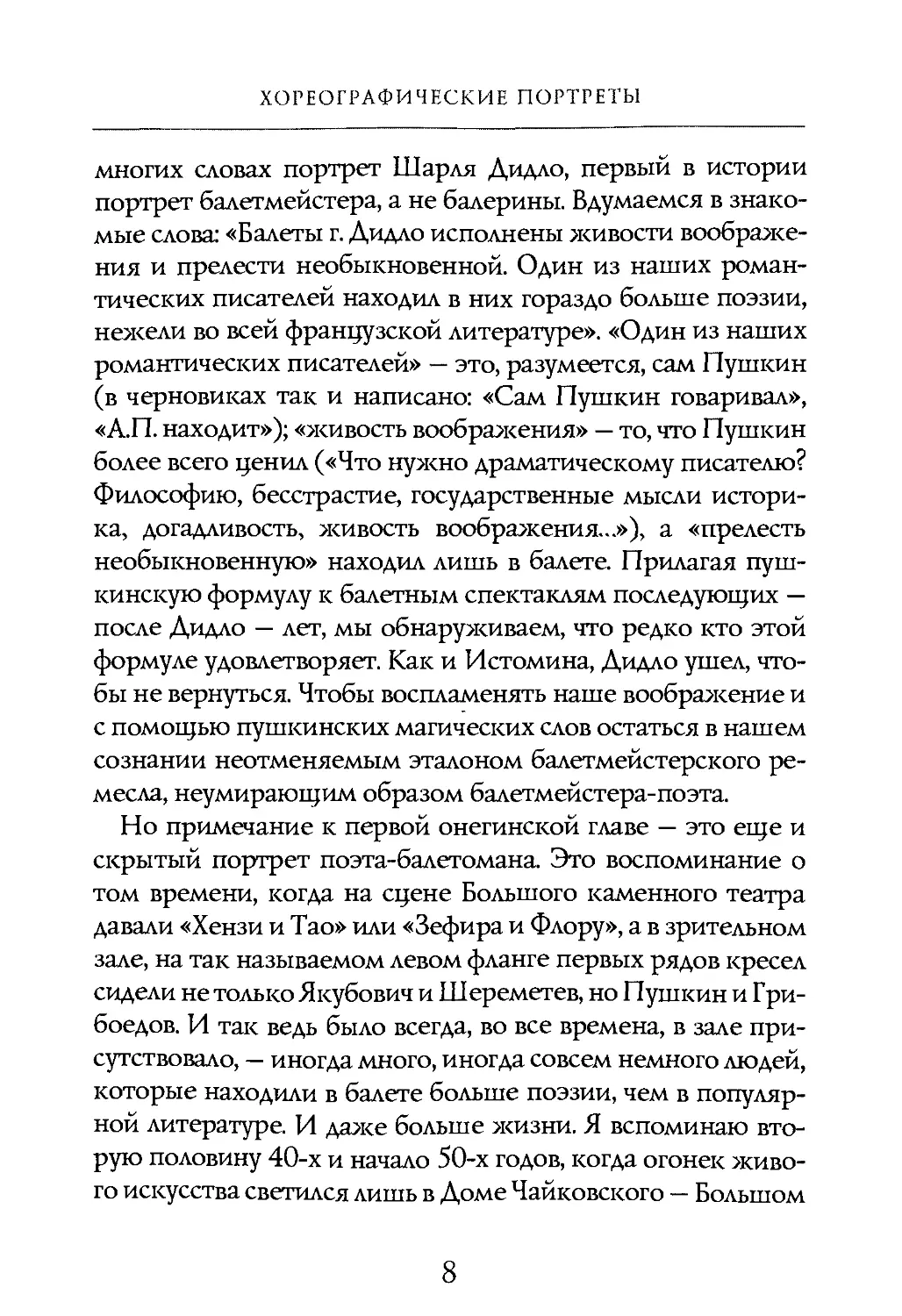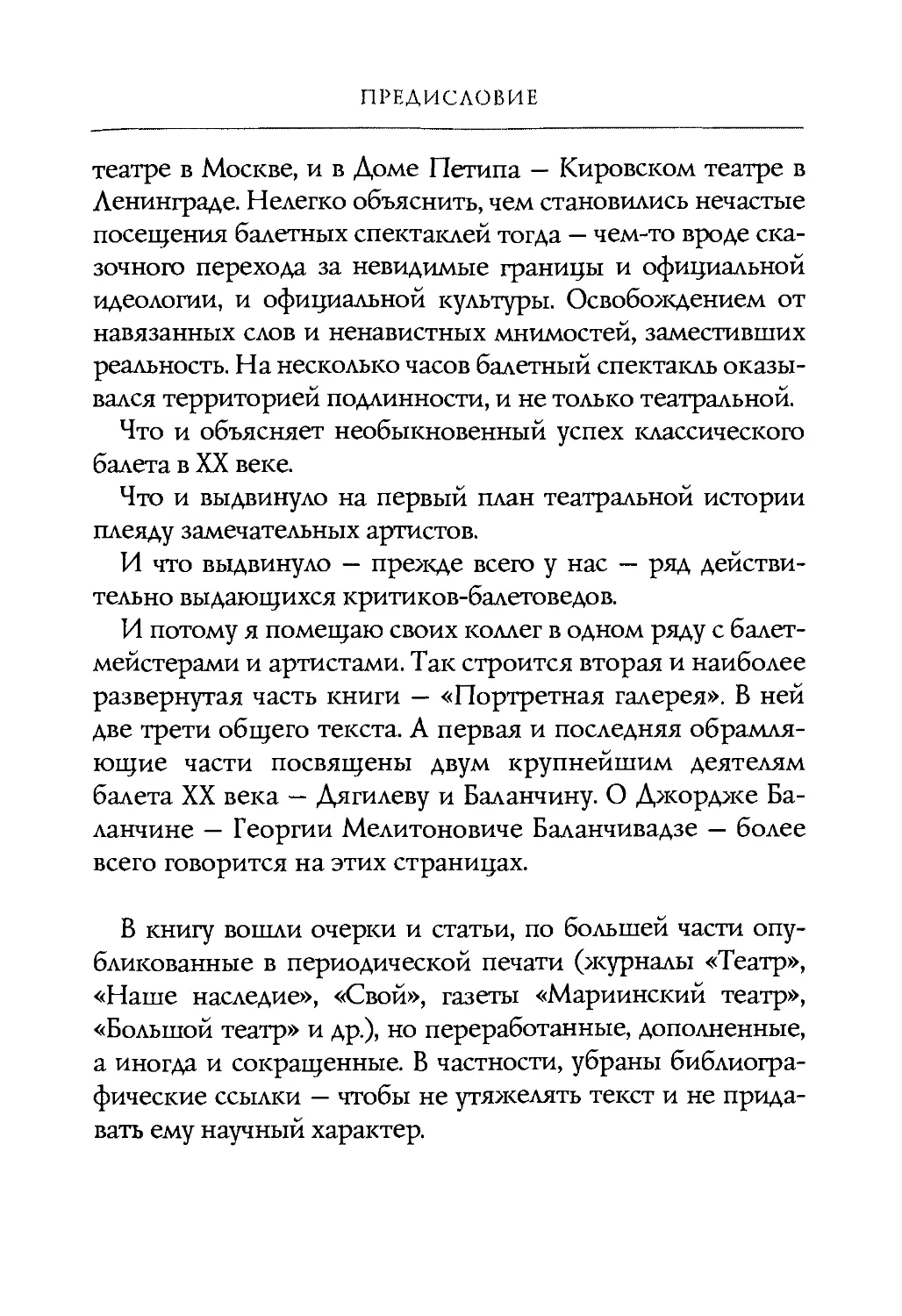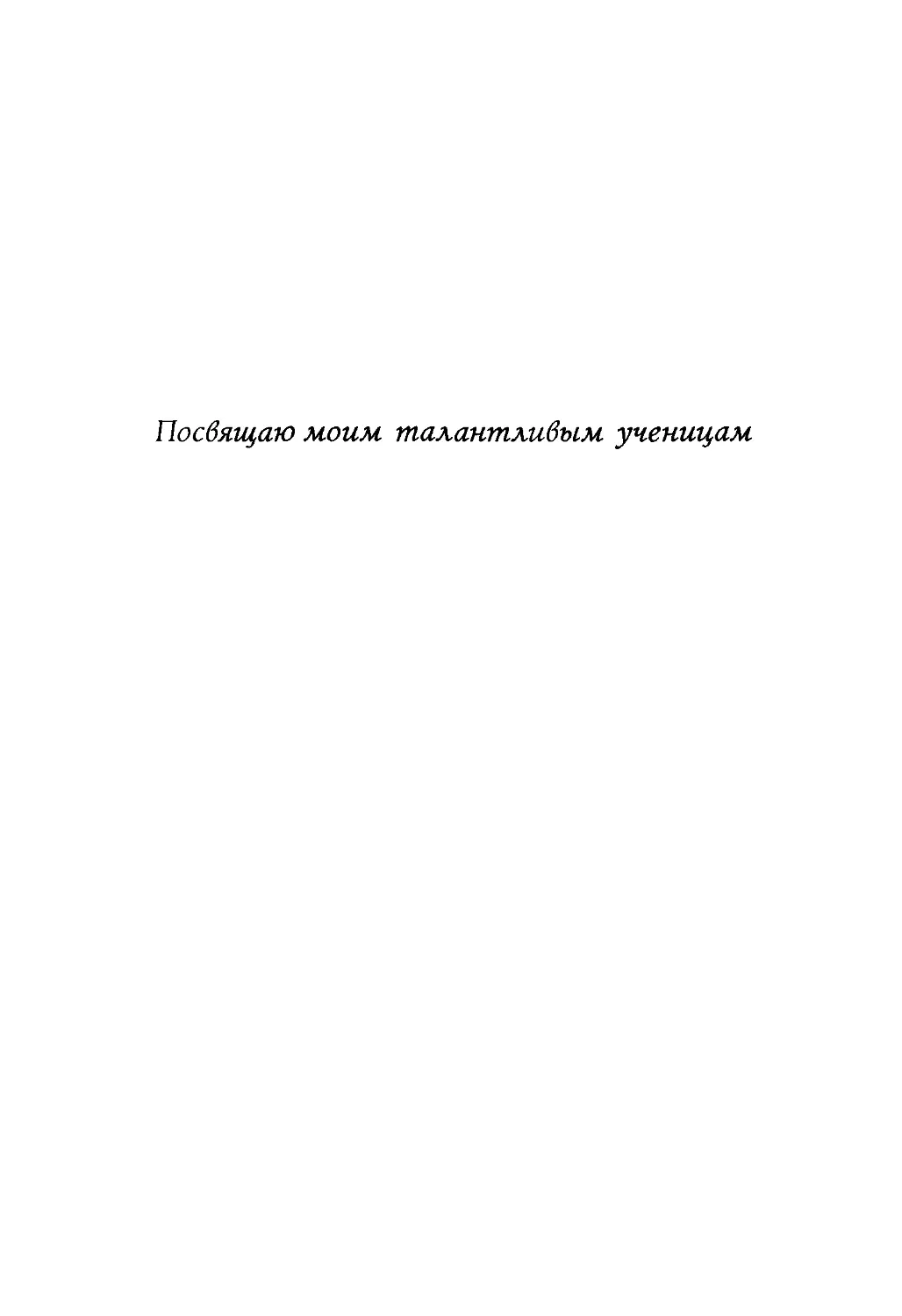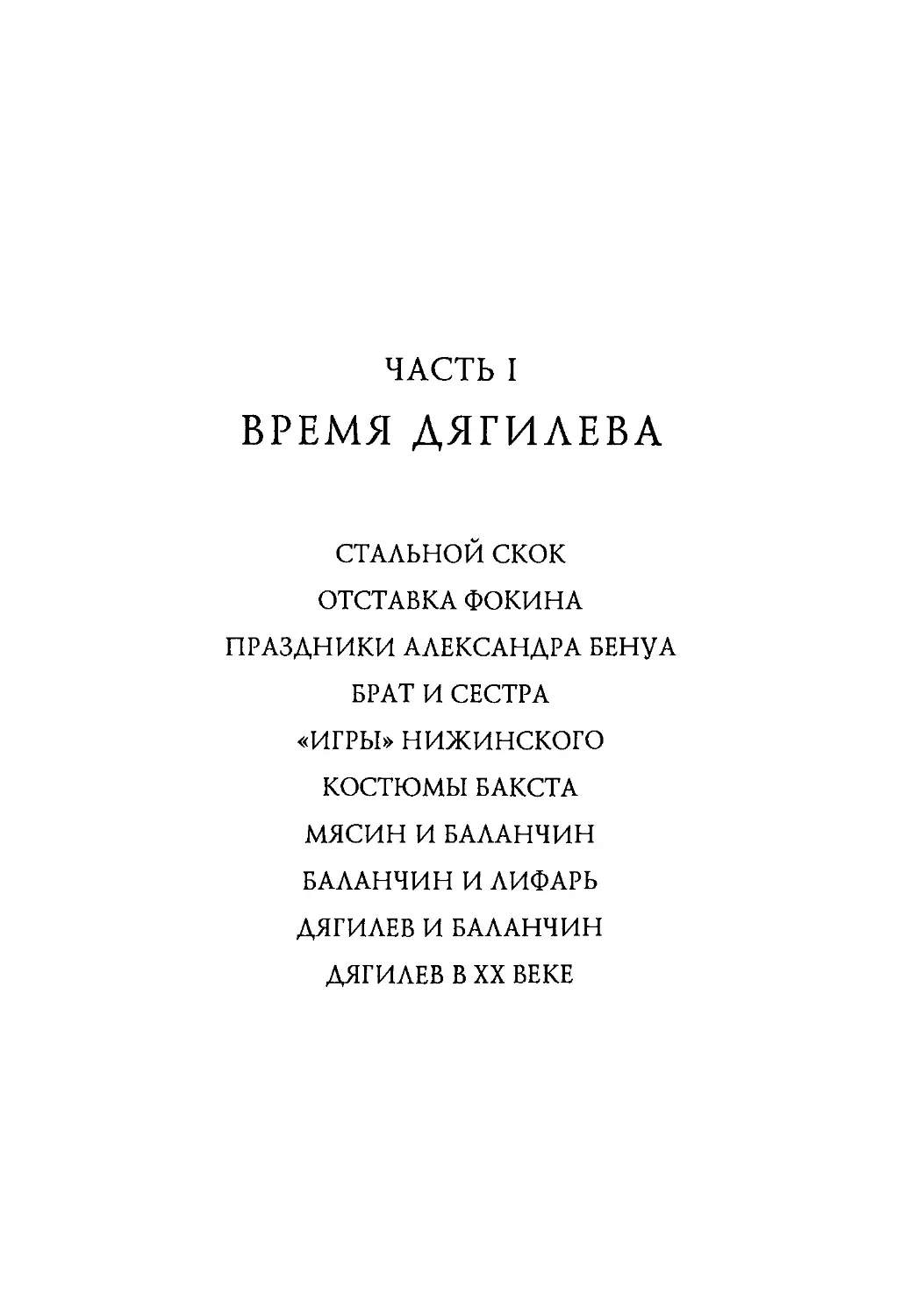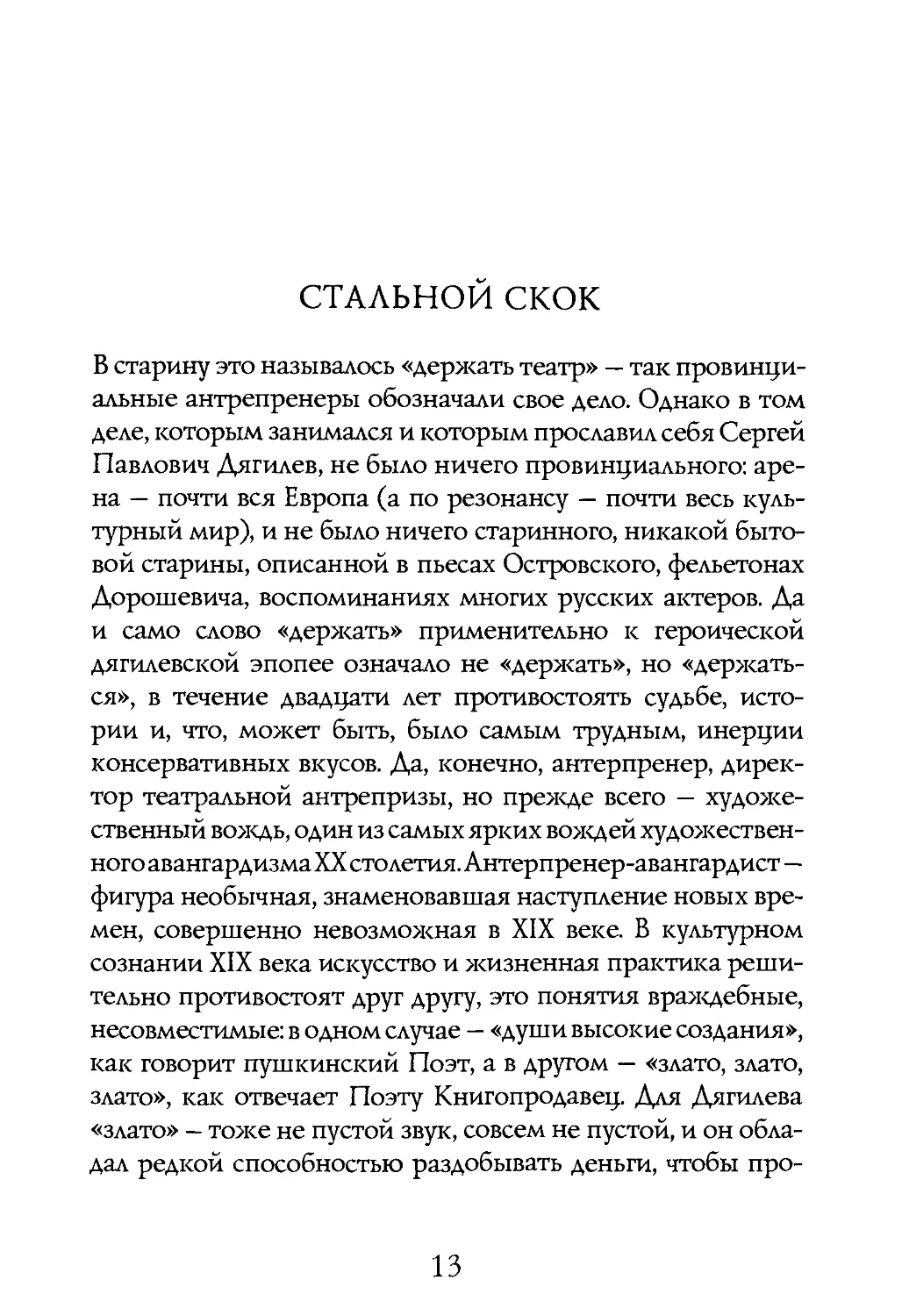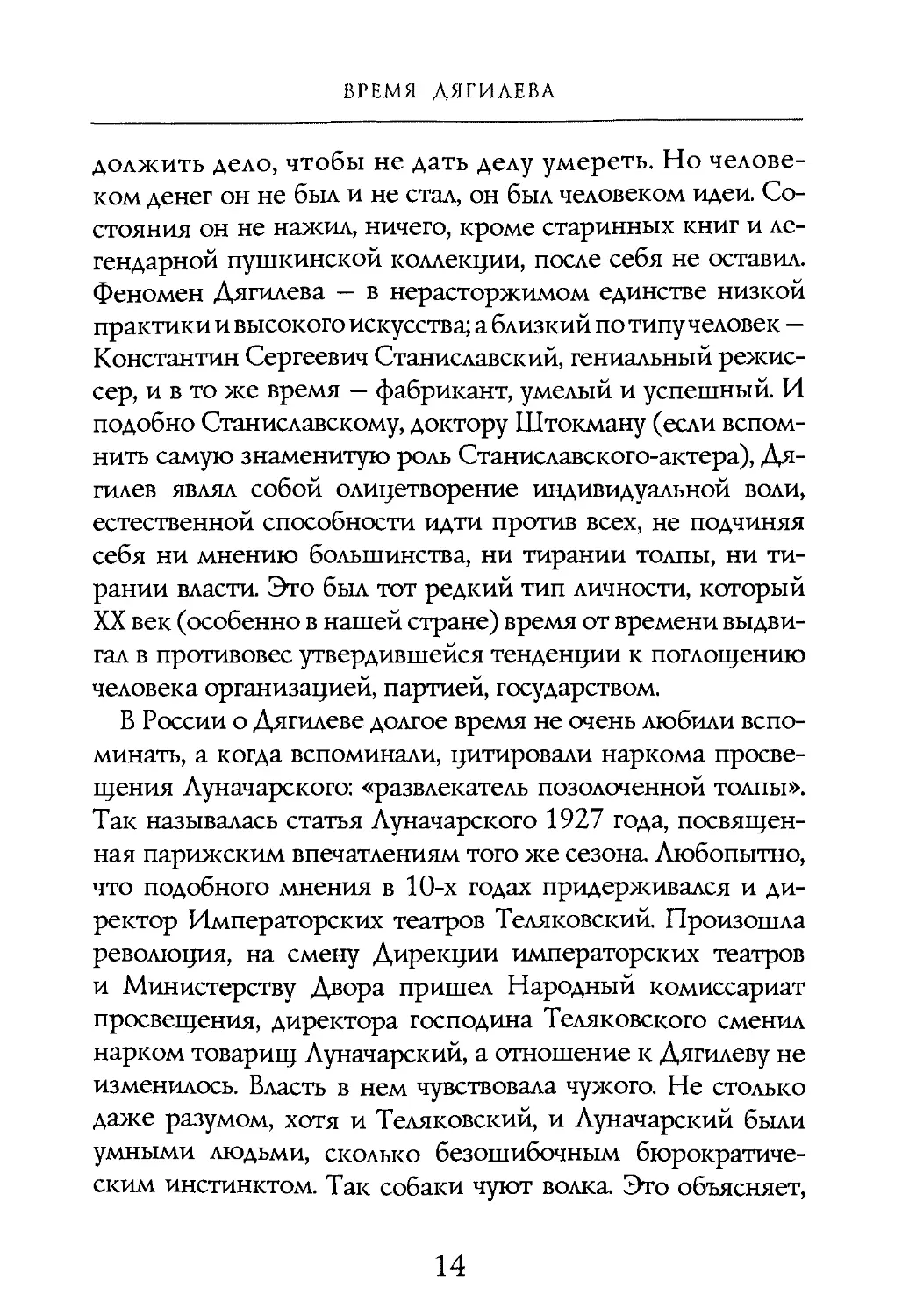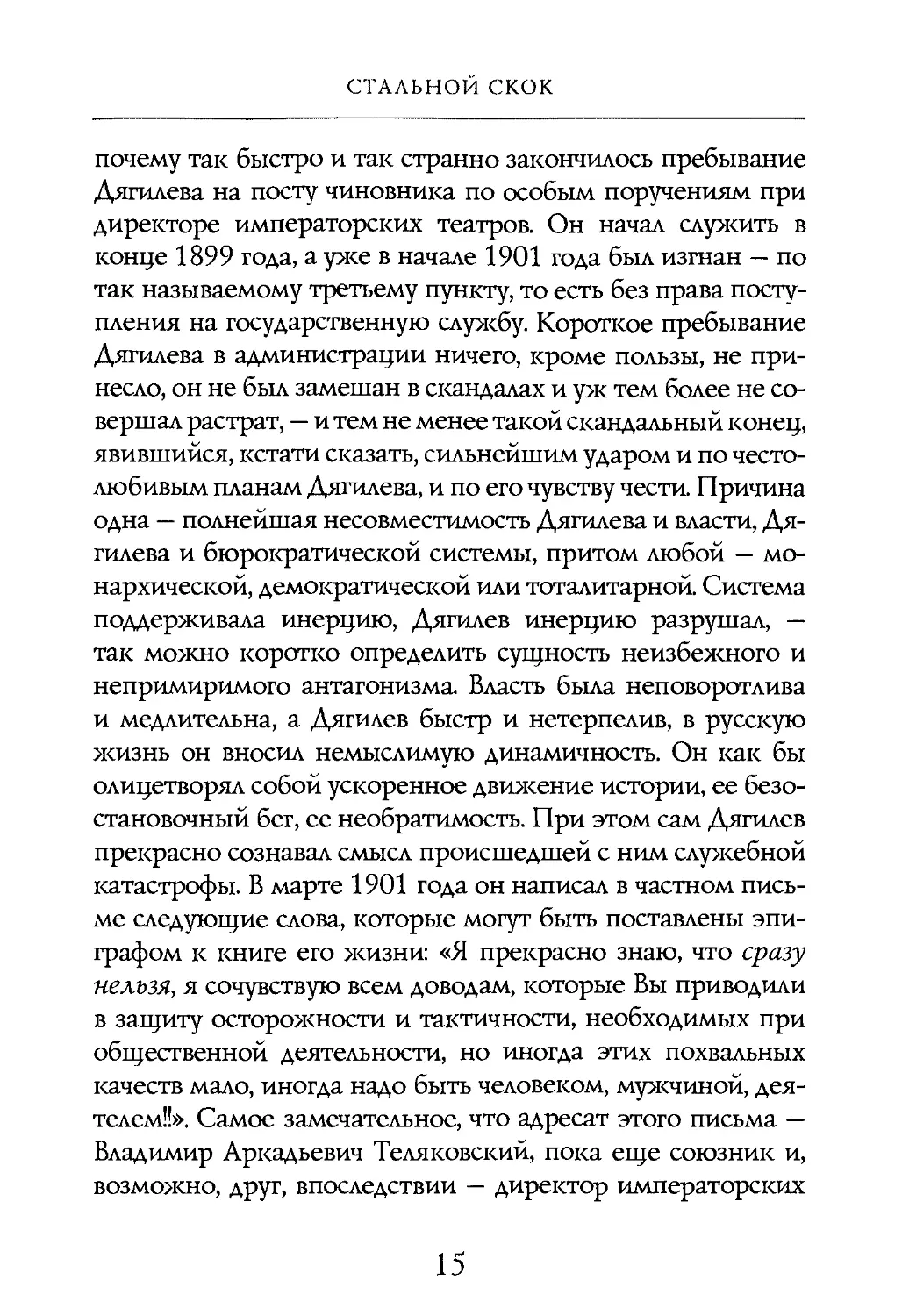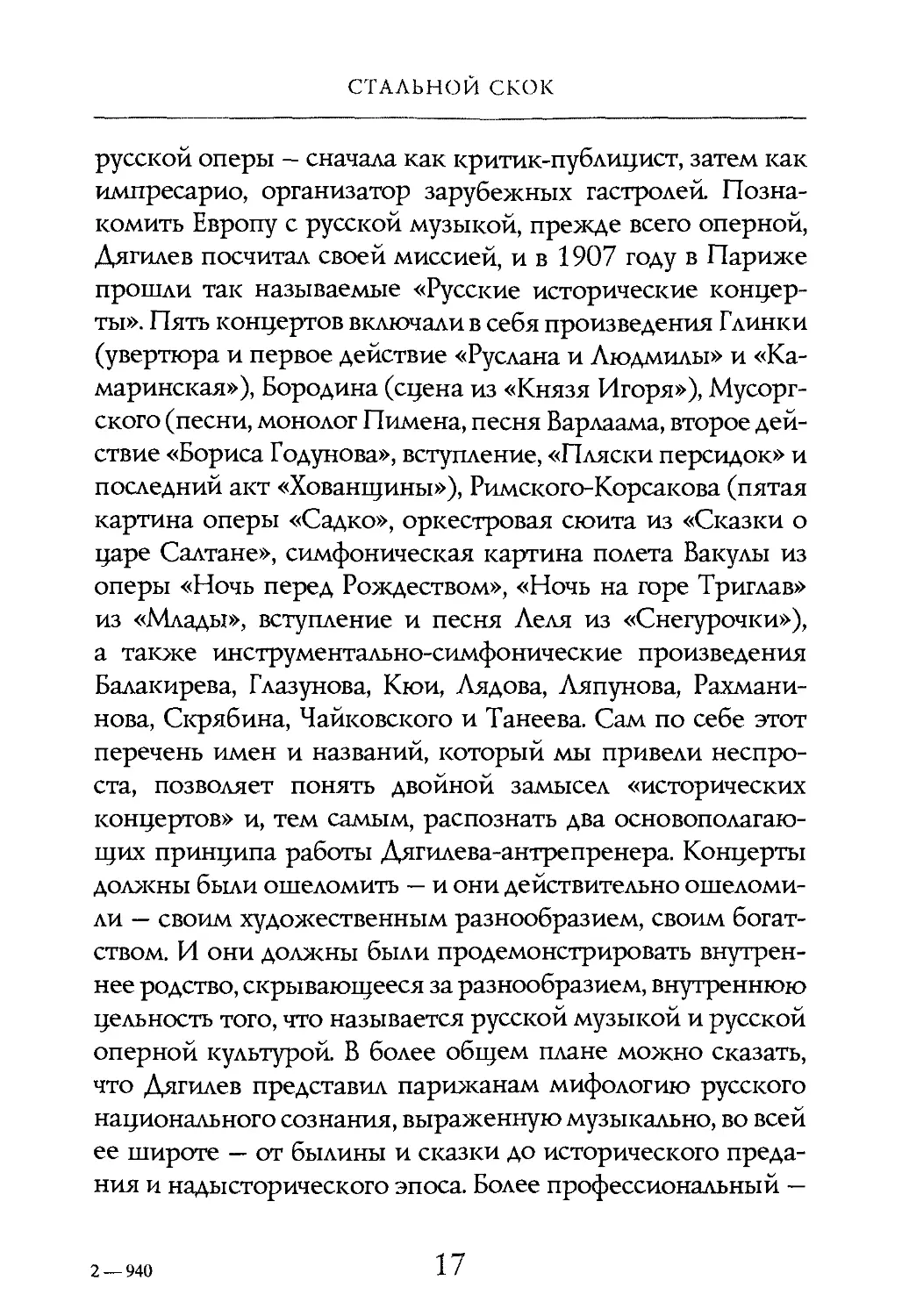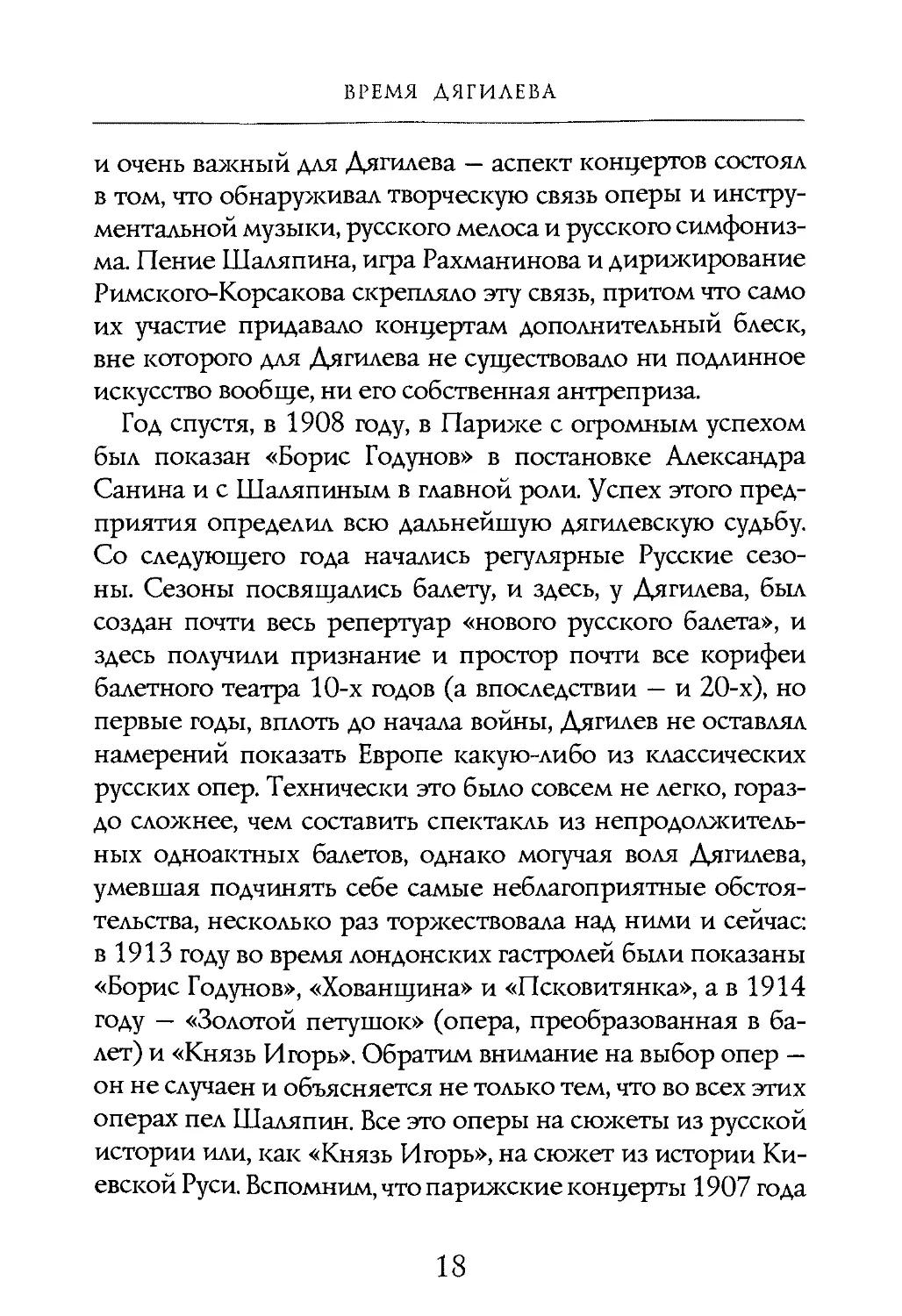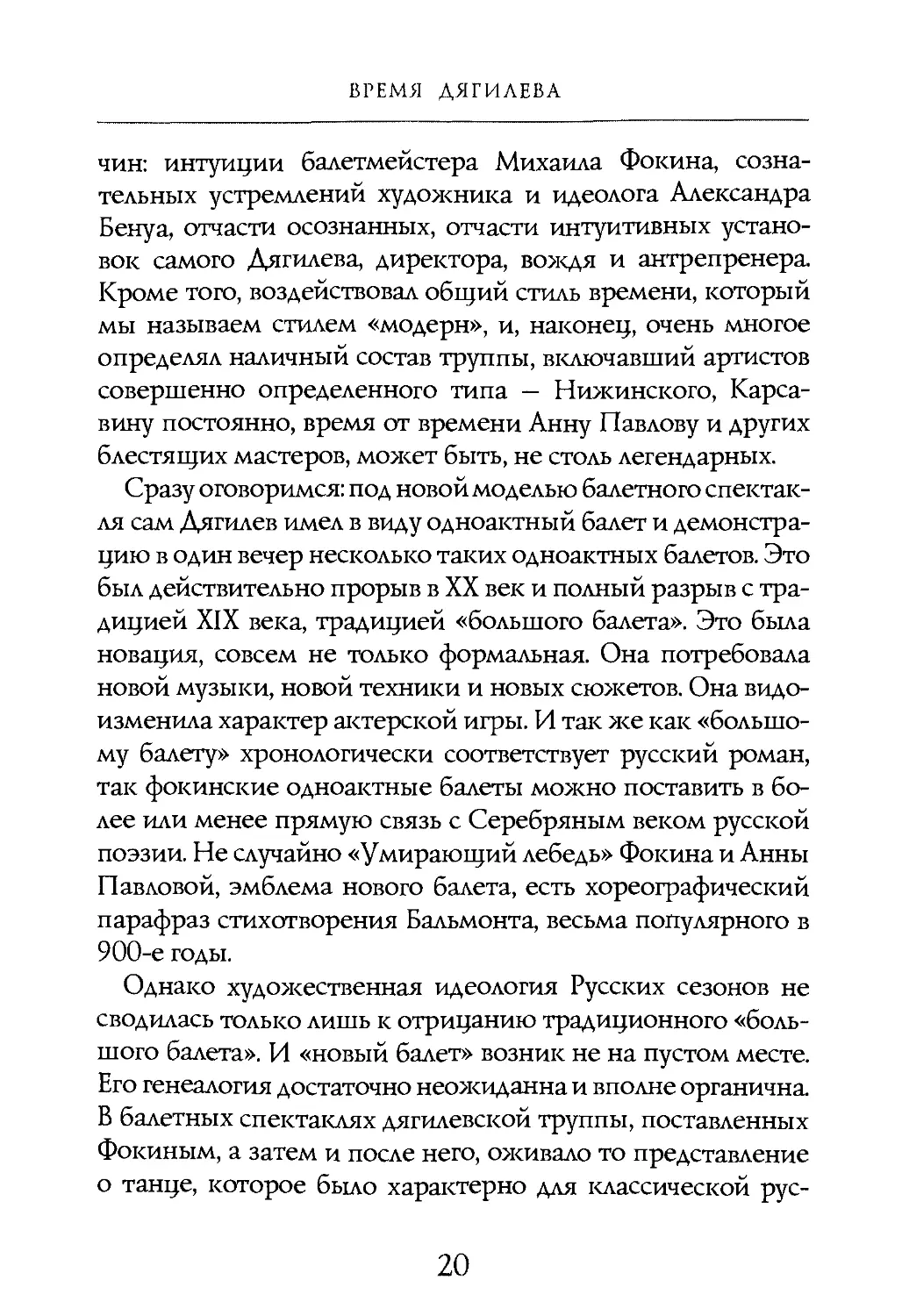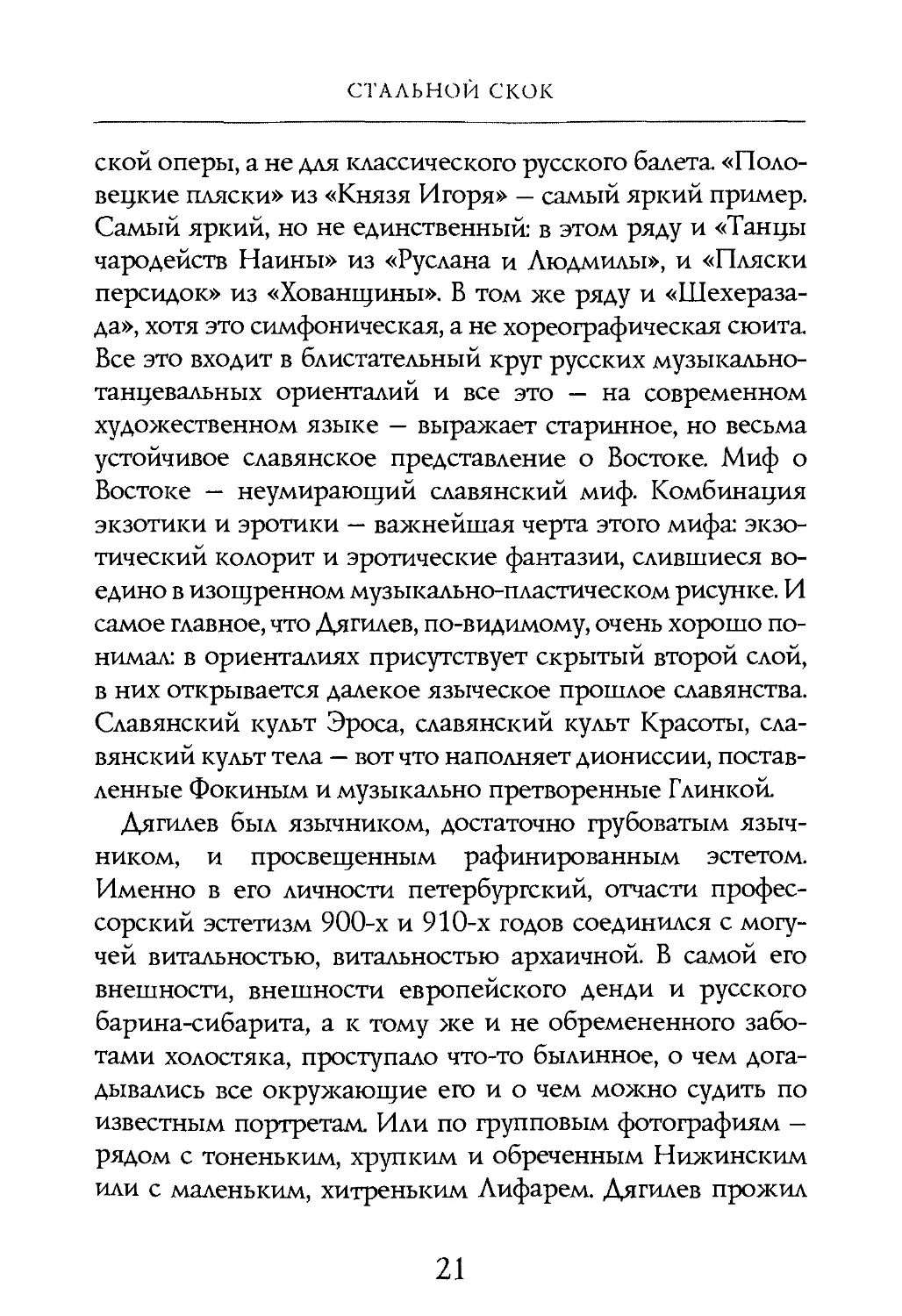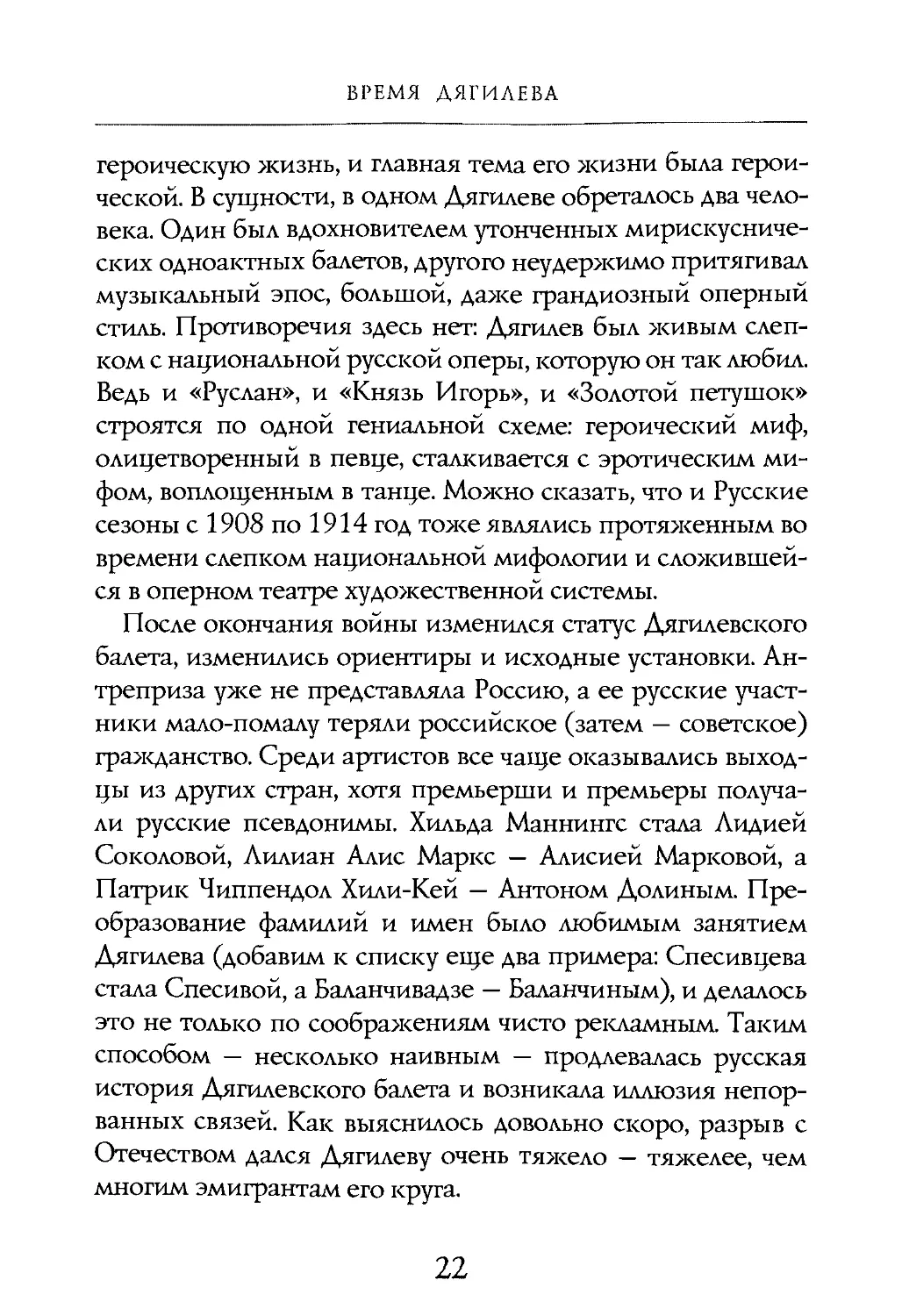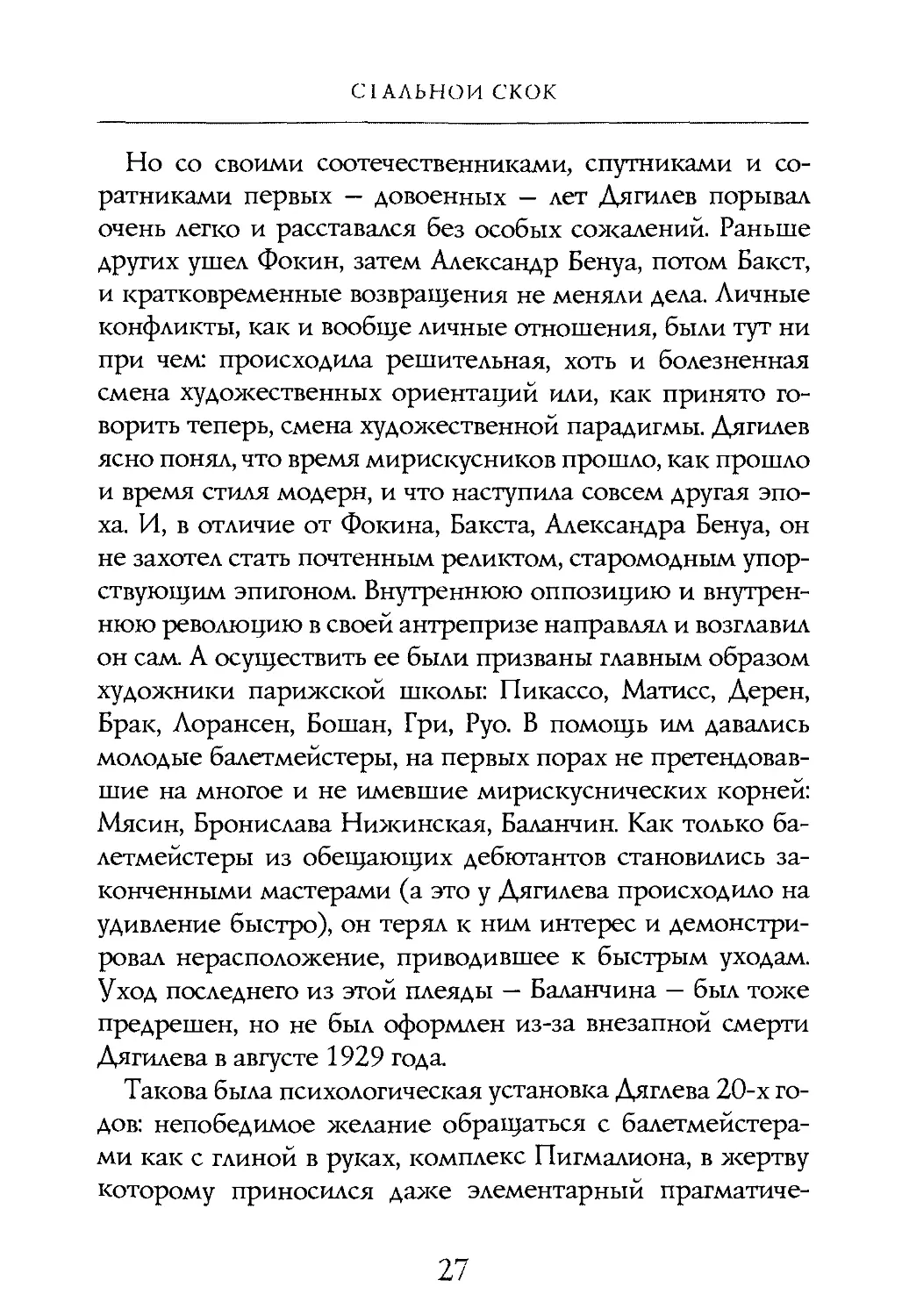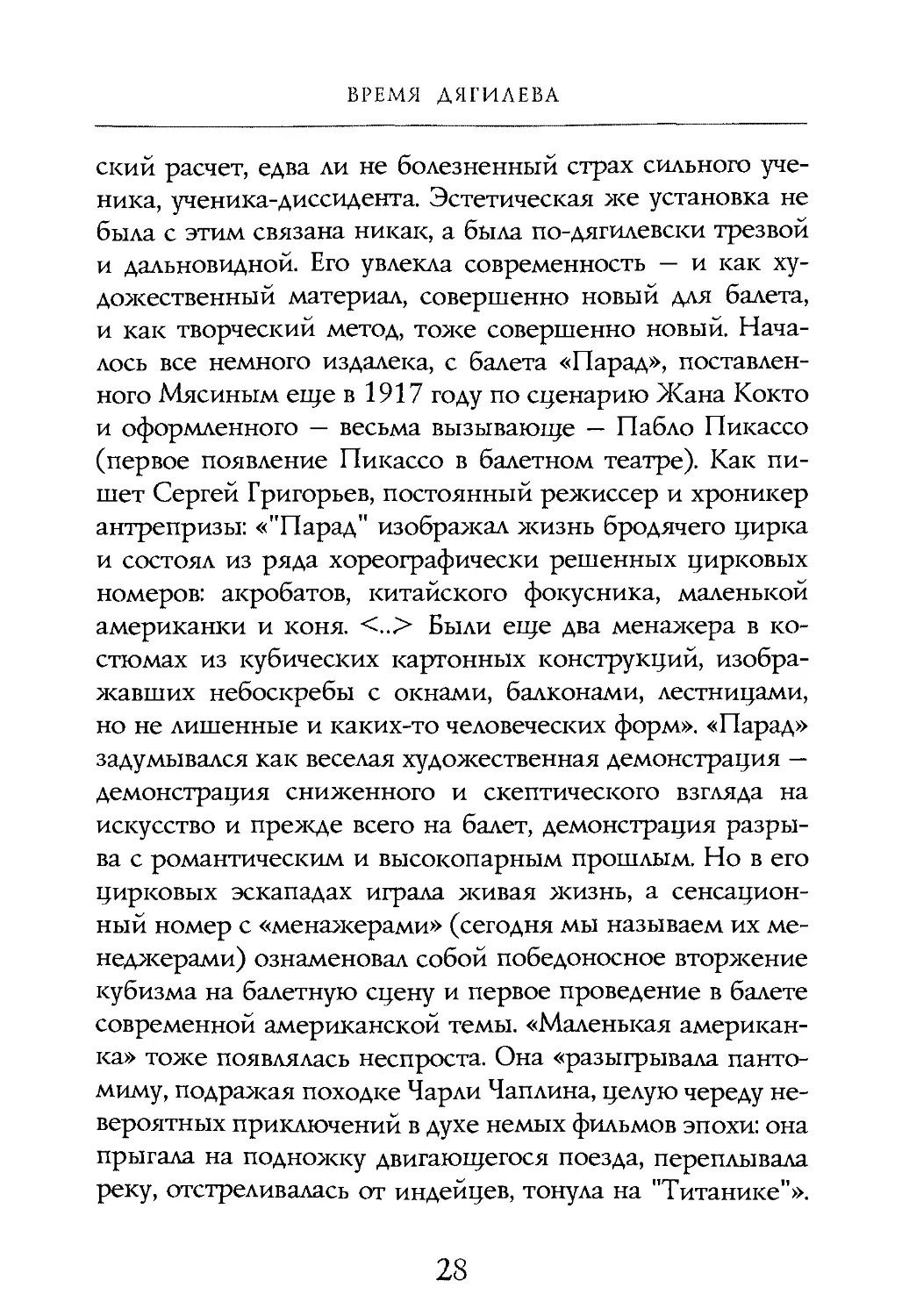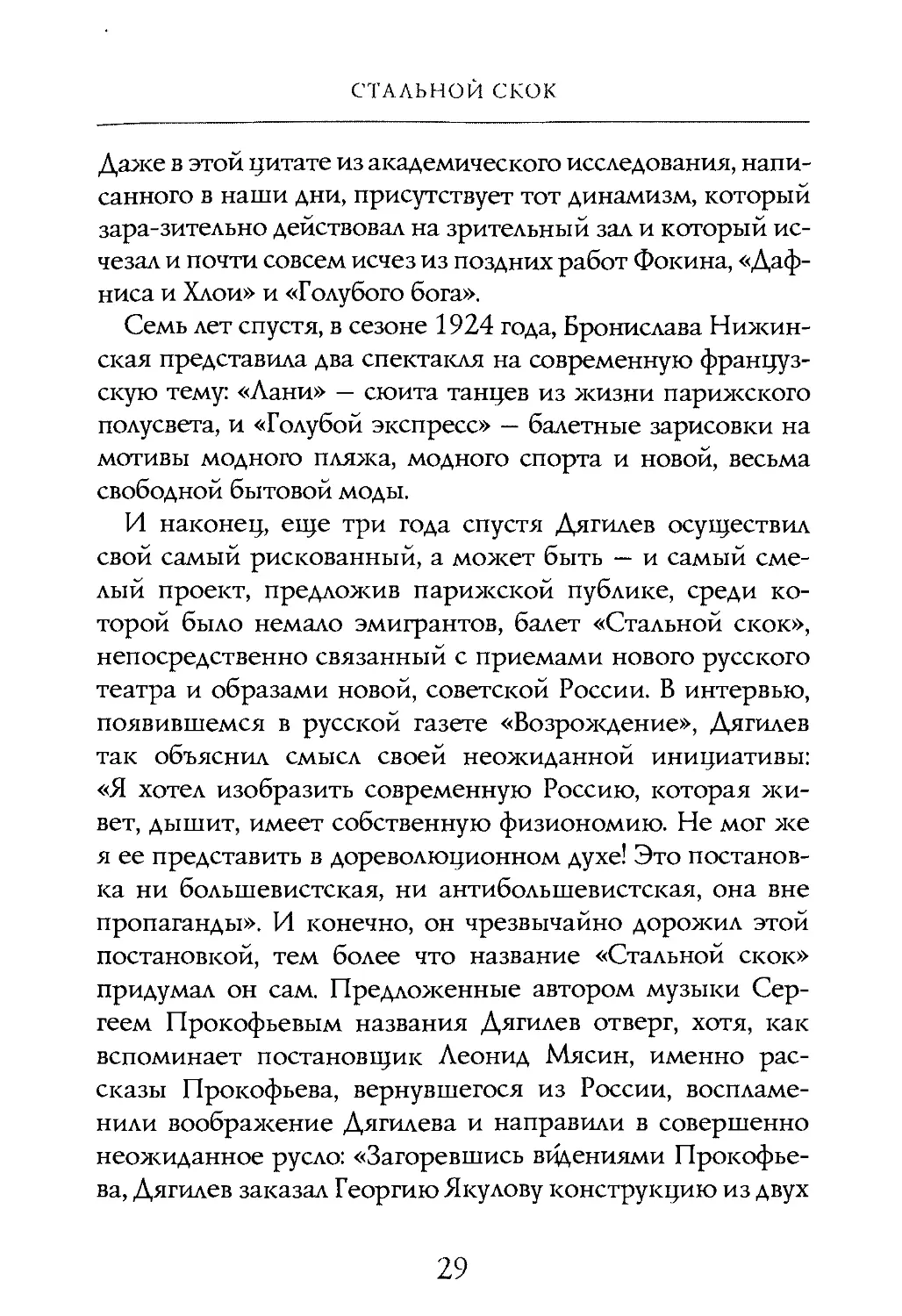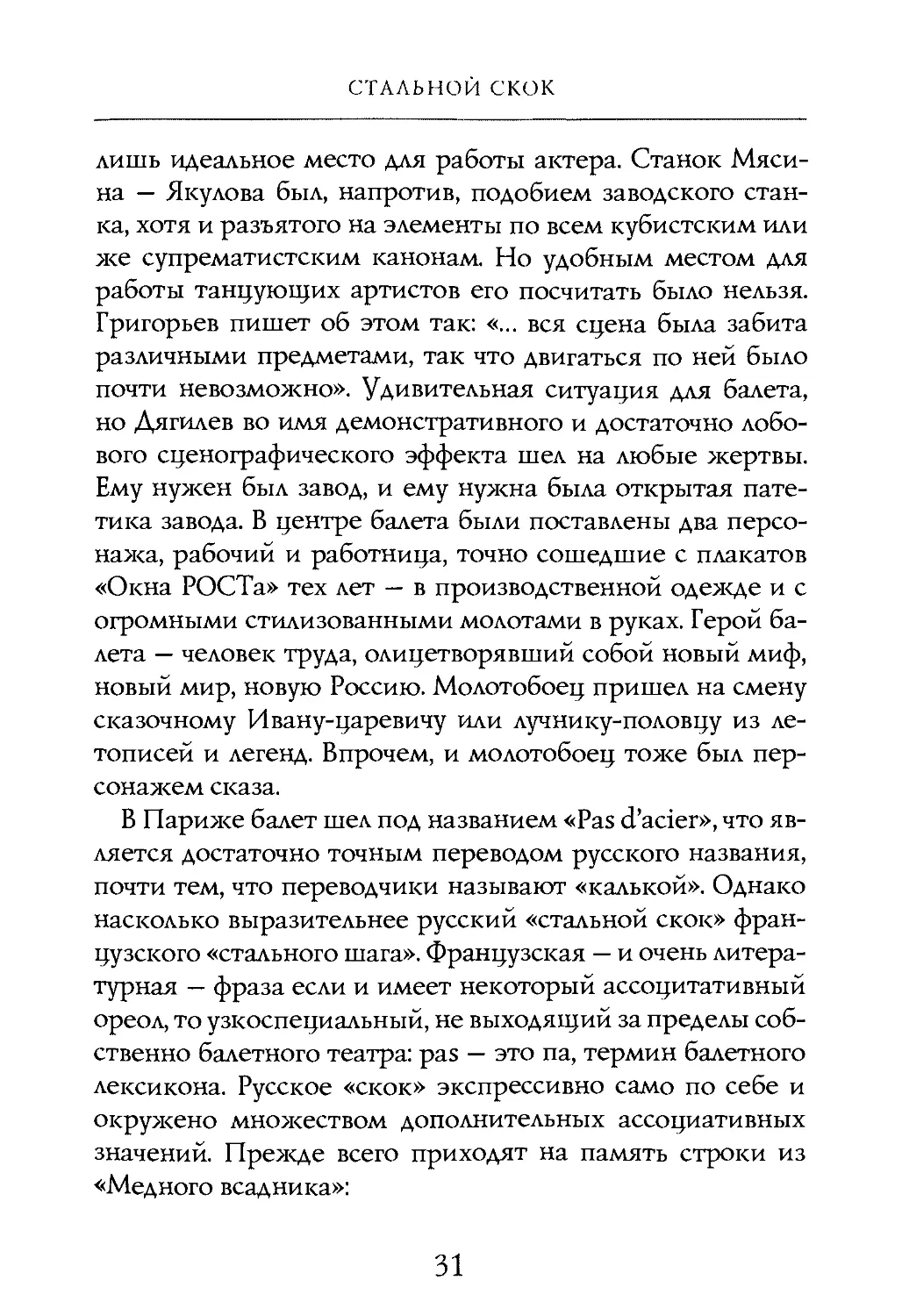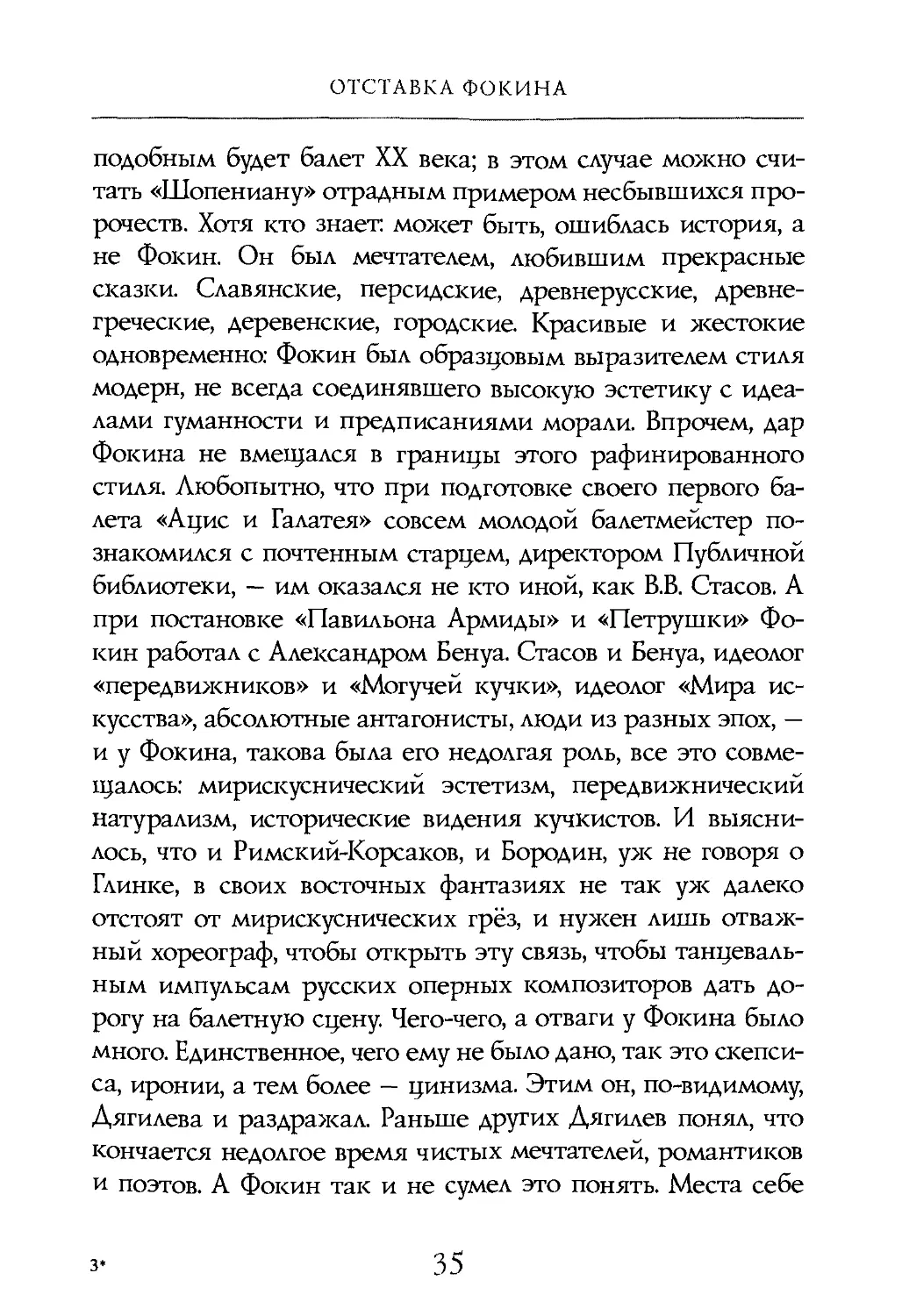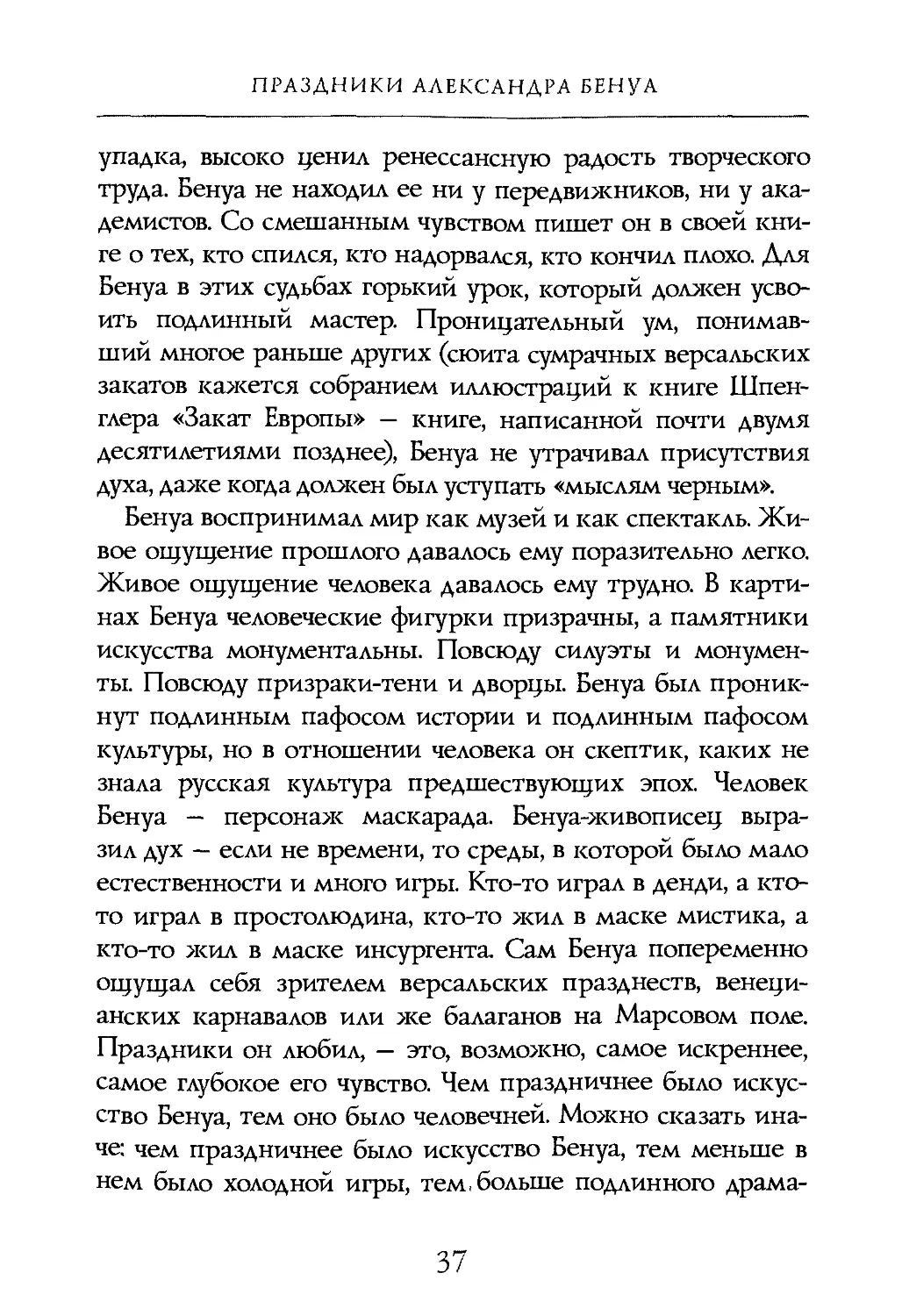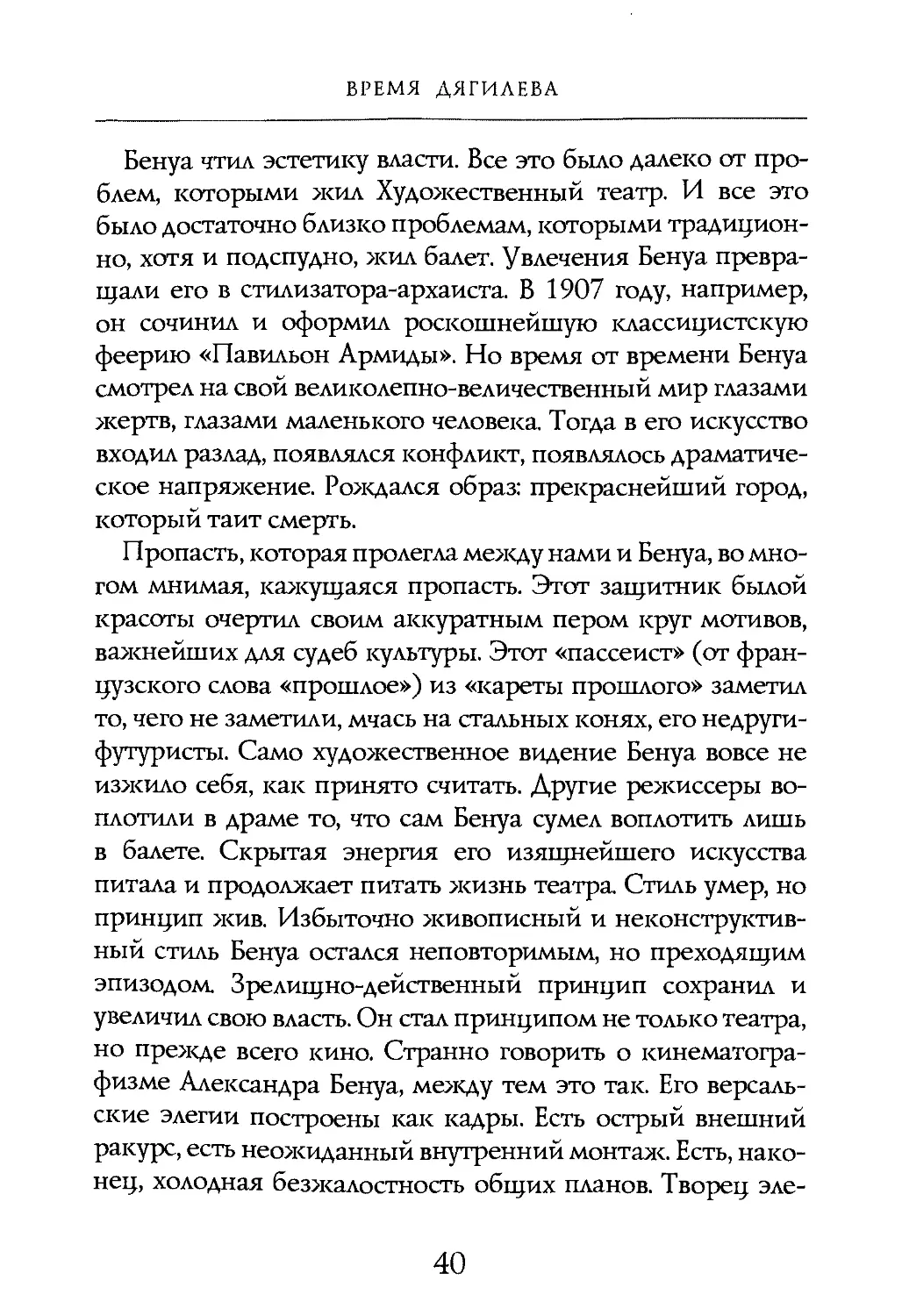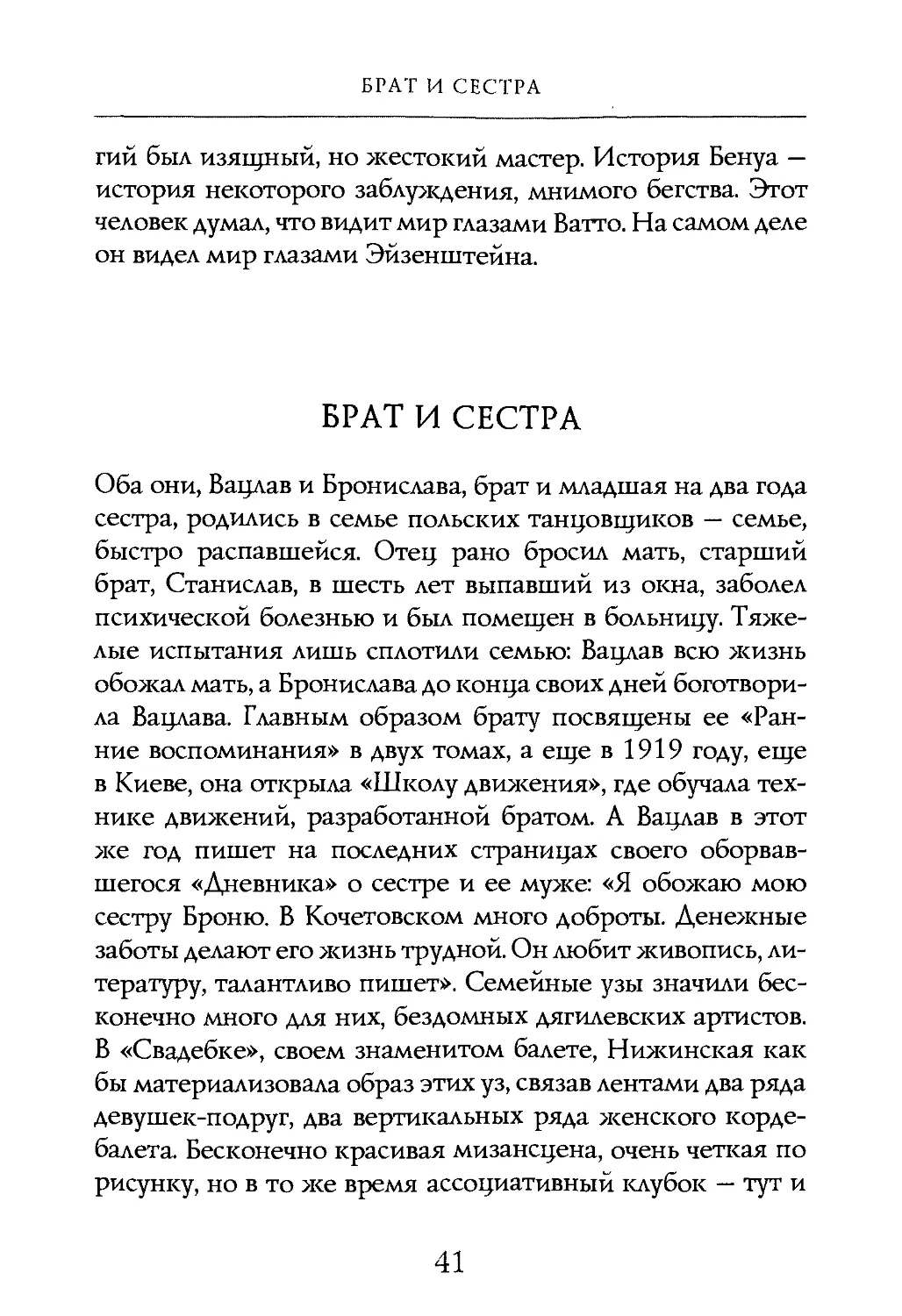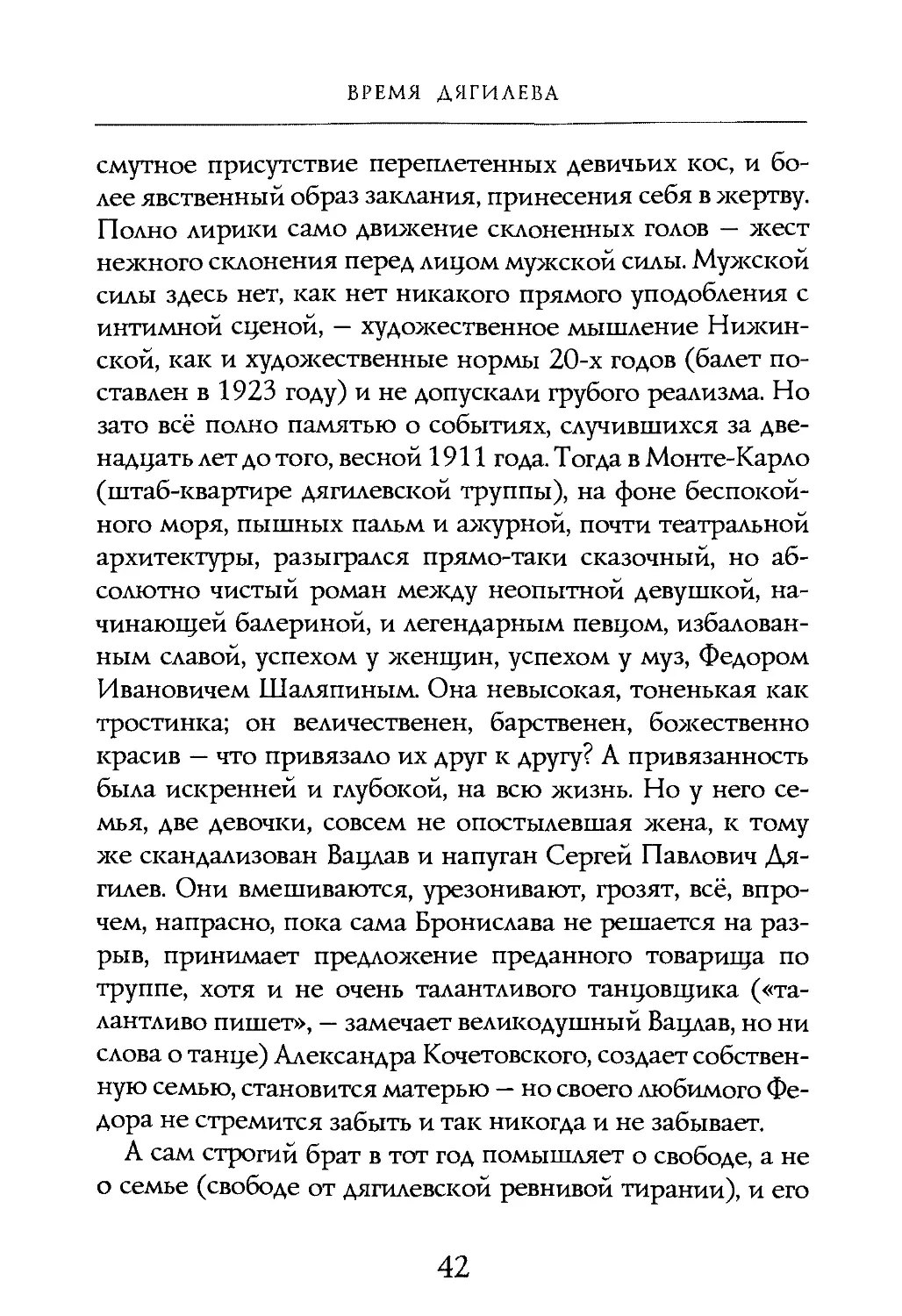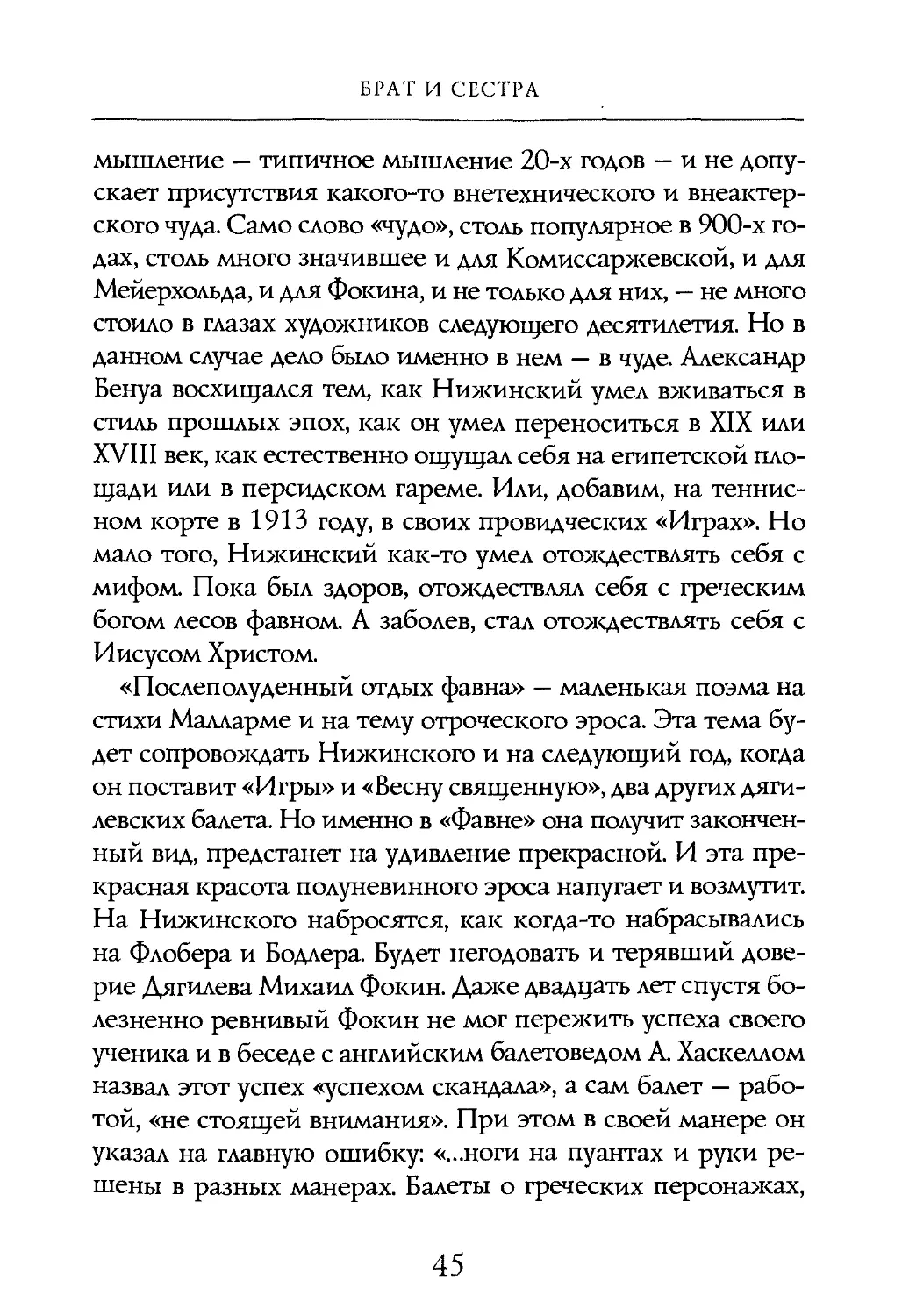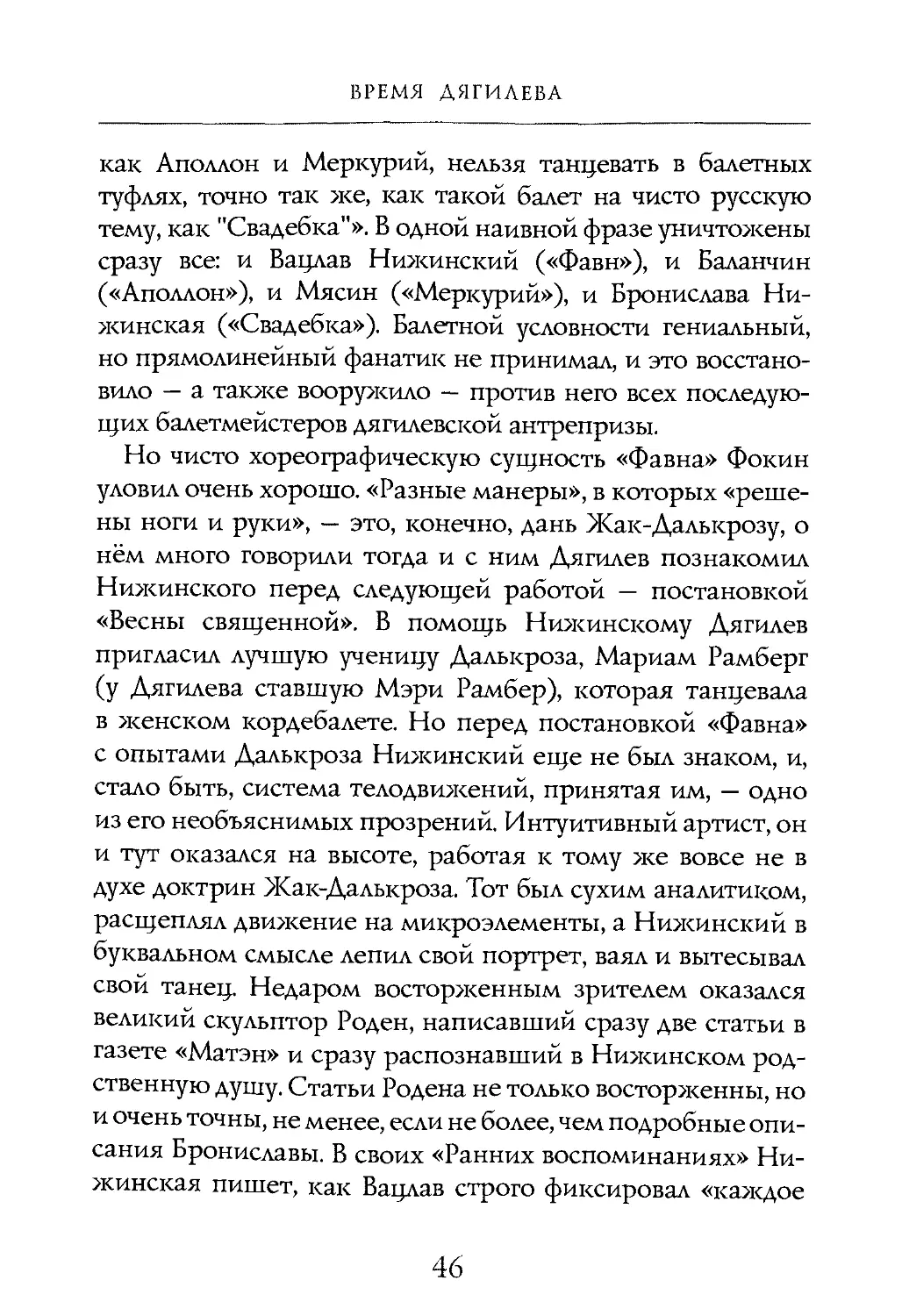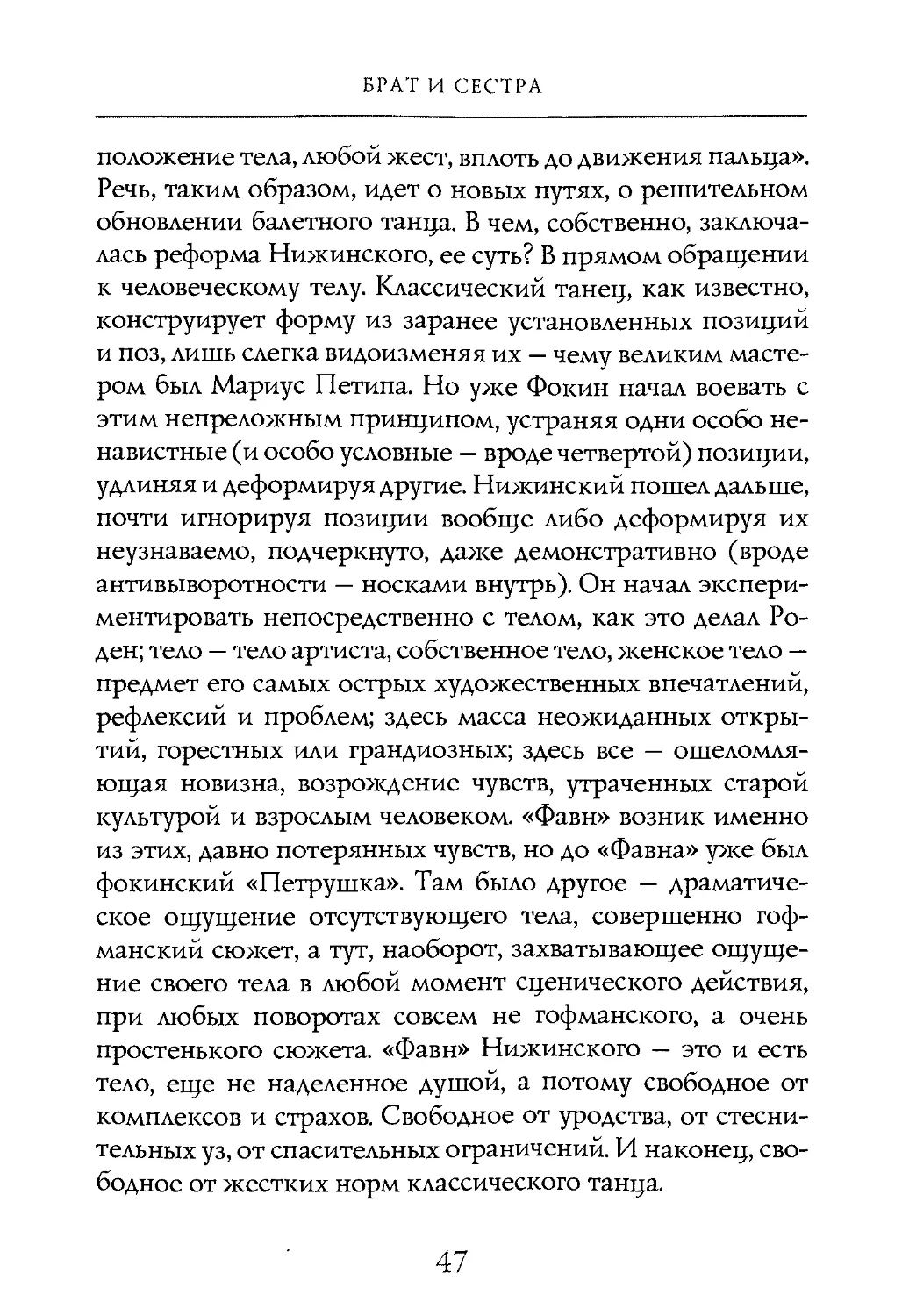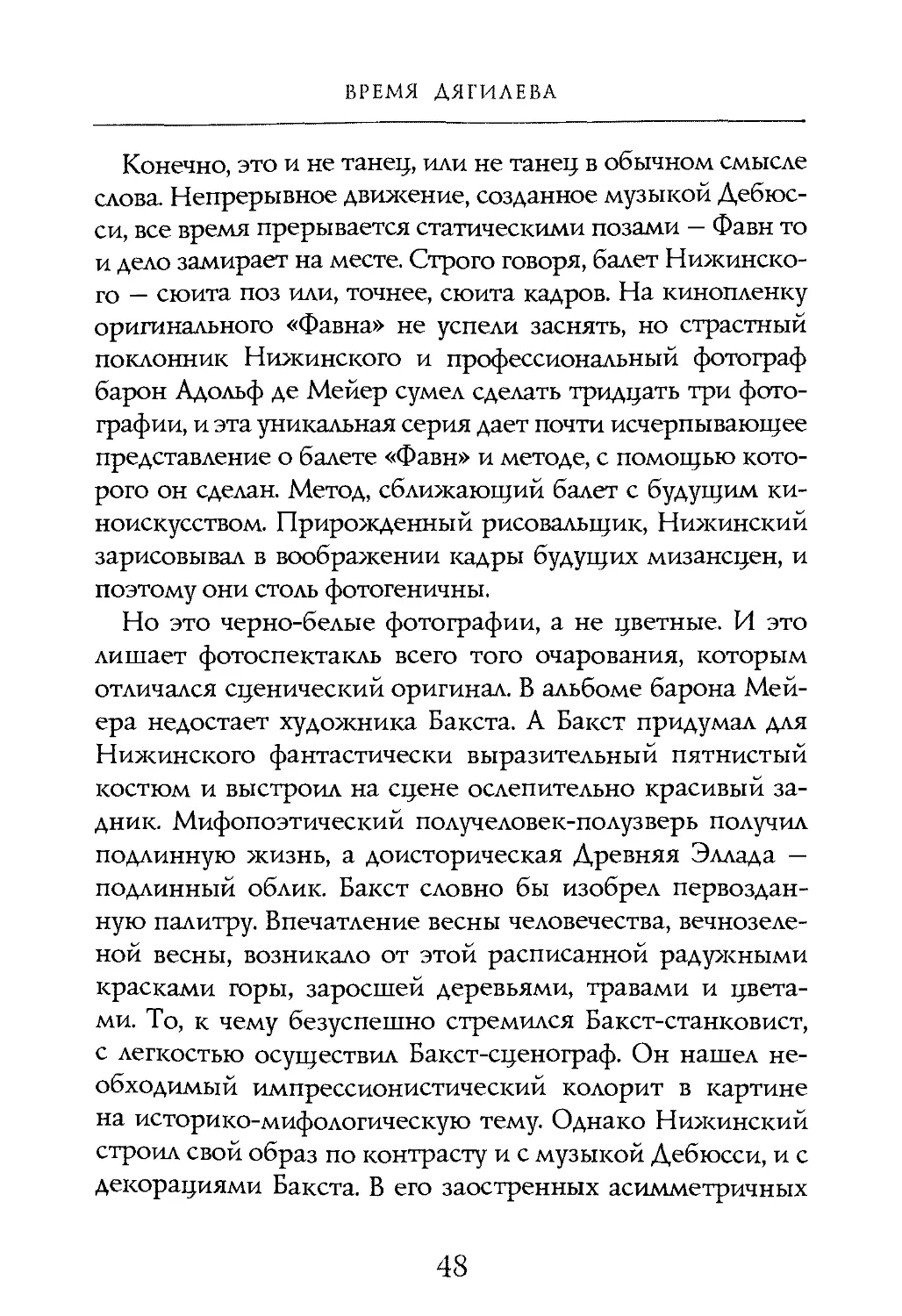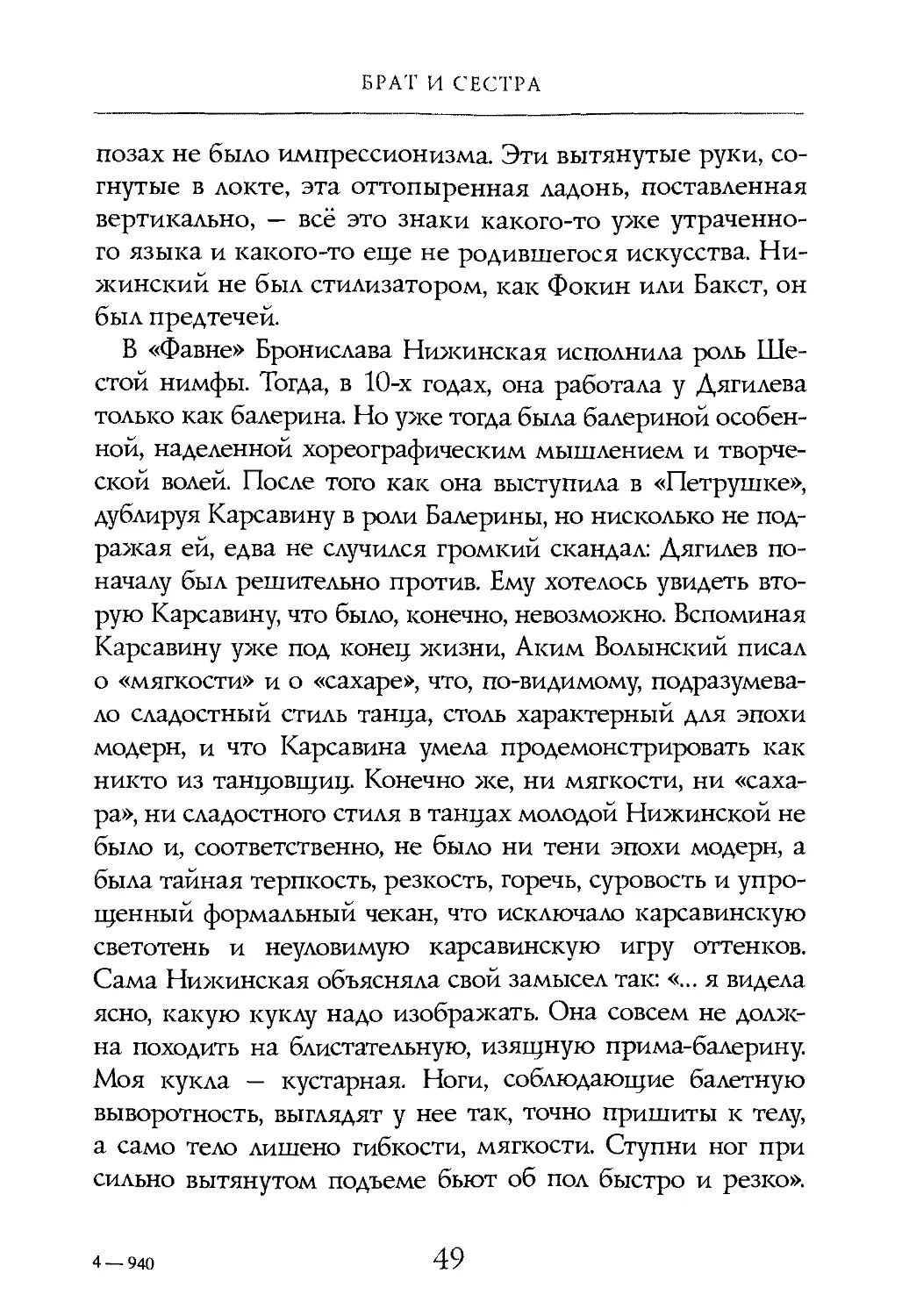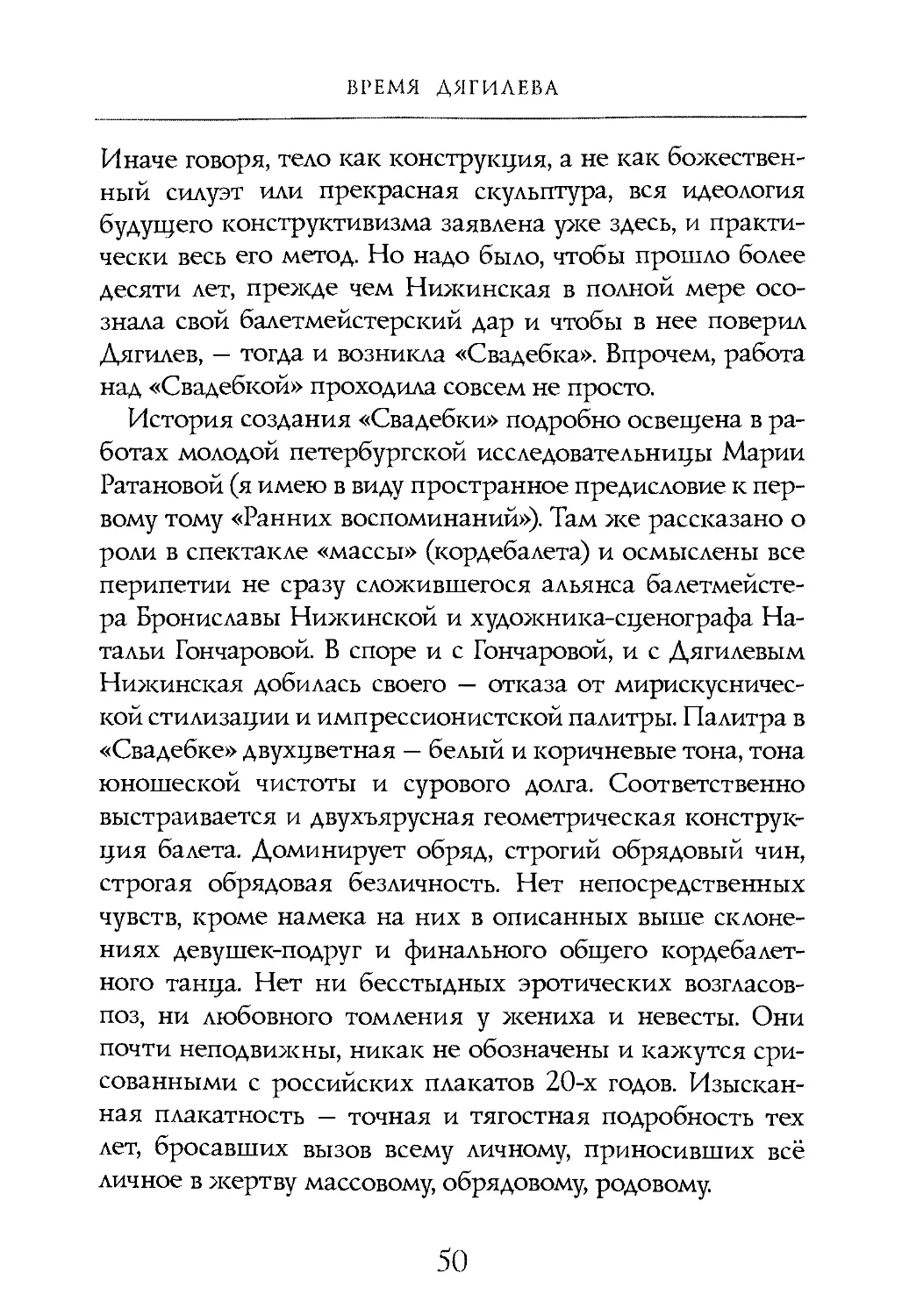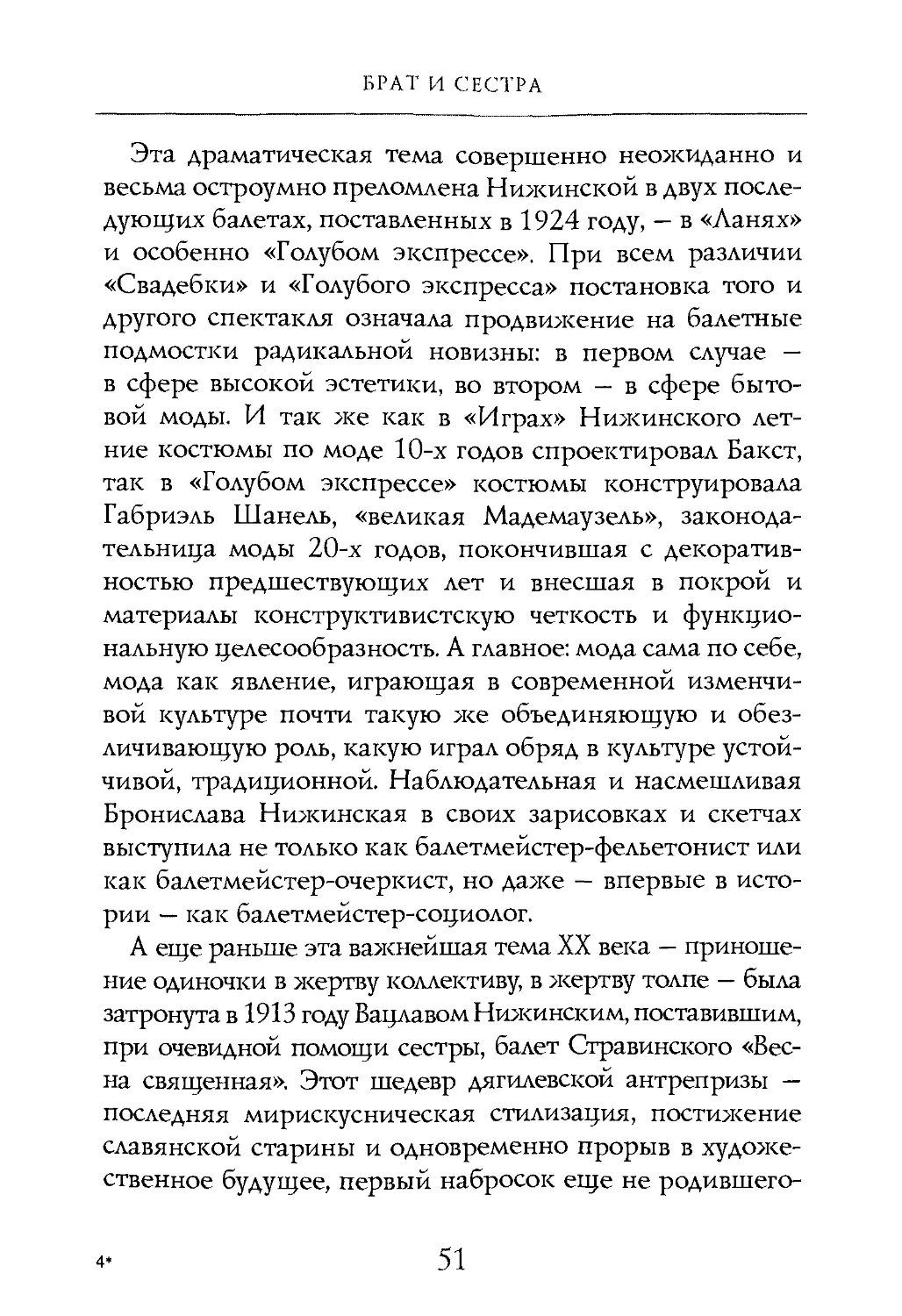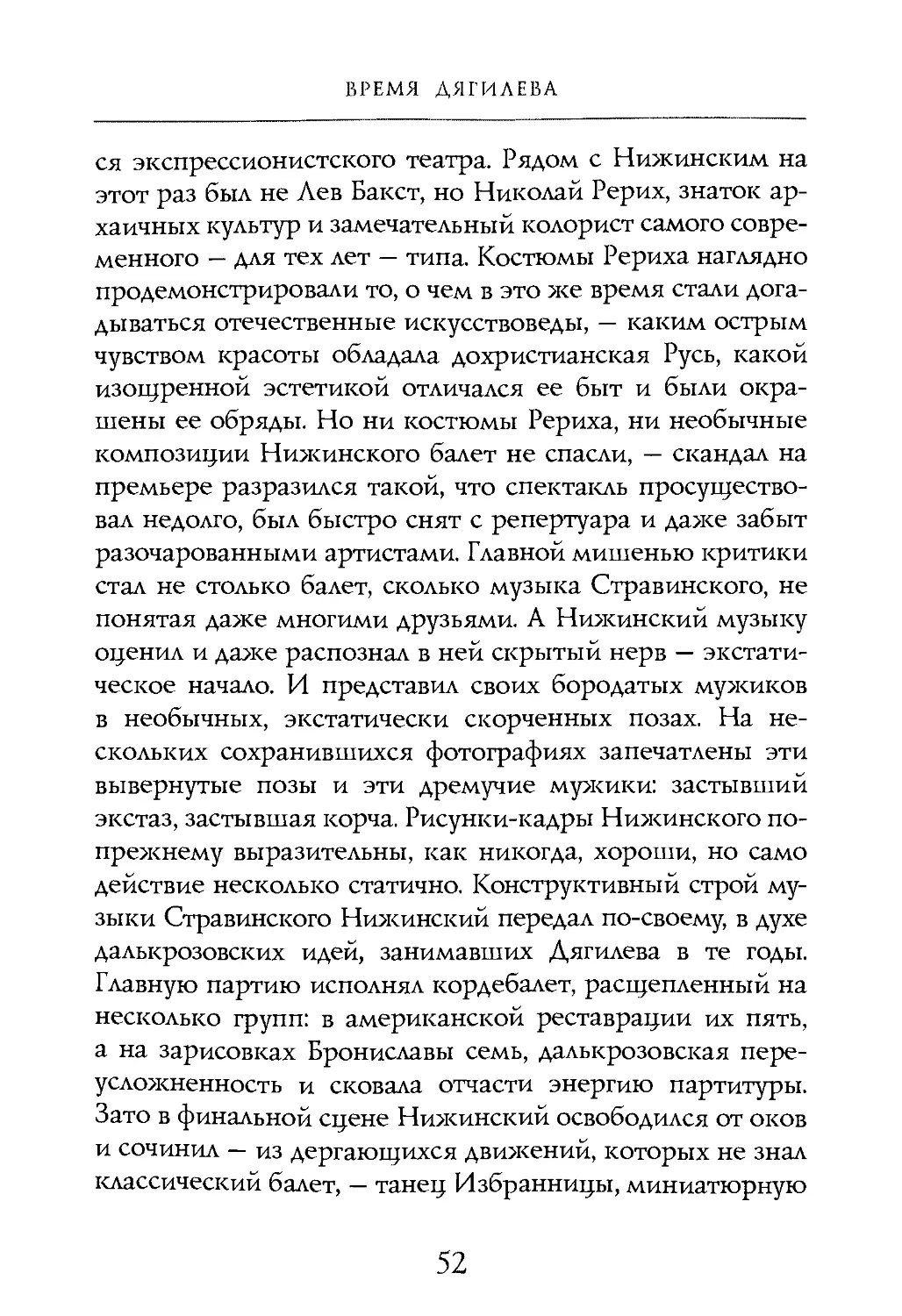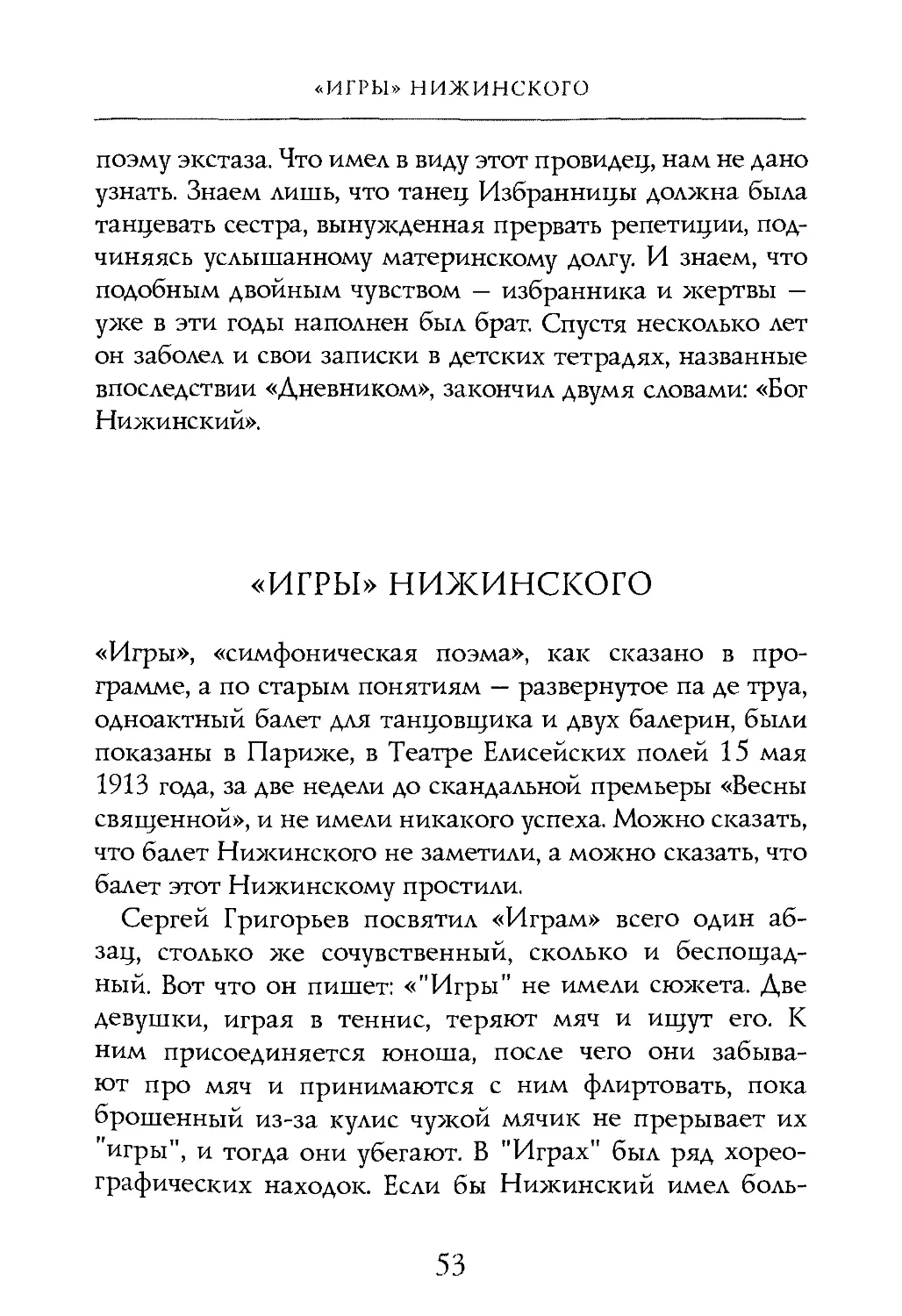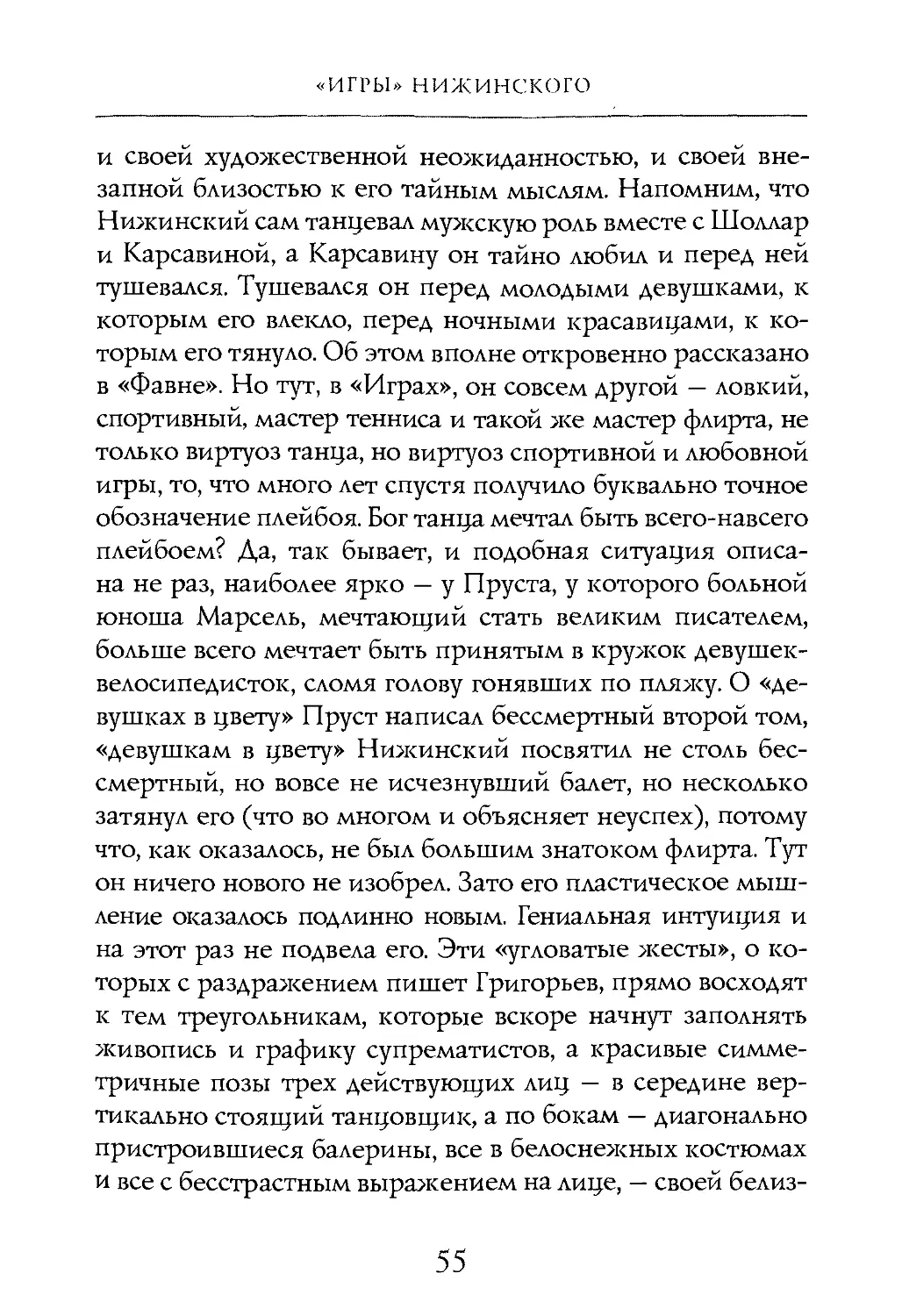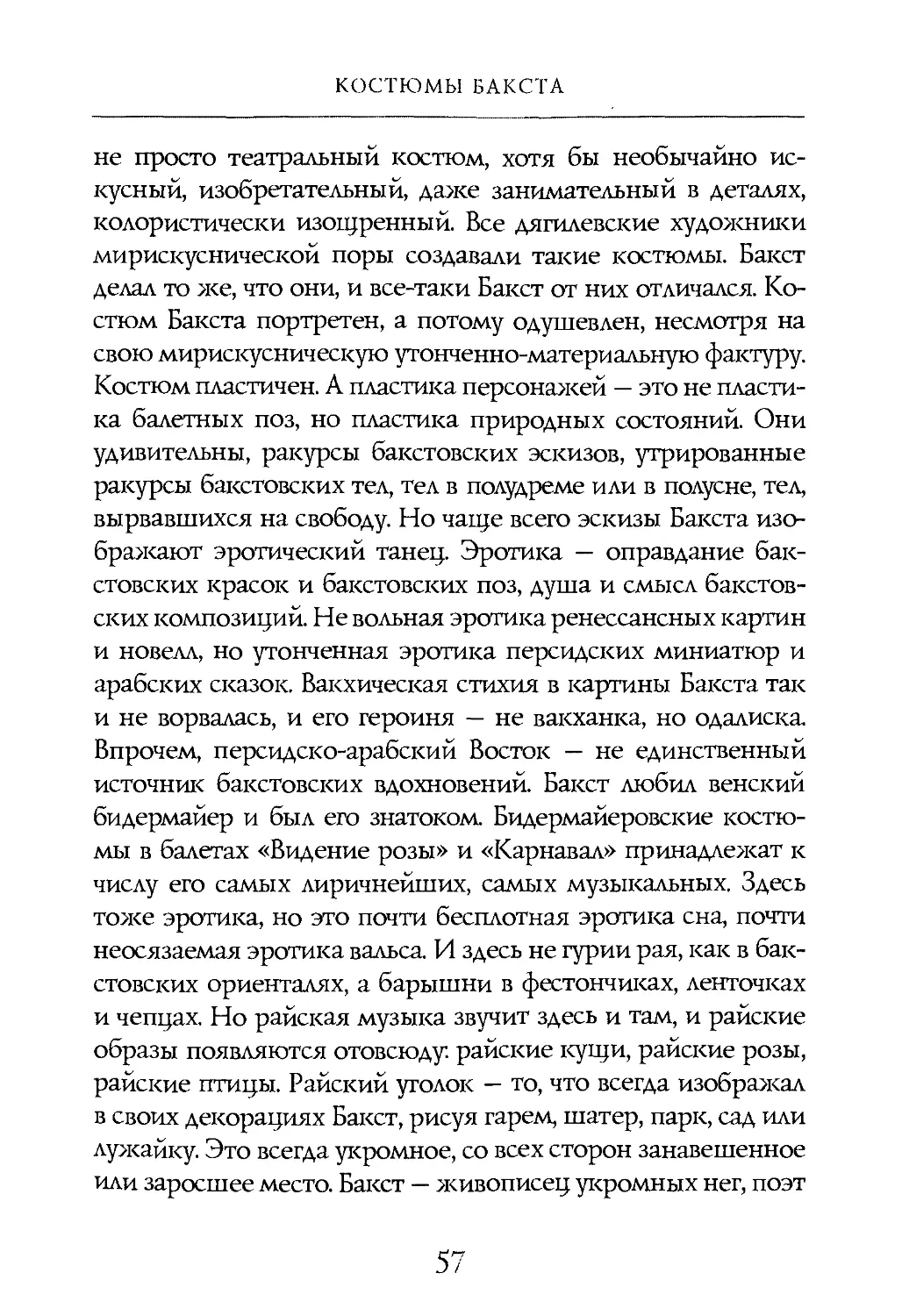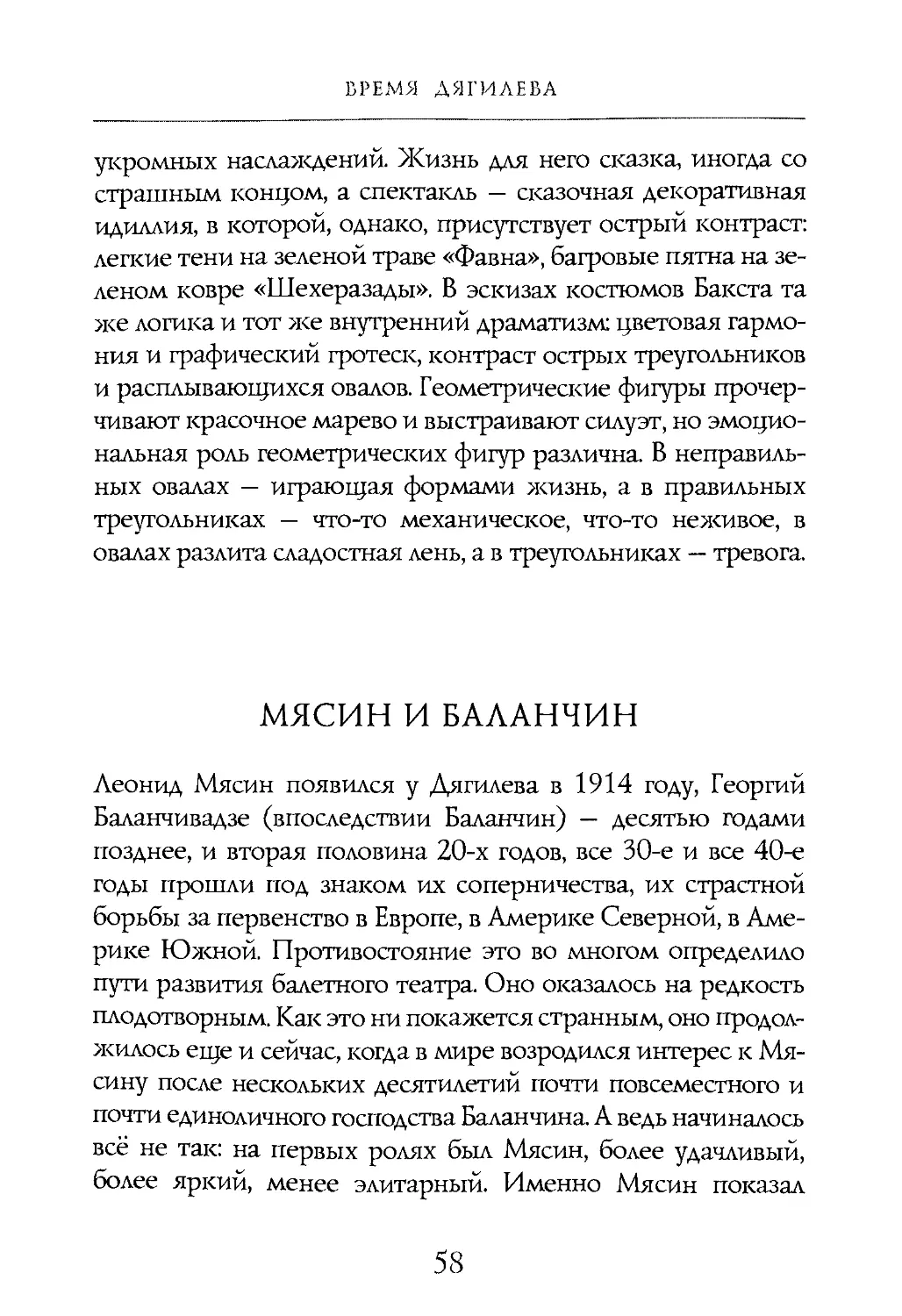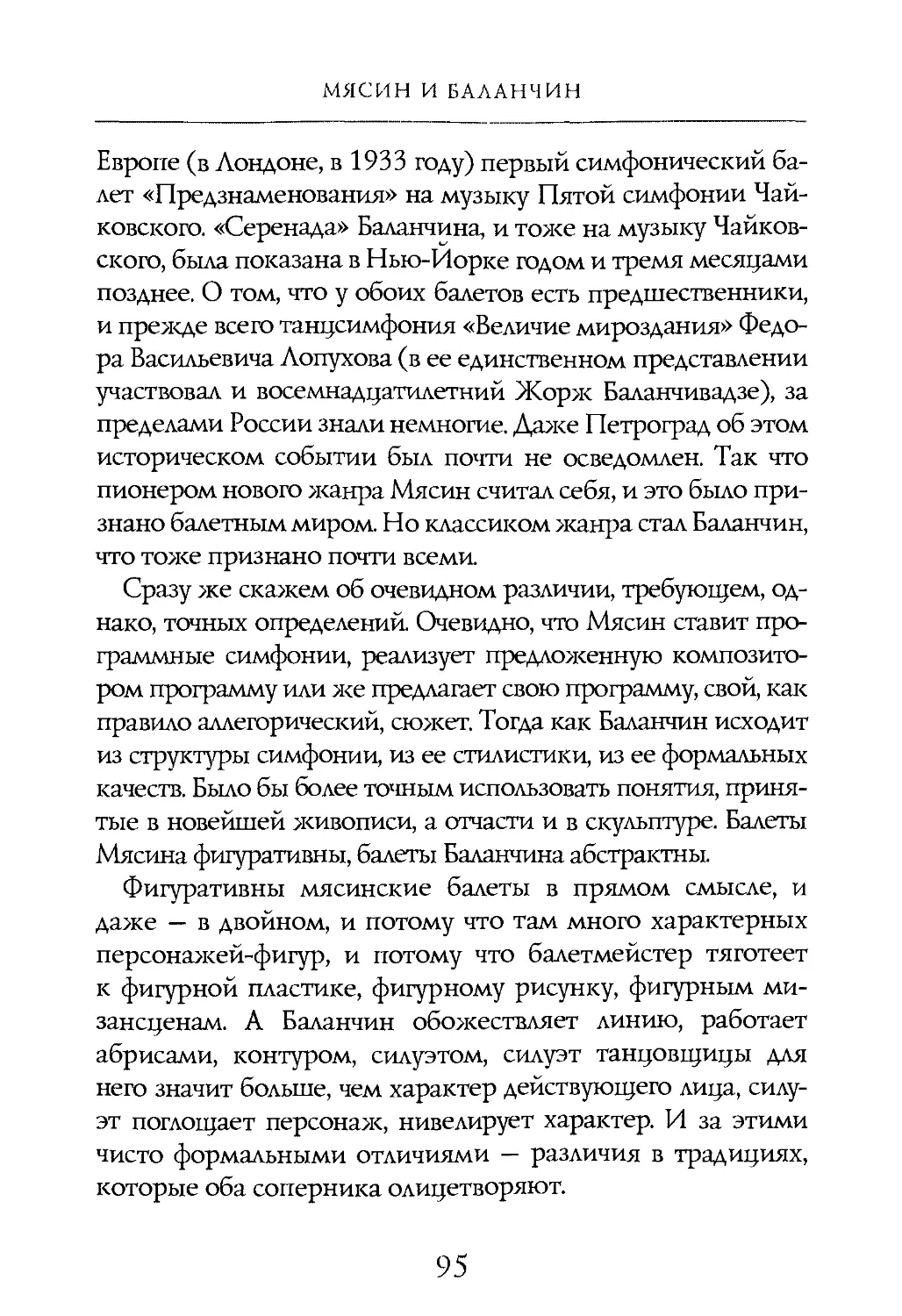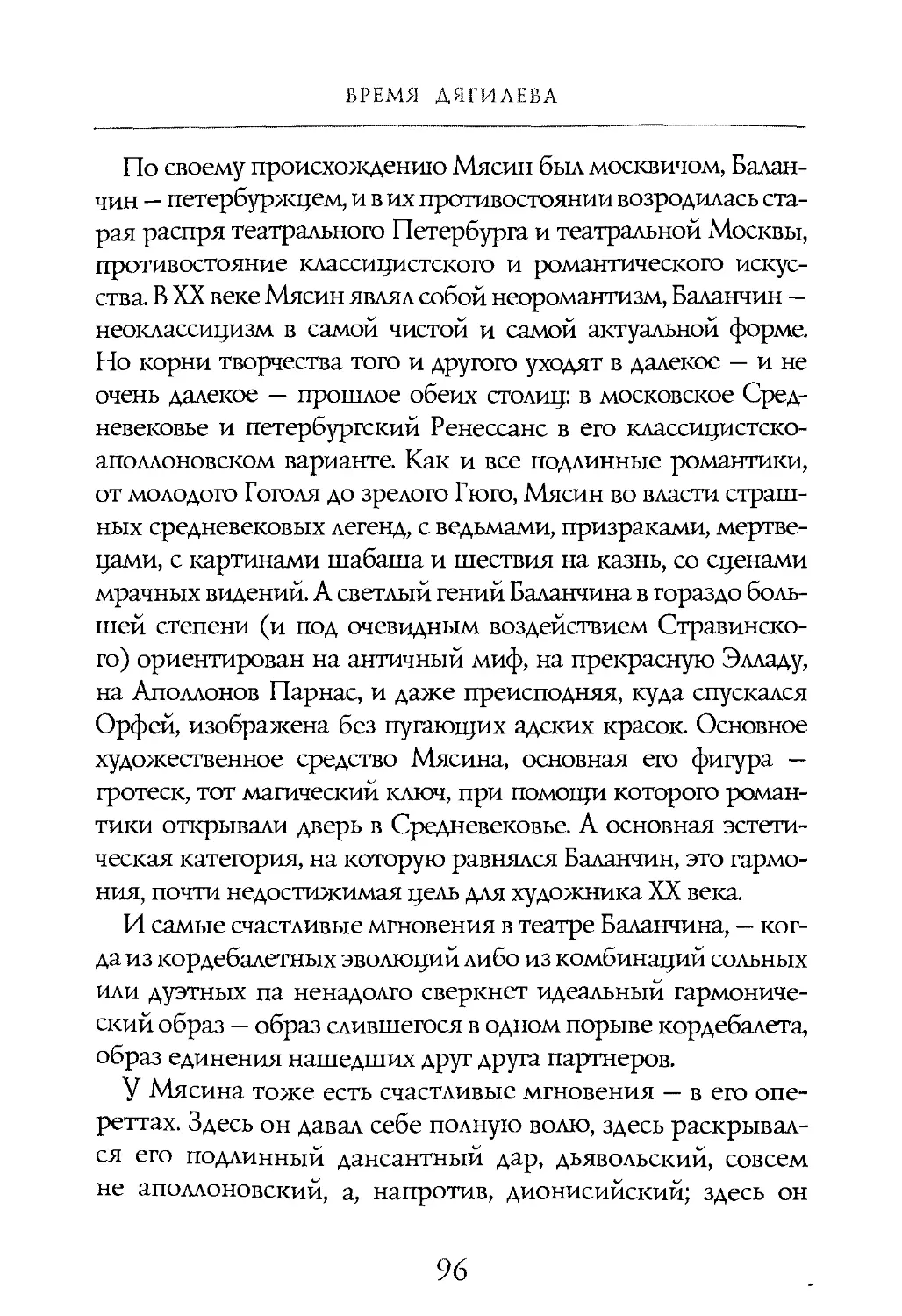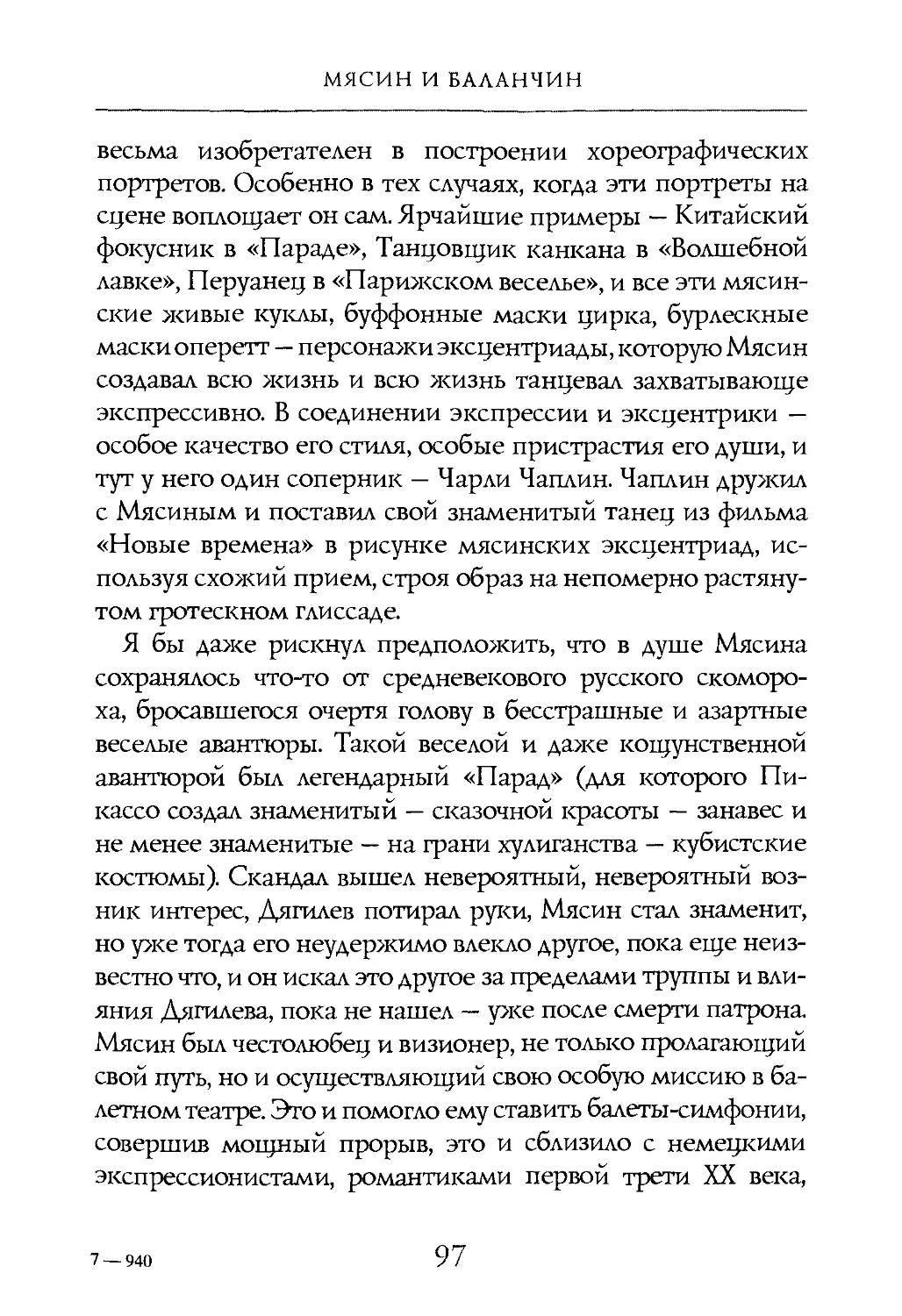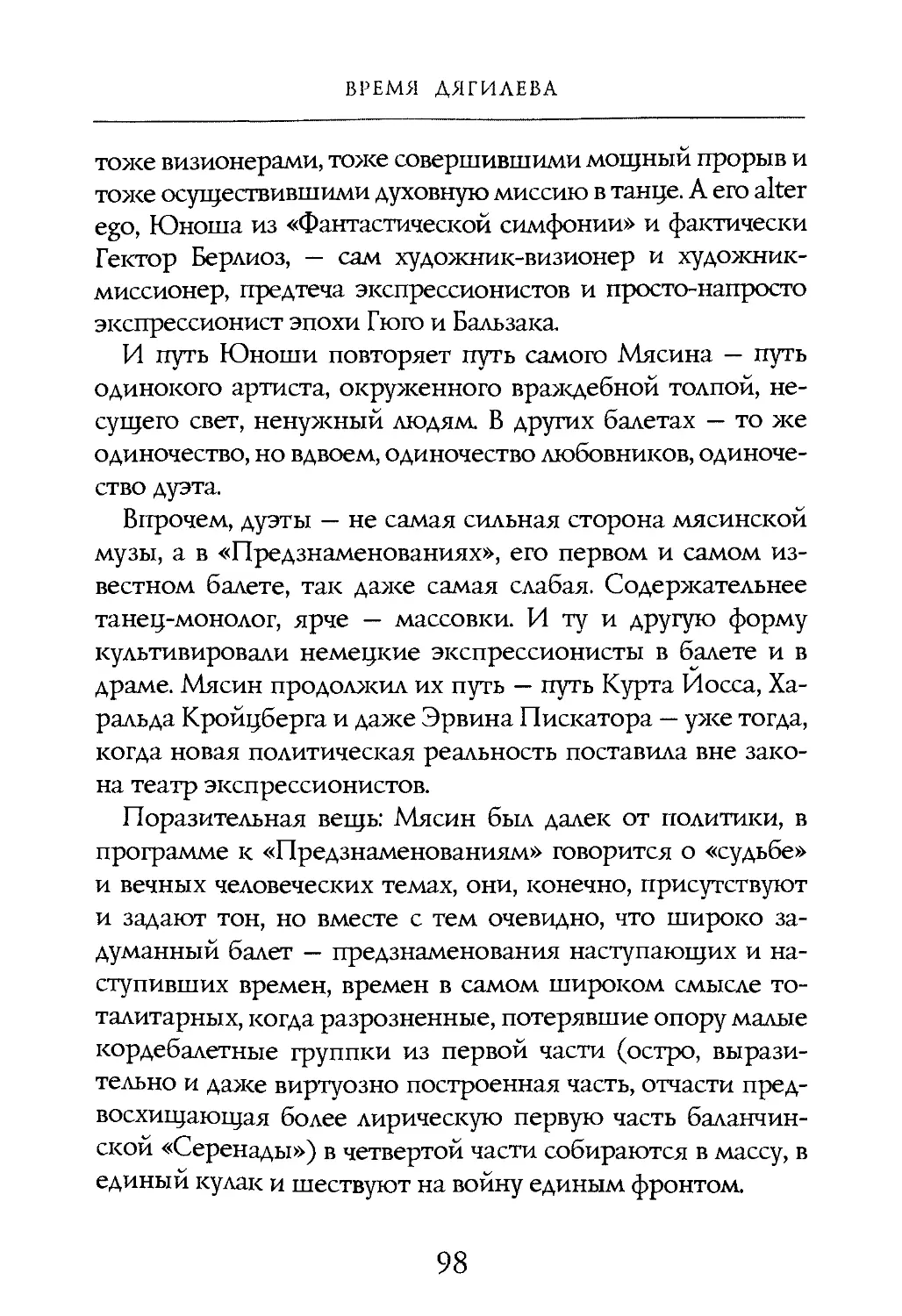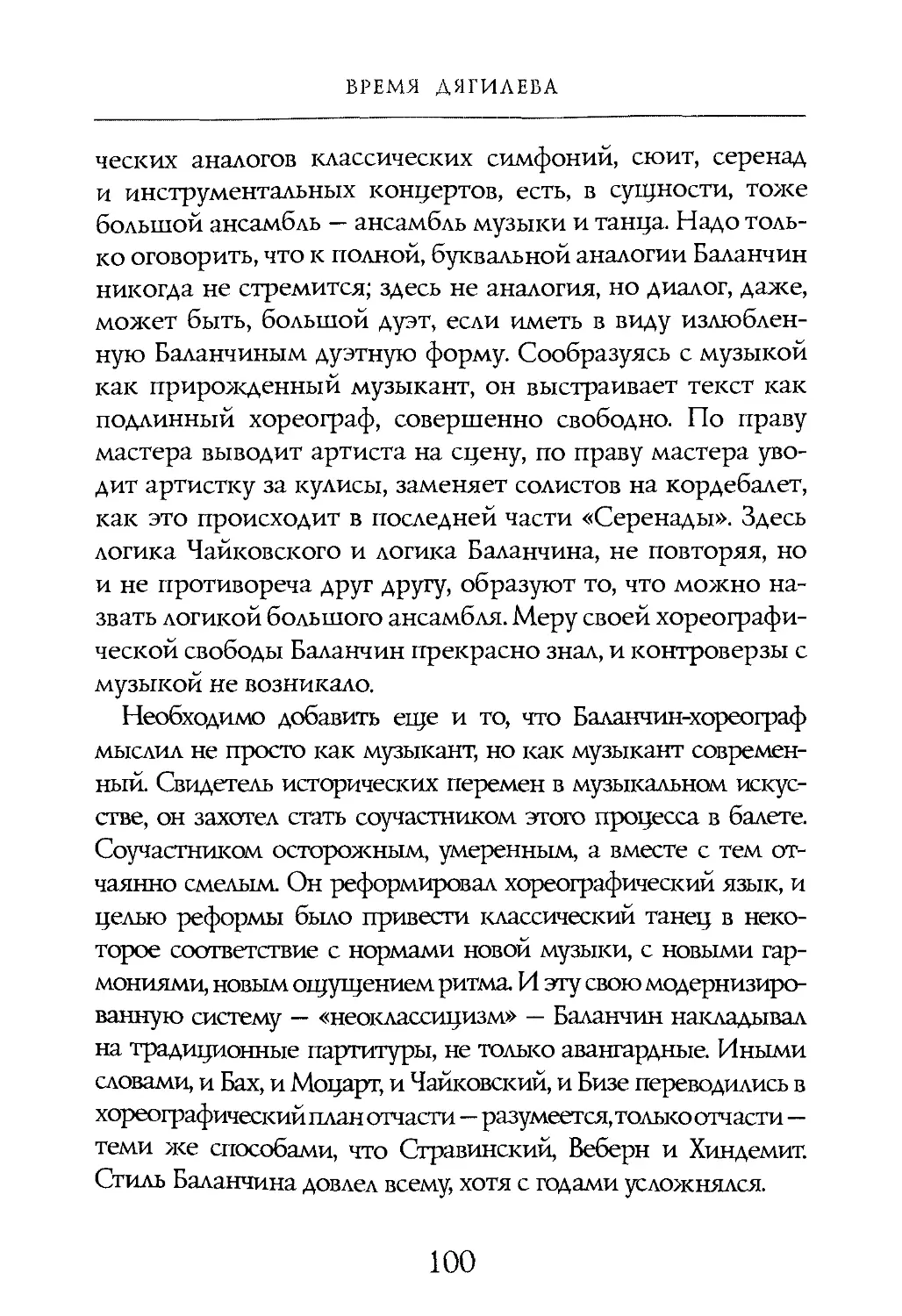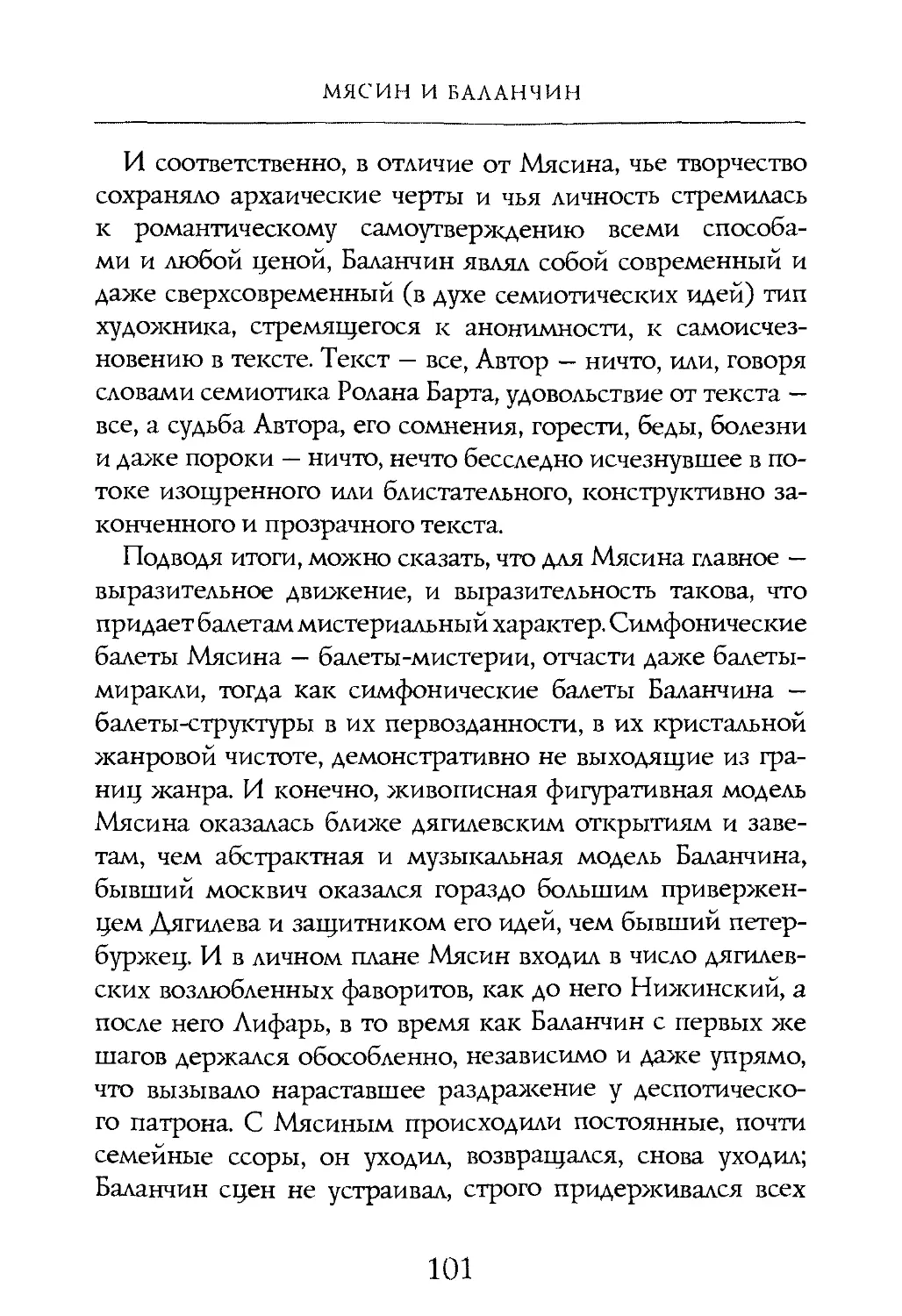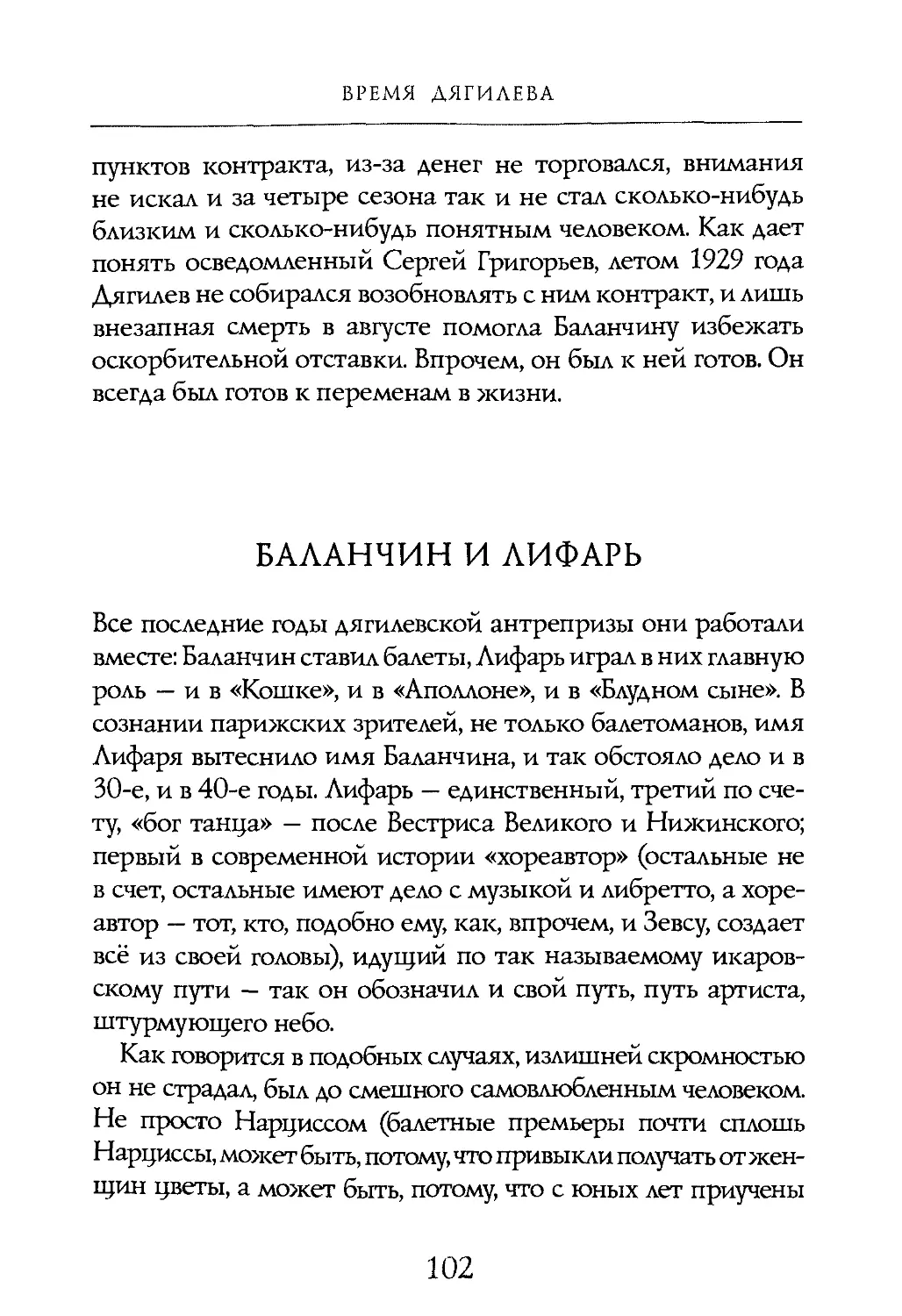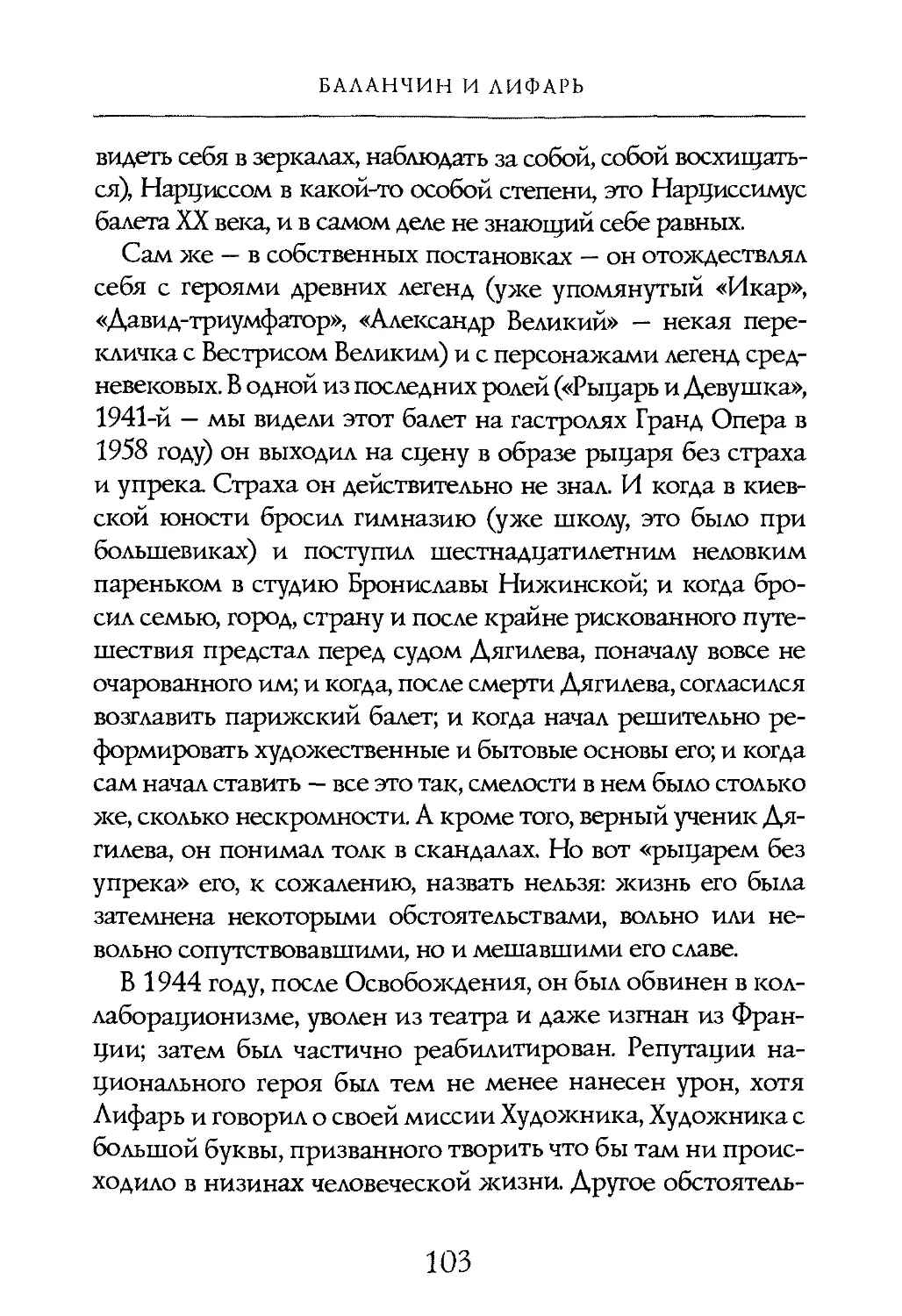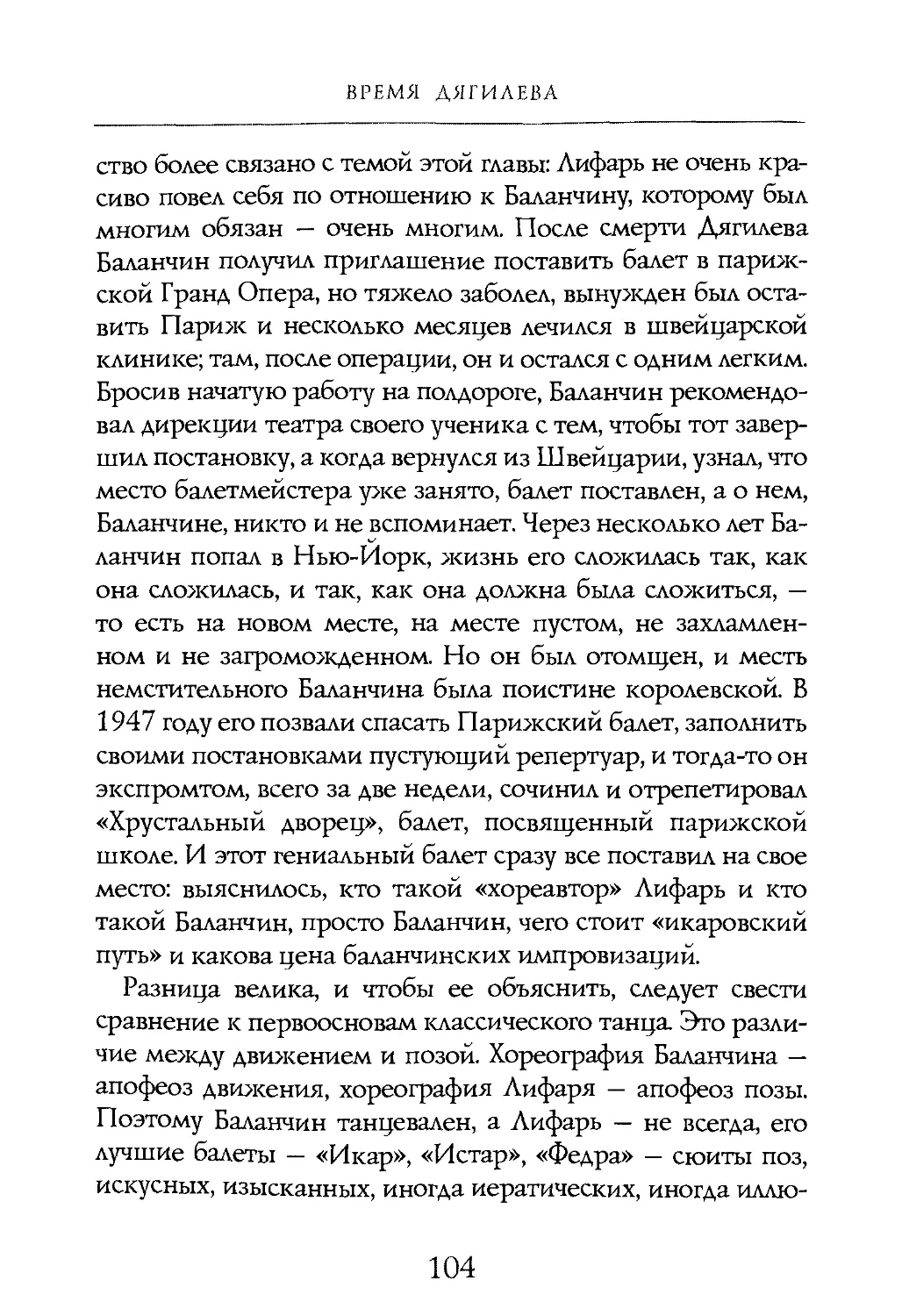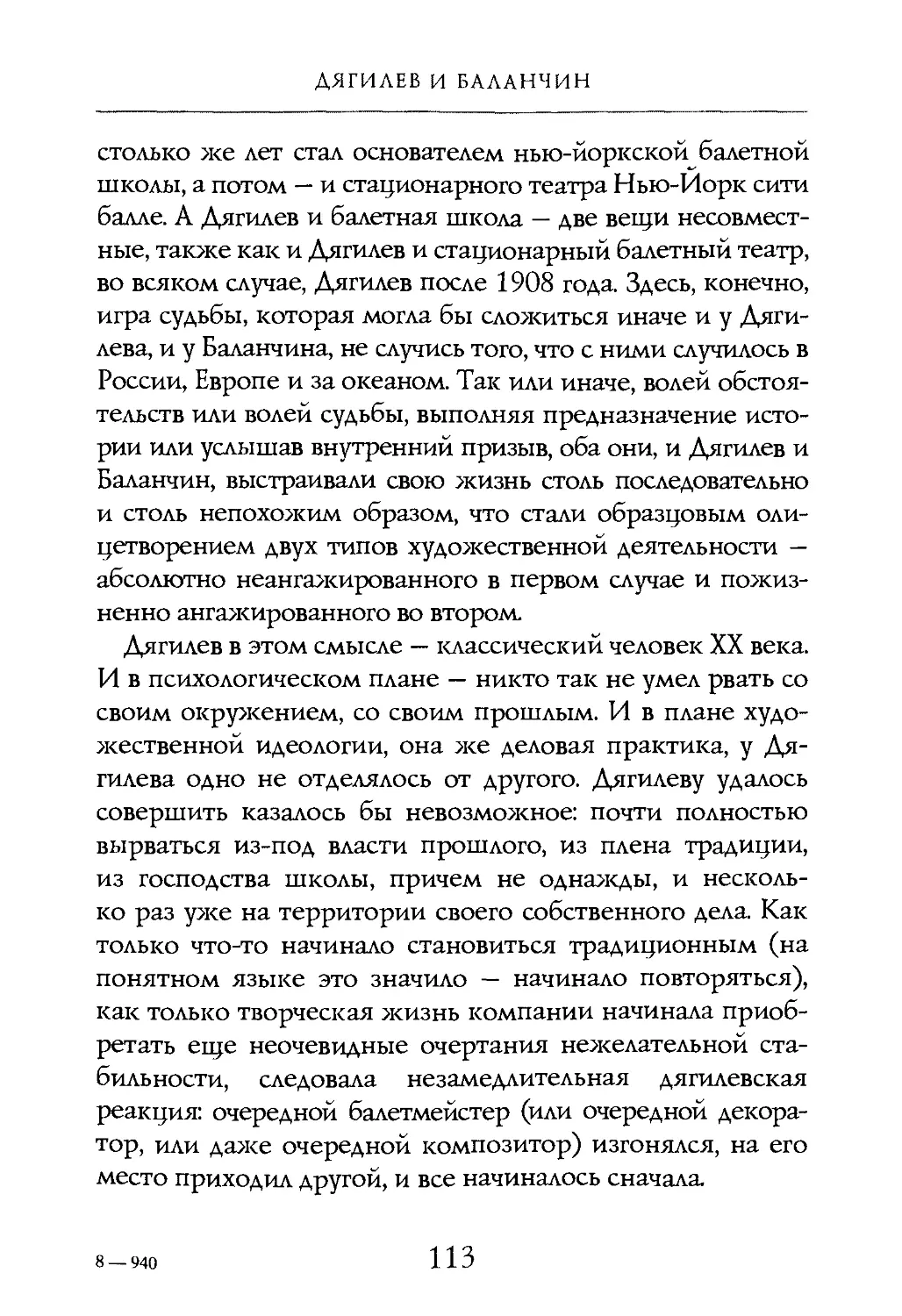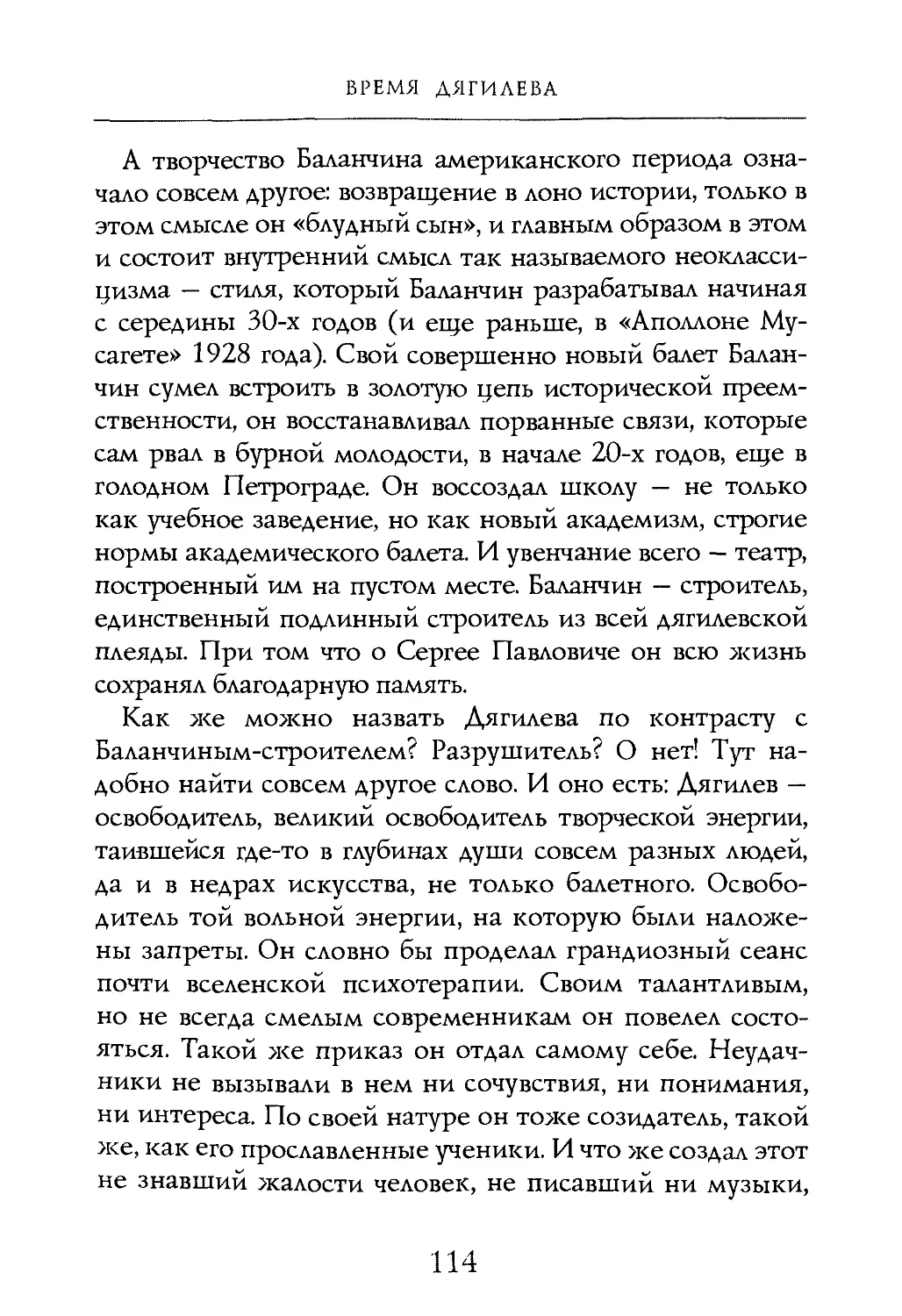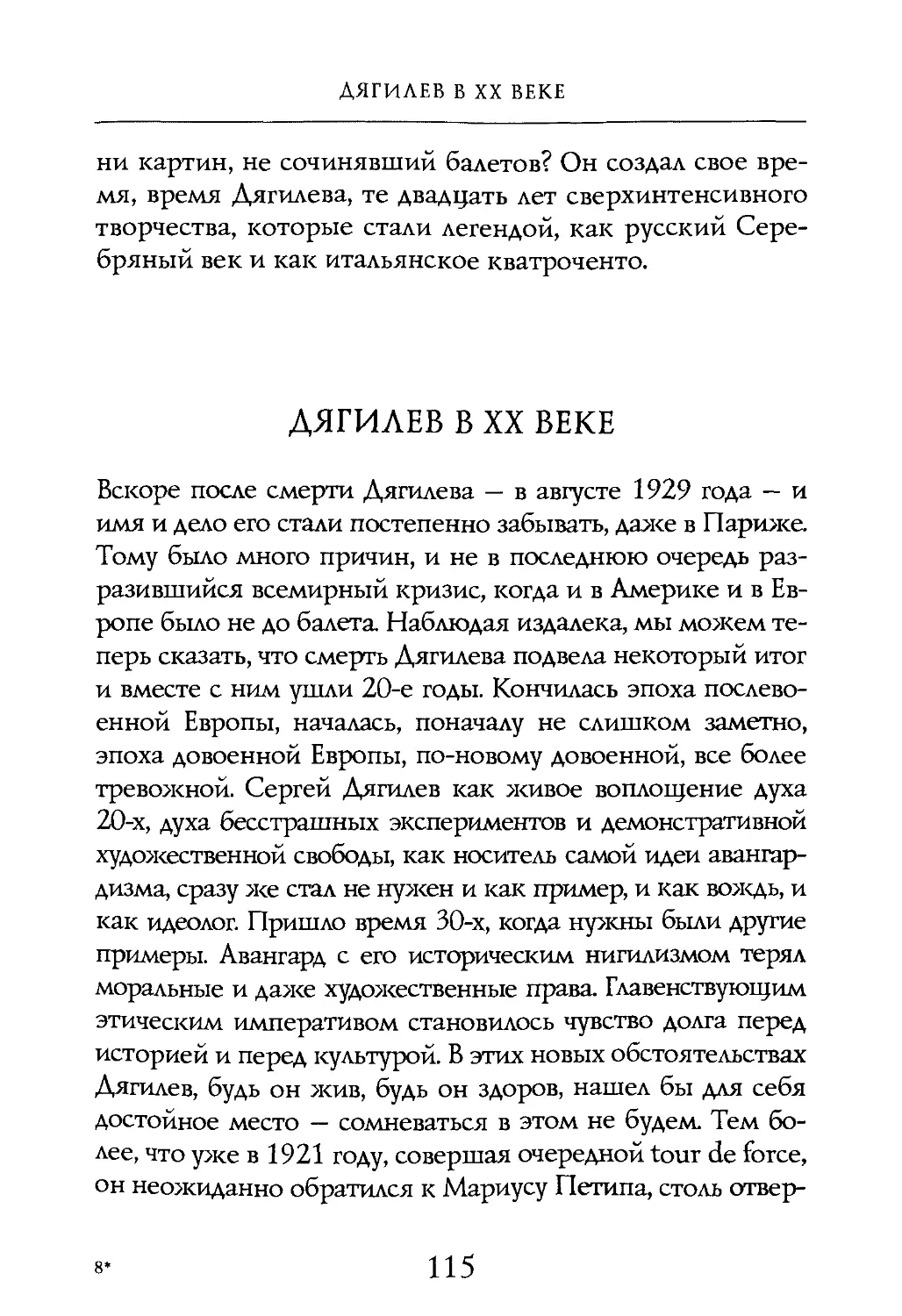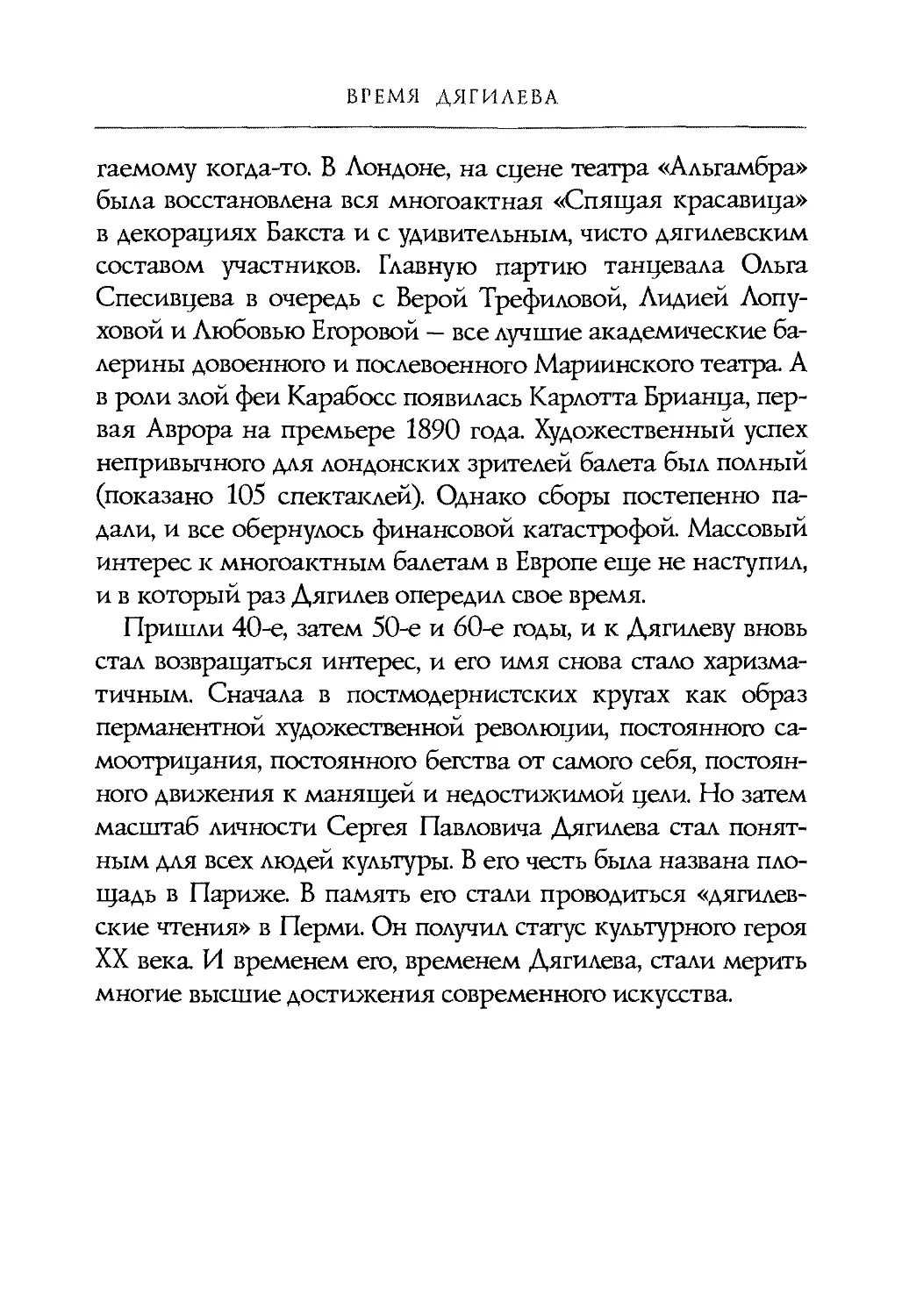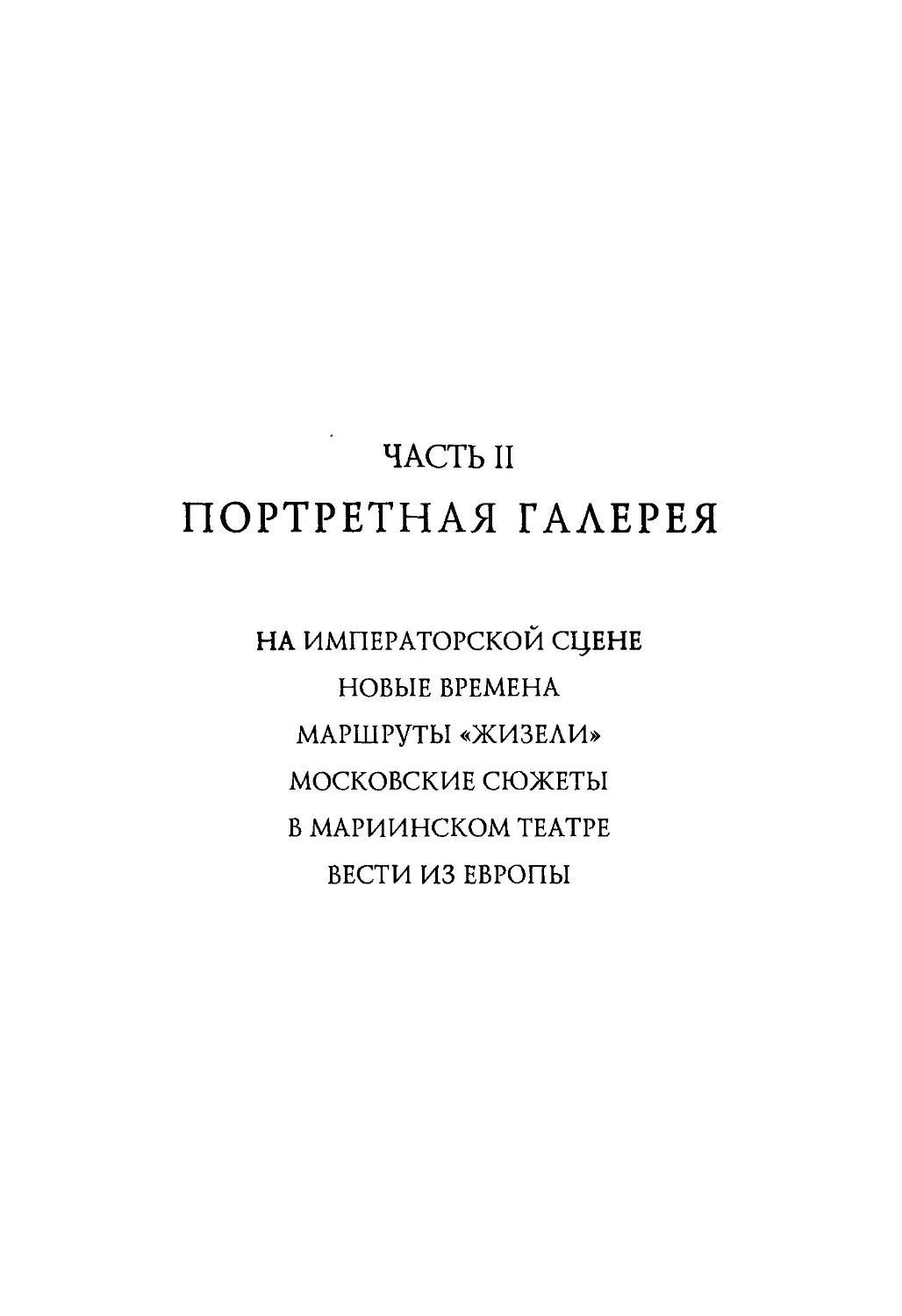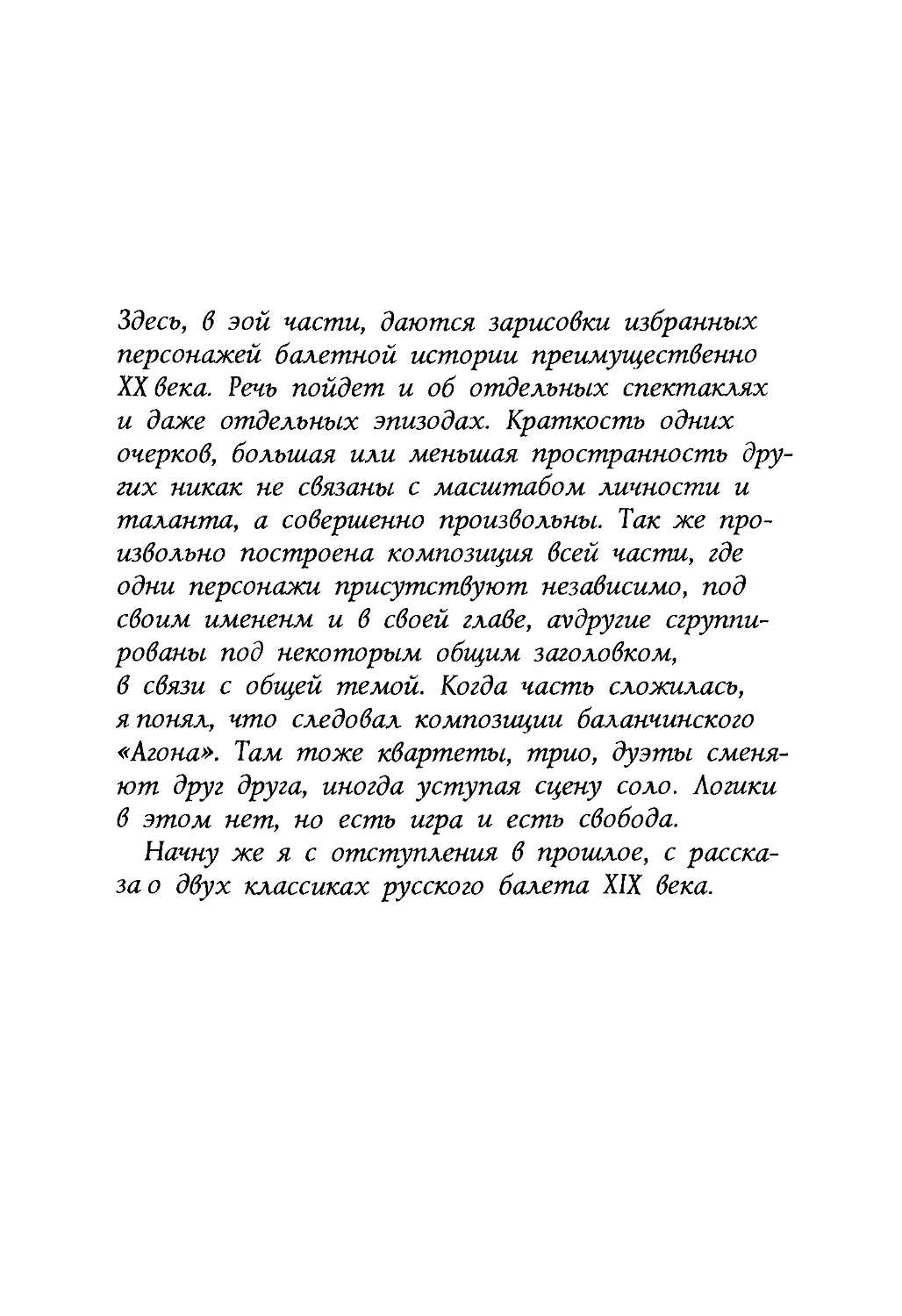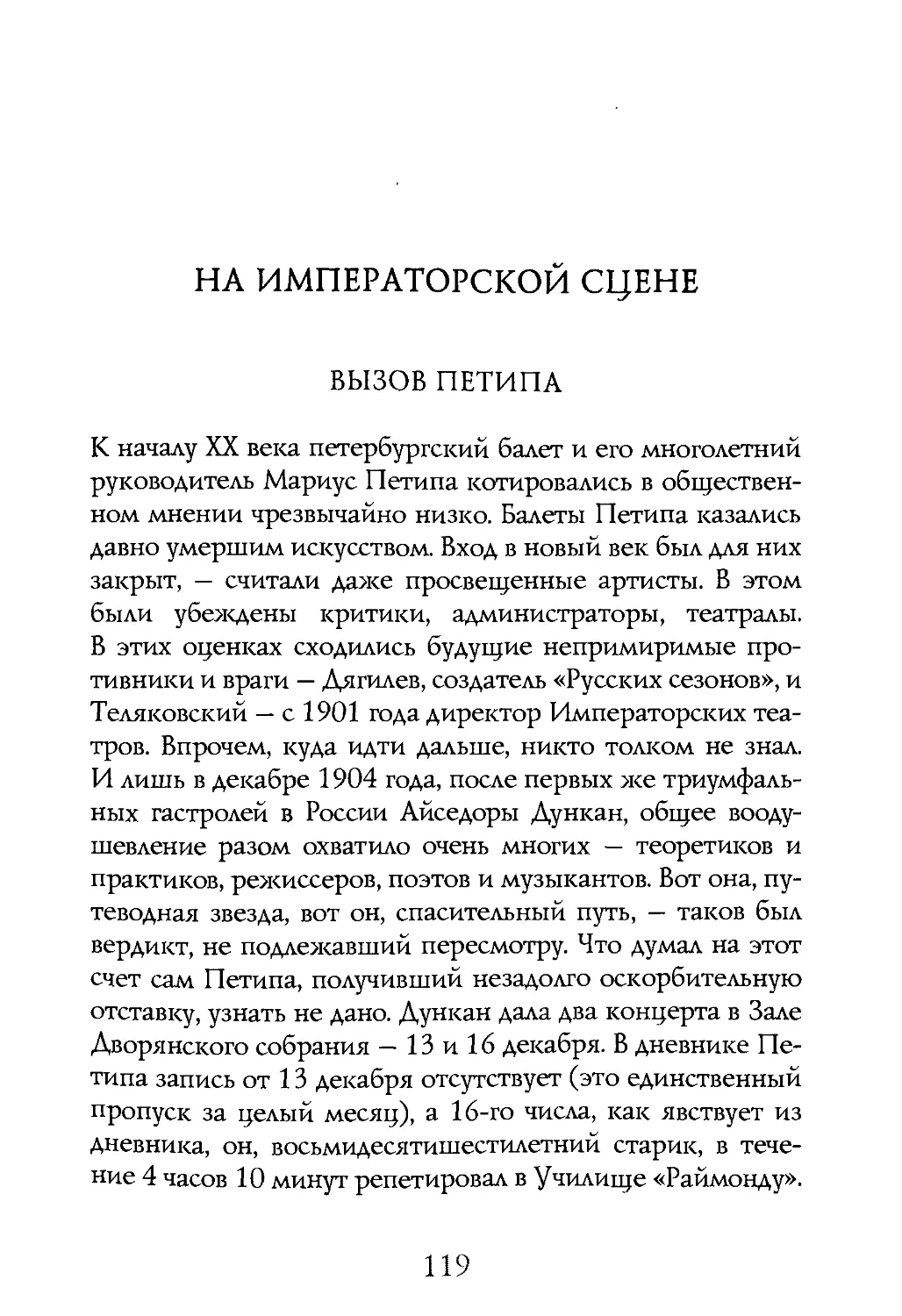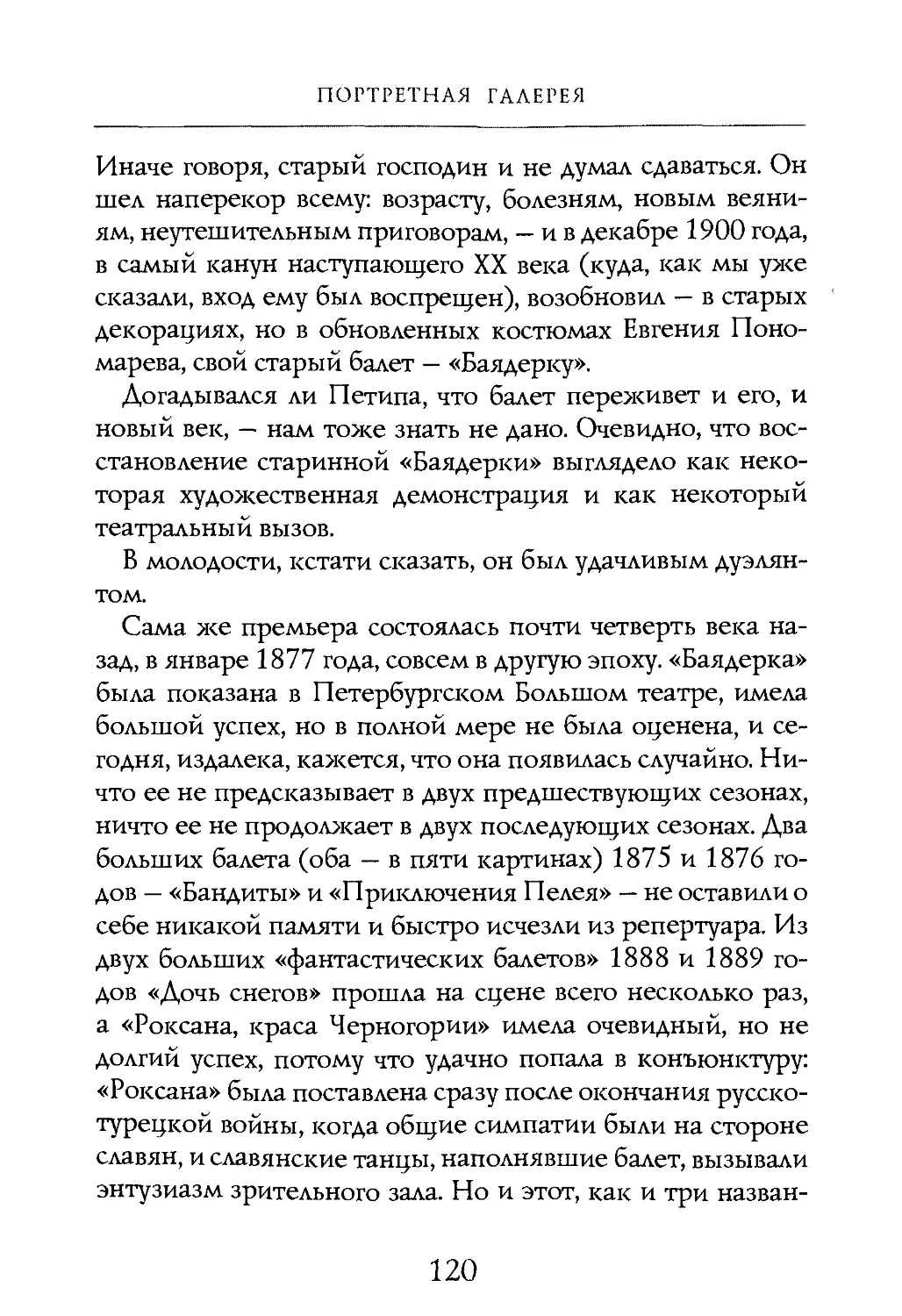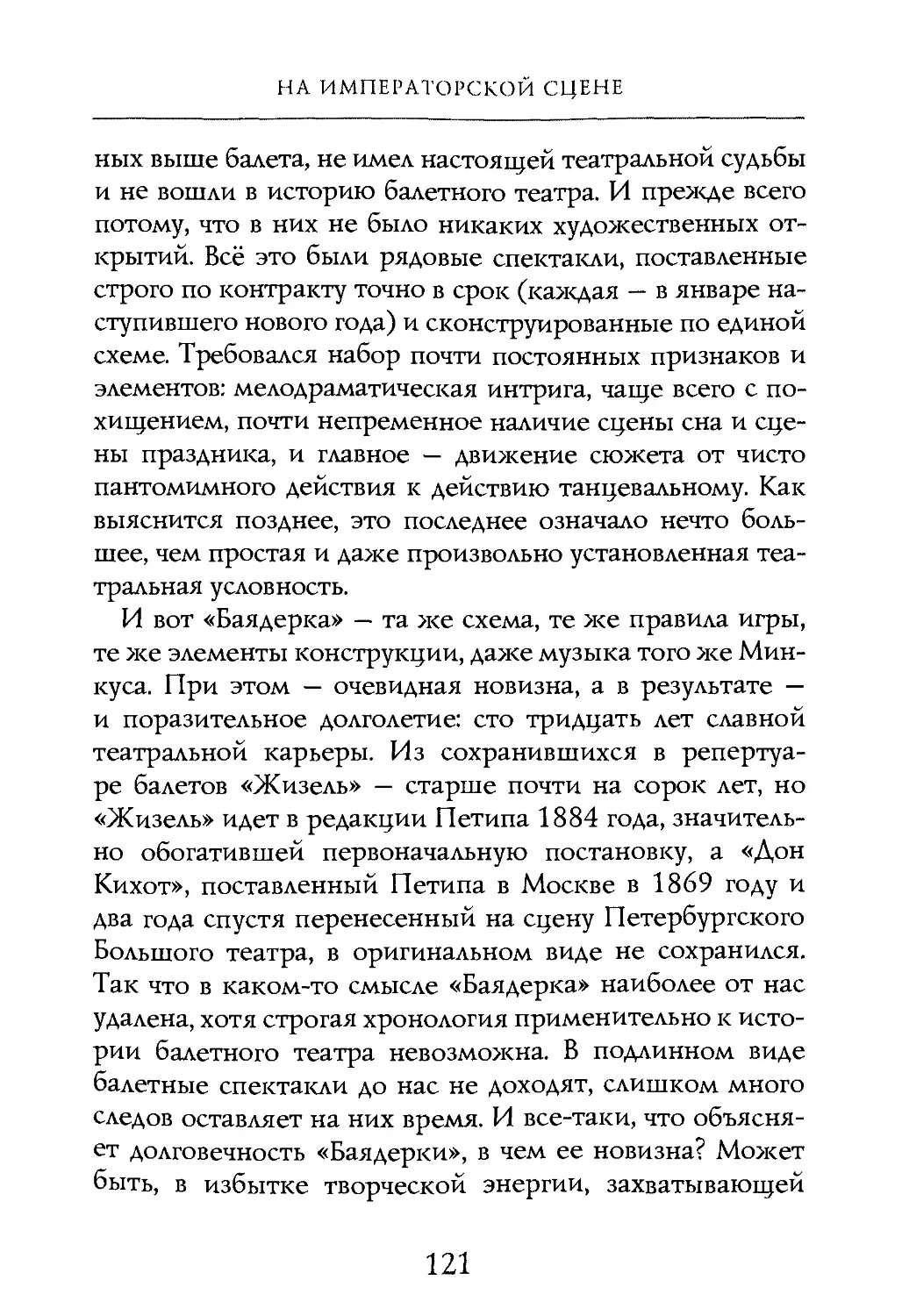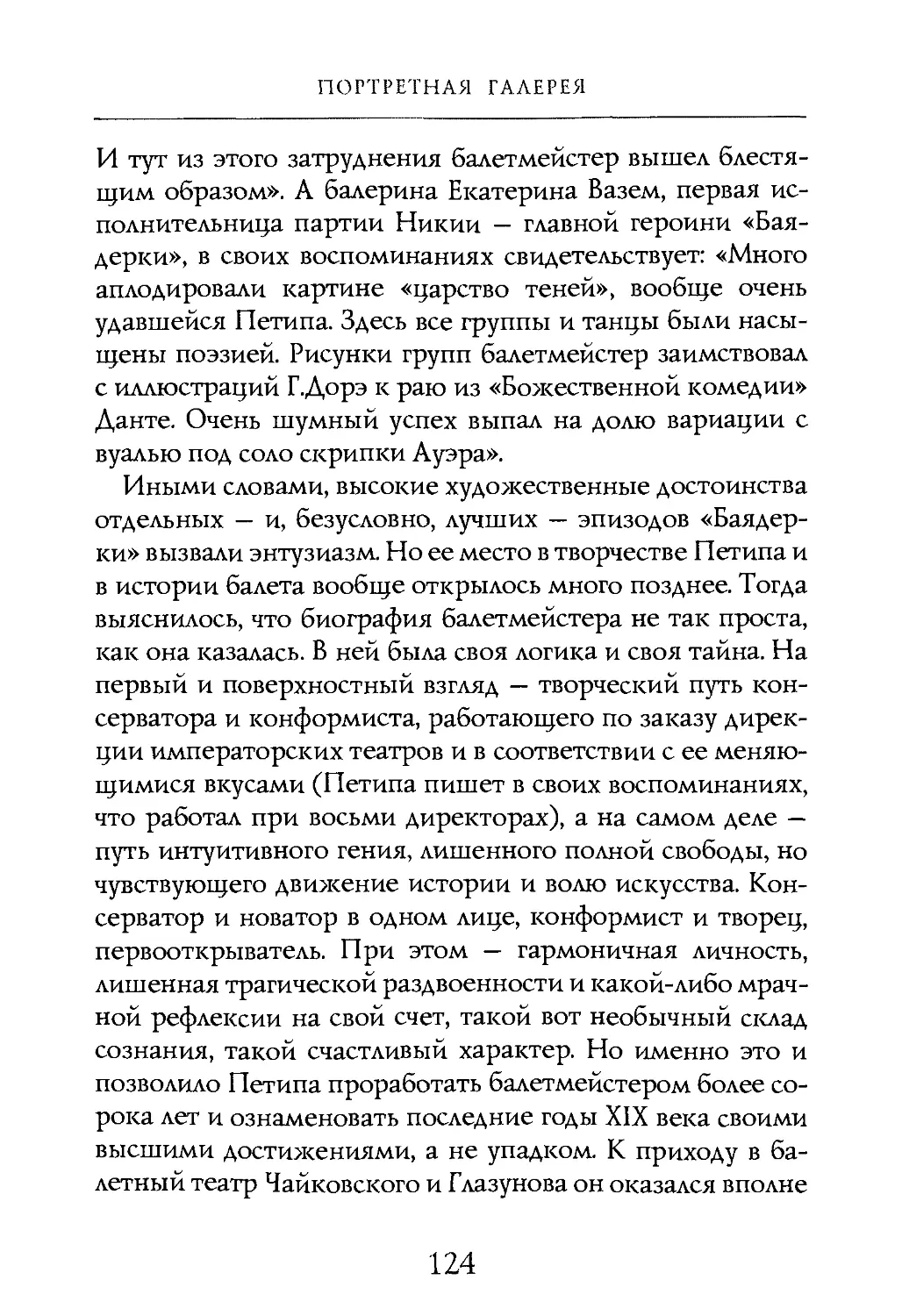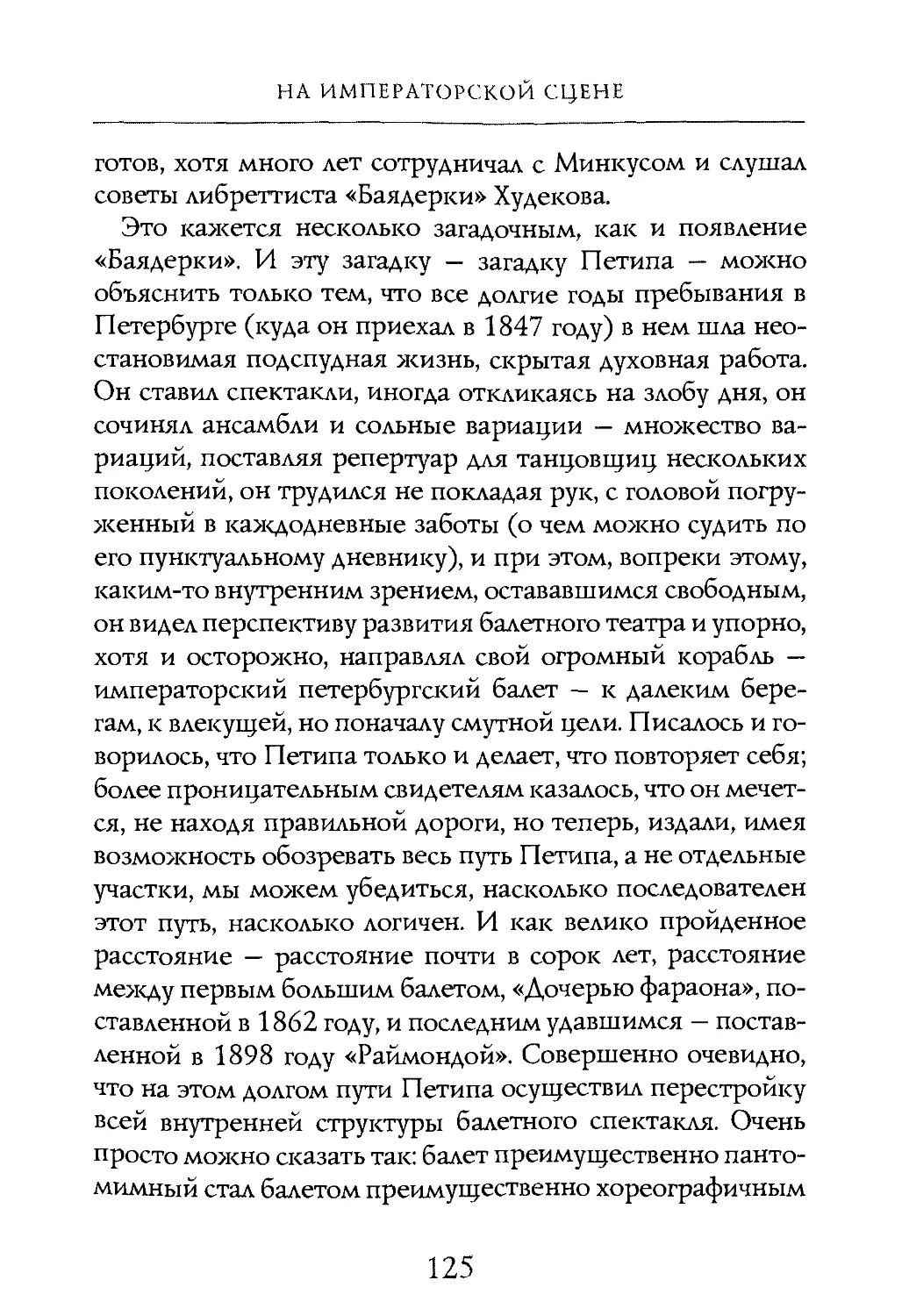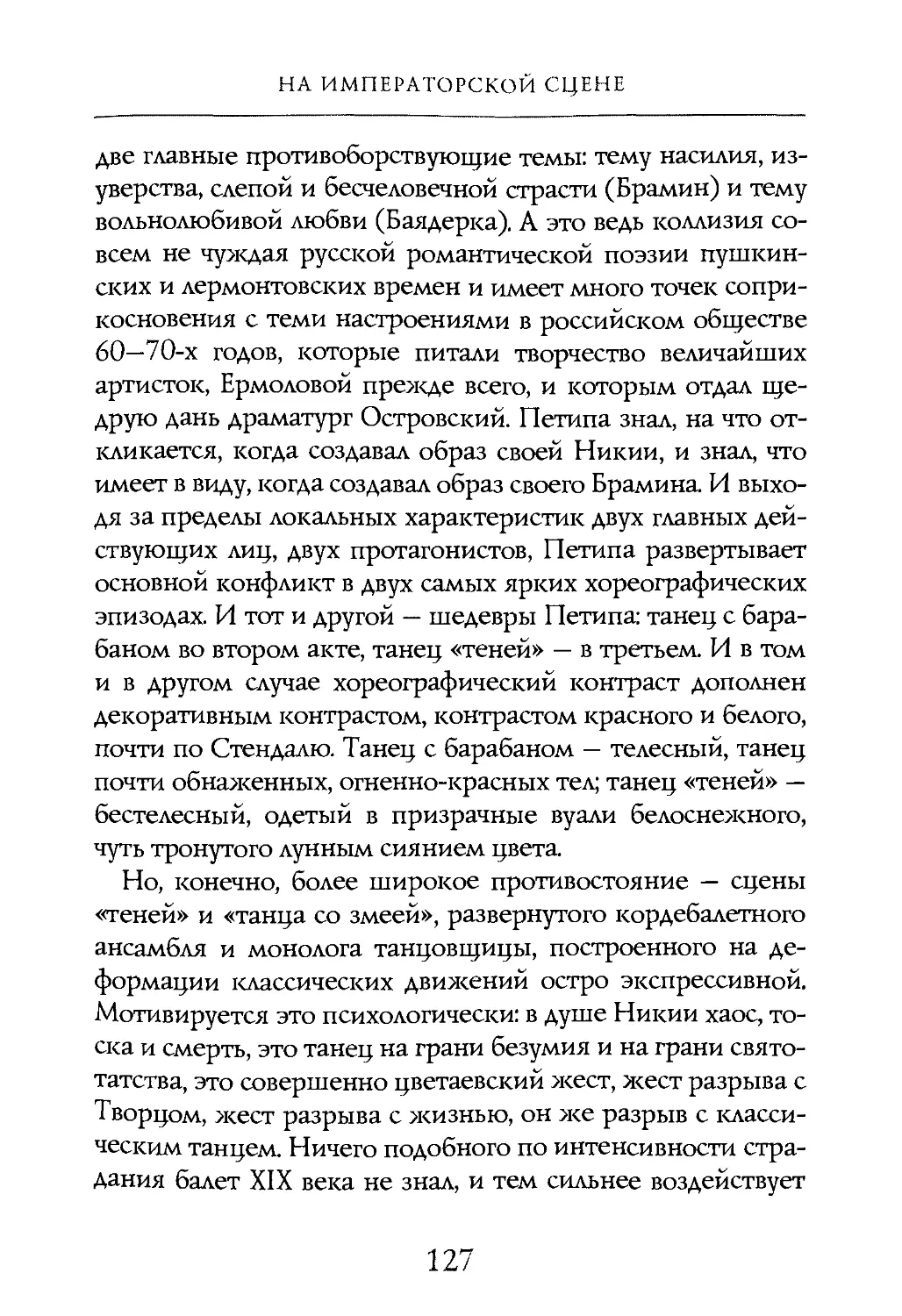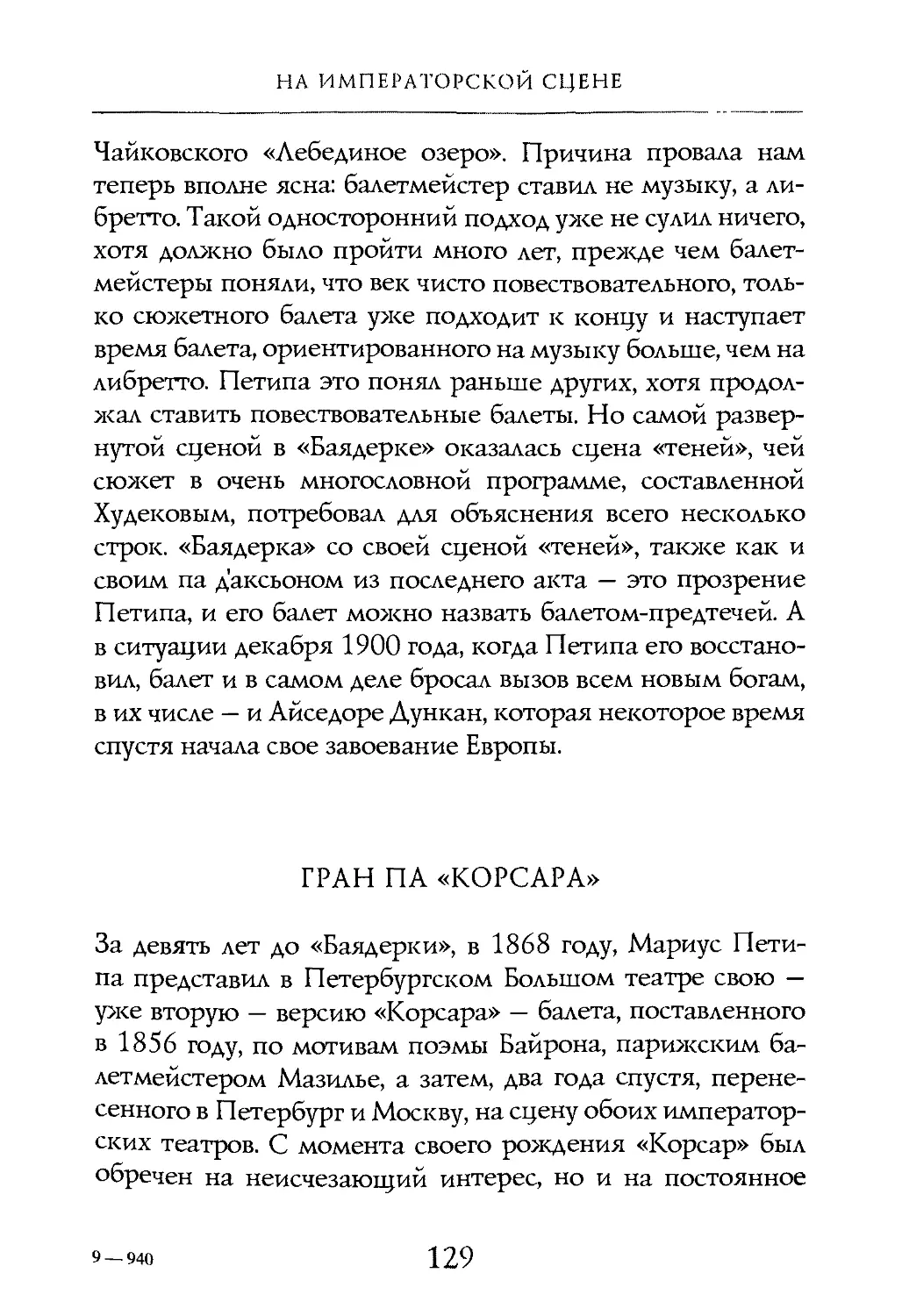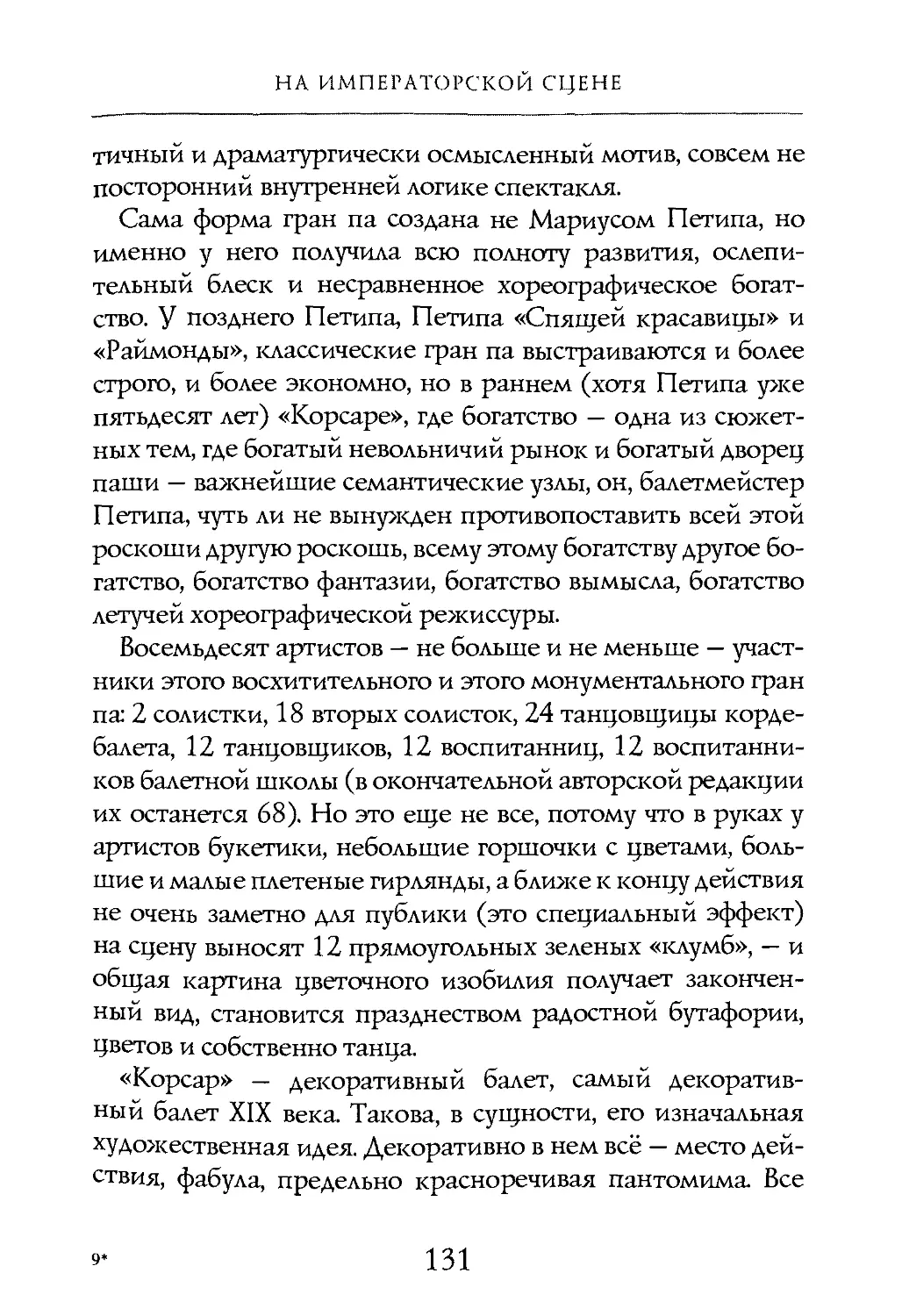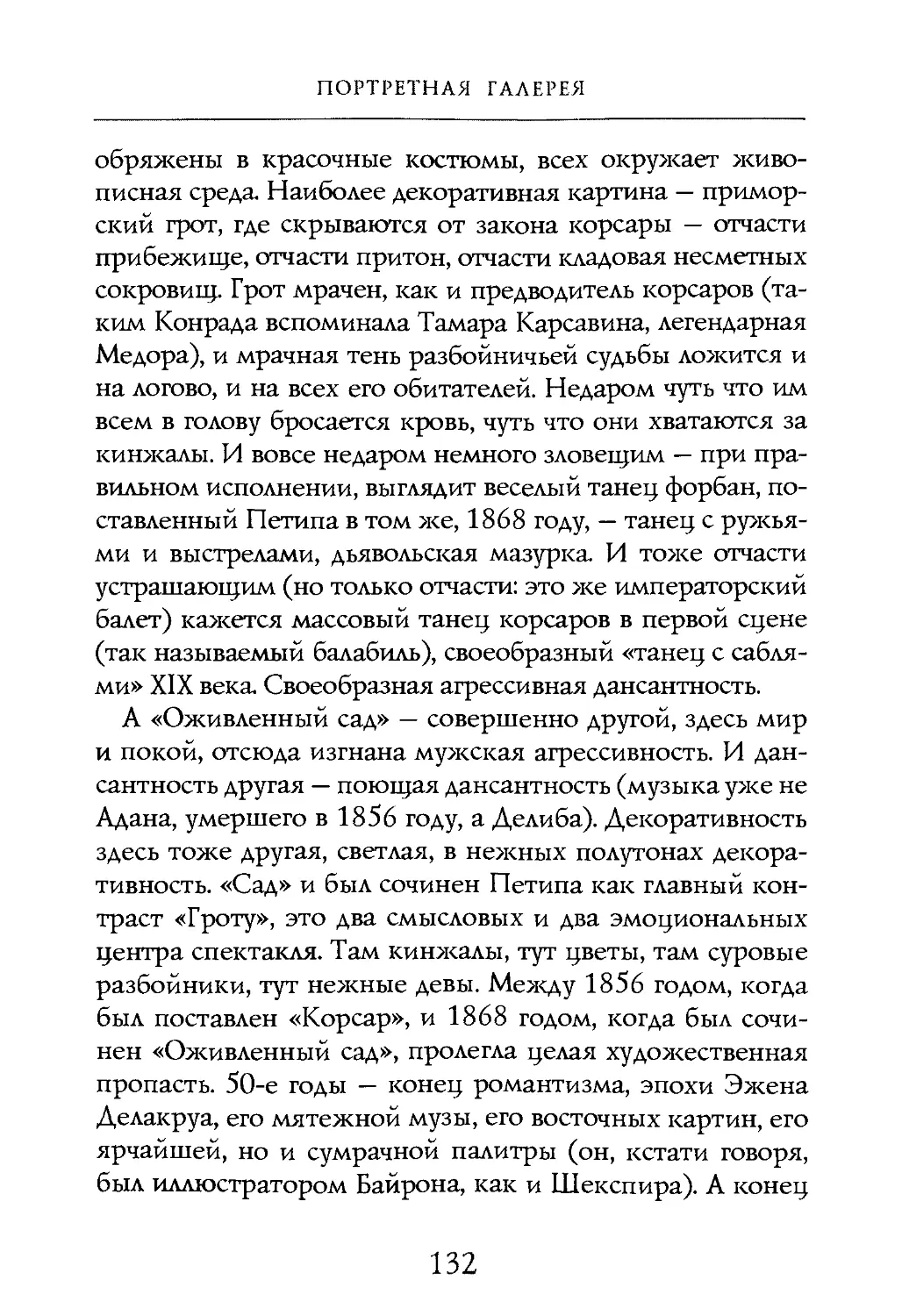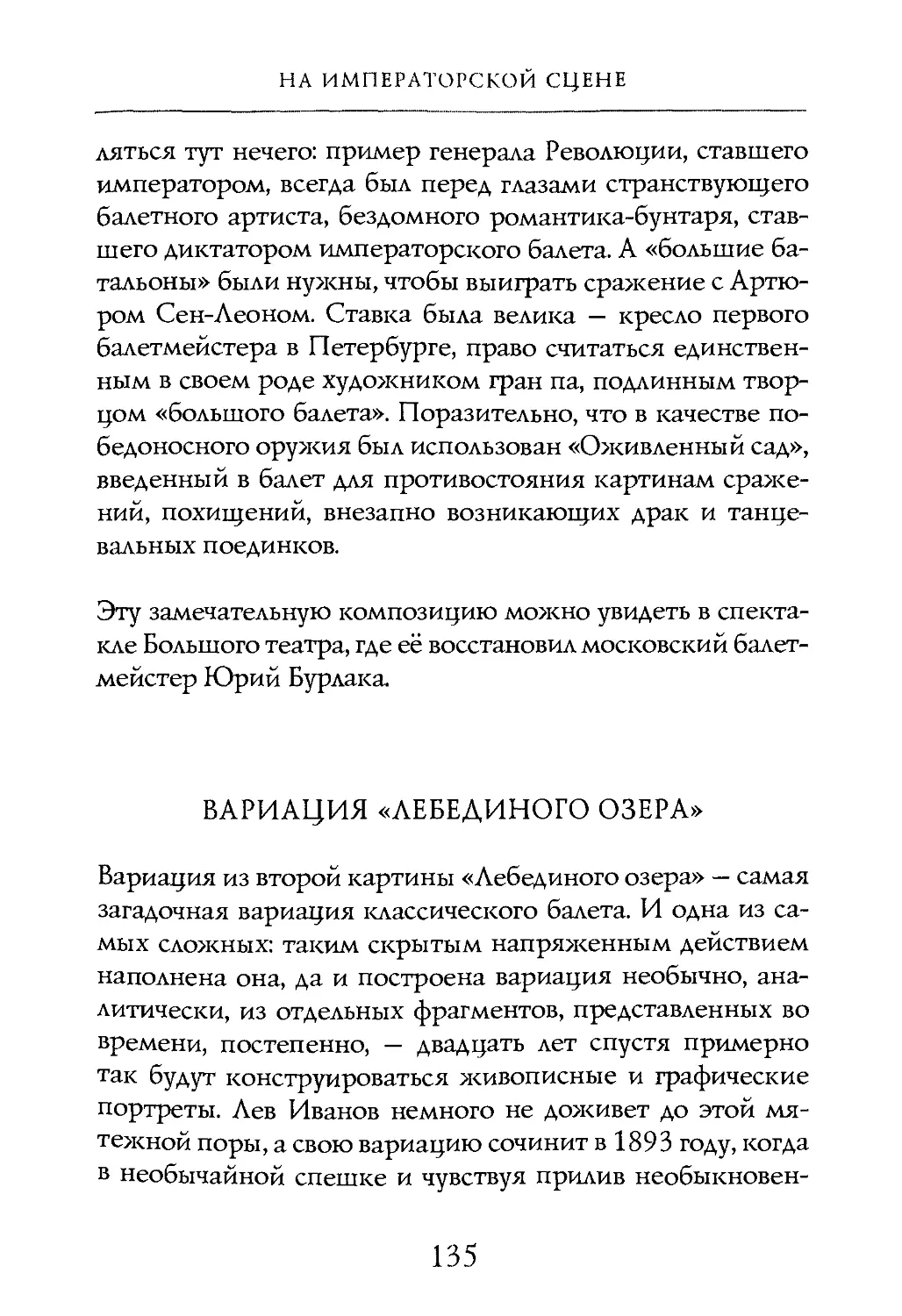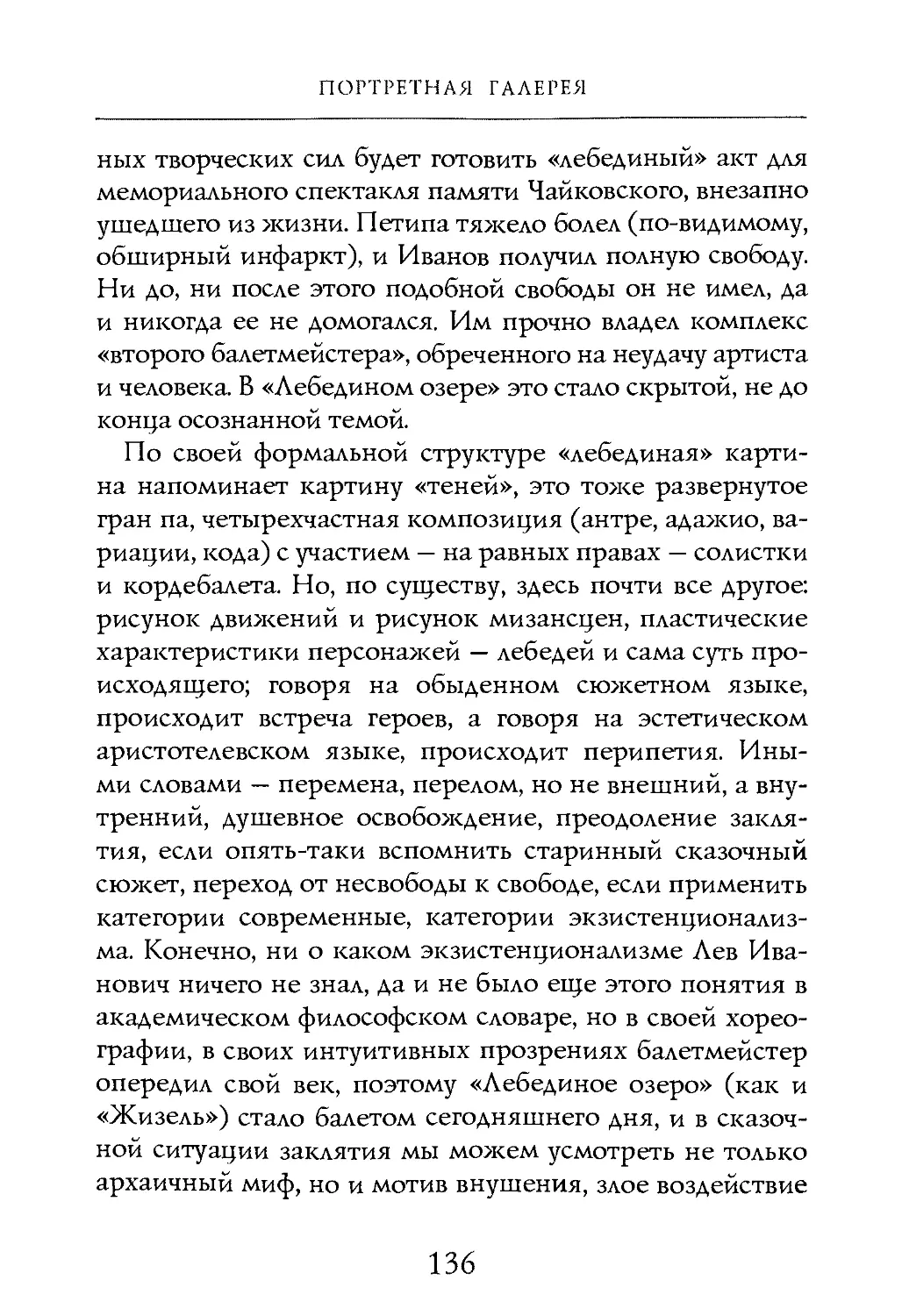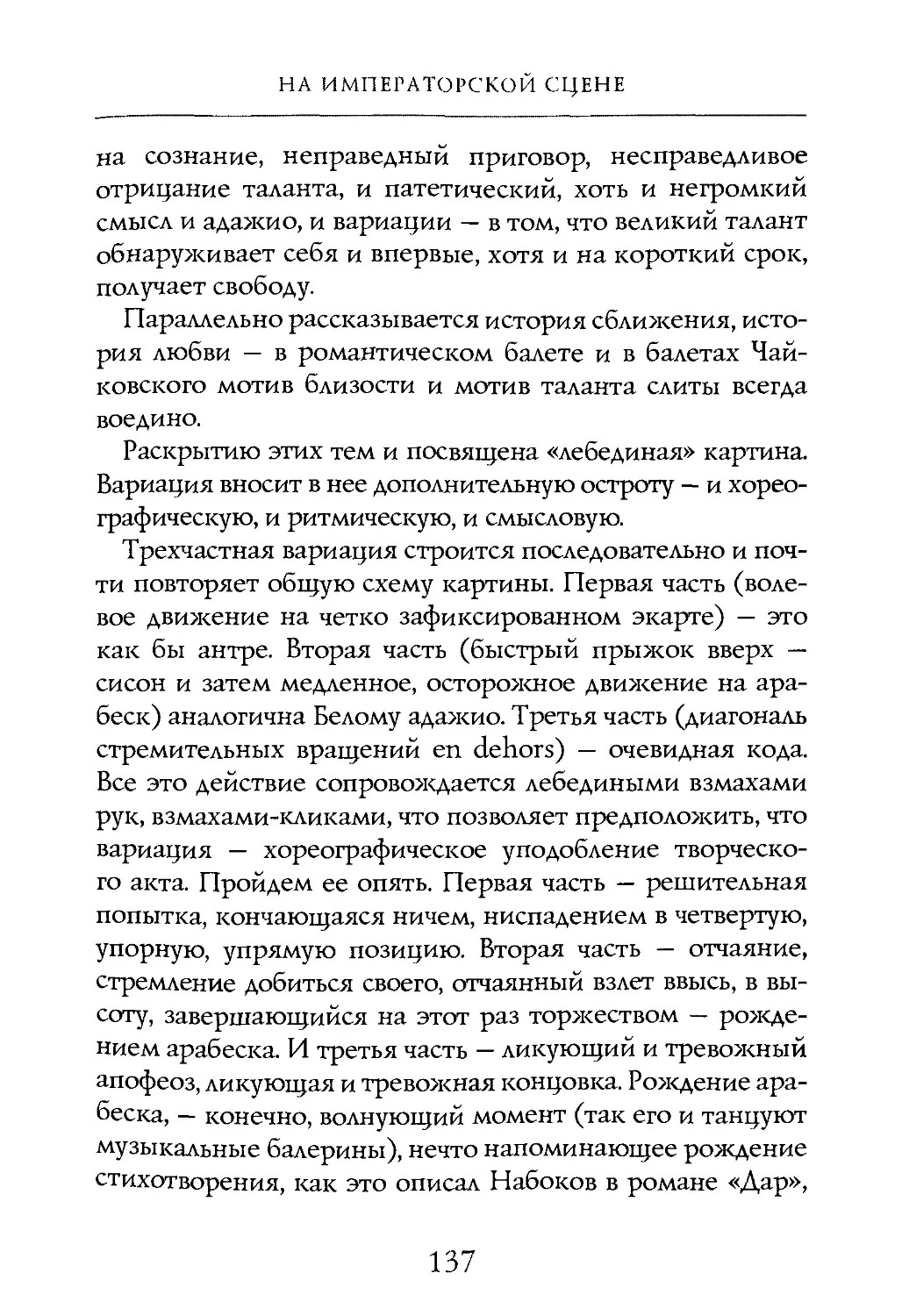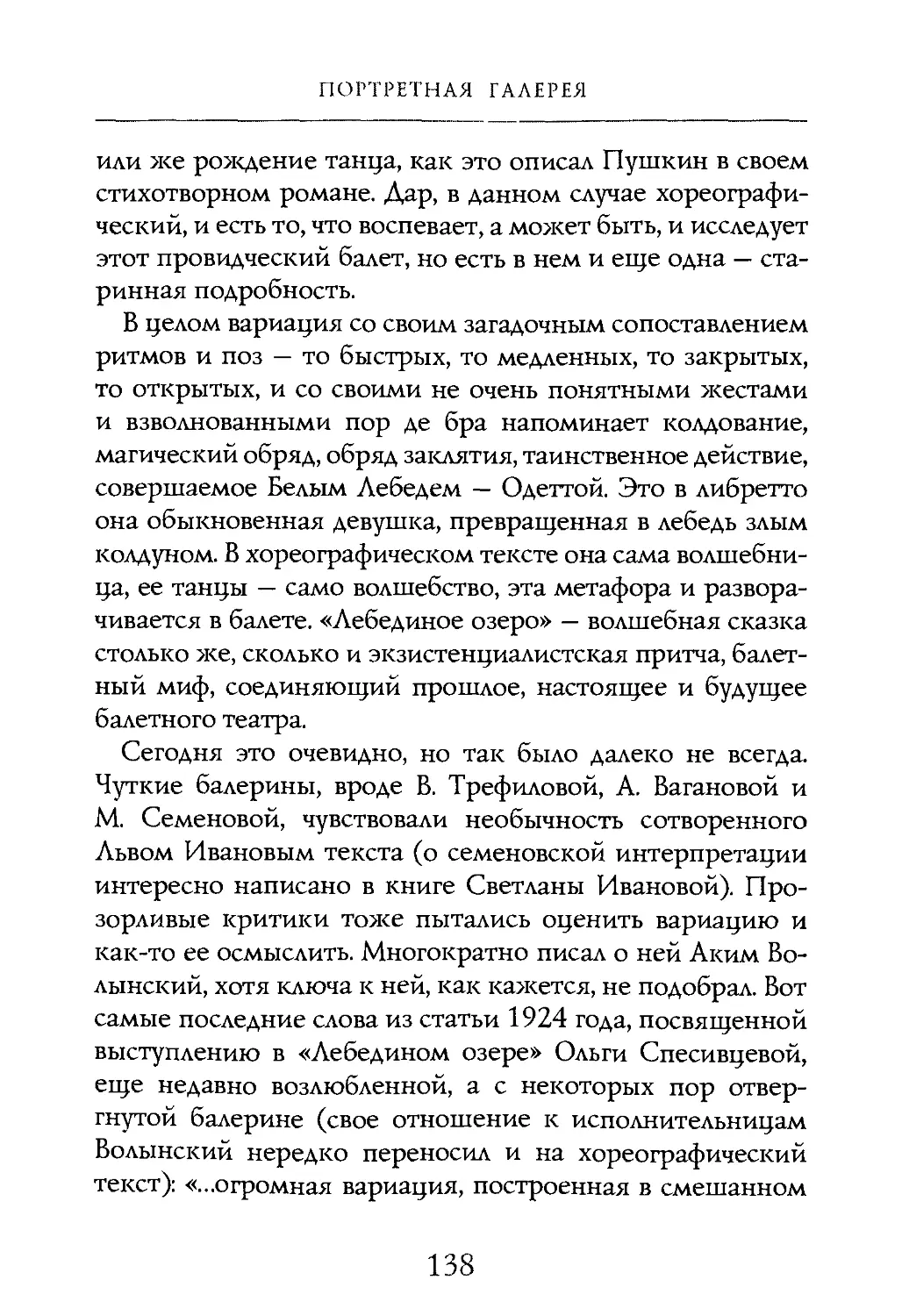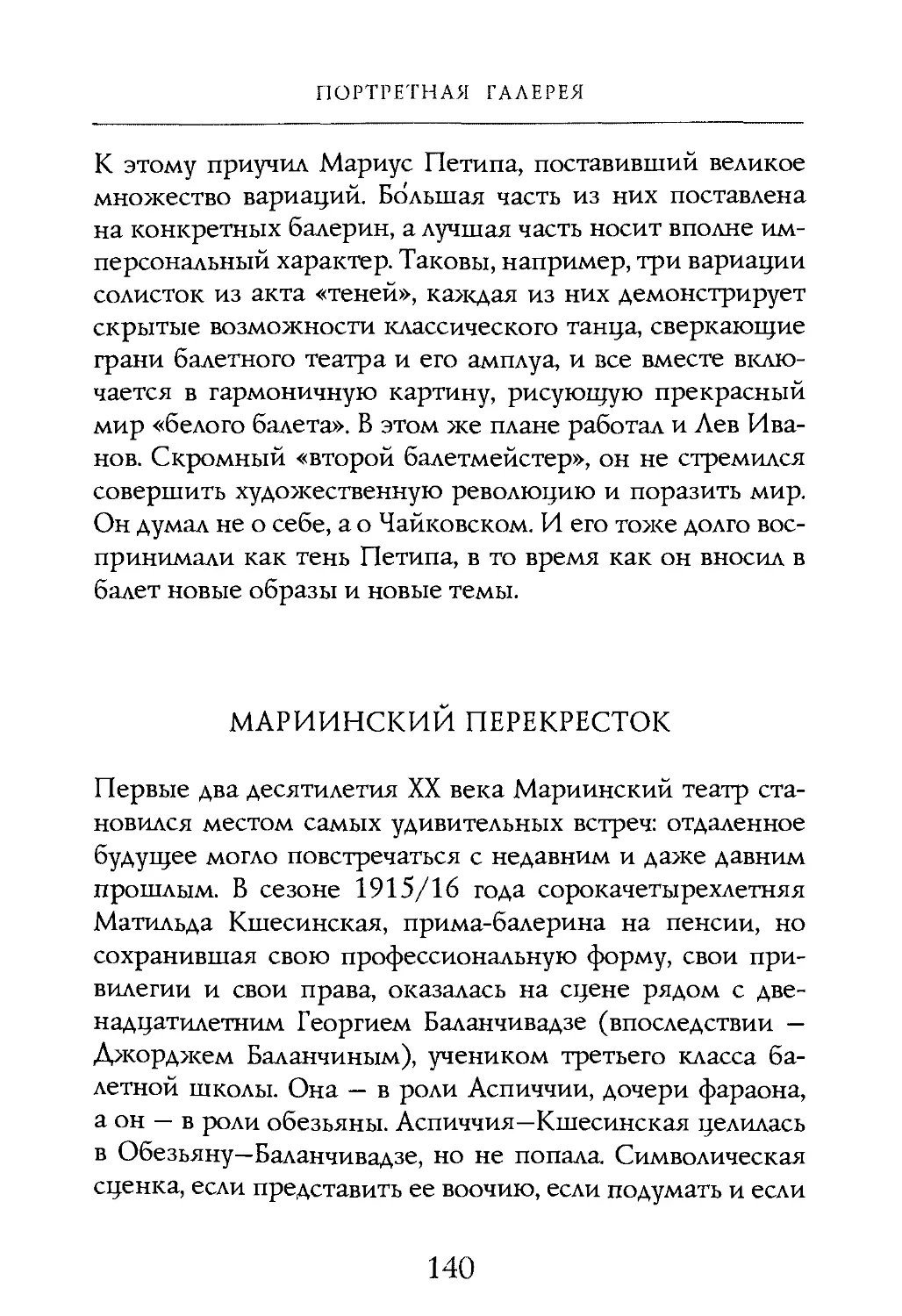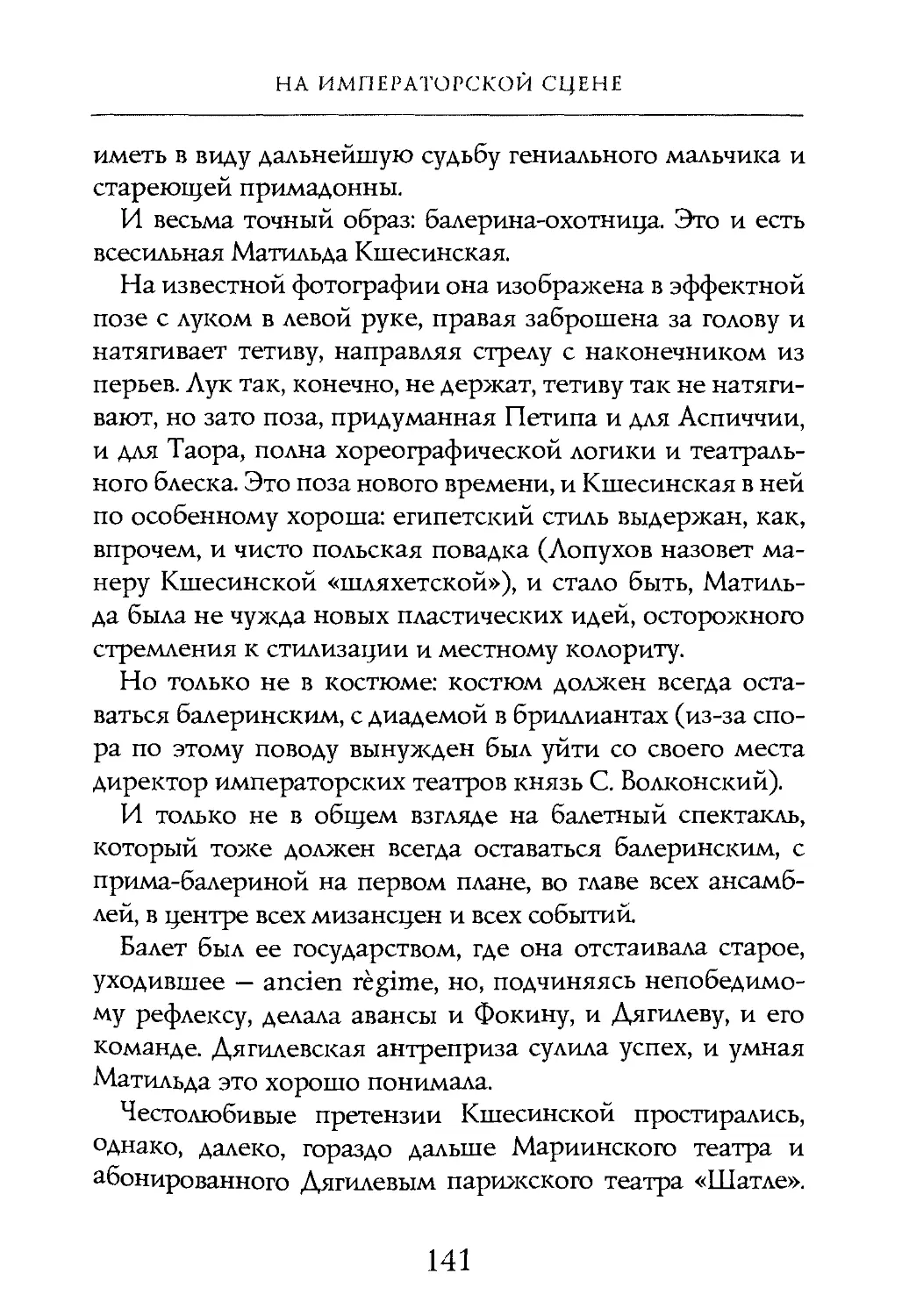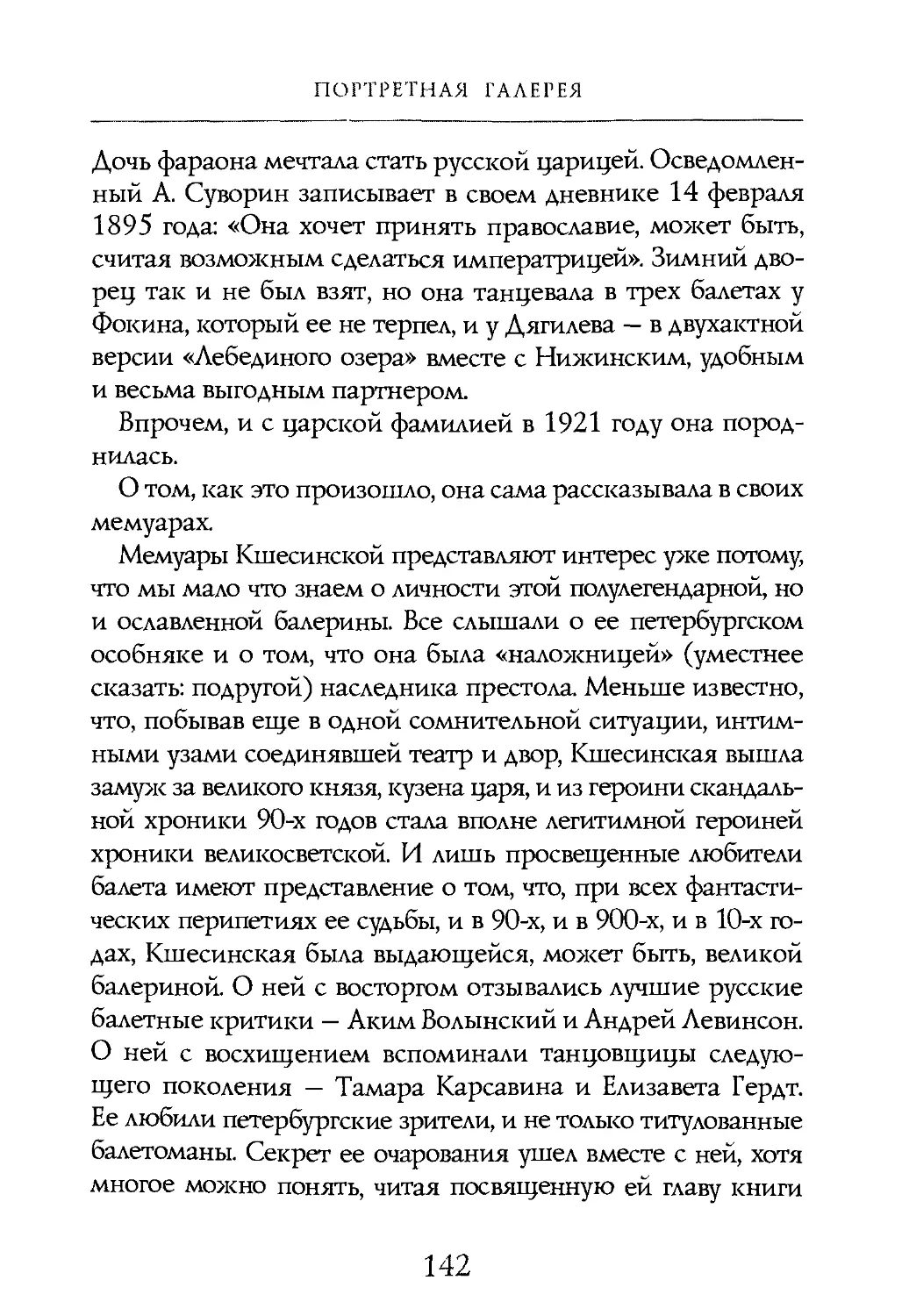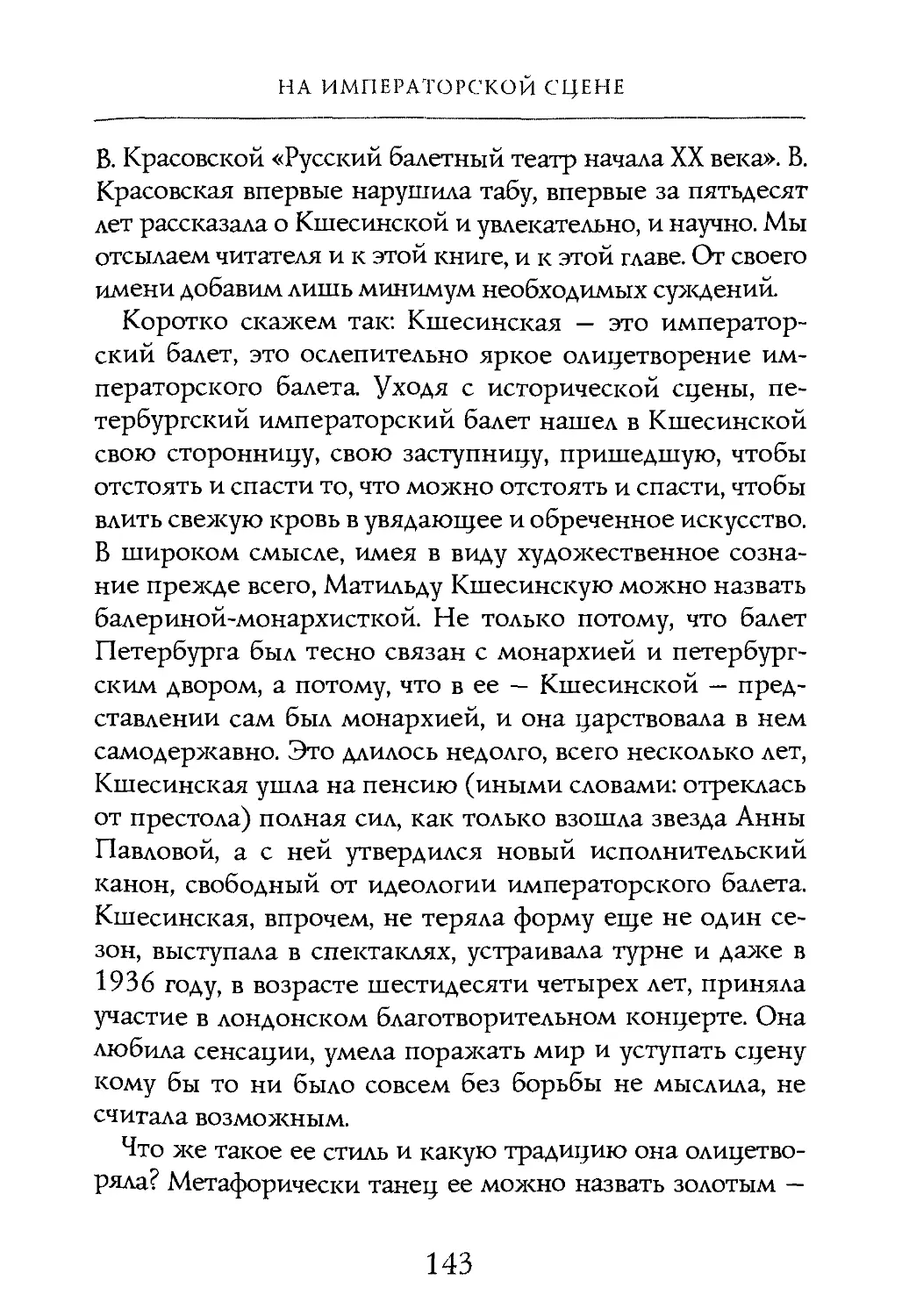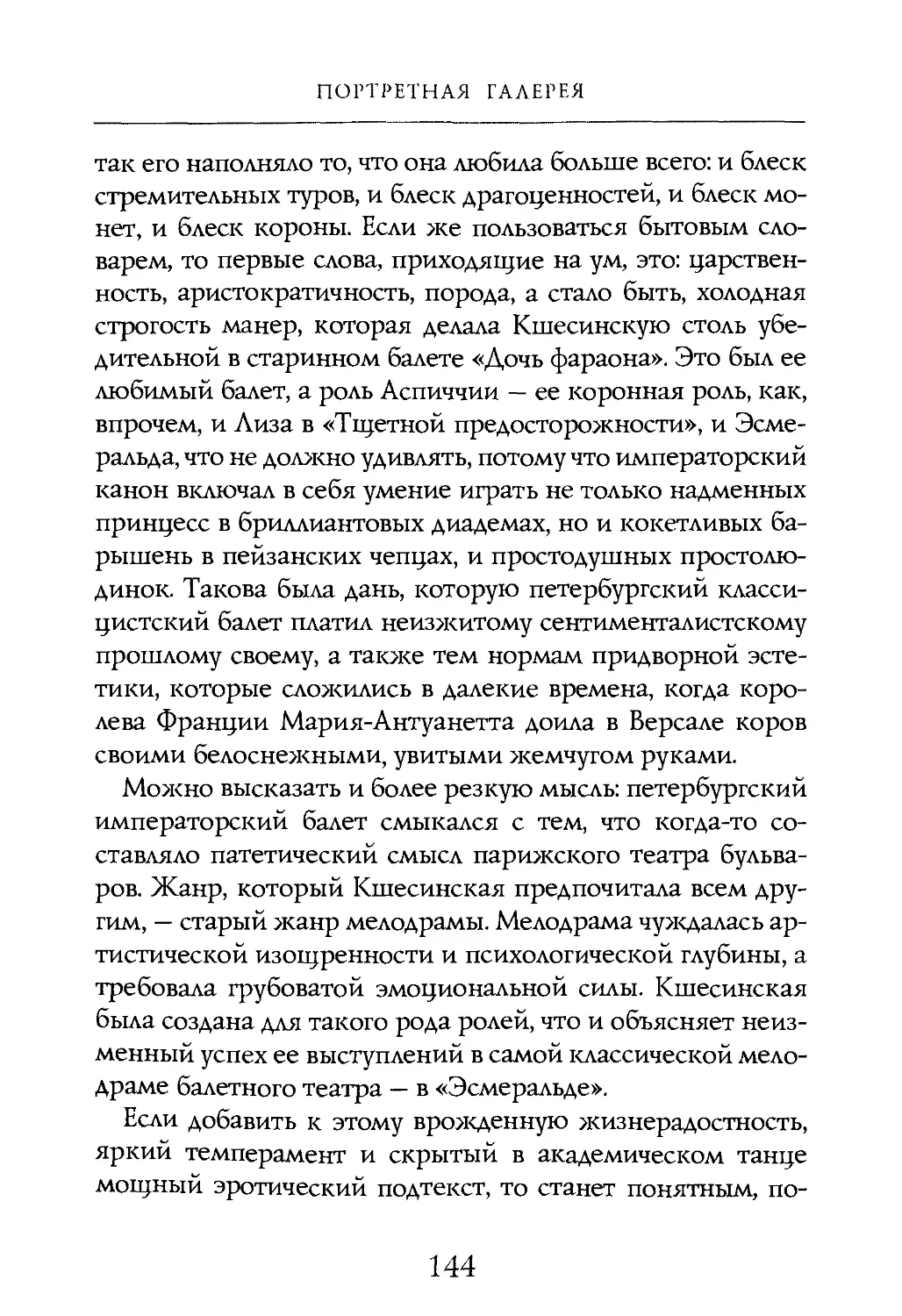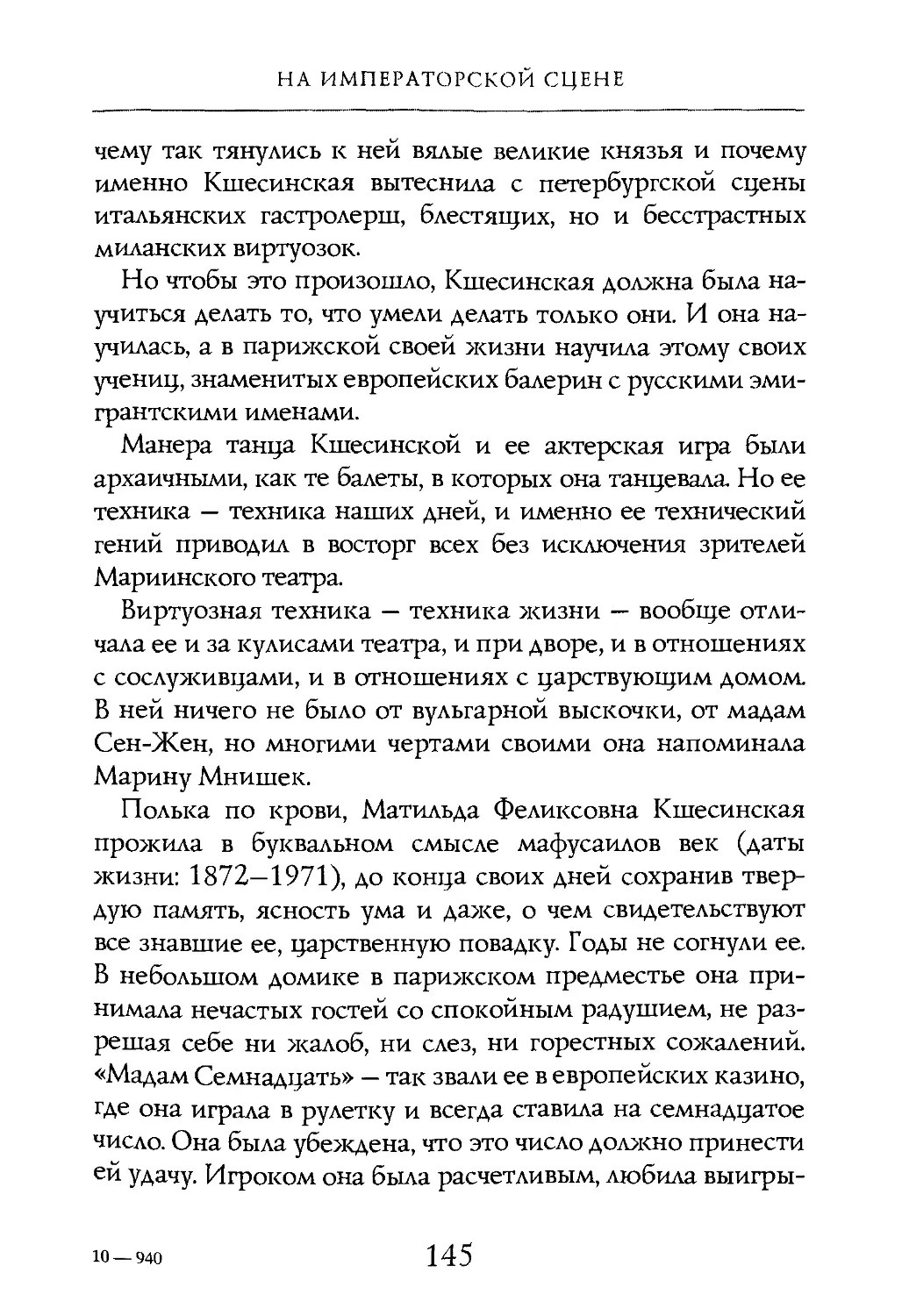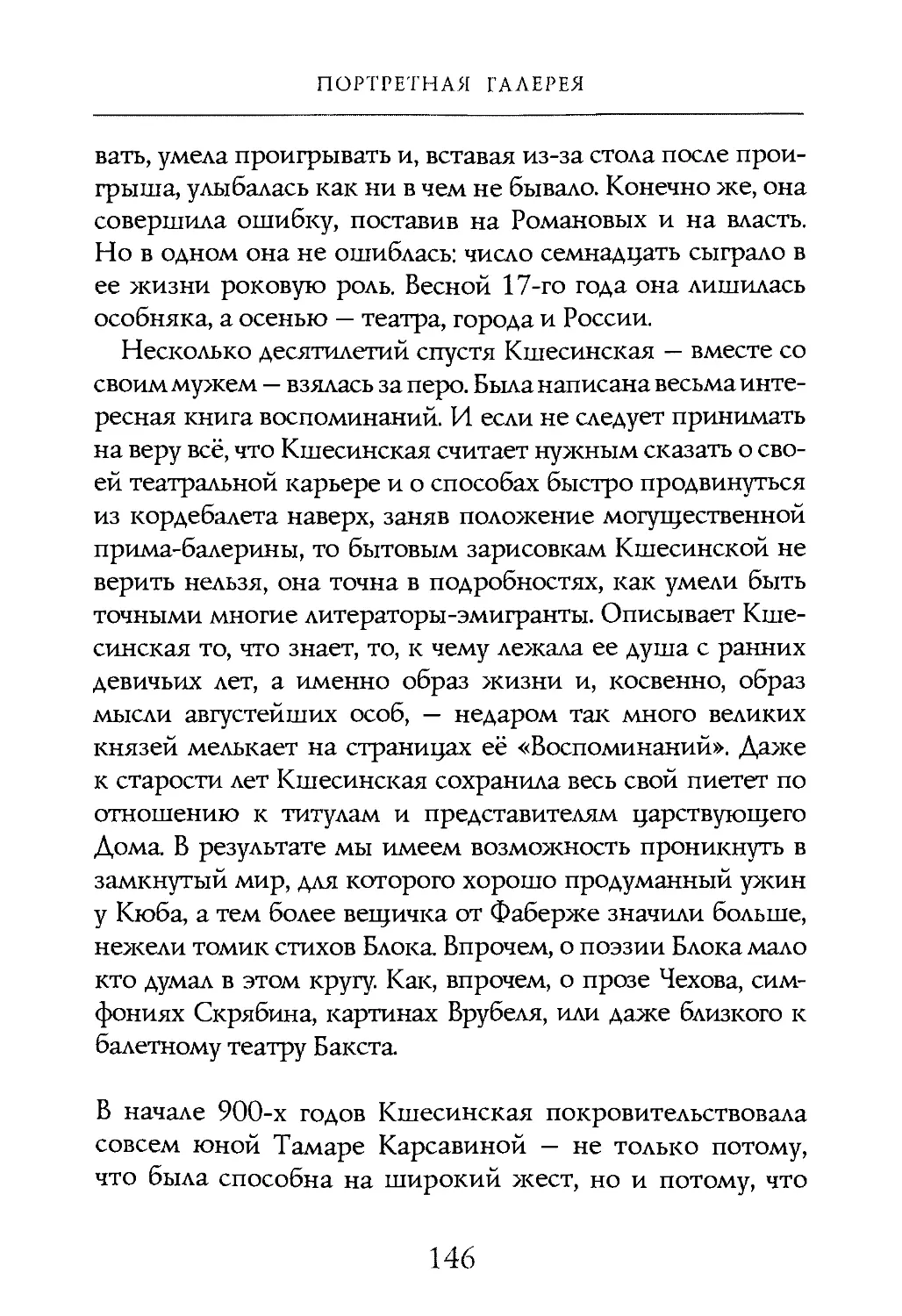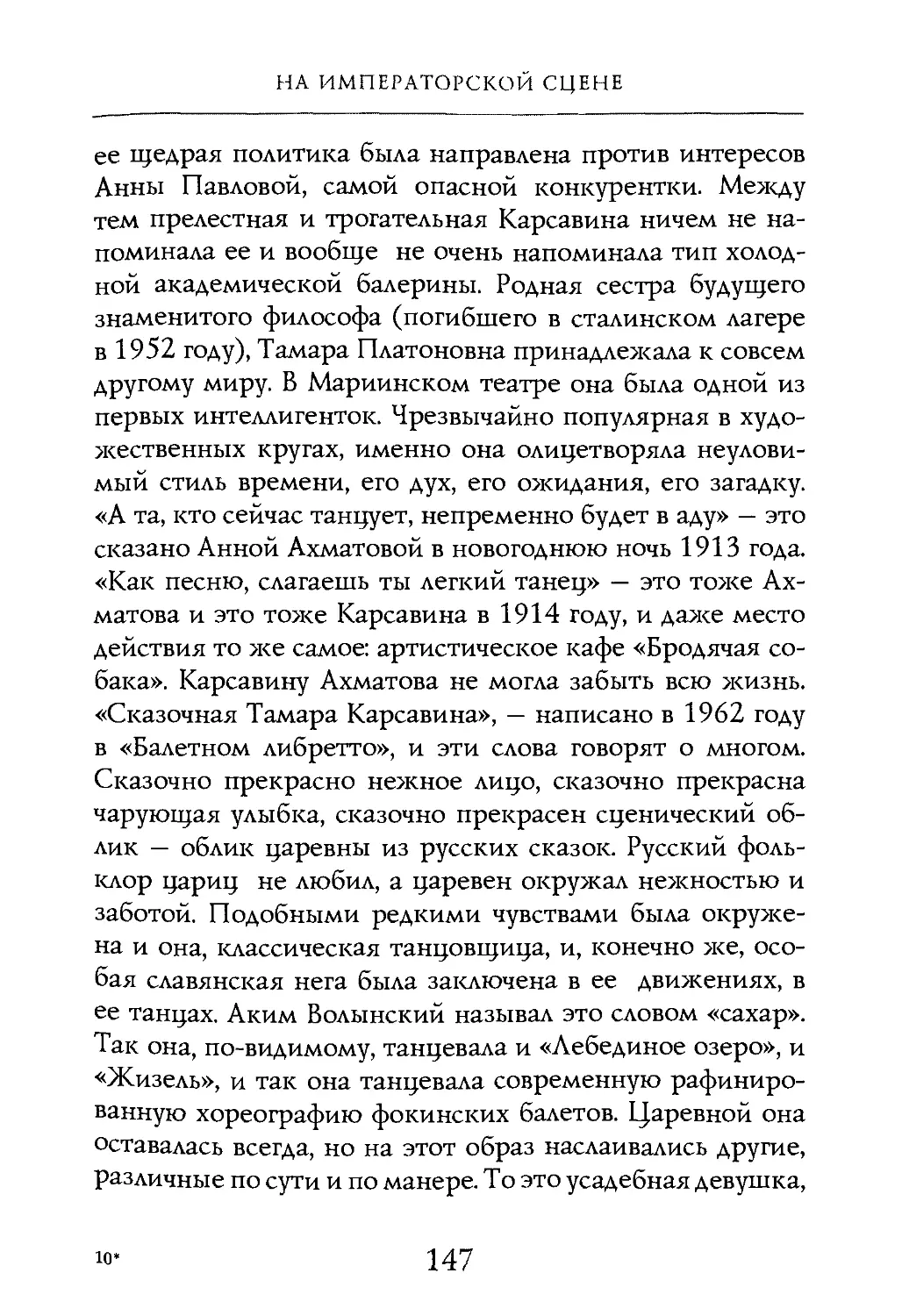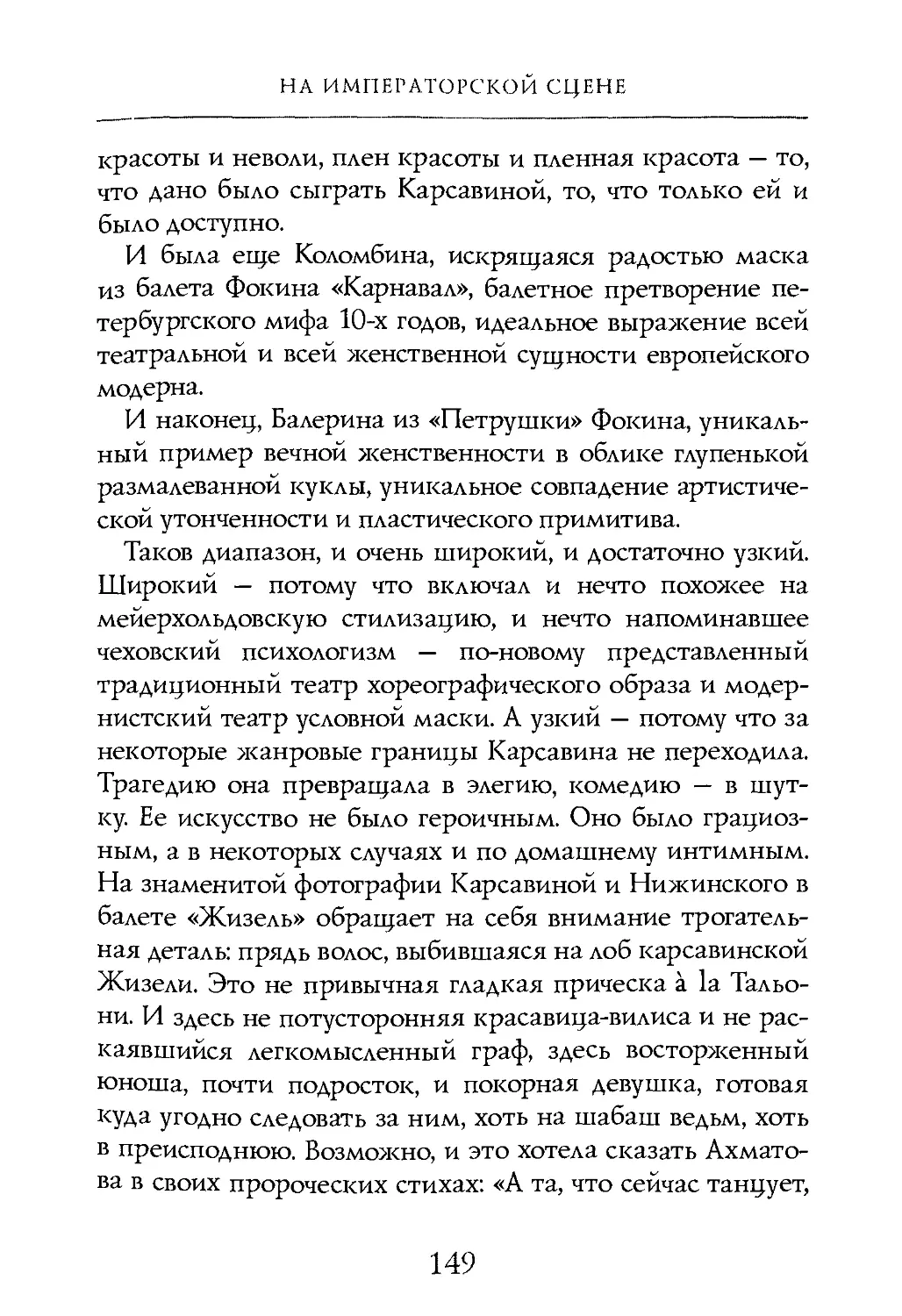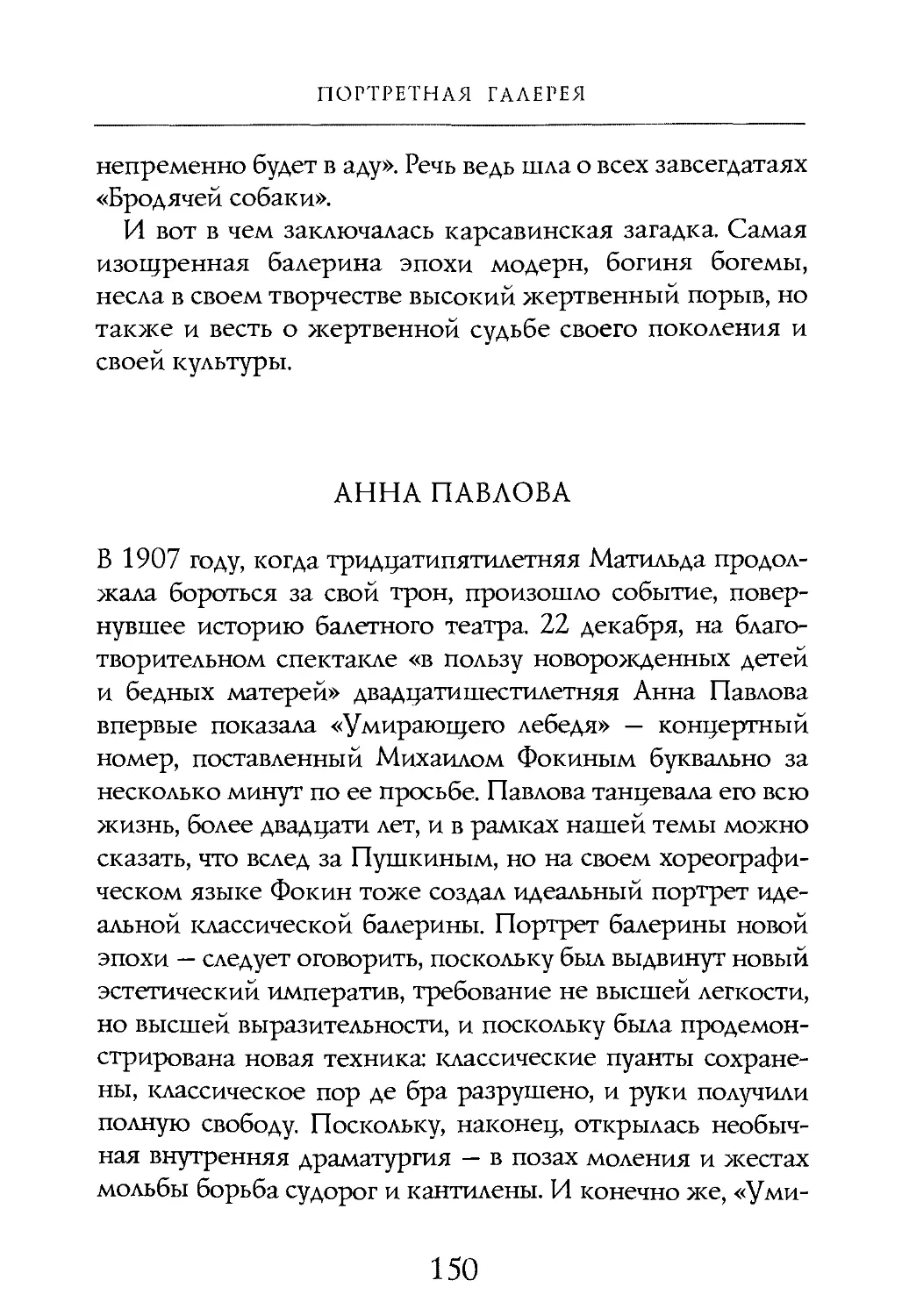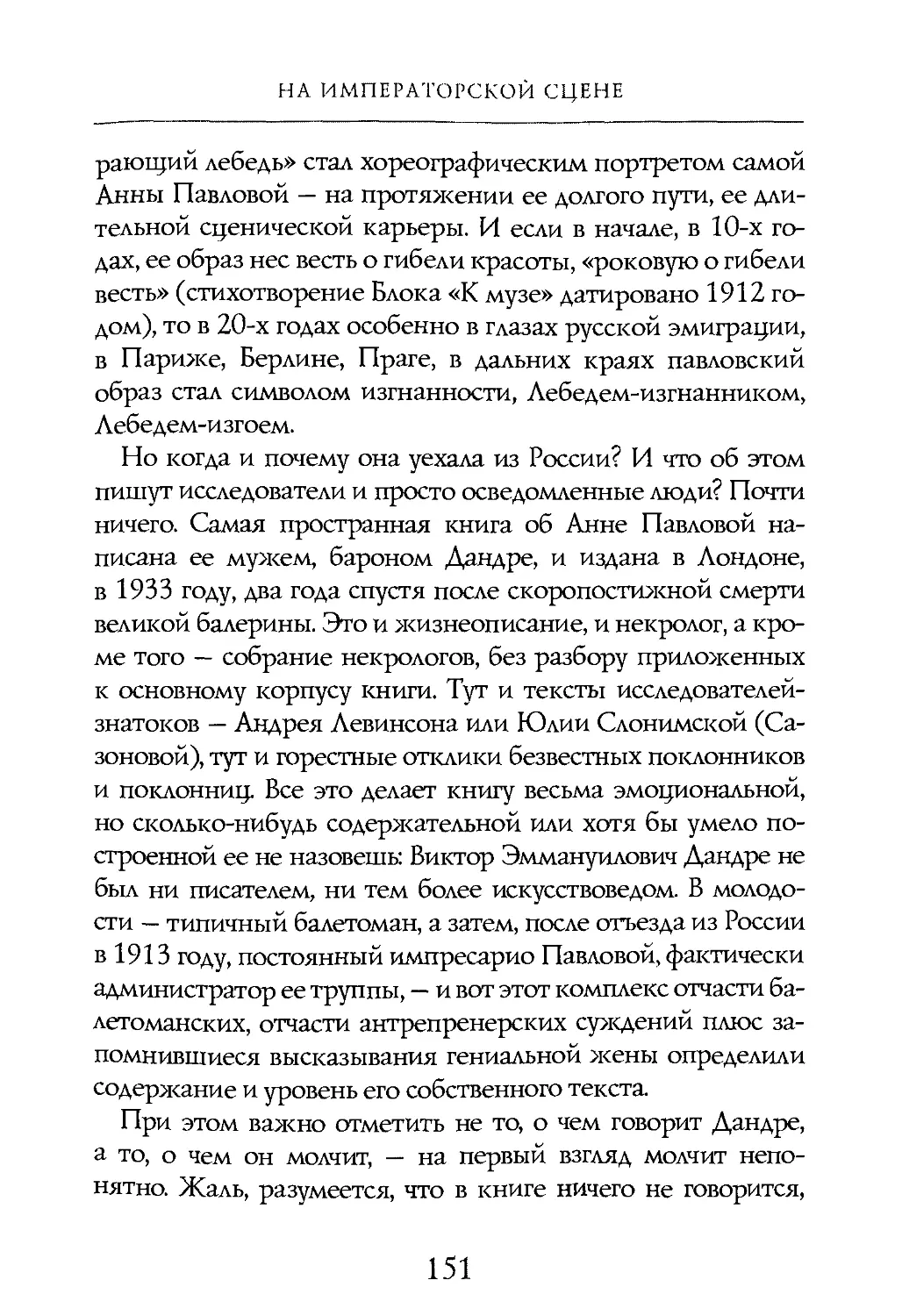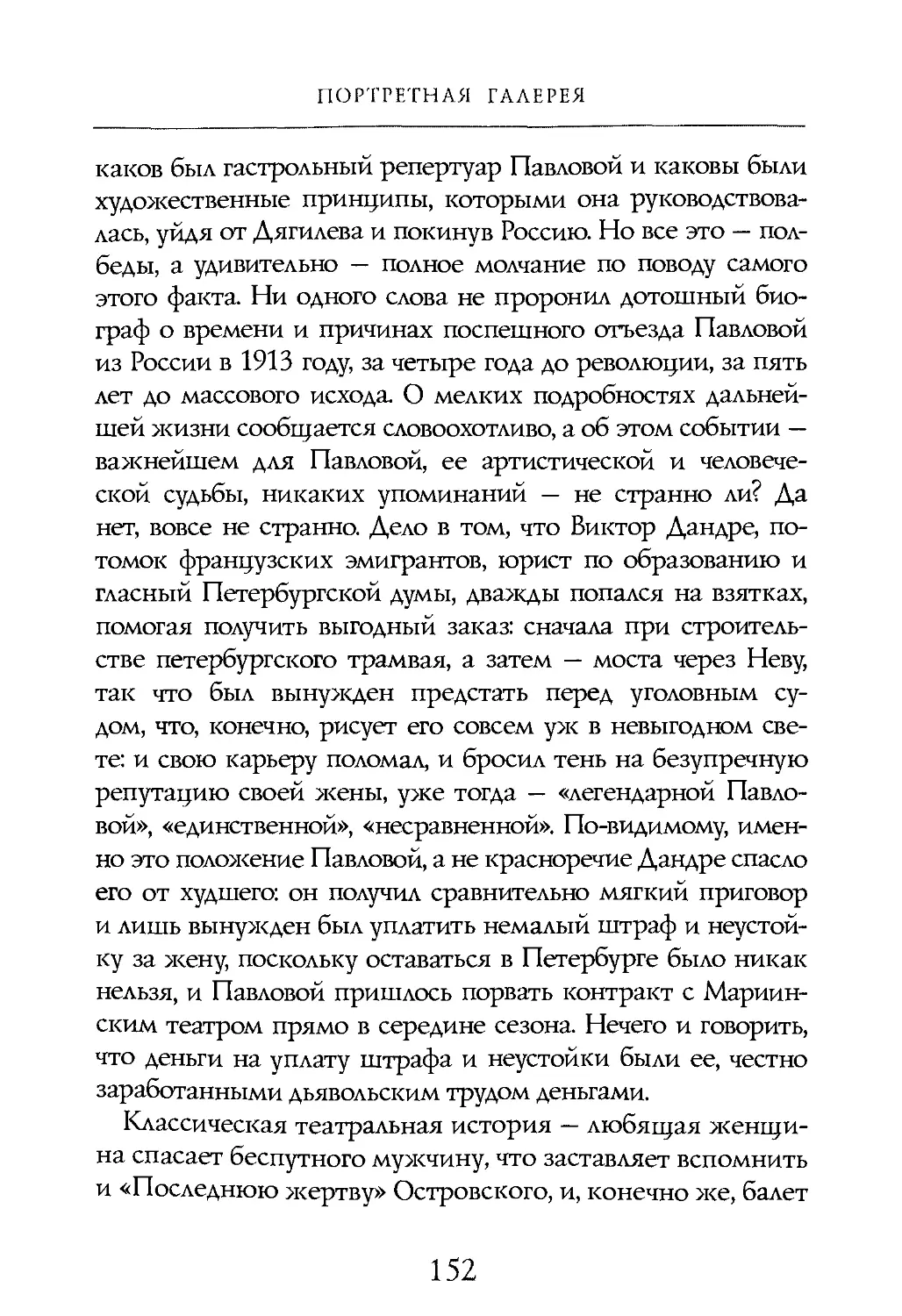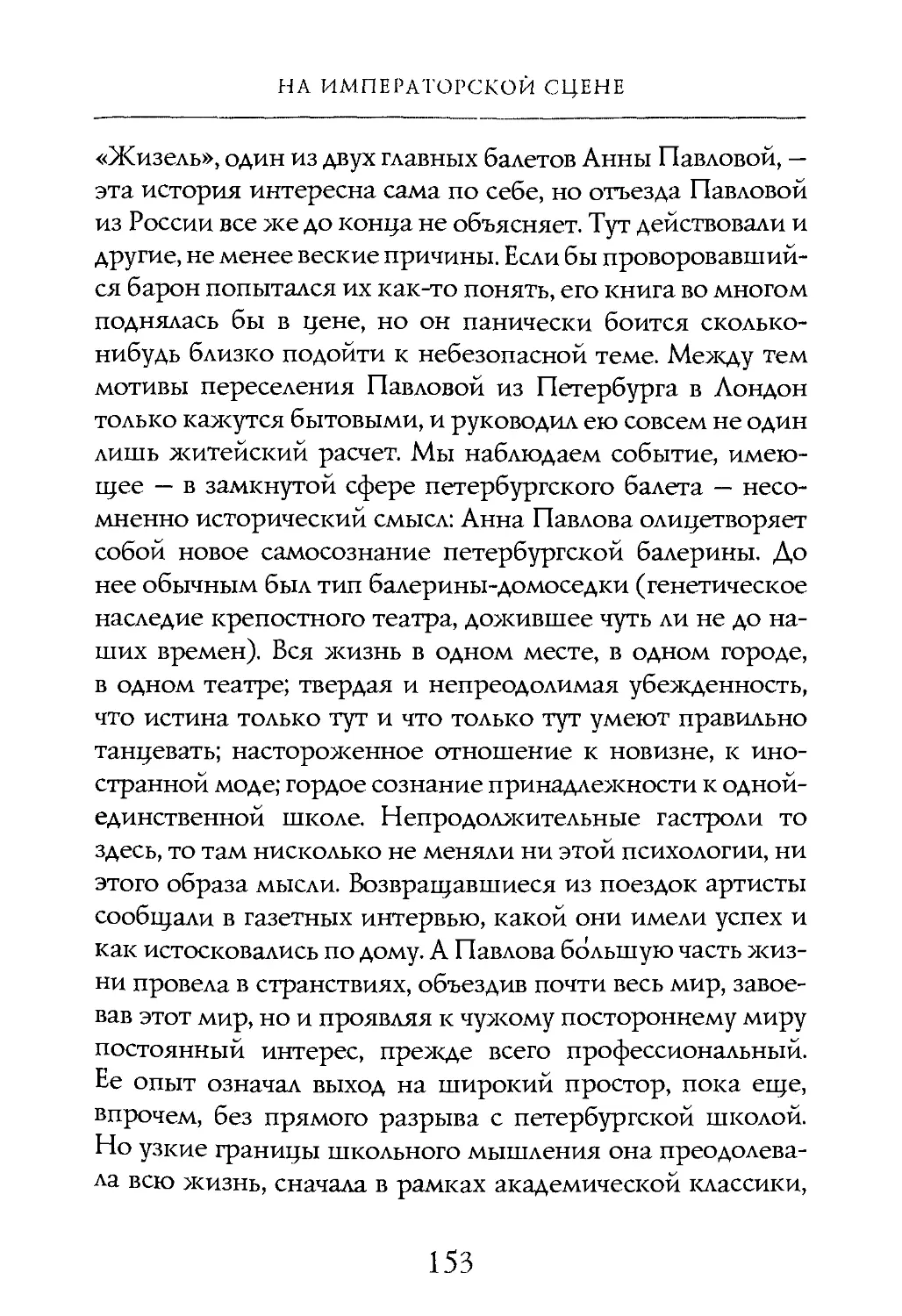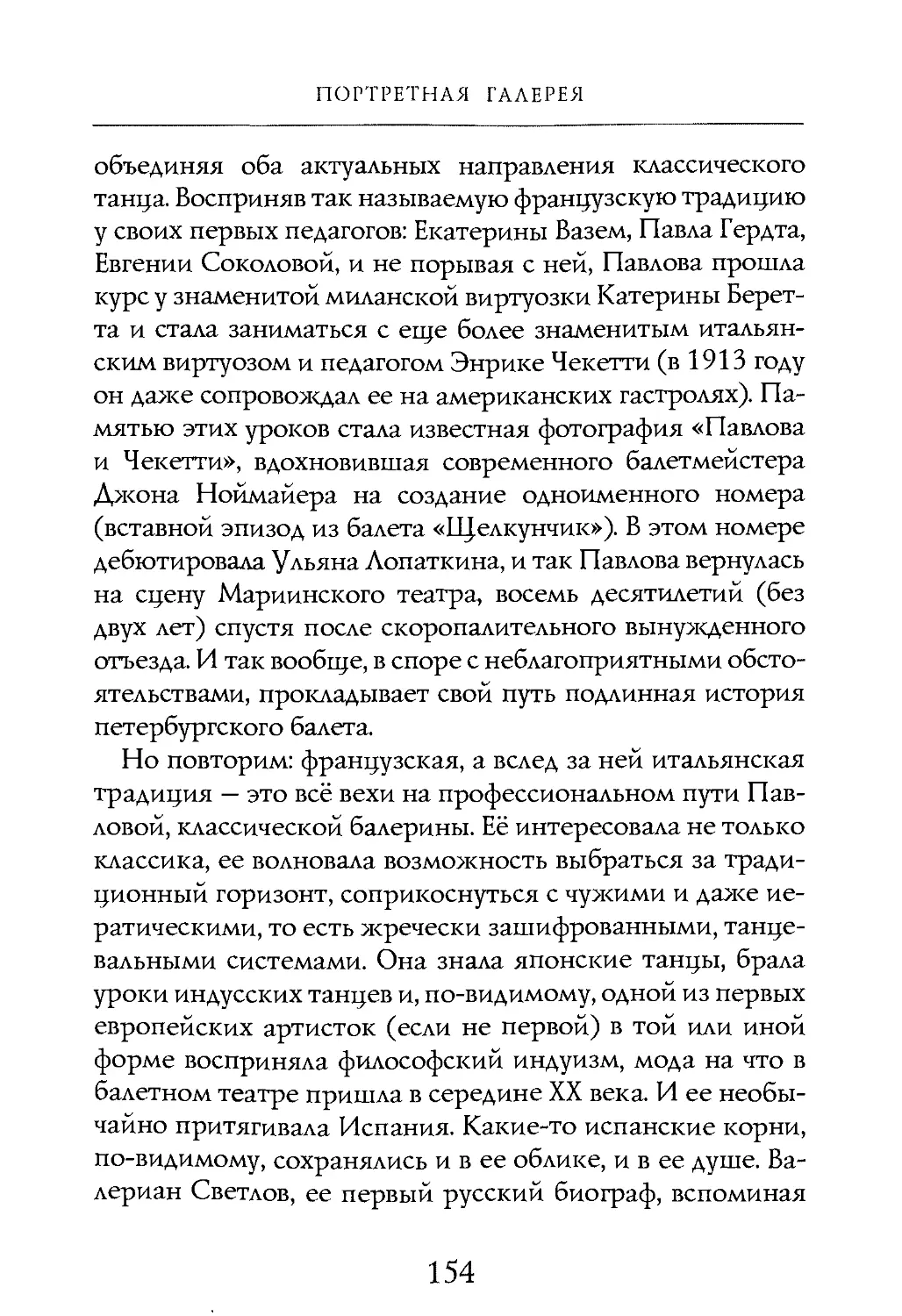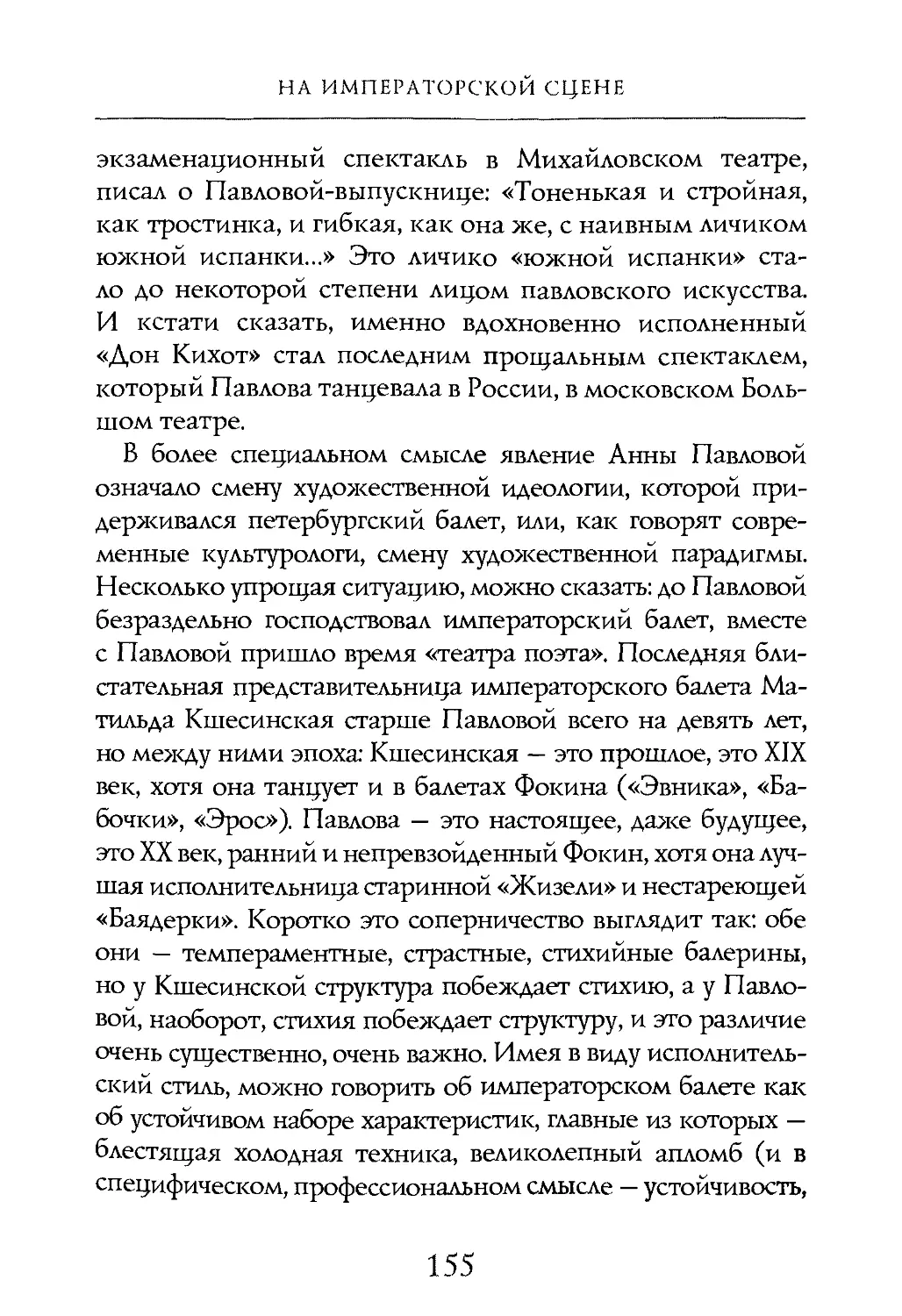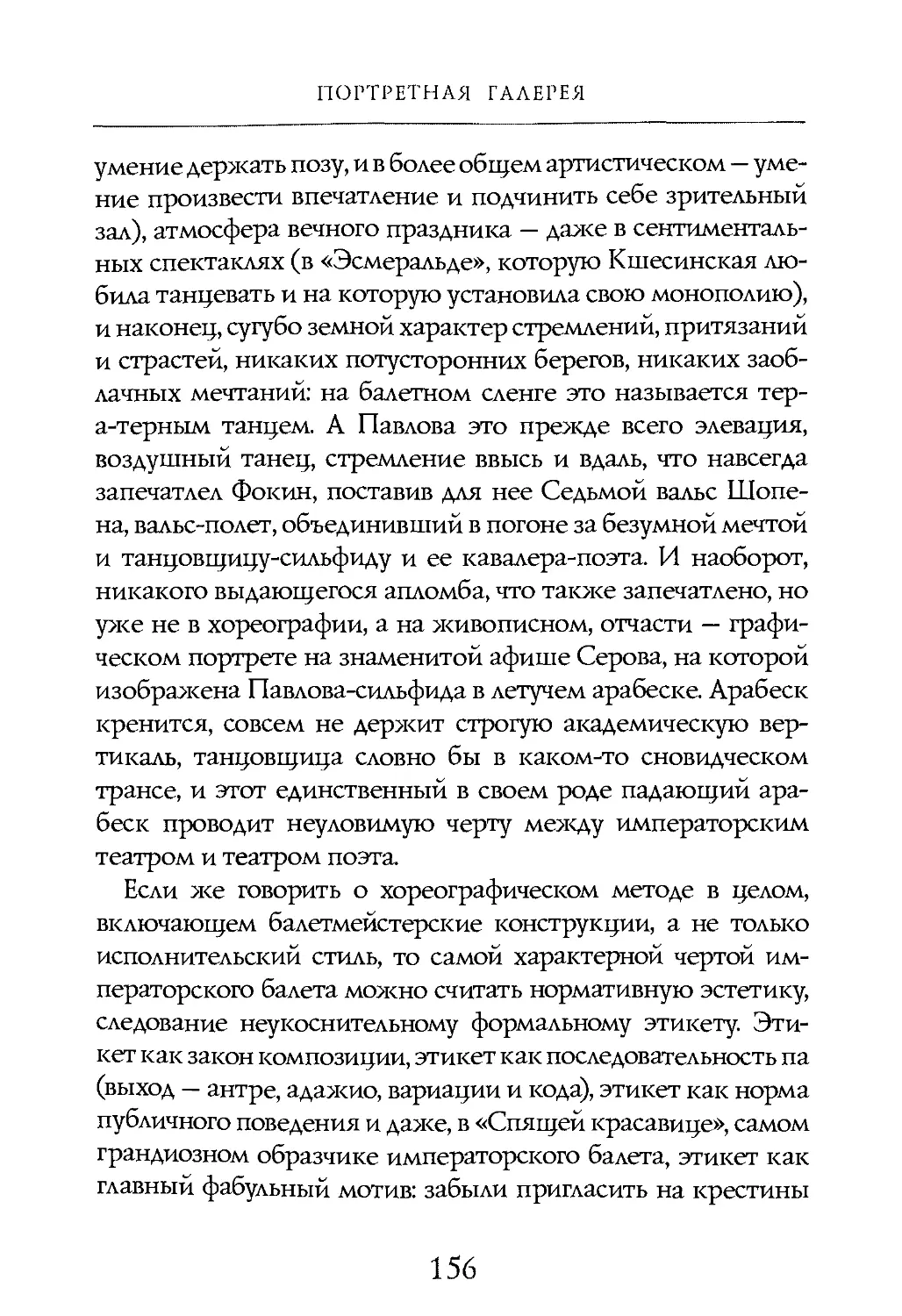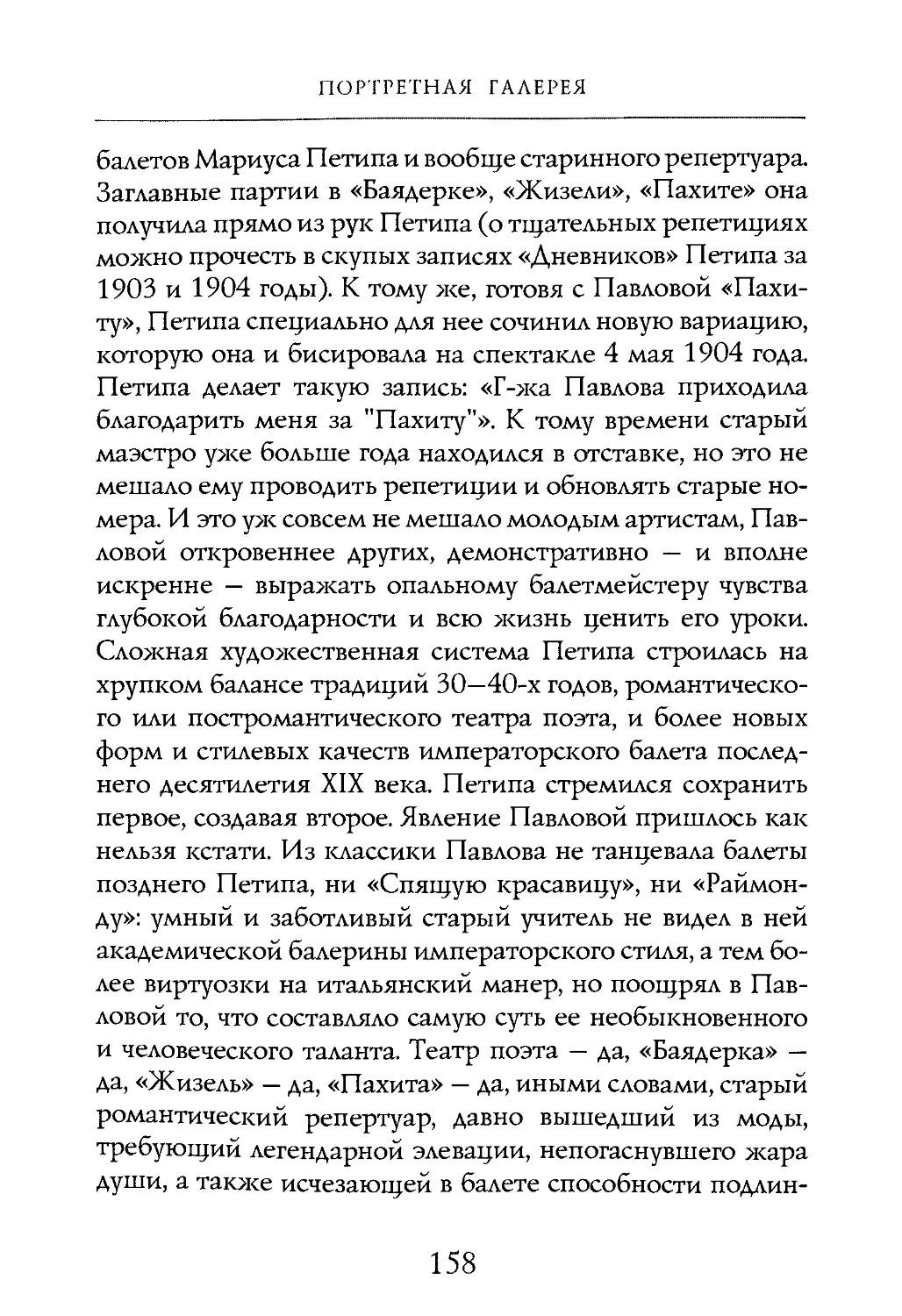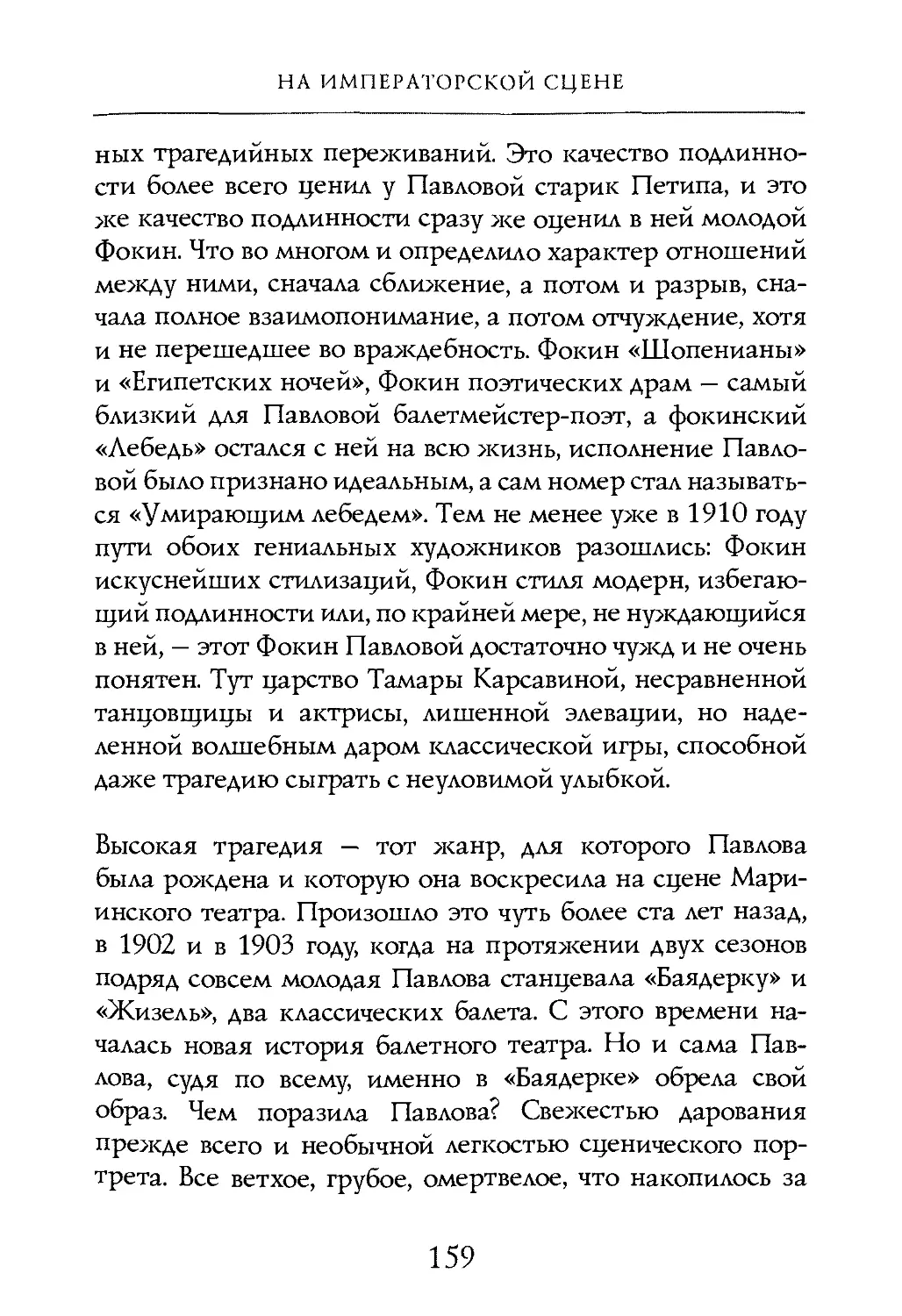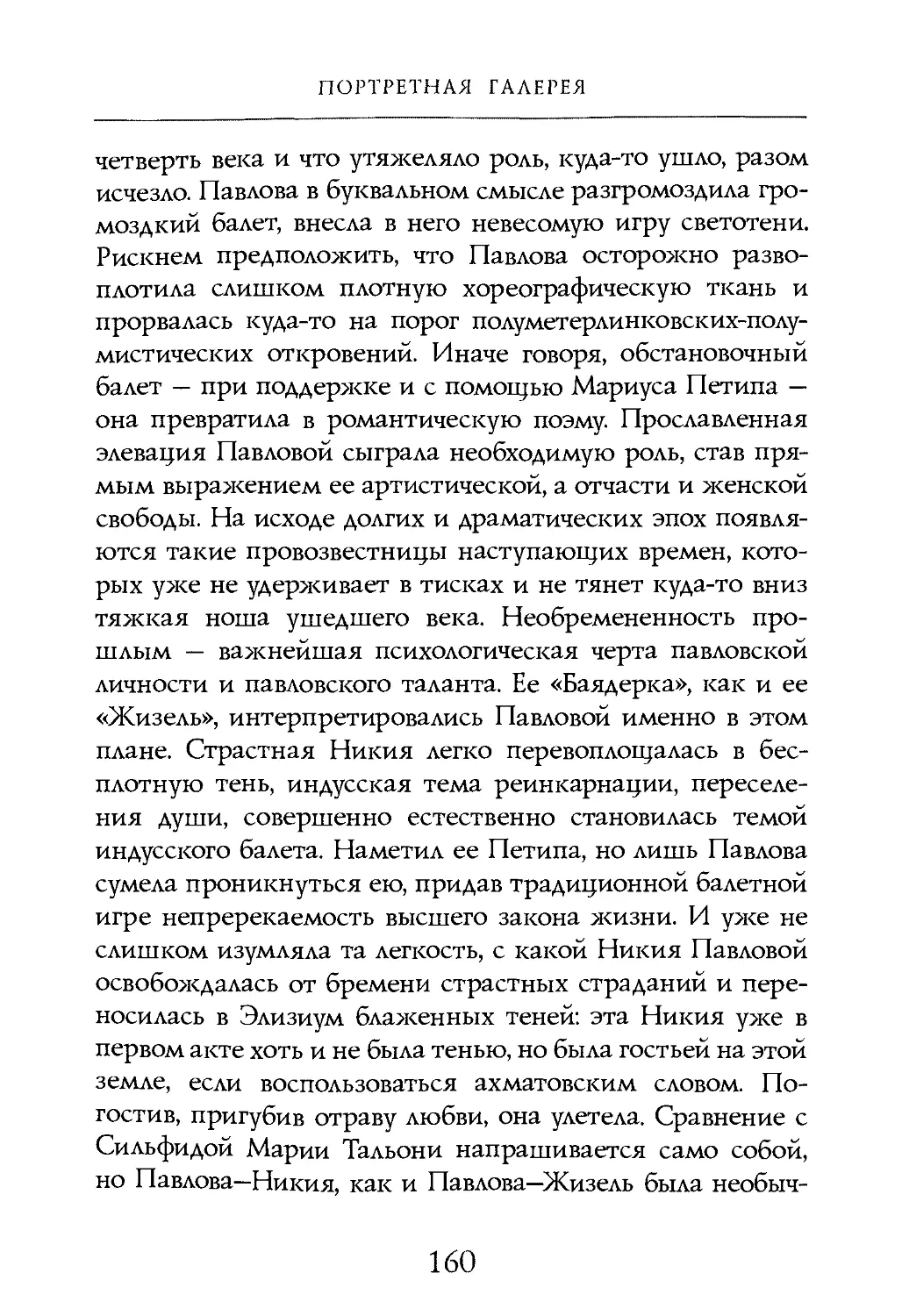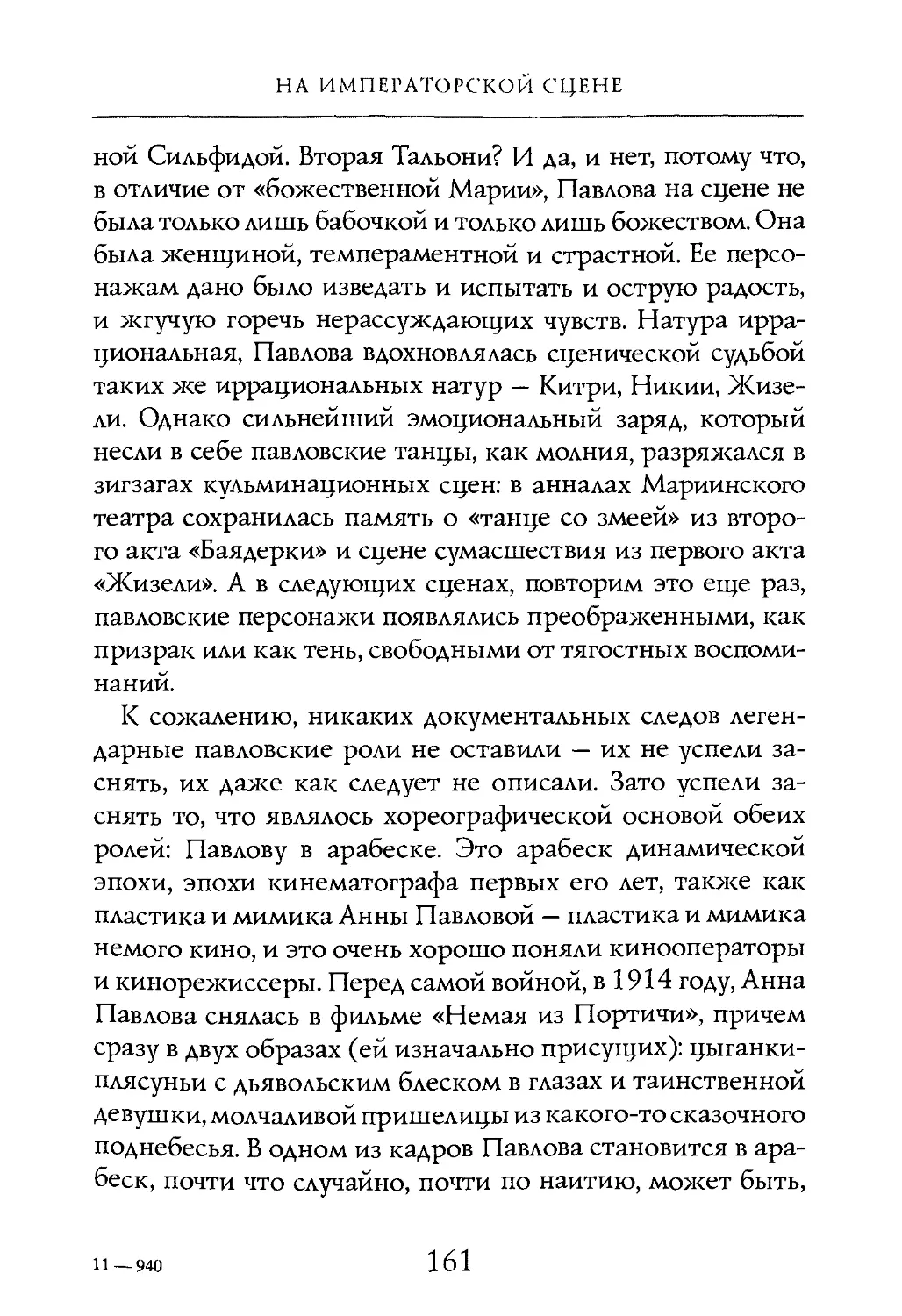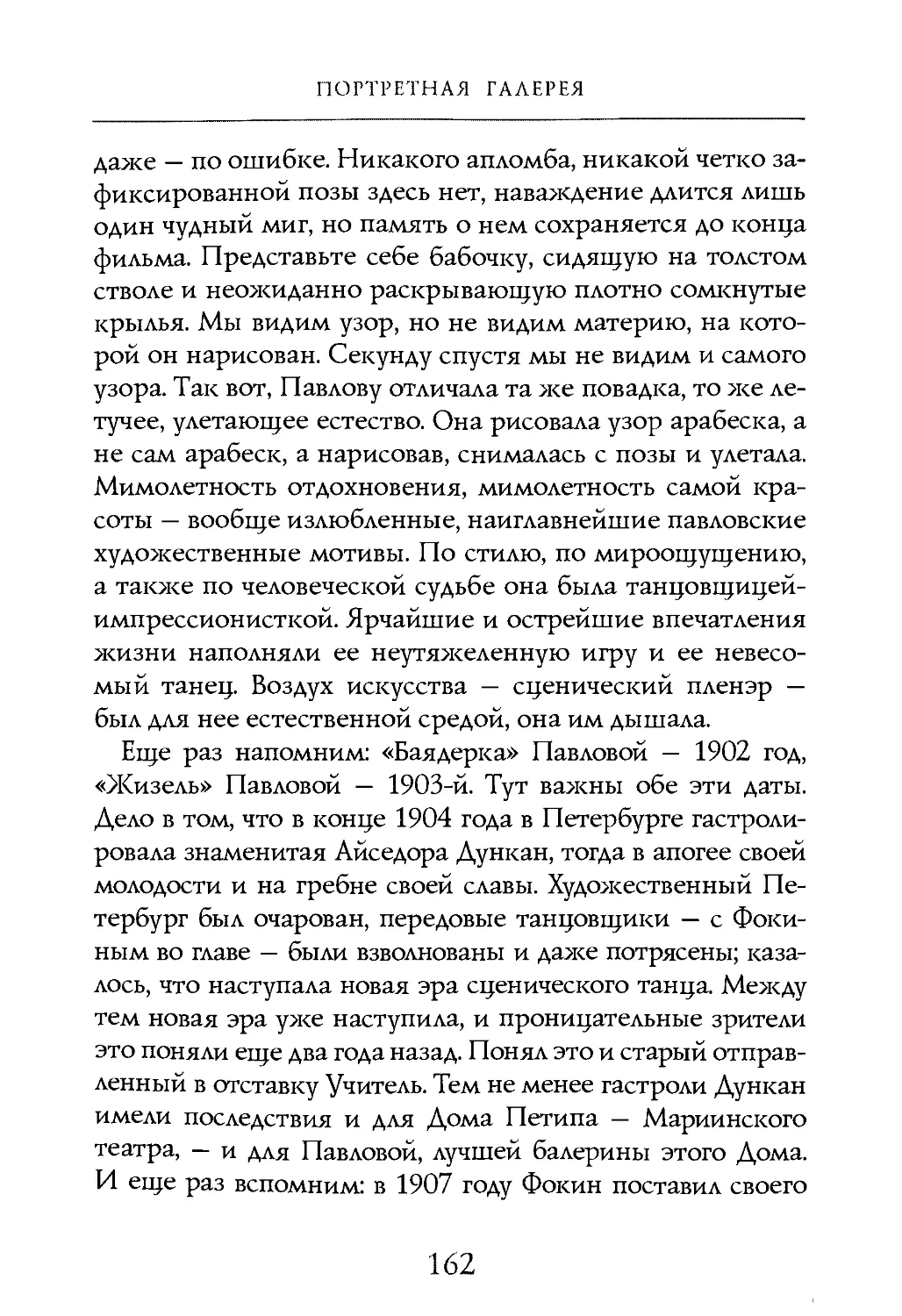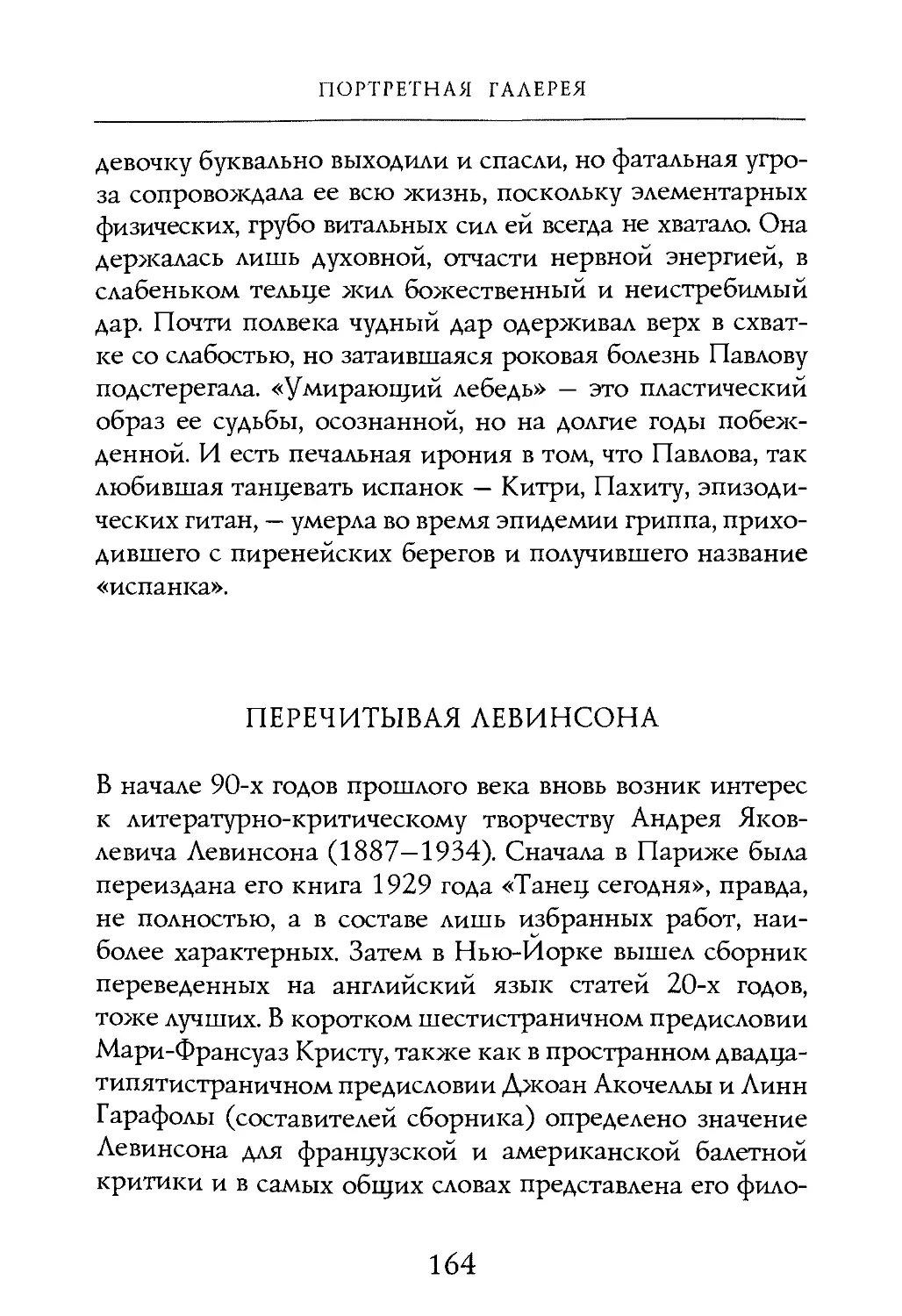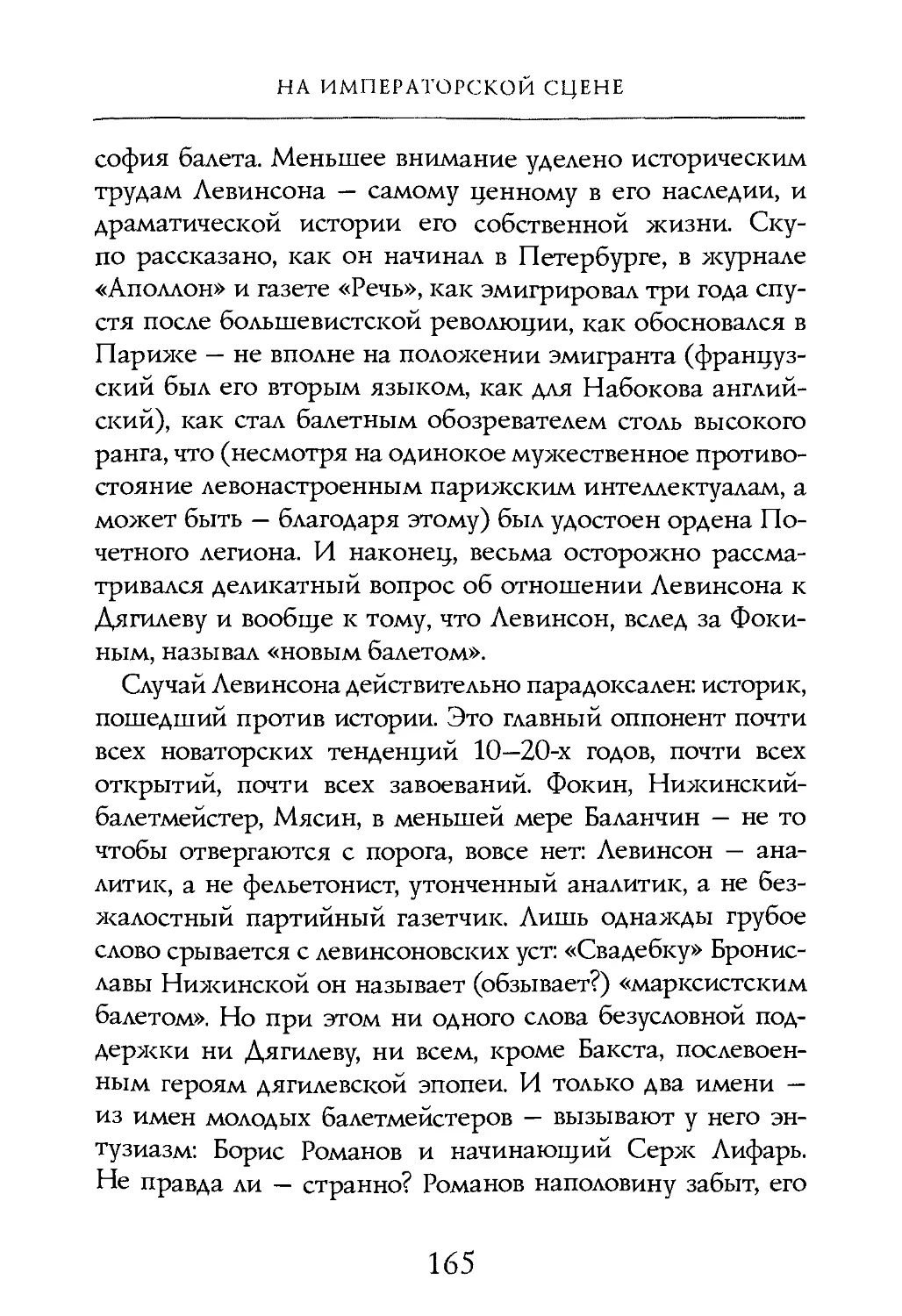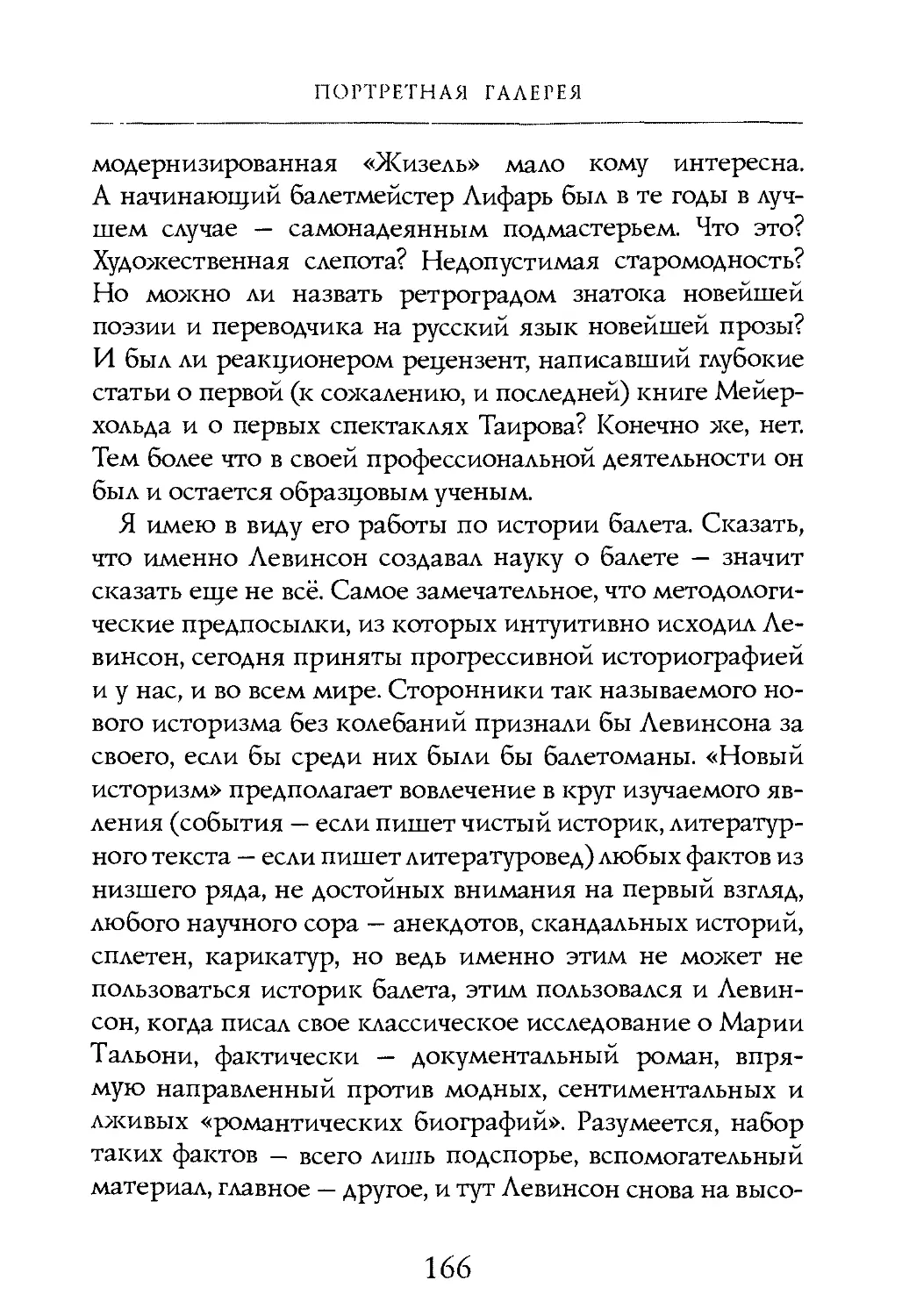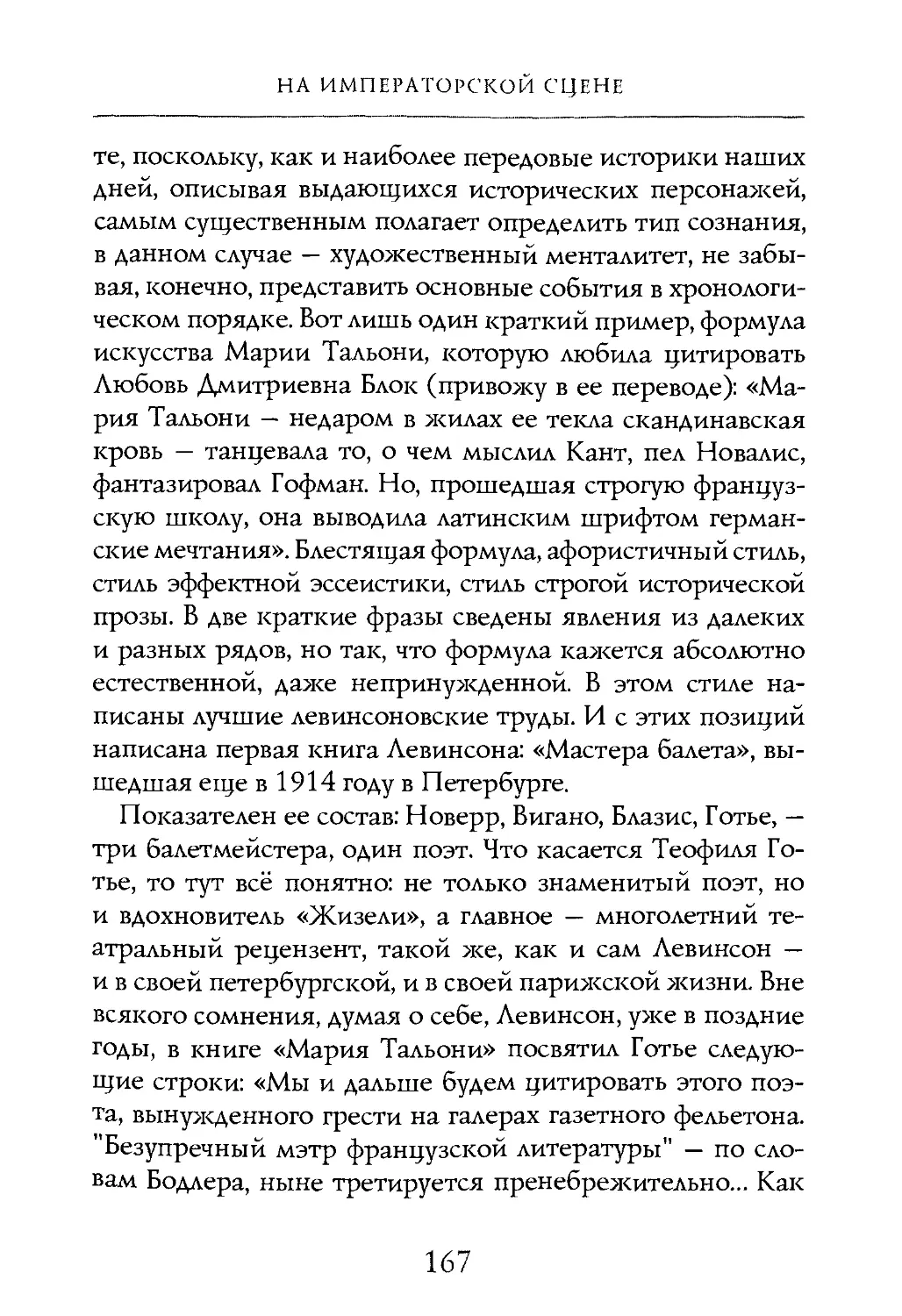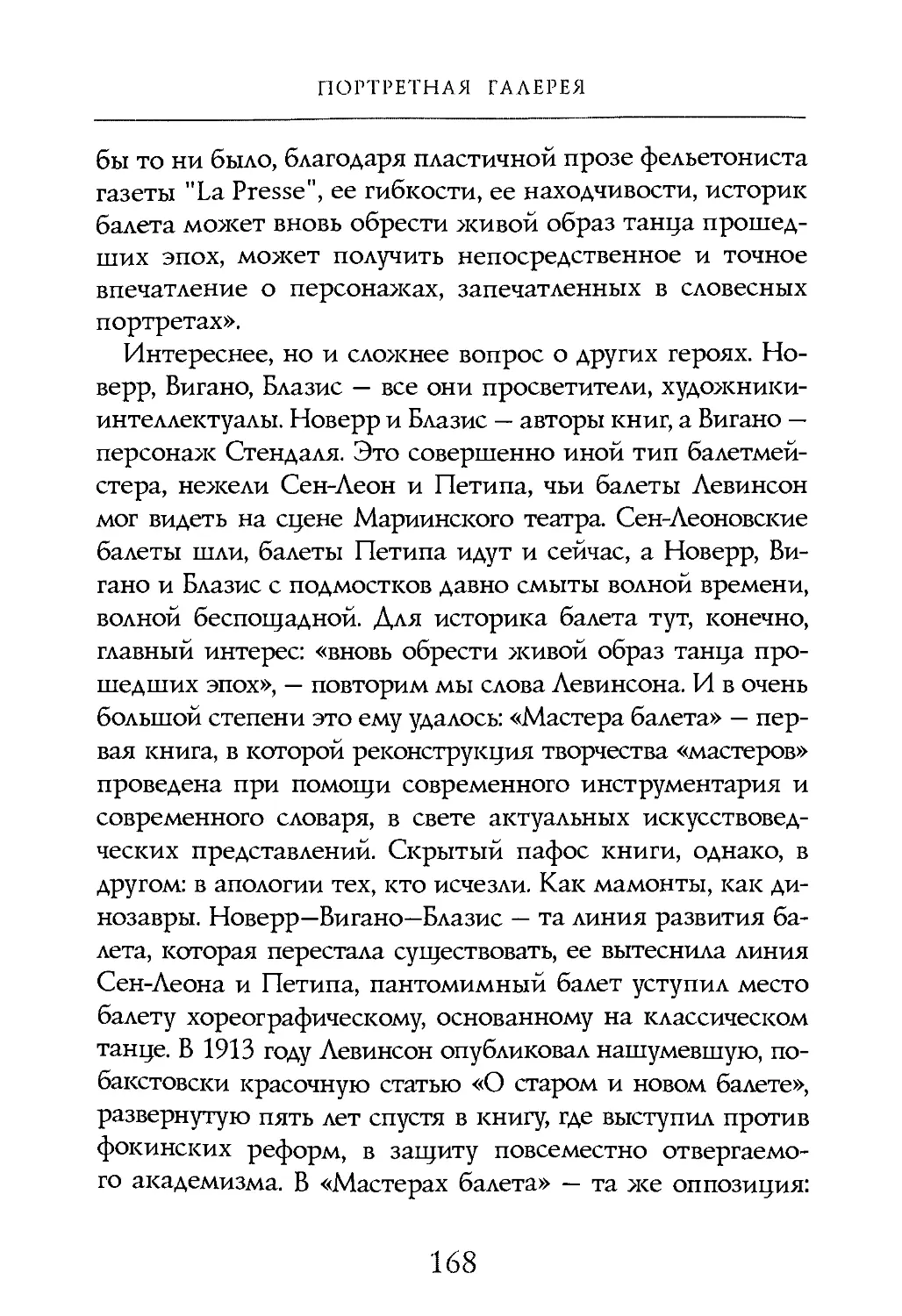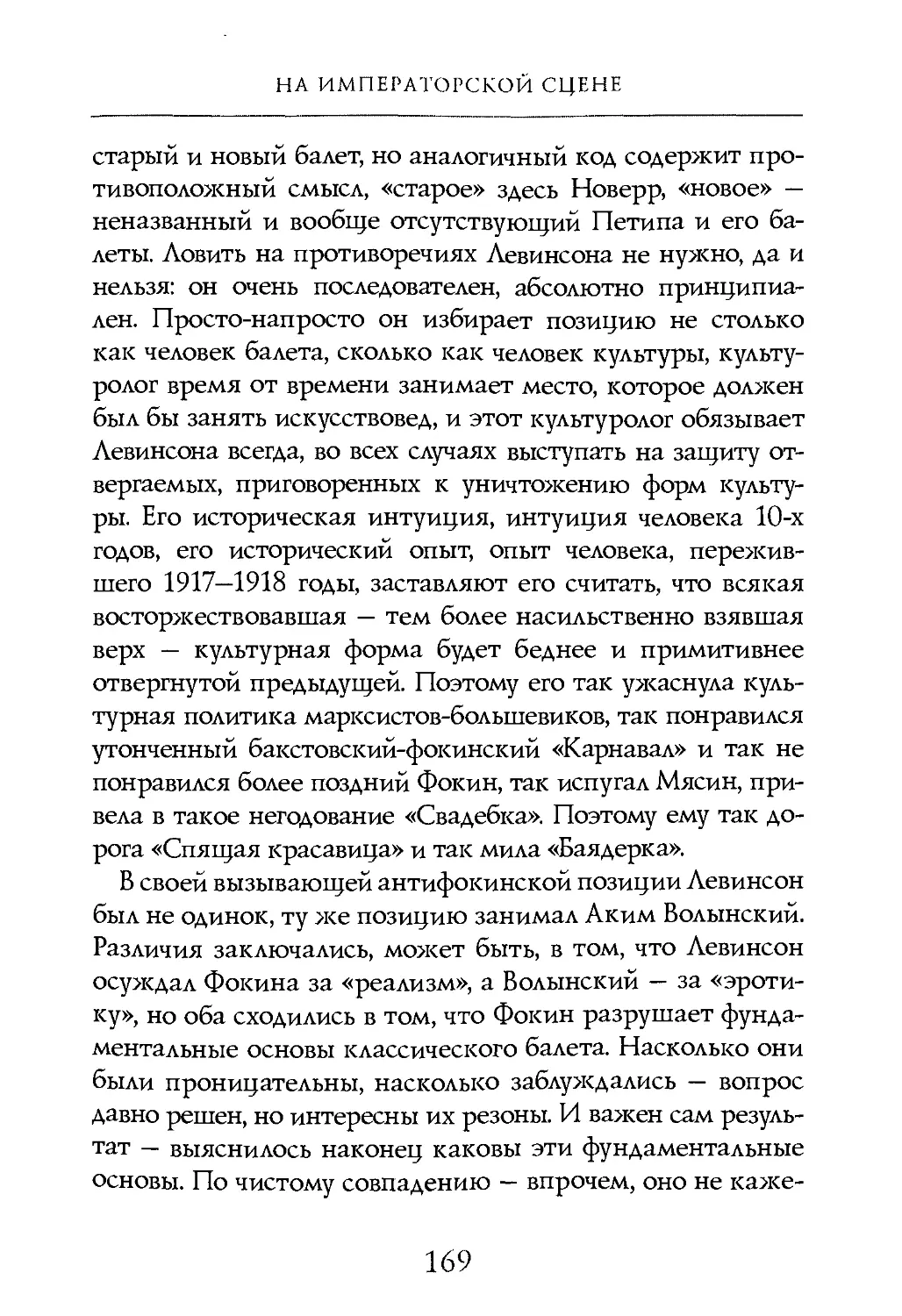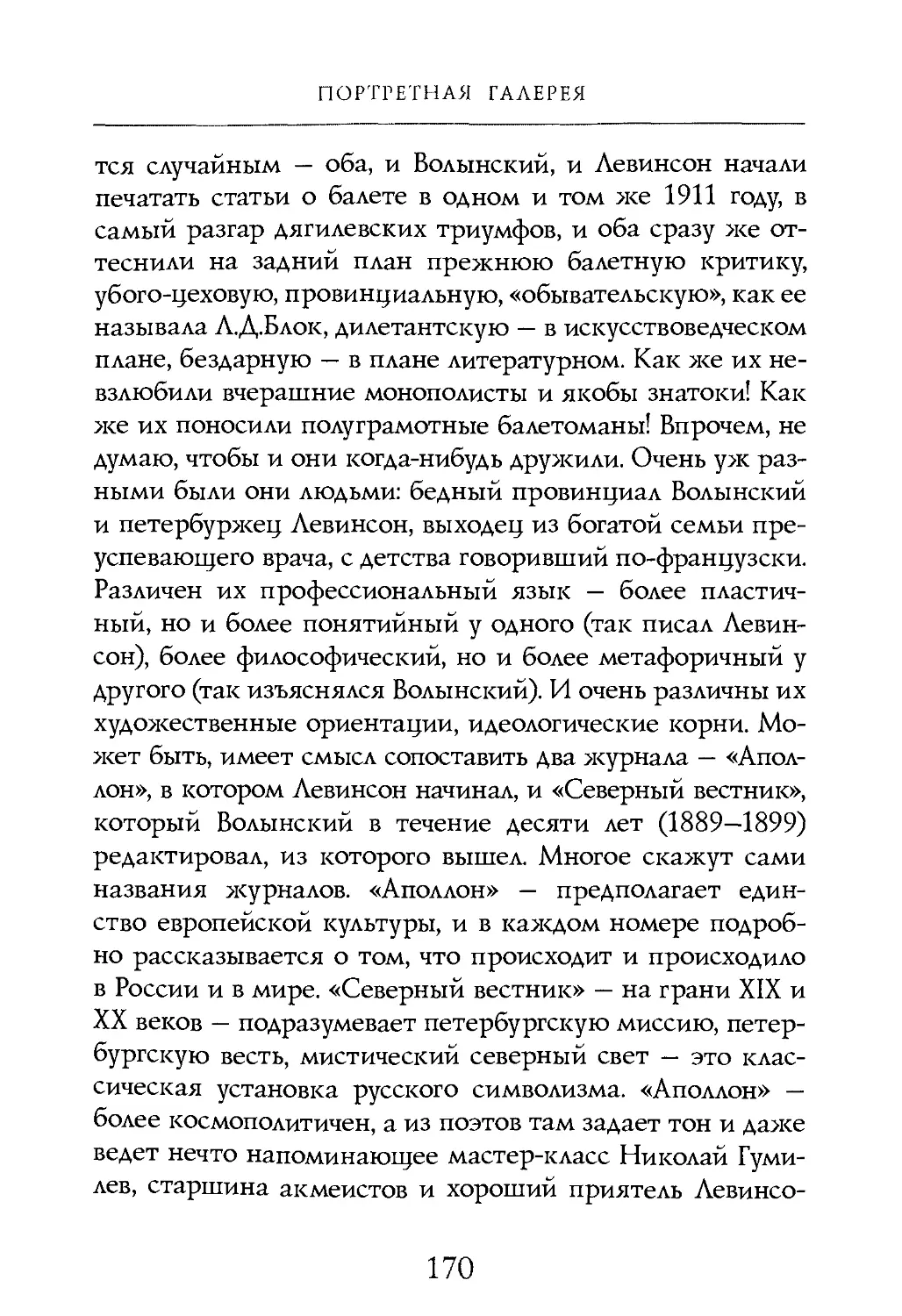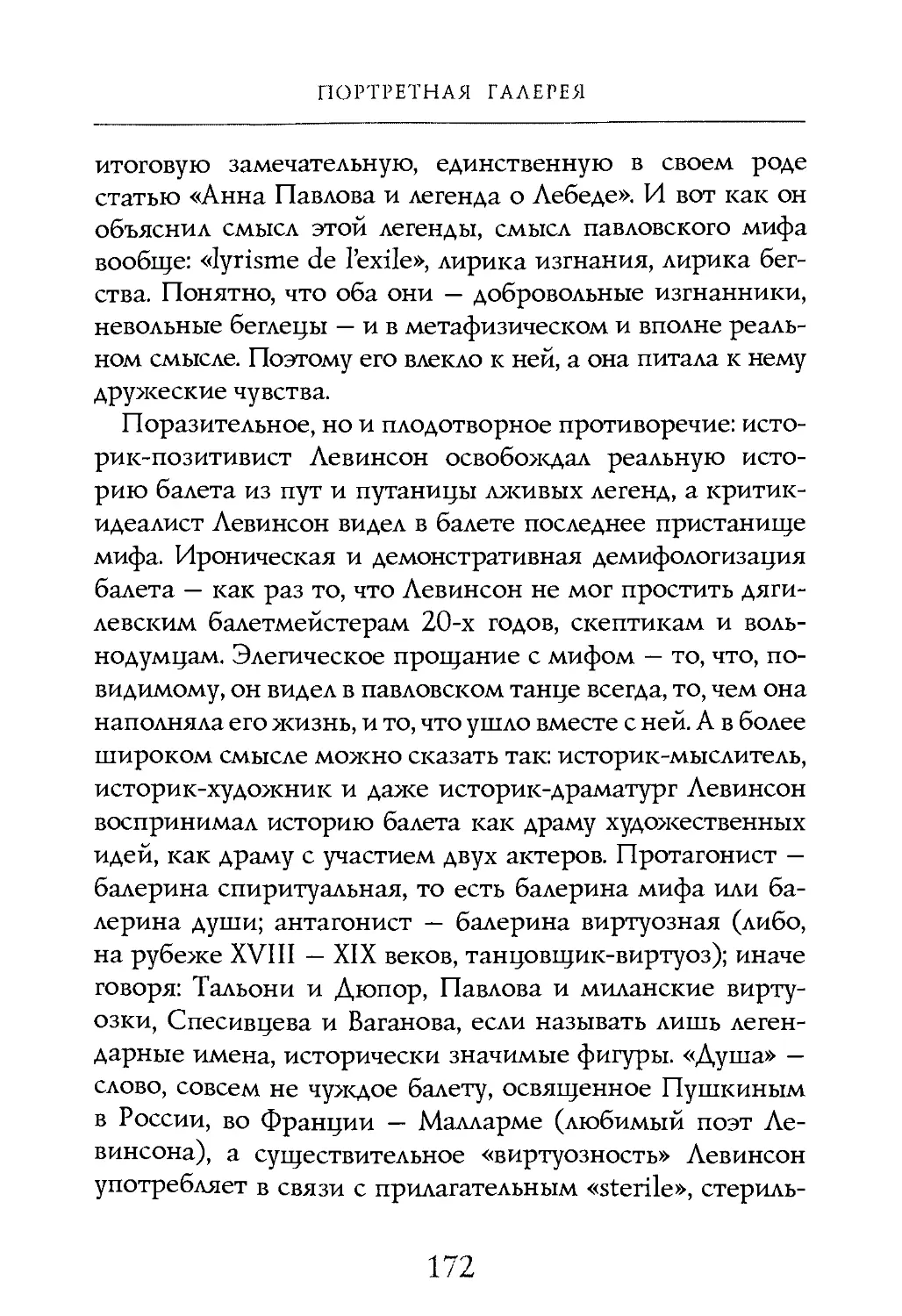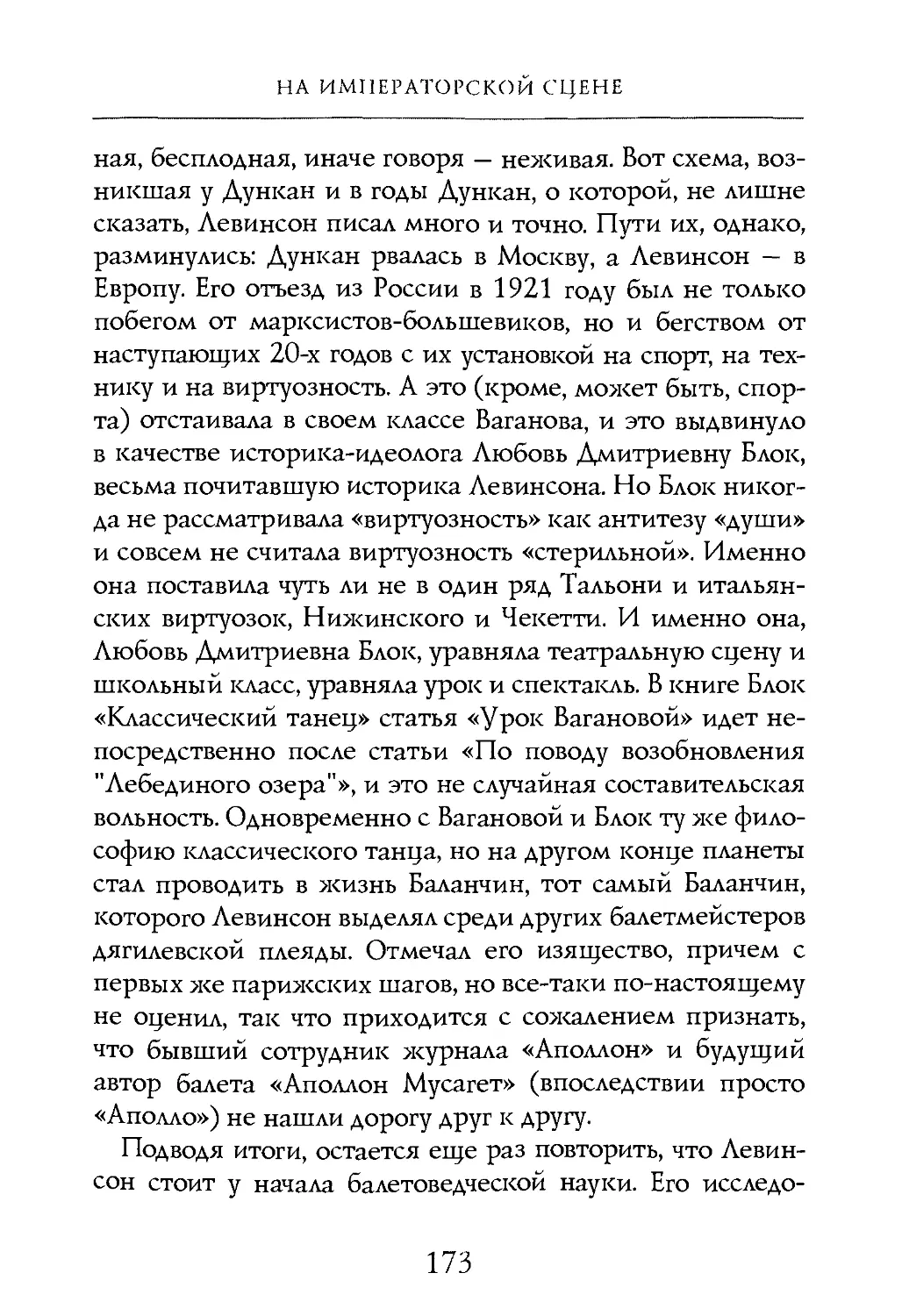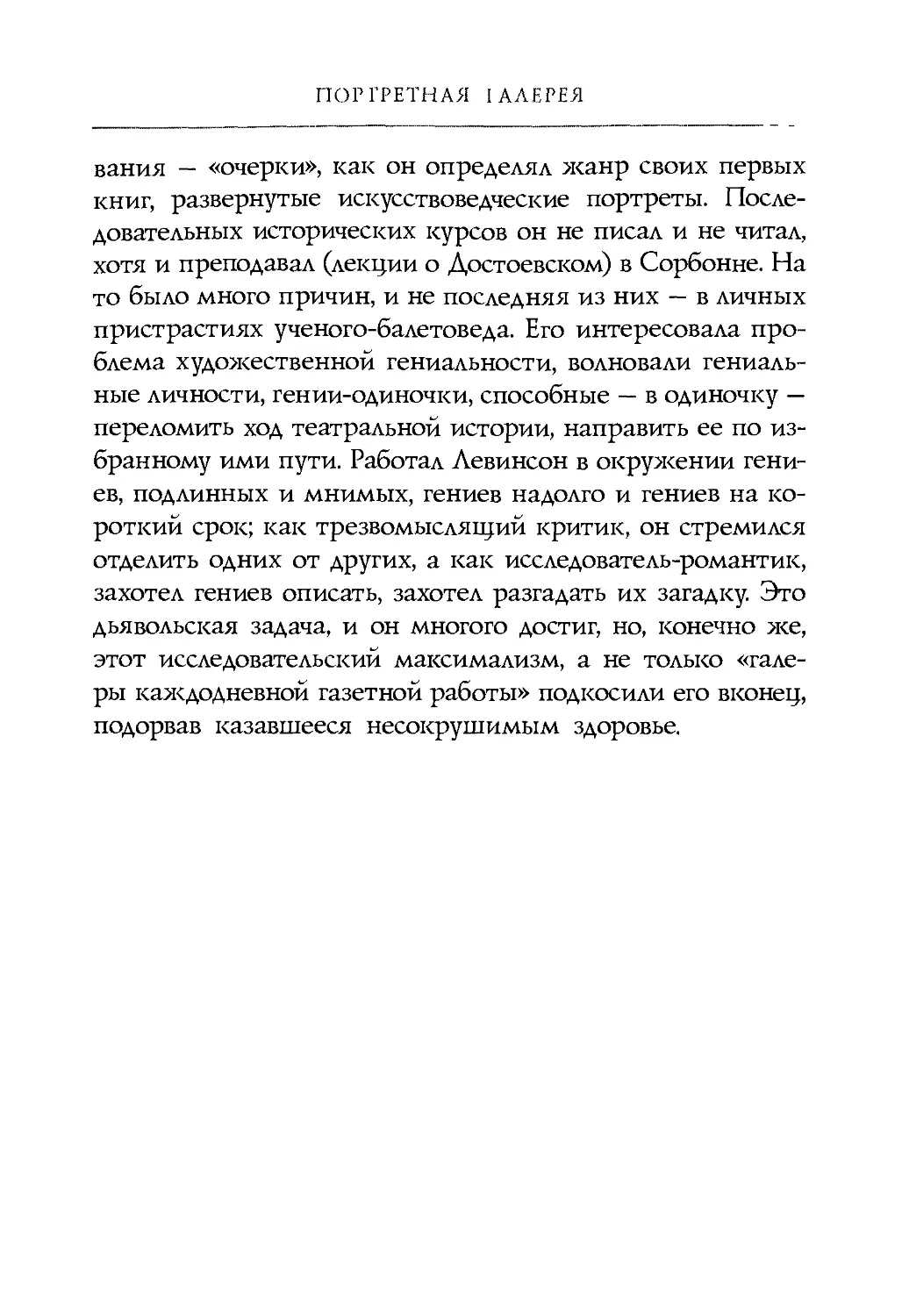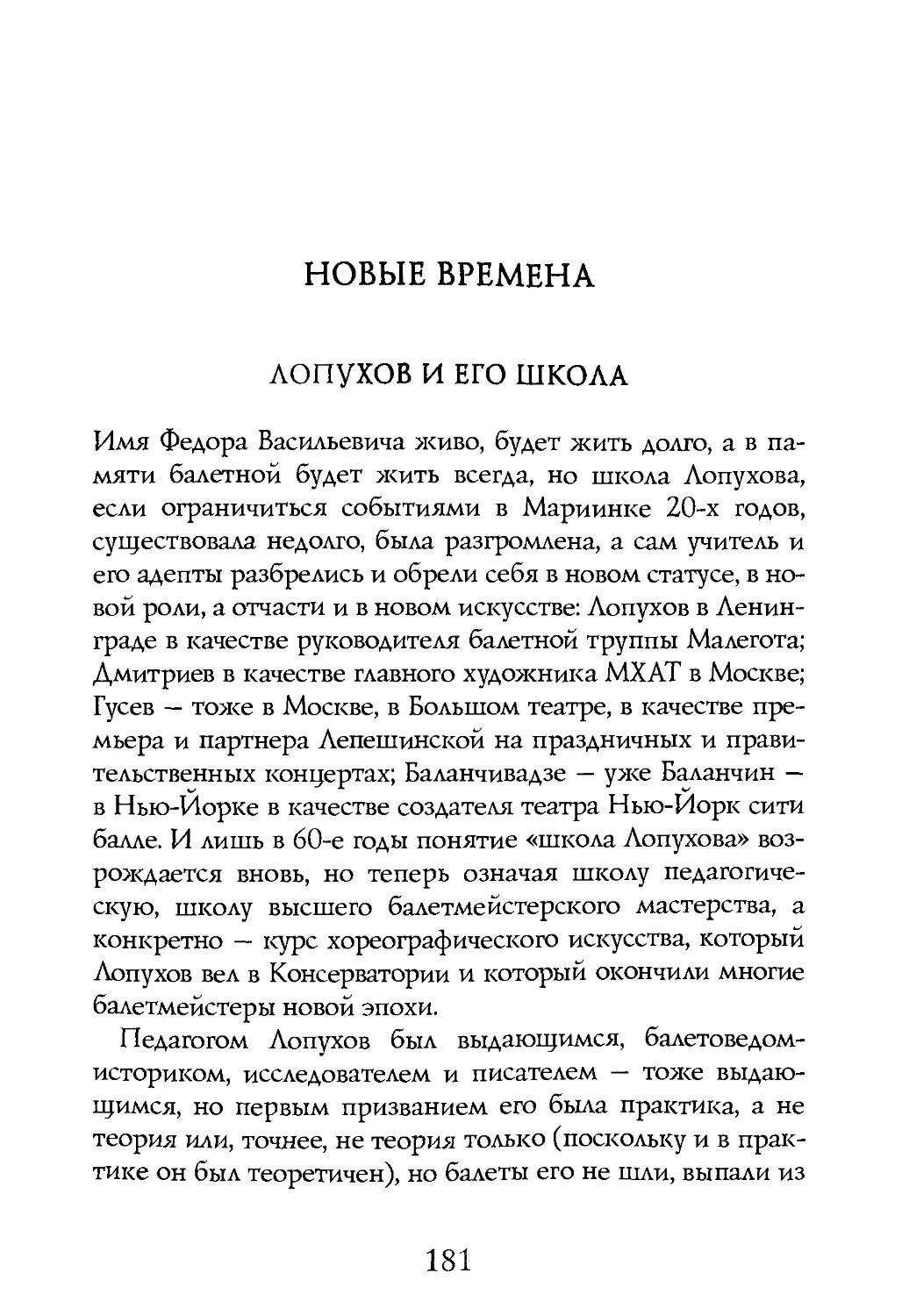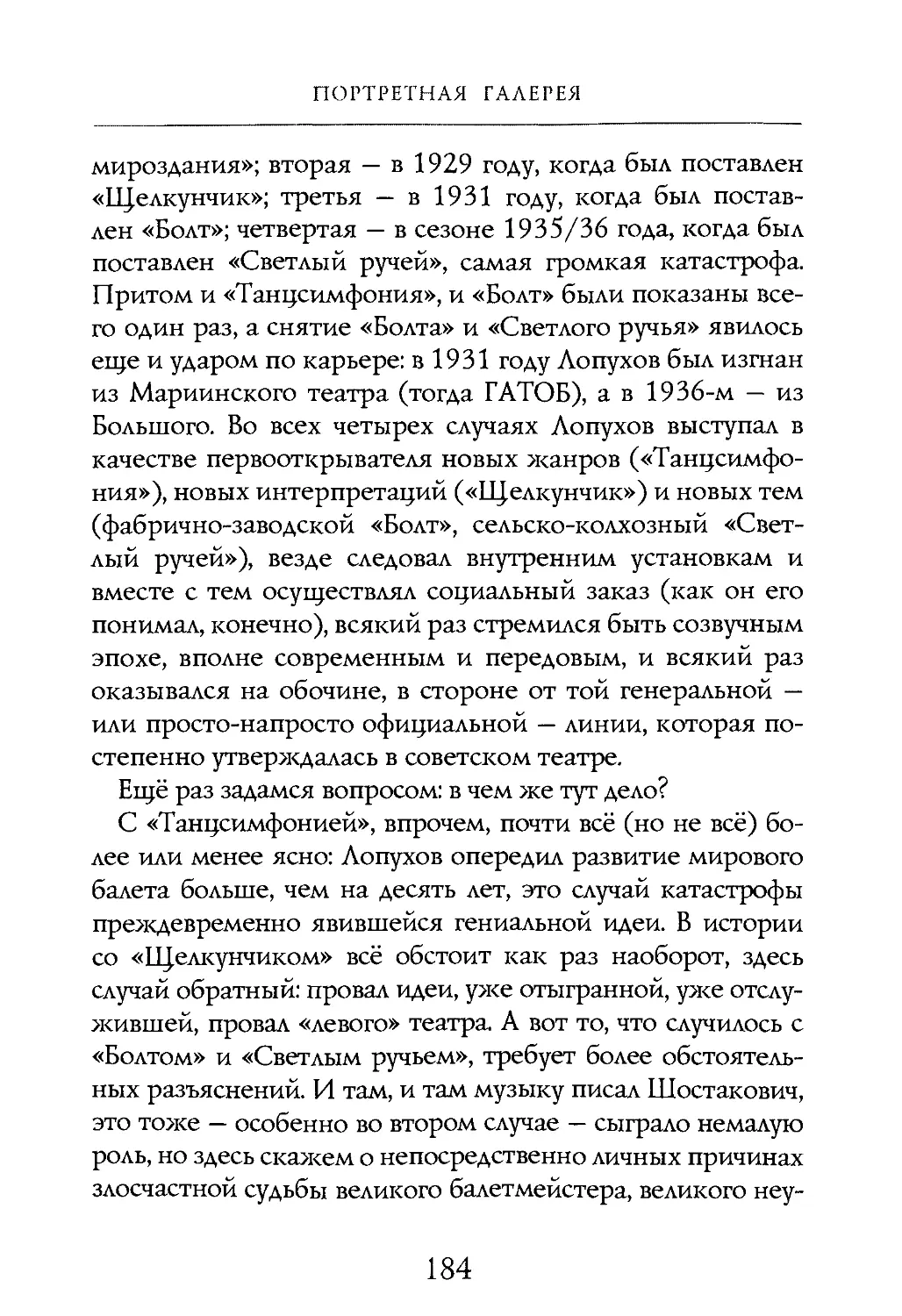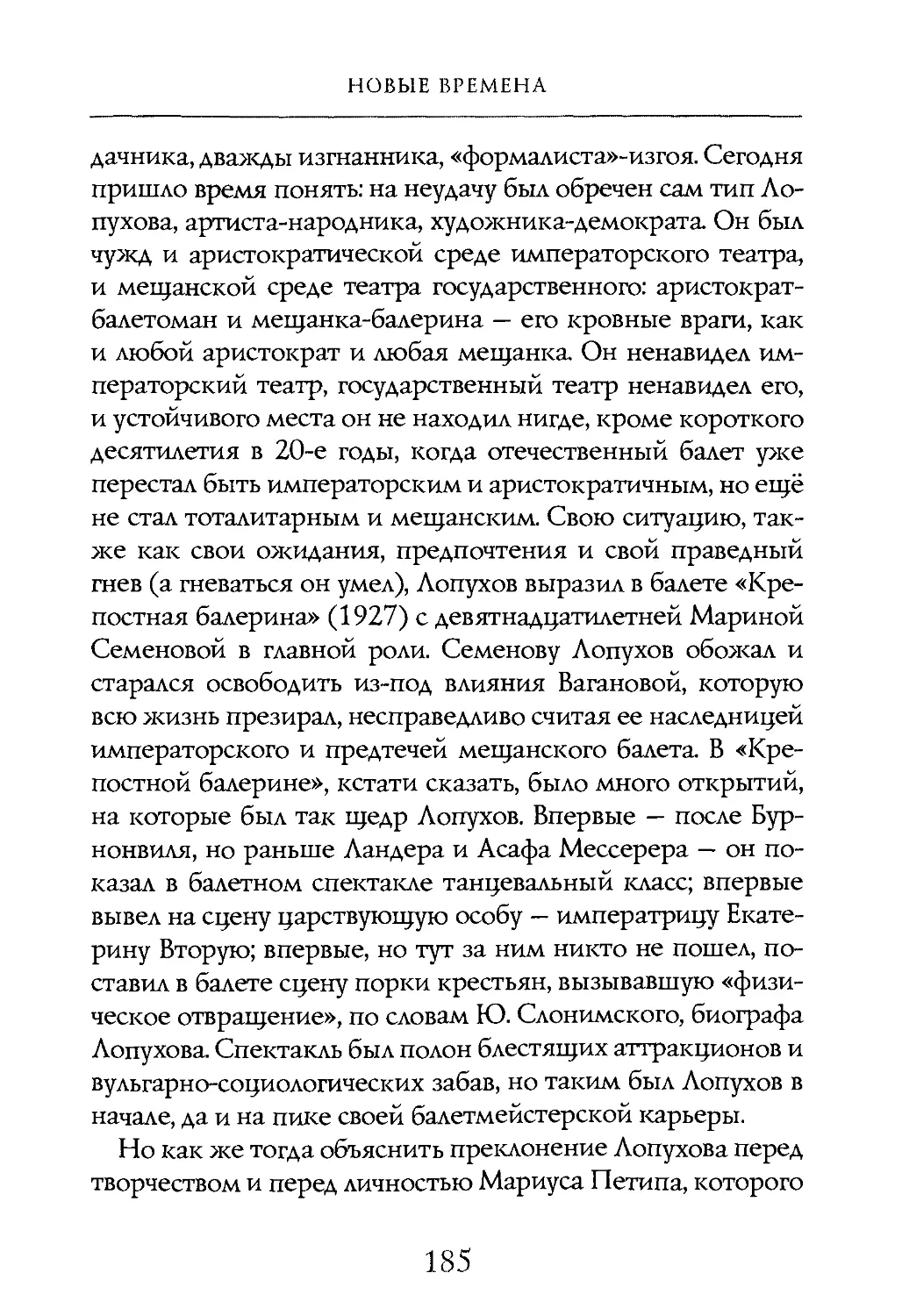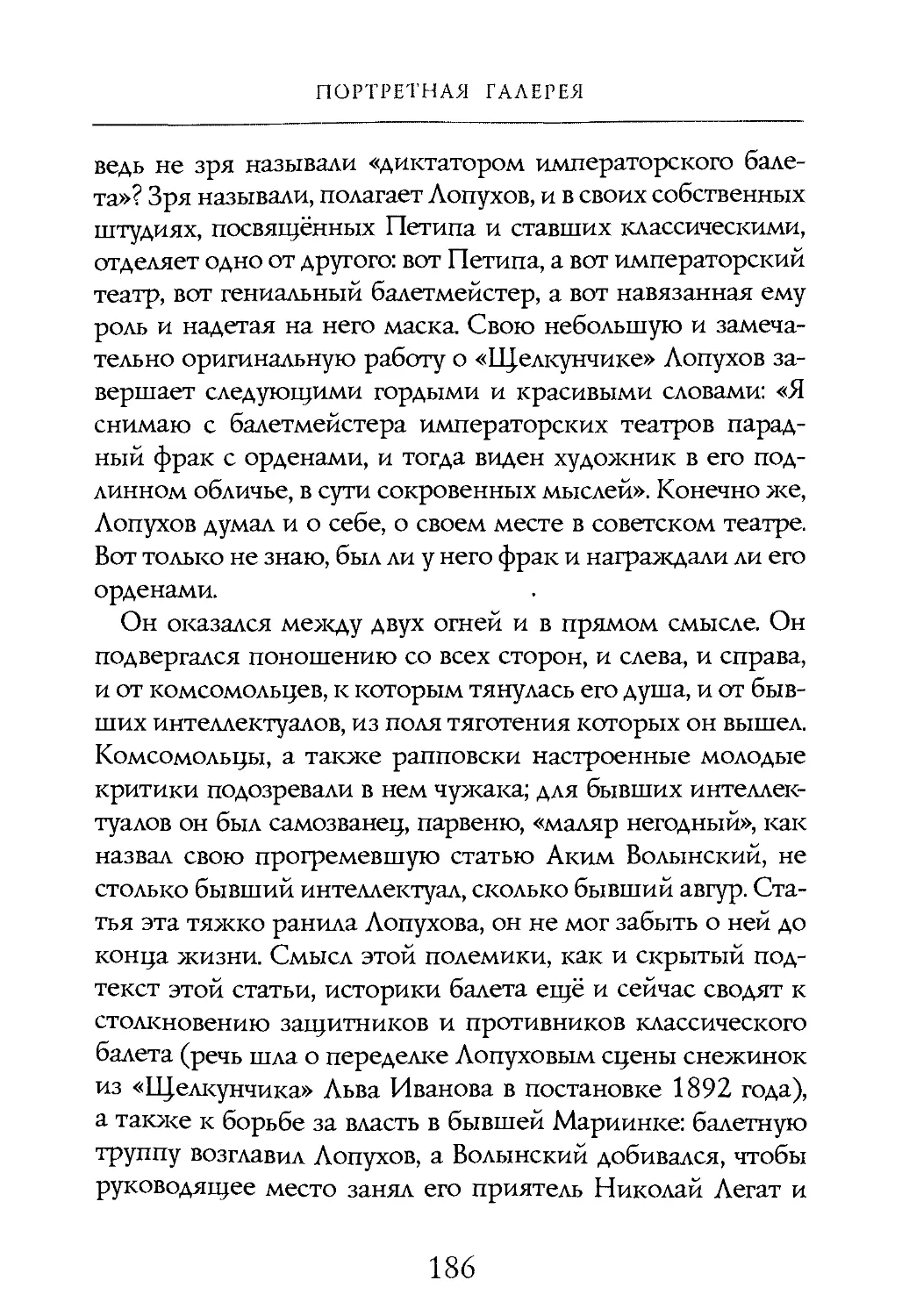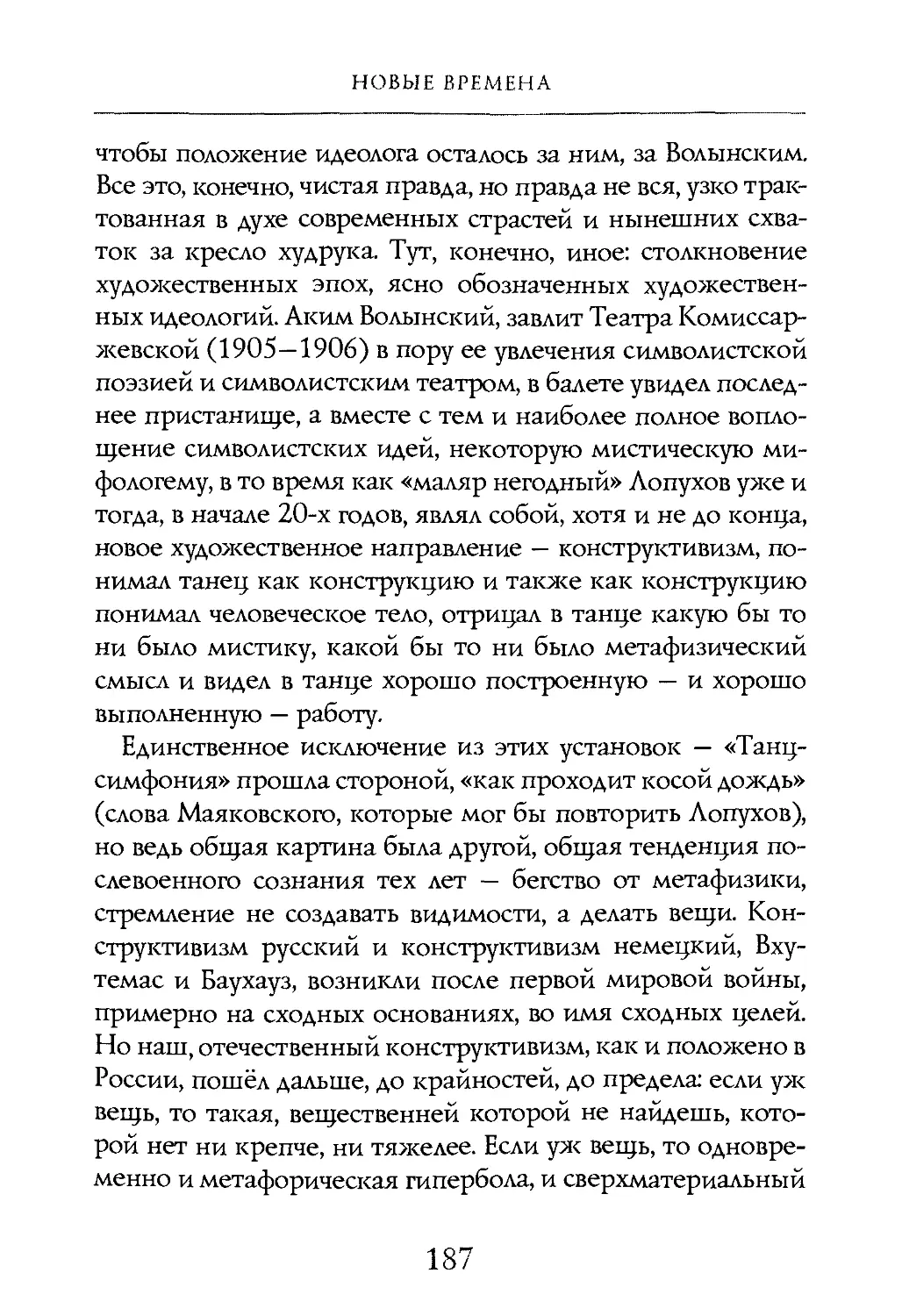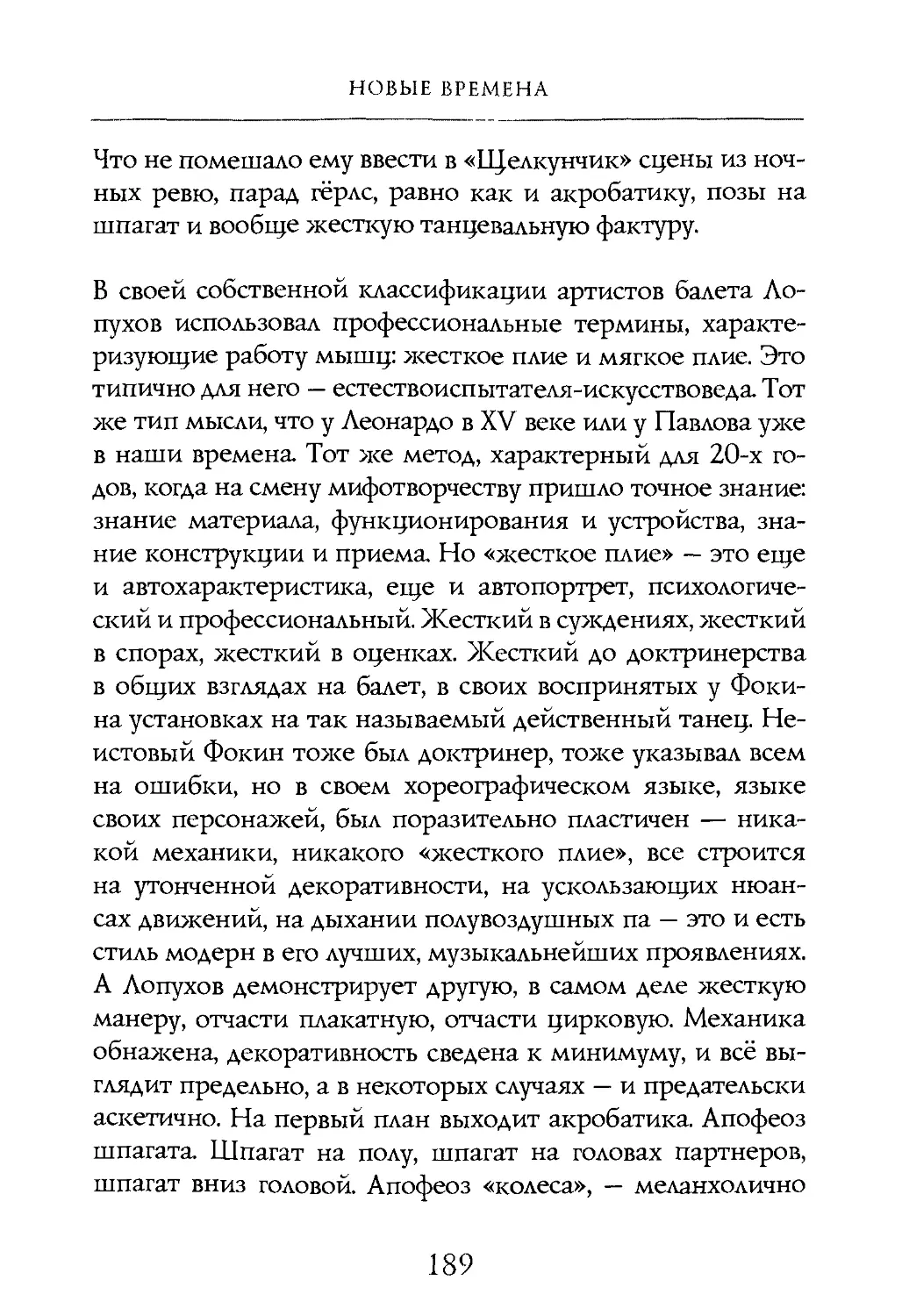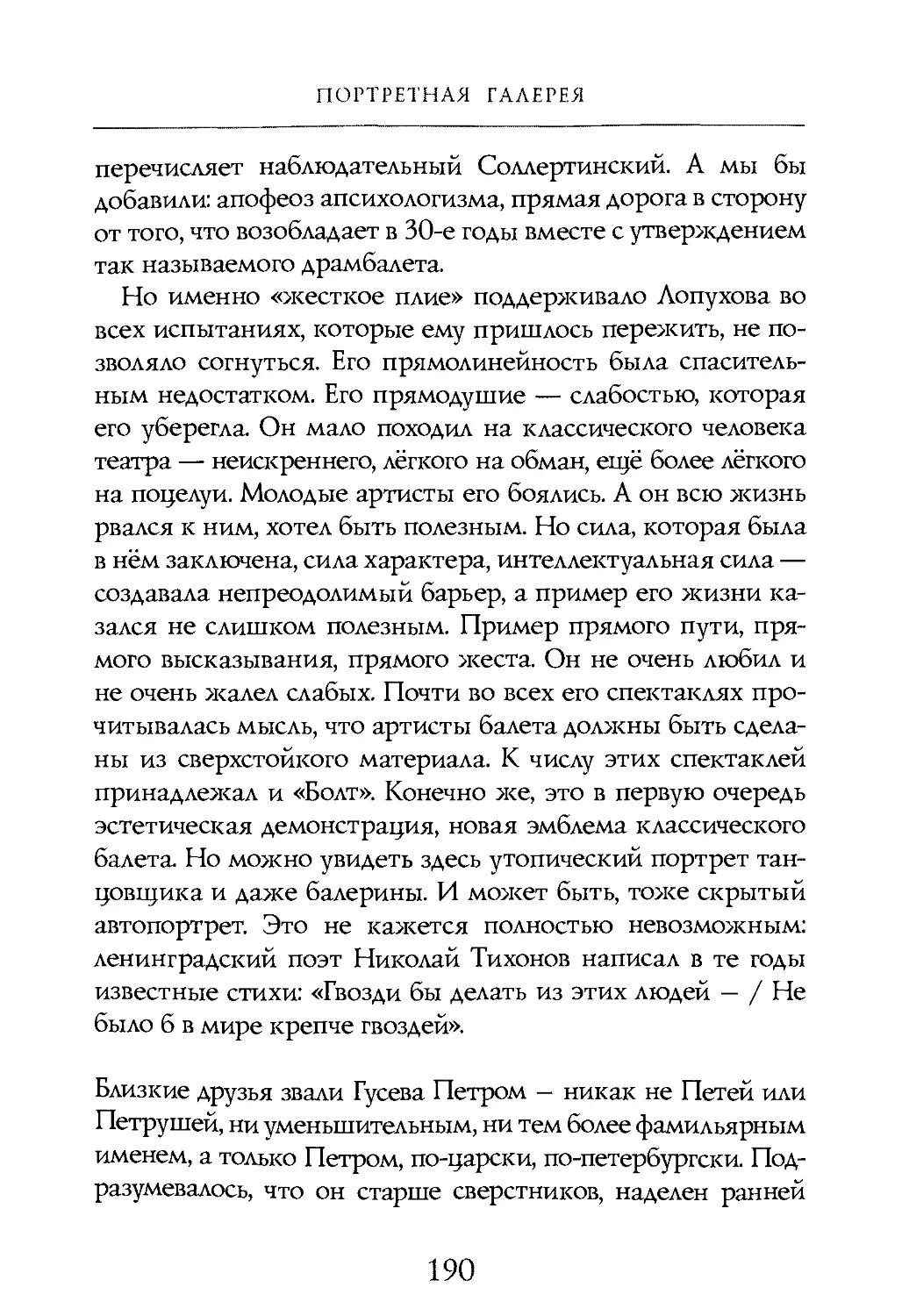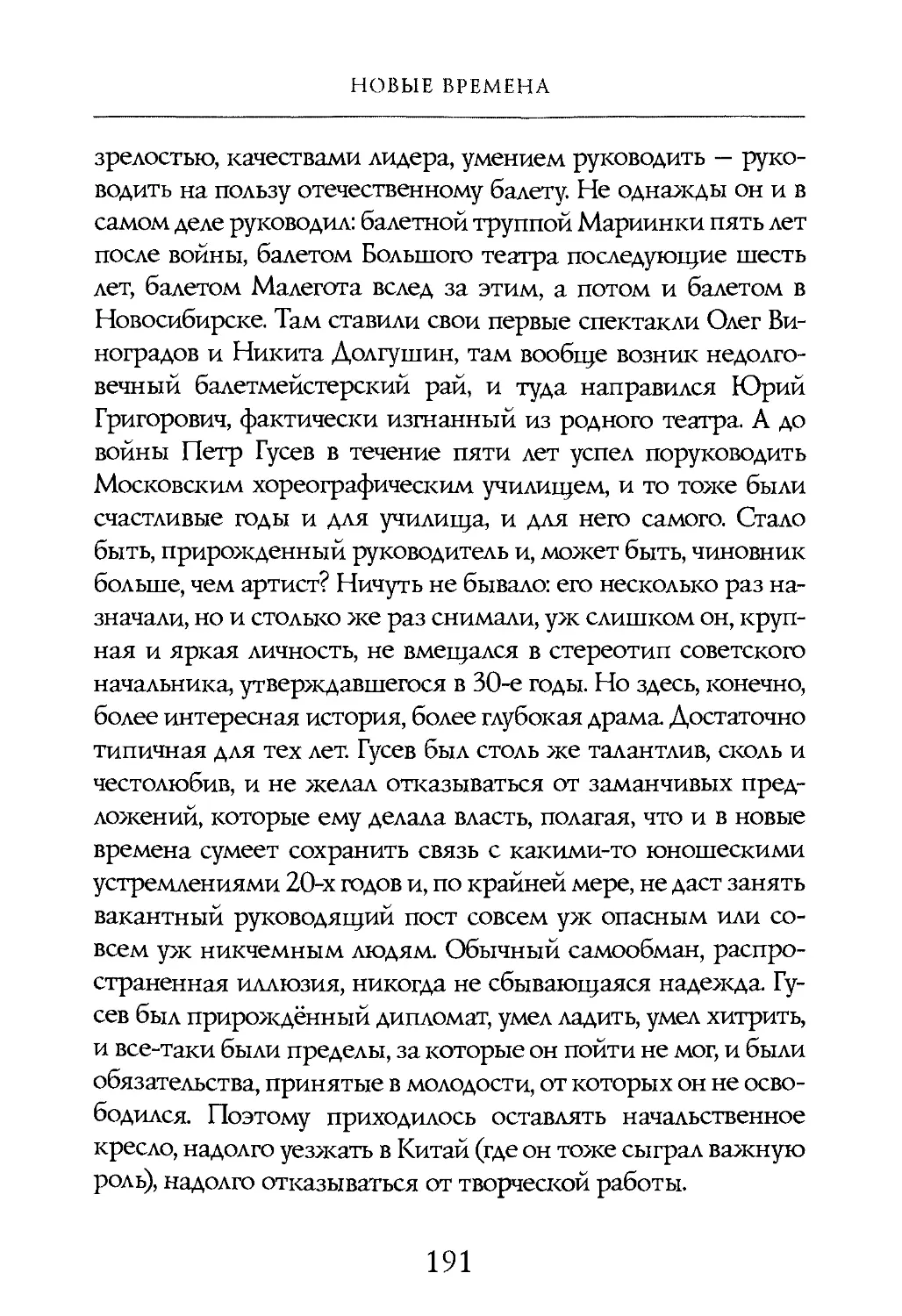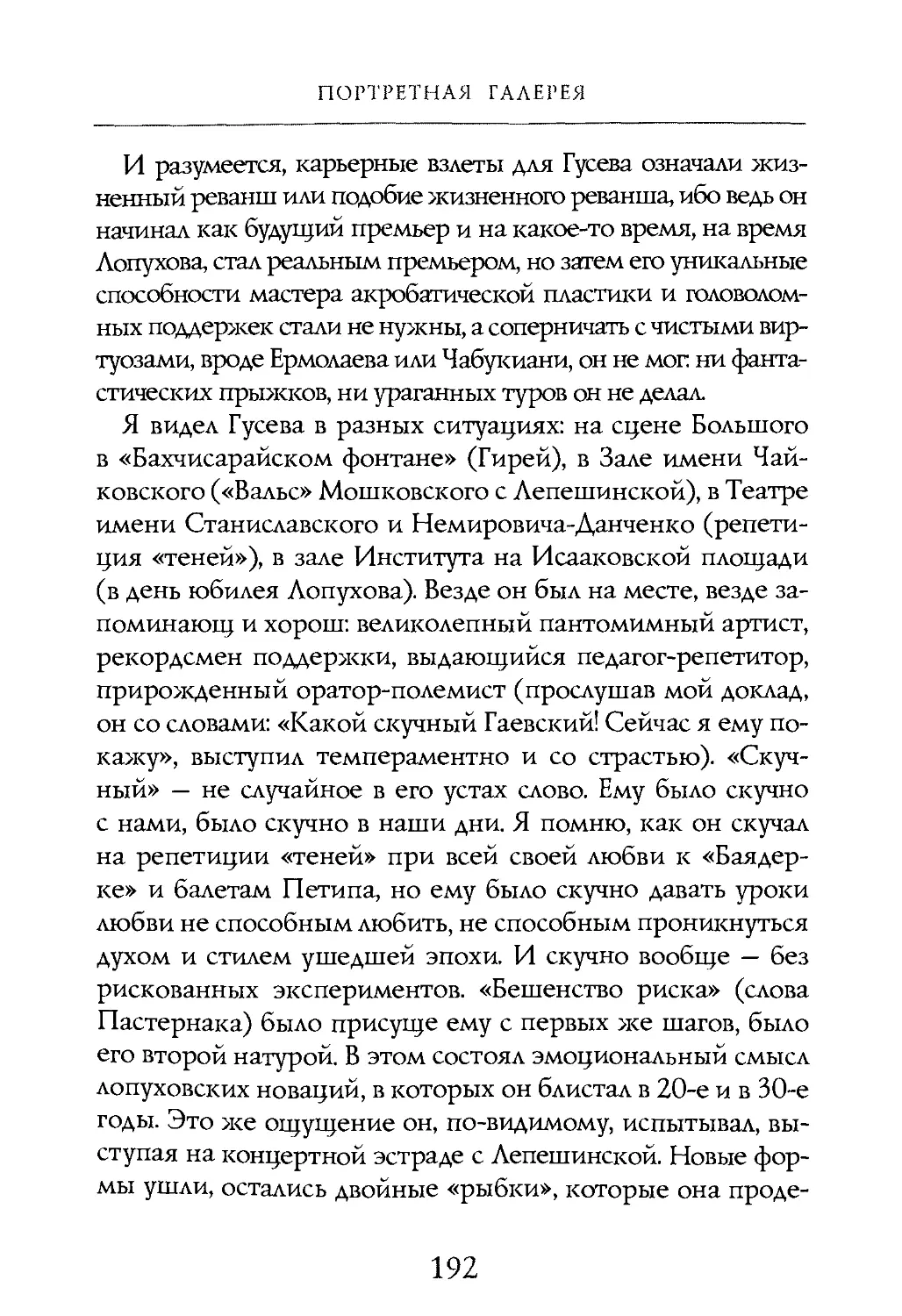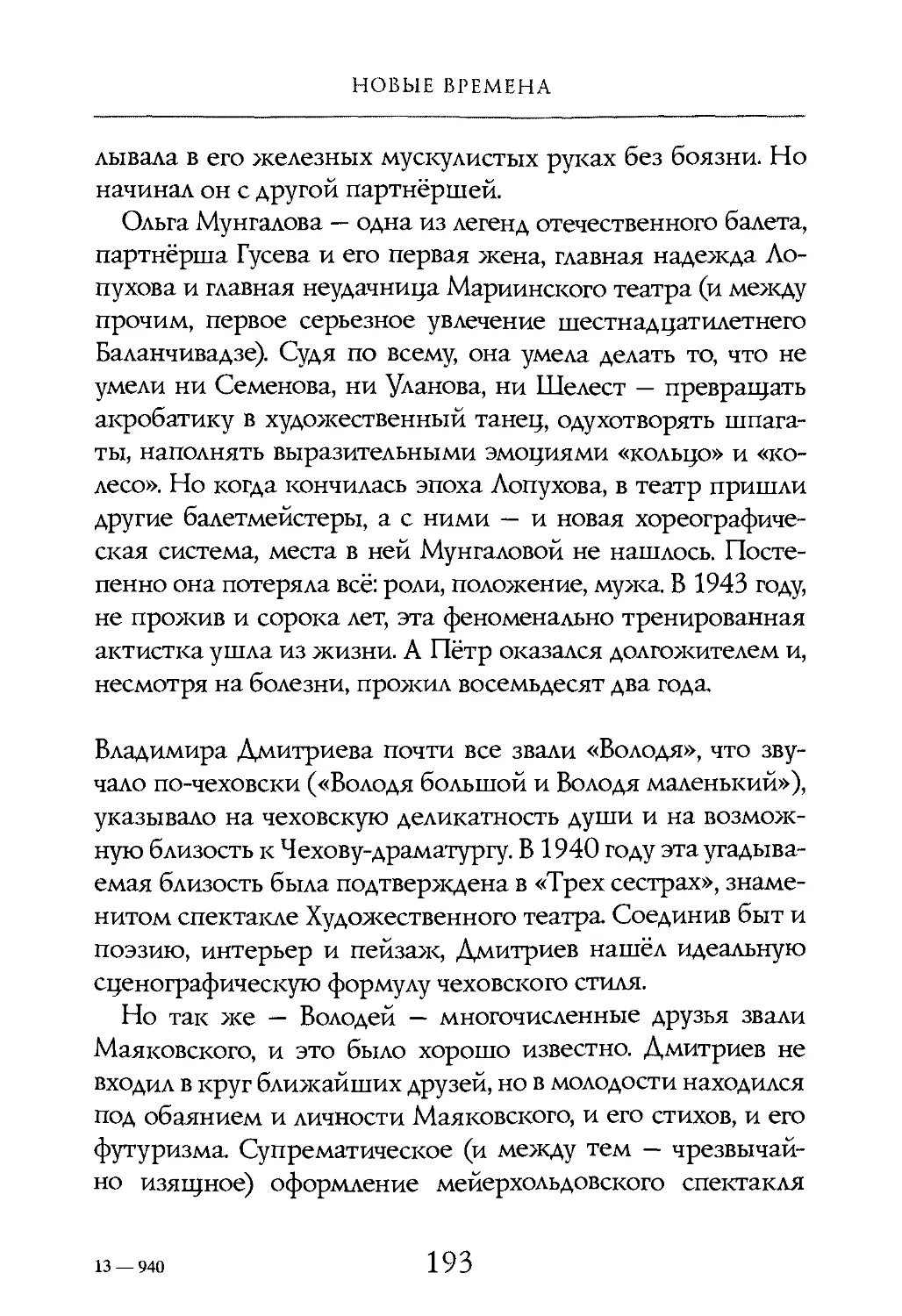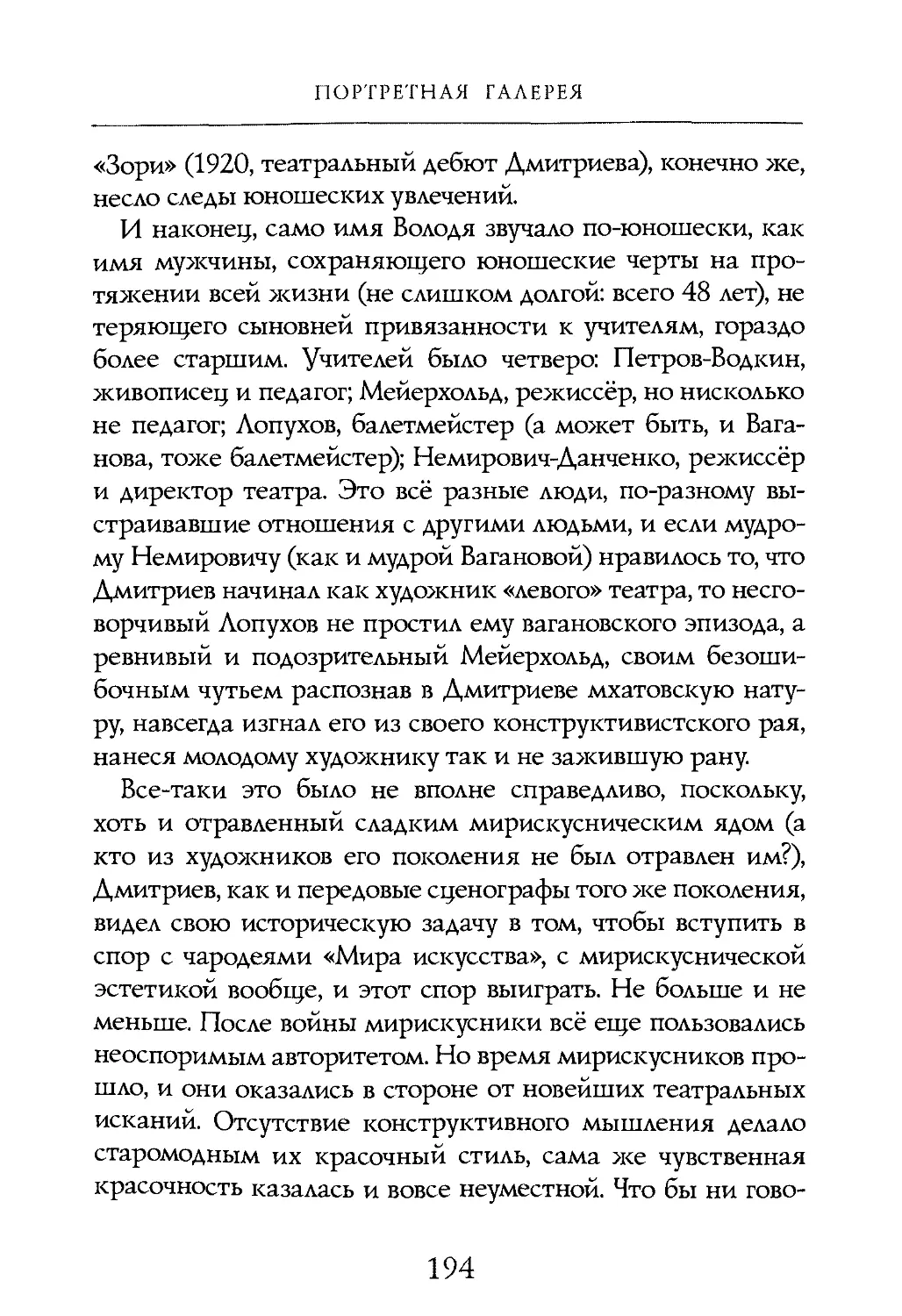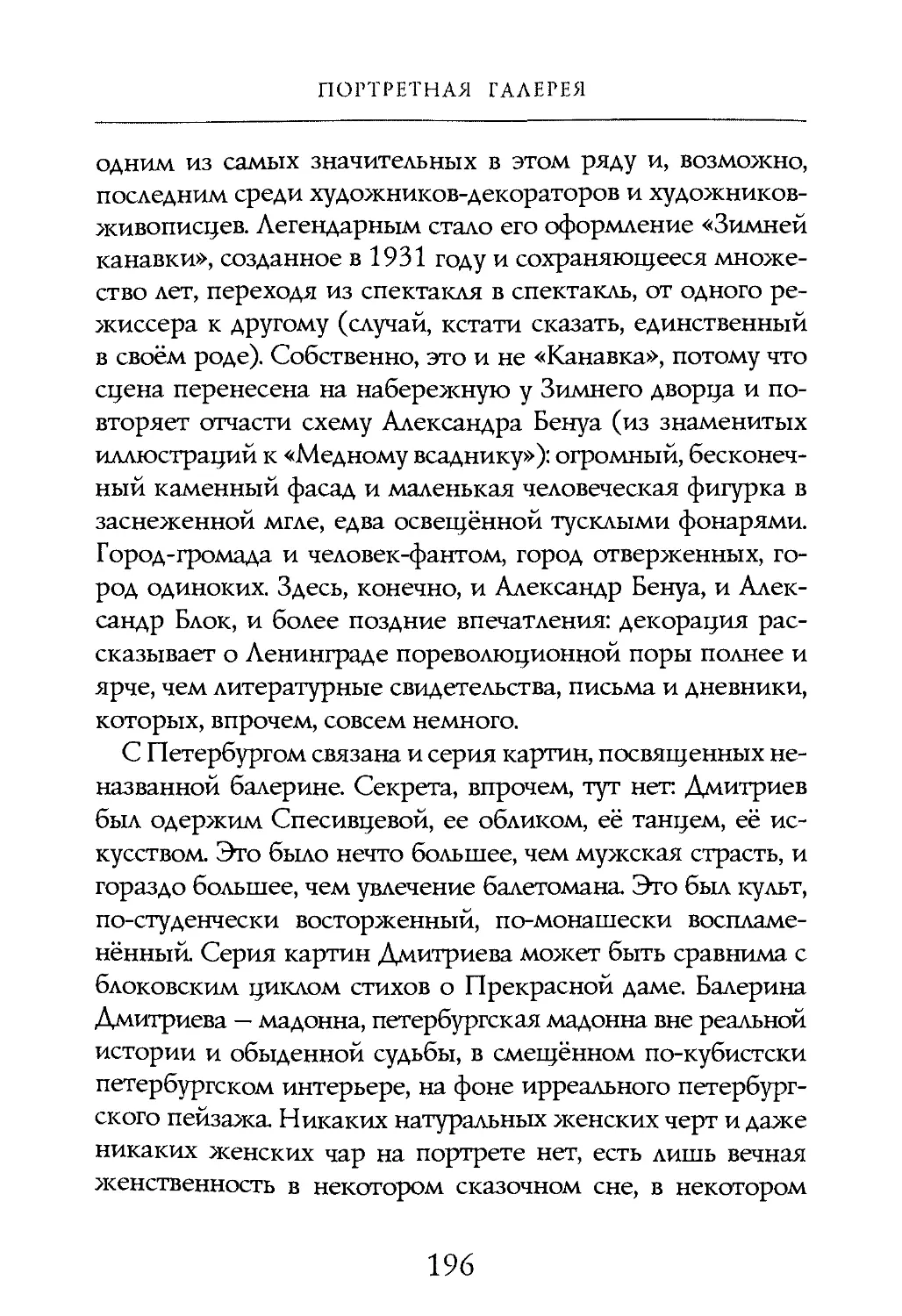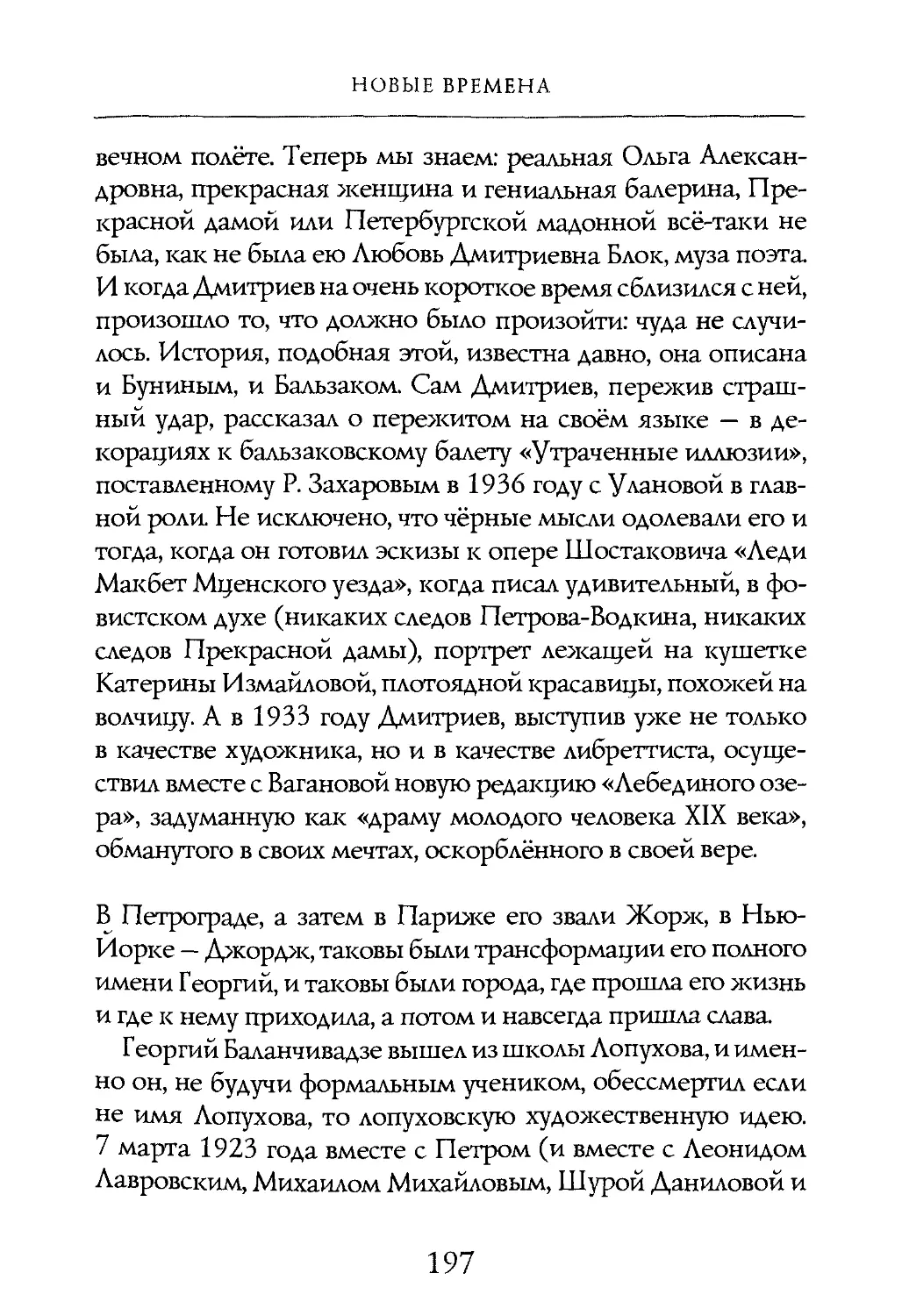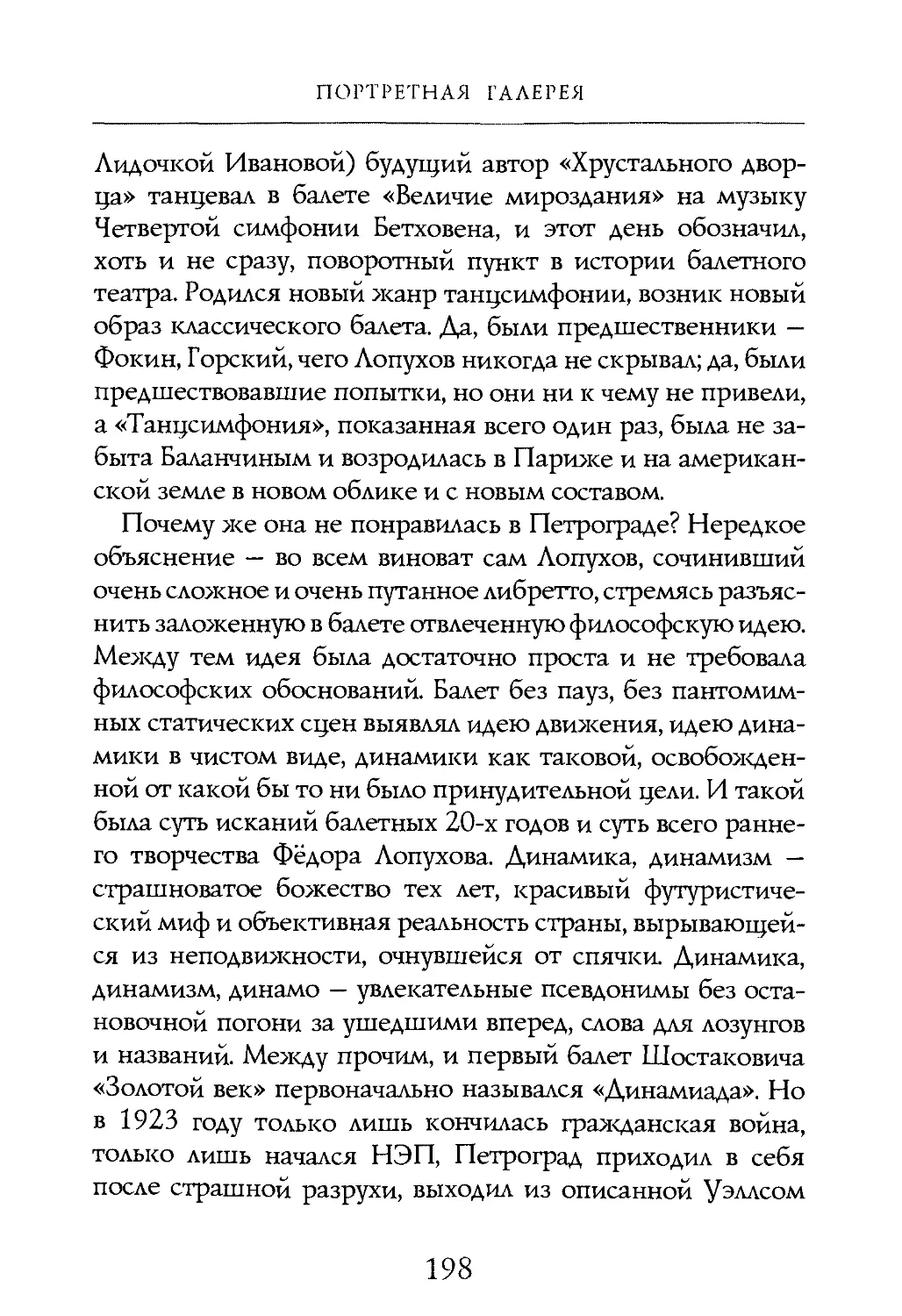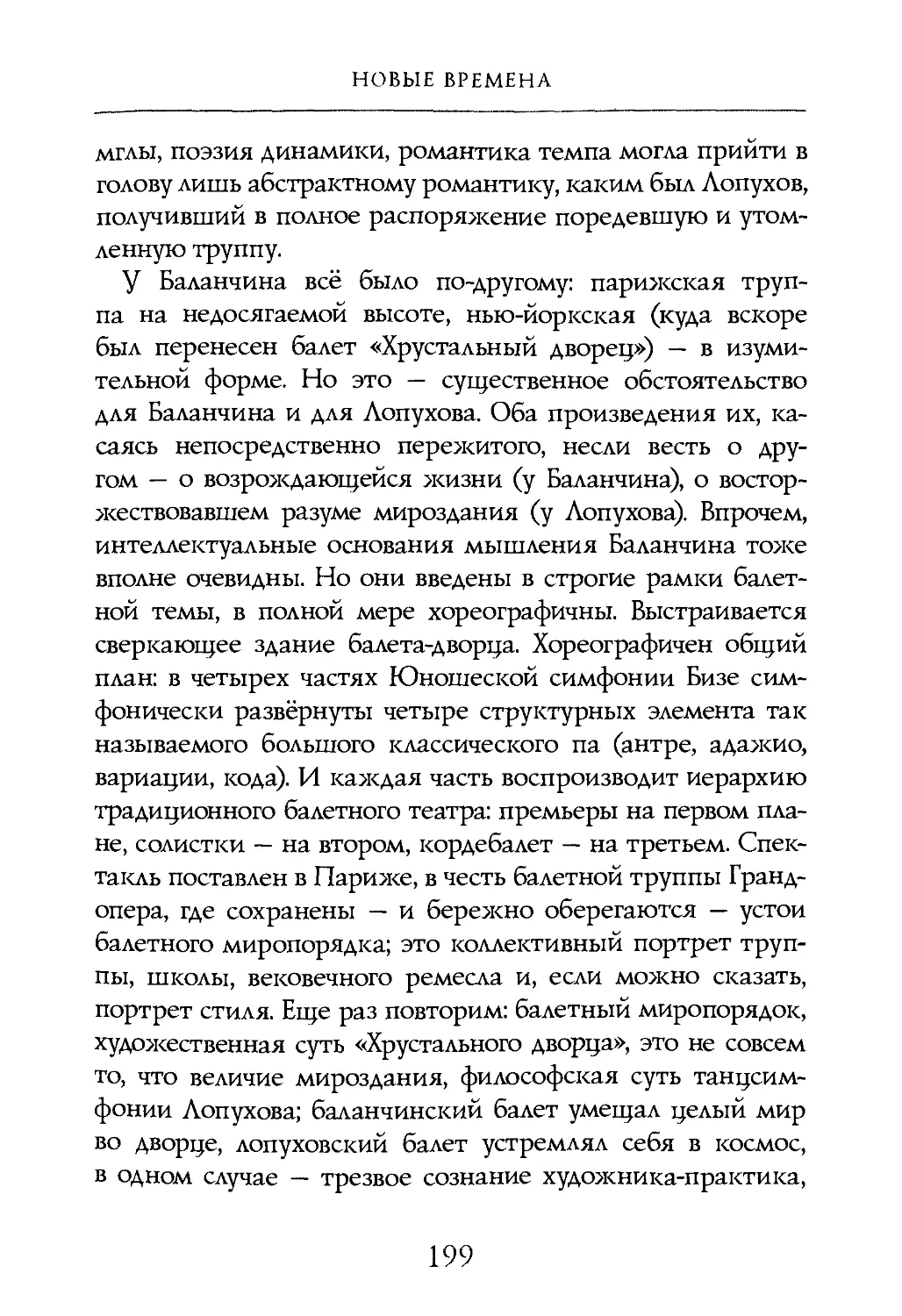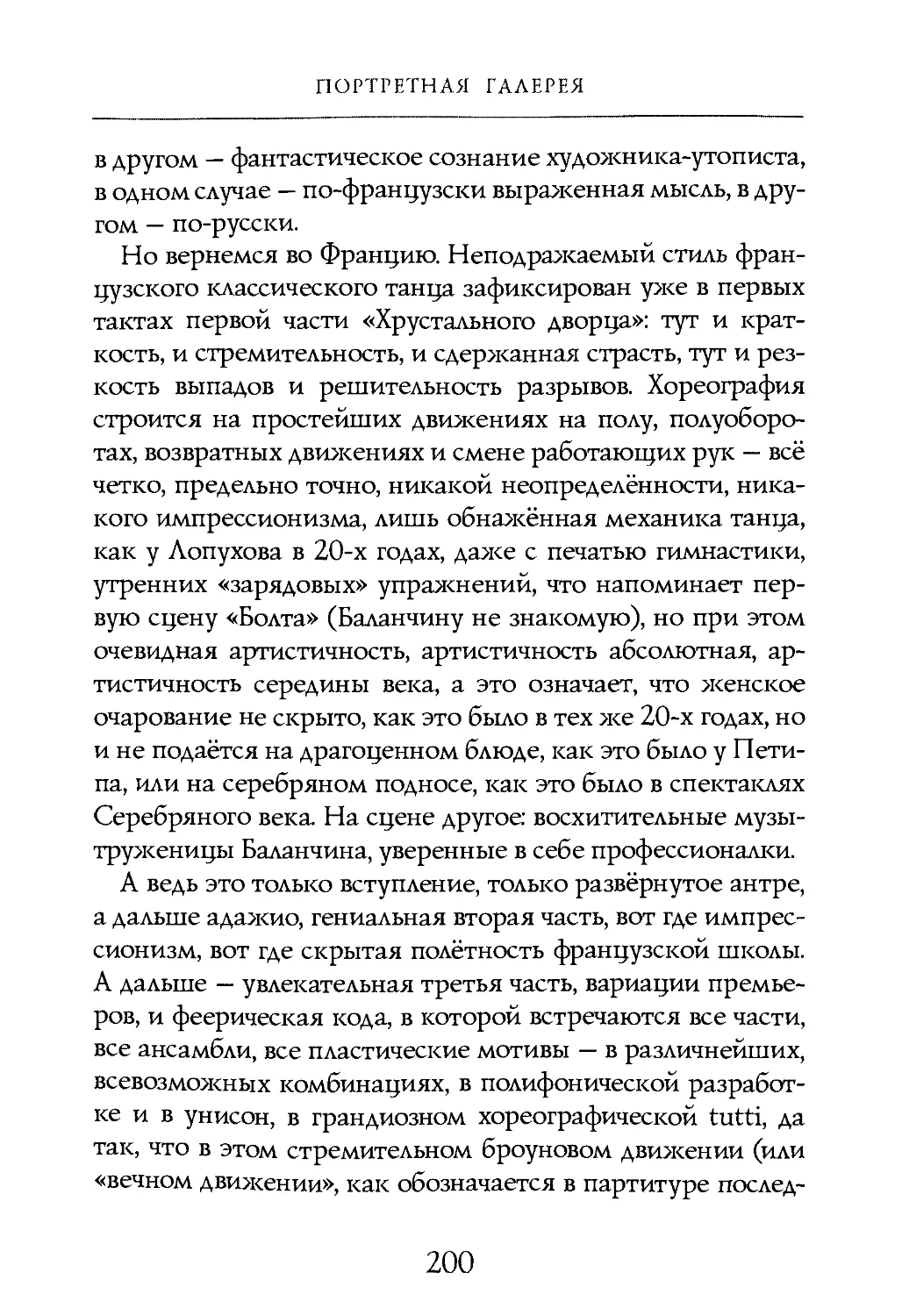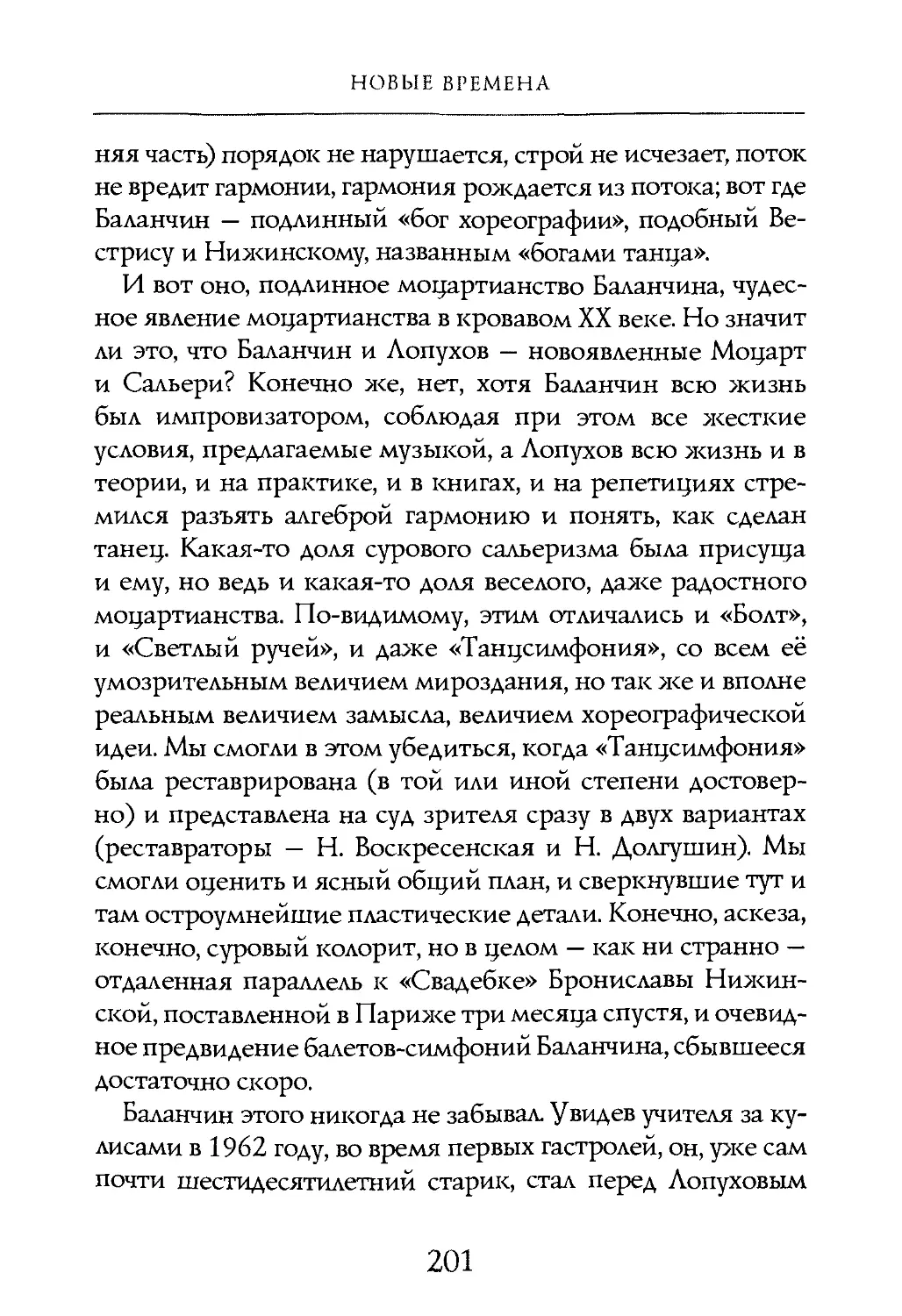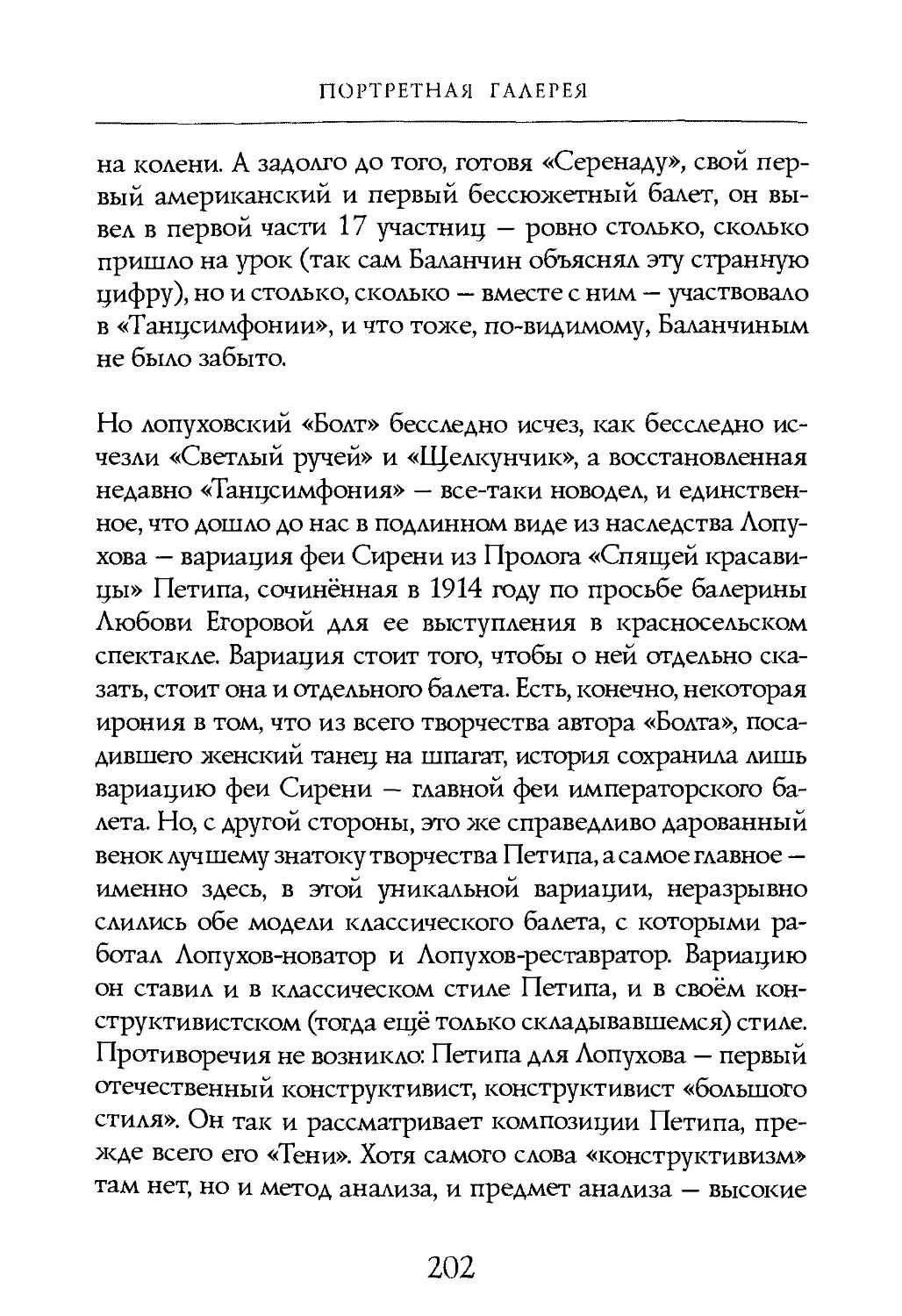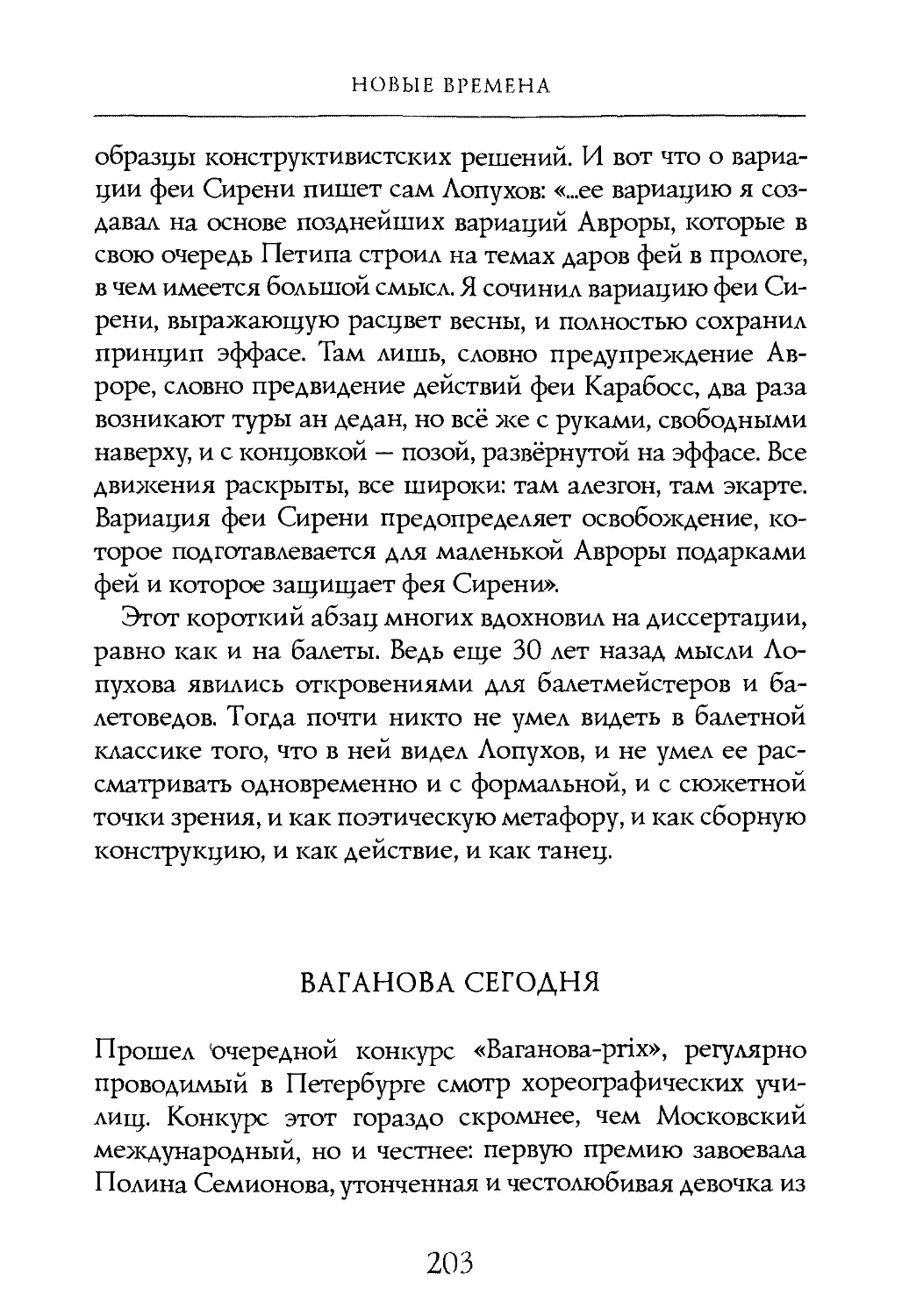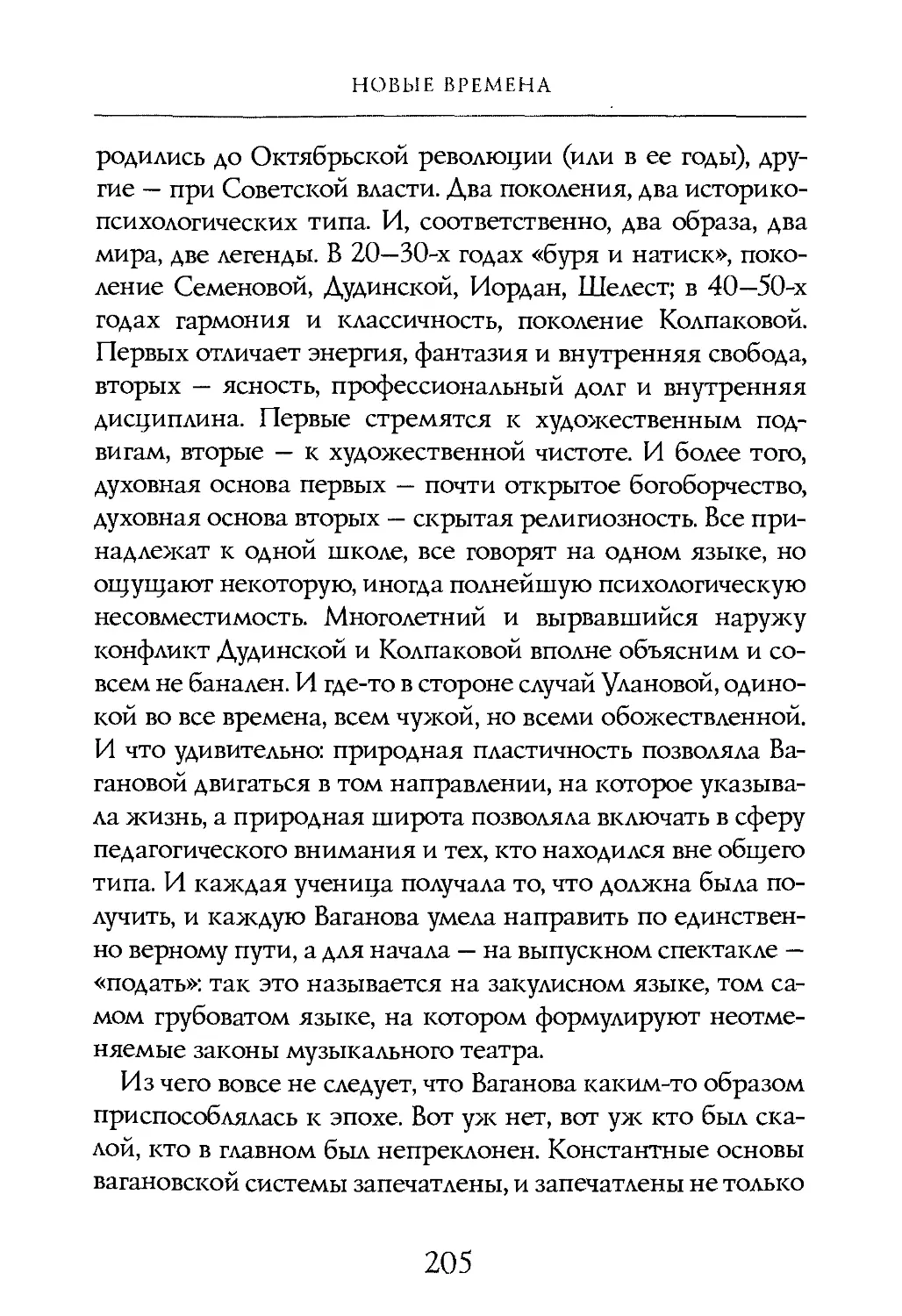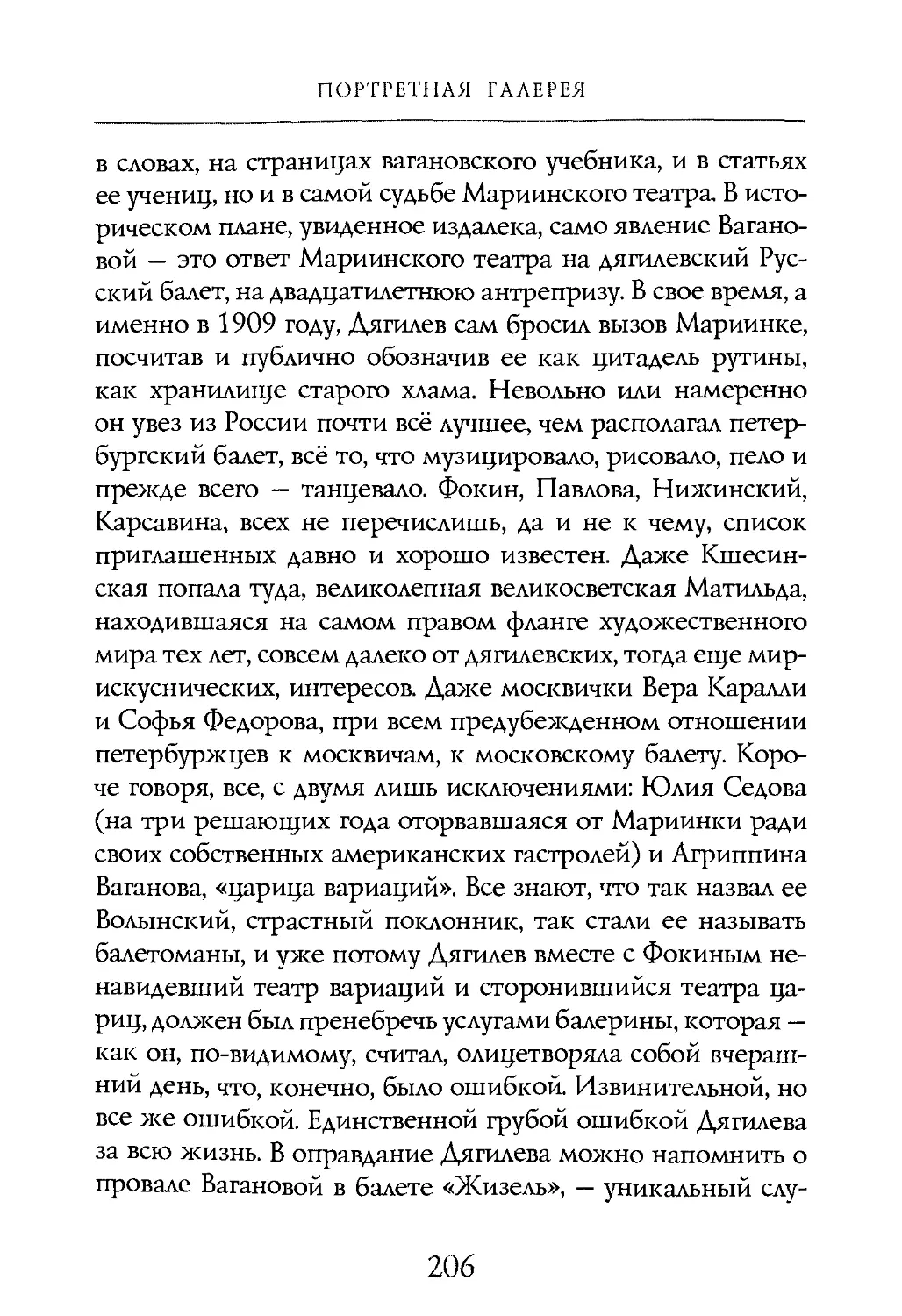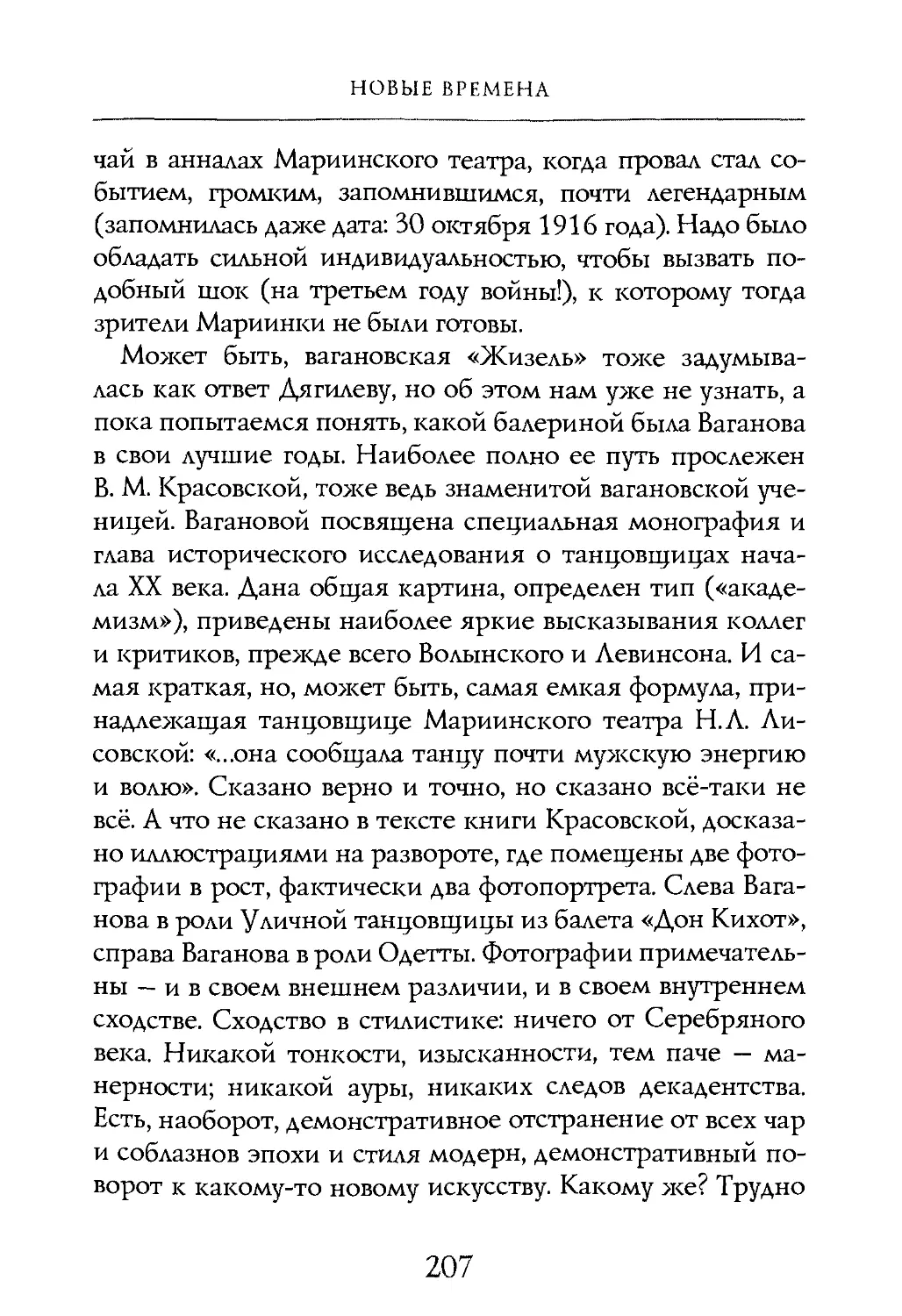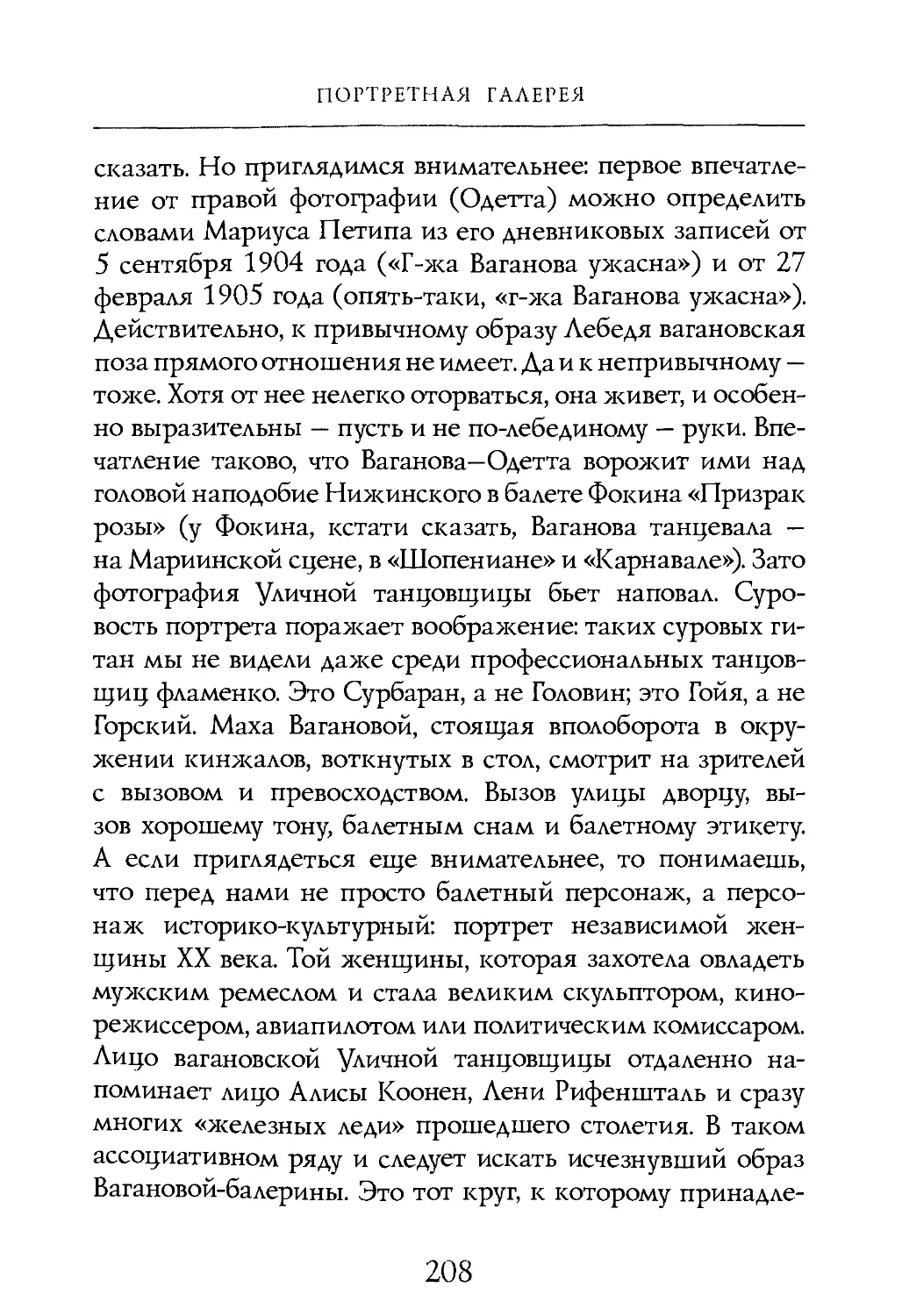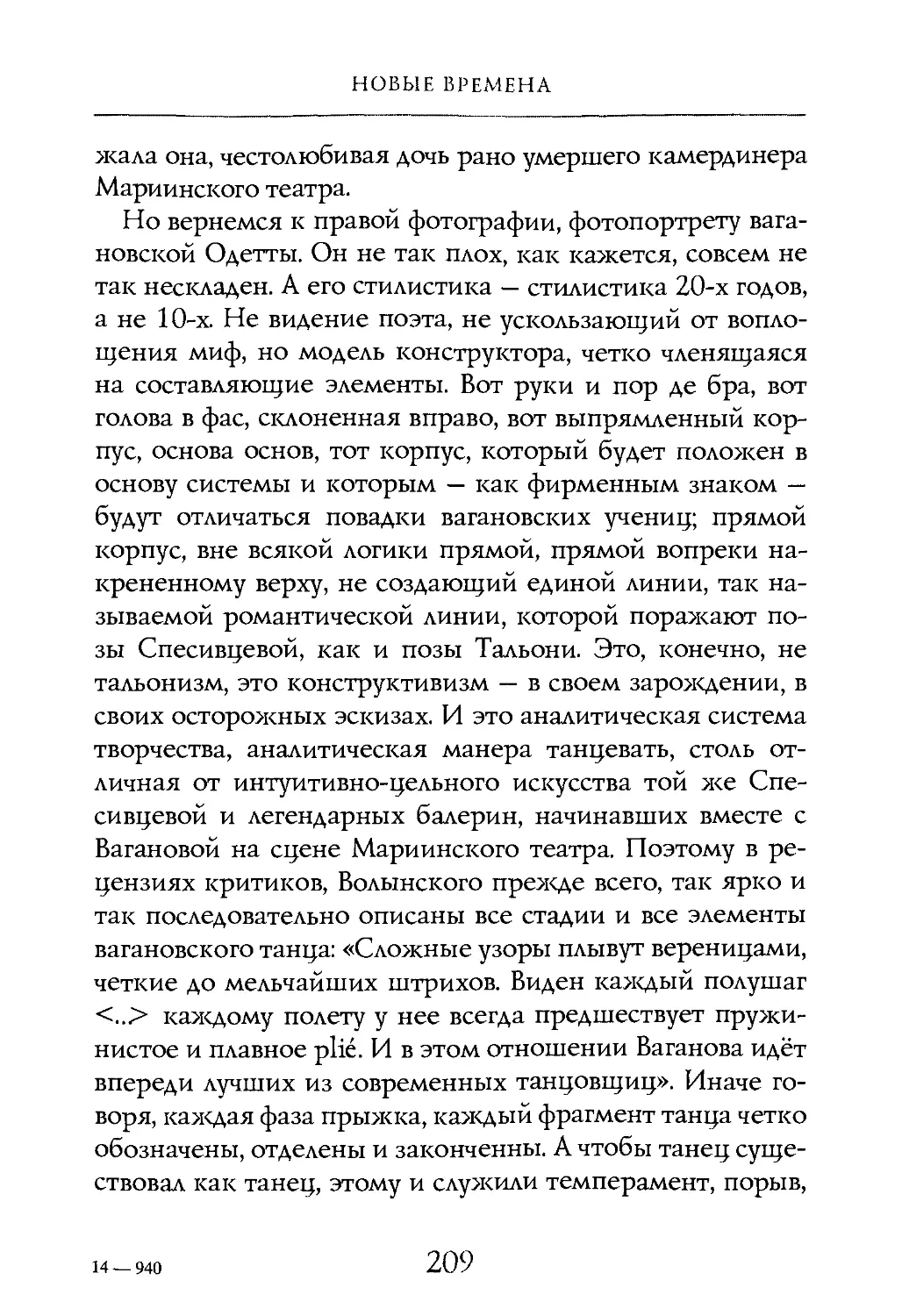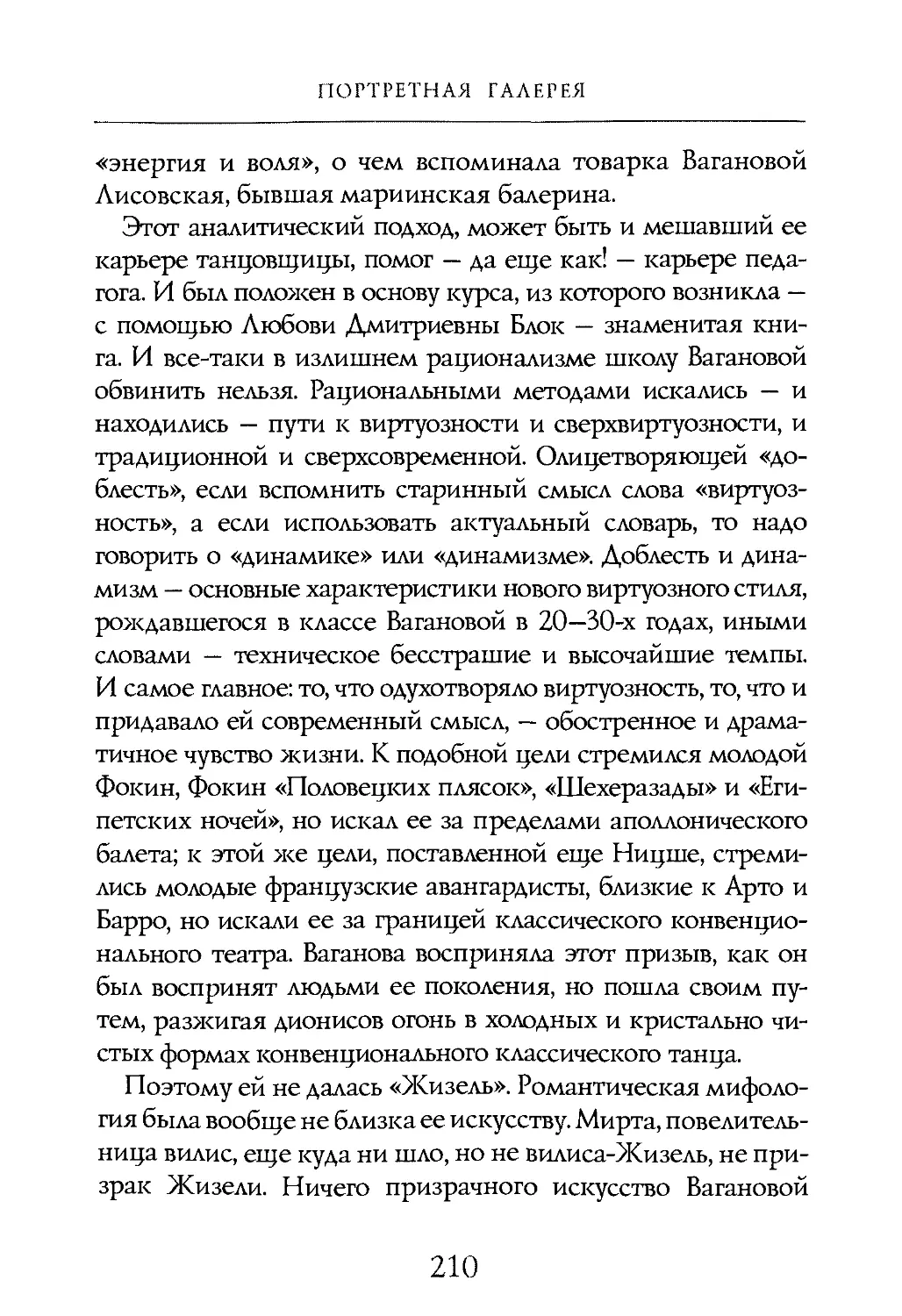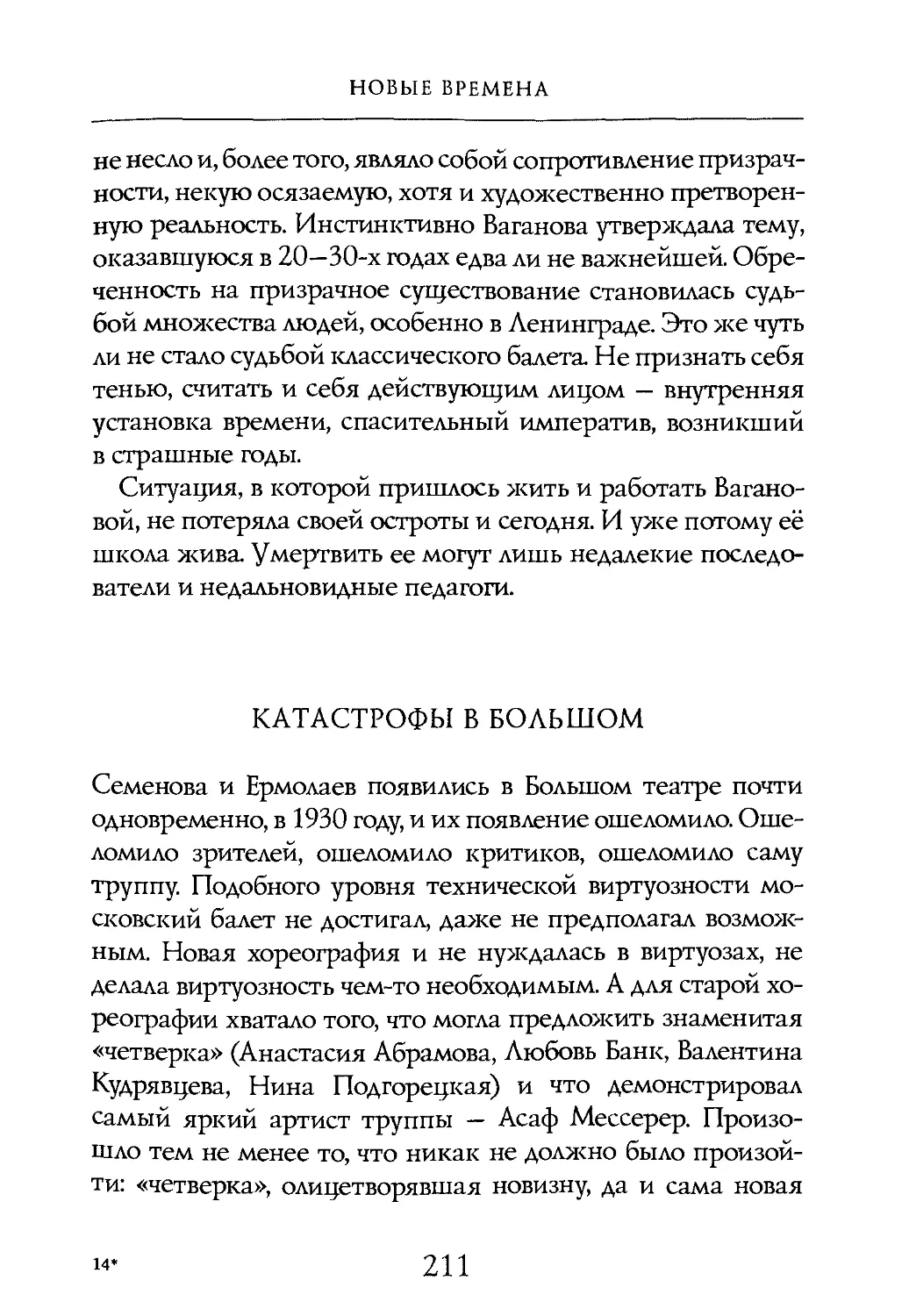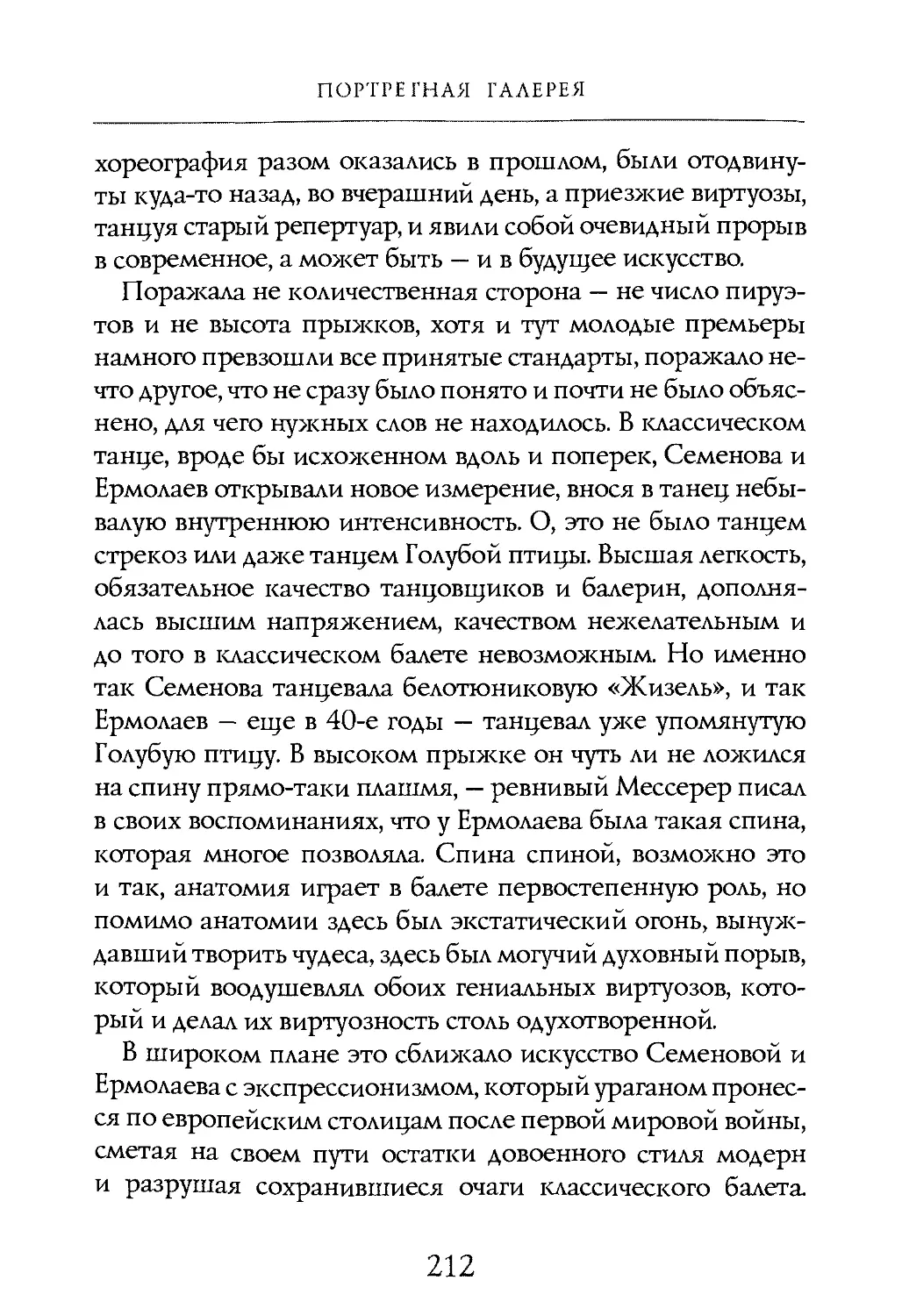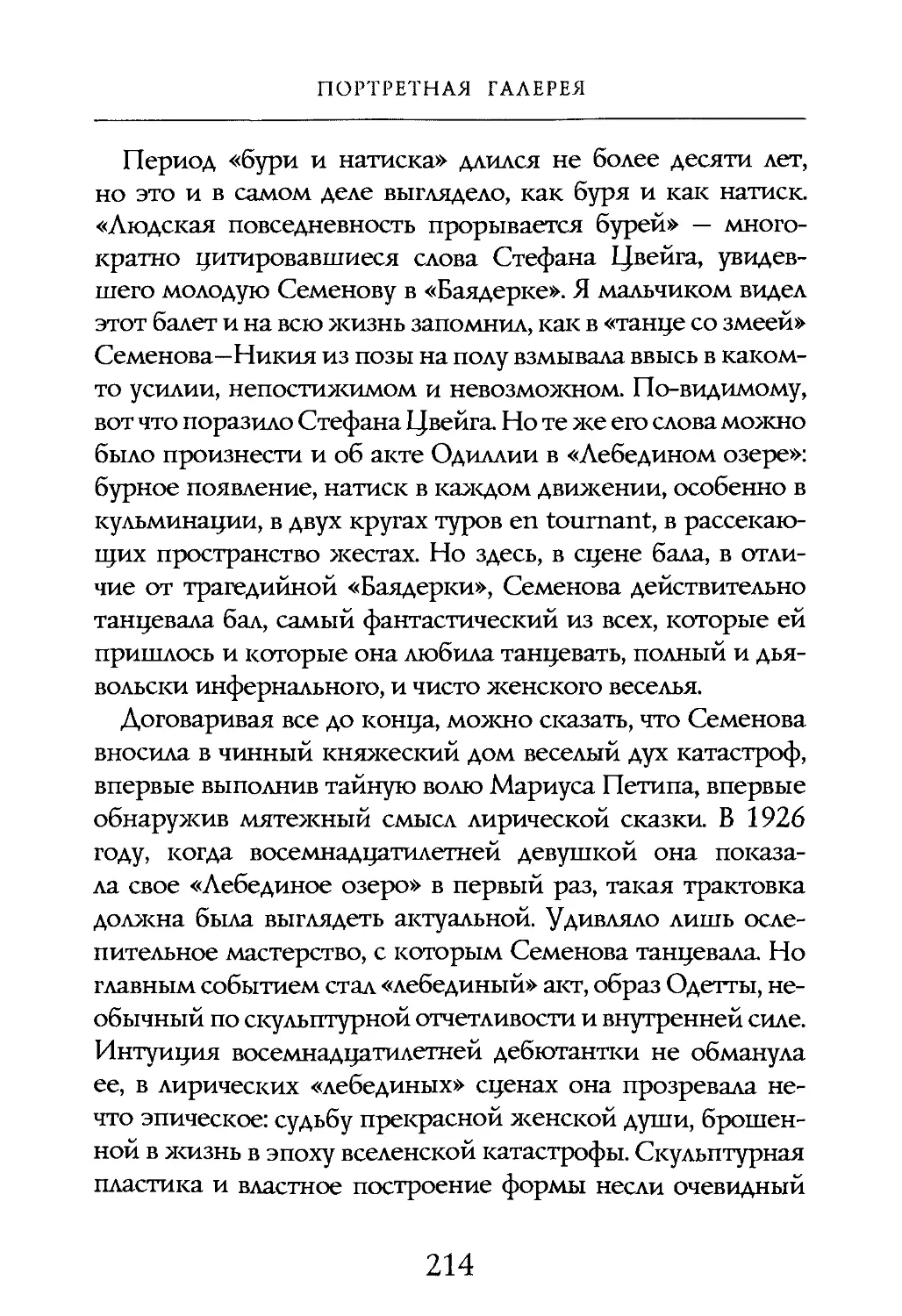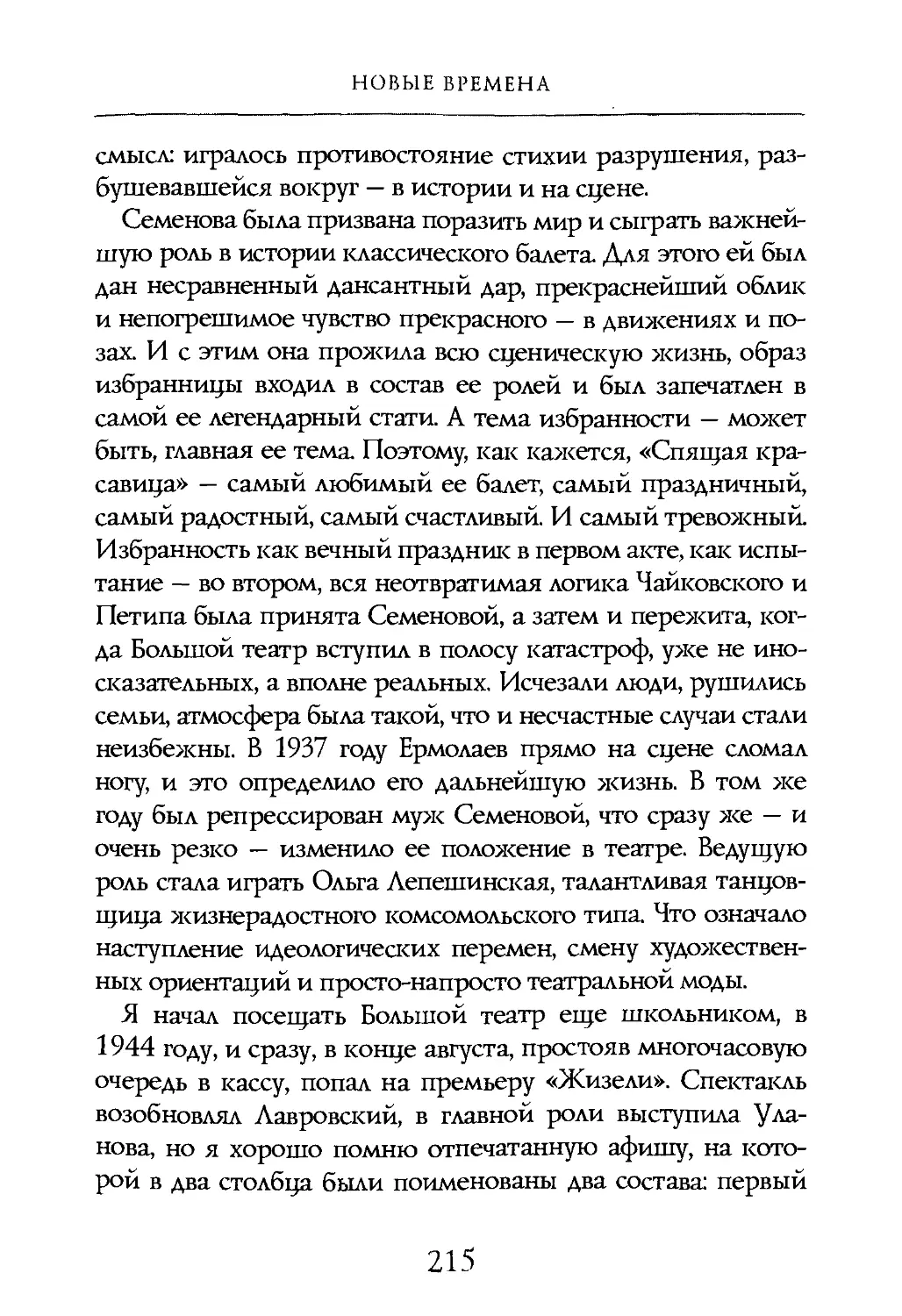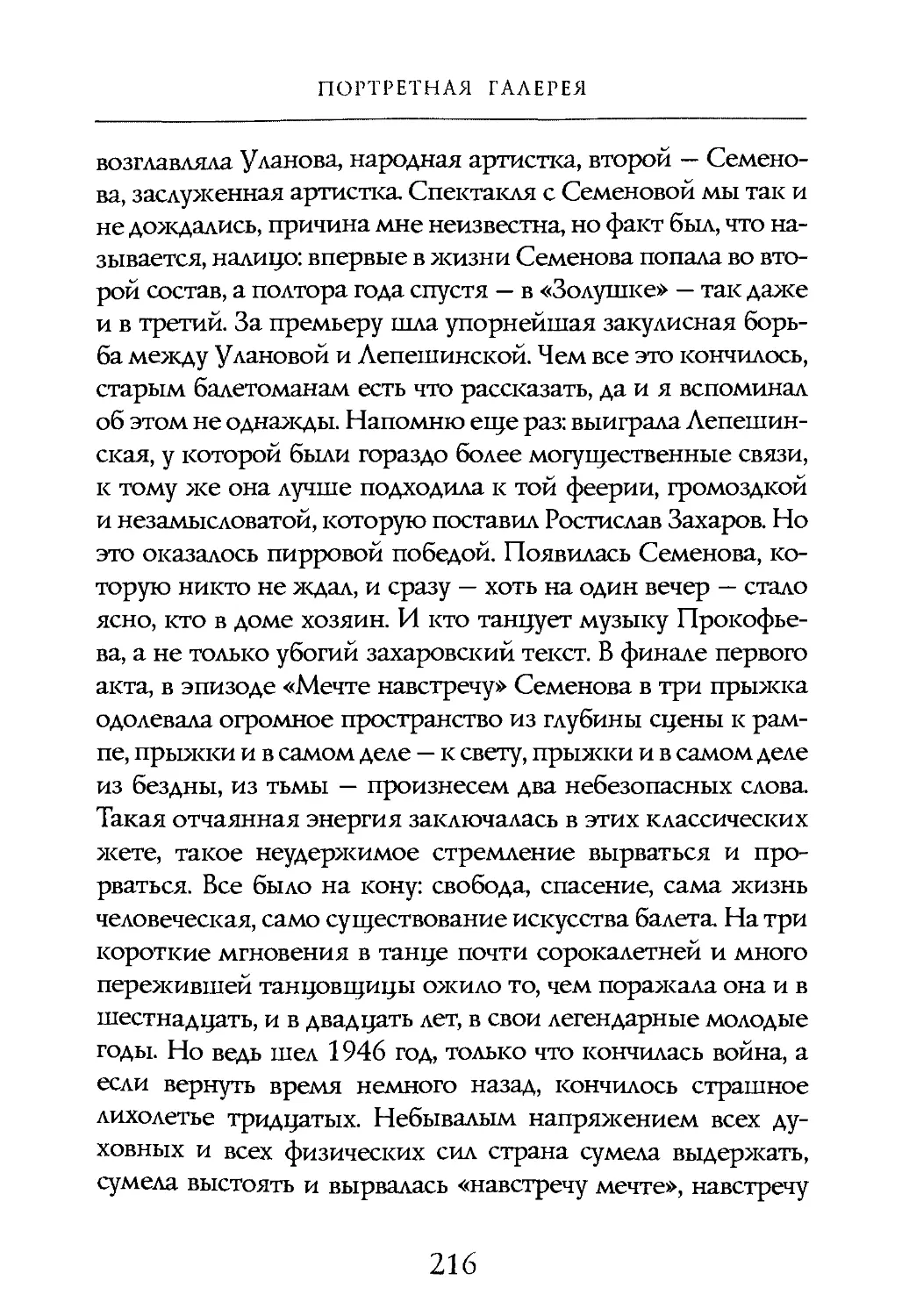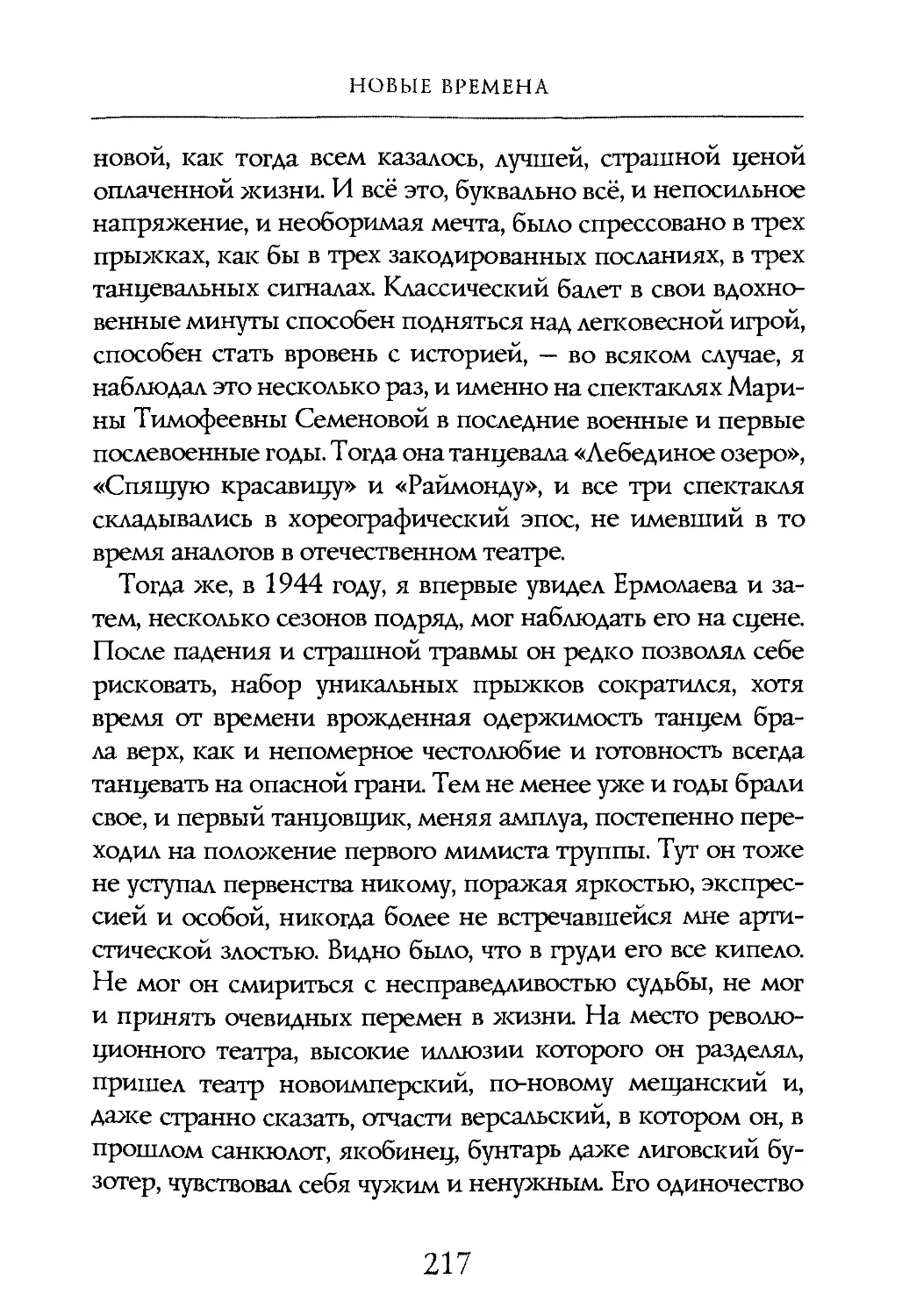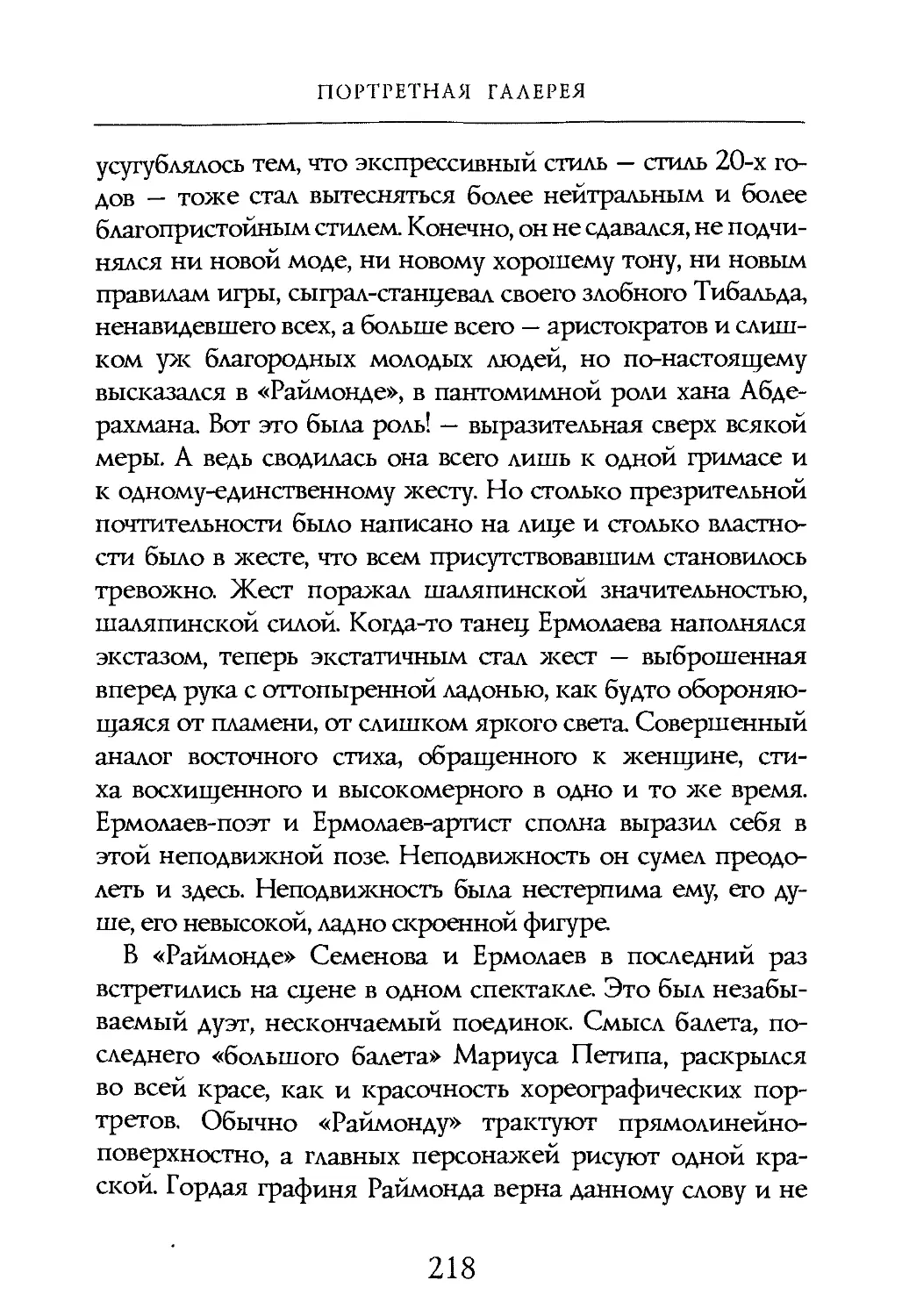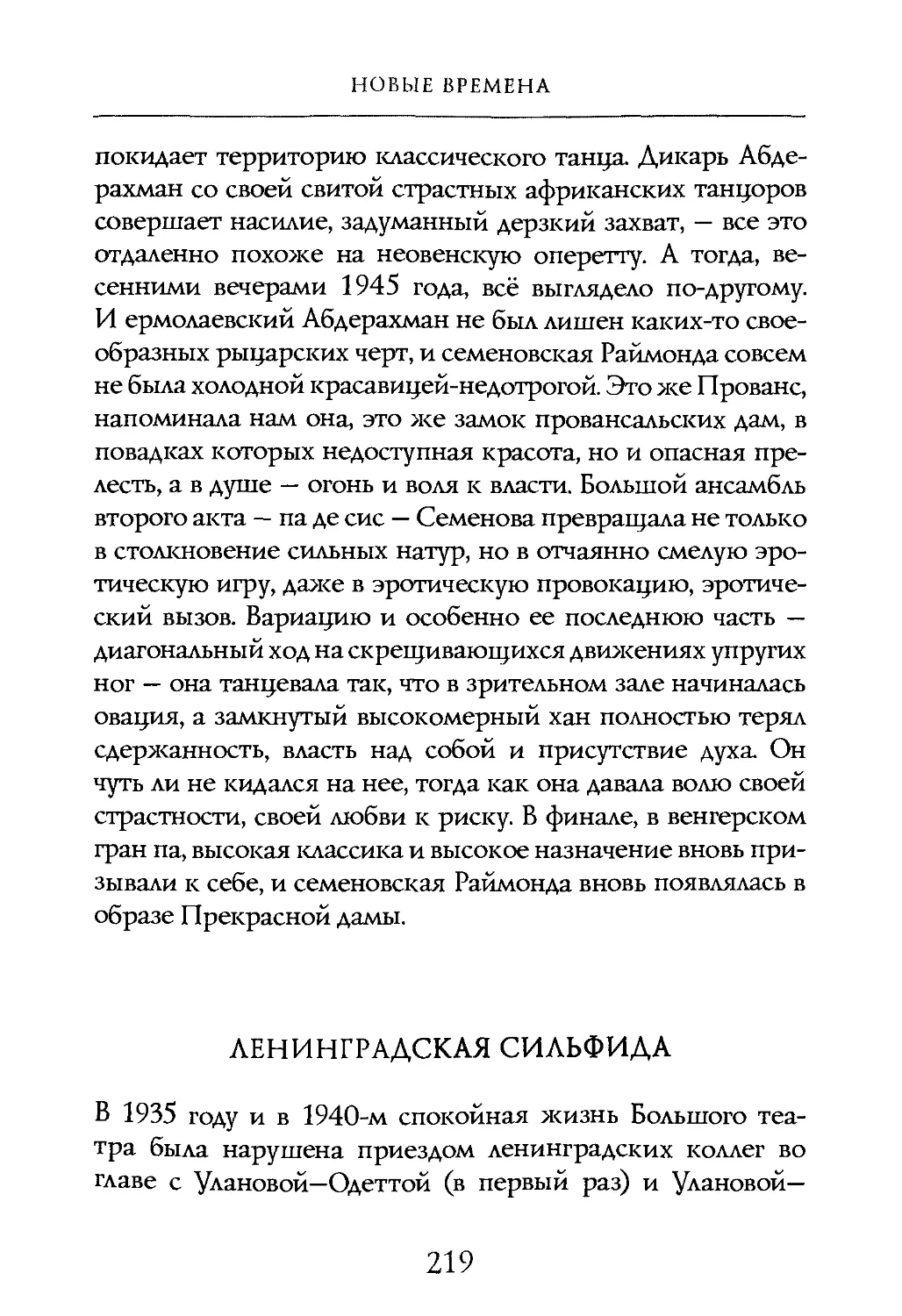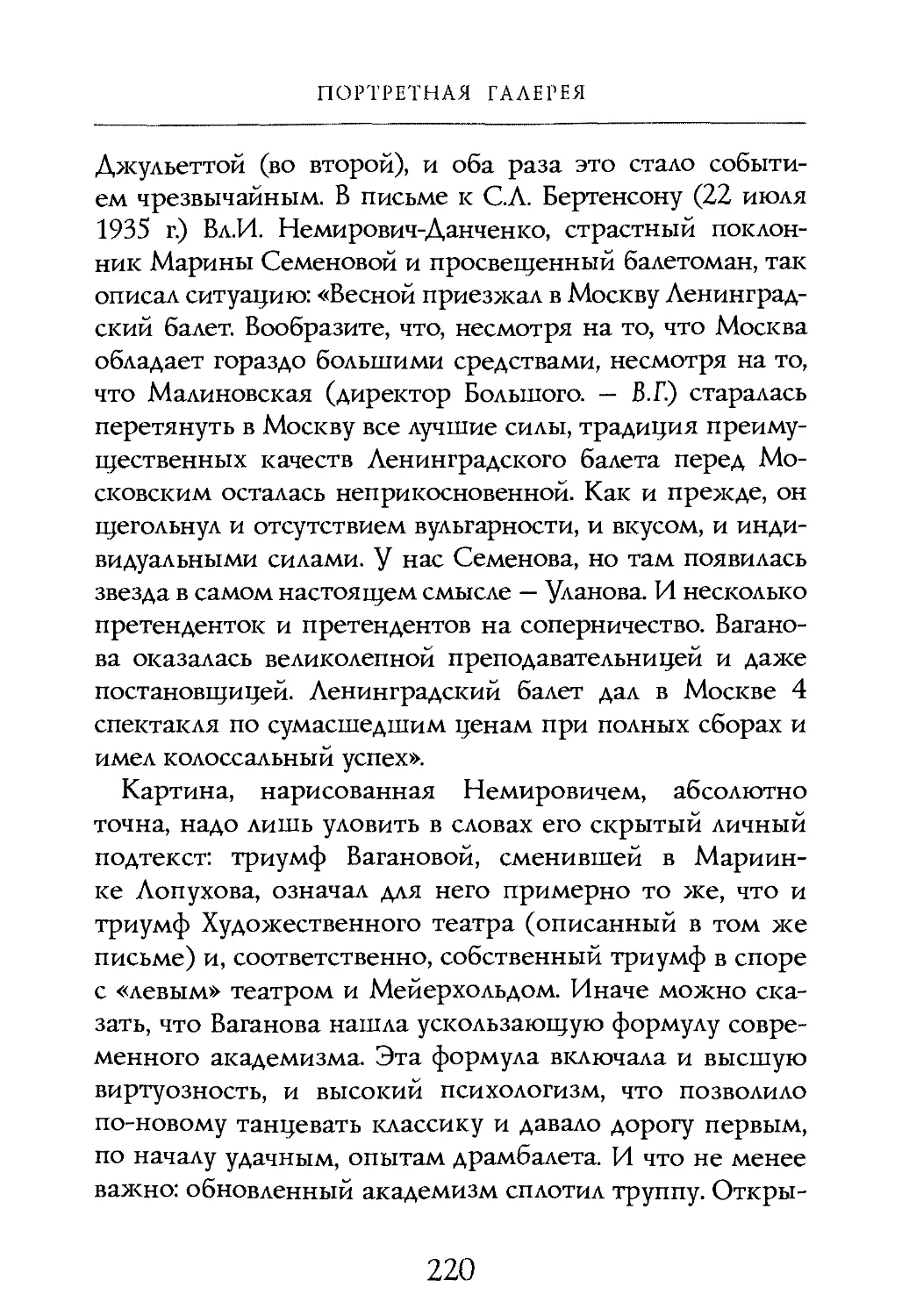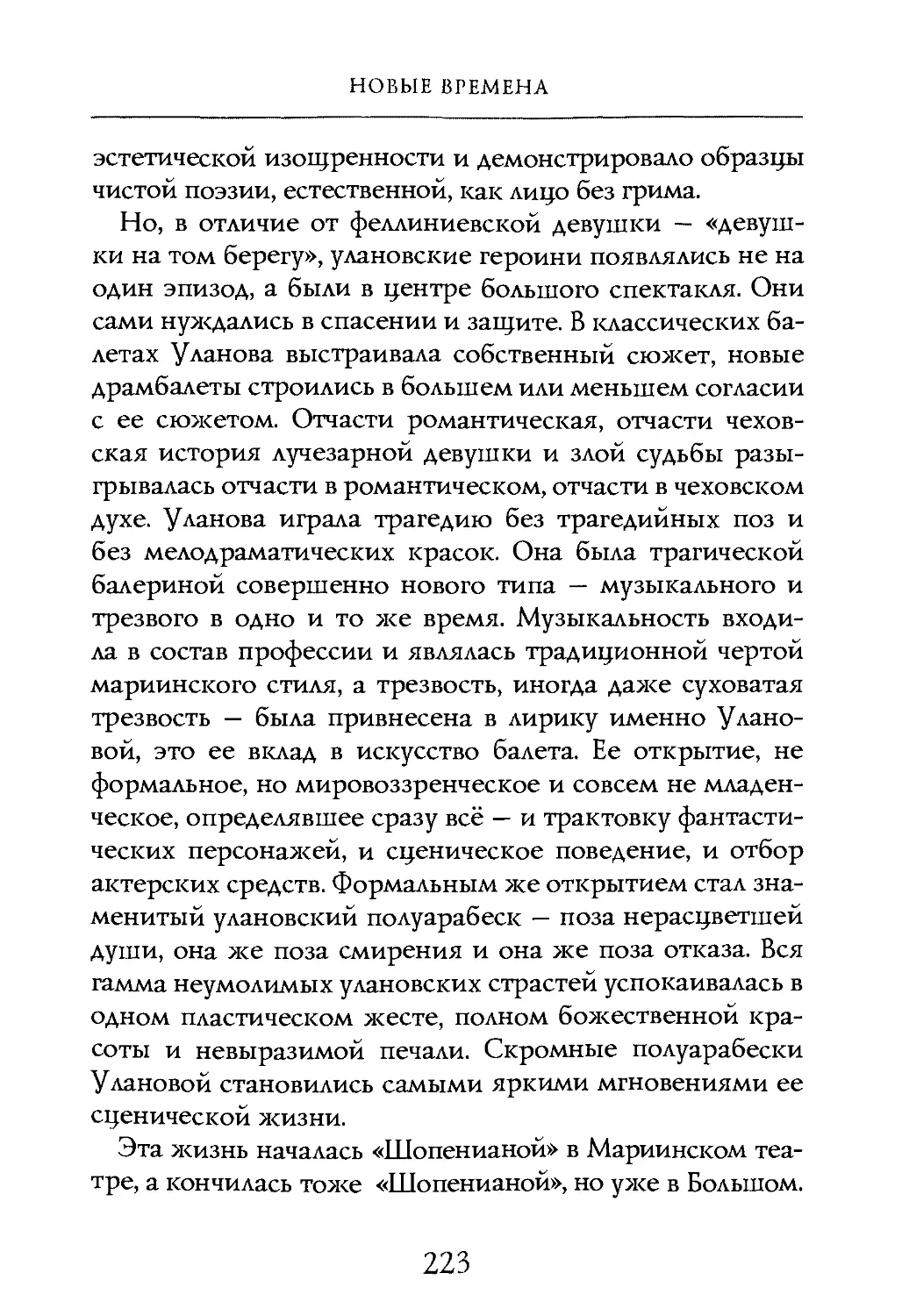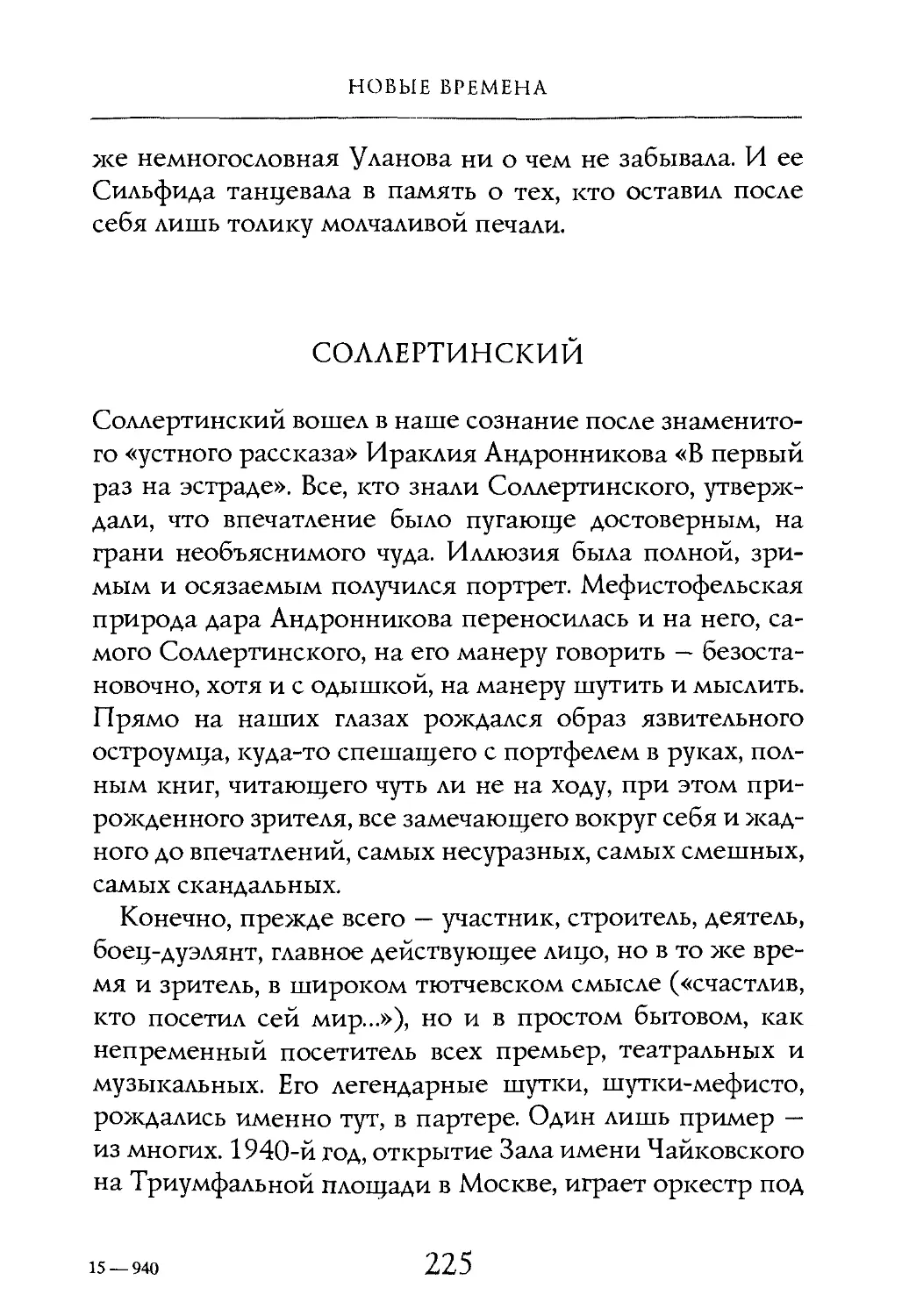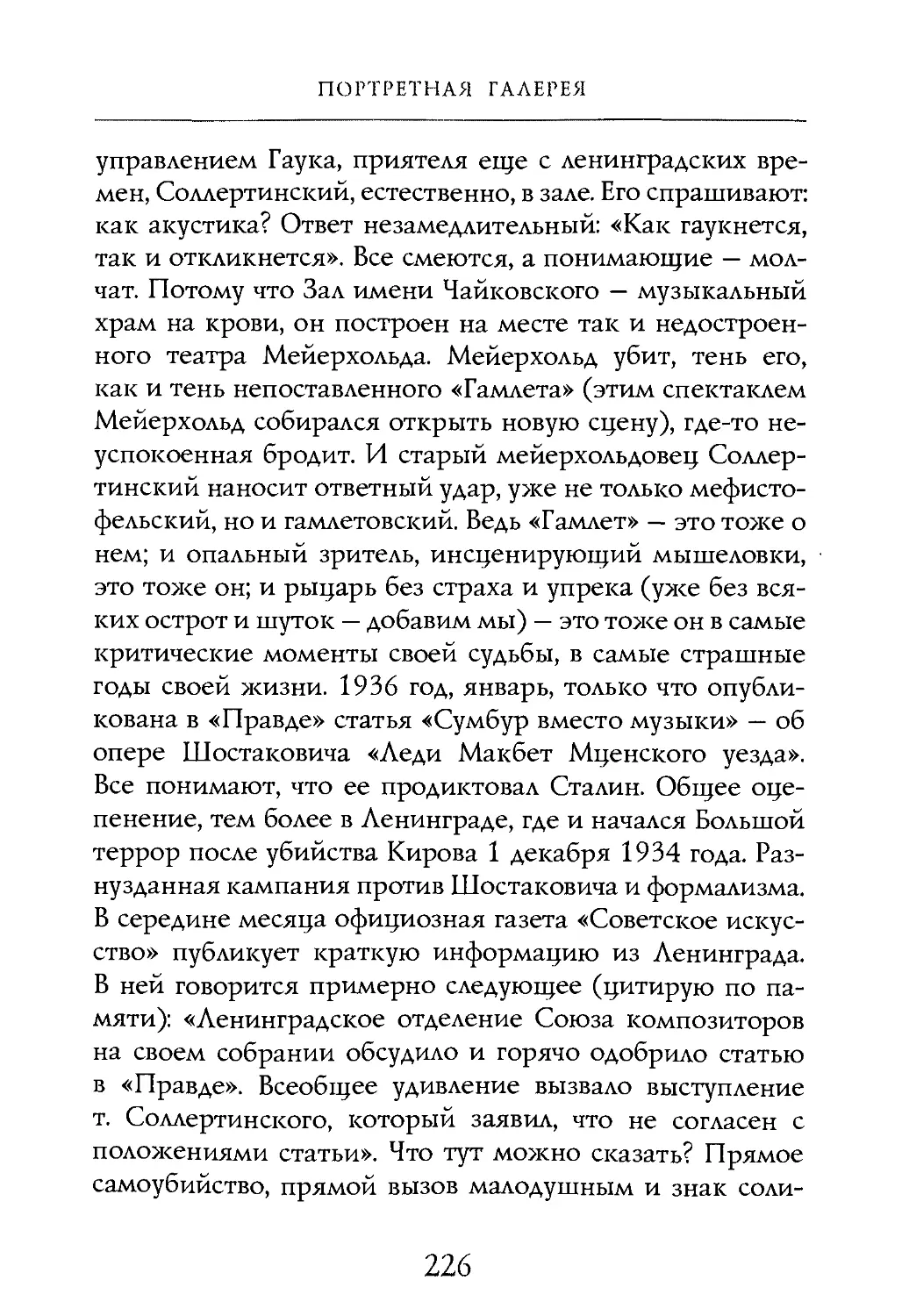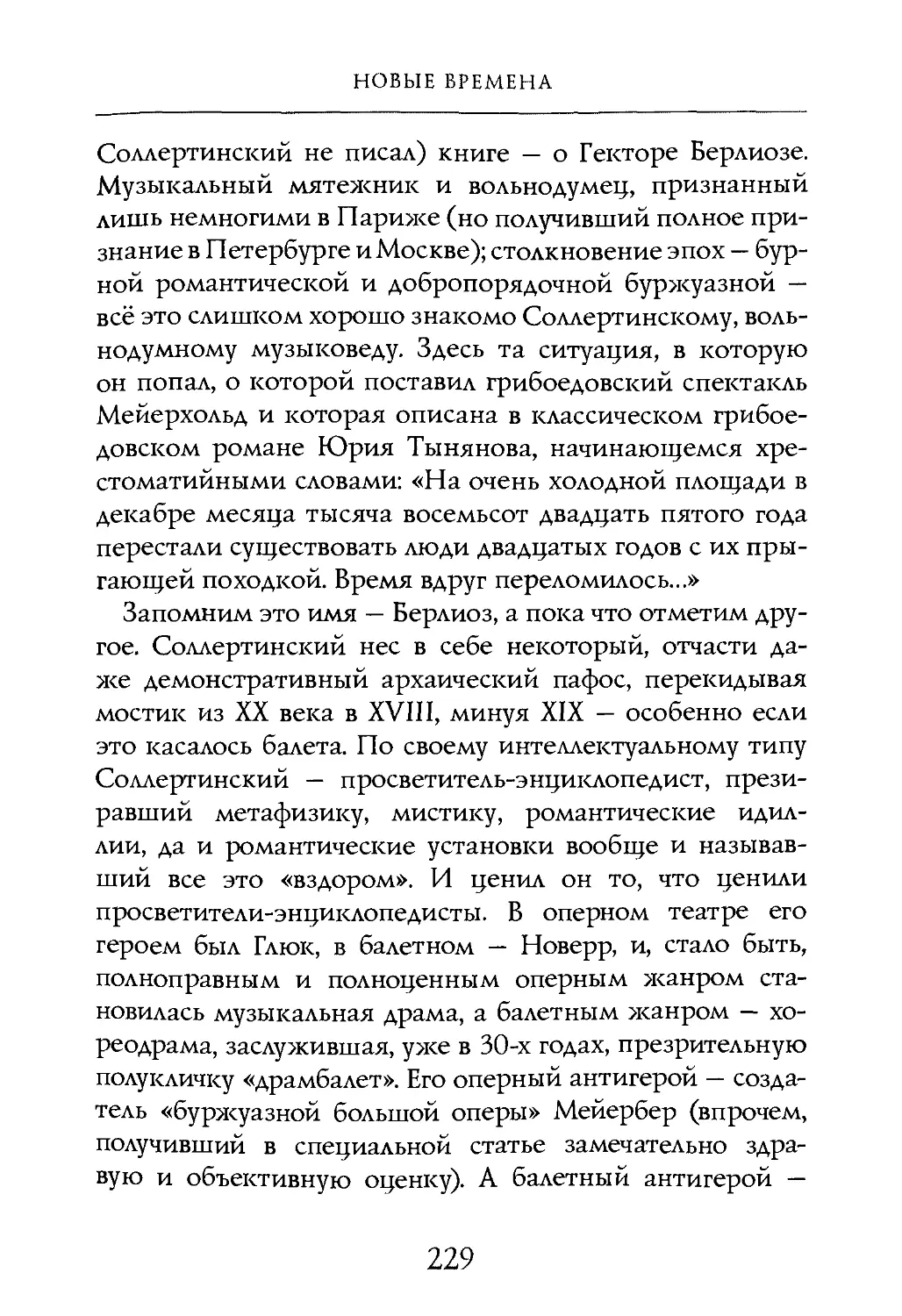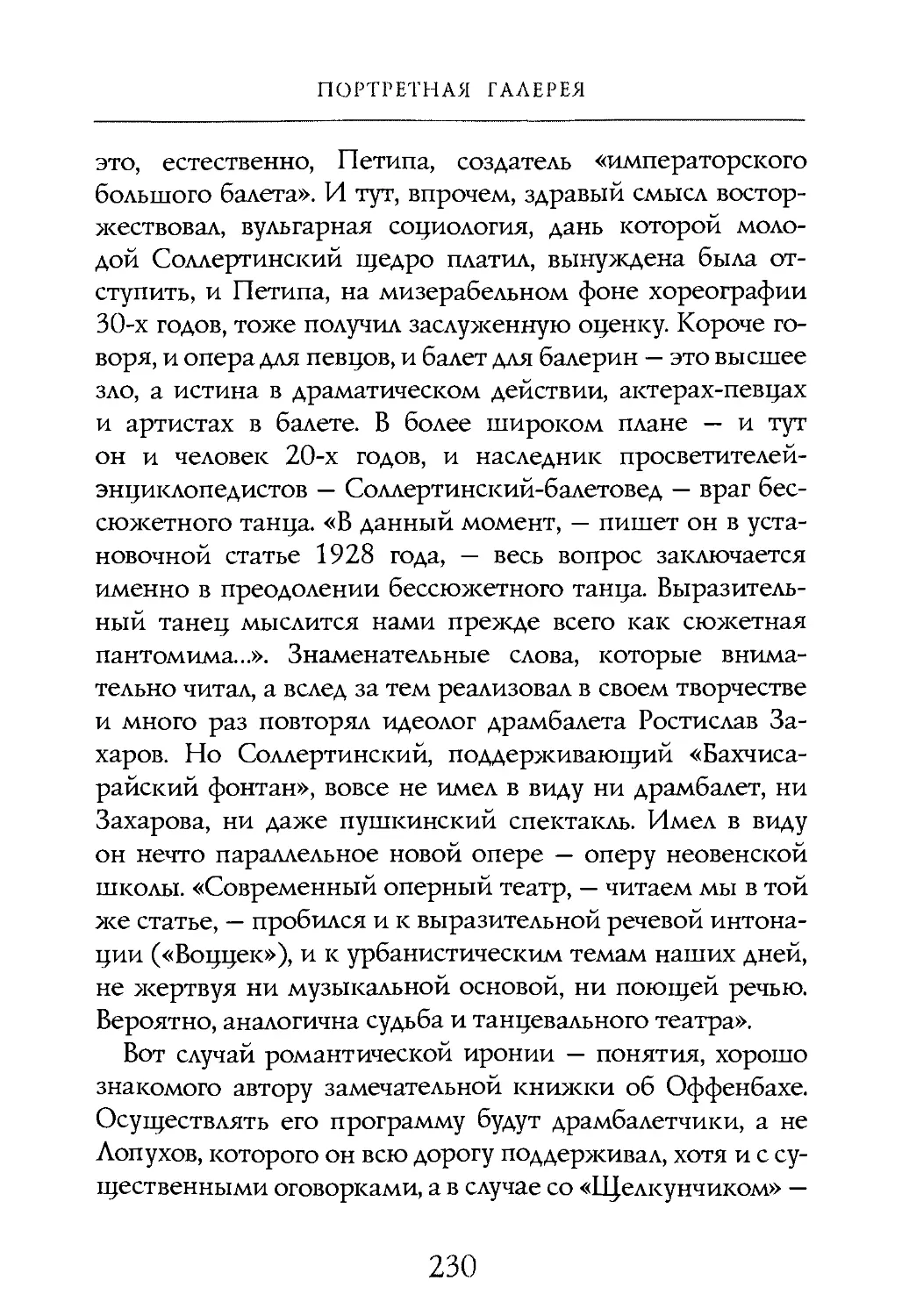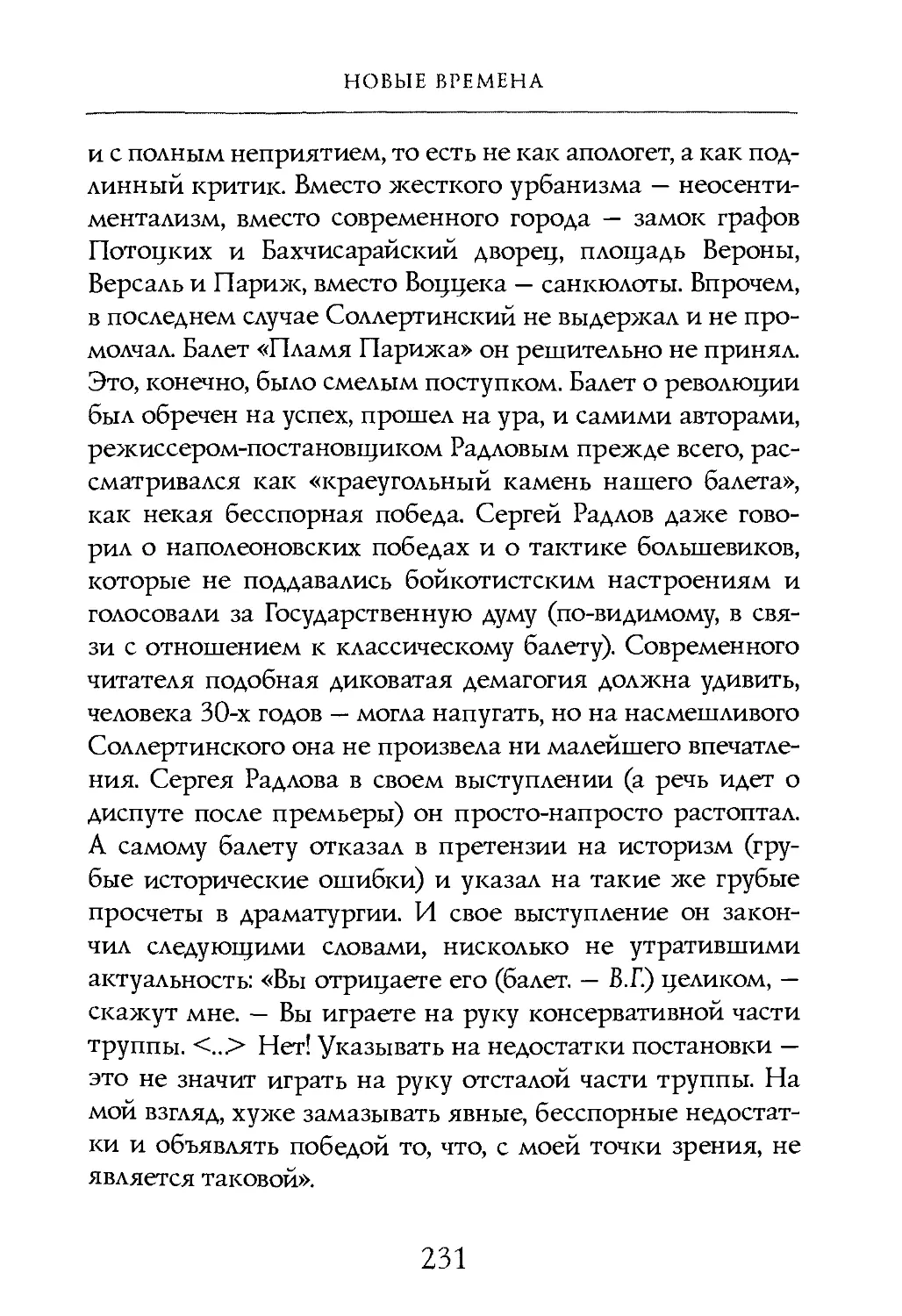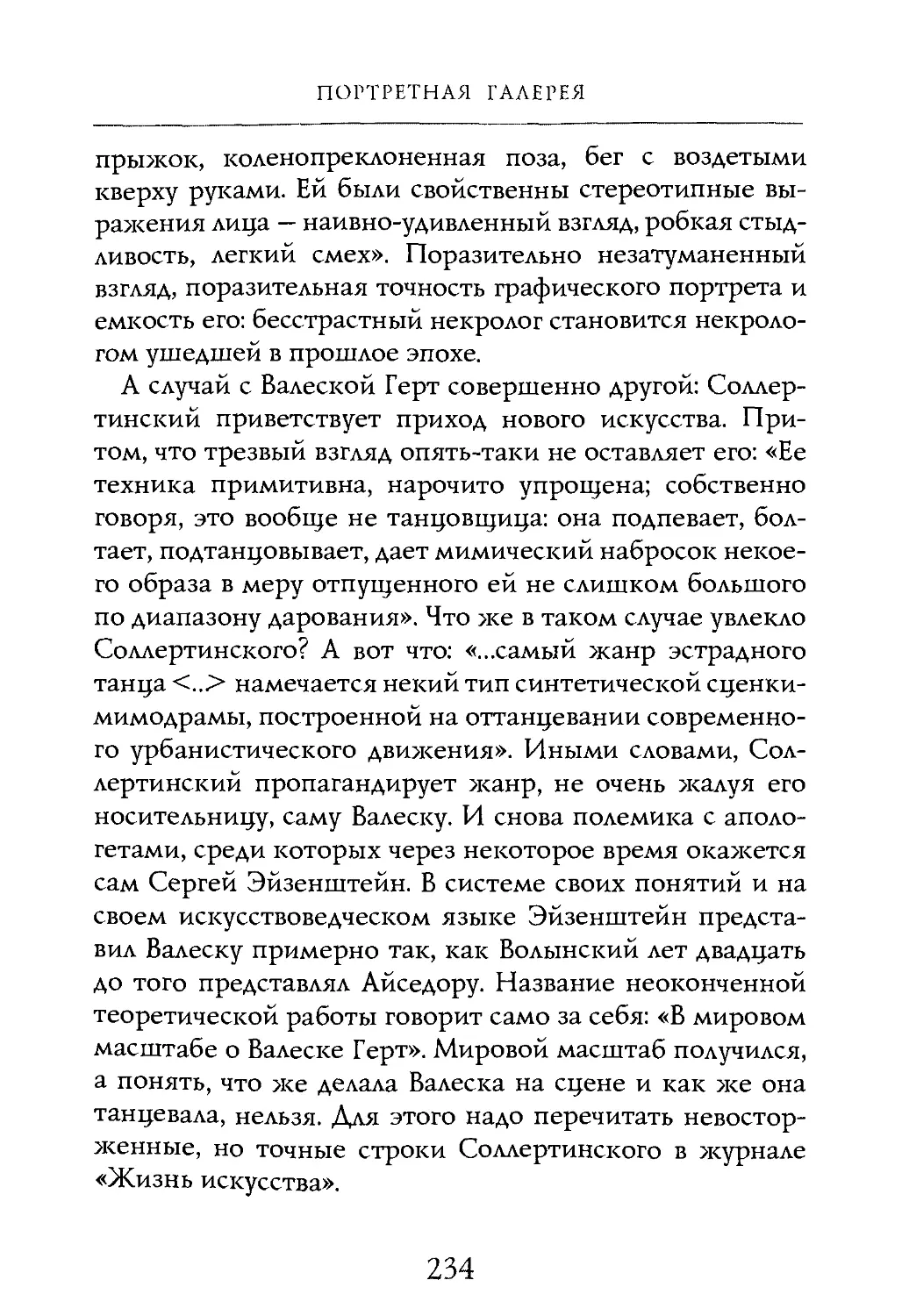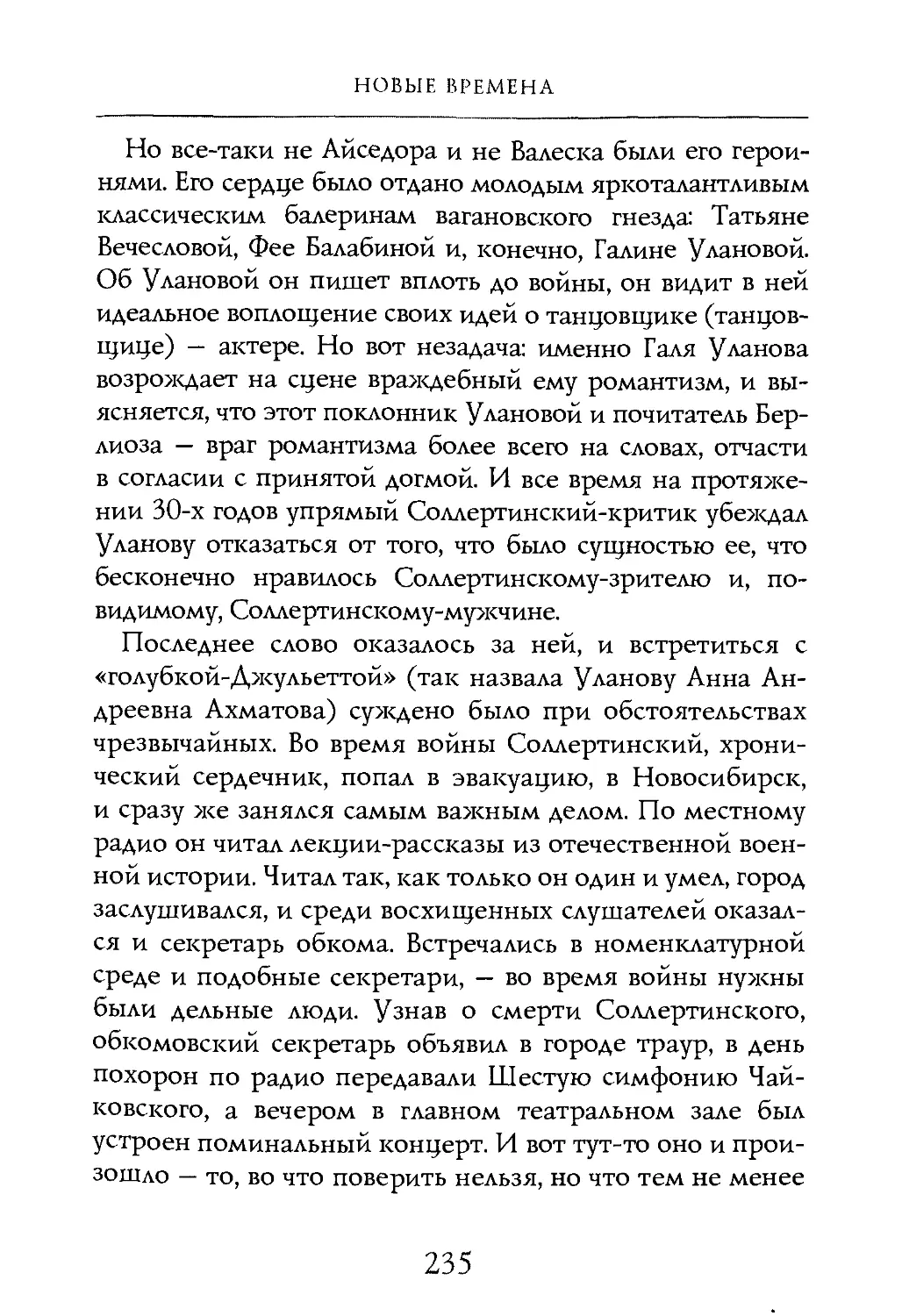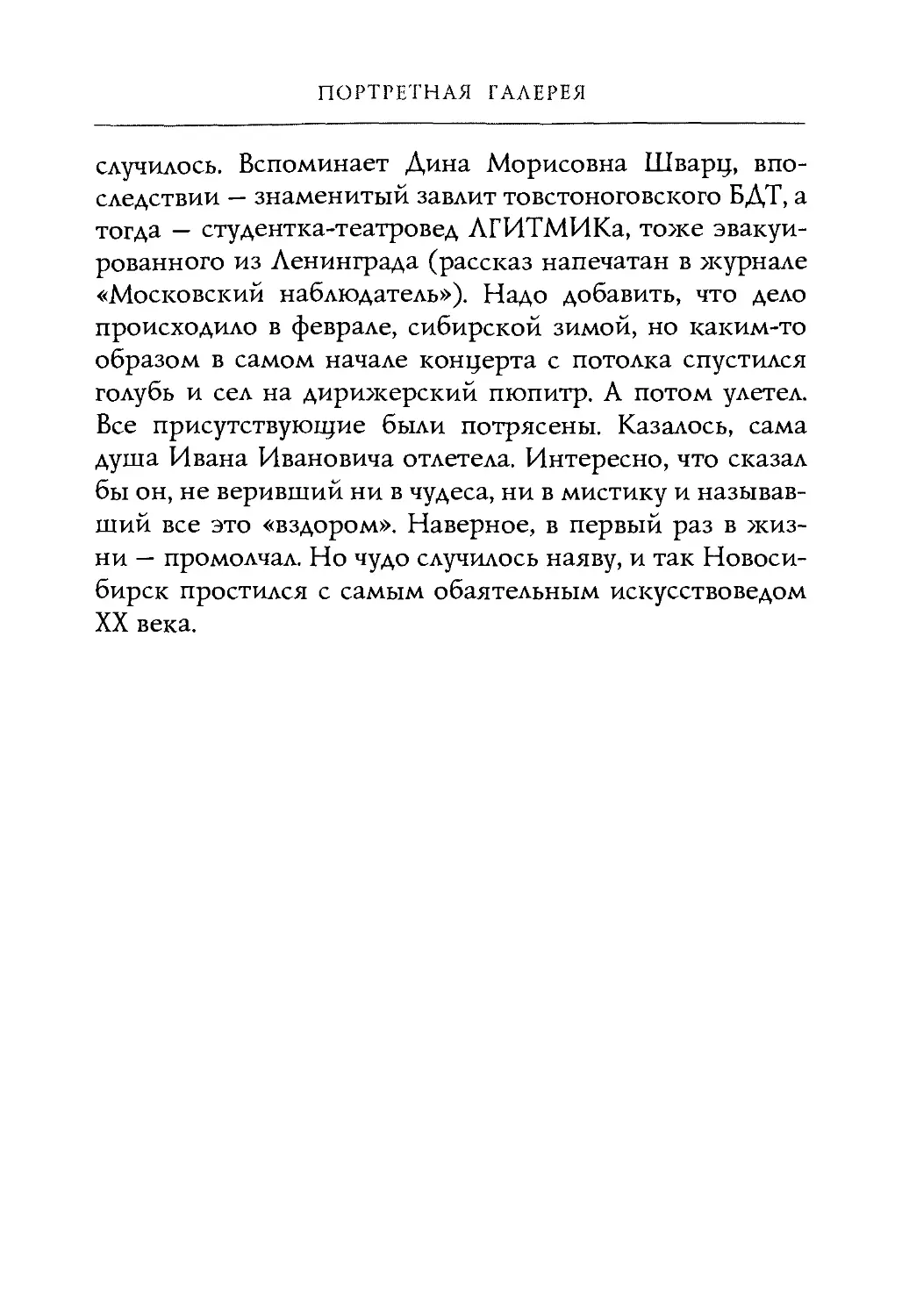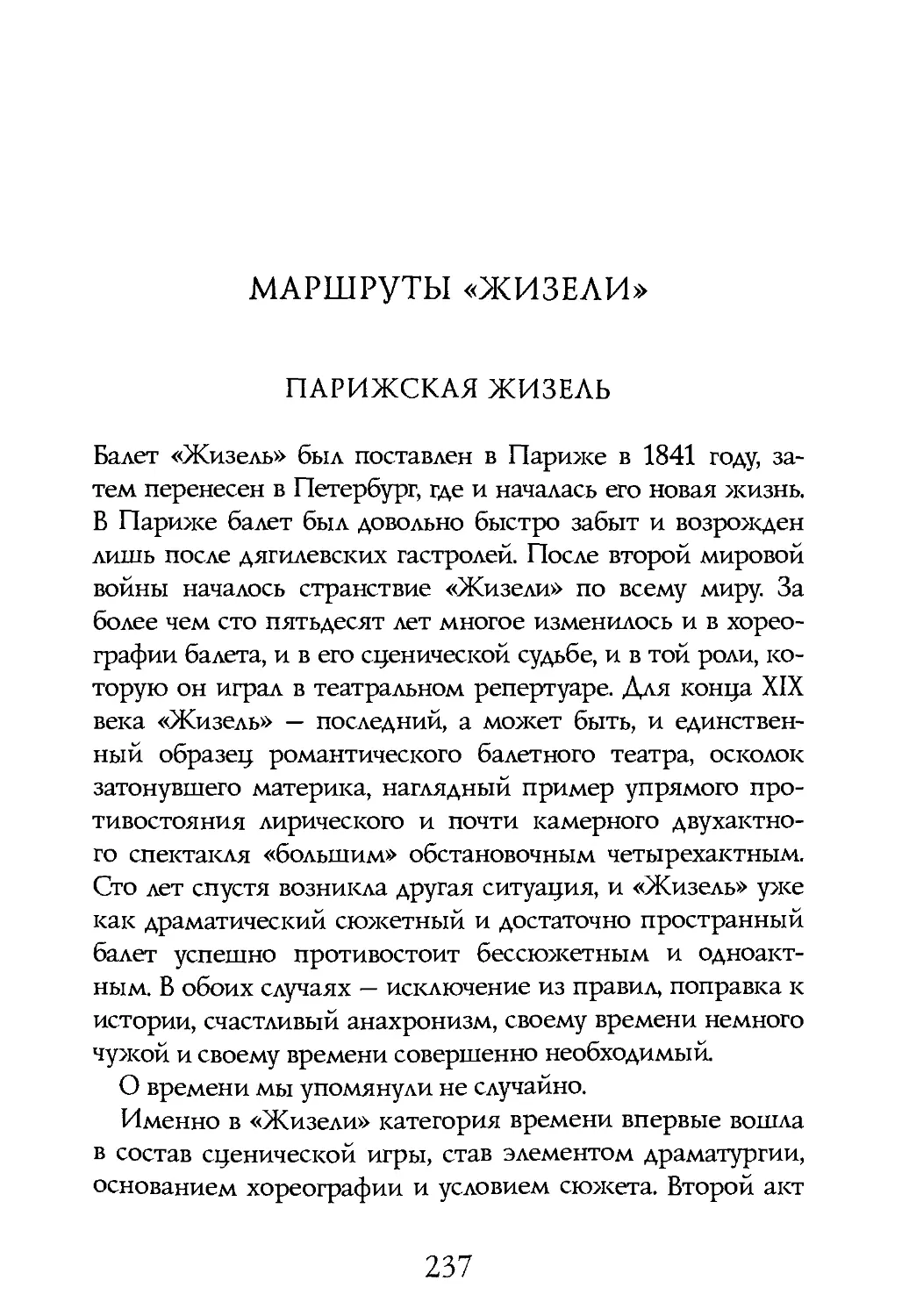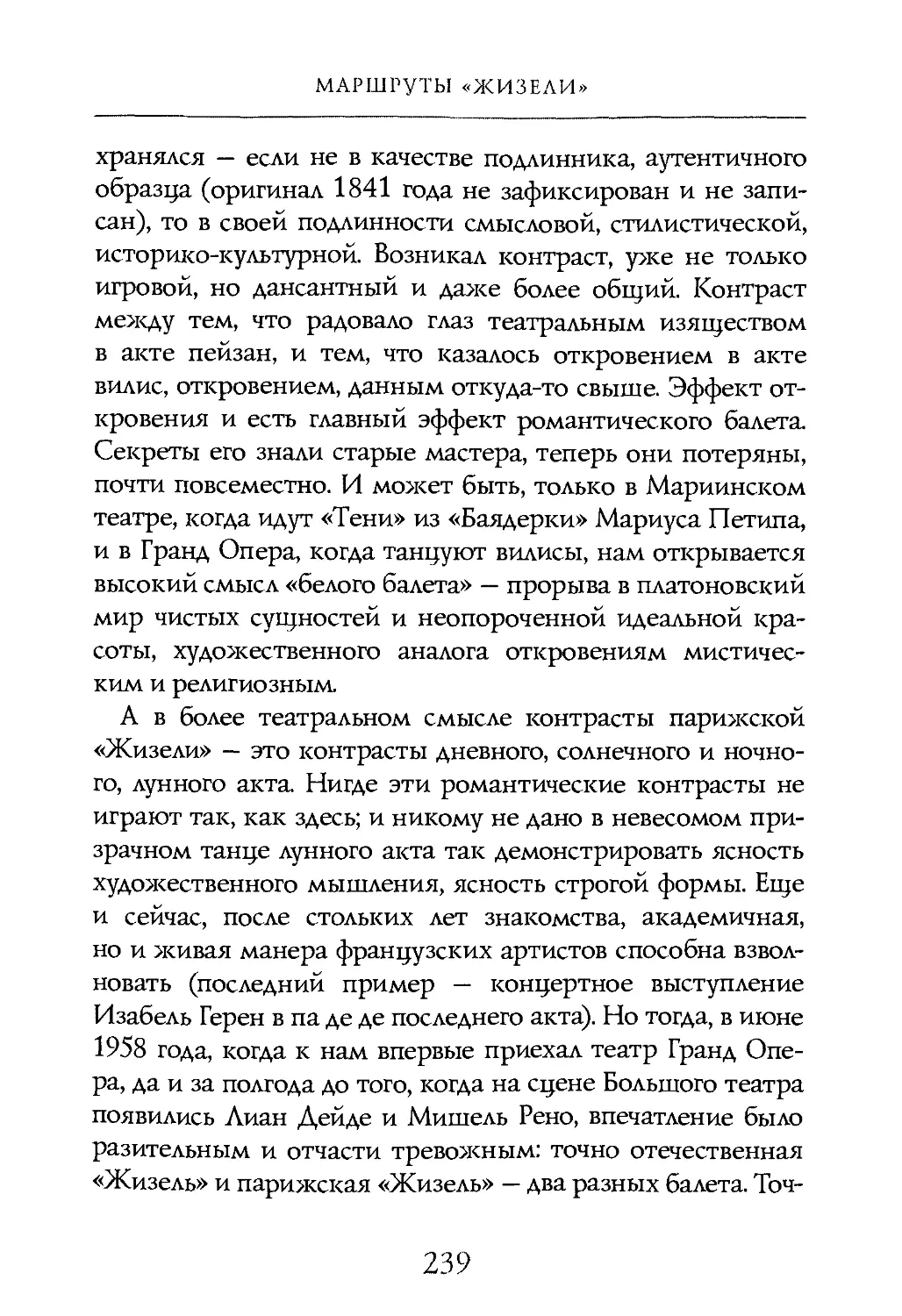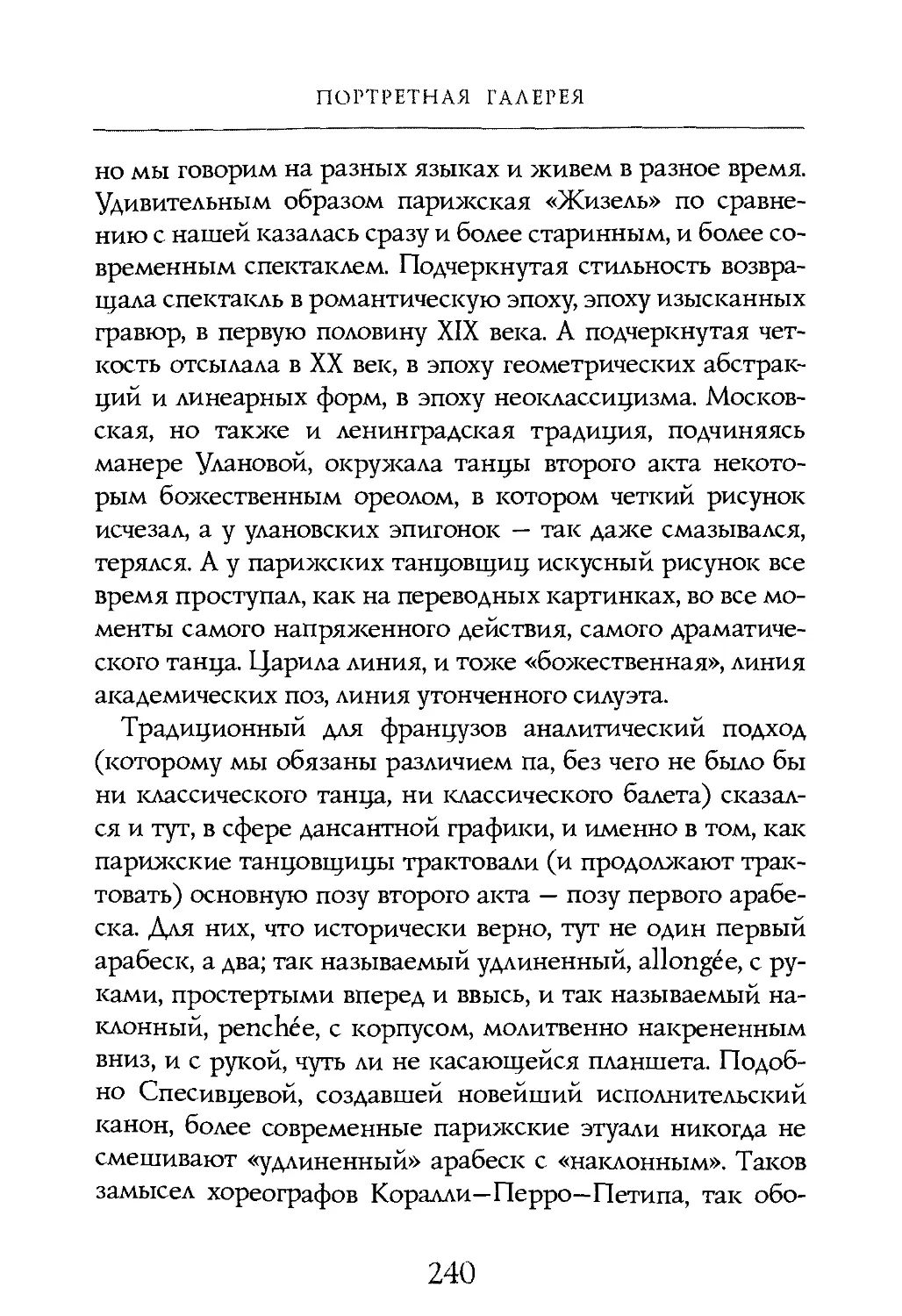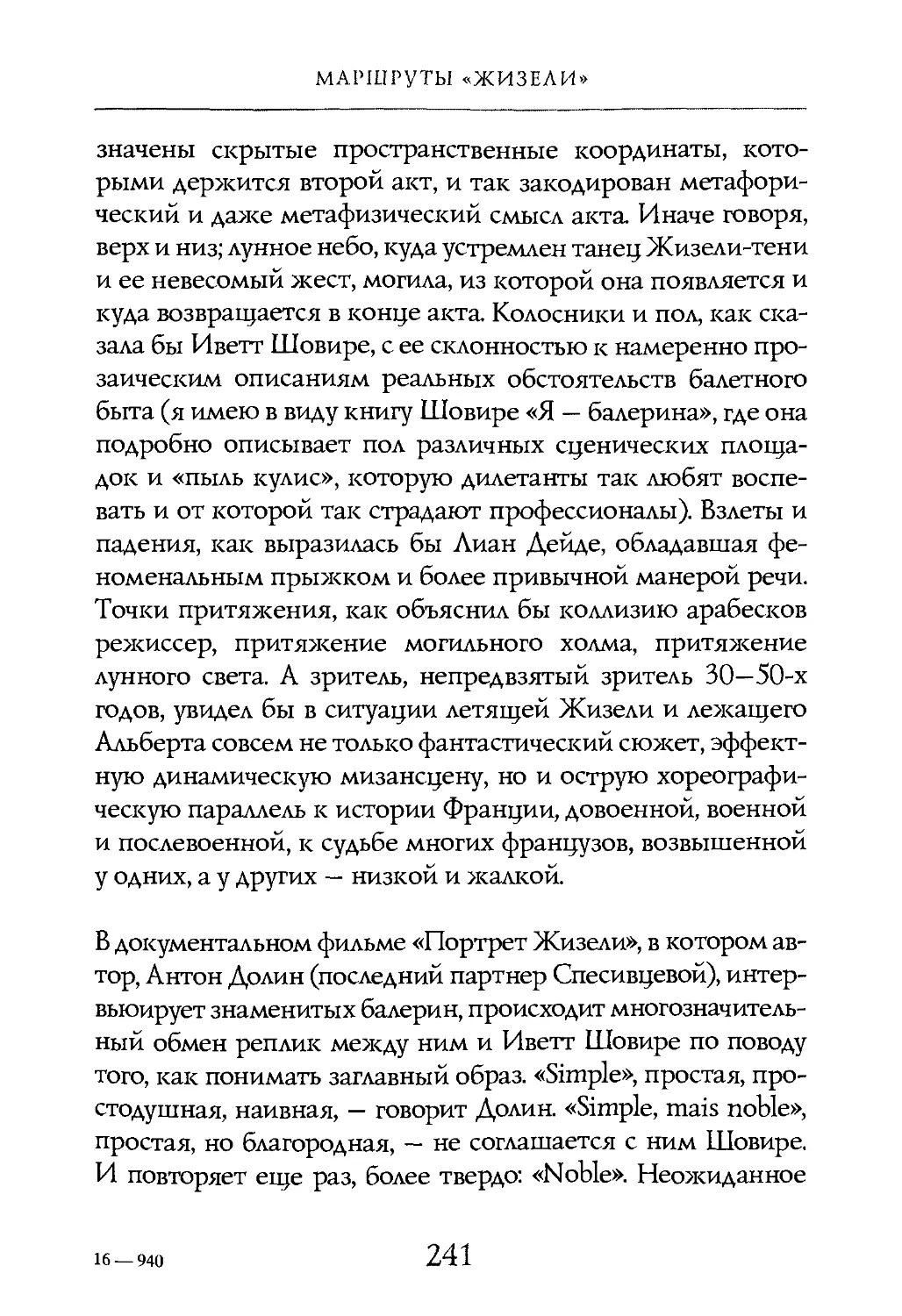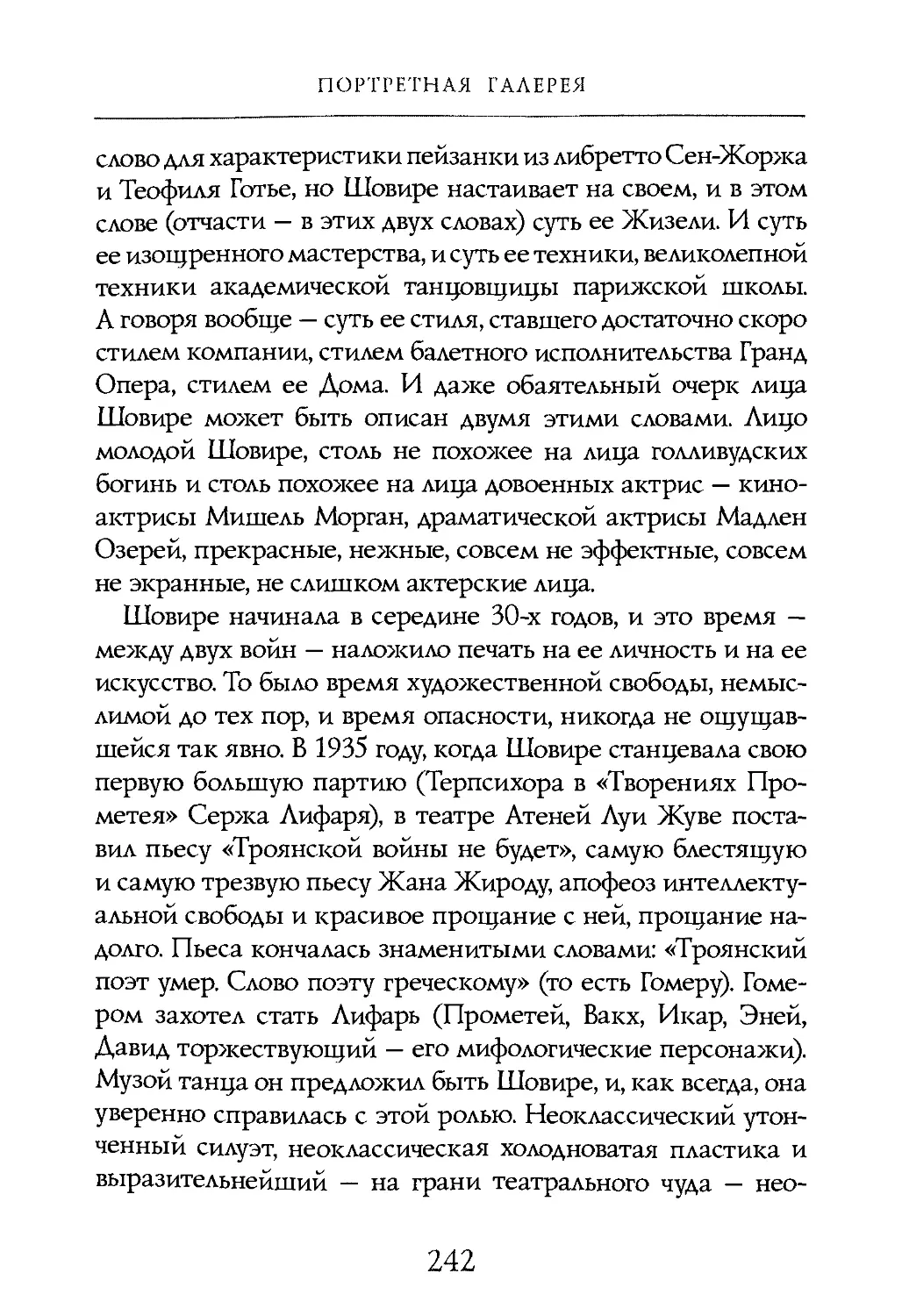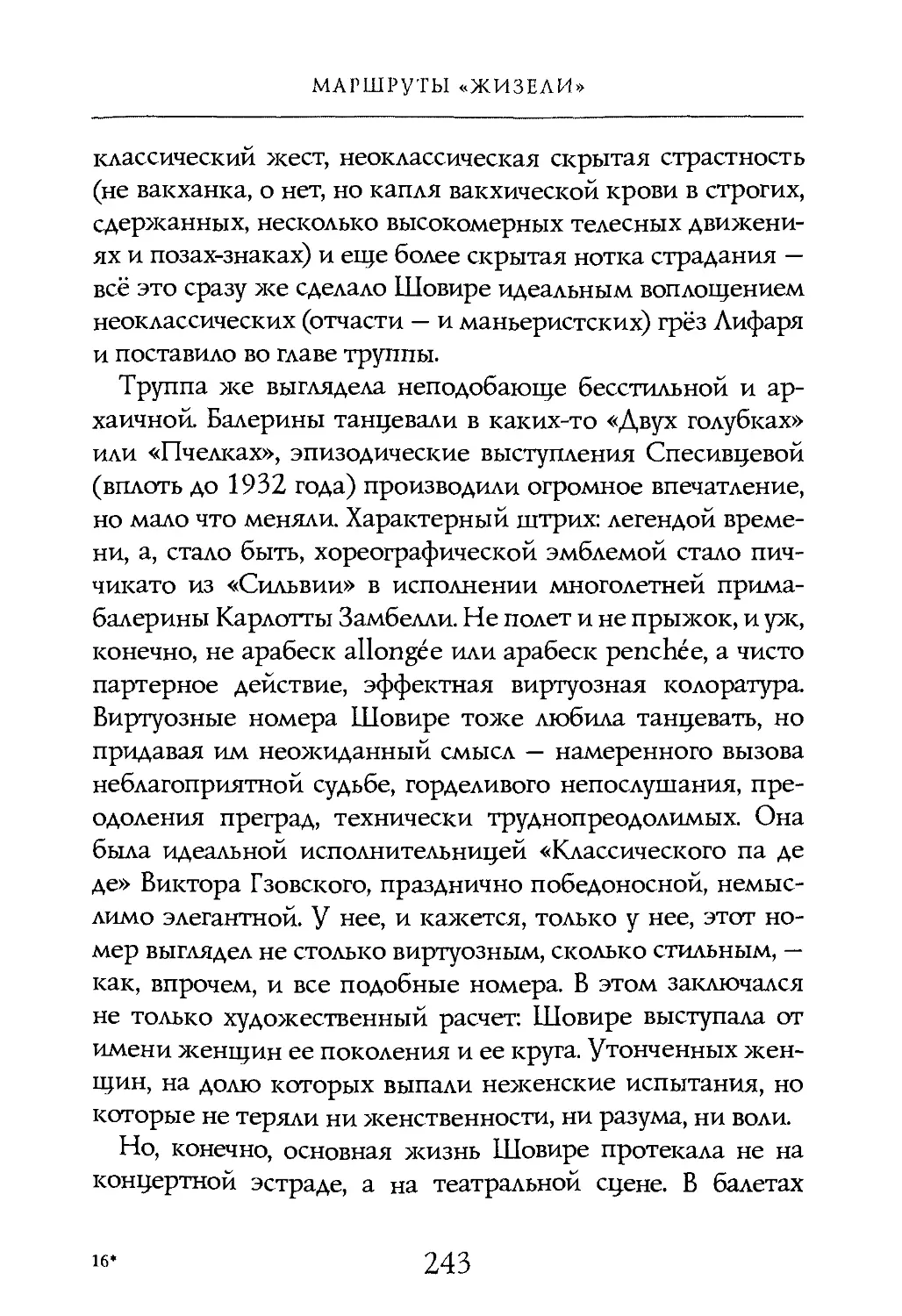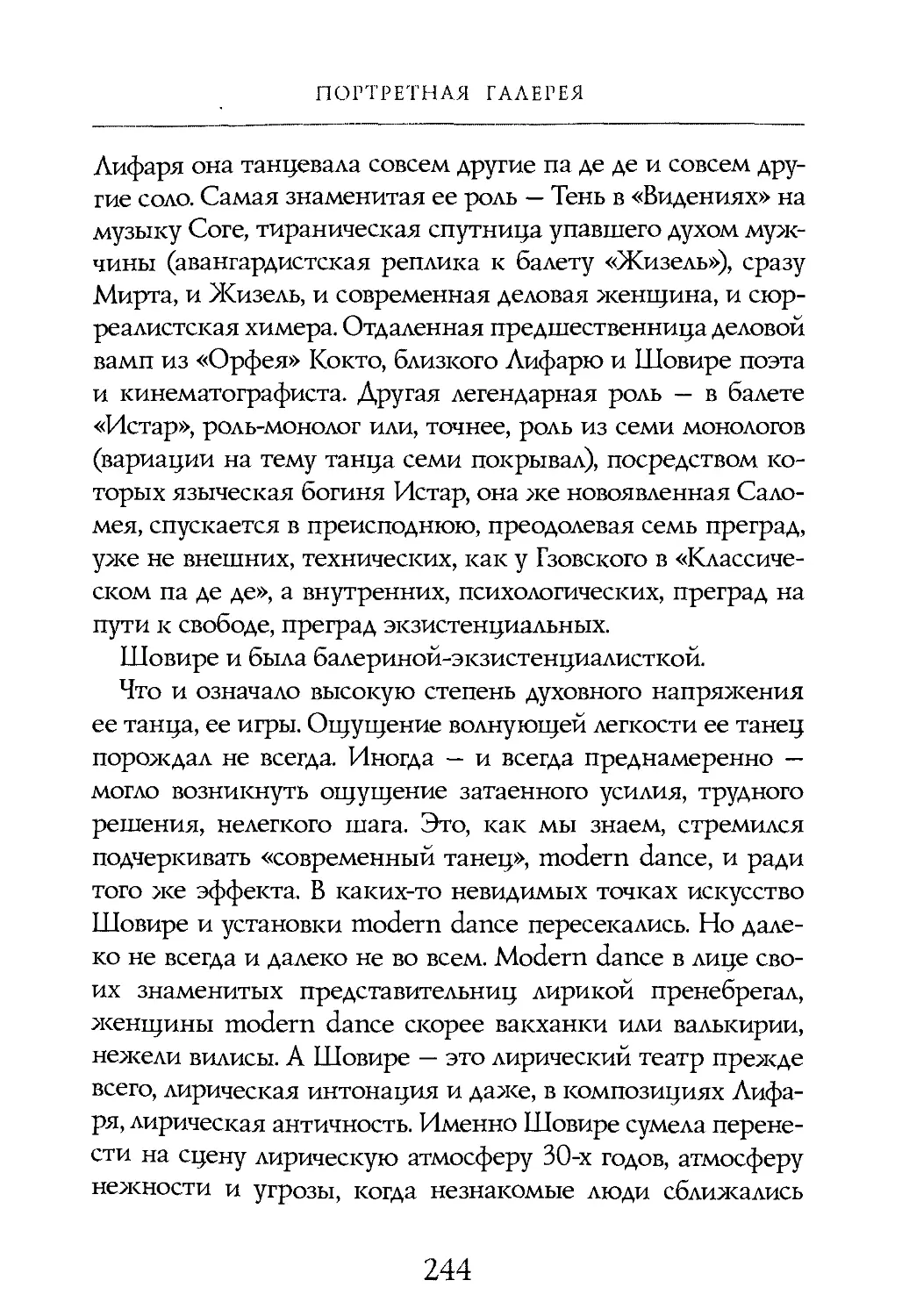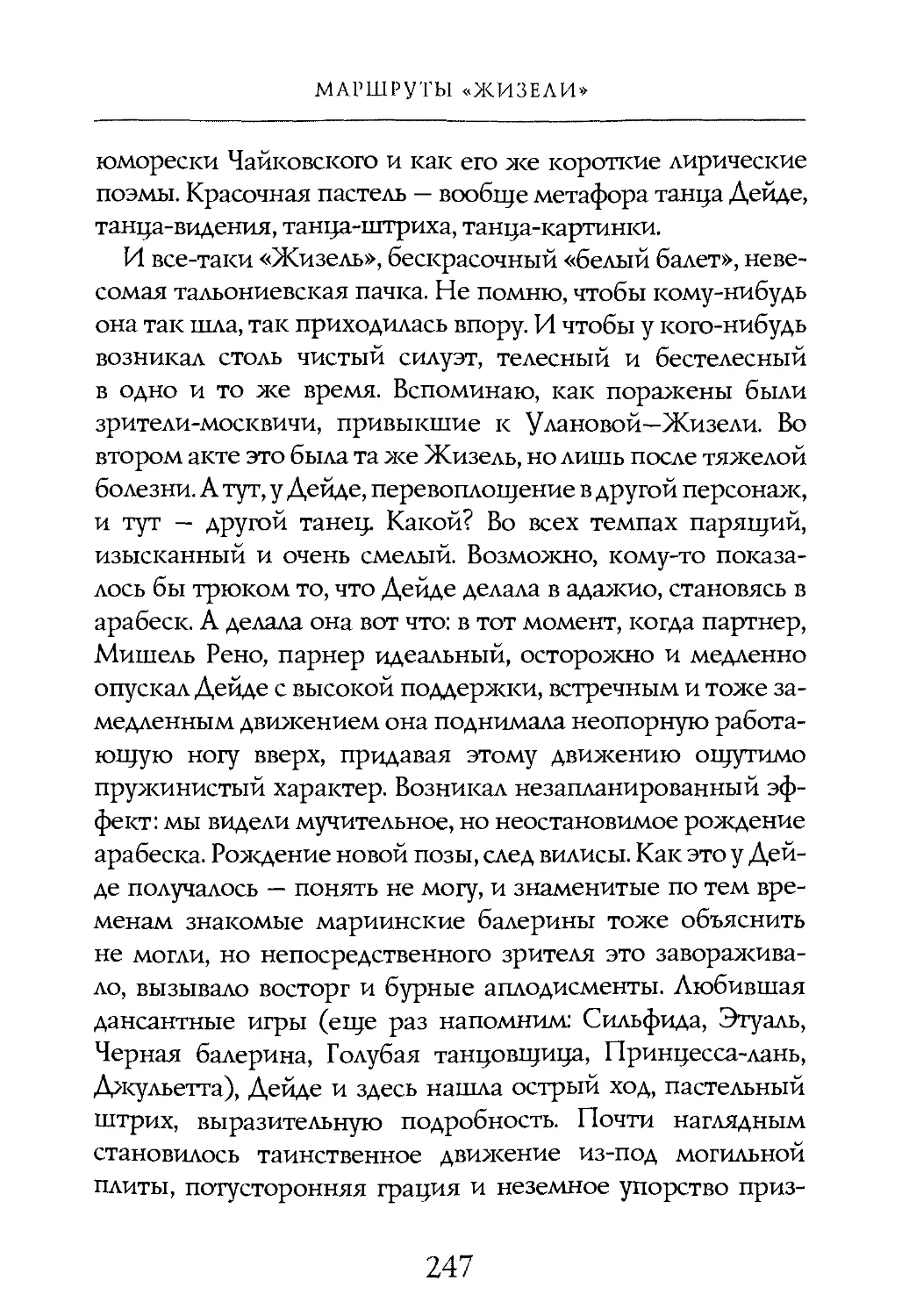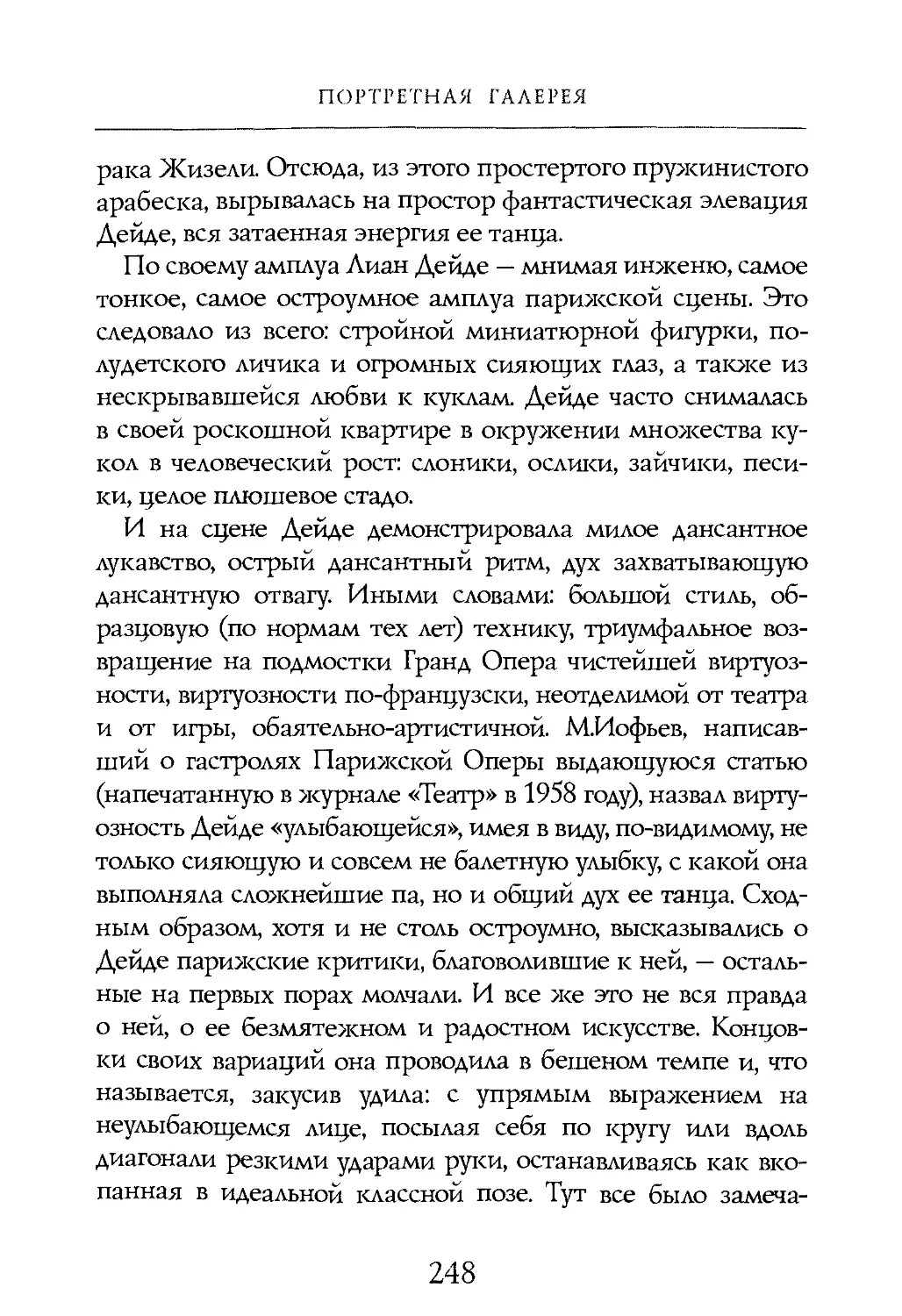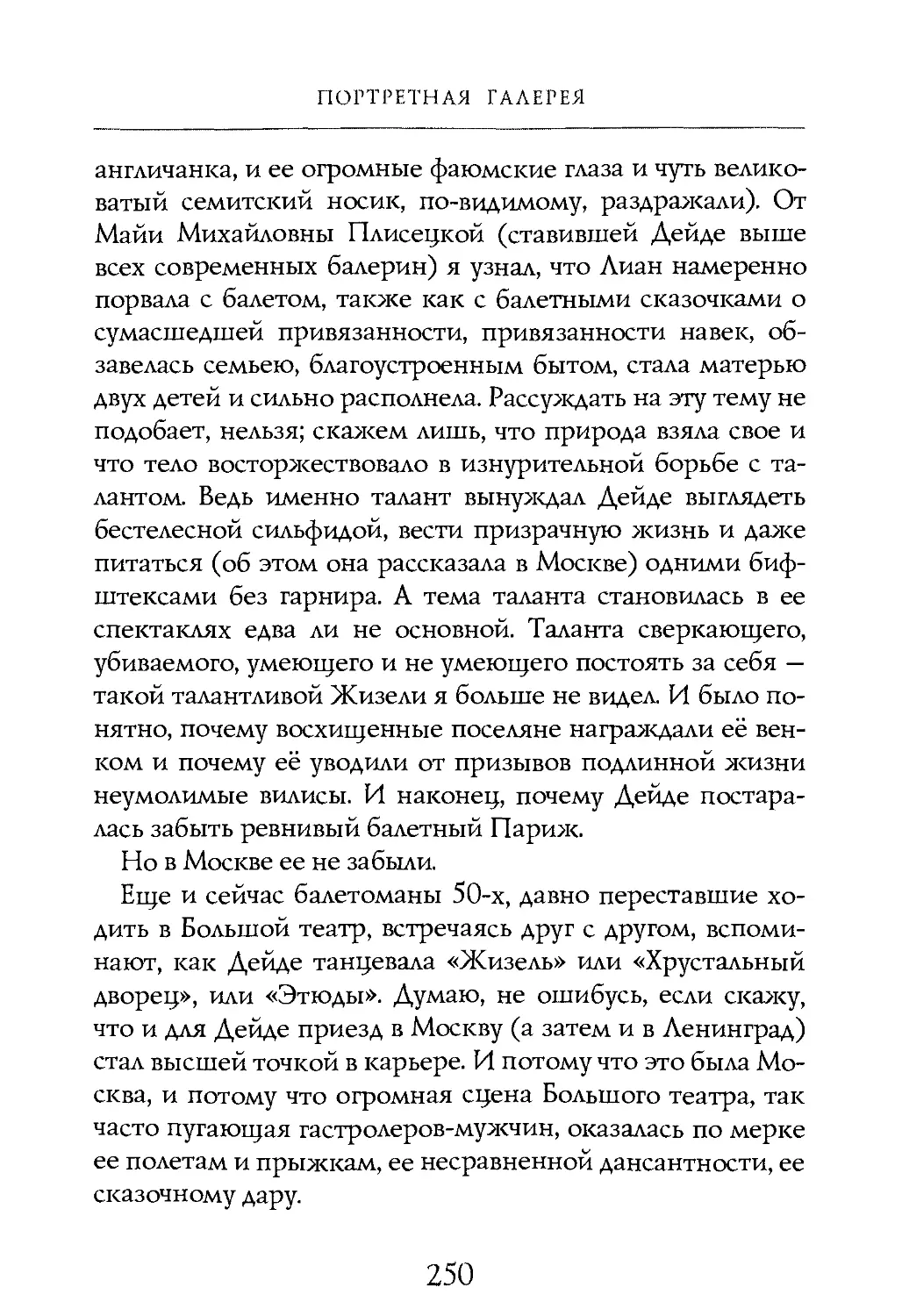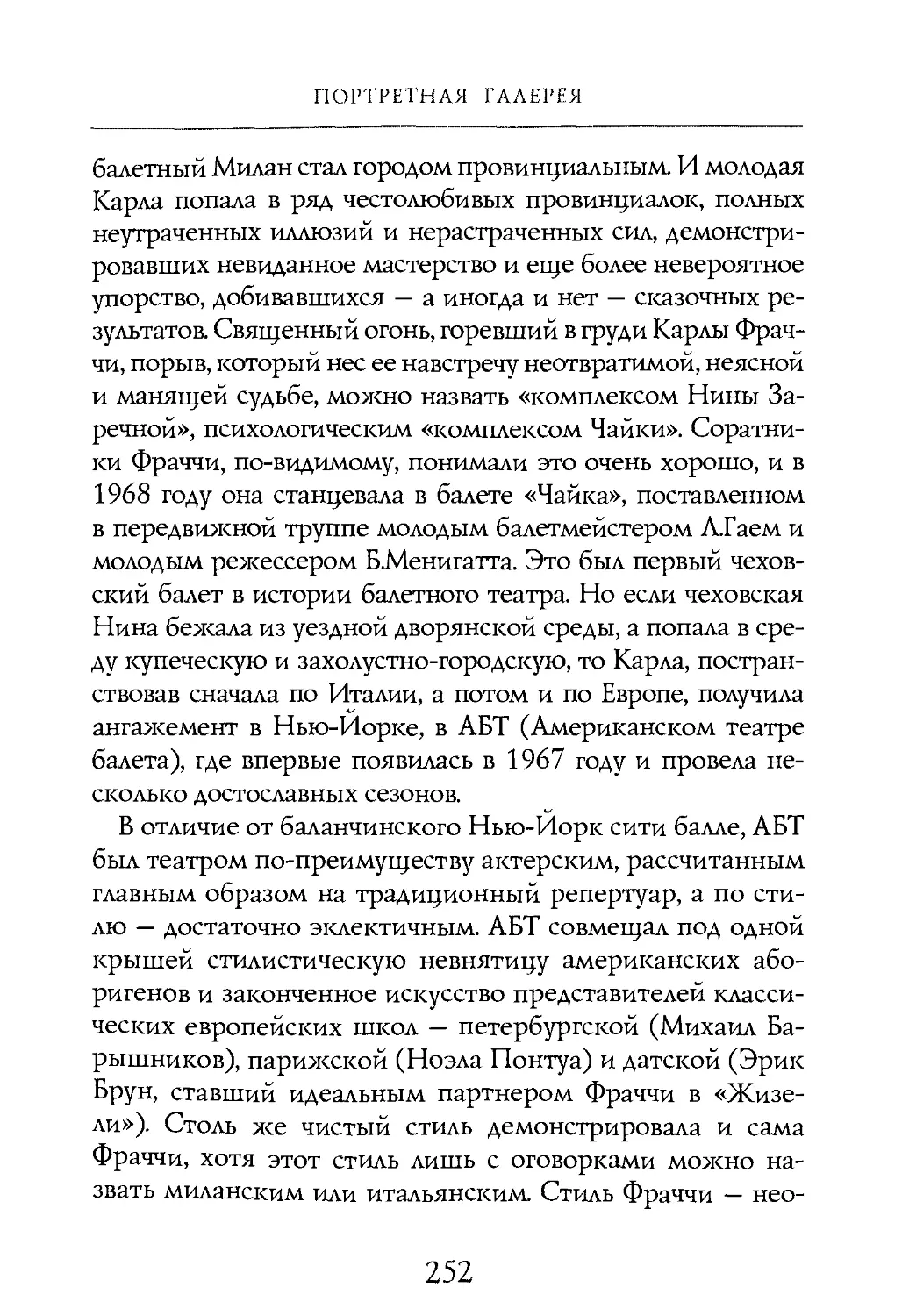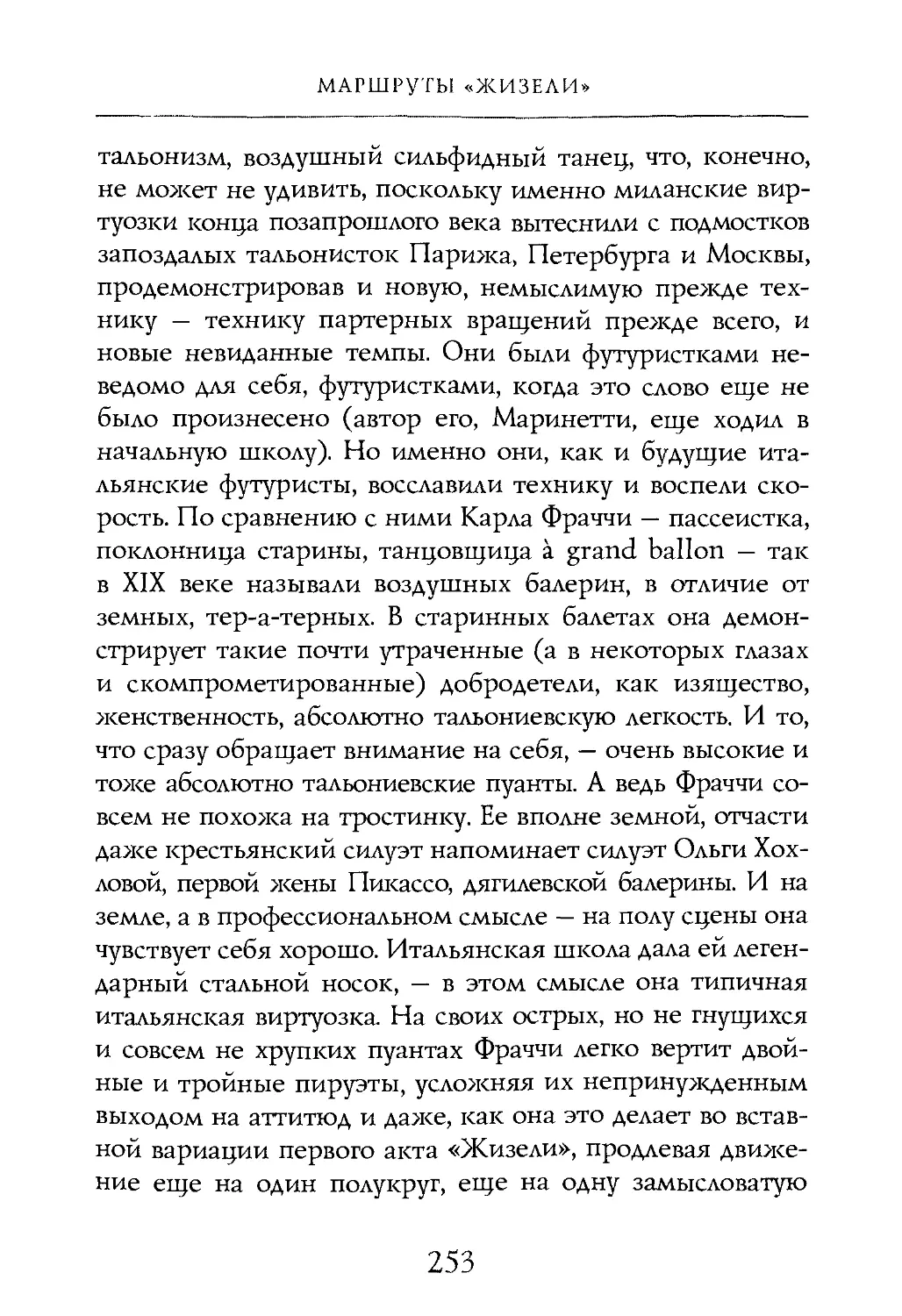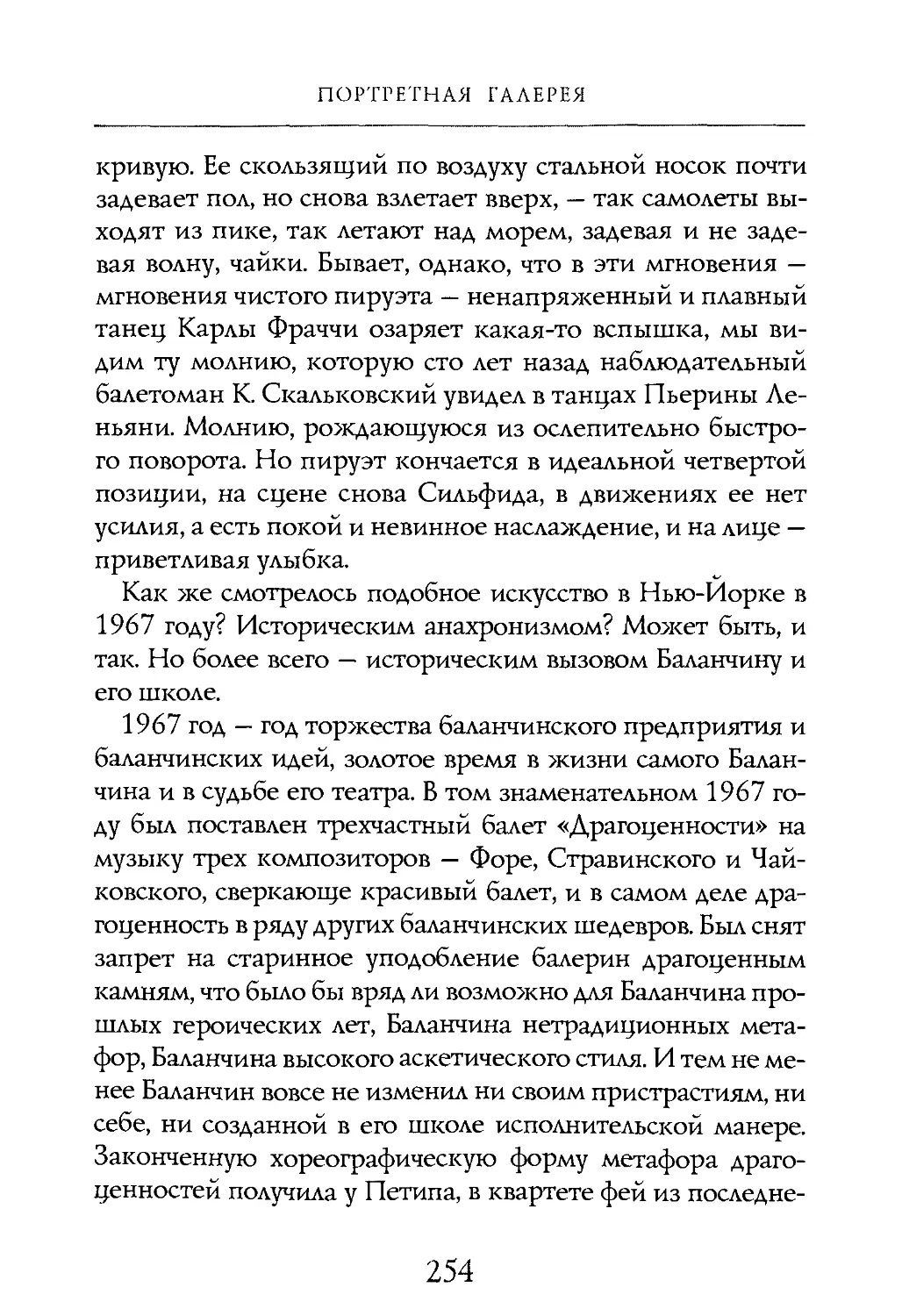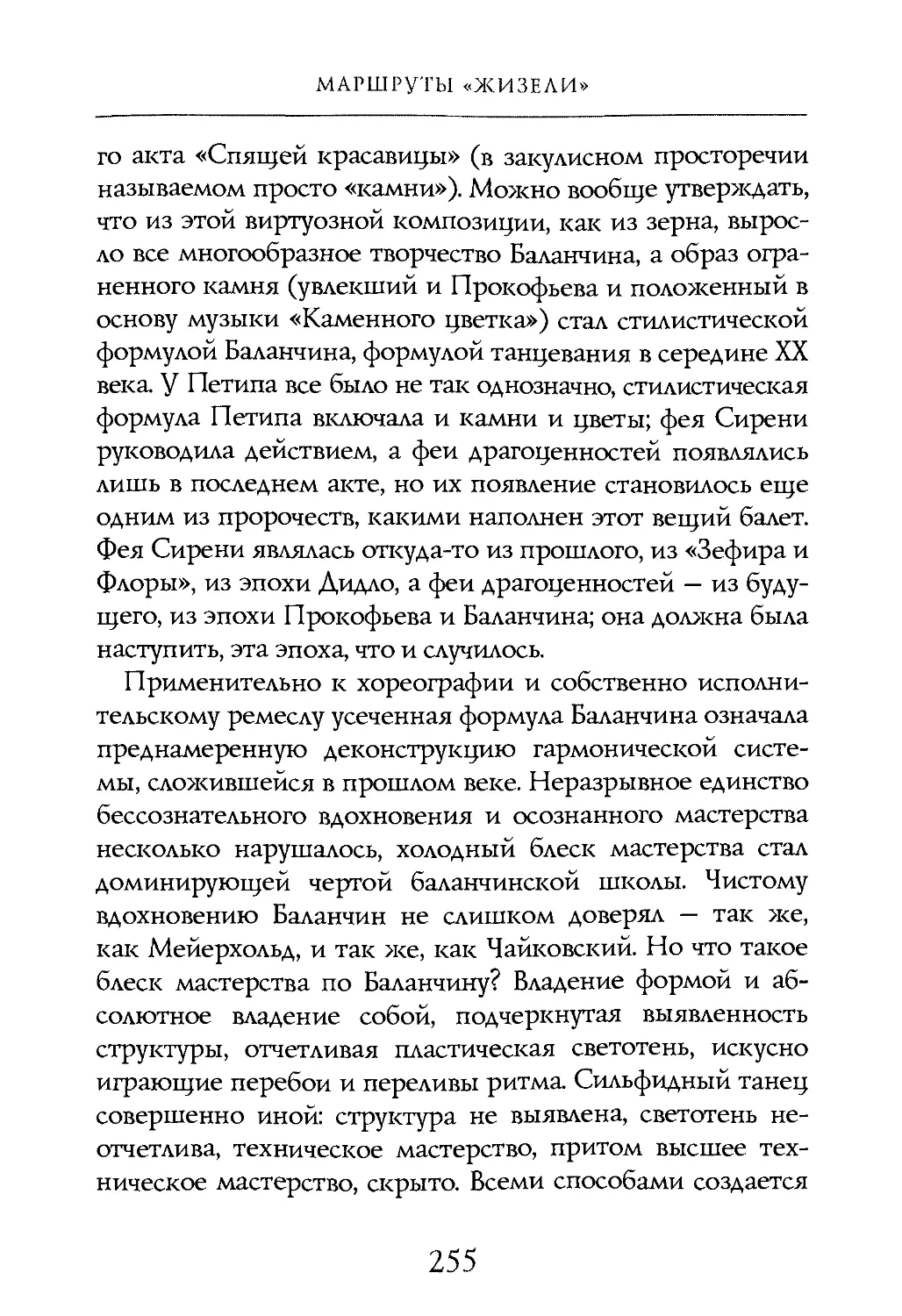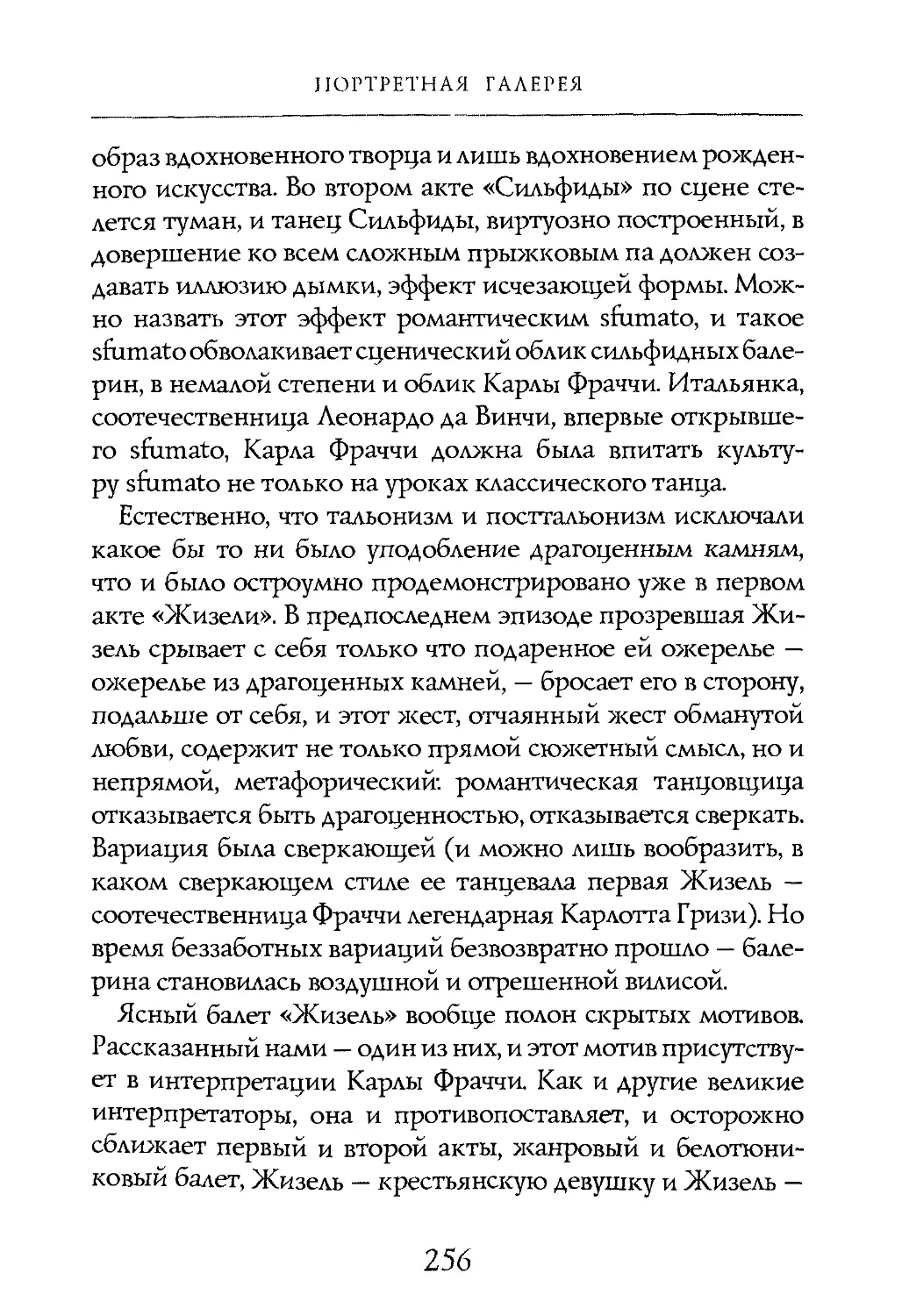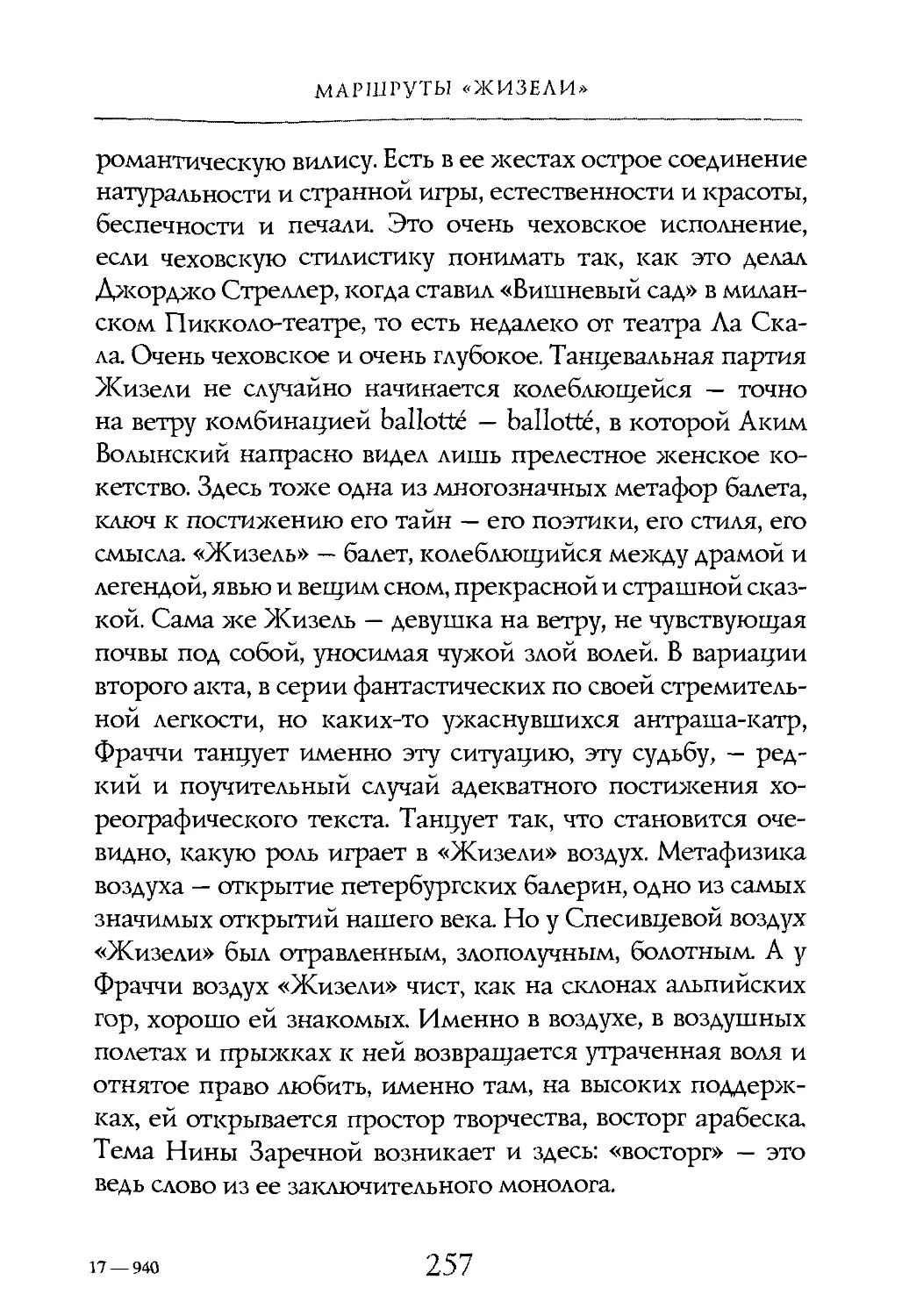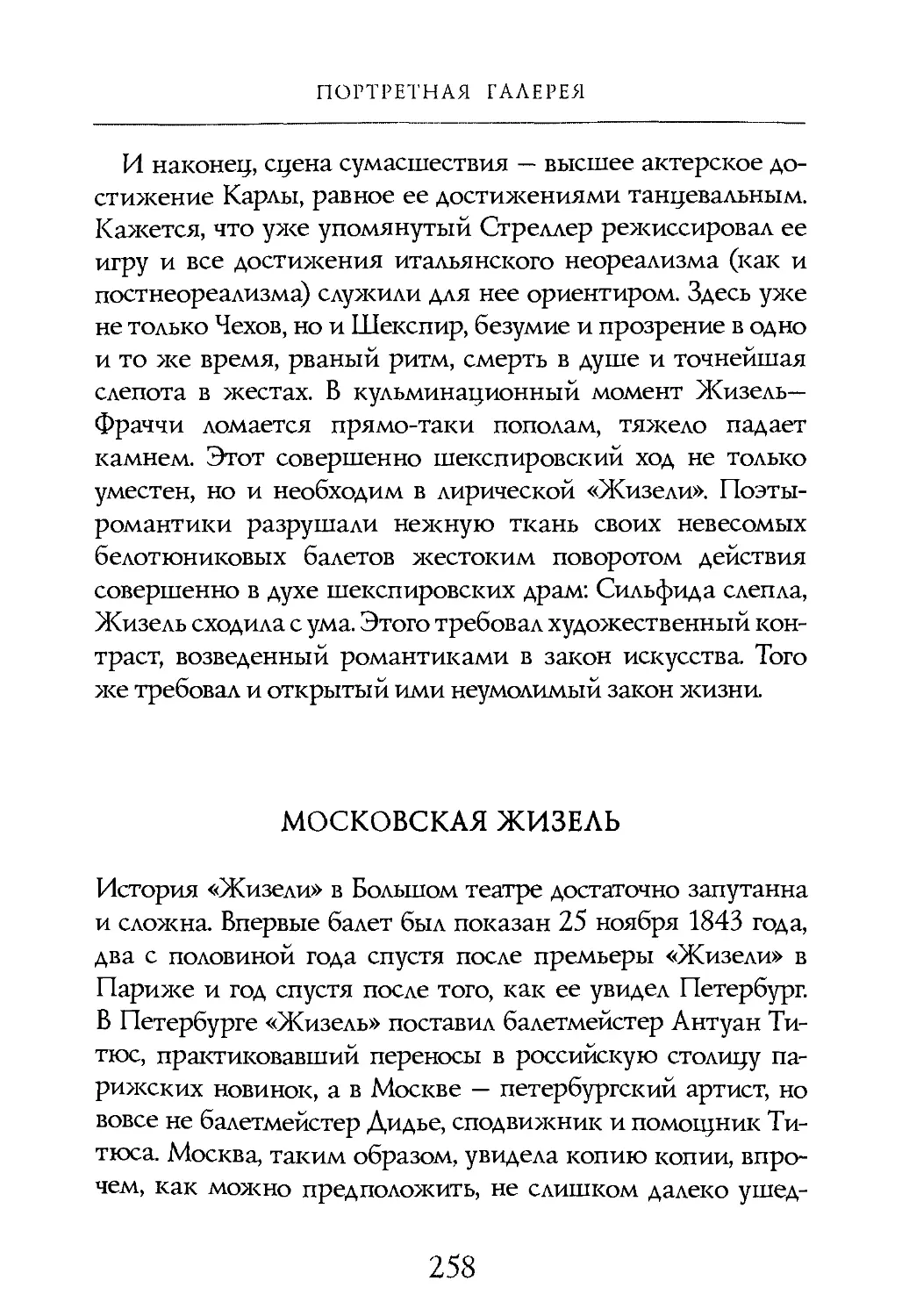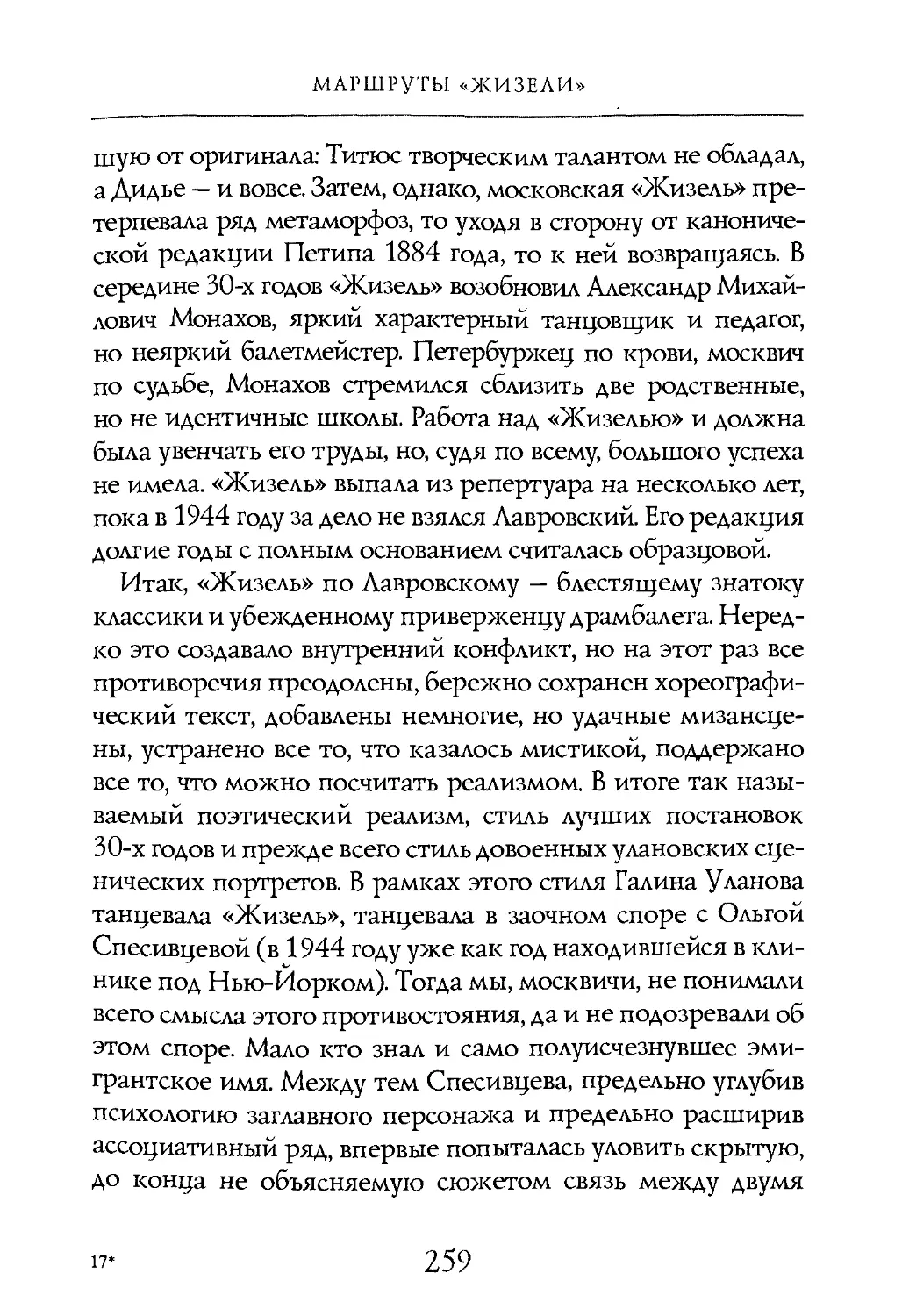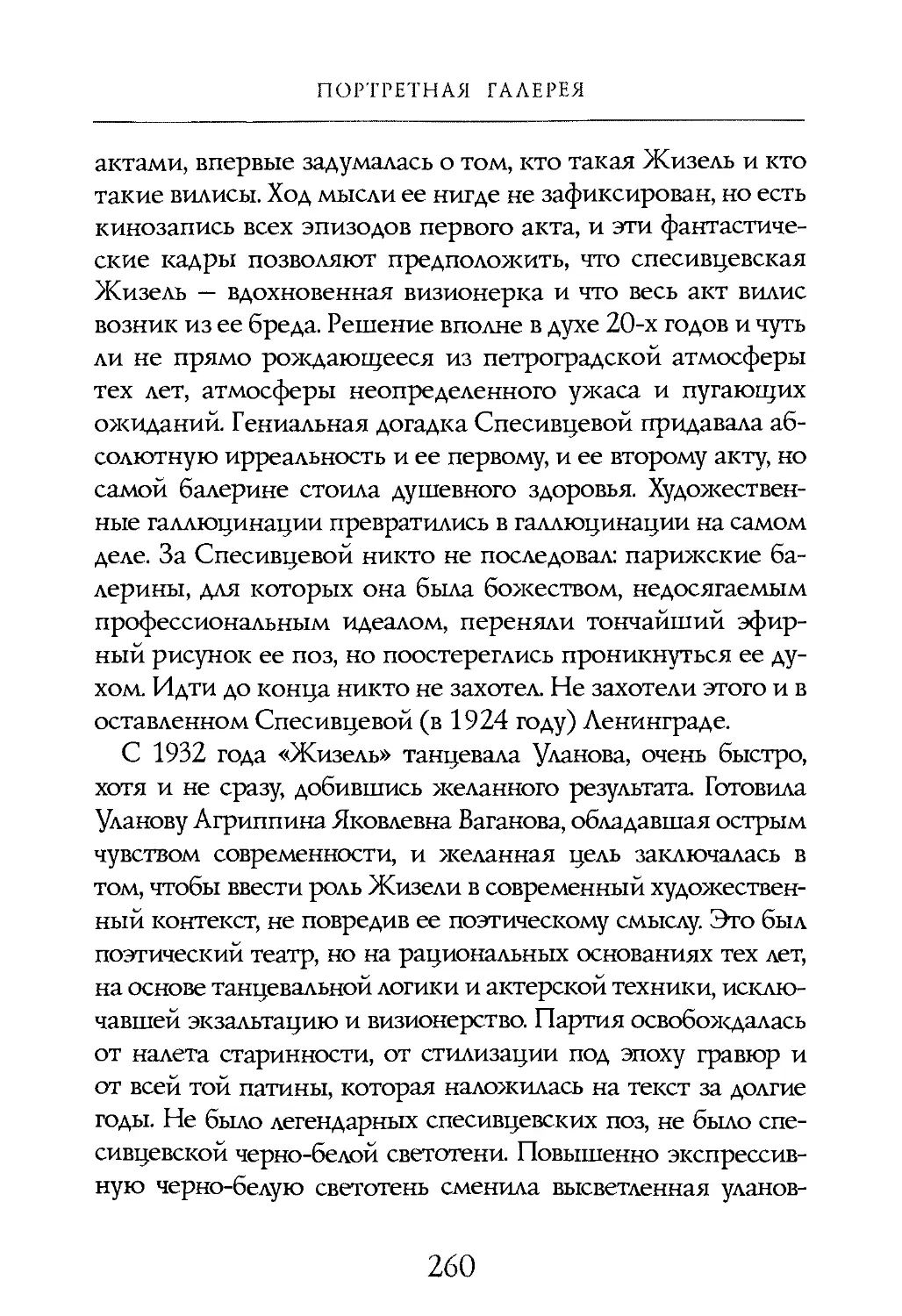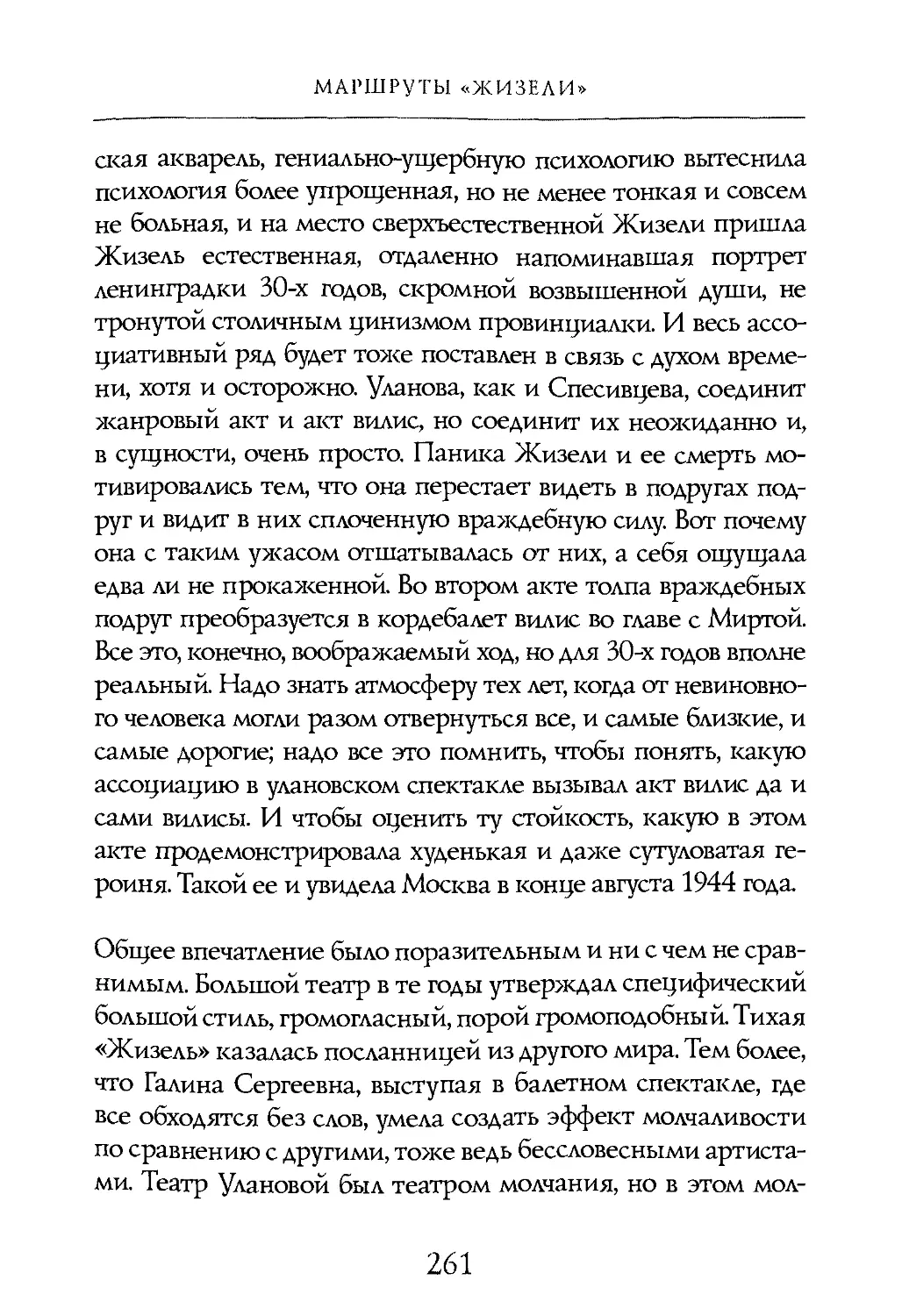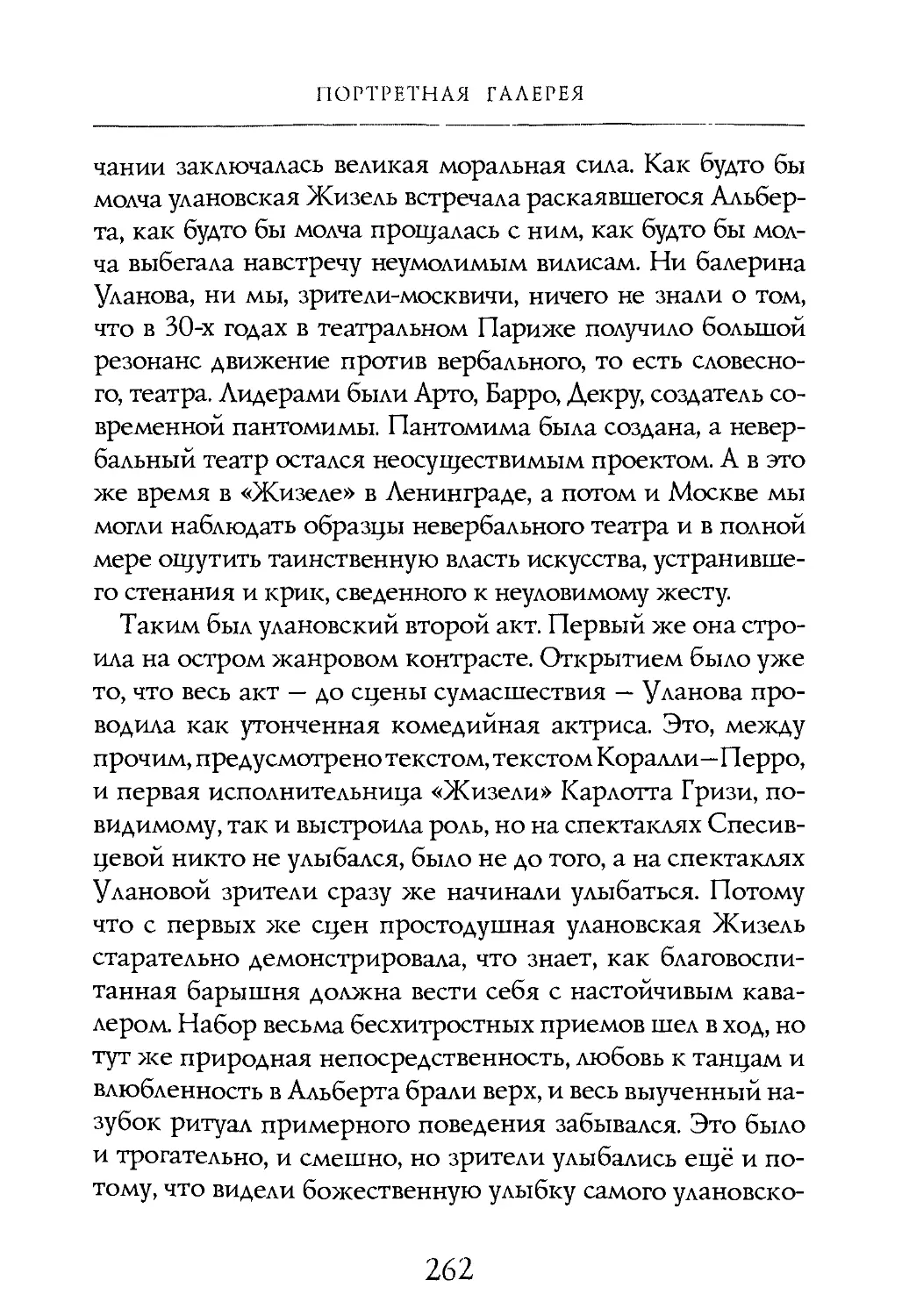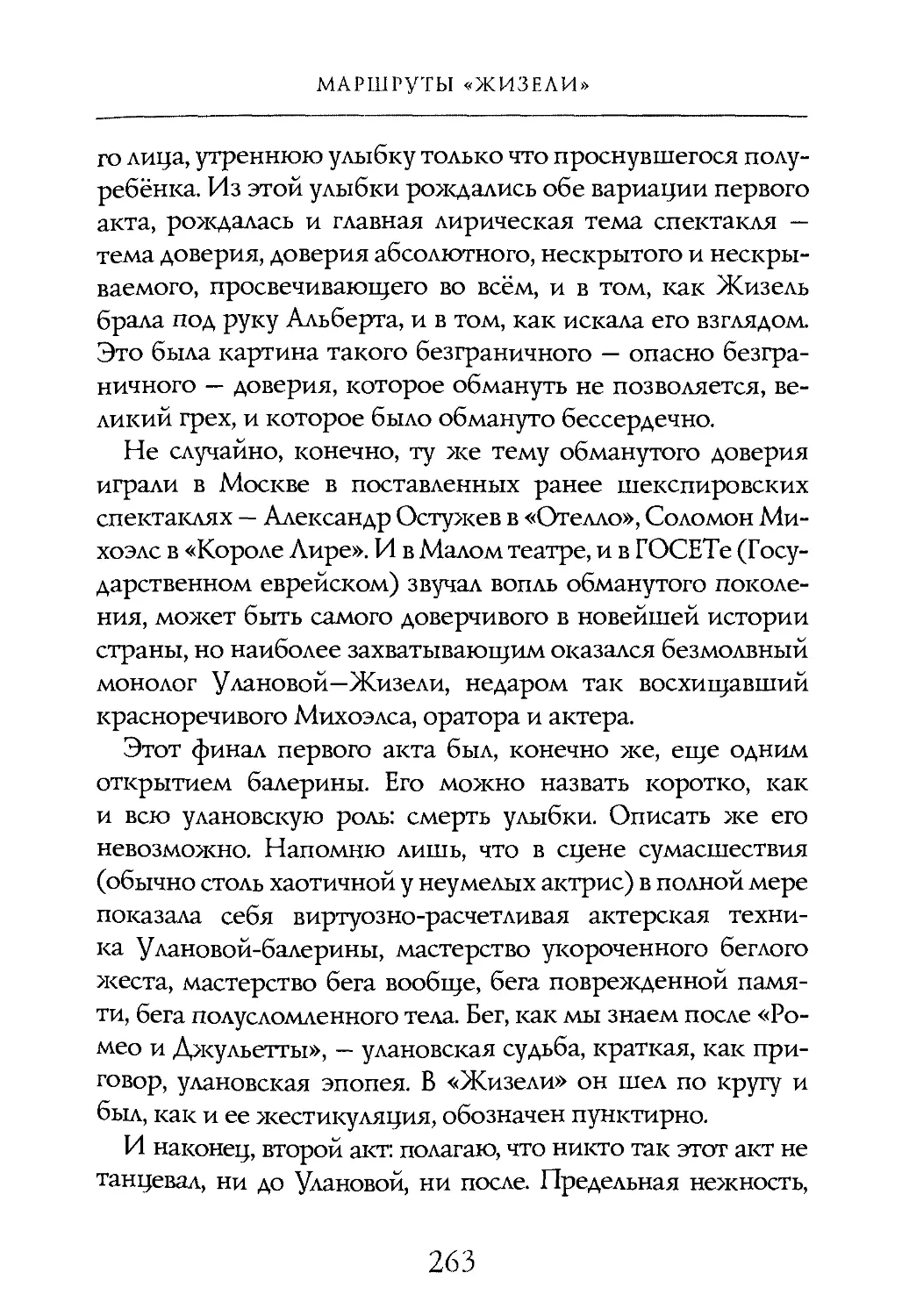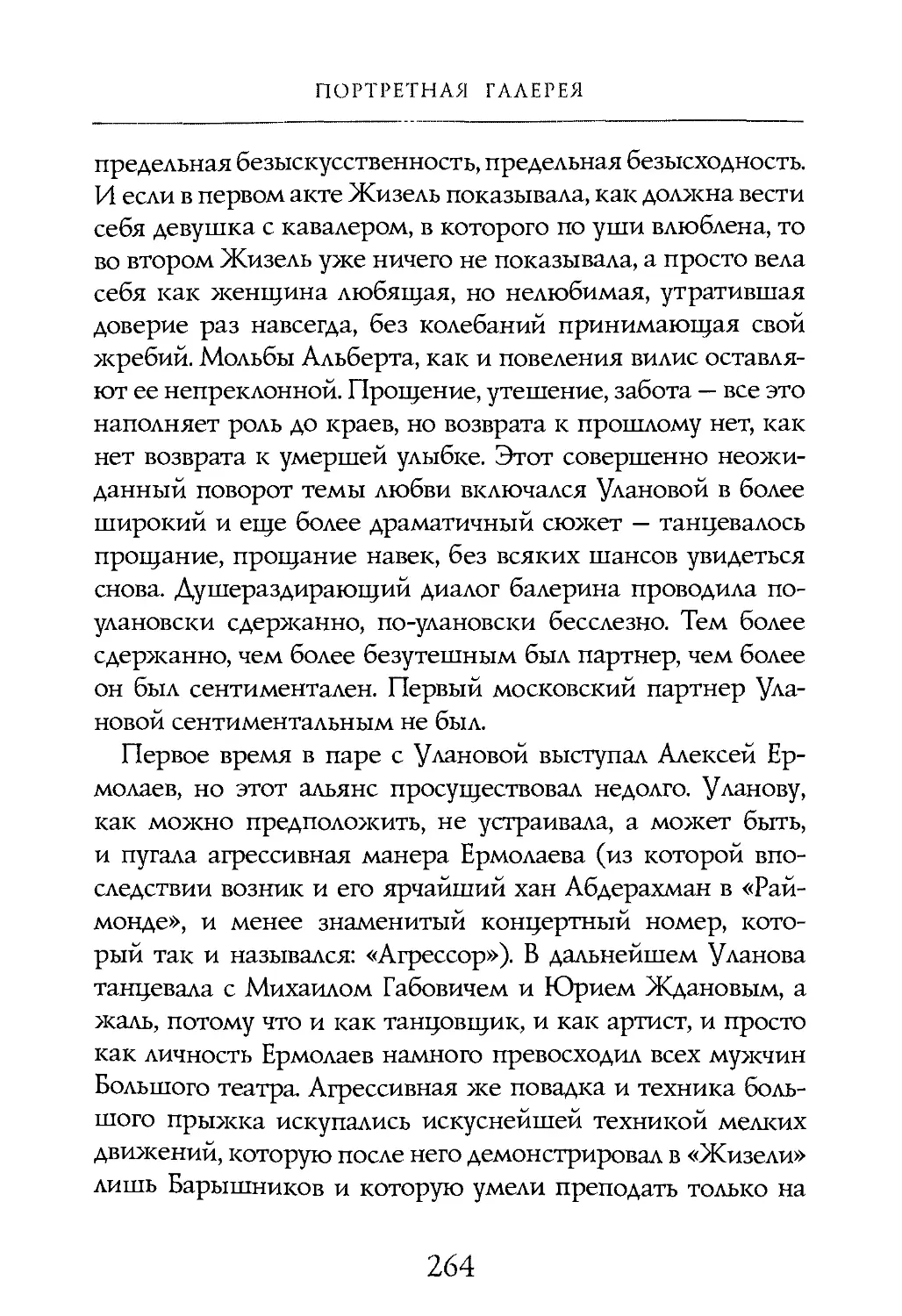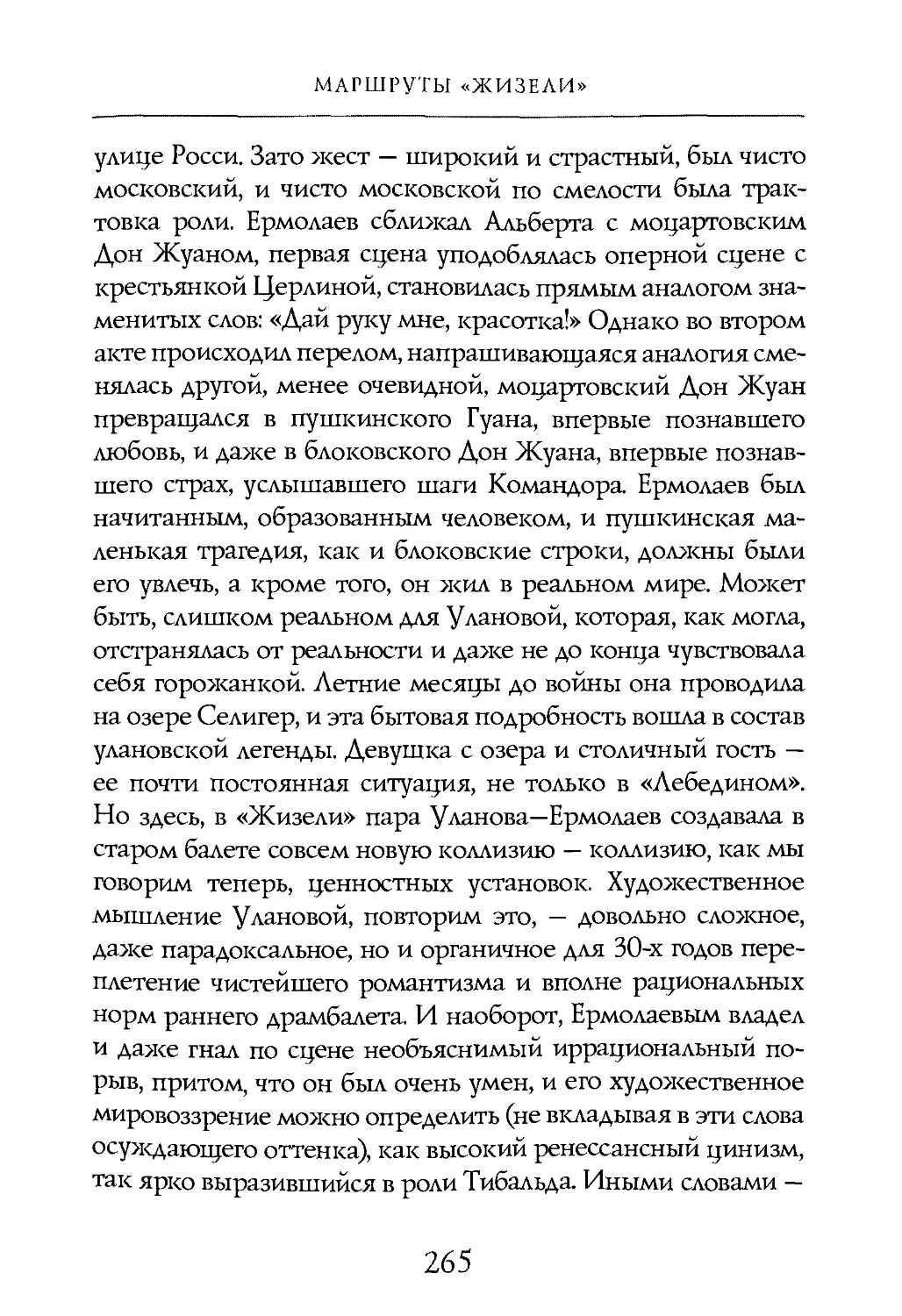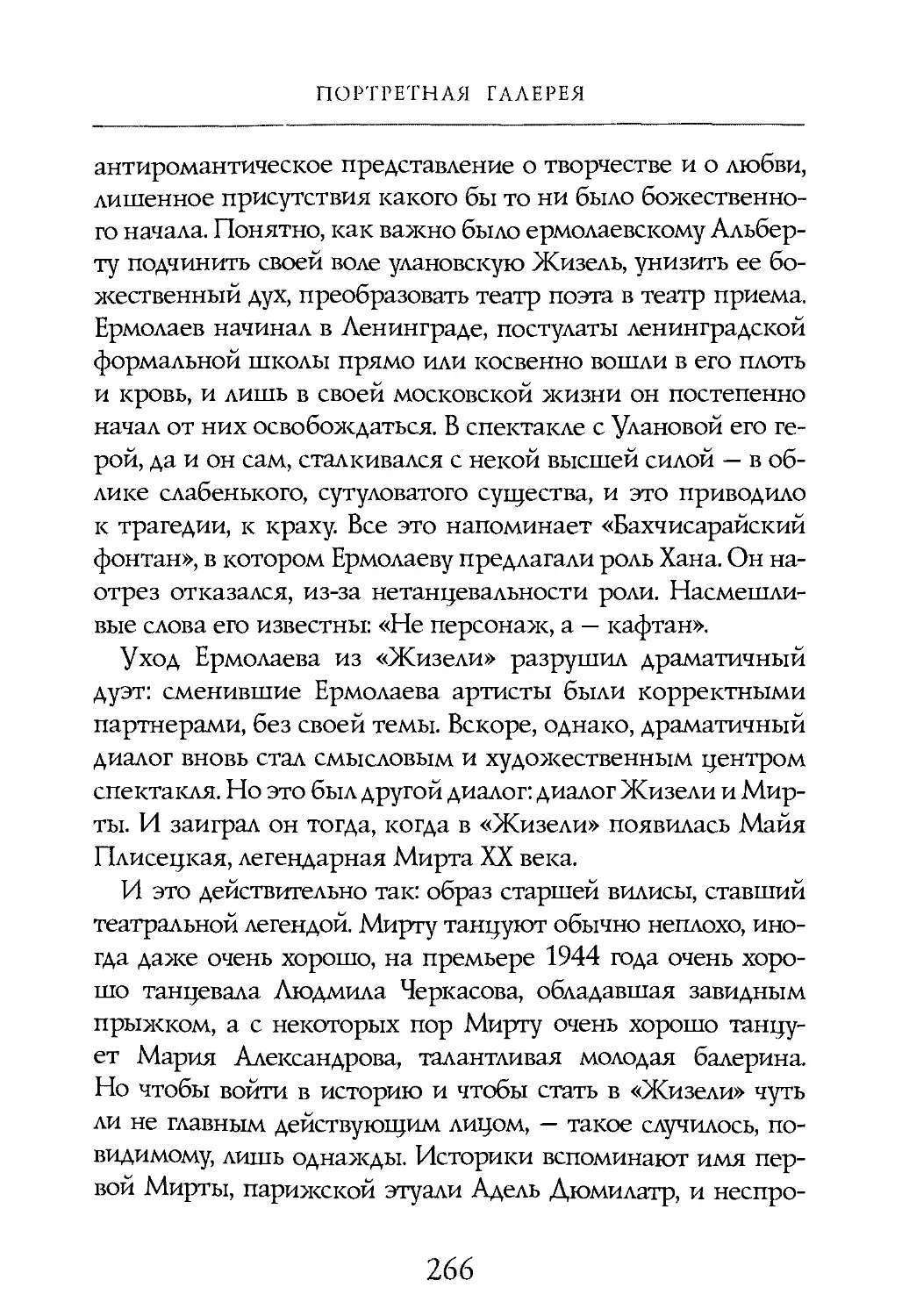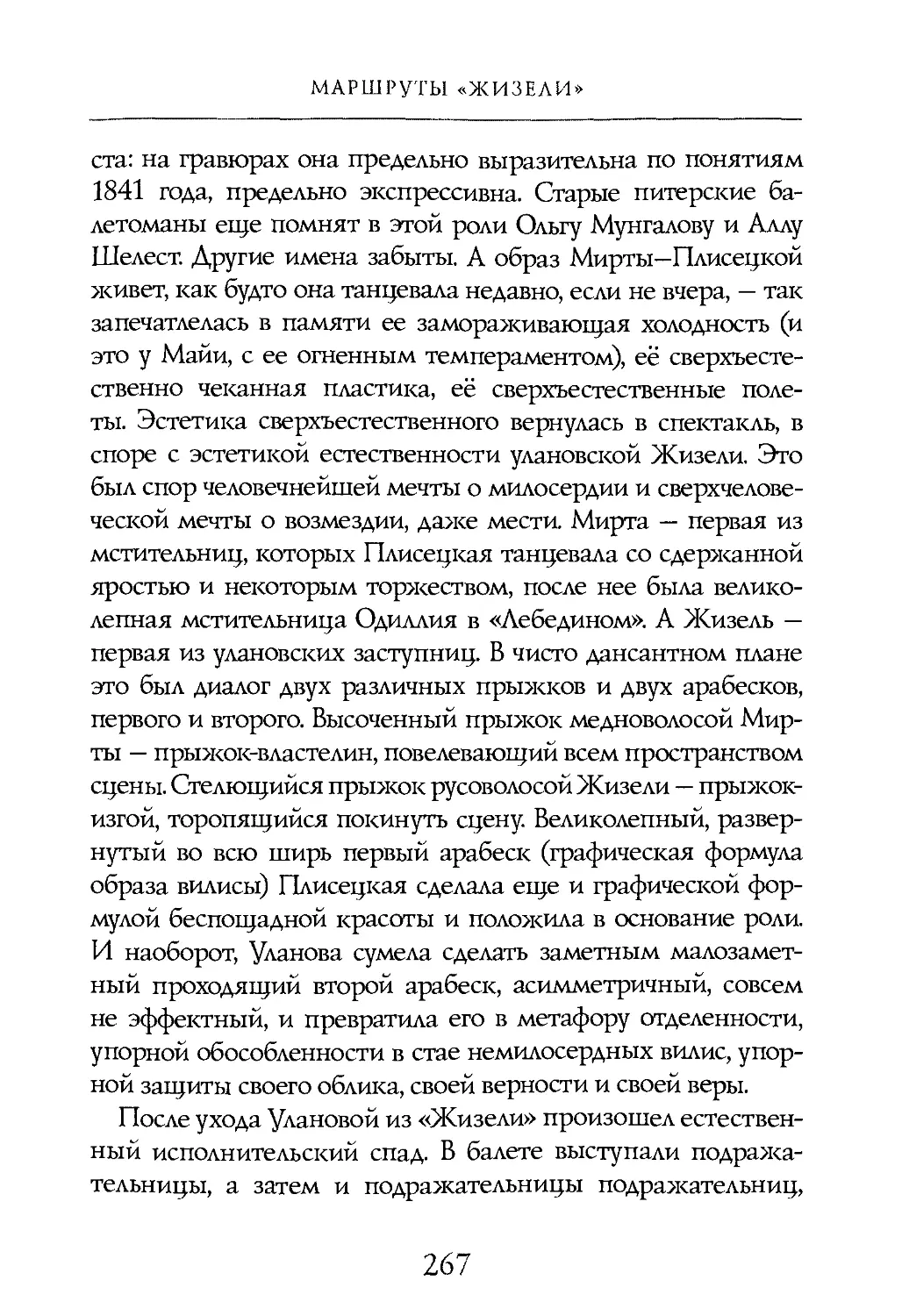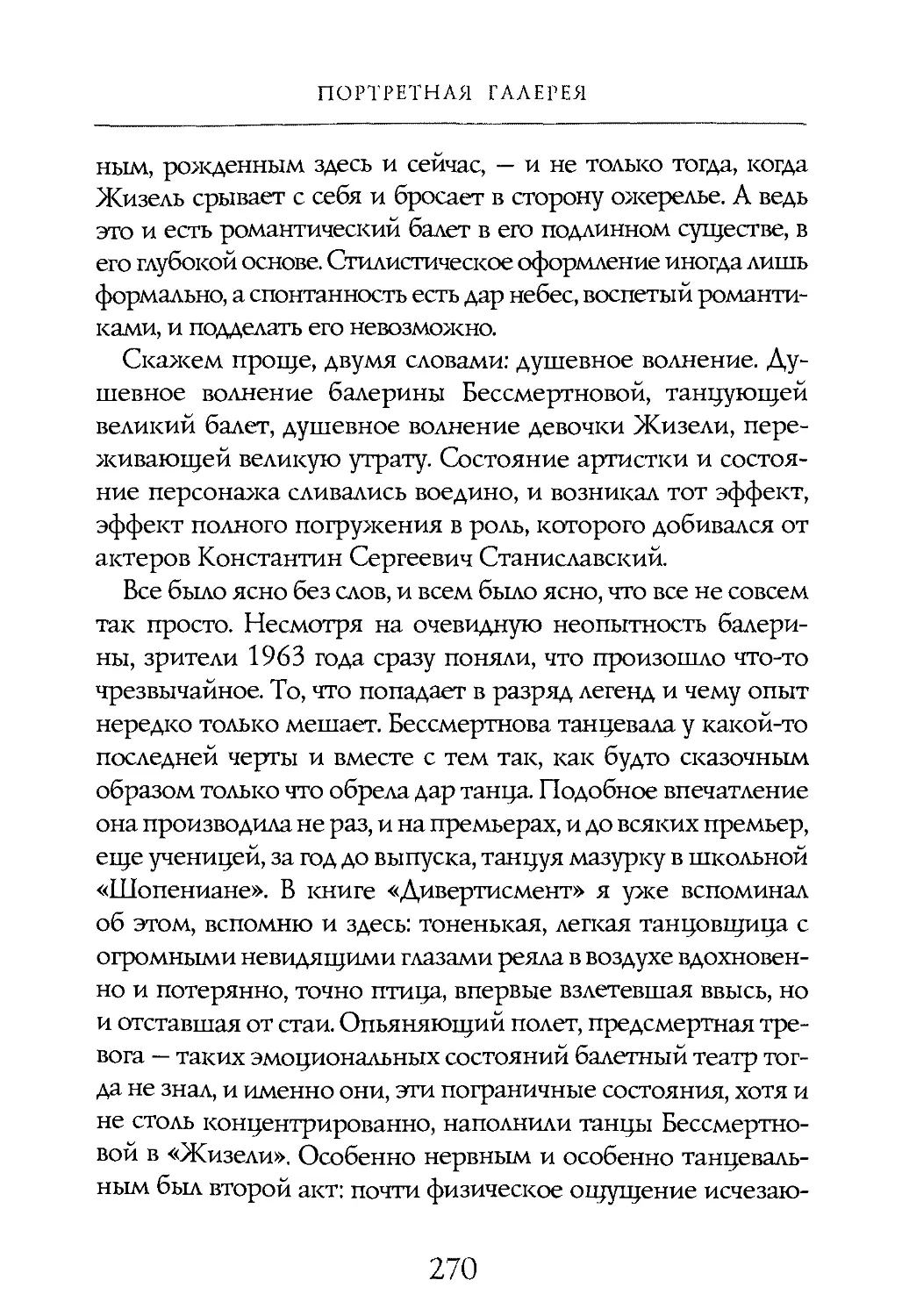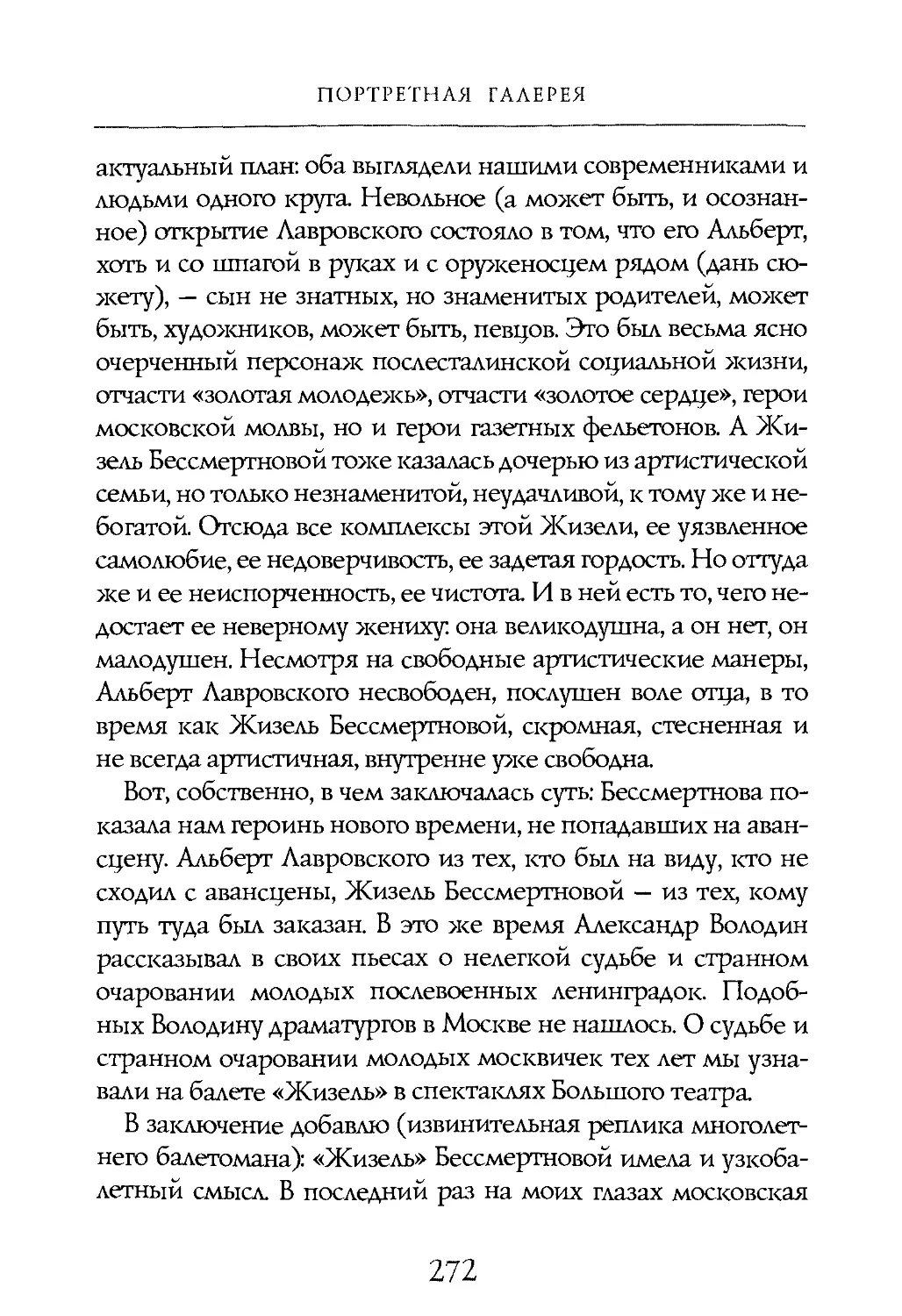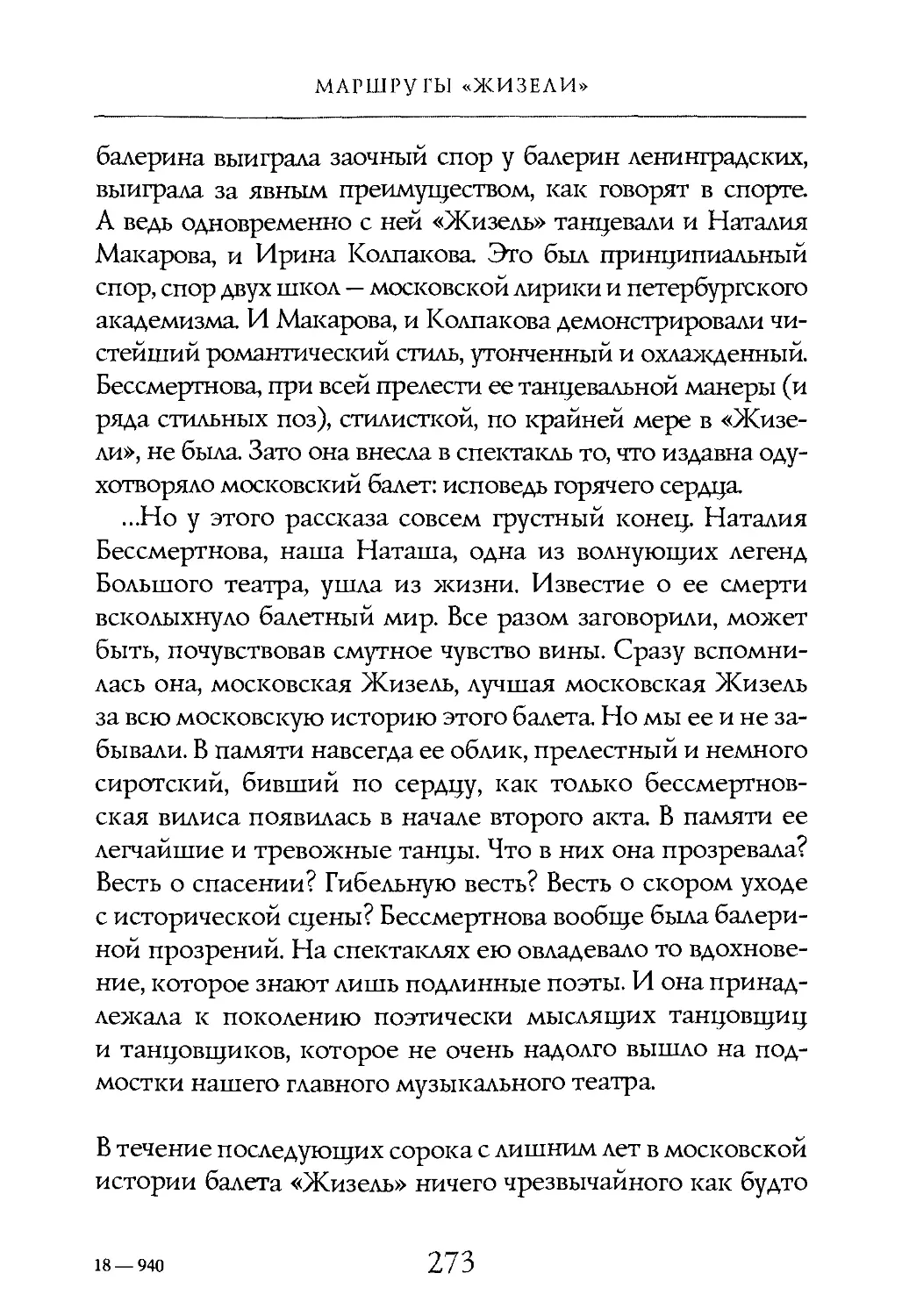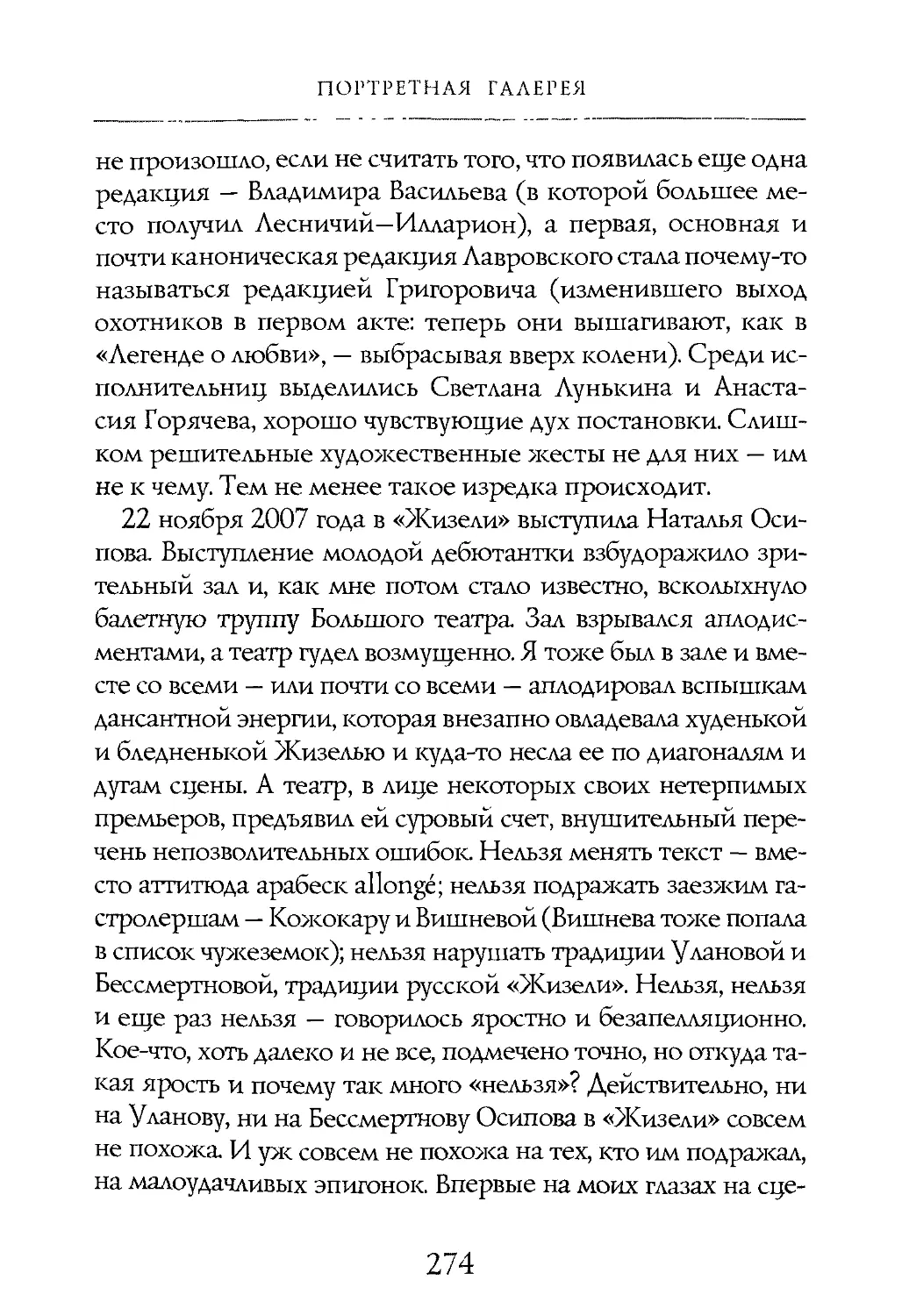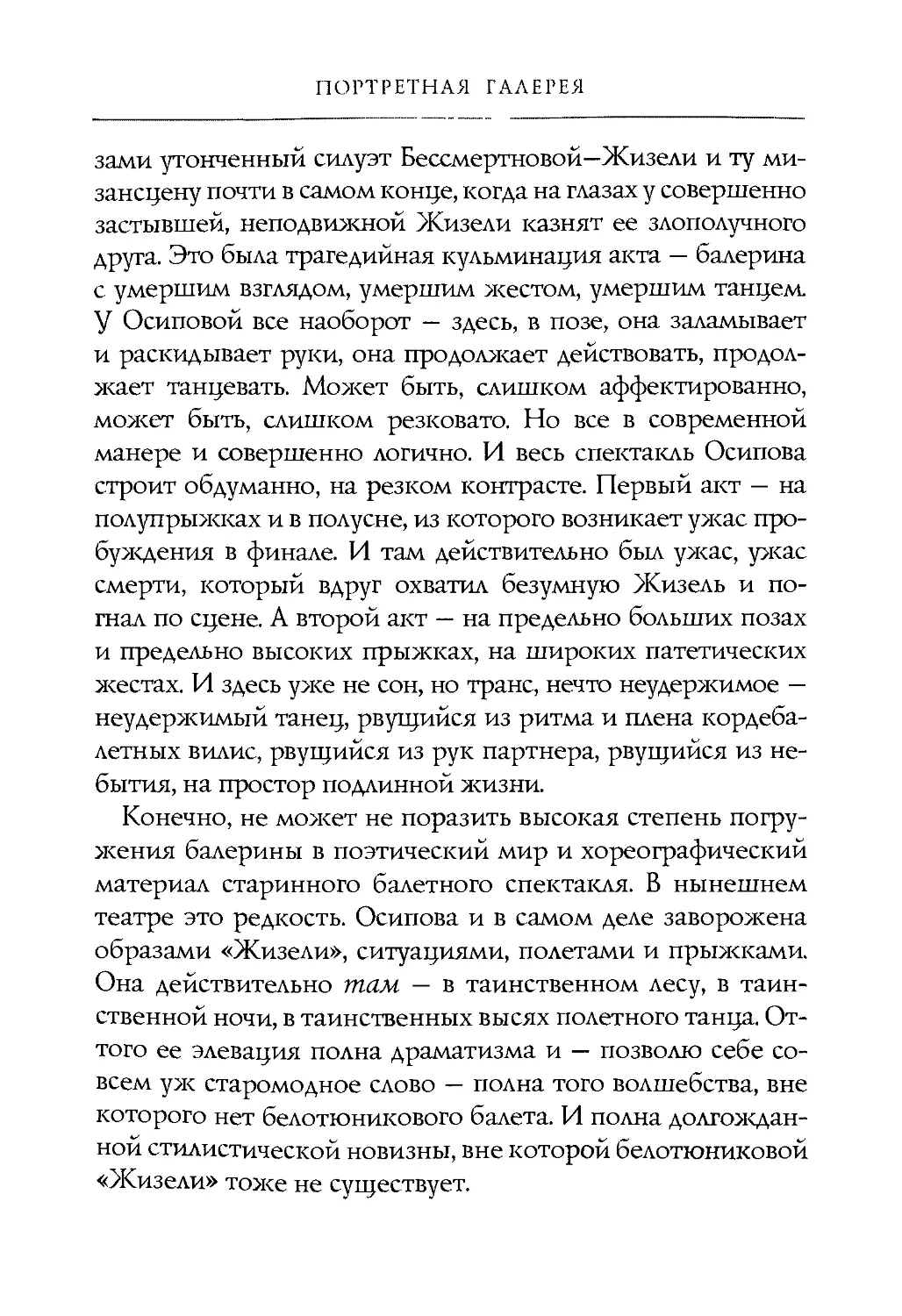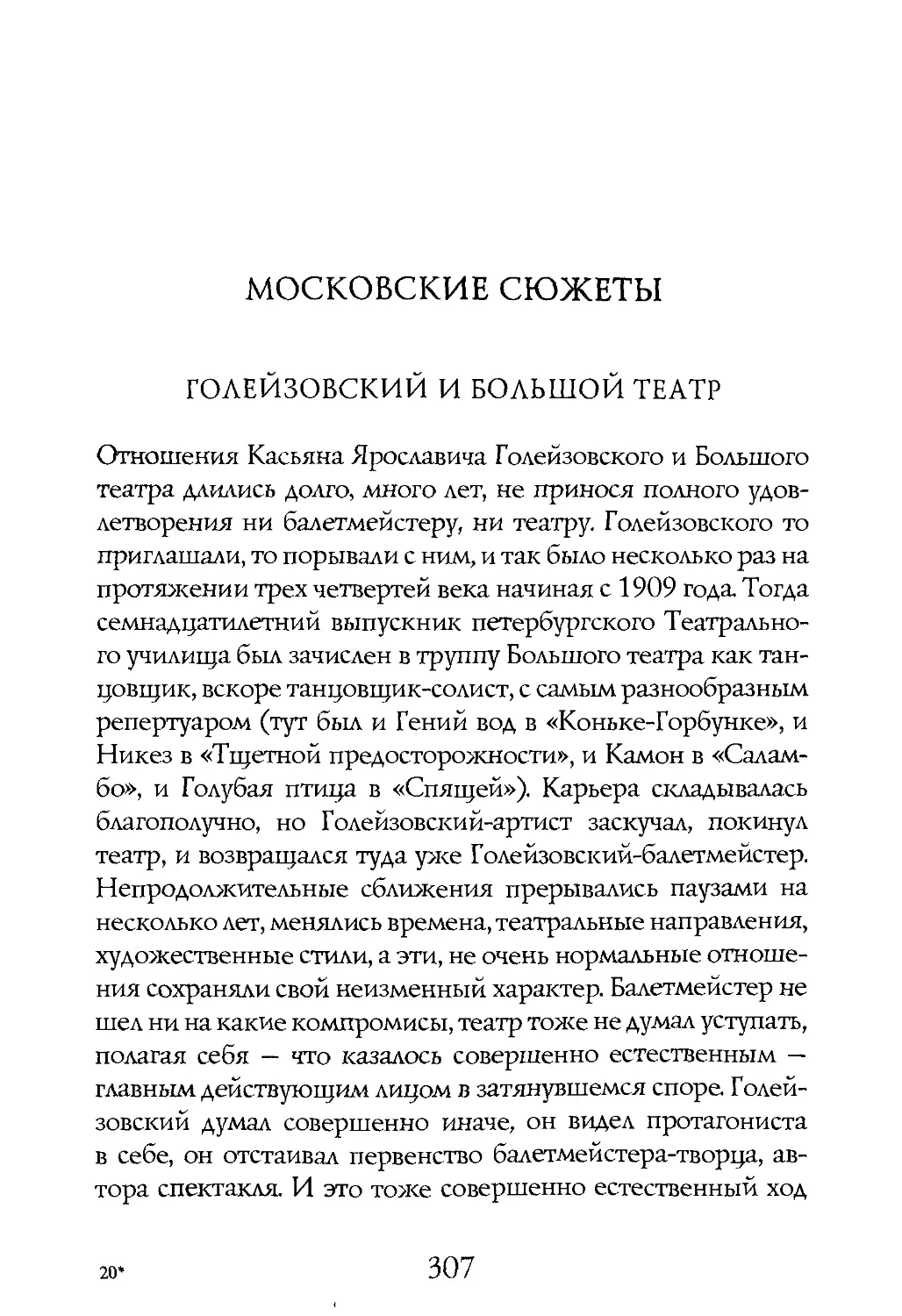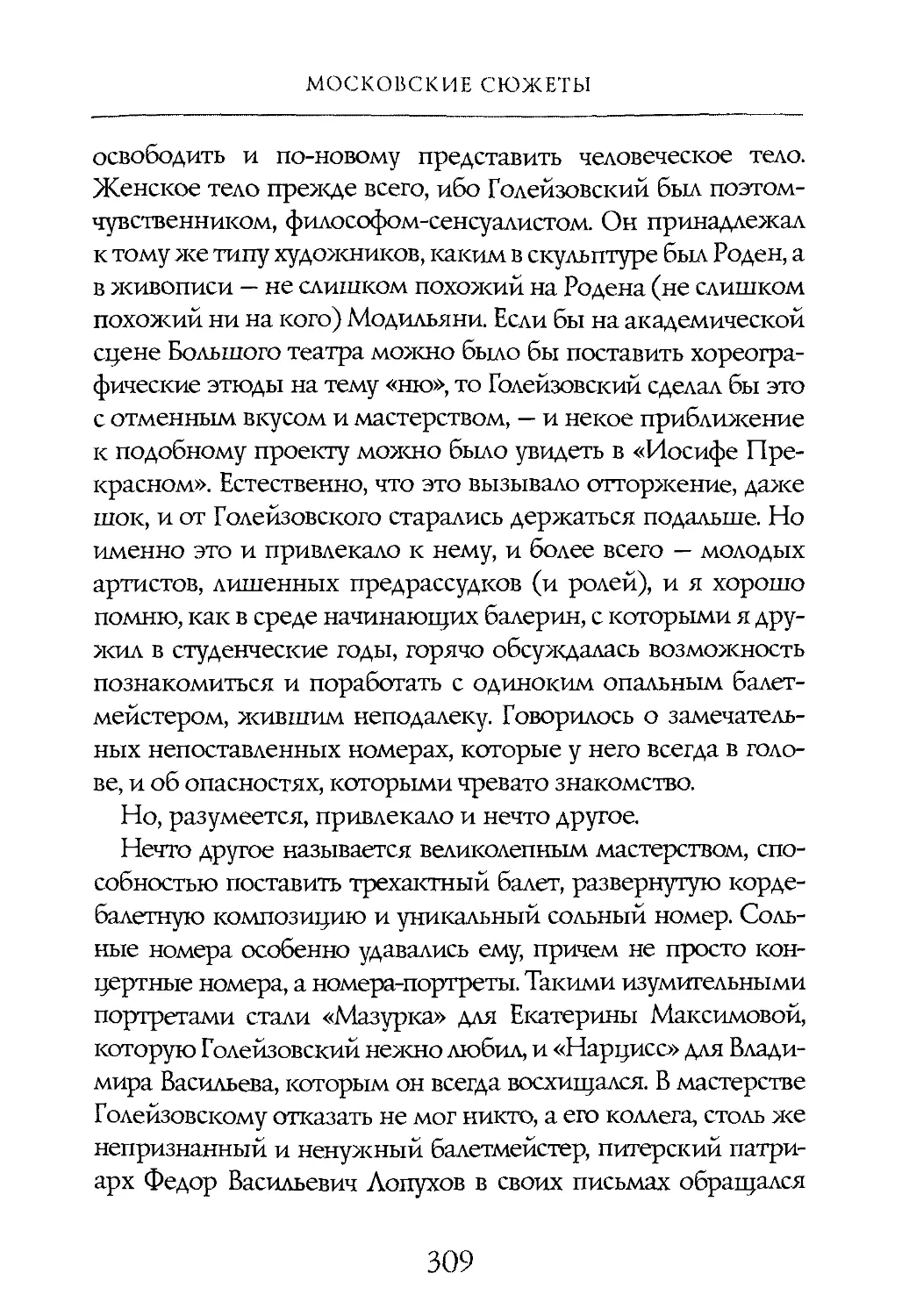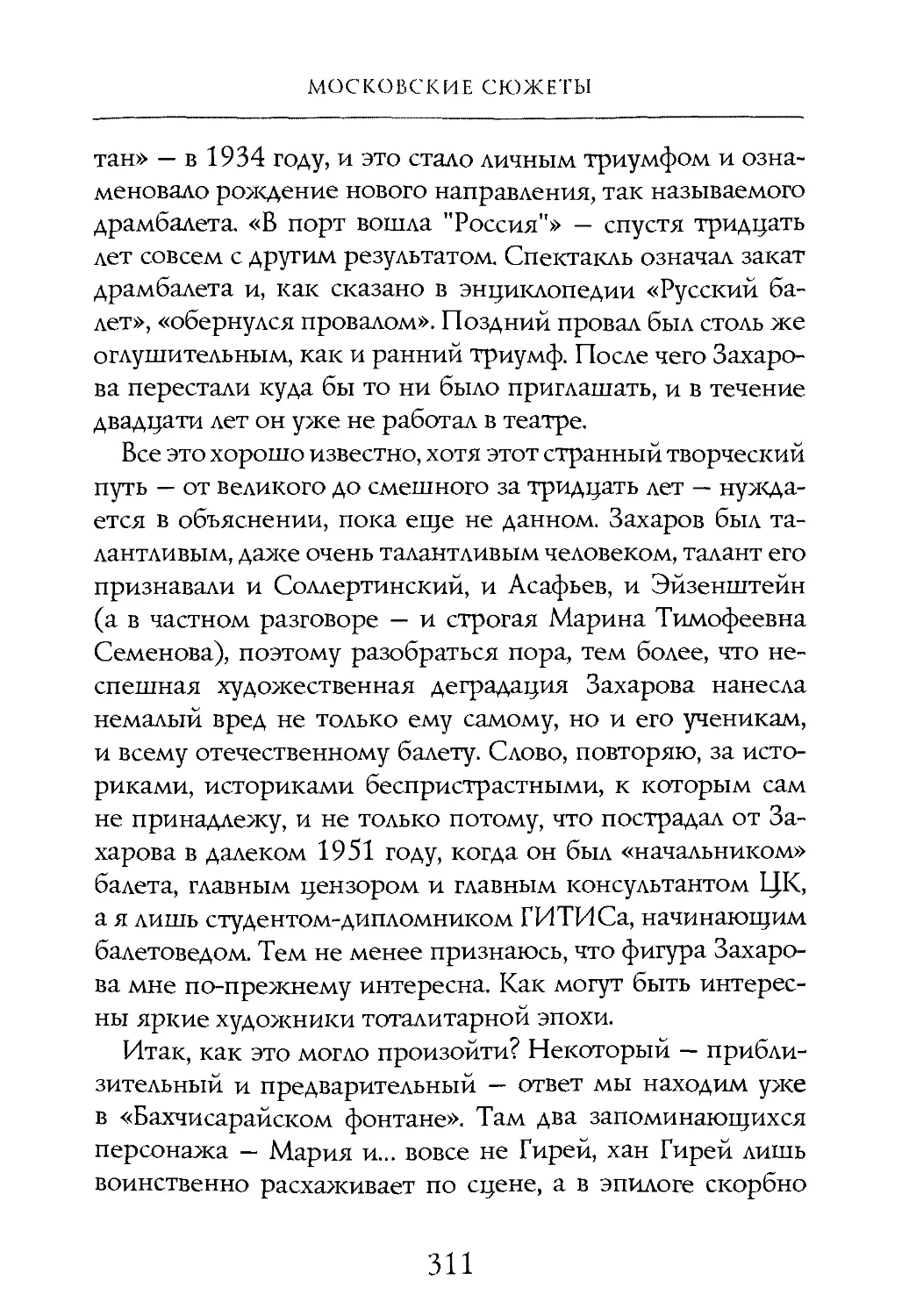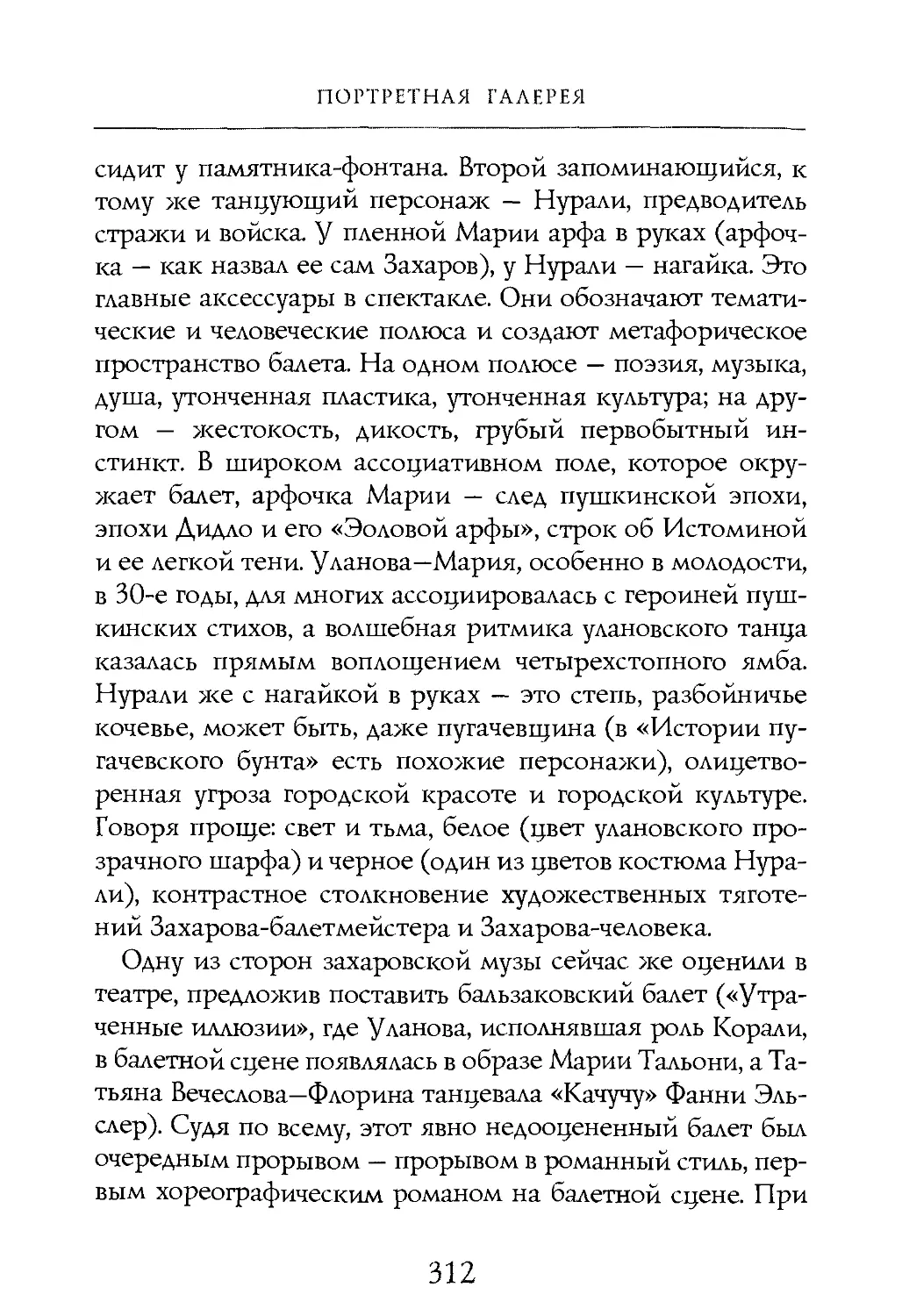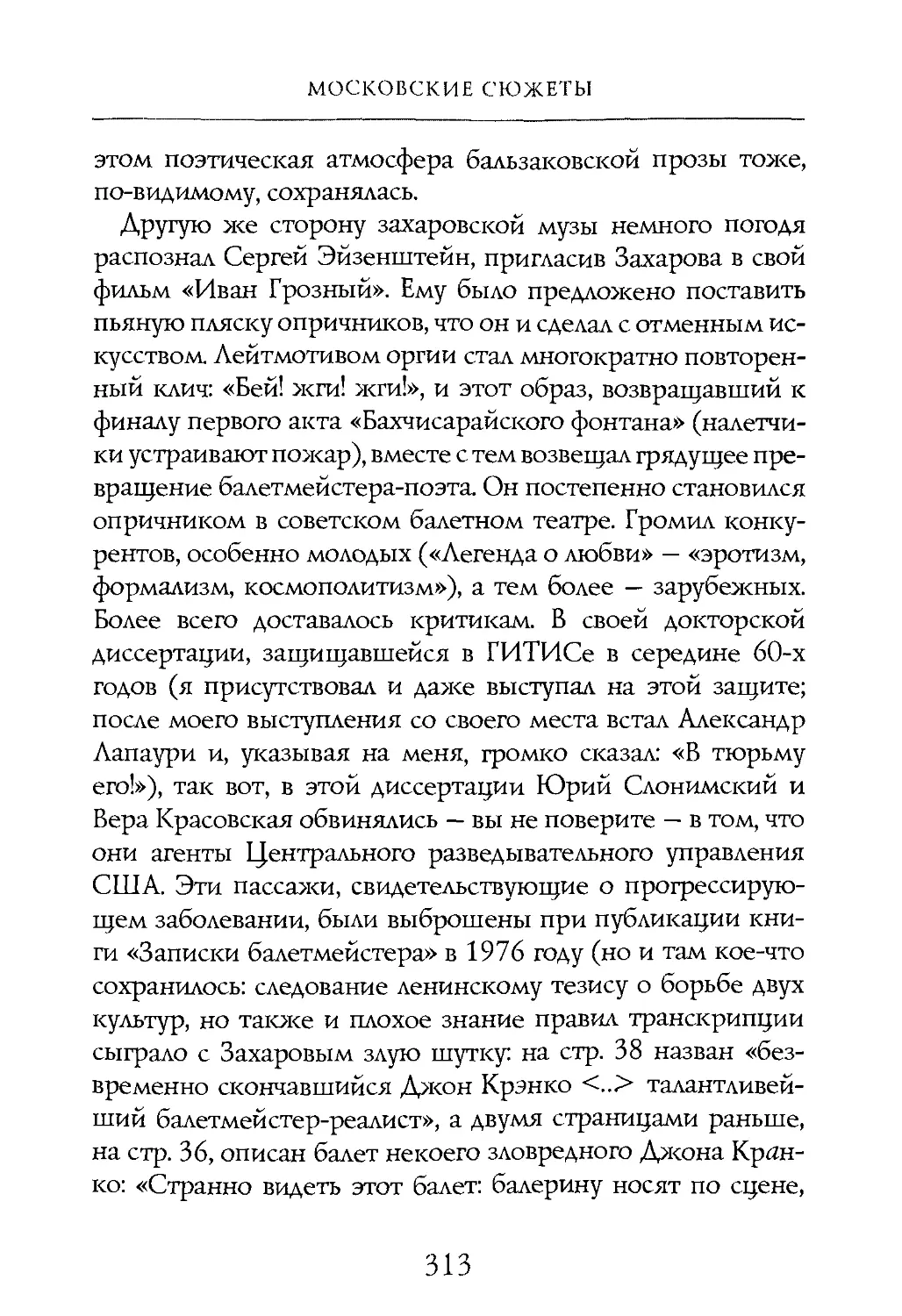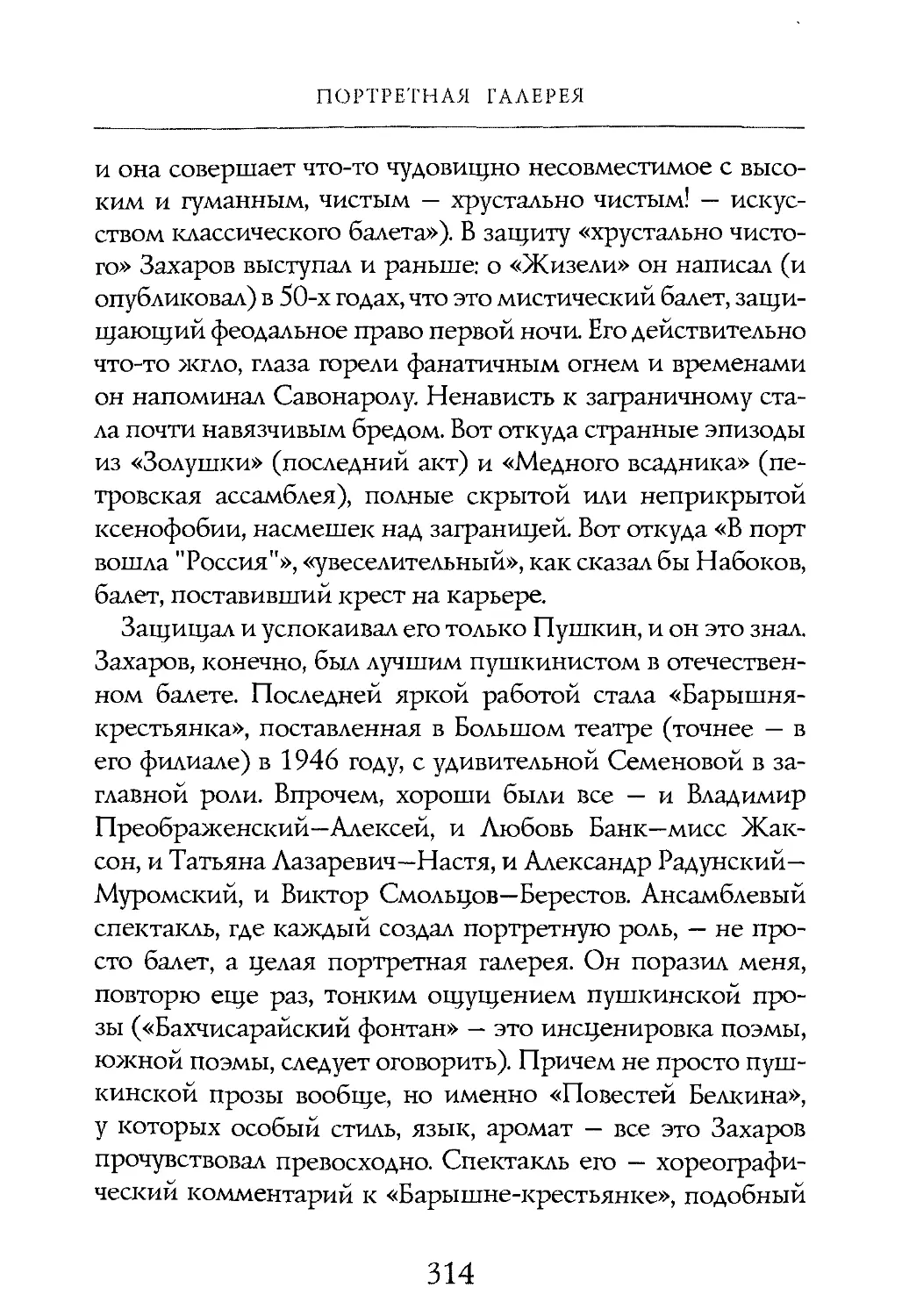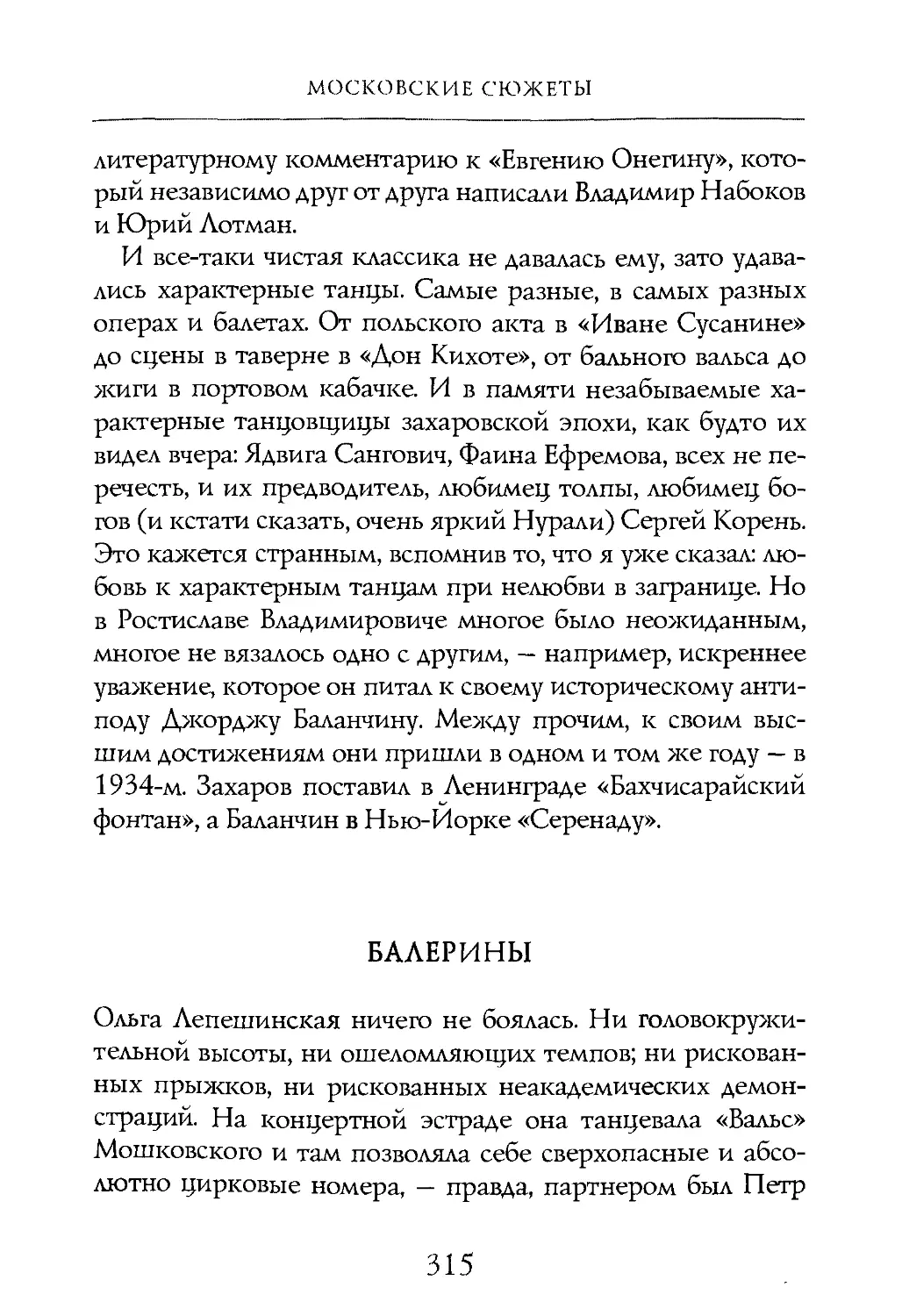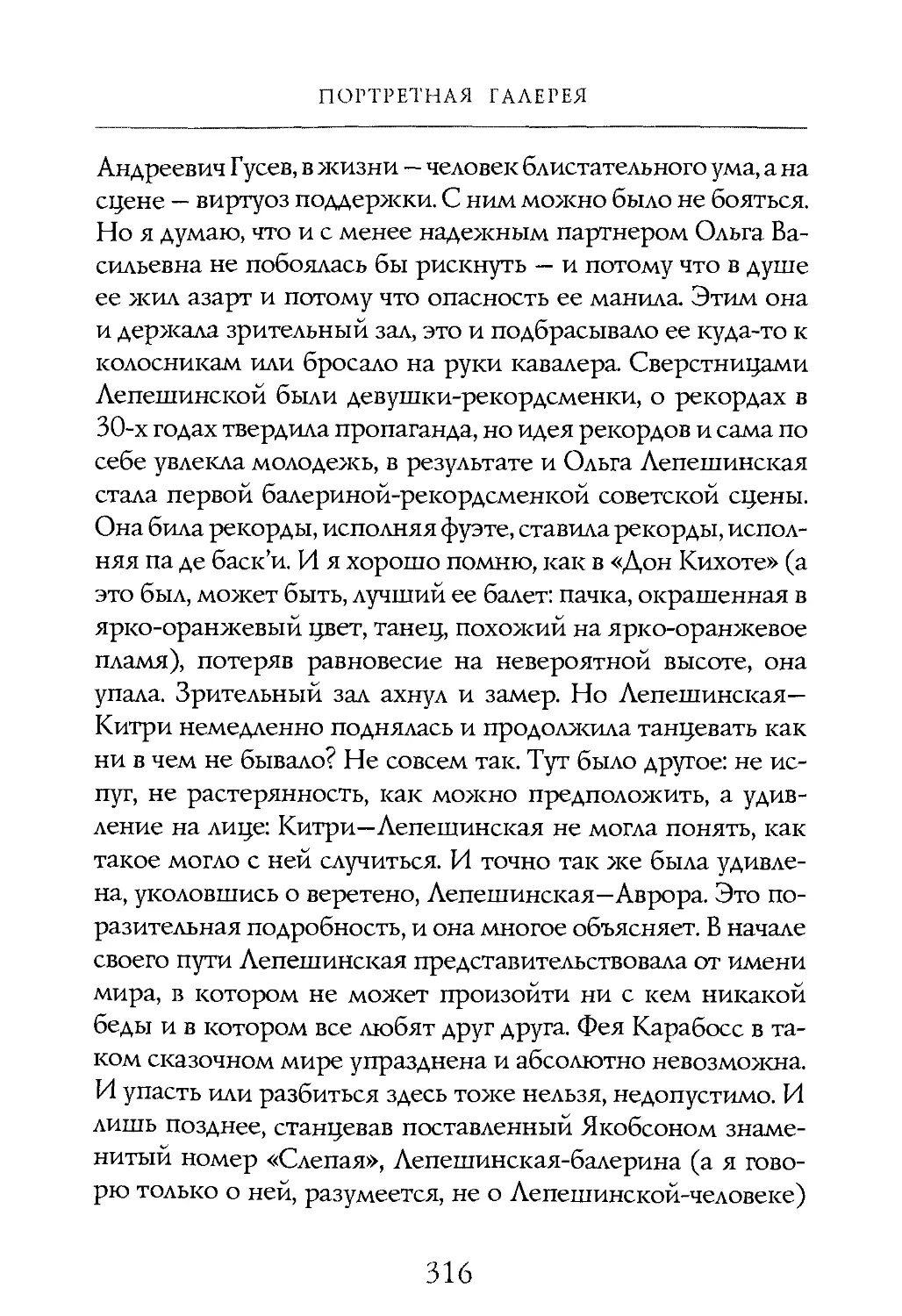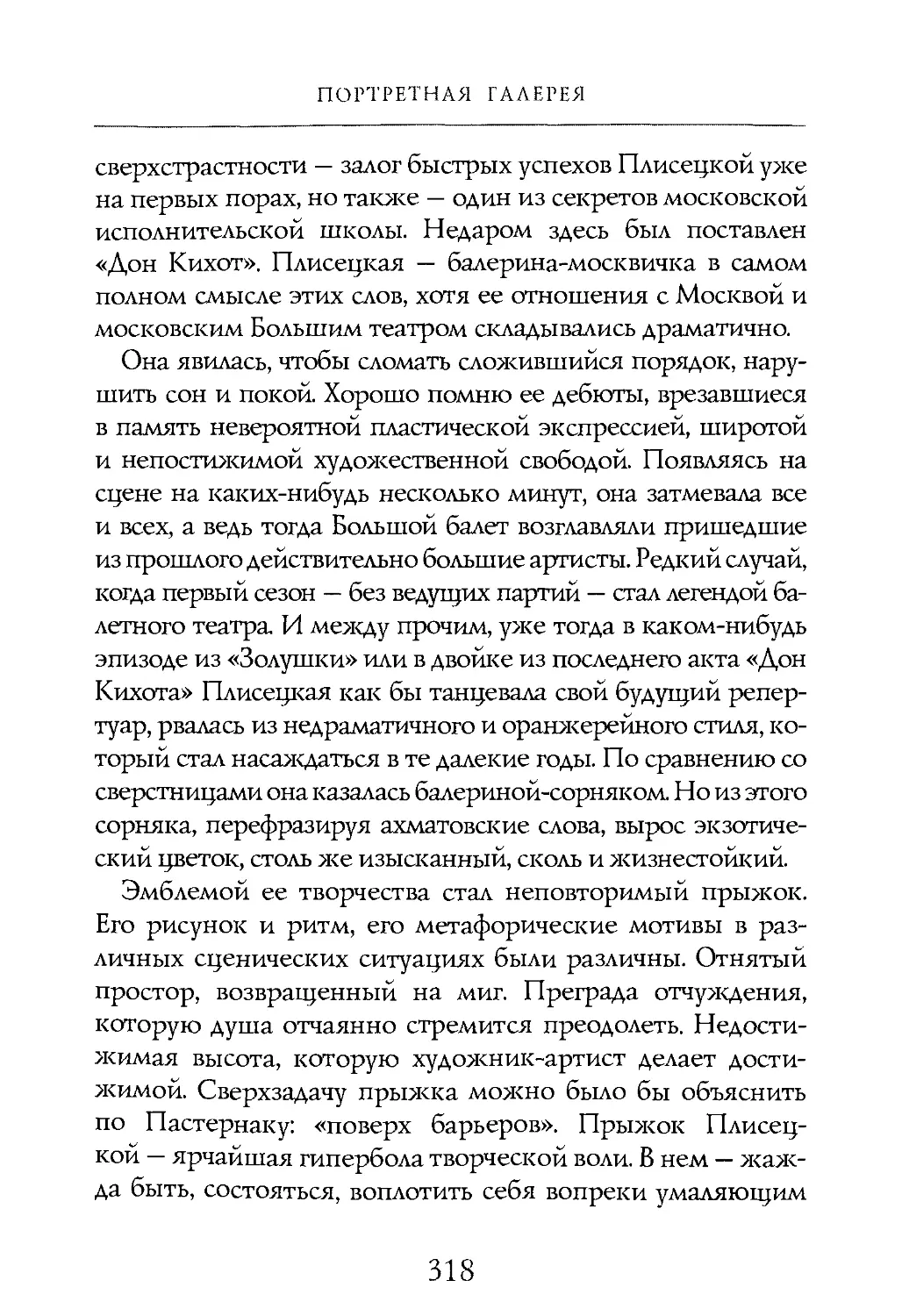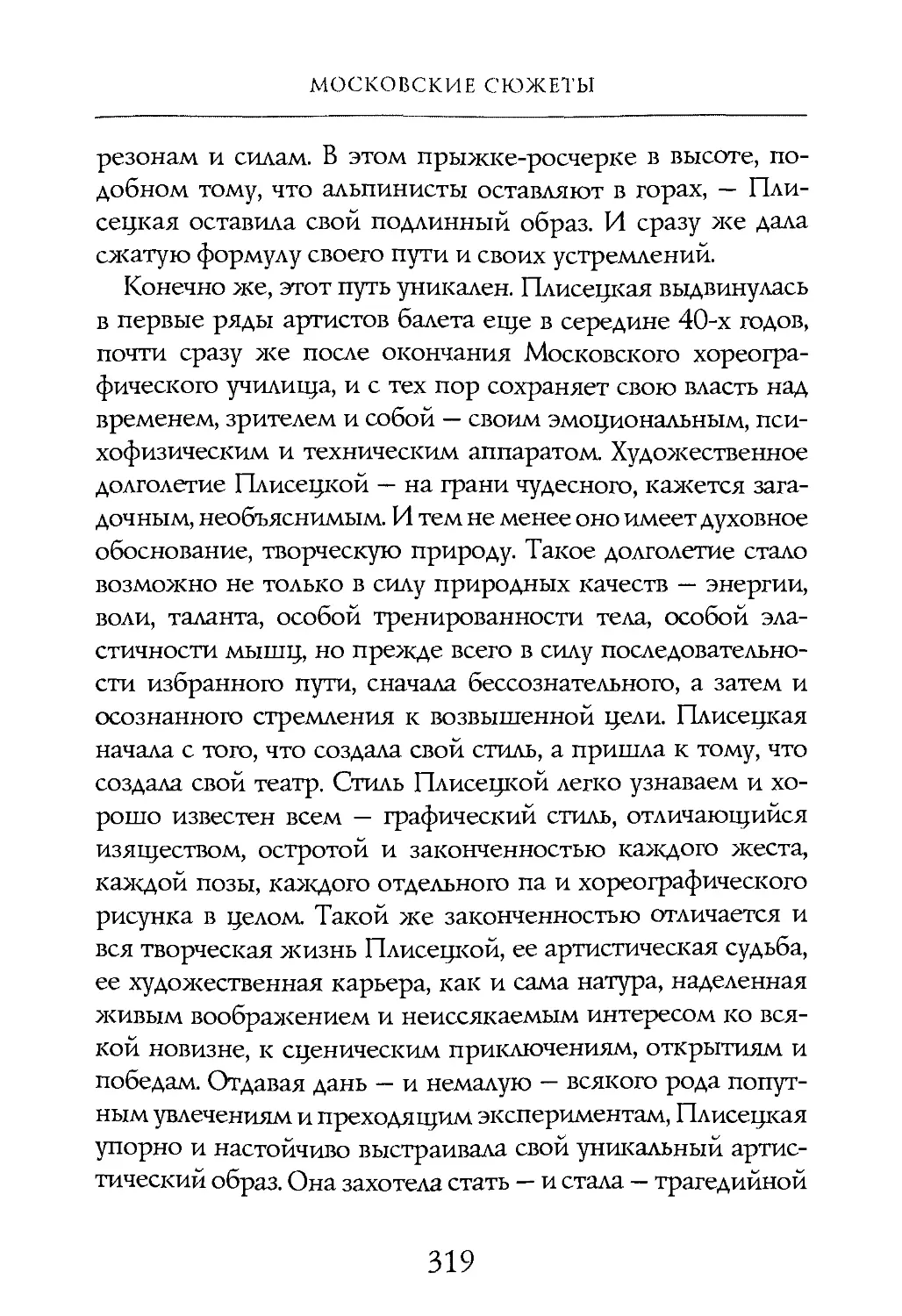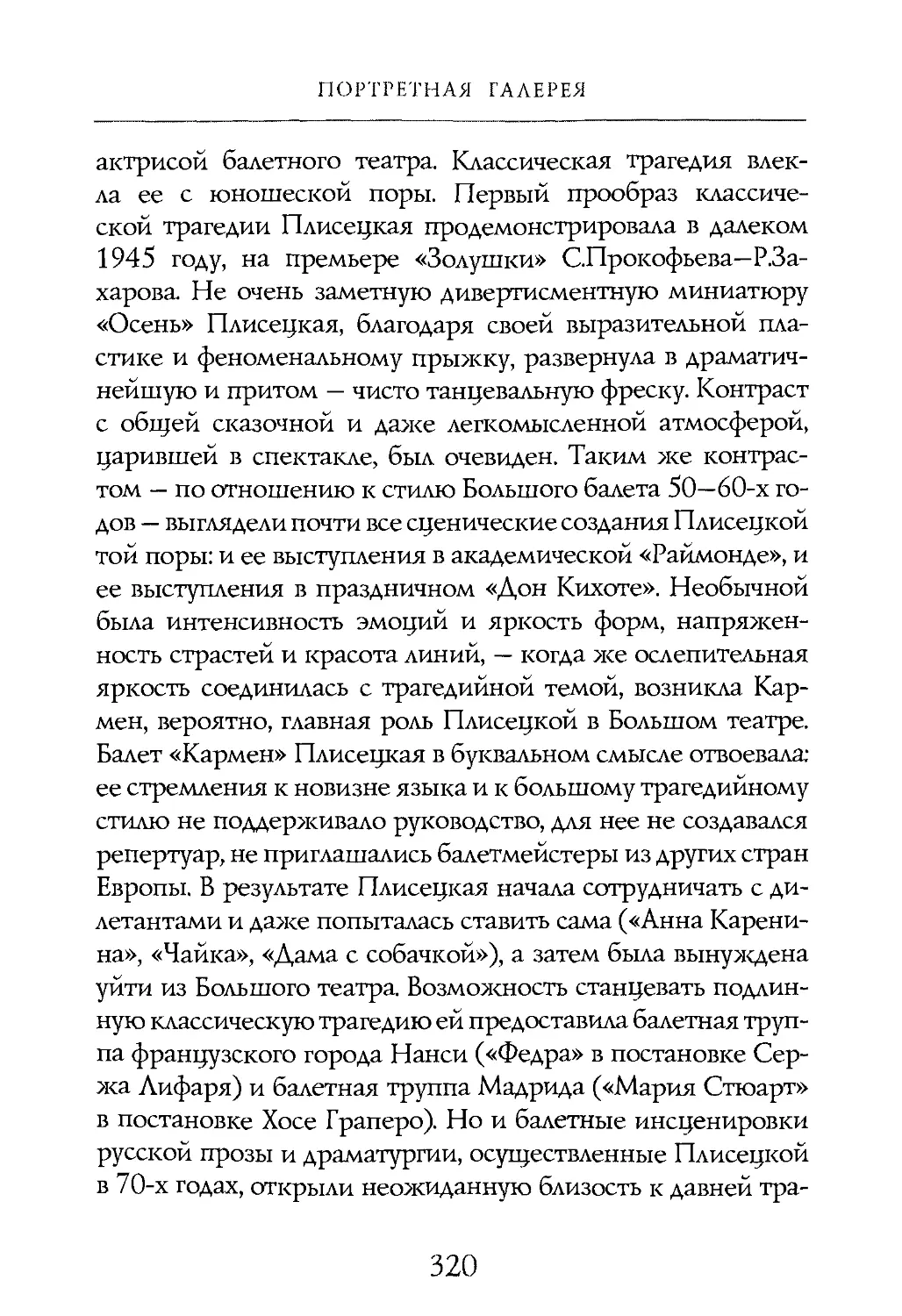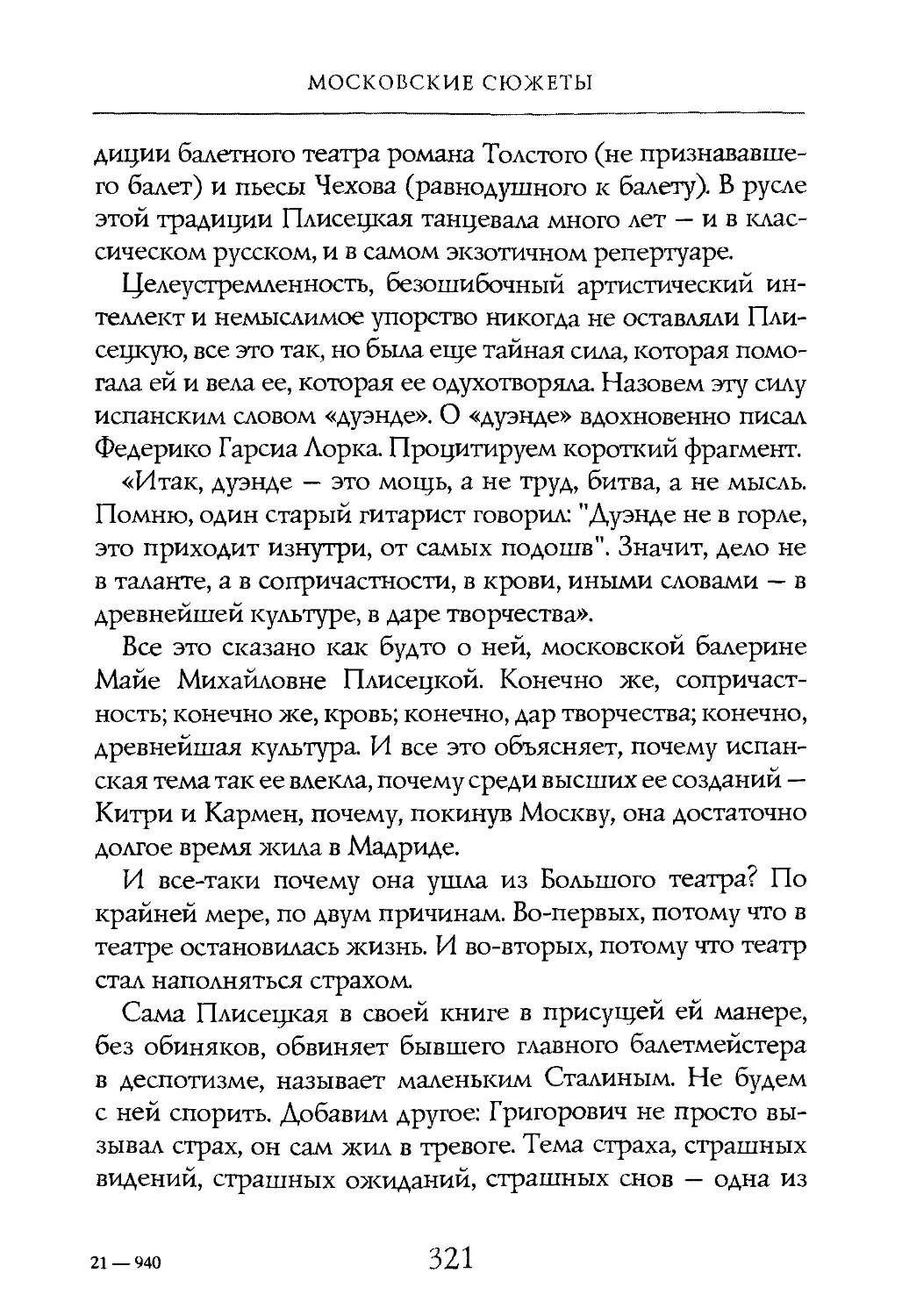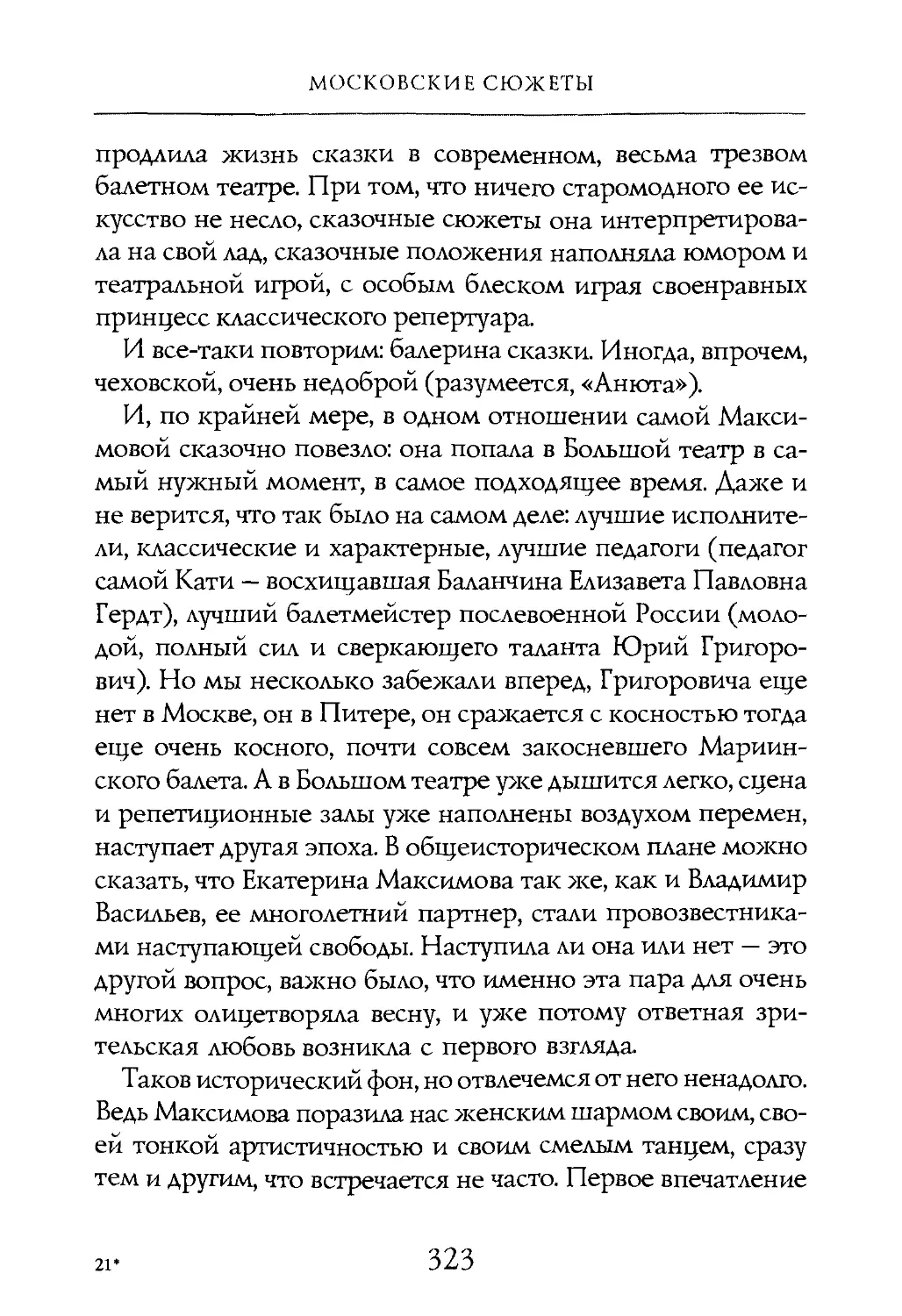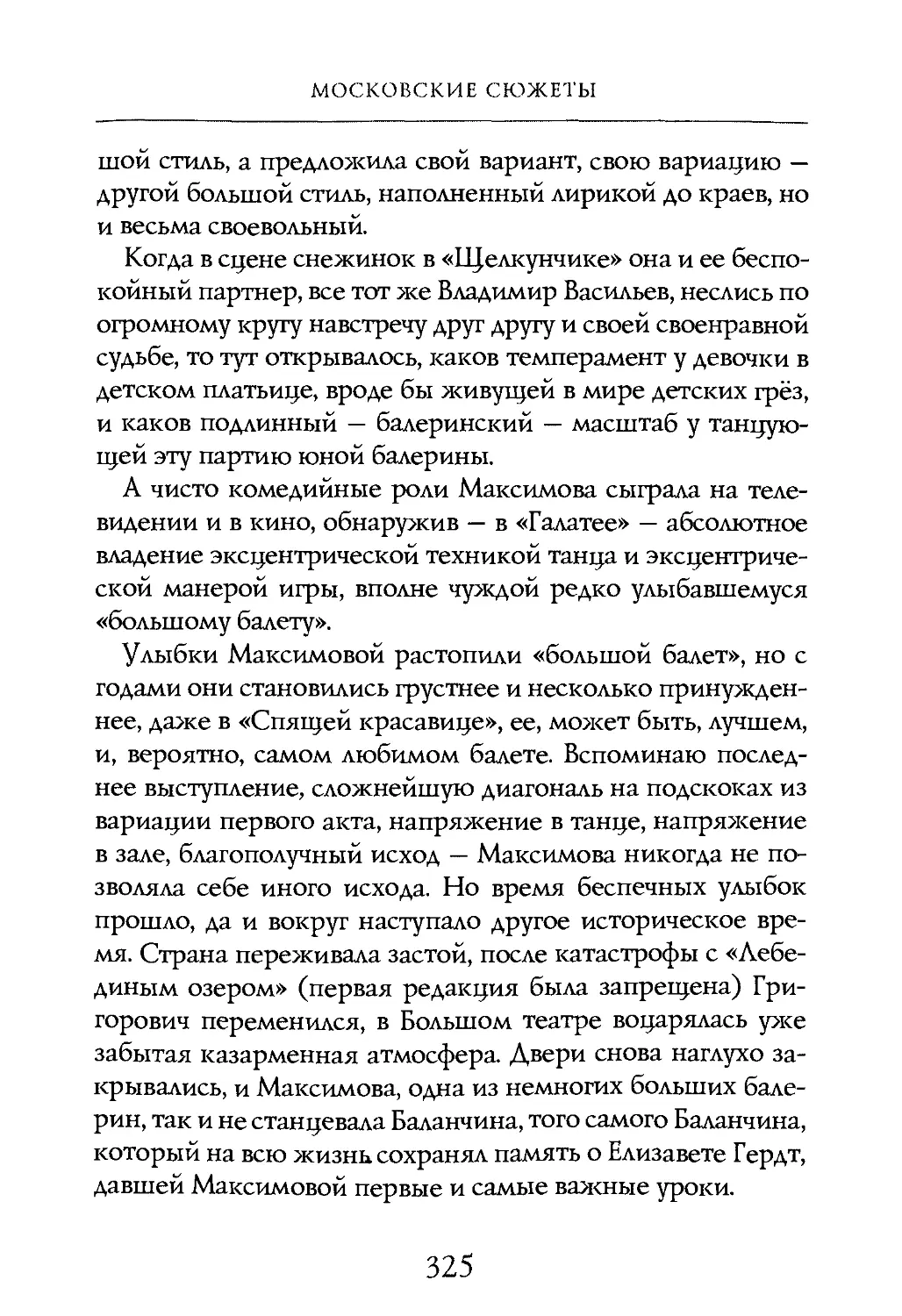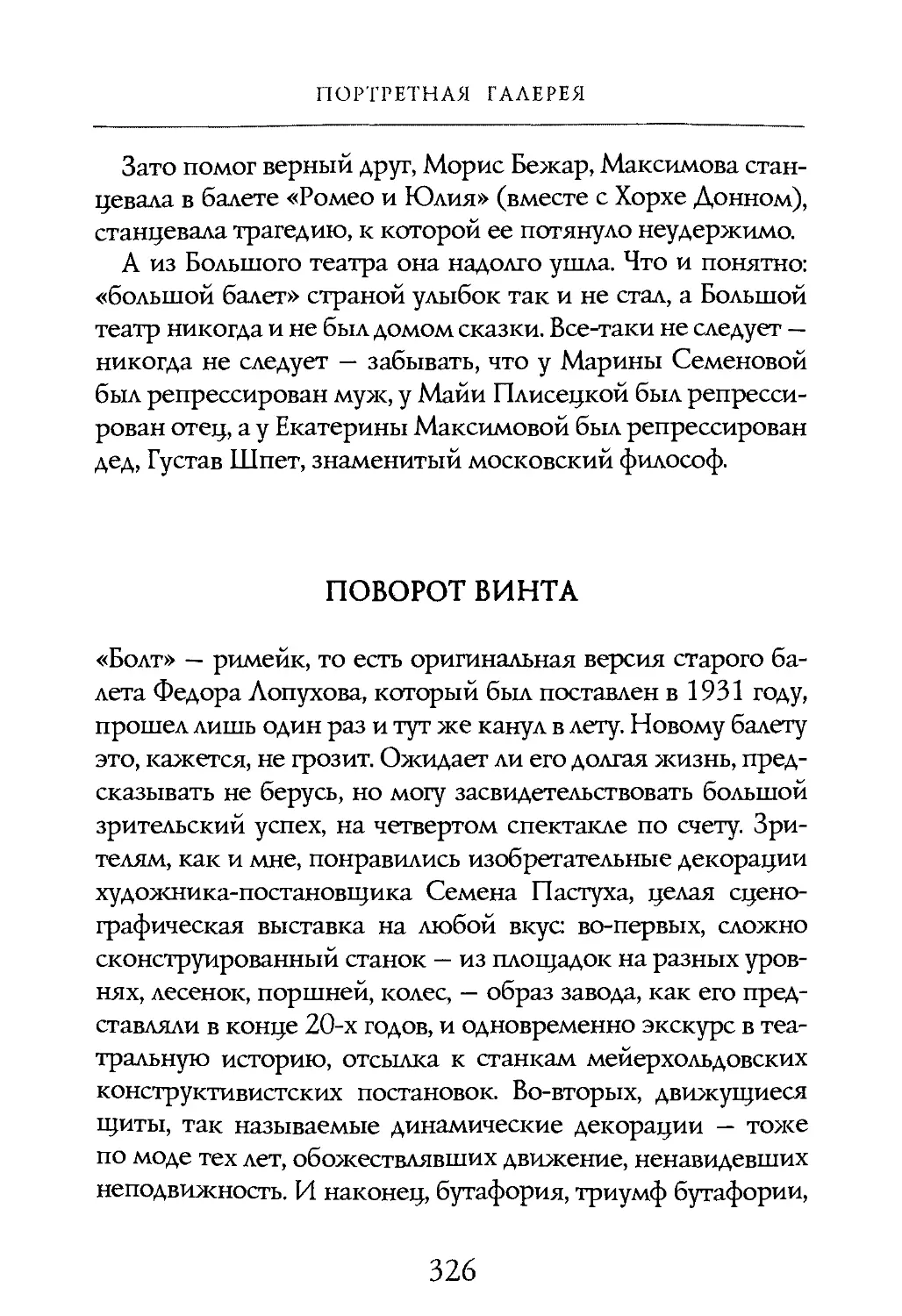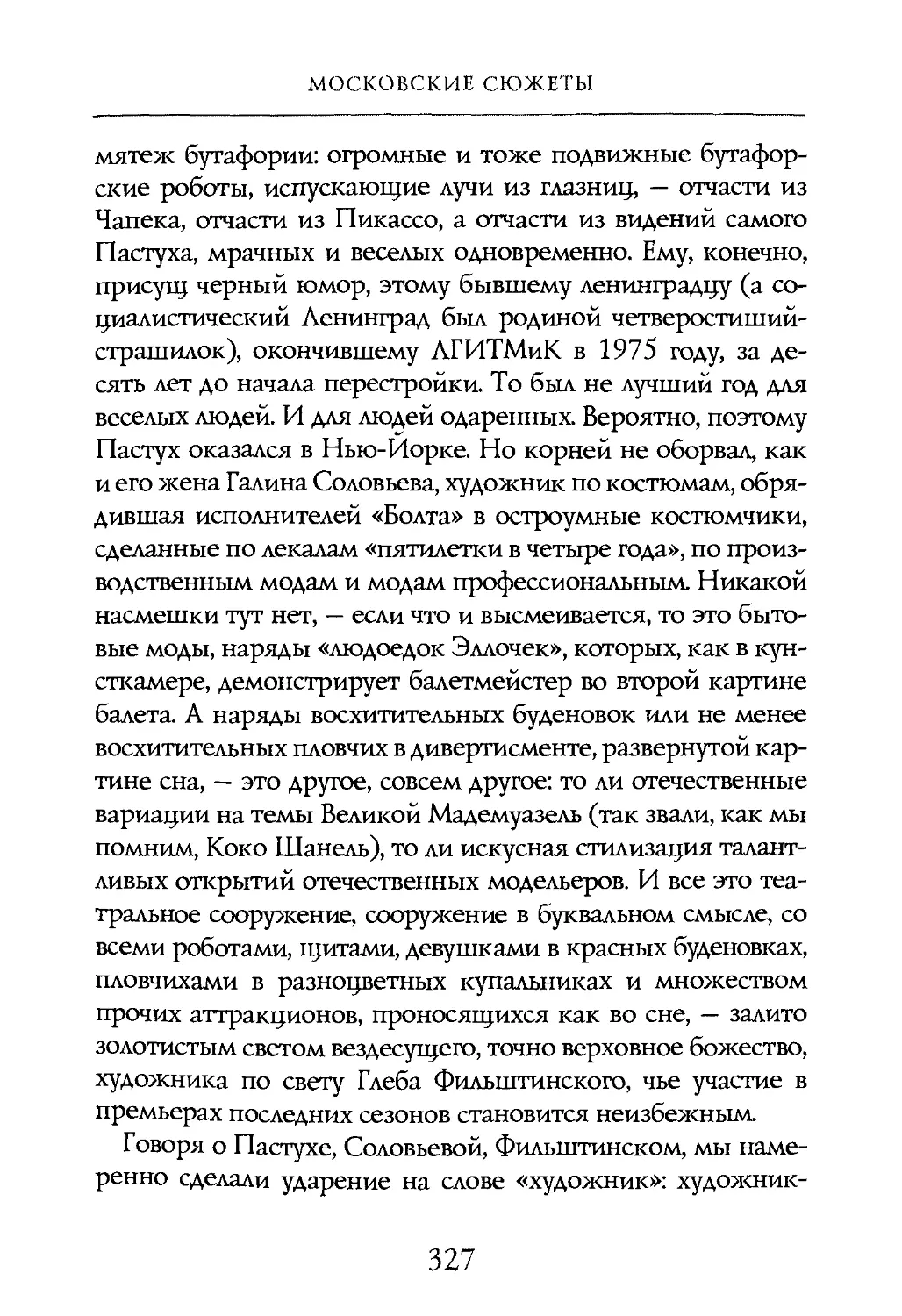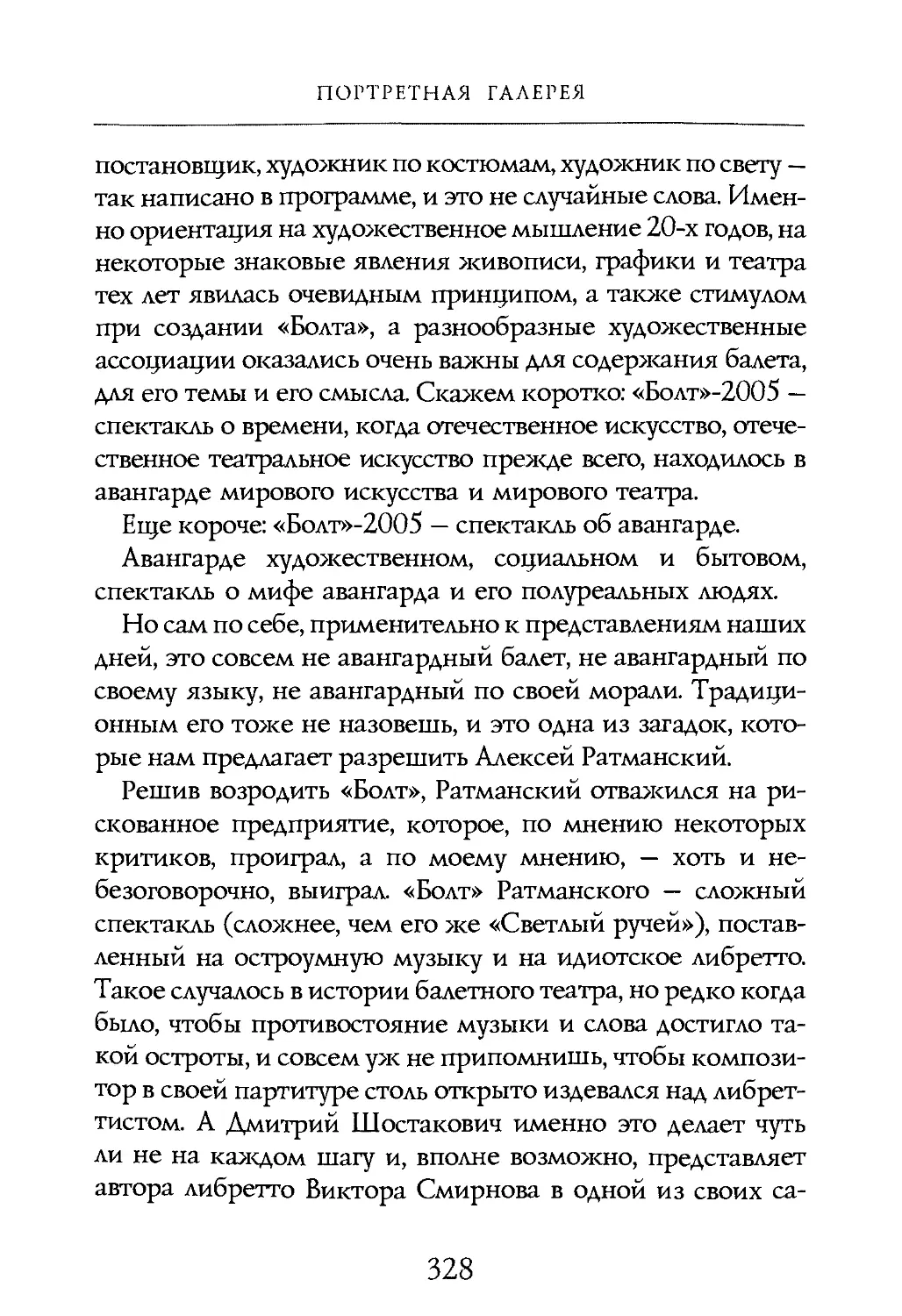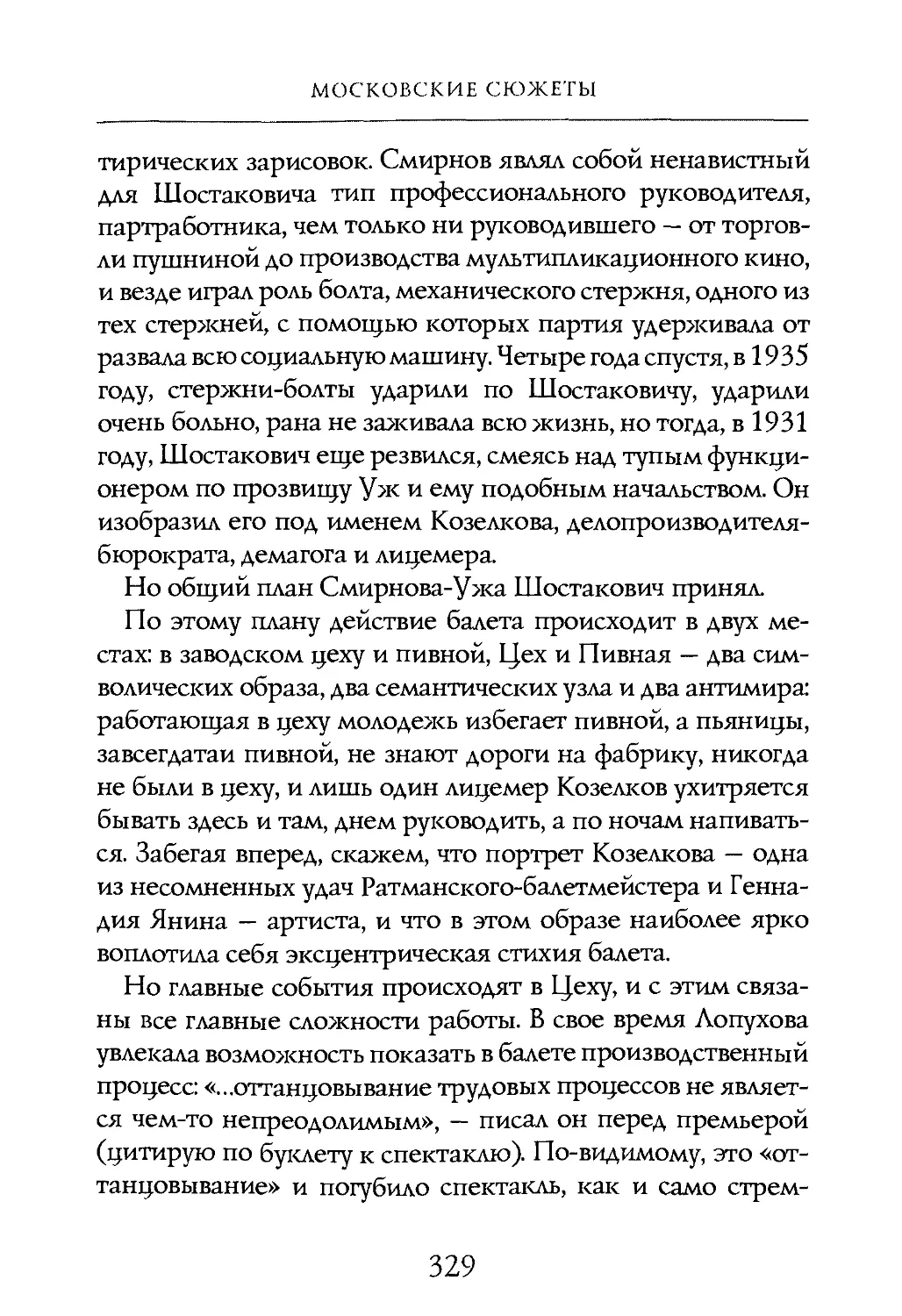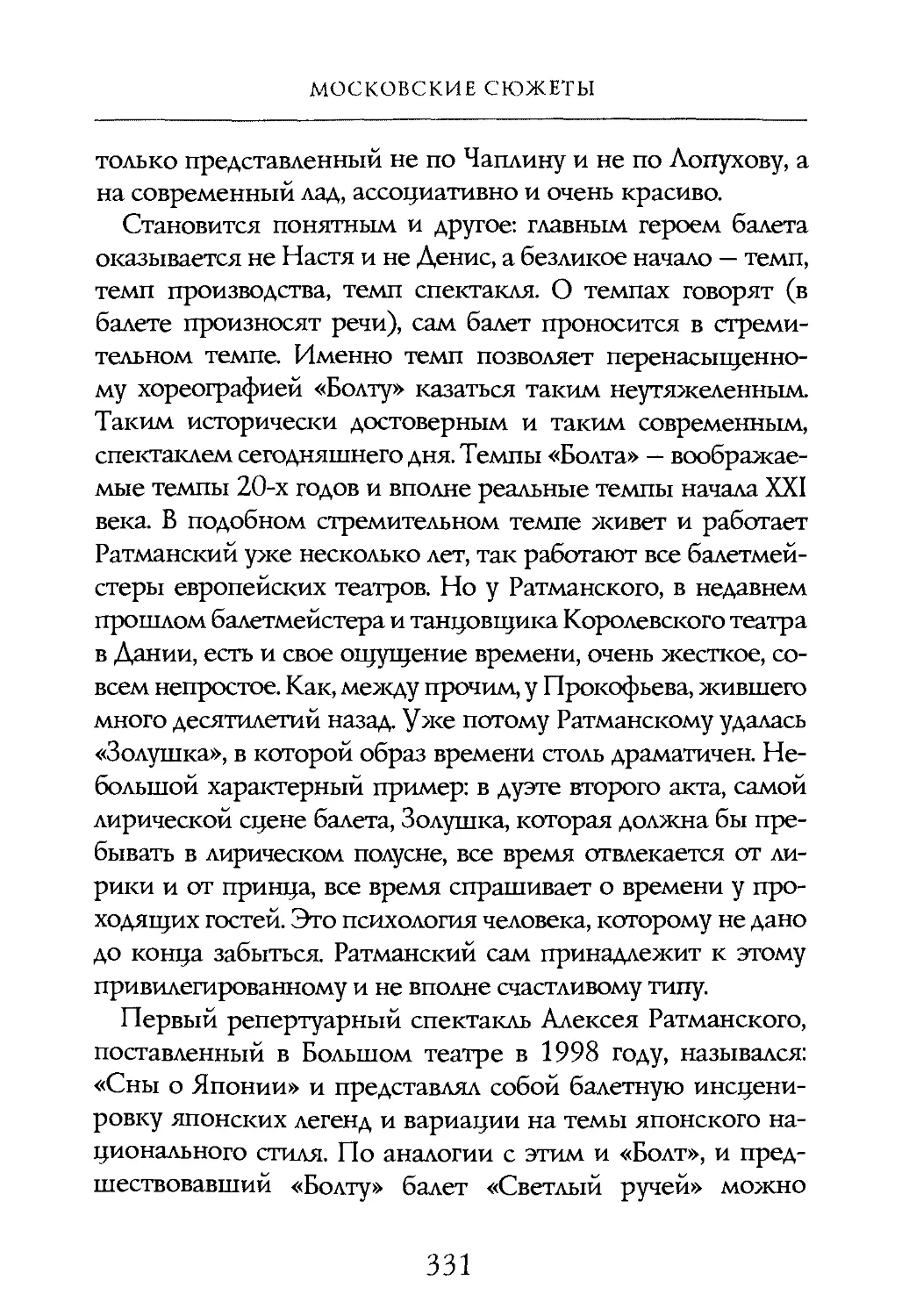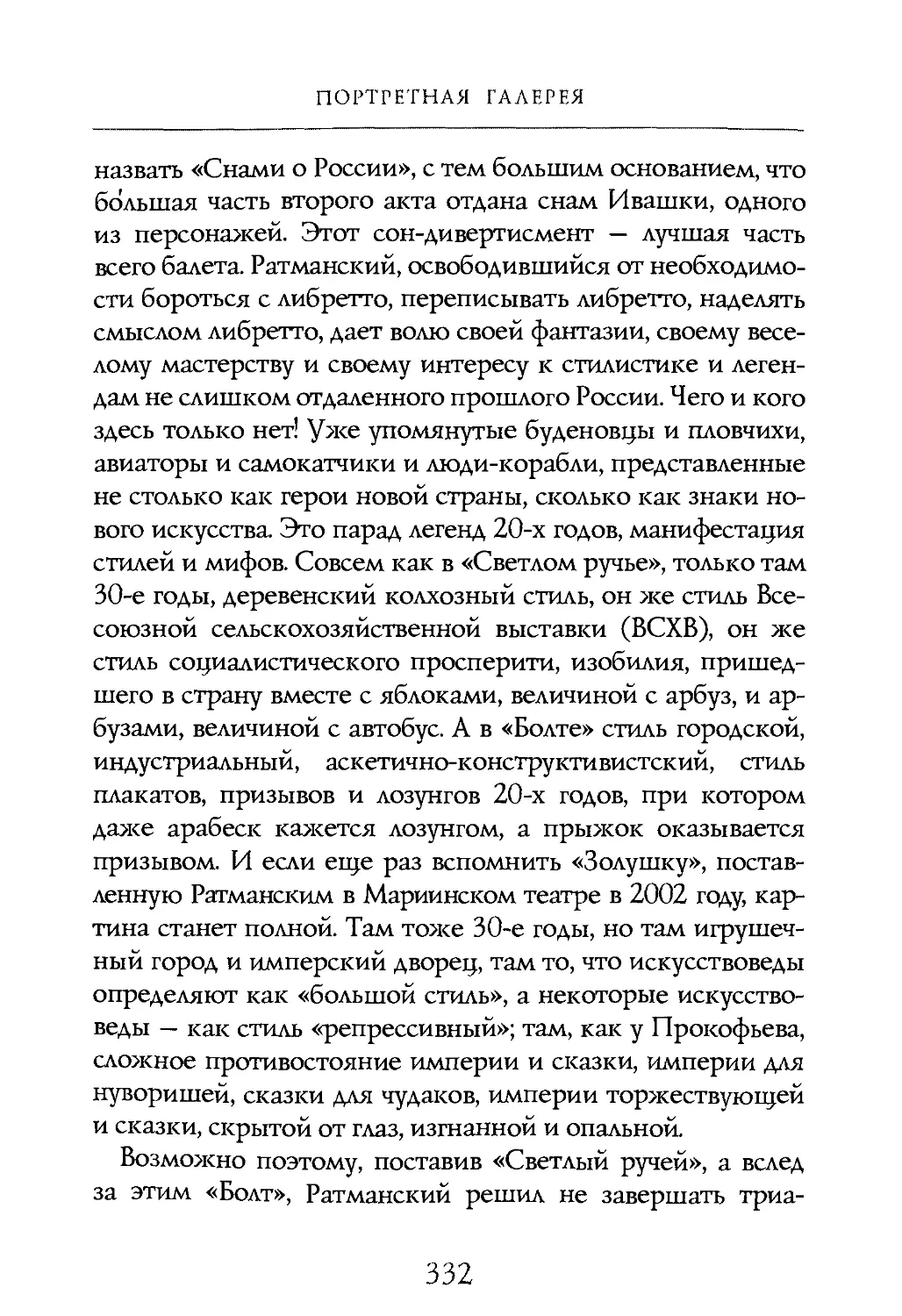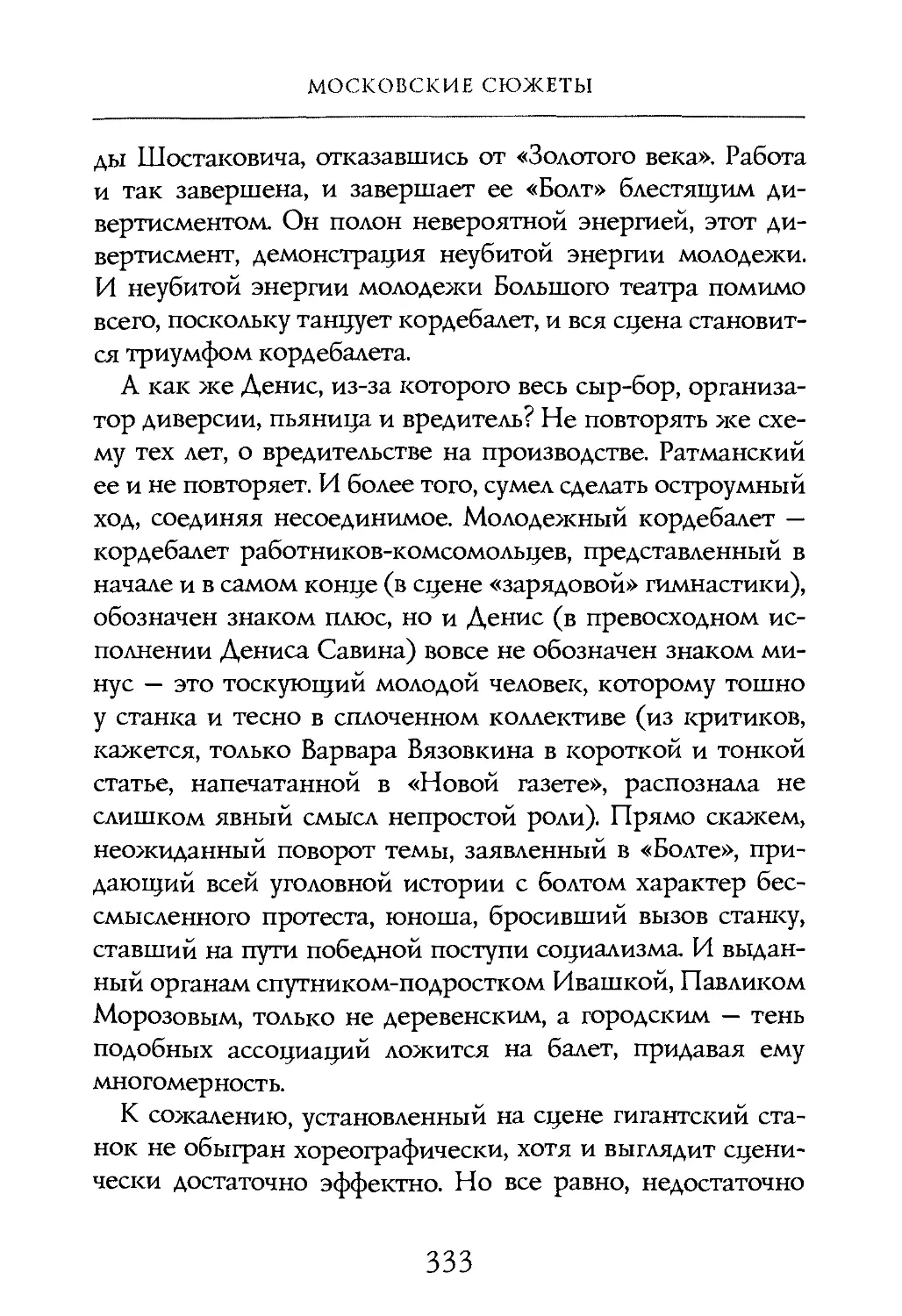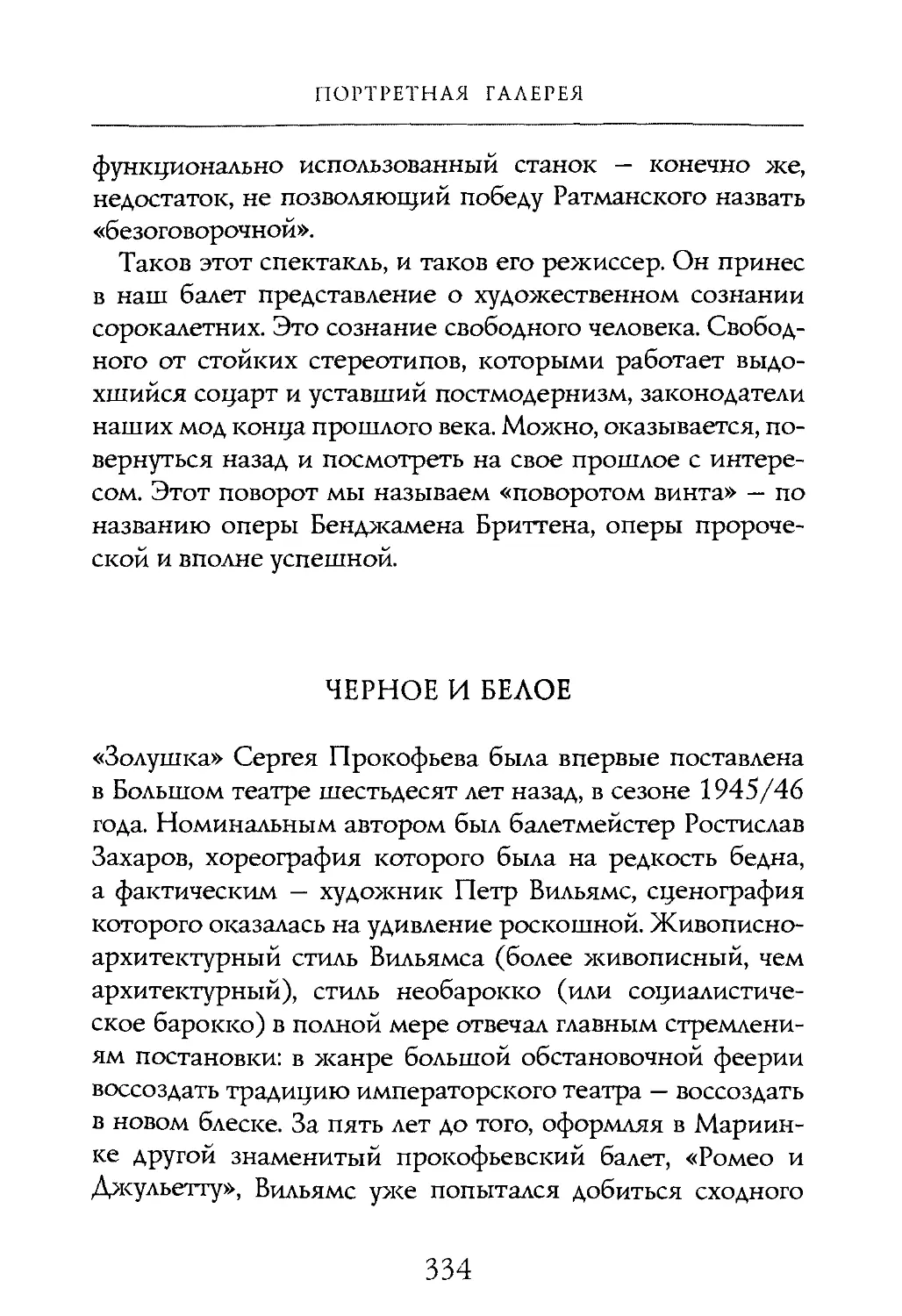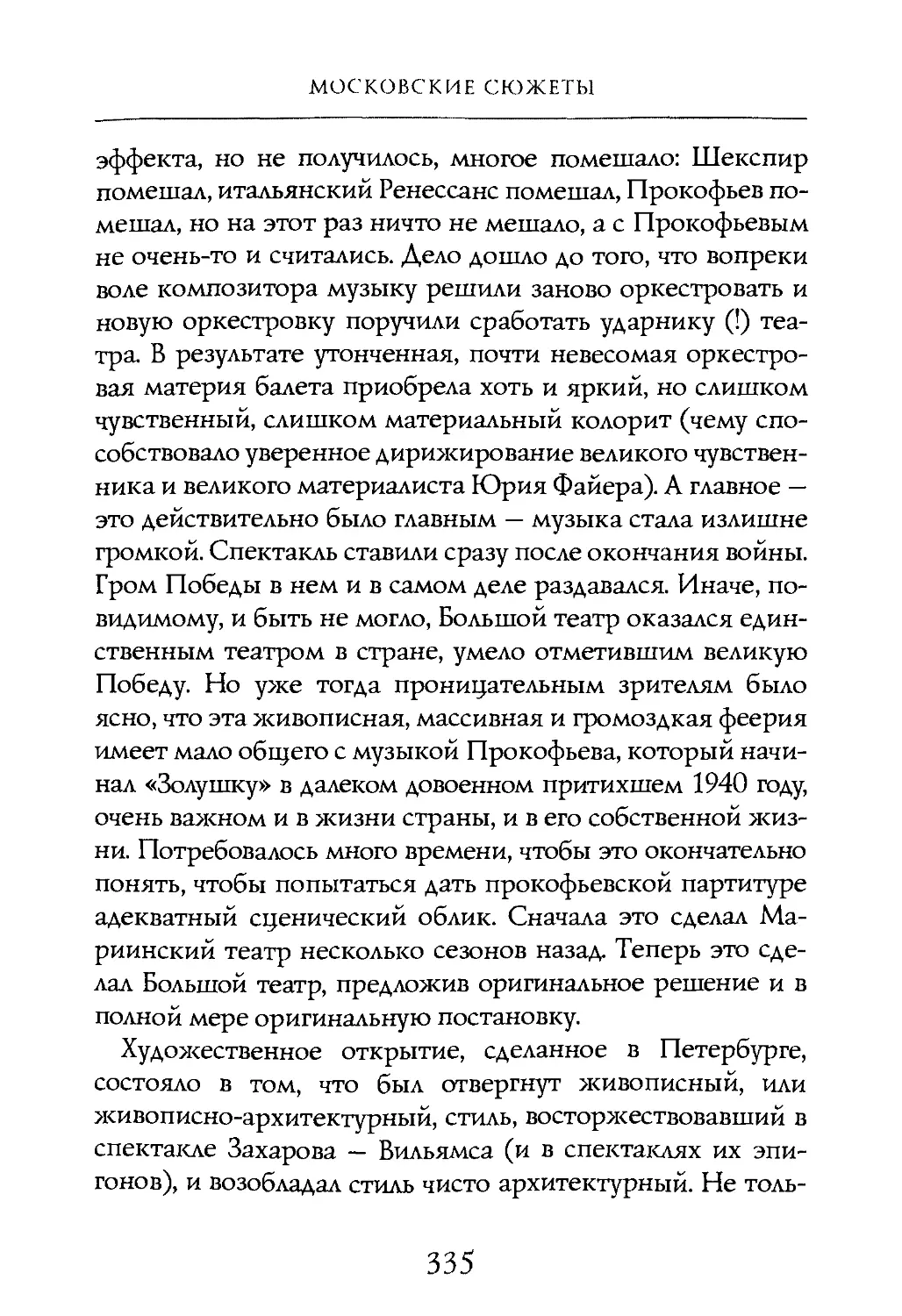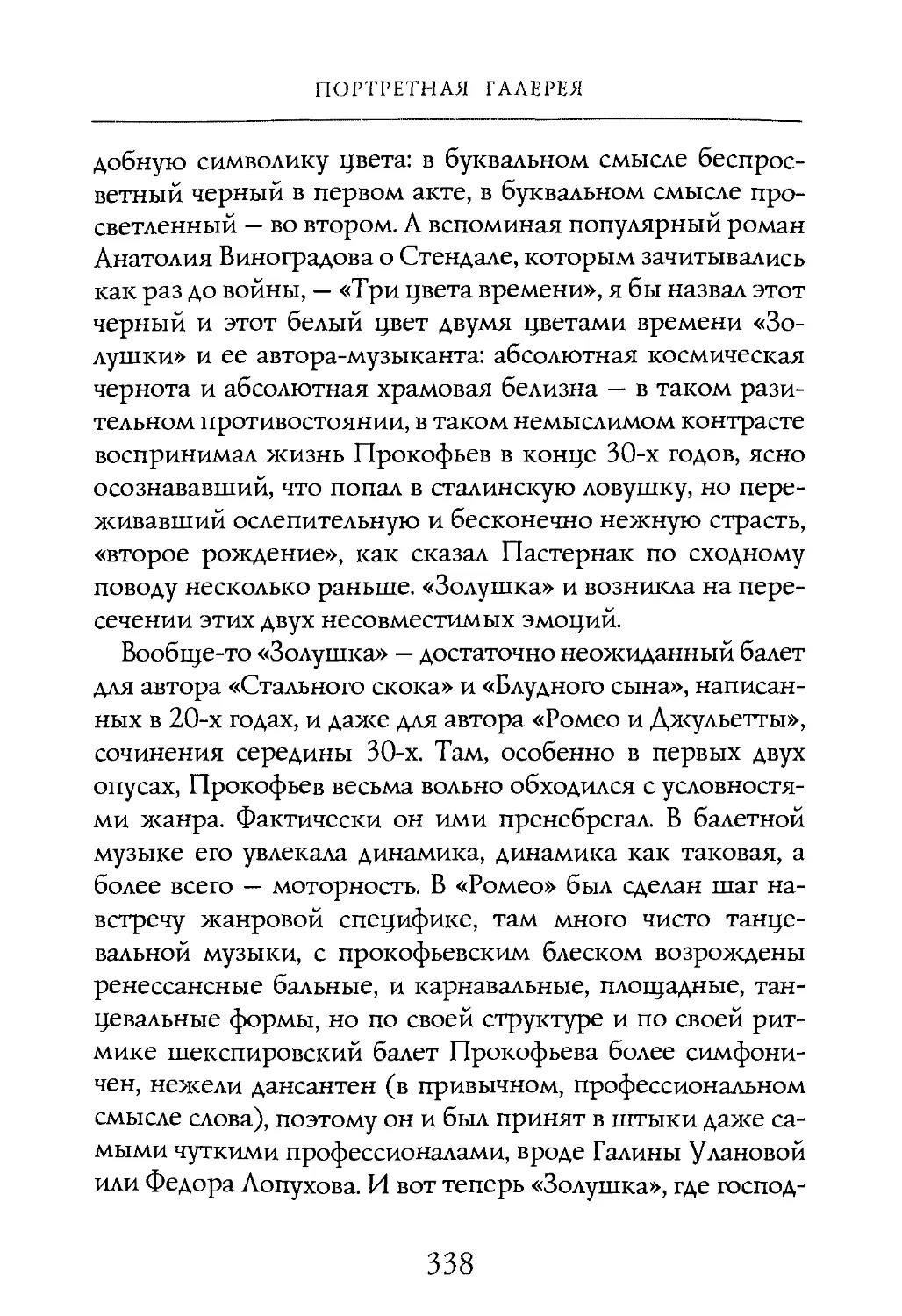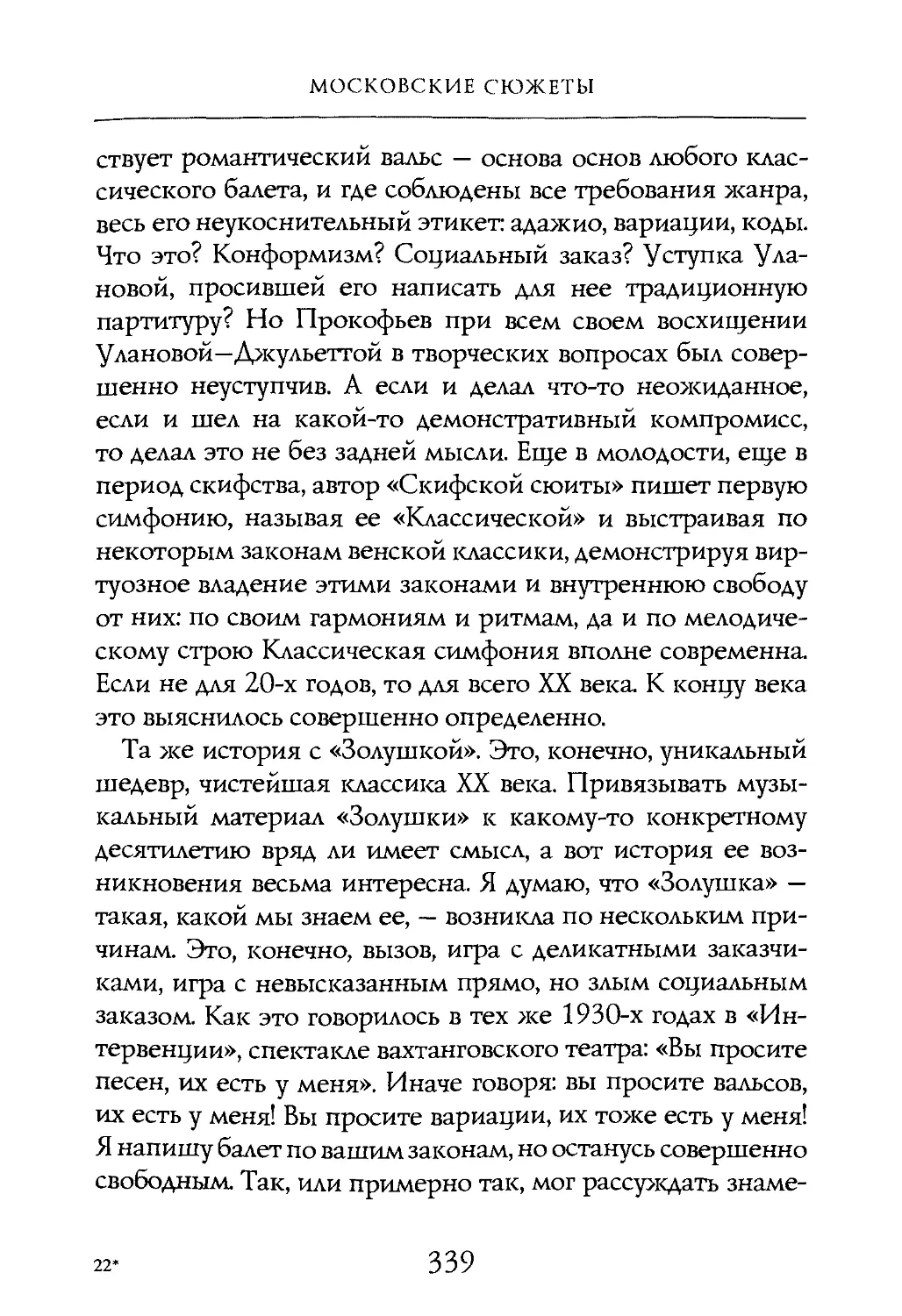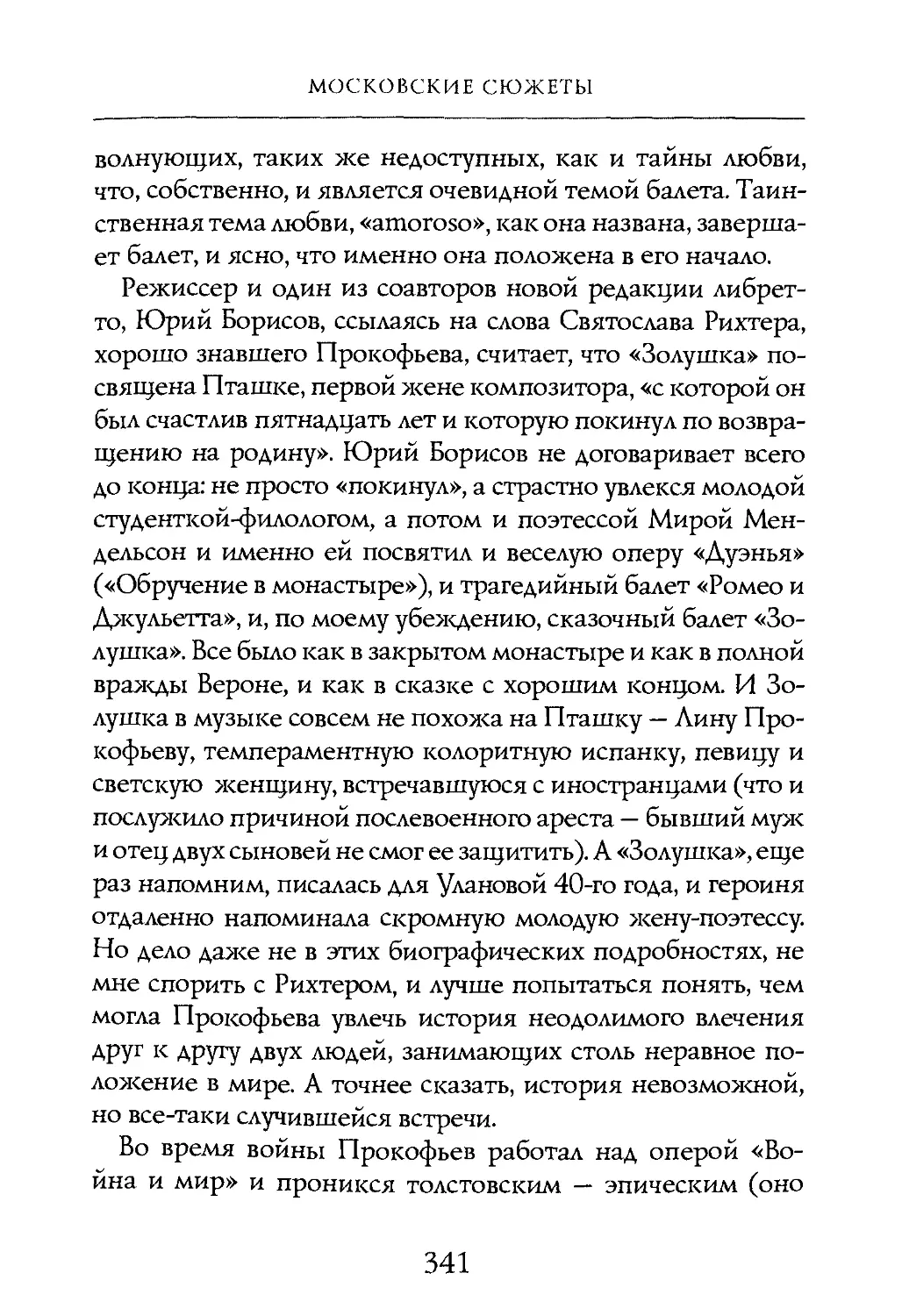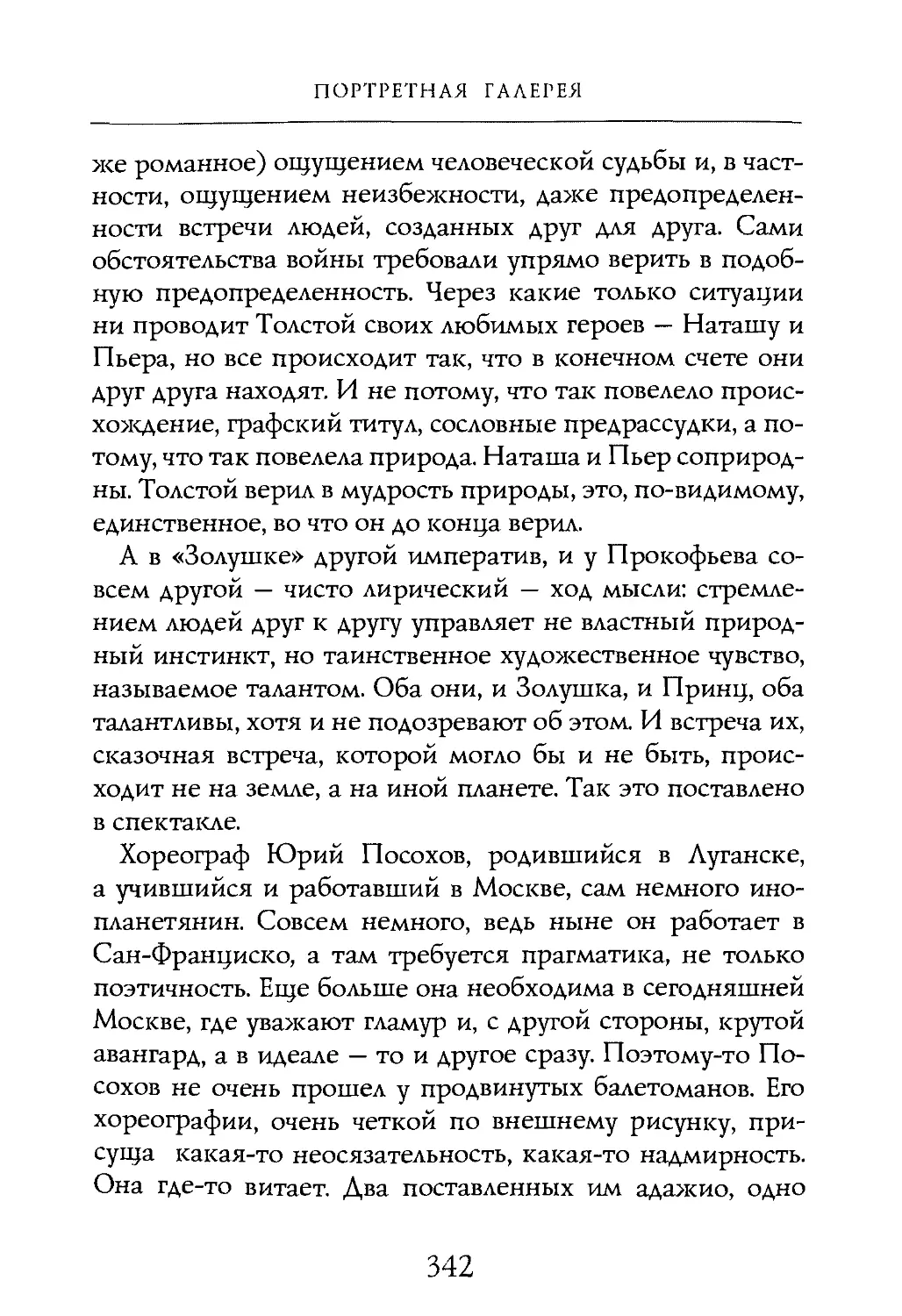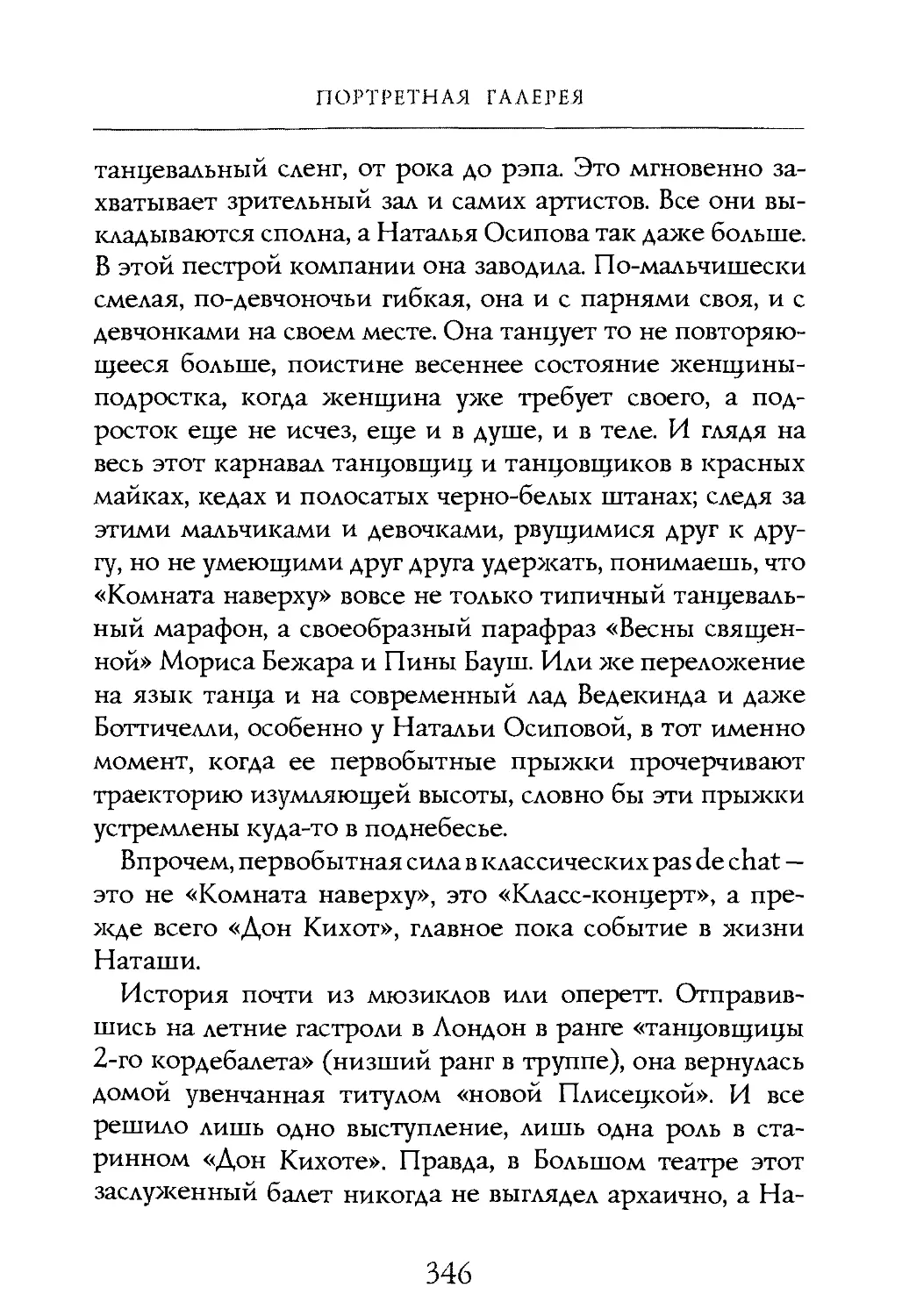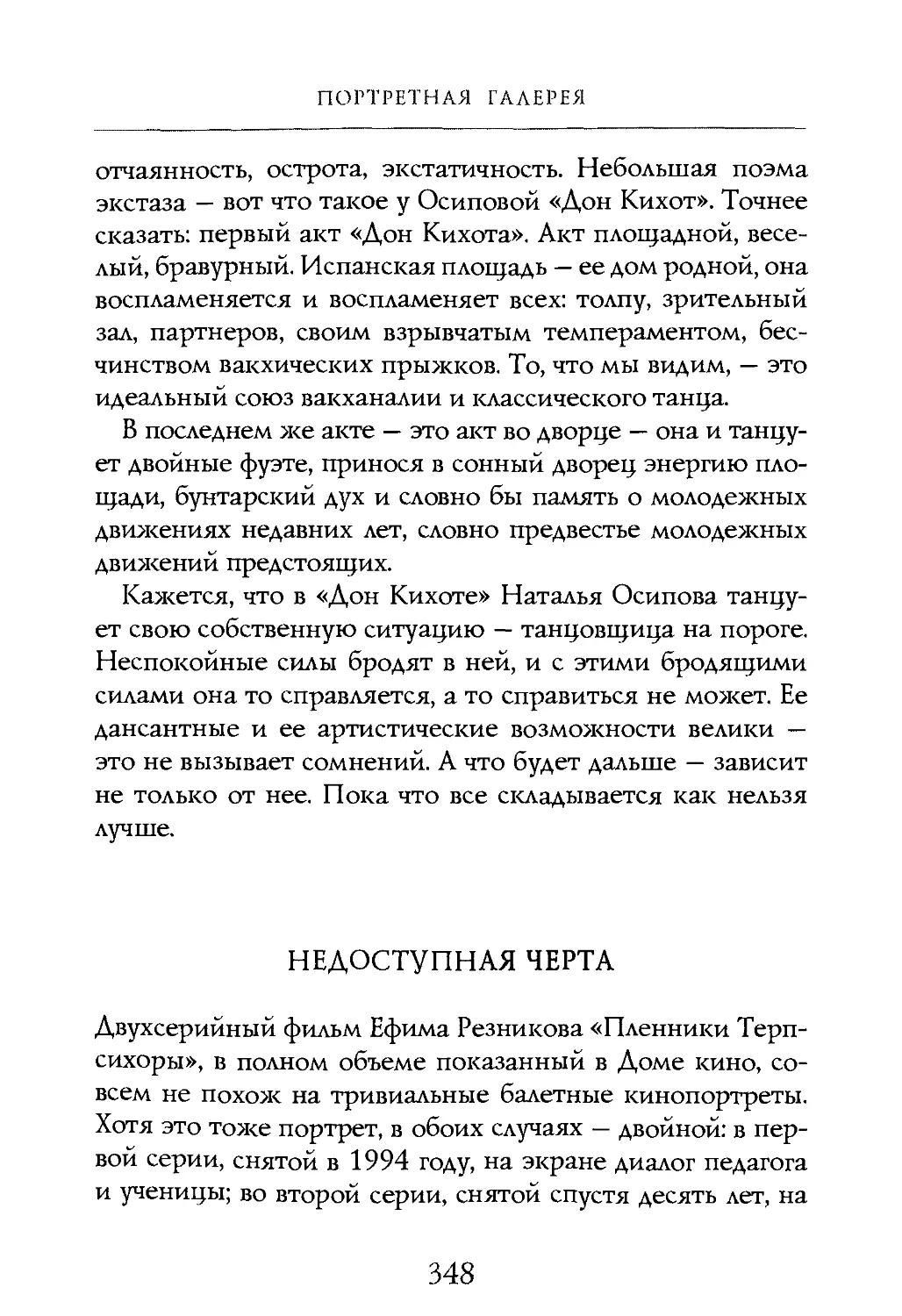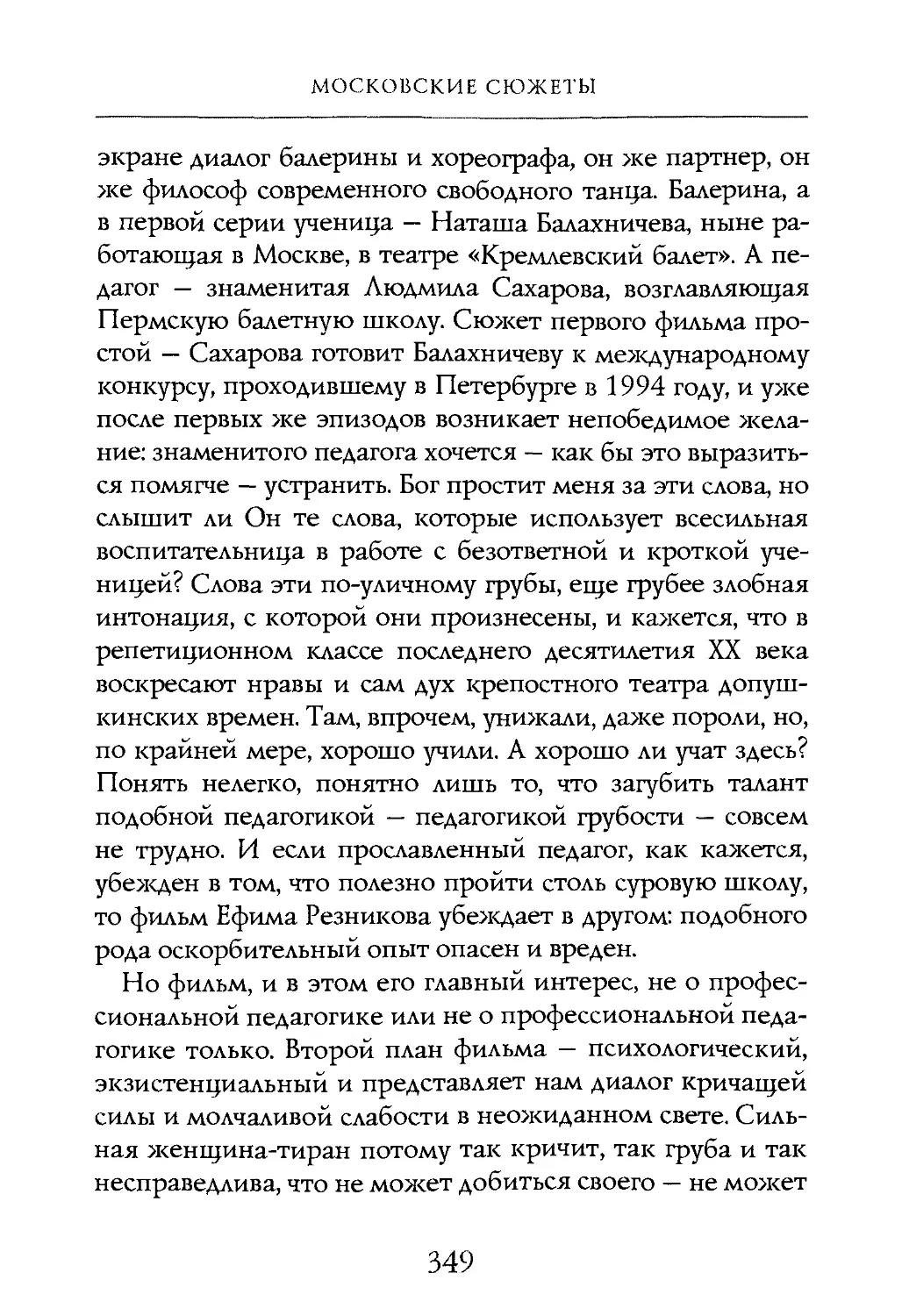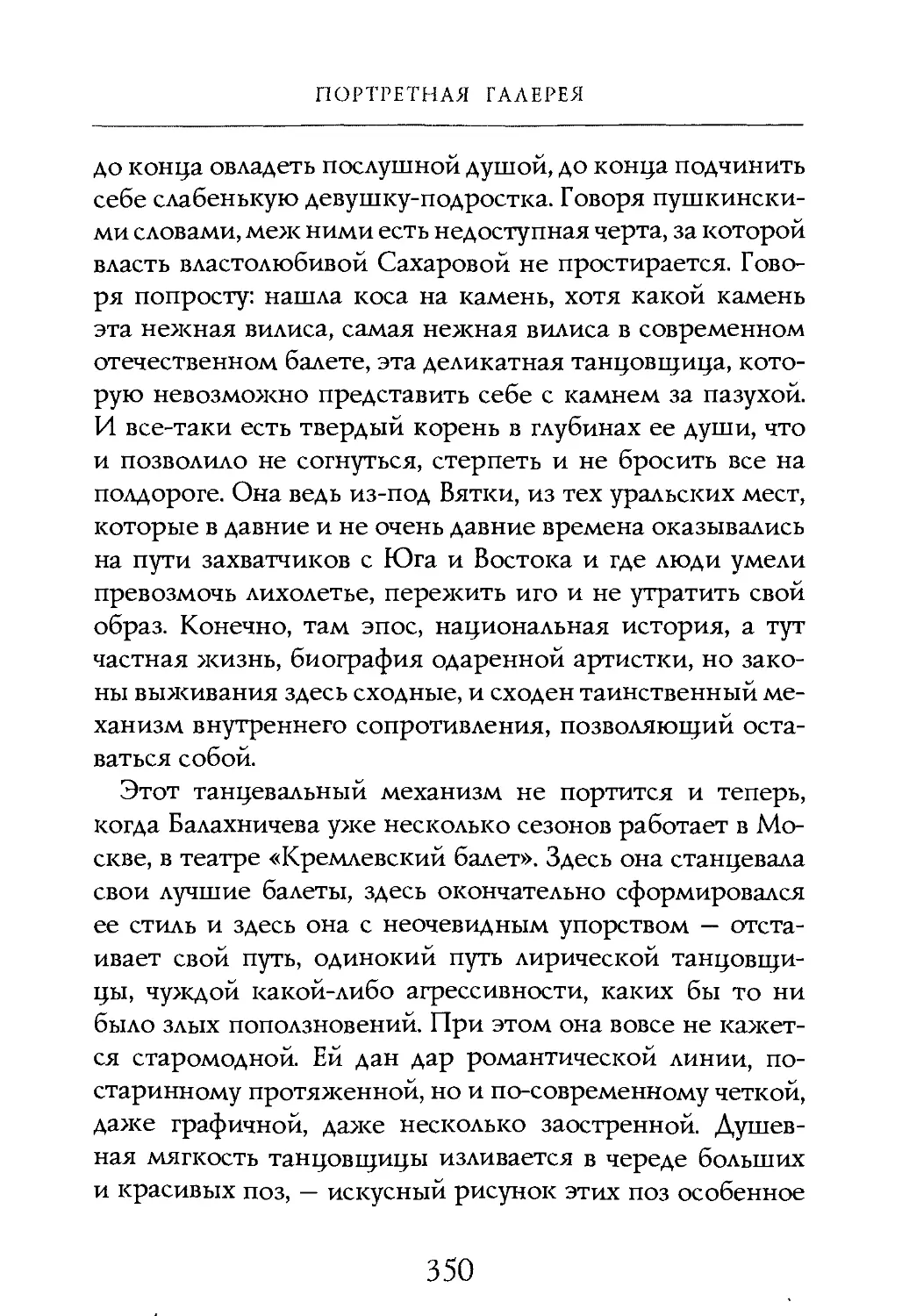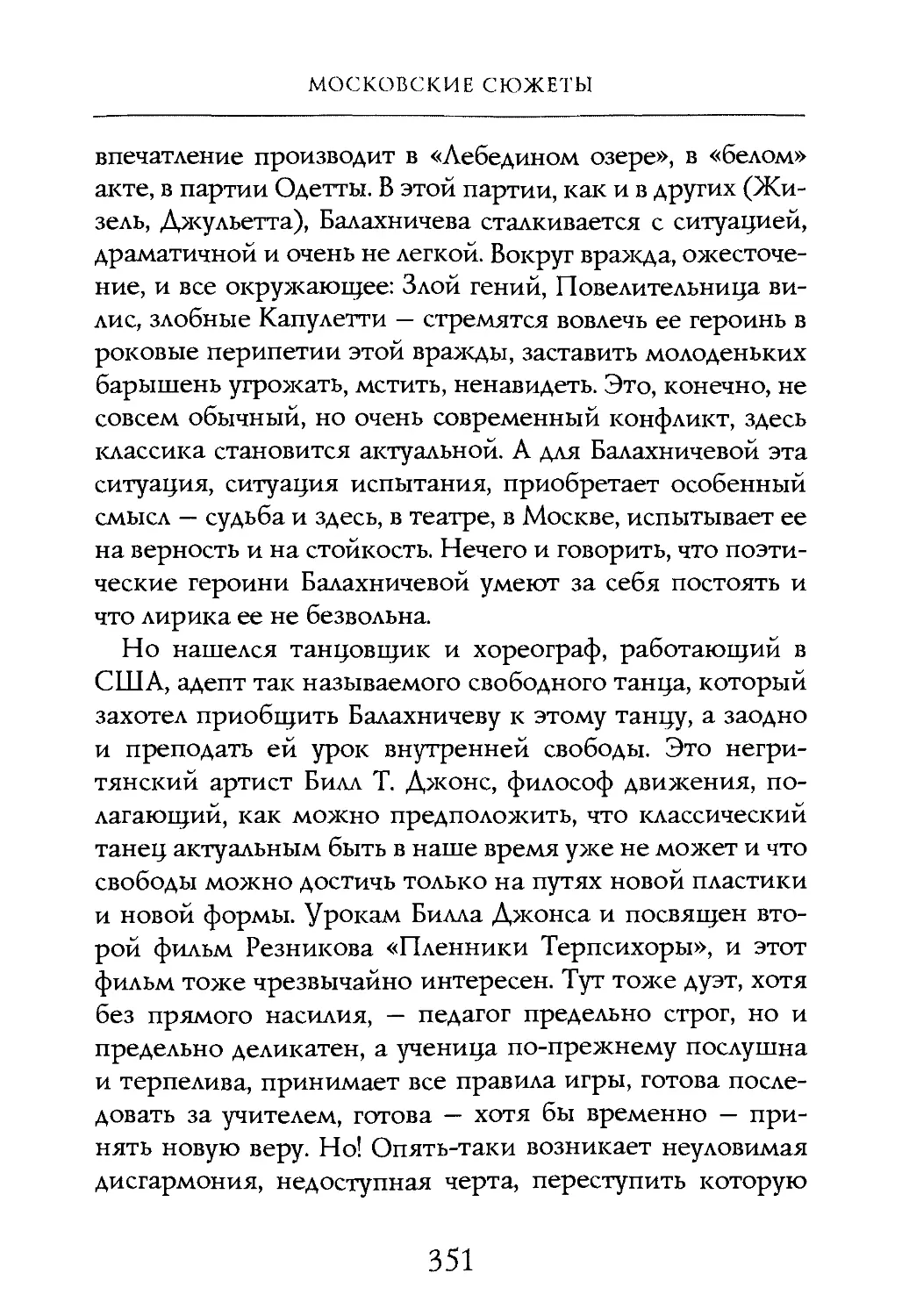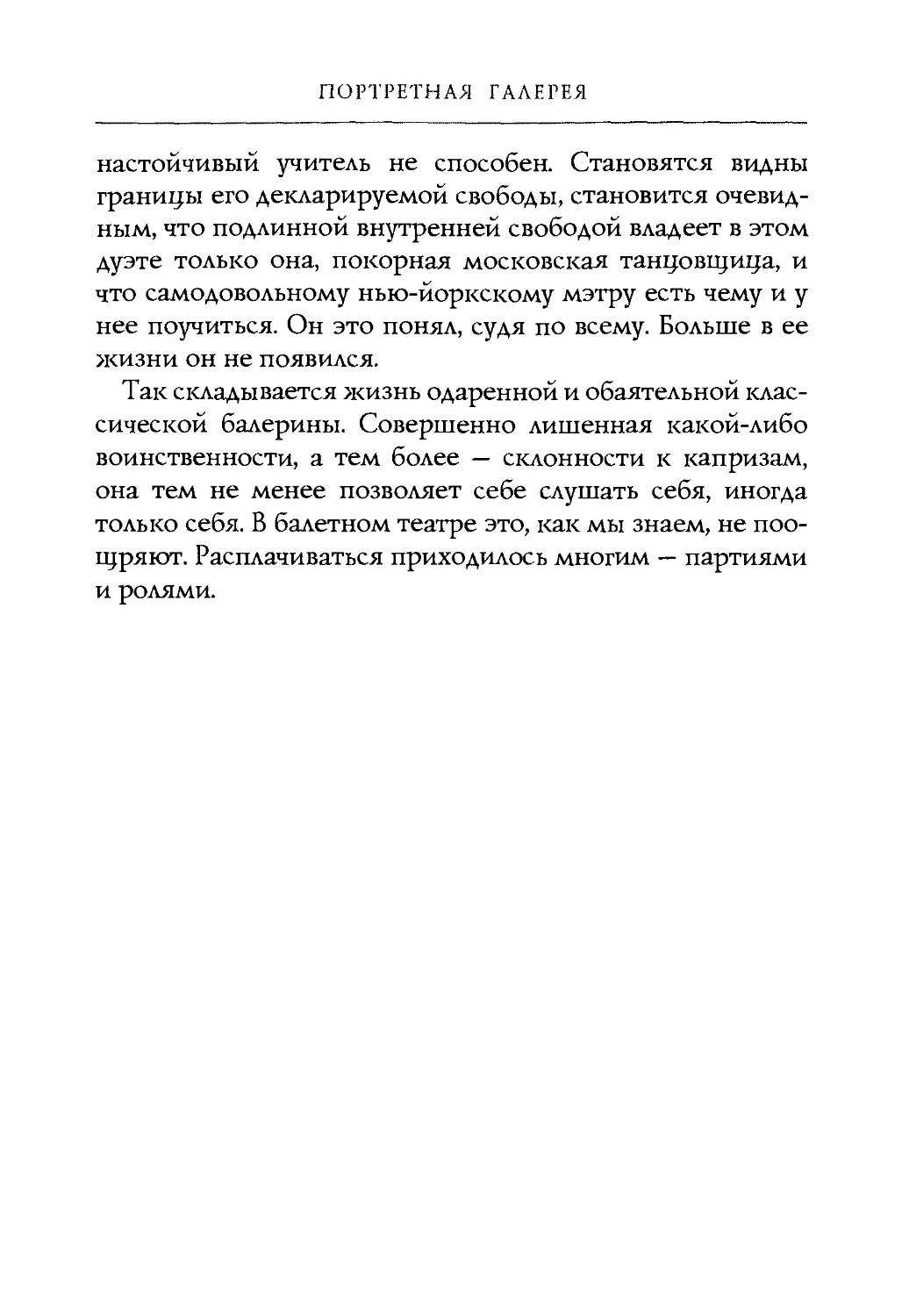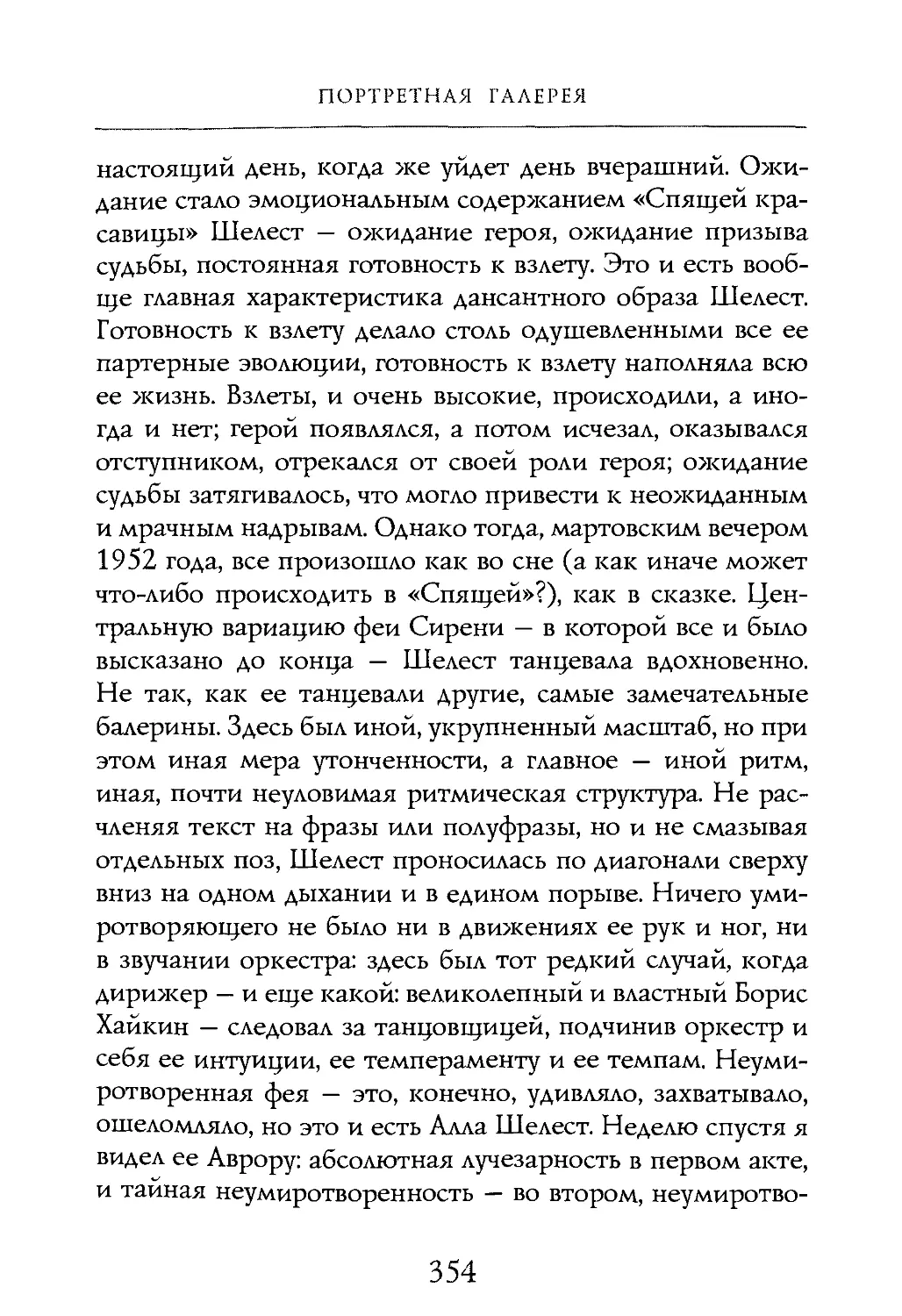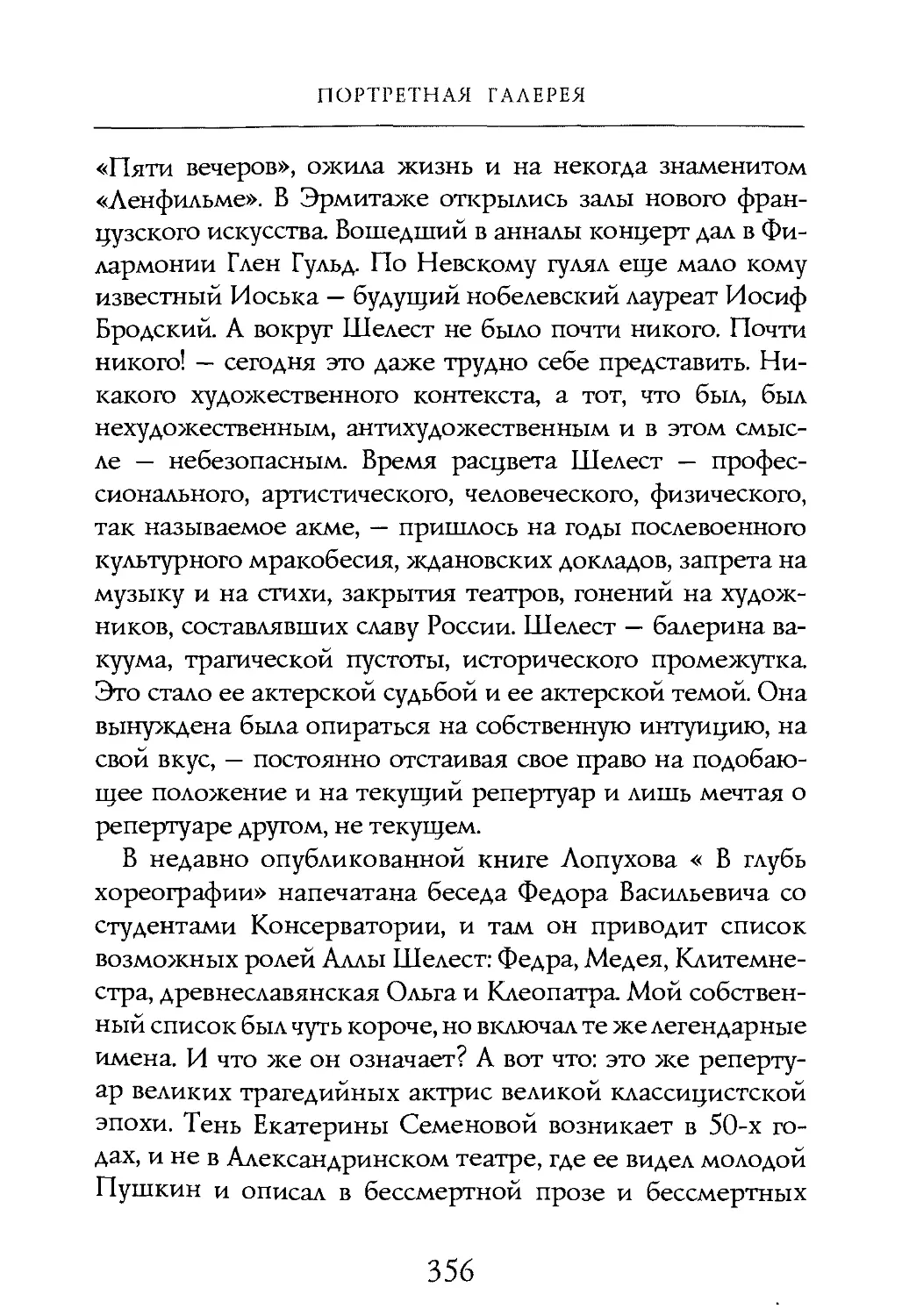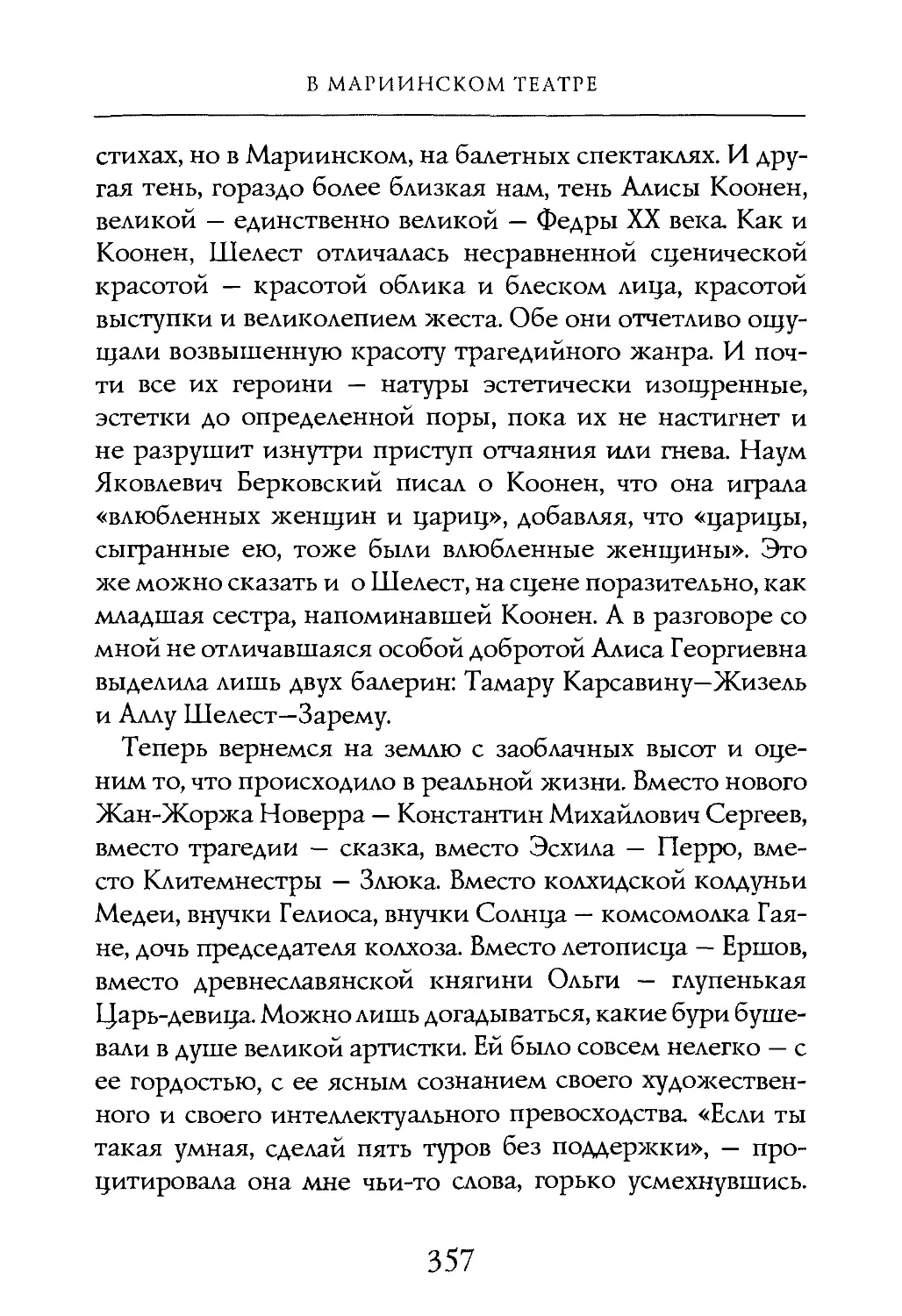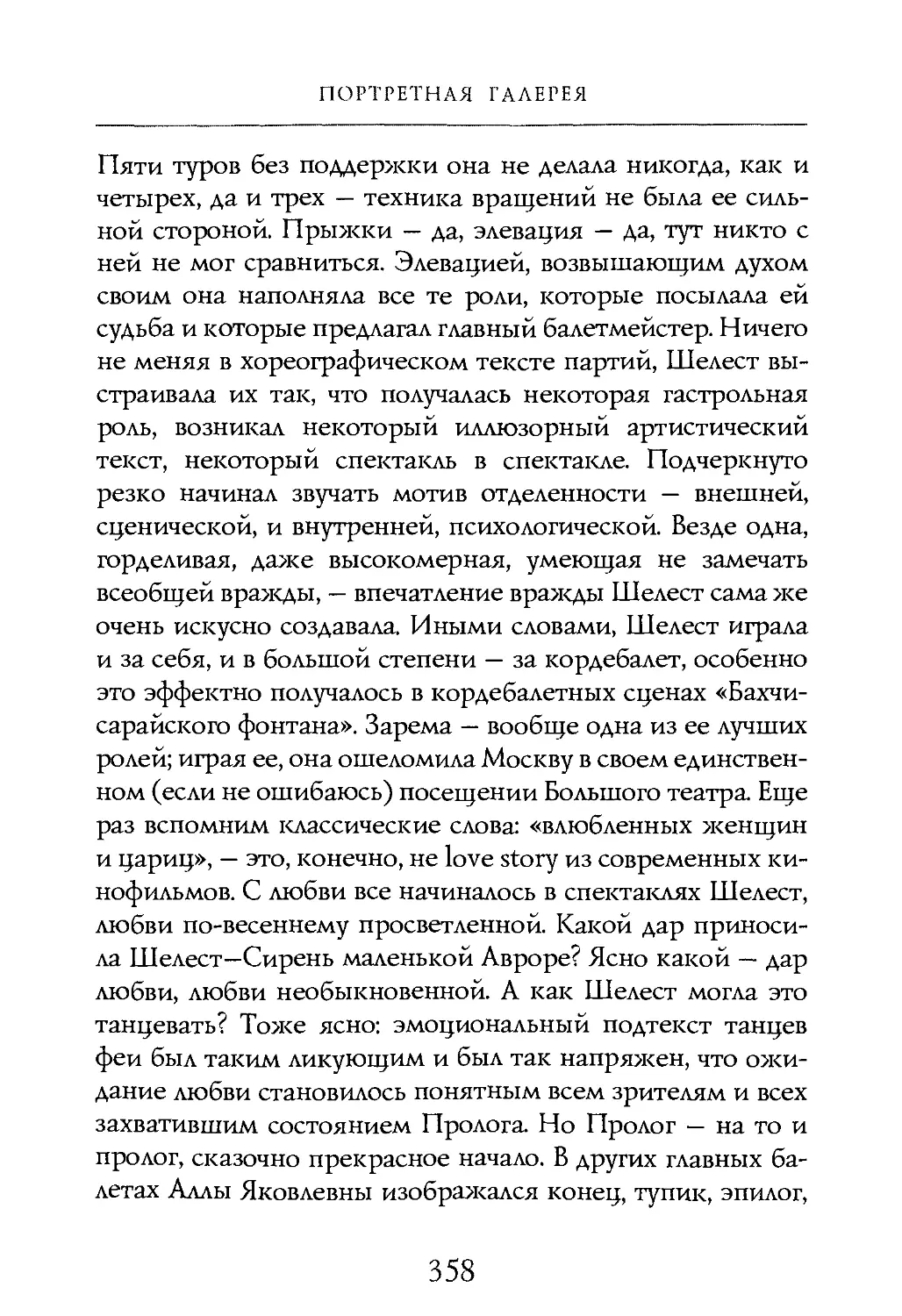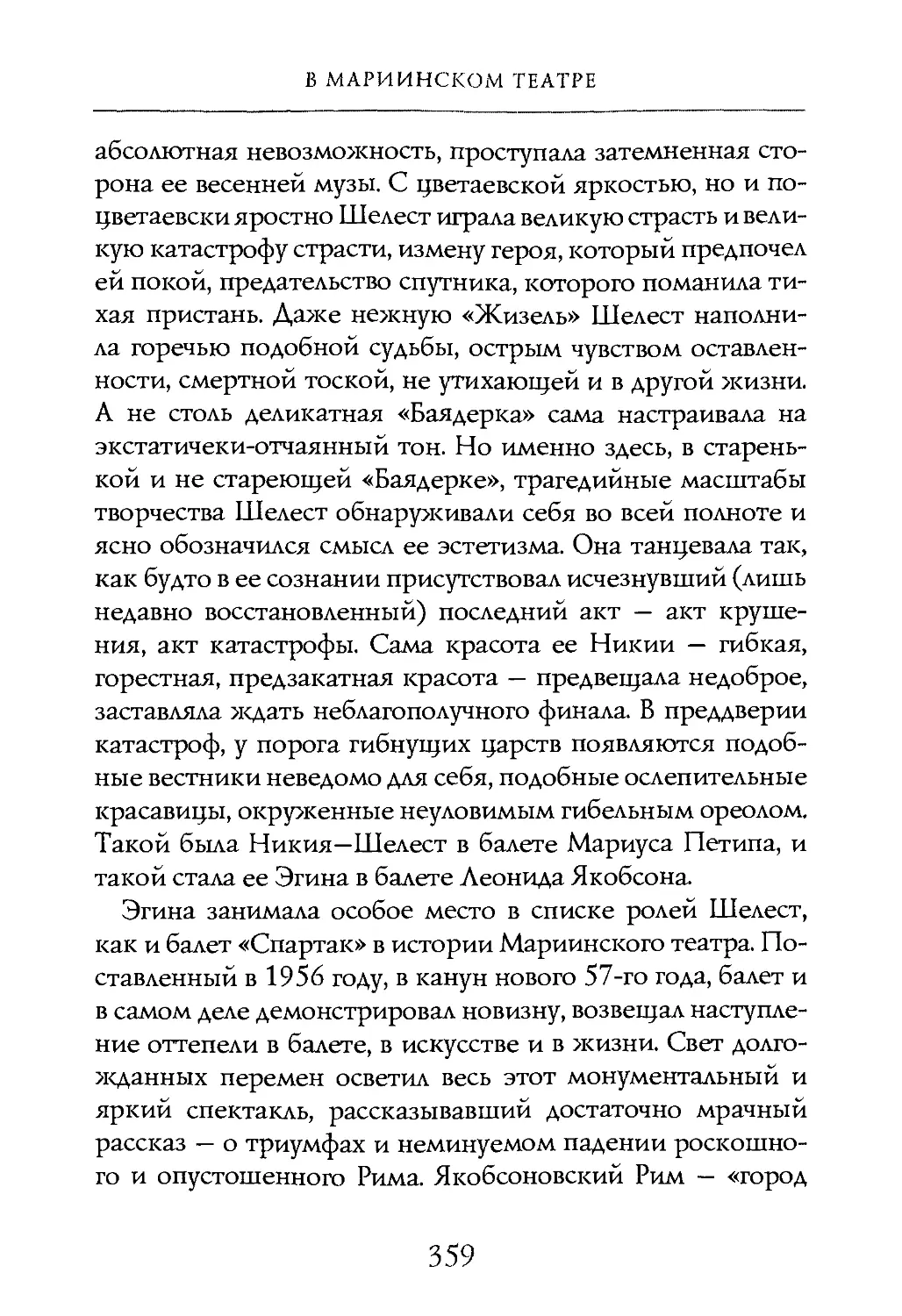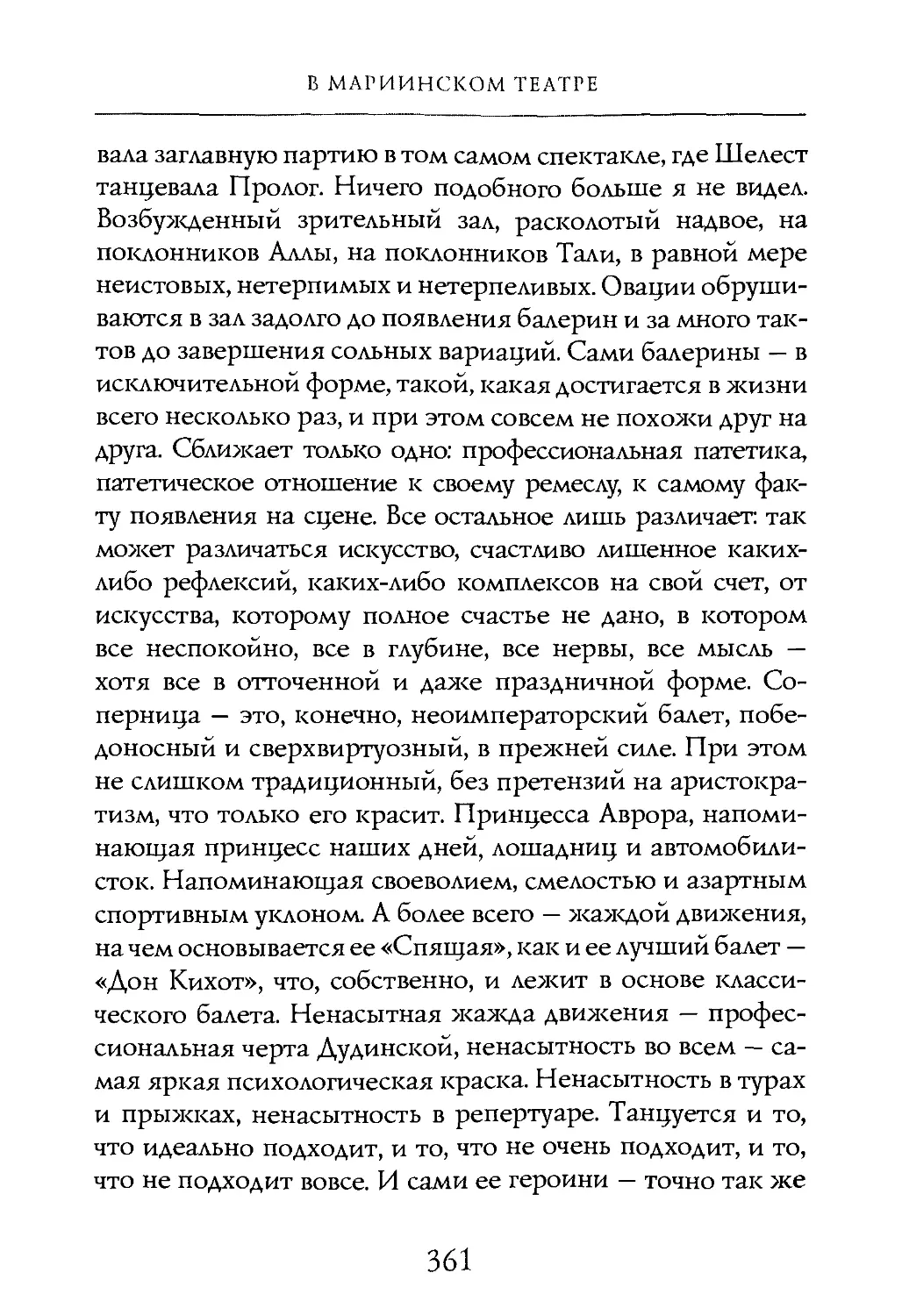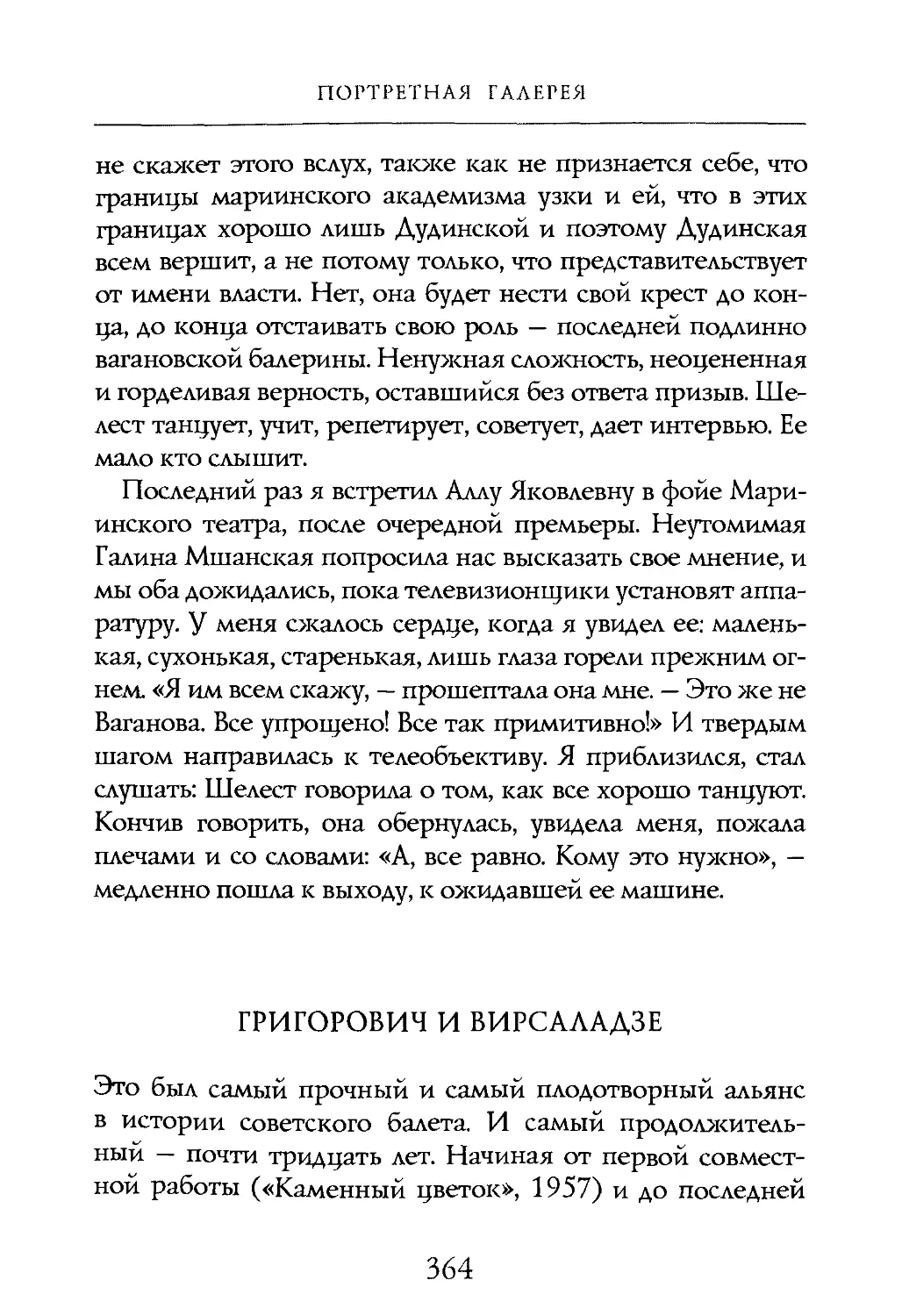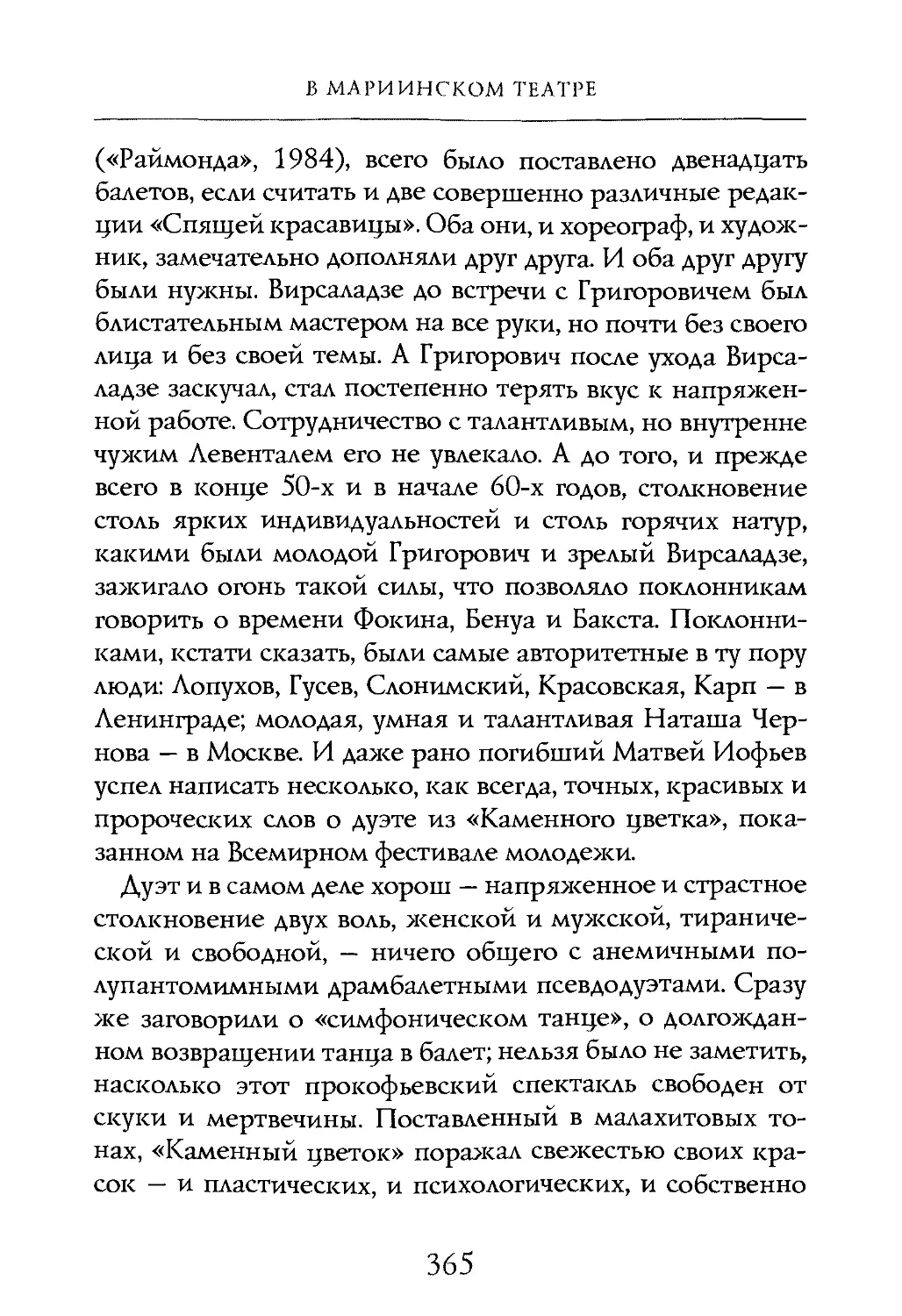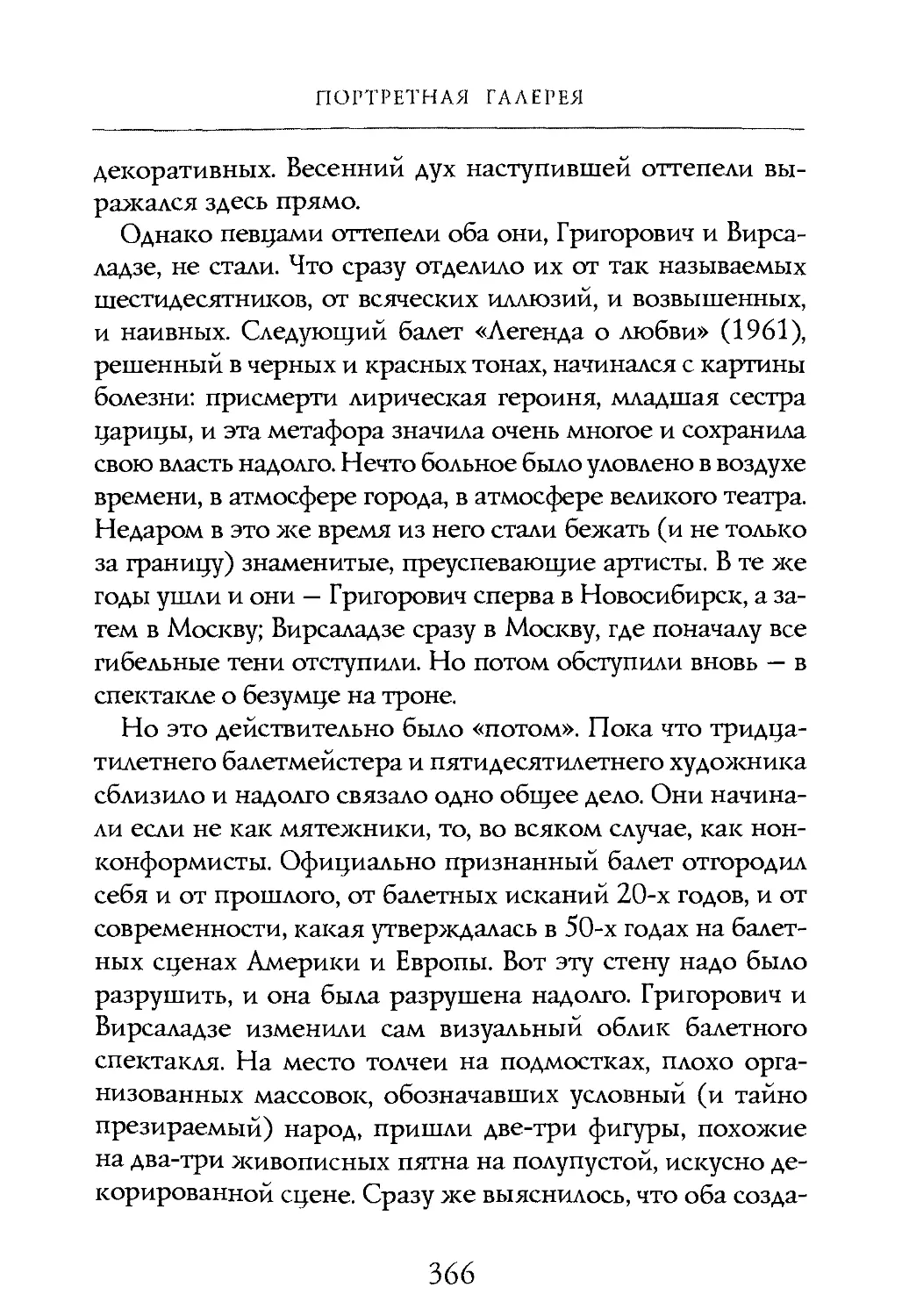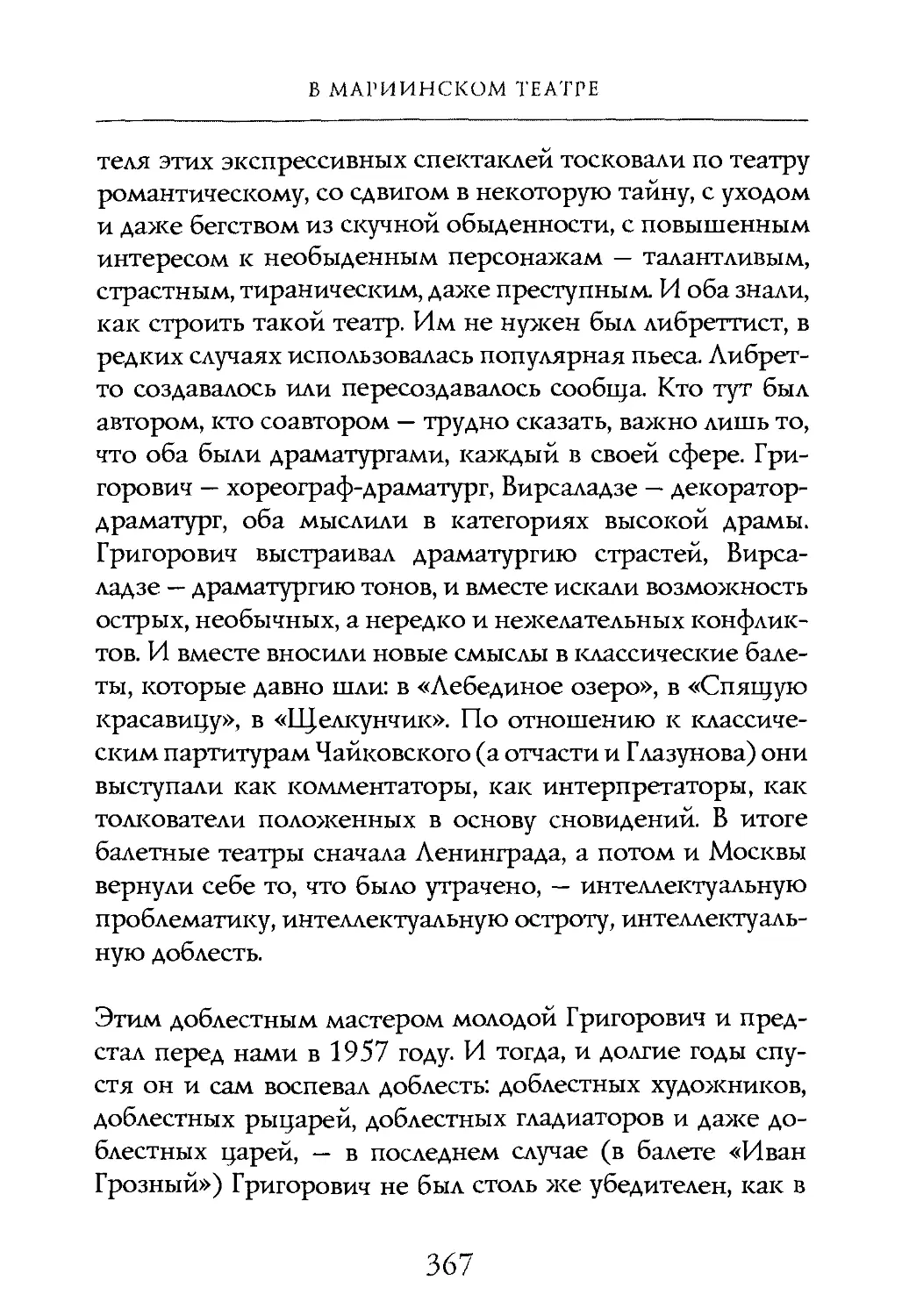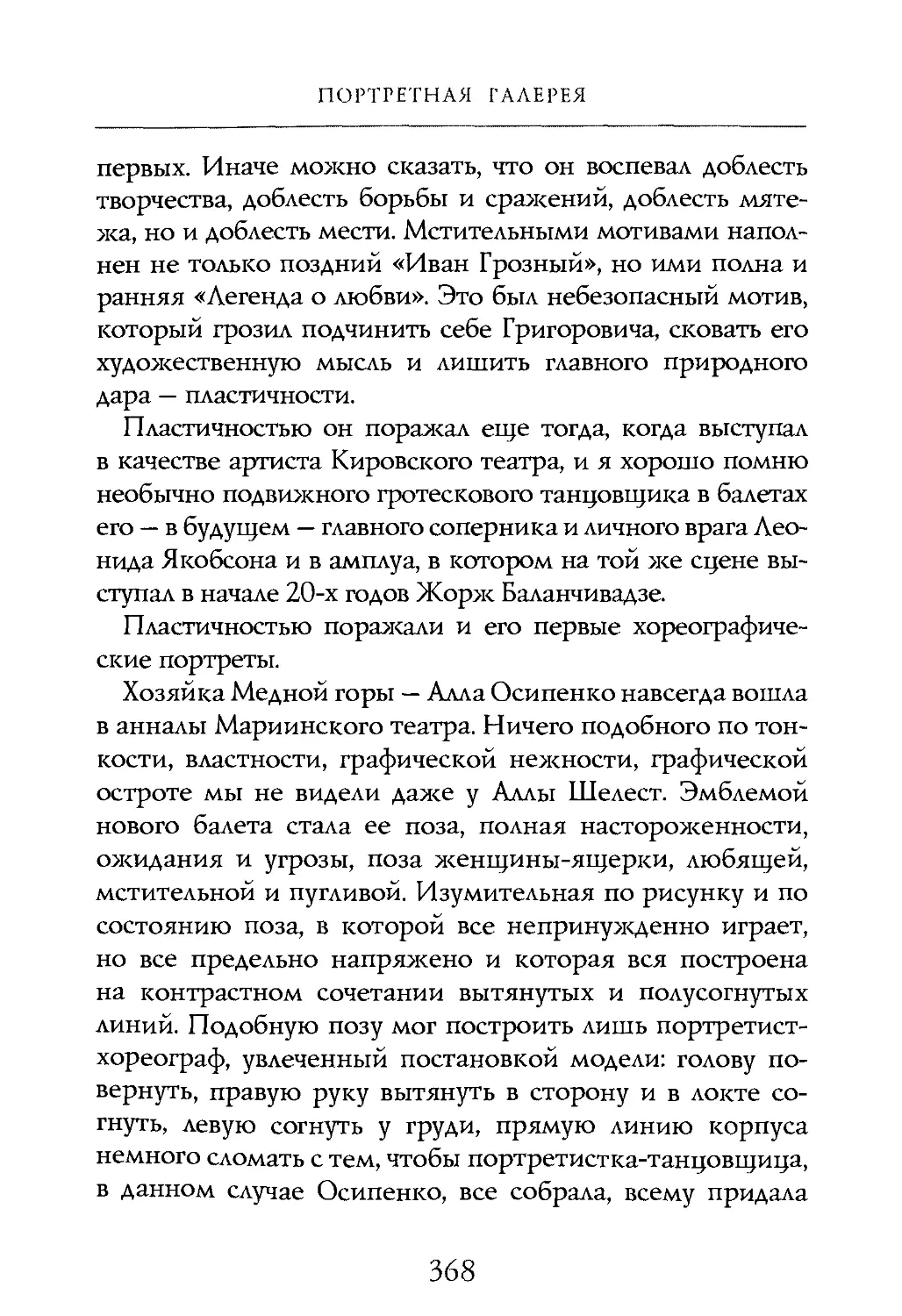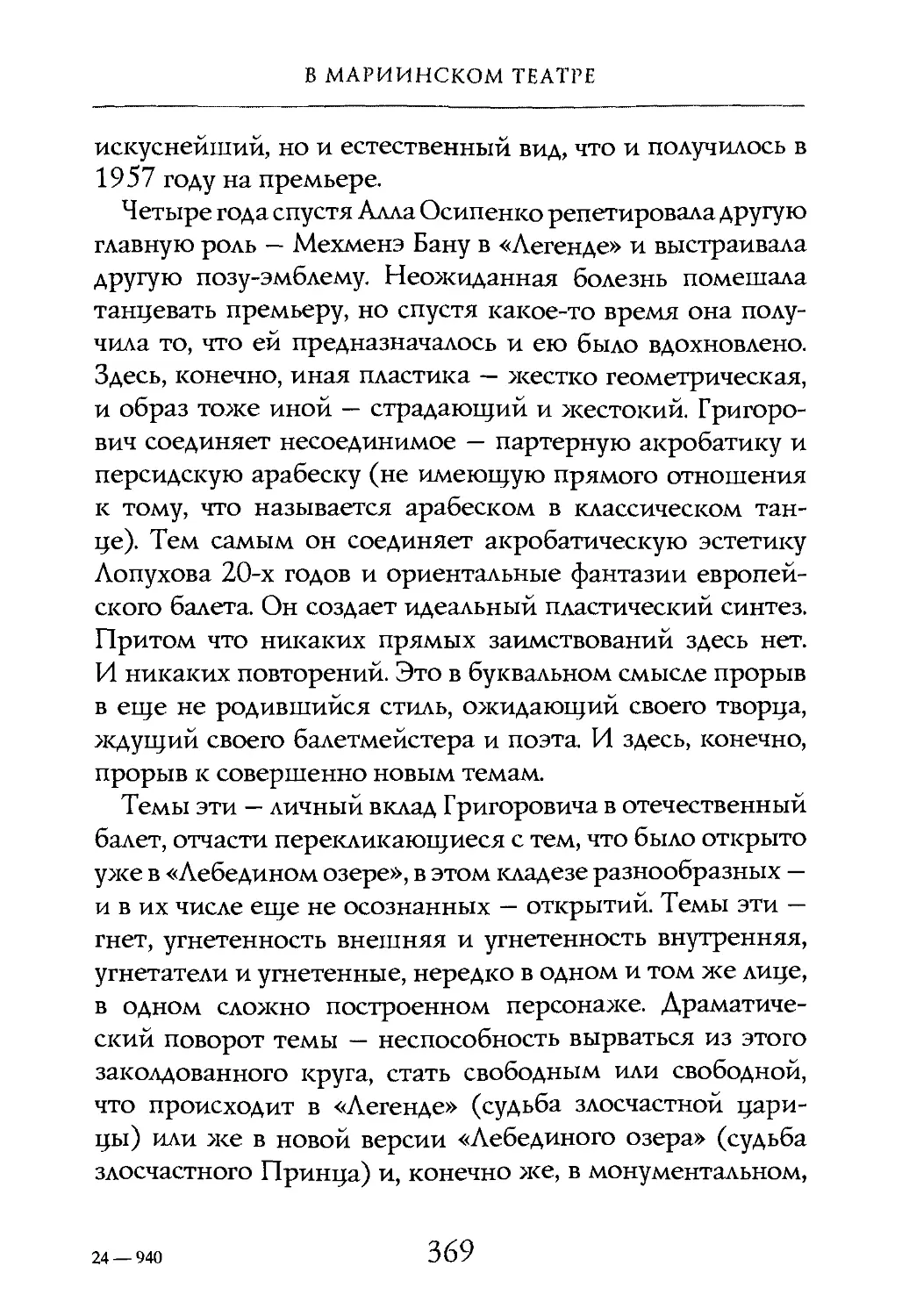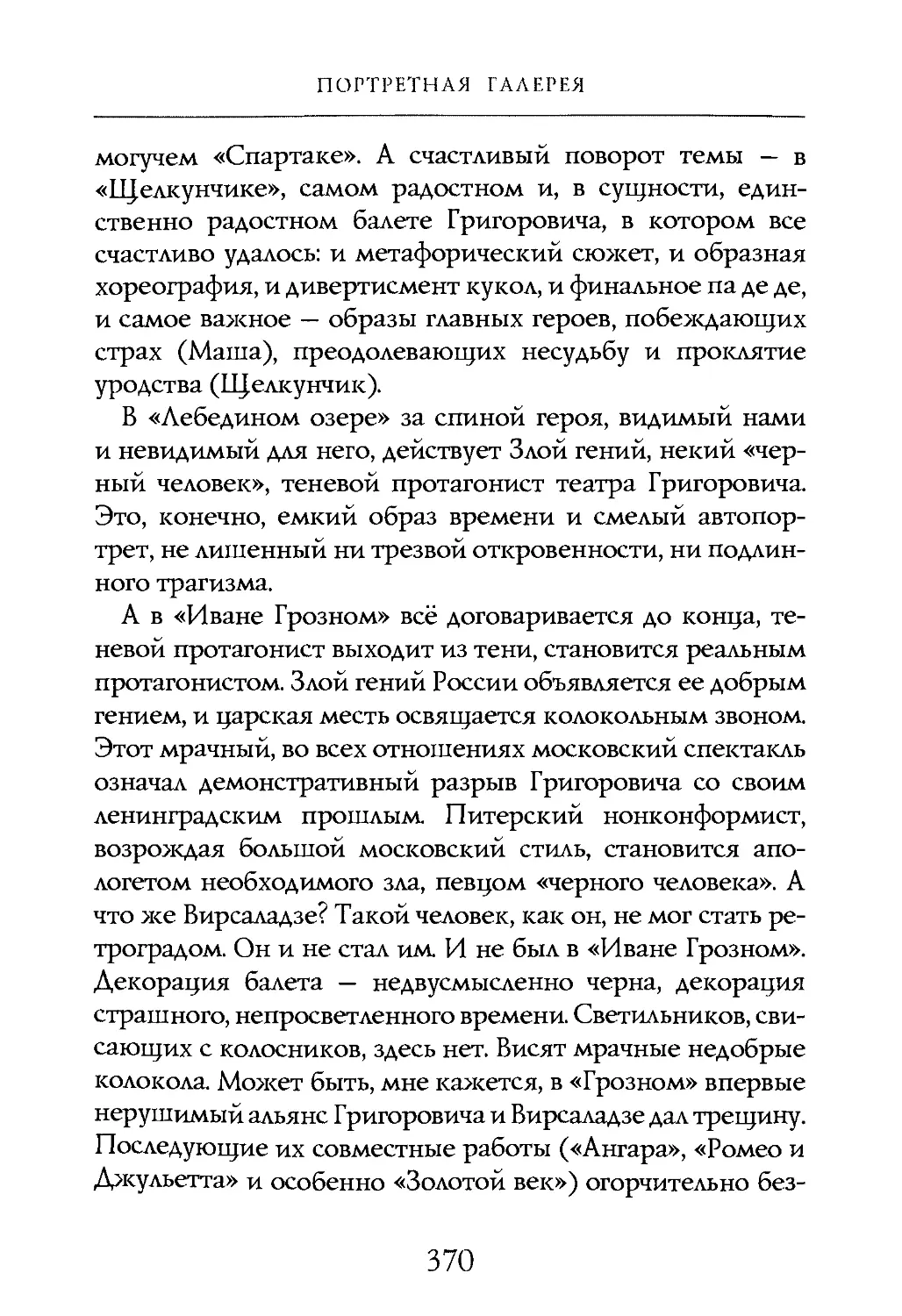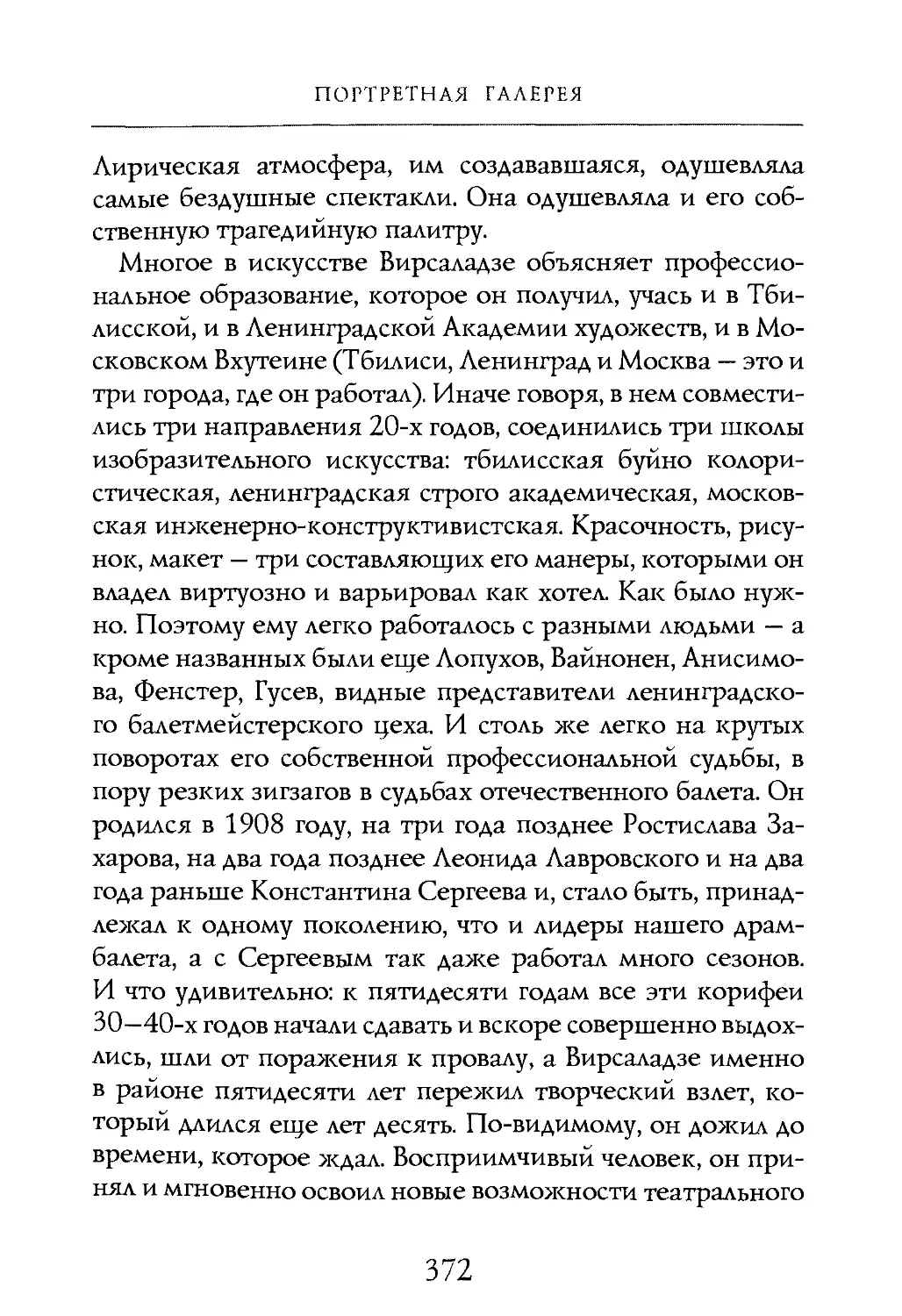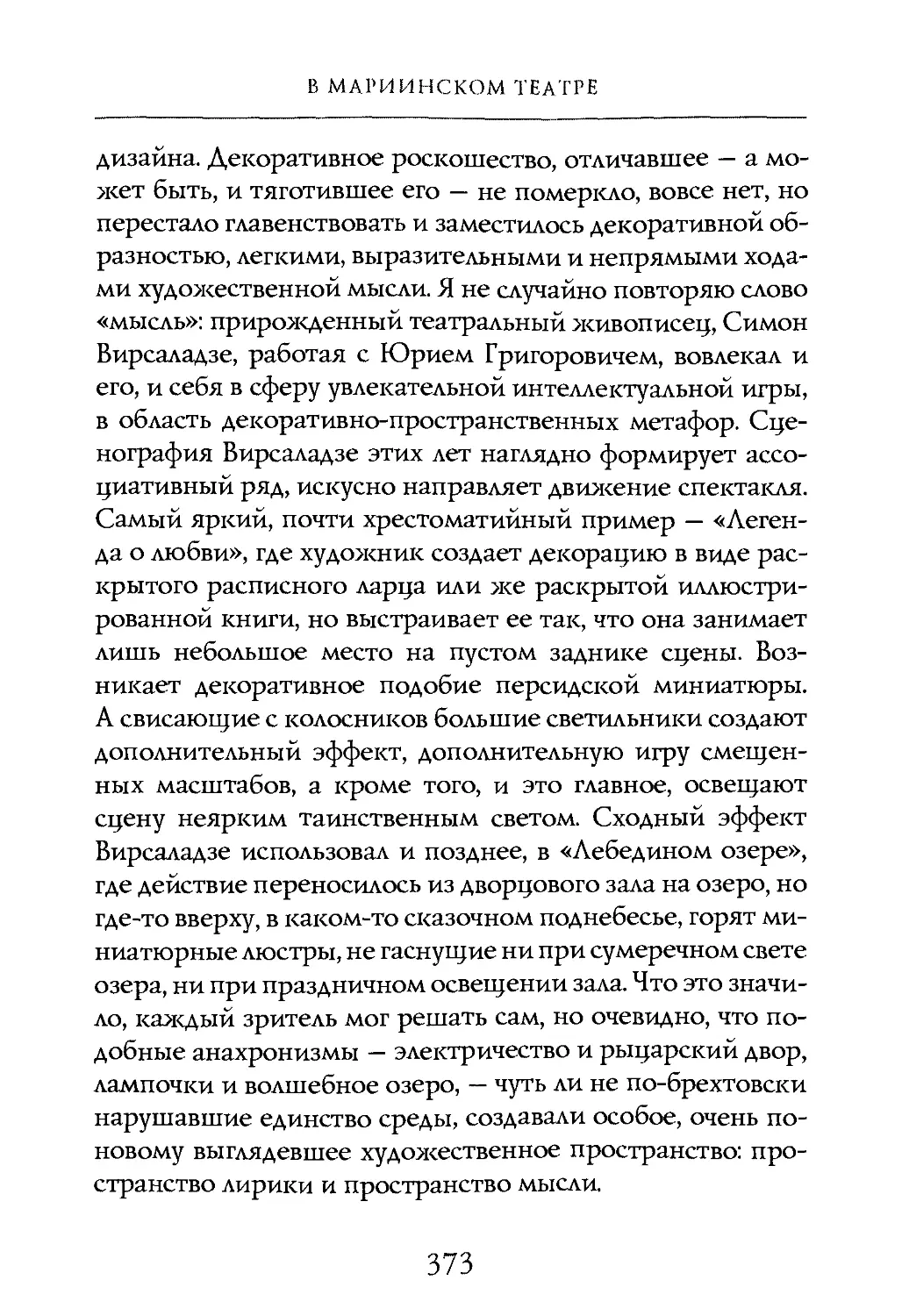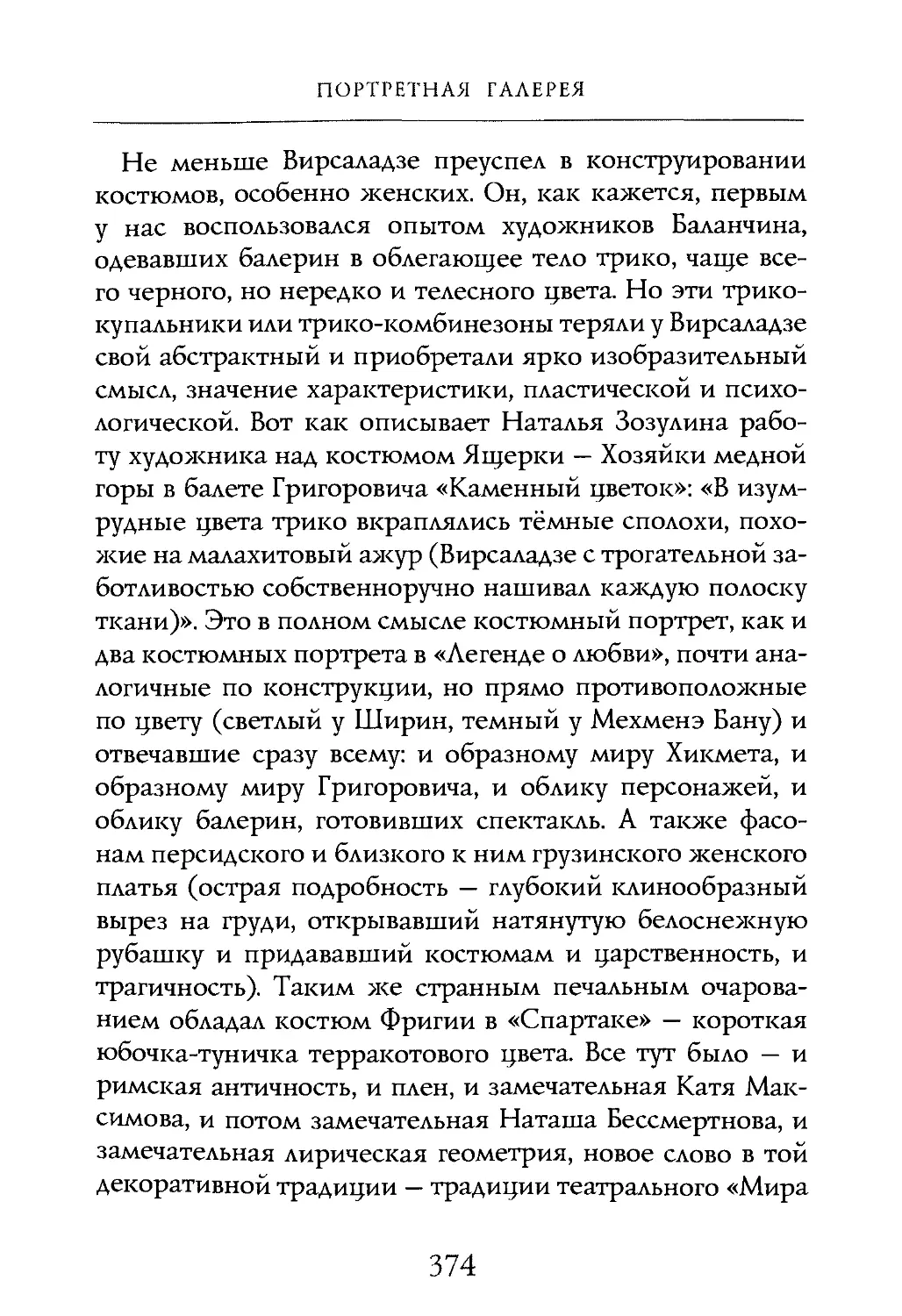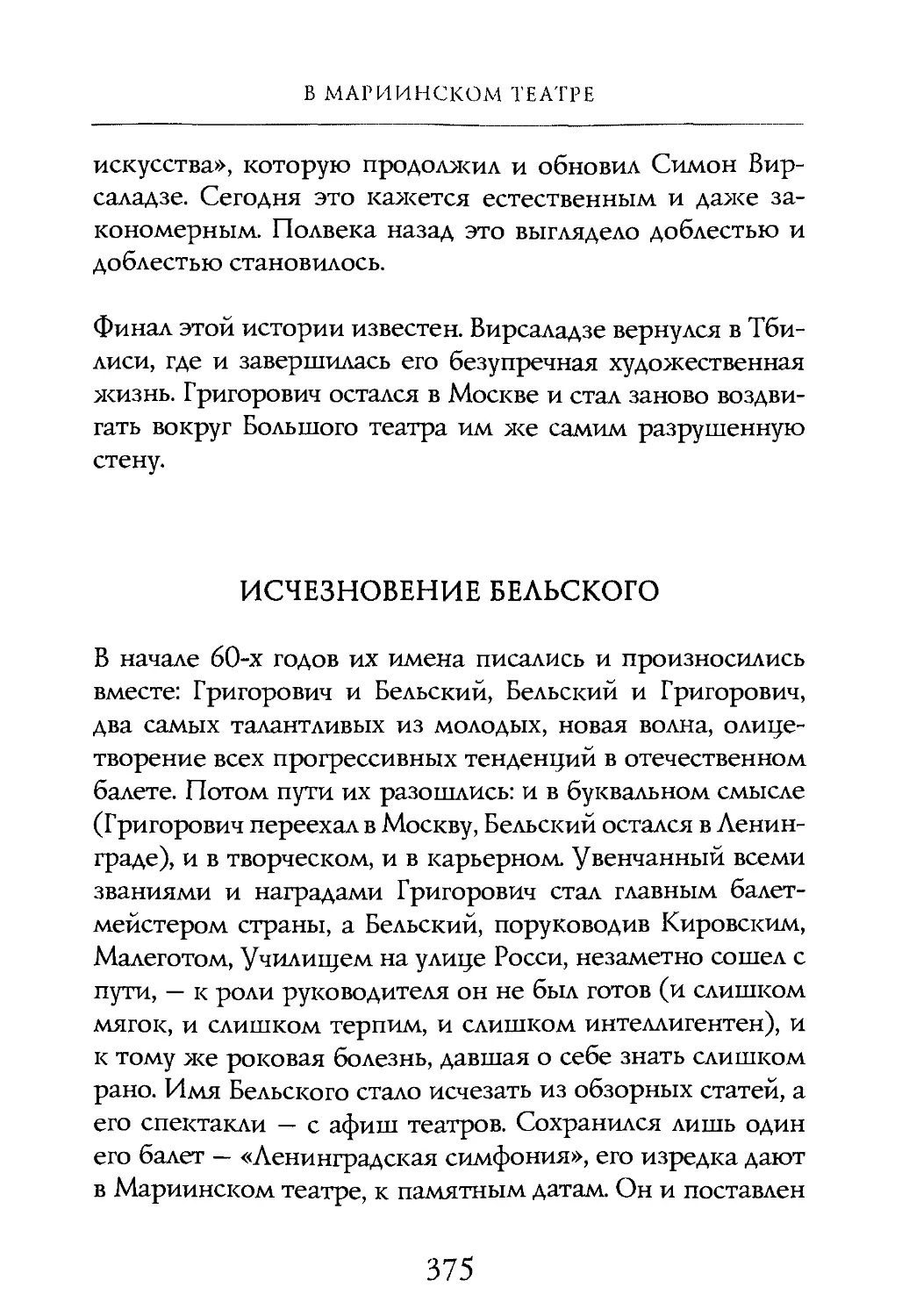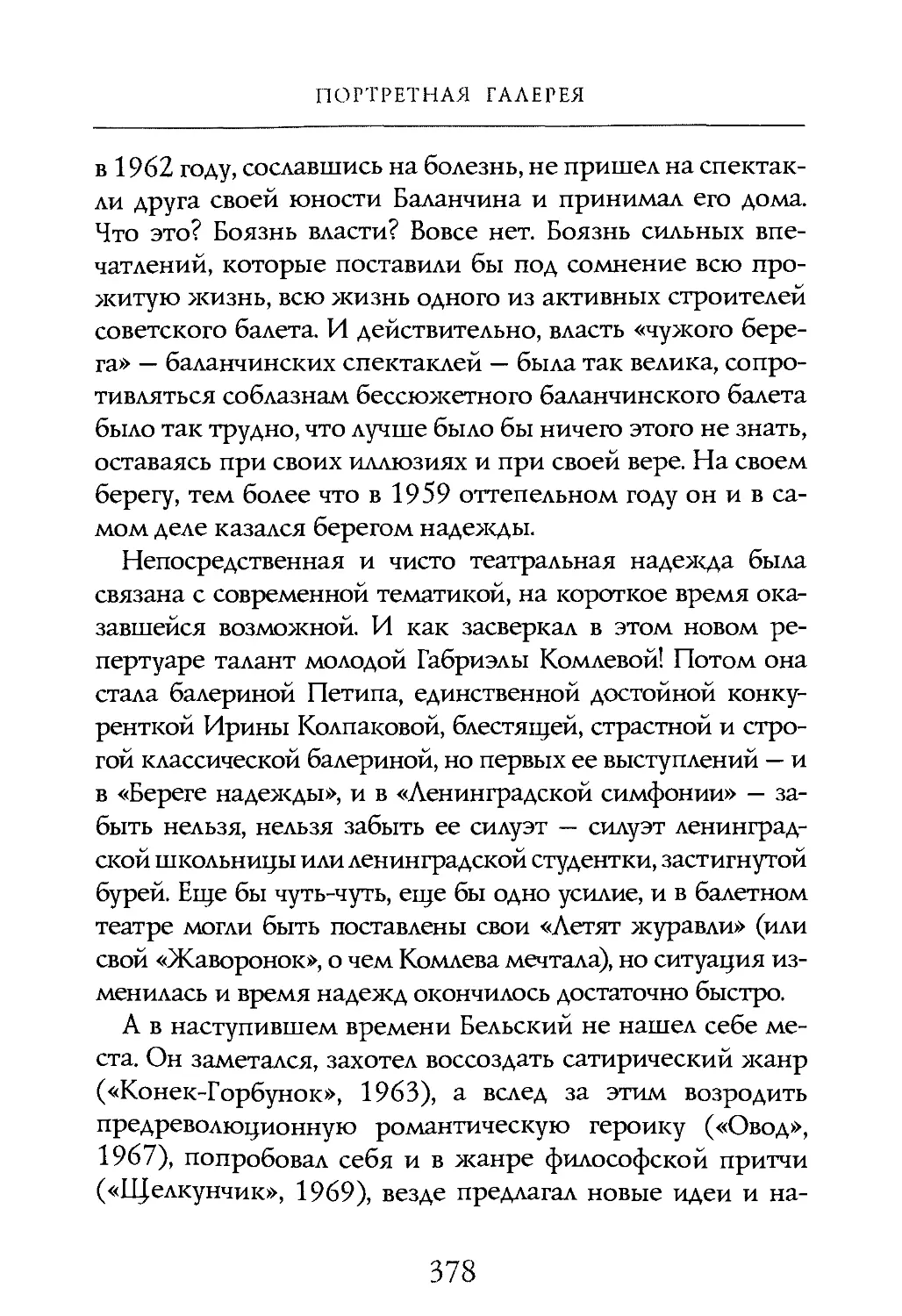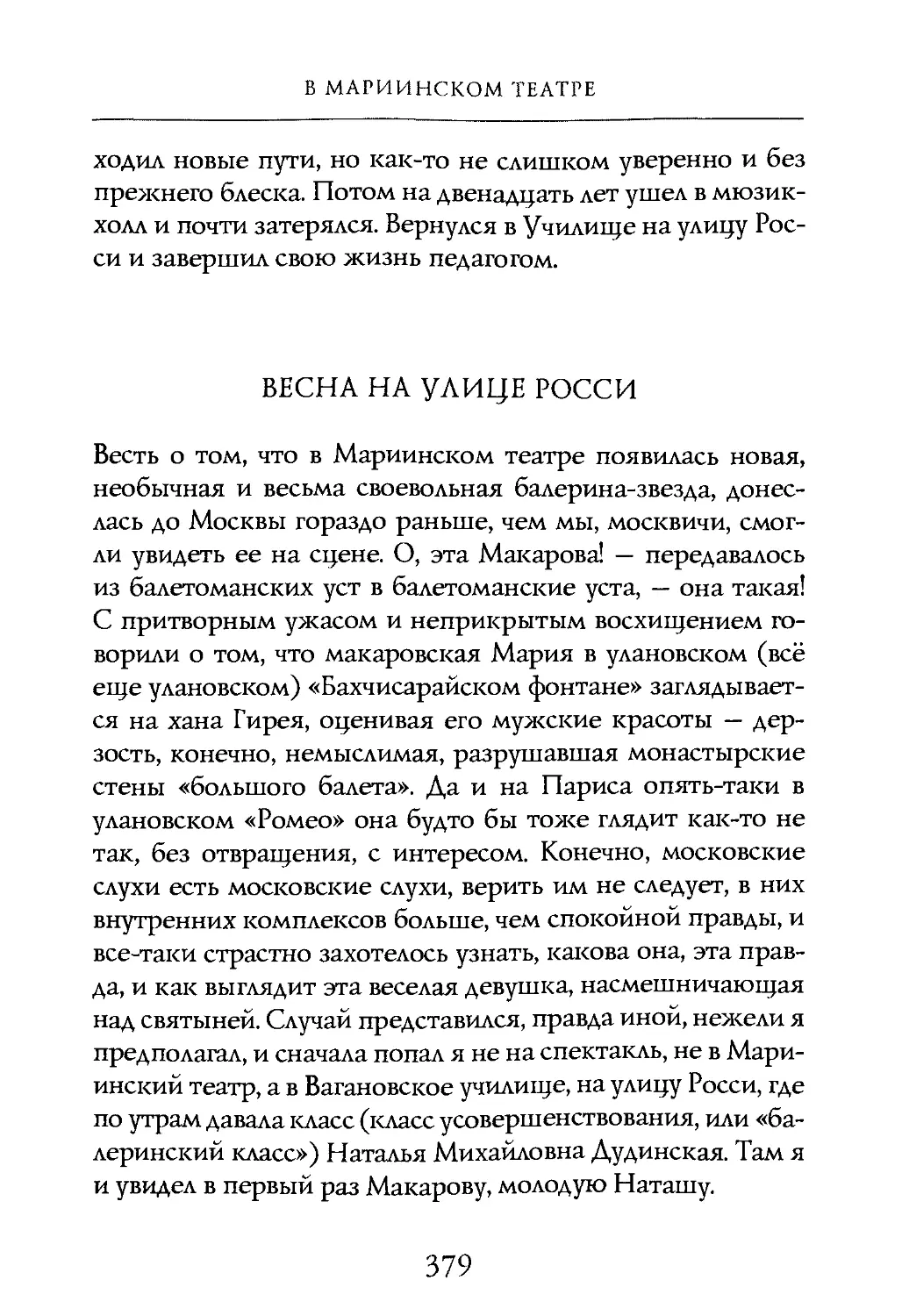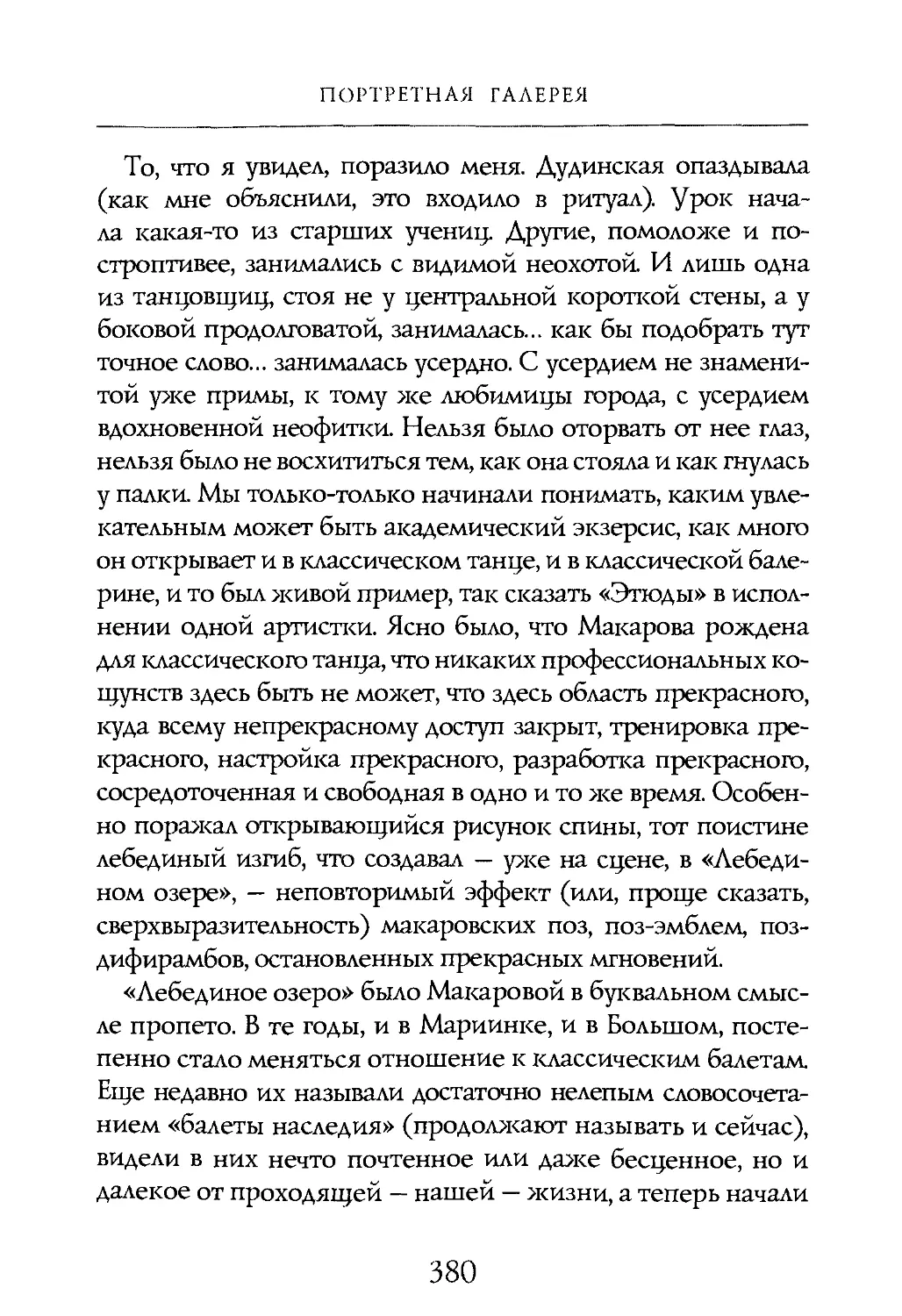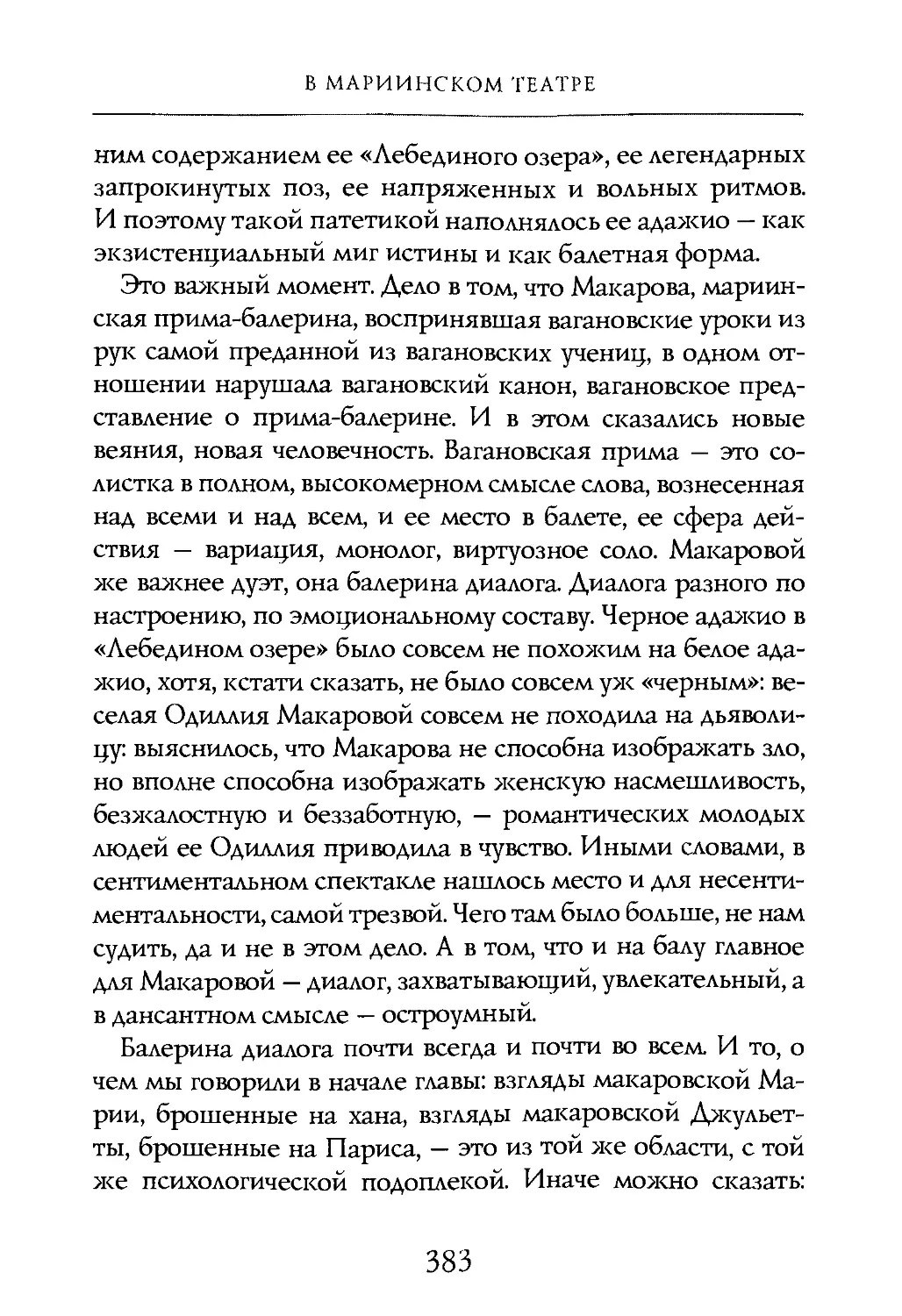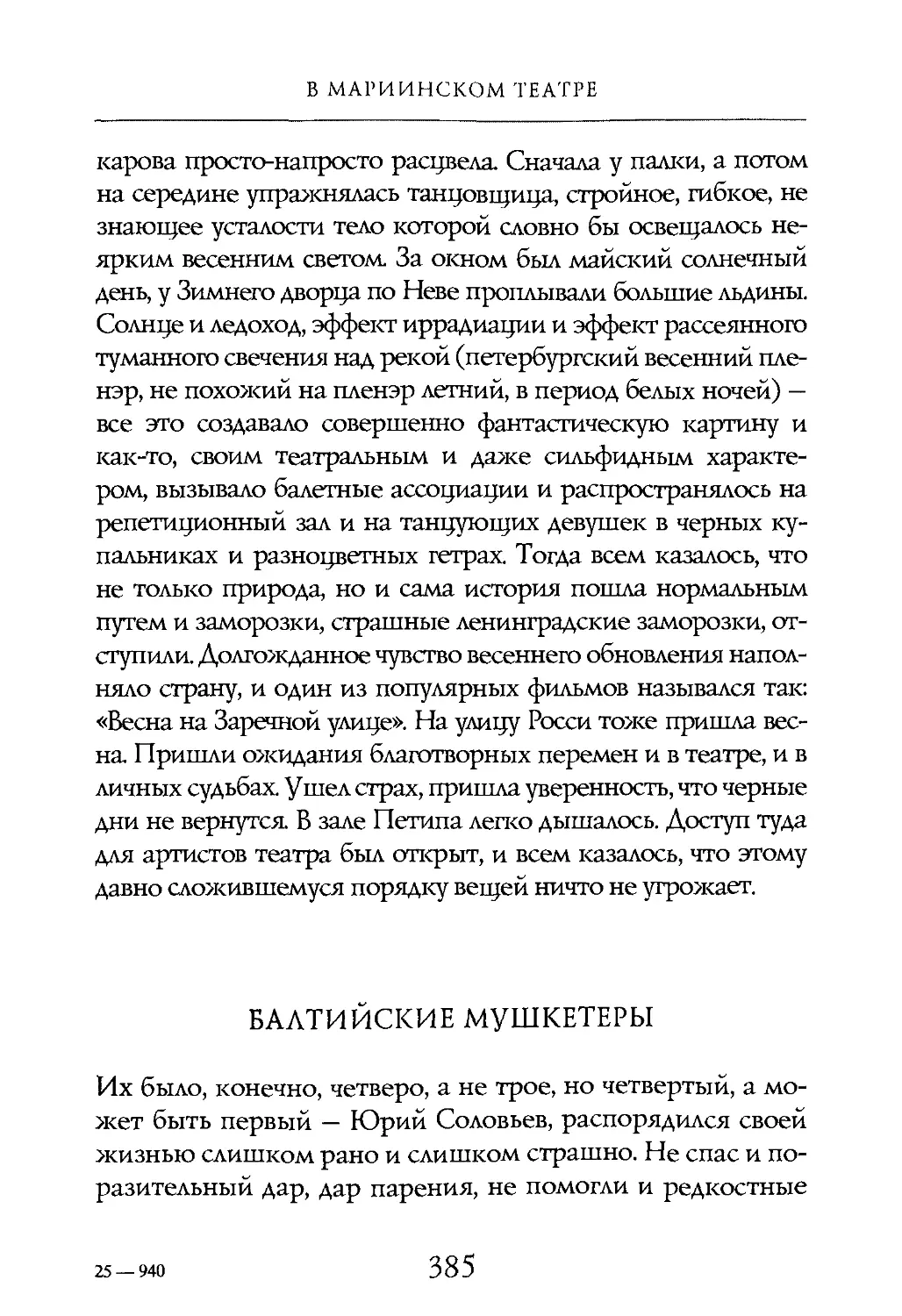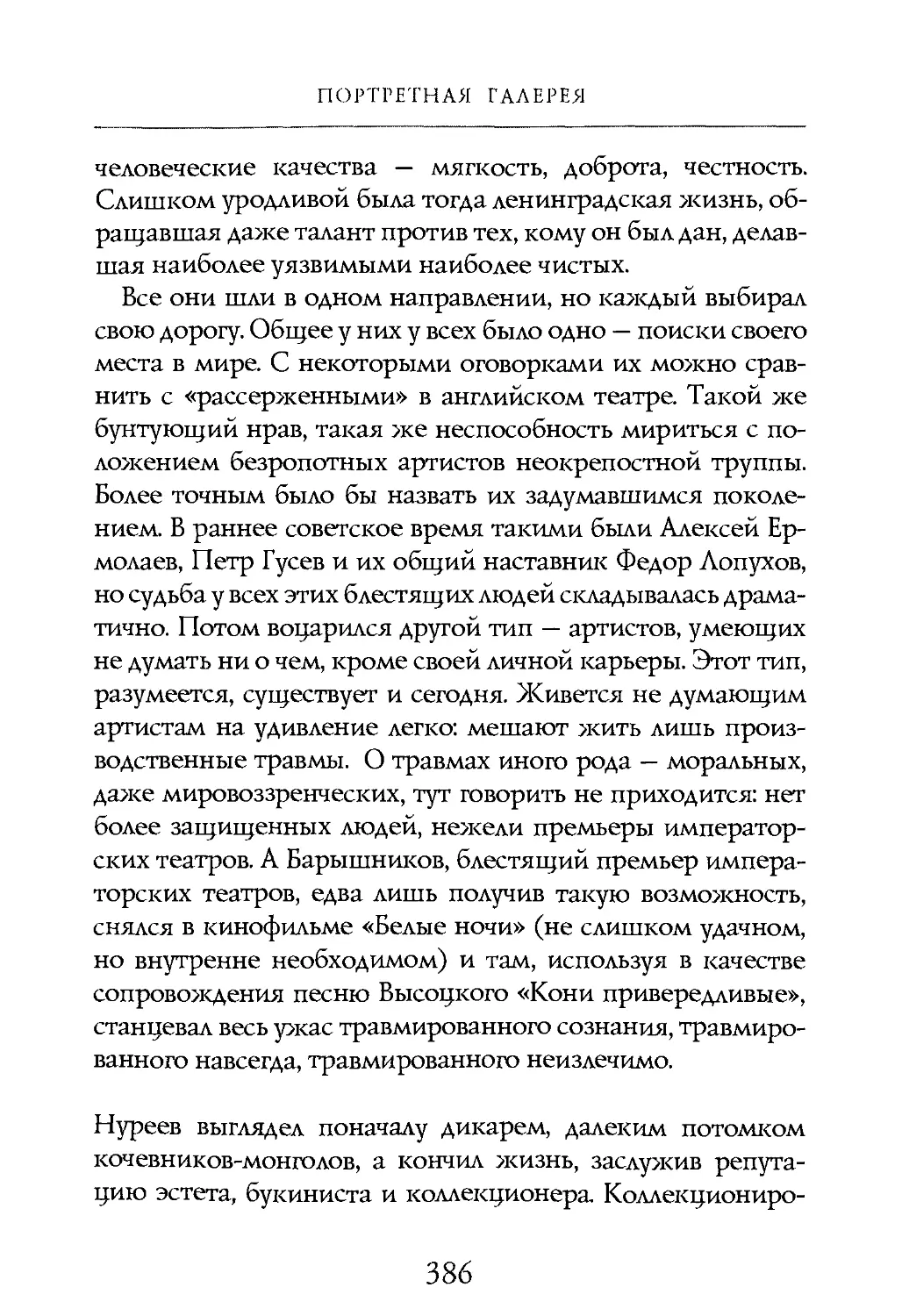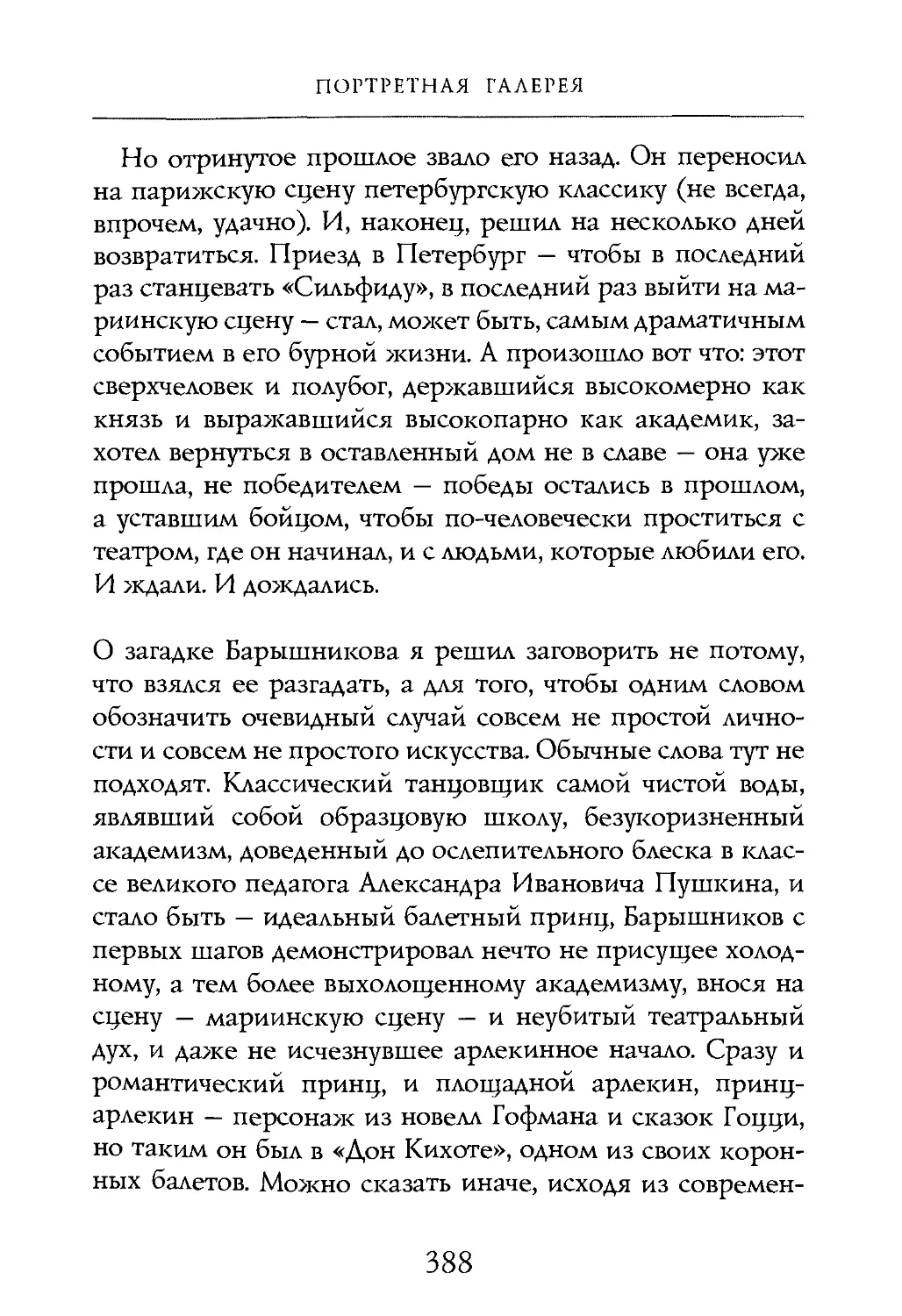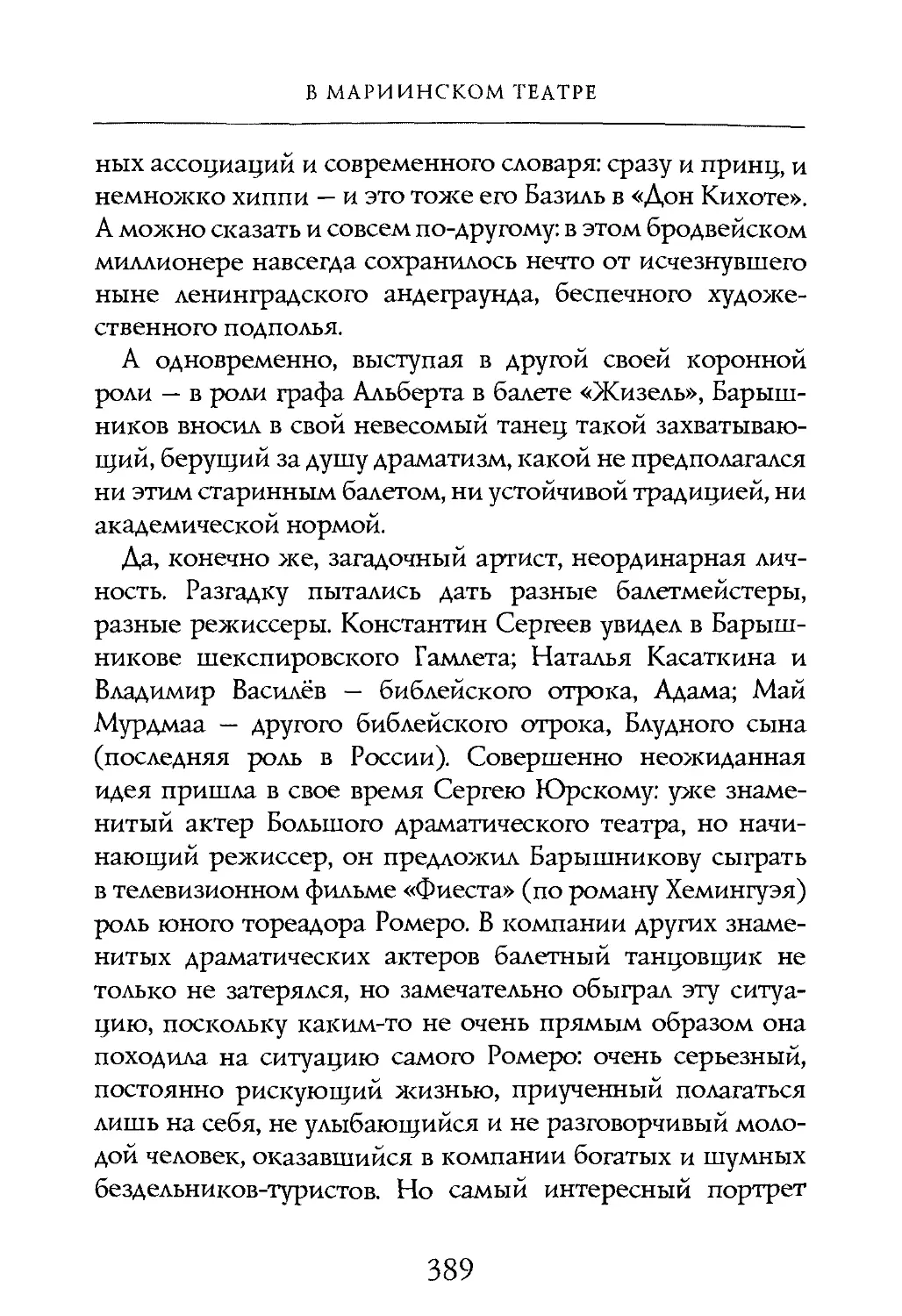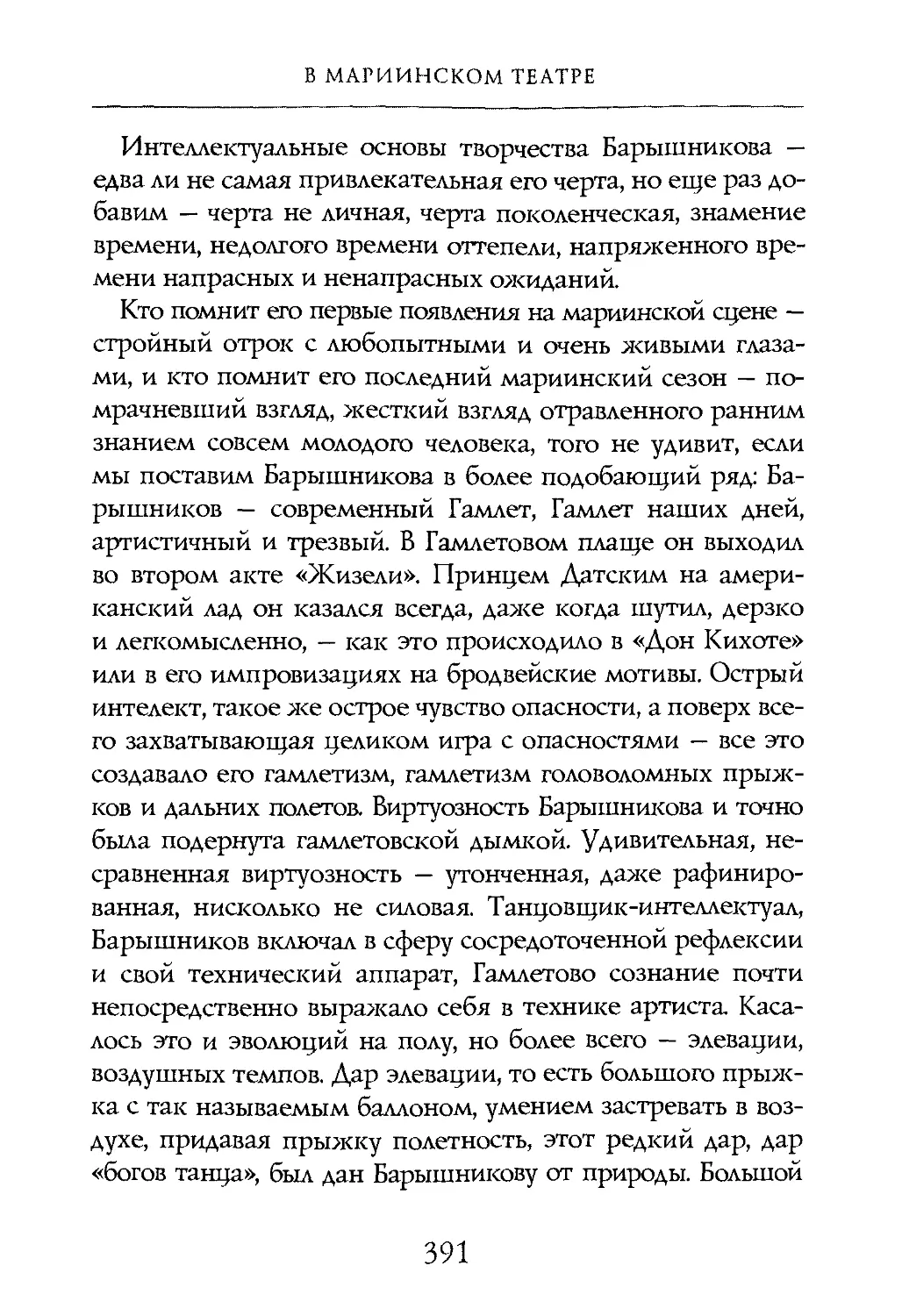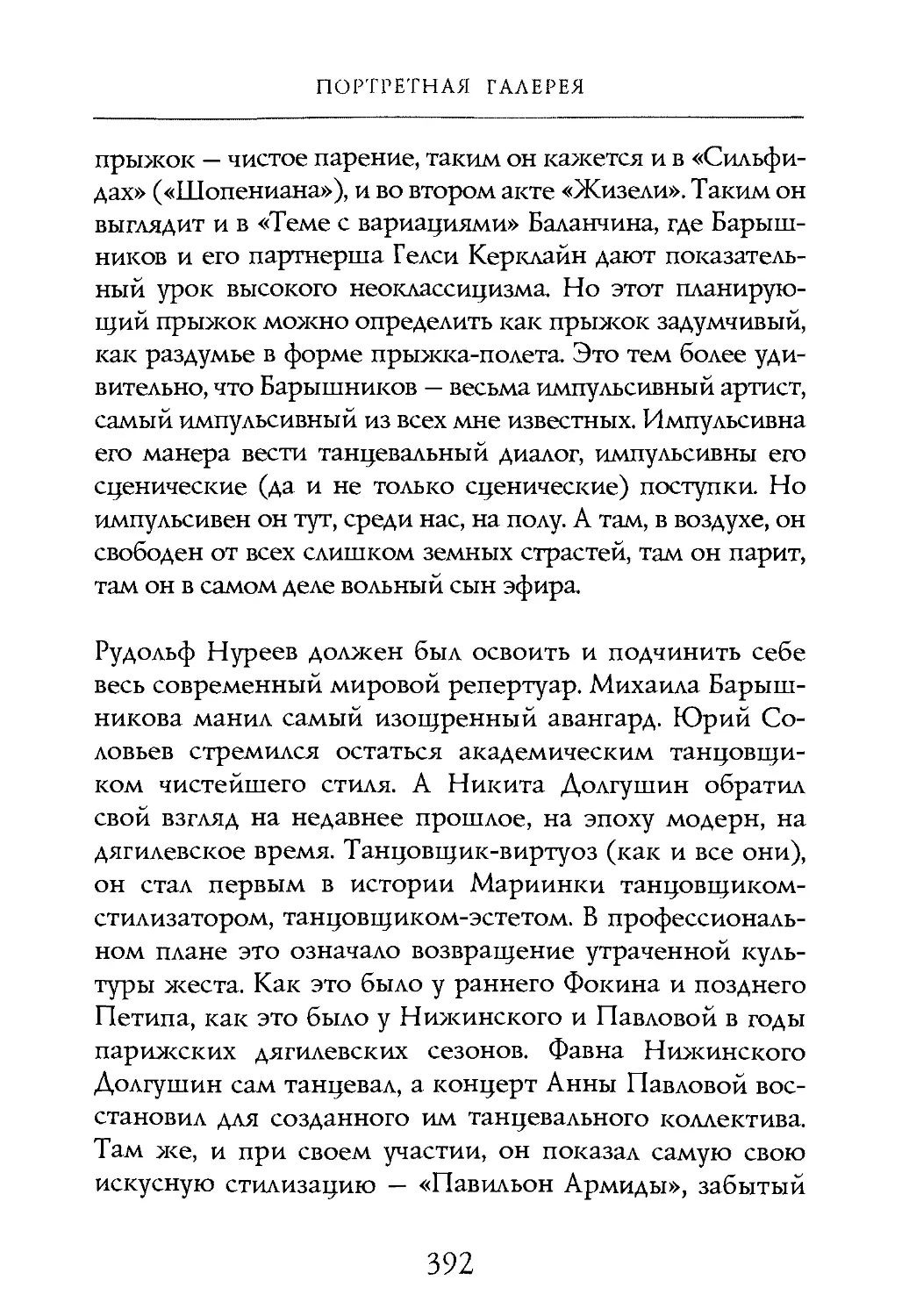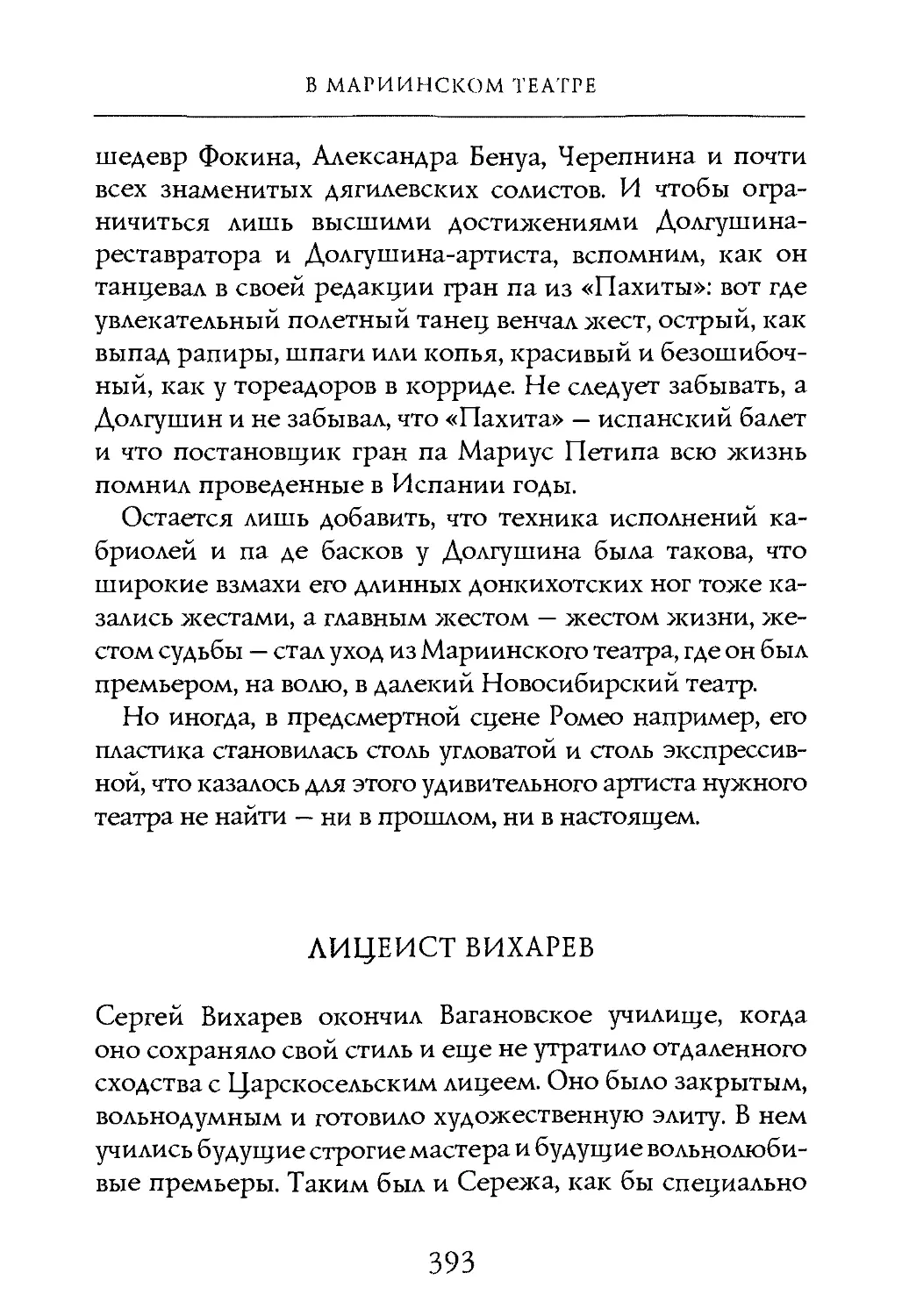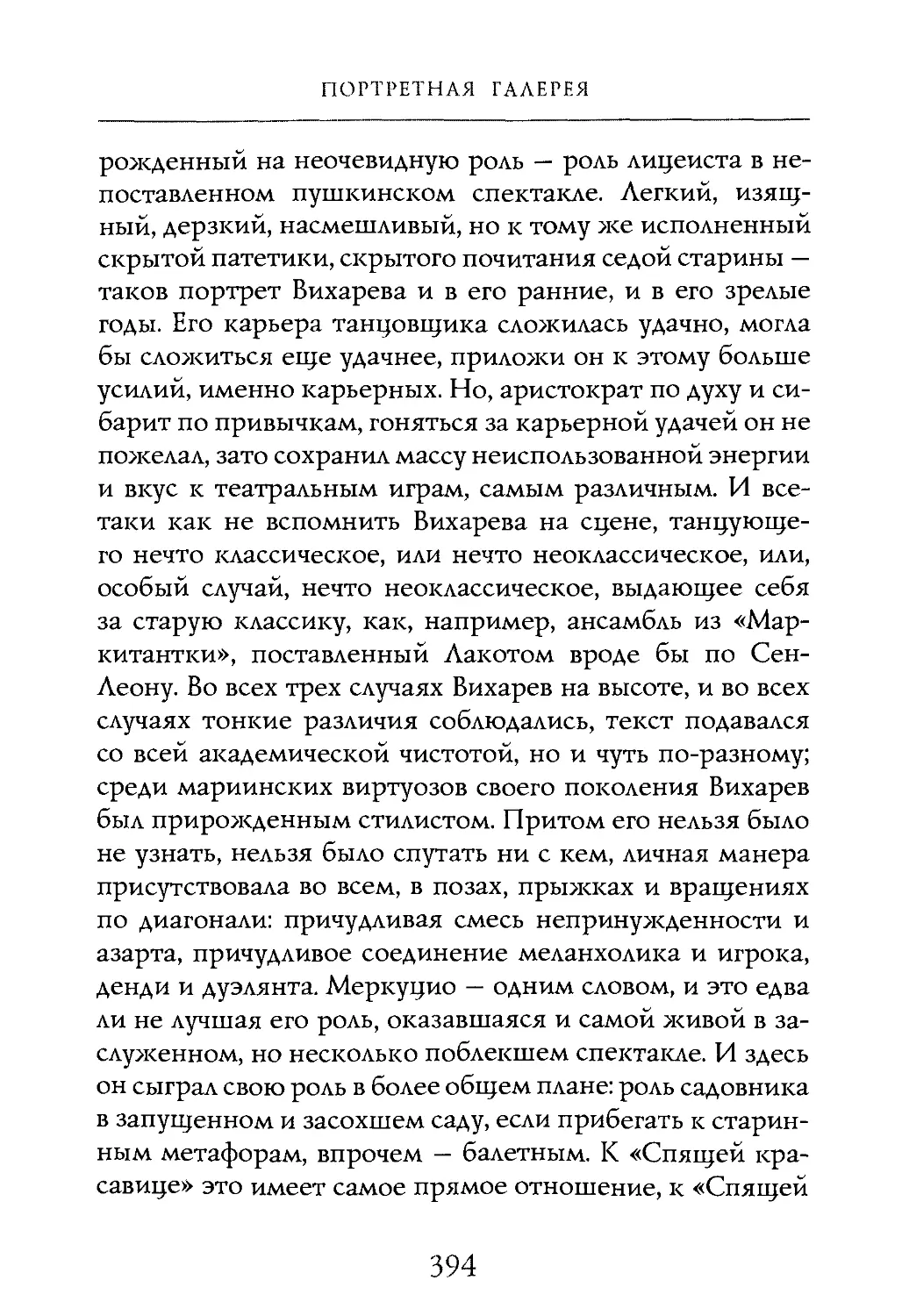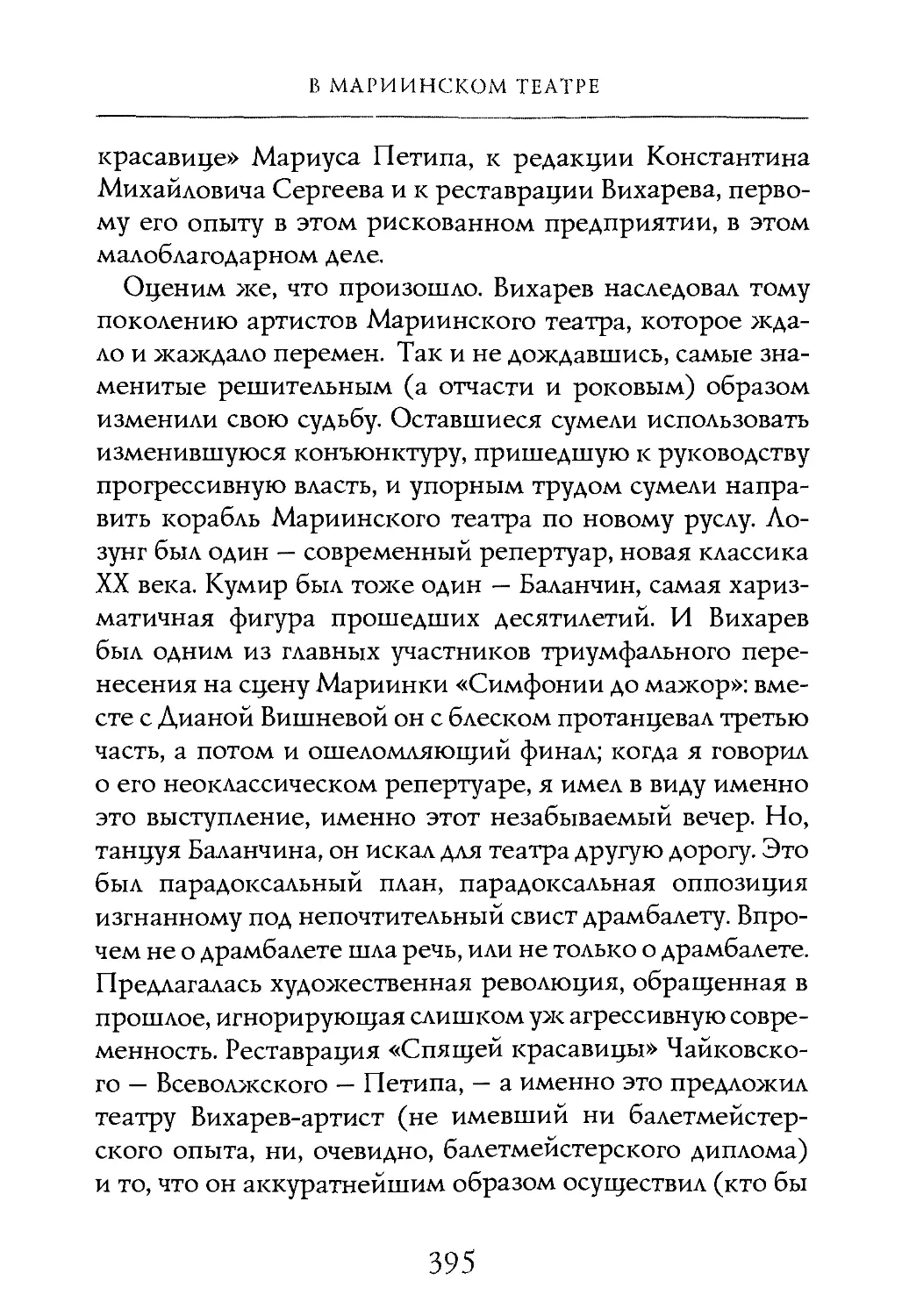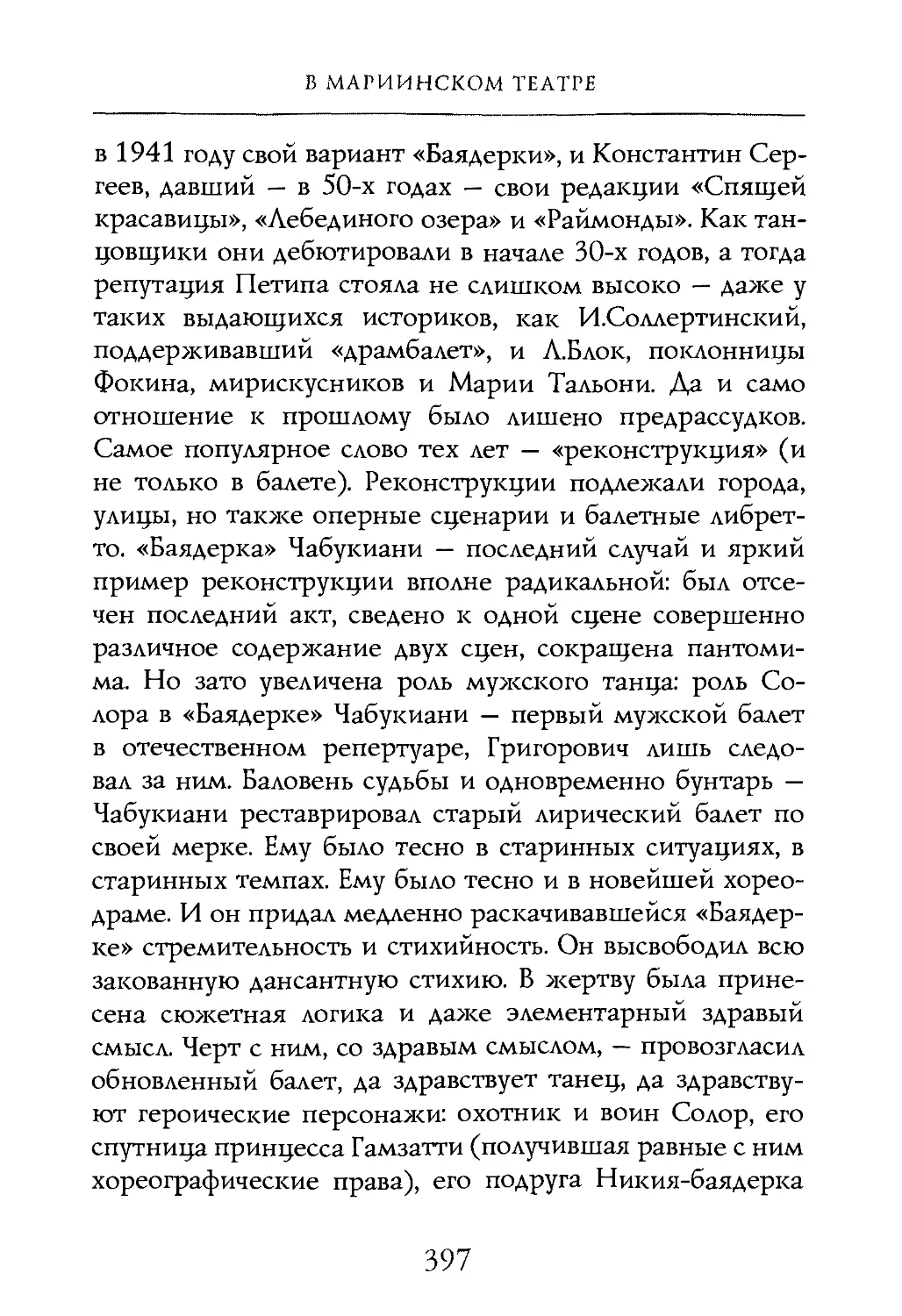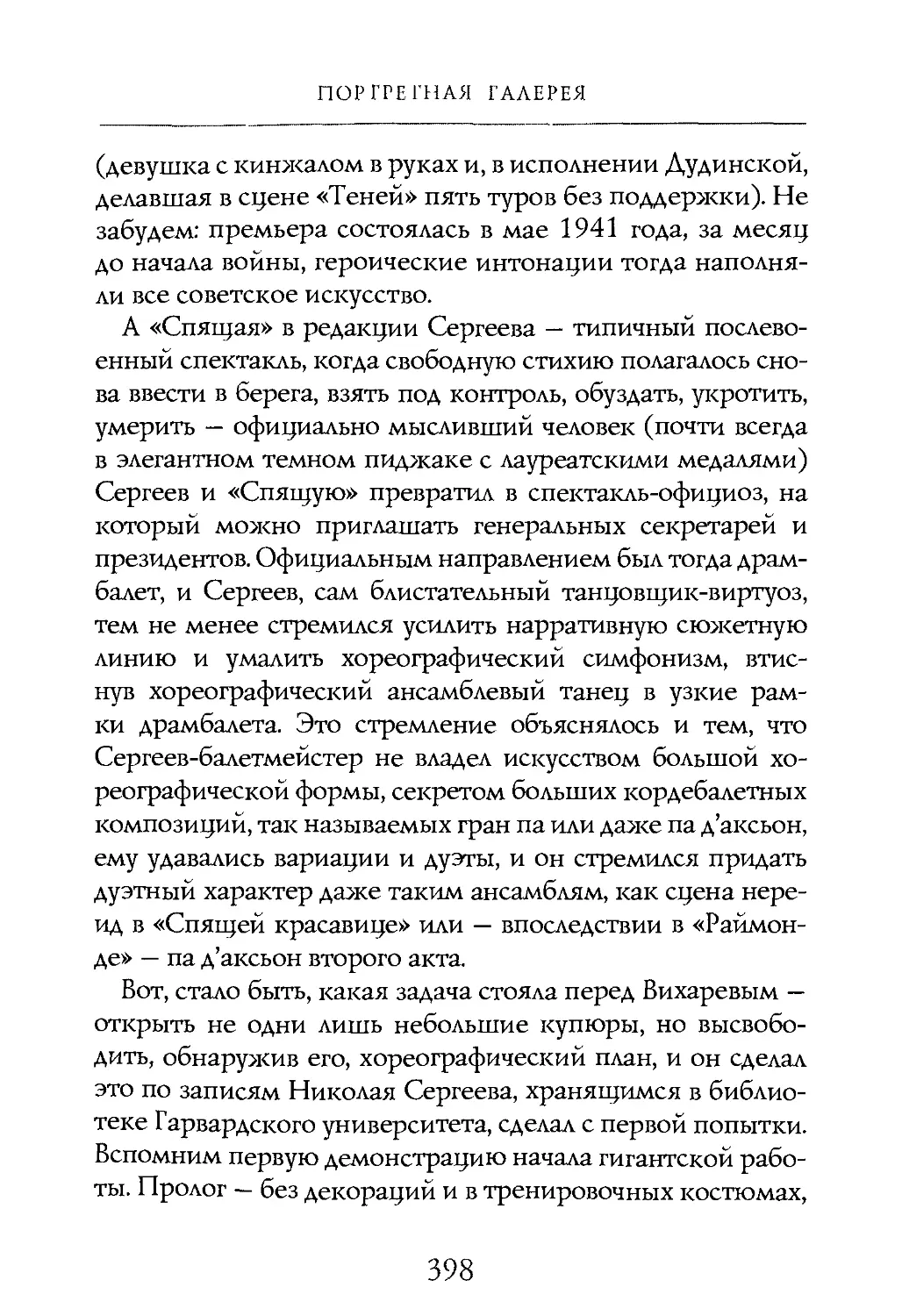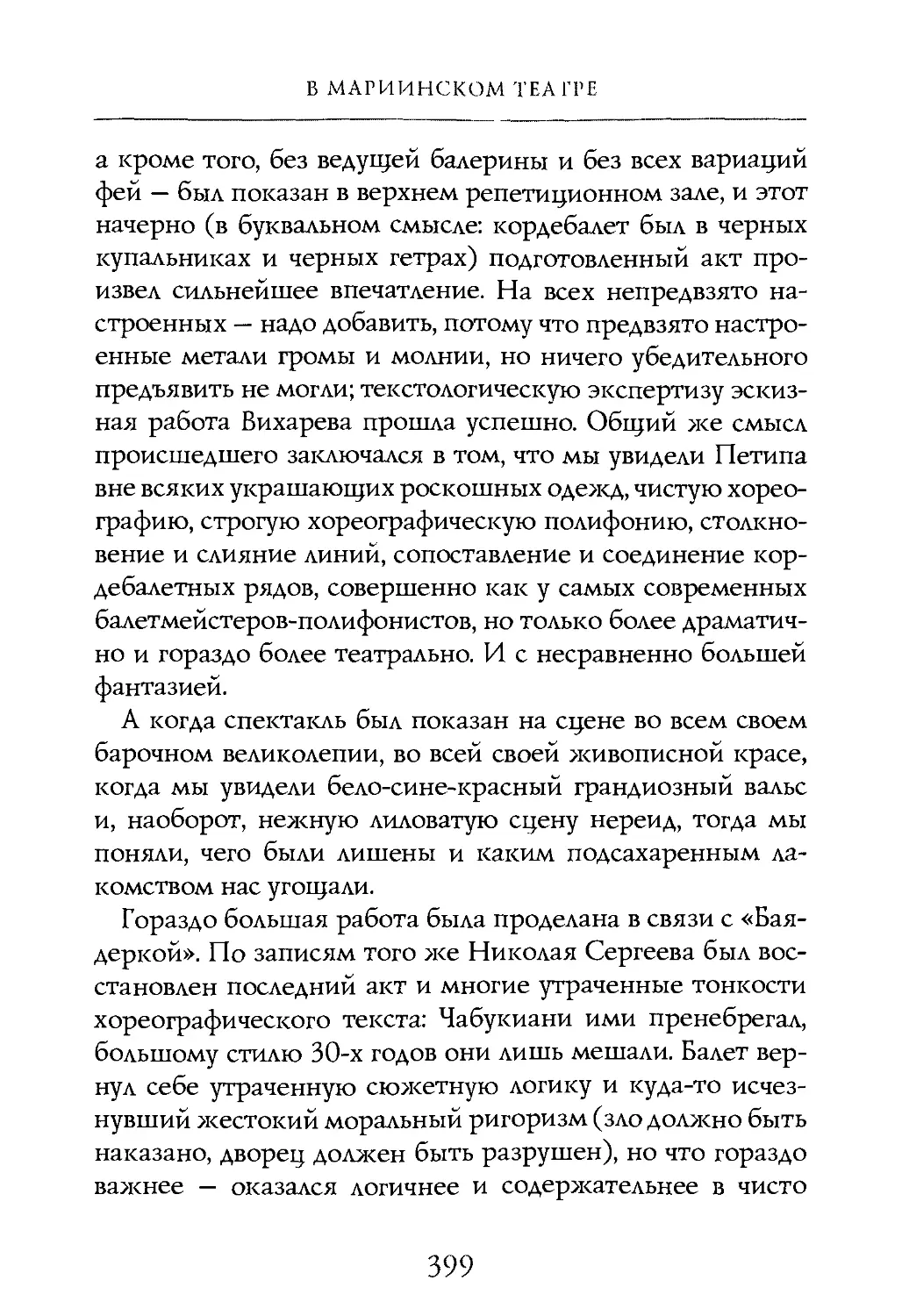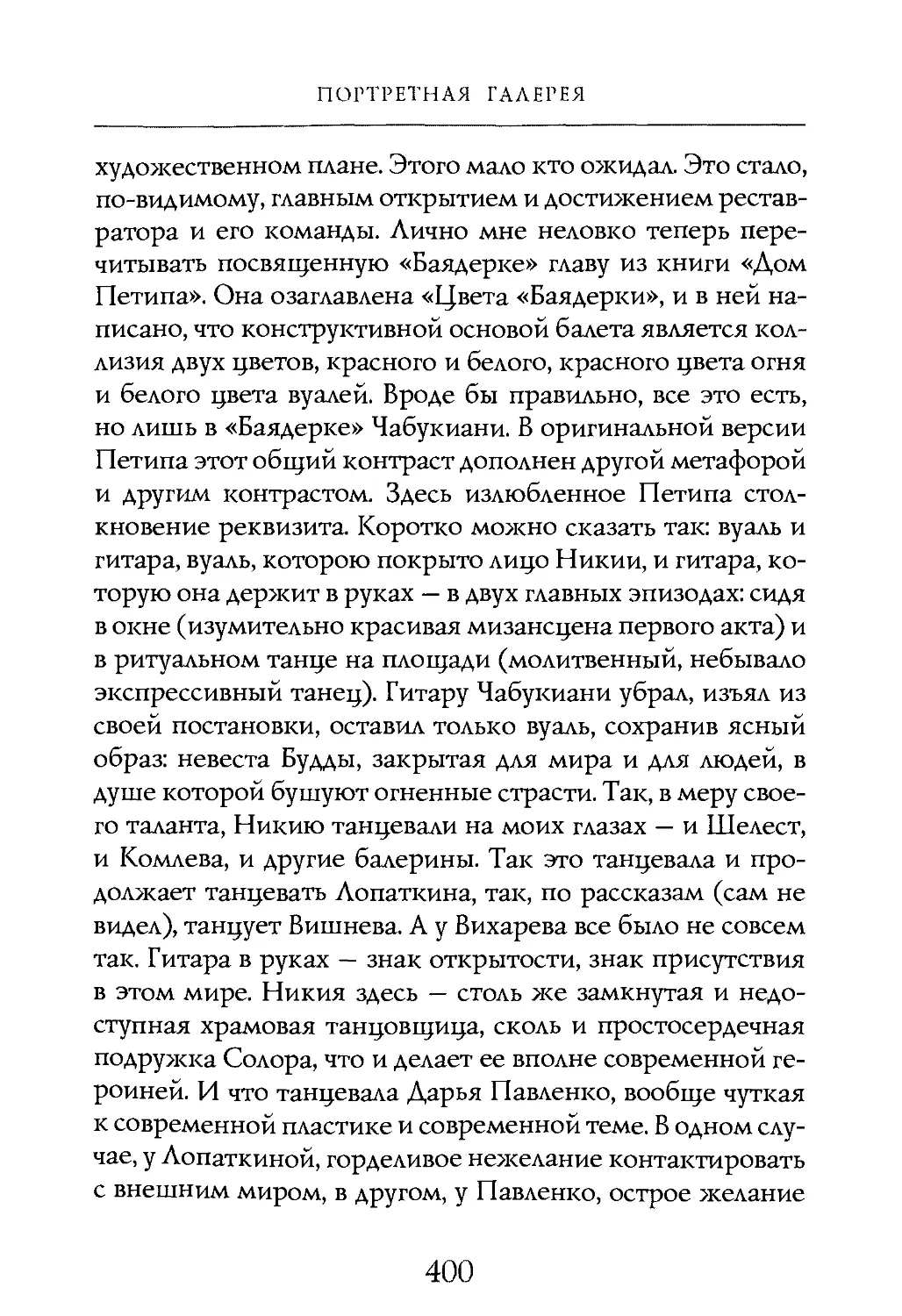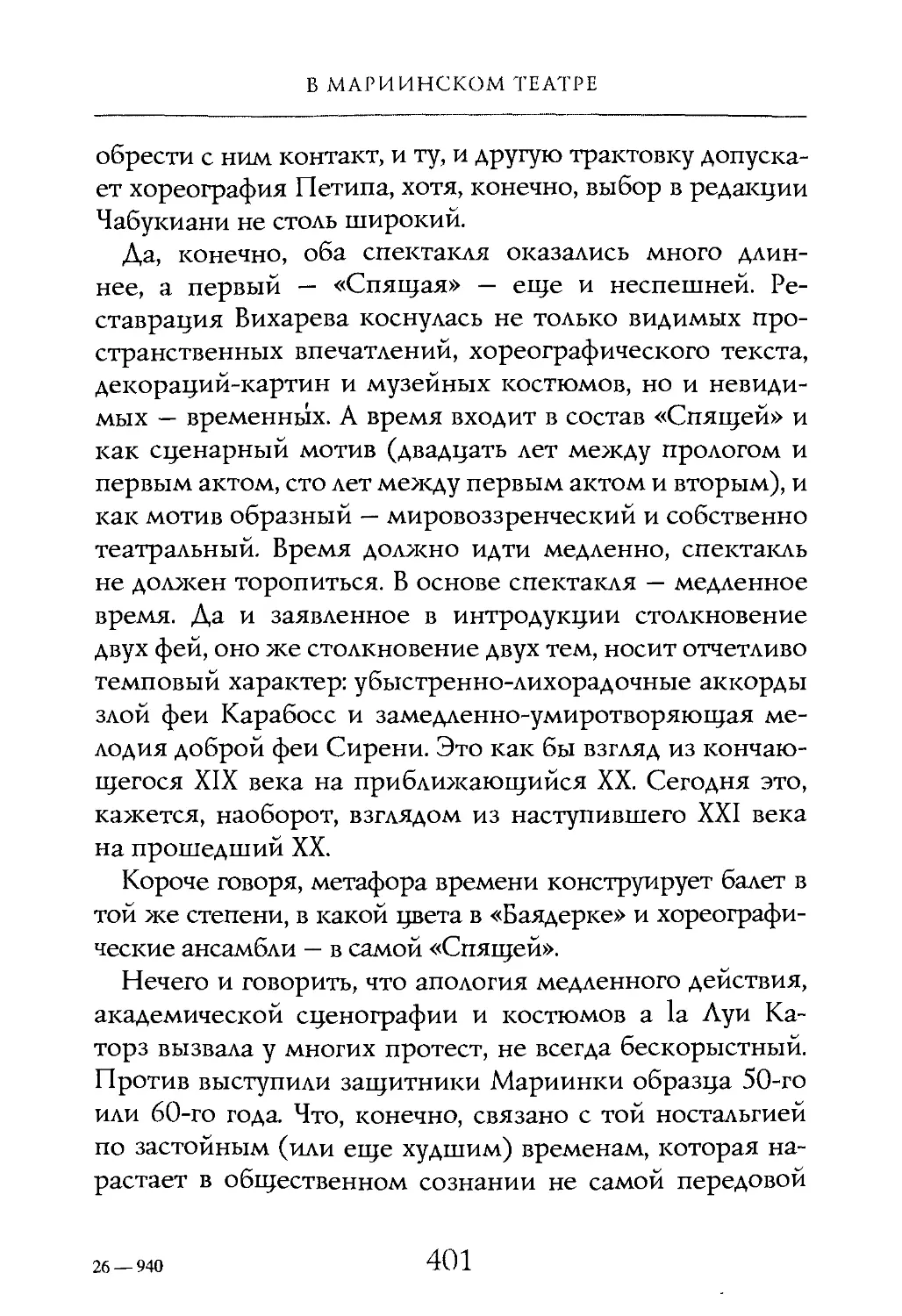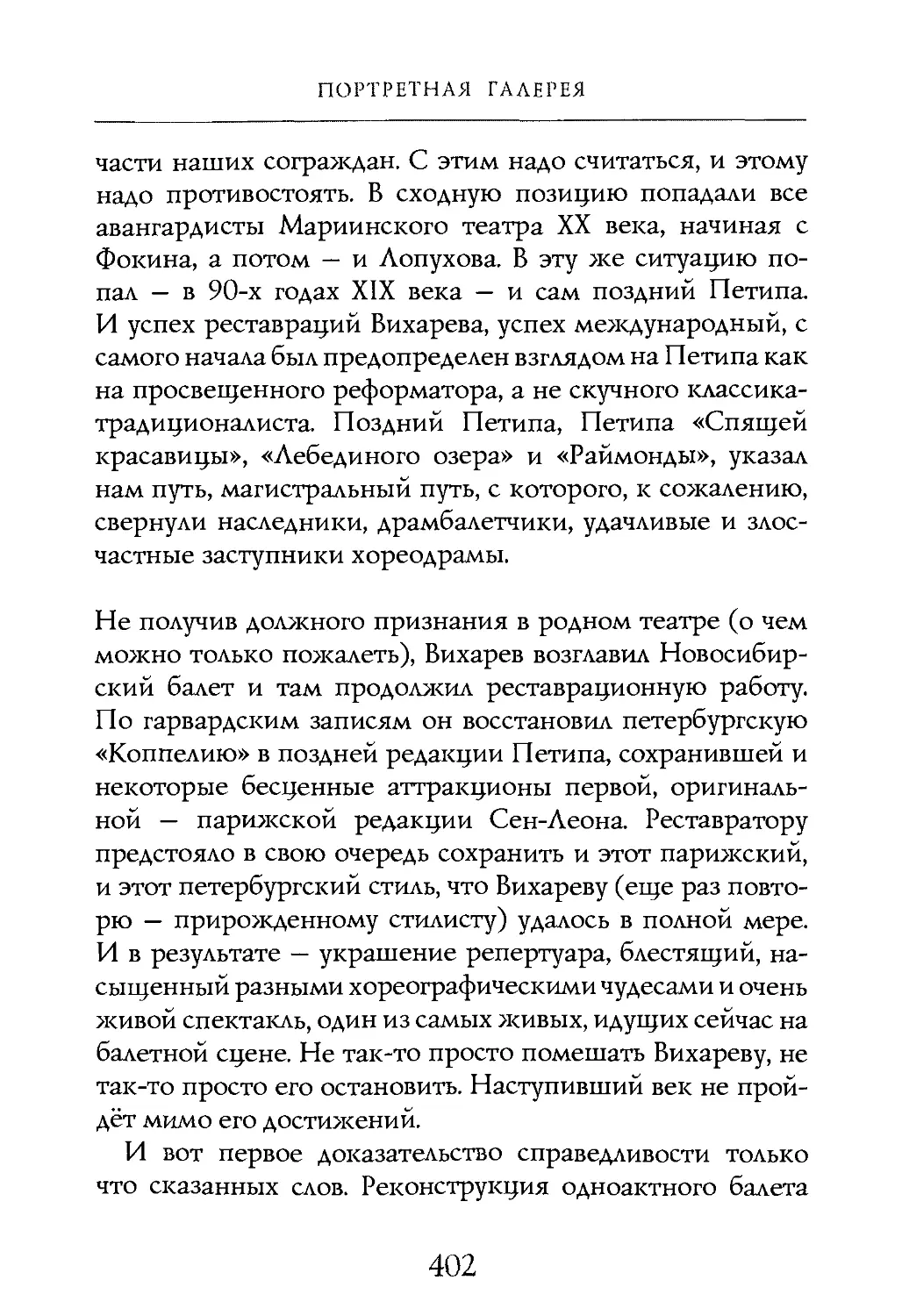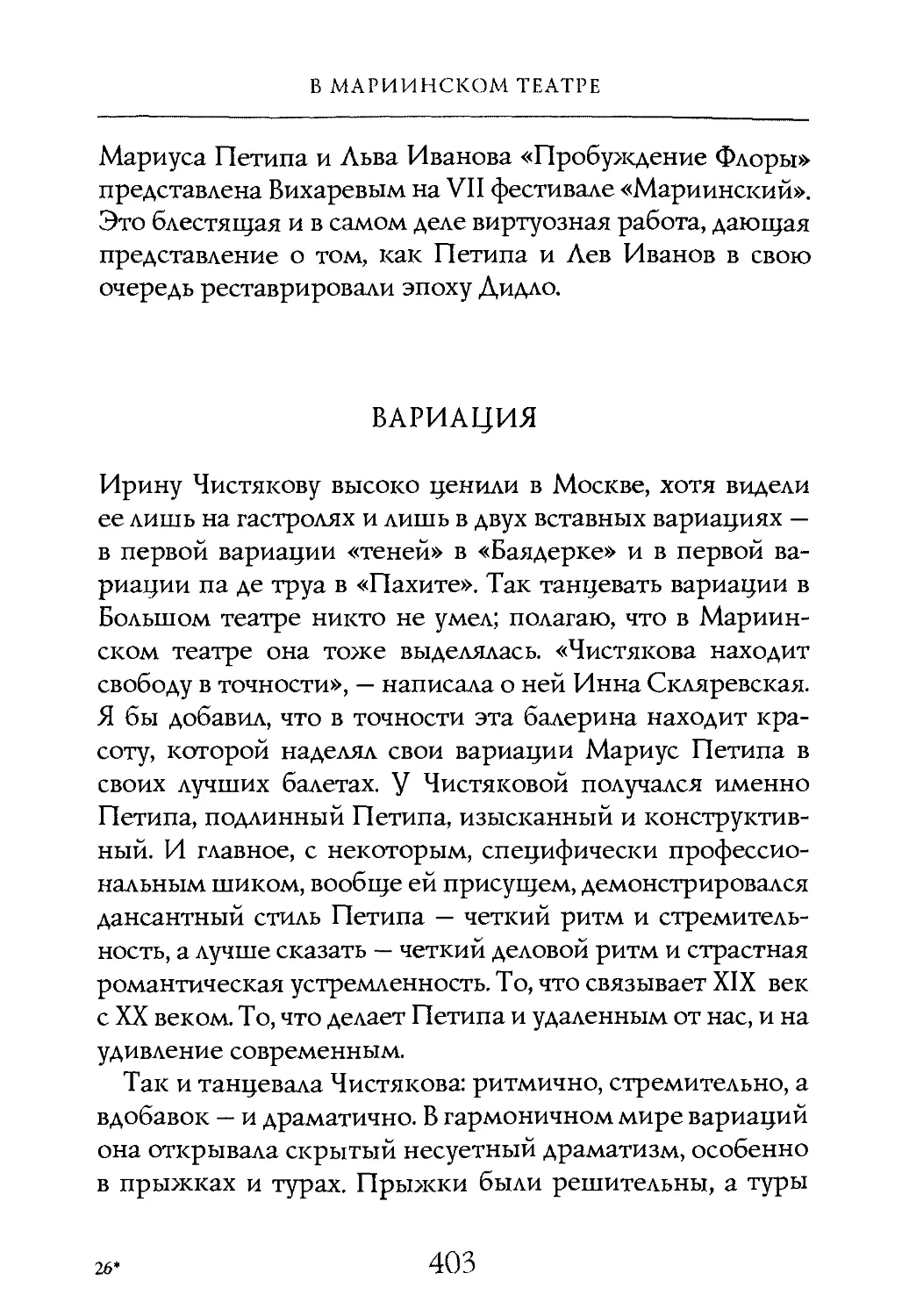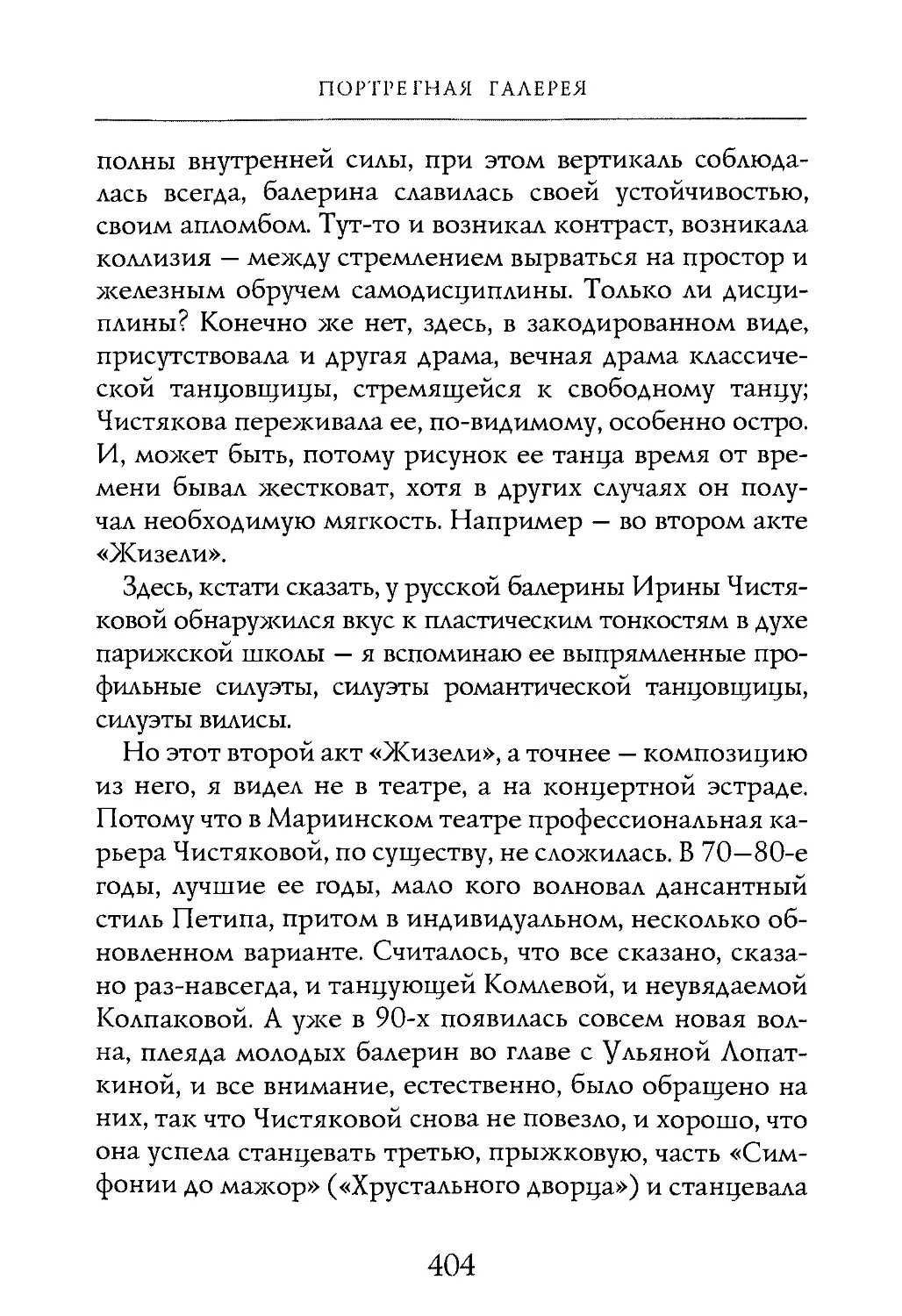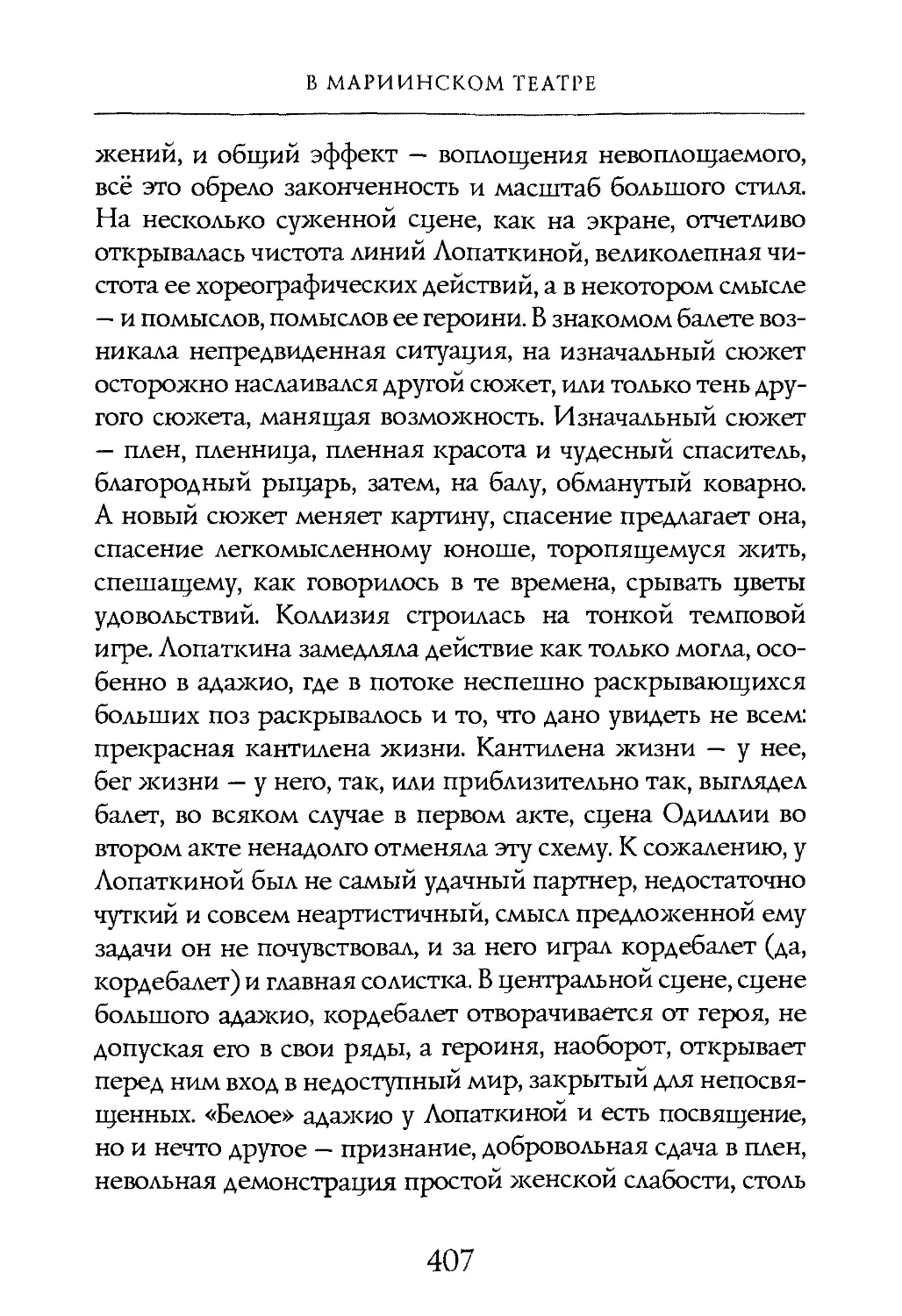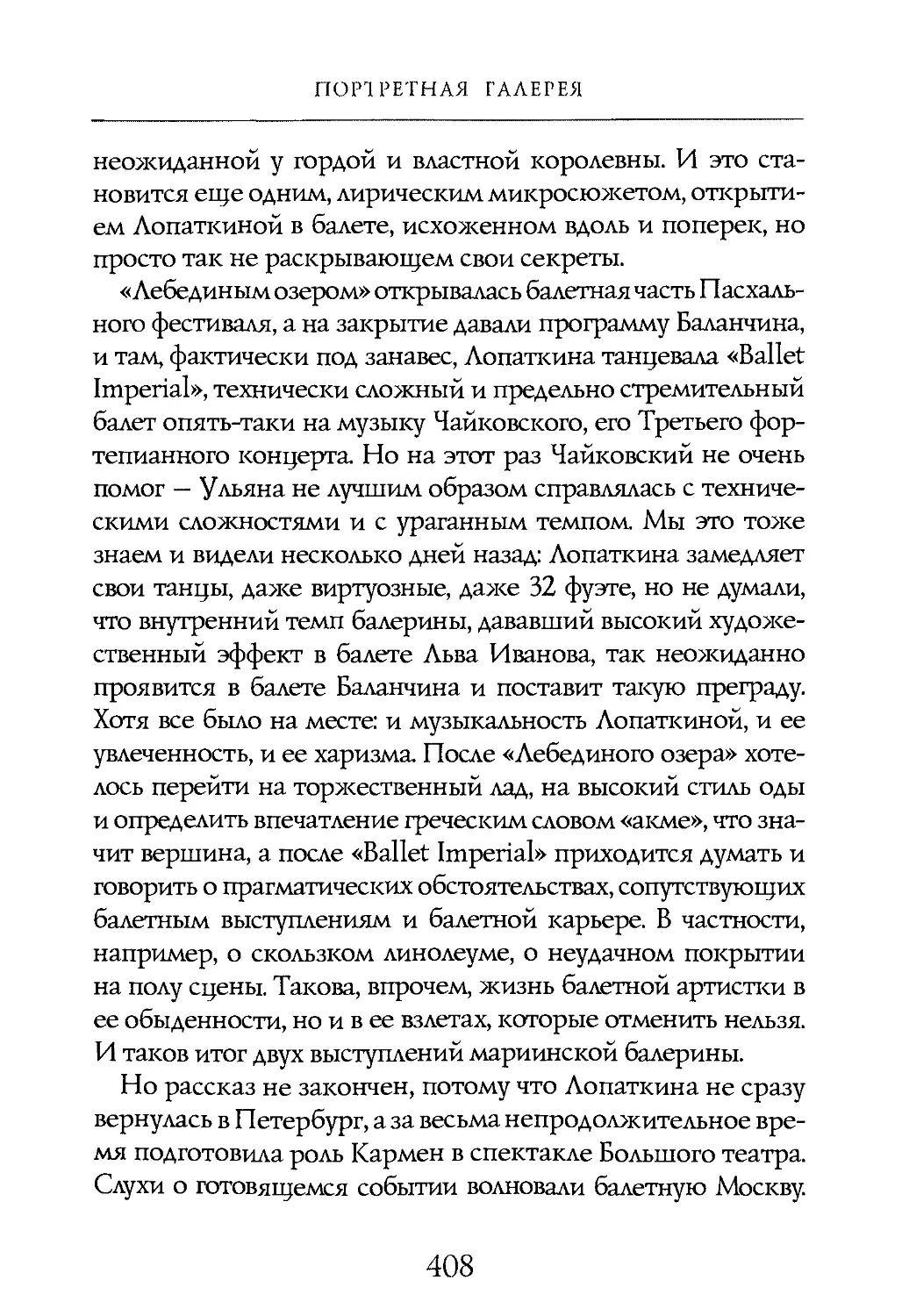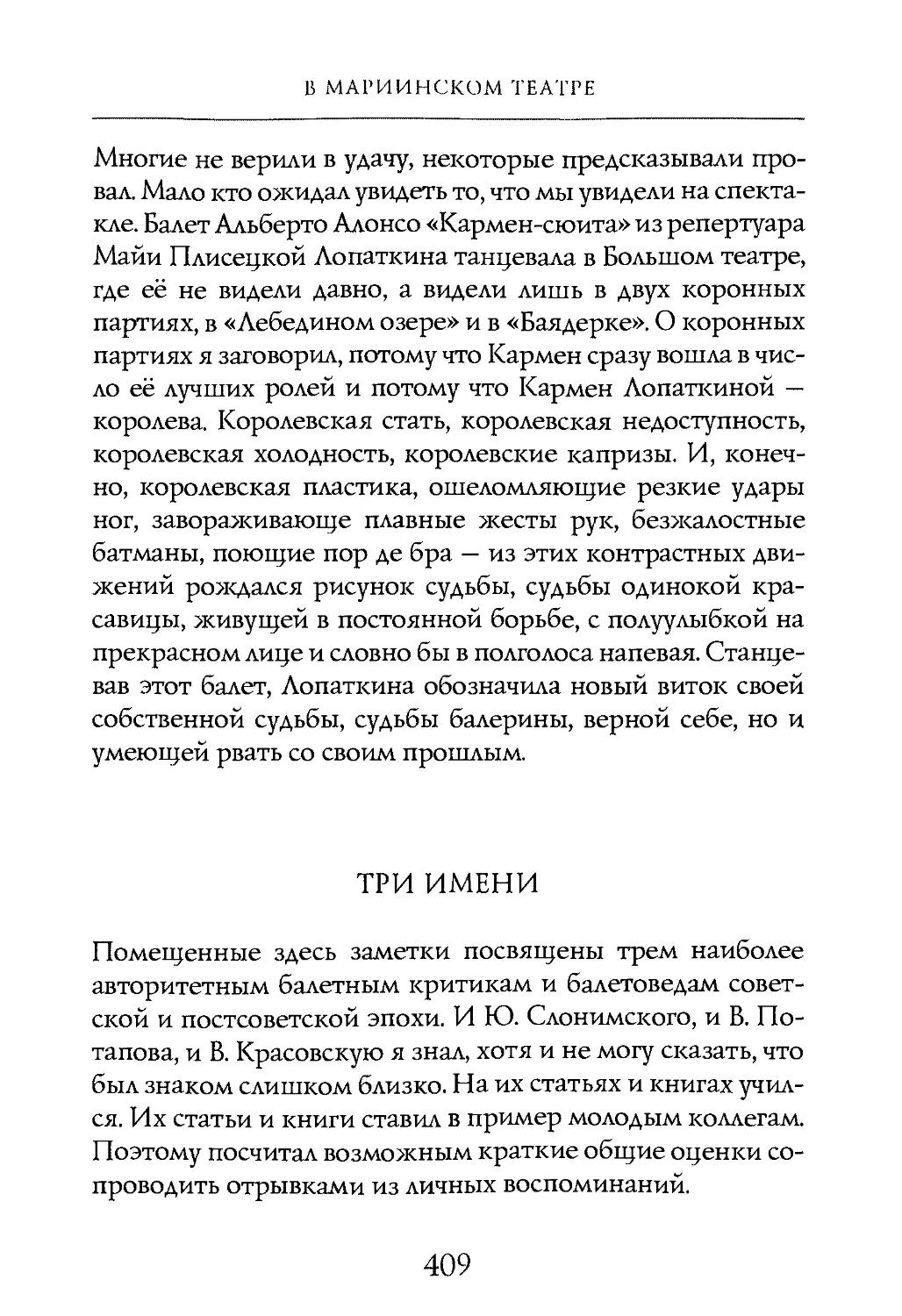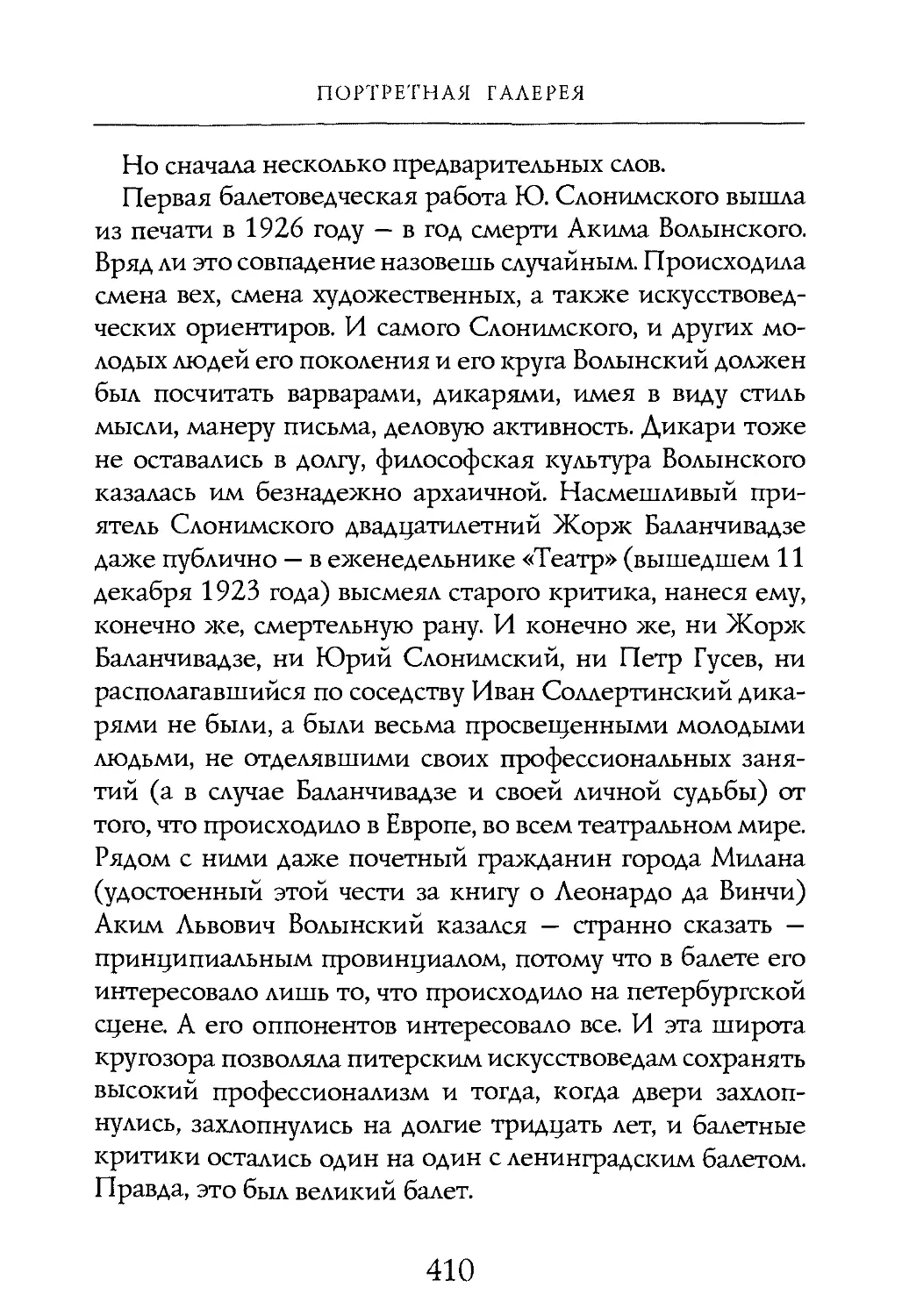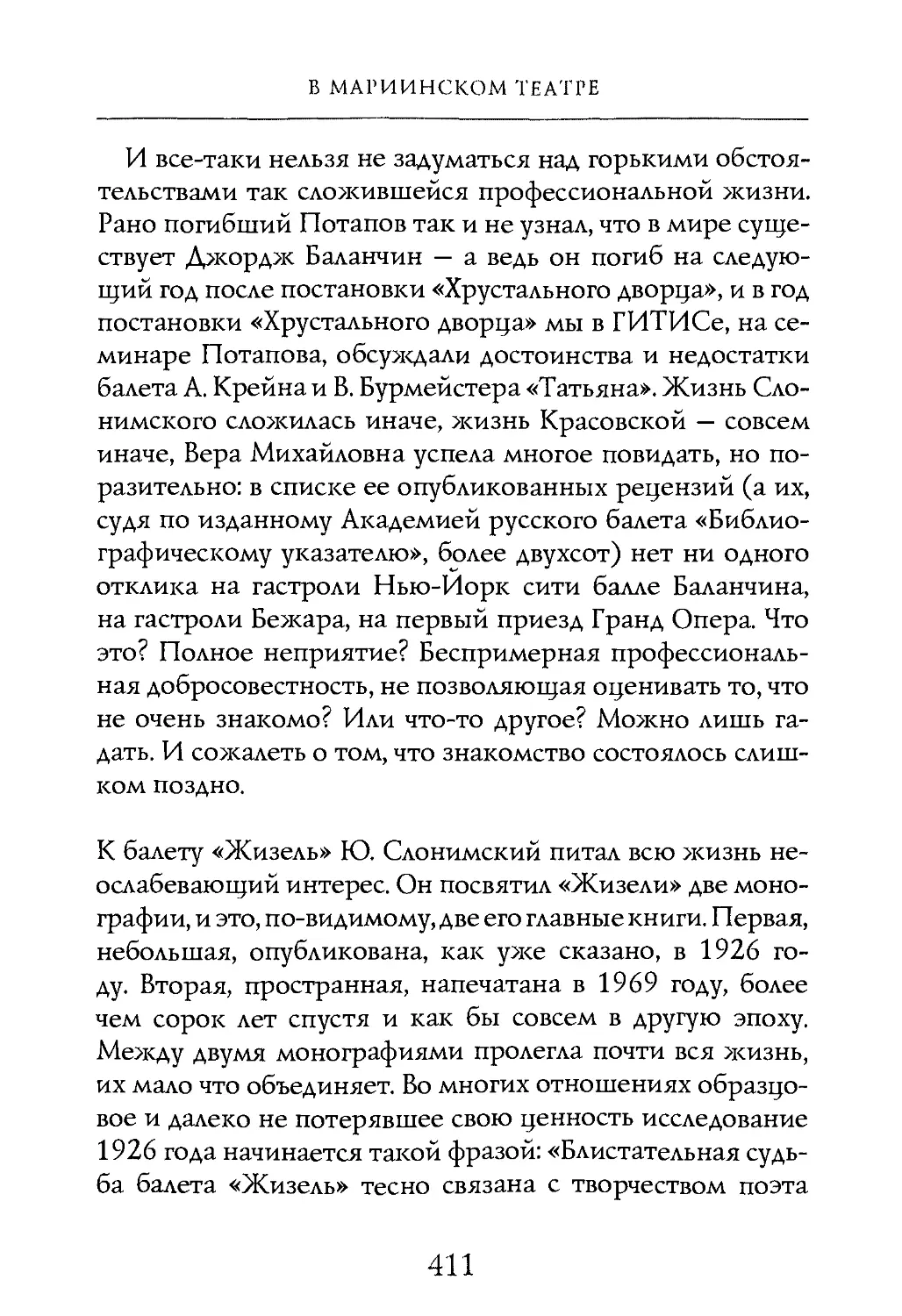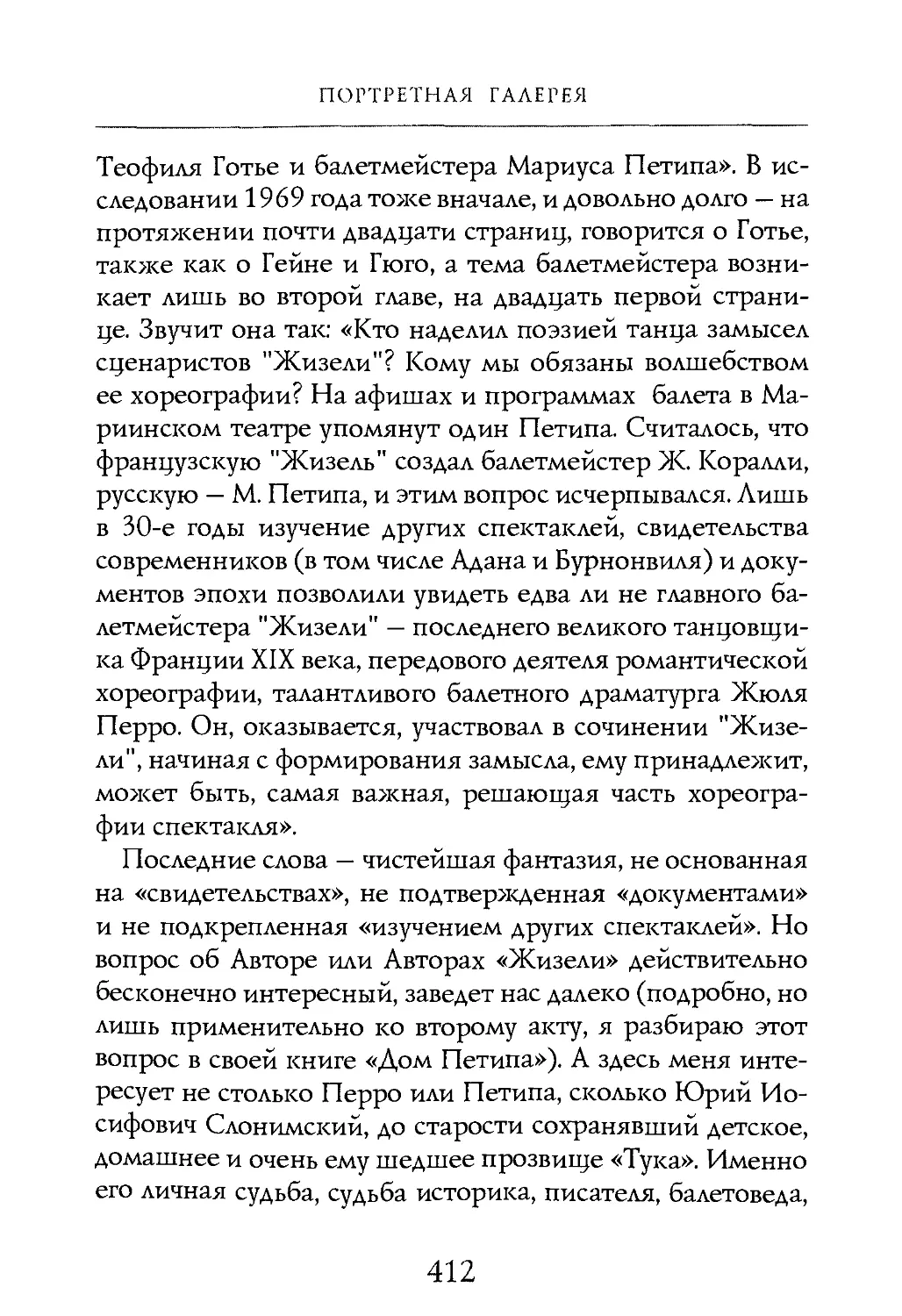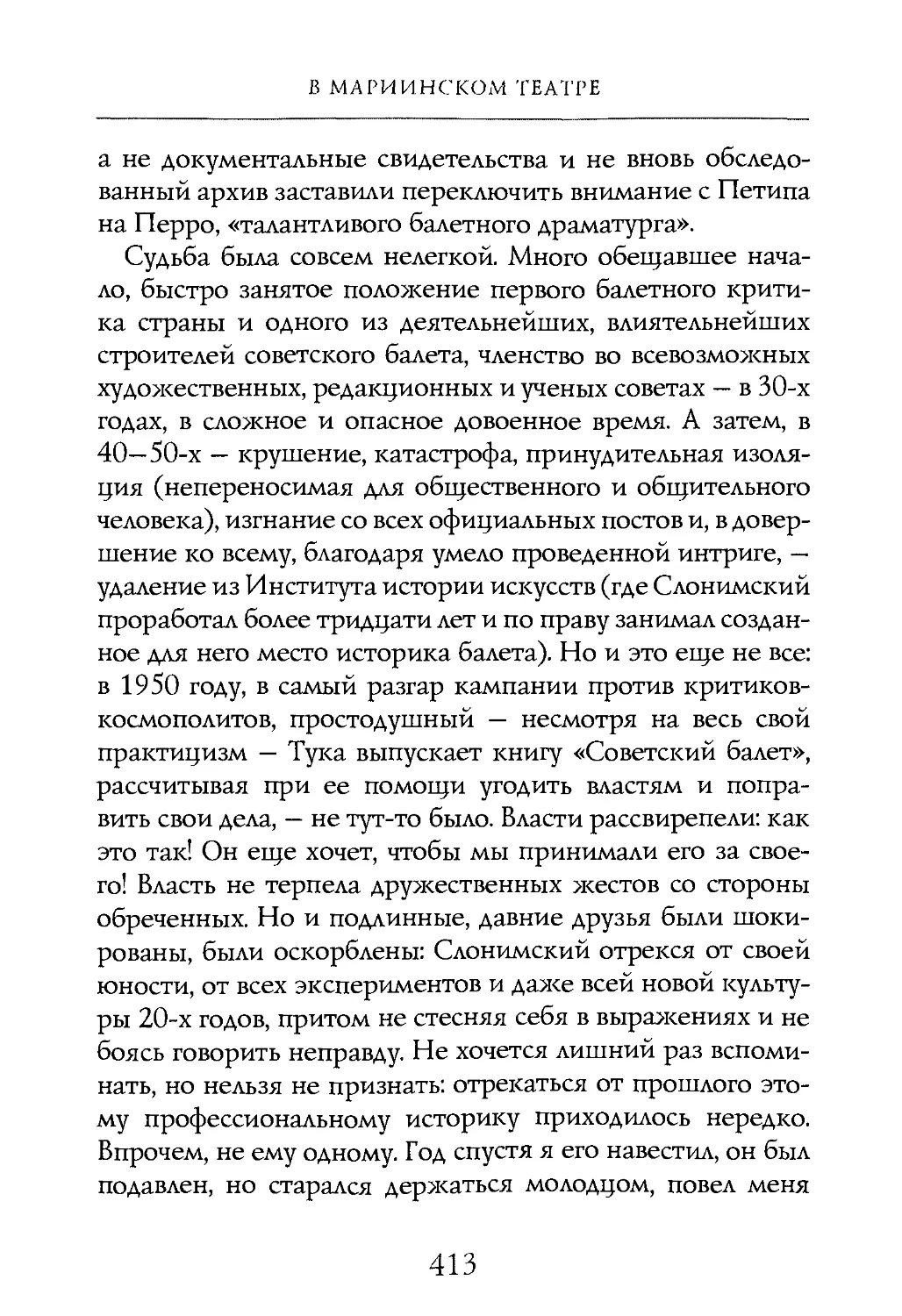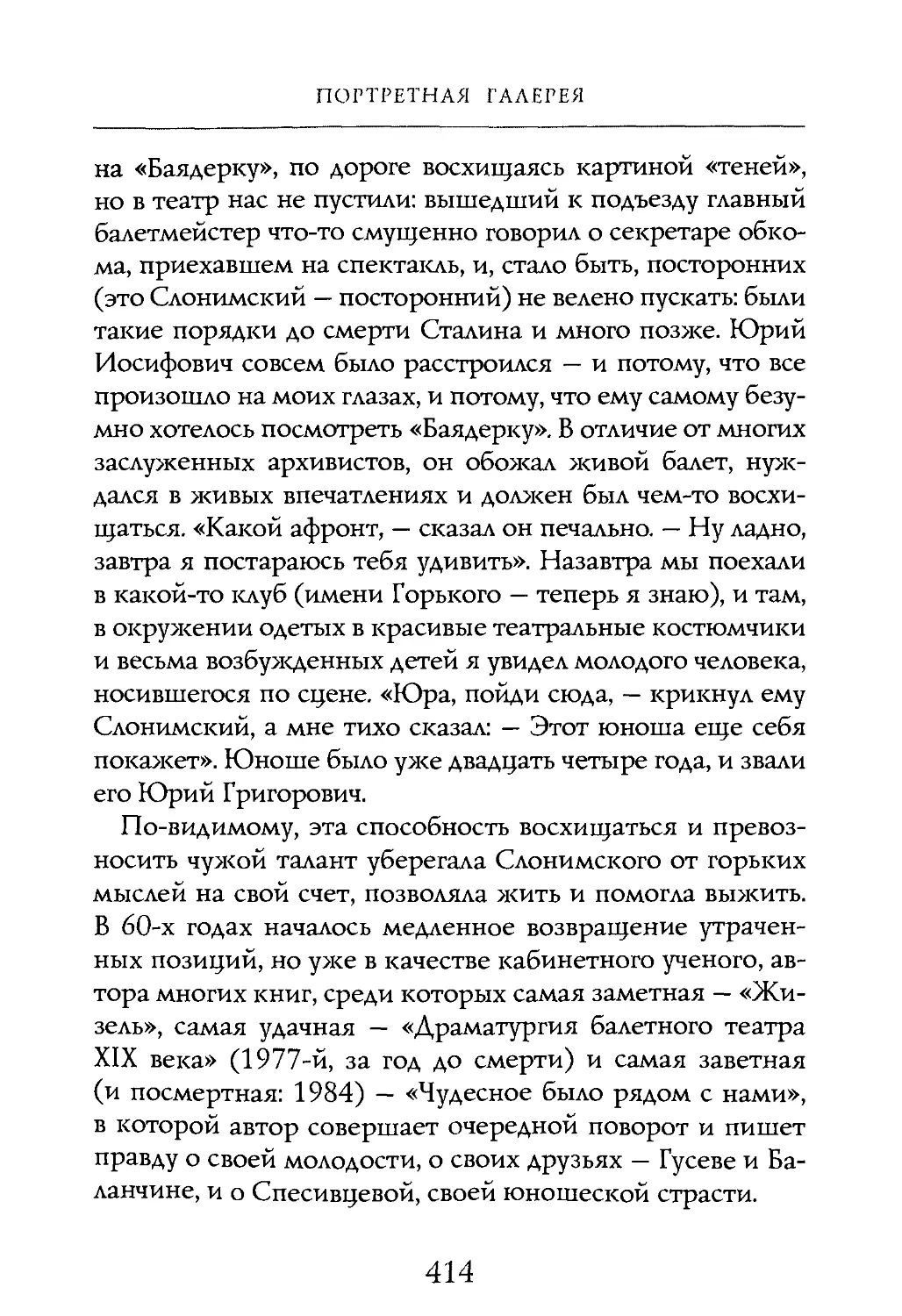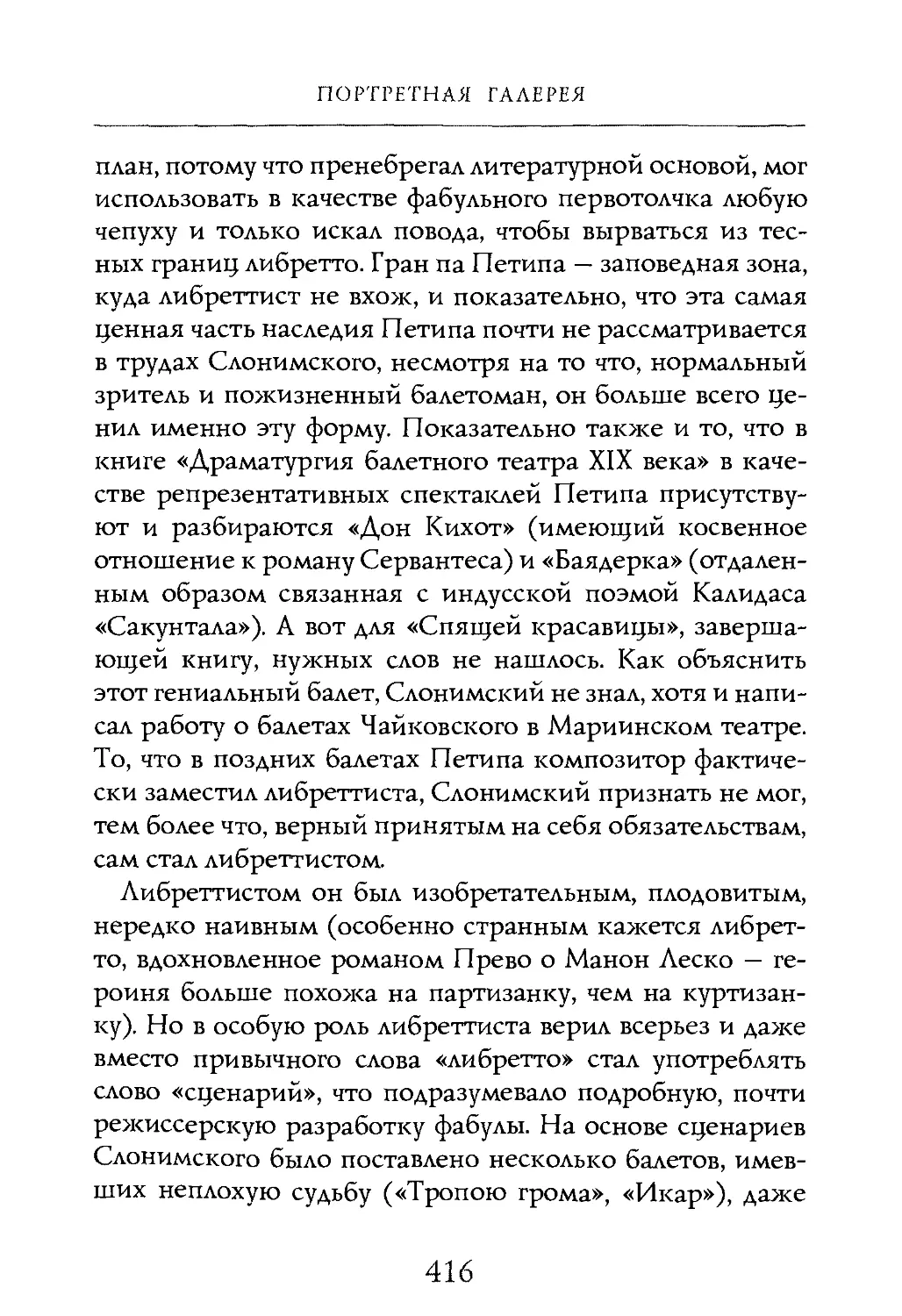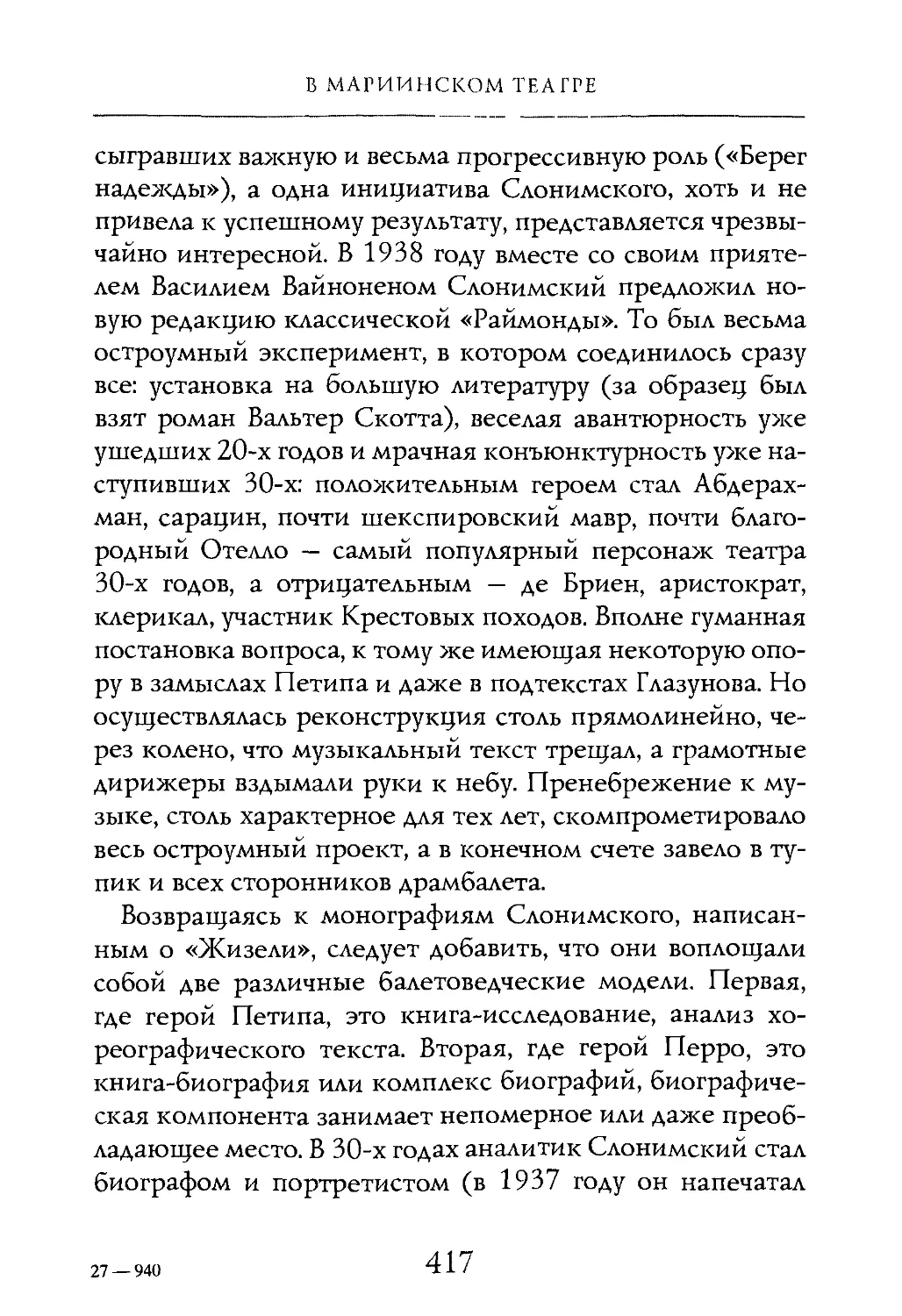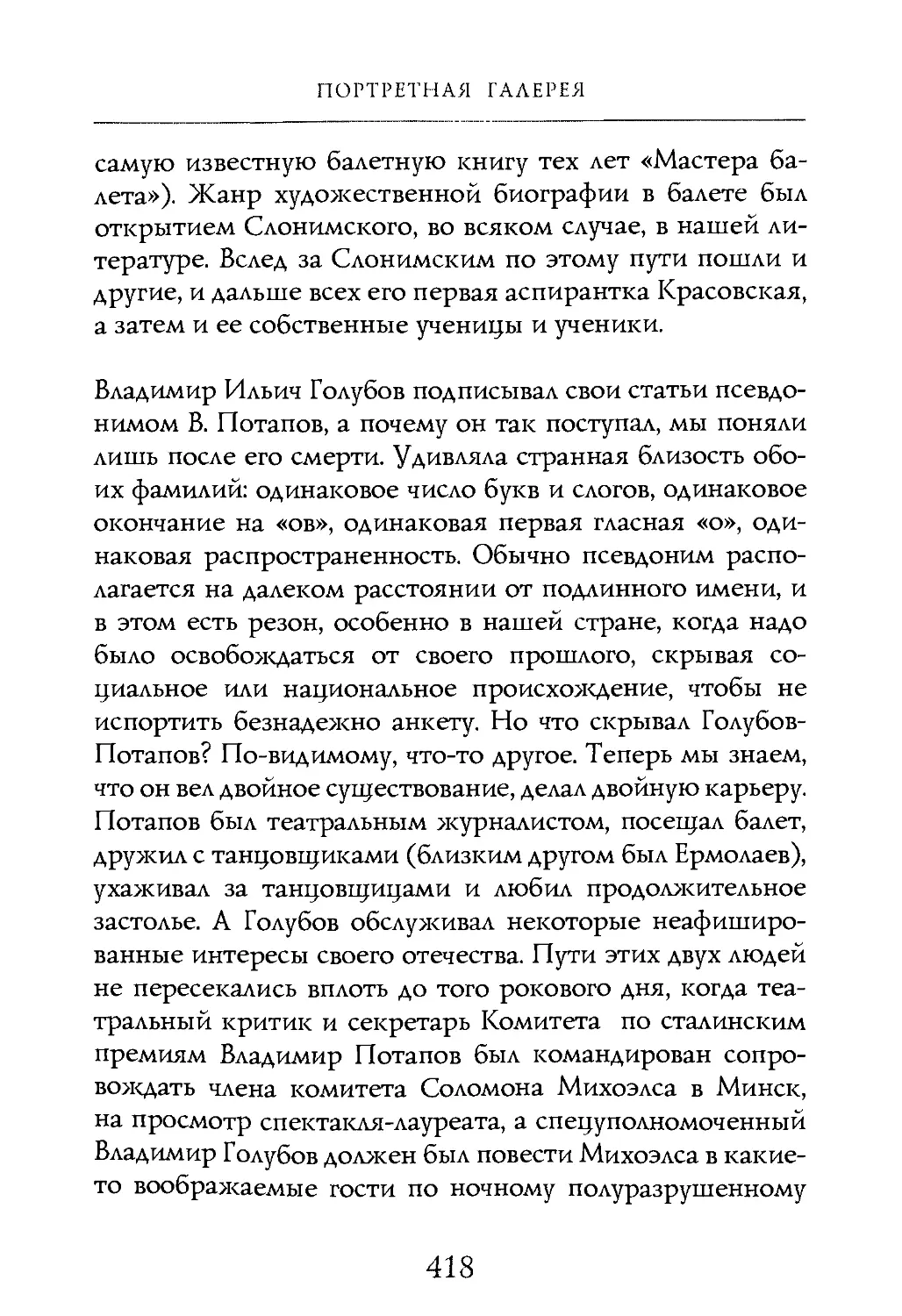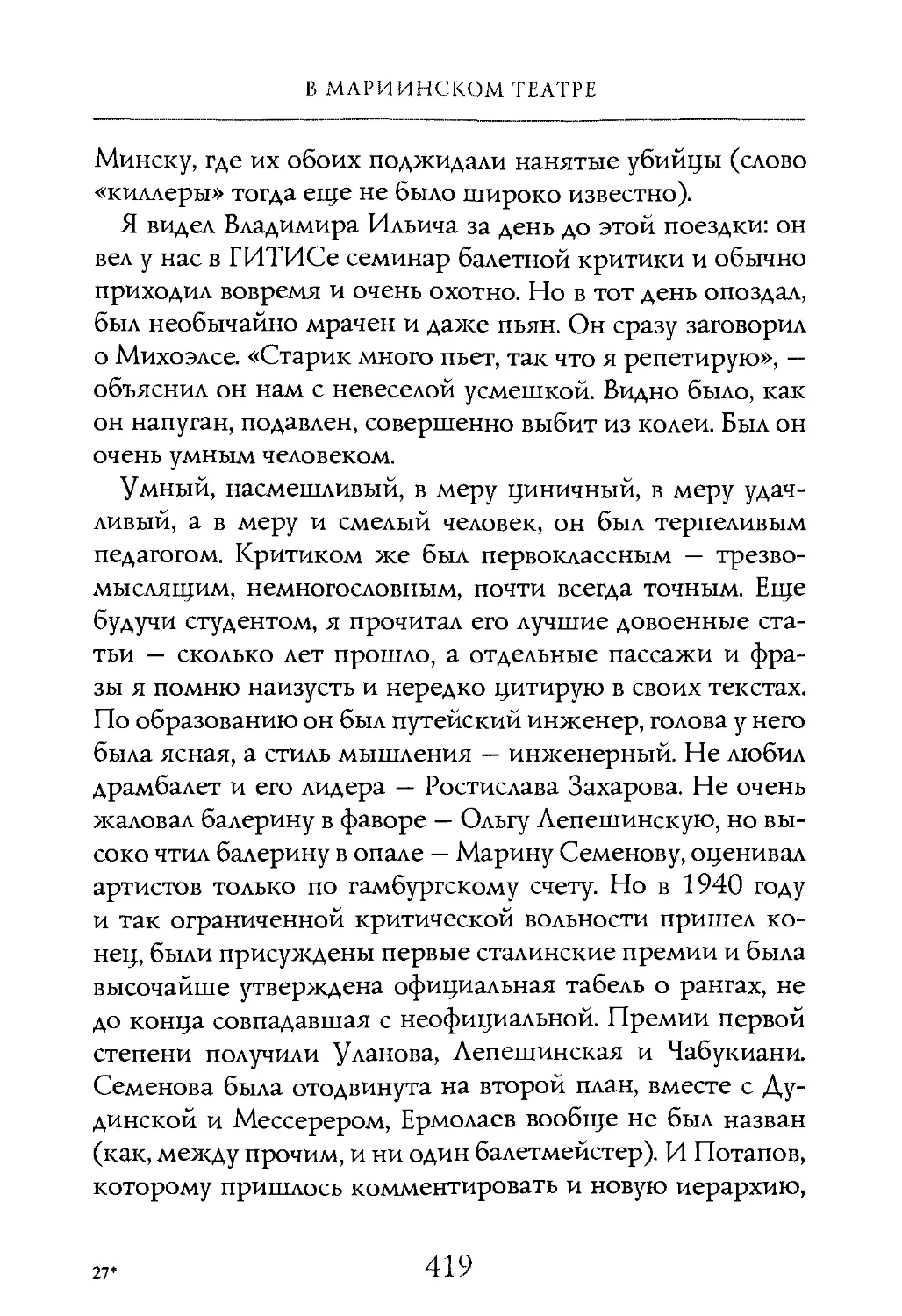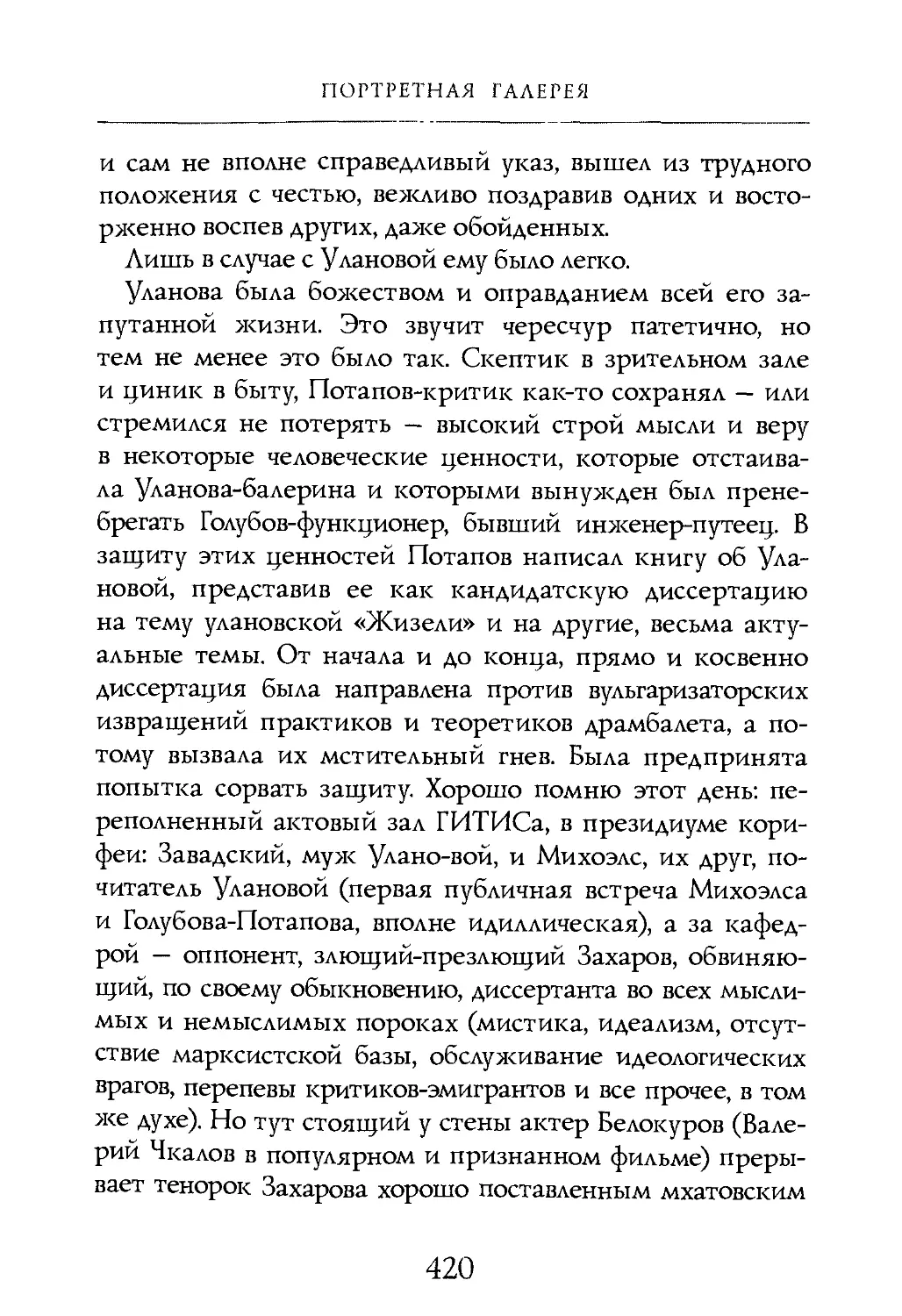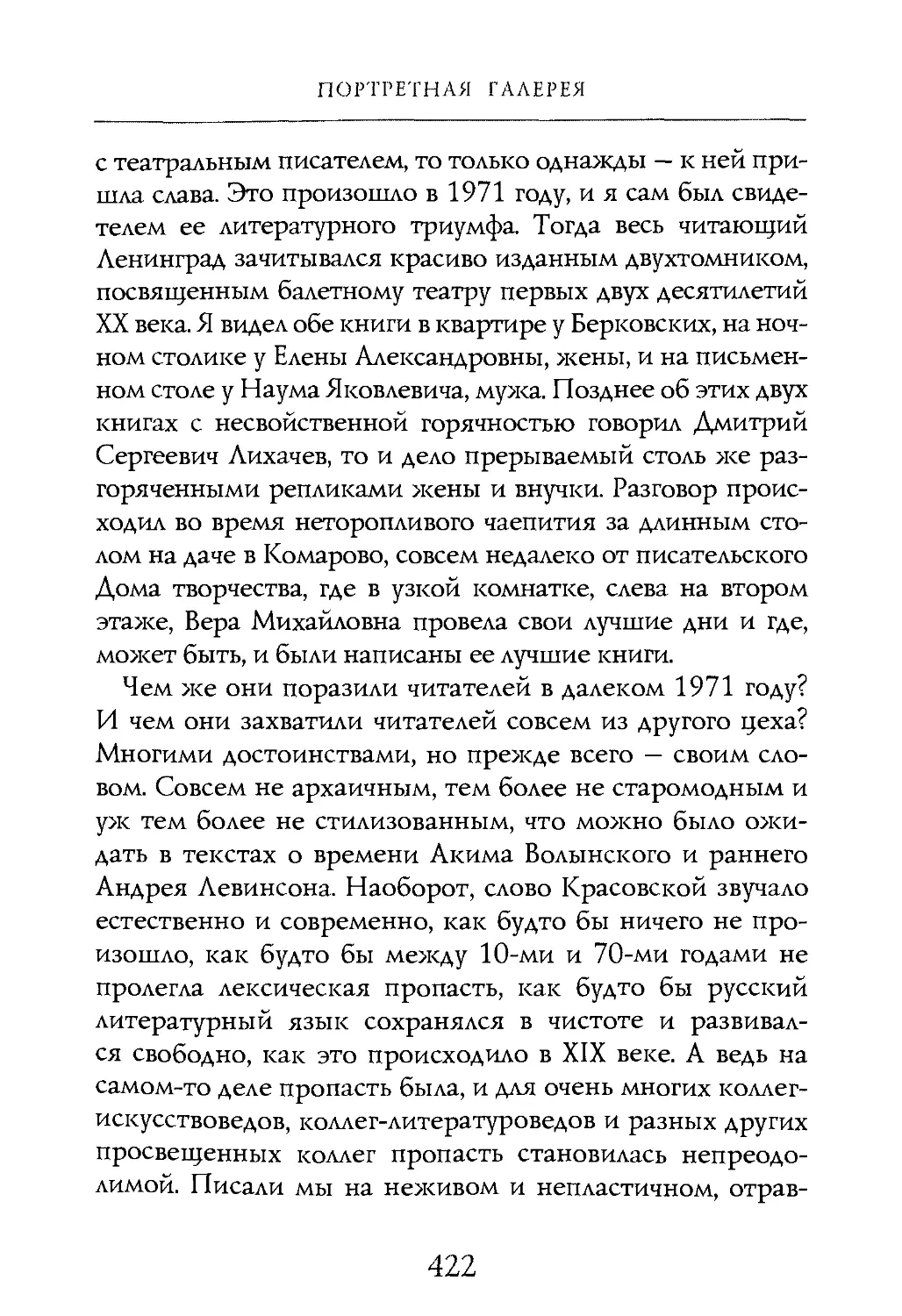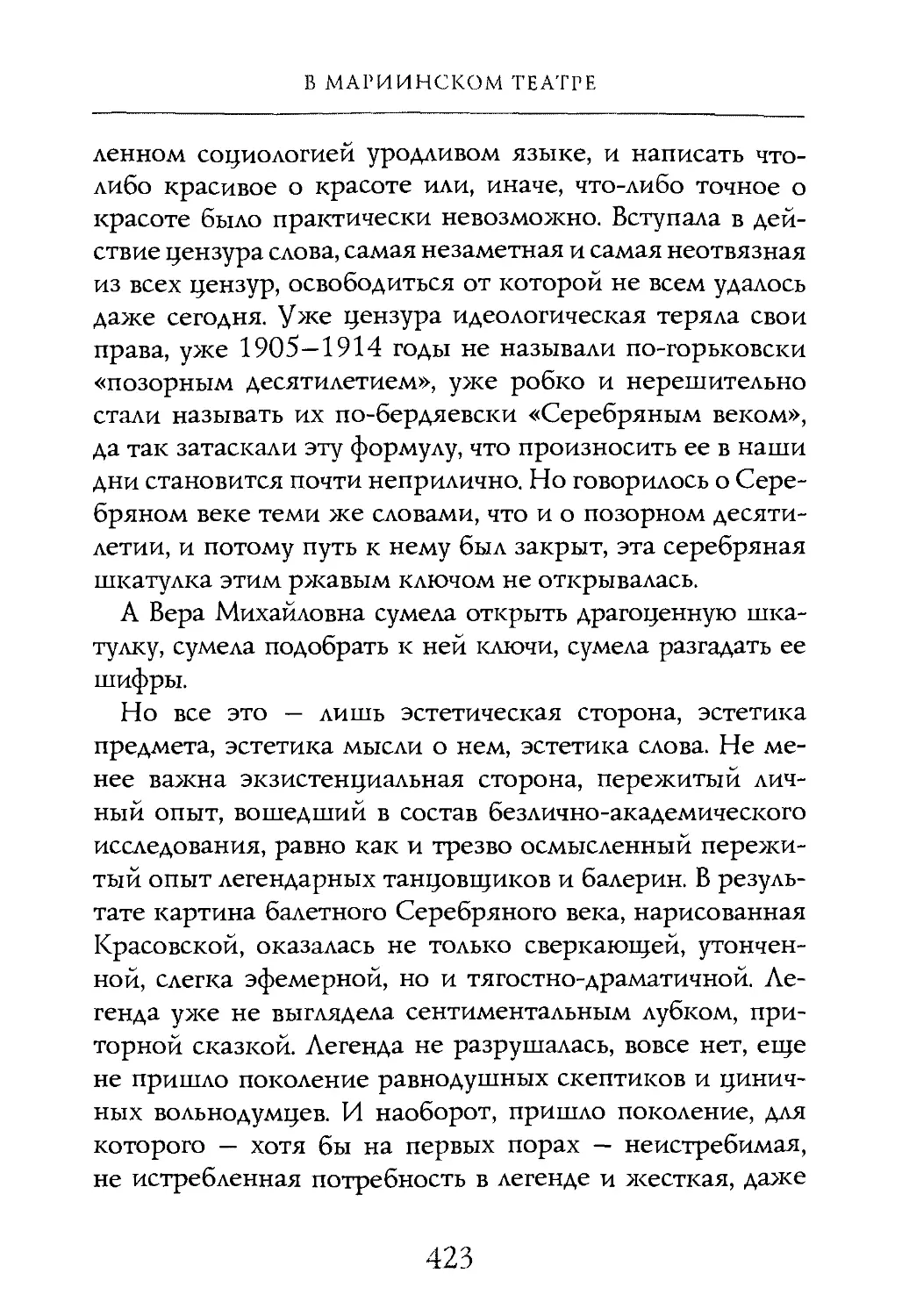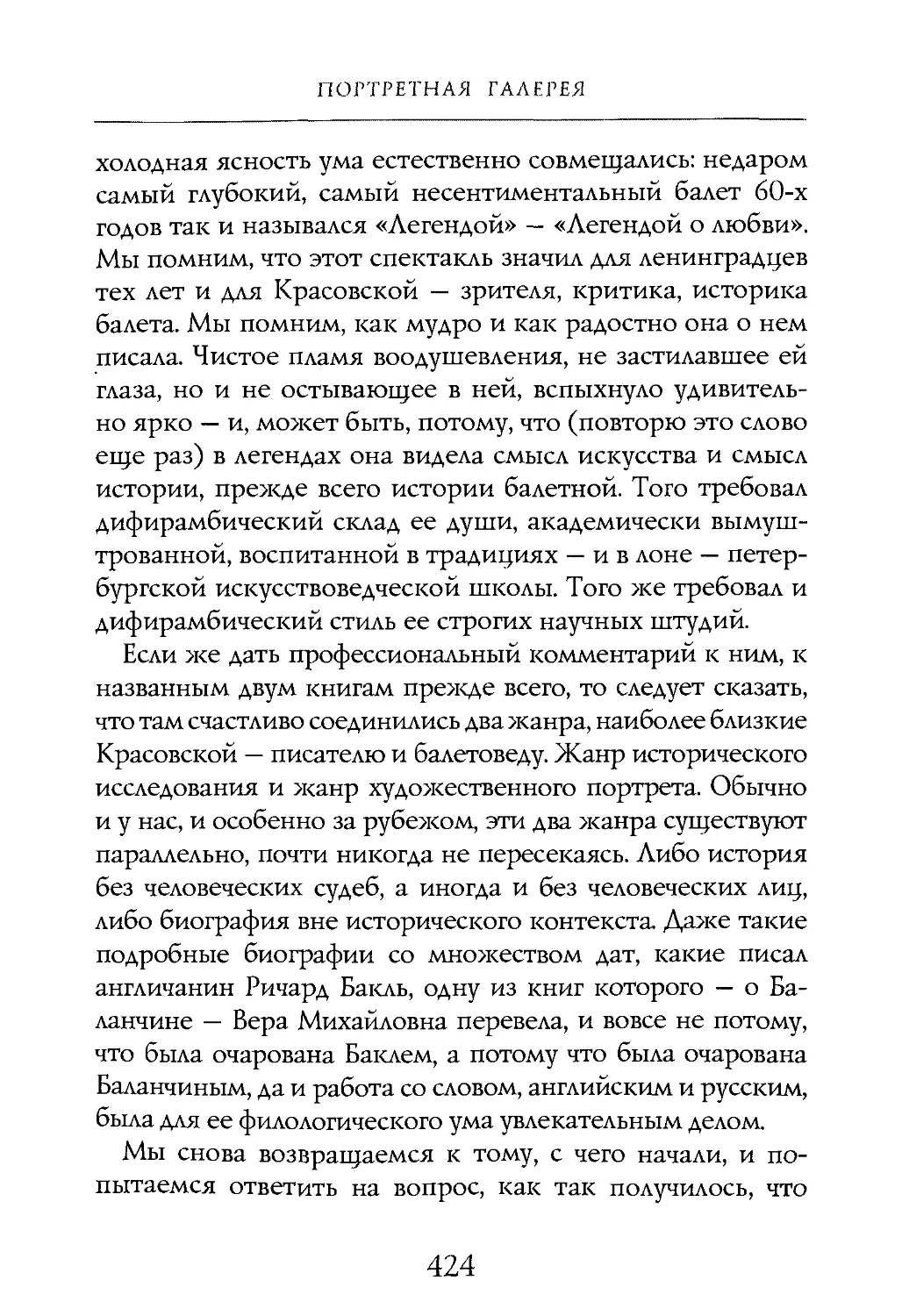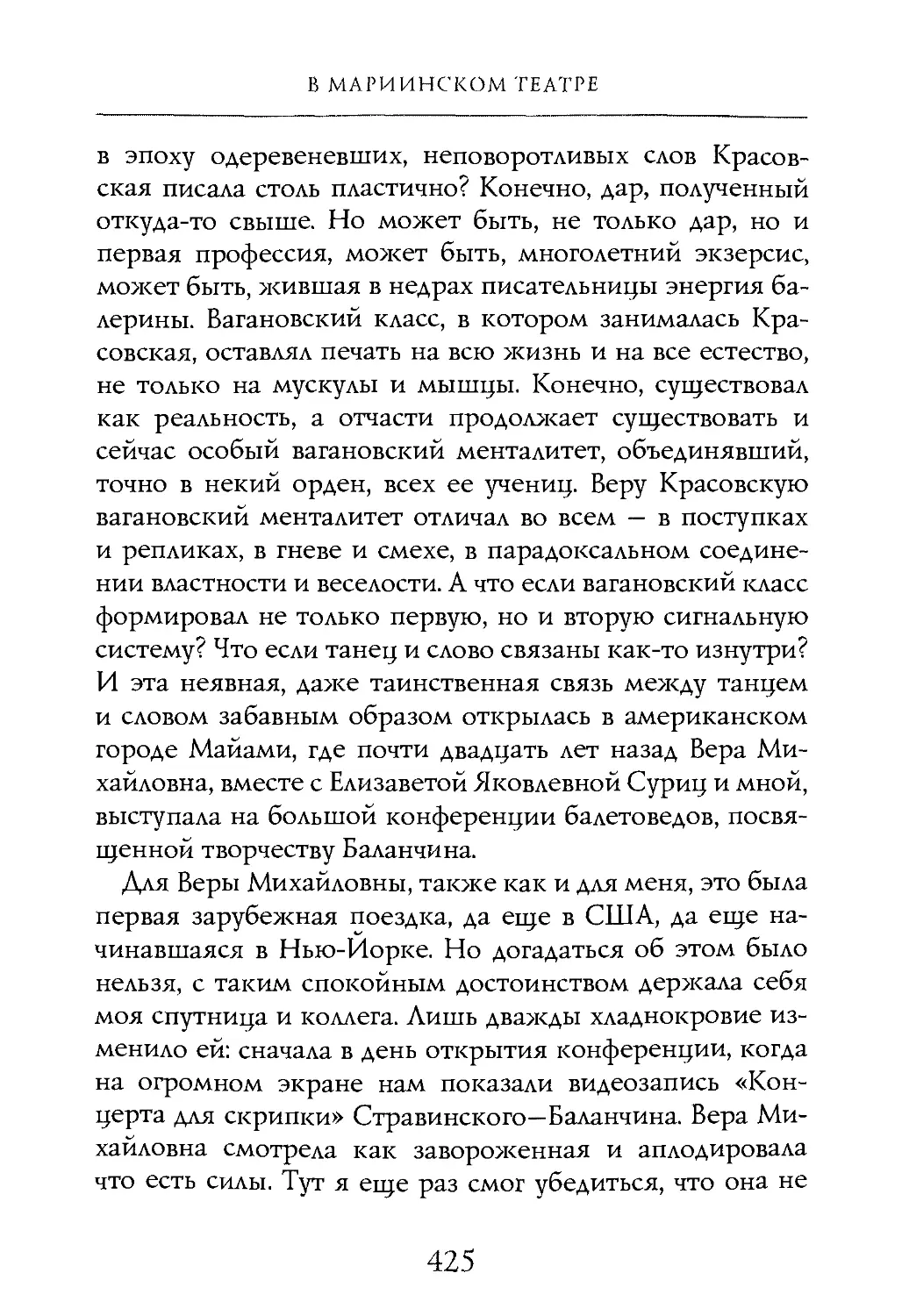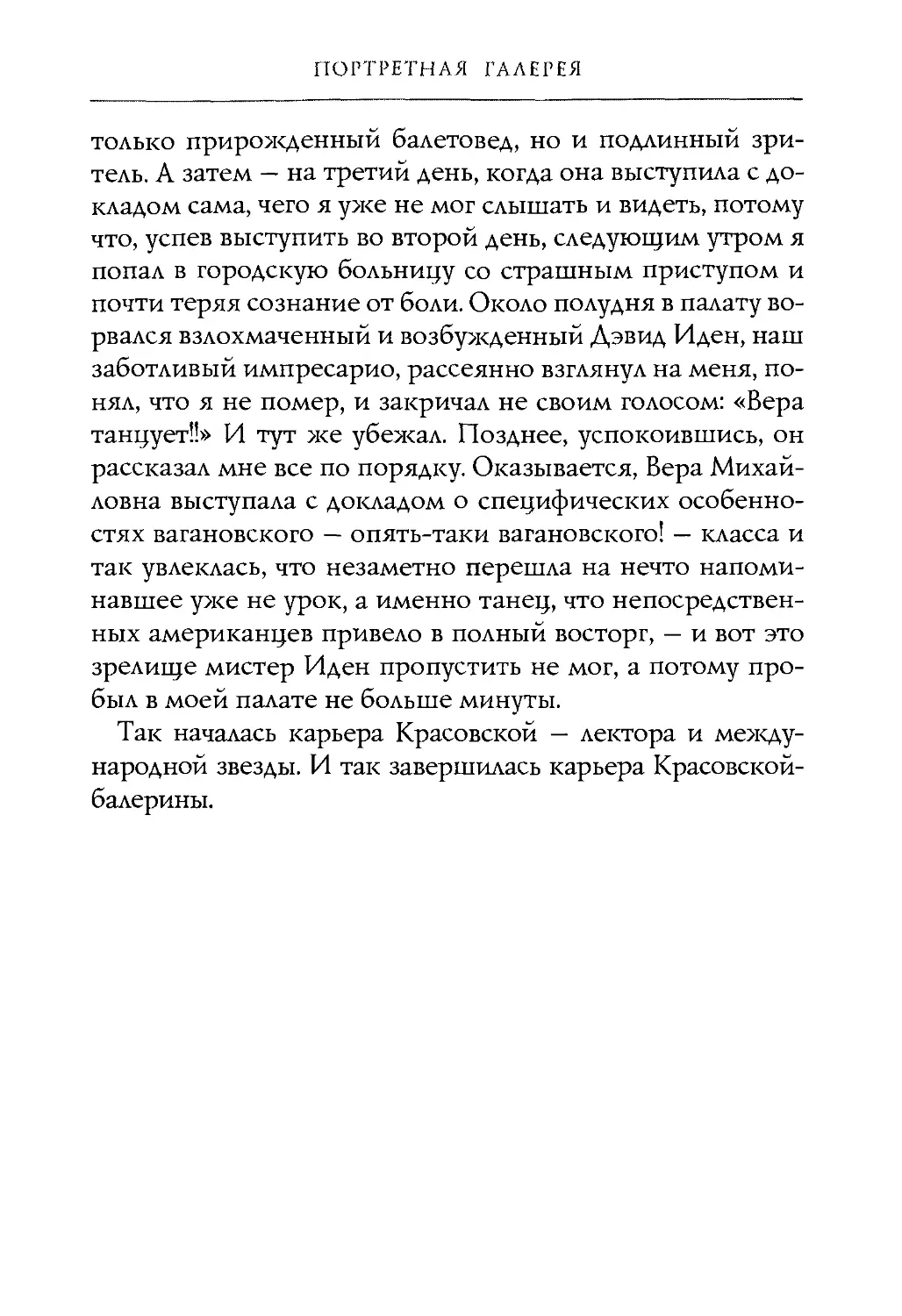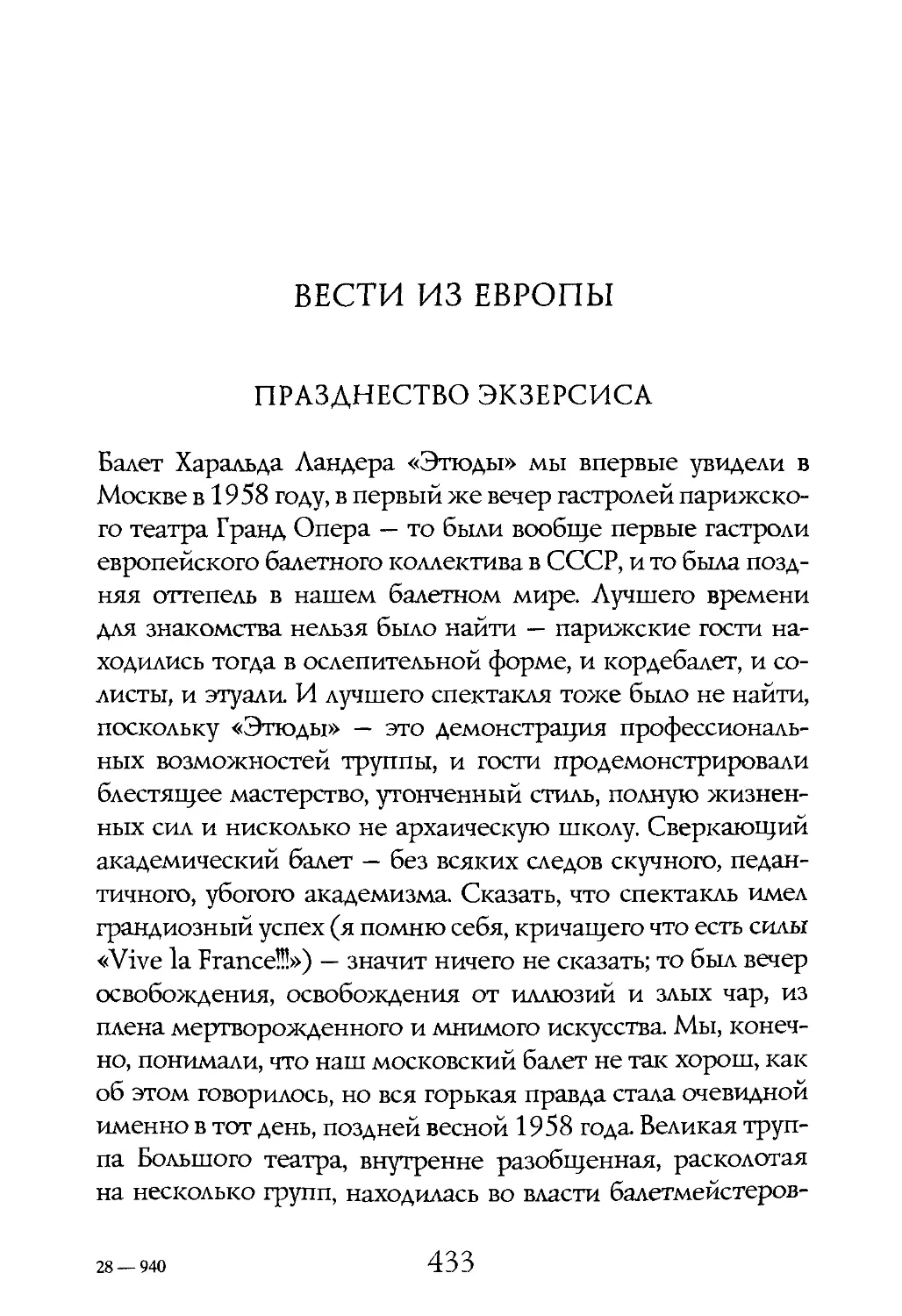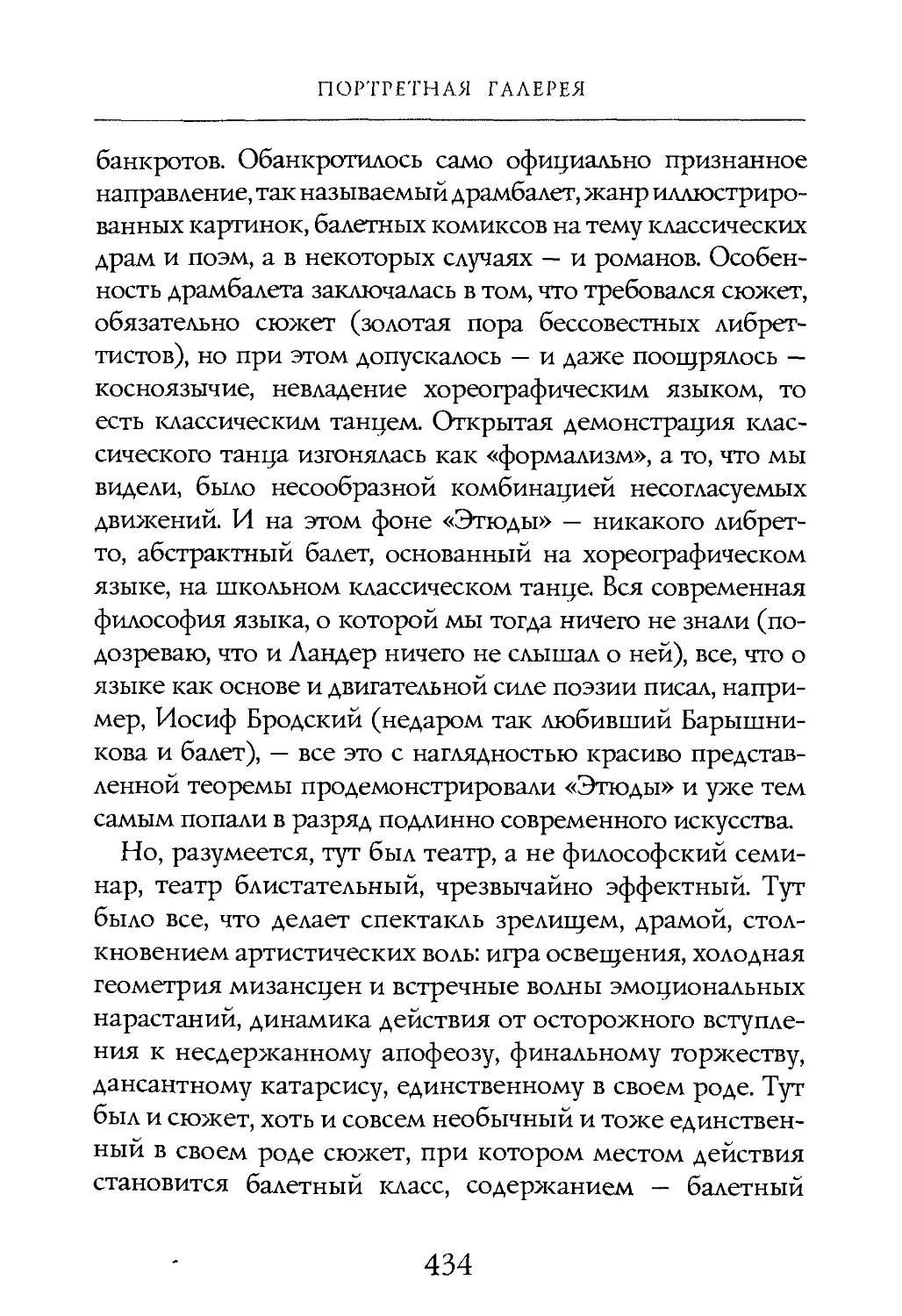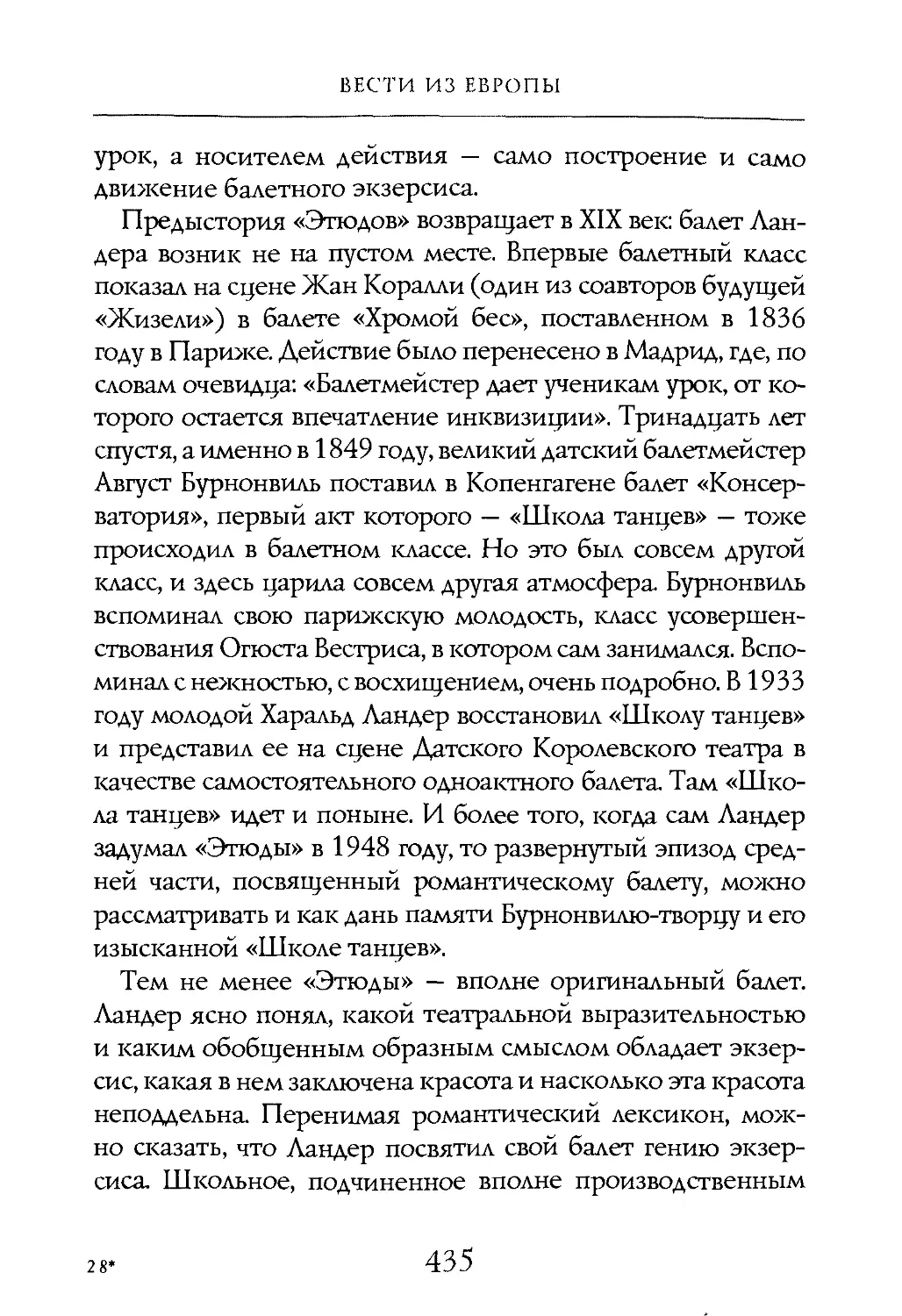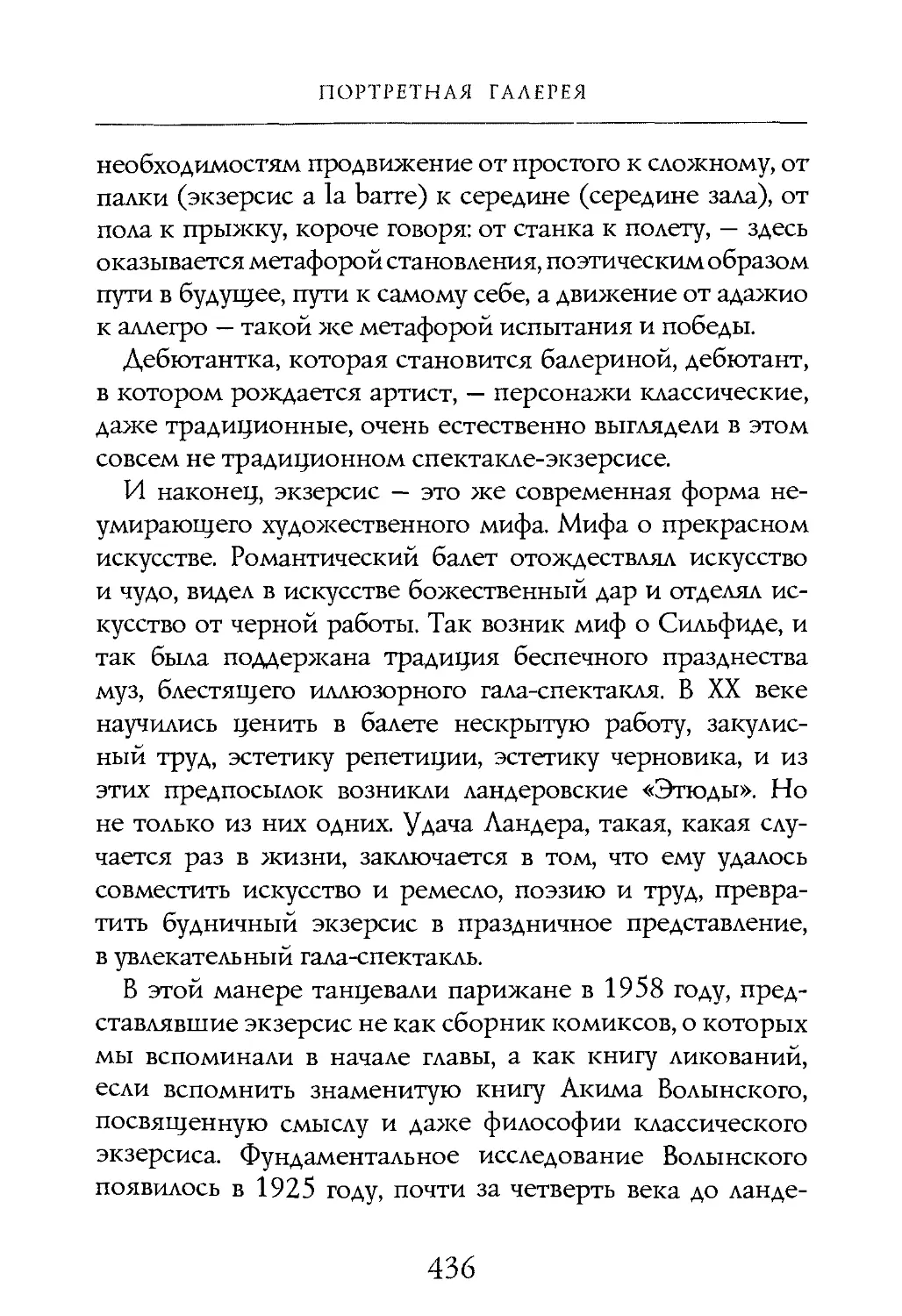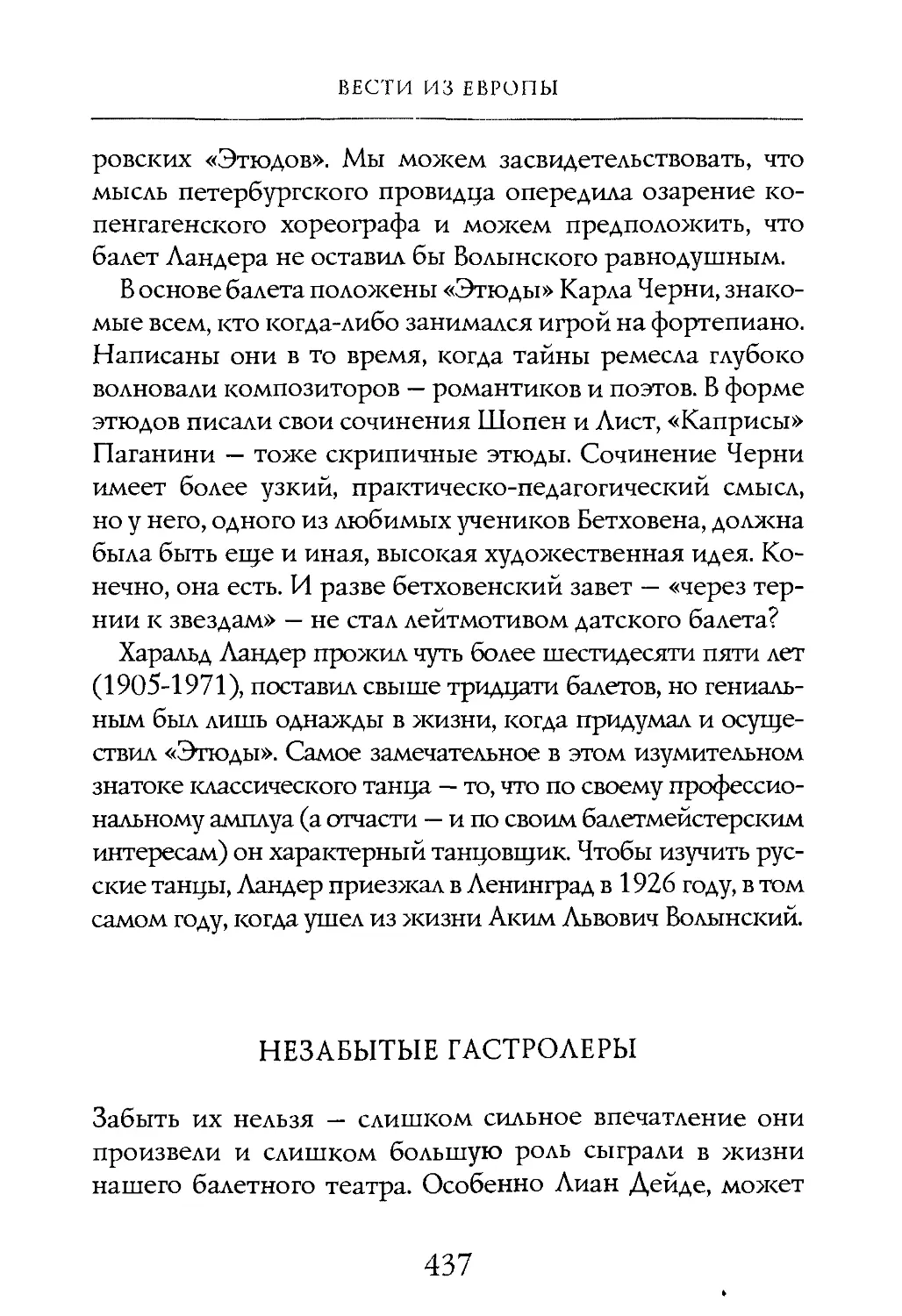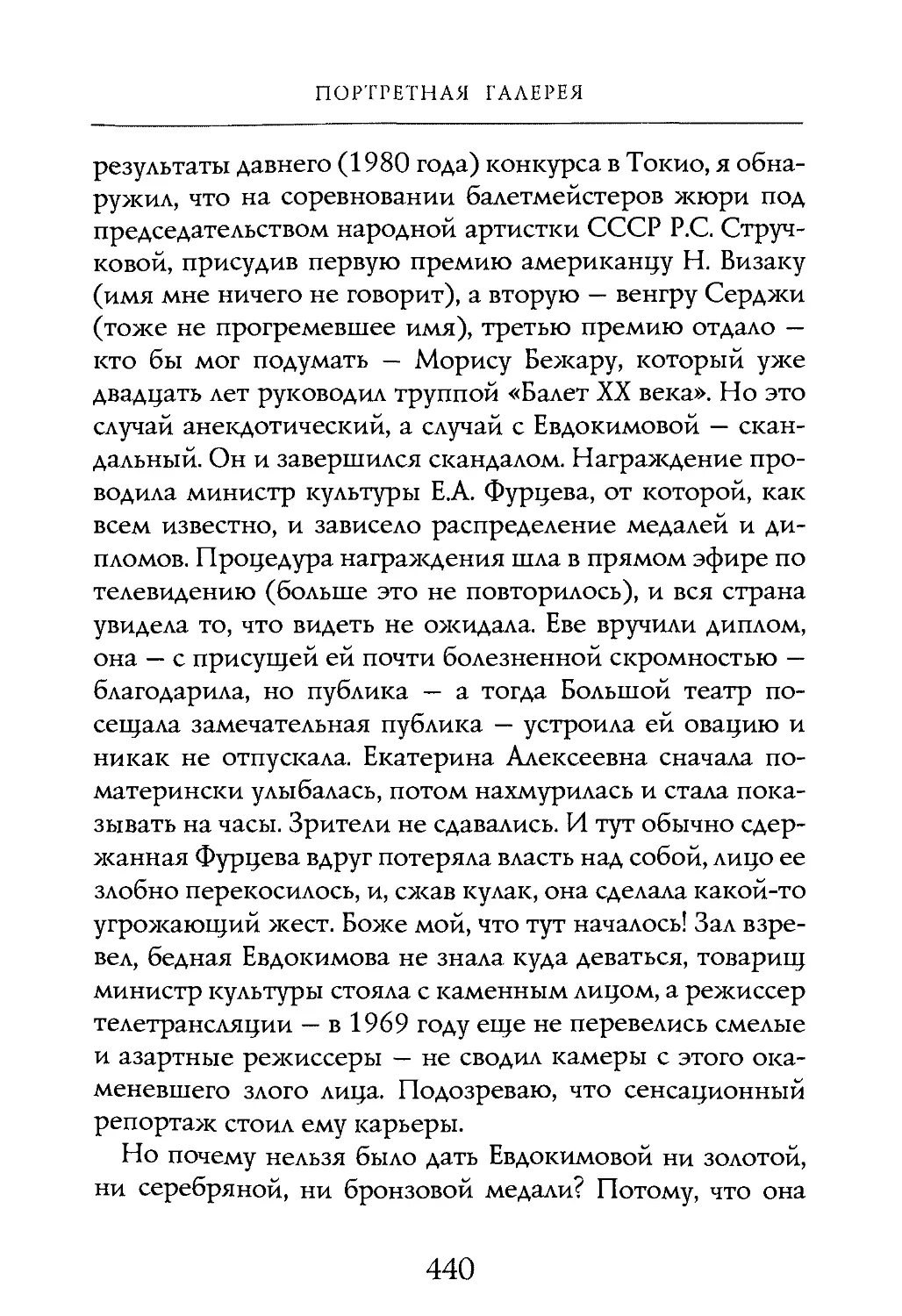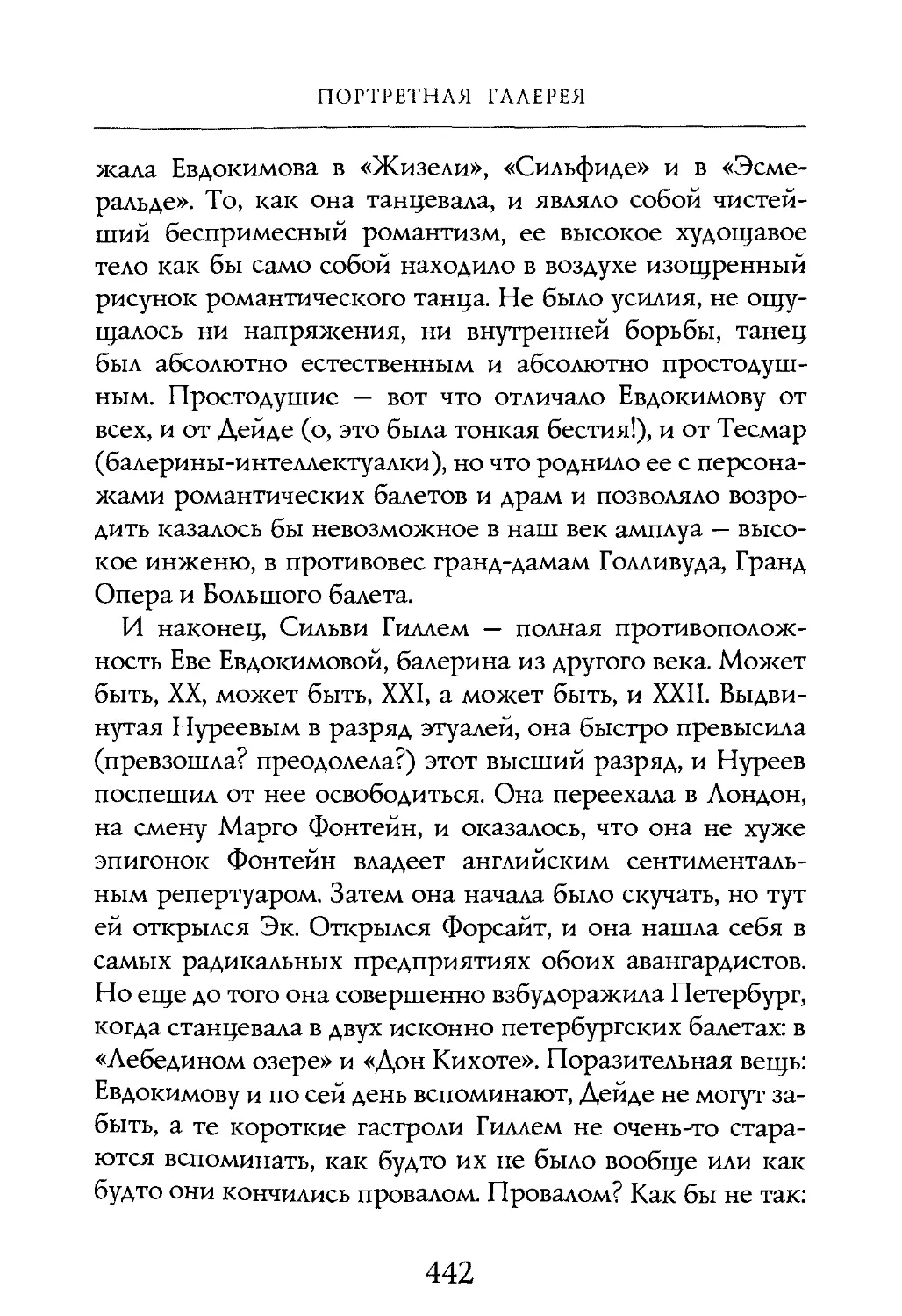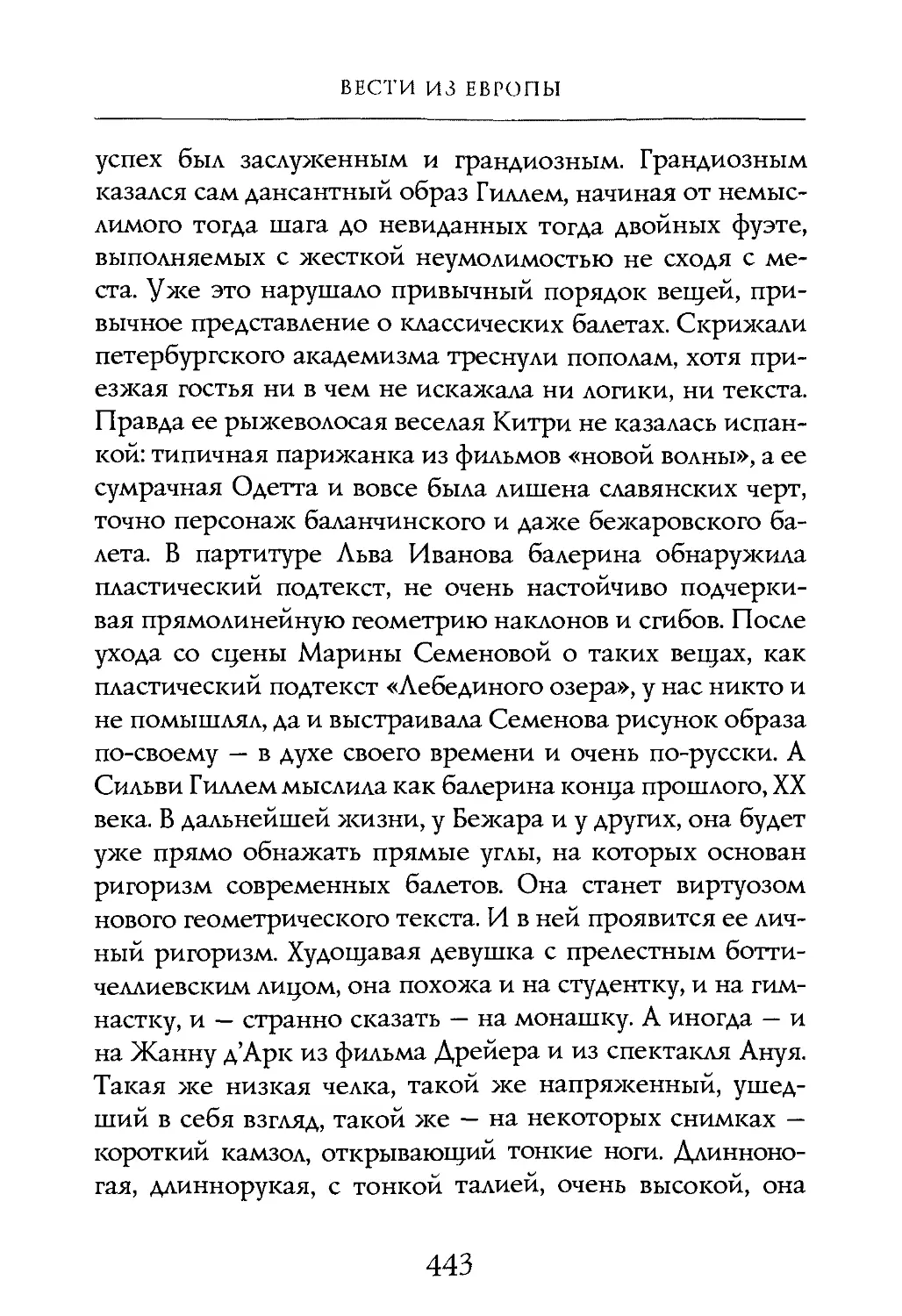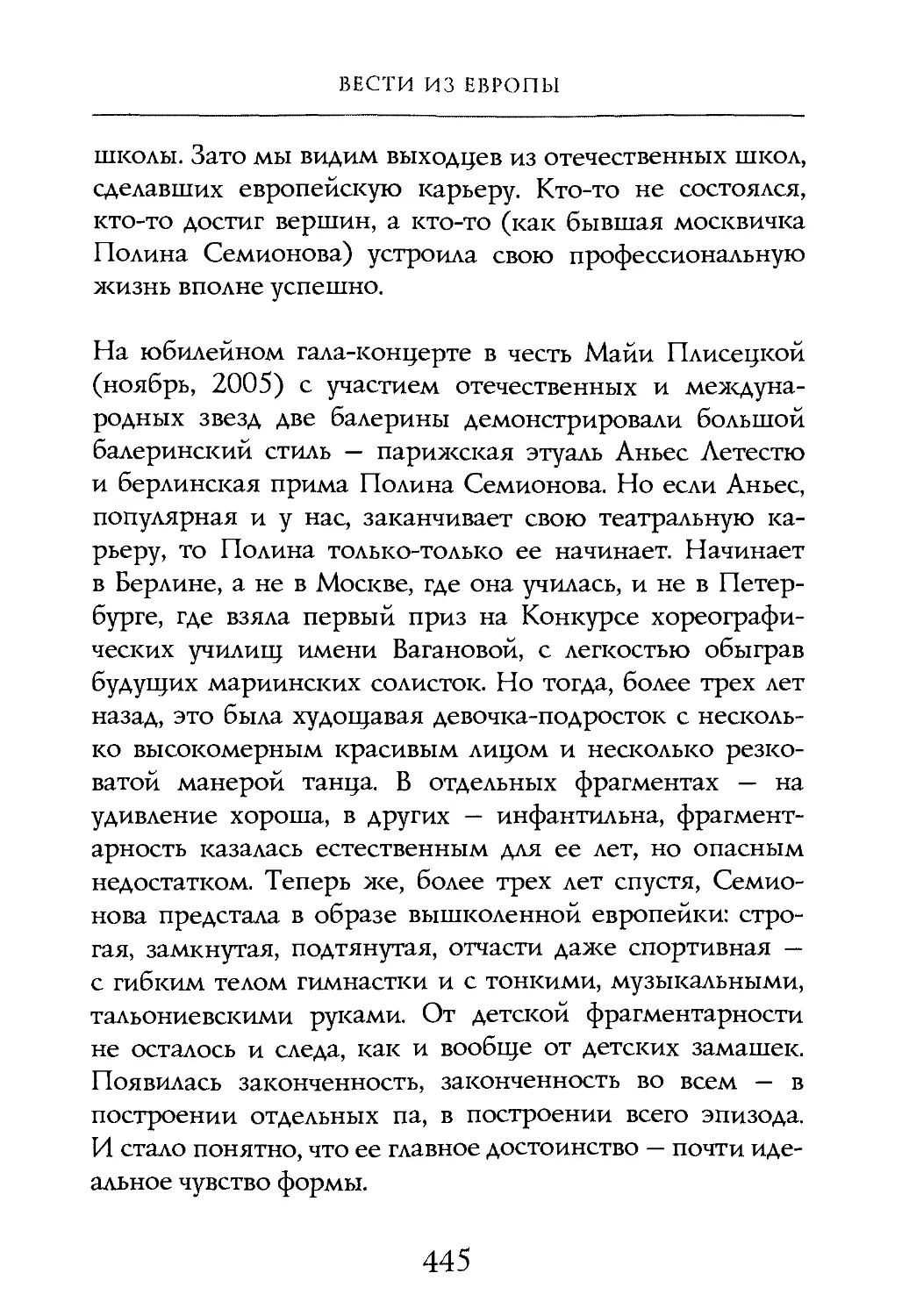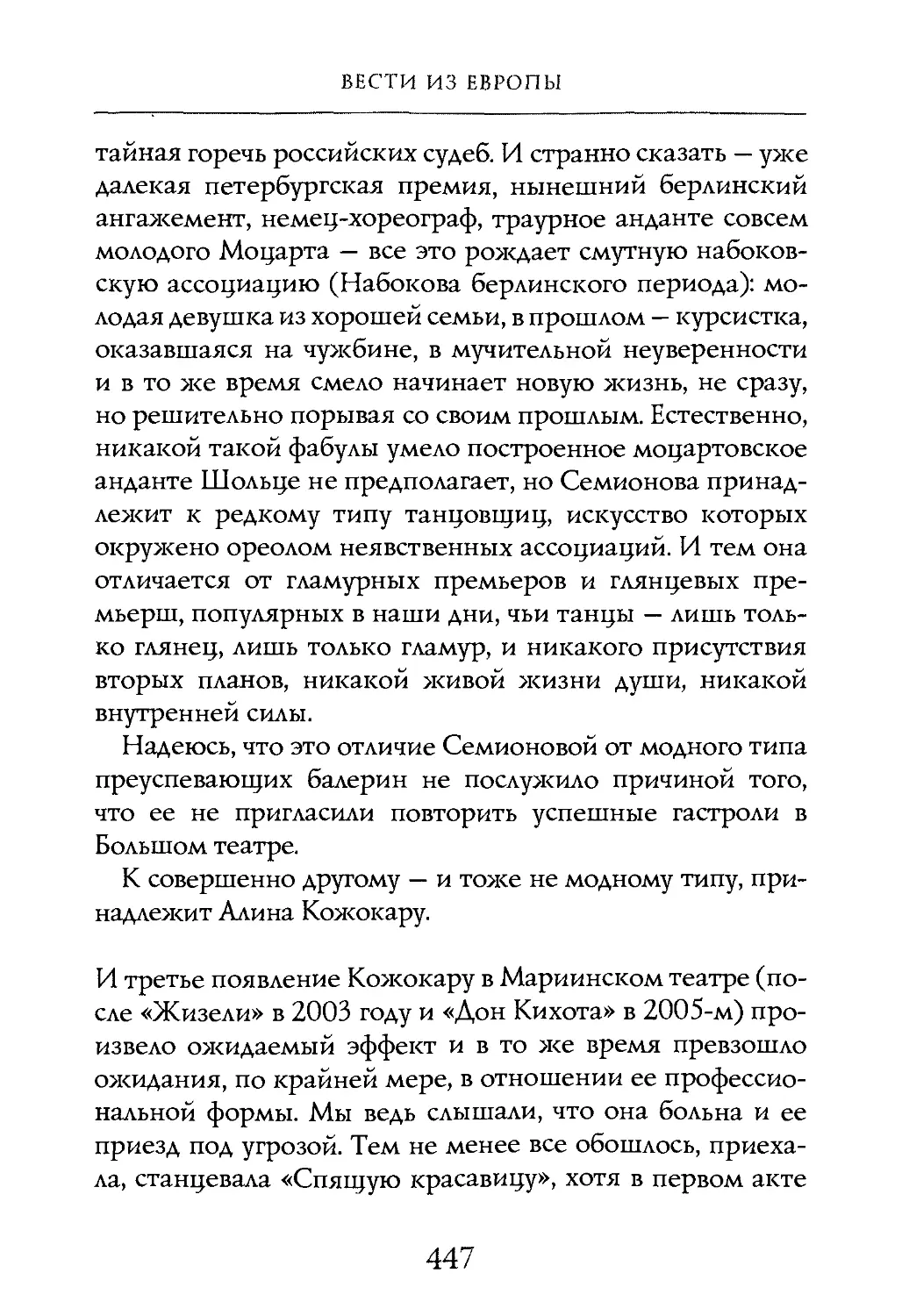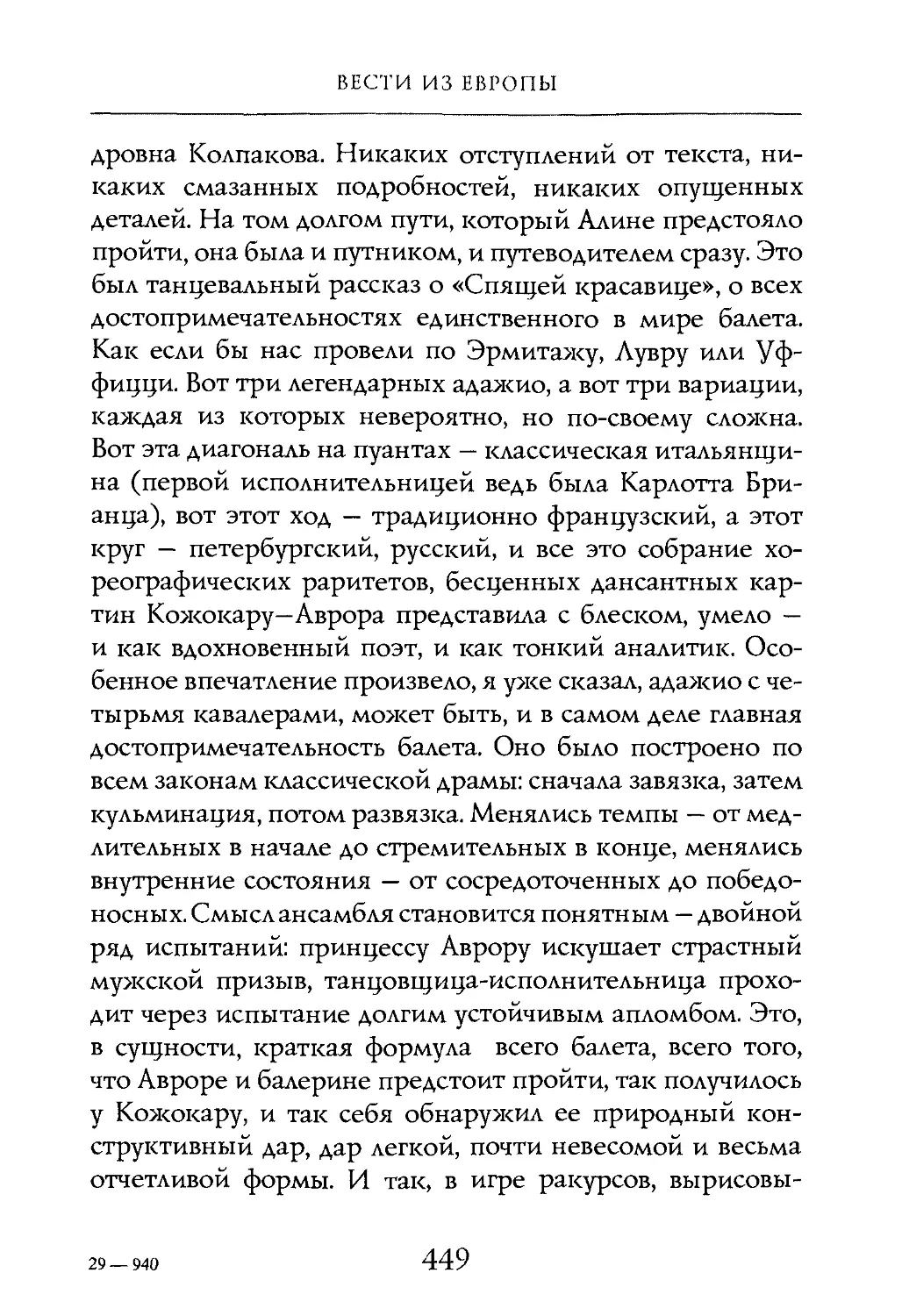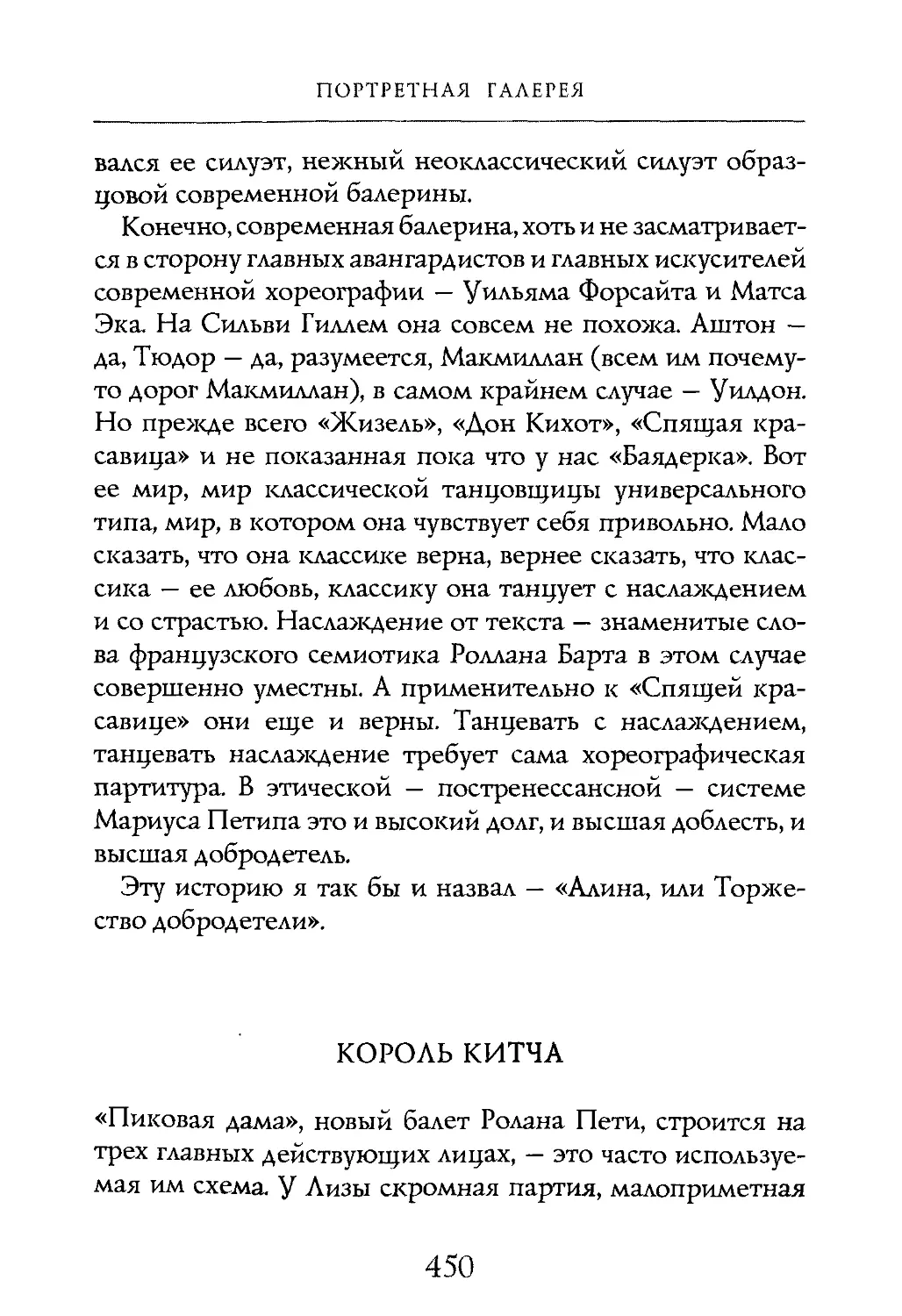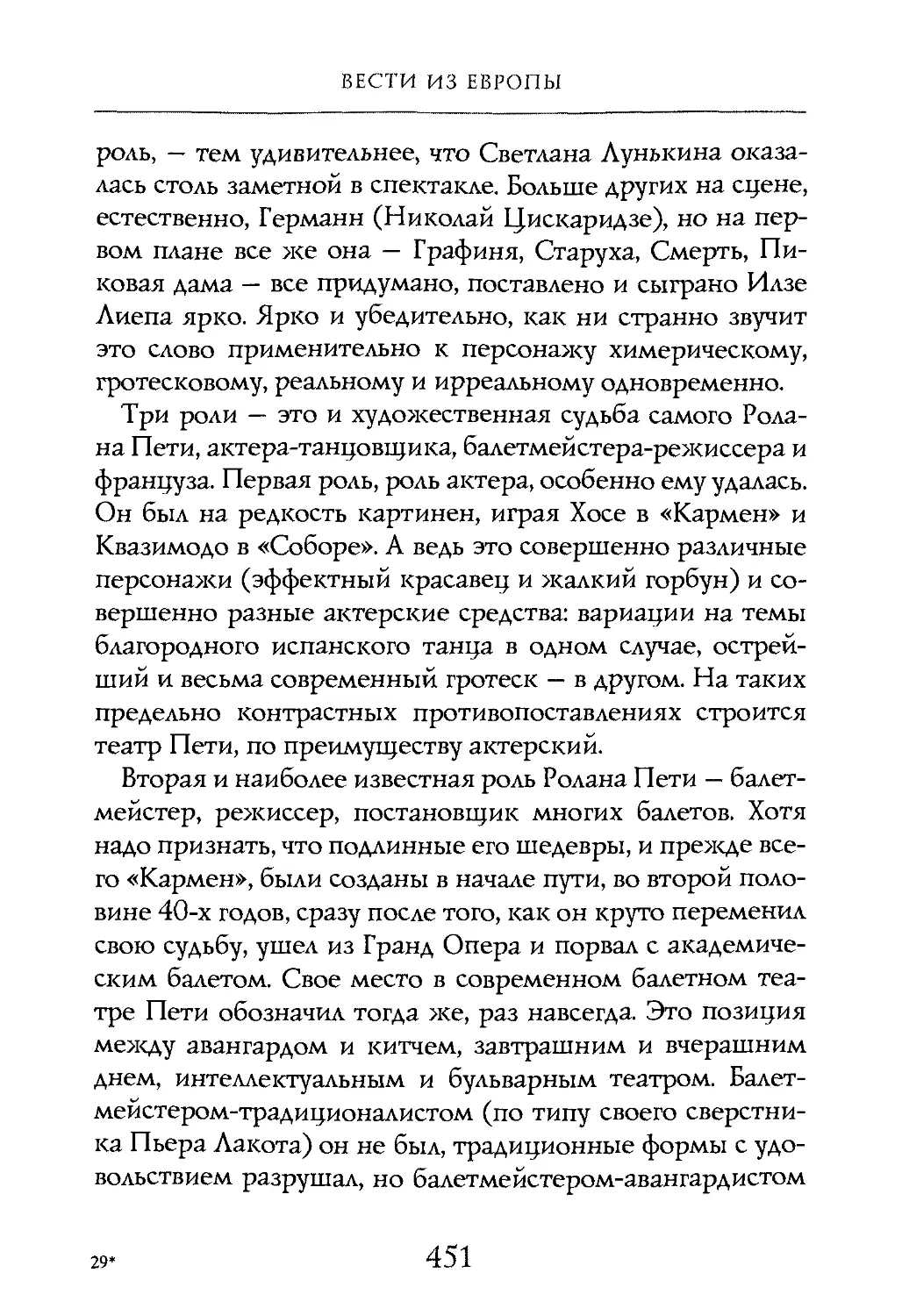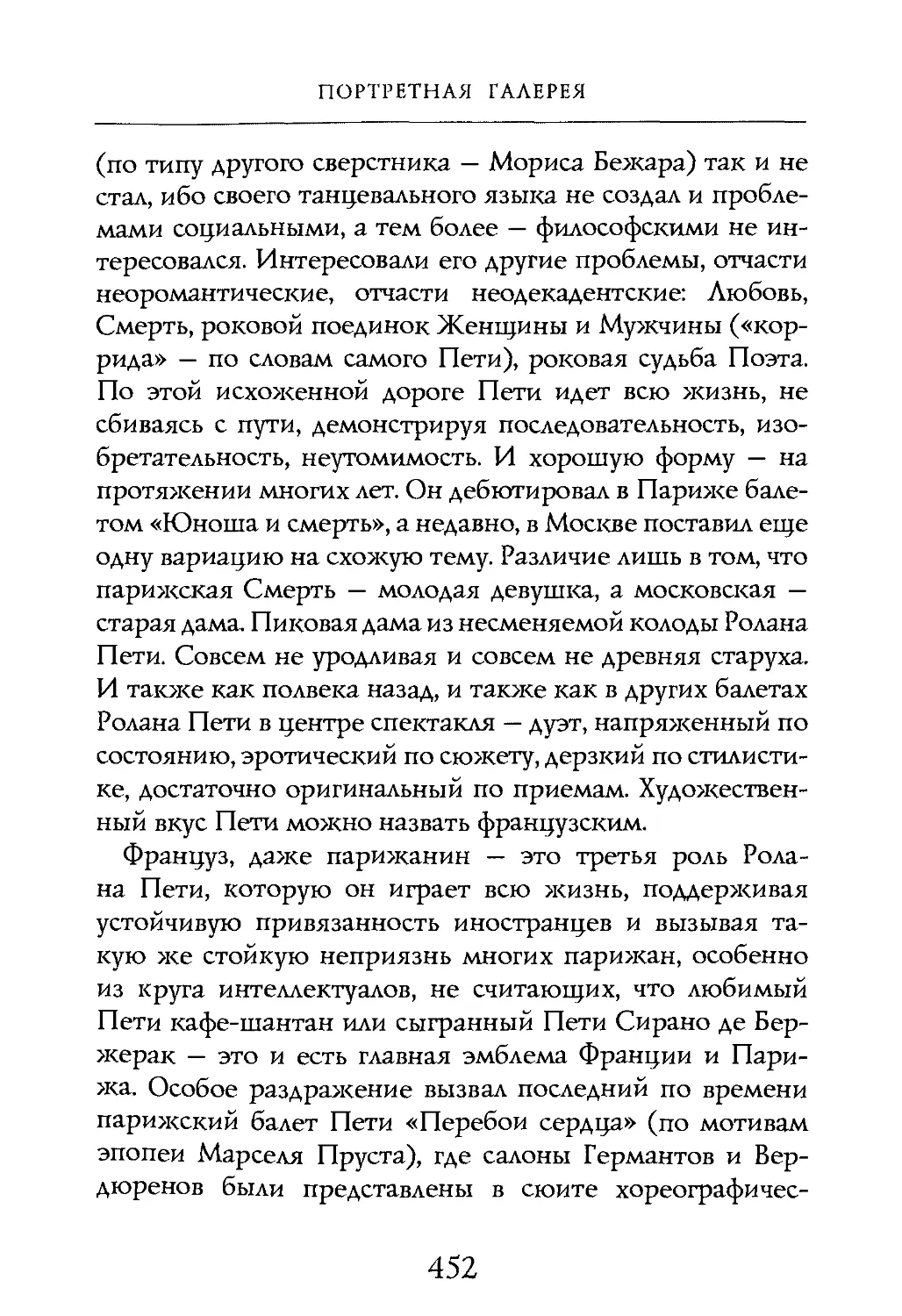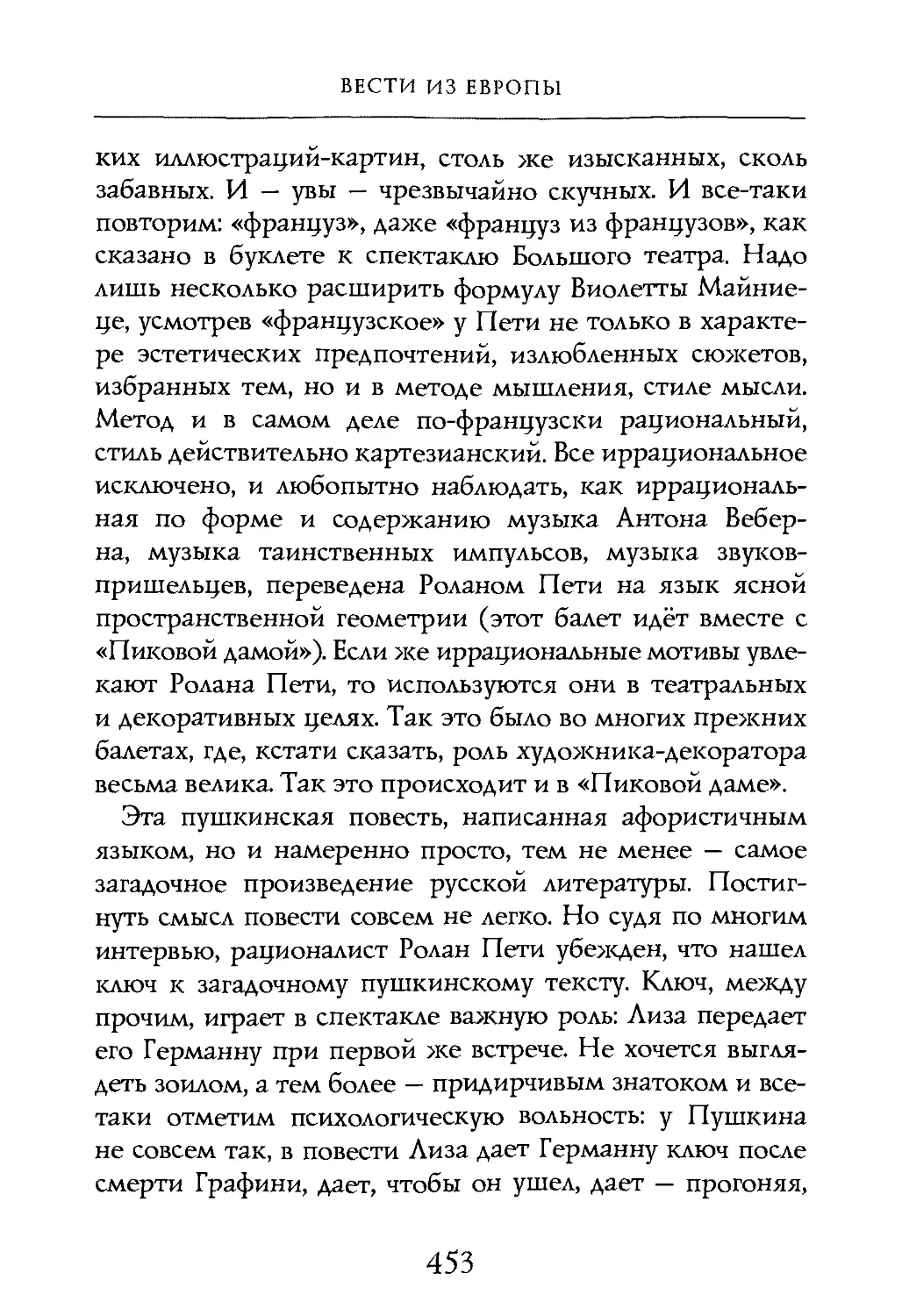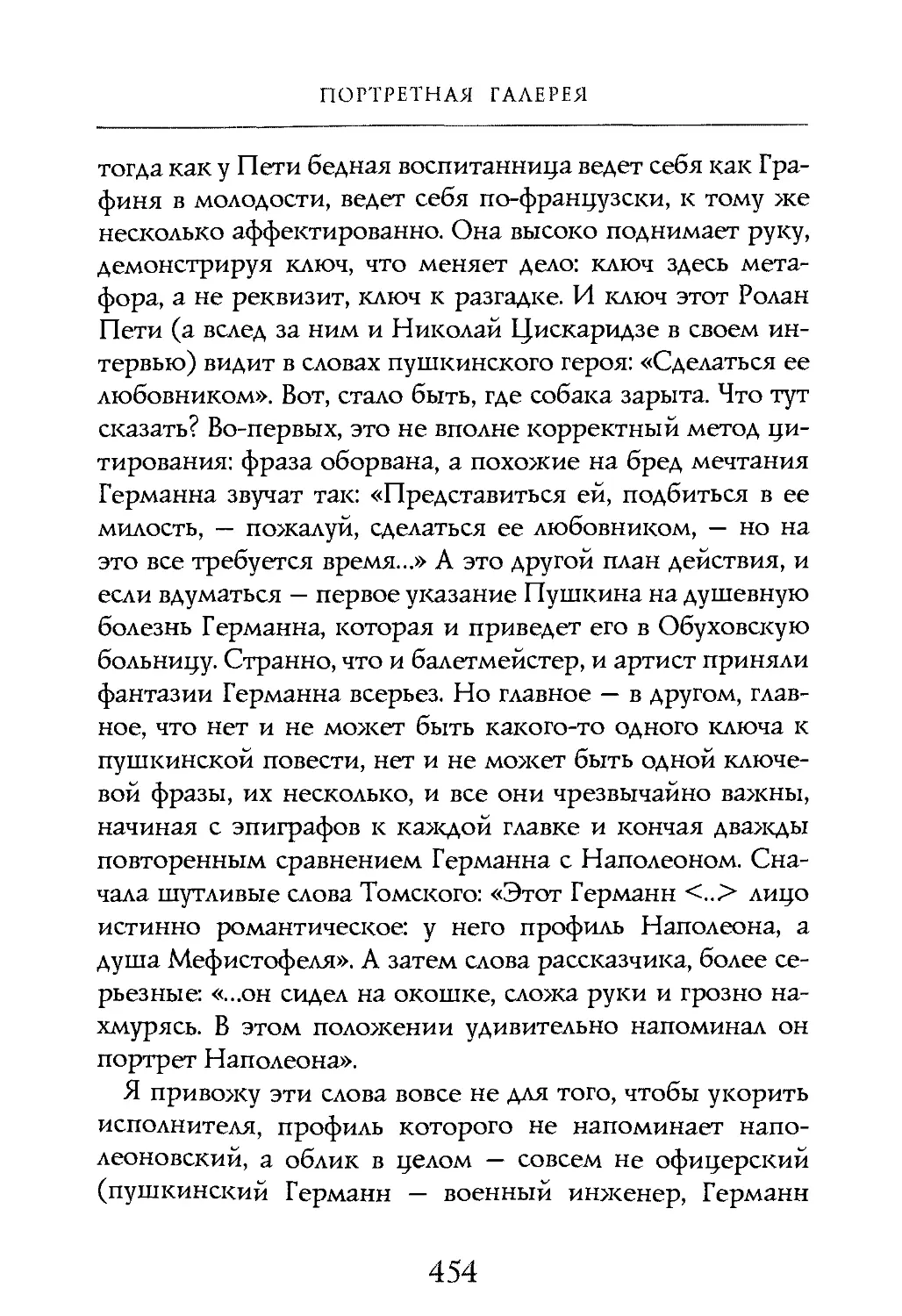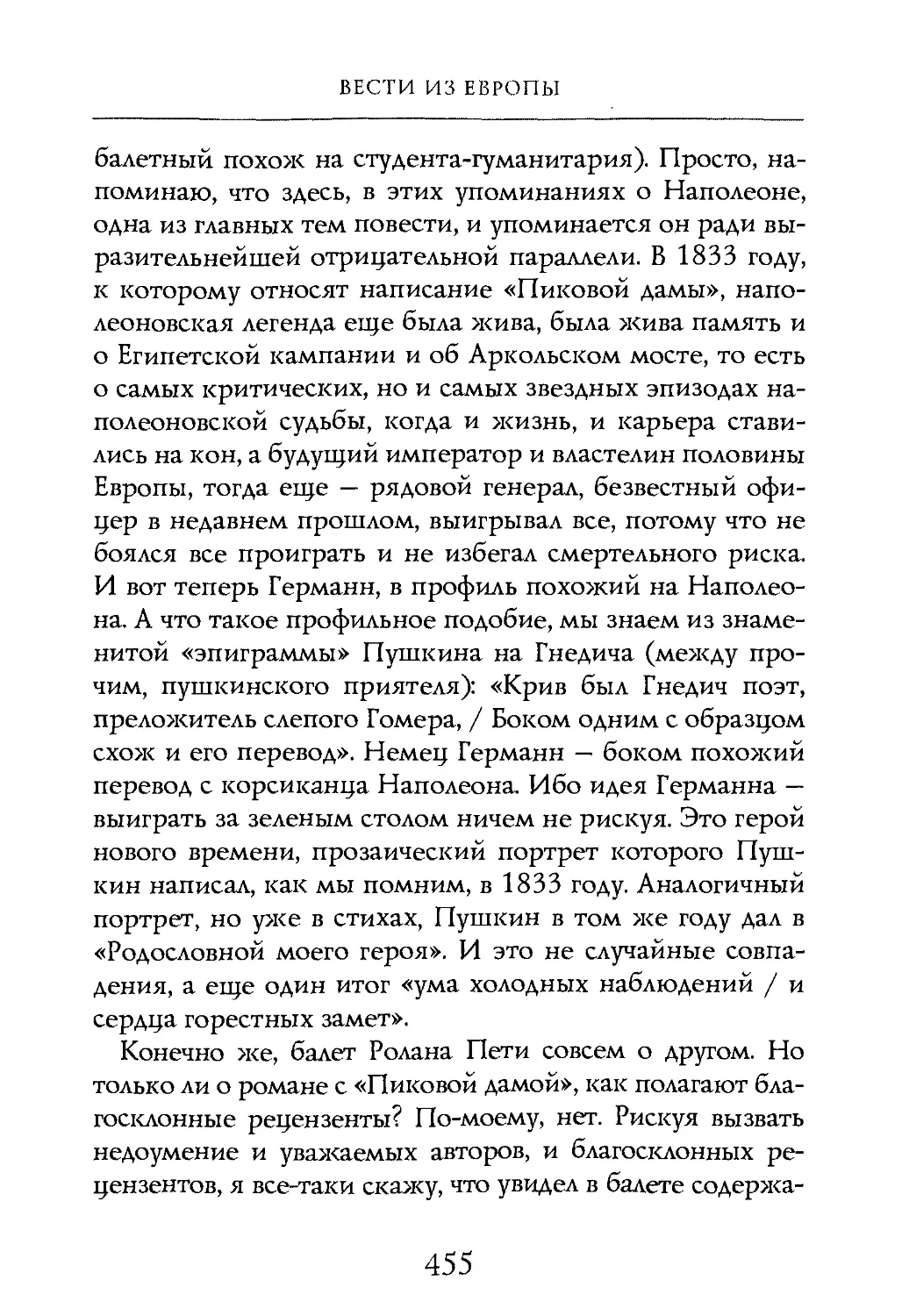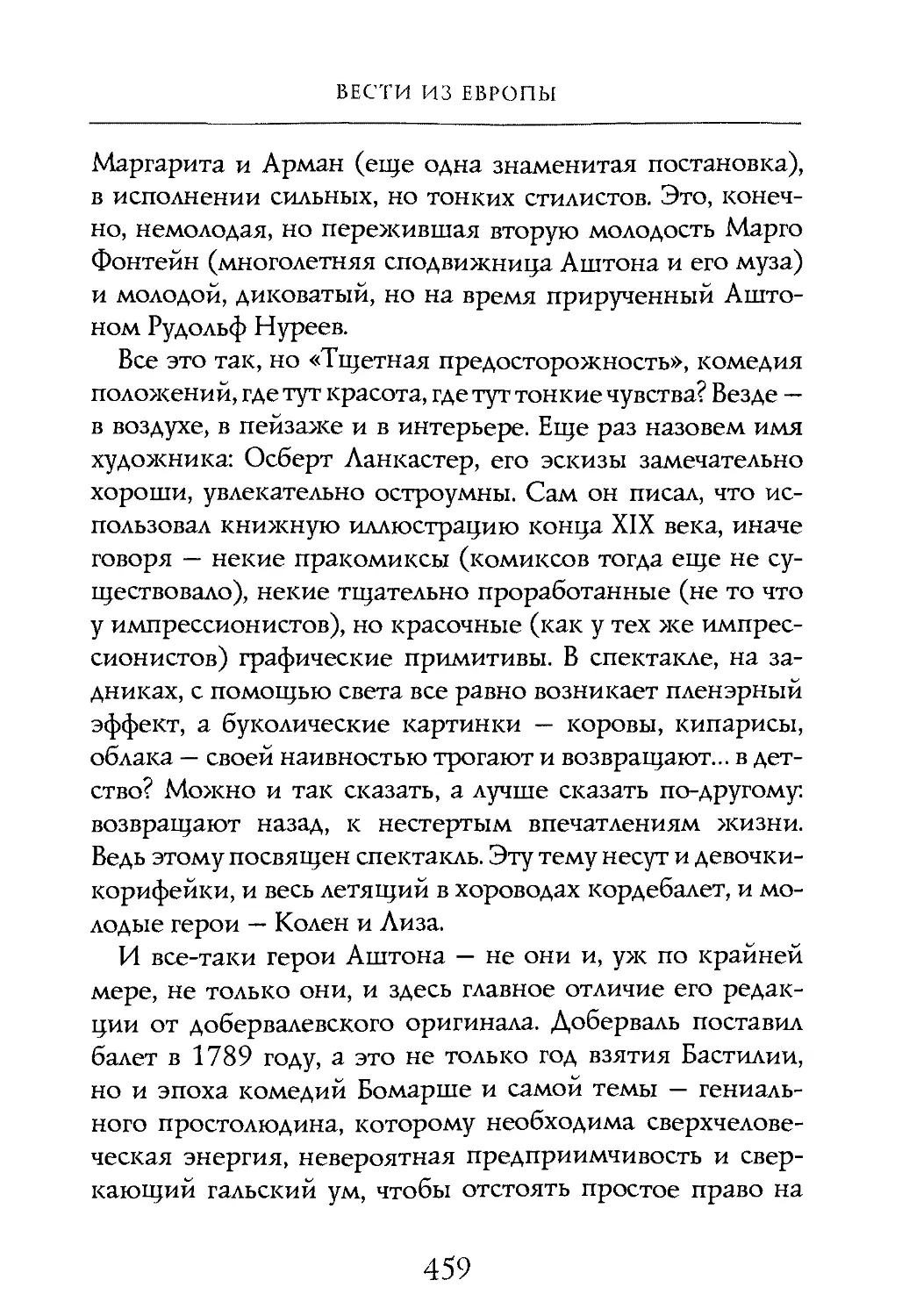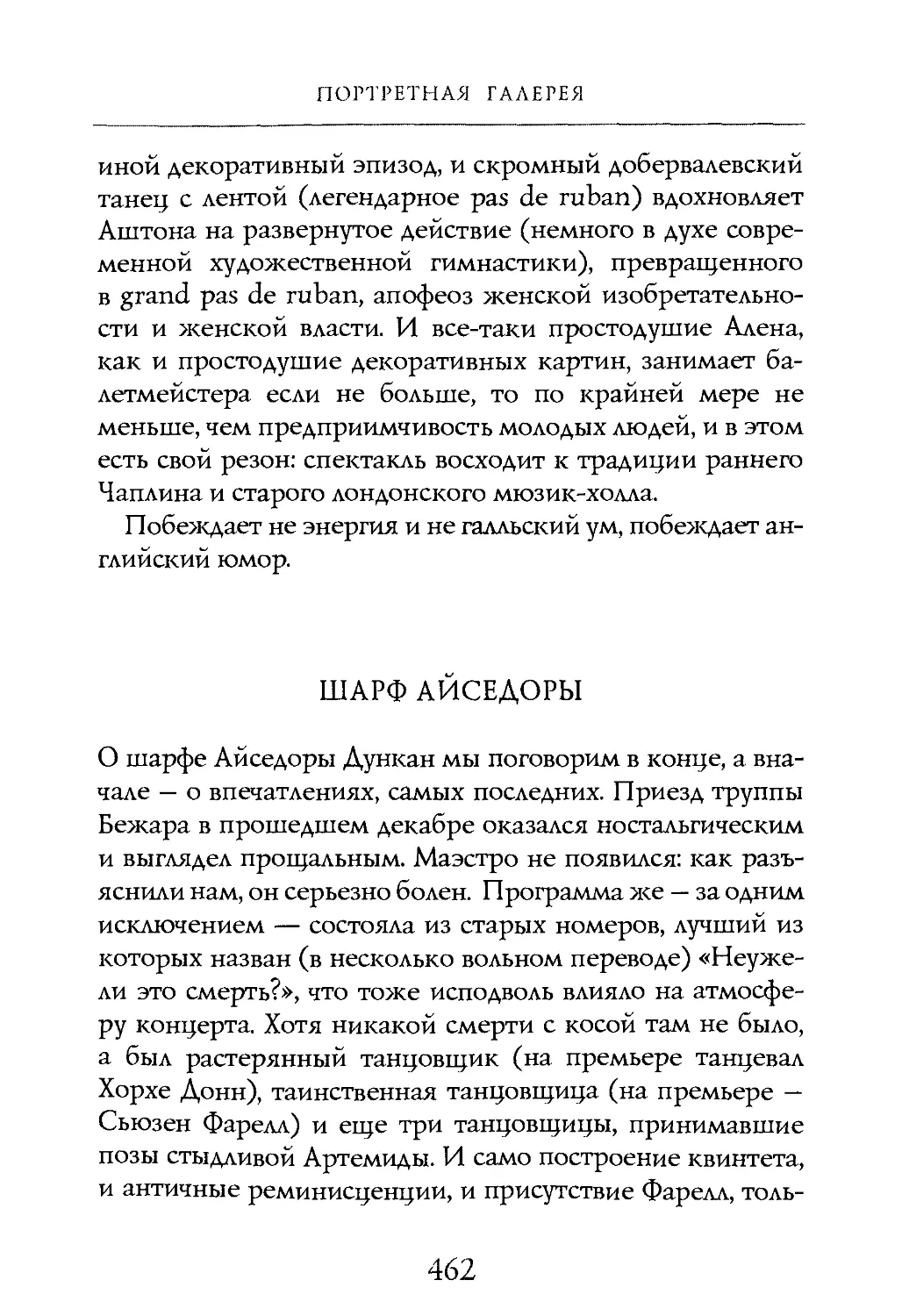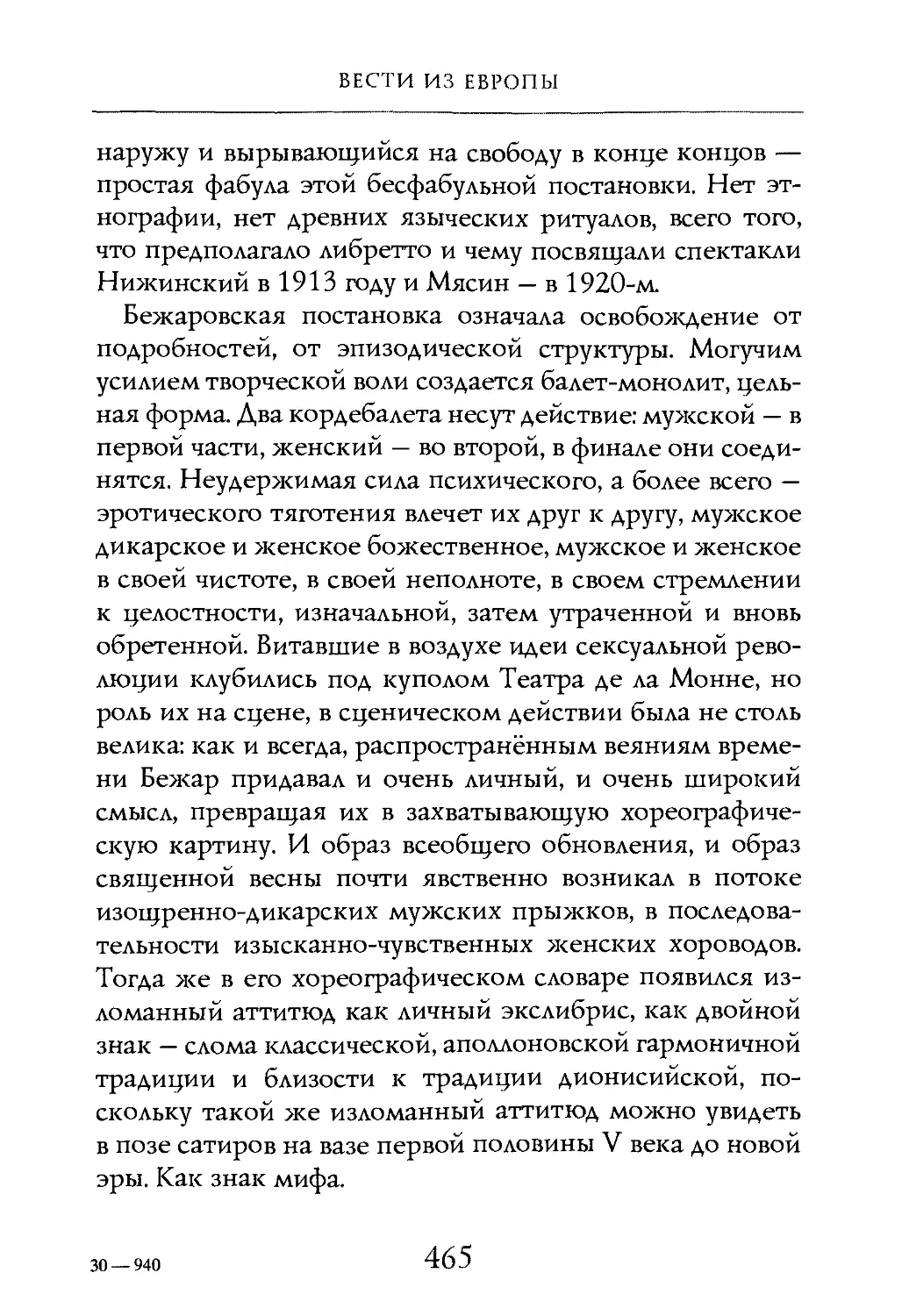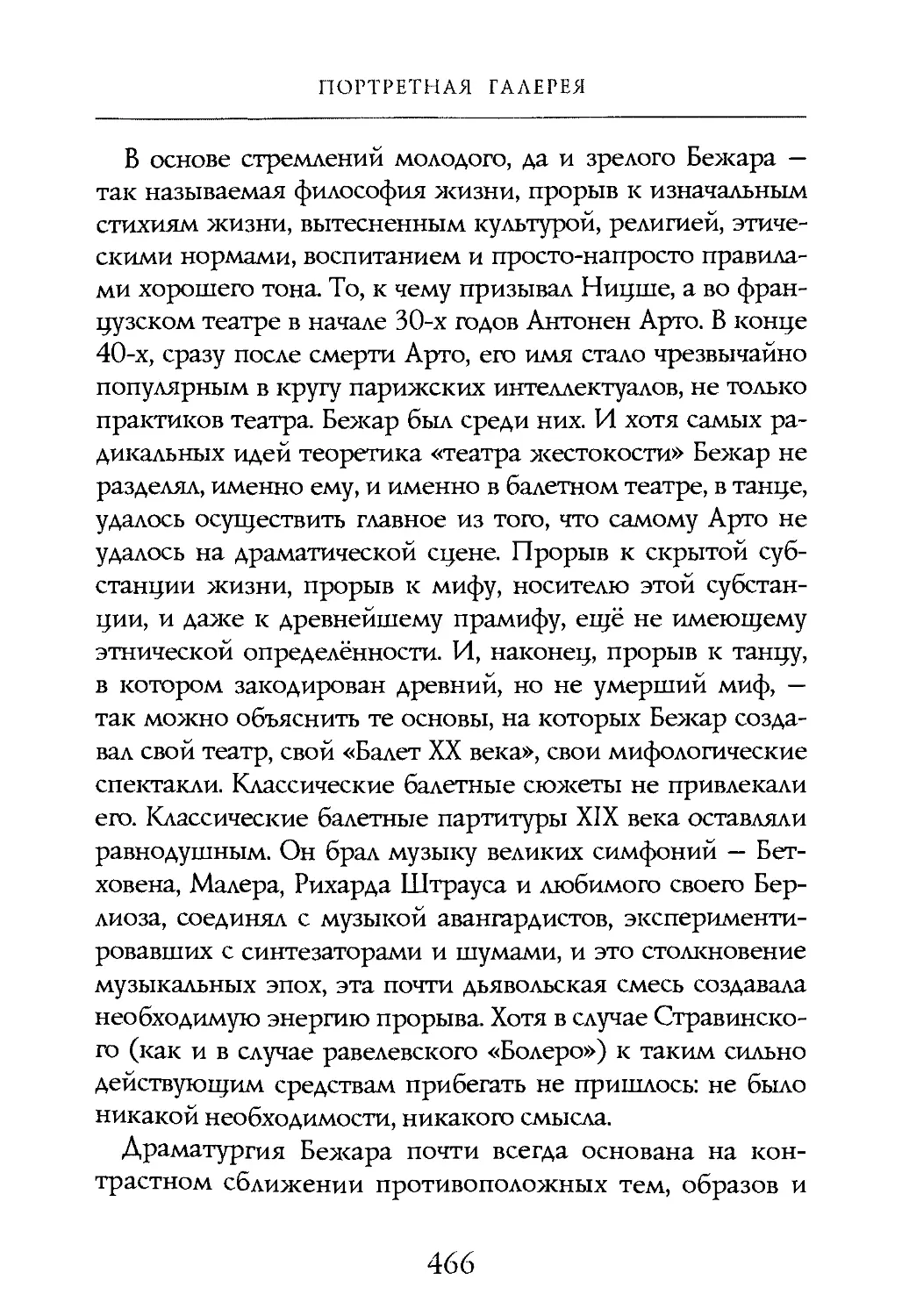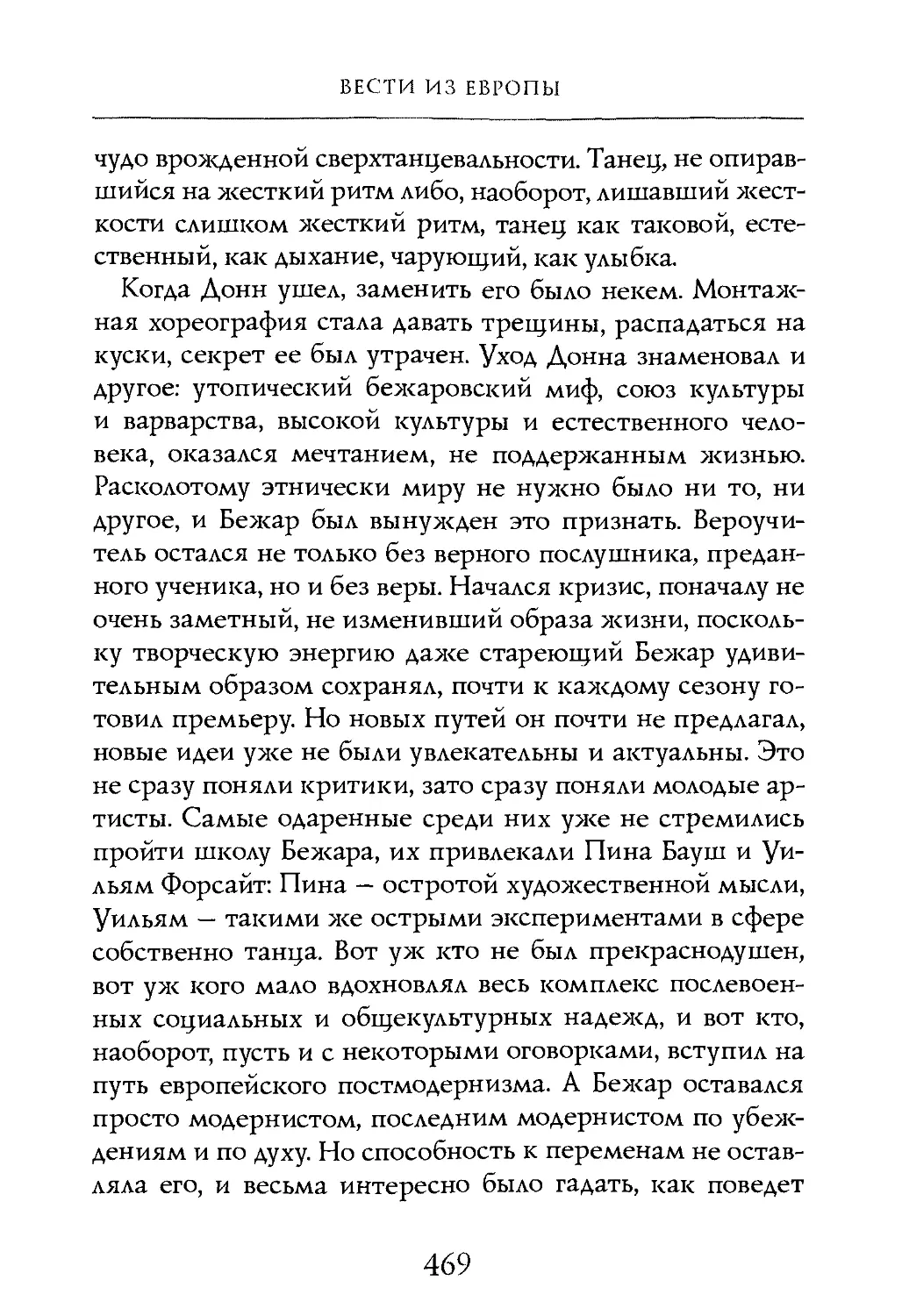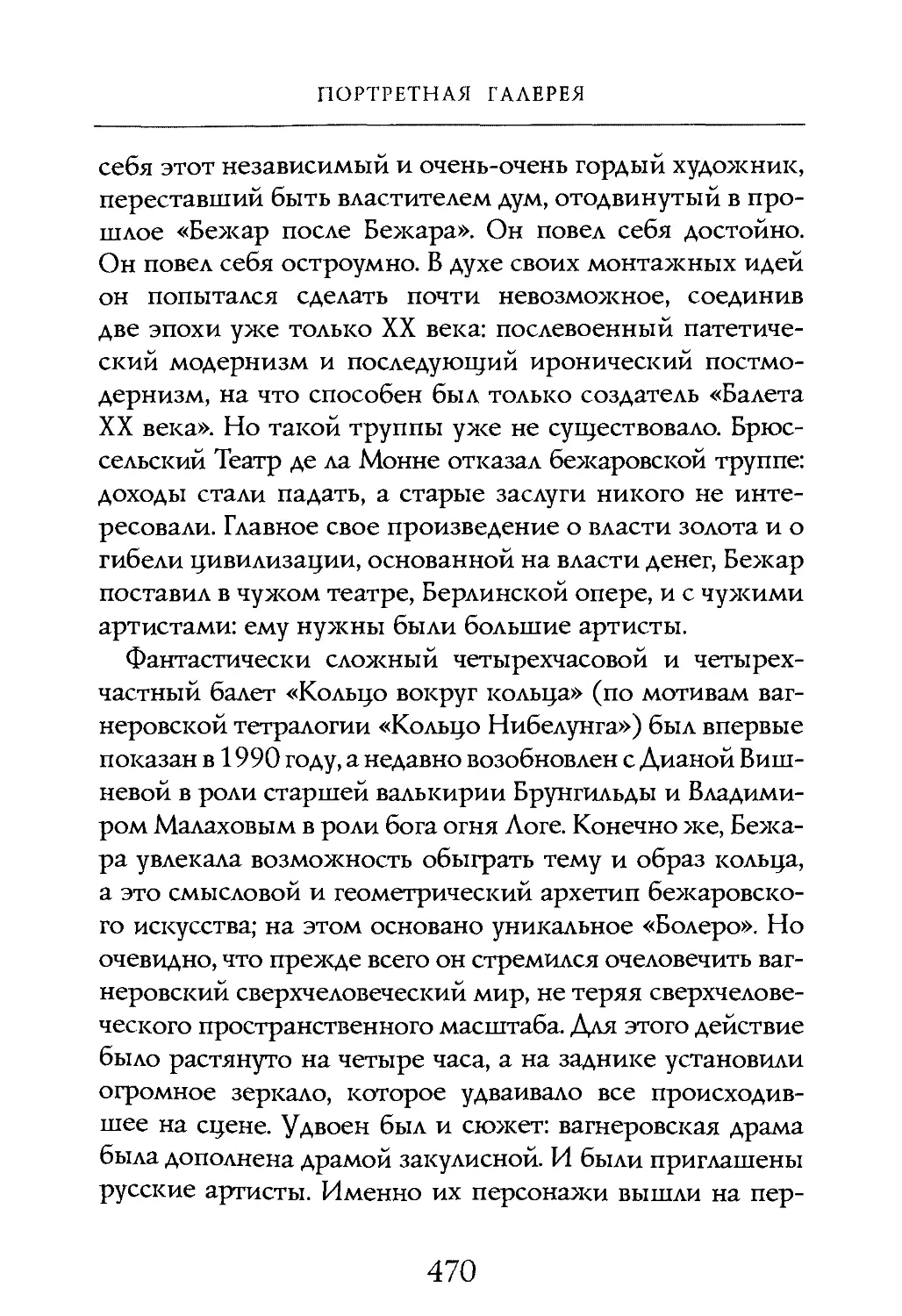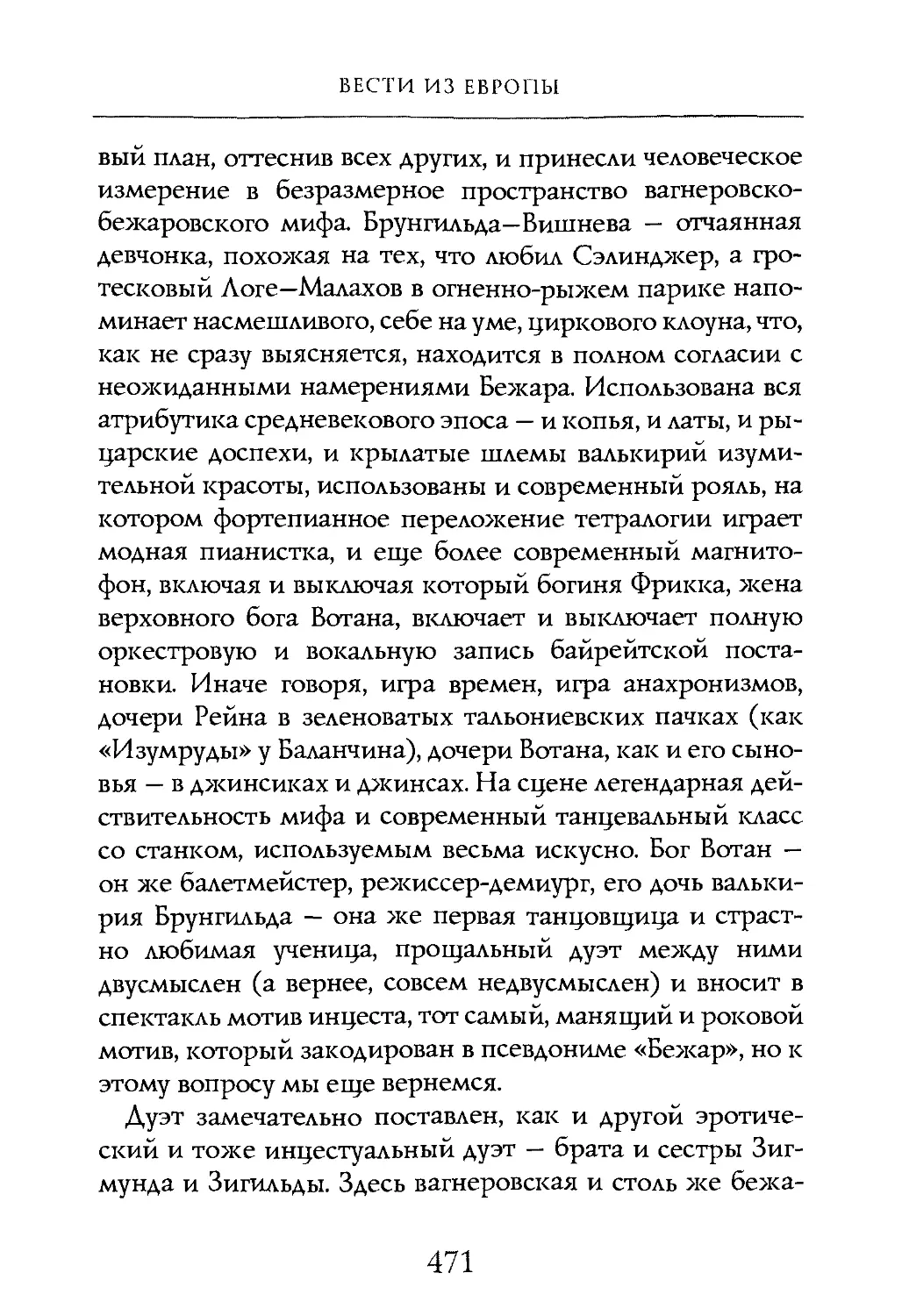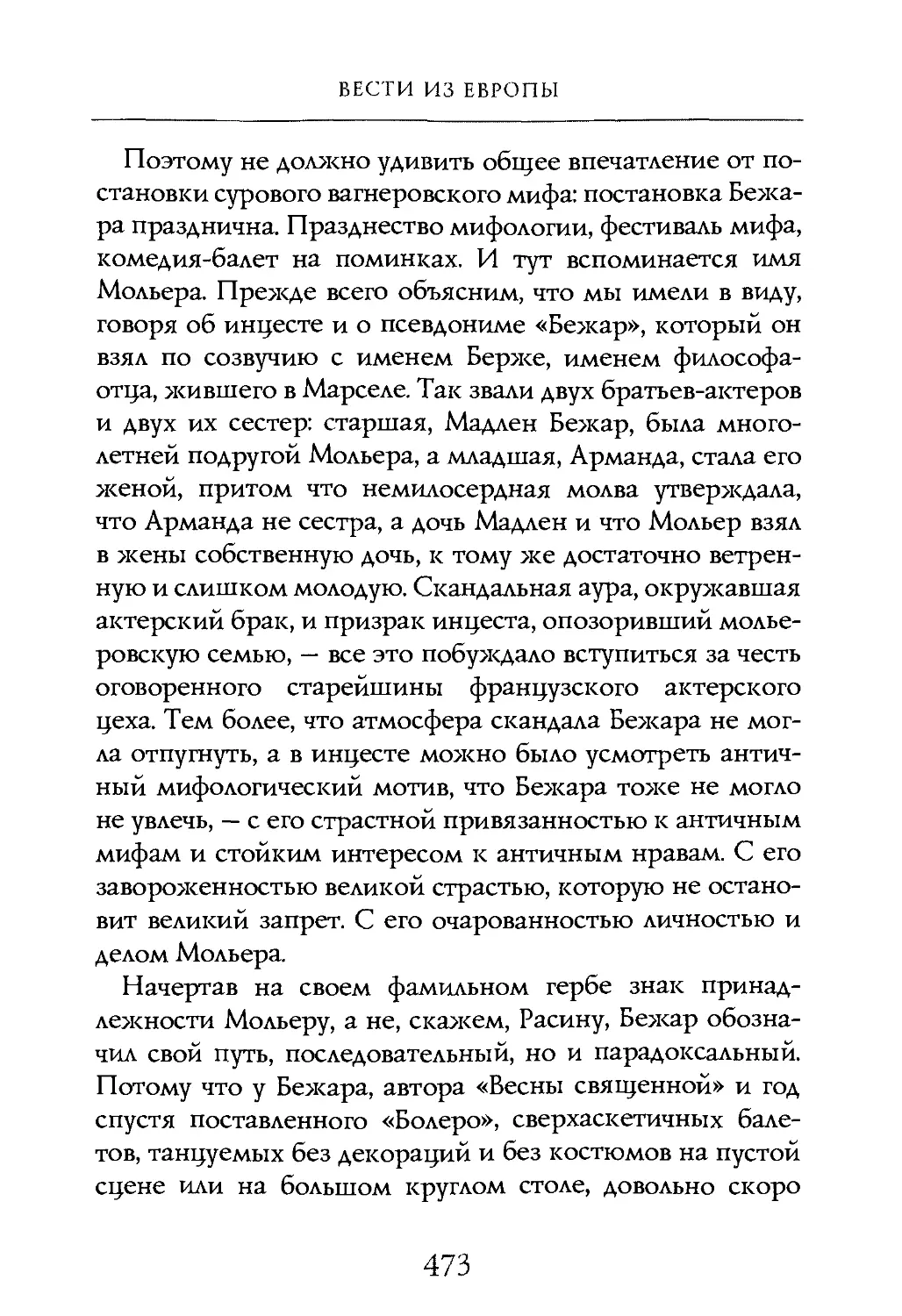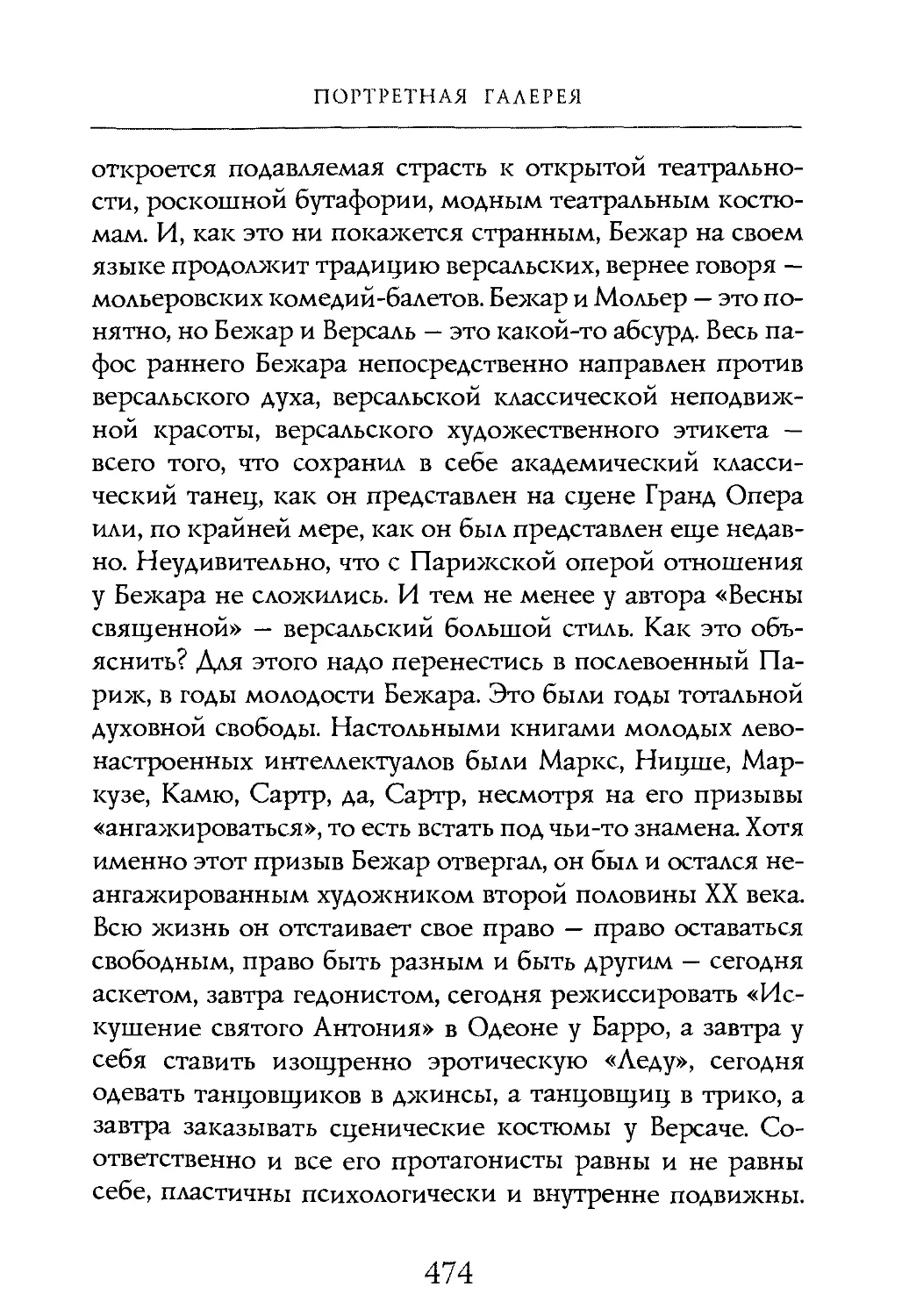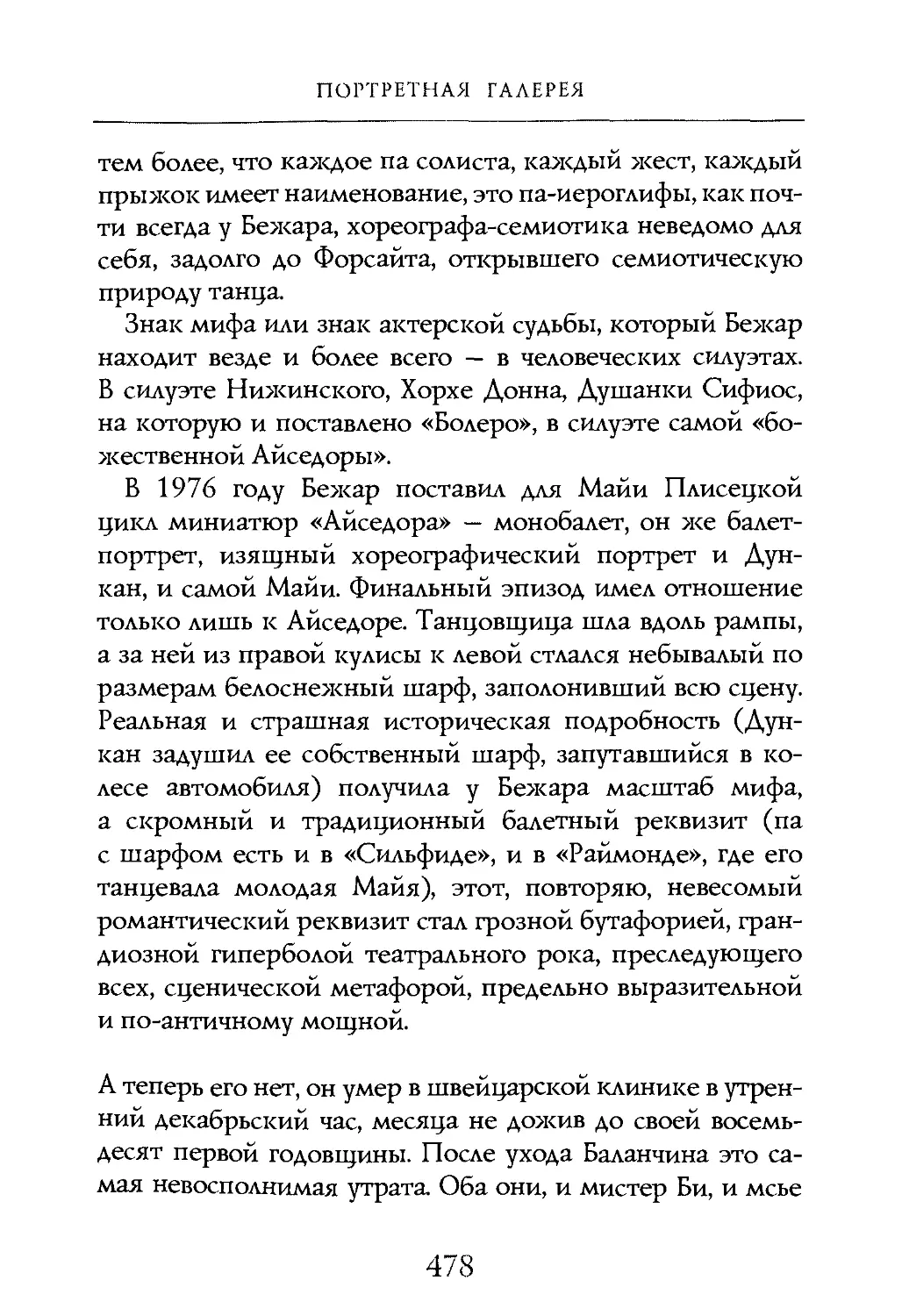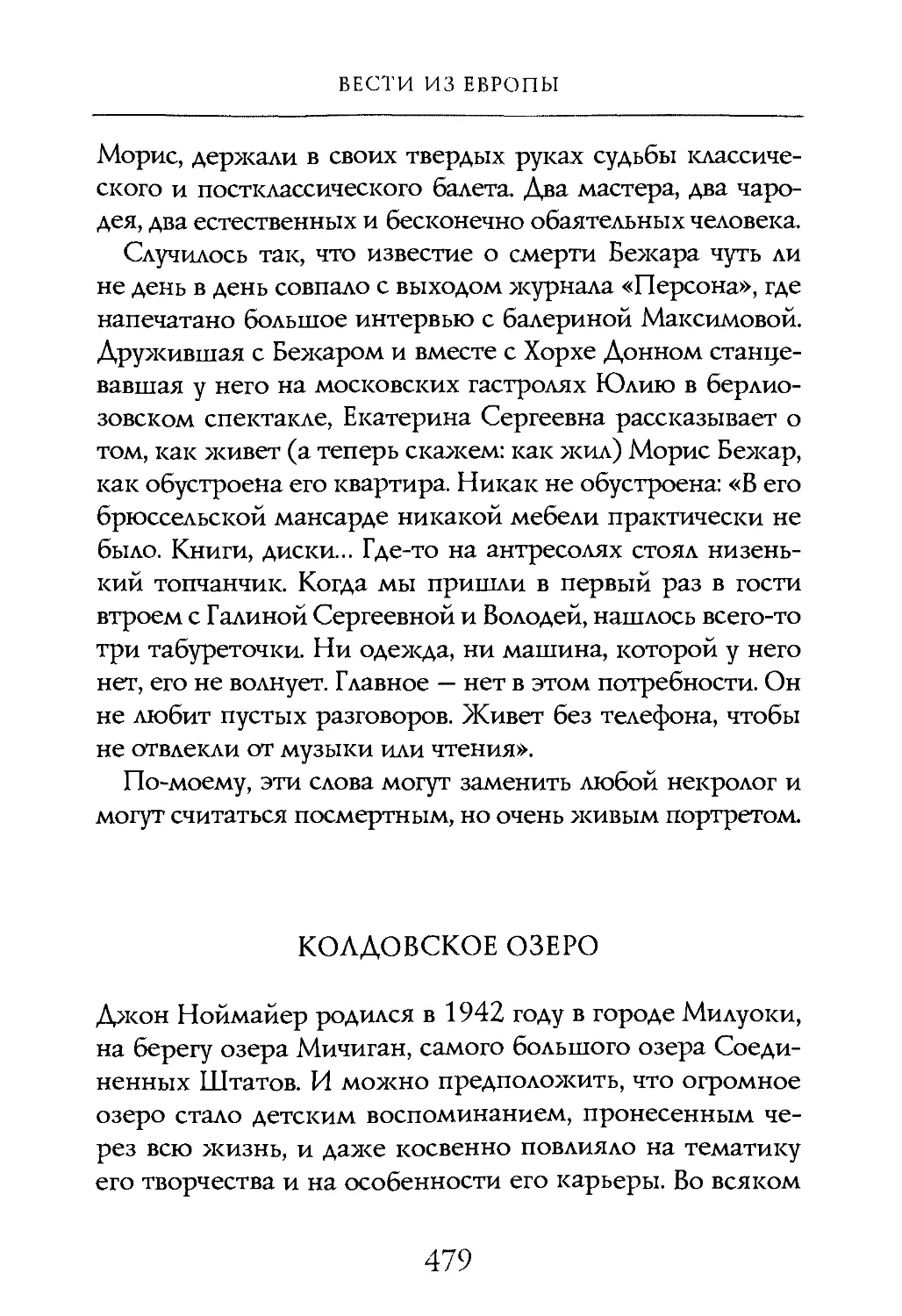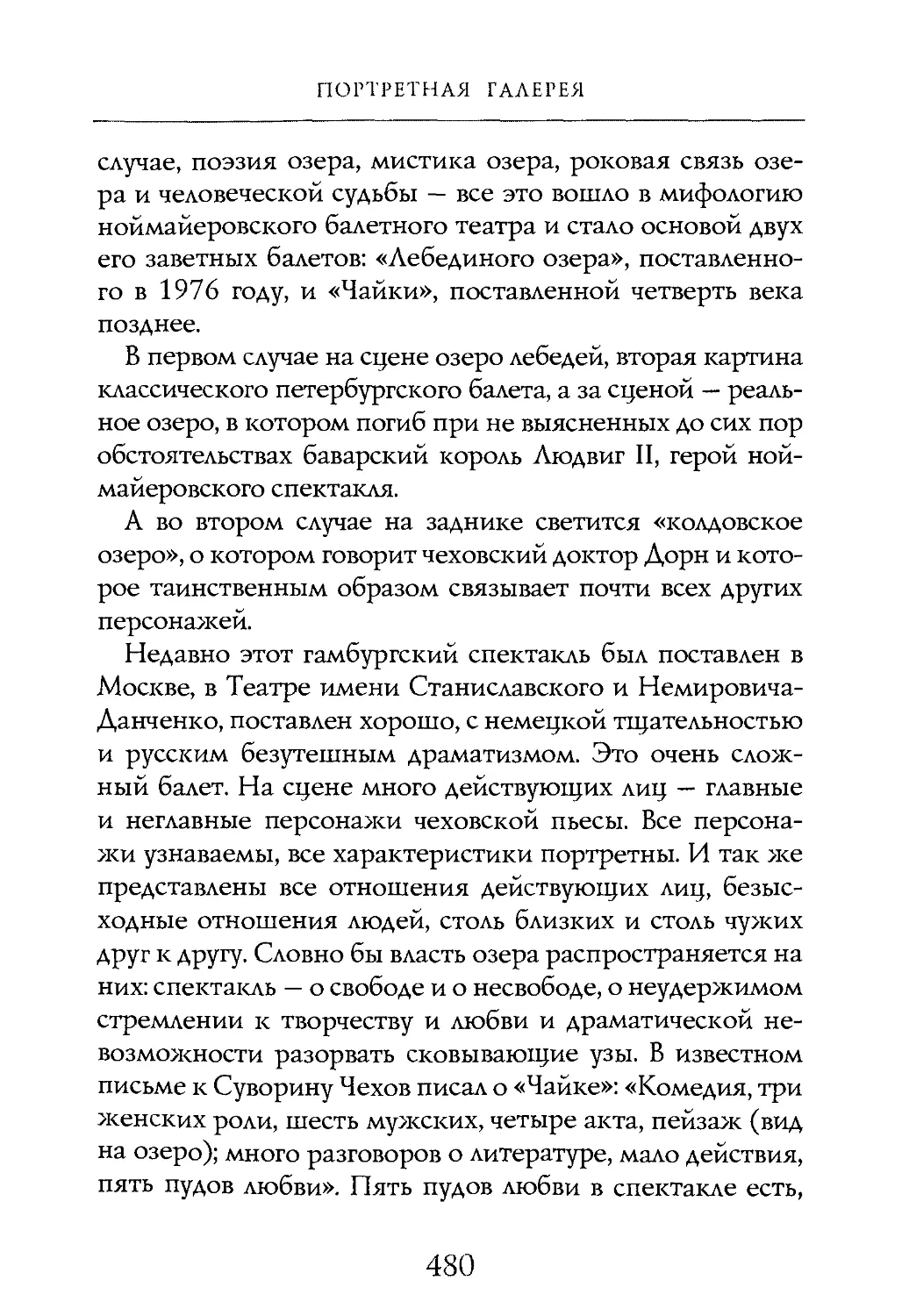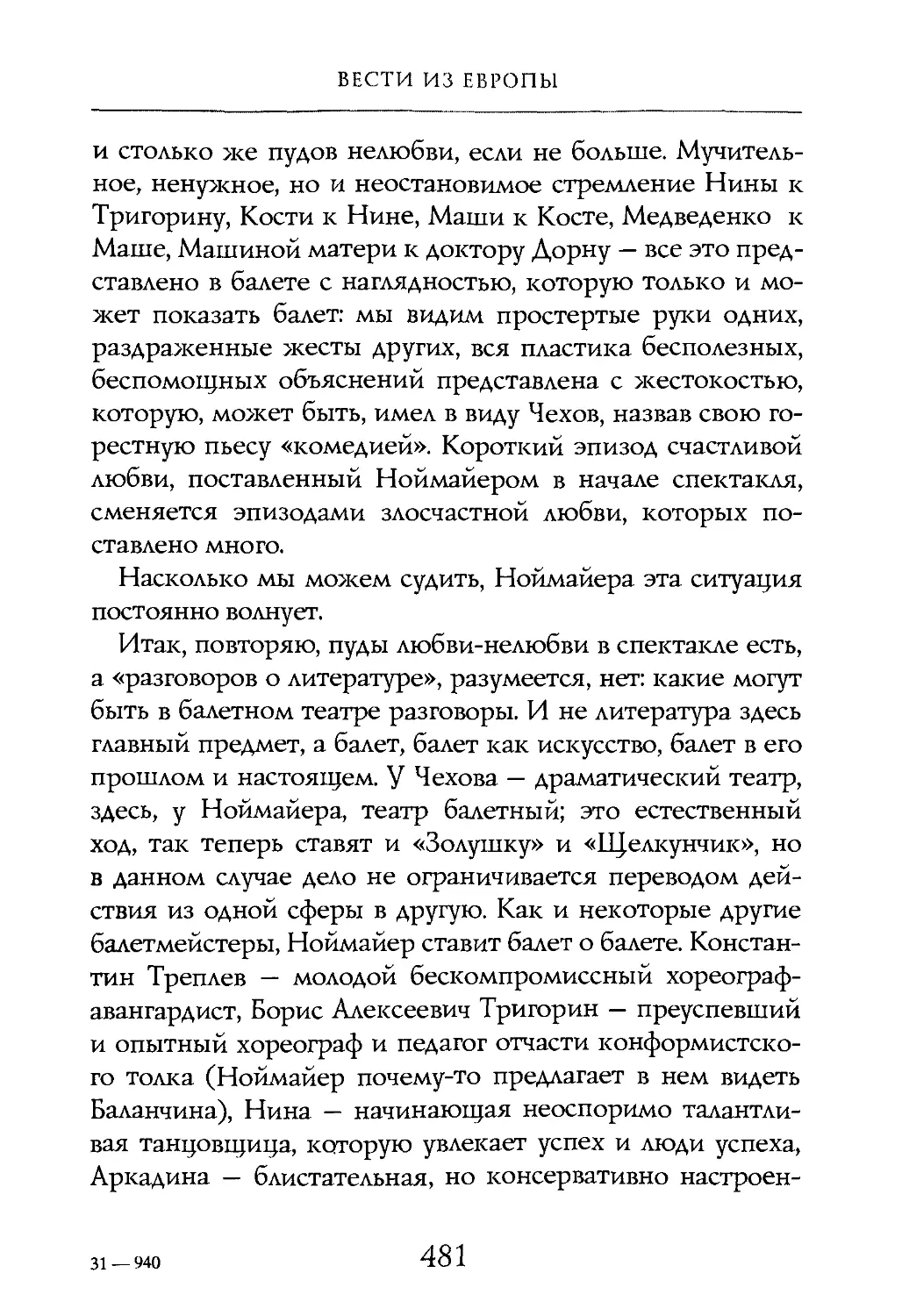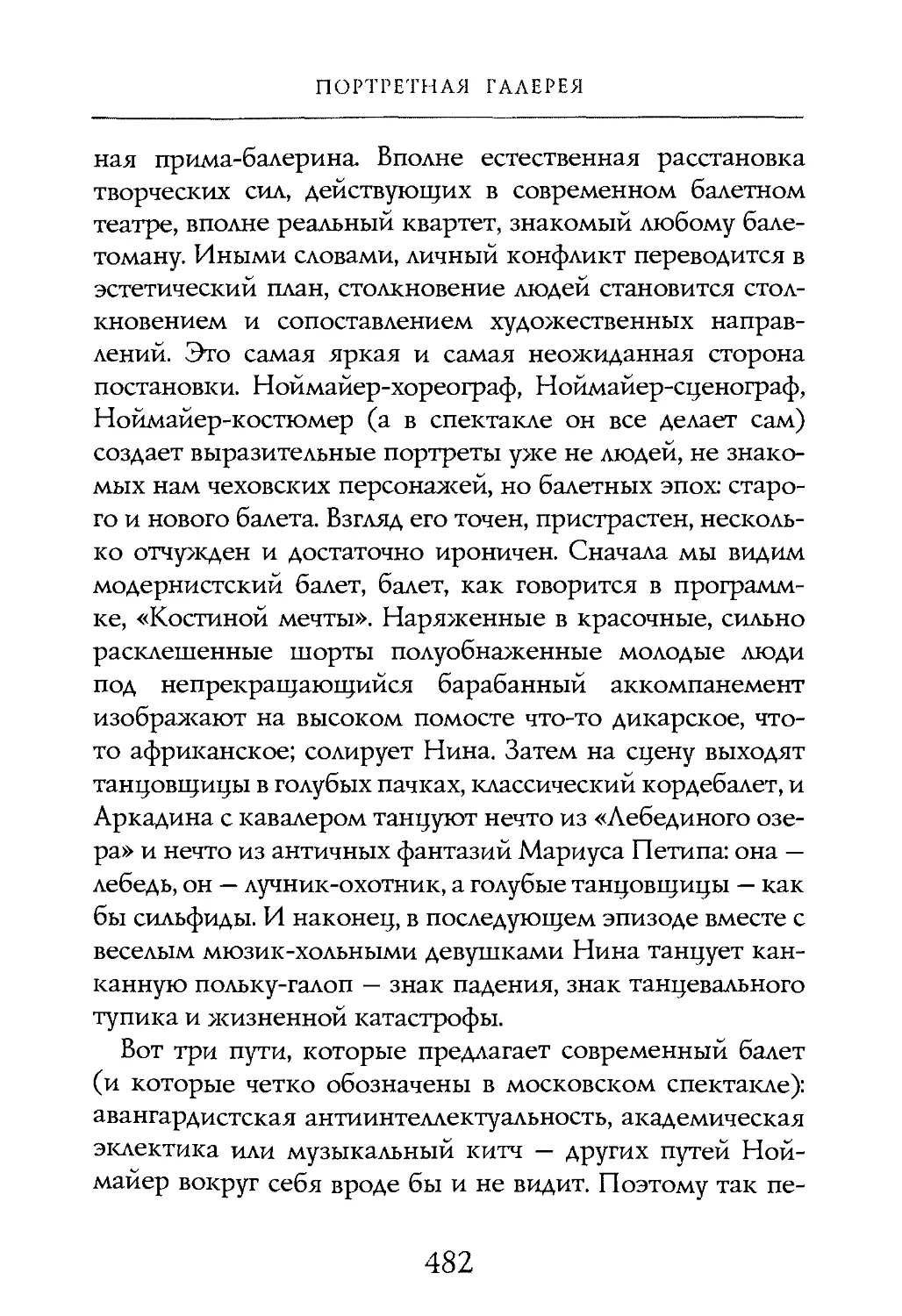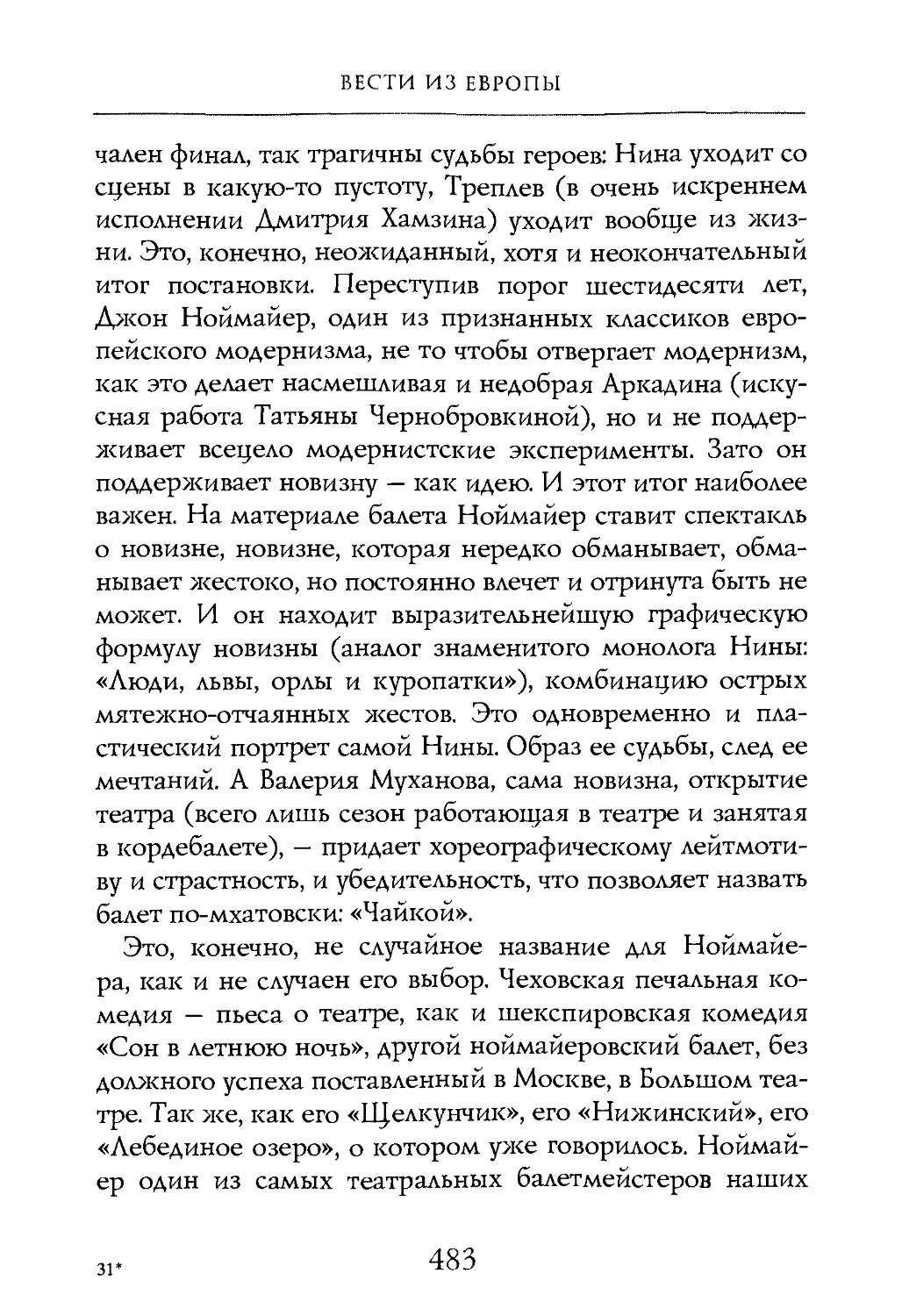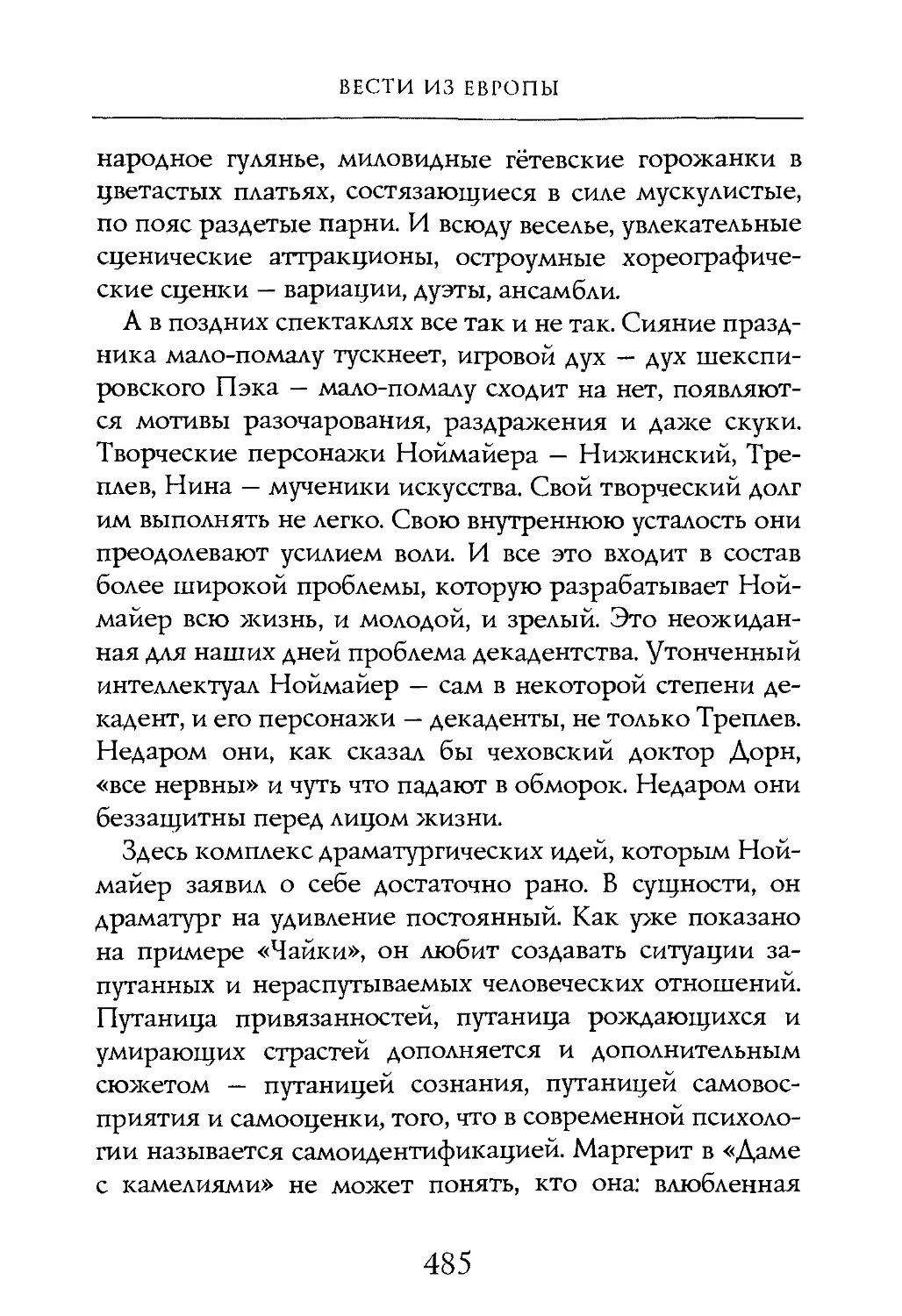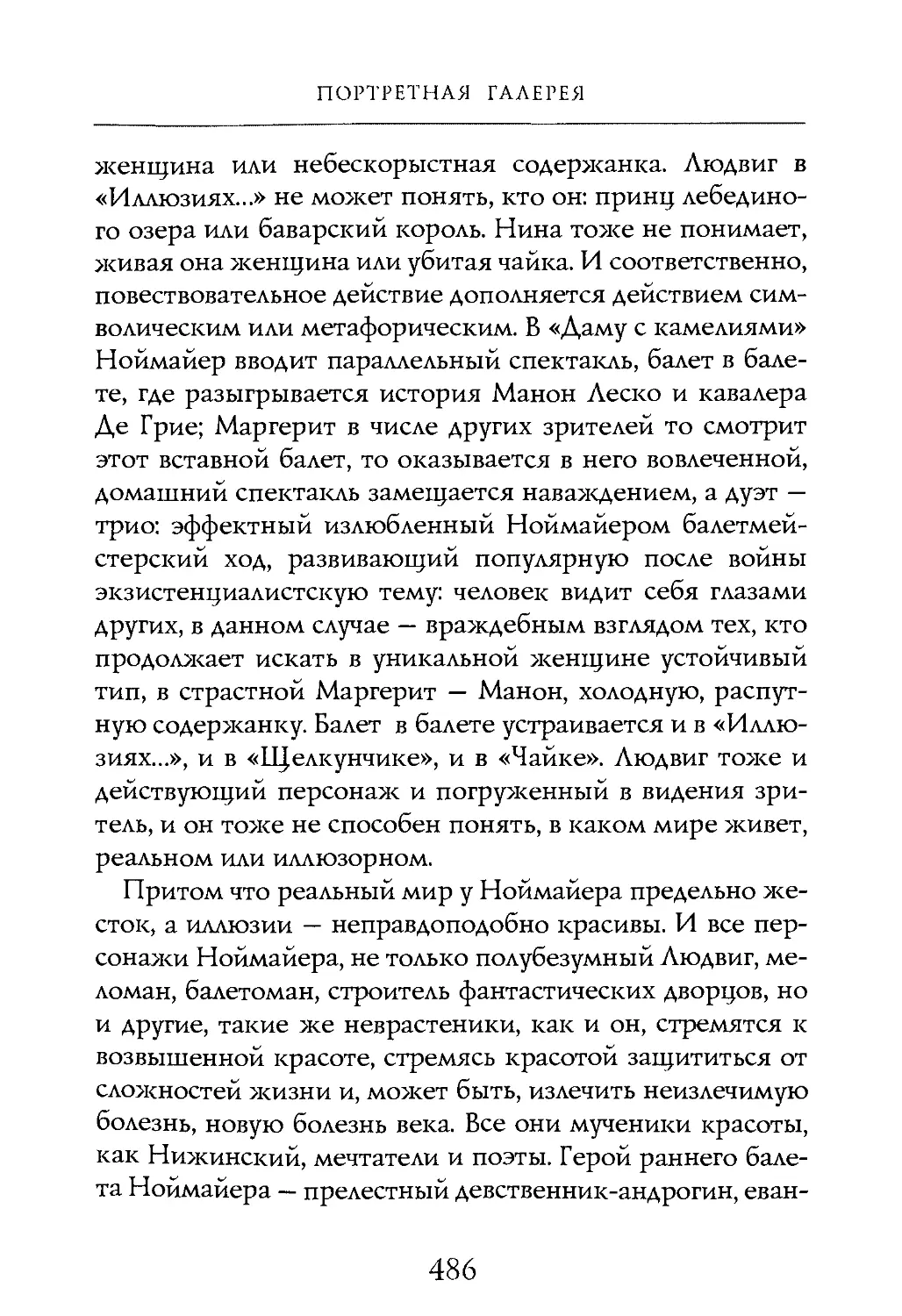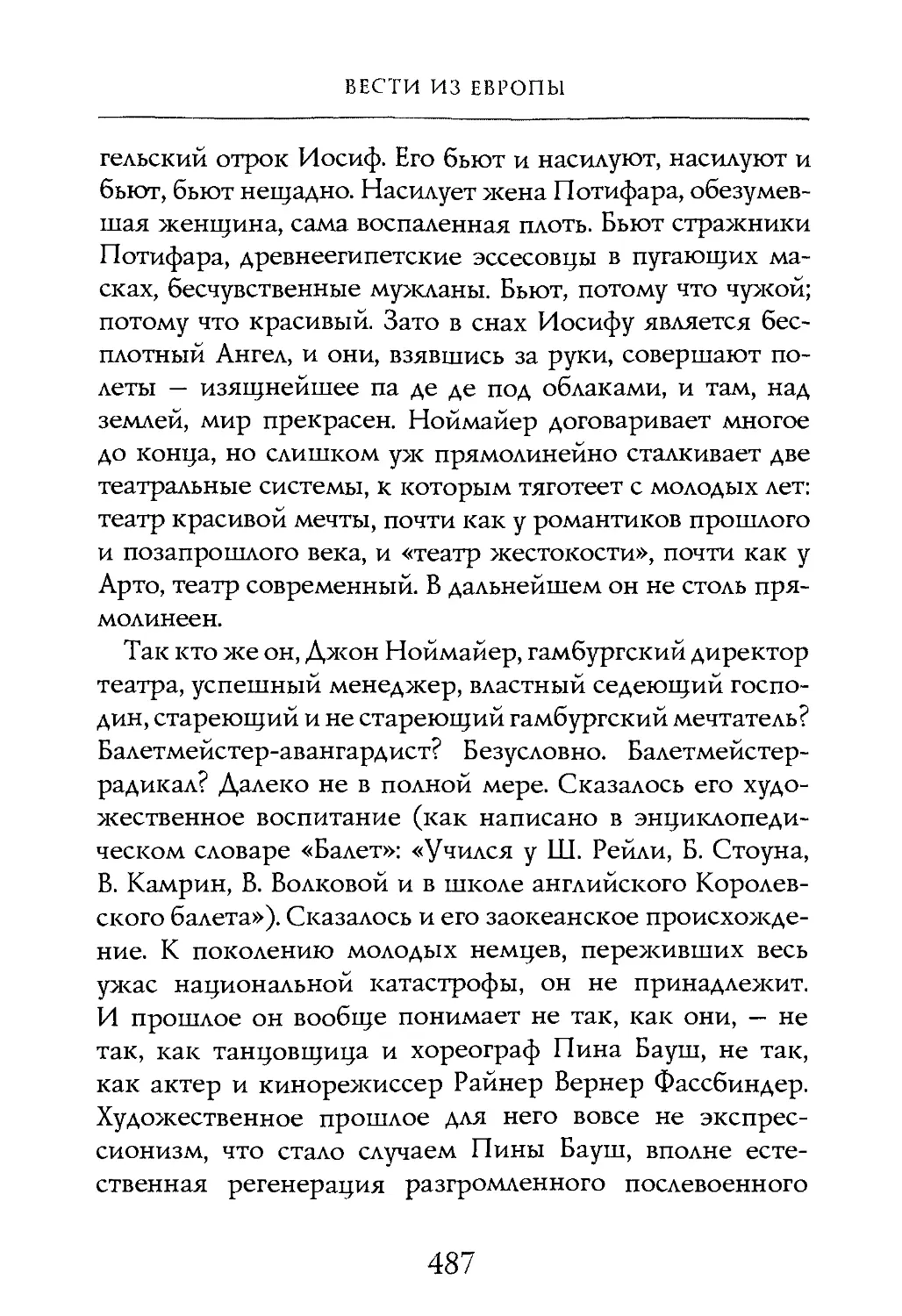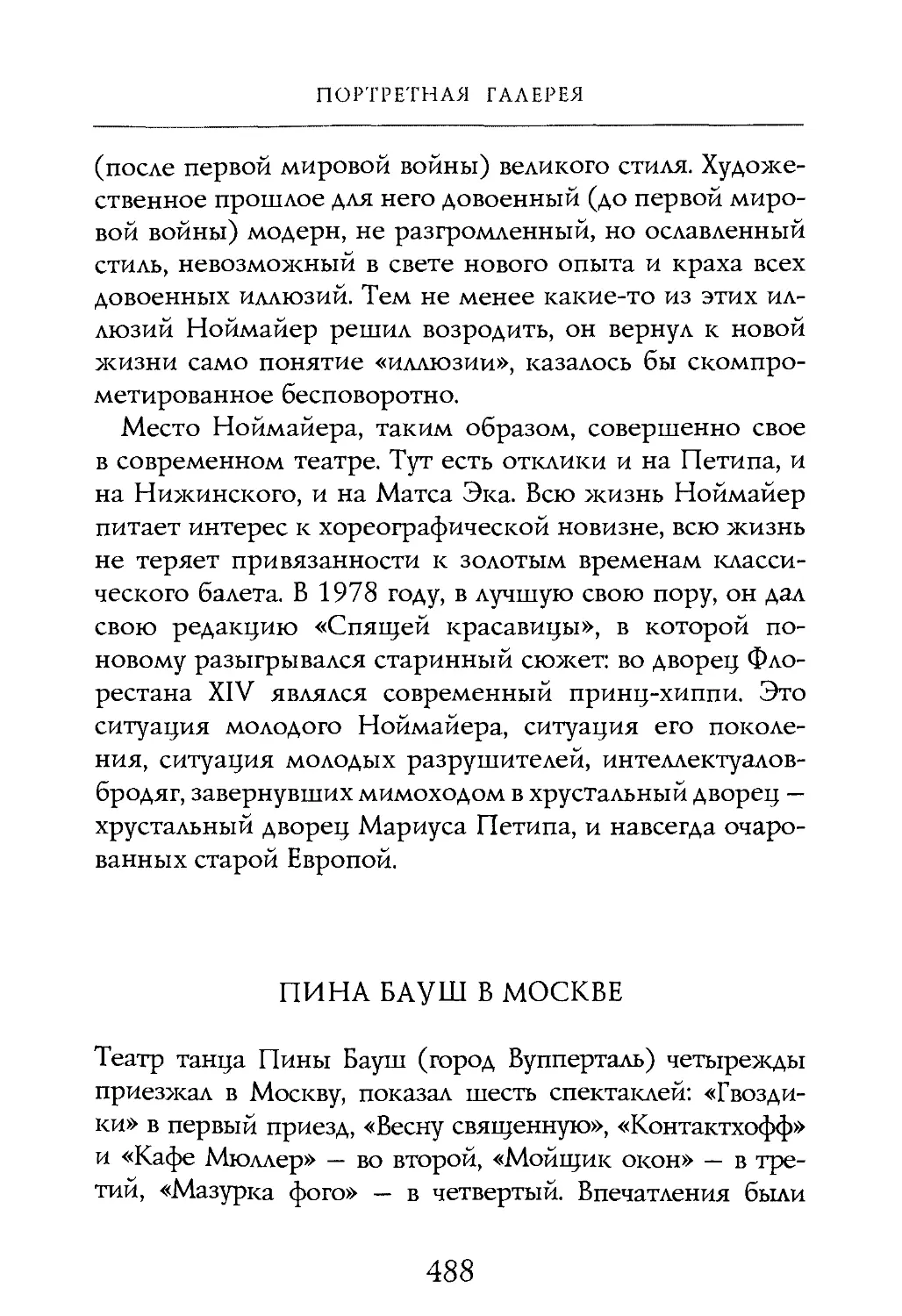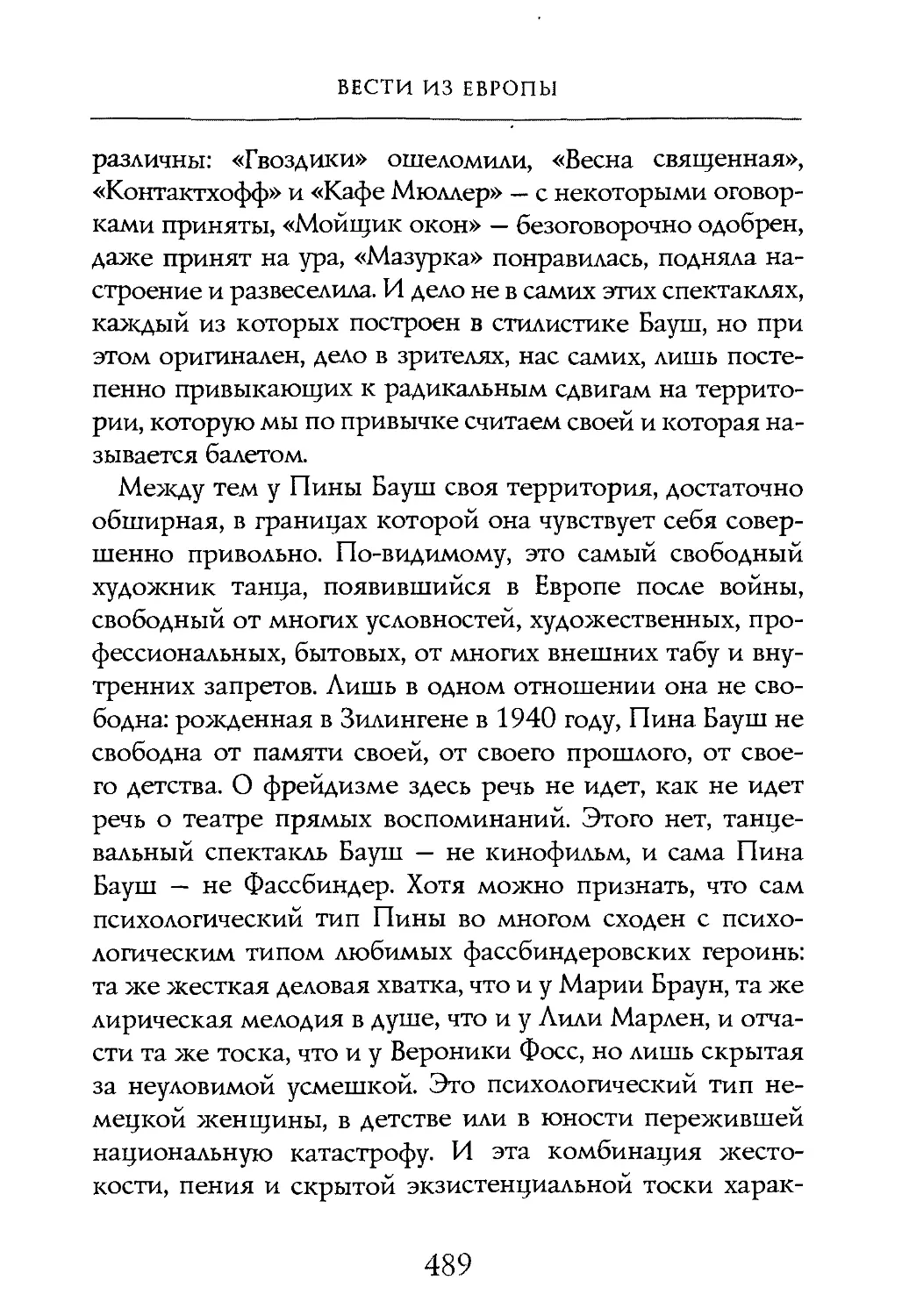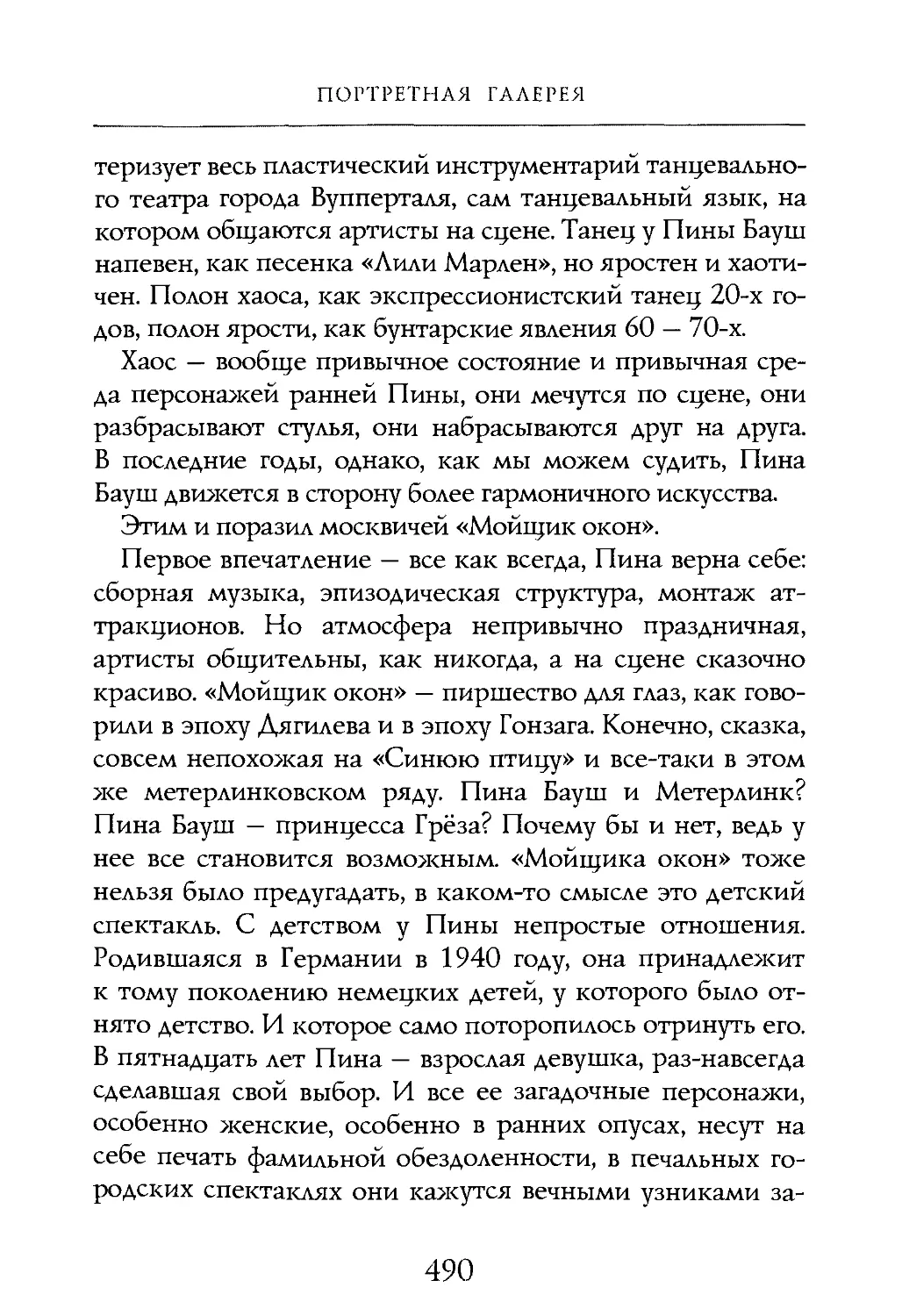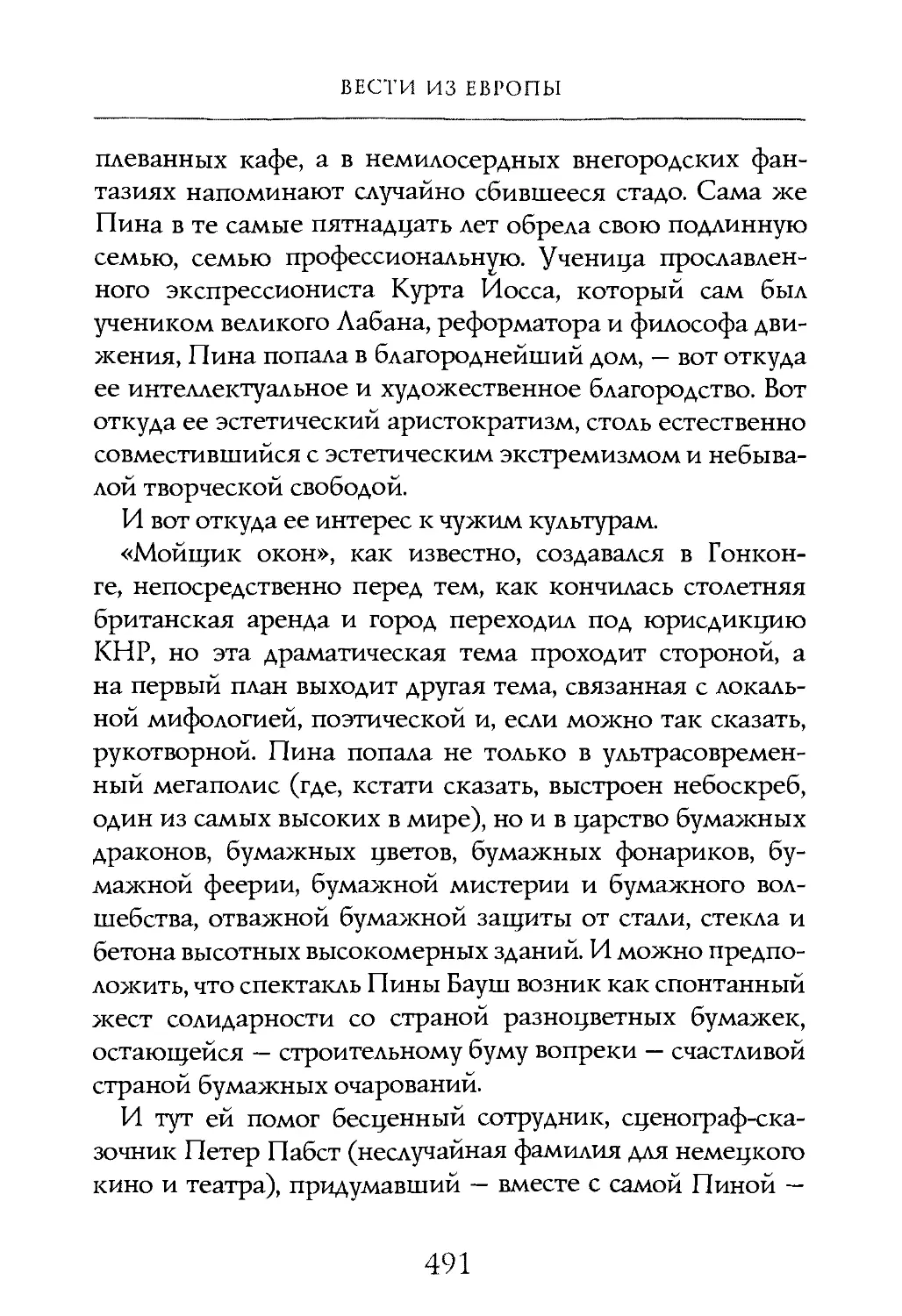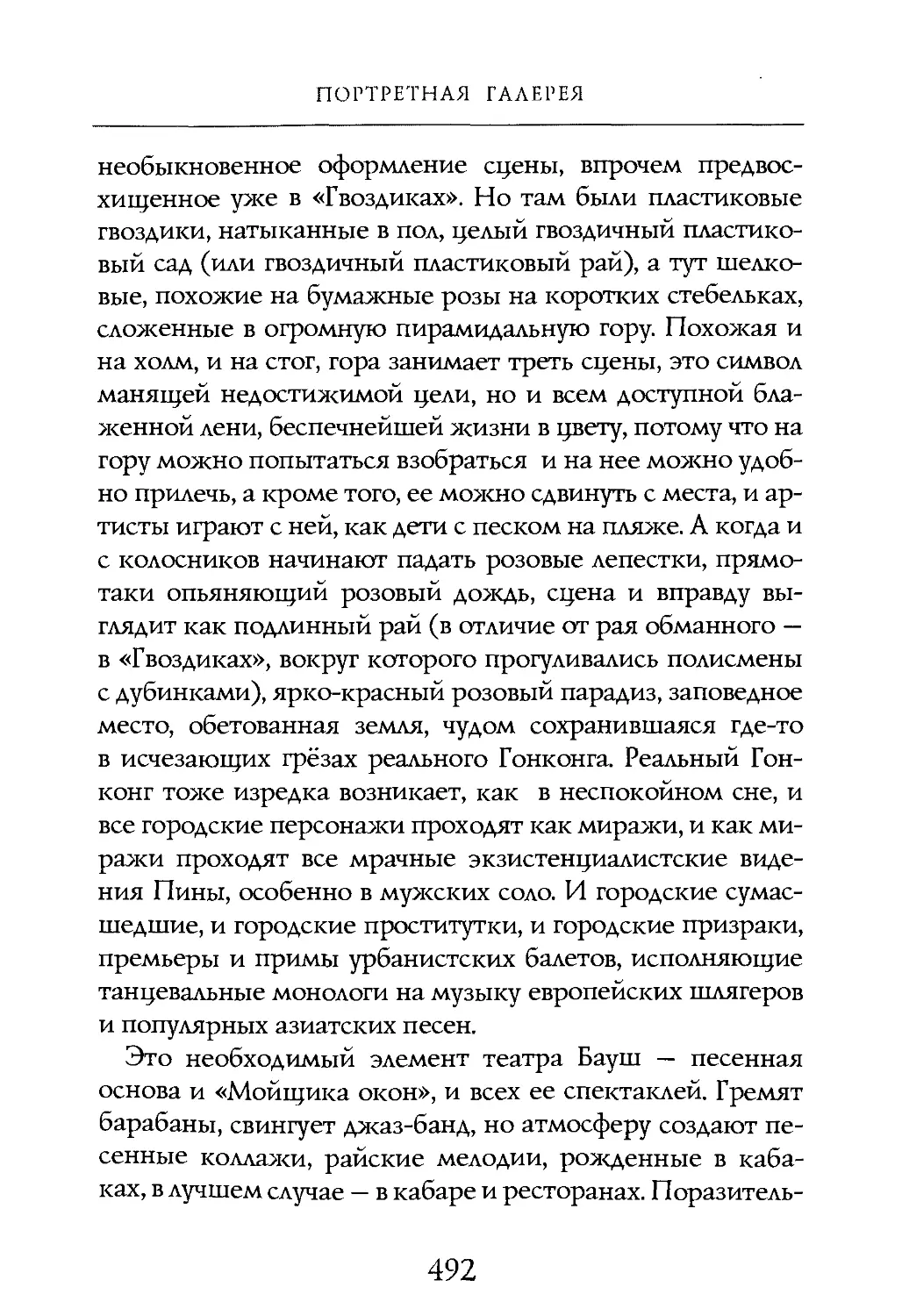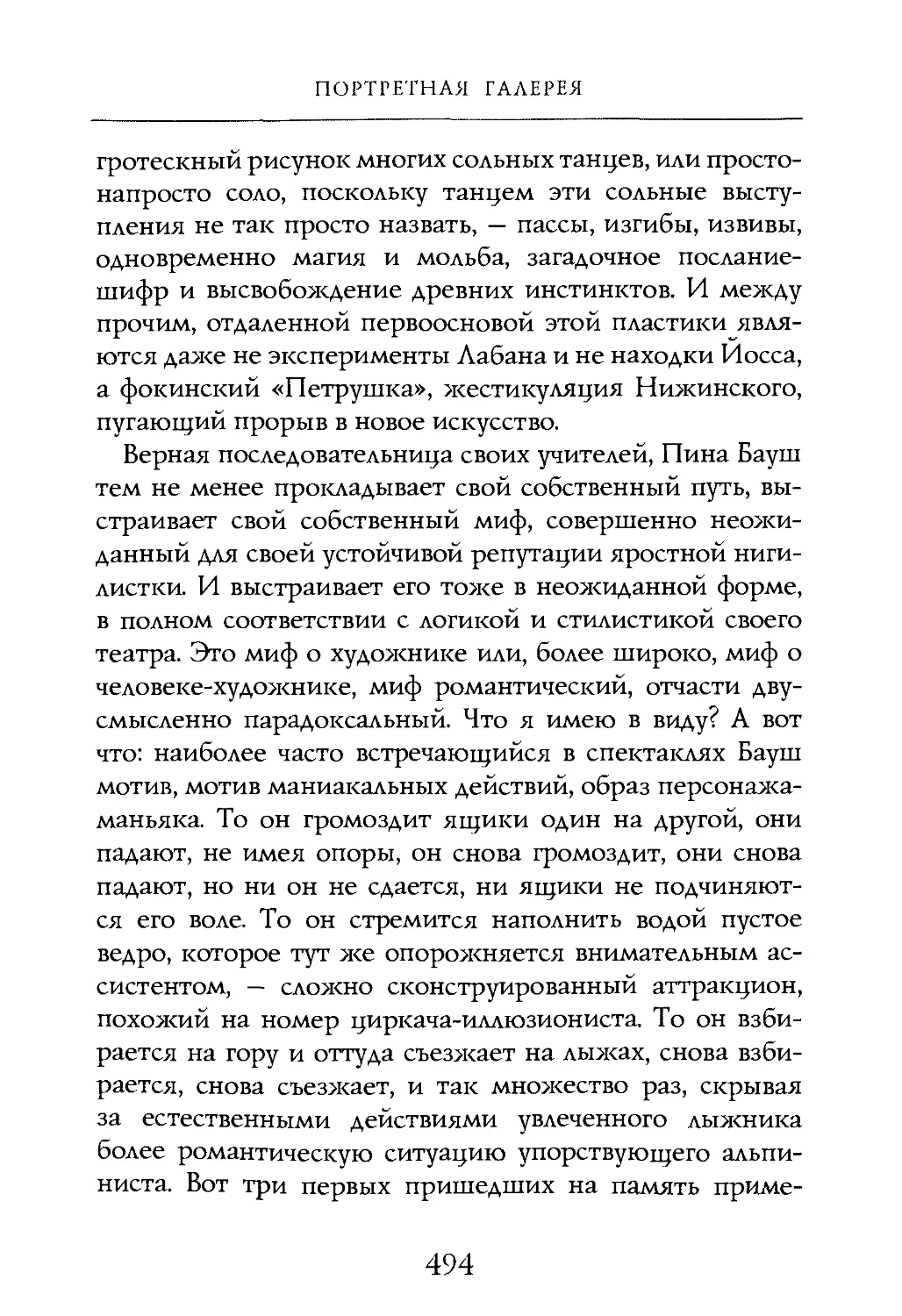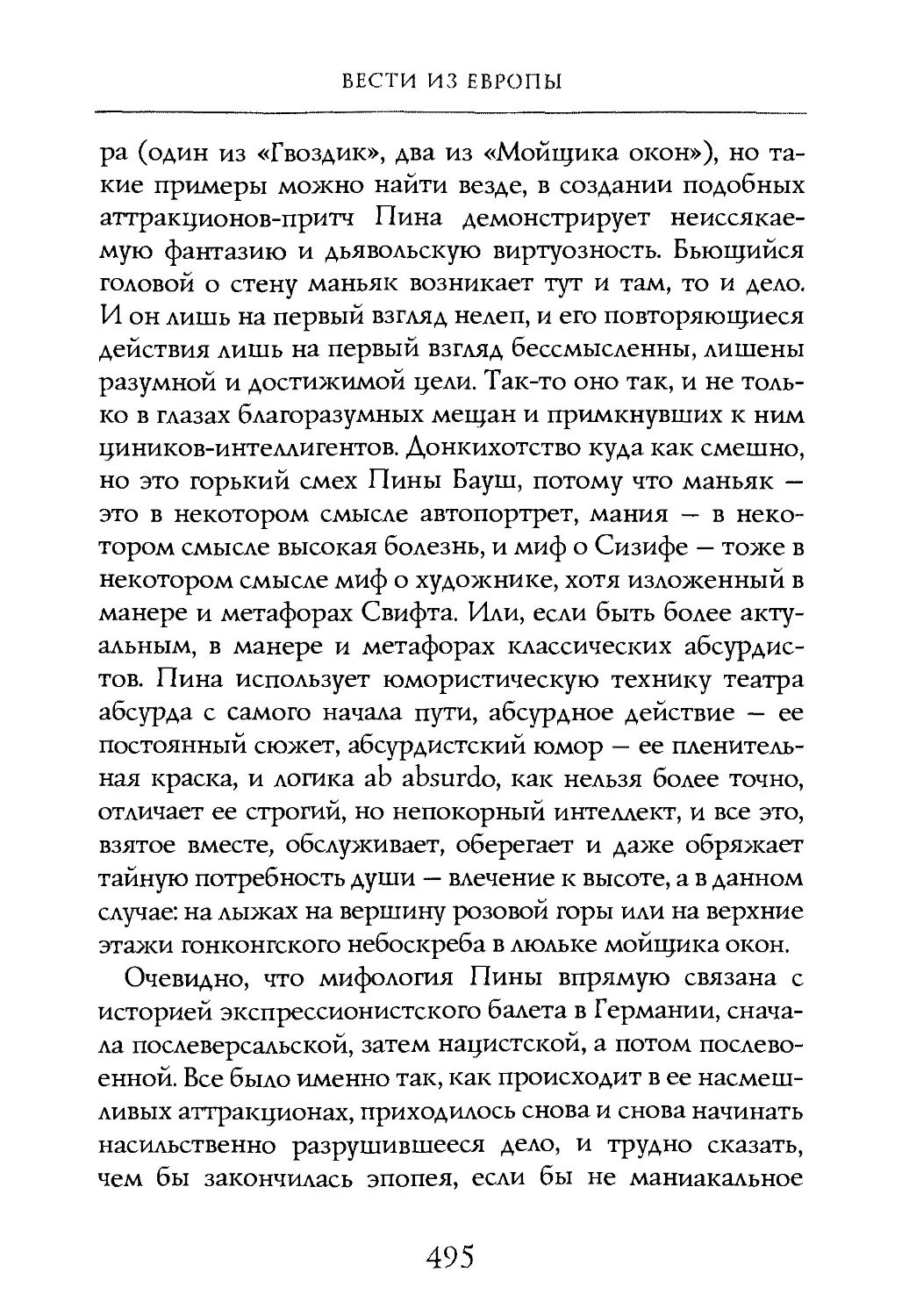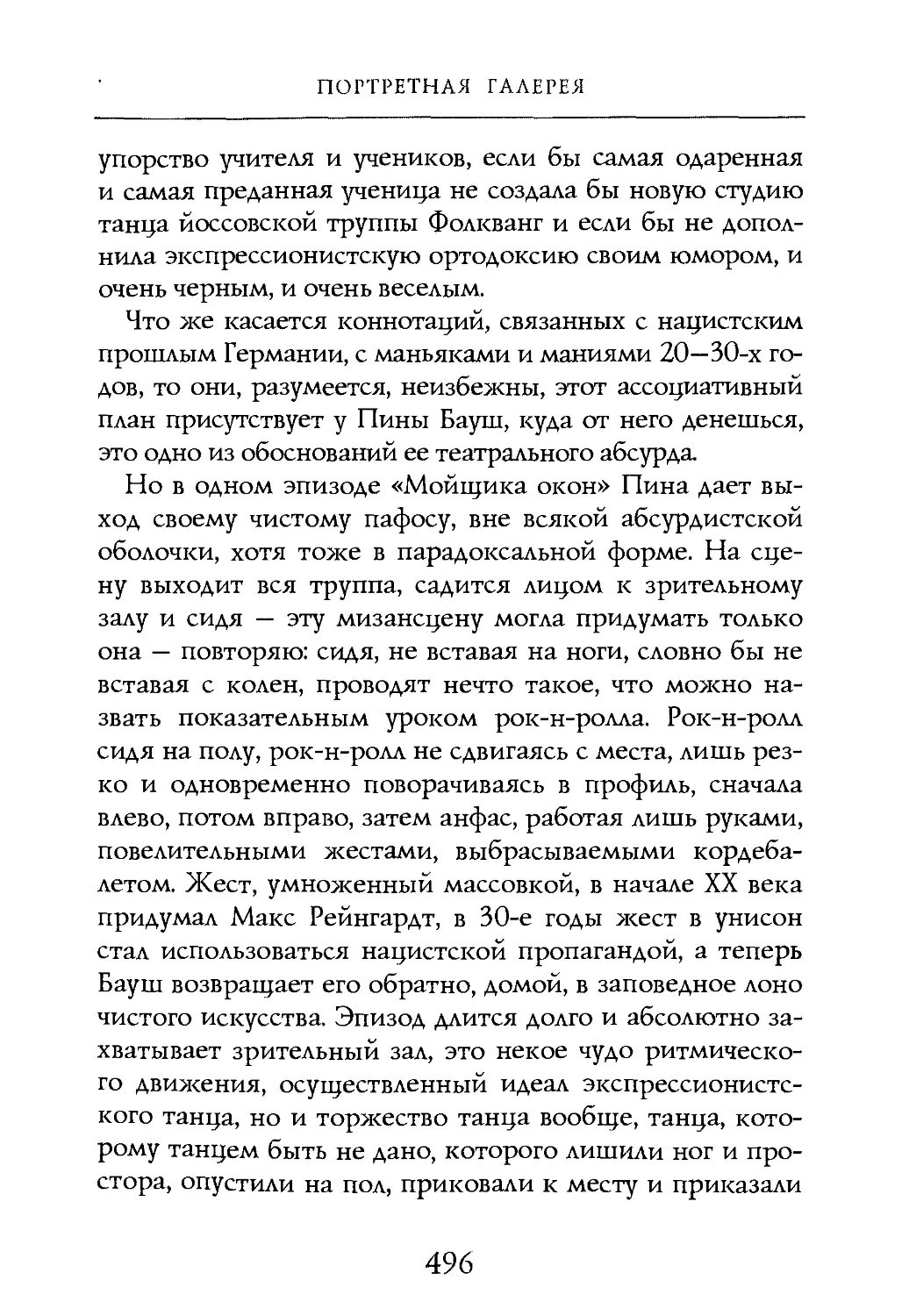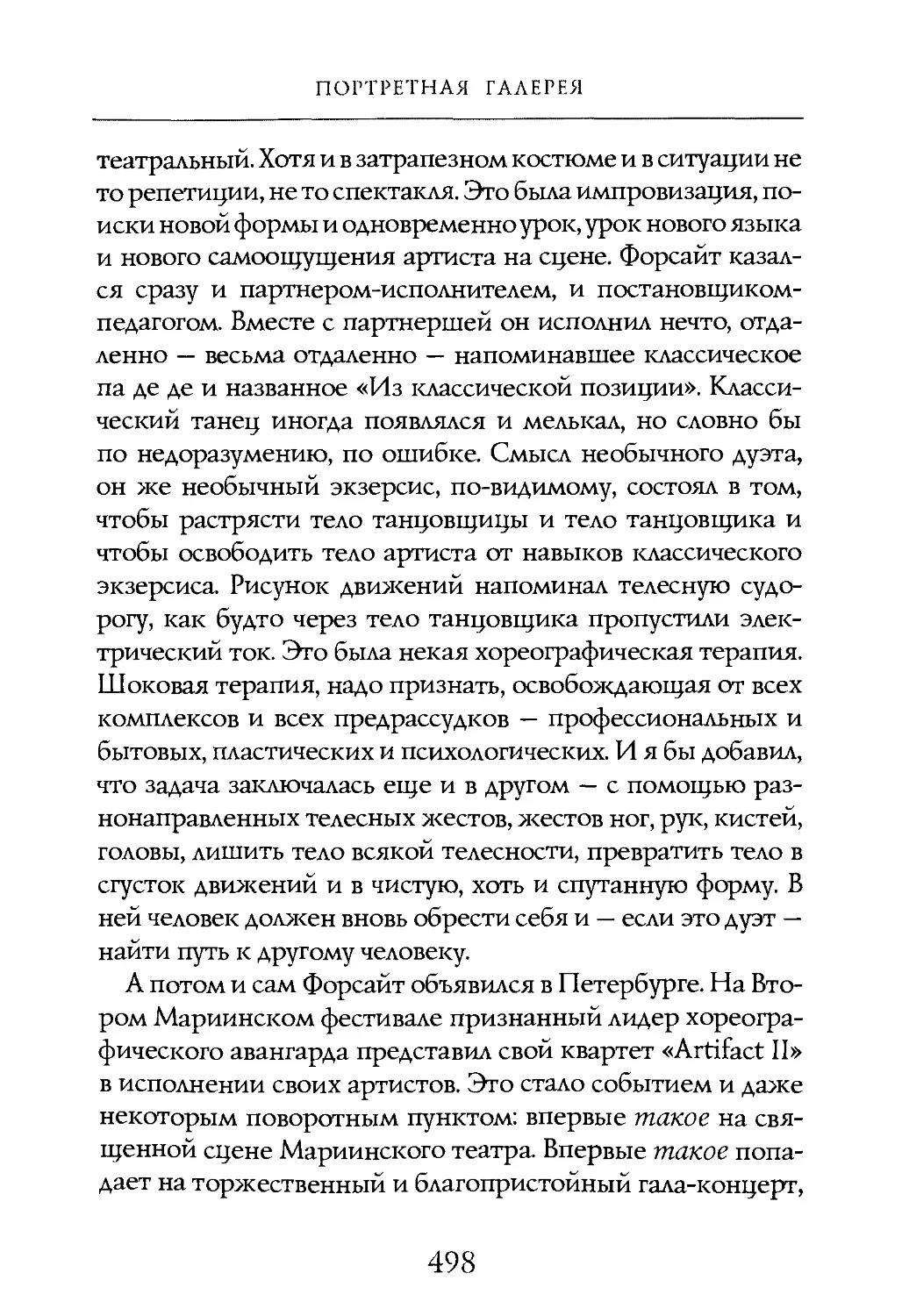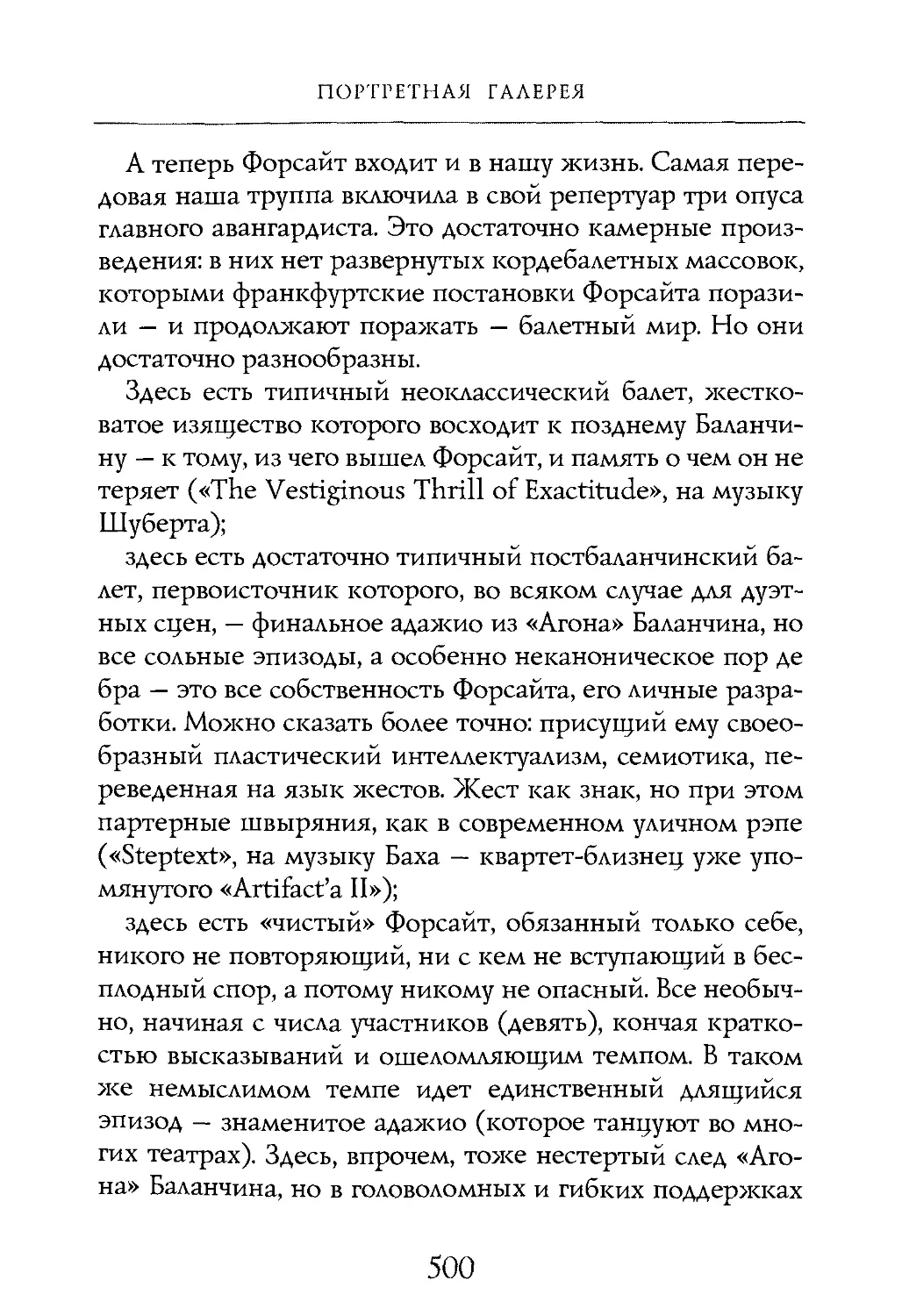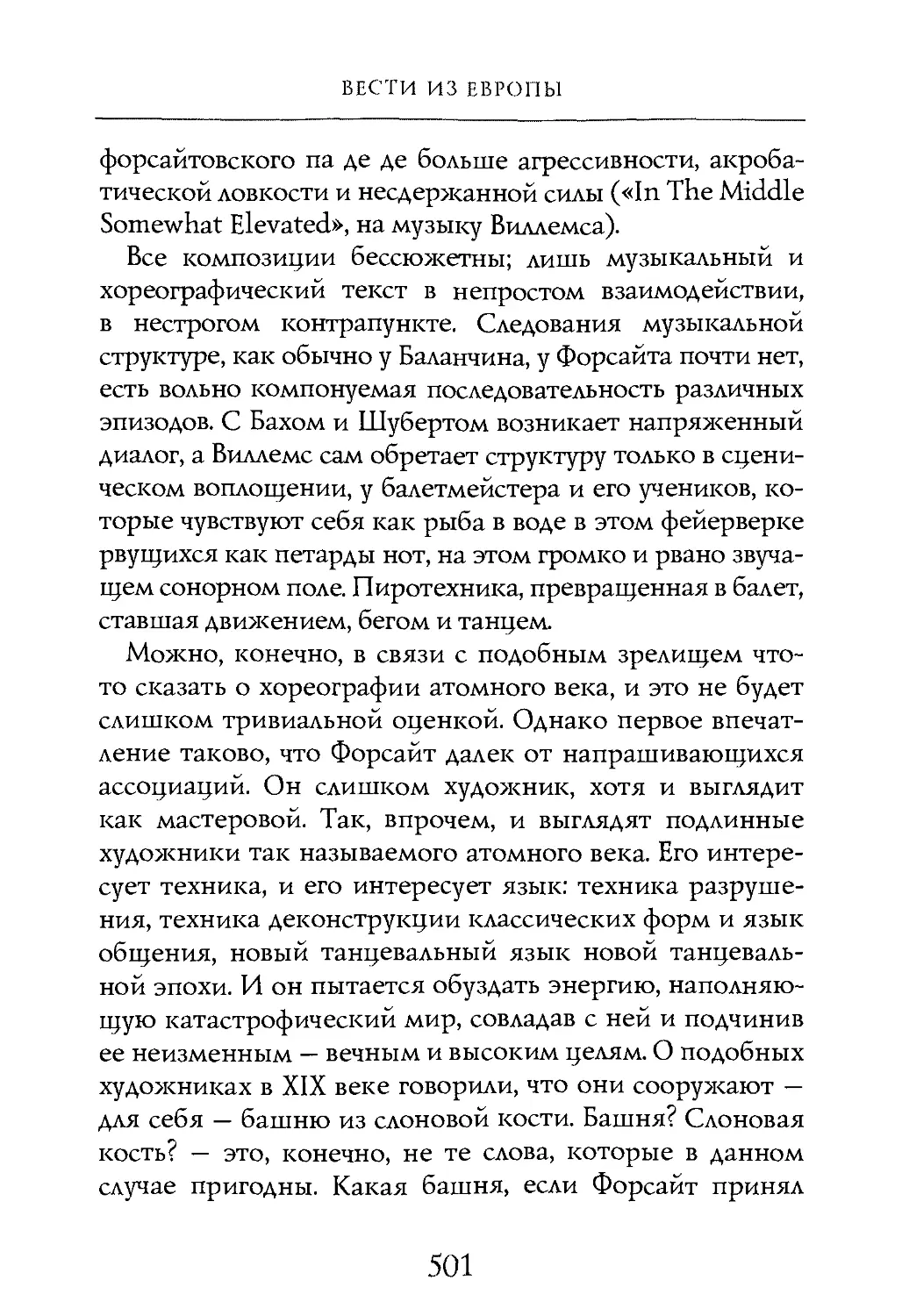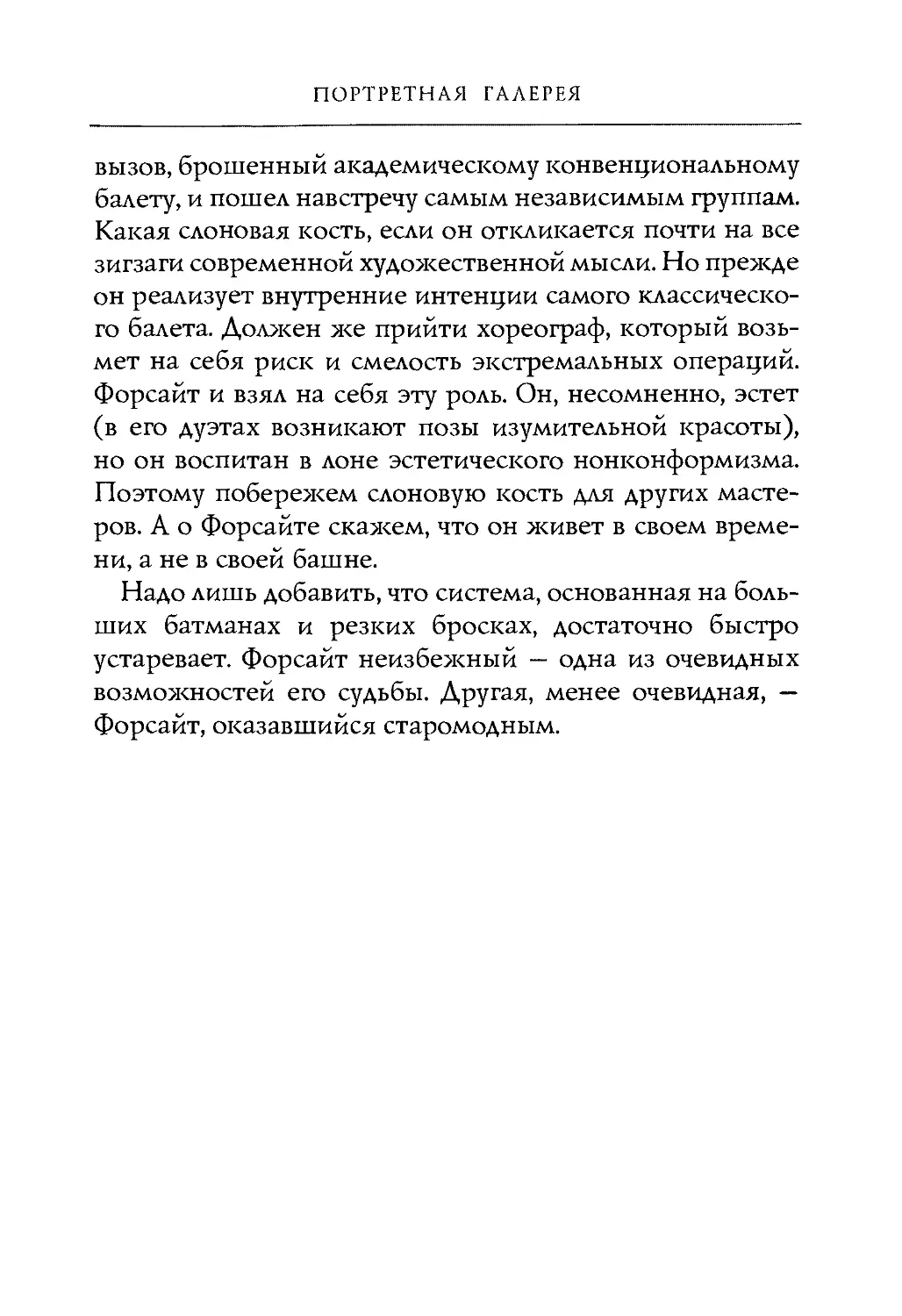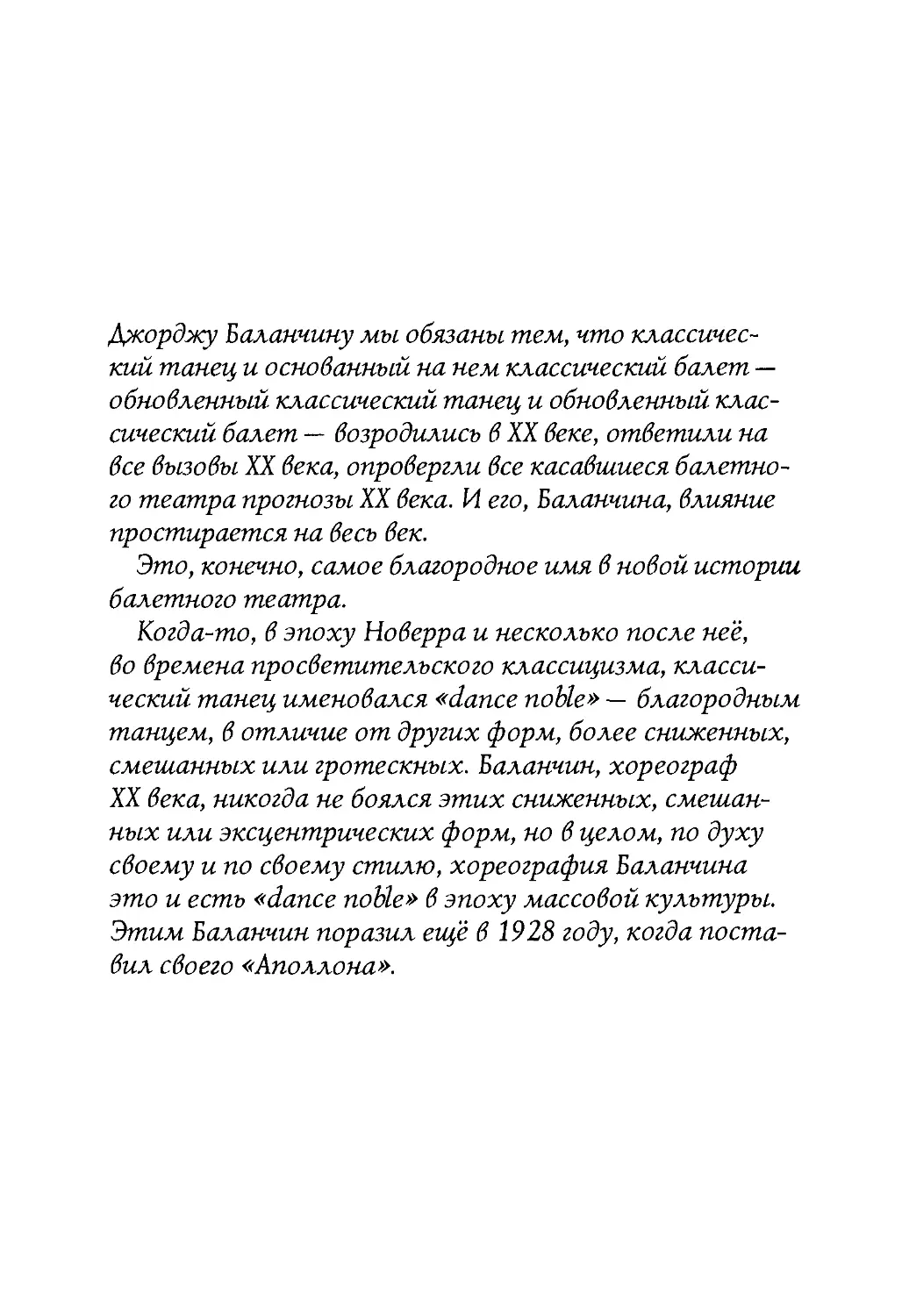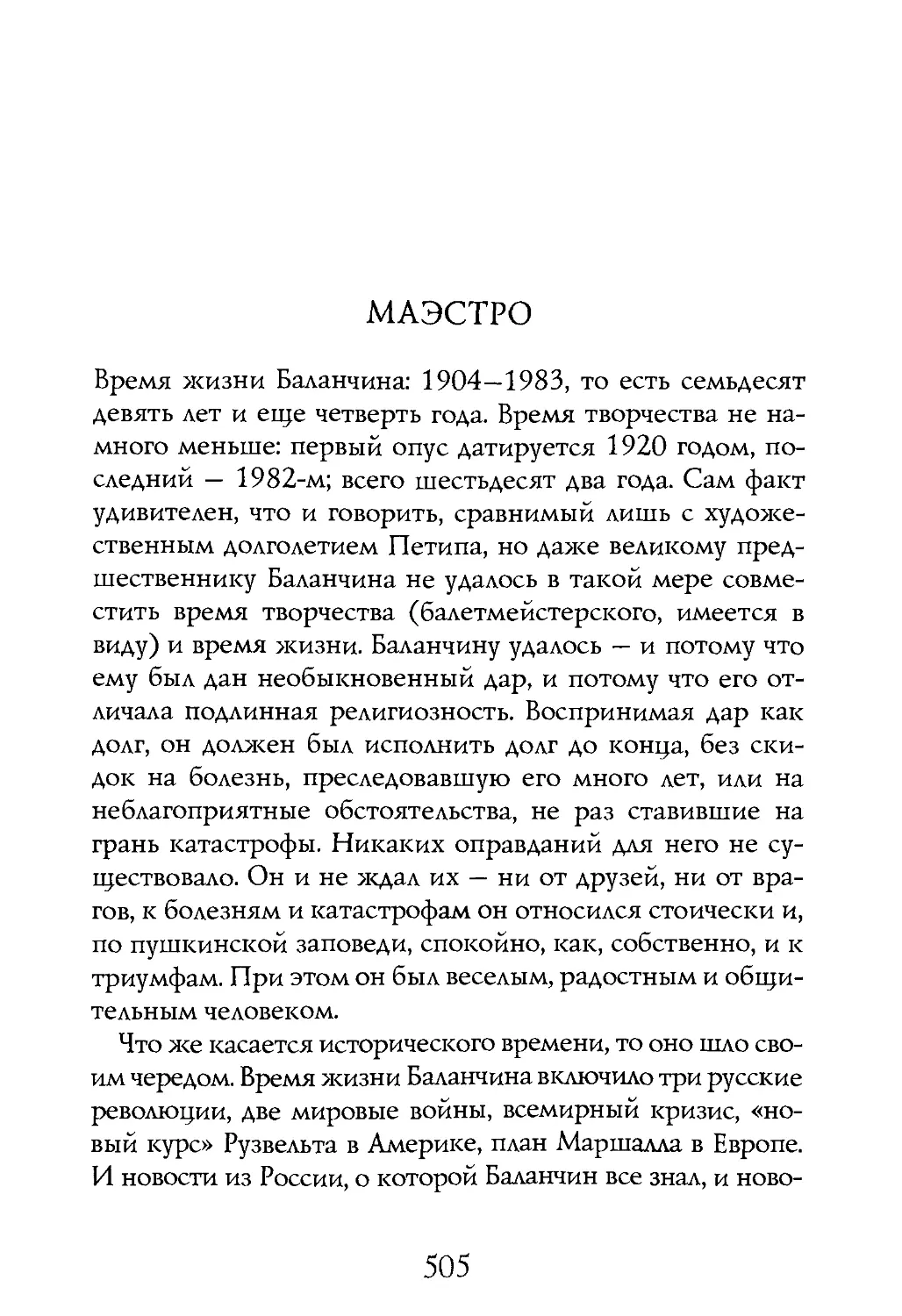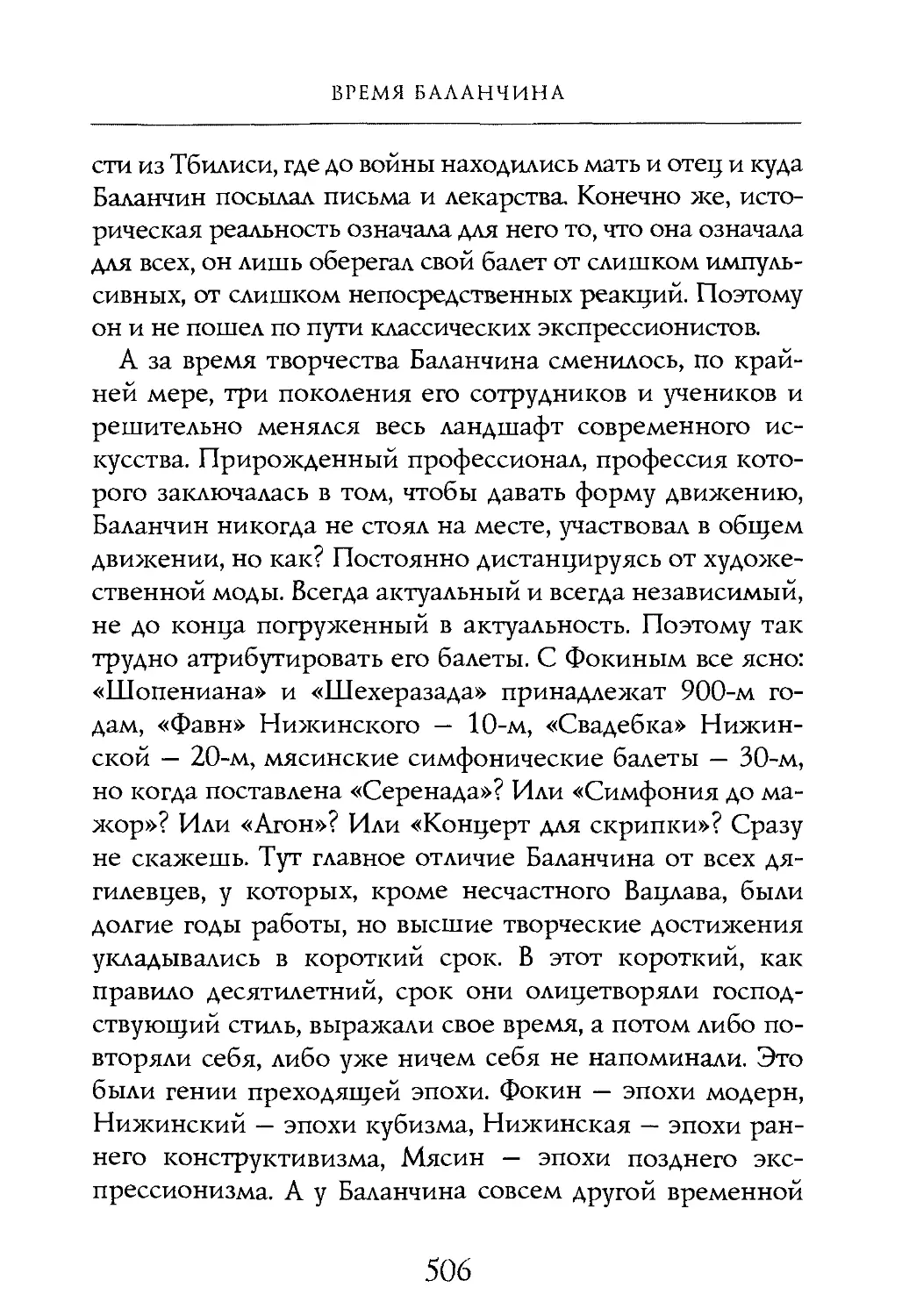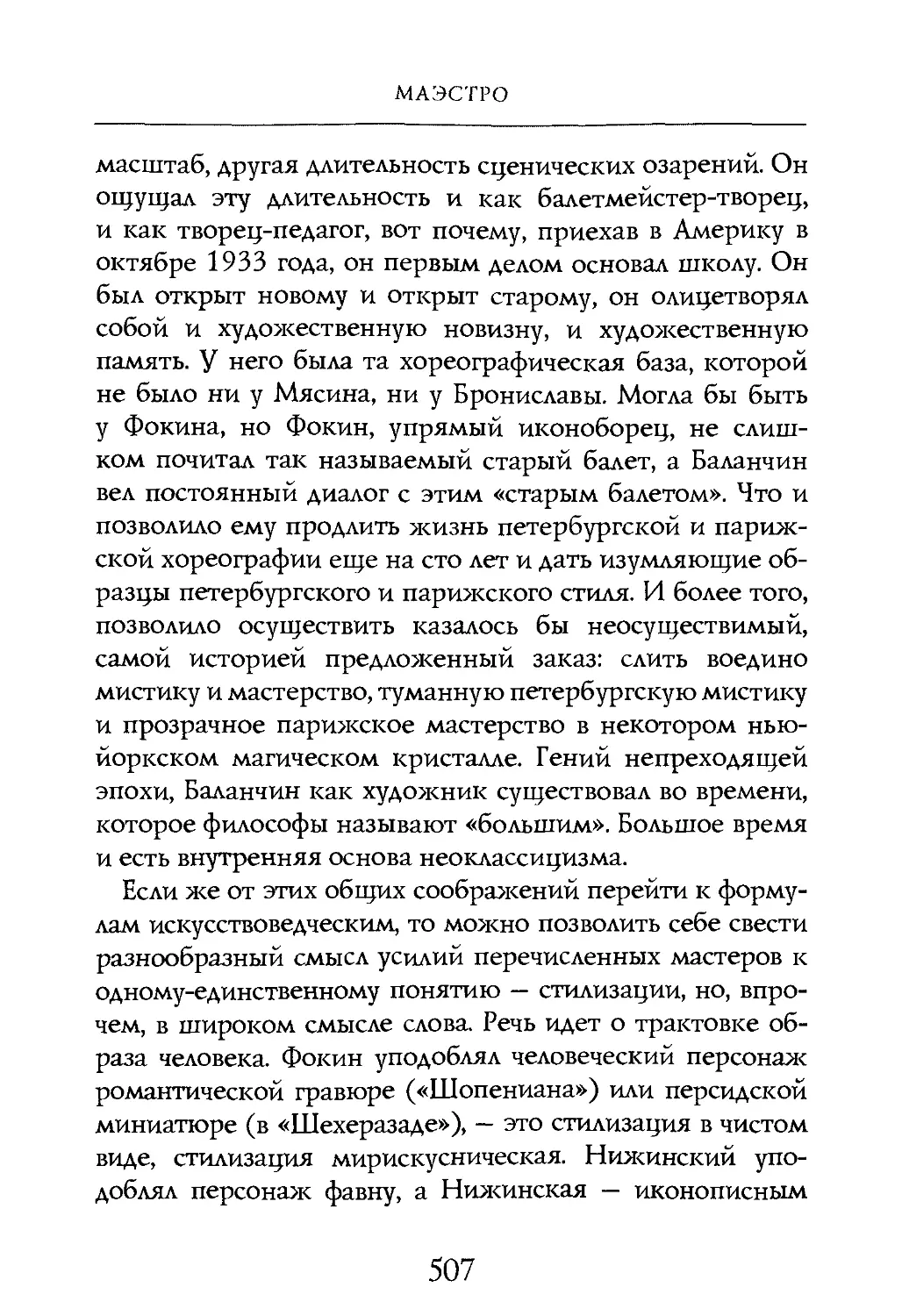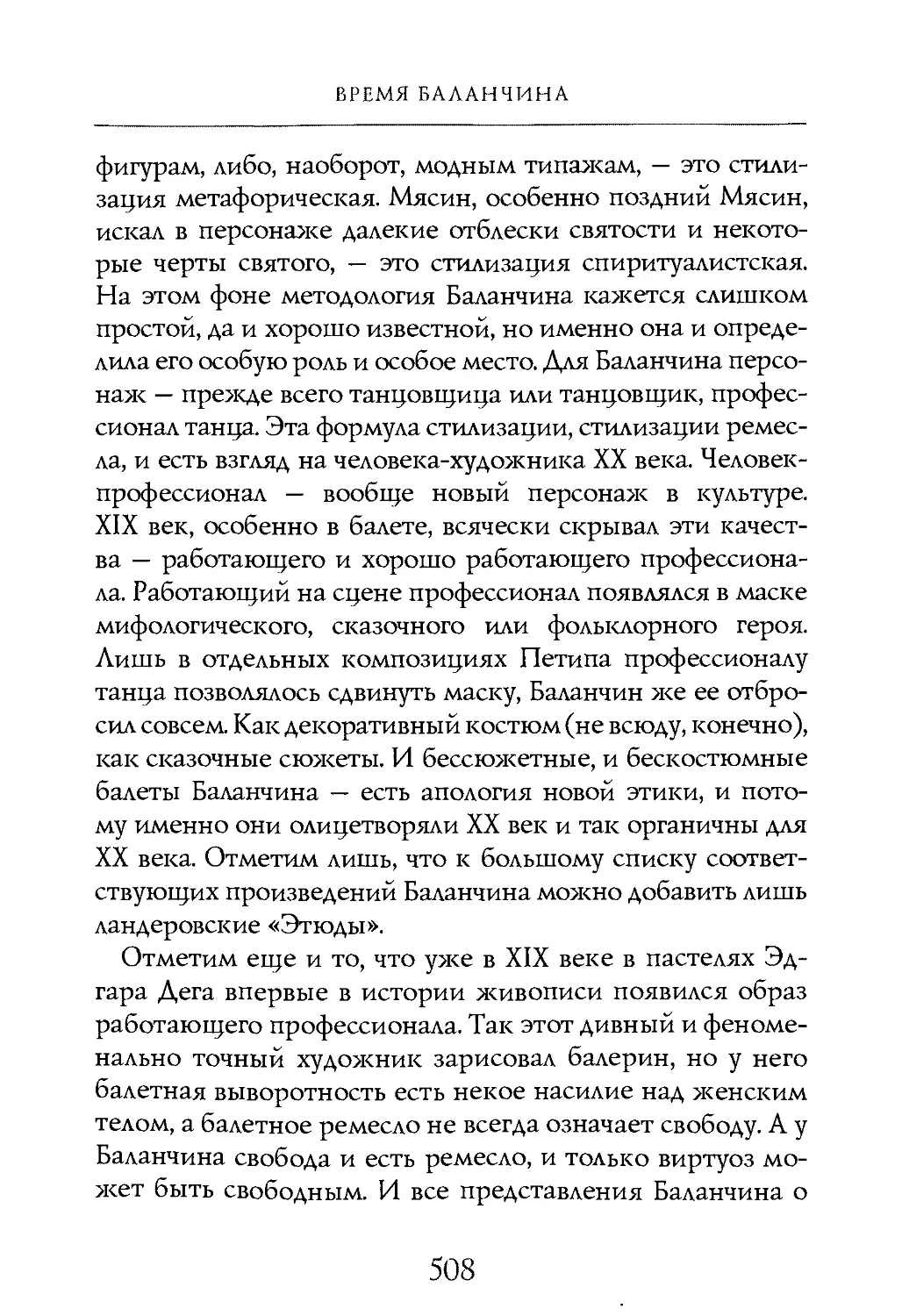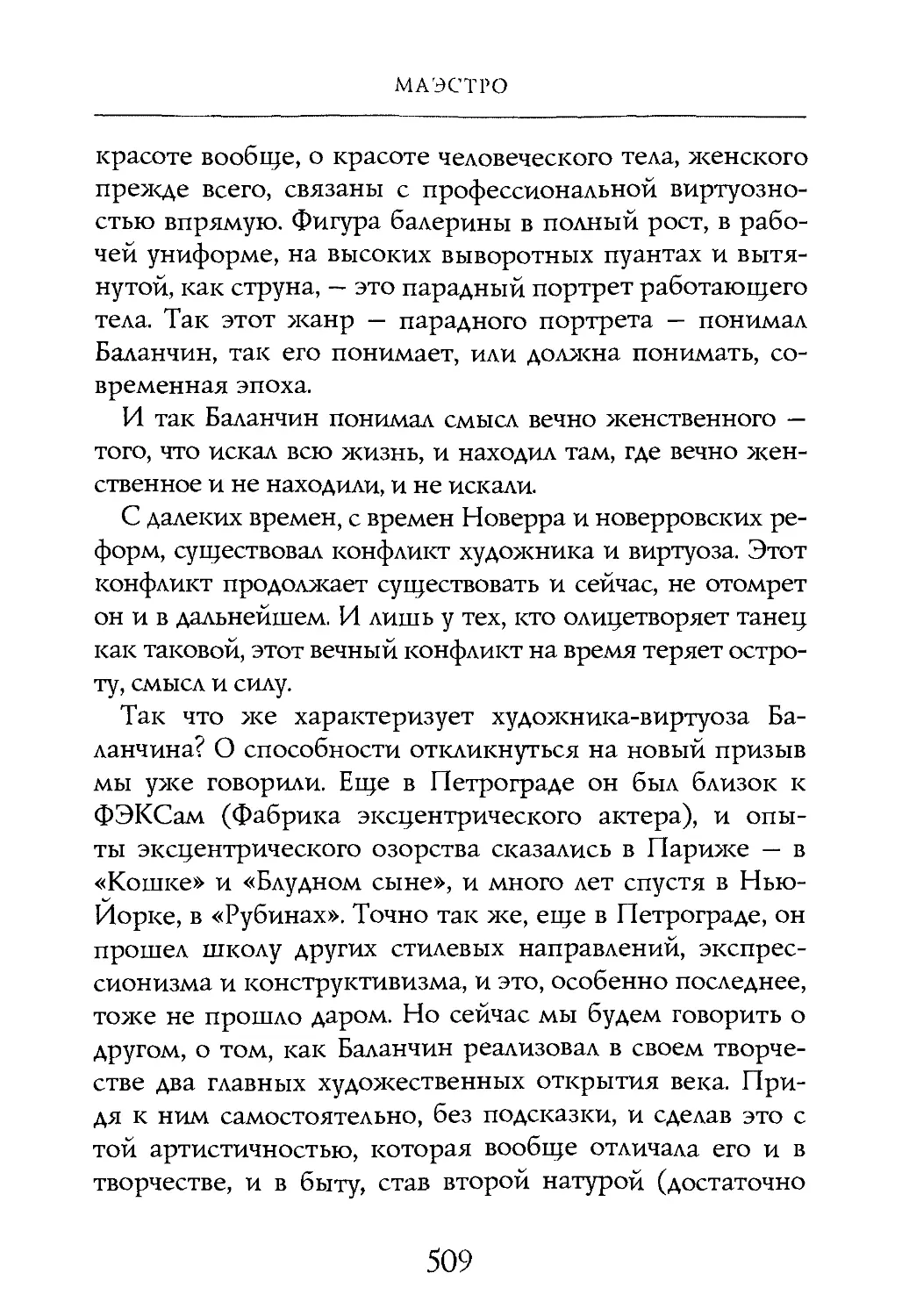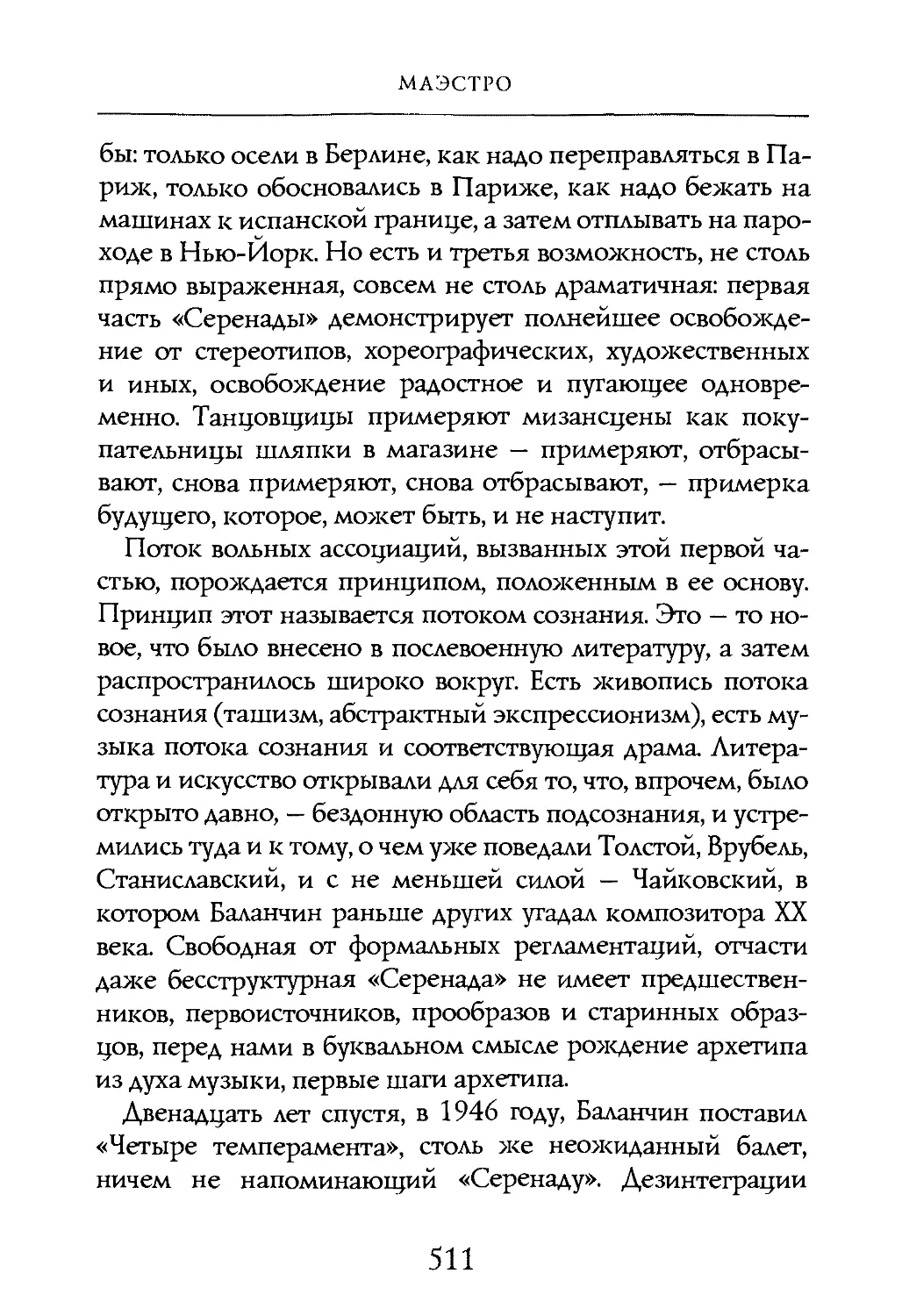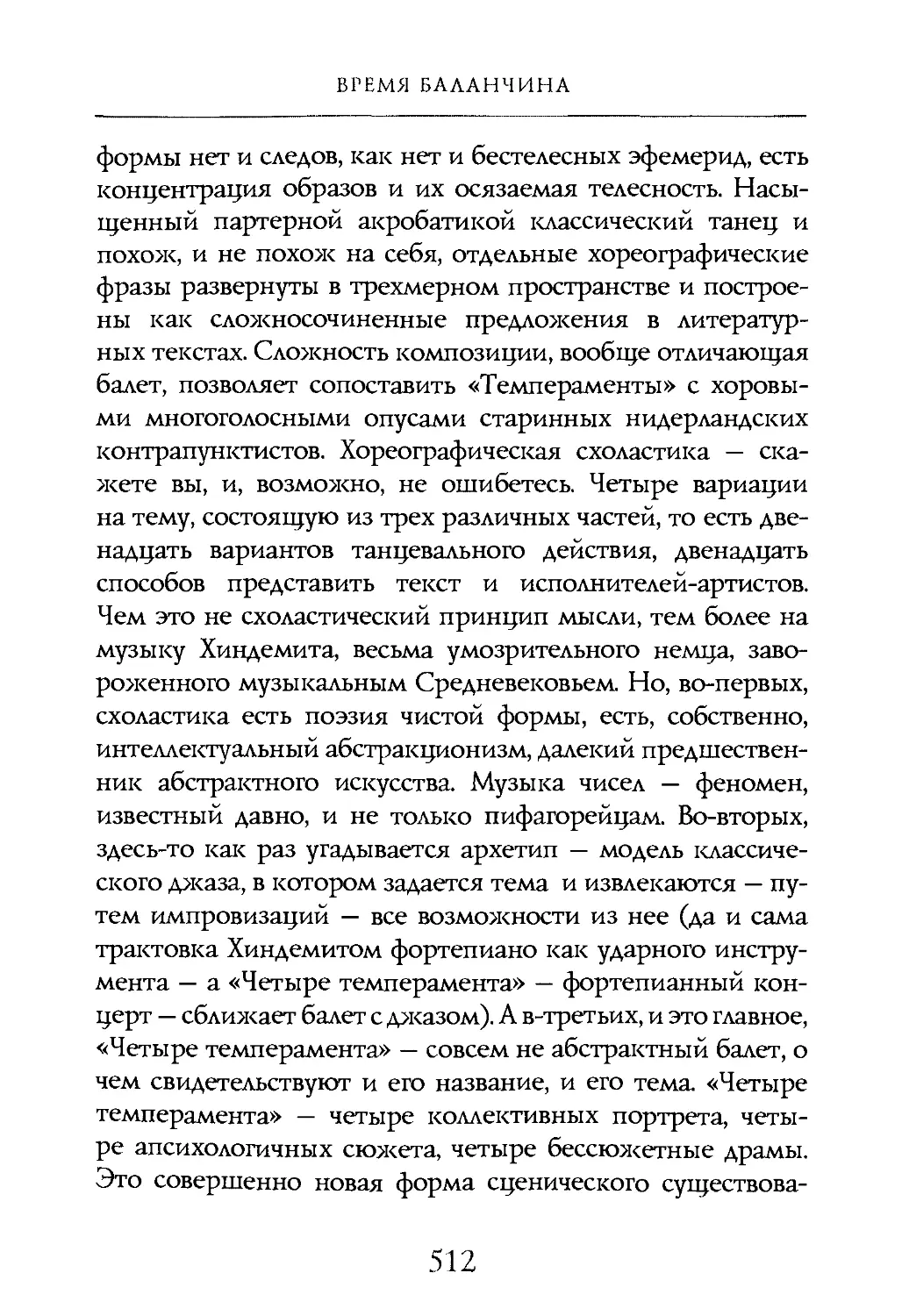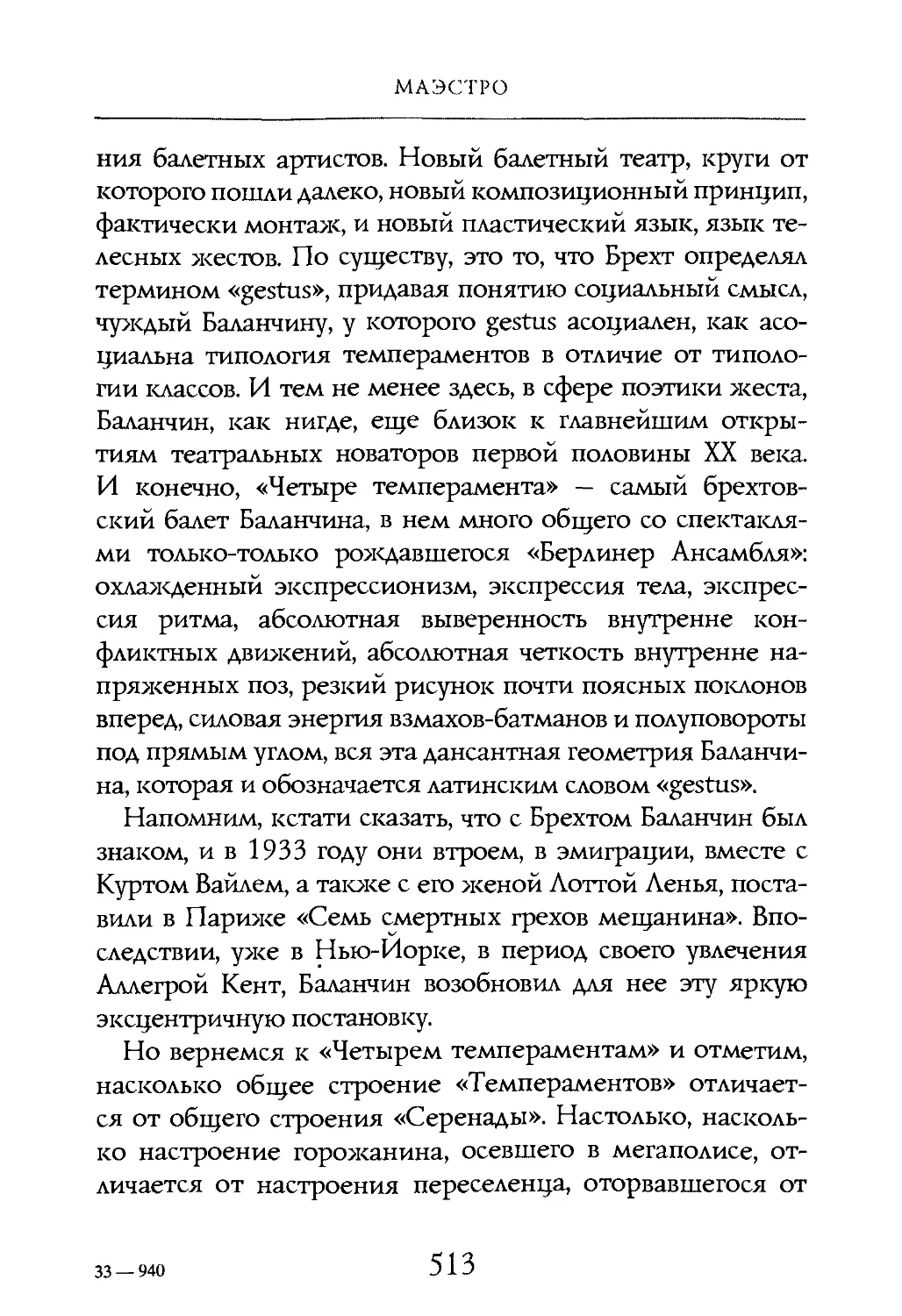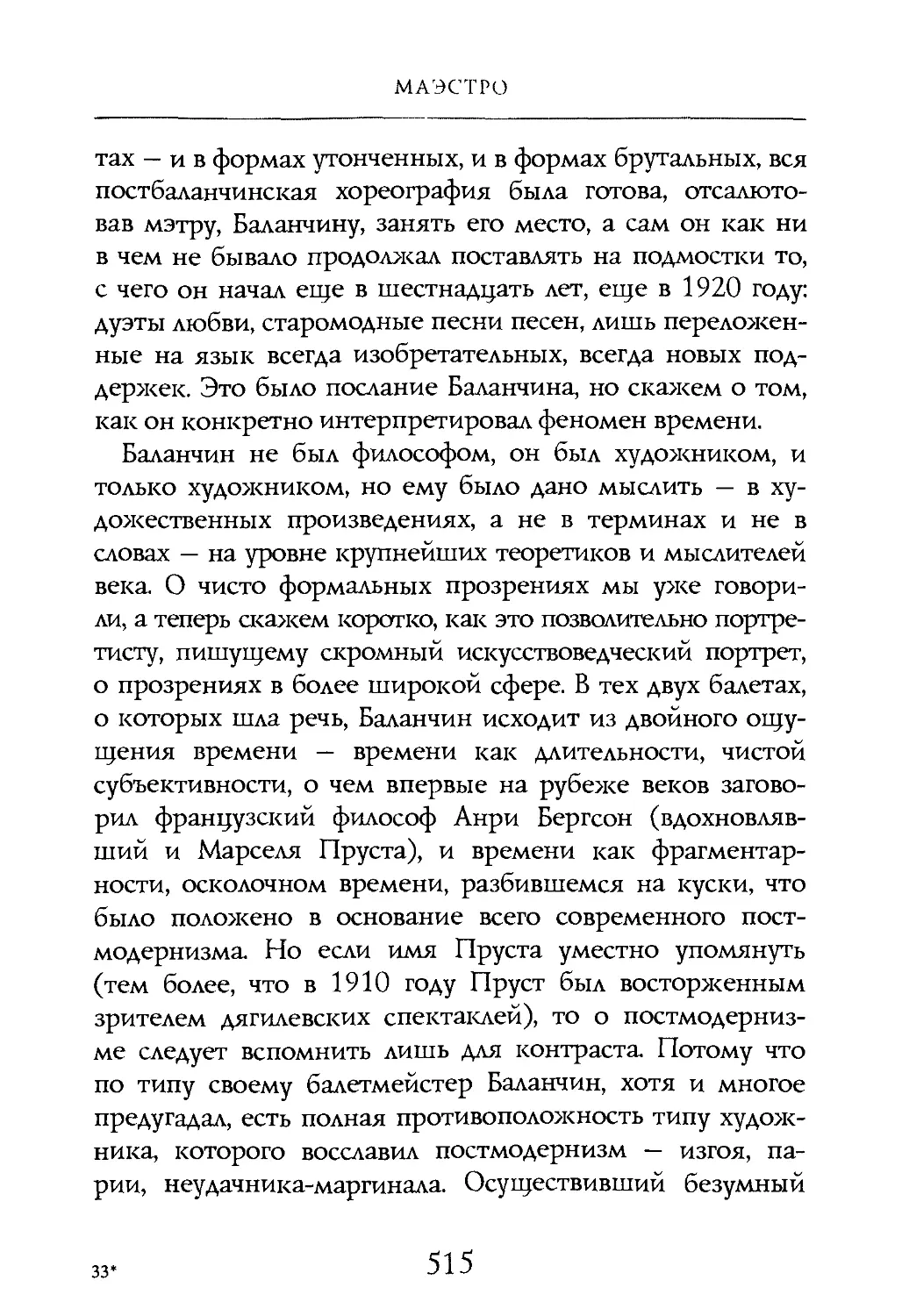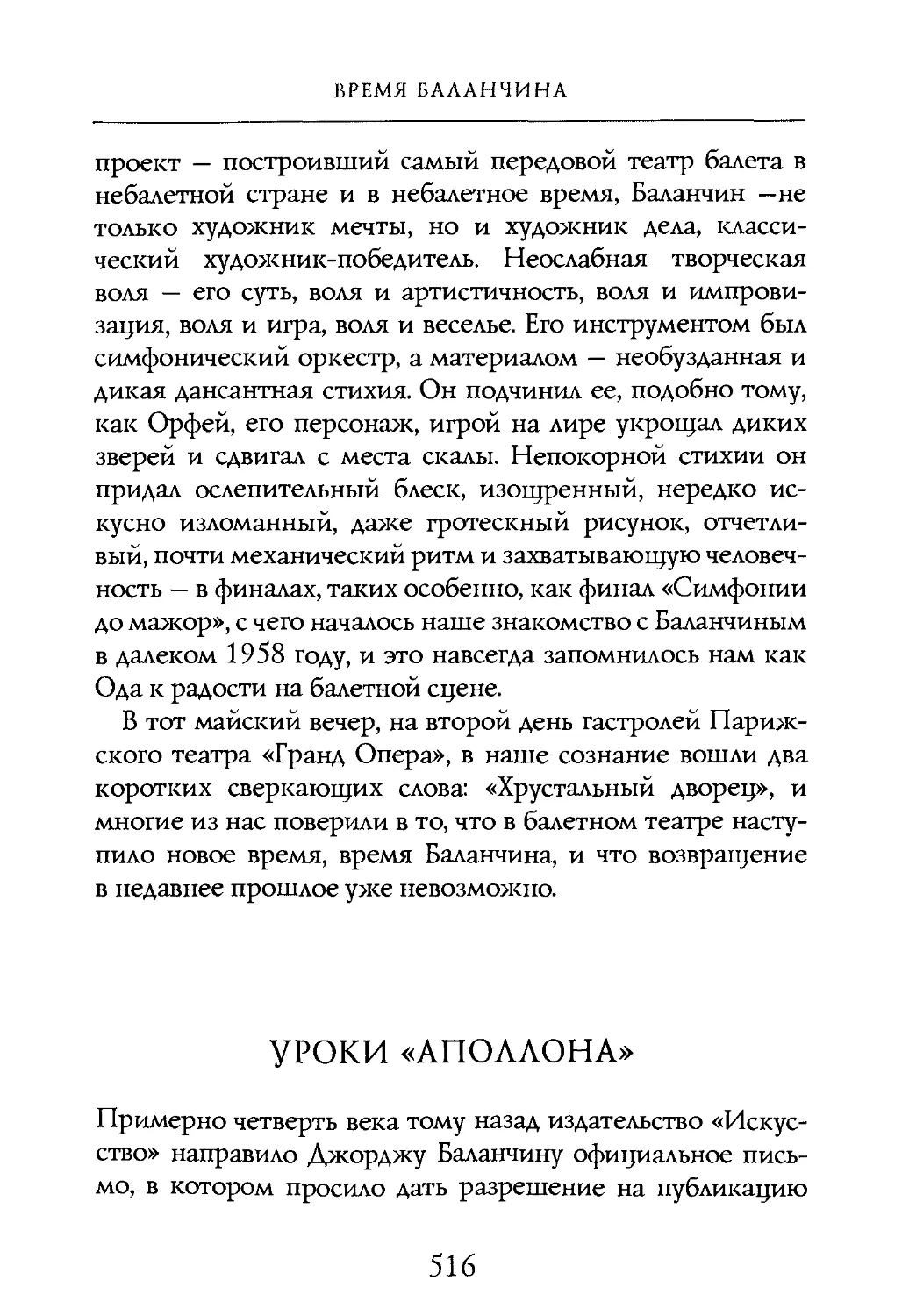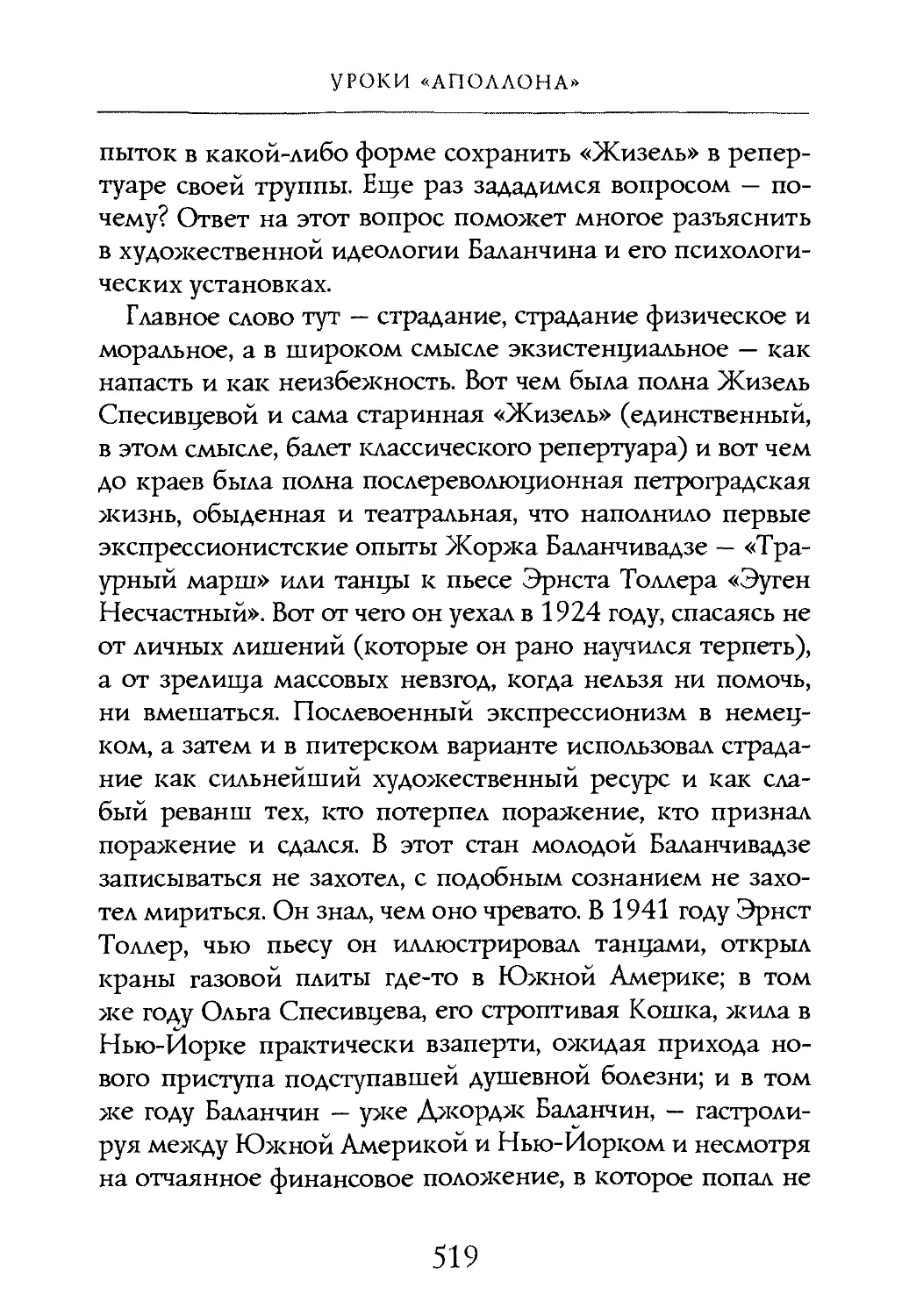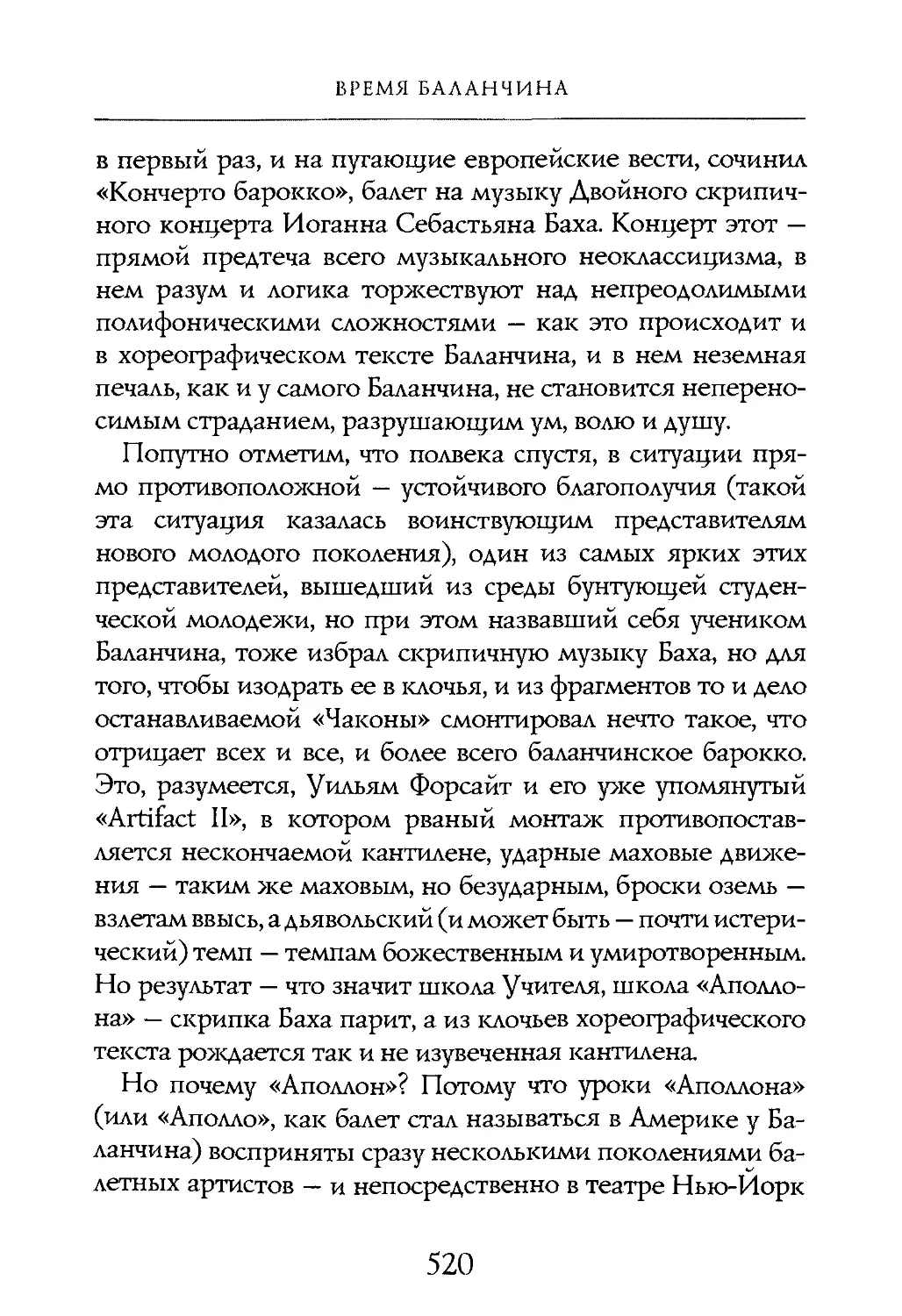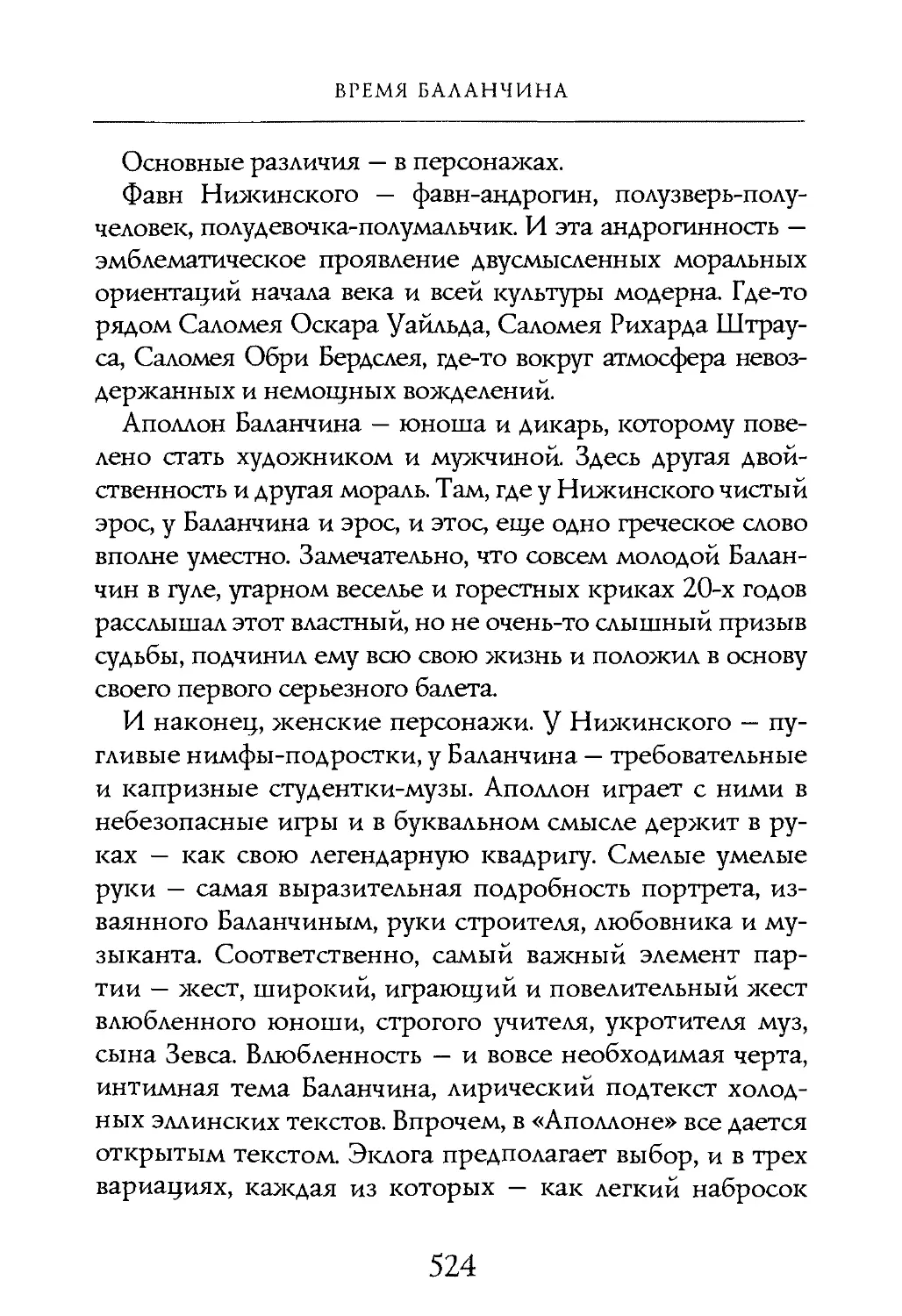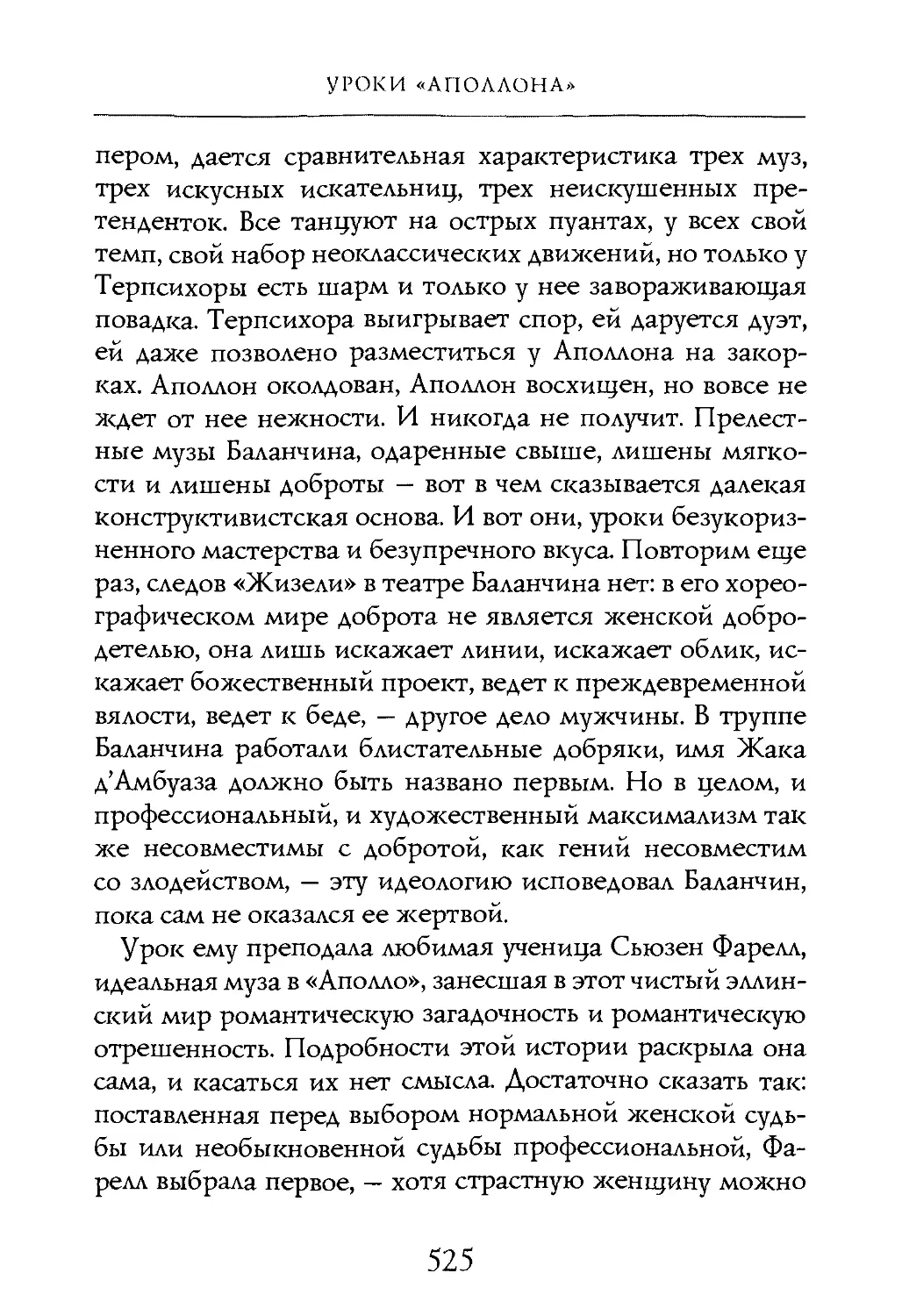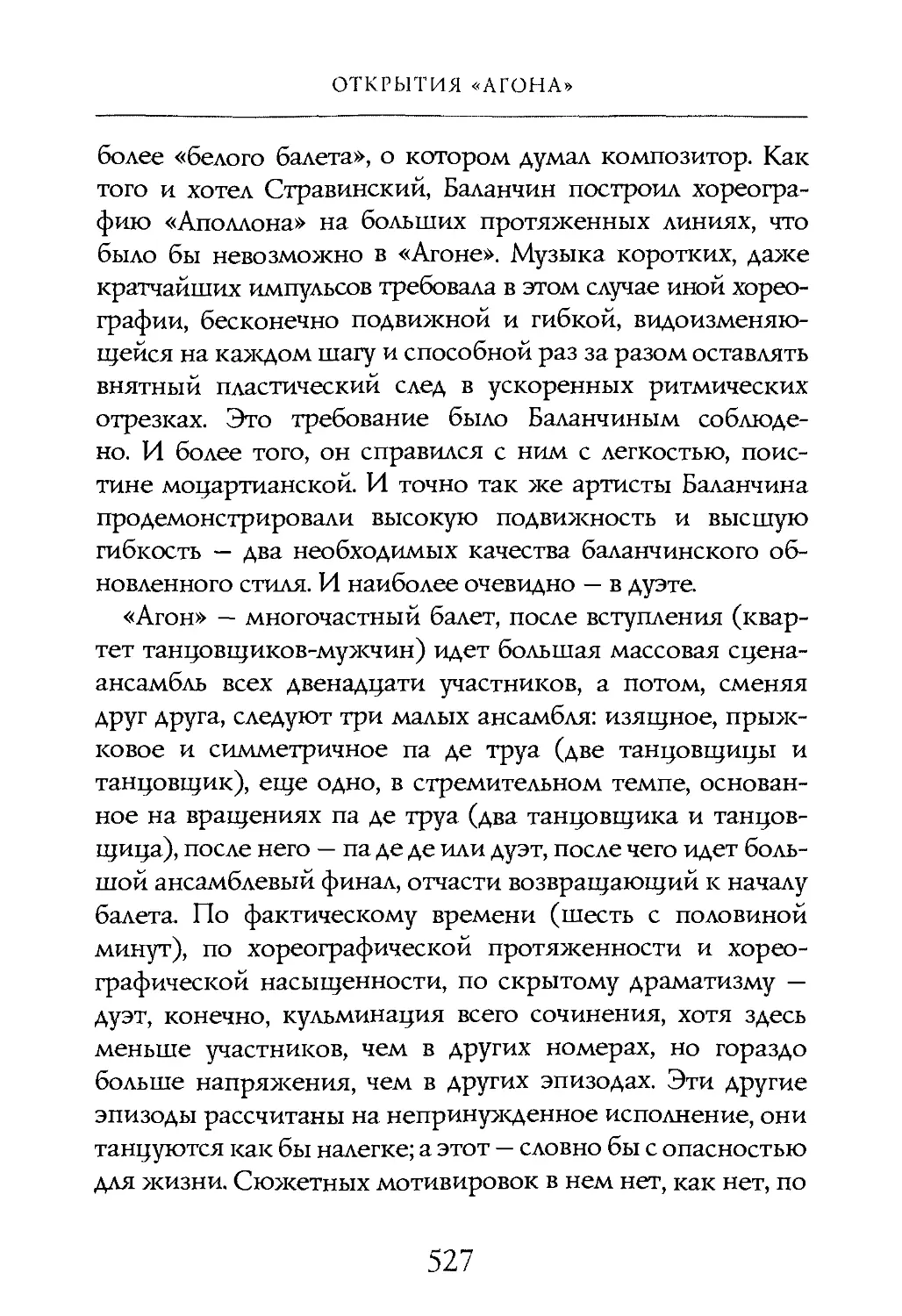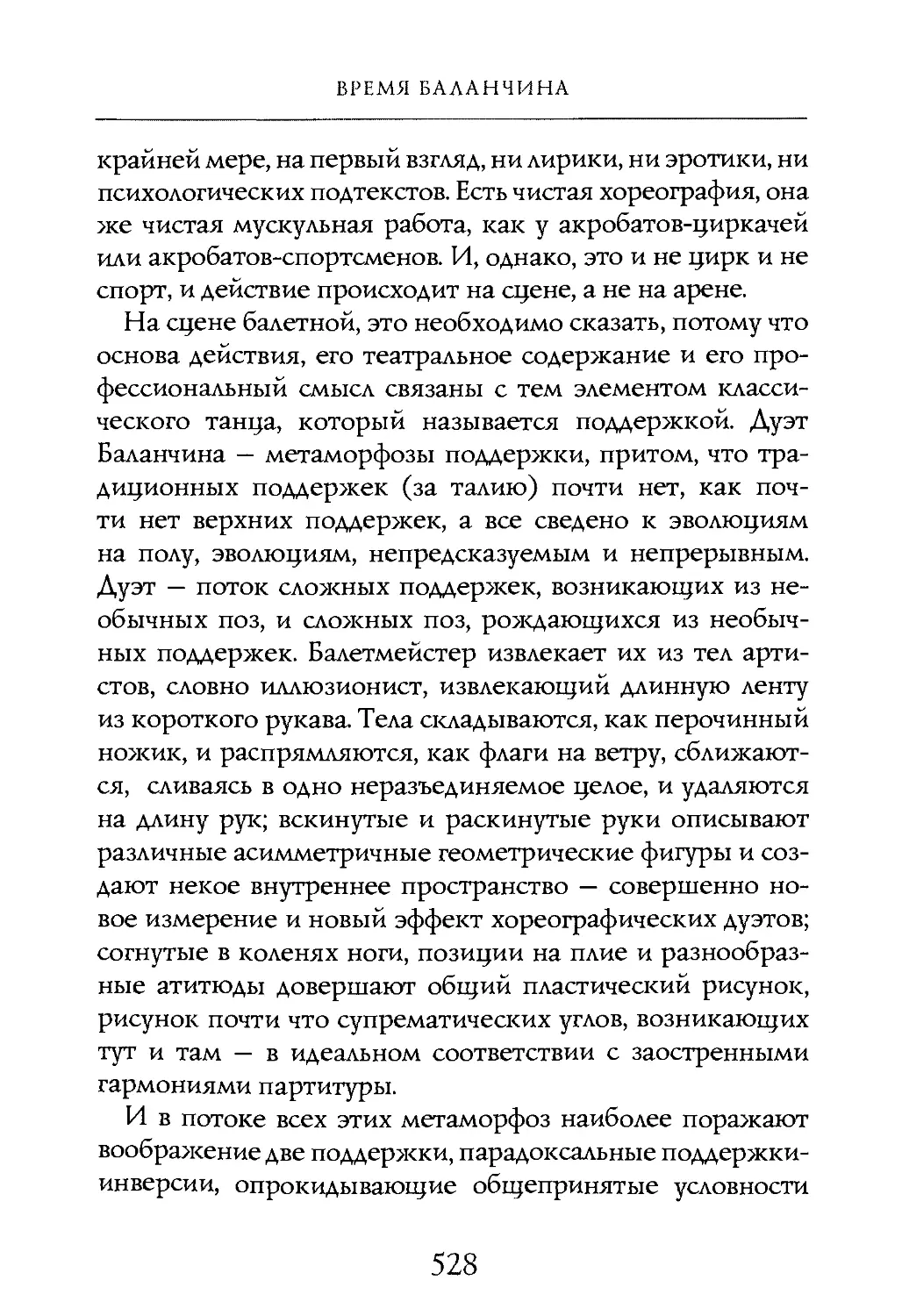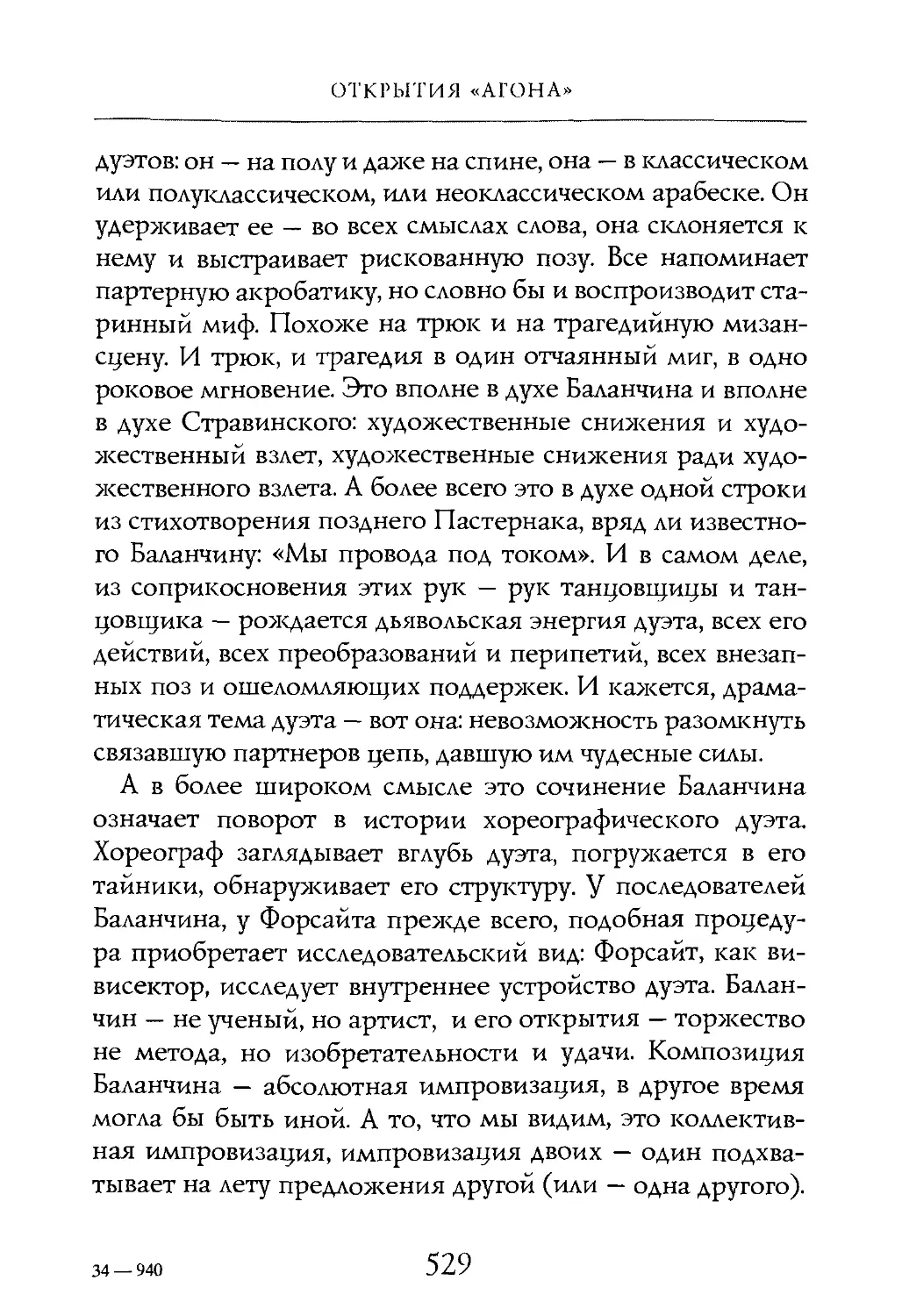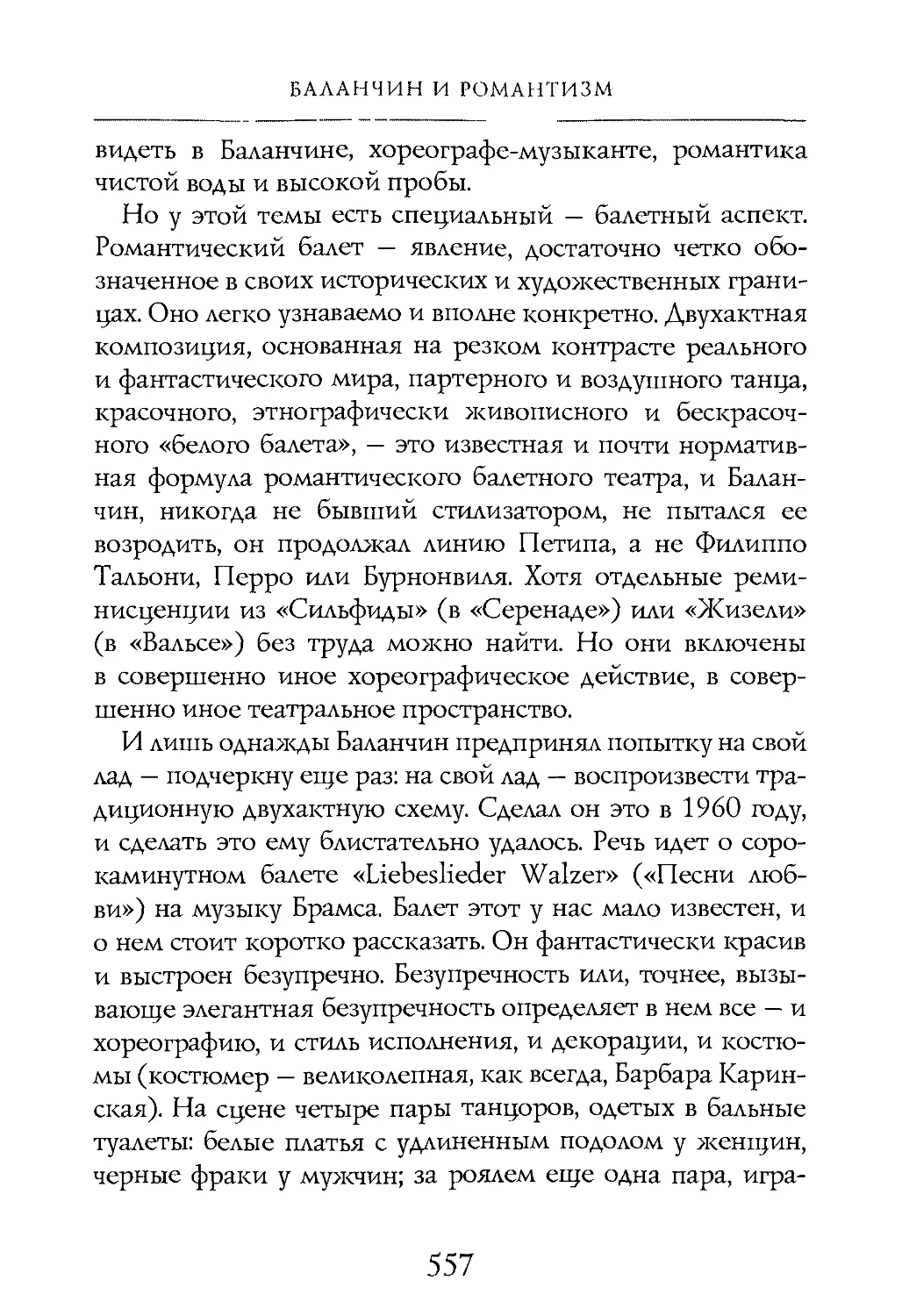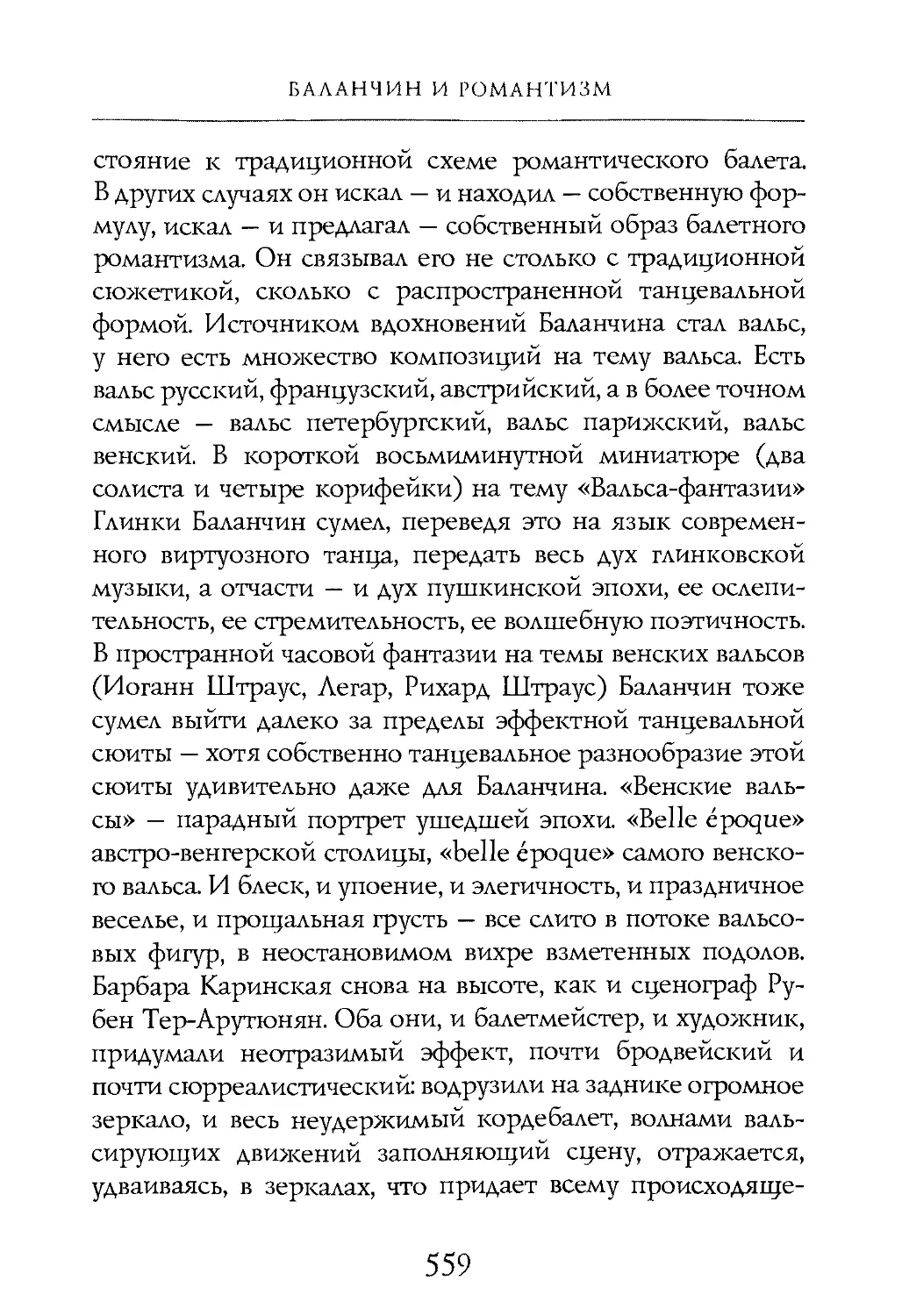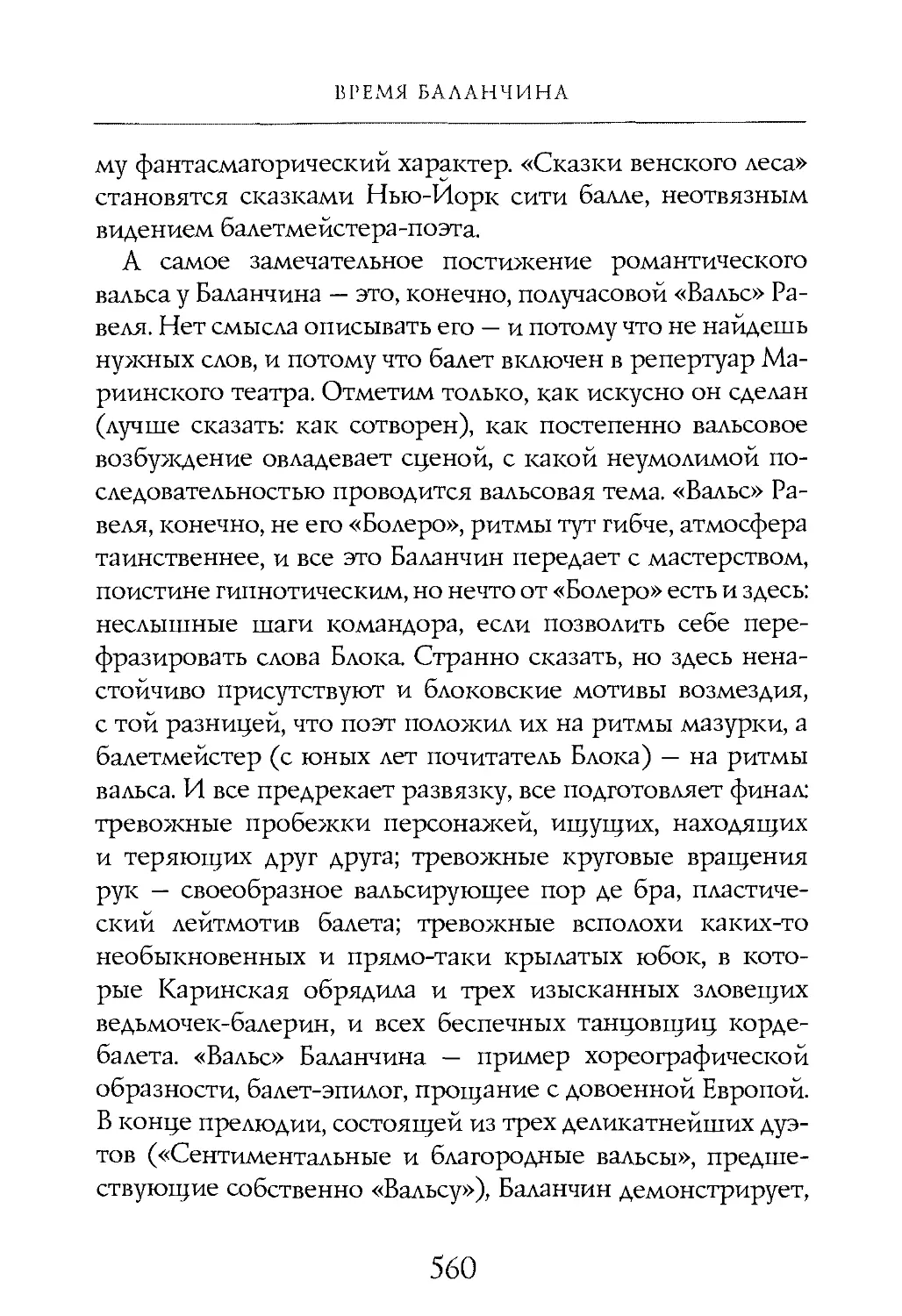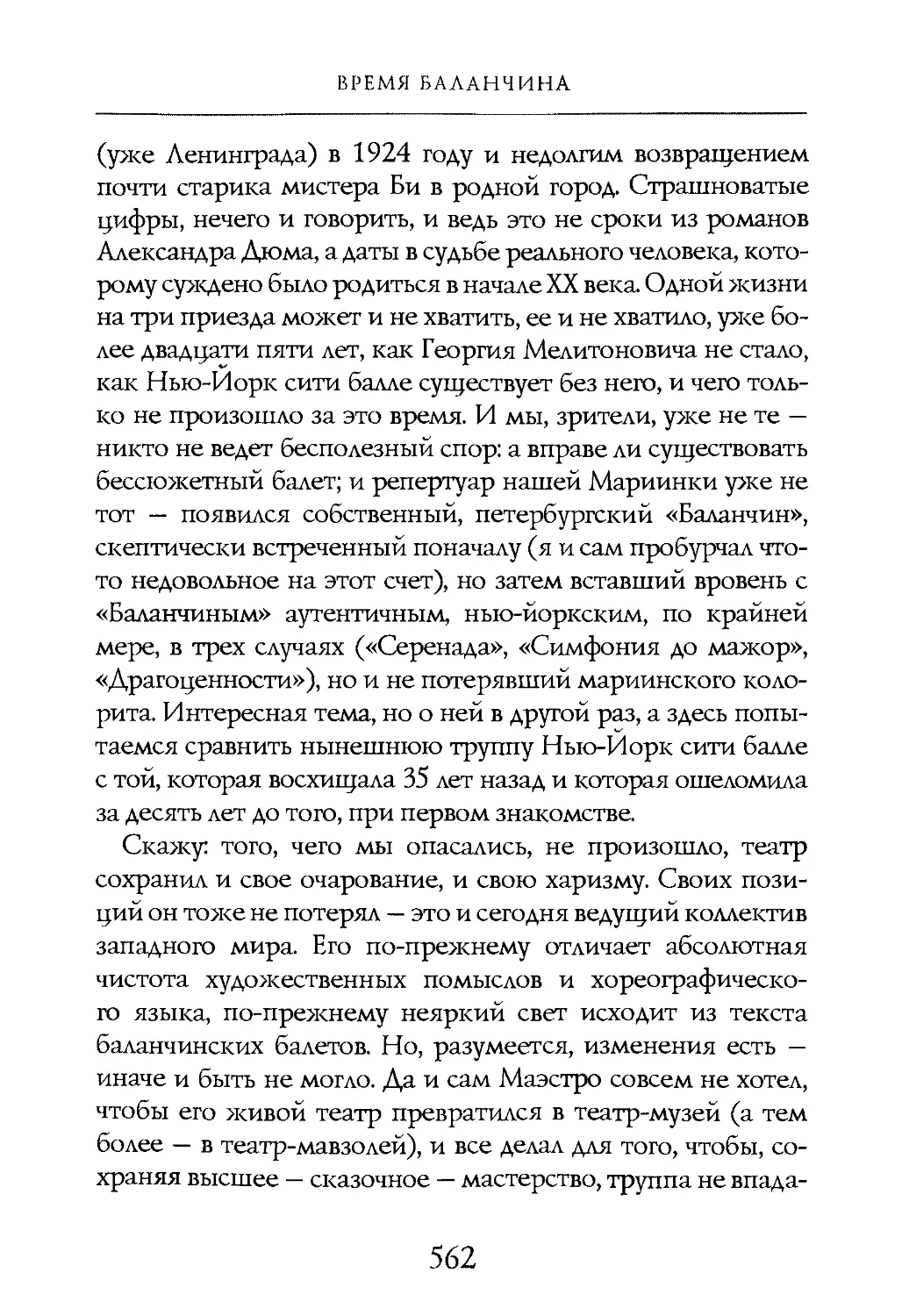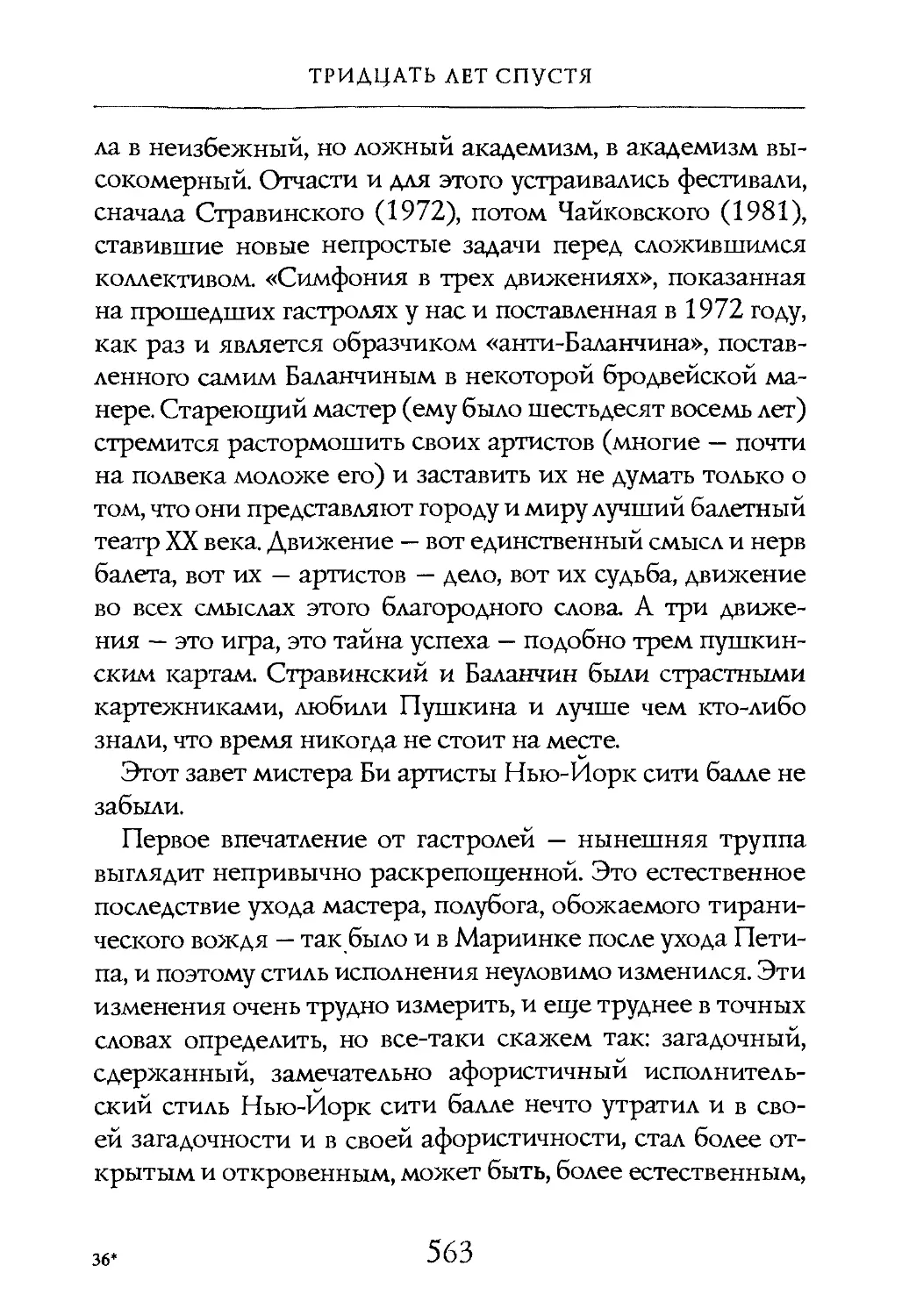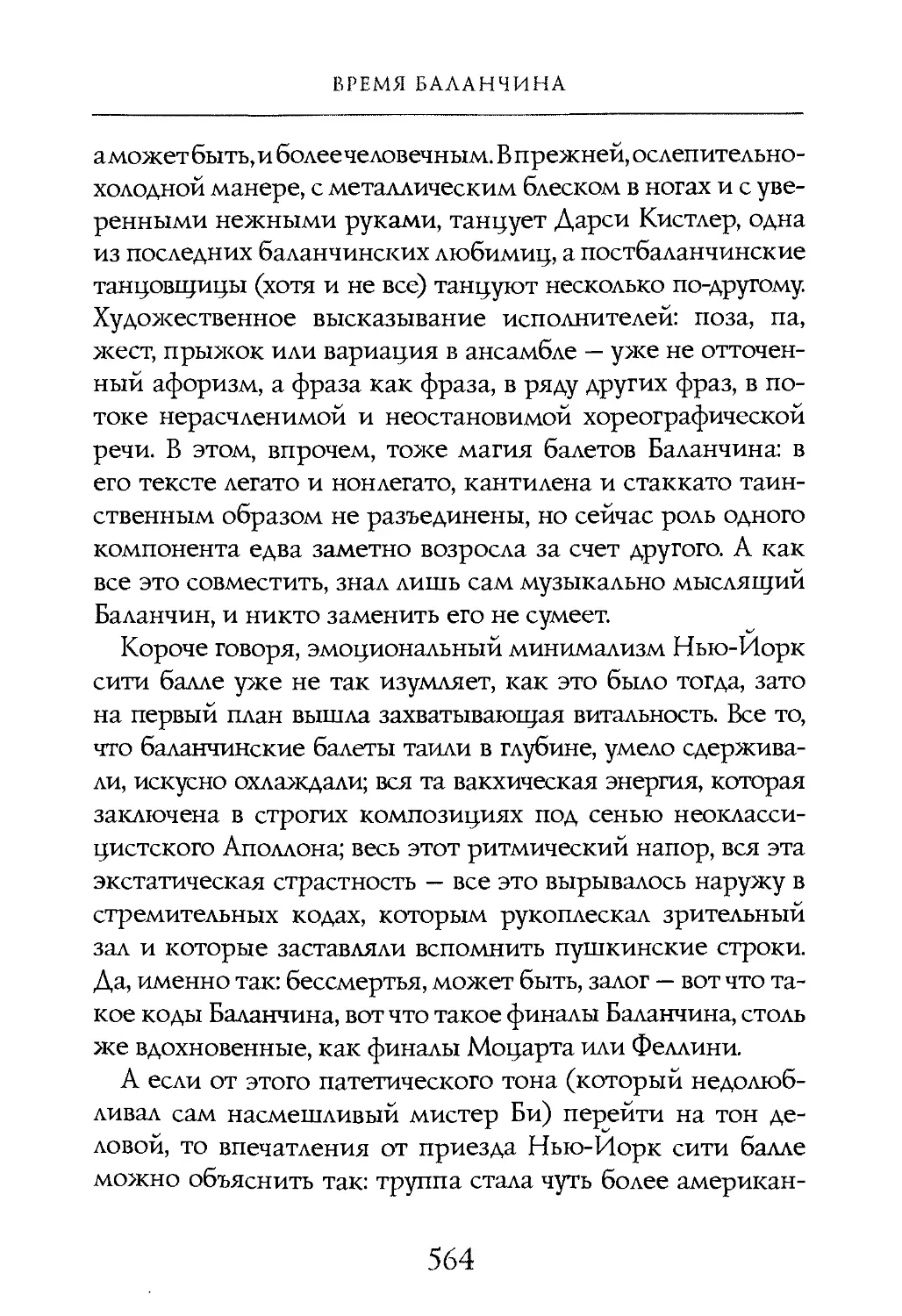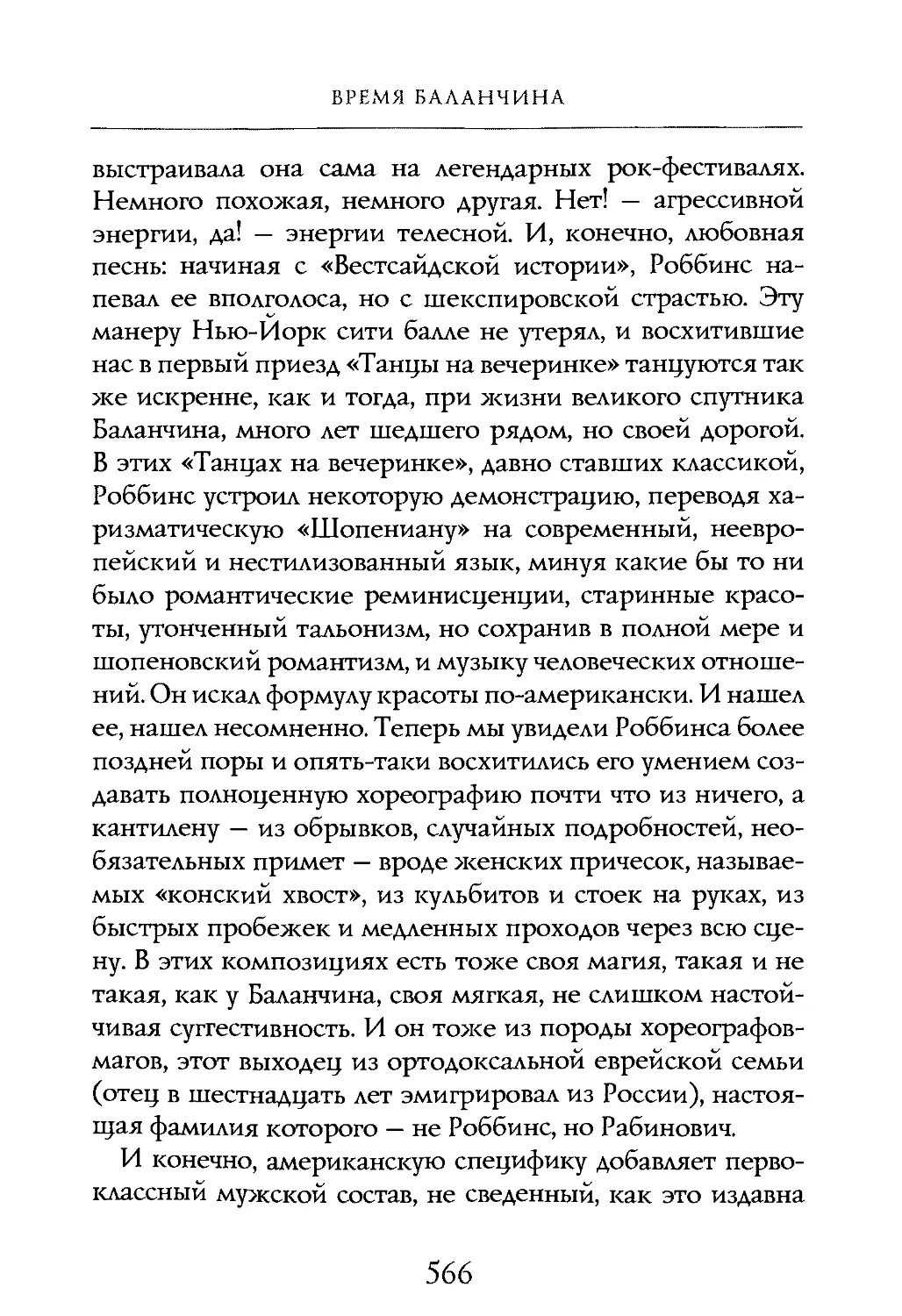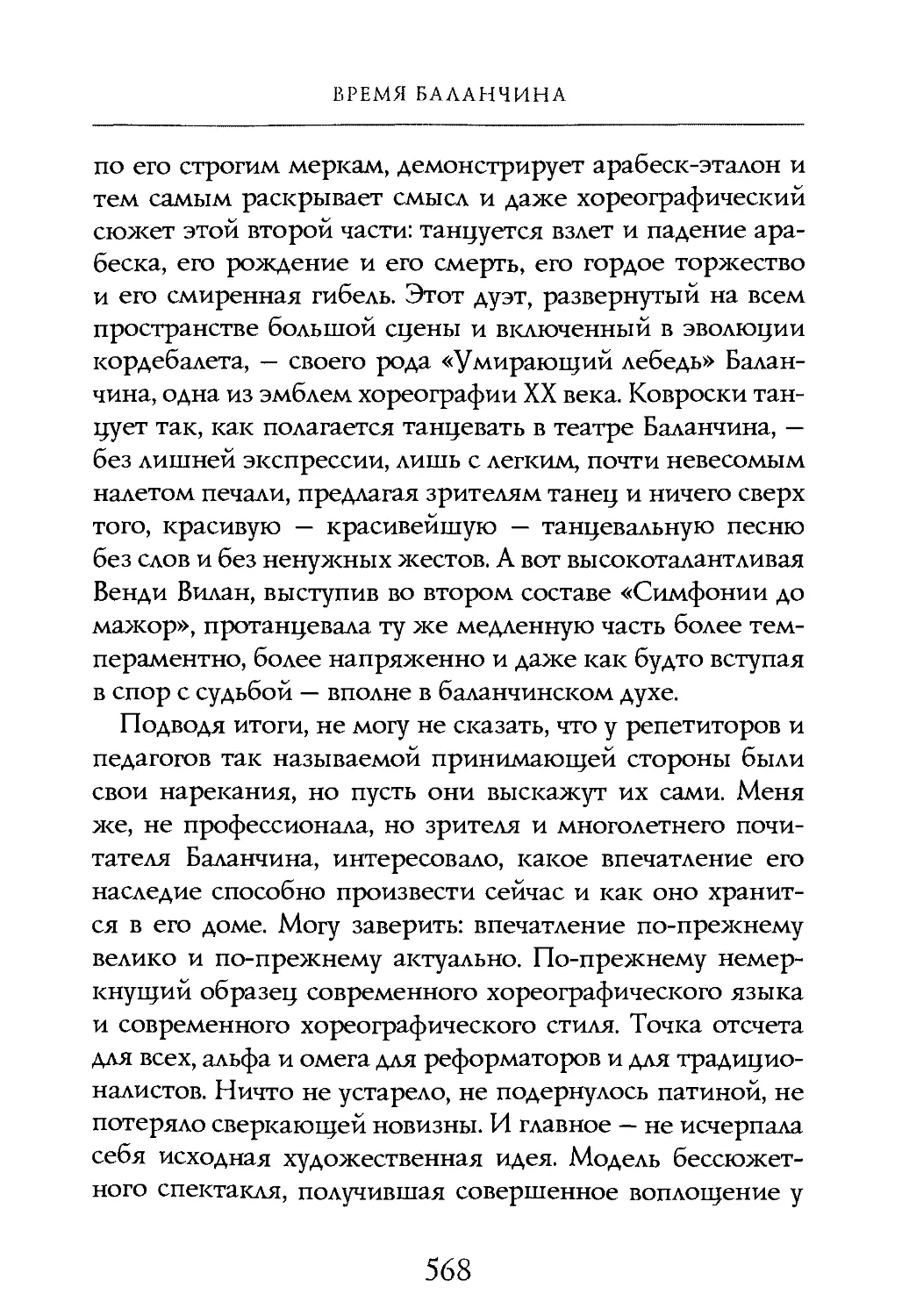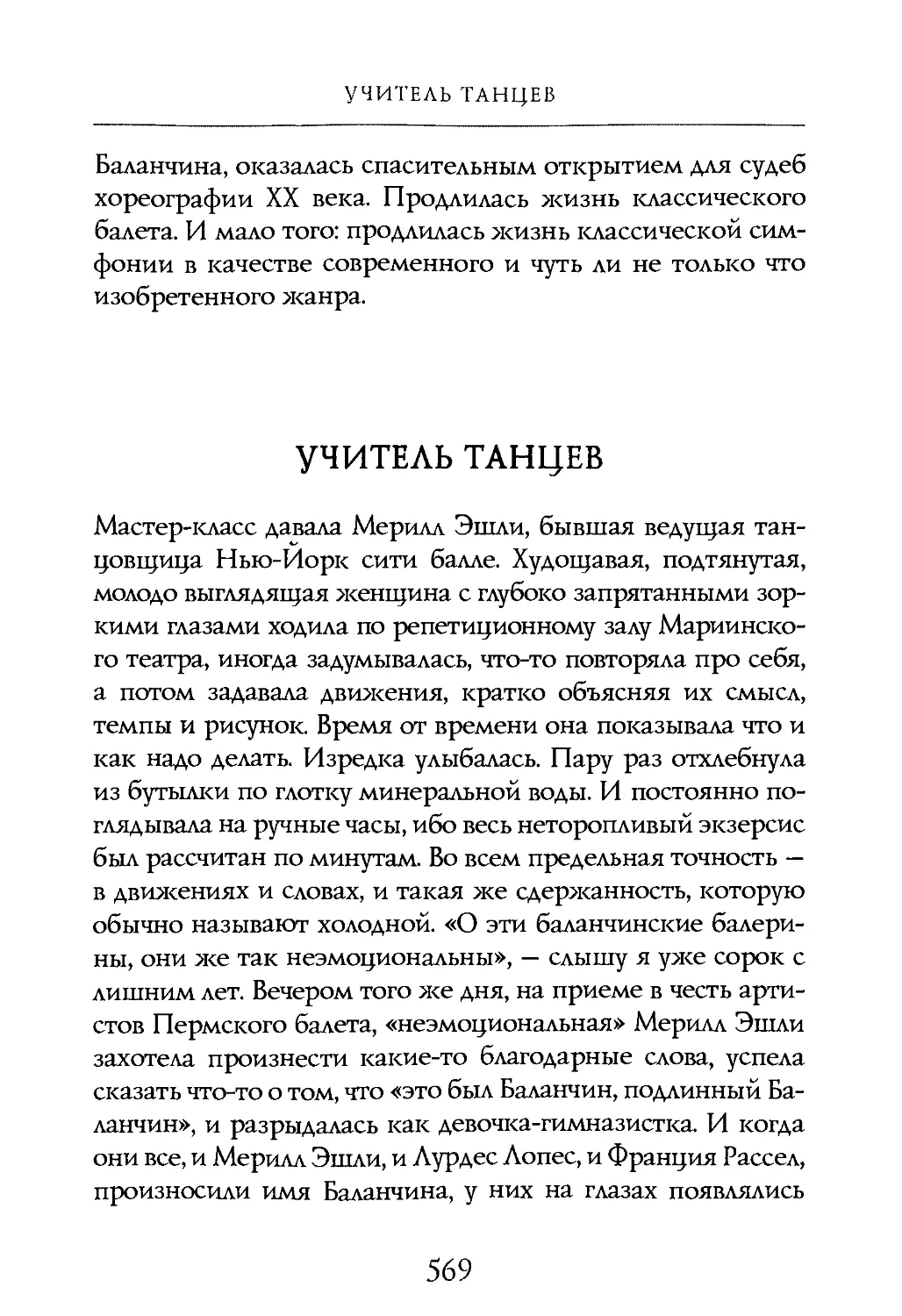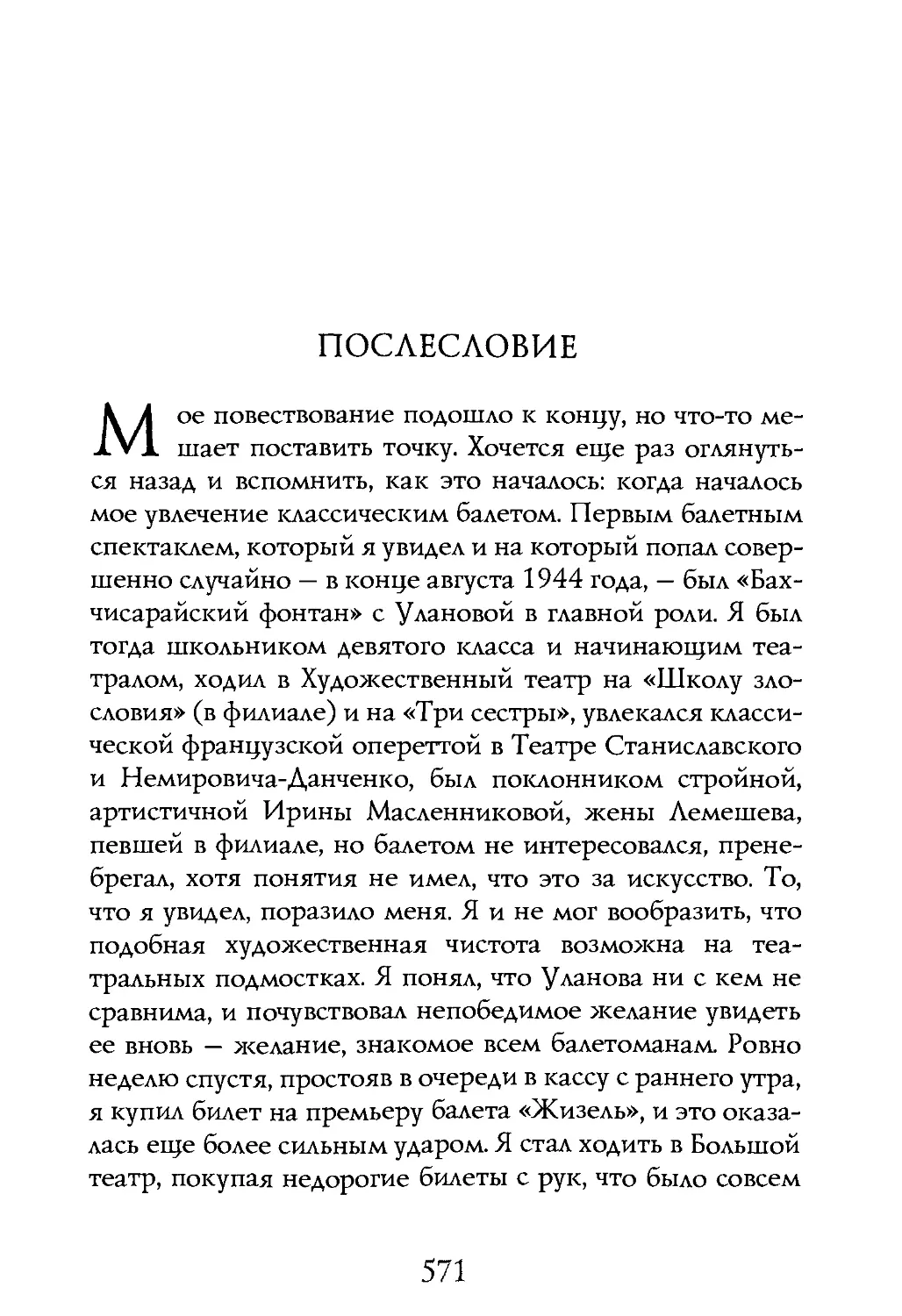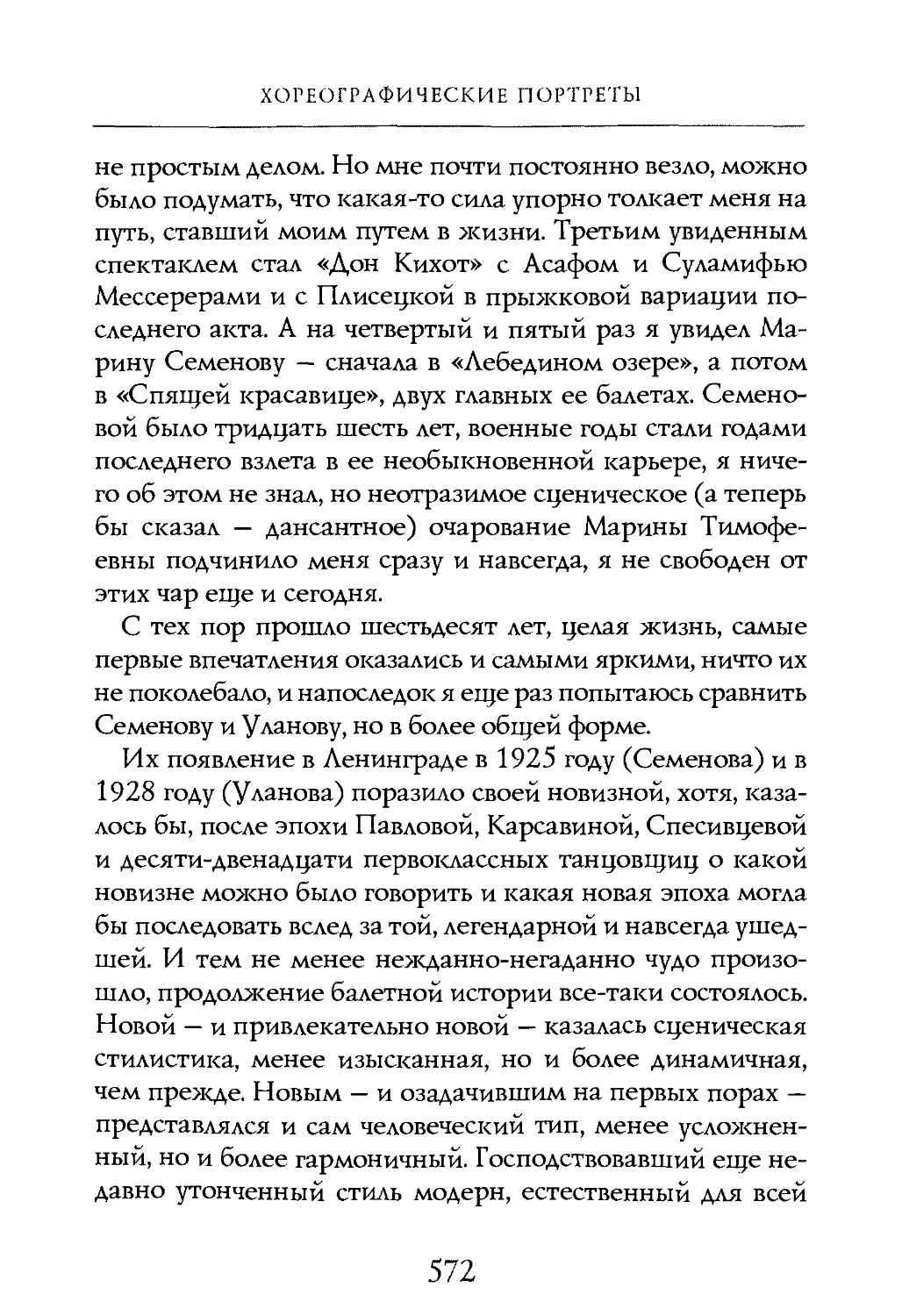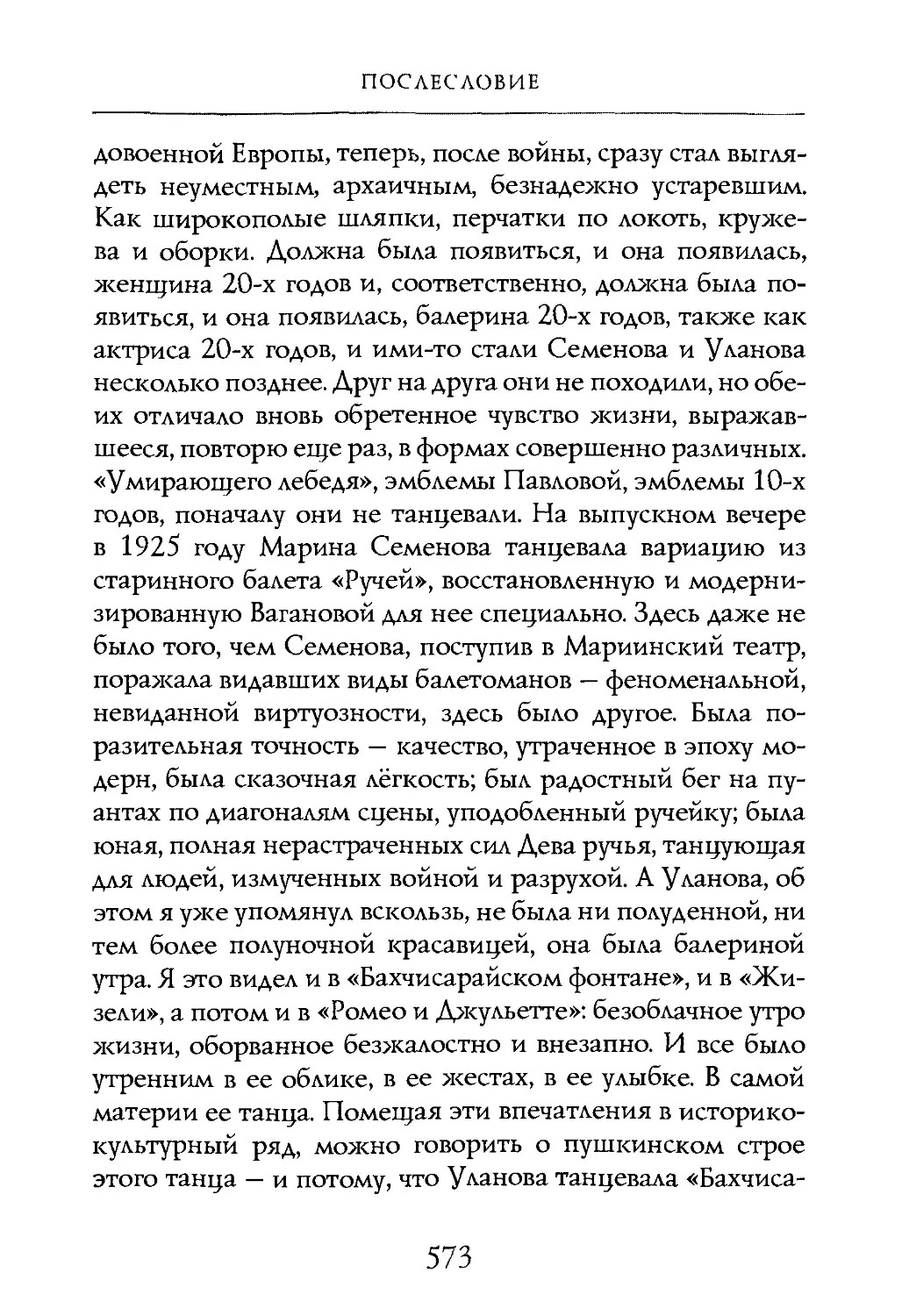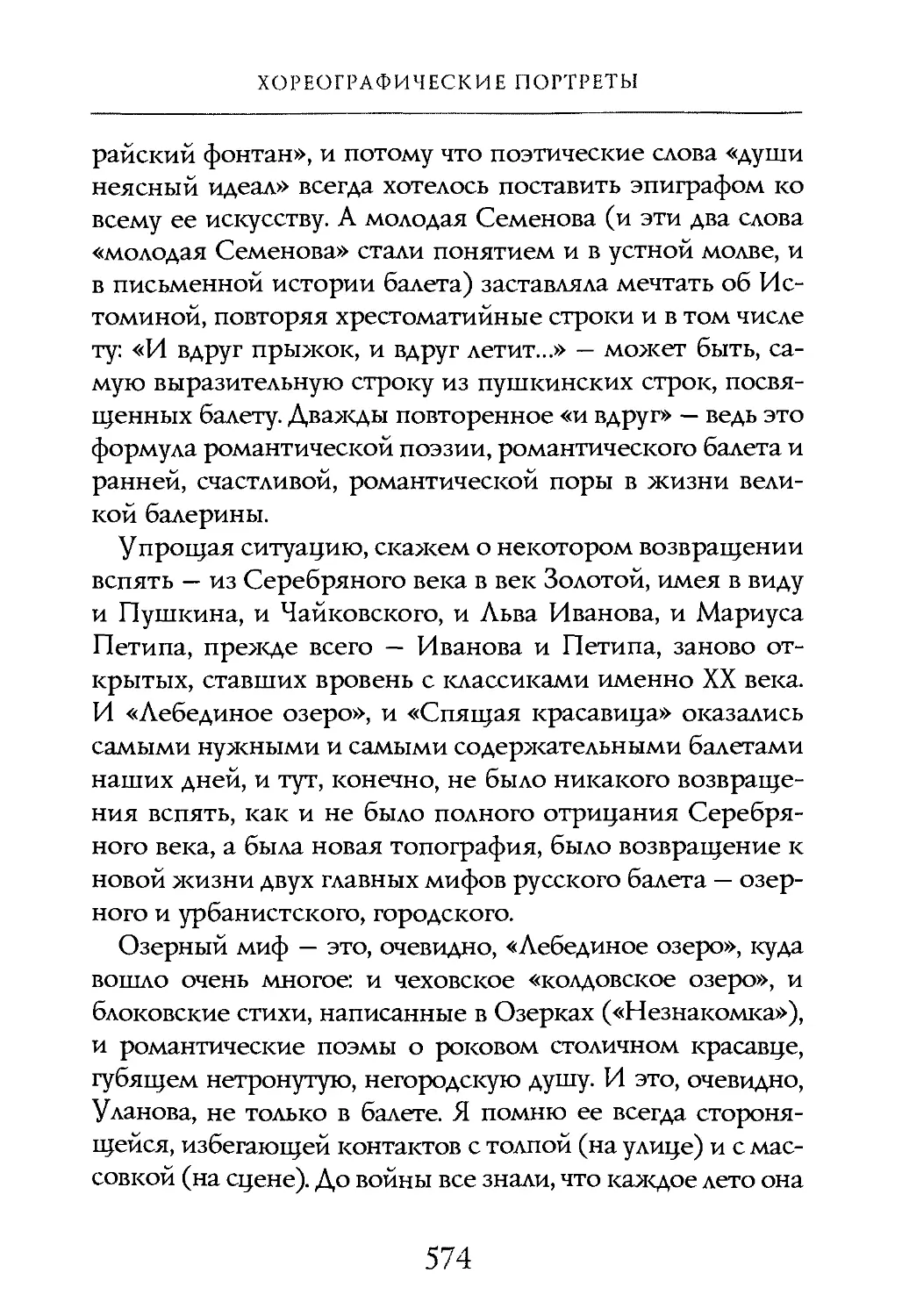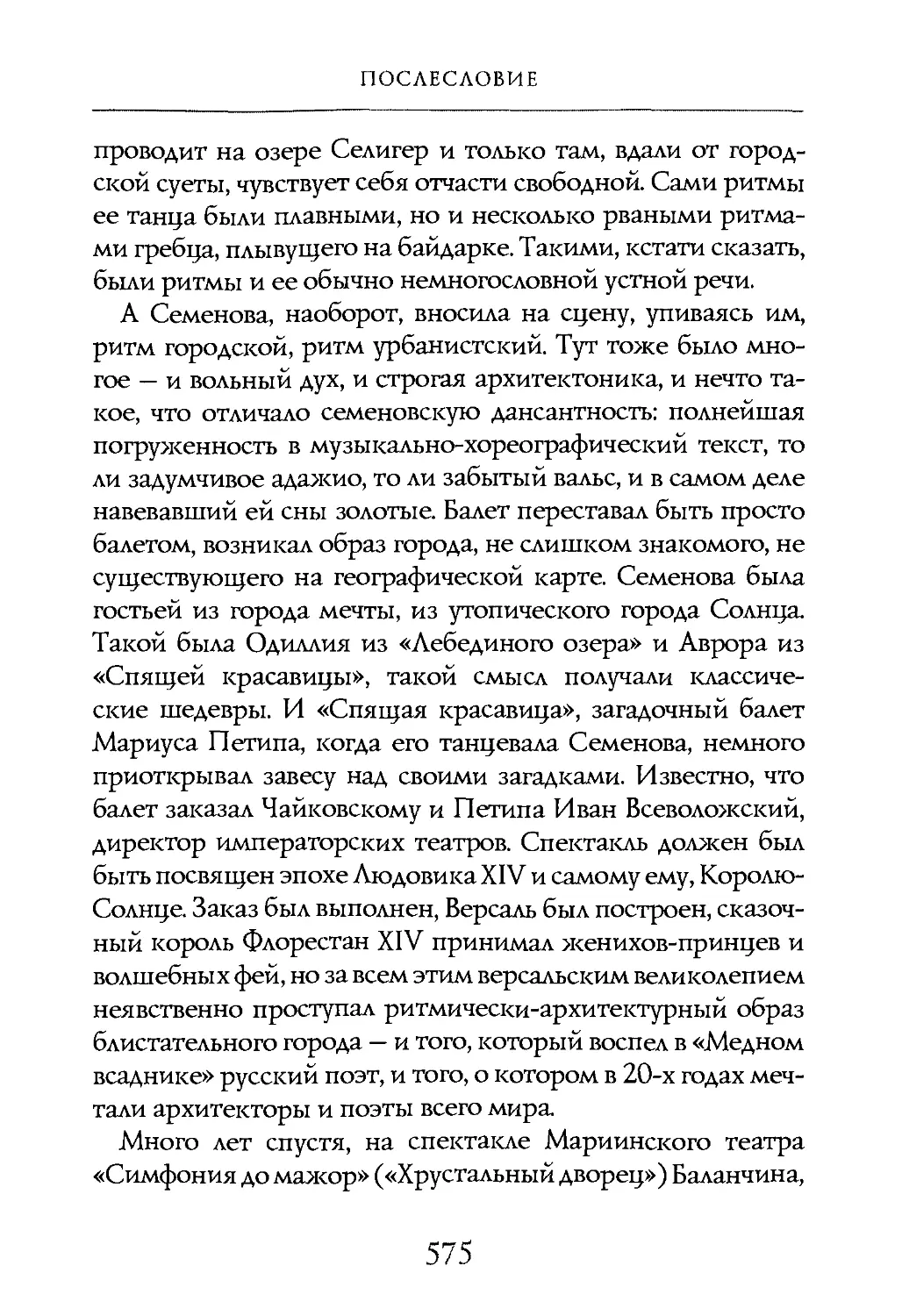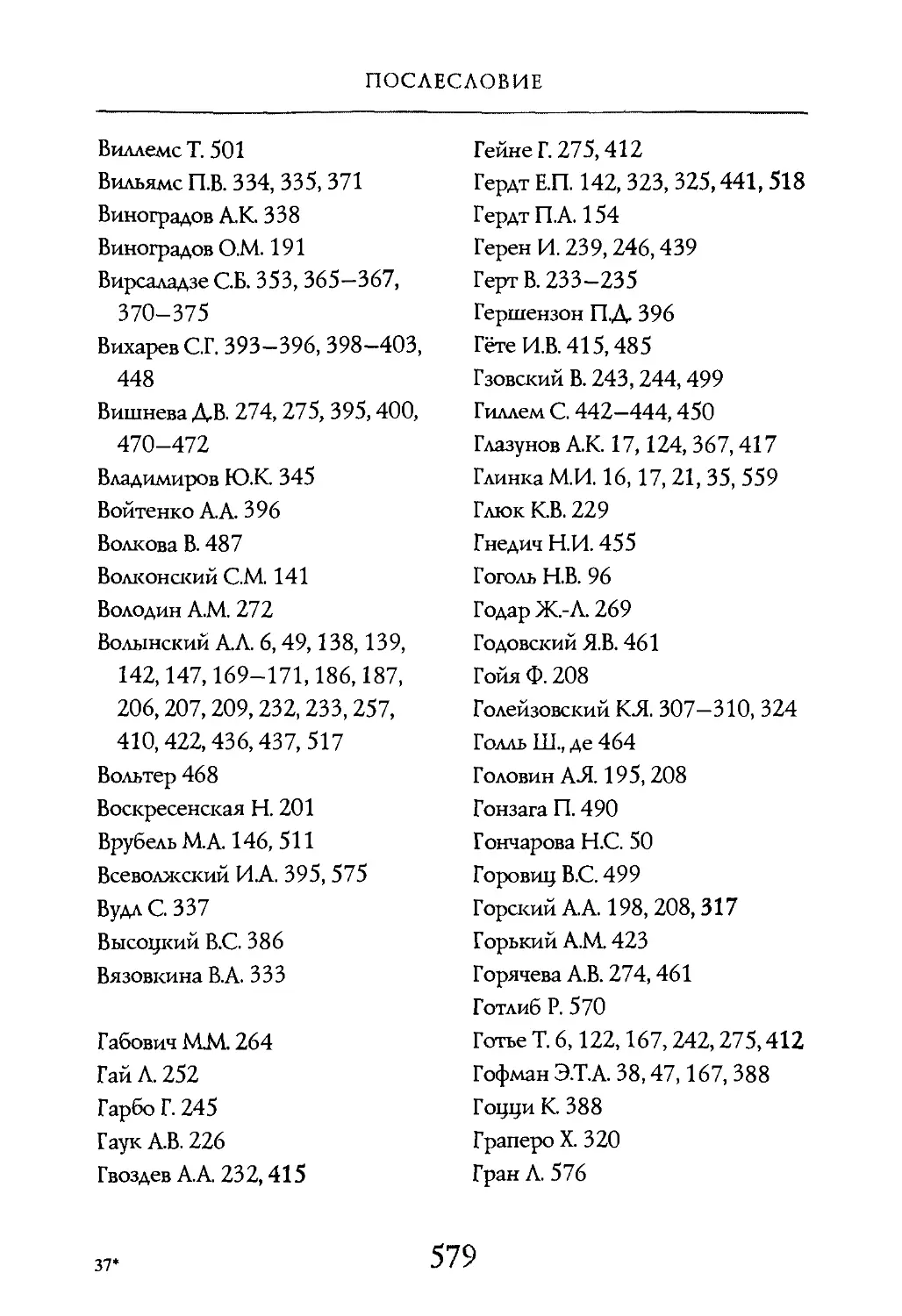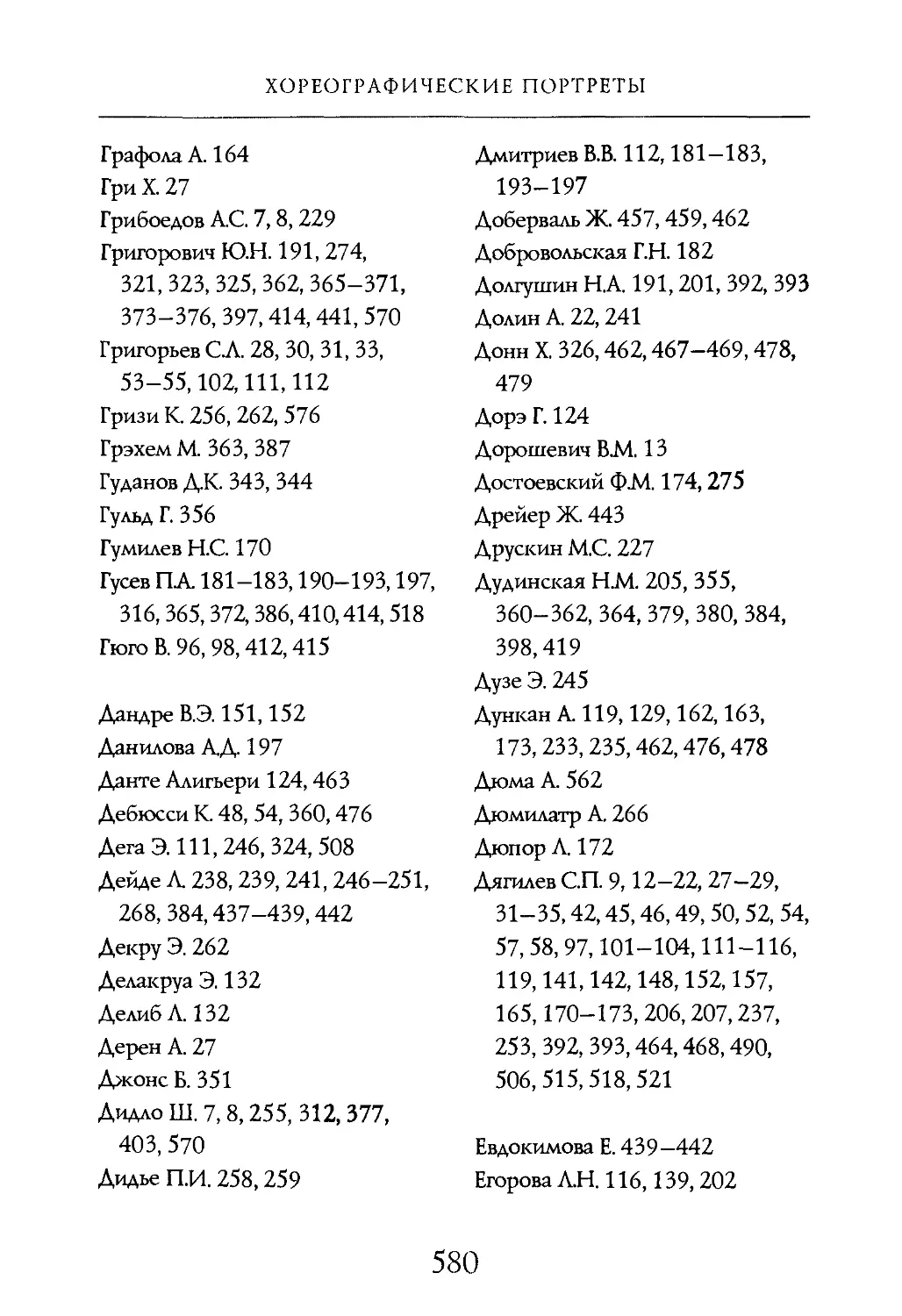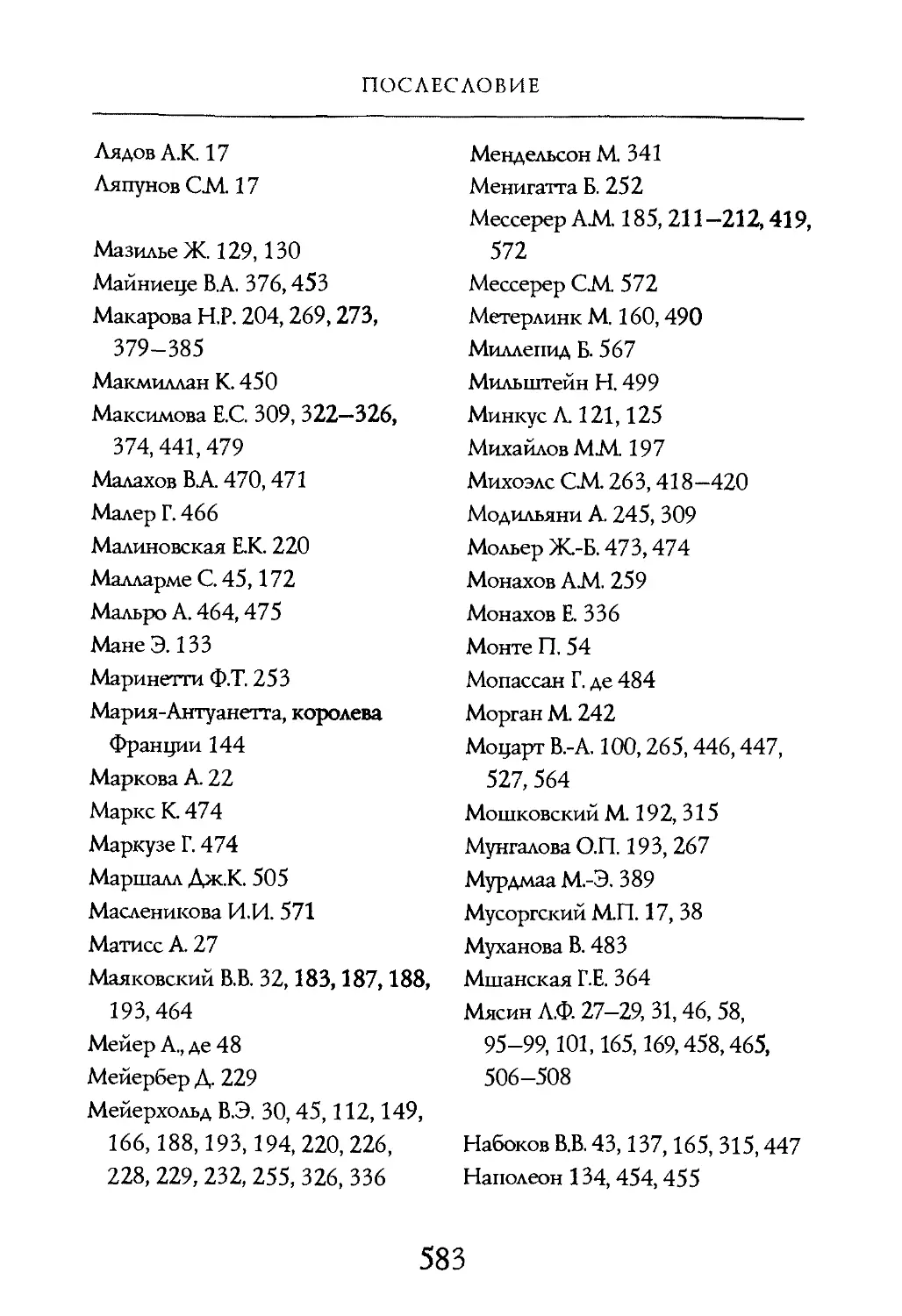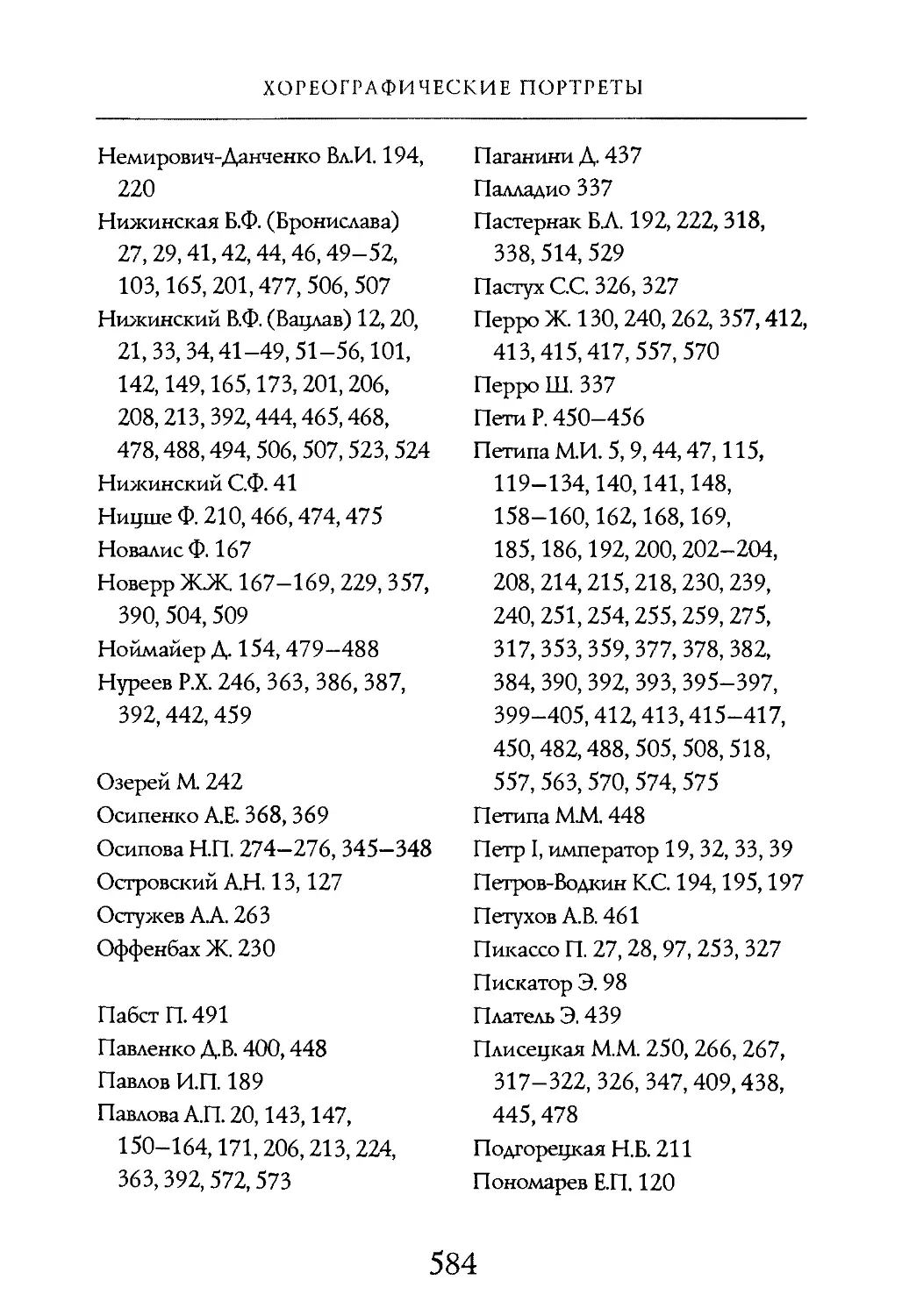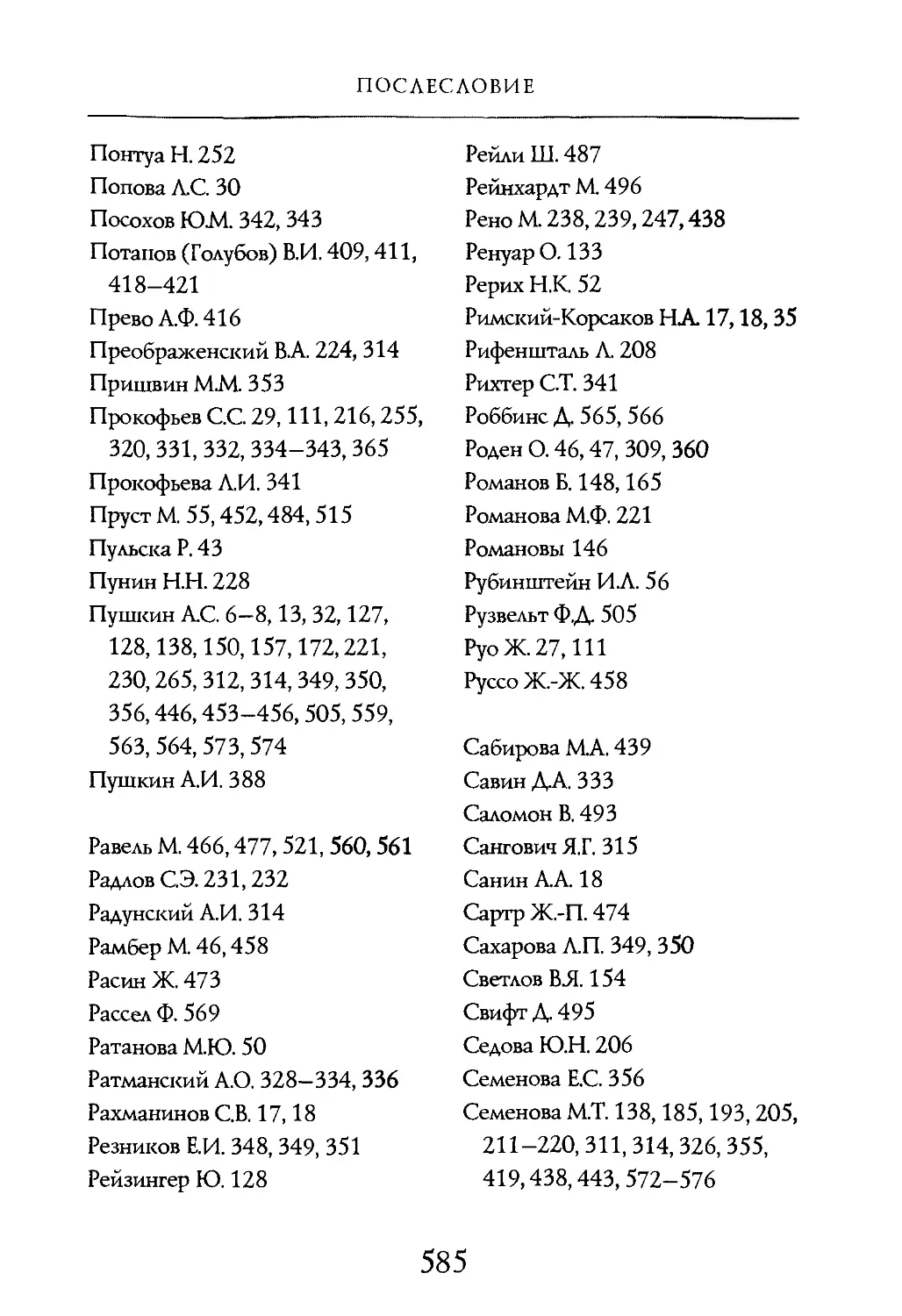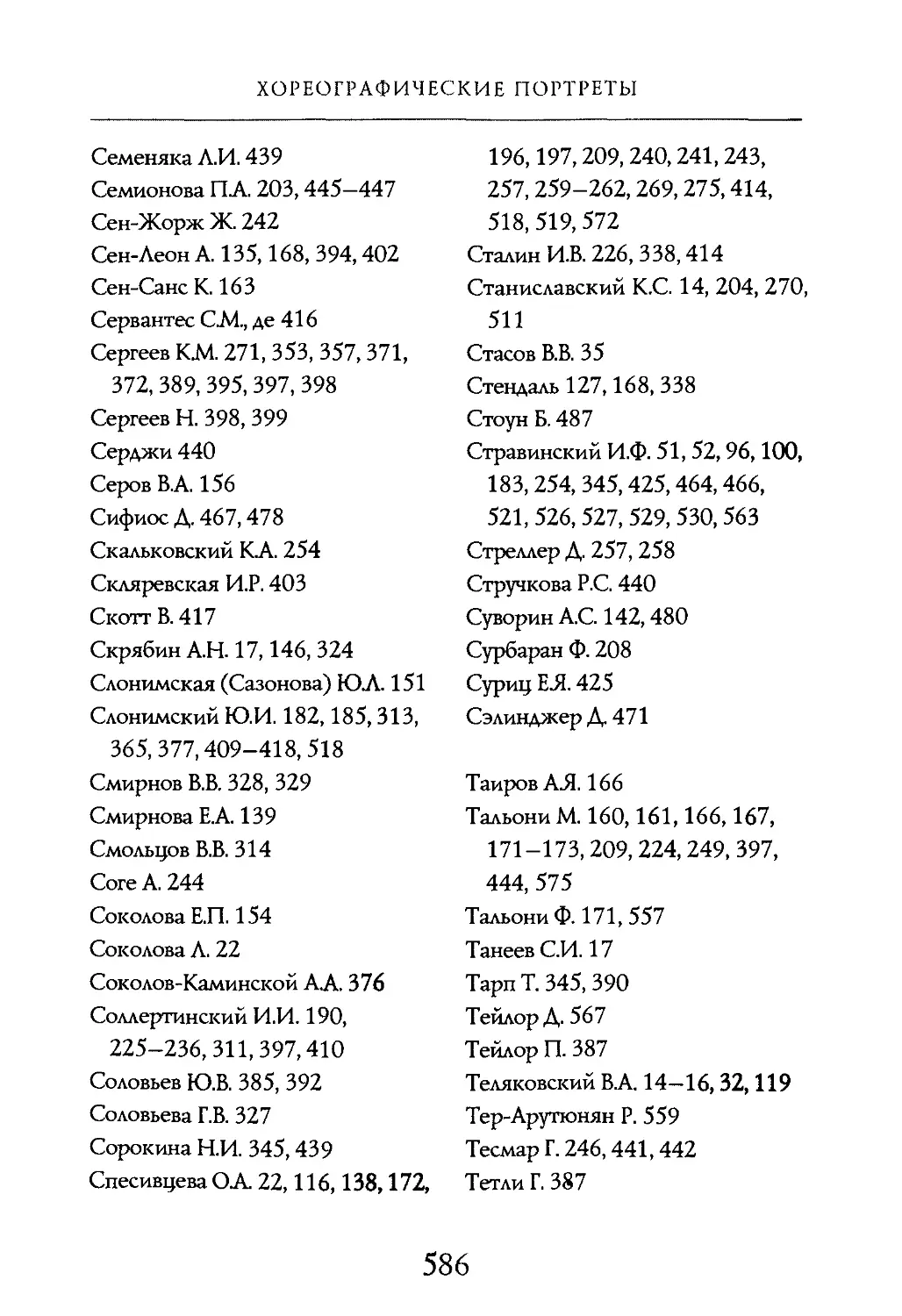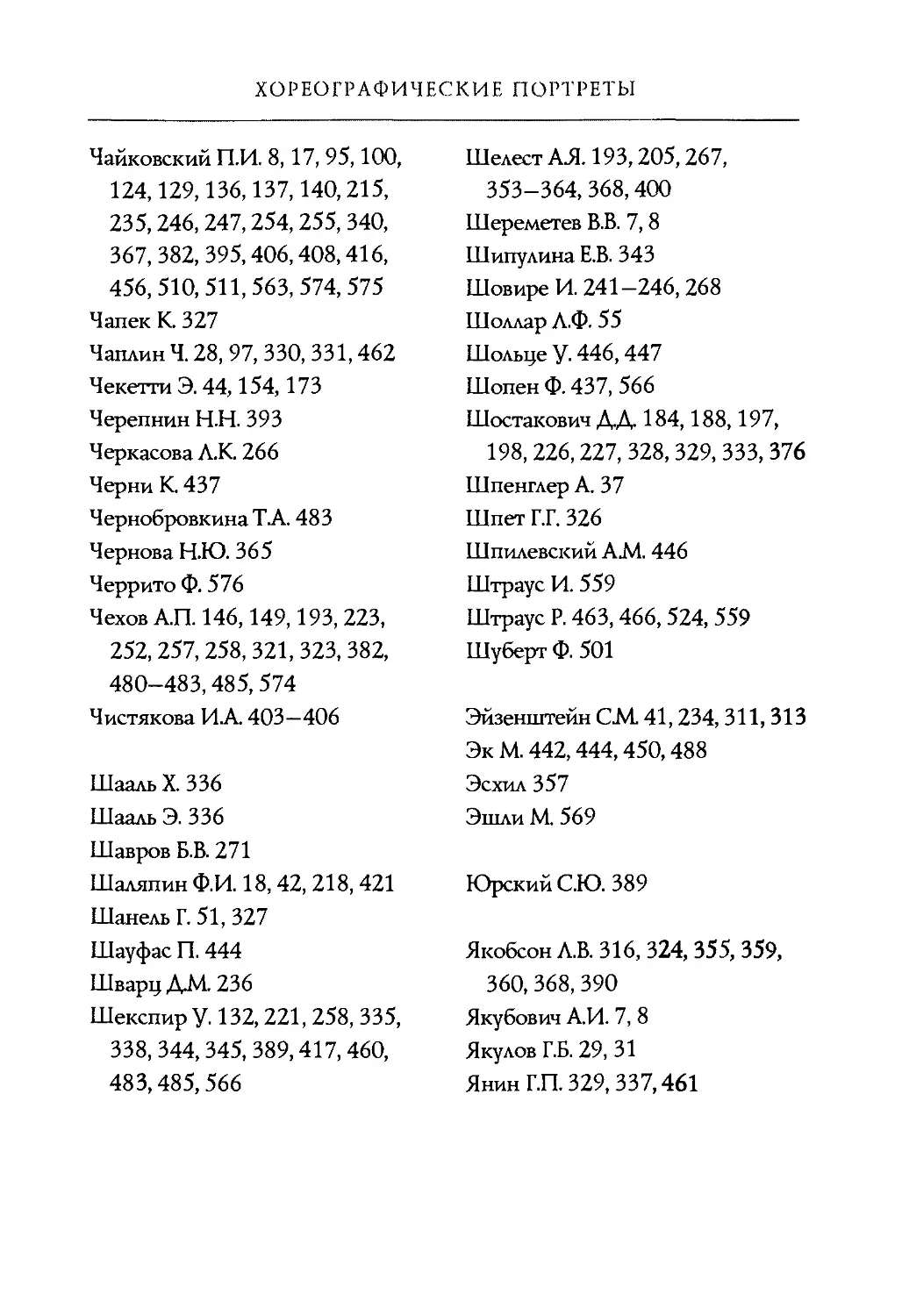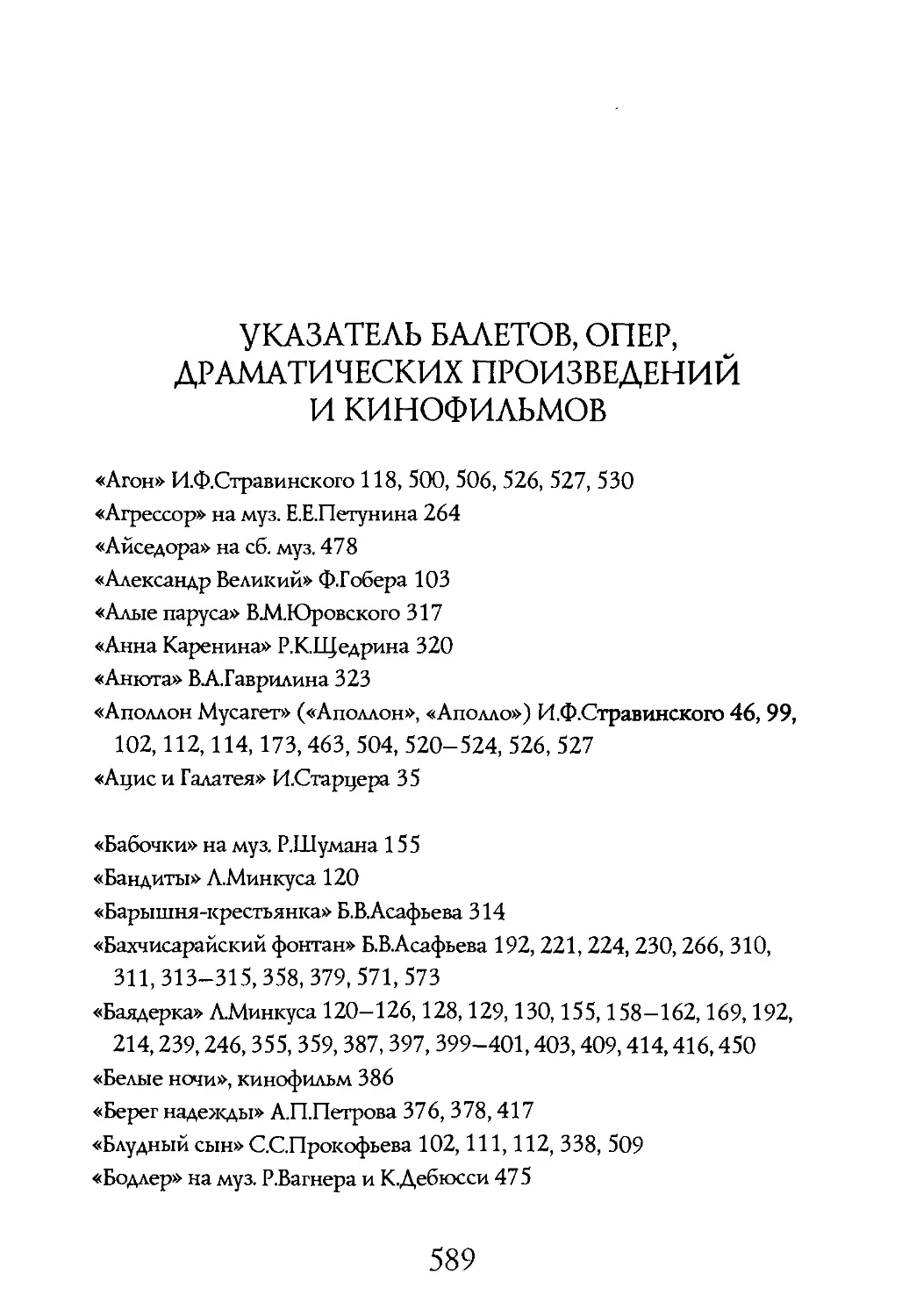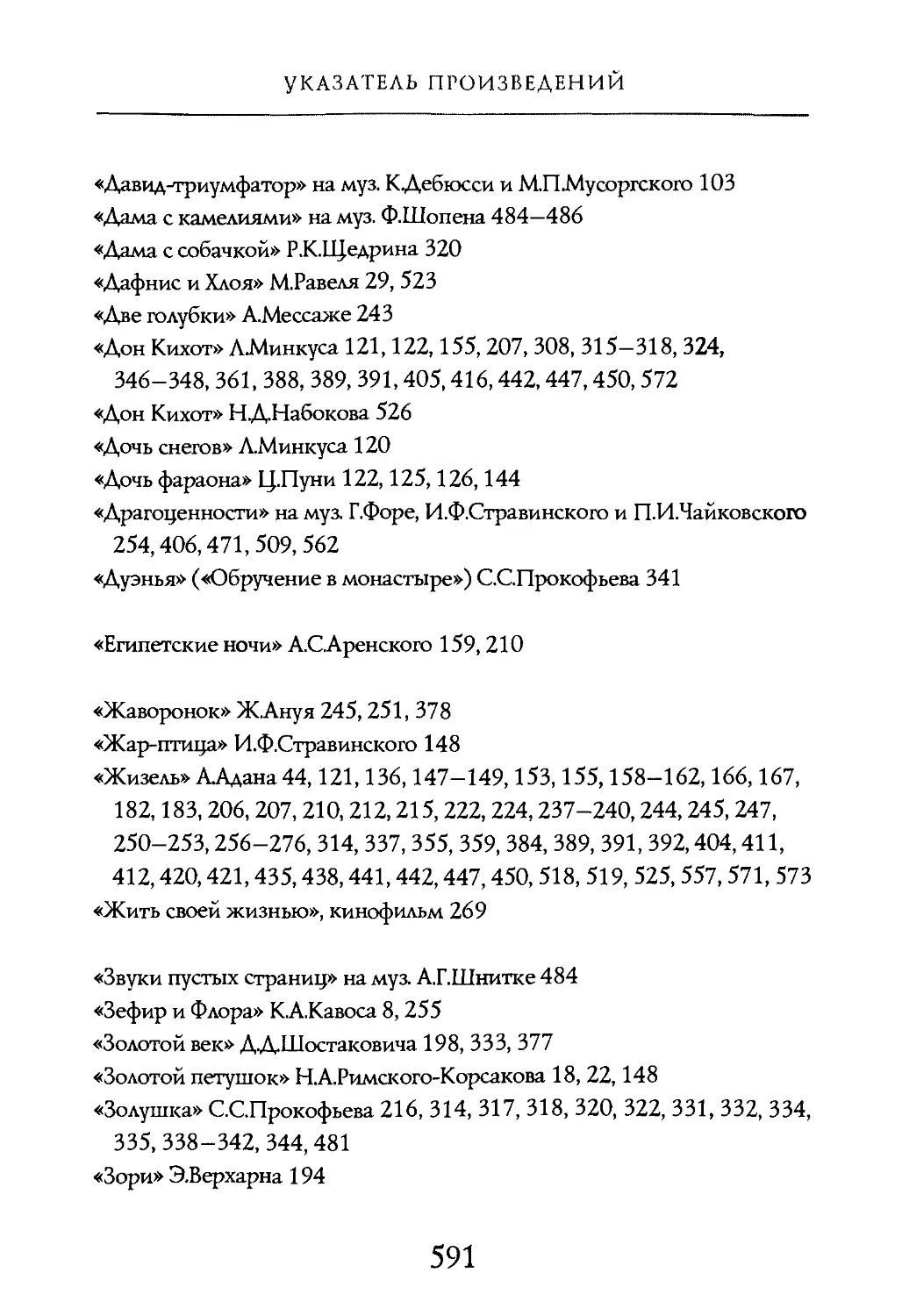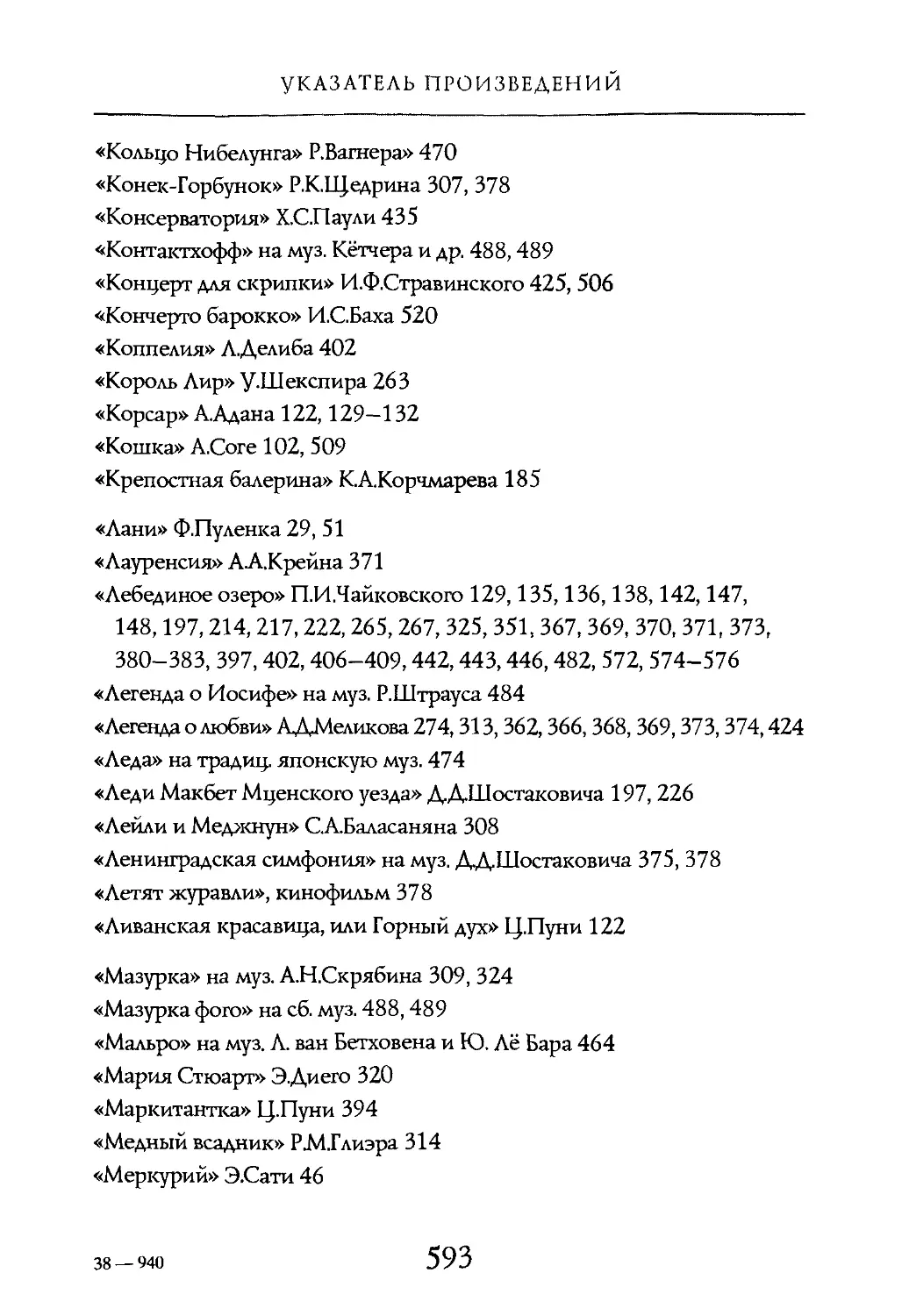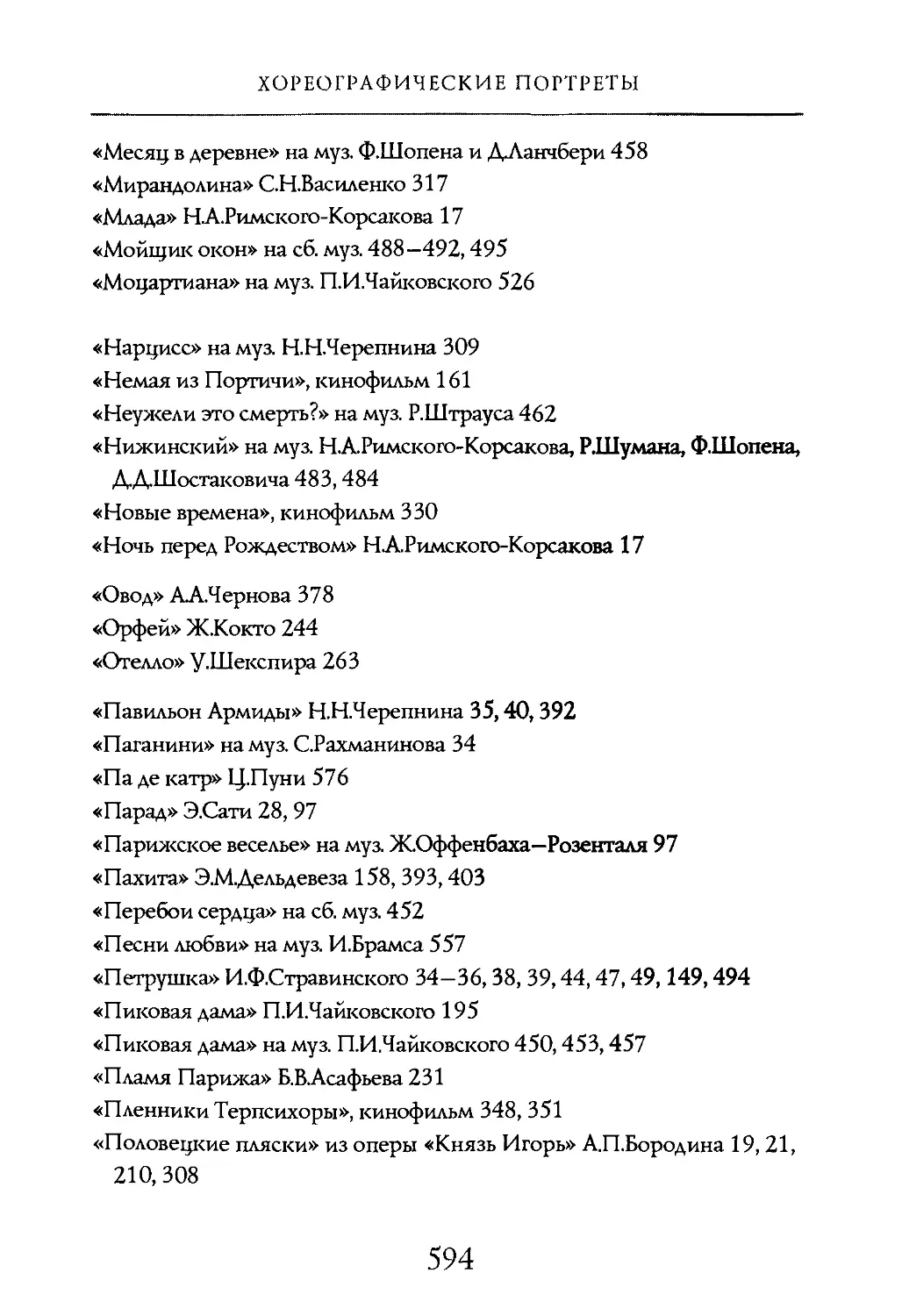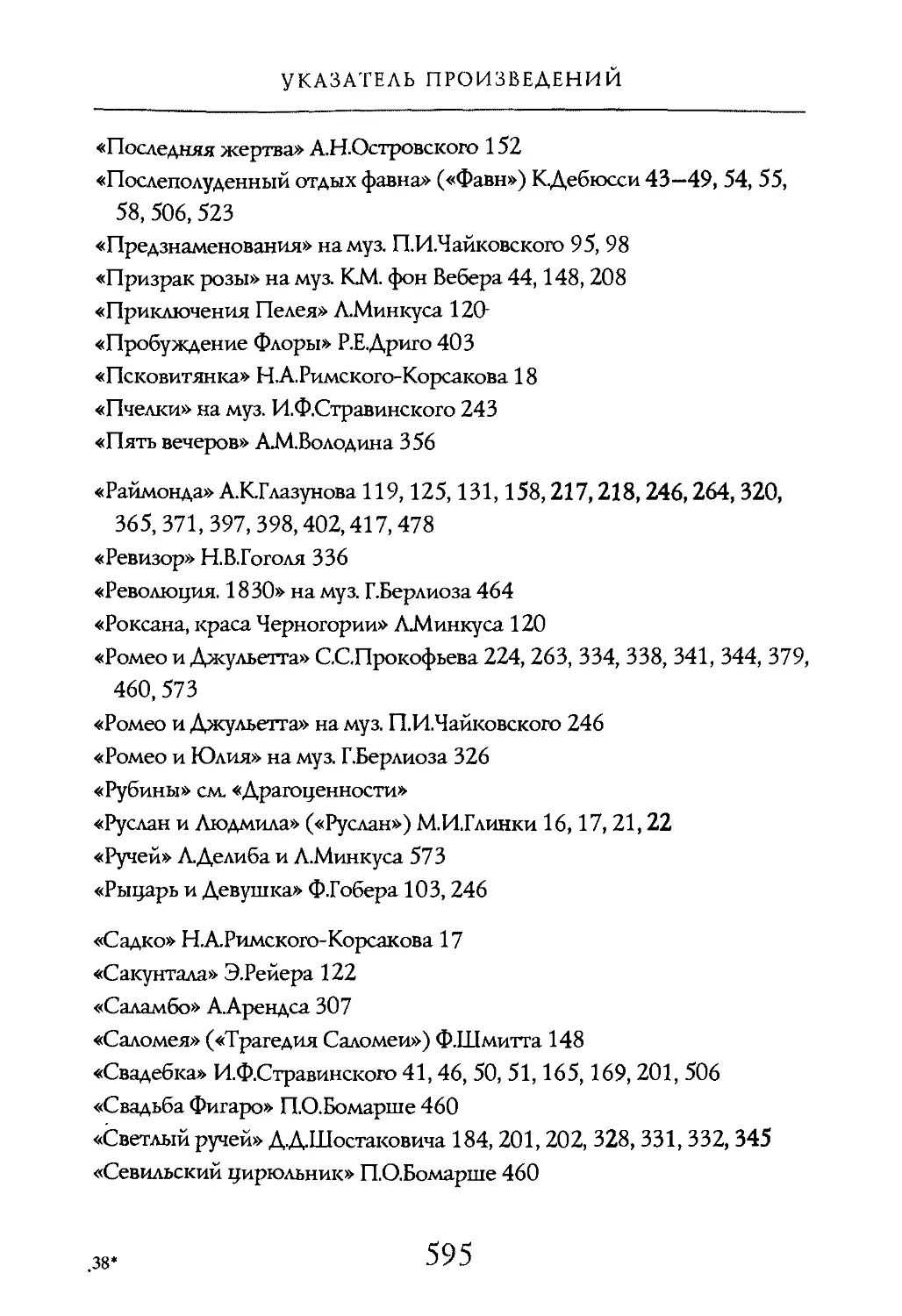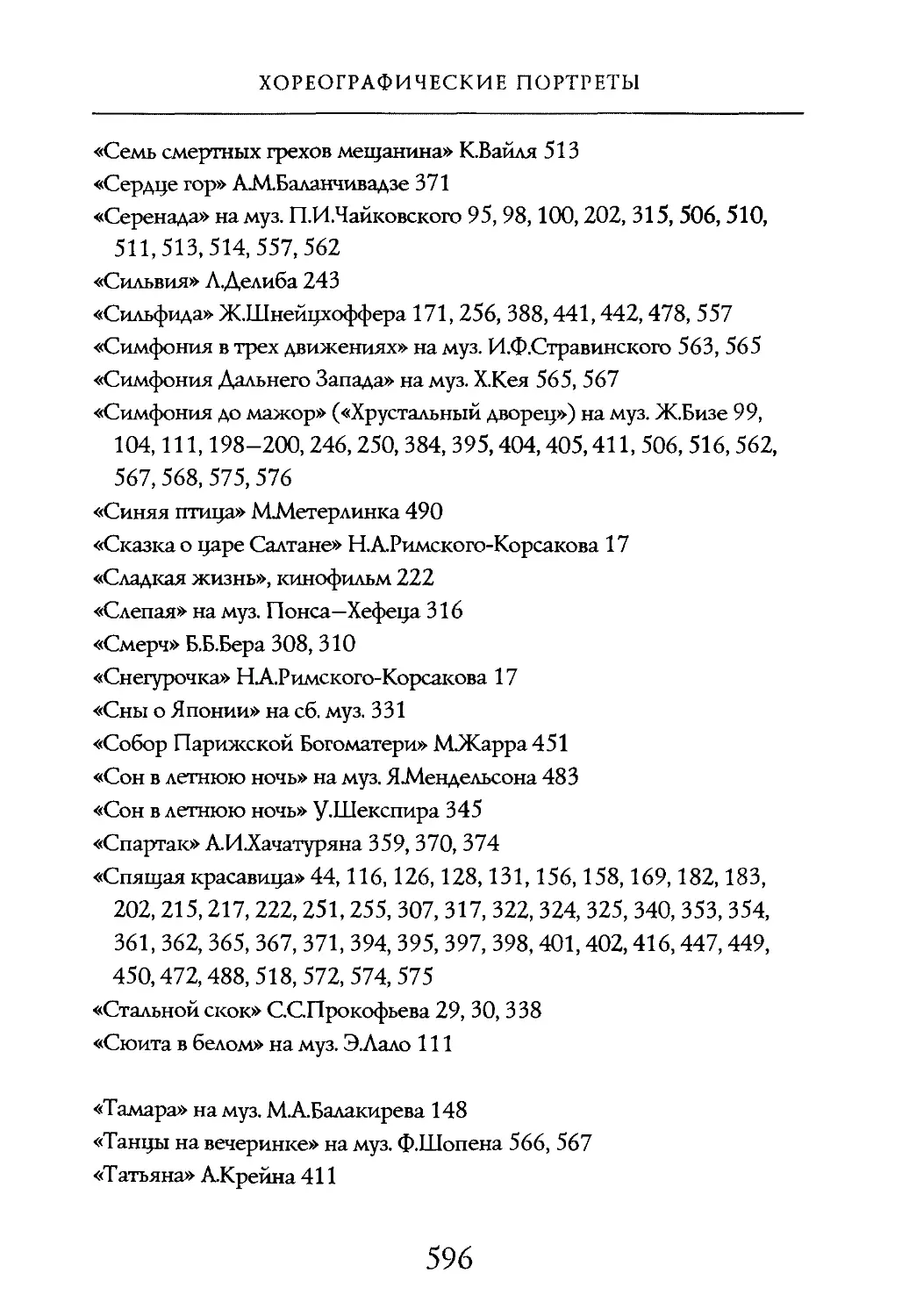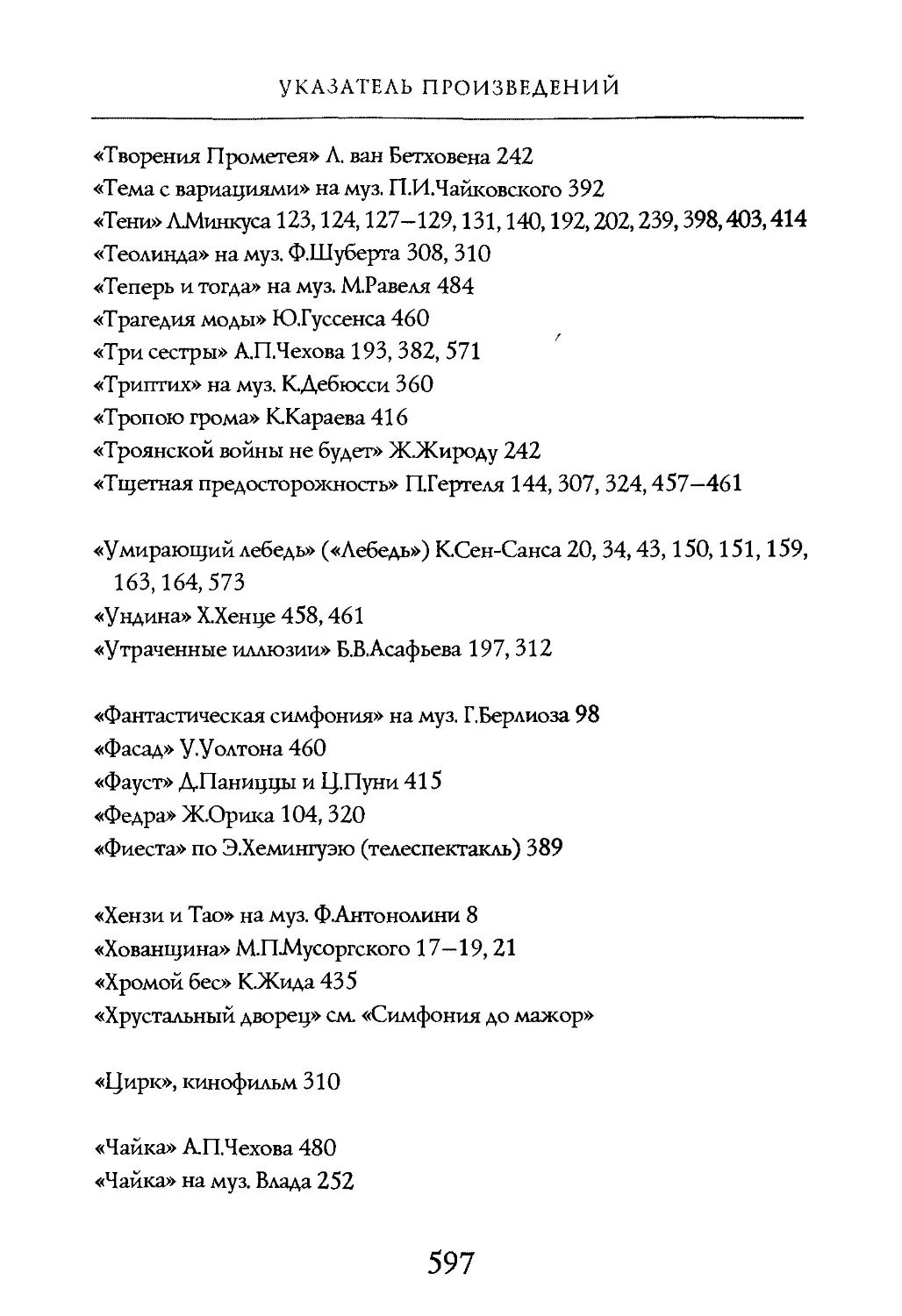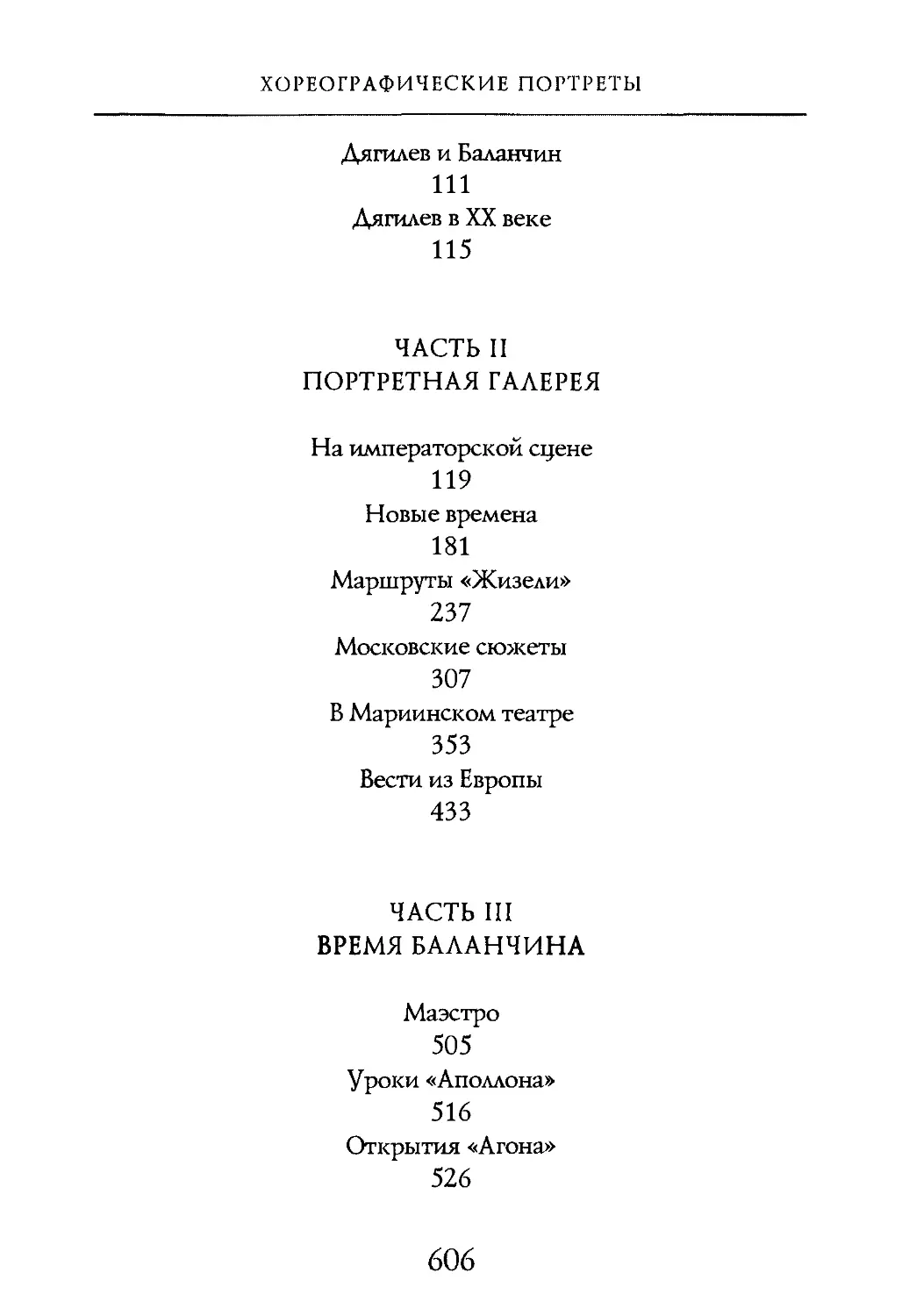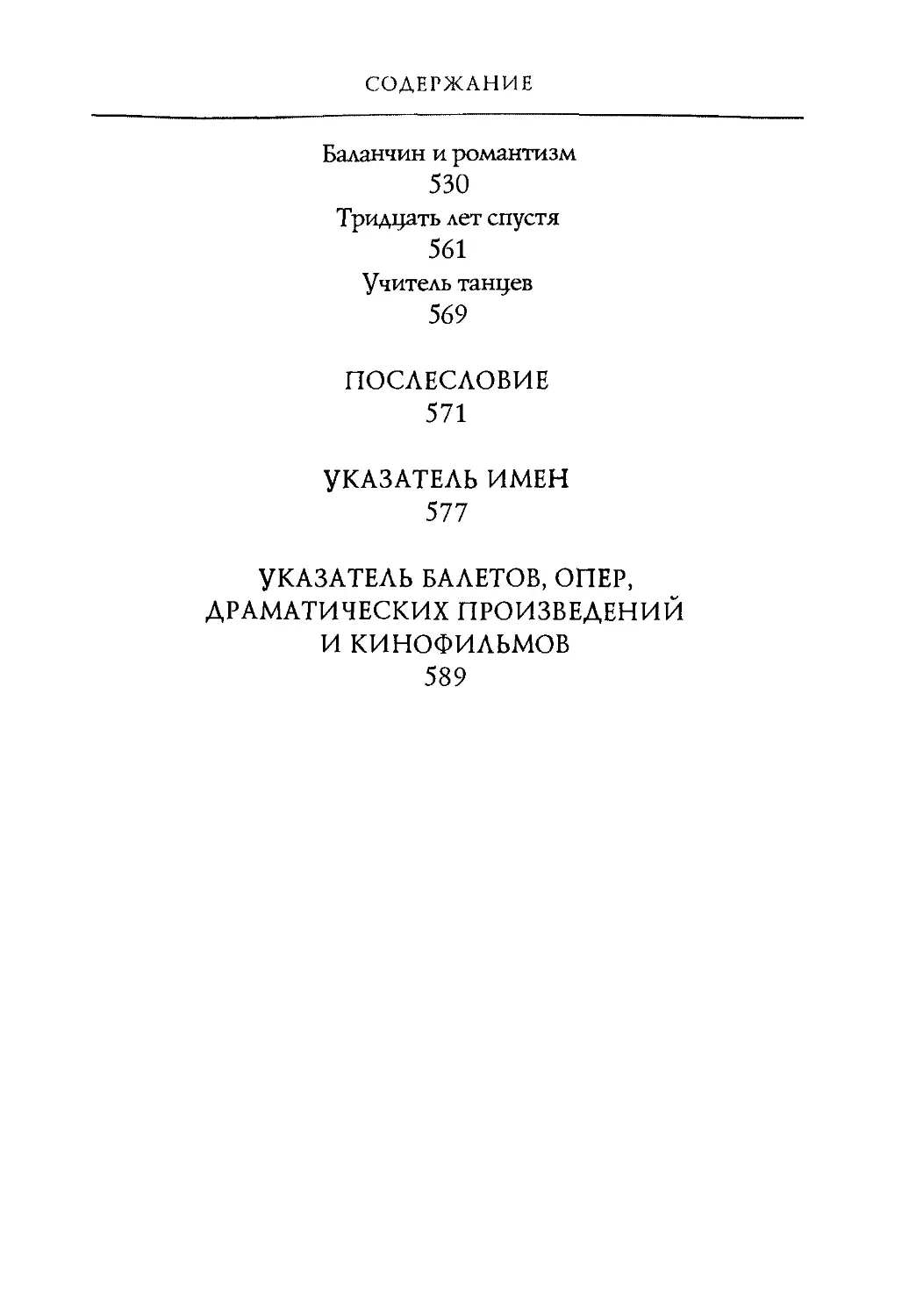Автор: Гаевский В.М.
Теги: хореографические представления хореография театр танцы балет союз театральных деятелей российской федерации балетная критика
ISBN: 978-5-87334-113-9
Год: 2008
Текст
СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В. Гаевский
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
вх IJERI.S TATASHiN
Издательство
АРТИСТ. РЕЖИССЕР. ТЕАТР
Москва 2008
ББК 85.335.42
УДК 792.8
Г-13
Гаевский В. М.
Г-13 Хореографические портреты / Гаевский В. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 2008 г. — 608 с., ил.
ISBN 978-5-87334-113-9
«Хореографические портреты» — заключительная часть трилогии выдающегося балетного критика. Первые две («Дивертисмент» и «Дом Петипа») вышли в 1981 и 2000 годах. Книга посвящена наиболее значимым явлениям и наиболее ярким действующим лицам в балетном театре XX века — от Дягилева до Бежара, от Фокина до Форсайта, от Нижинского до Барышникова, от Павловой до Лопаткиной, включая Баланчина, Григоровича, Уланову, Плисецкую и других. Основная мысль автора: именно XX век, вопреки мрачным прогнозам и реальным историческим обстоятельствам, стал временем расцвета и повсеместного распространения искусства классической хореографии. Для профессионалов и любителей балета.
ISBN 978-5-87334-113-9 © ВМ Гаевский, 2008 г.
© «Артист. Режиссер. Театр», 2008 г.
© Л.М. Сорокина, оформление, 2008 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга состоит из серии реальных — написанных по воспоминаниям или непосредственно с натуры — и воображаемых портретов. Избранные персонажи — танцовщицы и танцовщики, балетмейстеры и художники, которых я знал, о которых думал и читал, которыми восхищался. А также балетные критики, у которых учился. Все они работали в прошедшем веке, за пределы которого я старался не выходить — за двумя исключениями потому, что жизнь балетов Льва Иванова и Мариуса Петипа продолжилась и в наше время. Отдельных балетов я тоже коснусь. И даже отдельных хореографических эпизодов.
Если не обо всех, то о многих персонажах — их почти шестьдесят — я писал в прошлом и полагал, что сказал все, что хотел и что смог сказать, что вновь возвращаться к старым привязанностям нет смысла и что пора заняться другими темами и другими именами. Не получилось. Слишком сильны впечатления, так или иначе связанные с балетным театром. Слишком многим наполнило — а в некотором смысле и оберегало — мою жизнь случившееся в молодости знакомство с балетом. Да и прощаться с театральной тематикой профессиональному критику так же трудно, как профессиональному актеру — с театральной карьерой. Поэтому и возник план еще одной книги, отчасти исследовательской, отчасти эссеистской, отчасти мемуарной,
5
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
состоящей из новых текстов, коротких или пространных, написанных в последние годы в портретном жанре.
Жанр хореографического портрета придуман, конечно, не мною. Мне принадлежит лишь конструкция из двух слов, положенная в название по аналогии с заголовком знаменитой книги Федора Васильевича Лопухова «Хореографические откровенности». 14 кстати сказать, именно Лопухов был великолепным, образцовым портретистом. В его книге «Шестьдесят лет в балете» даны краткие и очень точные характеристики артистов, с которыми сводила его судьба, а кроме того, продемонстрирован способ строго профессионального анализа ускользающего от аналитики искусства. Лопухов рассказывает о легендарных мастерах, но избегает легенд, соответствующей легендам стилистики, сопутствующих легендам слов и не стесняется писать о мышцах и плие, мягком и жестком.
Значит ли это, что поэтам вход запрещен? Нет, конечно. Поэты, а потом и критики-театроведы создали жанр хореографического портрета: Теофиль Готье во Франции в Париже, Аким Волынский и Андрей Левинсон — у нас, в Петербурге. 14 первое имя в этом ряду — Пушкин. Строки из первой главы «Евгения Онегина», посвященные Истоминой, — идеальный портрет идеальной балерины. До сих пор историки балета стремятся выяснить, что именно танцевала Истомина, какой спектакль описал Пушкин: «...Блистательна, полувоздушна, / Смычку волшебному послушна... / И вдруг прыжок, и вдруг летит, / Летит, как пух от уст Эола...», — здесь сказано главное, сказано и о наших лучших артистках. Но второй Истоминой мы не увидели и не увидим. Этот тип танцовщицы исчез раз-навсегда. Может быть, его никогда и не существовало. «Блистательна» — понятно, не требует объяснений, эпитет из принятого словаря, но что
6
ПРЕДИСЛОВИЕ
означает «полувоздушна», таинственное пушкинское слово? То ли зарождение элевации, то ли ее неполноту? Была ли Истомина воздушной или не была? Кто нам ответит? С тех легендарных лет прошло почти два столетия, и даже полувоздушность становится редким даром. И потому что чрезвычайное развитие получила виртуозная техника работы на полу. И потому что современный танец слишком наполнен волевыми импульсами. И потому что современных танцовщиц отличает слишком сложная психологическая структура. В отдельных мгновениях — да: как пух от уст Эола, но эти мгновения случаются нечасто. Изменился художественный образ балерины, изменился ее социальный статус. Ушла в прошлое танцовщица-пушинка, которую воспевают в стихах. Ушла в прошлое и танцовщица-содержанка, которую описывают в прозе. В бумагах Пушкина второй половины 30-х годов нашли план ненаписанного прозаического произведения (не то повести, не то романа), в котором повзрослевший поэт задумал вспомнить «волшебный край» и знаменитую «четверную» дуэль из-за Истоминой (Завадовский и Шереметев, Якубович и Грибоедов). План очень короткий, но на редкость выразительный: «Две танцовщицы — Балет Дидло в 1819 году — Завадовский. Любовник из райка — сцена за кулисами — дуэль — Истомина в моде. Она становится содержанкой, выходит замуж... Истомина в свете. Ее там не принимают» — и тд. (полностью напечатан и обстоятельно прокомментирован в книге Ю.Слонимского «Балетные строки Пушкина»). Слова эти менее известны, чем строки «Онегина», а между тем здесь тоже портрет, прозаический, сочувственный и нелицеприятный.
Но вернемся к «Онегину», именно там, в знаменитом пушкинском примечании к собственному тексту (абсолютная новизна в практике русской литературы) дан в не
7
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
многих словах портрет Шарля Дидло, первый в истории портрет балетмейстера, а не балерины. Вдумаемся в знакомые слова: «Балеты г. Дидло исполнены живости воображения и прелести необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в них гораздо больше поэзии, нежели во всей французской литературе». «Один из наших романтических писателей» — это, разумеется, сам Пушкин (в черновиках так и написано: «Сам Пушкин говаривал», «А.П. находит»); «живость воображения» — то, что Пушкин более всего ценил («Что нужно драматическому писателю? Философию, бесстрастие, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения...»), а «прелесть необыкновенную» находил лишь в балете. Прилагая пушкинскую формулу к балетным спектаклям последующих — после Дидло — лет, мы обнаруживаем, что редко кто этой формуле удовлетворяет. Как и Истомина, Дидло ушел, чтобы не вернуться. Чтобы воспламенять наше воображение и с помощью пушкинских магических слов остаться в нашем сознании неотменяемым эталоном балетмейстерского ремесла, неумирающим образом балетмейстера-поэта.
Но примечание к первой онегинской главе — это еще и скрытый портрет поэта-балетомана. Это воспоминание о том времени, когда на сцене Большого каменного театра давали «Хензи и Тао» или «Зефира и Флору», а в зрительном зале, на так называемом левом фланге первых рядов кресел сидели не только Якубович и Шереметев, но Пушкин и Грибоедов. 14 так ведь было всегда, во все времена, в зале присутствовало, — иногда много, иногда совсем немного людей, которые находили в балете больше поэзии, чем в популярной литературе. 14 даже больше жизни. Я вспоминаю вторую половину 40-х и начало 50-х годов, когда огонек живого искусства светился лишь в Доме Чайковского — Большом
8
ПРЕДИСЛОВИЕ
театре в Москве, и в Доме Петипа — Кировском театре в Ленинграде. Нелегко объяснить, чем становились нечастые посещения балетных спектаклей тогда — чем-то вроде сказочного перехода за невидимые границы и официальной идеологии, и официальной культуры. Освобождением от навязанных слов и ненавистных мнимостей, заместивших реальность. На несколько часов балетный спектакль оказывался территорией подлинности, и не только театральной.
Что и объясняет необыкновенный успех классического балета в XX веке.
Что и выдвинуло на первый план театральной истории плеяду замечательных артистов.
14 что выдвинуло — прежде всего у нас — ряд действительно выдающихся критиков-балетоведов.
14 потому я помещаю своих коллег в одном ряду с балетмейстерами и артистами. Так строится вторая и наиболее развернутая часть книги — «Портретная галерея». В ней две трети общего текста. А первая и последняя обрамляющие части посвящены двум крупнейшим деятелям балета XX века — Дягилеву и Баланчину. О Джордже Баланчине — Георгии Мелитоновиче Баланчивадзе — более всего говорится на этих страницах.
В книгу вошли очерки и статьи, по большей части опубликованные в периодической печати (журналы «Театр», «Наше наследие», «Свой», газеты «Мариинский театр», «Большой театр» и др.), но переработанные, дополненные, а иногда и сокращенные. В частности, убраны библиографические ссылки — чтобы не утяжелять текст и не придавать ему научный характер.
Посвящаю моим талантливым ученицам
ЧАСТЬ I
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
СТАЛЬНОЙ СКОК ОТСТАВКА ФОКИНА ПРАЗДНИКИ АЛЕКСАНДРА БЕНУА БРАТ И СЕСТРА «ИГРЫ» НИЖИНСКОГО КОСТЮМЫ БАКСТА МЯСИН И БАЛАНЧИН БАЛАНЧИН И ЛИФАРЬ ДЯГИЛЕВ И БАЛАНЧИН ДЯГИЛЕВ В XX ВЕКЕ
Я посчитал разумным, начать книгу текстом о Дяги-леве, который был в буквальном смысле человеком-портретом (настолько колоритная внешность, настолько яркая судьба), да и сам начал свою просветительскую деятельность с того, что в 1906 году в Таврическом дворце в Петербурге он устроил грандиозную Историко-художественную выставку русских портретов. Собрав все, что было можно, из столичных музеев и дворцов, Дягилев объехал провинцию, выявив в общей сложности около 4000 портретов.
Свой интерес к портретному искусству Дягилев распространил и на балет. Именно в его антрепризе достиг высшего развития жанр хореографического портрета. Петрушка и Фавн для 10-х годов значили то же, что Аполлон и Блудный сын — для 20-х, и знаменовали новую ориентацию балетного спектакля: то место, которое занимала абстрактная кордебалетная композиция у Петипа, теперь занял уникальный персонаж Фокина, Нижинского, Баланчина, равно как Бенуа и Бакста. Время Дягилева — золотой век пластики в классическом балете. Оно же время торжествующей индивидуальной воли.
стальной скок
В старину это называлось «держать театр» — так провинциальные антрепренеры обозначали свое дело. Однако в том деле, которым занимался и которым прославил себя Сергей Павлович Дягилев, не было ничего провинциального: арена — почти вся Европа (а по резонансу — почти весь культурный мир), и не было ничего старинного, никакой бытовой старины, описанной в пьесах Островского, фельетонах Дорошевича, воспоминаниях многих русских актеров. Да и само слово «держать» применительно к героической дягилевской эпопее означало не «держать», но «держаться», в течение двадцати лет противостоять судьбе, истории и, что, может быть, было самым трудным, инерции консервативных вкусов. Да, конечно, антерпренер, директор театральной антрепризы, но прежде всего — художественный вождь, один из самых ярких вождей художественного авангардизма XX столетия. Антерпренер-авангардист— фигура необычная, знаменовавшая наступление новых времен, совершенно невозможная в XIX веке. В культурном сознании XIX века искусство и жизненная практика решительно противостоят друг другу, это понятия враждебные, несовместимые: в одном случае — «души высокие создания», как говорит пушкинский Поэт, а в другом — «злато, злато, злато», как отвечает Поэту Книгопродавец. Для Дягилева «злато» — тоже не пустой звук, совсем не пустой, и он обладал редкой способностью раздобывать деньги, чтобы про
13
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
должить дело, чтобы не дать делу умереть. Но человеком денег он не был и не стал, он был человеком идеи. Состояния он не нажил, ничего, кроме старинных книг и легендарной пушкинской коллекции, после себя не оставил. Феномен Дягилева — в нерасторжимом единстве низкой практики и высокого искусства; а близкий по типу человек — Константин Сергеевич Станиславский, гениальный режиссер, и в то же время — фабрикант, умелый и успешный. И подобно Станиславскому, доктору Штокману (если вспомнить самую знаменитую роль Станиславского-актера), Дягилев являл собой олицетворение индивидуальной воли, естественной способности идти против всех, не подчиняя себя ни мнению большинства, ни тирании толпы, ни тирании власти. Это был тот редкий тип личности, который XX век (особенно в нашей стране) время от времени выдвигал в противовес утвердившейся тенденции к поглощению человека организацией, партией, государством.
В России о Дягилеве долгое время не очень любили вспоминать, а когда вспоминали, цитировали наркома просвещения Луначарского: «развлекатель позолоченной толпы». Так называлась статья Луначарского 1927 года, посвященная парижским впечатлениям того же сезона. Любопытно, что подобного мнения в 10-х годах придерживался и директор Императорских театров Теляковский. Произошла революция, на смену Дирекции императорских театров и Министерству Двора пришел Народный комиссариат просвещения, директора господина Теляковского сменил нарком товарищ Луначарский, а отношение к Дягилеву не изменилось. Власть в нем чувствовала чужого. Не столько даже разумом, хотя и Теляковский, и Луначарский были умными людьми, сколько безошибочным бюрократическим инстинктом. Так собаки чуют волка. Это объясняет,
14
СТАЛЬНОЙ СКОК
почему так быстро и так странно закончилось пребывание Дягилева на посту чиновника по особым поручениям при директоре императорских театров. Он начал служить в конце 1899 года, а уже в начале 1901 года был изгнан — по так называемому третьему пункту, то есть без права поступления на государственную службу. Короткое пребывание Дягилева в администрации ничего, кроме пользы, не принесло, он не был замешан в скандалах и уж тем более не совершал растрат, — и тем не менее такой скандальный конец, явившийся, кстати сказать, сильнейшим ударом и по честолюбивым планам Дягилева, и по его чувству чести. Причина одна — полнейшая несовместимость Дягилева и власти, Дягилева и бюрократической системы, притом любой — монархической, демократической или тоталитарной. Система поддерживала инерцию, Дягилев инерцию разрушал, — так можно коротко определить сущность неизбежного и непримиримого антагонизма. Власть была неповоротлива и медлительна, а Дягилев быстр и нетерпелив, в русскую жизнь он вносил немыслимую динамичность. Он как бы олицетворял собой ускоренное движение истории, ее безостановочный бег, ее необратимость. При этом сам Дягилев прекрасно сознавал смысл происшедшей с ним служебной катастрофы. В марте 1901 года он написал в частном письме следующие слова, которые могут быть поставлены эпиграфом к книге его жизни: «Я прекрасно знаю, что сразу нельзя, я сочувствую всем доводам, которые Вы приводили в защиту осторожности и тактичности, необходимых при общественной деятельности, но иногда этих похвальных качеств мало, иногда надо быть человеком, мужчиной, деятелем!!». Самое замечательное, что адресат этого письма — Владимир Аркадьевич Теляковский, пока еще союзник и, возможно, друг, впоследствии — директор императорских
15
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
театров и главный враг, его, Дягилева, антагонист и оппонент, а в более широком смысле — олицетворение замедленного движения истории, во всяком случае — на первых порах своей казенной карьеры. Любопытная подробность: многие годы официальной службы Теляковский-чиновник вел дневники, и этот гигантский, растянувшийся на тысячи страниц рукописный труд (первые три тома расшифровали и напечатали в Москве, в издательстве «АРТ») складывался из описаний почти каждого дня со всеми мелочами театрального закулисного быта. Движение истории почти не ощущается в дневниках, берет верх обыденность, торжествует повседневность. И наоборот, Дягилев не вел дневника, повседневность презирал и не замечал, единицей времени считал год или сезон, зимний или летний. Еще раз повторю: случай Дягилева — случай (или феномен) полного торжества движущейся истории над косностью официальных стандартов и норм, над неподвижностью быта.
Совершенно естественно, что формой его собственной деятельности стала негосударственная гастрольная антреприза с постоянным перемещением по карте европейских стран, с ежегодным обновлением репертуара.
Еще более естественно, что сферой его главных интересов стал балет — искусство движения, отрицающее неподвижность.
Однако подлинной страстью Дягилева поначалу была русская опера, а не русский балет, тем более не балет традиционный. С юных лет богом Дягилева был Глинка (отец Дягилева, как свидетельствует Александр Бенуа, знал наизусть всего «Руслана»), а молодой Дягилев мечтал стать оперным певцом и даже брал уроки у итальянского певца-баритона и педагога Петербургской консерватории Антонио Котоньи. Певцом Дягилев так и не стал, зато стал пропагандистом
16
СТАЛЬНОЙ СКОК
русской оперы — сначала как критик-публицист, затем как импресарио, организатор зарубежных гастролей. Познакомить Европу с русской музыкой, прежде всего оперной, Дягилев посчитал своей миссией, и в 1907 году в Париже прошли так называемые «Русские исторические концерты». Пять концертов включали в себя произведения Глинки (увертюра и первое действие «Руслана и Людмилы» и «Камаринская»), Бородина (сцена из «Князя Игоря»), Мусоргского (песни, монолог Пимена, песня Варлаама, второе действие «Бориса Годунова», вступление, «Пляски персидок» и последний акт «Хованщины»), Римского-Корсакова (пятая картина оперы «Садко», оркестровая сюита из «Сказки о царе Салтане», симфоническая картина полета Вакулы из оперы «Ночь перед Рождеством», «Ночь на горе Триглав» из «Млады», вступление и песня Леля из «Снегурочки»), а также инструментально-симфонические произведения Балакирева, Глазунова, Кюи, Лядова, Ляпунова, Рахманинова, Скрябина, Чайковского и Танеева. Сам по себе этот перечень имен и названий, который мы привели неспроста, позволяет понять двойной замысел «исторических концертов» и, тем самым, распознать два основополагающих принципа работы Дягилева-антрепренера. Концерты должны были ошеломить — и они действительно ошеломили — своим художественным разнообразием, своим богатством. И они должны были продемонстрировать внутреннее родство, скрывающееся за разнообразием, внутреннюю цельность того, что называется русской музыкой и русской оперной культурой. В более общем плане можно сказать, что Дягилев представил парижанам мифологию русского национального сознания, выраженную музыкально, во всей ее широте — от былины и сказки до исторического предания и надысторического эпоса. Более профессиональный —
2 — 940 1 7
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
и очень важный для Дягилева — аспект концертов состоял в том, что обнаруживал творческую связь оперы и инструментальной музыки, русского мелоса и русского симфонизма. Пение Шаляпина, игра Рахманинова и дирижирование Римского-Корсакова скрепляло эту связь, притом что само их участие придавало концертам дополнительный блеск, вне которого для Дягилева не существовало ни подлинное искусство вообще, ни его собственная антреприза.
Год спустя, в 1908 году, в Париже с огромным успехом был показан «Борис Годунов» в постановке Александра Санина и с Шаляпиным в главной роли. Успех этого предприятия определил всю дальнейшую дягилевскую судьбу. Со следующего года начались регулярные Русские сезоны. Сезоны посвящались балету, и здесь, у Дягилева, был создан почти весь репертуар «нового русского балета», и здесь получили признание и простор почти все корифеи балетного театра 10-х годов (а впоследствии — и 20-х), но первые годы, вплоть до начала войны, Дягилев не оставлял намерений показать Европе какую-либо из классических русских опер. Технически это было совсем не легко, гораздо сложнее, чем составить спектакль из непродолжительных одноактных балетов, однако могучая воля Дягилева, умевшая подчинять себе самые неблагоприятные обстоятельства, несколько раз торжествовала над ними и сейчас: в 1913 году во время лондонских гастролей были показаны «Борис Годунов», «Хованщина» и «Псковитянка», а в 1914 году — «Золотой петушок» (опера, преобразованная в балет) и «Князь Игорь». Обратим внимание на выбор опер — он не случаен и объясняется не только тем, что во всех этих операх пел Шаляпин. Все это оперы на сюжеты из русской истории или, как «Князь Игорь», на сюжет из истории Киевской Руси. Вспомним, что парижские концерты 1907 года
18
СТАЛЬНОЙ СКОК
назывались «историческими». Слово это много значило и для Дягилева, и для мирискусников его круга. Соприкосновение с историей, оживление истории было их общей задачей. Переломные моменты русской истории — и прежде всего в Средние века — наиболее волнующей темой. Как художники-иллюстраторы и как художники-декораторы, мирискусники искали в прошлое свои пути, но можно утверждать, что именно в классической опере они находили наиболее адекватный, наиболее чистый образ русского Средневековья. А для Дягилева имело значение и то, что в центре этих опер — Борис Годунов, Иван Грозный, отчасти и Петр (в «Хованщине») — роковые носители исторической воли, цари-реформаторы и трагические индивидуалисты. Сам ощущавший себя роковым историческим персонажем, непоколебимо веривший в решающую роль личного действия и индивидуальной энергии, Дягилев не мог не отождествлять себя с великими и грозными деятелями XVI и XVII веков. Просвещенные цари XIX века, опиравшиеся на бюрократию, как и диктаторы XX века, опиравшиеся на организацию, совсем не увлекали его. Он был убежден — и не раз говорил об этом друзьям, — что является потомком Петра Первого. И подобно тому, как Петр «в Европу прорубил окно», он, Дягилев, последователь и потомок Петра, должен был предъявить Европе подлинный — прекрасный и грозный — лик России.
Но какое это имеет отношение к балету? — спросите вы. К «Половецким пляскам» — прямое.
К «Шехеразаде», имевшей в 10-х годах наибольший успех, — более косвенное, не совсем прямое.
В художественной биографии Дягилева это, может быть, самый интересный момент — концепция балета, которая сложилась в Русских сезонах под влиянием многих при
2*
19
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
чин: интуиции балетмейстера Михаила Фокина, сознательных устремлений художника и идеолога Александра Бенуа, отчасти осознанных, отчасти интуитивных установок самого Дягилева, директора, вождя и антрепренера. Кроме того, воздействовал общий стиль времени, который мы называем стилем «модерн», и, наконец, очень многое определял наличный состав труппы, включавший артистов совершенно определенного типа — Нижинского, Карсавину постоянно, время от времени Анну Павлову и других блестящих мастеров, может быть, не столь легендарных.
Сразу оговоримся: под новой моделью балетного спектакля сам Дягилев имел в виду одноактный балет и демонстрацию в один вечер несколько таких одноактных балетов. Это был действительно прорыв в XX век и полный разрыв с традицией XIX века, традицией «большого балета». Это была новация, совсем не только формальная. Она потребовала новой музыки, новой техники и новых сюжетов. Она видоизменила характер актерской игры. И так же как «большому балету» хронологически соответствует русский роман, так фокинские одноактные балеты можно поставить в более или менее прямую связь с Серебряным веком русской поэзии. Не случайно «Умирающий лебедь» Фокина и Анны Павловой, эмблема нового балета, есть хореографический парафраз стихотворения Бальмонта, весьма популярного в 900-е годы.
Однако художественная идеология Русских сезонов не сводилась только лишь к отрицанию традиционного «большого балета». И «новый балет» возник не на пустом месте. Его генеалогия достаточно неожиданна и вполне органична. В балетных спектаклях дягилевской труппы, поставленных Фокиным, а затем и после него, оживало то представление о танце, которое было характерно для классической рус
20
СТАЛЬНОЙ СКОК
ской оперы, а не для классического русского балета. «Половецкие пляски» из «Князя Игоря» — самый яркий пример. Самый яркий, но не единственный: в этом ряду и «Танцы чародейств Наины» из «Руслана и Людмилы», и «Пляски персидок» из «Хованщины». В том же ряду и «Шехераза-да», хотя это симфоническая, а не хореографическая сюита. Все это входит в блистательный круг русских музыкальнотанцевальных ориенталий и все это — на современном художественном языке — выражает старинное, но весьма устойчивое славянское представление о Востоке. Миф о Востоке — неумирающий славянский миф. Комбинация экзотики и эротики — важнейшая черта этого мифа: экзотический колорит и эротические фантазии, слившиеся воедино в изощренном музыкально-пластическом рисунке. И самое главное, что Дягилев, по-видимому, очень хорошо понимал: в ориенталиях присутствует скрытый второй слой, в них открывается далекое языческое прошлое славянства. Славянский культ Эроса, славянский культ Красоты, славянский культ тела — вот что наполняет диониссии, поставленные Фокиным и музыкально претворенные Глинкой.
Дягилев был язычником, достаточно грубоватым язычником, и просвещенным рафинированным эстетом. Именно в его личности петербургский, отчасти профессорский эстетизм 900-х и 910-х годов соединился с могучей витальностью, витальностью архаичной. В самой его внешности, внешности европейского денди и русского барина-сибарита, а к тому же и не обремененного заботами холостяка, проступало что-то былинное, о чем догадывались все окружающие его и о чем можно судить по известным портретам. Или по групповым фотографиям — рядом с тоненьким, хрупким и обреченным Нижинским или с маленьким, хитреньким Лифарем. Дягилев прожил
21
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
героическую жизнь, и главная тема его жизни была героической. В сущности, в одном Дягилеве обреталось два человека. Один был вдохновителем утонченных мирискусниче-ских одноактных балетов, другого неудержимо притягивал музыкальный эпос, большой, даже грандиозный оперный стиль. Противоречия здесь нет: Дягилев был живым слепком с национальной русской оперы, которую он так любил. Ведь и «Руслан», и «Князь Игорь», и «Золотой петушок» строятся по одной гениальной схеме: героический миф, олицетворенный в певце, сталкивается с эротическим мифом, воплощенным в танце. Можно сказать, что и Русские сезоны с 1908 по 1914 год тоже являлись протяженным во времени слепком национальной мифологии и сложившейся в оперном театре художественной системы.
После окончания войны изменился статус Дягилевского балета, изменились ориентиры и исходные установки. Антреприза уже не представляла Россию, а ее русские участники мало-помалу теряли российское (затем — советское) гражданство. Среди артистов все чаще оказывались выходцы из других стран, хотя премьерши и премьеры получали русские псевдонимы. Хильда Маннинге стала Лидией Соколовой, Лилиан Алис Маркс — Алисией Марковой, а Патрик Чиппендол Хили-Кей — Антоном Долиным. Преобразование фамилий и имен было любимым занятием Дягилева (добавим к списку еще два примера: Спесивцева стала Спесивой, а Баланчивадзе — Баланчиным), и делалось это не только по соображениям чисто рекламным. Таким способом — несколько наивным — продлевалась русская история Дягилевского балета и возникала иллюзия непор-ванных связей. Как выяснилось довольно скоро, разрыв с Отечеством дался Дягилеву очень тяжело — тяжелее, чем многим эмигрантам его круга.
22
Cl АЛЬНОИ СКОК
Но со своими соотечественниками, спутниками и соратниками первых — довоенных — лет Дягилев порывал очень легко и расставался без особых сожалений. Раньше других ушел Фокин, затем Александр Бенуа, потом Бакст, и кратковременные возвращения не меняли дела. Личные конфликты, как и вообще личные отношения, были тут ни при чем: происходила решительная, хоть и болезненная смена художественных ориентаций или, как принято говорить теперь, смена художественной парадигмы. Дягилев ясно понял, что время мирискусников прошло, как прошло и время стиля модерн, и что наступила совсем другая эпоха. И, в отличие от Фокина, Бакста, Александра Бенуа, он не захотел стать почтенным реликтом, старомодным упорствующим эпигоном. Внутреннюю оппозицию и внутреннюю революцию в своей антрепризе направлял и возглавил он сам А осуществить ее были призваны главным образом художники парижской школы: Пикассо, Матисс, Дерен, Брак, Лорансен, Бошан, Гри, Руо. В помощь им давались молодые балетмейстеры, на первых порах не претендовавшие на многое и не имевшие мирискуснических корней: Мясин, Бронислава Нижинская, Баланчин. Как только балетмейстеры из обещающих дебютантов становились законченными мастерами (а это у Дягилева происходило на удивление быстро), он терял к ним интерес и демонстрировал нерасположение, приводившее к быстрым уходам. Уход последнего из этой плеяды — Баланчина — был тоже предрешен, но не был оформлен из-за внезапной смерти Дягилева в августе 1929 года.
Такова была психологическая установка Дяглева 20-х годов: непобедимое желание обращаться с балетмейстерами как с глиной в руках, комплекс Пигмалиона, в жертву которому приносился даже элементарный прагматиче
27
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
ский расчет, едва ли не болезненный страх сильного ученика, ученика-диссидента. Эстетическая же установка не была с этим связана никак, а была по-дягилевски трезвой и дальновидной. Его увлекла современность — и как художественный материал, совершенно новый для балета, и как творческий метод, тоже совершенно новый. Началось все немного издалека, с балета «Парад», поставленного Мясиным еще в 1917 году по сценарию Жана Кокто и оформленного — весьма вызывающе — Пабло Пикассо (первое появление Пикассо в балетном театре). Как пишет Сергей Григорьев, постоянный режиссер и хроникер антрепризы: «"Парад" изображал жизнь бродячего цирка и состоял из ряда хореографически решенных цирковых номеров: акробатов, китайского фокусника, маленькой американки и коня. <..> Были еще два менажера в костюмах из кубических картонных конструкций, изображавших небоскребы с окнами, балконами, лестницами, но не лишенные и каких-то человеческих форм». «Парад» задумывался как веселая художественная демонстрация — демонстрация сниженного и скептического взгляда на искусство и прежде всего на балет, демонстрация разрыва с романтическим и высокопарным прошлым. Но в его цирковых эскападах играла живая жизнь, а сенсационный номер с «менажерами» (сегодня мы называем их менеджерами) ознаменовал собой победоносное вторжение кубизма на балетную сцену и первое проведение в балете современной американской темы. «Маленькая американка» тоже появлялась неспроста. Она «разыгрывала пантомиму, подражая походке Чарли Чаплина, целую череду невероятных приключений в духе немых фильмов эпохи: она прыгала на подножку двигающегося поезда, переплывала реку, отстреливалась от индейцев, тонула на "Титанике"».
28
СТАЛЬНОЙ СКОК
Даже в этой цитате из академического исследования, написанного в наши дни, присутствует тот динамизм, который зара-зительно действовал на зрительный зал и который исчезал и почти совсем исчез из поздних работ Фокина, «Дафниса и Хлои» и «Голубого бога».
Семь лет спустя, в сезоне 1924 года, Бронислава Нижинская представила два спектакля на современную французскую тему: «Лани» — сюита танцев из жизни парижского полусвета, и «Голубой экспресс» — балетные зарисовки на мотивы модного пляжа, модного спорта и новой, весьма свободной бытовой моды.
И наконец, еще три года спустя Дягилев осуществил свой самый рискованный, а может быть — и самый смелый проект, предложив парижской публике, среди которой было немало эмигрантов, балет «Стальной скок», непосредственно связанный с приемами нового русского театра и образами новой, советской России. В интервью, появившемся в русской газете «Возрождение», Дягилев так объяснил смысл своей неожиданной инициативы: «Я хотел изобразить современную Россию, которая живет, дышит, имеет собственную физиономию. Не мог же я ее представить в дореволюционном духе! Это постановка ни большевистская, ни антибольшевистская, она вне пропаганды». И конечно, он чрезвычайно дорожил этой постановкой, тем более что название «Стальной скок» придумал он сам. Предложенные автором музыки Сергеем Прокофьевым названия Дягилев отверг, хотя, как вспоминает постановщик Леонид Мясин, именно рассказы Прокофьева, вернувшегося из России, воспламенили воображение Дягилева и направили в совершенно неожиданное русло: «Загоревшись водениями Прокофьева, Дягилев заказал Георгию Якулову конструкцию из двух
29
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
платформ большого размера, с колесами и поршнями, и сказал нам, что хочет, чтобы это конструктивистское решение было неотъемлемой частью нашего произведения. <..> Колеса и поршни на платформах двигались одновременно с чеканными движениями молодых рабочих, а большая ансамблевая группа, расположенная перед платформами, усиливала яркость изображаемой картины. Таким образом, построив многоуровневую композицию, я сумел добиться потрясающего эффекта». Более сдержанный и объективный в оценках Григорьев пишет об этом так: «Вторая картина была лучше первой, а финал в постановке Мясина даже впечатлял. В этой финальной части, по мере того, как движения танцовщиков становились все более динамичными, колеса начинали вращаться, а рычаги и поршни двигаться; одновременно постоянно меняя цвет, зажигались и гасли лампочки, и занавес опускался под мощное крещендо оркестра».
Сразу же скажем, что впечатливший Григорьева финал «Стального скока» есть лишь повторение, причем более громоздкое, изящного мейерхольдовского приема, использованного в знаменитом спектакле 1922 года «Великодушный рогоносец». Там тоже была конструктивистская установка из неокрашенного дерева — лесенки, площадки и цветные колеса (автор Любовь Попова), и там тоже в кульминационные моменты сначала белое, затем красное и, наконец, черное колесо начинали крутиться. Сама установка — так называемый станок — хоть и имела отдаленное сходство с мельницей (место действия фарса Кроммелинка), но ничем не напоминала фабричный станок и свое название станка получила по аналогии чисто интеллектуальной и по любви к заводской терминологии, отличавшей «левый» театр 20-х годов: станок — всего
30
СТАЛЬНОЙ СКОК
лишь идеальное место для работы актера. Станок Мясина — Якулова был, напротив, подобием заводского станка, хотя и разъятого на элементы по всем кубистским или же супрематистским канонам. Но удобным местом для работы танцующих артистов его посчитать было нельзя. Григорьев пишет об этом так: «... вся сцена была забита различными предметами, так что двигаться по ней было почти невозможно». Удивительная ситуация для балета, но Дягилев во имя демонстративного и достаточно лобового сценографического эффекта шел на любые жертвы. Ему нужен был завод, и ему нужна была открытая патетика завода. В центре балета были поставлены два персонажа, рабочий и работница, точно сошедшие с плакатов «Окна РОСТа» тех лет — в производственной одежде и с огромными стилизованными молотами в руках. Герой балета — человек труда, олицетворявший собой новый миф, новый мир, новую Россию. Молотобоец пришел на смену сказочному Ивану-царевичу или лучнику-половцу из летописей и легенд. Впрочем, и молотобоец тоже был персонажем сказа.
В Париже балет шел под названием «Pas d’acier», что является достаточно точным переводом русского названия, почти тем, что переводчики называют «калькой». Однако насколько выразительнее русский «стальной скок» французского «стального шага». Французская — и очень литературная — фраза если и имеет некоторый ассоцитативный ореол, то узкоспециальный, не выходящий за пределы собственно балетного театра: pas — это па, термин балетного лексикона. Русское «скок» экспрессивно само по себе и окружено множеством дополнительных ассоциативных значений. Прежде всего приходят на память строки из «Медного всадника»:
31
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
«Бежит и слышит за собой — Как будто грома грохотанье — Тяжело-звонкое скаканье По потрясенной мостовой».
И стало быть, образ Петра возникает где-то вблизи, на ассоциативной периферии балета, — в чем, вероятно, и заключалась дерзкая, хоть и скрытая дягилевская мысль: увязать большевистские реформы с петровскими, увидеть в Петре если не прямого предшественника Ленина, то такую определяющую фигуру русской истории, на которую большевикам нельзя не равняться. В подобных сопоставлениях Дягилев был не одинок, так думали и парижские эмигранты-возвращенцы, так думал и парижский гость Маяковский, с которым Дягилев завязал тесные отношения и который — благодаря связям своим — устроил Дягилеву советский паспорт и выездную (и въездную) визу. (Мнительный Дягилев все-таки отменил поездку в последний момент, опасаясь, что ему не позволят вернуться.) Пушкинский Петр был красивым прикрытием новой утопии и новой надежды. А для Дягилева, как мы помним, Петр — еще и «кровный» предшественник, духовный союзник. Стальной скок — это как бы старинный геральдический знак, литературный девиз на несуществующем дягилевском гербе, но, кроме того, и modus vivendi — формула принятого и вполне современного стиля жизни. Дягилев был убежден, что этой формуле должен следовать XX век и что ей, по крайней мере, будет следовать Россия. Ошибся ли он? И да и нет. А может быть, точнее сказать, что он ошибся дважды. Стальной скок — это как раз то, что поссорило его с осторожным, основательным, дальновидным Теляковским. И то, что напугало не слиш
32
ОТСТАВКА ФОКИНА
ком решительного Луначарского. Еще раз повторим: как бюрократическая формула она была неприменима. А как историческая доктрина она была осуществлена отчасти в духе петровских реформ, но лишь несравнимо страшнее. Дягилев умер как раз в тот самый год («год великого перелома»), когда «тяжело-звонкое скаканье» прогромыхало не по потрясенной мостовой, а по потрясенной России.
ОТСТАВКА ФОКИНА
С Фокиным Дягилев поступил почти так же, как Дирекция императорских театров поступила с ним самим, это, по-видимому, неумирающий закон и казенного, и частного театра. Добровольный уход Фокина был похож на внезапную отставку. Контракт кончился, его никто не удерживал. Сергей Григорьев вспоминал: «Его отношения с Дягилевым становились все хуже, и, как я догадываюсь, расстались они более чем холодно. За время сотрудничества с нашей труппой Фокин создал не менее четырнадцати балетов, многие из которых обрели европейскую славу и до сих пор входят в репертуар разных театров. Он уехал от нас глубоко обиженный, без всякой признательности со стороны Дягилева. <..> Но Дягилев "спешил жить". Он жаждал новшеств в хореографии и, вместо того, чтобы положиться на опыт Фокина, предпочел руководить Нижинским, которому опыта не хватало».
Случилось это в 1912 году, во время летних лондонских гастролей, всего лишь три года спустя после первого дягилевского сезона. Вела Дягилева интуиция, нетерпеливая
3 — 940
33
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
интуиция, сочетавшаяся с холодным расчетом Он понял, почувствовал или просто-напросто решил: Фокин выдохся, перегорел, а Нижинский — при помощи советников и друзей — сможет пойти дальше. Для Фокина это стало ударом, от которого он так и не оправился, и по-человечески понять случившееся трудно: в прошлом сезоне — новатор, в нынешнем сезоне — отработанный материал, разве такое возможно? В империи Дягилева оказалось возможным, и Фокин, создававший и создавший «новый балет», первым в искусстве XX века столкнулся с ситуацией, которая известна давно, которой отметит себя и новый век, — абсолютной незащищенностью артиста перед лицом судьбы и перед лицом власти.
И этот образ — незащищенной художественной гениальности — сопровождал Фокина с первых же шагов, и в «Лебеде», и в «Шопениане», и в «Петрушке». К этому образу Фокин вернулся в одном из последних (1939) балетов — «Паганини». Здесь его завещание, здесь его счет судьбе и его вызов судьбе, здесь его горестные раздумья. А может быть, Фокин так и считал: художественная гениальность и должна быть — или выглядеть — беззащитной. На то она и гениальность. И классический танец, с которым Фокин всю жизнь враждовал, но который время от времени воспевал, прекрасен тогда, когда не защищен — ни технической виртуозностью, ни выворотностью, ни жестким академическим каркасом. Когда все открыто, и музыкальная линия — основа основ, потаенная душа классического танца, не рвется, не укорачивается, не сходит на нет, а находит себя в меланхоличной шопеновской кантилене. Когда танец напевен, не переходит на крик и не тронут моторными ритмами, вообще не знает, что такое мо-торность. Фокин, по всей видимости, полагал, что чем-то
34
ОТСТАВКА ФОКИНА
подобным будет балет XX века; в этом случае можно считать «Шопениану» отрадным примером несбывшихся пророчеств. Хотя кто знает: может быть, ошиблась история, а не Фокин. Он был мечтателем, любившим прекрасные сказки. Славянские, персидские, древнерусские, древнегреческие, деревенские, городские. Красивые и жестокие одновременно: Фокин был образцовым выразителем стиля модерн, не всегда соединявшего высокую эстетику с идеалами гуманности и предписаниями морали. Впрочем, дар Фокина не вмещался в границы этого рафинированного стиля. Любопытно, что при подготовке своего первого балета «Ацис и Галатея» совсем молодой балетмейстер познакомился с почтенным старцем, директором Публичной библиотеки, — им оказался не кто иной, как В.В. Стасов. А при постановке «Павильона Армиды» и «Петрушки» Фокин работал с Александром Бенуа. Стасов и Бенуа, идеолог «передвижников» и «Могучей кучки», идеолог «Мира искусства», абсолютные антагонисты, люди из разных эпох, — и у Фокина, такова была его недолгая роль, все это совмещалось: мирискуснический эстетизм, передвижнический натурализм, исторические видения кучкистов. И выяснилось, что и Римский-Корсаков, и Бородин, уж не говоря о Глинке, в своих восточных фантазиях не так уж далеко отстоят от мирискуснических грёз, и нужен лишь отважный хореограф, чтобы открыть эту связь, чтобы танцевальным импульсам русских оперных композиторов дать дорогу на балетную сцену. Чего-чего, а отваги у Фокина было много. Единственное, чего ему не было дано, так это скепсиса, иронии, а тем более — цинизма. Этим он, по-видимому, Дягилева и раздражал. Раньше других Дягилев понял, что кончается недолгое время чистых мечтателей, романтиков и поэтов. А Фокин так и не сумел это понять. Места себе
з»
35
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
он не нашел, и лишь с горестным изумлением взирал все 20-е годы на еще более новый балет, у порога которого резвилась задумчивая «Шопениана».
ПРАЗДНИКИ АЛЕКСАНДРА БЕНУА
Небольшая выставка графики, живописи и театральных эскизов Александра Бенуа представляет его творчество ярче, чем полное собрание сочинений. Бенуа — избранный и есть подлинный Бенуа: это художник многих опусов и немногих шедевров. В жанрах, которые он предпочитал, Бенуа создал работы, сохраняющие значение недосягаемого образца. Таковы прежде всего иллюстрации к пушкинскому «Медному всаднику», декорации к балету «Петрушка», лучшие из исторических картин, лучшие пейзажи Версаля. Но, кроме того, есть немало вещей декоративных и вторичных. Если иметь в виду и тему и художественный результат, — это несостоявшийся праздник. Как правило, они принадлежат позднему Бенуа, история Бенуа — история Моцарта, постепенно превращавшегося в Сальери. Бенуа 20-х годов — мэтр, над которым тайно смеются, которому открыто дерзят. Бенуа первых лет XX века — самоучка, почти дилетант, вокруг которого собираются таланты. Ранний Бенуа, похожий — судя по воспоминаниям Михаила Фокина — не на профессора, а на студента, был тем и хорош, что освобождал творчество от призрака каторги, от тягостного фона Голгофы. Этот рафинированный эстет работал весело и азартно. Этот утонченный артист, в котором было много от художника
36
ПРАЗДНИКИ АЛЕКСАНДРА БЕНУА
упадка, высоко ценил ренессансную радость творческого труда. Бенуа не находил ее ни у передвижников, ни у академистов. Со смешанным чувством пишет он в своей книге о тех, кто спился, кто надорвался, кто кончил плохо. Для Бенуа в этих судьбах горький урок, который должен усвоить подлинный мастер. Проницательный ум, понимавший многое раньше других (сюита сумрачных версальских закатов кажется собранием иллюстраций к книге ПТпен-глера «Закат Европы» — книге, написанной почти двумя десятилетиями позднее), Бенуа не утрачивал присутствия духа, даже когда должен был уступать «мыслям черным».
Бенуа воспринимал мир как музей и как спектакль. Живое ощущение прошлого давалось ему поразительно легко. Живое ощущение человека давалось ему трудно. В картинах Бенуа человеческие фигурки призрачны, а памятники искусства монументальны. Повсюду силуэты и монументы. Повсюду призраки-тени и дворцы. Бенуа был проникнут подлинным пафосом истории и подлинным пафосом культуры, но в отношении человека он скептик, каких не знала русская культура предшествующих эпох. Человек Бенуа — персонаж маскарада. Бенуа-живописец выразил дух — если не времени, то среды, в которой было мало естественности и много игры. Кто-то играл в денди, а кто-то играл в простолюдина, кто-то жил в маске мистика, а кто-то жил в маске инсургента. Сам Бенуа попеременно ощущал себя зрителем версальских празднеств, венецианских карнавалов или же балаганов на Марсовом поле. Праздники он любил, — это, возможно, самое искреннее, самое глубокое его чувство. Чем праздничнее было искусство Бенуа, тем оно было человечней. Можно сказать иначе: чем праздничнее было искусство Бенуа, тем меньше в нем было холодной игры, тем, больше подлинного драма-
37
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
тизма. Шедевр Бенуа — балет «Петрушка», сочиненный им вместе с Фокиным. Это балет — как трагическая весть: в нем захватывающая острота трагической вести, пришедшей из балагана. «Петрушка» — спектакль многих таинственных и, наоборот, обнаженно социальных значений. В нем, кроме того, присутствует интимная тема, осмысленная горько и трезво. В нелепой фигуре артиста зашифрована драма всего мирискуснического эстетизма. Петрушка — эстет, который не может сотворить красоты, Петрушка — марионетка, паяц, подражатель. Балет — весть о культуре, обреченной на неполноту, на иронические и злые гротески. В связи с балетом, но уже в более широком плане вспоминались новеллы Гофмана, вспоминался Пьеро из парижских пантомим первой половины XIX века. Но можно вспомнить и Юродивого из оперы Мусоргского «Борис Годунов». Плач Юродивого — народная тоска по справедливости. Плач Петрушки — народная тоска по красоте. Эти ряженые, эти балаганы, эти узорные декорации, это красочное марево, погруженное в ночной синий сумрак, — всё здесь проникнуто тоскующей мечтой. «Петрушка» — видение красоты, к которой толпа тянется, которую толпа топчет.
Балет неповторим, в нем есть очарование случайной счастливой удачи, тем не менее он показателен и то, что называется «программен». Вместе с другими художниками «Мира искусства» Бенуа возвращал театру блеск и увлекательность зрелища. Фактически в творчестве мирискусников и, может быть, в творчестве Бенуа определилась новая роль художника в театре. Художник-декоратор XIX века лишь оформлял спектакль. Бенуа — художник-декоратор, который спектакль творит. И по существу, и фактически Бенуа — художник-декоратор, который становится — не может не стать — художником-режиссером. Декоратив
38
ПРАЗДНИКИ АЛЕКСАНДРА БЕНУА
ная установка в традиционно-натуралистическом театре — всего лишь среда, место действия, зрелищной функции она не несет. Декоративная установка в традиционно-условном театре — всего лишь зрелищный фон, яркий, но сторонний контраст к действию, которое само по себе зрелищной яркостью не обладает. Декоративная установка у Бенуа создает замкнутый и целостный мир, театр-картину, где действенное и зрелищное содержание спектакля нерасчленимо и не расчленено. Это естественно для балета, и так же естественно, что в балетных спектаклях, оформленных Бенуа и поставленных им сообща с Фокиным, его театральная идея осуществилась идеально. Бенуа ставил и драматические спектакли: до революции в Московском Художественном театре, а после революции — в Петроградском БДТ. Но в драме он не достигал высот «Петрушки». Зрелищный элемент, к тому же лишенный музыки, довлел над словом и неожиданно, несмотря на изящную стильность, казался грубовещественным, неартистичным Давала себя знать узость эстетики Бенуа, ее привязанность к красивым вещам и красивому интерьеру, ее тайная, не изгнанная прозаичность.
А может быть, причина заключалась в ином. Живопись Бенуа малоформатна, но полна монументальных мечтаний. В ней есть элегическая тема искусства, утратившего мощь. В ней есть восхищение перед искусством прошлого, рожденным могучей государственной волей. Всю жизнь Бенуа определял — и не мог определить до конца — свое отношение к большому государству. Версаль Людовиков, Петербург Петра — для него актуальная историко-культурная проблема. Величие государства Бенуа волновало, подобно тому как его волновали версальские и петербургские дворцы.
39
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
Бенуа чтил эстетику власти. Все это было далеко от проблем, которыми жил Художественный театр. И все это было достаточно близко проблемам, которыми традиционно, хотя и подспудно, жил балет. Увлечения Бенуа превращали его в стилизатора-архаиста. В 1907 году, например, он сочинил и оформил роскошнейшую классицистскую феерию «Павильон Армиды». Но время от времени Бенуа смотрел на свой великолепно-величественный мир глазами жертв, глазами маленького человека. Тогда в его искусство входил разлад, появлялся конфликт, появлялось драматическое напряжение. Рождался образ: прекраснейший город, который таит смерть.
Пропасть, которая пролегла между нами и Бенуа, во многом мнимая, кажущаяся пропасть. Этот защитник былой красоты очертил своим аккуратным пером круг мотивов, важнейших для судеб культуры. Этот «пассеист» (от французского слова «прошлое») из «кареты прошлого» заметил то, чего не заметили, мчась на стальных конях, его недруги-футуристы. Само художественное видение Бенуа вовсе не изжило себя, как принято считать. Другие режиссеры воплотили в драме то, что сам Бенуа сумел воплотить лишь в балете. Скрытая энергия его изящнейшего искусства питала и продолжает питать жизнь театра. Стиль умер, но принцип жив. Избыточно живописный и неконструктивный стиль Бенуа остался неповторимым, но преходящим эпизодом Зрелищно-действенный принцип сохранил и увеличил свою власть. Он стал принципом не только театра, но прежде всего кино. Странно говорить о кинематогра-физме Александра Бенуа, между тем это так. Его версальские элегии построены как кадры. Есть острый внешний ракурс, есть неожиданный внутренний монтаж. Есть, наконец, холодная безжалостность общих планов. Творец эле
40
БРАТ И СЕСТРА
гий был изящный, но жестокий мастер. История Бенуа — история некоторого заблуждения, мнимого бегства. Этот человек думал, что видит мир глазами Ватто. На самом деле он видел мир глазами Эйзенштейна.
БРАТ И СЕСТРА
Оба они, Вацлав и Бронислава, брат и младшая на два года сестра, родились в семье польских танцовщиков — семье, быстро распавшейся. Отец рано бросил мать, старший брат, Станислав, в шесть лет выпавший из окна, заболел психической болезнью и был помещен в больницу. Тяжелые испытания лишь сплотили семью: Вацлав всю жизнь обожал мать, а Бронислава до конца своих дней боготворила Вацлава. Главным образом брату посвящены ее «Ранние воспоминания» в двух томах, а еще в 1919 году, еще в Киеве, она открыла «Школу движения», где обучала технике движений, разработанной братом. А Вацлав в этот же год пишет на последних страницах своего оборвавшегося «Дневника» о сестре и ее муже: «Я обожаю мою сестру Броню. В Кочетовском много доброты. Денежные заботы делают его жизнь трудной. Он любит живопись, литературу, талантливо пишет». Семейные узы значили бесконечно много для них, бездомных дягилевских артистов. В «Свадебке», своем знаменитом балете, Нижинская как бы материализовала образ этих уз, связав лентами два ряда девушек-подруг, два вертикальных ряда женского кордебалета. Бесконечно красивая мизансцена, очень четкая по рисунку, но в то же время ассоциативный клубок — тут и
41
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
смутное присутствие переплетенных девичьих кос, и более явственный образ заклания, принесения себя в жертву. Полно лирики само движение склоненных голов — жест нежного склонения перед лицом мужской силы. Мужской силы здесь нет, как нет никакого прямого уподобления с интимной сценой, — художественное мышление Нижинской, как и художественные нормы 20-х годов (балет поставлен в 1923 году) и не допускали грубого реализма. Но зато всё полно памятью о событиях, случившихся за двенадцать лет до того, весной 1911 года. Тогда в Монте-Карло (штаб-квартире дягилевской труппы), на фоне беспокойного моря, пышных пальм и ажурной, почти театральной архитектуры, разыгрался прямо-таки сказочный, но абсолютно чистый роман между неопытной девушкой, начинающей балериной, и легендарным певцом, избалованным славой, успехом у женщин, успехом у муз, Федором Ивановичем Шаляпиным. Она невысокая, тоненькая как тростинка; он величественен, барственен, божественно красив — что привязало их друг к другу? А привязанность была искренней и глубокой, на всю жизнь. Но у него семья, две девочки, совсем не опостылевшая жена, к тому же скандализован Вацлав и напуган Сергей Павлович Дягилев. Они вмешиваются, урезонивают, грозят, всё, впрочем, напрасно, пока сама Бронислава не решается на разрыв, принимает предложение преданного товарища по труппе, хотя и не очень талантливого танцовщика («талантливо пишет», — замечает великодушный Вацлав, но ни слова о танце) Александра Кочетовского, создает собственную семью, становится матерью — но своего любимого Федора не стремится забыть и так никогда и не забывает.
А сам строгий брат в тот год помышляет о свободе, а не о семье (свободе от дягилевской ревнивой тирании), и его
42
БРАТ И СЕСТРА
тайно, но неудержимо влекли к себе женщины, особенно легкого поведения, ночные бабочки-парижанки. На тех интимных страницах своего «Дневника», которые жена Ро-мола скрыла, не позволила напечатать, Вацлав откровенно рассказывает, как искал ночных встреч и как боялся подойти к незнакомкам — вся ситуация «Фавна» здесь присутствует неприкрыто. Так что всю инициативу сближения, а вслед за тем (в 1913 году) и женитьбы пришлось взять на себя энергичной венгерской танцовщице Ромоле Пульска. И возможно, Набоков вспоминал об этой истории, когда писал «Защиту Лужина», роман о предприимчивой девушке и гении-полубезумце.
29 мая 1912 года, пять лет спустя как был поставлен «Умирающий лебедь», Вацлав Нижинский показал в парижском театре «Шатле» своего «Фавна». Это был его балетмейстерский дебют, и это стало вторым — после «Лебедя» — вступлением в новый век, в новую балетную эру. «Послеполуденный отдых фавна» тоже можно считать идеальным портретом и даже единственным в своем роде автопортретом, в котором нет ничего от танцовщика-виртуоза, а все от танцовщика-мима, и действие сведено лишь к позам, жестам и нескольким пугливым прыжкам. Выразительная поза начинает десятиминутный балет: пятнистый фавн полулежит на холме с дудочкой-флейтой в руке, согнув правую ногу в колене. Скандальная поза кончает балет: фавн ложится всем разгоряченным телом на покрывало, оставленное старшей нимфой. И несколько поз с вытянутыми вперед, как бы ненужными, как бы слепыми руками и кистями-лопаточками, опущенными вниз, — достраивают постепенно складывающийся портрет сладострастного, пугливого и неловкого девственника-фавна. И странно сказать: мифологический персонаж, немыслимо красиво обряжен
43
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
ный Львом Бакстом в пятнистое трико, в золотом паричке с рожком на макушке, — казался поражающе достоверным, как будто бы он и в самом деле возник из цветных детских снов, из таинственной памяти, даже прапамяти, из глубин подсознания, из сияющей бездны. Но таким ведь и стало искусство нового времени в своих лучших образцах. Впрочем, таким оно было всегда — в классические эпохи.
Десятиминутный «Послеполуденный отдых фавна», первый балет Нижинского, был показан в Париже 29 мая 1912 года. Слава Нижинского — полубога — достигла тогда предельной высоты. Всего лишь год назад он впервые показал свои легендарные роли — в «Призраке розы» и «Петрушке». Он по-прежнему танцевал «Шехеразаду», «Жизель» и «Карнавал». Свое исключительное место он занял не потому только, что был лучшим танцовщиком и лучшим артистом. Он был другим танцовщиком и другим артистом. Он появился как раз вовремя. Мифопоэтический образ сознания 10-х годов, присущий и Фокину, и художникам «Мира искусства», именно в его творчестве нашел идеальное воплощение — еще до Фокина, еще в Мариинском театре, в «Спящей красавице» Петипа, где он поразил своей Голубой птицей. Первым исполнителем был Энрике Чекет-ти, итальянский виртуоз, — по его мерке и был создан этот дуэт (о чем в своей книге писала Л.Д.Блок). Можно представить себе, как он изображал птицу, — с его врожденным и чисто итальянским даром имитации ему это было вполне под силу. А Нижинский ничего и никого не изображал: на те несколько минут, что длится дуэт, он и был Голубой птицей. Технические подробности и актерские приспособления подробно описаны в «Ранних воспоминаниях» Брониславы. Но за грань утонченной техники и изощренного актерского мастерства она не выходит. Ее рациональное
44
БРАТ И СЕСТРА
мышление — типичное мышление 20-х годов — и не допускает присутствия какого-то внетехнического и внеактер-ского чуда. Само слово «чудо», столь популярное в 900-х годах, столь много значившее и для Комиссаржевской, и для Мейерхольда, и для Фокина, и не только для них, — не много стоило в глазах художников следующего десятилетия. Но в данном случае дело было именно в нем — в чуде. Александр Бенуа восхищался тем, как Нижинский умел вживаться в стиль прошлых эпох, как он умел переноситься в XIX или XVIII век, как естественно ощущал себя на египетской площади или в персидском гареме. Или, добавим, на теннисном корте в 1913 году, в своих провидческих «Играх». Но мало того, Нижинский как-то умел отождествлять себя с мифом. Пока был здоров, отождествлял себя с греческим богом лесов фавном. А заболев, стал отождествлять себя с Иисусом Христом.
«Послеполуденный отдых фавна» — маленькая поэма на стихи Малларме и на тему отроческого эроса. Эта тема будет сопровождать Нижинского и на следующий год, когда он поставит «Игры» и «Весну священную», два других дягилевских балета. Но именно в «Фавне» она получит законченный вид, предстанет на удивление прекрасной. И эта прекрасная красота полуневинного эроса напугает и возмутит. На Нижинского набросятся, как когда-то набрасывались на Флобера и Бодлера. Будет негодовать и терявший доверие Дягилева Михаил Фокин. Даже двадцать лет спустя болезненно ревнивый Фокин не мог пережить успеха своего ученика и в беседе с английским балетоведом Д Хаскеллом назвал этот успех «успехом скандала», а сам балет — работой, «не стоящей внимания». При этом в своей манере он указал на главную ошибку: «...ноги на пуантах и руки решены в разных манерах. Балеты о греческих персонажах,
45
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
как Аполлон и Меркурий, нельзя танцевать в балетных туфлях, точно так же, как такой балет на чисто русскую тему, как "Свадебка"». В одной наивной фразе уничтожены сразу все: и Вацлав Нижинский («Фавн»), и Баланчин («Аполлон»), и Мясин («Меркурий»), и Бронислава Нижинская («Свадебка»). Балетной условности гениальный, но прямолинейный фанатик не принимал, и это восстановило — а также вооружило — против него всех последующих балетмейстеров дягилевской антрепризы.
Но чисто хореографическую сущность «Фавна» Фокин уловил очень хорошо. «Разные манеры», в которых «решены ноги и руки», — это, конечно, дань Жак-Далькрозу, о нём много говорили тогда и с ним Дягилев познакомил Нижинского перед следующей работой — постановкой «Весны священной». В помощь Нижинскому Дягилев пригласил лучшую ученицу Далькроза, Мариам Рамберг (у Дягилева ставшую Мэри Рамбер), которая танцевала в женском кордебалете. Но перед постановкой «Фавна» с опытами Далькроза Нижинский еще не был знаком, и, стало быть, система телодвижений, принятая им, — одно из его необъяснимых прозрений. Интуитивный артист, он и тут оказался на высоте, работая к тому же вовсе не в духе доктрин Жак-Далькроза. Тот был сухим аналитиком, расщеплял движение на микроэлементы, а Нижинский в буквальном смысле лепил свой портрет, ваял и вытесывал свой танец. Недаром восторженным зрителем оказался великий скульптор Роден, написавший сразу две статьи в газете «Матэн» и сразу распознавший в Нижинском родственную душу. Статьи Родена не только восторженны, но и очень точны, не менее, если не более, чем подробные описания Брониславы. В своих «Ранних воспоминаниях» Нижинская пишет, как Вацлав строго фиксировал «каждое
46
БРАТ И СЕСТРА
положение тела, любой жест, вплоть до движения пальца». Речь, таким образом, идет о новых путях, о решительном обновлении балетного танца. В чем, собственно, заключалась реформа Нижинского, ее суть? В прямом обращении к человеческому телу. Классический танец, как известно, конструирует форму из заранее установленных позиций и поз, лишь слегка видоизменяя их — чему великим мастером был Мариус Петипа. Но уже Фокин начал воевать с этим непреложным принципом, устраняя одни особо ненавистные (и особо условные — вроде четвертой) позиции, удлиняя и деформируя другие. Нижинский пошел дальше, почти игнорируя позиции вообще либо деформируя их неузнаваемо, подчеркнуто, даже демонстративно (вроде антивыворотности — носками внутрь). Он начал экспериментировать непосредственно с телом, как это делал Роден; тело — тело артиста, собственное тело, женское тело — предмет его самых острых художественных впечатлений, рефлексий и проблем; здесь масса неожиданных открытий, горестных или грандиозных; здесь все — ошеломляющая новизна, возрождение чувств, утраченных старой культурой и взрослым человеком. «Фавн» возник именно из этих, давно потерянных чувств, но до «Фавна» уже был фокинский «Петрушка». Там было другое — драматическое ощущение отсутствующего тела, совершенно гоф-манский сюжет, а тут, наоборот, захватывающее ощущение своего тела в любой момент сценического действия, при любых поворотах совсем не гофманского, а очень простенького сюжета. «Фавн» Нижинского — это и есть тело, еще не наделенное душой, а потому свободное от комплексов и страхов. Свободное от уродства, от стеснительных уз, от спасительных ограничений. И наконец, свободное от жестких норм классического танца.
47
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
Конечно, это и не танец, или не танец в обычном смысле слова. Непрерывное движение, созданное музыкой Дебюсси, все время прерывается статическими позами — Фавн то и дело замирает на месте. Строго говоря, балет Нижинского — сюита поз или, точнее, сюита кадров. На кинопленку оригинального «Фавна» не успели заснять, но страстный поклонник Нижинского и профессиональный фотограф барон Адольф де Мейер сумел сделать тридцать три фотографии, и эта уникальная серия дает почти исчерпывающее представление о балете «Фавн» и методе, с помощью которого он сделан. Метод, сближающий балет с будущим киноискусством. Прирожденный рисовальщик, Нижинский зарисовывал в воображении кадры будущих мизансцен, и поэтому они столь фотогеничны.
Но это черно-белые фотографии, а не цветные. И это лишает фотоспектакль всего того очарования, которым отличался сценический оригинал. В альбоме барона Мейера недостает художника Бакста. А Бакст придумал для Нижинского фантастически выразительный пятнистый костюм и выстроил на сцене ослепительно красивый задник. Мифопоэтический получеловек-полузверь получил подлинную жизнь, а доисторическая Древняя Эллада — подлинный облик. Бакст словно бы изобрел первозданную палитру. Впечатление весны человечества, вечнозеленой весны, возникало от этой расписанной радужными красками горы, заросшей деревьями, травами и цветами. То, к чему безуспешно стремился Бакст-станковист, с легкостью осуществил Бакст-сценограф. Он нашел необходимый импрессионистический колорит в картине на историко-мифологическую тему. Однако Нижинский строил свой образ по контрасту и с музыкой Дебюсси, и с декорациями Бакста. В его заостренных асимметричных
48
БРАТ И СЕСТРА
позах не было импрессионизма. Эти вытянутые руки, согнутые в локте, эта оттопыренная ладонь, поставленная вертикально, — всё это знаки какого-то уже утраченного языка и какого-то еще не родившегося искусства. Нижинский не был стилизатором, как Фокин или Бакст, он был предтечей.
В «Фавне» Бронислава Нижинская исполнила роль Шестой нимфы. Тогда, в 10-х годах, она работала у Дягилева только как балерина. Но уже тогда была балериной особенной, наделенной хореографическим мышлением и творческой волей. После того как она выступила в «Петрушке», дублируя Карсавину в роли Балерины, но нисколько не подражая ей, едва не случился громкий скандал: Дягилев поначалу был решительно против. Ему хотелось увидеть вторую Карсавину, что было, конечно, невозможно. Вспоминая Карсавину уже под конец жизни, Аким Волынский писал о «мягкости» и о «сахаре», что, по-видимому, подразумевало сладостный стиль танца, столь характерный для эпохи модерн, и что Карсавина умела продемонстрировать как никто из танцовщиц. Конечно же, ни мягкости, ни «сахара», ни сладостного стиля в танцах молодой Нижинской не было и, соответственно, не было ни тени эпохи модерн, а была тайная терпкость, резкость, горечь, суровость и упрощенный формальный чекан, что исключало карсавинскую светотень и неуловимую карсавинскую игру оттенков. Сама Нижинская объясняла свой замысел так: «... я видела ясно, какую куклу надо изображать. Она совсем не должна походить на блистательную, изящную прима-балерину. Моя кукла — кустарная. Ноги, соблюдающие балетную выворотность, выглядят у нее так, точно пришиты к телу, а само тело лишено гибкости, мягкости. Ступни ног при сильно вытянутом подъеме бьют об пол быстро и резко».
4 — 940
49
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
Иначе говоря, тело как конструкция, а не как божественный силуэт или прекрасная скульптура, вся идеология будущего конструктивизма заявлена уже здесь, и практически весь его метод. Но надо было, чтобы прошло более десяти лет, прежде чем Нижинская в полной мере осознала свой балетмейстерский дар и чтобы в нее поверил Дягилев, — тогда и возникла «Свадебка». Впрочем, работа над «Свадебкой» проходила совсем не просто.
История создания «Свадебки» подробно освещена в работах молодой петербургской исследовательницы Марии Ратановой (я имею в виду пространное предисловие к первому тому «Ранних воспоминаний»). Там же рассказано о роли в спектакле «массы» (кордебалета) и осмыслены все перипетии не сразу сложившегося альянса балетмейстера Брониславы Нижинской и художника-сценографа Натальи Гончаровой. В споре и с Гончаровой, и с Дягилевым Нижинская добилась своего — отказа от мирискусничес-кой стилизации и импрессионистской палитры. Палитра в «Свадебке» двухцветная — белый и коричневые тона, тона юношеской чистоты и сурового долга. Соответственно выстраивается и двухъярусная геометрическая конструкция балета. Доминирует обряд, строгий обрядовый чин, строгая обрядовая безличность. Нет непосредственных чувств, кроме намека на них в описанных выше склонениях девушек-подруг и финального общего кордебалетного танца. Нет ни бесстыдных эротических возгласов-поз, ни любовного томления у жениха и невесты. Они почти неподвижны, никак не обозначены и кажутся срисованными с российских плакатов 20-х годов. Изысканная плакатность — точная и тягостная подробность тех лет, бросавших вызов всему личному, приносивших всё личное в жертву массовому, обрядовому, родовому.
50
БРАТ И СЕСТРА
Эта драматическая тема совершенно неожиданно и весьма остроумно преломлена Нижинской в двух последующих балетах, поставленных в 1924 году, — в «Ланях» и особенно «Голубом экспрессе». При всем различии «Свадебки» и «Голубого экспресса» постановка того и другого спектакля означала продвижение на балетные подмостки радикальной новизны: в первом случае — в сфере высокой эстетики, во втором — в сфере бытовой моды. И так же как в «Играх» Нижинского летние костюмы по моде 10-х годов спроектировал Бакст, так в «Голубом экспрессе» костюмы конструировала Габриэль Шанель, «великая Мадемаузель», законодательница моды 20-х годов, покончившая с декоративностью предшествующих лет и внесшая в покрой и материалы конструктивистскую четкость и функциональную целесообразность. А главное: мода сама по себе, мода как явление, играющая в современной изменчивой культуре почти такую же объединяющую и обезличивающую роль, какую играл обряд в культуре устойчивой, традиционной. Наблюдательная и насмешливая Бронислава Нижинская в своих зарисовках и скетчах выступила не только как балетмейстер-фельетонист или как балетмейстер-очеркист, но даже — впервые в истории — как балетмейстер-социолог.
А еще раньше эта важнейшая тема XX века — приношение одиночки в жертву коллективу, в жертву толпе — была затронута в 1913 году Вацлавом Нижинским, поставившим, при очевидной помощи сестры, балет Стравинского «Весна священная». Этот шедевр дягилевской антрепризы — последняя мирискусническая стилизация, постижение славянской старины и одновременно прорыв в художественное будущее, первый набросок еще не родившего
4*
51
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
ся экспрессионистского театра. Рядом с Нижинским на этот раз был не Лев Бакст, но Николай Рерих, знаток архаичных культур и замечательный колорист самого современного — для тех лет — типа. Костюмы Рериха наглядно продемонстрировали то, о чем в это же время стали догадываться отечественные искусствоведы, — каким острым чувством красоты обладала дохристианская Русь, какой изощренной эстетикой отличался ее быт и были окрашены ее обряды. Но ни костюмы Рериха, ни необычные композиции Нижинского балет не спасли, — скандал на премьере разразился такой, что спектакль просуществовал недолго, был быстро снят с репертуара и даже забыт разочарованными артистами. Главной мишенью критики стал не столько балет, сколько музыка Стравинского, не понятая даже многими друзьями. А Нижинский музыку оценил и даже распознал в ней скрытый нерв — экстатическое начало. И представил своих бородатых мужиков в необычных, экстатически скорченных позах. На нескольких сохранившихся фотографиях запечатлены эти вывернутые позы и эти дремучие мужики: застывший экстаз, застывшая корча. Рисунки-кадры Нижинского по-прежнему выразительны, как никогда, хороши, но само действие несколько статично. Конструктивный строй музыки Стравинского Нижинский передал по-своему, в духе далькрозовских идей, занимавших Дягилева в те годы. Главную партию исполнял кордебалет, расщепленный на несколько групп: в американской реставрации их пять, а на зарисовках Брониславы семь, далькрозовская пере-усложненность и сковала отчасти энергию партитуры. Зато в финальной сцене Нижинский освободился от оков и сочинил — из дергающихся движений, которых не знал классический балет, — танец Избранницы, миниатюрную
52
«ИГРЫ» НИЖИНСКОГО
поэму экстаза. Что имел в виду этот провидец, нам не дано узнать. Знаем лишь, что танец Избранницы должна была танцевать сестра, вынужденная прервать репетиции, подчиняясь услышанному материнскому долгу. И знаем, что подобным двойным чувством — избранника и жертвы — уже в эти годы наполнен был брат. Спустя несколько лет он заболел и свои записки в детских тетрадях, названные впоследствии «Дневником», закончил двумя словами: «Бог Нижинский».
«ИГРЫ» НИЖИНСКОГО
«Игры», «симфоническая поэма», как сказано в программе, а по старым понятиям — развернутое па де труа, одноактный балет для танцовщика и двух балерин, были показаны в Париже, в Театре Елисейских полей 15 мая 1913 года, за две недели до скандальной премьеры «Весны священной», и не имели никакого успеха. Можно сказать, что балет Нижинского не заметили, а можно сказать, что балет этот Нижинскому простили.
Сергей Григорьев посвятил «Играм» всего один абзац, столько же сочувственный, сколько и беспощадный. Вот что он пишет: «"Игры” не имели сюжета. Две девушки, играя в теннис, теряют мяч и ищут его. К ним присоединяется юноша, после чего они забывают про мяч и принимаются с ним флиртовать, пока брошенный из-за кулис чужой мячик не прерывает их "игры", и тогда они убегают. В "Играх" был ряд хореографических находок. Если бы Нижинский имел боль
53
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
ше времени, он мог бы сделать что-то значительное, но в существующем виде балет оказался незрел и беспомощен. Зрителей обескураживала угловатость жестов; отход от классических канонов вызывал у них смех и жалость к танцовщикам, которые вынуждены были исполнять уродливые движения. Оформление Бакста прошло, по существу, незамеченным, и только музыка Дебюсси, исполненная под управлением Пьера Монте, доставила подлинное удовольствие. Дягилев был расстроен, так как надеялся на лучший прием. Но он не мог позволить себе отвлекаться на эту неудачу, поскольку было полно забот в связи с предстоящими оперными спектаклями и постановкой "Весны священной"».
Несколько лет назад «Игры» были восстановлены той же компетентной командой, которая еще раньше восстановила «Весну», и мы можем процентов на 90 признать восстановленную постановку аутентичной. Недавно мы видели в исполнении итальянских артистов, при участии несдающейся — и не сдавшей своих позиций — Карлы Фраччи. Впечатление было совсем не таким, как у зрителей Театра Елисейских полей 1913 года. Приходится признать, что ни Григорьев, ни сам Дягилев не были готовы воспринять столь новое искусство. Столь новое? Конечно, да, но без тех признаков (или атрибутов) новизны, которыми Нижинский ошеломил в «Фавне» и собирался ошеломить в «Весне священной». Эротический мотив почти угас, почти незаметен. Архаическая пластика отсутствует, потому что действие перенесено в сегодняшний день, и это, по-видимому, первый балет, где заняты персонажи в современных спортивных костюмах. Чья именно была идея показать в балете игру на теннисном корте — Григорьев не говорит, но важно, что Нижинского она увлекла
54
«ИГРЫ» НИЖИНСКОГО
и своей художественной неожиданностью, и своей внезапной близостью к его тайным мыслям. Напомним, что Нижинский сам танцевал мужскую роль вместе с Шоллар и Карсавиной, а Карсавину он тайно любил и перед ней тушевался. Тушевался он перед молодыми девушками, к которым его влекло, перед ночными красавицами, к которым его тянуло. Об этом вполне откровенно рассказано в «Фавне». Но тут, в «Играх», он совсем другой — ловкий, спортивный, мастер тенниса и такой же мастер флирта, не только виртуоз танца, но виртуоз спортивной и любовной игры, то, что много лет спустя получило буквально точное обозначение плейбоя. Бог танца мечтал быть всего-навсего плейбоем? Да, так бывает, и подобная ситуация описана не раз, наиболее ярко — у Пруста, у которого больной юноша Марсель, мечтающий стать великим писателем, больше всего мечтает быть принятым в кружок девушек-велосипедисток, сломя голову гонявших по пляжу. О «девушках в цвету» Пруст написал бессмертный второй том, «девушкам в цвету» Нижинский посвятил не столь бессмертный, но вовсе не исчезнувший балет, но несколько затянул его (что во многом и объясняет неуспех), потому что, как оказалось, не был большим знатоком флирта. Тут он ничего нового не изобрел. Зато его пластическое мышление оказалось подлинно новым. Гениальная интуиция и на этот раз не подвела его. Эти «угловатые жесты», о которых с раздражением пишет Григорьев, прямо восходят к тем треугольникам, которые вскоре начнут заполнять живопись и графику супрематистов, а красивые симметричные позы трех действующих лиц — в середине вертикально стоящий танцовщик, а по бокам — диагонально пристроившиеся балерины, все в белоснежных костюмах и все с бесстрастным выражением на лице, — своей белиз
55
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
ной и своей композиционной завершенностью напоминают эскиз абстракционистской картины.
КОСТЮМЫ БАКСТА
У костюмов Бакста сказочная судьба: после того, как в эти костюмы одевали Тамару Карсавину, Вацлава Нижинского, Иду Рубинштейн, они попадали в театральный музей, а эскизы к костюмам — в картинную галерею. Эскизы костюмов — может быть, самое ценное, что создал Лев Бакст, они и ценятся по самому высокому прейскуранту. Выдающийся портретист и великий декоратор, Бакст создал совершенно оригинальный жанр, близкий отчасти портрету, отчасти декоративной композиции, но и самостоятельный, ни на что не похожий. И по своей технике картины-эскизы Бакста тоже разрушают слишком жесткий стереотип, это столько же графика, сколько и живопись, здесь на равных правах выражает себя и дар графика, и дар живописца. Рисунок остр, быстр, блестящ, прихотлив, а колорит ослепительно ярок. Рисунок — точно иглой, а красочный слой, напротив, кажется нерукотворным. Словно он прямо перенесен с каких-то альпийских лепестков, с чьих-то экваториальных шкур, с чьего-то экзотического оперенья. Бакст — сказочный, фантастический и, добавим, чисто городской, урбанистский натуралист, изображающий девушек-птиц и юношей-фавнов. Природное в человеке — его главный интерес, подобно тому как для Бенуа главное — культурное, театральное в человеке. Персонаж Бакста — человек-бабочка или человек-цветок, а персонаж Бенуа — человек-кукла. Поэтому костюм Бакста —
56
КОСТЮМЫ БАКСТА
не просто театральный костюм, хотя бы необычайно искусный, изобретательный, даже занимательный в деталях, колористически изощренный. Все дягилевские художники мирискуснической поры создавали такие костюмы. Бакст делал то же, что они, и все-таки Бакст от них отличался. Костюм Бакста портретен, а потому одушевлен, несмотря на свою мирискусническую утонченно-материальную фактуру. Костюм пластичен. А пластика персонажей — это не пластика балетных поз, но пластика природных состояний. Они удивительны, ракурсы бакстовских эскизов, утрированные ракурсы бакстовских тел, тел в полудреме или в полусне, тел, вырвавшихся на свободу. Но чаще всего эскизы Бакста изображают эротический танец. Эротика — оправдание бакстовских красок и бакстовских поз, душа и смысл бакстовских композиций. Не вольная эротика ренессансных картин и новелл, но утонченная эротика персидских миниатюр и арабских сказок. Вакхическая стихия в картины Бакста так и не ворвалась, и его героиня — не вакханка, но одалиска. Впрочем, персидско-арабский Восток — не единственный источник бакстовских вдохновений. Бакст любил венский бидермайер и был его знатоком. Бидермайеровские костюмы в балетах «Видение розы» и «Карнавал» принадлежат к числу его самых лиричнейших, самых музыкальных. Здесь тоже эротика, но это почти бесплотная эротика сна, почти неосязаемая эротика вальса. И здесь не гурии рая, как в бакстовских ориенталях, а барышни в фестончиках, ленточках и чепцах. Но райская музыка звучит здесь и там, и райские образы появляются отовсюду, райские кущи, райские розы, райские птицы. Райский уголок — то, что всегда изображал в своих декорациях Бакст, рисуя гарем, шатер, парк, сад или лужайку. Это всегда укромное, со всех сторон занавешенное или заросшее место. Бакст — живописец укромных нег, поэт
57
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
укромных наслаждений. Жизнь для него сказка, иногда со страшным концом, а спектакль — сказочная декоративная идиллия, в которой, однако, присутствует острый контраст: легкие тени на зеленой траве «Фавна», багровые пятна на зеленом ковре «Шехеразады». В эскизах костюмов Бакста та же логика и тот же внутренний драматизм: цветовая гармония и графический гротеск, контраст острых треугольников и расплывающихся овалов. Геометрические фигуры прочерчивают красочное марево и выстраивают силуэт, но эмоциональная роль геометрических фигур различна. В неправильных овалах — играющая формами жизнь, а в правильных треугольниках — что-то механическое, что-то неживое, в овалах разлита сладостная лень, а в треугольниках — тревога.
МЯСИН И БАЛАНЧИН
Леонид Мясин появился у Дягилева в 1914 году, Георгий Баланчивадзе (впоследствии Баланчин) — десятью годами позднее, и вторая половина 20-х годов, все 30-е и все 40-е годы прошли под знаком их соперничества, их страстной борьбы за первенство в Европе, в Америке Северной, в Америке Южной. Противостояние это во многом определило пути развития балетного театра. Оно оказалось на редкость плодотворным. Как это ни покажется странным, оно продолжилось еще и сейчас, когда в мире возродился интерес к Мясину после нескольких десятилетий почти повсеместного и почти единоличного господства Баланчина. А ведь начиналось всё не так: на первых ролях был Мясин, более удачливый, более яркий, менее элитарный. Именно Мясин показал
58
МЯСИН И БАЛАНЧИН
Европе (в Лондоне, в 1933 году) первый симфонический балет «Предзнаменования» на музыку Пятой симфонии Чайковского. «Серенада» Баланчина, и тоже на музыку Чайковского, была показана в Нью-Йорке годом и тремя месяцами позднее. О том, что у обоих балетов есть предшественники, и прежде всего танцсимфония «Величие мироздания» Федора Васильевича Лопухова (в ее единственном представлении участвовал и восемнадцатилетний Жорж Баланчивадзе), за пределами России знали немногие. Даже Петроград об этом историческом событии был почти не осведомлен. Так что пионером нового жанра Мясин считал себя, и это было признано балетным миром. Но классиком жанра стал Баланчин, что тоже признано почти всеми.
Сразу же скажем об очевидном различии, требующем, однако, точных определений Очевидно, что Мясин ставит программные симфонии, реализует предложенную композитором программу или же предлагает свою программу, свой, как правило аллегорический, сюжет. Тогда как Баланчин исходит из структуры симфонии, из ее стилистики, из ее формальных качеств. Было бы более точным использовать понятия, принятые в новейшей живописи, а отчасти и в скульптуре. Балеты Мясина фигуративны, балеты Баланчина абстрактны.
Фигуративны мясинские балеты в прямом смысле, и даже — в двойном, и потому что там много характерных персонажей-фигур, и потому что балетмейстер тяготеет к фигурной пластике, фигурному рисунку, фигурным мизансценам. А Баланчин обожествляет линию, работает абрисами, контуром, силуэтом, силуэт танцовщицы для него значит больше, чем характер действующего лица, силуэт поглощает персонаж, нивелирует характер. И за этими чисто формальными отличиями — различия в традициях, которые оба соперника олицетворяют.
95
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
По своему происхождению Мясин был москвичом, Баланчин — петербуржцем, и в их противостоянии возродилась старая распря театрального Петербурга и театральной Москвы, противостояние классицистского и романтического искусства. В XX веке Мясин являл собой неоромантизм, Баланчин — неоклассицизм в самой чистой и самой актуальной форме. Но корни творчества того и другого уходят в далекое — и не очень далекое — прошлое обеих столиц: в московское Средневековье и петербургский Ренессанс в его классицистско-аполлоновском варианте. Как и все подлинные романтики, от молодого Гоголя до зрелого Гюго, Мясин во власти страшных средневековых легенд, с ведьмами, призраками, мертвецами, с картинами шабаша и шествия на казнь, со сценами мрачных видений. А светлый гений Баланчина в гораздо большей степени (и под очевидным воздействием Стравинского) ориентирован на античный миф, на прекрасную Элладу, на Аполлонов Парнас, и даже преисподняя, куда спускался Орфей, изображена без пугающих адских красок. Основное художественное средство Мясина, основная его фигура — гротеск, тот магический ключ, при помощи которого романтики открывали дверь в Средневековье. А основная эстетическая категория, на которую равнялся Баланчин, это гармония, почти недостижимая цель для художника XX века
И самые счастливые мгновения в театре Баланчина, — когда из кордебалетных эволюций либо из комбинаций сольных или дуэтных па ненадолго сверкнет идеальный гармонический образ — образ слившегося в одном порыве кордебалета, образ единения нашедших друг друга партнеров.
У Мясина тоже есть счастливые мгновения — в его опереттах. Здесь он давал себе полную волю, здесь раскрывался его подлинный дансантный дар, дьявольский, совсем не аполлоновский, а, напротив, дионисийский; здесь он
96
МЯСИН И БАЛАНЧИН
весьма изобретателен в построении хореографических портретов. Особенно в тех случаях, когда эти портреты на сцене воплощает он сам. Ярчайшие примеры — Китайский фокусник в «Параде», Танцовщик канкана в «Волшебной лавке», Перуанец в «Парижском веселье», и все эти мясин-ские живые куклы, буффонные маски цирка, бурлескные маски оперетт — персонажи эксцентриады, которую Мясин создавал всю жизнь и всю жизнь танцевал захватывающе экспрессивно. В соединении экспрессии и эксцентрики — особое качество его стиля, особые пристрастия его души, и тут у него один соперник — Чарли Чаплин. Чаплин дружил с Мясиным и поставил свой знаменитый танец из фильма «Новые времена» в рисунке мясинских эксцентриад, используя схожий прием, строя образ на непомерно растянутом гротескном глиссаде.
Я бы даже рискнул предположить, что в душе Мясина сохранялось что-то от средневекового русского скомороха, бросавшегося очертя голову в бесстрашные и азартные веселые авантюры. Такой веселой и даже кощунственной авантюрой был легендарный «Парад» (для которого Пикассо создал знаменитый — сказочной красоты — занавес и не менее знаменитые — на грани хулиганства — кубистские костюмы). Скандал вышел невероятный, невероятный возник интерес, Дягилев потирал руки, Мясин стал знаменит, но уже тогда его неудержимо влекло другое, пока еще неизвестно что, и он искал это другое за пределами труппы и влияния Дягилева, пока не нашел — уже после смерти патрона. Мясин был честолюбец и визионер, не только пролагающий свой путь, но и осуществляющий свою особую миссию в балетном театре. Это и помогло ему ставить балеты-симфонии, совершив мощный прорыв, это и сблизило с немецкими экспрессионистами, романтиками первой трети XX века,
7 — 940
97
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
тоже визионерами, тоже совершившими мощный прорыв и тоже осуществившими духовную миссию в танце. А его alter ego, Юноша из «Фантастической симфонии» и фактически Гектор Берлиоз, — сам художник-визионер и художник-миссионер, предтеча экспрессионистов и просто-напросто экспрессионист эпохи Гюго и Бальзака.
И путь Юноши повторяет путь самого Мясина — путь одинокого артиста, окруженного враждебной толпой, несущего свет, ненужный людям. В других балетах — то же одиночество, но вдвоем, одиночество любовников, одиночество дуэта.
Впрочем, дуэты — не самая сильная сторона мясинской музы, а в «Предзнаменованиях», его первом и самом известном балете, так даже самая слабая. Содержательнее танец-монолог, ярче — массовки. И ту и другую форму культивировали немецкие экспрессионисты в балете и в драме. Мясин продолжил их путь — путь Курта Иосса, Харальда Кройцберга и даже Эрвина Пискатора — уже тогда, когда новая политическая реальность поставила вне закона театр экспрессионистов.
Поразительная вещь: Мясин был далек от политики, в программе к «Предзнаменованиям» говорится о «судьбе» и вечных человеческих темах, они, конечно, присутствуют и задают тон, но вместе с тем очевидно, что широко задуманный балет — предзнаменования наступающих и наступивших времен, времен в самом широком смысле тоталитарных, когда разрозненные, потерявшие опору малые кордебалетные группки из первой части (остро, выразительно и даже виртуозно построенная часть, отчасти предвосхищающая более лирическую первую часть баланчин-скои «Серенады») в четвертой части собираются в массу, в единый кулак и шествуют на войну единым фронтом.
98
МЯСИН И БАЛАНЧИН
Перенеся в классику экспрессионистские приемы, разрушив округлые пор де бра и заострив жест, выстраивая отдельные кордебалетные мизансцены как частокол направленных вверх жестов, Мясин объединяет в одной метафоре сразу несколько смыслов, столь значимых для него: повеление и мольбу, предостережение и молитву. 14 всей кордебалетной агрессии противостоит постоянный мотив: одинокий жест одинокого человека.
А Баланчин совершенно другой: хотя и достаточно замкнутый человек, он всегда окружен людьми — учениками, соратниками, любимыми женщинами, преданными друзьями. В Петрограде он, двадцатилетний, организует «Молодой балет», в Нью-Йорке, едва обосновавшись, основывает балетную школу. И по своему психологическому типу, и по характеру творчества это, конечно, вождь, конечно, лидер, но и строитель ансамбля. Ансамбль — его излюбленная форма. С необычного ансамбля все началось: премьер и три танцовщицы в «Аполлоне», классический, но своеобразный па де катр, первая работа Баланчина, принесшая ему мировую известность; необычные ансамбли выстраивались на протяжении всей жизни. Самый сложный — «Четыре темперамента», двенадцать вариаций заявленной темы, а самый захватывающий, головокружительный, виртуозный — «Симфония до мажор» («Хрустальный дворец»), где последовательно выстраиваются четыре ансамбля — в каждой из четырех частей юношеской симфонии Бизе, а затем создается некий сверхансамбль из всех четырех частей, с участием четырех балерин, четырех солистов, четырех пар корифеек и четырех групп кордебалета. Ничего подобного балетный мир не знал, это поистине празднество, бенефис ансамбля.
Но и сама исходная модель Баланчина, о которой известно давно и написано много, — создание хореографи
7*
99
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
ческих аналогов классических симфоний, сюит, серенад и инструментальных концертов, есть, в сущности, тоже большой ансамбль — ансамбль музыки и танца. Надо только оговорить, что к полной, буквальной аналогии Баланчин никогда не стремится; здесь не аналогия, но диалог, даже, может быть, большой дуэт, если иметь в виду излюбленную Баланчиным дуэтную форму. Сообразуясь с музыкой как прирожденный музыкант, он выстраивает текст как подлинный хореограф, совершенно свободно. По праву мастера выводит артиста на сцену, по праву мастера уводит артистку за кулисы, заменяет солистов на кордебалет, как это происходит в последней части «Серенады». Здесь логика Чайковского и логика Баланчина, не повторяя, но и не противореча друт другу, образуют то, что можно назвать логикой большого ансамбля. Меру своей хореографической свободы Баланчин прекрасно знал, и контроверзы с музыкой не возникало.
Необходимо добавить еще и то, что Баланчин-хореограф мыслил не просто как музыкант, но как музыкант современный. Свидетель исторических перемен в музыкальном искусстве, он захотел стать соучастником этого процесса в балете. Соучастником осторожным, умеренным, а вместе с тем отчаянно смелым. Он реформировал хореографический язык, и целью реформы было привести классический танец в некоторое соответствие с нормами новой музыки, с новыми гармониями, новым ощущением ритма. И эту свою модернизированную систему — «неоклассицизм» — Баланчин накладывал на традиционные партитуры, не только авангардные. Иными словами, и Бах, и Моцарт, и Чайковский, и Бизе переводились в хореографический план отчасти—разумеется, только отчасти — теми же способами, что Стравинский, Веберн и Хиндемит. Стиль Баланчина довлел всему, хотя с годами усложнялся.
100
МЯСИН И БАЛАНЧИН
14 соответственно, в отличие от Мясина, чье творчество сохраняло архаические черты и чья личность стремилась к романтическому самоутверждению всеми способами и любой ценой, Баланчин являл собой современный и даже сверхсовременный (в духе семиотических идей) тип художника, стремящегося к анонимности, к самоисчез-новению в тексте. Текст — все, Автор — ничто, или, говоря словами семиотика Ролана Барта, удовольствие от текста — все, а судьба Автора, его сомнения, горести, беды, болезни и даже пороки — ничто, нечто бесследно исчезнувшее в потоке изощренного или блистательного, конструктивно законченного и прозрачного текста.
Подводя итоги, можно сказать, что для Мясина главное — выразительное движение, и выразительность такова, что придает балетам мистериальный характер. Симфонические балеты Мясина — балеты-мистерии, отчасти даже балеты-миракли, тогда как симфонические балеты Баланчина — балеты-структуры в их первозданности, в их кристальной жанровой чистоте, демонстративно не выходящие из границ жанра. И конечно, живописная фигуративная модель Мясина оказалась ближе дягилевским открытиям и заветам, чем абстрактная и музыкальная модель Баланчина, бывший москвич оказался гораздо большим приверженцем Дягилева и защитником его идей, чем бывший петербуржец. 14 в личном плане Мясин входил в число дягилевских возлюбленных фаворитов, как до него Нижинский, а после него Лифарь, в то время как Баланчин с первых же шагов держался обособленно, независимо и даже упрямо, что вызывало нараставшее раздражение у деспотического патрона. С Мясиным происходили постоянные, почти семейные ссоры, он уходил, возвращался, снова уходил; Баланчин сцен не устраивал, строго придерживался всех
101
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
пунктов контракта, из-за денег не торговался, внимания не искал и за четыре сезона так и не стал сколько-нибудь близким и сколько-нибудь понятным человеком. Как дает понять осведомленный Сергей Григорьев, летом 1929 года Дягилев не собирался возобновлять с ним контракт, и лишь внезапная смерть в августе помогла Баланчину избежать оскорбительной отставки. Впрочем, он был к ней готов. Он всегда был готов к переменам в жизни.
БАЛАНЧИН И ЛИФАРЬ
Все последние годы дягилевской антрепризы они работали вместе: Баланчин ставил балеты, Лифарь играл в них главную роль — и в «Кошке», и в «Аполлоне», и в «Блудном сыне». В сознании парижских зрителей, не только балетоманов, имя Лифаря вытеснило имя Баланчина, и так обстояло дело и в ЗО-е, и в 40-е годы. Лифарь — единственный, третий по счету, «бог танца» — после Вестриса Великого и Нижинского; первый в современной истории «хореавтор» (остальные не в счет, остальные имеют дело с музыкой и либретто, а хореавтор — тот, кто, подобно ему, как, впрочем, и Зевсу, создает всё из своей головы), идущий по так называемому икаров-скому пути — так он обозначил и свой путь, путь артиста, штурмующего небо.
Как говорится в подобных случаях, излишней скромностью он не страдал, был до смешного самовлюбленным человеком. Не просто Нарциссом (балетные премьеры почти сплошь Нарциссы, может быть, потому, что привыкли получать от женщин цветы, а может быть, потому, что с юных лет приучены
102
БАЛАНЧИН И ЛИФАРЬ
видеть себя в зеркалах, наблюдать за собой, собой восхищаться), Нарциссом в какой-то особой степени, это Нарциссимус балета XX века, и в самом деле не знающий себе равных.
Сам же — в собственных постановках — он отождествлял себя с героями древних легенд (уже упомянутый «Икар», «Давид-триумфатор», «Александр Великий» — некая перекличка с Вестрисом Великим) и с персонажами легенд средневековых. В одной из последних ролей («Рыцарь и Девушка», 1941-й — мы видели этот балет на гастролях Гранд Опера в 1958 году) он выходил на сцену в образе рыцаря без страха и упрека. Страха он действительно не знал. И когда в киевской юности бросил гимназию (уже школу, это было при большевиках) и поступил шестнадцатилетним неловким пареньком в студию Брониславы Нижинской; и когда бросил семью, город, страну и после крайне рискованного путешествия предстал перед судом Дягилева, поначалу вовсе не очарованного им; и когда, после смерти Дягилева, согласился возглавить парижский балет; и когда начал решительно реформировать художественные и бытовые основы его; и когда сам начал ставить — все это так, смелости в нем было столько же, сколько нескромности. А кроме того, верный ученик Дягилева, он понимал толк в скандалах. Но вот «рыцарем без упрека» его, к сожалению, назвать нельзя: жизнь его была затемнена некоторыми обстоятельствами, вольно или невольно сопутствовавшими, но и мешавшими его славе.
В 1944 году, после Освобождения, он был обвинен в коллаборационизме, уволен из театра и даже изгнан из Франции; затем был частично реабилитирован. Репутации национального героя был тем не менее нанесен урон, хотя Лифарь и говорил о своей миссии Художника, Художника с большой буквы, призванного творить что бы там ни происходило в низинах человеческой жизни. Другое обстоятель
103
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
ство более связано с темой этой главы: Лифарь не очень красиво повел себя по отношению к Баланчину, которому был многим обязан — очень многим. После смерти Дягилева Баланчин получил приглашение поставить балет в парижской Гранд Опера, но тяжело заболел, вынужден был оставить Париж и несколько месяцев лечился в швейцарской клинике; там, после операции, он и остался с одним легким. Бросив начатую работу на полдороге, Баланчин рекомендовал дирекции театра своего ученика с тем, чтобы тот завершил постановку, а когда вернулся из Швейцарии, узнал, что место балетмейстера уже занято, балет поставлен, а о нем, Баланчине, никто и не вспоминает. Через несколько лет Баланчин попал в Нью-Йорк, жизнь его сложилась так, как она сложилась, и так, как она должна была сложиться, — то есть на новом месте, на месте пустом, не захламленном и не загроможденном. Но он был отомщен, и месть немстительного Баланчина была поистине королевской. В 1947 году его позвали спасать Парижский балет, заполнить своими постановками пустующий репертуар, и тогда-то он экспромтом, всего за две недели, сочинил и отрепетировал «Хрустальный дворец», балет, посвященный парижской школе. И этот гениальный балет сразу все поставил на свое место: выяснилось, кто такой «хореавтор» Лифарь и кто такой Баланчин, просто Баланчин, чего стоит «икаровский путь» и какова цена баланчинских импровизаций.
Разница велика, и чтобы ее объяснить, следует свести сравнение к первоосновам классического танца. Это различие между движением и позой. Хореография Баланчина — апофеоз движения, хореография Лифаря — апофеоз позы. Поэтому Баланчин танцевален, а Лифарь — не всегда, его лучшие балеты — «Икар», «Истар», «Федра» — сюиты поз, искусных, изысканных, иногда иератических, иногда иллю
104
ДЯГИЛЕВ И БАЛАНЧИН
стративных. Поэтому Баланчин динамичен, а Лифарь — нет, первый вышел из атмосферы и поисков 20-х годов, второй оказался в стороне и от этих поисков, и от этой атмосферы. И поэтому Баланчин смог так развернуться в Нью-Йорке, в стране, обожествлявшей движение, дорогу, автомобиль, самолет, а Лифарь обосновался в Париже, Париже между двух войн, культивировавшем героическую позу в политике и быту, а в искусстве сохранявшем верность театральному классицизму — искусству «выступки», жеста и позы.
Поэтому так разнятся парижские балеты Лифаря и Баланчина. Баланчин славит «вечное движение» — так кончается «Хрустальный дворец», а Лифарь стремится увековечить вечные позы — позы любительницы сигарет, позы дегасовских танцовщиц, его «Сюита в белом» отдаленно напоминает сюиту оживших скульптурок.
ДЯГИЛЕВ И БАЛАНЧИН
Последний балет дягилевской антрепризы — «Блудный сын» в постановке Баланчина и с Лифарем в заглавной роли — был показан в Париже, в Театре Сары Бернар 21 мая 1929 года. Музыку сочинил Сергей Прокофьев, декорацию — два таинственных задника-панно — написал Жорж Руо, а Борис Кохно составил сценарий. Идея инсценировать евангельскую притчу принадлежала быстро старевшему Дягилеву, хотя, что именно побудило его избрать этот сюжет, не до конца ясно. Из слов Сергея Григорьева следует, что Дягилева увлекла сама по себе сюжетность, возможность показать драматически построенный сюжетный балет, к чему до того
111
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
он совсем не стремился. О других, более серьезных и личных побуждениях сдержанный и деликатный дягилевский историограф ничего не говорит, оставляя нам самим строить догадки. Тем более, что «Блудный сын» можно увидеть на сцене еще и сейчас, в Нью-Йорке и Петербурге. Балет был дорог Баланчину, он сохранил его почти без изменений в своем репертуаре, показывал на гастролях, занимал лучших артистов и, в частности, придавал особое значение выступлению в нем Михаила Барышникова — в годы совместной работы. Но Дягилева, судя по всему, этот блистательно остроумный, красивый и глубокий спектакль не устроил. Как не устраивал его сам Баланчин все пять лет пребывания в труппе. За эти пять сезонов он поставил девять балетов, в том числе легендарный «Аполлон Мусагет», имел постоянный, больший или меньший, успех, ничего не провалил и по существу спас компанию от возможного художественного краха. Это прекрасно понимал тот же Григорьев, фактически вынудивший Дягилева подписать контракт с Баланчиным на 1929 год. Но именно это, конечно же, и раздражало, даже бесило Дягилева, не умевшего быть обязанным кому-либо из своих артистов. Тем более безукоризненно вежливому, но несговорчивому Баланчину, державшемуся столь независимо, столь обособленно, столь одиноко. Да и сроки ангажемента — сначала четыре, а потом и ещё один год — нетерпеливого Дягилева должны были угнетать: так непрерывно и так долго в 20-е годы у него никто не работал Но главное, по-видимому, заключалось в другом. Своим безошибочным чутьем Дягилев почувствовал в Баланчине чужого, совершенно так же, как почти в это же время почувствовал чужого в художнике Дмитриеве режиссер Мейерхольд. Дмитриев через несколько лет стал главным художником Московского Художественного театра, Баланчин через
112
ДЯГИЛЕВ И БАЛАНЧИН
столько же лет стал основателем нью-йоркской балетной школы, а потом — и стационарного театра Нью-Йорк сити балле. А Дягилев и балетная школа — две вещи несовместные, также как и Дягилев и стационарный балетный театр, во всяком случае, Дягилев после 1908 года. Здесь, конечно, игра судьбы, которая могла бы сложиться иначе и у Дягилева, и у Баланчина, не случись того, что с ними случилось в России, Европе и за океаном. Так или иначе, волей обстоятельств или волей судьбы, выполняя предназначение истории или услышав внутренний призыв, оба они, и Дягилев и Баланчин, выстраивали свою жизнь столь последовательно и столь непохожим образом, что стали образцовым олицетворением двух типов художественной деятельности — абсолютно неангажированного в первом случае и пожизненно ангажированного во втором.
Дягилев в этом смысле — классический человек XX века. И в психологическом плане — никто так не умел рвать со своим окружением, со своим прошлым. И в плане художественной идеологии, она же деловая практика, у Дягилева одно не отделялось от другого. Дягилеву удалось совершить казалось бы невозможное: почти полностью вырваться из-под власти прошлого, из плена традиции, из господства школы, причем не однажды, и несколько раз уже на территории своего собственного дела. Как только что-то начинало становиться традиционным (на понятном языке это значило — начинало повторяться), как только творческая жизнь компании начинала приобретать еще неочевидные очертания нежелательной стабильности, следовала незамедлительная дягилевская реакция: очередной балетмейстер (или очередной декоратор, или даже очередной композитор) изгонялся, на его место приходил другой, и все начиналось сначала.
8 — 940
113
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
А творчество Баланчина американского периода означало совсем другое: возвращение в лоно истории, только в этом смысле он «блудный сын», и главным образом в этом и состоит внутренний смысл так называемого неоклассицизма — стиля, который Баланчин разрабатывал начиная с середины 30-х годов (и еще раньше, в «Аполлоне Му-сагете» 1928 года). Свой совершенно новый балет Баланчин сумел встроить в золотую цепь исторической преемственности, он восстанавливал порванные связи, которые сам рвал в бурной молодости, в начале 20-х годов, еще в голодном Петрограде. Он воссоздал школу — не только как учебное заведение, но как новый академизм, строгие нормы академического балета. И увенчание всего — театр, построенный им на пустом месте. Баланчин — строитель, единственный подлинный строитель из всей дягилевской плеяды. При том что о Сергее Павловиче он всю жизнь сохранял благодарную память.
Как же можно назвать Дягилева по контрасту с Баланчиным-строителем? Разрушитель? О нет! Тут надобно найти совсем другое слово. И оно есть: Дягилев — освободитель, великий освободитель творческой энергии, таившейся где-то в глубинах души совсем разных людей, да и в недрах искусства, не только балетного. Освободитель той вольной энергии, на которую были наложены запреты. Он словно бы проделал грандиозный сеанс почти вселенской психотерапии. Своим талантливым, но не всегда смелым современникам он повелел состояться. Такой же приказ он отдал самому себе. Неудачники не вызывали в нем ни сочувствия, ни понимания, ни интереса. По своей натуре он тоже созидатель, такой же, как его прославленные ученики. И что же создал этот не знавший жалости человек, не писавший ни музыки,
114
ДЯГИЛЕВ В XX ВЕКЕ
ни картин, не сочинявший балетов? Он создал свое время, время Дягилева, те двадцать лет сверхинтенсивного творчества, которые стали легендой, как русский Серебряный век и как итальянское кватроченто.
ДЯГИЛЕВ В XX ВЕКЕ
Вскоре после смерти Дягилева — в августе 1929 года — и имя и дело его стали постепенно забывать, даже в Париже Тому было много причин, и не в последнюю очередь разразившийся всемирный кризис, когда и в Америке и в Европе было не до балета. Наблюдая издалека, мы можем теперь сказать, что смерть Дягилева подвела некоторый итог и вместе с ним ушли 20-е годы. Кончилась эпоха послевоенной Европы, началась, поначалу не слишком заметно, эпоха довоенной Европы, по-новому довоенной, все более тревожной. Сергей Дягилев как живое воплощение духа 20-х, духа бесстрашных экспериментов и демонстративной художественной свободы, как носитель самой идеи авангардизма, сразу же стал не нужен и как пример, и как вождь, и как идеолог. Пришло время 30-х, когда нужны были другие примеры. Авангард с его историческим нигилизмом терял моральные и даже художественные права. Главенствующим этическим императивом становилось чувство долга перед историей и перед культурой. В этих новых обстоятельствах Дягилев, будь он жив, будь он здоров, нашел бы для себя достойное место — сомневаться в этом не будем. Тем более, что уже в 1921 году, совершая очередной tour de force, он неожиданно обратился к Мариусу Петипа, столь отвер
8*
115
ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
гаемому когда-то. В Лондоне, на сцене театра «Альгамбра» была восстановлена вся многоактная «Спящая красавица» в декорациях Бакста и с удивительным, чисто дягилевским составом участников. Главную партию танцевала Ольга Спесивцева в очередь с Верой Трефиловой, Лидией Лопуховой и Любовью Егоровой — все лучшие академические балерины довоенного и послевоенного Мариинского театра. А в роли злой феи Карабосс появилась Карлотта Брианца, первая Аврора на премьере 1890 года. Художественный успех непривычного для лондонских зрителей балета был полный (показано 105 спектаклей). Однако сборы постепенно падали, и все обернулось финансовой катастрофой. Массовый интерес к многоактным балетам в Европе еще не наступил, и в который раз Дягилев опередил свое время.
Пришли 40-е, затем 50-е и 60-е годы, и к Дягилеву вновь стал возвращаться интерес, и его имя снова стало харизматичным. Сначала в постмодернистских кругах как образ перманентной художественной революции, постоянного самоотрицания, постоянного бегства от самого себя, постоянного движения к манящей и недостижимой цели. Но затем масштаб личности Сергея Павловича Дягилева стал понятным для всех людей культуры. В его честь была названа площадь в Париже. В память его стали проводиться «дягилевские чтения» в Перми. Он получил статус культурного героя XX века. И временем его, временем Дягилева, стали мерить многие высшие достижения современного искусства.
ЧАСТЬ II
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ НОВЫЕ ВРЕМЕНА МАРШРУТЫ «ЖИЗЕЛИ» МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
Здесь, в эой части, даются зарисовки избранных персонажей балетной истории преимущественно XX века. Речь пойдет и об отдельных спектаклях и даже отдельных эпизодах. Краткость одних очерков, большая или меньшая пространность других никак не связаны с масштабом личности и таланта, а совершенно произвольны. Так же произвольно построена композиция всей части, где одни персонажи присутствуют независимо, под своим имененм и в своей главе, ахдругие сгруппированы под некоторым общим заголовком, в связи с общей темой. Когда часть сложилась, я понял, что следовал композиции баланчинского «вгона». Там тоже квартеты, трио, дуэты сменяют друг друга, иногда уступая сцену соло. Логики в этом нет, но есть игра и есть свобода.
Начну же я с отступления в прошлое, с рассказа о двух классиках русского балета XIX века.
НА ИМПЕРАТОРСКОМ СЦЕНЕ
ВЫЗОВ ПЕТИПА
К началу XX века петербургский балет и его многолетний руководитель Мариус Петипа котировались в общественном мнении чрезвычайно низко. Балеты Петипа казались давно умершим искусством. Вход в новый век был для них закрыт, — считали даже просвещенные артисты. В этом были убеждены критики, администраторы, театралы. В этих оценках сходились будущие непримиримые противники и враги — Дягилев, создатель «Русских сезонов», и Теляковский — с 1901 года директор Императорских театров. Впрочем, куда идти дальше, никто толком не знал. И лишь в декабре 1904 года, после первых же триумфальных гастролей в России Айседоры Дункан, общее воодушевление разом охватило очень многих — теоретиков и практиков, режиссеров, поэтов и музыкантов. Вот она, путеводная звезда, вот он, спасительный путь, — таков был вердикт, не подлежавший пересмотру. Что думал на этот счет сам Петипа, получивший незадолго оскорбительную отставку, узнать не дано. Дункан дала два концерта в Зале Дворянского собрания — 13 и 16 декабря. В дневнике Петипа запись от 13 декабря отсутствует (это единственный пропуск за целый месяц), а 16-го числа, как явствует из дневника, он, восьмидесятишестилетний старик, в течение 4 часов 10 минут репетировал в Училище «Раймонду».
119
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Иначе говоря, старый господин и не думал сдаваться. Он шел наперекор всему: возрасту, болезням, новым веяниям, неутешительным приговорам, — и в декабре 1900 года, в самый канун наступающего XX века (куда, как мы уже сказали, вход ему был воспрещен), возобновил — в старых декорациях, но в обновленных костюмах Евгения Пономарева, свой старый балет — «Баядерку».
Догадывался ли Петипа, что балет переживет и его, и новый век, — нам тоже знать не дано. Очевидно, что восстановление старинной «Баядерки» выглядело как некоторая художественная демонстрация и как некоторый театральный вызов.
В молодости, кстати сказать, он был удачливым дуэлянтом.
Сама же премьера состоялась почти четверть века назад, в январе 1877 года, совсем в другую эпоху. «Баядерка» была показана в Петербургском Большом театре, имела большой успех, но в полной мере не была оценена, и сегодня, издалека, кажется, что она появилась случайно. Ничто ее не предсказывает в двух предшествующих сезонах, ничто ее не продолжает в двух последующих сезонах. Два больших балета (оба — в пяти картинах) 1875 и 1876 годов — «Бандиты» и «Приключения Пелея» — не оставили о себе никакой памяти и быстро исчезли из репертуара. Из двух больших «фантастических балетов» 1888 и 1889 годов «Дочь снегов» прошла на сцене всего несколько раз, а «Роксана, краса Черногории» имела очевидный, но не долгий успех, потому что удачно попала в конъюнктуру: «Роксана» была поставлена сразу после окончания русско-турецкой войны, когда общие симпатии были на стороне славян, и славянские танцы, наполнявшие балет, вызывали энтузиазм зрительного зала. Но и этот, как и три назван
120
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
ных выше балета, не имел настоящей театральной судьбы и не вошли в историю балетного театра. И прежде всего потому, что в них не было никаких художественных открытий. Всё это были рядовые спектакли, поставленные строго по контракту точно в срок (каждая — в январе наступившего нового года) и сконструированные по единой схеме. Требовался набор почти постоянных признаков и элементов: мелодраматическая интрига, чаще всего с похищением, почти непременное наличие сцены сна и сцены праздника, и главное — движение сюжета от чисто пантомимного действия к действию танцевальному. Как выяснится позднее, это последнее означало нечто большее, чем простая и даже произвольно установленная театральная условность.
И вот «Баядерка» — та же схема, те же правила игры, те же элементы конструкции, даже музыка того же Мин-куса. При этом — очевидная новизна, а в результате — и поразительное долголетие: сто тридцать лет славной театральной карьеры. Из сохранившихся в репертуаре балетов «Жизель» — старше почти на сорок лет, но «Жизель» идет в редакции Петипа 1884 года, значительно обогатившей первоначальную постановку, а «Дон Кихот», поставленный Петипа в Москве в 1869 году и два года спустя перенесенный на сцену Петербургского Большого театра, в оригинальном виде не сохранился. Так что в каком-то смысле «Баядерка» наиболее от нас удалена, хотя строгая хронология применительно к истории балетного театра невозможна. В подлинном виде балетные спектакли до нас не доходят, слишком много следов оставляет на них время. И все-таки, что объясняет долговечность «Баядерки», в чем ее новизна? Может быть, в избытке творческой энергии, захватывающей
121
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
нас и сейчас, в богатстве фантазии и просто-напросто — в изобилии блистательных танцевальных эпизодов? А может быть, в экзотике, в индусском колорите? Действительно, балетов на индусском материале ни до того, ни после того Петипа больше не ставил. Был египетский балет («Дочь фараона», 1862), были ближневосточные балеты («Корсар», 1863; «Ливанская красавица», 1863), был испанский балет — уже упомянутый «Дон Кихот». Экзотическая образность — увлечение 60-х годов, отличительная черта петербургского постромантизма, находившаяся в резком, даже вызывающем противоречии с главной тенденцией отечественной литературы — стремлением так называемой натуральной школы к психологическому реализму (что и объясняет отрицательное отношение русских писателей к русскому балету, — он и не казался им русским). «Баядерка» в этом отношении ставит рекорд — такой насыщенности экзотическими обрядами, экзотическим реквизитом, даже экзотическими именами балетный театр еще не знал. Все поверхностные и широко распространенные и обязательные представления об Индии собраны в один букет, все популярные рассказы об Индии — стране факиров, лотосов, слонов и баядерок — собраны воедино. Таковы предложения либреттиста Сергея Худекова (во многом заимствованные у Теофиля Готье, либреттиста парижского балета «Сакунтала») и почти буквально реализованные Мариусом Петипа в своей постановке. Это, конечно, придает спектаклю специфический налет — чисто туристской экзотики и даже несколько бульварного ориентализма. Если бы не великая, удивительная, продолжающая удивлять интуиция Петипа, если бы не его умение проникаться поэзией незнакомых
122
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
культур и отдаленных регионов. Поэтому наряду с псев-доиндусской экзотикой балет Петипа наполнен подлинно индусской мистикой — мистикой перевоплощений. Мы имеем в виду, разумеется, картину «Теней», самую просветленную картину в истории петербургского, да и всего мирового балета. И хотя вся эта развернутая кордебалетная сцена построена по законам классического гран па, таинственный эффект просветления в ней достигнут в полной мере. Петипа конечно же не Бежар, не знаток эзотерических верований и чужеземного танцевального фольклора. Подобный, почти научный подход к неевропейской ментальности и неевропейскому пластическому языку возникнет лишь в XX веке и Петипа, типичному представителю XIX века, совершенно чужд. Он и не думает выходить за пределы классического балета. Но при этом обнаруживает, насколько возможности классического балета велики, насколько полны образного смысла строгие и абстрактные балетные структуры.
Новизна «Баядерки» и заключалась в этом — в том, какое высокое развитие получили па д’аксьон и гран па — канонические структуры и формы.
Это сразу отметили и критики, и зрители, и сами артисты. В рецензии, напечатанной в «Театральной газете» в январе 1877 года, сразу же после премьеры, читаем: «Лучший же танец в балете как по своей поэтической мысли, так и по выполнению — это pas d’action последнего действия, где воображение жениха Солора поминутно тревожится появлением повсюду преследующего его образа безвременно погибшей баядерки. Трудность постановки подобного танца выражается тем, что необходимо было группировать действующих лиц так, чтобы тень баядерки действительно была бы видима только одному Солору.
123
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
И тут из этого затруднения балетмейстер вышел блестящим образом». А балерина Екатерина Вазем, первая исполнительница партии Никии — главной героини «Баядерки», в своих воспоминаниях свидетельствует: «Много аплодировали картине «царство теней», вообще очень удавшейся Петипа. Здесь все группы и танцы были насыщены поэзией. Рисунки групп балетмейстер заимствовал с иллюстраций Г.Дорэ к раю из «Божественной комедии» Данте. Очень шумный успех выпал на долю вариации с вуалью под соло скрипки Ауэра».
Иными словами, высокие художественные достоинства отдельных — и, безусловно, лучших — эпизодов «Баядерки» вызвали энтузиазм. Но ее место в творчестве Петипа и в истории балета вообще открылось много позднее. Тогда выяснилось, что биография балетмейстера не так проста, как она казалась. В ней была своя логика и своя тайна. На первый и поверхностный взгляд — творческий путь консерватора и конформиста, работающего по заказу дирекции императорских театров и в соответствии с ее меняющимися вкусами (Петипа пишет в своих воспоминаниях, что работал при восьми директорах), а на самом деле — путь интуитивного гения, лишенного полной свободы, но чувствующего движение истории и волю искусства. Консерватор и новатор в одном лице, конформист и творец, первооткрыватель. При этом — гармоничная личность, лишенная трагической раздвоенности и какой-либо мрачной рефлексии на свой счет, такой вот необычный склад сознания, такой счастливый характер. Но именно это и позволило Петипа проработать балетмейстером более сорока лет и ознаменовать последние годы XIX века своими высшими достижениями, а не упадком. К приходу в балетный театр Чайковского и Глазунова он оказался вполне
124
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
готов, хотя много лет сотрудничал с Минкусом и слушал советы либреттиста «Баядерки» Худекова.
Это кажется несколько загадочным, как и появление «Баядерки». И эту загадку — загадку Петипа — можно объяснить только тем, что все долгие годы пребывания в Петербурге (куда он приехал в 1847 году) в нем шла неостановимая подспудная жизнь, скрытая духовная работа. Он ставил спектакли, иногда откликаясь на злобу дня, он сочинял ансамбли и сольные вариации — множество вариаций, поставляя репертуар для танцовщиц нескольких поколений, он трудился не покладая рук, с головой погруженный в каждодневные заботы (о чем можно судить по его пунктуальному дневнику), и при этом, вопреки этому, каким-то внутренним зрением, остававшимся свободным, он видел перспективу развития балетного театра и упорно, хотя и осторожно, направлял свой огромный корабль — императорский петербургский балет — к далеким берегам, к влекущей, но поначалу смутной цели. Писалось и говорилось, что Петипа только и делает, что повторяет себя; более проницательным свидетелям казалось, что он мечется, не находя правильной дороги, но теперь, издали, имея возможность обозревать весь путь Петипа, а не отдельные участки, мы можем убедиться, насколько последователен этот путь, насколько логичен. И как велико пройденное расстояние — расстояние почти в сорок лет, расстояние между первым большим балетом, «Дочерью фараона», поставленной в 1862 году, и последним удавшимся — поставленной в 1898 году «Раймондой». Совершенно очевидно, что на этом долгом пути Петипа осуществил перестройку всей внутренней структуры балетного спектакля. Очень просто можно сказать так: балет преимущественно пантомимный стал балетом преимущественно хореографичным
125
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
(а с некоторыми оговорками можно сказать и так: преимущественно дансантным). Эту же перестройку можно объяснить по-другому: балет, в котором важнейшую роль играл либреттист, сменил балет, в котором важнейшую роль стал играть композитор.
Теперь понятно значение «Баядерки» — хронологически она почти посередине, почти на равном расстоянии от «Дочери фараона» и от «Спящей красавицы» (1890), а эстетически — это спектакль переломных лет, даже в своей драматургии соединяющий энергию и драматизм перелома. Отсюда все качества: архаичность отдельных приемов и сцен, иначе говоря — стилевая неоднородность. Отсюда же и не повторившееся больше художественное богатство использованных выразительных средств: «Баядерка» воспринимается как антология балетного театра XIX века. И пантомимный балет еще на высоте, и хореографический театр впервые заявляет о себе в полный голос В сущности, это борьба, борьба не на жизнь, а на смерть, между двумя моделями балетного спектакля — старой и новой. Старую модель олицетворяет Брамин с его гипнотическими жестами, новую модель — Никия-тень с ее не менее гипнотическими танцами. А драматическая кульминация балета — «танец со змеей» — есть почти единственная в истории балета комбинация жеста и танца, пантомимы и хореографии, великого старого и великого нового балета.
Еще раз поразимся этому единству сюжетной коллизии и коллизии эстетической, тому, как столкновение художественных форм выражено через столкновение персонажей. Еще лишь зарождается симфонический балет, и Петипа, сохраняя всю старинную, так называемую номерную структуру, тем не менее, конструируя весь балет, мыслит как стихийный симфонист, противопоставляя друг другу
126
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
две главные противоборствующие темы: тему насилия, изуверства, слепой и бесчеловечной страсти (Брамин) и тему вольнолюбивой любви (Баядерка). А это ведь коллизия совсем не чуждая русской романтической поэзии пушкинских и лермонтовских времен и имеет много точек соприкосновения с теми настроениями в российском обществе 60—70-х годов, которые питали творчество величайших артисток, Ермоловой прежде всего, и которым отдал щедрую дань драматург Островский. Петипа знал, на что откликается, когда создавал образ своей Никии, и знал, что имеет в виду, когда создавал образ своего Брамина. И выходя за пределы локальных характеристик двух главных действующих лиц, двух протагонистов, Петипа развертывает основной конфликт в двух самых ярких хореографических эпизодах. И тот и другой — шедевры Петипа: танец с барабаном во втором акте, танец «теней» — в третьем. И в том и в другом случае хореографический контраст дополнен декоративным контрастом, контрастом красного и белого, почти по Стендалю. Танец с барабаном — телесный, танец почти обнаженных, огненно-красных тел; танец «теней» — бестелесный, одетый в призрачные вуали белоснежного, чуть тронутого лунным сиянием цвета.
Но, конечно, более широкое противостояние — сцены «теней» и «танца со змеей», развернутого кордебалетного ансамбля и монолога танцовщицы, построенного на деформации классических движений остро экспрессивной. Мотивируется это психологически: в душе Никии хаос, тоска и смерть, это танец на грани безумия и на грани святотатства, это совершенно цветаевский жест, жест разрыва с Творцом, жест разрыва с жизнью, он же разрыв с классическим танцем. Ничего подобного по интенсивности страдания балет XIX века не знал, и тем сильнее воздействует
127
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
сцена «теней», потусторонняя сцена, возвращающая к гармонии, жизни и чистейшей классике, к идеально построенному большому классическому па, идеально сконструированной и предельно динамичной большой форме. При образцовом исполнении, которое обычно демонстрирует Мариинский театр, в сцене «теней» начинаешь ощущать присутствие вечности — особенно по контрасту с ослепительной яркостью одной смертной судьбы, судьбы Никии, героини, и даже более того, отблеск бессмертия, озаривший гималайское ущелье.
В строго формальном смысле основной приём, на котором построена картина «теней» можно назвать приёмом развёртывания художественного текста. Петипа владел этим приёмом как никто, используя все его возможности. В «Баядерке» и количественное прибавление силуетов в эпизоде выхода «теней», и игра ракурсами в медленном эпизоде, и динамическое нарастание по всей картине — от шага до бега. Цель одна — продлить сценическую жизнь доминирующего образа, сделать хореографический образ длящимся, а не мимолётным. И здесь не только сценический приём, здесь балетная формула долго длящейся творческой и вообще человеческой жизни. Петипа противостоит всей философии романтического балета с его идеями мимолётности красоты и кратковременности творческого чуда, с портретами балерины-бабочки и танцовщика-метеора. Подобно самому Петипа, художник должен жить долго. И в «Спящей красавице» Петипа неявственно и парадоксально воспел долгожительницу Аврору. В последнем акте этой вечно юной красавице 120 лет.
«Баядерка» была поставлена в том же году, когда в Московском Большом театре балетмейстер Юлиус Рей-зингер провалился при попытке поставить первый балет
128
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
Чайковского «Лебединое озеро». Причина провала нам теперь вполне ясна: балетмейстер ставил не музыку, а либретто. Такой односторонний подход уже не сулил ничего, хотя должно было пройти много лет, прежде чем балетмейстеры поняли, что век чисто повествовательного, только сюжетного балета уже подходит к концу и наступает время балета, ориентированного на музыку больше, чем на либретто. Петипа это понял раньше других, хотя продолжал ставить повествовательные балеты. Но самой развернутой сценой в «Баядерке» оказалась сцена «теней», чей сюжет в очень многословной программе, составленной Худековым, потребовал для объяснения всего несколько строк. «Баядерка» со своей сценой «теней», также как и своим па д'аксьоном из последнего акта — это прозрение Петипа, и его балет можно назвать балетом-предтечей. А в ситуации декабря 1900 года, когда Петипа его восстановил, балет и в самом деле бросал вызов всем новым богам, в их числе — и Айседоре Дункан, которая некоторое время спустя начала свое завоевание Европы.
ГРАН ПА «КОРСАРА»
За девять лет до «Баядерки», в 1868 году, Мариус Петипа представил в Петербургском Большом театре свою — уже вторую — версию «Корсара» — балета, поставленного в 1856 году, по мотивам поэмы Байрона, парижским балетмейстером Мазилье, а затем, два года спустя, перенесенного в Петербург и Москву, на сцену обоих императорских театров. С момента своего рождения «Корсар» был обречен на неисчезающий интерес, но и на постоянное
9 — 940
129
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
исчезновение из репертуара. Его возобновляли, снимали, возобновляли вновь и снова снимали; его переделывали неоднократно. Ясно, что вызывало непроходящий интерес: авантюрная фабула, экзотическая обстановка, романтические герои. А кроме того — наличие блестящих хореографических сцен, сольных и кордебалетных, классических и характерных, полуфолыслорных. И так же ясно, что мешало спектаклю утвердиться на долгий срок: наивный сюжет, плохо — и даже очень плохо — построенная драматургия. Драматургический порок, вероятно, был изначально неискореним, и это стало очевидно именно в 1868 году, когда Петипа предпринял героическую попытку направить балет по новому пути и из преимущественно пантомимного, каким он был в Париже у Мазилье и каким, по-видимому, оставался в Петербурге у Перро, сделать его преимущественно хореографическим, дансантным, хотя и оставив в неприкосновенности почти весь корпус пантомимного текста. Для этого был поставлен грандиозный вставной эпизод — «Оживленный сад», действительно грандиозный даже по меркам так называемого большого балета.
Формально, по структуре своей, это типичное гран па (или большое классическое па, или па классик), излюбленная Мариусом Петипа четырехчастная форма (антре, адажио, вариации и кода) с участием солистки (или корифеев) и кордебалета. Смысл гран па достаточно смел — с точки зрения художественного единства. Это покушение и на сюжет и на прерогативы либреттиста. Сюжетное действие приостанавливается, даже прерывается, почти сходит на нет, высвобождая пространство и время для действия хореографического, для прямого диалога музыки и танца. А на место сюжета приходит метафора («оживленный сад» в «Корсаре», «царство теней» в «Баядерке»), высоко поэ
130
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
тичный и драматургически осмысленный мотив, совсем не посторонний внутренней логике спектакля.
Сама форма гран па создана не Мариусом Петипа, но именно у него получила всю полноту развития, ослепительный блеск и несравненное хореографическое богатство. У позднего Петипа, Петипа «Спящей красавицы» и «Раймонды», классические гран па выстраиваются и более строго, и более экономно, но в раннем (хотя Петипа уже пятьдесят лет) «Корсаре», где богатство — одна из сюжетных тем, где богатый невольничий рынок и богатый дворец паши — важнейшие семантические узлы, он, балетмейстер Петипа, чуть ли не вынужден противопоставить всей этой роскоши другую роскошь, всему этому богатству другое богатство, богатство фантазии, богатство вымысла, богатство летучей хореографической режиссуры.
Восемьдесят артистов — не больше и не меньше — участники этого восхитительного и этого монументального гран па: 2 солистки, 18 вторых солисток, 24 танцовщицы кордебалета, 12 танцовщиков, 12 воспитанниц, 12 воспитанников балетной школы (в окончательной авторской редакции их останется 68). Но это еще не все, потому что в руках у артистов букетики, небольшие горшочки с цветами, большие и малые плетеные гирлянды, а ближе к концу действия не очень заметно для публики (это специальный эффект) на сцену выносят 12 прямоугольных зеленых «клумб», — и общая картина цветочного изобилия получает законченный вид, становится празднеством радостной бутафории, цветов и собственно танца.
«Корсар» — декоративный балет, самый декоративный балет XIX века. Такова, в сущности, его изначальная художественная идея. Декоративно в нем всё — место действия, фабула, предельно красноречивая пантомима. Все
9*
131
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
обряжены в красочные костюмы, всех окружает живописная среда. Наиболее декоративная картина — приморский грот, где скрываются от закона корсары — отчасти прибежище, отчасти притон, отчасти кладовая несметных сокровищ. Грот мрачен, как и предводитель корсаров (таким Конрада вспоминала Тамара Карсавина, легендарная Медора), и мрачная тень разбойничьей судьбы ложится и на логово, и на всех его обитателей. Недаром чуть что им всем в голову бросается кровь, чуть что они хватаются за кинжалы. И вовсе недаром немного зловещим — при правильном исполнении, выглядит веселый танец форбан, поставленный Петипа в том же, 1868 году, — танец с ружьями и выстрелами, дьявольская мазурка. И тоже отчасти устрашающим (но только отчасти: это же императорский балет) кажется массовый танец корсаров в первой сцене (так называемый балабиль), своеобразный «танец с саблями» XIX века. Своеобразная агрессивная дансантность.
А «Оживленный сад» — совершенно другой, здесь мир и покой, отсюда изгнана мужская агрессивность. И дансантность другая — поющая дансантность (музыка уже не Адана, умершего в 1856 году, а Делиба). Декоративность здесь тоже другая, светлая, в нежных полутонах декоративность. «Сад» и был сочинен Петипа как главный контраст «Гроту», это два смысловых и два эмоциональных центра спектакля. Там кинжалы, тут цветы, там суровые разбойники, тут нежные девы. Между 1856 годом, когда был поставлен «Корсар», и 1868 годом, когда был сочинен «Оживленный сад», пролегла целая художественная пропасть. 50-е годы — конец романтизма, эпохи Эжена Делакруа, его мятежной музы, его восточных картин, его ярчайшей, но и сумрачной палитры (он, кстати говоря, был иллюстратором Байрона, как и Шекспира). А конец
132
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
60-х годов — это начало импрессионизма, высветленная палитра, девушки на пленэре, девушки в цвету, и впечатление таково, что Мариус Петипа тоже стремится к чему-то, похожему на пленэр (этим и отличается полуденный «Сад» от романтических лунных, полуночных композиций), и он также стремится уловить убегающее очарование девушек в цвету и разгадать их несложную, но волнующую тайну.
Конечно, мы знаем, московских импрессионистов Петипа терпеть не мог, а парижских, вероятнее всего, и не знал — его классическое мышление было чуждо импрессионизму. Однако врожденная интуиция направила его по тому же пути, что и Ренуара, и Мане, и сделала хореографом волшебных мгновений жизни.
Но, хореограф-эпик, он мог растянуть мгновение на много минут («Сад» длится двадцать одну минуту), а хореограф-классик, он мог выстроить волшебство по строгим конструктивным законам.
Самое примечательное в этом гран па — то, что его декоративность от начала и до конца конструктивна. Балетмейстер и в самом деле конструирует свой «Сад», создавая из потока движений устойчивые или, иначе сказать, опорные геометрические мизансцены. «Оживленный сад» — столько же игра мизансцен, сколько игра па, сольных и кордебалетных танцев. И тем самым — демонстрация всех пространственных возможностей балетной сцены. Замечательны обе кульминации гран па — с участием всех присутствующих фигурантов. По ходу действия Петипа тасует Действующих лиц, варьируя их число, уводя одних за кулисы, возвращая на сцену других, но в кульминациях собирает всех вместе — это своеобразное хореографическое tutti. В первом случае, в адажио, балетмейстер выстраивает
133
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
фигурантов в четыре ряда вдоль большой диагонали. Это роскошная, прямо-таки фантастическая мизансцена, мизансцена из мизансцен, королевская мизансцена среди всех изобретательных мизансцен Петипа за всю историю его постановок в императорских театрах. В чисто зрелищном плане она безумно красива, по-барочному сверхплотно насыщенна, а в чисто режиссерском — чрезвычайно сложна. Ряды расположены на несуществующих иллюзорных ступеньках, первый ряд полулежит, последний стоит держа в вытянутых руках развернутые гирлянды, словно крону, венчающую диагональ. Перед ним еще один ряд гирлянд, менее высоких. И когда не заметные поначалу фигурантки из первого ряда поочередно встают, сопровождая движение двух главных балерин сверху вниз, к левой кулисе, вся ступенчатая и статичная композиция начинает дышать и отдаленно напоминает парковую аллею цветов, но в данном случае аллею из классических поз, пор де бра и арабесков.
Вторая же ансамблевая мизансцена, она же апофеоз, во всем противоположна первой. Мизансцена построена не по диагонали, а в фас, и с ее помощью балетмейстер открывает всю глубину и всю широту сцены. Участники с гирляндами в руках, солисты, статисты, взрослые, дети — все собираются как для прощальной фотографии или же группового портрета, коллективного портрета балетных красавиц и балетных красот, парадного портрета великой оживленной труппы.
Затевая казавшуюся столь громоздкой операцию, приводя в действие столь массивный хореографический механизм и придавая ему поражающую и сейчас динамичность, Петипа действовал, как советовал Наполеон, считавший, что сражения выигрывают «большие батальоны». Удив-
134
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
литься тут нечего: пример генерала Революции, ставшего императором, всегда был перед глазами странствующего балетного артиста, бездомного романтика-бунтаря, ставшего диктатором императорского балета. А «большие батальоны» были нужны, чтобы выиграть сражение с Артюром Сен-Леоном. Ставка была велика — кресло первого балетмейстера в Петербурге, право считаться единственным в своем роде художником гран па, подлинным творцом «большого балета». Поразительно, что в качестве победоносного оружия был использован «Оживленный сад», введенный в балет для противостояния картинам сражений, похищений, внезапно возникающих драк и танцевальных поединков.
Эту замечательную композицию можно увидеть в спектакле Большого театра, где её восстановил московский балетмейстер Юрий Бурлака.
ВАРИАЦИЯ «ЛЕБЕДИНОГО ОЗЕРА»
Вариация из второй картины «Лебединого озера» — самая загадочная вариация классического балета. И одна из самых сложных: таким скрытым напряженным действием наполнена она, да и построена вариация необычно, аналитически, из отдельных фрагментов, представленных во времени, постепенно, — двадцать лет спустя примерно так будут конструироваться живописные и графические портреты. Лев Иванов немного не доживет до этой мятежной поры, а свою вариацию сочинит в 1893 году, когда в необычайной спешке и чувствуя прилив необыкновен
135
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
ных творческих сил будет готовить «лебединый» акт для мемориального спектакля памяти Чайковского, внезапно ушедшего из жизни. Петипа тяжело болел (по-видимому, обширный инфаркт), и Иванов получил полную свободу. Ни до, ни после этого подобной свободы он не имел, да и никогда ее не домогался. Им прочно владел комплекс «второго балетмейстера», обреченного на неудачу артиста и человека. В «Лебедином озере» это стало скрытой, не до конца осознанной темой.
По своей формальной структуре «лебединая» картина напоминает картину «теней», это тоже развернутое гран па, четырехчастная композиция (антре, адажио, вариации, кода) с участием — на равных правах — солистки и кордебалета. Но, по существу, здесь почти все другое: рисунок движений и рисунок мизансцен, пластические характеристики персонажей — лебедей и сама суть происходящего; говоря на обыденном сюжетном языке, происходит встреча героев, а говоря на эстетическом аристотелевском языке, происходит перипетия. Иными словами — перемена, перелом, но не внешний, а внутренний, душевное освобождение, преодоление заклятия, если опять-таки вспомнить старинный сказочный сюжет, переход от несвободы к свободе, если применить категории современные, категории экзистенционализ-ма. Конечно, ни о каком экзистенционализме Лев Иванович ничего не знал, да и не было еще этого понятия в академическом философском словаре, но в своей хореографии, в своих интуитивных прозрениях балетмейстер опередил свой век, поэтому «Лебединое озеро» (как и «Жизель») стало балетом сегодняшнего дня, и в сказочной ситуации заклятия мы можем усмотреть не только архаичный миф, но и мотив внушения, злое воздействие
136
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
на сознание, неправедный приговор, несправедливое отрицание таланта, и патетический, хоть и негромкий смысл и адажио, и вариации — в том, что великий талант обнаруживает себя и впервые, хотя и на короткий срок, получает свободу.
Параллельно рассказывается история сближения, история любви — в романтическом балете и в балетах Чайковского мотив близости и мотив таланта слиты всегда воедино.
Раскрытию этих тем и посвящена «лебединая» картина. Вариация вносит в нее дополнительную остроту — и хореографическую, и ритмическую, и смысловую.
Трехчастная вариация строится последовательно и почти повторяет общую схему картины. Первая часть (волевое движение на четко зафиксированном экарте) — это как бы антре. Вторая часть (быстрый прыжок вверх — сисон и затем медленное, осторожное движение на арабеск) аналогична Белому адажио. Третья часть (диагональ стремительных вращений en dehors) — очевидная кода. Все это действие сопровождается лебедиными взмахами рук, взмахами-кликами, что позволяет предположить, что вариация — хореографическое уподобление творческого акта. Пройдем ее опять. Первая часть — решительная попытка, кончающаяся ничем, ниспадением в четвертую, упорную, упрямую позицию. Вторая часть — отчаяние, стремление добиться своего, отчаянный взлет ввысь, в высоту, завершающийся на этот раз торжеством — рождением арабеска. И третья часть — ликующий и тревожный апофеоз, ликующая и тревожная концовка. Рождение арабеска, — конечно, волнующий момент (так его и танцуют музыкальные балерины), нечто напоминающее рождение стихотворения, как это описал Набоков в романе «Дар»,
137
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
или же рождение танца, как это описал Пушкин в своем стихотворном романе. Дар, в данном случае хореографический, и есть то, что воспевает, а может быть, и исследует этот провидческий балет, но есть в нем и еще одна — старинная подробность.
В целом вариация со своим загадочным сопоставлением ритмов и поз — то быстрых, то медленных, то закрытых, то открытых, и со своими не очень понятными жестами и взволнованными пор де бра напоминает колдование, магический обряд, обряд заклятия, таинственное действие, совершаемое Белым Лебедем — Одеттой. Это в либретто она обыкновенная девушка, превращенная в лебедь злым колдуном. В хореографическом тексте она сама волшебница, ее танцы — само волшебство, эта метафора и разворачивается в балете. «Лебединое озеро» — волшебная сказка столько же, сколько и экзистенциалистская притча, балетный миф, соединяющий прошлое, настоящее и будущее балетного театра.
Сегодня это очевидно, но так было далеко не всегда. Чуткие балерины, вроде В. Трефиловой, А. Вагановой и М. Семеновой, чувствовали необычность сотворенного Львом Ивановым текста (о семеновской интерпретации интересно написано в книге Светланы Ивановой). Прозорливые критики тоже пытались оценить вариацию и как-то ее осмыслить. Многократно писал о ней Аким Волынский, хотя ключа к ней, как кажется, не подобрал. Вот самые последние слова из статьи 1924 года, посвященной выступлению в «Лебедином озере» Ольги Спесивцевой, еще недавно возлюбленной, а с некоторых пор отвергнутой балерине (свое отношение к исполнительницам Волынский нередко переносил и на хореографический текст): «...огромная вариация, построенная в смешанном
138
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
стиле, с преобладанием партерных темпов. <..> После монументального adajio такая смешанная вариация, хотя и представляющая разные технические трудности, уже не может глубоко захватить зрителя». За семь лет до того, в сентябре 1917 года, в статье о Е. Смирновой Волынский писал несколько по-другому, назвав вариацию «маленькою поэмою» и описав ее так: «Движения расплываются тончайшими узорами от первых круглых темпов на полу до заключительных фигур с отброшенными вперед руками. Так и кажется, что неземное существо обернется птицею и улетит!». А несколько месяцев еще раньше, в январе 1917 года, описывая прощальный бенефис Л. Егоровой, Волынский оценивает вариацию так: «На представлении от 14 февраля 1916 года М.Ф. Кшесинская значительно переработала эту вариацию, может быть, в самом деле требующую кое-каких перемен для согласования с характером только что прошедшего перед глазами классического танца с кавалером (т.е. адажио. — В.Г.). <..> Первоначально она была поставлена балетмейстером для Аеньяни». Последнее указание Волынский не забудет и будет вспоминать имя Аеньяни и впредь. Это лежит в логике тех профессиональных суждений, на которые Волынский — при всех своих поэтических и философских воспарениях — всегда опирался. Согласно этой логике, вставная вариация ставится для балерины, или на балерину, это ее хореографический портрет, и поэтому другая балерина имеет право переработать ее — в соответствии со своими возможностями, техническими, артистическими и иными. Текст вариации не считался неприкосновенным. Он как бы не до конца входил в текст партии, не полностью подчинялся драматургии балета. И уж, конечно, он не заключал в себе ничего авторского, никакой личной темы.
139
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
К этому приучил Мариус Петипа, поставивший великое множество вариаций. Большая часть из них поставлена на конкретных балерин, а лучшая часть носит вполне им-персональный характер. Таковы, например, три вариации солисток из акта «теней», каждая из них демонстрирует скрытые возможности классического танца, сверкающие грани балетного театра и его амплуа, и все вместе включается в гармоничную картину, рисующую прекрасный мир «белого балета». В этом же плане работал и Лев Иванов. Скромный «второй балетмейстер», он не стремился совершить художественную революцию и поразить мир. Он думал не о себе, а о Чайковском. И его тоже долго воспринимали как тень Петипа, в то время как он вносил в балет новые образы и новые темы.
МАРИИНСКИЙ ПЕРЕКРЕСТОК
Первые два десятилетия XX века Мариинский театр становился местом самых удивительных встреч: отдаленное будущее могло повстречаться с недавним и даже давним прошлым. В сезоне 1915/16 года сорокачетырехлетняя Матильда Кшесинская, прима-балерина на пенсии, но сохранившая свою профессиональную форму, свои привилегии и свои права, оказалась на сцене рядом с двенадцатилетним Георгием Баланчивадзе (впоследствии — Джорджем Баланчиным), учеником третьего класса балетной школы. Она — в роли Аспиччии, дочери фараона, а он — в роли обезьяны. Аспиччия—Кшесинская целилась в Обезьяну—Баланчивадзе, но не попала. Символическая сценка, если представить ее воочию, если подумать и если
140
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
иметь в виду дальнейшую судьбу гениального мальчика и стареющей примадонны.
И весьма точный образ: балерина-охотница. Это и есть всесильная Матильда Кшесинская.
На известной фотографии она изображена в эффектной позе с луком в левой руке, правая заброшена за голову и натягивает тетиву, направляя стрелу с наконечником из перьев. Лук так, конечно, не держат, тетиву так не натягивают, но зато поза, придуманная Петипа и для Аспиччии, и для Таора, полна хореографической логики и театрального блеска. Это поза нового времени, и Кшесинская в ней по особенному хороша: египетский стиль выдержан, как, впрочем, и чисто польская повадка (Лопухов назовет манеру Кшесинской «шляхетской»), и стало быть, Матильда была не чужда новых пластических идей, осторожного стремления к стилизации и местному колориту.
Но только не в костюме: костюм должен всегда оставаться балеринским, с диадемой в бриллиантах (из-за спора по этому поводу вынужден был уйти со своего места директор императорских театров князь С. Волконский).
И только не в общем взгляде на балетный спектакль, который тоже должен всегда оставаться балеринским, с прима-балериной на первом плане, во главе всех ансамблей, в центре всех мизансцен и всех событий.
Балет был ее государством, где она отстаивала старое, уходившее — ancien regime, но, подчиняясь непобедимому рефлексу, делала авансы и Фокину, и Дягилеву, и его команде. Дягилевская антреприза сулила успех, и умная Матильда это хорошо понимала.
Честолюбивые претензии Кшесинской простирались, однако, далеко, гораздо дальше Мариинского театра и абонированного Дягилевым парижского театра «Шатле».
141
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Дочь фараона мечтала стать русской царицей. Осведомленный А. Суворин записывает в своем дневнике 14 февраля 1895 года: «Она хочет принять православие, может быть, считая возможным сделаться императрицей». Зимний дворец так и не был взят, но она танцевала в трех балетах у Фокина, который ее не терпел, и у Дягилева — в двухактной версии «Лебединого озера» вместе с Нижинским, удобным и весьма выгодным партнером.
Впрочем, и с царской фамилией в 1921 году она породнилась.
О том, как это произошло, она сама рассказывала в своих мемуарах.
Мемуары Кшесинской представляют интерес уже потому, что мы мало что знаем о личности этой полулегендарной, но и ославленной балерины. Все слышали о ее петербургском особняке и о том, что она была «наложницей» (уместнее сказать: подругой) наследника престола. Меньше известно, что, побывав еще в одной сомнительной ситуации, интимными узами соединявшей театр и двор, Кшесинская вышла замуж за великого князя, кузена царя, и из героини скандальной хроники 90-х годов стала вполне легитимной героиней хроники великосветской. И лишь просвещенные любители балета имеют представление о том, что, при всех фантастических перипетиях ее судьбы, и в 90-х, и в 900-х, и в 10-х годах, Кшесинская была выдающейся, может быть, великой балериной. О ней с восторгом отзывались лучшие русские балетные критики — Аким Волынский и Андрей Левинсон. О ней с восхищением вспоминали танцовщицы следующего поколения — Тамара Карсавина и Елизавета Гердт. Ее любили петербургские зрители, и не только титулованные балетоманы. Секрет ее очарования ушел вместе с ней, хотя многое можно понять, читая посвященную ей главу книги
142
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
В. Красовской «Русский балетный театр начала XX века». В. Красовская впервые нарушила табу, впервые за пятьдесят лет рассказала о Кшесинской и увлекательно, и научно. Мы отсылаем читателя и к этой книге, и к этой главе. От своего имени добавим лишь минимум необходимых суждений.
Коротко скажем так: Кшесинская — это императорский балет, это ослепительно яркое олицетворение императорского балета. Уходя с исторической сцены, петербургский императорский балет нашел в Кшесинской свою сторонницу, свою заступницу, пришедшую, чтобы отстоять и спасти то, что можно отстоять и спасти, чтобы влить свежую кровь в увядающее и обреченное искусство. В широком смысле, имея в виду художественное сознание прежде всего, Матильду Кшесинскую можно назвать балериной-монархисткой. Не только потому, что балет Петербурга был тесно связан с монархией и петербургским двором, а потому, что в ее — Кшесинской — представлении сам был монархией, и она царствовала в нем самодержавно. Это длилось недолго, всего несколько лет, Кшесинская ушла на пенсию (иными словами: отреклась от престола) полная сил, как только взошла звезда Анны Павловой, а с ней утвердился новый исполнительский канон, свободный от идеологии императорского балета. Кшесинская, впрочем, не теряла форму еще не один сезон, выступала в спектаклях, устраивала турне и даже в 1936 году, в возрасте шестидесяти четырех лет, приняла участие в лондонском благотворительном концерте. Она любила сенсации, умела поражать мир и уступать сцену кому бы то ни было совсем без борьбы не мыслила, не считала возможным.
Что же такое ее стиль и какую традицию она олицетворяла? Метафорически танец ее можно назвать золотым —
143
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
так его наполняло то, что она любила больше всего: и блеск стремительных туров, и блеск драгоценностей, и блеск монет, и блеск короны. Если же пользоваться бытовым словарем, то первые слова, приходящие на ум, это: царственность, аристократичность, порода, а стало быть, холодная строгость манер, которая делала Кшесинскую столь убедительной в старинном балете «Дочь фараона». Это был ее любимый балет, а роль Аспиччии — ее коронная роль, как, впрочем, и Лиза в «Тщетной предосторожности», и Эсме-ральда, что не должно удивлять, потому что императорский канон включал в себя умение играть не только надменных принцесс в бриллиантовых диадемах, но и кокетливых барышень в пейзанских чепцах, и простодушных простолюдинок. Такова была дань, которую петербургский класси-цистский балет платил неизжитому сентименталистскому прошлому своему, а также тем нормам придворной эстетики, которые сложились в далекие времена, когда королева Франции Мария-Антуанетта доила в Версале коров своими белоснежными, увитыми жемчугом руками.
Можно высказать и более резкую мысль: петербургский императорский балет смыкался с тем, что когда-то составляло патетический смысл парижского театра бульваров. Жанр, который Кшесинская предпочитала всем другим, — старый жанр мелодрамы. Мелодрама чуждалась артистической изощренности и психологической глубины, а требовала грубоватой эмоциональной силы. Кшесинская была создана для такого рода ролей, что и объясняет неизменный успех ее выступлений в самой классической мелодраме балетного театра — в «Эсмеральде».
Если добавить к этому врожденную жизнерадостность, яркий темперамент и скрытый в академическом танце мощный эротический подтекст, то станет понятным, по
144
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
чему так тянулись к ней вялые великие князья и почему именно Кшесинская вытеснила с петербургской сцены итальянских гастролерш, блестящих, но и бесстрастных миланских виртуозок.
Но чтобы это произошло, Кшесинская должна была научиться делать то, что умели делать только они. И она научилась, а в парижской своей жизни научила этому своих учениц, знаменитых европейских балерин с русскими эмигрантскими именами.
Манера танца Кшесинской и ее актерская игра были архаичными, как те балеты, в которых она танцевала. Но ее техника — техника наших дней, и именно ее технический гений приводил в восторг всех без исключения зрителей Мариинского театра.
Виртуозная техника — техника жизни — вообще отличала ее и за кулисами театра, и при дворе, и в отношениях с сослуживцами, и в отношениях с царствующим домом. В ней ничего не было от вульгарной выскочки, от мадам Сен-Жен, но многими чертами своими она напоминала Марину Мнишек.
Полька по крови, Матильда Феликсовна Кшесинская прожила в буквальном смысле мафусаилов век (даты жизни: 1872—1971), до конца своих дней сохранив твердую память, ясность ума и даже, о чем свидетельствуют все знавшие ее, царственную повадку. Годы не согнули ее. В небольшом домике в парижском предместье она принимала нечастых гостей со спокойным радушием, не разрешая себе ни жалоб, ни слез, ни горестных сожалений. «Мадам Семнадцать» — так звали ее в европейских казино, где она играла в рулетку и всегда ставила на семнадцатое число. Она была убеждена, что это число должно принести ей удачу. Игроком она была расчетливым, любила выигры
10 — 940
145
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
вать, умела проигрывать и, вставая из-за стола после проигрыша, улыбалась как ни в чем не бывало. Конечно же, она совершила ошибку, поставив на Романовых и на власть. Но в одном она не ошиблась: число семнадцать сыграло в ее жизни роковую роль. Весной 17-го года она лишилась особняка, а осенью — театра, города и России.
Несколько десятилетий спустя Кшесинская — вместе со своим мужем — взялась за перо. Была написана весьма интересная книга воспоминаний. И если не следует принимать на веру всё, что Кшесинская считает нужным сказать о своей театральной карьере и о способах быстро продвинуться из кордебалета наверх, заняв положение могущественной прима-балерины, то бытовым зарисовкам Кшесинской не верить нельзя, она точна в подробностях, как умели быть точными многие литераторы-эмигранты. Описывает Кшесинская то, что знает, то, к чему лежала ее душа с ранних девичьих лет, а именно образ жизни и, косвенно, образ мысли августейших особ, — недаром так много великих князей мелькает на страницах её «Воспоминаний». Даже к старости лет Кшесинская сохранила весь свой пиетет по отношению к титулам и представителям царствующего Дома. В результате мы имеем возможность проникнуть в замкнутый мир, для которого хорошо продуманный ужин у Кюба, а тем более вещичка от Фаберже значили больше, нежели томик стихов Блока. Впрочем, о поэзии Блока мало кто думал в этом кругу. Как, впрочем, о прозе Чехова, симфониях Скрябина, картинах Врубеля, или даже близкого к балетному театру Бакста.
В начале 900-х годов Кшесинская покровительствовала совсем юной Тамаре Карсавиной — не только потому, что была способна на широкий жест, но и потому, что
146
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
ее щедрая политика была направлена против интересов Анны Павловой, самой опасной конкурентки. Между тем прелестная и трогательная Карсавина ничем не напоминала ее и вообще не очень напоминала тип холодной академической балерины. Родная сестра будущего знаменитого философа (погибшего в сталинском лагере в 1952 году), Тамара Платоновна принадлежала к совсем другому миру. В Мариинском театре она была одной из первых интеллигенток. Чрезвычайно популярная в художественных кругах, именно она олицетворяла неуловимый стиль времени, его дух, его ожидания, его загадку. «А та, кто сейчас танцует, непременно будет в аду» — это сказано Анной Ахматовой в новогоднюю ночь 1913 года. «Как песню, слагаешь ты легкий танец» — это тоже Ахматова и это тоже Карсавина в 1914 году, и даже место действия то же самое: артистическое кафе «Бродячая собака». Карсавину Ахматова не могла забыть всю жизнь. «Сказочная Тамара Карсавина», — написано в 1962 году в «Балетном либретто», и эти слова говорят о многом. Сказочно прекрасно нежное лицо, сказочно прекрасна чарующая улыбка, сказочно прекрасен сценический облик — облик царевны из русских сказок. Русский фольклор цариц не любил, а царевен окружал нежностью и заботой. Подобными редкими чувствами была окружена и она, классическая танцовщица, и, конечно же, особая славянская нега была заключена в ее движениях, в ее танцах. Аким Волынский называл это словом «сахар». Так она, по-видимому, танцевала и «Лебединое озеро», и «Жизель», и так она танцевала современную рафинированную хореографию фокинских балетов. Царевной она оставалась всегда, но на этот образ наслаивались другие, различные по сути и по манере. То это усадебная девушка,
10’
147
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Одетта «Лебединого озера», то это петербургская богема, Одиллия «Лебединого озера», дебюты богемы в имперской столице, в Доме Мариуса Петипа. И почти одновременно у Фокина: мечтательные барышни в «Шопениане» и «Призраке розы», бездушные красавицы в «Тамаре» и «Золотом петушке» (и в этом же списке, естественно, и «Саломея» в малоудавшейся постановке Бориса Романова). В искусстве Карсавиной всё это переплеталось, потому что и в жизни всё это переплелось, она единственная в своем роде балерина исторического перекрестка, способная на протяжении одной недели танцевать в Париже у Дягилева белотюниковую «Жизель» (первое представление 18 июня 1910 года) и ослепительно декоративную «Жар-птицу» (премьера 25 июня).
Иначе говоря, ее несравненный лирический дар счастливым образом сочетался с таким же несравненным декоративным даром, да так, что нежнейшая лирика Карсавиной окрашивалась в неяркие, но все-таки красочные тона, а яркий, даже ярчайший карсавинский декорати-визм, декоративизм стильных поз, изысканных, даже загадочных жестов, наполнялся душевным волнением, декоративизму совсем не присущим. Один из лучших примеров — портреты-эскизы и фотоизображения ее Жар-птицы. На эскизах сверкающий фантастическими красками костюм, а на фотографии — округлые темные глаза балерины, глаза не из палехской сказки, а из хроники наших дней, человеческие глаза, полные страха, тоски и печали. Изображена сложная поза в дуэте, фокинское открытие в области дуэтных конструкций, предвосхищающее много более поздние дуэтные конструкции Баланчина, но ситуация здесь локальна, непосредственно связана с эпохой модерн: эстетически острое сопоставление
148
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
красоты и неволи, плен красоты и пленная красота — то, что дано было сыграть Карсавиной, то, что только ей и было доступно.
И была еще Коломбина, искрящаяся радостью маска из балета Фокина «Карнавал», балетное претворение петербургского мифа 10-х годов, идеальное выражение всей театральной и всей женственной сущности европейского модерна.
И наконец, Балерина из «Петрушки» Фокина, уникальный пример вечной женственности в облике глупенькой размалеванной куклы, уникальное совпадение артистической утонченности и пластического примитива.
Таков диапазон, и очень широкий, и достаточно узкий. Широкий — потому что включал и нечто похожее на мейерхольдовскую стилизацию, и нечто напоминавшее чеховский психологизм — по-новому представленный традиционный театр хореографического образа и модернистский театр условной маски. А узкий — потому что за некоторые жанровые границы Карсавина не переходила. Трагедию она превращала в элегию, комедию — в шутку. Ее искусство не было героичным. Оно было грациозным, а в некоторых случаях и по домашнему интимным. На знаменитой фотографии Карсавиной и Нижинского в балете «Жизель» обращает на себя внимание трогательная деталь: прядь волос, выбившаяся на лоб карсавинской Жизели. Это не привычная гладкая прическа а 1а Тальо-ни. И здесь не потусторонняя красавица-вилиса и не раскаявшийся легкомысленный граф, здесь восторженный юноша, почти подросток, и покорная девушка, готовая куда угодно следовать за ним, хоть на шабаш ведьм, хоть в преисподнюю. Возможно, и это хотела сказать Ахматова в своих пророческих стихах: «А та, что сейчас танцует,
149
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
непременно будет в аду». Речь ведь шла о всех завсегдатаях «Бродячей собаки».
И вот в чем заключалась карсавинская загадка. Самая изощренная балерина эпохи модерн, богиня богемы, несла в своем творчестве высокий жертвенный порыв, но также и весть о жертвенной судьбе своего поколения и своей культуры.
АННА ПАВЛОВА
В 1907 году, когда тридцатипятилетняя Матильда продолжала бороться за свой трон, произошло событие, повернувшее историю балетного театра. 22 декабря, на благотворительном спектакле «в пользу новорожденных детей и бедных матерей» двадцатишестилетняя Анна Павлова впервые показала «Умирающего лебедя» — концертный номер, поставленный Михаилом Фокиным буквально за несколько минут по ее просьбе. Павлова танцевала его всю жизнь, более двадцати лет, и в рамках нашей темы можно сказать, что вслед за Пушкиным, но на своем хореографическом языке Фокин тоже создал идеальный портрет идеальной классической балерины. Портрет балерины новой эпохи — следует оговорить, поскольку был выдвинут новый эстетический императив, требование не высшей легкости, но высшей выразительности, и поскольку была продемонстрирована новая техника: классические пуанты сохранены, классическое пор де бра разрушено, и руки получили полную свободу. Поскольку, наконец, открылась необычная внутренняя драматургия — в позах моления и жестах мольбы борьба судорог и кантилены. И конечно же, «Уми
150
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
рающий лебедь» стал хореографическим портретом самой Анны Павловой — на протяжении ее долгого пути, ее длительной сценической карьеры. И если в начале, в 10-х годах, ее образ нес весть о гибели красоты, «роковую о гибели весть» (стихотворение Блока «К музе» датировано 1912 годом), то в 20-х годах особенно в глазах русской эмиграции, в Париже, Берлине, Праге, в дальних краях павловский образ стал символом изгнанности, Лебедем-изгнанником, Лебедем-изгоем.
Но когда и почему она уехала из России? И что об этом пишут исследователи и просто осведомленные люди? Почти ничего. Самая пространная книга об Анне Павловой написана ее мужем, бароном Дандре, и издана в Лондоне, в 1933 году, два года спустя после скоропостижной смерти великой балерины. Это и жизнеописание, и некролог, а кроме того — собрание некрологов, без разбору приложенных к основному корпусу книги. Тут и тексты исследователей-знатоков — Андрея Левинсона или Юлии Слонимской (Сазоновой), тут и горестные отклики безвестных поклонников и поклонниц Все это делает книгу весьма эмоциональной, но сколько-нибудь содержательной или хотя бы умело построенной ее не назовешь: Виктор Эммануилович Дандре не был ни писателем, ни тем более искусствоведом. В молодости — типичный балетоман, а затем, после отъезда из России в 1913 году, постоянный импресарио Павловой, фактически администратор ее труппы, — и вот этот комплекс отчасти балетоманских, отчасти антрепренерских суждений плюс запомнившиеся высказывания гениальной жены определили содержание и уровень его собственного текста.
При этом важно отметить не то, о чем говорит Дандре, а то, о чем он молчит, — на первый взгляд молчит непонятно. Жаль, разумеется, что в книге ничего не говорится,
151
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
каков был гастрольный репертуар Павловой и каковы были художественные принципы, которыми она руководствовалась, уйдя от Дягилева и покинув Россию. Но все это — полбеды, а удивительно — полное молчание по поводу самого этого факта. Ни одного слова не проронил дотошный биограф о времени и причинах поспешного отъезда Павловой из России в 1913 году, за четыре года до революции, за пять лет до массового исхода. О мелких подробностях дальнейшей жизни сообщается словоохотливо, а об этом событии — важнейшем для Павловой, ее артистической и человеческой судьбы, никаких упоминаний — не странно ли? Да нет, вовсе не странно. Дело в том, что Виктор Дандре, потомок французских эмигрантов, юрист по образованию и гласный Петербургской думы, дважды попался на взятках, помогая получить выгодный заказ: сначала при строительстве петербургского трамвая, а затем — моста через Неву, так что был вынужден предстать перед уголовным судом, что, конечно, рисует его совсем уж в невыгодном свете: и свою карьеру поломал, и бросил тень на безупречную репутацию своей жены, уже тогда — «легендарной Павловой», «единственной», «несравненной». По-видимому, именно это положение Павловой, а не красноречие Дандре спасло его от худшего: он получил сравнительно мягкий приговор и лишь вынужден был уплатить немалый штраф и неустойку за жену, поскольку оставаться в Петербурге было никак нельзя, и Павловой пришлось порвать контракт с Мариинским театром прямо в середине сезона. Нечего и говорить, что деньги на уплату штрафа и неустойки были ее, честно заработанными дьявольским трудом деньгами.
Классическая театральная история — любящая женщина спасает беспутного мужчину, что заставляет вспомнить и «Последнюю жертву» Островского, и, конечно же, балет
152
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
«Жизель», один из двух главных балетов Анны Павловой, — эта история интересна сама по себе, но отъезда Павловой из России все же до конца не объясняет. Тут действовали и другие, не менее веские причины. Если бы проворовавшийся барон попытался их как-то понять, его книга во многом поднялась бы в цене, но он панически боится сколько-нибудь близко подойти к небезопасной теме. Между тем мотивы переселения Павловой из Петербурга в Лондон только кажутся бытовыми, и руководил ею совсем не один лишь житейский расчет. Мы наблюдаем событие, имеющее — в замкнутой сфере петербургского балета — несомненно исторический смысл: Анна Павлова олицетворяет собой новое самосознание петербургской балерины. До нее обычным был тип балерины-домоседки (генетическое наследие крепостного театра, дожившее чуть ли не до наших времен). Вся жизнь в одном месте, в одном городе, в одном театре; твердая и непреодолимая убежденность, что истина только тут и что только тут умеют правильно танцевать; настороженное отношение к новизне, к иностранной моде; гордое сознание принадлежности к одной-единственной школе. Непродолжительные гастроли то здесь, то там нисколько не меняли ни этой психологии, ни этого образа мысли. Возвращавшиеся из поездок артисты сообщали в газетных интервью, какой они имели успех и как истосковались по дому. А Павлова большую часть жизни провела в странствиях, объездив почти весь мир, завоевав этот мир, но и проявляя к чужому постороннему миру постоянный интерес, прежде всего профессиональный. Ее опыт означал выход на широкий простор, пока еще, впрочем, без прямого разрыва с петербургской школой. Но узкие границы школьного мышления она преодолевала всю жизнь, сначала в рамках академической классики,
153
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
объединяя оба актуальных направления классического танца. Восприняв так называемую французскую традицию у своих первых педагогов: Екатерины Вазем, Павла Гердта, Евгении Соколовой, и не порывая с ней, Павлова прошла курс у знаменитой миланской виртуозки Катерины Беретта и стала заниматься с еще более знаменитым итальянским виртуозом и педагогом Энрике Чекетти (в 1913 году он даже сопровождал ее на американских гастролях). Памятью этих уроков стала известная фотография «Павлова и Чекетти», вдохновившая современного балетмейстера Джона Ноймайера на создание одноименного номера (вставной эпизод из балета «Щелкунчик»). В этом номере дебютировала Ульяна Лопаткина, и так Павлова вернулась на сцену Мариинского театра, восемь десятилетий (без двух лет) спустя после скоропалительного вынужденного отъезда. И так вообще, в споре с неблагоприятными обстоятельствами, прокладывает свой путь подлинная история петербургского балета.
Но повторим: французская, а вслед за ней итальянская традиция — это всё вехи на профессиональном пути Павловой, классической балерины. Её интересовала не только классика, ее волновала возможность выбраться за традиционный горизонт, соприкоснуться с чужими и даже иератическими, то есть жречески зашифрованными, танцевальными системами. Она знала японские танцы, брала уроки индусских танцев и, по-видимому, одной из первых европейских артисток (если не первой) в той или иной форме восприняла философский индуизм, мода на что в балетном театре пришла в середине XX века. И ее необычайно притягивала Испания. Какие-то испанские корни, по-видимому, сохранялись и в ее облике, и в ее душе. Валериан Светлов, ее первый русский биограф, вспоминая
154
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
экзаменационный спектакль в Михайловском театре, писал о Павловой-выпускнице: «Тоненькая и стройная, как тростинка, и гибкая, как она же, с наивным личиком южной испанки...» Это личико «южной испанки» стало до некоторой степени лицом павловского искусства. И кстати сказать, именно вдохновенно исполненный «Дон Кихот» стал последним прощальным спектаклем, который Павлова танцевала в России, в московском Большом театре.
В более специальном смысле явление Анны Павловой означало смену художественной идеологии, которой придерживался петербургский балет, или, как говорят современные культурологи, смену художественной парадигмы. Несколько упрощая ситуацию, можно сказать: до Павловой безраздельно господствовал императорский балет, вместе с Павловой пришло время «театра поэта». Последняя блистательная представительница императорского балета Матильда Кшесинская старше Павловой всего на девять лет, но между ними эпоха Кшесинская — это прошлое, это XIX век, хотя она танцует и в балетах Фокина («Эвника», «Бабочки», «Эрос»). Павлова — это настоящее, даже будущее, это XX век, ранний и непревзойденный Фокин, хотя она лучшая исполнительница старинной «Жизели» и нестареющей «Баядерки». Коротко это соперничество выглядит так: обе они — темпераментные, страстные, стихийные балерины, но у Кшесинской структура побеждает стихию, а у Павловой, наоборот, стихия побеждает структуру, и это различие очень существенно, очень важно. Имея в виду исполнительский стиль, можно говорить об императорском балете как об устойчивом наборе характеристик, главные из которых — блестящая холодная техника, великолепный апломб (и в специфическом, профессиональном смысле — устойчивость,
155
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
умение держать позу, и в более общем артистическом — умение произвести впечатление и подчинить себе зрительный зал), атмосфера вечного праздника — даже в сентиментальных спектаклях (в «Эсмеральде», которую Кшесинская любила танцевать и на которую установила свою монополию), и наконец, сугубо земной характер стремлений, притязаний и страстей, никаких потусторонних берегов, никаких заоблачных мечтаний: на балетном сленге это называется тер-а-терным танцем. А Павлова это прежде всего элевация, воздушный танец, стремление ввысь и вдаль, что навсегда запечатлел Фокин, поставив для нее Седьмой вальс Шопена, вальс-полет, объединивший в погоне за безумной мечтой и танцовщицу-сильфиду и ее кавалера-поэта. И наоборот, никакого выдающегося апломба, что также запечатлено, но уже не в хореографии, а на живописном, отчасти — графическом портрете на знаменитой афише Серова, на которой изображена Павлова-сильфида в летучем арабеске. Арабеск кренится, совсем не держит строгую академическую вертикаль, танцовщица словно бы в каком-то сновидческом трансе, и этот единственный в своем роде падающий арабеск проводит неуловимую черту между императорским театром и театром поэта.
Если же говорить о хореографическом методе в целом, включающем балетмейстерские конструкции, а не только исполнительский стиль, то самой характерной чертой императорского балета можно считать нормативную эстетику, следование неукоснительному формальному этикету. Этикет как закон композиции, этикет как последовательность па (выход — антре, адажио, вариации и кода), этикет как норма публичного поведения и даже, в «Спящей красавице», самом грандиозном образчике императорского балета, этикет как главный фабульный мотив: забыли пригласить на крестины
156
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
старейшую фею и получили катастрофу через двадцать лет. А в театре поэта почти ничего подобного нет, здесь полная свобода страстей и эмоций. Здесь властвует музыка, а не этикет, внутренняя музыка души, а не внешние условности закона. Так строятся первые фокинские балеты — «Шопени-ана» и «Карнавал», сюиты не строго связанных номеров, и так строился танец Павловой, в точном пушкинском смысле «беззаконной кометы». Ничто не могло удержать ее бега, никто не мог остановить ее полет. Ни Дягилев, которого она уважала, ни Фокин, с которым была дружна. И уж, конечно, не дирекция императорских театров, которая штрафовала ее, не понимая, с кем имеет дело. А в довершение всего устами Крупенского, управляющего балетной труппой, потребовала от нее выступать только на сцене Мариинского театра. В ответ он услышал следующие гордые слова, слова уже не «заслуженной артистки императорских театров», но артистки, принадлежащей всему миру: «Дирекция никогда за всё время существования театров в России не ценила и не уважала должным образом артистов и была к ним в тяжелые для них годы бессердечной. Теперь я хочу поступить таким же образом с дирекцией и хоть немного отплатить за всех моих сестер по профессии. Танцуйте вы вместо меня, господин Крупенский, а я посмотрю, как это у вас выйдет».
Павлова не любила уступать — ни кому-либо пальму первенства, ни кому-либо последнего слова. Последнее слово осталось за ней, и так закончилась ее петербургская эпопея.
Тем не менее именно в Петербурге прошли ее лучшие дни, на сцене Мариинского театра она добилась своих высших художественных достижений. Первая великая исполнительница ранних — и лучших — фокинских балетов, она была и последней великой исполнительницей
157
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
балетов Мариуса Петипа и вообще старинного репертуара. Заглавные партии в «Баядерке», «Жизели», «Пахите» она получила прямо из рук Петипа (о тщательных репетициях можно прочесть в скупых записях «Дневников» Петипа за 1903 и 1904 годы). К тому же, готовя с Павловой «Пахиту», Петипа специально для нее сочинил новую вариацию, которую она и бисировала на спектакле 4 мая 1904 года. Петипа делает такую запись: «Г-жа Павлова приходила благодарить меня за "Пахиту"». К тому времени старый маэстро уже больше года находился в отставке, но это не мешало ему проводить репетиции и обновлять старые номера. И это уж совсем не мешало молодым артистам, Павловой откровеннее других, демонстративно — и вполне искренне — выражать опальному балетмейстеру чувства глубокой благодарности и всю жизнь ценить его уроки. Сложная художественная система Петипа строилась на хрупком балансе традиций 30—40-х годов, романтического или постромантического театра поэта, и более новых форм и стилевых качеств императорского балета последнего десятилетия XIX века. Петипа стремился сохранить первое, создавая второе. Явление Павловой пришлось как нельзя кстати. Из классики Павлова не танцевала балеты позднего Петипа, ни «Спящую красавицу», ни «Раймонду»: умный и заботливый старый учитель не видел в ней академической балерины императорского стиля, а тем более виртуозки на итальянский манер, но поощрял в Павловой то, что составляло самую суть ее необыкновенного и человеческого таланта. Театр поэта — да, «Баядерка» — да, «Жизель» — да, «Пахита» — да, иными словами, старый романтический репертуар, давно вышедший из моды, требующий легендарной элевации, непогаснувшего жара души, а также исчезающей в балете способности подлин
158
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
ных трагедийных переживаний. Это качество подлинности более всего ценил у Павловой старик Петипа, и это же качество подлинности сразу же оценил в ней молодой Фокин. Что во многом и определило характер отношений между ними, сначала сближение, а потом и разрыв, сначала полное взаимопонимание, а потом отчуждение, хотя и не перешедшее во враждебность. Фокин «Шопенианы» и «Египетских ночей», Фокин поэтических драм — самый близкий для Павловой балетмейстер-поэт, а фокинский «Лебедь» остался с ней на всю жизнь, исполнение Павловой было признано идеальным, а сам номер стал называться «Умирающим лебедем». Тем не менее уже в 1910 году пути обоих гениальных художников разошлись: Фокин искуснейших стилизаций, Фокин стиля модерн, избегающий подлинности или, по крайней мере, не нуждающийся в ней, — этот Фокин Павловой достаточно чужд и не очень понятен. Тут царство Тамары Карсавиной, несравненной танцовщицы и актрисы, лишенной элевации, но наделенной волшебным даром классической игры, способной даже трагедию сыграть с неуловимой улыбкой.
Высокая трагедия — тот жанр, для которого Павлова была рождена и которую она воскресила на сцене Мариинского театра. Произошло это чуть более ста лет назад, в 1902 и в 1903 году, когда на протяжении двух сезонов подряд совсем молодая Павлова станцевала «Баядерку» и «Жизель», два классических балета. С этого времени началась новая история балетного театра. Но и сама Павлова, судя по всему, именно в «Баядерке» обрела свой образ. Чем поразила Павлова? Свежестью дарования прежде всего и необычной легкостью сценического портрета. Все ветхое, грубое, омертвелое, что накопилось за
159
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
четверть века и что утяжеляло роль, куда-то ушло, разом исчезло. Павлова в буквальном смысле разгромоздила громоздкий балет, внесла в него невесомую игру светотени. Рискнем предположить, что Павлова осторожно разво-плотила слишком плотную хореографическую ткань и прорвалась куда-то на порог полуметерлинковских-полу-мистических откровений. Иначе говоря, обстановочный балет — при поддержке и с помощью Мариуса Петипа — она превратила в романтическую поэму. Прославленная элевация Павловой сыграла необходимую роль, став прямым выражением ее артистической, а отчасти и женской свободы. На исходе долгих и драматических эпох появляются такие провозвестницы наступающих времен, которых уже не удерживает в тисках и не тянет куда-то вниз тяжкая ноша ушедшего века. Необремененность прошлым — важнейшая психологическая черта павловской личности и павловского таланта. Ее «Баядерка», как и ее «Жизель», интерпретировались Павловой именно в этом плане. Страстная Никия легко перевоплощалась в бесплотную тень, индусская тема реинкарнации, переселения души, совершенно естественно становилась темой индусского балета. Наметил ее Петипа, но лишь Павлова сумела проникнуться ею, придав традиционной балетной игре непререкаемость высшего закона жизни. И уже не слишком изумляла та легкость, с какой Никия Павловой освобождалась от бремени страстных страданий и переносилась в Элизиум блаженных теней: эта Никия уже в первом акте хоть и не была тенью, но была гостьей на этой земле, если воспользоваться ахматовским словом. Погостив, пригубив отраву любви, она улетела. Сравнение с Сильфидой Марии Тальони напрашивается само собой, но Павлова—Никия, как и Павлова—Жизель была необыч
160
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
ной Сильфидой. Вторая Тальони? И да, и нет, потому что, в отличие от «божественной Марии», Павлова на сцене не была только лишь бабочкой и только лишь божеством. Она была женщиной, темпераментной и страстной. Ее персонажам дано было изведать и испытать и острую радость, и жгучую горечь нерассуждающих чувств. Натура иррациональная, Павлова вдохновлялась сценической судьбой таких же иррациональных натур — Китри, Никии, Жизе-ли. Однако сильнейший эмоциональный заряд, который несли в себе павловские танцы, как молния, разряжался в зигзагах кульминационных сцен: в анналах Мариинского театра сохранилась память о «танце со змеей» из второго акта «Баядерки» и сцене сумасшествия из первого акта «Жизели». А в следующих сценах, повторим это еще раз, павловские персонажи появлялись преображенными, как призрак или как тень, свободными от тягостных воспоминаний.
К сожалению, никаких документальных следов легендарные павловские роли не оставили — их не успели заснять, их даже как следует не описали. Зато успели заснять то, что являлось хореографической основой обеих ролей: Павлову в арабеске. Это арабеск динамической эпохи, эпохи кинематографа первых его лет, также как пластика и мимика Анны Павловой — пластика и мимика немого кино, и это очень хорошо поняли кинооператоры и кинорежиссеры. Перед самой войной, в 1914 году, Анна Павлова снялась в фильме «Немая из Портичи», причем сразу в двух образах (ей изначально присущих): цыганки-плясуньи с дьявольским блеском в глазах и таинственной девушки, молчаливой пришелицы из какого-то сказочного поднебесья. В одном из кадров Павлова становится в арабеск, почти что случайно, почти по наитию, может быть,
11 — 940
161
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
даже — по ошибке. Никакого апломба, никакой четко зафиксированной позы здесь нет, наваждение длится лишь один чудный миг, но память о нем сохраняется до конца фильма. Представьте себе бабочку, сидящую на толстом стволе и неожиданно раскрывающую плотно сомкнутые крылья. Мы видим узор, но не видим материю, на которой он нарисован. Секунду спустя мы не видим и самого узора. Так вот, Павлову отличала та же повадка, то же летучее, улетающее естество. Она рисовала узор арабеска, а не сам арабеск, а нарисовав, снималась с позы и улетала. Мимолетность отдохновения, мимолетность самой красоты — вообще излюбленные, наиглавнейшие павловские художественные мотивы. По стилю, по мироощущению, а также по человеческой судьбе она была танцовщицей-импрессионисткой. Ярчайшие и острейшие впечатления жизни наполняли ее неутяжеленную игру и ее невесомый танец. Воздух искусства — сценический пленэр — был для нее естественной средой, она им дышала.
Еще раз напомним: «Баядерка» Павловой — 1902 год, «Жизель» Павловой — 1903-й. Тут важны обе эти даты. Дело в том, что в конце 1904 года в Петербурге гастролировала знаменитая Айседора Дункан, тогда в апогее своей молодости и на гребне своей славы. Художественный Петербург был очарован, передовые танцовщики — с Фокиным во главе — были взволнованы и даже потрясены; казалось, что наступала новая эра сценического танца. Между тем новая эра уже наступила, и проницательные зрители это поняли еще два года назад. Понял это и старый отправленный в отставку Учитель. Тем не менее гастроли Дункан имели последствия и для Дома Петипа — Мариинского театра, — и для Павловой, лучшей балерины этого Дома. 14 еще раз вспомним: в 1907 году Фокин поставил своего
162
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
«Лебедя», поставил буквально за несколько минут, используя, подобно Дункан, музыку, не написанную специально для балета. Фокиным руководила достаточно скромная мысль — представить художественную идею Айседоры Дункан средствами отвергнутого ею классического танца. Получился шедевр, в исполнении Анны Павловой коротенький танец стал эмблемой балетного искусства XX века. Ни музыка Сен-Санса из детской сюиты «Карнавал животных», ни стихотворение Бальмонта, использованное как предлог, не содержат в себе почти ничего из того, что танцевала Павлова и что сочинил Фокин. Это был монолог, захватывающий драматизмом и красотой, и в то же время это была очищенная от случайных подробностей идеальная формула трагедийного жанра. Но расшифровывался яркий образ по-разному, в разных понятиях и разных словах. Для одних зрителей это «Умирающий лебедь», гибель мифа, гибель красоты, смерть на сцене. Для других зрителей — просто «Лебедь», освобождение от земных и телесных пут, а в формальном смысле — освобождение от жесткой структуры. Для всех — полнейшее слияние музыки и танца, возвращение к далеким временам, когда танец и музыка существовали слитно. Пратанец, как сказали бы филологи, а это было именно так, но с одной существеннейшей поправкой: павловский «Лебедь» был исповедью, очень современной и очень личной. Поэтому ее никто не смог повторить, и Павлова танцевала «Умирающего лебедя» более двух десятилетий.
В чем заключался непосредственный смысл исповеди — нам не дано ни угадывать, ни судить. Это тайна, которую Павлова унесла с собой 23 января 1931 года, за неделю до своего полувекового юбилея. Позволим себе сказать лишь вот что: Павлова родилась на два месяца раньше срока,
11* 163
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
девочку буквально выходили и спасли, но фатальная угроза сопровождала ее всю жизнь, поскольку элементарных физических, грубо витальных сил ей всегда не хватало. Она держалась лишь духовной, отчасти нервной энергией, в слабеньком тельце жил божественный и неистребимый дар. Почти полвека чудный дар одерживал верх в схватке со слабостью, но затаившаяся роковая болезнь Павлову подстерегала. «Умирающий лебедь» — это пластический образ ее судьбы, осознанной, но на долгие годы побежденной. И есть печальная ирония в том, что Павлова, так любившая танцевать испанок — Китри, Пахиту, эпизодических гитан, — умерла во время эпидемии гриппа, приходившего с пиренейских берегов и получившего название «испанка».
ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЛЕВИНСОНА
В начале 90-х годов прошлого века вновь возник интерес к литературно-критическому творчеству Андрея Яковлевича Левинсона (1887—1934). Сначала в Париже была переиздана его книга 1929 года «Танец сегодня», правда, не полностью, а в составе лишь избранных работ, наиболее характерных. Затем в Нью-Йорке вышел сборник переведенных на английский язык статей 20-х годов, тоже лучших. В коротком шестистраничном предисловии Мари-Франсуаз Кристу, также как в пространном двадцатипятистраничном предисловии Джоан Акочеллы и Линн Гарафолы (составителей сборника) определено значение Левинсона для французской и американской балетной критики и в самых общих словах представлена его фило
164
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
софия балета. Меньшее внимание уделено историческим трудам Левинсона — самому ценному в его наследии, и драматической истории его собственной жизни. Скупо рассказано, как он начинал в Петербурге, в журнале «Аполлон» и газете «Речь», как эмигрировал три года спустя после большевистской революции, как обосновался в Париже — не вполне на положении эмигранта (французский был его вторым языком, как для Набокова английский), как стал балетным обозревателем столь высокого ранга, что (несмотря на одинокое мужественное противостояние левонастроенным парижским интеллектуалам, а может быть — благодаря этому) был удостоен ордена Почетного легиона. И наконец, весьма осторожно рассматривался деликатный вопрос об отношении Левинсона к Дягилеву и вообще к тому, что Левинсон, вслед за Фокиным, называл «новым балетом».
Случай Левинсона действительно парадоксален: историк, пошедший против истории. Это главный оппонент почти всех новаторских тенденций 10—20-х годов, почти всех открытий, почти всех завоеваний. Фокин, Нижинский-балетмейстер, Мясин, в меньшей мере Баланчин — не то чтобы отвергаются с порога, вовсе нет: Левинсон — аналитик, а не фельетонист, утонченный аналитик, а не безжалостный партийный газетчик. Лишь однажды грубое слово срывается с левинсоновских уст: «Свадебку» Брониславы Нижинской он называет (обзывает?) «марксистским балетом». Но при этом ни одного слова безусловной поддержки ни Дягилеву, ни всем, кроме Бакста, послевоенным героям дягилевской эпопеи. И только два имени — из имен молодых балетмейстеров — вызывают у него энтузиазм: Борис Романов и начинающий Серж Лифарь. Не правда ли — странно? Романов наполовину забыт, его
165
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
модернизированная «Жизель» мало кому интересна. А начинающий балетмейстер Лифарь был в те годы в лучшем случае — самонадеянным подмастерьем. Что это? Художественная слепота? Недопустимая старомодность? Но можно ли назвать ретроградом знатока новейшей поэзии и переводчика на русский язык новейшей прозы? И был ли реакционером рецензент, написавший глубокие статьи о первой (к сожалению, и последней) книге Мейерхольда и о первых спектаклях Таирова? Конечно же, нет. Тем более что в своей профессиональной деятельности он был и остается образцовым ученым.
Я имею в виду его работы по истории балета. Сказать, что именно Левинсон создавал науку о балете — значит сказать еще не всё. Самое замечательное, что методологические предпосылки, из которых интуитивно исходил Левинсон, сегодня приняты прогрессивной историографией и у нас, и во всем мире. Сторонники так называемого нового историзма без колебаний признали бы Левинсона за своего, если бы среди них были бы балетоманы. «Новый историзм» предполагает вовлечение в круг изучаемого явления (события — если пишет чистый историк, литературного текста — если пишет литературовед) любых фактов из низшего ряда, не достойных внимания на первый взгляд, любого научного сора — анекдотов, скандальных историй, сплетен, карикатур, но ведь именно этим не может не пользоваться историк балета, этим пользовался и Левинсон, когда писал свое классическое исследование о Марии Тальони, фактически — документальный роман, впрямую направленный против модных, сентиментальных и лживых «романтических биографий». Разумеется, набор таких фактов — всего лишь подспорье, вспомогательный материал, главное — другое, и тут Левинсон снова на высо
166
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
те, поскольку, как и наиболее передовые историки наших дней, описывая выдающихся исторических персонажей, самым существенным полагает определить тип сознания, в данном случае — художественный менталитет, не забывая, конечно, представить основные события в хронологическом порядке. Вот лишь один краткий пример, формула искусства Марии Тальони, которую любила цитировать Любовь Дмитриевна Блок (привожу в ее переводе): «Мария Тальони — недаром в жилах ее текла скандинавская кровь — танцевала то, о чем мыслил Кант, пел Новалис, фантазировал Гофман. Но, прошедшая строгую французскую школу, она выводила латинским шрифтом германские мечтания». Блестящая формула, афористичный стиль, стиль эффектной эссеистики, стиль строгой исторической прозы. В две краткие фразы сведены явления из далеких и разных рядов, но так, что формула кажется абсолютно естественной, даже непринужденной. В этом стиле написаны лучшие левинсоновские труды. И с этих позиций написана первая книга Левинсона: «Мастера балета», вышедшая еще в 1914 году в Петербурге.
Показателен ее состав: Новерр, Вигано, Блазис, Готье, — три балетмейстера, один поэт. Что касается Теофиля Готье, то тут всё понятно: не только знаменитый поэт, но и вдохновитель «Жизели», а главное — многолетний театральный рецензент, такой же, как и сам Левинсон — и в своей петербургской, и в своей парижской жизни. Вне всякого сомнения, думая о себе, Левинсон, уже в поздние годы, в книге «Мария Тальони» посвятил Готье следующие строки: «Мы и дальше будем цитировать этого поэта, вынужденного грести на галерах газетного фельетона. "Безупречный мэтр французской литературы" — по словам Бодлера, ныне третируется пренебрежительно... Как
167
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
бы то ни было, благодаря пластичной прозе фельетониста газеты "La Presse", ее гибкости, ее находчивости, историк балета может вновь обрести живой образ танца прошедших эпох, может получить непосредственное и точное впечатление о персонажах, запечатленных в словесных портретах».
Интереснее, но и сложнее вопрос о других героях. Но-верр, Вигано, Блазис — все они просветители, художники-интеллектуалы. Новерр и Блазис — авторы книг, а Вигано — персонаж Стендаля. Это совершенно иной тип балетмейстера, нежели Сен-Леон и Петипа, чьи балеты Левинсон мог видеть на сцене Мариинского театра. Сен-Леоновские балеты шли, балеты Петипа идут и сейчас, а Новерр, Вигано и Блазис с подмостков давно смыты волной времени, волной беспощадной. Для историка балета тут, конечно, главный интерес: «вновь обрести живой образ танца прошедших эпох», — повторим мы слова Левинсона. И в очень большой степени это ему удалось: «Мастера балета» — первая книга, в которой реконструкция творчества «мастеров» проведена при помощи современного инструментария и современного словаря, в свете актуальных искусствоведческих представлений. Скрытый пафос книги, однако, в другом: в апологии тех, кто исчезли. Как мамонты, как динозавры. Новерр—Вигано—Блазис — та линия развития балета, которая перестала существовать, ее вытеснила линия Сен-Леона и Петипа, пантомимный балет уступил место балету хореографическому, основанному на классическом танце. В 1913 году Левинсон опубликовал нашумевшую, по-бакстовски красочную статью «О старом и новом балете», развернутую пять лет спустя в книгу, где выступил против фокинских реформ, в защиту повсеместно отвергаемого академизма. В «Мастерах балета» — та же оппозиция:
168
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
старый и новый балет, но аналогичный код содержит противоположный смысл, «старое» здесь Новерр, «новое» — неназванный и вообще отсутствующий Петипа и его балеты. Ловить на противоречиях Левинсона не нужно, да и нельзя: он очень последователен, абсолютно принципиален. Просто-напросто он избирает позицию не столько как человек балета, сколько как человек культуры, культуролог время от времени занимает место, которое должен был бы занять искусствовед, и этот культуролог обязывает Левинсона всегда, во всех случаях выступать на защиту отвергаемых, приговоренных к уничтожению форм культуры. Его историческая интуиция, интуиция человека 10-х годов, его исторический опыт, опыт человека, пережившего 1917—1918 годы, заставляют его считать, что всякая восторжествовавшая — тем более насильственно взявшая верх — культурная форма будет беднее и примитивнее отвергнутой предыдущей. Поэтому его так ужаснула культурная политика марксистов-большевиков, так понравился утонченный бакстовский-фокинский «Карнавал» и так не понравился более поздний Фокин, так испугал Мясин, привела в такое негодование «Свадебка». Поэтому ему так дорога «Спящая красавица» и так мила «Баядерка».
В своей вызывающей антифокинской позиции Левинсон был не одинок, ту же позицию занимал Аким Волынский. Различия заключались, может быть, в том, что Левинсон осуждал Фокина за «реализм», а Волынский — за «эротику», но оба сходились в том, что Фокин разрушает фундаментальные основы классического балета. Насколько они были проницательны, насколько заблуждались — вопрос давно решен, но интересны их резоны. И важен сам результат — выяснилось наконец каковы эти фундаментальные основы. По чистому совпадению — впрочем, оно не каже
169
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
тся случайным — оба, и Волынский, и Левинсон начали печатать статьи о балете в одном и том же 1911 году, в самый разгар дягилевских триумфов, и оба сразу же оттеснили на задний план прежнюю балетную критику, убого-цеховую, провинциальную, «обывательскую», как ее называла Л.Д.Блок, дилетантскую — в искусствоведческом плане, бездарную — в плане литературном. Как же их невзлюбили вчерашние монополисты и якобы знатоки! Как же их поносили полуграмотные балетоманы! Впрочем, не думаю, чтобы и они когда-нибудь дружили. Очень уж разными были они людьми: бедный провинциал Волынский и петербуржец Левинсон, выходец из богатой семьи преуспевающего врача, с детства говоривший по-французски. Различен их профессиональный язык — более пластичный, но и более понятийный у одного (так писал Левинсон), более философический, но и более метафоричный у другого (так изъяснялся Волынский). И очень различны их художественные ориентации, идеологические корни. Может быть, имеет смысл сопоставить два журнала — «Аполлон», в котором Левинсон начинал, и «Северный вестник», который Волынский в течение десяти лет (1889—1899) редактировал, из которого вышел. Многое скажут сами названия журналов. «Аполлон» — предполагает единство европейской культуры, и в каждом номере подробно рассказывается о том, что происходит и происходило в России и в мире. «Северный вестник» — на грани XIX и XX веков — подразумевает петербургскую миссию, петербургскую весть, мистический северный свет — это классическая установка русского символизма. «Аполлон» — более космополитичен, а из поэтов там задает тон и даже ведет нечто напоминающее мастер-класс Николай Гумилев, старшина акмеистов и хороший приятель Левинсо
170
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
на. Применительно к театру это означает, что Волынский видит будущее балетного искусства только в Петербурге, только в России, а Левинсон ищет прошлое балета в Европе. Фундаментальных работ по истории русского балета у него, в сущности, нет. Есть лишь история «возвышения и падения» дягилевской антрепризы. Зато есть масса конкретных откликов, рецензий и заметок. Не меньше, чем у Волынского, и того же уровня, того же класса. И главное — сходных по предпочтительному предмету. Потому что их сближает одно — культ балерины. Культ балерины вообще, романтический, мистический, но не вполне платонический культ женщины в тюнике, в белоснежной пачке. В балерине — а не в балетмейстере — Левинсон видел смысл балета и оправдание его; балерина, в глазах Левинсона, — носительница новизны и творческого начала. Поэтому в программной книге о Марии Тальони Филиппо Тальони, её учителю, её отцу и как-никак автору «Сильфиды», уделяется несколько достаточно пренебрежительных страниц, а в работе об Анне Павловой, последней прижизненной статье, Левинсон, прославленный своим документальным педантизмом, непогрешимой точностью в описаниях, цитатах, датах и именах, этот самый Андрей Яковлевич Левинсон, чтобы унизить Фокина и возвысить Павлову, повторяет кем-то пущенный слух, будто Фокин поставил «Лебедя» для какой-то другой балерины. Та им пренебрегла, и только тогда Павлова фактически создала неумирающий танец. Анна Павлова была божеством Левинсона. Он писал о ней множество раз, почти о каждом выступлении в Петербурге и Париже. Желание вновь увидеть ее, может быть, сыграло не последнюю роль в стремлении покинуть Россию. А видеть ее там, за рубежом, в послевоенной Европе, стало уж совсем необходимо. Тут он написал
171
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
итоговую замечательную, единственную в своем роде статью «Анна Павлова и легенда о Лебеде». И вот как он объяснил смысл этой легенды, смысл павловского мифа вообще: «lyrisme de 1’exile», лирика изгнания, лирика бегства. Понятно, что оба они — добровольные изгнанники, невольные беглецы — и в метафизическом и вполне реальном смысле. Поэтому его влекло к ней, а она питала к нему дружеские чувства.
Поразительное, но и плодотворное противоречие: историк-позитивист Левинсон освобождал реальную историю балета из пут и путаницы лживых легенд, а критик-идеалист Левинсон видел в балете последнее пристанище мифа. Ироническая и демонстративная демифологизация балета — как раз то, что Левинсон не мог простить дягилевским балетмейстерам 20-х годов, скептикам и вольнодумцам. Элегическое прощание с мифом — то, что, по-видимому, он видел в павловском танце всегда, то, чем она наполняла его жизнь, и то, что ушло вместе с ней. А в более широком смысле можно сказать так: историк-мыслитель, историк-художник и даже историк-драматург Левинсон воспринимал историю балета как драму художественных идей, как драму с участием двух актеров. Протагонист — балерина спиритуальная, то есть балерина мифа или балерина души; антагонист — балерина виртуозная (либо, на рубеже XVIII — XIX веков, танцовщик-виртуоз); иначе говоря: Тальони и Дюпор, Павлова и миланские виртуозки, Спесивцева и Ваганова, если называть лишь легендарные имена, исторически значимые фигуры. «Душа» — слово, совсем не чуждое балету, освященное Пушкиным в России, во Франции — Малларме (любимый поэт Левинсона), а существительное «виртуозность» Левинсон употребляет в связи с прилагательным «sterile», стериль
172
НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ
ная, бесплодная, иначе говоря — неживая. Вот схема, возникшая у Дункан и в годы Дункан, о которой, не лишне сказать, Левинсон писал много и точно. Пути их, однако, разминулись: Дункан рвалась в Москву, а Левинсон — в Европу. Его отъезд из России в 1921 году был не только побегом от марксистов-большевиков, но и бегством от наступающих 20-х годов с их установкой на спорт, на технику и на виртуозность. А это (кроме, может быть, спорта) отстаивала в своем классе Ваганова, и это выдвинуло в качестве историка-идеолога Любовь Дмитриевну Блок, весьма почитавшую историка Левинсона. Но Блок никогда не рассматривала «виртуозность» как антитезу «души» и совсем не считала виртуозность «стерильной». Именно она поставила чуть ли не в один ряд Тальони и итальянских виртуозок, Нижинского и Чекетти. И именно она, Любовь Дмитриевна Блок, уравняла театральную сцену и школьный класс, уравняла урок и спектакль. В книге Блок «Классический танец» статья «Урок Вагановой» идет непосредственно после статьи «По поводу возобновления "Лебединого озера"», и это не случайная составительская вольность. Одновременно с Вагановой и Блок ту же философию классического танца, но на другом конце планеты стал проводить в жизнь Баланчин, тот самый Баланчин, которого Левинсон выделял среди других балетмейстеров дягилевской плеяды. Отмечал его изящество, причем с первых же парижских шагов, но все-таки по-настоящему не оценил, так что приходится с сожалением признать, что бывший сотрудник журнала «Аполлон» и будущий автор балета «Аполлон Мусагет» (впоследствии просто «Аполло») не нашли дорогу друг к другу.
Подводя итоги, остается еще раз повторить, что Левинсон стоит у начала балетоведческой науки. Его исследо
173
ПОРТРЕТНАЯ 1АЛЕРЕЯ
вания — «очерки», как он определял жанр своих первых книг, развернутые искусствоведческие портреты. Последовательных исторических курсов он не писал и не читал, хотя и преподавал (лекции о Достоевском) в Сорбонне. На то было много причин, и не последняя из них — в личных пристрастиях ученого-балетоведа. Его интересовала проблема художественной гениальности, волновали гениальные личности, гении-одиночки, способные — в одиночку — переломить ход театральной истории, направить ее по избранному ими пути. Работал Левинсон в окружении гениев, подлинных и мнимых, гениев надолго и гениев на короткий срок; как трезвомыслящий критик, он стремился отделить одних от других, а как исследователь-романтик, захотел гениев описать, захотел разгадать их загадку. Это дьявольская задача, и он многого достиг, но, конечно же, этот исследовательский максимализм, а не только «галеры каждодневной газетной работы» подкосили его вконец, подорвав казавшееся несокрушимым здоровье.
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
ЛОПУХОВ И ЕГО ШКОЛА
Имя Федора Васильевича живо, будет жить долго, а в памяти балетной будет жить всегда, но школа Лопухова, если ограничиться событиями в Мариинке 20-х годов, существовала недолго, была разгромлена, а сам учитель и его адепты разбрелись и обрели себя в новом статусе, в новой роли, а отчасти и в новом искусстве: Лопухов в Ленинграде в качестве руководителя балетной труппы Малегота; Дмитриев в качестве главного художника МХАТ в Москве; Гусев — тоже в Москве, в Большом театре, в качестве премьера и партнера Лепешинской на праздничных и правительственных концертах; Баланчивадзе — уже Баланчин — в Нью-Йорке в качестве создателя театра Нью-Йорк сити балле. И лишь в 60-е годы понятие «школа Лопухова» возрождается вновь, но теперь означая школу педагогическую, школу высшего балетмейстерского мастерства, а конкретно — курс хореографического искусства, который Лопухов вел в Консерватории и который окончили многие балетмейстеры новой эпохи.
Педагогом Лопухов был выдающимся, балетоведом-историком, исследователем и писателем — тоже выдающимся, но первым призванием его была практика, а не теория или, точнее, не теория только (поскольку и в практике он был теоретичен), но балеты его не шли, выпали из
181
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
истории, как до того выпали из репертуара, и нам нелегко вообразить, что чувствовал этот деятельный и бесконечно живой человек, на долгие годы отставленный от главного дела своей жизни.
Судьба же его учеников, тех, кого мы назвали, сложилась, повторяю, иначе. Совсем иначе — у Баланчина, но и Дмитриев и Гусев (на первых порах) не могли пожаловаться на горькую долю. В чем же тут дело? Может быть — в географии, социальной географии, иными словами, в том, что Баланчин оказался в Нью-Йорке, Гусев и Дмитриев перебрались в Москву, а Лопухов, потомственный петербуржец, почти всю жизнь прожил в Ленинграде, и ленинградское местожительство бросило на него роковую тень даже тогда, когда он на полгода поселился в Москве, ненадолго возглавив Большой театр. Вполне может быть и так, никакой мистики тут нет — чистая политика: Ленинград был обреченным городом в сталинскую и послесталинскую эпоху. Но были и другие причины лопуховских неудач, непосредственно связанные с искусством. О вполне конкретных из них мы коротко скажем позднее, а сейчас коснемся более общего обстоятельства, непрямо повлиявшего на художественную судьбу балетмейстера и его дело.
Кому не известно: в Мариинском театре Лопухов работал за двоих. Он создавал новый репертуар, он восстанавливал, реставрировал и фактически спасал старые классические балеты. Об этом рассказывает он сам, об этом пишут — со справедливым восхищением — его биографы, от Ю. Слонимского до Г. Добровольской. И как тут не восхищаться: новатор и реставратор в одном лице, поставивший «Болт» и вернувший к жизни «Жизель», восстановивший барочную «Спящую красавицу» и сочинивший конструктивистский «Щелкунчик». Восхищали прежде всего художественный
182
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
кругозор, способность ощущать стилевые нормы и стилевые отличия прямо противоположных эпох, не выходя за пределы их границ: вот тут «Жизель», а тут «Болт», вот здесь старая «Спящая красавица», а там новый «Щелкунчик». И никакой связи между старым и новым. Были, конечно, исключения, но исходный принцип был таким: границы на замке, жесткая замкнутость художественных эпох, классика это классика, а современность это современность. Обе модели независимы и совершенно различны. В этом, конечно, выразило себя историческое сознание 20-х годов, очищавших корабль современности от приставших к нему ракушек. Применительно к Лопухову это означало, что в его новаторских постановках нет никакого второго плана, никакого скрытого присутствия классических балетов. Эстетически они были столь же оригинальны и столь же изощренны, сколь и бедны. Они были воинственно аскетичны. А Баланчин (как и Дмитриев-сценограф и Гусев-актер), Баланчин 30-х и 40-х годов, в своих не менее новаторских, не менее оригинальных сочинениях постоянно опирался на классические образцы — это, собственно, и называется неоклассицизмом. Сказалось и новое время, и новая устремлённость не только вперёд, но и назад, и сотрудничество со Стравинским. Уже в старости и словно бы отвечая Маяковскому с его «кораблём современности», Стравинский говорит: «Настоящим делом художника и является ремонт старых кораблей. Он может повторить по-своему лишь то, что уже было сказано». А «корабль современности» Лопухова то и дело давал течь. Впрочем, в него били прямой наводкой.
На протяжении менее пятнадцати лет Лопухов пережил четыре катастрофы, и все незаслуженные. Первая — в 1923 году, когда была поставлена танцсимфония «Величие
183
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
мироздания»; вторая — в 1929 году, когда был поставлен «Щелкунчик»; третья — в 1931 году, когда был поставлен «Болт»; четвертая — в сезоне 1935/36 года, когда был поставлен «Светлый ручей», самая громкая катастрофа. Притом и «Танцсимфония», и «Болт» были показаны всего один раз, а снятие «Болта» и «Светлого ручья» явилось еще и ударом по карьере: в 1931 году Лопухов был изгнан из Мариинского театра (тогда ГАТОБ), а в 1936-м — из Большого. Во всех четырех случаях Лопухов выступал в качестве первооткрывателя новых жанров («Танцсимфония»), новых интерпретаций («Щелкунчик») и новых тем (фабрично-заводской «Болт», сельско-колхозный «Светлый ручей»), везде следовал внутренним установкам и вместе с тем осуществлял социальный заказ (как он его понимал, конечно), всякий раз стремился быть созвучным эпохе, вполне современным и передовым, и всякий раз оказывался на обочине, в стороне от той генеральной — или просто-напросто официальной — линии, которая постепенно утверждалась в советском театре.
Ещё раз задамся вопросом: в чем же тут дело?
С «Танцсимфонией», впрочем, почти всё (но не всё) более или менее ясно: Лопухов опередил развитие мирового балета больше, чем на десять лет, это случай катастрофы преждевременно явившейся гениальной идеи. В истории со «Щелкунчиком» всё обстоит как раз наоборот, здесь случай обратный: провал идеи, уже отыгранной, уже отслужившей, провал «левого» театра. А вот то, что случилось с «Болтом» и «Светлым ручьем», требует более обстоятельных разъяснений. И там, и там музыку писал Шостакович, это тоже — особенно во втором случае — сыграло немалую роль, но здесь скажем о непосредственно личных причинах злосчастной судьбы великого балетмейстера, великого неу
184
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
дачника, дважды изгнанника, «формалиста»-изгоя. Сегодня пришло время понять: на неудачу был обречен сам тип Лопухова, артиста-народника, художника-демократа. Он был чужд и аристократической среде императорского театра, и мещанской среде театра государственного: аристократ-балетоман и мещанка-балерина — его кровные враги, как и любой аристократ и любая мещанка. Он ненавидел императорский театр, государственный театр ненавидел его, и устойчивого места он не находил нигде, кроме короткого десятилетия в 20-е годы, когда отечественный балет уже перестал быть императорским и аристократичным, но ещё не стал тоталитарным и мещанским. Свою ситуацию, также как свои ожидания, предпочтения и свой праведный гнев (а гневаться он умел), Лопухов выразил в балете «Крепостная балерина» (1927) с девятнадцатилетней Мариной Семеновой в главной роли. Семенову Лопухов обожал и старался освободить из-под влияния Вагановой, которую всю жизнь презирал, несправедливо считая ее наследницей императорского и предтечей мещанского балета. В «Крепостной балерине», кстати сказать, было много открытий, на которые был так щедр Лопухов. Впервые — после Бур-нонвиля, но раньше Ландера и Асафа Мессерера — он показал в балетном спектакле танцевальный класс; впервые вывел на сцену царствующую особу — императрицу Екатерину Вторую; впервые, но тут за ним никто не пошел, поставил в балете сцену порки крестьян, вызывавшую «физическое отвращение», по словам Ю. Слонимского, биографа Лопухова. Спектакль был полон блестящих аттракционов и вульгарно-социологических забав, но таким был Лопухов в начале, да и на пике своей балетмейстерской карьеры.
Но как же тогда объяснить преклонение Лопухова перед творчеством и перед личностью Мариуса Петипа, которого
185
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
ведь не зря называли «диктатором императорского балета»? Зря называли, полагает Лопухов, и в своих собственных штудиях, посвящённых Петипа и ставших классическими, отделяет одно от другого: вот Петипа, а вот императорский театр, вот гениальный балетмейстер, а вот навязанная ему роль и надетая на него маска. Свою небольшую и замечательно оригинальную работу о «Щелкунчике» Лопухов завершает следующими гордыми и красивыми словами: «Я снимаю с балетмейстера императорских театров парадный фрак с орденами, и тогда виден художник в его подлинном обличье, в сути сокровенных мыслей». Конечно же, Лопухов думал и о себе, о своем месте в советском театре. Вот только не знаю, был ли у него фрак и награждали ли его орденами.
Он оказался между двух огней и в прямом смысле. Он подвергался поношению со всех сторон, и слева, и справа, и от комсомольцев, к которым тянулась его душа, и от бывших интеллектуалов, из поля тяготения которых он вышел. Комсомольцы, а также рапповски настроенные молодые критики подозревали в нем чужака; для бывших интеллектуалов он был самозванец, парвеню, «маляр негодный», как назвал свою прогремевшую статью Аким Волынский, не столько бывший интеллектуал, сколько бывший авгур. Статья эта тяжко ранила Лопухова, он не мог забыть о ней до конца жизни. Смысл этой полемики, как и скрытый подтекст этой статьи, историки балета ещё и сейчас сводят к столкновению защитников и противников классического балета (речь шла о переделке Лопуховым сцены снежинок из «Щелкунчика» Льва Иванова в постановке 1892 года), а также к борьбе за власть в бывшей Мариинке: балетную труппу возглавил Лопухов, а Волынский добивался, чтобы руководящее место занял его приятель Николай Легат и
186
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
чтобы положение идеолога осталось за ним, за Волынским. Все это, конечно, чистая правда, но правда не вся, узко трактованная в духе современных страстей и нынешних схваток за кресло худрука. Тут, конечно, иное: столкновение художественных эпох, ясно обозначенных художественных идеологий. Аким Волынский, завлит Театра Комиссар-жевской (1905—1906) в пору ее увлечения символистской поэзией и символистским театром, в балете увидел последнее пристанище, а вместе с тем и наиболее полное воплощение символистских идей, некоторую мистическую мифологему, в то время как «маляр негодный» Лопухов уже и тогда, в начале 20-х годов, являл собой, хотя и не до конца, новое художественное направление — конструктивизм, понимал танец как конструкцию и также как конструкцию понимал человеческое тело, отрицал в танце какую бы то ни было мистику, какой бы то ни было метафизический смысл и видел в танце хорошо построенную — и хорошо выполненную — работу.
Единственное исключение из этих установок — «Танц-симфония» прошла стороной, «как проходит косой дождь» (слова Маяковского, которые мог бы повторить Лопухов), но ведь общая картина была другой, общая тенденция послевоенного сознания тех лет — бегство от метафизики, стремление не создавать видимости, а делать вещи. Конструктивизм русский и конструктивизм немецкий, Вхутемас и Баухауз, возникли после первой мировой войны, примерно на сходных основаниях, во имя сходных целей. Но наш, отечественный конструктивизм, как и положено в России, пошёл дальше, до крайностей, до предела: если уж вещь, то такая, вещественней которой не найдешь, которой нет ни крепче, ни тяжелее. Если уж вещь, то одновременно и метафорическая гипербола, и сверхматериальный
187
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
знак вещи. Иными словами — болт. Болт, зримое отрицание метафизики, а также абстракции, поэтической фикции: фикцию заменила функция, абстракцию — авиация, метафизику — металлоконструкция, туманные символы — серп и молот.
Но главное заключалось в другом — в утопической программе конструктивизма, программы необузданной, если не сказать — безумной. Речь шла о конструировании нового человека, человека будущего и без прошлого, без недостатков. Этой жутковатой утопии отдали дань Маяковский и Мейерхольд в «Клопе» (1929) и написавший музыку к спектаклю Шостакович, хотя, судя по всему, никакого прямолинейного, а тем более оголтелого пафоса в утопических сценах не было совсем — была легкая ирония, скрытая усмешка, затем перенесенная в партитуру «Болта», где так же выстраивалась антитеза: комсомольская молодежь и мещанство, люди из светлого будущего, делающие «зарядовую гимнастику» и работающие у станка, и люди из прошлого, посетители пивной, танцующие танго.
Лопухов, однако, конструировал не утопию, он конструировал мечту. Я бы назвал его «мариинским мечтателем», перефразируя слова о Ленине Герберта Уэллса. Лопухов верил в Россию, в её способность все превозмочь, всему противостоять — любой напасти, любой исторической катастрофе. Самое его последнее произведение, фактически завещание, поставленный в 1963 году почти восьмидесятилетним стариком балет «Картинки с выставки» весь проникнут этой верой. А «Болт» поддерживала и другая вера — вера в себя, и другая мечта — мечта о деятельном человеке. При всем своем снижающем языке это было высокое романтическое искусство, там не было нигилизма. Лопухов был одним из последних балетмейстеров-романтиков русского балета.
188
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
Что не помешало ему ввести в «Щелкунчик» сцены из ночных ревю, парад гёрлс, равно как и акробатику, позы на шпагат и вообще жесткую танцевальную фактуру.
В своей собственной классификации артистов балета Лопухов использовал профессиональные термины, характеризующие работу мышц: жесткое плие и мягкое плие. Это типично для него — естествоиспытателя-искусствоведа. Тот же тип мысли, что у Леонардо в XV веке или у Павлова уже в наши времена. Тот же метод, характерный для 20-х годов, когда на смену мифотворчеству пришло точное знание: знание материала, функционирования и устройства, знание конструкции и приема. Но «жесткое плие» — это еще и автохарактеристика, еще и автопортрет, психологический и профессиональный. Жесткий в суждениях, жесткий в спорах, жесткий в оценках. Жесткий до доктринерства в общих взглядах на балет, в своих воспринятых у Фокина установках на так называемый действенный танец. Неистовый Фокин тоже был доктринер, тоже указывал всем на ошибки, но в своем хореографическом языке, языке своих персонажей, был поразительно пластичен — никакой механики, никакого «жесткого плие», все строится на утонченной декоративности, на ускользающих нюансах движений, на дыхании полувоздушных па — это и есть стиль модерн в его лучших, музыкальнейших проявлениях. А Лопухов демонстрирует другую, в самом деле жесткую манеру, отчасти плакатную, отчасти цирковую. Механика обнажена, декоративность сведена к минимуму, и всё выглядит предельно, а в некоторых случаях — и предательски аскетично. На первый план выходит акробатика. Апофеоз шпагата. Шпагат на полу, шпагат на головах партнеров, шпагат вниз головой. Апофеоз «колеса», — меланхолично
189
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
перечисляет наблюдательный Соллертинский. А мы бы добавили: апофеоз апсихологизма, прямая дорога в сторону от того, что возобладает в 30-е годы вместе с утверждением так называемого драмбалета.
Но именно «жесткое плие» поддерживало Лопухова во всех испытаниях, которые ему пришлось пережить, не позволяло согнуться. Его прямолинейность была спасительным недостатком. Его прямодушие — слабостью, которая его уберегла. Он мало походил на классического человека театра — неискреннего, лёгкого на обман, ещё более лёгкого на поцелуи. Молодые артисты его боялись. А он всю жизнь рвался к ним, хотел быть полезным. Но сила, которая была в нём заключена, сила характера, интеллектуальная сила — создавала непреодолимый барьер, а пример его жизни казался не слишком полезным. Пример прямого пути, прямого высказывания, прямого жеста. Он не очень любил и не очень жалел слабых. Почти во всех его спектаклях прочитывалась мысль, что артисты балета должны быть сделаны из сверхстойкого материала. К числу этих спектаклей принадлежал и «Болт». Конечно же, это в первую очередь эстетическая демонстрация, новая эмблема классического балета. Но можно увидеть здесь утопический портрет танцовщика и даже балерины. И может быть, тоже скрытый автопортрет. Это не кажется полностью невозможным: ленинградский поэт Николай Тихонов написал в те годы известные стихи: «Гвозди бы делать из этих людей — / Не было б в мире крепче гвоздей».
Близкие друзья звали Гусева Петром — никак не Петей или Петрушей, ни уменьшительным, ни тем более фамильярным именем, а только Петром, по-царски, по-петербургски. Подразумевалось, что он старше сверстников, наделен ранней
190
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
зрелостью, качествами лидера, умением руководить — руководить на пользу отечественному балету. Не однажды он и в самом деле руководил: балетной труппой Мариинки пять лет после войны, балетом Большого театра последующие шесть лет, балетом Малегота вслед за этим, а потом и балетом в Новосибирске. Там ставили свои первые спектакли Олег Виноградов и Никита Долгушин, там вообще возник недолговечный балетмейстерский рай, и туда направился Юрий Григорович, фактически изгнанный из родного театра. А до войны Петр Гусев в течение пяти лет успел поруководить Московским хореографическим училищем, и то тоже были счастливые годы и для училища, и для него самого. Стало быть, прирожденный руководитель и, может быть, чиновник больше, чем артист? Ничуть не бывало: его несколько раз назначали, но и столько же раз снимали, уж слишком он, крупная и яркая личность, не вмещался в стереотип советского начальника, утверждавшегося в 30-е годы. Но здесь, конечно, более интересная история, более глубокая драма. Достаточно типичная для тех лет. Гусев был столь же талантлив, сколь и честолюбив, и не желал отказываться от заманчивых предложений, которые ему делала власть, полагая, что и в новые времена сумеет сохранить связь с какими-то юношескими устремлениями 20-х годов и, по крайней мере, не даст занять вакантный руководящий пост совсем уж опасным или совсем уж никчемным людям. Обычный самообман, распространенная иллюзия, никогда не сбывающаяся надежда. Гусев был прирождённый дипломат, умел ладить, умел хитрить, и все-таки были пределы, за которые он пойти не мог, и были обязательства, принятые в молодости, от которых он не освободился. Поэтому приходилось оставлять начальственное кресло, надолго уезжать в Китай (где он тоже сыграл важную роль), надолго отказываться от творческой работы.
191
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
И разумеется, карьерные взлеты для Гусева означали жизненный реванш или подобие жизненного реванша, ибо ведь он начинал как будущий премьер и на какое-то время, на время Лопухова, стал реальным премьером, но затем его уникальные способности мастера акробатической пластики и головоломных поддержек стали не нужны, а соперничать с чистыми виртуозами, вроде Ермолаева или Чабукиани, он не мог: ни фантастических прыжков, ни ураганных туров он не делал.
Я видел Гусева в разных ситуациях: на сцене Большого в «Бахчисарайском фонтане» (Гирей), в Зале имени Чайковского («Вальс» Мошковского с Лепешинской), в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (репетиция «теней»), в зале Института на Исааковской площади (в день юбилея Лопухова). Везде он был на месте, везде за-поминающ и хорош: великолепный пантомимный артист, рекордсмен поддержки, выдающийся педагог-репетитор, прирожденный оратор-полемист (прослушав мой доклад, он со словами: «Какой скучный Гаевский! Сейчас я ему покажу», выступил темпераментно и со страстью). «Скучный» — не случайное в его устах слово. Ему было скучно с нами, было скучно в наши дни. Я помню, как он скучал на репетиции «теней» при всей своей любви к «Баядерке» и балетам Петипа, но ему было скучно давать уроки любви не способным любить, не способным проникнуться духом и стилем ушедшей эпохи. И скучно вообще — без рискованных экспериментов. «Бешенство риска» (слова Пастернака) было присуще ему с первых же шагов, было его второй натурой. В этом состоял эмоциональный смысл лопуховских новаций, в которых он блистал в 20-е и в 30-е годы. Это же ощущение он, по-видимому, испытывал, выступая на концертной эстраде с Лепешинской. Новые формы ушли, остались двойные «рыбки», которые она проде
192
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
лывала в его железных мускулистых руках без боязни. Но начинал он с другой партнёршей.
Ольга Мунгалова — одна из легенд отечественного балета, партнёрша Гусева и его первая жена, главная надежда Лопухова и главная неудачница Мариинского театра (и между прочим, первое серьезное увлечение шестнадцатилетнего Баланчивадзе). Судя по всему, она умела делать то, что не умели ни Семенова, ни Уланова, ни Шелест — превращать акробатику в художественный танец, одухотворять шпагаты, наполнять выразительными эмоциями «кольцо» и «колесо». Но когда кончилась эпоха Лопухова, в театр пришли другие балетмейстеры, а с ними — и новая хореографическая система, места в ней Мунгаловой не нашлось. Постепенно она потеряла всё: роли, положение, мужа. В 1943 году, не прожив и сорока лет, эта феноменально тренированная актистка ушла из жизни. А Пётр оказался долгожителем и, несмотря на болезни, прожил восемьдесят два года.
Владимира Дмитриева почти все звали «Володя», что звучало по-чеховски («Володя большой и Володя маленький»), указывало на чеховскую деликатность души и на возможную близость к Чехову-драматургу. В 1940 году эта угадываемая близость была подтверждена в «Трех сестрах», знаменитом спектакле Художественного театра. Соединив быт и поэзию, интерьер и пейзаж, Дмитриев нашёл идеальную сценографическую формулу чеховского стиля.
Но так же — Володей — многочисленные друзья звали Маяковского, и это было хорошо известно. Дмитриев не входил в круг ближайших друзей, но в молодости находился под обаянием и личности Маяковского, и его стихов, и его футуризма. Супрематическое (и между тем — чрезвычайно изящное) оформление мейерхольдовского спектакля
13 — 940
193
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
«Зори» (1920, театральный дебют Дмитриева), конечно же, несло следы юношеских увлечений.
И наконец, само имя Володя звучало по-юношески, как имя мужчины, сохраняющего юношеские черты на протяжении всей жизни (не слишком долгой: всего 48 лет), не теряющего сыновней привязанности к учителям, гораздо более старшим. Учителей было четверо: Петров-Водкин, живописец и педагог; Мейерхольд, режиссёр, но нисколько не педагог; Лопухов, балетмейстер (а может быть, и Ваганова, тоже балетмейстер); Немирович-Данченко, режиссёр и директор театра. Это всё разные люди, по-разному выстраивавшие отношения с другими людьми, и если мудрому Немировичу (как и мудрой Вагановой) нравилось то, что Дмитриев начинал как художник «левого» театра, то несговорчивый Лопухов не простил ему вагановского эпизода, а ревнивый и подозрительный Мейерхольд, своим безошибочным чутьем распознав в Дмитриеве мхатовскую натуру, навсегда изгнал его из своего конструктивистского рая, нанеся молодому художнику так и не зажившую рану.
Все-таки это было не вполне справедливо, поскольку, хоть и отравленный сладким мирискусническим ядом (а кто из художников его поколения не был отравлен им?), Дмитриев, как и передовые сценографы того же поколения, видел свою историческую задачу в том, чтобы вступить в спор с чародеями «Мира искусства», с мирискуснической эстетикой вообще, и этот спор выиграть. Не больше и не меньше. После войны мирискусники всё еще пользовались неоспоримым авторитетом. Но время мирискусников прошло, и они оказались в стороне от новейших театральных исканий. Отсутствие конструктивного мышления делало старомодным их красочный стиль, сама же чувственная красочность казалась и вовсе неуместной. Что бы ни гово
194
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
рили сейчас об авангардизме 20-х годов, его мышление отличала возвышенная художественная чистота. А о Дмитриеве можно сказать даже больше: это был целомудренный художник. Высветленная палитра Дмитриева, столь резко отличавшаяся от палитры Бакста и Головина и столь близкая палитре его учителя Петрова-Водкина, сразу обозначила место Дмитриева в театральной живописи 20-х годов и его путь — путь лирика и просветлённого поэта.
Путь этот лежал в стороне от слишком суровой и намеренно сухой аскетичности, увлекавшей тогда многих. В декораторе Дмитриеве жил дух игры, пленительной и даже отчасти детской. Такой пленительный, полной конструктивистских аттракционов мир он создал в декорациях к «Щелкунчику», поставленному Лопуховым в 1929 году и вызвавшему в консервативных кругах волну несправедливых протестов. Шокировала акробатика, вводимая Лопуховым в хореографический текст, шокировали шпагаты. Вызывали недоумение движущиеся стены. А между тем это был, судя по всему, выдающийся спектакль. И совсем не простой, не только сказочный и нисколько не инфантильный. Центральная сцена — сцена снежинок — была задумана Лопуховым и оформлена Дмитриевым и вовсе необычно. Знаменитая мизансцена не может не поразить. От этих полосатых шлагбаумов, от этих танцовщиц-снежинок в мини-пачках веет и беззаботностью новых времен, и жутью петербургских видений Бенуа или петербургских рассказов Тынянова (а может быть, и обэриутов). Ночной блеск ревю и холодный ужас империи сближены неожиданно и резко.
Спектакль был снят, но петербургская тема, намеченная в нем, в творчестве Дмитриева не исчезла. Можно сказать, имея в виду его несколько редакций «Пиковой дамы», что Дмитриев был трагическим поэтом Петербурга,
13*
195
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
одним из самых значительных в этом ряду и, возможно, последним среди художников-декораторов и художников-живописцев. Легендарным стало его оформление «Зимней канавки», созданное в 1931 году и сохраняющееся множество лет, переходя из спектакля в спектакль, от одного режиссера к другому (случай, кстати сказать, единственный в своём роде). Собственно, это и не «Канавка», потому что сцена перенесена на набережную у Зимнего дворца и повторяет отчасти схему Александра Бенуа (из знаменитых иллюстраций к «Медному всаднику»): огромный, бесконечный каменный фасад и маленькая человеческая фигурка в заснеженной мгле, едва освещённой тусклыми фонарями. Город-громада и человек-фантом, город отверженных, город одиноких. Здесь, конечно, и Александр Бенуа, и Александр Блок, и более поздние впечатления: декорация рассказывает о Ленинграде пореволюционной поры полнее и ярче, чем литературные свидетельства, письма и дневники, которых, впрочем, совсем немного.
С Петербургом связана и серия картин, посвященных неназванной балерине. Секрета, впрочем, тут нет: Дмитриев был одержим Спесивцевой, ее обликом, её танцем, её искусством. Это было нечто большее, чем мужская страсть, и гораздо большее, чем увлечение балетомана. Это был культ, по-студенчески восторженный, по-монашески воспламенённый Серия картин Дмитриева может быть сравнима с блоковским циклом стихов о Прекрасной даме. Балерина Дмитриева — мадонна, петербургская мадонна вне реальной истории и обыденной судьбы, в смещённом по-кубистски петербургском интерьере, на фоне ирреального петербургского пейзажа. Никаких натуральных женских черт и даже никаких женских чар на портрете нет, есть лишь вечная женственность в некотором сказочном сне, в некотором
196
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
вечном полёте. Теперь мы знаем: реальная Ольга Александровна, прекрасная женщина и гениальная балерина, Прекрасной дамой или Петербургской мадонной всё-таки не была, как не была ею Любовь Дмитриевна Блок, муза поэта. И когда Дмитриев на очень короткое время сблизился с ней, произошло то, что должно было произойти: чуда не случилось. История, подобная этой, известна давно, она описана и Буниным, и Бальзаком. Сам Дмитриев, пережив страшный удар, рассказал о пережитом на своём языке — в декорациях к бальзаковскому балету «Утраченные иллюзии», поставленному Р. Захаровым в 1936 году с Улановой в главной роли Не исключено, что чёрные мысли одолевали его и тогда, когда он готовил эскизы к опере Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», когда писал удивительный, в фо-вистском духе (никаких следов Петрова-Водкина, никаких следов Прекрасной дамы), портрет лежащей на кушетке Катерины Измайловой, плотоядной красавицы, похожей на волчицу. А в 1933 году Дмитриев, выступив уже не только в качестве художника, но и в качестве либреттиста, осуществил вместе с Вагановой новую редакцию «Лебединого озера», задуманную как «драму молодого человека XIX века», обманутого в своих мечтах, оскорблённого в своей вере.
В Петрограде, а затем в Париже его звали Жорж, в Нью-Йорке — Джордж, таковы были трансформации его полного имени Георгий, и таковы были города, где прошла его жизнь и где к нему приходила, а потом и навсегда пришла слава.
Георгий Баланчивадзе вышел из школы Лопухова, и именно он, не будучи формальным учеником, обессмертил если не имя Лопухова, то лопуховскую художественную идею. 7 марта 1923 года вместе с Петром (и вместе с Леонидом Лавровским, Михаилом Михайловым, Шурой Даниловой и
197
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Лидочкой Ивановой) будущий автор «Хрустального дворца» танцевал в балете «Величие мироздания» на музыку Четвертой симфонии Бетховена, и этот день обозначил, хоть и не сразу, поворотный пункт в истории балетного театра. Родился новый жанр танцсимфонии, возник новый образ классического балета. Да, были предшественники — Фокин, Горский, чего Лопухов никогда не скрывал; да, были предшествовавшие попытки, но они ни к чему не привели, а «Танцсимфония», показанная всего один раз, была не забыта Баланчиным и возродилась в Париже и на американской земле в новом облике и с новым составом.
Почему же она не понравилась в Петрограде? Нередкое объяснение — во всем виноват сам Лопухов, сочинивший очень сложное и очень путанное либретто, стремясь разъяснить заложенную в балете отвлеченную философскую идею. Между тем идея была достаточно проста и не требовала философских обоснований. Балет без пауз, без пантомимных статических сцен выявлял идею движения, идею динамики в чистом виде, динамики как таковой, освобожденной от какой бы то ни было принудительной цели. И такой была суть исканий балетных 20-х годов и суть всего раннего творчества Фёдора Лопухова. Динамика, динамизм — страшноватое божество тех лет, красивый футуристический миф и объективная реальность страны, вырывающейся из неподвижности, очнувшейся от спячки. Динамика, динамизм, динамо — увлекательные псевдонимы без остановочной погони за ушедшими вперед, слова для лозунгов и названий. Между прочим, и первый балет Шостаковича «Золотой век» первоначально назывался «Динамиада». Но в 1923 году только лишь кончилась гражданская война, только лишь начался НЭП, Петроград приходил в себя после страшной разрухи, выходил из описанной Уэллсом
198
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
мглы, поэзия динамики, романтика темпа могла прийти в голову лишь абстрактному романтику, каким был Лопухов, получивший в полное распоряжение поредевшую и утомленную труппу.
У Баланчина всё было по-другому: парижская труппа на недосягаемой высоте, нью-йоркская (куда вскоре был перенесен балет «Хрустальный дворец») — в изумительной форме. Но это — существенное обстоятельство для Баланчина и для Лопухова. Оба произведения их, касаясь непосредственно пережитого, несли весть о другом — о возрождающейся жизни (у Баланчина), о восторжествовавшем разуме мироздания (у Лопухова). Впрочем, интеллектуальные основания мышления Баланчина тоже вполне очевидны. Но они введены в строгие рамки балетной темы, в полной мере хореографичны. Выстраивается сверкающее здание балета-дворца. Хореографичен общий план: в четырех частях Юношеской симфонии Бизе симфонически развёрнуты четыре структурных элемента так называемого большого классического па (антре, адажио, вариации, кода). И каждая часть воспроизводит иерархию традиционного балетного театра: премьеры на первом плане, солистки — на втором, кордебалет — на третьем. Спектакль поставлен в Париже, в честь балетной труппы Грандопера, где сохранены — и бережно оберегаются — устои балетного миропорядка; это коллективный портрет труппы, школы, вековечного ремесла и, если можно сказать, портрет стиля. Еще раз повторим: балетный миропорядок, художественная суть «Хрустального дворца», это не совсем то, что величие мироздания, философская суть танцсим-фонии Лопухова; баланчинский балет умещал целый мир во дворце, лопуховский балет устремлял себя в космос, в одном случае — трезвое сознание художника-практика,
199
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
в другом — фантастическое сознание художника-утописта, в одном случае — по-французски выраженная мысль, в другом — по-русски.
Но вернемся во Францию. Неподражаемый стиль французского классического танца зафиксирован уже в первых тактах первой части «Хрустального дворца»: тут и краткость, и стремительность, и сдержанная страсть, тут и резкость выпадов и решительность разрывов. Хореография строится на простейших движениях на полу, полуоборотах, возвратных движениях и смене работающих рук — всё четко, предельно точно, никакой неопределённости, никакого импрессионизма, лишь обнажённая механика танца, как у Лопухова в 20-х годах, даже с печатью гимнастики, утренних «зарядовых» упражнений, что напоминает первую сцену «Болта» (Баланчину не знакомую), но при этом очевидная артистичность, артистичность абсолютная, артистичность середины века, а это означает, что женское очарование не скрыто, как это было в тех же 20-х годах, но и не подаётся на драгоценном блюде, как это было у Петипа, или на серебряном подносе, как это было в спектаклях Серебряного века. На сцене другое: восхитительные музы-труженицы Баланчина, уверенные в себе профессионалки.
А ведь это только вступление, только развёрнутое антре, а дальше адажио, гениальная вторая часть, вот где импрессионизм, вот где скрытая полётность французской школы. А дальше — увлекательная третья часть, вариации премьеров, и феерическая кода, в которой встречаются все части, все ансамбли, все пластические мотивы — в различнейших, всевозможных комбинациях, в полифонической разработке и в унисон, в грандиозном хореографической tutti, да так, что в этом стремительном броуновом движении (или «вечном движении», как обозначается в партитуре послед
200
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
няя часть) порядок не нарушается, строй не исчезает, поток не вредит гармонии, гармония рождается из потока; вот где Баланчин — подлинный «бог хореографии», подобный Ве-стрису и Нижинскому, названным «богами танца».
И вот оно, подлинное моцартианство Баланчина, чудесное явление моцартианства в кровавом XX веке. Но значит ли это, что Баланчин и Лопухов — новоявленные Моцарт и Сальери? Конечно же, нет, хотя Баланчин всю жизнь был импровизатором, соблюдая при этом все жесткие условия, предлагаемые музыкой, а Лопухов всю жизнь и в теории, и на практике, и в книгах, и на репетициях стремился разъять алгеброй гармонию и понять, как сделан танец. Какая-то доля сурового сальеризма была присуща и ему, но ведь и какая-то доля веселого, даже радостного моцартианства. По-видимому, этим отличались и «Болт», и «Светлый ручей», и даже «Танцсимфония», со всем её умозрительным величием мироздания, но так же и вполне реальным величием замысла, величием хореографической идеи. Мы смогли в этом убедиться, когда «Танцсимфония» была реставрирована (в той или иной степени достоверно) и представлена на суд зрителя сразу в двух вариантах (реставраторы — Н. Воскресенская и Н. Долгушин). Мы смогли оценить и ясный общий план, и сверкнувшие тут и там остроумнейшие пластические детали. Конечно, аскеза, конечно, суровый колорит, но в целом — как ни странно — отдаленная параллель к «Свадебке» Брониславы Нижинской, поставленной в Париже три месяца спустя, и очевидное предвидение балетов-симфоний Баланчина, сбывшееся достаточно скоро.
Баланчин этого никогда не забывал. Увидев учителя за кулисами в 1962 году, во время первых гастролей, он, уже сам почти шестидесятилетний старик, стал перед Лопуховым
201
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
на колени. А задолго до того, готовя «Серенаду», свой первый американский и первый бессюжетный балет, он вывел в первой части 17 участниц — ровно столько, сколько пришло на урок (так сам Баланчин объяснял эту странную цифру), но и столько, сколько — вместе с ним — участвовало в «Танцсимфонии», и что тоже, по-видимому, Баланчиным не было забыто.
Но лопуховский «Болт» бесследно исчез, как бесследно исчезли «Светлый ручей» и «Щелкунчик», а восстановленная недавно «Танцсимфония» — все-таки новодел, и единственное, что дошло до нас в подлинном виде из наследства Лопухова — вариация феи Сирени из Пролога «Спящей красавицы» Петипа, сочинённая в 1914 году по просьбе балерины Любови Егоровой для ее выступления в красносельском спектакле. Вариация стоит того, чтобы о ней отдельно сказать, стоит она и отдельного балета. Есть, конечно, некоторая ирония в том, что из всего творчества автора «Болта», посадившего женский танец на шпагат, история сохранила лишь вариацию феи Сирени — главной феи императорского балета. Но, с другой стороны, это же справедливо дарованный венок лучшему знатоку творчества Петипа, а самое главное — именно здесь, в этой уникальной вариации, неразрывно слились обе модели классического балета, с которыми работал Лопухов-новатор и Лопухов-реставратор. Вариацию он ставил и в классическом стиле Петипа, и в своём конструктивистском (тогда ещё только складывавшемся) стиле. Противоречия не возникло: Петипа для Лопухова — первый отечественный конструктивист, конструктивист «большого стиля». Он так и рассматривает композиции Петипа, прежде всего его «Тени». Хотя самого слова «конструктивизм» там нет, но и метод анализа, и предмет анализа — высокие
202
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
образцы конструктивистских решений. И вот что о вариации феи Сирени пишет сам Лопухов: «...ее вариацию я создавал на основе позднейших вариаций Авроры, которые в свою очередь Петипа строил на темах даров фей в прологе, в чем имеется большой смысл. Я сочинил вариацию феи Сирени, выражающую расцвет весны, и полностью сохранил принцип эффасе. Там лишь, словно предупреждение Авроре, словно предвидение действий феи Карабосс, два раза возникают туры ан дедан, но всё же с руками, свободными наверху, и с концовкой — позой, развёрнутой на эффасе. Все движения раскрыты, все широки: там алезгон, там экарте. Вариация феи Сирени предопределяет освобождение, которое подготавлевается для маленькой Авроры подарками фей и которое защищает фея Сирени».
Этот короткий абзац многих вдохновил на диссертации, равно как и на балеты. Ведь еще 30 лет назад мысли Лопухова явились откровениями для балетмейстеров и балетоведов. Тогда почти никто не умел видеть в балетной классике того, что в ней видел Лопухов, и не умел ее рассматривать одновременно и с формальной, и с сюжетной точки зрения, и как поэтическую метафору, и как сборную конструкцию, и как действие, и как танец.
ВАГАНОВА СЕГОДНЯ
Прошел очередной конкурс «Ваганова-prix», регулярно проводимый в Петербурге смотр хореографических училищ. Конкурс этот гораздо скромнее, чем Московский международный, но и честнее: первую премию завоевала Полина Семионова, утонченная и честолюбивая девочка из
203
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Москвы, что нам, москвичам, было особенно приятно. Но дело не в интригах или призах, а в атмосфере (одновременно парадной и уютной, поскольку второй и третий туры проводились в небольшом Эрмитажном театре, где в начале XX века ставил свои последние одноактные балеты Мариус Петипа) и в таком существенном обстоятельстве, как возраст участников и самих членов жюри. В Москве молодых судят старые дамы и господа, застрявшие в прошлом, подчас далеком, а петербургские судьи во главе с Натальей Макаровой — это все действующие персонажи, педагоги, постановщики, худруки, директора, и все они достаточно ясно представляют себе, как должен выглядеть современный артист, как должна танцевать современная балерина.
Потому этот конкурс и носит имя Вагановой. Мало кто в прошлом веке так остро чувствовал движение времени, так ясно осознавал ту власть, которую имеет над вековечной традицией актуальное искусство. Странно сказать — в сфере академического классического танца она была аван-гардисткой. Это не всегда учитывают оппоненты Вагановой, об этом не всегда догадываются ее последователи-педагоги. Система Вагановой умерла — утверждают одни, система Вагановой незыблема — отвечают другие. Не хочется вступать в этот спор, очень похожий на полемику о «системе» Станиславского и ее нынешней роли в драматическом театре. Гораздо интереснее обратиться к эпопее Вагановой непредвзято. И сразу обнаруживаешь интригующую особенность ее педагогической судьбы, которую историки балета, как и биографы, должным образом не оценили. Речь идет о вагановском пути, о Вагановой в начале и в конце ее педагогической карьеры. Или, проще сказать, речь идет о ее ученицах, вовсе не представляющих собой полного единства. Между ними прошел не сразу заметный водораздел: одни
204
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
родились до Октябрьской революции (или в ее годы), другие — при Советской власти. Два поколения, два историкопсихологических типа. И, соответственно, два образа, два мира, две легенды. В 20—30-х годах «буря и натиск», поколение Семеновой, Дудинской, Иордан, Шелест; в 40—50-х годах гармония и классичность, поколение Колпаковой. Первых отличает энергия, фантазия и внутренняя свобода, вторых — ясность, профессиональный долг и внутренняя дисциплина. Первые стремятся к художественным подвигам, вторые — к художественной чистоте. И более того, духовная основа первых — почти открытое богоборчество, духовная основа вторых — скрытая религиозность. Все принадлежат к одной школе, все говорят на одном языке, но ощущают некоторую, иногда полнейшую психологическую несовместимость. Многолетний и вырвавшийся наружу конфликт Дудинской и Колпаковой вполне объясним и совсем не банален. И где-то в стороне случай Улановой, одинокой во все времена, всем чужой, но всеми обожествленной. И что удивительно: природная пластичность позволяла Вагановой двигаться в том направлении, на которое указывала жизнь, а природная широта позволяла включать в сферу педагогического внимания и тех, кто находился вне общего типа. И каждая ученица получала то, что должна была получить, и каждую Ваганова умела направить по единственно верному пути, а для начала — на выпускном спектакле — «подать»: так это называется на закулисном языке, том самом грубоватом языке, на котором формулируют неотменяемые законы музыкального театра.
Из чего вовсе не следует, что Ваганова каким-то образом приспособлялась к эпохе. Вот уж нет, вот уж кто был скалой, кто в главном был непреклонен. Константные основы вагановской системы запечатлены, и запечатлены не только
205
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
в словах, на страницах вагановского учебника, и в статьях ее учениц, но и в самой судьбе Мариинского театра, В историческом плане, увиденное издалека, само явление Вагановой — это ответ Мариинского театра на дягилевский Русский балет, на двадцатилетнюю антрепризу. В свое время, а именно в 1909 году, Дягилев сам бросил вызов Мариинке, посчитав и публично обозначив ее как цитадель рутины, как хранилище старого хлама. Невольно или намеренно он увез из России почти всё лучшее, чем располагал петербургский балет, всё то, что музицировало, рисовало, пело и прежде всего — танцевало. Фокин, Павлова, Нижинский, Карсавина, всех не перечислишь, да и не к чему, список приглашенных давно и хорошо известен. Даже Кшесинская попала туда, великолепная великосветская Матильда, находившаяся на самом правом фланге художественного мира тех лет, совсем далеко от дягилевских, тогда еще мир-искуснических, интересов. Даже москвички Вера Каралли и Софья Федорова, при всем предубежденном отношении петербуржцев к москвичам, к московскому балету. Короче говоря, все, с двумя лишь исключениями: Юлия Седова (на три решающих года оторвавшаяся от Мариинки ради своих собственных американских гастролей) и Агриппина Ваганова, «царица вариаций». Все знают, что так назвал ее Волынский, страстный поклонник, так стали ее называть балетоманы, и уже потому Дягилев вместе с Фокиным ненавидевший театр вариаций и сторонившийся театра цариц, должен был пренебречь услугами балерины, которая — как он, по-видимому, считал, олицетворяла собой вчерашний день, что, конечно, было ошибкой. Извинительной, но все же ошибкой. Единственной грубой ошибкой Дягилева за всю жизнь. В оправдание Дягилева можно напомнить о провале Вагановой в балете «Жизель», — уникальный слу
206
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
чай в анналах Мариинского театра, когда провал стал событием, громким, запомнившимся, почти легендарным (запомнилась даже дата: 30 октября 1916 года). Надо было обладать сильной индивидуальностью, чтобы вызвать подобный шок (на третьем году войны!), к которому тогда зрители Мариинки не были готовы.
Может быть, вагановская «Жизель» тоже задумывалась как ответ Дягилеву, но об этом нам уже не узнать, а пока попытаемся понять, какой балериной была Ваганова в свои лучшие годы. Наиболее полно ее путь прослежен В. М. Красовской, тоже ведь знаменитой вагановской ученицей. Вагановой посвящена специальная монография и глава исторического исследования о танцовщицах начала XX века. Дана общая картина, определен тип («академизм»), приведены наиболее яркие высказывания коллег и критиков, прежде всего Волынского и Левинсона. И самая краткая, но, может быть, самая емкая формула, принадлежащая танцовщице Мариинского театра Н.Л. Лисовской: «...она сообщала танцу почти мужскую энергию и волю». Сказано верно и точно, но сказано всё-таки не всё. А что не сказано в тексте книги Красовской, досказано иллюстрациями на развороте, где помещены две фотографии в рост, фактически два фотопортрета. Слева Ваганова в роли Уличной танцовщицы из балета «Дон Кихот», справа Ваганова в роли Одетты, фотографии примечательны — и в своем внешнем различии, и в своем внутреннем сходстве. Сходство в стилистике: ничего от Серебряного века. Никакой тонкости, изысканности, тем паче — манерности; никакой ауры, никаких следов декадентства. Есть, наоборот, демонстративное отстранение от всех чар и соблазнов эпохи и стиля модерн, демонстративный поворот к какому-то новому искусству. Какому же? Трудно
207
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
сказать. Но приглядимся внимательнее: первое впечатление от правой фотографии (Одетта) можно определить словами Мариуса Петипа из его дневниковых записей от 5 сентября 1904 года («Г-жа Ваганова ужасна») и от 27 февраля 1905 года (опять-таки, «г-жа Ваганова ужасна»). Действительно, к привычному образу Лебедя вагановская поза прямого отношения не имеет. Да и к непривычному — тоже. Хотя от нее нелегко оторваться, она живет, и особенно выразительны — пусть и не по-лебединому — руки. Впечатление таково, что Ваганова—Одетта ворожит ими над головой наподобие Нижинского в балете Фокина «Призрак розы» (у Фокина, кстати сказать, Ваганова танцевала — на Мариинской сцене, в «Шопениане» и «Карнавале»). Зато фотография Уличной танцовщицы бьет наповал. Суровость портрета поражает воображение: таких суровых гитан мы не видели даже среди профессиональных танцовщиц фламенко. Это Сурбаран, а не Головин; это Гойя, а не Горский. Маха Вагановой, стоящая вполоборота в окружении кинжалов, воткнутых в стол, смотрит на зрителей с вызовом и превосходством. Вызов улицы дворцу, вызов хорошему тону, балетным снам и балетному этикету. А если приглядеться еще внимательнее, то понимаешь, что перед нами не просто балетный персонаж, а персонаж историко-культурный: портрет независимой женщины XX века. Той женщины, которая захотела овладеть мужским ремеслом и стала великим скульптором, кинорежиссером, авиапилотом или политическим комиссаром. Лицо вагановской Уличной танцовщицы отдаленно напоминает лицо Алисы Коонен, Лени Рифеншталь и сразу многих «железных леди» прошедшего столетия. В таком ассоциативном ряду и следует искать исчезнувший образ Вагановой-балерины. Это тот круг, к которому принадле
208
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
жала она, честолюбивая дочь рано умершего камердинера Мариинского театра.
Но вернемся к правой фотографии, фотопортрету вагановской Одетты. Он не так плох, как кажется, совсем не так нескладен. А его стилистика — стилистика 20-х годов, а не 10-х. Не видение поэта, не ускользающий от воплощения миф, но модель конструктора, четко членящаяся на составляющие элементы. Вот руки и пор де бра, вот голова в фас, склоненная вправо, вот выпрямленный корпус, основа основ, тот корпус, который будет положен в основу системы и которым — как фирменным знаком — будут отличаться повадки вагановских учениц; прямой корпус, вне всякой логики прямой, прямой вопреки накрененному верху, не создающий единой линии, так называемой романтической линии, которой поражают позы Спесивцевой, как и позы Тальони. Это, конечно, не тальонизм, это конструктивизм — в своем зарождении, в своих осторожных эскизах. И это аналитическая система творчества, аналитическая манера танцевать, столь отличная от интуитивно-цельного искусства той же Спесивцевой и легендарных балерин, начинавших вместе с Вагановой на сцене Мариинского театра. Поэтому в рецензиях критиков, Волынского прежде всего, так ярко и так последовательно описаны все стадии и все элементы вагановского танца: «Сложные узоры плывут вереницами, четкие до мельчайших штрихов. Виден каждый полушаг <..> каждому полету у нее всегда предшествует пружинистое и плавное plie. И в этом отношении Ваганова идёт впереди лучших из современных танцовщиц». Иначе говоря, каждая фаза прыжка, каждый фрагмент танца четко обозначены, отделены и законченны. А чтобы танец существовал как танец, этому и служили темперамент, порыв,
14 — 940
209
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
«энергия и воля», о чем вспоминала товарка Вагановой Лисовская, бывшая мариинская балерина.
Этот аналитический подход, может быть и мешавший ее карьере танцовщицы, помог — да еще как! — карьере педагога. И был положен в основу курса, из которого возникла — с помощью Любови Дмитриевны Блок — знаменитая книга. И все-таки в излишнем рационализме школу Вагановой обвинить нельзя. Рациональными методами искались — и находились — пути к виртуозности и сверхвиртуозности, и традиционной и сверхсовременной. Олицетворяющей «доблесть», если вспомнить старинный смысл слова «виртуозность», а если использовать актуальный словарь, то надо говорить о «динамике» или «динамизме». Доблесть и динамизм — основные характеристики нового виртуозного стиля, рождавшегося в классе Вагановой в 20—30-х годах, иными словами — техническое бесстрашие и высочайшие темпы. И самое главное: то, что одухотворяло виртуозность, то, что и придавало ей современный смысл, — обостренное и драматичное чувство жизни. К подобной цели стремился молодой Фокин, Фокин «Половецких плясок», «Шехеразады» и «Египетских ночей», но искал ее за пределами аполлонического балета; к этой же цели, поставленной еще Ницше, стремились молодые французские авангардисты, близкие к Арто и Барро, но искали ее за границей классического конвенционального театра. Ваганова восприняла этот призыв, как он был воспринят людьми ее поколения, но пошла своим путем, разжигая дионисов огонь в холодных и кристально чистых формах конвенционального классического танца.
Поэтому ей не далась «Жизель». Романтическая мифология была вообще не близка ее искусству. Мирта, повелительница вилис, еще куда ни шло, но не вилиса-Жизель, не призрак Жизели. Ничего призрачного искусство Вагановой
210
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
не несло и, более того, являло собой сопротивление призрачности, некую осязаемую, хотя и художественно претворенную реальность. Инстинктивно Ваганова утверждала тему, оказавшуюся в 20—30-х годах едва ли не важнейшей. Обреченность на призрачное существование становилась судьбой множества людей, особенно в Ленинграде. Это же чуть ли не стало судьбой классического балета. Не признать себя тенью, считать и себя действующим лицом — внутренняя установка времени, спасительный императив, возникший в страшные годы.
Ситуация, в которой пришлось жить и работать Вагановой, не потеряла своей остроты и сегодня. И уже потому её школа жива. Умертвить ее могут лишь недалекие последователи и недальновидные педагоги.
КАТАСТРОФЫ В БОЛЬШОМ
Семенова и Ермолаев появились в Большом театре почти одновременно, в 1930 году, и их появление ошеломило. Ошеломило зрителей, ошеломило критиков, ошеломило саму труппу. Подобного уровня технической виртуозности московский балет не достигал, даже не предполагал возможным. Новая хореография и не нуждалась в виртуозах, не делала виртуозность чем-то необходимым. А для старой хореографии хватало того, что могла предложить знаменитая «четверка» (Анастасия Абрамова, Любовь Банк, Валентина Кудрявцева, Нина Подгорецкая) и что демонстрировал самый яркий артист труппы — Асаф Мессерер. Произошло тем не менее то, что никак не должно было произойти: «четверка», олицетворявшая новизну, да и сама новая
14*
211
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
хореография разом оказались в прошлом, были отодвинуты куда-то назад, во вчерашний день, а приезжие виртуозы, танцуя старый репертуар, и явили собой очевидный прорыв в современное, а может быть — и в будущее искусство.
Поражала не количественная сторона — не число пируэтов и не высота прыжков, хотя и тут молодые премьеры намного превзошли все принятые стандарты, поражало нечто другое, что не сразу было понято и почти не было объяснено, для чего нужных слов не находилось. В классическом танце, вроде бы исхоженном вдоль и поперек, Семенова и Ермолаев открывали новое измерение, внося в танец небывалую внутреннюю интенсивность. О, это не было танцем стрекоз или даже танцем Голубой птицы. Высшая легкость, обязательное качество танцовщиков и балерин, дополнялась высшим напряжением, качеством нежелательным и до того в классическом балете невозможным. Но именно так Семенова танцевала белотюниковую «Жизель», и так Ермолаев — еще в 40-е годы — танцевал уже упомянутую Голубую птицу. В высоком прыжке он чуть ли не ложился на спину прямо-таки плашмя, — ревнивый Мессерер писал в своих воспоминаниях, что у Ермолаева была такая спина, которая многое позволяла. Спина спиной, возможно это и так, анатомия играет в балете первостепенную роль, но помимо анатомии здесь был экстатический огонь, вынуждавший творить чудеса, здесь был могучий духовный порыв, который воодушевлял обоих гениальных виртуозов, который и делал их виртуозность столь одухотворенной.
В широком плане это сближало искусство Семеновой и Ермолаева с экспрессионизмом, который ураганом пронесся по европейским столицам после первой мировой войны, сметая на своем пути остатки довоенного стиля модерн и разрушая сохранившиеся очаги классического балета.
212
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
И если в Петрограде классический балет устоял, то не в последнюю очередь благодаря экспрессионистской прививке, но главным образом потому, что стремление к запредельному (отличавшее, вместе с многим другим, послевоенное искусство) было соединено с замечательным — радостным у Семеновой, жадным у Ермолаева — чувством жизни.
В искусствоведческих терминах следует сказать, что искусство Семеновой и Ермолаева, как и вообще новое искусство 20-х годов, было решительно антиимпрессионистично. И ему была чужда бестелесность 10-х годов, бестелесность Павловой, даже ее испанских героинь, бестелесность Нижинского, даже Нижинского-фавна. Оно было демонстративно телесным. Сам облик артистов конструировал рисунок и пластику танцевальных фигур: Семенова на сцене напоминала слепки античных богинь, а Ермолаев был похож на молодого атлета. Семенова танцевала в образе женщины, Ермолаев — в образе мужчины. Всегда женщина — даже если это Белый лебедь, всегда мужчина — даже если это Бог ветра Вайю. Мифологические фабулы балетов-легенд наполнялись человеческими и даже сверхчеловеческими страстями. Телесное начало не было угнетено, а было опоэтизировано и воспето. Воплощалась одна из великих идей, возникших еще в начале столетия, — идея совершенной личности, совершенного человека. Она лишь соединилась с идеей совершенного танца. Поразительно, что это пришло уже после войны, в разоренной России. Какие-то глубинные витальные силы, какие-то скрытые резервы энергии, не истощившиеся за много лет, какая-то неуничтожимая основа человеческого бытия — всё это дало себя знать, вырвалось на поверхность. Поэтому таким грандиозным был успех молодых мастеров. В их искусстве сама жизнь брала реванш над смертью.
213
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Период «бури и натиска» длился не более десяти лет, но это и в самом деле выглядело, как буря и как натиск. «Людская повседневность прорывается бурей» — многократно цитировавшиеся слова Стефана Цвейга, увидевшего молодую Семенову в «Баядерке». Я мальчиком видел этот балет и на всю жизнь запомнил, как в «танце со змеей» Семенова—Никия из позы на полу взмывала ввысь в каком-то усилии, непостижимом и невозможном. По-видимому, вот что поразило Стефана Цвейга. Но те же его слова можно было произнести и об акте Одиллии в «Лебедином озере»: бурное появление, натиск в каждом движении, особенно в кульминации, в двух кругах туров en toumant, в рассекающих пространство жестах. Но здесь, в сцене бала, в отличие от трагедийной «Баядерки», Семенова действительно танцевала бал, самый фантастический из всех, которые ей пришлось и которые она любила танцевать, полный и дьявольски инфернального, и чисто женского веселья.
Договаривая все до конца, можно сказать, что Семенова вносила в чинный княжеский дом веселый дух катастроф, впервые выполнив тайную волю Мариуса Петипа, впервые обнаружив мятежный смысл лирической сказки. В 1926 году, когда восемнадцатилетней девушкой она показала свое «Лебединое озеро» в первый раз, такая трактовка должна была выглядеть актуальной. Удивляло лишь ослепительное мастерство, с которым Семенова танцевала. Но главным событием стал «лебединый» акт, образ Одетты, необычный по скульптурной отчетливости и внутренней силе. Интуиция восемнадцатилетней дебютантки не обманула ее, в лирических «лебединых» сценах она прозревала нечто эпическое: судьбу прекрасной женской души, брошенной в жизнь в эпоху вселенской катастрофы. Скульптурная пластика и властное построение формы несли очевидный
214
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
смысл: игралось противостояние стихии разрушения, разбушевавшейся вокруг — в истории и на сцене.
Семенова была призвана поразить мир и сыграть важнейшую роль в истории классического балета. Для этого ей был дан несравненный дансантный дар, прекраснейший облик и непогрешимое чувство прекрасного — в движениях и позах. И с этим она прожила всю сценическую жизнь, образ избранницы входил в состав ее ролей и был запечатлен в самой ее легендарный стати. А тема избранности — может быть, главная ее тема. Поэтому, как кажется, «Спящая красавица» — самый любимый ее балет, самый праздничный, самый радостный, самый счастливый. И самый тревожный. Избранность как вечный праздник в первом акте, как испытание — во втором, вся неотвратимая логика Чайковского и Петипа была принята Семеновой, а затем и пережита, когда Большой театр вступил в полосу катастроф, уже не иносказательных, а вполне реальных. Исчезали люди, рушились семьи, атмосфера была такой, что и несчастные случаи стали неизбежны. В 1937 году Ермолаев прямо на сцене сломал ногу, и это определило его дальнейшую жизнь. В том же году был репрессирован муж Семеновой, что сразу же — и очень резко — изменило ее положение в театре. Ведущую роль стала играть Ольга Лепешинская, талантливая танцовщица жизнерадостного комсомольского типа. Что означало наступление идеологических перемен, смену художественных ориентаций и просто-напросто театральной моды.
Я начал посещать Большой театр еще школьником, в 1944 году, и сразу, в конце августа, простояв многочасовую очередь в кассу, попал на премьеру «Жизели». Спектакль возобновлял Лавровский, в главной роли выступила Уланова, но я хорошо помню отпечатанную афишу, на которой в два столбца были поименованы два состава: первый
215
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
возглавляла Уланова, народная артистка, второй — Семенова, заслуженная артистка. Спектакля с Семеновой мы так и не дождались, причина мне неизвестна, но факт был, что называется, налицо: впервые в жизни Семенова попала во второй состав, а полтора года спустя — в «Золушке» — так даже и в третий. За премьеру шла упорнейшая закулисная борьба между Улановой и Лепешинской. Чем все это кончилось, старым балетоманам есть что рассказать, да и я вспоминал об этом не однажды. Напомню еще раз: выиграла Лепешинская, у которой были гораздо более могущественные связи, к тому же она лучше подходила к той феерии, громоздкой и незамысловатой, которую поставил Ростислав Захаров. Но это оказалось пирровой победой. Появилась Семенова, которую никто не ждал, и сразу — хоть на один вечер — стало ясно, кто в доме хозяин. И кто танцует музыку Прокофьева, а не только убогий захаровский текст. В финале первого акта, в эпизоде «Мечте навстречу» Семенова в три прыжка одолевала огромное пространство из глубины сцены к рампе, прыжки и в самом деле — к свету, прыжки и в самом деле из бездны, из тьмы — произнесем два небезопасных слова. Такая отчаянная энергия заключалась в этих классических жете, такое неудержимое стремление вырваться и прорваться. Все было на кону: свобода, спасение, сама жизнь человеческая, само существование искусства балета. На три короткие мгновения в танце почти сорокалетней и много пережившей танцовщицы ожило то, чем поражала она и в шестнадцать, и в двадцать лет, в свои легендарные молодые годы. Но ведь шел 1946 год, только что кончилась война, а если вернуть время немного назад, кончилось страшное лихолетье тридцатых. Небывалым напряжением всех духовных и всех физических сил страна сумела выдержать, сумела выстоять и вырвалась «навстречу мечте», навстречу
216
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
новой, как тогда всем казалось, лучшей, страшной ценой оплаченной жизни. И всё это, буквально всё, и непосильное напряжение, и необоримая мечта, было спрессовано в трех прыжках, как бы в трех закодированных посланиях, в трех танцевальных сигналах. Классический балет в свои вдохновенные минуты способен подняться над легковесной игрой, способен стать вровень с историей, — во всяком случае, я наблюдал это несколько раз, и именно на спектаклях Марины Тимофеевны Семеновой в последние военные и первые послевоенные годы. Тогда она танцевала «Лебединое озеро», «Спящую красавицу» и «Раймонду», и все три спектакля складывались в хореографический эпос, не имевший в то время аналогов в отечественном театре.
Тогда же, в 1944 году, я впервые увидел Ермолаева и затем, несколько сезонов подряд, мог наблюдать его на сцене. После падения и страшной травмы он редко позволял себе рисковать, набор уникальных прыжков сократился, хотя время от времени врожденная одержимость танцем брала верх, как и непомерное честолюбие и готовность всегда танцевать на опасной грани. Тем не менее уже и годы брали свое, и первый танцовщик, меняя амплуа, постепенно переходил на положение первого мимиста труппы. Тут он тоже не уступал первенства никому, поражая яркостью, экспрессией и особой, никогда более не встречавшейся мне артистической злостью. Видно было, что в груди его все кипело. Не мог он смириться с несправедливостью судьбы, не мог и принять очевидных перемен в жизни На место революционного театра, высокие иллюзии которого он разделял, пришел театр новоимперский, по-новому мещанский и, даже странно сказать, отчасти версальский, в котором он, в прошлом санкюлот, якобинец, бунтарь даже лиговский бузотер, чувствовал себя чужим и ненужным Его одиночество
217
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
усугублялось тем, что экспрессивный стиль — стиль 20-х годов — тоже стал вытесняться более нейтральным и более благопристойным стилем. Конечно, он не сдавался, не подчинялся ни новой моде, ни новому хорошему тону, ни новым правилам игры, сыграл-станцевал своего злобного Тибальда, ненавидевшего всех, а больше всего — аристократов и слишком уж благородных молодых людей, но по-настоящему высказался в «Раймонде», в пантомимной роли хана Абде-рахмана. Вот это была роль! — выразительная сверх всякой меры. А ведь сводилась она всего лишь к одной гримасе и к одному-единственному жесту. Но столько презрительной почтительности было написано на лице и столько властности было в жесте, что всем присутствовавшим становилось тревожно. Жест поражал шаляпинской значительностью, шаляпинской силой. Когда-то танец Ермолаева наполнялся экстазом, теперь экстатичным стал жест — выброшенная вперед рука с оттопыренной ладонью, как будто обороняющаяся от пламени, от слишком яркого света. Совершенный аналог восточного стиха, обращенного к женщине, стиха восхищенного и высокомерного в одно и то же время. Ермолаев-поэт и Ермолаев-артист сполна выразил себя в этой неподвижной позе. Неподвижность он сумел преодолеть и здесь. Неподвижность была нестерпима ему, его душе, его невысокой, ладно скроенной фигуре
В «Раймонде» Семенова и Ермолаев в последний раз встретились на сцене в одном спектакле. Это был незабываемый дуэт, нескончаемый поединок. Смысл балета, последнего «большого балета» Мариуса Петипа, раскрылся во всей красе, как и красочность хореографических портретов. Обычно «Раймонду» трактуют прямолинейноповерхностно, а главных персонажей рисуют одной краской. Гордая графиня Раймонда верна данному слову и не
218
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
покидает территорию классического танца. Дикарь Абде-рахман со своей свитой страстных африканских танцоров совершает насилие, задуманный дерзкий захват, — все это отдаленно похоже на неовенскую оперетту. А тогда, весенними вечерами 1945 года, всё выглядело по-другому. И ермолаевский Абдерахман не был лишен каких-то своеобразных рыцарских черт, и семеновская Раймонда совсем не была холодной красавицей-недотрогой. Это же Прованс, напоминала нам она, это же замок провансальских дам, в повадках которых недоступная красота, но и опасная прелесть, а в душе — огонь и воля к власти. Большой ансамбль второго акта — па де сис — Семенова превращала не только в столкновение сильных натур, но в отчаянно смелую эротическую игру, даже в эротическую провокацию, эротический вызов. Вариацию и особенно ее последнюю часть — диагональный ход на скрещивающихся движениях упругих ног — она танцевала так, что в зрительном зале начиналась овация, а замкнутый высокомерный хан полностью терял сдержанность, власть над собой и присутствие духа. Он чуть ли не кидался на нее, тогда как она давала волю своей страстности, своей любви к риску. В финале, в венгерском гран па, высокая классика и высокое назначение вновь призывали к себе, и семеновская Раймонда вновь появлялась в образе Прекрасной дамы.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИЛЬФИДА
В 1935 году и в 1940-м спокойная жизнь Большого театра была нарушена приездом ленинградских коллег во главе с Улановой—Одеттой (в первый раз) и Улановой-
219
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Джульеттой (во второй), и оба раза это стало событием чрезвычайным. В письме к С.Л. Бертенсону (22 июля 1935 г.) Вл.И. Немирович-Данченко, страстный поклонник Марины Семеновой и просвещенный балетоман, так описал ситуацию: «Весной приезжал в Москву Ленинградский балет. Вообразите, что, несмотря на то, что Москва обладает гораздо большими средствами, несмотря на то, что Малиновская (директор Большого. — В. Г.) старалась перетянуть в Москву все лучшие силы, традиция преимущественных качеств Ленинградского балета перед Московским осталась неприкосновенной. Как и прежде, он щегольнул и отсутствием вульгарности, и вкусом, и индивидуальными силами. У нас Семенова, но там появилась звезда в самом настоящем смысле — Уланова. И несколько претенденток и претендентов на соперничество. Ваганова оказалась великолепной преподавательницей и даже постановщицей. Ленинградский балет дал в Москве 4 спектакля по сумасшедшим ценам при полных сборах и имел колоссальный успех».
Картина, нарисованная Немировичем, абсолютно точна, надо лишь уловить в словах его скрытый личный подтекст: триумф Вагановой, сменившей в Мариин-ке Лопухова, означал для него примерно то же, что и триумф Художественного театра (описанный в том же письме) и, соответственно, собственный триумф в споре с «левым» театром и Мейерхольдом. Иначе можно сказать, что Ваганова нашла ускользающую формулу современного академизма. Эта формула включала и высшую виртуозность, и высокий психологизм, что позволило по-новому танцевать классику и давало дорогу первым, по началу удачным, опытам драмбалета. И что не менее важно: обновленный академизм сплотил труппу. Откры
220
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
тая художественной новизне, открытая для Пушкина и Шекспира, она казалась совершенно недоступной для мнимохудожественного варварства, навязывавшего себя в качестве современного искусства. Открытая и закрытая система, открытый и закрытый академизм, простые и совсем не простые связи с временем, с эпохой. Больше чем когда-нибудь в своей истории, Мариинский балет представал неким замкнутым орденом, хореографическим Китежем, готовым исчезнуть раз-навсегда, но не принять власть захватчиков-чужеземцев.
Об этом рассказывал «Бахчисарайский фонтан», главный — из новых — спектакль 30-х годов.
И это же танцевала Галина Уланова, первая китежанка труппы.
В ней совмещались и нежность, и непреклонность.
Сразу же после выпускного концерта в 1930 году Ваганова начала ее продвигать, но странным образом это не улучшило их отношений: Ваганова так и не приняла Уланову в свое сердце, Уланова так и не перестала Ваганову остерегаться. Началось это еще в школе, когда от природы застенчивую Галю забрали из класса М.ф. Романовой, ее матери, добрейшей души, и перевели в класс Вагановой, женщины жесткой, волевой и деспотичной. Судя по всему, стеснительная девочка пережила шок, от последствий которого так и не смогла освободиться. И всю жизнь Уланова танцевала ситуацию, которую подстроила ей судьба: в «Бахчисарайском фонтане» Мария, вырванная из отчего дома, попадала в плен, на чужбину; такой же чужбиной — после встречи с Ромео — становился родной город и становилась родная семья; такой же чужбиной, но уже в фантастическом плане, оказывался мир вилис, и наконец, теперь уже в биографическом
221
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
плане, чужбиной оказалась Москва, куда Уланова переехала в 1944 году из так и не забытого Петербурга-Ленинграда. И главное, о чем она говорила не раз: она чувствовала себя чужой в XX веке.
Хотя женщиной из прошлого она не была, ее отличала упругая походка гимнастки, она одевалась по модам сначала 20-х, а затем — и послевоенных лет (разумеется, в строгом английском стиле), на наших глазах менялись спутники и даже мужья, свои привязанности она не афишировала, но и не скрывала — всё это так, но все это Уланова в частной жизни, до которой нам нет никакого дела. В своей же профессиональной жизни она была непоколебимой пуристкой. На сцене ее окружал неярко светившийся ореол, ореол немеркнущей чистоты, на сцене она выглядела светлым созданием, казалась танцующим светлячком, свечой — толстовской (из «Анны Карениной») или пастернаковской (из «Доктора Живаго»). Поэтому совершенно естественным казалось, что к улановским героиням тянулись все — и дикие, кровавые (как хан Гирей), и мечтательные (как Принц), и опустошенные (как граф Альберт) персонажи. Уланова олицетворяла собой спасение — в нерелигиозной стране, в безрелигиозном искусстве. То, что мельком показал Феллини в финальном эпизоде «Сладкой жизни», в образе девушки с прелестным милым утренним лицом, издалека улыбающейся усталым прожигателям жизни. У молодой Улановой было подобное же лицо, и его освещала подобная же улыбка. И ее «Лебединое озеро», как и ее «Спящая», а отчасти и ее «Жизель» становились «Сладкой жизнью» по-питерски, по-ленинградски, тем более, что ее в высшей степени утонченное искусство было лишено каких-либо аристократических претензий или же
222
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
эстетической изощренности и демонстрировало образцы чистой поэзии, естественной, как лицо без грима.
Но, в отличие от феллиниевской девушки — «девушки на том берегу», улановские героини появлялись не на один эпизод, а были в центре большого спектакля. Они сами нуждались в спасении и защите. В классических балетах Уланова выстраивала собственный сюжет, новые драмбалеты строились в большем или меньшем согласии с ее сюжетом. Отчасти романтическая, отчасти чеховская история лучезарной девушки и злой судьбы разыгрывалась отчасти в романтическом, отчасти в чеховском духе. Уланова играла трагедию без трагедийных поз и без мелодраматических красок. Она была трагической балериной совершенно нового типа — музыкального и трезвого в одно и то же время. Музыкальность входила в состав профессии и являлась традиционной чертой Мариинского стиля, а трезвость, иногда даже суховатая трезвость — была привнесена в лирику именно Улановой, это ее вклад в искусство балета. Ее открытие, не формальное, но мировоззренческое и совсем не младенческое, определявшее сразу всё — и трактовку фантастических персонажей, и сценическое поведение, и отбор актерских средств. Формальным же открытием стал знаменитый улановский полуарабеск — поза нерасцветшей души, она же поза смирения и она же поза отказа. Вся гамма неумолимых улановских страстей успокаивалась в одном пластическом жесте, полном божественной красоты и невыразимой печали. Скромные полуарабески Улановой становились самыми яркими мгновениями ее сценической жизни.
Эта жизнь началась «Шопенианой» в Мариинском театре, а кончилась тоже «Шопенианой», но уже в Большом.
223
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
В течение трех десятилетий (в 1930 году выпускной спектакль, в 1960-м — прощальный) Уланова несла в душе образ Сильфиды. Шли годы, менялись обстоятельства, менялась жизнь, менялась сама танцовщица, и редкие кинодокументы позволяют сравнить улановскую Сильфиду начала 30-х годов и улановскую Сильфиду середины 50-х: в первом случае, в Прелюде, танцует соло одинокая юная балерина, немножко суровая, немножко неловкая, обаятельно неловкая дебютантка; во втором случае, в Седьмом вальсе (вместе с В. Преображенским), повзрослевшая балерина-звезда (в старинном смысле этого слова) танцует дуэт, полный слепящей, сияющей чистоты и чуть более нервный, чем принято, чем мы привыкли. Но повторим: танцует дуэт, единственная в своем роде дуэтная танцовщица даже в таинственной «Шопениане» танцует простые человеческие отношения, танцует любовь, танцует то, что умела танцевать только она, — танцует близость. Близость мечтателей, потому что улановская Сильфида мечтательна, как и другие улановские героини. Близость поэтов, потому что улановская Сильфида поэтична. И близость обреченных, что знает только она, поэтому улановская Сильфида так нервна, так заботлива, и так задумчив ее танец.
Уланову сравнивали с Тальони, с Павловой — легендарными Сильфидами прошлого, и конечно, она в этом ряду. Так же, как и они, она не вполне принадлежала этому миру. Но, в отличие от них, этот мир для нее реально существовал. Сильфида кровавого века, она познала страх, и легендарная легкость ее движений включала в себя и то, что ей суждено было танцевать (в «Жизели», в «Ромео и Джульетте» и «Бахчисарайском фонтане»): легкость гибели, и легкость забвения, и легкость разрыва. Сама
224
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
же немногословная Уланова ни о чем не забывала. И ее Сильфида танцевала в память о тех, кто оставил после себя лишь толику молчаливой печали.
СОЛЛЕРТИНСКИЙ
Соллертинский вошел в наше сознание после знаменитого «устного рассказа» Ираклия Андронникова «В первый раз на эстраде». Все, кто знали Соллертинского, утверждали, что впечатление было пугающе достоверным, на грани необъяснимого чуда. Иллюзия была полной, зримым и осязаемым получился портрет. Мефистофельская природа дара Андронникова переносилась и на него, самого Соллертинского, на его манеру говорить — безостановочно, хотя и с одышкой, на манеру шутить и мыслить. Прямо на наших глазах рождался образ язвительного остроумца, куда-то спешащего с портфелем в руках, полным книг, читающего чуть ли не на ходу, при этом прирожденного зрителя, все замечающего вокруг себя и жадного до впечатлений, самых несуразных, самых смешных, самых скандальных.
Конечно, прежде всего — участник, строитель, деятель, боец-дуэлянт, главное действующее лицо, но в то же время и зритель, в широком тютчевском смысле («счастлив, кто посетил сей мир...»), но и в простом бытовом, как непременный посетитель всех премьер, театральных и музыкальных. Его легендарные шутки, шутки-мефисто, рождались именно тут, в партере. Один лишь пример — из многих. 1940-й год, открытие Зала имени Чайковского на Триумфальной площади в Москве, играет оркестр под
15 — 940
225
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
управлением Гаука, приятеля еще с ленинградских времен, Соллертинский, естественно, в зале. Его спрашивают: как акустика? Ответ незамедлительный: «Как гаукнется, так и откликнется». Все смеются, а понимающие — молчат. Потому что Зал имени Чайковского — музыкальный храм на крови, он построен на месте так и недостроенного театра Мейерхольда. Мейерхольд убит, тень его, как и тень непоставленного «Гамлета» (этим спектаклем Мейерхольд собирался открыть новую сцену), где-то неуспокоенная бродит. И старый мейерхольдовец Соллертинский наносит ответный удар, уже не только мефистофельский, но и гамлетовский. Ведь «Гамлет» — это тоже о нем; и опальный зритель, инсценирующий мышеловки, это тоже он; и рыцарь без страха и упрека (уже без всяких острот и шуток — добавим мы) — это тоже он в самые критические моменты своей судьбы, в самые страшные годы своей жизни. 1936 год, январь, только что опубликована в «Правде» статья «Сумбур вместо музыки» — об опере Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Все понимают, что ее продиктовал Сталин. Общее оцепенение, тем более в Ленинграде, где и начался Большой террор после убийства Кирова 1 декабря 1934 года. Разнузданная кампания против Шостаковича и формализма. В середине месяца официозная газета «Советское искусство» публикует краткую информацию из Ленинграда. В ней говорится примерно следующее (цитирую по памяти): «Ленинградское отделение Союза композиторов на своем собрании обсудило и горячо одобрило статью в «Правде». Всеобщее удивление вызвало выступление т. Соллертинского, который заявил, что не согласен с положениями статьи». Что тут можно сказать? Прямое самоубийство, прямой вызов малодушным и знак соли
226
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
дарности с Шостаковичем, к которому Соллертинский постоянно относился как старший и многоопытный брат к младшему гениальному брату.
Иван Иванович Соллертинский умер в 1944 году, во время войны, в Новосибирске. Ему было сорок два года. Объясняя причины столь преждевременной смерти, друг Соллертинского питерский музыковед М. Друскин в предисловии к сборнику статей, напечатанном в 1964 году, говорил о тяжелой болезни сердца и непосильной тяжести труда, — что, конечно, совершенно верно. За два десятилетия профессиональной работы Соллертинский — филолог, музыковед и оперный критик, балетовед и балетный критик, публикатор и публицист, академический профессор и оратор-популяризатор, около трехсот раз выступавший перед концертами в филармоническом зале (и каждое выступление — событие, под стать выступлениям легендарных гастролеров и отечественных виртуозов), за эти двадцать лет сделал бесконечно много. Совершенно непонятно, когда он все это успевал. Непонятно, прежде всего, как он, автор книг и статей, сумел претворять в слово огромный, почти беспредельный объем информации, которую он, феноменальный эрудит и полиглот, в прямом смысле поглощал, коллекционируя знания, факты и иностранные языки, как коллекционируют марки и монеты. Всё это так, но все это лишь часть горькой правды. И то, что в 1964 году не смог сказать Друскин, сказал, хотя и без слов, еще во время войны «младший брат» — Дмитрий Дмитриевич Шостакович в своем знаменитом Ивану Ивановичу посвященном Фортепьянном трио. Оно полно скорби, как мало какое другое сочинение Шостаковича тех лет. Оно полно трагизма и полно мужественной красоты. Это
15»
227
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
музыкальный памятник стойкости и мужественному человеку. Это реквием по многим надеждам и утопиям 20-х годов, похороненным уже к началу 30-х. И это музыкальное повествование об одиночестве самого публичного гражданина довоенного Ленинграда, вездесущего Ивана Ивановича, веселого и острого на язык Ваньки, которого знал и которым восхищался весь город.
Он, собственно, и сам описал свою судьбу. Не официальную — она складывалась на удивление (и в самом деле — на удивление) успешно. Стремительное восхождение по ступеням отчасти академической, отчасти административной карьеры — от лектора Филармонии до ее художественного руководителя, члена различных худсоветов, а одно время — чуть ли не комиссара музыкальных искусств, наподобие Николая Николаевича Пунина, тоже, как и Соллертинский, выходца из дворянской семьи и тоже, на короткое время, комиссара, но уже искусств изобразительных. Затем, однако, пришло другое время, пришло время других комиссаров — комиссаров государственной безопасности, с ними Пунин трижды имел роковой контакт. Соллертинский каким-то чудом уцелел, хотя комиссарский статус потерял, также как и возможность продвигать и пропагандировать новое отечественное, а тем более новое европейское искусство. Вот что надломило его, что стало причиной тяжелых внутренних переживаний. Как и сама двусмысленная позиция — официально назначенного начальника и внутреннего оппозиционера. Об этой своей внутренней жизни и связанным с ней «миллионом терзаний» он не только проговаривался в отсылках к любимому мейерхольдовскому спектаклю «Горе уму», но и почти впрямую высказался в самой своей заветной, хотя и небольшой (больших
228
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
Соллертинский не писал) книге — о Гекторе Берлиозе. Музыкальный мятежник и вольнодумец, признанный лишь немногими в Париже (но получивший полное признание в Петербурге и Москве); столкновение эпох — бурной романтической и добропорядочной буржуазной — всё это слишком хорошо знакомо Соллертинскому, вольнодумному музыковеду. Здесь та ситуация, в которую он попал, о которой поставил грибоедовский спектакль Мейерхольд и которая описана в классическом грибоедовском романе Юрия Тынянова, начинающемся хрестоматийными словами: «На очень холодной площади в декабре месяца тысяча восемьсот двадцать пятого года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось...»
Запомним это имя — Берлиоз, а пока что отметим другое. Соллертинский нес в себе некоторый, отчасти даже демонстративный архаический пафос, перекидывая мостик из XX века в XVIII, минуя XIX — особенно если это касалось балета. По своему интеллектуальному типу Соллертинский — просветитель-энциклопедист, презиравший метафизику, мистику, романтические идиллии, да и романтические установки вообще и называвший все это «вздором». И ценил он то, что ценили просветители-энциклопедисты. В оперном театре его героем был Глюк, в балетном — Новерр, и, стало быть, полноправным и полноценным оперным жанром становилась музыкальная драма, а балетным жанром — хо-реодрама, заслужившая, уже в 30-х годах, презрительную полукличку «драмбалет». Его оперный антигерой — создатель «буржуазной большой оперы» Мейербер (впрочем, получивший в специальной статье замечательно здравую и объективную оценку). А балетный антигерой —
229
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
это, естественно, Петипа, создатель «императорского большого балета». И тут, впрочем, здравый смысл восторжествовал, вульгарная социология, дань которой молодой Соллертинский щедро платил, вынуждена была отступить, и Петипа, на мизерабельном фоне хореографии 30-х годов, тоже получил заслуженную оценку. Короче говоря, и опера для певцов, и балет для балерин — это высшее зло, а истина в драматическом действии, актерах-певцах и артистах в балете. В более широком плане — и тут он и человек 20-х годов, и наследник просветителей-энциклопедистов — Соллертинский-балетовед — враг бессюжетного танца. «В данный момент, — пишет он в установочной статье 1928 года, — весь вопрос заключается именно в преодолении бессюжетного танца. Выразительный танец мыслится нами прежде всего как сюжетная пантомима...». Знаменательные слова, которые внимательно читал, а вслед за тем реализовал в своем творчестве и много раз повторял идеолог драмбалета Ростислав Захаров. Но Соллертинский, поддерживающий «Бахчисарайский фонтан», вовсе не имел в виду ни драмбалет, ни Захарова, ни даже пушкинский спектакль. Имел в виду он нечто параллельное новой опере — оперу неовенской школы. «Современный оперный театр, — читаем мы в той же статье, — пробился и к выразительной речевой интонации («Воццек»), и к урбанистическим темам наших дней, не жертвуя ни музыкальной основой, ни поющей речью. Вероятно, аналогична судьба и танцевального театра».
Вот случай романтической иронии — понятия, хорошо знакомого автору замечательной книжки об Оффенбахе. Осуществлять его программу будут драмбалетчики, а не Лопухов, которого он всю дорогу поддерживал, хотя и с существенными оговорками, а в случае со «Щелкунчиком» —
230
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
и с полным неприятием, то есть не как апологет, а как подлинный критик. Вместо жесткого урбанизма — неосентиментализм, вместо современного города — замок графов Потоцких и Бахчисарайский дворец, площадь Вероны, Версаль и Париж, вместо Воццека — санкюлоты. Впрочем, в последнем случае Соллертинский не выдержал и не промолчал. Балет «Пламя Парижа» он решительно не принял. Это, конечно, было смелым поступком. Балет о революции был обречен на успех, прошел на ура, и самими авторами, режиссером-постановщиком Радловым прежде всего, рассматривался как «краеугольный камень нашего балета», как некая бесспорная победа. Сергей Радлов даже говорил о наполеоновских победах и о тактике большевиков, которые не поддавались бойкотистским настроениям и голосовали за Государственную думу (по-видимому, в связи с отношением к классическому балету). Современного читателя подобная диковатая демагогия должна удивить, человека 30-х годов — могла напугать, но на насмешливого Соллертинского она не произвела ни малейшего впечатления. Сергея Радлова в своем выступлении (а речь идет о диспуте после премьеры) он просто-напросто растоптал. А самому балету отказал в претензии на историзм (грубые исторические ошибки) и указал на такие же грубые просчеты в драматургии. И свое выступление он закончил следующими словами, нисколько не утратившими актуальность: «Вы отрицаете его (балет. — В.Г.) целиком, — скажут мне. — Вы играете на руку консервативной части труппы. <..> Нет! Указывать на недостатки постановки — это не значит играть на руку отсталой части труппы. На мой взгляд, хуже замазывать явные, бесспорные недостатки и объявлять победой то, что, с моей точки зрения, не является таковой».
231
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Подобных выступлений было много, на доказательство очевидных истин уходила масса энергии, тратилась жизнь, но остановить Соллертинского ничто не могло, да ему и нравилось дразнить неловких демагогов. К тому же как истинный мейерхольдовец он имел основание не любить Радлова, одного из тех, кого впоследствии сам Мейерхольд, обвинив в «величайшем безвкусии», подводил под понятие «мейерхольдовщина». Но, конечно, самое интересное — не устные импровизации Соллертинского, где он чувствовал себя королем, а его напечатанные статьи, в которых он обнаруживает себя тонким и неархаичным стилистом.
Начало своей критической деятельности сам Соллертинский датирует 1924 годом, но первые его статьи о балете появились три года спустя и сразу обратили внимание балетоманов. Не заметить и не оценить их было нельзя — слишком все непохоже на тексты предшествующих корифеев. Никакой эссеистики, никакого литературного блеска, ничего общего ни с критиками-поэтами, такими как Андрей Левинсон, ни с критиками-философами, такими как Аким Волынский. Просто критик, без всякого дополнительного интеллектуального багажа; просто критика, без всякого соучастия смежных и тем более далеких жанров. Предельная краткость, предельно деловой, а временами насмешливый тон — бросающиеся в глаза черты нового стиля. Деловая критика, рождающаяся из представления об искусстве как о деле, работе, построении художественных форм; строгий формальный анализ — в духе школы А.А. Гвоздева (чьим учеников Соллертинский был), но лучше, точнее, острее, а подчас и язвительнее, чем у самого Гвоздева (который тоже писал о балете). А главное — скрытая, прямо не выявленная интенция
232
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
почти всех статей, выводящая их за рамки чисто формальной аналитики, побуждающая давать во всей полноте искомую формулу творчества — особенно если речь идет о знаменитом артисте. Два самых удачных примера — короткая статья об Айседоре Дункан, напечатанная в журнале «Жизнь искусства» в 1927 году, статья-некролог, появившаяся сразу же после известия о неожиданной смерти Айседоры; и такая же короткая статья о немецкой эстрадной танцовщице Валеске Герт, напечатанная там же два года спустя, после шумных гастролей сенсационной кабаретной дивы. Обе статьи — маленькие шедевры Соллертинского-критика, замечательные своей точностью, категоричностью и некоторой окончательностью оценок. В жанре некролога такие оценки нужны, как и некоторая прощальная интонация, тем более в случае с Айседорой и ее нелепой смертью. Ничуть не бывало — Соллертинский, отвергающий какую бы то ни было сентиментальность, верен себе, он, наоборот, позволяет себе две-три безжалостные фразы, вполне, впрочем, справедливые (о «легионах дилетанствующих пласти-чек, рабски имитировавших Дункан»), но прежде всего он беспристрастен. И эта трудно достигаемая позиция полна полемического яда. А полемика устремляется далеко за границы последних лет и обращена к апологетам и апологетике Дункан двадцатилетней давности, когда в ее танцах видели почти мистическое откровение или, подобно Волынскому (тогда еще чуждого классическому балету), некоторую совсем уже трансцендентную сущность. А Соллертинский рисует Дункан такой, какой она есть: «Танец ее был любопытным сочетанием морали и гимнастики. Своим "освобожденным" телом она владела несвободно. Движения её были монотонны и схематичны:
233
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
прыжок, коленопреклоненная поза, бег с воздетыми кверху руками. Ей были свойственны стереотипные выражения лица — наивно-удивленный взгляд, робкая стыдливость, легкий смех». Поразительно незатуманенный взгляд, поразительная точность графического портрета и емкость его: бесстрастный некролог становится некрологом ушедшей в прошлое эпохе.
А случай с Валеской Герт совершенно другой: Соллертинский приветствует приход нового искусства. Притом, что трезвый взгляд опять-таки не оставляет его: «Ее техника примитивна, нарочито упрощена; собственно говоря, это вообще не танцовщица: она подпевает, болтает, подтанцовывает, дает мимический набросок некоего образа в меру отпущенного ей не слишком большого по диапазону дарования». Что же в таком случае увлекло Соллертинского? А вот что: «...самый жанр эстрадного танца <..> намечается некий тип синтетической сценки-мимодрамы, построенной на оттанцевании современного урбанистического движения». Иными словами, Соллертинский пропагандирует жанр, не очень жалуя его носительницу, саму Валеску. И снова полемика с апологетами, среди которых через некоторое время окажется сам Сергей Эйзенштейн. В системе своих понятий и на своем искусствоведческом языке Эйзенштейн представил Валеску примерно так, как Волынский лет двадцать до того представлял Айседору. Название неоконченной теоретической работы говорит само за себя: «В мировом масштабе о Валеске Герт». Мировой масштаб получился, а понять, что же делала Валеска на сцене и как же она танцевала, нельзя. Для этого надо перечитать невосторженные, но точные строки Соллертинского в журнале «Жизнь искусства».
234
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
Но все-таки не Айседора и не Валеска были его героинями. Его сердце было отдано молодым яркоталантливым классическим балеринам вагановского гнезда: Татьяне Вечесловой, Фее Балабиной и, конечно, Галине Улановой. Об Улановой он пишет вплоть до войны, он видит в ней идеальное воплощение своих идей о танцовщике (танцовщице) — актере. Но вот незадача: именно Галя Уланова возрождает на сцене враждебный ему романтизм, и выясняется, что этот поклонник Улановой и почитатель Берлиоза — враг романтизма более всего на словах, отчасти в согласии с принятой догмой. И все время на протяжении 30-х годов упрямый Соллертинский-критик убеждал Уланову отказаться от того, что было сущностью ее, что бесконечно нравилось Соллертинскому-зрителю и, по-видимому, Соллертинскому-мужчине.
Последнее слово оказалось за ней, и встретиться с «голубкой-Джульеттой» (так назвала Уланову Анна Андреевна Ахматова) суждено было при обстоятельствах чрезвычайных. Во время войны Соллертинский, хронический сердечник, попал в эвакуацию, в Новосибирск, и сразу же занялся самым важным делом. По местному радио он читал лекции-рассказы из отечественной военной истории. Читал так, как только он один и умел, город заслушивался, и среди восхищенных слушателей оказался и секретарь обкома. Встречались в номенклатурной среде и подобные секретари, — во время войны нужны были дельные люди. Узнав о смерти Соллертинского, обкомовский секретарь объявил в городе траур, в день похорон по радио передавали Шестую симфонию Чайковского, а вечером в главном театральном зале был устроен поминальный концерт. И вот тут-то оно и произошло — то, во что поверить нельзя, но что тем не менее
235
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
случилось. Вспоминает Дина Морисовна Шварц, впоследствии — знаменитый завлит товстоноговского БДТ, а тогда — студентка-театровед ЛГИТМИКа, тоже эвакуированного из Ленинграда (рассказ напечатан в журнале «Московский наблюдатель»). Надо добавить, что дело происходило в феврале, сибирской зимой, но каким-то образом в самом начале концерта с потолка спустился голубь и сел на дирижерский пюпитр. А потом улетел. Все присутствующие были потрясены. Казалось, сама душа Ивана Ивановича отлетела. Интересно, что сказал бы он, не веривший ни в чудеса, ни в мистику и называвший все это «вздором». Наверное, в первый раз в жизни — промолчал. Но чудо случилось наяву, и так Новосибирск простился с самым обаятельным искусствоведом XX века.
МАРШРУТЫ «ЖИЗЕЛИ»
ПАРИЖСКАЯ ЖИЗЕЛЬ
Балет «Жизель» был поставлен в Париже в 1841 году, затем перенесен в Петербург, где и началась его новая жизнь. В Париже балет был довольно быстро забыт и возрожден лишь после дягилевских гастролей. После второй мировой войны началось странствие «Жизели» по всему миру. За более чем сто пятьдесят лет многое изменилось и в хореографии балета, и в его сценической судьбе, и в той роли, которую он играл в театральном репертуаре. Для конца XIX века «Жизель» — последний, а может быть, и единственный образец романтического балетного театра, осколок затонувшего материка, наглядный пример упрямого противостояния лирического и почти камерного двухактного спектакля «большим» обстановочным четырехактным. Сто лет спустя возникла другая ситуация, и «Жизель» уже как драматический сюжетный и достаточно пространный балет успешно противостоит бессюжетным и одноактным. В обоих случаях — исключение из правил, поправка к истории, счастливый анахронизм, своему времени немного чужой и своему времени совершенно необходимый.
О времени мы упомянули не случайно.
Именно в «Жизели» категория времени впервые вошла в состав сценической игры, став элементом драматургии, основанием хореографии и условием сюжета. Второй акт
237
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
весь строится на временных ограничениях — от полночи до рассвета, и на коллизии времени: замедление времени в адажио спорит с убыстрением времени в аллегро.
Замедленное время — время спасения и любви, убыстренное время — время возмездия и рока. В музыке альтового адажио и не менее выразительной музыке оркестровой коды это звучит совершенно явно. И еще более явно — в хореографии и режиссуре. Все это популярные романтические мифологемы — со всеми аксессуарами и подробностями, полночной луной и боем часов на рассвете. «Жизель» — миф о всесилии любви и миф о всесилии времени, соединившиеся на сорок пять минут, чтобы представить на сцене в акте вилис миф о всесилии танца.
Для французов парижская «Жизель» — национальная святыня, легкомысленно выброшенная из репертуара почти полтораста лет назад, а затем возвратившаяся в отчий дом и потому вдвойне дорогая. И оберегаемая тоже вдвойне — от вторжения слишком сомнительной новизны, от воздействия слишком музейного академизма. Я помню, как в самом начале спектакля Мишель Рено—Альберт при первой сцене с Жизелью—Лиан Дейде, чтобы обратить на себя внимание, дважды или трижды подталкивал ее плечом, дружелюбно и панибратски. Такого жеста не было в прошлом, его придумал сам артист и направлен он был, как можно предположить, против претенциозной манеры Лифаря, учителя Рено и первого — после возобновления — исполнителя роли Альберта. Но даже если это не так, импровизация Рено остроумна и хороша тем, что вносила необходимый контраст драматической игре артиста во втором, фантастическом акте. Но текст, хореографический текст, не искажался ни в первом акте, ни во втором и со
238
МАРШРУТЫ «ЖИЗЕЛИ»
хранился — если не в качестве подлинника, аутентичного образца (оригинал 1841 года не зафиксирован и не записан), то в своей подлинности смысловой, стилистической, историко-культурной. Возникал контраст, уже не только игровой, но дансантный и даже более общий. Контраст между тем, что радовало глаз театральным изяществом в акте пейзан, и тем, что казалось откровением в акте вилис, откровением, данным откуда-то свыше. Эффект откровения и есть главный эффект романтического балета. Секреты его знали старые мастера, теперь они потеряны, почти повсеместно. И может быть, только в Мариинском театре, когда идут «Тени» из «Баядерки» Мариуса Петипа, и в Гранд Опера, когда танцуют вилисы, нам открывается высокий смысл «белого балета» — прорыва в платоновский мир чистых сущностей и неопороченной идеальной красоты, художественного аналога откровениям мистическим и религиозным
А в более театральном смысле контрасты парижской «Жизели» — это контрасты дневного, солнечного и ночного, лунного акта. Нигде эти романтические контрасты не играют так, как здесь; и никому не дано в невесомом призрачном танце лунного акта так демонстрировать ясность художественного мышления, ясность строгой формы. Еще и сейчас, после стольких лет знакомства, академичная, но и живая манера французских артистов способна взволновать (последний пример — концертное выступление Изабель Герен в па де де последнего акта). Но тогда, в июне 1958 года, когда к нам впервые приехал театр Гранд Опера, да и за полгода до того, когда на сцене Большого театра появились Лиан Дейде и Мишель Рено, впечатление было разительным и отчасти тревожным: точно отечественная «Жизель» и парижская «Жизель» — два разных балета. Точ
239
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
но мы говорим на разных языках и живем в разное время. Удивительным образом парижская «Жизель» по сравнению с нашей казалась сразу и более старинным, и более современным спектаклем. Подчеркнутая стильность возвращала спектакль в романтическую эпоху, эпоху изысканных гравюр, в первую половину XIX века. А подчеркнутая четкость отсылала в XX век, в эпоху геометрических абстракций и линеарных форм, в эпоху неоклассицизма. Московская, но также и ленинградская традиция, подчиняясь манере Улановой, окружала танцы второго акта некоторым божественным ореолом, в котором четкий рисунок исчезал, а у улановских эпигонок — так даже смазывался, терялся. А у парижских танцовщиц искусный рисунок все время проступал, как на переводных картинках, во все моменты самого напряженного действия, самого драматического танца. Царила линия, и тоже «божественная», линия академических поз, линия утонченного силуэта.
Традиционный для французов аналитический подход (которому мы обязаны различием па, без чего не было бы ни классического танца, ни классического балета) сказался и тут, в сфере дансантной графики, и именно в том, как парижские танцовщицы трактовали (и продолжают трактовать) основную позу второго акта — позу первого арабеска. Для них, что исторически верно, тут не один первый арабеск, а два; так называемый удлиненный, allonge е, с руками, простертыми вперед и ввысь, и так называемый наклонный, penchee, с корпусом, молитвенно накрененным вниз, и с рукой, чуть ли не касающейся планшета. Подобно Спесивцевой, создавшей новейший исполнительский канон, более современные парижские этуали никогда не смешивают «удлиненный» арабеск с «наклонным». Таков замысел хореографов Коралли—Перро—Петипа, так обо
240
МАРШРУТЫ «ЖИЗЕЛИ»
значены скрытые пространственные координаты, которыми держится второй акт, и так закодирован метафорический и даже метафизический смысл акта. Иначе говоря, верх и низ; лунное небо, куда устремлен танец Жизели-тени и ее невесомый жест, могила, из которой она появляется и куда возвращается в конце акта. Колосники и пол, как сказала бы Иветт Шовире, с ее склонностью к намеренно прозаическим описаниям реальных обстоятельств балетного быта (я имею в виду книгу Шовире «Я — балерина», где она подробно описывает пол различных сценических площадок и «пыль кулис», которую дилетанты так любят воспевать и от которой так страдают профессионалы). Взлеты и падения, как выразилась бы Лиан Дейде, обладавшая феноменальным прыжком и более привычной манерой речи. Точки притяжения, как объяснил бы коллизию арабесков режиссер, притяжение могильного холма, притяжение лунного света. А зритель, непредвзятый зритель 30—50-х годов, увидел бы в ситуации летящей Жизели и лежащего Альберта совсем не только фантастический сюжет, эффектную динамическую мизансцену, но и острую хореографическую параллель к истории Франции, довоенной, военной и послевоенной, к судьбе многих французов, возвышенной у одних, а у других — низкой и жалкой.
В документальном фильме «Портрет Жизели», в котором автор, Антон Долин (последний партнер Спесивцевой), интервьюирует знаменитых балерин, происходит многозначительный обмен реплик между ним и Иветт Шовире по поводу того, как понимать заглавный образ. «Simple», простая, простодушная, наивная, — говорит Долин. «Simple, mais noble», простая, но благородная, — не соглашается с ним Шовире. И повторяет еще раз, более твердо: «Noble». Неожиданное
16 — 940
241
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
слово для характеристики пейзанки из либретто Сен-Жоржа и Теофиля Готье, но Шовире настаивает на своем, и в этом слове (отчасти — в этих двух словах) суть ее Жизели. И суть ее изощренного мастерства, и суть ее техники, великолепной техники академической танцовщицы парижской школы. А говоря вообще — суть ее стиля, ставшего достаточно скоро стилем компании, стилем балетного исполнительства Гранд Опера, стилем ее Дома. И даже обаятельный очерк лица Шовире может быть описан двумя этими словами. Лицо молодой Шовире, столь не похожее на лица голливудских богинь и столь похожее на лица довоенных актрис — киноактрисы Мишель Морган, драматической актрисы Мадлен Озерей, прекрасные, нежные, совсем не эффектные, совсем не экранные, не слишком актерские лица.
Шовире начинала в середине 30-х годов, и это время — между двух войн — наложило печать на ее личность и на ее искусство. То было время художественной свободы, немыслимой до тех пор, и время опасности, никогда не ощущавшейся так явно. В 1935 году, когда Шовире станцевала свою первую большую партию (Терпсихора в «Творениях Прометея» Сержа Лифаря), в театре Атеней Луи Жуве поставил пьесу «Троянской войны не будет», самую блестящую и самую трезвую пьесу Жана Жироду, апофеоз интеллектуальной свободы и красивое прощание с ней, прощание надолго. Пьеса кончалась знаменитыми словами: «Троянский поэт умер. Слово поэту греческому» (то есть Гомеру). Гомером захотел стать Лифарь (Прометей, Вакх, Икар, Эней, Давид торжествующий — его мифологические персонажи). Музой танца он предложил быть Шовире, и, как всегда, она уверенно справилась с этой ролью. Неоклассический утонченный силуэт, неоклассическая холодноватая пластика и выразительнейший — на грани театрального чуда — нео
242
МАРШРУТЫ «ЖИЗЕЛИ»
классический жест, неоклассическая скрытая страстность (не вакханка, о нет, но капля вакхической крови в строгих, сдержанных, несколько высокомерных телесных движениях и позах-знаках) и еще более скрытая нотка страдания — всё это сразу же сделало Шовире идеальным воплощением неоклассических (отчасти — и маньеристских) грёз Лифаря и поставило во главе труппы.
Труппа же выглядела неподобающе бесстильной и архаичной. Балерины танцевали в каких-то «Двух голубках» или «Пчелках», эпизодические выступления Спесивцевой (вплоть до 1932 года) производили огромное впечатление, но мало что меняли. Характерный штрих: легендой времени, а, стало быть, хореографической эмблемой стало пиччикато из «Сильвии» в исполнении многолетней прима-балерины Карлотты Замбелли. Не полет и не прыжок, и уж, конечно, не арабеск allongee или арабеск penchee, а чисто партерное действие, эффектная виртуозная колоратура. Виртуозные номера Шовире тоже любила танцевать, но придавая им неожиданный смысл — намеренного вызова неблагоприятной судьбе, горделивого непослушания, преодоления преград, технически труднопреодолимых. Она была идеальной исполнительницей «Классического па де де» Виктора Гзовского, празднично победоносной, немыслимо элегантной. У нее, и кажется, только у нее, этот номер выглядел не столько виртуозным, сколько стильным, — как, впрочем, и все подобные номера. В этом заключался не только художественный расчет: Шовире выступала от имени женщин ее поколения и ее круга. Утонченных женщин, на долю которых выпали неженские испытания, но которые не теряли ни женственности, ни разума, ни воли.
Но, конечно, основная жизнь Шовире протекала не на концертной эстраде, а на театральной сцене. В балетах
16*
243
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Лифаря она танцевала совсем другие па де де и совсем другие соло. Самая знаменитая ее роль — Тень в «Видениях» на музыку Core, тираническая спутница упавшего духом мужчины (авангардистская реплика к балету «Жизель»), сразу Мирта, и Жизель, и современная деловая женщина, и сюр-реалистская химера. Отдаленная предшественница деловой вамп из «Орфея» Кокто, близкого Лифарю и Шовире поэта и кинематографиста. Другая легендарная роль — в балете «Истар», роль-монолог или, точнее, роль из семи монологов (вариации на тему танца семи покрывал), посредством которых языческая богиня Истар, она же новоявленная Саломея, спускается в преисподнюю, преодолевая семь преград, уже не внешних, технических, как у Гзовского в «Классическом па де де», а внутренних, психологических, преград на пути к свободе, преград экзистенциальных.
Шовире и была балериной-экзистенциалисткой.
Что и означало высокую степень духовного напряжения ее танца, ее игры. Ощущение волнующей легкости ее танец порождал не всегда. Иногда — и всегда преднамеренно — могло возникнуть ощущение затаенного усилия, трудного решения, нелегкого шага. Это, как мы знаем, стремился подчеркивать «современный танец», modern dance, и ради того же эффекта. В каких-то невидимых точках искусство Шовире и установки modern dance пересекались. Но далеко не всегда и далеко не во всем. Modern dance в лице своих знаменитых представительниц лирикой пренебрегал, женщины modern dance скорее вакханки или валькирии, нежели вилисы. А Шовире — это лирический театр прежде всего, лирическая интонация и даже, в композициях Лифаря, лирическая античность. Именно Шовире сумела перенести на сцену лирическую атмосферу 30-х годов, атмосферу нежности и угрозы, когда незнакомые люди сближались
244
МАРШРУТЫ «ЖИЗЕЛИ»
очень легко, но когда предательство убивало. Неудивительно, что ее балетом стала «Жизель», а она — лучшей Жизелью предвоенной эпохи. Тут было все: и благородство, и простота, и с благородной простотой прозвучавшая тема рока — тема постоянная во французском кинематографе тех лет, столь значимая в музыке и хореографии романтического балета. И здесь, во втором акте, был создан образ, выходящий за сюжетные рамки балета и за исторические границы довоенных и послевоенных лет, тот обобщенный образ, который в театре поэта именовали скорбным идеалом. Шовире в «Жизели» — носительница скорбного идеала, подобно Элеоноре Дузе или Грете Гарбо, подобно моделям поздних портретов Модильяни. И всю тоску уходящей жизни, и всю печаль химерической любви Шовире представила в сюите летучих поз, и ярче всего — в изумительном наклонном арабеске, арабеске penchee, по-маньеристки изломанном, по-модильяниевски закругленном. На фотографии этот арабеск сохранен. Опавшие кисти арабеска penchee так напоминают опавшие листья из самой популярной песенки эпохи.
Впрочем, «Жизель» Шовире была сложнее. Лирический балет она наполнила не очень явственной, но столь присущей ей энергией противостояния: противостояния одинокой обманутой души массовке вилис, тиранической воле коллектива. В старинной «Жизели» стали проступать контуры пьес (уже не только Жироду или Кокто), актуальных драматических ситуаций. Ситуаций суда, ситуаций «Жаворонка» Жана Ануя. С подобной ситуацией Шовире сталкивалась и сама, причем совершенно по-разному, в обстоятельствах никак не схожих. От нее требовали отречься от Аифаря, и она вместе с ним уходила из театра. От нее требовали отречься от себя, и она уходила от Аифаря и опять-таки из театра. Но театр оставался ее домом, единственным
245
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
домом, куда она возвращалась всегда и где ее всегда ждали. В последний раз она вышла на сцену в «Раймонде» Нуреева, в нетанцевальной роли графини Дорис, хранительницы очага, хранительницы устоев, хранительницы стиля. Роль была создана для нее, а она оказалась созданной для роли. Строгая статная Мадам, властная стильная Химера. И то властное, и то химерическое, что окрашивало благородный и нежный стиль Шовире, не исчезло и в ее поздние годы.
Дейде — это прежде всего Жизель, сияющая девочка-подросток с легкой душой, по-сумасшедшему, навсегда, привязанная к своему легкомысленному взрослому другу; неповторимая парижская Жизель, не вытесненная из памяти ни Тесмар, ни Лудьер, ни Герен, никем из плеяды блестящих танцовщиц следующих призывов. Не хочется никого обижать (да они и не узнают наших оценок), но всем им, конечно, далеко до миниатюрной Лиан, словно бы рожденной для этого балета. А ведь были еще «Этюды», где она появлялась сначала в облике воздушной Сильфиды из старинных гравюр, а под конец в образе виртуозной Этуа-ли, идеальной Балерины середины XX века. А ведь был и «Хрустальный дворец», где она танцевала траурную вторую часть, адажио в черном, — совсем не так, как принято танцевать, а в высшей степени экспрессивно, прогибаясь назад почти как в «танце со змеей» из второго акта «Баядерки» (тогда этот балет был во Франции не известен). И ведь были прелестные роли в балетах и концертных номерах позднего Лифаря: Принцесса-лань («Рыцарь и девушка»), Голубая танцовщица («В музее»), Джульетта («Ромео и Джульетта», дуэт на музыку увертюры-фантазии Чайковского). И все это станцовано, сыграно, нарисовано столь же искусно, как фигурки на шпалерах Средних веков, как пастели Дега, как
246
МАРШРУТЫ «ЖИЗЕЛИ»
юморески Чайковского и как его же короткие лирические поэмы. Красочная пастель — вообще метафора танца Дейде, танца-видения, танца-штриха, танца-картинки.
И все-таки «Жизель», бескрасочный «белый балет», невесомая тальониевская пачка. Не помню, чтобы кому-нибудь она так шла, так приходилась впору. И чтобы у кого-нибудь возникал столь чистый силуэт, телесный и бестелесный в одно и то же время. Вспоминаю, как поражены были зрители-москвичи, привыкшие к Улановой—Жизели. Во втором акте это была та же Жизель, но лишь после тяжелой болезни. А тут, у Дейде, перевоплощение в другой персонаж, и тут — другой танец. Какой? Во всех темпах парящий, изысканный и очень смелый. Возможно, кому-то показалось бы трюком то, что Дейде делала в адажио, становясь в арабеск. А делала она вот что: в тот момент, когда партнер, Мишель Рено, парнер идеальный, осторожно и медленно опускал Дейде с высокой поддержки, встречным и тоже замедленным движением она поднимала неопорную работающую ногу вверх, придавая этому движению ощутимо пружинистый характер. Возникал незапланированный эффект: мы видели мучительное, но неостановимое рождение арабеска. Рождение новой позы, след вилисы. Как это у Дейде получалось — понять не могу, и знаменитые по тем временам знакомые Мариинские балерины тоже объяснить не могли, но непосредственного зрителя это завораживало, вызывало восторг и бурные аплодисменты. Любившая дансантные игры (еще раз напомним: Сильфида, Этуаль, Черная балерина, Голубая танцовщица, Принцесса-лань, Джульетта), Дейде и здесь нашла острый ход, пастельный штрих, выразительную подробность. Почти наглядным становилось таинственное движение из-под могильной плиты, потусторонняя грация и неземное упорство приз
247
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
рака Жизели. Отсюда, из этого простертого пружинистого арабеска, вырывалась на простор фантастическая элевация Дейде, вся затаенная энергия ее танца.
По своему амплуа Лиан Дейде — мнимая инженю, самое тонкое, самое остроумное амплуа парижской сцены. Это следовало из всего: стройной миниатюрной фигурки, полудетского личика и огромных сияющих глаз, а также из нескрывавшейся любви к куклам. Дейде часто снималась в своей роскошной квартире в окружении множества кукол в человеческий рост: слоники, ослики, зайчики, песики, целое плюшевое стадо.
И на сцене Дейде демонстрировала милое дансантное лукавство, острый дансантный ритм, дух захватывающую дансантную отвагу. Иными словами: большой стиль, образцовую (по нормам тех лет) технику, триумфальное возвращение на подмостки Гранд Опера чистейшей виртуозности, виртуозности по-французски, неотделимой от театра и от игры, обаятельно-артистичной. МИофьев, написавший о гастролях Парижской Оперы выдающуюся статью (напечатанную в журнале «Театр» в 1958 году), назвал виртуозность Дейде «улыбающейся», имея в виду, по-видимому, не только сияющую и совсем не балетную улыбку, с какой она выполняла сложнейшие па, но и общий дух ее танца. Сходным образом, хотя и не столь остроумно, высказывались о Дейде парижские критики, благоволившие к ней, — остальные на первых порах молчали. И все же это не вся правда о ней, о ее безмятежном и радостном искусстве. Концовки своих вариаций она проводила в бешеном темпе и, что называется, закусив удила: с упрямым выражением на неулыбающемся лице, посылая себя по кругу или вдоль диагонали резкими ударами руки, останавливаясь как вкопанная в идеальной классной позе. Тут все было замеча
248
МАРШРУТЫ «ЖИЗЕЛИ»
тельно и внезапно: внезапное превращение мягкой, податливой и длинноватой, как у Тальони, руки в руку-хлыст, внезапная неумолимо-решительная остановка. На наших глазах происходило то, что случается в спектаклях на темы итальянской комедии dell’arte: обнажение лица, снятие маски. Парижская куколка-Коломбина вырывалась из театра улыбок, из плена пленительной неполноты и устремлялась к желанной, даже выстраданной полноте жизни. И сама же обрывала свой опьяняющий порыв, свой бег за подлинным — или призрачным? — счастьем. Многое соединялось: и сказочные иллюзии Дейде, и жесткий расчет с ними. Виртуозная вариация становилась формулой жизненных перипетий балерины Дейде, как, впрочем, и Жизели, ее главной героини.
Профессиональная судьба Дейде и впрямь казалась сказочной, — во всяком случае, поначалу. В 13 лет принята в кордебалет, три года спустя — первая танцовщица, еще год спустя — этуаль, самая юная этуаль труппы. Все ступени карьеры, по которым парижские балерины взбираются постепенно, упорно и долго, а нередко — с немалым трудом, она пролетела весело, как весенняя птичка, на одном дыхании, с дразнящей легкостью, вообще отличавшей и ее стремительные прыжки, и ее головокружительные туры. Потом этот путь, путь артистического взлета, она сама показала в балете «Этюды», которым открывались в Москве гастроли 1958 года, гастроли, ставшие легендарными.
Однако вскоре после этих гастролей Дейде пришлось уйти из Гранд Опера, а еще некоторое время спустя она сама поставила точку на всей карьере. След ее затерялся, о ней перестали вспоминать, а если и вспоминали, то со странным недоброжелательством, заставлявшим подозревать у просвещенных парижских коллег глубоко запрятанный шовинизм (по отцу Дейде — мавританка, по матери —
249
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
англичанка, и ее огромные фаюмские глаза и чуть великоватый семитский носик, по-видимому, раздражали). От Майи Михайловны Плисецкой (ставившей Дейде выше всех современных балерин) я узнал, что Лиан намеренно порвала с балетом, также как с балетными сказочками о сумасшедшей привязанности, привязанности навек, обзавелась семьею, благоустроенным бытом, стала матерью двух детей и сильно располнела. Рассуждать на эту тему не подобает, нельзя; скажем лишь, что природа взяла свое и что тело восторжествовало в изнурительной борьбе с талантом. Ведь именно талант вынуждал Дейде выглядеть бестелесной сильфидой, вести призрачную жизнь и даже питаться (об этом она рассказала в Москве) одними бифштексами без гарнира. А тема таланта становилась в ее спектаклях едва ли не основной. Таланта сверкающего, убиваемого, умеющего и не умеющего постоять за себя — такой талантливой Жизели я больше не видел. И было понятно, почему восхищенные поселяне награждали её венком и почему её уводили от призывов подлинной жизни неумолимые вилисы. И наконец, почему Дейде постаралась забыть ревнивый балетный Париж.
Но в Москве ее не забыли.
Еще и сейчас балетоманы 50-х, давно переставшие ходить в Большой театр, встречаясь друг с другом, вспоминают, как Дейде танцевала «Жизель» или «Хрустальный дворец», или «Этюды». Думаю, не ошибусь, если скажу, что и для Дейде приезд в Москву (а затем и в Ленинград) стал высшей точкой в карьере. И потому что это была Москва, и потому что огромная сцена Большого театра, так часто пугающая гастролеров-мужчин, оказалась по мерке ее полетам и прыжкам, ее несравненной дансантности, ее сказочному дару.
250
МАРШРУТЫ «ЖИЗЕЛИ»
Почти одновременно в Москве гастролировал парижский театр «Старой голубятни» с пьесой Ануя «Жаворонок», о котором мы уже вспоминали. Но здесь вспомним о ней в другой связи — не в связи с темами отречения и суда, а в связи с образом полета. То было время взлета французского театра, длившегося всего несколько лет и прямо выраженного в метафорах лучших спектаклей. Взлет и падение играла в «Жаворонке» Сюзанн Флон, взлет и падение, а затем снова взлет играла Дейде в «Жизели». Мадемуазель Дейде и была жаворонком парижской балетной сцены. Высоко взлетевшим, чтобы пропеть утреннюю весеннюю песнь, а потом камнем упасть на землю.
МИЛАНСКАЯ ЖИЗЕЛЬ
Карла Фраччи — безусловно, самая замечательная Сильфида второй половины XX века и, конечно же, замечательная Жизель — родилась в 1936 году, училась в школе Миланского театра Ла Скала, там же начинала танцевать и оттуда уехала, чтобы испытать судьбу и попытаться завоевать балетные столицы мира. Послевоенный Милан к их числу уже не принадлежал (разумеется, не Милан оперный, но Милан балетный). Не то что в середине позапрошлого XIX века, когла в Ла Скала работал Карло Блазис, великий теоретик и педагог, и не то что в конце XIX века, когда балетная школа Ла Скала, ведомая ученицей Блазиса легендарной Катериной Беретта, поставляла на всю Европу виртуозок-балерин, таких как Карлотта Брианца, первая Аврора в «Спящей красавице» Мариуса Петипа, или Пьерина Леньяни, первая Одетта-Одиллия и первая Раймонда. В годы юности Фраччи
251
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
балетный Милан стал городом провинциальным. И молодая Карла попала в ряд честолюбивых провинциалок, полных неутраченных иллюзий и нерастраченных сил, демонстрировавших невиданное мастерство и еще более невероятное упорство, добивавшихся — а иногда и нет — сказочных результатов. Священный огонь, горевший в груди Карлы Фрач-чи, порыв, который нес ее навстречу неотвратимой, неясной и манящей судьбе, можно назвать «комплексом Нины Заречной», психологическим «комплексом Чайки». Соратники Фраччи, по-видимому, понимали это очень хорошо, и в 1968 году она станцевала в балете «Чайка», поставленном в передвижной труппе молодым балетмейстером ЛТаем и молодым режессером БМенигатта. Это был первый чеховский балет в истории балетного театра. Но если чеховская Нина бежала из уездной дворянской среды, а попала в среду купеческую и захолустно-городскую, то Карла, постранствовав сначала по Италии, а потом и по Европе, получила ангажемент в Нью-Йорке, в АБТ (Американском театре балета), где впервые появилась в 1967 году и провела несколько достославных сезонов.
В отличие от баланчинского Нью-Йорк сити балле, АБТ был театром по-преимуществу актерским, рассчитанным главным образом на традиционный репертуар, а по стилю — достаточно эклектичным. АБТ совмещал под одной крышей стилистическую невнятицу американских аборигенов и законченное искусство представителей классических европейских школ — петербургской (Михаил Барышников), парижской (Ноэла Понтуа) и датской (Эрик Брун, ставший идеальным партнером Фраччи в «Жизели»). Столь же чистый стиль демонстрировала и сама Фраччи, хотя этот стиль лишь с оговорками можно назвать миланским или итальянским. Стиль Фраччи — нео-
252
МАРШРУТЫ «ЖИЗЕЛИ»
тальонизм, воздушный сильфидный танец, что, конечно, не может не удивить, поскольку именно миланские виртуозки конца позапрошлого века вытеснили с подмостков запоздалых тальонисток Парижа, Петербурга и Москвы, продемонстрировав и новую, немыслимую прежде технику — технику партерных вращений прежде всего, и новые невиданные темпы. Они были футуристками неведомо для себя, футуристками, когда это слово еще не было произнесено (автор его, Маринетти, еще ходил в начальную школу). Но именно они, как и будущие итальянские футуристы, восславили технику и воспели скорость. По сравнению с ними Карла Фраччи — пассеистка, поклонница старины, танцовщица a grand ballon — так в XIX веке называли воздушных балерин, в отличие от земных, тер-а-терных. В старинных балетах она демонстрирует такие почти утраченные (а в некоторых глазах и скомпрометированные) добродетели, как изящество, женственность, абсолютно тальониевскую легкость. И то, что сразу обращает внимание на себя, — очень высокие и тоже абсолютно тальониевские пуанты. А ведь Фраччи совсем не похожа на тростинку. Ее вполне земной, отчасти даже крестьянский силуэт напоминает силуэт Ольги Хохловой, первой жены Пикассо, дягилевской балерины. И на земле, а в профессиональном смысле — на полу сцены она чувствует себя хорошо. Итальянская школа дала ей легендарный стальной носок, — в этом смысле она типичная итальянская виртуозка. На своих острых, но не гнущихся и совсем не хрупких пуантах Фраччи легко вертит двойные и тройные пируэты, усложняя их непринужденным выходом на аттитюд и даже, как она это делает во вставной вариации первого акта «Жизели», продлевая движение еще на один полукруг, еще на одну замысловатую
253
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
кривую. Ее скользящий по воздуху стальной носок почти задевает пол, но снова взлетает вверх, — так самолеты выходят из пике, так летают над морем, задевая и не задевая волну, чайки. Бывает, однако, что в эти мгновения — мгновения чистого пируэта — ненапряженный и плавный танец Карлы Фраччи озаряет какая-то вспышка, мы видим ту молнию, которую сто лет назад наблюдательный балетоман К. Скальковский увидел в танцах Пьерины Ле-ньяни. Молнию, рождающуюся из ослепительно быстрого поворота. Но пируэт кончается в идеальной четвертой позиции, на сцене снова Сильфида, в движениях ее нет усилия, а есть покой и невинное наслаждение, и на лице — приветливая улыбка.
Как же смотрелось подобное искусство в Нью-Йорке в 1967 году? Историческим анахронизмом? Может быть, и так. Но более всего — историческим вызовом Баланчину и его школе.
1967 год — год торжества баланчинского предприятия и баланчинских идей, золотое время в жизни самого Баланчина и в судьбе его театра. В том знаменательном 1967 году был поставлен трехчастный балет «Драгоценности» на музыку трех композиторов — Форе, Стравинского и Чайковского, сверкающе красивый балет, и в самом деле драгоценность в ряду других баланчинских шедевров. Был снят запрет на старинное уподобление балерин драгоценным камням, что было бы вряд ли возможно для Баланчина прошлых героических лет, Баланчина нетрадиционных метафор, Баланчина высокого аскетического стиля. И тем не менее Баланчин вовсе не изменил ни своим пристрастиям, ни себе, ни созданной в его школе исполнительской манере. Законченную хореографическую форму метафора драгоценностей получила у Петипа, в квартете фей из последне
254
МАРШРУТЫ «ЖИЗЕЛИ»
го акта «Спящей красавицы» (в закулисном просторечии называемом просто «камни»). Можно вообще утверждать, что из этой виртуозной композиции, как из зерна, выросло все многообразное творчество Баланчина, а образ ограненного камня (увлекший и Прокофьева и положенный в основу музыки «Каменного цветка») стал стилистической формулой Баланчина, формулой танцевания в середине XX века. У Петипа все было не так однозначно, стилистическая формула Петипа включала и камни и цветы; фея Сирени руководила действием, а феи драгоценностей появлялись лишь в последнем акте, но их появление становилось еще одним из пророчеств, какими наполнен этот вещий балет. Фея Сирени являлась откуда-то из прошлого, из «Зефира и Флоры», из эпохи Дидло, а феи драгоценностей — из будущего, из эпохи Прокофьева и Баланчина; она должна была наступить, эта эпоха, что и случилось.
Применительно к хореографии и собственно исполнительскому ремеслу усеченная формула Баланчина означала преднамеренную деконструкцию гармонической системы, сложившейся в прошлом веке. Неразрывное единство бессознательного вдохновения и осознанного мастерства несколько нарушалось, холодный блеск мастерства стал доминирующей чертой баланчинской школы. Чистому вдохновению Баланчин не слишком доверял — так же, как Мейерхольд, и так же, как Чайковский. Но что такое блеск мастерства по Баланчину? Владение формой и абсолютное владение собой, подчеркнутая выявленность структуры, отчетливая пластическая светотень, искусно играющие перебои и переливы ритма. Сильфидный танец совершенно иной: структура не выявлена, светотень неотчетлива, техническое мастерство, притом высшее техническое мастерство, скрыто. Всеми способами создается
255
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
образ вдохновенного творца и лишь вдохновением рожденного искусства. Во втором акте «Сильфиды» по сцене стелется туман, и танец Сильфиды, виртуозно построенный, в довершение ко всем сложным прыжковым па должен создавать иллюзию дымки, эффект исчезающей формы. Можно назвать этот эффект романтическим sfumato, и такое sfumato обволакивает сценический облик сильфидных балерин, в немалой степени и облик Карлы Фраччи. Итальянка, соотечественница Леонардо да Винчи, впервые открывшего sfumato, Карла Фраччи должна была впитать культуру sfumato не только на уроках классического танца.
Естественно, что тальонизм и посттальонизм исключали какое бы то ни было уподобление драгоценным камням, что и было остроумно продемонстрировано уже в первом акте «Жизели». В предпоследнем эпизоде прозревшая Жизель срывает с себя только что подаренное ей ожерелье — ожерелье из драгоценных камней, — бросает его в сторону, подальше от себя, и этот жест, отчаянный жест обманутой любви, содержит не только прямой сюжетный смысл, но и непрямой, метафорический, романтическая танцовщица отказывается быть драгоценностью, отказывается сверкать. Вариация была сверкающей (и можно лишь вообразить, в каком сверкающем стиле ее танцевала первая Жизель — соотечественница Фраччи легендарная Карлотта Гризи). Но время беззаботных вариаций безвозвратно прошло — балерина становилась воздушной и отрешенной вилисой.
Ясный балет «Жизель» вообще полон скрытых мотивов. Рассказанный нами — один из них, и этот мотив присутствует в интерпретации Карлы Фраччи. Как и другие великие интерпретаторы, она и противопоставляет, и осторожно сближает первый и второй акты, жанровый и белотюни-ковый балет, Жизель — крестьянскую девушку и Жизель —
256
МАРШРУТЫ «ЖИЗЕЛИ
романтическую вилису. Есть в ее жестах острое соединение натуральности и странной игры, естественности и красоты, беспечности и печали. Это очень чеховское исполнение, если чеховскую стилистику понимать так, как это делал Джорджо Стреллер, когда ставил «Вишневый сад» в миланском Пикколо-театре, то есть недалеко от театра Ла Скала. Очень чеховское и очень глубокое. Танцевальная партия Жизели не случайно начинается колеблющейся — точно на ветру комбинацией ballotte — ballotte, в которой Аким Волынский напрасно видел лишь прелестное женское кокетство. Здесь тоже одна из лшогозначных метафор балета, ключ к постижению его тайн — его поэтики, его стиля, его смысла. «Жизель» — балет, колеблющийся между драмой и легендой, явью и вещим сном, прекрасной и страшной сказкой. Сама же Жизель — девушка на ветру, не чувствующая почвы под собой, уносимая чужой злой волей. В вариации второго акта, в серии фантастических по своей стремительной легкости, но каких-то ужаснувшихся антраша-катр, Фраччи танцует именно эту ситуацию, эту судьбу, — редкий и поучительный случай адекватного постижения хореографического текста. Танцует так, что становится очевидно, какую роль играет в «Жизели» воздух. Метафизика воздуха — открытие петербургских балерин, одно из самых значимых открытий нашего века. Но у Спесивцевой воздух «Жизели» был отравленным, злополучным, болотным. А у Фраччи воздух «Жизели» чист, как на склонах альпийских гор, хорошо ей знакомых. Именно в воздухе, в воздушных полетах и прыжках к ней возвращается утраченная воля и отнятое право любить, именно там, на высоких поддержках, ей открывается простор творчества, восторг арабеска. Тема Нины Заречной возникает и здесь: «восторг» — это ведь слово из ее заключительного монолога.
17 — 940
257
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
И наконец, сцена сумасшествия — высшее актерское достижение Карлы, равное ее достижениями танцевальным. Кажется, что уже упомянутый Стреллер режиссировал ее игру и все достижения итальянского неореализма (как и постнеореализма) служили для нее ориентиром. Здесь уже не только Чехов, но и Шекспир, безумие и прозрение в одно и то же время, рваный ритм, смерть в душе и точнейшая слепота в жестах. В кульминационный момент Жизель— Фраччи ломается прямо-таки пополам, тяжело падает камнем. Этот совершенно шекспировский ход не только уместен, но и необходим в лирической «Жизели». Поэты-романтики разрушали нежную ткань своих невесомых белотюниковых балетов жестоким поворотом действия совершенно в духе шекспировских драм: Сильфида слепла, Жизель сходила с ума. Этого требовал художественный контраст, возведенный романтиками в закон искусства. Того же требовал и открытый ими неумолимый закон жизни
МОСКОВСКАЯ ЖИЗЕЛЬ
История «Жизели» в Большом театре достаточно запутанна и сложна. Впервые балет был показан 25 ноября 1843 года, два с половиной года спустя после премьеры «Жизели» в Париже и год спустя после того, как ее увидел Петербург. В Петербурге «Жизель» поставил балетмейстер Антуан Ти-тюс, практиковавший переносы в российскую столицу парижских новинок, а в Москве — петербургский артист, но вовсе не балетмейстер Дидье, сподвижник и помощник Ти-тюса. Москва, таким образом, увидела копию копии, впрочем, как можно предположить, не слишком далеко ушед
258
МАРШРУТЫ «ЖИЗЕЛИ»
шую от оригинала: Титюс творческим талантом не обладал, а Дидье — и вовсе. Затем, однако, московская «Жизель» претерпевала ряд метаморфоз, то уходя в сторону от канонической редакции Петипа 1884 года, то к ней возвращаясь. В середине 30-х годов «Жизель» возобновил Александр Михайлович Монахов, яркий характерный танцовщик и педагог, но неяркий балетмейстер. Петербуржец по крови, москвич по судьбе, Монахов стремился сблизить две родственные, но не идентичные школы. Работа над «Жизелью» и должна была увенчать его труды, но, судя по всему, большого успеха не имела. «Жизель» выпала из репертуара на несколько лет, пока в 1944 году за дело не взялся Лавровский. Его редакция долгие годы с полным основанием считалась образцовой.
Итак, «Жизель» по Лавровскому — блестящему знатоку классики и убежденному приверженцу драмбалета. Нередко это создавало внутренний конфликт, но на этот раз все противоречия преодолены, бережно сохранен хореографический текст, добавлены немногие, но удачные мизансцены, устранено все то, что казалось мистикой, поддержано все то, что можно посчитать реализмом. В итоге так называемый поэтический реализм, стиль лучших постановок 30-х годов и прежде всего стиль довоенных улановских сценических портретов. В рамках этого стиля Галина Уланова танцевала «Жизель», танцевала в заочном споре с Ольгой Спесивцевой (в 1944 году уже как год находившейся в клинике под Нью-Йорком). Тогда мы, москвичи, не понимали всего смысла этого противостояния, да и не подозревали об этом споре. Мало кто знал и само полуисчезнувшее эмигрантское имя. Между тем Спесивцева, предельно углубив психологию заглавного персонажа и предельно расширив ассоциативный ряд, впервые попыталась уловить скрытую, до конца не объясняемую сюжетом связь между двумя
17*
259
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
актами, впервые задумалась о том, кто такая Жизель и кто такие вилисы. Ход мысли ее нигде не зафиксирован, но есть кинозапись всех эпизодов первого акта, и эти фантастические кадры позволяют предположить, что спесивцевская Жизель — вдохновенная визионерка и что весь акт вилис возник из ее бреда. Решение вполне в духе 20-х годов и чуть ли не прямо рождающееся из петроградской атмосферы тех лет, атмосферы неопределенного ужаса и пугающих ожиданий. Гениальная догадка Спесивцевой придавала абсолютную ирреальность и ее первому, и ее второму акту, но самой балерине стоила душевного здоровья. Художественные галлюцинации превратились в галлюцинации на самом деле. За Спесивцевой никто не последовал: парижские балерины, для которых она была божеством, недосягаемым профессиональным идеалом, переняли тончайший эфирный рисунок ее поз, но поостереглись проникнуться ее духом. Идти до конца никто не захотел. Не захотели этого и в оставленном Спесивцевой (в 1924 году) Ленинграде.
С 1932 года «Жизель» танцевала Уланова, очень быстро, хотя и не сразу, добившись желанного результата Готовила Уланову Агриппина Яковлевна Ваганова, обладавшая острым чувством современности, и желанная цель заключалась в том, чтобы ввести роль Жизели в современный художественный контекст, не повредив ее поэтическому смыслу. Это был поэтический театр, но на рациональных основаниях тех лет, на основе танцевальной логики и актерской техники, исключавшей экзальтацию и визионерство. Партия освобождалась от налета старинности, от стилизации под эпоху гравюр и от всей той патины, которая наложилась на текст за долгие годы. Не было легендарных спесивцевских поз, не было спе-сивцевской черно-белой светотени. Повышенно экспрессивную черно-белую светотень сменила высветленная уланов
260
МАРШРУТЫ «ЖИЗЕЛИ»
ская акварель, гениально-ущербную психологию вытеснила психология более упрощенная, но не менее тонкая и совсем не больная, и на место сверхъестественной Жизели пришла Жизель естественная, отдаленно напоминавшая портрет ленинградки 30-х годов, скромной возвышенной души, не тронутой столичным цинизмом провинциалки. И весь ассоциативный ряд будет тоже поставлен в связь с духом времени, хотя и осторожно. Уланова, как и Спесивцева, соединит жанровый акт и акт вилис, но соединит их неожиданно и, в сущности, очень просто. Паника Жизели и ее смерть мотивировались тем, что она перестает видеть в подругах подруг и видит в них сплоченную враждебную силу. Вот почему она с таким ужасом отшатывалась от них, а себя ощущала едва ли не прокаженной. Во втором акте толпа враждебных подруг преобразуется в кордебалет вилис во главе с Миртой. Все это, конечно, воображаемый ход, но для 30-х годов вполне реальный. Надо знать атмосферу тех лет, когда от невиновного человека могли разом отвернуться все, и самые близкие, и самые дорогие; надо все это помнить, чтобы понять, какую ассоциацию в улановском спектакле вызывал акт вилис да и сами вилисы. И чтобы оценить ту стойкость, какую в этом акте продемонстрировала худенькая и даже сутуловатая героиня. Такой ее и увидела Москва в конце августа 1944 года.
Общее впечатление было поразительным и ни с чем не сравнимым. Большой театр в те годы утверждал специфический большой стиль, громогласный, порой громоподобный. Тихая «Жизель» казалась посланницей из другого мира. Тем более, что Галина Сергеевна, выступая в балетном спектакле, где все обходятся без слов, умела создать эффект молчаливости по сравнению с другими, тоже ведь бессловесными артистами. Театр Улановой был театром молчания, но в этом мол
261
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
чании заключалась великая моральная сила. Как будто бы молча улановская Жизель встречала раскаявшегося Альберта, как будто бы молча прощалась с ним, как будто бы молча выбегала навстречу неумолимым вилисам. Ни балерина Уланова, ни мы, зрители-москвичи, ничего не знали о том, что в 30-х годах в театральном Париже получило большой резонанс движение против вербального, то есть словесного, театра. Лидерами были Арто, Барро, Декру, создатель современной пантомимы. Пантомима была создана, а невербальный театр остался неосуществимым проектом. А в это же время в «Жизеле» в Ленинграде, а потом и Москве мы могли наблюдать образцы невербального театра и в полной мере ощутить таинственную власть искусства, устранившего стенания и крик, сведенного к неуловимому жесту.
Таким был улановский второй акт. Первый же она строила на остром жанровом контрасте. Открытием было уже то, что весь акт — до сцены сумасшествия — Уланова проводила как утонченная комедийная актриса. Это, между прочим, предусмотрено текстом, текстом Коралли—Перро, и первая исполнительница «Жизели» Карлотта Гризи, по-видимому, так и выстроила роль, но на спектаклях Спесивцевой никто не улыбался, было не до того, а на спектаклях Улановой зрители сразу же начинали улыбаться. Потому что с первых же сцен простодушная улановская Жизель старательно демонстрировала, что знает, как благовоспитанная барышня должна вести себя с настойчивым кавалером. Набор весьма бесхитростных приемов шел в ход, но тут же природная непосредственность, любовь к танцам и влюбленность в Альберта брали верх, и весь выученный назубок ритуал примерного поведения забывался. Это было и трогательно, и смешно, но зрители улыбались ещё и потому, что видели божественную улыбку самого улановско
262
МАРШРУТЫ «ЖИЗЕЛИ»
го лица, утреннюю улыбку только что проснувшегося полу-ребёнка. Из этой улыбки рождались обе вариации первого акта, рождалась и главная лирическая тема спектакля — тема доверия, доверия абсолютного, нескрытого и нескрываемого, просвечивающего во всём, и в том, как Жизель брала под руку Альберта, и в том, как искала его взглядом. Это была картина такого безграничного — опасно безграничного — доверия, которое обмануть не позволяется, великий грех, и которое было обмануто бессердечно.
Не случайно, конечно, ту же тему обманутого доверия играли в Москве в поставленных ранее шекспировских спектаклях — Александр Остужев в «Отелло», Соломон Ми-хоэлс в «Короле Лире». И в Малом театре, и в ГОСЕТе (Государственном еврейском) звучал вопль обманутого поколения, может быть самого доверчивого в новейшей истории страны, но наиболее захватывающим оказался безмолвный монолог Улановой—Жизели, недаром так восхищавший красноречивого Михоэлса, оратора и актера.
Этот финал первого акта был, конечно же, еще одним открытием балерины. Его можно назвать коротко, как и всю улановскую роль: смерть улыбки. Описать же его невозможно. Напомню лишь, что в сцене сумасшествия (обычно столь хаотичной у неумелых актрис) в полной мере показала себя виртуозно-расчетливая актерская техника Улановой-балерины, мастерство укороченного беглого жеста, мастерство бега вообще, бега поврежденной памяти, бега полусломленного тела. Бег, как мы знаем после «Ромео и Джульетты», — улановская судьба, краткая, как приговор, улановская эпопея. В «Жизели» он шел по кругу и был, как и ее жестикуляция, обозначен пунктирно.
И наконец, второй акт: полагаю, что никто так этот акт не танцевал, ни до Улановой, ни после. Предельная нежность,
263
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
предельная безыскусственность, предельная безысходность. И если в первом акте Жизель показывала, как должна вести себя девушка с кавалером, в которого по уши влюблена, то во втором Жизель уже ничего не показывала, а просто вела себя как женщина любящая, но нелюбимая, утратившая доверие раз навсегда, без колебаний принимающая свой жребий. Мольбы Альберта, как и повеления вилис оставляют ее непреклонной. Прощение, утешение, забота — все это наполняет роль до краев, но возврата к прошлому нет, как нет возврата к умершей улыбке. Этот совершенно неожиданный поворот темы любви включался Улановой в более широкий и еще более драматичный сюжет — танцевалось прощание, прощание навек, без всяких шансов увидеться снова. Душераздирающий диалог балерина проводила по-улановски сдержанно, по-улановски бесслезно. Тем более сдержанно, чем более безутешным был партнер, чем более он был сентиментален. Первый московский партнер Улановой сентиментальным не был.
Первое время в паре с Улановой выступал Алексей Ермолаев, но этот альянс просуществовал недолго. Уланову, как можно предположить, не устраивала, а может быть, и пугала агрессивная манера Ермолаева (из которой впоследствии возник и его ярчайший хан Абдерахман в «Раймонде», и менее знаменитый концертный номер, который так и назывался: «Агрессор»). В дальнейшем Уланова танцевала с Михаилом Габовичем и Юрием Ждановым, а жаль, потому что и как танцовщик, и как артист, и просто как личность Ермолаев намного превосходил всех мужчин Большого театра. Агрессивная же повадка и техника большого прыжка искупались искуснейшей техникой мелких движений, которую после него демонстрировал в «Жизели» лишь Барышников и которую умели преподать только на
264
МАРШРУТЫ «ЖИЗЕЛИ»
улице Росси. Зато жест — широкий и страстный, был чисто московский, и чисто московской по смелости была трактовка роли. Ермолаев сближал Альберта с моцартовским Дон Жуаном, первая сцена уподоблялась оперной сцене с крестьянкой Церлиной, становилась прямым аналогом знаменитых слов: «Дай руку мне, красотка!» Однако во втором акте происходил перелом, напрашивающаяся аналогия сменялась другой, менее очевидной, моцартовский Дон Жуан превращался в пушкинского Гуана, впервые познавшего любовь, и даже в блоковского Дон Жуана, впервые познавшего страх, услышавшего шаги Командора. Ермолаев был начитанным, образованным человеком, и пушкинская маленькая трагедия, как и блоковские строки, должны были его увлечь, а кроме того, он жил в реальном мире. Может быть, слишком реальном для Улановой, которая, как могла, отстранялась от реальности и даже не до конца чувствовала себя горожанкой. Летние месяцы до войны она проводила на озере Селигер, и эта бытовая подробность вошла в состав улановской легенды. Девушка с озера и столичный гость — ее почти постоянная ситуация, не только в «Лебедином». Но здесь, в «Жизели» пара Уланова—Ермолаев создавала в старом балете совсем новую коллизию — коллизию, как мы говорим теперь, ценностных установок. Художественное мышление Улановой, повторим это, — довольно сложное, даже парадоксальное, но и органичное для 30-х годов переплетение чистейшего романтизма и вполне рациональных норм раннего драмбалета. И наоборот, Ермолаевым владел и даже гнал по сцене необъяснимый иррациональный порыв, притом, что он был очень умен, и его художественное мировоззрение можно определить (не вкладывая в эти слова осуждающего оттенка), как высокий ренессансный цинизм, так ярко выразившийся в роли Тибальда. Иными словами —
265
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
антиромантическое представление о творчестве и о любви, лишенное присутствия какого бы то ни было божественного начала. Понятно, как важно было ермолаевскому Альберту подчинить своей воле улановскую Жизель, унизить ее божественный дух, преобразовать театр поэта в театр приема. Ермолаев начинал в Ленинграде, постулаты ленинградской формальной школы прямо или косвенно вошли в его плоть и кровь, и лишь в своей московской жизни он постепенно начал от них освобождаться. В спектакле с Улановой его герой, да и он сам, сталкивался с некой высшей силой — в облике слабенького, сутуловатого существа, и это приводило к трагедии, к краху. Все это напоминает «Бахчисарайский фонтан», в котором Ермолаеву предлагали роль Хана. Он наотрез отказался, из-за нетанцевальности роли. Насмешливые слова его известны: «Не персонаж, а — кафтан».
Уход Ермолаева из «Жизели» разрушил драматичный дуэт: сменившие Ермолаева артисты были корректными партнерами, без своей темы. Вскоре, однако, драматичный диалог вновь стал смысловым и художественным центром спектакля. Но это был другой диалог: диалог Жизели и Мирты. И заиграл он тогда, когда в «Жизели» появилась Майя Плисецкая, легендарная Мирта XX века.
И это действительно так: образ старшей вилисы, ставший театральной легендой. Мирту танцуют обычно неплохо, иногда даже очень хорошо, на премьере 1944 года очень хорошо танцевала Людмила Черкасова, обладавшая завидным прыжком, а с некоторых пор Мирту очень хорошо танцует Мария Александрова, талантливая молодая балерина. Но чтобы войти в историю и чтобы стать в «Жизели» чуть ли не главным действующим лицом, — такое случилось, по-видимому, лишь однажды. Историки вспоминают имя первой Мирты, парижской этуали Адель Дюмилатр, и неспро
266
МАРШРУТЫ «ЖИЗЕЛИ»
ста: на гравюрах она предельно выразительна по понятиям 1841 года, предельно экспрессивна. Старые питерские балетоманы еще помнят в этой роли Ольгу Мунгалову и Аллу Шелест. Другие имена забыты. А образ Мирты—Плисецкой живет, как будто она танцевала недавно, если не вчера, — так запечатлелась в памяти ее замораживающая холодность (и это у Майи, с ее огненным темпераментом), её сверхъестественно чеканная пластика, её сверхъестественные полеты. Эстетика сверхъестественного вернулась в спектакль, в споре с эстетикой естественности улановской Жизели. Это был спор человечнейшей мечты о милосердии и сверхчеловеческой мечты о возмездии, даже мести. Мирта — первая из мстительниц, которых Плисецкая танцевала со сдержанной яростью и некоторым торжеством, после нее была великолепная мстительница Одиллия в «Лебедином». А Жизель — первая из улановских заступниц. В чисто дансантном плане это был диалог двух различных прыжков и двух арабесков, первого и второго. Высоченный прыжок медноволосой Мирты — прыжок-властелин, повелевающий всем пространством сцены. Стелющийся прыжок русоволосой Жизели — прыжок-изгой, торопящийся покинуть сцену. Великолепный, развернутый во всю ширь первый арабеск (графическая формула образа вилисы) Плисецкая сделала еще и графической формулой беспощадной красоты и положила в основание роли. И наоборот, Уланова сумела сделать заметным малозаметный проходящий второй арабеск, асимметричный, совсем не эффектный, и превратила его в метафору отделенности, упорной обособленности в стае немилосердных вилис, упорной защиты своего облика, своей верности и своей веры.
После ухода Улановой из «Жизели» произошел естественный исполнительский спад. В балете выступали подражательницы, а затем и подражательницы подражательниц,
267
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
новых идей не возникало. А тут еще приезд балета Гранд Опера, блистательной труппы во главе с Иветт Шовире и Лиан Дейде, ошеломивших своим искусством именно в «Жизели». Ответить на вызов парижских этуалей было почти некому — это стало понятно и зрителям, и профессионалам. И так продолжалось достаточно долго, более четырех лет, пока в «Жизели» в 1963 году не выступила молодая Наталия Бессмертнова в паре с Михаилом Лавровским.
Инициатива принадлежала Леониду Михайловичу Лавровскому, также как и основная репетиционная работа. Это был один из самых смелых поступков мэтра за всю жизнь — рисковал он и своей репутацией, и репутацией совсем неопытных артистов, а репутация в те годы стоила еще очень много. Один из самых смелых поступков, но и один из самых мудрых. Ведь речь шла не о том, чтобы «дать дорогу молодым», — этот лозунг всегда был в чести, больше, конечно, на словах, чем на деле. Речь шла о том, чтобы дать дорогу новому поколению и, более того, пойти ему навстречу. В последние годы жизни Лавровский уже не упорствовал в защите драмбалет-ных идей, полностью скомпрометированных и не дававших прежних успешных результатов. Немного растерянным, но все еще зорким взглядом он стал приглядываться к тому, что происходило вокруг, поставил «Классическую симфонию» в манере Баланчина, с которым еще недавно запальчиво спорил при встрече в Нью-Йорке в 1959 году, категорически не принимая баланчинскую модель бессюжетного балета. Острый интерес вызывала у него и молодежь, стремившаяся к большой хореографии и презиравшая драмбалет, — плеяда молодых танцовщиков и балерин, появившихся как раз в это время в Большом и Мариинке, тем более, что и собственный сын принадлежал к этой плеяде. А это и в самом деле была
268
МАРШРУТЫ «ЖИЗЕЛИ»
плеяда, действительно «новая волна», непривычной естественностью сценического поведения отдаленно напоминавшая «новую волну» парижских кинематографистов. Не потому ли именно парижским зрителям таким близким показалось и буквально по сердцу пришлось искусство Максимовой, Бессмертновой, Макаровой, Колпаковой и их столь же талантливых партнеров? Все они были яркими индивидуальностями, почти все нарушали сложившийся школьный стереотип, и тут стоит вспомнить название одного из лучших фильмов «новой волны» — «Жить своей жизнью» Годара. Да, именно так: не «делать жизнь с кого-нибудь», а быть собой и только собой, ценить свой выбор, отстаивать свой путь, не растворяясь в толпе, массовке, кордебалете. Удивительным образом эта установка совпала с романтическими заповедями второго акта «Жизели». Но они и были романтически настроенными молодыми людьми, мы видели в них художников, и не ошибались. Мы приветствовали возвращение к утонченной эстетике, а не только к виртуозности как таковой, — и это можно было увидеть на сцене. Молодая Бессмертнова поражала. Прелестным обликом, сильфидным, византийским, отчасти ориентальным, живой прелестью танца, душевных движений, силуэта, но и чем-то другим, не сразу понятным Если тени балетного прошлого тревожат и посещают нас (а это популярный балетный мотив), то именно это и происходило в «Жизели». Призрак Спесивцевой возвращался в балет, призрак убитой гениальности являлся на огромную сцену московского Большого театра. Поразительным было и то, что Ольга Александровна в это время еще жила (на ферме Александры Толстой, недалеко от Нью-Йорка), и то, что Наталия Игоревна нисколько ей не подражала. Она вообще никогда и никому не подражала. «Жила своей жизнью» и точно так же жила в спектаклях. Каждый жест, каждый шаг, каждый прожитый миг казался спонтан
269
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
ным, рожденным здесь и сейчас, — и не только тогда, когда Жизель срывает с себя и бросает в сторону ожерелье. А ведь это и есть романтический балет в его подлинном существе, в его глубокой основе. Стилистическое оформление иногда лишь формально, а спонтанность есть дар небес, воспетый романтиками, и подделать его невозможно.
Скажем проще, двумя словами: душевное волнение. Душевное волнение балерины Бессмертновой, танцующей великий балет, душевное волнение девочки Жизели, переживающей великую утрату. Состояние артистки и состояние персонажа сливались воедино, и возникал тот эффект, эффект полного погружения в роль, которого добивался от актеров Константин Сергеевич Станиславский.
Все было ясно без слов, и всем было ясно, что все не совсем так просто. Несмотря на очевидную неопытность балерины, зрители 1963 года сразу поняли, что произошло что-то чрезвычайное. То, что попадает в разряд легенд и чему опыт нередко только мешает. Бессмертнова танцевала у какой-то последней черты и вместе с тем так, как будто сказочным образом только что обрела дар танца. Подобное впечатление она производила не раз, и на премьерах, и до всяких премьер, еще ученицей, за год до выпуска, танцуя мазурку в школьной «Шопениане». В книге «Дивертисмент» я уже вспоминал об этом, вспомню и здесь: тоненькая, легкая танцовщица с огромными невидящими глазами реяла в воздухе вдохновенно и потерянно, точно птица, впервые взлетевшая ввысь, но и отставшая от стаи. Опьяняющий полет, предсмертная тревога — таких эмоциональных состояний балетный театр тогда не знал, и именно они, эти пограничные состояния, хотя и не столь концентрированно, наполнили танцы Бессмертновой в «Жизели». Особенно нервным и особенно танцевальным был второй акт: почти физическое ощущение исчезаю
270
МАРШРУТЫ «ЖИЗЕЛИ»
щего движения, исчезающей линии, исчезающих рук, как в финале, когда Жизель уж скрылась в листве и лишь кисти, легендарные кисти Бессмертновой, посылали прощальный привет, а потом и они пропадали. Нечто похожее Бессмертнова показала затем в «Иване Грозном», в сцене отпевания Анастасии. Оценим же то, что произошло: совсем молодая танцовщица из нормальной московской семьи танцует бесследное исчезновение из жизни, только что начавшейся, почти не расцветшей, — какой же художественной интуицией надо обладать, чтобы все это пережить, и каким талантом — чтобы все это выразить в танце. В танце открытом, по-детски несдержанном, по-московски исповедальном
Исповедальным был и дуэт, дуэт и в самом деле прекрасной пары. Что они танцевали? Любовь? Но в «Жизели» многие изображают любовь, понятия не имея, что это такое А тут было нечто большее, чем просто балетная любовь: артисты танцевали — в улановском духе — близость. Нерасторжимую близость двух душ и двух тел, двух очень молодых людей, к тому же достаточно разных. Эта Жизель, как ее играла Бессмертнова, конечно же, совершенно неопытна в любовных делах, а этот Альберт, как его играл Лавровский, достаточно опытен, хоть и не до конца испорчен. Но эта неопытная Жизель умнее этого опытного Альберта. Что обнаруживает второй акт и что вообще неожиданная подробность: кто когда задумывался об уме пейзанки Жизели? Но Жизель Бессмертновой — совсем не пейзанка, также как Альберт Лавровского — совсем не граф. Графов по старой памяти изображали в Мариинском театре — до Барышникова. Графом был (или старался быть) Константин Сергеев, а до него Борис Шавров, и у него это хорошо получалось. А Лавровский с Бессмертновой, возможно, не задумываясь об этом и лишь подчиняясь логике изменившегося времени, перевели действие в более
271
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
актуальный план: оба выглядели нашими современниками и людьми одного круга. Невольное (а может быть, и осознанное) открытие Лавровского состояло в том, что его Альберт, хоть и со шпагой в руках и с оруженосцем рядом (дань сюжету), — сын не знатных, но знаменитых родителей, может быть, художников, может быть, певцов. Это был весьма ясно очерченный персонаж послесталинской социальной жизни, отчасти «золотая молодежь», отчасти «золотое сердце», герои московской молвы, но и герои газетных фельетонов. А Жизель Бессмертновой тоже казалась дочерью из артистической семьи, но только незнаменитой, неудачливой, к тому же и небогатой. Отсюда все комплексы этой Жизели, ее уязвленное самолюбие, ее недоверчивость, ее задетая гордость. Но оттуда же и ее неиспорченность, ее чистота. И в ней есть то, чего недостает ее неверному жениху, она великодушна, а он нет, он малодушен. Несмотря на свободные артистические манеры, Альберт Лавровского несвободен, послушен воле отца, в то время как Жизель Бессмертновой, скромная, стесненная и не всегда артистичная, внутренне уже свободна
Вот, собственно, в чем заключалась суть: Бессмертнова показала нам героинь нового времени, не попадавших на авансцену. Альберт Лавровского из тех, кто был на виду, кто не сходил с авансцены, Жизель Бессмертновой — из тех, кому путь туда был заказан. В это же время Александр Володин рассказывал в своих пьесах о нелегкой судьбе и странном очаровании молодых послевоенных ленинградок. Подобных Володину драматургов в Москве не нашлось. О судьбе и странном очаровании молодых москвичек тех лет мы узнавали на балете «Жизель» в спектаклях Большого театра.
В заключение добавлю (извинительная реплика многолетнего балетомана): «Жизель» Бессмертновой имела и узкобалетный смысл. В последний раз на моих глазах московская
272
МАРШРУТЫ «ЖИЗЕЛИ
балерина выиграла заочный спор у балерин ленинградских, выиграла за явным преимуществом, как говорят в спорте. А ведь одновременно с ней «Жизель» танцевали и Наталия Макарова, и Ирина Колпакова. Это был принципиальный спор, спор двух школ — московской лирики и петербургского академизма. И Макарова, и Колпакова демонстрировали чистейший романтический стиль, утонченный и охлажденный. Бессмертнова, при всей прелести ее танцевальной манеры (и ряда стильных поз), стилисткой, по крайней мере в «Жизели», не была. Зато она внесла в спектакль то, что издавна одухотворяло московский балет: исповедь горячего сердца.
...Но у этого рассказа совсем грустный конец. Наталия Бессмертнова, наша Наташа, одна из волнующих легенд Большого театра, ушла из жизни. Известие о ее смерти всколыхнуло балетный мир. Все разом заговорили, может быть, почувствовав смутное чувство вины. Сразу вспомнилась она, московская Жизель, лучшая московская Жизель за всю московскую историю этого балета. Но мы ее и не забывали. В памяти навсегда ее облик, прелестный и немного сиротский, бивший по сердцу, как только бессмертнов-ская вилиса появилась в начале второго акта. В памяти ее легчайшие и тревожные танцы. Что в них она прозревала? Весть о спасении? Гибельную весть? Весть о скором уходе с исторической сцены? Бессмертнова вообще была балериной прозрений. На спектаклях ею овладевало то вдохновение, которое знают лишь подлинные поэты. И она принадлежала к поколению поэтически мыслящих танцовщиц и танцовщиков, которое не очень надолго вышло на подмостки нашего главного музыкального театра.
В течение последующих сорока с лишним лет в московской истории балета «Жизель» ничего чрезвычайного как будто
18 — 940
273
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
не произошло, если не считать того, что появилась еще одна редакция — Владимира Васильева (в которой большее место получил Лесничий—Илларион), а первая, основная и почти каноническая редакция Лавровского стала почему-то называться редакцией Григоровича (изменившего выход охотников в первом акте: теперь они вышагивают, как в «Легенде о любви», — выбрасывая вверх колени). Среди исполнительниц выделились Светлана Лунькина и Анастасия Горячева, хорошо чувствующие дух постановки. Слишком решительные художественные жесты не для них — им не к чему. Тем не менее такое изредка происходит.
22 ноября 2007 года в «Жизели» выступила Наталья Осипова. Выступление молодой дебютантки взбудоражило зрительный зал и, как мне потом стало известно, всколыхнуло балетную труппу Большого театра. Зал взрывался аплодисментами, а театр гудел возмущенно. Я тоже был в зале и вместе со всеми — или почти со всеми — аплодировал вспышкам дансантной энергии, которая внезапно овладевала худенькой и бледненькой Жизелью и куда-то несла ее по диагоналям и дугам сцены. А театр, в лице некоторых своих нетерпимых премьеров, предъявил ей суровый счет, внушительный перечень непозволительных ошибок. Нельзя менять текст — вместо аттитюда арабеск allonge; нельзя подражать заезжим гастролершам — Кожокару и Вишневой (Вишнева тоже попала в список чужеземок); нельзя нарушать традиции Улановой и Бессмертновой, традиции русской «Жизели». Нельзя, нельзя и еще раз нельзя — говорилось яростно и безапелляционно. Кое-что, хоть далеко и не все, подмечено точно, но откуда такая ярость и почему так много «нельзя»? Действительно, ни на Уланову, ни на Бессмертнову Осипова в «Жизели» совсем не похожа. И уж совсем не похожа на тех, кто им подражал, на малоудачливых эпигонок. Впервые на моих глазах на сце
274
МАРШРУТЫ «ЖИЗЕЛИ»
не шла нелирическая «Жизель» или, что более точно, «Жизель», в которой лирическая стихия не изливалась открыто. Зато в полной мере изливалась стихия дансантная, стихия романтического полетного танца. Наблюдательная коллега сказала мне: главное у этой Жизели — не любовь, а одержимость танцем И добавила огорченно: поэтому сцена сумасшествия возникает «из ничего». Еще одна претензия, и тоже отчасти верна, но только отчасти. Потому что «из ничего» — суть танца, которым живет эта Жизель, и суть самой этой Жизели. Здесь все не подготовлено, все спонтанно. Внезапно, как налетающий ветер, как все опрокидывающий ураган. Ибо Наталья Осипова танцует не просто простушку Жизель, но вилису. Это ее открытие, ее вклад в московскую историю балета. Персонаж из старинной славянской мифологии, закованный в строгий рисунок Мариусом Петипа, вырывается на свободу в прыжках и полетах современной — вполне современной — балетной артистки Да, этого не было ни у Улановой, ни у Бессмертновой, ни у напрасно названных Вишневой и Кожокару. По-видимому, это было у Спесивцевой, и только у нее. Судя по всему, Спесивцеву притягивала пугающая тайна вилисы. Всю жизнь она прожила в мире прекрасных и страшных снов, прекрасных и страшных сказок. И страшно сказать — второй акт «Жизели», самый прекрасный у нее акт, она проводила чуть ли не на грани скандала. Разумеется, в значении этого слова у Достоевского. Вот что такое русская традиция, господа охранители из Большого театра. И вот что такое вилиса, о чем писал поэт Генрих Гейне и о чем написал в либретто поэт Теофиль Готье.
В своей книге «Дом Петипа» я уже говорил, что сущность вилисы — в одержимости танцем. Но я не думал, что когда-либо увижу нечто подобное в живом спектакле. Сочиняя книгу, я многое вспоминал и, в частности, держал перед гла
18* 275
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
зами утонченный силуэт Бессмертновой—Жизели и ту мизансцену почти в самом конце, когда на глазах у совершенно застывшей, неподвижной Жизели казнят ее злополучного друга. Это была трагедийная кульминация акта — балерина с умершим взглядом, умершим жестом, умершим танцем У Осиповой все наоборот — здесь, в позе, она заламывает и раскидывает руки, она продолжает действовать, продолжает танцевать. Может быть, слишком аффектированно, может быть, слишком резковато. Но все в современной манере и совершенно логично. И весь спектакль Осипова строит обдуманно, на резком контрасте. Первый акт — на полупрыжках и в полусне, из которого возникает ужас пробуждения в финале. И там действительно был ужас, ужас смерти, который вдруг охватил безумную Жизель и погнал по сцене. А второй акт — на предельно больших позах и предельно высоких прыжках, на широких патетических жестах. И здесь уже не сон, но транс, нечто неудержимое — неудержимый танец, рвущийся из ритма и плена кордебалетных вилис, рвущийся из рук партнера, рвущийся из небытия, на простор подлинной жизни.
Конечно, не может не поразить высокая степень погружения балерины в поэтический мир и хореографический материал старинного балетного спектакля. В нынешнем театре это редкость. Осипова и в самом деле заворожена образами «Жизели», ситуациями, полетами и прыжками. Она действительно там — в таинственном лесу, в таинственной ночи, в таинственных высях полетного танца. Оттого ее элевация полна драматизма и — позволю себе совсем уж старомодное слово — полна того волшебства, вне которого нет белотюникового балета. И полна долгожданной стилистической новизны, вне которой белотюниковой «Жизели» тоже не существует.
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
ГОЛЕЙЗОВСКИЙ И БОЛЬШОЙ ТЕАТР
Отношения Касьяна Ярославича Голейзовского и Большого театра длились долго, много лет, не принося полного удовлетворения ни балетмейстеру, ни театру. Голейзовского то приглашали, то порывали с ним, и так было несколько раз на протяжении трех четвертей века начиная с 1909 года. Тогда семнадцатилетний выпускник петербургского Театрального училища был зачислен в труппу Большого театра как танцовщик, вскоре танцовщик-солист, с самым разнообразным репертуаром (тут был и Гений вод в «Коньке-Горбунке», и Никез в «Тщетной предосторожности», и Камон в «Салам-бо», и Голубая птица в «Спящей»), Карьера складывалась благополучно, но Голейзовский-артист заскучал, покинул театр, и возвращался туда уже Голейзовский-балетмейстер. Непродолжительные сближения прерывались паузами на несколько лет, менялись времена, театральные направления, художественные стили, а эти, не очень нормальные отношения сохраняли свой неизменный характер. Балетмейстер не шел ни на какие компромисы, театр тоже не думал уступать, полагая себя — что казалось совершенно естественным — главным действующим лицом в затянувшемся споре. Голей-зовский думал совершенно иначе, он видел протагониста в себе, он отстаивал первенство балетмейстера-творца, автора спектакля. И это тоже совершенно естественный ход
20*
307
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
мысли для хореографа фокинской и послефокинской эпохи. Беда Голейзовского заключалась в том, что фокинская-послефокинская эпоха в Большом театре промелькнула быстро, почти как сон, это был императорский, а затем — государственный театр, и подчинялся он не творцам, а чиновникам, тем более не творцам, настроенным радикально.
Возникали, конечно, и разногласия чисто художественные, даже вкусовые.
Что же мы имеем в результате?
В 1925 году Голейзовский поставил в Экспериментальном театре (так назывался филиал Большого) знаменитый, даже легендарный балет «Иосиф Прекрасный» и менее известную «Теолинду». Два года спустя там же был поставлен «Смерч». После чего перерыв на семь лет, и постановка «Половецких плясок» в опере «Князь Игорь». Затем еще один длительный перерыв, и сочинение (дважды, в 1940 и 1942 годах) новых танцев в «Дон Кихоте» (самый известный из них — ставший хореографической классикой «Цыганский»). И наконец, последнее свидание, в 1964 году, то есть более двух десятилетий спустя, и постановка семидесятидвухлетним балетмейстером балета «Лейли и Меджнун», заказанного, но не оцененного и не сохраненного театром.
Такова фактическая история, а каков ее художественный смысл?
Конечно, это история авангардиста, штурмующего академический театр — академический театр, ревниво отстаивающий свой академизм, свои великие традиции и свои привычные штампы. А Голейзовский — это отрицание классических форм и структур и, наоборот, утверждение нового классического языка, новой лексики, новой исполнительской манеры. Но все это общие признаки и общие слова, конкретная же интенция Голейзовского заключалась в том, чтобы
308
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
освободить и по-новому представить человеческое тело. Женское тело прежде всего, ибо Голейзовский был поэтом-чувственником, философом-сенсуалистом Он принадлежал к тому же типу художников, каким в скульптуре был Роден, а в живописи — не слишком похожий на Родена (не слишком похожий ни на кого) Модильяни. Если бы на академической сцене Большого театра можно было бы поставить хореографические этюды на тему «ню», то Голейзовский сделал бы это с отменным вкусом и мастерством, — и некое приближение к подобному проекту можно было увидеть в «Иосифе Прекрасном». Естественно, что это вызывало отторжение, даже шок, и от Голейзовского старались держаться подальше. Но именно это и привлекало к нему, и более всего — молодых артистов, лишенных предрассудков (и ролей), и я хорошо помню, как в среде начинающих балерин, с которыми я дружил в студенческие годы, горячо обсуждалась возможность познакомиться и поработать с одиноким опальным балетмейстером, жившим неподалеку. Говорилось о замечательных непоставленных номерах, которые у него всегда в голове, и об опасностях, которыми чревато знакомство.
Но, разумеется, привлекало и нечто другое.
Нечто другое называется великолепным мастерством, способностью поставить трехактный балет, развернутую кордебалетную композицию и уникальный сольный номер. Сольные номера особенно удавались ему, причем не просто концертные номера, а номера-портреты. Такими изумительными портретами стали «Мазурка» для Екатерины Максимовой, которую Голейзовский нежно любил, и «Нарцисс» для Владимира Васильева, которым он всегда восхищался. В мастерстве Голейзовскому отказать не мог никто, а его коллега, столь же непризнанный и ненужный балетмейстер, питерский патриарх Федор Васильевич Лопухов в своих письмах обращался
309
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
к нему так: «Мастер Касьян Ярославич!» Так звали они друг друга, и так выдавали друг другу патент на мастерство и художественное благородство. Другие становились лауреатами, заслуженными, народными, героями социалистического труда, — они предпочитали именоваться мастерами Это был их реванш, это компенсировало отнятые победы. Конечно же Мастер Голейзовский, мастер среди не мастеров, но еще и мастер на все руки Еще раз вспомним, как он начинал в Большом театре, какие разные танцевал партии, какие разные ставил балеты. «Иосиф Прекрасный» — трагедийный балет на библейский сюжет и располагавшийся на конструктивистских станках (весьма удобных, кстати сказать, для демонстрации смелых телесных поз и построений). «Теолинда» — комедийная, полупародийная стилизация романтического балета 30—40-х годов XIX века, отчасти аналог оперной «Вампуки». «Смерч» — балет-плакат, патетическое сочинение на революционную тему. И так всегда; Голейзовский брался за любой сюжет, но каждый раз оставался собой. И когда ставил в мюзик-холле ревю «33 американские гёрлс», и когда ставил спортивно-пластическое шоу в фильме Александрова «Цирк», и когда принимал участие в проведении так называемых национальных «декад», и когда ставил официальные физкультурные парады. Человеческое тело он воспевал тут и там, и славословия телу не становились славословием режиму.
АРФА И НАГАЙКА
Большую часть жизни Ростислав Владимирович Захаров прожил в Москве, но свой первый и свой последний балет поставил в Мариинском театре. «Бахчисарайский фон
310
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
тан» — в 1934 году, и это стало личным триумфом и ознаменовало рождение нового направления, так называемого драмбалета. «В порт вошла "Россия"» — спустя тридцать лет совсем с другим результатом. Спектакль означал закат драмбалета и, как сказано в энциклопедии «Русский балет», «обернулся провалом». Поздний провал был столь же оглушительным, как и ранний триумф. После чего Захарова перестали куда бы то ни было приглашать, и в течение двадцати лет он уже не работал в театре.
Все это хорошо известно, хотя этот странный творческий путь — от великого до смешного за тридцать лет — нуждается в объяснении, пока еще не данном. Захаров был талантливым, даже очень талантливым человеком, талант его признавали и Соллертинский, и Асафьев, и Эйзенштейн (а в частном разговоре — и строгая Марина Тимофеевна Семенова), поэтому разобраться пора, тем более, что неспешная художественная деградация Захарова нанесла немалый вред не только ему самому, но и его ученикам, и всему отечественному балету. Слово, повторяю, за историками, историками беспристрастными, к которым сам не принадлежу, и не только потому, что пострадал от Захарова в далеком 1951 году, когда он был «начальником» балета, главным цензором и главным консультантом ЦК, а я лишь студентом-дипломником ГИТИСа, начинающим балетоведом. Тем не менее признаюсь, что фигура Захарова мне по-прежнему интересна. Как могут быть интересны яркие художники тоталитарной эпохи.
Итак, как это могло произойти? Некоторый — приблизительный и предварительный — ответ мы находим уже в «Бахчисарайском фонтане». Там два запоминающихся персонажа — Мария и... вовсе не Гирей, хан Гирей лишь воинственно расхаживает по сцене, а в эпилоге скорбно
311
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
сидит у памятника-фонтана. Второй запоминающийся, к тому же танцующий персонаж — Нурали, предводитель стражи и войска. У пленной Марии арфа в руках (арфоч-ка — как назвал ее сам Захаров), у Нурали — нагайка. Это главные аксессуары в спектакле. Они обозначают тематические и человеческие полюса и создают метафорическое пространство балета. На одном полюсе — поэзия, музыка, душа, утонченная пластика, утонченная культура; на другом — жестокость, дикость, грубый первобытный инстинкт. В широком ассоциативном поле, которое окружает балет, арфочка Марии — след пушкинской эпохи, эпохи Дидло и его «Эоловой арфы», строк об Истоминой и ее легкой тени. Уланова—Мария, особенно в молодости, в 30-е годы, для многих ассоциировалась с героиней пушкинских стихов, а волшебная ритмика улановского танца казалась прямым воплощением четырехстопного ямба. Нурали же с нагайкой в руках — это степь, разбойничье кочевье, может быть, даже пугачевщина (в «Истории пугачевского бунта» есть похожие персонажи), олицетворенная угроза городской красоте и городской культуре. Говоря проще: свет и тьма, белое (цвет улановского прозрачного шарфа) и черное (один из цветов костюма Нурали), контрастное столкновение художественных тяготений Захарова-балетмейстера и Захарова-человека.
Одну из сторон захаровской музы сейчас же оценили в театре, предложив поставить бальзаковский балет («Утраченные иллюзии», где Уланова, исполнявшая роль Корали, в балетной сцене появлялась в образе Марии Тальони, а Татьяна Вечеслова—Флорина танцевала «Качучу» Фанни Эль-слер). Судя по всему, этот явно недооцененный балет был очередным прорывом — прорывом в романный стиль, первым хореографическим романом на балетной сцене. При
312
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
этом поэтическая атмосфера бальзаковской прозы тоже, по-видимому, сохранялась.
Другую же сторону захаровской музы немного погодя распознал Сергей Эйзенштейн, пригласив Захарова в свой фильм «Иван Грозный». Ему было предложено поставить пьяную пляску опричников, что он и сделал с отменным искусством Лейтмотивом оргии стал многократно повторенный клич: «Бей! жги! жги!», и этот образ, возвращавший к финалу первого акта «Бахчисарайского фонтана» (налетчики устраивают пожар), вместе с тем возвещал грядущее превращение балетмейстера-поэта. Он постепенно становился опричником в советском балетном театре. Громил конкурентов, особенно молодых («Легенда о любви» — «эротизм, формализм, космополитизм»), а тем более — зарубежных. Более всего доставалось критикам. В своей докторской диссертации, защищавшейся в ГИТИСе в середине 60-х годов (я присутствовал и даже выступал на этой защите; после моего выступления со своего места встал Александр Лапаури и, указывая на меня, громко сказал: «В тюрьму его!»), так вот, в этой диссертации Юрий Слонимский и Вера Красовская обвинялись — вы не поверите — в том, что они агенты Центрального разведывательного управления США. Эти пассажи, свидетельствующие о прогрессирующем заболевании, были выброшены при публикации книги «Записки балетмейстера» в 1976 году (но и там кое-что сохранилось: следование ленинскому тезису о борьбе двух культур, но также и плохое знание правил транскрипции сыграло с Захаровым злую шутку: на стр. 38 назван «безвременно скончавшийся Джон Крэнко <..> талантливейший балетмейстер-реалист», а двумя страницами раньше, на стр. 36, описан балет некоего зловредного Джона Крепко: «Странно видеть этот балет: балерину носят по сцене,
313
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
и она совершает что-то чудовищно несовместимое с высоким и гуманным, чистым — хрустально чистым! — искусством классического балета»). В защиту «хрустально чистого» Захаров выступал и раньше: о «Жизели» он написал (и опубликовал) в 50-х годах, что это мистический балет, защищающий феодальное право первой ночи. Его действительно что-то жгло, глаза горели фанатичным огнем и временами он напоминал Савонаролу. Ненависть к заграничному стала почти навязчивым бредом. Вот откуда странные эпизоды из «Золушки» (последний акт) и «Медного всадника» (петровская ассамблея), полные скрытой или неприкрытой ксенофобии, насмешек над заграницей. Вот откуда «В порт вошла "Россия"», «увеселительный», как сказал бы Набоков, балет, поставивший крест на карьере.
Защищал и успокаивал его только Пушкин, и он это знал. Захаров, конечно, был лучшим пушкинистом в отечественном балете. Последней яркой работой стала «Барышня-крестьянка», поставленная в Большом театре (точнее — в его филиале) в 1946 году, с удивительной Семеновой в заглавной роли. Впрочем, хороши были все — и Владимир Преображенский—Алексей, и Любовь Банк—мисс Жак-сон, и Татьяна Лазаревич—Настя, и Александр Радунский— Муромский, и Виктор Смольцов—Берестов. Ансамблевый спектакль, где каждый создал портретную роль, — не просто балет, а целая портретная галерея. Он поразил меня, повторю еще раз, тонким ощущением пушкинской прозы («Бахчисарайский фонтан» — это инсценировка поэмы, южной поэмы, следует оговорить). Причем не просто пушкинской прозы вообще, но именно «Повестей Белкина», у которых особый стиль, язык, аромат — все это Захаров прочувствовал превосходно. Спектакль его — хореографический комментарий к «Барышне-крестьянке», подобный
314
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
литературному комментарию к «Евгению Онегину», который независимо друг от друга написали Владимир Набоков и Юрий Лотман.
И все-таки чистая классика не давалась ему, зато удавались характерные танцы. Самые разные, в самых разных операх и балетах. От польского акта в «Иване Сусанине» до сцены в таверне в «Дон Кихоте», от бального вальса до жиги в портовом кабачке. И в памяти незабываемые характерные танцовщицы захаровской эпохи, как будто их видел вчера: Ядвига Сангович, Фаина Ефремова, всех не перечесть, и их предводитель, любимец толпы, любимец богов (и кстати сказать, очень яркий Нурали) Сергей Корень. Это кажется странным, вспомнив то, что я уже сказал: любовь к характерным танцам при нелюбви в загранице. Но в Ростиславе Владимировиче многое было неожиданным, многое не вязалось одно с другим, — например, искреннее уважение, которое он питал к своему историческому антиподу Джорджу Баланчину. Между прочим, к своим высшим достижениям они пришли в одном и том же году — в 1934-м. Захаров поставил в Ленинграде «Бахчисарайский фонтан», а Баланчин в Нью-Йорке «Серенаду».
БАЛЕРИНЫ
Ольга Лепешинская ничего не боялась. Ни головокружительной высоты, ни ошеломляющих темпов; ни рискованных прыжков, ни рискованных неакадемических демонстраций. На концертной эстраде она танцевала «Вальс» Мошковского и там позволяла себе сверхопасные и абсолютно цирковые номера, — правда, партнером был Петр
315
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Андреевич Гусев, в жизни — человек блистательного ума, а на сцене — виртуоз поддержки. С ним можно было не бояться. Но я думаю, что и с менее надежным партнером Ольга Васильевна не побоялась бы рискнуть — и потому что в душе ее жил азарт и потому что опасность ее манила. Этим она и держала зрительный зал, это и подбрасывало ее куда-то к колосникам или бросало на руки кавалера. Сверстницами Лепешинской были девушки-рекордсменки, о рекордах в 30-х годах твердила пропаганда, но идея рекордов и сама по себе увлекла молодежь, в результате и Ольга Лепешинская стала первой балериной-рекордсменкой советской сцены. Она била рекорды, исполняя фуэте, ставила рекорды, исполняя па де баск’и. И я хорошо помню, как в «Дон Кихоте» (а это был, может быть, лучший ее балет: пачка, окрашенная в ярко-оранжевый цвет, танец, похожий на ярко-оранжевое пламя), потеряв равновесие на невероятной высоте, она упала. Зрительный зал ахнул и замер. Но Лепешинская— Китри немедленно поднялась и продолжила танцевать как ни в чем не бывало? Не совсем так. Тут было другое: не испуг, не растерянность, как можно предположить, а удивление на лице: Китри—Лепешинская не могла понять, как такое могло с ней случиться. И точно так же была удивлена, уколовшись о веретено, Лепешинская—Аврора. Это поразительная подробность, и она многое объясняет. В начале своего пути Лепешинская представительствовала от имени мира, в котором не может произойти ни с кем никакой беды и в котором все любят друг друга. Фея Карабосс в таком сказочном мире упразднена и абсолютно невозможна. И упасть или разбиться здесь тоже нельзя, недопустимо. И лишь позднее, станцевав поставленный Якобсоном знаменитый номер «Слепая», Лепешинская-балерина (а я говорю только о ней, разумеется, не о Лепешинской-человеке)
316
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
впервые по-настоящему столкнулась с человеческим страданием, увечьем и страшной бедой и как актриса оказалась на высоте положения, сыграв очень тонко.
Но все-таки жанр высокой комедии был, вероятно, наиболее близок ей, и вера в то, что жизнь — это праздник, а все люди — добры, никогда ее не оставляла. Даже в «Золушке», самой жизнерадостной «Золушке», когда-либо показанной на сцене. Тем более — в «Дон Кихоте», «Спящей красавице», «Алых парусах», «Мирандолине». И по-видимому, это убеждение лежало в основе артистической общительности, обаятельнейшей черты Лепешинской-балерины. Подобного радостного общения танцовщицы и зрительного зала я больше не наблюдал. Рампа для нее, казалось бы, и не существовала. Вслед за любившей риск Ольгой Васильевной, рискнем предположить, что так — в прямом обращении к людям — она понимала назначение театра вообще и в этом же видела скрытый смысл московской балетной школы.
Среди множества записей Майи Плисецкой есть одна, о которой мало кто знает. Это не кинозапись и не запись для TV, и вообще не видеозапись. Это запись первого акта балета «Дон Кихот», сделанная на аудиопленке для аудиомагнитофона. Изображения нет, есть только звук, мы не видим балерины, а лишь слышим восторженный, стадионный рев шеститысячного зрительного зала Кремлевского Дворца съездов при любом ее появлении на сцене. Даже звучание оркестра заглушено, но каким-то образом возникает более или менее явственный след невидимых вариаций. И более того, ощущаешь, насколько Плисецкая полна той страстной энергии, которая таится в глубинах классических и демиклассических партитур Горского и Петипа и которая является сущностью старинного испанского танца. В этой
317
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
сверхстрастности — залог быстрых успехов Плисецкой уже на первых порах, но также — один из секретов московской исполнительской школы. Недаром здесь был поставлен «Дон Кихот». Плисецкая — балерина-москвичка в самом полном смысле этих слов, хотя ее отношения с Москвой и московским Большим театром складывались драматично.
Она явилась, чтобы сломать сложившийся порядок, нарушить сон и покой. Хорошо помню ее дебюты, врезавшиеся в память невероятной пластической экспрессией, широтой и непостижимой художественной свободой. Появляясь на сцене на каких-нибудь несколько минут, она затмевала все и всех, а ведь тогда Большой балет возглавляли пришедшие из прошлого действительно большие артисты. Редкий случай, когда первый сезон — без ведущих партий — стал легендой балетного театра. И между прочим, уже тогда в каком-нибудь эпизоде из «Золушки» или в двойке из последнего акта «Дон Кихота» Плисецкая как бы танцевала свой будущий репертуар, рвалась из недраматичного и оранжерейного стиля, который стал насаждаться в те далекие годы. По сравнению со сверстницами она казалась балериной-сорняком. Но из этого сорняка, перефразируя ахматовские слова, вырос экзотический цветок, столь же изысканный, сколь и жизнестойкий.
Эмблемой ее творчества стал неповторимый прыжок. Его рисунок и ритм, его метафорические мотивы в различных сценических ситуациях были различны. Отнятый простор, возвращенный на миг. Преграда отчуждения, которую душа отчаянно стремится преодолеть. Недостижимая высота, которую художник-артист делает достижимой. Сверхзадачу прыжка можно было бы объяснить по Пастернаку: «поверх барьеров». Прыжок Плисецкой — ярчайшая гипербола творческой воли. В нем — жажда быть, состояться, воплотить себя вопреки умаляющим
318
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
резонам и силам. В этом прыжке-росчерке в высоте, подобном тому, что альпинисты оставляют в горах, — Плисецкая оставила свой подлинный образ. И сразу же дала сжатую формулу своего пути и своих устремлений.
Конечно же, этот путь уникален. Плисецкая выдвинулась в первые ряды артистов балета еще в середине 40-х годов, почти сразу же после окончания Московского хореографического училища, и с тех пор сохраняет свою власть над временем, зрителем и собой — своим эмоциональным, психофизическим и техническим аппаратом. Художественное долголетие Плисецкой — на грани чудесного, кажется загадочным, необъяснимым. И тем не менее оно имеет духовное обоснование, творческую природу. Такое долголетие стало возможно не только в силу природных качеств — энергии, воли, таланта, особой тренированности тела, особой эластичности мышц, но прежде всего в силу последовательности избранного пути, сначала бессознательного, а затем и осознанного стремления к возвышенной цели. Плисецкая начала с того, что создала свой стиль, а пришла к тому, что создала свой театр. Стиль Плисецкой легко узнаваем и хорошо известен всем — графический стиль, отличающийся изяществом, остротой и законченностью каждого жеста, каждой позы, каждого отдельного па и хореографического рисунка в целом. Такой же законченностью отличается и вся творческая жизнь Плисецкой, ее артистическая судьба, ее художественная карьера, как и сама натура, наделенная живым воображением и неиссякаемым интересом ко всякой новизне, к сценическим приключениям, открытиям и победам. Отдавая дань — и немалую — всякого рода попутным увлечениям и преходящим экспериментам, Плисецкая упорно и настойчиво выстраивала свой уникальный артистический образ. Она захотела стать — и стала — трагедийной
319
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
актрисой балетного театра. Классическая трагедия влекла ее с юношеской поры. Первый прообраз классической трагедии Плисецкая продемонстрировала в далеком 1945 году, на премьере «Золушки» С.Прокофьева—Р.3а-харова. Не очень заметную дивертисментную миниатюру «Осень» Плисецкая, благодаря своей выразительной пластике и феноменальному прыжку, развернула в драматичнейшую и притом — чисто танцевальную фреску. Контраст с общей сказочной и даже легкомысленной атмосферой, царившей в спектакле, был очевиден. Таким же контрастом — по отношению к стилю Большого балета 50—60-х годов — выглядели почти все сценические создания Плисецкой той поры: и ее выступления в академической «Раймонде», и ее выступления в праздничном «Дон Кихоте». Необычной была интенсивность эмоций и яркость форм, напряженность страстей и красота линий, — когда же ослепительная яркость соединилась с трагедийной темой, возникла Кармен, вероятно, главная роль Плисецкой в Большом театре. Балет «Кармен» Плисецкая в буквальном смысле отвоевала,-ее стремления к новизне языка и к большому трагедийному стилю не поддерживало руководство, для нее не создавался репертуар, не приглашались балетмейстеры из других стран Европы. В результате Плисецкая начала сотрудничать с дилетантами и даже попыталась ставить сама («Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой»), а затем была вынуждена уйти из Большого театра. Возможность станцевать подлинную классическую трагедию ей предоставила балетная труппа французского города Нанси («Федра» в постановке Сержа Лифаря) и балетная труппа Мадрида («Мария Стюарт» в постановке Хосе Граперо). Но и балетные инсценировки русской прозы и драматургии, осуществленные Плисецкой в 70-х годах, открыли неожиданную близость к давней тра
320
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
диции балетного театра романа Толстого (не признававшего балет) и пьесы Чехова (равнодушного к балету). В русле этой традиции Плисецкая танцевала много лет — и в классическом русском, и в самом экзотичном репертуаре.
Целеустремленность, безошибочный артистический интеллект и немыслимое упорство никогда не оставляли Плисецкую, все это так, но была еще тайная сила, которая помогала ей и вела ее, которая ее одухотворяла. Назовем эту силу испанским словом «дуэнде». О «дуэнде» вдохновенно писал Федерико Гарсиа Лорка. Процитируем короткий фрагмент.
«Итак, дуэнде — это мощь, а не труд, битва, а не мысль. Помню, один старый гитарист говорил: "Дуэнде не в горле, это приходит изнутри, от самых подошв". Значит, дело не в таланте, а в сопричастности, в крови, иными словами — в древнейшей культуре, в даре творчества».
Все это сказано как будто о ней, московской балерине Майе Михайловне Плисецкой. Конечно же, сопричастность; конечно же, кровь; конечно, дар творчества; конечно, древнейшая культура. И все это объясняет, почему испанская тема так ее влекла, почему среди высших ее созданий — Китри и Кармен, почему, покинув Москву, она достаточно долгое время жила в Мадриде.
И все-таки почему она ушла из Большого театра? По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, потому что в театре остановилась жизнь. И во-вторых, потому что театр стал наполняться страхом
Сама Плисецкая в своей книге в присущей ей манере, без обиняков, обвиняет бывшего главного балетмейстера в деспотизме, называет маленьким Сталиным. Не будем с ней спорить. Добавим другое: Григорович не просто вызывал страх, он сам жил в тревоге. Тема страха, страшных видений, страшных ожиданий, страшных снов — одна из
21 — 940
321
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
ведущих в его искусстве. В своих ранних и лучших балетах он умел страх побеждать, сублимировать в творчестве, но затем он стал избегать многого, и прежде всего — избегать творчества, избегать новизны и риска. Многолетние простои можно объяснить только так. А Плисецкая, как и лучшая часть труппы, хотела работать, хотела танцевать.
А главное, Майя Плисецкая никогда ничего не боялась.
Казалось бы то же самое я писал о Лепешинской, но тут нечто другое: под защитой Кремля молодая Плисецкая не находилась.
Бесстрашие — самый бесценный дар, среди многих других даров, который она получила от богов, а может быть, и от предков. Самый бесценный и самый необходимый. Как же он ей пригодился! И когда она осталась одна на улице — мама была арестована вслед за отцом. И когда оставалась на сцене. И когда в одиночку сражалась за новый репертуар. И когда круто меняла свою жизнь. И когда танцевала Лебедя на фоне других, юных лебедей, в день пятидесятилетия своей беспримерной творческой карьеры.
Разумеется, Майе Плисецкой тоже выпало пережить — и, полагаю, не раз — острые приступы страха. Но ей пришлось научиться им противостоять. Это была главная наука в эпоху террора. Все другие науки постигать было проще. Кто сумел этому научиться, тот мог на что-то рассчитывать. Кто не сумел, у того дела были плохи. Майе Плисецкой наука бесстрашия давалась довольно легко, легче, чем многим из нас. Но ведь у нее было «дуэнде».
Молодая Максимова любила танцевать в сказках, перетанцевала все сказочные балеты («Спящую красавицу», «Щелкунчик», «Золушку»), умела изображать сказочную судьбу (в своих знаменитых кинобалетах). И, можно сказать,
322
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
продлила жизнь сказки в современном, весьма трезвом балетном театре. При том, что ничего старомодного ее искусство не несло, сказочные сюжеты она интерпретировала на свой лад, сказочные положения наполняла юмором и театральной игрой, с особым блеском играя своенравных принцесс классического репертуара.
И все-таки повторим: балерина сказки. Иногда, впрочем, чеховской, очень недоброй (разумеется, «Анюта»).
И, по крайней мере, в одном отношении самой Максимовой сказочно повезло: она попала в Большой театр в самый нужный момент, в самое подходящее время. Даже и не верится, что так было на самом деле: лучшие исполнители, классические и характерные, лучшие педагоги (педагог самой Кати — восхищавшая Баланчина Елизавета Павловна Гердт), лучший балетмейстер послевоенной России (молодой, полный сил и сверкающего таланта Юрий Григорович). Но мы несколько забежали вперед, Григоровича еще нет в Москве, он в Питере, он сражается с косностью тогда еще очень косного, почти совсем закосневшего Мариинского балета. А в Большом театре уже дышится легко, сцена и репетиционные залы уже наполнены воздухом перемен, наступает другая эпоха. В общеисторическом плане можно сказать, что Екатерина Максимова так же, как и Владимир Васильев, ее многолетний партнер, стали провозвестниками наступающей свободы. Наступила ли она или нет — это другой вопрос, важно было, что именно эта пара для очень многих олицетворяла весну, и уже потому ответная зрительская любовь возникла с первого взгляда.
Таков исторический фон, но отвлечемся от него ненадолго. Ведь Максимова поразила нас женским шармом своим, своей тонкой артистичностью и своим смелым танцем, сразу тем и другим, что встречается не часто. Первое впечатление
21*
323
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
от Максимовой, танцующей балерины: оживший портрет. Но чей? Ренуаровская низкая челка, сзади пучок волос, как у танцовщиц Дега, а обликом и лицом — одна из «смолянок» Левицкого, Хованская или Хрущева, которых, кстати сказать, художник изобразил в костюмах Колена и Лизы из «Тщетной предосторожности», старинного комедийного балета. Оттуда и грация, и жеманство, и ядовитая простота, и лукавое простодушие, и улыбочки в каждый миг, и готовность жизнь прожить в стране улыбок.
Оттуда же амплуа — мнимая инженю, и жанр травести, самый утонченный (а в некоторых глазах и самый эротичный) жанр в театре.
Не знаю, танцевала ли Максимова «Тщетную предосторожность», но знаю наверняка: один из секретов ее профессионального очарования состоял в том, что она привнесла в большую классику приемы и приспособления комедийных балетов. Тем самым — и вероятнее всего, не задумываясь о том — она мимоходом решила проблему большого стиля. В 50-х годах это была одна из насущных проблем. Большой стиль Большого балета означал холодную патетику, ложногероический, декларативный, замкнуто-самодовольный, а к тому же еще и небрежный академизм, и выход искали за пределами этого вырождающегося искусства. Якобсон ставил миниатюры, Голейзовский ставил концертные номера, в том числе и «Мазурку» на музыку Скрябина, где представил танцующую Максимову так, как ее не сумел представить никто и как смог это сделать лишь восхищенный старый мастер. Но все-таки основная жизнь протекала не здесь, а на сцене Большого театра, где Максимова блистательно танцевала «Спящую красавицу» и «Дон Кихот» и где именно в большой классике она нашла себя и свою отнюдь не комедийную тему. Она не отвергла боль
324
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
шой стиль, а предложила свой вариант, свою вариацию — другой большой стиль, наполненный лирикой до краев, но и весьма своевольный.
Когда в сцене снежинок в «Щелкунчике» она и ее беспокойный партнер, все тот же Владимир Васильев, неслись по огромному кругу навстречу друг другу и своей своенравной судьбе, то тут открывалось, каков темперамент у девочки в детском платьице, вроде бы живущей в мире детских грёз, и каков подлинный — балеринский — масштаб у танцующей эту партию юной балерины.
А чисто комедийные роли Максимова сыграла на телевидении и в кино, обнаружив — в «Галатее» — абсолютное владение эксцентрической техникой танца и эксцентрической манерой игры, вполне чуждой редко улыбавшемуся «большому балету».
Улыбки Максимовой растопили «большой балет», но с годами они становились грустнее и несколько принужденнее, даже в «Спящей красавице», ее, может быть, лучшем, и, вероятно, самом любимом балете. Вспоминаю последнее выступление, сложнейшую диагональ на подскоках из вариации первого акта, напряжение в танце, напряжение в зале, благополучный исход — Максимова никогда не позволяла себе иного исхода. Но время беспечных улыбок прошло, да и вокруг наступало другое историческое время. Страна переживала застой, после катастрофы с «Лебединым озером» (первая редакция была запрещена) Григорович переменился, в Большом театре воцарялась уже забытая казарменная атмосфера. Двери снова наглухо закрывались, и Максимова, одна из немногих больших балерин, так и не станцевала Баланчина, того самого Баланчина, который на всю жизнь сохранял память о Елизавете Гердт, давшей Максимовой первые и самые важные уроки.
325
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Зато помог верный друг, Морис Бежар, Максимова станцевала в балете «Ромео и Юлия» (вместе с Хорхе Донном), станцевала трагедию, к которой ее потянуло неудержимо.
А из Большого театра она надолго ушла. Что и понятно: «большой балет» страной улыбок так и не стал, а Большой театр никогда и не был домом сказки. Все-таки не следует — никогда не следует — забывать, что у Марины Семеновой был репрессирован муж, у Майи Плисецкой был репрессирован отец, а у Екатерины Максимовой был репрессирован дед, Густав Шпет, знаменитый московский философ.
ПОВОРОТ ВИНТА
«Болт» — римейк, то есть оригинальная версия старого балета Федора Лопухова, который был поставлен в 1931 году, прошел лишь один раз и тут же канул в лету. Новому балету это, кажется, не грозит. Ожидает ли его долгая жизнь, предсказывать не берусь, но могу засвидетельствовать большой зрительский успех, на четвертом спектакле по счету. Зрителям, как и мне, понравились изобретательные декорации художника-постановщика Семена Пастуха, целая сценографическая выставка на любой вкус во-первых, сложно сконструированный станок — из площадок на разных уровнях, лесенок, поршней, колес, — образ завода, как его представляли в конце 20-х годов, и одновременно экскурс в театральную историю, отсылка к станкам мейерхольдовских конструктивистских постановок. Во-вторых, движущиеся щиты, так называемые динамические декорации — тоже по моде тех лет, обожествлявших движение, ненавидевших неподвижность. И наконец, бутафория, триумф бутафории,
326
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
мятеж бутафории: огромные и тоже подвижные бутафорские роботы, испускающие лучи из глазниц, — отчасти из Чапека, отчасти из Пикассо, а отчасти из видений самого Пастуха, мрачных и веселых одновременно. Ему, конечно, присущ черный юмор, этому бывшему ленинградцу (а социалистический Ленинград был родиной четверостиший-страшилок), окончившему ЛГИТМиК в 1975 году, за десять лет до начала перестройки. То был не лучший год для веселых людей. И для людей одаренных. Вероятно, поэтому Пастух оказался в Нью-Йорке. Но корней не оборвал, как и его жена Галина Соловьева, художник по костюмам, обрядившая исполнителей «Болта» в остроумные костюмчики, сделанные по лекалам «пятилетки в четыре года», по производственным модам и модам профессиональным. Никакой насмешки тут нет, — если что и высмеивается, то это бытовые моды, наряды «людоедок Эллочек», которых, как в кунсткамере, демонстрирует балетмейстер во второй картине балета. А наряды восхитительных буденовок или не менее восхитительных пловчих в дивертисменте, развернутой картине сна, — это другое, совсем другое: то ли отечественные вариации на темы Великой Мадемуазель (так звали, как мы помним, Коко Шанель), то ли искусная стилизация талантливых открытий отечественных модельеров. И все это театральное сооружение, сооружение в буквальном смысле, со всеми роботами, щитами, девушками в красных буденовках, пловчихами в разноцветных купальниках и множеством прочих аттракционов, проносящихся как во сне, — залито золотистым светом вездесущего, точно верховное божество, художника по свету Глеба Фильштинского, чье участие в премьерах последних сезонов становится неизбежным.
Говоря о Пастухе, Соловьевой, Фильштинском, мы намеренно сделали ударение на слове «художник»: художник-
327
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
постановщик, художник по костюмам, художник по свету — так написано в программе, и это не случайные слова. Именно ориентация на художественное мышление 20-х годов, на некоторые знаковые явления живописи, графики и театра тех лет явилась очевидным принципом, а также стимулом при создании «Болта», а разнообразные художественные ассоциации оказались очень важны для содержания балета, для его темы и его смысла. Скажем коротко: «Болт»-2005 — спектакль о времени, когда отечественное искусство, отечественное театральное искусство прежде всего, находилось в авангарде мирового искусства и мирового театра.
Еще короче: «Болт»-2005 — спектакль об авангарде.
Авангарде художественном, социальном и бытовом, спектакль о мифе авангарда и его полуреальных людях.
Но сам по себе, применительно к представлениям наших дней, это совсем не авангардный балет, не авангардный по своему языку, не авангардный по своей морали. Традиционным его тоже не назовешь, и это одна из загадок, которые нам предлагает разрешить Алексей Ратманский.
Решив возродить «Болт», Ратманский отважился на рискованное предприятие, которое, по мнению некоторых критиков, проиграл, а по моему мнению, — хоть и небезоговорочно, выиграл. «Болт» Ратманского — сложный спектакль (сложнее, чем его же «Светлый ручей»), поставленный на остроумную музыку и на идиотское либретто. Такое случалось в истории балетного театра, но редко когда было, чтобы противостояние музыки и слова достигло такой остроты, и совсем уж не припомнишь, чтобы композитор в своей партитуре столь открыто издевался над либреттистом. А Дмитрий Шостакович именно это делает чуть ли не на каждом шагу и, вполне возможно, представляет автора либретто Виктора Смирнова в одной из своих са
328
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
тирических зарисовок. Смирнов являл собой ненавистный для Шостаковича тип профессионального руководителя, партработника, чем только ни руководившего — от торговли пушниной до производства мультипликационного кино, и везде играл роль болта, механического стержня, одного из тех стержней, с помощью которых партия удерживала от развала всю социальную машину. Четыре года спустя, в 19 3 5 году, стержни-болты ударили по Шостаковичу, ударили очень больно, рана не заживала всю жизнь, но тогда, в 1931 году, Шостакович еще резвился, смеясь над тупым функционером по прозвищу Уж и ему подобным начальством. Он изобразил его под именем Козелкова, делопроизводителя-бюрократа, демагога и лицемера.
Но общий план Смирнова-Ужа Шостакович принял.
По этому плану действие балета происходит в двух местах: в заводском цеху и пивной, Цех и Пивная — два символических образа, два семантических узла и два антимира: работающая в цеху молодежь избегает пивной, а пьяницы, завсегдатаи пивной, не знают дороги на фабрику, никогда не были в цеху, и лишь один лицемер Козелков ухитряется бывать здесь и там, днем руководить, а по ночам напиваться. Забегая вперед, скажем, что портрет Козелкова — одна из несомненных удач Ратманского-балетмейстера и Геннадия Янина — артиста, и что в этом образе наиболее ярко воплотила себя эксцентрическая стихия балета.
Но главные события происходят в Цеху, и с этим связаны все главные сложности работы. В свое время Лопухова увлекала возможность показать в балете производственный процесс: «...оттанцовывание трудовых процессов не является чем-то непреодолимым», — писал он перед премьерой (цитирую по буклету к спектаклю). По-видимому, это «оттанцовывание» и погубило спектакль, как и само стрем
329
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
ление воспеть превращение человека в робота, что через несколько лет, в 1936 году, показал — как страшноватый балет — в своем фильме «Новые времена» Чарли Чаплин. В отличие от Чаплина Лопухов был полон благих намерений, он был энтузиастом — не столько в защите нового строя, сколько в апологии новых хореографических идей, но именно эта благородная установка нередко заводила его в тупик, — перефразируя слова Герберта Уэллса, можно еще раз назвать его: мариинский мечтатель.
Ратманского мечтателем, тем более оторванным от действительности, не назовешь: это трезво мыслящий человек нашего времени, нашего исторического опыта и наших устремлений. Имеющий, однако, собственный взгляд на прошлое и на жизнь. Никакого «оттанцовывания трудовых процессов» он не показал. Но и пародию на конвейерный труд не стал делать. Он отделил энергию производства от бесчеловечности производства, живых рабочих от механических роботов, — тут и пригодились огромные роботы, гуляющие по сцене. Единый образ Цеха раздвоился на наших глазах, здесь и молодость, здесь и угроза. Центральным стал самый вступительный эпизод, так называемая «зарядовая гимнастика» — большая массовка, шесть рядов по восемь участников в каждом ряду, проделывающих полугимна-стические и полуклассические движения сначала в унисон, а потом и полифонично. Эффектно поставленная сцена, в которой Ратманский представляет хореографический язык своих положительных персонажей. У отрицательных — эксцентрика, у положительных — наполовину стойка на руках, наполовину — классические арабески. На этой основе строится более сложная пластика главных героев. По ходу действия выясняется, что эта вступительная сцена радиогимнастики и есть образ Цеха, и есть трудовой процесс, но
330
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
только представленный не по Чаплину и не по Лопухову, а на современный лад, ассоциативно и очень красиво.
Становится понятным и другое: главным героем балета оказывается не Настя и не Денис, а безликое начало — темп, темп производства, темп спектакля. О темпах говорят (в балете произносят речи), сам балет проносится в стремительном темпе. Именно темп позволяет перенасыщенному хореографией «Болту» казаться таким неутяжеленным. Таким исторически достоверным и таким современным, спектаклем сегодняшнего дня. Темпы «Болта» — воображаемые темпы 20-х годов и вполне реальные темпы начала XXI века. В подобном стремительном темпе живет и работает Ратманский уже несколько лет, так работают все балетмейстеры европейских театров. Но у Ратманского, в недавнем прошлом балетмейстера и танцовщика Королевского театра в Дании, есть и свое ощущение времени, очень жесткое, совсем непростое. Как, между прочим, у Прокофьева, жившего много десятилетий назад. Уже потому Ратманскому удалась «Золушка», в которой образ времени столь драматичен. Небольшой характерный пример: в дуэте второго акта, самой лирической сцене балета, Золушка, которая должна бы пребывать в лирическом полусне, все время отвлекается от лирики и от принца, все время спрашивает о времени у проходящих гостей. Это психология человека, которому не дано до конца забыться. Ратманский сам принадлежит к этому привилегированному и не вполне счастливому типу.
Первый репертуарный спектакль Алексея Ратманского, поставленный в Большом театре в 1998 году, назывался: «Сны о Японии» и представлял собой балетную инсценировку японских легенд и вариации на темы японского национального стиля. По аналогии с этим и «Болт», и предшествовавший «Болту» балет «Светлый ручей» можно
331
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
назвать «Снами о России», с тем большим основанием, что большая часть второго акта отдана снам Ивашки, одного из персонажей. Этот сон-дивертисмент — лучшая часть всего балета. Ратманский, освободившийся от необходимости бороться с либретто, переписывать либретто, наделять смыслом либретто, дает волю своей фантазии, своему веселому мастерству и своему интересу к стилистике и легендам не слишком отдаленного прошлого России. Чего и кого здесь только нет! Уже упомянутые буденовцы и пловчихи, авиаторы и самокатчики и люди-корабли, представленные не столько как герои новой страны, сколько как знаки нового искусства. Это парад легенд 20-х годов, манифестация стилей и мифов. Совсем как в «Светлом ручье», только там 30-е годы, деревенский колхозный стиль, он же стиль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ), он же стиль социалистического просперити, изобилия, пришедшего в страну вместе с яблоками, величиной с арбуз, и арбузами, величиной с автобус. А в «Болте» стиль городской, индустриальный, аскетично-конструктивистский, стиль плакатов, призывов и лозунгов 20-х годов, при котором даже арабеск кажется лозунгом, а прыжок оказывается призывом. И если еще раз вспомнить «Золушку», поставленную Ратманским в Мариинском театре в 2002 году, картина станет полной. Там тоже 30-е годы, но там игрушечный город и имперский дворец, там то, что искусствоведы определяют как «большой стиль», а некоторые искусствоведы — как стиль «репрессивный»; там, как у Прокофьева, сложное противостояние империи и сказки, империи для нуворишей, сказки для чудаков, империи торжествующей и сказки, скрытой от глаз, изгнанной и опальной.
Возможно поэтому, поставив «Светлый ручей», а вслед за этим «Болт», Ратманский решил не завершать триа
332
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
ды Шостаковича, отказавшись от «Золотого века». Работа и так завершена, и завершает ее «Болт» блестящим дивертисментом. Он полон невероятной энергией, этот дивертисмент, демонстрация неубитой энергии молодежи. И неубитой энергии молодежи Большого театра помимо всего, поскольку танцует кордебалет, и вся сцена становится триумфом кордебалета.
А как же Денис, из-за которого весь сыр-бор, организатор диверсии, пьяница и вредитель? Не повторять же схему тех лет, о вредительстве на производстве. Ратманский ее и не повторяет. И более того, сумел сделать остроумный ход, соединяя несоединимое. Молодежный кордебалет — кордебалет работников-комсомольцев, представленный в начале и в самом конце (в сцене «зарядовой» гимнастики), обозначен знаком плюс, но и Денис (в превосходном исполнении Дениса Савина) вовсе не обозначен знаком минус — это тоскующий молодой человек, которому тошно у станка и тесно в сплоченном коллективе (из критиков, кажется, только Варвара Вязовкина в короткой и тонкой статье, напечатанной в «Новой газете», распознала не слишком явный смысл непростой роли). Прямо скажем, неожиданный поворот темы, заявленный в «Болте», придающий всей уголовной истории с болтом характер бессмысленного протеста, юноша, бросивший вызов станку, ставший на пути победной поступи социализма. И выданный органам спутником-подростком Ивашкой, Павликом Морозовым, только не деревенским, а городским — тень подобных ассоциаций ложится на балет, придавая ему многомерность.
К сожалению, установленный на сцене гигантский станок не обыгран хореографически, хотя и выглядит сценически достаточно эффектно. Но все равно, недостаточно
333
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
функционально использованный станок — конечно же, недостаток, не позволяющий победу Ратманского назвать «безоговорочной».
Таков этот спектакль, и таков его режиссер. Он принес в наш балет представление о художественном сознании сорокалетних. Это сознание свободного человека. Свободного от стойких стереотипов, которыми работает выдохшийся соцарт и уставший постмодернизм, законодатели наших мод конца прошлого века. Можно, оказывается, повернуться назад и посмотреть на свое прошлое с интересом. Этот поворот мы называем «поворотом винта» — по названию оперы Бенджамена Бриттена, оперы пророческой и вполне успешной.
ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ
«Золушка» Сергея Прокофьева была впервые поставлена в Большом театре шестьдесят лет назад, в сезоне 1945/46 года. Номинальным автором был балетмейстер Ростислав Захаров, хореография которого была на редкость бедна, а фактическим — художник Петр Вильямс, сценография которого оказалась на удивление роскошной. Живописноархитектурный стиль Вильямса (более живописный, чем архитектурный), стиль необарокко (или социалистическое барокко) в полной мере отвечал главным стремлениям постановки: в жанре большой обстановочной феерии воссоздать традицию императорского театра — воссоздать в новом блеске. За пять лет до того, оформляя в Мариин-ке другой знаменитый прокофьевский балет, «Ромео и Джульетту», Вильямс уже попытался добиться сходного
334
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
эффекта, но не получилось, многое помешало: Шекспир помешал, итальянский Ренессанс помешал, Прокофьев помешал, но на этот раз ничто не мешало, а с Прокофьевым не очень-то и считались. Дело дошло до того, что вопреки воле композитора музыку решили заново оркестровать и новую оркестровку поручили сработать ударнику (!) театра. В результате утонченная, почти невесомая оркестровая материя балета приобрела хоть и яркий, но слишком чувственный, слишком материальный колорит (чему способствовало уверенное дирижирование великого чувственника и великого материалиста Юрия Файера). А главное — это действительно было главным — музыка стала излишне громкой. Спектакль ставили сразу после окончания войны. Гром Победы в нем и в самом деле раздавался. Иначе, по-видимому, и быть не могло, Большой театр оказался единственным театром в стране, умело отметившим великую Победу. Но уже тогда проницательным зрителям было ясно, что эта живописная, массивная и громоздкая феерия имеет мало общего с музыкой Прокофьева, который начинал «Золушку» в далеком довоенном притихшем 1940 году, очень важном и в жизни страны, и в его собственной жизни. Потребовалось много времени, чтобы это окончательно понять, чтобы попытаться дать прокофьевской партитуре адекватный сценический облик. Сначала это сделал Мариинский театр несколько сезонов назад. Теперь это сделал Большой театр, предложив оригинальное решение и в полной мере оригинальную постановку.
Художественное открытие, сделанное в Петербурге, состояло в том, что был отвергнут живописный, или живописно-архитектурный, стиль, восторжествовавший в спектакле Захарова — Вильямса (и в спектаклях их эпигонов), и возобладал стиль чисто архитектурный. Не толь
335
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
ко в сценографии (а ее выполнили московские, так называемые бумажные архитекторы, Илья Уткин и Евгений Монахов), но и в хореографии и общем режиссерском рисунке (хореограф, режиссер, иначе говоря, автор спектакля Алексей Ратманский). Тем самым была наглядно выявлена конструктивная сущность прокофьевской партитуры, ее искусная архитектоника, ее неутяжеленная строительная природа. Большой театр пошел тем же путем, но пошел дальше. В качестве сценографа был приглашен действующий архитектор, но одновременно и театральный художник, а вдобавок и театральный мыслитель Ханс Дитер Шааль, фамилия которого, равно как и творческий почерк позволяют предположить родство с Эберхартом Шаалем, знаменитым немецким актером, зятем Брехта, а после смерти Елены Вайгель — директором театра Берлинский ансамбль. И даже если это не так, если они — однофамильцы, то все равно, глядя на работу сценографа, вспоминаешь Берлинский ансамбль, доведенный до совершенства сценический рационализм, доведенную до блеска сценическую аскетичность. И более того, визуальный образ сказочного спектакля неожиданно суров (скрытое присутствие Прокофьева-протестанта). Таково, во всяком случае, впечатление от первого, домашнего, и, соответственно, третьего актов. Огромная сцена затемнена и почти совершенно пуста, лишь в правом углу, у задника, выстроен прямоугольный черный шкаф, одна из створок которого скрывает тесную кухню с печкой и наваленными сбоку дровами. Необычное соединение минимализма и монументальности, тесного замкнутого и широкого открытого пространства. И здесь уже не только Берлинский ансамбль, не только Брехт, но и Мейерхольд с его фурками в «Ревизоре», с его игрой пространственных форм, геоме
336
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
трических планировок и стесненных мизансцен на пустой широкой сцене.
Второй же, дворцовый акт погружен в белое, почти беломраморное сияние, и здесь тот же минимализм и та же монументальность, потому что обыграна лишь одна деталь дворцового интерьера, но увеличенная в масштабе, — огромная парадная лестница в духе Палладио и ее ослепительная белизна столь непорочна и столь неподкупна, что ампирный дворец начинает походить на египетский храм, и ждешь, что на вершине появится жрец в белых одеждах. Вместо этого появляется Принц и съезжает вниз на левом поручне, как школьник на переменке. Затем так же, но на правом поручне, спускается Золушка и попадает прямо в объятия незнакомого ей Принца. И это — совершенно прокофьевское снижение пафоса шуткой, сближение высокого стиля, эксцентрики и даже сарказмов. Театральных сарказ-мов в спектакле хватает. В саркастической манере показаны идолы современной маскультуры — оперная Дива и кинозвезда, в саркастической манере дано трио глупой матери и еще более глупых сестер, а также двойное появление нагловатого жулика Учителя танцев (эффектное, а в театральном смысле нарядное выступление Геннадия Янина).
В спектакле, добавлю, много ярких цветовых подробностей — пестрые платья этой недалекой семейки, элегантные платья девушек на балу (первоклассная работа художницы Сандры Вудл), огромная тыква (из сказки Перро), связки апельсинов (из знаменитой прокофьевской оперы), но в целом сценография строится на основных двух тонах — черном и белом. Для романтического балета, для второго акта «Жизели», это вполне уместный контраст, но в сказке, волшебной сказке-феерии, такое мы видим впервые, и точно так же впервые видим по
22 — 940
337
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
добную символику цвета: в буквальном смысле беспросветный черный в первом акте, в буквальном смысле просветленный — во втором. А вспоминая популярный роман Анатолия Виноградова о Стендале, которым зачитывались как раз до войны, — «Три цвета времени», я бы назвал этот черный и этот белый цвет двумя цветами времени «Золушки» и ее автора-музыканта: абсолютная космическая чернота и абсолютная храмовая белизна — в таком разительном противостоянии, в таком немыслимом контрасте воспринимал жизнь Прокофьев в конце 30-х годов, ясно осознававший, что попал в сталинскую ловушку, но переживавший ослепительную и бесконечно нежную страсть, «второе рождение», как сказал Пастернак по сходному поводу несколько раньше. «Золушка» и возникла на пересечении этих двух несовместимых эмоций.
Вообще-то «Золушка» — достаточно неожиданный балет для автора «Стального скока» и «Блудного сына», написанных в 20-х годах, и даже для автора «Ромео и Джульетты», сочинения середины 30-х. Там, особенно в первых двух опусах, Прокофьев весьма вольно обходился с условностями жанра. Фактически он ими пренебрегал. В балетной музыке его увлекала динамика, динамика как таковая, а более всего — моторность. В «Ромео» был сделан шаг навстречу жанровой специфике, там много чисто танцевальной музыки, с прокофьевским блеском возрождены ренессансные бальные, и карнавальные, площадные, танцевальные формы, но по своей структуре и по своей ритмике шекспировский балет Прокофьева более симфони-чен, нежели дансантен (в привычном, профессиональном смысле слова), поэтому он и был принят в штыки даже самыми чуткими профессионалами, вроде Галины Улановой или Федора Лопухова. И вот теперь «Золушка», где господ
338
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
ствует романтический вальс — основа основ любого классического балета, и где соблюдены все требования жанра, весь его неукоснительный этикет: адажио, вариации, коды. Что это? Конформизм? Социальный заказ? Уступка Улановой, просившей его написать для нее традиционную партитуру? Но Прокофьев при всем своем восхищении Улановой—Джульеттой в творческих вопросах был совершенно неуступчив. А если и делал что-то неожиданное, если и шел на какой-то демонстративный компромисс, то делал это не без задней мысли. Еще в молодости, еще в период скифства, автор «Скифской сюиты» пишет первую симфонию, называя ее «Классической» и выстраивая по некоторым законам венской классики, демонстрируя виртуозное владение этими законами и внутреннюю свободу от них: по своим гармониям и ритмам, да и по мелодическому строю Классическая симфония вполне современна. Если не для 20-х годов, то для всего XX века. К концу века это выяснилось совершенно определенно.
Та же история с «Золушкой». Это, конечно, уникальный шедевр, чистейшая классика XX века. Привязывать музыкальный материал «Золушки» к какому-то конкретному десятилетию вряд ли имеет смысл, а вот история ее возникновения весьма интересна. Я думаю, что «Золушка» — такая, какой мы знаем ее, — возникла по нескольким причинам. Это, конечно, вызов, игра с деликатными заказчиками, игра с невысказанным прямо, но злым социальным заказом. Как это говорилось в тех же 1930-х годах в «Интервенции», спектакле вахтанговского театра: «Вы просите песен, их есть у меня». Иначе говоря: вы просите вальсов, их есть у меня! Вы просите вариации, их тоже есть у меня! Я напишу балет по вашим законам, но останусь совершенно свободным. Так, или примерно так, мог рассуждать знаме-
22*
339
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
нитый невольник, он же великий профессионал, никогда не боявшийся работать на заказ, выполняя четкие предписания относительно темпов и размера. И более того, сам образ Золушки, поэтически настроенной прислуги, по-видимому, был избран Прокофьевым не случайно. Ведь это метафора, и она, если можно так сказать, автопортретна. Вот моя работа по дому, прилежная, умелая, аккуратная. А вот работа моей души, она принадлежит только мне, и черная работа (отсюда и черный цвет первого акта) никак не задевает ее. Прокофьевская Золушка — пленительный образ легкой художественной натуры, не подчиненной грязным тяжелым бытом. Образ, конечно, сказочный, остроумный. В жизни мы знаем лишь один пример подобной ситуации, несравненно более тягостный, хотя и более реальный, — это, конечно, Марина Цветаева, моющая полы, стирающая одежду. Но об этом не принято вспоминать. Молодые недоумки предпочитают помещать «Золушку» в бордель и радоваться возникшему скандалу (имею в виду скандальный рижский спектакль).
Да, конечно, энергия вызова наполняла Прокофьева на первых порах, но потом, я полагаю, он увлекся. Увлекся балетными формами, всеми этими каноническими па, увлекся балетным этикетом. Дворцовый, парадный, бытовой этикет он осмеял, героем сделал Принца-хулигана, нарушающего придворный этикет, но этикет художественный, этикет театральный всячески приукрасил. И более того, совсем как Чайковский в 1889 году (когда писалась «Спящая красавица»), испытал, судя по всему, страстное стремление постичь тайну балетных форм, тайну дуэтного адажио, тайну кордебалетного вальса. Можно даже сказать, что, как и «Спящая красавица» Чайковского, прокофьевская «Золушка» — балет о тайнах балета, таких же
340
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
волнующих, таких же недоступных, как и тайны любви, что, собственно, и является очевидной темой балета. Таинственная тема любви, «amoroso», как она названа, завершает балет, и ясно, что именно она положена в его начало.
Режиссер и один из соавторов новой редакции либретто, Юрий Борисов, ссылаясь на слова Святослава Рихтера, хорошо знавшего Прокофьева, считает, что «Золушка» посвящена Пташке, первой жене композитора, «с которой он был счастлив пятнадцать лет и которую покинул по возвращению на родину». Юрий Борисов не договаривает всего до конца: не просто «покинул», а страстно увлекся молодой студенткой-филологом, а потом и поэтессой Мирой Мендельсон и именно ей посвятил и веселую оперу «Дуэнья» («Обручение в монастыре»), и трагедийный балет «Ромео и Джульетта», и, по моему убеждению, сказочный балет «Золушка». Все было как в закрытом монастыре и как в полной вражды Вероне, и как в сказке с хорошим концом. И Золушка в музыке совсем не похожа на Пташку — Лину Прокофьеву, темпераментную колоритную испанку, певицу и светскую женщину, встречавшуюся с иностранцами (что и послужило причиной послевоенного ареста — бывший муж и отец двух сыновей не смог ее защитить). А «Золушка», еще раз напомним, писалась для Улановой 40-го года, и героиня отдаленно напоминала скромную молодую жену-поэтессу. Но дело даже не в этих биографических подробностях, не мне спорить с Рихтером, и лучше попытаться понять, чем могла Прокофьева увлечь история неодолимого влечения друг к другу двух людей, занимающих столь неравное положение в мире. А точнее сказать, история невозможной, но все-таки случившейся встречи.
Во время войны Прокофьев работал над оперой «Война и мир» и проникся толстовским — эпическим (оно
341
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
же романное) ощущением человеческой судьбы и, в частности, ощущением неизбежности, даже предопределенности встречи людей, созданных друг для друга. Сами обстоятельства войны требовали упрямо верить в подобную предопределенность. Через какие только ситуации ни проводит Толстой своих любимых героев — Наташу и Пьера, но все происходит так, что в конечном счете они друг друга находят. И не потому, что так повелело происхождение, графский титул, сословные предрассудки, а потому, что так повелела природа. Наташа и Пьер соприрод-ны. Толстой верил в мудрость природы, это, по-видимому, единственное, во что он до конца верил.
А в «Золушке» другой императив, и у Прокофьева совсем другой — чисто лирический — ход мысли: стремлением людей друг к другу управляет не властный природный инстинкт, но таинственное художественное чувство, называемое талантом. Оба они, и Золушка, и Принц, оба талантливы, хотя и не подозревают об этом. И встреча их, сказочная встреча, которой могло бы и не быть, происходит не на земле, а на иной планете. Так это поставлено в спектакле.
Хореограф Юрий Посохов, родившийся в Луганске, а учившийся и работавший в Москве, сам немного инопланетянин. Совсем немного, ведь ныне он работает в Сан-Франциско, а там требуется прагматика, не только поэтичность. Еще больше она необходима в сегодняшней Москве, где уважают гламур и, с другой стороны, крутой авангард, а в идеале — то и другое сразу. Поэтому-то Посохов не очень прошел у продвинутых балетоманов. Его хореографии, очень четкой по внешнему рисунку, присуща какая-то неосязательность, какая-то надмирность. Она где-то витает. Два поставленных им адажио, одно
342
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
во втором акте, на балу, другое в третьем акте, в финале, складываются из поз на полу и полетных поддержек, в них много воздуха, не меньше, чем страсти. Так их и танцуют Светлана Захарова и Сергей Филин (в первом составе), Екатерина Шипулина (во втором), Дмитрий Гуданов (в третьем), передавая и чувственное волнение, которое в них заключено, и пластическую невесомость, которой они обладают. Адажио красиво смонтированы, а драматический смысл их заключается, по-видимому, в том, что оба героя открывают в них и свою красоту, и красоту друг друга. Это тоже отлично получается у солистов. И вообще Посохов всерьез увлечен мыслью о красоте своего зрелища и своих персонажей. Не всех, разумеется, мачеха с сестричками, уже говорилось, нелепы, уродливы и смешны. Но кордебалет, хотя он изображает приглашенных на бал профессиональных танцоров, абсолютно безликих, абсолютно земных, не знающих, что такое страстный полет и попавших сюда ради контраста, — все-таки не оскорбляет глаз и не портит красивой картинки. А Золушка и Принц ее по-настоящему оживляют.
Ненадолго, впрочем, — таков сказочный уговор и такова драматическая тема балета.
Режиссер Борисов совместно со сценографом и хореографом придумывает эффектный театральный ход: на сцену выкатываются циферблаты, огромные как доисторические монстры. Бутафорские циферблаты пытаются захватить все свободное пространство, и мы понимаем, что здесь происходит борьба и что в эту борьбу вовлечен сам Прокофьев, композитор 30-х годов, художник XX века. Пространство для него безгранично, а времени дан предел, даны точные и очень короткие сроки. Пространство свободного, а время несвободного человека.
343
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Поэтому-то встреча героев происходит где-то в подлунном мире, где-то везде, но длится недолго, как свидание в лагере, в тюрьме или в больнице.
А музыкальным образом времени становится вальс из первого акта, тревожный и торопящийся, в финальной части — убегающий, донельзя убыстренный. Хореографически он поставлен находчиво и точно.
Вскоре после премьеры в заглавной партии выступила молодая танцовщица Екатерина Крысанова, работающая в театре четвертый сезон. Партнером был Дмитрий Рудаков, один из самых искусных танцовщиков труппы, всегда самостоятельный в своих трактовках. Но и Катя Крысанова достаточно самостоятельна — несмотря на свой облик послушной золотой медалистки, самостоятельна и всегда неожиданна: никогда не знаешь, как поведут себя ее героини, что придет самой ей на ум, что повелят делать руки или ноги. Дар импровизации дан ей от природы. Как и дар танцевальности — нерассуждающей, иногда безрассудной, захватывающей ее целиком. А Дима Гуданов, хотя тоже умеет играть теряющих голову молодых мужчин, на сцене — как артист — весьма разумен. Короче говоря, идеальная пара, идеальный союз дерзкой, мечтательной, порывистой, а по временам — очень веселой Золушки и сдержанного, но полного затаенных страстей Принца. И главная неожиданность заключается в том, что, танцуя «Золушку», оба они станцевали исчезнувший в «Золушке» сюжет предыдущего прокофьевского балета: «Золушка» — «Ромео и Джульетта», но с хорошим концом, как это и положено в сказке. Добавлю, что Екатерина Крысанова создана для шекспировских хореографических комедий. Со своим юмором, темпераментом, непосредственностью и
344
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
любовью к игре она была бы весьма уместной в «Сне в летнюю ночь», но ведь и в «Светлом ручье» она танцует нечто напоминающее шекспировских девушек из хороших семей, в поисках приключений сбегавших из дома. Тихоня с книжкой в руках (такой она предстает в первой сцене), надев маску, преображается, делает какие-то пугающие жесты, принимает образ какой-то опасной феи. И где маска, где лицо, не вполне ясно.
ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ
Такого балета в репертуаре Большого театра сейчас нет, хотя в 1965 году начинающие балетмейстеры Наталья Касаткина и Владимир Василёв — впервые в нашей стране — поставили балет Стравинского с Ниной Сорокиной и Юрием Владимировым в главных партиях, совсем необычных для тогдашней академической сцены. И оба они блестяще справились со своими испуганными танцами (Избранница—Сорокина) и диковатыми прыжками (Пастух—Владимиров). Но, повторяю, такого балета в репертуаре Большого театра давно нет, зато есть балет Твайлы Тарп «В комнате наверху», а в нем на самом заметном месте Наталья Осипова, совсем молодая балерина. И балет американки, и танцующая москвичка (она прежде всего) вызывают ассоциации, прямо или не очень прямо связанные с образами «Весны священной» или просто-напросто с этими двумя словами. «В комнате наверху» по первому впечатлению — типичный американский марафон, танцы до упаду, в своем рисунке, бросках и поддержках использующие весь современный молодежный
345
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
танцевальный сленг, от рока до рэпа. Это мгновенно захватывает зрительный зал и самих артистов. Все они выкладываются сполна, а Наталья Осипова так даже больше. В этой пестрой компании она заводила. По-мальчишески смелая, по-девчоночьи гибкая, она и с парнями своя, и с девчонками на своем месте. Она танцует то не повторяющееся больше, поистине весеннее состояние женщины-подростка, когда женщина уже требует своего, а подросток еще не исчез, еще и в душе, и в теле. И глядя на весь этот карнавал танцовщиц и танцовщиков в красных майках, кедах и полосатых черно-белых штанах; следя за этими мальчиками и девочками, рвущимися друг к другу, но не умеющими друг друга удержать, понимаешь, что «Комната наверху» вовсе не только типичный танцевальный марафон, а своеобразный парафраз «Весны священной» Мориса Бежара и Пины Бауш. Или же переложение на язык танца и на современный лад Ведекинда и даже Боттичелли, особенно у Натальи Осиповой, в тот именно момент, когда ее первобытные прыжки прочерчивают траекторию изумляющей высоты, словно бы эти прыжки устремлены куда-то в поднебесье.
Впрочем, первобытная сила в классических pas de chat — это не «Комната наверху», это «Класс-концерт», а прежде всего «Дон Кихот», главное пока событие в жизни Наташи.
История почти из мюзиклов или оперетт. Отправившись на летние гастроли в Лондон в ранге «танцовщицы 2-го кордебалета» (низший ранг в труппе), она вернулась домой увенчанная титулом «новой Плисецкой». И все решило лишь одно выступление, лишь одна роль в старинном «Дон Кихоте». Правда, в Большом театре этот заслуженный балет никогда не выглядел архаично, а На
346
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
таша Осипова сообщила ему некую новизну, некую новую актуальность. Это был «Дон Кихот» XXI века. Или иначе, «Дон Кихот» эпохи Форсайта. Балет, складывающийся из вспышек энергии. Балет невероятной и почти опустошающей интенсивности. Балет-праздник, балет-подвиг и просто веселый балет. Говорю так не потому, что видел лондонский спектакль, а потому, что трижды видел «Дон Кихот» с Осиповой в Москве и не колеблясь назвал ее выступление (в анкете газеты «Культура») самым ярким дебютом сезона. Но известно: у нас верят тому, что говорят и пишут там. А тут мои слова вызвали недоверие и насмешку. Конечно, — сказала одна из коллег, — у нее такие красивые глаза. А другая написала, что Осипова «сигает» по сцене. Глаза и вправду удивительные — огромные, горящие, андалузские. А в прыжке она не «сигает», а что-то сжигает и что-то творит, творит в воздухе на больших диагоналях. Кинжальные и фигурные прыжки Осиповой в первом акте «Дон Кихота» — событие художественное и хореографическое, они захватывают своей страстностью, своей красотой, скрытым, пока еще дремлющим драматизмом. Воспоминания о Плисецкой рождаются само собой: здесь тоже, подобно тому что было у молодой Майи, некий сдвиг танца со своей академической оси в сторону более современных форм неакадемического балета.
И здесь же непривычная эмоциональная полнота, буря в крови, страсть к ошеломляюще быстрым темпам. В ошеломляющем темпе она делает двойные туры в воздухе, двойные туры на полу, двойные фуэте в финальной коде. Быстрые темпы — стихия Наташи, для нее быстрые темпы — совершенно естественный способ пребывания на сцене. Говоря о том, какое новое слово произнесла юная дебютантка, я бы перечислил сразу несколько слов:
347
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
отчаянность, острота, экстатичность. Небольшая поэма экстаза — вот что такое у Осиповой «Дон Кихот». Точнее сказать: первый акт «Дон Кихота». Акт площадной, веселый, бравурный. Испанская площадь — ее дом родной, она воспламеняется и воспламеняет всех: толпу, зрительный зал, партнеров, своим взрывчатым темпераментом, бесчинством вакхических прыжков. То, что мы видим, — это идеальный союз вакханалии и классического танца.
В последнем же акте — это акт во дворце — она и танцует двойные фуэте, принося в сонный дворец энергию площади, бунтарский дух и словно бы память о молодежных движениях недавних лет, словно предвестье молодежных движений предстоящих.
Кажется, что в «Дон Кихоте» Наталья Осипова танцует свою собственную ситуацию — танцовщица на пороге. Неспокойные силы бродят в ней, и с этими бродящими силами она то справляется, а то справиться не может. Ее дансантные и ее артистические возможности велики — это не вызывает сомнений. А что будет дальше — зависит не только от нее. Пока что все складывается как нельзя лучше.
НЕДОСТУПНАЯ ЧЕРТА
Двухсерийный фильм Ефима Резникова «Пленники Терпсихоры», в полном объеме показанный в Доме кино, совсем не похож на тривиальные балетные кинопортреты. Хотя это тоже портрет, в обоих случаях — двойной: в первой серии, снятой в 1994 году, на экране диалог педагога и ученицы; во второй серии, снятой спустя десять лет, на
348
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
экране диалог балерины и хореографа, он же партнер, он же философ современного свободного танца. Балерина, а в первой серии ученица — Наташа Балахничева, ныне работающая в Москве, в театре «Кремлевский балет». А педагог — знаменитая Людмила Сахарова, возглавляющая Пермскую балетную школу. Сюжет первого фильма простой — Сахарова готовит Балахничеву к международному конкурсу, проходившему в Петербурге в 1994 году, и уже после первых же эпизодов возникает непобедимое желание: знаменитого педагога хочется — как бы это выразиться помягче — устранить. Бог простит меня за эти слова, но слышит ли Он те слова, которые использует всесильная воспитательница в работе с безответной и кроткой ученицей? Слова эти по-уличному грубы, еще грубее злобная интонация, с которой они произнесены, и кажется, что в репетиционном классе последнего десятилетия XX века воскресают нравы и сам дух крепостного театра допушкинских времен. Там, впрочем, унижали, даже пороли, но, по крайней мере, хорошо учили. А хорошо ли учат здесь? Понять нелегко, понятно лишь то, что загубить талант подобной педагогикой — педагогикой грубости — совсем не трудно. И если прославленный педагог, как кажется, убежден в том, что полезно пройти столь суровую школу, то фильм Ефима Резникова убеждает в другом: подобного рода оскорбительный опыт опасен и вреден.
Но фильм, и в этом его главный интерес, не о профессиональной педагогике или не о профессиональной педагогике только. Второй план фильма — психологический, экзистенциальный и представляет нам диалог кричащей силы и молчаливой слабости в неожиданном свете. Сильная женщина-тиран потому так кричит, так груба и так несправедлива, что не может добиться своего — не может
349
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
до конца овладеть послушной душой, до конца подчинить себе слабенькую девушку-подростка. Говоря пушкинскими словами, меж ними есть недоступная черта, за которой власть властолюбивой Сахаровой не простирается. Говоря попросту: нашла коса на камень, хотя какой камень эта нежная вилиса, самая нежная вилиса в современном отечественном балете, эта деликатная танцовщица, которую невозможно представить себе с камнем за пазухой. И все-таки есть твердый корень в глубинах ее души, что и позволило не согнуться, стерпеть и не бросить все на полдороге. Она ведь из-под Вятки, из тех уральских мест, которые в давние и не очень давние времена оказывались на пути захватчиков с Юга и Востока и где люди умели превозмочь лихолетье, пережить иго и не утратить свой образ. Конечно, там эпос, национальная история, а тут частная жизнь, биография одаренной артистки, но законы выживания здесь сходные, и сходен таинственный механизм внутреннего сопротивления, позволяющий оставаться собой.
Этот танцевальный механизм не портится и теперь, когда Балахничева уже несколько сезонов работает в Москве, в театре «Кремлевский балет». Здесь она станцевала свои лучшие балеты, здесь окончательно сформировался ее стиль и здесь она с неочевидным упорством — отстаивает свой путь, одинокий путь лирической танцовщицы, чуждой какой-либо агрессивности, каких бы то ни было злых поползновений. При этом она вовсе не кажется старомодной. Ей дан дар романтической линии, по-старинному протяженной, но и по-современному четкой, даже графичной, даже несколько заостренной. Душевная мягкость танцовщицы изливается в череде больших и красивых поз, — искусный рисунок этих поз особенное
350
МОСКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
впечатление производит в «Лебедином озере», в «белом» акте, в партии Одетты. В этой партии, как и в других (Жизель, Джульетта), Балахничева сталкивается с ситуацией, драматичной и очень не легкой. Вокруг вражда, ожесточение, и все окружающее: Злой гений, Повелительница ви-лис, злобные Капулетти — стремятся вовлечь ее героинь в роковые перипетии этой вражды, заставить молоденьких барышень угрожать, мстить, ненавидеть. Это, конечно, не совсем обычный, но очень современный конфликт, здесь классика становится актуальной. А для Балахничевой эта ситуация, ситуация испытания, приобретает особенный смысл — судьба и здесь, в театре, в Москве, испытывает ее на верность и на стойкость. Нечего и говорить, что поэтические героини Балахничевой умеют за себя постоять и что лирика ее не безвольна.
Но нашелся танцовщик и хореограф, работающий в США, адепт так называемого свободного танца, который захотел приобщить Балахничеву к этому танцу, а заодно и преподать ей урок внутренней свободы. Это негритянский артист Билл Т. Джонс, философ движения, полагающий, как можно предположить, что классический танец актуальным быть в наше время уже не может и что свободы можно достичь только на путях новой пластики и новой формы. Урокам Билла Джонса и посвящен второй фильм Резникова «Пленники Терпсихоры», и этот фильм тоже чрезвычайно интересен. Тут тоже дуэт, хотя без прямого насилия, — педагог предельно строг, но и предельно деликатен, а ученица по-прежнему послушна и терпелива, принимает все правила игры, готова последовать за учителем, готова — хотя бы временно — принять новую веру. Но! Опять-таки возникает неуловимая дисгармония, недоступная черта, переступить которую
351
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
настойчивый учитель не способен. Становятся видны границы его декларируемой свободы, становится очевидным, что подлинной внутренней свободой владеет в этом дуэте только она, покорная московская танцовщица, и что самодовольному нью-йоркскому мэтру есть чему и у нее поучиться. Он это понял, судя по всему. Больше в ее жизни он не появился.
Так складывается жизнь одаренной и обаятельной классической балерины. Совершенно лишенная какой-либо воинственности, а тем более — склонности к капризам, она тем не менее позволяет себе слушать себя, иногда только себя. В балетном театре это, как мы знаем, не поощряют. Расплачиваться приходилось многим — партиями и ролями.
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
ЯВЛЕНИЕ ШЕЛЕСТ
Холодным вечером полвека назад я впервые увидел Шелест на сцене Мариинского театра. Было это на премьере «Спящей красавицы» К.Сергеева—М.Петипа, в марте 1952 года. Как будто совсем недавно, как будто только вчера: на улице снег, промозглый мартовский ветер, плохо освещенный город, темный по ночам, — и ослепительный Вирсаладзе-сценограф, и вдохновенная Шелест—Сирень. И в самом деле оттепель, и в самом деле сирень, и в самом деле весенняя песня. «Весна света», то есть ранняя весна, как сказал бы на своем языке Михаил Михайлович Пришвин. Врожденный ассоциативный талант Шелест (о чем я догадался много лет спустя) позволял ей и здесь наполнять отвлеченный хореографический текст красочным образным подтекстом. Эффект был нагляден и очень велик: традиционное явление феи Сирени из люка стало в тот вечер явлением новизны среди архаики и стертых красок, несколько подновленных, — новизны подлинной и очень живой, но и очень хрупкой. Это ведь и заложено в хореографии «Спящей красавицы», эта тема и задается в Прологе. У Шелест она приобрела захватывающую настоятельность; смысл Пролога, как и смысл всего балета, открывался с неожиданной остротой и в связи с вековечными вопросами отечественной жизни: когда же придет
23 — 940
353
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
настоящий день, когда же уйдет день вчерашний. Ожидание стало эмоциональным содержанием «Спящей красавицы» Шелест — ожидание героя, ожидание призыва судьбы, постоянная готовность к взлету. Это и есть вообще главная характеристика дансантного образа Шелест. Готовность к взлету делало столь одушевленными все ее партерные эволюции, готовность к взлету наполняла всю ее жизнь. Взлеты, и очень высокие, происходили, а иногда и нет; герой появлялся, а потом исчезал, оказывался отступником, отрекался от своей роли героя; ожидание судьбы затягивалось, что могло привести к неожиданным и мрачным надрывам. Однако тогда, мартовским вечером 1952 года, все произошло как во сне (а как иначе может что-либо происходить в «Спящей»?), как в сказке. Центральную вариацию феи Сирени — в которой все и было высказано до конца — Шелест танцевала вдохновенно. Не так, как ее танцевали другие, самые замечательные балерины. Здесь был иной, укрупненный масштаб, но при этом иная мера утонченности, а главное — иной ритм, иная, почти неуловимая ритмическая структура. Не расчленяя текст на фразы или полуфразы, но и не смазывая отдельных поз, Шелест проносилась по диагонали сверху вниз на одном дыхании и в едином порыве. Ничего умиротворяющего не было ни в движениях ее рук и ног, ни в звучании оркестра: здесь был тот редкий случай, когда дирижер — и еще какой: великолепный и властный Борис Хайкин — следовал за танцовщицей, подчинив оркестр и себя ее интуиции, ее темпераменту и ее темпам. Неумиротворенная фея — это, конечно, удивляло, захватывало, ошеломляло, но это и есть Алла Шелест. Неделю спустя я видел ее Аврору: абсолютная лучезарность в первом акте, и тайная неумиротворенность — во втором, неумиротво
354
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
ренное видение, неумиротворенная нереида. Потом была «Баядерка» — неумиротворенная тень, еще потом «Жизель» — неумиротворенный призрак. А побывав однажды в гостях у Шелест, я понял, что мира не было в душе у нее, да она и не искала душевного покоя.
Тому было много причин: и психологическая предрасположенность, и ситуация Шелест в отечественном балете. Она не была балериной плеяды — ни первой волны, от Семеновой до Дудинской, ни второй, от Колпаковой до Комлевой, не принадлежала к художественному типу ни старших коллег, ни младших. Предельно упрощая, можно сказать, что первые олицетворяли собой героический тип, вторые — лирический, а в Шелест жило отчасти то, а отчасти и другое, в чем и состояла ее особенность. Ее уникальность. Героическая энергия 20-х годов в ней сохранялась во всей чистоте, хотя и не на таком уровне виртуозности, как у тех, первых, легендарных, но зато неотделимо от лирических прозрений, лирической печали и даже лирических разочарований 50—60-х годов, что тоже выражалось ею очень по-своему, в открытой форме. Подобно Улановой Шелест была балериной одинокого пути, с той разницей, что у Галины Сергеевны в ее лучшие годы были балетмейстеры и балеты, а у Аллы Яковлевны — не было, кроме трех сезонов (из двадцати пяти), когда после войны с ней работал Якобсон, а до войны ее заметил и оценил Чабукиани. Беда заключалась и в другом — в отсутствии вокруг подлинной художественной жизни. Поколение великих, о которых вспоминали мы, окружал театр, хоть и клонившийся — и не по своей вине — к упадку. Поколение более молодых вступало в жизнь почти одновременно с тем, что можно считать возрождением отечественного театра. БДТ быстро становился лучшим театром страны — после «Идиота» и
23*
355
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
«Пяти вечеров», ожила жизнь и на некогда знаменитом «Ленфильме». В Эрмитаже открылись залы нового французского искусства. Вошедший в анналы концерт дал в Филармонии Глен Гульд. По Невскому гулял еще мало кому известный Иоська — будущий нобелевский лауреат Иосиф Бродский. А вокруг Шелест не было почти никого. Почти никого! — сегодня это даже трудно себе представить. Никакого художественного контекста, а тот, что был, был нехудожественным, антихудожественным и в этом смысле — небезопасным. Время расцвета Шелест — профессионального, артистического, человеческого, физического, так называемое акме, — пришлось на годы послевоенного культурного мракобесия, ждановских докладов, запрета на музыку и на стихи, закрытия театров, гонений на художников, составлявших славу России. Шелест — балерина вакуума, трагической пустоты, исторического промежутка. Это стало ее актерской судьбой и ее актерской темой. Она вынуждена была опираться на собственную интуицию, на свой вкус, — постоянно отстаивая свое право на подобающее положение и на текущий репертуар и лишь мечтая о репертуаре другом, не текущем.
В недавно опубликованной книге Лопухова « В глубь хореографии» напечатана беседа Федора Васильевича со студентами Консерватории, и там он приводит список возможных ролей Аллы Шелест: Федра, Медея, Клитемнестра, древнеславянская Ольга и Клеопатра. Мой собственный список был чуть короче, но включал те же легендарные имена. И что же он означает? А вот что: это же репертуар великих трагедийных актрис великой классицистской эпохи. Тень Екатерины Семеновой возникает в 50-х годах, и не в Александрийском театре, где ее видел молодой Пушкин и описал в бессмертной прозе и бессмертных
356
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
стихах, но в Мариинском, на балетных спектаклях. И другая тень, гораздо более близкая нам, тень Алисы Коонен, великой — единственно великой — Федры XX века. Как и Коонен, Шелест отличалась несравненной сценической красотой — красотой облика и блеском лица, красотой выступки и великолепием жеста. Обе они отчетливо ощущали возвышенную красоту трагедийного жанра. И почти все их героини — натуры эстетически изощренные, эстетки до определенной поры, пока их не настигнет и не разрушит изнутри приступ отчаяния или гнева. Наум Яковлевич Берковский писал о Коонен, что она играла «влюбленных женщин и цариц», добавляя, что «царицы, сыгранные ею, тоже были влюбленные женщины». Это же можно сказать и о Шелест, на сцене поразительно, как младшая сестра, напоминавшей Коонен. А в разговоре со мной не отличавшаяся особой добротой Алиса Георгиевна выделила лишь двух балерин: Тамару Карсавину—Жизель и Аллу Шелест—Зарему.
Теперь вернемся на землю с заоблачных высот и оценим то, что происходило в реальной жизни. Вместо нового Жан-Жоржа Новерра — Константин Михайлович Сергеев, вместо трагедии — сказка, вместо Эсхила — Перро, вместо Клитемнестры — Злюка. Вместо колхидской колдуньи Медеи, внучки Гели оса, внучки Солнца — комсомолка Гаяне, дочь председателя колхоза. Вместо летописца — Ершов, вместо древнеславянской княгини Ольги — глупенькая Царь-девица. Можно лишь догадываться, какие бури бушевали в душе великой артистки. Ей было совсем нелегко — с ее гордостью, с ее ясным сознанием своего художественного и своего интеллектуального превосходства. «Если ты такая умная, сделай пять туров без поддержки», — процитировала она мне чьи-то слова, горько усмехнувшись.
357
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Пяти туров без поддержки она не делала никогда, как и четырех, да и трех — техника вращений не была ее сильной стороной. Прыжки — да, элевация — да, тут никто с ней не мог сравниться. Элевацией, возвышающим духом своим она наполняла все те роли, которые посылала ей судьба и которые предлагал главный балетмейстер. Ничего не меняя в хореографическом тексте партий, Шелест выстраивала их так, что получалась некоторая гастрольная роль, возникал некоторый иллюзорный артистический текст, некоторый спектакль в спектакле. Подчеркнуто резко начинал звучать мотив отделенности — внешней, сценической, и внутренней, психологической. Везде одна, горделивая, даже высокомерная, умеющая не замечать всеобщей вражды, — впечатление вражды Шелест сама же очень искусно создавала. Иными словами, Шелест играла и за себя, и в большой степени — за кордебалет, особенно это эффектно получалось в кордебалетных сценах «Бахчисарайского фонтана». Зарема — вообще одна из ее лучших ролей; играя ее, она ошеломила Москву в своем единственном (если не ошибаюсь) посещении Большого театра. Еще раз вспомним классические слова: «влюбленных женщин и цариц», — это, конечно, не love story из современных кинофильмов. С любви все начиналось в спектаклях Шелест, любви по-весеннему просветленной. Какой дар приносила Шелест—Сирень маленькой Авроре? Ясно какой — дар любви, любви необыкновенной. А как Шелест могла это танцевать? Тоже ясно: эмоциональный подтекст танцев феи был таким ликующим и был так напряжен, что ожидание любви становилось понятным всем зрителям и всех захватившим состоянием Пролога. Но Пролог — на то и пролог, сказочно прекрасное начало. В других главных балетах Аллы Яковлевны изображался конец, тупик, эпилог,
358
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
абсолютная невозможность, проступала затемненная сторона ее весенней музы. С цветаевской яркостью, но и по-цветаевски яростно Шелест играла великую страсть и великую катастрофу страсти, измену героя, который предпочел ей покой, предательство спутника, которого поманила тихая пристань. Даже нежную «Жизель» Шелест наполнила горечью подобной судьбы, острым чувством оставлен-ности, смертной тоской, не утихающей и в другой жизни. А не столь деликатная «Баядерка» сама настраивала на экстатичеки-отчаянный тон. Но именно здесь, в старенькой и не стареющей «Баядерке», трагедийные масштабы творчества Шелест обнаруживали себя во всей полноте и ясно обозначился смысл ее эстетизма. Она танцевала так, как будто в ее сознании присутствовал исчезнувший (лишь недавно восстановленный) последний акт — акт крушения, акт катастрофы. Сама красота ее Никии — гибкая, горестная, предзакатная красота — предвещала недоброе, заставляла ждать неблагополучного финала. В преддверии катастроф, у порога гибнущих царств появляются подобные вестники неведомо для себя, подобные ослепительные красавицы, окруженные неуловимым гибельным ореолом. Такой была Никия—Шелест в балете Мариуса Петипа, и такой стала ее Эгина в балете Леонида Якобсона.
Эгина занимала особое место в списке ролей Шелест, как и балет «Спартак» в истории Мариинского театра. Поставленный в 1956 году, в канун нового 57-го года, балет и в самом деле демонстрировал новизну, возвещал наступление оттепели в балете, в искусстве и в жизни. Свет долгожданных перемен осветил весь этот монументальный и яркий спектакль, рассказывавший достаточно мрачный рассказ — о триумфах и неминуемом падении роскошного и опустошенного Рима. Якобсоновский Рим — «город
359
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
женщин», прельстительных и порочных, и в центре его — не триумфатор Красс и не гладиатор Спартак, а гетера Эги-на. Гетера-аристократка и эстетка, с безупречным художественным вкусом, утонченная в своем ремесле, презирающая мужланов, тайно ненавидящая мужские ласки. Для эротического сознания балетного театра тех лет подобная перверсия казалась совершенно немыслимой смелостью, полностью невозможной краской, — но Шелест была не из пугливых. Она пошла даже дальше, создав загадочный персонаж, в котором лживо все: чарующие улыбки, легкий танец, легкое сияние, ласковые жесты, — все имитация, все обман, кроме жестокости и затаенной скуки. Гладиаторы убивали друг друга, а женщина, героиня Шелест, убивала в себе божественный дар любви и оберегала лишь божественное тело. Телесная магия, данная Шелест от природы и которую Якобсон высоко ценил и умело использовал (поставив с ней два номера «Триптиха» на музыку Дебюсси и на темы Родена), эта телесная магия стала главным инструментом танцовщицы и здесь, в «Спартаке», основой ее власти и тайной неочевидной свободы. Пойдя навстречу балетмейстеру, сблизив танец и пантомиму, как это всегда делал Якобсон, Шелест приоткрыла завесу над некоторыми секретами своего ремесла: она — классическая балерина музыкального типа с некоторым сдвигом к импрессионизму. Якобсон все это видел, понял, а может быть — угадал. Он был вообще разгадчиком профессиональных тайн молодых и не очень молодых артистов.
Но Якобсон оставался в труппе недолго, недолгая оттепель отошла, и Шелест вновь погрузилась в атмосферу театра — атмосферу, странно сказать (имея в виду ленинградскую эпопею), легкомысленную, где тон задавала Наталья Дудинская, ее историческая соперница, которая и танце
360
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
вала заглавную партию в том самом спектакле, где Шелест танцевала Пролог. Ничего подобного больше я не видел. Возбужденный зрительный зал, расколотый надвое, на поклонников Аллы, на поклонников Тали, в равной мере неистовых, нетерпимых и нетерпеливых. Овации обрушиваются в зал задолго до появления балерин и за много тактов до завершения сольных вариаций. Сами балерины — в исключительной форме, такой, какая достигается в жизни всего несколько раз, и при этом совсем не похожи друг на друга. Сближает только одно: профессиональная патетика, патетическое отношение к своему ремеслу, к самому факту появления на сцене. Все остальное лишь различает: так может различаться искусство, счастливо лишенное каких-либо рефлексий, каких-либо комплексов на свой счет, от искусства, которому полное счастье не дано, в котором все неспокойно, все в глубине, все нервы, все мысль — хотя все в отточенной и даже праздничной форме. Соперница — это, конечно, неоимператорский балет, победоносный и сверхвиртуозный, в прежней силе. При этом не слишком традиционный, без претензий на аристократизм, что только его красит. Принцесса Аврора, напоминающая принцесс наших дней, лошадниц и автомобилисток. Напоминающая своеволием, смелостью и азартным спортивным уклоном. А более всего — жаждой движения, на чем основывается ее «Спящая», как и ее лучший балет — «Дон Кихот», что, собственно, и лежит в основе классического балета. Ненасытная жажда движения — профессиональная черта Дудинской, ненасытность во всем — самая яркая психологическая краска. Ненасытность в турах и прыжках, ненасытность в репертуаре. Танцуется и то, что идеально подходит, и то, что не очень подходит, и то, что не подходит вовсе. И сами ее героини — точно так же
361
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
ненасытны, точно так же легки на подъем, точно так же подвижны. Замечательно выглядело адажио с четырьмя кавалерами из первого акта «Спящей»: секундное внимание каждому из них, а затем бегство от всех, побег ради побега. Ярчайшее достижение Дудинской — насыщенная дьявольской энергией и даже дьявольским духом сцена Одиллии, сцена бала: мгновенная вспышка, короткий роман, и вот уже ее нет, худощавой шатенки, несущейся во весь опор в поисках новых жертв, новых авантюр и новых приключений.
А Шелест — самая романтическая фигура в русском балете середины XX века, — если и неоимператорский балет, то только отчасти, неоимператорский балет не в его победоносном, не в его виртуозном блеске. Размышляющий императорский балет и уже потому обреченный. Не столько блистательный, сколько прекрасный: театр поэта середины века. В недрах движения — не витальная сила, но священный огонь, в текстах танца — невероятная интенсивность. Современный, весьма изощренный пластический слог, современная — одинокая — фея. Совсем не сильфида, центральный персонаж поэтического балета прошлых эпох, скорее вая-тельница (вспоминается тот изгиб стана, которым она поражала в «танце со змеей»), скорее избранница, с одной, но пламенной страстью в душе, до конца преданная своему выбору, своему божеству, своему искусству. И полная внутренних видений — в чем ее главный, счастливый и мучительный дар, тот дар, которым она одаривала посвященных.
Тема видений вошла в искусство Шелест задолго до того, как с подобной темой соприкоснулся в «Легенде о любви» Юрий Григорович. К сожалению, премьеру танцевала не она. Нелишне добавить: погружение в собственный внутренний мир, в глубины подсознания и даже в творческие
362
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
сны — весь этот комплекс, столь естественный в одиночестве, почти кромешном, оказался открытием балерины, поддержанным балетмейстером, что нарушало обычную логику балетных открытий. И поразительно: творческая интуиция сблизила Шелест с далекими авангардистками из круга Марты Грэхем (танцевавшей, кстати сказать, почти весь предложенный Лопуховым воображаемый репертуар Аллы). Но те были чистыми визионерками, а Шелест — нет, Шелест включала свои видения — светлые и сумеречные, радостные и роковые — в рациональные конструкции классического танца. Она была слишком умна, чтобы стать чистой визионеркой. И слишком дисциплинированна — как образцовая классическая балерина.
Ситуация, описанная мною, уже случалась в Мариинском театре, и в наиболее чистом виде — в 900-х годах, когда блистательная Кшесинская олицетворяла императорский балет, а прекрасная Павлова — театр поэта. Тогда Павлова, после недолгой борьбы, взяла верх: она была моложе, да и век классического императорского театра уже кончался. А вскоре та и другая оказались в Европе — Кшесинская не по своей воле и в конце концов переехав в 1929 году в Париж, а Павлова поселившись в Лондоне в 1913 году, совершенно намеренно и надолго. Кроме сознательных личных причин ей руководила безотчетная творческая причина: Павлова стала первой из танцовщиц Мариинского театра в XX веке, которой показались узкими границы единственной, пусть и родной школы. Полвека спустя так поступит Нуреев, а вслед за ним — и другие, и никого, кроме бессовестных лицемеров, это не удивит, никому не покажется художественным вероломством. Никому, кроме нее — Аллы Яковлевны Шелест, самой свободной — если не единственно свободной — балерины послевоенного Ленинграда. Конечно, она
363
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
не скажет этого вслух, также как не признается себе, что границы Мариинского академизма узки и ей, что в этих границах хорошо лишь Дудинской и поэтому Дудинская всем вершит, а не потому только, что представительствует от имени власти. Нет, она будет нести свой крест до конца, до конца отстаивать свою роль — последней подлинно вагановской балерины. Ненужная сложность, неоцененная и горделивая верность, оставшийся без ответа призыв. Шелест танцует, учит, репетирует, советует, дает интервью. Ее мало кто слышит.
Последний раз я встретил Аллу Яковлевну в фойе Мариинского театра, после очередной премьеры. Неутомимая Галина Мшанская попросила нас высказать свое мнение, и мы оба дожидались, пока телевизионщики установят аппаратуру. У меня сжалось сердце, когда я увидел ее; маленькая, сухонькая, старенькая, лишь глаза горели прежним огнем. «Я им всем скажу, — прошептала она мне. — Это же не Ваганова. Все упрощено! Все так примитивно!» И твердым шагом направилась к телеобъективу. Я приблизился, стал слушать: Шелест говорила о том, как все хорошо танцуют. Кончив говорить, она обернулась, увидела меня, пожала плечами и со словами: «А, все равно. Кому это нужно», — медленно пошла к выходу, к ожидавшей ее машине.
ГРИГОРОВИЧ И ВИРСАЛАДЗЕ
Это был самый прочный и самый плодотворный альянс в истории советского балета. И самый продолжительный — почти тридцать лет. Начиная от первой совместной работы («Каменный цветок», 1957) и до последней
364
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
(«Раймонда», 1984), всего было поставлено двенадцать балетов, если считать и две совершенно различные редакции «Спящей красавицы». Оба они, и хореограф, и художник, замечательно дополняли друг друга. И оба друг другу были нужны. Вирсаладзе до встречи с Григоровичем был блистательным мастером на все руки, но почти без своего лица и без своей темы. А Григорович после ухода Вирсаладзе заскучал, стал постепенно терять вкус к напряженной работе. Сотрудничество с талантливым, но внутренне чужим Левенталем его не увлекало. А до того, и прежде всего в конце 50-х и в начале 60-х годов, столкновение столь ярких индивидуальностей и столь горячих натур, какими были молодой Григорович и зрелый Вирсаладзе, зажигало огонь такой силы, что позволяло поклонникам говорить о времени Фокина, Бенуа и Бакста. Поклонниками, кстати сказать, были самые авторитетные в ту пору люди: Лопухов, Гусев, Слонимский, Красовская, Карп — в Ленинграде; молодая, умная и талантливая Наташа Чернова — в Москве. И даже рано погибший Матвей Иофьев успел написать несколько, как всегда, точных, красивых и пророческих слов о дуэте из «Каменного цветка», показанном на Всемирном фестивале молодежи.
Дуэт и в самом деле хорош — напряженное и страстное столкновение двух воль, женской и мужской, тиранической и свободной, — ничего общего с анемичными по-лупантомимными драмбалетными псевдодуэтами. Сразу же заговорили о «симфоническом танце», о долгожданном возвращении танца в балет; нельзя было не заметить, насколько этот прокофьевский спектакль свободен от скуки и мертвечины. Поставленный в малахитовых тонах, «Каменный цветок» поражал свежестью своих красок — и пластических, и психологических, и собственно
365
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
декоративных. Весенний дух наступившей оттепели выражался здесь прямо.
Однако певцами оттепели оба они, Григорович и Вирсаладзе, не стали. Что сразу отделило их от так называемых шестидесятников, от всяческих иллюзий, и возвышенных, и наивных. Следующий балет «Легенда о любви» (1961), решенный в черных и красных тонах, начинался с картины болезни: присмерти лирическая героиня, младшая сестра царицы, и эта метафора значила очень многое и сохранила свою власть надолго. Нечто больное было уловлено в воздухе времени, в атмосфере города, в атмосфере великого театра. Недаром в это же время из него стали бежать (и не только за границу) знаменитые, преуспевающие артисты. В те же годы ушли и они — Григорович сперва в Новосибирск, а затем в Москву; Вирсаладзе сразу в Москву, где поначалу все гибельные тени отступили. Но потом обступили вновь — в спектакле о безумце на троне.
Но это действительно было «потом». Пока что тридцатилетнего балетмейстера и пятидесятилетнего художника сблизило и надолго связало одно общее дело. Они начинали если не как мятежники, то, во всяком случае, как нонконформисты. Официально признанный балет отгородил себя и от прошлого, от балетных исканий 20-х годов, и от современности, какая утверждалась в 50-х годах на балетных сценах Америки и Европы. Вот эту стену надо было разрушить, и она была разрушена надолго. Григорович и Вирсаладзе изменили сам визуальный облик балетного спектакля. На место толчеи на подмостках, плохо организованных массовок, обозначавших условный (и тайно презираемый) народ, пришли две-три фигуры, похожие на два-три живописных пятна на полупустой, искусно декорированной сцене. Сразу же выяснилось, что оба созда
366
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
теля этих экспрессивных спектаклей тосковали по театру романтическому, со сдвигом в некоторую тайну, с уходом и даже бегством из скучной обыденности, с повышенным интересом к необыденным персонажам — талантливым, страстным, тираническим, даже преступным И оба знали, как строить такой театр. Им не нужен был либреттист, в редких случаях использовалась популярная пьеса. Либретто создавалось или пересоздавалось сообща. Кто тут был автором, кто соавтором — трудно сказать, важно лишь то, что оба были драматургами, каждый в своей сфере. Григорович — хореограф-драматург, Вирсаладзе — декоратор-драматург, оба мыслили в категориях высокой драмы. Григорович выстраивал драматургию страстей, Вирсаладзе — драматургию тонов, и вместе искали возможность острых, необычных, а нередко и нежелательных конфликтов. И вместе вносили новые смыслы в классические балеты, которые давно шли: в «Лебединое озеро», в «Спящую красавицу», в «Щелкунчик». По отношению к классическим партитурам Чайковского (а отчасти и Глазунова) они выступали как комментаторы, как интерпретаторы, как толкователи положенных в основу сновидений. В итоге балетные театры сначала Ленинграда, а потом и Москвы вернули себе то, что было утрачено, — интеллектуальную проблематику, интеллектуальную остроту, интеллектуальную доблесть.
Этим доблестным мастером молодой Григорович и предстал перед нами в 1957 году. И тогда, и долгие годы спустя он и сам воспевал доблесть: доблестных художников, доблестных рыцарей, доблестных гладиаторов и даже доблестных царей, — в последнем случае (в балете «Иван Грозный») Григорович не был столь же убедителен, как в
367
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
первых. Иначе можно сказать, что он воспевал доблесть творчества, доблесть борьбы и сражений, доблесть мятежа, но и доблесть мести. Мстительными мотивами наполнен не только поздний «Иван Грозный», но ими полна и ранняя «Легенда о любви». Это был небезопасный мотив, который грозил подчинить себе Григоровича, сковать его художественную мысль и лишить главного природного дара — пластичности.
Пластичностью он поражал еще тогда, когда выступал в качестве артиста Кировского театра, и я хорошо помню необычно подвижного гротескового танцовщика в балетах его — в будущем — главного соперника и личного врага Леонида Якобсона и в амплуа, в котором на той же сцене выступал в начале 20-х годов Жорж Баланчивадзе.
Пластичностью поражали и его первые хореографические портреты.
Хозяйка Медной горы — Алла Осипенко навсегда вошла в анналы Мариинского театра. Ничего подобного по тонкости, властности, графической нежности, графической остроте мы не видели даже у Аллы Шелест. Эмблемой нового балета стала ее поза, полная настороженности, ожидания и угрозы, поза женщины-ящерки, любящей, мстительной и пугливой. Изумительная по рисунку и по состоянию поза, в которой все непринужденно играет, но все предельно напряжено и которая вся построена на контрастном сочетании вытянутых и полусогнутых линий. Подобную позу мог построить лишь портретист-хореограф, увлеченный постановкой модели: голову повернуть, правую руку вытянуть в сторону и в локте согнуть, левую согнуть у груди, прямую линию корпуса немного сломать с тем, чтобы портретистка-танцовщица, в данном случае Осипенко, все собрала, всему придала
368
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
искуснейший, но и естественный вид, что и получилось в 1957 году на премьере.
Четыре года спустя Алла Осипенко репетировала другую главную роль — Мехменэ Бану в «Легенде» и выстраивала другую позу-эмблему. Неожиданная болезнь помешала танцевать премьеру, но спустя какое-то время она получила то, что ей предназначалось и ею было вдохновлено. Здесь, конечно, иная пластика — жестко геометрическая, и образ тоже иной — страдающий и жестокий. Григорович соединяет несоединимое — партерную акробатику и персидскую арабеску (не имеющую прямого отношения к тому, что называется арабеском в классическом танце). Тем самым он соединяет акробатическую эстетику Лопухова 20-х годов и ориентальные фантазии европейского балета. Он создает идеальный пластический синтез. Притом что никаких прямых заимствований здесь нет. И никаких повторений. Это в буквальном смысле прорыв в еще не родившийся стиль, ожидающий своего творца, ждущий своего балетмейстера и поэта. И здесь, конечно, прорыв к совершенно новым темам.
Темы эти — личный вклад Григоровича в отечественный балет, отчасти перекликающиеся с тем, что было открыто уже в «Лебедином озере», в этом кладезе разнообразных — и в их числе еще не осознанных — открытий. Темы эти — гнет, угнетенность внешняя и угнетенность внутренняя, угнетатели и угнетенные, нередко в одном и том же лице, в одном сложно построенном персонаже. Драматический поворот темы — неспособность вырваться из этого заколдованного круга, стать свободным или свободной, что происходит в «Легенде» (судьба злосчастной царицы) или же в новой версии «Лебединого озера» (судьба злосчастного Принца) и, конечно же, в монументальном,
24 — 940
369
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
могучем «Спартаке». А счастливый поворот темы — в «Щелкунчике», самом радостном и, в сущности, единственно радостном балете Григоровича, в котором все счастливо удалось: и метафорический сюжет, и образная хореография, и дивертисмент кукол, и финальное па де де, и самое важное — образы главных героев, побеждающих страх (Маша), преодолевающих несудьбу и проклятие уродства (Щелкунчик).
В «Лебедином озере» за спиной героя, видимый нами и невидимый для него, действует Злой гений, некий «черный человек», теневой протагонист театра Григоровича. Это, конечно, емкий образ времени и смелый автопортрет, не лишенный ни трезвой откровенности, ни подлинного трагизма.
А в «Иване Грозном» всё договаривается до конца, теневой протагонист выходит из тени, становится реальным протагонистом. Злой гений России объявляется ее добрым гением, и царская месть освящается колокольным звоном. Этот мрачный, во всех отношениях московский спектакль означал демонстративный разрыв Григоровича со своим ленинградским прошлым Питерский нонконформист, возрождая большой московский стиль, становится апологетом необходимого зла, певцом «черного человека». А что же Вирсаладзе? Такой человек, как он, не мог стать ретроградом. Он и не стал им И не был в «Иване Грозном». Декорация балета — недвусмысленно черна, декорация страшного, непросветленного времени. Светильников, свисающих с колосников, здесь нет. Висят мрачные недобрые колокола. Может быть, мне кажется, в «Грозном» впервые нерушимый альянс Григоровича и Вирсаладзе дал трещину. Последующие их совместные работы («Ангара», «Ромео и Джульетта» и особенно «Золотой век») огорчительно без-
370
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
вдохновенны. Как кажется, балетмейстер потерял веру в себя, а художник — в общее дело. Остается рассказать и о нем. О Симоне Багратионовиче Вирсаладзе.
Это, конечно, светлое имя в истории отечественного балета. Его высоко ценили хореографы, с которыми он работал до Григоровича: и Вахтанг Чабукиани до войны («Сердце гор», «Лауренсия»), и Константин Сергеев после войны («Раймонда», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»). Его обожали артисты — за умение пойти навстречу (это касалось всегда деликатной темы в балетном театре — костюмов), за человеческое обаяние и специфически грузинский шарм, за мужское благородство. Ну а мы, критики и балетоманы, всю дорогу восхищались его талантом, многообразием его возможностей, длительностью полувекового творческого пути. А более всего — пленяющими особенностями его дара. Он, конечно, был декоратором милостью Божьей, театральным художником чистого стиля. Это было время монументальных фресок в духе все-таки блистательного Петра Вильямса, оно же время таких же монументальных, но убогих натуралистических подобий а 1а Тамары Старженецкой, занимавшей в начале 50-х годов важнейший пост главного художника Большого театра (как это могло случиться, сейчас уже невозможно понять). С одной стороны, имперские поползновения, с другой — мещанские потуги, и объединяло то и другое одно: внутренняя холодность. Находиться в этих дворцах и жить в этих хижинах не хотелось. А Вирсаладзе был совершенно иным. Используя профессиональную терминологию художников, различающих холодные и теплые тона, можно назвать Вирсаладзе художником теплым. А можно назвать иначе: декоратором-лириком.
24*
371
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Лирическая атмосфера, им создававшаяся, одушевляла самые бездушные спектакли. Она одушевляла и его собственную трагедийную палитру.
Многое в искусстве Вирсаладзе объясняет профессиональное образование, которое он получил, учась и в Тбилисской, и в Ленинградской Академии художеств, и в Московском Вхутеине (Тбилиси, Ленинград и Москва — это и три города, где он работал). Иначе говоря, в нем совместились три направления 20-х годов, соединились три школы изобразительного искусства: тбилисская буйно колористическая, ленинградская строго академическая, московская инженерно-конструктивистская. Красочность, рисунок, макет — три составляющих его манеры, которыми он владел виртуозно и варьировал как хотел. Как было нужно. Поэтому ему легко работалось с разными людьми — а кроме названных были еще Лопухов, Вайнонен, Анисимова, Фенстер, Гусев, видные представители ленинградского балетмейстерского цеха. И столь же легко на крутых поворотах его собственной профессиональной судьбы, в пору резких зигзагов в судьбах отечественного балета. Он родился в 1908 году, на три года позднее Ростислава Захарова, на два года позднее Леонида Лавровского и на два года раньше Константина Сергеева и, стало быть, принадлежал к одному поколению, что и лидеры нашего драм-балета, а с Сергеевым так даже работал много сезонов. И что удивительно: к пятидесяти годам все эти корифеи 30—40-х годов начали сдавать и вскоре совершенно выдохлись, шли от поражения к провалу, а Вирсаладзе именно в районе пятидесяти лет пережил творческий взлет, который длился еще лет десять. По-видимому, он дожил до времени, которое ждал. Восприимчивый человек, он принял и мгновенно освоил новые возможности театрального
372
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
дизайна. Декоративное роскошество, отличавшее — а может быть, и тяготившее его — не померкло, вовсе нет, но перестало главенствовать и заместилось декоративной образностью, легкими, выразительными и непрямыми ходами художественной мысли. Я не случайно повторяю слово «мысль»: прирожденный театральный живописец, Симон Вирсаладзе, работая с Юрием Григоровичем, вовлекал и его, и себя в сферу увлекательной интеллектуальной игры, в область декоративно-пространственных метафор. Сценография Вирсаладзе этих лет наглядно формирует ассоциативный ряд, искусно направляет движение спектакля. Самый яркий, почти хрестоматийный пример — «Легенда о любви», где художник создает декорацию в виде раскрытого расписного ларца или же раскрытой иллюстрированной книги, но выстраивает ее так, что она занимает лишь небольшое место на пустом заднике сцены. Возникает декоративное подобие персидской миниатюры. А свисающие с колосников большие светильники создают дополнительный эффект, дополнительную игру смещенных масштабов, а кроме того, и это главное, освещают сцену неярким таинственным светом. Сходный эффект Вирсаладзе использовал и позднее, в «Лебедином озере», где действие переносилось из дворцового зала на озеро, но где-то вверху, в каком-то сказочном поднебесье, горят миниатюрные люстры, не гаснущие ни при сумеречном свете озера, ни при праздничном освещении зала. Что это значило, каждый зритель мог решать сам, но очевидно, что подобные анахронизмы — электричество и рыцарский двор, лампочки и волшебное озеро, — чуть ли не по-брехтовски нарушавшие единство среды, создавали особое, очень по-новому выглядевшее художественное пространство: пространство лирики и пространство мысли.
373
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Не меньше Вирсаладзе преуспел в конструировании костюмов, особенно женских. Он, как кажется, первым у нас воспользовался опытом художников Баланчина, одевавших балерин в облегающее тело трико, чаще всего черного, но нередко и телесного цвета. Но эти трико-купальники или трико-комбинезоны теряли у Вирсаладзе свой абстрактный и приобретали ярко изобразительный смысл, значение характеристики, пластической и психологической. Вот как описывает Наталья Зозулина работу художника над костюмом Ящерки — Хозяйки медной горы в балете Григоровича «Каменный цветок»: «В изумрудные цвета трико вкраплялись тёмные сполохи, похожие на малахитовый ажур (Вирсаладзе с трогательной заботливостью собственноручно нашивал каждую полоску ткани)». Это в полном смысле костюмный портрет, как и два костюмных портрета в «Легенде о любви», почти аналогичные по конструкции, но прямо противоположные по цвету (светлый у Ширин, темный у Мехменэ Бану) и отвечавшие сразу всему: и образному миру Хикмета, и образному миру Григоровича, и облику персонажей, и облику балерин, готовивших спектакль. А также фасонам персидского и близкого к ним грузинского женского платья (острая подробность — глубокий клинообразный вырез на груди, открывавший натянутую белоснежную рубашку и придававший костюмам и царственность, и трагичность). Таким же странным печальным очарованием обладал костюм Фригии в «Спартаке» — короткая юбочка-туничка терракотового цвета. Все тут было — и римская античность, и плен, и замечательная Катя Максимова, и потом замечательная Наташа Бессмертнова, и замечательная лирическая геометрия, новое слово в той декоративной традиции — традиции театрального «Мира
374
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
искусства», которую продолжил и обновил Симон Вирсаладзе. Сегодня это кажется естественным и даже закономерным. Полвека назад это выглядело доблестью и доблестью становилось.
Финал этой истории известен. Вирсаладзе вернулся в Тбилиси, где и завершилась его безупречная художественная жизнь. Григорович остался в Москве и стал заново воздвигать вокруг Большого театра им же самим разрушенную стену.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ БЕЛЬСКОГО
В начале 60-х годов их имена писались и произносились вместе: Григорович и Бельский, Бельский и Григорович, два самых талантливых из молодых, новая волна, олицетворение всех прогрессивных тенденций в отечественном балете. Потом пути их разошлись: и в буквальном смысле (Григорович переехал в Москву, Бельский остался в Ленинграде), и в творческом, и в карьерном Увенчанный всеми званиями и наградами Григорович стал главным балетмейстером страны, а Бельский, поруководив Кировским, Малеготом, Училищем на улице Росси, незаметно сошел с пути, — к роли руководителя он не был готов (и слишком мягок, и слишком терпим, и слишком интеллигентен), и к тому же роковая болезнь, давшая о себе знать слишком рано. Имя Бельского стало исчезать из обзорных статей, а его спектакли — с афиш театров. Сохранился лишь один его балет — «Ленинградская симфония», его изредка дают в Мариинском театре, к памятным датам. Он и поставлен
375
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
как хореографический памятник, подстать памятникам архитектурным, монументам воинской славы, установленным в петербургских пригородах и в самом Петербурге. Суровый монументальный стиль балета точно отвечает поставленной задаче. При этом развернутый центральный эпизод — эпизод нашествия — ярко решен в стилистике новых городских танцев, в соответствии с музыкой Шостаковича, ее агрессивно-гротескным духом. С психологической точки зрения это удивительная вещь: образцовый питерский интеллигент, Бельский-артист и Бельский-балетмейстер любил гротескные роли и умел обнаруживать скрытую агрессию в своих персонажах.
Но с самым заветным балетом ему не повезло.
«Берег надежды» был поставлен в 1959 году в Кировском театре, шесть лет спустя повторен в Москве, в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, был встречен единодушными приветствиями, имел непосредственный зрительский успех, но надолго на сцене не удержался. В чем же дело? Вот две цитаты из энциклопедических словарей, позволяющие понять причину успеха балета, а также его недолговечность. «"Берег надежды" <„> оказался эстетическим манифестом этого направления. Новаторским было танцевальное решение современной темы и сама пластика... Колоритным предстал "чужой берег"...» (из статьи А. Соколова-Каминского). «Рыбак, которого дома ожидает Любимая, выброшен бурей на Чужой берег. Напрасно пытаются простые люди укрыть его: Рыбак схвачен патрулем и заключен в тюрьму. Но никакие испытания и соблазны "счастливой жизни" на чужбине не могут стереть из его памяти образ Любимой и чувство к родной земле. Рыбак в мечтах устремляется домой к Берегу надежды» (из статьи В. Майниеце).
376
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
На первый взгляд все ясно, типичная ситуация: хорошая хореография и плохое либретто, так было и во времена Петипа, и во времена Лопухова, искусные хореографические средства используются для того, чтобы обслужить социальный заказ, и нехудожественный, и абсурдный. Это, конечно, так, и это не совсем так: опытный либреттист Юрий Иосифович Слонимский знал, что делает, и умный артист Игорь Дмитриевич Бельский тоже, по-видимому, не думал, что сочиняет примитивную агитку. Вроде бы похоже на талантливый и двусмысленный «Золотой век» (в первой редакции 1930 года) и даже на анекдотичную постановку 1964 года «В порт вошла "Россия"»; вроде бы та же коллизия: советский человек на чужбине, среди чужих; вроде бы та же антитеза Родины и Заграницы, и та же мифология: мы и они, но на самом деле здесь совершенно другое преломление исходного официального мифа. Восходящее, кстати сказать, к «Кавказскому пленнику»; был такой балет и у Лавровского на музыку Асафьева, и у Дидло на музыку Кавоса. Родной берег и чужой берег — это противопоставление имело в 1959 году вполне реальный смысл. Балет создавался в те дни, когда чужой берег стал доступным И в самом прямом бытовом смысле: можно было, пусть не без осложнений, съездить «туда», оказаться заграницей; и в самом иносказательном, касавшемся театра. Гастролеры стали посещать нашу страну, мы видели их — чужое — искусство. В 1958 году балетную труппу Парижской оперы, а в 1962 году — баланчинскую труппу. Это стало шоком, открытием, но также — испытанием, к которому не все оказались готовы. Некоторые профессионалы не приняли искусство гостей, а некоторые даже не захотели их видеть. И между прочим, именно Слонимский во время первых гастролей Нью-Йорк сити балле
377
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
в 1962 году, сославшись на болезнь, не пришел на спектакли друга своей юности Баланчина и принимал его дома. Что это? Боязнь власти? Вовсе нет. Боязнь сильных впечатлений, которые поставили бы под сомнение всю прожитую жизнь, всю жизнь одного из активных строителей советского балета. И действительно, власть «чужого берега» — баланчинских спектаклей — была так велика, сопротивляться соблазнам бессюжетного баланчинского балета было так трудно, что лучше было бы ничего этого не знать, оставаясь при своих иллюзиях и при своей вере. На своем берегу, тем более что в 1959 оттепельном году он и в самом деле казался берегом надежды.
Непосредственная и чисто театральная надежда была связана с современной тематикой, на короткое время оказавшейся возможной. И как засверкал в этом новом репертуаре талант молодой Габриэлы Комлевой! Потом она стала балериной Петипа, единственной достойной конкуренткой Ирины Колпаковой, блестящей, страстной и строгой классической балериной, но первых ее выступлений — и в «Береге надежды», и в «Ленинградской симфонии» — забыть нельзя, нельзя забыть ее силуэт — силуэт ленинградской школьницы или ленинградской студентки, застигнутой бурей. Еще бы чуть-чуть, еще бы одно усилие, и в балетном театре могли быть поставлены свои «Летят журавли» (или свой «Жаворонок», о чем Комлева мечтала), но ситуация изменилась и время надежд окончилось достаточно быстро.
А в наступившем времени Бельский не нашел себе места. Он заметался, захотел воссоздать сатирический жанр («Конек-Горбунок», 1963), а вслед за этим возродить предреволюционную романтическую героику («Овод», 1967), попробовал себя и в жанре философской притчи («Щелкунчик», 1969), везде предлагал новые идеи и на
378
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
ходил новые пути, но как-то не слишком уверенно и без прежнего блеска. Потом на двенадцать лет ушел в мюзик-холл и почти затерялся. Вернулся в Училище на улицу Росси и завершил свою жизнь педагогом.
ВЕСНА НА УЛИЦЕ РОССИ
Весть о том, что в Мариинском театре появилась новая, необычная и весьма своевольная балерина-звезда, донеслась до Москвы гораздо раньше, чем мы, москвичи, смогли увидеть ее на сцене. О, эта Макарова! — передавалось из балетоманских уст в балетоманские уста, — она такая! С притворным ужасом и неприкрытым восхищением говорили о том, что Макаровская Мария в улановском (всё еще улановском) «Бахчисарайском фонтане» заглядывается на хана Гирея, оценивая его мужские красоты — дерзость, конечно, немыслимая, разрушавшая монастырские стены «большого балета». Да и на Париса опять-таки в улановском «Ромео» она будто бы тоже глядит как-то не так, без отвращения, с интересом. Конечно, московские слухи есть московские слухи, верить им не следует, в них внутренних комплексов больше, чем спокойной правды, и все-таки страстно захотелось узнать, какова она, эта правда, и как выглядит эта веселая девушка, насмешничающая над святыней. Случай представился, правда иной, нежели я предполагал, и сначала попал я не на спектакль, не в Мариинский театр, а в Вагановское училище, на улицу Росси, где по утрам давала класс (класс усовершенствования, или «балеринский класс») Наталья Михайловна Дудинская. Там я и увидел в первый раз Макарову, молодую Наташу.
379
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
То, что я увидел, поразило меня. Дудинская опаздывала (как мне объяснили, это входило в ритуал). Урок начала какая-то из старших учениц. Другие, помоложе и построптивее, занимались с видимой неохотой. И лишь одна из танцовщиц, стоя не у центральной короткой стены, а у боковой продолговатой, занималась... как бы подобрать тут точное слово... занималась усердно. С усердием не знаменитой уже примы, к тому же любимицы города, с усердием вдохновенной неофитки. Нельзя было оторвать от нее глаз, нельзя было не восхититься тем, как она стояла и как гнулась у палки. Мы только-только начинали понимать, каким увлекательным может быть академический экзерсис, как много он открывает и в классическом танце, и в классической балерине, и то был живой пример, так сказать «Этюды» в исполнении одной артистки. Ясно было, что Макарова рождена для классического танца, что никаких профессиональных кощунств здесь быть не может, что здесь область прекрасного, куда всему непрекрасному доступ закрыт, тренировка прекрасного, настройка прекрасного, разработка прекрасного, сосредоточенная и свободная в одно и то же время. Особенно поражал открывающийся рисунок спины, тот поистине лебединый изгиб, что создавал — уже на сцене, в «Лебедином озере», — неповторимый эффект (или, проще сказать, сверхвьгразительность) Макаровских поз, поз-эмблем, поз-дифирамбов, остановленных прекрасных мгновений.
«Лебединое озеро» было Макаровой в буквальном смысле пропето. В те годы, и в Мариинке, и в Большом, постепенно стало меняться отношение к классическим балетам. Еще недавно их называли достаточно нелепым словосочетанием «балеты наследия» (продолжают называть и сейчас), видели в них нечто почтенное или даже бесценное, но и далекое от проходящей — нашей — жизни, а теперь начали
380
В МАГИИНСКОМ ТЕАТРЕ
понимать, что именно там, в классике, следует искать и современную проблематику, и современные драматические коллизии, и даже современный исполнительский стиль, а что «Лебединое озеро» — это еще и единственный исповедальный балет в русском, да и в мировом репертуаре.
Так его танцевала, но весьма осторожно, Бессмертнова в Москве, так, но в высшей степени смело его танцевала Макарова в Ленинграде.
Конечно же, это исполнение вошло в анналы Мариинского театра.
Макаровское адажио, к счастью, записано на видеопленку, но в английском варианте, на сцене лондонского Ковент Гардена, где умеют обнажать скрытый подтекст и где не слишком почитают канонический текст, но я помню Макарову в спектакле Мариинки, чуть более сдержанной, чуть более лиричной. Помню музыку ее линий и муку на ее лице, великолепие пластики, получившей простор, и внутреннее напряжение, ищущее разрядки. Отчасти, но только отчасти, это было парадным выступлением в парадном спектакле, как это адажио подавалось в этом театре нередко, почти всегда. По существу же Макарова предлагала нечто совершенно другое. В немыслимо красивом рисунке, в потоке по-лебединому изогнутых поз перед нами развертывалась драматичная и очень интимная сцена. С такой нежной страстностью никто никогда не припадал к груди партнера. С таким тоскливым усилием никто никогда от него не отрывался. И никто так не терял ощущение времени и пространства: балерина куда-то уносилась. Неспешную хореографическую трансформацию арабесков и пор де бра Макарова трактовала как транс: она переживала потрясение и заканчивала потрясенно. И даже на вариацию (которая следовала через несколько
381
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
минут) Макарова—Одетта выходила так, как будто еще не пришла в себя, еще не вернулась на землю.
И все «белое» адажио, и весь «белый» акт казались прямым воспеванием любви, неожиданным для того времени преобразованием лирического чувства. Воспеванием свободной любви? — спросите вы. Может быть и так. Точнее сказать: воспеванием любви как свободы. В антракте у меня родилась стойкая ассоциация — Маша из «Трех сестер», помните ее реплику: «Эхма, жизнь малиновая, где наша не пропадала!»? Помните ее историю — случайное, недолгое и непозволительное счастье? Вот что, примерно (и, вероятно, совсем не думая о том), Макарова открыла в «Лебедином озере», самом чеховском балете Чайковского, Льва Иванова и Мариуса Петипа, вот что она танцевала в адажио второй картины. Поэтому оно было таким протяженным, таким замедленным, таким неостановимым. Ведь это тоже история о мгновении, которое надо прожить, как проживают целую жизнь, о непозволительном счастье, которому надо до конца отдаться. Да, действительно, Галина Сергеевна Уланова проводила адажио в более убыстренном темпе. Но там был совершенно другой психологический подтекст — Уланова почти всегда наполняла абстрактные классические ансамбли конкретным психологическим подтекстом. Ее «Лебединое озеро» наполнял страх, ее адажио было опасной встречей. Она вообще, как мало кто в 30—40-х годах, ощущала в своих танцах опасность. Таким был ее артистический гений. У Макаровой, ленинградской балерины 60—70-х годоЬ, все складывалось по-другому, и чувство опасности уже не так тяготело над ней. Остро она ощущала власть запретов и не подчинялась им. И по-видимому, не менее остро ощущала силу судьбы — это, как и любовная песнь, стало внутрен
382
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
ним содержанием ее «Лебединого озера», ее легендарных запрокинутых поз, ее напряженных и вольных ритмов. И поэтому такой патетикой наполнялось ее адажио — как экзистенциальный миг истины и как балетная форма.
Это важный момент. Дело в том, что Макарова, Мариинская прима-балерина, воспринявшая вагановские уроки из рук самой преданной из вагановских учениц, в одном отношении нарушала вагановский канон, вагановское представление о прима-балерине. И в этом сказались новые веяния, новая человечность. Вагановская прима — это солистка в полном, высокомерном смысле слова, вознесенная над всеми и над всем, и ее место в балете, ее сфера действия — вариация, монолог, виртуозное соло. Макаровой же важнее дуэт, она балерина диалога. Диалога разного по настроению, по эмоциональному составу. Черное адажио в «Лебедином озере» было совсем не похожим на белое адажио, хотя, кстати сказать, не было совсем уж «черным»: веселая Одиллия Макаровой совсем не походила на дьяволицу: выяснилось, что Макарова не способна изображать зло, но вполне способна изображать женскую насмешливость, безжалостную и беззаботную, — романтических молодых людей ее Одиллия приводила в чувство. Иными словами, в сентиментальном спектакле нашлось место и для несенти-ментальности, самой трезвой. Чего там было больше, не нам судить, да и не в этом дело. А в том, что и на балу главное для Макаровой — диалог, захватывающий, увлекательный, а в дансантном смысле — остроумный.
Балерина диалога почти всегда и почти во всем И то, о чем мы говорили в начале главы: взгляды Макаровской Марии, брошенные на хана, взгляды Макаровской Джульетты, брошенные на Париса, — это из той же области, с той же психологической подоплекой. Иначе можно сказать:
383
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
балерина, открытая новым впечатлениям, открытая миру. Новых впечатлений в Мариинском театре 50—60-х годов было не так много, но они производили сильный эффект и находили у Макаровой соответствующий отклик. Лишенный подражания, надо сказать, весьма своеобразный. И я думаю, что второй акт «Жизели» Макарова так мастерски и так лукаво стилизовала под старину, под гравюрный та-льонизм (ничего подобного не делали ни Уланова в Москве, ни Дудинская в Ленинграде), потому что приняла вызов несравненной стилистки Лиан Дейде, совершившей переворот в нашем отношении к «Жизели». Но повторю: на Дейде Макарова в «Жизели» нисколько не походила.
Она вообще не походила ни на кого, идеальная классическая балерина, вступившая в открытый диалог с казавшимся потусторонним чужим миром.
И для нее чужое не оказалось совершенно чужим, потусторонним.
Вернемся, однако, в дубовый зал, зал Мариуса Петипа, где я впервые увидел Макарову на утреннем классе. С пятнадцатиминутным опозданием вошла Дудинская, одетая и празднично, и по-деловому, в модной шелковой кофточке и отутюженных брючках, внося то праздничное и то деловое настроение, которое только она умела вносить и на спектакли, и на уроки. Все подтянулись, на лицах появились улыбки. Молодые знаменитости начали работать с удовольствием и с полной нагрузкой. На короткое время возникло ощущение содружества, согласия, общей цели. Много лет спустя я наблюдал подобное на премьере баланчинской «Симфонии до мажор» в последней части. Но тогда, четыре десятилетия назад, это было не слишком знакомым чувством Театр был расколот, в класс Дудинской ходили не все именитые балерины. Те же, что пришли, об этом совсем не жалели. А Ма
384
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
карова просто-напросто расцвела. Сначала у палки, а потом на середине упражнялась танцовщица, стройное, гибкое, не знающее усталости тело которой словно бы освещалось неярким весенним светом За окном был майский солнечный день, у Зимнего дворца по Неве проплывали большие льдины. Солнце и ледоход, эффект иррадиации и эффект рассеянного туманного свечения над рекой (петербургский весенний пленэр, не похожий на пленэр летний, в период белых ночей) — все это создавало совершенно фантастическую картину и как-то, своим театральным и даже сильфидным характером, вызывало балетные ассоциации и распространялось на репетиционный зал и на танцующих девушек в черных купальниках и разноцветных гетрах. Тогда всем казалось, что не только природа, но и сама история пошла нормальным путем и заморозки, страшные ленинградские заморозки, отступили. Долгожданное чувство весеннего обновления наполняло страну, и один из популярных фильмов назывался так: «Весна на Заречной улице». На улицу Росси тоже пришла весна. Пришли ожидания благотворных перемен и в театре, и в личных судьбах. Ушел страх, пришла уверенность, что черные дни не вернутся. В зале Петипа легко дышалось. Доступ туда для артистов театра был открыт, и всем казалось, что этому давно сложившемуся порядку вещей ничто не угрожает.
БАЛТИЙСКИЕ МУШКЕТЕРЫ
Их было, конечно, четверо, а не трое, но четвертый, а может быть первый — Юрий Соловьев, распорядился своей жизнью слишком рано и слишком страшно. Не спас и поразительный дар, дар парения, не помогли и редкостные
25 — 940
385
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
человеческие качества — мягкость, доброта, честность. Слишком уродливой была тогда ленинградская жизнь, обращавшая даже талант против тех, кому он был дан, делавшая наиболее уязвимыми наиболее чистых.
Все они шли в одном направлении, но каждый выбирал свою дорогу. Общее у них у всех было одно — поиски своего места в мире. С некоторыми оговорками их можно сравнить с «рассерженными» в английском театре. Такой же бунтующий нрав, такая же неспособность мириться с положением безропотных артистов неокрепостной труппы. Более точным было бы назвать их задумавшимся поколением. В раннее советское время такими были Алексей Ермолаев, Петр Гусев и их общий наставник Федор Лопухов, но судьба у всех этих блестящих людей складывалась драматично. Потом воцарился другой тип — артистов, умеющих не думать ни о чем, кроме своей личной карьеры. Этот тип, разумеется, существует и сегодня. Живется не думающим артистам на удивление легко: мешают жить лишь производственные травмы. О травмах иного рода — моральных, даже мировоззренческих, тут говорить не приходится: нет более защищенных людей, нежели премьеры императорских театров. А Барышников, блестящий премьер императорских театров, едва лишь получив такую возможность, снялся в кинофильме «Белые ночи» (не слишком удачном, но внутренне необходимом) и там, используя в качестве сопровождения песню Высоцкого «Кони привередливые», станцевал весь ужас травмированного сознания, травмированного навсегда, травмированного неизлечимо.
Нуреев выглядел поначалу дикарем, далеким потомком кочевников-монголов, а кончил жизнь, заслужив репутацию эстета, букиниста и коллекционера. Коллекциониро
386
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
вал. он не только картины и антиквариат, но и партнеров-учителей и различные хореографические системы. Могучий инстинкт завоевателя направлял его в сторону тех людей, которые могли бы дать то, что не было дано — внешнюю утонченность, внутреннюю тонкость. Проще говоря, толкал к людям цивилизованным, может быть слишком цивилизованным, которые именно потому ценили в нем варварскую, дикую натуру. И не стремились ее укротить.
Как и все отечественные танцовщики XX века, стремившиеся вернуть мужскому танцу утраченное положение, Нуреев начал с расширения академических границ, усложнения виртуозных форм и комбинаций. Он, например, первым стал делать в «Баядерке» большой круг с двойными ассамбле — взмывая высоко ввысь и устремляясь далеко вдаль; это стало его фирменным знаком, после него это стали повторять мариинские премьеры. Он первым стал исполнять двойные воздушные туры попеременно вправо и влево, снова вправо и влево, одинаково энергично, одинаково чисто. Тут он был не только первым, но и, по-видимому, последним — повторить эту комбинацию необычайно трудно... Академической системой он овладел во всей полноте — весь обязательный репертуар современного классического танцовщика стал его репертуаром. Но мало того: он танцевал у Бежара, танцевал у Баланчина; его влекли и более радикальные новации и более далекие имена, на него ставили Марта Грэхем и Хосе Лимон, Глен Тетли и Пол Тейлор. И везде Нуреев оказывался на высоте, с фантастической легкостью осваивая незнакомый язык и чуждую художественную ментальность. Танцовщик-полиглот, танцовщик-протей, он сумел стать первым в послевоенном балете гражданином балетной вселенной, хореокосмополитом.
25*
387
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Но отринутое прошлое звало его назад. Он переносил на парижскую сцену петербургскую классику (не всегда, впрочем, удачно). И, наконец, решил на несколько дней возвратиться. Приезд в Петербург — чтобы в последний раз станцевать «Сильфиду», в последний раз выйти на Мариинскую сцену — стал, может быть, самым драматичным событием в его бурной жизни. А произошло вот что: этот сверхчеловек и полубог, державшийся высокомерно как князь и выражавшийся высокопарно как академик, захотел вернуться в оставленный дом не в славе — она уже прошла, не победителем — победы остались в прошлом, а уставшим бойцом, чтобы по-человечески проститься с театром, где он начинал, и с людьми, которые любили его. И ждали. И дождались.
О загадке Барышникова я решил заговорить не потому, что взялся ее разгадать, а для того, чтобы одним словом обозначить очевидный случай совсем не простой личности и совсем не простого искусства. Обычные слова тут не подходят. Классический танцовщик самой чистой воды, являвший собой образцовую школу, безукоризненный академизм, доведенный до ослепительного блеска в классе великого педагога Александра Ивановича Пушкина, и стало быть — идеальный балетный принц, Барышников с первых шагов демонстрировал нечто не присущее холодному, а тем более выхолощенному академизму, внося на сцену — мариинскую сцену — и неубитый театральный дух, и даже не исчезнувшее арлекинное начало. Сразу и романтический принц, и площадной арлекин, принц-арлекин — персонаж из новелл Гофмана и сказок Гоцци, но таким он был в «Дон Кихоте», одном из своих коронных балетов. Можно сказать иначе, исходя из современ
388
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
ных ассоциаций и современного словаря: сразу и принц, и немножко хиппи — и это тоже его Базиль в «Дон Кихоте». А можно сказать и совсем по-другому: в этом бродвейском миллионере навсегда сохранилось нечто от исчезнувшего ныне ленинградского андеграунда, беспечного художественного подполья.
А одновременно, выступая в другой своей коронной роли — в роли графа Альберта в балете «Жизель», Барышников вносил в свой невесомый танец такой захватывающий, берущий за душу драматизм, какой не предполагался ни этим старинным балетом, ни устойчивой традицией, ни академической нормой.
Да, конечно же, загадочный артист, неординарная личность. Разгадку пытались дать разные балетмейстеры, разные режиссеры. Константин Сергеев увидел в Барышникове шекспировского Гамлета; Наталья Касаткина и Владимир Василёв — библейского отрока, Адама; Май Мурдмаа — другого библейского отрока, Блудного сына (последняя роль в России). Совершенно неожиданная идея пришла в свое время Сергею Юрскому: уже знаменитый актер Большого драматического театра, но начинающий режиссер, он предложил Барышникову сыграть в телевизионном фильме «Фиеста» (по роману Хемингуэя) роль юного тореадора Ромеро. В компании других знаменитых драматических актеров балетный танцовщик не только не затерялся, но замечательно обыграл эту ситуацию, поскольку каким-то не очень прямым образом она походила на ситуацию самого Ромеро: очень серьезный, постоянно рискующий жизнью, приученный полагаться лишь на себя, не улыбающийся и не разговорчивый молодой человек, оказавшийся в компании богатых и шумных бездельников-туристов. Но самый интересный портрет
389
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
молодого Барышникова нарисовал Леонид Якобсон, когда поставил для него концертную миниатюру «Вестрис» (или «Вестрис Великий», так звали легендарного парижского танцовщика давно прошедших времен, «бога танца» новерровской эпохи). Этот остроумный номер, которым Барышников триумфально завершил свои выступления на Международном конкурсе артистов балета в 1969 году (первая премия и золотая медаль), — мастерски сочиненная и мастерски исполненная историческая стилизация, но также хореографическое пророчество (Барышников в образе «бога танца») и хореографический автопортрет (Барышников танцует все свое будущие метания и все свои будущие эксперименты). Номер строится как серия масок, которые примеряет и отбрасывает Вестрис, — комическая и трагическая, веселая и печальная, все подходят, ни одна ни оказывается единственно нужной. Но это тоже пророчество, это тоже рисунок судьбы. В реальной жизни Барышников так же легко овладевал системами танца и так же легко от них освобождался: сначала классицизм Петипа, потом неоклассицизм Баланчина, затем эксцентрика Твайлы Тарп и наконец свободный танец в собственной труппе. Четыре хореографические системы, всякий раз — особая техника, особая пластика, своя собственная философия движений. И всякий раз впечатление таково, что Барышников всю жизнь танцевал либо только Петипа, либо только Баланчина, либо только Твайлу Тарп, либо только авангардистов. Природная танцевальность не создавала проблем с техникой, уникальное тело делало естественной любую пластику, любой пластический ход, а уникальный — действительно уникальный — интеллект легко преодолевал стоявшие на пути преграды и легко постигал скрытую логику самых различных хореографических конструкций.
390
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
Интеллектуальные основы творчества Барышникова — едва ли не самая привлекательная его черта, но еще раз добавим — черта не личная, черта поколенческая, знамение времени, недолгого времени оттепели, напряженного времени напрасных и ненапрасных ожиданий.
Кто помнит его первые появления на мариинской сцене — стройный отрок с любопытными и очень живыми глазами, и кто помнит его последний мариинский сезон — помрачневший взгляд, жесткий взгляд отравленного ранним знанием совсем молодого человека, того не удивит, если мы поставим Барышникова в более подобающий ряд: Барышников — современный Гамлет, Гамлет наших дней, артистичный и трезвый. В Гамлетовом плаще он выходил во втором акте «Жизели». Принцем Датским на американский лад он казался всегда, даже когда шутил, дерзко и легкомысленно, — как это происходило в «Дон Кихоте» или в его импровизациях на бродвейские мотивы. Острый интелект, такое же острое чувство опасности, а поверх всего захватывающая целиком игра с опасностями — все это создавало его гамлетизм, гамлетизм головоломных прыжков и дальних полетов. Виртуозность Барышникова и точно была подернута гамлетовской дымкой. Удивительная, несравненная виртуозность — утонченная, даже рафинированная, нисколько не силовая. Танцовщик-интеллектуал, Барышников включал в сферу сосредоточенной рефлексии и свой технический аппарат, Гамлетово сознание почти непосредственно выражало себя в технике артиста Касалось это и эволюций на полу, но более всего — элевации, воздушных темпов. Дар элевации, то есть большого прыжка с так называемым баллоном, умением застревать в воздухе, придавая прыжку полетность, этот редкий дар, дар «богов танца», был дан Барышникову от природы. Большой
391
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
прыжок — чистое парение, таким он кажется и в «Сильфидах» («Шопениана»), и во втором акте «Жизели». Таким он выглядит и в «Теме с вариациями» Баланчина, где Барышников и его партнерша Гелей Керклайн дают показательный урок высокого неоклассицизма. Но этот планирующий прыжок можно определить как прыжок задумчивый, как раздумье в форме прыжка-полета. Это тем более удивительно, что Барышников — весьма импульсивный артист, самый импульсивный из всех мне известных. Импульсивна его манера вести танцевальный диалог, импульсивны его сценические (да и не только сценические) поступки. Но импульсивен он тут, среди нас, на полу. А там, в воздухе, он свободен от всех слишком земных страстей, там он парит, там он в самом деле вольный сын эфира.
Рудольф Нуреев должен был освоить и подчинить себе весь современный мировой репертуар. Михаила Барышникова манил самый изощренный авангард. Юрий Соловьев стремился остаться академическим танцовщиком чистейшего стиля. А Никита Долгушин обратил свой взгляд на недавнее прошлое, на эпоху модерн, на дягилевское время. Танцовщик-виртуоз (как и все они), он стал первым в истории Мариинки танцовщиком-стилизатором, танцовщиком-эстетом. В профессиональном плане это означало возвращение утраченной культуры жеста. Как это было у раннего Фокина и позднего Петипа, как это было у Нижинского и Павловой в годы парижских дягилевских сезонов. Фавна Нижинского Долгушин сам танцевал, а концерт Анны Павловой восстановил для созданного им танцевального коллектива. Там же, и при своем участии, он показал самую свою искусную стилизацию — «Павильон Армиды», забытый
392
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
шедевр Фокина, Александра Бенуа, Черепнина и почти всех знаменитых дягилевских солистов. И чтобы ограничиться лишь высшими достижениями Долгушина-реставратора и Долгушина-артиста, вспомним, как он танцевал в своей редакции гран па из «Пахиты»: вот где увлекательный полетный танец венчал жест, острый, как выпад рапиры, шпаги или копья, красивый и безошибочный, как у тореадоров в корриде. Не следует забывать, а Долгушин и не забывал, что «Пахита» — испанский балет и что постановщик гран па Мариус Петипа всю жизнь помнил проведенные в Испании годы.
Остается лишь добавить, что техника исполнений кабриолей и па де басков у Долгушина была такова, что широкие взмахи его длинных донкихотских ног тоже казались жестами, а главным жестом — жестом жизни, жестом судьбы — стал уход из Мариинского театра, где он был премьером, на волю, в далекий Новосибирский театр.
Но иногда, в предсмертной сцене Ромео например, его пластика становилась столь угловатой и столь экспрессивной, что казалось для этого удивительного артиста нужного театра не найти — ни в прошлом, ни в настоящем.
ЛИЦЕИСТ ВИХАРЕВ
Сергей Вихарев окончил Вагановское училище, когда оно сохраняло свой стиль и еще не утратило отдаленного сходства с Царскосельским лицеем. Оно было закрытым, вольнодумным и готовило художественную элиту. В нем учились будущие строгие мастера и будущие вольнолюбивые премьеры. Таким был и Сережа, как бы специально
393
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
рожденный на неочевидную роль — роль лицеиста в не-поставленном пушкинском спектакле. Легкий, изящный, дерзкий, насмешливый, но к тому же исполненный скрытой патетики, скрытого почитания седой старины — таков портрет Вихарева и в его ранние, и в его зрелые годы. Его карьера танцовщика сложилась удачно, могла бы сложиться еще удачнее, приложи он к этому больше усилий, именно карьерных. Но, аристократ по духу и сибарит по привычкам, гоняться за карьерной удачей он не пожелал, зато сохранил массу неиспользованной энергии и вкус к театральным играм, самым различным. И все-таки как не вспомнить Вихарева на сцене, танцующего нечто классическое, или нечто неоклассическое, или, особый случай, нечто неоклассическое, выдающее себя за старую классику, как, например, ансамбль из «Маркитантки», поставленный Лакотом вроде бы по Сен-Леону. Во всех трех случаях Вихарев на высоте, и во всех случаях тонкие различия соблюдались, текст подавался со всей академической чистотой, но и чуть по-разному; среди мариинских виртуозов своего поколения Вихарев был прирожденным стилистом. Притом его нельзя было не узнать, нельзя было спутать ни с кем, личная манера присутствовала во всем, в позах, прыжках и вращениях по диагонали: причудливая смесь непринужденности и азарта, причудливое соединение меланхолика и игрока, денди и дуэлянта. Меркуцио — одним словом, и это едва ли не лучшая его роль, оказавшаяся и самой живой в заслуженном, но несколько поблекшем спектакле. И здесь он сыграл свою роль в более общем плане: роль садовника в запущенном и засохшем саду, если прибегать к старинным метафорам, впрочем — балетным. К «Спящей красавице» это имеет самое прямое отношение, к «Спящей
394
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
красавице» Мариуса Петипа, к редакции Константина Михайловича Сергеева и к реставрации Вихарева, первому его опыту в этом рискованном предприятии, в этом малоблагодарном деле.
Оценим же, что произошло. Вихарев наследовал тому поколению артистов Мариинского театра, которое ждало и жаждало перемен. Так и не дождавшись, самые знаменитые решительным (а отчасти и роковым) образом изменили свою судьбу. Оставшиеся сумели использовать изменившуюся конъюнктуру, пришедшую к руководству прогрессивную власть, и упорным трудом сумели направить корабль Мариинского театра по новому руслу. Лозунг был один — современный репертуар, новая классика XX века. Кумир был тоже один — Баланчин, самая харизматичная фигура прошедших десятилетий. И Вихарев был одним из главных участников триумфального перенесения на сцену Мариинки «Симфонии до мажор»: вместе с Дианой Вишневой он с блеском протанцевал третью часть, а потом и ошеломляющий финал; когда я говорил о его неоклассическом репертуаре, я имел в виду именно это выступление, именно этот незабываемый вечер. Но, танцуя Баланчина, он искал для театра другую дорогу. Это был парадоксальный план, парадоксальная оппозиция изгнанному под непочтительный свист драмбалету. Впрочем не о драмбалете шла речь, или не только о драмбалете. Предлагалась художественная революция, обращенная в прошлое, игнорирующая слишком уж агрессивную современность. Реставрация «Спящей красавицы» Чайковского — Всеволжского — Петипа, — а именно это предложил театру Вихарев-артист (не имевший ни балетмейстерского опыта, ни, очевидно, балетмейстерского диплома) и то, что он аккуратнейшим образом осуществил (кто бы
395
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
мог заподозрить в нем подобную и тоже абсолютно несовременную аккуратность), — это стало художественным жестом с очень широким смыслом. Не сразу мы уловили этот смысл, не сразу поняли, на что посягнул реставратор. Посягнул же он на художественную репутацию балетного XX века. XX век — в словаре балетного театре категория не столько хронологическая, сколько знаковая, означающая дух новаторства и неоспоримое превосходство над XIX веком, признанным консервативным, застойным, неживым. Я помню, как мы все еще лет тридцать назад произносили эти два слова: «двадцатый век» — с придыханием, с вызовом, с надеждой, как некий пароль и пропуск в современное, а главное — неофициальное искусство. Официальное искусство само избегало причислять себя к «двадцатому веку», не любило этих цифр, а любило говорить о традиции, преемственности и тому подобных вещах, при этом третировало Петипа и старалось приспособить классику к новым убогим нормам. Упрощался текст — упрощение было в порядке вещей; игнорировалась отличавшая позднего Петипа стилистическая игра — об этом вообще не задумывались в те годы. Поэтому реставрация должна была включать в себя работу текстолога и работу стилиста, что требовало особых умений от Вихарева и от его команды, от тех, кто его поддержал. Я хочу назвать их поименно: Андрей Войтенко, Елена Зайцева, Павел Гершензон. Роль Гершензона особенно велика. Блестящий исследователь-аналитик, великолепный знаток балетной старины и современного балета, именно он стал вдохновителем многих важных начинаний в Ма-риинке в последние годы.
Но назовем и тех, кто встал между нами и XIX веком, а это славные имена: Вахтанг Чабукиани, предложивший
396
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
в 1941 году свой вариант «Баядерки», и Константин Сергеев, давший — в 50-х годах — свои редакции «Спящей красавицы», «Лебединого озера» и «Раймонды». Как танцовщики они дебютировали в начале 30-х годов, а тогда репутация Петипа стояла не слишком высоко — даже у таких выдающихся историков, как И.Соллертинский, поддерживавший «драмбалет», и Л.Блок, поклонницы Фокина, мирискусников и Марии Тальони. Да и само отношение к прошлому было лишено предрассудков. Самое популярное слово тех лет — «реконструкция» (и не только в балете). Реконструкции подлежали города, улицы, но также оперные сценарии и балетные либретто. «Баядерка» Чабукиани — последний случай и яркий пример реконструкции вполне радикальной: был отсечен последний акт, сведено к одной сцене совершенно различное содержание двух сцен, сокращена пантомима. Но зато увеличена роль мужского танца: роль Со-лора в «Баядерке» Чабукиани — первый мужской балет в отечественном репертуаре, Григорович лишь следовал за ним. Баловень судьбы и одновременно бунтарь — Чабукиани реставрировал старый лирический балет по своей мерке. Ему было тесно в старинных ситуациях, в старинных темпах. Ему было тесно и в новейшей хорео-драме. И он придал медленно раскачивавшейся «Баядерке» стремительность и стихийность. Он высвободил всю закованную дансантную стихию. В жертву была принесена сюжетная логика и даже элементарный здравый смысл. Черт с ним, со здравым смыслом, — провозгласил обновленный балет, да здравствует танец, да здравствуют героические персонажи: охотник и воин Солор, его спутница принцесса Гамзатти (получившая равные с ним хореографические права), его подруга Никия-баядерка
397
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
(девушка с кинжалом в руках и, в исполнении Дудинской, делавшая в сцене «Теней» пять туров без поддержки). Не забудем: премьера состоялась в мае 1941 года, за месяц до начала войны, героические интонации тогда наполняли все советское искусство.
А «Спящая» в редакции Сергеева — типичный послевоенный спектакль, когда свободную стихию полагалось снова ввести в берега, взять под контроль, обуздать, укротить, умерить — официально мысливший человек (почти всегда в элегантном темном пиджаке с лауреатскими медалями) Сергеев и «Спящую» превратил в спектакль-официоз, на который можно приглашать генеральных секретарей и президентов. Официальным направлением был тогда драм-балет, и Сергеев, сам блистательный танцовщик-виртуоз, тем не менее стремился усилить нарративную сюжетную линию и умалить хореографический симфонизм, втиснув хореографический ансамблевый танец в узкие рамки драмбалета. Это стремление объяснялось и тем, что Сергеев-балетмейстер не владел искусством большой хореографической формы, секретом больших кордебалетных композиций, так называемых гран па или даже па д’аксьон, ему удавались вариации и дуэты, и он стремился придать дуэтный характер даже таким ансамблям, как сцена нереид в «Спящей красавице» или — впоследствии в «Раймонде» — па д’аксьон второго акта.
Вот, стало быть, какая задача стояла перед Вихаревым — открыть не одни лишь небольшие купюры, но высвободить, обнаружив его, хореографический план, и он сделал это по записям Николая Сергеева, хранящимся в библиотеке Гарвардского университета, сделал с первой попытки. Вспомним первую демонстрацию начала гигантской работы. Пролог — без декораций и в тренировочных костюмах,
398
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
а кроме того, без ведущей балерины и без всех вариаций фей — был показан в верхнем репетиционном зале, и этот начерно (в буквальном смысле: кордебалет был в черных купальниках и черных гетрах) подготовленный акт произвел сильнейшее впечатление. На всех непредвзято настроенных — надо добавить, потому что предвзято настроенные метали громы и молнии, но ничего убедительного предъявить не могли; текстологическую экспертизу эскизная работа Вихарева прошла успешно. Общий же смысл происшедшего заключался в том, что мы увидели Петипа вне всяких украшающих роскошных одежд, чистую хореографию, строгую хореографическую полифонию, столкновение и слияние линий, сопоставление и соединение кордебалетных рядов, совершенно как у самых современных балетмейстеров-полифонистов, но только более драматично и гораздо более театрально. И с несравненно большей фантазией.
А когда спектакль был показан на сцене во всем своем барочном великолепии, во всей своей живописной красе, когда мы увидели бело-сине-красный грандиозный вальс и, наоборот, нежную лиловатую сцену нереид, тогда мы поняли, чего были лишены и каким подсахаренным лакомством нас угощали.
Гораздо большая работа была проделана в связи с «Баядеркой». По записям того же Николая Сергеева был восстановлен последний акт и многие утраченные тонкости хореографического текста: Чабукиани ими пренебрегал, большому стилю 30-х годов они лишь мешали. Балет вернул себе утраченную сюжетную логику и куда-то исчезнувший жестокий моральный ригоризм (зло должно быть наказано, дворец должен быть разрушен), но что гораздо важнее — оказался логичнее и содержательнее в чисто
399
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
художественном плане. Этого мало кто ожидал. Это стало, по-видимому, главным открытием и достижением реставратора и его команды. Лично мне неловко теперь перечитывать посвященную «Баядерке» главу из книги «Дом Петипа». Она озаглавлена «Цвета «Баядерки», и в ней написано, что конструктивной основой балета является коллизия двух цветов, красного и белого, красного цвета огня и белого цвета вуалей. Вроде бы правильно, все это есть, но лишь в «Баядерке» Чабукиани. В оригинальной версии Петипа этот общий контраст дополнен другой метафорой и другим контрастом. Здесь излюбленное Петипа столкновение реквизита. Коротко можно сказать так: вуаль и гитара, вуаль, которою покрыто лицо Никии, и гитара, которую она держит в руках — в двух главных эпизодах: сидя в окне (изумительно красивая мизансцена первого акта) и в ритуальном танце на площади (молитвенный, небывало экспрессивный танец). Гитару Чабукиани убрал, изъял из своей постановки, оставил только вуаль, сохранив ясный образ: невеста Будды, закрытая для мира и для людей, в душе которой бушуют огненные страсти. Так, в меру своего таланта, Никию танцевали на моих глазах — и Шелест, и Комлева, и другие балерины. Так это танцевала и продолжает танцевать Лопаткина, так, по рассказам (сам не видел), танцует Вишнева. А у Вихарева все было не совсем так. Гитара в руках — знак открытости, знак присутствия в этом мире. Никия здесь — столь же замкнутая и недоступная храмовая танцовщица, сколь и простосердечная подружка Солора, что и делает ее вполне современной героиней. И что танцевала Дарья Павленко, вообще чуткая к современной пластике и современной теме. В одном случае, у Лопаткиной, горделивое нежелание контактировать с внешним миром, в другом, у Павленко, острое желание
400
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
обрести с ним контакт, и ту, и другую трактовку допускает хореография Петипа, хотя, конечно, выбор в редакции Чабукиани не столь широкий.
Да, конечно, оба спектакля оказались много длиннее, а первый — «Спящая» — еще и неспешней. Реставрация Вихарева коснулась не только видимых пространственных впечатлений, хореографического текста, декораций-картин и музейных костюмов, но и невидимых — временных. А время входит в состав «Спящей» и как сценарный мотив (двадцать лет между прологом и первым актом, сто лет между первым актом и вторым), и как мотив образный — мировоззренческий и собственно театральный. Время должно идти медленно, спектакль не должен торопиться. В основе спектакля — медленное время. Да и заявленное в интродукции столкновение двух фей, оно же столкновение двух тем, носит отчетливо темповый характер: убыстренно-лихорадочные аккорды злой феи Карабосс и замедленно-умиротворяющая мелодия доброй феи Сирени. Это как бы взгляд из кончающегося XIX века на приближающийся XX. Сегодня это, кажется, наоборот, взглядом из наступившего XXI века на прошедший XX.
Короче говоря, метафора времени конструирует балет в той же степени, в какой цвета в «Баядерке» и хореографические ансамбли — в самой «Спящей».
Нечего и говорить, что апология медленного действия, академической сценографии и костюмов а 1а Луи Ка-торз вызвала у многих протест, не всегда бескорыстный. Против выступили защитники Мариинки образца 50-го или 60-го года. Что, конечно, связано с той ностальгией по застойным (или еще худшим) временам, которая нарастает в общественном сознании не самой передовой
26 — 940
401
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
части наших сограждан. С этим надо считаться, и этому надо противостоять. В сходную позицию попадали все авангардисты Мариинского театра XX века, начиная с Фокина, а потом — и Лопухова. В эту же ситуацию попал — в 90-х годах XIX века — и сам поздний Петипа. И успех реставраций Вихарева, успех международный, с самого начала был предопределен взглядом на Петипа как на просвещенного реформатора, а не скучного классика-традиционалиста. Поздний Петипа, Петипа «Спящей красавицы», «Лебединого озера» и «Раймонды», указал нам путь, магистральный путь, с которого, к сожалению, свернули наследники, драмбалетчики, удачливые и злосчастные заступники хореодрамы.
Не получив должного признания в родном театре (о чем можно только пожалеть), Вихарев возглавил Новосибирский балет и там продолжил реставрационную работу. По гарвардским записям он восстановил петербургскую «Коппелию» в поздней редакции Петипа, сохранившей и некоторые бесценные аттракционы первой, оригинальной — парижской редакции Сен-Леона. Реставратору предстояло в свою очередь сохранить и этот парижский, и этот петербургский стиль, что Вихареву (еще раз повторю — прирожденному стилисту) удалось в полной мере. И в результате — украшение репертуара, блестящий, насыщенный разными хореографическими чудесами и очень живой спектакль, один из самых живых, идущих сейчас на балетной сцене. Не так-то просто помешать Вихареву, не так-то просто его остановить. Наступивший век не пройдёт мимо его достижений.
И вот первое доказательство справедливости только что сказанных слов. Реконструкция одноактного балета
402
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
Мариуса Петипа и Льва Иванова «Пробуждение Флоры» представлена Вихаревым на VII фестивале «Мариинский». Это блестящая и в самом деле виртуозная работа, дающая представление о том, как Петипа и Лев Иванов в свою очередь реставрировали эпоху Дидло.
ВАРИАЦИЯ
Ирину Чистякову высоко ценили в Москве, хотя видели ее лишь на гастролях и лишь в двух вставных вариациях — в первой вариации «теней» в «Баядерке» и в первой вариации па де труа в «Пахите». Так танцевать вариации в Большом театре никто не умел; полагаю, что в Мариинском театре она тоже выделялась. «Чистякова находит свободу в точности», — написала о ней Инна Скляревская. Я бы добавил, что в точности эта балерина находит красоту, которой наделял свои вариации Мариус Петипа в своих лучших балетах. У Чистяковой получался именно Петипа, подлинный Петипа, изысканный и конструктивный. И главное, с некоторым, специфически профессиональным шиком, вообще ей присущем, демонстрировался дансантный стиль Петипа — четкий ритм и стремительность, а лучше сказать — четкий деловой ритм и страстная романтическая устремленность. То, что связывает XIX век с XX веком. То, что делает Петипа и удаленным от нас, и на удивление современным.
Так и танцевала Чистякова: ритмично, стремительно, а вдобавок — и драматично. В гармоничном мире вариаций она открывала скрытый несуетный драматизм, особенно в прыжках и турах. Прыжки были решительны, а туры
26*
403
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
полны внутренней силы, при этом вертикаль соблюдалась всегда, балерина славилась своей устойчивостью, своим апломбом. Тут-то и возникал контраст, возникала коллизия — между стремлением вырваться на простор и железным обручем самодисциплины. Только ли дисциплины? Конечно же нет, здесь, в закодированном виде, присутствовала и другая драма, вечная драма классической танцовщицы, стремящейся к свободному танцу; Чистякова переживала ее, по-видимому, особенно остро. И, может быть, потому рисунок ее танца время от времени бывал жестковат, хотя в других случаях он получал необходимую мягкость. Например — во втором акте «Жизели».
Здесь, кстати сказать, у русской балерины Ирины Чистяковой обнаружился вкус к пластическим тонкостям в духе парижской школы — я вспоминаю ее выпрямленные профильные силуэты, силуэты романтической танцовщицы, силуэты вилисы.
Но этот второй акт «Жизели», а точнее — композицию из него, я видел не в театре, а на концертной эстраде. Потому что в Мариинском театре профессиональная карьера Чистяковой, по существу, не сложилась. В 70—80-е годы, лучшие ее годы, мало кого волновал дансантный стиль Петипа, притом в индивидуальном, несколько обновленном варианте. Считалось, что все сказано, сказано раз-навсегда, и танцующей Комлевой, и неувядаемой Колпаковой. А уже в 90-х появилась совсем новая волна, плеяда молодых балерин во главе с Ульяной Лопаткиной, и все внимание, естественно, было обращено на них, так что Чистяковой снова не повезло, и хорошо, что она успела станцевать третью, прыжковую, часть «Симфонии до мажор» («Хрустального дворца») и станцевала
404
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
ее, как и всегда, с волевым настроением, как и всегда — безупречно.
Третья часть «Симфонии до мажор» — это ведь тоже вариация, трижды повторенная, короткая, как афоризм, и столь же концентрированная, при всей краткости требующая неимоверных усилий. К подобной стилистике Чистякову готовила вся ее предшествующая жизнь, все ее эпизодические выступления в больших балетах. И все невысказанное в этой сценической жизни. Переход от дан-сантного стиля Петипа к дансантному стилю Баланчина не стал для нее трудноразрешимой проблемой.
В свое время, а именно — во второй половине 30-х годов Любовь Дмитриевна Блок написала пространную рецензию (напечатанную ныне в книге «Классический танец»). Описав поэтическим слогом, как Ольга Берг танцевала вариацию из балета «Дон Кихот», Блок переходила к важным теоретическим обобщениям. Портретная статья, как это бывало у Блок, становилась декларацией и даже призывом. Ее наполнял свойственный Блок боевой дух — она вся была направлена против утверждавшегося драмбалета. И пафос ее — защита «апсихологического», «атематическо-го», то есть неигрового, классического танца. Статья, как и этот текст, называлась «Вариация». Мимо нее не должна пройти ни одна балерина, не может пройти ни один балетовед. Актуальности она не потеряла. Культура вариации держалась и держится немногими избранными людьми, искусство вариации доступно немногим избранным артистам, среди них — Ирина Чистякова.
Не думаю, впрочем, что ее слишком обрадуют мои слова. Но какими другими словами можно описать судьбу балерины, чей талант был не оценен и чьими возможностями театр не поинтересовался.
405
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
В настоящее время Ирина Чистякова работает с Ульяной Лопаткиной.
ЛОПАТКИНА В МОСКВЕ
2 мая 2007 года, в рамках Пасхального фестиваля, Ульяна Лопаткина танцевала «Лебединое озеро» в Москве, на не очень широкой сцене Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Говорю об этих подробностях из совсем разных сфер (Пасхальный фестиваль и неширокая сцена), поскольку они исподволь определяли характер того, что балерина предложила переполненному и возбужденному зрительному залу. Спокойной выглядела только Ульяна. Это особое спокойствие, секретом которой владеет она, спокойствие погружения в музыку и хореографический текст, спокойствие отрешенности, чреватое неожиданной, внезапной бурей. Так, впрочем, построена и сама партитура — от спокойного вальса в начале до бури в конце, это постоянные контрасты Чайковского — музыканта и драматурга. На таком же контрасте Лопаткина строит и адажио из «Бриллиантов». Чайковский ей ближе других композиторов — мы это давно знаем. А Лев Иванов — дороже других хореографов, что снова подтвердилось на отчетном спектакле: Лопаткина протанцевала его благоговейно. Это казалось и актом искусства, и актом веры, притом что отделить одно от другого невозможно. Пластический и ритмический рисунок, найденный уже давно, при первых выступлениях, не претерпел изменений, но получил новое качество — полноты воплощения, почти идеальной. И лепка легких полетных поз, и след неуловимых душевных дви
406
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
жений, и общий эффект — воплощения невоплощаемого, всё это обрело законченность и масштаб большого стиля. На несколько суженной сцене, как на экране, отчетливо открывалась чистота линий Лопаткиной, великолепная чистота ее хореографических действий, а в некотором смысле — и помыслов, помыслов ее героини. В знакомом балете возникала непредвиденная ситуация, на изначальный сюжет осторожно наслаивался другой сюжет, или только тень другого сюжета, манящая возможность. Изначальный сюжет — плен, пленница, пленная красота и чудесный спаситель, благородный рыцарь, затем, на балу, обманутый коварно. А новый сюжет меняет картину, спасение предлагает она, спасение легкомысленному юноше, торопящемуся жить, спешащему, как говорилось в те времена, срывать цветы удовольствий. Коллизия строилась на тонкой темповой игре. Лопаткина замедляла действие как только могла, особенно в адажио, где в потоке неспешно раскрывающихся больших поз раскрывалось и то, что дано увидеть не всем: прекрасная кантилена жизни. Кантилена жизни — у нее, бег жизни — у него, так, или приблизительно так, выглядел балет, во всяком случае в первом акте, сцена Одиллии во втором акте ненадолго отменяла эту схему. К сожалению, у Лопаткиной был не самый удачный партнер, недостаточно чуткий и совсем неартистичный, смысл предложенной ему задачи он не почувствовал, и за него играл кордебалет (да, кордебалет) и главная солистка. В центральной сцене, сцене большого адажио, кордебалет отворачивается от героя, не допуская его в свои ряды, а героиня, наоборот, открывает перед ним вход в недоступный мир, закрытый для непосвященных. «Белое» адажио у Лопаткиной и есть посвящение, но и нечто другое — признание, добровольная сдача в плен, невольная демонстрация простой женской слабости, столь
407
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
неожиданной у гордой и властной королевны. И это становится еще одним, лирическим микросюжетом, открытием Лопаткиной в балете, исхоженном вдоль и поперек, но просто так не раскрывающем свои секреты.
«Лебединым озером» открывалась балетная часть Пасхального фестиваля, а на закрытие давали программу Баланчина, и там, фактически под занавес, Лопаткина танцевала «Ballet Imperial», технически сложный и предельно стремительный балет опять-таки на музыку Чайковского, его Третьего фортепианного концерта. Но на этот раз Чайковский не очень помог — Ульяна не лучшим образом справлялась с техническими сложностями и с ураганным темпом Мы это тоже знаем и видели несколько дней назад: Лопаткина замедляет свои танцы, даже виртуозные, даже 32 фуэте, но не думали, что внутренний темп балерины, дававший высокий художественный эффект в балете Льва Иванова, так неожиданно проявится в балете Баланчина и поставит такую преграду. Хотя все было на месте: и музыкальность Лопаткиной, и ее увлеченность, и ее харизма. После «Лебединого озера» хотелось перейти на торжественный лад, на высокий стиль оды и определить впечатление греческим словом «акме», что значит вершина, а после «Ballet Imperial» приходится думать и говорить о прагматических обстоятельствах, сопутствующих балетным выступлениям и балетной карьере. В частности, например, о скользком линолеуме, о неудачном покрытии на полу сцены. Такова, впрочем, жизнь балетной артистки в ее обыденности, но и в ее взлетах, которые отменить нельзя. И таков итог двух выступлений Мариинской балерины.
Но рассказ не закончен, потому что Лопаткина не сразу вернулась в Петербург, а за весьма непродолжительное время подготовила роль Кармен в спектакле Большого театра. Слухи о готовящемся событии волновали балетную Москву.
408
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
Многие не верили в удачу, некоторые предсказывали провал. Мало кто ожидал увидеть то, что мы увидели на спектакле. Балет Альберто Алонсо «Кармен-сюита» из репертуара Майи Плисецкой Лопаткина танцевала в Большом театре, где её не видели давно, а видели лишь в двух коронных партиях, в «Лебедином озере» и в «Баядерке». О коронных партиях я заговорил, потому что Кармен сразу вошла в число её лучших ролей и потому что Кармен Лопаткиной — королева. Королевская стать, королевская недоступность, королевская холодность, королевские капризы. И, конечно, королевская пластика, ошеломляющие резкие удары ног, завораживающе плавные жесты рук, безжалостные батманы, поющие пор де бра — из этих контрастных движений рождался рисунок судьбы, судьбы одинокой красавицы, живущей в постоянной борьбе, с полуулыбкой на прекрасном лице и словно бы в полголоса напевая. Станцевав этот балет, Лопаткина обозначила новый виток своей собственной судьбы, судьбы балерины, верной себе, но и умеющей рвать со своим прошлым.
ТРИ ИМЕНИ
Помещенные здесь заметки посвящены трем наиболее авторитетным балетным критикам и балетоведам советской и постсоветской эпохи. И Ю. Слонимского, и В. Потапова, и В. Красовскую я знал, хотя и не могу сказать, что был знаком слишком близко. На их статьях и книгах учился. Их статьи и книги ставил в пример молодым коллегам. Поэтому посчитал возможным краткие общие оценки сопроводить отрывками из личных воспоминаний.
409
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Но сначала несколько предварительных слов.
Первая балетоведческая работа Ю. Слонимского вышла из печати в 1926 году — в год смерти Акима Волынского. Вряд ли это совпадение назовешь случайным. Происходила смена вех, смена художественных, а также искусствоведческих ориентиров. И самого Слонимского, и других молодых людей его поколения и его круга Волынский должен был посчитать варварами, дикарями, имея в виду стиль мысли, манеру письма, деловую активность. Дикари тоже не оставались в долгу, философская культура Волынского казалась им безнадежно архаичной. Насмешливый приятель Слонимского двадцатилетний Жорж Баланчивадзе даже публично — в еженедельнике «Театр» (вышедшем 11 декабря 1923 года) высмеял старого критика, нанеся ему, конечно же, смертельную рану. И конечно же, ни Жорж Баланчивадзе, ни Юрий Слонимский, ни Петр Гусев, ни располагавшийся по соседству Иван Соллертинский дикарями не были, а были весьма просвещенными молодыми людьми, не отделявшими своих профессиональных занятий (а в случае Баланчивадзе и своей личной судьбы) от того, что происходило в Европе, во всем театральном мире. Рядом с ними даже почетный гражданин города Милана (удостоенный этой чести за книгу о Леонардо да Винчи) Аким Львович Волынский казался — странно сказать — принципиальным провинциалом, потому что в балете его интересовало лишь то, что происходило на петербургской сцене. А его оппонентов интересовало все. И эта широта кругозора позволяла питерским искусствоведам сохранять высокий профессионализм и тогда, когда двери захлопнулись, захлопнулись на долгие тридцать лет, и балетные критики остались один на один с ленинградским балетом. Правда, это был великий балет.
410
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
И все-таки нельзя не задуматься над горькими обстоятельствами так сложившейся профессиональной жизни. Рано погибший Потапов так и не узнал, что в мире существует Джордж Баланчин — а ведь он погиб на следующий год после постановки «Хрустального дворца», и в год постановки «Хрустального дворца» мы в ГИТИСе, на семинаре Потапова, обсуждали достоинства и недостатки балета А. Крейна и В. Бурмейстера «Татьяна». Жизнь Слонимского сложилась иначе, жизнь Красовской — совсем иначе, Вера Михайловна успела многое повидать, но поразительно: в списке ее опубликованных рецензий (а их, судя по изданному Академией русского балета «Библиографическому указателю», более двухсот) нет ни одного отклика на гастроли Нью-Йорк сити балле Баланчина, на гастроли Бежара, на первый приезд Гранд Опера. Что это? Полное неприятие? Беспримерная профессиональная добросовестность, не позволяющая оценивать то, что не очень знакомо? Или что-то другое? Можно лишь гадать. И сожалеть о том, что знакомство состоялось слишком поздно.
К балету «Жизель» Ю. Слонимский питал всю жизнь неослабевающий интерес. Он посвятил «Жизели» две монографии, и это, по-видимому, две его главные книги. Первая, небольшая, опубликована, как уже сказано, в 1926 году. Вторая, пространная, напечатана в 1969 году, более чем сорок лет спустя и как бы совсем в другую эпоху. Между двумя монографиями пролегла почти вся жизнь, их мало что объединяет. Во многих отношениях образцовое и далеко не потерявшее свою ценность исследование 1926 года начинается такой фразой: «Блистательная судьба балета «Жизель» тесно связана с творчеством поэта
411
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Теофиля Готье и балетмейстера Мариуса Петипа». В исследовании 1969 года тоже вначале, и довольно долго — на протяжении почти двадцати страниц, говорится о Готье, также как о Гейне и Гюго, а тема балетмейстера возникает лишь во второй главе, на двадцать первой странице. Звучит она так; «Кто наделил поэзией танца замысел сценаристов "Жизели"? Кому мы обязаны волшебством ее хореографии? На афишах и программах балета в Мариинском театре упомянут один Петипа. Считалось, что французскую "Жизель" создал балетмейстер Ж. Ко ралли, русскую — М. Петипа, и этим вопрос исчерпывался. Лишь в 30-е годы изучение других спектаклей, свидетельства современников (в том числе Адана и Бурнонвиля) и документов эпохи позволили увидеть едва ли не главного балетмейстера "Жизели" — последнего великого танцовщика Франции XIX века, передового деятеля романтической хореографии, талантливого балетного драматурга Жюля Перро. Он, оказывается, участвовал в сочинении "Жизели", начиная с формирования замысла, ему принадлежит, может быть, самая важная, решающая часть хореографии спектакля».
Последние слова — чистейшая фантазия, не основанная на «свидетельствах», не подтвержденная «документами» и не подкрепленная «изучением других спектаклей». Но вопрос об Авторе или Авторах «Жизели» действительно бесконечно интересный, заведет нас далеко (подробно, но лишь применительно ко второму акту, я разбираю этот вопрос в своей книге «Дом Петипа»), А здесь меня интересует не столько Перро или Петипа, сколько Юрий Иосифович Слонимский, до старости сохранявший детское, домашнее и очень ему шедшее прозвище «Тука». Именно его личная судьба, судьба историка, писателя, балетоведа,
412
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
а не документальные свидетельства и не вновь обследованный архив заставили переключить внимание с Петипа на Перро, «талантливого балетного драматурга».
Судьба была совсем нелегкой. Много обещавшее начало, быстро занятое положение первого балетного критика страны и одного из деятельнейших, влиятельнейших строителей советского балета, членство во всевозможных художественных, редакционных и ученых советах — в 30-х годах, в сложное и опасное довоенное время. А затем, в 40—50-х — крушение, катастрофа, принудительная изоляция (непереносимая для общественного и общительного человека), изгнание со всех официальных постов и, в довершение ко всему, благодаря умело проведенной интриге, — удаление из Института истории искусств (где Слонимский проработал более тридцати лет и по праву занимал созданное для него место историка балета). Но и это еще не все: в 1950 году, в самый разгар кампании против критиков-космополитов, простодушный — несмотря на весь свой практицизм — Тука выпускает книгу «Советский балет», рассчитывая при ее помощи угодить властям и поправить свои дела, — не тут-то было. Власти рассвирепели: как это так! Он еще хочет, чтобы мы принимали его за своего! Власть не терпела дружественных жестов со стороны обреченных. Но и подлинные, давние друзья были шокированы, были оскорблены: Слонимский отрекся от своей юности, от всех экспериментов и даже всей новой культуры 20-х годов, притом не стесняя себя в выражениях и не боясь говорить неправду. Не хочется лишний раз вспоминать, но нельзя не признать: отрекаться от прошлого этому профессиональному историку приходилось нередко. Впрочем, не ему одному. Год спустя я его навестил, он был подавлен, но старался держаться молодцом, повел меня
413
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
на «Баядерку», по дороге восхищаясь картиной «теней», но в театр нас не пустили: вышедший к подъезду главный балетмейстер что-то смущенно говорил о секретаре обкома, приехавшем на спектакль, и, стало быть, посторонних (это Слонимский — посторонний) не велено пускать: были такие порядки до смерти Сталина и много позже. Юрий Иосифович совсем было расстроился — и потому, что все произошло на моих глазах, и потому, что ему самому безумно хотелось посмотреть «Баядерку». В отличие от многих заслуженных архивистов, он обожал живой балет, нуждался в живых впечатлениях и должен был чем-то восхищаться. «Какой афронт, — сказал он печально. — Ну ладно, завтра я постараюсь тебя удивить». Назавтра мы поехали в какой-то клуб (имени Горького — теперь я знаю), и там, в окружении одетых в красивые театральные костюмчики и весьма возбужденных детей я увидел молодого человека, носившегося по сцене. «Юра, пойди сюда, — крикнул ему Слонимский, а мне тихо сказал: — Этот юноша еще себя покажет». Юноше было уже двадцать четыре года, и звали его Юрий Григорович.
По-видимому, эта способность восхищаться и превозносить чужой талант уберегала Слонимского от горьких мыслей на свой счет, позволяла жить и помогла выжить. В 60-х годах началось медленное возвращение утраченных позиций, но уже в качестве кабинетного ученого, автора многих книг, среди которых самая заметная — «Жизель», самая удачная — «Драматургия балетного театра XIX века» (1977-й, за год до смерти) и самая заветная (и посмертная: 1984) — «Чудесное было рядом с нами», в которой автор совершает очередной поворот и пишет правду о своей молодости, о своих друзьях — Гусеве и Баланчине, и о Спесивцевой, своей юношеской страсти.
414
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
Как объяснить все эти повороты? Язык не поворачивается сказать: конъюнктурщик, — да это и было бы несправедливо. Скажем другое, в духе прошедшей эпохи: солдат партии. Слонимский был вполне здравомыслящий и весьма осведомленный человек, но, как и многие (хотя и не все, далеко не все) против течения не шел, не считал возможным. «Почему ты не комсомолец?» — первые слова, которые я услышал от него сразу же после знакомства. В голосе слышалось изумление, но и тревога, тревога за меня: «Пропадешь, дурачок», — означали его слова, но и: «Как же это можно?» Верующий партиец и практичный устроитель своих дел совмещались в нем гармонично.
Соответственно складывались и его собственно научные дела и менялись исходные установки.
Установка 20-х годов (и книга «Жизель» 1926 года) — на хореографический текст и на режиссерский театр. Это общая установка ленинградской театроведческой школы и ее главы А. А. Гвоздева, учителя Слонимского, руководителя его первой работы.
Установка 60-х годов (и книги «Жизель» 1969 года) — на литературную основу, на театр драматурга. Это общая установка официального искусствоведения, официального направления в балетном театре, так называемого драмбалета. В становлении драмбалета Слонимский сыграл не последнюю роль, но впоследствии от него отрекся (самое мудрое и самое смелое отречение всей жизни).
И соответственно — перемена героев.
Перро сменил Петипа, когда в балетном спектакле стали искать литературную основу. Перро был выбран в качестве идеального балетмейстера прежде всего потому, что инсценировал в «Эсмеральде» роман Гюго, а в «Фаусте» трагедию Гёте. Петипа же был отодвинут на второй
415
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
план, потому что пренебрегал литературной основой, мог использовать в качестве фабульного первотолчка любую чепуху и только искал повода, чтобы вырваться из тесных границ либретто. Гран па Петипа — заповедная зона, куда либреттист не вхож, и показательно, что эта самая ценная часть наследия Петипа почти не рассматривается в трудах Слонимского, несмотря на то что, нормальный зритель и пожизненный балетоман, он больше всего ценил именно эту форму. Показательно также и то, что в книге «Драматургия балетного театра XIX века» в качестве репрезентативных спектаклей Петипа присутствуют и разбираются «Дон Кихот» (имеющий косвенное отношение к роману Сервантеса) и «Баядерка» (отдаленным образом связанная с индусской поэмой Калидаса «Сакунтала»). А вот для «Спящей красавицы», завершающей книгу, нужных слов не нашлось. Как объяснить этот гениальный балет, Слонимский не знал, хотя и написал работу о балетах Чайковского в Мариинском театре. То, что в поздних балетах Петипа композитор фактически заместил либреттиста, Слонимский признать не мог, тем более что, верный принятым на себя обязательствам, сам стал либреттистом.
Либреттистом он был изобретательным, плодовитым, нередко наивным (особенно странным кажется либретто, вдохновленное романом Прево о Манон Леско — героиня больше похожа на партизанку, чем на куртизанку). Но в особую роль либреттиста верил всерьез и даже вместо привычного слова «либретто» стал употреблять слово «сценарий», что подразумевало подробную, почти режиссерскую разработку фабулы. На основе сценариев Слонимского было поставлено несколько балетов, имевших неплохую судьбу («Тропою грома», «Икар»), даже
416
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
сыгравших важную и весьма прогрессивную роль («Берег надежды»), а одна инициатива Слонимского, хоть и не привела к успешному результату, представляется чрезвычайно интересной. В 1938 году вместе со своим приятелем Василием Вайноненом Слонимский предложил новую редакцию классической «Раймонды». То был весьма остроумный эксперимент, в котором соединилось сразу все: установка на большую литературу (за образец был взят роман Вальтер Скотта), веселая авантюрность уже ушедших 20-х годов и мрачная конъюнктурность уже наступивших 30-х: положительным героем стал Абдерах-ман, сарацин, почти шекспировский мавр, почти благородный Отелло — самый популярный персонаж театра 30-х годов, а отрицательным — де Бриен, аристократ, клерикал, участник Крестовых походов. Вполне гуманная постановка вопроса, к тому же имеющая некоторую опору в замыслах Петипа и даже в подтекстах Глазунова. Но осуществлялась реконструкция столь прямолинейно, через колено, что музыкальный текст трещал, а грамотные дирижеры вздымали руки к небу. Пренебрежение к музыке, столь характерное для тех лет, скомпрометировало весь остроумный проект, а в конечном счете завело в тупик и всех сторонников драмбалета.
Возвращаясь к монографиям Слонимского, написанным о «Жизели», следует добавить, что они воплощали собой две различные балетоведческие модели. Первая, где герой Петипа, это книга-исследование, анализ хореографического текста. Вторая, где герой Перро, это книга-биография или комплекс биографий, биографическая компонента занимает непомерное или даже преобладающее место. В 30-х годах аналитик Слонимский стал биографом и портретистом (в 1937 году он напечатал
27 — 940
417
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
самую известную балетную книгу тех лет «Мастера балета»). Жанр художественной биографии в балете был открытием Слонимского, во всяком случае, в нашей литературе. Вслед за Слонимским по этому пути пошли и другие, и дальше всех его первая аспирантка Красовская, а затем и ее собственные ученицы и ученики.
Владимир Ильич Голубов подписывал свои статьи псевдонимом В. Потапов, а почему он так поступал, мы поняли лишь после его смерти. Удивляла странная близость обоих фамилий: одинаковое число букв и слогов, одинаковое окончание на «ов», одинаковая первая гласная «о», одинаковая распространенность. Обычно псевдоним располагается на далеком расстоянии от подлинного имени, и в этом есть резон, особенно в нашей стране, когда надо было освобождаться от своего прошлого, скрывая социальное или национальное происхождение, чтобы не испортить безнадежно анкету. Но что скрывал Голубов-Потапов? По-видимому, что-то другое. Теперь мы знаем, что он вел двойное существование, делал двойную карьеру. Потапов был театральным журналистом, посещал балет, дружил с танцовщиками (близким другом был Ермолаев), ухаживал за танцовщицами и любил продолжительное застолье. А Голубов обслуживал некоторые неафиширо-ванные интересы своего отечества. Пути этих двух людей не пересекались вплоть до того рокового дня, когда театральный критик и секретарь Комитета по сталинским премиям Владимир Потапов был командирован сопровождать члена комитета Соломона Михоэлса в Минск, на просмотр спектакля-лауреата, а спецуполномоченный Владимир Голубов должен был повести Михоэлса в какие-то воображаемые гости по ночному полуразрушенному
418
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
Минску, где их обоих поджидали нанятые убийцы (слово «киллеры» тогда еще не было широко известно).
Я видел Владимира Ильича за день до этой поездки: он вел у нас в ГИТИСе семинар балетной критики и обычно приходил вовремя и очень охотно. Но в тот день опоздал, был необычайно мрачен и даже пьян. Он сразу заговорил о Михоэлсе. «Старик много пьет, так что я репетирую», — объяснил он нам с невеселой усмешкой. Видно было, как он напуган, подавлен, совершенно выбит из колеи. Был он очень умным человеком.
Умный, насмешливый, в меру циничный, в меру удачливый, а в меру и смелый человек, он был терпеливым педагогом. Критиком же был первоклассным — трезвомыслящим, немногословным, почти всегда точным. Еще будучи студентом, я прочитал его лучшие довоенные статьи — сколько лет прошло, а отдельные пассажи и фразы я помню наизусть и нередко цитирую в своих текстах. По образованию он был путейский инженер, голова у него была ясная, а стиль мышления — инженерный. Не любил драмбалет и его лидера — Ростислава Захарова. Не очень жаловал балерину в фаворе — Ольгу Лепешинскую, но высоко чтил балерину в опале — Марину Семенову, оценивал артистов только по гамбургскому счету. Но в 1940 году и так ограниченной критической вольности пришел конец, были присуждены первые сталинские премии и была высочайше утверждена официальная табель о рангах, не до конца совпадавшая с неофициальной. Премии первой степени получили Уланова, Лепешинская и Чабукиани. Семенова была отодвинута на второй план, вместе с Дудинской и Мессерером, Ермолаев вообще не был назван (как, между прочим, и ни один балетмейстер). И Потапов, которому пришлось комментировать и новую иерархию,
27*
419
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
и сам не вполне справедливый указ, вышел из трудного положения с честью, вежливо поздравив одних и восторженно воспев других, даже обойденных.
Лишь в случае с Улановой ему было легко.
Уланова была божеством и оправданием всей его запутанной жизни. Это звучит чересчур патетично, но тем не менее это было так. Скептик в зрительном зале и циник в быту, Потапов-критик как-то сохранял — или стремился не потерять — высокий строй мысли и веру в некоторые человеческие ценности, которые отстаивала Уланова-балерина и которыми вынужден был пренебрегать Голубов-функционер, бывший инженер-путеец. В защиту этих ценностей Потапов написал книгу об Улановой, представив ее как кандидатскую диссертацию на тему улановской «Жизели» и на другие, весьма актуальные темы. От начала и до конца, прямо и косвенно диссертация была направлена против вульгаризаторских извращений практиков и теоретиков драмбалета, а потому вызвала их мстительный гнев. Была предпринята попытка сорвать защиту. Хорошо помню этот день: переполненный актовый зал ГИТИСа, в президиуме корифеи: Завадский, муж Улано-вой, и Михоэлс, их друг, почитатель Улановой (первая публичная встреча Михоэлса и Голубова-Потапова, вполне идиллическая), а за кафедрой — оппонент, злющий-презлющий Захаров, обвиняющий, по своему обыкновению, диссертанта во всех мыслимых и немыслимых пороках (мистика, идеализм, отсутствие марксистской базы, обслуживание идеологических врагов, перепевы критиков-эмигрантов и все прочее, в том же духе). Но тут стоящий у стены актер Белокуров (Валерий Чкалов в популярном и признанном фильме) прерывает тенорок Захарова хорошо поставленным мхатовским
420
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
баритоном: «Уланова — это Шаляпин!» Буря аплодисментов, покрасневший смешавшийся Захаров уходит из зала, обсуждение прекращается, хотя при чем тут Уланова и тем более Шаляпин — не вполне ясно. Но еще только 1947 год, ораторов-доносчиков не слишком боятся — не то что два года спустя или за десять лет до того. А демагогическими приемами в споре с доносчиками научились владеть многие, даже самые порядочные артисты.
Надо признать: марксистской оценки балета «Жизель» в диссертации не было (ее, между прочим, дал сам Захаров, обвинив заслуженный балет в «мистицизме» и в том, что там «проповедуется средневековое право первой ночи»). Но диссертацию поддержал, высоко оценив теоретический уровень, академик Асафьев, крупнейший авторитет, и научная дискуссия оборвалась, так и не начавшись.
Борис Владимирович Асафьев не случайно вступился за Владимира Ильича: его когда-то самого обвиняли в идеализме. Но тут был и другой резон, для нас тогда непонятный. Много лет спустя я узнал, что Голубов-Потапов был одним из асафьевских учеников и буквально спас учителя от преждевременной и неминуемой смерти. Асафьев погибал в блокадном Ленинграде, и сразу же после снятия блокады, чуть ли не на следующий день, используя свои связи и действуя на свой страх и риск, Голубов помчался в Ленинград и организовал переезд семьи Асафьева в Москву, на специально приготовленную квартиру. Вот так складывалась судьба: одного корифея погубил, другого спас, — драматичный итог двойной жизни человека с псевдонимом.
Вера Михайловна Красовская сразу же стала популярным писателем, широкая известность сопровождала ее всю жизнь, но вот однажды — а такое если и случается
421
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
с театральным писателем, то только однажды — к ней пришла слава. Это произошло в 1971 году, и я сам был свидетелем ее литературного триумфа. Тогда весь читающий Ленинград зачитывался красиво изданным двухтомником, посвященным балетному театру первых двух десятилетий XX века. Я видел обе книги в квартире у Берковских, на ночном столике у Елены Александровны, жены, и на письменном столе у Наума Яковлевича, мужа. Позднее об этих двух книгах с несвойственной горячностью говорил Дмитрий Сергеевич Лихачев, то и дело прерываемый столь же разгоряченными репликами жены и внучки. Разговор происходил во время неторопливого чаепития за длинным столом на даче в Комарово, совсем недалеко от писательского Дома творчества, где в узкой комнатке, слева на втором этаже, Вера Михайловна провела свои лучшие дни и где, может быть, и были написаны ее лучшие книги.
Чем же они поразили читателей в далеком 1971 году? И чем они захватили читателей совсем из другого цеха? Многими достоинствами, но прежде всего — своим словом. Совсем не архаичным, тем более не старомодным и уж тем более не стилизованным, что можно было ожидать в текстах о времени Акима Волынского и раннего Андрея Левинсона. Наоборот, слово Красовской звучало естественно и современно, как будто бы ничего не произошло, как будто бы между 10-ми и 70-ми годами не пролегла лексическая пропасть, как будто бы русский литературный язык сохранялся в чистоте и развивался свободно, как это происходило в XIX веке. А ведь на самом-то деле пропасть была, и для очень многих коллег-искусствоведов, коллег-литературоведов и разных других просвещенных коллег пропасть становилась непреодолимой. Писали мы на неживом и непластичном, отрав
422
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
ленном социологией уродливом языке, и написать что-либо красивое о красоте или, иначе, что-либо точное о красоте было практически невозможно. Вступала в действие цензура слова, самая незаметная и самая неотвязная из всех цензур, освободиться от которой не всем удалось даже сегодня. Уже цензура идеологическая теряла свои права, уже 1905—1914 годы не называли по-горьковски «позорным десятилетием», уже робко и нерешительно стали называть их по-бердяевски «Серебряным веком», да так затаскали эту формулу, что произносить ее в наши дни становится почти неприлично. Но говорилось о Серебряном веке теми же словами, что и о позорном десятилетии, и потому путь к нему был закрыт, эта серебряная шкатулка этим ржавым ключом не открывалась.
А Вера Михайловна сумела открыть драгоценную шкатулку, сумела подобрать к ней ключи, сумела разгадать ее шифры.
Но все это — лишь эстетическая сторона, эстетика предмета, эстетика мысли о нем, эстетика слова. Не менее важна экзистенциальная сторона, пережитый личный опыт, вошедший в состав безлично-академического исследования, равно как и трезво осмысленный пережитый опыт легендарных танцовщиков и балерин. В результате картина балетного Серебряного века, нарисованная Красовской, оказалась не только сверкающей, утонченной, слегка эфемерной, но и тягостно-драматичной. Легенда уже не выглядела сентиментальным лубком, приторной сказкой. Легенда не разрушалась, вовсе нет, еще не пришло поколение равнодушных скептиков и циничных вольнодумцев. И наоборот, пришло поколение, для которого — хотя бы на первых порах — неистребимая, не истребленная потребность в легенде и жесткая, даже
423
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
холодная ясность ума естественно совмещались: недаром самый глубокий, самый несентиментальный балет 60-х годов так и назывался «Легендой» — «Легендой о любви». Мы помним, что этот спектакль значил для ленинградцев тех лет и для Красовской — зрителя, критика, историка балета. Мы помним, как мудро и как радостно она о нем писала. Чистое пламя воодушевления, не застилавшее ей глаза, но и не остывающее в ней, вспыхнуло удивительно ярко — и, может быть, потому, что (повторю это слово еще раз) в легендах она видела смысл искусства и смысл истории, прежде всего истории балетной. Того требовал дифирамбический склад ее души, академически вымуштрованной, воспитанной в традициях — и в лоне — петербургской искусствоведческой школы. Того же требовал и дифирамбический стиль ее строгих научных штудий.
Если же дать профессиональный комментарий к ним, к названным двум книгам прежде всего, то следует сказать, что там счастливо соединились два жанра, наиболее близкие Красовской — писателю и балетоведу. Жанр исторического исследования и жанр художественного портрета. Обычно и у нас, и особенно за рубежом, эти два жанра существуют параллельно, почти никогда не пересекаясь. Либо история без человеческих судеб, а иногда и без человеческих лиц, либо биография вне исторического контекста. Даже такие подробные биографии со множеством дат, какие писал англичанин Ричард Бакль, одну из книг которого — о Баланчине — Вера Михайловна перевела, и вовсе не потому, что была очарована Баклем, а потому что была очарована Баланчиным, да и работа со словом, английским и русским, была для ее филологического ума увлекательным делом.
Мы снова возвращаемся к тому, с чего начали, и попытаемся ответить на вопрос, как так получилось, что
424
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
в эпоху одеревеневших, неповоротливых слов Красовская писала столь пластично? Конечно, дар, полученный откуда-то свыше. Но может быть, не только дар, но и первая профессия, может быть, многолетний экзерсис, может быть, жившая в недрах писательницы энергия балерины. Вагановский класс, в котором занималась Красовская, оставлял печать на всю жизнь и на все естество, не только на мускулы и мышцы. Конечно, существовал как реальность, а отчасти продолжает существовать и сейчас особый вагановский менталитет, объединявший, точно в некий орден, всех ее учениц. Веру Красовскую вагановский менталитет отличал во всем — в поступках и репликах, в гневе и смехе, в парадоксальном соединении властности и веселости. А что если вагановский класс формировал не только первую, но и вторую сигнальную систему? Что если танец и слово связаны как-то изнутри? И эта неявная, даже таинственная связь между танцем и словом забавным образом открылась в американском городе Майами, где почти двадцать лет назад Вера Михайловна, вместе с Елизаветой Яковлевной Суриц и мной, выступала на большой конференции балетоведов, посвященной творчеству Баланчина.
Для Веры Михайловны, также как и для меня, это была первая зарубежная поездка, да еще в США, да еще начинавшаяся в Нью-Йорке. Но догадаться об этом было нельзя, с таким спокойным достоинством держала себя моя спутница и коллега. Лишь дважды хладнокровие изменило ей: сначала в день открытия конференции, когда на огромном экране нам показали видеозапись «Концерта для скрипки» Стравинского—Баланчина. Вера Михайловна смотрела как завороженная и аплодировала что есть силы. Тут я еще раз смог убедиться, что она не
425
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
только прирожденный балетовед, но и подлинный зритель. А затем — на третий день, когда она выступила с докладом сама, чего я уже не мог слышать и видеть, потому что, успев выступить во второй день, следующим утром я попал в городскую больницу со страшным приступом и почти теряя сознание от боли. Около полудня в палату ворвался взлохмаченный и возбужденный Дэвид Иден, наш заботливый импресарио, рассеянно взглянул на меня, понял, что я не помер, и закричал не своим голосом: «Вера танцует!!» И тут же убежал. Позднее, успокоившись, он рассказал мне все по порядку. Оказывается, Вера Михайловна выступала с докладом о специфических особенностях вагановского — опять-таки вагановского! — класса и так увлеклась, что незаметно перешла на нечто напоминавшее уже не урок, а именно танец, что непосредственных американцев привело в полный восторг, — и вот это зрелище мистер Иден пропустить не мог, а потому пробыл в моей палате не больше минуты.
Так началась карьера Красовской — лектора и международной звезды. И так завершилась карьера Красовской-балерины.
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
ПРАЗДНЕСТВО ЭКЗЕРСИСА
Балет Харальда Ландера «Этюды» мы впервые увидели в Москве в 1958 году, в первый же вечер гастролей парижского театра Гранд Опера — то были вообще первые гастроли европейского балетного коллектива в СССР, и то была поздняя оттепель в нашем балетном мире. Лучшего времени для знакомства нельзя было найти — парижские гости находились тогда в ослепительной форме, и кордебалет, и солисты, и этуали. И лучшего спектакля тоже было не найти, поскольку «Этюды» — это демонстрация профессиональных возможностей труппы, и гости продемонстрировали блестящее мастерство, утонченный стиль, полную жизненных сил и нисколько не архаическую школу. Сверкающий академический балет — без всяких следов скучного, педантичного, убогого академизма. Сказать, что спектакль имел грандиозный успех (я помню себя, кричащего что есть силы «Vive la France!!!») — значит ничего не сказать; то был вечер освобождения, освобождения от иллюзий и злых чар, из плена мертворожденного и мнимого искусства. Мы, конечно, понимали, что наш московский балет не так хорош, как об этом говорилось, но вся горькая правда стала очевидной именно в тот день, поздней весной 1958 года. Великая труппа Большого театра, внутренне разобщенная, расколотая на несколько групп, находилась во власти балетмейстеров-
28 — 940
433
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
банкротов. Обанкротилось само официально признанное направление, так называемый драмбалет, жанр иллюстрированных картинок, балетных комиксов на тему классических драм и поэм, а в некоторых случаях — и романов. Особенность драмбалета заключалась в том, что требовался сюжет, обязательно сюжет (золотая пора бессовестных либреттистов), но при этом допускалось — и даже поощрялось — косноязычие, невладение хореографическим языком, то есть классическим танцем. Открытая демонстрация классического танца изгонялась как «формализм», а то, что мы видели, было несообразной комбинацией несогласуемых движений. И на этом фоне «Этюды» — никакого либретто, абстрактный балет, основанный на хореографическом языке, на школьном классическом танце. Вся современная философия языка, о которой мы тогда ничего не знали (подозреваю, что и Ландер ничего не слышал о ней), все, что о языке как основе и двигательной силе поэзии писал, например, Иосиф Бродский (недаром так любивший Барышникова и балет), — все это с наглядностью красиво представленной теоремы продемонстрировали «Этюды» и уже тем самым попали в разряд подлинно современного искусства.
Но, разумеется, тут был театр, а не философский семинар, театр блистательный, чрезвычайно эффектный. Тут было все, что делает спектакль зрелищем, драмой, столкновением артистических воль: игра освещения, холодная геометрия мизансцен и встречные волны эмоциональных нарастаний, динамика действия от осторожного вступления к несдержанному апофеозу, финальному торжеству, дансантному катарсису, единственному в своем роде. Тут был и сюжет, хоть и совсем необычный и тоже единственный в своем роде сюжет, при котором местом действия становится балетный класс, содержанием — балетный
434
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
урок, а носителем действия — само построение и само движение балетного экзерсиса.
Предыстория «Этюдов» возвращает в XIX век: балет Ландера возник не на пустом месте. Впервые балетный класс показал на сцене Жан Коралли (один из соавторов будущей «Жизели») в балете «Хромой бес», поставленном в 1836 году в Париже. Действие было перенесено в Мадрид, где, по словам очевидца: «Балетмейстер дает ученикам урок, от которого остается впечатление инквизиции». Тринадцать лет спустя, а именно в 1849 году, великий датский балетмейстер Август Бурнонвиль поставил в Копенгагене балет «Консерватория», первый акт которого — «Школа танцев» — тоже происходил в балетном классе. Но это был совсем другой класс, и здесь царила совсем другая атмосфера. Бурнонвиль вспоминал свою парижскую молодость, класс усовершенствования Огюста Вестриса, в котором сам занимался. Вспоминал с нежностью, с восхищением, очень подробно. В 1933 году молодой Харальд Ландер восстановил «Школу танцев» и представил ее на сцене Датского Королевского театра в качестве самостоятельного одноактного балета. Там «Школа танцев» идет и поныне. И более того, когда сам Ландер задумал «Этюды» в 1948 году, то развернутый эпизод средней части, посвященный романтическому балету, можно рассматривать и как дань памяти Бурнонвилю-творцу и его изысканной «Школе танцев».
Тем не менее «Этюды» — вполне оригинальный балет. Ландер ясно понял, какой театральной выразительностью и каким обобщенным образным смыслом обладает экзерсис, какая в нем заключена красота и насколько эта красота неподдельна. Перенимая романтический лексикон, можно сказать, что Ландер посвятил свой балет гению экзерсиса. Школьное, подчиненное вполне производственным
2 8*
435
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
необходимостям продвижение от простого к сложному, от палки (экзерсис a la Ьагге) к середине (середине зала), от пола к прыжку, короче говоря: от станка к полету, — здесь оказывается метафорой становления, поэтическим образом пути в будущее, пути к самому себе, а движение от адажио к аллегро — такой же метафорой испытания и победы.
Дебютантка, которая становится балериной, дебютант, в котором рождается артист, — персонажи классические, даже традиционные, очень естественно выглядели в этом совсем не традиционном спектакле-экзерсисе.
И наконец, экзерсис — это же современная форма неумирающего художественного мифа. Мифа о прекрасном искусстве. Романтический балет отождествлял искусство и чудо, видел в искусстве божественный дар и отделял искусство от черной работы. Так возник миф о Сильфиде, и так была поддержана традиция беспечного празднества муз, блестящего иллюзорного гала-спектакля. В XX веке научились ценить в балете нескрытую работу, закулисный труд, эстетику репетиции, эстетику черновика, и из этих предпосылок возникли ландеровские «Этюды». Но не только из них одних. Удача Ландера, такая, какая случается раз в жизни, заключается в том, что ему удалось совместить искусство и ремесло, поэзию и труд, превратить будничный экзерсис в праздничное представление, в увлекательный гала-спектакль.
В этой манере танцевали парижане в 1958 году, представлявшие экзерсис не как сборник комиксов, о которых мы вспоминали в начале главы, а как книгу ликований, если вспомнить знаменитую книгу Акима Волынского, посвященную смыслу и даже философии классического экзерсиса. Фундаментальное исследование Волынского появилось в 1925 году, почти за четверть века до ланде-
436
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
ровских «Этюдов». Мы можем засвидетельствовать, что мысль петербургского провидца опередила озарение копенгагенского хореографа и можем предположить, что балет Ландера не оставил бы Волынского равнодушным.
В основе балета положены «Этюды» Карла Черни, знакомые всем, кто когда-либо занимался игрой на фортепиано. Написаны они в то время, когда тайны ремесла глубоко волновали композиторов — романтиков и поэтов. В форме этюдов писали свои сочинения Шопен и Лист, «Каприсы» Паганини — тоже скрипичные этюды. Сочинение Черни имеет более узкий, практическо-педагогический смысл, но у него, одного из любимых учеников Бетховена, должна была быть еще и иная, высокая художественная идея. Конечно, она есть. И разве бетховенский завет — «через тернии к звездам» — не стал лейтмотивом датского балета?
Харальд Ландер прожил чуть более шестидесяти пяти лет (1905-1971), поставил свыше тридцати балетов, но гениальным был лишь однажды в жизни, когда придумал и осуществил «Этюды». Самое замечательное в этом изумительном знатоке классического танца — то, что по своему профессиональному амплуа (а отчасти — и по своим балетмейстерским интересам) он характерный танцовщик. Чтобы изучить русские танцы, Ландер приезжал в Ленинград в 1926 году, в том самом году, когда ушел из жизни Аким Львович Волынский.
НЕЗАБЫТЫЕ ГАСТРОЛЕРЫ
Забыть их нельзя — слишком сильное впечатление они произвели и слишком большую роль сыграли в жизни нашего балетного театра. Особенно Лиан Дейде, может
437
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
быть, потому, что была первой, а может быть, потому — и таково мое мнение, что была лучшей. Лучшей из всех европейских балерин второй половины XX века, самой пленительной и самой техничной. Впервые она появилась в Москве в сезоне 1956/57 года, вместе с образцовым партнером Мишелем Рено, и танцевала «Жизель» — в нашем московском спектакле. Тут надо еще раз напомнить, что до 1957 года никто из европейских знаменитостей к нам не приезжал, и нам ничего не говорили их имена, если какой-то слух о них доносился. Мы понимали, что наши доморощенные балетмейстеры звезд с неба не хватают и производят убогий нетанцевальный драмбалет, но относительно артистов сомнений не возникало: конечно, первые в мире — и по уровню технического мастерства, и по драматическому таланту. И вот этот приезд, как громом поразивший всех — и самих балерин, и танцовщиков, и балетоманов. Странно писать слово «гром», имея в виду миниатюрную танцовщицу с огромными сияющими глазами. И все в ней сияло: сияющей казалась техника, техника бега, пируэтов и прыжков, техника стремительных дальних полетов. Сиянием были наполнены даже длиннополые тальониевские пачки. Тем не менее повторим: гром среди ясного неба. Марина Тимофеевна Семенова, впрочем всегда великодушная по отношению к гастролершам, призналась мне, что плакала на спектакле Дейде, и добавила совсем уж неожиданно: «Мы так не умели». Но ведь и Майя Михайловна Плисецкая, мало кого признающая Майя, из всех мировых прим выделяла только Дейде (и только американку Керкланд), рассказывая — среди прочего — о том, какие технические чудеса Лиан демонстрировала за кулисами, удивляя коллег очень быстрыми вращениями на очень глубоком плие (что много
438
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
лет спустя стали демонстрировать — уже на сцене — не очень разборчивые мужчины). Подробно я уже говорил о Дейде в главе «Маршруты "Жизели"», говорил как искусствовед и как балетный критик, но здесь позволю себе на несколько строк вернуться к своему юношескому положению восторженного балетомана и еще раз вспомнить о моей самой стойкой привязанности многих лет и кратко объяснить, чем же Дейде поразила. Конечно, виртуозностью, конечно, вращениями, конечно, прыжком, конечно, обликом — детским личиком и словно бы лобзиком выточенным силуэтом. Но более всего стилем. Изысканный и воздушный стиль, — потом мы поняли, что это и есть сильфидный стиль Опера, когда увидели и Пла-тель, и Герен на последующих гастролях. Все они демонстрировали безукоризненный академизм, прекрасный академизм парижской школы, но лишь у Дейде в душе жил вольный порыв, тот неудержимый вольный порыв, который заставляет птиц рваться из оков и клеток.
В 50-х годах в ней продолжал жить вольнолюбивый дух послевоенной Европы. В конце 50-х годов этот дух полностью выветрился. Тогда же и Дейде, не достигнув и тридцати лет, ушла со сцены.
Еву Евдокимову мы впервые увидели в 1969 году, на Первом Международном конкурсе артистов балета. Она заметно выделялась среди других участниц, но премии не получила — ни Первой (обладательницами стали Нина Сорокина и Малика Сабирова), ни Второй (Лойка Арау-хо), ни Третьей (Наталья Большакова и Людмила Семе-няка). Евдокимова получила лишь почетный диплом. Как известно, наши конкурсы с некоторых пор пользуются дурной славой, но они не хуже других. Просматривая
439
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
результаты давнего (1980 года) конкурса в Токио, я обнаружил, что на соревновании балетмейстеров жюри под председательством народной артистки СССР Р.С. Стручковой, присудив первую премию американцу Н. Визаку (имя мне ничего не говорит), а вторую — венгру Серджи (тоже не прогремевшее имя), третью премию отдало — кто бы мог подумать — Морису Бежару, который уже двадцать лет руководил труппой «Балет XX века». Но это случай анекдотический, а случай с Евдокимовой — скандальный. Он и завершился скандалом. Награждение проводила министр культуры Е.А. Фурцева, от которой, как всем известно, и зависело распределение медалей и дипломов. Процедура награждения шла в прямом эфире по телевидению (больше это не повторилось), и вся страна увидела то, что видеть не ожидала. Еве вручили диплом, она — с присущей ей почти болезненной скромностью — благодарила, но публика — а тогда Большой театр посещала замечательная публика — устроила ей овацию и никак не отпускала. Екатерина Алексеевна сначала по-матерински улыбалась, потом нахмурилась и стала показывать на часы. Зрители не сдавались. И тут обычно сдержанная Фурцева вдруг потеряла власть над собой, лицо ее злобно перекосилось, и, сжав кулак, она сделала какой-то угрожающий жест. Боже мой, что тут началось! Зал взревел, бедная Евдокимова не знала куда деваться, товарищ министр культуры стояла с каменным лицом, а режиссер телетрансляции — в 1969 году еще не перевелись смелые и азартные режиссеры — не сводил камеры с этого окаменевшего злого лица. Подозреваю, что сенсационный репортаж стоил ему карьеры.
Но почему нельзя было дать Евдокимовой ни золотой, ни серебряной, ни бронзовой медали? Потому, что она
440
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
родилась в эмигрантской семье (так утверждали знатоки) и представляла США (так было написано в буклете). Но идиллическое время Вана Клиберна уже прошло, да и тогда награждение Клиберна не обошлось без закулисной борьбы и было санкционировано свыше. Сейчас же санкции не были даны, к мнению Галины Сергеевны Улановой, председателю жюри, не прислушались (с тех пор — и, по-видимому, навсегда — Уланову заменил Григорович), Ева Евдокимова уехала ни с чем и больше в Большом театре не появлялась. Год спустя ее пригласила Мариинка, она станцевала «Жизель», снова восхитив и зрителей, и артистов. Ей был дан поразительно легкий прыжок, вместе с тем она владела особыми секретами танца на пуантах. Иначе говоря, элевация и техника terre-a-terre, одно не исключало и не подменяло другого. Спустя несколько лет у нас танцевала «Сильфиду» Гилен Тесмар, и мы смогли убедиться, что изощренная школа пуантного танца у них почти что одна, это то, что культивировали на Западе русские педагоги-эмигранты. Ваганова развивала в этой сфере выносливость, Евдокимова и Тесмар демонстрировали фантастическую гибкость; Ваганова смотрела вперед, Евдокимова и Тесмар восстанавливали старинное утраченное мастерство, и именно потому так хорошо выглядели в старинном — или стилизованном под старину — романтическом репертуаре. Между тем и наша прославленная Екатерина Максимова, прошедшая школу не Вагановой, а Елизаветы Павловны Гердт, танцевала «Швейцарскую молочницу», возрожденную Пьером Лакотом исходя из возможностей жены — Гилен Тесмар, и показала такие же, как у нее, блестящие пуанты.
Пуанты, конечно, волшебные, воздушный и в полном смысле поэтичный прыжок, но это еще не все, чем пора-
441
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
жала Евдокимова в «Жизели», «Сильфиде» и в «Эсме-ральде». То, как она танцевала, и являло собой чистейший беспримесный романтизм, ее высокое худощавое тело как бы само собой находило в воздухе изощренный рисунок романтического танца. Не было усилия, не ощущалось ни напряжения, ни внутренней борьбы, танец был абсолютно естественным и абсолютно простодушным. Простодушие — вот что отличало Евдокимову от всех, и от Дейде (о, это была тонкая бестия!), и от Тесмар (балерины-интеллектуалки), но что роднило ее с персонажами романтических балетов и драм и позволяло возродить казалось бы невозможное в наш век амплуа — высокое инженю, в противовес гранд-дамам Голливуда, Гранд Опера и Большого балета.
И наконец, Сильви Гиллем — полная противоположность Еве Евдокимовой, балерина из другого века. Может быть, XX, может быть, XXI, а может быть, и XXII. Выдвинутая Нуреевым в разряд этуалей, она быстро превысила (превзошла? преодолела?) этот высший разряд, и Нуреев поспешил от нее освободиться. Она переехала в Лондон, на смену Марго Фонтейн, и оказалось, что она не хуже эпигонок Фонтейн владеет английским сентиментальным репертуаром. Затем она начала было скучать, но тут ей открылся Эк. Открылся Форсайт, и она нашла себя в самых радикальных предприятиях обоих авангардистов. Но еще до того она совершенно взбудоражила Петербург, когда станцевала в двух исконно петербургских балетах: в «Лебедином озере» и «Дон Кихоте». Поразительная вещь: Евдокимову и по сей день вспоминают, Дейде не могут забыть, а те короткие гастроли Гиллем не очень-то стараются вспоминать, как будто их не было вообще или как будто они кончились провалом. Провалом? Как бы не так:
442
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
успех был заслуженным и грандиозным. Грандиозным казался сам дансантный образ Гиллем, начиная от немыслимого тогда шага до невиданных тогда двойных фуэте, выполняемых с жесткой неумолимостью не сходя с места. Уже это нарушало привычный порядок вещей, привычное представление о классических балетах. Скрижали петербургского академизма треснули пополам, хотя приезжая гостья ни в чем не искажала ни логики, ни текста. Правда ее рыжеволосая веселая Китри не казалась испанкой: типичная парижанка из фильмов «новой волны», а ее сумрачная Одетта и вовсе была лишена славянских черт, точно персонаж баланчинского и даже бежаровского балета. В партитуре Льва Иванова балерина обнаружила пластический подтекст, не очень настойчиво подчеркивая прямолинейную геометрию наклонов и сгибов. После ухода со сцены Марины Семеновой о таких вещах, как пластический подтекст «Лебединого озера», у нас никто и не помышлял, да и выстраивала Семенова рисунок образа по-своему — в духе своего времени и очень по-русски. А Сильви Гиллем мыслила как балерина конца прошлого, XX века. В дальнейшей жизни, у Бежара и у других, она будет уже прямо обнажать прямые углы, на которых основан ригоризм современных балетов. Она станет виртуозом нового геометрического текста. И в ней проявится ее личный ригоризм. Худощавая девушка с прелестным ботти-челлиевским лицом, она похожа и на студентку, и на гимнастку, и — странно сказать — на монашку. А иногда — и на Жанну д’Арк из фильма Дрейера и из спектакля Ануя. Такая же низкая челка, такой же напряженный, ушедший в себя взгляд, такой же — на некоторых снимках — короткий камзол, открывающий тонкие ноги. Длинноногая, длиннорукая, с тонкой талией, очень высокой, она
443
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
танцует классические вариации так, что на сцене, как на экране, можно видеть лишь чистые линии и лишь чистый силуэт и почти не заметно само женское тело, прекрасное, тренированное и в высшей степени искусное тело этуали и акробатки. Это особая, новая бестелесность, не та, которая отличала Марию Тальони, первую из сильфид, а та, которая отличает именно Гиллем и что требует уникальной пластики и острого художественного интеллекта. Участвуя в самых рискованных предприятиях последних лет, совершенно абстрактных или же эротически напряженных, она остается собой и вносит в эротику и высшую страстность, и высшую аскетичность, появляясь то в образе блаженной — так ее представляет Эк, то в образе новообращенной — такой она предстает у Форсайта. Балерина постмодернистской эпохи, она олицетворяет, но и опровергает постмодернистский канон, меняя само представление о постмодернизме, как и о его столпах — Форсайте и Эке. Выясняется, что все они служат не только второстепенным постмодернистским богам: богу иронии, богу деконструкции, божеству эпатажа. Объединяет их более смелый проект: конструирование нового языка, конструирование новой веры. Одержимость Гиллем — одержимость идущих на костер, хотя ее истовое искусство, как и ее нежное лицо, время от времени озаряется очень простой и очень юной полуулыбкой.
Этот короткий список посещавших нас гастролерш мог бы быть и длиннее. Нет Карлы Фраччи, дважды она собиралась к нам, так и не собралась, хотя ее имя уже было напечатано на афише (если не считать ее недавнего запоздалого выступления в «Играх» Нижинского на Новой сцене Большого театра). И нет гастролеров-мужчин, ни Эрика Бруна, ни Питера Шауфаса, ни других классиков датской
444
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
школы. Зато мы видим выходцев из отечественных школ, сделавших европейскую карьеру. Кто-то не состоялся, кто-то достиг вершин, а кто-то (как бывшая москвичка Полина Семионова) устроила свою профессиональную жизнь вполне успешно.
На юбилейном гала-концерте в честь Майи Плисецкой (ноябрь, 2005) с участием отечественных и международных звезд две балерины демонстрировали большой балеринский стиль — парижская этуаль Аньес Летестю и берлинская прима Полина Семионова. Но если Аньес, популярная и у нас, заканчивает свою театральную карьеру, то Полина только-только ее начинает. Начинает в Берлине, а не в Москве, где она училась, и не в Петербурге, где взяла первый приз на Конкурсе хореографических училищ имени Вагановой, с легкостью обыграв будущих мариинских солисток. Но тогда, более трех лет назад, это была худощавая девочка-подросток с несколько высокомерным красивым лицом и несколько резковатой манерой танца. В отдельных фрагментах — на удивление хороша, в других — инфантильна, фрагментарность казалась естественным для ее лет, но опасным недостатком. Теперь же, более трех лет спустя, Семионова предстала в образе вышколенной европейки: строгая, замкнутая, подтянутая, отчасти даже спортивная — с гибким телом гимнастки и с тонкими, музыкальными, тальониевскими руками. От детской фрагментарности не осталось и следа, как и вообще от детских замашек. Появилась законченность, законченность во всем — в построении отдельных па, в построении всего эпизода. И стало понятно, что ее главное достоинство — почти идеальное чувство формы.
445
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Всего этого достаточно, чтобы признать в Семионовой балерину первого ранга, чтобы и вновь, как и более трех лет назад, выставить ей высший бал И все это лишь предварительные слова, похожие на те, которыми пользуются члены конкурсных жюри, описывая впечатления от конкурсанток. А Семионова уже давно не ученица. И то, что она дважды показала в Москве (сначала на гала-концерте, затем на индивидуальных гастролях, в «Лебедином озере»), принадлежит самому современному хореографическому театру. Идеально выстроенная форма — всего лишь форма, всего лишь вход в замкнутый внутренний мир. А там, внутри, там драма. Надо лишь уметь распознать ее, что не легко, потому что Семионова предлагает достаточно горделивое и в меру скрытное искусство.
На гала-концерте Полина — вместе с Артемом Шпи-левским — танцевала адажио из балета «Lindenntraum» в постановке Уве Шольце на музыку медленной части Девятого (то есть раннего) фортепианного концерта Моцарта. Вот образец композиции в неоклассическом стиле: десятиминутная кантилена вдруг — и не однажды — прерывается импульсивными, почти механическими судорогами длинных тонких ног, и соответственно, прерывается скрытый, весьма напряженный диалог, в котором всю инициативу сближений, отталкиваний и снова сближений берет на себя она, партнерша, Семионова, балерина. Но это же — тема ее «Лебединого озера» и вообще традиционная для русской классической литературы тема: он слишком прост, она слишком сложна, об этом писал и Толстой в «Анне Карениной» (Вронский и Анна) и Бунин в «Чистом понедельнике», и даже Пушкин в «Капитанской дочке». Выясняется, что за всем европейским блеском скрывается московская душа и даже угадывается
446
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
тайная горечь российских судеб. И странно сказать — уже далекая петербургская премия, нынешний берлинский ангажемент, немец-хореограф, траурное анданте совсем молодого Моцарта — все это рождает смутную набоковскую ассоциацию (Набокова берлинского периода): молодая девушка из хорошей семьи, в прошлом — курсистка, оказавшаяся на чужбине, в мучительной неуверенности и в то же время смело начинает новую жизнь, не сразу, но решительно порывая со своим прошлым. Естественно, никакой такой фабулы умело построенное моцартовское анданте Шольце не предполагает, но Семионова принадлежит к редкому типу танцовщиц, искусство которых окружено ореолом неявственных ассоциаций. И тем она отличается от гламурных премьеров и глянцевых премьерш, популярных в наши дни, чьи танцы — лишь только глянец, лишь только гламур, и никакого присутствия вторых планов, никакой живой жизни души, никакой внутренней силы.
Надеюсь, что это отличие Семионовой от модного типа преуспевающих балерин не послужило причиной того, что ее не пригласили повторить успешные гастроли в Большом театре.
К совершенно другому — и тоже не модному типу, принадлежит Алина Кожокару.
И третье появление Кожокару в Мариинском театре (после «Жизели» в 2003 году и «Дон Кихота» в 2005-м) произвело ожидаемый эффект и в то же время превзошло ожидания, по крайней мере, в отношении ее профессиональной формы. Мы ведь слышали, что она больна и ее приезд под угрозой. Тем не менее все обошлось, приехала, станцевала «Спящую красавицу», хотя в первом акте
447
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
было видно, что волновалась. Но быстро взяла себя в руки и — самое удивительное — взяла в руки спектакль. Эта хрупкая питомица фей, и сама танцовщица-фея, умеет держать в эмоциональном напряжении артистов-мужчин, ассистирующих ей. Умеет растормошить самых сонных. А в результате — какое мужское соперничество разыграли женихи-принцы в так называемом адажио с четырьмя кавалерами. И как находчиво из всех технических трудностей и всех сложностей этикета выходила она! Недаром после окончания ансамбля в зале началась овация (подробно об этом — позднее). И каким страстным возлюбленным выглядел главный жених — Дезире, Андриан Фадеев. Необходимо добавить, что замечательно хорошо провела свою партию Дарья Павленко-Сирень, построившая ее на темповом контрасте с Кожокару—Авророй. И своим обликом, и своими улыбками, и общей стилистикой — стилистикой пластической «неги», Павленко, как можно предположить, походила на первую Сирень — старшую дочь Петипа Марию, петербургскую красавицу конца XIX века. И в целом помолодевший спектакль (реконструкция Сергея Вихарева) был ослепительно красив и торжествен, каким он и должен быть, каким почти всегда бывает.
Ну а виновница торжества?
Она была в ударе.
Весь долгий путь от выхода в первом акте до коды в конце она в буквальном смысле пролетела. Это была трехактная история полета. Полета навстречу жизни, навстречу приключениям, навстречу опасностям, навстречу судьбе. Такой легкой танцовщицы я не видел давно. Такой отважной. И в то же время, об этом нельзя не сказать, такой возвышенно-педантичной. Как когда-то Ирина Алексан
448
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
дровна Колпакова. Никаких отступлений от текста, никаких смазанных подробностей, никаких опущенных деталей. На том долгом пути, который Алине предстояло пройти, она была и путником, и путеводителем сразу. Это был танцевальный рассказ о «Спящей красавице», о всех достопримечательностях единственного в мире балета. Как если бы нас провели по Эрмитажу, Лувру или Уф-фицци. Вот три легендарных адажио, а вот три вариации, каждая из которых невероятно, но по-своему сложна. Вот эта диагональ на пуантах — классическая итальянщи-на (первой исполнительницей ведь была Карлотта Бри-анца), вот этот ход — традиционно французский, а этот круг — петербургский, русский, и все это собрание хореографических раритетов, бесценных дансантных картин Кожокару—Аврора представила с блеском, умело — и как вдохновенный поэт, и как тонкий аналитик. Особенное впечатление произвело, я уже сказал, адажио с четырьмя кавалерами, может быть, и в самом деле главная достопримечательность балета. Оно было построено по всем законам классической драмы: сначала завязка, затем кульминация, потом развязка. Менялись темпы — от медлительных в начале до стремительных в конце, менялись внутренние состояния — от сосредоточенных до победоносных. Смысл ансамбля становится понятным — двойной ряд испытаний: принцессу Аврору искушает страстный мужской призыв, танцовщица-исполнительница проходит через испытание долгим устойчивым апломбом. Это, в сущности, краткая формула всего балета, всего того, что Авроре и балерине предстоит пройти, так получилось у Кожокару, и так себя обнаружил ее природный конструктивный дар, дар легкой, почти невесомой и весьма отчетливой формы. И так, в игре ракурсов, вырисовы
29 — 940
449
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
вался ее силуэт, нежный неоклассический силуэт образцовой современной балерины.
Конечно, современная балерина, хоть и не засматривается в сторону главных авангардистов и главных искусителей современной хореографии — Уильяма Форсайта и Матса Эка, На Сильви Гиллем она совсем не похожа. Аштон — да, Тюдор — да, разумеется, Макмиллан (всем им почему-то дорог Макмиллан), в самом крайнем случае — Уилдон. Но прежде всего «Жизель», «Дон Кихот», «Спящая красавица» и не показанная пока что у нас «Баядерка». Вот ее мир, мир классической танцовщицы универсального типа, мир, в котором она чувствует себя привольно. Мало сказать, что она классике верна, вернее сказать, что классика — ее любовь, классику она танцует с наслаждением и со страстью. Наслаждение от текста — знаменитые слова французского семиотика Роллана Барта в этом случае совершенно уместны. А применительно к «Спящей красавице» они еще и верны. Танцевать с наслаждением, танцевать наслаждение требует сама хореографическая партитура. В этической — постренессансной — системе Мариуса Петипа это и высокий долг, и высшая доблесть, и высшая добродетель.
Эту историю я так бы и назвал — «Алина, или Торжество добродетели».
КОРОЛЬ КИТЧА
«Пиковая дама», новый балет Ролана Пети, строится на трех главных действующих лицах, — это часто используемая им схема. У Лизы скромная партия, малоприметная
450
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
роль, — тем удивительнее, что Светлана Лунькина оказалась столь заметной в спектакле. Больше других на сцене, естественно, Германн (Николай Цискаридзе), но на первом плане все же она — Графиня, Старуха, Смерть, Пиковая дама — все придумано, поставлено и сыграно Илзе Лиепа ярко. Ярко и убедительно, как ни странно звучит это слово применительно к персонажу химерическому, гротесковому, реальному и ирреальному одновременно.
Три роли — это и художественная судьба самого Ролана Пети, актера-танцовщика, балетмейстера-режиссера и француза. Первая роль, роль актера, особенно ему удалась. Он был на редкость картинен, играя Хосе в «Кармен» и Квазимодо в «Соборе». А ведь это совершенно различные персонажи (эффектный красавец и жалкий горбун) и совершенно разные актерские средства: вариации на темы благородного испанского танца в одном случае, острейший и весьма современный гротеск — в другом. На таких предельно контрастных противопоставлениях строится театр Пети, по преимуществу актерский.
Вторая и наиболее известная роль Ролана Пети — балетмейстер, режиссер, постановщик многих балетов. Хотя надо признать, что подлинные его шедевры, и прежде всего «Кармен», были созданы в начале пути, во второй половине 40-х годов, сразу после того, как он круто переменил свою судьбу, ушел из Гранд Опера и порвал с академическим балетом. Свое место в современном балетном театре Пети обозначил тогда же, раз навсегда. Это позиция между авангардом и китчем, завтрашним и вчерашним днем, интеллектуальным и бульварным театром. Балетмейстером-традиционалистом (по типу своего сверстника Пьера Лакота) он не был, традиционные формы с удовольствием разрушал, но балетмейстером-авангардистом
29*
451
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
(по типу другого сверстника — Мориса Бежара) так и не стал, ибо своего танцевального языка не создал и проблемами социальными, а тем более — философскими не интересовался. Интересовали его другие проблемы, отчасти неоромантические, отчасти неодекадентские: Любовь, Смерть, роковой поединок Женщины и Мужчины («коррида» — по словам самого Пети), роковая судьба Поэта. По этой исхоженной дороге Пети идет всю жизнь, не сбиваясь с пути, демонстрируя последовательность, изобретательность, неутомимость. И хорошую форму — на протяжении многих лет. Он дебютировал в Париже балетом «Юноша и смерть», а недавно, в Москве поставил еще одну вариацию на схожую тему. Различие лишь в том, что парижская Смерть — молодая девушка, а московская — старая дама. Пиковая дама из несменяемой колоды Ролана Пети. Совсем не уродливая и совсем не древняя старуха. И также как полвека назад, и также как в других балетах Ролана Пети в центре спектакля — дуэт, напряженный по состоянию, эротический по сюжету, дерзкий по стилистике, достаточно оригинальный по приемам. Художественный вкус Пети можно назвать французским.
Француз, даже парижанин — это третья роль Ролана Пети, которую он играет всю жизнь, поддерживая устойчивую привязанность иностранцев и вызывая такую же стойкую неприязнь многих парижан, особенно из круга интеллектуалов, не считающих, что любимый Пети кафе-шантан или сыгранный Пети Сирано де Бержерак — это и есть главная эмблема Франции и Парижа. Особое раздражение вызвал последний по времени парижский балет Пети «Перебои сердца» (по мотивам эпопеи Марселя Пруста), где салоны Германтов и Вер-дюренов были представлены в сюите хореографичес
452
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
ких иллюстраций-картин, столь же изысканных, сколь забавных. И — увы — чрезвычайно скучных. И все-таки повторим: «француз», даже «француз из французов», как сказано в буклете к спектаклю Большого театра. Надо лишь несколько расширить формулу Виолетты Майние-це, усмотрев «французское» у Пети не только в характере эстетических предпочтений, излюбленных сюжетов, избранных тем, но и в методе мышления, стиле мысли. Метод и в самом деле по-французски рациональный, стиль действительно картезианский. Все иррациональное исключено, и любопытно наблюдать, как иррациональная по форме и содержанию музыка Антона Веберна, музыка таинственных импульсов, музыка звуков-пришельцев, переведена Роланом Пети на язык ясной пространственной геометрии (этот балет идёт вместе с «Пиковой дамой»). Если же иррациональные мотивы увлекают Ролана Пети, то используются они в театральных и декоративных целях. Так это было во многих прежних балетах, где, кстати сказать, роль художника-декоратора весьма велика. Так это происходит и в «Пиковой даме».
Эта пушкинская повесть, написанная афористичным языком, но и намеренно просто, тем не менее — самое загадочное произведение русской литературы. Постигнуть смысл повести совсем не легко. Но судя по многим интервью, рационалист Ролан Пети убежден, что нашел ключ к загадочному пушкинскому тексту. Ключ, между прочим, играет в спектакле важную роль: Лиза передает его Германну при первой же встрече. Не хочется выглядеть зоилом, а тем более — придирчивым знатоком и все-таки отметим психологическую вольность: у Пушкина не совсем так, в повести Лиза дает Германну ключ после смерти Графини, дает, чтобы он ушел, дает — прогоняя,
453
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
тогда как у Пети бедная воспитанница ведет себя как Графиня в молодости, ведет себя по-французски, к тому же несколько аффектированно. Она высоко поднимает руку, демонстрируя ключ, что меняет дело: ключ здесь метафора, а не реквизит, ключ к разгадке. И ключ этот Ролан Пети (а вслед за ним и Николай Цискаридзе в своем интервью) видит в словах пушкинского героя: «Сделаться ее любовником». Вот, стало быть, где собака зарыта. Что тут сказать? Во-первых, это не вполне корректный метод цитирования: фраза оборвана, а похожие на бред мечтания Германна звучат так: «Представиться ей, подбиться в ее милость, — пожалуй, сделаться ее любовником, — но на это все требуется время...» А это другой план действия, и если вдуматься — первое указание Пушкина на душевную болезнь Германна, которая и приведет его в Обуховскую больницу. Странно, что и балетмейстер, и артист приняли фантазии Германна всерьез. Но главное — в другом, главное, что нет и не может быть какого-то одного ключа к пушкинской повести, нет и не может быть одной ключевой фразы, их несколько, и все они чрезвычайно важны, начиная с эпиграфов к каждой главке и кончая дважды повторенным сравнением Германна с Наполеоном. Сначала шутливые слова Томского: «Этот Германн <..> лицо истинно романтическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля». А затем слова рассказчика, более серьезные: «...он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона».
Я привожу эти слова вовсе не для того, чтобы укорить исполнителя, профиль которого не напоминает наполеоновский, а облик в целом — совсем не офицерский (пушкинский Германн — военный инженер, Германн
454
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
балетный похож на студента-гуманитария). Просто, напоминаю, что здесь, в этих упоминаниях о Наполеоне, одна из главных тем повести, и упоминается он ради выразительнейшей отрицательной параллели. В 1833 году, к которому относят написание «Пиковой дамы», наполеоновская легенда еще была жива, была жива память и о Египетской кампании и об Аркольском мосте, то есть о самых критических, но и самых звездных эпизодах наполеоновской судьбы, когда и жизнь, и карьера ставились на кон, а будущий император и властелин половины Европы, тогда еще — рядовой генерал, безвестный офицер в недавнем прошлом, выигрывал все, потому что не боялся все проиграть и не избегал смертельного риска. И вот теперь Германн, в профиль похожий на Наполеона. А что такое профильное подобие, мы знаем из знаменитой «эпиграммы» Пушкина на Гнедича (между прочим, пушкинского приятеля): «Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера, / Боком одним с образцом схож и его перевод». Немец Германн — боком похожий перевод с корсиканца Наполеона, Ибо идея Германна — выиграть за зеленым столом ничем не рискуя. Это герой нового времени, прозаический портрет которого Пушкин написал, как мы помним, в 1833 году. Аналогичный портрет, но уже в стихах, Пушкин в том же году дал в «Родословной моего героя». И это не случайные совпадения, а еще один итог «ума холодных наблюдений / и сердца горестных замет».
Конечно же, балет Ролана Пети совсем о другом. Но только ли о романе с «Пиковой дамой», как полагают благосклонные рецензенты? По-моему, нет. Рискуя вызвать недоумение и уважаемых авторов, и благосклонных рецензентов, я все-таки скажу, что увидел в балете содержа
455
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
ние, и более актуальное, и более простое. Мне показалось, что пушкинский сюжет используется для рассказа о современном герое. Был милый, изящный гуманитарий-студент (таков Германн у Цискаридзе) и вдруг неожиданно (новейшая психопатология утверждает, что это происходит именно так) стал обезумевшим террористом. К тому же неудачником, террористом-неврастеником, не способным использовать выпавший шанс. И тут, возможно, Ролан Пети, не договаривая всего, добивается долгожданного жизненного реванша. Балет его кажется посрамлением молодости и торжеством бывших людей, старой графини. В одном из интервью Ролан Пети признался, что лет двадцать тому назад (сейчас ему за восемьдесят) он сам бы сыграл роль Пиковой дамы. Вот был бы спектакль! Хосе, Кармен и Квазимодо в одном лице. И мефистофельская насмешка над молодыми интеллектуалами, в профиль похожими на Наполеона.
Ну, а сегодня мы имеем яркий балет, по-пушкински лаконичный, но лишенный пушкинской глубины. Хорошо, что это не доморощенный авангард, но не так хорошо, что повесть Пушкина, как и музыка Чайковского (Шестая симфония, изрезанная вдоль и поперек) отданы в руки блестящего, хотя и беззаботного короля китча.
УРОКИ АНГЛИЙСКОГО
Наконец-то попадание в десятку. Я имею в виду репертуарную политику Большого театра. Благороднейшее имя: сэр Фредерик Аштон, очаровательный балет, к тому же в редком жанре классической комедии, и, как следствие,
456
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
живой талантливый спектакль, в котором молодые артисты чувствуют себя на удивление свободно. Точно эту «Тщетную» они танцевали и играли много лет. Точно сброшен груз многих неудач или полуудач, тяжкий груз неблагодарных усилий. В спектакле есть подлинные удачи, и об этом мы поговорим, но сначала мне хочется отметить восьмерку совсем юных девушек-корифеек (как мне сказали — недавних выпускниц), вносящих в бессмертный, но старинный балет недостающую стремительность и неотразимый, какой-то вездесущий женский шарм — блестящая идея балетмейстера Аштона, поддержанная сценографом Ланкастером. Художник одел восьмерку лолиток в цветастые платьица с воланами и соломенные шляпки, что как-то весело перекликается с основным реквизитом — соломенными снопами, играющими в спектакле самую разную роль, декоративную, сюжетную и смысловую.
Но расскажем обо всем по порядку.
После русской «Пиковой дамы», переложенной на франзузский, французская «Тщетная предосторожность», переведенная на английский. Это, конечно, образцовый перевод: столько же тщательный, сколько и вольный. Все главное сохранено: либретто Доберваля и все его режиссерские ходы, пережившие два столетия сценические находки. Сохранен дух и смысл, несложная, но и совсем не мелкая философия Доберваля, философия просветительского оптимизма. Чему быть, тому не миновать, — первый закон (именно в жизнерадостном, а не в фаталистическом варианте), и все, что призвано предотвратить и помешать, в сюжете комедии лишь помогает, и даже дождь, так внезапно хлынувший, хлынул в нужный момент и позволил возлюбленным в первый раз оказаться вместе. Гони природу в дверь, она войдет в окно, — второй закон, и эта
457
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
пословица буквально реализуется в мизансценах спектакля. Природа в руссоистской «Тщетной предосторожности» и место действия, и его внутренний механизм, и главное зрелище, и главный аргумент, главный довод. Молодость всегда права и всегда победит, тем более молодость, дышащая воздухом полей и умеющая обращаться с маслобойками и серпами.
Эту основу, повторяю, Аштон сохранил, но и доработал. Доработал в английском вкусе. На прочнейшую материю, из которой выкроен оригинал, он набросил почти невесомую ткань весьма изысканного текста. Неуловимо изменился жанр: грубоватая простонародная комедия стала комедией сельской жизни, комедией «rusticana», в которой добрая старая Франция и добрая старая Англия не так уж не похожи друг на друга. Современно мысливший балетмейстер-драматург, веселый ученик веселого Леонида Мясина (Мясин танцевал у него Симону), строгий ученик строгой Мари Рамбер, Фредерик Аштон шел своим путем, несколько необычным для авангардиста второй половины XX века. Отчасти сходным путем шел и близкий Аштону по духу, но более молодой и чуть более смелый композитор Бенджамен Бриттен. Это вообще путь английского авангардизма. Авангардизм, в котором оживает прошлое, в котором бережно сохраняется связь времен и совсем не обрывается связь поколений. Судя по всему, Аштон обожал патриархальную старину и находил ее повсюду: и во французском селе, и в германском замке («Ундина» — знаменитый балет), и в русской усадьбе («Месяц в деревне», другой знаменитый балет, самый замечательный европейский балет на русскую тему). И везде, в этой благословенной старине, он искал сильные, но тонкие чувства, сильных, но тонких любовников, таких, как
458
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
Маргарита и Арман (еще одна знаменитая постановка), в исполнении сильных, но тонких стилистов. Это, конечно, немолодая, но пережившая вторую молодость Марго Фонтейн (многолетняя сподвижница Аштона и его муза) и молодой, диковатый, но на время прирученный Аштоном Рудольф Нуреев.
Все это так, но «Тщетная предосторожность», комедия положений, где тут красота, где тут тонкие чувства? Везде — в воздухе, в пейзаже и в интерьере. Еще раз назовем имя художника: Осберт Ланкастер, его эскизы замечательно хороши, увлекательно остроумны. Сам он писал, что использовал книжную иллюстрацию конца XIX века, иначе говоря — некие пракомиксы (комиксов тогда еще не существовало), некие тщательно проработанные (не то что у импрессионистов), но красочные (как у тех же импрессионистов) графические примитивы. В спектакле, на задниках, с помощью света все равно возникает пленэрный эффект, а буколические картинки — коровы, кипарисы, облака — своей наивностью трогают и возвращают... в детство? Можно и так сказать, а лучше сказать по-другому, возвращают назад, к нестертым впечатлениям жизни. Ведь этому посвящен спектакль. Эту тему несут и девочки-корифейки, и весь летящий в хороводах кордебалет, и молодые герои — Колен и Лиза.
И все-таки герои Аштона — не они и, уж по крайней мере, не только они, и здесь главное отличие его редакции от добервалевского оригинала. Доберваль поставил балет в 1789 году, а это не только год взятия Бастилии, но и эпоха комедий Бомарше и самой темы — гениального простолюдина, которому необходима сверхчеловеческая энергия, невероятная предприимчивость и сверкающий гальский ум, чтобы отстоять простое право на
459
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
счастье. Конечно же ситуация Лизы и Колена — балетный сколок ситуации Сюзанны и Фигаро, да и других персонажей «Севильского цирюльника» и «Свадьбы Фигаро» можно найти среди действующих лиц «Тщетной». Но «Тщетная предосторожность» Аштона поставлена совсем в другую эпоху. Аштон — современник Беккета, а не Бомарше, даром что его комедия лишена какой бы то ни было метафизики и какого бы то ни было трагизма. Трагическим мироощущением Аштон вообще не обладал, единственный шекспировский балет, поставленный им («Ромео и Джульетта» и не в Лондоне, а в Копенгагене), успеха не имел, а первый его спектакль, сочиненный им еще в 1926 году, в возрасте двадцати двух лет, хоть и содержал в названии слово «трагедия», но полностью назывался так: «Трагедия моды». Что ясно указывало на насмешливо-пародийный стиль мышления начинающего балетмейстера, прославившегося затем остроумнейшим балетом «Фасад», но также и на то, что к портновской профессии и к портновским изделиям молодой Аштон, впоследствии денди и джентльмен, относился вполне серьезно.
Уже потому и смешной дурачок Ален (тоже ведь сельский денди, с претензиями на то, чтобы быть джентльменом) — отчасти пародия Аштона на самого себя, пародия совсем в аштоновском вкусе. Добавим к этому, что поздно начавший учиться классическому танцу Фредерик особенной техникой не владел, и это тоже, по-видимому, нашло отражение в тех эпизодах, в которых Ален неуклюже вторгается в классический дуэт, уморительно смешно принимая позы классического кавалера. Да и все его танцевальные действия — виртуозно поставленные действия мнимого виртуоза.
460
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
И виртуозно представленные нашими артистами. И Ален—Янин, и Ален—Годовский, также как и Симона-Петухов, стали главными героями спектакля, имели наибольший, вполне заслуженный и громкий успех. Янин порадовал в очередной раз — и сценическим обаянием, и чувством юмора, и даром прыжка, и точно найденной актерской характеристикой своего незадачливого, бесконечно нахального и бесконечно наивного и беззлобного персонажа. А Годовский удивил, потому что я совсем не ожидал увидеть серьезного молодого танцовщика в столь смешной роли. Но лучшие качества Годовского проявились и здесь, — я имею в виду способность нарисовать в танце острый пластический рисунок и дать, вслед за Аштоном, своеобразную геометрию дурости, портрет придурка.
Вот, стало быть, слагаемые комедийной темы спектакля: наивность, воздушность и острый геометризм. Как мы помним, наивность, разумеется притворная, искусно имитированная, — в намерениях сценографа, воздушны здесь все восемь корифеек и весь куда-то мчащийся кордебалет, а острота линий — во многих не очень бросающихся в глаза подробностях хореографического текста. Таков общий стиль аштоновской «Тщетной предосторожности», и этот стиль можно назвать лирико-эксцентричным. Английская эксцентрика выходит на первый план, хотя лирика тоже не остается в накладе.
Особенно в тех случаях, когда в партии Лизы выступает Анастасия Горячева, ни на кого не похожая обаятельнонежная балерина, умеющая смягчать острые ходы аштоновской партитуры, но так, что они не теряют ни остроумия, ни блеска.
Лирическая природа автора «Ундины» и сама по себе дает себя знать, комедию положений прерывает тот или
461
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
иной декоративный эпизод, и скромный добервалевский танец с лентой (легендарное pas de ruban) вдохновляет Аштона на развернутое действие (немного в духе современной художественной гимнастики), превращенного в grand pas de ruban, апофеоз женской изобретательности и женской власти. И все-таки простодушие Алена, как и простодушие декоративных картин, занимает балетмейстера если не больше, то по крайней мере не меньше, чем предприимчивость молодых людей, и в этом есть свой резон: спектакль восходит к традиции раннего Чаплина и старого лондонского мюзик-холла.
Побеждает не энергия и не галльский ум, побеждает английский юмор.
ШАРФ АЙСЕДОРЫ
О шарфе Айседоры Дункан мы поговорим в конце, а вначале — о впечатлениях, самых последних. Приезд труппы Бежара в прошедшем декабре оказался ностальгическим и выглядел прощальным. Маэстро не появился: как разъяснили нам, он серьезно болен. Программа же — за одним исключением — состояла из старых номеров, лучший из которых назван (в несколько вольном переводе) «Неужели это смерть?», что тоже исподволь влияло на атмосферу концерта. Хотя никакой смерти с косой там не было, а был растерянный танцовщик (на премьере танцевал Хорхе Донн), таинственная танцовщица (на премьере — Сьюзен Фарелл) и еще три танцовщицы, принимавшие позы стыдливой Артемиды. И само построение квинтета, и античные реминисценции, и присутствие Фарелл, толь
462
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
ко что ушедшей от Баланчина и его лучшей Терпсихоры в балете «Аполло», — все это давало понять зрителям, что перед нами почтительный, но и чуть иронический парафраз легендарного баланчинского квартета. Знаменательный момент: Дионис современного балета, Морис Бежар, салютует современному хореографическому Аполлону, Джорджу Баланчину, сохраняя дистанцию и предлагая свой собственный художественный план, свои собственные дансантные идеи. Смерть смертью, Ангел смерти — Ангелом смерти (еще один излюбленный Баланчиным мотив и тот образ, что танцевала Сьюзен Фарелл), но, по-видимому, Бежара увлекало другое: возможность построить дуэт на музыке Рихарда Штрауса, почти совершенно лишённой отчетливой ритмической основы. На чём держится и как может так долго длиться безопорный танец и вообще весь этот деликатный балет — непонятно, это одно из чудес зрелого Бежара, увлекавшегося дзен-буддизмом и погружавшего в долгие медитации средние части своих симфонических композиций.
В некотором дантовском смысле такой была серединная часть его жизненного пути, который длится уже много лет и завершается поразительно умиротворенно. Неоспоримое свидетельство — шутливый балет «Искусство быть дедушкой» (показанный на гастрольном концерте), где Бежар представил свою молодую швейцарскую труппу, труппу без звезд, без привычных талантов, а сам заочно предстал в неожиданном образе добродушного дедушки, веселого и даже чуть благостного дедули. Начало же было другим, совсем другим. Благостности оно не предвещало. Бежар-хореограф появился на парижской сцене и европейской арене (слово «арена» в данном случае вполне уместно) в образе неукротимого
463
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
революционера. Пример для подражания у него был, и он нередко о нем вспоминал, — молодой Маяковский. Когда Андре Мальро, министр культуры в правительстве де Голля и будущий герой знаменитого балета, предложил Бежару возглавить Парижскую оперу или, по крайней мере, парижский академический балет, он в ответ предложил сначала сжечь театр Гранд Опера и навсегда уничтожить иерархическую структуру труппы — все эти степени и ступени: кордебалет, корифеи, солисты, этуали. В своем собственном «Балете XX века», оформившемся в 1960 году и располагавшемся в Брюсселе, в старинном Театре де ла Монне, Бежар и осуществил подобную реформу. С тех пор она стала нормой — для всех возникающих в Европе независимых балетных коллективов. Впрочем, в Нью-Йорке, у Баланчина, все это давно практиковалось.
О революции Бежар много думал и говорил, прежде всего о революции художественной, но и не только художественной. Он не однажды возвращался к этой волнующей теме: «1789 и мы», «Революция. 1830», китайская революция в балете «Мальро». А его брюссельский дебют (1959) стал действительной революцией в балетном театре. «Весна священная» Бежара на музыку Стравинского, написанная для Дягилева в 1913 году, ознаменовала прорыв в неведомые сферы хореографии и хореографического спектакля, породила множество подражаний, а главное — высвободила творческую энергию не только бежаровской труппы и труппы де ла Монне, но и многих коллег-хореографов: после «Весны» все или почти все стало возможным. Бежар в буквальном смысле расколдовал балет, сбросил с него оковы. Это стало смыслом и содержанием спектакля. Могучий инстинкт жизни, рвущийся
464
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
наружу и вырывающийся на свободу в конце концов — простая фабула этой бесфабульной постановки. Нет этнографии, нет древних языческих ритуалов, всего того, что предполагало либретто и чему посвящали спектакли Нижинский в 1913 году и Мясин — в 1920-м.
Бежаровская постановка означала освобождение от подробностей, от эпизодической структуры. Могучим усилием творческой воли создается балет-монолит, цельная форма. Два кордебалета несут действие: мужской — в первой части, женский — во второй, в финале они соединятся. Неудержимая сила психического, а более всего — эротического тяготения влечет их друг к другу, мужское дикарское и женское божественное, мужское и женское в своей чистоте, в своей неполноте, в своем стремлении к целостности, изначальной, затем утраченной и вновь обретенной. Витавшие в воздухе идеи сексуальной революции клубились под куполом Театра де ла Монне, но роль их на сцене, в сценическом действии была не столь велика: как и всегда, распространённым веяниям времени Бежар придавал и очень личный, и очень широкий смысл, превращая их в захватывающую хореографическую картину. И образ всеобщего обновления, и образ священной весны почти явственно возникал в потоке изощренно-дикарских мужских прыжков, в последовательности изысканно-чувственных женских хороводов. Тогда же в его хореографическом словаре появился изломанный аттитюд как личный экслибрис, как двойной знак — слома классической, аполлоновской гармоничной традиции и близости к традиции дионисийской, поскольку такой же изломанный аттитюд можно увидеть в позе сатиров на вазе первой половины V века до новой эры. Как знак мифа.
30 — 940
465
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
В основе стремлений молодого, да и зрелого Бежара — так называемая философия жизни, прорыв к изначальным стихиям жизни, вытесненным культурой, религией, этическими нормами, воспитанием и просто-напросто правилами хорошего тона. То, к чему призывал Ницше, а во французском театре в начале 30-х годов Антонен Арто. В конце 40-х, сразу после смерти Арто, его имя стало чрезвычайно популярным в кругу парижских интеллектуалов, не только практиков театра. Бежар был среди них. И хотя самых радикальных идей теоретика «театра жестокости» Бежар не разделял, именно ему, и именно в балетном театре, в танце, удалось осуществить главное из того, что самому Арто не удалось на драматической сцене. Прорыв к скрытой субстанции жизни, прорыв к мифу, носителю этой субстанции, и даже к древнейшему прамифу, ещё не имеющему этнической определённости. И, наконец, прорыв к танцу, в котором закодирован древний, но не умерший миф, — так можно объяснить те основы, на которых Бежар создавал свой театр, свой «Балет XX века», свои мифологические спектакли. Классические балетные сюжеты не привлекали его. Классические балетные партитуры XIX века оставляли равнодушным. Он брал музыку великих симфоний — Бетховена, Малера, Рихарда Штрауса и любимого своего Берлиоза, соединял с музыкой авангардистов, экспериментировавших с синтезаторами и шумами, и это столкновение музыкальных эпох, эта почти дьявольская смесь создавала необходимую энергию прорыва. Хотя в случае Стравинского (как и в случае равелевского «Болеро») к таким сильно действующим средствам прибегать не пришлось: не было никакой необходимости, никакого смысла.
Драматургия Бежара почти всегда основана на контрастном сближении противоположных тем, образов и
466
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
стилистик. Монтаж — его главный прием, монтаж музыкальный, монтаж хореографический, монтаж поз и движений, монтаж смыслов. Мелодии Берлиоза и взрывы авиабомб, «Голубой Дунай» и Джек Потрошитель, XIX век и XX век, Золотой век искусства и страшный век поножовщины, войн и политического авантюризма. А на пространстве бежаровского творчества, увиденного целиком, Европа и Азия, античность и далёкий Восток, платонизм, дзен-буддизм и дионисийство. Здесь есть, конечно, и брехтовское отчуждение (Брехт — еще один называемый Бежаром кумир 50-х годов), и просто-напросто прямолинейный полемический жест (что и объясняет неприятие многими зрителями бежаровского искусства), но основная задача — в другом. И она совершенно утопична. В эпоху разного рода антиутопий Бежар создает свой утопический мир, свой утопический союз эпох и культур, свою утопию всеобщего и всемирного братства. Утопия Бежара — утопия некоторой сверхкультуры, объединяющая Стравинского и дикарей, она же утопия некоторого сверхтанца, в состав которого входит и классический танец, и свободный танец, и акробатика, и пантомима. Сюда же входит свободная стилизация индусских замедленных, почти неподвижных поз, равно как и эллинских дионисийских неостановимых ритмов. Поистине чудесный сплав, призванный всех объединить, не делающий различия между сакральным и профанным, сверхчеловеческим и естественным, красивым и уродливым, мужским и женским. Поэтому, кстати сказать, «Болеро» могла сначала танцевать Душанка Сифиос в окружении сорока мужчин, а потом Хорхе Донн — в окружении сорока женщин. Хорхе Донн вообще являл собой точно найденный тип
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
идеального андрогина, наделенного «лошадиной выносливостью» (слова Бежара) и утонченностью балетной Психеи. Смутные и, казалось бы, нереализуемые представления Бежара на этот счет оказались вполне реализуемыми, и в «Балете XX века» Хорхе Донн занял то же место, что и Вацлав Нижинский в дягилевской антрепризе. Он стал реальным воплощением утопического мифа.
Хорхе Донн был подарен судьбой Морису Бежару. И это поистине царский подарок царственному автору «Болеро». Хотя в самом Донне царственности не было и следа, никаких повадок первого танцовщика, балетного премьера. Может быть, лишь пышная крона волос, может быть, лишь сосредоточенное выражение лица, некоторая неуловимая Гамлетова складка. А так — ничего бросающегося в глаза, ни поз, ни осанки. Основное, хотя и бесценное качество Донна — естественность, естественность во всем и в некоторой, почти немыслимой ныне мере. В XVIII веке его бы и называли: «естественный человек», тем более что, как и вольтеровский Гурон, он прибыл откуда-то из Нового Света. Трудноопределимое амплуа Донна — отчасти герой, отчасти простак, отчасти поэт, флорентийский Петрарка, петербургский Петрушка. Но скрытый его образ немного другой; это князь Мышкин из непоставленного, да и не предполагавшегося балета. И у него та же миссия и та же судьба: всех объединять, всех примирять, вносить гармонию туда, где царит беспорядок и хаос. Дар естественности, который был ему дан, Хорхе Донн распространял на все вокруг: на свои роли, на свои танцы. Сложная, причудливая, нередко рваная и алогичная — при всем своем рациональном строе — хореография Бежара в телесном воплощении Донна становилась естественной, становилась связной. Это было
468
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
чудо врожденной сверхтанцевальности. Танец, не опиравшийся на жесткий ритм либо, наоборот, лишавший жесткости слишком жесткий ритм, танец как таковой, естественный, как дыхание, чарующий, как улыбка.
Когда Донн ушел, заменить его было некем. Монтажная хореография стала давать трещины, распадаться на куски, секрет ее был утрачен. Уход Донна знаменовал и другое: утопический бежаровский миф, союз культуры и варварства, высокой культуры и естественного человека, оказался мечтанием, не поддержанным жизнью. Расколотому этнически миру не нужно было ни то, ни другое, и Бежар был вынужден это признать. Вероучитель остался не только без верного послушника, преданного ученика, но и без веры. Начался кризис, поначалу не очень заметный, не изменивший образа жизни, поскольку творческую энергию даже стареющий Бежар удивительным образом сохранял, почти к каждому сезону готовил премьеру. Но новых путей он почти не предлагал, новые идеи уже не были увлекательны и актуальны. Это не сразу поняли критики, зато сразу поняли молодые артисты. Самые одаренные среди них уже не стремились пройти школу Бежара, их привлекали Пина Бауш и Уильям Форсайт: Пина — остротой художественной мысли, Уильям — такими же острыми экспериментами в сфере собственно танца. Вот уж кто не был прекраснодушен, вот уж кого мало вдохновлял весь комплекс послевоенных социальных и общекультурных надежд, и вот кто, наоборот, пусть и с некоторыми оговорками, вступил на путь европейского постмодернизма. А Бежар оставался просто модернистом, последним модернистом по убеждениям и по духу. Но способность к переменам не оставляла его, и весьма интересно было гадать, как поведет
469
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
себя этот независимый и очень-очень гордый художник, переставший быть властителем дум, отодвинутый в прошлое «Бежар после Бежара». Он повел себя достойно. Он повел себя остроумно. В духе своих монтажных идей он попытался сделать почти невозможное, соединив две эпохи уже только XX века: послевоенный патетический модернизм и последующий иронический постмодернизм, на что способен был только создатель «Балета XX века». Но такой труппы уже не существовало. Брюссельский Театр де ла Монне отказал бежаровской труппе: доходы стали падать, а старые заслуги никого не интересовали. Главное свое произведение о власти золота и о гибели цивилизации, основанной на власти денег, Бежар поставил в чужом театре, Берлинской опере, и с чужими артистами: ему нужны были большие артисты.
Фантастически сложный четырехчасовой и четырехчастный балет «Кольцо вокруг кольца» (по мотивам вагнеровской тетралогии «Кольцо Нибелунга») был впервые показан в 1990 году, а недавно возобновлен с Дианой Вишневой в роли старшей валькирии Брунгильды и Владимиром Малаховым в роли бога огня Логе. Конечно же, Бежара увлекала возможность обыграть тему и образ кольца, а это смысловой и геометрический архетип бежаровско-го искусства; на этом основано уникальное «Болеро». Но очевидно, что прежде всего он стремился очеловечить вагнеровский сверхчеловеческий мир, не теряя сверхчеловеческого пространственного масштаба. Для этого действие было растянуто на четыре часа, а на заднике установили огромное зеркало, которое удваивало все происходившее на сцене. Удвоен был и сюжет: вагнеровская драма была дополнена драмой закулисной. И были приглашены русские артисты. Именно их персонажи вышли на пер
470
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
вый план, оттеснив всех других, и принесли человеческое измерение в безразмерное пространство вагнеровско-бежаровского мифа. Брунгильда—Вишнева — отчаянная девчонка, похожая на тех, что любил Сэлинджер, а гротесковый Логе—Малахов в огненно-рыжем парике напоминает насмешливого, себе на уме, циркового клоуна, что, как не сразу выясняется, находится в полном согласии с неожиданными намерениями Бежара. Использована вся атрибутика средневекового эпоса — и копья, и латы, и рыцарские доспехи, и крылатые шлемы валькирий изумительной красоты, использованы и современный рояль, на котором фортепианное переложение тетралогии играет модная пианистка, и еще более современный магнитофон, включая и выключая который богиня Фрикка, жена верховного бога Вотана, включает и выключает полную оркестровую и вокальную запись байрейтской постановки. Иначе говоря, игра времен, игра анахронизмов, дочери Рейна в зеленоватых тальониевских пачках (как «Изумруды» у Баланчина), дочери Вотана, как и его сыновья — в джинсиках и джинсах. На сцене легендарная действительность мифа и современный танцевальный класс со станком, используемым весьма искусно. Бог Вотан — он же балетмейстер, режиссер-демиург, его дочь валькирия Брунгильда — она же первая танцовщица и страстно любимая ученица, прощальный дуэт между ними двусмыслен (а вернее, совсем недвусмыслен) и вносит в спектакль мотив инцеста, тот самый, манящий и роковой мотив, который закодирован в псевдониме «Бежар», но к этому вопросу мы еще вернемся.
Дуэт замечательно поставлен, как и другой эротический и тоже инцестуальный дуэт — брата и сестры Зигмунда и Зигильды. Здесь вагнеровская и столь же бежа-
471
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
ровская тема неодолимого стремления друг к другу двух одиноких существ, которое сильнее супружеской верности, рыцарской чести и родственных запретов. Слияние двух тел в одно, что, как никто, умел поставить Бежар, чему он, как никто, умел придать жесткую, но и одушевленную форму.
Дуэты — вершина спектакля, хотя в нем много эффектов и много красот, но в целом стилистика колеблется между суровым мифом и театральной сказкой. Великаны выходят на сцену на огромных ходулях (как цирковые клоуны-акробаты); страшный Змей, непобедимый дракон изображен в виде уморительно смешного бутафорского зверя; уснувшую Брунгильду укладывают на рояль и окружают фантастически выглядящим красным световым кольцом, и все начинает напоминать «Спящую красавицу» в современном театре. Конечно же, Бежар поставил увлекательную сказку-феерию, может быть, вспоминая — в свои шестьдесят с лишним лет — те домашние спектакли, которые он ставил в детстве вместе с младшей сестрой. И тема этой феерии — не столько могущество золота, гибельная власть денег или всесилье судьбы, сколько могущество театра, легко играющего светом, звуком, временем и пространством.
Судьбы театра волнуют Бежара теперь больше, чем судьбы цивилизации.
Вагнеровское убеждение: мир будет спасен любовью, — в спектакле сохранено, полет валькирии Брунгильды— Вишневой — вдохновенный полет навстречу любви, неостановимый полет над бездной. Но вся эта замечательно поставленная и замечательно станцованная история поддержана бежаровским убеждением старика — мир будет спасен театром.
472
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
Поэтому не должно удивить общее впечатление от постановки сурового вагнеровского мифа: постановка Бежара празднична. Празднество мифологии, фестиваль мифа, комедия-балет на поминках. И тут вспоминается имя Мольера. Прежде всего объясним, что мы имели в виду, говоря об инцесте и о псевдониме «Бежар», который он взял по созвучию с именем Берже, именем философа-отца, жившего в Марселе. Так звали двух братьев-актеров и двух их сестер: старшая, Мадлен Бежар, была многолетней подругой Мольера, а младшая, Арманда, стала его женой, притом что немилосердная молва утверждала, что Арманда не сестра, а дочь Мадлен и что Мольер взял в жены собственную дочь, к тому же достаточно ветрен-ную и слишком молодую. Скандальная аура, окружавшая актерский брак, и призрак инцеста, опозоривший мольеровскую семью, — все это побуждало вступиться за честь оговоренного старейшины французского актерского цеха. Тем более, что атмосфера скандала Бежара не могла отпугнуть, а в инцесте можно было усмотреть античный мифологический мотив, что Бежара тоже не могло не увлечь, — с его страстной привязанностью к античным мифам и стойким интересом к античным нравам. С его завороженностью великой страстью, которую не остановит великий запрет. С его очарованностью личностью и делом Мольера.
Начертав на своем фамильном гербе знак принадлежности Мольеру, а не, скажем, Расину, Бежар обозначил свой путь, последовательный, но и парадоксальный. Потому что у Бежара, автора «Весны священной» и год спустя поставленного «Болеро», сверхаскетичных балетов, танцуемых без декораций и без костюмов на пустой сцене или на большом круглом столе, довольно скоро
473
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
откроется подавляемая страсть к открытой театральности, роскошной бутафории, модным театральным костюмам. И, как это ни покажется странным, Бежар на своем языке продолжит традицию версальских, вернее говоря — мольеровских комедий-балетов. Бежар и Мольер — это понятно, но Бежар и Версаль — это какой-то абсурд. Весь пафос раннего Бежара непосредственно направлен против версальского духа, версальской классической неподвижной красоты, версальского художественного этикета — всего того, что сохранил в себе академический классический танец, как он представлен на сцене Гранд Опера или, по крайней мере, как он был представлен еще недавно. Неудивительно, что с Парижской оперой отношения у Бежара не сложились. И тем не менее у автора «Весны священной» — версальский большой стиль. Как это объяснить? Для этого надо перенестись в послевоенный Париж, в годы молодости Бежара. Это были годы тотальной духовной свободы. Настольными книгами молодых левонастроенных интеллектуалов были Маркс, Ницше, Маркузе, Камю, Сартр, да, Сартр, несмотря на его призывы «ангажироваться», то есть встать под чьи-то знамена. Хотя именно этот призыв Бежар отвергал, он был и остался не-ангажированным художником второй половины XX века. Всю жизнь он отстаивает свое право — право оставаться свободным, право быть разным и быть другим — сегодня аскетом, завтра гедонистом, сегодня режиссировать «Искушение святого Антония» в Одеоне у Барро, а завтра у себя ставить изощренно эротическую «Леду», сегодня одевать танцовщиков в джинсы, а танцовщиц в трико, а завтра заказывать сценические костюмы у Версаче. Соответственно и все его протагонисты равны и не равны себе, пластичны психологически и внутренне подвижны.
474
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
Поэтому каждое жизненное воплощение протагониста превращалось в отдельную роль: Мальро изображали пять артистов, а Бодлера — так даже семь («один станет читать прозаический текст, другой — цепенеть от гашиша, третий — танцевать на музыку Вагнера», — напишет сам Бе-жар в своей последней книге).
Жанр аналитических портретов или балетов-биографий, как их называл сам Бежар, — это одно из самых оригинальных открытий Бежара-хореографа и Бежара-драматурга. Он посвящал их поэтам, творцам, предшественникам Антонена Арто, последователям Фридриха Ницше. А кого можно считать предшественником самого Мориса Бежара? За кем он пошел? Чье дело продолжил? Впечатление таково, что ничье, что он шел по непроторенной дороге. Хотя, по-видимому, далекая предшественница у Бежара была, такая же одиночка, как и он, во многом стремившаяся к тому, к чему стремился и он, во многом полная ему противоположность. Это, конечно, американка Айседора Дункан, появившаяся в Европе в самом начале XX века. Она имела последователей в России (студия дунканистов просуществовала чуть ли не до наших дней), но в Париже большого впечатления не произвела, отчасти потому, что ее полураздетое тело было лишено какого бы то ни было эротизма. Ее миссия заключалась в другом — в освобождении, но и одухотворении тела, в стремлении обнаружить и выявить в танце особую музыку тела, музыку скрытую, таинственным образом перекликающуюся с музыкой небесной, так называемой музыкой сфер. Бежар, повторю, конечно же и похож, и не похож на Айседору. Человеческое тело — предмет и его рефлексий, и его наблюдений, и свободных фантазий, и строгой аналитической работы; как и у скульптора, это его главный художественный
475
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
материал. Мужчины-танцовщики почти всегда по пояс обнажены, женщины, тоже нередко, обряжены в обтянутое трико, мягко и бережно обозначающее все абрисы, все выступы, все изгибы. Сам танец у Бежара демонстративно телесен, как, впрочем, и многие спектакли, в которых демонстративно телесную роль играет кордебалет (corps de ballet — по-французски «тело балета»). Этим и захватила бежаровская «Весна священная», весна кордебалета. Освобождение тела, — конечно же, смысл «Весны» и всей хореографии Бежара и означает освобождение могучих и вытесненных витальных сил, они же сила Эроса, что, повторим вслед за Бежаром, лежит в основе мифологии и лежит в основе танца.
Систему Дункан и систему Бежара можно рассмотреть более широко. Искусство Дункан — искусство невоплощенных или же недовоплощенных эмоций, страстей, побуждений. Оно принципиально невоплотимо. Ее пластические этюды — где-то в таинственном промежутке, на полпути от музыки к танцу. Это апофеоз замысла, чистого замысла, которому не грозит чем-то стать и, стало быть, быть искаженным. Иначе говоря, апофеоз замысла, которому не суждено стать формой. Для Айседоры это не драматическая ситуация, отнюдь нет, это условие поэтичности, принятое не только Дункан, но и символистами начала века. Да и импрессионистская концепция искусства, и прежде всего в музыке, и более всего — у Дебюсси, исходила из сходной предпосылки. А соответствующий пример в балете тех лет, — разумеется, фокинская «Шопениана».
А Бежар совершенно другой. Его отличает почти свирепая страсть к полноте воплощений, самых неожиданных, самых различных. Или, иначе, — любовь к геометрии и выстраиванию симметрично ассиметричных дуэтных поз, к
476
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
проведению четкого рисунка. Страха формы, как и страха жизни, нет никакого, а если что и есть, то это пережитый в юности страх творческого и человеческого небытия, страх «не стать» — не стать танцовщиком, не стать творцом, не стать деятельным и свободным человеком. Из подобных эмоций возник творческий комплекс раннего Бежара, комплекс законченности, законченности смысловой и формальной. И самое совершенное произведение тех лет — поставленное в 1960 году равелевское «Болеро», дионисийская вакханалия, введенная в строгую форму.
Это еще одно кольцо в кольце: круглый стол внутри, круглый ряд стульев снаружи (что своей выразительностью напоминает античный символ, символизирующий высшую власть, а отчасти — и дорожный указатель). Пятнадцатиминутный балет построен, как и у Равеля, на крещендо, причем на крещендо двойном — и в партии солиста, от осторожного пор де бра до вакхических прыжков, и в партии кордебалета. Неумолимое центростремительное движение ведет форму из одной мизансцены к другой, из внешнего круга, где на стульях сидит кордебалет, к внутреннему кругу, столу, на котором танцует солист, он же вождь, он же маг, он же носитель послания и носитель жизни. Постепенно, по-двое, по-трое, поначалу безжизненный кордебалет, окружая столы, повторяет солиста, ведет хоровод, а в финале накрывает солиста безжалостными руками. Красный стол, возможно, от Брониславы Нижинской, первой постановщицы «Болеро», стулья, несомненно, от Ионеско, но, по словам самого Бежара, его «Болеро» — вариант мифа о Дионисе, приносимого в жертву вакханкам.
Миф о Дионисе, или хореографический знак мифа, потому что знаковая эстетика «Болеро» бросается в глаза,
477
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
тем более, что каждое па солиста, каждый жест, каждый прыжок имеет наименование, это па-иероглифы, как почти всегда у Бежара, хореографа-семиотика неведомо для себя, задолго до Форсайта, открывшего семиотическую природу танца.
Знак мифа или знак актерской судьбы, который Бежар находит везде и более всего — в человеческих силуэтах. В силуэте Нижинского, Хорхе Донна, Душанки Сифиос, на которую и поставлено «Болеро», в силуэте самой «божественной Айседоры».
В 1976 году Бежар поставил для Майи Плисецкой цикл миниатюр «Айседора» — монобалет, он же балет-портрет, изящный хореографический портрет и Дункан, и самой Майи. Финальный эпизод имел отношение только лишь к Айседоре. Танцовщица шла вдоль рампы, а за ней из правой кулисы к левой стлался небывалый по размерам белоснежный шарф, заполонивший всю сцену. Реальная и страшная историческая подробность (Дункан задушил ее собственный шарф, запутавшийся в колесе автомобиля) получила у Бежара масштаб мифа, а скромный и традиционный балетный реквизит (па с шарфом есть и в «Сильфиде», и в «Раймонде», где его танцевала молодая Майя), этот, повторяю, невесомый романтический реквизит стал грозной бутафорией, грандиозной гиперболой театрального рока, преследующего всех, сценической метафорой, предельно выразительной и по-античному мощной.
А теперь его нет, он умер в швейцарской клинике в утренний декабрьский час, месяца не дожив до своей восемьдесят первой годовщины. После ухода Баланчина это самая невосполнимая утрата Оба они, и мистер Би, и мсье
478
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
Морис, держали в своих твердых руках судьбы классического и постклассического балета. Два мастера, два чародея, два естественных и бесконечно обаятельных человека.
Случилось так, что известие о смерти Бежара чуть ли не день в день совпало с выходом журнала «Персона», где напечатано большое интервью с балериной Максимовой. Дружившая с Бежаром и вместе с Хорхе Донном станцевавшая у него на московских гастролях Юлию в берлиозовском спектакле, Екатерина Сергеевна рассказывает о том, как живет (а теперь скажем: как жил) Морис Бежар, как обустроена его квартира. Никак не обустроена: «В его брюссельской мансарде никакой мебели практически не было. Книги, диски... Где-то на антресолях стоял низенький топчанчик. Когда мы пришли в первый раз в гости втроем с Галиной Сергеевной и Володей, нашлось всего-то три табуреточки. Ни одежда, ни машина, которой у него нет, его не волнует. Главное — нет в этом потребности. Он не любит пустых разговоров. Живет без телефона, чтобы не отвлекли от музыки или чтения».
По-моему, эти слова могут заменить любой некролог и могут считаться посмертным, но очень живым портретом.
КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО
Джон Ноймайер родился в 1942 году в городе Милуоки, на берегу озера Мичиган, самого большого озера Соединенных Штатов. И можно предположить, что огромное озеро стало детским воспоминанием, пронесенным через всю жизнь, и даже косвенно повлияло на тематику его творчества и на особенности его карьеры. Во всяком
479
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
случае, поэзия озера, мистика озера, роковая связь озера и человеческой судьбы — все это вошло в мифологию ноймайеровского балетного театра и стало основой двух его заветных балетов: «Лебединого озера», поставленного в 1976 году, и «Чайки», поставленной четверть века позднее.
В первом случае на сцене озеро лебедей, вторая картина классического петербургского балета, а за сценой — реальное озеро, в котором погиб при не выясненных до сих пор обстоятельствах баварский король Людвиг II, герой ноймайеровского спектакля.
А во втором случае на заднике светится «колдовское озеро», о котором говорит чеховский доктор Дорн и которое таинственным образом связывает почти всех других персонажей.
Недавно этот гамбургский спектакль был поставлен в Москве, в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, поставлен хорошо, с немецкой тщательностью и русским безутешным драматизмом. Это очень сложный балет. На сцене много действующих лиц — главные и неглавные персонажи чеховской пьесы. Все персонажи узнаваемы, все характеристики портретны. И так же представлены все отношения действующих лиц, безысходные отношения людей, столь близких и столь чужих друг к другу. Словно бы власть озера распространяется на них: спектакль — о свободе и о несвободе, о неудержимом стремлении к творчеству и любви и драматической невозможности разорвать сковывающие узы. В известном письме к Суворину Чехов писал о «Чайке»: «Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви». Пять пудов любви в спектакле есть,
480
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
и столько же пудов нелюбви, если не больше. Мучительное, ненужное, но и неостановимое стремление Нины к Тригорину, Кости к Нине, Маши к Косте, Медведенко к Маше, Машиной матери к доктору Дорну — все это представлено в балете с наглядностью, которую только и может показать балет: мы видим простертые руки одних, раздраженные жесты других, вся пластика бесполезных, беспомощных объяснений представлена с жестокостью, которую, может быть, имел в виду Чехов, назвав свою горестную пьесу «комедией». Короткий эпизод счастливой любви, поставленный Ноймайером в начале спектакля, сменяется эпизодами злосчастной любви, которых поставлено много.
Насколько мы можем судить, Ноймайера эта ситуация постоянно волнует.
Итак, повторяю, пуды любви-нелюбви в спектакле есть, а «разговоров о литературе», разумеется, нет: какие могут быть в балетном театре разговоры. И не литература здесь главный предмет, а балет, балет как искусство, балет в его прошлом и настоящем. У Чехова — драматический театр, здесь, у Ноймайера, театр балетный; это естественный ход, так теперь ставят и «Золушку» и «Щелкунчик», но в данном случае дело не ограничивается переводом действия из одной сферы в другую. Как и некоторые другие балетмейстеры, Ноймайер ставит балет о балете. Константин Треплев — молодой бескомпромиссный хореограф-авангардист, Борис Алексеевич Тригорин — преуспевший и опытный хореограф и педагог отчасти конформистского толка (Ноймайер почему-то предлагает в нем видеть Баланчина), Нина — начинающая неоспоримо талантливая танцовщица, которую увлекает успех и люди успеха, Аркадина — блистательная, но консервативно настроен
31 — 940
481
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
ная прима-балерина. Вполне естественная расстановка творческих сил, действующих в современном балетном театре, вполне реальный квартет, знакомый любому балетоману. Иными словами, личный конфликт переводится в эстетический план, столкновение людей становится столкновением и сопоставлением художественных направлений. Это самая яркая и самая неожиданная сторона постановки. Ноймайер-хореограф, Ноймайер-сценограф, Ноймайер-костюмер (а в спектакле он все делает сам) создает выразительные портреты уже не людей, не знакомых нам чеховских персонажей, но балетных эпох: старого и нового балета. Взгляд его точен, пристрастен, несколько отчужден и достаточно ироничен. Сначала мы видим модернистский балет, балет, как говорится в программке, «Костиной мечты». Наряженные в красочные, сильно расклешенные шорты полуобнаженные молодые люди под непрекращающийся барабанный аккомпанемент изображают на высоком помосте что-то дикарское, что-то африканское; солирует Нина. Затем на сцену выходят танцовщицы в голубых пачках, классический кордебалет, и Аркадина с кавалером танцуют нечто из «Лебединого озера» и нечто из античных фантазий Мариуса Петипа: она — лебедь, он — лучник-охотник, а голубые танцовщицы — как бы сильфиды. И наконец, в последующем эпизоде вместе с веселым мюзик-хольными девушками Нина танцует канканную польку-галоп — знак падения, знак танцевального тупика и жизненной катастрофы.
Вот три пути, которые предлагает современный балет (и которые четко обозначены в московском спектакле): авангардистская антиинтеллектуальность, академическая эклектика или музыкальный китч — других путей Ной-майер вокруг себя вроде бы и не видит. Поэтому так пе
482
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
чален финал, так трагичны судьбы героев: Нина уходит со сцены в какую-то пустоту, Треплев (в очень искреннем исполнении Дмитрия Хамзина) уходит вообще из жизни. Это, конечно, неожиданный, хотя и неокончательный итог постановки. Переступив порог шестидесяти лет, Джон Ноймайер, один из признанных классиков европейского модернизма, не то чтобы отвергает модернизм, как это делает насмешливая и недобрая Аркадина (искусная работа Татьяны Чернобровкиной), но и не поддерживает всецело модернистские эксперименты. Зато он поддерживает новизну — как идею. И этот итог наиболее важен. На материале балета Ноймайер ставит спектакль о новизне, новизне, которая нередко обманывает, обманывает жестоко, но постоянно влечет и отринута быть не может. И он находит выразительнейшую графическую формулу новизны (аналог знаменитого монолога Нины: «Люди, львы, орлы и куропатки»), комбинацию острых мятежно-отчаянных жестов. Это одновременно и пластический портрет самой Нины. Образ ее судьбы, след ее мечтаний. А Валерия Муханова, сама новизна, открытие театра (всего лишь сезон работающая в театре и занятая в кордебалете), — придает хореографическому лейтмотиву и страстность, и убедительность, что позволяет назвать балет по-мхатовски: «Чайкой».
Это, конечно, не случайное название для Ноймайе-ра, как и не случаен его выбор. Чеховская печальная комедия — пьеса о театре, как и шекспировская комедия «Сон в летнюю ночь», другой ноймайеровский балет, без должного успеха поставленный в Москве, в Большом театре. Так же, как его «Щелкунчик», его «Нижинский», его «Лебединое озеро», о котором уже говорилось. Ноймайер один из самых театральных балетмейстеров наших
31*
483
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
дней, со своей романтической философией театра. В «Чайке», однако, она не то чтобы поставлена под сомнение: Ноймайер — вовсе не скептик и не постмодернист, но свои постоянные темы он трактует обостренно и драматично, как, по-видимому, и свою собственную художественную судьбу, судьбу новатора, вступающего в драматические отношения с быстро меняющимся временем. Да и сам путь Ноймайера — балетмейстера и режиссера, отдаленно напоминает путь Треплева, драматурга и беллетриста. Наивное, но бесстрашное начало («Легенда о Иосифе»), блестящий расцвет («Дама с камелиями», «Иллюзии, или Лебединое озеро»), интеллектуально сложное, высоко профессиональное, но и затрудненное, даже вымученное творчество зрелого последнего периода («Нижинский», «Теперь и тогда», «Звуки пустых страниц»). И сама «Чайка», при всех ее достоинствах, лишена той свежести, которой поражали, и продолжают поражать, его ранние шедевры. Там все играло, все пело, все было полно фантазии, драматургической, хореографической, театральной. Ноймайер-драматург, Ноймайер-хореограф, Ноймайер-режиссер легко и радостно дополняли друг друга. Казалось бы, неуместное слово «радость» по отношению к печальнейшей хореомелодраме «Дама с камелиями» или к мрачнейшей хореотрагедии «Иллюзии, или Лебединое озеро». Но именно радость игры исподволь наполняет тот и другой сюжет и при первой возможности выплескивается на сцену. Таким радостно-игровым духом полны оба празднества — летний пикник на морском берегу, весенний праздник на площади. В первом случае — светское (полусветское) развлечение, восхитительные прустовские «девушки в цвету», элегантные мо-пассановские прожигатели жизни; во втором — просто
484
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
народное гулянье, миловидные гётевские горожанки в цветастых платьях, состязающиеся в силе мускулистые, по пояс раздетые парни. И всюду веселье, увлекательные сценические аттракционы, остроумные хореографические сценки — вариации, дуэты, ансамбли.
А в поздних спектаклях все так и не так. Сияние праздника мало-помалу тускнеет, игровой дух — дух шекспировского Пэка — мало-помалу сходит на нет, появляются мотивы разочарования, раздражения и даже скуки. Творческие персонажи Ноймайера — Нижинский, Треплев, Нина — мученики искусства. Свой творческий долг им выполнять не легко. Свою внутреннюю усталость они преодолевают усилием воли. И все это входит в состав более широкой проблемы, которую разрабатывает Ной-майер всю жизнь, и молодой, и зрелый. Это неожиданная для наших дней проблема декадентства. Утонченный интеллектуал Ноймайер — сам в некоторой степени декадент, и его персонажи — декаденты, не только Треплев. Недаром они, как сказал бы чеховский доктор Дорн, «все нервны» и чуть что падают в обморок. Недаром они беззащитны перед лицом жизни.
Здесь комплекс драматургических идей, которым Ноймайер заявил о себе достаточно рано. В сущности, он драматург на удивление постоянный. Как уже показано на примере «Чайки», он любит создавать ситуации запутанных и нераспутываемых человеческих отношений. Путаница привязанностей, путаница рождающихся и умирающих страстей дополняется и дополнительным сюжетом — путаницей сознания, путаницей самовос-приятия и самооценки, того, что в современной психологии называется самоидентификацией. Маргерит в «Даме с камелиями» не может понять, кто она: влюбленная
485
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
женщина или небескорыстная содержанка. Людвиг в «Иллюзиях...» не может понять, кто он: принц лебединого озера или баварский король. Нина тоже не понимает, живая она женщина или убитая чайка. И соответственно, повествовательное действие дополняется действием символическим или метафорическим. В «Даму с камелиями» Ноймайер вводит параллельный спектакль, балет в балете, где разыгрывается история Манон Леско и кавалера Де Грие; Маргерит в числе других зрителей то смотрит этот вставной балет, то оказывается в него вовлеченной, домашний спектакль замещается наваждением, а дуэт — трио: эффектный излюбленный Ноймайером балетмейстерский ход, развивающий популярную после войны экзистенциалистскую тему: человек видит себя глазами других, в данном случае — враждебным взглядом тех, кто продолжает искать в уникальной женщине устойчивый тип, в страстной Маргерит — Манон, холодную, распутную содержанку. Балет в балете устраивается и в «Иллюзиях...», и в «Щелкунчике», и в «Чайке». Людвиг тоже и действующий персонаж и погруженный в видения зритель, и он тоже не способен понять, в каком мире живет, реальном или иллюзорном.
Притом что реальный мир у Ноймайера предельно жесток, а иллюзии — неправдоподобно красивы. И все персонажи Ноймайера, не только полубезумный Людвиг, меломан, балетоман, строитель фантастических дворцов, но и другие, такие же неврастеники, как и он, стремятся к возвышенной красоте, стремясь красотой защититься от сложностей жизни и, может быть, излечить неизлечимую болезнь, новую болезнь века. Все они мученики красоты, как Нижинский, мечтатели и поэты. Герой раннего балета Ноймайера — прелестный девственник-андрогин, еван
486
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
гельский отрок Иосиф. Его бьют и насилуют, насилуют и бьют, бьют нещадно. Насилует жена Потифара, обезумевшая женщина, сама воспаленная плоть. Бьют стражники Потифара, древнеегипетские эссесовцы в пугающих масках, бесчувственные мужланы. Бьют, потому что чужой; потому что красивый. Зато в снах Иосифу является бесплотный Ангел, и они, взявшись за руки, совершают полеты — изящнейшее па де де под облаками, и там, над землей, мир прекрасен. Ноймайер договаривает многое до конца, но слишком уж прямолинейно сталкивает две театральные системы, к которым тяготеет с молодых лет: театр красивой мечты, почти как у романтиков прошлого и позапрошлого века, и «театр жестокости», почти как у Арто, театр современный. В дальнейшем он не столь прямолинеен.
Так кто же он, Джон Ноймайер, гамбургский директор театра, успешный менеджер, властный седеющий господин, стареющий и не стареющий гамбургский мечтатель? Балетмейстер-авангардист? Безусловно. Балетмейстер-радикал? Далеко не в полной мере. Сказалось его художественное воспитание (как написано в энциклопедическом словаре «Балет»: «Учился у Ш. Рейли, Б. Стоуна, В. Камрин, В. Волковой и в школе английского Королевского балета»). Сказалось и его заокеанское происхождение. К поколению молодых немцев, переживших весь ужас национальной катастрофы, он не принадлежит. И прошлое он вообще понимает не так, как они, — не так, как танцовщица и хореограф Пина Бауш, не так, как актер и кинорежиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Художественное прошлое для него вовсе не экспрессионизм, что стало случаем Пины Бауш, вполне естественная регенерация разгромленного послевоенного
487
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
(после первой мировой войны) великого стиля. Художественное прошлое для него довоенный (до первой мировой войны) модерн, не разгромленный, но ославленный стиль, невозможный в свете нового опыта и краха всех довоенных иллюзий. Тем не менее какие-то из этих иллюзий Ноймайер решил возродить, он вернул к новой жизни само понятие «иллюзии», казалось бы скомпрометированное бесповоротно.
Место Ноймайера, таким образом, совершенно свое в современном театре. Тут есть отклики и на Петипа, и на Нижинского, и на Матса Эка. Всю жизнь Ноймайер питает интерес к хореографической новизне, всю жизнь не теряет привязанности к золотым временам классического балета. В 1978 году, в лучшую свою пору, он дал свою редакцию «Спящей красавицы», в которой по-новому разыгрывался старинный сюжет: во дворец Фло-рестана XIV являлся современный принц-хиппи. Это ситуация молодого Ноймайера, ситуация его поколения, ситуация молодых разрушителей, интеллектуалов-бродяг, завернувших мимоходом в хрустальный дворец — хрустальный дворец Мариуса Петипа, и навсегда очарованных старой Европой.
ПИНА БАУШ В МОСКВЕ
Театр танца Пины Бауш (город Вупперталь) четырежды приезжал в Москву, показал шесть спектаклей: «Гвоздики» в первый приезд, «Весну священную», «Контактхофф» и «Кафе Мюллер» — во второй, «Мойщик окон» — в третий, «Мазурка фого» — в четвертый. Впечатления были
488
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
различны: «Гвоздики» ошеломили, «Весна священная», «Контактхофф» и «Кафе Мюллер» — с некоторыми оговорками приняты, «Мойщик окон» — безоговорочно одобрен, даже принят на ура, «Мазурка» понравилась, подняла настроение и развеселила. И дело не в самих этих спектаклях, каждый из которых построен в стилистике Бауш, но при этом оригинален, дело в зрителях, нас самих, лишь постепенно привыкающих к радикальным сдвигам на территории, которую мы по привычке считаем своей и которая называется балетом.
Между тем у Пины Бауш своя территория, достаточно обширная, в границах которой она чувствует себя совершенно привольно. По-видимому, это самый свободный художник танца, появившийся в Европе после войны, свободный от многих условностей, художественных, профессиональных, бытовых, от многих внешних табу и внутренних запретов. Лишь в одном отношении она не свободна: рожденная в Зилингене в 1940 году, Пина Бауш не свободна от памяти своей, от своего прошлого, от своего детства. О фрейдизме здесь речь не идет, как не идет речь о театре прямых воспоминаний. Этого нет, танцевальный спектакль Бауш — не кинофильм, и сама Пина Бауш — не Фассбиндер. Хотя можно признать, что сам психологический тип Пины во многом сходен с психологическим типом любимых фассбиндеровских героинь: та же жесткая деловая хватка, что и у Марии Браун, та же лирическая мелодия в душе, что и у Лили Марлен, и отчасти та же тоска, что и у Вероники Фосс, но лишь скрытая за неуловимой усмешкой. Это психологический тип немецкой женщины, в детстве или в юности пережившей национальную катастрофу. И эта комбинация жестокости, пения и скрытой экзистенциальной тоски харак
489
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
теризует весь пластический инструментарии танцевального театра города Вупперталя, сам танцевальный язык, на котором общаются артисты на сцене. Танец у Пины Бауш напевен, как песенка «Лили Марлен», но яростен и хаотичен. Полон хаоса, как экспрессионистский танец 20-х годов, полон ярости, как бунтарские явления 60 — 70-х.
Хаос — вообще привычное состояние и привычная среда персонажей ранней Пины, они мечутся по сцене, они разбрасывают стулья, они набрасываются друг на друга. В последние годы, однако, как мы можем судить, Пина Бауш движется в сторону более гармоничного искусства.
Этим и поразил москвичей «Мойщик окон».
Первое впечатление — все как всегда, Пина верна себе: сборная музыка, эпизодическая структура, монтаж аттракционов. Но атмосфера непривычно праздничная, артисты общительны, как никогда, а на сцене сказочно красиво. «Мойщик окон» — пиршество для глаз, как говорили в эпоху Дягилева и в эпоху Гонзага. Конечно, сказка, совсем непохожая на «Синюю птицу» и все-таки в этом же метерлинковском ряду. Пина Бауш и Метерлинк? Пина Бауш — принцесса Грёза? Почему бы и нет, ведь у нее все становится возможным. «Мойщика окон» тоже нельзя было предугадать, в каком-то смысле это детский спектакль. С детством у Пины непростые отношения. Родившаяся в Германии в 1940 году, она принадлежит к тому поколению немецких детей, у которого было отнято детство. И которое само поторопилось отринуть его. В пятнадцать лет Пина — взрослая девушка, раз-навсегда сделавшая свой выбор. И все ее загадочные персонажи, особенно женские, особенно в ранних опусах, несут на себе печать фамильной обездоленности, в печальных городских спектаклях они кажутся вечными узниками за
490
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
плеванных кафе, а в немилосердных внегородских фантазиях напоминают случайно сбившееся стадо. Сама же Пина в те самые пятнадцать лет обрела свою подлинную семью, семью профессиональную. Ученица прославленного экспрессиониста Курта Иосса, который сам был учеником великого Лабана, реформатора и философа движения, Пина попала в благороднейший дом, — вот откуда ее интеллектуальное и художественное благородство. Вот откуда ее эстетический аристократизм, столь естественно совместившийся с эстетическим экстремизмом и небывалой творческой свободой.
И вот откуда ее интерес к чужим культурам.
«Мойщик окон», как известно, создавался в Гонконге, непосредственно перед тем, как кончилась столетняя британская аренда и город переходил под юрисдикцию КНР, но эта драматическая тема проходит стороной, а на первый план выходит другая тема, связанная с локальной мифологией, поэтической и, если можно так сказать, рукотворной. Пина попала не только в ультрасовременный мегаполис (где, кстати сказать, выстроен небоскреб, один из самых высоких в мире), но и в царство бумажных драконов, бумажных цветов, бумажных фонариков, бумажной феерии, бумажной мистерии и бумажного волшебства, отважной бумажной защиты от стали, стекла и бетона высотных высокомерных зданий. И можно предположить, что спектакль Пины Бауш возник как спонтанный жест солидарности со страной разноцветных бумажек, остающейся — строительному буму вопреки — счастливой страной бумажных очарований.
И тут ей помог бесценный сотрудник, сценограф-сказочник Петер Пабст (неслучайная фамилия для немецкого кино и театра), придумавший — вместе с самой Пиной —
491
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
необыкновенное оформление сцены, впрочем предвосхищенное уже в «Гвоздиках». Но там были пластиковые гвоздики, натыканные в пол, целый гвоздичный пластиковый сад (или гвоздичный пластиковый рай), а тут шелковые, похожие на бумажные розы на коротких стебельках, сложенные в огромную пирамидальную гору. Похожая и на холм, и на стог, гора занимает треть сцены, это символ манящей недостижимой цели, но и всем доступной блаженной лени, беспечнейшей жизни в цвету, потому что на гору можно попытаться взобраться и на нее можно удобно прилечь, а кроме того, ее можно сдвинуть с места, и артисты играют с ней, как дети с песком на пляже. А когда и с колосников начинают падать розовые лепестки, прямо-таки опьяняющий розовый дождь, сцена и вправду выглядит как подлинный рай (в отличие от рая обманного — в «Гвоздиках», вокруг которого прогуливались полисмены с дубинками), ярко-красный розовый парадиз, заповедное место, обетованная земля, чудом сохранившаяся где-то в исчезающих грёзах реального Гонконга. Реальный Гонконг тоже изредка возникает, как в неспокойном сне, и все городские персонажи проходят как миражи, и как миражи проходят все мрачные экзистенциалистские видения Пины, особенно в мужских соло. И городские сумасшедшие, и городские проститутки, и городские призраки, премьеры и примы урбанистских балетов, исполняющие танцевальные монологи на музыку европейских шлягеров и популярных азиатских песен.
Это необходимый элемент театра Бауш — песенная основа и «Мойщика окон», и всех ее спектаклей. Гремят барабаны, свингует джаз-банд, но атмосферу создают песенные коллажи, райские мелодии, рожденные в кабаках, в лучшем случае — в кабаре и ресторанах. Поразитель
492
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
на привязанность интеллектуалки Пины Бауш к музыке дна, она же музыка одиночества, она же музыка соблазна. Поразительна привязанность к шансонеткам, записанным на старинных пластинках (их, вероятно, любили слушать мать и отец) или на новейших дисках (а их, надо думать, без конца проигрывает сын Вальтер Саломон на домашних тусовках). На таких контрастах строится театр: видеоряд, включающий сам рисунок движений, сложный, порой головоломно сложный, а звукоряд — простой, даже простодушный. Видеоряд интеллектуален, а звукоряд эмоционален. Вся скрытая, подавленная эмоциональность Пины, вся вытесненная эмоциональность человека ее поколения и ее судьбы, находит свое пристанище в шлягерной музыке, в ностальгических мелодиях и зажигательных, а к тому же и самозабвенных ритмах.
Я бы сказал больше: с помощью этой патефонномагнитофонной стихии Пина Бауш открывает для себя и для нас вторую, скрытую, может быть, даже сокровенную и совсем не страшную реальность XX века. Не до конца он потерял человеческий образ, не до конца утратил божественный миф. И тут мы сталкиваемся с одной из главных проблем, разрешить которую стремились пионеры экспрессионистского танца. Они искали новую формулу движения, которая бы опиралась на древний архаический миф — при всей неясности этих поисков и всей неопределенности этого неуловимого мифа. Они лишь ясно сознавали, что городской человек, затерянный в мегаполисе, телесно несвободен и духовно порабощен, что тело в женском платье и мужском пиджаке вообще не принадлежит ему (поэтому у Бауш так важен жест обнажения, которое происходит прямо на сцене) и что дух задавлен. А с этим, по-видимому, связан
493
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
гротескный рисунок многих сольных танцев, или просто-напросто соло, поскольку танцем эти сольные выступления не так просто назвать, — пассы, изгибы, извивы, одновременно магия и мольба, загадочное послание-шифр и высвобождение древних инстинктов. И между прочим, отдаленной первоосновой этой пластики являются даже не эксперименты Лабана и не находки Иосса, а фокинский «Петрушка», жестикуляция Нижинского, пугающий прорыв в новое искусство.
Верная последовательница своих учителей, Пина Бауш тем не менее прокладывает свой собственный путь, выстраивает свой собственный миф, совершенно неожиданный для своей устойчивой репутации яростной нигилистки. И выстраивает его тоже в неожиданной форме, в полном соответствии с логикой и стилистикой своего театра. Это миф о художнике или, более широко, миф о человеке-художнике, миф романтический, отчасти двусмысленно парадоксальный. Что я имею в виду? А вот что: наиболее часто встречающийся в спектаклях Бауш мотив, мотив маниакальных действий, образ персонажа-маньяка. То он громоздит ящики один на другой, они падают, не имея опоры, он снова громоздит, они снова падают, но ни он не сдается, ни ящики не подчиняются его воле. То он стремится наполнить водой пустое ведро, которое тут же опорожняется внимательным ассистентом, — сложно сконструированный аттракцион, похожий на номер циркача-иллюзиониста. То он взбирается на гору и оттуда съезжает на лыжах, снова взбирается, снова съезжает, и так множество раз, скрывая за естественными действиями увлеченного лыжника более романтическую ситуацию упорствующего альпиниста. Вот три первых пришедших на память приме
494
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
ра (один из «Гвоздик», два из «Мойщика окон»), но такие примеры можно найти везде, в создании подобных аттракционов-притч Пина демонстрирует неиссякаемую фантазию и дьявольскую виртуозность. Бьющийся головой о стену маньяк возникает тут и там, то и дело. И он лишь на первый взгляд нелеп, и его повторяющиеся действия лишь на первый взгляд бессмысленны, лишены разумной и достижимой цели. Так-то оно так, и не только в глазах благоразумных мещан и примкнувших к ним циников-интеллигентов. Донкихотство куда как смешно, но это горький смех Пины Бауш, потому что маньяк — это в некотором смысле автопортрет, мания — в некотором смысле высокая болезнь, и миф о Сизифе — тоже в некотором смысле миф о художнике, хотя изложенный в манере и метафорах Свифта. Или, если быть более актуальным, в манере и метафорах классических абсурдистов. Пина использует юмористическую технику театра абсурда с самого начала пути, абсурдное действие — ее постоянный сюжет, абсурдистский юмор — ее пленительная краска, и логика ab absurdo, как нельзя более точно, отличает ее строгий, но непокорный интеллект, и все это, взятое вместе, обслуживает, оберегает и даже обряжает тайную потребность души — влечение к высоте, а в данном случае: на лыжах на вершину розовой горы или на верхние этажи гонконгского небоскреба в люльке мойщика окон.
Очевидно, что мифология Пины впрямую связана с историей экспрессионистского балета в Германии, сначала послеверсальской, затем нацистской, а потом послевоенной. Все было именно так, как происходит в ее насмешливых аттракционах, приходилось снова и снова начинать насильственно разрушившееся дело, и трудно сказать, чем бы закончилась эпопея, если бы не маниакальное
495
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
упорство учителя и учеников, если бы самая одаренная и самая преданная ученица не создала бы новую студию танца йоссовской труппы Фолкванг и если бы не дополнила экспрессионистскую ортодоксию своим юмором, и очень черным, и очень веселым.
Что же касается коннотаций, связанных с нацистским прошлым Германии, с маньяками и маниями 20—30-х годов, то они, разумеется, неизбежны, этот ассоциативный план присутствует у Пины Бауш, куда от него денешься, это одно из обоснований ее театрального абсурда.
Но в одном эпизоде «Мойщика окон» Пина дает выход своему чистому пафосу, вне всякой абсурдистской оболочки, хотя тоже в парадоксальной форме. На сцену выходит вся труппа, садится лицом к зрительному залу и сидя — эту мизансцену могла придумать только она — повторяю: сидя, не вставая на ноги, словно бы не вставая с колен, проводят нечто такое, что можно назвать показательным уроком рок-н-ролла. Рок-н-ролл сидя на полу, рок-н-ролл не сдвигаясь с места, лишь резко и одновременно поворачиваясь в профиль, сначала влево, потом вправо, затем анфас, работая лишь руками, повелительными жестами, выбрасываемыми кордебалетом. Жест, умноженный массовкой, в начале XX века придумал Макс Рейнгардт, в 30-е годы жест в унисон стал использоваться нацистской пропагандой, а теперь Бауш возвращает его обратно, домой, в заповедное лоно чистого искусства. Эпизод длится долго и абсолютно захватывает зрительный зал, это некое чудо ритмического движения, осуществленный идеал экспрессионистского танца, но и торжество танца вообще, танца, которому танцем быть не дано, которого лишили ног и простора, опустили на пол, приковали к месту и приказали
496
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
сидеть и который тем не менее не утратил ни силы, ни достоинства, ни свободы. И почему-то опять вспомнилось детство, вернулись забытые стихи: «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу, все равно его не брошу, потому что он хороший». Хорошие стихи писала Агния Барто, хорошо читала Рина Зеленая, — как же эти милые женщины освещали мрак 30-х годов и как похожа на них неукротимая вуппертальская Терпсихора.
ФОРСАЙТ НЕИЗБЕЖНЫЙ
Сначала мы услышали о нем, потом увидели на телеэкране. И поначалу знакомство имело более филологический, нежели хореографический характер. Интерес вызывали загадочные слова, положенные в название балетов. Почти всегда на английском языке (притом что Форсайт работает в гордом германском городе), почти всегда напоминающие цитаты из классических литературных текстов. Иногда и в самом деле цитаты. Смысл их нелегко уловить, еще труднее перевести адекватно. Подобным образом озаглавливают свои тексты следящие за модой литераторы-эссеисты. Так, между прочим, поступал и наш соотечественник Иосиф Бродский. Хотя, конечно, где мода, а где Бродский и где Форсайт? Оба они — из тех, по отношению к кому понятие моды неприменимо (этим, и еще кое-чем другим, они похожи друг на друга). И было легко вообразить, что форсайт предпочитает общество интеллектуалов, университетских умов, обществу простодушных служителей Терпсихоры. Однако на телеэкране, на канале «Культура», появился совсем другой персонаж —
32 — 940 497
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
театральный. Хотя и в затрапезном костюме и в ситуации не то репетиции, не то спектакля. Это была импровизация, поиски новой формы и одновременно урок, урок нового языка и нового самоощущения артиста на сцене. Форсайт казался сразу и партнером-исполнителем, и постановщиком-педагогом. Вместе с партнершей он исполнил нечто, отдаленно — весьма отдаленно — напоминавшее классическое па де де и названное «Из классической позиции». Классический танец иногда появлялся и мелькал, но словно бы по недоразумению, по ошибке. Смысл необычного дуэта, он же необычный экзерсис, по-видимому, состоял в том, чтобы растрясти тело танцовщицы и тело танцовщика и чтобы освободить тело артиста от навыков классического экзерсиса. Рисунок движений напоминал телесную судорогу, как будто через тело танцовщика пропустили электрический ток. Это была некая хореографическая терапия. Шоковая терапия, надо признать, освобождающая от всех комплексов и всех предрассудков — профессиональных и бытовых, пластических и психологических. И я бы добавил, что задача заключалась еще и в другом — с помощью разнонаправленных телесных жестов, жестов ног, рук, кистей, головы, лишить тело всякой телесности, превратить тело в сгусток движений и в чистую, хоть и спутанную форму. В ней человек должен вновь обрести себя и — если это дуэт — найти путь к другому человеку.
А потом и сам форсайт объявился в Петербурге. На Втором Мариинском фестивале признанный лидер хореографического авангарда представил свой квартет «Artifact II» в исполнении своих артистов. Это стало событием и даже некоторым поворотным пунктом: впервые такое на священной сцене Мариинского театра. Впервые такое попадает на торжественный и благопристойный гала-концерт,
498
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
впервые такое предлагается оценить вышколенным питерским балетоманам. И ведь оценили, забыли свою петербургскую спесь, продемонстрировали свое петербургское понимание балета. Конечно, зал был уже как следует разогрет — выступлением двух великолепных парижских дуэтов. Особенно поразила Летестю в знаменитом «Классическом па де де» Гзовского, которое у нас танцуют — и хорошо танцуют — многие балерины. Вот уж не предполагал, что охлажденная манера и сверхмедленные темпы на турах a la seconde могут так воспламенить зрителей Мариинского театра. Но именно это и произошло, а вслед за изысканными этуалями четверка тренированных танцовщиков Форсайта (две пары, одетые во что-то такое, что театральным костюмом не назовешь) почти молниеносно превращает зрительный зал в стадион, а сцену — в арену. Немыслимый темп, головоломные поддержки, опаснейшие броски: партнеры швыряют партнерш, партнерши швыряют партнеров. Немолодые женщины (достаточно очевидный вызов вкусам Учителя — Баланчина) совсем не чувствуют себя неуместными, тем более — беззащитными, и в том клубке кульбитов, из которого складывается «Artifact II», чаще всего берут верх; и если для партнеров-мужчин все происходящее — попытка избавиться от партнерш, то она не удается. Вся композиция идет под музыку баховской «Чаконы». Скрипичное соло с дьявольской энергией играет Натан Милыптейн, ближайший друг Горовица и Баланчина, такой же, как и они, выходец из России. Слушая эту игру, понимаешь, как и чем завоевали благодушную Америку молодые гении, российские эмигранты. А смотря «Artifact II», понимаешь, как и чем американец Форсайт сумел завоевать пресыщенную и несколько анемичную Европу.
32*
499
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
А теперь Форсайт входит и в нашу жизнь. Самая передовая наша труппа включила в свой репертуар три опуса главного авангардиста. Это достаточно камерные произведения: в них нет развернутых кордебалетных массовок, которыми франкфуртские постановки Форсайта поразили — и продолжают поражать — балетный мир. Но они достаточно разнообразны.
Здесь есть типичный неоклассический балет, жестковатое изящество которого восходит к позднему Баланчину — к тому, из чего вышел Форсайт, и память о чем он не теряет («The Vestiginous Thrill of Exactitude», на музыку Шуберта);
здесь есть достаточно типичный постбаланчинский балет, первоисточник которого, во всяком случае для дуэтных сцен, — финальное адажио из «Агона» Баланчина, но все сольные эпизоды, а особенно неканоническое пор де бра — это все собственность Форсайта, его личные разработки. Можно сказать более точно: присущий ему своеобразный пластический интеллектуализм, семиотика, переведенная на язык жестов. Жест как знак, но при этом партерные швыряния, как в современном уличном рэпе («Steptext», на музыку Баха — квартет-близнец уже упомянутого «Artifact’a II»);
здесь есть «чистый» Форсайт, обязанный только себе, никого не повторяющий, ни с кем не вступающий в бесплодный спор, а потому никому не опасный. Все необычно, начиная с числа участников (девять), кончая краткостью высказываний и ошеломляющим темпом. В таком же немыслимом темпе идет единственный длящийся эпизод — знаменитое адажио (которое танцуют во многих театрах). Здесь, впрочем, тоже нестертый след «Агона» Баланчина, но в головоломных и гибких поддержках
500
ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
форсайтовского па де де больше агрессивности, акробатической ловкости и несдержанной силы («In The Middle Somewhat Elevated», на музыку Виллемса).
Все композиции бессюжетны; лишь музыкальный и хореографический текст в непростом взаимодействии, в нестрогом контрапункте. Следования музыкальной структуре, как обычно у Баланчина, у Форсайта почти нет, есть вольно компонуемая последовательность различных эпизодов. С Бахом и Шубертом возникает напряженный диалог, а Виллеме сам обретает структуру только в сценическом воплощении, у балетмейстера и его учеников, которые чувствуют себя как рыба в воде в этом фейерверке рвущихся как петарды нот, на этом громко и рвано звучащем сонорном поле. Пиротехника, превращенная в балет, ставшая движением, бегом и танцем.
Можно, конечно, в связи с подобным зрелищем что-то сказать о хореографии атомного века, и это не будет слишком тривиальной оценкой. Однако первое впечатление таково, что Форсайт далек от напрашивающихся ассоциаций. Он слишком художник, хотя и выглядит как мастеровой. Так, впрочем, и выглядят подлинные художники так называемого атомного века. Его интересует техника, и его интересует язык: техника разрушения, техника деконструкции классических форм и язык общения, новый танцевальный язык новой танцевальной эпохи. И он пытается обуздать энергию, наполняющую катастрофический мир, совладав с ней и подчинив ее неизменным — вечным и высоким целям. О подобных художниках в XIX веке говорили, что они сооружают — для себя — башню из слоновой кости. Башня? Слоновая кость? — это, конечно, не те слова, которые в данном случае пригодны. Какая башня, если Форсайт принял
501
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
вызов, брошенный академическому конвенциональному балету, и пошел навстречу самым независимым группам. Какая слоновая кость, если он откликается почти на все зигзаги современной художественной мысли. Но прежде он реализует внутренние интенции самого классического балета. Должен же прийти хореограф, который возьмет на себя риск и смелость экстремальных операций. Форсайт и взял на себя эту роль. Он, несомненно, эстет (в его дуэтах возникают позы изумительной красоты), но он воспитан в лоне эстетического нонконформизма. Поэтому побережем слоновую кость для других мастеров. А о Форсайте скажем, что он живет в своем времени, а не в своей башне.
Надо лишь добавить, что система, основанная на больших батманах и резких бросках, достаточно быстро устаревает. Форсайт неизбежный — одна из очевидных возможностей его судьбы. Другая, менее очевидная, — Форсайт, оказавшийся старомодным.
ЧАСТЬ III
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
МАЭСТРО
УРОКИ «АПОЛЛОНА»
ОТКРЫТИЯ «АГОНА»
БАЛАНЧИН И РОМАНТИЗМ
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ
Джорджу Баланчину мы обязаны тем, что классический танец и основанный на нем классический балет — обновленный классический танец и обновленный классический балет — возродились в XX веке, ответили на все вызовы XX века, опровергли все касавшиеся балетного театра прогнозы XX века. И его, Баланчина, влияние простирается на весь век.
Это, конечно, самое благородное имя в новой истории балетного театра.
Когда-то, в эпоху Новерра и несколько после неё, во времена просветительского классицизма, классический танец именовался «dance noble» — благородным танцем, в отличие от других форм, более сниженных, смешанных или гротескных. Баланчин, хореограф XX века, никогда не боялся этих сниженных, смешанных или эксцентрических форм, но в целом, по духу своему и по своему стилю, хореография Баланчина это и есть «dance noble» в эпоху массовой культуры. Этим Баланчин поразил ещё в 1928 году, когда поставил своего «Аполлона».
МАЭСТРО
Время жизни Баланчина: 1904—1983, то есть семьдесят девять лет и еще четверть года. Время творчества не намного меньше: первый опус датируется 1920 годом, последний — 1982-м; всего шестьдесят два года. Сам факт удивителен, что и говорить, сравнимый лишь с художественным долголетием Петипа, но даже великому предшественнику Баланчина не удалось в такой мере совместить время творчества (балетмейстерского, имеется в виду) и время жизни. Баланчину удалось — и потому что ему был дан необыкновенный дар, и потому что его отличала подлинная религиозность. Воспринимая дар как долг, он должен был исполнить долг до конца, без скидок на болезнь, преследовавшую его много лет, или на неблагоприятные обстоятельства, не раз ставившие на грань катастрофы. Никаких оправданий для него не существовало. Он и не ждал их — ни от друзей, ни от врагов, к болезням и катастрофам он относился стоически и, по пушкинской заповеди, спокойно, как, собственно, и к триумфам. При этом он был веселым, радостным и общительным человеком.
Что же касается исторического времени, то оно шло своим чередом. Время жизни Баланчина включило три русские революции, две мировые войны, всемирный кризис, «новый курс» Рузвельта в Америке, план Маршалла в Европе. И новости из России, о которой Баланчин все знал, и ново-
505
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
сти из Тбилиси, где до войны находились мать и отец и куда Баланчин посылал письма и лекарства. Конечно же, историческая реальность означала для него то, что она означала для всех, он лишь оберегал свой балет от слишком импульсивных, от слишком непосредственных реакций. Поэтому он и не пошел по пути классических экспрессионистов.
А за время творчества Баланчина сменилось, по крайней мере, три поколения его сотрудников и учеников и решительно менялся весь ландшафт современного искусства. Прирожденный профессионал, профессия которого заключалась в том, чтобы давать форму движению, Баланчин никогда не стоял на месте, участвовал в общем движении, но как? Постоянно дистанцируясь от художественной моды. Всегда актуальный и всегда независимый, не до конца погруженный в актуальность. Поэтому так трудно атрибутировать его балеты. С Фокиным все ясно: «Шопениана» и «Шехеразада» принадлежат 900-м годам, «Фавн» Нижинского — 10-м, «Свадебка» Нижинской — 20-м, мясинские симфонические балеты — 30-м, но когда поставлена «Серенада»? Или «Симфония до мажор»? Или «Агон»? Или «Концерт для скрипки»? Сразу не скажешь. Тут главное отличие Баланчина от всех дя-гилевцев, у которых, кроме несчастного Вацлава, были долгие годы работы, но высшие творческие достижения укладывались в короткий срок. В этот короткий, как правило десятилетний, срок они олицетворяли господствующий стиль, выражали свое время, а потом либо повторяли себя, либо уже ничем себя не напоминали. Это были гении преходящей эпохи. Фокин — эпохи модерн, Нижинский — эпохи кубизма, Нижинская — эпохи раннего конструктивизма, Мясин — эпохи позднего экспрессионизма. А у Баланчина совсем другой временной
506
МАЭСТРО
масштаб, другая длительность сценических озарений. Он ощущал эту длительность и как балетмейстер-творец, и как творец-педагог, вот почему, приехав в Америку в октябре 1933 года, он первым делом основал школу. Он был открыт новому и открыт старому, он олицетворял собой и художественную новизну, и художественную память. У него была та хореографическая база, которой не было ни у Мясина, ни у Брониславы. Могла бы быть у Фокина, но Фокин, упрямый иконоборец, не слишком почитал так называемый старый балет, а Баланчин вел постоянный диалог с этим «старым балетом». Что и позволило ему продлить жизнь петербургской и парижской хореографии еще на сто лет и дать изумляющие образцы петербургского и парижского стиля. И более того, позволило осуществить казалось бы неосуществимый, самой историей предложенный заказ: слить воедино мистику и мастерство, туманную петербургскую мистику и прозрачное парижское мастерство в некотором нью-йоркском магическом кристалле. Гений непреходящей эпохи, Баланчин как художник существовал во времени, которое философы называют «большим». Большое время и есть внутренняя основа неоклассицизма.
Если же от этих общих соображений перейти к формулам искусствоведческим, то можно позволить себе свести разнообразный смысл усилий перечисленных мастеров к одному-единственному понятию — стилизации, но, впрочем, в широком смысле слова. Речь идет о трактовке образа человека. Фокин уподоблял человеческий персонаж романтической гравюре («Шопениана») или персидской миниатюре (в «Шехеразаде»), — это стилизация в чистом виде, стилизация мирискусническая. Нижинский уподоблял персонаж фавну, а Нижинская — иконописным
507
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
фигурам, либо, наоборот, модным типажам, — это стилизация метафорическая. Мясин, особенно поздний Мясин, искал в персонаже далекие отблески святости и некоторые черты святого, — это стилизация спиритуалистская. На этом фоне методология Баланчина кажется слишком простой, да и хорошо известной, но именно она и определила его особую роль и особое место. Для Баланчина персонаж — прежде всего танцовщица или танцовщик, профессионал танца. Эта формула стилизации, стилизации ремесла, и есть взгляд на человека-художника XX века. Человек-профессионал — вообще новый персонаж в культуре. XIX век, особенно в балете, всячески скрывал эти качества — работающего и хорошо работающего профессионала. Работающий на сцене профессионал появлялся в маске мифологического, сказочного или фольклорного героя. Лишь в отдельных композициях Петипа профессионалу танца позволялось сдвинуть маску, Баланчин же ее отбросил совсем Как декоративный костюм (не всюду, конечно), как сказочные сюжеты. И бессюжетные, и бескостюмные балеты Баланчина — есть апология новой этики, и потому именно они олицетворяли XX век и так органичны для XX века. Отметим лишь, что к большому списку соответствующих произведений Баланчина можно добавить лишь ландеровские «Этюды».
Отметим еще и то, что уже в XIX веке в пастелях Эдгара Дега впервые в истории живописи появился образ работающего профессионала. Так этот дивный и феноменально точный художник зарисовал балерин, но у него балетная выворотность есть некое насилие над женским телом, а балетное ремесло не всегда означает свободу. А у Баланчина свобода и есть ремесло, и только виртуоз может быть свободным. И все представления Баланчина о
508
МАЭСТРО
красоте вообще, о красоте человеческого тела, женского прежде всего, связаны с профессиональной виртуозностью впрямую. Фигура балерины в полный рост, в рабочей униформе, на высоких выворотных пуантах и вытянутой, как струна, — это парадный портрет работающего тела. Так этот жанр — парадного портрета — понимал Баланчин, так его понимает, или должна понимать, современная эпоха.
И так Баланчин понимал смысл вечно женственного — того, что искал всю жизнь, и находил там, где вечно женственное и не находили, и не искали.
С далеких времен, с времен Новерра и новерровских реформ, существовал конфликт художника и виртуоза. Этот конфликт продолжает существовать и сейчас, не отомрет он и в дальнейшем. И лишь у тех, кто олицетворяет танец как таковой, этот вечный конфликт на время теряет остроту, смысл и силу.
Так что же характеризует художника-виртуоза Баланчина? О способности откликнуться на новый призыв мы уже говорили. Еще в Петрограде он был близок к фЭКСам (фабрика эксцентрического актера), и опыты эксцентрического озорства сказались в Париже — в «Кошке» и «Блудном сыне», и много лет спустя в Нью-Йорке, в «Рубинах». Точно так же, еще в Петрограде, он прошел школу других стилевых направлений, экспрессионизма и конструктивизма, и это, особенно последнее, тоже не прошло даром. Но сейчас мы будем говорить о другом, о том, как Баланчин реализовал в своем творчестве два главных художественных открытия века. Придя к ним самостоятельно, без подсказки, и сделав это с той артистичностью, которая вообще отличала его и в творчестве, и в быту, став второй натурой (достаточно
509
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
вспомнить его облик: худощавый силуэт, нестареющее лицо, неутяжелеющую походку).
В 1934 году, семьдесят четыре года назад, в качестве учебного пособия, чуть ли не букваря, была сочинена неповторимая — и не повторенная — до сих пор не разгаданная «Серенада». Она изумляет и сейчас: вольным полетом чисто хореографической фантазии, ненастойчивой красотой алогичных построений и аллегорических групп и, конечно же, музыкальностью, — это, возможно, самый музыкальный балет Баланчина, если не самый музыкальный балет XX века. И уж, безусловно, самый струнный («Струнная серенада» Чайковского в основе). Здесь достигнут предел: почти механическая дезинтеграция формы дает эффект зримой музыки, музыки непрерывной. Особенно интересна первая часть, allegro. В стремительном темпе, фактически на бегу, возникают и исчезают летучие мизансцены, мизансцены-видения, мизансцены-эфемериды, фрагменты какого-то действия, то ли бывшего, то ли будущего, может быть — отрывочные воспоминания, а может быть — оборванные эскизы. Набор ассоциативных возможностей очень велик. Можно усмотреть во всем этом первые пробы пера, самое начало творческой работы, те предварительные наброски, которые писатель выбрасывает в корзину, а художник стирает с холста, — их-то Баланчин сохраняет и предлагает в качестве окончательного текста. А можно увидеть и нечто другое: зафиксированную в отвлеченных хореографических формах ситуацию неоседлости, обреченности на вечное движение и вечный побег, как у потерявших ориентацию перелетных птиц, — только сели и уже надо срываться с места. В 30-х годах это ситуация самого Баланчина и его небольшой группы, но также людей его круга и множества людей сходной судь
510
МАЭСТРО
бы: только осели в Берлине, как надо переправляться в Париж, только обосновались в Париже, как надо бежать на машинах к испанской границе, а затем отплывать на пароходе в Нью-Йорк. Но есть и третья возможность, не столь прямо выраженная, совсем не столь драматичная: первая часть «Серенады» демонстрирует полнейшее освобождение от стереотипов, хореографических, художественных и иных, освобождение радостное и пугающее одновременно. Танцовщицы примеряют мизансцены как покупательницы шляпки в магазине — примеряют, отбрасывают, снова примеряют, снова отбрасывают, — примерка будущего, которое, может быть, и не наступит.
Поток вольных ассоциаций, вызванных этой первой частью, порождается принципом, положенным в ее основу. Принцип этот называется потоком сознания. Это — то новое, что было внесено в послевоенную литературу, а затем распространилось широко вокруг. Есть живопись потока сознания (ташизм, абстрактный экспрессионизм), есть музыка потока сознания и соответствующая драма. Литература и искусство открывали для себя то, что, впрочем, было открыто давно, — бездонную область подсознания, и устремились туда и к тому, о чем уже поведали Толстой, Врубель, Станиславский, и с не меньшей силой — Чайковский, в котором Баланчин раньше других угадал композитора XX века. Свободная от формальных регламентаций, отчасти даже бесструктурная «Серенада» не имеет предшественников, первоисточников, прообразов и старинных образцов, перед нами в буквальном смысле рождение архетипа из духа музыки, первые шаги архетипа.
Двенадцать лет спустя, в 1946 году, Баланчин поставил «Четыре темперамента», столь же неожиданный балет, ничем не напоминающий «Серенаду». Дезинтеграции
511
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
формы нет и следов, как нет и бестелесных эфемерид, есть концентрация образов и их осязаемая телесность. Насыщенный партерной акробатикой классический танец и похож, и не похож на себя, отдельные хореографические фразы развернуты в трехмерном пространстве и построены как сложносочиненные предложения в литературных текстах. Сложность композиции, вообще отличающая балет, позволяет сопоставить «Темпераменты» с хоровыми многоголосными опусами старинных нидерландских контрапунктистов. Хореографическая схоластика — скажете вы, и, возможно, не ошибетесь. Четыре вариации на тему, состоящую из трех различных частей, то есть двенадцать вариантов танцевального действия, двенадцать способов представить текст и исполнителей-артистов. Чем это не схоластический принцип мысли, тем более на музыку Хиндемита, весьма умозрительного немца, завороженного музыкальным Средневековьем Но, во-первых, схоластика есть поэзия чистой формы, есть, собственно, интеллектуальный абстракционизм, далекий предшественник абстрактного искусства. Музыка чисел — феномен, известный давно, и не только пифагорейцам. Во-вторых, здесь-то как раз угадывается архетип — модель классического джаза, в котором задается тема и извлекаются — путем импровизаций — все возможности из нее (да и сама трактовка Хиндемитом фортепиано как ударного инструмента — а «Четыре темперамента» — фортепианный концерт — сближает балет с джазом). А в-третьих, и это главное, «Четыре темперамента» — совсем не абстрактный балет, о чем свидетельствуют и его название, и его тема. «Четыре темперамента» — четыре коллективных портрета, четыре апсихологичных сюжета, четыре бессюжетные драмы. Это совершенно новая форма сценического существова
512
МАЭСТРО
ния балетных артистов. Новый балетный театр, круги от которого пошли далеко, новый композиционный принцип, фактически монтаж, и новый пластический язык, язык телесных жестов. По существу, это то, что Брехт определял термином «gestus», придавая понятию социальный смысл, чуждый Баланчину, у которого gestus асоциален, как асоциальна типология темпераментов в отличие от типологии классов. И тем не менее здесь, в сфере поэтики жеста, Баланчин, как нигде, еще близок к главнейшим открытиям театральных новаторов первой половины XX века. И конечно, «Четыре темперамента» — самый брехтовский балет Баланчина, в нем много общего со спектаклями только-только рождавшегося «Берлинер Ансамбля»: охлажденный экспрессионизм, экспрессия тела, экспрессия ритма, абсолютная выверенность внутренне конфликтных движений, абсолютная четкость внутренне напряженных поз, резкий рисунок почти поясных поклонов вперед, силовая энергия взмахов-батманов и полуповороты под прямым углом, вся эта дансантная геометрия Баланчина, которая и обозначается латинским словом «gestus».
Напомним, кстати сказать, что с Брехтом Баланчин был знаком, и в 1933 году они втроем, в эмиграции, вместе с Куртом Вайлем, а также с его женой Лоттой Ленья, поставили в Париже «Семь смертных грехов мещанина». Впоследствии, уже в Нью-Йорке, в период своего увлечения Аллегрой Кент, Баланчин возобновил для нее эту яркую эксцентричную постановку.
Но вернемся к «Четырем темпераментам» и отметим, насколько общее строение «Темпераментов» отличается от общего строения «Серенады». Настолько, насколько настроение горожанина, осевшего в мегаполисе, отличается от настроения переселенца, оторвавшегося от
33 — 940
513
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
всех корней. «Серенада» — поток неустойчивых образов-эфемерид, «Четыре темперамента» — сама устойчивость, сама архитектоничность, столько же воздушная, сколько и заземленная, чуть ли не танцевальное ар-деко, правда, в черно-белом аскетическом варианте. Ар-деко в исполнении вчерашнего конструктивиста.
Общее у балетов одно: актуальное для тех лет стремление вернуться к первоосновам движения, в данном случае — классического танца. Но и различие налицо: основа «Серенады» — бег, основа «Четырех темпераментов» — шаг, это крайние формы баланчинской хореографии, и они не только формальны. Они образны, содержательны, даже символичны. Бег возникает в ситуации счастья, свободы и торжества, но иногда — смятения и тревоги; шаг — носитель агрессии, сигнал опасности и угрозы. И самое замечательное у Баланчина то, что неторопливые шаги всегда настигают торопливый бег, вопреки законам физическим и природным. Здесь другие законы и «другая драма», как писал Борис Пастернак в стихотворении «Гамлет».
И время тоже другое.
Это самая сложная часть нашей проблемы.
Начать с того, что смысл балетмейстерской деятельности Баланчина, как и его человеческих поступков — отъезда из Ленинграда в 1924 году, приезда в Нью-Йорк в 1933-м, можно трактовать как побег из времени, как многим казалось — уже остановившегося, туда, где время еще живет и еще существует. И где давление истории не ощущается так тяжко. Отсюда особая темперация его балетов.
В какой-то степени, однако, Баланчин сам остановил ход времени, не позволив проникнуть насилию на территорию своего искусства. Эстетика насилия уже обступала со всех сторон, любовь как насилие изображалась в дуэ
514
МАЭСТРО
тах — и в формах утонченных, и в формах брутальных, вся постбаланчинская хореография была готова, отсалютовав мэтру, Баланчину, занять его место, а сам он как ни в чем не бывало продолжал поставлять на подмостки то, с чего он начал еще в шестнадцать лет, еще в 1920 году: дуэты любви, старомодные песни песен, лишь переложенные на язык всегда изобретательных, всегда новых поддержек. Это было послание Баланчина, но скажем о том, как он конкретно интерпретировал феномен времени.
Баланчин не был философом, он был художником, и только художником, но ему было дано мыслить — в художественных произведениях, а не в терминах и не в словах — на уровне крупнейших теоретиков и мыслителей века. О чисто формальных прозрениях мы уже говорили, а теперь скажем коротко, как это позволительно портретисту, пишущему скромный искусствоведческий портрет, о прозрениях в более широкой сфере. В тех двух балетах, о которых шла речь, Баланчин исходит из двойного ощущения времени — времени как длительности, чистой субъективности, о чем впервые на рубеже веков заговорил французский философ Анри Бергсон (вдохновлявший и Марселя Пруста), и времени как фрагментарности, осколочном времени, разбившемся на куски, что было положено в основание всего современного постмодернизма. Но если имя Пруста уместно упомянуть (тем более, что в 1910 году Пруст был восторженным зрителем дягилевских спектаклей), то о постмодернизме следует вспомнить лишь для контраста. Потому что по типу своему балетмейстер Баланчин, хотя и многое предугадал, есть полная противоположность типу художника, которого восславил постмодернизм — изгоя, парии, неудачника-маргинала. Осуществивший безумный
33
515
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
проект — построивший самый передовой театр балета в небалетной стране и в небалетное время, Баланчин —не только художник мечты, но и художник дела, классический художник-победитель. Неослабная творческая воля — его суть, воля и артистичность, воля и импровизация, воля и игра, воля и веселье. Его инструментом был симфонический оркестр, а материалом — необузданная и дикая дансантная стихия. Он подчинил ее, подобно тому, как Орфей, его персонаж, игрой на лире укрощал диких зверей и сдвигал с места скалы. Непокорной стихии он придал ослепительный блеск, изощренный, нередко искусно изломанный, даже гротескный рисунок, отчетливый, почти механический ритм и захватывающую человечность — в финалах, таких особенно, как финал «Симфонии до мажор», с чего началось наше знакомство с Баланчиным в далеком 1958 году, и это навсегда запомнилось нам как Ода к радости на балетной сцене.
В тот майский вечер, на второй день гастролей Парижского театра «Гранд Опера», в наше сознание вошли два коротких сверкающих слова: «Хрустальный дворец», и многие из нас поверили в то, что в балетном театре наступило новое время, время Баланчина, и что возвращение в недавнее прошлое уже невозможно.
УРОКИ «АПОЛЛОНА»
Примерно четверть века тому назад издательство «Искусство» направило Джорджу Баланчину официальное письмо, в котором просило дать разрешение на публикацию
516
УРОКИ «АПОЛЛОНА»
его литературных текстов. Ответ, подписанный Барбарой Хорган, пришел мгновенно. «Мистер Баланчин, — говорилось в ответе, — благодарит за внимание к своим литературным трудам. Но мистер Баланчин не понимает, о каких литературных трудах идет речь, поскольку мистер Баланчин никогда не писал никаких литературных текстов». Сказала как отрезала, больше вопрос этот не возникал, пришлось довольствоваться — к чему, собственно, и призывал неуступчивый мистер Би — его хореографическими текстами на видеопленке или во время редких гастролей. Между тем: как это не писал? Нечасто, но писал, немного, но написал, а первым его литературным опусом можно считать письмо, посланное в 1923 году в петроградский еженедельный журнал «Театр». Оно было озаглавлено насмешливо и дерзко: «Унтер-офицерская вдова, или Как АЛ. Волынский сам себя сечет». Это был ответ на злую критику, которой Аким Волынский подверг «Вечера молодого балета». Не нам судить, кто был прав, а кто — нет в том, почти столетней давности, споре. Важно отметить другое: стиль ответа начинающего балетмейстера, девятнадцатилетнего юнца, стиль оскорбительный и беспощадный. Никакого пиетета к заслуженному критику, никакого уважения к старым сединам. Волынский был чужд молодому Баланчивадзе всем составом своей личности — и выспренним языком, и давней близостью к символистам, и, соответственно, раздражающим стремлением видеть в классическом танце метафизические глубины. Он был совершенно лишен чувства юмора, старый авгур, вызывавший насмешки у коллег, а уж у Баланчивадзе и друзей Баланчивадзе — и подавно. Все это были весьма ироничные люди, скрывавшие под покровом иронии весь нерастраченный творческий энтузиазм, но и не желавшие
517
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
тратить его попусту. Деятельные натуры, ненавидевшие праздность и празднословие больше всего, умевшие ценить свое и чужое время. Немножко русские американцы, что так помогло мистеру Би, но что сделало таким мучительным путь Туки и таким извилистым путь Петра (Тука и Петр, как мы помним, — Ю. Слонимский и П. Гусев, товарищи Жоржа Баланчивадзе). В очень большой степени люди 20-х годов, остро и отчетливо ощутившие разрыв поколений и ту бездну, которая отделила их от прошлого, совсем недавнего. Даже 90-е годы XIX века казались им ближе 10-х, классическая школа ближе искусства стиля модерн, Петипа понятнее Фокина (кроме, разумеется, Фокина «Шопениа-ны»), «Спящая красавица» актуальнее «Шехеразады» — из этих психологических предпосылок возник неоклассицизм Баланчина, отсюда и его так называемые русские балеты.
Но почему «Спящая красавица», а не другой классический балет — «Жизель», и почему наиболее ценимая балерина — Елизавета Гердт, первоклассная Аврора, а не Ольга Спесивцева — прославленная Жизель, самая знаменитая вилиса XX века? Это, кстати сказать, сразу же провело черту между Жоржем и Тукой, потому что Баланчин думал о «Спящей красавице» всю жизнь, вдохновлялся ею постоянно и сам собирался дать — в честь Петипа — свой вариант, но смог ограничиться сочинением только лишь новой редакции «Garland-Waltz» («Вальса с гирляндами»), тогда как Слонимский всю жизнь думал о «Жизели», написал две книги (первая появилась в 1926 году, вторая в 1969) и всю жизнь хранил благодарную память о Спесивцевой—Жизели. Баланчин же, высоко оценив Ольгу, не очень любил о ней вспоминать, особенно после неудачного опыта совместной работы — над «Кошкой» у Дягилева в 1927 году, и не делал никаких по
518
УРОКИ «АПОЛЛОНА
пыток в какой-либо форме сохранить «Жизель» в репертуаре своей труппы. Еще раз зададимся вопросом — почему? Ответ на этот вопрос поможет многое разъяснить в художественной идеологии Баланчина и его психологических установках.
Главное слово тут — страдание, страдание физическое и моральное, а в широком смысле экзистенциальное — как напасть и как неизбежность. Вот чем была полна Жизель Спесивцевой и сама старинная «Жизель» (единственный, в этом смысле, балет классического репертуара) и вот чем до краев была полна послереволюционная петроградская жизнь, обыденная и театральная, что наполнило первые экспрессионистские опыты Жоржа Баланчивадзе — «Траурный марш» или танцы к пьесе Эрнста Толлера «Эуген Несчастный». Вот от чего он уехал в 1924 году, спасаясь не от личных лишений (которые он рано научился терпеть), а от зрелища массовых невзгод, когда нельзя ни помочь, ни вмешаться. Послевоенный экспрессионизм в немецком, а затем и в питерском варианте использовал страдание как сильнейший художественный ресурс и как слабый реванш тех, кто потерпел поражение, кто признал поражение и сдался. В этот стан молодой Баланчивадзе записываться не захотел, с подобным сознанием не захотел мириться. Он знал, чем оно чревато. В 1941 году Эрнст Толлер, чью пьесу он иллюстрировал танцами, открыл краны газовой плиты где-то в Южной Америке; в том же году Ольга Спесивцева, его строптивая Кошка, жила в Нью-Йорке практически взаперти, ожидая прихода нового приступа подступавшей душевной болезни; и в том же году Баланчин — уже Джордж Баланчин, — гастролируя между Южной Америкой и Нью-Йорком и несмотря на отчаянное финансовое положение, в которое попал не
519
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
в первый раз, и на пугающие европейские вести, сочинил «Кончерто барокко», балет на музыку Двойного скрипичного концерта Иоганна Себастьяна Баха. Концерт этот — прямой предтеча всего музыкального неоклассицизма, в нем разум и логика торжествуют над непреодолимыми полифоническими сложностями — как это происходит и в хореографическом тексте Баланчина, и в нем неземная печаль, как и у самого Баланчина, не становится непереносимым страданием, разрушающим ум, волю и душу.
Попутно отметим, что полвека спустя, в ситуации прямо противоположной — устойчивого благополучия (такой эта ситуация казалась воинствующим представителям нового молодого поколения), один из самых ярких этих представителей, вышедший из среды бунтующей студенческой молодежи, но при этом назвавший себя учеником Баланчина, тоже избрал скрипичную музыку Баха, но для того, чтобы изодрать ее в клочья, и из фрагментов то и дело останавливаемой «Чаконы» смонтировал нечто такое, что отрицает всех и все, и более всего баланчинское барокко. Это, разумеется, Уильям Форсайт и его уже упомянутый «Artifact II», в котором рваный монтаж противопоставляется нескончаемой кантилене, ударные маховые движения — таким же маховым, но безударным, броски оземь — взлетам ввысь, а дьявольский (и может быть — почти истерический) темп — темпам божественным и умиротворенным. Но результат — что значит школа Учителя, школа «Аполлона» — скрипка Баха парит, а из клочьев хореографического текста рождается так и не изувеченная кантилена.
Но почему «Аполлон»? Потому что уроки «Аполлона» (или «Аполло», как балет стал называться в Америке у Баланчина) восприняты сразу несколькими поколениями балетных артистов — и непосредственно в театре Нью-Йорк
520
УРОКИ «АПОЛЛОНА»
сити балле, и далеко за его пределами. Не получив этих уроков, балетный артист не мог себя чувствовать полноценным художником XX века. А только получив их, мог восставать против них, что и иллюстрирует пример Форсайта.
«Аполлон» был показан в июне 1928 года, в рамках дягилевской антрепризы, за тринадцать лет до «Кончерто барокко». Это первый неоклассический балет Баланчина, в нем были обозначены притязания и границы нового — или нового старого — стиля. Кончались 20-е годы, так называемые merry Twentieths («веселые двадцатые»), несколько принудительному веселью приходил конец, также как диктату ударных инструментов. Первым это почувствовал Стравинский, написав летом 1927 года получасовую партитуру балета «Аполлон Мусагет» для камерного оркестра неполного состава: одни лишь смычковые струнные — скрипки, альты, виолончели, контрабасы (всего тридцать четыре инструмента). Общий тон музыки был серьезным, господствовала мелодия (что несколько лет как вышло из моды), а конструировала партитуру традиционная формальная структура па (антре, па д’аксьон, па де де, вариации, кода), что совсем уж казалось vieux jeu, вчерашним днем, прошлогодним снегом. С таким материалом столкнулся двадцатичетырехлетний Баланчин, материалом-прозрением и просто на редкость красивой музыкой. 14 все это, по-видимому, отвечало скрытым потребностям его души, ждавшим своего часа. Подобное произойдет в его жизни еще не раз: и при встрече с музыкой Хиндемита, и при встрече с музыкой Бизе, и при долгожданной встрече с музыкой Равеля. А встреча с мелодиями Стравинского позволит возвратить на балетную сцену то, что было утрачено, и то, что тоже казалось vieux jeu — искусство линии, основу основ старого балета.
521
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
Но тут не бесплотная романтическая линия, линия-мираж, растворяющаяся в пространстве, уходящая в небытие, тут линия эллинская, отчетливая и скульптурная линия-рельеф, как на сохранившихся статуях и музейных слепках. Но мало того, тут линия отчасти экспрессионистская, отчасти конструктивистская (в парижских работах Баланчина оба эти конкурирующих начала соединились, но как графические формулы, а не как носители широкого смысла). Иначе говоря, линия-излом, линия-зигзаг, подобная складной линейке архитектора или столяра и сложенная из треугольников отставленных в сторону ног, согнутых в колене (пластическая лейттема балета). И та же геометрия, геометрия острых углов, в ступенчатом рисунке лестницы, ведущей на Парнас, — в прологе и апофеозе спектакля. Лестница, не следует забывать, одно из главных технических приспособлений и одна из важнейших семантических эмблем новой театральной площадки.
«Аполлон» и есть балет-эмблема.
14 он складывается из непрерывного хореографического действия и отдельных, статически завершенных эмблема-тичных мизансцен — таковы позы-фигуры самого Аполлона и позы-поддержки Аполлона и трех муз. Одна из них получила название «тачки». Другая, еще более знаменитая, может быть названа «часами Аполлона» или «лучами Аполлона». Эту сложно выстроенную профильную композицию — из подчеркнуто мощного мужского торса и трех тонких женских арабесков, веером раскрывшихся и образующих воображаемый полукруг, эту асимметричную группу, полную невиданной геометрической красоты, Баланчин демонстративно передвинул в конец последней авторской редакции балета. Лестницу он убрал, Парнас
522
УРОКИ «АПОЛЛОНА
сделал ненужным, финальную точку должен поставить неоклассический арабеск, в финале должна быть эмблема солнца. Тачка, она же колесница, солнце, оно же часы, — на таких возвышенных, но и сниженных образах строится ассоциативное поле спектакля. Его нельзя назвать ни конкретным, ни абстрактным, ни обыденным, ни отвлеченным Найдена неуловимая грань между тем и другим, между высоким и естественным стилем 14 все переведено на язык классического танца. И тут выясняется, что именно классический танец, пусть и модернизированный, а тем самым — жестко очищенный от примесей предшествующей эпохи модерн, пусть полный пластических неологизмов (как литературный и разговорный язык наступившей эпохи), этот классический танец, выворотный, на пуантах, искусно комбинирующий пор де бра, прокладывает более прямой путь к античному мифу, чем это делали пластические эксперименты Фокина (в «Дафнисе и Хлое» — неудачно) и Нижинского (в «Фавне» — удачно). Неоклассицизм и есть эллинизм XX века.
А «Фавн» и «Аполлон» — звенья единой цепи, две вехи мифологического балета; живописно-скульптурная в первом случае (1912, при активном, если не решающем участии художника — Льва Бакста), скульптурно-конструктивистская и музыкальная — во втором (1928, при очевидной роли музыки и ее творца, дирижировавшего на премьере).
Две эклоги, у Нижинского — в условном значении, а у Баланчина — так даже в прямом эклога по-гречески означает выбор.
14 две идиллии: полуневинное эротическое приключение на фоне буйно разросшейся безгрешной кущи — это Нижинский; уроки искусства и уроки любви на нейтральном фоне — это Баланчин.
523
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
Основные различия — в персонажах.
Фавн Нижинского — фавн-андрогин, полузверь-получеловек, полудевочка-полумальчик. 14 эта андрогинность — эмблематическое проявление двусмысленных моральных ориентаций начала века и всей культуры модерна. Где-то рядом Саломея Оскара Уайльда, Саломея Рихарда Штрауса, Саломея Обри Бердслея, где-то вокруг атмосфера невоздержанных и немощных вожделений.
Аполлон Баланчина — юноша и дикарь, которому пове-лено стать художником и мужчиной. Здесь другая двойственность и другая мораль. Там, где у Нижинского чистый эрос, у Баланчина и эрос, и этос, еще одно греческое слово вполне уместно. Замечательно, что совсем молодой Баланчин в гуле, угарном веселье и горестных криках 20-х годов расслышал этот властный, но не очень-то слышный призыв судьбы, подчинил ему всю свою жизнь и положил в основу своего первого серьезного балета.
14 наконец, женские персонажи. У Нижинского — пугливые нимфы-подростки, у Баланчина — требовательные и капризные студентки-музы. Аполлон играет с ними в небезопасные игры и в буквальном смысле держит в руках — как свою легендарную квадригу. Смелые умелые руки — самая выразительная подробность портрета, изваянного Баланчиным, руки строителя, любовника и музыканта. Соответственно, самый важный элемент партии — жест, широкий, играющий и повелительный жест влюбленного юноши, строгого учителя, укротителя муз, сына Зевса. Влюбленность — и вовсе необходимая черта, интимная тема Баланчина, лирический подтекст холодных эллинских текстов. Впрочем, в «Аполлоне» все дается открытым текстом Эклога предполагает выбор, и в трех вариациях, каждая из которых — как легкий набросок
524
УРОКИ «АПОЛЛОНА
пером, дается сравнительная характеристика трех муз, трех искусных искательниц, трех неискушенных претенденток. Все танцуют на острых пуантах, у всех свой темп, свой набор неоклассических движений, но только у Терпсихоры есть шарм и только у нее завораживающая повадка. Терпсихора выигрывает спор, ей даруется дуэт, ей даже позволено разместиться у Аполлона на закорках. Аполлон околдован, Аполлон восхищен, но вовсе не ждет от нее нежности. 14 никогда не получит. Прелестные музы Баланчина, одаренные свыше, лишены мягкости и лишены доброты — вот в чем сказывается далекая конструктивистская основа. 14 вот они, уроки безукоризненного мастерства и безупречного вкуса. Повторим еще раз, следов «Жизели» в театре Баланчина нет: в его хореографическом мире доброта не является женской добродетелью, она лишь искажает линии, искажает облик, искажает божественный проект, ведет к преждевременной вялости, ведет к беде, — другое дело мужчины. В труппе Баланчина работали блистательные добряки, имя Жака д’Амбуаза должно быть названо первым. Но в целом, и профессиональный, и художественный максимализм так же несовместимы с добротой, как гений несовместим со злодейством, — эту идеологию исповедовал Баланчин, пока сам не оказался ее жертвой.
Урок ему преподала любимая ученица Сьюзен Фарелл, идеальная муза в «Аполло», занесшая в этот чистый эллинский мир романтическую загадочность и романтическую отрешенность. Подробности этой истории раскрыла она сама, и касаться их нет смысла. Достаточно сказать так: поставленная перед выбором нормальной женской судьбы или необыкновенной судьбы профессиональной, Фарелл выбрала первое, — хотя страстную женщину можно
525
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
было уже угадать в ее замкнутой, отчасти даже высокомерной музе. Тем самым она нанесла Учителю жестокий удар, от которого он так и не оправился до конца жизни. И до конца жизни он уже не связывал себя ни с кем, жил в одиночестве, но когда Фарелл вернулась — а она все-таки вернулась через несколько лет, — ознаменовал ее возвращение одним («Венские вальсы», 1977), а затем и другим («Моцартиана», 1981) прощальным шедевром. Он что-то понял, никаких мстительных чувств не питал, тем более, что еще в 1965 году, за три года до ее ухода, поставил свой собственный «Дон Кихот» (не имевший ничего общего с «Дон Кихотом» московским и петербургским). Дульцинеей была она, и в самом деле прекраснейшая Сьюзен, а Дон Кихота, в очередь с более молодым артистом, сыграл он сам, сыграл коленопреклоненного старика, рыцаря Печального Образа, сыграл тайную грусть и невысказанное страдание, которое, не обнаруживая себя, постоянно жило в душе творца «Аполлона».
ОТКРЫТИЯ «АГОНА»
«Агон», балет для двенадцати исполнителей (четверо мужчин, восемь женщин), был поставлен в 1957 году и ознаменовал собой первый опыт Баланчина в освоении нового Стравинского, Стравинского 50-х . Сочиненный за тридцать лет до того «Аполлон» не ставил столь сложных задач хотя бы потому, что музыка, где, по словам Стравинского, все «тяготело к мелодическому принципу», отвечала фундаментальным основам классического балета. Тем
526
ОТКРЫТИЯ «АГОНА»
более «белого балета», о котором думал композитор. Как того и хотел Стравинский, Баланчин построил хореографию «Аполлона» на больших протяженных линиях, что было бы невозможно в «Агоне». Музыка коротких, даже кратчайших импульсов требовала в этом случае иной хореографии, бесконечно подвижной и гибкой, видоизменяющейся на каждом шагу и способной раз за разом оставлять внятный пластический след в ускоренных ритмических отрезках. Это требование было Баланчиным соблюдено. 14 более того, он справился с ним с легкостью, поистине моцартианской. 14 точно так же артисты Баланчина продемонстрировали высокую подвижность и высшую гибкость — два необходимых качества баланчинского обновленного стиля. 14 наиболее очевидно — в дуэте.
«Агон» — многочастный балет, после вступления (квартет танцовщиков-мужчин) идет большая массовая сцена-ансамбль всех двенадцати участников, а потом, сменяя друг друга, следуют три малых ансамбля: изящное, прыжковое и симметричное па де труа (две танцовщицы и танцовщик), еще одно, в стремительном темпе, основанное на вращениях па де труа (два танцовщика и танцовщица), после него — па де де или дуэт, после чего идет большой ансамблевый финал, отчасти возвращающий к началу балета. По фактическому времени (шесть с половиной минут), по хореографической протяженности и хореографической насыщенности, по скрытому драматизму — дуэт, конечно, кульминация всего сочинения, хотя здесь меньше участников, чем в других номерах, но гораздо больше напряжения, чем в других эпизодах. Эти другие эпизоды рассчитаны на непринужденное исполнение, они танцуются как бы налегке; а этот — словно бы с опасностью для жизни. Сюжетных мотивировок в нем нет, как нет, по
527
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
крайней мере, на первый взгляд, ни лирики, ни эротики, ни психологических подтекстов. Есть чистая хореография, она же чистая мускульная работа, как у акробатов-циркачей или акробатов-спортсменов. И, однако, это и не цирк и не спорт, и действие происходит на сцене, а не на арене.
На сцене балетной, это необходимо сказать, потому что основа действия, его театральное содержание и его профессиональный смысл связаны с тем элементом классического танца, который называется поддержкой. Дуэт Баланчина — метаморфозы поддержки, притом, что традиционных поддержек (за талию) почти нет, как почти нет верхних поддержек, а все сведено к эволюциям на полу, эволюциям, непредсказуемым и непрерывным. Дуэт — поток сложных поддержек, возникающих из необычных поз, и сложных поз, рождающихся из необычных поддержек. Балетмейстер извлекает их из тел артистов, словно иллюзионист, извлекающий длинную ленту из короткого рукава. Тела складываются, как перочинный ножик, и распрямляются, как флаги на ветру, сближаются, сливаясь в одно неразъединяемое целое, и удаляются на длину рук; вскинутые и раскинутые руки описывают различные асимметричные геометрические фигуры и создают некое внутреннее пространство — совершенно новое измерение и новый эффект хореографических дуэтов; согнутые в коленях ноги, позиции на плие и разнообразные атитюды довершают общий пластический рисунок, рисунок почти что супрематических углов, возникающих тут и там — в идеальном соответствии с заостренными гармониями партитуры.
И в потоке всех этих метаморфоз наиболее поражают воображение две поддержки, парадоксальные поддержки-инверсии, опрокидывающие общепринятые условности
528
ОТКРЫТИЯ «АГОНА»
дуэтов: он — на полу и даже на спине, она — в классическом или полуклассическом, или неоклассическом арабеске. Он удерживает ее — во всех смыслах слова, она склоняется к нему и выстраивает рискованную позу. Все напоминает партерную акробатику, но словно бы и воспроизводит старинный миф. Похоже на трюк и на трагедийную мизансцену. И трюк, и трагедия в один отчаянный миг, в одно роковое мгновение. Это вполне в духе Баланчина и вполне в духе Стравинского: художественные снижения и художественный взлет, художественные снижения ради художественного взлета. А более всего это в духе одной строки из стихотворения позднего Пастернака, вряд ли известного Баланчину: «Мы провода под током». И в самом деле, из соприкосновения этих рук — рук танцовщицы и танцовщика — рождается дьявольская энергия дуэта, всех его действий, всех преобразований и перипетий, всех внезапных поз и ошеломляющих поддержек. И кажется, драматическая тема дуэта — вот она: невозможность разомкнуть связавшую партнеров цепь, давшую им чудесные силы.
А в более широком смысле это сочинение Баланчина означает поворот в истории хореографического дуэта. Хореограф заглядывает вглубь дуэта, погружается в его тайники, обнаруживает его структуру. У последователей Баланчина, у Форсайта прежде всего, подобная процедура приобретает исследовательский вид: Форсайт, как вивисектор, исследует внутреннее устройство дуэта. Баланчин — не ученый, но артист, и его открытия — торжество не метода, но изобретательности и удачи. Композиция Баланчина — абсолютная импровизация, в другое время могла бы быть иной. А то, что мы видим, это коллективная импровизация, импровизация двоих — один подхватывает на лету предложения другой (или — одна другого).
34 — 940
529
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
Это принцип классического джаза, перенесенный на сцену, в неоклассический балет, как бы разыгранный в балете. Танцовщики играют импровизацию, как в старом балете играют любовь, но различие не столь уж велико: недаром пушкинский Дон Гуан называл себя импровизатором любовной песни.
БАЛАНЧИН И РОМАНТИЗМ
В широком смысле романтично все творчество Баланчина — включая сюда и «Четыре темперамента» Хиндемита, и «Агон» Стравинского, и веберновские «Эпизоды». Йенские романтики, самые глубокие, самые строгие истолкователи романтического сознания и романтического стиля, признали бы в Баланчине своего и, надо думать, без больших колебаний. У них был простой критерий — музыкальность, они прилагали его ко всему. Музыкальной или немузыкальной могла считаться литература, живопись, архитектура, музыкальным мог быть танец, если он полон стихией музыки, если только не следует ей чисто формально. А это и есть метод Баланчина, после Фокина и фокинской «Шопенианы», автора самых музыкальных хореографических текстов XX века. Неоклассицизм, экспрессионизм, абстракционизм — все это частные обозначения той манеры, в которой в том или ином случае, в том или ином городе, в том или ином году работал Баланчин, манеры, иногда весьма далекой от того, что мы по традиции называем романтизмом, но эти частные ситуации не меняют и не отменяют общей картины, и потому будем
530
БАЛАНЧИН И РОМАНТИЗМ
видеть в Баланчине, хореографе-музыканте, романтика чистой воды и высокой пробы.
Но у этой темы есть специальный — балетный аспект. Романтический балет — явление, достаточно четко обозначенное в своих исторических и художественных границах. Оно легко узнаваемо и вполне конкретно. Двухактная композиция, основанная на резком контрасте реального и фантастического мира, партерного и воздушного танца, красочного, этнографически живописного и бескрасочного «белого балета», — это известная и почти нормативная формула романтического балетного театра, и Баланчин, никогда не бывший стилизатором, не пытался ее возродить, он продолжал линию Петипа, а не Филиппо Тальони, Перро или Бурнонвиля. Хотя отдельные реминисценции из «Сильфиды» (в «Серенаде») или «Жизели» (в «Вальсе») без труда можно найти. Но они включены в совершенно иное хореографическое действие, в совершенно иное театральное пространство.
И лишь однажды Баланчин предпринял попытку на свой лад — подчеркну еще раз: на свой лад — воспроизвести традиционную двухактную схему. Сделал он это в 1960 году, и сделать это ему блистательно удалось. Речь идет о сорокаминутном балете «Liebeslieder Walzer» («Песни любви») на музыку Брамса. Балет этот у нас мало известен, и о нем стоит коротко рассказать. Он фантастически красив и выстроен безупречно. Безупречность или, точнее, вызывающе элегантная безупречность определяет в нем все — и хореографию, и стиль исполнения, и декорации, и костюмы (костюмер — великолепная, как всегда, Барбара Карин-ская). На сцене четыре пары танцоров, одетых в бальные туалеты: белые платья с удлиненным подолом у женщин, черные фраки у мужчин; за роялем еще одна пара, игра
557
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
ющая в четыре руки и так же одетая; сбоку две пары вокалистов, так же одетых, так же безупречных. Возникает единый ансамбль из четырнадцати участников, упорствующих адептов и защитников старины, закрытый бал для сообщников — сообщников по элегантности, вышедшей из моды, светская тайная вечеря посвященных. Действие происходит в большой бальной зале, освещенной люстрами; у стены диван и стулья, обитые ярко-красной тканью. Все сверкает: люстры, обивка, рояль, мелодии Брамса и танцы Баланчина, энергичные, но и утонченные дуэтные танцы, а в них — в исполнении блистательной восьмерки (на премьере тон задавала Виолет Верди) — сверкают отдельно поданные и чисто вальсовые, и чисто дансантные фигуры, но также и жесты признания, и жесты обиды — все, что обычно сдержанная женщина может позволить себе, танцуя; так что элегантный дуэт становился несдержанным диалогом, на короткий миг — откровенным. Но этот увлекательный акт быстро кончался, второй акт проходил там же, в той же зале, но не было ни дивана, ни красных стульев, ни люстр, ничто не сверкало, все было погружено в таинственный сумрак, и пары танцевали уже по-другому. Дуэты строились на долгих верхних поддержках, воздушный танец преобладал, время от времени возникала и знакомая по старинным романтическим балетам фигура первого арабеска. Ни женской игры, ни мужской очарованности не было в этих танцевальных «песнях любви», было нечто другое: возвышенная печаль, сосредоточенность и отрешенность. Как рассказывает биограф Баланчина Бернар Тэйпер, Баланчин так объяснял свой замысел: «В первом акте танцуют реальные люди, во втором их души».
Это, повторяю, кажется, единственный случай, когда Баланчин приблизился на более или менее близкое рас
558
БАЛАНЧИН И РОМАНТИЗМ
стояние к традиционной схеме романтического балета. В других случаях он искал — и находил — собственную формулу, искал — и предлагал — собственный образ балетного романтизма. Он связывал его не столько с традиционной сюжетикой, сколько с распространенной танцевальной формой. Источником вдохновений Баланчина стал вальс, у него есть множество композиций на тему вальса. Есть вальс русский, французский, австрийский, а в более точном смысле — вальс петербургский, вальс парижский, вальс венский. В короткой восьмиминутной миниатюре (два солиста и четыре корифейки) на тему «Вальса-фантазии» Глинки Баланчин сумел, переведя это на язык современного виртуозного танца, передать весь дух глинковской музыки, а отчасти — и дух пушкинской эпохи, ее ослепительность, ее стремительность, ее волшебную поэтичность. В пространной часовой фантазии на темы венских вальсов (Иоганн Штраус, Легар, Рихард Штраус) Баланчин тоже сумел выйти далеко за пределы эффектной танцевальной сюиты — хотя собственно танцевальное разнообразие этой сюиты удивительно даже для Баланчина. «Венские вальсы» — парадный портрет ушедшей эпохи. «Belle epoque» австро-венгерской столицы, «belle epoque» самого венского вальса. И блеск, и упоение, и элегичность, и праздничное веселье, и прощальная грусть — все слито в потоке вальсовых фигур, в неостановимом вихре взметенных подолов. Барбара Каринская снова на высоте, как и сценограф Рубен Тер-Арутюнян. Оба они, и балетмейстер, и художник, придумали неотразимый эффект, почти бродвейский и почти сюрреалистический: водрузили на заднике огромное зеркало, и весь неудержимый кордебалет, волнами вальсирующих движений заполняющий сцену, отражается, удваиваясь, в зеркалах, что придает всему происходяще
559
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
му фантасмагорический характер. «Сказки венского леса» становятся сказками Нью-Йорк сити балле, неотвязным видением балетмейстера-поэта.
А самое замечательное постижение романтического вальса у Баланчина — это, конечно, получасовой «Вальс» Равеля. Нет смысла описывать его — и потому что не найдешь нужных слов, и потому что балет включен в репертуар Мариинского театра. Отметим только, как искусно он сделан (лучше сказать: как сотворен), как постепенно вальсовое возбуждение овладевает сценой, с какой неумолимой последовательностью проводится вальсовая тема. «Вальс» Равеля, конечно, не его «Болеро», ритмы тут гибче, атмосфера таинственнее, и все это Баланчин передает с мастерством, поистине гипнотическим, но нечто от «Болеро» есть и здесь: неслышные шаги командора, если позволить себе перефразировать слова Блока. Странно сказать, но здесь ненастойчиво присутствуют и блоковские мотивы возмездия, с той разницей, что поэт положил их на ритмы мазурки, а балетмейстер (с юных лет почитатель Блока) — на ритмы вальса. И все предрекает развязку, все подготовляет финал: тревожные пробежки персонажей, ищущих, находящих и теряющих друг друга; тревожные круговые вращения рук — своеобразное вальсирующее пор де бра, пластический лейтмотив балета; тревожные всполохи каких-то необыкновенных и прямо-таки крылатых юбок, в которые Каринская обрядила и трех изысканных зловещих ведьмочек-балерин, и всех беспечных танцовщиц кордебалета. «Вальс» Баланчина — пример хореографической образности, балет-эпилог, прощание с довоенной Европой. В конце прелюдии, состоящей из трех деликатнейших дуэтов («Сентиментальные и благородные вальсы», предшествующие собственно «Вальсу»), Баланчин демонстрирует,
560
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
казалось бы, невозможный в балете и чисто кинематографический крупный план женской руки, утонченно красивой и обреченной. И это — тоже портрет старой Вены, осколок прошлого, фрагмент вальса. А в финале приоткрываются и скрытые в вальсе мефистофельские обороты. Появляется Некто в черном — не совсем обычный для Баланчина персонаж символистского театра. И все кончается смертью — совсем уж необычная для него концовка. Да и вся конструкция в целом, от вступительных дуэтов до завершающих массовых сцен, наполнена лирикой, так хорошо знакомой Баланчину лирикой расставанья. И управляет всем опьяняющий ритм, который уносит танцующих в какую-то гибельную воронку. Унесенные ветром Баланчина. Унесенные вальсом — Баланчина и Равеля.
Мифология вальса — как раз то, что и может быть названо романтизмом Баланчина. Хореограф XX века, он создает миф о вальсе, как хореографы XIX века создавали миф о Лебеде и миф о Сильфиде. И это последний европейский миф, созданный в Нью-Йорке бывшим петербуржцем.
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Тому, кто пишет о петербургских гастролях театра Баланчина в 2002 году, приходится оперировать особыми цифрами. Тридцать, сорок, тридцать восемь: тридцать лет после последнего приезда — в 1972 году, сорок лет после первого — в 1 962-м, и, наконец, еще одна пауза, еще одна непомерно затянувшаяся роковая цезура, тридцать восемь лет между отъездом молодого Георгия Баланчивадзе из Петрограда
36 — 940
561
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
(уже Ленинграда) в 1924 году и недолгим возвращением почти старика мистера Би в родной город. Страшноватые цифры, нечего и говорить, и ведь это не сроки из романов Александра Дюма, а даты в судьбе реального человека, которому суждено было родиться в начале XX века. Одной жизни на три приезда может и не хватить, ее и не хватило, уже более двадцати пяти лет, как Георгия Мелитоновича не стало, как Нью-Йорк сити балле существует без него, и чего только не произошло за это время. И мы, зрители, уже не те — никто не ведет бесполезный спор: а вправе ли существовать бессюжетный балет; и репертуар нашей Мариинки уже не тот — появился собственный, петербургский «Баланчин», скептически встреченный поначалу (я и сам пробурчал что-то недовольное на этот счет), но затем вставший вровень с «Баланчиным» аутентичным, нью-йоркским, по крайней мере, в трех случаях («Серенада», «Симфония до мажор», «Драгоценности»), но и не потерявший Мариинского колорита. Интересная тема, но о ней в другой раз, а здесь попытаемся сравнить нынешнюю труппу Нью-Йорк сити балле с той, которая восхищала 35 лет назад и которая ошеломила за десять лет до того, при первом знакомстве.
Скажу: того, чего мы опасались, не произошло, театр сохранил и свое очарование, и свою харизму. Своих позиций он тоже не потерял — это и сегодня ведущий коллектив западного мира. Его по-прежнему отличает абсолютная чистота художественных помыслов и хореографического языка, по-прежнему неяркий свет исходит из текста баланчинских балетов. Но, разумеется, изменения есть — иначе и быть не могло. Да и сам Маэстро совсем не хотел, чтобы его живой театр превратился в театр-музей (а тем более — в театр-мавзолей), и все делал для того, чтобы, сохраняя высшее — сказочное — мастерство, труппа не впада
562
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
ла в неизбежный, но ложный академизм, в академизм высокомерный. Отчасти и для этого устраивались фестивали, сначала Стравинского (1972), потом Чайковского (1981), ставившие новые непростые задачи перед сложившимся коллективом. «Симфония в трех движениях», показанная на прошедших гастролях у нас и поставленная в 1972 году, как раз и является образчиком «анти-Баланчина», поставленного самим Баланчиным в некоторой бродвейской манере. Стареющий мастер (ему было шестьдесят восемь лет) стремится растормошить своих артистов (многие — почти на полвека моложе его) и заставить их не думать только о том, что они представляют городу и миру лучший балетный театр XX века. Движение — вот единственный смысл и нерв балета, вот их — артистов — дело, вот их судьба, движение во всех смыслах этого благородного слова. А три движения — это игра, это тайна успеха — подобно трем пушкинским картам. Стравинский и Баланчин были страстными картежниками, любили Пушкина и лучше чем кто-либо знали, что время никогда не стоит на месте.
Этот завет мистера Би артисты Нью-Йорк сити балле не забыли.
Первое впечатление от гастролей — нынешняя труппа выглядит непривычно раскрепощенной. Это естественное последствие ухода мастера, полубога, обожаемого тиранического вождя — так было и в Мариинке после ухода Петипа, и поэтому стиль исполнения неуловимо изменился. Эти изменения очень трудно измерить, и еще труднее в точных словах определить, но все-таки скажем так: загадочный, сдержанный, замечательно афористичный исполнительский стиль Нью-Йорк сити балле нечто утратил и в своей загадочности и в своей афористичности, стал более открытым и откровенным, может быть, более естественным,
36*
563
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
аможет быть, и более человечным. В прежней, ослепительнохолодной манере, с металлическим блеском в ногах и с уверенными нежными руками, танцует Дарси Кистлер, одна из последних баланчинских любимиц, а постбаланчинские танцовщицы (хотя и не все) танцуют несколько по-другому Художественное высказывание исполнителей: поза, па, жест, прыжок или вариация в ансамбле — уже не отточенный афоризм, а фраза как фраза, в ряду других фраз, в потоке нерасчленимой и неостановимой хореографической речи. В этом, впрочем, тоже магия балетов Баланчина: в его тексте легато и нонлегато, кантилена и стаккато таинственным образом не разъединены, но сейчас роль одного компонента едва заметно возросла за счет другого. А как все это совместить, знал лишь сам музыкально мыслящий Баланчин, и никто заменить его не сумеет.
Короче говоря, эмоциональный минимализм Нью-Йорк сити балле уже не так изумляет, как это было тогда, зато на первый план вышла захватывающая витальность. Все то, что баланчинские балеты таили в глубине, умело сдерживали, искусно охлаждали; вся та вакхическая энергия, которая заключена в строгих композициях под сенью неоклассицистского Аполлона; весь этот ритмический напор, вся эта экстатическая страстность — все это вырывалось наружу в стремительных кодах, которым рукоплескал зрительный зал и которые заставляли вспомнить пушкинские строки. Да, именно так: бессмертья, может быть, залог — вот что такое коды Баланчина, вот что такое финалы Баланчина, столь же вдохновенные, как финалы Моцарта или Феллини.
А если от этого патетического тона (который недолюбливал сам насмешливый мистер Би) перейти на тон деловой, то впечатления от приезда Нью-Йорк сити балле можно объяснить так: труппа стала чуть более американ
564
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
ской. При Баланчине она такой не была. То есть умела все танцевать: в возвышенном русском стиле, в блистательном французском, в веселом американском; в способности к стилевым перевоплощениям и заключалась ее театральность, и состоял ее коллективный протеизм, но сама же была ничьей, как ничьим был и сам Баланчин все годы, во все периоды своей жизни и в Петрограде, и в Париже, и в Нью-Йорке. Суметь оставаться ничьим в эпоху всеобщей ангажированности — его великая человеческая победа. При всей необыкновенной способности работать по разным хореографическим моделям Баланчин сохранял свой образ и свою стать; это, конечно, самый независимый хореограф XX века. Подобную же независимость его театр, разумеется, сохранил, однако дистанция между ним и другими театрами уже не кажется неодолимой.
«Американское» изменившейся труппы было подчеркнуто гастрольным репертуаром и ее составом. Наряду с главными симфоническими постановками 30—50-х годов и «Симфонией в трех движениях» в стиле бродвейского мюзикла мы увидели «Симфонию Дальнего Запада» — хореографический вестерн Баланчина, дань его восхищению классическим и самым национальным голливудским жанром. И наконец, достойное место в гастрольной афише Нью-Йорк сити балле заняли три знаменитые постановки Джерома Роббинса, две из которых мы увидели впервые. Вот уж кто американский балетмейстер par exellence, вот кто увековечил, перенеся на академическую сцену, самое характерное и самое обаятельное в пластике американских девушек и американских парней, их скромную лирику, непринужденную элегантность, непоказное му- > жество, неподдельный юмор. Балетный театр Роббинса — сага американской молодежи, параллельная той, которую
565
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
выстраивала она сама на легендарных рок-фестивалях. Немного похожая, немного другая. Нет! — агрессивной энергии, да! — энергии телесной. И, конечно, любовная песнь: начиная с «Вестсайдской истории», Роббинс напевал ее вполголоса, но с шекспировской страстью. Эту манеру Нью-Йорк сити балле не утерял, и восхитившие нас в первый приезд «Танцы на вечеринке» танцуются так же искренне, как и тогда, при жизни великого спутника Баланчина, много лет шедшего рядом, но своей дорогой. В этих «Танцах на вечеринке», давно ставших классикой, Роббинс устроил некоторую демонстрацию, переводя харизматическую «Шопениану» на современный, неевропейский и нестилизованный язык, минуя какие бы то ни было романтические реминисценции, старинные красоты, утонченный тальонизм, но сохранив в полной мере и шопеновский романтизм, и музыку человеческих отношений. Он искал формулу красоты по-американски. И нашел ее, нашел несомненно. Теперь мы увидели Роббинса более поздней поры и опять-таки восхитились его умением создавать полноценную хореографию почти что из ничего, а кантилену — из обрывков, случайных подробностей, необязательных примет — вроде женских причесок, называемых «конский хвост», из кульбитов и стоек на руках, из быстрых пробежек и медленных проходов через всю сцену. В этих композициях есть тоже своя магия, такая и не такая, как у Баланчина, своя мягкая, не слишком настойчивая суггестивность. И он тоже из породы хореографов-магов, этот выходец из ортодоксальной еврейской семьи (отец в шестнадцать лет эмигрировал из России), настоящая фамилия которого — не Роббинс, но Рабинович.
И конечно, американскую специфику добавляет первоклассный мужской состав, не сведенный, как это издавна
566
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
принято в США, к единому этническому стереотипу. Да и внешне танцовщики не похожи друг на друга. Есть стройные, есть массивные, есть рослые, есть невысокие, но всех отличают два качества, позволяющие выстраивать единый ансамбль: артистическая заразительность и танцевальная прыгучесть. В прыжках они особенно хороши, а самый легкий прыжок у Бенджамина Миллепида, вместе со своей прелестной партнершей Джени Тейлор превратившего третью часть «Симфонии до мажор» в увлекательное приключение где-то высоко над полом, нечто вроде побега куда-то наверх, подальше от земной скуки. Это случилось в первый день гастролей, а героем последнего вечера стал белозубый, с улыбкой до ушей Альберт Ивенс, названный нашим красноречивым рецензентом «суперковбоем».
И все-таки Нью-Йорк сити балле не был бы театром Баланчина, если бы не ознаменовался торжеством, хотя бы эпизодическим, женского танца. Хорошие танцовщицы не перевелись, на высоком уровне выступила Венди Видан, уже побывавшая в Петербурге, но подлинным триумфатором стала Мария Ковроски, танцевавшая совершенно различный репертуар (так сказать balerina assoluta нью-йоркской труппы): комедийную партию в «Симфонии Дальнего Запада», грациозную юмореску в «Танцах на вечеринке», элегию Бизе в «Симфонии до мажор», хорошо нам знакомой. Тем не менее именно эта, давно знакомая вторая часть стала откровением балерины. Она ведь и задумана как откровение самим Баланчиным, это как бы второе пришествие — после далеких классических времен — классического арабеска. Второе пришествие, но и прощальный привет, долгое прощание с романтическим арабеском. Мария Ковроски, у которой идеальное сложение даже по меркам Баланчина, идеальная школа — тоже
567
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
по его строгим меркам, демонстрирует арабеск-эталон и тем самым раскрывает смысл и даже хореографический сюжет этой второй части: танцуется взлет и падение арабеска, его рождение и его смерть, его гордое торжество и его смиренная гибель. Этот дуэт, развернутый на всем пространстве большой сцены и включенный в эволюции кордебалета, — своего рода «Умирающий лебедь» Баланчина, одна из эмблем хореографии XX века. Ковроски танцует так, как полагается танцевать в театре Баланчина, — без лишней экспрессии, лишь с легким, почти невесомым налетом печали, предлагая зрителям танец и ничего сверх того, красивую — красивейшую — танцевальную песню без слов и без ненужных жестов. А вот высокоталантливая Венди Видан, выступив во втором составе «Симфонии до мажор», протанцевала ту же медленную часть более темпераментно, более напряженно и даже как будто вступая в спор с судьбой — вполне в баланчинском духе.
Подводя итоги, не могу не сказать, что у репетиторов и педагогов так называемой принимающей стороны были свои нарекания, но пусть они выскажут их сами. Меня же, не профессионала, но зрителя и многолетнего почитателя Баланчина, интересовало, какое впечатление его наследие способно произвести сейчас и как оно хранится в его доме. Могу заверить: впечатление по-прежнему велико и по-прежнему актуально. По-прежнему немеркнущий образец современного хореографического языка и современного хореографического стиля. Точка отсчета для всех, альфа и омега для реформаторов и для традиционалистов. Ничто не устарело, не подернулось патиной, не потеряло сверкающей новизны. И главное — не исчерпала себя исходная художественная идея. Модель бессюжетного спектакля, получившая совершенное воплощение у
568
УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ
Баланчина, оказалась спасительным открытием для судеб хореографии XX века. Продлилась жизнь классического балета. И мало того: продлилась жизнь классической симфонии в качестве современного и чуть ли не только что изобретенного жанра.
УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ
Мастер-класс давала Мерилл Эшли, бывшая ведущая танцовщица Нью-Йорк сити балле. Худощавая, подтянутая, молодо выглядящая женщина с глубоко запрятанными зоркими глазами ходила по репетиционному залу Мариинского театра, иногда задумывалась, что-то повторяла про себя, а потом задавала движения, кратко объясняя их смысл, темпы и рисунок. Время от времени она показывала что и как надо делать. Изредка улыбалась. Пару раз отхлебнула из бутылки по глотку минеральной воды. И постоянно поглядывала на ручные часы, ибо весь неторопливый экзерсис был рассчитан по минутам. Во всем предельная точность — в движениях и словах, и такая же сдержанность, которую обычно называют холодной. «О эти баланчинские балерины, они же так неэмоциональны», — слышу я уже сорок с лишним лет. Вечером того же дня, на приеме в честь артистов Пермского балета, «неэмоциональная» Мерилл Эшли захотела произнести какие-то благодарные слова, успела сказать что-то о том, что «это был Баланчин, подлинный Баланчин», и разрыдалась как девочка-гимназистка. И когда они все, и Мерилл Эшли, и Лурдес Лопес, и Франция Рассел, произносили имя Баланчина, у них на глазах появлялись
569
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
слезы. Все они выступали на мемориальном симпозиуме в Эрмитажном театре в 2004 году, говорили умно совсем нетривиальные вещи, ища и находя нужные слова, очень точно формулируя мысли, вполне в баланчинском духе. Вот это ученицы, подумал я. И сам себя поправил: вот это учитель.
Один из выступавших, Роберт Готлиб, веселый американский издатель и долгие годы сотрудник Баланчина, так и сказал: «Прежде всего он был учитель, а потом — все остальное». Я тоже так думал и, по-видимому, не ошибался. Помимо того, что он сочинял и репетировал балеты, Баланчин учил в школе маленьких учеников и вел в театре класс ведущих солистов. Он продолжил ту линию, которая в России оборвалась (ни Григорович, ни Виноградов, ни Васильев не вели никаких мастер-классов) и которая держалась усилиями Ланде, Дидло, Перро, Мариуса Петипа, Вагановой, Лопухова, что и привело петербургский балет к его вершинам. В старину балетмейстер назывался учителем танцев. Учителем танцев и был Баланчин. Он учил правильно танцевать, правильно говорить и нестандартно думать. Притом, что педагогика устрашения ему была совершенно чужда, и никто рядом с ним не чувствовал себя запуганным или неспособным. Он настолько наполнил собой всех своих учениц и многих своих учеников, что даже после ухода продолжал почти физически присутствовать в их жизни. И он наделил их своей божественной легкостью, легкостью наследственной, легкостью родовой, что позволило жить после него, жить без него, вне его внимательной и строгой заботы.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Мое повествование подошло к концу, но что-то мешает поставить точку. Хочется еще раз оглянуться назад и вспомнить, как это началось: когда началось мое увлечение классическим балетом. Первым балетным спектаклем, который я увидел и на который попал совершенно случайно — в конце августа 1944 года, — был «Бахчисарайский фонтан» с Улановой в главной роли. Я был тогда школьником девятого класса и начинающим театралом, ходил в Художественный театр на «Школу злословия» (в филиале) и на «Три сестры», увлекался классической французской опереттой в Театре Станиславского и Немировича-Данченко, был поклонником стройной, артистичной Ирины Масленниковой, жены Лемешева, певшей в филиале, но балетом не интересовался, пренебрегал, хотя понятия не имел, что это за искусство. То, что я увидел, поразило меня. Я и не мог вообразить, что подобная художественная чистота возможна на театральных подмостках. Я понял, что Уланова ни с кем не сравнима, и почувствовал непобедимое желание увидеть ее вновь — желание, знакомое всем балетоманам. Ровно неделю спустя, простояв в очереди в кассу с раннего утра, я купил билет на премьеру балета «Жизель», и это оказалась еще более сильным ударом. Я стал ходить в Большой театр, покупая недорогие билеты с рук, что было совсем
571
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
не простым делом. Но мне почти постоянно везло, можно было подумать, что какая-то сила упорно толкает меня на путь, ставший моим путем в жизни. Третьим увиденным спектаклем стал «Дон Кихот» с Асафом и Суламифью Мессерерами и с Плисецкой в прыжковой вариации последнего акта. А на четвертый и пятый раз я увидел Марину Семенову — сначала в «Лебедином озере», а потом в «Спящей красавице», двух главных ее балетах. Семеновой было тридцать шесть лет, военные годы стали годами последнего взлета в ее необыкновенной карьере, я ничего об этом не знал, но неотразимое сценическое (а теперь бы сказал — дансантное) очарование Марины Тимофеевны подчинило меня сразу и навсегда, я не свободен от этих чар еще и сегодня.
С тех пор прошло шестьдесят лет, целая жизнь, самые первые впечатления оказались и самыми яркими, ничто их не поколебало, и напоследок я еще раз попытаюсь сравнить Семенову и Уланову, но в более общей форме.
Их появление в Ленинграде в 1925 году (Семенова) и в 1928 году (Уланова) поразило своей новизной, хотя, казалось бы, после эпохи Павловой, Карсавиной, Спесивцевой и десяти-двенадцати первоклассных танцовщиц о какой новизне можно было говорить и какая новая эпоха могла бы последовать вслед за той, легендарной и навсегда ушедшей. И тем не менее нежданно-негаданно чудо произошло, продолжение балетной истории все-таки состоялось. Новой — и привлекательно новой — казалась сценическая стилистика, менее изысканная, но и более динамичная, чем прежде. Новым — и озадачившим на первых порах — представлялся и сам человеческий тип, менее усложненный, но и более гармоничный. Господствовавший еще недавно утонченный стиль модерн, естественный для всей
572
ПОСЛЕСЛОВИЕ
довоенной Европы, теперь, после войны, сразу стал выглядеть неуместным, архаичным, безнадежно устаревшим. Как широкополые шляпки, перчатки по локоть, кружева и оборки. Должна была появиться, и она появилась, женщина 20-х годов и, соответственно, должна была появиться, и она появилась, балерина 20-х годов, также как актриса 20-х годов, и ими-то стали Семенова и Уланова несколько позднее. Друг на друга они не походили, но обеих отличало вновь обретенное чувство жизни, выражавшееся, повторю еще раз, в формах совершенно различных. «Умирающего лебедя», эмблемы Павловой, эмблемы 10-х годов, поначалу они не танцевали. На выпускном вечере в 1925 году Марина Семенова танцевала вариацию из старинного балета «Ручей», восстановленную и модернизированную Вагановой для нее специально. Здесь даже не было того, чем Семенова, поступив в Мариинский театр, поражала видавших виды балетоманов — феноменальной, невиданной виртуозности, здесь было другое. Была поразительная точность — качество, утраченное в эпоху модерн, была сказочная лёгкость; был радостный бег на пуантах по диагоналям сцены, уподобленный ручейку; была юная, полная нерастраченных сил Дева ручья, танцующая для людей, измученных войной и разрухой. А Уланова, об этом я уже упомянул вскользь, не была ни полуденной, ни тем более полуночной красавицей, она была балериной утра. Я это видел и в «Бахчисарайском фонтане», и в «Жизели», а потом и в «Ромео и Джульетте»: безоблачное утро жизни, оборванное безжалостно и внезапно. И все было утренним в ее облике, в ее жестах, в ее улыбке. В самой материи ее танца. Помещая эти впечатления в историко-культурный ряд, можно говорить о пушкинском строе этого танца — и потому, что Уланова танцевала «Бахчиса
573
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
райский фонтан», и потому что поэтические слова «души неясный идеал» всегда хотелось поставить эпиграфом ко всему ее искусству. А молодая Семенова (и эти два слова «молодая Семенова» стали понятием и в устной молве, и в письменной истории балета) заставляла мечтать об Истоминой, повторяя хрестоматийные строки и в том числе ту: «И вдруг прыжок, и вдруг летит...» — может быть, самую выразительную строку из пушкинских строк, посвященных балету. Дважды повторенное «и вдруг» — ведь это формула романтической поэзии, романтического балета и ранней, счастливой, романтической поры в жизни великой балерины.
Упрощая ситуацию, скажем о некотором возвращении вспять — из Серебряного века в век Золотой, имея в виду и Пушкина, и Чайковского, и Льва Иванова, и Мариуса Петипа, прежде всего — Иванова и Петипа, заново открытых, ставших вровень с классиками именно XX века. И «Лебединое озеро», и «Спящая красавица» оказались самыми нужными и самыми содержательными балетами наших дней, и тут, конечно, не было никакого возвращения вспять, как и не было полного отрицания Серебряного века, а была новая топография, было возвращение к новой жизни двух главных мифов русского балета — озерного и урбанистского, городского.
Озерный миф — это, очевидно, «Лебединое озеро», куда вошло очень многое: и чеховское «колдовское озеро», и блоковские стихи, написанные в Озерках («Незнакомка»), и романтические поэмы о роковом столичном красавце, губящем нетронутую, негородскую душу. И это, очевидно, Уланова, не только в балете. Я помню ее всегда сторонящейся, избегающей контактов с толпой (на улице) и с массовкой (на сцене). До войны все знали, что каждое лето она
574
ПОСЛЕСЛОВИЕ
проводит на озере Селигер и только там, вдали от городской суеты, чувствует себя отчасти свободной. Сами ритмы ее танца были плавными, но и несколько рваными ритмами гребца, плывущего на байдарке. Такими, кстати сказать, были ритмы и ее обычно немногословной устной речи.
А Семенова, наоборот, вносила на сцену, упиваясь им, ритм городской, ритм урбанистский. Тут тоже было многое — и вольный дух, и строгая архитектоника, и нечто такое, что отличало семеновскую дансантность: полнейшая погруженность в музыкально-хореографический текст, то ли задумчивое адажио, то ли забытый вальс, и в самом деле навевавший ей сны золотые. Балет переставал быть просто балетом, возникал образ города, не слишком знакомого, не существующего на географической карте. Семенова была гостьей из города мечты, из утопического города Солнца. Такой была Одиллия из «Лебединого озера» и Аврора из «Спящей красавицы», такой смысл получали классические шедевры. И «Спящая красавица», загадочный балет Мариуса Петипа, когда его танцевала Семенова, немного приоткрывал завесу над своими загадками. Известно, что балет заказал Чайковскому и Петипа Иван Всеволожский, директор императорских театров. Спектакль должен был быть посвящен эпохе Людовика XIV и самому ему, Королю-Солнце. Заказ был выполнен, Версаль был построен, сказочный король Флорестан XIV принимал женихов-принцев и волшебных фей, но за всем этим версальским великолепием неявственно проступал ритмически-архитектурный образ блистательного города — и того, который воспел в «Медном всаднике» русский поэт, и того, о котором в 20-х годах мечтали архитекторы и поэты всего мира.
Много лет спустя, на спектакле Мариинского театра «Симфония до мажор» («Хрустальный дворец») Баланчина,
575
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
когда его отсматривало жюри «Золотой маски», я познакомился с Улановой, находившейся в царской ложе. Меня подвели к ней и попросили проводить до гостиницы. Всю дорогу Галина Сергеевна восхищалась балетом и горевала — в буквальном смысле, что не пришлось его танцевать. «А как бы мы, — говорила она, — смогли бы его станцевать, я, Марина, Таля и Алла». Даже квартет исполнительниц подобрала. Вот это был бы состав — в параллель легендарному «Па де катр» 1845 года, ансамблю сильфид с Марией Тальони, Карлоттой Гризи, Фанни Черрито и Люсиль Гран, но более разнообразный артистически, как это и подобает балеринам середины XX века. «Я бы танцевала вторую часть, она так похожа на "Озеро", — продолжала Уланова, — а Марина? Марина могла бы танцевать любую другую. Впрочем, — помедлила она, — без меня и вторую тоже». Золотые слова! Потому что «Хрустальный дворец» — это тоже версальский балет, в котором незримо присутствуют все русские балетные мифы, еще в детстве воспринятые Баланчиным: и колдовское озеро в медленной скорбной части, и город Солнца в ослепительном финале.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абрамова АИ. 211
Адан А. 132,412
Акочелла Д. 164
Александров Г.В. 310
Александрова МА. 266
Алонсо А. 409
Амбуаз Ж. 'д 525
Андронников И.Л. 225
Анисимова Н.А. 372
Ануй Ж. 245,251,443
Араухо Л. 439
Аристотель 136
Арто А 210,262,466,475,487
Асафьев Б.В. 311, 377,421
Ауэр Л. 124
Ахматова АА. 147,149,160, 235,318
Аштон Ф. 450,456—462
Байрон Дж. 129,132
Бакль Р. 424
Бакст АС. 12,27,44,48,49, 52, 54,56-58,116,146,165,168, 169,195,365,523
Балабина Ф.И. 235
Балакирев М.А. 17
Баланчин А (Г.М. Баланчивадзе) 9,12,22,27,46, 58,95,96, 98-102,104,111-116,119, 140,148,165,173,181-183, 193,197-202,254,255,268, 315, 323,325,368,374,377, 378, 384, 387, 390, 392, 395, 405,408,410,411,414,424, 425,443,463,464,471,478, 481,499, 500, 504-511, 513-530,557-570,575, 576
Балахничева Н.Г. 349—351
Бальзак О., де 98,197, 312, 313
Бальмонт К.А 20,163
Банк AM. 211, 314
Барро Ж.-А 210,262,474
Барт Р. 101,450
Барто А.Л. 497
Барышников М.Н. 112,252,264, 271,386,388-392,434
Бауш П. 346,469,487,488—496
Бах И.С. 100,499-501, 520 Бежар М. 123, 346, 387,411,440, 443,452,462-479
37 — 940
577
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
Беккет С. 460
Белокуров В.В. 420
Бельский И.Д. 375—378
Бенуа А.Н. 12,16,20,27, 35-41, 45,56,195,196,365,393
Берг ОМ 405
Бергсон А. 515
Бердслей О. 524
Бердяев НА. 423
Беретта К. 154,251
Берковская Е.А. 422
Берковский НЛ. 357,422
Берлиоз Г. 98,229,235,466,467, 479
Бертенсон С.Л. 220
Бессмертнова Н.И. 268—276, 374, 381
Бетховен Л., ван 198,437,466
Бизе Ж. 99,100,199, 521,567
БлазисК. 167,168,251
Блок А.А. 146,151,196, 265, 560, 574
Блок Л.Д. 44,167,170,173,197, 210, 397,405
Бодлер Ш. 45,168,475
Большакова Н.Д. 439
Бомарше П.0.459,460
Борисов Ю.О. 341, 343
Бородин А.П. 35
Боттичелли С. 346,443
Бошан А. 27
Брак Ж 27
Брамс И. 557,558
Брехт Б. 336, 373,467, 513
Брианца К. 116, 251,449
Бриттен Б. 334,458
Бродский И.А. 356,434,497
БрунЭ. 252,444
Бунин И.А. 197,446
Бурлака Ю.П. 135
Бурмейстер В.П. 411
Бурнонвиль А. 185,412,435, 557
Ваганова АЛ. 138,172,173,185,194, 197,203-211,220,221,235,260, 364,383,425,426,441,570,573
Вагнер Р. 470—473,475
Вазем Е.0.124,154
Вайгель Е. 336
Вайль К. 513
Вайнонен В.И. 372,417
Василёв В.Ю. 345, 389
Васильев В.В. 274, 309, 323, 325, 479, 570
Ватто А. 41
Веберн А. 100,453, 530
Ведекинд Ф. 346
Верди В. 558
Версаче Д. 474
Вестрис 0.201,435
Вечеслова ТМ. 235
ВиганоС. 167,168
Визак Н. 440
Вилан В. 567, 568
578
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Виллеме Т. 501
Вильямс П.В. 334, 335,371
Виноградов А.К. 338
Виноградов О.М. 191
Вирсаладзе С.Б. 353, 365—367, 370-375
Вихарев С.Г. 393—396, 398—403, 448
Вишнева Д.В. 274,275, 395,400, 470-472
Владимиров Ю.К. 345
Войтенко А.А. 396
Волкова В. 487
Волконский С.М. 141
Володин А.М. 272
Волынский А.Л. 6,49,138,139, 142,147,169-171,186,187, 206,207,209,232,233,257, 410,422,436,437,517
Вольтер 468
Воскресенская Н. 201
Врубель М.А. 146, 511
Всеволжский ИА. 395, 575
Вудл С. 337
Высоцкий В.С. 386
Вязовкина В.А. 333
Габович М.М. 264
Гай Л. 252
Гарбо Г. 245
Гаук А.В. 226
Гвоздев А.А. 232,415
Гейне Г. 275,412
Гердт Е.П. 142, 323, 325,441, 518
Гердт П.А. 154
Герен И. 239,246,439
Герт В. 233-235
Гершензон П.Д. 396
Гёте И.В. 415,485
Гзовский В. 243,244,499
Гиллем С. 442—444,450
Глазунов А.К. 17,124, 367,417
Глинка М.И. 16,17, 21, 35, 559
Глюк К.В. 229
Гнедич Н.И. 455
Гоголь Н.В. 96
Годар Ж.-Л. 269
Годовский Я.В. 461
Гойя Ф. 208
Голейзовский КЛ 307—310, 324
Голль Ш., де 464
Головин АЛ 195,208
Гонзага П. 490
Гончарова Н.С. 50
Горовиц В.С. 499
Горский А.А. 198, 208,317
Горький А.М. 423
Горячева А.В. 274,461
Готлиб Р. 570
Готье Т. 6,122,167,242,275,412
Гофман Э.Т.А. 38,47,167, 388
Гоцци К. 388
Граперо X. 320
Гран Л. 576
37'
579
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
Графола А. 164
Гри X. 27
Грибоедов АС. 7,8, 229
Григорович Ю.Н. 191, 274, 321, 323, 325, 362, 365-371, 373-376, 397,414,441, 570
Григорьев СА. 28, 30, 31, 33, 53-55,102,111,112
Гризи К. 256, 262, 576
Грэхем М. 363, 387
Гуданов ДК. 343, 344
Гульд Г. 356
Гумилев Н.С. 170
Гусев ПА 181-183,190-193,197, 316,365,372,386,410,414,518
Гюго В. 96, 98,412,415
Дандре В.Э. 151,152
Данилова АД 197
Данте Алигьери 124,463
Дебюсси К. 48, 54, 360,476
Дега Э. 111, 246, 324, 508
Дейде А 238,239, 241, 246-251, 268, 384,437-439,442
Декру Э. 262
Делакруа Э. 132
Делиб А 132
Дерен А 27
Джонс Б. 351
Дидло Ш. 7,8,255, 312,377, 403, 570
Дидье П.И, 258,259
Дмитриев В.В. 112,181—183, 193-197
Доберваль Ж. 457,459,462
Добровольская Г.Н. 182
Долгушин Н.А. 191,201, 392, 393
Долин А. 22,241
Донн X. 326,462,467-469,478, 479
Дорэ Г. 124
Дорошевич В.М. 13
Достоевский Ф.М,174,275
Дрейер Ж. 443
Друскин М.С. 227
Дудинская Н.М. 205, 355, 360-362, 364, 379, 380, 384, 398,419
Дузе Э. 245
Дункан А 119,129,162,163, 173,233, 235,462,476,478
Дюма А 562
Дюмилатр А 266
Дюпор Л. 172
Дягилев С.П. 9,12—22, 27—29, 31-35,42,45,46,49, 50,52,54, 57, 58, 97,101-104,111-116, 119,141,142,148,152,157, 165,170-173,206,207,237, 253, 392,393,464,468,490, 506,515,518,521
Евдокимова Е. 439—442 Егорова АН. 116,139,202
580
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Ермолаев А.Н. 192, 211-213, 215, 217-219, 264-266, 386, 418,419
Ермолова М.Н. 127
Ершов П.П. 357
Ефремова Ф.П. 315
Жак-Далькроз Э. 46, 52
Жданов Ю.Т. 264
Жироду Ж. 242,245
Жуве Л. 242
Завадовский А.П. 7
Завадский ЮА 420
Зайцева Е.В. 396
Замбелли К. 243
Захаров Р.В. 197, 216,230, 310-315, 320,334,335, 372, 419-421
Захарова СЮ. 343
Зеленая Р.В. 497
Зозулина Н.Н. 374
Иванов Л.И. 5,135,136,138, 140,186,382,403,406,408, 443, 574
Иванова Л.А. 198
Иванова С.Г. 138
Ивенс А. 567
Иден Д 426
Ионеско Э. 477
Иордан О.Г. 205
Иофьев М.И. 248, 365
Истомина ЛИ. 6, 7, 312, 574
Йосс К. 98,491,494
Кавос КА. 377
Калидаса 416
Камрин В. 487
Камю А. 474
КантЭ. 167
Каралли В.А. 206
Каринская Б. 557, 559, 560
Карп ПМ. 365
Карсавина Т.П. 20,49,55, 56,132,
142,146-150,159,206,357, 572
Касаткина Н.Д 345, 389
Кент А. 513
Керкланд Г. 392,438
Киров СМ 226
Кистлер Д. 564
Клиберн В. 441
Ковроски М. 567, 568
Кожокару А. 274,275,447—450
Кокто Ж. 28,244,245
Колпакова И.А. 205,269,273, 355,378,404,449
Комиссаржевская В.Ф. 45
Комлева Г.Т. 355, 378,400,404
Коонен А.Г. 208, 357
Коралли Ж. 240,262,412,435
Корень С.Г. 315
Котоньи А. 16
581
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
КохноБ. Ill
Кочетовский А.В. 41,42
КранкоД 313
Красовская В.М. 143,207, 313, 365,409,411,418, 421-426
Крейн А А. 411
Кристу М.-Ф. 164
Кройцберг X. 98
Кроммелинк Ф. 30
Крупенский А.Д 157
Крысанова Е.В. 344
Кудрявцева В.В. 211
Кшесинская М.Ф. 139—146, 150,155,156,206,363
КюиЦА.17
Лабан Р. 491,494
Лавровский ДМ.197,215,259, 268,274, 372, 377
Лавровский МЛ. 268,271,272
Лазаревич Т.В. 314
Лакот П. 394,441,451
Ланде Ж.Б. 570
Ландер X. 185,433-437, 508
Ланкастер 0.457,459
Лапаури А.А. 313
Левенталь ВЛ. 365
Левинсон АЛ. 6,142,151, 164-174,207,232,422
Левицкий Д.Г. 324
Легар Ф. 559
Легат Н.Г. 186
Лемешев СЛ. 571
Ленин В.И. 32,188, 313
Ленья Л. 513
Леньяни П. 139,251,254
Леонардо да Винчи 189,256
Лепешинская О.В. 192,215, 216,315-317,322,419
Лермонтов М.Ю. 127
Летестю А. 445,499
Лиепа ИМ. 451
Лимон X. 387
Лисовская НА. 207,210
Лист Ф. 437
Лифарь СМ. 21,101-104,111, 165,166,238,242-246,320
Лихачев ДС 422
Лопаткина У.В. 154,400,404, 406-409
Лопес Л. 569
Лопухов Ф.В. 6,95,141,181—190, 192-195,197-203,220,230, 309, 326, 329-331,338,356, 363, 365, 369, 372, 377, 386, 402, 570
Лопухова Л.В. 116
Лорансен М. 27
Лорка Ф.Г. 321
Лотман ЮМ. 315
Лудьер М. 246
Луначарский А.В. 14, 33
Лунькина С.А. 274,451
Людвиг II, король Баварский 480
582
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Лядов A.K. 17
Ляпунов СМ 17
Мазилье Ж. 129,130
Майниеце ВЛ. 376,453
Макарова Н.Р. 204,269,273, 379-385
Макмиллан К. 450
Максимова Е.С 309, 322—326, 374,441,479
Малахов В А 470,471
Малер Г. 466
Малиновская Е.К. 220
Малларме С. 45,172
Мальро А. 464,475
Мане Э. 133
Маринетти Ф.Т. 253
Мария-Антуанетта, королева
Франции 144
Маркова А 22
Маркс К. 474
Маркузе Г. 474
Маршалл Дж.К. 505
Масленикова И.И. 571
Матисс А 27
Маяковский В.В. 32,183,187,188, 193,464
Мейер А., де 48
Мейербер А 229
Мейерхольд В.Э. 30,45,112,149, 166,188,193,194, 220, 226, 228, 229, 232, 255, 326, 336
Мендельсон М 341
Менигатта Б. 252
Мессерер AM. 185, 211 —212,419, 572
Мессерер СМ. 572
Метерлинк М. 160,490
Миллепид Б. 567
Милынтейн Н. 499
Минкус Л. 121,125
Михайлов ММ. 197
Михоэлс СМ. 263,418—420
Модильяни А 245, 309
Мольер Ж-Б. 473,474
Монахов AM. 259
Монахов Е. 336
Монте П. 54
Мопассан Г. де 484
Морган М. 242
Моцарт В.-А. 100,265,446,447, 527, 564
Мошковский М. 192, 315
Мунгалова О.П. 193, 267
Мурдмаа М.-Э. 389
Мусоргский М.П. 17, 38
Муханова В. 483
Мшанская Г.Е. 364
Мясин Л.Ф 27—29, 31,46, 58, 95-99,101,165,169,458,465, 506-508
Набоков В.В. 43,137,165, 315,447
Наполеон 134,454,455
583
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
Немирович-Данченко Вл.И. 194, 220
Нижинская Б.Ф. (Бронислава) 27,29,41,42,44,46,49-52, 103,165, 201,477, 506, 507
Нижинский В.Ф. (Вацлав) 12,20, 21,33, 34,41-49,51-56,101, 142,149,165,173,201,206, 208,213,392,444,465,468, 478,488,494, 506, 507,523, 524
Нижинский СФ. 41
Ницше Ф. 210,466,474,475
Новалис Ф. 167
Новерр Ж.Ж. 167-169,229, 357, 390, 504, 509
Ноймайер Д. 154,479—488
Нуреев Р.Х. 246, 363, 386, 387, 392,442,459
Озерей М. 242
Осипенко А.Е. 368, 369
Осипова Н.П. 274-276, 345-348
Островский АН. 13,127
Остужев А.А. 263
Оффенбах Ж. 230
ПабстП. 491
Павленко Д.В. 400,448
Павлов И.П. 189
Павлова АП. 20,143,147, 150-164,171,206,213,224, 363,392, 572,573
Паганини Д 437
Палладио 337
Пастернак БД. 192,222,318, 338, 514, 529
Пастух С.С. 326, 327
Перро Ж. 130,240,262, 357,412, 413,415,417,557, 570
Перро Ш. 337
Пети Р. 450-456
Петипа М.И. 5, 9,44,47,115, 119-134,140,141,148, 158-160,162,168,169, 185,186,192,200,202-204, 208, 214,215,218,230, 239, 240,251,254,255,259,275, 317,353,359,377, 378, 382, 384, 390, 392, 393, 395-397, 399-405,412,413,415-417, 450,482,488, 505, 508,518, 557, 563,570, 574, 575
Петипа М.М.448
Петр I, император 19, 32, 33, 39 Петров-Водкин К.С. 194,195,197
Петухов А.В. 461
Пикассо П. 27,28, 97, 253, 327
Пискатор Э. 98
Платель Э. 439
Плисецкая М.М. 250, 266, 267, 317-322, 326, 347,409,438, 445,478
Подгорецкая Н.Б. 211
Пономарев Е.П. 120
584
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Понтуа Н. 252 Попова АС. 30 Посохов ЮЛА. 342, 343 Потапов (Голубов) В.И. 409,411, 418-421 Прево А.Ф. 416 Преображенский В А 224, 314 Пришвин ММ 353 Прокофьев С.С. 29,111,216,255, 320, 331, 332, 334-343, 365 Прокофьева Л.И. 341 Пруст М. 55,452,484,515 Пульска РАЗ Пунин Н.Н. 228 Пушкин АС. 6—8,13, 32,127, 128,138,150,157,172,221, 230,265,312,314,349,350, 356,446,453-456,505,559, 563, 564,573,574 Пушкин А.И. 388 Равель М. 466,477, 521, 560,561 Радлов СЭ. 231,232 Радунский А.И. 314 Рамбер М. 46,458 Расин Ж. 473 Рассел Ф. 569 Ратанова М.Ю. 50 Ратманский А.О. 328—334, 336 Рахманинов С.В. 17,18 Резников Е.И. 348, 349, 351 Рейзингер Ю. 128 Рейли Ш. 487 Рейнхардт М. 496 РеноМ. 238,239,247,438 Ренуар 0.133 Рерих Н.К 52 Римский-Корсаков НА 17,18,35 Рифеншталь Л. 208 Рихтер С.Т. 341 Роббинс А 565, 566 Роден 0.46,47, 309, 360 Романов Б. 148,165 Романова М.Ф. 221 Романовы 146 Рубинштейн ИА. 56 Рузвельт ФА 505 Руо Ж. 27,111 Руссо Ж.-Ж. 458 Сабирова МА. 439 Савин ДА. 333 Саломон В. 493 Сангович Я.Г. 315 Санин А. А. 18 Сартр Ж.-П. 474 Сахарова АП. 349, 350 Светлов ВЯ. 154 Свифт Д 495 Седова Ю.Н. 206 Семенова Е.С. 356 Семенова М.Т. 138,185,193,205, 211-220,311,314,326,355, 419,438,443, 572-576
585
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
Семеняка Л.И. 439
Семионова ПА 203,445—447
Сен-Жорж Ж. 242
Сен-Леон А. 135,168, 394,402
Сен-Санс К. 163
Сервантес С.М., де 416
Сергеев КМ 271, 353, 357,371,
372, 389, 395, 397, 398
Сергеев Н. 398, 399
Серджи 440
Серов ВА. 156
Сифиос Д. 467,478
Скальковский КА. 254
Скляревская И.Р. 403
Скотт В. 417
Скрябин АН. 17,146, 324
Слонимская (Сазонова) ЮА 151
Слонимский Ю.И. 182,185,313,
365,377,409—418,518
Смирнов В.В. 328, 329
Смирнова Е.А. 139
Смольцов В.В. 314
Core А. 244
Соколова Е.П. 154
Соколова Л. 22
Соколов-Каминской АА. 376
Соллертинский И.И. 190,
225-236,311,397,410
Соловьев Ю.В. 385, 392
Соловьева Г.В. 327
Сорокина Н.П. 345,439
Спесивцева О А 22,116,138,172,
196,197,209,240,241,243,
257,259-262,269,275,414, 518, 519,572
Сталин И.В. 226, 338,414
Станиславский К.С. 14, 204, 270, 511
Стасов В.В. 35
Стендаль 127,168, 338
Стоун Б. 487
Стравинский И.Ф. 51, 52,96,100,
183,254, 345,425,464,466,
521, 526,527, 529,530,563
Стреллер Д. 257,258
Стручкова PC. 440
Суворин А.С. 142,480
Сурбаран Ф. 208
Суриц ЕЛ. 425
Сэлинджер Д. 471
Таиров АЛ. 166
Тальони М. 160,161,166,167, 171-173,209,224,249, 397, 444, 575
Тальони Ф. 171, 557
Танеев С.И. 17
Тарп Т. 345, 390
Тейлор Д. 567
Тейлор П. 387
Теляковский В.А. 14—16,32,119
Тер-Арутюнян Р. 559
Тесмар Г. 246,441,442
Тетли Г. 387
586
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Титюс А. 258,259 Фокин М.М. 12, 20, 21, 27,
Тихонов Н.С. 190 33-36, 38, 39,44-47,49,141,
Толлер Э. 519 142,147-150,155-157,159,
Толстой Л.Н. 222, 321, 341,342, 162,163,165,168,169,171,
446,511 189,198, 206, 208,210,308,
Трефилова В А 116,138 365, 392, 393, 397,402,476,
Тынянов Ю.Н. 195,229 494, 506, 507, 518, 523, 530
Тэйпер Б. 558 Фонтейн М. 442,459
ТюдорА. 450 Форе Г. 254
Тютчев Ф.И. 225 Форсайт у. 347,442,444,450, 469,478,497-502, 520, 521,
Уайльд О. 524 529
Уилдон К. 450 Фраччи К. 54,251-254,256-258,
Уланова Г.С. 193,197,205,215, 444
216,219-225,235,240,247, 259-267,271,274,275,312, Фурцева ЕА. 440
338, 339, 341, 355, 379, 382, 384, Хайкин Б.Э. 354
419-421,441,479, 571-576 Хамзин А 483
Уткин И. 336 Хаскелл А. 45
Уэллс Г. 188,198, 330 Хемингуэй Э. 389 Хикмет Н. 374
Фадеев А А 448 Хиндемит П. 100, 512, 521
Файер Ю.Ф. 335 Хорган Б. 517
Фарелл С. 462, 525, 526 Хохлова О. 253
Фассбиндер Р.-В. 487,489 Федорова СВ. 206 Худеков С.Н. 122,125,129
Феллини Ф. 222,223, 564 Цвейг С. 214
Фенстер БА. 372 Цветаева М.И. 127, 340, 359
Филин С.Ю. 343 Фильштинский Г.Ф. 327 Цискаридзе Н.М. 451,454,456
Флобер Г. 45 Чабукиани ВМ 192, 355, 371,
Флон С. 251 396, 397, 399-401,419
587
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
Чайковский П.И. 8,17,95,100, 124,129,136,137,140,215, 235,246,247,254,255,340, 367, 382, 395,406,408,416, 456,510,511,563, 574,575
Чапек К. 327
Чаплин Ч. 28, 97, 330, 331,462
Чекетти Э. 44,154,173
Черепнин Н.Н. 393
Черкасова Л.К. 266
Черни К. 437
Чернобровкина Т.А. 483
Чернова Н.Ю. 365
Черрито Ф. 576
Чехов А.П. 146,149,193,223, 252,257,258, 321, 323, 382, 480-483,485, 574
Чистякова ИА. 403—406
Шааль X. 336
Шааль Э. 336
Шавров Б.В. 271
Шаляпин Ф.И. 18,42,218,421
Шанель Г. 51, 327
Шауфас П. 444
Шварц ДА!. 236
Шекспир У. 132,221,258, 335, 338, 344,345, 389,417,460, 483,485,566
Шелест АЛ 193,205,267, 353-364, 368,400
Шереметев В.В. 7,8
Шипулина Е.В. 343
Шовире И. 241—246,268
Шоллар Л.Ф. 55
Шольце У 446,447
Шопен Ф. 437, 566
Шостакович Д.Д. 184,188,197, 198,226,227, 328,329, 333, 376
Шпенглер А. 37
Шпет Г.Г. 326
Шпилевский AM. 446
Штраус И. 559
Штраус Р. 463,466,524, 559
Шуберт Ф. 501
Эйзенштейн СМ 41,234,311,313
Эк М 442,444,450,488
Эсхил 357
Эшли М 569
Юрский С.Ю. 389
Якобсон Л.В. 316,324,355, 359,
360, 368, 390
Якубович А.И. 7, 8
Якулов Г.Б. 29, 31
Янин Г.П. 329, 337,461
УКАЗАТЕЛЬ БАЛЕТОВ, ОПЕР, ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И КИНОФИЛЬМОВ
«Агон» И.Ф.Стравинского 118, 500, 506, 526, 527, 530
«Агрессор» на муз. Е.Е.Петунина 264
«Айседора» на сб. муз. 478
«Александр Великий» Ф.Гобера 103
«Алые паруса» ВМЮровского 317
«Анна Каренина» Р.КЩедрина 320
«Анюта» ВАГаврилина 323
«Аполлон Мусагет» («Аполлон», «Аполло») И.Ф.Стравинского 46, 99, 102,112,114,173,463, 504, 520-524, 526, 527
«Ацис и Галатея» И.Старцера 35
«Бабочки» на муз. Р.Шумана 155
«Бандиты» АМинкуса 120
«Барышня-крестьянка» Б.В.Асафьева 314
«Бахчисарайский фонтан» Б.В.Асафьева 192,221,224,230,266, 310,
311, 313-315, 358, 379, 571, 573
«Баядерка» Л.Минкуса 120—126,128,129,130,155,158—162,169,192, 214,239,246,355, 359,387,397, 399-401,403,409,414,416,450
«Белые ночи», кинофильм 386
«Берег надежды» А.П.Петрова 376, 378,417
«Блудный сын» С.С.Прокофьева 102,111,112, 338, 509
«Бодлер» на муз. Р.Вагнера и К.Дебюсси 47 5
589
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
«Болеро» М.Равеля 466—468,470,473,477,478
«Болт» ДДШостаковича 182-184,188,190,200-202,326-328,331-333
«Борис Годунов» М.П.Мусоргского 17,18, 38
«Бриллианты» см. «Драгоценности»
«Вальс» М АЛошковского 192, 315
«Вальс» М.Равеля 557, 560
«Вальс-фантазия» на муз. М.И.Глинки 559
«Великодушный рогоносец» Ф.Кроммелинка 30
«Величие мироздание» («Танцсимфония») на муз. Л. ван Бетховена 95, 183,184,187,198,201,202
«Венские вальсы» на муз. И.Штрауса, Ф.Легара, Р.Штрауса 526, 559
«Весна на Заречной улице», кинофильм 385
«Весна священная» И.ф.Стравинского 45,46, 51, 53, 54, 345, 346,464, 473,474,476,488,489
«Вестрис» на муз. Г.И.Банщикова 390
«Вестсайдская история» Л.Бернстайна 566
«Видения» А.Соге 244
«Вишневый сад» А.П.Чехова 257
«В комнате наверху» на муз. Ф.Гласса 345, 346
«В музее» на муз. Самюэля-Руссо 246
«Война и мир» С.С.Прокофьева 341
«Волшебная лавка» на муз. Дж.Россини 97
«Воццек» А.Берга 230
«В порт вошла "Россия"» В.П.Соловьева-Седого 311,314, 377
«Галатея», телефильм 325
«Гамлет» У.Шекспира 226
«Гвоздики» на сб. муз. 488,489,492,495
«Голубой бог» Р.Гана 29
«Голубой экспресс» ДМийо 29, 51
«Горе уму» («Горе от ума») А.С.Грибоедова 228
590
УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
«Давид-триумфатор» на муз. К.Дебюсси и М.П.Мусоргского 103
«Дама с камелиями» на муз. Ф.Шопена 484—486
«Дама с собачкой» Р.К.Щедрина 320
«Дафнис и Хлоя» М.Равеля 29, 523
«Две голубки» А.Мессаже 243
«Дон Кихот» ЛМинкуса 121,122,155,207, 308, 315—318, 324, 346-348, 361, 388, 389, 391,405,416,442,447,450, 572
«Дон Кихот» Н.Д.Набокова 526
«Дочь снегов» ДМинкуса 120
«Дочь фараона» Ц.Пуни 122,125,126,144
«Драгоценности» на муз. Г.Форе, И.Ф.Стравинского и П.И.Чайковского 254,406,471,509,562
«Дуэнья» («Обручение в монастыре») С.СПрокофьева 341
«Египетские ночи» А.С.Аренского 159,210
«Жаворонок» ЖАнуя 245,251, 378
«Жар-птица» И.Ф.Стравинского 148
«Жизель» ДАдана44,121,136,147-149,153,155,158-162,166,167, 182,183,206,207,210,212,215,222,224,237-240,244,245,247, 250-253,256-276, 314, 337, 355, 359, 384, 389, 391, 392,404,411, 412,420,421,435,438,441,442,447,450, 518, 519, 525, 557, 571, 573
«Жить своей жизнью», кинофильм 269
«Звуки пустых страниц» на муз. А.Г.Шнитке 484
«Зефир и Флора» КА.Кавоса 8,255
«Золотой век» ДД.Шостаковича 198, 333, 377
«Золотой петушок» Н.А.Римского-Корсакова 18,22,148
«Золушка» С.СПрокофьева 216, 314, 317, 318, 320, 322, 331, 332, 334, 335,338-342, 344,481
«Зори» Э.Верхарна 194
591
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
«Иван Грозный» на муз. С.СПрокофьева 271, 367, 368,370
«Иван Грозный», кинофильм 313
«Иван Сусанин» М.И.Глинки 315
«Игры» КДебюсси 45, 51, 53—55,444
«Идиот» по ФМ.Достоевскому 355
«Из классической позиции» Т.Виллемса 498
«Изумруды» см. «Драгоценности»
«Икар» Ж.Сифара 103,104
«Икар» СМ.Слонимского 416
«Иллюзии, или Лебединое озеро» («Лебединое озеро»)
П.И.Чайковского 480,483,484,486
«Интервенция» ДИСлавина 339
«Иосиф Прекрасный» СН.Василенко 308—310
«Искусство быть дедушкой» Х.Ле Бара по мотивам И.Штрауса,
ДВерди и ДПуччини 463
«Искушение святого Антония» по Г.флоберу 474
«Истар» В. д’Энди 104,244
«Кавказский пленник» Б.ВАсафьева 377
«Кавказский пленник, или Тень невесты» КАКавоса 377
«Каменный цветок» С.СПрокофьева 255, 364, 365, 374
«Кармен» на муз. Ж.Бизе 451
«Кармен-сюита» Ж.Бизе—Р.К.Щедрина 320,409
«Карнавал» Р.Шумана44,149,157,169,208
«Картинки с выставки» на муз. МП .Мусоргского 188
«Кафе Мюллер» на муз. Г.Пёрселла 488,489
«Классическая симфония» на муз. С.СПрокофьева 268
«Классическое па де де» на муз. ДОбера 243,244,499
«Класс-концерт» на муз. ДД Шостаковича 346
«Клоп» В.ВМаяковского 188
«Князь Игорь» АП.Бородина 17,18,21,22
«Кольцо вокруг кольца» на муз. Р.Вагнера 470
592
УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
«Кольцо Нибелунга» Р.Вагнера» 470
«Конек-Горбунок» Р.К.Щедрина 307, 378
«Консерватория» Х.С.Паули 435
«Контактхофф» на муз. Кётчера и др. 488,489
«Концерт для скрипки» И.ф.Стравинского 425, 506
«Кончерто барокко» И.С.Баха 520
«Коппелия» ЛДелиба 402
«Король Лир» у.Шекспира 263
«Корсар» АЛдана 122,129—132
«Кошка» А.Соге 102, 509
«Крепостная балерина» К.А.Корчмарева 185
«Лани» Ф.Пуленка 29, 51
«Лауренсия» АА.Крейна 371
«Лебединое озеро» П.И.Чайковского 129,135,136,138,142,147,
148,197,214,217,222,265,267, 325, 351, 367, 369, 370, 371, 373, 380-383, 397,402,406-409,442,443,446,482, 572, 574-576
«Легенда о Иосифе» на муз. Р.Штрауса 484
«Легенда о любви» АДМеликова 274,313,362,366,368,369,373,374,424
«Леда» на традиц. японскую муз. 474
«Леди Макбет Мценского уезда» ДДШостаковича 197, 226
«Лейли и Меджнун» САБаласаняна 308
«Ленинградская симфония» на муз. ДДШостаковича 375, 378
«Летят журавли», кинофильм 378
«Ливанская красавица, или Горный дух» Ц.Пуни 122
«Мазурка» на муз. А.Н.Скрябина 309, 324
«Мазурка фото» на сб. муз. 488,489
«Мальро» на муз. Л. ван Бетховена и Ю. Лё Бара 464
«Мария Стюарт» ЭДиего 320
«Маркитантка» Ц.Пуни 394
«Медный всадник» РМ.Глиэра 314
«Меркурий» Э.Сати 46
38 — 940
593
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
«Месяц в деревне» на муз. Ф.Шопена и ДАанчбери 458
«Мирандолина» С.Н.Василенко 317
«Млада» НА.Римского-Корсакова 17
«Мойщик окон» на сб. муз. 488—492,495
«Моцартиана» на муз. П.И.Чайковского 526
«Нарцисс» на муз. Н.Н.Черепнина 309
«Немая из Портичи», кинофильм 161
«Неужели это смерть?» на муз. Р.Штрауса 462
«Нижинский» на муз. НАРимского-Корсакова, Р.Шумана, Ф.Шопена,
ААШостаковича 483,484
«Новые времена», кинофильм 330
«Ночь перед Рождеством» НАРимского-Корсакова 17
«Овод» ААЧернова 378
«Орфей» Ж.Кокто 244
«Отелло» у.Шекспира 263
«Павильон Армиды» Н.Н.Черепнина 35,40,392
«Паганини» на муз. С.Рахманинова 34
«Па де катр» Ц.Пуни 576
«Парад» Э.Сати 28,97
«Парижское веселье» на муз. Ж.Оффенбаха—Розенталя 97
«Пахита» ЭМ.Дельдевеза 158, 393,403
«Перебои сердца» на сб. муз. 452
«Песни любви» на муз. И.Брамса 557
«Петрушка» И.Ф.Стравинского 34—36,38, 39,44,47,49,149,494
«Пиковая дама» П.И.Чайковского 195
«Пиковая дама» на муз. П.И.Чайковского 450,453,457
«Пламя Парижа» Б.ВАсафьева 231
«Пленники Терпсихоры», кинофильм 348, 351
«Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» А.П.Бородина 19, 21,
210, 308
594
УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
«Последняя жертва» А.Н.Островского 152
«Послеполуденный отдых фавна» («Фавн») КДебюсси 43—49, 54, 55,
58, 506, 523
«Предзнаменования» на муз. П.И.Чайковского 95, 98
«Призрак розы» на муз. KJvi. фон Вебера 44,148,208
«Приключения Пелея» Л.Минкуса 120
«Пробуждение Флоры» Р.Е.Дриго 403
«Псковитянка» НД.Римского-Корсакова 18
«Пчелки» на муз. И.Ф.Стравинского 243
«Пять вечеров» АЛА.Володина 356
«Раймонда» А.КТлазунова 119,125,131,158,217,218,246,264, 320, 365, 371, 397, 398,402,417,478
«Ревизор» Н.В.Гоголя 336
«Революция. 1830» на муз. Г.Берлиоза 464
«Роксана, краса Черногории» Л-Минкуса 120
«Ромео и Джульетта» С.СПрокофьева 224,263, 334, 338, 341, 344, 379, 460, 573
«Ромео и Джульетта» на муз. П.И.Чайковского 246
«Ромео и Юлия» на муз. Г.Берлиоза 326
«Рубины» см. «Драгоценности»
«Руслан и Людмила» («Руслан») М.И.Глинки 16,17,21,22
«Ручей» Л.Делиба и Л.Минкуса 573
«Рыцарь и Девушка» Ф.Гобера 103,246
«Садко» Н.А.Римского-Корсакова 17
«Сакунтала» Э.Рейера 122
«Саламбо» ААрендса 307
«Саломея» («Трагедия Саломеи») Ф.Шмитта 148
«Свадебка» И.Ф.Стравинского 41,46, 50, 51,165,169,201, 506
«Свадьба Фигаро» П.О.Бомарше 460
«Светлый ручей» ДДШостаковича 184,201,202, 328, 331,332, 345
«Севильский цирюльник» П.О.Бомарше 460
.38*
595
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
«Семь смертных грехов мещанина» К.Вайля 513
«Сердце гор» А.М.Баланчивадзе 371
«Серенада» на муз. П.И.Чайковского 95,98,100,202, 315, 506,510, 511,513,514,557,562
«Сильвия» Л.Делиба 243
«Сильфида» Ж.Шнейцхоффера 171,256, 388,441,442,478, 557
«Симфония в трех движениях» на муз. И.ф.Стравинского 563, 565
«Симфония Дальнего Запада» на муз. Х.Кея 565, 567
«Симфония до мажор» («Хрустальный дворец») на муз. Ж.Бизе 99, 104,111,198-200,246,250, 384, 395,404,405,411, 506, 516, 562, 567,568, 575,576
«Синяя птица» М.Метерлинка 490
«Сказка о царе Салтане» Н.ДРимского-Корсакова 17
«Сладкая жизнь», кинофильм 222
«Слепая» на муз. Понса—Хефеца 316
«Смерч» Б.Б.Бера 308, 310
«Снегурочка» НАРимского-Корсакова 17
«Сны о Японии» на сб. муз. 331
«Собор Парижской Богоматери» МЖарра451
«Сон в летнюю ночь» на муз. Я.Мендельсона 483
«Сон в летнюю ночь» у.Шекспира 345
«Спартак» АИХачатуряна 359, 370, 374
«Спящая красавица» 44,116,126,128,131,156,158,169,182,183, 202,215,217,222,251,255, 307, 317, 322, 324, 325, 340, 353, 354, 361, 362, 365, 367, 371, 394, 395, 397, 398,401,402,416,447,449, 450,472,488, 518, 572, 574, 575
«Стальной скок» ССПрокофьева 29, 30, 338
«Сюита в белом» на муз. ЭДало 111
«Тамара» на муз. МАБалакирева 148
«Танцы на вечеринке» на муз. ф.Шопена 566, 567
«Татьяна» АКрейна 411
596
УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
«Творения Прометея» Л. ван Бетховена 242
«Тема с вариациями» на муз. П.И.Чайковского 392
«Тени» АМинкуса 123,124,127-129,131,140,192,202,239,398,403,414
«Теолинда» на муз. Ф.Шуберта 308, 310
«Теперь и тогда» на муз. М-Равеля 484
«Трагедия моды» Ю.Гуссенса 460
«Три сестры» АП.Чехова 193, 382, 571
«Триптих» на муз. К.Дебюсси 360
«Тропою грома» К.Караева 416
«Троянской войны не будет» Ж.Жироду 242
«Тщетная предосторожность» ПТертеля 144, 307, 324,457—461
«Умирающий лебедь» («Лебедь») К.Сен-Санса 20, 34,43,150,151,159, 163,164,573
«Ундина» Х.Хенце 458,461
«Утраченные иллюзии» Б.В.Асафьева 197,312
«Фантастическая симфония» на муз. Г.Берлиоза 98
«Фасад» УУ олтона 460
«Фауст» Д.Паниццы и Ц.Пуни 415
«Федра» Ж.Орика 104,320
«Фиеста» по Э.Хемингуэю (телеспектакль) 389
«Хензи и Тао» на муз. ФАнтонолини 8
«Хованщина» М.П.Мусоргского 17—19,21
«Хромой бес» К.Жида 435
«Хрустальный дворец» см. «Симфония до мажор»
«Цирк», кинофильм 310
«Чайка» АП.Чехова 480
«Чайка» на муз. Влада 252
597
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
«Чайка» на муз. П.И.Чайковского, Д.Д.Шостаковича, А.Н.Скрябина иЭ.Глен480,483-486
«Чайка» Р.К.Щедрина 320
«Четыре темперамента» П.Хиндемита 99, 511—514, 530
«Швейцарская молочница» («Натали, или Швейцарская молочница»)
АТировеца 441
«Шехеразада» НАРимского-Корсакова 19,21,44,58,210, 506,507, 518
«Школа злословия» Р.Шеридана 571
«Шопениана» на муз. ф.Шопена 34—36,148,157,159,208,223,224,
270,392,476,506, 507,518,530, 566
«Щелкунчик» П.И.Чайковского 154,182—184,186,189,195, 202, 230, 322, 325, 367, 370, 378,481,483,486
«Эвника» АВ.Щербакова 155
«Эолова арфа» АК.Кавоса 312
«Эпизоды» АВеберна 530
«Эрос» на муз. П.И.Чайковского 155
«Эсмеральда» Ц.Пуни 144,156,415,442
«Этюды» на муз. К.Черни 246, 249,250,433—437, 508
«Эуген Несчастный» Э.Толлера 519
«Юноша и смерть» на муз. И.СБаха 452
«Artifact II» на муз. И.С.Баха и Гроссман-Хехт 498—500, 520
«Ballet Imperial» на муз. П.И.Чайковского 408
«In The Middle Somewhat Elevated» на муз. Т.Виллемса 501
«Lindenntraum» на муз. ВА.Моцарта 446
«Steptext» на муз. И.С.Баха 500
«The Vestiginous Thrill of Exactitude» на муз. Ф.Шуберта 500
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ 5
ЧАСТЬ I ВРЕМЯ ДЯГИЛЕВА
Стальной скок
13 Отставка Фокина
33
Праздники Александра Бенуа
36 Брат и сестра 41 «Игры» Нижинского 53 Костюмы Бакста
56 Мясин и Баланчин
58 Баланчин и Лифарь 102
605
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
Дягилев и Баланчин 111
Дягилев в XX веке 115
ЧАСТЬ II ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
На императорской сцене 119
Новые времена 181
Маршруты «Жизели» 237
Московские сюжеты 307
В Мариинском театре 353
Вести из Европы 433
ЧАСТЬ III
ВРЕМЯ БАЛАНЧИНА
Маэстро 505
Уроки «Аполлона»
516
Открытия «Агона» 526
606
СОДЕРЖАНИЕ
Баланчин и романтизм
530 Тридцать лет спустя 561 Учитель танцев
569
ПОСЛЕСЛОВИЕ 571
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 577
УКАЗАТЕЛЬ БАЛЕТОВ, ОПЕР, ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И КИНОФИЛЬМОВ
589
Гаевский Вадим Моисеевич
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
Редактор С К. Никулин Оформление и компьютерная верстка Л. М. Сорокина Корректор Т. М. Медведевская Выпускающий редактор А. А Ильницкая
Лицензия № 04726 от 08.05.01.
Подписано в печать
Формат 60x84
Бумага офсетная
Гарнитура «Лазурский» Печать офсетная Тираж 1000 экз. Заказ № 940
Издательство «Артист. Режиссер. Театр» 107031, Москва, Страстной бульвар, 10 www.artl990.narod.ru e-mail: artl990@narod.ru
Отпечатано в ППП «Типография «Наука» 121099, Москва, Шубинский пер., 6