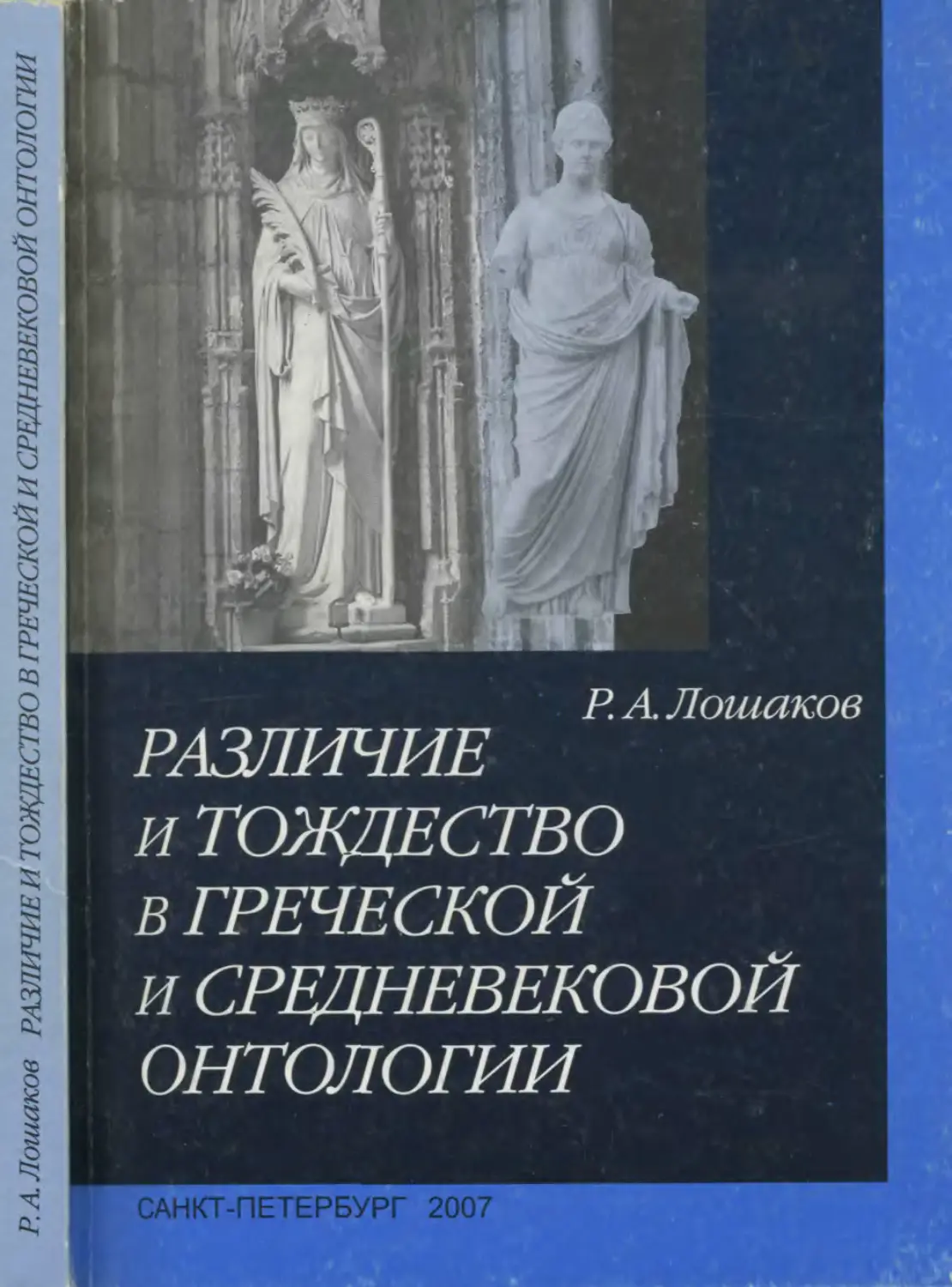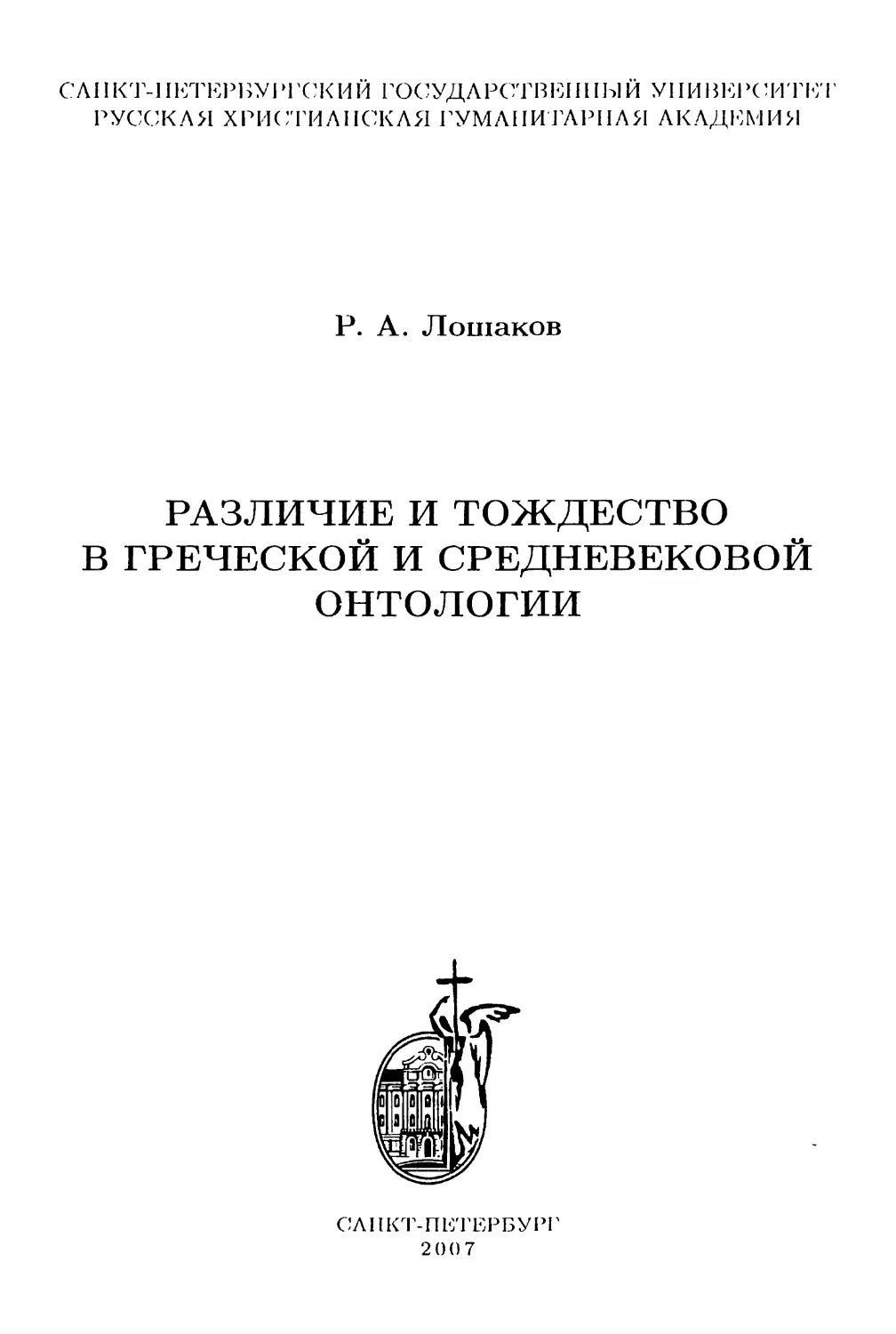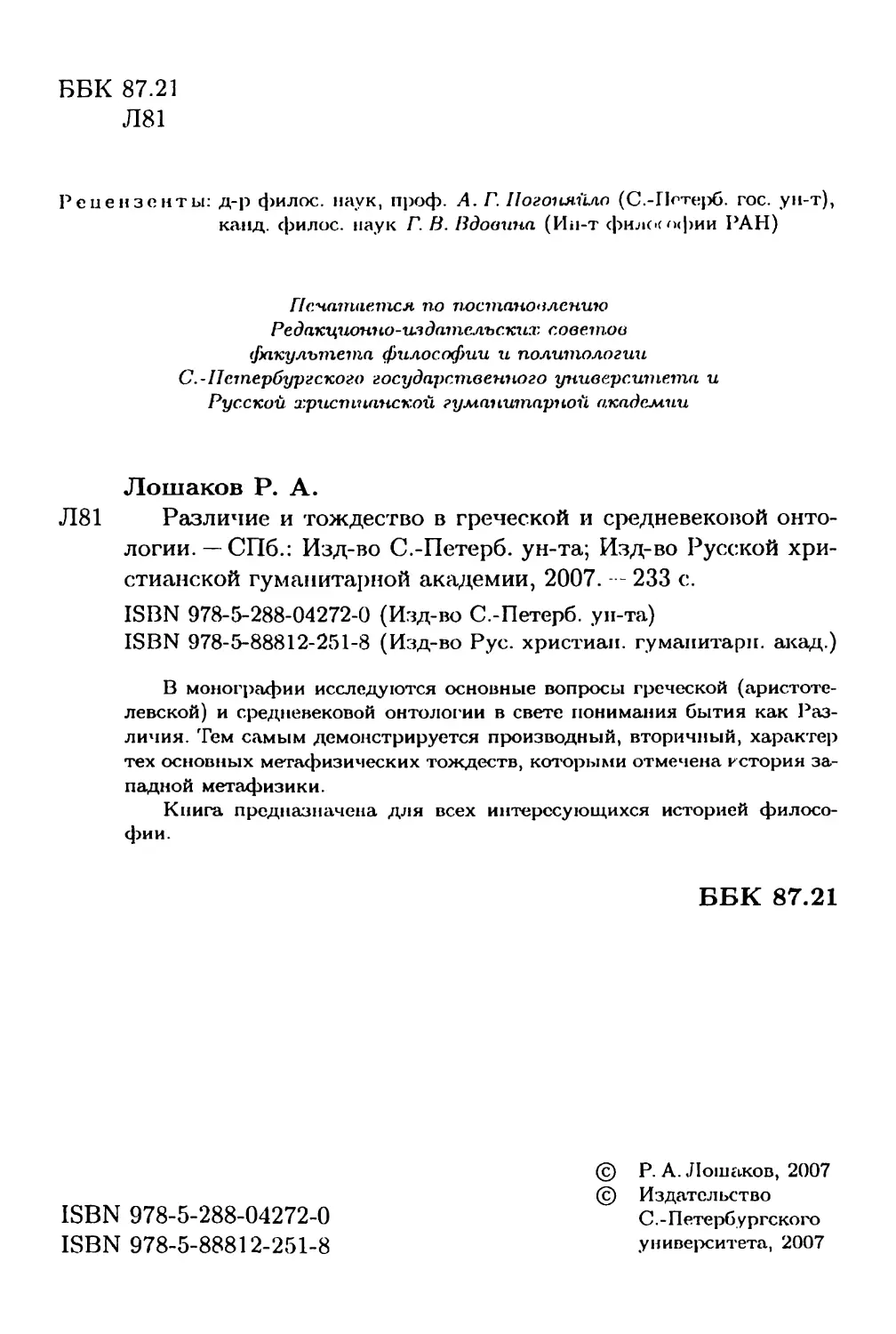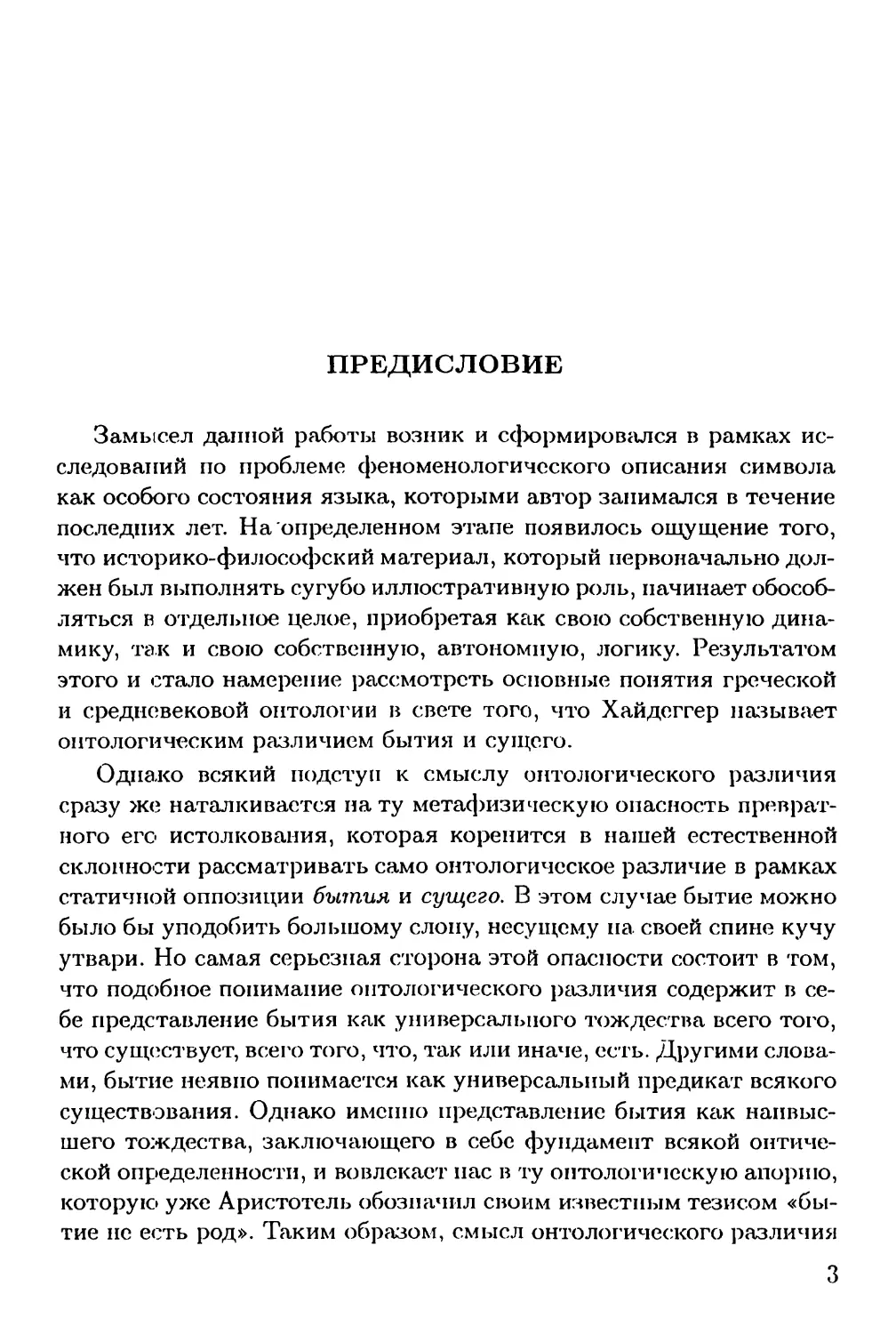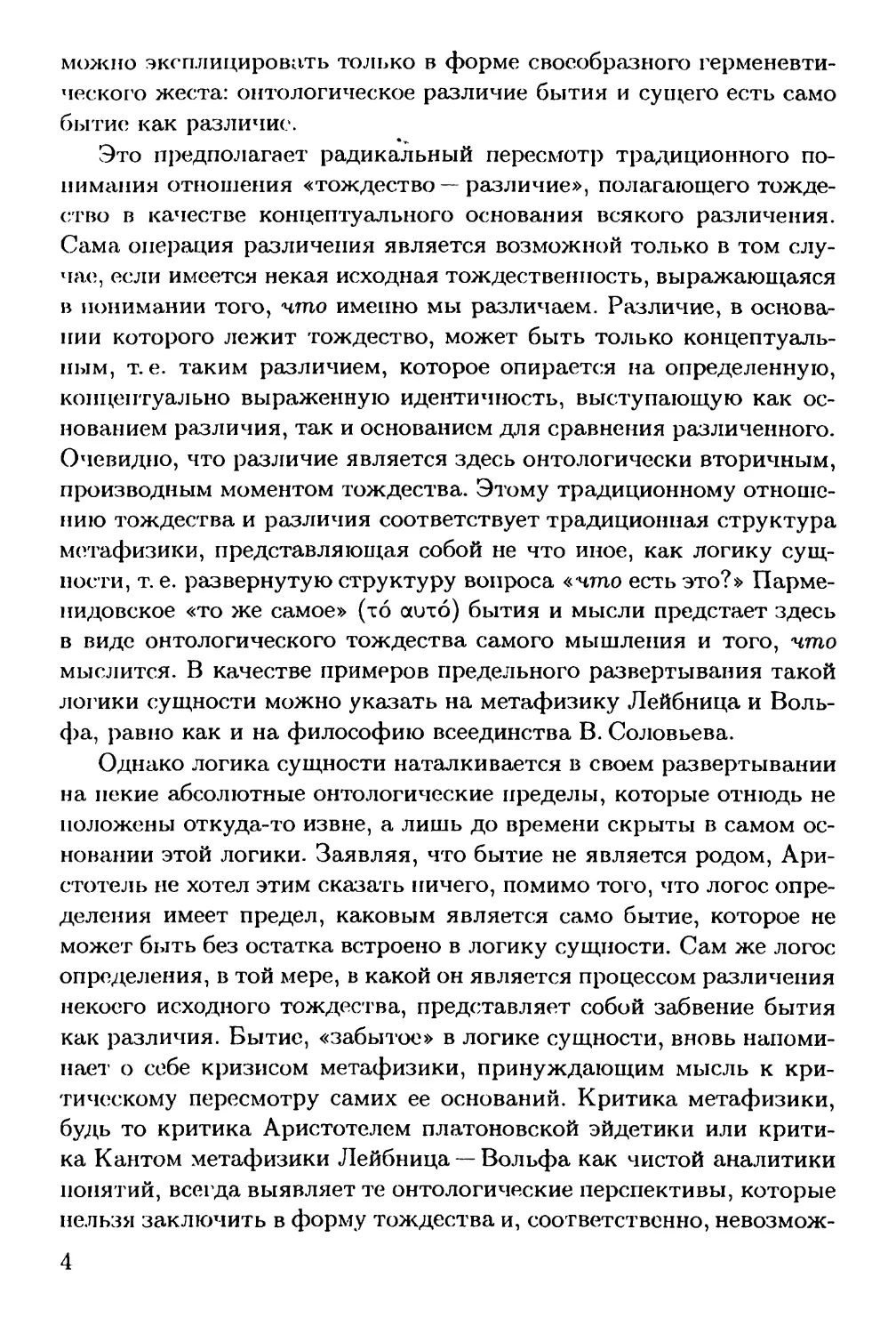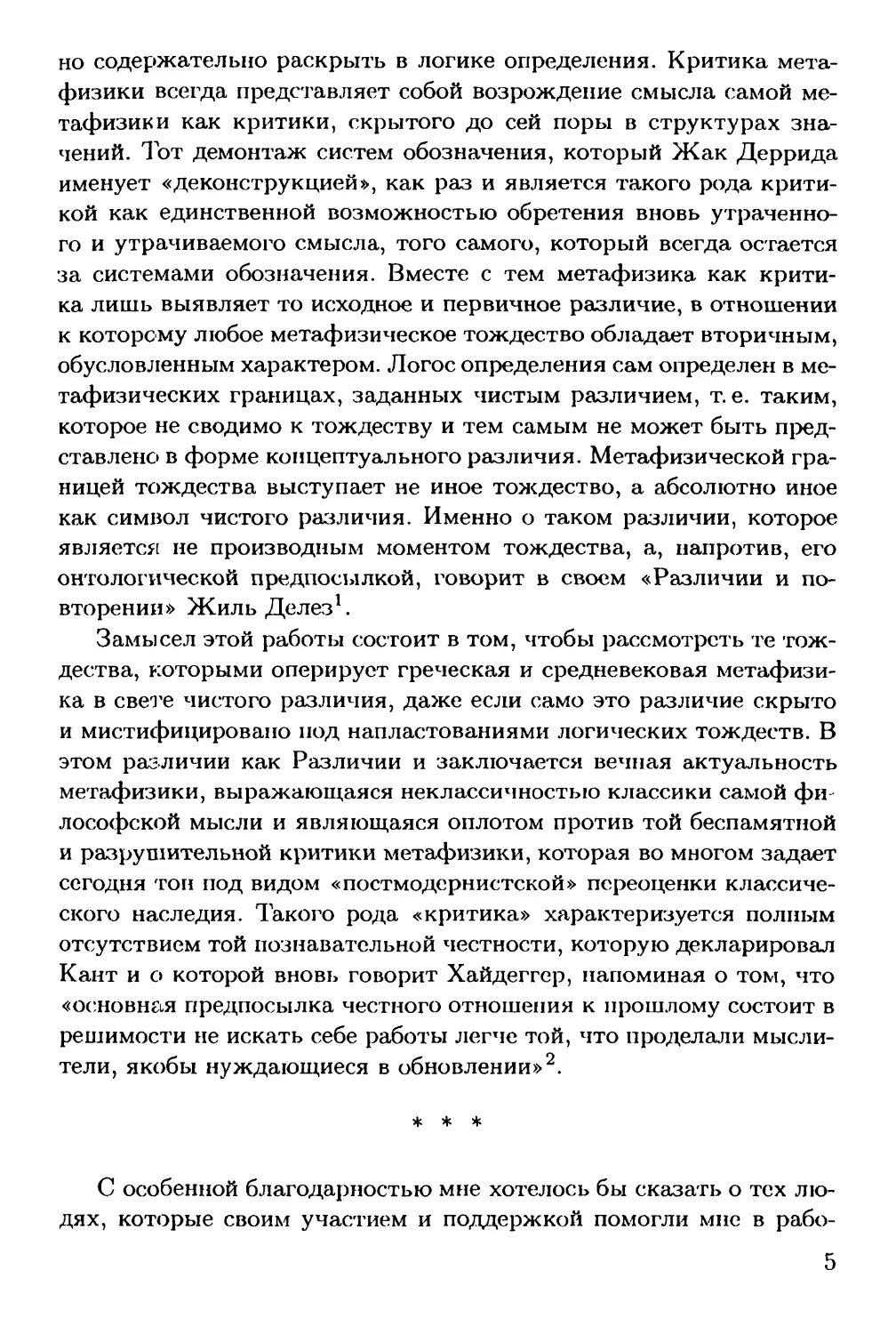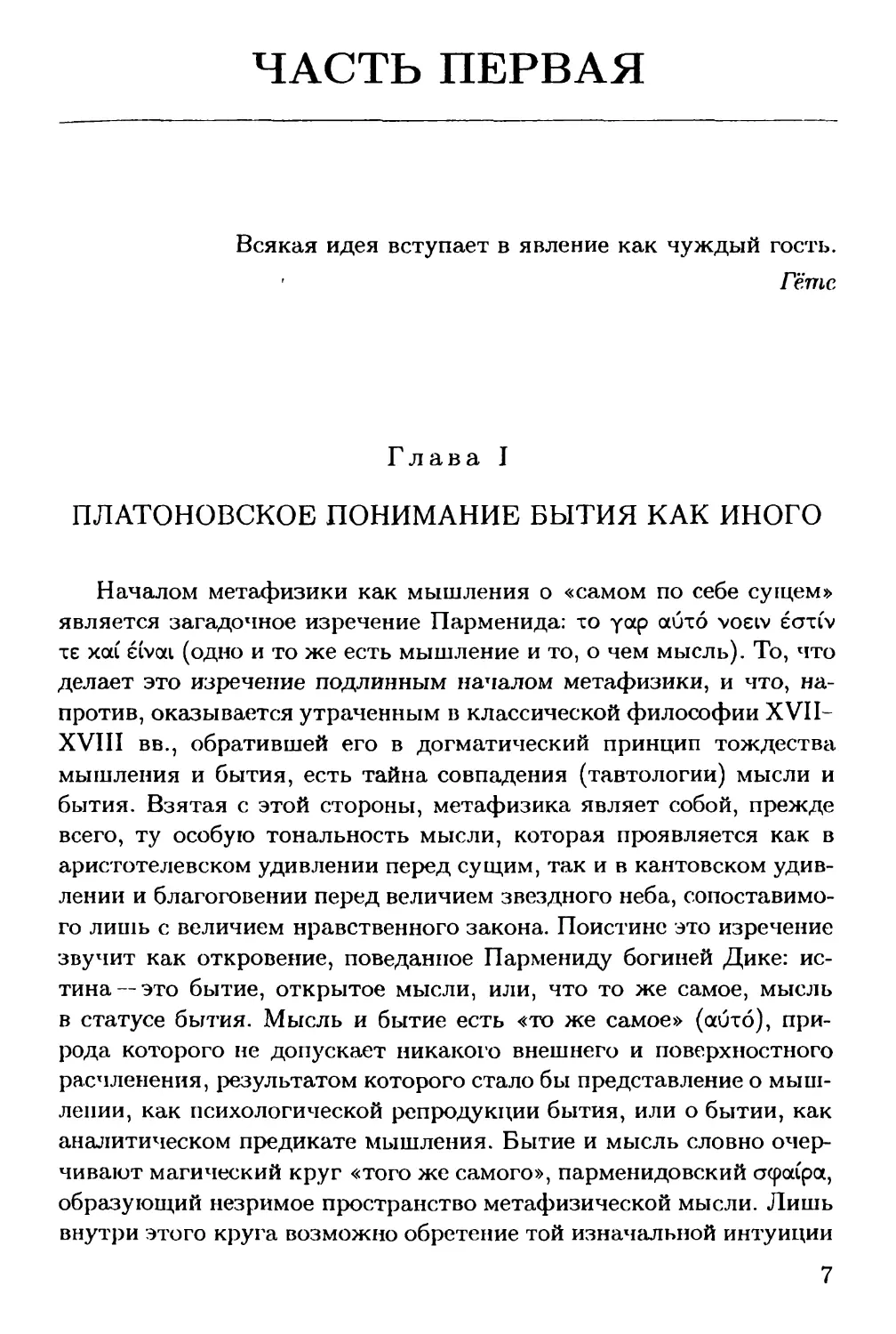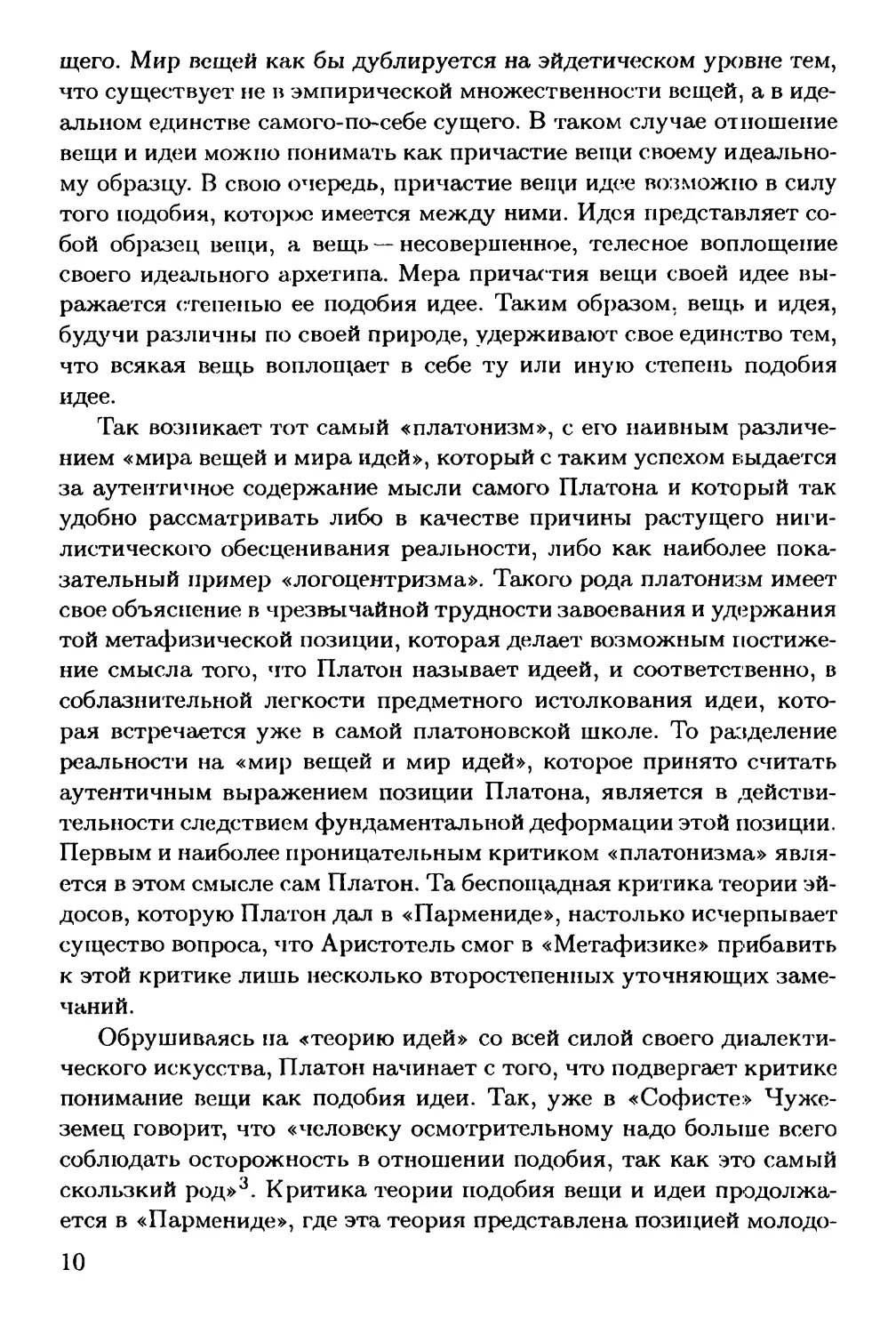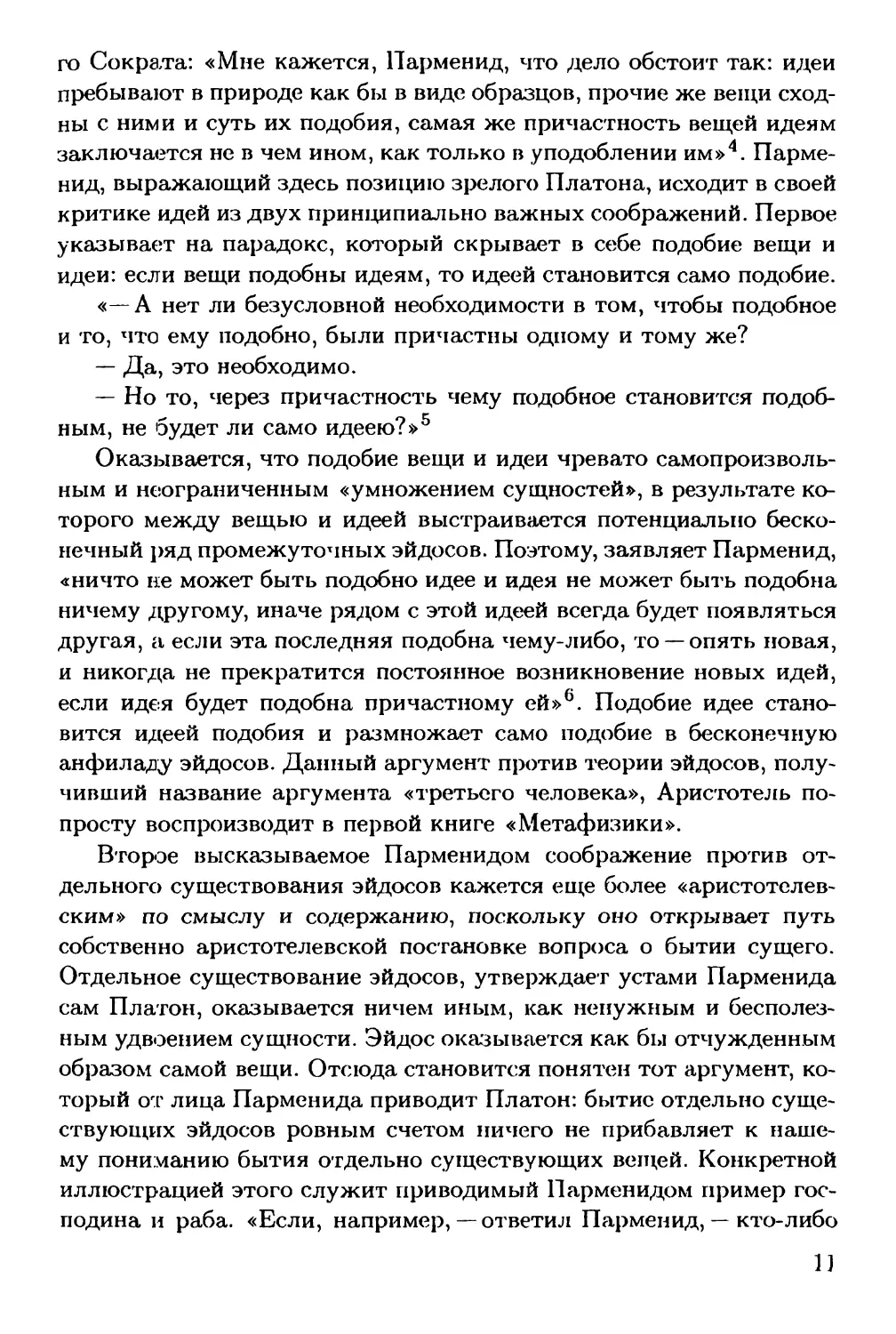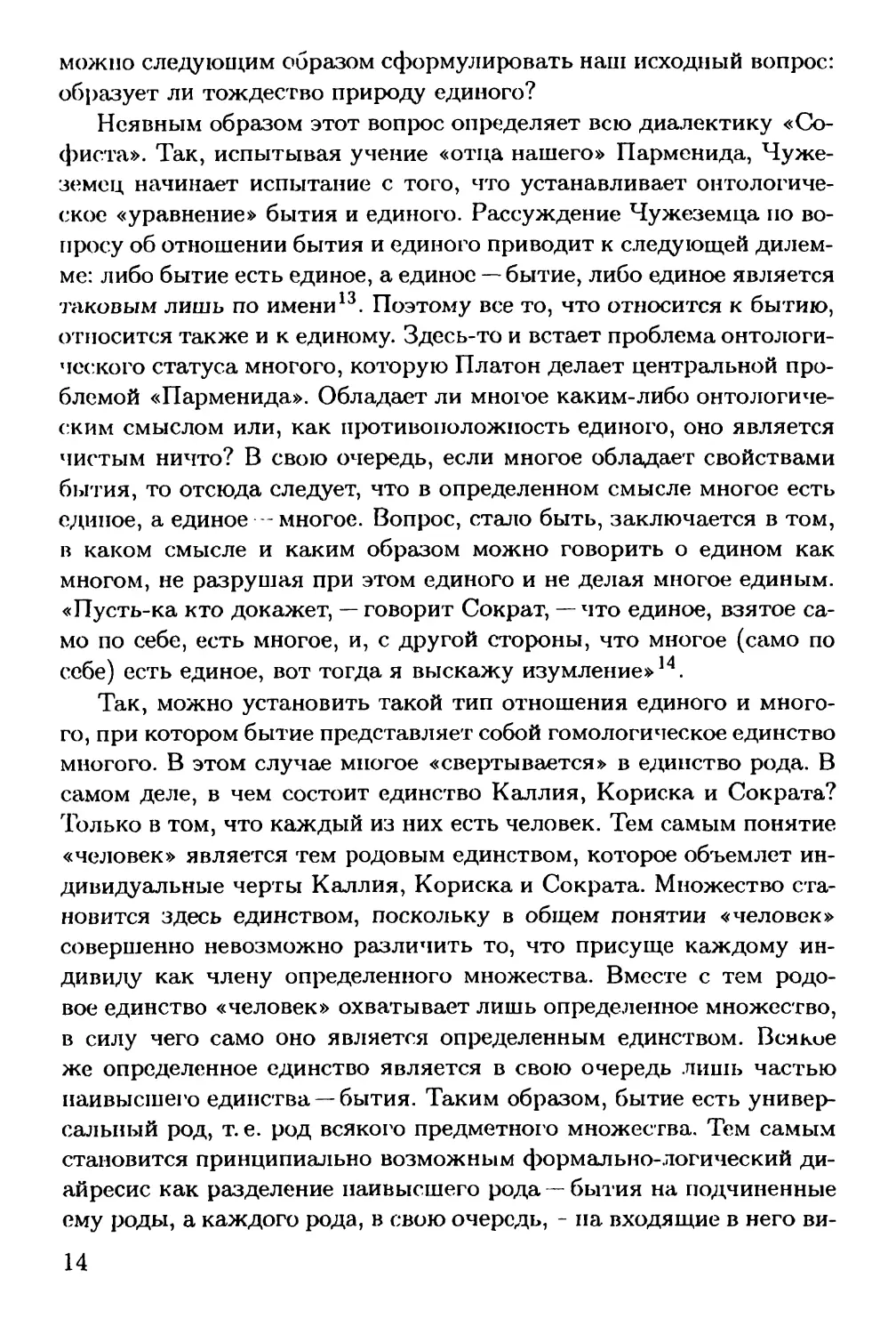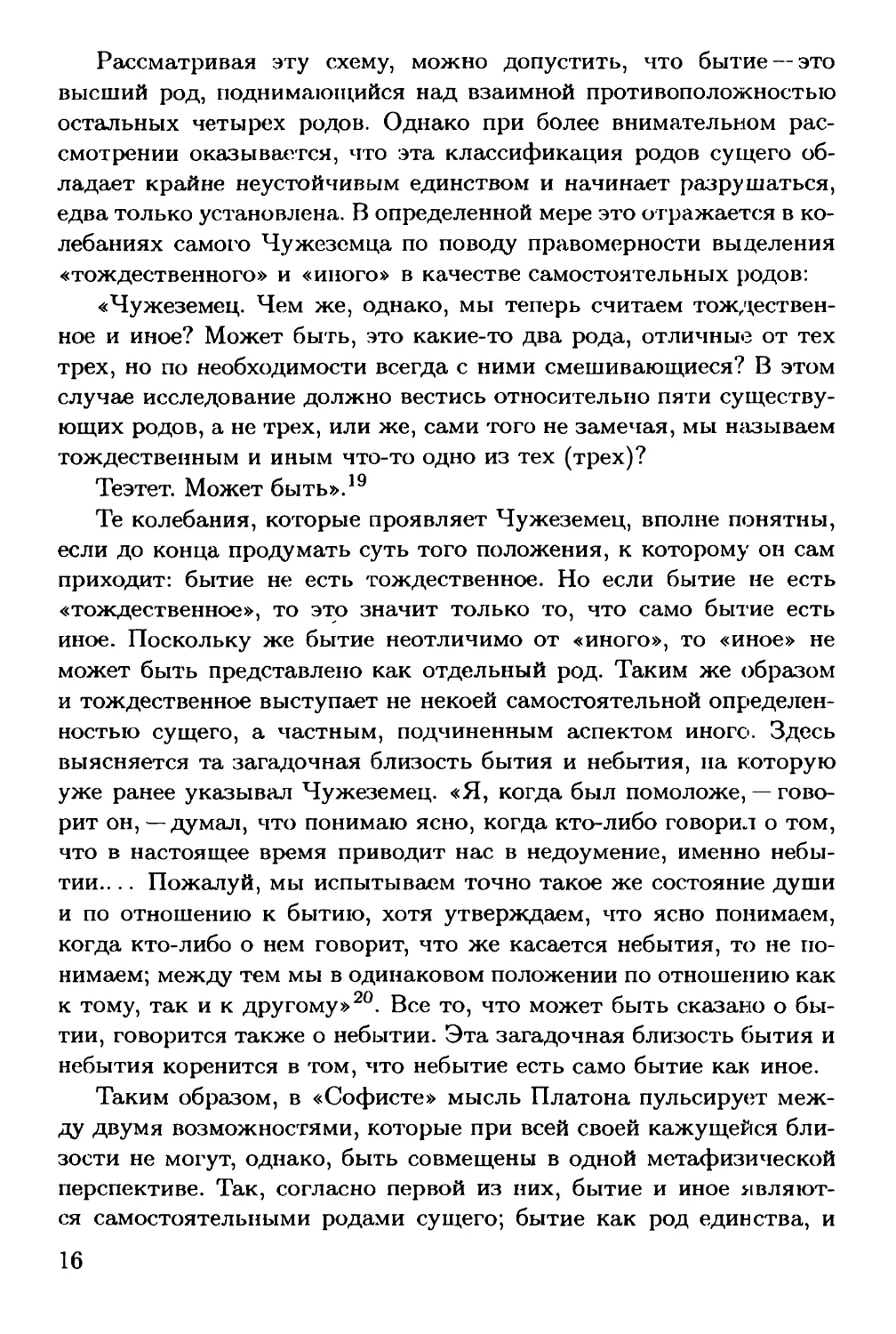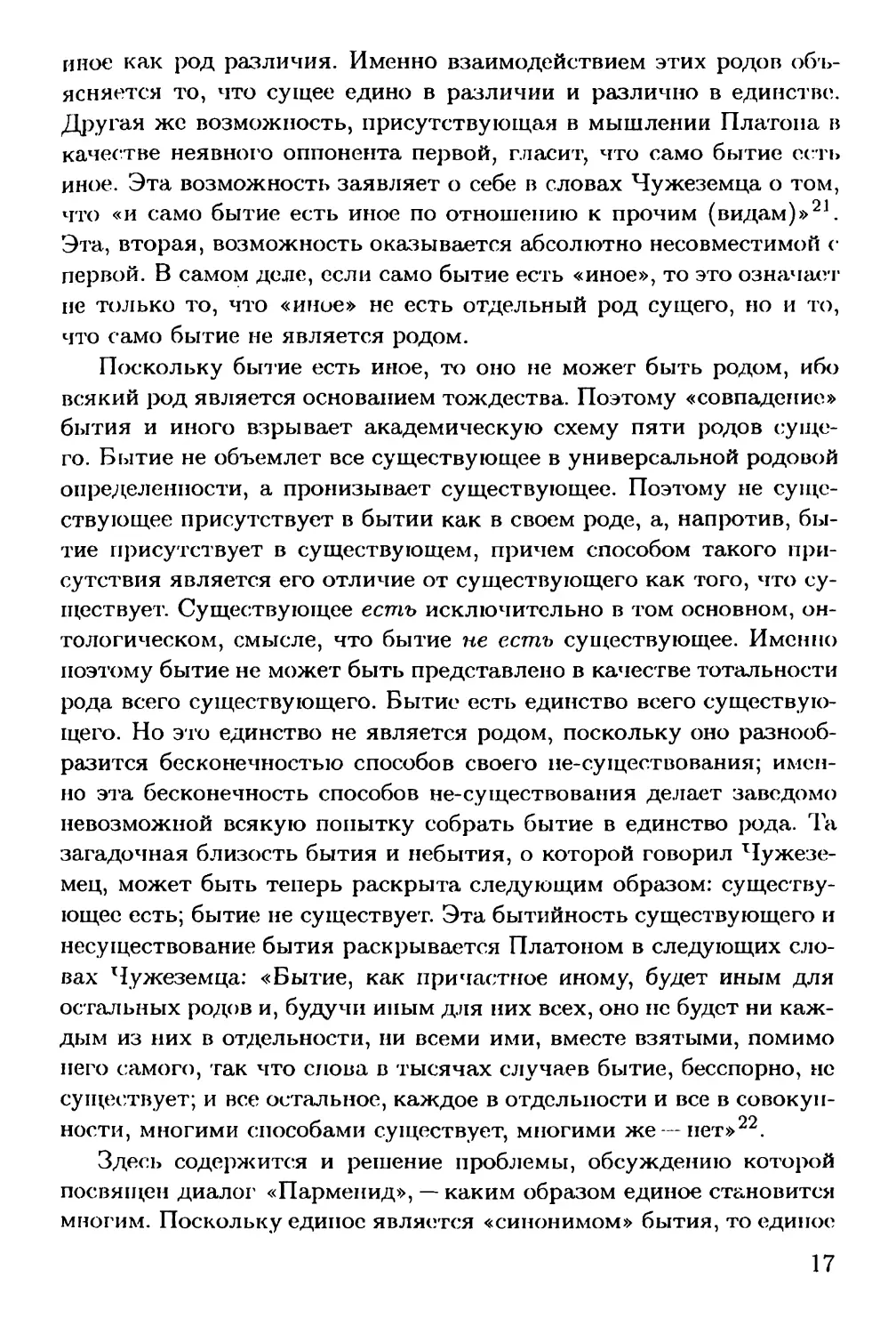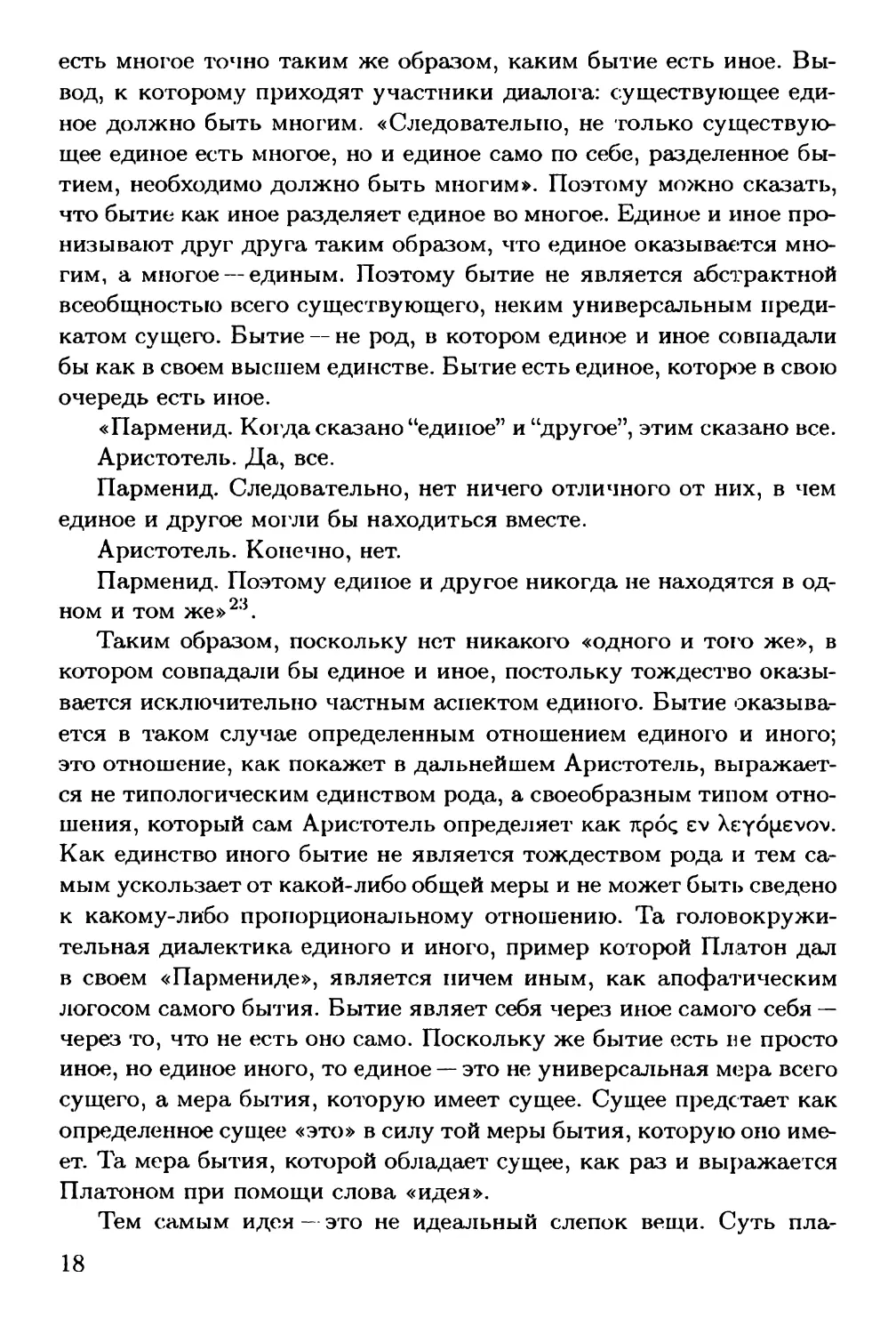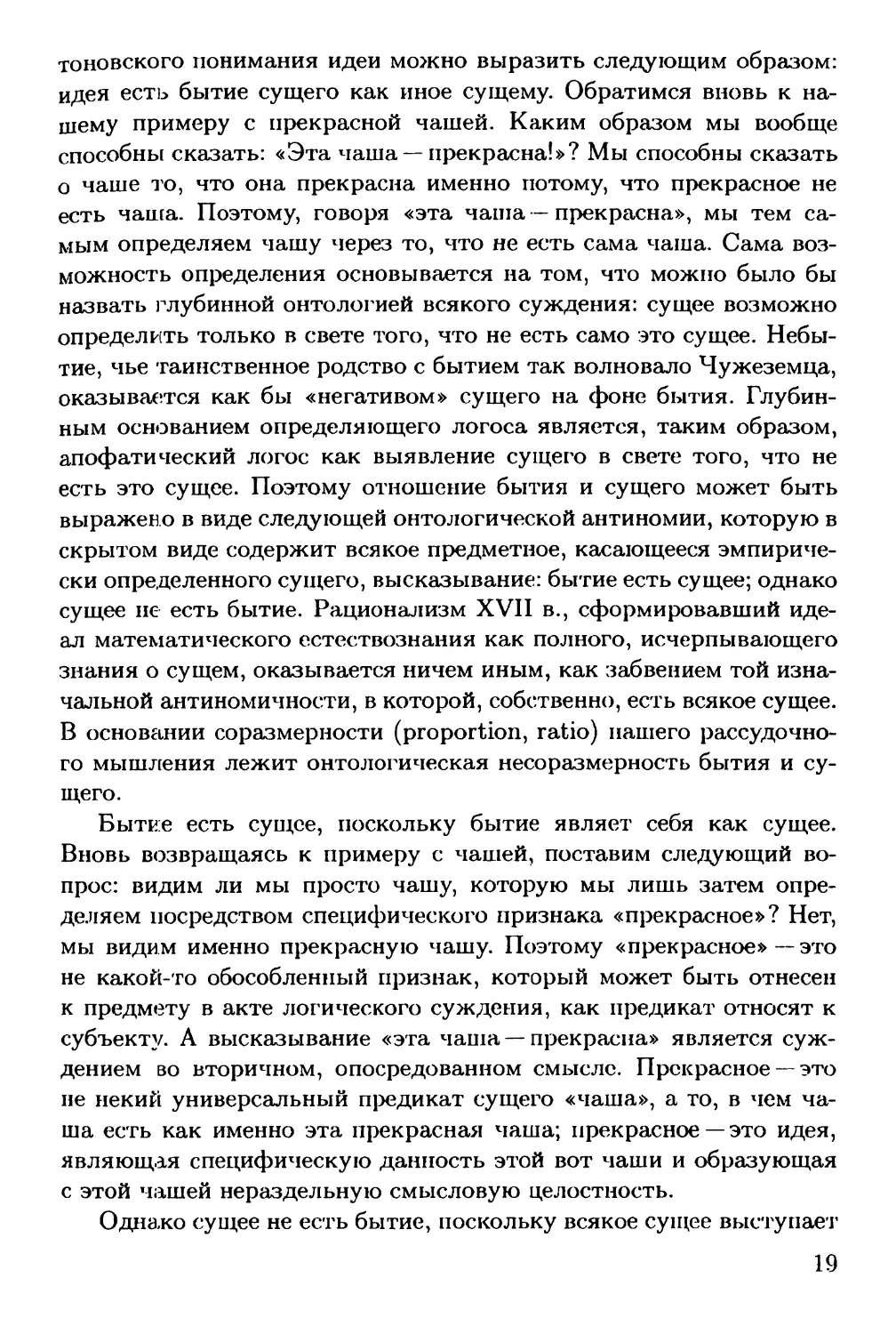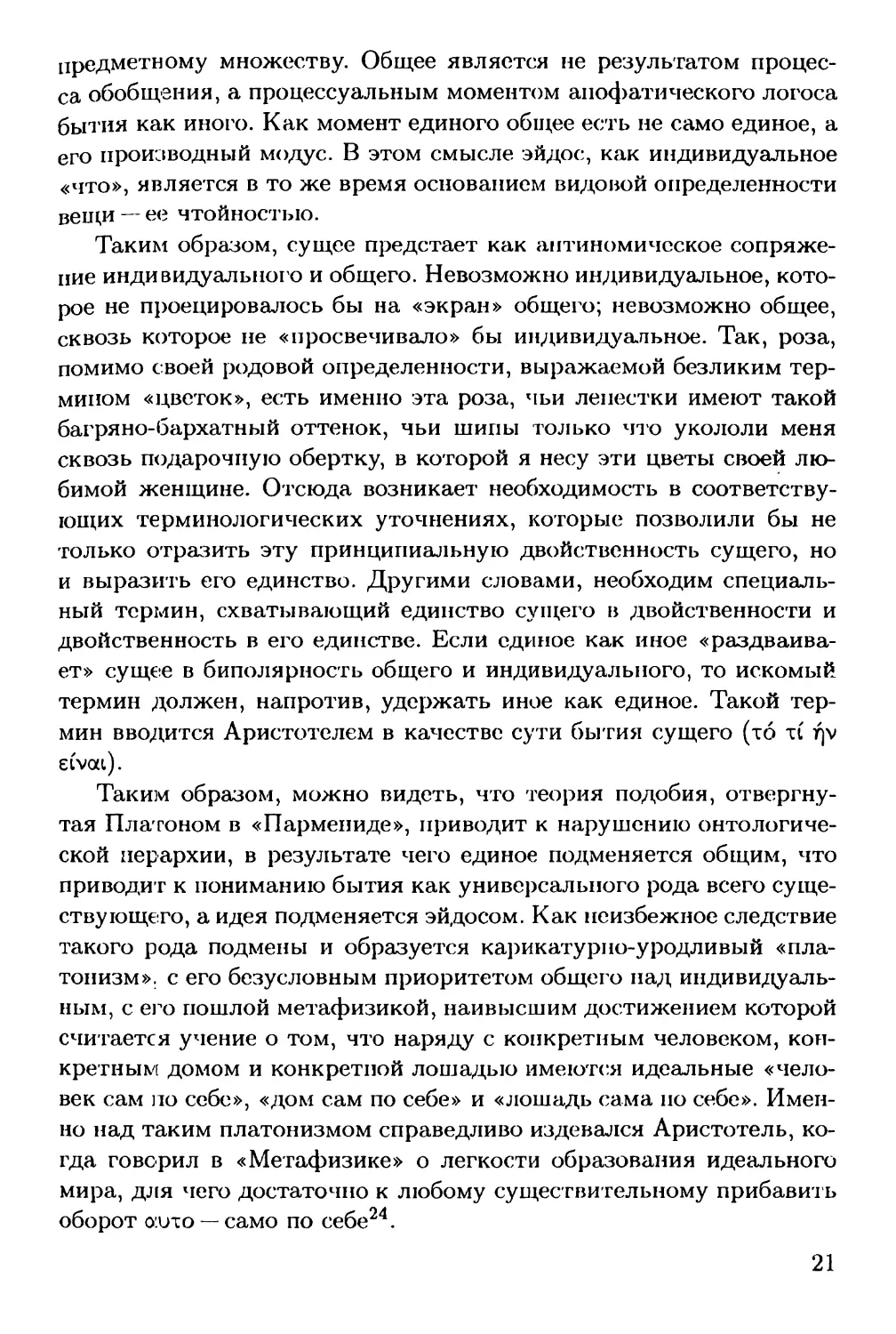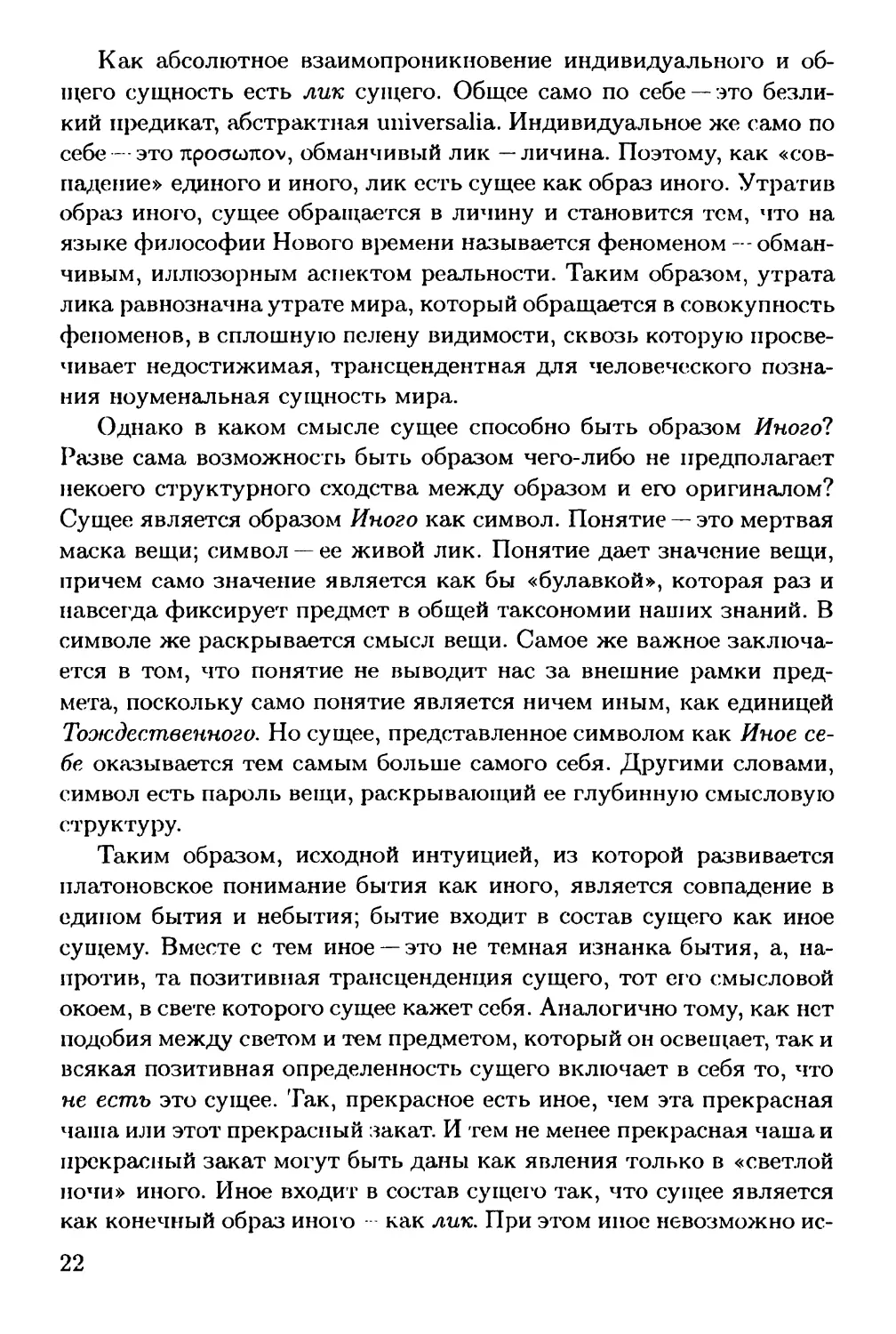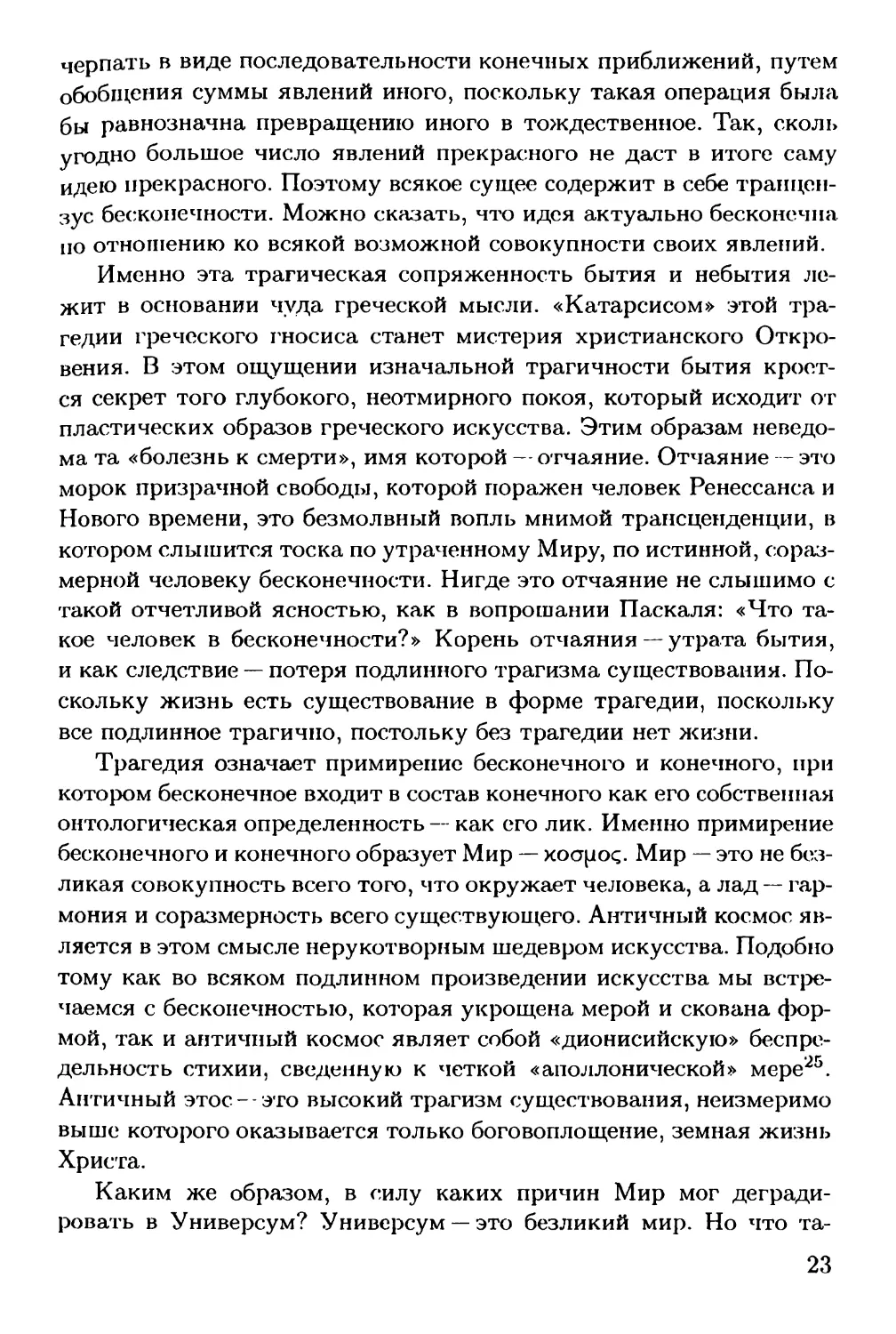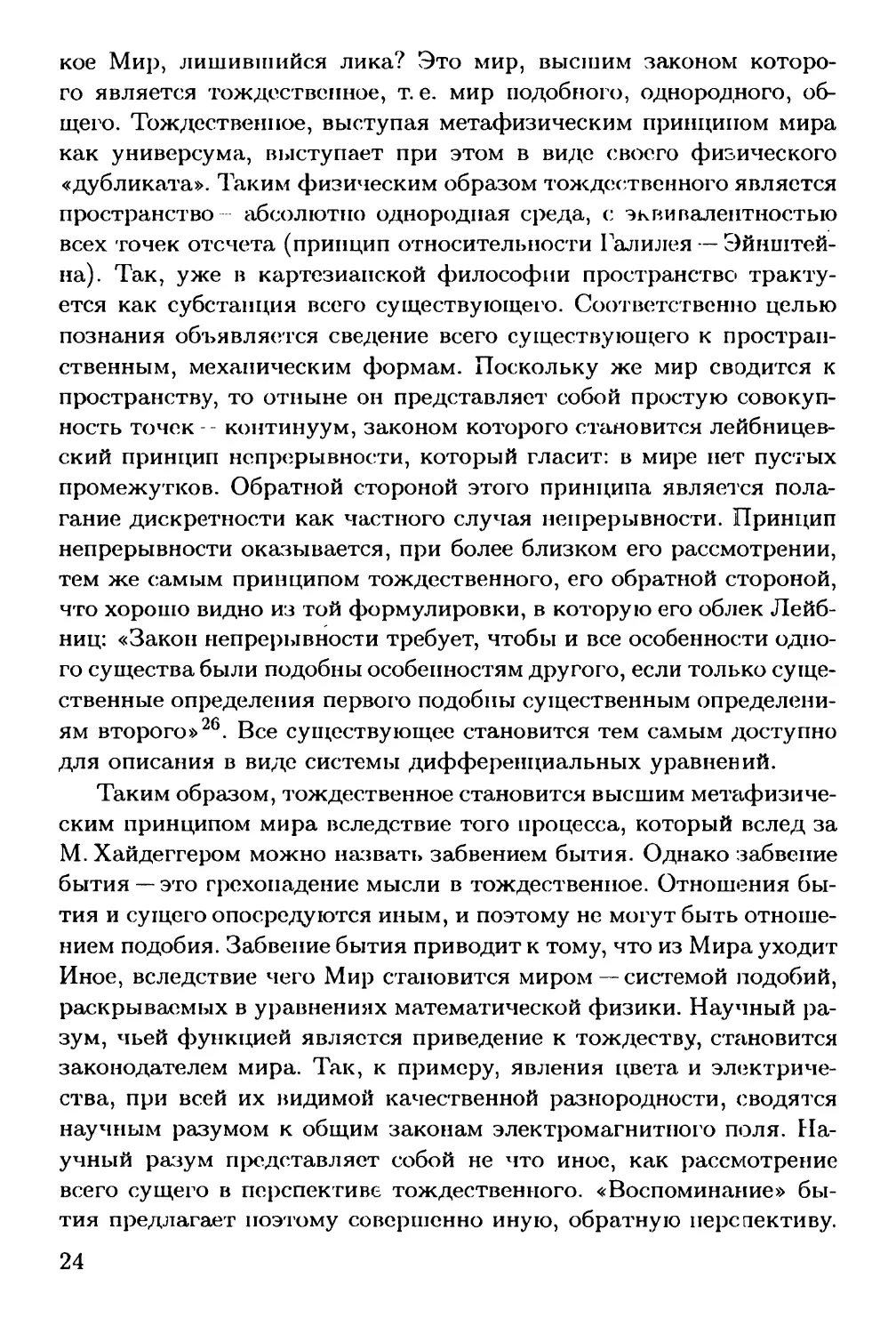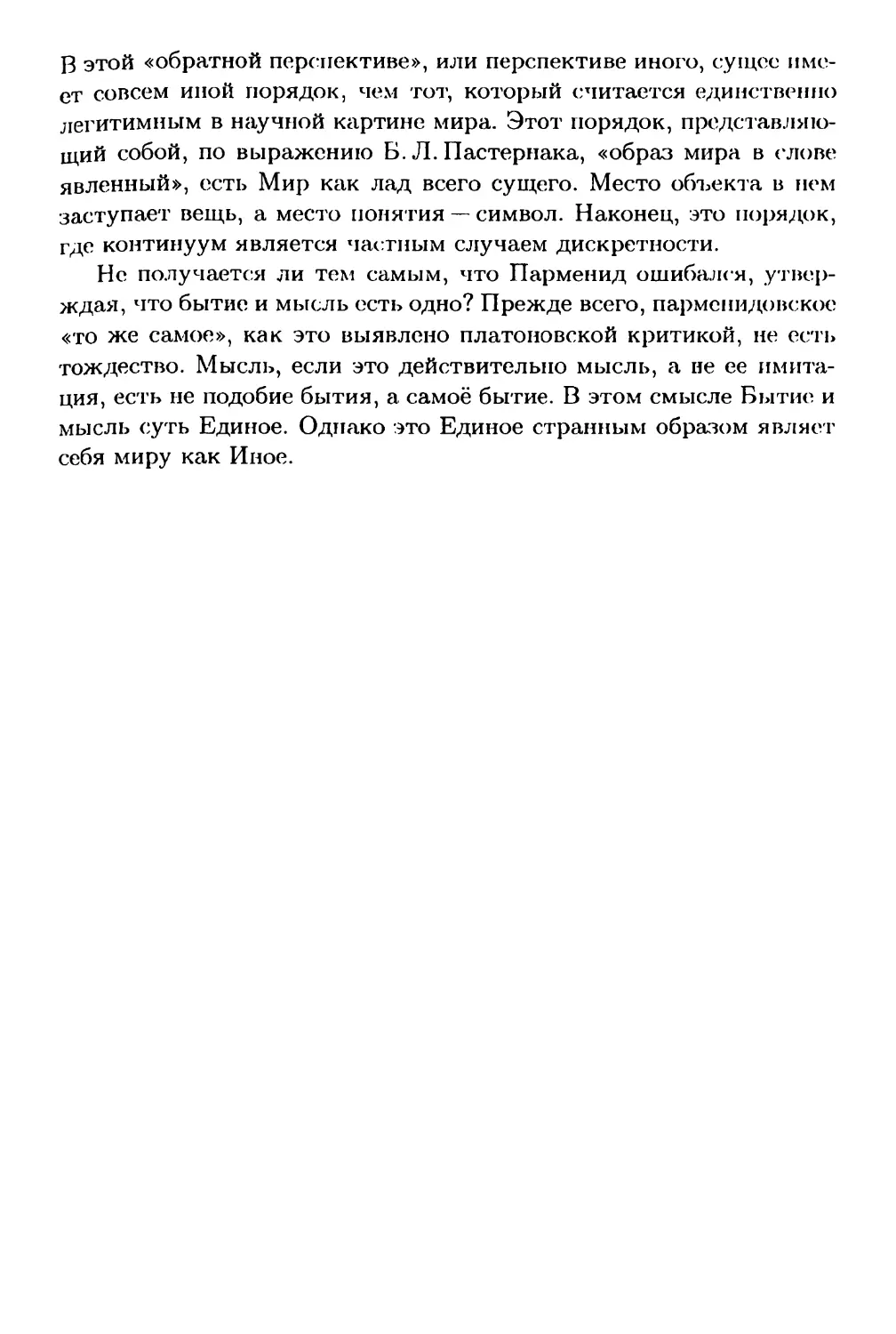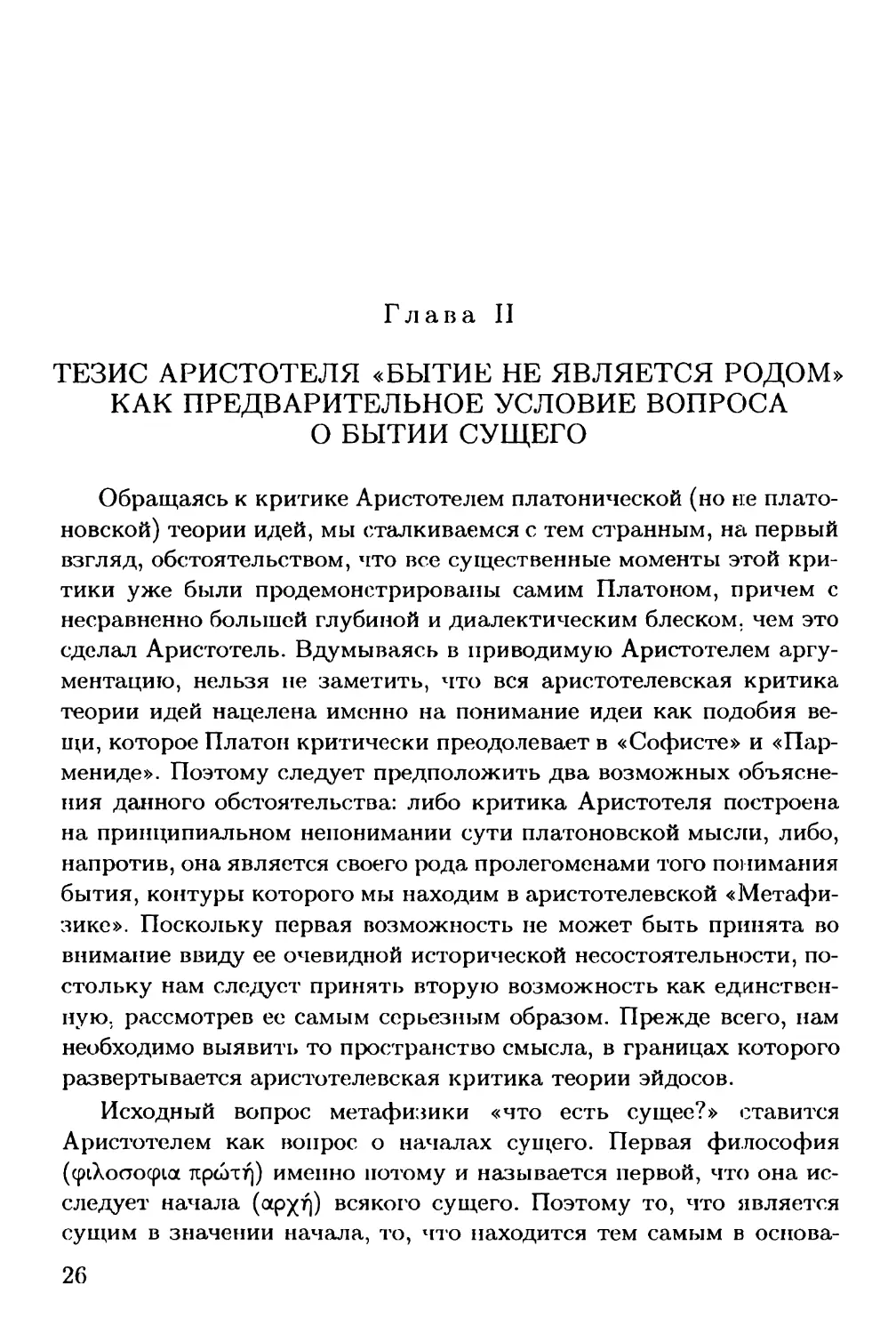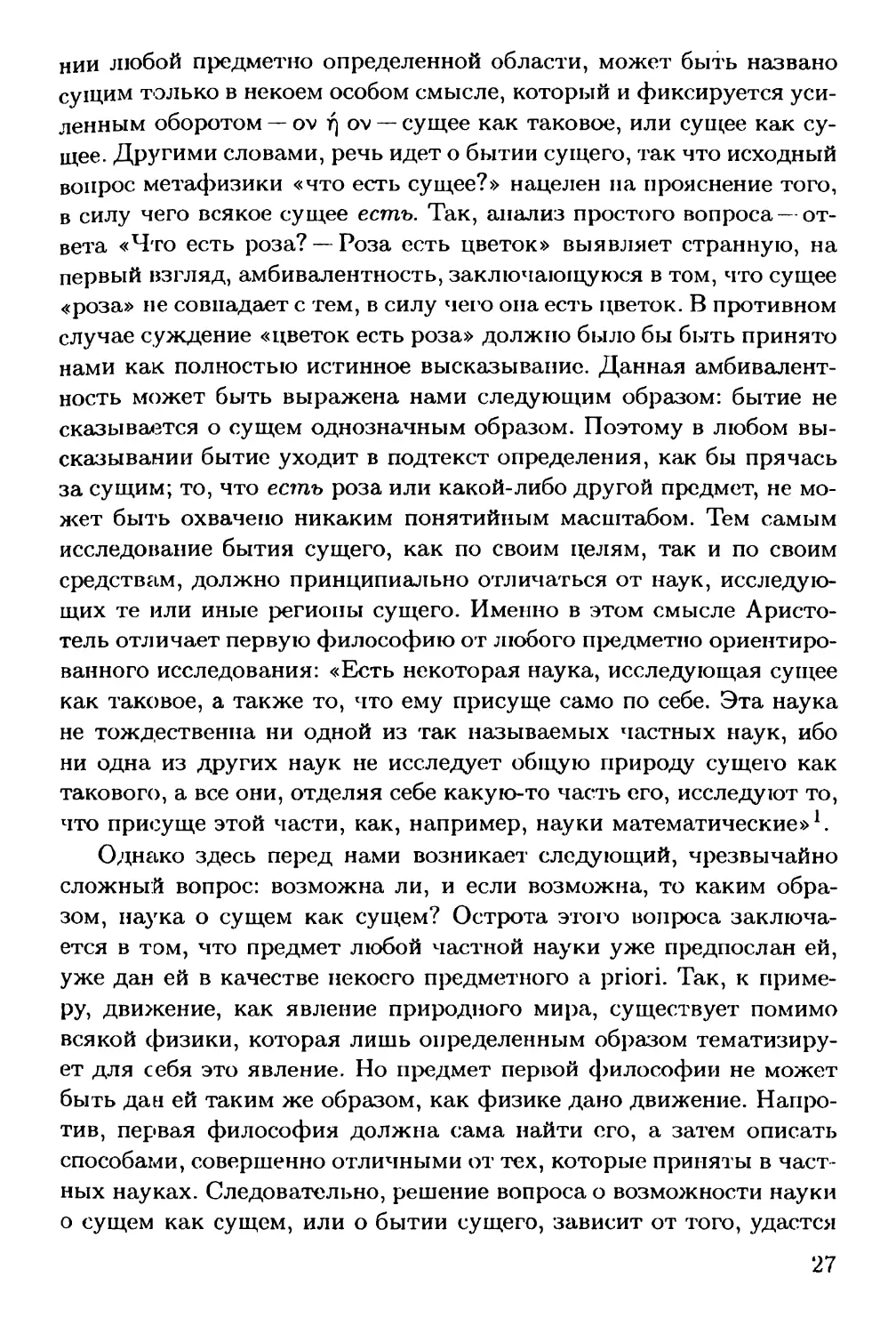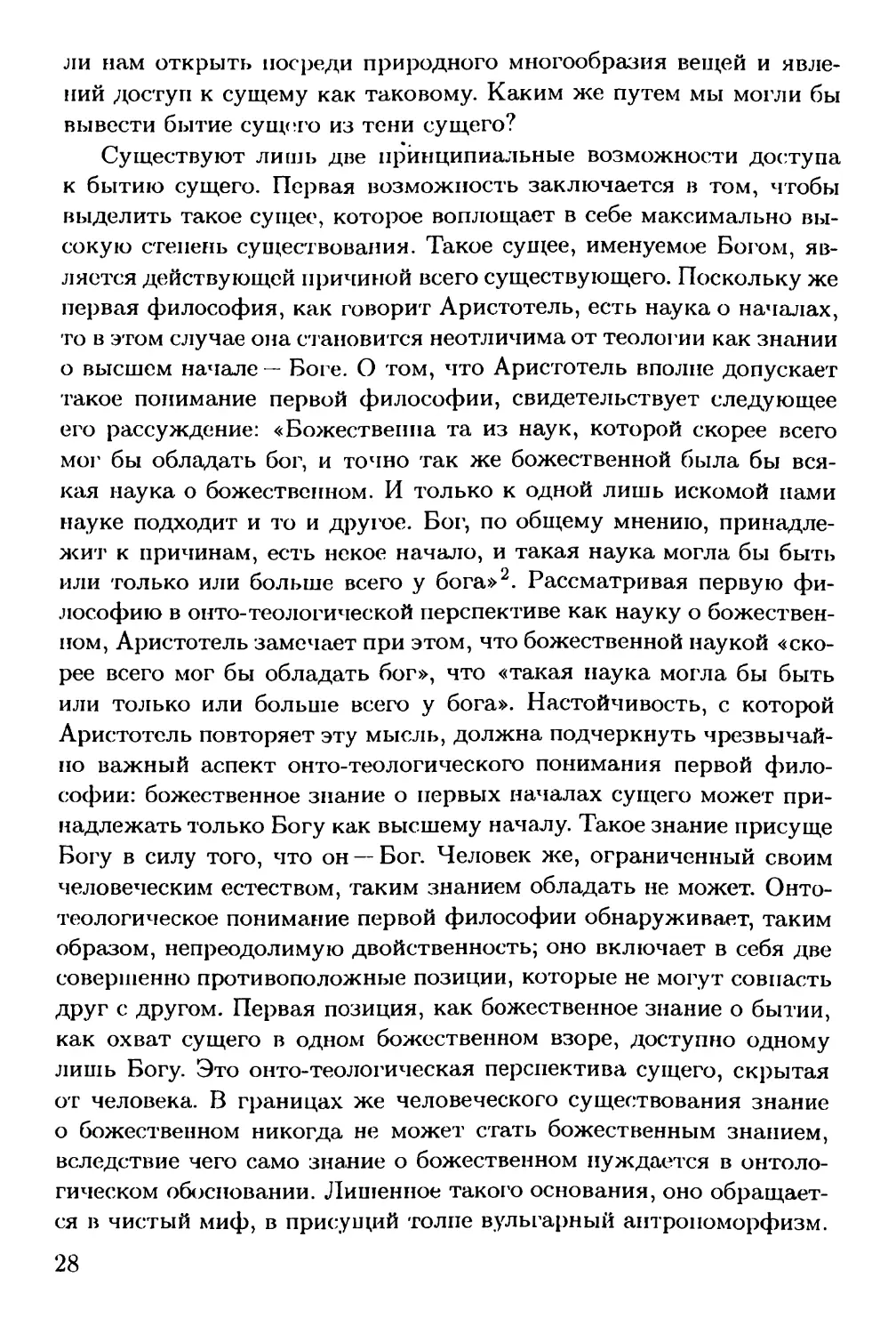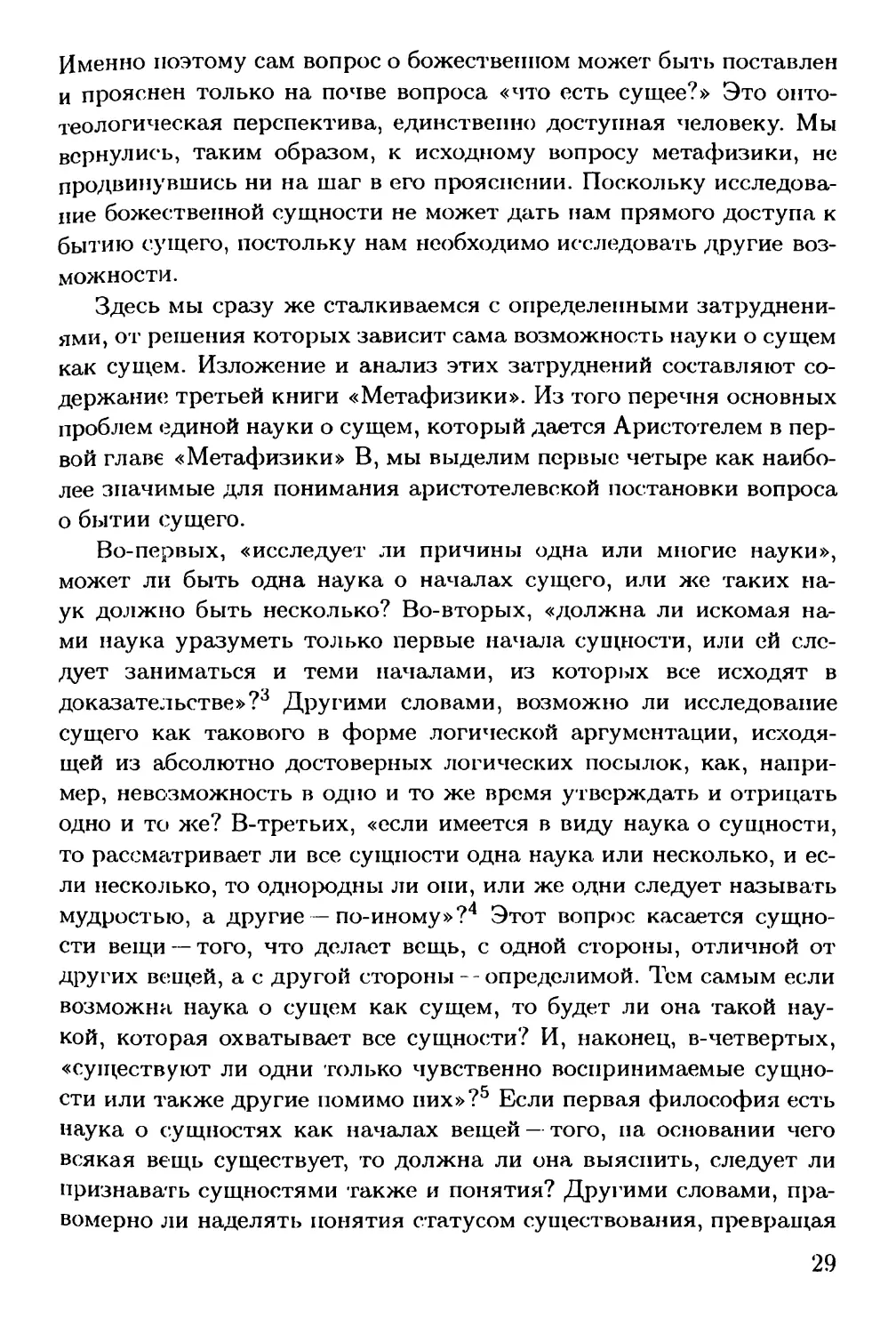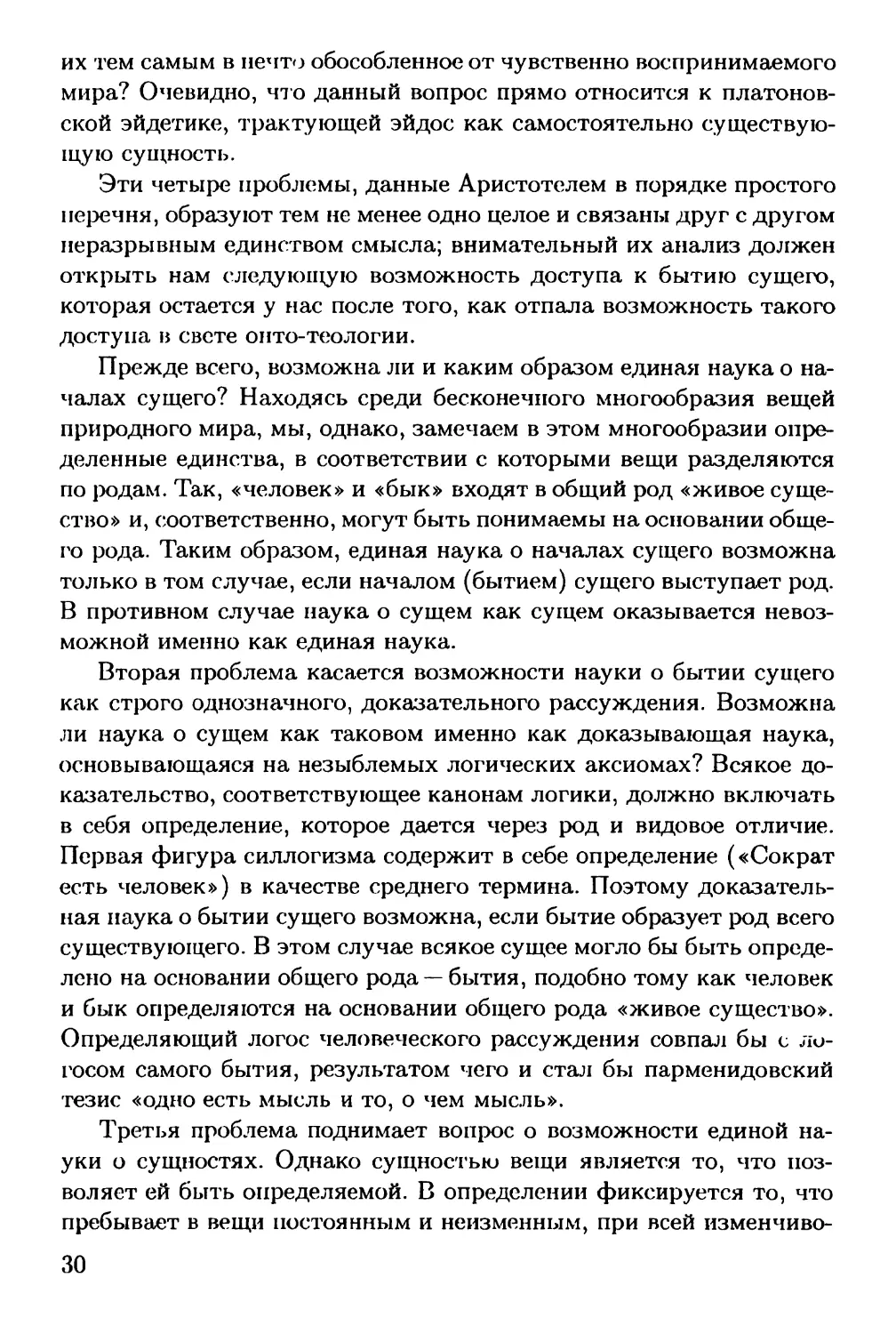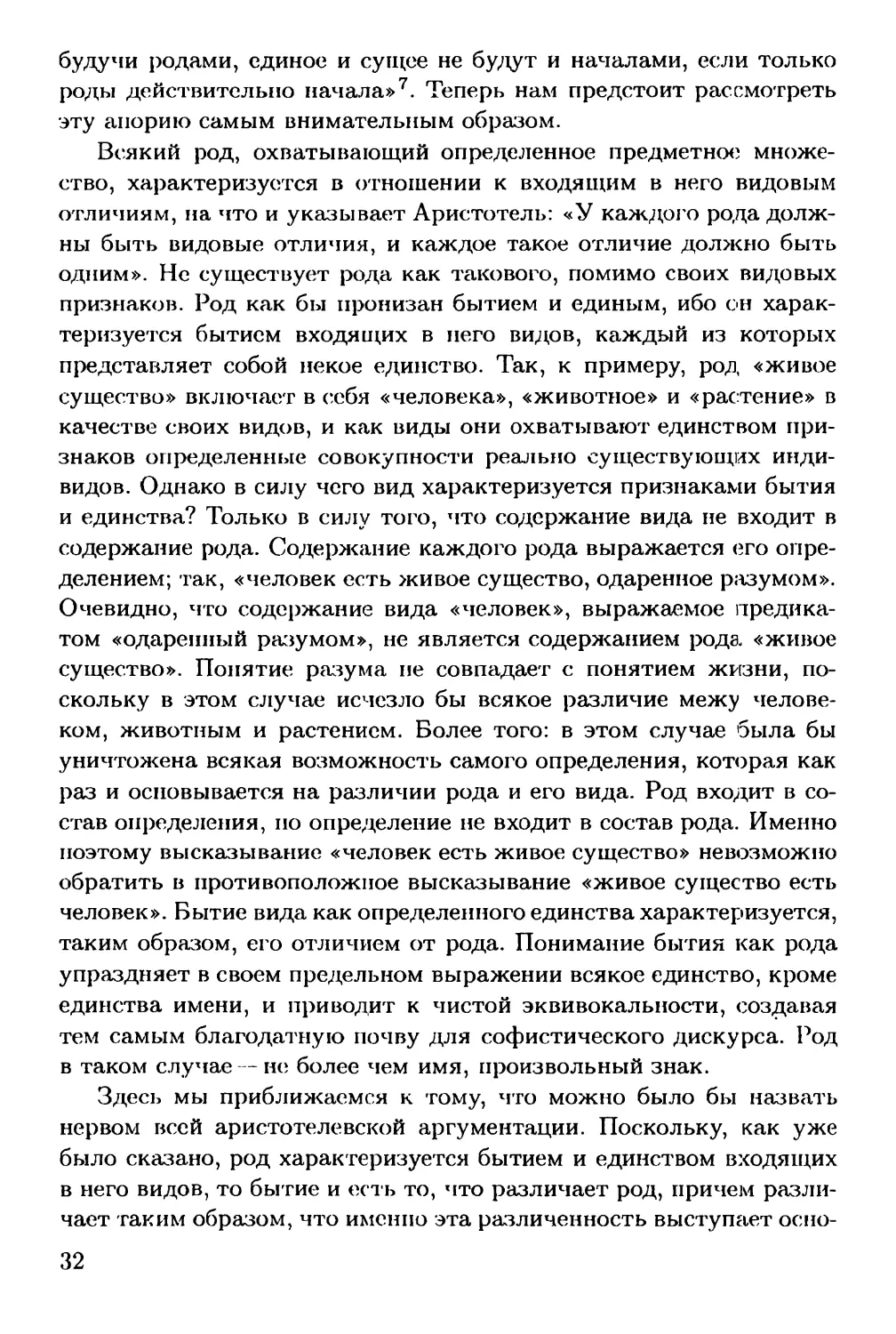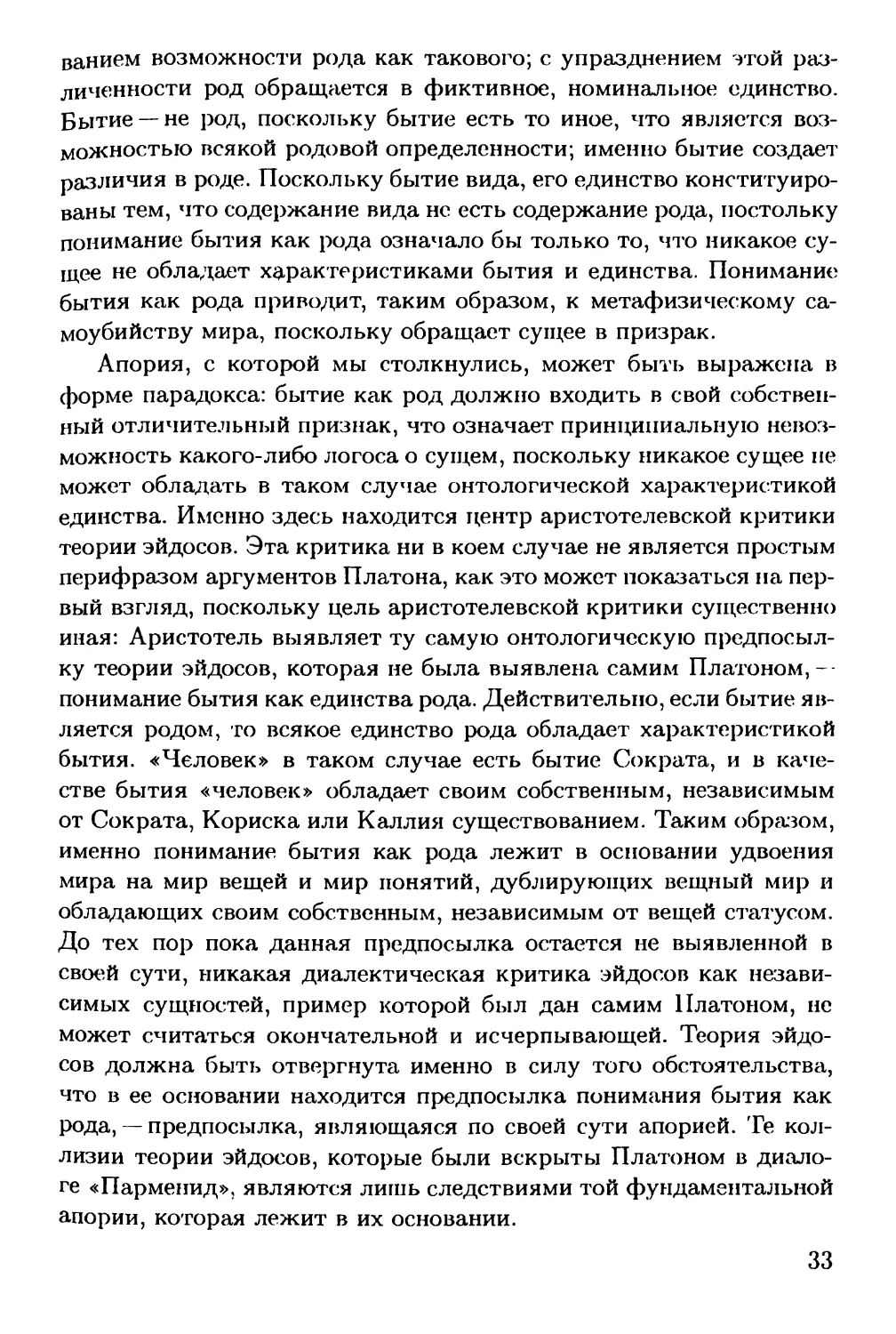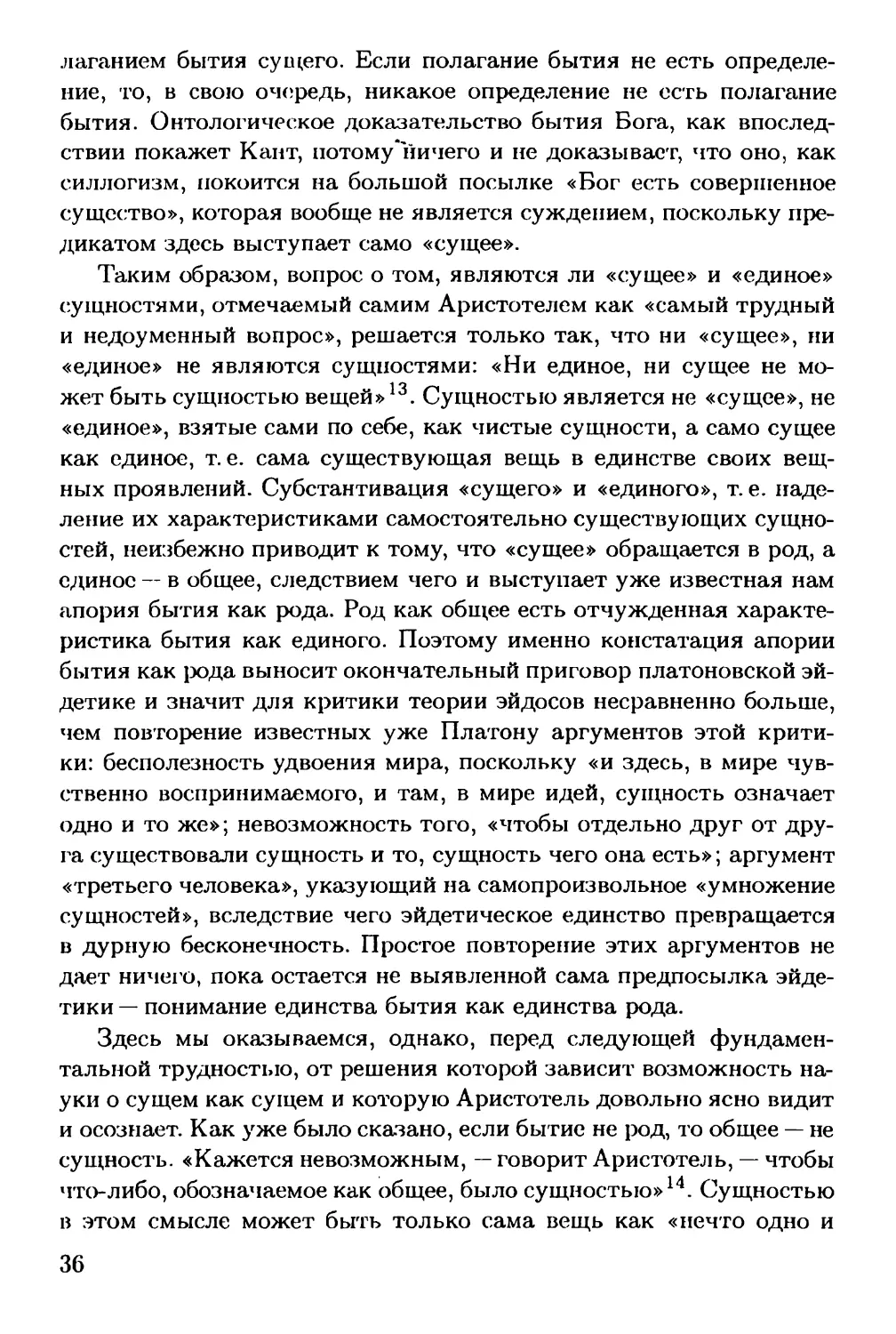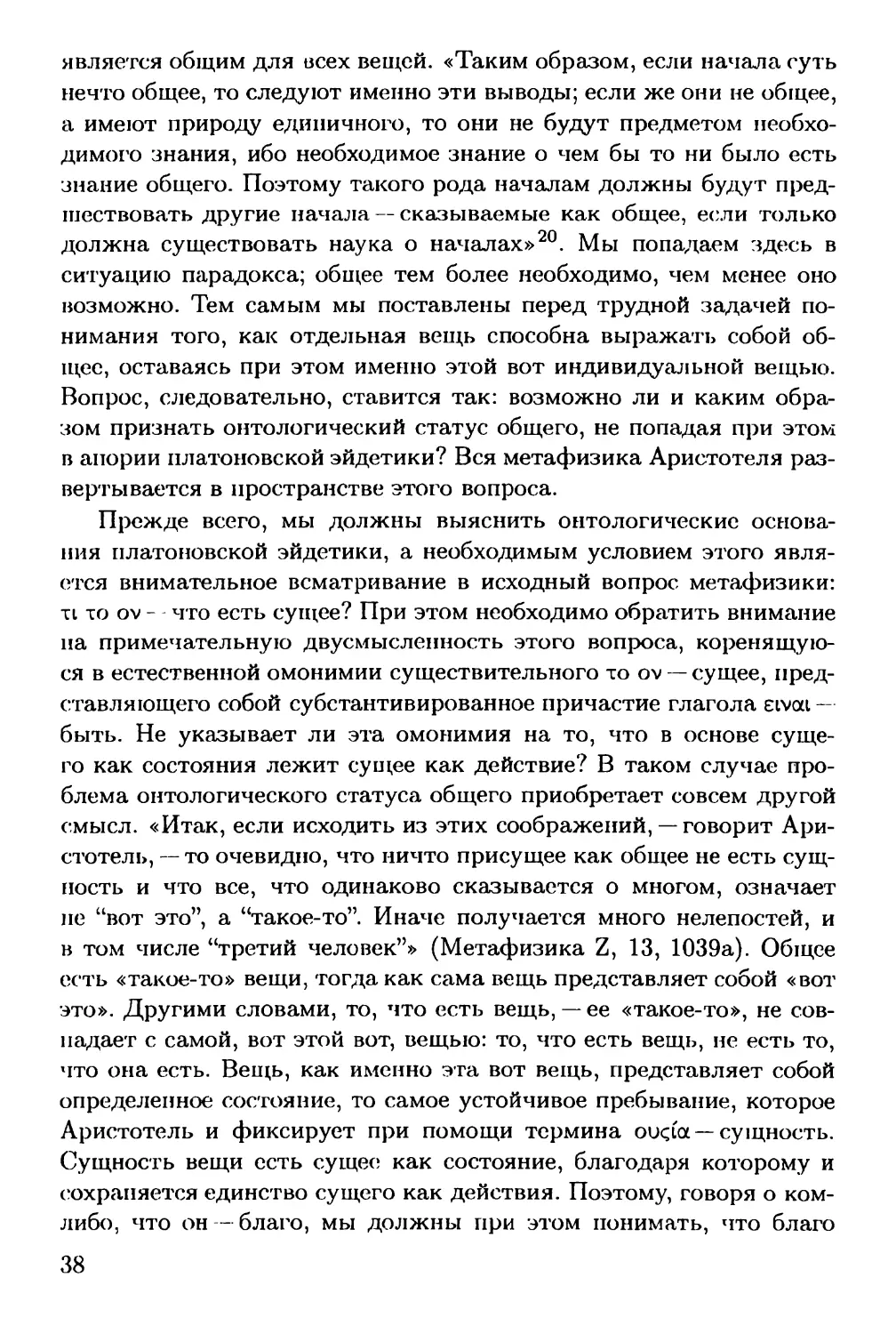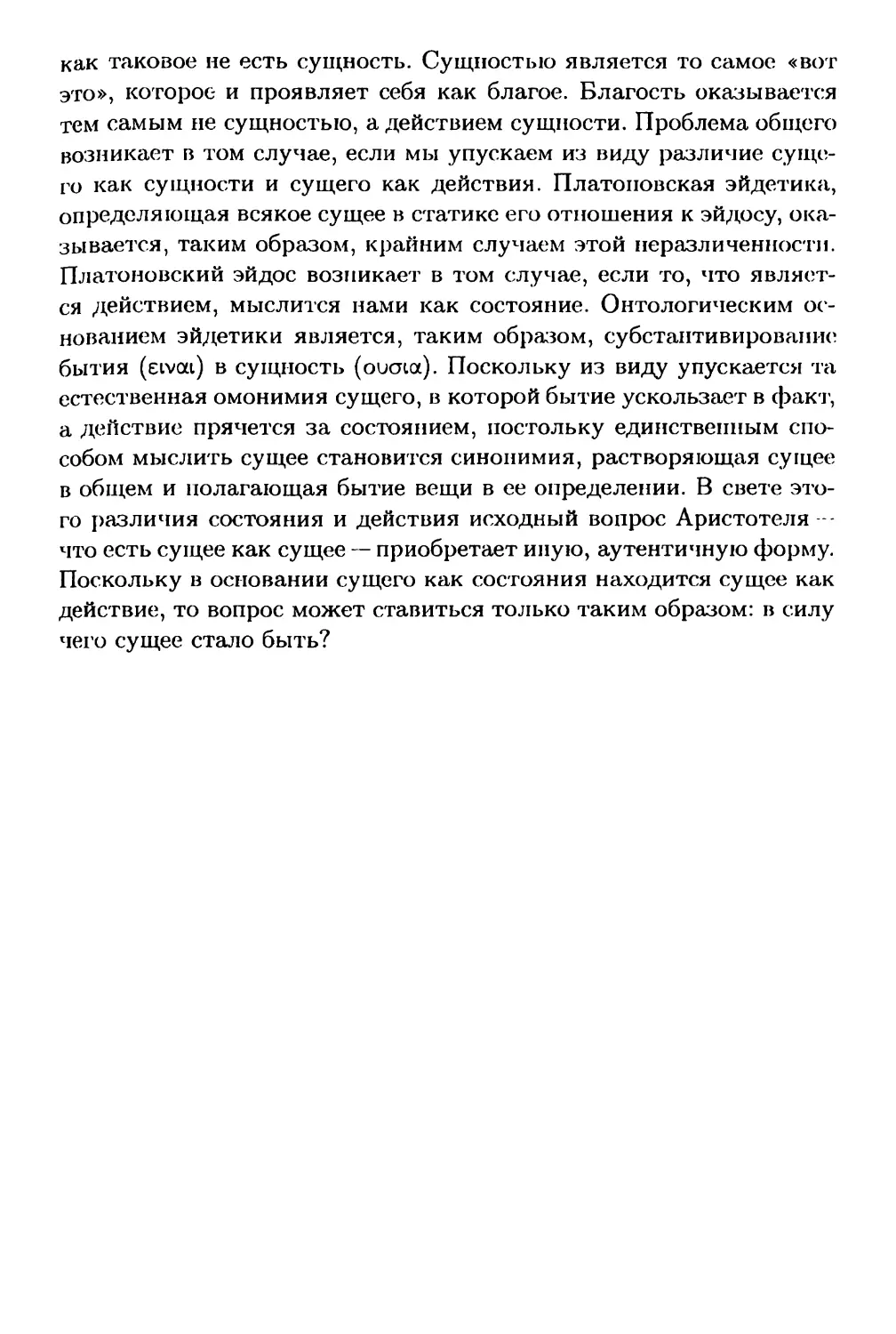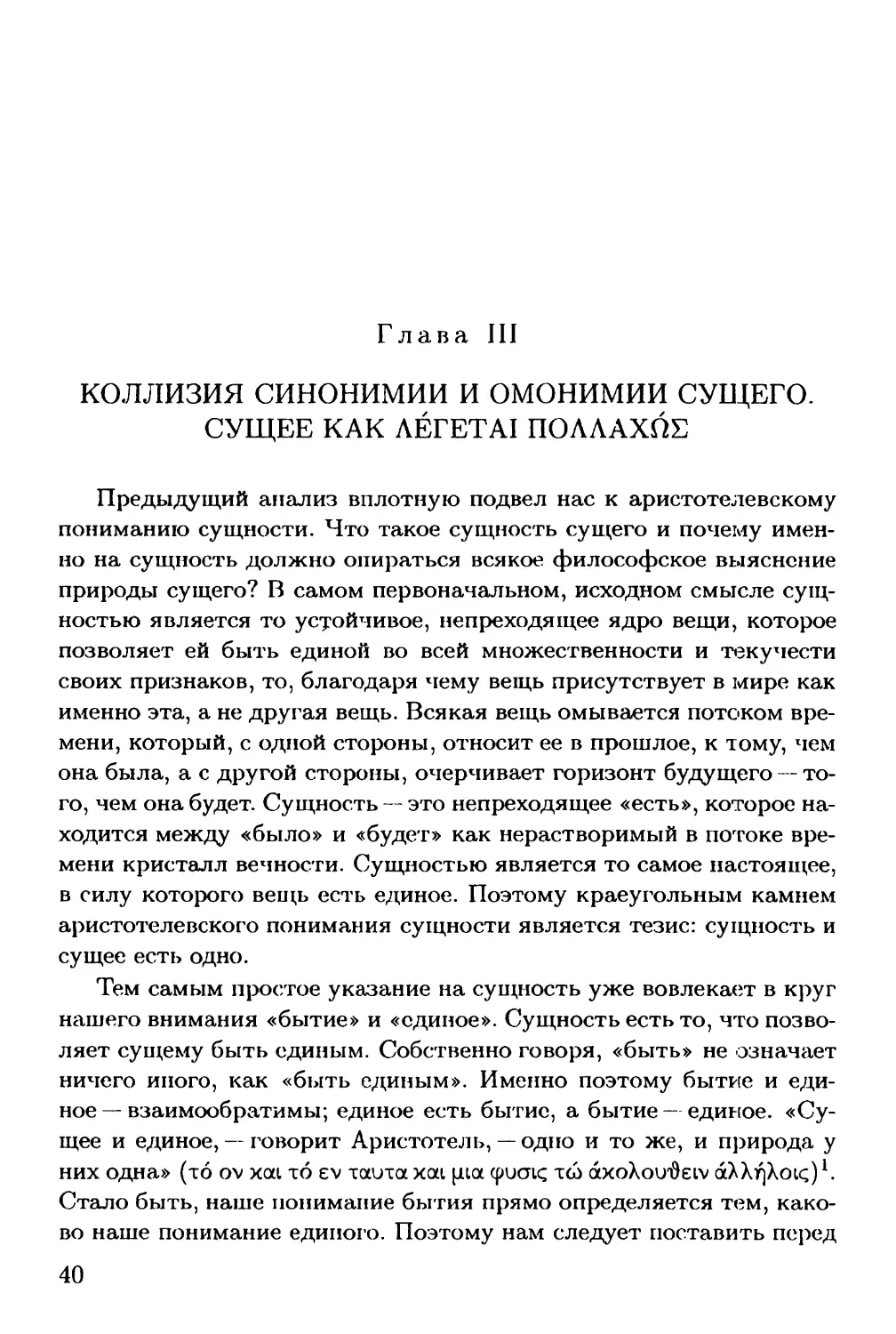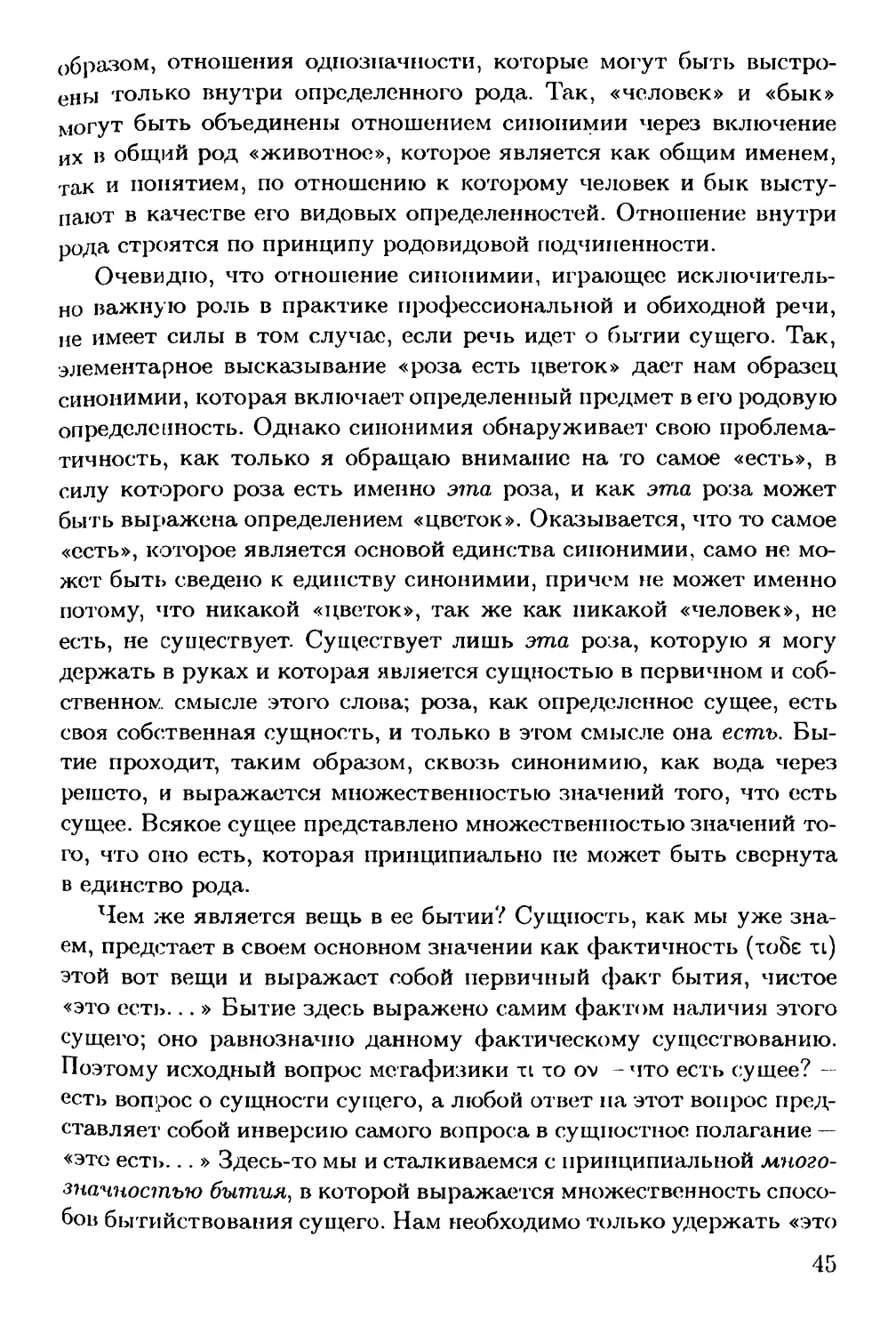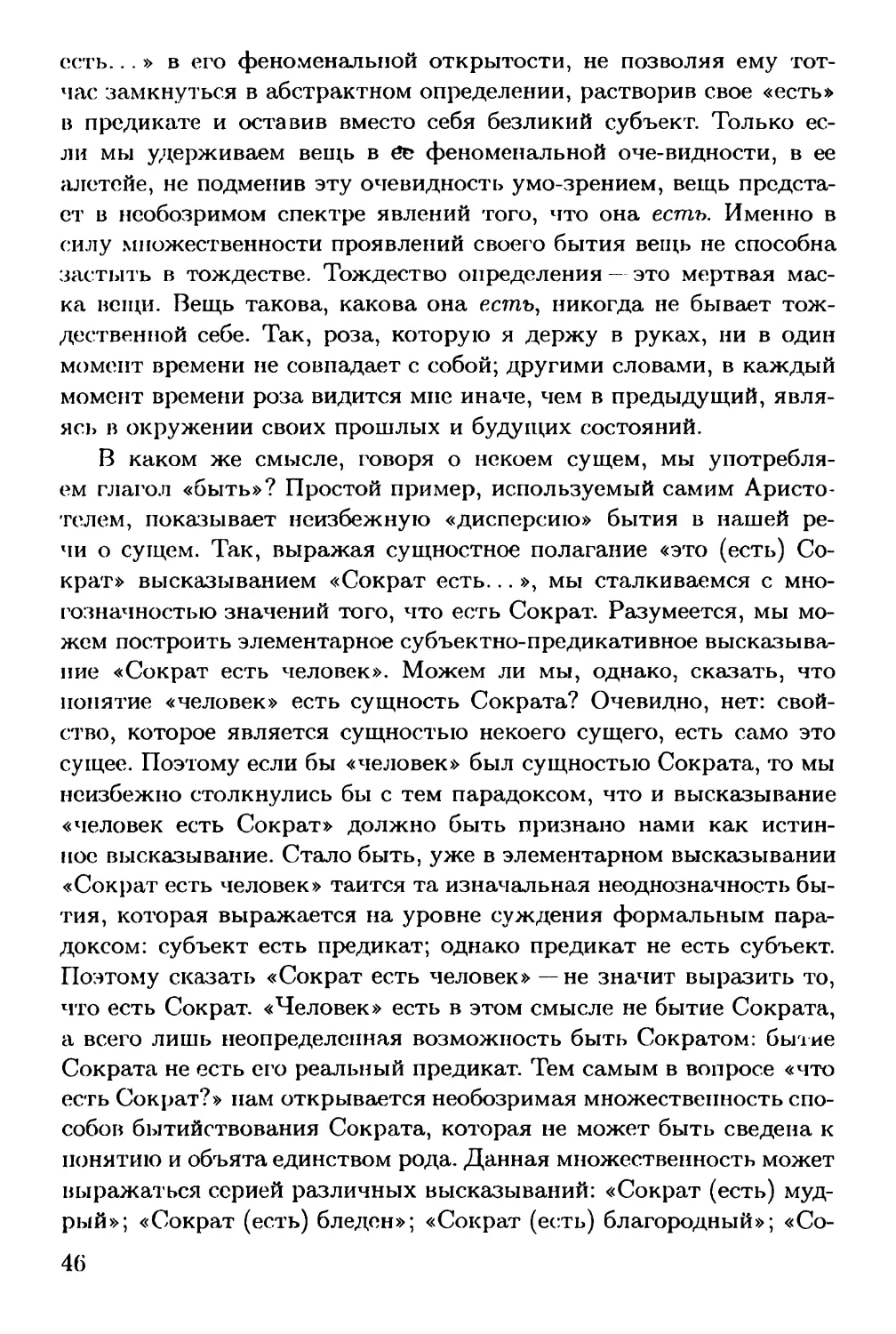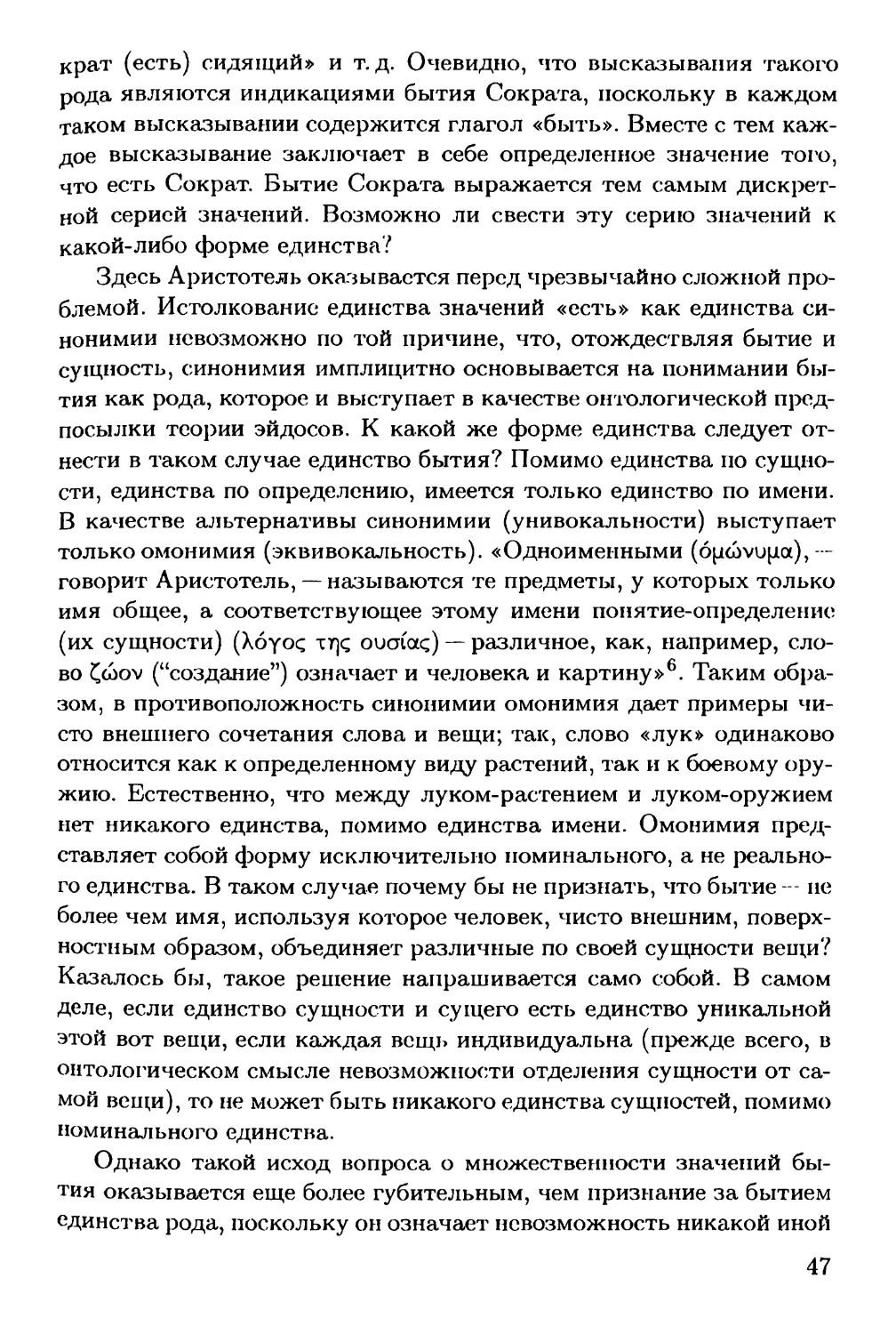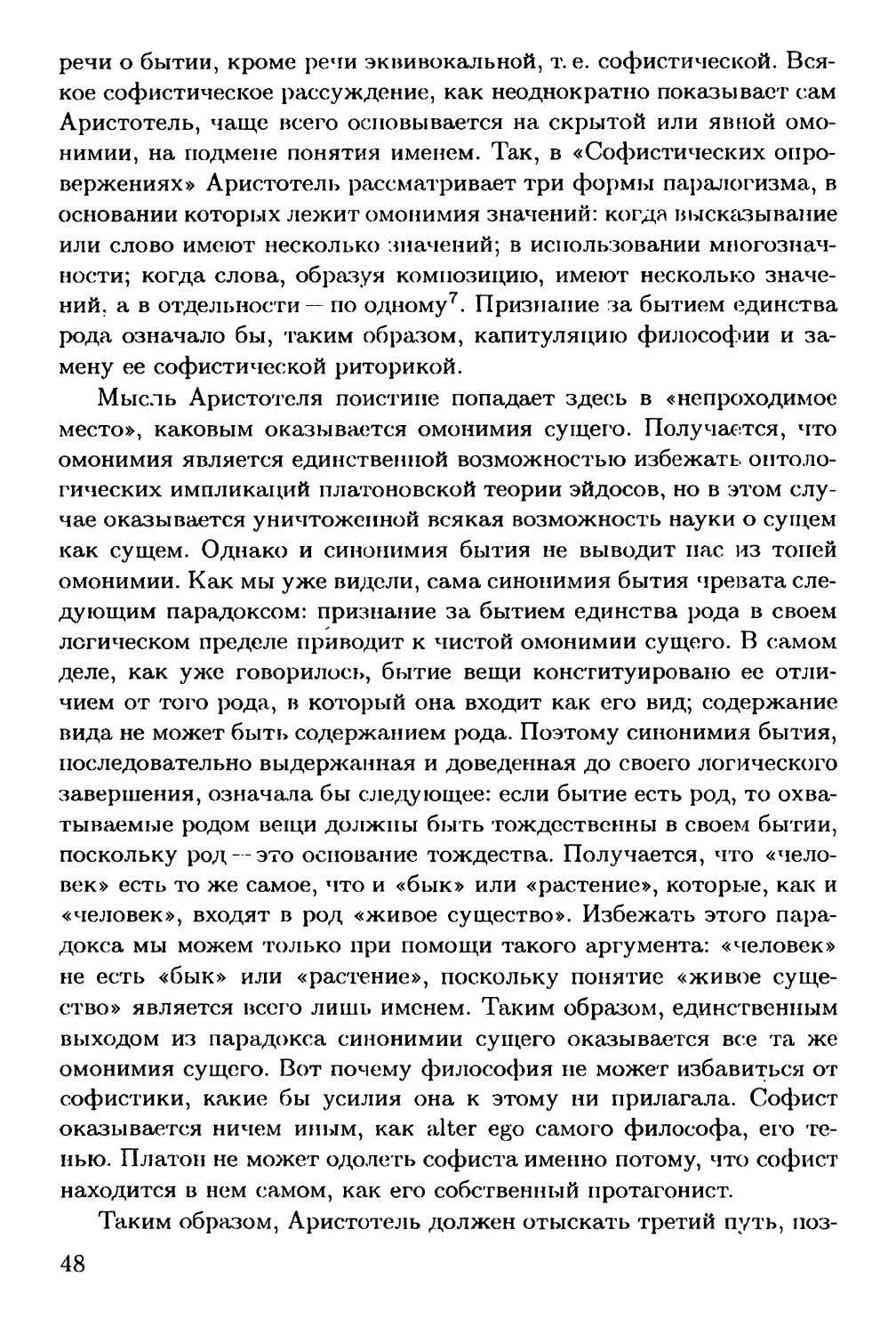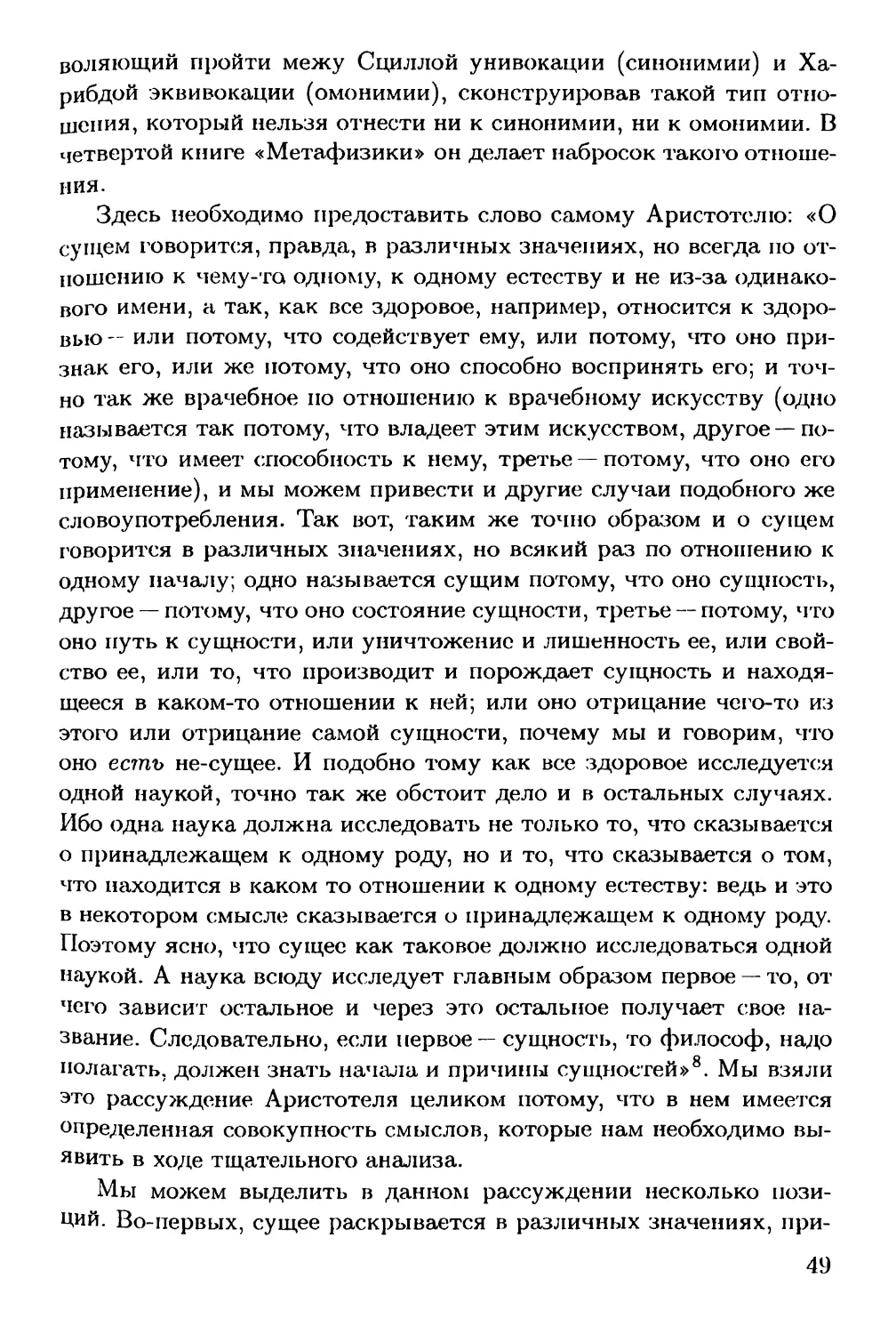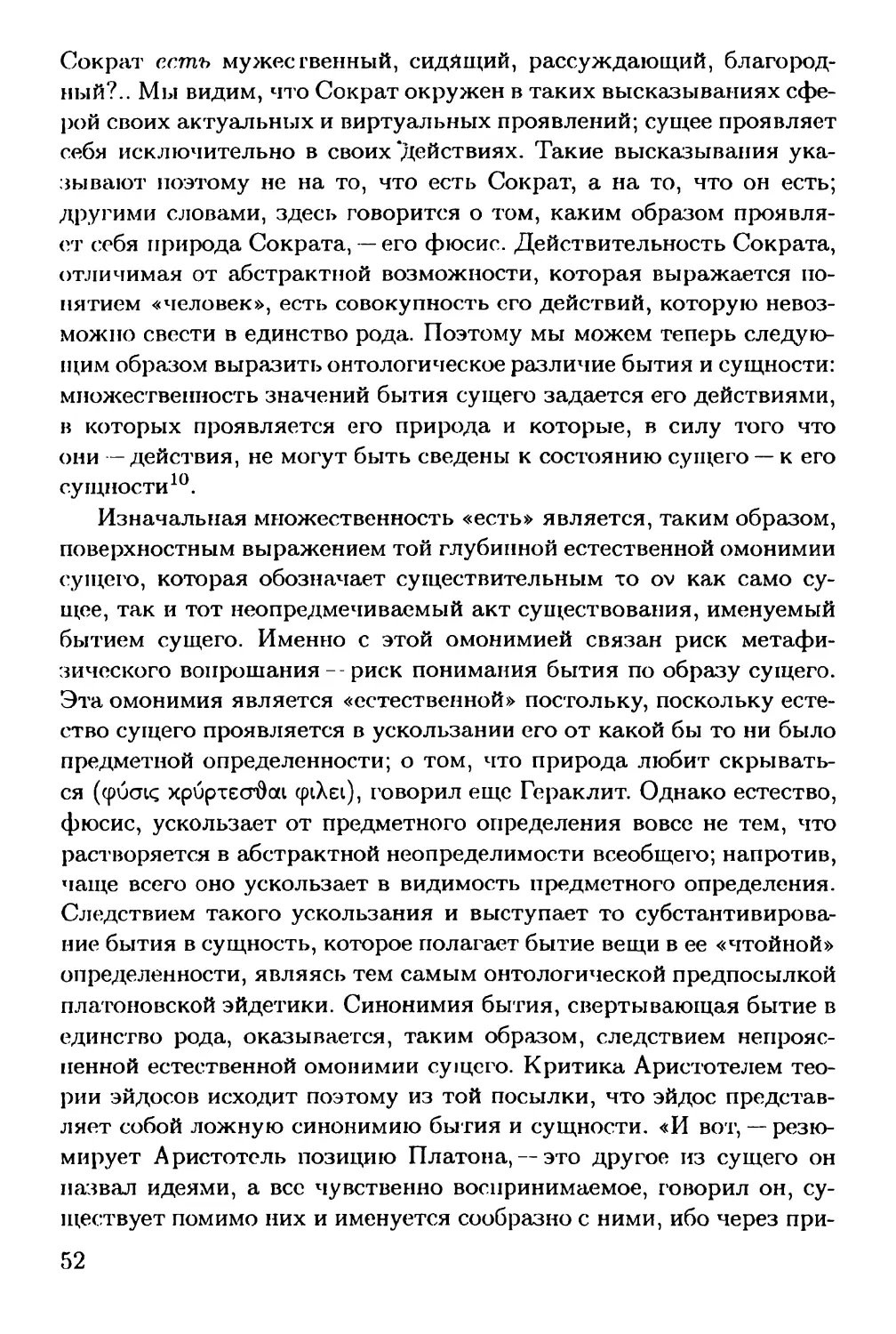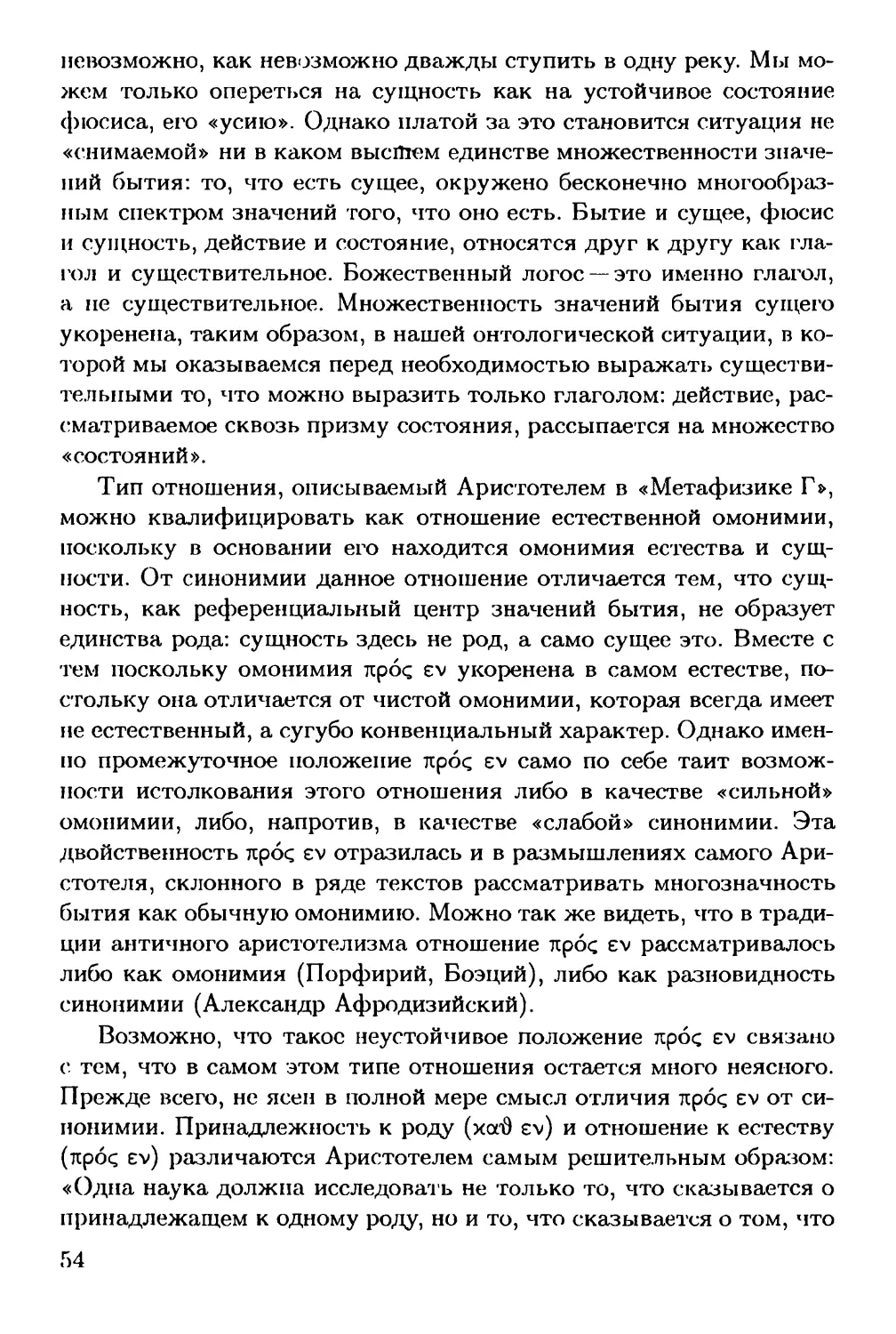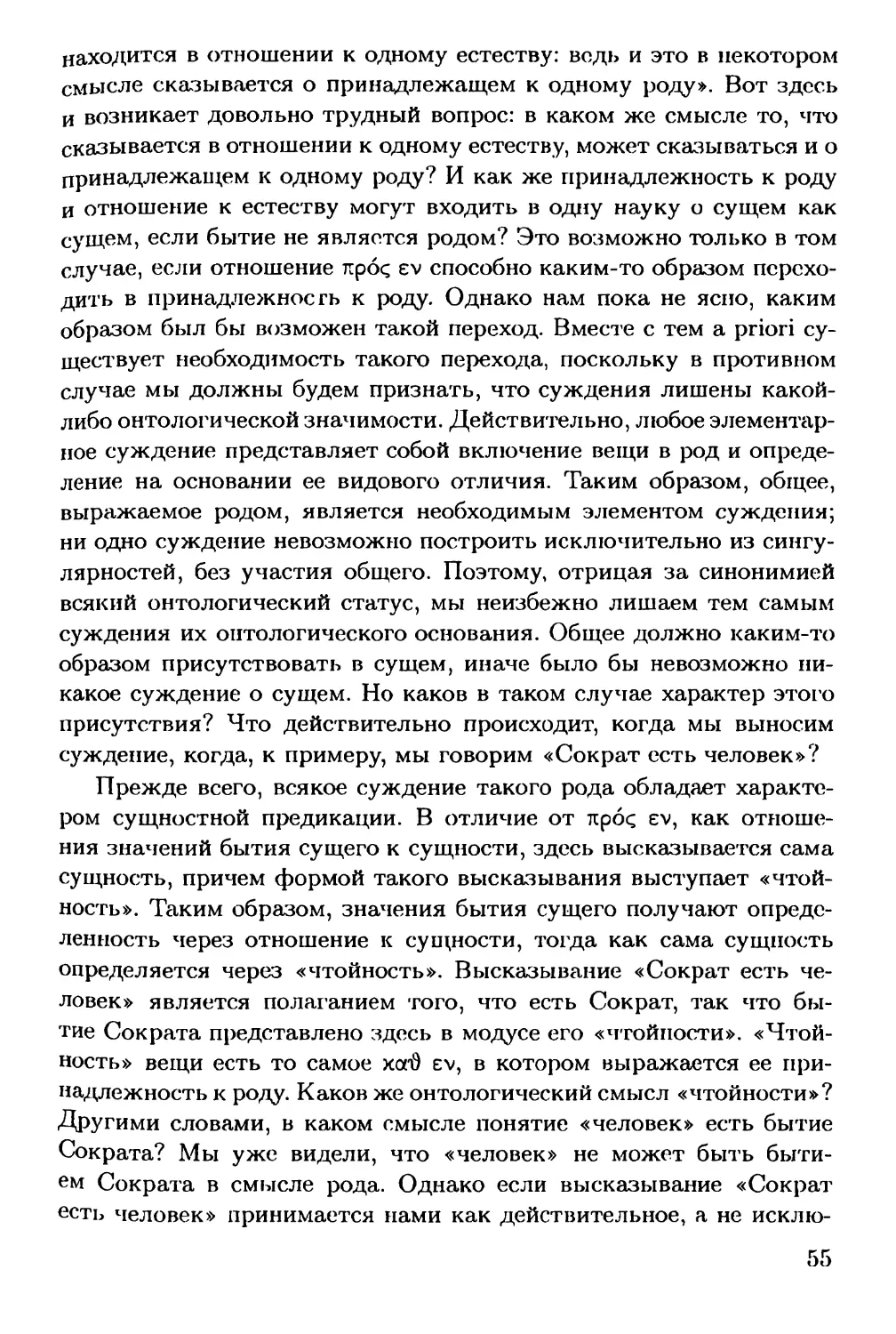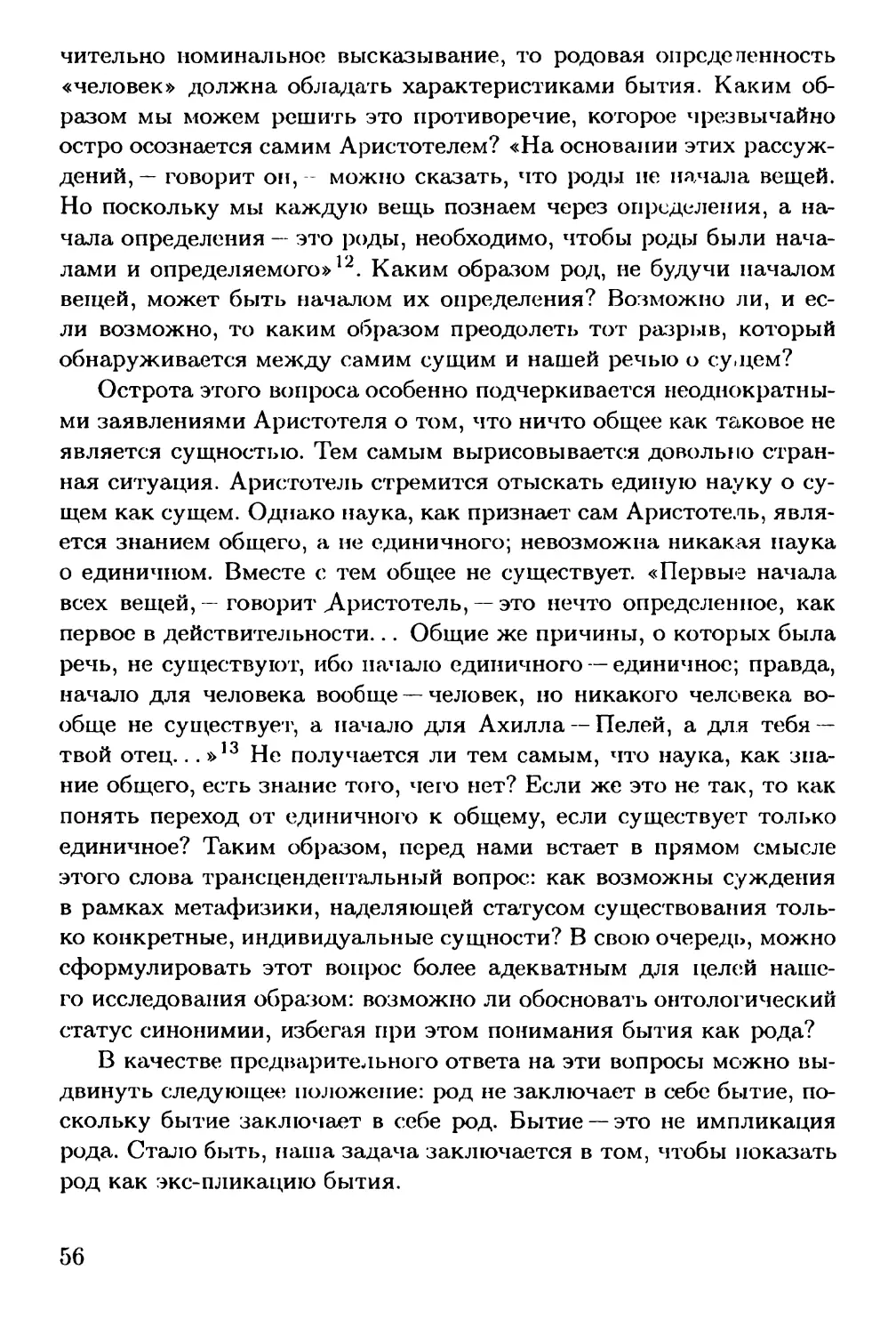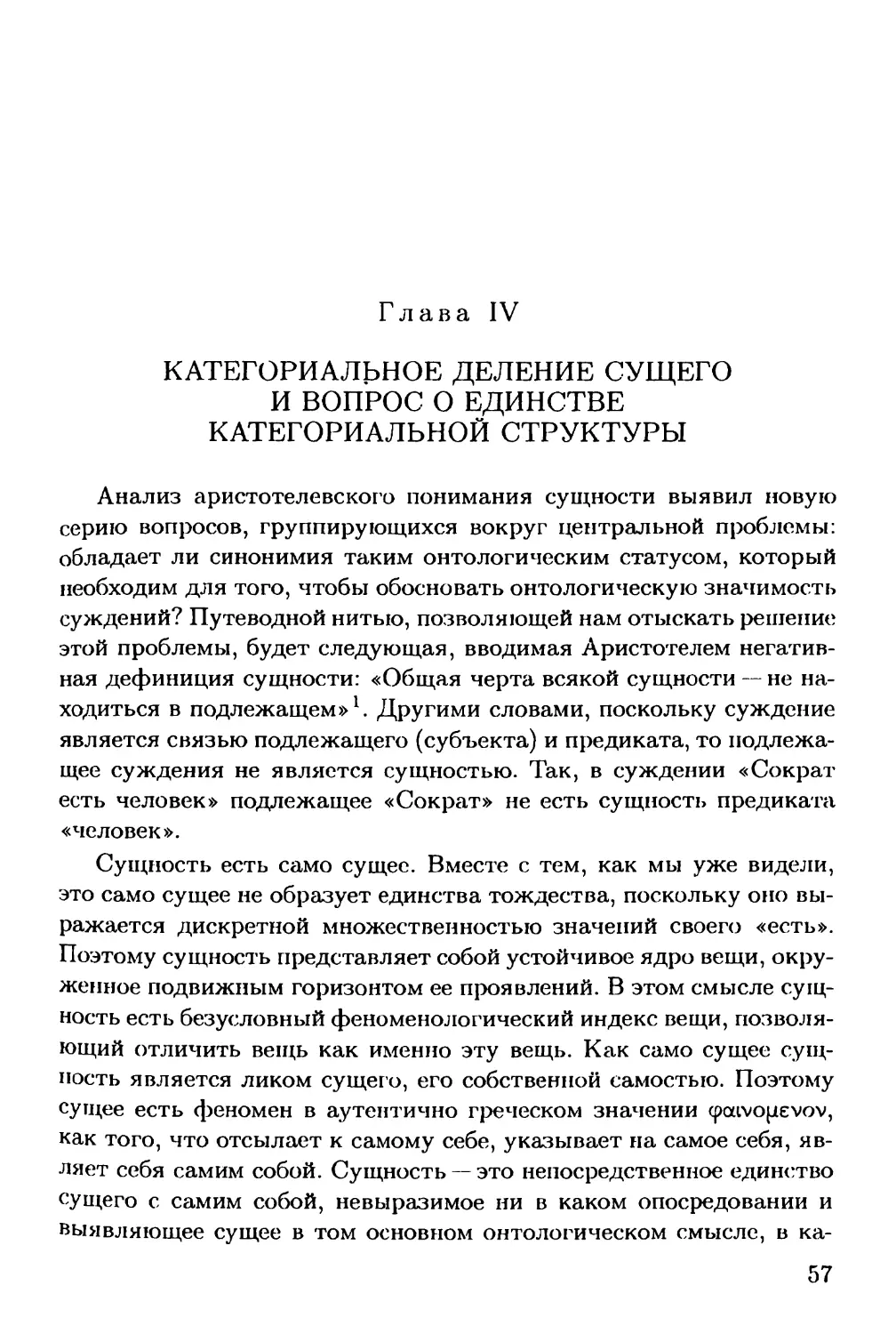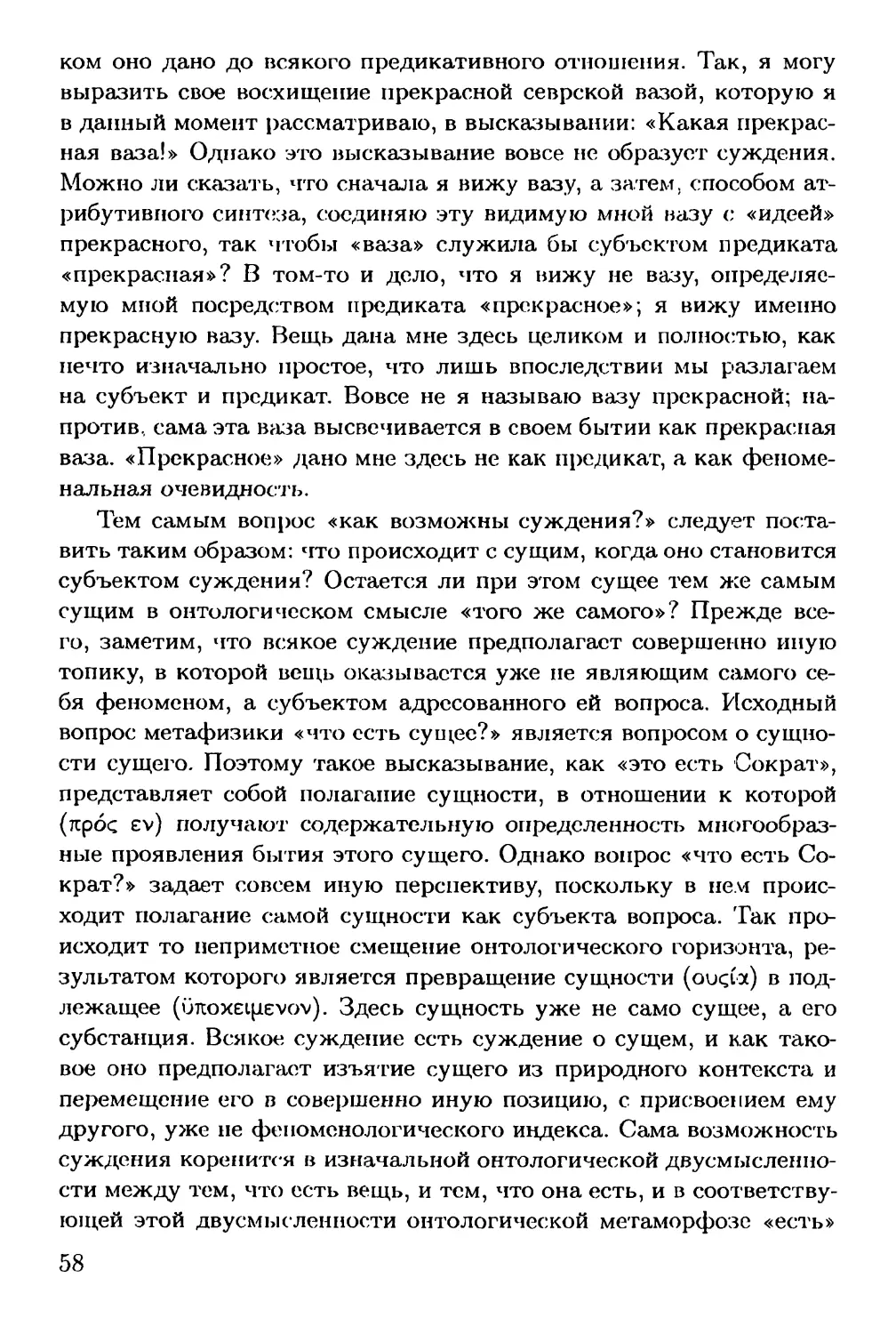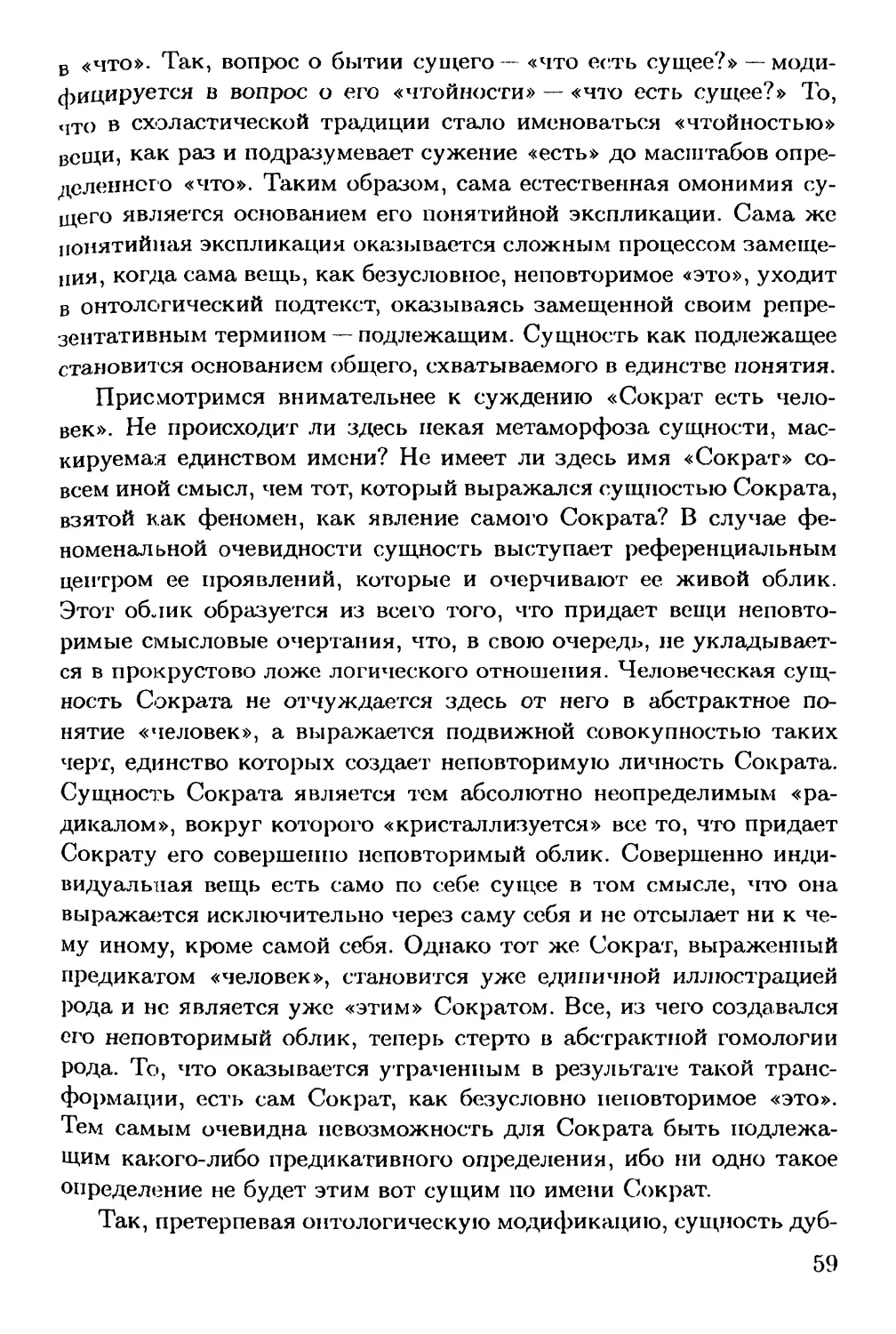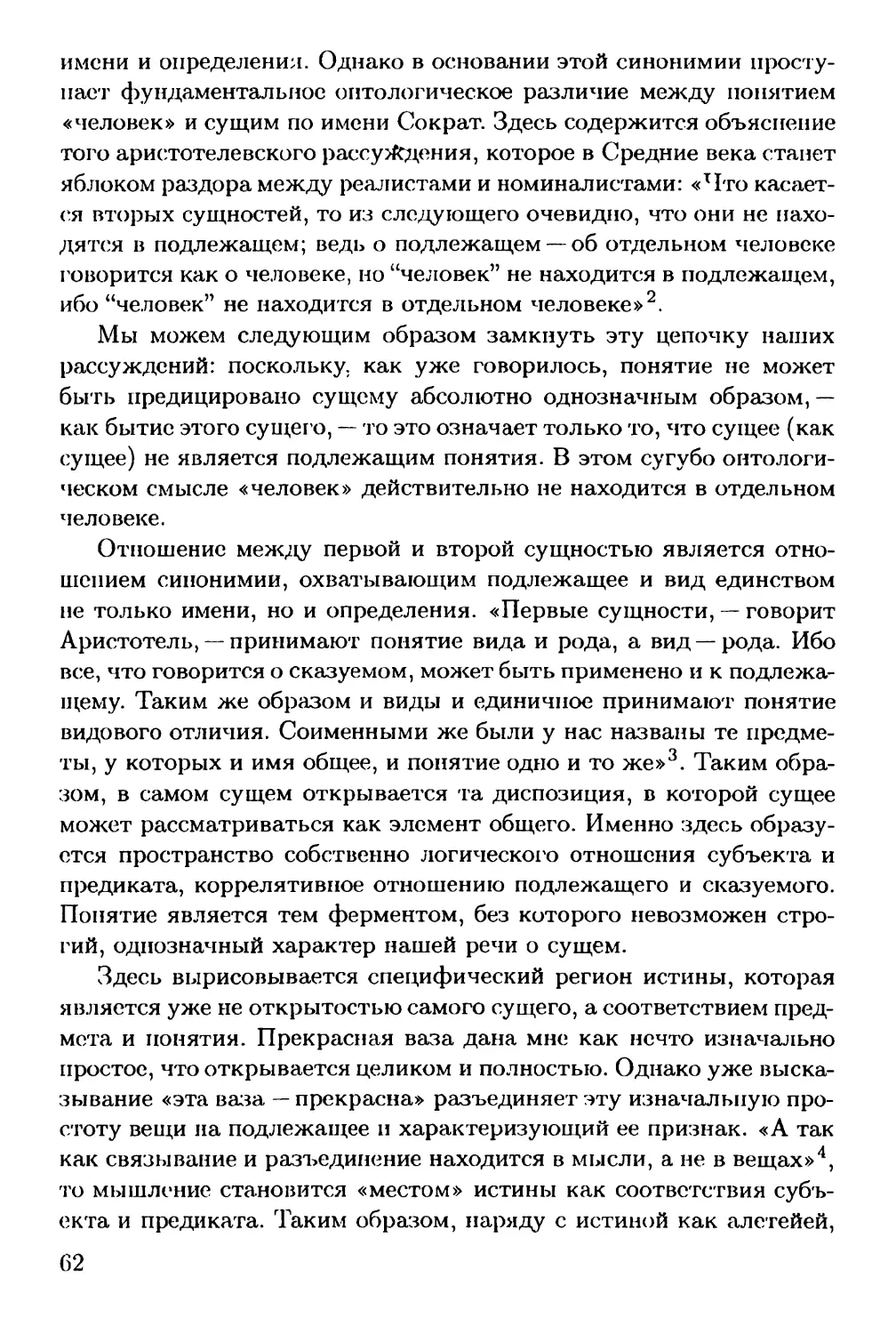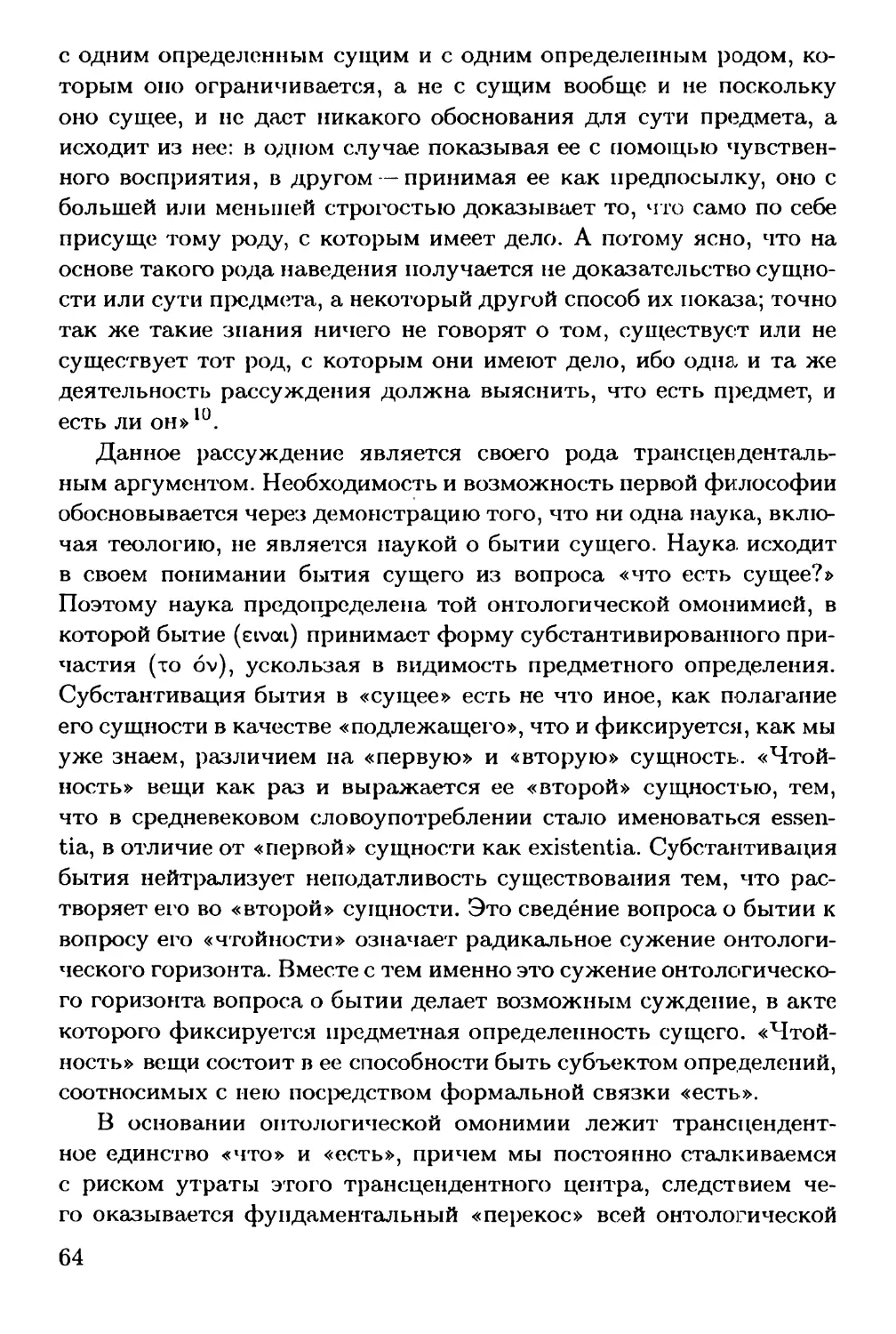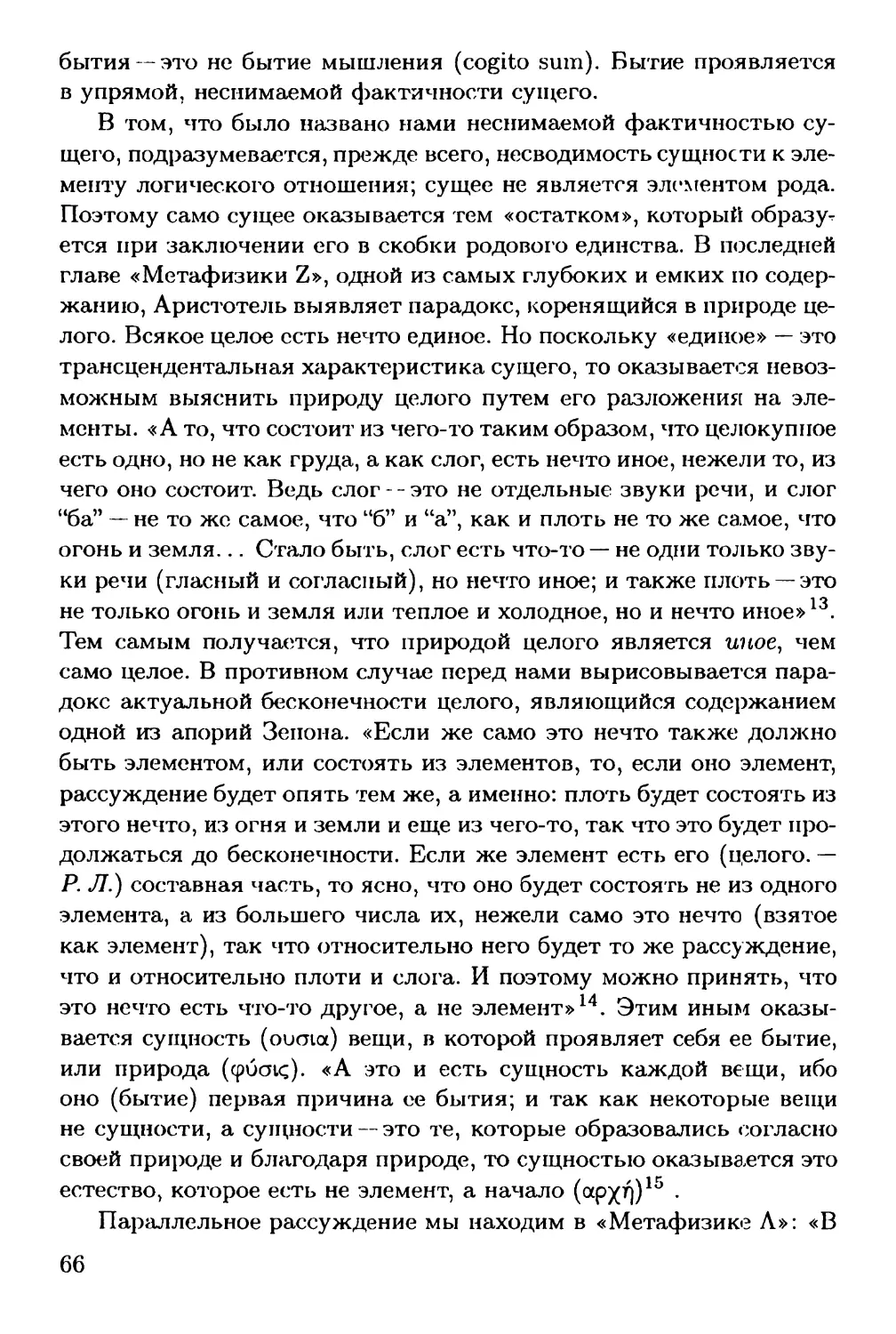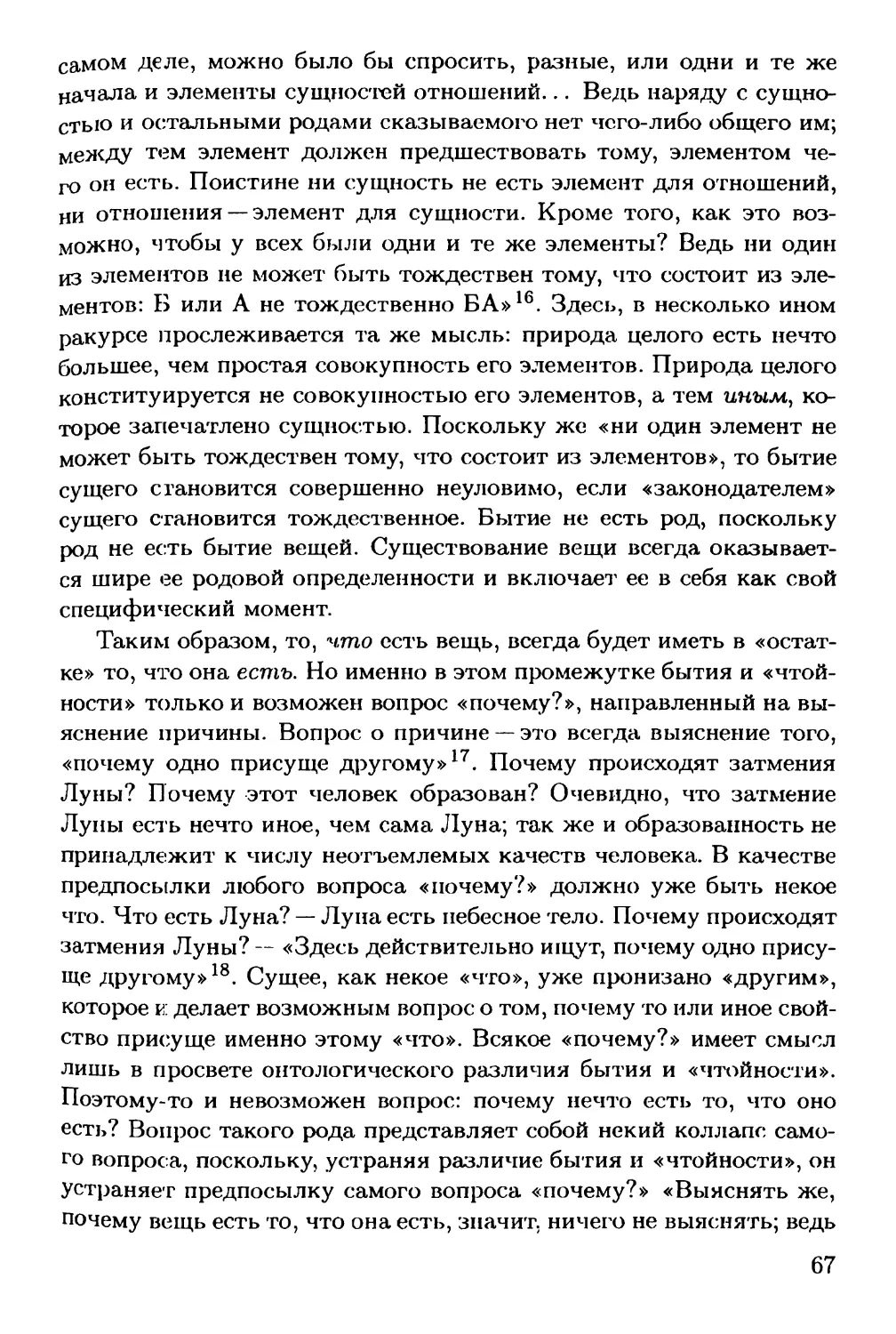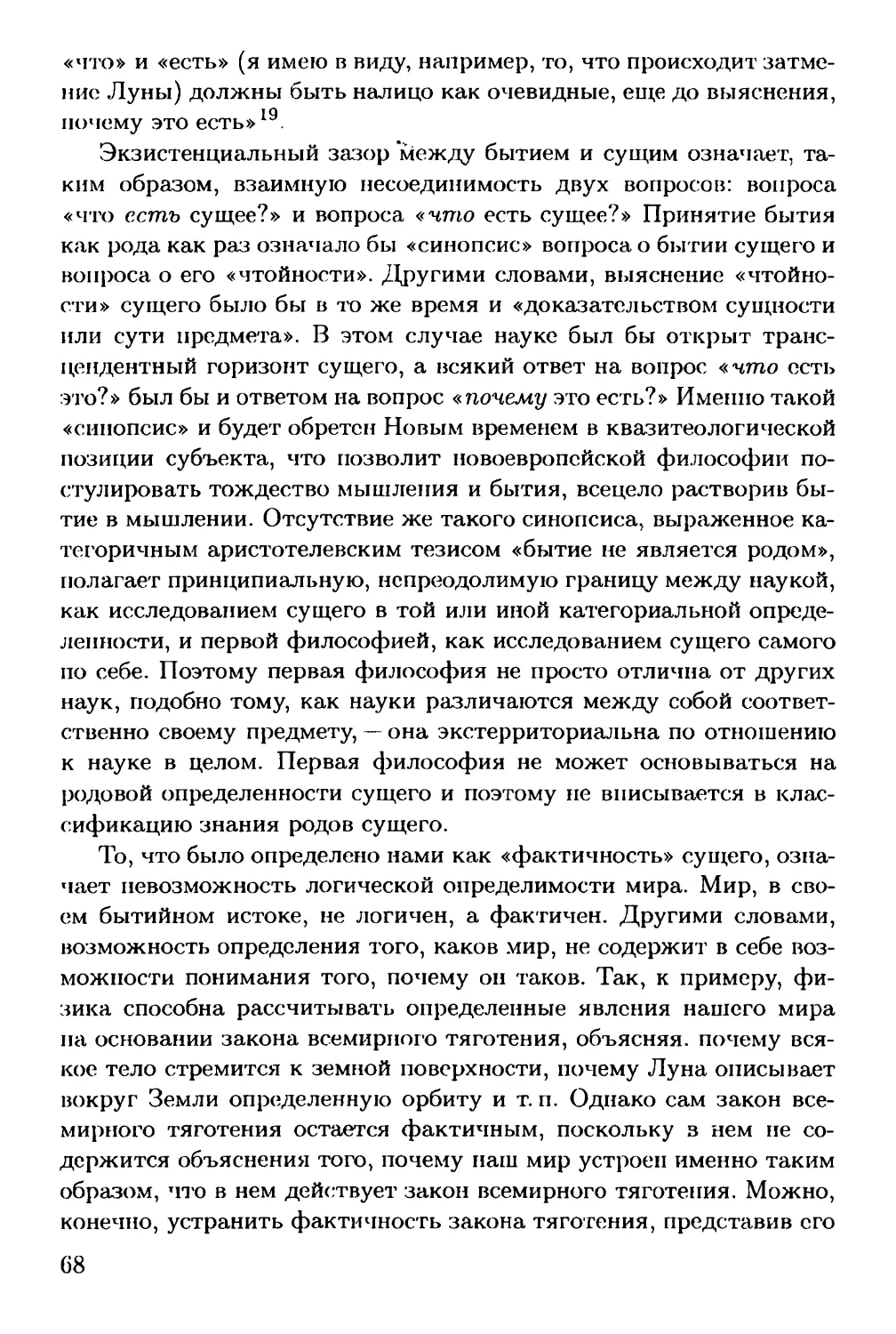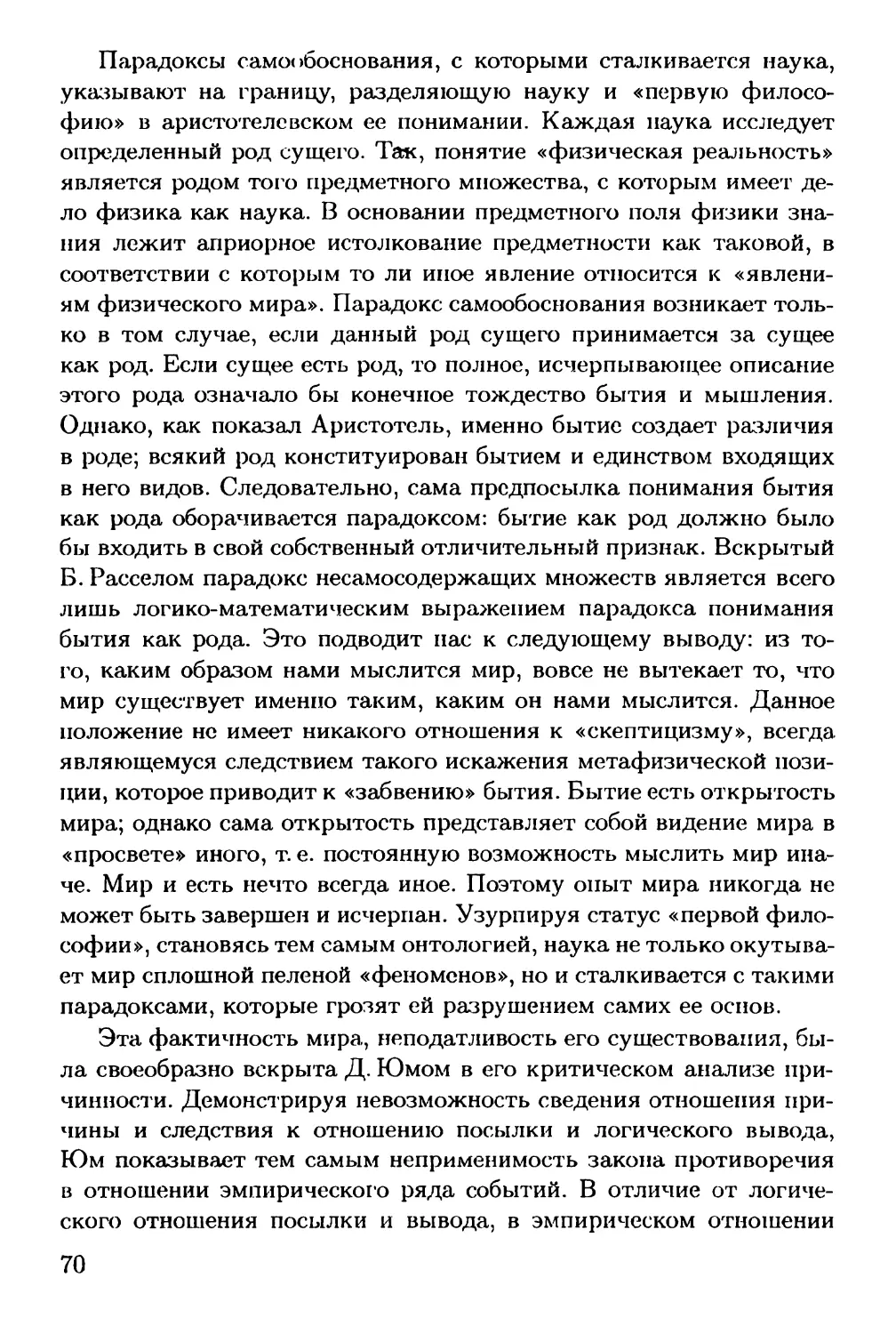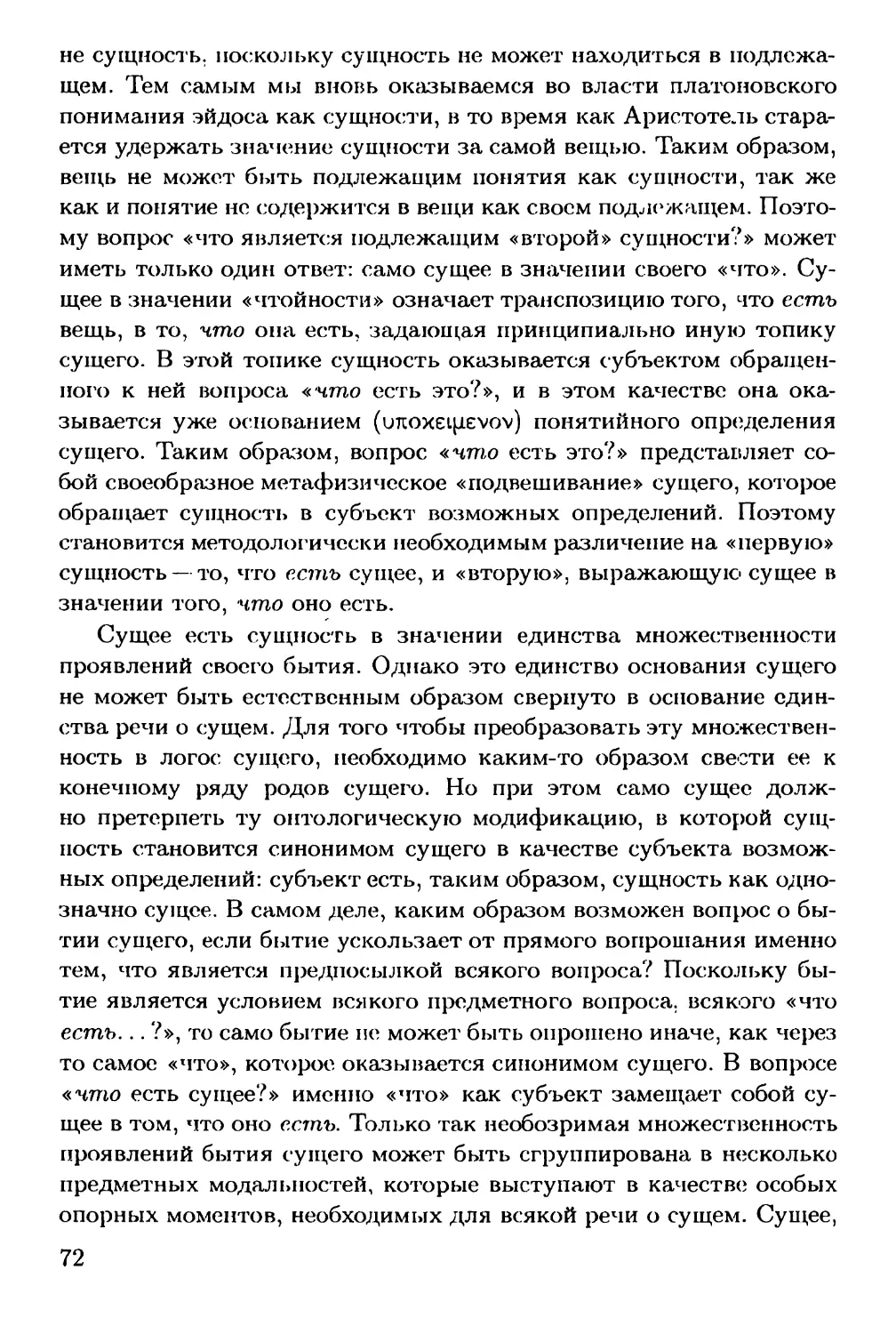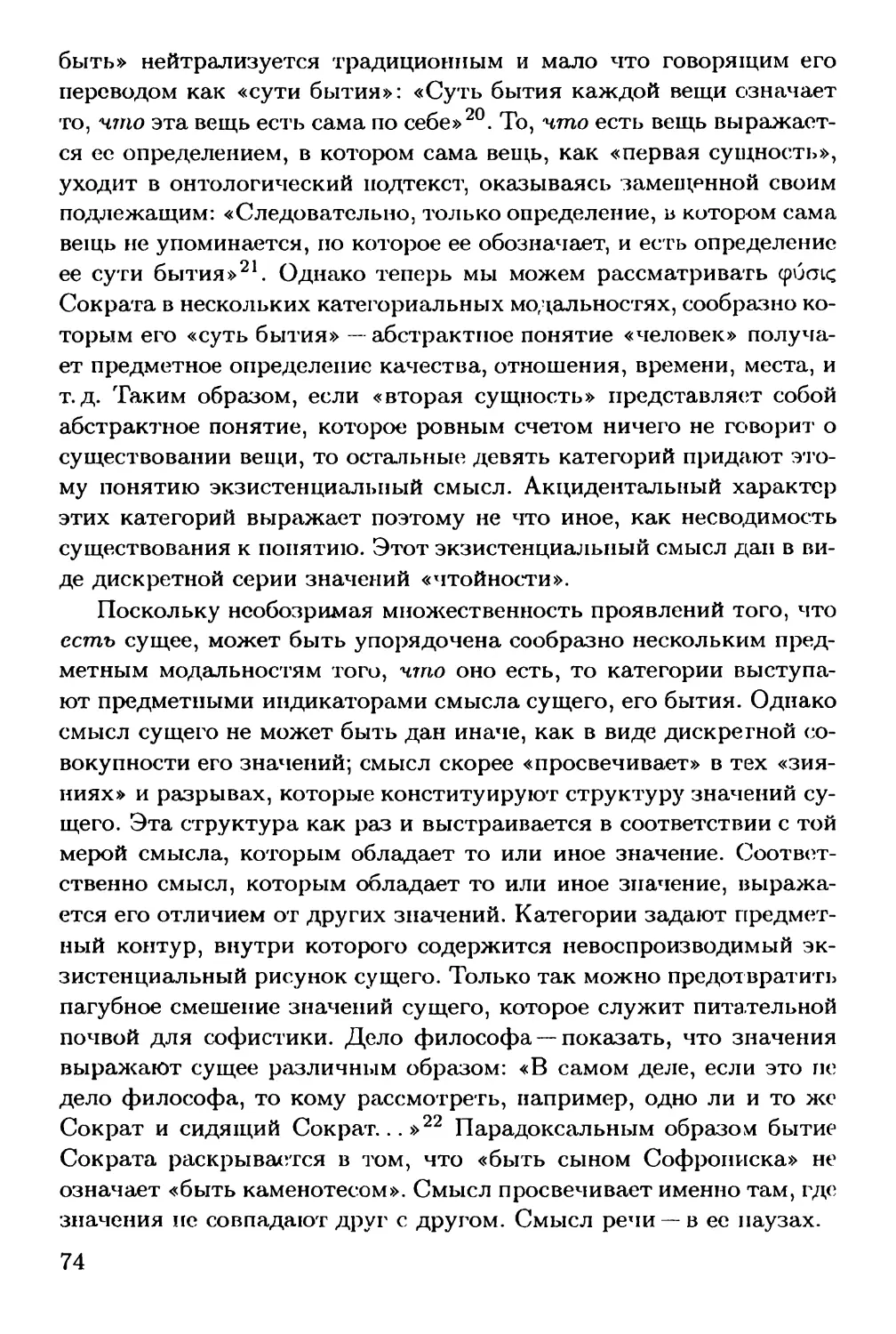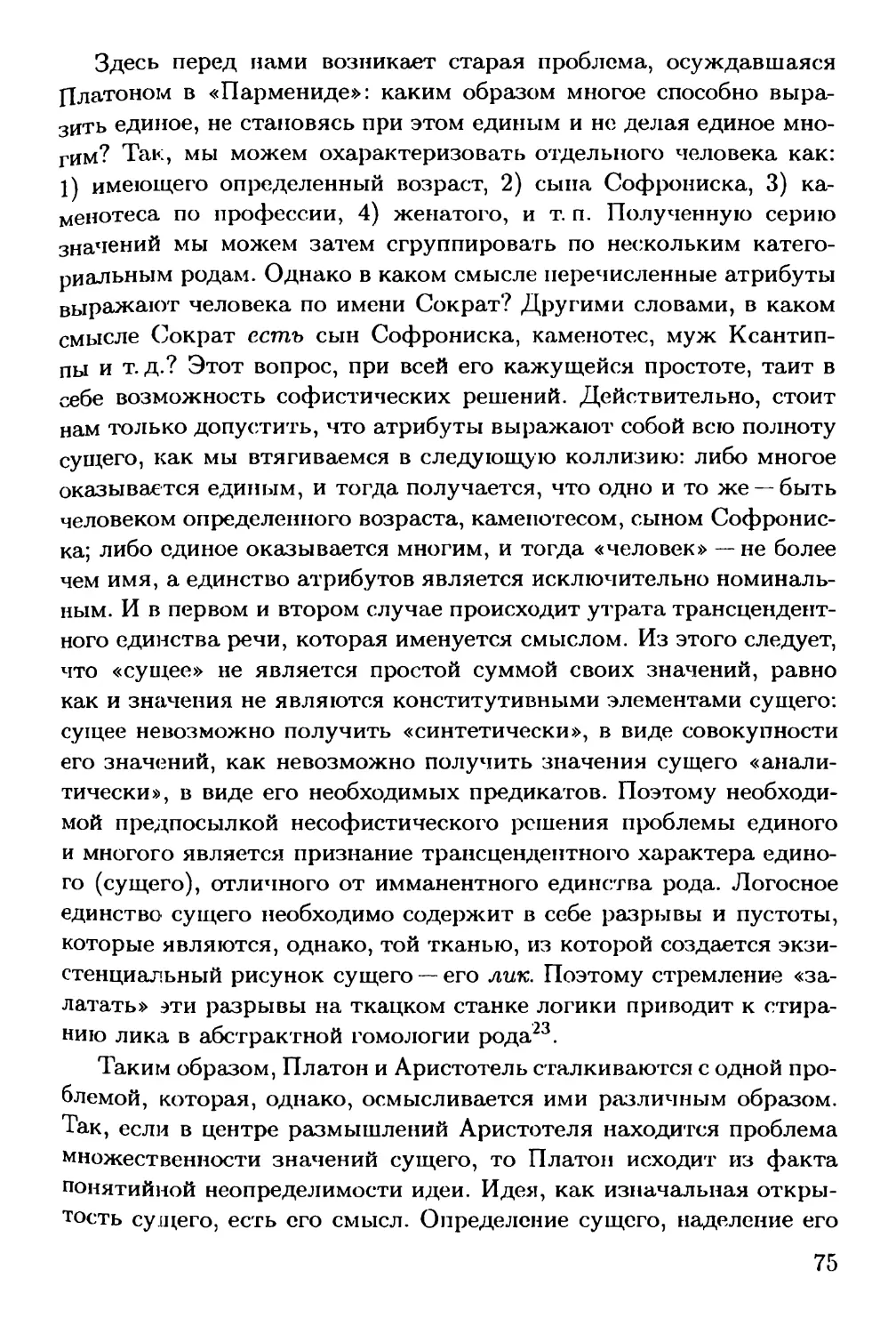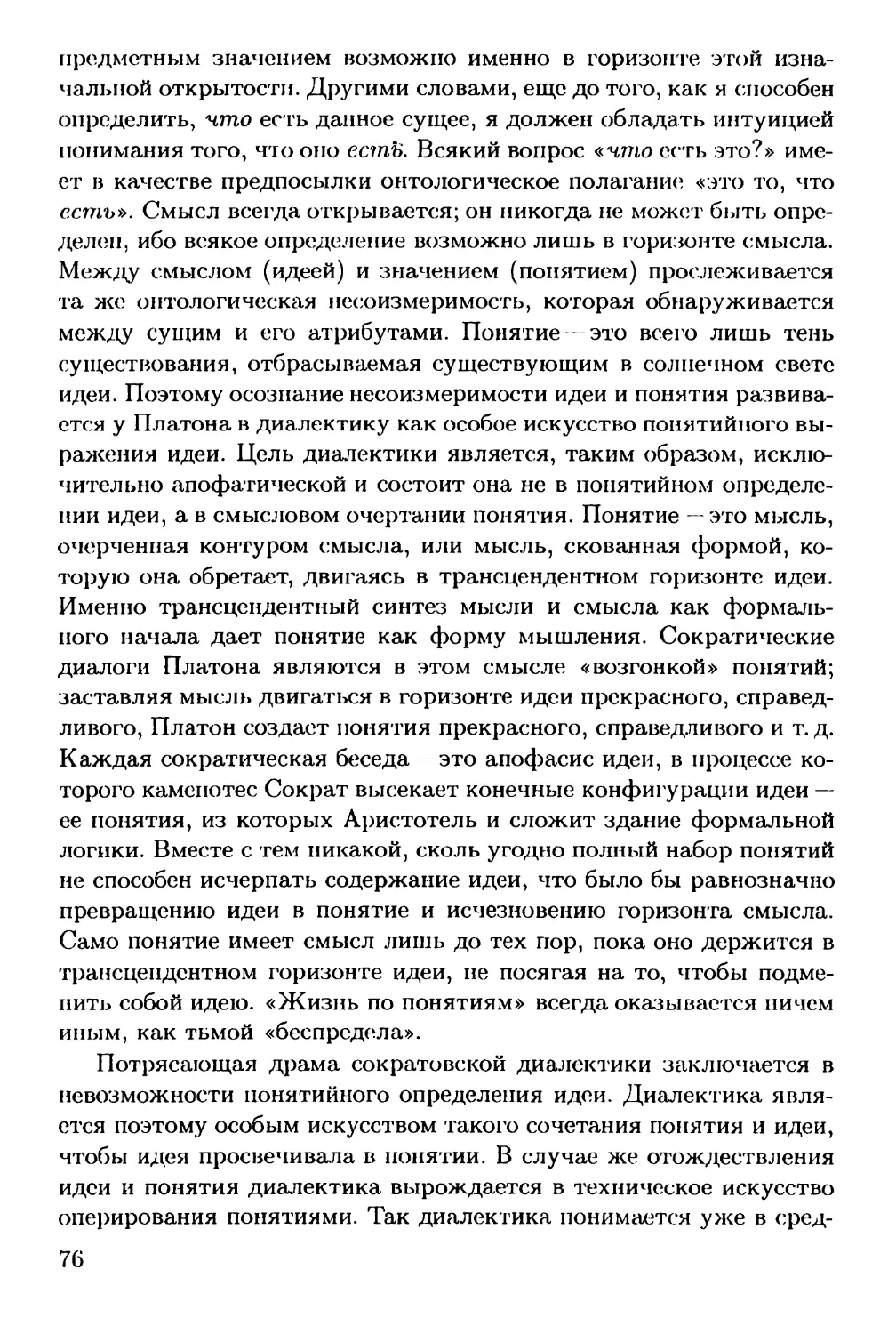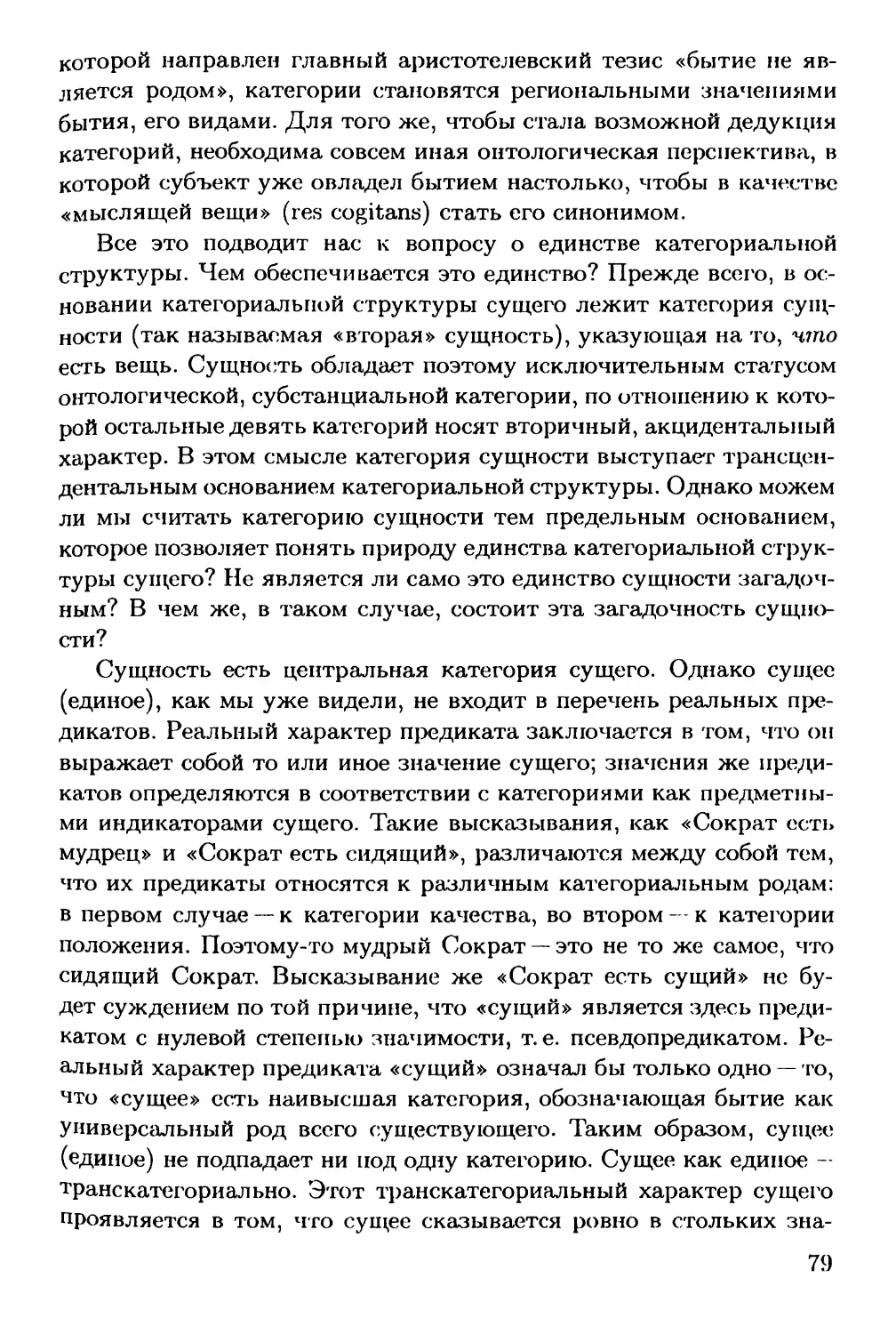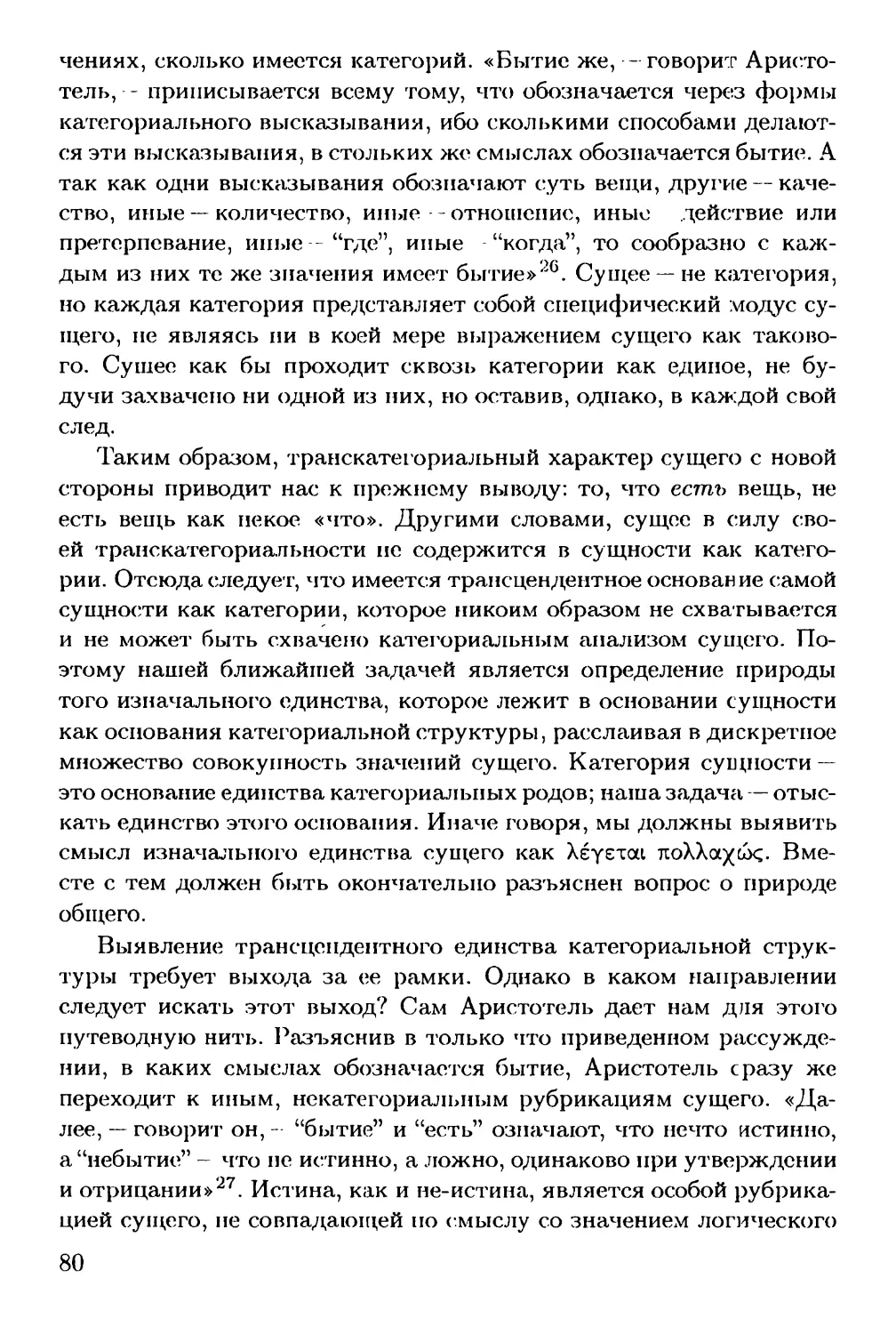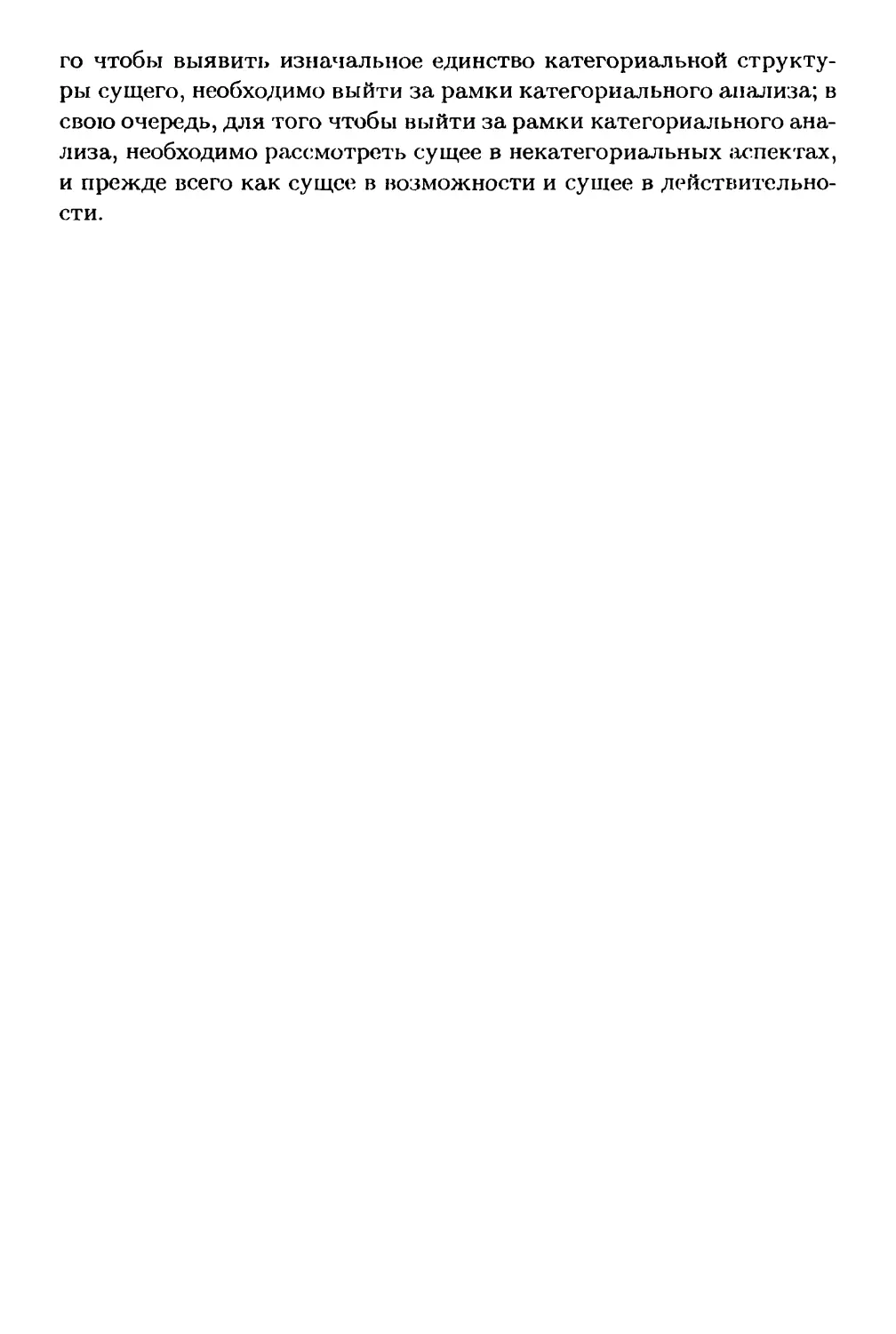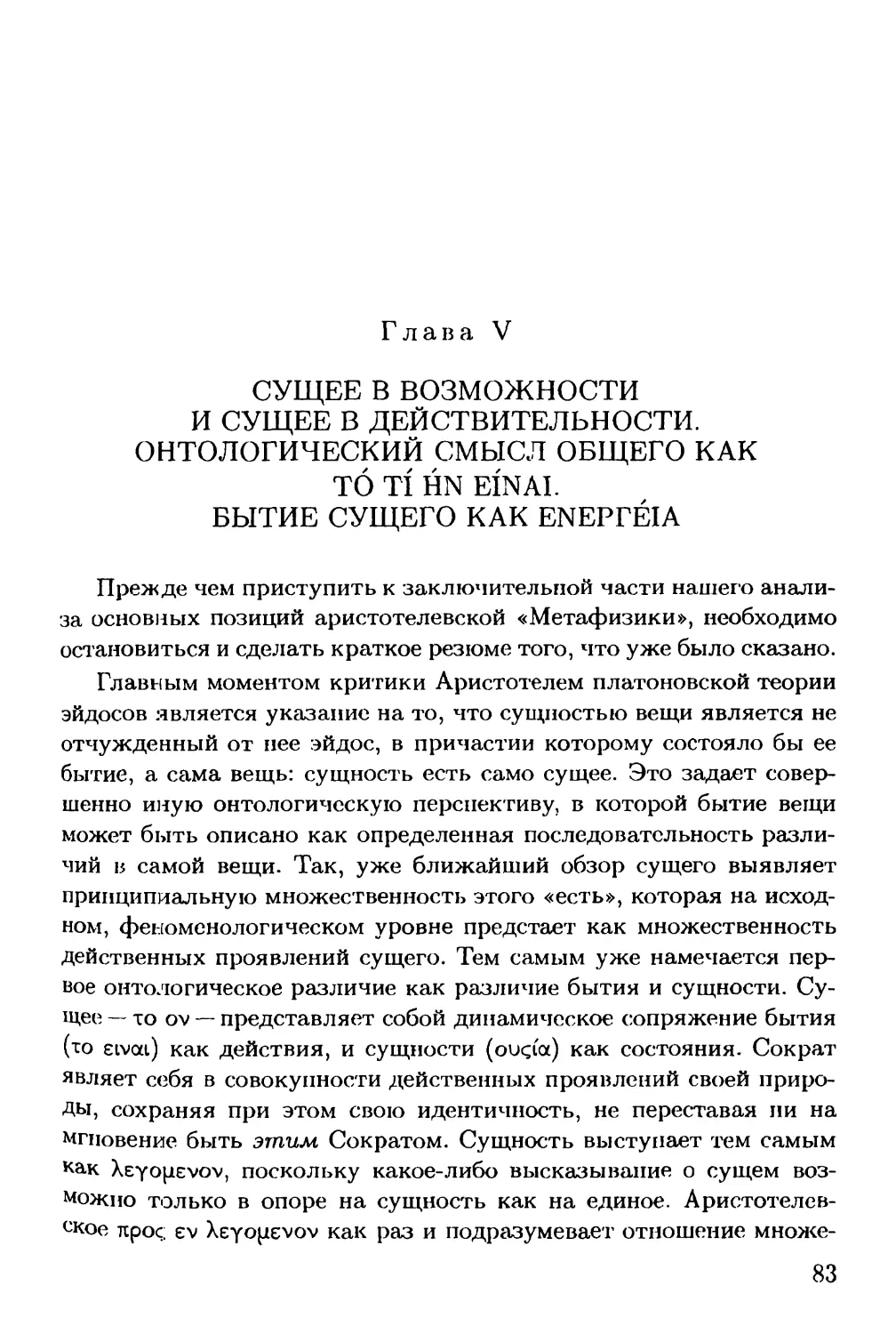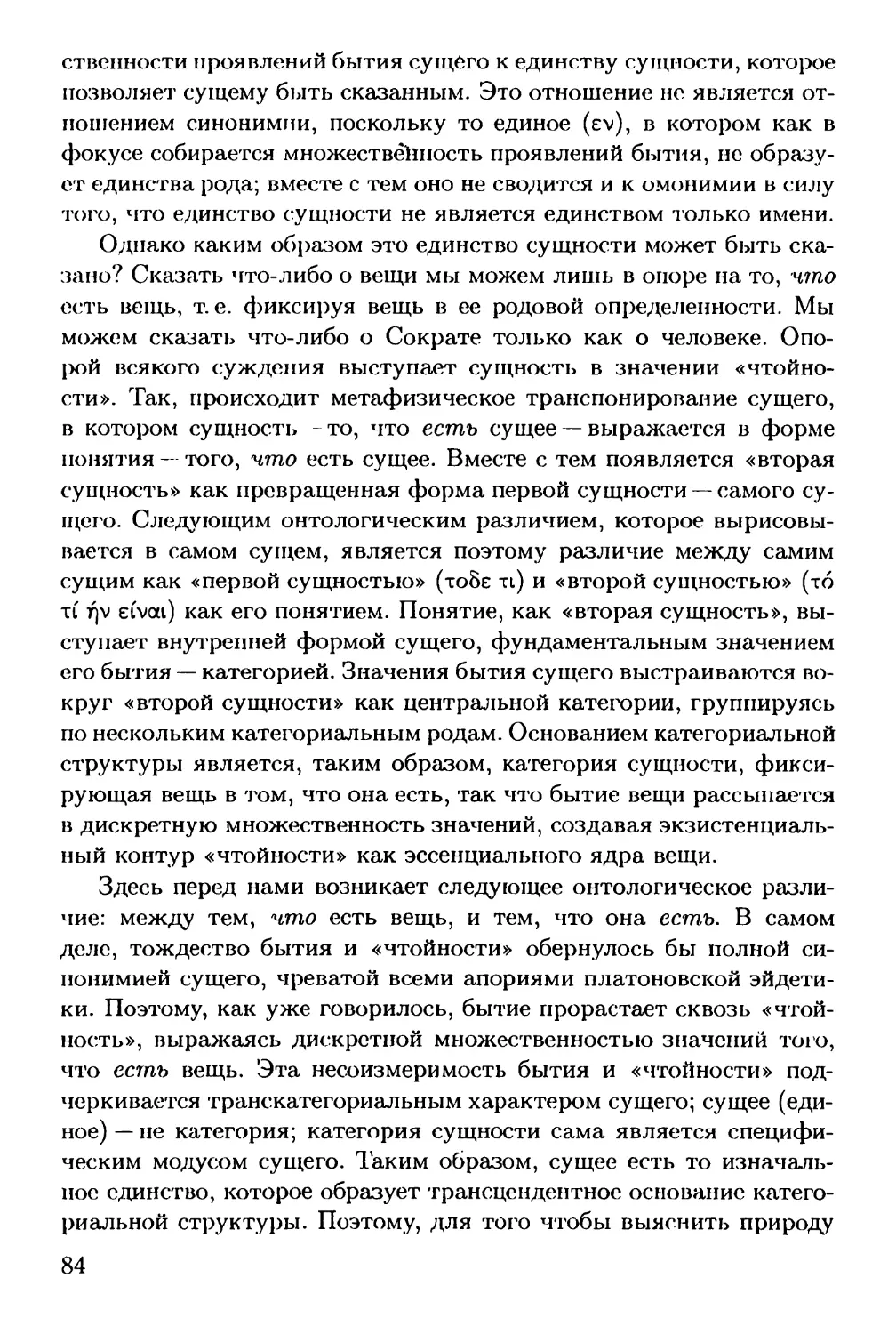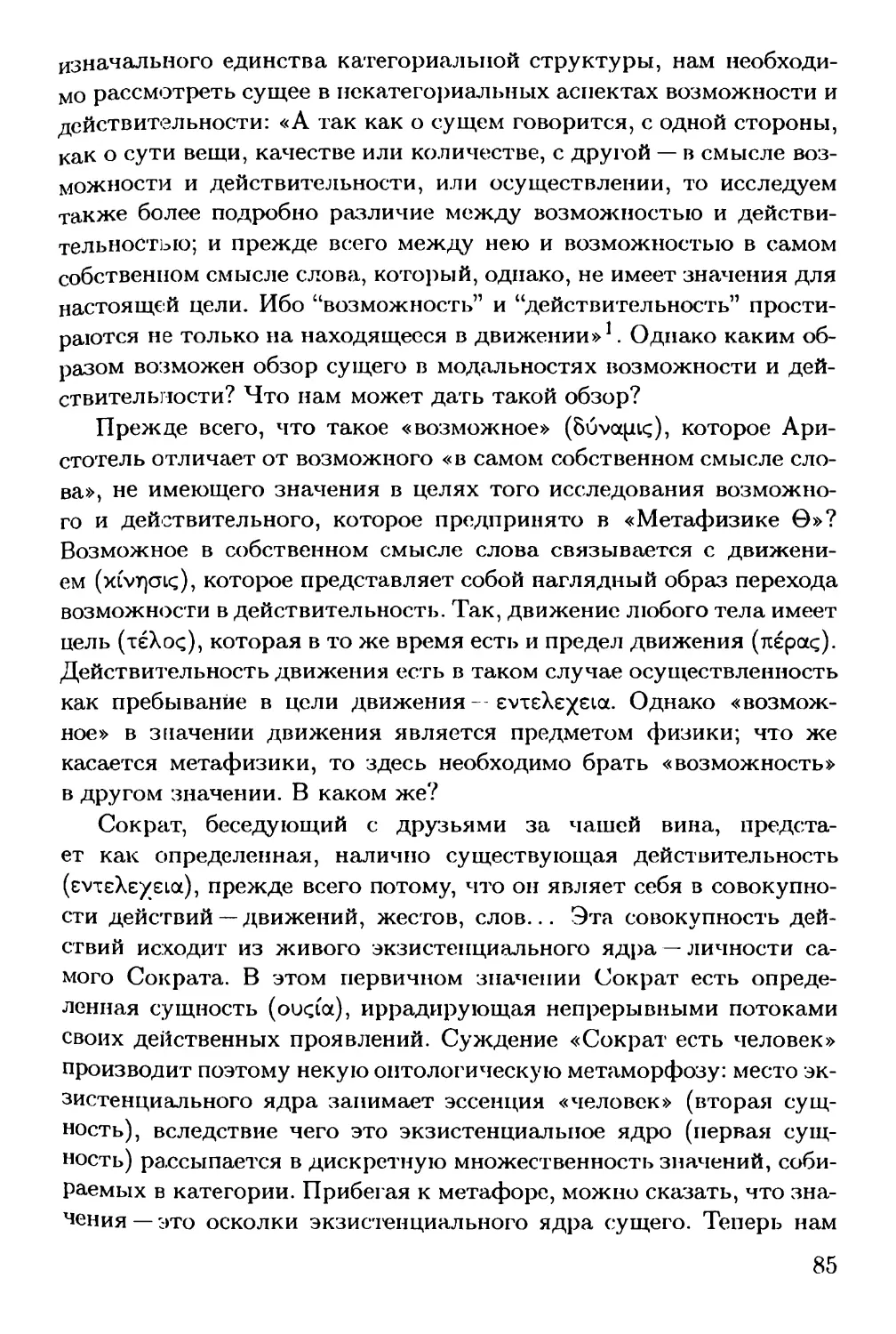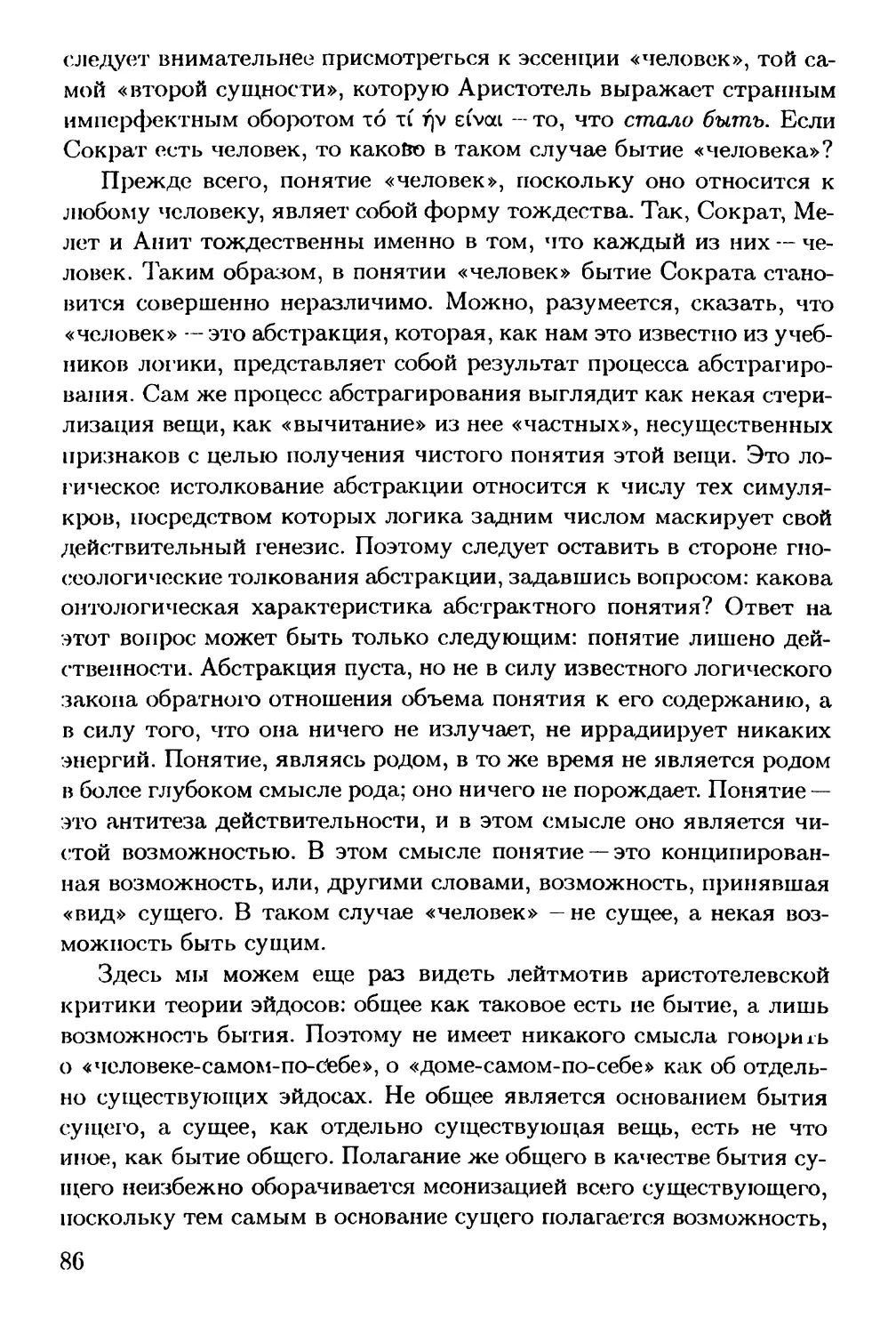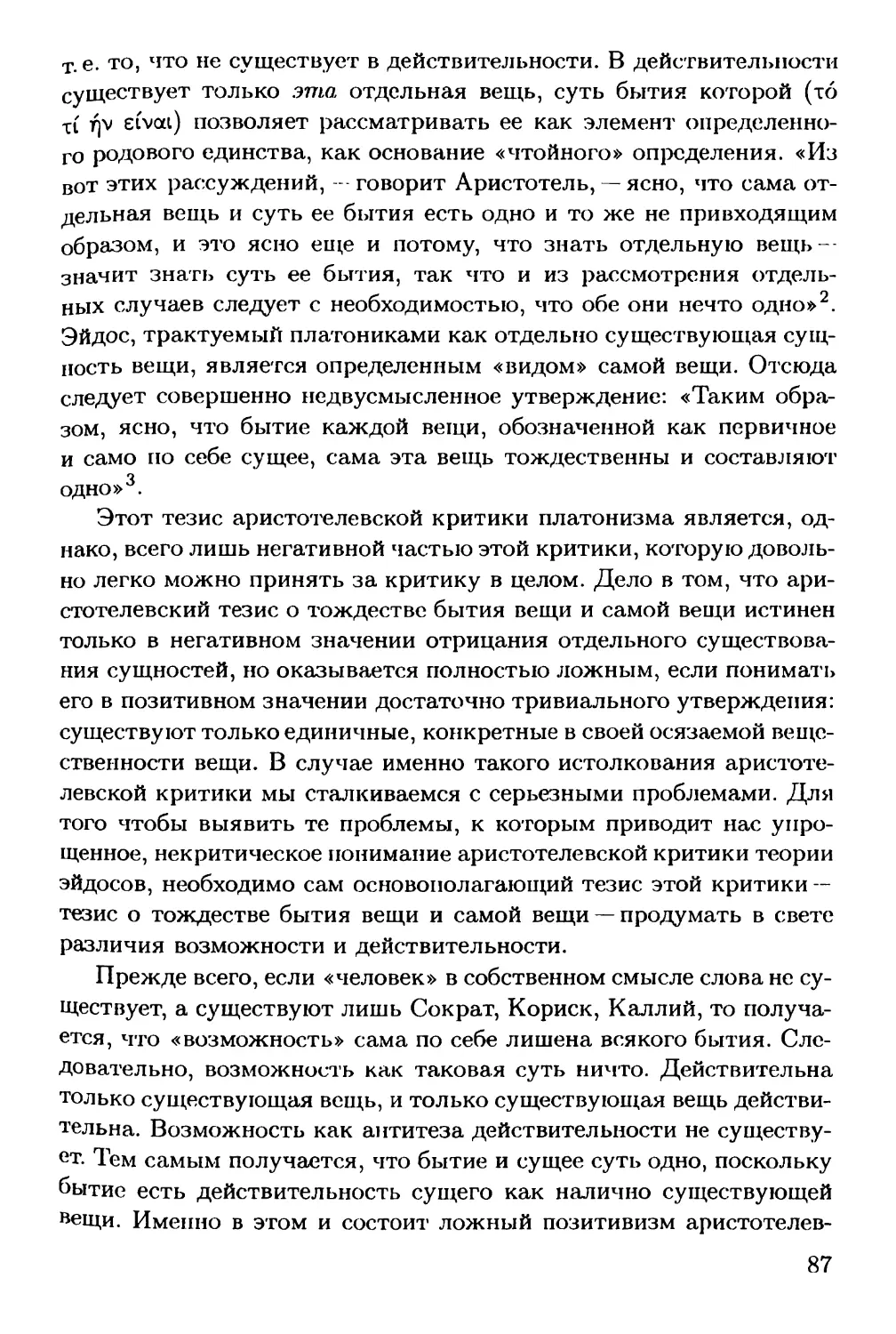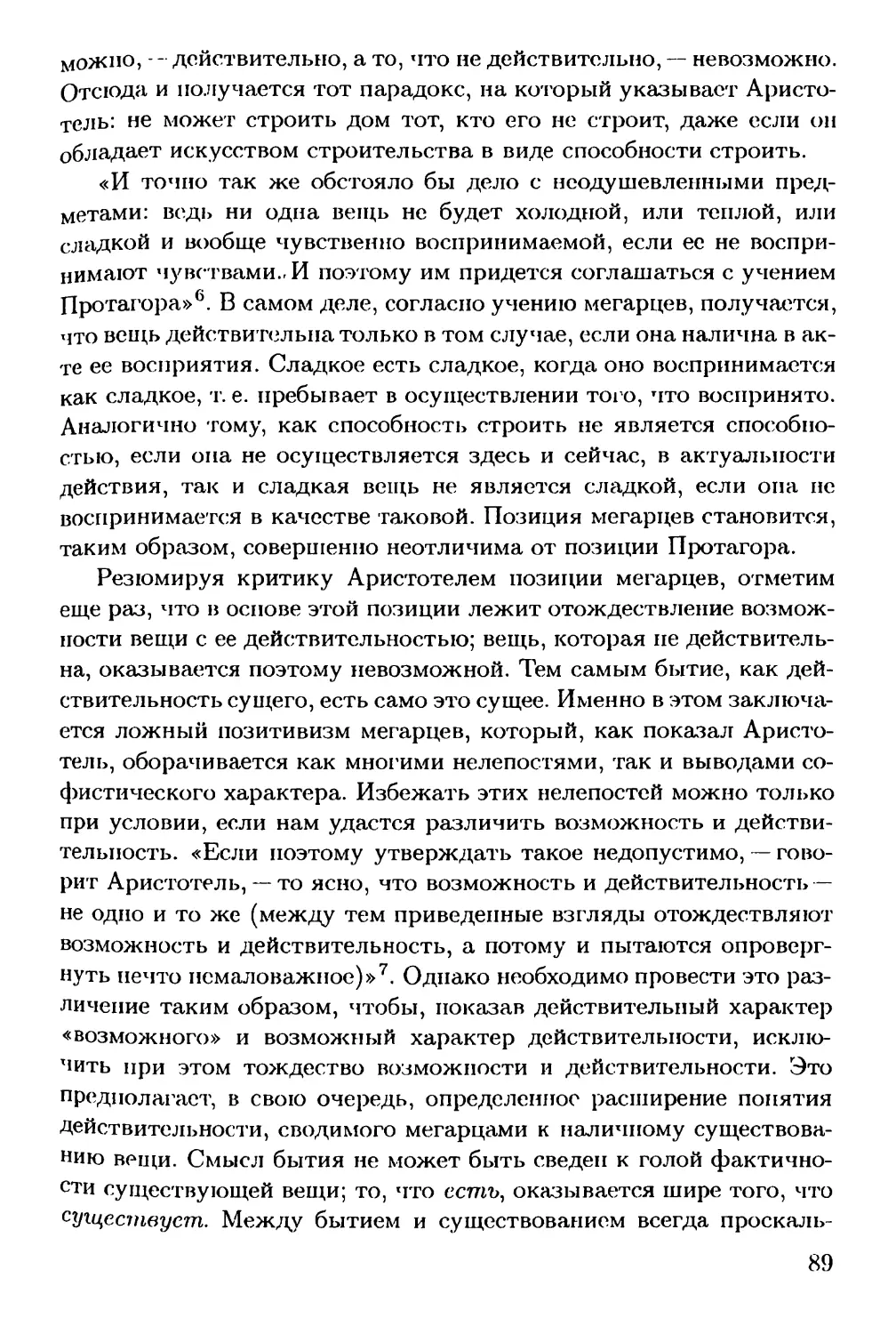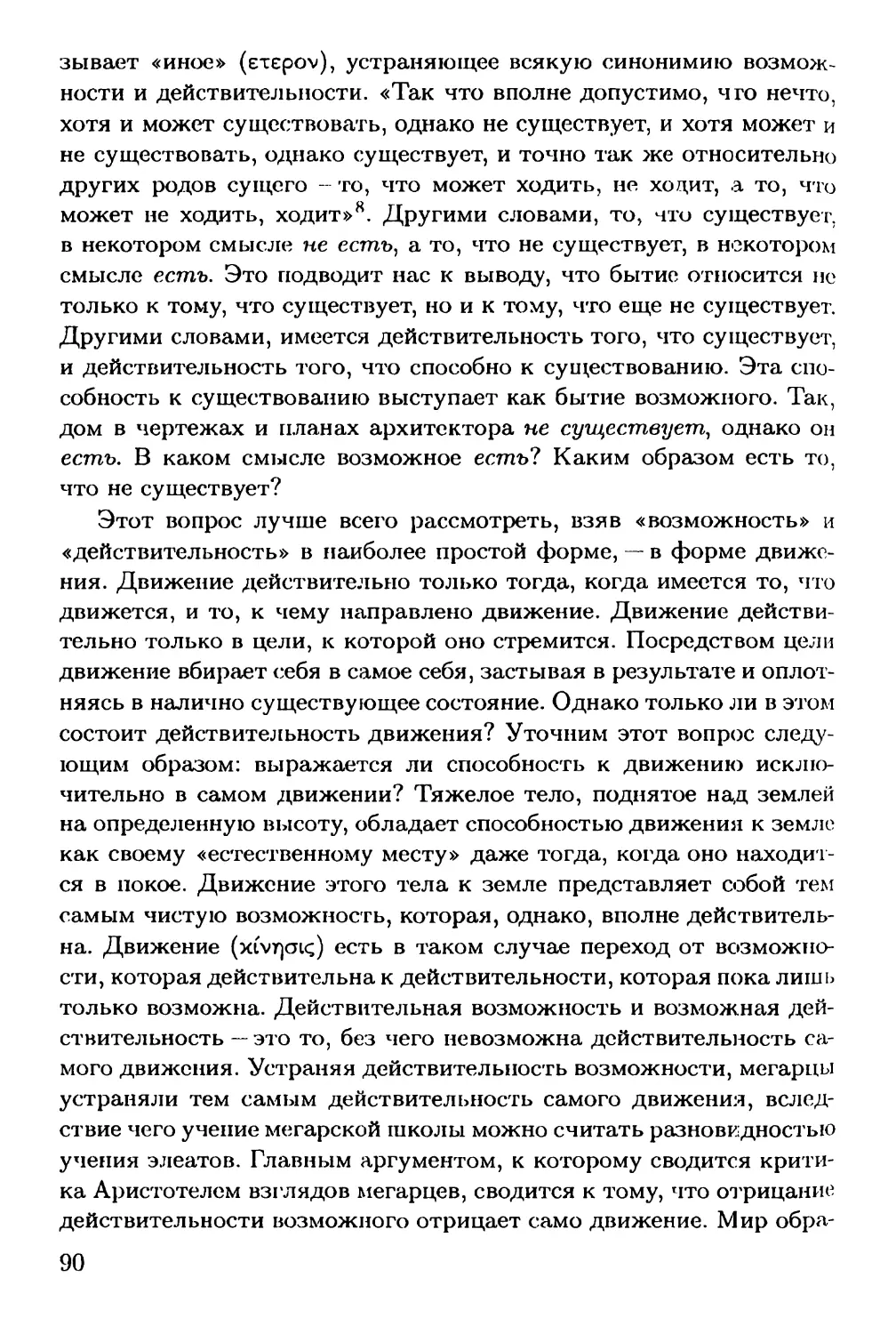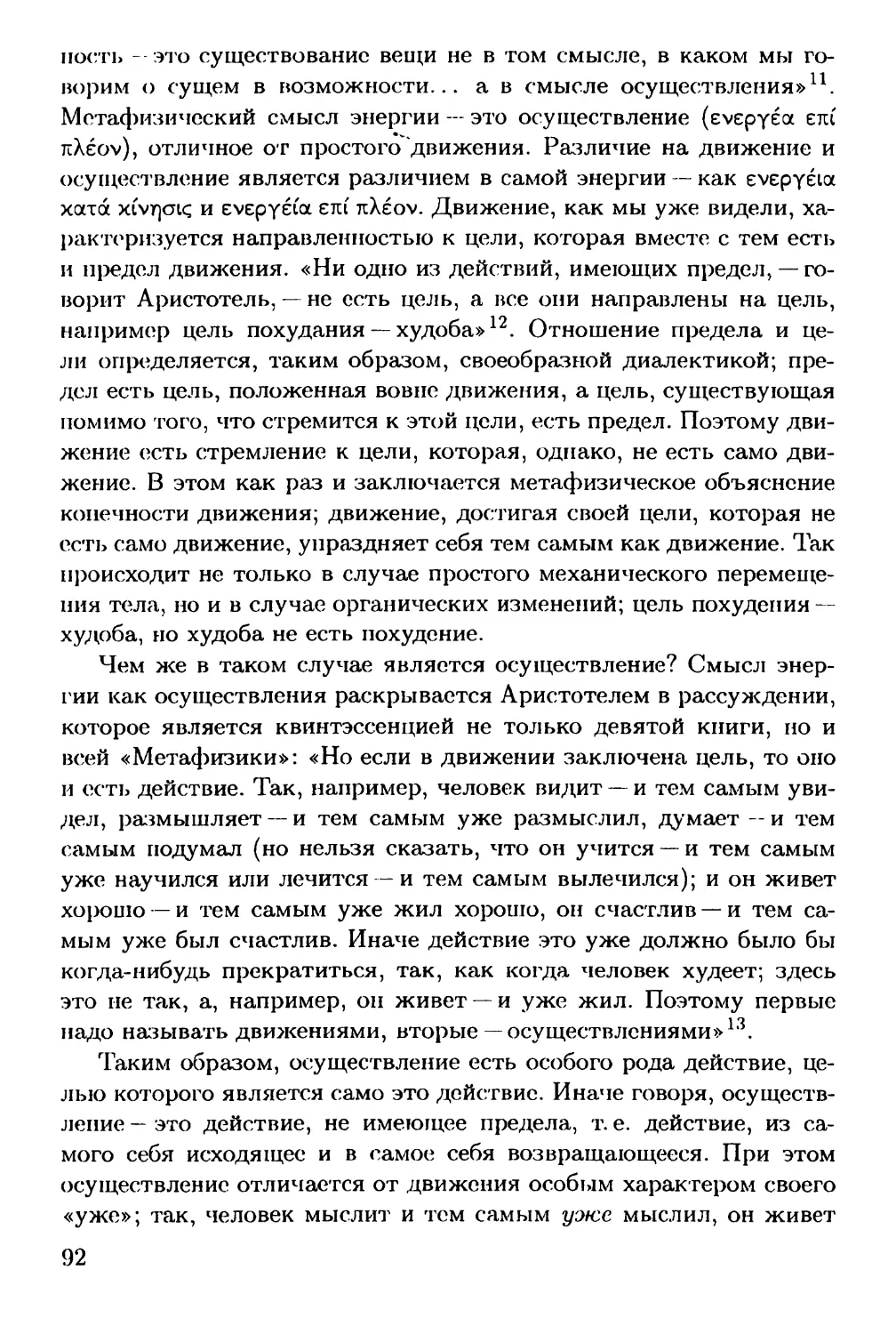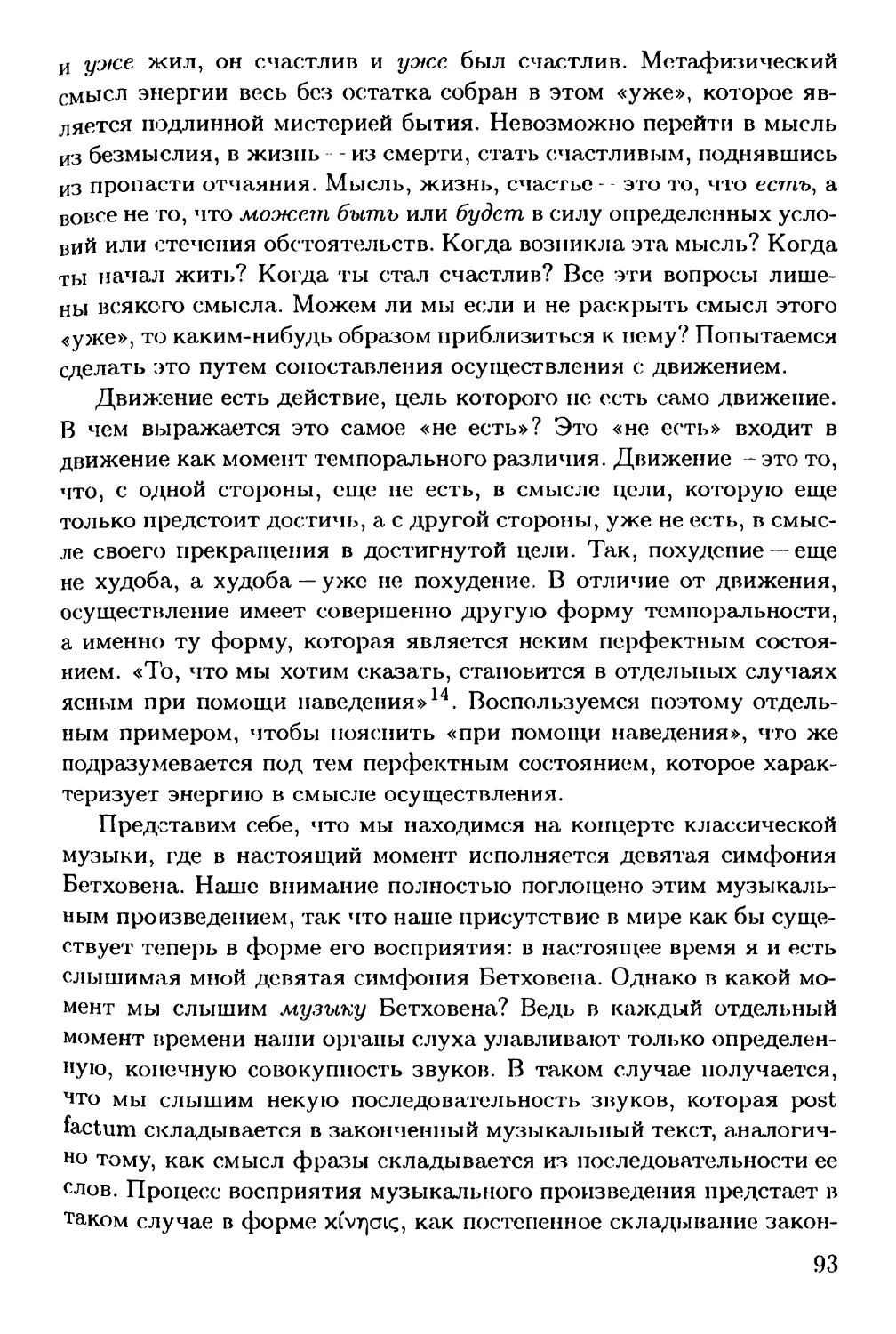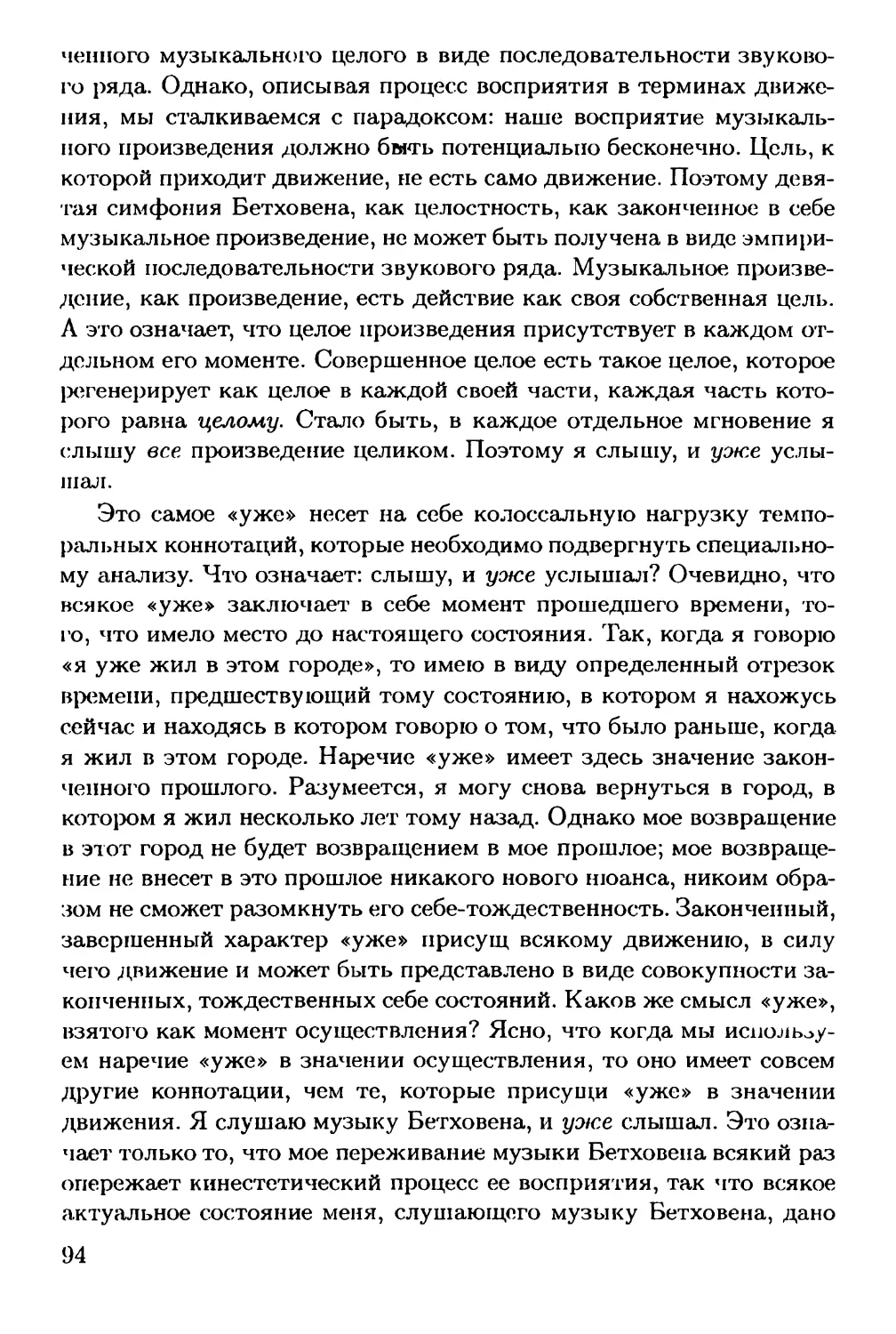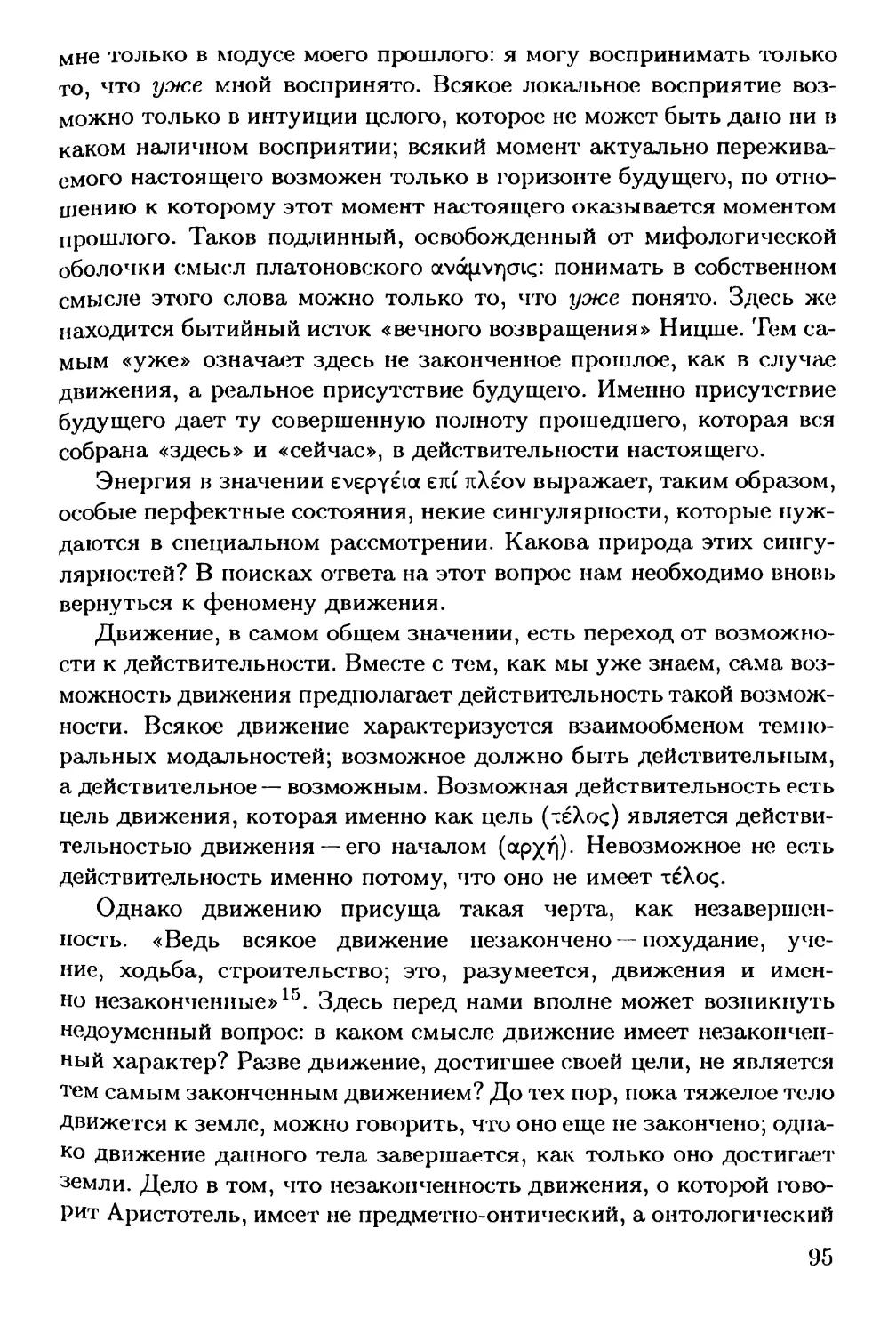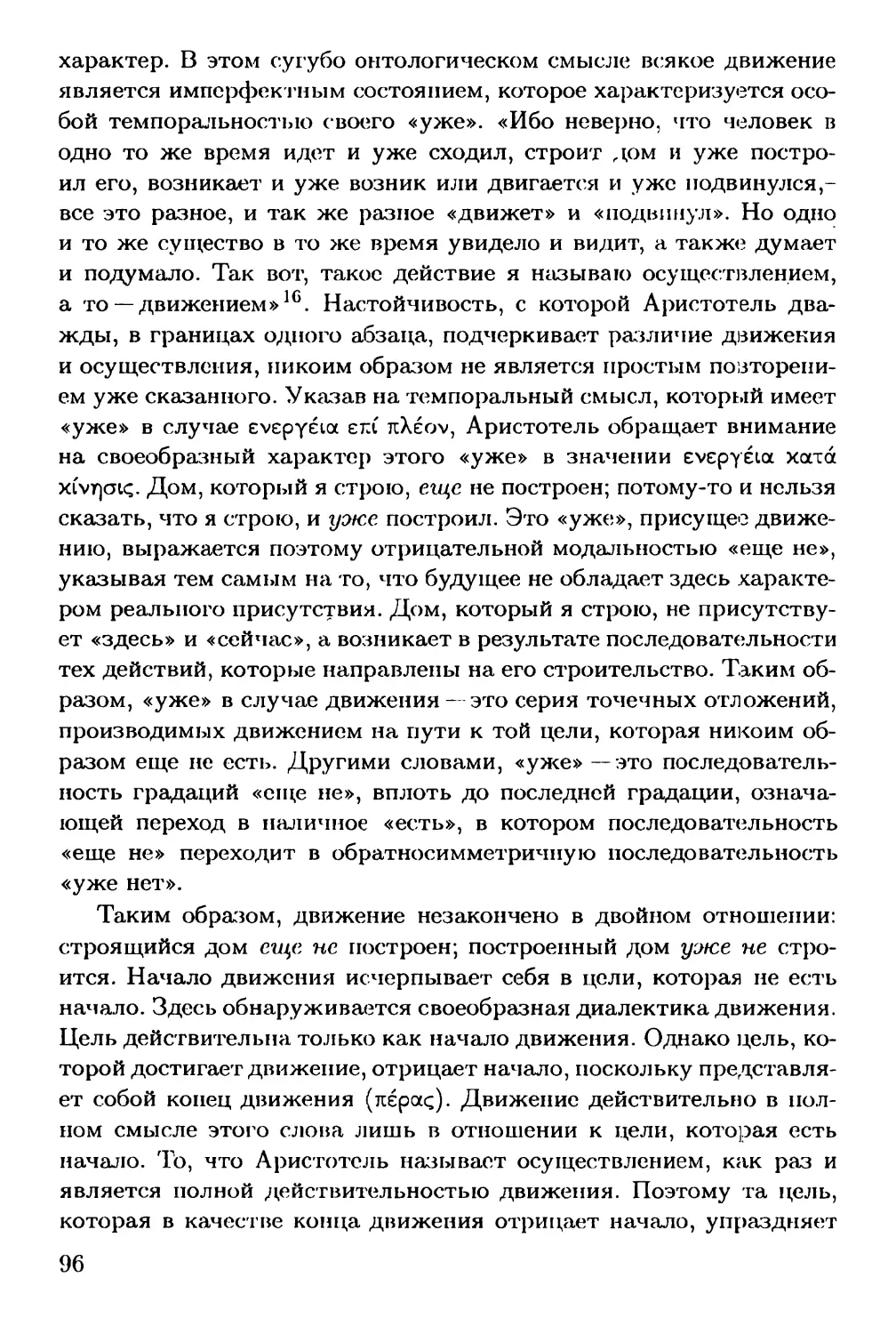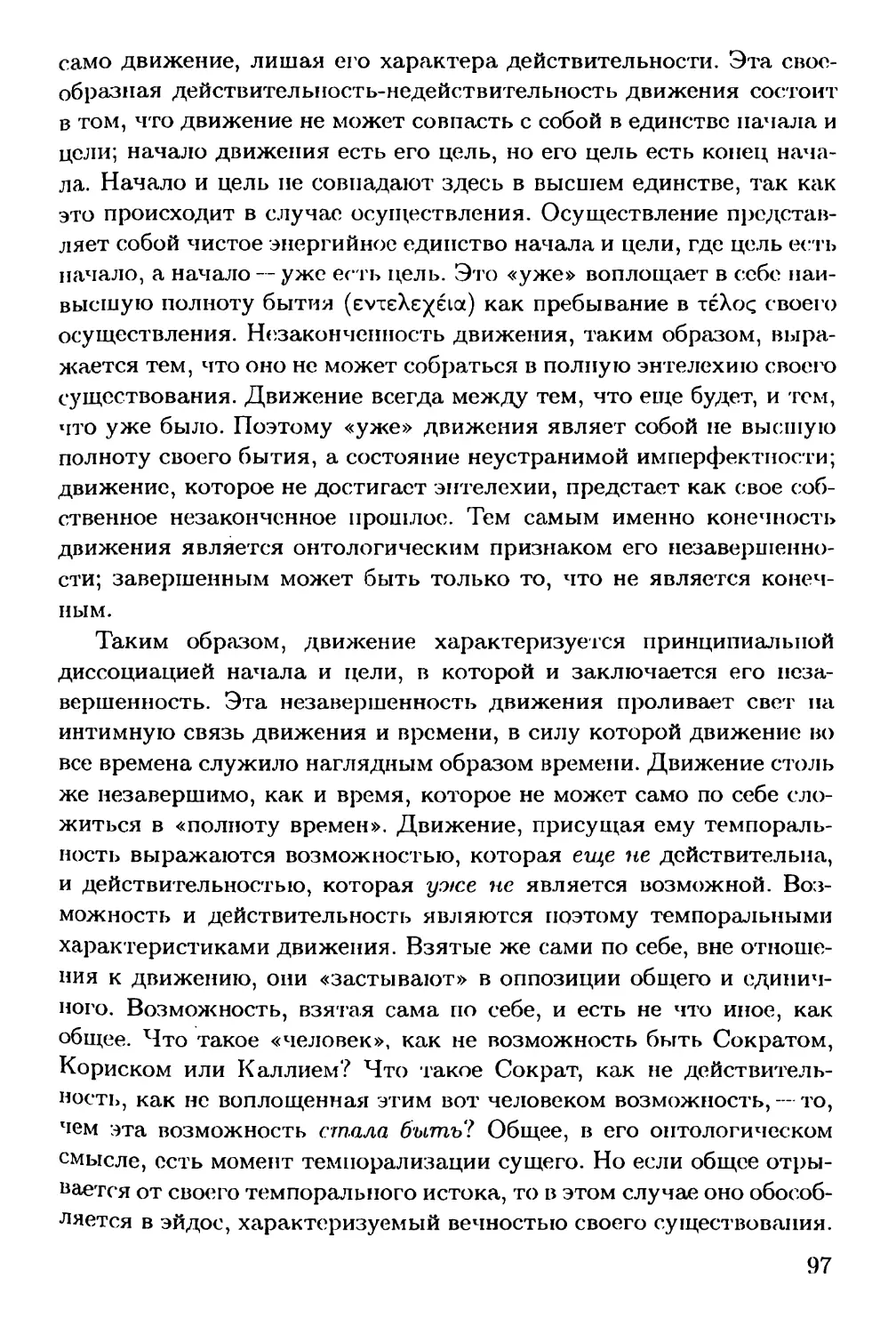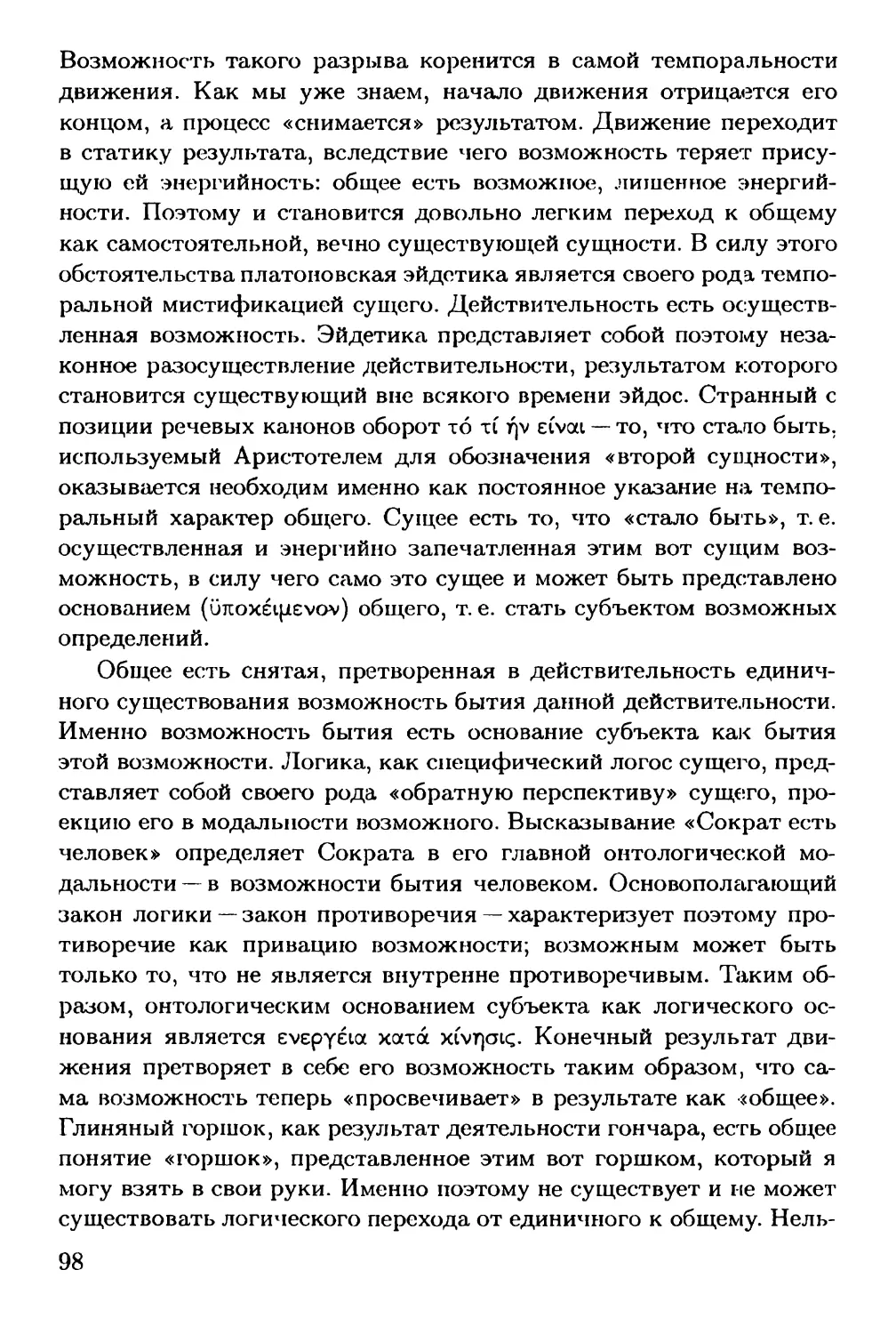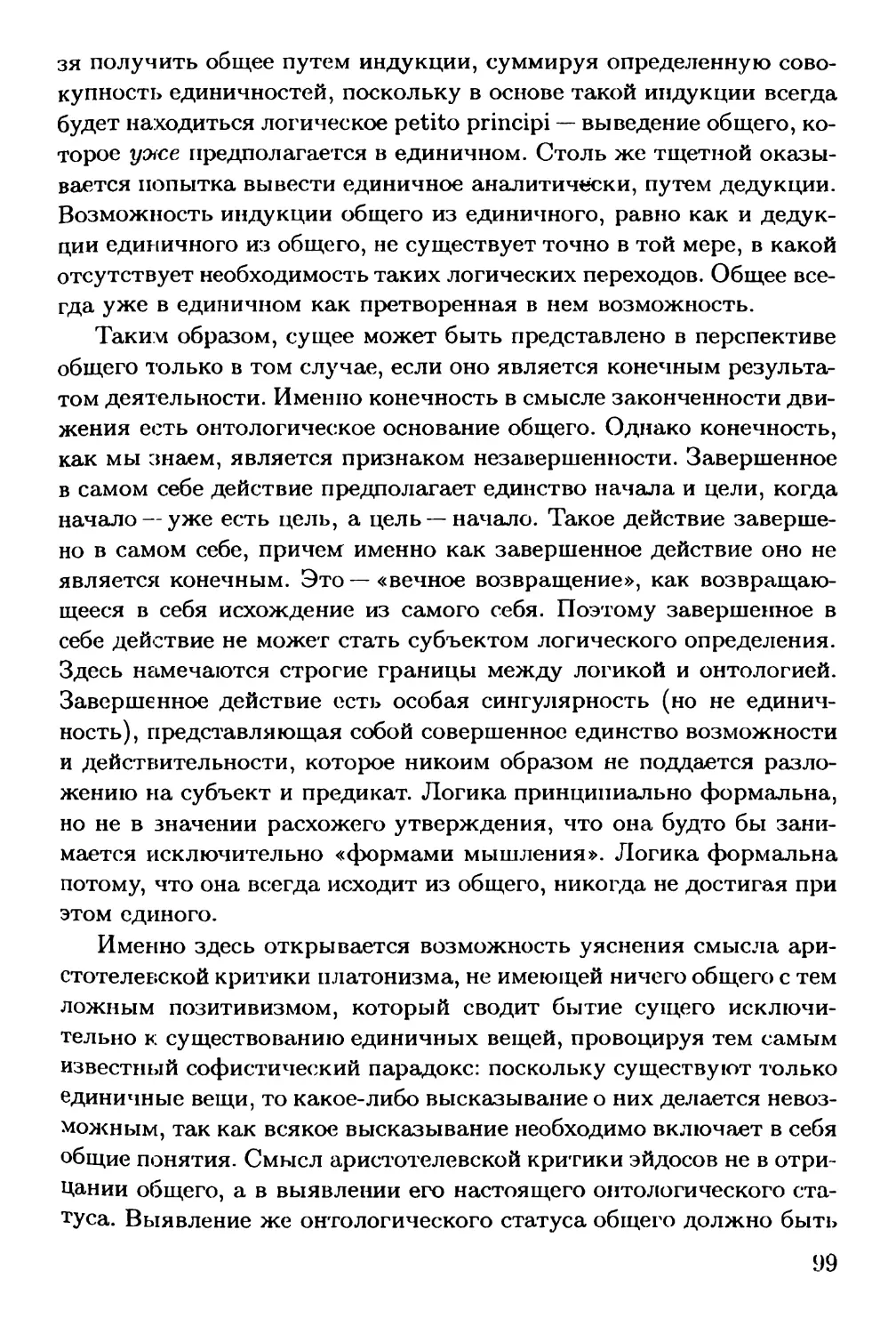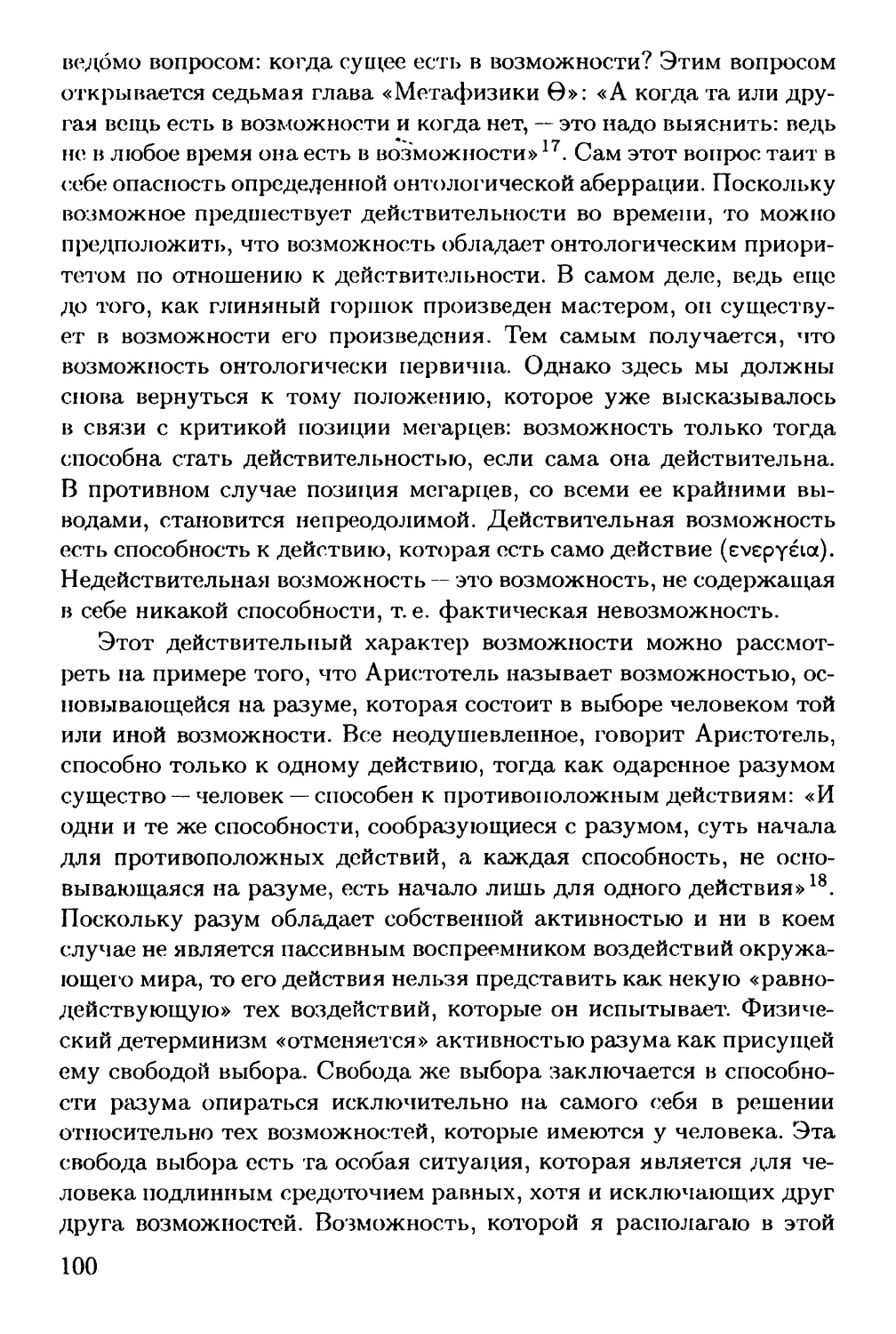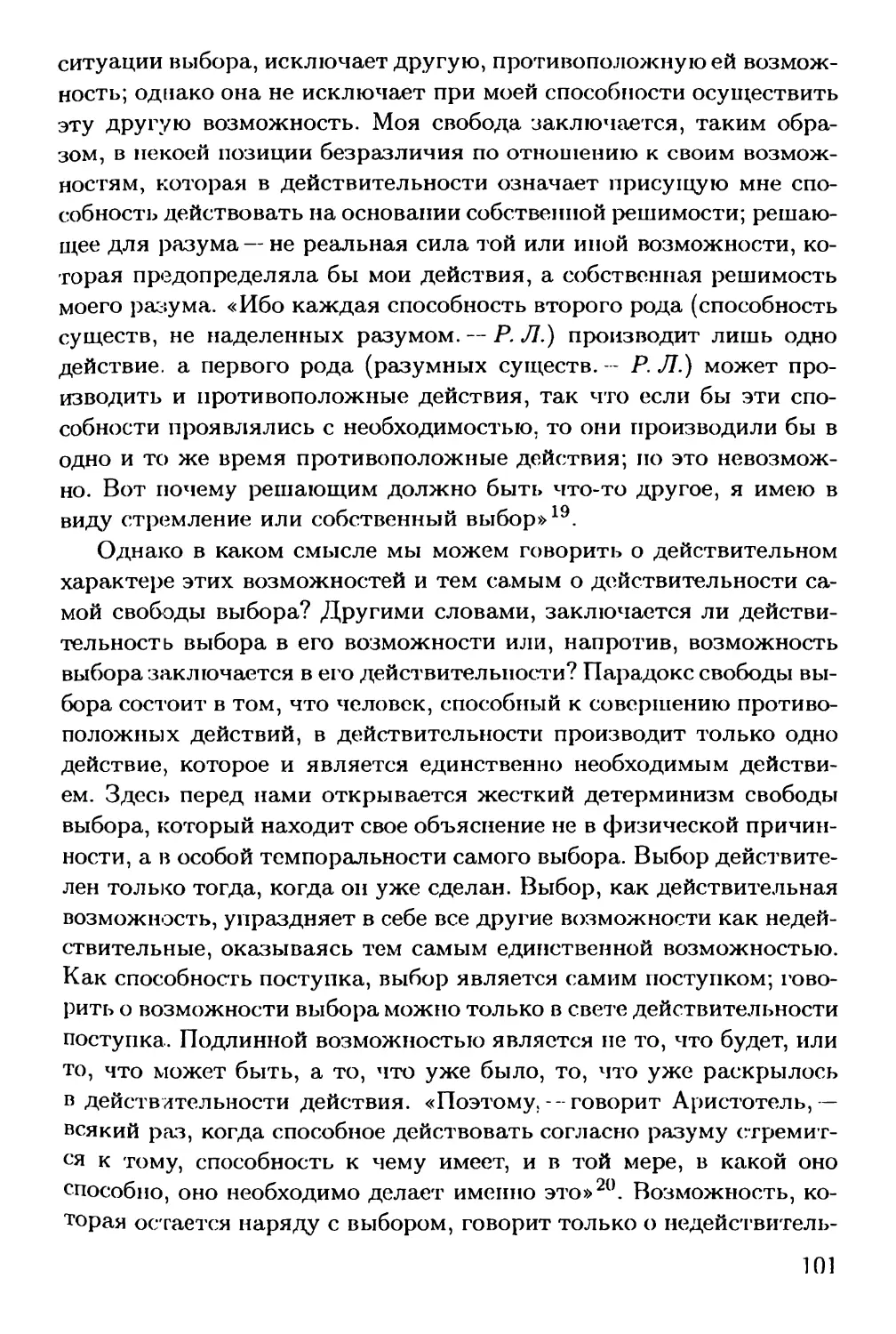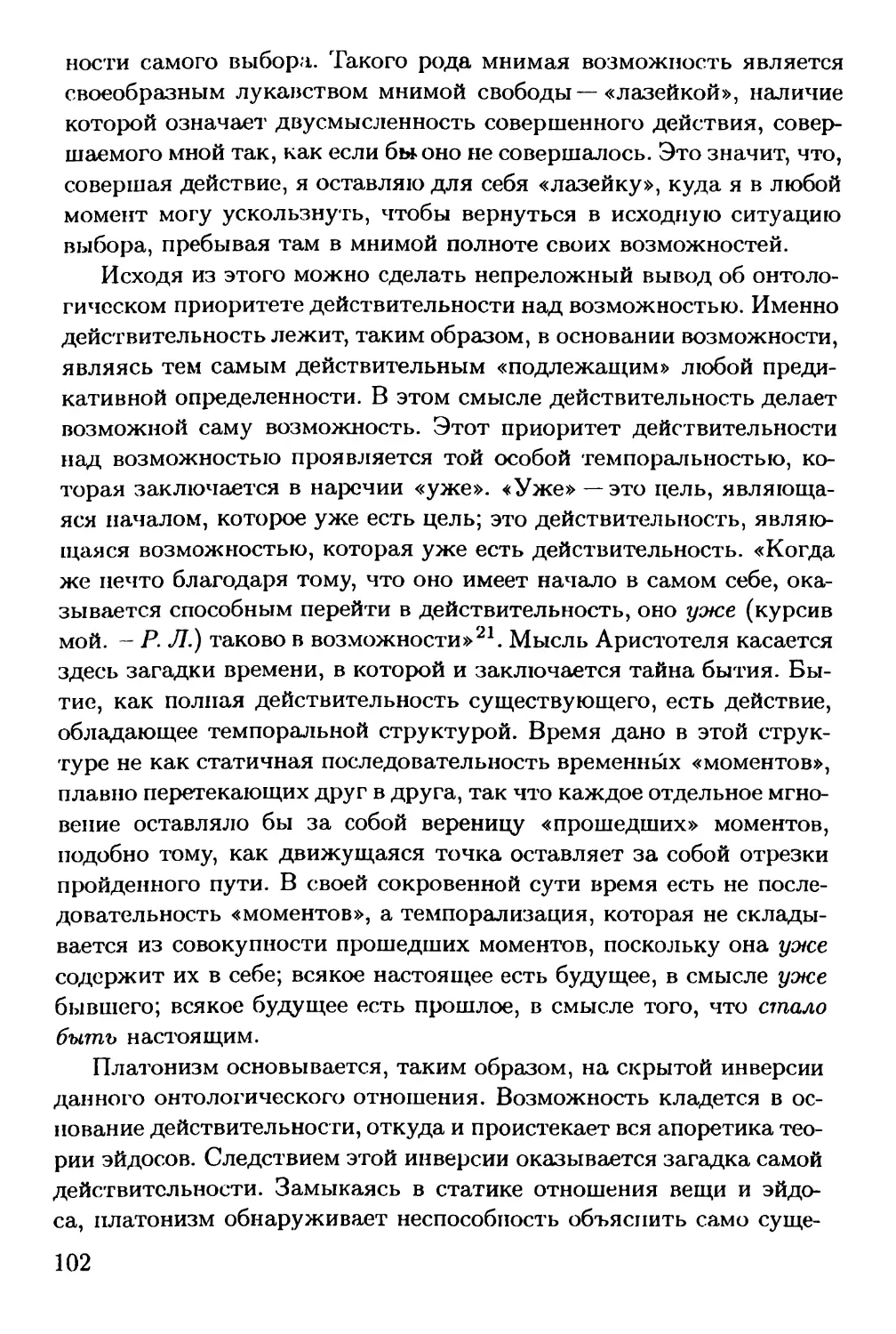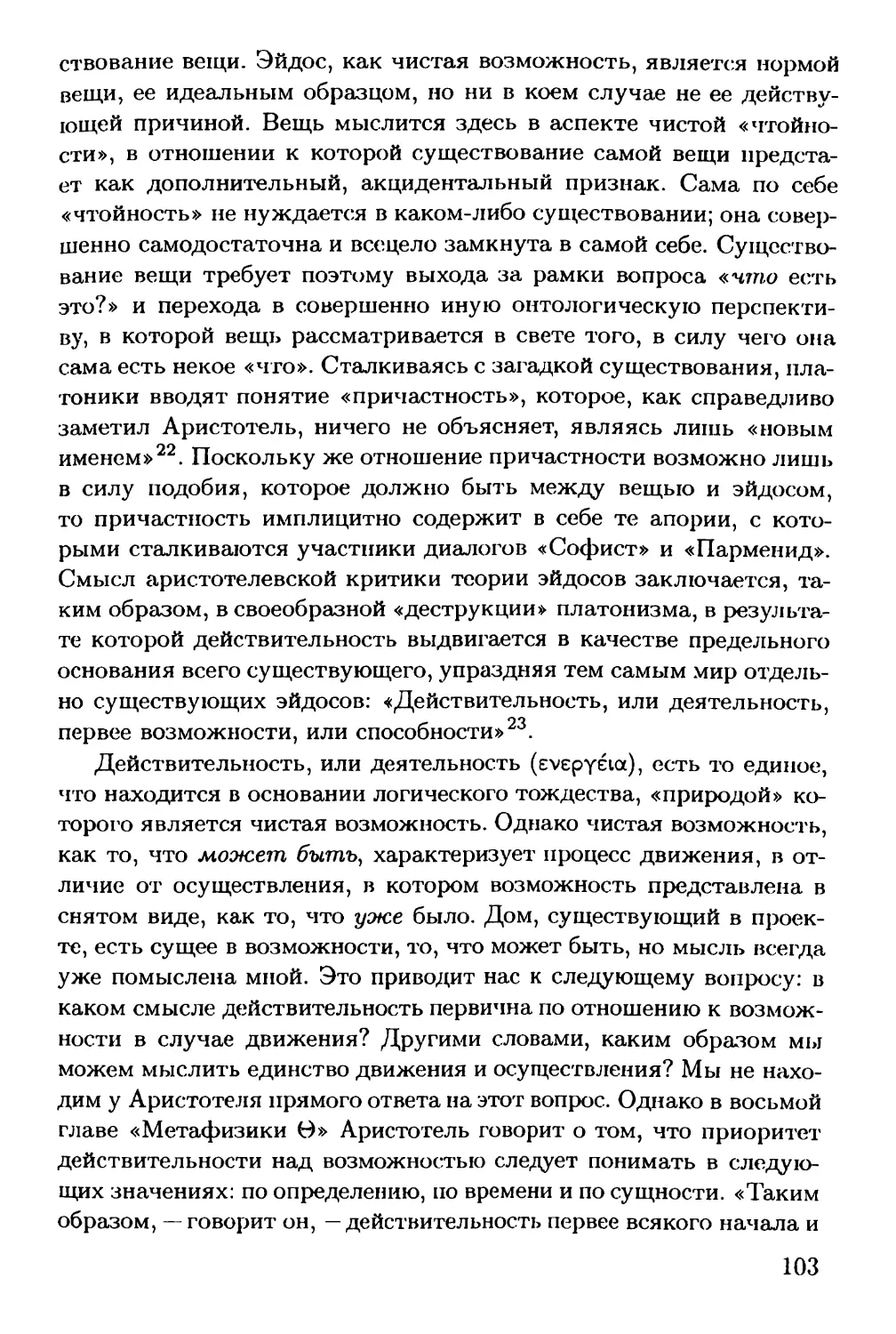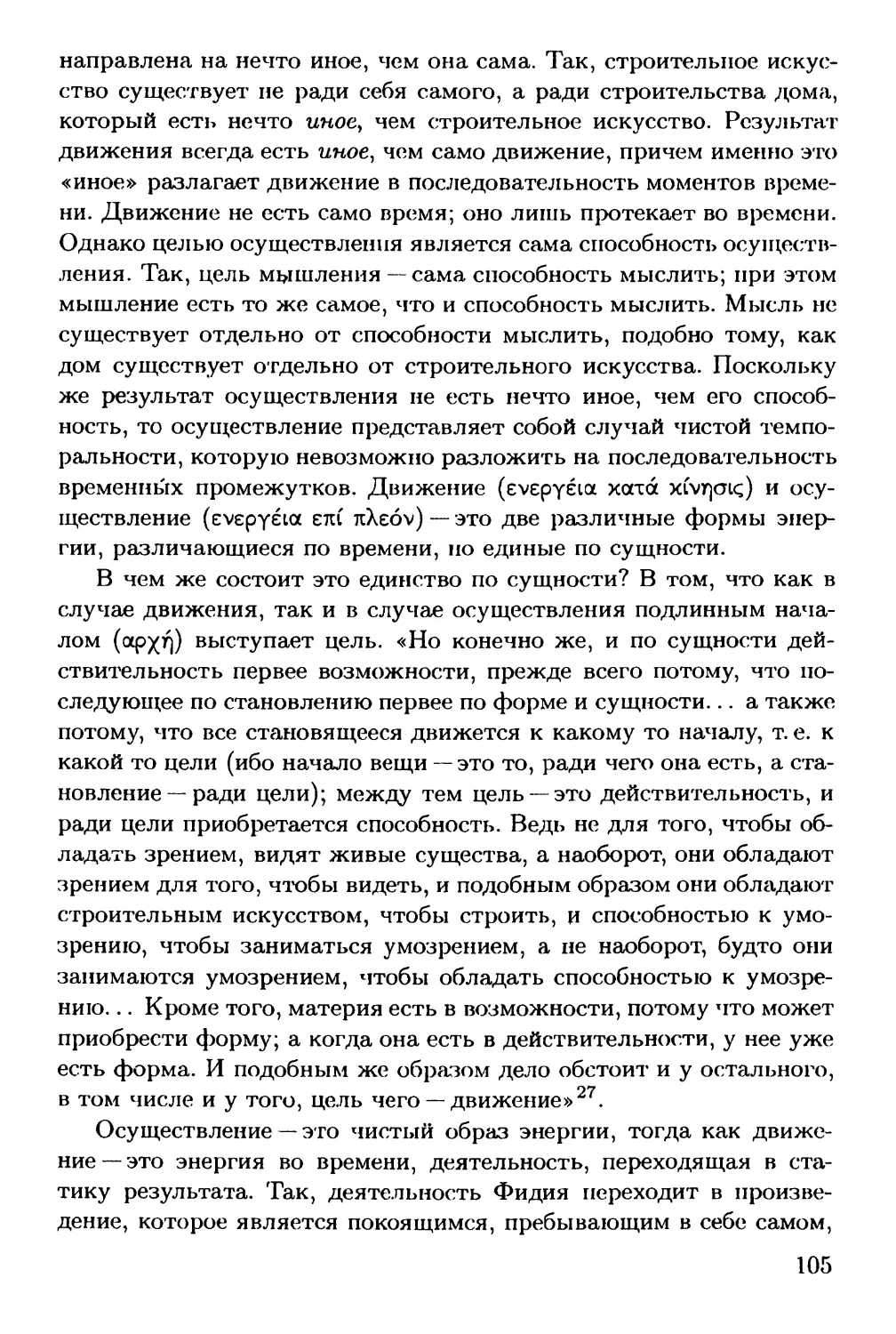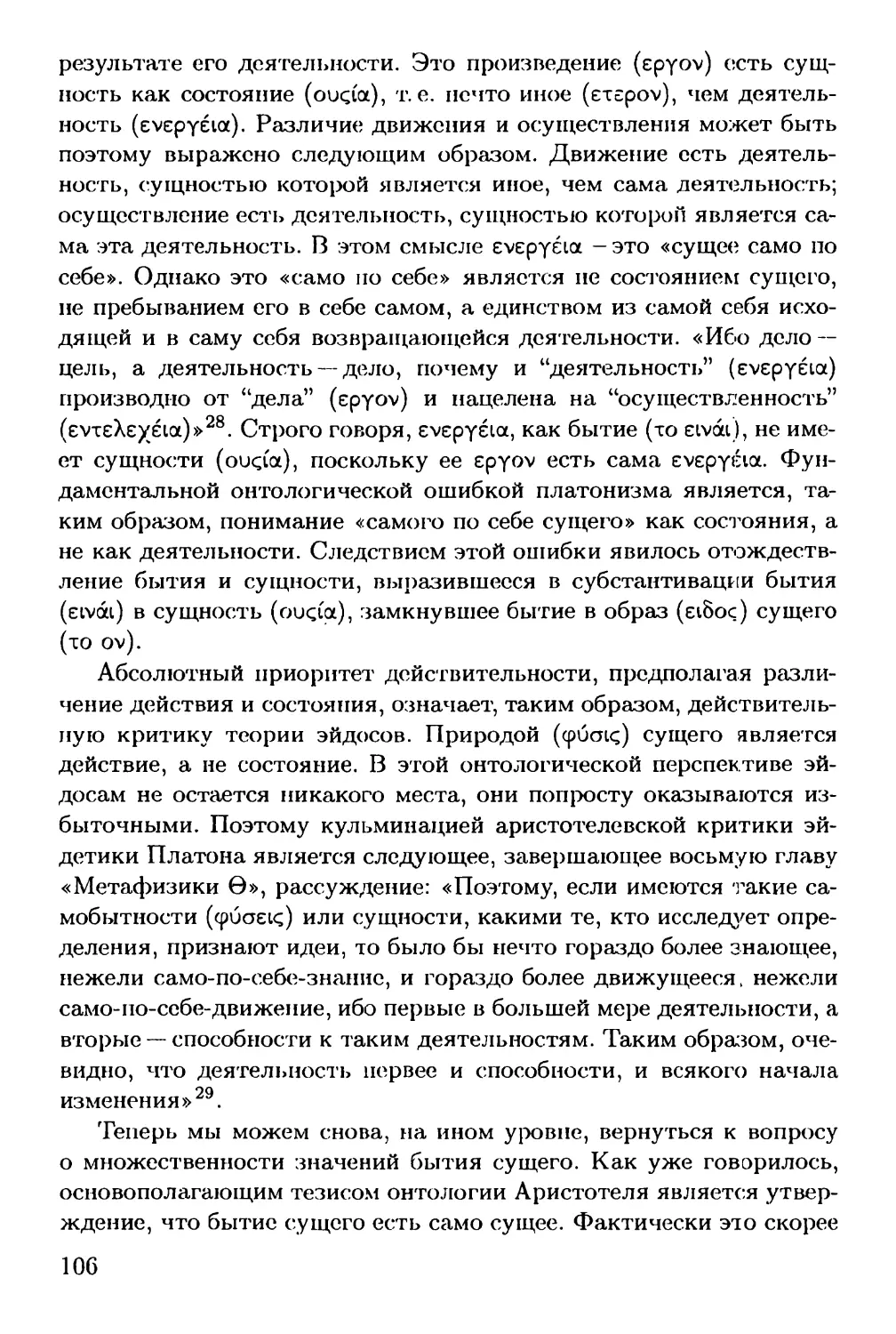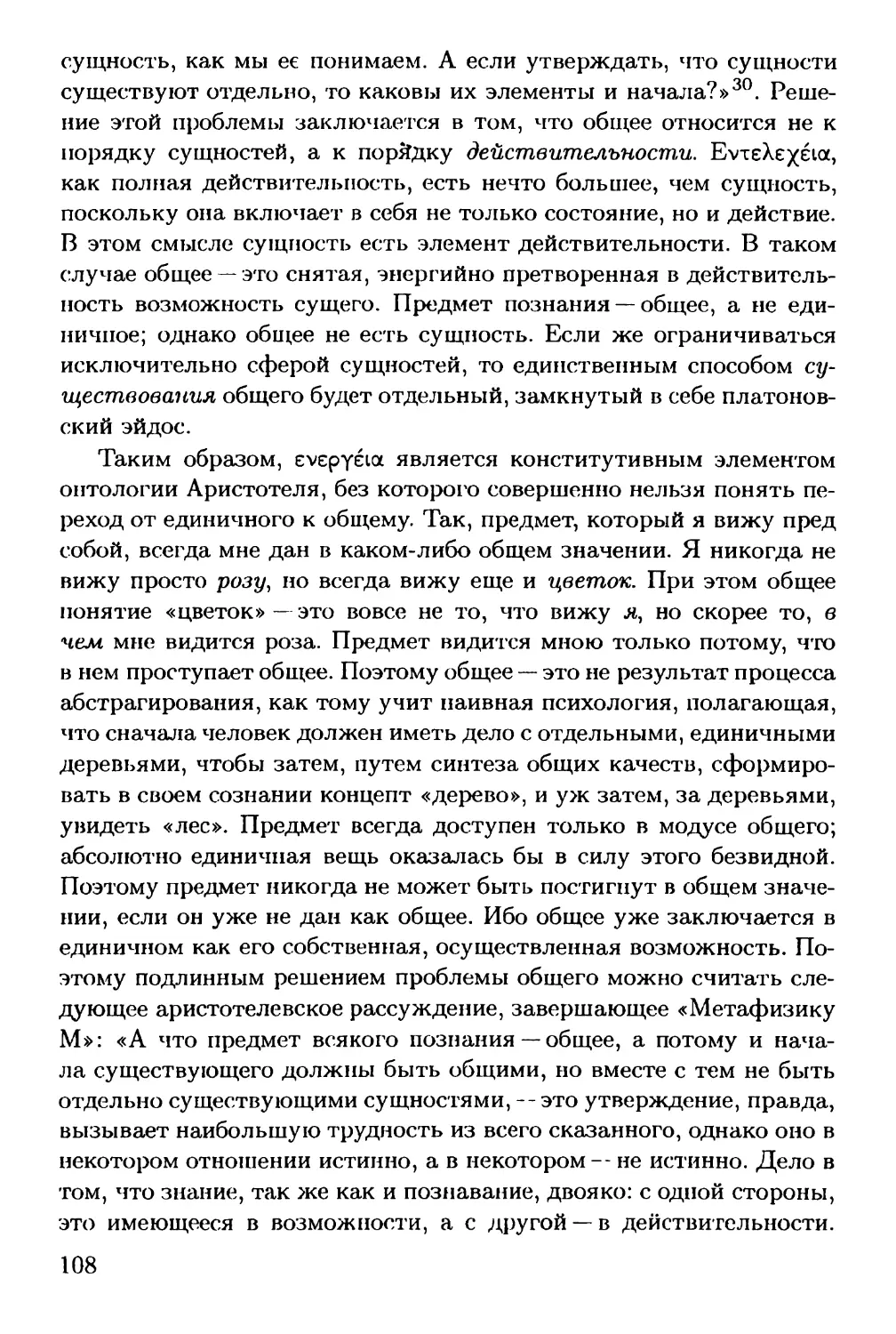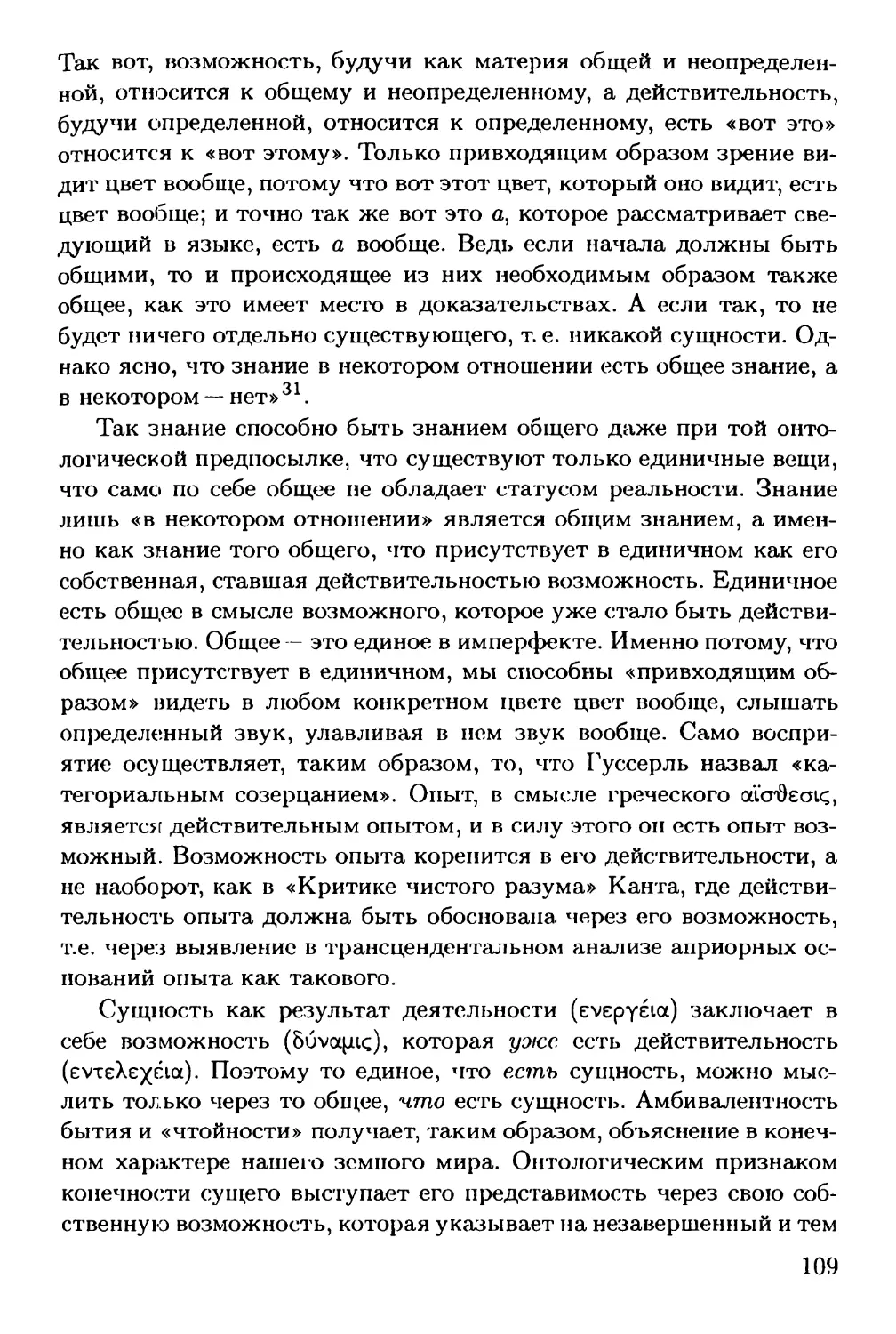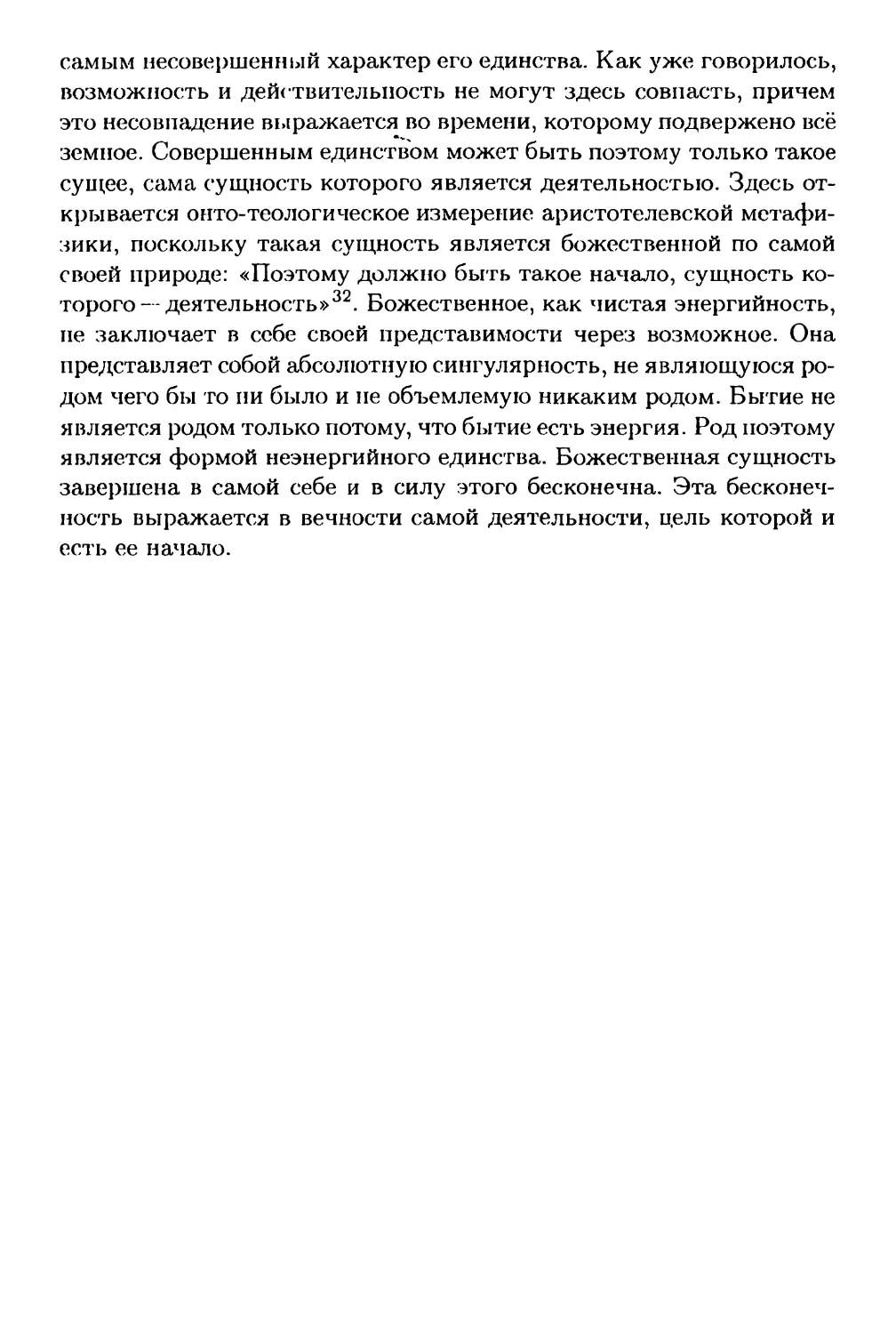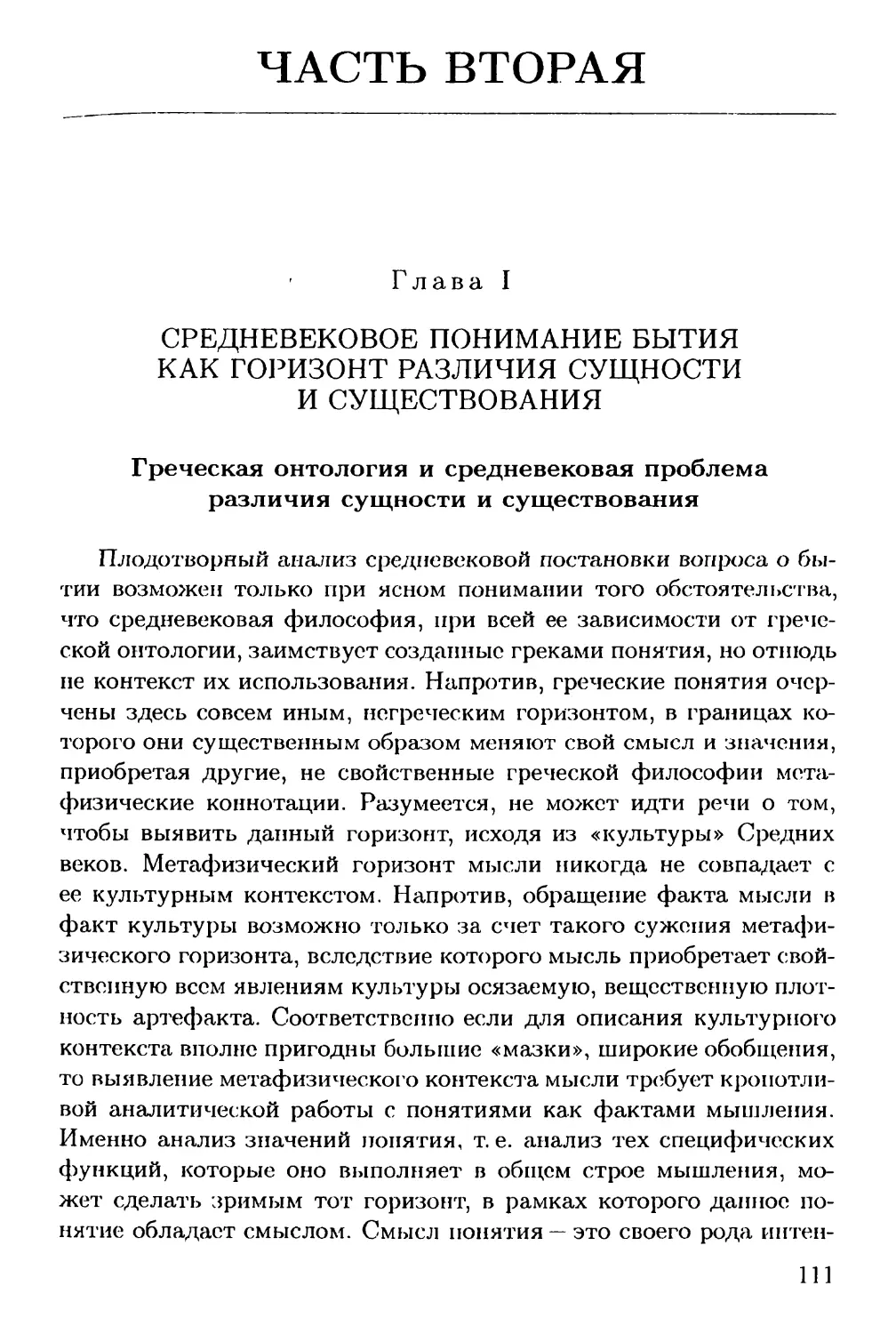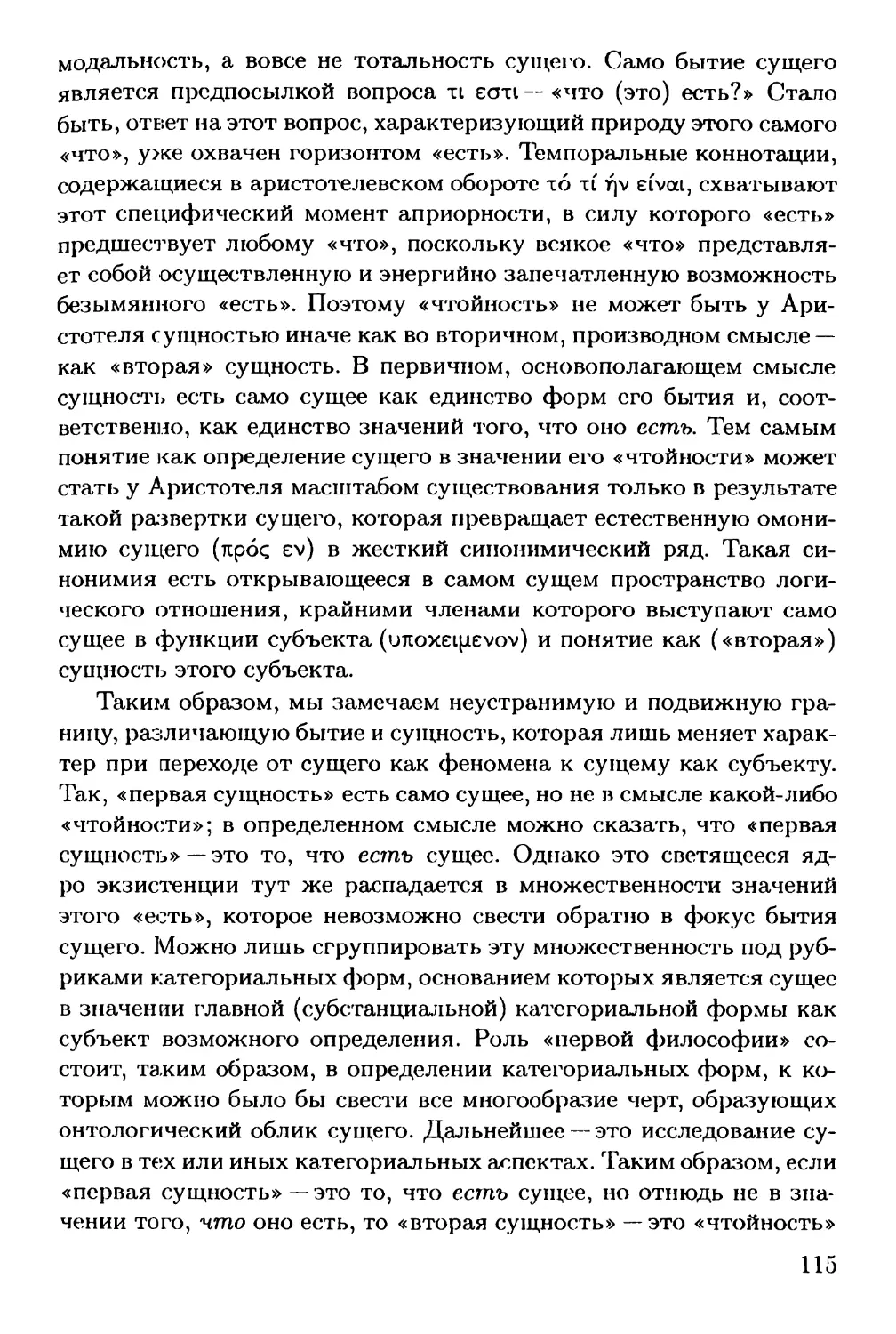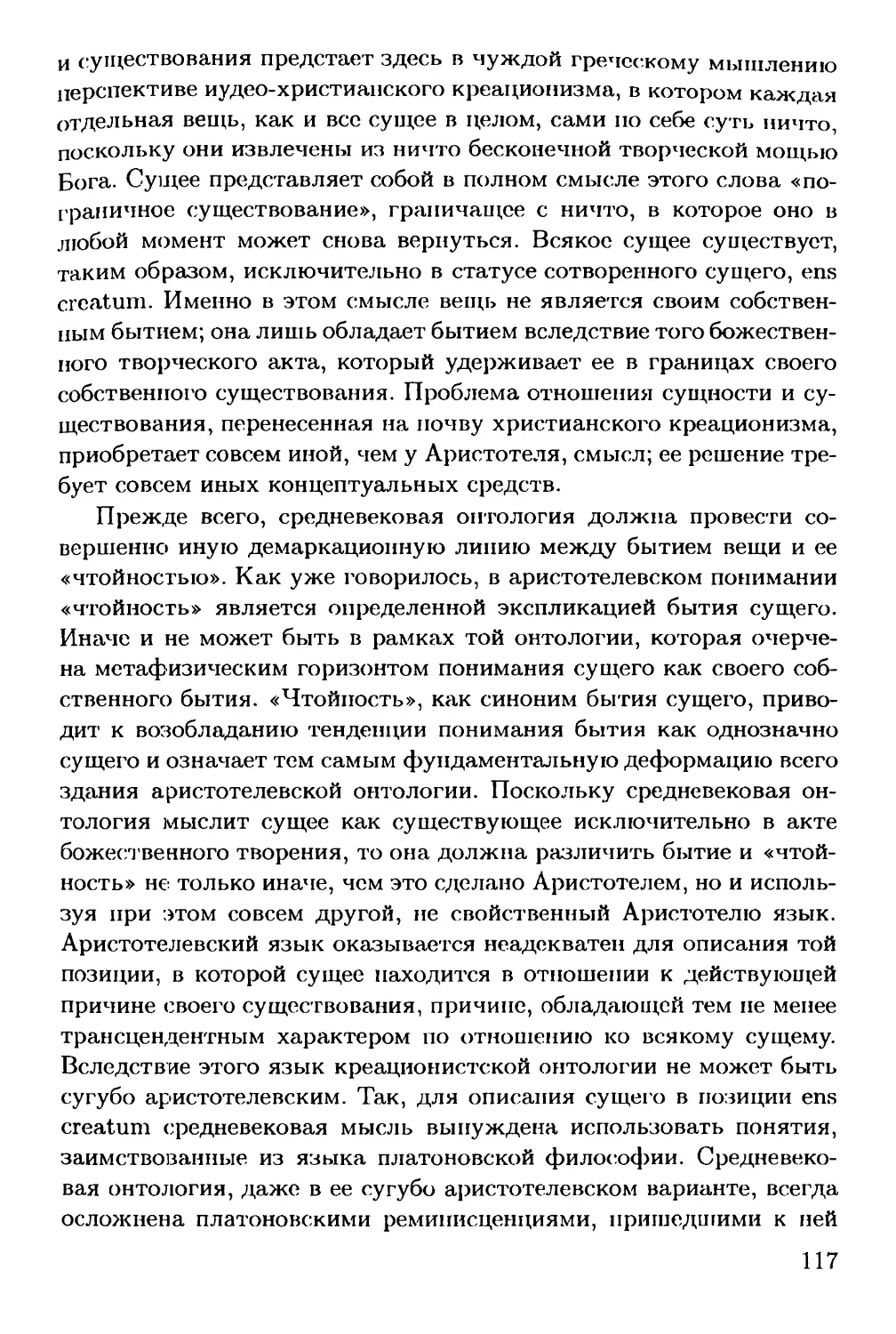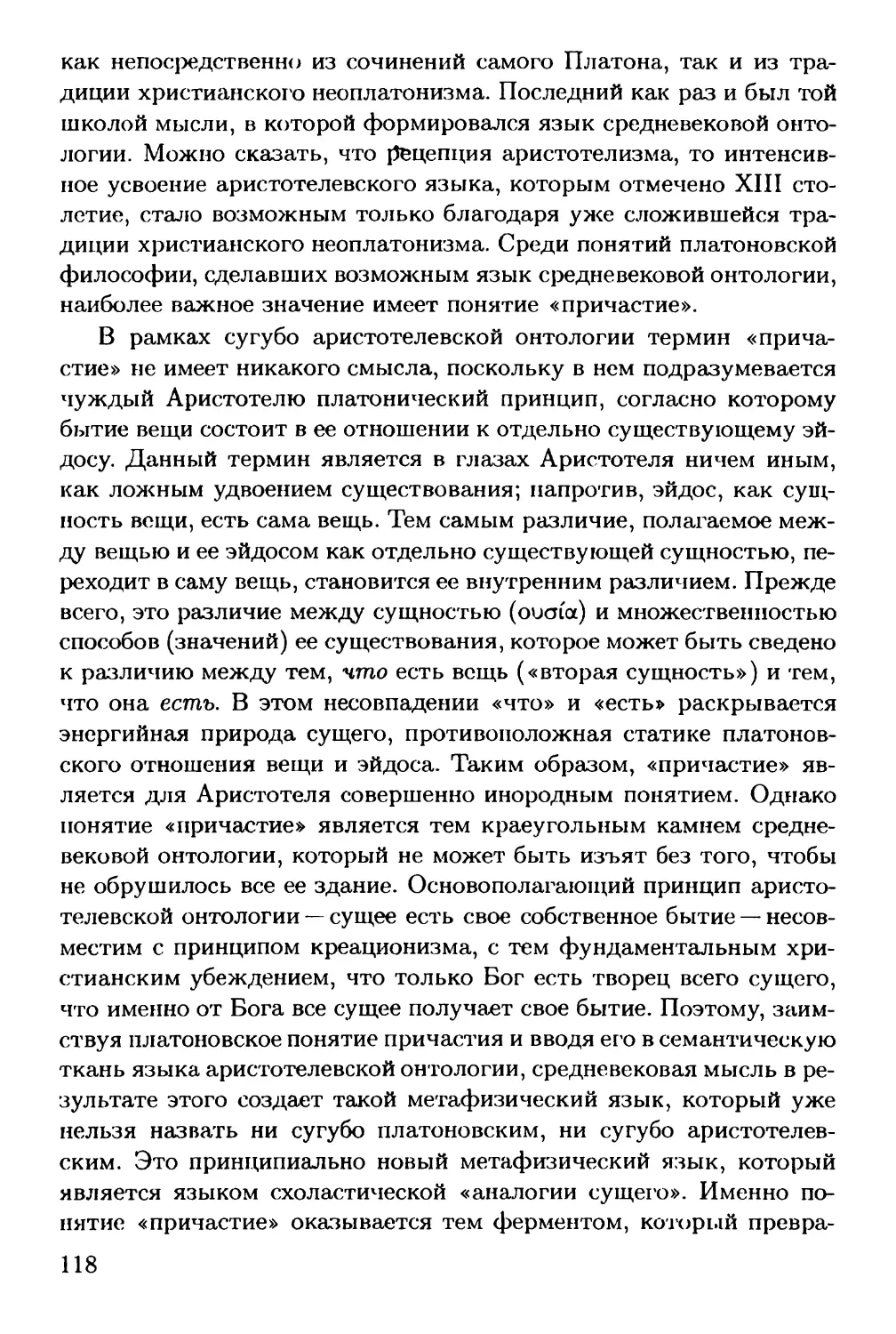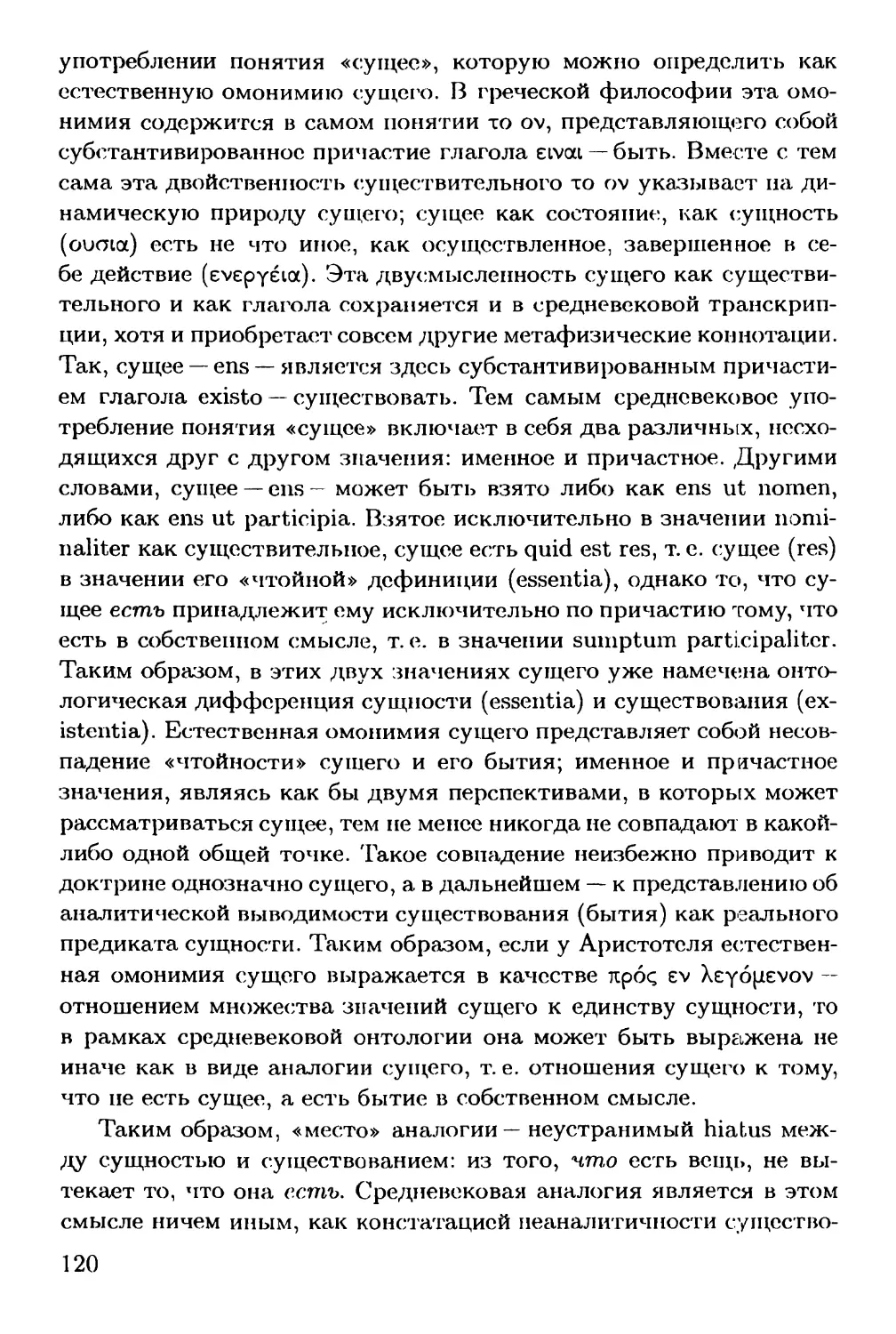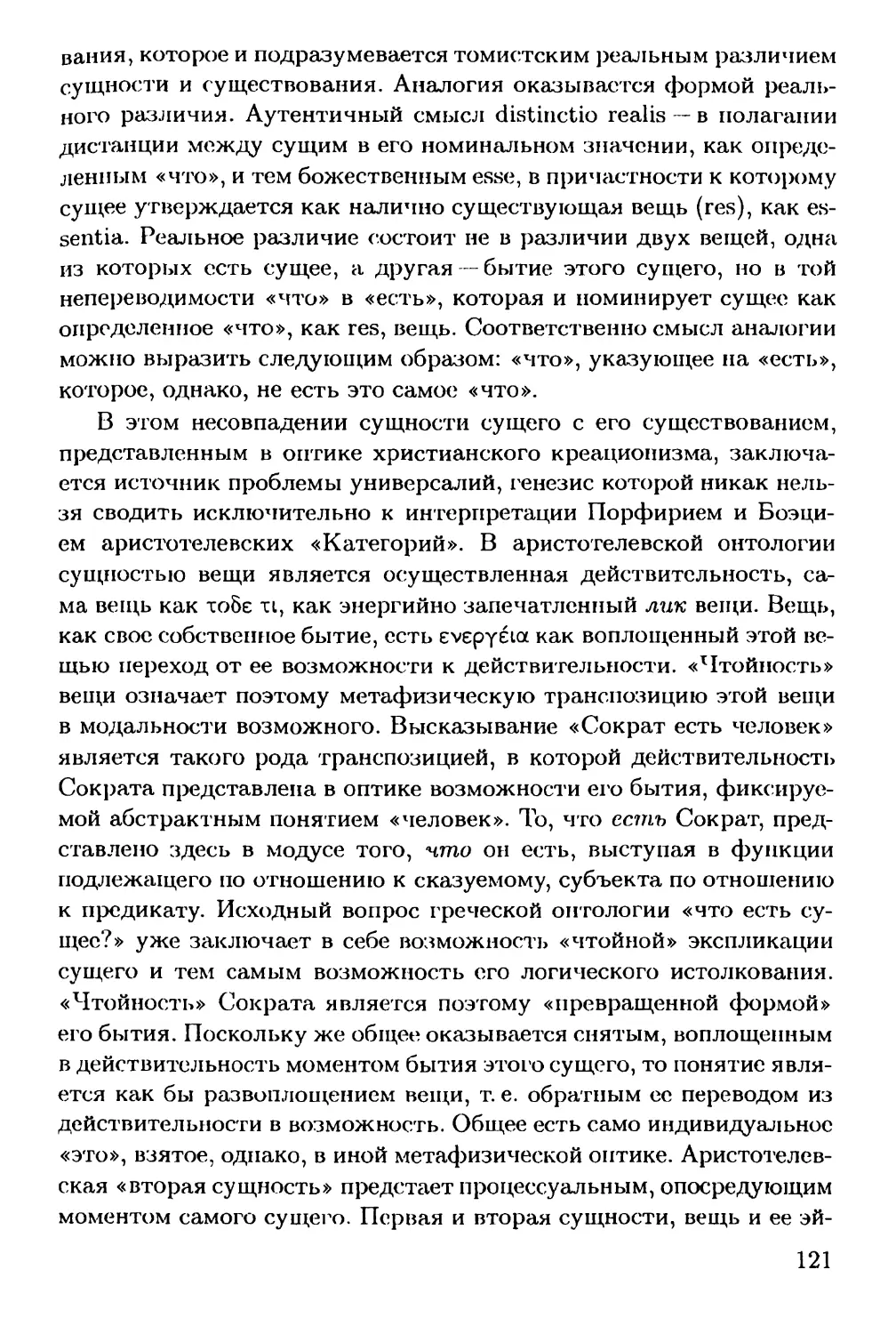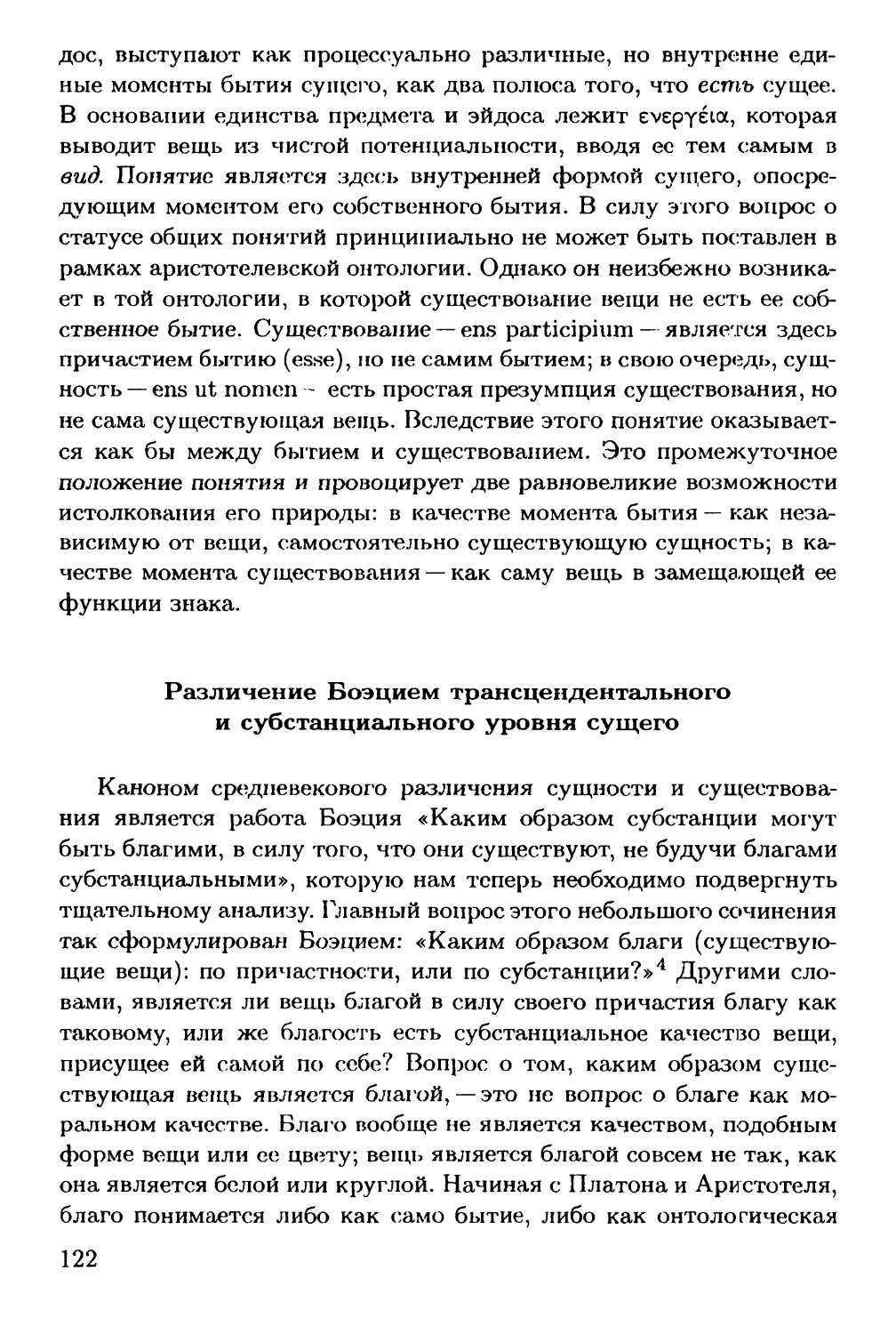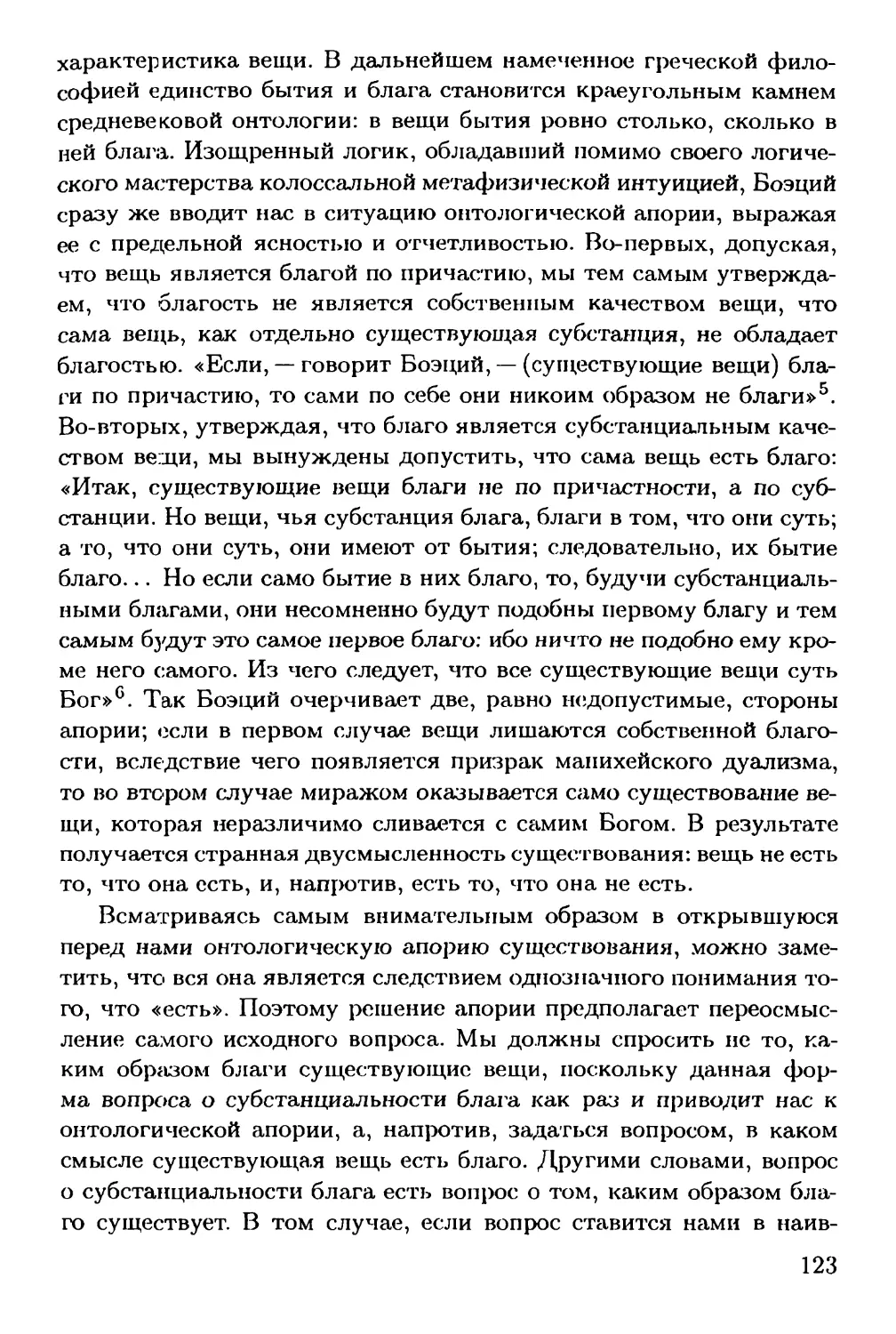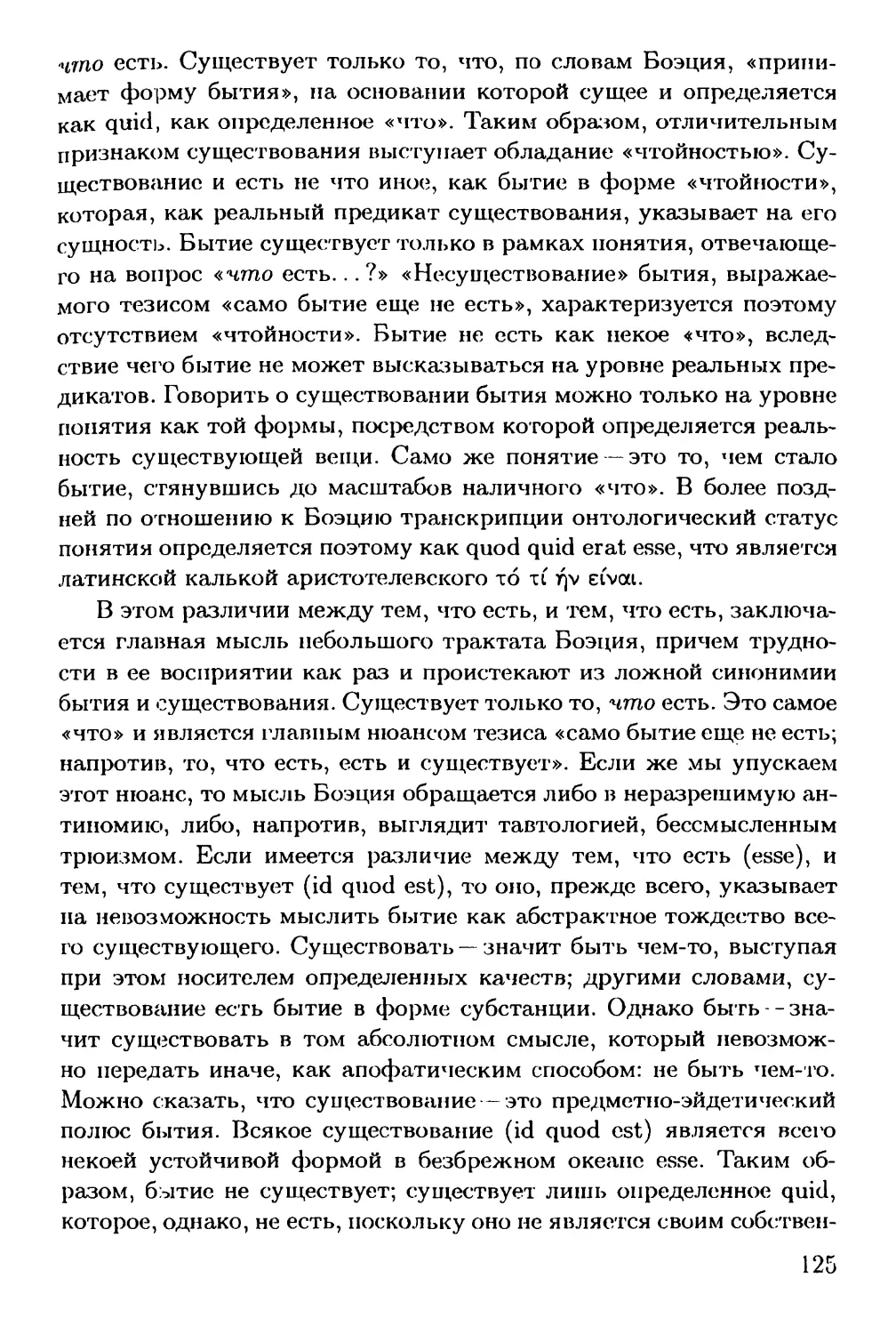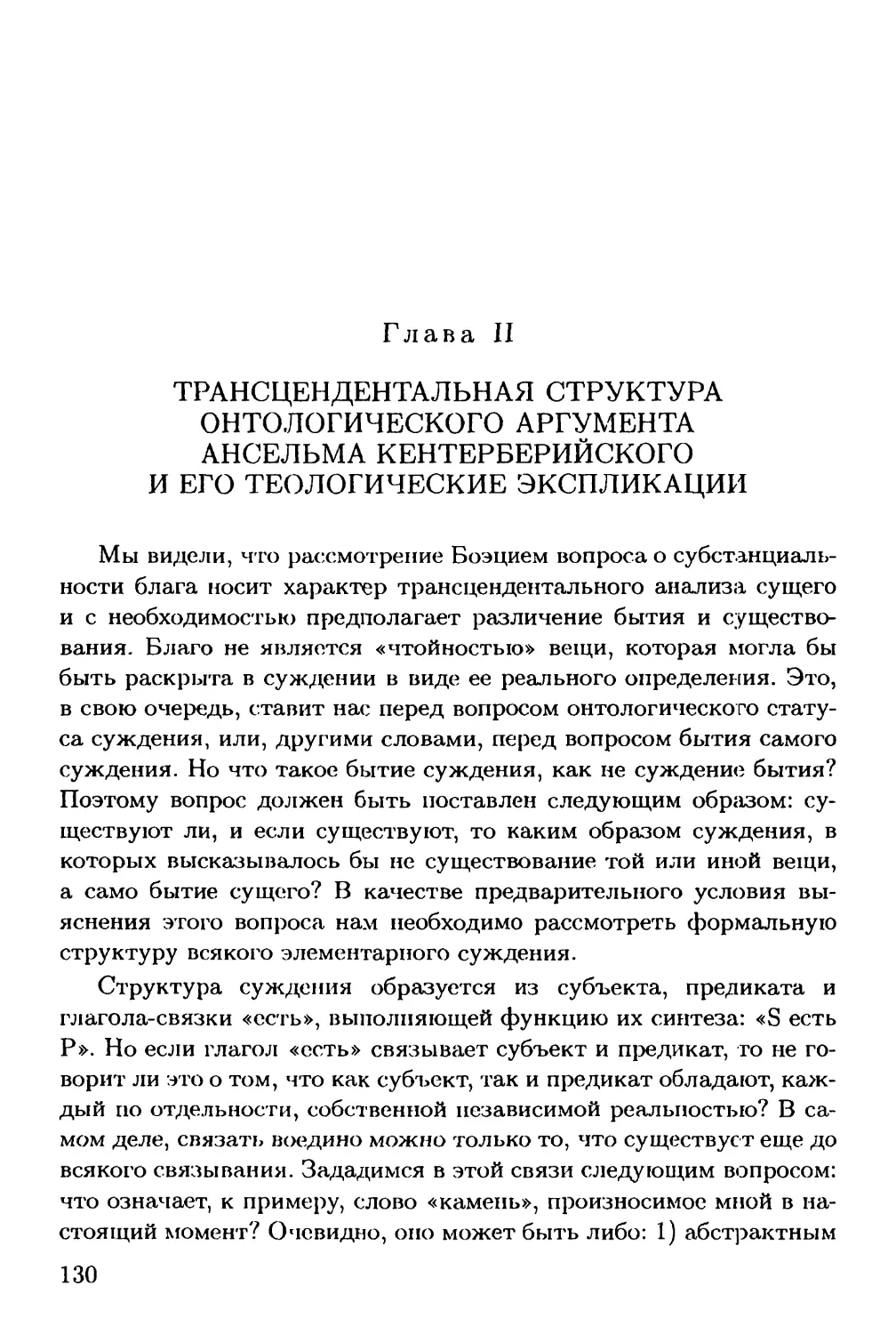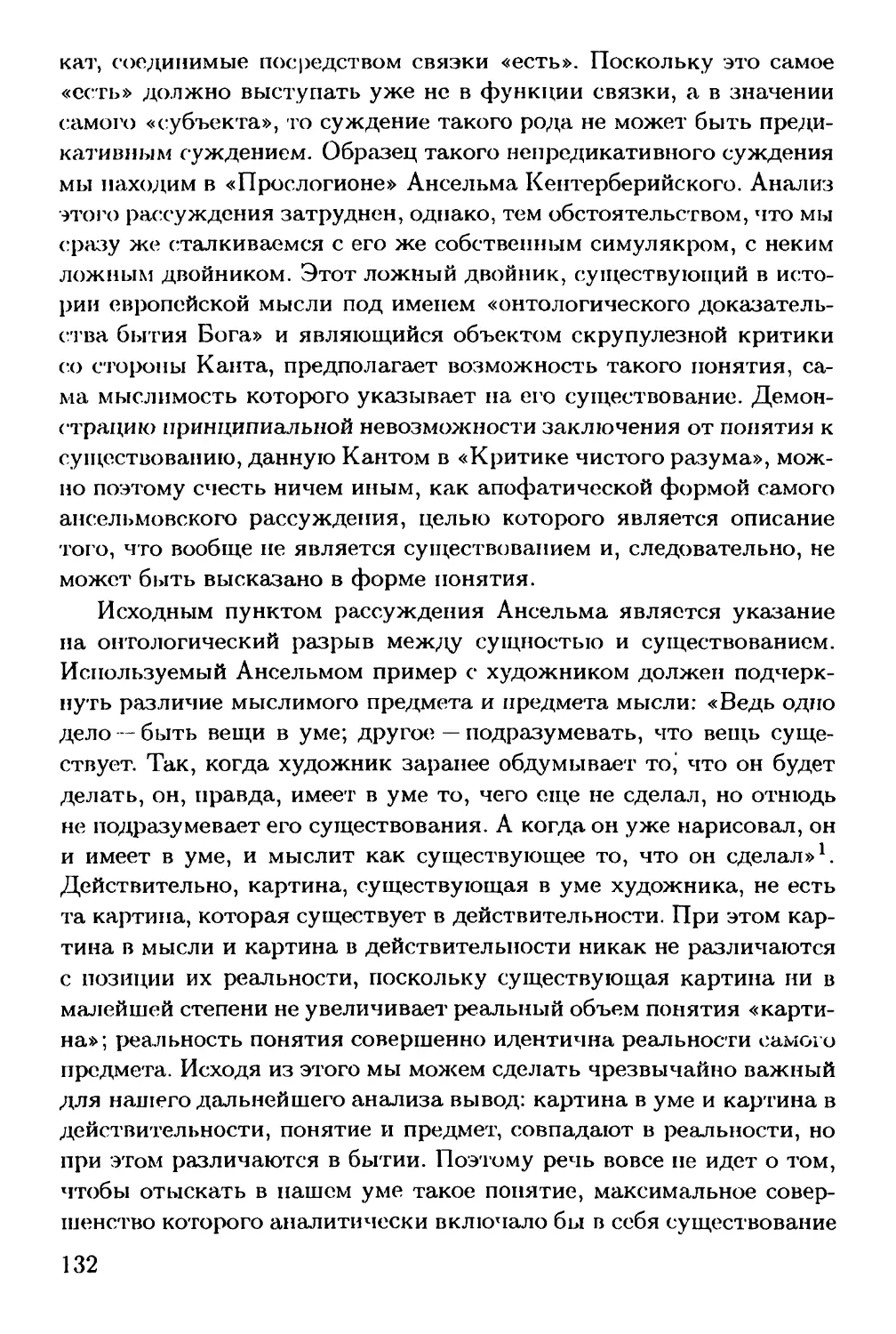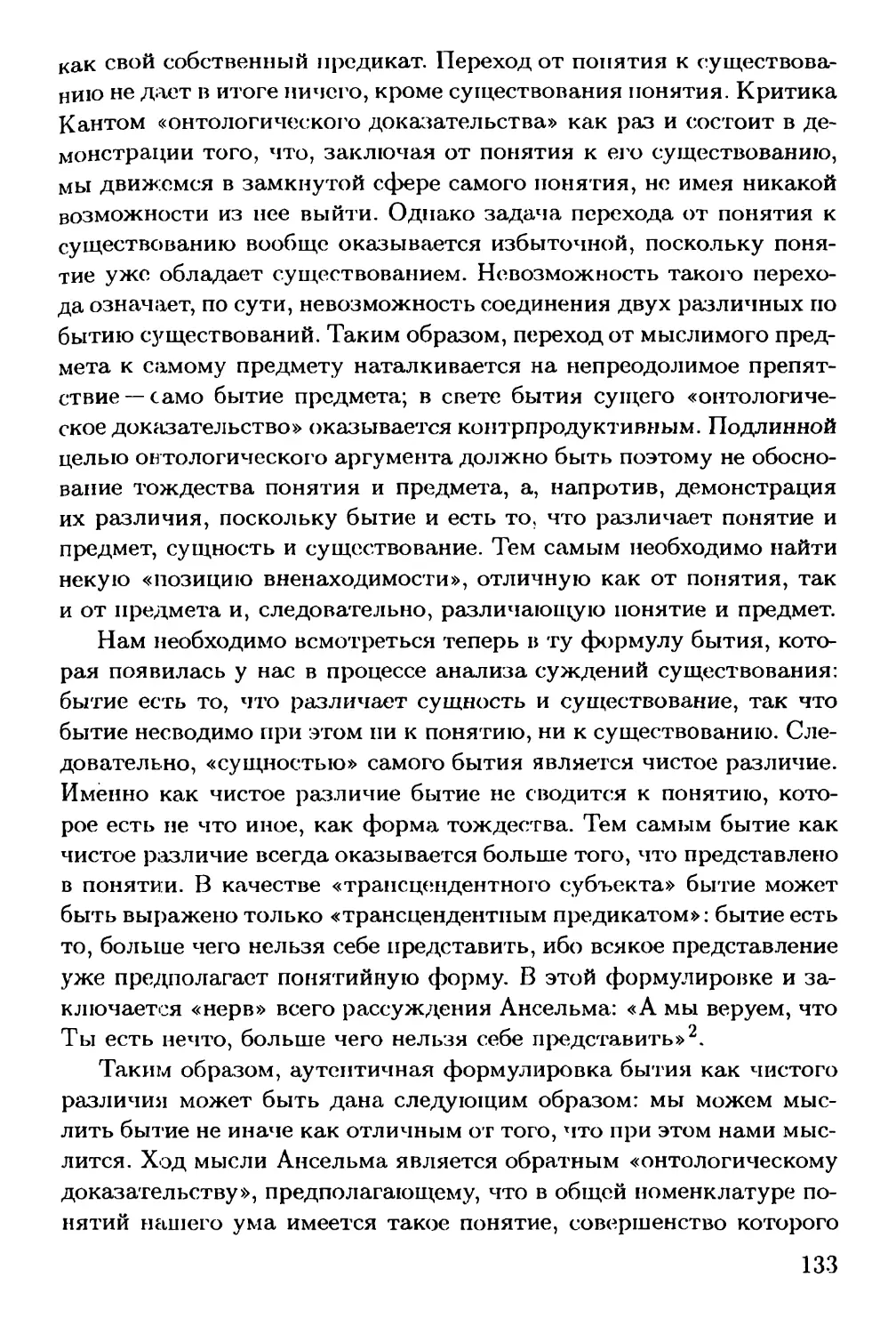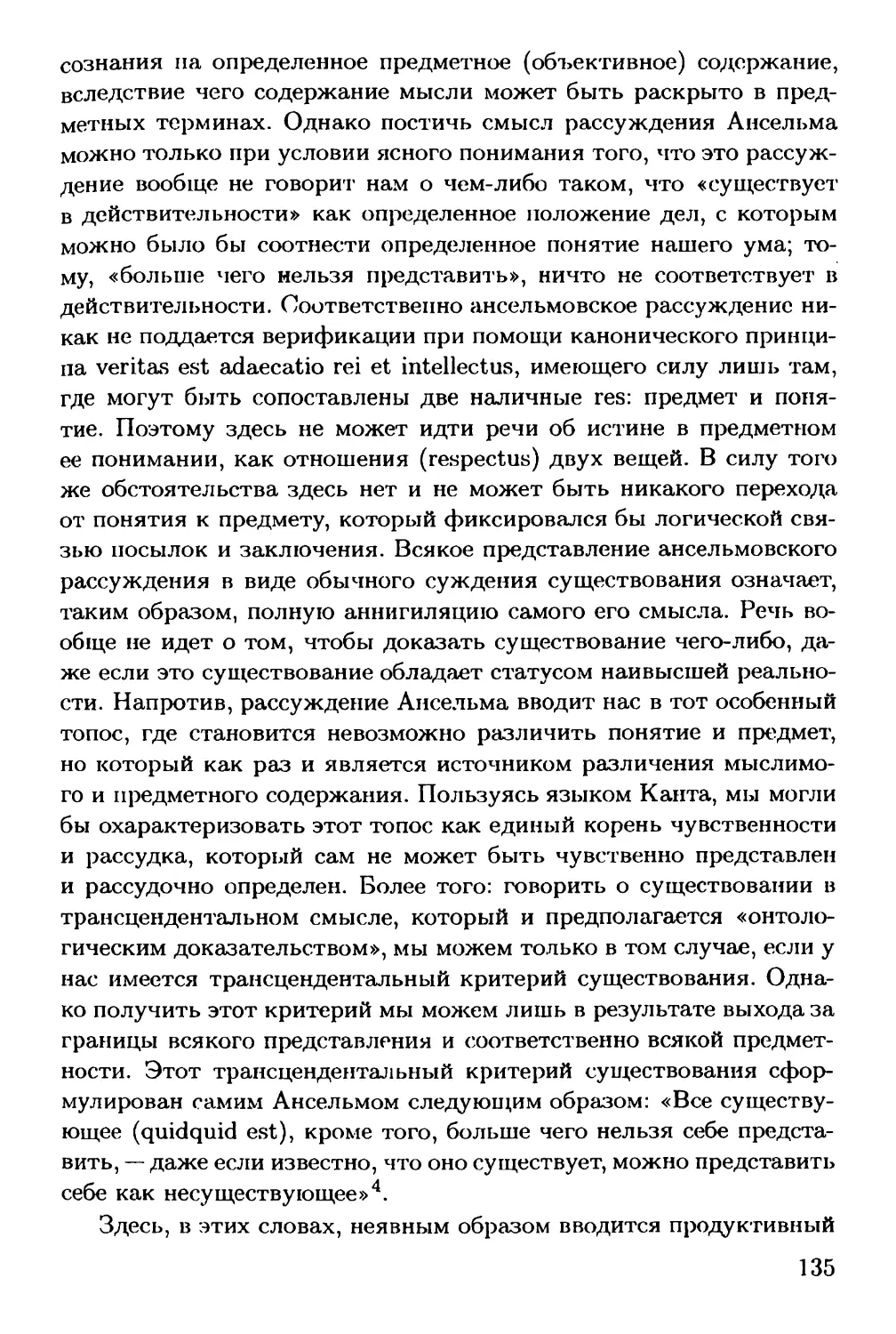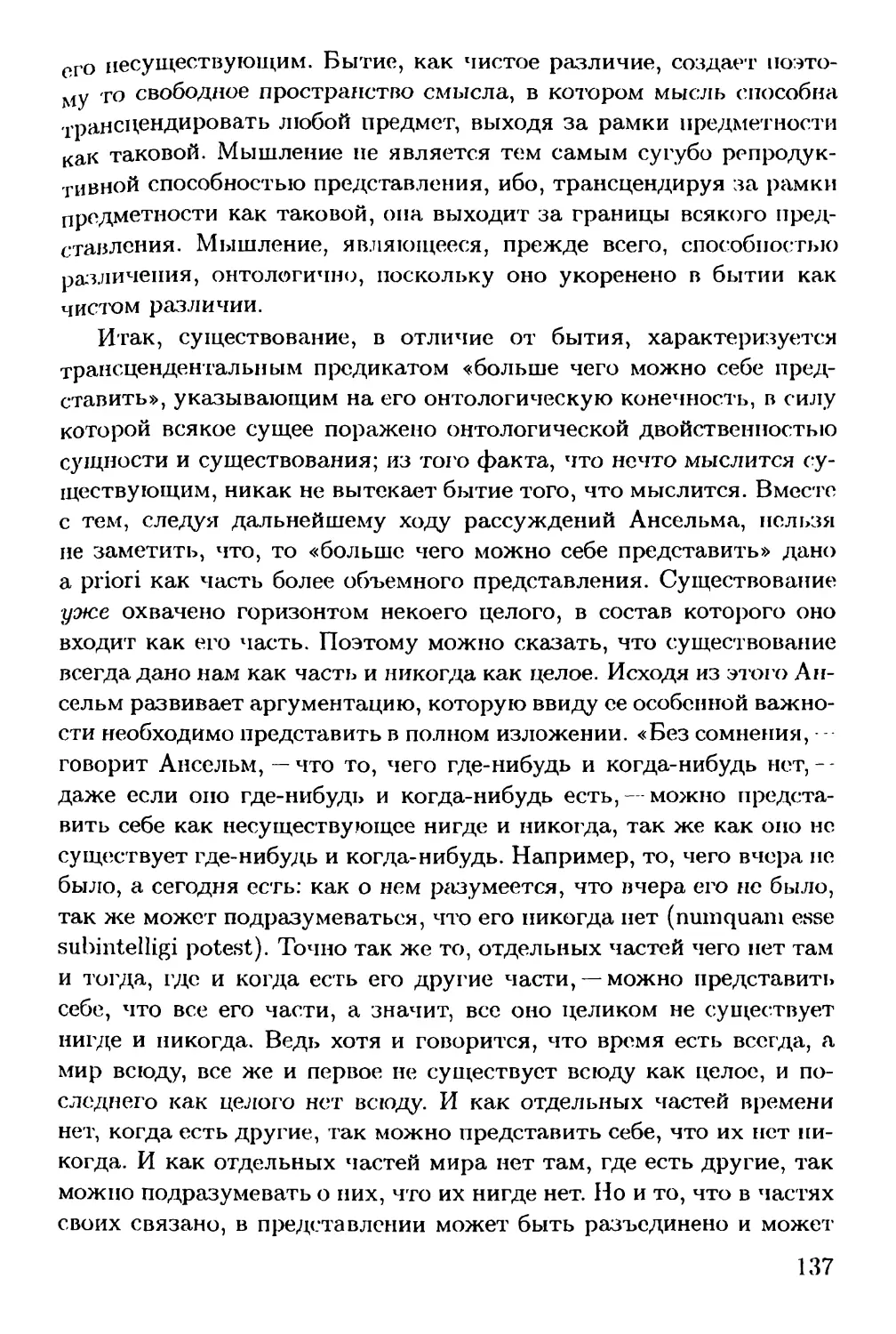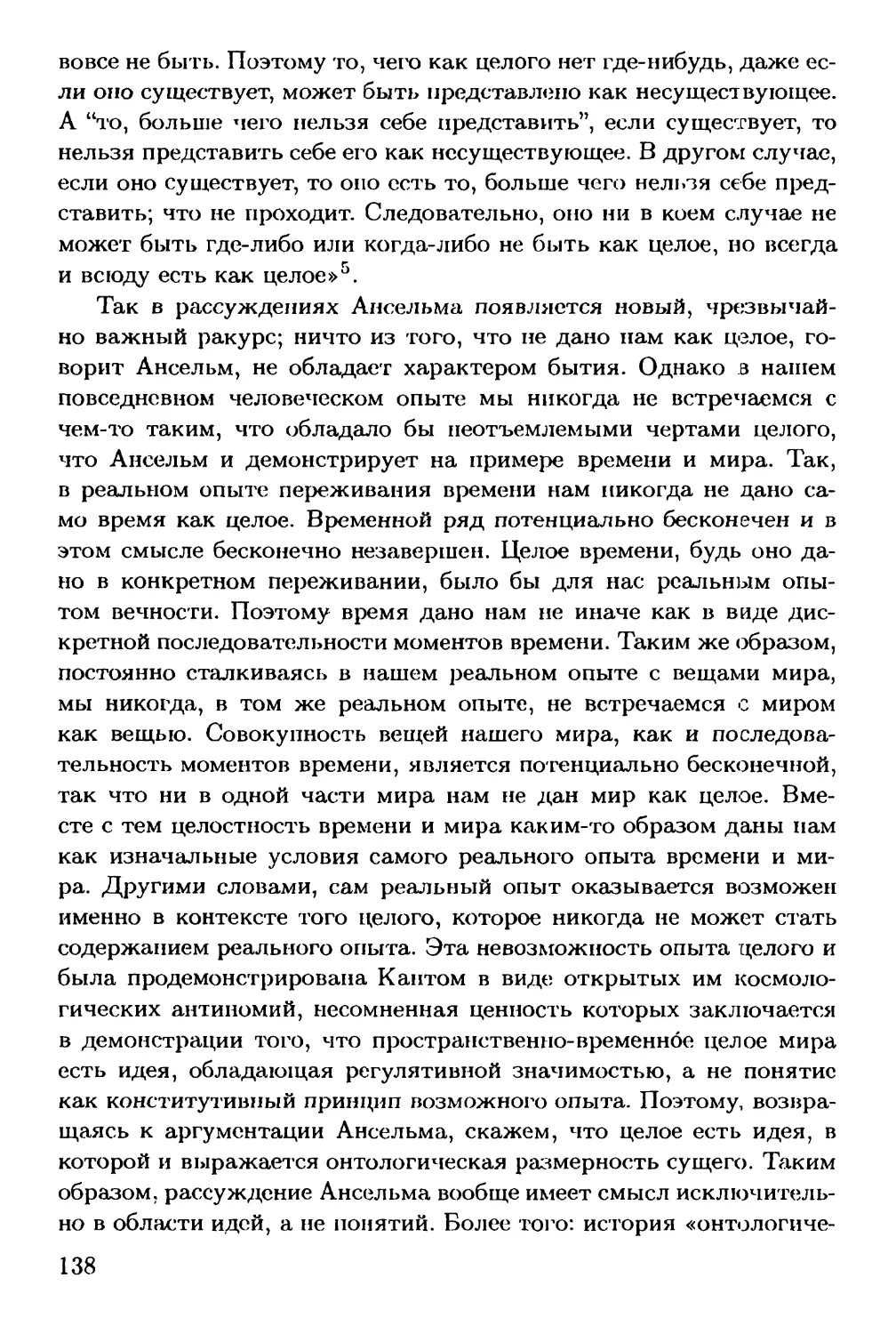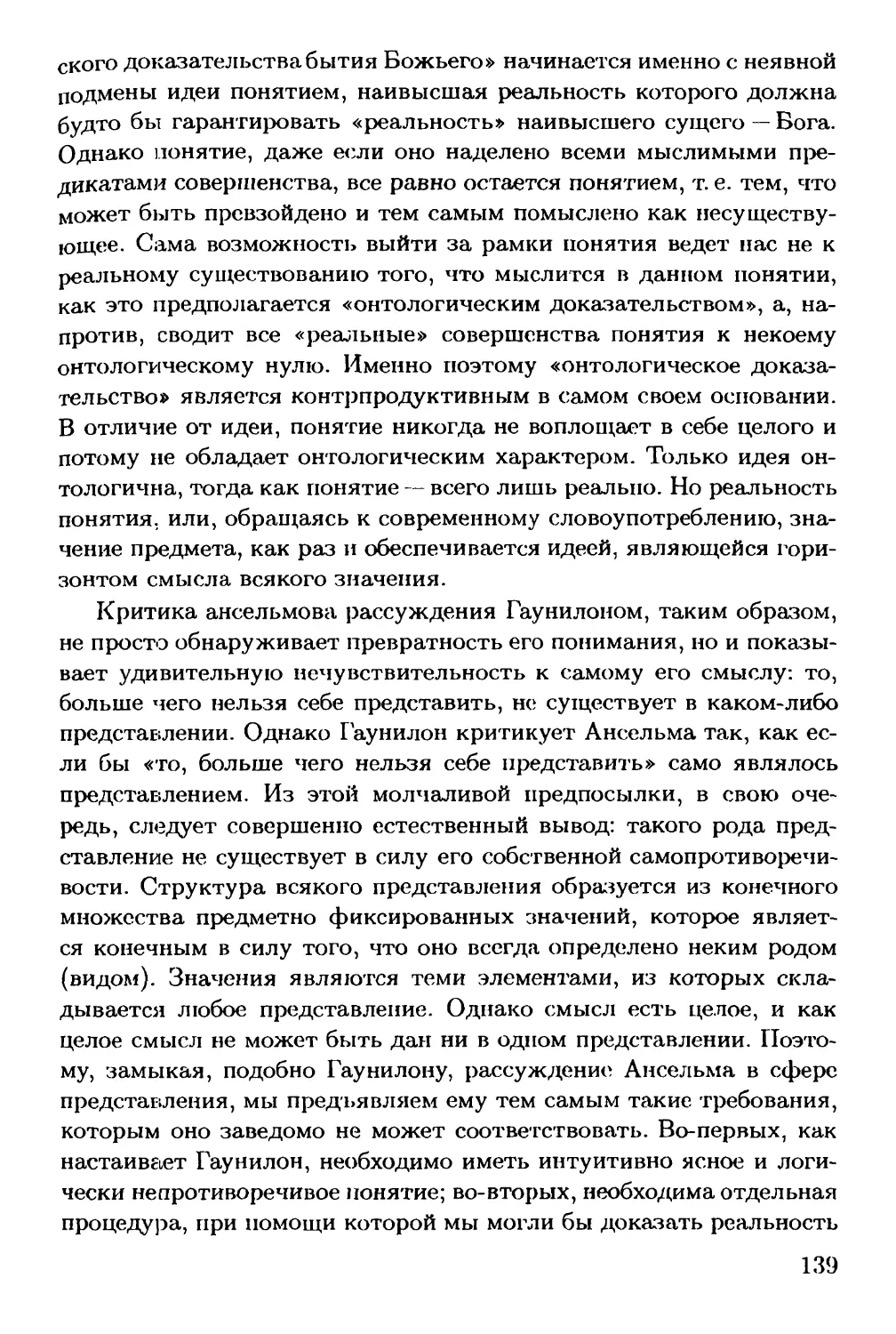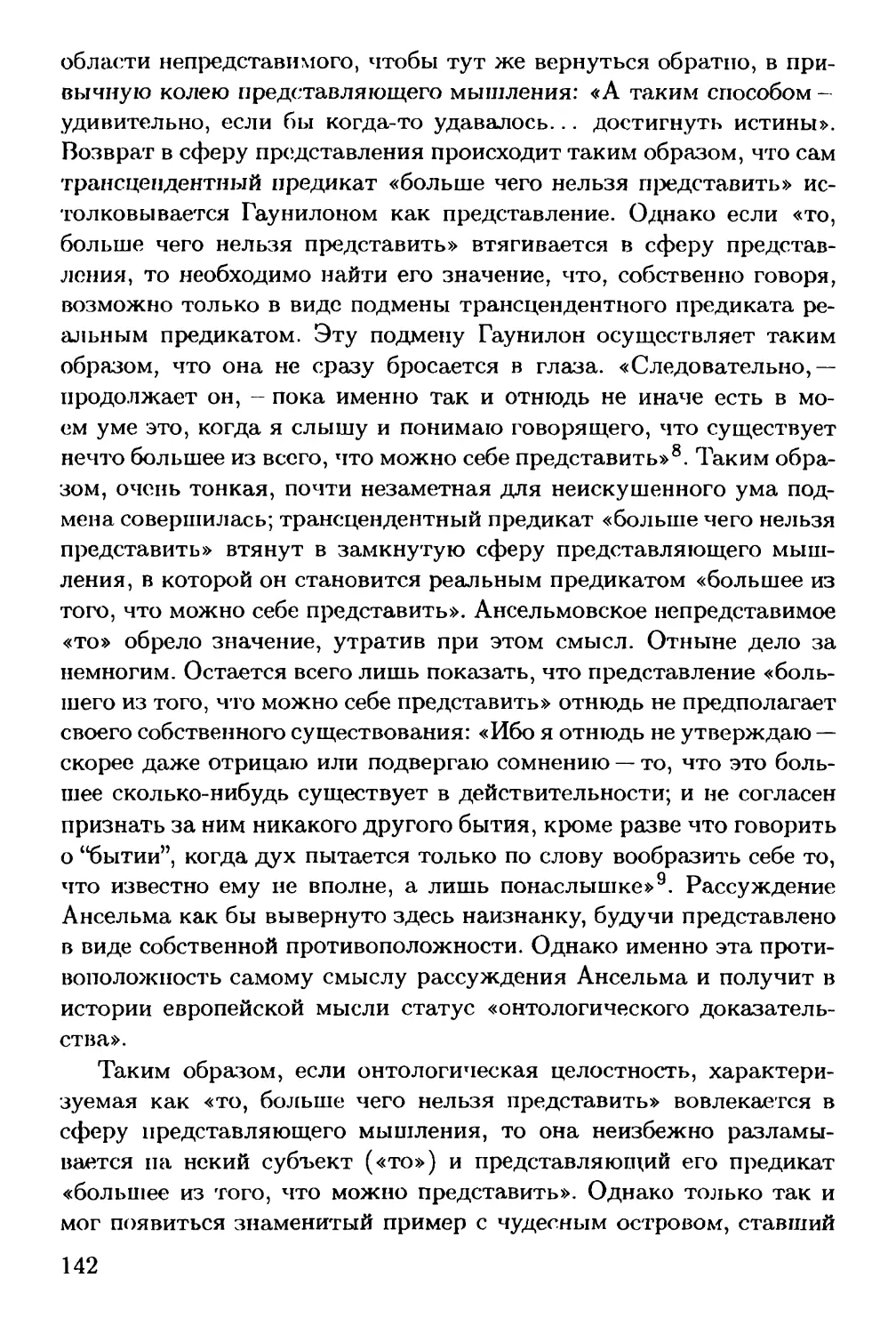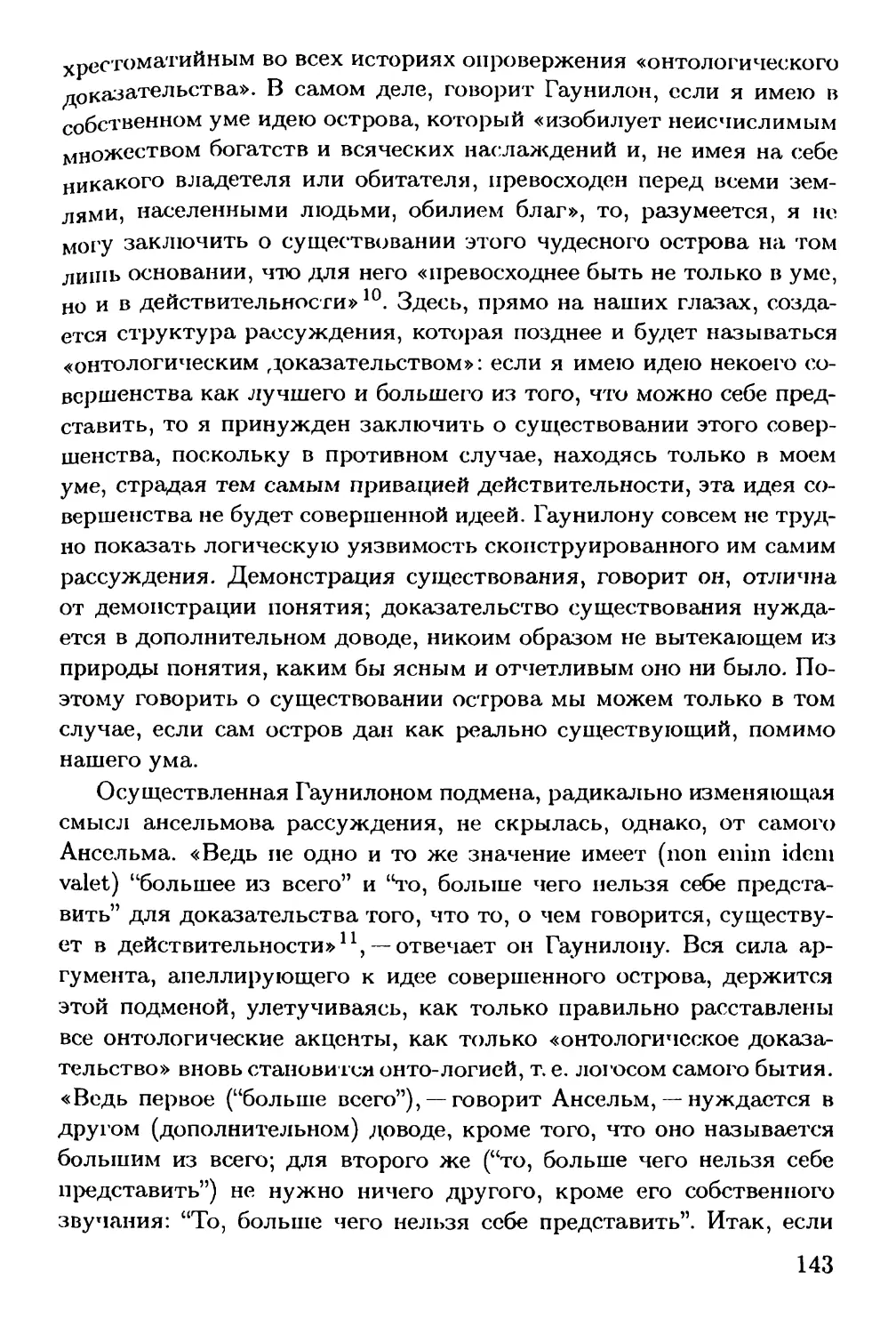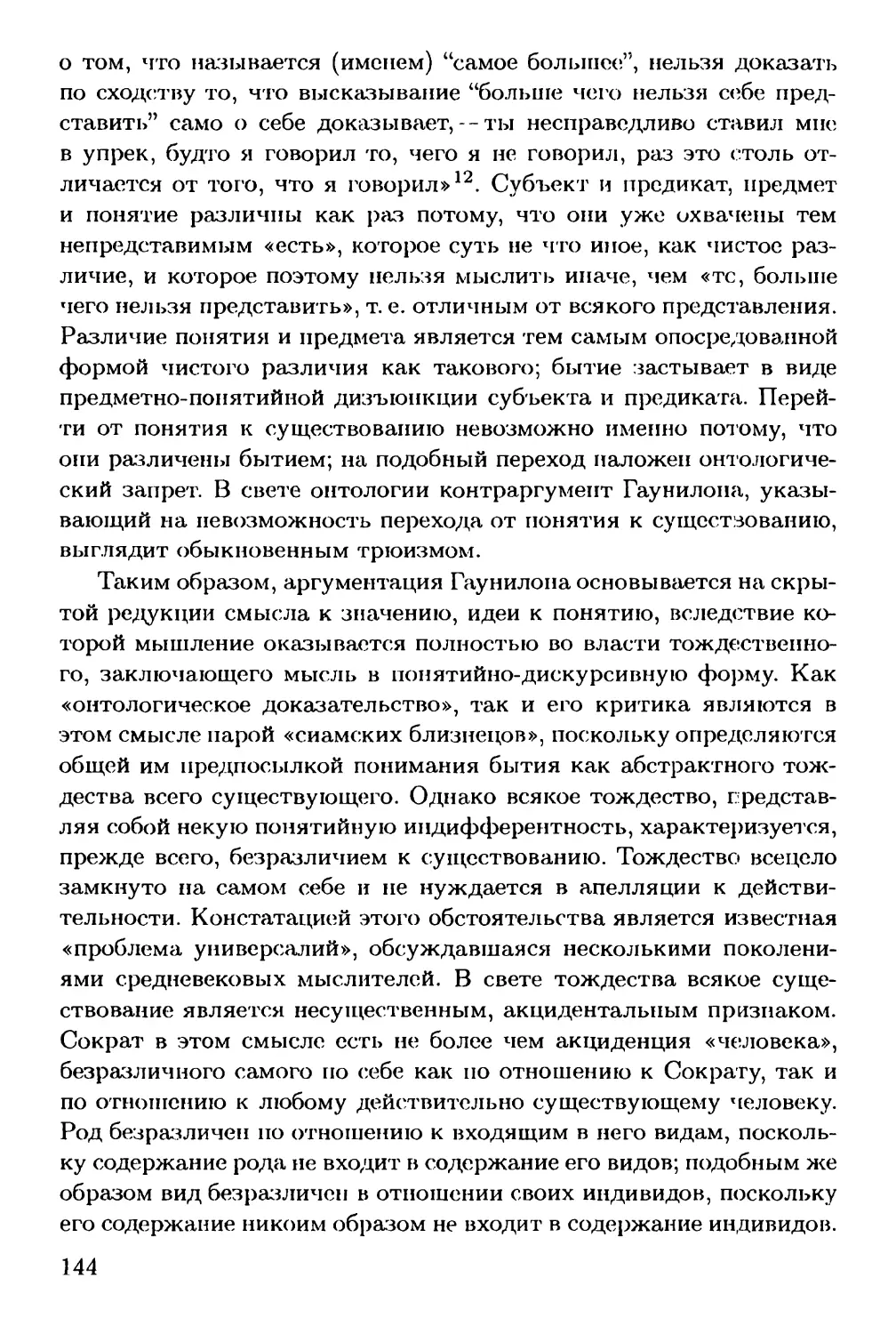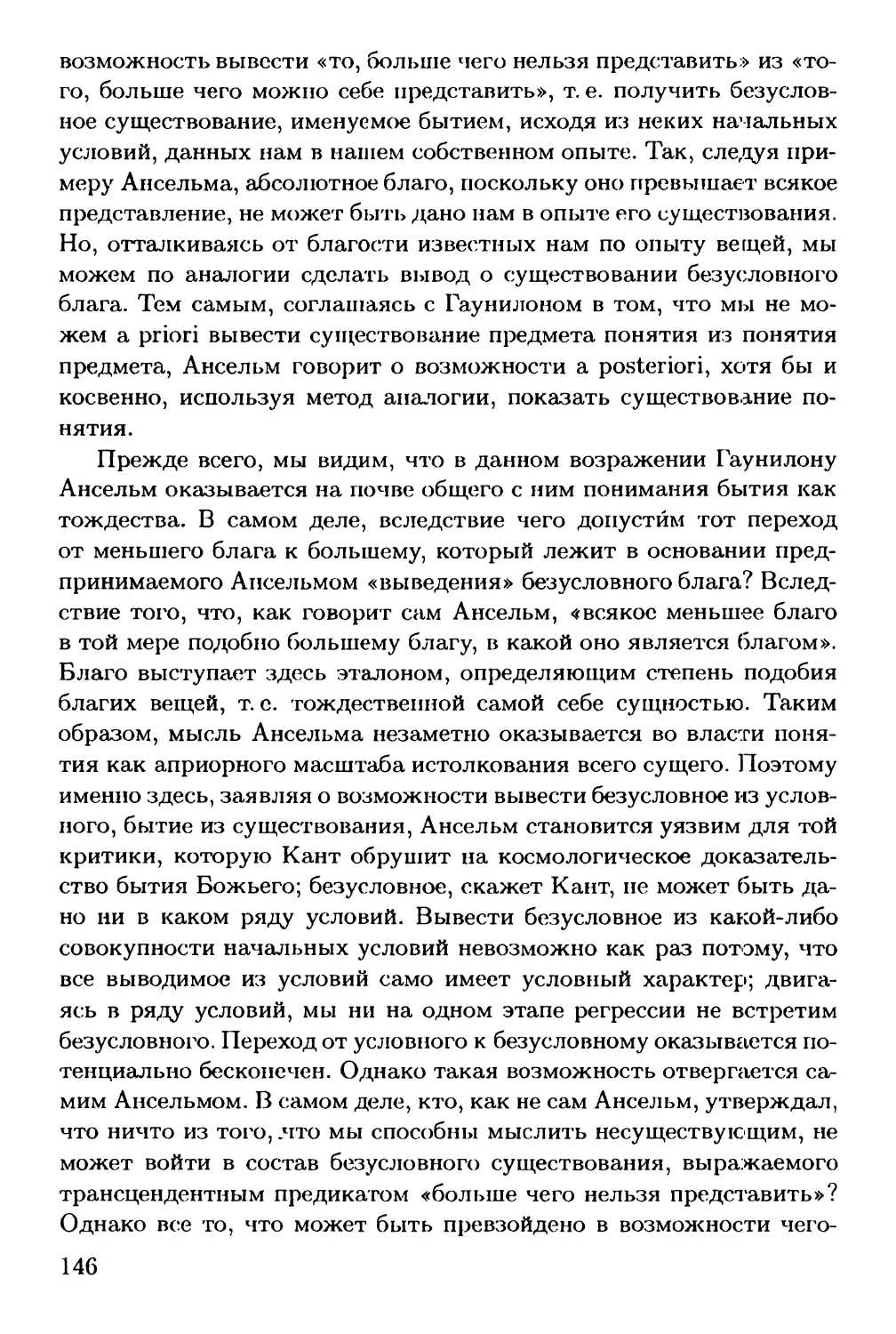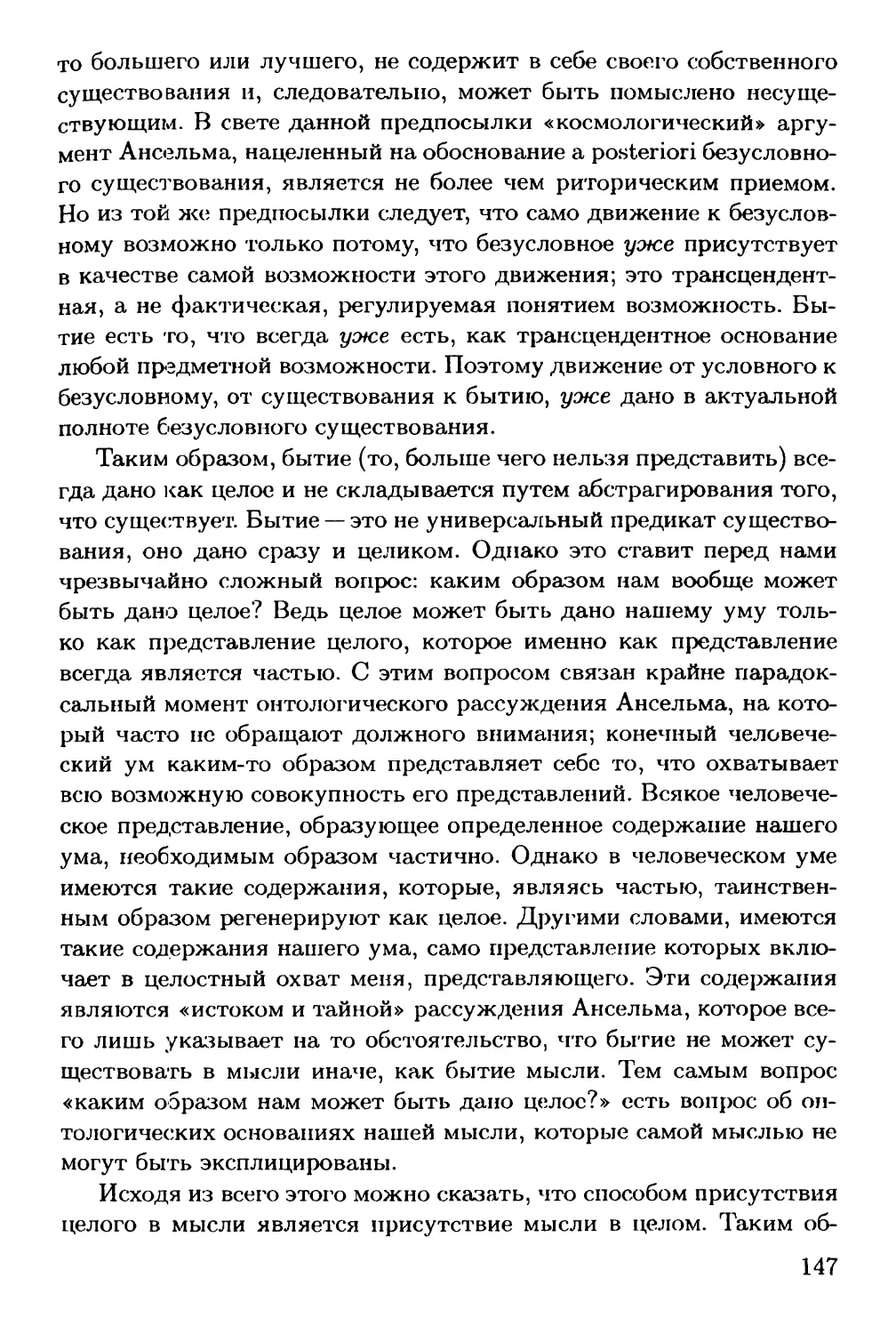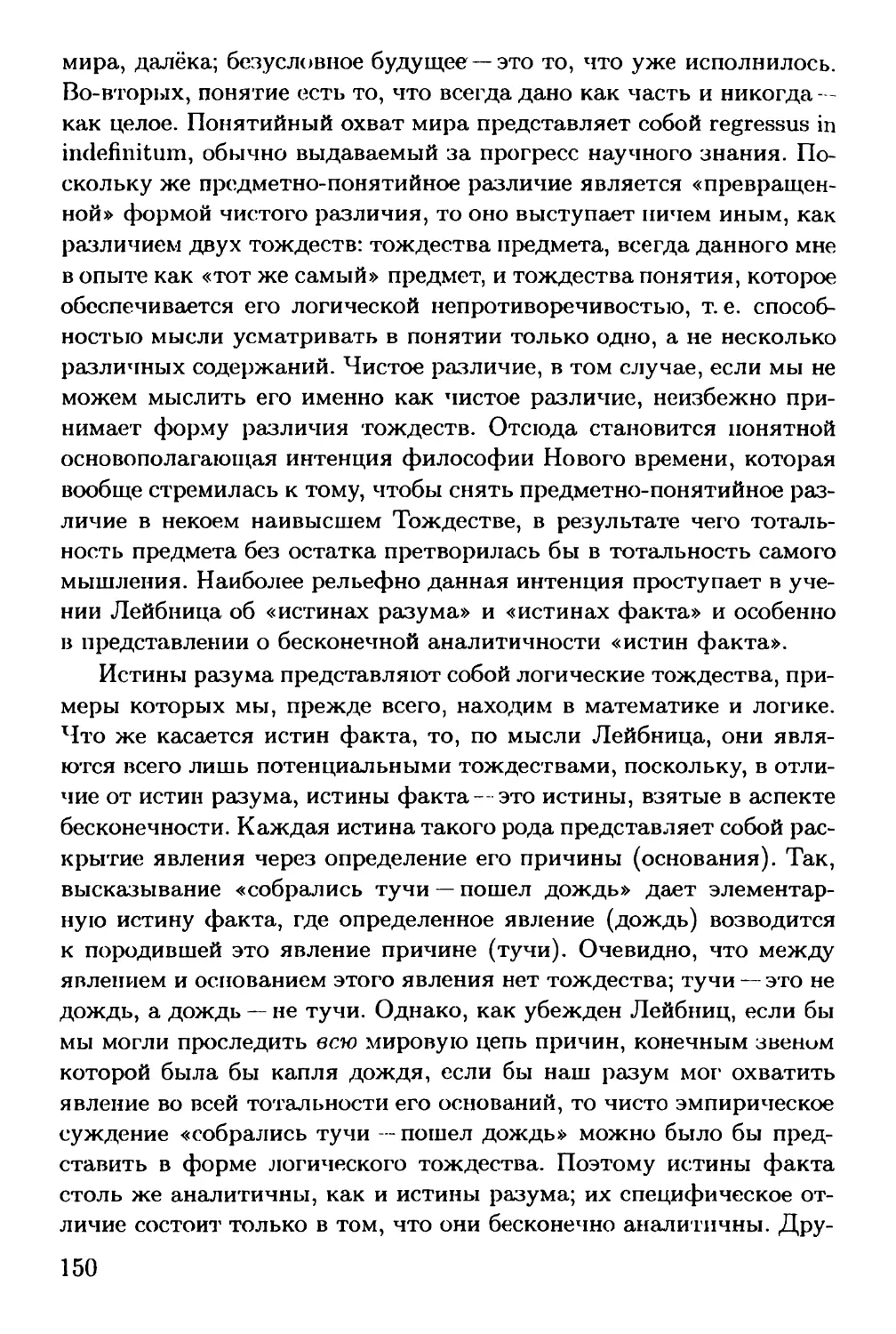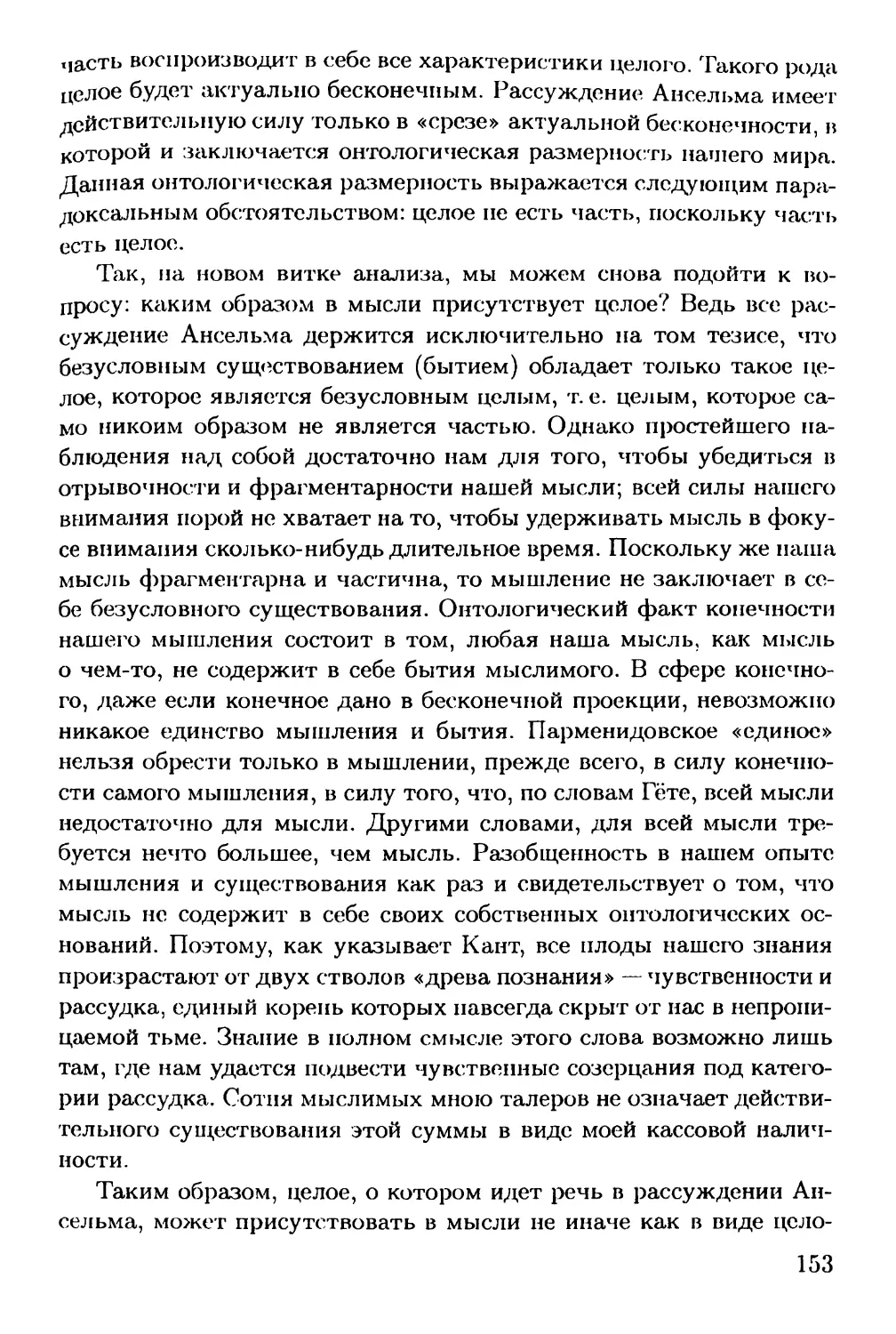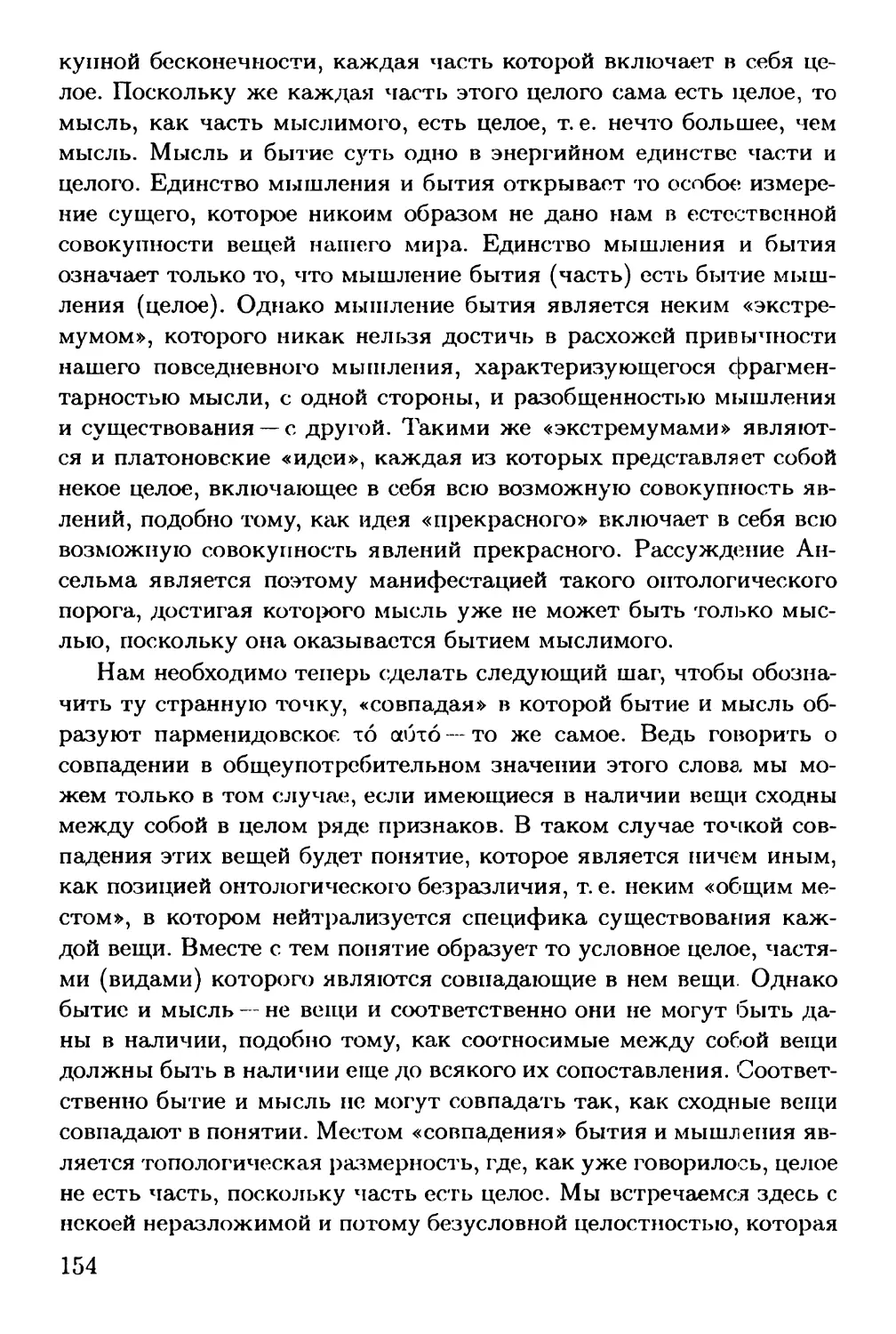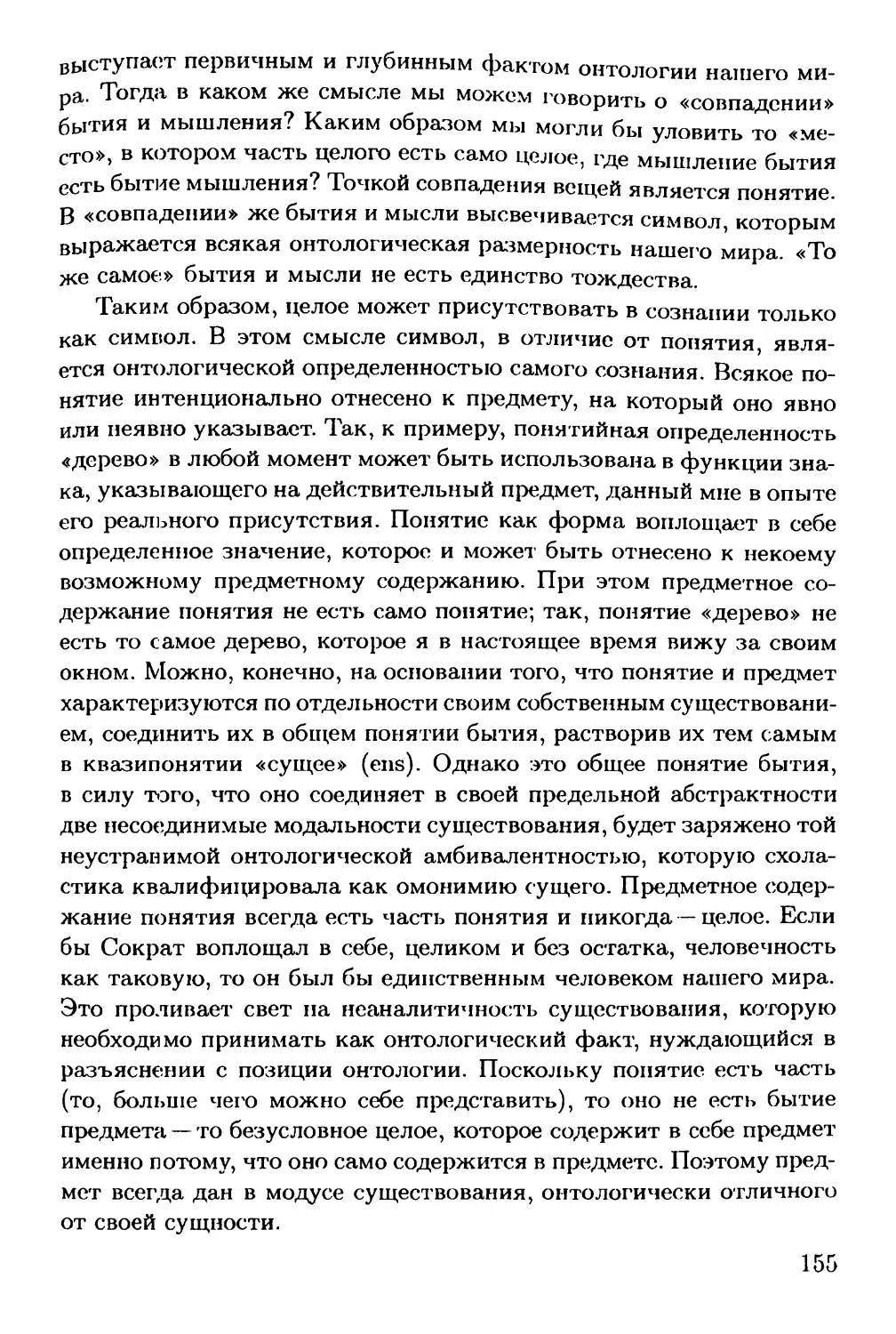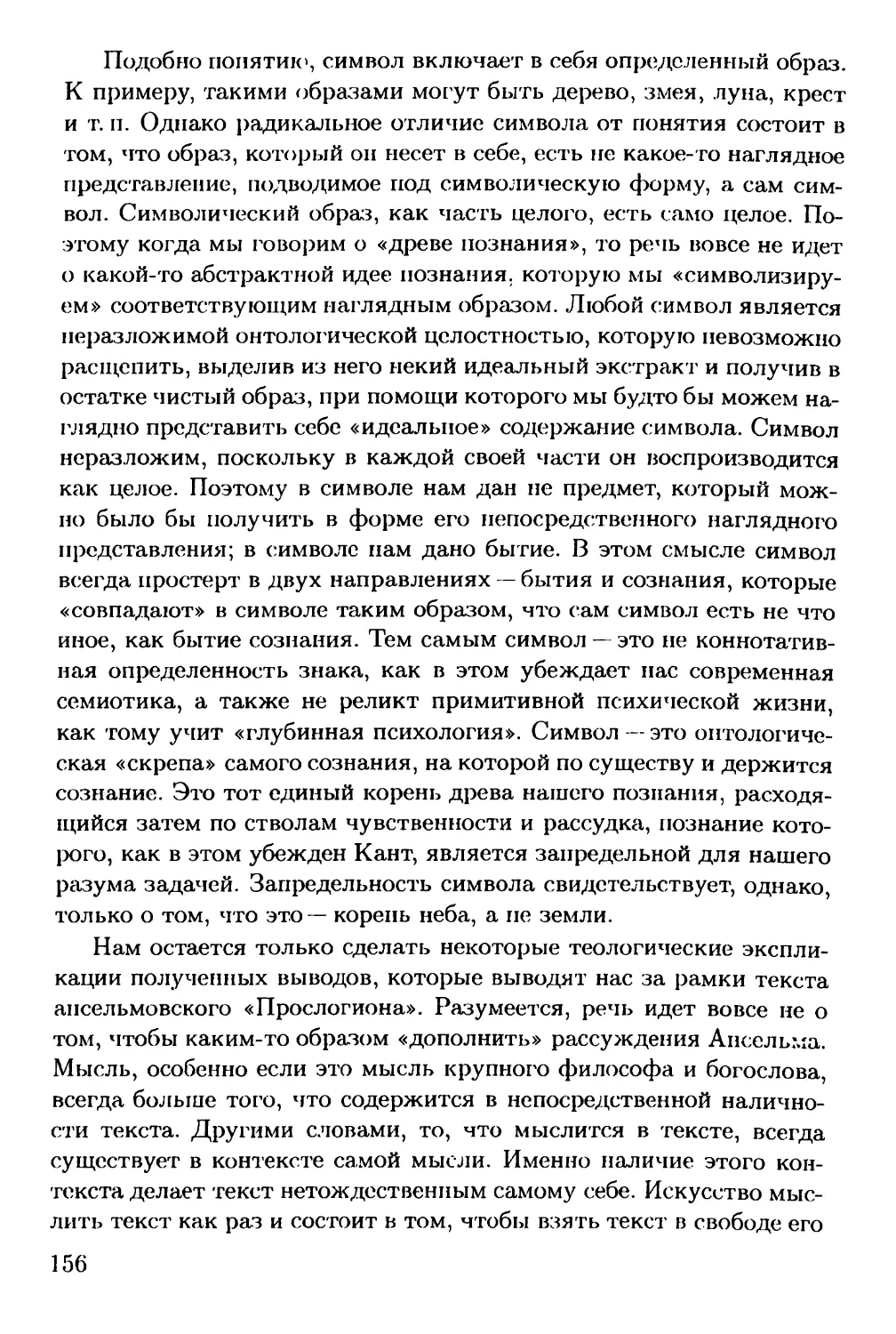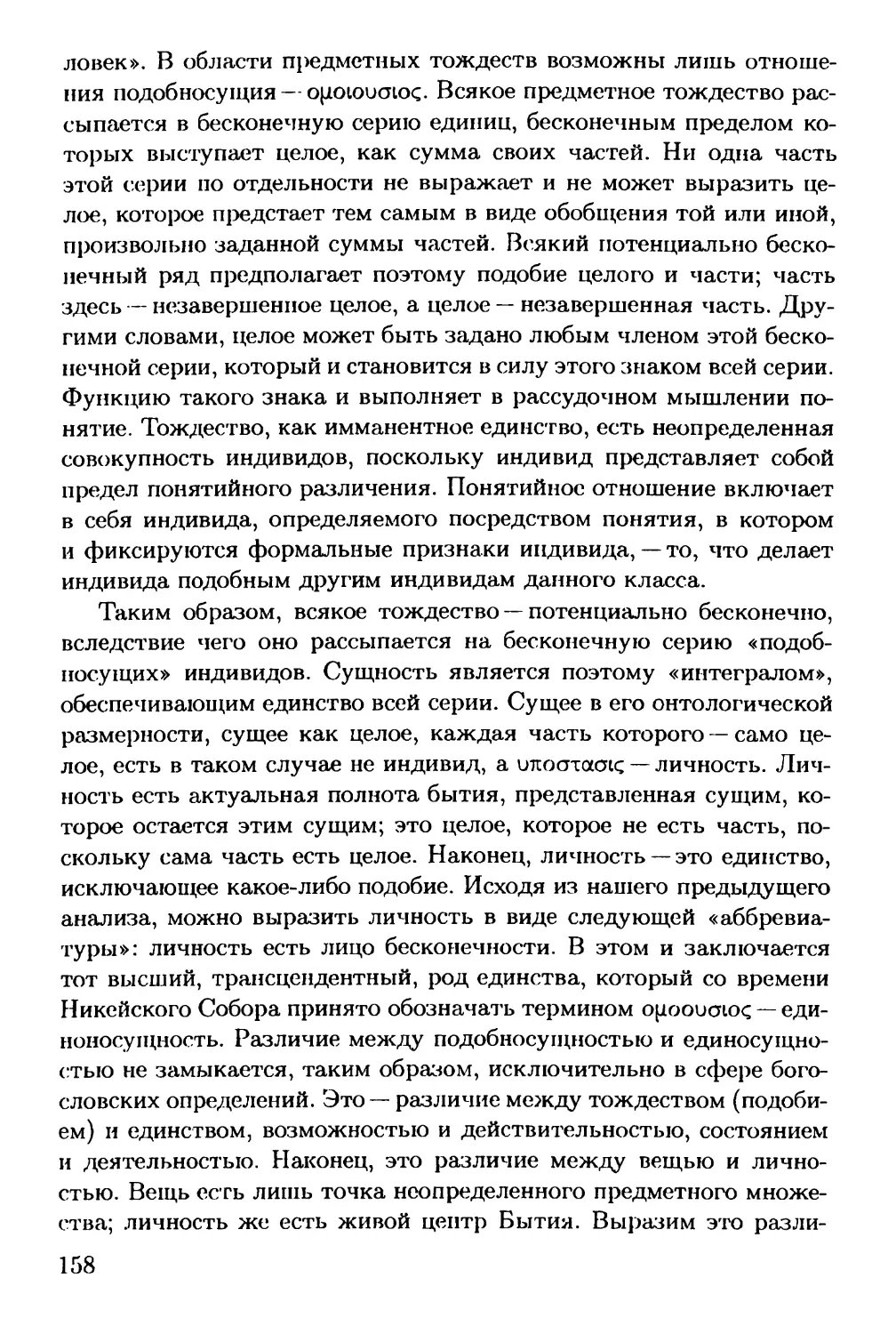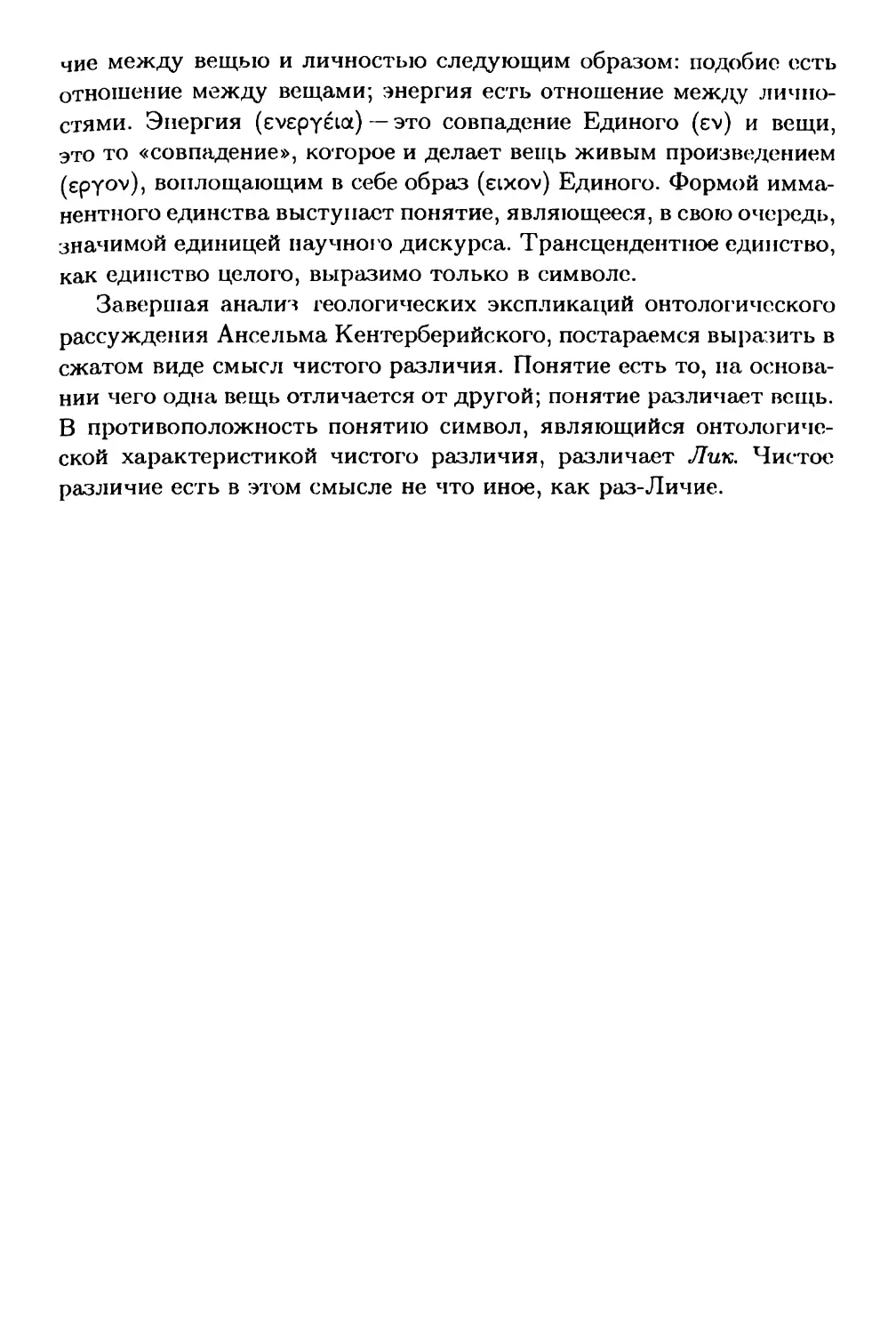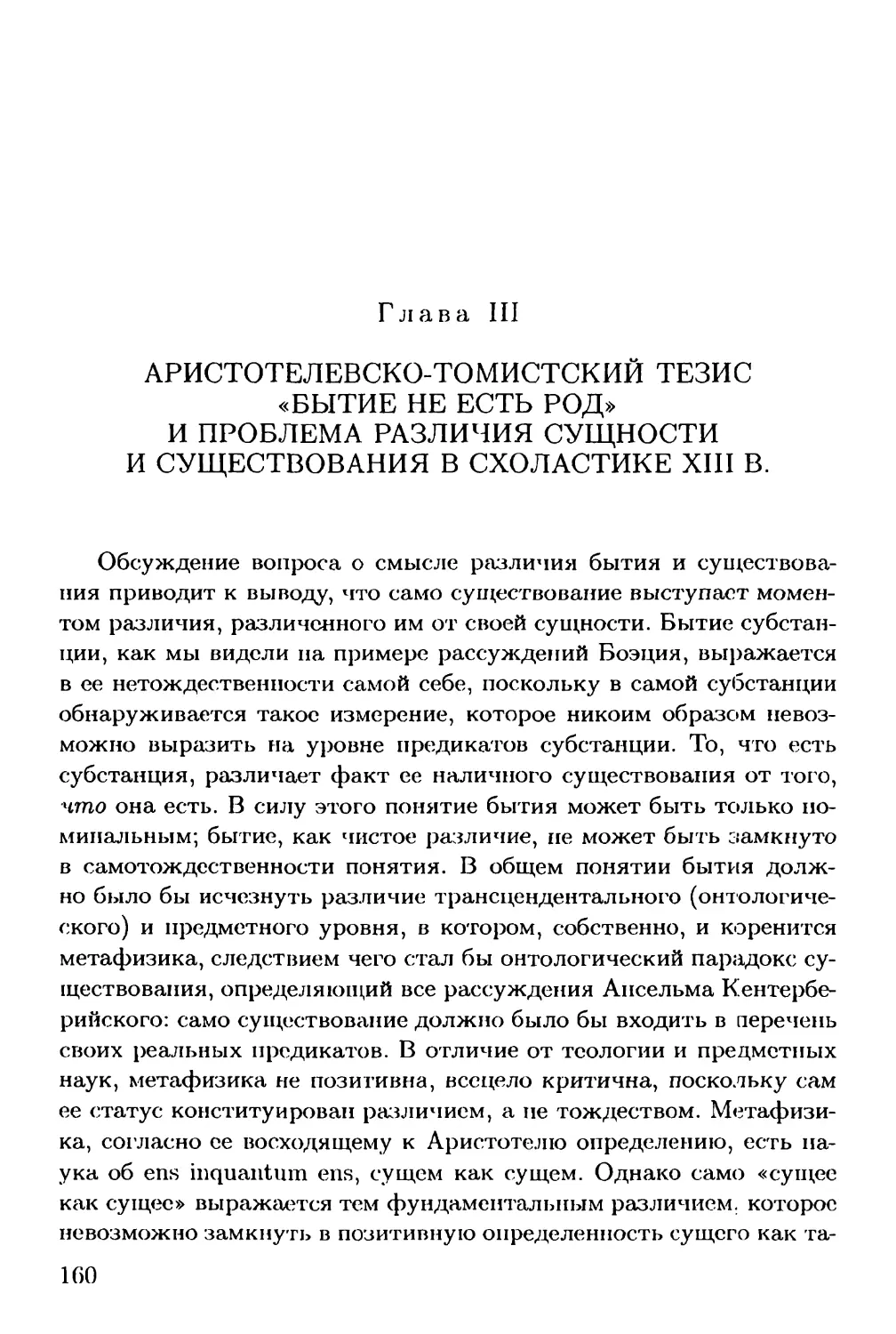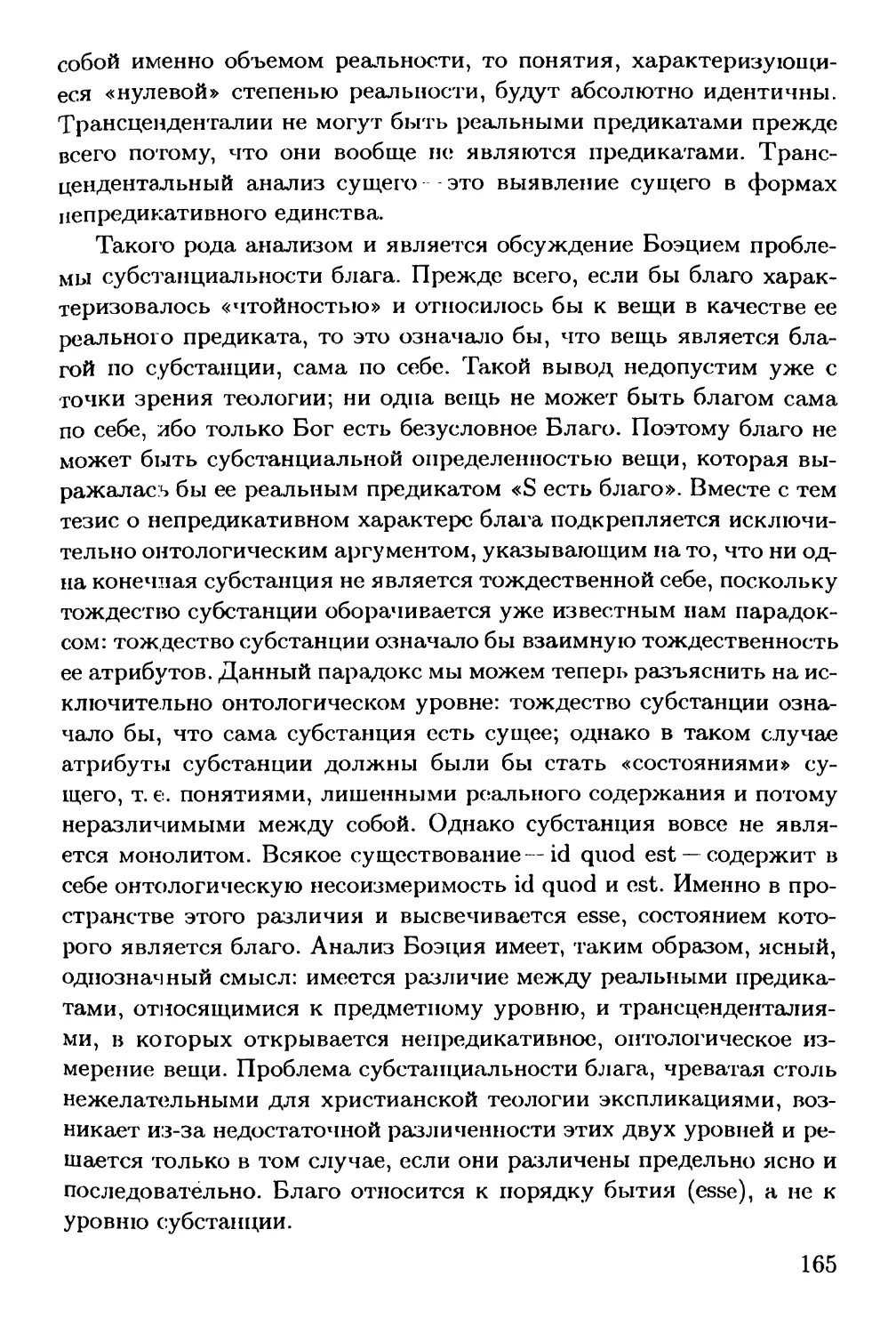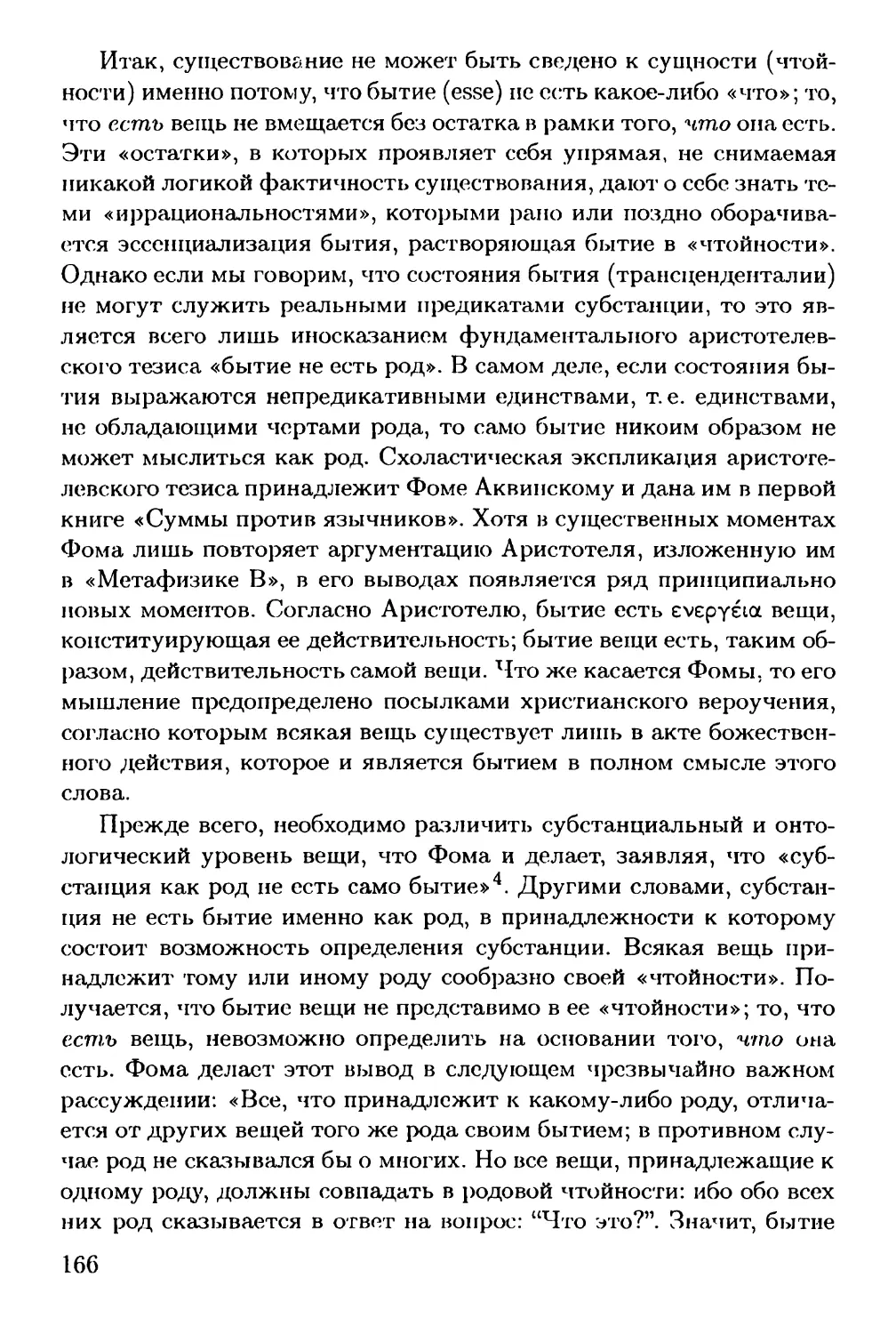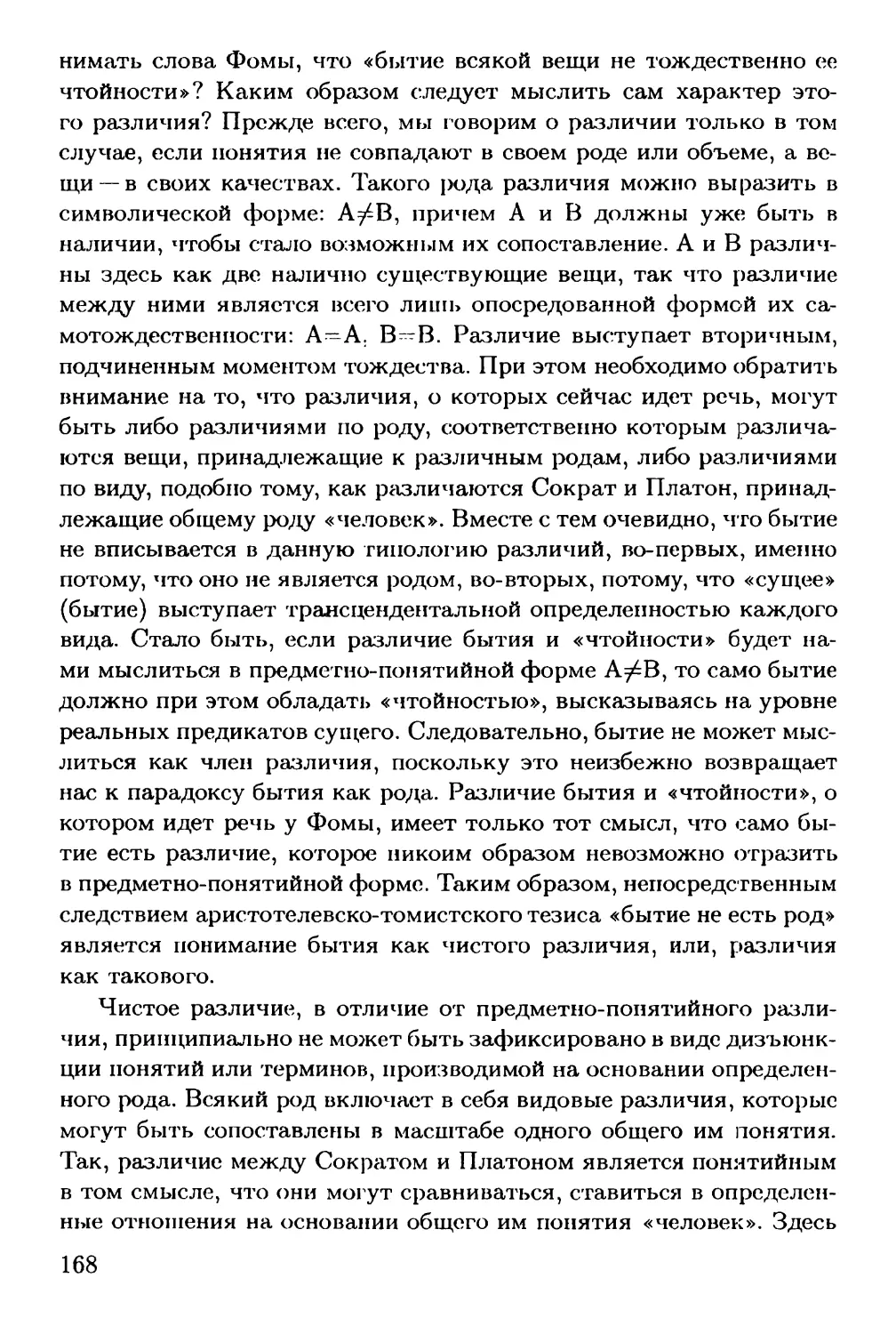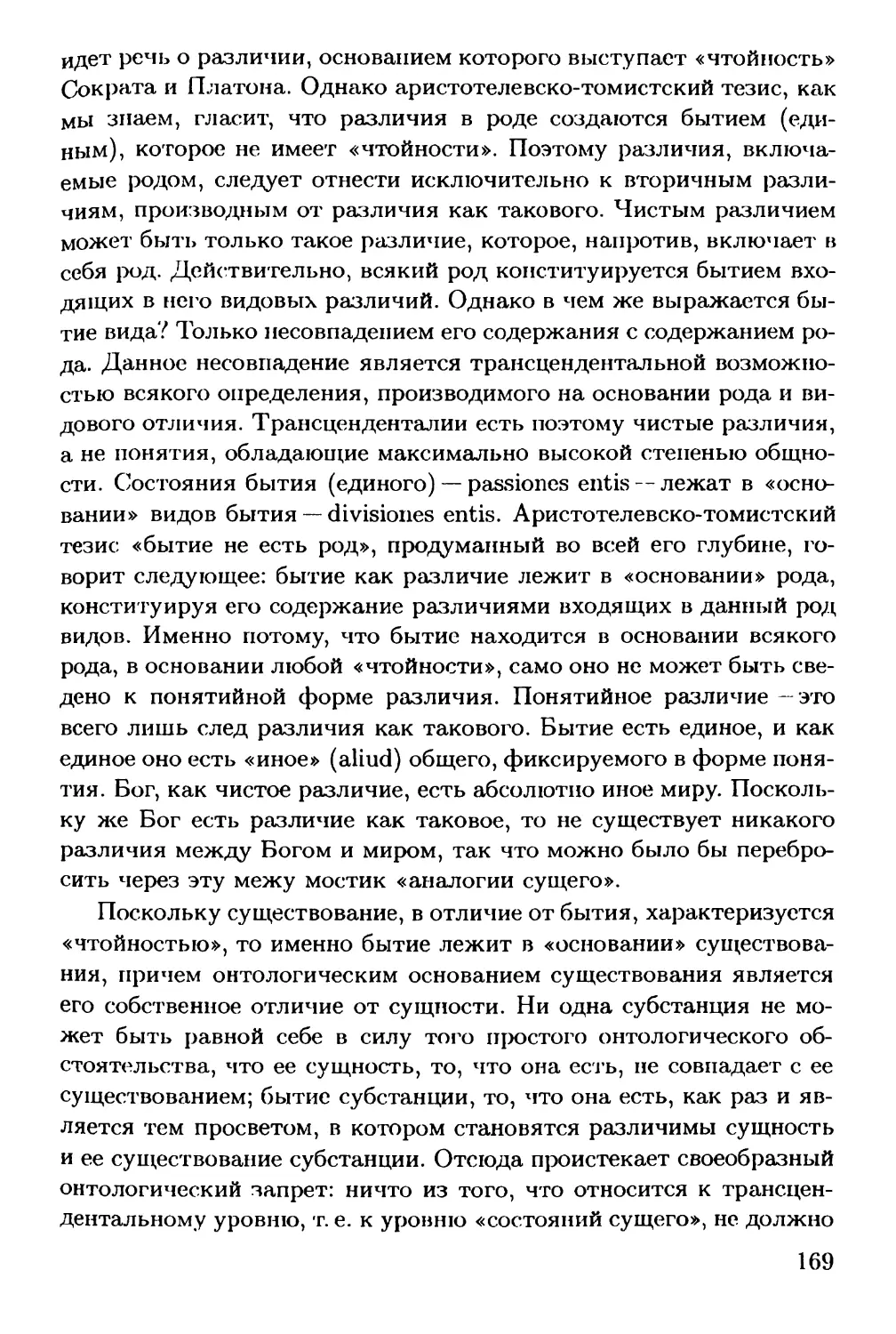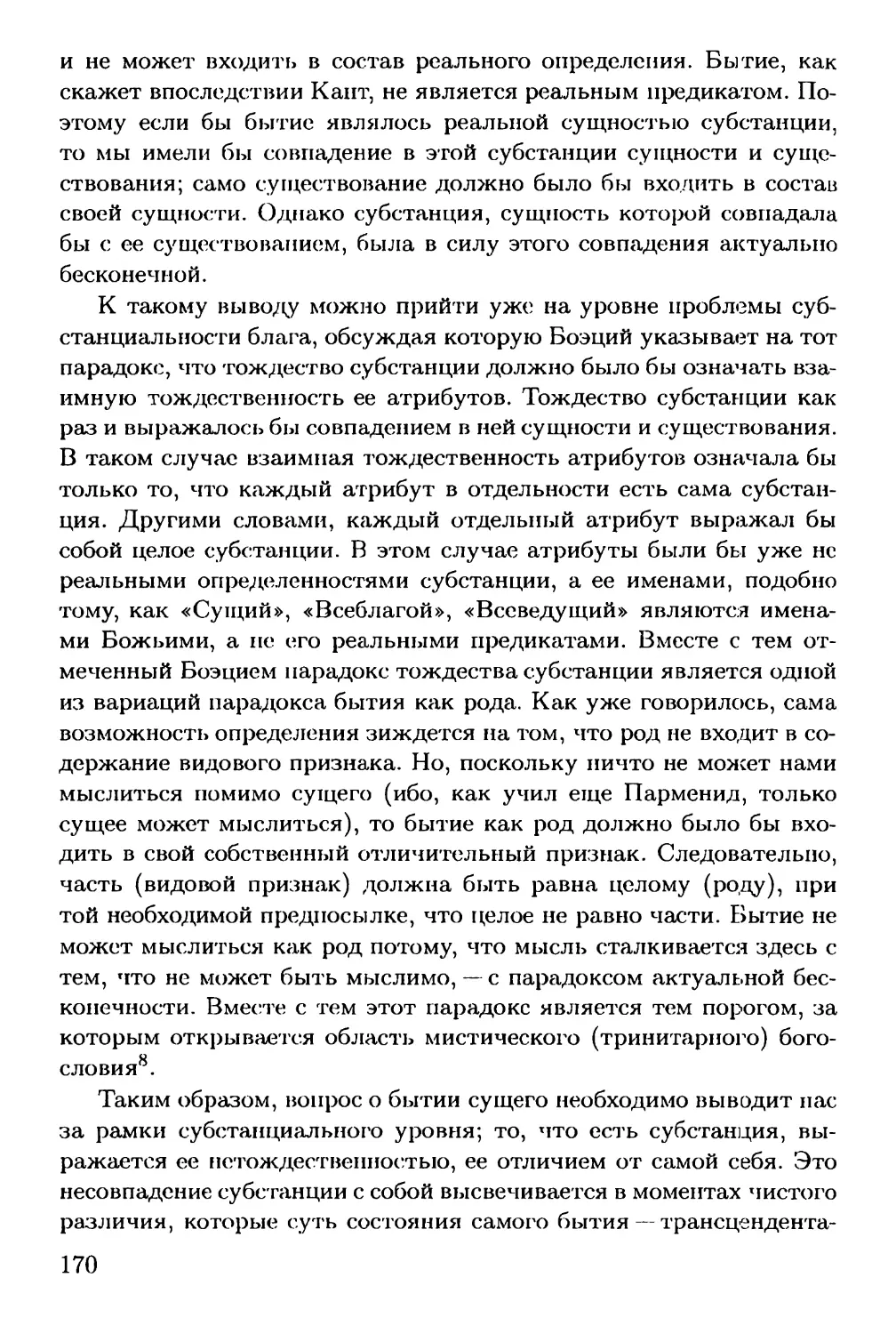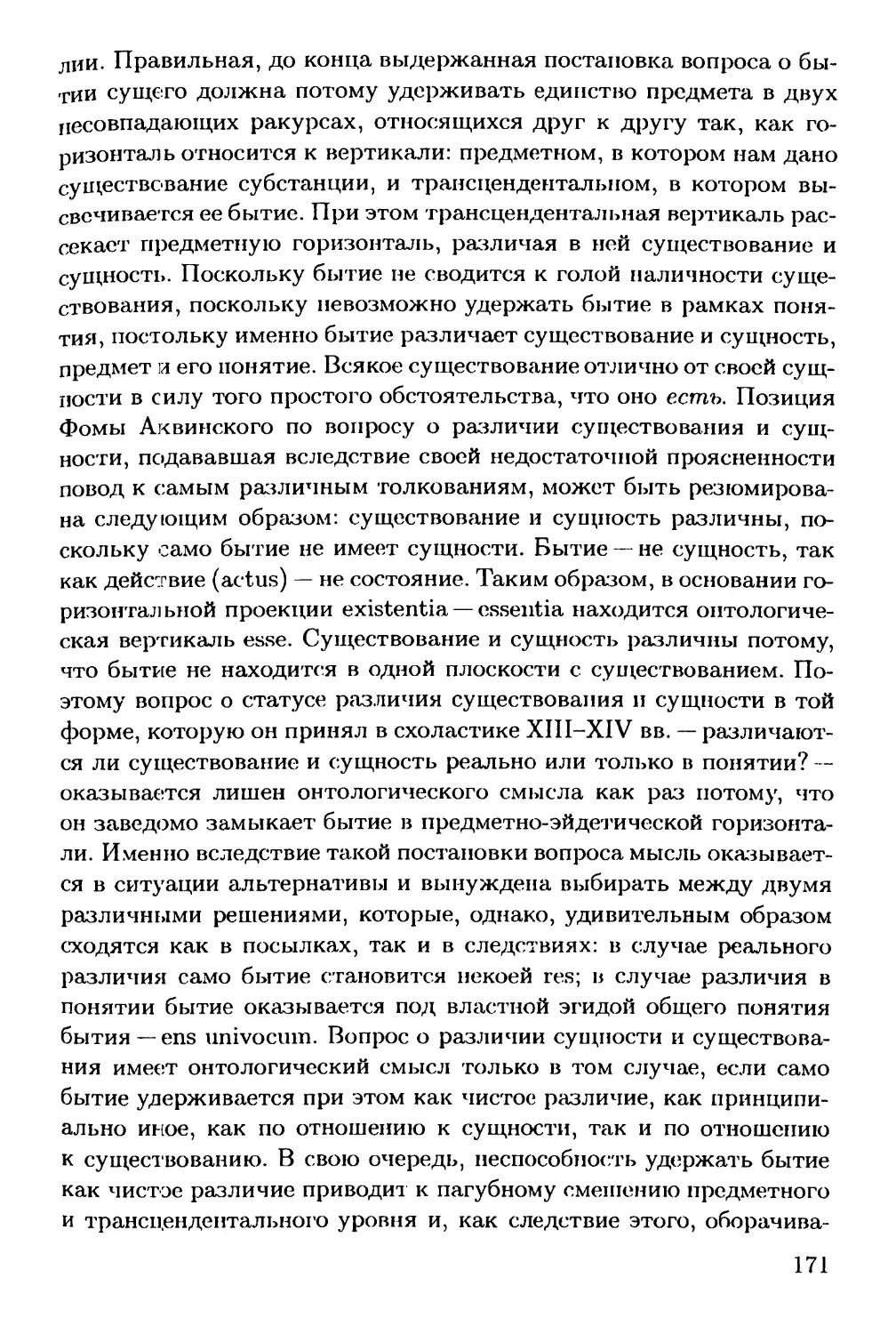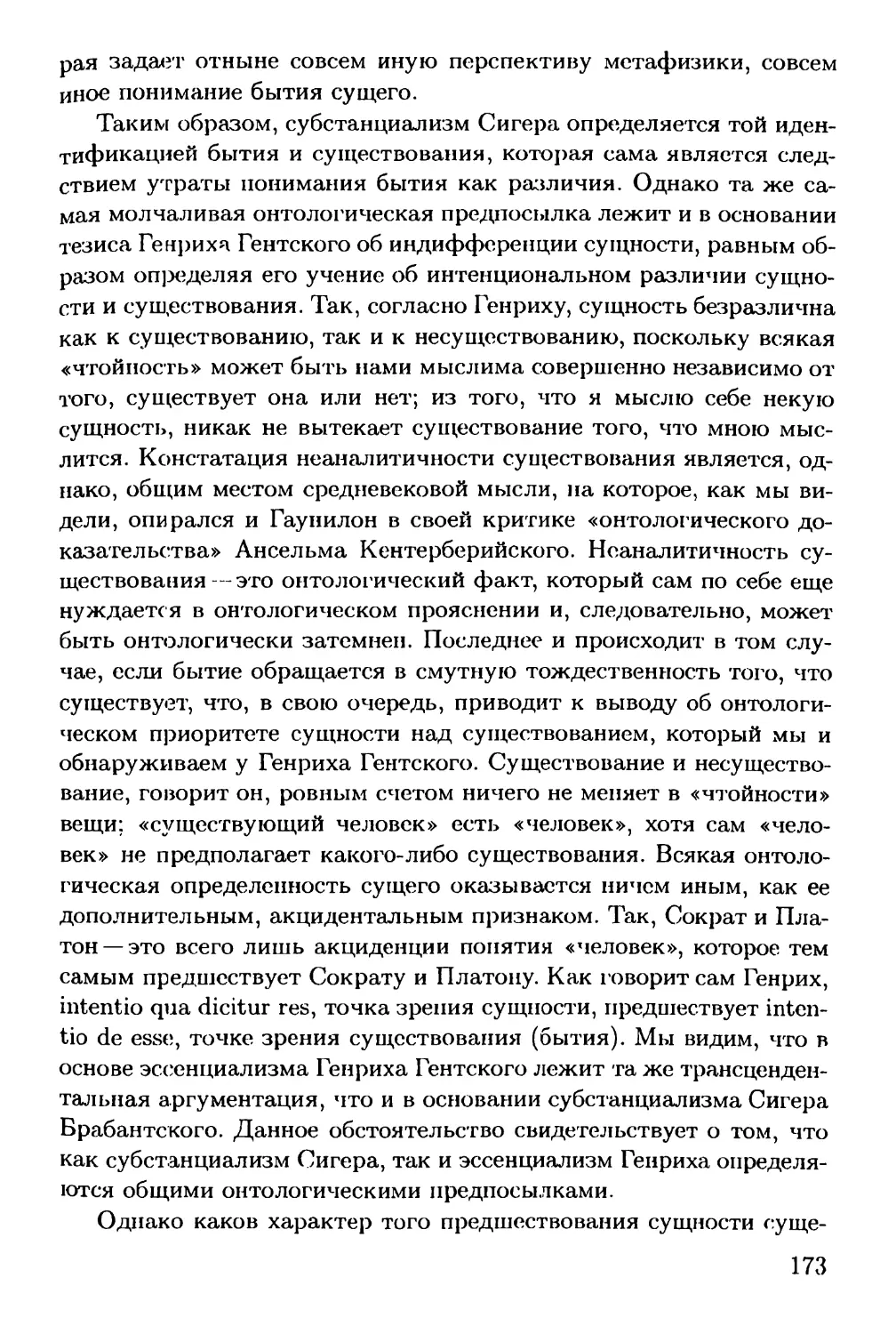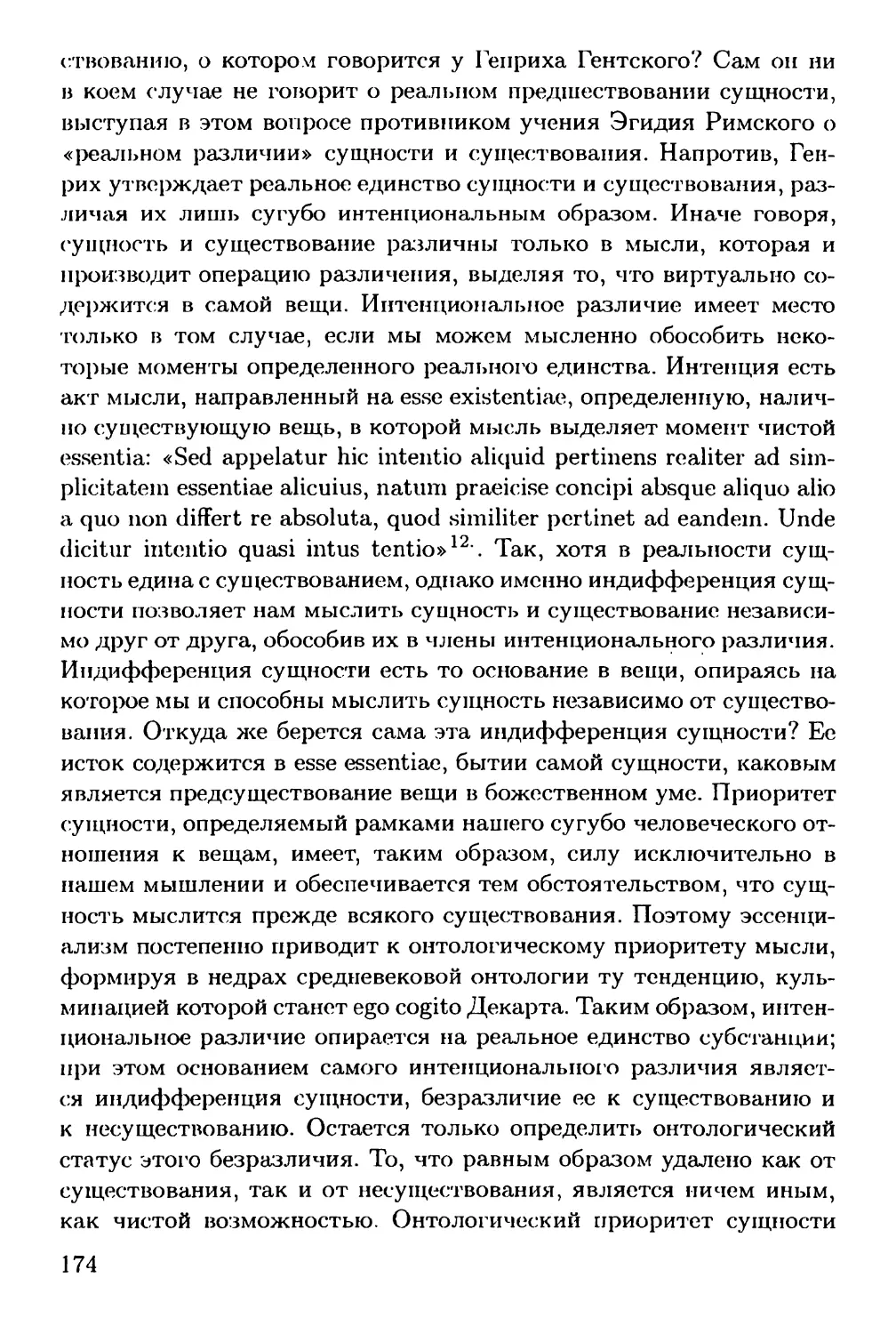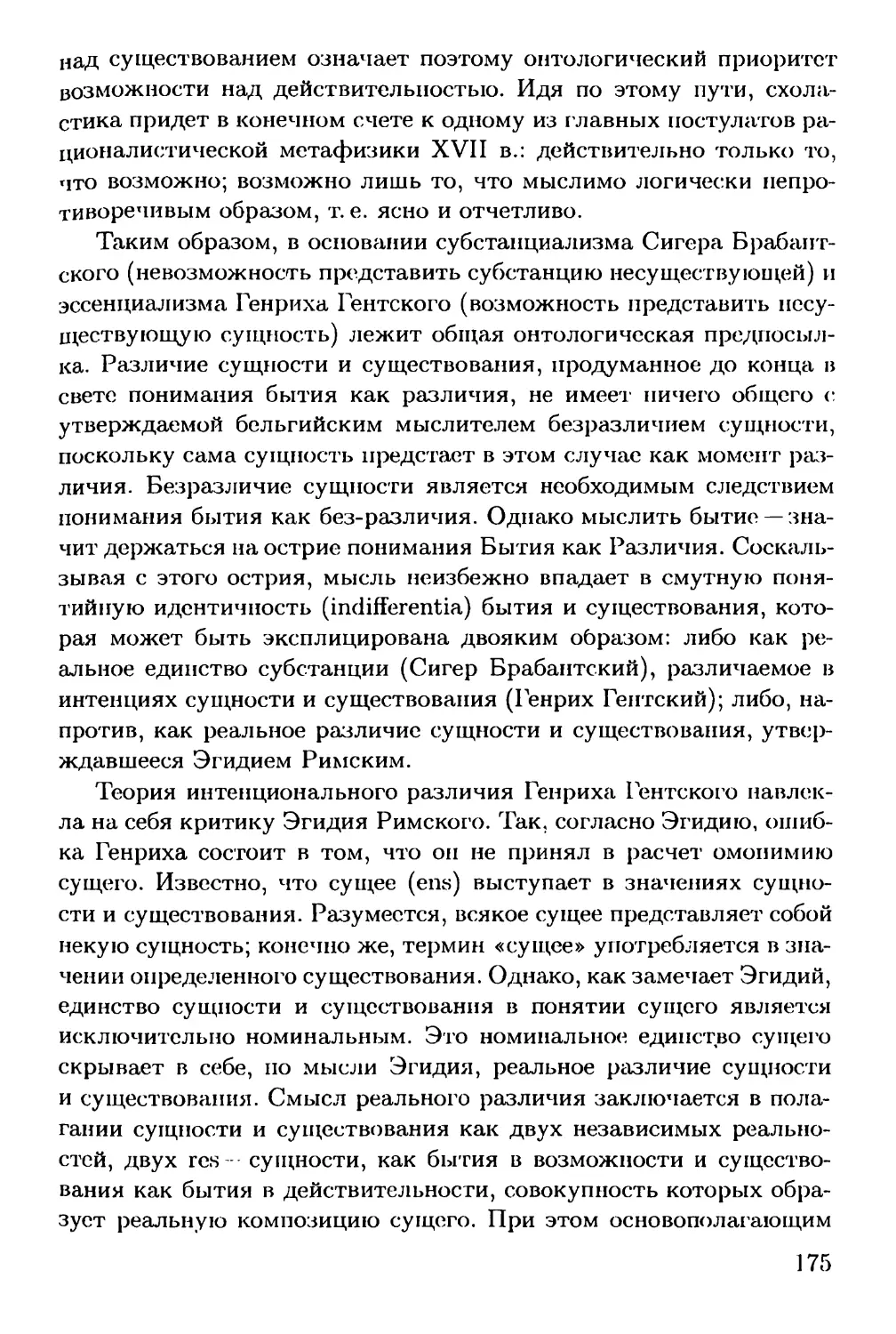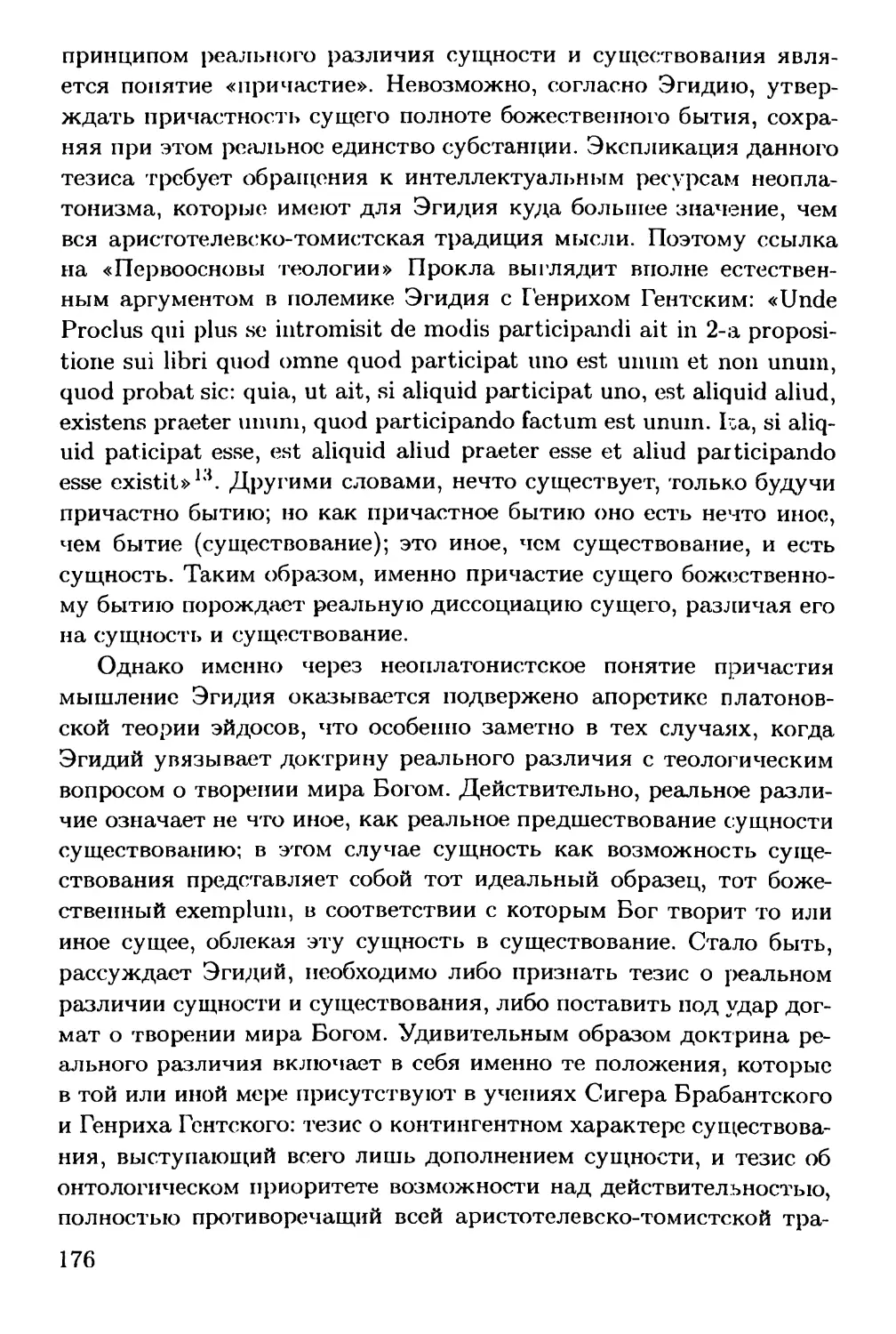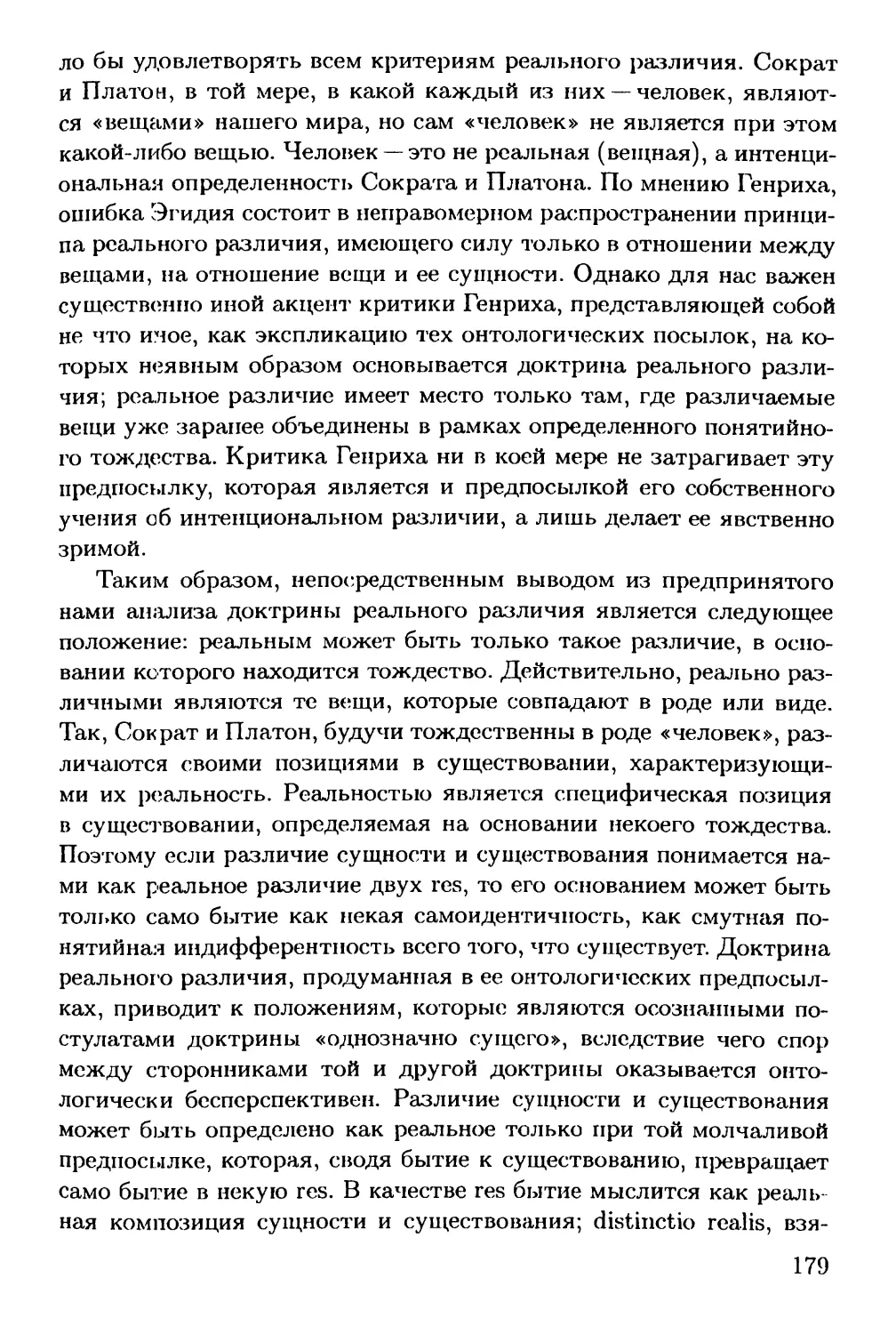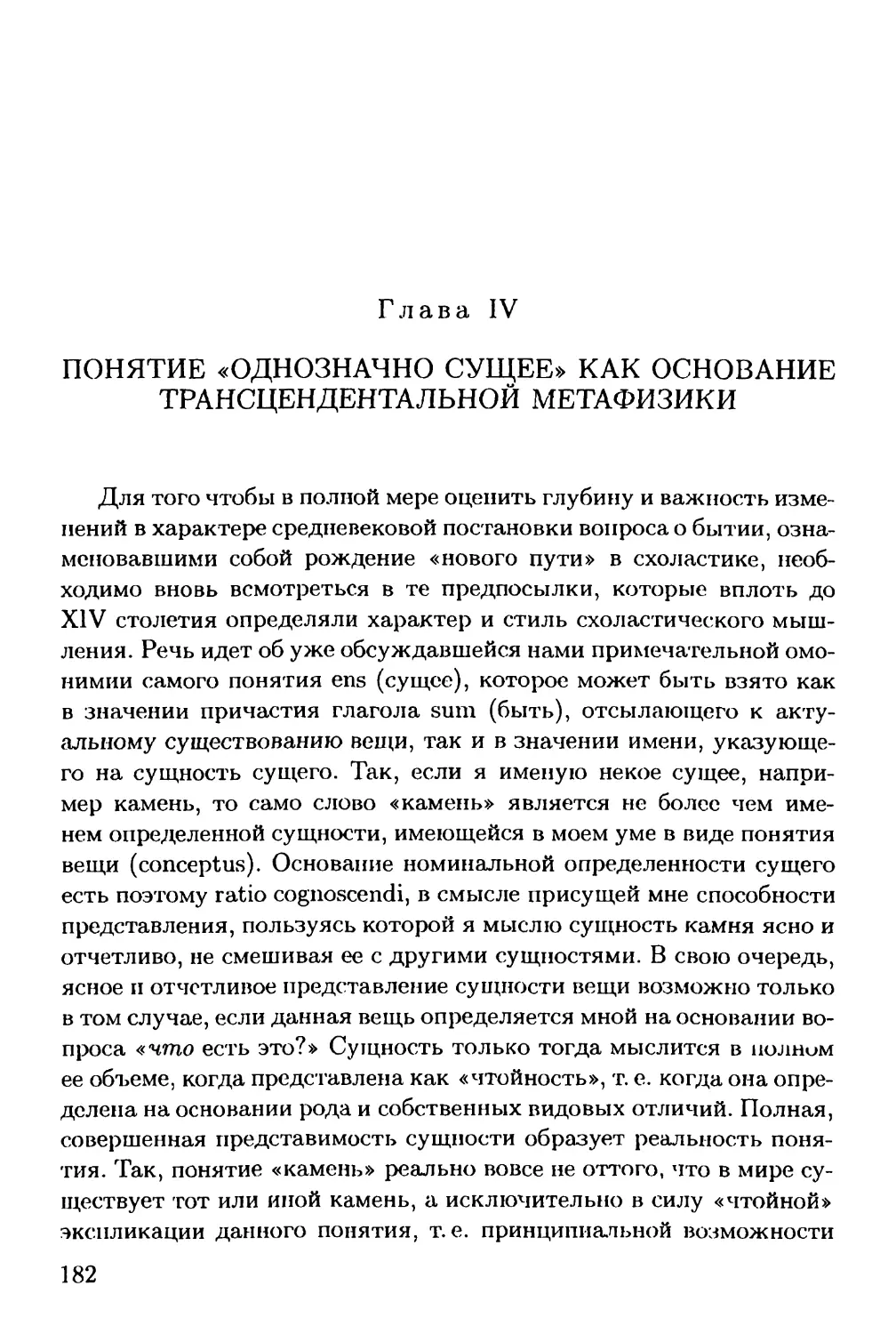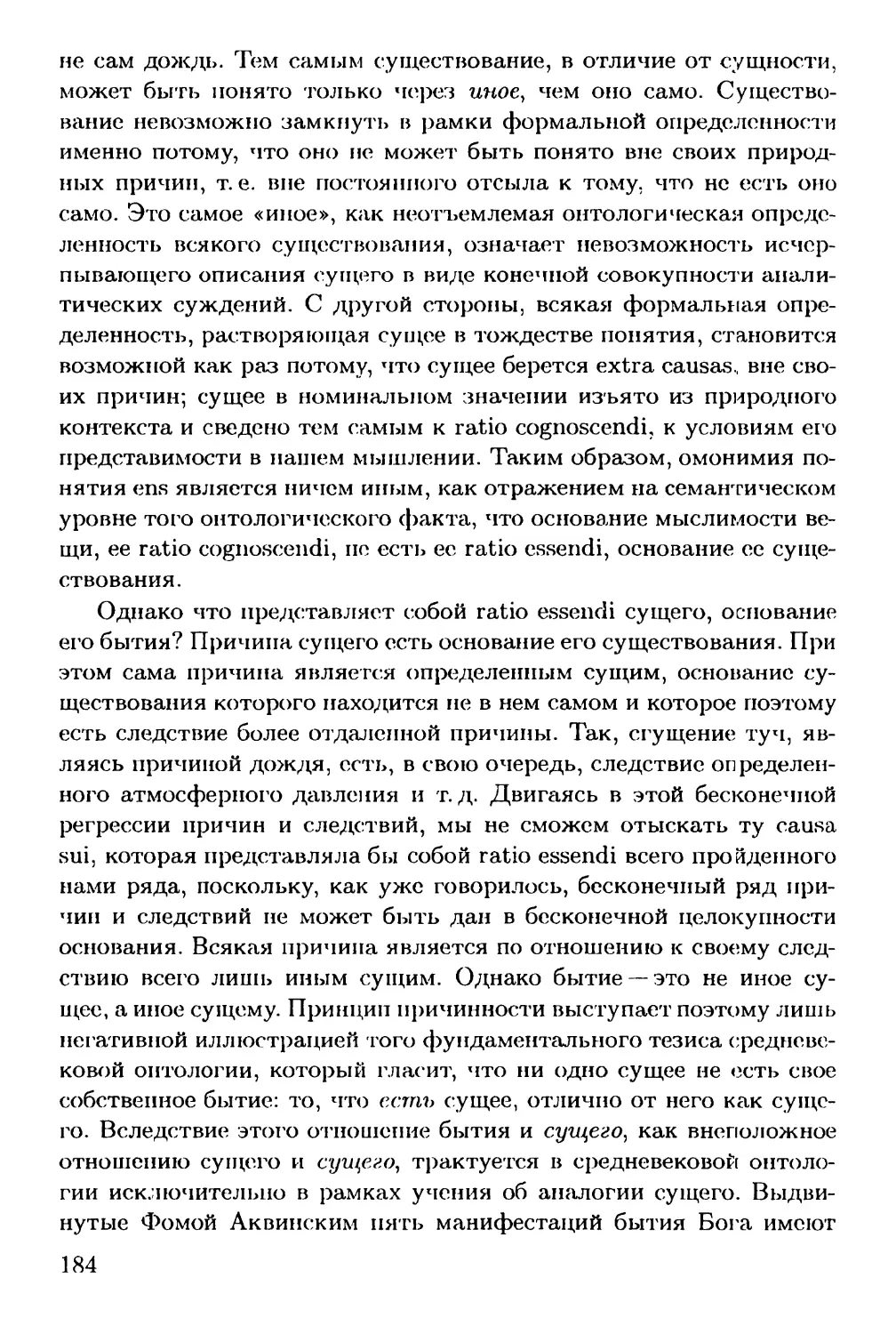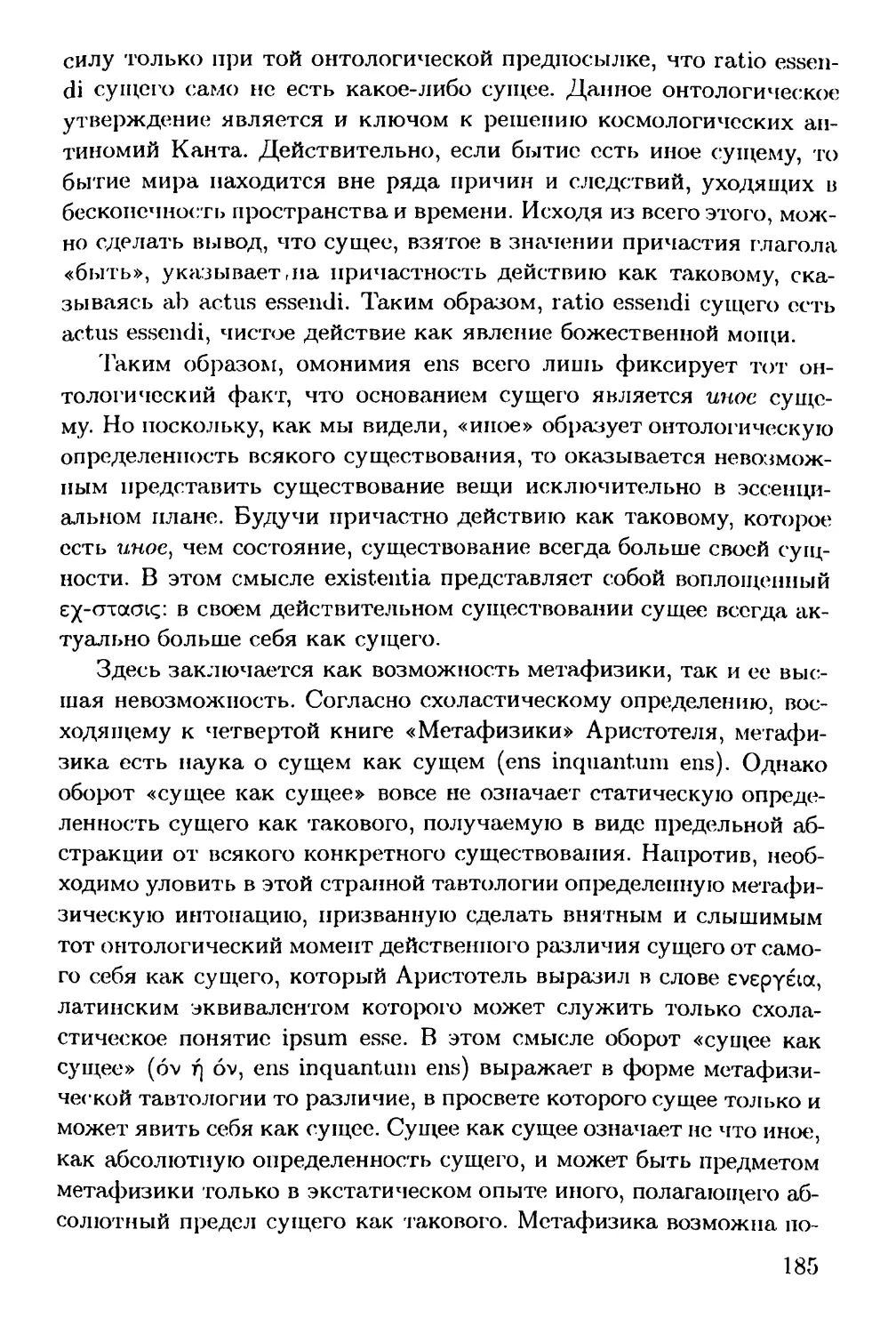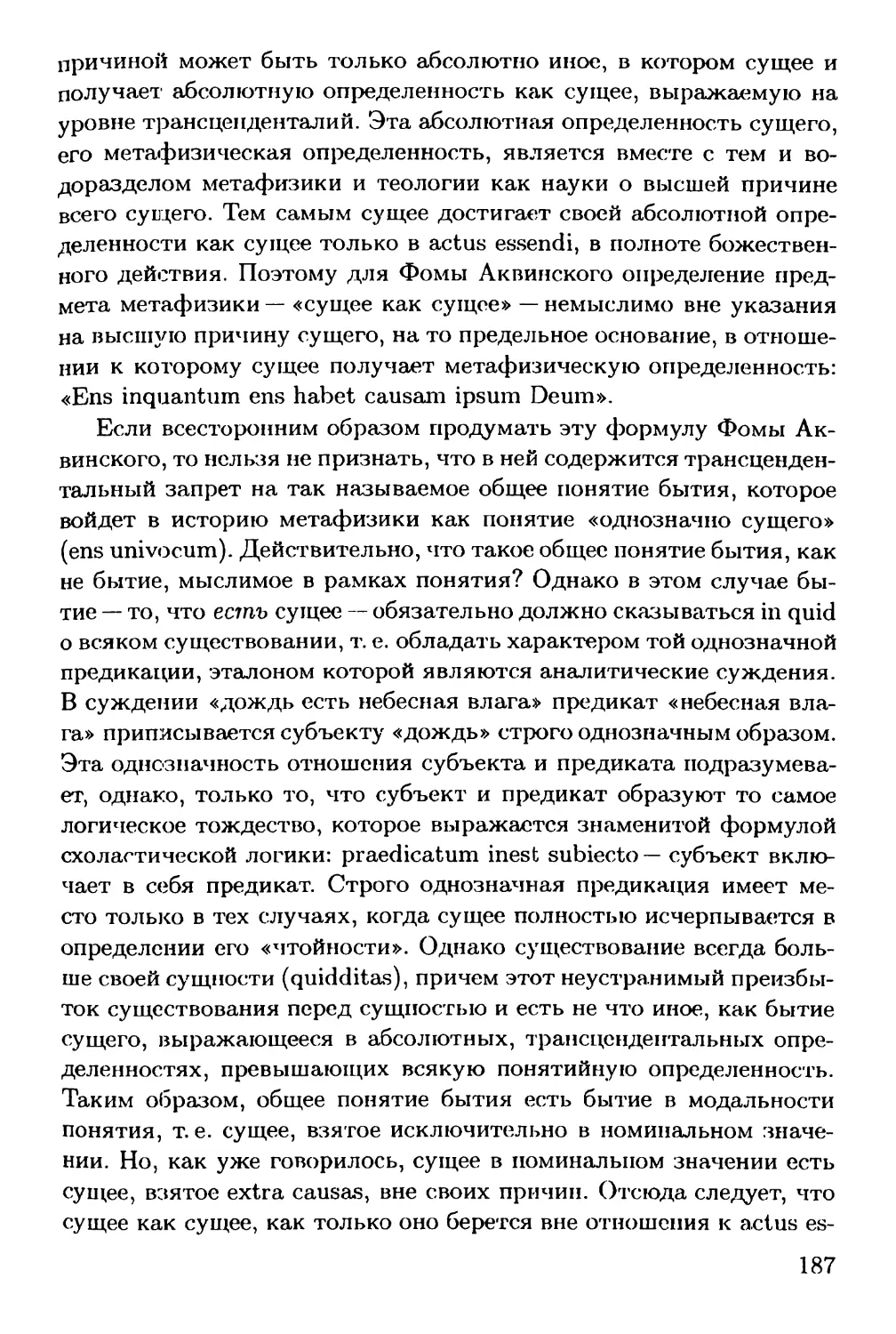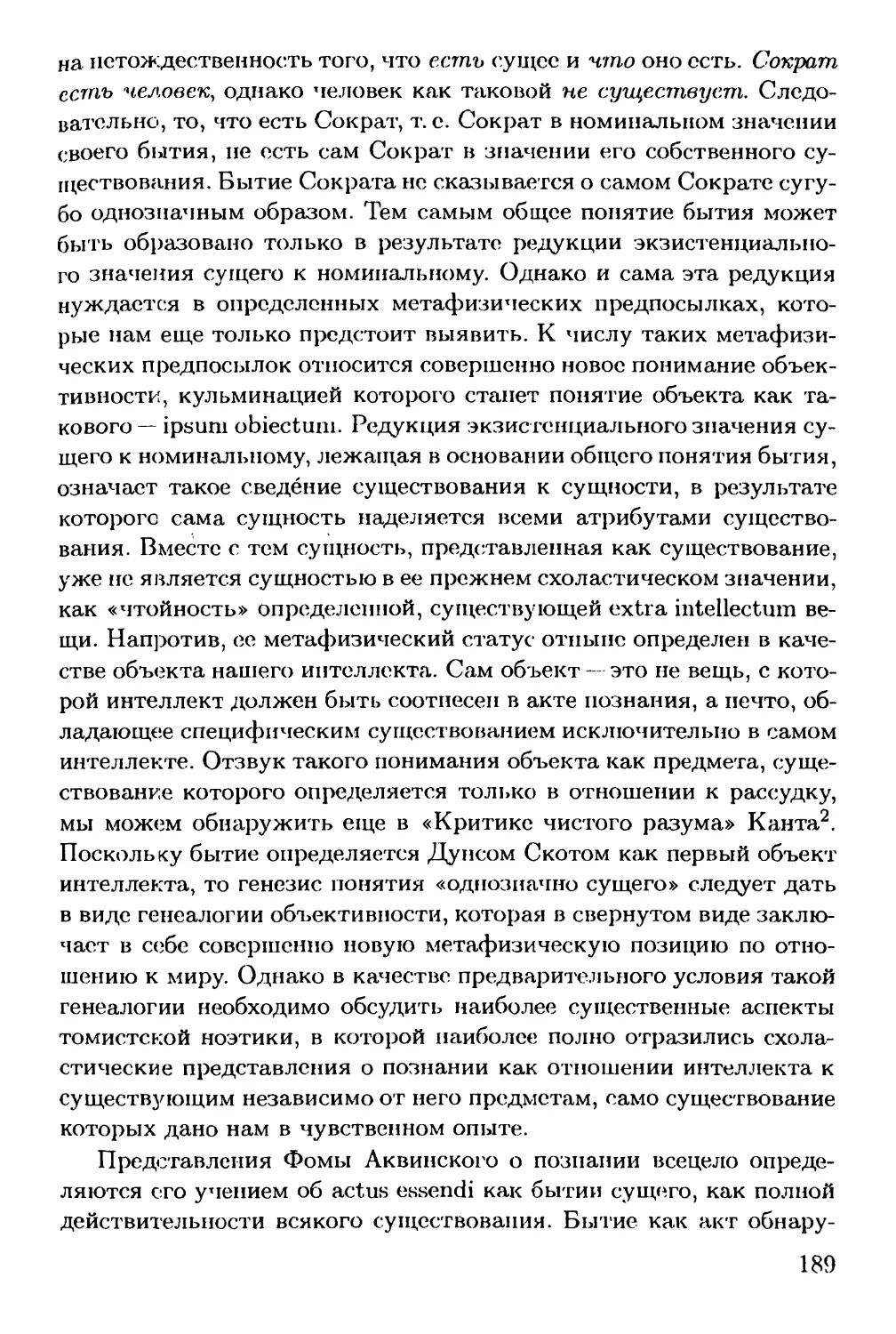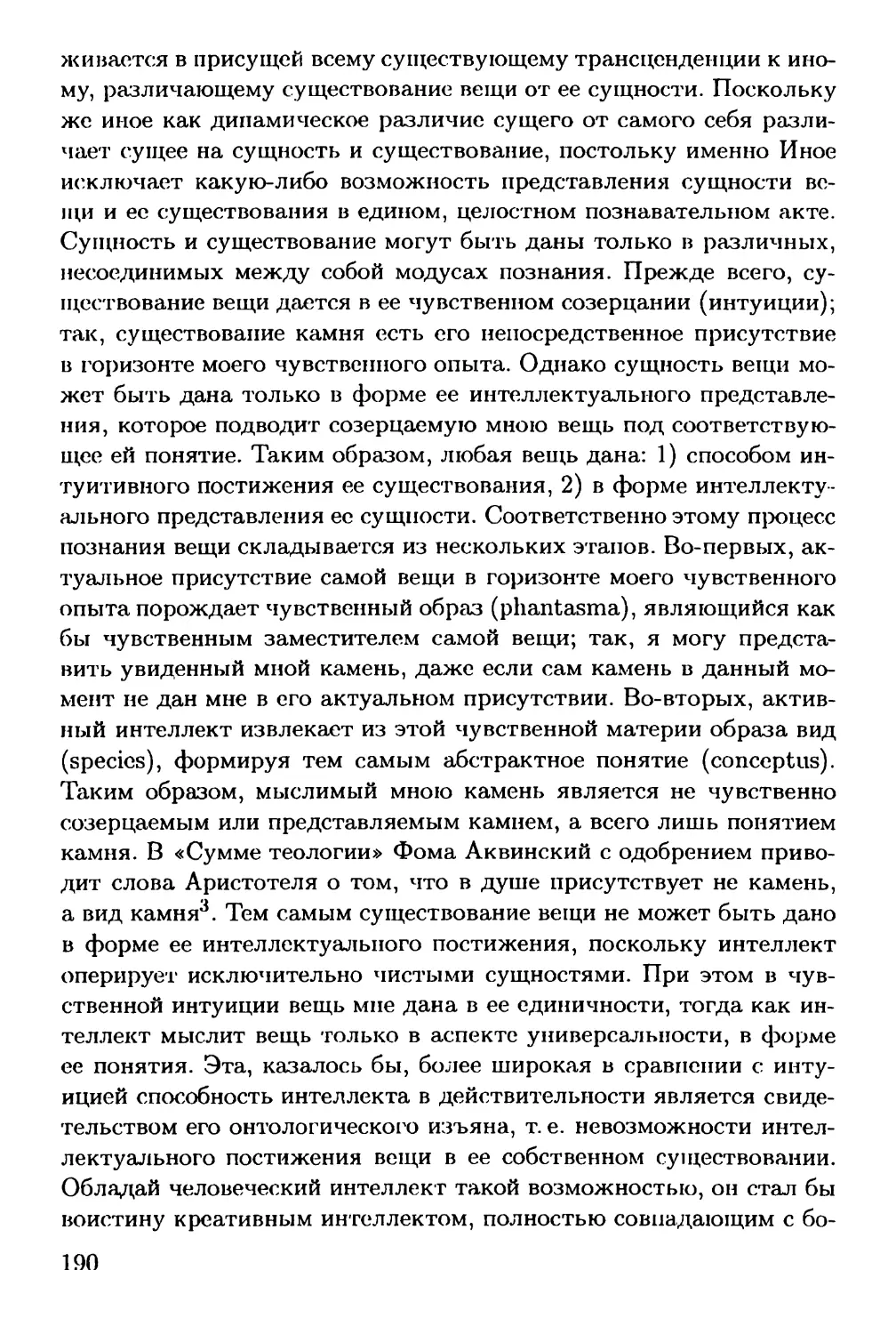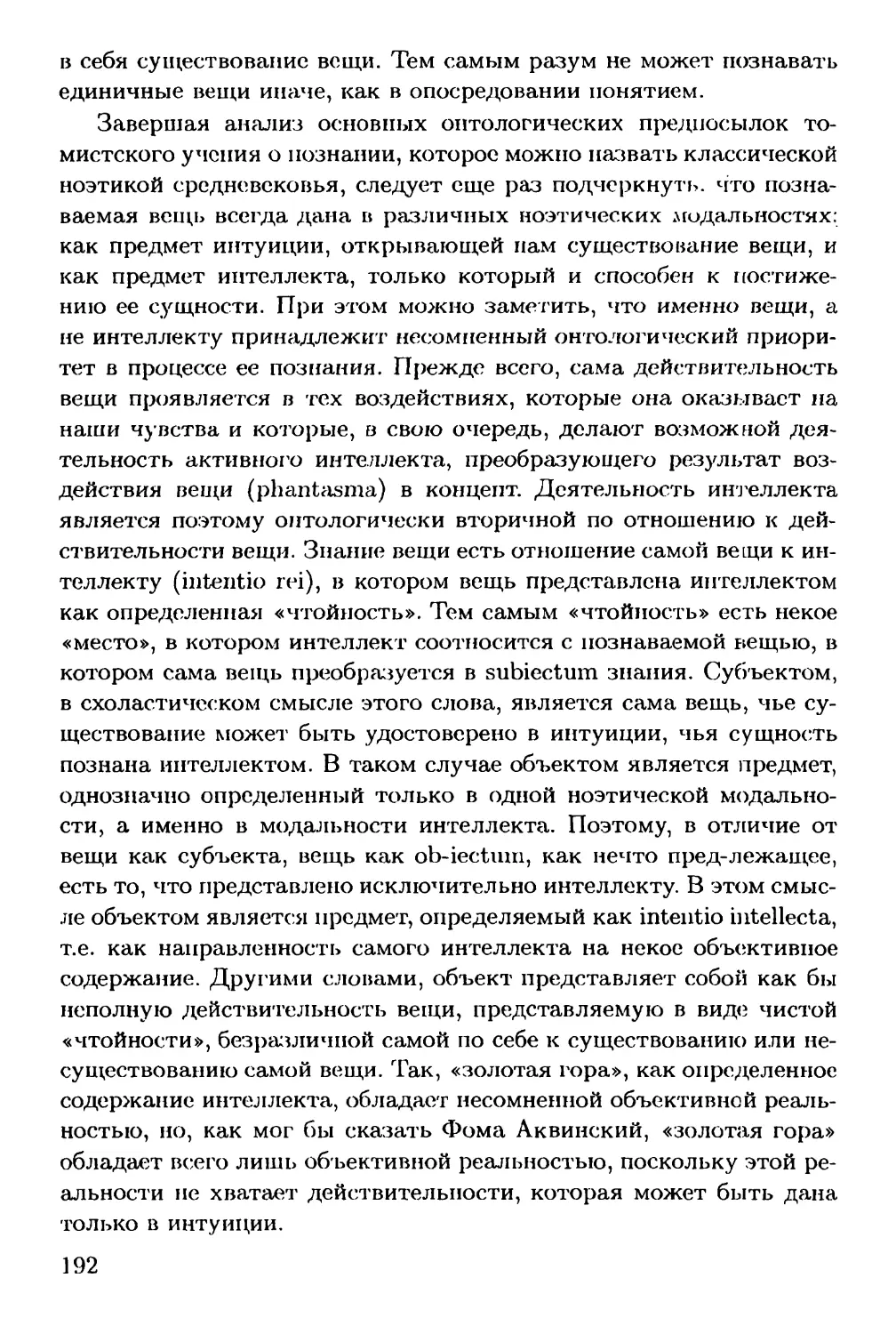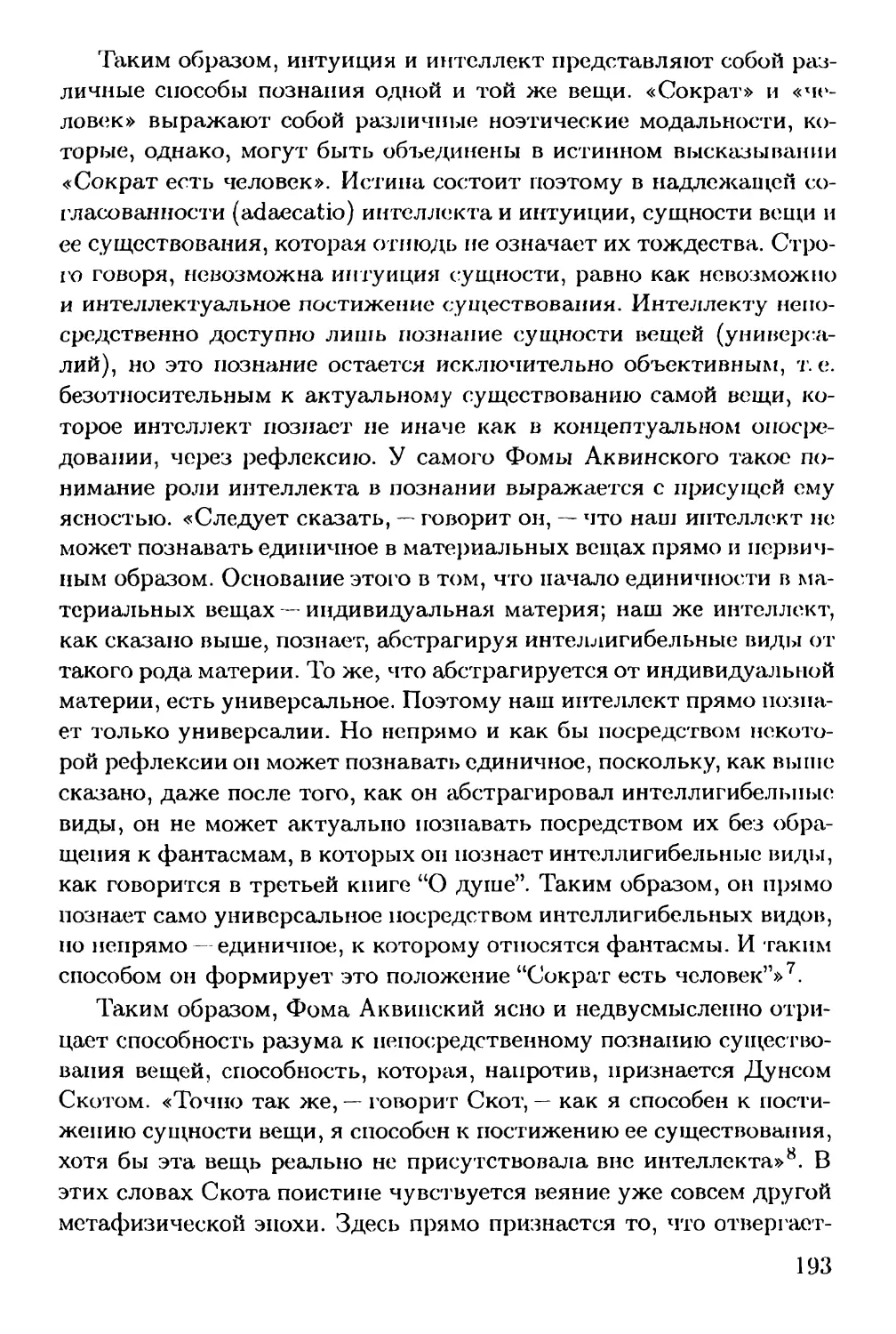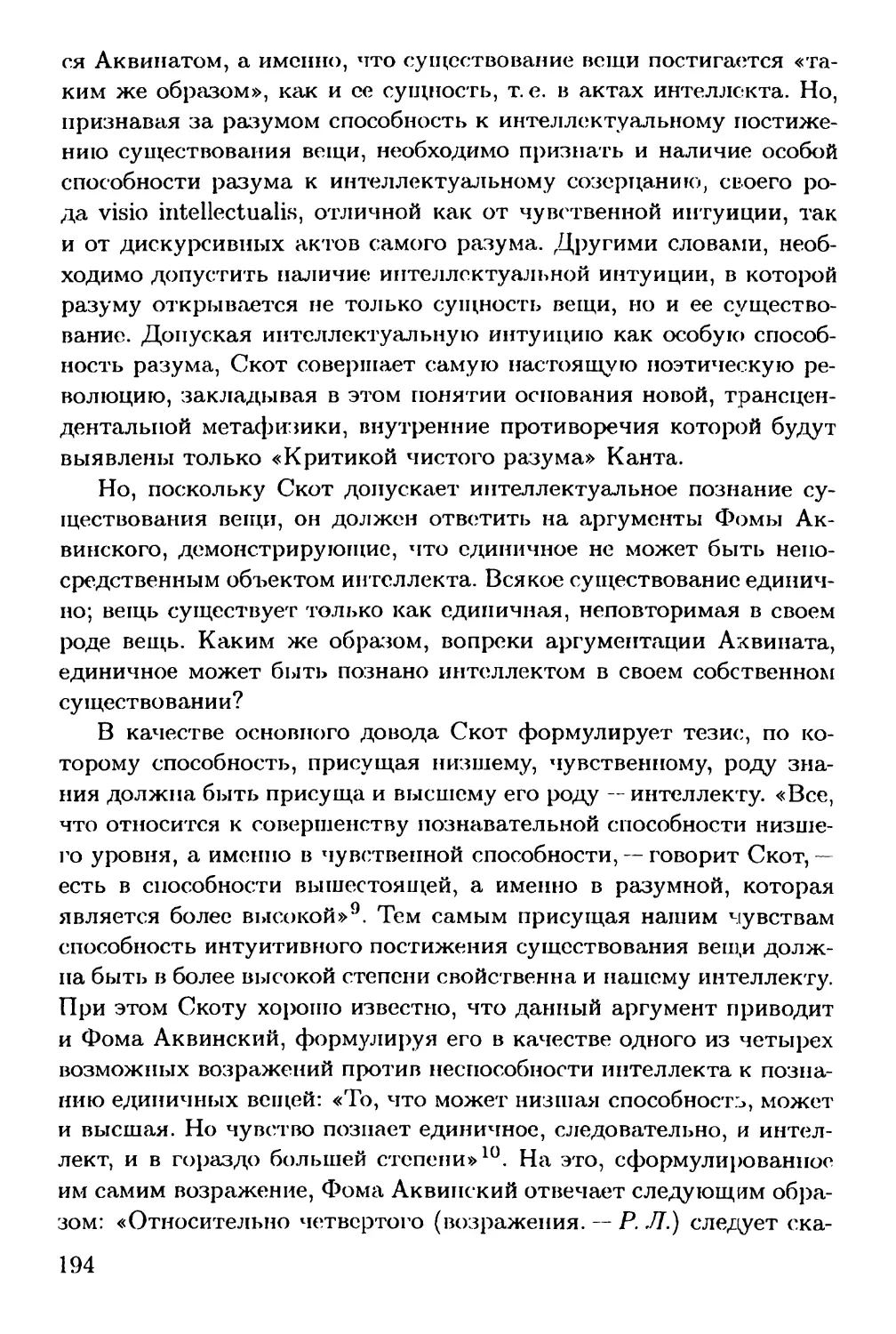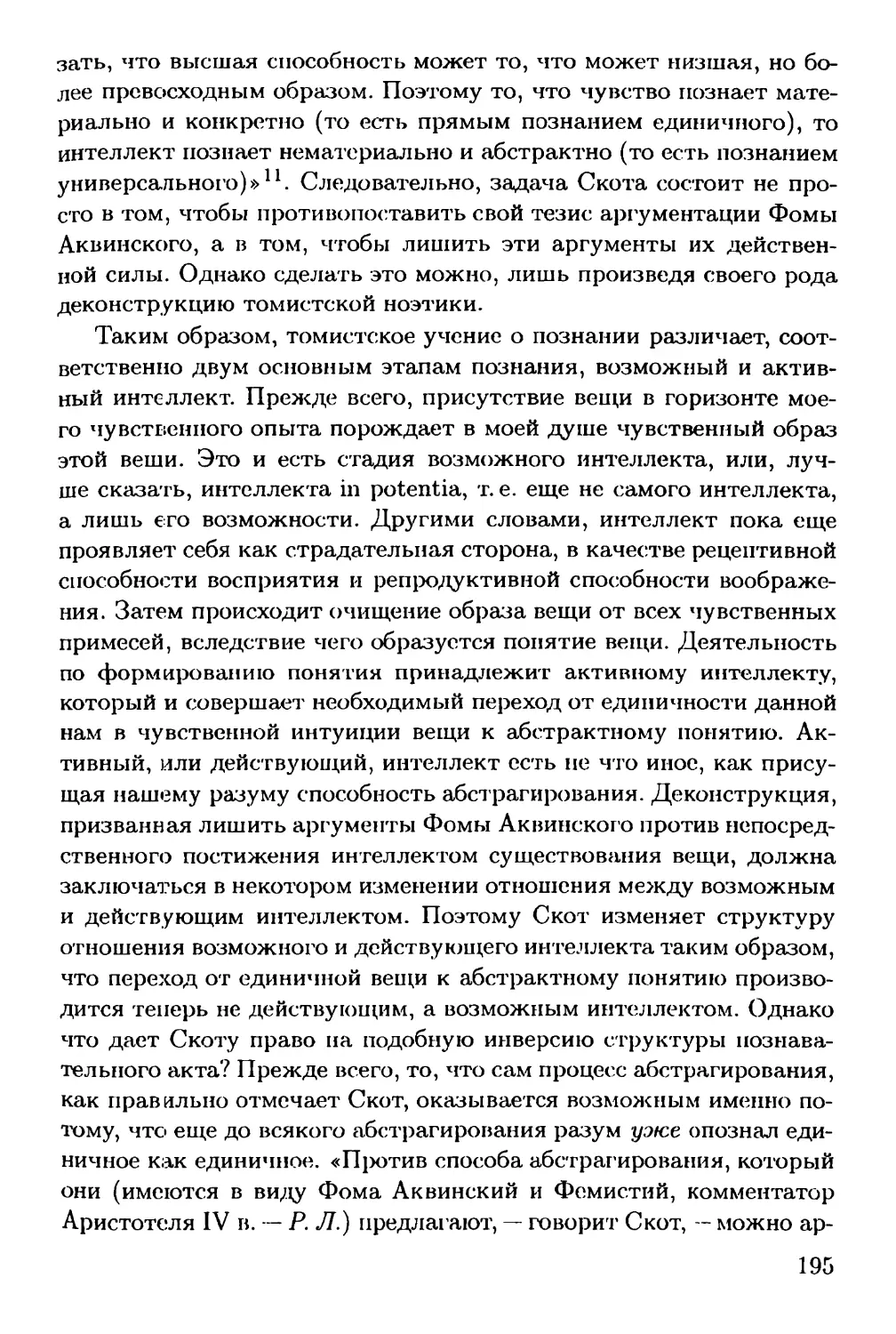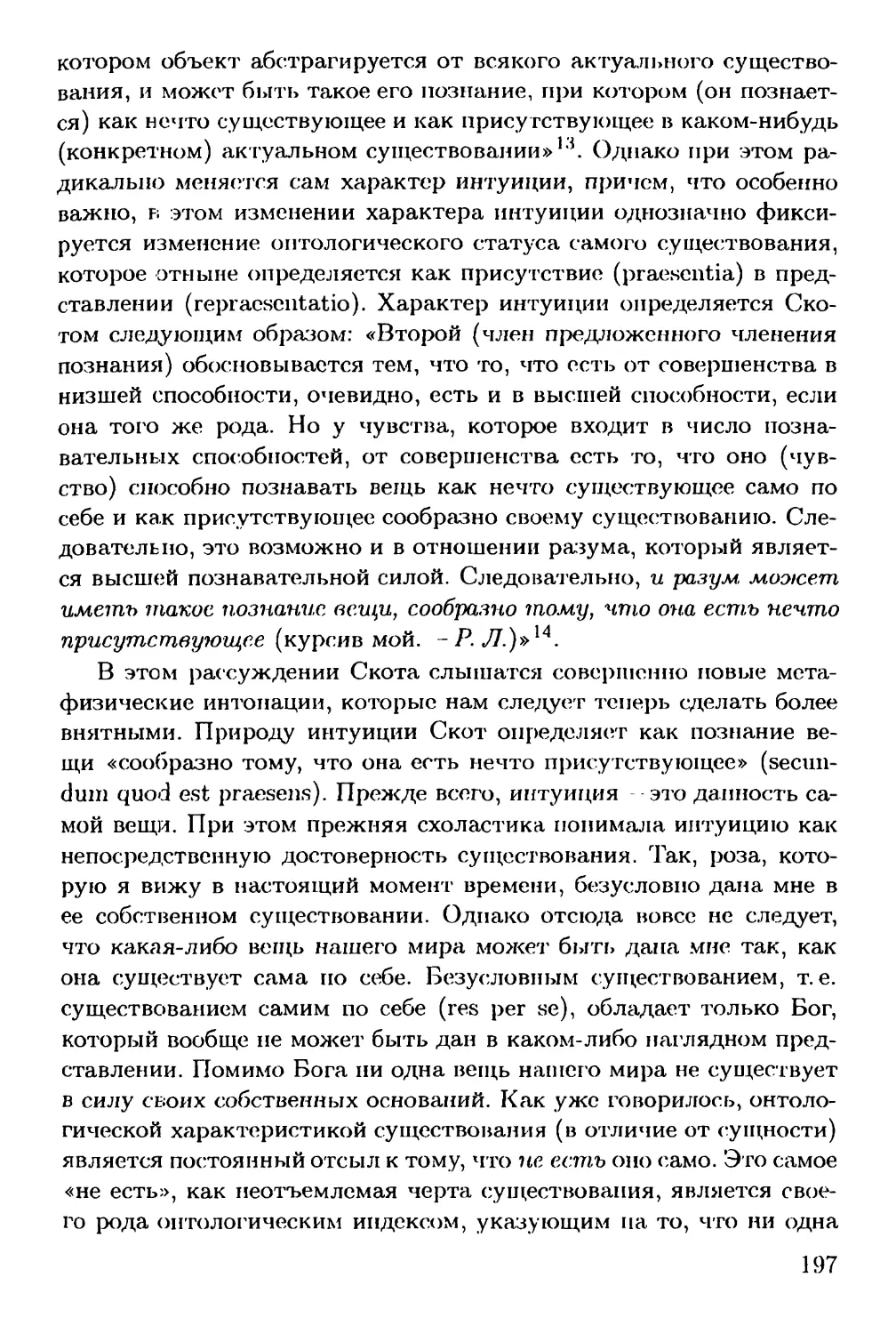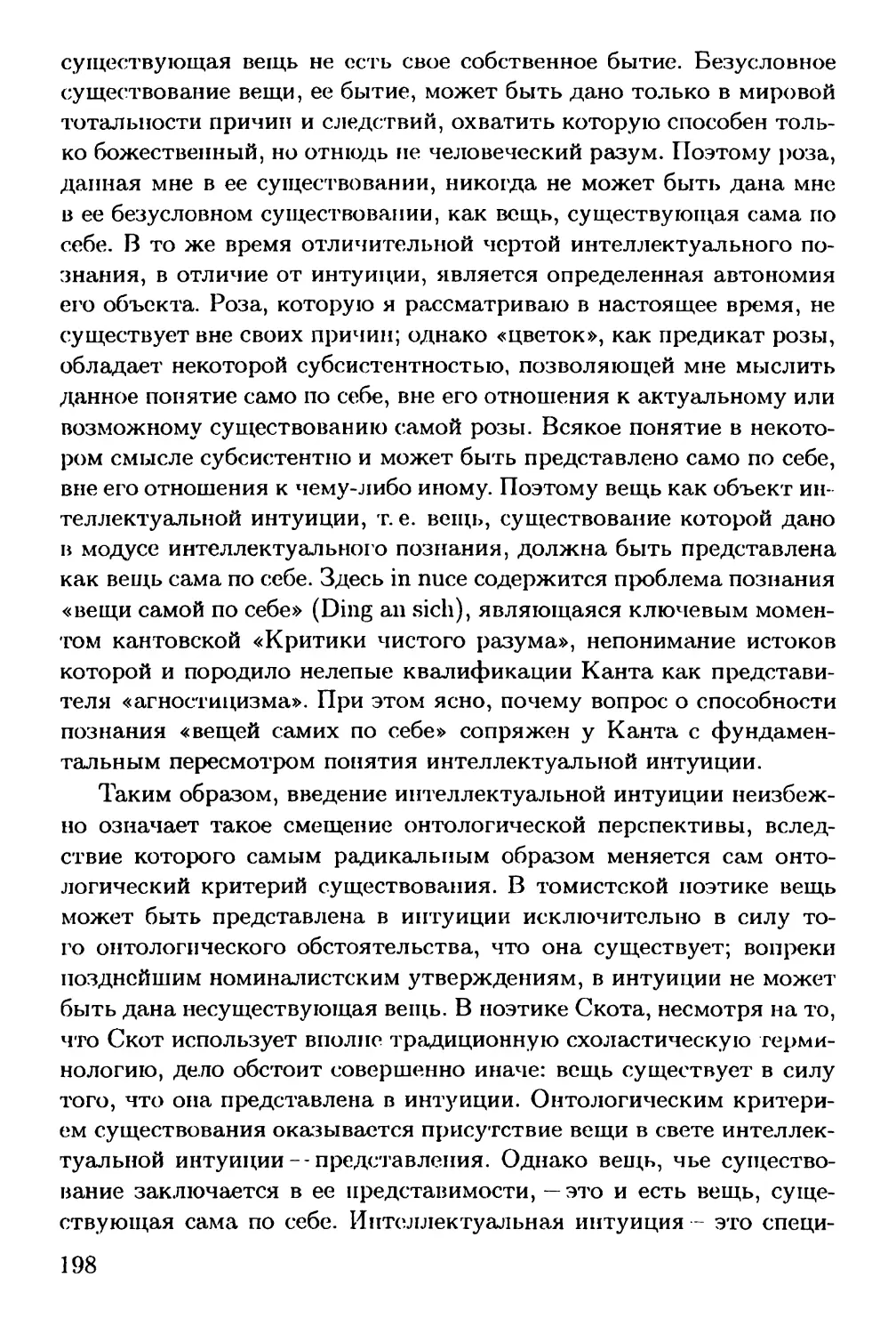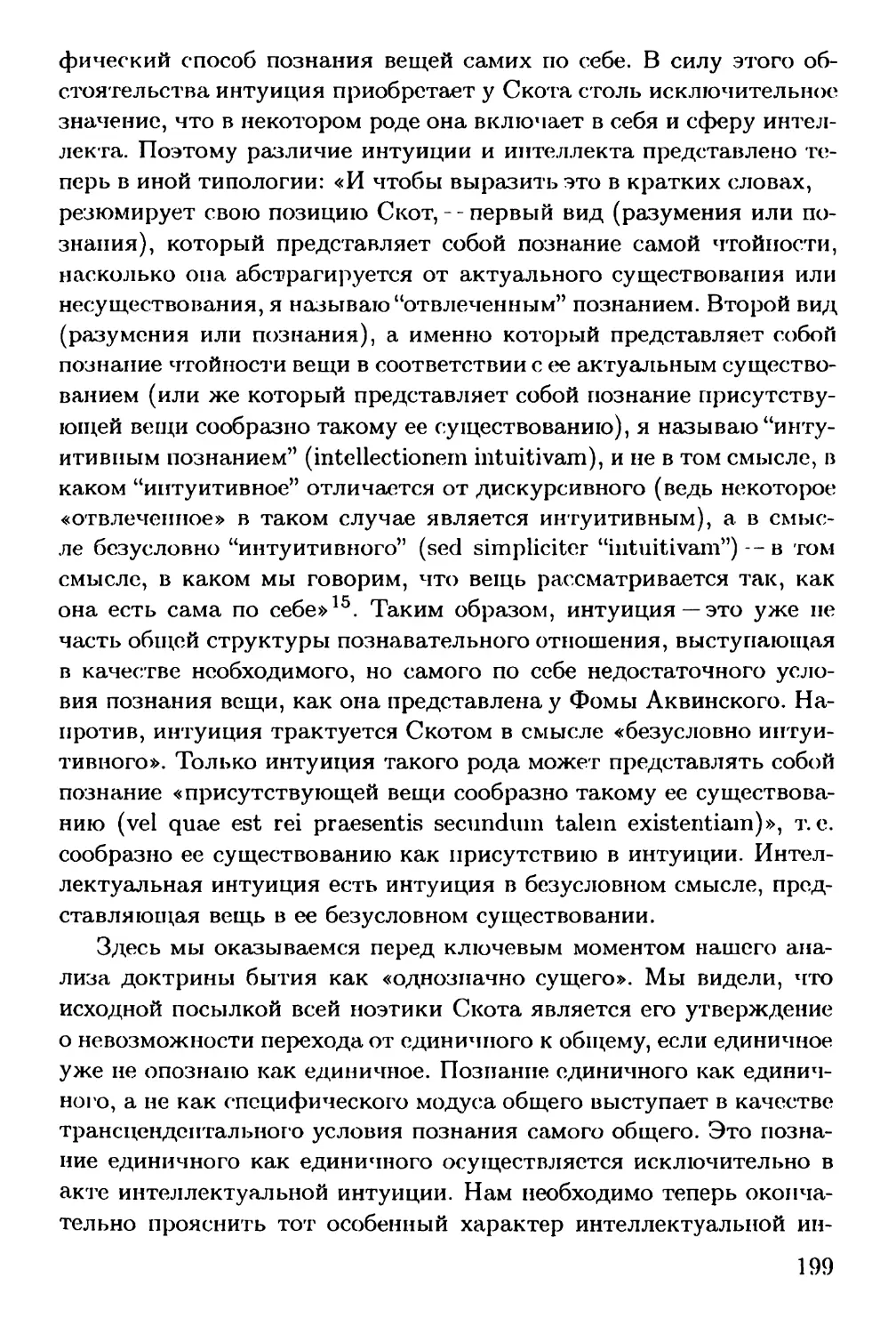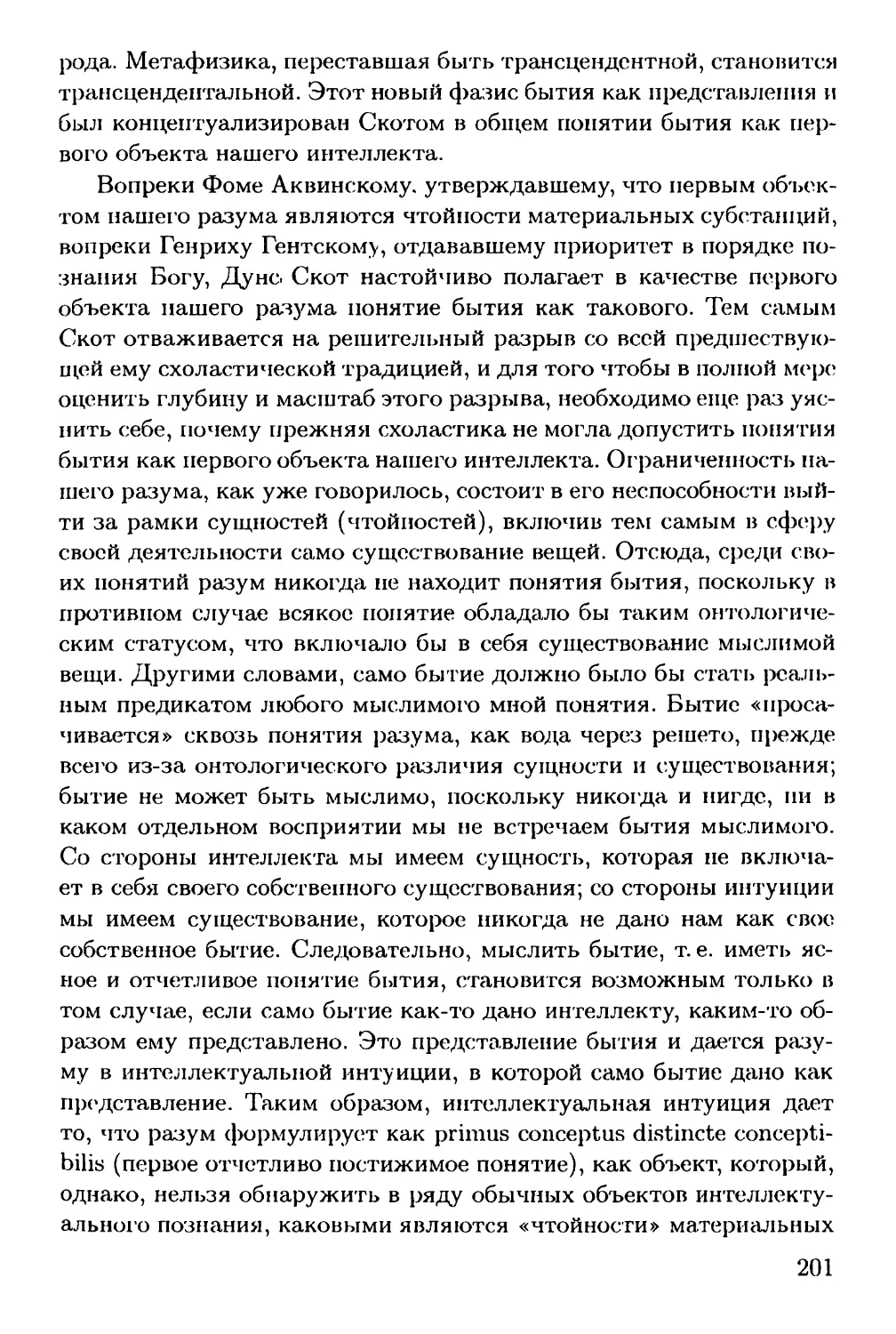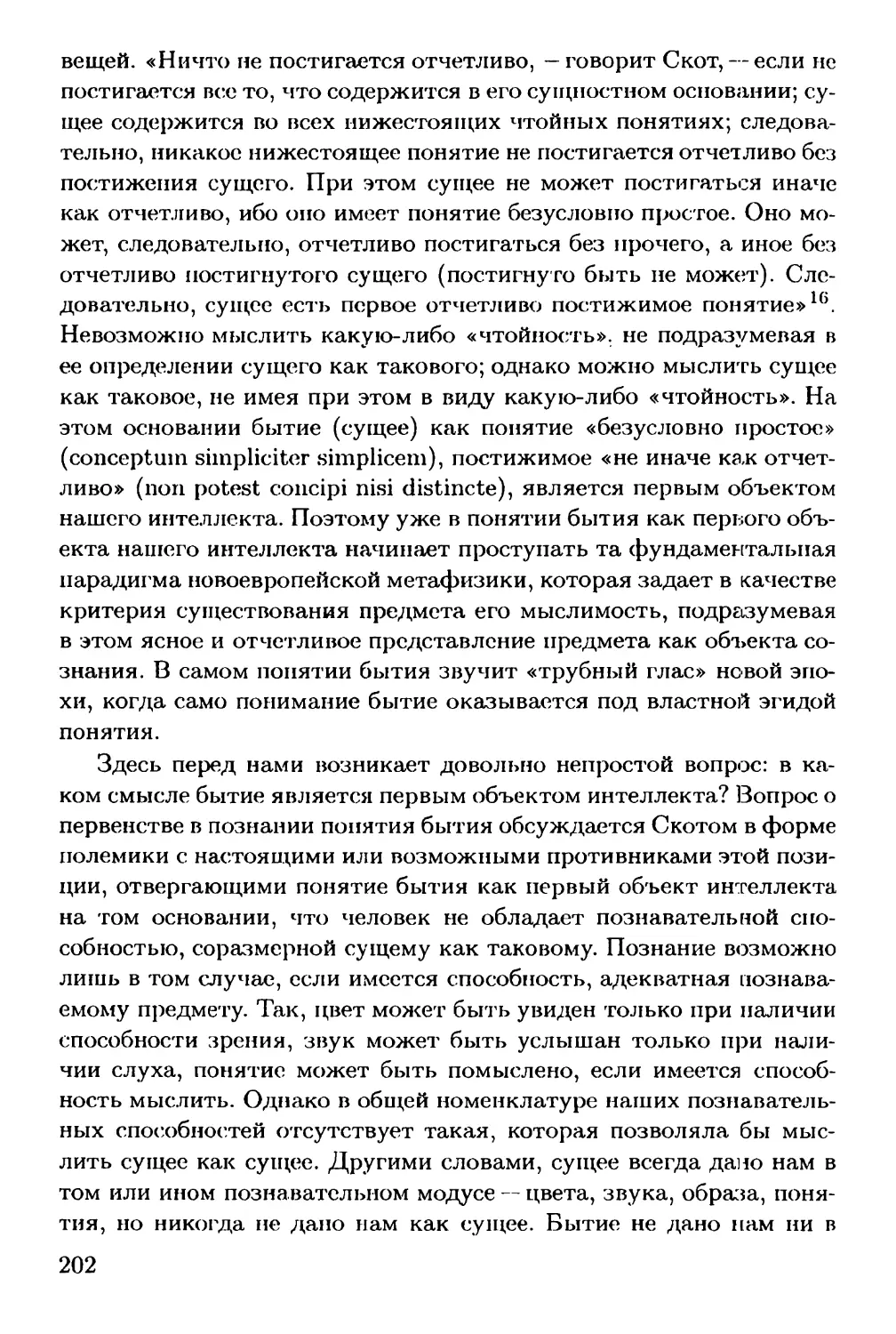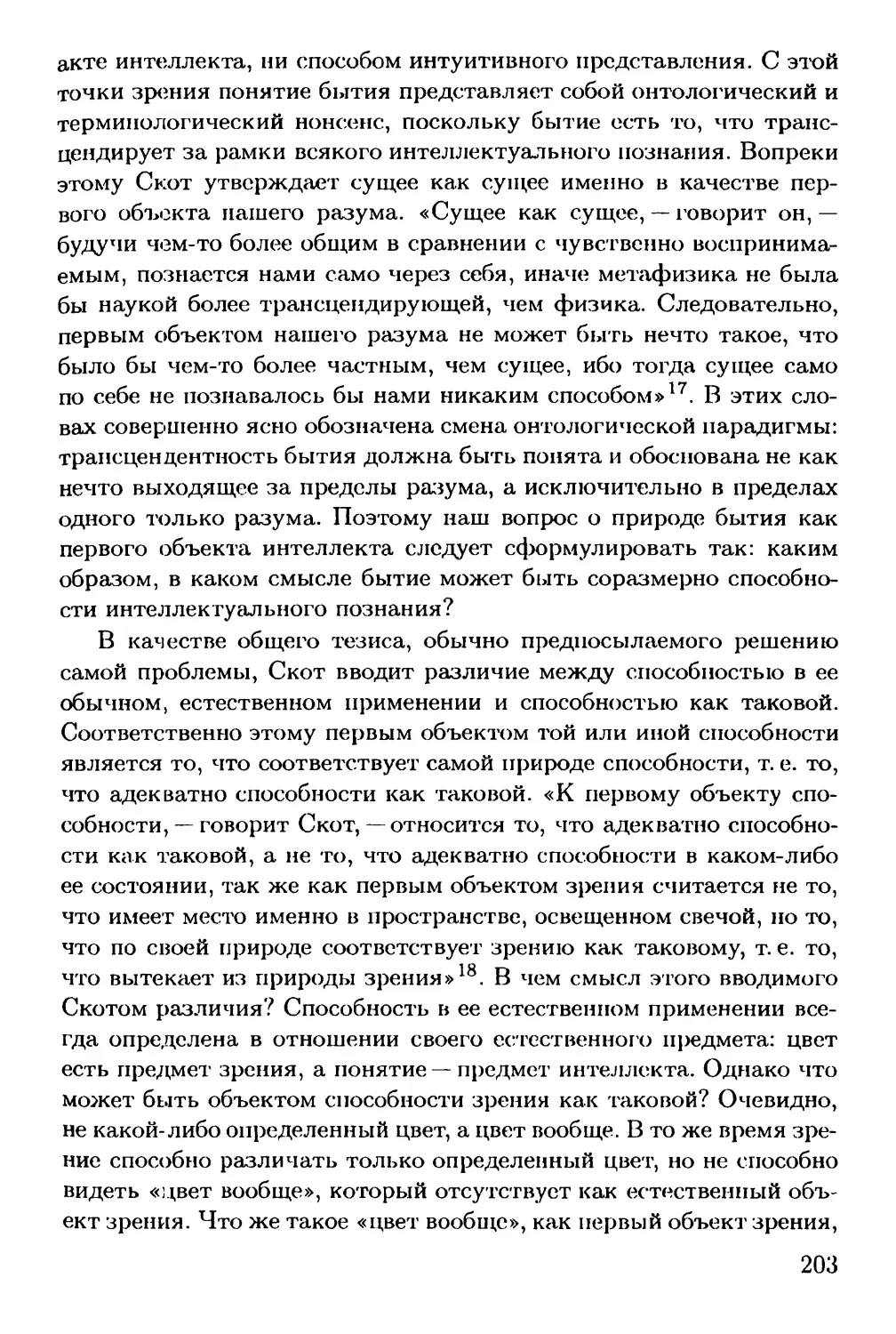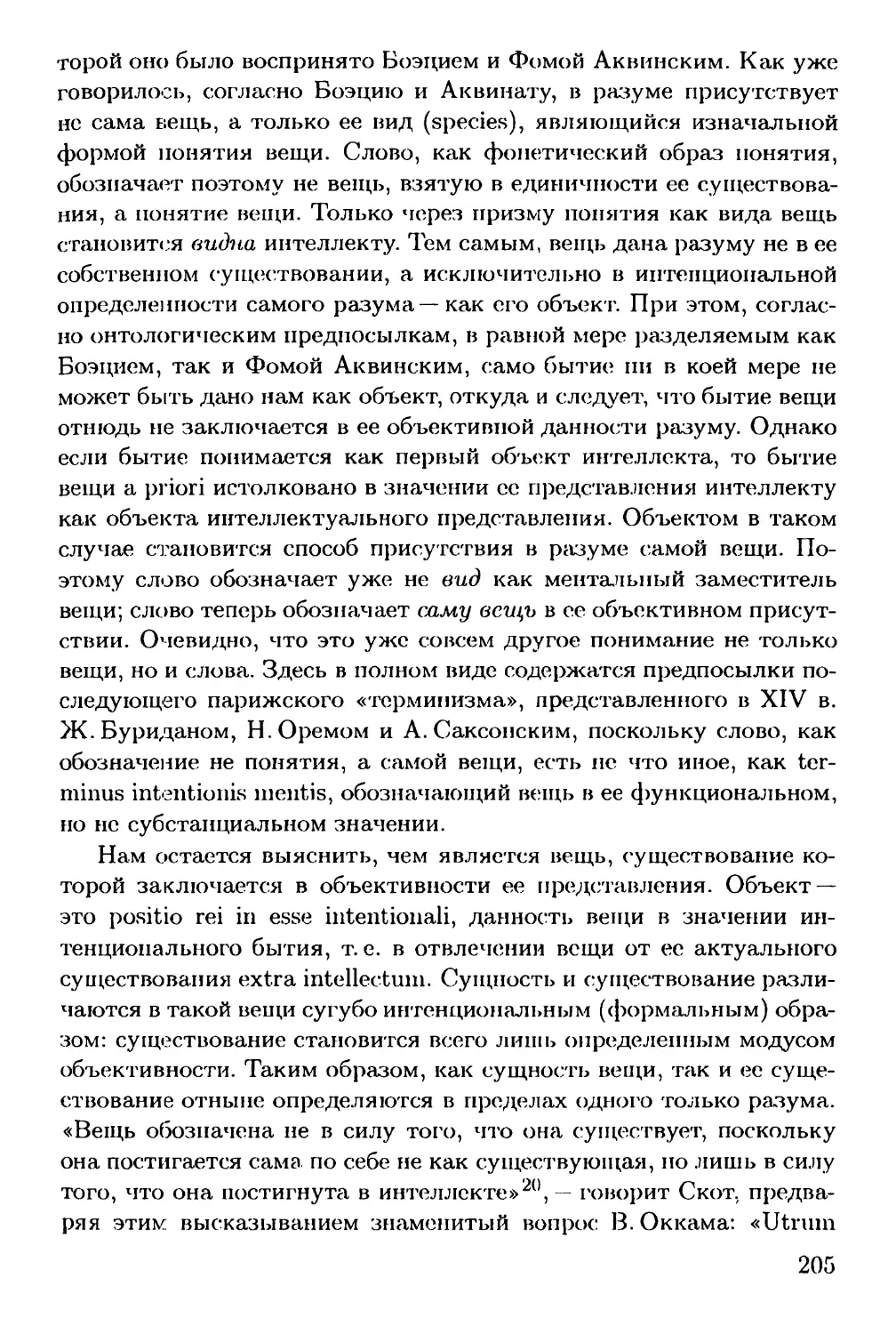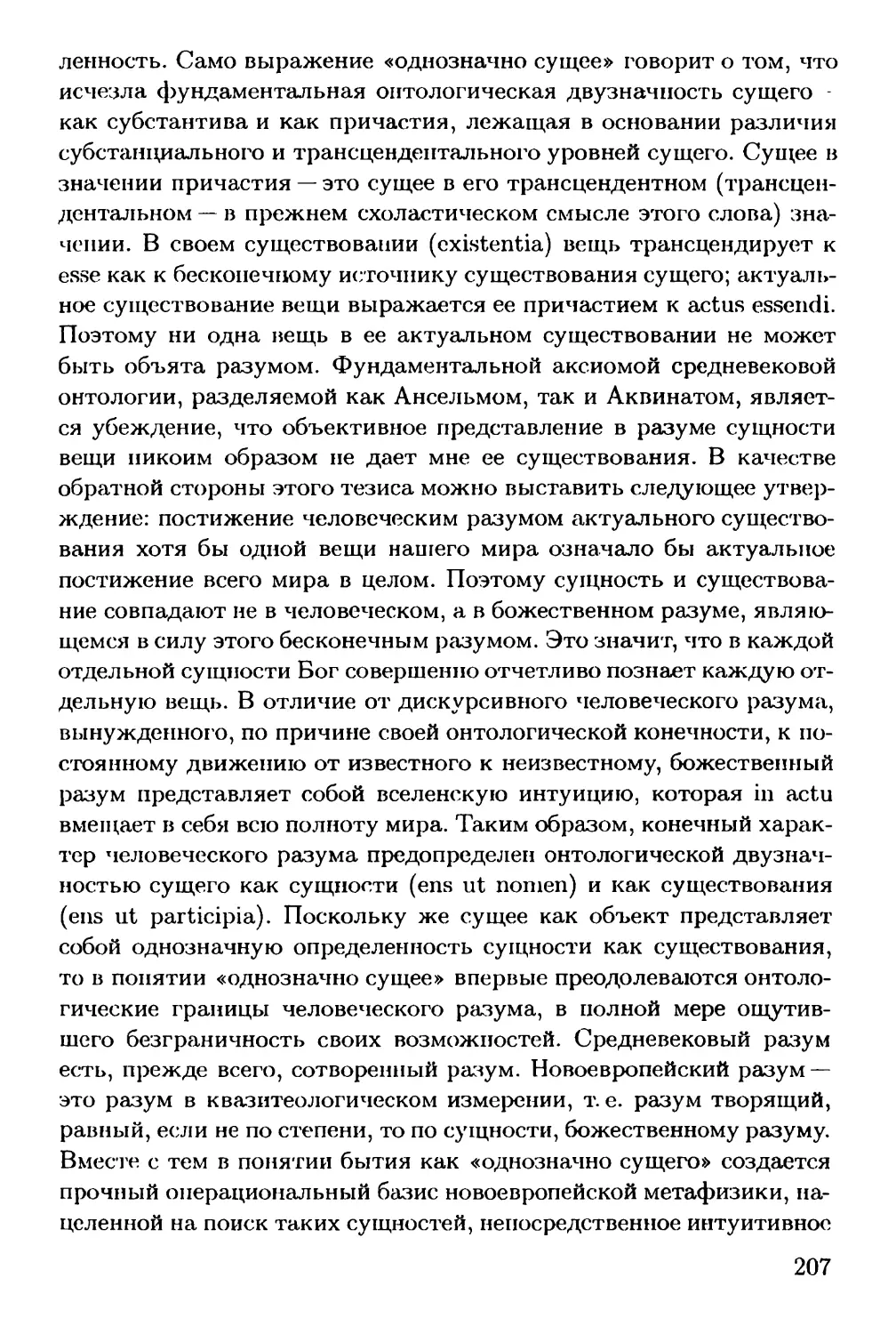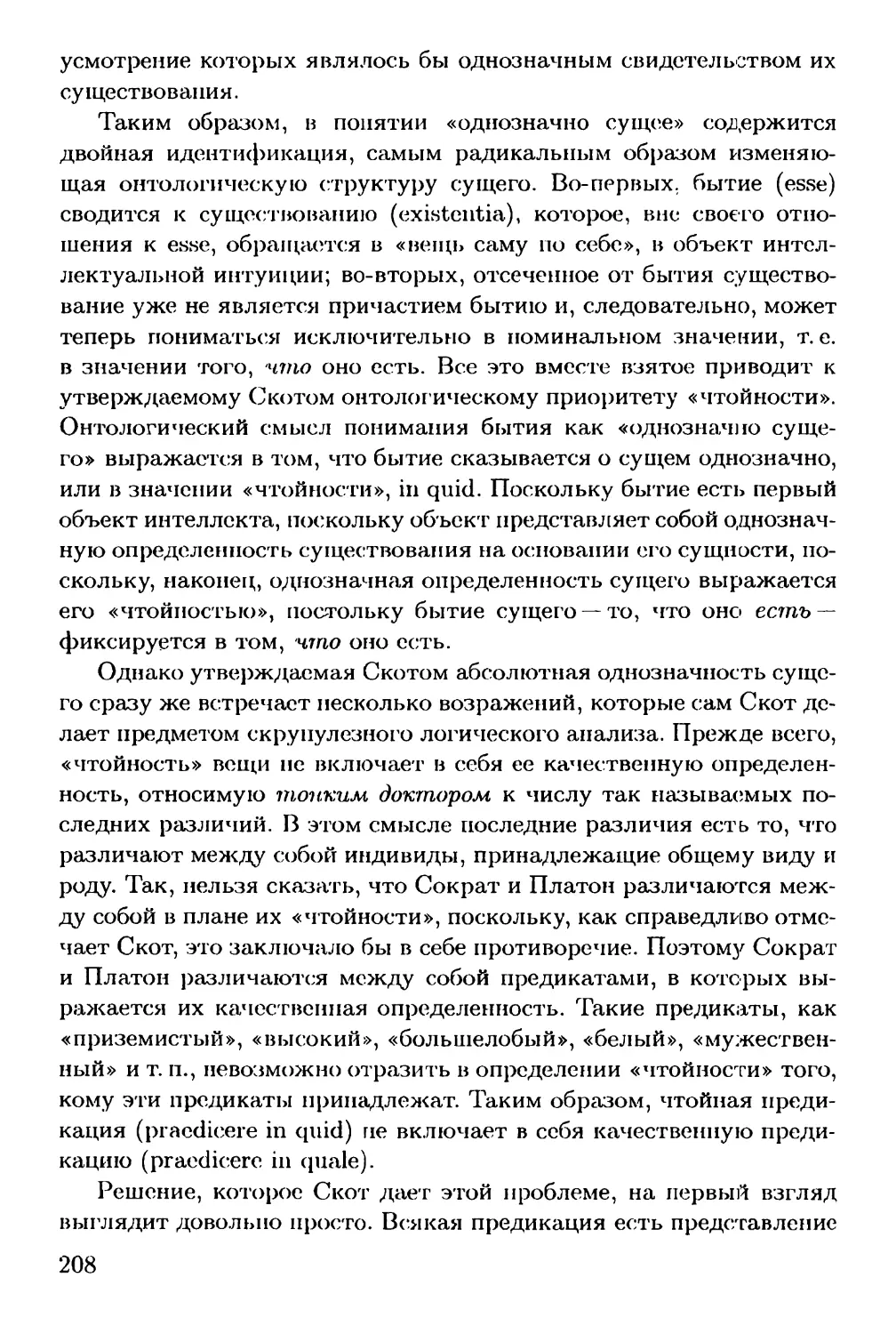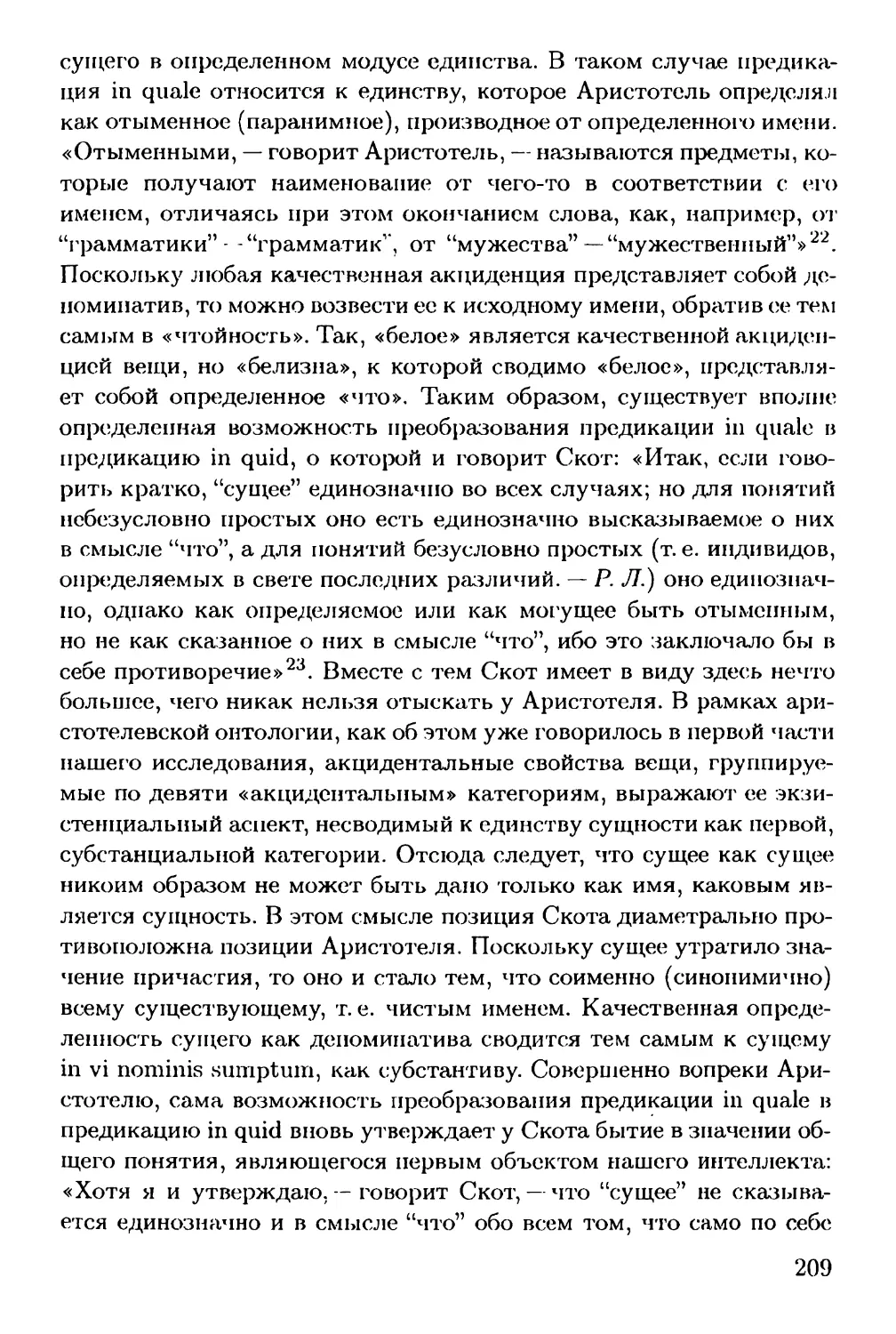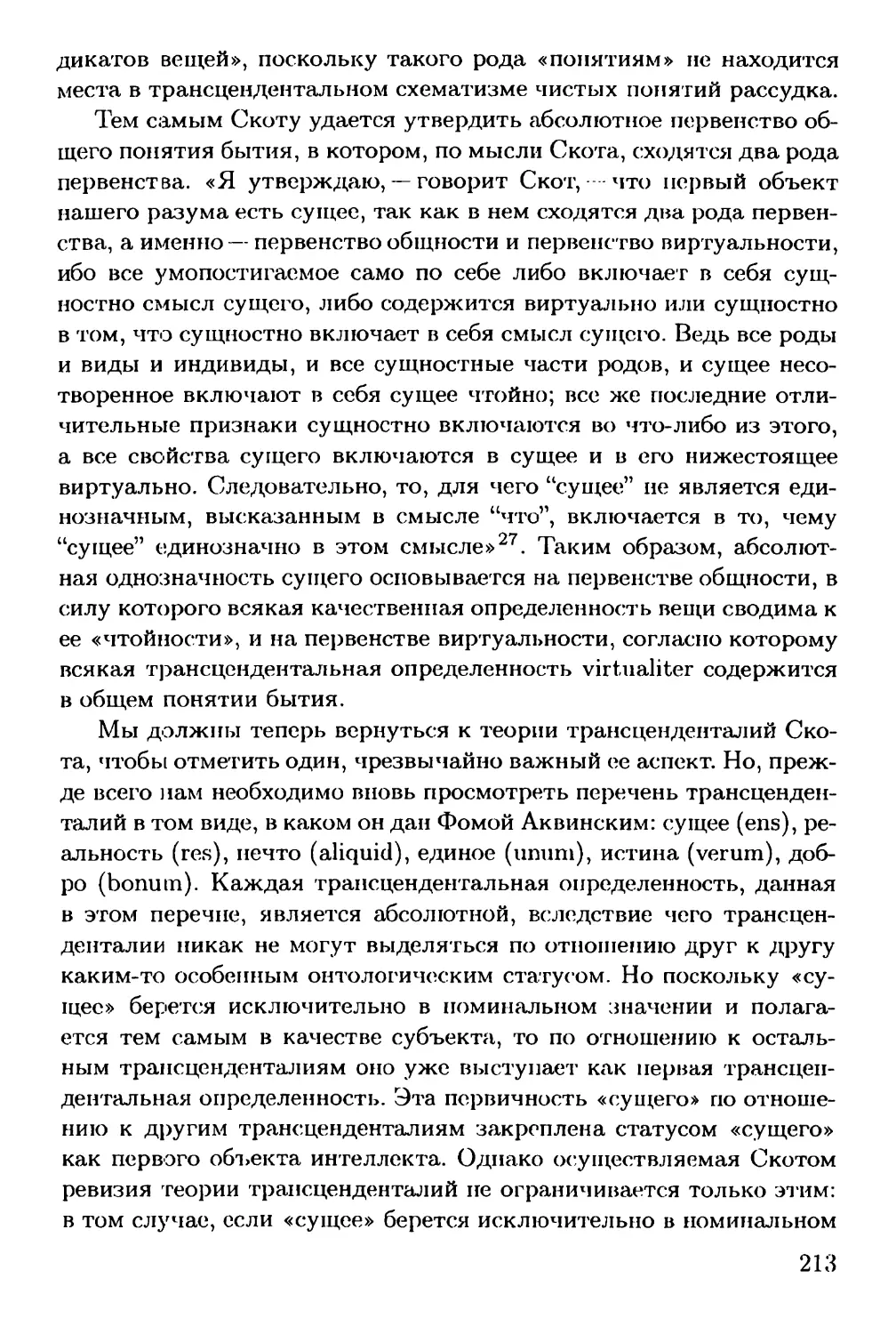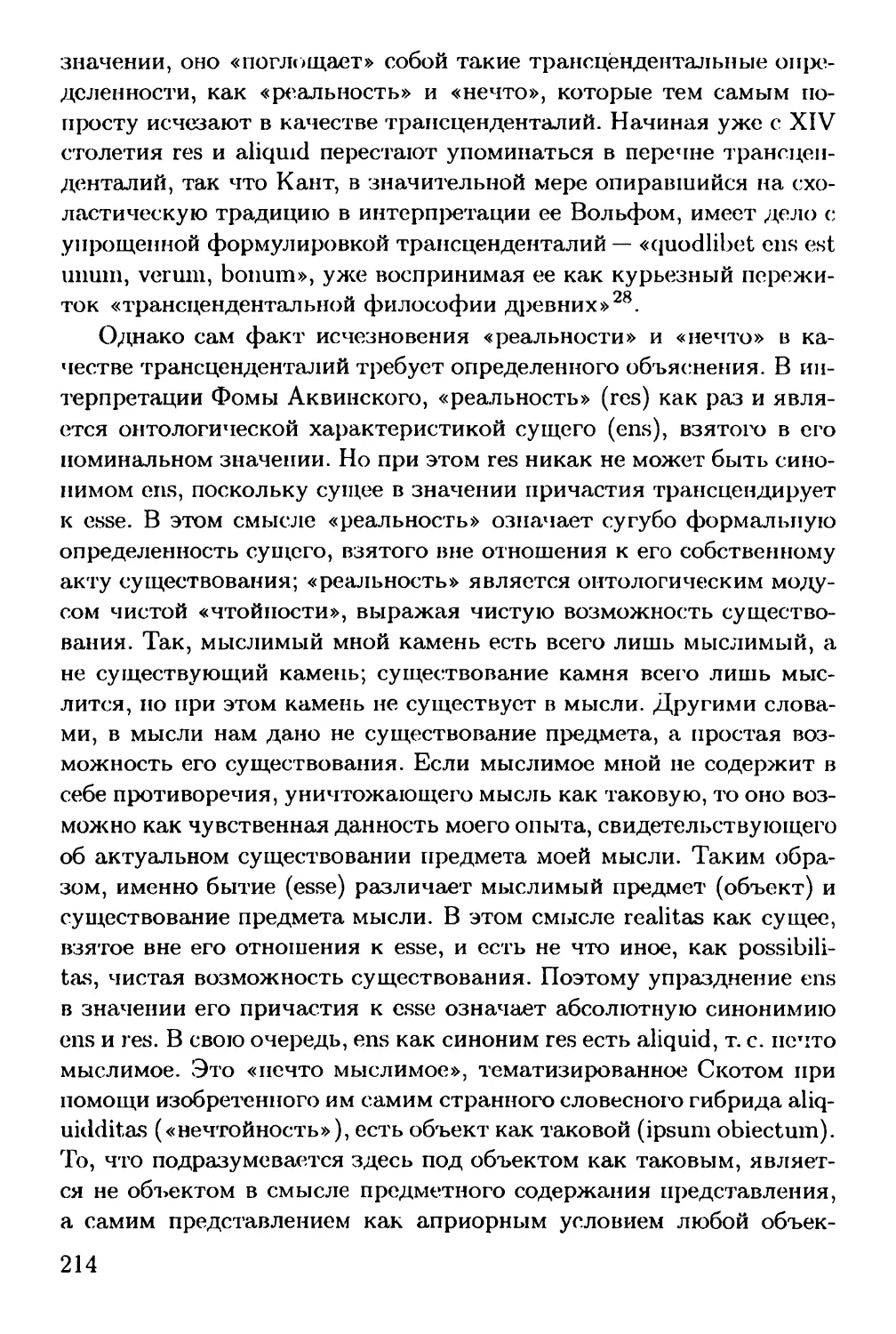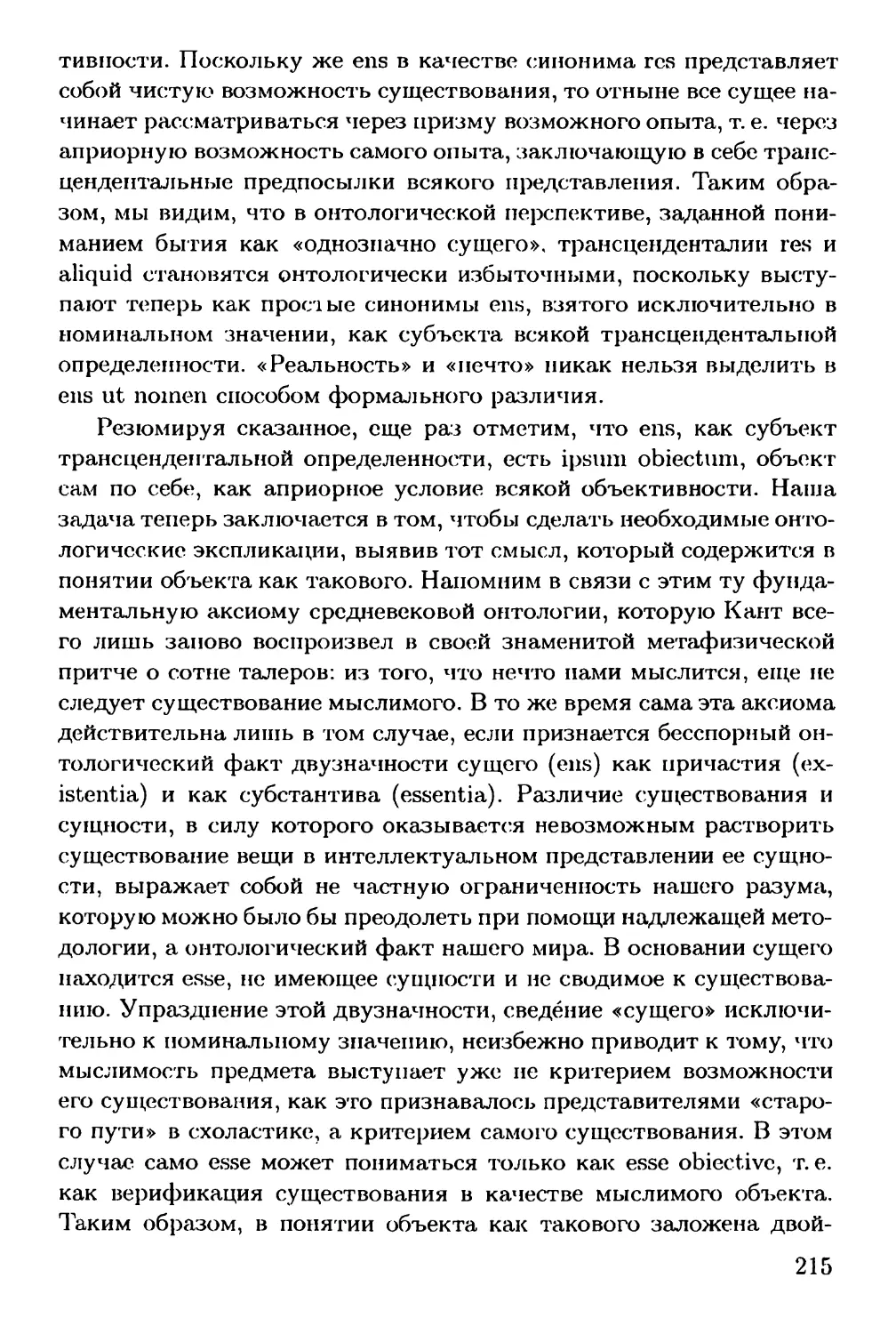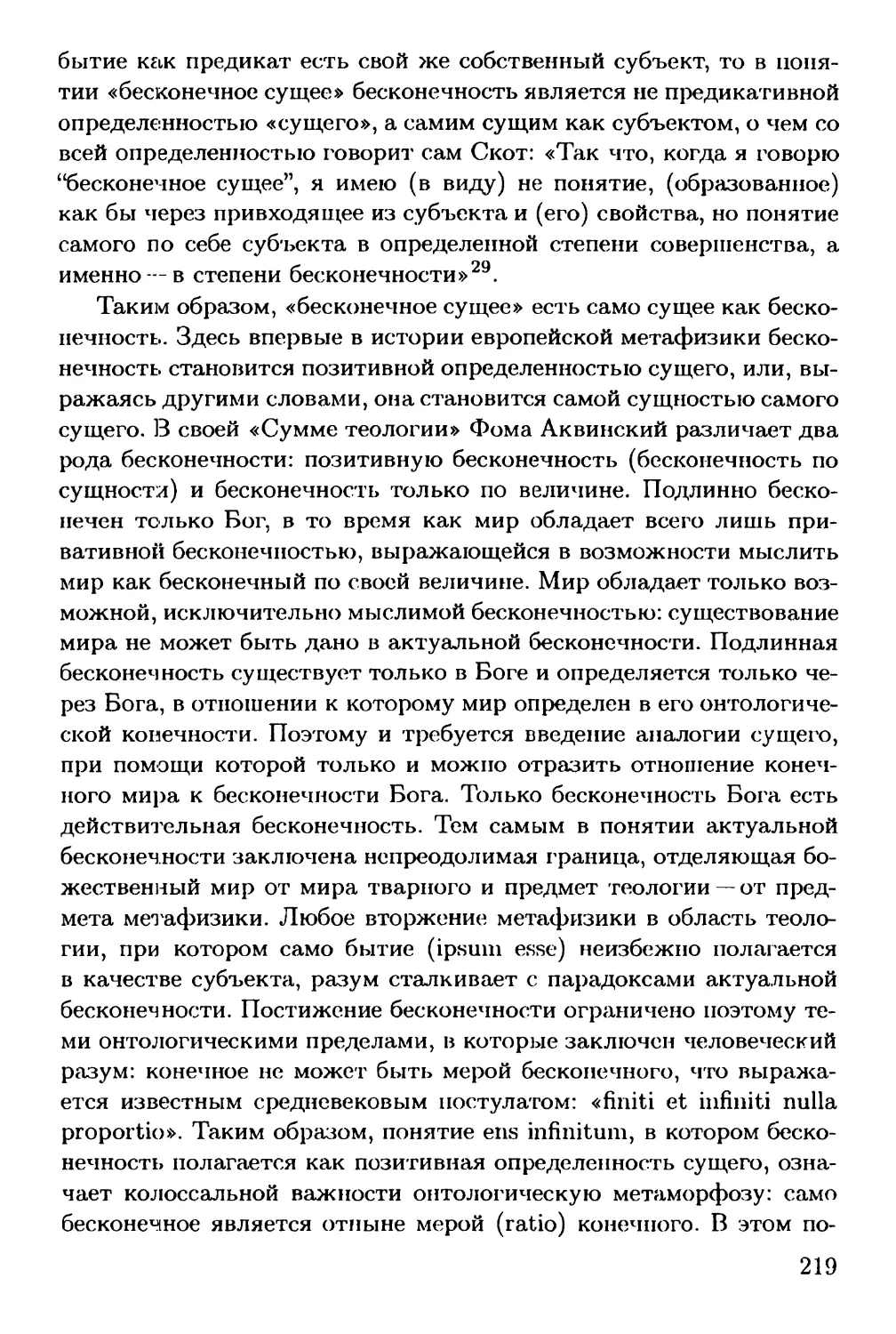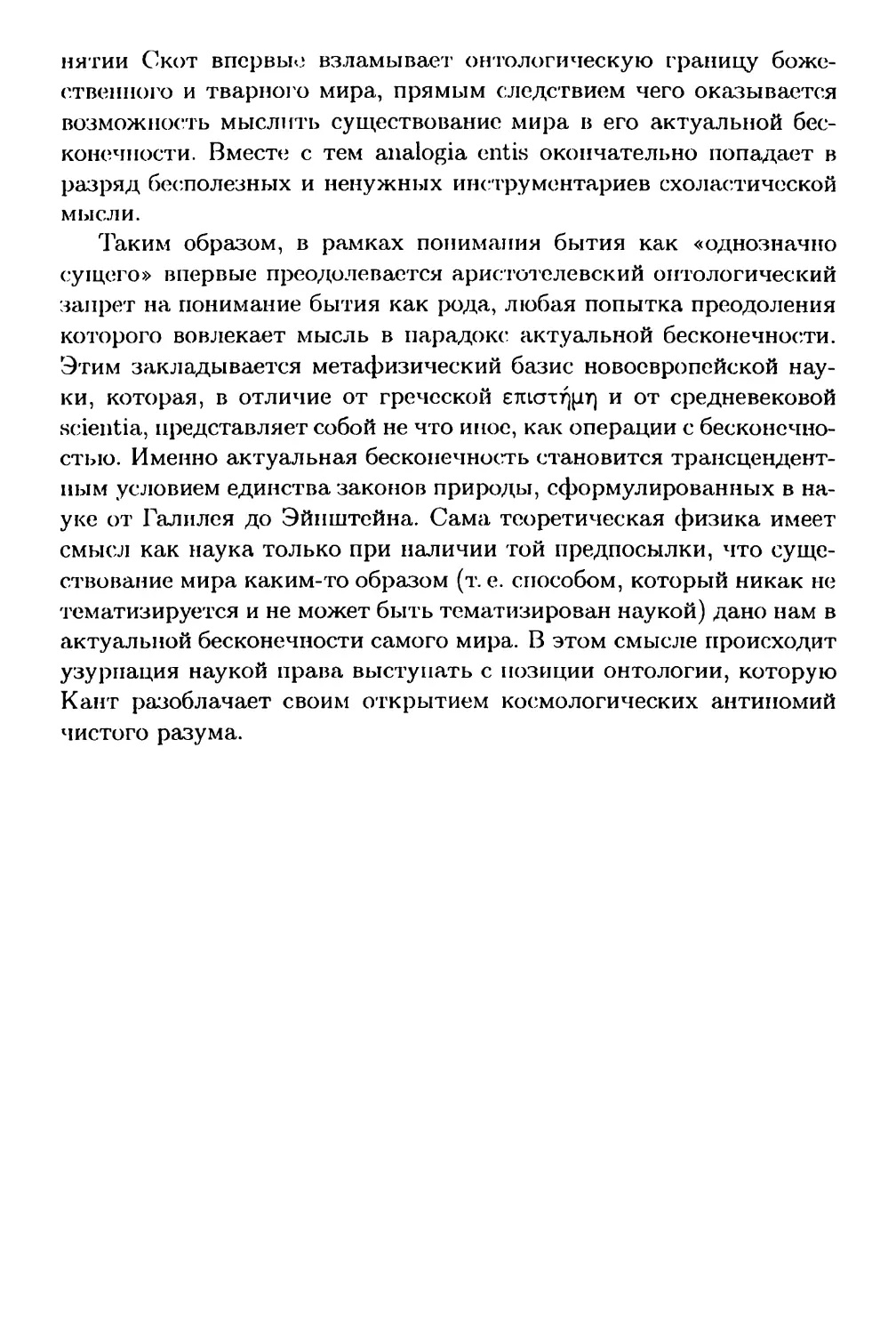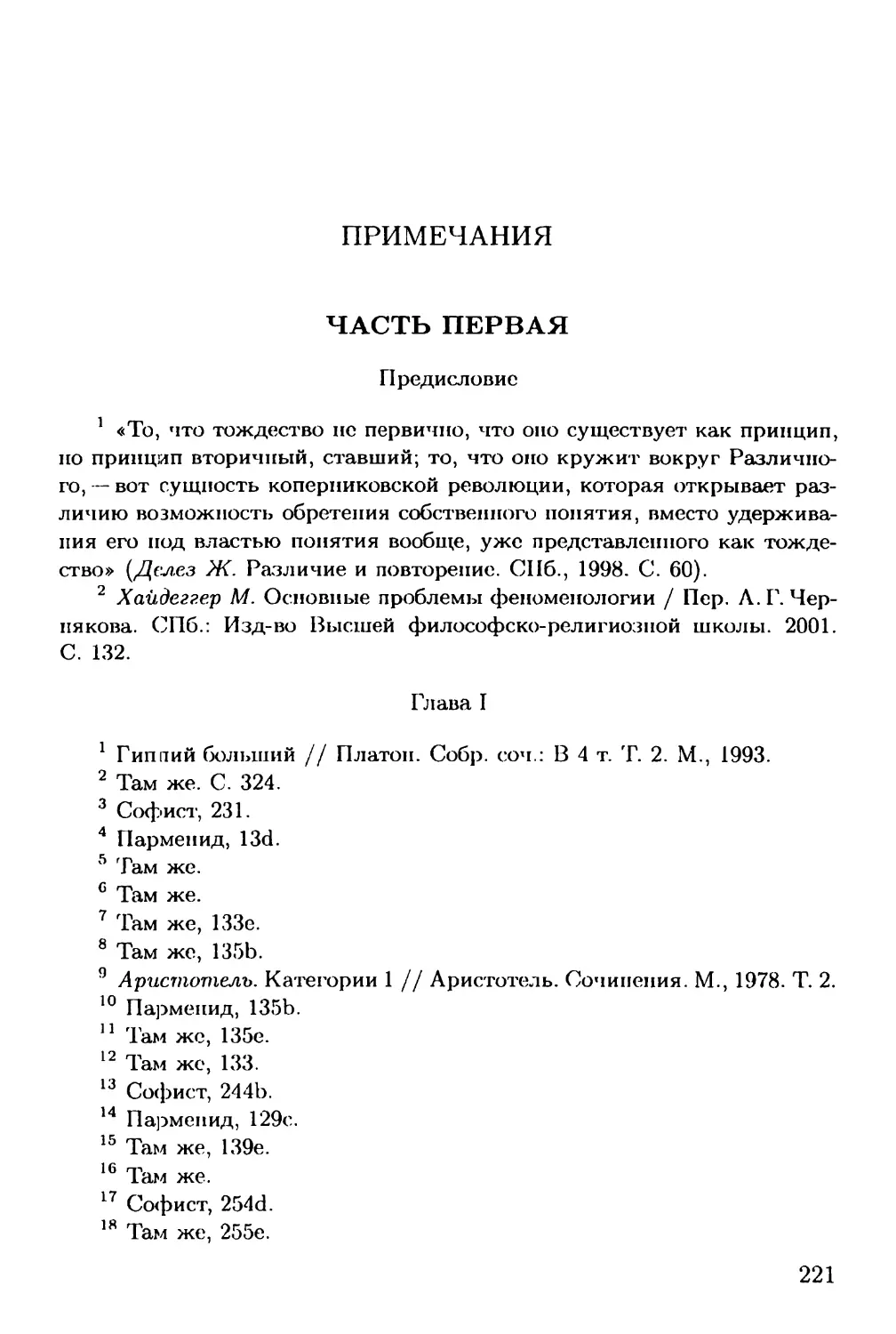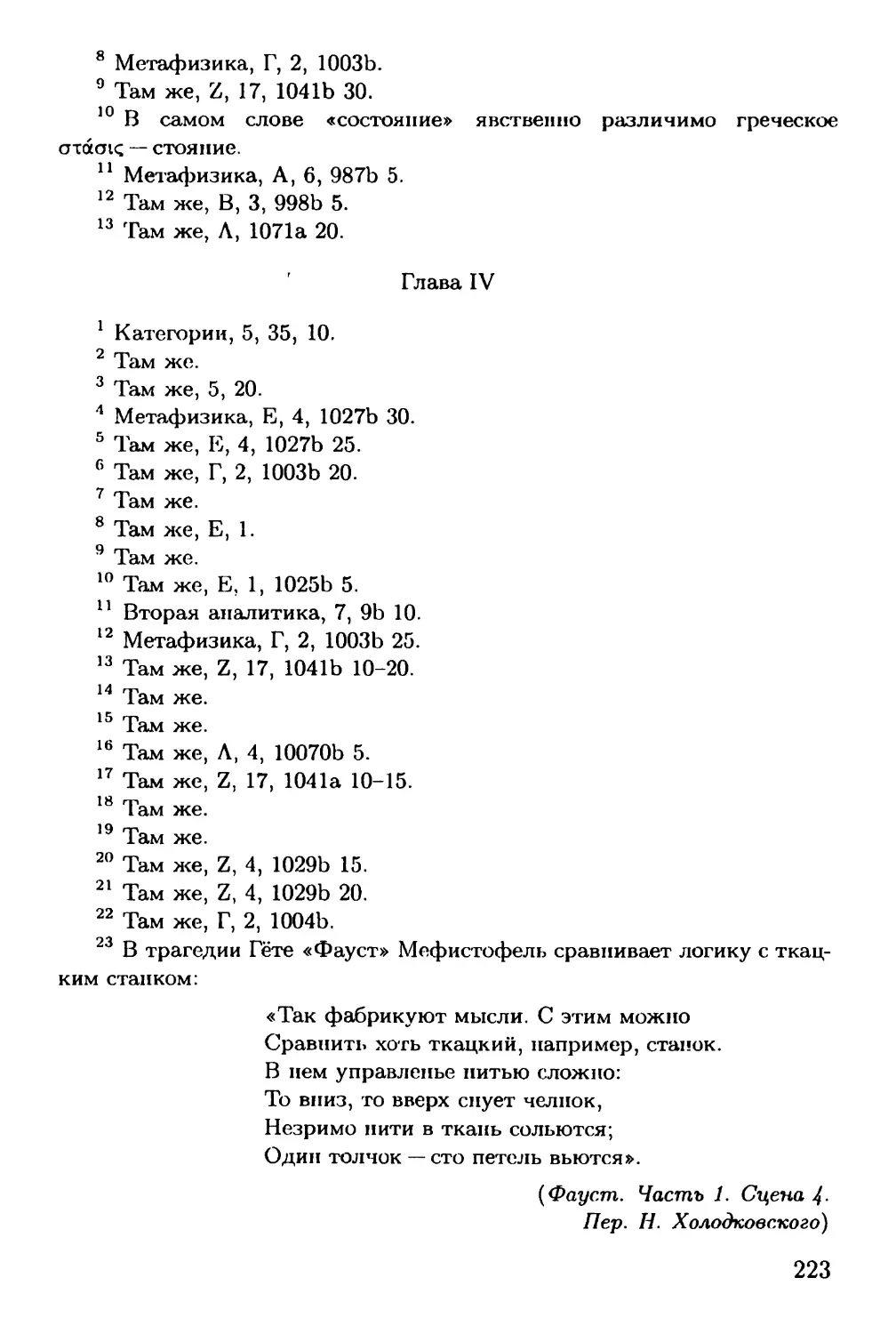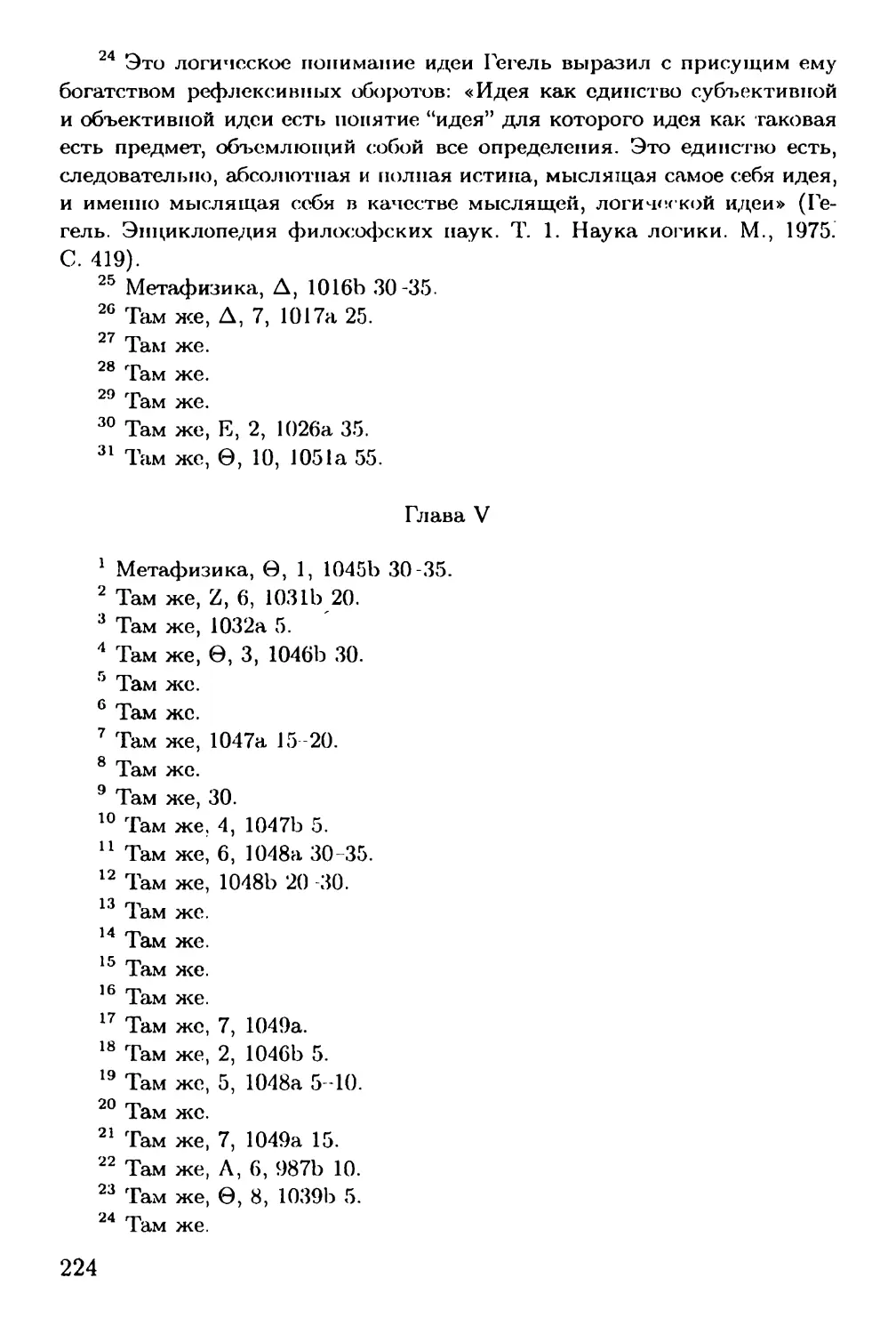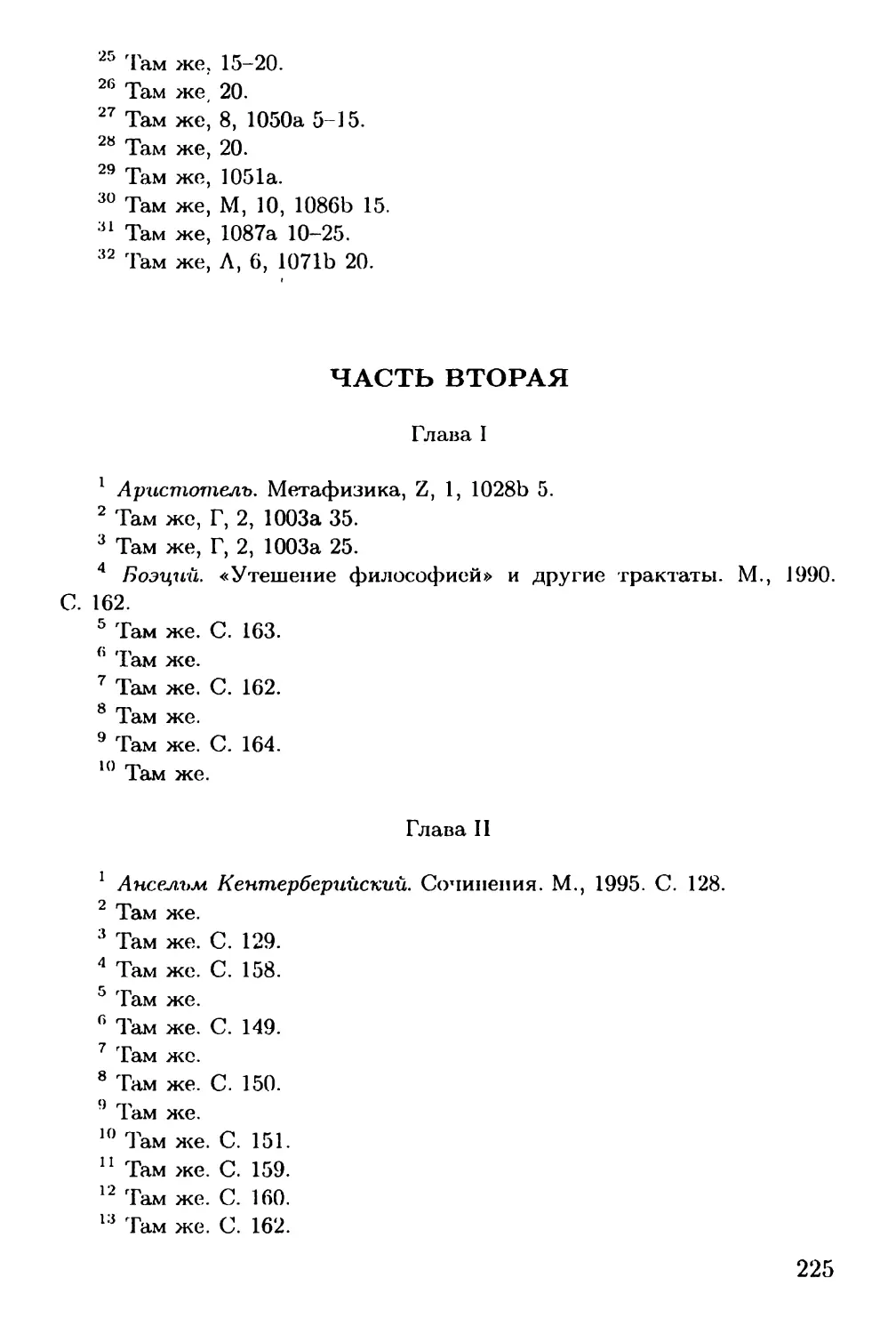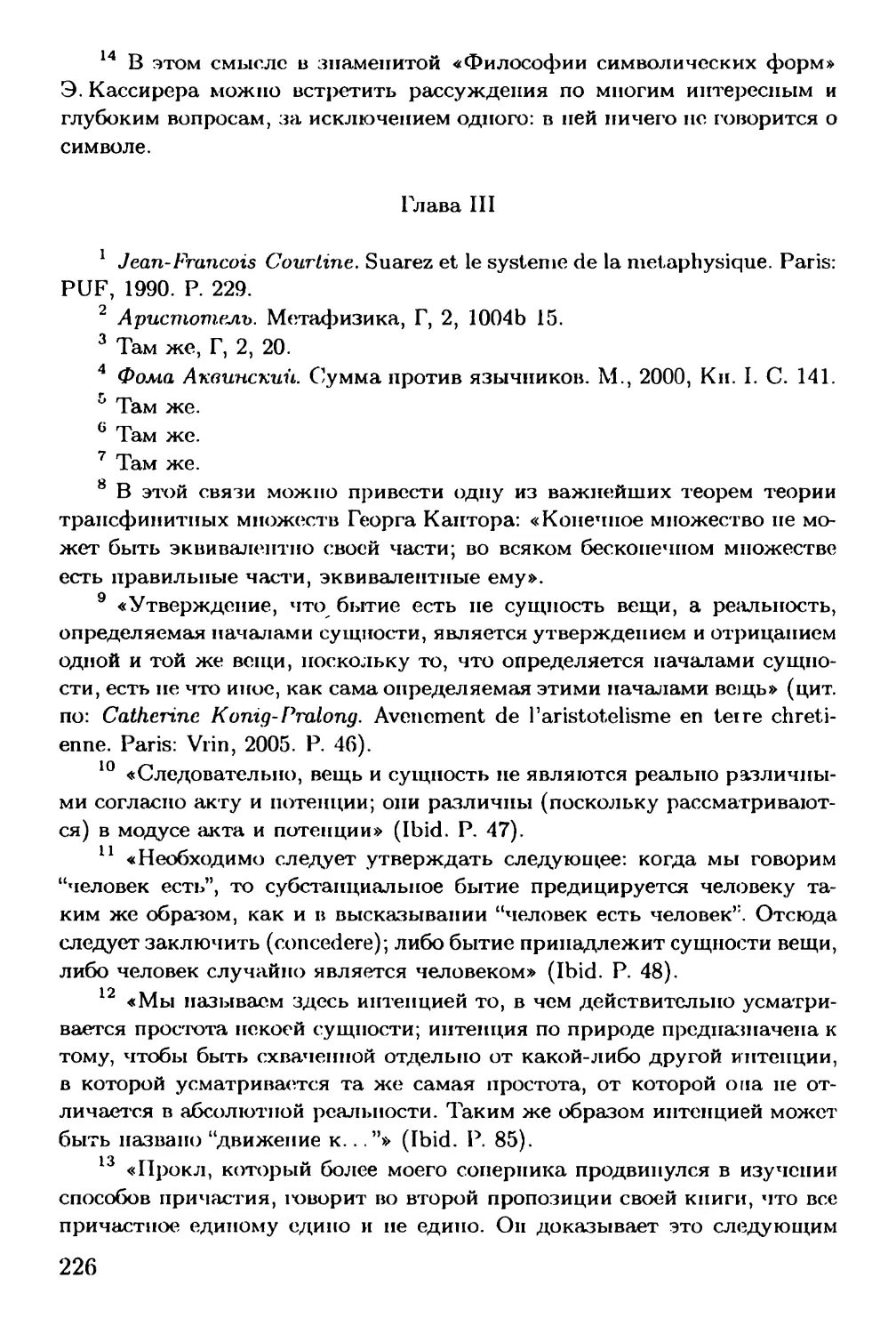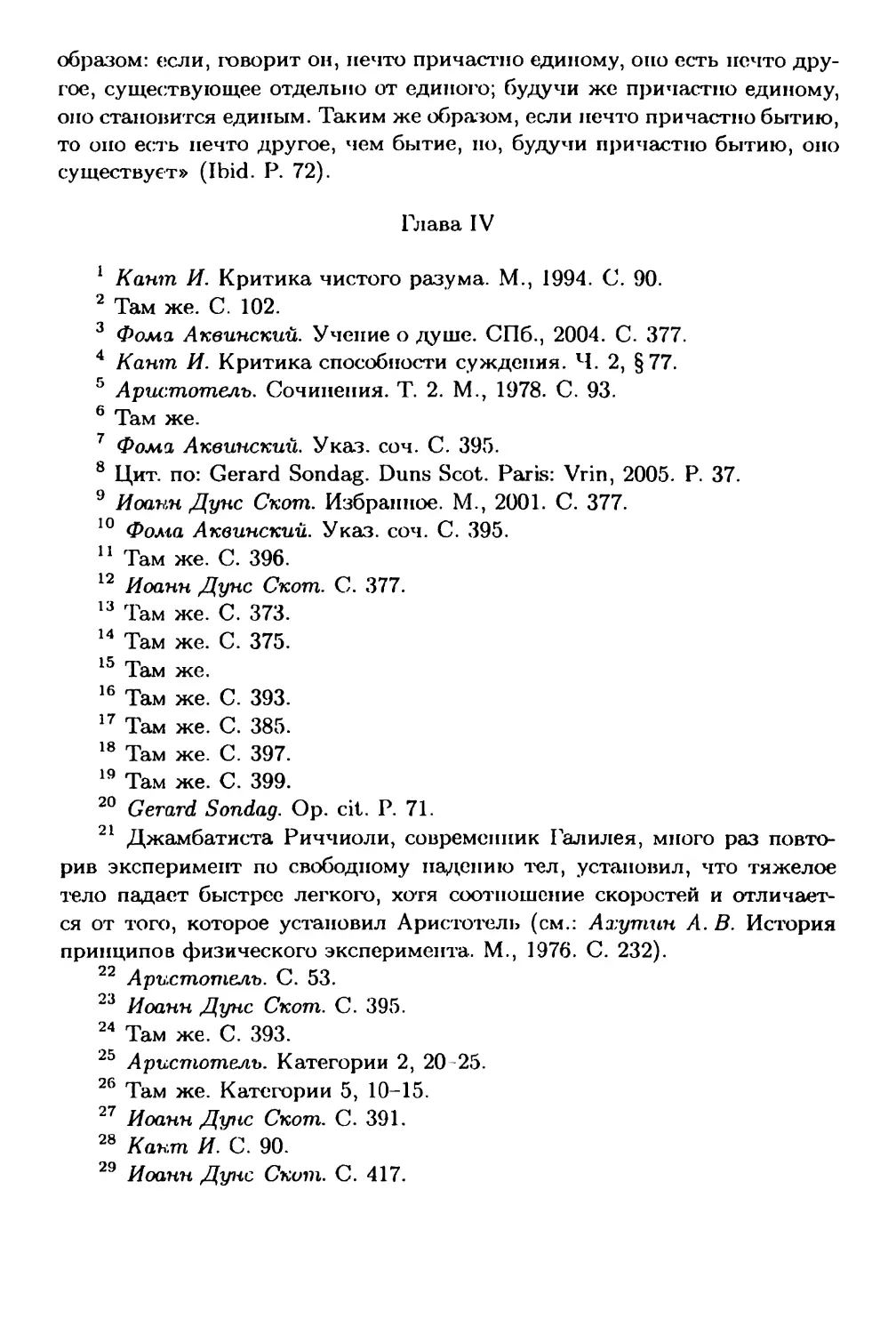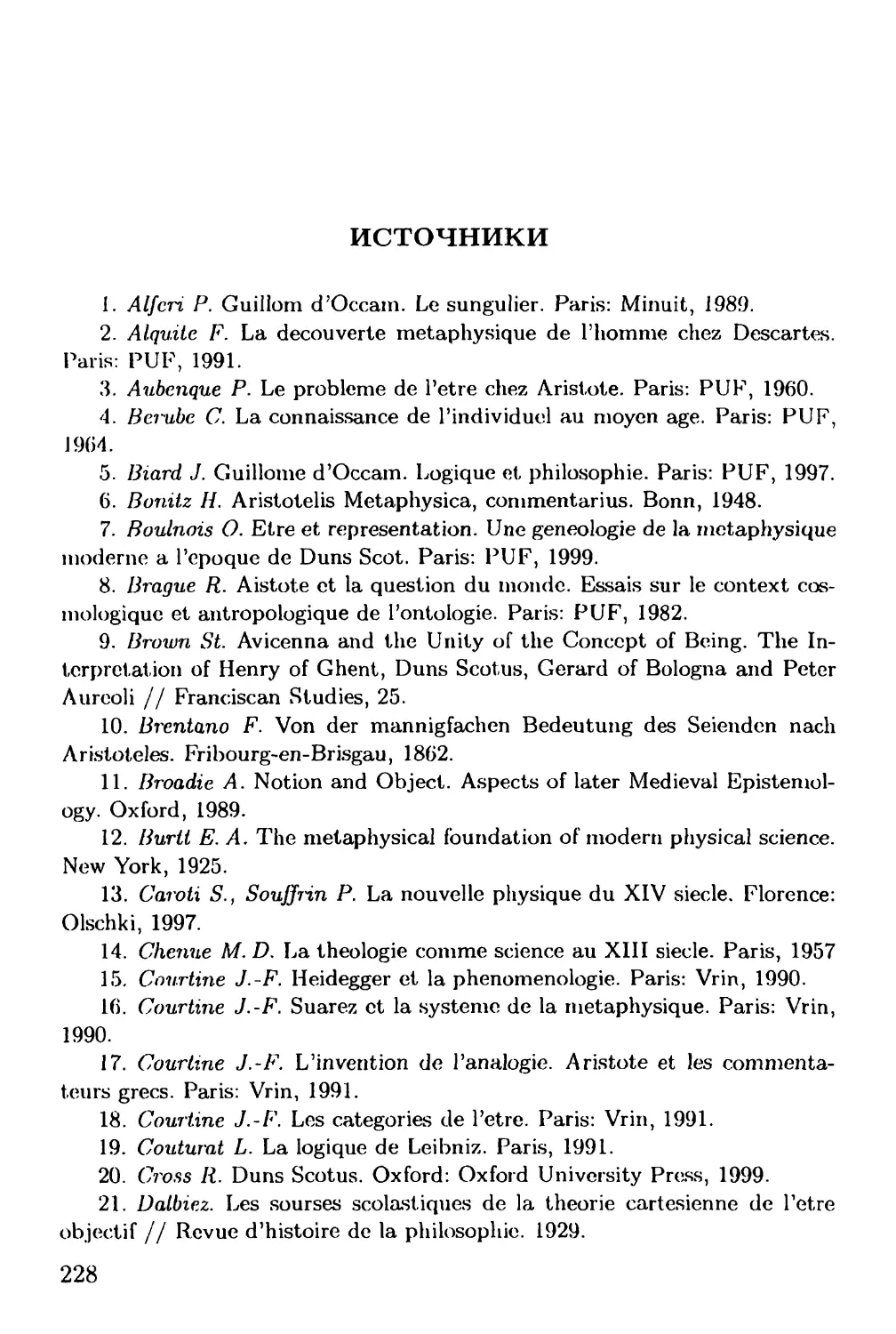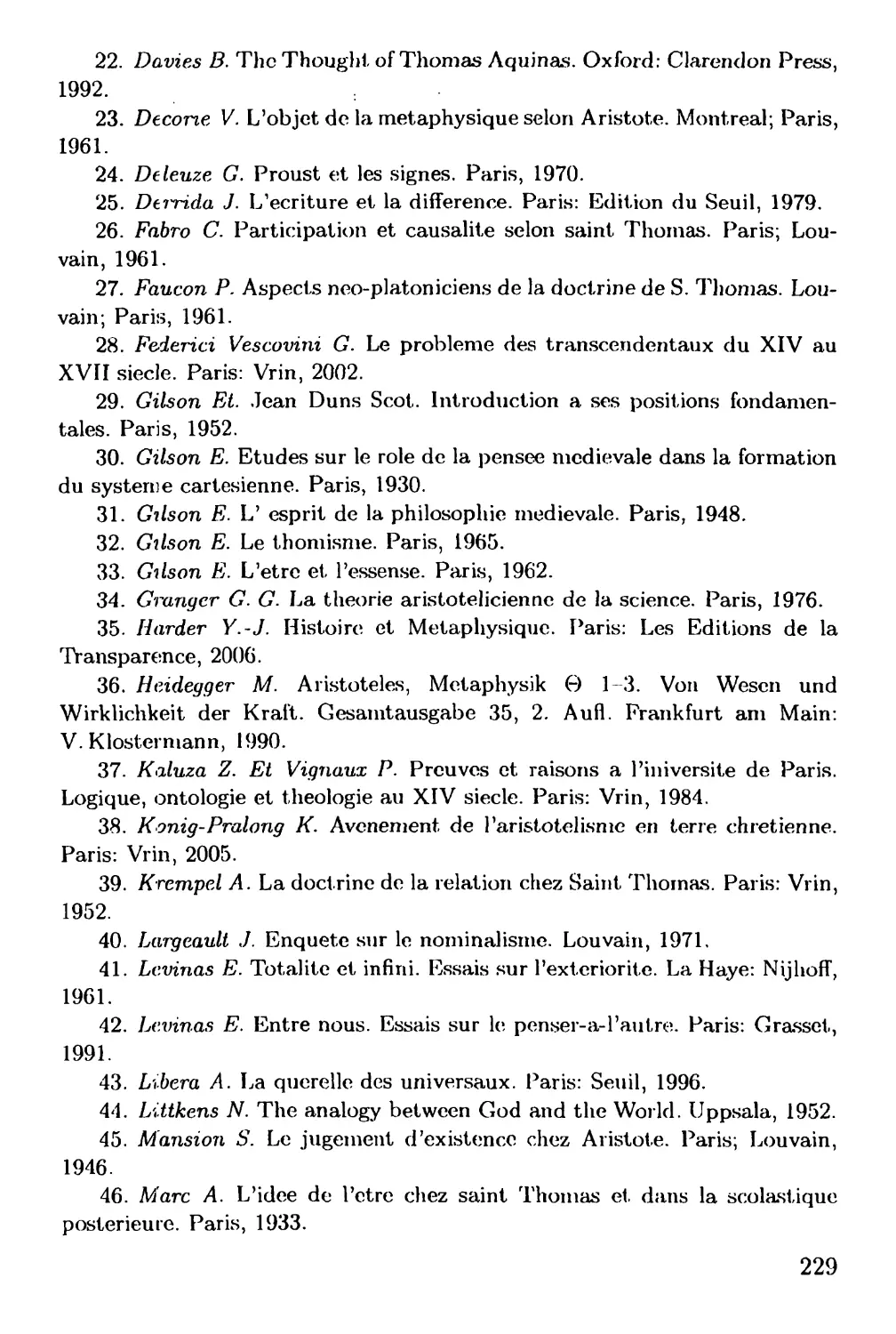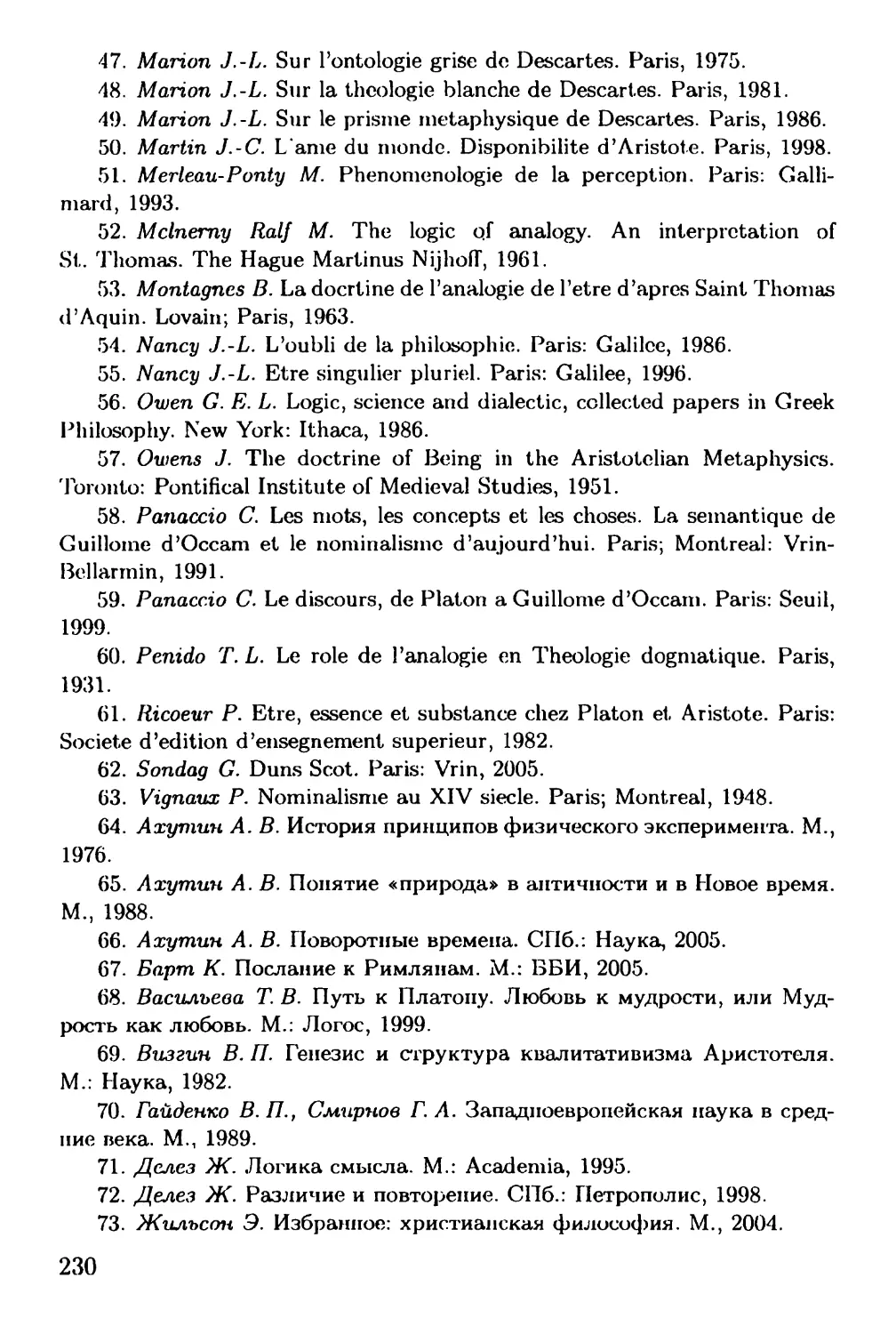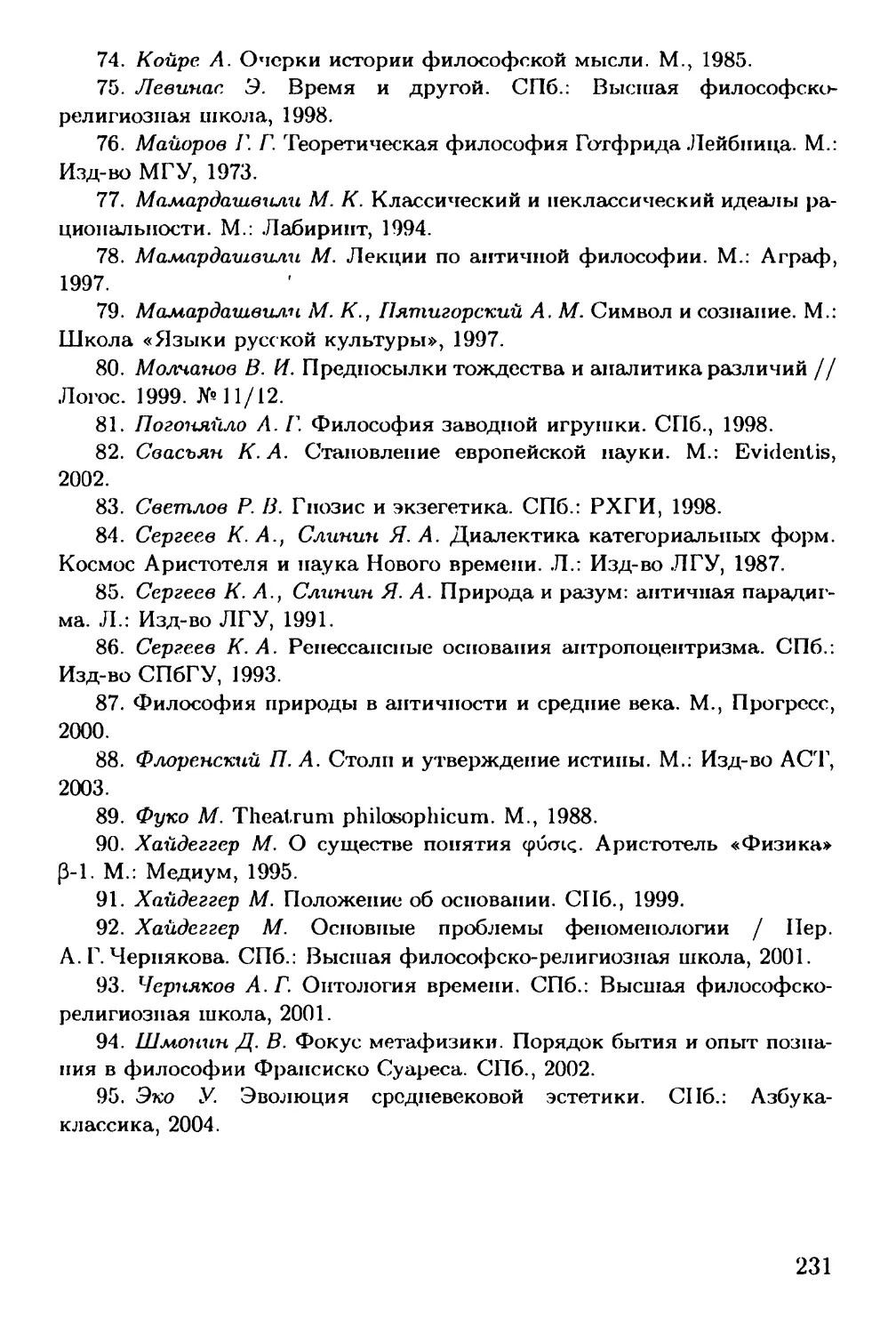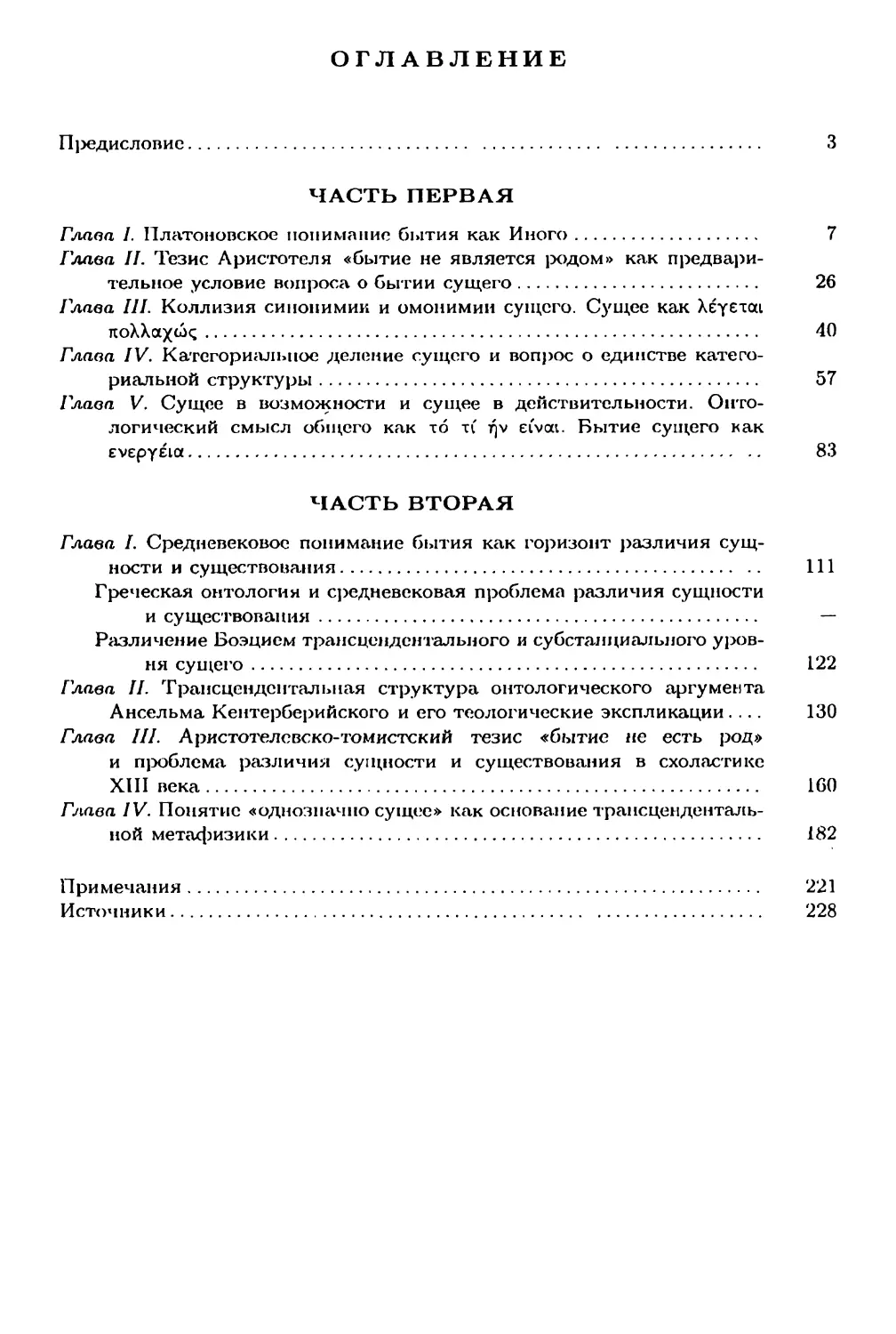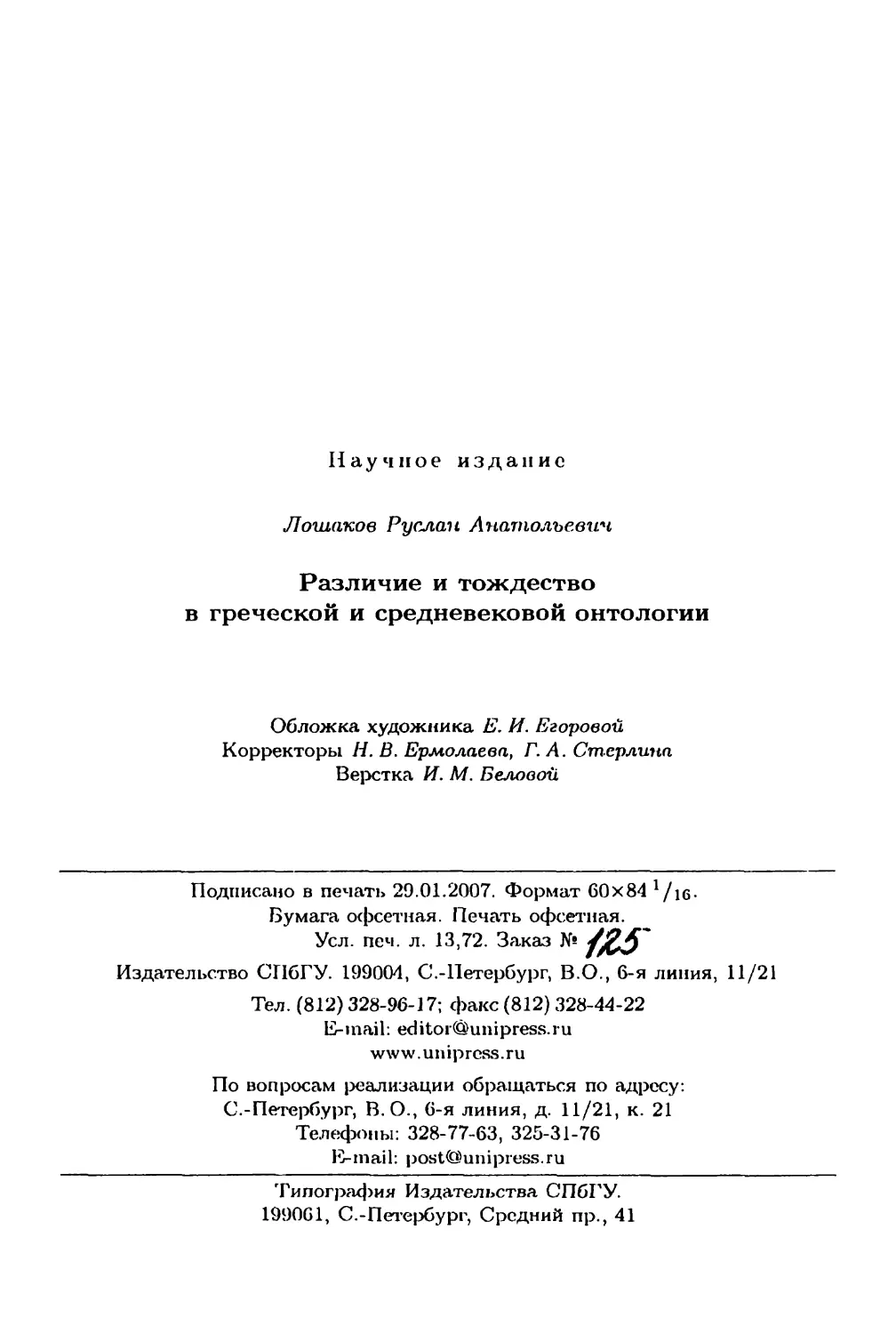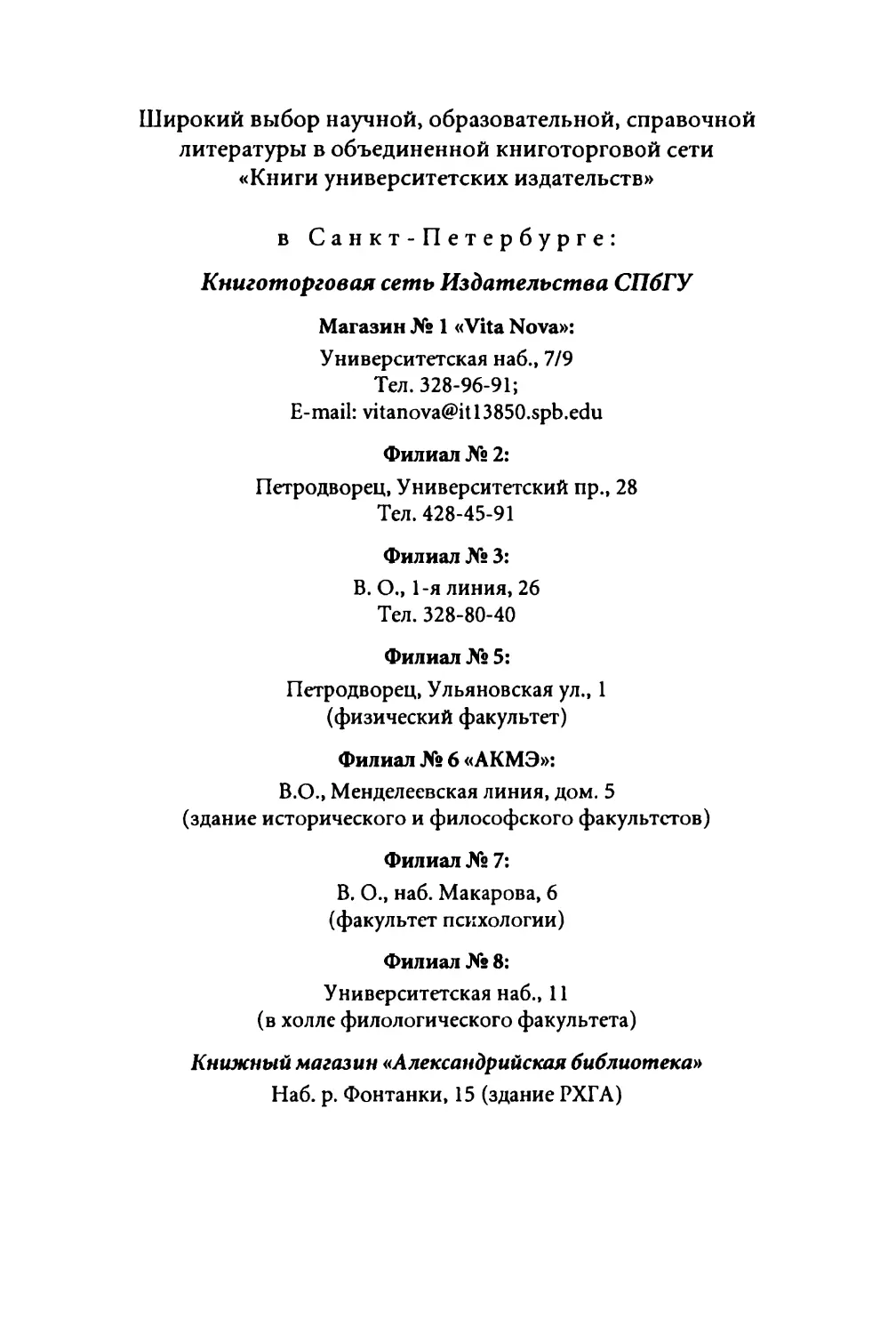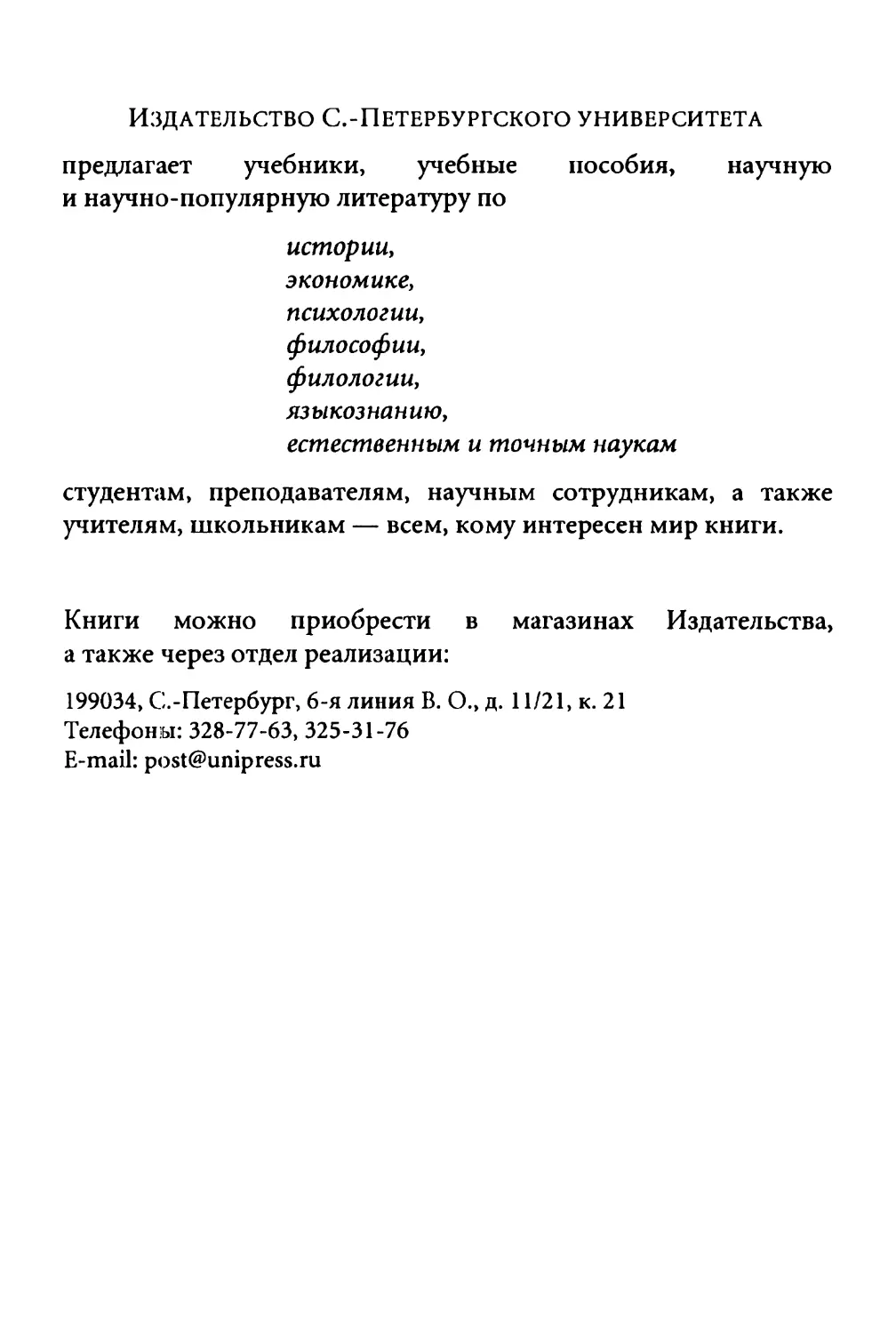Текст
СЛПКТ-ПЕТЕРВУГ'ГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИИ
Р. А. Лошаков
РАЗЛИЧИЕ И ТОЖДЕСТВО
В ГРЕЧЕСКОЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ
ОНТОЛОГИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2 О О 7
ББК 87.21
Л81
Рецензенты: д-р филос. наук, проф. А. Г. Погоня.йло (С.-Пгтерб. гос. ун-т),
канд. филос. наук Г. В. Вдовипа (Ип-т филос офии РАН)
Печатается по постановлению
Редакционно-издатсльских советов
</х1кулътета философии и политологии
С.-Петербургского государственного университета и
Русской христианской гуманитарной академии
Лошаков Р. А.
Л81 Различие и тождество в греческой и средневековой онто-
логии.—СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; Изд-во Русской хри-
стианской гуманитарной академии, 2007. 233 с.
ISBN 978-5-288-04272-0 (Изд-во С.-Петерб. ун-та)
ISBN 978-5-88812-251-8 (Изд-во Рус. христиан, гумапитарн. акад.)
В монографии исследуются основные вопросы греческой (аристоте-
левской) и средневековой онтологии в свете понимания бытия как Раз-
личия. Тем самым демонстрируется производный, вторичный, характер
тех основных метафизических тождеств, которыми отмечена история за-
падной метафизики.
Книга предназначена для всех интересующихся историей филосо-
фии.
ББК 87.21
ISBN 978-5-288-04272-0
ISBN 978-5-88812-251-8
© Р. А. Лошаков, 2007
© Издательство
С.-Петербургского
университета, 2007
ПРЕДИСЛОВИЕ
Замысел дайной работы возник и сформировался в рамках ис-
следований по проблеме феноменологического описания символа
как особого состояния языка, которыми автор занимался в течение
последних лет. На определенном этапе появилось ощущение того,
что историко-философский материал, который первоначально дол-
жен был выполнять сугубо иллюстративную роль, начинает обособ-
ляться r отдельное целое, приобретая как свою собственную дина-
мику, так и свою собственную, автономную, логику. Результатом
этого и стало намерение рассмотреть основные понятия греческой
и средневековой онтологии в свете того, что Хайдеггер называет
онтологическим различием бытия и сущего.
Однако всякий подступ к смыслу онтологического различия
сразу же наталкивается на ту метафизическую опасность преврат-
ного его истолкования, которая коренится в нашей естественной
склонности рассматривать само онтологическое различие в рамках
статичной оппозиции бытия и сущего. В этом случае бытие можно
было бы уподобить большому слону, несущему на своей спине кучу
утвари. Но самая серьезная сторона этой опасности состоит в том,
что подобное понимание онтологического различия содержит в се-
бе представление бытия как универсального тождества всего того,
что существует, всего того, что, так или иначе, есть. Другими слова-
ми, бытие неявно понимается как универсальный предикат всякого
существования. Однако именно представление бытия как наивыс-
шего тождества, заключающего в себе фундамент всякой оптиче-
ской определенности, и вовлекает пас в ту онтологическую апорию,
которую уже Аристотель обозначил своим известным тезисом «бы-
тие не есть род». Таким образом, смысл онтологического различия
3
можно эксплицировать только в форме своеобразного герменевти-
ческого жеста: онтологическое различие бытия и сущего есть само
бытие как различие.
Это предполагает радикальный пересмотр традиционного по-
нимания отношения «тождество —различие», полагающего тожде-
ство в качестве концептуального основания всякого различения.
Сама операция различения является возможной только в том слу-
чае, если имеется некая исходная тождественность, выражающаяся
в понимании того, что именно мы различаем. Различие, в основа-
нии которого лежит тождество, может быть только концептуаль-
ным, т.е. таким различием, которое опирается на определенную,
концептуально выраженную идентичность, выступающую как ос-
нованием различия, так и основанием для сравнения различенного.
Очевидно, что различие является здесь онтологически вторичным,
производным моментом тождества. Этому традиционному отноше-
нию тождества и различия соответствует традиционная структура
метафизики, представляющая собой не что иное, как логику сущ-
ности, т. е. развернутую структуру вопроса «что есть это?» Парме-
нидовское «то же самое» (τό αυτό) бытия и мысли предстает здесь
в виде онтологического тождества самого мышления и того, что
мыслится. В качестве примеров предельного развертывания такой
логики сущности можно указать на метафизику Лейбница и Воль-
фа, равно как и на философию всеединства В. Соловьева.
Однако логика сущности наталкивается в своем развертывании
на некие абсолютные онтологические пределы, которые отнюдь не
положены откуда-то извне, а лишь до времени скрыты в самом ос-
новании этой логики. Заявляя, что бытие не является родом, Ари-
стотель не хотел этим сказать ничего, помимо того, что логос опре-
деления имеет предел, каковым является само бытие, которое не
может быть без остатка встроено в логику сущности. Сам же логос
определения, в той мере, в какой он является процессом различения
некоего исходного тождества, представляет собой забвение бытия
как различия. Бытие, «забытое» в логике сущности, вновь напоми-
нает о себе кризисом метафизики, принуждающим мысль к кри-
тическому пересмотру самих ее оснований. Критика метафизики,
будь то критика Аристотелем платоновской эйдетики или крити-
ка Кантом метафизики Лейбница — Вольфа как чистой аналитики
понятий, всегда выявляет те онтологические перспективы, которые
нельзя заключить в форму тождества и, соответственно, невозмож-
4
но содержательно раскрыть в логике определения. Критика мета-
физики всегда представляет собой возрождение смысла самой ме-
тафизики как критики, скрытого до сей поры в структурах зна-
чений. Тот демонтаж систем обозначения, который Жак Деррида
именует «деконструкцией», как раз и является такого рода крити-
кой как единственной возможностью обретения вновь утраченно-
го и утрачиваемого смысла, того самого, который всегда остается
за системами обозначения. Вместе с тем метафизика как крити-
ка лишь выявляет то исходное и первичное различие, в отношении
к которому любое метафизическое тождество обладает вторичным,
обусловленным характером. Логос определения сам определен в ме-
тафизических границах, заданных чистым различием, т.е. таким,
которое не сводимо к тождеству и тем самым не может быть пред-
ставлено в форме концептуального различия. Метафизической гра-
ницей тождества выступает не иное тождество, а абсолютно иное
как символ чистого различия. Именно о таком различии, которое
является не производным моментом тождества, а, напротив, его
онтологической предпосылкой, говорит в своем «Различии и по-
вторении» Жиль Делез1.
Замысел этой работы состоит в том, чтобы рассмотреть те тож-
дества, которыми оперирует греческая и средневековая метафизи-
ка в свете чистого различия, даже если само это различие скрыто
и мистифицировано под напластованиями логических тождеств. В
этом различии как Различии и заключается вечная актуальность
метафизики, выражающаяся неклассичностыо классики самой фи
лософской мысли и являющаяся оплотом против той беспамятной
и разрушительной критики метафизики, которая во многом задает
сегодня тон под видом «постмодернистской» переоценки классиче-
ского наследия. Такого рода «критика» характеризуется полным
отсутствием той познавательной честности, которую декларировал
Кант и о которой вновь говорит Хайдеггер, напоминая о том, что
«основная предпосылка честного отношения к прошлому состоит в
решимости не искать себе работы легче той, что проделали мысли-
тели, якобы нуждающиеся в обновлении»2.
* * *
С особенной благодарностью мне хотелось бы сказать о тех лю-
дях, которые своим участием и поддержкой помогли мне в рабо-
те. Прежде всего, я выражаю мою глубокую признательность про-
фессорам Роману Викторовичу Светлову и Дмитрию Викторовичу
Шмонину, которые ознакомились с текстом этой книги в рукописи
и высказали весьма ценные критические замечания. Хочется так-
же поблагодарить моих коллег, профессоров Университета гума-
нитарных наук в Страсбурге Жан-Люка Нанси, человека редкого
ума и исключительной отзывчивости, Нанин Шарбоннель, на чью
дружескую помощь я всегда мог рассчитывать, Ив-Жана Харде-
ра, беседы с которым неизменно побуждали меня к дальнейшей
работе. Особенную признательность я выражаю моим друзьям Ва-
лерию Александровичу Евсееву, Андрею Михайловичу Сергееву,
Светлане Львовне Тюкиной, с которыми я в разное время обсуж-
дал те или иные аспекты этой работы. Я чрезвычайно благодарен
студентам Поморского университета Архангельска, которые на про-
тяжении многих лет были моими самыми внимательными слуша-
телями и взыскательными критиками. Наконец, at last but not at
least, огромную благодарность, если не сказать большего, я выра-
жаю моей жене, Елене Владимировне Лошаковой, без поддержки
которой я не смог бы завершить это исследование.
* * *
Когда работа над книгой уже была близка к завершению, при-
шла горькая весть о смерти профессора Константина Андрееви-
ча Сергеева, который на протяжении многих лет был для меня не
только научным руководителем, но и высочайшим профессиона-
лом. Светлой памяти моего учителя я и хотел бы посвятить эту
работу.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Всякая идея вступает в явление как чуждый гость.
Гёте
Глава I
ПЛАТОНОВСКОЕ ПОНИМАНИЕ БЫТИЯ КАК ИНОГО
Началом метафизики как мышления о «самом по себе сущем»
является загадочное изречение Парменида: το γαρ αυτό νοειν εστίν
τε καί είναι (одно и то же есть мышление и то, о чем мысль). То, что
делает это изречение подлинным началом метафизики, и что, на-
против, оказывается утраченным в классической философии XVII-
XVIII вв., обратившей его в догматический принцип тождества
мышления и бытия, есть тайна совпадения (тавтологии) мысли и
бытия. Взятая с этой стороны, метафизика являет собой, прежде
всего, ту особую тональность мысли, которая проявляется как в
аристотелевском удивлении перед сущим, так и в кантовском удив-
лении и благоговении перед величием звездного неба, сопоставимо-
го лишь с величием нравственного закона. Поистине это изречение
звучит как откровение, поведанное Пармениду богиней Дике: ис-
тина—это бытие, открытое мысли, или, что то же самое, мысль
в статусе бытия. Мысль и бытие есть «то же самое» (αυτό), при-
рода которого не допускает никакого внешнего и поверхностного
расчленения, результатом которого стало бы представление о мыш-
лении, как психологической репродукции бытия, или о бытии, как
аналитическом предикате мышления. Бытие и мысль словно очер-
чивают магический круг «того же самого», парменидовский σφαίρα,
образующий незримое пространство метафизической мысли. Лишь
внутри этого круга возможно обретение той изначальной интуиции
7
бытия, которая является откровением самого бытия: бытие есть
то, что мыслится само по себе. Все последующее развитие грече-
ской философии, до Аристотеля включительно, определяется за-
дачей постижения природы того, что мыслится само по себе, т. е.
поисками «самого но себе сущего» (το όν κατ αυτό). Это само по
себе сущее и было понято Платоном как идея. По существу, во всех
своих произведениях Платон решает одну-единственную проблему:
каким образом вещь становится предметом мысли? Например, ка-
ким образом мы способны сказать о чаше, из которой пьем ви-
но: «Какая прекрасная чаша!»? Ведь в самой чаше мы не видим
«прекрасного» таким же образом, как мы видим цвет, форму чаши
или ее орнамент. В этом смысле «прекрасное» не является реаль-
ным признаком такого сущего, как чаша. Столь же трудно отнести
«прекрасное» к разряду сугубо душевных аффектов, поскольку в
этом случае мы оказываемся перед необъяснимостью самого это-
го аффекта, которому нет реального соответствия в предметном
мире. Получается, что «прекрасное» нельзя понимать ни как свой-
ство самого предмета, ни как состояние нашей души. Тогда каким
же образом мы можем говорить о чаше, картине или солнечном
закате как о прекрасной чаше, прекрасной картине, прекрасном
закате? Именно в силу того, что помимо предмета и мысли, на-
правленной на этот предмет, есть нечто, что не сводится по от-
дельности ни к предмету, ни к мысли, а, напротив, единит пред-
мет и мысль, делая предмет мыслимым, а мысль предметной. Этот
единый корень сущего и мышления есть бытие как идея. В на-
шем примере прекрасное — это идея, в свете которой мы и видим
прекрасную чашу, прекрасную картину, прекрасный закат. Таким
образом, идея это бытие как источник и условие мышления су-
щего.
Каким же образом идея и вещь, будучи столь различны по при-
роде, поддерживают единство различия? Ведь называя чашу пре-
красной, мы вовсе не имеем в виду, что прекрасное — это чаша.
Между прекрасным как идеей и чашей как вещью существует то са-
мое неустранимое онтологическое различие, которое служит неис-
сякаемым источником сократовской «майевтики».
«Сократ. "Так ответь мне, чужеземец, — скажет он, — что же та-
кое это прекрасное?"
Гиппий. Значит, Сократ, тот, кто задает этот вопрос, желает
узнать, что прекрасно?
8
Сократ. Мне кажется, нет; он хочет узнать, что такое прекрас-
ное, Гиппий.
Гиппий. А чем одно отличается от другого?
Сократ. По-твоему, ничем?
Гигший. Разумеется, ничем.
Сократ. ...Однако смотри, дорогой мой: он ведь спрашивает не
о том, что прекрасно, а о том, что такое прекрасное.
Гиппий. Понимаю, любезный, и отвечу ему, что такое прекрас-
ное. .. Знай твердо, Сократ, если уж надо говорить правду: пре-
красное -это прекрасная девушка...
Сократ. "...Ну, а разве прекрасная кобылица, которую сам бог
похвалил в своем изречении, не есть прекрасное?"»1
Вся интрига этого диалога, который Сократ ведет от третье-
го лица со своим простоватым собеседником Гиппием, заключает-
ся в конечной демонстрации как эмпирической, так и логической
неопределимости «прекрасного». Поэтому, выяснив невозможность
определения прекрасного посредством исключительно эмпириче-
ских указаний, Сократ подводит собеседника к пониманию пре-
красного как самого по себе сущего, как идеи.
«Сократ. "...Не кажется ли тебе, что как только прекрасное са-
мо по себе, благодаря которому все остальное... представляется
прекрасным, как только эта идея присоединяется к какому-либо
предмету, тот становится прекрасной девушкой, кобылицей или
лирой?"»2
Следовательно, вопрос ставится следующим образом: что есть
прекрасное в его отличии от прекрасной девушки, кобылицы или
лиры?
Одним из возможных ответов на этот вопрос о единстве вещи и
идеи является понимание идеи как идеального образца вещи, как
ее эйдоса. В этом случае идея выступает идеальным прототипом
вещи. Тем самым вопрос, каким образом и в силу чего мы способ-
ны именовать какой-либо предмет (к примеру, эту чашу) прекрас-
ным, получает совершенно определенный ответ: в силу того, что,
помимо этой вот лежащей передо мной чаши, имеется ее идеаль-
ный архетип — «сама-по-себе чаша». Прекрасное — это всего лишь
отблеск идеальной чистоты этой «самой-по-себе чаши», улавливае-
мый мной в той самой чаше, которую я сейчас держу в своих руках
и из которой я пью вино. В результате мир сущего распадается на
две предметные области: мир предметно сущего и мир идеально су-
9
щего. Мир вещей как бы дублируется на эйдетическом уровне тем,
что существует Fie в эмпирической множественности вещей, а в иде-
альном единстве самого-псьсебе сущего. В таком случае отношение
вещи и идеи можно понимать как причастие вещи своему идеально-
му образцу. В свою очередь, причастие вещи идее возможно в силу
того подобия, KOTojxjc имеется между ними. Идея представляет со-
бой образец вещи, а вещь — несовершенное, телесное воплощение
своего идеального архетипа. Мера причастия вещи своей идее вы-
ражается степенью ее подобия идее. Таким образом, вещь и идея,
будучи различны по своей природе, удерживают свое единство тем,
что всякая вещь воплощает в себе ту или иную степень подобия
идее.
Так возникает тот самый «платонизм», с его наивным различе-
нием «мира вещей и мира идей», который с таким успехом выдается
за аутентичное содержание мысли самого Платона и который так
удобно рассматривать либо в качестве причины растущего ниги-
листического обесценивания реальности, либо как наиболее пока-
зательный пример «логоцентризма». Такого рода платонизм имеет
свое объяснение в чрезвычайной трудности завоевания и удержания
той метафизической позиции, которая делает возможным постиже-
ние смысла того, что Платон называет идеей, и соответственно, в
соблазнительной легкости предметного истолкования идеи, кото-
рая встречается уже в самой платоновской школе. То разделение
реальности на «мир вещей и мир идей», которое принято считать
аутентичным выражением позиции Платона, является в действи-
тельности следствием фундаментальной деформации этой позиции.
Первым и наиболее проницательным критиком «платонизма» явля-
ется в этом смысле сам Платон. Та беспощадная критика теории эй-
досов, которую Платон дал в «Пармениде», настолько исчерпывает
существо вопроса, что Аристотель смог в «Метафизике» прибавить
к этой критике лишь несколько второстепенных уточняющих заме-
чаний.
Обрушиваясь на «теорию идей» со всей силой своего диалекти-
ческого искусства, Платон начинает с того, что подвергает критике
понимание вещи как подобия идеи. Так, уже в «Софисте» Чуже-
земец говорит, что «человеку осмотрительному надо больше всего
соблюдать осторожность в отношении подобия, так как это самый
скользкий род»3. Критика теории подобия вещи и идеи продолжа-
ется в «Пармениде», где эта теория представлена позицией молодо-
10
го Сократа: «Мне кажется, Парменид, что дело обстоит так: идеи
пребывают в природе как бы в виде образцов, прочие же вещи сход-
ны с ними и суть их подобия, самая же причастность вещей идеям
заключается не в чем ином, как только в уподоблении им»4. Парме-
нид, выражающий здесь позицию зрелого Платона, исходит в своей
критике идей из двух принципиально важных соображений. Первое
указывает на парадокс, который скрывает в себе подобие вещи и
идеи: если вещи подобны идеям, то идеей становится само подобие.
«—А нет ли безусловной необходимости в том, чтобы подобное
и то, что ему подобно, были причастны одному и тому же?
— Да, это необходимо.
— Но то, через причастность чему подобное становится подоб-
ным, не будет ли само идеею?»5
Оказывается, что подобие вещи и идеи чревато самопроизволь-
ным и неограниченным «умножением сущностей», в результате ко-
торого между вещью и идеей выстраивается потенциально беско-
нечный ряд промежуточных эйдосов. Поэтому, заявляет Парменид,
«ничто не может быть подобно идее и идея не может быть подобна
ничему другому, иначе рядом с этой идеей всегда будет появляться
другая, а если эта последняя подобна чему-либо, то —опять новая,
и никогда не прекратится постоянное возникновение новых идей,
если идея будет подобна причастному ей»6. Подобие идее стано-
вится идеей подобия и размножает само подобие в бесконечную
анфиладу эйдосов. Данный аргумент против теории эйдосов, полу-
чивший название аргумента «третьего человека», Аристотель по-
просту воспроизводит в первой книге «Метафизики».
Второе высказываемое Парменидом соображение против от-
дельного существования эйдосов кажется еще более «аристотелев-
ским» по смыслу и содержанию, поскольку оно открывает путь
собственно аристотелевской постановке вопроса о бытии сущего.
Отдельное существование эйдосов, утверждает устами Парменида
сам Платон, оказывается ничем иным, как ненужным и бесполез-
ным удвоением сущности. Эйдос оказывается как бы отчужденным
образом самой вещи. Отсюда становится понятен тот аргумент, ко-
торый от лица Парменида приводит Платон: бытие отдельно суще-
ствующих эйдосов ровным счетом ничего не прибавляет к наше-
му пониманию бытия отдельно существующих вещей. Конкретной
иллюстрацией этого служит приводимый Парменидом пример гос-
подина и раба. «Если, например, — ответил Парменид, — кто-либо
1J
из пас есть чей-либо господин или раб, то он, конечно, не раб гос-
подина самого по себе, господина как такового, а также и госпо-
дин не есть господин раба самого по себе, раба как такового, но
отношение того и другого есть отношение человека к человеку»7.
Поэтому господство «в себе» и рабство «в себе» ничего не гово-
рят о действительном характере господина и раба, и о тех спе-
цифических отношениях, которые складываются между ними; как
раз, наоборот, понимание господства рабства возможно лишь на
основе знания действительного характера отношения господина и
раба.
Все это подводит нас к следующему выводу: между эйдосом,
как отдельно существующей сущностью, и вещью нет отношения
сущности. Так, господство — не сущность господина; напротив, гос-
подин и есть та сущность, в опоре на которую становится возмож-
ным говорить о господстве. Платоновский Парменид выражает это
в следующих словах: «Все идеи суть то, что они суть, лишь в от-
ношении одна к другой, и лишь в этом отношении они обладают
сущностью, а не в отношении к находящимся в нас (их) подобиям
(или как бы это кто ни определял), только благодаря причастности
которым мы называем теми или иными именами. В свою очередь
эти находящиеся в нас (подобия), одноименные (с идеями), тоже
существуют лишь в отношении друг к другу, а не в отношении к
идеям: все эти подобия образуют свою особую область и в число
одноименных им идей не входят»8. Таким образом, подобие вещи и
эйдоса оказывается не реальным единством, а лишь единством име-
ни. Так, отношение господина и господства образует в действитель-
ности тот род номинального единства, который Аристотель отнес
в своих «Категориях» к разряду «паронимных» единств9.
Таким образом, предварительное обсуждение онтологического
статуса идеи, которое предпринимают участники диалога, приво-
дит к четко обозначенной апории. С одной стороны, представление
об идеях как об отдельных и независимых от вещного мира сущно-
стях приводит к логическим несообразностям, в которых запутыва-
ются сами участники диалога. Поэтому любая попытка изложить
учение об идеях не способна вызвать ничего, кроме недоумения,
так что, по словам Парменида, всякий «слушатель будет недоуме-
вать и спорить, доказывая, что этих идей либо вовсе нет, либо если
уж они существуют, то должны быть безусловно непознаваемы для
человеческой природы»10. С другой стороны, тот, кто пожелает во-
12
обще отринуть существование идей как пустых фантомов мысли,
столкнется с еще большими затруднениями, поскольку «не допус-
кая постоянно тождественной себе идеи каждой из существующих
вещей, он не найдет, куда направить свою мысль, и тем самым уни-
чтожит всякую возможность рассуждения»11. Выход из этой апо-
рии может заключаться только в переосмыслении онтологического
статуса идеи.
Очевидно, что в основе всех трудностей в определении приро-
ды идеи лежит понимание вещи как подобия идеи. Если отношение
между вещью и идеей понимается как отношение подобия, то следу-
ет принять во внимание то, что идеальным случаем подобия явля-
ется тождество. Здесь-то и вырисовываются две равновеликие опас-
ности, подстерегавшие греческую мысль в самом ее истоке. Первая
опасность состоит в том, что понимание вещи как подобия идеи
ослабляет онтологический статус идеи, низводя ее до понятия, по-
скольку понятие является ничем иным, как тождеством вещи и ее
определения. Мышление как внимание логосу сдает свои позиции и
уступает место тем манипуляциям понятиями, которые свойствен-
ны софистическому дискурсу. Вторая опасность заключается в том,
что бытие как идея начинает пониматься как абстрактное тожде-
ство всего существующего, как его род. Поэтому исследование при-
роды идеи, предпринятое участниками диалога «Парменид», долж-
но дать ответ на вопрос о том, является ли вещь подобием идеи?
Необходимость такого переосмысления достаточно ясно осознает-
ся главным участником диалога «Парменид»: «Значит, вещи при-
общаются к идеям не посредством подобия: надо искать какой-то
другой способ их приобщения»12.
Однако выяснить онтологический статус идеи можно только на
пути возвращения к великой интуиции греческой философии — по-
ложению Парменида «одно и то же есть мышление и то, о чем
мысль», которое Платон и предпринимает в двух своих великих
диалогах— «Софисте» и «Пармениде». Главная загадка пармени-
довского изречения коренится в том самом «одном» (τό αυτό), в ко-
тором единятся мысль и бытие и чье таинственное единство Платон
пытается передать не менее загадочным словом «идея». Как бытие
сущего идея есть источник и условие мышления сущего. Таким об-
разом, невозможно выяснить аутентичный смысл идеи, не выяснив
смысл того единого, в котором мышление и бытие суть одно —τό
αυτό. Смысл идеи таков, какова природа единого. В таком случае
13
можно следующим образом сформулировать наш исходный вопрос:
образует ли тождество природу единого?
Неявным образом этот вопрос определяет всю диалектику «Со-
фиста». Так, испытывая учение «отца нашего» Парменида, Чуже-
земец начинает испытание с того, что устанавливает онтологиче-
ское «уравнение» бытия и единого. Рассуждение Чужеземца по во-
просу об отношении бытия и единого приводит к следующей дилем-
ме: либо бытие есть единое, а единое — бытие, либо единое является
тковым лишь по имени13. Поэтому все то, что относится к бытию,
относится также и к единому. Здесь-то и встает проблема онтологи-
ческого статуса многого, которую Платон делает центральной про-
блемой «Парменида». Обладает ли многое каким-либо онтологиче-
ским смыслом или, как противоположность единого, оно является
чистым ничто? В свою очередь, если многое обладает свойствами
бытия, то отсюда следует, что в определенном смысле многое есть
единое, а единое ■— многое. Вопрос, стало быть, заключается в том,
в каком смысле и каким образом можно говорить о едином как
многом, не разрушая при этом единого и не делая многое единым.
«Пусть-ка кто докажет, — говорит Сократ, — что единое, взятое са-
мо по себе, есть многое, и, с другой стороны, что многое (само по
себе) есть единое, вот тогда я выскажу изумление»14.
Так, можно установить такой тип отношения единого и много-
го, при котором бытие представляет собой гомологическое единство
многого. В этом случае многое «свертывается» в единство рода. В
самом деле, в чем состоит единство Каллия, Кориска и Сократа?
Только в том, что каждый из них есть человек. Тем самым понятие
«человек» является тем родовым единством, которое объем лет ин-
дивидуальные черты Каллия, Кориска и Сократа. Множество ста-
новится здесь единством, поскольку в общем понятии «человек»
совершенно невозможно различить то, что присуще каждому ин-
дивиду как члену определенного множества. Вместе с тем родо-
вое единство «человек» охватывает лишь определенное множество,
в силу чего само оно является определенным единством. Всякое
же определенное единство является в свою очередь лишь частью
наивысшего единства —бытия. Таким образом, бытие есть универ-
сальный род, т. е. род всякого предметного множества. Тем самым
становится принципиально возможным формально-логический ди-
айресис как разделение наивысшего рода — бытия на подчиненные
ему роды, а каждого рода, в свою очередь, ■- на входящие в него ви-
14
ды и индивиды. Поскольку же род есть не что иное, как предметно-
эйдетическое тождество, то бытие оказывается в таком случае един-
ством Тождественного. Но ведь именно понимание бытия (единого)
как тождественного находится в основании разделения сущего на
мир вечно тождественных себе эйдосов и мир подобных им вещей,
оборачиваясь теми логическими апориями, с которыми сталкива-
ются участники диалога «Парменид». Следовательно, необходимой
предпосылкой дальнейшего разговора о бытии сущего является по-
ложение, высказываемое платоновским Парменидом: «Тождествен-
ное по природе своей чуждо единому»15. Поскольку же «подобное —
это то, чему в некоторой степени свойственно тождественное»16, то
тем самым отбрасывается подобие вещи и эйдоса.
В «Софисте» проблема единого и многого обсуждается в ас-
пекте покоя и движения, которые выделяются Платоном, наряду
с бытием, в качестве родов сущего. «Самые главные роды, кото-
рые мы теперь обследуем, — говорит Чужеземец, — это — само бы-
тие, покой и движение»17. В каком отношении стоит бытие, как
единое, к множеству, представленному движением, и покою, как
противоположности движения? Обсуждение этой проблемы приво-
дит собеседников к выводу о том, что «невозможно, чтобы бытие
и тождественное были одним»18. Таким образом, как в «Софисте»
устами Чужеземца, так и в «Пармениде» устами самого Парменида
Платон говорит о том, что бытие как единое не есть тождество. В
«Софисте» такой вывод приводит Чужеземца к выделению, наря-
ду с бытием, покоем и движением, еще двух родов сущего - тожде-
ственного и иного как противоположности тождественного. Так в
горизонт платоновской мысли входит в качестве псевдонима бытия
έτερον — Иное.
Обсуждение вопроса «что есть сущее?» приводит собеседников
«Софиста» к, казалось бы, позитивному результату — выделению
пяти основных родов сущего; бытия, покоя, движения, тождествен-
ного и иного. Покой и движение, тождество и иное образуют пары
противоположностей. Все существующее, т. е. все то, чему может
быть приписано бытие, есть то или иное сочетание этих противо-
положностей. Бытие, как наивысший род сущего, можно, таким
образом, понимать как смешение четырех остальных родов суще-
го. В перечне этих родов «иное» имеет особенное значение; именно
«иное» необходимо для «декомпрессии» тождества, для внесения в
тождество элементов различия.
15
Рассматривая эту схему, можно допустить, что бытие —это
высший род, поднимающийся над взаимной противоположностью
остальных четырех родов. Однако при более внимательном рас-
смотрении оказывается, что эта классификация родов сущего об-
ладает крайне неустойчивым единством и начинает разрушаться,
едва только установлена. В определенной мере это отражается в ко-
лебаниях самого Чужеземца по поводу правомерности выделения
«тождественного» и «иного» в качестве самостоятельных родов:
«Чужеземец. Чем же, однако, мы теперь считаем тождествен-
ное и иное? Может быть, это какие-то два рода, отличные от тех
трех, но по необходимости всегда с ними смешивающиеся? В этом
случае исследование должно вестись относительно пяти существу-
ющих родов, а не трех, или же, сами того не замечая, мы называем
тождественным и иным что-то одно из тех (трех)?
Теэтет. Может быть».19
Те колебания, которые проявляет Чужеземец, вполне понятны,
если до конца продумать суть того положения, к которому он сам
приходит: бытие не есть тождественное. Но если бытие не есть
«тождественное», то это значит только то, что само бытие есть
иное. Поскольку же бытие неотличимо от «иного», то «иное» не
может быть представлено как отдельный род. Таким же образом
и тождественное выступает не некоей самостоятельной определен-
ностью сущего, а частным, подчиненным аспектом иного. Здесь
выясняется та загадочная близость бытия и небытия, на которую
уже ранее указывал Чужеземец. «Я, когда был помоложе, — гово-
рит он, —думал, что понимаю ясно, когда кто-либо говорил о том,
что в настоящее время приводит нас в недоумение, именно небы-
тии Пожалуй, мы испытываем точно такое же состояние души
и по отношению к бытию, хотя утверждаем, что ясно понимаем,
когда кто-либо о нем говорит, что же касается небытия, то не по-
нимаем; между тем мы в одинаковом положении по отношению как
к тому, так и к другому»20. Все то, что может быть сказано о бы-
тии, говорится также о небытии. Эта загадочная близость бытия и
небытия коренится в том, что небытие есть само бытие как иное.
Таким образом, в «Софисте» мысль Платона пульсирует меж-
ду двумя возможностями, которые при всей своей кажущейся бли-
зости не могут, однако, быть совмещены в одной метафизической
перспективе. Так, согласно первой из них, бытие и иное являют-
ся самостоятельными родами сущего; бытие как род единства, и
16
иное как род различия. Именно взаимодействием этих родов объ-
ясняется то, что сущее едино в различии и различно в единстве.
Другая же возможность, присутствующая в мышлении Платона в
качестве неявного оппонента первой, гласит, что само бытие есть
иное. Эта возможность заявляет о себе в словах Чужеземца о том,
что «и само бытие есть иное по отношению к прочим (видам)»21.
Эта, вторая, возможность оказывается абсолютно несовместимой с
первой. В самом деле, если само бытие есть «иное», то это означает
не только то, что «иное» не есть отдельный род сущего, но и то,
что само бытие не является родом.
Поскольку бытие есть иное, то оно не может быть родом, ибо
всякий род является основанием тождества. Поэтому «совпадение»
бытия и иного взрывает академическую схему пяти родов суще-
го. Бытие не объемлет все существующее в универсальной родовой
определенности, а пронизывает существующее. Поэтому не суще-
ствующее присутствует в бытии как в своем роде, а, напротив, бы-
тие присутствует в существующем, причем способом такого при-
сутствия является его отличие от существующего как того, что су-
ществует. Существующее есть исключительно в том основном, он-
тологическом, смысле, что бытие не есть существующее. Именно
поэтому бытие не может быть представлено в качестве тотальности
рода всего существующего. Бытие есть единство всего существую-
щего. Но это единство не является родом, поскольку оно разнооб-
разится бесконечностью способов своего не-существования; имен-
но эта бесконечность способов не-существования делает заведомо
невозможной всякую попытку собрать бытие в единство рода. Та
загадочная близость бытия и небытия, о которой говорил Чужезе-
мец, может быть теперь раскрыта следующим образом: существу-
ющее есть; бытие не существует. Эта бытийность существующего и
несуществование бытия раскрывается Платоном в следующих сло-
вах Чужеземца: «Бытие, как причастное иному, будет иным для
остальных родов и, будучи иным для них всех, оно не будет ни каж-
дым из них в отдельности, ни всеми ими, вместе взятыми, помимо
него самого, так что снова в тысячах случаев бытие, бесспорно, не
существует; и все остальное, каждое в отдельности и все в совокуп-
ности, многими способами существует, многими же —нет»22.
Здесь содержится и решение проблемы, обсуждению которой
посвящен диалог «Парменид», — каким образом единое становится
многим. Поскольку единое является «синонимом» бытия, то единое
17
есть многое точно таким же образом, каким бытие есть иное. Вы-
вод, к которому приходят участники диалога: существующее еди-
ное должно быть многим. «Следовательно, не только существую-
щее единое есть многое, но и единое само по себе, разделенное бы-
тием, необходимо должно быть многим». Поэтому можно сказать,
что бытие как иное разделяет единое во многое. Единое и иное про-
низывают друг друга таким образом, что единое оказывается мно-
гим, а многое — единым. Поэтому бытие не является абстрактной
всеобщностью всего существующего, неким универсальным преди-
катом сущего. Бытие — не род, в котором единое и иное совпадали
бы как в своем высшем единстве. Бытие есть единое, которое в свою
очередь есть иное.
«Парменид. Когда сказано "единое" и "другое", этим сказано все.
Аристотель. Да, все.
Парменид. Следовательно, нет ничего отличного от них, в чем
единое и другое могли бы находиться вместе.
Аристотель. Конечно, нет.
Парменид. Поэтому единое и другое никогда не находятся в од-
ном и том же»23.
Таким образом, поскольку нет никакого «одного и того же», в
котором совпадали бы единое и иное, постольку тождество оказы-
вается исключительно частным аспектом единого. Бытие оказыва-
ется в таком случае определенным отношением единого и иного;
это отношение, как покажет в дальнейшем Аристотель, выражает-
ся не типологическим единством рода, а своеобразным типом отно-
шения, который сам Аристотель определяет как προς εν λεγόμενον.
Как единство иного бытие не является тождеством рода и тем са-
мым ускользает от какой-либо общей меры и не может быть сведено
к какому-либо пропорциональному отношению. Та головокружи-
тельная диалектика единого и иного, пример которой Платон дал
в своем «Пармениде», является ничем иным, как апофатическим
логосом самого бытия. Бытие являет себя через иное самого себя —
через то, что не есть оно само. Поскольку же бытие есть не просто
иное, но единое иного, то единое —это не универсальная мера всего
сущего, а мера бытия, которую имеет сущее. Сущее предстает как
определенное сущее «это» в силу той меры бытия, которую оно име-
ет. Та мера бытия, которой обладает сущее, как раз и выражается
Платоном при помощи слова «идея».
Тем самым идея — это не идеальный слепок вещи. Суть пла-
18
тоновского понимания идеи можно выразить следующим образом:
идея есть бытие сущего как иное сущему. Обратимся вновь к на-
шему примеру с прекрасной чашей. Каким образом мы вообще
способны сказать: «Эта чаша — прекрасна!»? Мы способны сказать
о чаше то, что она прекрасна именно потому, что прекрасное не
есть чаша. Поэтому, говоря «эта чаша — прекрасна», мы тем са-
мым определяем чашу через то, что не есть сама чаша. Сама воз-
можность определения основывается на том, что можно было бы
назвать глубинной онтологией всякого суждения: сущее возможно
определить только в свете того, что не есть само это сущее. Небы-
тие, чье таинственное родство с бытием так волновало Чужеземца,
оказывается как бы «негативом» сущего на фоне бытия. Глубин-
ным основанием определяющего логоса является, таким образом,
апофатический логос как выявление сущего в свете того, что не
есть это сущее. Поэтому отношение бытия и сущего может быть
выражено в виде следующей онтологической антиномии, которую в
скрытом виде содержит всякое предметное, касающееся эмпириче-
ски определенного сущего, высказывание: бытие есть сущее; однако
сущее не есть бытие. Рационализм XVII в., сформировавший иде-
ал математического естествознания как полного, исчерпывающего
знания о сущем, оказывается ничем иным, как забвением той изна-
чальной антиномичности, в которой, собственно, есть всякое сущее.
В основании соразмерности (proportion, ratio) нашего рассудочно-
го мышления лежит онтологическая несоразмерность бытия и су-
щего.
Бытие есть сущее, поскольку бытие являет себя как сущее.
Вновь возвращаясь к примеру с чашей, поставим следующий во-
прос: видим ли мы просто чашу, которую мы лишь затем опре-
деляем посредством специфического признака «прекрасное»? Нет,
мы видим именно прекрасную чашу. Поэтому «прекрасное»—это
не какой-то обособленный признак, который может быть отнесен
к предмету в акте логического суждения, как предикат относят к
субъекту. А высказывание «эта чаша — прекрасна» является суж-
дением во вторичном, опосредованном смысле. Прекрасное — это
не некий универсальный предикат сущего «чаша», а то, в чем ча-
ша есть как именно эта прекрасная чаша; прекрасное — это идея,
являющая специфическую данность этой вот чаши и образующая
с этой чашей нераздельную смысловую целостность.
Однако сущее не есть бытие, поскольку всякое сущее выступает
19
как явление бытия, но не в качестве самого бытия. Другими слова-
ми, чаша, являясь прекрасной чашей, остается при этом прекрасной
чашей. Прекрасное явлено чашей, но сама чаша не есть прекрас-
ное. Прекрасное — это единое/позволяющее говорить об эмпириче-
ски различных вещах, объединяя их в определенную совокупность.
Что общего, к примеру, между чашей, картиной и заходом Солнца?
Очевидно, что это различные сущностные определенности. Однако
мы говорим о прекрасной чаше, о прекрасной картине, о прекрас-
ном заходе Солнца. Но именно поэтому прекрасное не есть чаша,
не есть картина, не есть этот великолепный заход Солнца. Идея
присутствует в предмете, оставаясь при этом единым, не дробясь и
не рассыпаясь в этом предметном множестве.
Другими словами, бытие присутствует в сущем, тогда как сущее
лишь наличествует в бытии. Однако поскольку бытие есть иное
сущему, то присутствие не есть наличие. Бытие как присутствие
есть идея, тогда как наличие —это явленный этим сущим, телес-
но представленный облик идеи, ее эйдос. Так, «прекрасная чаша»
представляет собой тот специфический эйдос, посредством которо-
го явлена идея «прекрасного». Идея и эйдос образуют неразрывную
смысловую целостность идеи явления как явления идеи, причем са-
ма эта целостность оказывается возможной в силу того, что между
идеей и эйдосом имеется неустранимое онтологическое различие.
Эйдос- это то, что есть эта вещь; идея же есть само «есть», в ко-
тором явлено это самое «что». Эйдос, как непосредственное явле-
ние сущего, представляет собой настолько целостный сплав вещи и
смысла, что смысл вещи является вещным смыслом — ее формой.
Каким, однако, образом единое присутствует в сущем? Сущее
как единое есть индивидуальное «это», в котором единое как его
иное есть общее. Антиномия бытия и сущего «дублируется», та-
ким образом, самим сущим, которое тем самым представляет со-
бой антиномическое единство общего и индивидуального. Общее
есть иное индивидуального, или, другими словами, общее есть са-
мо индивидуальное как иное. В этом смысле общее выступает внут-
ренним моментом опосредования единого, а вовсе не тотальностью
сущего. Общее достигается не посредством «абстрагирования» ин-
дивидуального, поскольку сама попытка представить общее как ре-
зультат процесса абстрагирования оборачивается известным логи-
ческим парадоксом: чтобы получить общее, необходимо уже иметь
представление об общих чертах, свойственных тому или иному
20
предметному множеству. Общее является не результатом процес-
са обобщения, а процессуальным моментом апофатического логоса
бытия как иного. Как момент единого общее есть не само единое, а
его производный модус. В этом смысле эйдос, как индивидуальное
«что», является в то же время основанием видовой определенности
вещи — ее чтойностыо.
Таким образом, сущее предстает как антиномическое сопряже-
ние индивидуального и общего. Невозможно индивидуальное, кото-
рое не проецировалось бы на «экран» общего; невозможно общее,
сквозь которое не «просвечивало» бы индивидуальное. Так, роза,
помимо своей родовой определенности, выражаемой безликим тер-
мином «цветок», есть именно эта роза, чьи лепестки имеют такой
багряно-бархатный оттенок, чьи шипы только что укололи меня
сквозь подарочную обертку, в которой я несу эти цветы своей лю-
бимой женщине. Отсюда возникает необходимость в соответству-
ющих терминологических уточнениях, которые позволили бы не
только отразить эту принципиальную двойственность сущего, но
и выразить его единство. Другими словами, необходим специаль-
ный термин, схватывающий единство сущего в двойственности и
двойственность в его единстве. Если единое как иное «раздваива-
ет» сущ€:е в биполярность общего и индивидуального, то искомый
термин должен, напротив, удержать иное как единое. Такой тер-
мин вводится Аристотелем в качестве сути бытия сущего (το τί ην
είναι).
Таким образом, можно видеть, что теория подобия, отвергну-
тая Платоном в «Пармениде», приводит к нарушению онтологиче-
ской иерархии, в результате чего единое подменяется общим, что
приводит к пониманию бытия как универсального рода всего суще-
ствующего, а идея подменяется эйдосом. Как неизбежное следствие
такого рода подмены и образуется карикатурно-уродливый «пла-
тонизм», с его безусловным приоритетом общего над индивидуаль-
ным, с его пошлой метафизикой, наивысшим достижением которой
считается учение о том, что наряду с конкретным человеком, кон-
кретным домом и конкретной лошадью имеются идеальные «чело-
век сам по себе», «дом сам по себе» и «лошадь сама но себе». Имен-
но над таким платонизмом справедливо издевался Аристотель, ко-
гда говорил в «Метафизике» о легкости образования идеального
мира, для чего достаточно к любому существительному прибавить
оборот ο:υτο — само по себе24.
21
Как абсолютное взаимопроникновение индивидуального и об-
щего сущность есть лик сущего. Общее само по себе —это безли-
кий предикат, абстрактная universalia. Индивидуальное же само по
себе —это πρόσωπον, обманчивый лик —личина. Поэтому, как «сов-
падение» единого и иного, лик есть сущее как образ иного. Утратив
образ иного, сущее обращается в личину и становится тем, что на
языке философии Нового времени называется феноменом -обман-
чивым, иллюзорным аспектом реальности. Таким образом, утрата
лика равнозначна утрате мира, который обращается в совокупность
феноменов, в сплошную пелену видимости, сквозь которую просве-
чивает недостижимая, трансцендентная для человеческого позна-
ния ноуменальная сущность мира.
Однако в каком смысле сущее способно быть образом Иного!
Разве сама возможность быть образом чего-либо не предполагает
некоего структурного сходства между образом и его оригиналом?
Сущее является образом Иного как символ. Понятие — это мертвая
маска вещи; символ — ее живой лик. Понятие дает значение вещи,
причем само значение является как бы «булавкой», которая раз и
навсегда фиксирует предмет в общей таксономии наших знаний. В
символе же раскрывается смысл вещи. Самое же важное заключа-
ется в том, что понятие не выводит нас за внешние рамки пред-
мета, поскольку само понятие является ничем иным, как единицей
Тождественного. Но сущее, представленное символом как Иное се-
бе оказывается тем самым больше самого себя. Другими словами,
символ есть пароль вещи, раскрывающий ее глубинную смысловую
структуру.
Таким образом, исходной интуицией, из которой развивается
платоновское понимание бытия как иного, является совпадение в
едином бытия и небытия; бытие входит в состав сущего как иное
сущему. Вместе с тем иное —это не темная изнанка бытия, а, на-
против, та позитивная трансценденция сущего, тот его смысловой
окоем, в свете которого сущее кажет себя. Аналогично тому, как нет
подобия между светом и тем предметом, который он освещает, так и
всякая позитивная определенность сущего включает в себя то, что
не есть это сущее. Так, прекрасное есть иное, чем эта прекрасная
чаша или этот прекрасный закат. И тем не менее прекрасная чаша и
прекрасный закат могут быть даны как явления только в «светлой
ночи» иного. Иное входит в состав сущего так, что сущее является
как конечный образ иного как лик. При этом иное невозможно ис-
22
черпать в виде последовательности конечных приближений, путем
обобщения суммы явлений иного, поскольку такая операция была
бы равнозначна превращению иного в тождественное. Так, сколь
угодно большое число явлений прекрасного не даст в итоге саму
идею прекрасного. Поэтому всякое сущее содержит в себе транцсн-
зус бесконечности. Можно сказать, что идея актуально бесконечна
по отношению ко всякой возможной совокупности своих явлений.
Именно эта трагическая сопряженность бытия и небытия ле-
жит в основании чуда греческой мысли. «Катарсисом» этой тра-
гедии греческого гносиса станет мистерия христианского Откро-
вения. В этом ощущении изначальной трагичности бытия кроет-
ся секрет того глубокого, неотмирного покоя, который исходит от
пластических образов греческого искусства. Этим образам неведо-
ма та «болезнь к смерти», имя которой - отчаяние. Отчаяние — это
морок призрачной свободы, которой поражен человек Ренессанса и
Нового времени, это безмолвный вопль мнимой трансценденции, в
котором слышится тоска по утраченному Миру, по истинной, сораз-
мерной человеку бесконечности. Нигде это отчаяние не слышимо с
такой отчетливой ясностью, как в вопрошании Паскаля: «Что та-
кое человек в бесконечности?» Корень отчаяния — утрата бытия,
и как следствие — потеря подлинного трагизма существования. По-
скольку жизнь есть существование в форме трагедии, поскольку
все подлинное трагично, постольку без трагедии нет жизни.
Трагедия означает примирение бесконечного и конечного, при
котором бесконечное входит в состав конечного как его собственная
онтологическая определенность — как его лик. Именно примирение
бесконечного и конечного образует Мир — κόσμος. Мир — это не без-
ликая совокупность всего того, что окружает человека, а лад — гар-
мония и соразмерность всего существующего. Античный космос яв-
ляется в этом смысле нерукотворным шедевром искусства. Подобно
тому как во всяком подлинном произведении искусства мы встре-
чаемся с бесконечностью, которая укрощена мерой и скована фор-
мой, так и античный космос являет собой «дионисийскую» беспре-
дельность стихии, сведенную к четкой «аполлонической» мере25.
Античный этос-это высокий трагизм существования, неизмеримо
выше которого оказывается только боговоплощение, земная жизнь
Христа.
Каким же образом, в силу каких причин Мир мог дегради-
ровать в Универсум? Универсум — это безликий мир. Но что та-
23
кое Мир, лишившийся лика? Это мир, высидим законом которо-
го является тождественное, т. е. мир подобного, однородного, об-
щего. Тождественное, выступая метафизическим принципом мира
как универсума, выступает при этом в виде своего физического
«дубликата». Таким физическим образом тождественного, является
пространство абсолютно однородная среда, с эквипалентностыо
всех точек отсчета (принцип относительности Галилея — Эйнштей-
на). Так, уже в картезианской философии пространство тракту-
ется как субстанция всего существующего. Соответственно целью
познания объявляется сведение всего существующего к простран-
ственным, механическим формам. Поскольку же мир сводится к
пространству, то отныне он представляет собой простую совокуп-
ность точек — континуум, законом которого становится лейбницев-
ский принцип непрерывности, который гласит: в мире нет пустых
промежутков. Обратной стороной этого принципа является пола-
гание дискретности как частного случая непрерывности. Принцип
непрерывности оказывается, при более близком его рассмотрении,
тем же самым принципом тождественного, его обратной стороной,
что хорошо видно из той формулировки, в которую его облек Лейб-
ниц: «Закон непрерывности требует, чтобы и все особенности одно-
го существа были подобны особенностям другого, если только суще-
ственные определения первого подобны существенным определени-
ям второго»26. Все существующее становится тем самым доступно
для описания в виде системы дифференциальных уравнений.
Таким образом, тождественное становится высшим метафизиче-
ским принципом мира вследствие того процесса, который вслед за
М. Хайдеггером можно назвать забвением бытия. Однако забвение
бытия — это грехопадение мысли в тождественное. Отношения бы-
тия и сущего опосредуются иным, и поэтому не могут быть отноше-
нием подобия. Забвение бытия приводит к тому, что из Мира уходит
Иное, вследствие чего Мир становится миром — системой подобий,
раскрываемых в уравнениях математической физики. Научный ра-
зум, чьей функцией является приведение к тождеству, становится
законодателем мира. Так, к примеру, явления цвета и электриче-
ства, при всей их видимой качественной разнородности, сводятся
научным разумом к общим законам электромагнитного поля. На-
учный разум представляет собой не что иное, как рассмотрение
всего сущего в перспективе тождественного. «Воспоминание» бы-
тия предлагает поэтому совершенно иную, обратную перспективу.
24
13 этой «обратной перспективе», или перспективе иного, сущее име-
ет совсем иной порядок, чем тот, который считается единственно
легитимным в научной картине мира. Этот порядок, представляю-
щий собой, по выражению Б.Л.Пастернака, «образ мира в слове
явленный», есть Мир как лад всего сущего. Место объекта в нем
заступает вещь, а место понятия — символ. Наконец, это порядок,
где континуум является частным случаем дискретности.
Не получается ли тем самым, что Парменид ошибался, утвер-
ждая, что бытие и мысль есть одно? Прежде всего, парменидовское
«то же самое», как это выявлено платоновской критикой, не есть
тождество. Мысль, если это действительно мысль, а не ее имита-
ция, есть не подобие бытия, а самоё бытие. В этом смысле Бытие и
мысль суть Единое. Однако это Единое странным образом являет
себя миру как Иное.
Глава II
ТЕЗИС АРИСТОТЕЛЯ «БЫТИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РОДОМ»
КАК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ВОПРОСА
О БЫТИИ СУЩЕГО
Обращаясь к критике Аристотелем платонической (но не плато-
новской) теории идей, мы сталкиваемся с тем странным, hei первый
взгляд, обстоятельством, что все существенные моменты этой кри-
тики уже были продемонстрированы самим Платоном, причем с
несравненно большей глубиной и диалектическим блеском, чем это
сделал Аристотель. Вдумываясь в приводимую Аристотелем аргу-
ментацию, нельзя не заметить, что вся аристотелевская критика
теории идей нацелена именно на понимание идеи как подобия ве-
щи, которое Платон критически преодолевает в «Софисте» и «Пар-
мениде». Поэтому следует предположить два возможных объясне-
ния данного обстоятельства: либо критика Аристотеля построена
на принципиальном непонимании сути платоновской мысли, либо,
напротив, она является своего рода пролегоменами того понимания
бытия, контуры которого мы находим в аристотелевской «Метафи-
зике». Поскольку первая возможность не может быть принята во
внимание ввиду ее очевидной исторической несостоятельности, по-
стольку нам следует принять вторую возможность как единствен-
ную, рассмотрев ее самым серьезным образом. Прежде всего, нам
необходимо выявить то пространство смысла, в границах которого
развертывается аристотелевская критика теории эйдосов.
Исходный вопрос метафизики «что есть сущее?» ставится
Аристотелем как вопрос о началах сущего. Первая философия
(φιλοσοφία πρώτη) именно потому и называется первой, что она ис-
следует начала (αρχή) всякого сущего. Поэтому то, что является
сущим в значении начала, то, что находится тем самым в основа-
26
нии любой предметно определенной области, может быть названо
сущим только в некоем особом смысле, который и фиксируется уси-
ленным оборотом — ον ή ον — сущее как таковое, или сущее как су-
щее. Дрз'гими словами, речь идет о бытии сущего, так что исходный
вопрос метафизики «что есть сущее?» нацелен на прояснение того,
в силу чего всякое сущее есть. Так, анализ простого вопроса— от-
вета «Что есть роза? —Роза есть цветок» выявляет странную, на
первый взгляд, амбивалентность, заключающуюся в том, что сущее
«роза» не совпадает с тем, в силу чего она есть цветок. В противном
случае суждение «цветок есть роза» должно было бы быть принято
нами как полностью истинное высказывание. Данная амбивалент-
ность может быть выражена нами следующим образом: бытие не
сказывается о сущем однозначным образом. Поэтому в любом вы-
сказывании бытие уходит в подтекст определения, как бы прячась
за сущим; то, что есть роза или какой-либо другой предмет, не мо-
жет быть охвачено никаким понятийным масштабом. Тем самым
исследование бытия сущего, как по своим целям, так и по своим
средствам, должно принципиально отличаться от наук, исследую-
щих те или иные регионы сущего. Именно в этом смысле Аристо-
тель отличает первую философию от любого предметно ориентиро-
ванного исследования: «Есть некоторая наука, исследующая сущее
как таковое, а также то, что ему присуще само по себе. Эта наука
не тождественна ни одной из так называемых частных наук, ибо
ни одна из других наук не исследует общую природу сущего как
такового, а все они, отделяя себе какую-то часть его, исследуют то,
что присуще этой части, как, например, науки математические»1.
Однако здесь перед нами возникает следующий, чрезвычайно
сложный вопрос: возможна ли, и если возможна, то каким обра-
зом, наука о сущем как сущем? Острота этого вопроса заключа-
ется в том, что предмет любой частной науки уже предпослан ей,
уже дан ей в качестве некоего предметного a priori. Так, к приме-
ру, движение, как явление природного мира, существует помимо
всякой физики, которая лишь определенным образом тематизиру-
ет для себя это явление. Но предмет первой философии не может
быть дан ей таким же образом, как физике дано движение. Напро-
тив, первая философия должна сама найти его, а затем описать
способами, совершенно отличными от тех, которые приняты в част-
ных науках. Следовательно, решение вопроса о возможности науки
о сущем как сущем, или о бытии сущего, зависит от того, удастся
27
ли нам открыть посреди природного многообразия вещей и явле-
ний доступ к сущему как таковому. Каким же путем мы могли бы
вывести бытие сущего из тени сущего?
Существуют лишь две принципиальные возможности доступа
к бытию сущего. Первая возможность заключается в том, чтобы
выделить такое сущее, которое воплощает в себе максимально вы-
сокую степень существования. Такое сущее, именуемое Богом, яв-
ляется действующей причиной всего существующего. Поскольку же
первая философия, как говорит Аристотель, есть наука о началах,
то в этом случае она становится неотличима от теологии как знании
о высшем начале —■ Боге. О том, что Аристотель вполне допускает
такое понимание первой философии, свидетельствует следующее
его рассуждение: «Божественна та из наук, которой скорее всего
мог бы обладать бог, и точно так же божественной была бы вся-
кая наука о божественном. И только к одной лишь искомой нами
науке подходит и то и другое. Бог, по общему мнению, принадле-
жит к причинам, есть некое начало, и такая наука могла бы быть
или только или больше всего у бога»2. Рассматривая первую фи-
лософию в онто-теологической перспективе как науку о божествен-
ном, Аристотель замечает при этом, что божественной наукой «ско-
рее всего мог бы обладать бог», что «такая наука могла бы быть
или только или больше всего у бога». Настойчивость, с которой
Аристотель повторяет эту мысль, должна подчеркнуть чрезвычай-
но важный аспект онто-теологического понимания первой фило-
софии: божественное знание о первых началах сущего может при-
надлежать только Богу как высшему началу. Такое знание присуще
Богу в силу того, что он — Бог. Человек же, ограниченный своим
человеческим естеством, таким знанием обладать не может. Онто-
теологическое понимание первой философии обнаруживает, таким
образом, непреодолимую двойственность; оно включает в себя две
совершенно противоположные позиции, которые не могут совпасть
друг с другом. Первая позиция, как божественное знание о бытии,
как охват сущего в одном божественном взоре, доступно одному
лишь Богу. Это онто-теологическая перспектива сущего, скрытая
от человека. В границах же человеческого существования знание
о божественном никогда не может стать божественным знанием,
вследствие чего само знание о божественном нуждается в онтоло-
гическом обосновании. Лишенное такого основания, оно обращает-
ся в чистый миф, в присущий толпе вульгарный антропоморфизм.
28
Именно поэтому сам вопрос о божественном может быть поставлен
и прояснен только на почве вопроса «что есть сущее?» Это онто-
теологическая перспектива, единственно доступная человеку. Мы
вернулись, таким образом, к исходному вопросу метафизики, не
продвинувшись ни на шаг в его прояснении. Поскольку исследова-
ние божественной сущности не может дать нам прямого доступа к
бытию сущего, постольку нам необходимо исследовать другие воз-
можности.
Здесь мы сразу же сталкиваемся с определенными затруднени-
ями, от решения которых зависит сама возможность науки о сущем
как сущем. Изложение и анализ этих затруднений составляют со-
держание третьей книги «Метафизики». Из того перечня основных
проблем единой науки о сущем, который дается Аристотелем в пер-
вой главе «Метафизики» В, мы выделим первые четыре как наибо-
лее значимые для понимания аристотелевской постановки вопроса
о бытии сущего.
Во-первых, «исследует ли причины одна или многие науки»,
может ли быть одна наука о началах сущего, или же таких на-
ук должно быть несколько? Во-вторых, «должна ли искомая на-
ми наука уразуметь только первые начала сущности, или ей сле-
дует заниматься и теми началами, из которых все исходят в
доказательстве»?3 Другими словами, возможно ли исследование
сущего как такового в форме логической аргументации, исходя-
щей из абсолютно достоверных логических посылок, как, напри-
мер, невозможность в одно и то же время утверждать и отрицать
одно и то же? В-третьих, «если имеется в виду наука о сущности,
то рассматривает ли все сущности одна наука или несколько, и ес-
ли несколько, то однородны ли они, или же одни следует называть
мудростью, а другие - по-иному»?4 Этот вопрос касается сущно-
сти вещи —того, что делает вещь, с одной стороны, отличной от
других вещей, а с другой стороны — определимой. Тем самым если
возможна наука о сущем как сущем, то будет ли она такой нау-
кой, которая охватывает все сущности? И, наконец, в-четвертых,
«существуют ли одни только чувственно воспринимаемые сущно-
сти или также другие помимо них»?5 Если первая философия есть
наука о сущностях как началах вещей — того, на основании чего
всякая вещь существует, то должна ли она выяснить, следует ли
признавать сущностями также и понятия? Другими словами, пра-
вомерно ли наделять понятия статусом существования, превращая
29
их тем самым в нечто обособленное от чувственно воспринимаемого
мира? Очевидно, что данный вопрос прямо относится к платонов-
ской эйдетике, трактующей эйдос как самостоятельно существую-
iiryio сущность.
Эти четыре проблемы, данные Аристотелем в порядке простого
перечня, образуют тем не менее одно целое и связаны друг с другом
неразрывным единством смысла; внимательный их анализ должен
открыть нам следующую возможность доступа к бытию сущего,
которая остается у нас после того, как отпала возможность такого
доступа в свете онто-теологии.
Прежде всего, возможна ли и каким образом единая наука о на-
чалах сущего? Находясь среди бесконечного многообразия вещей
природного мира, мы, однако, замечаем в этом многообразии опре-
деленные единства, в соответствии с которыми вещи разделяются
по родам. Так, «человек» и «бык» входят в общий род «живое суще-
ство» и, соответственно, могут быть понимаемы на основании обще-
го рода. Таким образом, единая наука о началах сущего возможна
только в том случае, если началом (бытием) сущего выступает род.
В противном случае наука о сущем как сущем оказывается невоз-
можной именно как единая наука.
Вторая проблема касается возможности науки о бытии сущего
как строго однозначного, доказательного рассуждения. Возможна
ли наука о сущем как таковом именно как доказывающая наука,
основывающаяся на незыблемых логических аксиомах? Всякое до-
казательство, соответствующее канонам логики, должно включать
в себя определение, которое дается через род и видовое отличие.
Первая фигура силлогизма содержит в себе определение («Сократ
есть человек») в качестве среднего термина. Поэтому доказатель-
ная наука о бытии сущего возможна, если бытие образует род всего
существующего. В этом случае всякое сущее могло бы быть опреде-
лено на основании общего рода — бытия, подобно тому как человек
и бык определяются на основании общего рода «живое существо».
Определяющий логос человеческого рассуждения совпал бы с ло-
госом самого бытия, результатом чего и стал бы парменидовский
тезис «одно есть мысль и то, о чем мысль».
Третья проблема поднимает вопрос о возможности единой на-
уки о сущностях. Однако сущностью вещи является то, что поз-
воляет ей быть определяемой. В определении фиксируется то, что
пребывает в вещи постоянным и неизменным, при всей изменчиво-
30
сти и текучести ее свойств: «цветок», как сущность розы, не терпит
никакого ущерба в своем бытии оттого, что сама роза увяла или по-
теряла свои лепестки. Поэтому единая наука о сущностях возможна
только в том случае, если бытие образует сущность всякого сущего
и выражается в сущем на основании его рода. Всякое определение
является в таком случае полаганием бытия вещи. Третья апория
включает в себя, таким образом, «самый трудный и недоуменный
вопрос: есть ли единое и сущее, как это утверждали пифагорейцы
и Платон, не нечто иное, а сущность вещей»6.
Анализ этих трех проблем выявляет одну общую им черту: еди-
ная наука о сущем возможна, если бытие есть род сущего и в ка-
честве рода является сущностью всякого сущего. Тем самым уже
предполагается решение и четвертого затруднения, касающегося
статуса понятий. Действительно, если бытие образует род всякого
сущего, то понятие, в котором фиксируется родовая определенность
вещи, получает безусловный онтологический приоритет по отноше-
нию к самой вещи и воплощает в себе более высокую, чем вещь, сте-
пень существования. Возможность науки о сущем как сущем осно-
вывается, таким образом, на вполне определенной онтологической
посылке — бытие есть род существующего. Эта же посылка лежит
и в основании платоновской эйдетики.
Поэтому перед нами открывается еще одна возможность полу-
чить доступ к сущему как таковому. Мы могли бы получить ответ
на вопрос «что есть сущее?» путем генерализации сущего, т. е. че-
рез отвлечение тех предикатов, которые так или иначе присущи
всякой вещи. В конечном счете мы получили бы понятие сущего
как такового, создав тем самым предпосылку для создания единой
науки о сущем. В этом случае отношение бытия к сущему было бы
понято нами как отношение рода к входящим в него видам. По-
скольку бытие есть то, что в той или иной степени присуще всему
существующему, постольку оно есть сущность всякого сущего.
Однако именно эта возможность и вовлекает нас в самую на-
стоящую апорию, указав на которую Аристотель и родился как
философ: «А между тем ни единое ни сущее не может быть родом
для вещей. Действительно, у каждого рода должны быть видовые
отличия, и каждое такое отличие должно быть одним, а между тем
о своих видовых отличиях не могут сказываться ни виды рода, ни
род отдельно от своих видов, так что если единое и сущее — род,
то ни одно видовое отличие не будет ни сущим ни единым. Но, не
31
будучи родами, единое и сущее не будут и началами, если только
роды действительно начала»7. Теперь нам предстоит рассмотреть
эту апорию самым внимательным образом.
Всякий род, охватывающий определенное предметное множе-
ство, характеризуется в отношении к входящим в него видовым
отличиям, на что и указывает Аристотель: «У каждого рода долж-
ны быть видовые отличия, и каждое такое отличие должно быть
одним». Не существует рода как такового, помимо своих видовых
признаков. Род как бы пронизан бытием и единым, ибо он харак-
теризуется бытием входящих в него видов, каждый из которых
представляет собой некое единство. Так, к примеру, род «живое
существо» включает в себя «человека», «животное» и «растение» в
качестве своих видов, и как виды они охватывают единством при-
знаков определенные совокупности реально существующих инди-
видов. Однако в силу чего вид характеризуется признаками бытия
и единства? Только в силу того, что содержание вида не входит в
содержание рода. Содержание каждого рода выражается его опре-
делением; так, «человек есть живое существо, одаренное разумом».
Очевидно, что содержание вида «человек», выражаемое предика-
том «одаренный разумом», не является содержанием рода «живое
существо». Понятие разума не совпадает с понятием жизни, по-
скольку в этом случае исчезло бы всякое различие межу челове-
ком, животным и растением. Более того: в этом случае была бы
уничтожена всякая возможность самого определения, которая как
раз и основывается на различии рода и его вида. Род входит в со-
став определения, но определение не входит в состав рода. Именно
поэтому высказывание «человек есть живое существо» невозможно
обратить в противоположное высказывание «живое существо есть
человек». Бытие вида как определенного единства характеризуется,
таким образом, его отличием от рода. Понимание бытия как рода
упраздняет в своем предельном выражении всякое единство, кроме
единства имени, и приводит к чистой эквивокалыюсти, создавая
тем самым благодатную почву для софистического дискурса. Род
в таком случае - не более чем имя, произвольный знак.
Здесь мы приближаемся к тому, что можно было бы назвать
нервом всей аристотелевской аргументации. Поскольку, как уже
было сказано, род характеризуется бытием и единством входящих
в него видов, то бытие и есть то, что различает род, причем разли-
чает таким образом, что именно эта различенность выступает осно-
32
ванием возможности рода как такового; с упразднением этой раз-
личенности род обращается в фиктивное, номинальное единство.
Бытие —не род, поскольку бытие есть то иное, что является воз-
можностью всякой родовой определенности; именно бытие создает
различия в роде. Поскольку бытие вида, его единство конституиро-
ваны тем, что содержание вида не есть содержание рода, постольку
понимание бытия как рода означало бы только то, что никакое су-
щее не обладает характеристиками бытия и единства. Понимание
бытия как рода приводит, таким образом, к метафизическому са-
моубийству мира, поскольку обращает сущее в призрак.
Апория, с которой мы столкнулись, может быть выражена в
форме парадокса: бытие как род должно входить в свой собствен-
ный отличительный признак, что означает принципиальную невоз-
можность какого-либо логоса о сущем, поскольку никакое сущее не
может обладать в таком случае онтологической характеристикой
единства. Именно здесь находится центр аристотелевской критики
теории эйдосов. Эта критика ни в коем случае не является простым
перифразом аргументов Платона, как это может показаться на пер-
вый взгляд, поскольку цель аристотелевской критики существенно
иная: Аристотель выявляет ту самую онтологическую предпосыл-
ку теории эйдосов, которая не была выявлена самим Платоном, —
понимание бытия как единства рода. Действительно, если бытие яв-
ляется родом, то всякое единство рода обладает характеристикой
бытия. «Человек» в таком случае есть бытие Сократа, и в каче-
стве бытия «человек» обладает своим собственным, независимым
от Сократа, Кориска или Каллия существованием. Таким образом,
именно понимание бытия как рода лежит в основании удвоения
мира на мир вещей и мир понятий, дублирующих вещный мир и
обладающих своим собственным, независимым от вещей статусом.
До тех пор пока данная предпосылка остается не выявленной в
своей сути, никакая диалектическая критика эйдосов как незави-
симых сущностей, пример которой был дан самим Платоном, не
может считаться окончательной и исчерпывающей. Теория эйдо-
сов должна быть отвергнута именно в силу того обстоятельства,
что в ее основании находится предпосылка понимания бытия как
рода, — предпосылка, являющаяся по своей сути апорией. Те кол-
лизии теории эйдосов, которые были вскрыты Платоном в диало-
ге «Парменид», являются лишь следствиями той фундаментальной
апории, которая лежит в их основании.
33
Однако, выявив апорийность понимания бытия как рода, мы
оказались вновь в ситуации исходного метафизического вопроша-
ния: что есть сущее как сущее? Перспектива единой науки о сущем,
в основании которой находится понимание бытия как рода, оберну-
лась для нас безысходностью апории. Поэтому те четыре пробле-
мы науки о сущем, с которыми мы сталкиваемся в первую очередь,
предстают теперь для нас в совершенно ином свете.
Во-первых, каким образом возможна единая наука о сущем? Су-
щее подразделяется па роды, однако бытие не есть род. Поэтому
единая наука о сущем возможна только в том случае, если нам
удастся отыскать основание самого родового единства, т. е. выявить
такую онтологическую диспозицию, в которой сущее представлено
как вид родового единства.
Во-вторых, возможна ли доказательная наука о сущем как та-
ковом? Доказательство основывается на определении, а определе-
ние дается через род и видовое отличие. «Поскольку мы каждую
вещь познаем через определения, а начала определений —это ро-
ды, необходимо, чтобы роды были началами и определяемого; и
если приобрести знания вещей — это значит приобрести знание ви-
дов, сообразно с которыми вещи получают свое название, то ро-
ды во всяком случае начала для видов. И некоторые из тех, кто
признает элементами вещей единое и сущее или большое и малое,
также, по-видимому, рассматривают их как роды»8. Но т.к. бытие
не является родом, то наука о сущем как таковом не может быть
построена в виде системы логически доказательных рассуждений:
логика не совпадает с логосом сущего, поскольку сама возможна
лишь в его границах, так что именно логос является онтологиче-
ским основанием логики. Таким образом, начало доказательства
не есть начало самой вещи: «Роды не начала вещей»9. Поэтому не
может быть никакого доказательства «относительно сути вещи»10.
Следующее поднимаемое Аристотелем затруднение имеет в ви-
ду возможность единой науки о сущностях. Возможность такой на-
уки, казалось бы, открыта нам, если само бытие есть сущность. По-
скольку сущность вещи выражается ее определением, а само опре-
деление есть отношение вещи как вида к объемлющему ее как вид
роду, то сущность каждой вещи включается в бытие как наивысшее
родовое единство. Сущность всякого сущего принадлежит суще-
му как таковому в качестве его регионального, видового значения,
так что структура космоса может быть представлена знаменитым
34
«древом Порфирия». Логика совпадает здесь с онтологией. Одна-
ко поскольку бытие — не род, то мы оказываемся перед необходи-
мостью заново поставить вопрос о сущности: что есть сущность?
В платоновском понимании сущность есть то общее в вещи, что
выражается определением и в чем вещь причастна своему эйдосу;
предельным же выражением единства эйдосов является бытие как
универсальный род всего существующего. Поэтому бытие и еди-
ное можно назвать сущностями в превосходной степени, поскольку
они выражают собой максимальную степень общности. Но если бы-
тие— не род, то и общее-не сущность. Поэтому вопрос «что есть
сущность?», поставленный на почве аристотелевского понимания
бытия, может означать только следующее: если, вопреки Платону,
бытие (единое) — не сущность, то каково же бытие сущности? Та-
ким образом, невозможно выяснить природу сущего как такового,
минуя вопрос о сущности. Вопрос «что есть сущность?» является
ничем иным, как правильной постановкой вопроса «что есть су-
щее?»: «И вопрос, который издревле ставился и ныне и постоянно
ставится и доставляет затруднения, — вопрос о том, что такое су-
щее, — это вопрос о том, что такое сущность»1].
Выяснение того, что бытие — не род, означает, таким образом,
запрет на какую-либо субстантивацию общего. Поэтому сущностью
может быть только сама вещь как единое. Сущее как единое есть
сущность. Однако это единое не может быть схвачено каким-либо
определением, поскольку всякое определение разлагает единое в об-
щее. Само же общее есть не что иное, как единое, представленное
в отрыве от существующей вещи и ставшее в силу этого ее чистой,
абстрактной возможностью. Бытие как единое вносит различия в
общее, и поэтому оно не может быть сведено к общему. Поэтому
бытие и единое не могут быть высказаны ни в каком определении,
ни в каком суждении. «В определениях, - говорит Аристотель, -■-
нет ни "сущего", ни "единого", и суть их бытия есть непосредствен-
но нечто единое, как и нечто сущее»12. Бытие просачивается сквозь
определения как вода через песок. Сказать «человек есть (сущий)»
или «Я существую» —значит ничего не сказать, не дать никакого
определения. Поэтому те высказывания, где предикатами высту-
пают «сущее» и «единое», являются не столько высказываниями,
сколько онтологическими пропозициями, или простыми полагани-
ями бытия сущего. Это проводит принципиальную и неустранимую
границу между суждением как формой определения сущего и по-
35
лаганием бытия сущего. Если гюлагание бытия не есть определе-
ние, то, в свою очередь, никакое определение не есть полагание
бытия. Онтологическое доказательство бытия Бога, как впослед-
ствии покажет Кант, потому"ничего и не доказывает, что оно, как
силлогизм, покоится на большой посылке «Бог есть совершенное
существо», которая вообще не является суждением, поскольку пре-
дикатом здесь выступает само «сущее».
Таким образом, вопрос о том, являются ли «сущее» и «единое»
сущностями, отмечаемый самим Аристотелем как «самый трудный
и недоуменный вопрос», решается только так, что ни «сущее», ни
«единое» не являются сущностями: «Ни единое, ни сущее не мо-
жет быть сущностью вещей»13. Сущностью является не «сущее», не
«единое», взятые сами по себе, как чистые сущности, а само сущее
как единое, т.е. сама существующая вещь в единстве своих вещ-
ных проявлений. Субстантивация «сущего» и «единого», т. е. наде-
ление их характеристиками самостоятельно существующих сущно-
стей, неизбежно приводит к тому, что «сущее» обращается в род, а
единое — в общее, следствием чего и выступает уже известная нам
апория бытия как рода. Род как общее есть отчужденная характе-
ристика бытия как единого. Поэтому именно констатация апории
бытия как рода выносит окончательный приговор платоновской эй-
детике и значит для критики теории эйдосов несравненно больше,
чем повторение известных уже Платону аргументов этой крити-
ки: бесполезность удвоения мира, поскольку «и здесь, в мире чув-
ственно воспринимаемого, и там, в мире идей, сущность означает
одно и то же»; невозможность того, «чтобы отдельно друг от дру-
га существовали сущность и то, сущность чего она есть»; аргумент
«третьего человека», указующий на самопроизвольное «умножение
сущностей», вследствие чего эйдетическое единство превращается
в дурную бесконечность. Простое повторение этих аргументов не
дает ничего, пока остается не выявленной сама предпосылка эйде-
тики — понимание единства бытия как единства рода.
Здесь мы оказываемся, однако, перед следующей фундамен-
тальной трудностью, от решения которой зависит возможность на-
уки о сущем как сущем и которую Аристотель довольно ясно видит
и осознает. Как уже было сказано, если бытие не род, то общее — не
сущность. «Кажется невозможным, — говорит Аристотель, — чтобы
что-либо, обозначаемое как общее, было сущностью»14. Сущностью
в этом смысле может быть только сама вещь как «нечто одно и
36
определенное нечто»15. Главный аргумент Аристотеля, свидетель-
ствующий, что общее не является сущностью, таков: сущность ве-
щи принадлежит только самой вещи, подобно тому как сущностью
розы является сама роза как «нечто одно», в единстве своих при-
знаков, тогда как общее сказывается о многих вещах. Если бы об-
щее было сущностью, спрашивает Аристотель, то сущностью чего
оно бы тогда было? Либо сущностью многих вещей, либо сущно-
стью одной вещи. «Но быть сущностью всех (вещей. — Р. Л.) оно
не может», поскольку сущность есть сама эта вещь, единство кото-
рой коренится в ее индивидуальности; помимо этого, такое пони-
мание сущности вовлекает нас в апорию бытия как рода. «А если
оно (общее. — Р. Л.) будет сущностью одной (вещи. — Р. //.), то и все
остальное будет этой вещью»16. В другом месте Аристотель пояс-
няет эту мысль следующим образом: «Если же то, что сказывается
как свойственное всем единичным, признать определенным нечто
и чем-то единым, то Сократ будет многими живыми существами —
и он сам, и "человек", и "живое существо", раз каждый из них озна-
чает определенное нечто и что-то единое»17. Можно охарактеризо-
вать данный аргумент как онтологический коллапс общего: если бы
общее было сущностью, то оно тут же «свернулось» бы в опреде-
ленную единичную вещь. Поэтому-то и бесполезно постулировать
отдельный от вещей мир эйдосов, поскольку «и здесь, в мире чув-
ственно воспринимаемого, и там, в мире идей, сущность означает
одно и то же»18.
Именно здесь и возникает та фундаментальная трудность, с ко-
торой сталкивается Аристотель: «Если ничего не существует поми-
мо единичных вещей, — а таких вещей бесчисленное множество,—
то как возможно достичь знания об этом бесчисленном множестве?
Ведь мы познаем все вещи постольку, поскольку у них имеется что-
то единое и тождественное и поскольку им присуще общее»19. Дру-
гими словами, если никакое общее не является сущностью, то как
в таком случае возможна единая наука о сущностях? Это пробле-
ма, касающаяся статуса тождественного и общего. Если бытие не
является родом и в силу этого не есть тождество, то каково тогда
бытие тождественного?
Итак, поскольку общее не существует, то невозможна никакая
наука о сущем как сущем. Ведь всякая наука представляет собой
знание об общем, а не об индивидуальном. Наука о сущем как та-
ковом, будь она возможна, исследовала бы в таком случае то, что
37
является общим для всех вещей. «Таким образом, если начала суть
нечто общее, то следуют именно эти выводы; если же они не общее,
а имеют природу единичного, то они не будут предметом необхо-
димого знания, ибо необходимое знание о чем бы то ни было есть
знание общего. Поэтому такого рода началам должны будут пред-
шествовать другие начала — сказываемые как общее, если только
должна существовать наука о началах»20. Мы попадаем здесь в
ситуацию парадокса; общее тем более необходимо, чем менее оно
возможно. Тем самым мы поставлены перед трудной задачей по-
нимания того, как отдельная вещь способна выражать собой об-
щее, оставаясь при этом именно этой вот индивидуальной вещью.
Вопрос, следовательно, ставится так: возможно ли и каким обра-
зом признать онтологический статус общего, не попадая при этом
в апории платоновской эйдетики? Вся метафизика Аристотеля раз-
вертывается в пространстве этого вопроса.
Прежде всего, мы должны выяснить онтологические основа-
ния платоновской эйдетики, а необходимым условием этого явля-
ется внимательное всматривание в исходный вопрос метафизики:
τι το ον -- что есть сущее? При этом необходимо обратить внимание
на примечательную двусмысленность этого вопроса, коренящую-
ся в естественной омонимии существительного το ον — сущее, пред-
ставляющего собой субстантивированное причастие глагола είναι —■
быть. Не указывает ли эта омонимия на то, что в основе суще-
го как состояния лежит сущее как действие? В таком случае про-
блема онтологического статуса общего приобретает совсем другой
смысл. «Итак, если исходить из этих соображений, — говорит Ари-
стотель, — то очевидно, что ничто присущее как общее не есть сущ-
ность и что все, что одинаково сказывается о многом, означает
не "вот это", а "такое-то". Иначе получается много нелепостей, и
в том числе "третий человек"» (Метафизика Ζ, 13, 1039а). Общее
есть «такое-то» вещи, тогда как сама вещь представляет собой «вот
это». Другими словами, то, что есть вещь, — ее «такое-то», не сов-
падает с самой, вот этой вот, вещью: то, что есть вещь, не есть то,
что она есть. Вещь, как именно эта вот вещь, представляет собой
определенное состояние, то самое устойчивое пребывание, которое
Аристотель и фиксирует при помощи термина ουςία — сущность.
Сущность вещи есть сущее как состояние, благодаря которому и
сохраняется единство сущего как действия. Поэтому, говоря о ком-
либо, что он — благо, мы должны при этом понимать, что благо
38
как таковое не есть сущность. Сущностью является то самое «вот
это», которое и проявляет себя как благое. Благость оказывается
тем самым не сущностью, а действием сущности. Проблема общего
возникает в том случае, если мы упускаем из виду различие суще-
го как сущности и сущего как действия. Платоновская эйдетика,
определяющая всякое сущее в статике его отношения к эйдосу, ока-
зывается, таким образом, крайним случаем этой неразличенности.
Платоновский эйдос возникает в том случае, если то, что являет-
ся действием, мыслится нами как состояние. Онтологическим ос-
нованием эйдетики является, таким образом, субстантивирование
бытия (είναι) в сущность (ουσία). Поскольку из виду упускается та
естественная омонимия сущего, в которой бытие ускользает в факт,
а действие прячется за состоянием, постольку единственным спо-
собом мыслить сущее становится синонимия, растворяющая сущее
в общем и полагающая бытие вещи в ее определении. В свете это-
го различия состояния и действия исходный вопрос Аристотеля
что есть сущее как сущее — приобретает иную, аутентичную форму.
Поскольку в основании сущего как состояния находится сущее как
действие, то вопрос может ставиться только таким образом: в силу
чего сущее стало быть?
Глава III
КОЛЛИЗИЯ СИНОНИМИИ И ОМОНИМИИ СУЩЕГО.
СУЩЕЕ КАК ΛΕΓΕΤΑΙ ΠΟΛΛΑΧΩΣ
Предыдущий анализ вплотную подвел нас к аристотелевскому
пониманию сущности. Что такое сущность сущего и почему имен-
но на сущность должно опираться всякое философское выяснение
природы сущего? В самом первоначальном, исходном смысле сущ-
ностью является то устойчивое, непреходящее ядро вещи, которое
позволяет ей быть единой во всей множественности и текучести
своих признаков, то, благодаря чему вещь присутствует в мире как
именно эта, а не другая вещь. Всякая вещь омывается потоком вре-
мени, который, с одной стороны, относит ее в прошлое, к тому, чем
она была, а с другой стороны, очерчивает горизонт будущего —то-
го, чем она будет. Сущность — это непреходящее «есть», которое на-
ходится между «было» и «будет» как нерастворимый в потоке вре-
мени кристалл вечности. Сущностью является то самое настоящее,
в силу которого вещь есть единое. Поэтому краеугольным камнем
аристотелевского понимания сущности является тезис: сущность и
сущее есть одно.
Тем самым простое указание на сущность уже вовлекает в круг
нашего внимания «бытие» и «единое». Сущность есть то, что позво-
ляет сущему быть единым. Собственно говоря, «быть» не означает
ничего иного, как «быть единым». Именно поэтому бытие и еди-
ное—взаимообратимы; единое есть бытие, а бытие— единое. «Су-
щее и единое, — говорит Аристотель, — одно и то же, и природа у
них одна» (τό ον και το εν ταύτα και μια φύσις τώ άκολουΰειν άλλήλοις)1.
Стало быть, наше понимание бытия прямо определяется тем, како-
во наше понимание единого. Поэтому нам следует поставить перед
40
собой следующий вопрос: что означает то самое «одно», в котором
едины сущность и сущее? В этом самом «одном», которое единит
сущность и сущее, заключается вся мистерия метафизики.
Итак, какова природа «единого»? Может ли смысл «единого»
быть сведен к тождеству? Прежде всего, если единство сущности и
сущего мыслится нами как единство тождества, то бытие обраща-
ется в род всего существующего, поскольку именно род выступа-
ет основанием тождества: «Называется родом то, благодаря чему
различающиеся между собой вещи называются тождественными по
сущности»2. Если же единое есть тождество, то бытие вещи полага-
ется в ее родовой определенности, т. е. в том, что есть данная вещь.
Таким образом, именно то, что есть данная вещь, принимает на себя
значение ее сущности; так, Сократ может превратиться из несведу-
щего юноши в мудреца, постареть, наконец погибнуть по пригово-
ру афинского суда, но его родовая сущность — человек — остается
при этом неизменной. Здесь мы касаемся глубочайшей сути пла-
тонизма, которая заключается в своеобразном двойном отождеств-
лении: сущности — с родовой определенностью вещи, и бытия с
сущностью. Сущность как бытие и есть платоновский эйдос, суще-
ствующий помимо подверженной изменениям и разрушениям вещи.
Поэтому в перспективе аристотелевской критики учения об эйдо-
сах единое не есть тождество. Единым можно назвать только са-
му вещь, существующую во всей ее чувственной конкретности. В
этом смысле «человек» — не сущность Сократа; сущностью являет-
ся только сам Сократ, как уникальный, абсолютно неповторимый
персонаж этого мира.
Таким образом, сущность, в аристотелевском ее понимании, есть
то самое единое, что конституирует бытие вещи как именно этой ве-
щи. Сущность есть сама вещь как единое, поскольку быть означает
быть единым. Бытие и единое — то, что в Средние века стало имено-
ваться трансценденталиями, — образуют базисные характеристики
сущности. Однако это, сугубо аристотелевское, понимание сущно-
сти сталкивается с аристотелевским же тезисом: «Ни единое, ни
сущее не могут быть сущностью вещей»3. Мы попадаем тем самым
в ситуацию антиномического сопряжения двух противоположных
тезисов: с одной стороны, сущностью может быть только само су-
щее как единое; с другой стороны, ни сущее, ни единое не могут
быть сущностью, поскольку в этом случае мы неизбежно возвра-
щаемся на почву платоновской эйдетики. Своеобразие и глубина
41
аристотелевской постановки вопроса о бытии могут быть осозна-
ны нами только в том случае, если мы удерживаем в единстве два
противоположных полюса этой антиномии.
По существу, здесь содержится то, что можно было бы назвать
радикальной деструкцией платонизма, в основании которого на-
ходится порочный круг отождествления: то, что есть вещь, отож-
дествляется с тем, что она есть, так что результатом такого отож-
дествления выступает сущность как бытие того, что существует.
Аристотелевская деструкция платонизма заключается поэтому в
своеобразном разотождествлеиии бытия и сущности, которое мо-
жет быть представлено следующим образом: не существует тожде-
ства между тем, что есть вещь, и тем, что она есть; поэтому ро-
довая определенность вещи не имеет в себе ни малейшего признака
бытия. В этом смысле никакой «человек» не существует, а суще-
ствует лишь Сократ, Каллий или Кориск; «человек», как абстракт-
ное единство, не есть сущность. Сущее как единое есть сущность;
однако сущее и единое сущностями не являются, ибо как только
сами по себе сущее и единое наделяются чертами сущности, так
сущее обращается в род, а единое -- в тождество. Аристотель ука-
зывает на это таким аргументом: «Также и то, что кажется легким
делом, — доказать, что все едино, этим способом (т.е. при помощи
эйдосов. — Р. Л.) не удается, ибо через отвлечение получается не то,
что все едино, а то, что есть некоторое само-по-себе-единое. если да-
же принять все предпосылки. Да и этого самого-по-себе-единого не
получится, если не согласиться, что общее есть род; а это в неко-
торых случаях невозможно»4. Единое— это трансцендентная опре-
деленность сущего, и всякое отчуждение этой трансцендентности
в виде «самого-по-себе-единого» растворяет единое в общем. Пла-
тоновский эйдос — это единое как самостоятельно существующая
сущность.
Таким образом, отмеченная нами антиномия является формой
продуктивного различия бытия и сущего и может теперь быть вы-
ражена следующим образом: сущность и сущее есть одно, однако
поскольку это самое «одно» не является единством тождества, то
сущность не есть бытие сущего. Вопрос о сущности всегда отсылает
нас к тому, что есть вещь. Однако вопрос о бытии вещи — это во-
прос, почему вещь стала быть, т. е. вопрос о предпосылке ее «чтой-
ности». Очевидно, что эти вопросы имеют различную направлен-
ность. Другими словами, если сущность — это то, что есть данная
42
вещь, то вопрос о бытии должен выяснить, в силу чего есть это са-
мое «что». Непроясненность фундаментального различия этих двух
вопросов — вопроса, что есть вещь, и вопроса, что она есть, — при-
водит к тому, что бытие сущего сливается с его «чтойностью», след-
ствием чего оказывается то, что бытие вещи полагается в том, что
она есть. Бытие вещи, представленное как ее «чтойность», и есть
та эйдетическая общность, в причастии которой существует сама
вещь· Поэтому, отвергнув ложное отождествление бытия с сущно-
стью, мы оказываемся в совершено иной онтологической перспекти-
ве. Теперь не сущность есть бытие сущего, как полагают платоники,
а сущее есть определенный способ бытия сущности. Мир эйдосов
оказывается всего лишь призрачным отражением земного мира ве-
щей. Таким образом, в аристотелевской трактовке сущность наде-
лена своего рода двойным смыслом: различая бытие и сущее, она
указываем тем самым на бытие сущего. Другими словами, сущность
есть само сущее, каковым оно явлено в свете того, что именуется
бытием сущего, но именно поэтому сущность и не есть бытие суще-
го. Поэтому только через сущность распахивается тот горизонт су-
щего, который является тем смысловым окоемом, в котором сущее
явлено как это сущее. Этот горизонт сущего сам Платон имено-
вал «идеей». Однако понимание бытия как рода — предпосылка, не
проясненная самим Платоном, как раз и выступает причиной того,
почему, несмотря на критику «Софиста» и «Парменида», идея так
и не могла быть четко отделена от понятия. Сущность выступает
тем самым как феноменологический индекс сущего — как фактич-
ность вещи именно этой вот вещи.
Таким образом, в основании платоновской эйдетики находится
уже отмеченная нами естественная омонимия сущего, которая неза-
метно, но от того более властно, склоняет нас к отождествлению
бытия и сущего, так что бытие оказывается в буквальном смысле
слова образом сущего, его эйдосом. Правильная постановка вопро-
са о бытии должна поэтому различить бытие и сущее и дать тем
самым возможность мыслить сущее в горизонте его бытия. Мыс-
лить сущее — значит поместить его в окоем смысла, т. е. вывести его
на простор бытия. Однако предметное истолкование бытия можно
преодолеть только в том случае, если сам предмет как сущее «это»
берется в онтологической перспективе, т. е. оказывается в «подве-
се» метафизического вопроса «что есть это?» Сущее, взятое под
знаком вопроса о бытии сущего, и есть не что иное, как сущность
43
сущего. Таким образом, сущность — это предметная инверсия во-
проса о бытии, когда бытие (το είναι) становится предметом (το ον)
обращенного к нем} вопроса τι εστί — что есть это? Поэтому и невоз-
можно прийти к бытию сущего иначе как через само сущее, через
конкретное это, существующее во всей его чувственной наглядно-
сти. Однако и само сущее должно быть представлено в той метафи-
зической позиции, которая выявляет его сущность. Таким образом,
сущность появляется в результате прояснения и устранения омони-
мии «сущего», склоняющей нас к тому, чтобы мыслить отношение
бытия и сущего как отношение «подобия». Сущность оказывается
поэтому тем основанием, отсутствие которого неизбежно приводит
к смешению предметного и онтологического ракурсов, а в итоге — к
представлению бытия но образу сущего. Аристотелевская критика
платоновской эйдетики как раз и является понимающим различе-
нием (κρινειν λόγω) бытия и сущего.
В чем же состоит бытие сущего, если мир платоновских эйдосов
оказался дискредитирован как незаконное и само противоречивое
удвоение мира вещей? Ответ на этот вопрос должен быть получен
в ходе дальнейшего исследования. Пока же отметим, что поскольку
сущность не есть бытие сущего, то она является тем основанием,
в опоре на которое мы только и можем надлежащим образом по-
ставить вопрос о бытии; только в опоре на сущность сущее может
быть опрошено в его бытии. Данный опрос и выявляет перед на-
ми ту принципиальную множественность способов бытийствования
сущего (λέγεται πολλαχώς), которую нам предстоит теперь рассмот-
реть.
Поскольку бытие — не род, то и сущность вещи не замыкается
в ее родовой, «чтойной» определенности. Поэтому то «одно», что
единит сущность и существование, не может быть единством си-
нонимии, в котором индивидуальные черты вещи стираются в аб-
страктной общности рода. Так, в понятии «человек» совершенно не
различимо то, что присуще Сократу именно как Сократу. Синони-
мия рассматривается Аристотелем как единство имени и определе-
ния, как имя, которое определяет и определение, которое именует.
«Соименными (συνώνυμα — однозначными) называются предметы,
у которых и имя общее, и понятие одно и то же, как, например,
"создание", это — и человек и бык. В самом деле, и человек и бык
называются общим именем ζώον ("создание"), и понятие здесь одно
и то же»5. Синонимия как единство рода включает в себя, таким
44
образом, отношения однозначности, которые могут быть выстро-
ены только внутри определенного рода. Так, «человек» и «бык»
могут быть объединены отношением синонимии через включение
их в общий род «животное», которое является как общим именем,
так и понятием, по отношению к которому человек и бык высту-
пают в качестве его видовых определенностей. Отношение внутри
рода строятся по принципу родовидовой подчиненности.
Очевидно, что отношение синонимии, играющее исключитель-
но важную роль в практике профессиональной и обиходной речи,
не имеет силы в том случае, если речь идет о бытии сущего. Так,
элементарное высказывание «роза есть цветок» дает нам образец
синонимии, которая включает определенный предмет в его родовую
определенность. Однако синонимия обнаруживает свою проблема-
тичность, как только я обращаю внимание на то самое «есть», в
силу которого роза есть именно эта роза, и как эта роза может
быть выражена определением «цветок». Оказывается, что то самое
«есть», которое является основой единства синонимии, само не мо-
жет быть сведено к единству синонимии, причем не может именно
потому, что никакой «цветок», так же как никакой «человек», не
есть, не существует. Существует лишь эта роза, которую я могу
держать в руках и которая является сущностью в первичном и соб-
ственном: смысле этого слова; роза, как определенное сущее, есть
своя собственная сущность, и только в этом смысле она есть. Бы-
тие проходит, таким образом, сквозь синонимию, как вода через
решето, и выражается множественностью значений того, что есть
сущее. Всякое сущее представлено множественностью значений то-
го, что оно есть, которая принципиально не может быть свернута
в единство рода.
Чем же является вещь в ее бытии? Сущность, как мы уже зна-
ем, предстает в своем основном значении как фактичность (τοδε τι)
этой вот вещи и выражает собой первичный факт бытия, чистое
«это есть... » Бытие здесь выражено самим фактом наличия этого
сущего; оно равнозначно данному фактическому существованию.
Поэтому исходный вопрос метафизики τι το ον — что есть сущее? —
есть вопрос о сущности сущего, а любой ответ на этот вопрос пред-
ставляет собой инверсию самого вопроса в сущностное полагание —
«это есть... » Здесь-то мы и сталкиваемся с принципиальной много-
значностью бытия, в которой выражается множественность спосо-
бов бытийствования сущего. Нам необходимо только удержать «это
45
есть... » в его феноменальной открытости, не позволяя ему тот-
час замкнуться в абстрактном определении, растворив свое «есть»
в предикате и оставив вместо себя безликий субъект. Только ес-
ли мы удерживаем вещь в ее феноменальной оче-видности, в ее
алетейе, не подменив эту очевидность умо-зрением, вещь предста-
ет в необозримом спектре явлений того, что она есть. Именно в
силу множественности проявлений своего бытия вещь не способна
застыть в тождестве. Тождество определения — это мертвая мас-
ка нещи. Вещь такова, какова она есть, никогда не бывает тож-
дественной себе. Так, роза, которую я держу в руках, ни в один
момент времени не совпадает с собой; другими словами, в каждый
момент времени роза видится мне иначе, чем в предыдущий, явля-
ясь в окружении своих прошлых и будущих состояний.
В каком же смысле, говоря о некоем сущем, мы употребля-
ем глагол «быть»? Простой пример, используемый самим Аристо-
телем, показывает неизбежную «дисперсию» бытия в нашей ре-
чи о сущем. Так, выражая сущностное полагание «это (есть) Со-
крат» высказыванием «Сократ есть... », мы сталкиваемся с мно-
гозначностью значений того, что есть Сократ. Разумеется, мы мо-
жем построить элементарное субъектно-предикативное высказыва-
ние «Сократ есть человек». Можем ли мы, однако, сказать, что
понятие «человек» есть сущность Сократа? Очевидно, нет: свой-
ство, которое является сущностью некоего сущего, есть само это
сущее. Поэтому если бы «человек» был сущностью Сократа, то мы
неизбежно столкнулись бы с тем парадоксом, что и высказывание
«человек есть Сократ» должно быть признано нами как истин-
ное высказывание. Стало быть, уже в элементарном высказывании
«Сократ есть человек» таится та изначальная неоднозначность бы-
тия, которая выражается на уровне суждения формальным пара-
доксом: субъект есть предикат; однако предикат не есть субъект.
Поэтому сказать «Сократ есть человек» —не значит выразить то,
что есть Сократ. «Человек» есть в этом смысле не бытие Сократа,
а всего лишь неопределенная возможность быть Сократом: бытие
Сократа не есть его реальный предикат. Тем самым в вопросе «что
есть Сократ?» нам открывается необозримая множественность спо-
собов бытийствования Сократа, которая не может быть сведена к
понятию и объята единством рода. Данная множественность может
выражаться серией различных высказываний: «Сократ (есть) муд-
рый»; «Сократ (есть) бледен»; «Сократ (есть) благородный»; «Со-
46
крат (есть) сидящий» и т.д. Очевидно, что высказывания такого
рода являются индикациями бытия Сократа, поскольку в каждом
таком высказывании содержится глагол «быть». Вместе с тем каж-
дое высказывание заключает в себе определенное значение того,
что есть Сократ. Бытие Сократа выражается тем самым дискрет-
ной серией значений. Возможно ли свести эту серию значений к
какой-либо форме единства?
Здесь Аристотель оказывается перед чрезвычайно сложной про-
блемой. Истолкование единства значений «есть» как единства си-
нонимии невозможно по той причине, что, отождествляя бытие и
сущность, синонимия имплицитно основывается на понимании бы-
тия как рода, которое и выступает в качестве онтологической пред-
посылки теории эйдосов. К какой же форме единства следует от-
нести в таком случае единство бытия? Помимо единства по сущно-
сти, единства по определению, имеется только единство по имени.
В качестве альтернативы синонимии (унивокальности) выступает
только омонимия (эквивокальность). «Одноименными (ομώνυμα),--
говорит Аристотель, — называются те предметы, у которых только
имя общее, а соответствующее этому имени понятие-определение
(их сущности) (λόγος της ουσίας) — различное, как, Е1апример, сло-
во ζώον ("создание") означает и человека и картину»6. Таким обра-
зом, в противоположность синонимии омонимия дает примеры чи-
сто внешнего сочетания слова и вещи; так, слово «лук» одинаково
относится как к определенному виду растений, так и к боевому ору-
жию. Естественно, что между луком-растением и луком-оружием
нет никакого единства, помимо единства имени. Омонимия пред-
ставляет собой форму исключительно номинального, а не реально-
го единства. В таком случае почему бы не признать, что бытие —■ не
более чем имя, используя которое человек, чисто внешним, поверх-
ностным образом, объединяет различные по своей сущности вещи?
Казалось бы, такое решение напрашивается само собой. В самом
деле, если единство сущности и сущего есть единство уникальной
этой вот вещи, если каждая вещь индивидуальна (прежде всего, в
онтологическом смысле невозможности отделения сущности от са-
мой вещи), то не может быть никакого единства сущностей, помимо
номинального единства.
Однако такой исход вопроса о множественности значений бы-
тия оказывается еще более губительным, чем признание за бытием
единства рода, поскольку он означает невозможность никакой иной
47
речи о бытии, кроме речи эквивокальной, т. е. софистической. Вся-
кое софистическое рассуждение, как неоднократно показывает сам
Аристотель, чаще всего основывается на скрытой или явной омо-
нимии, на подмене понятия именем. Так, в «Софистических опро-
вержениях» Аристотель рассматривает три формы паралогизма, в
основании которых лежит омонимия значений: когда высказывание
или слово имеют несколько значений; в использовании многознач-
ности; когда слова, образуя композицию, имеют несколько значе-
ний, а в отдельности — по одному7. Признание за бытием единства
рода означало бы, таким образом, капитуляцию философии и за-
мену ее софистической риторикой.
Мысль Аристотеля поистине попадает здесь в «непроходимое
место», каковым оказывается омонимия сущего. Получается, что
омонимия является единственной возможностью избежать онтоло-
гических импликаций платоновской теории эйдосов, но в этом слу-
чае оказывается уничтоженной всякая возможность науки о сущем
как сущем. Однако и синонимия бытия не выводит нас из топей
омонимии. Как мы уже видели, сама синонимия бытия чревата сле-
дующим парадоксом: признание за бытием единства рода в своем
логическом пределе приводит к чистой омонимии сущего. В самом
деле, как уже говорилось, бытие вещи конституировано ее отли-
чием от того рода, в который она входит как его вид; содержание
вида не может быть содержанием рода. Поэтому синонимия бытия,
последовательно выдержанная и доведенная до своего логического
завершения, означала бы следующее: если бытие есть род, то охва-
тываемые родом вещи должны быть тождественны в своем бытии,
поскольку род — это основание тождества. Получается, что «чело-
век» есть то же самое, что и «бык» или «растение», которые, как и
«человек», входят в род «живое существо». Избежать этого пара-
докса мы можем только при помощи такого аргумента: «человек»
не есть «бык» или «растение», поскольку понятие «живое суще-
ство» является всего лишь именем. Таким образом, единственным
выходом из парадокса синонимии сущего оказывается все та же
омонимия сущего. Вот почему философия не может избавиться от
софистики, какие бы усилия она к этому ни прилагала. Софист
оказывается ничем иным, как alter ego самого философа, его те-
нью. Платон не может одолеть софиста именно потому, что софист
находится в нем самом, как его собственный протагонист.
Таким образом, Аристотель должен отыскать третий путь, поз-
48
воляющий пройти межу Сциллой унивокации (синонимии) и Ха-
рибдой эквивокации (омонимии), сконструировав такой тип отно-
шения, который нельзя отнести ни к синонимии, ни к омонимии. В
четвертой книге «Метафизики» он делает набросок такого отноше-
ния.
Здесь необходимо предоставить слово самому Аристотелю: «О
сущем говорится, правда, в различных значениях, но всегда по от-
ношению к чему-τα одному, к одному естеству и не из-за одинако-
вого имени, а так, как все здоровое, например, относится к здоро-
вью — или потому, что содействует ему, или потому, что оно при-
знак его, или же потому, что оно способно воспринять его; и точ-
но так же врачебное но отношению к врачебному искусству (одно
называется так потому, что владеет этим искусством, другое —по-
тому, что имеет способность к нему, третье — потому, что оно его
применение), и мы можем привести и другие случаи подобного же
словоупотребления. Так вот, таким же точно образом и о сущем
говорится в различных значениях, но всякий раз по отношению к
одному началу; одно называется сущим потому, что оно сущность,
другое — потому, что оно состояние сущности, третье — потому, что
оно путь к сущности, или уничтожение и лишенность ее, или свой-
ство ее, или то, что производит и порождает сущность и находя-
щееся в каком-то отношении к ней; или оно отрицание чего-то из
этого или отрицание самой сущности, почему мы и говорим, что
оно есть не-сущее. И подобно тому как все здоровое исследуется
одной наукой, точно так же обстоит дело и в остальных случаях.
Ибо одна наука должна исследовать не только то, что сказывается
о принадлежащем к одному роду, но и то, что сказывается о том,
что находится в каком то отношении к одному естеству: ведь и это
в некотором смысле сказывается о принадлежащем к одному роду.
Поэтому ясно, что сущее как таковое должно исследоваться одной
наукой. А наука всюду исследует главным образом первое — то, от
чего зависит остальное и через это остальное получает свое на-
звание. Следовательно, если первое —сущность, то философ, надо
полагать, должен знать начала и причины сущностей»8. Мы взяли
это рассуждение Аристотеля целиком потому, что в нем имеется
определенная совокупность смыслов, которые нам необходимо вы-
явить в ходе тщательного анализа.
Мы можем выделить в данном рассуждении несколько пози-
ций. Во-первых, сущее раскрывается в различных значениях, при-
49
чем необходимо четко различать те значения, которые мы исполь-
зуем, когда говорим о сущем, что оно есть. Софистический дис-
курс характеризуется именно неразличенностью значений «есть».
Во-вторых, множественность значений сущего относится к одному
естеству (φύσις). Принадлежность естеству не есть принадлежность
в силу общего имени и, стало быть, не является эквивокальной.
Однако это и не синонимия, поскольку фюсис— не род. В-третьих,
наша речь о сущем интенционалыю центрирована в том смысле,
что различные значения сущего относятся к одному началу (αρχή),
каковым выступает сущность. Так, в самом конце «Метафизики Ζ»
Аристотель говорит, что поскольку «некоторые вещи не сущности,
а сущности — это те, которые образовались согласно своей природе
и благодаря природе, то сущностью оказывается это естество, кото-
рое есть не элемент, а начало»9. Тем самым сущность есть первое
значение фюсиса (естества) сущего. Остальные значения группи-
руются вокруг сущности, так что каждое из них представляет со-
бой определенный модус отношения к сущности (αναφαρειν κρός τό
πρώτον) именно как к первому значению естества. О сущем гово-
рится в различных значениях, однако эти значения собираются в
фокусе сущности. Так, о здоровье мы говорим в значении полезно-
сти, в значении признака или в значении способности. Все эти три
значения относятся к здоровью как к сущности, а вовсе не как виды
к своему роду. В-четвертых, наука должна исследовать не только
то, что относится к одному роду, но и то, что относится к одному
естеству, поскольку естество «в некотором смысле сказывается о
принадлежащем к одному роду». Получается, что фюсис находит-
ся в основании рода, так что родовая определенность выступает
одним из значений естества — фюсиса.
Мы можем следующим образом резюмировать эти четыре по-
зиции: онтологическая структура сущего определяется отношени-
ем естества (φύσις) и сущности (ουςία) как устойчивого состояния
фюсиса. Поскольку сущность является первым значением фюсиса,
то именно она и есть то основание, на которое должна опирать-
ся всякая рассуждающая и обозначающая речь. Выяснение приро-
ды сущего возможно только через его сущность. В противном слу-
чае речь лишается реального основания, соскальзывая в софисти-
ку. Софистический дискурс представляет собой некую имитацию
логоса, речь, лишенную сути, т. е. чистую омонимию. Сущность яв-
ляется поэтому тем основанием речи о сущем, отсутствие которого
50
приводит к тому, что многозначность «есть» обращается в омони-
мию, а речь — в софистику; сущность есть главный онтологический
радикал сущего. Таким образом, Аристотель выстраивает своеоб-
разную онтологическую «горизонталь» — множественность значе-
ний бытия, в основании которой лежит общий онтологический ко-
эффициент—сущность. Бытие сущего раскрывается поэтому как
отношение к сущему, задаваемое множественностью способов его
бытийствования и определяемое сущностью как основанием это-
го отношения. Отношение, о котором идет речь,— это не плато-
новское отношение, задающее абстрактную гомологию «индивид —
вид— род», а некое отношение к сущности (προς εν λεγομενον), в
котором бытие сущего предстает как экспликация, как дискретная
картина значений того, что есть сущее. Так, Сократ есть мудрый,
рассуждающий, сидящий, мужественный, благородный... Все эти
значения того, что есть Сократ, сохраняют свое единство именно в
том, что они относятся к некоему экзистенциальному ядру — сущ-
ности по имени Сократ. Вместе с тем вся эта необозримая сово-
купность значений бытия Сократа не может быть сведена в родо-
вое единство, в рамках которого она преобразовалась бы в систему
пропорциональных отношений. Сущность есть единство сущего в
множественности способов его бытия.
Тем самым открывается тот «третий путь», который позволяет
избежать дилеммы синонимии и омонимии, обозначаемый Аристо-
телем как προς εν λεγομενον — как отношение к тому, что является
единящим основанием речи о сущем. Действительно, тип отноше-
ния, описываемый Аристотелем в самом начале «Метафизики Г»,
не является омонимией, поскольку, в отличие or омонимии, он опи-
рается на сущность как на реальное, а не на номинальное основа-
ние. С другой стороны, он не является и синонимией, поскольку
множественность значений того, что есть сущее, невозможно со-
брать в формальное единство и свести к понятийной определенно-
сти. Подобно тому, как полезность, признак здоровья, его возмож-
ность не являются видами рода «здоровье», так и рассуждающий,
мужественный, благородный Сократ не объемлются его сущностью
как родом.
Мы должны теперь поставить перед собой такой вопрос: о чем
говорит сама многозначность «есть» и почему эту многозначность
невозможно свести к родовой определенности? Обратимся снова
к примеру с Сократом. Что происходит, когда мы говорим, что
51
Сократ есть мужественный, сидящий, рассуждающий, благород-
ный?.. Мы видим, что Сократ окружен в таких высказываниях сфе-
рой своих актуальных и виртуальных проявлений; сущее проявляет
себя исключительно в своих'Действиях. Такие высказывания ука-
зывают поэтому не на то, что есть Сократ, а на то, что он есть;
другими словами, здесь говорится о том, каким образом проявля-
ет себя природа Сократа, — его фюсис. Действительность Сократа,
отличимая от абстрактной возможности, которая выражается по-
нятием «человек», есть совокупность его действий, которую невоз-
можно свести в единство рода. Поэтому мы можем теперь следую-
щим образом выразить онтологическое различие бытия и сущности:
множественность значений бытия сущего задается его действиями,
в которых проявляется его природа и которые, в силу того что
они —действия, не могут быть сведены к состоянию сущего — к его
сущности10.
Изначальная множественность «есть» является, таким образом,
поверхностным выражением той глубинной естественной омонимии
суще1Ю, которая обозначает сугиествительным το ον как само су-
щее, так и тот неопредмечиваемый акт существования, именуемый
бытием сущего. Именно с этой омонимией связан риск метафи-
зического вонрошания — риск понимания бытия по образу cyiuero.
Эта омонимия является «естественной» постольку, поскольку есте-
ство сущего проявляется в ускользании его от какой бы то ни было
предметной определенности; о том, что природа любит скрывать-
ся (φύσις κρύρτεσθαι φιλει), говорил еще Гераклит. Однако естество,
фюсис, ускользает от предметного определения вовсе не тем, что
растворяется в абстрактной неопределимости всеобщего; напротив,
чаще всего оно ускользает в видимость предметного определения.
Следствием такого ускользания и выступает то субстантивирова-
ние бытия в сущность, которое полагает бытие вещи в ее «чтойной»
определенности, являясь тем самым онтологической предпосылкой
платоновской эйдетики. Синонимия бытия, свертываюгцая бытие в
единство рода, оказывается, таким образом, следствием непрояс-
ненной естественной омонимии cyiuero. Критика Аристотелем тео-
рии эйдосов исходит поэтому из той посылки, что эйдос представ-
ляет собой ложную синонимию бытия и сущности. «И вот, — резю-
мирует Аристотель позицию Платона, —это другое из сущего он
назвал идеями, а все чувственно воспринимаемое, говорил он, су-
ществует помимо них и именуется сообразно с ними, ибо через при-
52
частность эйдосам существует все множество одноименных (курсив
мой. — Р- Л.) с ними вещей»11.
Однако то, что было названо нами естественной омонимией су-
щего, является, в свою очередь, отражением онтологической струк-
туры сущего как динамического сопряжения фюсиса и сущности,
действия и состояния, которые невозможно разъединить и пред-
ставить по отдельности. Фюсис без сущности — это гераклитовский
поток, в который нельзя вступить дважды; однако сущность без
фюсиса — это мертвая самотождественность вещи. Только единство
фюсиса и сущности дает, таким образом, живой лик вещи. Сущ-
ность есть тем самым не что иное, как запечатленное действие; по
отношению к фюсису она выступает как результат, как нечто, чем
она стала быть. Однако действие всегда больше, чем результат. Так,
статуя Фидия есть нечто большее, чем это непосредственно выра-
жается ее обликом. Суть античного понимания искусства как «ми-
месиса» заключается поэтому вовсе не в подражании тем образцам,
которые мы находим в природе, а в подражании самой природе,
которая проявляется в действии. Цель искусства не в том, чтобы с
помощью определенных действий показать некий образец, а, напро-
тив, в том, чтобы посредством образца показать само действие —
природу. Произведение искусства в этом смысле всегда больше са-
мого себя. Таким образом, то, что есть вещь, выражается в упря-
мой и неуничтожимой избыточности по отношению к тому, что она
есть. Бытие — фюсис -- как бы «прорастает» сквозь твердую кору
сущности и выражается множественностью значений бытия сущ-
ности.
Вместе с тем поскольку сущность есть запечатленное действие,
то порядок познания оказывается в обратном отношении к поряд-
ку природы: началом познания может быть только то, что является
результатом согласно порядку природы. Статуя Фидия есть прояв-
ление его гения, но о гении Фидия можно судить только по его
произведению. Вопрос о том, что есть сущее, невозможно поста-
вить иначе, как в аспекте того, что оно есть. Опора на сущность
является необходимым условием доступа к бытию сущего. Любая
попытка подойти к бытию, минуя при этом сущность, приводит ли-
бо к софистической риторике, либо к поэтическим иносказаниям.
Аристотелевское προς εν λεγομενον как раз и подразумевает опо-
РУ на сущность как на то единое, благодаря которому вещь мо-
жет быть сказана. Сказать что-либо о фюсисе как таковом так же
53
невозможно, как невозможно дважды ступить в одну реку. Мы мо-
жем только опереться на сущность как на устойчивое состояние
фюсиса, его «усию». Однако платой за это становится ситуация не
«снимаемой» ни в каком высшем единстве множественности значе-
ний бытия: то, что есть сущее, окружено бесконечно многообраз-
ным спектром значений того, что оно есть. Бытие и сущее, фюсис
и сущность, действие и состояние, относятся друг к другу как гла-
гол и существительное. Божественный логос —это именно глагол,
а не существительное. Множественность значений бытия сущего
укоренена, таким образом, в нашей онтологической ситуации, в ко-
торой мы оказываемся перед необходимостью выражать существи-
тельными то, что можно выразить только глаголом: действие, рас-
сматриваемое сквозь призму состояния, рассыпается на множество
«состояний».
Тип отношения, описываемый Аристотелем в «Метафизике Г»,
можно квалифицировать как отношение естественной омонимии,
поскольку в основании его находится омонимия естества и сущ-
ности. От синонимии данное отношение отличается тем, что сущ-
ность, как референциальный центр значений бытия, не образует
единства рода: сущность здесь не род, а само сущее это. Вместе с
тем поскольку омонимия προς εν укоренена в самом естестве, по-
стольку она отличается от чистой омонимии, которая всегда имеет
не естественный, а сугубо конвенциальный характер. Однако имен-
но промежуточное положение προς εν само по себе таит возмож-
ности истолкования этого отношения либо в качестве «сильной»
омонимии, либо, напротив, в качестве «слабой» синонимии. Эта
двойственность προς εν отразилась и в размышлениях самого Ари-
стотеля, склонного в ряде текстов рассматривать многозначность
бытия как обычную омонимию. Можно так же видеть, что в тради-
ции античного аристотелизма отношение προς εν рассматривалось
либо как омонимия (Порфирий, Боэций), либо как разновидность
синонимии (Александр Афродизийский).
Возможно, что такое неустойчивое положение προς εν связано
с тем, что в самом этом типе отношения остается много неясного.
Прежде всего, не ясен в полной мере смысл отличия προς εν от си-
нонимии. Принадлежность к роду (κατ9 εν) и отношение к естеству
(προς εν) различаются Аристотелем самым решительным образом:
«Одна наука должна исследовать не только то, что сказывается о
принадлежащем к одному роду, но и то, что сказывается о том, что
54
находится в отношении к одному естеству: ведь и это в некотором
смысле сказывается о принадлежащем к одному роду». Вот здесь
и возникает довольно трудный вопрос: в каком же смысле то, что
сказывается в отношении к одному естеству, может сказываться и о
принадлежащем к одному роду? И как же принадлежность к роду
и отношение к естеству могут входить в одну науку о сущем как
сущем, если бытие не является родом? Это возможно только в том
случае, если отношение προς εν способно каким-то образом перехо-
дить в принадлежность к роду. Однако нам пока не ясно, каким
образом был бы возможен такой переход. Вместе с тем a priori су-
ществует необходимость такого перехода, поскольку в противном
случае мы должны будем признать, что суждения лишены какой-
либо онтологической значимости. Действительно, любое элементар-
ное суждение представляет собой включение вещи в род и опреде-
ление на основании ее видового отличия. Таким образом, общее,
выражаемое родом, является необходимым элементом суждения;
ни одно суждение невозможно построить исключительно из сингу-
лярностей, без участия общего. Поэтому, отрицая за синонимией
всякий онтологический статус, мы неизбежно лишаем тем самым
суждения их онтологического основания. Общее должно каким-то
образом присутствовать в сущем, иначе было бы невозможно ни-
какое суждение о сущем. Но каков в таком случае характер этого
присутствия? Что действительно происходит, когда мы выносим
суждение, когда, к примеру, мы говорим «Сократ есть человек»?
Прежде всего, всякое суждение такого рода обладает характе-
ром сущностной предикации. В отличие от προς εν, как отноше-
ния значений бытия сущего к сущности, здесь высказывается сама
сущность, причем формой такого высказывания выступает «чтой-
ность». Таким образом, значения бытия сущего получают опреде-
ленность через отношение к сущности, тогда как сама сущность
определяется через «чтойность». Высказывание «Сократ есть че-
ловек» является полаганием того, что есть Сократ, так что бы-
тие Сократа представлено здесь в модусе его «чтойпости». «Чтой-
ность» вещи есть то самое xatö εν, в котором выражается ее при-
надлежность к роду. Каков же онтологический смысл «чтойности»?
Другими словами, в каком смысле понятие «человек» есть бытие
Сократа? Мы уже видели, что «человек» не может быть быти-
ем Сократа в смысле рода. Однако если высказывание «Сократ
есть человек» принимается нами как действительное, а не исклю-
чительно номинальное высказывание, то родовая определенность
«человек» должна обладать характеристиками бытия. Каким об-
разом мы можем решить это противоречие, которое чрезвычайно
остро осознается самим Аристотелем? «На основании этих рассуж-
дений, — говорит он, можно сказать, что роды не начала вещей.
Но поскольку мы каждую вещь познаем через определения, а на-
чала определения — это роды, необходимо, чтобы роды были нача-
лами и определяемого»12. Каким образом род, не будучи началом
вещей, может быть началом их определения? Возможно ли, и ес-
ли возможно, то каким образом преодолеть тот разрыв, который
обнаруживается между самим сущим и нашей речью о сущем?
Острота этого вопроса особенно подчеркивается неоднократны-
ми заявлениями Аристотеля о том, что ничто общее как таковое не
является сущностью. Тем самым вырисовывается довольно стран-
ная ситуация. Аристотель стремится отыскать единую науку о су-
щем как сущем. Однако наука, как признает сам Аристотель, явля-
ется знанием общего, а не единичного; невозможна никакая наука
о единичном. Вместе с тем общее не существует. «Первые начала
всех вещей,— говорит Аристотель, —это нечто определенное, как
первое в действительности... Общие же причины, о которых была
речь, не существуют, ибо начало единичного — единичное; правда,
начало для человека вообще — человек, но никакого человека во-
обще не существует, а начало для Ахилла — Пелей, а для тебя—
твой отец... »13 Не получается ли тем самым, что наука, как зна-
ние общего, есть знание того, чего нет? Если же это не так, то как
понять переход от единичного к общему, если существует только
единичное? Таким образом, перед нами встает в прямом смысле
этого слова трансцендентальный вопрос: как возможны суждения
в рамках метафизики, наделяющей статусом существования толь-
ко конкретные, индивидуальные сущности? В свою очередь, можно
сформулировать этот вопрос более адекватным для целей наше-
го исследования образом: возможно ли обосновать онтологический
статус синонимии, избегая при этом понимания бытия как рода?
В качестве предварительного ответа на эти вопросы можно вы-
двинуть следующее положение: род не заключает в себе бытие, по-
скольку бытие заключает в себе род. Бытие — это не импликация
рода. Стало быть, наша задача заключается в том, чтобы показать
род как экс-пликацию бытия.
56
Глава IV
КАТЕГОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ СУЩЕГО
И ВОПРОС О ЕДИНСТВЕ
КАТЕГОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
Анализ аристотелевского понимания сущности выявил новую
серию вопросов, группирующихся вокруг центральной проблемы:
обладает ли синонимия таким онтологическим статусом, который
необходим для того, чтобы обосновать онтологическую значимость
суждений? Путеводной нитью, позволяющей нам отыскать решение
этой проблемы, будет следующая, вводимая Аристотелем негатив-
ная дефиниция сущности: «Общая черта всякой сущности — не на-
ходиться в подлежащем»1. Другими словами, поскольку суждение
является связью подлежащего (субъекта) и предиката, то подлежа-
щее суждения не является сущностью. Так, в суждении «Сократ
есть человек» подлежащее «Сократ» не есть сущность предиката
«человек».
Сущность есть само сущее. Вместе с тем, как мы уже видели,
это само сущее не образует единства тождества, поскольку оно вы-
ражается дискретной множественностью значений своего «есть».
Поэтому сущность представляет собой устойчивое ядро вещи, окру-
женное подвижным горизонтом ее проявлений. В этом смысле сущ-
ность есть безусловный феноменологический индекс вещи, позволя-
ющий отличить вещь как именно эту вещь. Как само сущее сущ-
ность является ликом сущего, его собственной самостью. Поэтому
сущее есть феномен в аутентично греческом значении φαινομενον,
как того, что отсылает к самому себе, указывает на самое себя, яв-
ляет себя самим собой. Сущность —это непосредственное единство
сущего с самим собой, невыразимое ни в каком опосредовании и
выявляющее сущее в том основном онтологическом смысле, в ка-
57
ком оно дано до всякого предикативного отношения. Так, я могу
выразить свое восхищение прекрасной севрской вазой, которую я
в данный момент рассматриваю, в высказывании: «Какая прекрас-
ная ваза!» Однако это высказывание вовсе не образует суждения.
Можно ли сказать, что сначала я вижу вазу, а затем, способом ат-
рибутивного синтеза, соединяю эту видимую мной назу с «идеей»
прекрасного, так чтобы «ваза» служила бы субъектом предиката
«прекрасная»? В том-то и дело, что я вижу не вазу, определяе-
мую мной посредством предиката «прекрасное»; я вижу именно
прекрасную вазу. Вещь дана мне здесь целиком и полностью, как
нечто изначально простое, что лишь впоследствии мы разлагаем
на субъект и предикат. Вовсе не я называю вазу прекрасной; на-
против, сама эта ваза высвечивается в своем бытии как прекрасная
ваза. «Прекрасное» дано мне здесь не как предикат, а как феноме-
нальная очевидность.
Тем самым вопрос «как возможны суждения?» следует поста-
вить таким образом: что происходит с сущим, когда оно становится
субъектом суждения? Остается ли при этом сущее тем же самым
сущим в онтологическом смысле «того же самого»? Прежде все-
го, заметим, что всякое суждение предполагает совершенно иную
топику, в которой вещь оказывается уже не являющим самого се-
бя феноменом, а субъектом адресованного ей вопроса. Исходный
вопрос метафизики «что есть сущее?» является вопросом о сущно-
сти сущего. Поэтому такое высказывание, как «это есть Сократ»,
представляет собой полагание сущности, в отношении к которой
(προς εν) получают содержательную определенность многообраз-
ные проявления бытия этого сущего. Однако вопрос «что есть Со-
крат?» задает совсем иную перспективу, поскольку в нем проис-
ходит полагание самой сущности как субъекта вопроса. Так про-
исходит то неприметное смещение онтологического горизонта, ре-
зультатом которого является превращение сущности (ουςΐα) в под-
лежащее (ϋποκειμενον). Здесь сущность уже не само сущее, а его
субстанция. Всякое суждение есть суждение о сущем, и как тако-
вое оно предполагает изъятие сущего из природного контекста и
перемещение его в совершенно иную позицию, с присвоением ему
другого, уже не феноменологического индекса. Сама возможность
суждения коренится в изначальной онтологической двусмысленно-
сти между тем, что есть вещь, и тем, что она есть, и в соответству-
ющей этой двусмысленности онтологической метаморфозе «есть»
58
в «что». Так, вопрос о бытии сущего— «что есть сущее?» — моди-
фицируется в вопрос о его «чтойности» — «что есть сущее?» То,
что в схоластической традиции стало именоваться «чтойностыо»
вещи, как раз и подразумевает сужение «есть» до масштабов опре-
деленного «что». Таким образом, сама естественная омонимия су-
щего является основанием его понятийной экспликации. Сама же
понятийная экспликация оказывается сложным процессом замеще-
ния, когда сама вещь, как безусловное, неповторимое «это», уходит
в онтологический подтекст, оказываясь замещенной своим репре-
зентативным термином — подлежащим. Сущность как подлежащее
становится основанием общего, схватываемого в единстве понятия.
Присмотримся внимательнее к суждению «Сократ есть чело-
век». Не происходит ли здесь некая метаморфоза сущности, мас-
кируемая единством имени? Не имеет ли здесь имя «Сократ» со-
всем иной смысл, чем тот, который выражался сущностью Сократа,
взятой как феномен, как явление самого Сократа? В случае фе-
номенальной очевидности сущность выступает референциальным
центром ее проявлений, которые и очерчивают ее живой облик.
Этот облик образуется из всего того, что придает вещи неповто-
римые смысловые очертания, что, в свою очередь, не укладывает-
ся в прокрустово ложе логического отношения. Человеческая сущ-
ность Сократа не отчуждается здесь от него в абстрактное по-
нятие «человек», а выражается подвижной совокупностью таких
черт, единство которых создает неповторимую личность Сократа.
Сущность Сократа является тем абсолютно неопределимым «ра-
дикалом», вокруг которого «кристаллизуется» все то, что придает
Сократу его совершенно неповторимый облик. Совершенно инди-
видуальная вещь есть само по себе сущее в том смысле, что она
выражается исключительно через саму себя и не отсылает ни к че-
му иному, кроме самой себя. Однако тот же Сократ, выраженный
предикатом «человек», становится уже единичной иллюстрацией
рода и не является уже «этим» Сократом. Все, из чего создавался
его неповторимый облик, теперь стерто в абстрактной гомологии
рода. То, что оказывается утраченным в результате такой транс-
формации, есть сам Сократ, как безусловно неповторимое «это».
Тем самым очевидна невозможность для Сократа быть подлежа-
щим какого-либо предикативного определения, ибо ни одно такое
определение не будет этим вот сущим по имени Сократ.
Так, претерпевая онтологическую модификацию, сущность дуб-
59
лируется понятием как определенным модусом единства сущности
и сущего. Эта дупликация сущности получает у Аристотеля выра-
жение в виде различия на «первую» и «вторую» сущность, про-
веденное в «Категориях». Первая сущность —это само сущее как
τοδε τι, являющее себя в многообразии проявлений своего бытия,
тогда как вторая сущность представляет собой родовое значение
сущего, объемлющее его единством вида. Сущность в том первич-
ном онтологическом смысле, которое именуется теперь «первой»
сущностью, обнаруживает себя в феноменальной очевидности то-
го, что само себя являет. Прекрасная ваза дана мне как прекрасная
ваза еще до всякого, полагаемого мной различия между вазой как
субъектом и «прекрасным» как свойством этого субъекта. Напро-
тив, такое различие возможно только в свете той феноменальной
очевидности, в которой вещь есть то, что она есть. В этом смысле
вещь не является ни подлежащим чего-либо, ни сказуемым какого-
либо подлежащего. Референциальные отношения значений бытия
сущего к сущности (προς εν) не есть отношения «свойств» к своему
подлежащему. Сущность становится подлежащим, только будучи
дублировано «второй» сущностью, встраивающей «первую» сущ-
ность в вертикаль родовидового отношения. Поэтому подлежащее
возникает как бы на «втором шаге», как измененное состояние са-
мой сущности: сущность как субстанция сущего есть само сущее
как субъект возможных определений.
Мы сразу можем почувствовать здесь некую двусмысленность,
содержащуюся в самом понятии «первая сущность». Прежде всего,
сущность есть само сущее. Однако «сущее» таит в себе ту естествен-
ную омонимию, которая проявляется в двойственности действия и
состояния, того, что есть сущее, и того, что оно есть. В последнем
случае мы получаем ту экспликацию сущего, которая раздваивает
его в отношение подлежащего и сказуемого, субъекта и предиката,
субстанции и атрибута. Основанием этих форм отношений является
само сущее, рассматриваемое в аспекте того, что оно есть. «Первая
сущность» есть, таким образом, само сущее в экс-пликации «чтой-
ности», в которой оно способно стать субъектом «второй сущности».
Будучи «первой», сущность уже интенционально отнесена ко «вто-
рой», как подлежащее —к своему сказуемому, на нее уже брошена
тень понятия, в которой она представлена в модальности субъекта
возможного определения. Но поскольку «общая черта сущности —
не находиться в подлежащем», то сущность в ее онтологическом
60
смысле, как то, что есть сущее, как бы проскальзывает между субъ-
ектом и предикатом, застывая в виде формальной связки «есть».
В понятии «первая сущность» отражается та самая амбивалент-
ность сущего, в силу которой то, что есть вещь, не есть то, что она
есть. «Первая» сущность есть акт полагания сущим самого себя
как подлежащего, которое, однако, не есть его сущность. Понятие
«первая сущность» является, таким образом, выражением тонкого,
едва различимого зазора в самом сущем, в который и уходит су-
щее, свертываясь в формальную связку «есть», связующую субъ-
ект с предикатом. Формальный характер «есть» указывает, преж-
де всего, на то, что понятие охватывает не сущее само по себе, а
субъект как некий аналог сущего. Этот зазор представляет собой
экс-пликацию сущего, полагаемого им самим как внутреннее разли-
чие. Аристотелевская «вторая сущность» возникает именно в акте
этого различия. Поэтому вовсе не понятие, как нечто уже данное,
полагает различие между собой как «второй сущностью» и самим
сущим как индивидуальным «это»; напротив, само понятие высту-
пает формой внутреннего различия сущего, выражением присущей
ему амбивалентности. Исчезновение этого онтологического зазора
имеет своим последствием то, что «вторая сущность» обретает сущ-
ностную автономию. Здесь содержится исток так называемой «про-
блемы универсалий», на которую обрекла себя средневековая онто-
логия.
Исходя из этого мы можем более детально прояснить смысл ари-
стотелевской дефиниции сущности как того, что не находится в
подлежащем.
Сущность, в ее основном онтологическом смысле, как само су-
щее, не есть подлежащее. Это — сущее в той его изначальной откры-
тости, в которой оно дано до всякого предикативного отношения.
Вторая же сущность не может находиться в подлежащем, посколь-
ку сама возникает в результате полагания сущим самого себя как
подлежащего— «первой» сущности. Подлежащее — это метаморфо-
за бытия самого сущего. В силу этого бытие — не импликация поня-
тия. Напротив, понятие есть экс-пликация бытия как его модаль-
ности. Поэтому понятие не содержится в сущем как его реальный
предикат, что предполагало бы полную синонимию сущего. Таким
образом, за синонимией подлежащего и понятия стоит онтологиче-
ская несоизмеримость понятия и сущего. Высказывание «Сократ
есть человек» представляет собой пример синонимии как единства
61
имени и определения. Однако в основании этой синонимии просту-
пает фундаментальное онтологическое различие между понятием
«человек» и сущим по имени Сократ. Здесь содержится объяснение
того аристотелевского рассуждения, которое в Средние века станет
яблоком раздора между реалистами и номиналистами: «Что касает-
ся вторых сущностей, то из следующего очевидно, что они не нахо-
дятся в подлежащем; ведь о подлежащем — об отдельном человеке
говорится как о человеке, но "человек" не находится в подлежащем,
ибо "человек" не находится в отдельном человеке»2.
Мы можем следующим образом замкнуть эту цепочку наших
рассуждений: поскольку, как уже говорилось, понятие не может
быть иредицировано сущему абсолютно однозначным образом, —
как бытие этого сущего, — то это означает только то, что сущее (как
сущее) не является подлежащим понятия. В этом сугубо онтологи-
ческом смысле «человек» действительно не находится в отдельном
человеке.
Отношение между первой и второй сущностью является отно-
шением синонимии, охватывающим подлежащее и вид единством
не только имени, но и определения. «Первые сущности, — говорит
Аристотель, — принимают понятие вида и рода, а вид—рода. Ибо
все, что говорится о сказуемом, может быть применено и к подлежа-
щему. Таким же образом и виды и единичное принимают понятие
видового отличия. Соименными же были у нас названы те предме-
ты, у которых и имя общее, и понятие одно и то же»3. Таким обра-
зом, в самом сущем открывается та диспозиция, в которой сущее
может рассматриваться как элемент общего. Именно здесь образу-
ется пространство собственно логического отношения субъекта и
предиката, коррелятивное отношению подлежащего и сказуемого.
Понятие является тем ферментом, без которого невозможен стро-
гий, однозначный характер нашей речи о сущем.
Здесь вырисовывается специфический регион истины, которая
является уже не открытостью самого сущего, а соответствием пред-
мота и понятия. Прекрасная ваза дана мне как нечто изначально
простое, что открывается целиком и полностью. Однако уже выска-
зывание «эта ваза — прекрасна» разъединяет эту изначальную про-
стоту вещи на подлежащее и характеризующий ее признак. «А так
как связывание и разъединение находится в мысли, а не в вещах»4,
то мышление становится «местом» истины как соответствия субъ-
екта и предиката. Таким образом, наряду с истиной как алетейей,
62
как открытостью сущего, появляется истина рассуждающей мысли.
Однако истина рассуждения, поскольку она является выражением
экс-пликации сущего, представляет собой специфический модус ис-
тины как αλεΌεια. «Ведь ложное и истинное не находятся в вещах...
а имеются в рассуждающей мысли, в отношении же простого и его
сути —даже и не в мысли»5. Синонимия онтологически вторична,
поскольку является модальностью, а вовсе не тотальностью суще-
го; в основании логического тождества находится онтологическое
различие. Структура всякого определения включает в себя род и
видовое отличие. Единство определения есть единство рода. Вме-
сте с тем, поскольку бытие не является родом, всякое единство рода
является всего лишь родом единства.
Тем самым в ходе нашего анализа мы подошли к следующей
проблеме. Наука представляет собой исследование сущего в его
родовой определенности. Признавая это, Аристотель говорит, что
«каждый род существующего исследуется одной наукой»6. Дей-
ствительно, мыслить сущее можно только в его родовом опосредо-
вании. Поэтому каждая наука исследует определенный род вещей;
так, «грамматика, например, будучи одной наукой, исследует все
звуки речи»7. Исходя из этого Аристотель дает первую классифи-
кацию научного знания, унаследованную Боэцием и остававшуюся
неизменной на протяжении всего средневековья. Признавая «умо-
зрительные науки предпочтительнее всех остальных»8, Аристотель
определяет род для каждого умозрительного знания. Так, матема-
тика исследует то, что относится к роду количественно определи-
мого. Учение о природе (физика) занимается тем, что относится
к движению. Наконец, учение о божественном (теология) изучает
наиболее высокий род существующего. Так, в области знания име-
ется иерархия, согласно которой умозрительное знание предпочти-
тельнее чувственного, а среди умозрительного знания безусловный
приоритет имеет теология, поскольку «достойнейшее знание долж-
но иметь своим предметом достойнейший род существующего»9.
Однако бытие — не род, из чего следует, что ни одна наука не мо-
жет претендовать на то, чтобы быть исследованием сущего самого
по себе. Поэтому то знание, которое является наиболее достойным,
т. е. первым по роду сущего, не является первым в значении иссле-
дования бытия сущего. Даже теология не может претендовать на
роль первой философии. Наука предлагает определенное знание су-
щего. «Но всякое такое знание, — говорит Аристотель, — имеет дело
63
с одним определенным сущим и с одним определенным родом, ко-
торым оно ограничивается, а не с сущим вообще и не поскольку
оно сущее, и не дает никакого обоснования для сути предмета, а
исходит из нее: в одном случае показывая ее с помощью чувствен-
ного восприятия, в другом — принимая ее как предпосылку, оно с
большей или меньшей строгостью доказывает то, что само по себе
присуще тому роду, с которым имеет дело. А потому ясно, что на
основе такого рода наведения получается не доказательство сущно-
сти или сути предмета, а некоторый другой способ их показа; точно
так же такие знания ничего не говорят о том, существует или не
существует тот род, с которым они имеют дело, ибо однг. и та же
деятельность рассуждения должна выяснить, что есть предмет, и
есть ли он»10.
Данное рассуждение является своего рода трансценденталь-
ным аргументом. Необходимость и возможность первой философии
обосновывается через демонстрацию того, что ни одна наука, вклю-
чая теологию, не является наукой о бытии сущего. Наука, исходит
в своем понимании бытия сущего из вопроса «что есть сущее?»
Поэтому наука предопределена той онтологической омонимией, в
которой бытие (είναι) принимает форму субстантивированного при-
частия (το όν), ускользая в видимость предметного определения.
Субстантивация бытия в «сущее» есть не что иное, как полагание
его сущности в качестве «подлежащего», что и фиксируетс51, как мы
уже знаем, различием на «первую» и «вторую» сущность. «Чтой-
ность» вещи как раз и выражается ее «второй» сущностью, тем,
что в средневековом словоупотреблении стало именоваться essen-
tia, в отличие от «первой» сущности как existentia. Субстантивация
бытия нейтрализует неподатливость существования тем, что рас-
творяет его во «второй» сущности. Это сведение вопроса о бытии к
вопросу его «чтойности» означает радикальное сужение онтологи-
ческого горизонта. Вместе с тем именно это сужение онтологическо-
го горизонта вопроса о бытии делает возможным суждение, в акте
которого фиксируется предметная определенность сущего. «Чтой-
ность» вещи состоит в ее способности быть субъектом определений,
соотносимых с нею посредством формальной связки «есть».
В основании онтологической омонимии лежит трансцендент-
ное единство «что» и «есть», причем мы постоянно сталкиваемся
с риском утраты этого трансцендентного центра, следствием че-
го оказывается фундаментальный «перекос» всей онтологической
64
структуры сущего. В этом случае индивидуальное предстает как
«нулевая степень» общего, а действительность низводится до уров-
ня голой «чтойности». Удержание же этого трансцендентного цен-
тра предполагает прежде всего ясное осознание взаимной неперево-
димости «что есть... ?» в «что есть... ?» Единство бытия сущего
не является их тождеством. Поэтому-то и невозможно в рамках од-
ного способа рассуждения показать, что есть предмет, и доказать
есть ли он. Сам Аристотель следующим образом говорит об этом
во «Второй аналитике»: «Ведь если (дающий определение) доказал
бы, что именно есть (данная вещь) и что она есть, то как же он это
докажет одним доводом? Ведь определение выясняет что-то одно,
как и доказательство. Но что такое человек и что человек есть
это не одно и то же»11.
Невозможность в рамках одного довода показать, что есть вещь
и доказать, что она есть, вновь показывает, что бытие (единое) яв-
ляется трансцендентальной характеристикой сущего и не входит в
перечень ее реальных предикатов. Как уже говорилось, в основа-
нии логического тождества лежит онтологическое различие, кото-
рое в силу этого не может быть выражено ни в каком возможном
суждении. Суждение «Сократ есть человек» основывается поэто-
му на неопределимости того, что есть Сократ. Если мы попыта-
емся представить бытие Сократа в виде реального предиката, то
получим псевдосуждение «Сократ есть сущий», которое будет все-
го лишь перифразом высказывания «Сократ есть... » Подобным
же образом «единое», будучи отнесено к субъекту в качестве его
предиката, не придаст субъекту никакого реального содержания.
Онтологическое различие, представленное в топике суждения, обо-
рачивается серией бессодержательных тавтологий. Аристотель вы-
разил его следующим рассуждением, породившим в Средние ве-
ка огромное количество интерпретаций: «Действительно, одно и то
же — "один человек" и "человек", "существующий человек" и "чело-
век", и повторение в речи "он есть один человек" и "он есть чело-
век" не выражает что-то разное... »12 Таким образом, суть вещи не
может стать предметом силлогизма, поскольку такое доказатель-
ство означало бы синонимию бытия и сущего. Несводимость бытия
к «чтойности» означает поэтому только одно: тот способ, каким
вещь открывается (дается) нам посреди сущего, не есть тот способ,
каковым эта вещь мыслится. Между мышлением и бытием про-
легает неустранимый экзистенциальный зазор. Поэтому мышление
65
бытия —это не бытие мышления (cogito sum). Бытие проявляется
в упрямой, неснимаемой фактичности сущего.
В том, что было названо нами неснимаемой фактичностью су-
щего, подразумевается, прежде всего, несводимость сущности к эле-
менту логического отношения; сущее не является элементом рода.
Поэтому само сущее оказывается тем «остатком», который образу^
ется при заключении его в скобки родового единства. В последней
главе «Метафизики Z», одной из самых глубоких и емких но содер-
жанию, Аристотель выявляет парадокс, коренящийся в природе це-
лого. Всякое целое есть нечто единое. Но поскольку «единое» — это
трансцендентальная характеристика сущего, то оказывается невоз-
можным выяснить природу целого путем его разложения на эле-
менты. «А то, что состоит из чего-то таким образом, что целокушюе
есть одно, но не как груда, а как слог, есть нечто иное, нежели то, из
чего оно состоит. Ведь слог — это не отдельные звуки речи, и слог
"ба" — не то же самое, что "б" и "а", как и плоть не то же самое, что
огонь и земля... Стало быть, слог есть что-то— не одни только зву-
ки речи (гласный и согласный), но нечто иное; и также плоть —это
не только огонь и земля или теплое и холодное, но и нечто иное»13.
Тем самым получается, что природой целого является иное, чем
само целое. В противном случае перед нами вырисовывается пара-
докс актуальной бесконечности целого, являющийся содержанием
одной из апорий Зепона. «Если же само это нечто также должно
быть элементом, или состоять из элементов, то, если оно элемент,
рассуждение будет опять тем же, а именно: плоть будет состоять из
этого нечто, из огня и земли и еще из чего-то, так что это будет про-
должаться до бесконечности. Если же элемент есть его (целого. —
Р. Л.) составная часть, то ясно, что оно будет состоять не из одного
элемента, а из большего числа их, нежели само это нечто (взятое
как элемент), так что относительно него будет то же рассуждение,
что и относительно плоти и слога. И поэтому можно принять, что
это нечто есть что-то другое, а не элемент»14. Этим иным оказы-
вается сущность (ουσία) вещи, в которой проявляет себя ее бытие,
или природа (φύσις). «А это и есть сущность каждой вещи, ибо
оно (бытие) первая причина ее бытия; и так как некоторые вещи
не сущности, а сущности--это те, которые образовались согласно
своей природе и благодаря природе, то сущностью оказывается это
естество, которое есть не элемент, а начало (αρχή)15 .
Параллельное рассуждение мы находим в «Метафизике Λ»: «В
66
самом деле, можно было бы спросить, разные, или одни и те же
начала и элементы сущностей отношений... Ведь наряду с сущно-
стью и остальными родами сказываемого нет чего-либо общего им;
между тем элемент должен предшествовать тому, элементом че-
го он есть. Поистине ни сущность не есть элемент для отношений,
ни отношения — элемент для сущности. Кроме того, как это воз-
можно, чтобы у всех были одни и те же элементы? Ведь ни один
из элементов не может быть тождествен тому, что состоит из эле-
ментов: Б или А не тождественно БА»16. Здесь, в несколько ином
ракурсе прослеживается та же мысль: природа целого есть нечто
большее, чем простая совокупность его элементов. Природа целого
конституируется не совокупностью его элементов, а тем иным, ко-
торое запечатлено сущностью. Поскольку же «ни один элемент не
может быть тождествен тому, что состоит из элементов», то бытие
сущего становится совершенно неуловимо, если «законодателем»
сущего становится тождественное. Бытие не есть род, поскольку
род не есть бытие вещей. Существование вещи всегда оказывает-
ся шире ее родовой определенности и включает ее в себя как свой
специфический момент.
Таким образом, то, что есть вещь, всегда будет иметь в «остат-
ке» то, что она есть. Но именно в этом промежутке бытия и «чтой-
ности» только и возможен вопрос «почему?», направленный на вы-
яснение причины. Вопрос о причине —это всегда выяснение того,
«почему одно присуще другому»17. Почему происходят затмения
Луны? Почему этот человек образован? Очевидно, что затмение
Луны есть нечто иное, чем сама Луна; так же и образованность не
принадлежит к числу неотъемлемых качеств человека. В качестве
предпосылки любого вопроса «почему?» должно уже быть некое
что. Что есть Луна? — Луна есть небесное тело. Почему происходят
затмения Луны? — «Здесь действительно ишут, почему одно прису-
ще другому»18. Сущее, как некое «что», уже пронизано «другим»,
которое к делает возможным вопрос о том, почему то или иное свой-
ство присуще именно этому «что». Всякое «почему?» имеет смысл
лишь в просвете онтологического различия бытия и «чтойности».
Поэтому-то и невозможен вопрос: почему нечто есть то, что оно
есть? Вопрос такого рода представляет собой некий коллапс само-
го вопроса, поскольку, устраняя различие бытия и «чтойности», он
устраняет предпосылку самого вопроса «почему?» «Выяснять же,
почему вещь есть то, что она есть, значит, ничего не выяснять; ведь
67
«что» и «есть» (я имею в виду, например, то, что происходит затме-
ние Луны) должны быть налицо как очевидные, еще до выяснения,
почему это есть»19.
Экзистенциальный зазор между бытием и сущим означает, та-
ким образом, взаимную несоединимость двух вопросов: вопроса
«что есть сущее?» и вопроса «что есть сущее?» Принятие бытия
как рода как раз означало бы «синопсис» вопроса о бытии сущего и
вопроса о его «чтойности». Другими словами, выяснение «чтойно-
сти» сущего было бы в то же время и «доказательством сущности
или сути предмета». В этом случае науке был бы открыт транс-
цендентный горизонт сущего, а всякий ответ на вопрос «что есть
это?» был бы и ответом на вопрос «почему это есть?» Именно такой
«синопсис» и будет обретен Новым временем в квазитеологической
позиции субъекта, что позволит новоевропейской философии по-
стулировать тождество мышления и бытия, всецело растворив бы-
тие в мышлении. Отсутствие же такого синопсиса, выраженное ка-
тегоричным аристотелевским тезисом «бытие не является родом»,
полагает принципиальную, непреодолимую границу между наукой,
как исследованием сущего в той или иной категориальной опреде-
ленности, и первой философией, как исследованием сущего самого
по себе. Поэтому первая философия не просто отлична от других
наук, подобно тому, как науки различаются между собой соответ-
ственно своему предмету, — она экстерриториальна по отношению
к науке в целом. Первая философия не может основываться на
родовой определенности сущего и поэтому не вписывается в клас-
сификацию знания родов сущего.
То, что было определено нами как «фактичность» сущего, озна-
чает невозможность логической определимости мира. Мир, в сво-
ем бытийном истоке, не логичен, а фактичен. Другими словами,
возможность определения того, каков мир, не содержит в себе воз-
можности понимания того, почему он таков. Так, к примеру, фи-
зика способна рассчитывать определенные явления нашего мира
на основании закона всемирного тяготения, объясняя, почему вся-
кое тело стремится к земной поверхности, почему Луна описывает
вокруг Земли определенную орбиту и т. п. Однако сам закон все-
мирного тяготения остается фактичным, поскольку з нем не со-
держится объяснения того, почему наш мир устроен именно таким
образом, что в нем действует закон всемирного тяготения. Можно,
конечно, устранить фактичность закона тяготения, представив его
68
как следствие другого, более общего закона. Так, можно показать,
что ньютоновский закон тяготения вытекает из эйнштейновских
уравнений гравитационного поля как их частное следствие. В этом
суть так называемого «принципа соответствия», согласно которому
каждая последующая научная теория должна включать предыду-
щую как свой частный случай. Однако мы вовсе не устраняем этим
фактичность закона тяготения, а только лишь переносим ее на бо-
лее высокий уровень, так что фактичной оказывается теперь эйн-
штейновская общая теория относительности, фактичность которой
можно «снять» в другой, более общей теории - единой теории по-
ля. Поэтому мы можем следующим образом выразить фактичность
сущего: существует закон как основание, но нет основания закона;
существует необходимость, определяемая данным законом, но нет
необходимости самого закона. Всякий «закон природы» безосновен
и, следовательно, фактичен.
Тем самым получается, что науке присуще то, что можно бы-
ло бы называть онтологической неполнотой научного знания, так
что знаменитая геделевская теорема о неполноте является одним
из частных следствий этой онтологической неполноты. В чем же
состоит онтологическая неполнота научного знания? В том, что
наука, являясь определенным способом объяснения мира как сово-
купности объектов, подчиненных строгим каузальным и функци-
ональным законам, оказывается неспособной обосновать легитим-
ность такого объяснения и в конечном счете — свою собственную
легитимность. Попытка такого самообосноваиия должна была бы
стать д,ля науки неким интеллектуальным salto mortale, поскольку
наряду с объяснением мира наука должна была бы сделать предме-
том объяснения сам способ такого объяснения. Очевидно, что такое
самообъмснение науки как раз и означало бы радикальное «снятие»
бытия в мышлении. Вместе с тем очевидна и невозможность такого
растворения бытия в мысли, поскольку любая попытка самообосно-
вания научного знания уже заключает в себе тот самый парадокс
самообоснования, который был известен уже в античности: обосно-
вание наукой самой себя означало бы, что наука как целое является
своей же собственной частью. Наиболее показательным примером
такого самообоснования является предпринятая Г. Фрёге попытка
обоснования математики на основе канторовской теории множеств,
которая, как показал Б. Рассел, приводит к парадоксу несамосодер-
жащих множеств.
69
Парадоксы самообоснования, с которыми сталкивается наука,
указывают на границу, разделяющую науку и «первую филосо-
фию» в аристотелевском ее понимании. Каждая наука исследует
определенный род сущего. Так, понятие «физическая реальность»
является родом того предметного множества, с которым имеет де-
ло физика как наука. В основании предметного поля физики зна-
ния лежит априорное истолкование предметности как таковой, в
соответствии с которым то ли иное явление относится к «явлени-
ям физического мира». Парадокс самообоснования возникает толь-
ко в том случае, если данный род сущего принимается за сущее
как род. Если сущее есть род, то полное, исчерпывающее описание
этого рода означало бы конечное тождество бытия и мышления.
Однако, как показал Аристотель, именно бытие создает различия
в роде; всякий род конституирован бытием и единством входящих
в него видов. Следовательно, сама предпосылка понимания бытия
как рода оборачивается парадоксом: бытие как род должно было
бы входить в свой собственный отличительный признак. Вскрытый
Б. Расселом парадокс несамосодержащих множеств является всего
лишь логико-математическим выражением парадокса понимания
бытия как рода. Это подводит нас к следующему выводу: из то-
го, каким образом нами мыслится мир, вовсе не вытекает то, что
мир существует именно таким, каким он нами мыслится. Данное
положение не имеет никакого отношения к «скептицизму», всегда
являющемуся следствием такого искажения метафизической пози-
ции, которое приводит к «забвению» бытия. Бытие есть открытость
мира; однако сама открытость представляет собой видение мира в
«просвете» иного, т. е. постоянную возможность мыслить мир ина-
че. Мир и есть нечто всегда иное. Поэтому опыт мира никогда не
может быть завершен и исчерпан. Узурпируя статус «первой фило-
софии», становясь тем самым онтологией, наука не только окутыва-
ет мир сплошной пеленой «феноменов», но и сталкивается с такими
парадоксами, которые грозят ей разрушением самих ее основ.
Эта фактичность мира, неподатливость его существования, бы-
ла своеобразно вскрыта Д. Юмом в его критическом анализе при-
чинности. Демонстрируя невозможность сведения отношения при-
чины и следствия к отношению посылки и логического вывода,
Юм показывает тем самым неприменимость закона противоречия
в отношении эмпирического ряда событий. В отличие от логиче-
ского отношения посылки и вывода, в эмпирическом отношении
70
причины и следствия отрицание одного из его членов не влечет с
необходимостью отрицание другого; так, к примеру, отрицание со-
бытия «наступление дня» не означает отрицания события «восход
солнца». Однако сказать так — значит признать, что закон тожде-
ства, обратной стороной которого является закон противоречия, не
является тем законом, который определяет существование наше-
го мира. Тождество— область возможного, а не действительного.
Мир, подчиненный гзакону тождества, обладал бы абсолютной од-
нозначностью; это был бы мир, в котором все уже свершилось, раз
и навсегда. Таким образом, своеобразным результатом юмовекого
анализа оказывается «спасение» мира в нашей неистребимой свобо-
де мыслить мир иначе. Эта способность является именно свободой,
а не произволом, поскольку сама она укоренена в том Ином, ко-
торое и конституирует бытие нашего мира. Критический анализ
Юма нацелен поэтому на деструкцию той метафизической формы,
под властью которой оказалось наше понимание причинности,-
формы логического тождества. В свою очередь, форма логического
тождества возникает вследствие такого смещения онтологического
горизонта, которое устраняет тот самый экзистенциальный зазор
между «что» и «есть», в котором только и может помещаться во-
прос «почему?», направленный на выяснение причинности.
Возвращаясь в основной канве нашего анализа, резюмируем те
принципиальные позиции аристотелевского понимания сущности,
которые нам удалось выявить. Краеугольным камнем аристотелев-
ской метафизики является положение о единстве сущности и су-
щего: сущность есть само сущее. Вместе с тем это единство сущ-
ности и сущего не является единством тождества. Поэтому сущее
открывается в множественности своих проявлений, очерчивающих
диапазон его бытия, того, что оно как сущее есть. Сущность в
таком случае образует референциальный центр проявлений бытия
сущего. Сущностное полагание «есть это» выражается множествен-
ностью проявлений, удерживаемых сущностью в экзистенциальном
ракурсе «этого вот» сущего.
Здесь мы и сталкиваемся с загадкой понятия как «второй сущ-
ности». Если, как говорит Аристотель, сущность не находится в
подлежащем и если понятие как предикат предполагает подлежа-
щее как свой субъект, то что же является в таком случае подлежа-
щим «второй» сущности? Стоит нам только допустить, что подле-
жащим является сама вещь, как сразу же оказывается, что сущее —
71
не сущность, поскольку сущность не может находиться в подлежа-
щем. Тем самым мы вновь оказываемся во власти платоновского
понимания эйдоса как сущности, в то время как Аристотель стара-
ется удержать значение сущности за самой вещью. Таким образом,
вещь не может быть подлежащим понятия как сущности, так же
как и понятие не содержится в вещи как своем подлежащем. Поэто-
му вопрос «что является подлежащим «второй» сущности?» может
иметь только один ответ: само сущее в значении своего «что». Су-
щее в значении «чтойности» означает транспозицию того, что есть
вещь, в то, что она есть, задающая принципиально иную топику
сущего. В этой топике сущность оказывается субъектом обращен-
ного к ней вопроса «что есть это?», и в этом качестве она ока-
зывается уже основанием (υποκειμενον) понятийного определения
сущего. Таким образом, вопрос «что есть это?» представляет со-
бой своеобразное метафизическое «подвешивание» сущего, которое
обращает сущность в субъект возможных определений. Поэтому
становится методологически необходимым различение на «первую»
сущность — то, что есть сущее, и «вторую», выражающую сущее в
значении того, что оно есть.
Сущее есть сущность в значении единства множественности
проявлений своего бытия. Однако это единство основания сущего
не может быть естественным образом свернуто в основание един-
ства речи о сущем. Для того чтобы преобразовать эту множествен-
ность в логос сущего, необходимо каким-то образом свести ее к
конечному ряду родов сущего. Но при этом само сущее долж-
но претерпеть ту онтологическую модификацию, в которой сущ-
ность становится синонимом сущего в качестве субъекта возмож-
ных определений: субъект есть, таким образом, сущность как одно-
значно сущее. В самом деле, каким образом возможен вопрос о бы-
тии сущего, если бытие ускользает от прямого вопрошания именно
тем, что является предпосылкой всякого вопроса? Поскольку бы-
тие является условием всякого предметного вопроса, всякого «что
есть... ?», то само бытие не может быть опрошено иначе, как через
то самое «что», которое оказывается синонимом сущего. В вопросе
«что есть сущее?» именно «что» как субъект замещает собой су-
щее в том, что оно есть. Только так необозримая множественность
проявлений бытия сущего может быть сгруппирована в несколько
предметных модальностей, которые выступают в качестве; особых
опорных моментов, необходимых для всякой речи о сущем. Сущее,
72
будучи представлено в качестве субъекта, выступает единящим ос-
нованием речи о сущем. Субъект является как бы псевдонимом
сущего, замещающим онтологическое единство сущего и сущности
единством определения. «Вторая» сущность становится в этом слу-
чае онтологическим предикатом сущего как субъекта, его главной
категорией, открывая возможность категориального анализа суще-
го.
В качестве категории сущность структурирует предметные ра-
курсы сущего таким образом, что они выступают атрибутами неко-
его «что». Обнаруживаемая на феноменологическом уровне дис-
кретная множественность проявлений сущего определенным обра-
зом воспроизводится на уровне категориального описания. Однако
если на феноменологическом уровне множественность проявлений
сущего относится к сущности как самому по себе сущему, то на
категориальном уровне сущее как субъект окружено веером значе-
ний того, что есть сущее. Вместе с тем данная множественность
значений может быть теперь свернута в несколько предметных мо-
дальностей, задающих предметную картину сущего. Эти предмет-
ные модальности Аристотель именует категориями и вводит их
простым перечислением: качество, количество, отношение, место,
время, положение, обладание, действие, страдание. Все эти девять
категорий относятся к сущности как к главной категории и ядру
категориального описания, чем и определяется их вторичный но от-
ношению к сущности акцидентальный характер. Каждая из девя-
ти категорий представляет, таким образом, предметную атрибуцию
сущего, представленного категорией сущности.
Постараемся рассмотреть значение категориальной структуры
на уже известном нам примере. Так, Сократ, как конкретное лицо,
есть множественность проявлений его индивидуальной, незамести-
мой сущности, в которой выражается его φύσις. Каким же образом
мы можем преобразовать φύσις Сократа в λόγος? Другими слова-
ми, можем ли мы найти единство нашей речи о Сократе как об
определенном персонаже исторического мира? Необходимой пред-
посылкой такого преобразования φύσις и λόγος становится вопрос
«что есть Сократ?» Бытие Сократа, будучи представлено в аспек-
те «чтойности», обращается здесь в подлежащее «второй» сущно-
сти — родового понятия «человек». Эта вторая сущность фиксиру-
ется Аристотелем при помощи странного, имперфектного оборо-
та τό τί ην είναι, изначальный смысл которого как «то, что стало
73
быть» нейтрализуется традиционным и мало что говорящим его
переводом как «сути бытия»: «Суть бытия каждой вещи означает
то, что эта вещь есть сама по себе»20. То, что есть вещь выражает-
ся ее определением, в котором сама вещь, как «первая сущность»,
уходит в онтологический подтекст, оказываясь замещенной своим
подлежащим: «Следовательно, только определение, в котором сама
вещь Fie упоминается, но которое ее обозначает, и есть определение
ее сути бытия»21. Однако теперь мы можем рассматривать φύσις
Сократа в нескольких категориальных модальностях, сообразно ко-
торым его «суть бытия» —абстрактное понятие «человек» получа-
ет предметное определение качества, отношения, времени, места, и
т.д. Таким образом, если «вторая сущность» представляет собой
абстрактное понятие, которое ровным счетом ничего не говорит о
существовании вещи, то остальные девять категорий придают это-
му понятию экзистенциальный смысл. Акцидентальный характер
этих категорий выражает поэтому не что иное, как несводимость
существования к понятию. Этот экзистенциальный смысл дан в ви-
де дискретной серии значений «чтойности».
Поскольку необозримая множественность проявлений того, что
есть сущее, может быть упорядочена сообразно нескольким пред-
метным модальностям того, что оно есть, то категории выступа-
ют предметными индикаторами смысла сущего, его бытия. Однако
смысл сущего не может быть дан иначе, как в виде дискретной со-
вокупности его значений; смысл скорее «просвечивает» в тех «зия-
ниях» и разрывах, которые конституируют структуру значений су-
щего. Эта структура как раз и выстраивается в соответствии с той
мерой смысла, которым обладает то или иное значение. Соответ-
ственно смысл, которым обладает то или иное значение, выража-
ется его отличием от других значений. Категории задают предмет-
ный контур, внутри которого содержится невоспроизводимый эк-
зистенциальный рисунок сущего. Только так можно предотвратить
пагубное смешение значений сущего, которое служит питательной
почвой для софистики. Дело философа —показать, что значения
выражают сущее различным образом: «В самом делеу если это не
дело философа, то кому рассмотреть, например, одно ли и то же
Сократ и сидящий Сократ... »22 Парадоксальным образом бытие
Сократа раскрывается в том, что «быть сыном Софрониска» не
означает «быть каменотесом». Смысл просвечивает именно там, где
значения не совпадают друг с другом. Смысл речи — в ее паузах.
74
Здесь перед нами возникает старая проблема, осуждавшаяся
Платоном в «Пармениде»: каким образом многое способно выра-
зить единое, не становясь при этом единым и не делая единое мно-
гим? Так, мы можем охарактеризовать отдельного человека как:
1) имеющего определенный возраст, 2) сына Софрониска, 3) ка-
менотеса по профессии, 4) женатого, и т. п. Полученную серию
значений мы можем затем сгруппировать по нескольким катего-
риальным родам. Однако в каком смысле перечисленные атрибуты
выражают человека по имени Сократ? Другими словами, в каком
смысле Сократ есть сын Софрониска, каменотес, муж Ксантип-
пы и т.д.? Этот вопрос, при всей его кажущейся простоте, таит в
себе возможность софистических решений. Действительно, стоит
нам только допустить, что атрибуты выражают собой всю полноту
сущего, как мы втягиваемся в следующую коллизию: либо многое
оказывается единым, и тогда получается, что одно и то же —быть
человеком определенного возраста, каменотесом, сыном Софронис-
ка; либо единое оказывается многим, и тогда «человек» — не более
чем имя, а единство атрибутов является исключительно номиналь-
ным. И в первом и втором случае происходит утрата трансцендент-
ного единства речи, которая именуется смыслом. Из этого следует,
что «сущее» не является простой суммой своих значений, равно
как и значения не являются конститутивными элементами сущего:
сущее невозможно получить «синтетически», в виде совокупности
его значений, как невозможно получить значения сущего «анали-
тически», в виде его необходимых предикатов. Поэтому необходи-
мой предпосылкой несофистического решения проблемы единого
и многого является признание трансцендентного характера едино-
го (сущего), отличного от имманентного единства рода. Логосное
единство сущего необходимо содержит в себе разрывы и пустоты,
которые являются, однако, той тканью, из которой создается экзи-
стенциальный рисунок сущего — его лик. Поэтому стремление «за-
латать» эти разрывы на ткацком станке логики приводит к стира-
нию лика в абстрактной гомологии рода23.
Таким образом, Платон и Аристотель сталкиваются с одной про-
блемой, которая, однако, осмысливается ими различным образом.
Так, если в центре размышлений Аристотеля находится проблема
множественности значений сущего, то Платон исходит из факта
понятийной неопределимости идеи. Идея, как изначальная откры-
тость сущего, есть его смысл. Определение сущего, наделение его
75
предметным значением возможно именно в горизонте этой изна-
чальной открытости. Другими словами, еще до того, как я способен
определить, что есть данное сущее, я должен обладать интуицией
понимания того, что оно естЪ; Всякий вопрос «что есть это?» име-
ет в качестве предпосылки онтологическое полагайие «это то, что
есть». Смысл всегда открывается; он никогда не может быть опре-
делен, ибо всякое определение возможно лишь в горизонте смысла.
Между смыслом (идеей) и значением (понятием) прослеживается
та же онтологическая несоизмеримость, которая обнаруживается
между сущим и его атрибутами. Понятие —это всего лишь тень
существования, отбрасываемая существующим в солнечном свете
идеи. Поэтому осознание несоизмеримости идеи и понятия развива-
ется у Платона в диалектику как особое искусство понятийного вы-
ражения идеи. Цель диалектики является, таким образом, исклю-
чительно апофагической и состоит она не в понятийном определе-
нии идеи, а в смысловом очертании понятия. Понятие — это мысль,
очерченная контуром смысла, или мысль, скованная формой, ко-
торую она обретает, двигаясь в трансцендентном горизонте идеи.
Именно трансцендентный синтез мысли и смысла как формаль-
ного начала дает понятие как форму мышления. Сократические
диалоги Платона являются в этом смысле «возгонкой» понятий;
заставляя мысль двигаться в горизонте идеи прекрасного, справед-
ливого, Платон создает понятия прекрасного, справедливого и т. д.
Каждая сократическая беседа —это апофасис идеи, в процессе ко-
торого каменотес Сократ высекает конечные конфигурации идеи —
ее понятия, из которых Аристотель и сложит здание формальной
логики. Вместе с тем никакой, сколь угодно полный набор понятий
не способен исчерпать содержание идеи, что было бы равнозначно
превращению идеи в понятие и исчезновению горизонта смысла.
Само понятие имеет смысл лишь до тех пор, пока оно держится в
трансцендентном горизонте идеи, не посягая на то, чтобы подме-
нить собой идею. «Жизнь по понятиям» всегда оказывается ничем
иным, как тьмой «беспредела».
Потрясающая драма сократовской диалектики заключается в
невозможности понятийного определения идеи. Диалектика явля-
ется поэтому особым искусством такого сочетания понятия и идеи,
чтобы идея просвечивапа в понятии. В случае же отождествления
идеи и понятия диалектика вырождается в техническое искусство
оперирования понятиями. Так диалектика понимается уже в сред-
76
невековой философии, где ей отводится промежуточное положение
между логикой и риторикой. Кульминацией этого процесса можно
считать гегелевскую «Науку логики», в которой диалектика истол-
ковывается как логический процесс самоопределения идеи24. След-
ствием этого становится разделение на две логики диалектиче-
скую и формальную, будто бы относящиеся друг к другу так, как
алгебра относится к арифметике, а также представление об особом
«диалектическом методе», применение которого должно само по
себе гарантировать истинное познание реальности. Именно в такой
деформированной онтологической перспективе и появляется марк-
систская диалектика как пресловутое единство онтологии, логики
и теории познания.
Таким образом, платоновская диалектика есть в своей сути кри-
тика идей, так что результатом этой критики является понимающее
различение идеи и понятия. Идея, как трансцендентный горизонт
смысла, не может быть охвачена понятиями: смысл актуально пре-
восходит весь возможный набор его значений. Граница, разделяю-
щая идею и понятие, — это граница между единым и тождествен-
ным. Поскольку же единое не может быть охвачено тождествен-
ным, то тождество входит в состав единого как его собственная
модальность.
Именно в этом заключается принципиальная аналогичность бы-
тия, которая отнюдь не совпадает со средневековой «аналогией су-
щего» и не исчерпывается ей. То, что здесь именуется аналогично-
стью бытия, подразумевает, прежде всего, такой род единства, сама
возможность которого коренится в том, что единство не есть род.
Универсальность бытия, не являясь универсальностью рода, пред-
ставляет собой особое дисконтинуальное единство, которое включа-
ет в себя тождество, а вовсе не охватывается им. Тождество — это
одно из значений единого. Так, в «Метафизике Δ» Аристотель на-
зывает следующие значения единого: «Одни вещи, — говорит он, —
едины по числу, другие — по виду, иные по роду, а иные - по соот-
ношению (καΌ αναλογιαν)», причем едиными по соотношению (ана-
логии) являются две вещи, которые находятся друг к другу в таком
же отношении, как нечто третье к чему то четвертому»25. Таким
образом, единое есть: 1) число, 2) вид, 3) род, 4) аналогия. Послед-
няя является некоей формой транзитивности, которую можно уста-
новить как между вещами, так и между родами сущего. Греческая
аналогия — это отношение пропорции как определенная диспозиция
77
внутри сущего. Для того чтобы античная аналогия превратилась
в средневековую analogia entis, необходима совершенно иная онто-
логическая перспектива, в которой бытием в собственном смысле
признавалось бы не само сущее, а исключительно сверхсущее. Ана-
логичность бытия не совпадает ни с греческой, ни со средневековой
аналогией. Напротив, она коренится в том, что род, как и аналогия,
выступает модальностью Единого.
Аналогичность бытия содержится в том неустранимом разли-
чии, которое пролегает между тем, что есть вещь, и тем, что она
есть, между бытием и «чтойностыо». Из этого различия происте-
кает множественность того, что есть сущее, которое, прежде все-
го, выражается множественностью его проявлений. Синонимия су-
щего представляет собой опосредующий момент самого сущего и
становится достижимой лишь ценой замещения сущего субъектом
возможных определений. Однако как только эта множественность
проявлений бытия сущего сводится в синоптическую точку «чтой-
ности» и замыкается понятием, так сразу же дает о себе знать мно-
жественностью значений того, что есть сущее. Значения сущего
относятся к субъекту как заместителю, или аналогу, сущего по-
средством категорий как основных экзистенциальных индикаторов
«чтойности». Поэтому если и искать в аристотелевских рассужде-
ниях прообраз средневековой analogia entis, то найти его можно
только на уровне атрибуции — той процедуры, в процессе которой
различные «свойства» приписываются одному субъекту в катего-
риальных формах высказываний. Отсюда вовсе не следует, будто
у Аристотеля имеется особая аналогия атрибутивности, выделяв-
шаяся в Средние века наряду с аналогией пропорциональности.
Напротив, атрибутивность как таковая является отражением из-
начальной аналогичности сущего.
Поэтому-то в заданной Аристотелем онтологической перспек-
тиве оказывается невозможной какая-либо «дедукция» категорий.
Категории есть основные, предметные индикаторы «чтойности» су-
щего. Но поскольку бытие несводимо к «чтойности», то получает-
ся, что нет и быть не может того единого принципа, который бы
лег в основу классификации категорий. Категории не выводятся,
а задаются определенным способом вопрошающего наведения, при
котором сущее спрашивается о том, что оно есть. Только в пер-
спективе той предельной эссенциализации бытия, которая обозна-
чилась в качестве доминирующей тенденции платонизма и против
78
которой направлен главный аристотелевский тезис «бытие не яв-
ляется родом», категории становятся региональными знамениями
бытия, его видами. Для того же, чтобы стала возможной дедукция
категорий, необходима совсем иная онтологическая перспектива, в
которой субъект уже овладел бытием настолько, чтобы в качестве
«мыслящей вещи» (res cogitans) стать его синонимом.
Все это подводит нас к вопросу о единстве категориальной
структуры. Чем обеспечивается это единство? Прежде всего, в ос-
новании категориальной структуры сущего лежит категория сущ-
ности (так называемая «вторая» сущность), указующая на то, что
есть вещь. Сущность обладает поэтому исключительным статусом
онтологической, субстанциальной категории, по отношению к кото-
рой остальные девять категорий носят вторичный, акцидентальный
характер. В этом смысле категория сущности выступает трансцен-
дентальным основанием категориальной структуры. Однако можем
ли мы считать категорию сущности тем предельным основанием,
которое позволяет понять природу единства категориальной струк-
туры сущего? Не является ли само это единство сущности загадоч-
ным? В чем же, в таком случае, состоит эта загадочность сущно-
сти?
Сущность есть центральная категория сущего. Однако сущее
(единое), как мы уже видели, не входит в перечень реальных пре-
дикатов. Реальный характер предиката заключается в том, что он
выражает собой то или иное значение сущего; значения же преди-
катов определяются в соответствии с категориями как предметны-
ми индикаторами сущего. Такие высказывания, как «Сократ есть
мудрец» и «Сократ есть сидящий», различаются между собой тем,
что их предикаты относятся к различным категориальным родам:
в первом случае — к категории качества, во втором — к категории
положения. Поэтому-то мудрый Сократ —это не то же самое, что
сидящий Сократ. Высказывание же «Сократ есть сущий» не бу-
дет суждением по той причине, что «сущий» является здесь преди-
катом с нулевой степенью значимости, т.е. псевдопредикатом. Ре-
альный характер предиката «сущий» означал бы только одно — то,
что «сущее» есть наивысшая категория, обозначающая бытие как
универсальный род всего существующего. Таким образом, сущее
(единое) не подпадает ни под одну категорию. Сущее как единое —
транскатегориально. Этот транскатегориальный характер сущего
проявляется в том, что сущее сказывается ровно в стольких зна-
79
чениях, сколько имеется категорий. «Бытие же, - говорит Аристо-
тель, - приписывается всему тому, что обозначается через формы
категориального высказывания, ибо сколькими способами делают-
ся эти высказывания, в стольких же смыслах обозначается бытие. А
так как одни высказывания обозначают суть вещи, другие -- каче-
ство, иные — количество, иные -- отношение, иные действие или
претерпевание, иные—■ "где", иные "когда", то сообразно с каж-
дым из них те же значения имеет бытие»26. Сущее — не категория,
но каждая категория представляет собой специфический модус су-
щего, не являясь ни в коей мере выражением сущего как таково-
го. Су шее как бы проходит сквозь категории как единое, не бу-
дучи захвачено ни одной из них, но оставив, однако, в каждой свой
след.
Таким образом, транскатегориальный характер сущего с новой
стороны приводит нас к прежнему выводу: то, что есть вещь, не
есть вещь как некое «что». Другими словами, сущее в силу сво-
ей транскатегориальности не содержится в сущности как катего-
рии. Отсюда следует, что имеется трансцендентное основание самой
сущности как категории, которое никоим образом не схватывается
и не может быть схвачено категориальным анализом сущего. По-
этому нашей ближайшей задачей является определение природы
того изначального единства, которое лежит в основании сущности
как основания категориальной структуры, расслаивая в дискретное
множество совокупность значений сущего. Категория сущности —
это основаЕше единства категориальных родов; наша задача — отыс-
кать единство этого основания. Иначе говоря, мы должны выявить
смысл изначального единства сущего как λέγεται πολλαχώς. Вме-
сте с тем должен быть окончательно разъяснен вопрос о природе
общего.
Выявление трансцендентного единства категориальной струк-
туры требует выхода за ее рамки. Однако в каком направлении
следует искать этот выход? Сам Аристотель дает нам для этого
путеводную нить. Разъяснив в только что приведенном рассужде-
нии, в каких смыслах обозначается бытие, Аристотель сразу же
переходит к иным, некатегориальным рубрикациям сущего. «Да-
лее, — говорит он, - "бытие" и "есть" означают, что нечто истинно,
а "небытие" — что не истинно, а ложно, одинаково при утверждении
и отрицании»27. Истина, как и не-истина, является особой рубрика-
цией сущего, не совпадающей по смыслу со значением логического
80
утверждения и отрицания. Поэтому «высказывание "Сократ есть
образованный" истинно, или "Сократ есть небледный" тоже истин-
но; а высказывание "диагональ не есть несоизмеримая" ложно»28.
Истина не сводится к формальному тождеству субъекта и пре-
диката, вследствие чего она не может быть определена исключи-
тельно через формы категориальных высказываний; в этом смыс-
ле суждение вовсе не является привилегированным «топосом» ис-
тины.
Однако существует еще одна некатегориальная рубрикация су-
щего: «Кроме того, бытие и сущее означают в указанных случаях,
что одно есть в возможности, а другое —в действительности»29.
Тем самым возможность и действительность вовсе не рассматрива-
ются Аристотелем как категории, в отличие от трансцендентальной
аналитики Канта, где они представлены в качестве категорий мо-
дальности. Однако именно это «упущение» является, как мы уви-
дим в дальнейшем, свидетельством глубоко аутентичного характе-
ра аристотелевской метафизики.
Таким образом, в «Метафизике Δ» Аристотель намечает объ-
емную классификацию сущего, частью которой выступает сущее
в значении категориальных форм высказываний. Более рельефно
эта классификация представлена в «Метафизике Е»: «А так как о
сущем вообще говорится в различных значениях, из которых одно,
как было сказано, — это сущее в смысле при входя щего, другое — су-
щее в смысле истины (и не-сущее в смысле ложного), а кроме того,
разные виды категорий, как, например, суть вещи, качество, коли-
чество, "где", "когда" и еще что-нибудь, что может быть обозначено
этим способом, а затем, помимо этого, сущее в возможности и сущее
в действительности, — то прежде всего следует сказать о сущем в
смысле привходящего, что о нем нет никакого учения»30. Тем са-
мым поскольку о сущем в значении привходящего не может быть
никакой науки, то вырисовывается следующая классификация су-
щего: «О сущем и не не-сущем говорится, во-первых, в соответствии
с видами категорий; во вторых, как о сущем и не-сущем в возмож-
ности или действительности применительно к этим категориям и к
тому, что им противоположно; в-третьих, в самом смысле сущее
это истинное и ложное, что имеет место у вещей через связывание
или разъединение... »31
Итак, поставленная нами задача поиска единства основания ка-
тегориальной структуры обретает четко очерченный τέλος: для то-
81
го чтобы выявить изначальное единство категориальной структу-
ры сущего, необходимо выйти за рамки категориального анализа; в
свою очередь, для того чтобы выйти за рамки категориального ана-
лиза, необходимо рассмотреть сущее в некатегориальных аспектах,
и прежде всего как сущее в возможности и сущее в действительно-
сти.
Глава V
СУЩЕЕ В ВОЗМОЖНОСТИ
И СУЩЕЕ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ОБЩЕГО КАК
ТО ΤΙ ΗΝ ΕΙΝΑΙ.
БЫТИЕ СУЩЕГО КАК ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Прежде чем приступить к заключительной части нашего анали-
за основных позиций аристотелевской «Метафизики», необходимо
остановиться и сделать краткое резюме того, что уже было сказано.
Главным моментом критики Аристотелем платоновской теории
эйдосов является указание на то, что сущностью вещи является не
отчужденный от нее эйдос, в причастии которому состояло бы ее
бытие, а сама вещь: сущность есть само сущее. Это задает совер-
шенно иную онтологическую перспективу, в которой бытие вещи
может быть описано как определенная последовательность разли-
чий в самой вещи. Так, уже ближайший обзор сущего выявляет
принципиальную множественность этого «есть», которая на исход-
ном, феноменологическом уровне предстает как множественность
действенных проявлений сущего. Тем самым уже намечается пер-
вое онтологическое различие как различие бытия и сущности. Су-
щее — το ον — представляет собой динамическое сопряжение бытия
(το είναι) как действия, и сущности (ουςία) как состояния. Сократ
являет себя в совокупности действенных проявлений своей приро-
ды, сохраняя при этом свою идентичность, не переставая ни на
мгновение быть этим Сократом. Сущность выступает тем самым
как λεγομενον, поскольку какое-либо высказывание о сущем воз-
можно только в опоре на сущность как на единое. Аристотелев-
ское προς; εν λεγομενον как раз и подразумевает отношение множе-
83
ственности проявлений бытия сущего к единству сущности, которое
позволяет сущему быть сказанным. Это отношение не является от-
ношением синонимии, поскольку то единое (εν), в котором как в
фокусе собирается множественность проявлений бытия, не образу-
ет единства рода; вместе с тем оно не сводится и к омонимии в силу
того, что единство сущности не является единством только имени.
Однако каким образом это единство сущности может быть ска-
зано? Сказать что-либо о вещи мы можем лишь в опоре на то, что
есть вещь, т.е. фиксируя вещь в ее родовой определенности. Мы
можем сказать что-либо о Сократе только как о человеке. Опо-
рой всякого суждения выступает сущность в значении «чтойно-
сти». Так, происходит метафизическое транспонирование сущего,
в котором сущность — то, что есть сущее — выражается в форме
понятия — того, что есть сущее. Вместе с тем появляется «вторая
сущность» как превращенная форма первой сущности — самого су-
щего. Следующим онтологическим различием, которое вырисовы-
вается в самом сущем, является поэтому различие между самим
сущим как «первой сущностью» (τοδε tl) и «второй сущностью» (τό
τι ην είναι) как его понятием. Понятие, как «вторая сущность», вы-
ступает внутренней формой сущего, фундаментальным значением
его бытия — категорией. Значения бытия сущего выстраиваются во-
круг «второй сущности» как центральной категории, группируясь
по нескольким категориальным родам. Основанием категориальной
структуры является, таким образом, категория сущности, фикси-
рующая вещь в том, что она есть, так что бытие вещи рассыпается
в дискретную множественность значений, создавая экзистенциаль-
ный контур «чтойности» как эссенциального ядра вещи.
Здесь перед нами возникает следующее онтологическое разли-
чие: между тем, что есть вещь, и тем, что она есть. В самом
деле, тождество бытия и «чтойности» обернулось бы полной си-
нонимией сущего, чреватой всеми апориями платоновской эйдети-
ки. Поэтому, как уже говорилось, бытие прорастает сквозь «чтой-
ность», выражаясь дискретной множественностью значений того,
что есть вещь. Эта несоизмеримость бытия и «чтойности» под-
черкивается транскатегориальным характером сущего; сущее (еди-
ное) — не категория; категория сущности сама является специфи-
ческим модусом сущего. Таким образом, сущее есть то изначаль-
ное единство, которое образует трансцендентное основание катего-
риальной структуры. Поэтому, для того чтобы выяснить природу
84
изначального единства категориальной структуры, нам необходи-
мо рассмотреть сущее в некатегориальных аспектах возможности и
действительности: «А так как о сущем говорится, с одной стороны,
как о сути вещи, качестве или количестве, с другой — в смысле воз-
можности и действительности, или осуществлении, то исследуем
также более подробно различие между возможностью и действи-
тельностью; и прежде всего между нею и возможностью в самом
собственном смысле слова, который, однако, не имеет значения для
настоящей цели. Ибо "возможность" и "действительность" прости-
раются не только на находящееся в движении»1. Однако каким об-
разом возможен обзор сущего в модальностях возможности и дей-
ствительности? Что нам может дать такой обзор?
Прежде всего, что такое «возможное» (δύναμις), которое Ари-
стотель отличает от возможного «в самом собственном смысле сло-
ва», не имеющего значения в целях того исследования возможно-
го и действительного, которое предпринято в «Метафизике Θ»?
Возможное в собственном смысле слова связывается с движени-
ем (κινησις), которое представляет собой наглядный образ перехода
возможности в действительность. Так, движение любого тела имеет
цель (τέλος), которая в то же время есть и предел движения (πέρας).
Действительность движения есть в таком случае осуществленность
как пребывание в цели движения ~ εντελέχεια. Однако «возмож-
ное» в значении движения является предметом физики; что же
касается метафизики, то здесь необходимо брать «возможность»
в другом значении. В каком же?
Сократ, беседующий с друзьями за чашей вина, предста-
ет как определенная, налично существующая действительность
(εντελέχεια), прежде всего потому, что он являет себя в совокупно-
сти действий— движений, жестов, слов... Эта совокупность дей-
ствий исходит из живого экзистенциального ядра — личности са-
мого Сократа. В этом первичном значении Сократ есть опреде-
ленная сущность (ουςία), иррадирующая непрерывными потоками
своих действенных проявлений. Суждение «Сократ есть человек»
производит поэтому некую онтологическую метаморфозу: место эк-
зистенциального ядра занимает эссенция «человек» (вторая сущ-
ность), вследствие чего это экзистенциальное ядро (первая сущ-
ность) рассыпается в дискретную множественность значений, соби-
раемых в категории. Прибегая к метафоре, можно сказать, что зна-
чения — это осколки экзистенциального ядра сущего. Теперь нам
85
следует внимательнее присмотреться к эссенции «человек», той са-
мой «второй сущности», которую Аристотель выражает странным
импсрфектным оборотом τό τι ην είναι - то, что стало быть. Если
Сократ есть человек, то каково в таком случае бытие «человека»?
Прежде всего, понятие «человек», поскольку оно относится к
любому человеку, являет собой форму тождества. Так, Сократ, Ме-
лет и Анит тождественны именно в том, что каждый из них — че-
ловек. Таким образом, в понятии «человек» бытие Сократа стано-
вится совершенно неразличимо. Можно, разумеется, сказать, что
«человек» — это абстракция, которая, как нам это известно из учеб-
ников логики, представляет собой результат процесса абстрагиро-
вания. Сам же процесс абстрагирования выглядит как некая стери-
лизация вещи, как «вычитание» из нее «частных», несущественных
признаков с целью получения чистого понятия этой вещи. Это ло-
гическое истолкование абстракции относится к числу тех симуля-
кров, посредством которых логика задним числом маскирует свой
действительный генезис. Поэтому следует оставить в стороне гно-
сеологические толкования абстракции, задавшись вопросом: какова
онтологическая характеристика абстрактного понятия? Ответ на
этот вопрос может быть только следующим: понятие лишено дей-
ственности. Абстракция пуста, но не в силу известного логического
закона обратного отношения объема понятия к его содержанию, а
в силу того, что она ничего не излучает, не иррадиирует никаких
энергий. Понятие, являясь родом, в то же время не является родом
в более глубоком смысле рода; оно ничего не порождает. Понятие —
это антитеза действительности, и в этом смысле оно является чи-
стой возможностью. В этом смысле понятие —это конципирован-
ная возможность, или, другими словами, возможность, принявшая
«вид» сущего. В таком случае «человек» — не сущее, а некая воз-
можность быть сущим.
Здесь мы можем еще раз видеть лейтмотив аристотелевской
критики теории эйдосов: общее как таковое есть не бытие, а лишь
возможность бытия. Поэтому не имеет никакого смысла говорить
о «человеке-самом-по-оебе», о «доме-самом-по-себе» как об отдель-
но существующих эйдосах. Не общее является основанием бытия
сущего, а сущее, как отдельно существующая вещь, есть не что
иное, как бытие общего. Полагание же общего в качестве бытия су-
щего неизбежно оборачивается меонизацией всего существующего,
поскольку тем самым в основание сущего полагается возможность,
86
т. е. то, что не существует в действительности. В действительности
существует только эта отдельная вещь, суть бытия которой (τό
τί ήν είναι) позволяет рассматривать ее как элемент определенно-
го родового единства, как основание «чтойного» определения. «Из
вот этих рассуждений, ■— говорит Аристотель, — ясно, что сама от-
дельная вещь и суть ее бытия есть одно и то же не привходящим
образом, и это ясно еще и потому, что знать отдельную вещь —
значит знать суть ее бытия, так что и из рассмотрения отдель-
ных случаев следует с необходимостью, что обе они нечто одно»2.
Эйдос, трактуемый платониками как отдельно существующая сущ-
ность вещи, является определенным «видом» самой вещи. Отсюда
следует совершенно недвусмысленное утверждение: «Таким обра-
зом, ясно, что бытие каждой вещи, обозначенной как первичное
и само по себе сущее, сама эта вещь тождественны и составляют
одно»3.
Этот тезис аристотелевской критики платонизма является, од-
нако, всего лишь негативной частью этой критики, которую доволь-
но легко можно принять за критику в целом. Дело в том, что ари-
стотелевский тезис о тождестве бытия вещи и самой вещи истинен
только в негативном значении отрицания отдельного существова-
ния сущностей, но оказывается полностью ложным, если понимать
его в позитивном значении достаточно тривиального утверждения:
существуют только единичные, конкретные в своей осязаемой веще-
ственности вещи. В случае именно такого истолкования аристоте-
левской критики мы сталкиваемся с серьезными проблемами. Для
того чтобы выявить те проблемы, к которым приводит нас упро-
щенное, некритическое понимание аристотелевской критики теории
эйдосов, необходимо сам основополагающий тезис этой критики —
тезис о тождестве бытия вещи и самой вещи — продумать в свете
различия возможности и действительности.
Прежде всего, если «человек» в собственном смысле слова не су-
ществует, а существуют лишь Сократ, Кориск, Каллий, то получа-
ется, что «возможность» сама по себе лишена всякого бытия. Сле-
довательно, возможность как таковая суть ничто. Действительна
только существующая вещь, и только существующая вещь действи-
тельна. Возможность как антитеза действительности не существу-
ет. Тем самым получается, что бытие и сущее суть одно, поскольку
бытие есть действительность сущего как налично существующей
вещи. Именно в этом и состоит ложный позитивизм аристотелев-
87
ской критики платонизма, который самым радикальным образом
устраняет аутентичный смысл самой этой критики не как отри-
цания, а как различения. Этот ложный позитивизм самым удиви-
тельным образом проявляется в позициях мегарцев, которые Ари-
стотель подвергает тщательному критическому разбору в третьей
главе «Метафизики Θ».
«Некоторые, однако (например, мегарцы), утверждают, что
нечто может действовать только тогда, когда оно действительно
действует, когда же не действует, оно и не может действовать; на-
пример, тот, кто не строит дом, не может строить дом, а это может
лишь тот, кто его строит, — и подобным же образом во всех других
случаях»4. Позиция мегарцев представлена здесь самым емким, ла-
коничным образом. «Действительно действовать» — значит пребы-
вать в действительности действия. Так, дом действителен только
тогда, когда он строи гея или же когда он действительно существу-
ет как завершенная в самой себе телесная наличность существую-
щей вещи. Дом, существующий в планах или чертежах, не облада-
ет действительностью дома; такой дом не существует. Во всем этом
просматривается определенное понимание бытия сущего, которое
может быть выражено следующим образом: быть —значит суще-
ствовать в действительности. Бытие, как действительность того,
что существует, сводится тем самым к самому существованию. В
основе позиции мегарцев лежит поэтому своеобразное отождеств-
ление бытия и сущего: так, дом есть, когда он действительно есть.
«Нелепости, которые следуют отсюда для них, нетрудно усмот-
реть. Ведь ясно, что ни один человек в таком случае не будет и стро-
ителем дома, если он сейчас дом не строит (ведь быть строителем
дома — значит быть в состоянии строить дом); и так же будет обсто-
ять дело и с другими искусствами. Если же нельзя обладать такими
искусствами, не научившись ими когда-то и не усвоив их, и точно
так же —перестать обладать ими, иначе как утратив их когда-то
(либо из забывчивости, либо из-за несчастного случая, либо от про-
должительности времени, во всяком случае не из-за уничтожения
предмета — он ведь существует всегда), то может ли быть, чтобы че-
ловек больше не обладал искусством, а затем сразу же начал стро-
ить, каким-то образом приобретя его?»5 Очевидно, что нелепости,
о которых говорит Аристотель, проистекают из однозначного пони-
мания возможности и действительности у мегарцев; возможность
есть то же самое, что и действительность. Поэтому то, что воз-
88
можно, -- действительно, а то, что не действительно, — невозможно.
Отсюда и получается тот парадокс, на который указывает Аристо-
тель: не может строить дом тот, кто его не строит, даже если он
обладает искусством строительства в виде способности строить.
«И точно так же обстояло бы дело с неодушевленными пред-
метами: ведь ни одна вещь не будет холодной, или теплой, или
сладкой и вообще чувственно воспринимаемой, если ее не воспри-
нимают чувствами.-И поэтому им придется соглашаться с учением
Протагора»6. В самом деле, согласно учению мегарцев, получается,
что вещь действительна только в том случае, если она налична в ак-
те ее восприятия. Сладкое есть сладкое, когда оно воспринимается
как сладкое, т. е. пребывает в осуществлении тою, что воспринято.
Аналогично тому, как способность строить не является способно-
стью, если она не осуществляется здесь и сейчас, в актуальности
действия, так и сладкая вещь не является сладкой, если она не
воспринимается в качестве таковой. Позиция мегарцев становится,
таким образом, совершенно неотличима от позиции Протагора.
Резюмируя критику Аристотелем позиции мегарцев, отметим
еще раз, что в основе этой позиции лежит отождествление возмож-
ности вещи с ее действительностью; вещь, которая не действитель-
на, оказывается поэтому невозможной. Тем самым бытие, как дей-
ствительность сущего, есть само это сущее. Именно в этом заключа-
ется ложный позитивизм мегарцев, который, как показал Аристо-
тель, оборачивается как многими нелепостями, так и выводами со-
фистического характера. Избежать этих нелепостей можно только
при условии, если нам удастся различить возможность и действи-
тельность. «Если поэтому утверждать такое недопустимо, — гово-
рит Аристотель, — то ясно, что возможность и действительность —
не одно и то же (между тем приведенные взгляды отождествляют
возможность и действительность, а потому и пытаются опроверг-
нуть нечто немаловажное)»7. Однако необходимо провести это раз-
личение таким образом, чтобы, показав действительный характер
«возможного» и возможный характер действительности, исклю-
чить при этом тождество возможности и действительности. Это
предполагает, в свою очередь, определенное расширение понятия
Действительности, сводимого мегарцами к наличному существова-
нию вещи. Смысл бытия не может быть сведен к голой фактично-
сти существующей вещи; то, что есть, оказывается шире того, что
существует. Между бытием и существованием всегда проскаль-
89
зывает «иное» (έτερον), устраняющее всякую синонимию возмож-
ности и действительности. «Так что вполне допустимо, чго нечто,
хотя и может существовать, однако не существует, и хотя может и
не существовать, однако существует, и точно так же относительно
других родов сущего ■- то, что может ходить, не ходит, а то, что
может не ходить, ходит»8. Другими словами, то, что существует,
в некотором смысле не есть, а то, что не существует, в некотором
смысле есть. Это подводит нас к выводу, что бытие относится не
только к тому, что существует, но и к тому, что еще не существует.
Другими словами, имеется действительность того, что существует,
и действительность того, что способно к существованию. Эта спо-
собность к существованию выступает как бытие возможного. Так,
дом в чертежах и планах архитектора не существует, однако он
есть. В каком смысле возможное есть? Каким образом есть то,
что не существует?
Этот вопрос лучше всего рассмотреть, взяв «возможность» и
«действительность» в наиболее простой форме, — в форме движе-
ния. Движение действительно только тогда, когда имеется то, что
движется, и то, к чему направлено движение. Движение действи-
тельно только в цели, к которой оно стремится. Посредством цели
движение вбирает себя в самое себя, застывая в результате и оплот-
няясь в налично существующее состояние. Однако только ли в этом
состоит действительность движения? Уточним этот вопрос следу-
ющим образом: выражается ли способность к движению исклю-
чительно в самом движении? Тяжелое тело, поднятое над землей
на определенную высоту, обладает способностью движения к земле
как своему «естественному месту» даже тогда, когда оно находит-
ся в покое. Движение этого тела к земле представляет собой тем
самым чистую возможность, которая, однако, вполне действитель-
на. Движение (κίνησις) есть в таком случае переход от возможно-
сти, которая действительна к действительности, которая пока лишь
только возможна. Действительная возможность и возможная дей-
ствительность—это то, без чего невозможна действительность са-
мого движения. Устраняя действительность возможности, мегарцы
устраняли тем самым действительность самого движения, вслед-
ствие чего учение мегарской школы можно считать разновидностью
учения элеатов. Главным аргументом, к которому сводится крити-
ка Аристотелем взглядов мегарцев, сводится к тому, что отрицание
действительности возможного отрицает само движение. Мир обра-
90
щается в мертвую самотождественность неподвижных состояний,
б голую наличность существования.
Что же представляет собой действительность возможности, от-
сутствие которой делает невозможным движение? Действительная
возможность определяется Аристотелем как ενεργεία и рассматри-
вается пока исключительно в аспекте движения. «А имя ενεργεία,
связываемое с εντελέχεια, перешло и на другое больше всего от дви-
жений: ведь за ενεργεία больше всего принимают движение»9. Энер-
гия—это бытие возможности; возможность без энергии остается
пустой возможностью. Именно здесь находится критерий, позволя-
ющий различить возможное и невозможное. Если возможное, как
и невозможное, не есть, то в чем критерий их различия? — Воз-
можное «не есть» в смысле εντελέχεια; невозможное «не есть» в
смысле ενεργεία. Невозможное оказывается поэтому именно пустой
возможностью. «Если возможное таково, как было указано, или
согласуется со сказанным, то, очевидно, не может быть правиль-
ным утверждение, что вот это возможно, но не произойдет, так как
в этом случае ускользало бы от нас, что значит невозможное. Я
имею в виду, например, если бы кто, не принимая во внимание,
что значит невозможное, сказал бы, что диагональ может быть из-
мерена стороной квадрата, но никогда измерена не будет, потому
что ничто-де не мешает, чтобы нечто, имеющее возможность быть
или возникнуть, не было ни теперь ни в будущем»10. Сказать, что
диагональ может быть измерена стороной квадрата, нельзя именно
потому, что этой возможности не хватает бытия.
«Энергия», «способность», «движение» и «действительность» —
эти четыре понятия характеризуют не только простое движение
как таковое, но и образуют то, что можно назвать онтологической
структурой сущего. Энергия (ενεργέα) как бытие возможности есть
способность (δυναμίς), проявляющая себя в движении (κίνεσις) к
цели (τέλος), достижение которой означает действительность как
совершенную цельность (εντελέχεια) сущего, как завершение его в
своем собственном бытии. Эти понятия имеют, таким образом, не
только физическое значение, но и метафизический смысл. Каким
образом возможен переход от физического значения энергии как
Движения к ее метафизическому смыслу как основанию онтологи-
ческой структуры сущего?
Этот переход Аристотель осуществляет в шестой главе «Ме-
тафизики Θ», вводя следующее определение: «Итак, действитель-
91
ность - это существование вещи не в том смысле, в каком мы го-
ворим о сущем в возможности... а в смысле осуществления»11.
Метафизический смысл энергии — это осуществление (ενεργέα επί
πλέον), отличное от простого движения. Различие на движение и
осуществление является различием в самой энергии — как ενεργεία
κατά κίνησις и ενεργεία επί πλέον. Движение, как мы уже видели, ха-
рактеризуется направленностью к цели, которая вместе с тем есть
и предел движения. «Ни одно из действий, имеющих предел,— го-
ворит Аристотель, — не есть цель, а все они направлены на цель,
например цель похудания —худоба»12. Отношение предела и це-
ли определяется, таким образом, своеобразной диалектикой; пре-
дел есть цель, положенная вовне движения, а цель, существующая
помимо того, что стремится к этой цели, есть предел. Поэтому дви-
жение есть стремление к цели, которая, однако, не есть само дви-
жение. В этом как раз и заключается метафизическое объяснение
конечности движения; движение, достигая своей цели, которая не
есть само движение, упраздняет себя тем самым как движение. Так
происходит не только в случае простого механического перемеще-
ния тела, но и в случае органических изменений; цель похудения —
худоба, но худоба не есть похудение.
Чем же в таком случае является осуществление? Смысл энер-
гии как осуществления раскрывается Аристотелем в рассуждении,
которое является квинтэссенцией не только девятой книги, но и
всей «Метафизики»: «Но если в движении заключена цель, то оно
и есть действие. Так, например, человек видит —и тем самым уви-
дел, размышляет — и тем самым уже размыслил, думает — и тем
самым подумал (но нельзя сказать, что он учится — и тем самым
уже научился или лечится —и тем самым вылечился); и он живет
хорошо —и тем самым уже жил хорошо, он счастлив —и тем са-
мым уже был счастлив. Иначе действие это уже должно было бы
когда-нибудь прекратиться, так, как когда человек худеет; здесь
это не так, а, например, он живет — и уже жил. Поэтому первые
надо называть движениями, вторые— осуществлениями»13.
Таким образом, осуществление есть особого рода действие, це-
лью которого является само это действие. Иначе говоря, осуществ-
ление - это действие, не имеющее предела, т. е. действие, из са-
мого себя исходящее и в самое себя возвращающееся. При этом
осуществление отличается от движения особым характером своего
«уже»; так, человек мыслит и тем самым уже мыслил, он живет
92
и уже жил, он счастлив и уже был счастлив. Метафизический
смысл энергии весь без остатка собран в этом «уже», которое яв-
ляется подлинной мистерией бытия. Невозможно перейти в мысль
Из безмыслия, в жизнь - из смерти, стать счастливым, поднявшись
из пропасти отчаяния. Мысль, жизнь, счастье- это то, что есть, а
вовсе не то, что может быть или будет в силу определенных усло-
вий или стечения обстоятельств. Когда возникла эта мысль? Когда
ты начал жить? Когда ты стал счастлив? Все эти вопросы лише-
ны всякого смысла. Можем ли мы если и не раскрыть смысл этого
«уже», то каким-нибудь образом приблизиться к нему? Попытаемся
сделать это путем сопоставления осуществления с движением.
Движение есть действие, цель которого не есть само движение.
В чем выражается это самое «не есть»? Это «не есть» входит в
движение как момент темпорального различия. Движение — это то,
что, с одной стороны, еще не есть, в смысле цели, которую еще
только предстоит достичь, а с другой стороны, уже не есть, в смыс-
ле своего прекращения в достигнутой цели. Так, похудение — еще
не худоба, а худоба —уже не похудение. В отличие от движения,
осуществление имеет совершенно другую форму темпоральности,
а именно ту форму, которая является неким перфектным состоя-
нием. «То, что мы хотим сказать, становится в отдельных случаях
ясным при помощи наведения»14. Воспользуемся поэтому отдель-
ным примером, чтобы пояснить «при помощи наведения», что же
подразумевается под тем перфектным состоянием, которое харак-
теризует энергию в смысле осуществления.
Представим себе, что мы находимся на концерте классической
музыки, где в настоящий момент исполняется девятая симфония
Бетховена. Наше внимание полностью поглощено этим музыкаль-
ным произведением, так что наше присутствие в мире как бы суще-
ствует теперь в форме его восприятия: в настоящее время я и есть
слышимая мной девятая симфония Бетховена. Однако в какой мо-
мент мы слышим музыку Бетховена? Ведь в каждый отдельный
момент времени наши органы слуха улавливают только определен-
ную, конечную совокупность звуков. В таком случае получается,
что мы слышим некую последовательность звуков, которая post
factum складывается в законченный музыкальный текст, аналогич-
но тому, как смысл фразы складывается из последовательности ее
слов. Процесс восприятия музыкального произведения предстает в
таком случае в форме κίνησις, как постепенное складывание закон-
93
ченного музыкального целого в виде последовательности звуково-
го ряда. Однако, описывая процесс восприятия в терминах движе-
ния, мы сталкиваемся с парадоксом: наше восприятие музыкаль-
ного произведения должно быть потенциально бесконечно. Цель, к
которой приходит движение, Fie есть само движение. Поэтому девя-
тая симфония Бетховена, как целостность, как законченное в себе
музыкальное произведение, не может быть получена в виде эмпири-
ческой последовательности звукового ряда. Музыкальное произве-
дение, как произведение, есть действие как своя собственная цель.
А это означает, что целое произведения присутствует в каждом от-
дельном его моменте. Совершенное целое есть такое целое, которое
регенерирует как целое в каждой своей части, каждая часть кото-
рого равна целому. Стало быть, в каждое отдельное мгновение я
слышу все произведение целиком. Поэтому я слышу, и уже услы-
шал.
Это самое «уже» несет на себе колоссальную нагрузку темпо-
ральных коннотаций, которые необходимо подвергнуть специально-
му анализу. Что означает: слышу, и уже услышал? Очевидно, что
всякое «уже» заключает в себе момент прошедшего времени, то-
го, что имело место до настоящего состояния. Так, когда я говорю
«я уже жил в этом городе», то имею в виду определенный отрезок
времени, предшествующий тому состоянию, в котором я нахожусь
сейчас и находясь в котором говорю о том, что было раньше, когда
я жил в этом городе. Наречие «уже» имеет здесь значение закон-
ченного прошлого. Разумеется, я могу снова вернуться в город, в
котором я жил несколько лет тому назад. Однако мое возвращение
в этот город не будет возвращением в мое прошлое; мое возвраще-
ние не внесет в это прошлое никакого нового нюанса, никоим обра-
зом не сможет разомкнуть его себе-тождественность. Законченный,
завершенный характер «уже» присущ всякому движению, в силу
чего движение и может быть представлено в виде совокупности за-
конченных, тождественных себе состояний. Каков же смысл «уже»,
взятого как момент осуществления? Ясно, что когда мы использу-
ем наречие «уже» в значении осуществления, то оно имеет совсем
другие коннотации, чем те, которые присущи «уже» в значении
движения. Я слушаю музыку Бетховена, и уэюе слышал. Это озна-
чает только то, что мое переживание музыки Бетховена всякий раз
опережает кинестетический процесс ее восприятия, так что всякое
актуальное состояние меня, слушающего музыку Бетховена, дано
94
мне только в модусе моего прошлого: я могу воспринимать только
то, что уже мной воспринято. Всякое локальное восприятие воз-
можно только в интуиции целого, которое не может быть дано ни в
каком наличном восприятии; всякий момент актуально пережива-
емого настоящего возможен только в горизонте будущего, по отно-
шению к которому этот момент настоящего оказывается моментом
прошлого. Таков подлинный, освобожденный от мифологической
оболочки смысл платоновского ανάμνησις: понимать в собственном
смысле этого слова можно только то, что уже понято. Здесь же
находится бытийный исток «вечного возвращения» Ницше. Тем са-
мым «уже» означает здесь не законченное прошлое, как в случае
движения, а реальное присутствие будущего. Именно присутствие
будущего дает ту совершенную полноту прошедшего, которая вся
собрана «здесь» и «сейчас», в действительности настоящего.
Энергия в значении ενεργεία επί πλέον выражает, таким образом,
особые перфектные состояния, некие сингулярности, которые нуж-
даются в специальном рассмотрении. Какова природа этих сингу-
лярностей? В поисках ответа на этот вопрос нам необходимо вновь
вернуться к феномену движения.
Движение, в самом общем значении, есть переход от возможно-
сти к действительности. Вместе с тем, как мы уже знаем, сама воз-
можность движения предполагает действительность такой возмож-
ности. Всякое движение характеризуется взаимообменом темпо-
ральных модальностей; возможное должно быть действительным,
а действительное — возможным. Возможная действительность есть
цель движения, которая именно как цель (τέλος) является действи-
тельностью движения —его началом (αρχή). Невозможное не есть
действительность именно потому, что оно не имеет τέλος.
Однако движению присуща такая черта, как незавершен-
ность. «Ведь всякое движение незакончено — похудание, уче-
ние, ходьба, строительство; это, разумеется, движения и имен-
но незаконченные»15. Здесь перед нами вполне может возникнуть
недоуменный вопрос: в каком смысле движение имеет незакончен-
ный характер? Разве движение, достигшее своей цели, не является
тем самым законченным движением? До тех пор, пока тяжелое тело
движется к земле, можно говорить, что оно еще не закончено; одна-
ко движение данного тела завершается, как только оно достигает
земли. Дело в том, что незаконченность движения, о которой гово-
рит Аристотель, имеет не предметно-онтический, а онтологический
95
характер. В этом сугубо онтологическом смысле всякое движение
является имперфектным состоянием, которое характеризуется осо-
бой темпоральностыо своего «уже». «Ибо неверно, что человек в
одно то же время идет и уже сходил, строит дом и уже постро-
ил его, возникает и уже возник или двигается и уже нодвинулся,-
все это разное, и так же разное «движет» и «подвинул». Но одно
и то же существо в то же время увидело и видит, а также думает
и подумало. Так вот, такое действие я называю осуществлением,
а то —движением»16. Настойчивость, с которой Аристотель два-
жды, в границах одного абзаца, подчеркивает различие движения
и осуществления, никоим образом не является простым повторени-
ем уже сказанного. Указав на темпоральный смысл, который имеет
«уже» в случае ενεργεία επί πλέον, Аристотель обращает внимание
на своеобразный характер этого «уже» в значении ενεργεία κατά
κίνησις. Дом, который я строю, еще не построен; потому-то и нельзя
сказать, что я строю, и уже построил. Это «уже», присущее движе-
нию, выражается поэтому отрицательной модальностью «еще не»,
указывая тем самым на то, что будущее не обладает здесь характе-
ром реального присутствия. Дом, который я строю, не присутству-
ет «здесь» и «сейчас», а возникает в результате последовательности
тех действий, которые направлены на его строительство. Таким об-
разом, «уже» в случае движения- это серия точечных отложений,
производимых движением на пути к той цели, которая никоим об-
разом еще не есть. Другими словами, «уже» —это последователь-
ность градаций «еще не», вплоть до последней градации, означа-
ющей переход в наличное «есть», в котором последовательность
«еще не» переходит в обратносимметричную последовательность
«уже нет».
Таким образом, движение незакончено в двойном отношении:
строящийся дом еще не построен; построенный дом уже не стро-
ится. Начало движения исчерпывает себя в цели, которая не есть
начало. Здесь обнаруживается своеобразная диалектика движения.
Цель действительна только как начало движения. Однако цель, ко-
торой достигает движение, отрицает начало, поскольку представля-
ет собой конец движения (πέρας). Движение действительно в пол-
ном смысле этого слова лишь в отношении к цели, которая есть
начало. То, что Аристотель называет осуществлением, как раз и
является полной действительностью движения. Поэтому та цель,
которая в качестве конца движения отрицает начало, упраздняет
96
само движение, лишая его характера действительности. Эта свое-
образная действительность-недействительность движения состоит
в том, что движение не может совпасть с собой в единстве начала и
цели; начало движения есть его цель, но его цель есть конец нача-
ла. Начало и цель не совпадают здесь в высшем единстве, так как
это происходит в случае осуществления. Осуществление представ-
ляет собой чистое энергийное единство начала и цели, где цель ееть
начало, а начало — уже есть цель. Это «уже» воплощает в себе наи-
высшую полноту бытия (εντελέχεια) как пребывание в τέλος своего
осуществления. Незаконченность движения, таким образом, выра-
жается тем, что оно не может собраться в полную энтелехию своего
существования. Движение всегда между тем, что еще будет, и тем,
что уже было. Поэтому «уже» движения являет собой не высшую
полноту своего бытия, а состояние неустранимой имперфектности;
движение, которое не достигает энтелехии, предстает как свое соб-
ственное незаконченное прошлое. Тем самым именно конечность
движения является онтологическим признаком его незавершенно-
сти; завершенным может быть только то, что не является конеч-
ным.
Таким образом, движение характеризуется принципиальной
диссоциацией начала и цели, в которой и заключается его неза-
вершенность. Эта незавершенность движения проливает свет на
интимную связь движения и времени, в силу которой движение во
все времена служило наглядным образом времени. Движение столь
же незавершимо, как и время, которое не может само по себе сло-
житься в «полноту времен». Движение, присущая ему темпораль-
ность выражаются возможностью, которая еще не действительна,
и действительностью, которая уэюе не является возможной. Воз-
можность и действительность являются поэтому темпоральными
характеристиками движения. Взятые же сами по себе, вне отноше-
ния к движению, они «застывают» в оппозиции общего и единич-
ного. Возможность, взятая сама по себе, и есть не что иное, как
общее. Что такое «человек», как не возможность быть Сократом,
Кориском или Каллием? Что такое Сократ, как не действитель-
ность, как не воплощенная этим вот человеком возможность, — то,
чем эта возможность стала быть! Общее, в его онтологическом
смысле, есть момент темпорализации сущего. Но если общее отры-
вается от своего темпорального истока, то в этом случае оно обособ-
ляется в эйдос, характеризуемый вечностью своего существования.
97
Возможность такого разрыва коренится в самой темпоральности
движения. Как мы уже знаем, начало движения отрицается его
концом, а процесс «снимается» результатом. Движение переходит
в статику результата, вследствие чего возможность теряет прису-
щую ей энергийность: общее есть возможное, лишенное энергий-
ности. Поэтому и становится довольно легким переход к общему
как самостоятельной, вечно существующей сущности. В силу этого
обстоятельства платоновская эйдетика является своего рода темпо-
ральной мистификацией сущего. Действительность есть осуществ-
ленная возможность. Эйдетика представляет собой поэтому неза-
конное разосуществление действительности, результатом которого
становится существующий вне всякого времени эйдос. Странный с
позиции речевых канонов оборот το τί ήν είναι — то, что стало быть,
используемый Аристотелем для обозначения «второй сущности»,
оказывается необходим именно как постоянное указание на темпо-
ральный характер общего. Сущее есть то, что «стало быть», т. е.
осуществленная и энергийно запечатленная этим вот сущим воз-
можность, в силу чего само это сущее и может быть представлено
основанием (ϋποκέιμενον) общего, т. е. стать субъектом возможных
определений.
Общее есть снятая, претворенная в действительность единич-
ного существования возможность бытия данной действительности.
Именно возможность бытия есть основание субъекта как бытия
этой возможности. Логика, как специфический логос сущего, пред-
ставляет собой своего рода «обратную перспективу» сущего, про-
екцию его в модальности возможного. Высказывание «Сократ есть
человек» определяет Сократа в его главной онтологической мо-
дальности — в возможности бытия человеком. Основополгьгающий
закон логики — закон противоречия — характеризует поэтому про-
тиворечие как привацию возможности; возможным может быть
только то, что не является внутренне противоречивым. Таким об-
разом, онтологическим основанием субъекта как логического ос-
нования является ενεργεία κατά κίνησις. Конечный результат дви-
жения претворяет в себе его возможность таким образом, что са-
ма возможность теперь «просвечивает» в результате как «общее».
Глиняный горшок, как результат деятельности гончара, есть общее
понятие «горшок», представленное этим вот горшком, который я
могу взять в свои руки. Именно поэтому не существует и не может
существовать логического перехода от единичного к общему. Нель-
98
зя получить общее путем индукции, суммируя определенную сово-
купность единичностей, поскольку в основе такой индукции всегда
будет находиться логическое petito principi — выведение общего, ко-
торое усисе предполагается в единичном. Столь же тщетной оказы-
вается попытка вывести единичное аналитически, путем дедукции.
Возможность индукции общего из единичного, равно как и дедук-
ции единичного из общего, не существует точно в той мере, в какой
отсутствует необходимость таких логических переходов. Общее все-
гда уже в единичном как претворенная в нем возможность.
Таким образом, сущее может быть представлено в перспективе
общего только в том случае, если оно является конечным результа-
том деятельности. Именно конечность в смысле законченности дви-
жения есть онтологическое основание общего. Однако конечность,
как мы знаем, является признаком незавершенности. Завершенное
в самом себе действие предполагает единство начала и цели, когда
начало —уже есть цель, а цель —начало. Такое действие заверше-
но в самом себе, причем именно как завершенное действие оно не
является конечным. Это—«вечное возвращение», как возвращаю-
щееся в себя исхождение из самого себя. Поэтому завершенное в
себе действие не может стать субъектом логического определения.
Здесь намечаются строгие границы между логикой и онтологией.
Завершенное действие есть особая сингулярность (но не единич-
ность), представляющая собой совершенное единство возможности
и действительности, которое никоим образом не поддается разло-
жению на субъект и предикат. Логика принципиально формальна,
но не в значении расхожего утверждения, что она будто бы зани-
мается исключительно «формами мышления». Логика формальна
потому, что она всегда исходит из общего, никогда не достигая при
этом единого.
Именно здесь открывается возможность уяснения смысла ари-
стотелевской критики платонизма, не имеющей ничего общего с тем
ложным позитивизмом, который сводит бытие сущего исключи-
тельно к существованию единичных вещей, провоцируя тем самым
известный софистический парадокс: поскольку существуют только
единичные вещи, то какое-либо высказывание о них делается невоз-
можным, так как всякое высказывание необходимо включает в себя
общие понятия. Смысл аристотелевской критики эйдосов не в отри-
цании общего, а в выявлении его настоящего онтологического ста-
туса. Выявление же онтологического статуса общего должно быть
99
ведомо вопросом: когда сущее есть в возможности? Этим вопросом
открывается седьмая глава «Метафизики Θ»: «А когда та или дру-
гая вещь есть в возможности и когда нет, — это надо выяснить: ведь
не в любое время она есть в возможности»1Т. Сам этот вопрос таит в
себе опасность определенной онтологической аберрации. Поскольку
возможное предшествует действительности во времени, то можно
предположить, что возможность обладает онтологическим приори-
тетом по отношению к действительности. В самом деле, ведь еще
до того, как глиняный горшок произведен мастером, он существу-
ет в возможности его произведения. Тем самым получается, что
возможность онтологически первична. Однако здесь мы должны
снова вернуться к тому положению, которое уже высказывалось
в связи с критикой позиции мегарцев: возможность только тогда
способна стать действительностью, если сама она действительна.
В противном случае позиция мегарцев, со всеми ее крайними вы-
водами, становится непреодолимой. Действительная возможность
есть способность к действию, которая есть само действие (ενεργεία).
Недействительная возможность — это возможность, не содержащая
в себе никакой способности, т. е. фактическая невозможность.
Этот действительный характер возможности можно рассмот-
реть на примере того, что Аристотель называет возможностью, ос-
новывающейся на разуме, которая состоит в выборе человеком той
или иной возможности. Все неодушевленное, говорит Аристотель,
способно только к одному действию, тогда как одаренное разумом
существо — человек — способен к противоположным действиям: «И
одни и те же способности, сообразующиеся с разумом, суть начала
для противоположных действий, а каждая способность, не осно-
вывающаяся на разуме, есть начало лишь для одного действия»18.
Поскольку разум обладает собственной активностью и ни в коем
случае не является пассивным воспреемником воздействий окружа-
ющего мира, то его действия нельзя представить как некую «равно-
действующую» тех воздействий, которые он испытывает. Физиче-
ский детерминизм «отменяется» активностью разума как присущей
ему свободой выбора. Свобода же выбора заключается в способно-
сти разума опираться исключительно на самого себя в решении
относительно тех возможностей, которые имеются у человека. Эта
свобода выбора есть та особая ситуация, которая является для че-
ловека подлинным средоточием равных, хотя и исключающих друг
друга возможностей. Возможность, которой я располагаю в этой
100
ситуации выбора, исключает другую, противоположную ей возмож-
ность; однако она не исключает при моей способности осуществить
эту другую возможность. Моя свобода заключается, таким обра-
зом, в некоей позиции безразличия по отношению к своим возмож-
ностям, которая в действительности означает присущую мне спо-
собность действовать на основании собственной решимости; решаю-
щее для разума —не реальная сила той или иной возможности, ко-
торая предопределяла бы мои действия, а собственная решимость
моего разума. «Ибо каждая способность второго рода (способность
существ, не наделенных разумом. — Р. Л.) производит лишь одно
действие, а первого рода (разумных существ. — Р. Л.) может про-
изводить и противоположные действия, так что если бы эти спо-
собности проявлялись с необходимостью, то они производили бы в
одно и то же время противоположные действия; но это невозмож-
но. Вот почему решающим должно быть что-то другое, я имею в
виду стремление или собственный выбор»19.
Однако в каком смысле мы можем говорить о действительном
характере этих возможностей и тем самым о действительности са-
мой свободы выбора? Другими словами, заключается ли действи-
тельность выбора в его возможности или, напротив, возможность
выбора заключается в его действительности? Парадокс свободы вы-
бора состоит в том, что человек, способный к совершению противо-
положных действий, в действительности производит только одно
действие, которое и является единственно необходимым действи-
ем. Здесь перед нами открывается жесткий детерминизм свободы
выбора, который находит свое объяснение не в физической причин-
ности, а в особой темпоральности самого выбора. Выбор действите-
лен только тогда, когда он уже сделан. Выбор, как действительная
возможность, упраздняет в себе все другие возможности как недей-
ствительные, оказываясь тем самым единственной возможностью.
Как способность поступка, выбор является самим поступком; гово-
рить о возможности выбора можно только в свете действительности
поступка. Подлинной возможностью является не то, что будет, или
то, что может быть, а то, что уже было, то, что уже раскрылось
в действительности действия. «Поэтому,- говорит Аристотель,—
всякий раз, когда способное действовать согласно разуму стремит-
ся к тому, способность к чему имеет, и в той мере, в какой оно
способно, оно необходимо делает именно это»20. Возможность, ко-
торая остается наряду с выбором, говорит только о недействитель-
101
ности самого выбора. Такого рода мнимая возможность является
своеобразным лукавством мнимой свободы—«лазейкой», наличие
которой означает двусмысленность совершенного действия, совер-
шаемого мной так, как если бьюно не совершалось. Это значит, что,
совершая действие, я оставляю для себя «лазейку», куда я в любой
момент могу ускользнуть, чтобы вернуться в исходную ситуацию
выбора, пребывая там в мнимой полноте своих возможностей.
Исходя из этого можно сделать непреложный вывод об онтоло-
гическом приоритете действительности над возможностью. Именно
действительность лежит, таким образом, в основании возможности,
являясь тем самым действительным «подлежащим» любой преди-
кативной определенности. В этом смысле действительность делает
возможной саму возможность. Этот приоритет действительности
над возможностью проявляется той особой темпоральностыо, ко-
торая заключается в наречии «уже». «Уже» —это цель, являюща-
яся началом, которое уже есть цель; это действительность, являю-
щаяся возможностью, которая уже есть действительность. «Когда
же нечто благодаря тому, что оно имеет начало в самом себе, ока-
зывается способным перейти в действительность, оно уже (курсив
мой. — Р. Л.) таково в возможности»21. Мысль Аристотеля касается
здесь загадки времени, в которой и заключается тайна бытия. Бы-
тие, как полная действительность существующего, есть действие,
обладающее темпоральной структурой. Время дано в этой струк-
туре не как статичная последовательность временных «моментов»,
плавно перетекающих друг в друга, так что каждое отдельное мгно-
вение оставляло бы за собой вереницу «прошедших» моментов,
подобно тому, как движущаяся точка оставляет за собой отрезки
пройденного пути. В своей сокровенной сути время есть не после-
довательность «моментов», а темпорализация, которая не склады-
вается из совокупности прошедших моментов, поскольку она уже
содержит их в себе; всякое настоящее есть будущее, в смысле уже
бывшего; всякое будущее есть прошлое, в смысле того, что стало
быть настоящим.
Платонизм основывается, таким образом, на скрытой инверсии
данного онтологического отношения. Возможность кладется в ос-
нование действительности, откуда и проистекает вся апоретика тео-
рии эйдосов. Следствием этой инверсии оказывается загадка самой
действительности. Замыкаясь в статике отношения вещи и эйдо-
са, платонизм обнаруживает неспособность объяснить само суще-
102
ствование вещи. Эйдос, как чистая возможность, является нормой
вещи, ее идеальным образцом, но ни в коем случае не ее действу-
ющей причиной. Вещь мыслится здесь в аспекте чистой «чтойно-
сти», в отношении к которой существование самой вещи предста-
ет как дополнительный, акцидентальный признак. Сама по себе
«чтойность» не нуждается в каком-либо существовании; она совер-
шенно самодостаточна и всецело замкнута в самой себе. Существо-
вание вещи требует поэтому выхода за рамки вопроса «что есть
это?» и перехода в совершенно иную онтологическую перспекти-
ву, в которой вещь рассматривается в свете того, в силу чего она
сама есть некое «что». Сталкиваясь с загадкой существования, пла-
тоники вводят понятие «причастность», которое, как справедливо
заметил Аристотель, ничего не объясняет, являясь лишь «новым
именем»22. Поскольку же отношение причастности возможно лишь
в силу подобия, которое должно быть между вещью и эйдосом,
то причастность имплицитно содержит в себе те апории, с кото-
рыми сталкиваются участники диалогов «Софист» и «Парменид».
Смысл аристотелевской критики теории эйдосов заключается, та-
ким образом, в своеобразной «деструкции» платонизма, в результа-
те которой действительность выдвигается в качестве предельного
основания всего существующего, упраздняя тем самым мир отдель-
но существующих эйдосов: «Действительность, или деятельность,
первее возможности, или способности»23.
Действительность, или деятельность (ενεργεία), есть то единое,
что находится в основании логического тождества, «природой» ко-
торого является чистая возможность. Однако чистая возможность,
как то, что может быть, характеризует процесс движения, в от-
личие от осуществления, в котором возможность представлена в
снятом виде, как то, что уже было. Дом, существующий в проек-
те, есть сущее в возможности, то, что может быть, но мысль всегда
уже помыслена мной. Это приводит нас к следующему вопросу: в
каком смысле действительность первична по отношению к возмож-
ности в случае движения? Другими словами, каким образом мы
можем мыслить единство движения и осуществления? Мы не нахо-
дим у Аристотеля прямого ответа на этот вопрос. Однако в восьмой
главе «Метафизики Θ» Аристотель говорит о том, что приоритет
действительности над возможностью следует понимать в следую-
щих значениях: по определению, но времени и по сущности. «Таким
образом, — говорит он, —действительность первее всякого начала и
103
по определению, и по сущности, а по времени она в некотором смыс-
ле предшествует, а в некотором нет»24.
Действительность первична по определению именно потому, что
возможность отличается от невозможности своим действительным
характером. Возможность того, что диагональ может быть изме-
рена стороной квадрата, никогда не может быть осуществлена, по-
скольку не имеет действительности. Возможность только потому и
возможна, что в основании ее находится действительность.
«А по времени действительность предшествует возможности
вот в каком смысле: предшествует сущему в возможности то дей-
ствительное, что тождественно с ним по виду, а не по числу»25.
Так, семя, как возможность человека, происходит от человека,
существующего в действительности; обучение, как возможность
стать образованным, исходит от образованного. Тем самым «из су-
щего в возможности всегда возникает сущее в действительности
через сущее в действительности, например: человек — из челове-
ка, образованный --- через образованного, причем всегда есть нечто
первое, что приводит в движение, а это движущее существует в
действительности»20. Это переход от действительности к действи-
тельности через возможность как раз и характеризует протекаю-
щий во времени процесс движения. Таким образом, движению при-
суща некоторая амбивалентность, которую специально отмечает
Аристотель, когда говорит о том, что но времени действительность
в некотором смысле предшествует возможности, а в некотором —
пет. Эта амбивалентность отражает форму опосредования действи-
тельным самого себя через возможность, в силу чего возможность в
некотором смысле предшествует действительности. Движение мож-
но поэтому представить как череду последовательности, в которой
действительное и возможное предшествуют друг другу; эта после-
довательность является постоянным взаимообменом темпоральных
модальностей, когда действительное становится возможным, а воз-
можное — действительным. Вместе с тем если возможность предше-
ствует действительности в строго обусловленном смысле, то дей-
ствительность предшествует возможности в абсолютном смысле,
как то первое, что и является началом движения как такового. Это
абсолютное начало, как безусловная способность движения, есть
ενεργεία.
Движение отличается от осуществления только тем, что при-
сущая ему способность не является целью самой по себе, а всегда
104
направлена на нечто иное, чем она сама. Так, строительное искус-
ство существует не ради себя самого, а ради строительства дома,
который есть нечто иное, чем строительное искусство. Результат
движения всегда есть иное, чем само движение, причем именно это
«иное» разлагает движение в последовательность моментов време-
ни. Движение не есть само время; оно лишь протекает во времени.
Однако целью осуществления является сама способность осуществ-
ления. Так, цель мышления — сама способность мыслить; при этом
мышление есть то же самое, что и способность мыслить. Мысль не
существует отдельно от способности мыслить, подобно тому, как
дом существует отдельно от строительного искусства. Поскольку
же результат осуществления не есть нечто иное, чем его способ-
ность, то осуществление представляет собой случай чистой темпо-
ральности, которую невозможно разложить на последовательность
временных промежутков. Движение (ενεργεία κατά κίνησις) и осу-
ществление (ενεργεία επί πλεόν) — это две различные формы энер-
гии, различающиеся по времени, но единые по сущности.
В чем же состоит это единство по сущности? В том, что как в
случае движения, так и в случае осуществления подлинным нача-
лом (αρχή) выступает цель. «Но конечно же, и по сущности дей-
ствительность первее возможности, прежде всего потому, что по-
следующее по становлению первее по форме и сущности... а также
потому, что все становящееся движется к какому то началу, т. е. к
какой то цели (ибо начало вещи — это то, ради чего она есть, а ста-
новление—ради цели); между тем цель —это действительность, и
ради цели приобретается способность. Ведь не для того, чтобы об-
ладать зрением, видят живые существа, а наоборот, они обладают
зрением для того, чтобы видеть, и подобным образом они обладают
строительным искусством, чтобы строить, и способностью к умо-
зрению, чтобы заниматься умозрением, а не наоборот, будто они
занимаются умозрением, чтобы обладать способностью к умозре-
нию. .. Кроме того, материя есть в возможности, потому что может
приобрести форму; а когда она есть в действительности, у нее уже
есть форма. И подобным же образом дело обстоит и у остального,
в том числе и у того, цель чего —движение»27.
Осуществление — это чистый образ энергии, тогда как движе-
ние—это энергия во времени, деятельность, переходящая в ста-
тику результата. Так, деятельность Фидия переходит в произве-
дение, которое является покоящимся, пребывающим в себе самом,
105
результате его деятельности. Это произведение (έργον) есть сущ-
ность как состояние (ουςία), т.е. нечто иное (έτερον), чем деятель-
ность (ενεργεία). Различие движения и осуществления может быть
поэтому выражено следующим образом. Движение есть деятель-
ность, сущностью которой является иное, чем сама деятельность;
осуществление есть деятельность, сущностью которой является са-
ма эта деятельность. В этом смысле ενεργεία -это «сущее само по
себе». Однако это «само по себе» является не состоянием сущего,
не пребыванием его в себе самом, а единством из самой себя исхо-
дящей и в саму себя возвращающейся деятельности. «Ибо дело --
цель, а деятельность — дело, почему и "деятельность" (ενεργεία)
производно от "дела" (έργον) и нацелена на "осуществленность"
(εντελέχεια)»28. Строго говоря, ενεργεία, как бытие (το εινάι), не име-
ет сущности (ουςία), поскольку ее έργον есть сама ενεργεία. Фун-
даментальной онтологической ошибкой платонизма является, та-
ким образом, понимание «самого по себе сущего» как состояния, а
не как деятельности. Следствием этой ошибки явилось отождеств-
ление бытия и сущности, выразившееся в субстантивации бытия
(εινάι) в сущность (ουςία), замкнувшее бытие в образ (είδος) сущего
(το ον).
Абсолютный приоритет действительности, предполагая разли-
чение действия и состояния, означает, таким образом, действитель-
ную критику теории эйдосов. Природой (φύσις) сущего является
действие, а не состояние. В этой онтологической перспективе эй-
досам не остается никакого места, они попросту оказываются из-
быточными. Поэтому кульминацией аристотелевской критики эй-
детики Платона является следующее, завершающее восьмую главу
«Метафизики Θ», рассуждение: «Поэтому, если имеются такие са-
мобытности (φύσεις) или сущности, какими те, кто исследует опре-
деления, признают идеи, то было бы нечто гораздо более знающее,
нежели само-по-себе-знание, и гораздо более движущееся, нежели
само-по-себе-движение, ибо первые в большей мере деятельности, а
вторые — способности к таким деятельностям. Таким образом, оче-
видно, что деятельность нервее и способности, и всякого начала
9Q
изменения» .
Теперь мы можем снова, на ином уровне, вернуться к вопросу
о множественности значений бытия сущего. Как уже говорилось,
основополагающим тезисом онтологии Аристотеля является утвер-
ждение, что бытие сущего есть само сущее. Фактически это скорее
106
негативное, чем позитивное утверждение, поскольку оно представ-
ляет собой прямой антитезис платоновской эйдетики, отчуждаю-
щей бытие вещи в независимый от нее, отдельно существующий
эйдос. Поэтому тезис Аристотеля должен быть раскрыт и в его по-
зитивном значении, иначе аристотелевская онтология будет сведена
к ложному позитивизму, чреватому не менее серьезными апориями,
чем платоновская эйдология.
Прежде всего, утверждение, что бытие сущего есть само сущее,
означает, что сущее есть сущность как устойчивое пребывание вещи
в себе самой. Однако сущее тут же рассыпается в множественность
значений этого «есть», которые относятся к сущности как к своему
рсференциальному центру и группируются в соответствии с катего-
риальными признаками. Данная множественность значений «есть»,
принимаемая до сих пор как изначальная фактичность сущего,
теперь может быть онтологически обоснована. Множественность
значений сущего находит свое объяснение в том простом онтоло-
гическом факте, что действие больше состояния; именно ενερχέια,
как действие, лежит в основании ουςία как состояния. Сущность,
как наличное состояние вещи, не исчерпывает собой того действия,
о-существлением которого она является. Состояние есть иное, чем
действие. Это «иное», преследовавшее Платона как призрак бы-
тия, расслаивает структуру сущего в дискретную множественность
значений. Таким образом, есть нечто более фундаментальное, чем
сущность; имеется такое «подлежащее», которое лежит в основании
любого подлежащего. Это — действие, не являющееся сущностью,
поскольку оно и есть причина всякой сущности.
Здесь содержится решение одной из главных проблем метафизи-
ки Аристотеля: можно ли обосновать реальность общего, отрицая
при этом реальность эйдосов? В «Метафизике В» Аристотель го-
ворит, что познание вещей возможно лишь в силу того общего, что
имеется между ними. Но как в таком случае возможно познание,
если общее не является сущностью, если оно не обладает реально-
стью? Сам Аристотель считает это «наиболее трудным вопросом».
В «Метафизике λ4» он снова возвращается к этому вопросу: «Оста-
новимся теперь на одном вопросе, который представляет известную
трудность и для тех, кто признает идеи, и для тех, кто не признает
их, и который был затронут в самом начале при изложении затруд-
нений. Если не утверждать, что сущности существуют отдельно,
притом так, как говорится о единичных вещах, то будет устранена
107
сущность, как мы ее понимаем. А если утверждать, что сущности
существуют отдельно, то каковы их элементы и начала?»30. Реше-
ние этой проблемы заключается в том, что общее относится не к
порядку сущностей, а к порядку действительности. Εντελέχεια,
как полная действительность, есть нечто большее, чем сущность,
поскольку она включает в себя не только состояние, но и действие.
В этом смысле сущность есть элемент действительности. В таком
случае общее —это снятая, энергийно претворенная в действитель-
ность возможность сущего. Предмет познания — общее, а не еди-
ничное; однако общее не есть сущность. Если же ограничиваться
исключительно сферой сущностей, то единственным способом су-
ществования общего будет отдельный, замкнутый в себе платонов-
ский эйдос.
Таким образом, ενεργεία является конститутивным элементом
онтологии Аристотеля, без которого совершенно нельзя понять пе-
реход от единичного к общему. Так, предмет, который я вижу пред
собой, всегда мне дан в каком-либо общем значении. Я никогда не
вижу просто розу, но всегда вижу еще и цветок. При этом общее
понятие «цветок» — это вовсе не то, что вижу я, но скорее то, в
чем мне видится роза. Предмет видится мною только потому, что
в нем проступает общее. Поэтому общее — это не результат процесса
абстрагирования, как тому учит наивная психология, полагающая,
что сначала человек должен иметь дело с отдельными, единичными
деревьями, чтобы затем, путем синтеза общих качеств, сформиро-
вать в своем сознании концепт «дерево», и уж затем, за деревьями,
увидеть «лес». Предмет всегда доступен только в модусе общего;
абсолютно единичная вещь оказалась бы в силу этого безвидной.
Поэтому предмет никогда не может быть постигнут в общем значе-
нии, если он уже не дан как общее. Ибо общее уже заключается в
единичном как его собственная, осуществленная возможность. По-
этому подлинным решением проблемы общего можно считать сле-
дующее аристотелевское рассуждение, завершающее «Метафизику
М»: «А что предмет всякого познания — общее, а потому и нача-
ла существующего должны быть общими, но вместе с тем не быть
отдельно существующими сущностями, -это утверждение, правда,
вызывает наибольшую трудность из всего сказанного, однако оно в
некотором отношении истинно, а в некотором--не истинно. Дело в
том, что знание, так же как и познавание, двояко: с одной стороны,
это имеющееся в возможности, а с другой — в действительности.
108
Так вот, возможность, будучи как материя общей и неопределен-
ной, относится к общему и неопределенному, а действительность,
будучи определенной, относится к определенному, есть «вот это»
относится к «вот этому». Только привходящим образом зрение ви-
дит цвет вообще, потому что вот этот цвет, который оно видит, есть
цвет вообще; и точно так же вот это а, которое рассматривает све-
дующий в языке, есть а вообще. Ведь если начала должны быть
общими, то и происходящее из них необходимым образом также
общее, как это имеет место в доказательствах. А если так, то не
будет ничего отдельно существующего, т.е. никакой сущности. Од-
нако ясно, что знание в некотором отношении есть общее знание, а
в некотором — нет»31.
Так знание способно быть знанием общего даже при той онто-
логической предпосылке, что существуют только единичные вещи,
что само по себе общее не обладает статусом реальности. Знание
лишь «в некотором отношении» является общим знанием, а имен-
но как знание того общего, что присутствует в единичном как его
собственная, ставшая действительностью возможность. Единичное
есть обш,ее в смысле возможного, которое уже стало быть действи-
тельностью. Общее - это единое в имперфекте. Именно потому, что
общее присутствует в единичном, мы способны «привходящим об-
разом» видеть в любом конкретном цвете цвет вообще, слышать
определенный звук, улавливая в нем звук вообще. Само воспри-
ятие осуществляет, таким образом, то, что Гуссерль назвал «ка-
тегориальным созерцанием». Опыт, в смысле греческого αϊσθεσις,
является действительным опытом, и в силу этого он есть опыт воз-
можный. Возможность опыта коренится в его действительности, а
не наоборот, как в «Критике чистого разума» Канта, где действи-
тельность опыта должна быть обоснована через его возможность,
т.е. через выявление в трансцендентальном анализе априорных ос-
нований опыта как такового.
Сущность как результат деятельности (ενεργεία) заключает в
себе возможность (δύναμις), которая yoicc есть действительность
(εντελέχεια). Поэтому то единое, что есть сущность, можно мыс-
лить только через то общее, что есть сущность. Амбивалентность
бытия и «чтойности» получает, таким образом, объяснение в конеч-
ном характере нашего земного мира. Онтологическим признаком
конечности сущего выступает его представимость через свою соб-
ственную возможность, которая указывает на незавершенный и тем
109
самым несовершенный характер его единства. Как уже говорилось,
возможность и действительность не могут здесь совпасть, причем
это несовпадение выражается во времени, которому подвержено всё
земное. Совершенным единством может быть поэтому только такое
сущее, сама сущность которого является деятельностью. Здесь от-
крывается онто-теологическое измерение аристотелевской метафи-
зики, поскольку такая сущность является божественной по самой
своей природе: «Поэтому должно быть такое начало, сущность ко-
торого- деятельность»32. Божественное, как чистая энергийность,
не заключает в себе своей представимости через возможное. Она
представляет собой абсолютную сингулярность, не являющуюся ро-
дом чего бы то ни было и не объемлемую никаким родом. Бытие не
является родом только потому, что бытие есть энергия. Род поэтому
является формой неэиергийиого единства. Божественная сущность
завершена в самой себе и в силу этого бесконечна. Эта бесконеч-
ность выражается в вечности самой деятельности, цель которой и
есть ее начало.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава I
СРЕДНЕВЕКОВОЕ ПОНИМАНИЕ БЫТИЯ
КАК ГОРИЗОНТ РАЗЛИЧИЯ СУЩНОСТИ
И СУЩЕСТВОВАНИЯ
Греческая онтология и средневековая проблема
различия сущности и существования
Плодотворный анализ средневековой постановки вопроса о бы-
тии возможен только при ясном понимании того обстоятельства,
что средневековая философия, при всей ее зависимости от грече-
ской онтологии, заимствует созданные греками понятия, но отнюдь
не контекст их использования. Напротив, греческие понятия очер-
чены здесь совсем иным, негреческим горизонтом, в границах ко-
торого они существенным образом меняют свой смысл и значения,
приобретая другие, не свойственные греческой философии мета-
физические коннотации. Разумеется, не может идти речи о том,
чтобы выявить данный горизонт, исходя из «культуры» Средних
веков. Метафизический горизонт мысли никогда не совпадает с
ее культурным контекстом. Напротив, обращение факта мысли в
факт культуры возможно только за счет такого сужения метафи-
зического горизонта, вследствие которого мысль приобретает свой-
ственную всем явлениям культуры осязаемую, вещественную плот-
ность артефакта. Соответственно если для описания культурного
контекста вполне пригодны большие «мазки», широкие обобщения,
то выявление метафизического контекста мысли требует кропотли-
вой аналитической работы с понятиями как фактами мышления.
Именно анализ значений понятия, т. е. анализ тех специфических
функций, которые оно выполняет в общем строе мышления, мо-
жет сделать зримым тот горизонт, в рамках которого данное по-
нятие обладает смыслом. Смысл понятия — это своего рода интен-
111
ция, в которой понятие отнесено к тому, что fie может быть охваче-
но понятием, что заведомо исключает какую-либо концептуальную
форму.
Понятием, анализ которого позволит выявить метафизический
горизонт средневекового вопроса о бытии сущего, является поня-
тие сущности. Исходный вопрос греческой философии «что есть су-
щее?» равнозначен для Аристотеля вопросу «что есть сущность?»,
поскольку именно сущность различает то, что есть сущее и то,
что оно есть1. Вопрос «что есть сущность?» является, таким об-
разом, всего лишь правильной постановкой вопроса «что есть су-
щее?»; размыкая непосредственную телесную наличность сущего,
сущность выявляет то особое пространство сущего, которое, с од-
ной стороны, не совпадает с наличностью самого сущего, а с другой
стороны — лишено сущности. Это пространство и является горизон-
том бытия сущего. Различив, в противовес Платону и его школе,
сущность и бытие, Аристотель впервые поставил вопрос о характе-
ре различия сущности и сущего (существования). Поэтому именно
характер различия сущности и сущего определяет специфический
горизонт понимания бытия. В Средние века несомненное «автор-
ство» в различении сущности и существования принадлежит Бо-
эцию. Вместе с тем проведенное Боэцием различие сущности и су-
ществования настолько не совпадает с тем, которое провел Аристо-
тель, что можно говорить о двух принципиально различных типо-
логиях различий. Поэтому внимательный анализ тех формулиро-
вок различия сущности и существования, которые мы на.ходим у
Боэция, поможет нам выявить горизонт специфически средневеко-
вого понимания бытия.
Аристотелевское различие сущности и сущего является разли-
чием в самом сущем, феноменологическая полнота которого вы-
ражается необозримой множественностью способов его существо-
вания. В этом исходном феноменологическом смысле сущность и
сущее (существование) есть одно. Тонкость, однако, заключается
в том, само это «одно» сущности и существования не есть един-
ство тождества. В силу этого само единство сущности и существо-
вания выражается их различием; сущность является основанием,
сохраняющим единство сущего в множественности способов его су-
ществования. Этот необозримый спектр всех возможных способов
существования образует горизонт бытия сущего. Отождествление
сущности и бытия означало бы, таким образом, сведение всей мно-
112
жественности способов существования сущего в одну синоптиче-
скую точку. В результате бытие образовало бы род, объемлющий
множественность существования в качестве своих региональных,
видовых, значений. Единство сущности и существования опреде-
ляется их различием и выражается отношением многого к тому
единому, которое и есть сущее.
Вещь, взятая в ее исконном значении как феномен, предстает
в сплошной и бесконечной текучести своих проявлений; роза, ко-
торую я в настоящее время вижу перед собой, оставаясь той же
самой розой, ни в один момент времени не тождественна самой се-
бе. Вопрос о сущности сущего является, таким образом, вопросом
о природе «того же самого» вещи, в опоре на которое только и
возможна всякая указующая и обозначающая речь. При этом сущ-
ность сущего высвечивается в самом вопросе «что есть сущее?»
Уже сам этот вопрос приводит к тому, что первичная непосред-
ственность вещи как феномена переходит в сложное внутреннее
опосредование, выражаемое грамматической формой «это есть... »
и фиксируемое логической связью субъекта и предиката. Вопрос
о сущности сущего означает, таким образом, своеобразный «под-
вес» сущего в пространстве самого этого вопроса, который пере-
мещает вещь в план совершенно иной, метафизической позиции,
в которой вещь приобретает метафизический индекс «чтойности».
Соответственно этому сущность как «чтойность» именуется Ари-
стотелем «второй сущностью», отличной от «первой сущности»
самого сущего, взятого в непосредственности его собственного бы-
тия. Именно «вторая сущность» открывает в сущем пространство
логического, синонимического отношения.
Здесь-то и становится заметной то, что можно было бы опреде-
лить как принципиальную, неустранимую избыточность того, что
есть сущее по отношению к тому, что оно есть; бытие сущего не
снимаемо в его «чтойности». Так, бытие Сократа оказывается неиз-
меримо больше того, что высказывается его «чтойностыо» в поня-
тии «человек». Бытие как бы прорастает сквозь «чтойность», вы-
сказываясь множественностью значений того, что есть сущее. По-
скольку же совершенно невозможно свести множественность зна-
чений того, что есть сущее к абстрактному единству того, что
оно есть, то и возникает необходимость такого синтеза, который
смог бы каким-то образом сгруппировать эту необозримую множе-
ственность значений бытия сущего. Такой синтез структурирует-
113
ся категориями как основными, предметными индикаторами бы-
тия сущего. При этом категориальный синтез опирается на вторую
сущность, как на субстанциальное основание, так что каждая ка-
тегория представляет собой специфический модус сущности.
Так, перед нами вырисовывается аристотелевское понятие προς
εν λεγόμενον, смысл которого можно было бы резюмировать следу-
ющим образом: бесконечное разнообразие значений бытия сущего
группируется по нескольким категориальным родам и опирается
на «чтойность» как на субстанциальное основание2. Категории —
это роды бытия сущего, которое само по себе не является родом.
Категории группируют множественность значений бытия сущего
именно потому, что само бытие несводимо к «чтойности». Будь это
возможно, мы имели бы совпадение бытия и сущности так, что бы-
тие образовало бы род всего существующего. Но поскольку род яв-
ляется основанием понятийной идентификации, то природой «того
же самого» вещи явилось бы тождество. Поскольку же Аристотель
устанавливает в «Метафизике» взаимообратимость бытия и едино-
го, то можно сказать, что бытие не есть род в том же самом смысле,
в каком единое не есть тождество. Смысл аристотелевского προς εν
λεγόμενον заключается в таком отношении многого к единому, ко-
торое, однако, не означает возможности «свертывания» многого в
единое. Единое обладает поэтому трансцендентным характером по
отношению к любой совокупности своих значений.
Таким образом, единое выступает как трансцендентный центр
всех форм бытийствования сущего, как онтологическая структу-
ра, являющаяся смысловым ядром онтологических экспликаций
сущего. Такой экспликацией, задающей масштаб понятийной опре-
деленности, является само сущее в том, что оно есть, обозначае-
мая Аристотелем при помощи имперфектного оборота το τί ήν είναι.
То, что в Средние века было терминологически зафиксировано как
«чтойность» (quidditas), есть само сущее в онтологической модаль-
ности возможного. Так, «человек» есть всего лишь абстрактная
возможность быть Сократом, тогда как Сократ есть осуществлен-
ная, претворенная в действительность возможность бытия челове-
ка. В этом смысле всякое сущее есть свое собственное произведе-
ние как мгновенный, энергийно запечатленный этим вот сущим пе-
реход из чистой возможности в полную действительность. В этом
смысле «чтойность» является способом раскрытия сущего, одной
из его онтологических перспектив. Вместе с тем «чтойность» —это
114
модальность, а вовсе не тотальность сущего. Само бытие сущего
является предпосылкой вопроса τι εστί—«что (это) есть?» Стало
быть, ответ на этот вопрос, характеризующий природу этого самого
«что», уже охвачен горизонтом «есть». Темпоральные коннотации,
содержащиеся в аристотелевском обороте το τί ην είναι, схватывают
этот специфический момент априорности, в силу которого «есть»
предшествует любому «что», поскольку всякое «что» представля-
ет собой осуществленную и энергийно запечатленную возможность
безымянного «есть». Поэтому «чтойность» не может быть у Ари-
стотеля сущностью иначе как во вторичном, производном смысле —
как «вторая» сущность. В первичном, основополагающем смысле
сущность есть само сущее как единство форм его бытия и, соот-
ветственно, как единство значений того, что оно есть. Тем самым
понятие как определение сущего в значении его «чтойности» может
стать у Аристотеля масштабом существования только в результате
такой развертки сущего, которая превращает естественную омони-
мию сущего (προς εν) в жесткий синонимический ряд. Такая си-
нонимия есть открывающееся в самом сущем пространство логи-
ческого отношения, крайними членами которого выступают само
сущее в функции субъекта (υποκειμενον) и понятие как («вторая»)
сущность этого субъекта.
Таким образом, мы замечаем неустранимую и подвижную гра-
ницу, различающую бытие и сущность, которая лишь меняет харак-
тер при переходе от сущего как феномена к сущему как субъекту.
Так, «первая сущность» есть само сущее, но не в смысле какой-либо
«чтойности»; в определенном смысле можно сказать, что «первая
сущность» — это то, что есть сущее. Однако это светящееся яд-
ро экзистенции тут же распадается в множественности значений
этого «есть», которое невозможно свести обратно в фокус бытия
сущего. Можно лишь сгруппировать эту множественность под руб-
риками категориальных форм, основанием которых является сущее
в значении главной (субстанциальной) категориальной формы как
субъект возможного определения. Роль «первой философии» со-
стоит, таким образом, в определении категориальных форм, к ко-
торым можно было бы свести все многообразие черт, образующих
онтологический облик сущего. Дальнейшее — это исследование су-
щего в тех или иных категориальных аспектах. Таким образом, если
«первая сущность» — это то, что есть сущее, но отнюдь не в зна-
чении того, что оно есть, то «вторая сущность» —это «чтойность»
115
сущего, но не в смысле его бытия. Между «что» и «есть» проле-
гает неустранимый онтологический интервал. Различие на первую
и вторую сущность как раз и отражает у Аристотеля изменчивое,
подвижное несовпадение того, ηίпо есть вещь, и того, что она есть.
Таким образом, метафизический горизонт специфически ари-
стотелевского понимания бытия сущего можно было бы выразить
следующим образом: поскольку сущность и сущее (существование)
суть одно, то всякое сущностное различие есть различие в самом
сущем. «Вторая сущность» есть такого рода различие (ex-plicatio)
сущего, которое выявляет такую его фундаментальную онтологиче-
скую размерность, как «чтойность». Объяснить, что есть вещь —
значит развернуть ее таким образом, чтобы она предстала в сво-
ей «чтойной» определенности. Но именно поэтому «чтойность» не
может быть сущностью, иначе как во вторичном значении этого
слова. В оптике аристотелевской метафизики различие сущего не
может совпасть с самим сущим, не перестав при этом быть раз-
личием и не обратившись в тождество сущего и его определения.
Различие «первой» и «второй» сущности не является, таким об-
разом, сугубо технической операцией либо замаскированной уступ-
кой платонизму, постулирующей наряду с миром конкретных суще-
ствований мир абстрактных сущностей. «Чтойность» не вне суще-
ствования, а внутри него; «вторая сущность» представляет собой
тем самым определенную экспликацию «первой сущности», онтоло-
гический модус существования. Таким образом, принятие «второй
сущности» за сущее в собственном значении этого слова означало
бы неизбежную синонимию сущего, т. е. признание бытия как рода
всего существующего.
Средневековая философия исходит из совершенно иного мета-
физического горизонта понимания бытия и соответственно предла-
гает совсем иную перспективу различия сущности и существования.
Аристотелевское понимание сущего самого по себе исходит из той
предпосылки, что сущее есть свое собственное бытие. Поэтому, как
уже говорилось, сущностное различие, полагающее бытие сущего,
является различием в самом сущем. Однако именно эта предпосыл-
ка аристотелевской «первой философии» и не могла быть принята
в средневековье. Более того, позиция, формирующая метафизиче-
ский горизонт средневековой онтологии, диаметрально противопо-
ложна аристотелевской и может быть выражена следующим обра-
зом: сущее не есть свое собственное бытие. Отношение сущности
116
и существования предстает здесь в чуждой греческому мышлению
перспективе иудео-христианского креационизма, в котором каждая
отдельная вещь, как и все сущее в целом, сами но себе суть ничто,
поскольку они извлечены из ничто бесконечной творческой мощью
Бога. Сущее представляет собой в полном смысле этого слова «по-
граничное существование», граничащее с ничто, в которое оно в
любой момент может снова вернуться. Всякое сущее существует,
таким образом, исключительно в статусе сотворенного сущего, ens
creatum. Именно в этом смысле вещь не является своим собствен-
ным бытием; она лишь обладает бытием вследствие того божествен-
ного творческого акта, который удерживает ее в границах своего
собственного существования. Проблема отношения сущности и су-
ществования, перенесенная на почву христианского креационизма,
приобретает совсем иной, чем у Аристотеля, смысл; ее решение тре-
бует совсем иных концептуальных средств.
Прежде всего, средневековая онтология должна провести со-
вершенно иную демаркационную линию между бытием вещи и ее
«чтойностыо». Как уже говорилось, в аристотелевском понимании
«чтойность» является определенной экспликацией бытия сущего.
Иначе и не может быть в рамках той онтологии, которая очерче-
на метафизическим горизонтом понимания сущего как своего соб-
ственного бытия. «Чтойность», как синоним бытия сущего, приво-
дит к возобладанию тенденции понимания бытия как однозначно
сущего и означает тем самым фундаментальную деформацию всего
здания аристотелевской онтологии. Поскольку средневековая он-
тология мыслит сущее как существующее исключительно в акте
божественного творения, то она должна различить бытие и «чтой-
ность» не только иначе, чем это сделано Аристотелем, но и исполь-
зуя при этом совсем другой, не свойственный Аристотелю язык.
Аристотелевский язык оказывается неадекватен для описания той
позиции, в которой сущее находится в отношении к действующей
причине своего существования, причине, обладающей тем не менее
трансцендентным характером по отношению ко всякому сущему.
Вследствие этого язык креационистской онтологии не может быть
сугубо аристотелевским. Так, для описания сущего в позиции ens
creatum средневековая мысль вынуждена использовать понятия,
заимствованные из языка платоновской философии. Средневеко-
вая онтология, даже в ее сугубо аристотелевском варианте, всегда
осложнена платоновскими реминисценциями, пришедшими к ней
117
как непосредственно из сочинений самого Платона, так и из тра-
диции христианского неоплатонизма. Последний как раз и был той
школой мысли, в которой формировался язык средневековой онто-
логии. Можно сказать, что [Рецепция аристотелизма, то интенсив-
ное усвоение аристотелевского языка, которым отмечено XIII сто-
летие, стало возможным только благодаря уже сложившейся тра-
диции христианского неоплатонизма. Среди понятий платоновской
философии, сделавших возможным язык средневековой онтологии,
наиболее важное значение имеет понятие «причастие».
В рамках сугубо аристотелевской онтологии термин «прича-
стие» не имеет никакого смысла, поскольку в нем подразумевается
чуждый Аристотелю платонический принцип, согласно которому
бытие вещи состоит в ее отношении к отдельно существующему эй-
досу. Данный термин является в глазах Аристотеля ничем иным,
как ложным удвоением существования; напротив, эйдос, как сущ-
ность вещи, есть сама вещь. Тем самым различие, полагаемое меж-
ду вещью и ее эйдосом как отдельно существующей сущностью, пе-
реходит в саму вещь, становится ее внутренним различием. Прежде
всего, это различие между сущностью (ουσία) и множественностью
способов (значений) ее существования, которое может быть сведено
к различию между тем, что есть вещь («вторая сущность») и тем,
что она есть. В этом несовпадении «что» и «есть» раскрывается
энергийная природа сущего, противоположная статике платонов-
ского отношения вещи и эйдоса. Таким образом, «причастие» яв-
ляется для Аристотеля совершенно инородным понятием. Однако
понятие «причастие» является тем краеугольным камнем средне-
вековой онтологии, который не может быть изъят без того, чтобы
не обрушилось все ее здание. Основополагающий принцип аристо-
телевской онтологии — сущее есть свое собственное бытие — несов-
местим с принципом креационизма, с тем фундаментальным хри-
стианским убеждением, что только Бог есть творец всего сущего,
что именно от Бога все сущее получает свое бытие. Поэтому, заим-
ствуя платоновское понятие причастия и вводя его в семантическую
ткань языка аристотелевской онтологии, средневековая мысль в ре-
зультате этого создает такой метафизический язык, который уже
нельзя назвать ни сугубо платоновским, ни сугубо аристотелев-
ским. Это принципиально новый метафизический язык, который
является языком схоластической «аналогии сущего». Именно по-
нятие «причастие» оказывается тем ферментом, который превра-
118
щает аристотелевское προς εν λεγόμενον в схоластическую aiialogia
entis.
Прежде всего, язык креационистской метафизики проводит со-
вершенно иную демаркацию между сущностью вещи и ее существо-
ванием и соответственно между ее «чтойностыо» и бытием. Фунда-
ментальный тезис Аристотеля — бытие не является родом — прово-
дит онтологическое различие «чтойности» сущего, как основания
его родовой определенности, и его бытия. Вместе с тем, как уже
говорилось, это различие является внутренним различием сущего,
выражением его телеологической структуры как своего собствен-
ного произведения. В том же самом смысле, в каком бытие не есть
род, единое (εν) не есть тождество. Но, поскольку, как это Ари-
стотель устанавливает в четвертой книге «Метафизики»3, бытие и
единое взаимообратимы, постольку бытием (εν) того сущего, кото-
рое есть свое собственное произведение (έργον), является ενεργεία.
Таким образом, то, что есть вещь, выступает у Аристотеля про-
цессуальным, энергийно запечатленным моментом самого «есть» —
моментом присутствия, тем, чем вещь стала быть. Целостность
присутствия как того, что есть вещь, содержит в себе темпораль-
ные моменты, которые, однако, погружены в саму вещь, образуя
суть ее бытия. Аристотелевский оборот τό τί ήν εινάι, принимаемый
как именование «чтойности» вещи, указывает вместе с тем на раз-
личие «чтойности» и бытия, того, что есть вещь и что она сс7пъ,
определяя статус «чтойности» в качестве процессуального момента
бытия сущего. Подобно греческой философии, средневековая он-
тология рассматривает сущее как произведение; ее специфическое
отличие состоит, однако, в том, что сущее понимается не как свое
собственное произведение, а исключительно как произведение, вы-
шедшее из рук Творца. Поэтому различие «чтойности» и бытия ве-
щи, того, что есть вещь и что она есть, представлено здесь в иной
оптике и имеет качественно иной характер. Поскольку в перспек-
тиве креационизма сущее не обладает своим собственным бытием
и в силу этого имеет необходимо тварный характер, то бытие суще-
го состоит в причастии к бытию, в экзистенциальном отношении
к безусловному ipsum esse как бытию в собственном, абсолютном
смысле. Поэтому различие «чтойности» и бытия сущего пролегает
теперь не в самом сущем, а между сущим и тем, в силу чего сущее
есть.
Здесь мы вновь касаемся той изначальной двусмысленности в
119
употреблении понятия «сущее», которую можно определить как
естественную омонимию сущего. В греческой философии эта омо-
нимия содержится в самом понятии το ον, представляющего собой
субстантивированное причастие глагола είναι — быть. Вместе с тем
сама эта двойственность существительного το ον указывает на ди-
намическую природу сущего; сущее как состояние, как сущность
(ουσία) есть не что иное, как осуществленное, завершенное в се-
бе действие (ενεργεία). Эта двусмысленность сущего как существи-
тельного и как глагола сохраняется и в средневековой транскрип-
ции, хотя и приобретает совсем другие метафизические коннотации.
Так, сущее —ens — является здесь субстантивированным причасти-
ем глагола existo — существовать. Тем самым средневековое упо-
требление понятия «сущее» включает в себя два различных, несхо-
дящихся друг с другом значения: именное и причастное. Другими
словами, сущее — ens — может быть взято либо как ens ut nomen,
либо как ens ut participia. Взятое исключительно в значении nomi-
naliter как существительное, сущее есть quid est res, т. е. сущее (res)
в значении его «чтойной» дефиниции (essentia), однако то, что су-
щее есть принадлежит ему исключительно по причастию тому, что
есть в собственном смысле, т. е. в значении sumptum participaliter.
Таким образом, в этих двух значениях сущего уже намечена онто-
логическая дифференция сущности (essentia) и существования (ех-
istentia). Естественная омонимия сущего представляет собой несов-
падение «чтойности» сущего и его бытия; именное и причастное
значения, являясь как бы двумя перспективами, в которых может
рассматриваться сущее, тем не менее никогда не совпадают в какой-
либо одной общей точке. Такое совпадение неизбежно приводит к
доктрине однозначно сущего, а в дальнейшем — к представлению об
аналитической выводимости существования (бытия) как реального
предиката сущности. Таким образом, если у Аристотеля естествен-
ная омонимия сущего выражается в качестве προς εν λεγόμενον —
отношением множества значений сущего к единству сущности, то
в рамках средневековой онтологии она может быть выргьжена не
иначе как в виде аналогии сущего, т. е. отношения сущего к тому,
что не есть сущее, а есть бытие в собственном смысле.
Таким образом, «место» аналогии— неустранимый hiatus меж-
ду сущностью и существованием: из того, чт,о есть вещь, не вы-
текает то, что она есть. Средневековая аналогия является в этом
смысле ничем иным, как констатацией неаналитичности существо-
120
вания, которое и подразумевается томистским реальным различием
сущности и существования. Аналогия оказывается формой реаль-
ного различия. Аутентичный смысл distinctio realis — в полагании
дистанции между сущим в его номинальном значении, как опреде-
ленным «что», и тем божественным esse, в причастности к которому
сущее утверждается как налично существующая вещь (res), как es-
sentia. Реальное различие состоит не в различии двух вещей, одна
из которых есть сущее, а другая — бытие этого сущего, но в той
непереводимости «что» в «есть», которая и номинирует сущее как
определенное «что», как res, вещь. Соответственно смысл аналогии
можно выразить следующим образом: «что», указующее на «есть»,
которое, однако, не есть это самое «что».
В этом несовпадении сущности сущего с его существованием,
представленным в оптике христианского креационизма, заключа-
ется источник проблемы универсалий, генезис которой никак нель-
зя сводить исключительно к интерпретации Порфирием и Боэци-
ем аристотелевских «Категорий». В аристотелевской онтологии
сущностью вещи является осуществленная действительность, са-
ма вещь как τοδε τι, как энергийно запечатленный лик вещи. Вещь,
как свое собственное бытие, есть ενεργεία как воплощенный этой ве-
щью переход от ее возможности к действительности. «Чтойность»
вещи означает поэтому метафизическую транспозицию этой вещи
в модальности возможного. Высказывание «Сократ есть человек»
является такого рода транспозицией, в которой действительность
Сократа представлена в оптике возможности его бытия, фиксируе-
мой абстрактным понятием «человек». То, что есть Сократ, пред-
ставлено здесь в модусе того, что он есть, выступая в функции
подлежащего по отношению к сказуемому, субъекта по отношению
к предикату. Исходный вопрос греческой онтологии «что есть су-
щее?» уже заключает в себе возможность «чтойной» экспликации
сущего и тем самым возможность его логического истолкования.
«Чтойность» Сократа является поэтому «превращенной формой»
его бытия. Поскольку же общее оказывается снятым, воплощенным
в действительность моментом бытия этого сущего, то понятие явля-
ется как бы развоплощением вещи, т. е. обратным ее переводом из
действительности в возможность. Общее есть само индивидуальное
«это», взятое, однако, в иной метафизической оптике. Аристотелев-
ская «вторая сущность» предстает процессуальным, опосредующим
моментом самого сущего. Первая и вторая сущности, вещь и ее эй-
121
дос, выступают как процессуально различные, но внутренне еди-
ные моменты бытия сущего, как два полюса того, что есть сущее.
В основании единства предмета и эйдоса лежит ενεργεία, которая
выводит вещь из чистой потенциальности, вводя ее тем самым в
вид. Понятие является здесь внутренней формой сущего, опосре-
дующим моментом его собственного бытия. В силу этого вопрос о
статусе общих понятий принципиально не может быть поставлен в
рамках аристотелевской онтологии. Однако он неизбежно возника-
ет в той онтологии, в которой существование вещи не есть ее соб-
ственное бытие. Существование — ens participium — является здесь
причастием бытию (esse), но не самим бытием; в свою очередь, сущ-
ность — ens ut nomen — есть простая презумпция существования, но
не сама существующая вещь. Вследствие этого понятие оказывает-
ся как бы между бытием и существованием. Это промежуточное
положение понятия и провоцирует две равновеликие возможности
истолкования его природы: в качестве момента бытия — как неза-
висимую от вещи, самостоятельно существующую сущность; в ка-
честве момента существования — как саму вещь в замещающей ее
функции знака.
Различение Боэцием трансцендентального
и субстанциального уровня сущего
Каноном средневекового различения сущности и существова-
ния является работа Боэция «Каким образом субстанции могут
быть благими, в силу того, что они существуют, не будучи благами
субстанциальными», которую нам теперь необходимо подвергнуть
тщательному анализу. Главный вопрос этого небольшого сочинения
так сформулирован Боэцием: «Каким образом благи (существую-
щие вещи): по причастности, или по субстанции?»4 Другими сло-
вами, является ли вещь благой в силу своего причастия благу как
таковому, или же благость есть субстанциальное качество вещи,
присущее ей самой по себе? Вопрос о том, каким образом суще-
ствующая вещь является благой, — это не вопрос о благе как мо-
ральном качестве. Благо вообще не является качеством, подобным
форме вещи или ее цвету; вещь является благой совсем не так, как
она является белой или круглой. Начиная с Платона и Аристотеля,
благо понимается либо как само бытие, либо как онтологическая
122
характеристика вещи. В дальнейшем намеченное греческой фило-
софией единство бытия и блага становится краеугольным камнем
средневековой онтологии: в вещи бытия ровно столько, сколько в
ней блага. Изощренный логик, обладавший помимо своего логиче-
ского мастерства колоссальной метафизической интуицией, Боэций
сразу же вводит нас в ситуацию онтологической апории, выражая
ее с предельной ясностью и отчетливостью. Во-первых, допуская,
что вещь является благой по причастию, мы тем самым утвержда-
ем, что благость не является собственным качеством вещи, что
сама вещь, как отдельно существующая субстанция, не обладает
благостью. «Если, — говорит Боэций, — (существующие вещи) бла-
ги по причастию, то сами по себе они никоим образом не благи»5.
Во-вторых, утверждая, что благо является субстанциальным каче-
ством вещи, мы вынуждены допустить, что сама вещь есть благо:
«Итак, существующие вещи благи не по причастности, а по суб-
станции. Но вещи, чья субстанция блага, благи в том, что они суть;
а то, что они суть, они имеют от бытия; следовательно, их бытие
благо... Но если само бытие в них благо, то, будучи субстанциаль-
ными благами, они несомненно будут подобны первому благу и тем
самым будут это самое первое благо: ибо ничто не подобно ему кро-
ме него самого. Из чего следует, что все существующие вещи суть
Бог»с. Так Боэций очерчивает две, равно недопустимые, стороны
апории; если в первом случае вещи лишаются собственной благо-
сти, вследствие чего появляется призрак маиихейского дуализма,
то во втором случае миражом оказывается само существование ве-
щи, которая неразличимо сливается с самим Богом. В результате
получается странная двусмысленность существования: вещь не есть
то, что она есть, и, напротив, есть то, что она не есть.
Всматриваясь самым внимательным образом в открывшуюся
перед нами онтологическую апорию существования, можно заме-
тить, что вся она является следствием однозначного понимания то-
го, что «есть». Поэтому решение апории предполагает переосмыс-
ление самого исходного вопроса. Мы должны спросить не то, ка-
ким образом благи существующие вещи, поскольку данная фор-
ма вопроса о субстанциальности блага как раз и приводит нас к
онтологической апории, а, напротив, задаться вопросом, в каком
смысле существующая вещь есть благо. Другими словами, вопрос
о субстанциальности блага есть вопрос о том, каким образом бла-
го существует. В том случае, если вопрос ставится нами в наив-
123
но онтологическом смысле, как вопрос о благости существующей
вещи, если существование вещи полагается нами как необходимая
и достаточная предпосылка самого вопроса, то благо неизбежно
мыслится нами как реальный предикат существования, вовлекая
нас тем самым в ситуацию онтологической апории. В таком случае
отмеченная Боэцием апория существования выступает лишь сви-
детельством того, что за рамками вопроса остался смысл самого
существования.
Каким же образом может быть поставлен вопрос именно о смыс-
ле существования? Смысл того, что существует, заключается в его
отношении к тому, в силу чего все существующее ест.ъ. Таким об-
разом, искомый смысл существования может быть выявлен толь-
ко при помощи строгой дистинкции существования (id quod est) и
бытия (esse), которую Боэций проводит в своей второй, наиболее
важной «онтологической аксиоме»: «Разные (вещи) —бытие (esse)
и то, что есть (id quod est); само бытие еще не есть; напротив, то,
что есть, есть и существует (consistit), приняв форму бытия (forma
essendi)»7. Сложность прочтения этой фундаментальной для всей
средневековой философии мысли Боэция состоит в ее видимой эк-
вивокальности, которая возникает вследствие того, что нам не уда-
ется сделать для себя понятными некоторые нюансы этой мысли.
Прежде всего, мы замечаем, что данная аксиома образуется как
бы из двух частей, причем ее вторая часть сама образуется в виде
антиномического сопряжения двух частей — «тезиса» и «антитези-
са». Так, тезис «само бытие еще не есть» сталкивается здесь с ан-
титезисом «то, что есть, есть и существует». Имеем ли мы здесь де-
ло с действительной антиномией? Или же так называемый антите-
зис представляет собой простое развертывание и уточнение тезиса
«само бытие еще не есть»? Чтобы разобраться в этом, нам необ-
ходимо поставить перед собой следующий вопрос: в каком смысле
«бытие еще не есть»? Каков смысл этого «еще», в силу которого
бытие еще не есть? На этот вопрос можно ответить только следу-
ющим образом: бытие не есть лишь постольку, поскольку оно не
существует так, как существует любая наличная вещь. Однако мы
оказываемся перед необходимостью отыскать критерий различия
бытия и существования. Каков же отличительный признак именно
существования? Ответ на этот вопрос содержится в формулировке
Боэция «то, что есть, есть и существует», смысл которой мы те-
перь можем передать следующим образом: существует только то,
124
что есть. Существует только то, что, по словам Боэция, «прини-
мает форму бытия», на основании которой сущее и определяется
как quid, как определенное «что». Таким образом, отличительным
признаком существования выступает обладание «чтойностыо». Су-
ществование и есть не что иное, как бытие в форме «чтойности»,
которая, как реальный предикат существования, указывает на его
сущность. Бытие существует только в рамках понятия, отвечающе-
го на вопрос «что есть... ?» «Несуществование» бытия, выражае-
мого тезисом «само бытие еще не есть», характеризуется поэтому
отсутствием «чтойности». Бытие не есть как некое «что», вслед-
ствие чего бытие не может высказываться на уровне реальных пре-
дикатов. Говорить о существовании бытия можно только на уровне
понятия как той формы, посредством которой определяется реаль-
ность существующей вещи. Само же понятие —это то, чем стало
бытие, стянувшись до масштабов наличного «что». В более позд-
ней по отношению к Боэцию транскрипции онтологический статус
понятия определяется поэтому как quod quid erat esse, что является
латинской калькой аристотелевского το τι ήν είναι.
В этом различии между тем, что есть, и тем, что есть, заключа-
ется главная мысль небольшого трактата Боэция, причем трудно-
сти в ее восприятии как раз и проистекают из ложной синонимии
бытия и существования. Существует только то, что есть. Это самое
«что» и является главным нюансом тезиса «само бытие еще не есть;
напротив, то, что есть, есть и существует». Если же мы упускаем
этот нюанс, то мысль Боэция обращается либо в неразрешимую ан-
тиномию, либо, напротив, выглядит тавтологией, бессмысленным
трюизмом. Если имеется различие между тем, что есть (esse), и
тем, что существует (id quod est), то оно, прежде всего, указывает
на невозможность мыслить бытие как абстрактное тождество все-
го существующего. Существовать — значит быть чем-то, выступая
при этом носителем определенных качеств; другими словами, су-
ществование есть бытие в форме субстанции. Однако быть -зна-
чит существовать в том абсолютном смысле, который невозмож-
но передать иначе, как апофатическим способом: не быть чем-то.
Можно сказать, что существование -это предметно-эйдетический
полюс бытия. Всякое существование (id quod est) является всего
некоей устойчивой формой в безбрежном океане esse. Таким об-
разом, бытие не существует; существует лишь определенное quid,
которое, однако, не есть, поскольку оно не является своим собствен-
125
ным бытием. Смысл существования раскрывается во взаимном от-
рицании: бытие не существует; существующее не есть. В двойном
отрицании — «отрицании отрицания» — бытие ускользает от какой-
либо тавтологичности.
Это двойное отрицание, в том случае, если различие бытия и
существования не проведено с достаточной четкостью, дает о се-
бе знать в отмеченной нами двусмысленности существования; вещь
не есть то, что она есть, и, напротив, есть то, что она не есть. По-
этому в основе онтологической апории лежит смешение двух раз-
личных планов: бытия и существования. Это смешение онтологи-
ческого и предметного уровней приводит к тому, что бытие вещи
начинает мыслиться как ее субстанциальное качество, как ее ре-
альный предикат. Тем самым в свете проведенного Боэцием разли-
чия между esse и id quod est радикально меняется смысл самого
вопроса: каким образом благи существующие вещи: по причастно-
сти или по субстанции? Говорить о существовании по причастности
или по субстанции не имеет смысла, поскольку само существование
есть причастие бытию. Существование — это бытие по причастию
(ens ut participia), тогда как бытие —то, чему причастно все су-
ществующее. Бытие является ядром экзистенции, ее сутью. Таким
образом, в самой субстанции обнаруживается такое внутреннее из-
мерение, которое делает субстанцию не тождественной самой себе;
субстанция не может быть сведена к простой совокупности своих
субстанциальных качеств. «Что» субстанции не совпадает с тем,
что она «есть», поскольку ее «есть» не входит в перечень реаль-
ных предикатов самого ее «что». Бытие в таком случае есть то,
что не может быть отнесено к вещи в качестве ее субстанциального
качества. Это имеющееся в субстанции онтологическое различие,
которое, собственно, и конституирует факт ее существования как
вещи, раскрывается Боэцием в четвертой «онтологической аксио-
ме»: «То, что есть, может иметь что-либо помимо того, что есть
оно само; но само бытие не имеет в себе ничего другого, кроме себя
самого»8.
Так решается вопрос о субстанциальности блага. Благо относит-
ся к онтологическому, а не к предметному уровню. Поэтому бла-
гость субстанции не есть сама субстанция как благо. Благость не яв-
ляется как самой субстанцией, так и ее реальным предикатом. Вот
почему из того, что субстанция не есть благо, никак не вытекает
то, что она совершенно лишена благости. Этот ложный вывод необ-
126
ходимо следует из ложной онтологической посылки: однозначного
понимания того, в каком смысле субстанция есть благо. Именно
жестко однозначное понимание «есть» заталкивает мысль в безыс-
ходную дилемму, вынуждая признать, что либо вещь сама по себе
совершенно лишена благости, либо сама вещь есть благо, вслед-
ствие чего бытие вещи приобретает божественный статус. Выход
их этой апории может быть подсказан только неоднозначностью
самого «есть», которое представлено в двух пересекающихся, но
никогда не совпадающих значениях: во-первых, в значении грам-
матической и логической формы, связующей субстанцию (субъект)
с ее предикатами; во-вторых, в значении самого бытия субстанции.
Таким образом, вещь является благой не потому, что, существуя,
она оказывается причастной благу как таковому, как будто благо
есть дополнительный элемент существования, нейтральный сам ио
себе по отношению к существованию. Напротив, благой является
именно существующая вещь, которая является благой в силу того,
что она есть. Смешение онтологического и предметного уровней,
порядка бытия и порядка существования, приводит к своеобраз-
ному парадоксу целого и части, который необходимо внимательно
рассмотреть.
Субстанция, как уже было сказано, не совпадает с собой, причем
в этом несовпадении открывается ее особое, трансцендентальное,
измерение; вещь, как субъект своих качеств, может быть назва-
на вещью в совсем другом, трансцендентальном смысле. При этом
вещь как субстанция и вещь как трансценденталия есть одна и та
же вещь, но взятая в двух различных перспективах: предметной
и онтологической. Соответственно этому глагол «быть» употреб-
ляется либо в значении связи субстанции с ее атрибутами, либо
в значении бытия субстанции. Именно второе, фундаментальное,
значение глагола «быть» порождает диссоциацию субстанции с ее
атрибутами, вследствие которой субстанция не может быть сведена
ни к совокупности своих атрибутов, ни к какому-либо атрибуту в
отдельности. Поэтому субстанция не является простой суммой сво-
их субстанциальных качеств. Получить качества субстанции путем
анализа самой субстанции так же невозможно, как и получить саму
субстанцию в виде синтеза ее качеств. В любом случае в «остат-
ке» оказывается то целое, которое невозможно свести к сумме его
элементов; в основании вещи как субъекта своих качеств находит-
ся вещь в себе, т. е. вещь как трансценденталия. Эта вещь-в-себе
127
и конституирует бытие вещи как субъекта. Поэтому единство суб-
станции с се атрибутами является не единством тождества, а един-
ством различия, означающего, что атрибуты субстанции, как в со-
вокупности, так и но отдельности, не есть субстанция. Тем самым
смешение онтологического и предметного уровней (или, в случае
Боэция, смешение блага и существования) приводит к следующему
парадоксу: тождество субстанции с ее атрибутами означает взаим-
ное тождество самих атрибутов субстанции. Сам Боэций излагает
этот парадокс ясным и лаконичным образом: «Всматриваясь в них
(в существующие вещи. - - Р. Л.) с этой точки зрения, я обнаружи-
ваю, что то, что они благи, и то, что они существуют, — в них две
разные вещи. В самом делеу допустим, что одна и та же субстанция
будет благая, белая, тяжелая и круглая. В таком случае, сама эта
субстанция будет одно, а ее округлость — нечто другое, ее цвет —
нечто третье, благость — четвертое. Ведь если бы каждое из них
было то же самое, что и субстанция, то тяжесть была бы то же
самое, что цвет и благо, а благо — то же, что и тяжесть; но этого
не допускает природа»9. Однако ни одна субстанция не является
тождественной себе, поскольку само бытие субстанции не может
быть высказано на уровне ее «чтойности». Поэтому единственной
возможностью избежать этого парадокса является четкое разделе-
ние порядка существования и порядка бытия, из которого следует,
что благая вещь не есть благо. Сам Боэций следующим образом
производит это разделение: «Из всего этого следует, что в (суще-
ствующих вещах) быть —это одно, а быть чем-то —это другое; и
поэтому они могут, конечно, быть и благими, но само их бытие ни
в коем случае не будет благим»10.
Так, решающим признаком тварного сущего выступает его со-
ставленность из сущности и существования. Составной характер
всякого тварного сущего является, в свою очередь, выражением ре-
ального несовпадения в вещи ее «чтойности» и бытия. Существо-
вание — то, что собой представляет вещь, — состоит в причастно-
сти к бытию, которое конституирует вещь как некое «что»; прича-
стие — это акт бытия сущего. Боэций выражает это в шестой аксио-
ме: «Все, что есть, причастно бытию (Omne quod est participat eo
quod est esse ut sit)». Так, обозначением причастия как акта бытия
становится у Боэция оборот id quod est esse, являющийся своеоб-
разной транскрипцией аристотелевского το τί ην είναι. Таким обра-
зом, существование как акт бытия несводимо к «чтойности» вещи.
128
Поэтому то, что есть вещь, может быть представлено независи-
мо от того, есть ли сама вещь. Это обстоятельство выражается в
восьмой аксиоме Боэция: «Для всего сложного бытие и оно само
разные вещи». То, что остается в вещи за «вычетом» ее бытия, есть
ее сущность, то, что она есть. Природа тварного сущего поражена
онтологической двойственностью, являющейся знаком его конеч-
ности: все существующее наделено сущностью, однако сущность не
включает в себя существования. Мысль Боэция может быть раз-
вернута и представлена в целостном, завершенном виде только в
пространстве, которое задается тремя понятиями: «бытие» (esse),
«сущность» (essentia), «существование» (existentia). Единство этих
понятий обеспечивается их взаимным различием: поскольку суще-
ствование не есть бытие, то сущность не есть существование. Это
двойное «не есть» опять-таки указывает на то, что именно различие
лежит в основании тождества.
Глава II
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
ОНТОЛОГИЧЕСКОГО АРГУМЕНТА
АНСЕЛЬМА КЕНТЕРБЕРИЙСКОГО
И ЕГО ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЛИКАЦИИ
Мы видели, что рассмотрение Боэцием вопроса о субстанциаль-
ности блага носит характер трансцендентального анализа сущего
и с необходимостью предполагает различение бытия и существо-
вания. Благо не является «чтойностыо» вещи, которая могла бы
быть раскрыта в суждении в виде ее реального определения. Это,
в свою очередь, ставит нас перед вопросом онтологического стату-
са суждения, или, другими словами, перед вопросом бытия самого
суждения. Но что такое бытие суждения, как не суждение бытия?
Поэтому вопрос должен быть поставлен следующим образом: су-
ществуют ли, и если существуют, то каким образом суждения, в
которых высказывалось бы не существование той или иной вещи,
а само бытие сущего? В качестве предварительного условия вы-
яснения этого вопроса нам необходимо рассмотреть формальную
структуру всякого элементарного суждения.
Структура суждения образуется из субъекта, предиката и
глагола-связки «есть», выполняющей функцию их синтеза: «S есть
Р». Но если глагол «есть» связывает субъект и предикат, то не го-
ворит ли это о том, что как субъект, так и предикат обладают, каж-
дый но отдельности, собственной независимой реальностью? В са-
мом деле^ связать воедино можно только то, что существует еще до
всякого связывании. Зададимся в этой связи следующим вопросом:
что означает, к примеру, слово «камень», произносимое мной в на-
стоящий момент? Очевидно, оно может быть либо: 1) абстрактным
130
понятием, характеризующим определенный род предметов, 2) ука-
занием на реально существующий камень, который я в настоящий
момент вижу у своих ног. Однако само слово «камень» не означает
само по себе никакого конкретного предмета, и, чтобы наполнить
это слово предметной, указующей интенцией, я должен соотнести
это понятие с предметом, данным мне в непосредственном опыте
его восприятия. Поэтому очевидно, что понятие «камень» вовсе не
подразумевает того, что тот или иной камень существуют в дей-
ствительности. Само понятие «камень» нисколько не уменьшилось
бы в своей реальности, если бы из мира исчезли все предметы дан-
ного рода. Однако данное обстоятельство говорит, в свою очередь, о
том, что понятие «камень» обладает своим собственным существо-
ванием, отличным от существования предмета. Эта специфическая
предметность понятия, независимая от существования обозначае-
мого им предмета, убедительно демонстрируется тем, что любое
понятие может посредством того, что схоласты именовали «вто-
ричной интенцией», само стать предметом. В этом случае понятие
«камень», являющееся предикатом определенного субъекта (пред-
мета), может само стать субъектом реального суждения «камень
есть тело». Таким образом, реальность суждения гарантирована
тем, что каждый из его элементов обладает собственной реаль-
ностью, являющейся специфической модальностью существования;
предмет (субъект) существует вне всякого ума, понятие (предикат)
существует помимо всякого предмета. Понятие является такой же
вещью (res) как и сама вещь. Предмет и понятие существуют, об-
ладая, каждый по отдельности, своей собственной субсистентной
«плотностью». Поэтому всякое реальное суждение «S есть Р» яв-
ляется суждением о существовании, причем ровно в той мере, в
какой оно само образуется из существований.
Однако если сущность и существование являются двумя res, то
что же различает их друг от друга? В силу чего понятие и предмет
являются не одним существованием, а двумя модальностями су-
ществования? Очевидно, именно в силу того неопредмечиваемого
и непредставимого «есть», которое не есть ни предмет, ни понятие.
Поэтому вопросы такого рода вновь ставят перед нами задачу поис-
ка и описания таких суждений, в которых высказывалось бы само
бытие. Разумеется, такие суждения, если они возможны, должны
иметь совсем другую структуру, отличную от той, которую имеют
суждения существования, разламывающиеся на субъект и преди-
131
кат, соединимые посредством связки «есть». Поскольку это самое
«есть» должно выступать уже не в функции связки, а в значении
самого «субъекта», то суждение такого рода не может быть преди-
кативным суждением. Образец такого непредикативного суждения
мы находим в «Прослогионе» Ансельма Кентерберийского. Анализ
этого рассуждения затруднен, однако, тем обстоятельством, что мы
сразу же сталкиваемся с его же собственным симулякром, с неким
ложным двойником. Этот ложный двойник, существующий в исто-
рии европейской мысли под именем «онтологического доказатель-
ства бытия Бога» и являющийся объектом скрупулезной критики
со стороны Канта, предполагает возможность такого понятия, са-
ма мыслимость которого указывает на его существование. Демон-
страцию принципиальной невозможности заключения от понятия к
существованию, данную Кантом в «Критике чистого разума», мож-
но поэтому счесть ничем иным, как апофатической формой самого
ансельмовского рассуждения, целью которого является описание
того, что вообще не является существованием и, следовательно, не
может быть высказано в форме понятия.
Исходным пунктом рассуждения Ансельма является указание
на онтологический разрыв между сущностью и существованием.
Используемый Ансельмом пример с художником должен подчерк-
нуть различие мыслимого предмета и предмета мысли: «Ведь одно
дело — быть вещи в уме; другое — подразумевать, что вещь суще-
ствует. Так, когда художник заранее обдумывает то, что он будет
делать, он, правда, имеет в уме то, чего еще не сделал, но отнюдь
не подразумевает его существования. А когда он уже нарисовал, он
и имеет в уме, и мыслит как существующее то, что он сделал»1.
Действительно, картина, существующая в уме художника, не есть
та картина, которая существует в действительности. При этом кар-
тина в мысли и картина в действительности никак не различаются
с позиции их реальности, поскольку существующая картина ни в
малейшей степени не увеличивает реальный объем понятия «карти-
на»; реальность понятия совершенно идентична реальности самого
предмета. Исходя из этого мы можем сделать чрезвычайно важный
для нашего дальнейшего анализа вывод: картина в уме и картина в
действительности, понятие и предмет, совпадают в реальности, но
при этом различаются в бытии. Поэтому речь вовсе не идет о том,
чтобы отыскать в нашем уме такое понятие, максимальное совер-
шенство которого аналитически включало бы в себя существование
132
как свой собственный предикат. Переход от понятия к существова-
нию не дает в итоге ничего, кроме существования понятия. Критика
Кантом «онтологического доказательства» как раз и состоит в де-
монстрации того, что, заключая от понятия к его существованию,
мы движемся в замкнутой сфере самого понятия, не имея никакой
возможности из нее выйти. Однако задача перехода от понятия к
существованию вообще оказывается избыточной, поскольку поня-
тие уже обладает существованием. Невозможность такого перехо-
да означает, по сути, невозможность соединения двух различных по
бытию существований. Таким образом, переход от мыслимого пред-
мета к самому предмету наталкивается на непреодолимое препят-
ствие — само бытие предмета; в свете бытия сущего «онтологиче-
ское доказательство» оказывается контрпродуктивным. Подлинной
целью онтологического аргумента должно быть поэтому не обосно-
вание тождества понятия и предмета, а, напротив, демонстрация
их различия, поскольку бытие и есть то, что различает понятие и
предмет, сущность и существование. Тем самым необходимо найти
некую «позицию вненаходимости», отличную как от понятия, так
и от предмета и, следовательно, различающую понятие и предмет.
Нам необходимо всмотреться теперь в ту формулу бытия, кото-
рая появилась у нас в процессе анализа суждений существования:
бытие есть то, что различает сущность и существование, так что
бытие несводимо при этом ни к понятию, ни к существованию. Сле-
довательно, «сущностью» самого бытия является чистое различие.
Именно как чистое различие бытие не сводится к понятию, кото-
рое есть не что иное, как форма тождества. Тем самым бытие как
чистое различие всегда оказывается больше того, что представлено
в понятии. В качестве «трансцендентного субъекта» бытие может
быть выражено только «трансцендентным предикатом»: бытие есть
то, больше чего нельзя себе представить, ибо всякое представление
уже предполагает понятийную форму. В этой формулировке и за-
ключается «нерв» всего рассуждения Ансельма: «А мы веруем, что
Ты есть нечто, больше чего нельзя себе представить»2.
Таким образом, аутентичная формулировка бытия как чистого
различии может быть дана следующим образом: мы можем мыс-
лить бытие не иначе как отличным от того, что при этом нами мыс-
лится. Ход мысли Ансельма является обратным «онтологическому
доказательству», предполагающему, что в общей номенклатуре по-
нятий нашего ума имеется такое понятие, совершенство которого
133
включает в себя свое собственное Существование. «Онтологическое
доказательство», основывающееся на тождестве понятия и суще-
ствования, дискредитируется тем онтологическим фактом, что бы-
тие невозможно заключить в капсулу понятия. Понятие бытия не
означает существования именно в силу того, что не существует по-
нятия бытия. Поскольку же не существует никакого понятия бы-
тия, то бытие не может быть наличным исключительно в нашем
уме. Существование всегда находится в рамках понятия. Так, Со-
крат не может выйти за границы той понятийной определенности,
которая выражается реальным предикатом «человек»; выражаясь
словами Парменида, бытие существует в «великих оковах» поня-
тийной определенности. Но именно поэтому существование может
не только нами мыслиться, но и существовать только в нашей мыс-
ли. Бытие же, как уже было сказано, всегда больше того, что выска-
зывается в понятии. Поэтому все рассуждения Ансельма нацелены
на демонстрацию того, что бытие не может стать исключительно
содержанием нашей мысли: «И конечно, то, больше чего нельзя се-
бе представить, не может быть только в уме. Ибо, если оно уже
есть по крайней мере только в уме, можно представить себе, что
оно есть и в действительности, что больше. Значит, если то, боль-
ше чего нельзя себе представить, существует только в уме, тогда
то, больше чего нельзя себе представить, есть то, больше чего мож-
но представить себе. Но этого, конечно, не может быть. Итак, без
сомнения, нечто, больше чего нельзя себе представить, существует
(existit) и в уме, и в действительности»3.
Здесь мы сразу же сталкиваемся с опасностью ложного истол-
кования мысли «то, больше чего нельзя себе представить, суще-
ствует и в уме, и в действительности», источником которой явля-
ется соединительный союз «и», как бы разделяющий предметное
бытие, с одной стороны, и его ментальный образ —с другой. Соот-
ветственно становится довольно легким такое прочтение этой мыс-
ли, как будто бы вне нашего ума, в действительности, существу-
ет некая реальность, адекватная тому содержанию, которое име-
ется в нашем уме. В этом случае рассуждение Ансельма как раз
и принимает форму «онтологического доказательства», становясь
удобной мишенью для критиков этого доказательства, от Гау ни ло-
на до Канта. Сложность восприятия мысли Ансельма проистекает
от интенционального характера самого нашего мышления, сообраз-
но которому мысль является ничем иным, как направленностью
134
сознания на определенное предметное (объективное) содержание,
вследствие чего содержание мысли может быть раскрыто в пред-
метных терминах. Однако постичь смысл рассуждения Ансельма
можно только при условии ясного понимания того, что это рассуж-
дение вообще не говорит нам о чем-либо таком, что «существует
в действительности» как определенное положение делу с которым
можно было бы соотнести определенное понятие нашего ума; то-
му, «больше чего нельзя представить», ничто не соответствует в
действительности. Соответственно ансельмовское рассуждение ни-
как не поддается верификации при помощи канонического принци-
па veritas est adaecatio rei et intellect us, имеющего силу лишь там,
где могут быть сопоставлены две наличные res: предмет и поня-
тие. Поэтому здесь не может идти речи об истине в предметном
ее понимании, как отношения (respectus) двух вещей. В силу того
же обстоятельства здесь нет и не может быть никакого перехода
от понятия к предмету, который фиксировался бы логической свя-
зью посылок и заключения. Всякое представление ансельмовского
рассуждения в виде обычного суждения существования означает,
таким образом, полную аннигиляцию самого его смысла. Речь во-
обще не идет о том, чтобы доказать существование чего-либо, да-
же если это существование обладает статусом наивысшей реально-
сти. Напротив, рассуждение Ансельма вводит нас в тот особенный
топос, где становится невозможно различить понятие и предмет,
но который как раз и является источником различения мыслимо-
го и предметного содержания. Пользуясь языком Канта, мы могли
бы охарактеризовать этот топос как единый корень чувственности
и рассудка, который сам не может быть чувственно представлен
и рассудочно определен. Более того: говорить о существовании в
трансцендентальном смысле, который и предполагается «онтоло-
гическим доказательством», мы можем только в том случае, если у
нас имеется трансцендентальный критерий существования. Одна-
ко получить этот критерий мы можем лишь в результате выхода за
границы всякого представления и соответственно всякой предмет-
ности. Этот трансцендентальный критерий существования сфор-
мулирован самим Ансельмом следующим образом: «Все существу-
ющее (quidquid est), кроме того, больше чего нельзя себе предста-
вить, — даже если известно, что оно существует, можно представить
себе как несуществующее»4.
Здесь, в этих словах, неявным образом вводится продуктивный
135
принцип различия бытия и существования. Существует в собствен-
ном смысле только то, больше чего можно себе представить. Вместе
с тем этот выход за рамки существования, эта трансценденция, в
акте которой, собственно, и конституируется факт существования
чего-либо, раскрывается в присущей нам способности мыслить су-
ществующее как несуществующее. Так, я могу мыслить «камень»,
не предполагая при этом, что мыслимый мной камень существует
где-либо в действительности, и, напротив, камень, который нахо-
дится возле моих ног, я могу представить себе несуществующим.
Именно потому, что мыслимый мной предмет не включает в себя
предмета мысли, я способен трансцендировать себя за рамки фак-
тичной наличности любого предмета. Но какова же природа этой
трансценденции? Что это за таинственная способность преодоле-
вать рамки предмета, сводя к нулю фактичность его существова-
ния? Можно, разумеется, ответить на этот вопрос таким образом,
что это трансцендирование происходит только в мышлении, что оно
имеет, таким образом, исключительно ментальный характер. Дру-
гими словами, мысля существующий камень как несуществующий,
мы вовсе не уничтожаем тем самым действительность камня; су-
ществование этого предмета никоим образом не может быть затро-
нуто тем, что я способен мыслить его несуществующим. Отрицая
действительность камня, я отрицаю его действительность только в
мышлении. Однако вопрос о природе присущей нам трансценден-
ции, именуемой мышлением, имеет иной акцент и соответственно
этому может быть поставлен в следующей форме: не раскрывает-
ся ли в этой способности выхода за рамки всякой предметности
онтологическое измерение нашего мышления? Не получается ли в
этом случае так, что сама способность мыслить существующее как
несуществующее возможна лишь в свете бытия сущего?
Однако каким образом бытие является условием траисценди-
рования предмета? Здесь следует вернуться к уже знакомому нам
тезису: бытие не существует; существующее не есть. Стало быть,
то, что есть предмет, постигается в выходе за рамки его существо-
вания. То, что бытие не существует, как раз и выражается свое-
образным небытием существования. Другими словами, ни один су-
ществующий предмет нашего мира не есть свое собственное бытие,
следствием чего и является принципиальная возможность предста-
вить его несуществующим. Парадоксальным образом можно ска-
зать, что все существующее есть именно в возможности мыслить
136
его несуществующим. Бытие, как чистое различие, создает поэто-
му то свободное пространство смысла, в котором мысль способна
грансцендировать любой предмет, выходя за рамки предметности
как таковой. Мышление не является тем самым сугубо репродук-
тивной способностью представления, ибо, трансцендируя за рамки
предметности как таковой, она выходит за границы всякого пред-
ставления. Мышление, являющееся, прежде всего, способностью
различения, онтологично, поскольку оно укоренено в бытии как
чистом различии.
Итак, существование, в отличие от бытия, характеризуется
трансцендентальным предикатом «больше чего можно себе пред-
ставить», указывающим на его онтологическую конечность, в силу
которой всякое сущее поражено онтологической двойственностью
сущности и существования; из того факта, что нечто мыслится су-
ществующим, никак не вытекает бытие того, что мыслится. Вместе
с тем, следуя дальнейшему ходу рассуждений Ансельма, нельзя
не заметить, что, то «больше чего можно себе представить» дано
a priori как часть более объемного представления. Существование
уже охвачено горизонтом некоего целого, в состав которого оно
входит как его часть. Поэтому можно сказать, что существование
всегда дано нам как часть и никогда, как целое. Исходя из этого Ан-
сельм развивает аргументацию, которую ввиду ее особенной важно-
сти необходимо представить в полном изложении. «Без сомнения,
говорит Ансельм, — что то, чего где-нибудь и когда-нибудь нет, --
даже если оно где-нибудь и когда-нибудь есть,- можно предста-
вить себе как несуществующее нигде и никогда, так же как оно не
существует где-нибудь и когда-нибудь. Например, то, чего вчера не
было, а сегодня есть: как о нем разумеется, что вчера его не было,
так же может подразумеваться, что его никогда нет (numquam esse
subintelligi potest). Точно так же то, отдельных частей чего нет там
и тогда, где и когда есть его другие части, — можно представить
себе, что все его части, а значит, все оно целиком не существует
нигде и никогда. Ведь хотя и говорится, что время есть всегда, а
мир всюду, все же и первое не существует всюду как целое, и по-
следнего как целого нет всюду. И как отдельных частей времени
нет, когда есть другие, так можно представить себе, что их нет ни-
когда. И как отдельных частей мира нет там, где есть другие, так
можно подразумевать о них, что их нигде нет. Но и то, что в частях
своих связано, в представлении может быть разъединено и может
137
вовсе не быть. Поэтому то, чего как целого нет где-нибудь, даже ес-
ли оно существует, может быть представлено как несуществующее.
А "то, больше чего нельзя себе представить", если существует, то
нельзя представить себе его как несуществующее. В другом случае,
если оно существует, то оно есть то, больше чего нельзя себе пред-
ставить; что не проходит. Следовательно, оно ни в коем случае не
может быть где-либо или когда-либо не быть как целое, но всегда
и всюду есть как целое»5.
Так в рассуждениях Ансельма появляется новый, чрезвычай-
но важный ракурс; ничто из того, что не дано нам как целое, го-
ворит Ансельм, не обладает характером бытия. Однако в нашем
повседневном человеческом опыте мы никогда не встречаемся с
чем-то таким, что обладало бы неотъемлемыми чертами целого,
что Ансельм и демонстрирует на примере времени и мира. Так,
в реальном опыте переживания времени нам никогда не дано са-
мо время как целое. Временной ряд потенциально бесконечен и в
этом смысле бесконечно незавершен. Целое времени, будь оно да-
но в конкретном переживании, было бы для нас реальным опы-
том вечности. Поэтому время дано нам не иначе как в виде дис-
кретной последовательности моментов времени. Таким же образом,
постоянно сталкиваясь в нашем реальном опыте с вещами мира,
мы никогда, в том же реальном опыте, не встречаемся с миром
как вещью. Совокупность вещей нашего мира, как и последова-
тельность моментов времени, является потенциально бесконечной,
так что ни в одной части мира нам не дан мир как целое. Вме-
сте с тем целостность времени и мира каким-то образом даны нам
как изначальные условия самого реального опыта времени и ми-
ра. Другими словами, сам реальный опыт оказывается возможен
именно в контексте того целого, которое никогда не может стать
содержанием реального опыта. Эта невозможность опыта целого и
была продемонстрирована Кантом в виде открытых им космоло-
гических антиномий, несомненная ценность которых заключается
в демонстрации того, что пространственно-временное целое мира
есть идея, обладающая регулятивной значимостью, а не понятие
как конститутивный принцип возможного опыта. Поэтому, возвра-
щаясь к аргументации Ансельма, скажем, что целое есть идея, в
которой и выражается онтологическая размерность сущего. Таким
образом, рассуждение Ансельма вообще имеет смысл исключитель-
но в области идей, а не понятий. Более того: история «онтологиче-
138
ского доказательства бытия Божьего» начинается именно с неявной
подмены идеи понятием, наивысшая реальность которого должна
будто бы гарантировать «реальность» наивысшего сущего — Бога.
Однако понятие, даже если оно наделено всеми мыслимыми пре-
дикатами совершенства, все равно остается понятием, т. е. тем, что
может быть превзойдено и тем самым помыслено как несуществу-
ющее. Сама возможность выйти за рамки понятия ведет нас не к
реальному существованию того, что мыслится в данном понятии,
как это предполагается «онтологическим доказательством», а, на-
против, сводит все «реальные» совершенства понятия к некоему
онтологическому нулю. Именно поэтому «онтологическое доказа-
тельство» является контрпродуктивным в самом своехМ основании.
В отличие от идеи, понятие никогда не воплощает в себе целого и
потому не обладает онтологическим характером. Только идея он-
тологичиа, тогда как понятие — всего лишь реально. Но реальность
понятия, или, обращаясь к современному словоупотреблению, зна-
чение предмета, как раз и обеспечивается идеей, являющейся гори-
зонтом смысла всякого значения.
Критика ансельмова рассуждения Гаунилоном, таким образом,
не просто обнаруживает превратность его понимания, но и показы-
вает удивительную нечувствительность к самому его смыслу: то,
больше чего нельзя себе представить, не существует в каком-либо
представлении. Однако Гаунилон критикует Ансельма так, как ес-
ли бы «то, больше чего нельзя себе представить» само являлось
представлением. Из этой молчаливой предпосылки, в свою оче-
редь, следует совершенно естественный вывод: такого рода пред-
ставление не существует в силу его собственной самопротиворечи-
вости. Структура всякого представления образуется из конечного
множества предметно фиксированных значений, которое являет-
ся конечным в силу того, что оно всегда определено неким родом
(видом). Значения являются теми элементами, из которых скла-
дывается любое представление. Однако смысл есть целое, и как
целое смысл не может быть дан ни в одном представлении. Поэто-
му, замыкая, подобно Гаунилону, рассуждение Ансельма в сфере
представления, мы предъявляем ему тем самым такие требования,
которым оно заведомо не может соответствовать. Во-первых, как
настаивает Гаунилон, необходимо иметь интуитивно ясное и логи-
чески непротиворечивое понятие; во-вторых, необходима отдельная
процедура, при помощи которой мы могли бы доказать реальность
139
данного понятия не только в мышлении, но и в существовании. Но
если мы наперед задаем именно такие критерии, то становится со-
всем легким делом показать, что в свете этих критериев ансельмово
рассуждение не выдерживает ни малейшей критики.
Прежде всего, Гаунилон подчеркивает, что всякое слово, поми-
мо того, что оно образует некий фонетический ряд, обладает опре-
деленным значением, которое, как уже было сказано, выражается
принадлежностью тому или иному роду (виду). Именно поэтому
я способен мыслить понятие соответственно только его значению,
даже если я не нахожу в предметном мире никакого соответствия
этому понятию. «Например, — говорит Гаунилон, — если бы я услы-
шал что-то о каком-то человеке, мне вовсе не знакомом, даже о су-
ществовании которого я не знал, благодаря тому знанию о роде и
виде, за счет которого я знаю, что такое человек или люди, то я
мог бы представить себе (cogitare) также и его как (secundvim) ту
самую вещь, которая есть человек. И, однако, могло бы быть так,
что говоривший о нем лгал, и тот, кого я представил себе (quern
cogitarem), не человек —хотя при этом я тем не менее думал (cog-
itarem) бы о нем согласно истинной действительной вещи (secundum
veram rem), не той, которая есть этот человек, но той, которая есть
любой человек»6. Значение, таким образом, есть собственная реаль-
ность понятия, обеспечивающая истинность представления даже в
отсутствие самого предмета представления; в отсутствие предмета
представление в силу имеющейся в нем реальности само становится
предметом. Однако «то, больше чего нельзя представить», посколь-
ку оно выходит за рамки всякого представления, не обладает ни-
каким значением. Это отсутствие значения, в том случае, если ар-
гументация Ансельма берется нами в ее подлинном понимании, яв-
ляется позитивной, а вовсе не отрицательной характеристикой, по-
скольку отсутствие значения указывает здесь на присутствие смыс-
ла. Но поскольку Гаунилон с самого начала замыкает рассуждение
Ансельма исключительно в сфере представления, то трансцендент-
ный предикат «больше чего нельзя представить» обращается для
него в простое звучание, чистый vox. «Но и так, как когда я имел
бы ложное в представлении (cogitatione) или в уме (intellectu), —
развивает Гаунилон свою аргументацию, — я не могу иметь, когда
слышу "Бог" или "нечто большее из всего"; потому что в то время
как первое я мог бы помыслить соответственно истинной вещи и
мне известной, второе я вообще не могу никак, если не по слову
140
только (secundum vocem), а по нему истинной можно представить
себе лишь в малейшей степени или вообще нельзя. Действительно,
когда нечто представляется таким образом, при этом представля-
ется (cogitator) не столько само слово (vox), которое, впрочем, есть
действительная вещь, т. е. звучание букв или слогов, сколько значе-
ние (signification) услышанного слова, по представляется не тем,
кто знает, что обычно обозначается этим словом, т. е. кем оно (зна-
чение) представляется соответственно вещи, действительной хотя
бы только в представлении (cogitatione). а тем, кто этого не знает
и представляет себе только соответственно движению ума (animi
motum), производимого в нем слышанием этого слова, и пытается
вообразить себе значение воспринятого слова. А таким способом —
удивительно, если бы когда-то удавалось ему достигнуть истины»7.
Здесь необходимо остановиться, поскольку именно в этом ме-
сте происходит внешне незаметный, но очень важный сдвиг во всей
критической аргументации Гаунилона. Именно в этом месте, как
мы увидим, и происходит рождение «онтологического доказатель-
ства бытия Божьего». До сих пор критика Гаунилона находилась
в удивительном консонансе со смыслополагающей интенцией рас-
суждения Ансельма, которая заключается в следующем: то, «боль-
ше чего нельзя представить», лишено всякого значения, поскольку
это самое «то» заключает в себе нечто непредставимое. Отметим
при этом следующий момент, на который обращает внимание сам
Гаунилон: все представимое относится к тому или иному роду (ви-
ду), или. продолжая мысль Гаунилона, все представимое обладает
«чтойностью». Поэтому-то я и способен мыслить «человека» как
определенную «чтойность», даже если сам человек, о котором гово-
рится, не дан мне в действительном опыте его живого присутствия.
Таким образом, Гаунилон в своей критике, равно как и Ансельм в
своем рассуждении, говорит по существу только то, что бытие не
выражается реальным предикатом, содержащим в себе то или иное
значение субъекта. Правда, при этом Гаунилон не видит того, что
видит Ансельм, а именно, что полнота смысла может быть дана
только в нулевой степени значения. Рассуждение Ансельма вводит
нас поэтому в такую область, где недопустимо всякое представле-
ние, где, чтобы удержаться в непредставимом, требуются невероят-
ные усилия. Держаться в непредставимом можно лишь в том слу-
чае, если отброшены все, столь привычные для нас наглядные, зна-
ковые опоры мысли. Гаунилон подходит вместе с Ансельмом к этой
141
области непредставимого, чтобы тут же вернуться обратно, в при-
вычную колею представляющего мышления: «А таким способом —-
удивительно, если бы когда-то удавалось... достигнуть истины».
Возврат в сферу представления происходит таким образом, что сам
трансцендентный предикат «больше чего нельзя представить» ис-
толковывается Гаунилоном как представление. Однако если «то,
больше чего нельзя представить» втягивается в сферу представ-
ления, то необходимо найти его значение, что, собственно говоря,
возможно только в виде подмены трансцендентного предиката ре-
альным предикатом. Эту подмену Гаунилон осуществляет таким
образом, что она не сразу бросается в глаза. «Следовательно,—
продолжает он, — пока именно так и отнюдь не иначе есть в мо-
ем уме это, когда я слышу и понимаю говорящего, что существует
нечто большее из всего, что можно себе представить»8. Таким обра-
зом, очень тонкая, почти незаметная для неискушенного ума под-
мена совершилась; трансцендентный предикат «больше чего нельзя
представить» втянут в замкнутую сферу представляющего мыш-
ления, в которой он становится реальным предикатом «большее из
того, что можно себе представить». Ансельмовское непредставимое
«то» обрело значение, утратив при этом смысл. Отныне дело за
немногим. Остается всего лишь показать, что представление «боль-
шего из того, что можно себе представить» отнюдь не предполагает
своего собственного существования: «Ибо я отнюдь не утверждаю —
скорее даже отрицаю или подвергаю сомнению — то, что это боль-
шее сколько-нибудь существует в действительности; и не согласен
признать за ним никакого другого бытия, кроме разве что говорить
о <сбытии", когда дух пытается только по слову вообразить себе то,
что известно ему не вполне, а лишь понаслышке»9. Рассуждение
Ансельма как бы вывернуто здесь наизнанку, будучи представлено
в виде собственной противоположности. Однако именно эта проти-
воположность самому смыслу рассуждения Ансельма и получит в
истории европейской мысли статус «онтологического доказатель-
ства».
Таким образом, если онтологическая целостность, характери-
зуемая как «то, больше чего нельзя представить» вовлекается в
сферу представляющего мышления, то она неизбежно разламы-
вается на некий субъект («то») и представляющий его предикат
«большее из того, что можно представить». Однако только так и
мог появиться знаменитый пример с чудесным островом, ставший
142
хрестоматийным во всех историях опровержения «онтологического
доказательства». В самом деле, говорит Гаунилон, если я имею в
собственном уме идею острова, который «изобилует неисчислимым
множеством богатств и всяческих наслаждений и, не имея на себе
никакого владетеля или обитателя, превосходен перед всеми зем-
лями, населенными людьми, обилием благ», то, разумеется, я но
могу заключить о существовании этого чудесного острова на том
лишь основании, что для него «превосходнее быть не только в уме,
но и в действительности»10. Здесь, прямо на наших глазах, созда-
ется структура рассуждения, которая позднее и будет называться
«онтологическим доказательством»: если я имею идею некоего со-
вершенства как лучшего и большего из того, что можно себе пред-
ставить, то я принужден заключить о существовании этого совер-
шенства, поскольку в противном случае, находясь только в моем
уме, страдая тем самым привацией действительности, эта идея со-
вершенства не будет совершенной идеей. Гаунилону совсем не труд-
но показать логическую уязвимость сконструированного им самим
рассуждения. Демонстрация существования, говорит он, отлична
от демонстрации понятия; доказательство существования нужда-
ется в дополнительном доводе, никоим образом не вытекающем из
природы понятия, каким бы ясным и отчетливым оно ни было. По-
этому говорить о существовании острова мы можем только в том
случае, если сам остров дан как реально существующий, помимо
нашего ума.
Осуществленная Гаунилоном подмена, радикально изменяющая
смысл ансельмова рассуждения, не скрылась, однако, от самого
Ансельма. «Ведь не одно и то же значение имеет (поп eniin idem
valet) ''большее из всего" и "то, больше чего нельзя себе предста-
вить" для доказательства того, что то, о чем говорится, существу-
ет в действительности»11,— отвечает он Гаунилону. Вся сила ар-
гумента, апеллирующего к идее совершенного острова, держится
этой подменой, улетучиваясь, как только правильно расставлены
все онтологические акценты, как только «онтологическое доказа-
тельство» вновь становится онто-логией, т. е. логосом самого бытия.
«Ведь первое ("больше всего"), —говорит Ансельм, — нуждается в
другом (дополнительном) доводе, кроме того, что оно называется
большим из всего; для второго же ("то, больше чего нельзя себе
представить") не нужно ничего другого, кроме его собственного
звучания: "То, больше чего нельзя себе представить". Итак, если
143
о том, что называется (именем) "самое большее", нельзя доказать
по сходству то, что высказывание "больше чего нельзя себе пред-
ставить" само о себе доказывает, — ты несправедливо ставил мне
в упрек, будто я говорил то, чего я не говорил, раз это столь от-
личается от того, что я говорил»12. Субъект и предикат, предмет
и понятие различны как раз потому, что они уже охвачены тем
непредставимым «есть», которое суть не что иное, как чистое раз-
личие, и которое поэтому нельзя мыслить иначе, чем «тс, больше
чего нельзя представить», т. е. отличным от всякого представления.
Различие понятия и предмета является тем самым опосредованной
формой чистого различия как такового; бытие застывает в виде
предметно-понятийной дизъюнкции субъекта и предиката. Перей-
ти от понятия к существованию невозможно именно потому, что
они различены бытием; на подобный переход наложен онтологиче-
ский запрет. В свете онтологии контраргумент Гаунилона, указы-
вающий на невозможность перехода от понятия к существованию,
выглядит обыкновенным трюизмом.
Таким образом, аргументация Гаунилона основывается на скры-
той редукции смысла к значению, идеи к понятию, вследствие ко-
торой мышление оказывается полностью во власти тождественно-
го, заключающего мысль в понятийно-дискурсивную форму. Как
«онтологическое доказательство», так и его критика являются в
этом смысле парой «сиамских близнецов», поскольку определяются
общей им предпосылкой понимания бытия как абстрактного тож-
дества всего существующего. Однако всякое тождество, представ-
ляя собой некую понятийную индифферентность, характеризуется,
прежде всего, безразличием к существованию. Тождество всецело
замкнуто на самом себе и не нуждается в апелляции к действи-
тельности. Констатацией этого обстоятельства является известная
«проблема универсалий», обсуждавшаяся несколькими поколени-
ями средневековых мыслителей. В свете тождества всякое суще-
ствование является несущественным, акцидентальным признаком.
Сократ в этом смысле есть не более чем акциденция «человека»,
безразличного самого по себе как но отношению к Сократу, так и
по отношению к любому действительно существующему человеку.
Род безразличен но отношению к входящим в него видам, посколь-
ку содержание рода не входит в содержание его видов; подобным же
образом вид безразличен в отношении своих индивидов, поскольку
его содержание никоим образом не входит в содержание индивидов.
144
Природой тождества является безразличие. Однако именно в силу
этого безразличия мы и можем, как говорит Гаунилон, предста-
вить себе любую вещь, как существующую, так и несуществующую,
лишь «благодаря знанию о роде и виде» этой вещи. Соответствен-
но нельзя представить себе то, что не обладает родом и видом. В
свою очередь, то, что нельзя себе представить, оказывается больше
всего представимого, или, используя формулировку Ансельма, тем,
больше чего нельзяг представить. Исходя из этого мы можем теперь
сделать следующий вывод: бытие как чистое различие не является
родом, поскольку род воплощает в себе ту или иную степень без-
различия.
Однако насколько самому Ансельму удается удержаться на вы-
соте обретенной им метафизической позиции? Мы можем видеть
это из его ответов Гаунилону. «Опять таки, — возражает он Гауни-
лону, — ты говоришь, что, услышав "то, больше чего нельзя себе
представить", ты не можешь ни представить себе его, ни иметь в
уме как вещь, известную тебе либо по роду, либо по виду, пото-
му что ты не знаешь ни самой этой вещи, ни из другой подобной
заключить о ней не можешь,— ясно, что здесь дело обстоит ина-
че. А именно: всякое меньшее благо в той мере подобно большему
благу, в какой оно является благом: всякому разумному уму яс-
но, что, переходя от меньших благ к большим, мы можем от тех,
больше которых можно представить себе, заключить к тому, боль-
ше чего нельзя ничего себе представить. Ведь, кто не смог бы себе
представить, к примеру, хоть вот это (даже если не верит, что дей-
ствительно существует то, что он себе представляет): если благо
есть нечто, имеющее начало и конец, то гораздо лучше, которое,
хотя и начинается (т.е. имеет начало), однако не оканчивается (не
имеет конца); и как это второе благо лучше первого, так его са-
мого лучше то, которое не имеет ми конца, ни начала, даже если
оно всегда от прошлого через настоящее переходит к будущему;
и — все равно, существует ли нечто такое в действительности или
не существует, — этого последнего несравненно лучше то, которое
никоим образом не нуждается и не вынуждается ни изменяться,
ни двигаться? Разве нельзя себе это представить, или разве мож-
но представить себе нечто больше этого? Или разве нельзя это,
больше чего нельзя себе представить, вывести из того, больше че-
го можно себе представить?»13 В этом рассуждении, которое нам
пришлось взять почти целиком, Ансельм указывает Гаунилону на
145
возможность вывести «то, больше чего нельзя представить» из «то-
го, больше чего можно себе представить», т. е. получить безуслов-
ное существование, именуемое бытием, исходя из неких начальных
условий, данных нам в нашем собственном опыте. Так, следуя при-
меру Ансельма, абсолютное благо, поскольку оно превышает всякое
представление, не может быть дано нам в опыте его существования.
Но, отталкиваясь от благости известных нам по опыту вещей, мы
можем по аналогии сделать вывод о существовании безусловного
блага. Тем самым, соглашаясь с Гаунилоном в том, что мы не мо-
жем a priori вывести существование предмета понятия из понятия
предмета, Ансельм говорит о возможности a posteriori, хотя бы и
косвенно, используя метод аналогии, показать существование по-
нятия.
Прежде всего, мы видим, что в данном возражении Гаунилону
Ансельм оказывается на почве общего с ним понимания бытия как
тождества. В самом деле, вследствие чего допустим тот переход
от меньшего блага к большему, который лежит в основании пред-
принимаемого Аисельмом «выведения» безусловного блага? Вслед-
ствие того, что, как говорит сам Ансельм, «всякое меньшее благо
в той мере подобно большему благу, в какой оно является благом».
Благо выступает здесь эталоном, определяющим степень подобия
благих вещей, т. е. тождественной самой себе сущностью. Таким
образом, мысль Ансельма незаметно оказывается во власти поня-
тия как априорного масштаба истолкования всего сущего. Поэтому
именно здесь, заявляя о возможности вывести безусловное из услов-
ного, бытие из существования, Ансельм становится уязвим для той
критики, которую Кант обрушит на космологическое доказатель-
ство бытия Божьего; безусловное, скажет Кант, не может быть да-
но ни в каком ряду условий. Вывести безусловное из какой-либо
совокупности начальных условий невозможно как раз потому, что
все выводимое из условий само имеет условный характер; двига-
ясь в ряду условий, мы ни на одном этапе регрессии не встретим
безусловного. Переход от условного к безусловному оказывается по-
тенциально бесконечен. Однако такая возможность отвергается са-
мим Ансельмом. В самом деле, кто, как не сам Ансельм, утверждал,
что ничто из того, .что мы способны мыслить несуществующим, не
может войти в состав безусловного существования, выражаемого
трансцендентным предикатом «больше чего нельзя представить»?
Однако все то, что может быть превзойдено в возможности чего-
146
то большего или лучшего, не содержит в себе своего собственного
существования и, следовательно, может быть иомыслено несуще-
ствующим. В свете данной предпосылки «космологический» аргу-
мент Ансельма, нацеленный на обоснование a posteriori безусловно-
го существования, является не более чем риторическим приемом.
Но из той же предпосылки следует, что само движение к безуслов-
ному возможно только потому, что безусловное уже присутствует
в качестве самой возможности этого движения; это трансцендент-
ная, а не фактическая, регулируемая понятием возможность. Бы-
тие есть то, что всегда уже есть, как трансцендентное основание
любой предметной возможности. Поэтому движение от условного к
безусловному, от существования к бытию, уже дано в актуальной
полноте безусловного существования.
Таким образом, бытие (то, больше чего нельзя представить) все-
гда дано как целое и не складывается путем абстрагирования того,
что существует. Бытие —это не универсальный предикат существо-
вания, оно дано сразу и целиком. Однако это ставит перед нами
чрезвычайно сложный вопрос: каким образом нам вообще может
быть дано целое? Ведь целое может быть дано нашему уму толь-
ко как представление целого, которое именно как представление
всегда является частью. С этим вопросом связан крайне парадок-
сальный момент онтологического рассуждения Ансельма, на кото-
рый часто не обращают должного внимания; конечный человече-
ский ум каким-то образом представляет себе то, что охватывает
всю возможную совокупность его представлений. Всякое человече-
ское представление, образующее определенное содержание нашего
ума, необходимым образом частично. Однако в человеческом уме
имеются такие содержания, которые, являясь частью, таинствен-
ным образом регенерируют как целое. Другими словами, имеются
такие содержания нашего ума, само представление которых вклю-
чает в целостный охват меня, представляющего. Эти содержания
являются «истоком и тайной» рассуждения Ансельма, которое все-
го лишь указывает на то обстоятельство, что бытие не может су-
ществовать в мысли иначе, как бытие мысли. Тем самым вопрос
«каким образом нам может быть дано целое?» есть вопрос об он-
тологических основаниях нашей мысли, которые самой мыслью не
могут быть эксплицированы.
Исходя из всего этого можно сказать, что способом присутствия
целого в мысли является присутствие мысли в целом. Таким об-
147
разом, здесь задается особая онтологическая размерность, выра-
жаемая своеобразной топологической структурой, в которой часть
воспроизводит в себе все характеристики целого. Часть и целое не
разорваны здесь, соединяясь затем исключительно внешней свя-
зью, так что целое является суммой своих частей и при этом все-
гда— всего лишь новой, интегрированной в более высокую ступень
общности частностью. Целое присутствует в мысли таким образом,
что мысль оказывается частью этого целого. «Совпадение» мыш-
ления и бытия выражается поэтому нетривиальным тождеством:
мысль есть часть целого, присутствующего в самой мысли. Мыш-
ление и бытие совпадают в некоей точке, которая и является преде-
лом для понятийно-дискурсивного мышления; то, что есть мысль,
невозможно понять только в мышлении. В этом смысле само мыш-
ление является неким онтологическим фактом. Пожалуй, никто не
выразил эту онтологическую определенность мышления более ем-
ко, чем Гёте, сказавший в свое время, что «всей мысли недостаточ-
но для мысли». Мышление невозможно исчерпать в одном толь-
ко мышлении, поскольку мышление неизбежно упирается в нечто,
превышающее само мышление. Это «нечто» - некий топос един-
ства мышления и бытия — есть тот «единый корень чувственности
и рассудка», познание которого Кант считал задачей, превышаю-
щей возможности человеческого разума.
Итак, вопрос о том, каким образом целое присутствует в созна-
нии, неразрешим в сфере исключительно понятийно-дискурсивного
мышления именно потому, что целое не складывается из суммы по-
нятийных обобщений. Будь это так, рассуждение Ансельма свелось
бы к чистому недоразумению, а критика его Гаунилоном была бы
абсолютно безупречной. Однако критика Гаунилона не достигает
своей цели как раз потому, что между понятием и предметом имеет-
ся нечто такое, что не является предметом и, соответственно, не мо-
жет быть охвачено понятием. Именно это самое «нечто» и выгова-
ривается в рассуждении Ансельма, так что вопрос теперь заключа-
ется только в том, каким образом это «нечто» есть в сознании, или,
другими словами, как возможно представление непредставимого?
Обсуждение этого вопроса заставляет нас вернуться к ранее вы-
сказанному тезису, что бытие есть чистое различие. Прежде всего,
спросим, что такое чистое различие и каким образом мы вообще мо-
жем его мыслить? Чистое различие есть то, что всегда больше само-
го себя, вследствие чего всякое представление чистого различия не
148
заключает в себе чистого различия как представления. Именно как
чистое ргизличие бытие есть то, что отлично от самого себя, причем
то, от чего бытие отлично, то, что оно превосходит в собственном
отличии от самого себя, то больше чего оно, таким образом, оказы-
вается, как раз и может быть представлено как некое «что». Тем
самым бытие выступает в качестве трансцендентной предпосылки
всякого представления. «Чтойность», как форма всякого представ-
ления, является темпоральным модусом самого бытия —тем, чем
бытие стало быть. Всякая «чтойность» поэтому уже охвачена бы-
тием. Однако в «чтойности» бытие дано в опосредованной им са-
мим — «превращенной» —форме предметно-понятийной дизъюнк-
ции сущности (essentia) и существования (existentia). В свою оче-
редь, соответственно своей предметно-понятийной форме эта дизъ-
юнкция может пониматься двояким образом: либо как «реальное»
различие двух вещей, либо как «формальное» (понятийное) разли-
чие, имеющее основание в вещи. Спор между сторонниками реаль-
ного и формального различия сущности и существования не выхо-
дит, таким образом, за рамки вторичной формы различия, произ-
водной от различия как такового.
Таким образом, бытие —то, больше чего нельзя представить —
есть не что иное, как трансцендентная возможность, т. е. возмож-
ность, π ре восходящая себя как возможность, и оказывающаяся в
силу этого самопревосхождения действительностью. Вместе с тем
именно трансцендентная возможность задает тот трансценденталь-
ный контур, внутри которого возможно понятийное расчленение
сущего. Понятие —то, больше чего можно себе представить — яв-
ляется в силу этого тем, что всегда в остатке. Понятие —это «оста-
ток», чем и определяется его неустранимо имперфектный харак-
тер, выражающийся сразу в двух значениях. Во-первых, понятие
имперфектно в смысле вечно незавершенного прошлого, бессиль-
ного самого по себе сложиться в ту «полноту времен», которая
состоит в экстатическом единстве прошлого, настоящего и буду-
щего. Понятие фиксирует вовсе не то, что есть, а всего лишь то,
что «стало быть». Поэтому мир, данный в концептуальном выра-
жении, есть мир безусловно прошлого, который содержит в себе
свое собственное будущее в качестве уже прошедшего. Безуслов-
ное будущее — это не то будущее, которое будет или может быть
по истечении определенного промежутка времени, а то, что све-
тит миру из трансцендентного, недостижимого в границах самого
149
мира, далека; безусловное будущее —это то, что уже исполнилось.
Во-вторых, понятие есть то, что всегда дано как часть и никогда —
как целое. Понятийный охват мира представляет собой regressus in
indefinitum, обычно выдаваемый за прогресс научного знания. По-
скольку же предметно-понятийное различие является «превращен-
ной» формой чистого различия, то оно выступает ничем иным, как
различием двух тождеств: тождества предмета, всегда данного мне
в опыте как «тот же самый» предмет, и тождества понятия, которое
обеспечивается его логической непротиворечивостью, т. е. способ-
ностью мысли усматривать в понятии только одно, а не несколько
различных содержаний. Чистое различие, в том случае, если мы не
можем мыслить его именно как чистое различие, неизбежно при-
нимает форму различия тождеств. Отсюда становится понятной
основополагающая интенция философии Нового времени, которая
вообще стремилась к тому, чтобы снять предметно-понятийное раз-
личие в некоем наивысшем Тождестве, в результате чего тоталь-
ность предмета без остатка претворилась бы в тотальность самого
мышления. Наиболее рельефно данная интенция проступает в уче-
нии Лейбница об «истинах разума» и «истинах факта» и особенно
в представлении о бесконечной аналитичности «истин факта».
Истины разума представляют собой логические тождества, при-
меры которых мы, прежде всего, находим в математике и логике.
Что же касается истин факта, то, по мысли Лейбница, они явля-
ются всего лишь потенциальными тождествами, поскольку, в отли-
чие от истин разума, истины факта- это истины, взятые в аспекте
бесконечности. Каждая истина такого рода представляет собой рас-
крытие явления через определение его причины (основания). Так,
высказывание «собрались тучи — пошел дождь» дает элементар-
ную истину факта, где определенное явление (дождь) возводится
к породившей это явление причине (тучи). Очевидно, что между
явлением и основанием этого явления нет тождества; тучи — это не
дождь, а дождь — не тучи. Однако, как убежден Лейбниц, если бы
мы могли проследить всю мировую цепь причин, конечным звеном
которой была бы капля дождя, если бы наш разум мог· охватить
явление во всей тотальности его оснований, то чисто эмпирическое
суждение «собрались тучи — пошел дождь» можно было бы пред-
ставить в форме логического тождества. Поэтому истины факта
столь же аналитичны, как и истины разума; их специфическое от-
личие состоит только в том, что они бесконечно аналитичны. Дру-
150
рое дело, что в силу ограниченности нашего разума мы не можем
прийти к окончательному синтезу опыта и разума, который означал
вы полное сведение истин факта к истинам разума, что позволило
бы выразить мир в целом одним великим Уравнением, замкнуть
его во вселенском Тождестве. Опыт и разум соединяются в некоем
трансцендентном пределе, который и был в дальнейшем обозначен
Кантом как «вещь сама по себе», любая попытка познания которой
оборачивается для· человеческого ума разрушительными парало-
гизмами и антиномиями.
Таким образом, искомое единство опыта и мышления можно об-
рести только в целокупной бесконечности оснований. Именно здесь
и начинает звучать в полную силу метафизический оптимизм Лейб-
ница, основывающийся на убеждении, что усовершенствованный
посредством рационалистической методологии человеческий разум
способен перескочить бесконечную цепь оснований, охватив sub
specie aeternitatis целое мира. Задача рациональной дедукции бы-
тия всякого сущего, вдохновившая Спинозу на написание «Этики»,
была и движущим мотивом попыток Лейбница создать унифици-
рованный логический язык — ars combinatorica. Следовало обойти
мир с его дурной бесконечностью оснований, обратив ее в позитив-
ную бесконечность самого человеческого разума, способного мыс-
лить мир так, как если бы его мыслил Бог, т. е. охватывая единым
взором весь мир в его бесконечности. Для этого необходимо «за-
клясть» мир, построив изоморфный ему мир знаков, чтобы затем,
на основании конечного числа алгоритмов, сделать возможным ло-
гическое исчисление любого факта нашего мира.
Однако попытки построения такого языка оказываются неосу-
ществимы, прежде всего, потому, что они наталкиваются на сле-
дующий закон онтологии нашего мира: бесконечный синтез опыта
и мышления не может быть дан в бесконечности. Другими сло-
вами, возможность согласования опыта и мышления всегда реа-
лизуется только в конечном, но не в бесконечном синтезе. Опыт
вновь и вновь заявляет о себе как о принципиально не снимаемой в
мышлении реальности, а все попытки разума вырваться за преде-
лы опыта, на простор чистого, не связанного эмпирическими усло-
виями мышления, обречены, как покажет Кант, на крах. Мышле-
ние, сняв предмет в понятийном, логическом тождестве, преобра-
зовав тем самым предмет в субъект, вновь наталкивается на го-
лую наличность предмета, выпадающего из созданной мышлением
151
понятийной конструкции и нуждающегося поэтому в объяснении.
Исходя из этого мы можем констатировать следующую парадок-
сальную ситуацию: невозможно мыслить мир в его бесконечности;
невозможен опыт мира в его завершенности. Концептуачьное по-
знание мира распадается поэтому в потенциальную бесконечность
познавательных актов. Таким образом, мы имеем, с одной стороны,
очевидную бессодержательность и бессодержательную очевидность
«истин разума», а с другой стороны, бесконечную дискурсивность
«истин факта», безостановочное движение мысли от факта к его
основанию, которое в конечном итоге само предстает как факт. От-
сюда следует чрезвычайно важный вывод: поскольку соответствие
опыта и мышления (или тождество предмета и мысли) может быть
достигнуто лишь в конечном синтезе, то сам закон тождества носит
исключительно частный характер.
Итак, двигаясь по пути теоретического осмысления мира, мы
нигде не встретим такого целого, которое само не было бы частью
другого, объемлющего его целого. Однако целое как часть — конеч-
но. В силу этого то целое, с которым имеет дело научный разум, в
терминологии Ансельма, есть то, больше чего можно себе предста-
вить. Онтологический принцип научного познания можно поэтому
выразить следующим образом: целое есть часть, поскольку часть не
есть целое. Целое как таковое ускользает от теоретического разума
таким образом, что разум, в своем стремлении к целостному охва-
ту мира, проваливается в потенциальную (дурную) бесконечность
оснований. Двигаясь от явлений к их основаниям, научный разум
обнаруживает присущую ему неспособность добраться до такого
основания, в актуальной полноте которого содержались бы все яв-
ления нашего мира. Следовательно, рассуждение Ансельма вообще
имеет смысл только в отношении к такому целому, которое не явля-
ется частью. Однако целое, которое не является частью, заключает
в себе бесконечность. Эта бесконечность будет бесконечностью це-
лого, отличной от потенциальной бесконечности, представляющей
собой некую бесконечную серию, каждая совокупность которой яв-
ляется лишь частью и никогда-самим целым. Таким образом, в
рассуждении Ансельма выявляется онтологический «срез» мира,
некая особая размерность всего сущего. В самом деле, что озна-
чает бесконечность целого, как не то, что в каждой точке этого
целого заключается целая бесконечность? Другими словами, целое
здесь уже дано, присутствуя в каждой своей части, так что каждая
152
часть воспроизводит в себе все характеристики целого. Такого рода
целое будет актуально бесконечным. Рассуждение Ансельма имеет
действительную силу только в «срезе» актуальной бесконечности, в
которой и заключается онтологическая размерность нашего мира.
Данная онтологическая размерность выражается следующим пара-
доксальным обстоятельством: целое не есть часть, поскольку часть
есть целое.
Так, на новом витке анализа, мы можем снова подойти к во-
просу: каким образОхМ в мысли присутствует целое? Ведь все рас-
суждение Ансельма держится исключительно на том тезисе, что
безусловным существованием (бытием) обладает только такое це-
лое, которое является безусловным целым, т. е. целым, которое са-
мо никоим образом не является частью. Однако простейшего на-
блюдения над собой достаточно нам для того, чтобы убедиться в
отрывочности и фрагментарности нашей мысли; всей силы нашего
внимания порой не хватает на то, чтобы удерживать мысль в фоку-
се внимания сколько-нибудь длительное время. Поскольку же наша
мысль фрагментарна и частичка, то мышление не заключает в се-
бе безусловного существования. Онтологический факт конечности
нашего мышления состоит в том, любая наша мысль, как мысль
о чем-то, не содержит в себе бытия мыслимого. В сфере конечно-
го, даже если конечное дано в бесконечной проекции, невозможно
никакое единство мышления и бытия. Парменидовское «единое»
нельзя обрести только в мышлении, прежде всего, в силу конечно-
сти самого мышления, в силу того, что, по словам Гёте, всей мысли
недостаточно для мысли. Другими словами, для всей мысли тре-
буется нечто большее, чем мысль. Разобщенность в нашем опыте
мышления и существования как раз и свидетельствует о том, что
мысль не содержит в себе своих собственных онтологических ос-
нований. Поэтому, как указывает Кант, все плоды нашего знания
произрастают от двух стволов «древа познания» — чувственности и
рассудка, единый корень которых навсегда скрыт от нас в непрони-
цаемой тьме. Знание в полном смысле этого слова возможно лишь
там, где нам удается подвести чувственные созерцания под катего-
рии рассудка. Сотня мыслимых мною талеров не означает действи-
тельного существования этой суммы в виде моей кассовой налич-
ности.
Таким образом, целое, о котором идет речь в рассуждении Ан-
сельма, может присутствовать в мысли не иначе как в виде цсло-
153
кунной бесконечности, каждая часть которой включает в себя це-
лое. Поскольку же каждая часть этого целого сама есть целое, то
мысль, как часть мыслимого, есть целое, т. е. нечто большее, чем
мысль. Мысль и бытие с}'ть одно в энергийном единстве части и
целого. Единство мышления и бытия открывает то особое измере-
ние сущего, которое никоим образом не дано нам в естественной
совокупности вещей нашего мира. Единство мышления и бытия
означает только то, что мышление бытия (часть) есть бытие мыш-
ления (целое). Однако мышление бытия является неким «экстре-
мумом», которого никак нельзя достичь в расхожей привычности
нашего повседневного мышления, характеризующегося фрагмен-
тарностью мысли, с одной стороны, и разобщенностью мышления
и существования — с другой. Такими же «экстремумами» являют-
ся и платоновские «идеи», каждая из которых представляет собой
некое целое, включающее в себя всю возможную совокупность яв-
лений, подобно тому, как идея «прекрасного» включает в себя всю
возможную совокупность явлений прекрасного. Рассуждение Ан-
сельма является поэтому манифестацией такого онтологического
порога, достигая которого мысль уже не может быть только мыс-
лью, поскольку она оказывается бытием мыслимого.
Нам необходимо теперь сделать следующий шаг, чтобы обозна-
чить ту странную точку, «совпадая» в которой бытие и мысль об-
разуют парменидовскос το αυτό — то же самое. Ведь говорить о
совпадении в общеупотребительном значении этого слова мы мо-
жем только в том случае, если имеющиеся в наличии вещи сходны
между собой в целом ряде признаков. В таком случае точкой сов-
падения этих вещей будет понятие, которое является ничем иным,
как позицией онтологического безразличия, т. е. неким «общим ме-
стом», в котором нейтрализуется специфика существования каж-
дой вещи. Вместе с тем понятие образует то условное целое, частя-
ми (видами) которого являются совпадающие в нем вещи. Однако
бытие и мысль — не вещи и соответственно они не могут быть да-
ны в наличии, подобно тому, как соотносимые между собой вещи
должны быть в наличии еще до всякого их сопоставления. Соответ-
ственно бытие и мысль не могут совпадать так, как сходные вещи
совпадают в понятии. Местом «совпадения» бытия и мышления яв-
ляется топологическая размерность, где, как уже говорилось, целое
не есть часть, поскольку часть есть целое. Мы встречаемся здесь с
некоей неразложимой и потому безусловной целостностью, которая
154
выступает первичным и глубинным фактом онтологии нашего ми-
ра. Тогда в каком же смысле мы можем говорить о «совпадении»
бытия и мышления? Каким образом мы могли бы уловить то «ме-
сто», в котором часть целого есть само целое, где мышление бытия
есть бытие мышления? Точкой совпадения вещей является понятие.
В «совпадении» же бытия и мысли высвечивается символ, которым
выражается всякая онтологическая размерность нашего мира. «То
же самое» бытия и мысли не есть единство тождества.
Таким образом, целое может присутствовать в сознании только
как символ. В этом смысле символ, в отличие от понятия явля-
ется онтологической определенностью самого сознания. Всякое по-
нятие интенционально отнесено к предмету, на который оно явно
или неявно указывает. Так, к примеру, понятийная определенность
«дерево» в любой момент может быть использована в функции зна-
ка, указывающего на действительный предмет, данный мне в опыте
его реального присутствия. Понятие как форма воплощает в себе
определенное значение, которое и может быть отнесено к некоему
возможному предметному содержанию. При этом предметное со-
держание понятия не есть само понятие; так, понятие «дерево» не
есть то самое дерево, которое я в настоящее время вижу за своим
окном. Можно, конечно, на основании того, что понятие и предмет
характеризуются по отдельности своим собственным существовани-
ем, соединить их в общем понятии бытия, растворив их тем самым
в квазипонятии «сущее» (ens). Однако это общее понятие бытия,
в силу того, что оно соединяет в своей предельной абстрактности
две несоединимые модальности существования, будет заряжено той
неустранимой онтологической амбивалентностью, которую схола-
стика квалифицировала как омонимию сущего. Предметное содер-
жание понятия всегда есть часть понятия и никогда — целое. Если
бы Сократ воплощал в себе, целиком и без остатка, человечность
как таковую, то он был бы единственным человеком нашего мира.
Это проливает свет на неаналитичность существования, которую
необходимо принимать как онтологический факт, нуждающийся в
разъяснении с позиции онтологии. Поскольку понятие есть часть
(то, больше чего можно себе представить), то оно не есть бытие
предмета —то безусловное целое, которое содержит в себе предмет
именно потому, что оно само содержится в предмете. Поэтому пред-
мет всегда дан в модусе существования, онтологически отличного
от своей сущности.
155
Подобно понятию, символ включает в себя определенный образ.
К примеру, такими образами могут быть дерево, змея, луна, крест
и т. п. Однако радикальное отличие символа от понятия состоит в
том, что образ, который он несет в себе, есть не какое-то наглядное
представление, подводимое под символическую форму, а сам сим-
вол. Символический образ, как часть целого, есть само целое. По-
этому когда мы говорим о «древе познания», то речь вовсе не идет
о какой-то абстрактной идее познания, которую мы «символизиру-
ем» соответствующим наглядным образом. Любой символ является
неразложимой онтологической целостностью, которую невозможно
расщепить, выделив из него некий идеальный экстракт и получив в
остатке чистый образ, при помощи которого мы будто бы можем на-
глядно представить себе «идеальное» содержание символа. Символ
неразложим, поскольку в каждой своей части он воспроизводится
как целое. Поэтому в символе нам дан не предмет, который мож-
но было бы получить в форме его непосредственного наглядного
представления; в символе нам дано бытие. В этом смысле символ
всегда простерт в двух направлениях — бытия и сознания, которые
«совпадают» в символе таким образом, что сам символ есть не что
иное, как бытие сознания. Тем самым символ — это не коннотатив-
ная определенность знака, как в этом убеждает нас современная
семиотика, а также не реликт примитивной психической жизни,
как тому учит «глубинная психология». Символ — это онтологиче-
ская «скрепа» самого сознания, на которой по существу и держится
сознание. Это тот единый корень древа нашего познания, расходя-
щийся затем по стволам чувственности и рассудка, познание кото-
рого, как в этом убежден Кант, является запредельной для нашего
разума задачей. Запредельность символа свидетельствует, однако,
только о том, что это— корень неба, а не земли.
Нам остается только сделать некоторые теологические экспли-
кации полученных выводов, которые выводят нас за рамки текста
ансельмовского «Прослогиона». Разумеется, речь идет вовсе не о
том, чтобы каким-то образом «дополнить» рассуждения Ансельма.
Мысль, особенно если это мысль крупного философа и богослова,
всегда больше того, что содержится в непосредственной налично-
сти текста. Другими словами, то, что мыслится в тексте, всегда
существует в контексте самой мысли. Именно наличие этого кон-
текста делает текст нетождественным самому себе. Искусство мыс-
лить текст как раз и состоит в том, чтобы взять текст в свободе его
156
собственного контекста, что и преобразует сам текст в средоточие
различных перспектив. Поэтому цель этих экспликаций заключает-
ся в том. чтобы выявить теологический контекст мысли Ансельма.
Чрезвычайно важный вывод, к которому мы пришли, состоит в
том, что безусловное целое («то, больше чего нельзя представить»)
может быть дано только в символе, который является антиномиче-
ским сопряжением целого и части; целое не есть часть, поскольку
часть есть целое. Таким образом, в символе соединяются две «по-
ловинки» — тезис и антитезис, каждая из которых имеет смысл не
сама по себе, а лишь в отношении к другой части, являющейся ее
собственным антитезисом. Так, смысл тезиса «целое не есть часть»
удерживается антитезисом «часть есть целое», который, в свою оче-
редь, имеет смысл только в отношении к своему антитезису «целое
не есть часть». Взятые порознь, разъятые в независимые друг от
друга утверждения, эти «половинки» символа обращаются в мета-
физические тождества, зачастую представляемые в форме пресло-
вутой «диалектики» целого и части: целое есть часть; часть есть
целое. Трансцендентное единство символа деградирует здесь в им-
манентное единство тождества. При этом содержащаяся в символе
бесконечность целого, теряя свой трансцендентный характер, ста-
новится своим собственным имманентным образом — «дурной» бес-
конечностью частей, не способной сложиться в завершенное и тем
самым совершенное целое. Вся история гностических учений, равно
как и история ересей, представляет собой панораму имманентных
образов христианского вероучения. Как в гностицизме, так и в ере-
сях обнаруживается неспособность взять высоту траисценденции, и
как следствие этого — соблазн толкования «мира иного» в нагляд-
ных, представимых образах «мира сего». С известной долей риска
можно было сказать, что Ад —это имманентный образ вечности
как вечного повторения «того же самого»; это свидригайловский
образ вечности как законченной деревенской баньки с пауками по
углам.
Тождество — это имманентное единство предмета, т. е. единство,
которое не выводит нас за границы предметности как таковой. Та-
кого рода единство фиксируется термином ουςία — сущность, кото-
рым понятийный язык выражает наивысшую для рассудка степень
предметного единства. Так, муравей и стрекоза подобны, посколь-
ку они обладают общей сущностью—«насекомое»; точно так же
Сенека и Нерон подобны тем, что имеют общую сущность — «че-
157
ловек». В области предметных тождеств возможны лишь отноше-
ния подобносущия- ομοιουσιος. Всякое предметное тождество рас-
сыпается в бесконечную серию единиц, бесконечным пределом ко-
торых выступает целое, как сумма своих частей. Ни одна часть
этой серии по отдельности не выражает и не может выразить це-
лое, которое предстает тем самым в виде обобщения той или иной,
произвольно заданной суммы частей. Всякий потенциально беско-
нечный ряд предполагает поэтому подобие целого и части; часть
здесь — незавершенное целое, а целое — незавершенная часть. Дру-
гими словами, целое может быть задано любым членом этой беско-
нечной серии, который и становится в силу этого знаком всей серии.
Функцию такого знака и выполняет в рассудочном мышлении по-
нятие. Тождество, как имманентное единство, есть неопределенная
совокупность индивидов, поскольку индивид представляет собой
предел понятийного различения. Понятийное отношение включает
в себя индивида, определяемого посредством понятия, в котором
и фиксируются формальные признаки индивида, — то, что делает
индивида подобным другим индивидам данного класса.
Таким образом, всякое тождество — потенциально бесконечно,
вследствие чего оно рассыпается на бесконечную серию «подоб-
носущих» индивидов. Сущность является поэтому «интегралом»,
обеспечивающим единство всей серии. Сущее в его онтологической
размерности, сущее как целое, каждая часть которого — само це-
лое, есть в таком случае не индивид, а υποστασις — личность. Лич-
ность есть актуальная полнота бытия, представленная сущим, ко-
торое остается этим сущим; это целое, которое не есть часть, по-
скольку сама часть есть целое. Наконец, личность — это единство,
исключающее какое-либо подобие. Исходя из нашего предыдущего
анализа, можно выразить личность в виде следующей «аббревиа-
туры»: личность есть лицо бесконечности. В этом и заключается
тот высший, трансцендентный, род единства, который со времени
Никейского Собора принято обозначать термином ομοούσιος — еди-
ноносущность. Различие между подобносущностыо и единосущно
стыо не замыкается, таким образом, исключительно в сфере бого-
словских определений. Это — различие между тождеством (подоби-
ем) и единством, возможностью и действительностью, состоянием
и деятельностью. Наконец, это различие между вещью и лично-
стью. Вещь есть лишь точка неопределенного предметного множе-
ства; личность же есть живой центр Бытия. Выразим это разли-
158
чие между вещью и личностью следующим образом: подобие есть
отношение между вещами; энергия есть отношение между лично-
стями. Энергия (ενεργεία) — это совпадение Единого (εν) и вещи,
это то «совпадение», которое и делает вещь живым произведением
(έργον), воплощающим в себе образ (εικον) Единого. Формой имма-
нентного единства выступает понятие, являющееся, в свою очередь,
значимой единицей научного дискурса. Трансцендентное единство,
как единство целого, выразимо только в символе.
Завершая анализ геологических экспликаций онтологического
рассуждения Ансельма Кентерберийского, постараемся выразить в
сжатом виде смысл чистого различия. Понятие есть то, на основа-
нии чего одна вещь отличается от другой; понятие различает вещь.
В противоположность понятию символ, являющийся онтологиче-
ской характеристикой чистого различия, различает Лик. Чистое
различие есть в этом смысле не что иное, как раз-Личие.
Глава III
АРИСТОТЕЛЕВСКО-ТОМИСТСКИЙ ТЕЗИС
«БЫТИЕ НЕ ЕСТЬ РОД»
И ПРОБЛЕМА РАЗЛИЧИЯ СУЩНОСТИ
И СУЩЕСТВОВАНИЯ В СХОЛАСТИКЕ XIII В.
Обсуждение вопроса о смысле различия бытия и существова-
ния приводит к выводу, что само существование выступает момен-
том различия, различенного им от своей сущности. Бытие субстан-
ции, как мы видели на примере рассуждений Боэция, выражается
в ее нетождественности самой себе, поскольку в самой субстанции
обнаруживается такое измерение, которое никоим образом невоз-
можно выразить на уровне предикатов субстанции. То, что есть
субстанция, различает факт ее наличного существования от того,
что она есть. В силу этого понятие бытия может быть только но-
минальным; бытие, как чистое различие, не может быть замкнуто
в самотождественности понятия. В общем понятии бытия долж-
но было бы исчезнуть различие трансцендентального (онтологиче-
ского) и предметного уровня, в котором, собственно, и коренится
метафизика, следствием чего стал бы онтологический парадокс су-
ществования, определяющий все рассуждения Ансельма Кентербе-
рийского: само существование должно было бы входить в перечень
своих реальных предикатов. В отличие от теологии и предметных
наук, метафизика не позитивна, всецело критична, поскольку сам
ее статус конституирован различием, а не тождеством. Метафизи-
ка, согласно ее восходящему к Аристотелю определению, есть на-
ука об ens inquaiitum ens, сущем как сущем. Однако само «сущее
как сущее» выражается тем фундаментальным различием, которое
невозможно замкнуть в позитивную определенность сущего как та-
100
кового. Именно упразднение этого различия в понятии однозначно
сущего (ens univoeum) превратит метафизику в позитивное знание,
объектом которого является ens reale как тождественная своему
существованию сущность. Направленная против этой метафизики
критическая философия Канта является некоторым возвращени-
ем метафизики к своему подлинному основанию — в пространство
различия как такового. Отсюда становится понятной и заведомая
безуспешность попыток Канта перейти от критики чистого разума,
задуманной им в качестве пролегоменов к будущей научной мета-
физике, к построению самой научной метафизики. Метафизика fie
может существовать иначе, как в форме критики, а не позитивного
знания.
Эта невозможность замкнуть бытие в понятие, определяющая
рассуждение Ансельма Кентерберийского, дает о себе знать омо-
нимией понятия «сущее». Схоластика всегда признавала амбива-
лентность сущего (ens) тем, что различала ens ut no men и ens ut
participa, сущее по имени и сущее по причастию. Сущее по имени
указывает на сущность (essentia) как на устойчивое состояние су-
щего, тогда как сущее в значении причастия означает актуальное
существование сущего, его полную действительность (existentia).
Существование вещи есть ее действительность в смысле причастия
вещи действию как таковому. В омонимии сущего отражается по-
этому несоединимость действия и состояния, которая лишь мас-
кируется мнимой индифферентностью ens. Подобно тому, как гре-
ческое το ον — сущее — является субстантивированным причастием
глагола είναι, так и латинское ens образовано как причастие гла-
гола sum — быть. Данное обстоятельство, которое можно было бы
отнести к области чистой грамматики, следует рассматривать и
как онтологический факт, обладающий безусловной метафизиче-
ской значимостью: в основе состояния находится действие. Сущ-
ность не заключает в себе действительного существования, так как
состояние не заключает в себе действия; чистая сущность, каковой
является понятие, всего лишь трансцендирует к действительности.
Эта трансценденция к действительности и является возможностью
как таковой. Таким образом, сущность и существование относятся
друг к другу как возможность к действительности. Поэтому разли-
чие сущности и существования понималось в схоластике еще и как
различие между сущим in potentia и сущим in actu. Даже во време-
на «второй схоластики», в «Логике» Сото, отмечается, что термин
161
ens, являясь причастием глагола sum, обозначает не только акту-
ально существующее, но и существующее в возможности (quod est
actu vel potentia)l.
В качестве возможности сущность заключает в себе реальность
существования. Однако сущность реальна совсем не π том смыс-
ле, который позднейшая схоластика вкладывала в понятие «реаль-
ная сущность» (ens reale), сводя существование к чистой возможно-
сти существования, а возможность существования — к логической
непротиворечивости. Сущность представляет собой реальность су-
ществования в смысле всего возможного объема его действитель-
ности. Так, действительность Сократа состоит не в том, что он —
человек, а в совокупности действенных проявлений его человече-
ской природы. Реальность Сократа состоит в том, что каждое его
действие, как человеческое действие, не может выйти за рамки его
человеческой сущности. Действительность есть не что иное, как
совокупность действий, причем весь возможный объем этой сово-
купности определяется рамками понятия как возможности; в силу
этого реальность выступает тем априорным масштабом, в рамках
которого проявляет себя действенная природа существования. Ре-
альность понятия выполняет, таким образом, роль, в чем-то анало-
гичную той, которую выполняет кантовский трансцендентальный
схематизм; реальность осуществляет априорный синтез, относя мо-
менты действительности к понятию, из которого они, однако, не
могут быть выведены по правилам логической дедукции. Вместе
с тем действительность, как совокупность действий, есть по сво-
ей природе отношение. Под реальностью можно поэтому понимать
совокупность всех возможных отношений, в которые может быть
поставлена та или иная вещь. Реальность о-пределяет совокупность
позиций в существовании, тот или иной positum вещи, в котором
она действенно проявляет себя по отношению к другим вещам. Тем
самым понятие воплощает в себе ratio существования, характеризуя
вещь как res, как вещь, данную в модусе того или иного отношения
(respectus).
Вместе с тем понятие, как априорная форма, определяющая
действительность как возможную совокупность действий, не схва-
тывает при этом действия как такового. Чистое действие—это
неразложимая целостность, характеризующаяся (как мы видели на
примере аристотелевской «энергейи») особого рода темпорально-
стыо, каждый момент которой вмещает в себя всю полноту време-
162
ни. Эта особая, неразложимая целостность, проходя сквозь призму
понятия, разлагается на отдельные временные состояния, так что
настоящее теперь дано в форме незавершенного прошлого —того,
что лишь стало быть, а будущее — как то, что еще не наступи-
ло. Однако мы имеем дело не с несколькими, а с одной временной
формой, которую можно было бы назвать профанной формой веч-
ности: прошлое, которое не может завершиться, есть будущее, кото-
рое никогда не наступит. Это будущее, как вечная иривация насто-
ящего, и есть чистая возможность, характеризующая природу по-
нятия как такового. Как quod quid erat esse (τό τί ήν είναι), сущность
есть possibilitas (δυνάμει όν) в значении реальности существования.
Действие —это не просто иное, чем состояние. Как чистая актуаль-
ность оно актуально превышает всякое состояние, вследствие чего
«чтойность», как форма действительности, является ее внутренней
формой, а не извне определяющим ее концептуальным каркасом.
Таким образом, сущность, как определенное quid, содержит в се-
бе реальность существования, но не его действительность. То, что
мы называем реальностью понятия, является не субсистентной, са-
мой по себе сущей возможностью, к которой существование присо-
единяется в качестве ее дополнительного, акцидентального призна-
ка. Скорее, понятие реально именно в значении тех возможностей,
в которых действенно проявляет себя существование; реальность —
это не возможность, а возможности существования. Всякий преди-
кат, являющийся ответом на вопрос «что есть... ?», есть реальный
предика!1, поскольку в его «что» заключается априорный масштаб
этого «есть». Понятие реально только в отношении к действитель-
ности, так как действительность, включая в себя возможность, со-
держит в себе понятие как свой собственный опосредующий мо-
мент, как свою внутреннюю форму.
Таким образом, понятие «quod quid erat esse» образует реаль-
ный предикат, являющийся предметной характеристикой опреде-
ленного субъекта. Поэтому само esse, как чистое действие, должно
выражаться в виде особых состояний сущего, заключающих в себе
ту особую форму единства, которая не поддается различению на
субъект и предикат. Поскольку в этом случае субъект и предикат
есть одно, то всякая попытка выразить это единство в форме суж-
дения оборачивается логической тавтологией, которая, как извест-
но, свидетельствует о пустоте и бессодержательности нашей мысли.
Однако не является ли тавтология всего лишь указанием на грани-
163
цы логики, за которыми открывается область иарменидовского το
αυτό, где мышление и бытие есть «то же самое» и где, следователь-
но, логика переходит в онтологию?
Этот вопрос возвращает нас к тем понятиям, в которых выска-
зывается не реальность предмета, а само его бытие. Таковы по-
нятия, получившие в средневековой транскрипции наименование
«трансценденталии», к числу которых Фома Аквинский относил су-
щее (ens), единое (шшт), благо (bonum), вещь (res), нечто (aliquid).
Исток разделения на предметную трансцендентальную определен-
ность находится в четвертой книге аристотелевской «Метафизи-
ки», в которой говорится об ίδια πάθη — свойствах сущего, принад-
лежащих исключительно сущему как таковому2. В той же четвер-
той книге «Метафизики» Аристотель вполне определенно разли-
чает «виды сущего как такового» (είδη του οντος ή ον), к которым
Аристотель относил понятия «сущее» и «единое» и просто виды
сущего (είδη του οντος), которые получают путем категориального
членения (διαιρέσις)3 . При этом сам Аристотель отмечает две осо-
бенности «сущего» и «единого». Во-первых, они не относятся ни
к одному определенному роду и потому транскатегориальны; «су-
щее» и «единое» относятся ко всякому сущему и не рассыпаются
в категориальной множественности. Во-вторых, виды сущего как
такового взаимообратимы, так что всякое сущее есть единое, а еди-
ное—сущее. Данное различие перешло через арабский аристоте-
лизм в средневековую схоластику в виде различия между passiones
entis — «состояниями сущего», выражаемого в форме трансценден-
талии, и divisiones entis — видами, представленными в категориаль-
ной структуре сущего. В силу того, что трансценденталии не от-
носятся ни к какому роду и не обладают «чтойностыо», они могут
быть названы свободными, или трансцендентными, понятиями, об-
ладающими «нулевой» степенью реальности. Поэтому, приписывая
понятию «человек» предикат «сущего», выстраивая суждение «че-
ловек есть сущее», мы ни в коей мере не увеличиваем тот объем
реальности, который имеется в понятии «человек». Именно пиэю-
му суждение «человек есть сущее» оказывается тавтологией, т.е.
псевдосуждением. Мы ни в коем случае не выходим здесь за гра-
ницы реальности понятия как такового, оставаясь в области чистой
возможности. При этом взаимообратимость трансценденталии как
раз и оказывается обратной стороной отсутствия у них всякой ре-
альности. В самом деле, поскольку понятия различаются между
164
собой именно объемом реальности, то понятия, характеризующи-
еся «нулевой» степенью реальности, будут абсолютно идентичны.
Трансценденталии не могут быть реальными предикатами прежде
всего потому, что они вообще не являются предикатами. Транс-
цендентальный анализ сущего это выявление сущего в формах
непредикативного единства.
Такого рода анализом и является обсуждение Боэцием пробле-
мы субстанциальности блага. Прежде всего, если бы благо харак-
теризовалось «чтойностью» и относилось бы к вещи в качестве ее
реального предиката, то это означало бы, что вещь является бла-
гой по субстанции, сама по себе. Такой вывод недопустим уже с
точки зрения теологии; ни одна вещь не может быть благом сама
по себе, лбо только Бог есть безусловное Благо. Поэтому благо не
может быть субстанциальной определенностью вещи, которая вы-
ражалась бы ее реальным предикатом «S есть благо». Вместе с тем
тезис о непредикативном характере блага подкрепляется исключи-
тельно онтологическим аргументом, указывающим на то, что ни од-
на конечная субстанция не является тождественной себе, поскольку
тождество субстанции оборачивается уже известным нам парадок-
сом: тождество субстанции означало бы взаимную тождественность
ее атрибутов. Данный парадокс мы можем теперь разъяснить на ис-
ключительно онтологическом уровне: тождество субстанции озна-
чало бы, что сама субстанция есть сущее; однако в таком случае
атрибуты субстанции должны были бы стать «состояниями» су-
щего, т. е. понятиями, лишенными реального содержания и потому
неразличимыми между собой. Однако субстанция вовсе не явля-
ется монолитом. Всякое существование — id quod est —содержит в
себе онтологическую несоизмеримость id quod и est. Именно в про-
странстве этого различия и высвечивается esse, состоянием кото-
рого является благо. Анализ Боэция имеет, таким образом, ясный,
однозначный смысл: имеется различие между реальными предика-
тами, относящимися к предметному уровню, и трансценденталия-
ми, в которых открывается неиредикативное, онтологическое из-
мерение вещи. Проблема субстанциальности блага, чреватая столь
нежелательными для христианской теологии экспликациями, воз-
никает из-за недостаточной различенности этих двух уровней и ре-
шается только в том случае, если они различены предельно ясно и
последовательно. Благо относится к порядку бытия (esse), а не к
уровню субстанции.
165
Итак, существование не может быть сведено к сущности (чтой-
ности) именно потому, что бытие (esse) не есть какое-либо «что»; то,
что есть вещь не вмещается без остатка в рамки того, что она есть.
Эти «остатки», в которых проявляет себя упрямая, не снимаемая
никакой логикой фактичность существования, дают о себе знать те-
ми «иррациональностями», которыми рано или поздно оборачива-
ется эссенциализация бытия, растворяющая бытие в «чтойности».
Однако если мы говорим, что состояния бытия (трансценденталии)
не могут служить реальными предикатами субстанции, то это яв-
ляется всего лишь иносказанием фундаментального аристотелев-
ского тезиса «бытие не есть род». В самом деле^ если состояния бы-
тия выражаются непредикативными единствами, т.е. единствами,
не обладающими чертами рода, то само бытие никоим образом не
может мыслиться как род. Схоластическая экспликация аристоте-
левского тезиса принадлежит Фоме Аквиискому и дана им в первой
книге «Суммы против язычников». Хотя в существенных моментах
Фома лишь повторяет аргументацию Аристотеля, изложенную им
в «Метафизике В», в его выводах появляется ряд принципиально
новых моментов. Согласно Аристотелю, бытие есть ενεργεία вещи,
конституирующая ее действительность; бытие вещи есть, таким об-
разом, действительность самой вещи. Что же касается Фомы, то его
мышление предопределено посылками христианского вероучения,
согласно которым всякая вещь существует лишь в акте божествен-
ного действия, которое и является бытием в полном смысле этого
слова.
Прежде всего, необходимо различить субстанциальный и онто-
логический уровень вещи, что Фома и делает, заявляя, что «суб-
станция как род не есть само бытие»4. Другими словами, субстан-
ция не есть бытие именно как род, в принадлежности к которому
состоит возможность определения субстанции. Всякая вещь при-
надлежит тому или иному роду сообразно своей «чтойности». По-
лучается, что бытие вещи не представимо в ее «чтойности»; то, что
есть вещь, невозможно определить на основании того, что она
есть. Фома делает этот вывод в следующем чрезвычайно важном
рассуждении: «Все, что принадлежит к какому-либо роду, отлича-
ется от других вещей того же рода своим бытием; в противном слу-
чае род не сказывался бы о многих. Но все вещи, принадлежащие к
одному роду, должны совпадать в родовой чтойности: ибо обо всех
них род сказывается в ответ на вопрос: "Что это?". Значит, бытие
166
всякой вещи, существующей в каком-либо роде, не тождественно
ее чтойности»5. Бытие не может быть родом именно потому, что
бытие —это основание различия, тогда как род — основание тожде-
ства. Поэтому, говорит Фома, «по признаку бытия никакая вещь
не относится к какому-либо роду, в противном случае "сущее", т. с.
само бытие, было бы родом»6. Остается только показать, что про-
тивоположный тезис «бытие есть род» немыслим, поскольку он за-
ключает в себе внутреннее противоречие. Фома демонстрирует это,
воспроизводя аргументацию Аристотеля и придавая ей более внят-
ную логическую форму: «А то, что сущее не может быть родом,
доказывает Философ и вот каким образом. Если бы сущее было
родом, то нужно было бы отыскать отличительный признак, кото-
рый ограничивал бы этот род до вида. Но никакой видообразующий
специфический отличительный признак не может быть причастен
тому роду, который он ограничивает, т. е. род не может входить в
понятие отличительного признака; в противном случае в определе-
нии вида род полагался бы дважды. В отличительном признаке не
должно быть ничего, что мыслится в понятии рода. Но без того, что
мыслится в понятии "сущего", ничто не может существовать, если
сущее входит в мыслимое понятие тех вещей, о которых сказыва-
ется. Таким образом, "сущее" не может быть ограничено никаким
отличительным признаком. Выходит, что сущее не род»7.
Таким образом, понимание бытия как рода приводит к онто-
логическому парадоксу, суть которого может быть представлена
в форме своеобразного силлогизма: Major: никакой род не может
входить в содержание своих видов, причем не только потому, что,
как пишет Фома, род полагался бы дважды, но и в силу того, что
в этом случае исчезло бы всякое различие между видами; Minor:
если бытие -■- род, то оно не должно входить в содержание своих
видовых признаков; Conclusio: ни один видовой признак, входящий
в род «бытие», не должен в таком случае обладать характеристика-
ми бытия. Парадокс же состоит в следующем: посылка бытия как
рода, поскольку бытие здесь мыслится как тотальность всего суще-
ствующего, приводит к выводу о небытии всего существующего.
Нам теперь следует остановиться, чтобы, продумав надлежа-
щим образом суть положения «бытие есть основание различия», к
которому мы пришли, укрепиться на завоеванной метафизической
позиции, удерживая себя от соскальзывания в плоскость расхоже-
го, понятийного понимания различия. В каком смысле следует по-
167
нимать слова Фомы, что «бытие всякой вещи не тождественно ее
чтойности»? Каким образом следует мыслить сам характер это-
го различия? Прежде всего, мы говорим о различии только в том
случае, если понятия не совпадают в своем роде или объеме, а ве-
щи—в своих качествах. Такого рода различия можно выразить в
символической форме: А^В, причем А и В должны уже быть в
наличии, чтобы стало возможным их сопоставление. А и В различ-
ны здесь как две налично существующие вещи, так что различие
между ними является всего лишь опосредованной формой их са-
мотождественности: А—А. В—В. Различие выступает вторичным,
подчиненным моментом тождества. При этом необходимо обратить
внимание на то, что различия, о которых сейчас идет речь, могут
быть либо различиями по роду, соответственно которым различа-
ются вещи, принадлежащие к различным родам, либо различиями
по виду, подобно тому, как различаются Сократ и Платон, принад-
лежащие общему роду «человек». Вместе с тем очевидно, что бытие
не вписывается в данную типологию различий, во-первых, именно
потому, что оно не является родом, во-вторых, потому, что «сущее»
(бытие) выступает трансцендентальной определенностью каждого
вида. Стало быть, если различие бытия и «чтойности» будет на-
ми мыслиться в предметно-поп яти иной форме А^В, то само бытие
должно при этом обладать «чтойностыо», высказываясь на уровне
реальных предикатов сущего. Следовательно, бытие не может мыс-
литься как член различия, поскольку это неизбежно возвращает
нас к парадоксу бытия как рода. Различие бытия и «чтойности», о
котором идет речь у Фомы, имеет только тот смысл, что само бы-
тие есть различие, которое никоим образом невозможно отразить
в предметно-понятийной форме. Таким образом, непосредственным
следствием аристотелевско-томистского тезиса «бытие не есть род»
является понимание бытия как чистого различия, или, различия
как такового.
Чистое различие, в отличие от предметно-понятийного разли-
чия, принципиально не может быть зафиксировано в виде дизъюнк-
ции понятий или терминов, производимой на основании определен-
ного рода. Всякий род включает в себя видовые различия, которые
могут быть сопоставлены в масштабе одного общего им понятия.
Так, различие между Сократом и Платоном является понятийным
в том смысле, что они могут сравниваться, ставиться в определен-
ные отношения на основании общего им понятия «человек». Здесь
168
идет речь о различии, основанием которого выступает «чтойность»
Сократа и Платона. Однако аристотелевско-томистский тезис, как
мы знаем, гласит, что различия в роде создаются бытием (еди-
ным), которое не имеет «чтойности». Поэтому различия, включа-
емые родом, следует отнести исключительно к вторичным разли-
чиям, производным от различия как такового. Чистым различием
может быть только такое различие, которое, напротив, включает в
себя род. Действительно, всякий род конституируется бытием вхо-
дящих в него видовых различий. Однако в чем же выражается бы-
тие вида? Только несовпадением его содержания с содержанием ро-
да. Данное несовпадение является трансцендентальной возможно-
стью всякого определения, производимого на основании рода и ви-
дового отличия. Трансценденталии есть поэтому чистые различия,
а не понятия, обладающие максимально высокой степенью общно-
сти. Состояния бытия (единого) — passiones entis - лежат в «осно-
вании» видов бытия — divisiones entis. Аристотелевско-томистский
тезис «бытие не есть род», продуманный во всей его глубине, го-
ворит следующее: бытие как различие лежит в «основании» рода,
конституируя его содержание различиями входящих в данный род
видов. Именно потому, что бытие находится в основании всякого
рода, в основании любой «чтойности», само оно не может быть све-
дено к понятийной форме различия. Понятийное различие — это
всего лишь след различия как такового. Бытие есть единое, и как
единое оно есть «иное» (aliud) общего, фиксируемого в форме поня-
тия. Бог, как чистое различие, есть абсолютно иное миру. Посколь-
ку же Бог есть различие как таковое, то не существует никакого
различия между Богом и миром, так что можно было бы перебро-
сить через эту межу мостик «аналогии сущего».
Поскольку существование, в отличие от бытия, характеризуется
«чтойностыо», то именно бытие лежит в «основании» существова-
ния, причем онтологическим основанием существования является
его собственное отличие от сущности. Ни одна субстанция не мо-
жет быть равной себе в силу того простого онтологического об-
стоятельства, что ее сущность, то, что она есть, не совпадает с ее
существованием; бытие субстанции, то, что она есть, как раз и яв-
ляется тем просветом, в котором становятся различимы сущность
и ее существование субстанции. Отсюда проистекает своеобразный
онтологический запрет: ничто из того, что относится к трансцен-
дентальному уровню, т. е. к уровню «состояний сущего», не должно
169
и не может входить в состав реального определения. Бытие, как
скажет впоследствии Кант, не является реальным предикатом. По-
этому если бы бытие являлось реальной сущностью субстанции,
то мы имели бы совпадение в этой субстанции сущности и суще-
ствования; само существование должно было бы входить в состав
своей сущности. Однако субстанция, сущность которой совпадала
бы с ее существованием, была в силу этого совпадения актуально
бесконечной.
К такому выводу можно прийти ужо на уровне проблемы суб-
станциальности блага, обсуждая которую Боэций указывает на тот
парадокс, что тождество субстанции должно было бы означать вза-
имную тождественность ее атрибутов. Тождество субстанции как
раз и выражалось бы совпадением в ней сущности и существования.
В таком случае взаимная тождественность атрибутов означала бы
только то, что каждый атрибут в отдельности есть сама субстан-
ция. Другими словами, каждый отдельный атрибут выражал бы
собой целое субстанции. В этом случае атрибуты были бы уже не
реальными определенностями субстанции, а ее именами, подобно
тому, как «Сущий», «Всеблагой», «Всеведущий» являются имена-
ми Божьими, а не его реальными предикатами. Вместе с тем от-
меченный Боэцием парадокс тождества субстанции является одной
из вариаций парадокса бытия как рода. Как уже говорилось, сама
возможность определения зиждется на том, что род не входит в со-
держание видового признака. Но, поскольку ничто не может нами
мыслиться помимо сущего (ибо, как учил еще Парменид, только
сущее может мыслиться), то бытие как род должно было бы вхо-
дить в свой собственный отличительный признак. Следовательно,
часть (видовой признак) должна быть равна целому (роду), при
той необходимой предпосылке, что целое не равно части. Бытие не
может мыслиться как род потому, что мысль сталкивается здесь с
тем, что не может быть мыслимо, — с парадоксом актуальной бес-
конечности. Вместе с тем этот парадокс является тем порогом, за
которым открывается область мистического (тринитарного) бого-
словия8.
Таким образом, вопрос о бытии сущего необходимо выводит пас
за рамки субстанциального уровня; то, что есть субстанция, вы-
ражается ее нстождествениостыо, ее отличием от самой себя. Это
несовпадение субстанции с собой высвечивается в моментах чистого
различия, которые суть состояния самого бытия — трансцендента-
170
лии. Правильная, до конца выдержанная постановка вопроса о бы-
тии сущего должна потому удерживать единство предмета в двух
несовпадающих ракурсах, относящихся друг к другу так, как го-
ризонталь относится к вертикали: предметном, в котором нам дано
существование субстанции, и трансцендентальном, в котором вы-
свечивается ее бытие. При этом трансцендентальная вертикаль рас-
секает предметную горизонталь, различая в ней существование и
сущность. Поскольку бытие не сводится к голой наличности суще-
ствования, поскольку невозможно удержать бытие в рамках поня-
тия, постольку именно бытие различает существование и сущность,
предмет и его понятие. Всякое существование отлично от своей сущ-
ности в силу того простого обстоятельства, что оно есть. Позиция
Фомы Аквинского по вопросу о различии существования и сущ-
ности, подававшая вследствие своей недостаточной проясненности
повод к самым различным толкованиям, может быть резюмирова-
на следующим образом: существование и сущность различны, по-
скольку само бытие не имеет сущности. Бытие — не сущность, так
как действие (actus) — не состояние. Таким образом, в основании го-
ризонтальной проекции existentia — esseiitia находится онтологиче-
ская вертикаль esse. Существование и сущность различны потому,
что бытие не находится в одной плоскости с существованием. По-
этому вопрос о статусе различия существования и сущности в той
форме, которую он принял в схоластике XIII-XIV вв. — различают-
ся ли существование и сущность реально или только в понятии? —
оказывается лишен онтологического смысла как раз потому, что
он заведомо замыкает бытие в предметно-эйдетической горизонта-
ли. Именно вследствие такой постановки вопроса мысль оказывает-
ся в ситуации альтернативы и вынуждена выбирать между двумя
различнЕлми решениями, которые, однако, удивительным образом
сходятся как в посылках, так и в следствиях: в случае реального
различия само бытие становится некоей res; в случае различия в
понятии бытие оказывается под властной эгидой общего понятия
бытия —ens univocum. Вопрос о различии сущности и существова-
ния имеет онтологический смысл только в том случае, если само
бытие удерживается при этом как чистое различие, как принципи-
ально иное, как по отношению к сущности, так и по отношению
к существованию. В свою очередь, неспособность удержать бытие
как чистое различие приводи! к пагубному смешению предметного
и трансцендентального уровня и, как следствие этого, оборачива-
171
ется субстантивацией бытия, т.е. неявной идентификацией бытия
и существования.
Данная идентификация бытия и существования неявно опре-
деляет критику томистской доктрины различия сущности и суще-
ствования, которая впервые заявляет о себе во взглядах Сигера
Врабантского. Прежде всего, Сигер направляет острие своей кри-
тики на само основание онтологического различия сущности и су-
ществования—отсутствие у бытия сущности: «Dicere quod esse поп
est rei, sed aliquid constitutum per essentiae principia, est idem af-
firmare et negare, cum constitutum per essentiae principia nihil aliud
sit quam ipsa res ex illis constituta»9. Тем самым бытие втягивает-
ся в предметно-эйдетическую горизонталь, полностью сливаясь с
существованием. Бытие, как различие сущности и существования,
само становится существованием, вследствие чего сущность и су-
ществование представляют собой простые точки зрения на одну и
ту же вещь. Так, к примеру, мыслимый мной камень не является
какой-либо вещью, отличной от того камня, который я вижу в на-
стоящее время; мыслимый и существующий камень является одной
и той же вещью, которая всего лишь рассматривается в различных
проекциях —со стороны своей сущности (чтойности) и со стороны
своего существования. Сущность и существование оказываются по-
зициями субъекта, в которых рассматривается та или иная вещь:
«Nunc autem res et ens realiter non distinguuntur secundum actum
et potentiam, sed solum secundum modum actus et potentiae»10. От-
ныне бытие есть сама субстанция, рассматриваемая в модальностях
действительности и возможности. Эта субстанциалистское понима-
ние бытия достигает своей кульминации в полном упразднении раз-
личия между трансцендентальным и предметным уровнем сущего.
Поэтому обратимость «бытия» и «единого», на которую указывал
в своей «Метафизике» Аристотель, становится у Сигера решаю-
щим аргументом в пользу единства субстанциального бытия: «Nec-
essario ergo erit quod dicendo "homo est", praedicetur esse substantiale
ut "homo est homo"; erit ergo concedere quod esse sit de essentia rei, vel
quod homo accidat homini»11. Аргумент Сигера сводится к следу-
ющему: поскольку чистая сущность «человек» и экзистенциальное
высказывание «человек есть (существует)» абсолютно эквивален-
ты с точки зрения их содержания, то сущность всякой субстанции
есть само ее существование. Данный аргумент держится, однако,
той неприметной идентификацией бытия и существования, кото-
172
рая задает отныне совсем иную перспективу метафизики, совсем
иное понимание бытия сущего.
Таким образом, субстанциализм Сигера определяется той иден-
тификацией бытия и существования, которая сама является след-
ствием утраты понимания бытия как различия. Однако та же са-
мая молчаливая онтологическая предпосылка лежит и в основании
тезиса Генриха Гентского об индифференции сущности, равным об-
разом оп]худеляя его учение об интенциональном различии сущно-
сти и существования. Так, согласно Генриху, сущность безразлична
как к существованию, так и к несуществованию, поскольку всякая
«чтойиость» может быть нами мыслима совершенно независимо от
того, существует она или нет; из того, что я мыслю себе некую
сущность, никак не вытекает существование того, что мною мыс-
лится. Констатация неаналитичности существования является, од-
нако, общим местом средневековой мысли, на которое, как мы ви-
дели, опирался и Гаунилон в своей критике «онтологического до-
казательства» Ансельма Кентерберийского. Неаналитичность су-
ществования — это онтологический факт, который сам по себе еще
нуждается в онтологическом прояснении и, следовательно, может
быть онтологически затемнен. Последнее и происходит в том слу-
чае, если бытие обращается в смутную тождественность того, что
существует, что, в свою очередь, приводит к выводу об онтологи-
ческом приоритете сущности над существованием, который мы и
обнаруживаем у Генриха Гентского. Существование и несущество-
вание, говорит он, ровным счетом ничего не меняет в «чтойности»
вещи; «существующий человек» есть «человек», хотя сам «чело-
век» не предполагает какого-либо существования. Всякая онтоло-
гическая определенность сущего оказывается ничем иным, как ее
дополнительным, акцидентальным признаком. Так, Сократ и Пла-
тон—это всего лишь акциденции понятия «человек», которое тем
самым предшествует Сократу и Платону. Как говорит сам Генрих,
intentio qua dicitur res, точка зрения сущности, предшествует inten-
tio de esse, точке зрения существования (бытия). Мы видим, что в
основе эссенциализма Генриха Гентского лежит та же трансценден-
тальная аргументация, что и в основании субстанциализма Сигера
Брабантского. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что
как субстанциализм Сигера, так и эссенциализм Генриха определя-
ются общими онтологическими предпосылками.
Однако каков характер того предшествования сущности суще-
173
ствованию, о котором говорится у Генриха Гентского? Сам он ни
в коем случае не говорит о реальном предшествовании сущности,
выступая в этом вопросе противником учения Эгидия Римского о
«реальном различии» сущности и существования. Напротив, Ген-
рих утверждает реальное единство сущности и существования, раз-
личая их лишь сугубо интенсиональным образом. Иначе говоря,
сущность и существование различны только в мысли, которая и
производит операцию различения, выделяя то, что виртуально со-
держится в самой вещи. Интенциоиалыюе различие имеет место
только в том случае, если мы можем мысленно обособить неко-
торые моменты определенного реального единства. Интенция есть
акт мысли, направленный на esse existentiae, определенную, налич-
но существующую вещь, в которой мысль выделяет момент чистой
essentia: «Sed appelatur hie intentio aliquid pertinens realiter ad sim-
plicitatem essentiae alicuius, natum praeicise concipi absque aliquo alio
a quo non differt re absoluta, quod similiter pertinet ad eandem. Unde
dicitur intentio quasi intus tentio»12·. Так, хотя в реальности сущ-
ность едина с существованием, однако именно индифференция сущ-
ности позволяет нам мыслить сущность и существование независи-
мо друг от друга, обособив их в члены интенционального различия.
Индифференция сущности есть то основание в вещи, опираясь на
которое мы и способны мыслить сущность независимо от существо-
вания. Откуда же берется сама эта индифференция сущности? Ее
исток содержится в esse essentiae, бытии самой сущности, каковым
является предсуществование вещи в божественном уме. Приоритет
сущности, определяемый рамками нашего сугубо человеческого от-
ношения к вещам, имеет, таким образом, силу исключительно в
нашем мышлении и обеспечивается тем обстоятельством, что сущ-
ность мыслится прежде всякого существования. Поэтому эссенци-
ализм постепенно приводит к онтологическому приоритету мысли,
формируя в недрах средневековой онтологии ту тенденцию, куль-
минацией которой станет ego cogito Декарта. Таким образом, интен-
ционалыюе различие опирается на реальное единство субстанции;
при этом основанием самого интенционального различия являет-
ся индифференция сущности, безразличие ее к существованию и
к несуществованию. Остается только определить онтологический
статус этого безразличия. То, что равным образом удалено как от
существования, так и от несуществования, является ничем иным,
как чистой возможностью. Онтологический приоритет сущности
174
над существованием означает поэтому онтологический приоритет
возможности над действительностью. Идя по этому пути, схола-
стика придет в конечном счете к одному из главных постулатов ра-
ционалистической метафизики XVII в.: действительно только то,
что возможно; возможно лишь то, что мыслимо логически непро-
тиворечивым образом, т. е. ясно и отчетливо.
Таким образом, в основании субстанциализма Сигера Брабапт-
ского (невозможность представить субстанцию несуществующей) и
эссенциализма Генриха Гентского (возможность представить несу-
ществующую сущность) лежит общая онтологическая предпосыл-
ка. Различие сущности и существования, продуманное до конца в
свете понимания бытия как различия, не имеет ничего общего с
утверждаемой бельгийским мыслителем безразличием сущности,
поскольку сама сущность предстает в этом случае как момент раз-
личия. Безразличие сущности является необходимым следствием
понимания бытия как без-различия. Однако мыслить бытие —зна-
чит держаться на острие понимания Бытия как Различия. Соскаль-
зывая с этого острия, мысль неизбежно впадает в смутную поня-
тийную идентичность (indifferentia) бытия и существования, кото-
рая может быть эксплицирована двояким образом: либо как ре-
альное единство субстанции (Сигер Брабантский), различаемое в
интенциях сущности и существования (Генрих Гентский); либо, на-
против, как реальное различие сущности и существования, утвер-
ждавшееся Эгидием Римским.
Теория интенционального различия Генриха Гентского навлек-
ла на себя критику Эгидия Римского. Так, согласно Эгидию, ошиб-
ка Генриха состоит в том, что он не принял в расчет омонимию
сущего. Известно, что сущее (ens) выступает в значениях сущно-
сти и существования. Разумеется, всякое сущее представляет собой
некую сущность; конечно же, термин «сущее» употребляется в зна-
чении определенного существования. Однако, как замечает Эгидий,
единство сущности и существования в понятии сущего является
исключительно номинальным. Это номинальное единство сущего
скрывает в себе, но мысли Эгидия, реальное различие сущности
и существования. Смысл реального различия заключается в пола-
гании сущности и существования как двух независимых реально-
стей, двух res сущности, как бытия в возможности и существо-
вания как бытия в действительности, совокупность которых обра-
зует реальную композицию сущего. При этом основополагающим
175
принципом реального различия сущности и существования явля-
ется понятие «причастие». Невозможно, согласно Эгидию, утвер-
ждать причастность сущего полноте божественного бытия, сохра-
няя при этом реальное единство субстанции. Экспликация данного
тезиса требует обращения к интеллектуальным ресурсам неопла-
тонизма, которые имеют для Эгидия куда большее значение, чем
вся аристотелевско-томистская традиция мысли. Поэтому ссылка
на «Первоосновы геологии» Прокла выглядит вполне естествен-
ным аргументом в полемике Эгидия с Генрихом Гентским: «Unde
Proclus qui plus se intromisit de modis participandi ait in 2-a proposi-
tione sui libri quod omne quod participat uno est unum et non unum,
quod probat sic: quia, ut ait, si aliquid participat uno, est aliquid aliud,
existens praeter unum, quod participando factum est unum. I:a, si aliq-
uid paticipat esse, est aliquid aliud praeter esse et aliud participando
esse existit»1'4. Другими словами, нечто существует, только будучи
причастно бытию; но как причастное бытию оно есть нечто иное,
чем бытие (существование); это иное, чем существование, и есть
сущность. Таким образом, именно причастие сущего божественно-
му бытию порождает реальную диссоциацию сущего, различая его
на сущность и существование.
Однако именно через неоплатонистское понятие причастия
мышление Эгидия оказывается подвержено апоретике платонов-
ской теории эйдосов, что особенно заметно в тех случаях, когда
Эгидий увязывает доктрину реального различия с теологическим
вопросом о творении мира Богом. Действительно, реальное разли-
чие означает не что иное, как реальное предшествование сущности
существованию; в этом случае сущность как возможность суще-
ствования представляет собой тот идеальный образец, тот боже-
ственный exempluni, в соответствии с которым Бог творит то или
иное сущее, облекая эту сущность в существование. Стало быть,
рассуждает Эгидий, необходимо либо признать тезис о реальном
различии сущности и существования, либо поставить под удар дог-
мат о творении мира Богом. Удивительным образом доктрина ре-
ального различия включает в себя именно те положения, которые
в той или иной мере присутствуют в учениях Сигера Брабантского
и Генриха Гентского: гезис о контингентном характере существова-
ния, выступающий всего лишь дополнением сущности, и тезис об
онтологическом приоритете возможности над действительностью,
полностью противоречащий всей аристотелевско-томистской тра-
176
диции. Такое различие в исходных посылках и, напротив, совпаде-
ние в конечных выводах свидетельствуют только о том, что эти уче-
ния основываются на общей онтологической пред-посылке. Такой
пред-посылкой, как уже говорилось, является неявная идентифи-
кация бытия и существования. Каким же образом идентификация
бытия и существования определяет доктрину реального различия?
Онтологические предпосылки доктрины реального различия
наиболее явственно обнажаются в той критике, которой, в свою
очередь, подверг эту доктрину Генрих Гентский. Прежде всего, Ген-
рих вполне убедительно показывает слабость аргумента Эгидия,
что творение мира Богом будто бы с необходимостью предполага-
ет реальное различие сущности и существования. С точки зрения
Генриха, представление о том, что всякое существование есть акту-
ализация Богом чистой сущности, вносит ненужные усложнения
в изначальную простоту акта божественного творения; реальное
различие сущности и существования приводит к различению двух
способов божественного творения — эссенциального и экзистенци-
ального. Более того, понимая творение как актуализацию чистых
сущностей, Эгидий, по мнению Генриха, смешал творение с порож-
дением. В самом деяе^ актуализация сущностей, облечение их су-
ществованием, представляет собой реализацию изначально суще-
ствующего образца, т. е. переход из одной формы существования в
другую; акт творения ex nihilo подменяется порождением существо-
вания из предшествующей ему в порядке существования сущности.
Тем самым получается, что именно в акте творения мира Богом
невозможно различить сущность и существование. Тезис реально-
го различия оказывается в глазах Генриха избыточным, поскольку
всякая сотворенная сущность уже обладает всеми признаками су-
ществования.
Вместе с тем Генрих стремится определить статус реального
различия, вписывая его в следующую типологию различий: реаль-
ное, интенциональное, рассудочное. Примером исключительно рас-
судочного различия может служить высказывание «человек есть
разумное животное», где субъект (человек) и предикат (разумное
животное) различаются сугубо понятийным образом. Критерием
рассудочного различия является невозможность мыслить члены
этого различия в качестве независимых друг от друга сущностей;
так, «разумное животное» не является чем-то реально отличным
от «человека». Всякое рассудочное различие оказывается логиче-
177
ской тавтологией. Что же касается реального различия, то, по мне-
нию Генриха, оно имеет место либо между отдельными вещами, ли-
бо между самой вещью и ее свойствами (акциденциями), если эти
свойства можно мыслить отдельно от самой вещи, не впадая при
этом в логическое противоречие. Так, к примеру, различие между
Сократом и Платоном, как между двумя отдельными индивида-
ми, является реальным различием. С другой стороны, высказыва-
ние «Сократ —бледен», поскольку мы можем мыслить Сократа от-
дельно от его бледности, а бледность — независимо от Сократа, так-
же указывает на реальное различие. Таким образом, рассудочное
различие имеет место исключительно в мышлении, а реальное —
только в самих вещах. Интенциональное различие, переименован-
ное Дунсом Скотом в формальное, представляет собой опосредую-
щую форму различия, производимого интеллектом, но имеющего
основание в самой вещи.
Однако если внимательно присмотреться к реальному разли-
чию, то выяснится, что его основанием всегда выступает определен-
ная понятийная идентичность. Сократ и Платон реально различ-
ны, но априорным масштабом их различия является понятийная
идентичность «человек», определяемая на основании рода и вида
как «разумное животное». Таким образом, основанием реального
различия Сократа и Платона является отношение рода (животное)
и вида (разумное). Здесь и наступает решающий момент в крити-
ке Генрихом доктрины реального различия. Сам Генрих не нахо-
дит достаточно слов для выражения своего изумления по поводу
постигшего Эгидия интеллектуального затмения, не позволивше-
го ему уяснить, что отношение рода и вида не может быть ни ис-
ключительно рассудочным, ни исключительно реальным. В самом
деле^ «животное» и «разумное» не образуют логической тавтоло-
гии и не подпадают тем самым под рубрику рассудочного разли-
чия. С другой стороны, если мы мыслим «животное» и «разум-
ное» как члены реального различия, то это приводит к абсурдному
в рамках нашего мира выводу о существовании некоей, самой по
себе сущей «разумности», реально отличной от «животности». Та-
ким образом, резюмируя позицию Генриха Гентского, скажем, что
Сократ и Платон реально различны на основании сущности «че-
ловек», определяемой как «разумное животное»; однако сущность
«человек» не может быть реально отлична от Сократа и Платона,
ибо в этом случае определение «разумное животное» должно бы-
178
ло бы удовлетворять всем критериям реального различия. Сократ
и Платон, в той мере, в какой каждый из них —человек, являют-
ся «вещами» нашего мира, но сам «человек» не является при этом
какой-либо вещью. Человек — это не реальная (вещная), а интенци-
ональная определенность Сократа и Платона. По мнению Генриха,
ошибка Эгидия состоит в неправомерном распространении принци-
па реального различия, имеющего силу только в отношении между
вещами, на отношение вещи и ее сущности. Однако для нас важен
существенно иной акцент критики Генриха, представляющей собой
не что иное, как экспликацию тех онтологических посылок, на ко-
торых неявным образом основывается доктрина реального разли-
чия; реальное различие имеет место только там, где различаемые
вещи уже заранее объединены в рамках определенного понятийно-
го тождества. Критика Генриха ни в коей мере не затрагивает эту
предпосылку, которая является и предпосылкой его собственного
учения об интенциональном различии, а лишь делает ее явственно
зримой.
Таким образом, непосредственным выводом из предпринятого
нами анализа доктрины реального различия является следующее
положение: реальным может быть только такое различие, в осно-
вании которого находится тождество. Действительно, реально раз-
личными являются те вещи, которые совпадают в роде или виде.
Так, Сократ и Платон, будучи тождественны в роде «человек», раз-
личаются своими позициями в существовании, характеризующи-
ми их реальность. Реальностью является специфическая позиция
в существовании, определяемая на основании некоего тождества.
Поэтому если различие сущности и существования понимается на-
ми как реальное различие двух res, то его основанием может быть
только само бытие как некая самоидентичность, как смутная по-
нятийная индифферентность всего того, что существует. Доктрина
реального различия, продуманная в ее онтологических предпосыл-
ках, приводит к положениям, которые являются осознанными по-
стулатами доктрины «однозначно сущего», вследствие чего спор
между сторонниками той и другой доктрины оказывается онто-
логически бесперспективен. Различие сущности и существования
может быть определено как реальное только при той молчаливой
предпосылке, которая, сводя бытие к существованию, превращает
само бытие в некую res. В качестве res бытие мыслится как реаль-
ная композиция сущности и существования; distinctio realis, взя-
179
roe в свете его онтологических предпосылок, раскрывается поэтому
как compositio realis, в котором сущность и существование относят-
ся друг1 к другу как нечто заранее данное и в котором совершенно
утрачивается смысл различия как различия. Смысл Бытия как Раз-
личия деградирует в сферу предметно фиксированных значений,
застывая там в форме статичного различия двух вещей, каждая
из которых обладает своей собственной позицией в существовании:
существование, как реальность в сфере вещей, сущность, как ре-
альность в сфере идей. Здесь находится перманентный источник
проблемы «реальности универсалий», само наличие которой ука-
зывает на неразличенность предметного онтологического уровня,
существования и бытия.
Представляя различие как производный момент композиции
двух res, доктрина реального различия опредмечивает тем самым
смысл различия как такового. Смысл различия открывается толь-
ко в той мере, в какой мы способны мыслить различие именно как
различие, а не как производный момент сложения двух тождеств.
Открывающуюся здесь перспективу следует как можно более ясно
отграничить от той позиции онтологического без-различия, кото-
рая, как мы видели, обосновывает как тезис о реальном единстве
субстанции, так и тезис о реальном различии сущности и суще-
ствования. Как уже говорилось, реально различимые вещи всегда
совпадают в определенном тождестве. При этом тождество высту-
пает основой реальности еще и потому, что реальность вещи (res),
как определенная позиция в существовании, включает всякое воз-
можное отношение (respectus) этой вещи к другим вещам; суще-
ствовать—значит находиться в отношении. Однако любое отноше-
ние предполагает априорный масштаб идентичности. Вещь, нахо-
дящаяся вне всякого отношения, как вещь абсолютная, должна в
силу этого быть совершенной сингулярностью, неуловимой единич-
ностью; и, напротив, совершенная сингулярность не может быть
поставлена ни в какие отношения: existentia rei absolute non est re-
spectus. Бытие невозможно поставить в какое-либо отношение, оно
не образует никакой специфической позиционности в нашем ми-
ре; бытие не существует, что означает — существующее не есть. В
этом самом «не есть» существования и высвечивается момент чи-
стого различия, превращенной формой которого является различие
сущности и существования. Таким образом, различие сущности и
существования не является простым несовпадением двух реалыю-
180
стей, подобно тому, как объем реальности одной вещи не совпадает
с объемом реальности другой; сущность и существование не совпа-
дают в бытии, так что само бытие является их различием. Поэтому
можно сказать, что различие сущности и существование как двух
«реальностей» само не является «реальным», поскольку оно дер-
жится бытием как различием.
Смысл бытия как различия ускользает в силу той инерции мыш-
ления, которая, уклоняясь от необходимости мыслить различие как
различие, стремится к его обоснованию, т. е. к подведению под раз-
личие определенной категориальной основы. В результате этого di-
visiones entis, свойства бытия, замещают собой passiones entis — со-
стояния бытия, что и открывает возможность трансцендентальной
метафизики, формирование которой произойдет в XIV столетии в
трудах представителей «нового пути» в схоластике. XIV век явля-
ется в этом смысле эпохой колоссальной, до сих пор не оцененной в
полной мере как по масштабу, так и по последствиям метафизиче-
ской революции, непосредственным продолжением которой станет
научная революция XVII XVIИ вв.
Глава IV
ПОНЯТИЕ «ОДНОЗНАЧНО СУЩЕЕ» КАК ОСНОВАНИЕ
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ МЕТАФИЗИКИ
Для того чтобы в полной мере оценить глубину и важность изме-
нений в характере средневековой постановки вопроса о бытии, озна-
меновавшими собой рождение «нового пути» в схоластике, необ-
ходимо вновь всмотреться в те предпосылки, которые вплоть до
XIV столетия определяли характер и стиль схоластического мыш-
ления. Речь идет об уже обсуждавшейся нами примечательной омо-
нимии самого понятия ens (сущее), которое может быть взято как
в значении причастия глагола sum (быть), отсылающего к акту-
альному существованию вещи, так и в значении имени, указующе-
го на сущность сущего. Так, если я именую некое сущее, напри-
мер камень, то само слово «камень» является не более чем име-
нем определенной сущности, имеющейся в моем уме в виде понятия
вещи (conceptus). Основание номинальной определенности сущего
есть поэтому ratio cognoscendi, в смысле присущей мне способности
представления, пользуясь которой я мыслю сущность камня ясно и
отчетливо, не смешивая ее с другими сущностями. В свою очередь,
ясное и отчетливое представление сущности вещи возможно только
в том случае, если данная вещь определяется мной на основании во-
проса «что есть это?» Сущность только тогда мыслится в полним
ее объеме, когда представлена как «чтойность», т. е. когда она опре-
делена на основании рода и собственных видовых отличий. Полная,
совершенная представимость сущности образует реальность поня-
тия. Так, понятие «камень» реально вовсе не оттого, что в мире су-
ществует тот или иной камень, а исключительно в силу «чтойной»
экспликации данного понятия, т.е. принципиальной возможности
182
дать содержательный ответ на вопрос «что есть камень?» Термин
res выступает содержательной характеристикой ens, указывая на
представимость сущего в понятии. Реальность вещи заключается
не в ее существовании, а в ее «чтойности» и полностью исчерпыва-
ется вопросом «что есть это?» Именно в этом значении употребляет
термин res Фома Аквинский: «Nomen rei exprimit quidditatem sive
essentiam entis» (Реальность выражает чтойность или сущность су-
щего).
Может показаться, что сущность как «чтойность» объемлет со-
бой всякое существование; поскольку «камень», как универсальное
понятие, относится ко всякому конкретному камню, то всякий су-
ществующий камень уже заранее включен в объем данного поня-
тия. В действительности же существование любого предмета, даже
в том случае, если бы этот предмет существовал в мире в единич-
ном экземпляре, оказывается шире его «чтойной» определенности.
Прежде всего, существование вещи невозможно определить в рам-
ках «чтойности», поскольку существование предполагает совершен-
но иную интенцию вопроса. Структура существования может быть
раскрыта не в вопросе «что есть это?», а в вопросе «почему это
есть?». Содержательная характеристика какого-либо явления воз-
можна только при условии, если нам известна его причина, т.е.
основание, в силу которого данное явление существует вне наше-
го ума. Вопрос «почему есть это?» направлен не на формальные
основания мыслимости явления, а на причину его существования,
вне которой существование явления не может быть понято. Вопрос
«что есть дождь?» предполагает в качестве ответа аналитическое
суждение: «Дождь есть небесная влага». Очевидно, что критерием
истинности этого суждения является логический принцип тожде-
ства (противоречия), в соответствии с которым дождь есть небес-
ная влага, а небесная влага —дождь. Как и во всяком аналити-
ческом суждении, мы имеем здесь всего лишь формальное соот-
ветствие терминов суждения, которое истинно само по себе, вне
отношения к актуальному или возможному существованию самого
явления, о котором здесь идет речь. Существование дождя откры-
вается нам только в вопросе «почему есть дождь?», отсылающего
нас к его причине: «Собрались тучи». Таким образом, существо-
вание—это всегда отношение к своей собственной причине (causa).
Вместе с тем причина существования явления не есть само это явле-
ние; так, в нашем примере тучи есть всего лишь причина дождя, но
183
не сам дождь. Тем самым существование, в отличие от сущности,
может быть понято только через иное, чем оно само. Существо-
вание невозможно замкнуть в рамки формальной определенности
именно потому, что оно не может быть понято вне своих природ-
ных причин, т.е. вне постоянного отсыла к тому, что не есть оно
само. Это самое «иное», как неотъемлемая онтологическая опреде-
ленность всякого существования, означает невозможность исчер-
пывающего описания сущего в виде конечной совокупности анали-
тических суждений. С другой стороны, всякая формальная опре-
деленность, растворяющая сущее в тождестве понятия, становится
возможной как раз потому, что сущее берется extra causas., вне сво-
их причин; сущее в номинальном значении изъято из природного
контекста и сведено тем самым к ratio cognoscendi, к условиям его
представимости в нашем мышлении. Таким образом, омонимия по-
нятия ens является ничем иным, как отражением на семантическом
уровне того онтологического факта, что основание мыслимости ве-
щи, ее ratio cognoscendi, не есть ее ratio essendi, основание ее суще-
ствования.
Однако что представляет собой ratio essendi сущего, основание
его бытия? Причина сущего есть основание его существования. При
этом сама причина является определенным сущим, основание су-
ществования которого находится не в нем самом и которое поэтому
есть следствие более отдаленной причины. Так, сгущение туч, яв-
ляясь причиной дождя, есть, в свою очередь, следствие определен-
ного атмосферного давления и т.д. Двигаясь в этой бесконечной
регрессии причин и следствий, мы не сможем отыскать ту causa
sui, которая представляла бы собой ratio essendi всего пройденного
нами ряда, поскольку, как уже говорилось, бесконечный ряд при-
чин и следствий не может быть дан в бесконечной целокупности
основания. Всякая причина является по отношению к своему след-
ствию всего лишь иным сущим. Однако бытие — это не иное су-
щее, а иное сущему. Принцип причинности выступает поэтому лишь
негативной иллюстрацией того фундаментального тезиса средневе-
ковой онтологии, который гласит, что ни одно сущее не есть свое
собственное бытие: то, что есть сущее, отлично от него как суще-
го. Вследствие этого отношение бытия и сущего, как внеположное
отношению сущего и сущего, трактуется в средневековой онтоло-
гии исключительно в рамках учения об аналогии сущего. Выдви-
нутые Фомой Аквинским пять манифестаций бытия Бога имеют
184
силу только при той онтологической предпосылке, что ratio essen-
di сущего само не есть какое-либо сущее. Данное онтологическое
утверждение является и ключом к решению космологических ан-
тиномий Канта. Действительно, если бытие есть иное сущему, то
бытие мира находится вне ряда причин и следствий, уходящих в
бесконечность пространства и времени. Исходя из всего этого, мож-
но сделать вывод, что сущее, взятое в значении причастия глагола
«быть», указывает,на причастность действию как таковому, ска-
зываясь ab actus essendi. Таким образом, ratio essendi сущего есть
actus essendi, чистое действие как явление божественной мощи.
Таким образом, омонимия ens всего лишь фиксирует тот он-
тологический факт, что основанием сущего является иное суще-
му. Но поскольку, как мы видели, «иное» образует онтологическую
определенность всякого существования, то оказывается невозмож-
ным представить существование вещи исключительно в эссенци-
альном плане. Будучи причастно действию как таковому, которое
есть иное, чем состояние, существование всегда больше своей сущ-
ности. В этом смысле existeiitia представляет собой воплощенный
εχ-στασις: в своем действительном существовании сущее всегда ак-
туально больше себя как сущего.
Здесь заключается как возможность метафизики, так и ее выс-
шая невозможность. Согласно схоластическому определению, вос-
ходящему к четвертой книге «Метафизики» Аристотеля, метафи-
зика есть наука о сущем как сущем (ens inquantum ens). Однако
оборот «сущее как сущее» вовсе не означает статическую опреде-
ленность сущего как такового, получаемую в виде предельной аб-
стракции от всякого конкретного существования. Напротив, необ-
ходимо уловить в этой странной тавтологии определенную метафи-
зическую интонацию, призванную сделать внятным и слышимым
тот онтологический момент действенного различия сущего от само-
го себя как сущего, который Аристотель выразил в слове ενεργεία,
латинским эквивалентом которого может служить только схола-
стическое понятие ipsum esse. В этом смысле оборот «сущее как
сущее» (όν ή όν, ens inquantuin ens) выражает в форме метафизи-
ческой тавтологии то различие, в просвете которого сущее только и
может явить себя как сущее. Сущее как сущее означает не что иное,
как абсолютную определенность сущего, и может быть предметом
метафизики только в экстатическом опыте иного, полагающего аб-
солютный предел сущего как такового. Метафизика возможна по-
185
этому исключительно как критика, как постоянное указание на эту
абсолютную границу, конституирующую сущее как сущее, но не как
позитивная наука о сущем и его свойствах.
Сущее как сущее явлено нам не как объект теоретического умо-
зрения, который можно было бы описать не в тех или иных ка-
тегориальных модальностях, а в неких абсолютных, предельных
определенностях сущего, именующихся трансценденталиями. Су-
щее (ens), единое (unun), истинное (verum), благое (bonuni), ре-
альность (res), нечто (aliquid) представляют собой не понятийные,
а предельные, онтологические определенности сущего как таково-
го. Вследствие этого трансценденталии нельзя понимать в качестве
интенциональных различий, которые полагаются рассудком и кото-
рые, следовательно, можно свести ab intellectum, к единству рассуд-
ка. В этом случае, как можно видеть на примере «Критики чистого
разума» Канта, трансценденталии исчезают как свойства сущего
самого по себе. Причислив трансценденталии к чистым рассудоч-
ным понятиям, Кант, однако, не находит им никакого места в систе-
ме категорий, что дает ему право охарактеризовать их как «мни-
мотрансцендентальныа предикаты вещей»1. Трансценденталиям не
остается места в системе знания, в основание которой положен рас-
судок, a priori дающий правила вещам. Исчезновение трансценден-
талии является, однако, не досадным пропуском, а симптомом то-
го, что трансцендентальным стал сам рассудок, полагаемый отныне
в качестве трансцендентального субъекта. Трансценденталии — это
те формы, в которых сущее являет себя как сущее; другими сло-
вами, это чистые различия, в которых только и может быть дано
отношение сущего к самому себе как сущему. В самом деле, абсо-
лютная определенность сущего есть не что иное, как его отношение
к самому себе. Однако всякое отношение предполагает различие
как необходимое условие любого отношения. Поэтому сущее как
сущее явлено в различии, в котором коренится всякая предметная
определенность.
Резюмируя сказанное, выразим различие сущности и существо-
вания следующим образом: сущность есть «то же самое» сущего,
определенный коэффициент его само идентичности, тогда как суще-
ствование сущего несет в себе онтологический заряд «иного». По-
этому сущее, взятое в его существовании, может быть объяснено не
через себя самого, а только через иное сущее как причину своего
существования. Основанием же сущего как такового, его высшей
186
причиной может быть только абсолютно иное, в котором сущее и
получает абсолютную определенность как сущее, выражаемую на
уровне трансценденталий. Эта абсолютная определенность сущего,
его метафизическая определенность, является вместе с тем и во-
доразделом метафизики и теологии как науки о высшей причине
всего сущего. Тем самым сущее достигает своей абсолютной опре-
деленности как сущее только в actus essendi, в полноте божествен-
ного действия. Поэтому для Фомы Аквинского определение пред-
мета метафизики — «сущее как сущее» — немыслимо вне указания
на высшую причину сущего, на то предельное основание, в отноше-
нии к которому сущее получает метафизическую определенность:
«Ens inquantum ens habet causarn ipsum Deum».
Если всесторонним образом продумать эту формулу Фомы Ак-
винского, то нельзя не признать, что в ней содержится трансценден-
тальный запрет на так называемое общее понятие бытия, которое
войдет в историю метафизики как понятие «однозначно сущего»
(ens univocum). Действительно, что такое общее понятие бытия, как
не бытие, мыслимое в рамках понятия? Однако в этом случае бы-
тие — то, что есть сущее — обязательно должно сказываться in quid
о всяком существовании, т. е. обладать характером той однозначной
предикации, эталоном которой являются аналитические суждения.
В суждении «дождь есть небесная влага» предикат «небесная вла-
га» приписывается субъекту «дождь» строго однозначным образом.
Эта однозначность отношения субъекта и предиката подразумева-
ет, однако, только то, что субъект и предикат образуют то самое
логическое тождество, которое выражается знаменитой формулой
схоластической логики: praedicatum inest subiecto — субъект вклю-
чает в себя предикат. Строго однозначная предикация имеет ме-
сто только в тех случаях, когда сущее полностью исчерпывается в
определении его «чтойности». Однако существование всегда боль-
ше своей сущности (quidditas), причем этот неустранимый преизбы-
ток существования перед сущностью и есть не что иное, как бытие
сущего, выражающееся в абсолютных, трансцендентальных опре-
деленностях, превышающих всякую понятийную определенность.
Таким образом, общее понятие бытия есть бытие в модальности
понятия, т. е. сущее, взятое исключительно в номинальном значе-
нии. Но, как уже говорилось, сущее в номинальном значении есть
сущее, взятое extra causas, вне своих причин. Отсюда следует, что
сущее как сущее, как только оно берется вне отношения к actus es-
187
scudi, обособляясь тем самым в автономный, независимый от тео-
логии объект метафизики, неизбежно деградирует в общее понятие
бытия. В определенной исторической перспективе это приводит к
такому переопределению границ между метафизикой и теологией,
вследствие которого само бытие Бога становится объектом мета-
физических рассуждений, помещаемых под рубрикой metaphysica
specialis. Невозможно в полной мере осознать значение предпри-
нятой Кантом критики «рациональной теологии» без понимания
произошедшей на рубеже Нового времени этой радикальной онто-
логической метаморфозы, результатом которой стало превращение
метафизики в позитивное знание души, мира и Бона.
Итак, можно видеть, что в свете предпосылок томистской фило-
софии понятие бытия как однозначно сущего, равным образом при-
ложимого как к Богу, так и к творениям, должно выглядеть неким
онтологическим нонсенсом. Напротив, манифестация бытия Бога
возможна только в том случае, если признается изначальная он-
тологическая двусмысленность понятия «сущее», и, как следствие,
невозможность сведения существования вещи к ее «чтойности». Ак-
туальность сущего вообще представляет собой сгусток динамиче-
ского противоречия: с одной стороны, сущее может существовать
только в устойчивых, неизменных границах своей «чтойности», от-
сутствие которых означало бы упразднение всякой дистанции меж-
ду Богом и творением; с другой стороны, само существование обна-
руживается не иначе как в постоянной интенции выхода за рамки
«чтойности», в устремленности сущего к иному, чем оно само. Это
«иное» есть актуальность сущего^ ratio essendi его существования.
Оптическая неполнота существования, постоянно нуждающегося в
восполнении «иным», является обратной стороной того онтологи-
ческого преизбытка, которым характеризуется божественное ipsum
esse. Поскольку в чисто метафизическом плане Бог есть актуаль-
ность всякого существования, то бытие Бога невозможно показать,
замыкаясь в сфере чистых сущностей. Таким образом, амбивалент-
ность понятия «сущее» находит свое объяснение в том, что в самом
сущем просвечивает «иное». Сущее может быть раскрыто как сущее
(ens inquantum ens) только во всей его онтологической неоднознач-
ности.
Однако это ставит перед нами следующую проблему: каким об-
разом сущее как сущее начинает пониматься как однозначно су-
щее? Омонимия ens, как об этом много раз говорилось, указывает
188
на нетождественность того, что есть сущее и что оно есть. Сократ
есть человек, однако человек как таковой не существует. Следо-
вательно, то, что есть Сократ, т. е. Сократ в номинальном значении
своего бытия, не ость сам Сократ в значении его собственного су-
ществования. Бытие Сократа не сказывается о самом Сократе сугу-
бо однозначным образом. Тем самым общее понятие бытия может
быть образовано только в результате редукции экзистенциально-
го значения сущего к номинальному. Однако и сама эта редукция
нуждается в определенных метафизических предпосылках, кото-
рые нам еще только предстоит выявить. К числу таких метафизи-
ческих предпосылок относится совершенно новое понимание объек-
тивности, кульминацией которого станет понятие объекта как та-
кового— ipsuni obiectuni. Редукция экзистенциального значения су-
щего к номинальному, лежащая в основании общего понятия бытия,
означает такое сведение существования к сущности, в результате
которого сама сущность наделяется всеми атрибутами существо-
вания. Вместе с тем сущность, представленная как существование,
уже не является сущностью в ее прежнем схоластическом значении,
как «чтойность» определенной, существующей extra intellectum ве-
щи. Напротив, ее метафизический статус отныне определен в каче-
стве объекта нашего интеллекта. Сам объект — это не вещь, с кото-
рой интеллект должен быть соотнесен в акте познания, а нечто, об-
ладающее специфическим существованием исключительно в самом
интеллекте. Отзвук такого понимания объекта как предмета, суще-
ствование которого определяется только в отношении к рассудку,
мы можем обнаружить еще в «Критике чистого разума» Канта2.
Поскольку бытие определяется Дуисом Скотом как первый объект
интеллекта, то генезис понятия «однозначно сущего» следует дать
в виде генеалогии объективности, которая в свернутом виде заклю-
чает в себе совершенно новую метафизическую позицию по отно-
шению к миру. Однако в качестве предварительного условия такой
генеалогии необходимо обсудить наиболее существенные аспекты
томистской ноэтики, в которой наиболее полно отразились схола-
стические представления о познании как отношении интеллекта к
существующим независимо от него предметам, само существование
которых дано нам в чувственном опыте.
Представления Фомы Аквинского о познании всецело опреде-
ляются его учением об actus essendi как бытии сущего, как полной
действительности всякого существования. Бытие как акт обнару-
189
живается в присущей всему существующему трансценденции к ино-
му, различающему существование вещи от ее сущности. Поскольку
же иное как динамическое различие сущего от самого себя разли-
чает сущее на сущность и существование, постольку именно Иное
исключает какую-либо возможность представления сущности ве-
щи и ее существования в едином, целостном познавательном акте.
Сущность и существование могут быть даны только в различных,
несоединимых между собой модусах познания. Прежде всего, су-
ществование вещи дается в ее чувственном созерцании (интуиции);
так, существование камня есть его непосредственное присутствие
в горизонте моего чувственного опыта. Однако сущность вещи мо-
жет быть дана только в форме ее интеллектуального представле-
ния, которое подводит созерцаемую мною вещь под соответствую-
щее ей понятие. Таким образом, любая вещь дана: 1) способом ин-
туитивного постижения ее существования, 2) в форме интеллекту-
ального представления ее сущности. Соответственно этому процесс
познания вещи складывается из нескольких этапов. Во-первых, ак-
туальное присутствие самой вещи в горизонте моего чувственного
опыта порождает чувственный образ (phantasma), являющийся как
бы чувственным заместителем самой вещи; так, я могу предста-
вить увиденный мной камень, даже если сам камень в данный мо-
мент не дан мне в его актуальном присутствии. Во-вторых, актив-
ный интеллект извлекает из этой чувственной материи образа вид
(species), формируя тем самым абстрактное понятие (conceptus).
Таким образом, мыслимый мною камень является не чувственно
созерцаемым или представляемым камнем, а всего лишь понятием
камня. В «Сумме теологии» Фома Аквинский с одобрением приво-
дит слова Аристотеля о том, что в душе присутствует не камень,
а вид камня3. Тем самым существование вещи не может быть дано
в форме ее интеллектуального постижения, поскольку интеллект
оперирует исключительно чистыми сущностями. При этом в чув-
ственной интуиции вещь мне дана в ее единичности, тогда как ин-
теллект мыслит вещь только в аспекте универсальности, в форме
ее понятия. Эта, казалось бы, более широкая в сравнении с инту-
ицией способность интеллекта в действительности является свиде-
тельством его онтологического изъяна, т. е. невозможности интел-
лектуального постижения вещи в ее собственном существовании.
Обладай человеческий интеллект такой возможностью, он стал бы
воистину креативным интеллектом, полностью совпадающим с бо-
190
жественным разумом. Именно понимание этой сугубо онтологиче-
ской ограниченности человеческого разума окажется совершенно
«забытым» в новоевропейской метафизике и вновь появится лишь
у Канта, в виде проведенного им различия на креативный (intel-
lectus archetypus) и дискурсивный (intellectus ectypus) рассудок4.
Присущая человеческому разуму конечность состоит в том, что на-
ша интуиция дает нам существование вещи, но не ее сущность, а
наш интеллект — лишь сущность вещи, но не ее существование.
С этим тесно связан вопрос, активно обсуждавшийся в схола-
стике XIII в.: является ли произносимое слово знаком самой вещи
или ее понятия? В решении этой проблемы схоластика, начиная
с Боэция, опиралась на известное место аристотелевского трактата
«Об истолковании», где Аристотель определяет звукосочетания как
«знаки представлений в душе»5. Соответственно этому произноси-
мое мною слово «камень» обозначает не тот единичный камень,
который я вижу в настоящий момент, а понятие камня. Слово есть
знак понятия, а не вещи. Основания такой трактовки звучащего
слова достаточно ясны. Поскольку, как говорит Аристотель, «пред-
ставления в душе, непосредственные знаки которых суть то, что в
звукосочетаниях, у всех людей одни и те же»6, то коммуникация
оказывается возможной именно потому, что слова, при всем раз-
личии их фонетической структуры, являются обозначениями поня-
тий, которые, согласно Аристотелю, по природе своей одинаковы
у всех людей. Русское слово «камень», английское «stone» и фран-
цузское «pierre», при всем их фонетическом различии, обозначают
некую общую сущность, так что перевод одного слова на другой
язык возможен только потому, что эти слова имеют обитую концеп-
туальную основу. Понятие есть значение слова, слово есть озна-
чающее понятия; всякое слово —не более чем внешняя фонетиче-
ская оболочка значения. Таким образом, в основании любого языка
находится общезначимая понятийная структура; никакое слово не
может быть непосредственным знаком самой вещи, существование
которой дано в единичном, неповторимом экземпляре. Общезна-
чимость языка обеспечивается универсальностью понятий, образу-
ющих его логический синтаксис. Поэтому слово, как акт разума,
может обозначать только то, что содержится в самом разуме. В са-
мом деле, поскольку вещь существует только в своей неповторимой
единичности, то разум, мыслящий вещи исключительно в аспекте
их универсальности, не может выйти из самого себя, чтобы вобрать
191
в себя существование вещи. Тем самым разум не может познавать
единичные вещи иначе, как в опосредовании понятием.
Завершая анализ основных онтологических предпосылок то-
мистского учения о познании, которое можно назвать классической
ноэтикой средневековья, следует еще раз подчеркнуть, что позна-
ваемая вещь всегда дана в различных поэтических лгодальностях:
как предмет интуиции, открывающей нам существование вещи, и
как предмет интеллекта, только который и способен к постиже-
нию ее сущности. При этом можно заметить, что именно вещи, а
не интеллекту принадлежит несомненный онтологический приори-
тет в процессе ее познания. Прежде всего, сама действительность
вещи проявляется в тех воздействиях, которые она оказывает на
наши чувства и которые, в свою очередь, делают возможной дея-
тельность активного интеллекта, преобразующего результат воз-
действия вещи (phantasma) в концепт. Деятельность интеллекта
является поэтому онтологически вторичной по отношению к дей-
ствительности вещи. Знание вещи есть отношение самой вещи к ин-
теллекту (intentio rei), в котором вещь представлена интеллектом
как определенная «чтойность». Тем самым «чтойность» есть некое
«место», в котором интеллект соотносится с познаваемой вещью, в
котором сама вещь преобразуется в subiectum знания. Субъектом,
в схоластическом смысле этого слова, является сама вещь, чье су-
ществование может быть удостоверено в интуиции, чья сущность
познана интеллектом. В таком случае объектом является предмет,
однозначно определенный только в одной ноэтической модально-
сти, а именно в модальности интеллекта. Поэтому, в отличие от
вещи как субъекта, вещь как ob-iectum, как нечто пред-лежащее,
есть то, что представлено исключительно интеллекту. В этом смыс-
ле объектом является предмет, определяемый как intentio iiitellecta,
т.е. как направленность самого интеллекта на некое объективное
содержание. Другими словами, объект представляет собой как бы
неполную действительность вещи, представляемую в виде чистой
«чтойности», безразличной самой по себе к существованию или не-
существованию самой вещи. Так, «золотая гора», как определенное
содержание интеллекта, обладает несомненной объективной реаль-
ностью, но, как мог бы сказать Фома Аквинский, «золотая гора»
обладает всего лишь объективной реальностью, поскольку этой ре-
альности не хватает действительности, которая может быть дана
только в интуиции.
192
Таким образом, интуиция и интеллект представляют собой раз-
личные способы познания одной и той же вещи. «Сократ» и «че-
ловек» выражают собой различные поэтические модальности, ко-
торые, однако, могут быть объединены в истинном высказывании
«Сократ есть человек». Истина состоит поэтому в надлежащей со-
гласованности (adaecatio) интеллекта и интуиции, сущности вещи и
ее существования, которая отнюдь не означает их тождества. Стро-
го говоря, невозможна интуиция сущности, равно как невозможно
и интеллектуальное постижение существования. Интеллекту непо-
средственно доступно лишь познание сущности вещей (универса-
лий), но это познание остается исключительно объективным, т. е.
безотносительным к актуальному существованию самой вещи, ко-
торое интеллект познает не иначе как в концептуальном онос|>е-
довании, через рефлексию. У самого Фомы Аквинского такое по-
нимание роли интеллекта в познании выражается с присущей ему
ясностью. «Следует сказать, — говорит он, — что наш интеллект не
может познавать единичное в материальных вещах прямо и первич-
ным образом. Основание этого в том, что начало единичности в ма-
териальных вещах — индивидуальная материя; наш же интеллект,
как сказано выше, познает, абстрагируя интеллигибельные виды от
такого рода материи. То же, что абстрагируется от индивидуальной
материи, есть универсальное. Поэтому наш интеллект прямо позна-
ет только универсалии. Но непрямо и как бы посредством некото-
рой рефлексии он может познавать единичное, поскольку, как выше
сказано, даже после того, как он абстрагировал интеллигибельные
виды, он не может актуально познавать посредством их без обра-
щения к фантасмам, в которых он познает интеллигибельные виды,
как говорится в третьей книге "О душе". Таким образом, он прямо
познает само универсальное посредством интеллигибельных видов,
но непрямо— единичное, к которому относятся фантасмы. И таким
способом он формирует это положение "Сократ есть человек'1»7.
Таким образом, Фома Аквинский ясно и недвусмысленно отри-
цает способность разума к непосредственному познанию существо-
вания вещей, способность, которая, напротив, признается Дунсом
Скотом. «Точно так же, — говорит Скот, — как я способен к пости-
жению сущности вещи, я способен к постижению ее существования,
хотя бы эта вещь реально не присутствовала вне интеллекта»8. В
этих словах Скота поистине чувствуется веяние уже совсем другой
метафизической эпохи. Здесь прямо признается то, что отвергает-
193
ся Аквинатом, а именно, что существование вещи постигается «та-
ким же образом», как и се сущность, т. е. в актах интеллекта. Но,
признавая за разумом способность к интеллектуальному постиже-
нию существования вещи, необходимо признать и наличие особой
способности разума к интеллектуальному созерцанию, своего ро-
да visio intellectualis, отличной как от чувственной интуиции, так
и от дискурсивных актов самого разума. Другими словами, необ-
ходимо допустить наличие интеллектуальной интуиции, в которой
разуму открывается не только сущность вещи, но и ее существо-
вание. Допуская интеллектуальную интуицию как особую способ-
ность разума, Скот совершает самую настоящую поэтическую ре-
волюцию, закладывая в этом понятии основания новой, трансцен-
дентальной метафизики, внутренние противоречия которой будут
выявлены только «Критикой чистого разума» Канта.
Но, поскольку Скот допускает интеллектуальное познание су-
ществования вещи, он должен ответить на аргументы Фомы Ак-
винского, демонстрирующие, что единичное не может быть непо-
средственным объектом интеллекта. Всякое существование единич-
но; вещь существует только как единичная, неповторимая в своем
роде вещь. Каким же образом, вопреки аргументации Ахвината,
единичное может быть познано интеллектом в своем собственном
существовании?
В качестве основного довода Скот формулирует тезис, по ко-
торому способность, присущая низшему, чувственному, роду зна-
ния должна быть присуща и высшему его роду — интеллекту. «Все,
что относится к совершенству познавательной способности низше-
го уровня, а именно в чувственной способности, — говорит Скот, —
есть в способности вышестоящей, а именно в разумной, которая
является более высокой»9. Тем самым присущая нашим чувствам
способность интуитивного постижения существования вещи долж-
на быть в более высокой степени свойственна и нашему интеллекту.
При этом Скоту хорошо известно, что данный аргумент приводит
и Фома Аквинский, формулируя его в качестве одного из четырех
возможных возражений против неспособности интеллекта к позна-
нию единичных вещей: «То, что может низшая способность, может
и высшая. Но чувство познает единичное, следовательно, и интел-
лект, и в гораздо большей степени»10. На это, сформулированное
им самим возражение, Фома Аквинский отвечает следующим обра-
зом: «Относительно четвертого (возражения. — Р. Л.) следует ска-
194
зать, что высшая способность может то, что может низшая, но бо-
лее превосходным образом. Поэтому то, что чувство познает мате-
риально и конкретно (то есть прямым познанием единичного), то
интеллект познает нематериально и абстрактно (то есть познанием
универсального)»11. Следовательно, задача Скота состоит не про-
сто в том, чтобы противопоставить свой тезис аргументации Фомы
Аквинского, а в том, чтобы лишить эти аргументы их действен-
ной силы. Однако сделать это можно, лишь произведя своего рода
деконструкцию томистской ноэтики.
Таким образом, томистское учение о познании различает, соот-
ветственно двум основным этапам познания, возможный и актив-
ный интеллект. Прежде всего, присутствие вещи в горизонте мое-
го чувственного опыта порождает в моей душе чувственный образ
этой веши. Это и есть стадия возможного интеллекта, или, луч-
ше сказать, интеллекта in potentia, т. е. еще не самого интеллекта,
а лишь его возможности. Другими словами, интеллект пока еще
проявляет себя как страдательная сторона, в качестве рецептивной
способности восприятия и репродуктивной способности воображе-
ния. Затем происходит очищение образа вещи от всех чувственных
примесей, вследствие чего образуется понятие вещи. Деятельность
по формированию понятия принадлежит активному интеллекту,
который и совершает необходимый переход от единичности данной
нам в чувственной интуиции вещи к абстрактному понятию. Ак-
тивный, или действующий, интеллект есть не что иное, как прису-
щая нашему разуму способность абстрагирования. Деконструкция,
призванная лишить аргументы Фомы Аквинского против непосред-
ственного постижения интеллектом существования вещи, должна
заключаться в некотором изменении отношения между возможным
и действующим интеллектом. Поэтому Скот изменяет структуру
отношения возможного и действующего интеллекта таким образом,
что переход от единичной вещи к абстрактному понятию произво-
дится теперь не действующим, а возможным интеллектом. Однако
что дает Скоту право на подобную инверсию структуры познава-
тельного акта? Прежде всего, то, что сам процесс абстрагирования,
как правильно отмечает Скот, оказывается возможным именно по-
тому, что еще до всякого абстрагирования разум уже опознал еди-
ничное как единичное. «Против способа абстрагирования, который
они (имеются в виду Фома Аквинский и Фемистий, комментатор
Аристотеля IV в. — Р. Л.) предлагают, — говорит Скот, — можно ар-
195
гумснтировать так: абстрагирование универсального от единичного
производится разумом возможным, а не действующим, (делом) ко-
торого является абстрагировать вид только от чувственного образа;
но невозможно абстрагировать универсалии от единичного, не по-
знав единичное, ведь в таком случае (человек) абстрагировал бы,
не ведая, от чего абстрагирует»12.
Таким образом, Скот нейтрализует аргументацию Фомы при по-
мощи классического по своей природе жеста. В самом основании
перехода от единичного к общему, утверждает Скот, должна нахо-
диться некая трансцендентальная предпосылка познания единич-
ного как единичного. Из этой предпосылки Скот и выводит возмож-
ность непосредственного интеллектуального познания существова-
ния вещи, поскольку единичное может быть познано как единичное
только в аспекте общего. Этот жест радикально изменяет всю дис-
позицию познавательных актов. В этой новой диспозиции возмож-
ный интеллект представляет собой уже не интеллект in potentia,
а действенную возможность интеллектуального познания общего,
которая действенна именно потому, что общее уже представлено
данной единичной вещью. Что же касается действующего интел-
лекта, осуществляющего, согласно Фоме Аквинскому, переход от
единичного к общему, то его роль теперь сводится исключительно
к процедуре очищения образа от любого чувственного содержания.
Действующий интеллект действителен только внутри трансценден-
тальной предпосылки познания единичного как единичного. Тем
самым исходный тезис Скота —то, что имеется в познавательной
способности низшего уровня, должно быть присуще и познаватель-
ной способности высшего уровня — начинает звучать в полную си-
лу, а опровержение его Фомой Аквинским, напротив, повисает в
воздухе.
Отсюда, Скот совершенно иначе представляет себе отношение
между двумя главными видами познания — интуицией и интеллек-
том, упраздняя прежнее схоластическое различие между ними и
перенося интуицию как непосредственное постижение вещи в ее
существовании в область самого разума. Казалось бы, различие
интуиции и интеллекта выдерживается Скотом в строго традици-
онном духе, а именно как различие между познанием актуального
существования вещи и познанием сущности, в ее отвлечении от вся-
кого актуального существования. «Я различаю, — говорит Скот, —
в познании два вида; ведь может быть такое познание объекта, при
196
котором объект абстрагируется от всякого актуального существо-
вания, и может быть такое его познание, при котором (он познает-
ся) как нечто существующее и как присутствующее в каком-нибудь
(конкретном) актуальном существовании»11. Однако при этом ра-
дикально меняется сам характер интуиции, причем, что особенно
важно, ъ этом изменении характера интуиции однозначно фикси-
руется изменение онтологического статуса самого существования,
которое отныне определяется как присутствие (praesentia) в пред-
ставлении (repracsentatio). Характер интуиции определяется Ско-
том следующим образом: «Второй (член предложенного членения
познания) обосновывается тем, что то, что есть от совершенства в
низшей способности, очевидно, есть и в высшей способности, если
она того же рода. Но у чувства, которое входит в число позна-
вательных способностей, от совершенства есть то, что оно (чув-
ство) способно познавать вещь как нечто существующее само по
себе и как присутствующее сообразно своему существованию. Сле-
довательно, это возможно и в отношении разума, который являет-
ся высшей познавательной силой. Следовательно, и разум, может
иметь такое познание вещи, сообразно тому, что она есть нечто
присутствующее (курсив мой. - Р. Л.)»14.
В этом рассуждении Скота слышатся совершенно новые мета-
физические интонации, которые нам следует теперь сделать более
внятными. Природу интуиции Скот определяет как познание ве-
щи «сообразно тому, что она есть нечто присутствующее» (secun-
dum quod est praesens). Прежде всего, интуиция это данность са-
мой вещи. При этом прежняя схоластика понимала интуицию как
непосредственную достоверность существования. Так, роза, кото-
рую я вижу в настоящий момент времени, безусловно дана мне в
ее собственном существовании. Однако отсюда вовсе не следует,
что какая-либо вещь нашего мира может быть дана мне так, как
она существует сама по себе. Безусловным существованием, т.е.
существованием самим по себе (res per se), обладает только Бог,
который вообще не может быть дан в каком-либо наглядном пред-
ставлении. Помимо Бога ни одна вещь нашего мира не существует
в силу своих собственных оснований. Как уже говорилось, онтоло-
гической характеристикой существования (в отличие от сущности)
является постоянный отсыл к тому, что не есть оно само. Это самое
«не есть», как неотъемлемая черта существования, является свое-
го рода онтологическим индексом, указующим на то, что ни одна
197
существующая вещь не есть свое собственное бытие. Безусловное
существование вещи, ее бытие, может быть дано только в мировой
тотальности причин и следствий, охватить которую способен толь-
ко божественный, но отнюдь не человеческий разум. Поэтому роза,
данная мне в ее существовании, никогда не может быть дана мне
в ее безусловном существовании, как вещь, существующая сама по
себе. В то же время отличительной чертой интеллектуального по-
знания, в отличие от интуиции, является определенная автономия
его объекта. Роза, которую я рассматриваю в настоящее время, не
существует вне своих причин; однако «цветок», как предикат розы,
обладает некоторой субсистентностыо, позволяющей мне мыслить
данное понятие само по себе, вне его отношения к актуальному или
возможному существованию самой розы. Всякое понятие в некото-
ром смысле субсистентно и может быть представлено само по себе,
вне его отношения к чему-либо иному. Поэтому вещь как объект ин-
теллектуальной интуиции, т. е. вещь, существование которой дано
в модусе интеллектуального познания, должна быть представлена
как вещь сама по себе. Здесь in nuce содержится проблема познания
«вещи самой по себе» (Ding an sich), являющаяся ключевым момен-
том кантовской «Критики чистого разума», непонимание истоков
которой и породило нелепые квалификации Канта как представи-
теля «агностицизма». При этом ясно, почему вопрос о способности
познания «вещей самих по себе» сопряжен у Канта с фундамен-
тальным пересмотром понятия интеллектуальной интуиции.
Таким образом, введение интеллектуальной интуиции неизбеж-
но означает такое смещение онтологической перспективы, вслед-
ствие которого самым радикальным образом меняется сам онто-
логический критерий существования. В томистской поэтике вещь
может быть представлена в интуиции исключительно в силу то-
го онтологического обстоятельства, что она существует; вопреки
позднейшим номиналистским утверждениям, в интуиции не может
быть дана несуществующая вещь. В поэтике Скота, несмотря на то,
что Скот использует вполне традиционную схоластическую терми-
нологию, дело обстоит совершенно иначе: вещь существует в силу
того, что она представлена в интуиции. Онтологическим критери-
ем существования оказывается присутствие вещи в свете интеллек-
туальной интуиции — представления. Однако вещь, чье существо-
вание заключается в ее представимости, —это и есть вещь, суще-
ствующая сама по себе. Интеллектуальная интуиция — это специ-
198
фический способ познания вещей самих по себе. В силу этого об-
стоятельства интуиция приобретает у Скота столь исключительное
значение, что в некотором роде она включает в себя и сферу интел-
лекта. Поэтому различие интуиции и интеллекта представлено те-
перь в иной типологии: «И чтобы выразить это в кратких словах,
резюмирует свою позицию Скот, — первый вид (разумения или по-
знания), который представляет собой познание самой чтойиости,
насколько она абстрагируется от актуального существования или
несуществования, я называю "отвлеченным" познанием. Второй вид
(разумения или познания), а именно который представляет собой
познание чтойности вещи в соответствии с ее актуальным существо-
ванием (или же который представляет собой познание присутству-
ющей вещи сообразно такому ее существованию), я называю "инту-
итивным познанием" (intellectionem intuitivam), и не в том смысле, в
каком "интуитивное" отличается от дискурсивного (ведь некоторое
«отвлеченное» в таком случае является интуитивным), а в смыс-
ле безусловно "интуитивного" (sed simpliciter "intuitivam") -— в том
смысле, в каком мы говорим, что вещь рассматривается так, как
она есть сама по себе»15. Таким образом, интуиция —это уже не
часть общей структуры познавательного отношения, выступающая
в качестве необходимого, но самого по себе недостаточного усло-
вия познания вещи, как она представлена у Фомы Аквинского. На-
против, интуиция трактуется Скотом в смысле «безусловно интуи-
тивного». Только интуиция такого рода может представлять собой
познание «присутствующей вещи сообразно такому ее существова-
нию (vel quae est rei praesentis secundum talem existentiam)», т.е.
сообразно ее существованию как присутствию в интуиции. Интел-
лектуальная интуиция есть интуиция в безусловном смысле, пред-
ставляющая вещь в ее безусловном существовании.
Здесь мы оказываемся перед ключевым моментом нашего ана-
лиза доктрины бытия как «однозначно сущего». Мы видели, что
исходной посылкой всей поэтики Скота является его утверждение
о невозможности перехода от единичного к общему, если единичное
уже не опознано как единичное. Познание единичного как единич-
ного, а не как специфического модуса общего выступает в качестве
трансцендентального условия познания самого общего. Это позна-
ние единичного как единичного осуществляется исключительно в
акте интеллектуальной интуиции. Нам необходимо теперь оконча-
тельно прояснить тот особенный характер интеллектуальной ин-
199
туиции, в силу которого единичное оказывается постижимо в его
единичности.
Прежде всего, интеллектуальная интуиция, представляющая
вещь в ее безусловном существовании, есть не что иное, как непо-
средственная данность самого бытия вещи; в акте интеллектуаль-
ной интуиции единичная вещь есть вещь, существующая сама по се-
бе, т.е. вещь, обладающая безусловным предикатом бытия. Отсюда
перед нами возникает следующий вопрос: каким образом интеллек-
туальная интуиция оказывается способной к представлению именно
бытия вещи? Потому, скажем, что сама интеллектуальная интуи-
ция есть не интуиция этой вот единичной вещи, а чистая интуиция
бытия, в свете которой эта вещь дана как единичная. Здесь имеется
очень тонкий и чрезвычайно важный нюанс, отделяющий понятие
интуиции в томистском его варианте от того понимания интуиции,
которое мы встречаем у Скота. В прежнем схоластическом пони-
мании интуиция - это всегда интуиция сущего, существование ко-
торого дано мне в моем чувственном опыте. Но что касается интел-
лектуальной интуиции, то это интуиция не сущего, а бытия сущего.
Именно эта чистая интуиция бытия является трансцендентальной
предпосылкой перехода от единичного к общему. Поскольку бытие
является трансцендентным горизонтом всякой определенности, по-
стольку единичное может быть опознано как единичное только в
изначальной интуиции бытия, в свете которой оно есть единичное.
Нам остается сделать последний шаг в решении поставленно-
го нами вопроса: каким образом интеллектуальная интуиция ока-
зывается способной к постижению сущего? Прежде всего, видим,
что в учении Дунса Скота происходит онтологическая метаморфо-
за эпохального значения: впервые в истории европейской метафи-
зики бытие «прочитывается» как интуиция бытия. Но поскольку
бытие не есть какая-либо вещь, которую можно было бы себе пред-
ставить наглядным образом, то интуиция бытия есть некое пред-
ставление вообще, или трансцендентальное условие любого пред-
ставления. Поэтому ответ на наш вопрос, окончательно проясня-
ющий природу интеллектуальной интуиции, может быть дан сле-
дующим образом: интеллектуальная интуиция, как представление
бытия, есть само бытие как представление. Метафизика Скота обо-
значает тот переломный момент в истории европейской мысли, ко-
гда само бытие втягивается в сферу представления, заявляя о се-
бе в качестве трансцендентального условия представимости любого
200
рода. Метафизика, переставшая быть трансцендентной, становится
трансцендентальной. Этот новый фазис бытия как представления и
был концептуализирован Скотом в общем понятии бытия как пер-
вого объекта нашего интеллекта.
Вопреки Фоме Аквинскому. утверждавшему, что первым объек-
том нашего разума являются чтойности материальных субстанций,
вопреки Генриху Гентскому, отдававшему приоритет в порядке по-
знания Богу, Дуне Скот настойчиво полагает в качестве первого
объекта нашего разуАма понятие бытия как такового. Тем самым
Скот отваживается на решительный разрыв со всей предшествую-
щей ему схоластической традицией, и для того чтобы в полной мере
оценить глубину и масштаб этого разрыва, необходимо еще раз уяс-
нить себе, почему прежняя схоластика не могла допустить понятия
бытия как первого объекта нашего интеллекта. Ограниченность на-
шего разума, как уже говорилось, состоит в его неспособности вый-
ти за рамки сущностей (чтойностей), включив тем самым в сферу
своей деятельности само существование вещей. Отсюда, среди сво-
их понятий разум никогда не находит понятия бытия, поскольку в
противном случае всякое понятие обладало бы таким онтологиче-
ским статусом, что включало бы в себя существование мыслимой
вещи. Другими словами, само бытие должно было бы стать реаль-
ным предикатом любого мыслимого мной понятия. Бытие «проса-
чивается» сквозь понятия разума, как вода через решето, прежде
всего из-за онтологического различия сущности и существования;
бытие не может быть мыслимо, поскольку никогда и нигде, пи в
каком отдельном восприятии мы не встречаем бытия мыслимого.
Со стороны интеллекта мы имеем сущность, которая не включа-
ет в себя своего собственного существования; со стороны интуиции
мы имеем существование, которое никогда не дано нам как свое
собственное бытие. Следовательно, мыслить бытие, т. е. иметь яс-
ное и отчетливое понятие бытия, становится возможным только в
том случае, если само бытие как-то дано интеллекту, каким-то об-
разом ему представлено. Это представление бытия и дается разу-
му в интеллектуальной интуиции, в которой само бытие дано как
представление. Таким образом, интеллектуальная интуиция дает
то, что разум формулирует как primus conceptus distincte concepti-
bilis (первое отчетливо постижимое понятие), как объект, который,
однако, нельзя обнаружить в ряду обычных объектов интеллекту-
ального познания, каковыми являются «чтойности» материальных
201
вещей. «Ничто не постигается отчетливо, — говорит Скот, — если не
постигается все то, что содержится в его сущностном основании; су-
щее содержится во всех нижестоящих чтойных понятиях; следова-
тельно, никакое нижестоящее понятие не постигается отчетливо без
постижения сущего. При этом сущее не может постигаться иначе
как отчетливо, ибо оно имеет понятие безусловно простое. Оно мо-
жет, следовательно, отчетливо постигаться без прочего, а иное без
отчетливо постигнутого сущего (постигнуто быть не может). Сле-
довательно, сущее есть первое отчетливо постижимое понятие»16.
Невозможно мыслить какую-либо «чтойность». не подразумевая в
ее определении сущего как такового; однако можно мыслить сущее
как таковое, не имея при этом в виду какую-либо «чтойность». На
этом основании бытие (сущее) как понятие «безусловно простое»
(conceptum simpliciter simplicem), постижимое «не иначе как отчет-
ливо» (поп potest concipi nisi distincte), является первым объектом
нашего интеллекта. Поэтому уже в понятии бытия как перього объ-
екта нашего интеллекта начинает проступать та фундаментальная
парадигма новоевропейской метафизики, которая задает в качестве
критерия существования предмета его мыслимость, подргьзумевая
в этом ясное и отчетливое представление предмета как объекта со-
знания. В самом понятии бытия звучит «трубный глас» новой эпо-
хи, когда само понимание бытие оказывается под властной эгидой
понятия.
Здесь перед нами возникает довольно непростой вопрос: в ка-
ком смысле бытие является первым объектом интеллекта? Вопрос о
первенстве в познании понятия бытия обсуждается Скотом в форме
полемики с настоящими или возможными противниками этой пози-
ции, отвергающими понятие бытия как первый объект интеллекта
на том основании, что человек не обладает познавательной спо-
собностью, соразмерной сущему как таковому. Познание возможно
лишь в том случае, если имеется способность, адекватная познава-
емому предмету. Так, цвет может быть увиден только при наличии
способности зрения, звук может быть услышан только при нали-
чии слуха, понятие может быть помыслено, если имеется способ-
ность мыслить. Однако в общей номенклатуре наших познаватель-
ных способностей отсутствует такая, которая позволяла бы мыс-
лить сущее как сущее. Другими словами, сущее всегда дано нам в
том или ином познавательном модусе — цвета, звука, образа, поня-
тия, но никогда не дано нам как сущее. Бытие не дано нам ни в
202
акте интеллекта, ни способом интуитивного представления. С этой
точки зрения понятие бытия представляет собой онтологический и
терминологический нонсенс, поскольку бытие есть то, что транс-
цендирует за рамки всякого интеллектуального познания. Вопреки
этому Скот утверждает сущее как сущее именно в качестве пер-
вого объекта нашего разума. «Сущее как сущее, — говорит он, —
будучи чем-то более общим в сравнении с чувственно воспринима-
емым, познается нами само через себя, иначе метафизика не была
бы наукой более трансцендирующей, чем физика. Следовательно,
первым объектом нашего разума не может быть нечто такое, что
было бы чем-то более частным, чем сущее, ибо тогда сущее само
по себе не познавалось бы нами никаким способом»17. В этих сло-
вах совершенно ясно обозначена смена онтологической парадигмы:
трансцендентность бытия должна быть понята и обоснована не как
нечто выходящее за пределы разума, а исключительно в пределах
одного только разума. Поэтому наш вопрос о природе бытия как
первого объекта интеллекта следует сформулировать так: каким
образом, в каком смысле бытие может быть соразмерно способно-
сти интеллектуального познания?
В качестве общего тезиса, обычно предпосылаемого решению
самой проблемы, Скот вводит различие между способностью в ее
обычном, естественном применении и способностью как таковой.
Соответственно этому первым объектом той или иной способности
является то, что соответствует самой природе способности, т. е. то,
что адекватно способности как таковой. «К первому объекту спо-
собности, — говорит Скот, — относится то, что адекватно способно-
сти как таковой, а не то, что адекватно способности в каком-либо
ее состоянии, так же как первым объектом зрения считается не то,
что имеет место именно в пространстве, освещенном свечой, но то,
что по своей природе соответствует зрению как таковому, т. е. то,
что вытекает из природы зрения»18. В чем смысл этого вводимого
Скотом различия? Способность в ее естественном применении все-
гда определена в отношении своего естественного предмета: цвет
есть предмет зрения, а понятие — предмет интеллекта. Однако что
может быть объектом способности зрения как таковой? Очевидно,
не какой-либо определенный цвет, а цвет вообще. В то же время зре-
ние способно различать только определенный цвет, но не способно
видеть «цвет вообще», который отсутствует как естественный объ-
ект зрения. Что же такое «цвет вообще», как первый объект зрения,
203
адекватный способности зрения как таковой? Высказываясь с опре-
деленной долей условности, можно определить «цвет вообще» как
субъект всякого определенного цвета и в этом смысле как трансцен-
дентальную предпосылку восприятия любого цвета. Подобно этому
«сущее» в качестве первого объекта интеллекта, сообразного с его
способностью как таковой, не может быть дано в ряду естествен-
ных предметов интеллектуального познания, о чем вполне опреде-
ленно говорит сам Скот: «Ничто не есть первый объект разума,
рассмотренного как способность и природа, кроме чего-то общего
всему умопостигаемому, хотя первым объектом, адекватным ему
(разуму) в качестве движущего (к познанию), в настоящем состо-
янии является чтойность материальной вещи»19. Таким образом,
бытие является первым объектом интеллекта в отношении к его
способности как таковой, а не в отношении к сфере его естествен-
ного применения, в которой первым объектом интеллектуального
познания выступает чтойность материальной вещи. Отсюда мы мо-
жем сделать вывод, что интеллект в значении его способности как
таковой есть интеллект в его трансцендентальном применении; ра-
зум, вобравший в себя трансцендентное, становится трансценден-
тальным. В свою очередь, интеллект в своем трансцендентальном
применении есть не что иное, как сознание в позиции абсолютного
субъекта. Вместо сложной схоластической номенклатуры душев-
ных состояний появляется онтологическая корреляция сознания и
предмета как объективного содержания сознания. Вопрос о том, в
каком смысле бытие дано интеллекту в качестве его первого объек-
та, поставленный нами чуть выше, получает вполне определенный
ответ, а именно: бытие может стать объектом в отношении к ин-
теллекту только в том случае, если сам интеллект полагается как
субъект данного отношения.
Таким образом, первенство бытия как объекта интеллекта не
имеет никакого отношения к естественному порядку объектов ин-
теллектуального познания; бытие является первым объектом не в
значении естественной очередности, а исключительно в том смыс-
ле, что оно априорно по отношению ко всякой естественной пред-
посылке знания. Соответственно бытие как первый объект разума
обозначает трансцендентальную позицию самого разума, исходя из
которой существование любой вещи a priori определено в модусе
его объективности. Отсюда следует радикальный пересмотр самих
оснований аристотелевского учения о познании в той форме, в ко-
204
торой оно было воспринято Боэцием и Фомой Аквинским. Как уже
говорилось, согласно Боэцию и Аквинату, в разуме присутствует
не сама вещь, а только ее вид (species), являющийся изначальной
формой понятия вещи. Слово, как фонетический образ понятия,
обозначает поэтому не вещь, взятую в единичности ее существова-
ния, а понятие вещи. Только через призму понятия как вида вещь
становится видна интеллекту. Тем самым, вещь дана разуму не в ее
собственном существовании, а исключительно в интенциональной
определенности самого разума — как его объект. При этом, соглас-
но онтологическим предпосылкам, в равной мере разделяемым как
Боэцием, так и Фомой Аквинским, само бытие ни в коей мере не
может быть дано нам как объект, откуда и следует, что бытие вещи
отнюдь не заключается в ее объективной данности разуму. Однако
если бытие понимается как первый объект интеллекта, то бытие
вещи a piiori истолковано в значении ее представления интеллекту
как объекта интеллектуального представления. Объектом в таком
случае становится способ присутствия в разуме самой вещи. По-
этому слово обозначает уже не вид как ментальный заместитель
вещи; слово теперь обозначает саму вещь в ее объективном присут-
ствии. Очевидно, что это уже совсем другое понимание не только
вещи, но и слова. Здесь в полном виде содержатся предпосылки по-
следующего парижского «терминизма», представленного в XIV в.
Ж. Буриданом, Н.Оремом и А. Саксонским, поскольку слово, как
обозначение не понятия, а самой вещи, есть не что иное, как ter-
minus intentionis mentis, обозначающий вещь в ее функциональном,
но не субстанциальном значении.
Нам остается выяснить, чем является вещь, существование ко-
торой заключается в объективности ее представления. Объект —
это positio rei in esse intentionali, данность вещи в значении ин-
тенциоиального бытия, т.е. в отвлечении вещи от ее актуального
существования extra intellectum. Сущность и существование разли-
чаются в такой вещи сугубо интенциональным (формальным) обра-
зом: существование становится всего лишь определенным модусом
объективности. Таким образом, как сущность вещи, так и ее суще-
ствование отныне определяются в пределах одного только разума.
«Вещь обозначена не в силу того, что она существует, поскольку
она постигается сама по себе не как существующая, но лишь в силу
того, что она постигнута в интеллекте»20, — говорит Скот, предва-
ряя этим высказыванием знаменитый вопрос В. Оккама: «Utrum
205
cogiiitio intuitive posit esse de obiecto non existente?» (Возможно ли
интуитивное познание несуществующего объекта?). Однако измене-
ние онтологического статуса существования вещи идет рука об руку
с изменением онтологического статуса самого интеллекта. Теперь
это уже не интеллект в его прежнем схоластическом значении, по-
скольку в нем все яснее проступают черты сознания как конечной
онтологической определенности существования, выраженной кар-
тезианским cogito sum. Действительность вещи отныне заключает-
ся в accies mentis, в действии самого разума. При этом действие
разума —это не operatio, производимое действующим интеллектом
но извлечению экстракта понятия из материи чувственного образа.
Действие разума есть скорее сам разум как действие. Смысл про-
изошедшей в XIV столетии поэтической революции состоит в том,
что аристотелевская ενεργεία, определяемая схоластами как actus
essendi вещи, становится онтологической определенностью разума.
Сознание —это и есть разум как ενεργεία. В этом онтологическом
смысле сознание являет себя как иное миру, как кантовская «вещь
в себе» (или же как сартровское «ничто»), чье существование нель-
зя уловить в причинно-следственном ряду эмпирических событий,
чью сущность невозможно определить в ясных логических поня-
тиях. Принципиально важный для нас момент заключается в том,
что разум, в его трансцендентальной функции, становится креатив-
ным разумом, поскольку сфера его действия уже не ограничивает-
ся сущностями вещей, а включает в себя их существование. Ratio
essendi вещи есть ее ratio cognoscendi. Именно здесь закладывают-
ся метафизические основания будущей новоевропейской науки, по-
лагающей существование предмета в его объективности и опреде-
ляя критерий объективности на основании intuitus mentis, данно-
сти предмета в способе интеллектуального представления. Галиле-
евский закон свободного падения тел не выполняется в естествен-
ном мире, в котором более тяжелое тело всегда падает быстрее,
чем менее тяжелое; он выполняется лишь в представлении особого
идеального пространства — вакуума. В этом смысле закон Галилея
является законом объективного, но не естественного мира21.
Исходя из сказанного, можно резюмировать, что понимание бы-
тия как «однозначно сущего» подразумевает априорную опреде-
ленность сущего как объекта разума. Совершенно справедливым
является и обратное утверждение, а именно, что определенность
сущего как объекта разума подразумевает его однозначную опреде-
206
ленность. Само выражение «однозначно сущее» говорит о том, что
исчезла фундаментальная онтологическая двузначность сущего
как субстантива и как причастия, лежащая в основании различия
субстанциального и трансцендентального уровней сущего. Сущее в
значении причастия — это сущее в его трансцендентном (трансцен-
дентальном — в прежнем схоластическом смысле этого слова) зна-
чении. В своем существовании (existentia) вещь трансцендирует к
esse как к бесконечному источнику существования сущего; актуаль-
ное существование вещи выражается ее причастием к actus essendi.
Поэтому ни одна пещь в ее актуальном существовании не может
быть объята разумом. Фундаментальной аксиомой средневековой
онтологии, разделяемой как Ансельмом, так и Аквинатом, являет-
ся убеждение, что объективное представление в разуме сущности
вещи никоим образом не дает мне ее существования. В качестве
обратной стороны этого тезиса можно выставить следующее утвер-
ждение: постижение человеческим разумом актуального существо-
вания хотя бы одной вещи нашего мира означало бы актуальное
постижение всего мира в целом. Поэтому сущность и существова-
ние совпадают не в человеческом, а в божественном разуме, являю-
щемся в силу этого бесконечным разумом. Это значит, что в каждой
отдельной сущности Бог совершенно отчетливо познает каждую от-
дельную вещь. В отличие от дискурсивного человеческого разума,
вынужденного, по причине своей онтологической конечности, к по-
стоянному движению от известного к неизвестному, божественный
разум представляет собой вселенскую интуицию, которая in actu
вмещает в себя всю полноту мира. Таким образом, конечный харак-
тер человеческого разума предопределен онтологической двузнач-
ностью сущего как сущности (ens ut nomen) и как существования
(ens ut participia). Поскольку же сущее как объект представляет
собой однозначную определенность сущности как существования,
то в понятии «однозначно сущее» впервые преодолеваются онтоло-
гические границы человеческого разума, в полной мере ощутив-
шего безграничность своих возможностей. Средневековый разум
есть, прежде всего, сотворенный разум. Новоевропейский разум —
это разум в квазитеологическом измерении, т. е. разум творящий,
равный, если не по степени, то по сущности, божественному разуму.
Вместе с тем в понятии бытия как «однозначно сущего» создается
прочный операциональный базис новоевропейской метафизики, на-
целенной на поиск таких сущностей, непосредственное интуитивное
207
усмотрение которых являлось бы однозначным свидетельством их
существования.
Таким образом, в понятии «однозначно сущее» содержится
двойная идентификация, самым радикальным образом изменяю-
щая онтологическую структуру сущего. Во-первых, бытие (esse)
сводится к существованию (existentia), которое, вне своего отно-
шения к esse, обращается в «вещь саму по себе», в объект интел-
лектуальной интуиции; во-вторых, отсеченное от бытия существо-
вание уже не является причастием бытию и, следовательно, может
теперь пониматься исключительно в номинальном значении, т. е.
в значении того, что оно есть. Все это вместе взятое приводит к
утверждаемому Скотом онтологическому приоритету «чтойности».
Онтологический смысл понимания бытия как «однозначно суще-
го» выражается в том, что бытие сказывается о сущем однозначно,
или в значении «чтойности», in quid. Поскольку бытие есть первый
объект интеллекта, поскольку объект представляет собой однознач-
ную определенность существования на основании его сущности, по-
скольку, наконец, однозначная определенность сущего выражается
его «чтойностыо», постольку бытие сущего —то, что оно есть —
фиксируется в том, что оно есть.
Однако утверждаемая Скотом абсолютная однозначность суще-
го сразу же встречает несколько возражений, которые сам Скот де-
лает предметом скрупулезного логического анализа. Прежде всего,
«чтойность» вещи не включает в себя ее качественную определен-
ность, относимую топким доктором к числу так называемых по-
следних различий. В этом смысле последние различия есть то, что
различают между собой индивиды, принадлежащие общему виду и
роду. Так, нельзя сказать, что Сократ и Платон различаются меж-
ду собой в плане их «чтойности», поскольку, как справедливо отме-
чает Скот, это заключало бы в себе противоречие. Поэтому Сократ
и Платон различаются между собой предикатами, в которых вы-
ражается их качественная определенность. Такие предикаты, как
«приземистый», «высокий», «большелобый», «белый», «мужествен-
ный» и т. п., невозможно отразить в определении «чтойности» того,
кому эти предикаты принадлежат. Таким образом, чтойная преди-
кация (praedicere in quid) не включает в себя качественную преди-
кацию (praedicerc in quäle).
Решение, которое Скот дает этой проблеме, на первый взгляд
выглядит довольно просто. Всякая предикация есть представление
208
сущего в определенном модусе единства. В таком случае предика-
ция in quäle относится к единству, которое Аристотель определял
как отыменное (паранимное), производное от определенного имени.
«Отыменными, — говорит Аристотель, - называются предметы, ко-
торые получают наименование от чего-то в соответствии с его
именем, отличаясь при этом окончанием слова, как, например, от
"грамматики" -"грамматик1", от "мужества"—"мужественный"»22.
Поскольку любая качественная акциденция представляет собой де-
номинатив, то можно возвести ее к исходному имени, обратив ее тем
самым в «чтойность». Так, «белое» является качественной акциден-
цией вещи, но «белизна», к которой сводимо «белое», представля-
ет собой определенное «что». Таким образом, существует вполне
определенная возможность преобразования предикации in quäle в
предикацию in quid, о которой и говорит Скот: «Итак, если гово-
рить кратко, "сущее" единозначно во всех случаях; но для понятий
небезусловно простых оно есть единозначно высказываемое о них
в смысле "что", а для понятий безусловно простых (т. е. индивидов,
определяемых в свете последних различий. — Р. Л.) оно единознач-
но, однако как определяемое или как могущее быть отыменным,
но не как сказанное о них в смысле "что", ибо это заключало бы в
себе противоречие»23. Вместе с тем Скот имеет в виду здесь нечто
большее, чего никак нельзя отыскать у Аристотеля. В рамках ари-
стотелевской онтологии, как об этом уже говорилось в первой части
нашего исследования, акцидентальные свойства вещи, группируе-
мые по девяти «акцидентальным» категориям, выражают ее экзи-
стенциальный аспект, несводимый к единству сущности как первой,
субстанциальной категории. Отсюда следует, что сущее как сущее
никоим образом не может быть дано только как имя, каковым яв-
ляется сущность. В этом смысле позиция Скота диаметрально про-
тивоположна позиции Аристотеля. Поскольку сущее утратило зна-
чение причастия, то оно и стало тем, что соименно (синонимично)
всему существующему, т. е. чистым именем. Качественная опреде-
ленность сущего как деиоминатива сводится тем самым к сущему
in vi nominis sumptum, как субстантиву. Совершенно вопреки Ари-
стотелю, сама возможность преобразования предикации in quäle в
предикацию in quid вновь утверждает у Скота бытие в значении об-
щего понятия, являющегося первым объектом нашего интеллекта:
«Хотя я и утверждаю, — говорит Скот, — что "сущее" не сказыва-
ется единозначно и в смысле "что" обо всем том, что само по себе
209
умопостигаемо, тем не менее оно все же является первым объектом,
адекватным нашему разуму, ибо или "сущее" сказывается в смыс-
ле "что" обо всем том, что само по себе умопостигаемо, или само
по себе умопостигаемое, о котором оно сказывается в смысле "что",
включается либо сущностно, либо виртуально в то, о чем сущее
сказывается в смысле «что», или (это умопостигаемое) включается
виртуально в сущее; и во всех этих случаях сущее всегда является
первым умопостигаемым и первым объектом»2'1.
Однако остается еще одна, куда более значительная трудность,
с которой предстоит справиться Скоту: за рамками «чтойности»
остаются propriae passiones entis, собственные состояния сущего,
именуемые в средневековой традиции трансценденталиями. Как
уже говорилось, трансценденталиями являются абсолютные опре-
деленности сущего, т. е. такие определенности, в которых сущее да-
но как сущее. Уже Аристотель прекрасно понимал все различие
между речью о свойствах сущего и речью самого сущего, в которой
явлены свойства сущего как такового. Всякая речь о сущем (λέγεται
τι κατά τίνος) есть представление сущего в той или иной катего-
риальной модальности,- полагающее сущность в значении субъекта
как первой категории. В свою очередь, согласно определениям, ко-
торые Аристотель дает в «Категориях», сама речь о сущем различа-
ется соответственно тому, идет ли речь о субъекте (καΌ υποκείμενον),
о том, что находится в субъекте (εν υποκείμενον)25, или же о сущно-
сти (ουσία), которая, по определению, не высказывается ни о каком
субъекте и не находится в субъекте (μήντε καΌ υποκείμενον τίνος
λέγεται μήντε εν υποκείμενω τινί έστιν)26. Соответственно принятой
в схоластике классификации, предикация in quid, или предикация
per modum subsistentis, имеет место только в отношении к сущно-
сти; что же касается остального, то мы имеем здесь дело с пре-
дикацией in quäle, которая, соответственно, различается на преди-
кацию in quale substantiate, когда нечто высказывается о субъекте
(как, например, предикат «разумный», высказываемый о человеке),
и предикацию in quale accidentale, когда мы указываем на качество,
которое находится в самом субъекте (например, «Сократ бледен»)
и является его акцидентальной характеристикой. Вербальные об-
разования, подобные таким, как «разумное», «белое», относимые
Аристотелем к разряду паронимных, встречаются нам именно в
случаях предикации in quale.
Проблема трансценденталий как собственных состояний сущего
210
вообще заключается в том. что они никоим образом не вписыва-
ются в эту аристотелевскую классификацию. Прежде всего, транс-
цендентальная определенность вещи выходит за рамки ее quidditas
(«чтойности»), определяемой на основании вопроса: quid est? Дру-
гими словами, трансценденталии не предицируются per modum es-
sentiae, поскольку, как состояния бытия, они не имеют сущности.
Поэтому представление трансцендентальной определенности вещи
в форме ее «чтойности» неизбежно приводит к тем тяжелым апо-
риям, которые Боэций тщательно разбирает в своих «Гебдомадах».
Однако «собственные состояния сущего» никак не вписываются и в
рубрику предикации in quäle, в форме которой нечто высказывает-
ся либо о субъекте, либо о том, что существует в субъекте. Главная
причина этого в том, что трансценденталии не имеют субъекта. В
этом смысле трансценденталии — это состояния без субъекта, чем
и объясняется такая их особенность, как взаимообратимость. В са-
мом деле предикаты, обозначающие какой-либо субъект, различа-
ются между собой в силу того обстоятельства, что ни один из этих
предикатов не является самим субъектом; именно субъект высту-
пает, таким образом, основанием различия предикатов. Вместе с
тем различие предикатов определяется природой того тождества,
которое воплощает в себе субъект. Но, в отличие от тех свойств, ко-
торые либо сказываются о субъекте, либо существуют в субъекте,
трансценденталии представляют собой «свойства», в которых су-
щее явлено как сущее в его отношении к самому себе и, следователь-
но, как различие. Необходимой предпосылкой отношения сущего к
другому сущему является их различие. Однако отношение сущего
к самому себе предполагает не просто различие, которое можно бы-
ло бы выразить в форме предметной или понятийной дизъюнкции,
а чистое различие, или различие как таковое. Трансцендентальная
определенность, в силу отсутствия субъекта определенности, носит
принципиально непредикативный характер. Но если трансценден-
тальная определенность заведомо исключает всякое полагание су-
щего в значении субъекта, то, следовательно, сущее не может быть
представлено как сущее в качестве объекта со стороны разума. В
этом исходном онтологическом смысле трансценденталиям нет ме-
ста в парадигме «однозначно сущего» как primum obiecto intellec-
tus, и встроить их в эту парадигму Скоту удается не иначе как с
помощью определенной метафизической операции.
В вопросе о статусе трансценденталии Скот применяет тот же
211
ход мысли, который уже был апробирован им в решении вопроса об
онтологии качественных различий. Исходной посылкой рассужде-
ний Скота является то, что вопрос о трансценденталиях рассмат-
ривается им исключительно в рамках различия между praedicere
in quid и praedicere in quale. Поскольку, рассуждает Скот, транс-
ценденталии не предицируемы in quid, то они образуют особенный
случай предикации in quale. Другими словами, трансценденталии —
это метафизические деноминативы, предицируемые in moduni de-
nomiiiantis. Однако, как только что говорилось, всякий дсномина-
тив сказывается либо о субъекте, либо о том, что существует в
субъекте. Отсюда возникает следующий вопрос: к какому субъекту
относятся трансценденталии, понимаемые в качестве деноминати-
вов? Таким субъектом, или, лучше сказать, квази-субъектом, мо-
жет быть только само сущее (ens) в его номинальном значении.
Таким образом, получается, что трансценденталии виртуально со-
держатся в сущем как субъекте и выделяются из этого субъекта при
помощи distinctio formalis a parte rei. При этом само сущее (ens) и
является той вещью (res), в опоре на которую производится фор-
мальное различие. Трансцендентальная определенность становится
формальной определенностью; каждая из трансценденталии обра-
зует formalitas, существующее в самой вещи (ens), но выделяемое из
нее интеллектом в качестве realitas obiectiva. Что же касается само-
го сущего (ens) как субъекта, то но отношению к трансцендентали-
ям оно выступает не иначе как esse obiective, как prima ratio entis.
Таким образом, суть произведенной Скотом метафизической опе-
рации сводится к следующему: сущее (ens), которое в энумерации
Фомы Аквинского выступало одной из трансцендентальных опреде-
ленностей, теперь становится субъектом всякой трансценденталь-
ной определенности. В свою очередь, такая операция становится
возможной и осуществимой только потому, что «сущее» берется ис-
ключительно в значении субстантива. Именно так и образуется та
формула трансценденталии, которая войдет во все руководства по
схоластической «онтологии»: ens est unum, verum, bonum. В даль-
нейшем, во время «второй схоластики», когда введенное Франсис-
ком Суаресом понятие рассудочного различия (distinctio rationis)
вытеснило формальное различие Скота, трансценденталии стано-
вятся чистыми рассудочными понятиями. В таком истолковании
они, через Лейбница и Вольфа, и будут восприняты Кантом, оха-
рактеризовавшим их в качестве «мнимотрансцендентальпых пре-
212
дикатов вещей», поскольку такого рода «понятиям» не находится
места в трансцендентальном схематизме чистых понятий рассудка.
Тем самым Скоту удается утвердить абсолютное первенство об-
щего понятия бытия, в котором, по мысли Скота, сходятся два рода
первенства. «Я утверждаю, — говорит Скот, что первый объект
нашего разума есть сущее, так как в нем сходятся два рода первен-
ства, а именно — первенство общности и первенство виртуальности,
ибо все умопостигаемое само по себе либо включает в себя сущ-
ностно смысл сущего, либо содержится виртуально или сущиостно
в том, что сущностно включает в себя смысл сущего. Ведь все роды
и виды и индивиды, и все сущностные части родов, и сущее несо-
творенное включают в себя сущее чтойно; все же последние отли-
чительные признаки сущностно включаются во что-либо из этого,
а все свойства сущего включаются в сущее и в его нижестоящее
виртуально. Следовательно, то, для чего "сущее" не является еди-
нозначным, высказанным в смысле "что'1, включается в то, чему
"сущее" единозначно в этом смысле»27. Таким образом, абсолют-
ная однозначность сущего основывается на первенстве общности, в
силу которого всякая качественная определенность вещи сводима к
ее «чтойности», и на первенстве виртуальности, согласно которому
всякая трансцендентальная определенность virtualiter содержится
в общем понятии бытия.
Мы должны теперь вернуться к теории трансценденталий Ско-
та, чтобы отметить один, чрезвычайно важный ее аспект. Но, преж-
де всего нам необходимо вновь просмотреть перечень трансценден-
талий в том виде, в каком он дан Фомой Аквинским: сущее (ens), ре-
альность (res), нечто (aliquid), единое (unum), истина (verum), доб-
ро (bonum). Каждая трансцендентальная определенность, данная
в этом перечне, является абсолютной, вследствие чего трансцен-
денталий никак не могут выделяться по отношению друг к другу
каким-то особенным онтологическим статусом. Но поскольку «су-
щее» берется исключительно в номинальном значении и полага-
ется тем самым в качестве субъекта, то по отношению к осталь-
ным трансценденталиям оно уже выступает как первая трансцен-
дентальная определенность. Эта первичность «сущего» по отноше-
нию к другим трансценденталиям закреплена статусом «сущего»
как первого объекта интеллекта. Однако осуществляемая Скотом
ревизия теории трансценденталий не ограничивается только этим:
в том случае, если «сущее» берется исключительно в номинальном
213
значении, оно «поглощает» собой такие трансцендентальные опре-
деленности, как «реальность» и «нечто», которые тем самым по-
просту исчезают в качестве трансценденталий. Начиная уже с XIV
столетия res и aliquid перестают упоминаться в перечне трансцен-
денталий, так что Кант, в значительной мере опиравшийся на схо-
ластическую традицию в интерпретации ее Вольфом, имеет дело с
упрощенной формулировкой трансценденталий — «quodlibet ens est
пиши, verum, boiium», уже воспринимая ее как курьезный пережи-
ток «трансцендентальной философии древних»28.
Однако сам факт исчезновения «реальности» и «нечто» в ка-
честве трансценденталий требует определенного объяснения. В ин-
терпретации Фомы Аквинского, «реальность» (res) как раз и явля-
ется онтологической характеристикой сущего (ens), взятого в его
номинальном значении. Но при этом res никак не может быть сино-
нимом ens, поскольку сущее в значении причастия трансцендирует
к esse. В этом смысле «реальность» означает сугубо формальную
определенность сущего, взятого вне отношения к его собственному
акту существования; «реальность» является онтологическим моду-
сом чистой «чтойности», выражая чистую возможность существо-
вания. Так, мыслимый мной камень есть всего лишь мыслимый, а
не существующий камень; существование камня всего лишь мыс-
лится, но при этом камень не существует в мысли. Другими слова-
ми, в мысли нам дано не существование предмета, а простая воз-
можность его существования. Если мыслимое мной не содержит в
себе противоречия, уничтожающего мысль как таковую, то оно воз-
можно как чувственная данность моего опыта, свидетельствующего
об актуальном существовании предмета моей мысли. Таким обра-
зом, именно бытие (esse) различает мыслимый предмет (объект) и
существование предмета мысли. В этом смысле realitas как сущее,
взятое вне его отношения к esse, и есть не что иное, как possibili-
tas, чистая возможность существования. Поэтому упразднение ens
в значении его причастия к esse означает абсолютную синонимию
ens и res. В свою очередь, ens как синоним res есть aliquid, т. с. нечто
мыслимое. Это «нечто мыслимое», тематизированное Скотом при
помощи изобретенного им самим странного словесного гибрида aliq-
uidditas («нечтойность»), есть объект как таковой (ipsum obiectum).
То, что подразумевается здесь под объектом как таковым, являет-
ся не объектом в смысле предметного содержания представления,
а самим представлением как априорным условием любой объек-
214
тивности. Поскольку же ens в качестве синонима res представляет
собой чистую возможность существования, то отныне все сущее на-
чинает рассматриваться через призму возможного опыта, т. е. через
априорную возможность самого опыта, заключающую в себе транс-
цендентальные предпосылки всякого представления. Таким обра-
зом, мы видим, что в онтологической перспективе, заданной пони-
манием бытия как «однозначно сущего», трансценденталии res и
aliquid становятся онтологически избыточными, поскольку высту-
пают теперь как простые синонимы ens, взятого исключительно в
номинальном значении, как субъекта всякой трансцендентальной
определенности. «Реальность» и «нечто» никак нельзя выделить в
ens ut noinen способом формального различия.
Резюмируя сказанное, еще раз отметим, что ens, как субъект
трансцендентальной определенности, есть ipsum obiectum, объект
сам по себе, как априорное условие всякой объективности. Наша
задача теперь заключается в том, чтобы сделать необходимые онто-
логические экспликации, выявив тот смысл, который содержится в
понятии объекта как такового. Напомним в связи с этим ту фунда-
ментальную аксиому средневековой онтологии, которую Кант все-
го лишь заново воспроизвел в своей знаменитой метафизической
притче о сотне талеров: из того, что нечто нами мыслится, еще не
следует существование мыслимого. В то же время сама эта аксиома
действительна лишь в том случае, если признается бесспорный он-
тологический факт двузначности сущего (ens) как причастия (ех-
istentia) и как субстантива (essentia). Различие существования и
сущности, в силу которого оказывается невозможным растворить
существование вещи в интеллектуальном представлении ее сущно-
сти, выражает собой не частную ограниченность нашего разума,
которую можно было бы преодолеть при помощи надлежащей мето-
дологии, а онтологический факт нашего мира. В основании сущего
находится esse, не имеющее сущности и не сводимое к существова-
нию. Упразднение этой двузначности, сведение «сущего» исключи-
тельно к номинальному значению, неизбежно приводит к тому, что
мыслимость предмета выступает уже не критерием возможности
его существования, как это признавалось представителями «старо-
го пути» в схоластике, а критерием самого существования. В этом
случае само esse может пониматься только как esse obiective, т. е.
как верификация существования в качестве мыслимого объекта.
Таким образом, в понятии объекта как такового заложена двой-
215
ная онтологическая редукция: бытия (esse) — к существованию (ех-
istentia), а существования — к объективности представления. Тем
самым схоластическое понятие объекта в том виде, в каком оно
сформировалось в рамках понимания бытия как «однозначно су-
щего», является ничем иным, как препозицией декартовского cog-
ito ergo sum. Сама возможность cogito в качестве метафизического
тезиса обусловлена произведенной Скотом и другими представите-
лями «нового пути» ревизией основных предпосылок средневековой
онтологии.
Данная идентификация бытия и существования открывает до-
ступ в особый интеллигибельный мир, населенный онтологически-
ми тождествами, которые схоластика будет в дальнейшем имено-
вать ens reale и которые составят специфический объект метафизи-
ки. Понятие объекта как такового задает принципиально новую по-
зицию, в которой высказывание может быть истинно исключитель-
но в силу своего объективного содержания, независимо от суще-
ствования или несуществования тех предметов, о которых оно вы-
сказывается. Такое понимание истины высказывания находится в
резком противоречии о позицией классической схоластики, соглас-
но которой истина состоит в отношении высказывания к существо-
ванию вещи. При этом сама истинность высказывания раскрывает-
ся в неустранимости его экзистенциального содержания, высказы-
вание «Сократ есть человек» не может быть понято исключительно
в номинальном смысле именно потому, что человек не есть Сократ.
Таким образом, радикальным препятствием онтологическому но-
минализму выступает сама неоднозначность того «есть», которое
соединяет субъект и предикат. Именно вследствие неоднозначно-
сти «есть» истина не может быть высказана в суждении, которое
имеет только номинальный статус. Но если неоднозначность «есть»
нейтрализована и снята в понимании бытия как «однозначно суще-
го», то высказывание «Сократ есть человек» описывает всего лишь
объективную реальность входящих в него терминов. Термин есть
сама вещь, так как она существует в сознании, т.е. вещь как объ-
ективная реальность, или, скажет впоследствии Суарес, как reali-
tas obiectalis. Терминизм новоевропейской логики, освободившейся,
наконец, от экзистенциальной привязки к вещным субстанциям ма-
териального мира, самым интимным образом связан с появлением
сознания как новой позиции по отношению к миру. Таким обра-
зом, в перспективе понимания бытия как «однозначно сущего» само
216
«есть», как невербальный экзистенциальный корень высказывания,
становится оператором тождества терминов высказывания; други-
ми словами, само «есть» выступает теперь в качестве реального
предиката. Отсюда следует, что любое экзистенциальное высказы-
вание можно обратить в высказывание номинальное. Как впослед-
ствии будет рассуждать Суарес, экзистенциальное высказывание
«Адам есть» (Adam est) является в действительности номиналь-
ным высказыванием «Адам есть сущее» (Adam est ens). Однако
эта обратимость экзистенциального высказывания, заключающего
в себе простое полагание бытия сущего в номинальное, свидетель-
ствует лишь о том, что само бытие однозначно истолковано здесь
как ens в номинальном значении и обращено в реальный предикат
сущего. Всю кантовскую критику метафизики чистого разума мож-
но поэтому без остатка резюмировать в собственном тезисе Канта:
бытие не есть реальный предикат.
У самого Скота эта тенденция номинального понимания истины
особенно заметна в его различении предикации на praedicatio exerei-
ta и praedicatio signata, с постоянным и настойчивым подчеркива-
нием предпочтительности второго типа предикации по отношению
к первому. Все дело в том, что praedicatio exercita, примером ко-
торой и служит высказывание «Сократ есть человек», содержит в
себе «есть» с его неустранимой онтологической амбивалентностью.
Но можно устранить само это «есть», если представить это выска-
зывание в форме praedicatio signata, т. е. в чистой знаковой форме.
В этом случае высказывание «Сократ есть человек» приобретает
следующую форму: «понятие "человек" само но себе предицирует-
ся Сократу». Таким образом, praedicatio signata заключается в том,
что предикат «человек» подставляется вместо субъекта, превра-
тившись тем самым из означающего в означаемое, следствием чего
оказывается устранение «есть», как источника онтологической дву-
смысленности. Это устранение «есть», подкрепляемое Скотом при
помощи ложной этимологии, истолковывающей praedicari в значе-
нии «быть сказанным прежде», предельно обнажает сущность со-
вершенной им метафизической революции: понятие, как предикат
вещи, становится самим субъектом, так что реальным предикатом
этого нового субъекта оказывается теперь бытие той самой вещи,
которую это понятие замещает.
Именно здесь мы подходим к кульминации учения Скота о бы-
тии как «однозначно сущем». Но, прежде всего, нам необходимо
217
поставить вопрос о природе этого нового субъекта в предельно ши-
роком метафизическом смысле: что такое субъект, предикатом ко-
торого является само бытие? Таким субъектом, ответим мы, может
быть только само бытие как субъект. Мы можем обосновать данное
положение при помощи следующего негативного тезиса: онтологи-
ческая предикация в строгом смысле невозможна ни той причине,
что в этом случае предикатом являлся бы сам субъект. Например, в
высказывании «я (есть) добрый» предикат выступает в качестве де-
номинативной определенности субъекта, указывая на определенное
качество, существующее в субъекте, при этом, однако, предикат не
является самим субъектом. Но в высказывании «я есть благо», где
в функции предиката выступает онтологическая (трансценденталь-
ная) определенность, сам предикат является субъектом - благом.
Субъект и предикат образуют здесь не тождество, примером кото-
рого служат априорно-аналитические положения логики и матема-
тики, а отношение взаимоотсыла, «снимающее» субъект и преди-
кат в высшем единстве бытия как такового: субъект есть предикат,
предикат есть субъект. Это высшее единство, в чистом виде явлен-
ное в возвещении имени Божьего Моисею «Аз еемь Сущий» (Ego
sum qui sum), есть единство в значении аристотелевской ενεργεία,
в котором являющее есть само явление. Поскольку это единство
превосходит всякую категориальную определенность, то, по словам
Аристотеля, оно не может быть родом. Вместе с тем род единства,
не являющийся родом, заключает в себе актуальную бесконечность.
Доктрина бытия как «однозначно сущего» знаменует собой ту
эпохальную веху в истории европейской метафизики, когда само
бытие впервые становится субъектом метафизики. Но поскольку
этот субъект метафизики не может выражаться в «старых» транс-
цендентальных определенностях, с которыми имела дело прежняя
схоластика, то задача его адекватного выражения требует от Скота
введения особых дизъюнктивных модальностей, безусловным он-
тологическим приоритетом среди которых обладает только дизъ-
юнкция infmitum — finitum. Эта дизъюнкция и полагается Скотом
в качестве prima divisio entis, первого и основного подразделения
бытия. Таким образом, этот новый, небывалый прежде, субъект
(поскольку в классическом понимании бытие не может быть субъ-
ектом) есть не что иное, как «бесконечное сущее», —ens innnituin,
в понятии которого доктрина «однозначно сущего» достигает сво-
ей кульминации и празднует свой наивысший триумф. Поскольку
218
бытие κέικ предикат есть свой же собственный субъект, то в поня-
тии «бесконечное сущее» бесконечность является не предикативной
определенностью «сущего», а самим сущим как субъектом, о чем со
всей определенностью говорит сам Скот: «Так что, когда я говорю
"бесконечное сущее", я имею (в виду) не понятие, (образованное)
как бы через привходящее из субъекта и (его) свойства, но понятие
самого по себе субьекта в определенной степени совершенства, а
именно—-в степени бесконечности»29.
Таким образом, «бесконечное сущее» есть само сущее как беско-
нечность. Здесь впервые в истории европейской метафизики беско-
нечность становится позитивной определенностью сущего, или, вы-
ражаясь другими словами, она становится самой сущностью самого
сущего. В своей «Сумме теологии» Фома Аквинский различает два
рода бесконечности: позитивную бесконечность (бесконечность по
сущности) и бесконечность только по величине. Подлинно беско-
нечен только Бог, в то время как мир обладает всего лишь при-
вативной бесконечностью, выражающейся в возможности мыслить
мир как бесконечный по своей величине. Мир обладает только воз-
можной, исключительно мыслимой бесконечностью: существование
мира не может быть дано в актуальной бесконечности. Подлинная
бесконечность существует только в Боге и определяется только че-
рез Бога, в отношении к которому мир определен в его онтологиче-
ской конечности. Поэтому и требуется введение аналогии сущего,
при помощи которой только и можно отразить отношение конеч-
ного мира к бесконечности Бога. Только бесконечность Бога есть
действительная бесконечность. Тем самым в понятии актуальной
бесконечности заключена непреодолимая граница, отделяющая бо-
жественный мир от мира тварного и предмет теологии — от пред-
мета метафизики. Любое вторжение метафизики в область теоло-
гии, при котором само бытие (ipsum esse) неизбежно полагается
в качестве субъекта, разум сталкивает с парадоксами актуальной
бесконечности. Постижение бесконечности ограничено поэтому те-
ми онтологическими пределами, в которые заключен человеческий
разум: конечное не может быть мерой бесконечного, что выража-
ется известным средневековым постулатом: «finiti et infiniti nulla
proportio». Таким образом, понятие ens infinitum, в котором беско-
нечность полагается как позитивная определенность сущего, озна-
чает колоссальной важности онтологическую метаморфозу: само
бесконечное является отныне мерой (ratio) конечного. В этом по-
219
нятии Скот впсрвыо взламывает онтологическую границу боже-
ственного и тварного мира, прямым следствием чего оказывается
возможность мыслить существование мира в его актуальной бес-
конечности. Вместе с тем analogia entis окончательно попадает в
разряд бесполезных и ненужных инструментариев схоластической
мысли.
Таким образом, в рамках понимания бытия как «однозначно
сущего» впервые преодолевается аристотелевский онтологический
запрет на понимание бытия как рода, любая попытка преодоления
которого вовлекает мысль в парадокс актуальной бесконечности.
Этим закладывается метафизический базис новоевропейской нау-
ки, которая, в отличие от греческой επιστήμη и от средневековой
scientia, представляет собой не что иное, как операции с бесконечно-
стью. Именно актуальная бесконечность становится трансцендент-
ным условием единства законов природы, сформулированных в на-
уке от Галилея до Эйнштейна. Сама теоретическая физика имеет
смысл как наука только при наличии той предпосылки, что суще-
ствование мира каким-то образом (т. е. способом, который никак не
тематизируется и не может быть тематизирован наукой) дано нам в
актуальной бесконечности самого мира. В этом смысле происходит
узурпация наукой права выступать с позиции онтологии, которую
Кант разоблачает своим открытием космологических антиномий
чистого разума.
ПРИМЕЧАНИЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Предисловие
1 «То, что тождество не первично, что оно существует как принцип,
но принцип вторичный, ставший; то, что оно кружит вокруг Различно-
го, — вот сущность коперниковской революции, которая открывает раз-
личию возможность обретения собственного понятия, вместо удержива-
ния его иод властью понятия вообще, уже представленного как тожде-
ство» (Делез Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. С. 60).
2 Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии / Пер. Л. Г. Чер-
пякова. СПб.: Изд-во Высшей философско-религиозной школы. 2001.
С. 132.
Глава I
1 Гиппий больший // Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1993.
2 Там же. С. 324.
3 Софист, 231.
4 Парменид, 13d.
5 Там же.
G Там же.
7 Там же, 133е.
8 Там же, 135Ь.
9 Аристотель. Категории 1 // Аристотель. Сочинения. М., 1978. Т. 2.
10 Парменид, 135Ь.
11 Там же, 135е.
12 Там же, 133.
13 Софист, 244Ь.
14 Пармепид, 129с.
15 Там же, 139е.
16 Там же.
17 Софист, 254d.
18 Там же, 255е.
221
19 Там же, 254е.
20 Там же, 243Ь.
21 Там же, 257.
22 Там же, 259.
23 Парменид, 139е.
24 Аристотель. Метафизика, Z, 16, 1040b 34 // Аристотель. Соч.:
В 4 т. М., 1975.
25 См.: Ницше Ф. Рождение трагедии // Соч.: В 2 т. М., 1989.
26 Лейбниц Г. В. Соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1982. С. 213.
Глава II
1 Аристотель. Метафизика, Г, 1, 20.
2 Там же, А, 2, 983а 10.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же, В, 1, 996а 5.
7 Там же, В, 3, 998Ь 25.
8 Там же, В, 3, 998Ь 5.
9 Там же.
10 Там же, 997а.
11 Там же, Z, 1, 1028b 5.
12 Там же, Н, 6.
13 Там же, Z, 16, 1042b 20.
14 Там же, Z, 13, 1035b 10.
15 Там же, Z, 12, 1037b 25.
16 Там же, Z, 13, 1038b 10.
17 Там же, В, 4, 999а 25.
18 Там же.
19 Там же.
20 Там же, В, 6, 1003а 15.
Глава III
1 Метафизика, Г, 2, 1003b 25.
2 Там же, I, 3, 1054b 25.
3 Там же, Z, 16, 1042b 20.
4 Там же, А, 9, 992Ь 10.
5 Категории, I.
6 Там же.
7 Аристотель. Софистические опровержения, 4, 166а 14-10 // Ари-
стотель. Соч. Т. 2. М., 1978.
222
8 Метафизика, Г, 2, 1003b.
9 Там же, Z, 17, 1041b 30.
10 В самом слове «состояние» явственно различимо греческое
στάσις — стояние.
11 Метафизика, А, 6, 987Ь 5.
12 Там же, В, 3, 998Ь 5.
13 Там же, Л, 1071а 20.
Глава IV
1 Категории, 5, 35, 10.
2 Там же.
3 Там же, 5, 20.
4 Метафизика, Е, 4, 1027b 30.
5 Там же, Е, 4, 1027b 25.
6 Там же, Г, 2, ЮОЗЬ 20.
7 Там же.
8 Там же, Е, 1.
9 Там же.
10 Там же, Е, 1, 1025b 5.
11 Вторая аналитика, 7, 9Ь 10.
12 Метафизика, Г, 2, ЮОЗЬ 25.
13 Там же, Z, 17, 1041b 10-20.
14 Там же.
15 Там же.
16 Там же, Л, 4, 10070b 5.
17 Там же, Z, 17, 1041а 10-15.
18 Там же.
19 Там же.
20 Там же, Z, 4, 1029b 15.
21 Там же, Z, 4, 1029b 20.
22 Там же, Г, 2, 1004b.
23 В трагедии Гёте «Фауст» Мефистофель сравнивает логику с ткац-
ким станком:
«Так фабрикуют мысли. С этим можно
Сравнить хоть ткацкий, например, станок.
В нем управленье нитью сложно:
То вниз, то вверх снует челнок,
Незримо нити в ткань сольются;
Один толчок — сто петель вьются».
(Фауст. Часть 1. Сцена 4-
Пер. Н. Холодковского)
223
24 Это логическое понимание идеи Гегель выразил с присущим ему
богатством рефлексивных оборотов: «Идея как единство субъективной
и объективной идеи есть понятие "идея" для которого идея как таковая
есть предмет, объемлющий собой все определения. Это единство есть,
следовательно, абсолютная и полная истина, мыслящая самое себя идея,
и именно мыслящая себя в качестве мыслящей, логической идеи» (Ге-
гель. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М., 1975.
С. 419).
25 Метафизика, Δ, 1016b 30-35.
20 Там же, Δ, 7, 1017а 25.
27 Там же.
28 Там же.
29 Там же.
30 Там же, Е, 2, 1026а 35.
31 Там же, Θ, 10, 1051а 55.
Глава V
1 Метафизика, Θ, 1, 1045b 30-35.
2 Там же, Z, 6, 1031b 20.
3 Там же, 1032а 5.
4 Там же, Θ, 3, 1046b 30.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же, 1047а 15 20.
8 Там же.
9 Там же, 30.
10 Там же; 4, 1047b 5.
11 Тамже^б, 1048а 30-35.
12 Там же, 1048b 20 30.
13 Там же.
14 Там же.
15 Там же.
16 Там же.
17 Там же, 7, 1049а.
18 Там же, 2, 1046b 5.
19 Там же, 5, 1048а 5«10.
20 Там же.
21 Там же, 7, 1049а 15.
22 Там же, А, 6, 987Ь 10.
23 Там же, Θ, 8, 1039b 5.
24 Там же.
224
25 Там же, 15-20.
26 Там же, 20.
27 Там же, 8, 1050а 5-15.
28 Там же, 20.
29 Там же, 1051а.
30 Там же, М, 10, 1086b 15.
31 Там же, 1087а 10-25.
32 Там же, Л, 6, 1071b 20.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава I
1 Аристотель. Метафизика, Z, 1, 1028b 5.
2 Там же, Г, 2, 1003а 35.
3 Там же, Г, 2, 1003а 25.
4 Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М., 1990.
С. 162.
5 Там же. С. 163.
(i Там же.
7 Там же. С. 162.
8 Там же.
9 Там же. С. 164.
10 Там же.
Глава II
1 Апселъм. Кентперберийский. Сочинения. М., 1995. С. 128.
2 Там же.
3 Там же. С. 129.
4 Там же. С. 158.
5 Там же.
6"Там же. С. 149.
7 Там же.
8 Там же. С. 150.
Ч Τ»
Там же.
10 Там же. С. 151.
11 Там же. С. 159.
12 Там же. С. 160.
13 Там же. С. 162.
225
14 В этом смысле в знаменитой «Философии символических форм»
Э. Кассирера можно встретить рассуждения по многим интересным и
глубоким вопросам, за исключением одного: в ней ничего не говорится о
символе.
Глава III
1 Jean-Francois Courtine. Suarez et le Systeme de la nietaphysique. Paris:
PUF, 1990. P. 229.
2 Аристотель. Метафизика, Г, 2, 1004b 15.
3 Там же, Г, 2, 20.
4 Фома Аквипский. Сумма против язычников. М., 2000, Кн. I. С. 141.
5 Там же.
с Там же.
7 Там же.
8 В этой связи можно привести одну из важнейших теорем теории
трансфинитных множеств Георга Кантора: «Конечное множество не мо-
жет быть эквивалентно своей части; во всяком бесконечном множестве
есть правильные части, эквивалентные ему».
9 «Утверждение, что бытие есть не сущность вещи, а реальность,
определяемая началами сущности, является утверждением и отрицанием
одной и той же вещи, поскольку то, что определяется началами сущно-
сти, есть не что иное, как сама определяемая этими началами вещь» (цит.
по: Catherine Konig-Pralong. Avenement de l'aristotelisme en teire chreti-
enne. Paris: Vrin, 2005. P. 46).
10 «Следовательно, вещь и сущность не являются реально различны-
ми согласно акту и потенции; они различны (поскольку рассматривают-
ся) в модусе акта и потенции» (Ibid. P. 47).
11 «Необходимо следует утверждать следующее: когда мы говорим
"человек есть", то субстанциальное бытие предицируется человеку та-
ким же образом, как и в высказывании "человек есть человек". Отсюда
следует заключить (concedere); либо бытие принадлежит сущности вещи,
либо человек случайно является человеком» (Ibid. P. 48).
12 «Мы называем здесь интенцией то, в чем действительно усматри-
вается простота некоей сущности; интенция по природе предназначена к
тому, чтобы быть схваченной отдельно от какой-либо другой интенции,
в которой усматривается та же самая простота, от которой она не от-
личается в абсолютной реальности. Таким же образом интенцией может
быть названо "движение к..."» (Ibid. P. 85).
13 «Прокл, который более моего соперника продвинулся в изучении
способов причастия, творит во второй пропозиции своей книги, что все
причастное единому едино и не едино. Он доказывает это следующим
226
образом: если, говорит он, нечто причастно единому, оно есть нечто дру-
гое, существующее отдельно от единого; будучи же причастно единому,
оно становится единым. Таким же образом, если нечто причастно бытию,
то оно есть нечто другое, чем бытие, по, будучи причастно бытию, оно
существует» (Ibid. P. 72).
Глава IV
1 Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 90.
2 Там же. С. 102.
3 Фома Аквииский. Учение о душе. СПб., 2004. С. 377.
4 Кант И. Критика способности суждения. Ч. 2, §77.
5 Аристотель. Сочинения. Т. 2. М., 1978. С. 93.
6 Там же.
7 Фома Аквинский. Указ. соч. С. 395.
8 Цит. по: Gerard Sondag. Duns Scot. Paris: Vrin, 2005. P. 37.
9 Иоанн Дуне Скот. Избранное. М., 2001. С. 377.
10 Фома Аквинский. Указ. соч. С. 395.
11 Там же. С. 396.
12 Иоанн Дуне Скот. С. 377.
13 Там же. С. 373.
14 Там же. С. 375.
15 Там же.
16 Там же. С. 393.
17 Там же. С. 385.
18 Там же. С. 397.
19 Там же. С. 399.
20 Gerard Sondag. Op. cit. P. 71.
21 Джамбатиста Риччиоли, современник Галилея, много раз повто-
рив эксперимент по свободному падению тел, установил, что тяжелое
тело падает быстрее легкого, хотя соотношение скоростей и отличает-
ся от того, которое установил Аристотель (см.: Ахутин А. В. История
принципов физического эксперимента. М., 1976. С. 232).
22 Аристотель. С. 53.
23 Иоанн Дуне Скот. С. 395.
24 Там же. С. 393.
25 Аристотель. Категории 2, 20-25.
26 Там же. Категории 5, 10-15.
27 Иоанн Дуне Скот. С. 391.
28 Кант И. С. 90.
29 Иоанн Дун.с Скот. С. 417.
источники
1. Alfcri P. Guillom d'Occam. Le sungulier. Paris: Minuit, 1989.
2. Alquite F. La decouverte metaphysique de l'homme chez Descartes.
Paris: PUF, 1991.
3. Aubenque P. Le probleme de l'etre chez Aristote. Paris: PUF, 1960.
4. Beruhe С. La connaissance de l'individuel au moyen age. Paris: PUF,
1904.
5. Biard J. Guillome d'Occam. Logique et philosophie. Paris: PUF, 1997.
6. Bonitz H. Aristotelis Metaphysica, commentarius. Bonn, 1948.
7. Boulnois O. Etre et representation. Une geneologie de la metaphysique
moderne a l'epoque de Duns Scot. Paris: PUF, 1999.
8. Brague R. Aistote et la question du inonde. Essais sur le context cos-
mologique et antropologique de l'ontologie. Paris: PUF, 1982.
9. Brown St. Avicenna and the Unity of the Concept of Being. The In-
terpretation of Henry of Ghent, Duns Scotus, Gerard of Bologna and Peter
Aureoli // Franciscan Studies, 25.
10. Brentano F. Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach
Aristoteles. Fribourg-en-Brisgau, 1862.
11. Broadie A. Notion and Object. Aspects of later Medieval Epistemol-
ogy. Oxford, 1989.
12. Burti E. A. The metaphysical foundation of modern physical science.
New York, 1925.
13. Caroti S., Souffiin P. La nouvelle physique du XIV siecle. Florence:
Olschki, 1997.
14. Chenue M. D. La theologie comme science au XIII siecle. Paris, 1957
15. Courtine J.-F. Heidegger et la phenomenologie. Paris: Vrin, 1990.
16. Courtine J.-F. Suarez et la Systeme de la metaphysique. Paris: Vrin,
1990.
17. Courtine J.-F. L'invention de l'analogie. Aristote et les commenta-
teurs grecs. Paris: Vrin, 1991.
18. Courtine J.-F. Les categories de l'etre. Paris: Vrin, 1991.
19. Couturat L. La logique de Leibniz. Paris, 1991.
20. Cross R. Duns Scotus. Oxford: Oxford University Press, 1999.
21. Daibiez. Les sourses scolastiques de la theorie cartesienne de Tetre
objectif // Revue d'histoire de la philosophie. 1929.
228
22. Davies В. The Thought of Thomas Aquinas. Oxford: Clarendon Press,
1992.
23. Decorie V. L'objet de la metaphysique selon Aristote. Montreal; Paris,
1961.
24. Deleuze G. Proust et les signes. Paris, 1970.
25. Dtrrida J. L'ecriture et la difference. Paris: Edition du Seuil, 1979.
26. Fabro C. Participation et causalite selon saint Thomas. Paris; Lou-
vain, 1961.
27. Faucon P. Aspects neo-platoniciens de la doctrine de S. Thomas. Lou-
vain; Paris, 1961.
28. Fe-derici Vescovini G. Le probleme des transcendentaux du XIV au
XVII siecle. Paris: Vrin, 2002.
29. Gilson EL Jean Duns Scot. Introduction a ses positions fondamen-
tales. Paris, 1952.
30. Gilson E. Etudes sur le role de la pensee medievale dans la formation
du Systeme cartesienne. Paris, 1930.
31. Gilson E. L' esprit de la philosophic medievale. Paris, 1948.
32. Gilson E. Le thomisme. Paris, 1965.
33. Gilson E. L'etre et l'essense. Paris, 1962.
34. Granger G. G. La theorie aristotelicienne de la science. Paris, 1976.
35. Harder Y.-J. Histoire et Metaphysique. Paris: Les Editions de la
Transparence, 2006.
36. Heidegger M. Aristoteles, Metaphysik Θ 1-3. Von Wesen und
Wirklichkeit der Kraft. Gesamtausgabe 35, 2. Aufl. Frankfurt am Main:
V. Klostermann, 1990.
37. Kaluza Z. Et Vignaux P. Preuves et raisons a Piniversite de Paris.
Logique, ontologie et theologie au XIV siecle. Paris: Vrin, 1984.
38. Konig-Pralong K. Avenement de l'aristotelisme en terre chretienne.
Paris: Vrin, 2005.
39. Krempel A. La doctrine de la relation chez Saint Thomas. Paris: Vrin,
1952.
40. Largeault J. Enquete sur le nominalisme. Louvain, 1971,
41. Lcvinas E. Totalite et infini. Essais sur Textcriorite. La Haye: Nijhoff,
1961.
42. Levinas E. Entre nous. Essais sur le penser-а-Гаиtre. Paris: Grasset,
1991.
43. Libera A. La quereile des universaux. Paris: Seuil, 1996.
44. Littkens N. The analogy between God and the World. Uppsala, 1952.
45. Mansion S. Le jugement d'existence chez Aristote. Paris; Louvain,
1946.
46. Marc A. L'idee de l'etre chez saint Thomas et dans la scolastique
posterieuie. Paris, 1933.
229
47. Marion J.-L. Sur l'ontologie grise de Descartes. Paris, 1975.
48. Marion J.-L. Sur la theologie blanche de Descartes. Paris, 1981.
49. Marion J.-L. Sur le prisme metaphysique de Descartes. Paris, 1986.
50. Martin J.-C. Lame du nionde. Disponibilite d'Aristote. Paris, 1998.
51. Merleau-Ponty M. Phenomenologie de la perception. Paris: Galli-
mard, 1993.
52. Mclnerny Ralf Μ. The logic qf analogy. An interpretation of
St. Thomas. The Hague Martinus NijhoiT, 1961.
53. Montagnes B. La docrtine de l'analogie de Γ etre d'apres Saint Thomas
d'Aquin. Lovain; Paris, 1963.
54. Nancy J.-L. L'oubli de la philosophic. Paris: Galilee, 1986.
55. Nancy J.-L. Etre singulier pluriel. Paris: Galilee, 1996.
56. Owen G. E. L. Logic, science and dialectic, collected papers in Greek
Philosophy. New York: Ithaca, 1986.
57. Owens J. The doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics.
Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies, 1951.
58. Panaccio C. Les mots, les concepts et les choses. La sernantique de
Guillome d'Occam et le nominalisme d'aujourd'hui. Paris; Montreal: Vrin-
Bellarrnin, 1991.
59. Panaccio C. Le discours, de Piaton a Guillome d'Occam. Paris: Seuil,
1999.
60. Penido T. L. Le role de l'analogie en Theologie dogmatique. Paris,
1931.
61. Ricoeur P. Etre, essence et substance chez Piaton et Aristote. Paris:
Societe d'edition d'ensegnement superieur, 1982.
62. Sondag G. Duns Scot. Paris: Vrin, 2005.
63. Vignaux P. Nominalisme au XIV siecle. Paris; Montreal, 1948.
64. AxymuH А. В. История принципов физического эксперимента. М.,
1976.
65. Ахутин А. В. Понятие «природа» в античности и в Новое время.
М., 1988.
66. Ахутин А. В. Поворотные времена. СПб.: Наука, 2005.
67. Барт К. Послание к Римлянам. М.: ВБИ, 2005.
68. Васильева Т. В. Путь к Платону. Любовь к мудрости, или Муд-
рость как любовь. М.: Логос, 1999.
69. Визгип В. П. Генезис и структура квалитативизма Аристотеля.
М.: Наука, 1982.
70. Гайденко В. П., Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в сред-
ние века. Мм 1989.
71. Дслез Ж. Логика смысла. М.: Academia, 1995.
72. Делез Ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис, 1998.
73. Жильсон Э. Избранное: христианская философия. М., 2004.
230
74. Койре А. Очерки истории философской мысли. М., 1985.
75. Левииас Э. Время и другой. СПб.: Высшая философско-
религиозная школа, 1998.
76. Майоров Г. Г. Теоретическая философия Гагфрида Лейбница. М.:
Изд-во МГУ, 1973.
77. Мамардашвгши М. К. Классический и пеклассический идеалы ра-
циональности. М.: Лабиринт, 1994.
78. Мамардаывили М. Лекции по античной философии. М.: Аграф,
1997.
79. Мамардашвил.п М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. М.:
Школа «Языки русской культуры», 1997.
80. Молчанов В. И. Предпосылки тождества и аналитика различий //
Логос. 1999. №11/12.
81. Погоняйло А. Г. Философия заводной игрушки. СПб., 1998.
82. Свасьян К. А. Становление европейской науки. М.: Evidentis,
2002.
83. Светлов Р. В. Гнозис и экзегетика. СПб.: РХГИ, 1998.
84. Сергеев К. Α., Слинин Я. А. Диалектика категориальных форм.
Космос Аристотеля и наука Нового времени. Л.: Изд-во ЛГУ, 1987.
85. Сергеев К. Α., Слинин Я. А. Природа и разум: античная парадиг-
ма. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.
86. Сергеев К. А. Репессансные основания антропоцентризма. СПб.:
Изд-во СПбГУ, 1993.
87. Философия природы в античности и средние века. М., Прогресс,
2000.
88. Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. М.: Изд-во ACT,
2003.
89. Фуко М. Theatrum philosophicum. M., 1988.
90. Хайдеггер Μ. О существе понятия φύσις. Аристотель «Физика»
р-1. М.: Медиум, 1995.
91. Хайдеггер М. Положение об основании. СПб., 1999.
92. Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии / Пер.
А. Г. Чернякова. СПб.: Высшая философско-религиозная школа, 2001.
93. Черняков А. Г. Онтология времени. СПб.: Высшая философско-
религиозная школа, 2001.
94. Шмоиин Д. В. Фокус метафизики. Порядок бытия и опыт позна-
ния в философии Франсиско Суареса. СПб., 2002.
95. Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб.: Азбука-
классика, 2004.
231
Предисловие.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава I. Платоновское понимание бытия как Иного 7
Глава II. Тезис Аристотеля «бытие не является родом» как предвари-
тельное условие вопроса о бытии сущего 26
Глава III. Коллизия синонимии и омонимии сущего. Сущее как λέγεται
πολλαχώς 40
Глава IV. Категориальное деление сущего и вопрос о единстве катего-
риальной структуры 57
Глава V. Сущее в возможности и сущее в действительности. Онто-
логический смысл общего как τό τι ην είναι. Бытие сущего как
ενεργεία 83
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава I. Средневековое понимание бытия как горизонт различия сущ-
ности и существования 111
Греческая онтология и средневековая проблема различия сущности
и существования —
Различение Боэцием трансцендентального и субстанциального уров-
ня сущего 122
Глава II. Трансцендентальная структура онтологического аргумента
Ансельма Кентерберийского и его теологические экспликации. ;.. 130
Глава III. Аристотелевско-томистский тезис «бытие fie есть род»
и проблема различия сущности и существования в схоластике
XIII века 160
Глава IV. Понятие «однозначно сущее» как основание трансценденталь-
ной метафизики 182
Примечания 221
Источники 228
Научное издание
Лошаков Руслан Анатольевич
Различие и тождество
в греческой и средневековой онтологии
Обложка художника Е. И. Егоровой
Корректоры Н. В. Ермолаева, Г. А. Стсрлипа
Верстка И. М. Беловой
Подписано в печать 29.01.2007. Формат 60x84 Vie-
By мага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 13,72. Заказ № /Jfö~
Издательство СПбГУ. 199004, С.-Петербург, В.О., 6-я линия, 11/21
Тел. (812) 328-96-17; факс (812) 328-44-22
E-mail: editor@unipress.ru
www.unipress.ru
По вопросам реализации обращаться по адресу:
С.-Петербург, В. О., 6-я линия, д. 11/21, к. 21
Телефоны: 328-77-63, 325-31-76
E-mail: post<Ö>unipress.ru
Типография Издательства СПбГУ.
199061, С.-Петербург, Средний пр., 41
Широкий выбор научной, образовательной, справочной
литературы в объединенной книготорговой сети
«Книги университетских издательств»
в Санкт-Петербурге:
Книготорговая сеть Издательства СП6ГУ
Магазин № 1 «Vita Nova»:
Университетская наб., 7/9
Тел. 328-96-91;
E-mail: vitanova@itl3850.spb.edu
Филиал № 2:
Петродворец, Университетский пр., 28
Тел. 428-45-91
Филиал № 3:
В. О., 1-я линия, 26
Тел. 328-80-40
Филиал № 5:
Петродворец, Ульяновская ул., 1
(физический факультет)
Филиал № 6 «АКМЭ»:
В.О., Менделеевская линия, дом. 5
(здание исторического и философского факультетов)
Филиал № 7:
В. О., наб. Макарова, 6
(факультет психологии)
Филиал № 8:
Университетская наб., 11
(в холле филологического факультета)
Книжный магазин «Александрийская библиотека»
Наб. р. Фонтанки, 15 (здание РХГА)
Издательство С.-Петербургского университета
предлагает учебники, учебные пособия, научную
и научно-популярную литературу по
историЫу
экономике,
психологии,
философии,
филологии,
языкознанию,
естественным и точным наукам
студентам, преподавателям, научным сотрудникам, а также
учителям, школьникам — всем, кому интересен мир книги.
Книги можно приобрести в магазинах Издательства,
а также через отдел реализации:
199034, С.-Петербург, 6-я линия В. О., д. 11/21, к. 21
Телефоны: 328-77-63, 325-31-76
E-mail: post@unipress.ru
«Книга-почтой»
Наша служба «Книга—почтой» предлагает широкий ассортимент научной и
учебной литературы по всем университетским дисциплинам. Вы можете
заказать как вышедшую, так и готовящуюся к изданию литературу более чем
100 издательств Москвы и Санкт-Петербурга. Информацию о новинках этих
издательств можно найти в газете «Книжное обозрение» (подписной индекс:
50051). Мы работаем с частными лицами и организациями.
Условия оплаты — в зависимости от региона и выбора клиента.
• СНГ, дальнее и ближнее зарубежье — только предоплата
(отправка книг заказной корреспонденцией).
• Россия — наложенный платеж или предоплата по выбору
клиента.
В соответствии с заказом мы комплектуем ценные бандероли весом до 2 кг. В
сумму оценки входит примерно 30% от стоимости заказанных книг на
почтовые расходы. Отправка книг осуществляется в течение месяца после
получения заказа.
E-mail: post@unipress.ru
Подробнее — на нашем сайте
www.unipress.ru