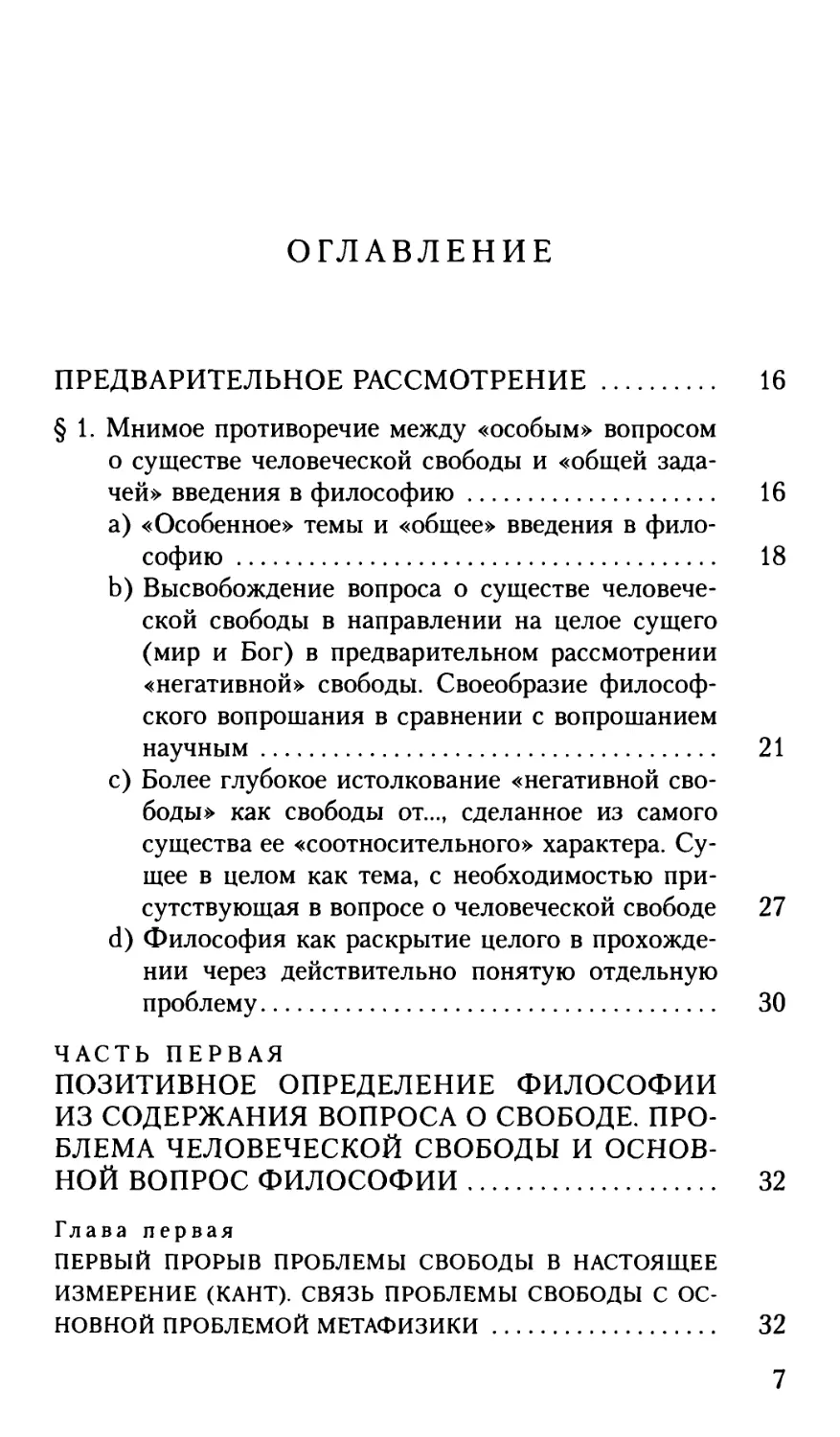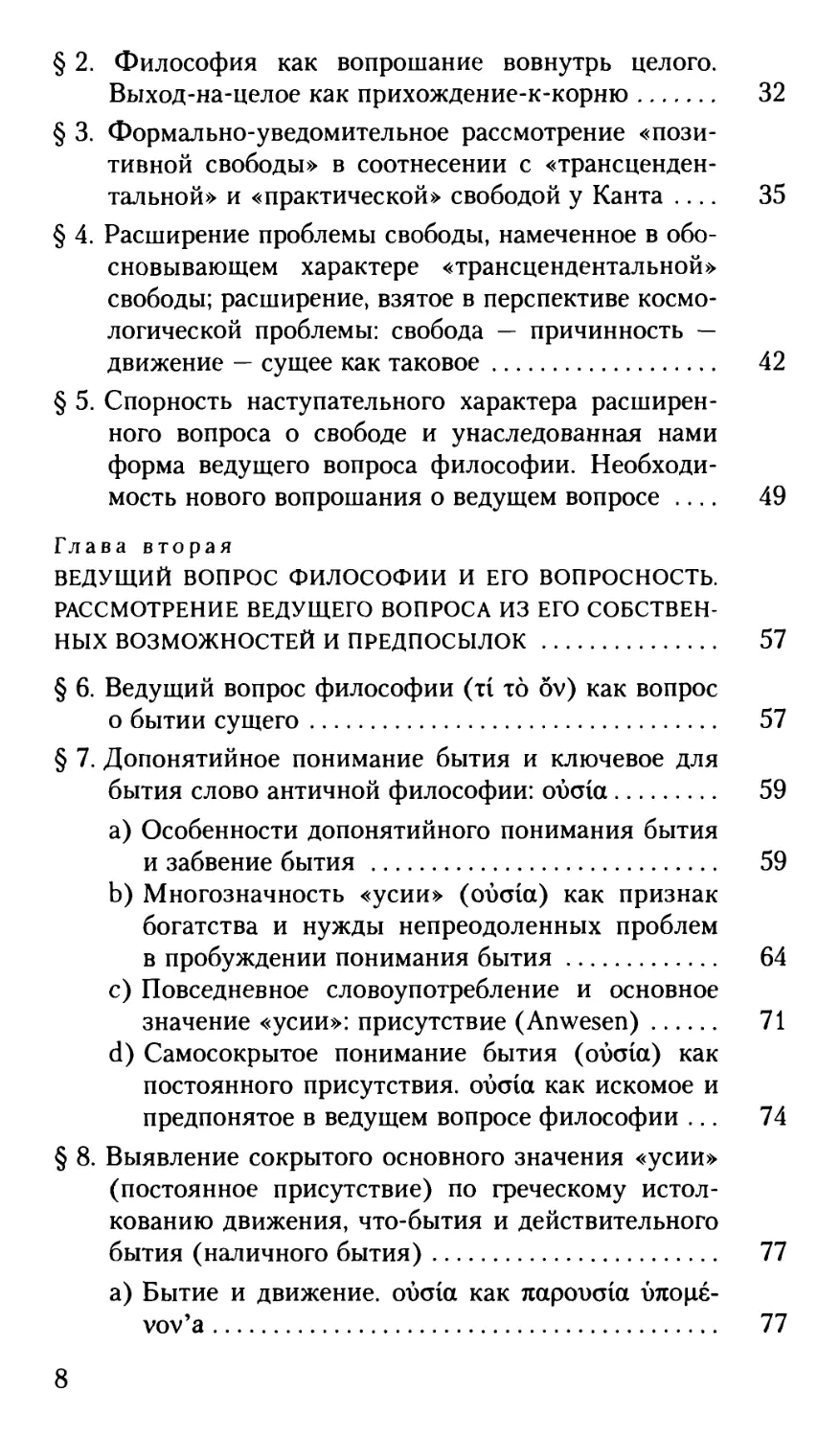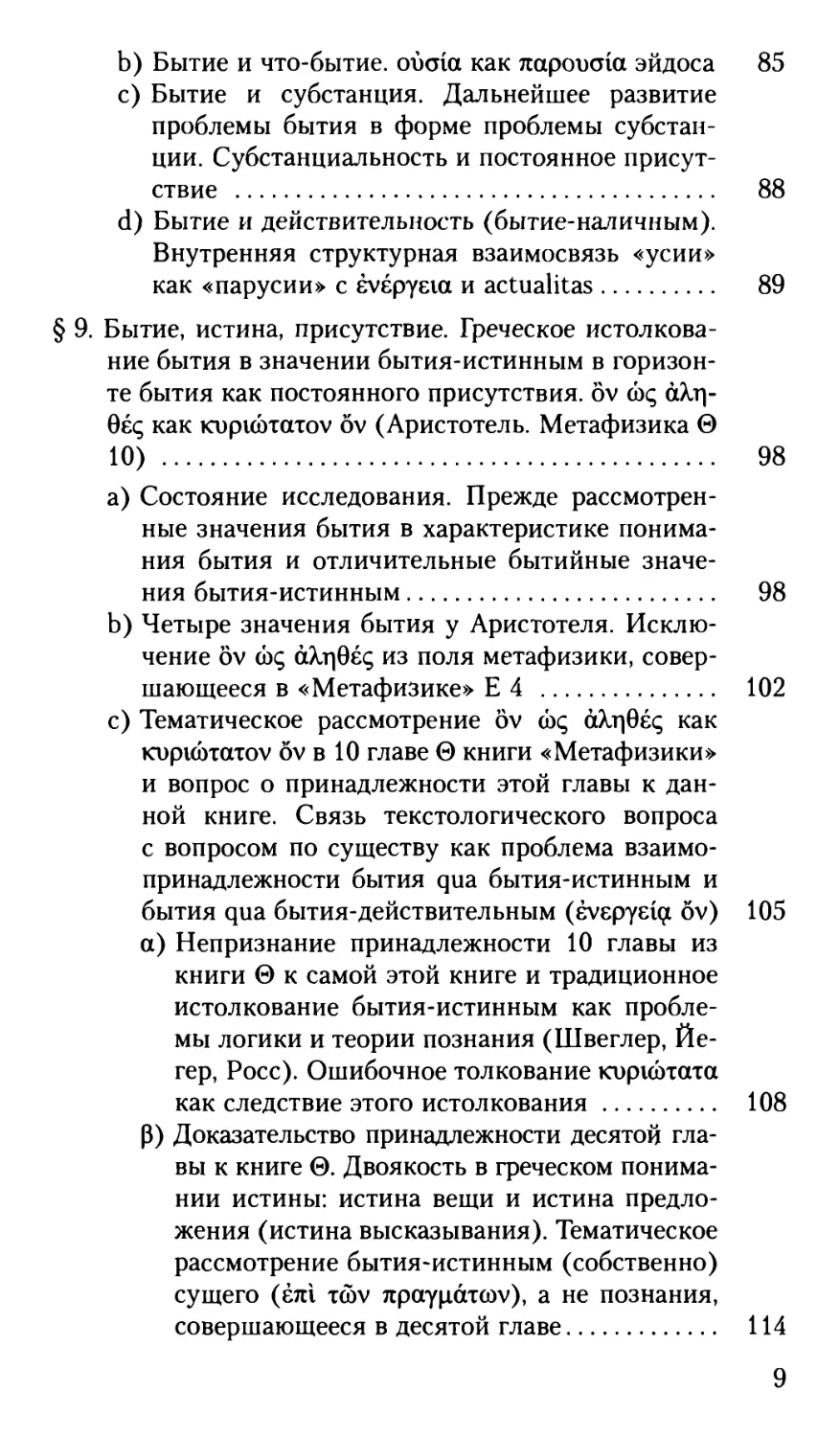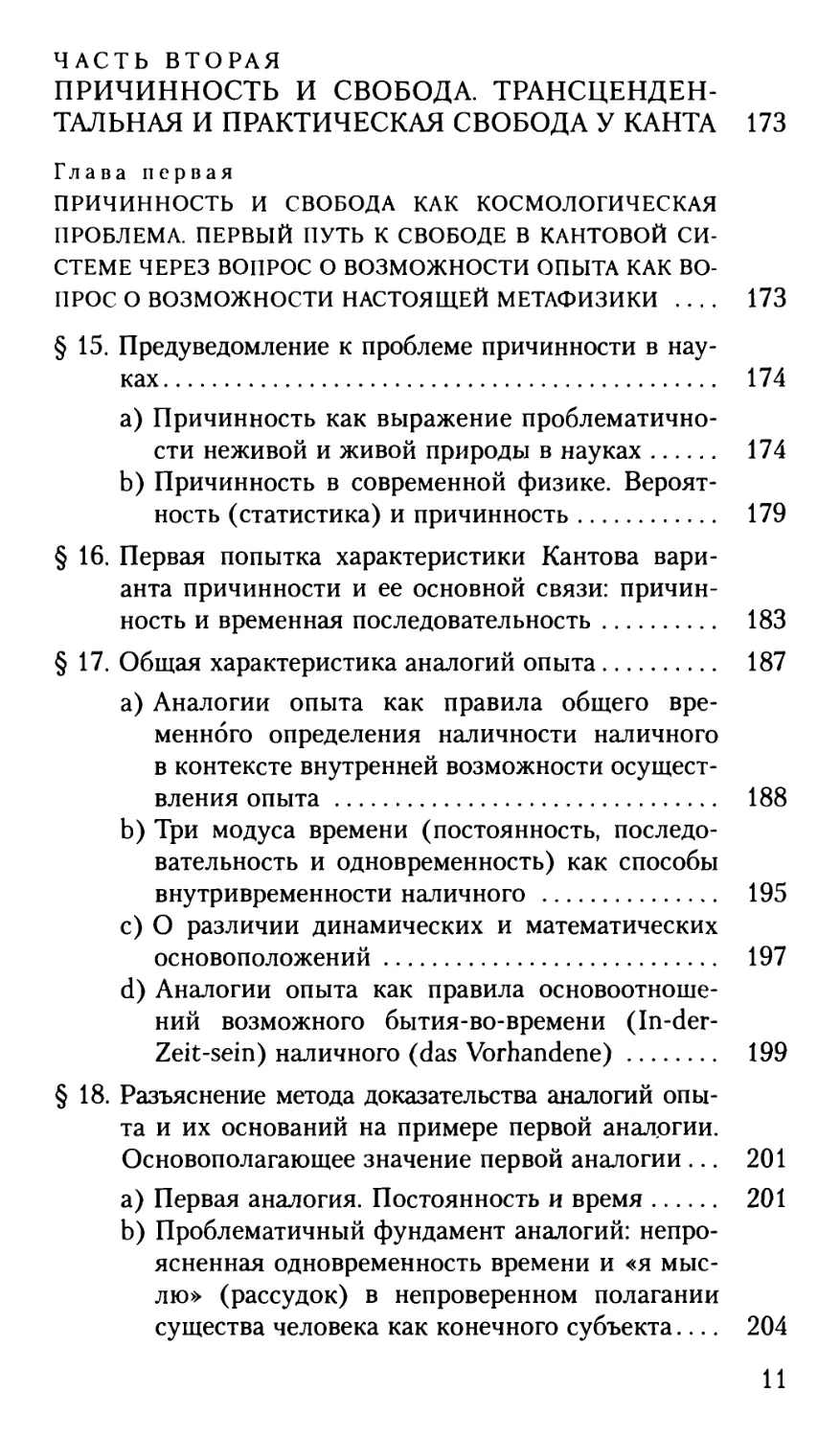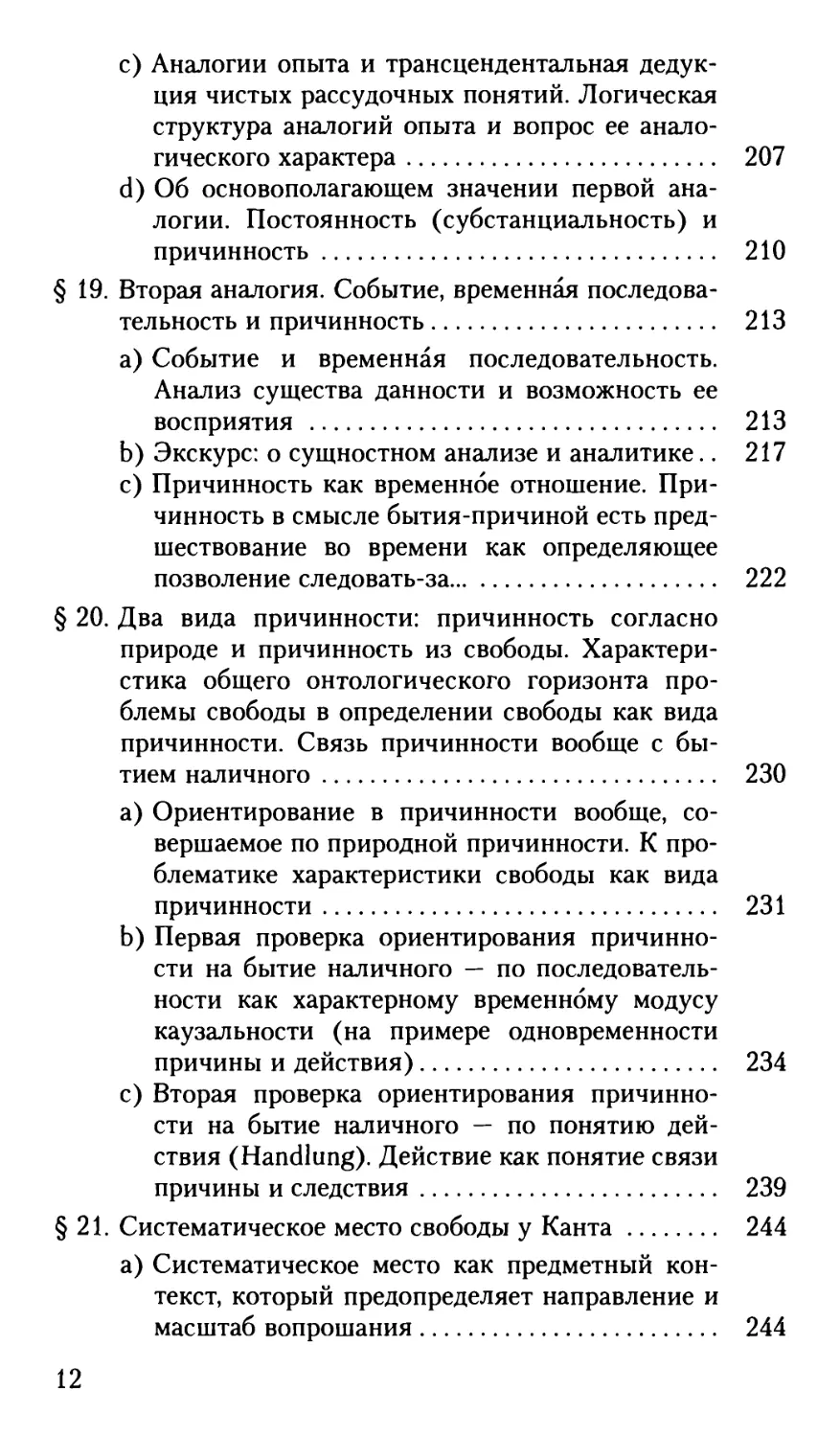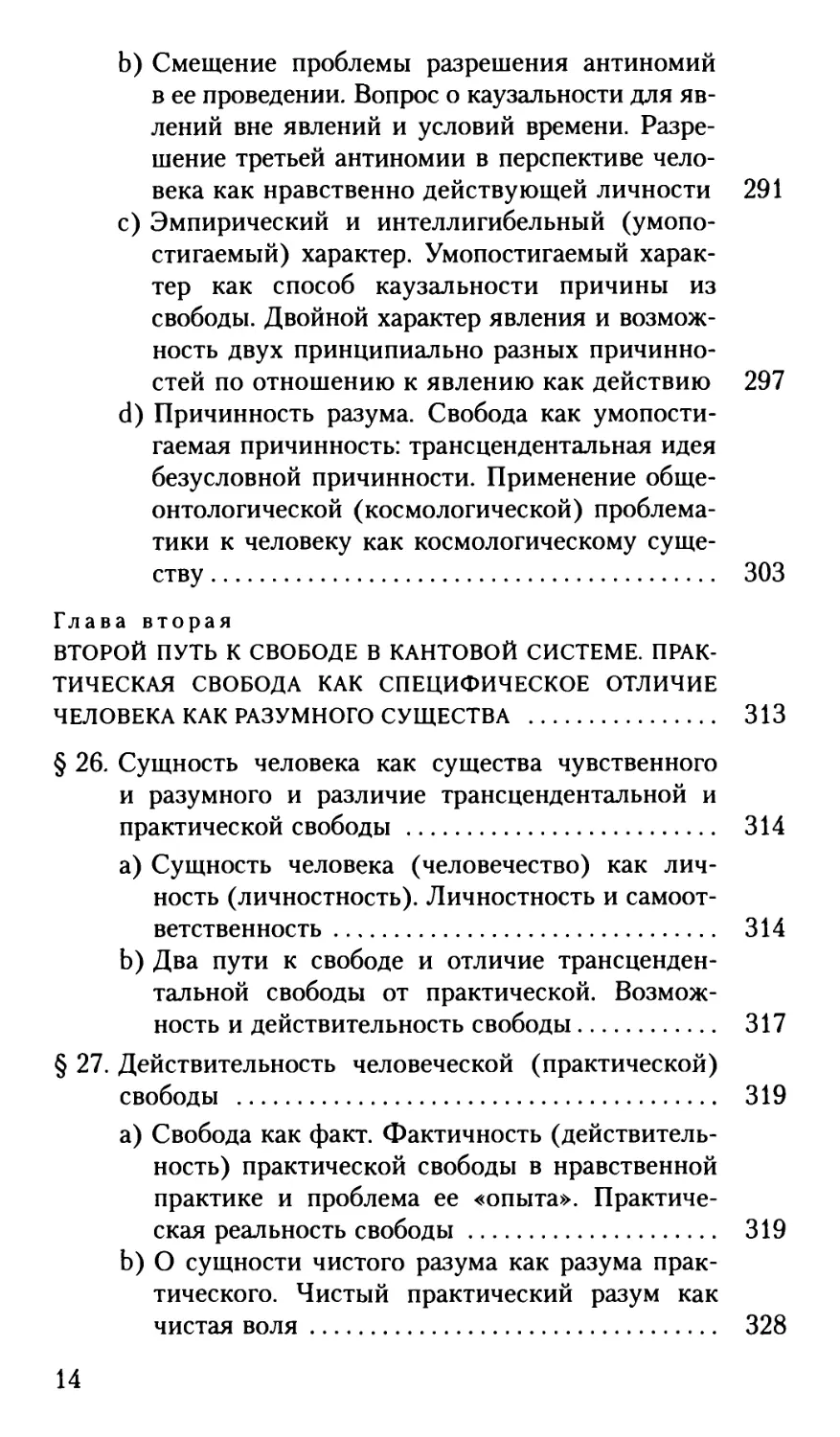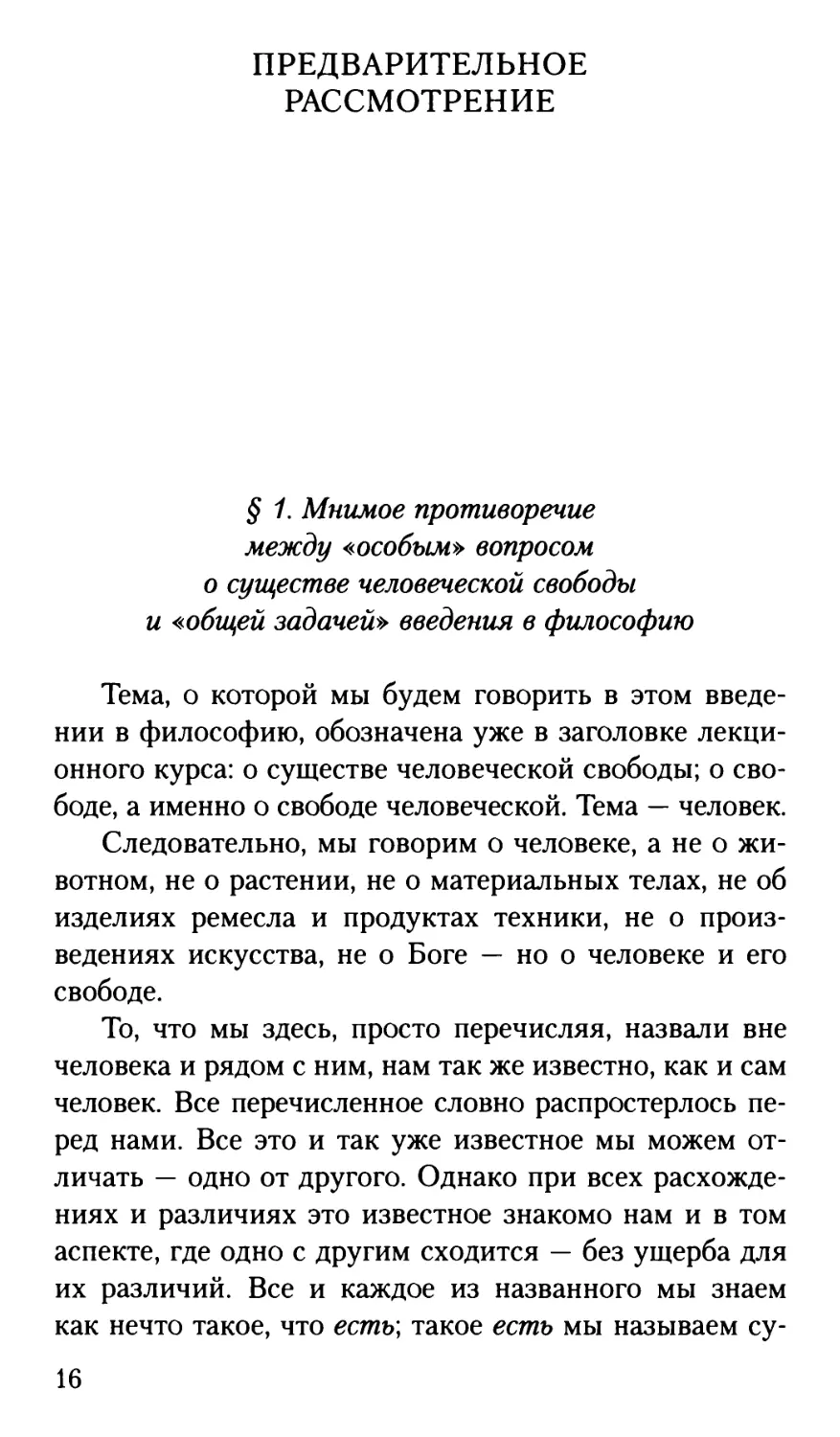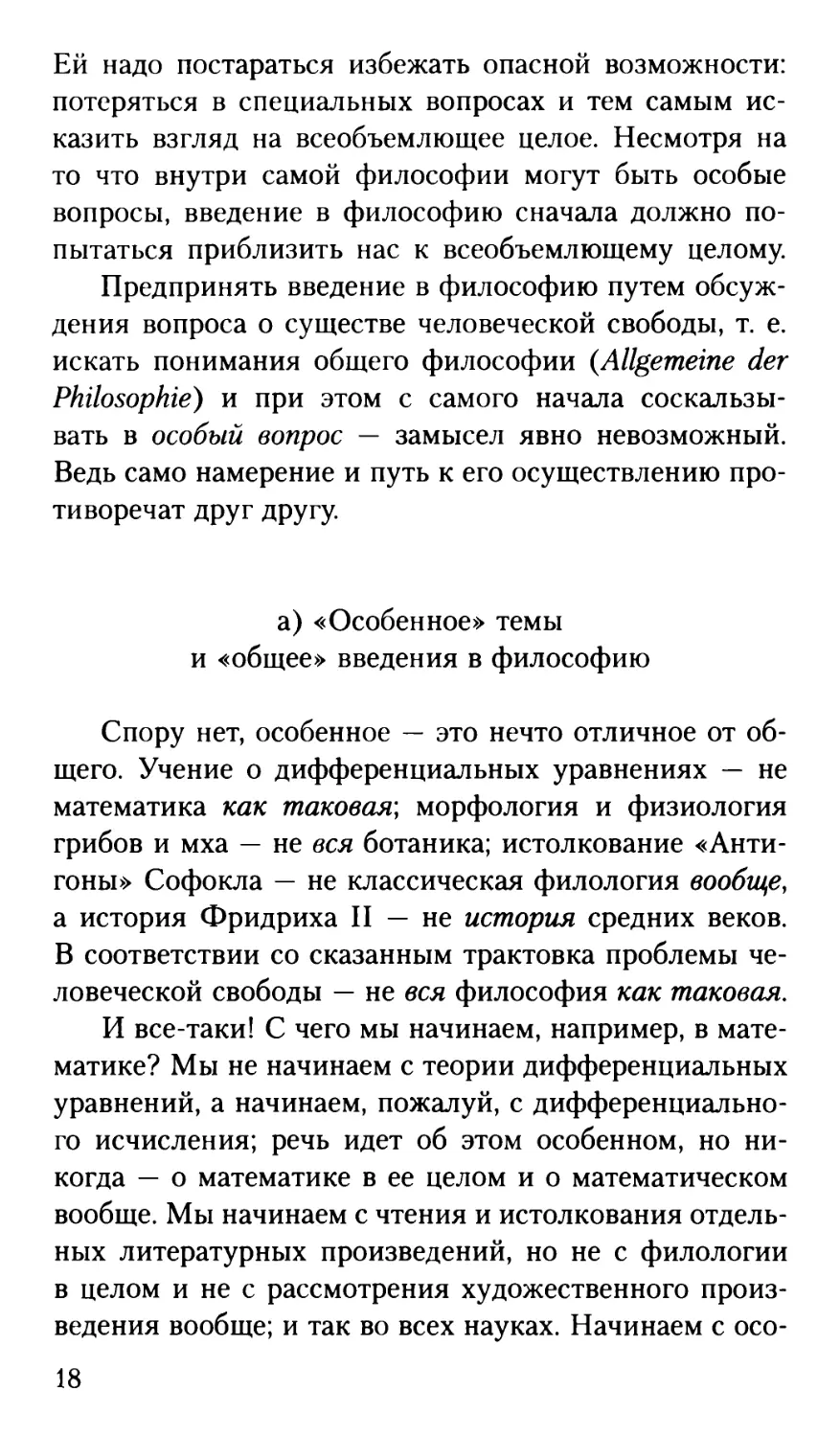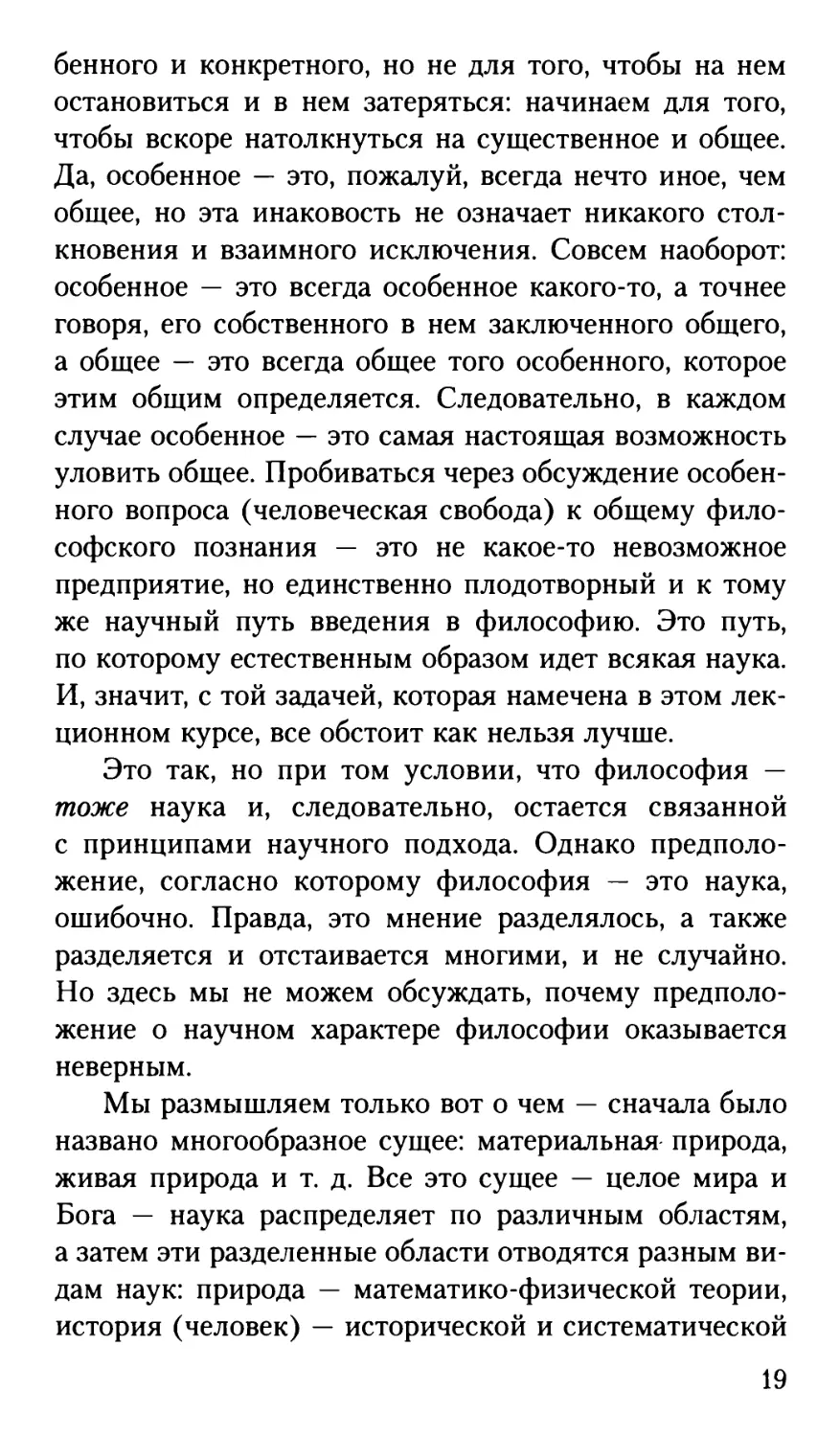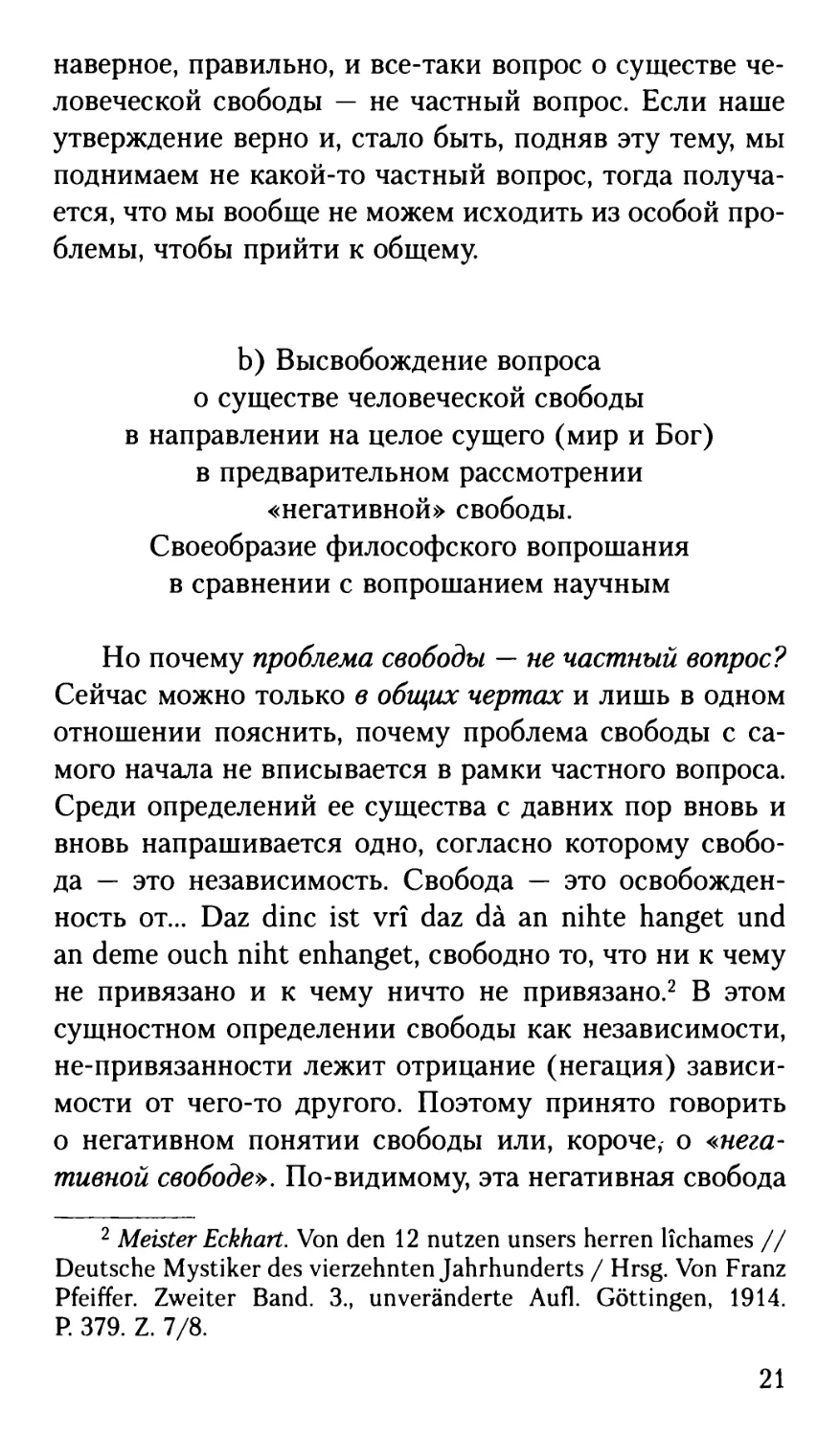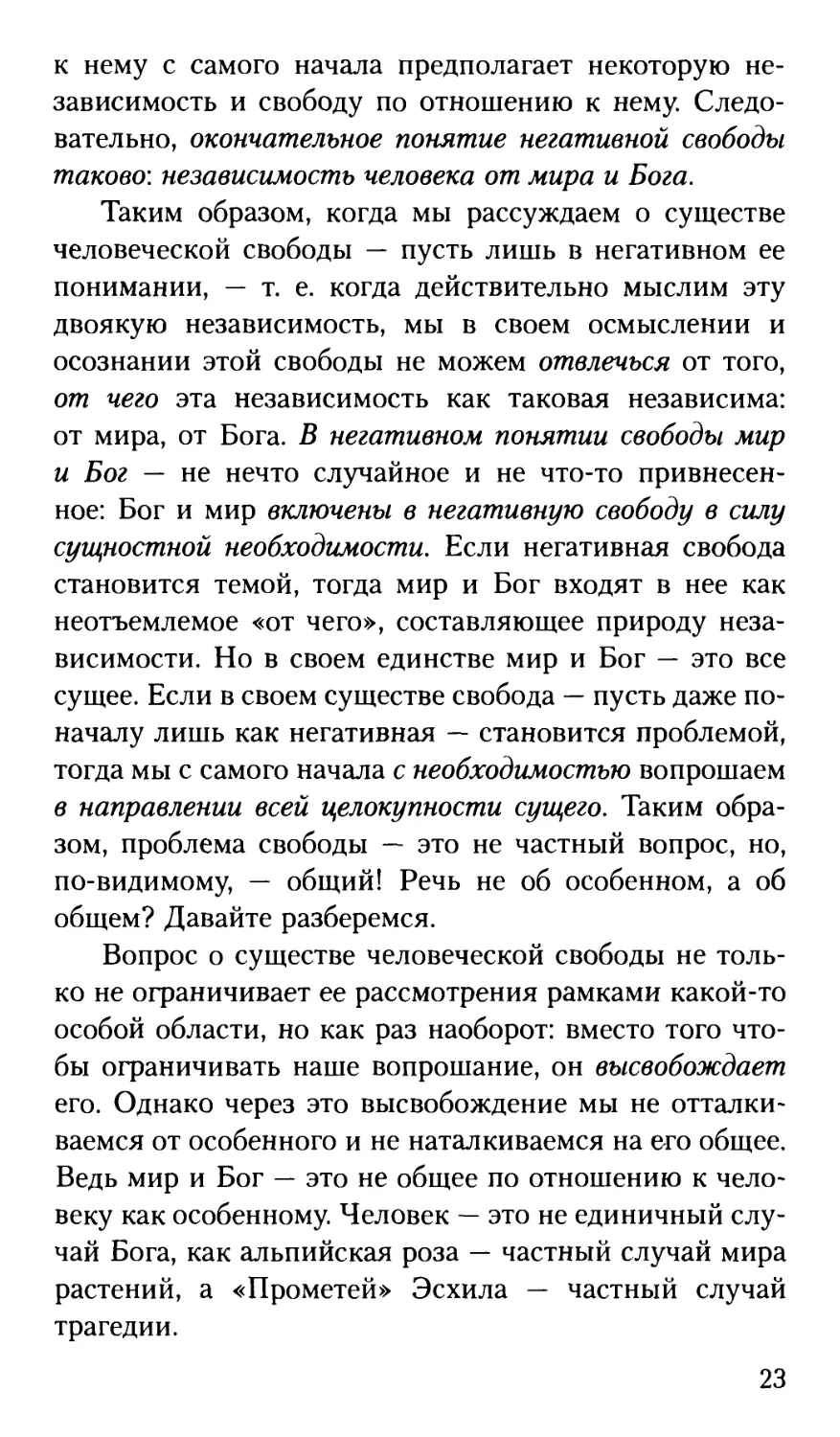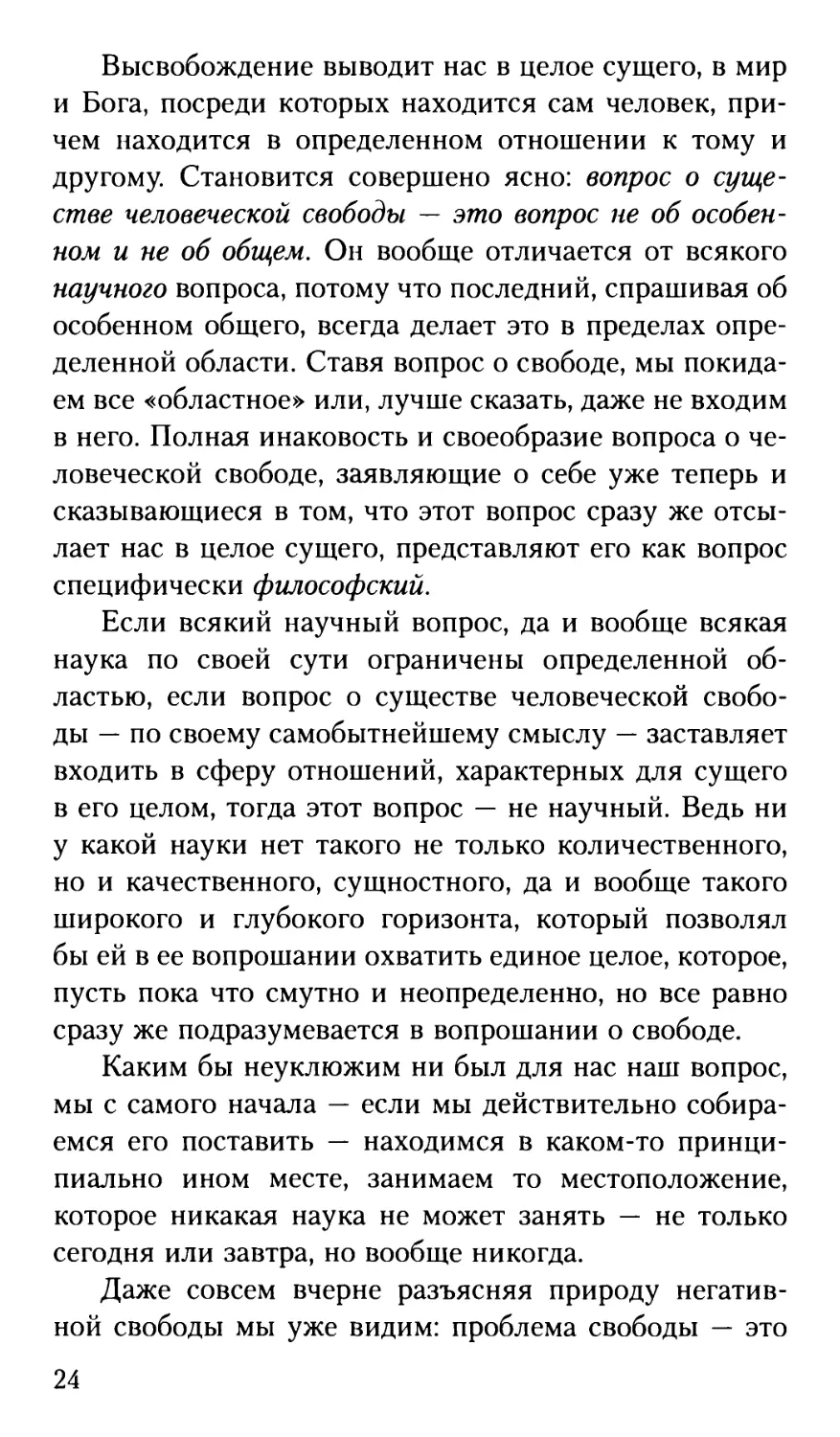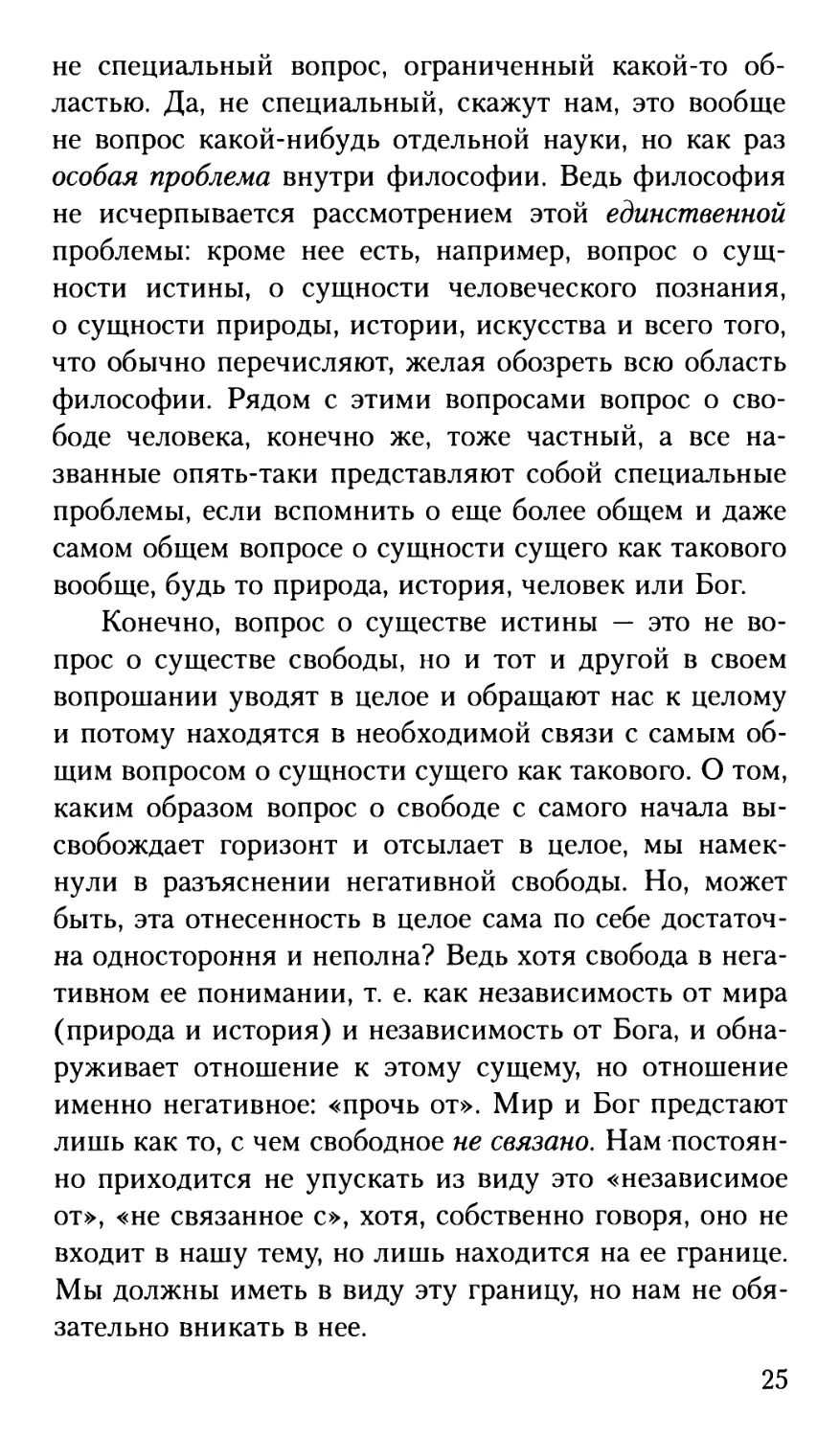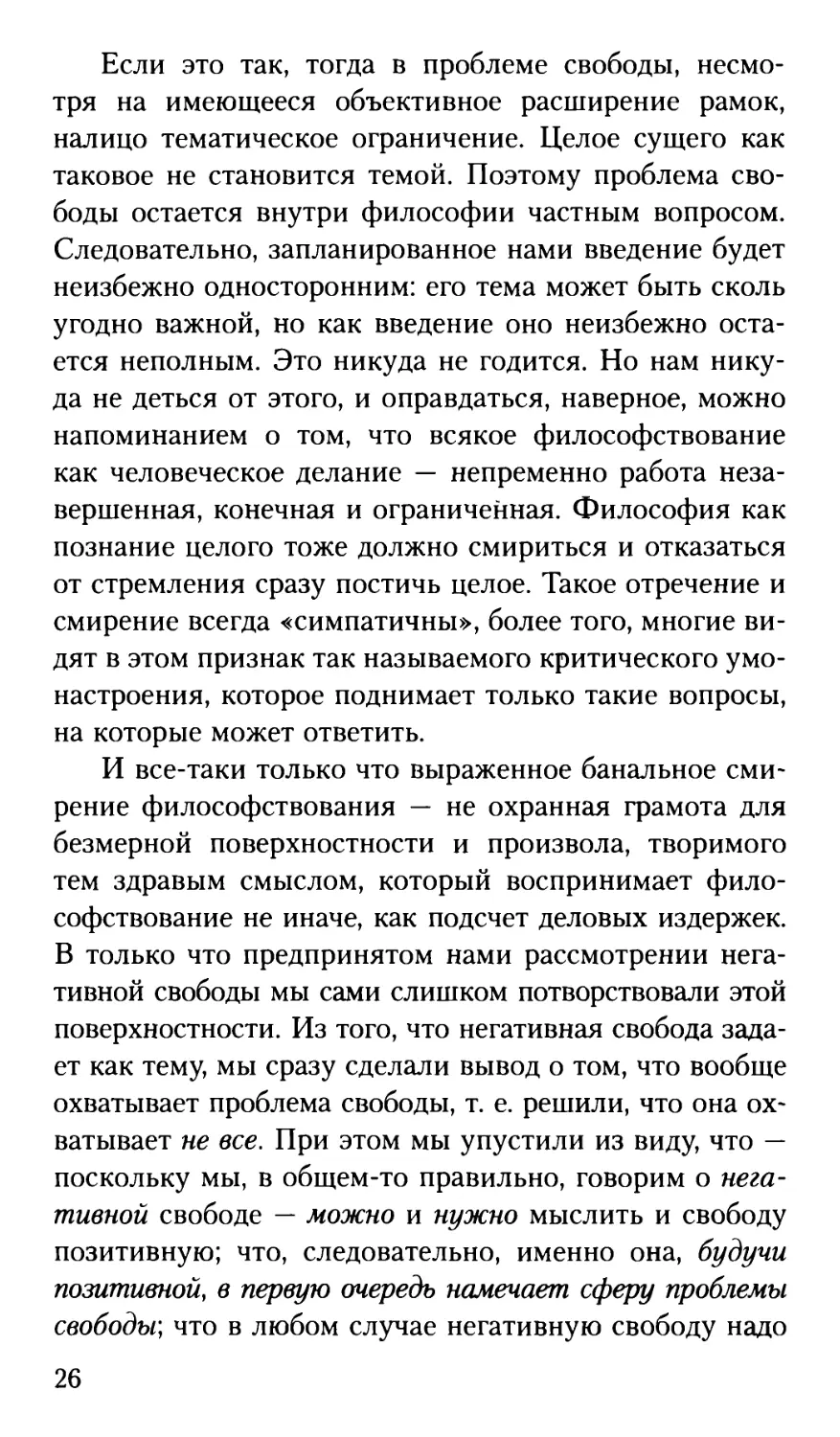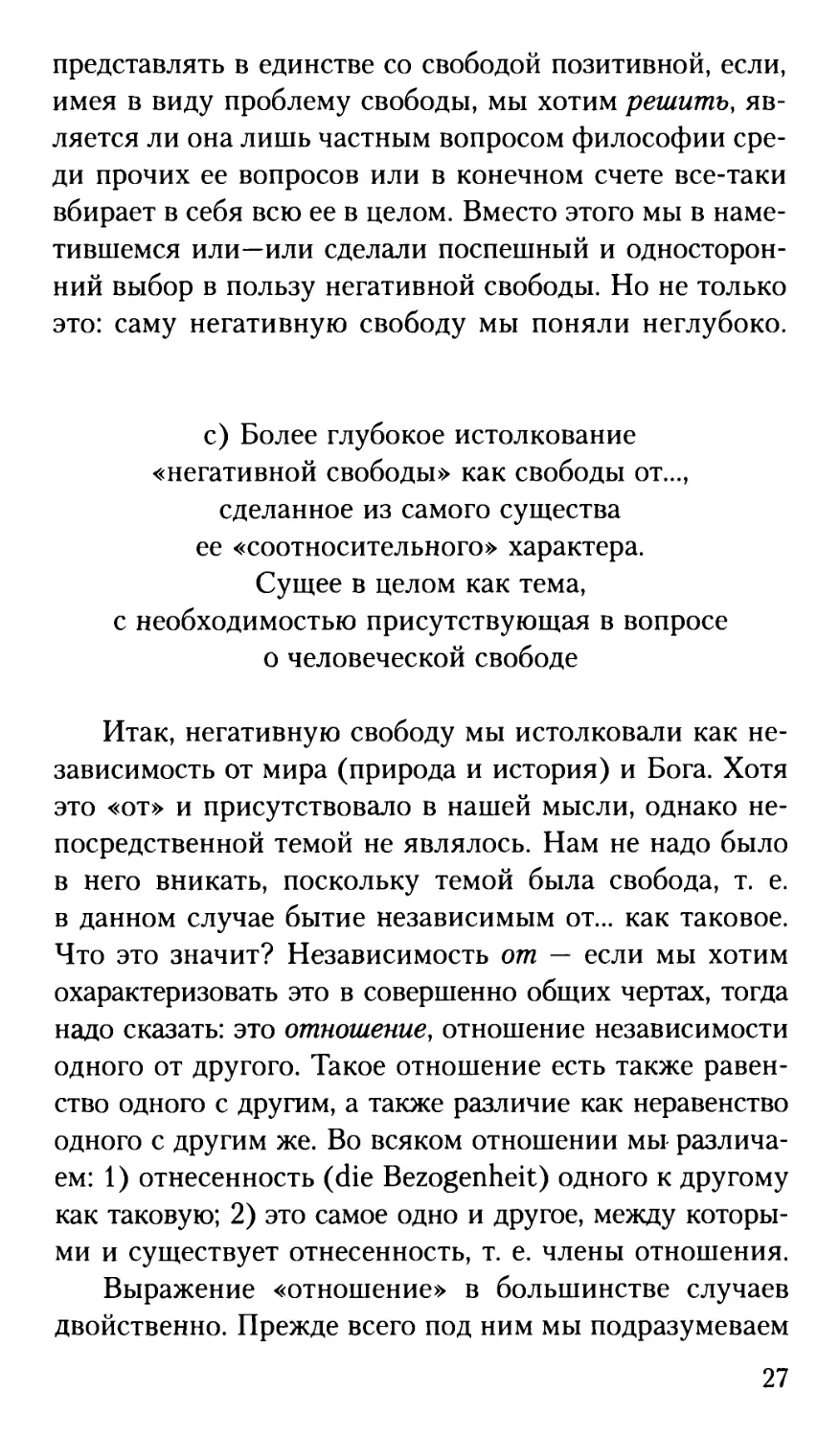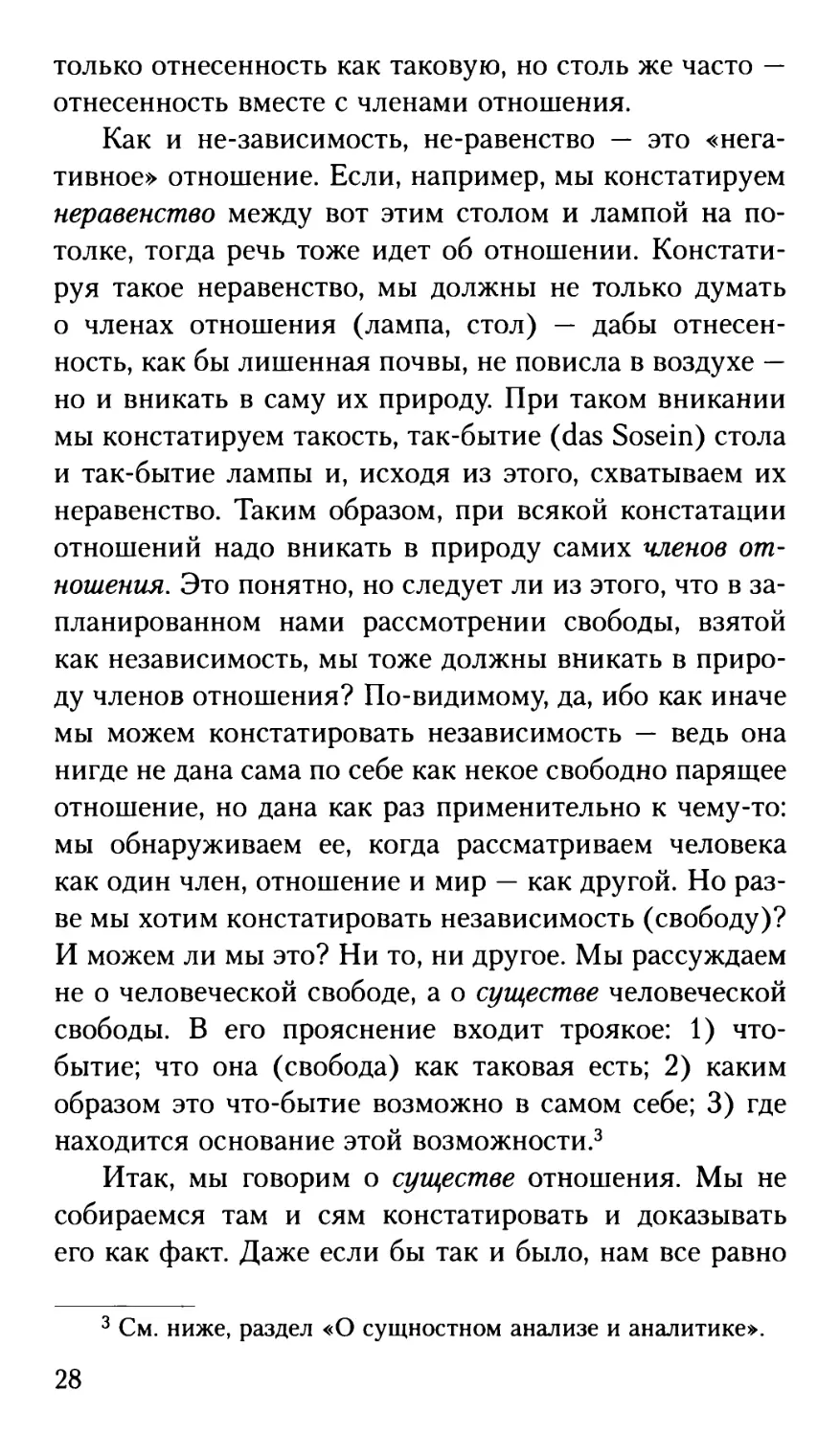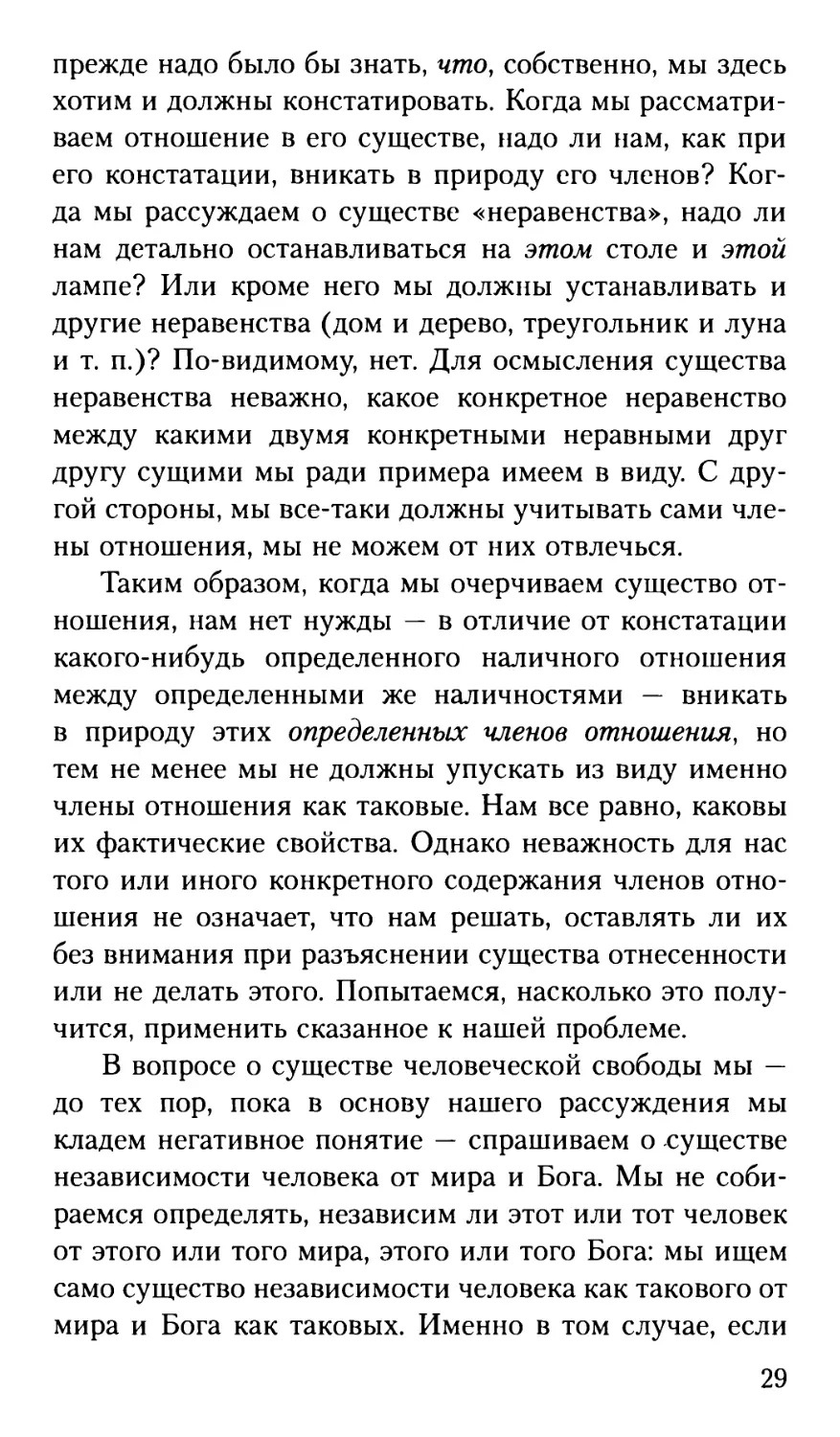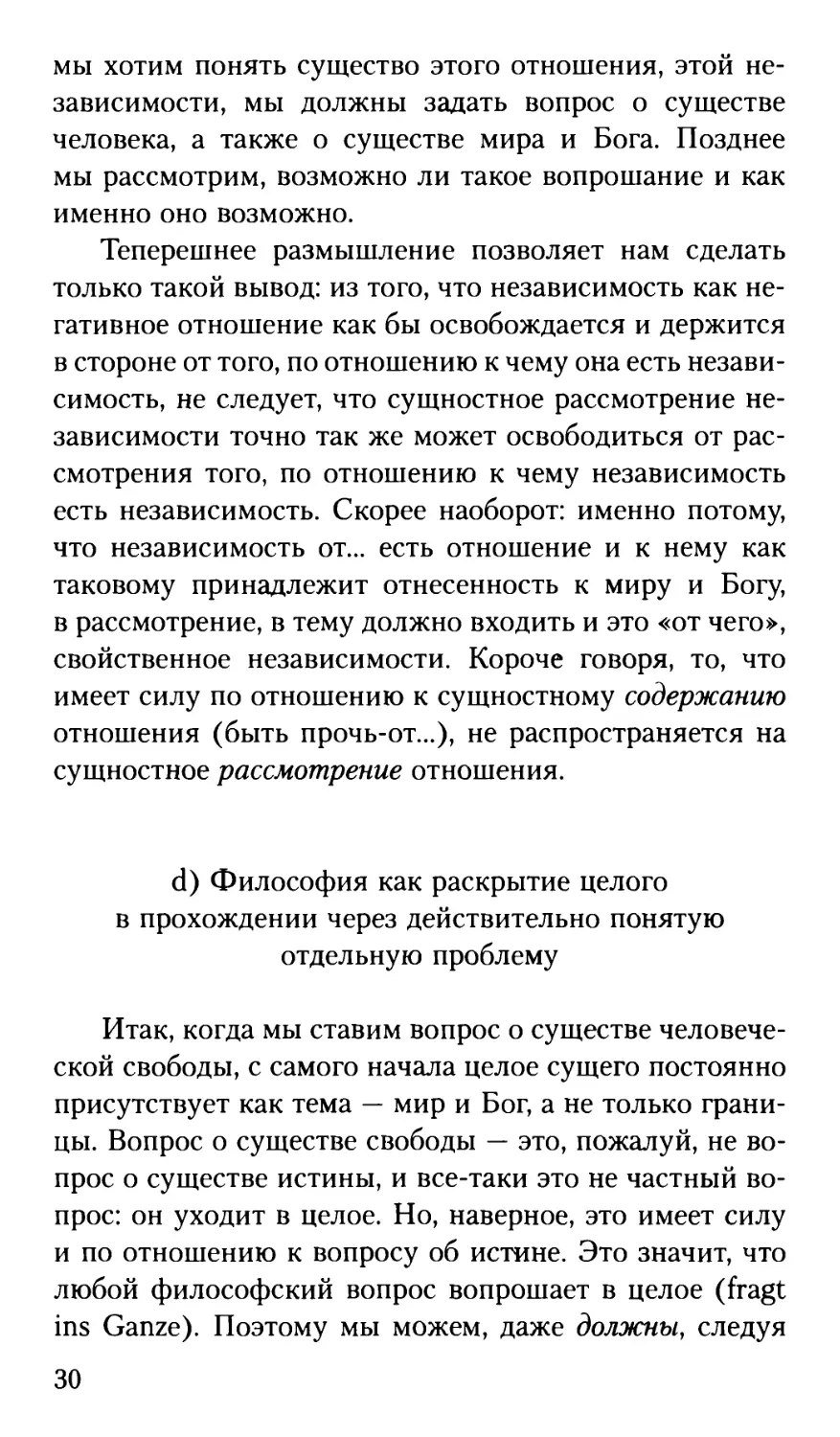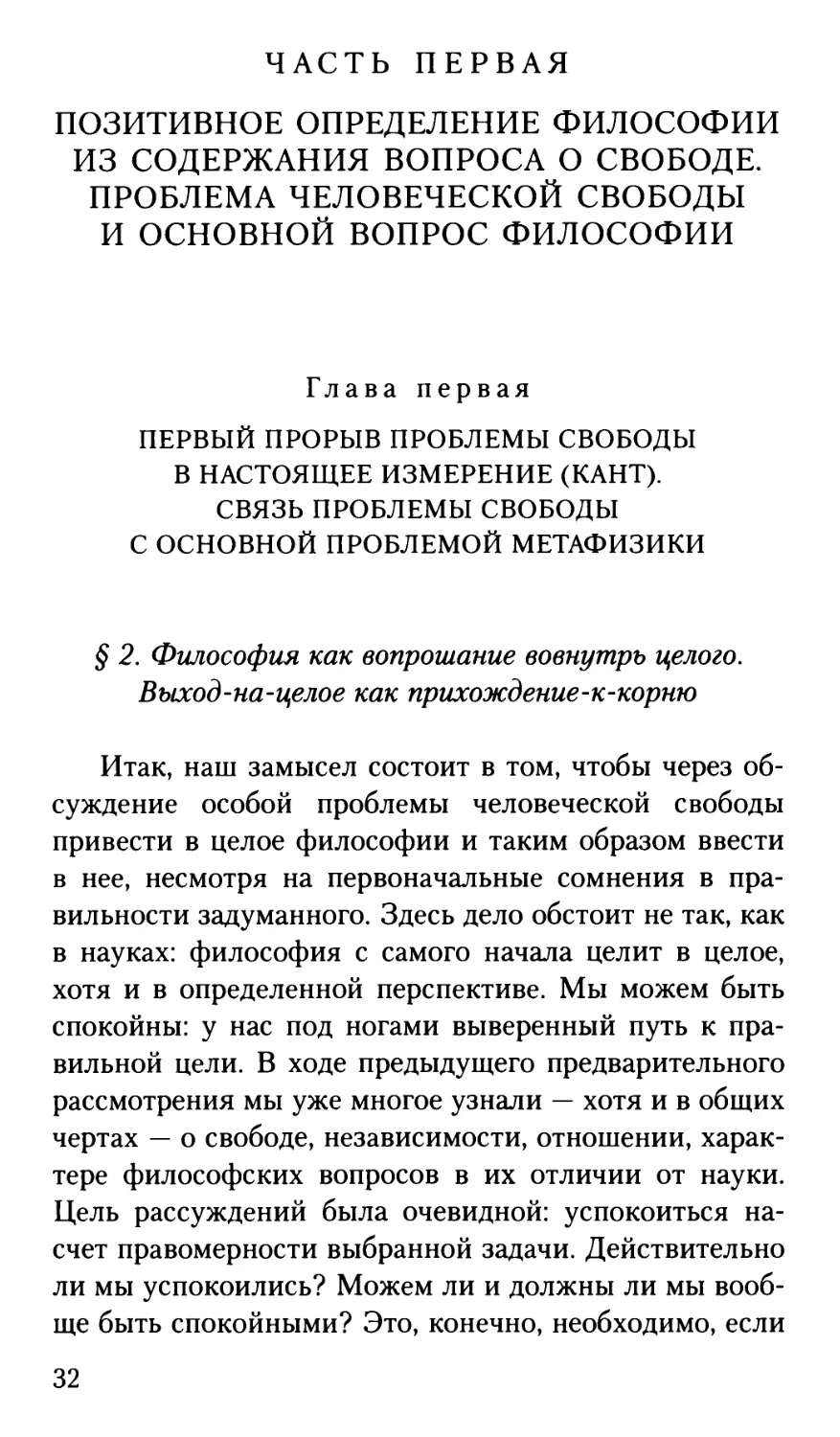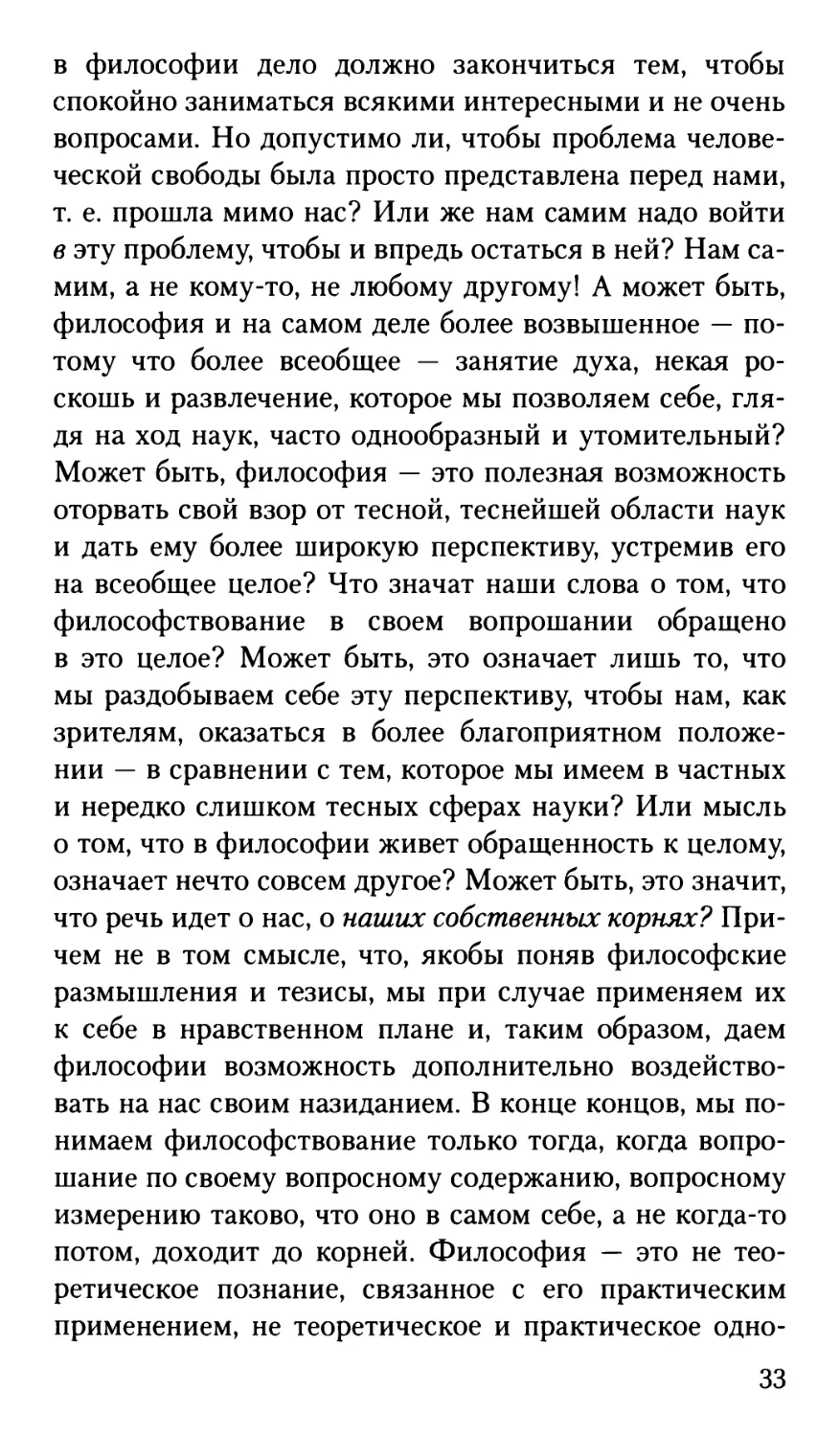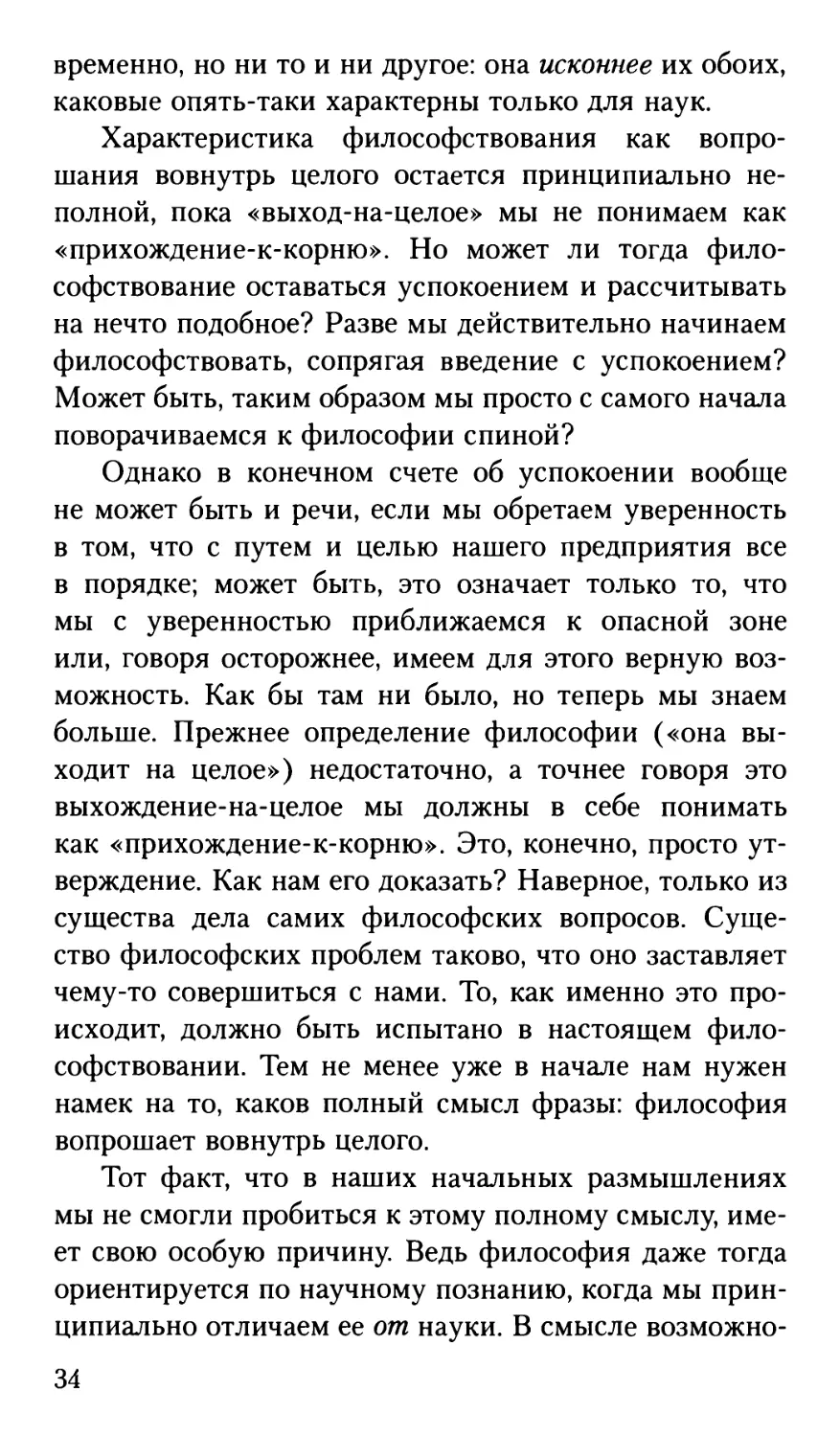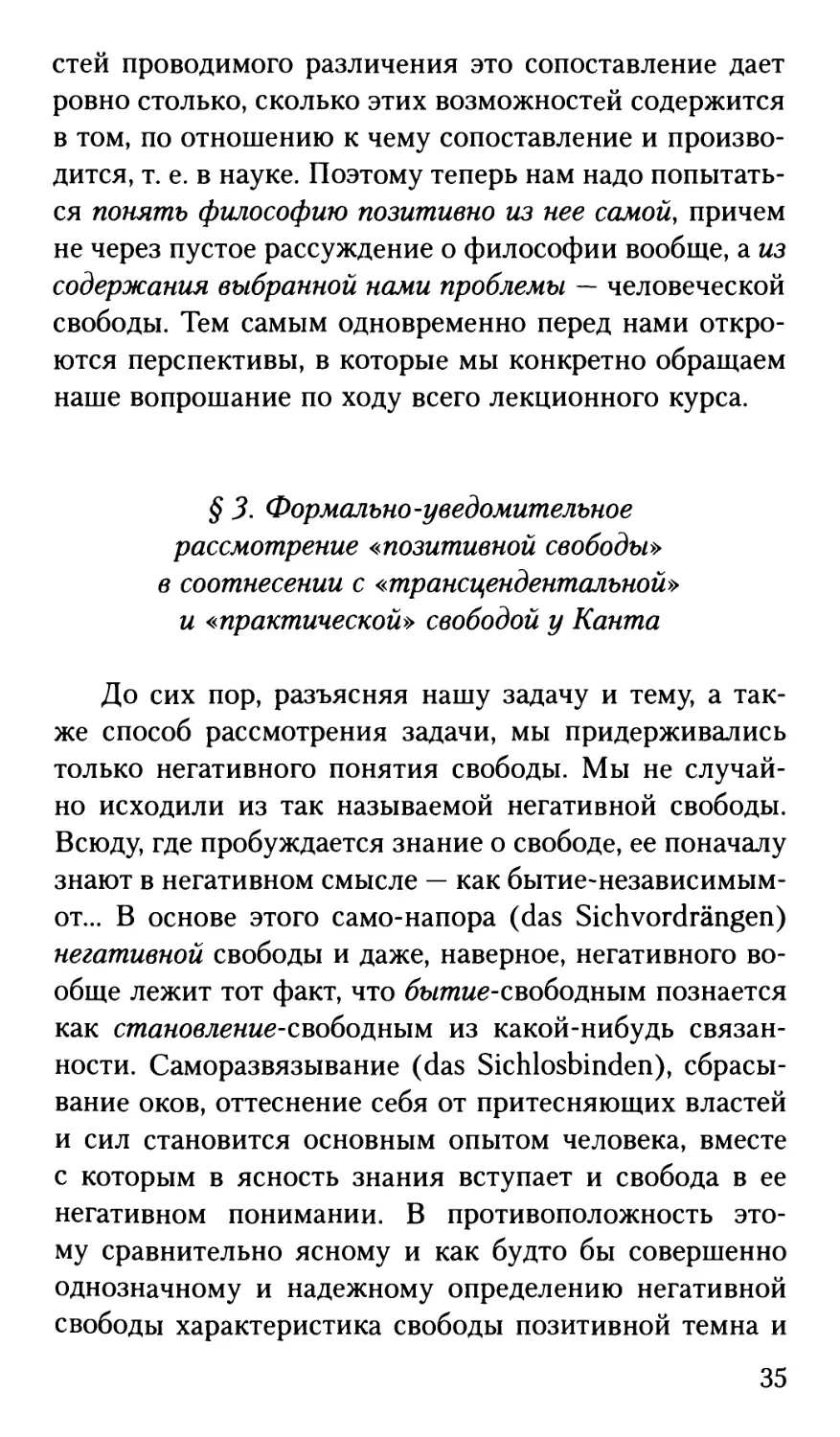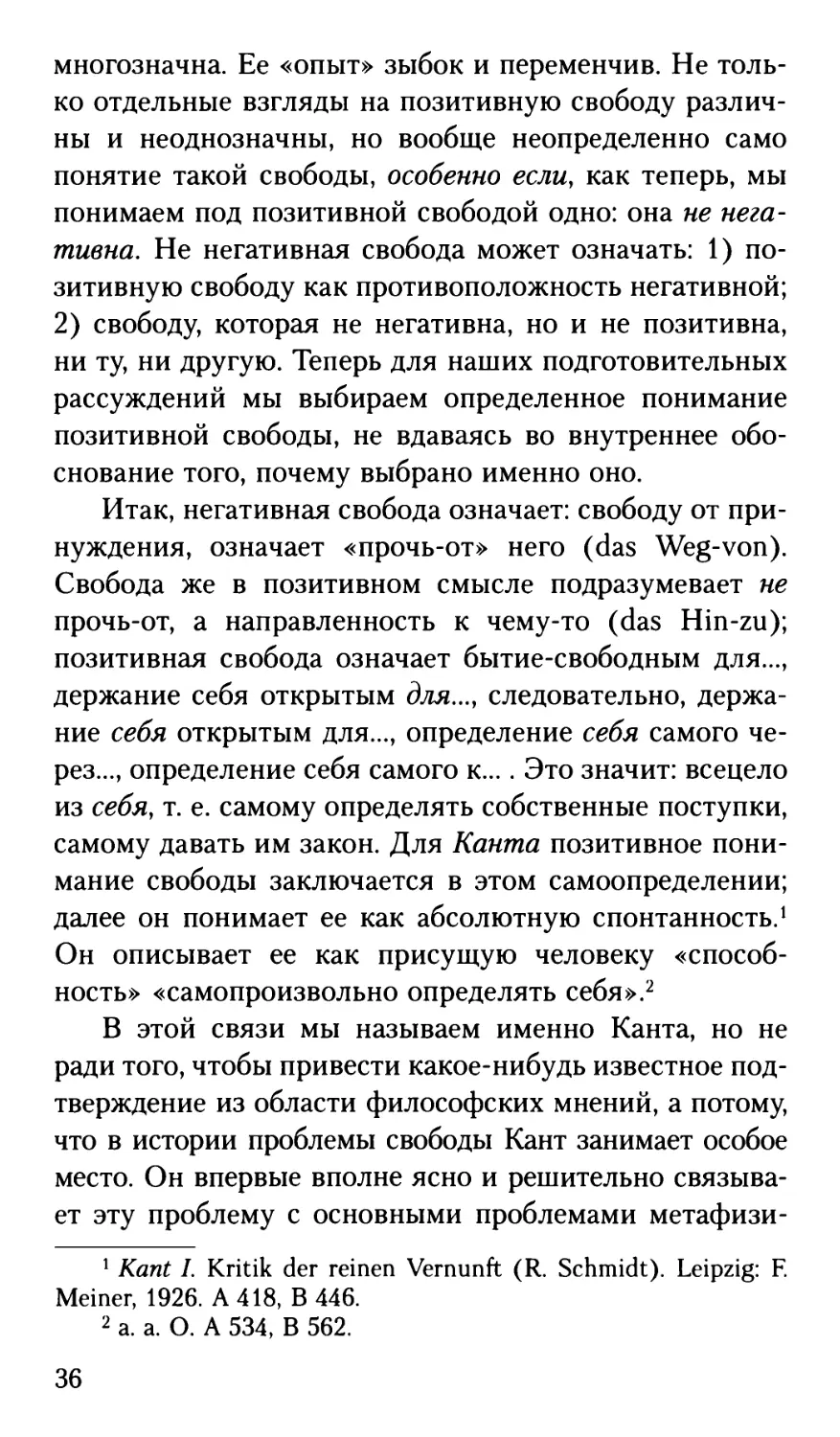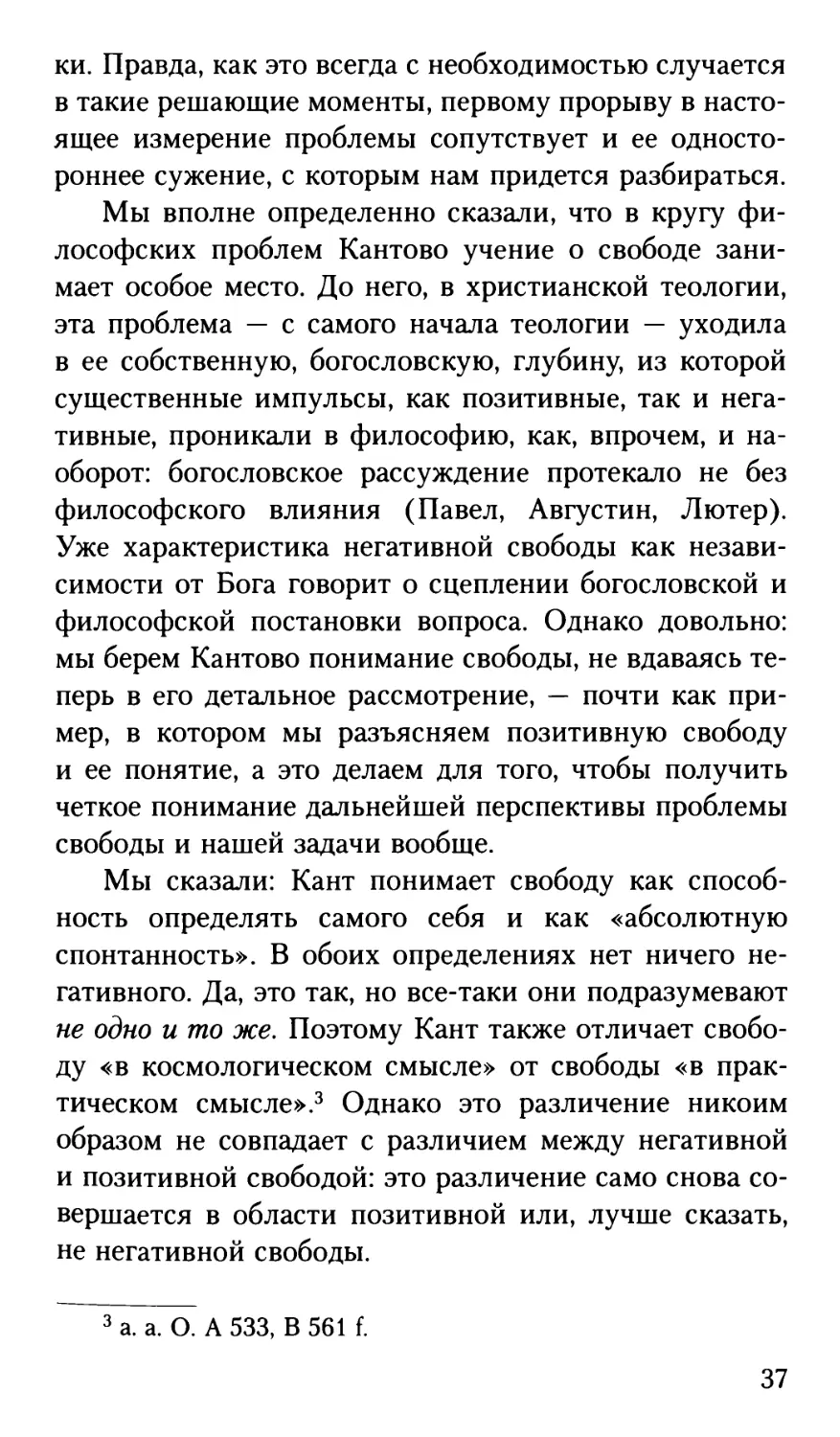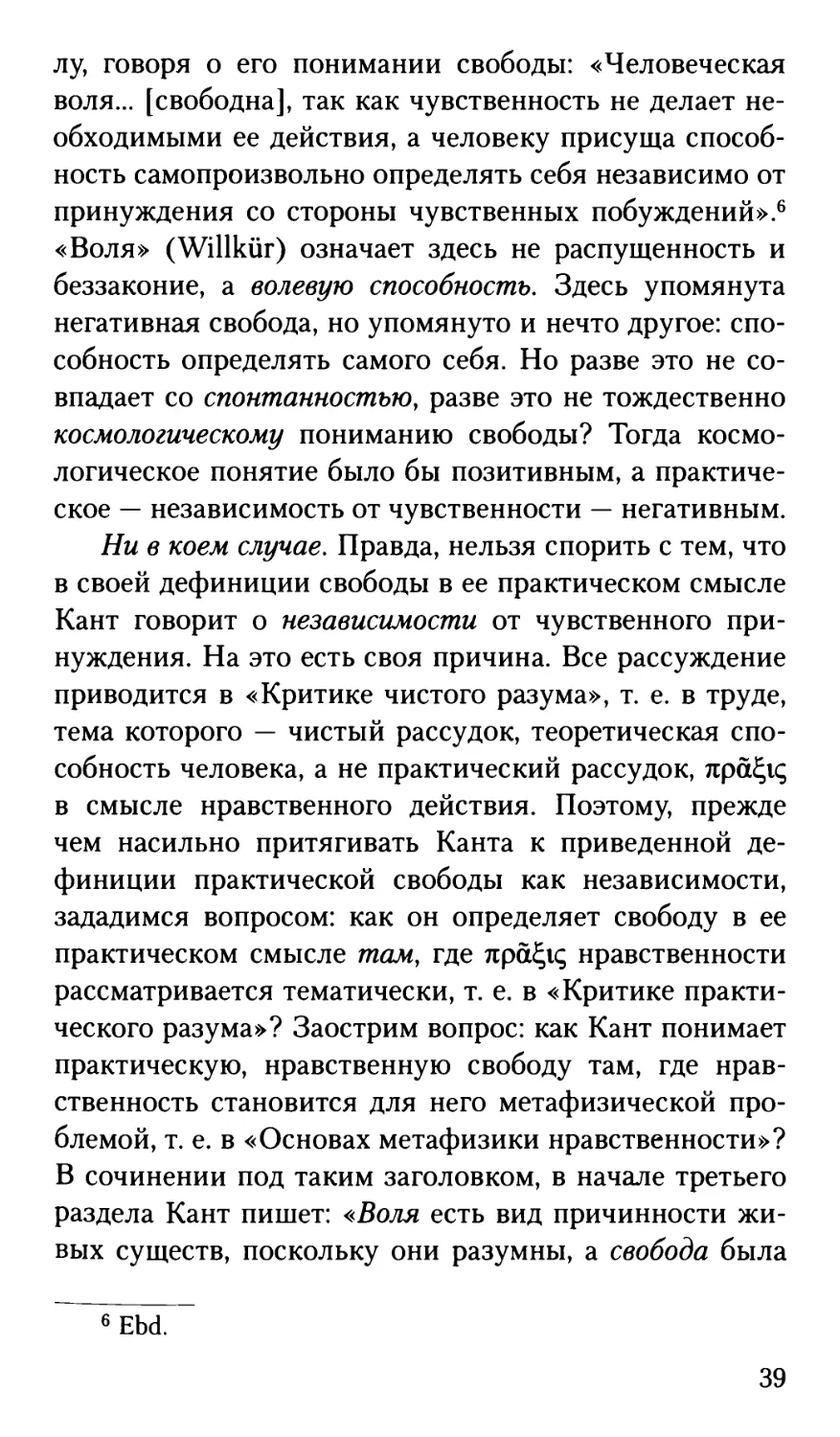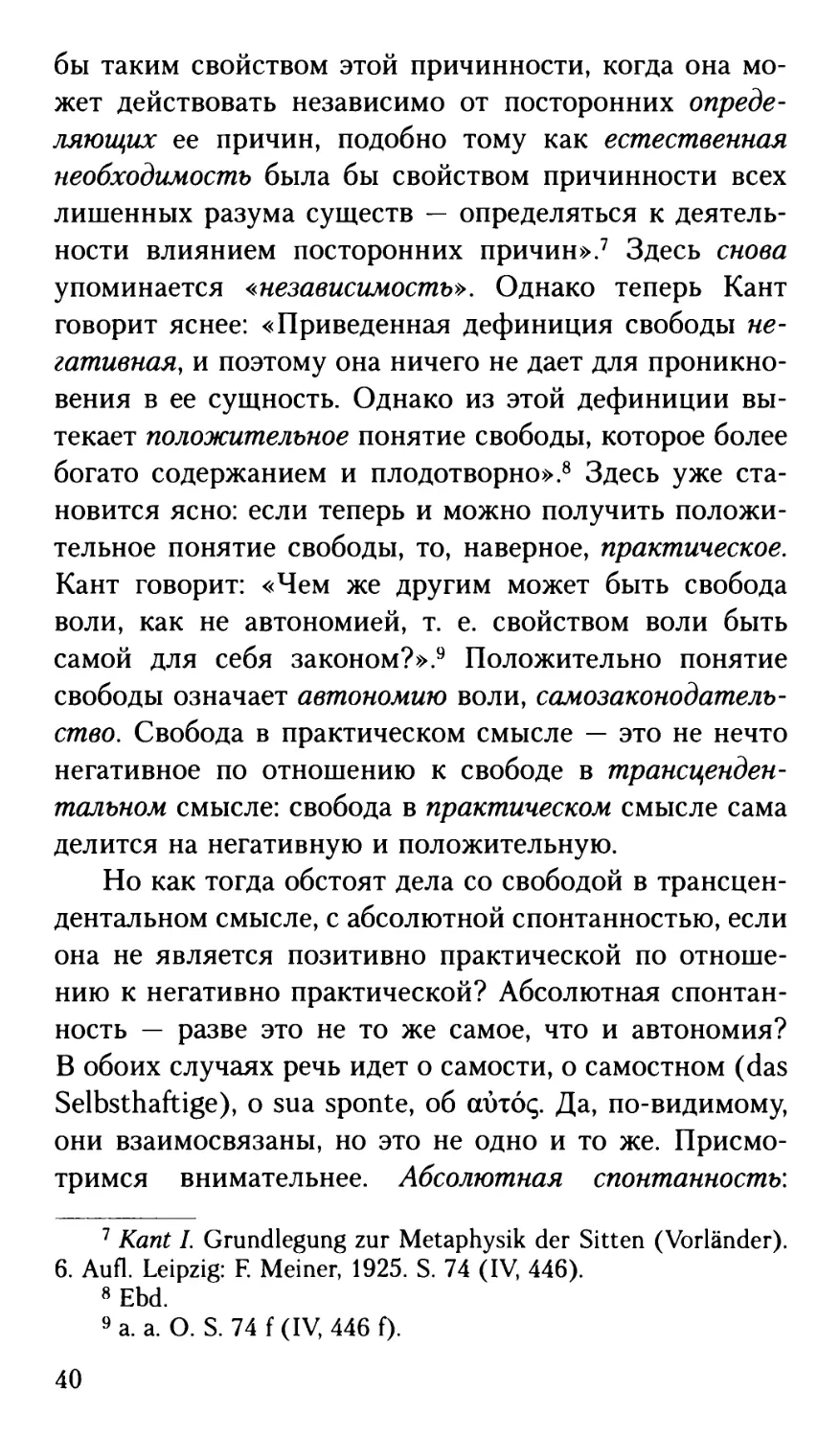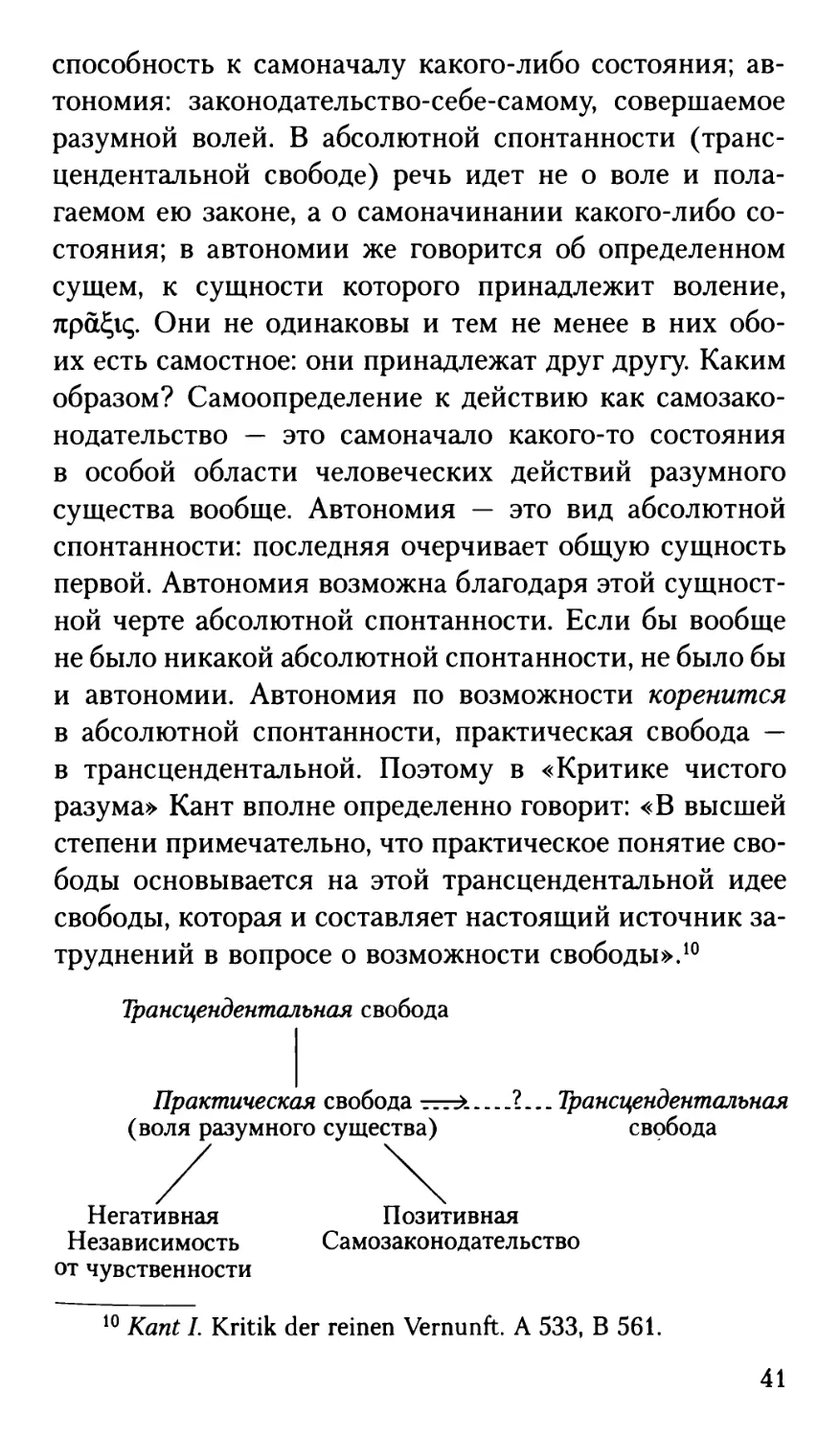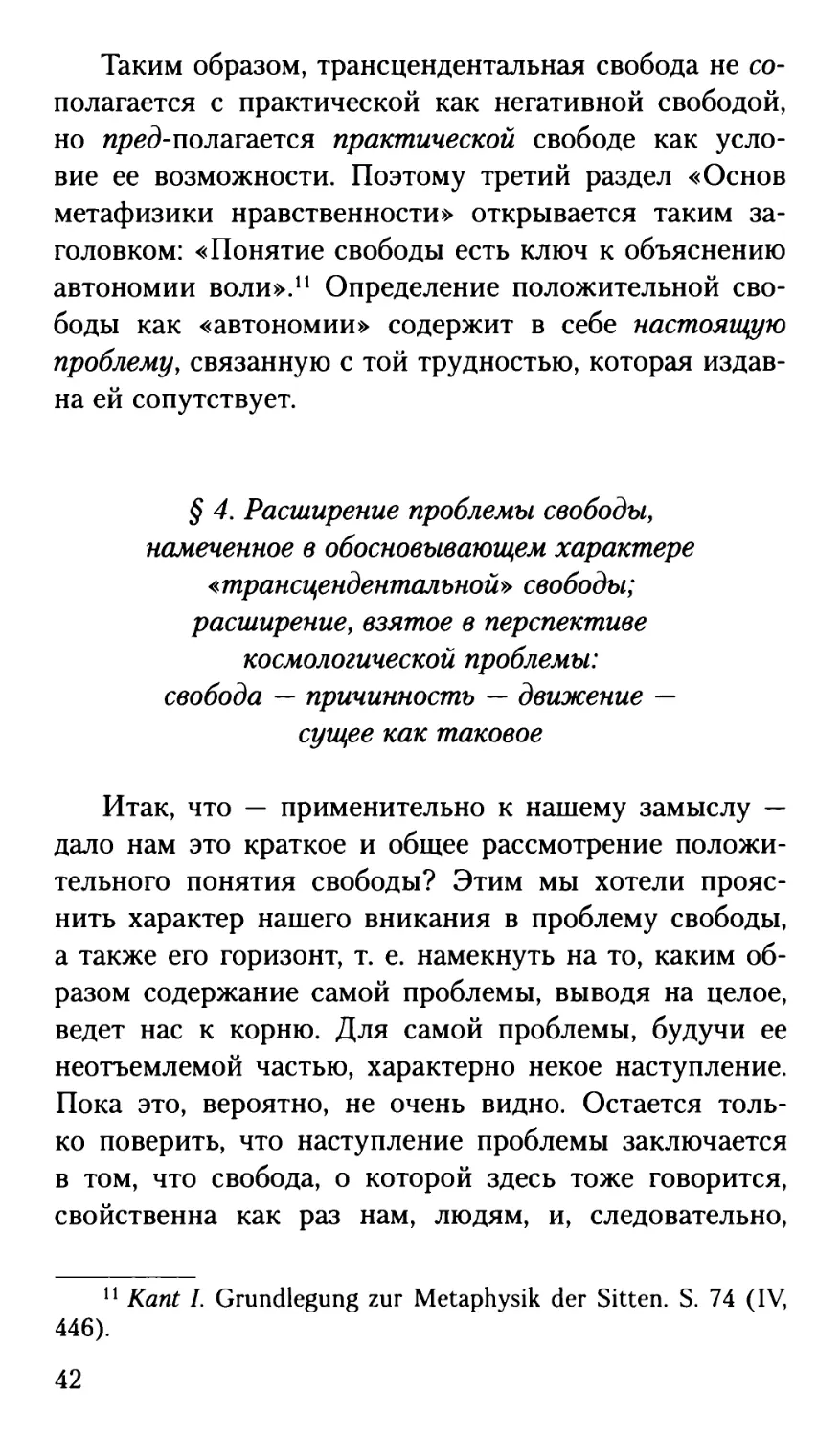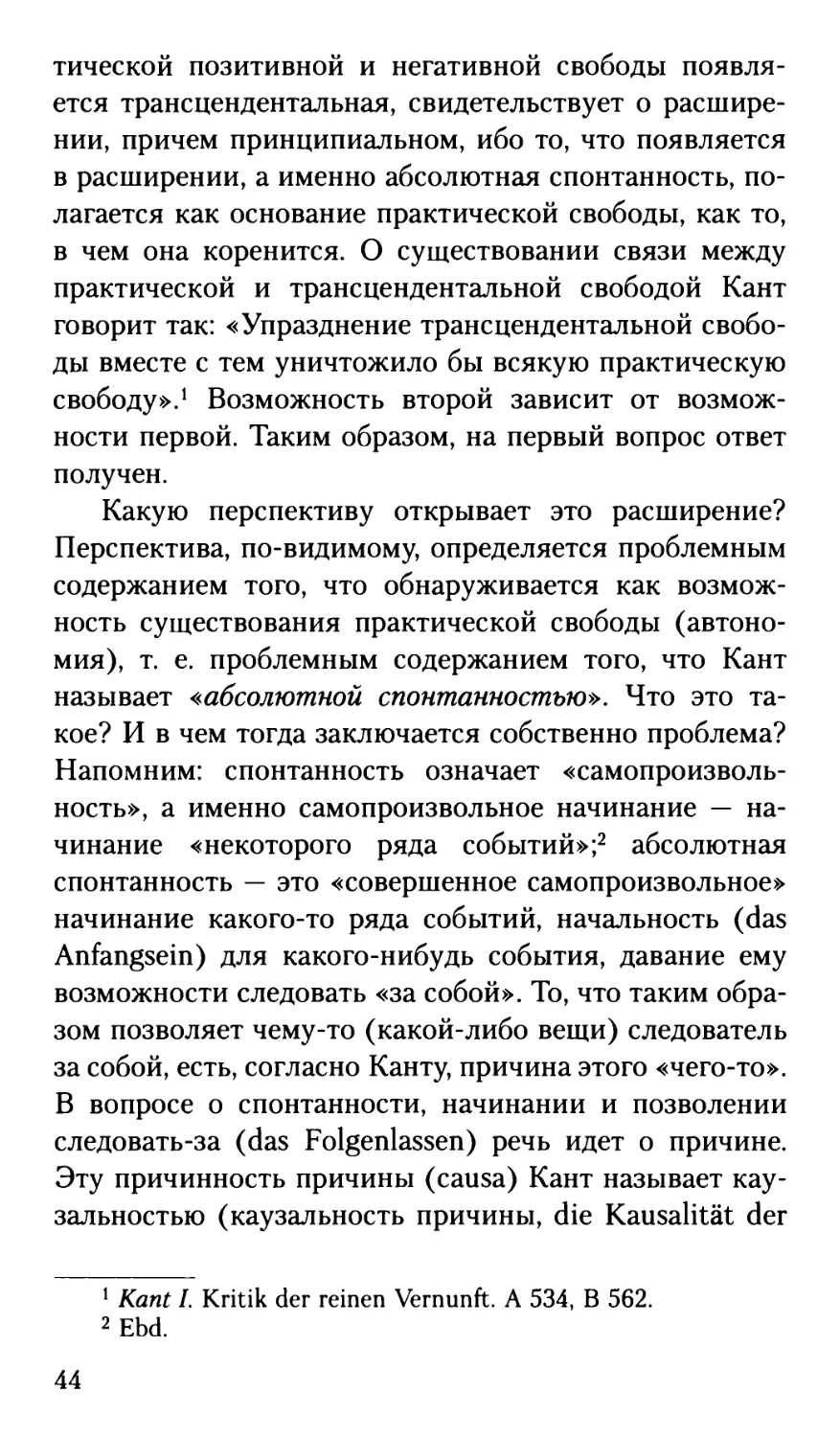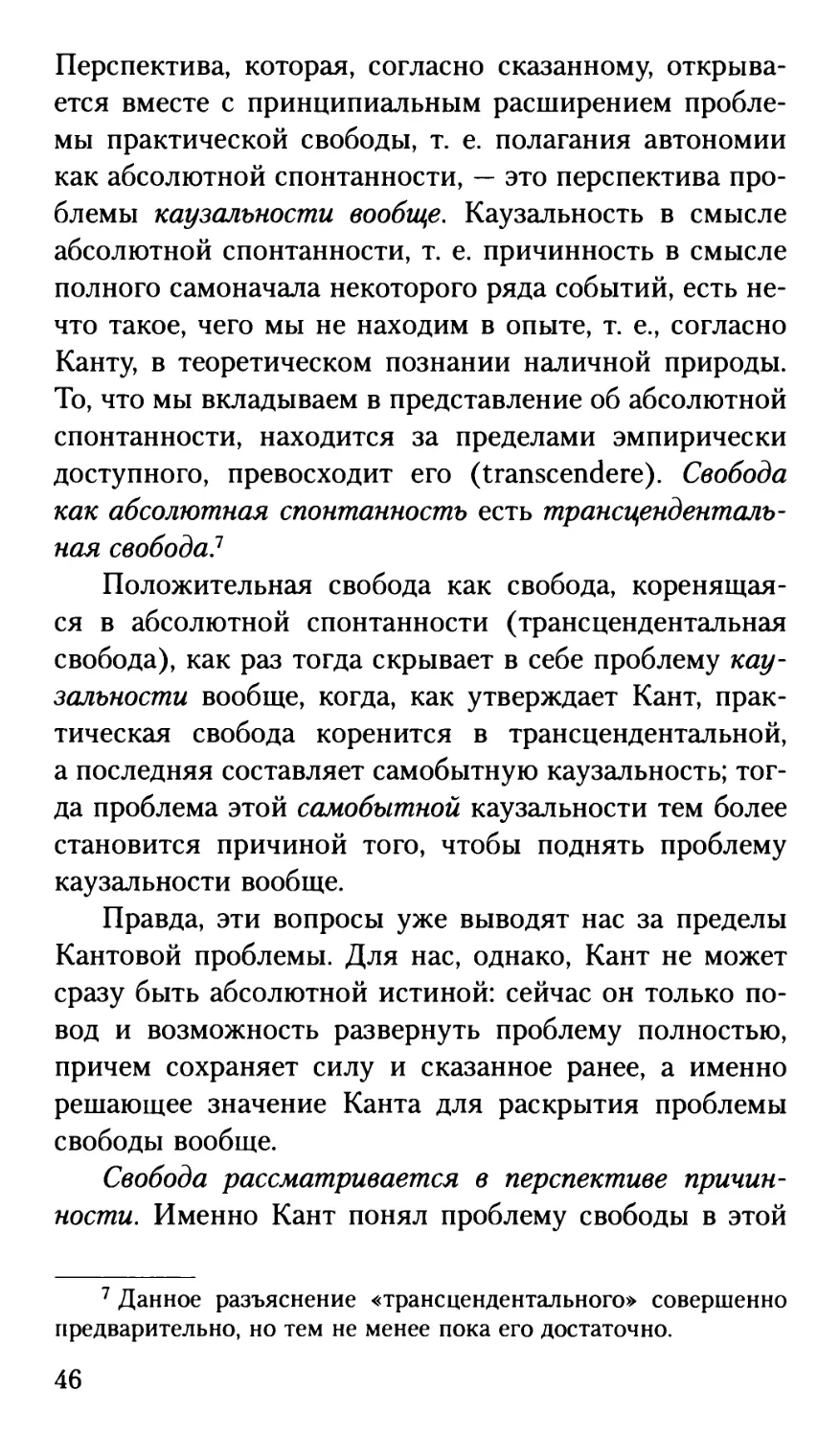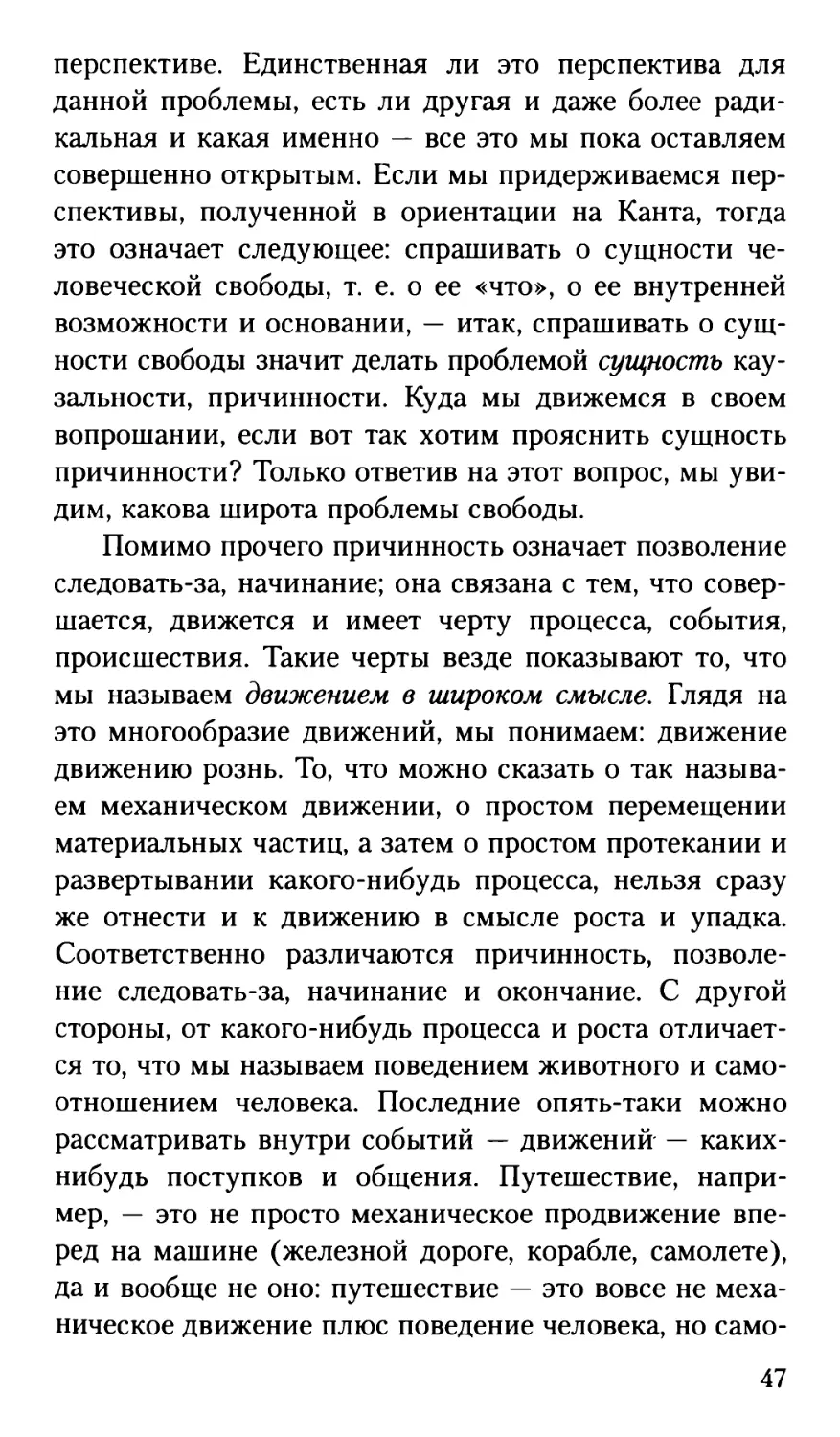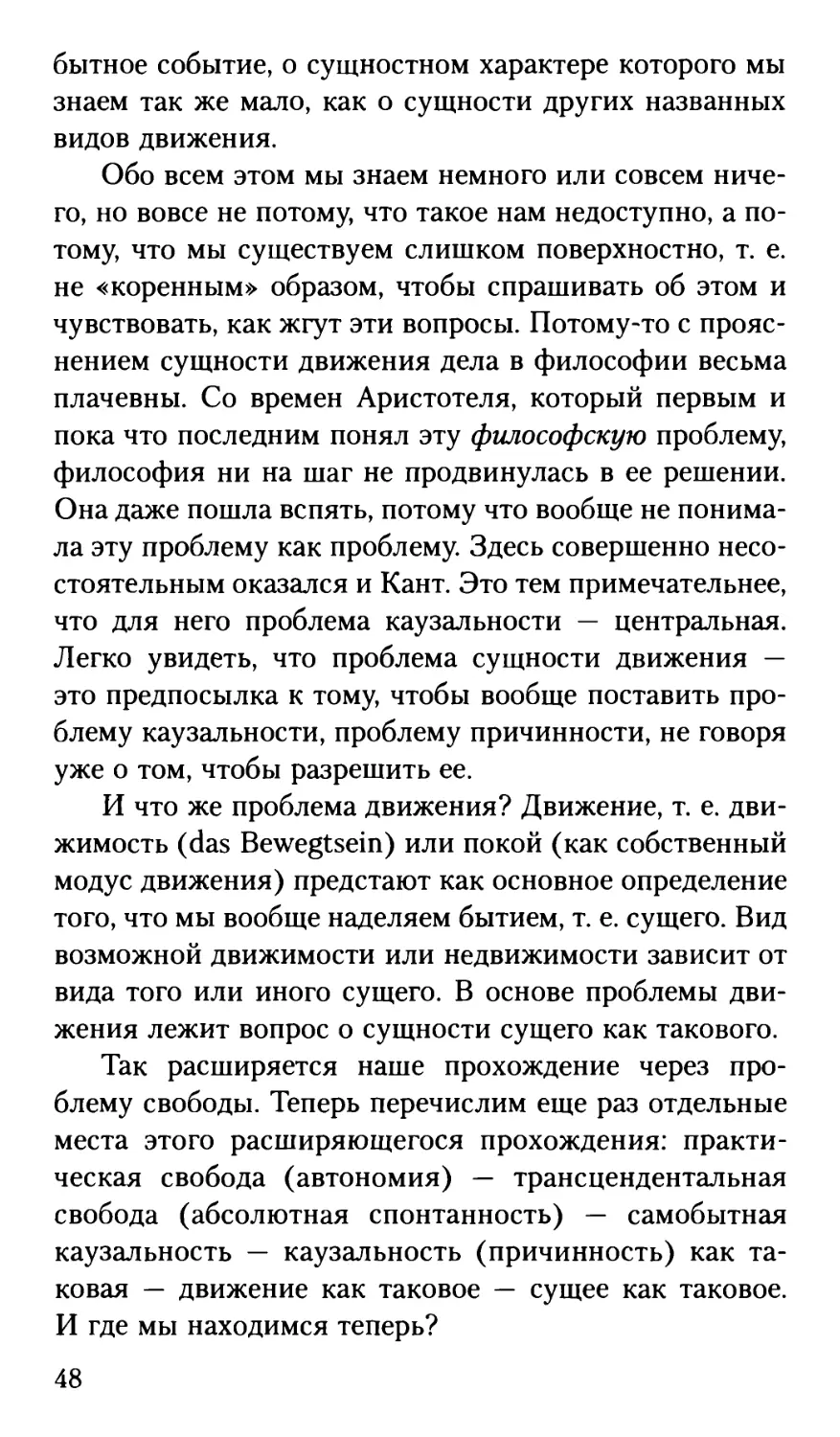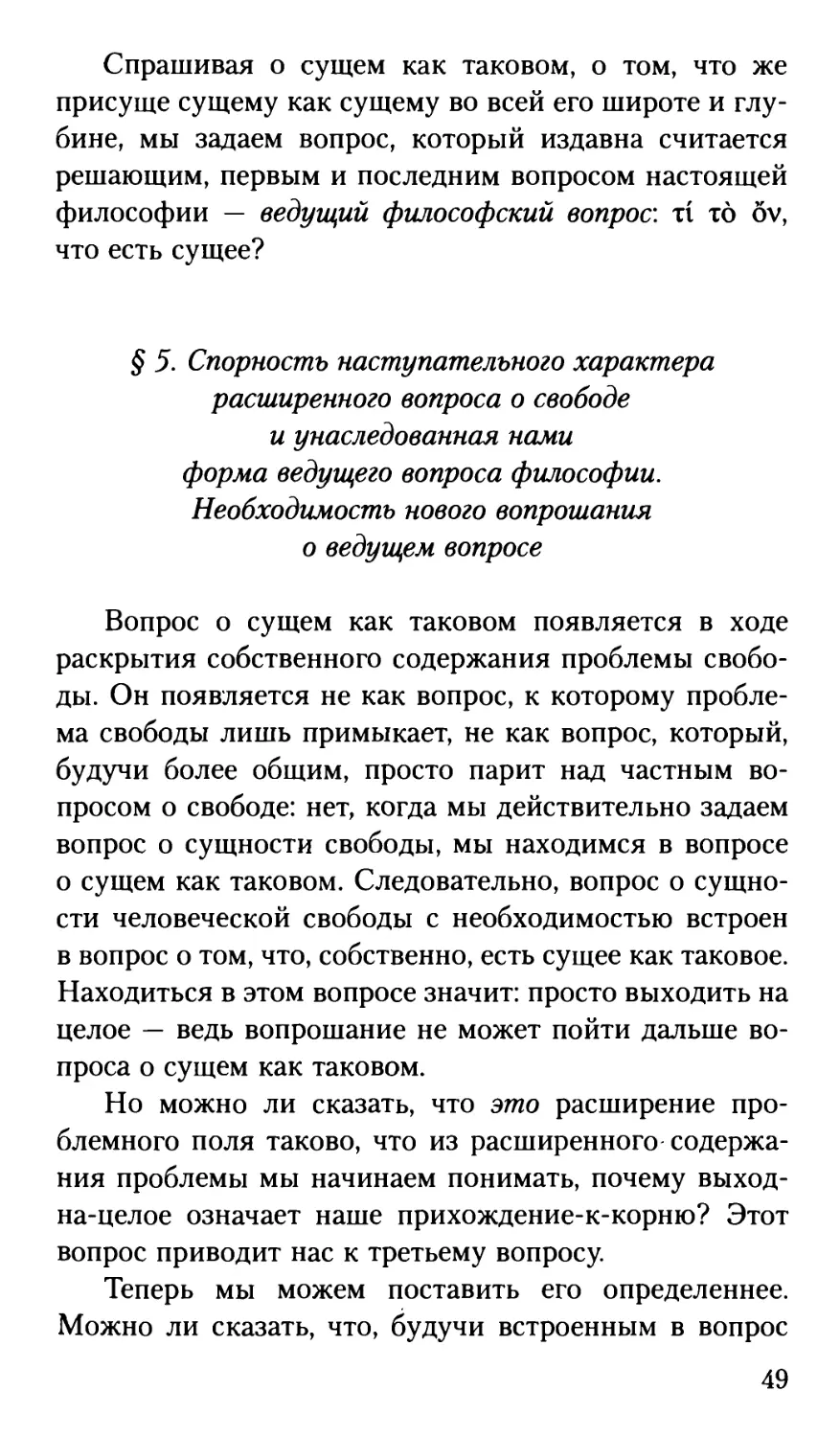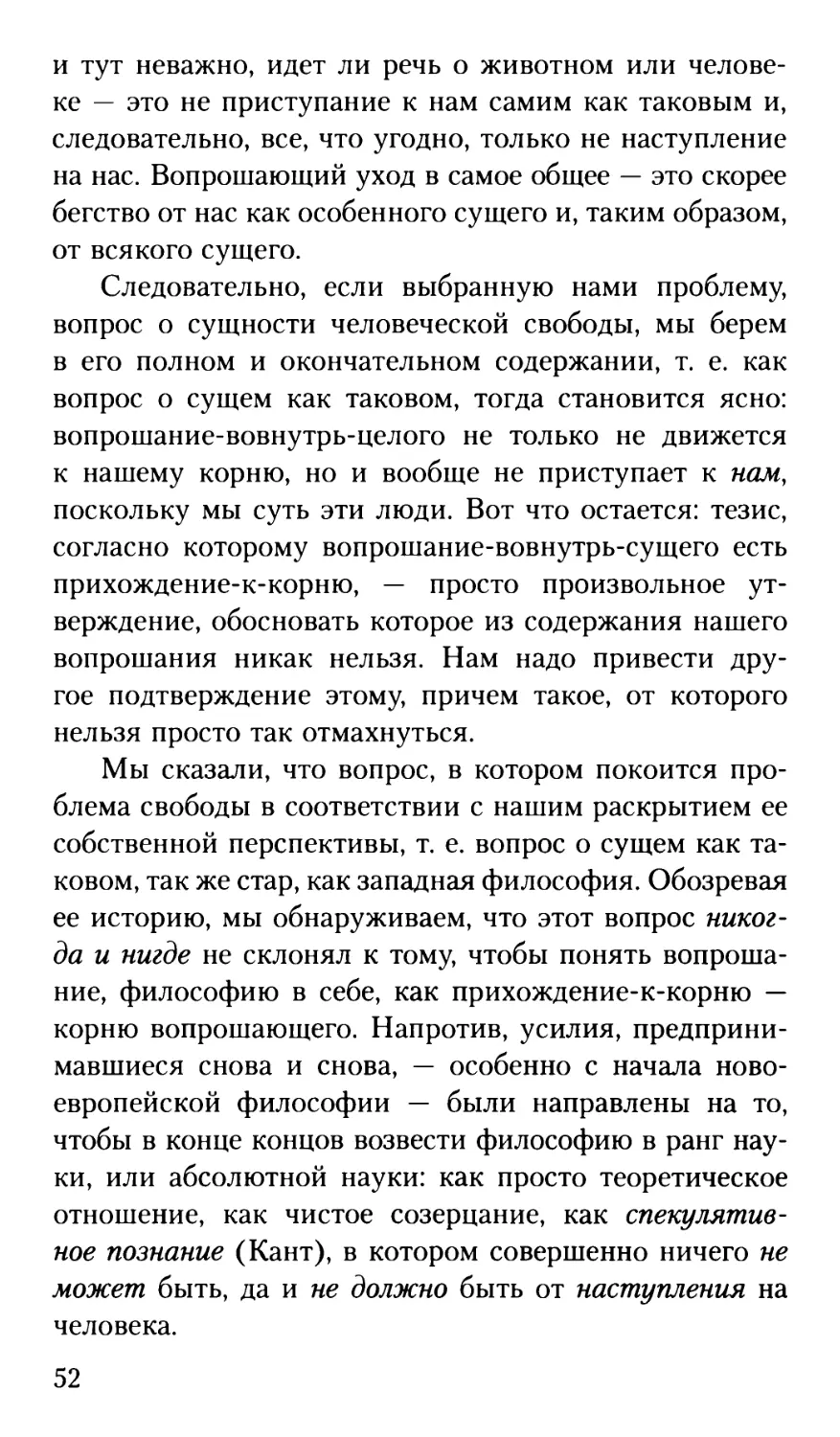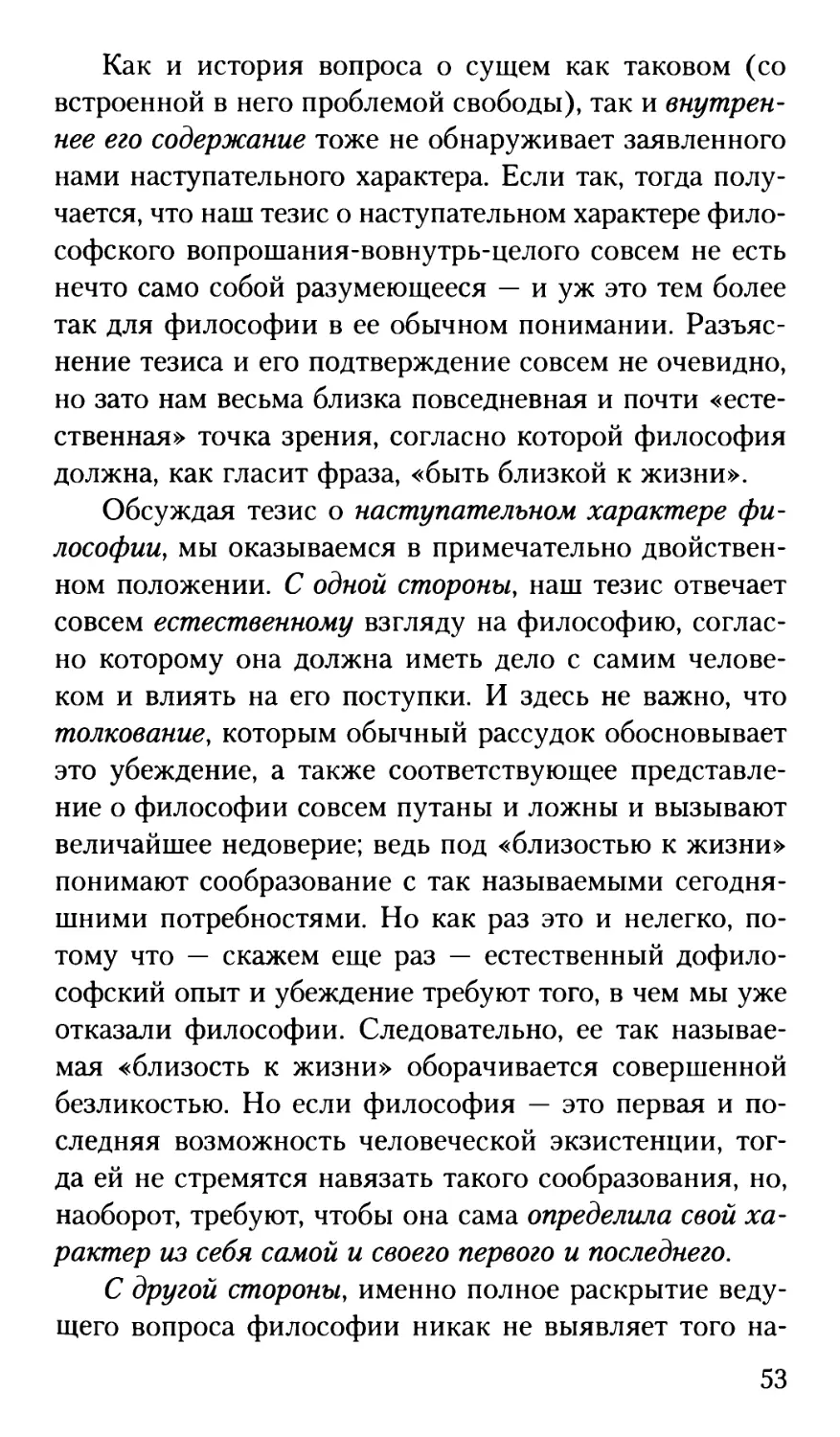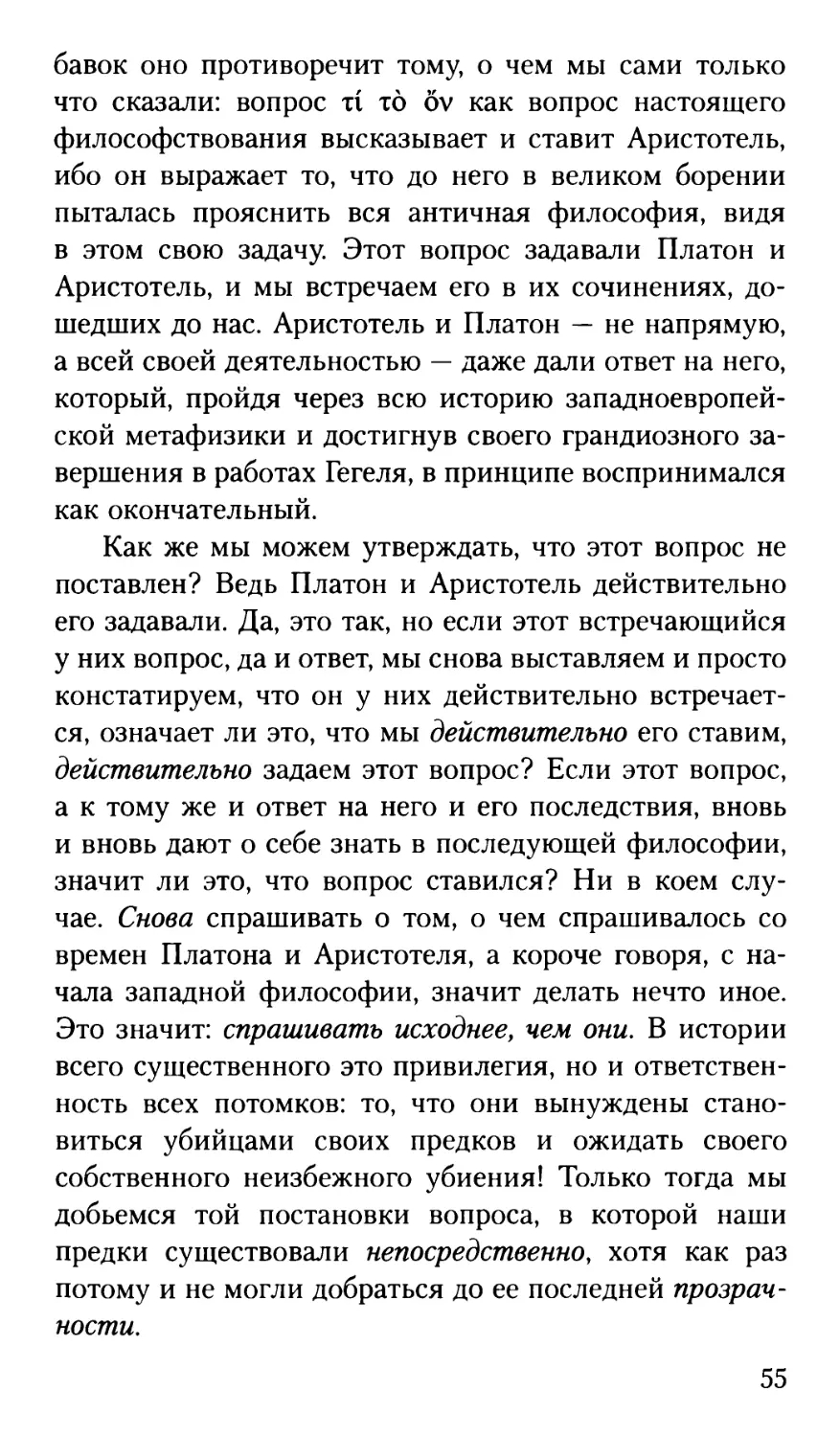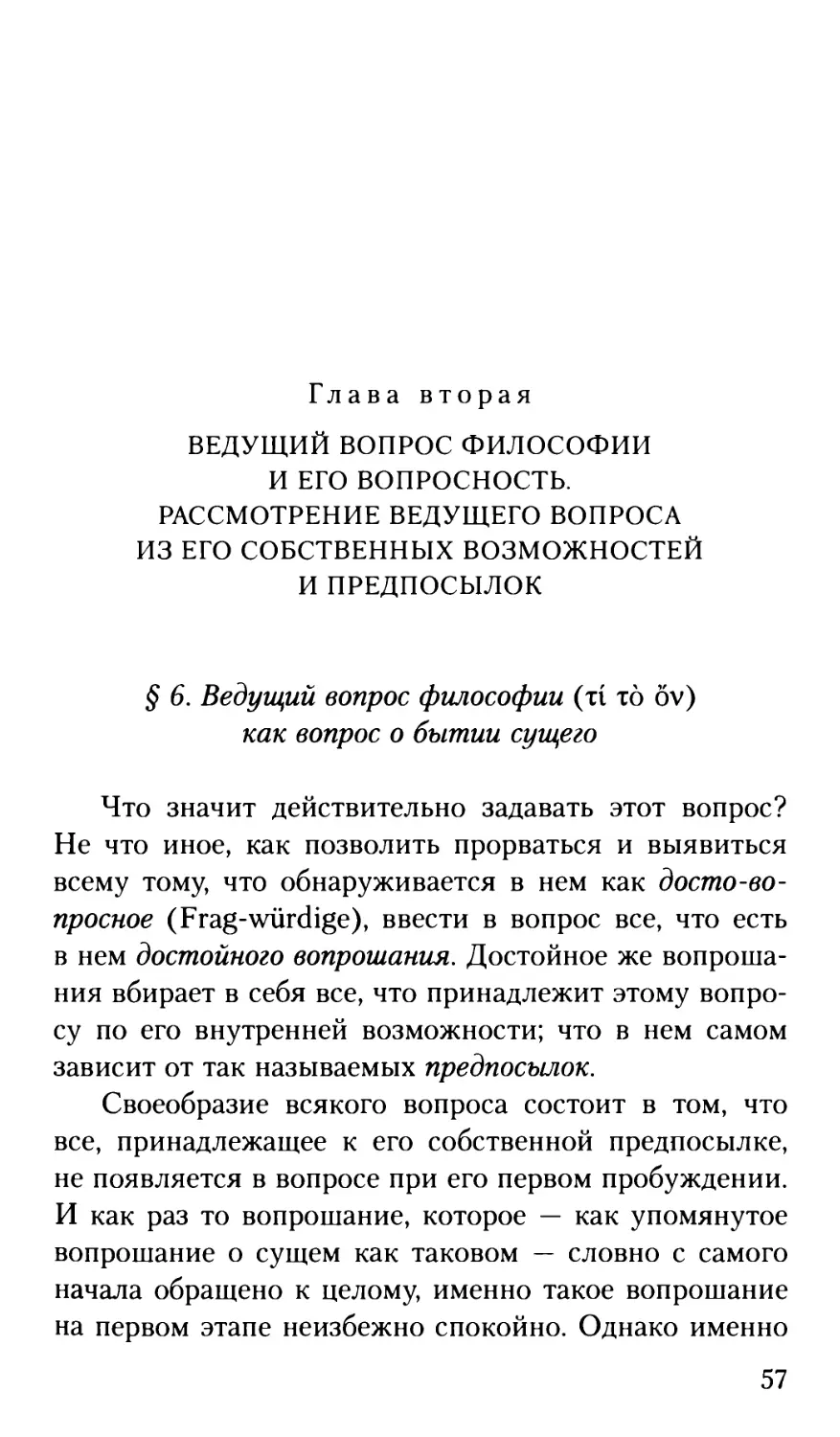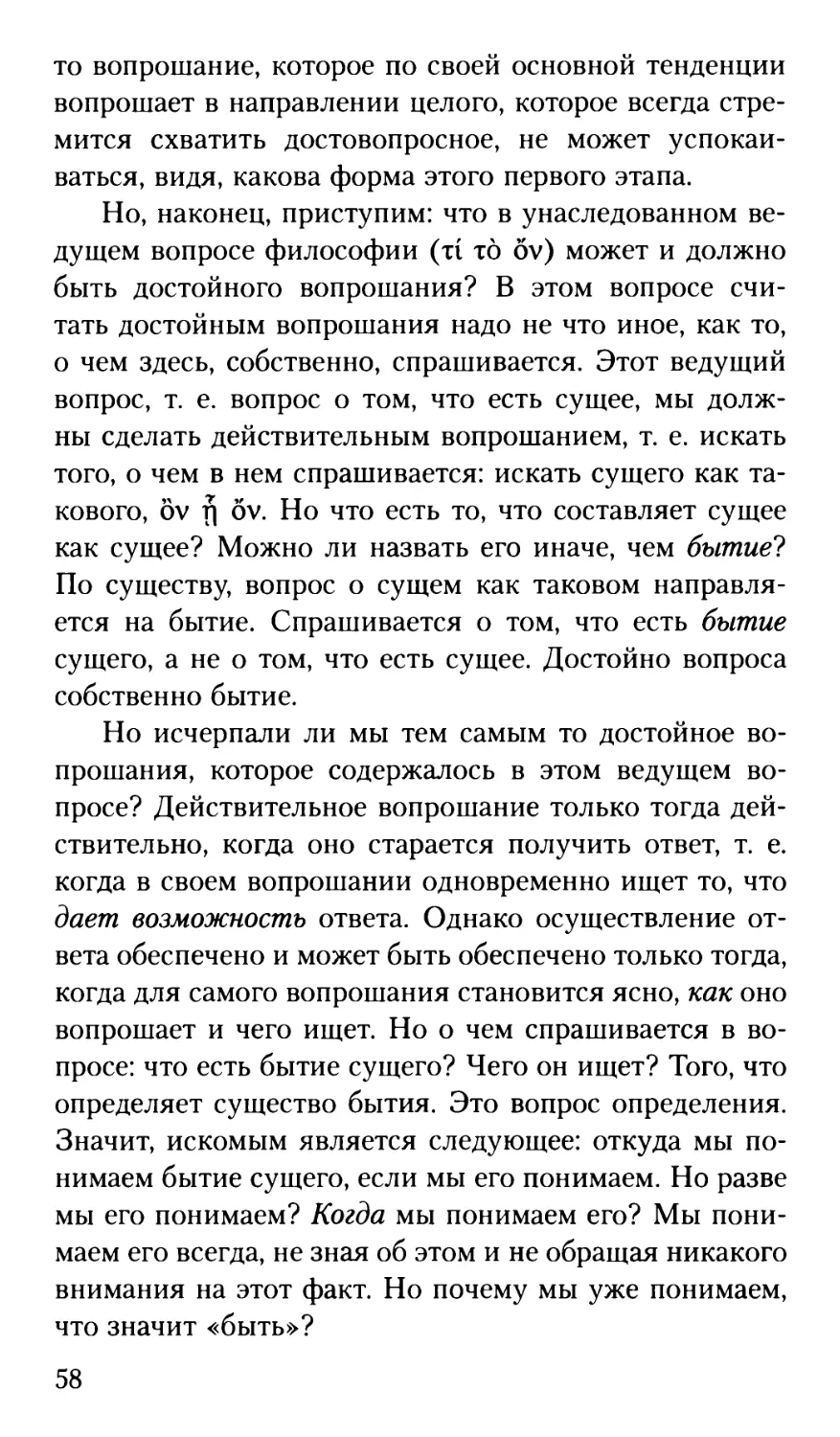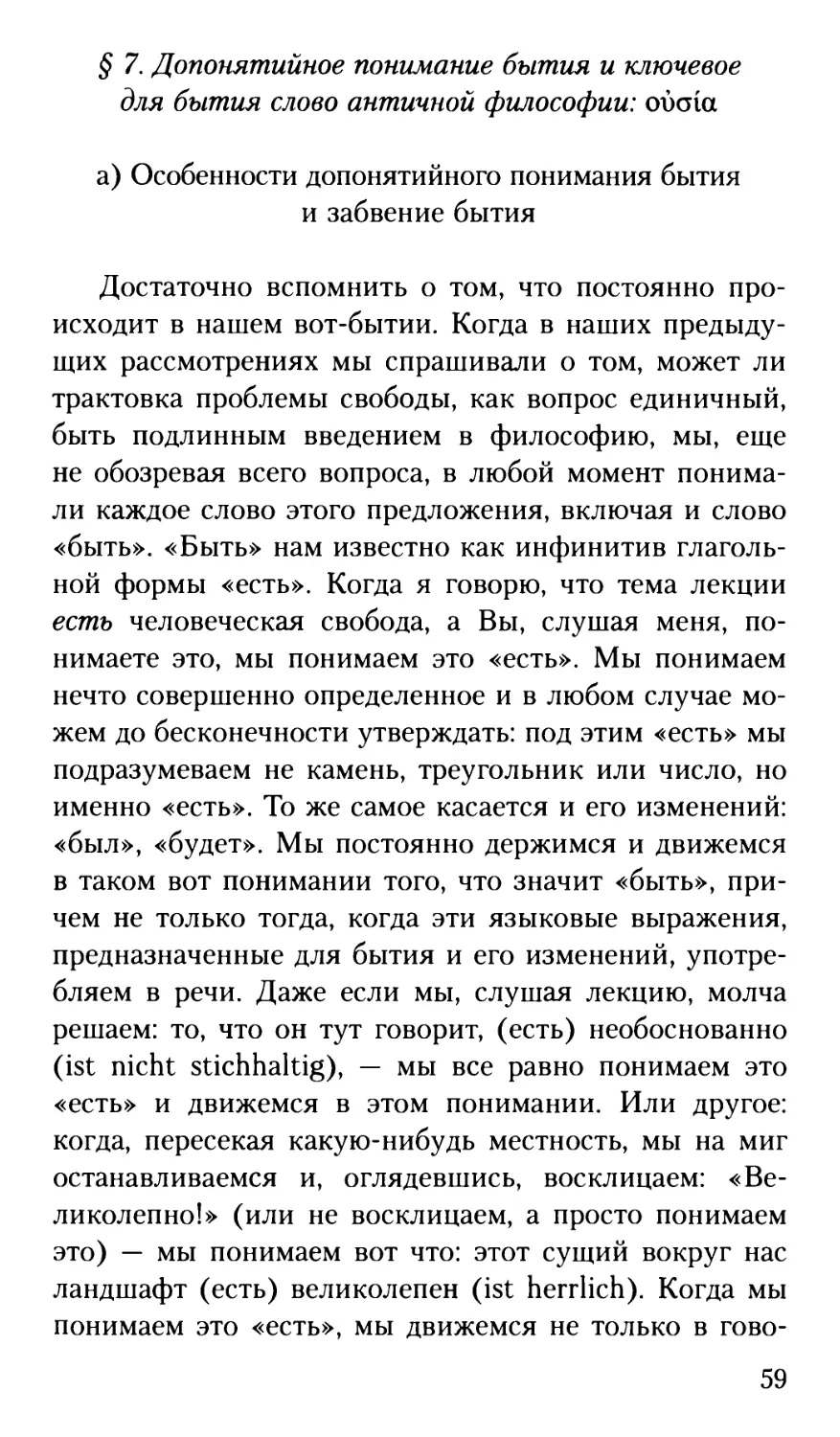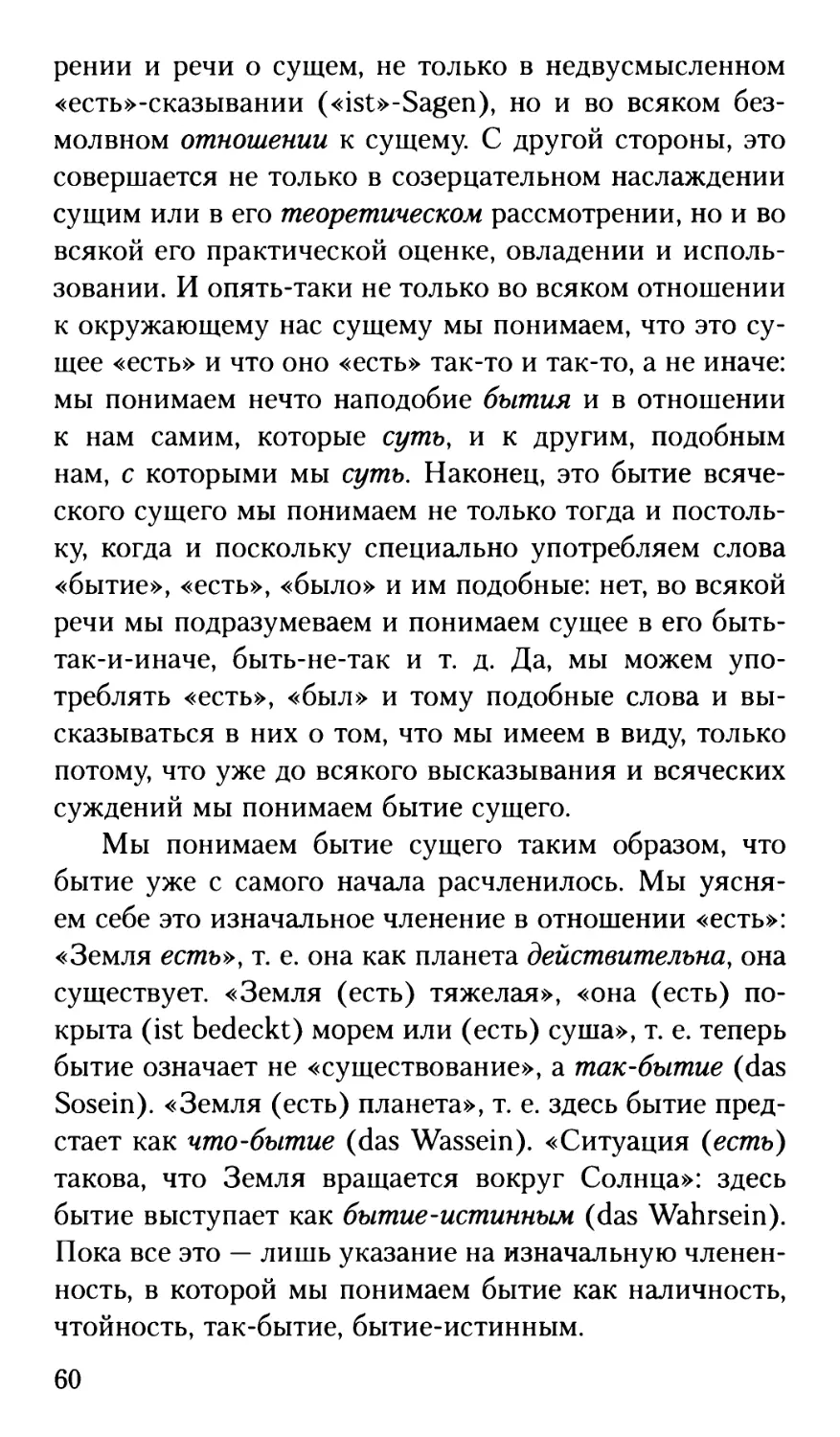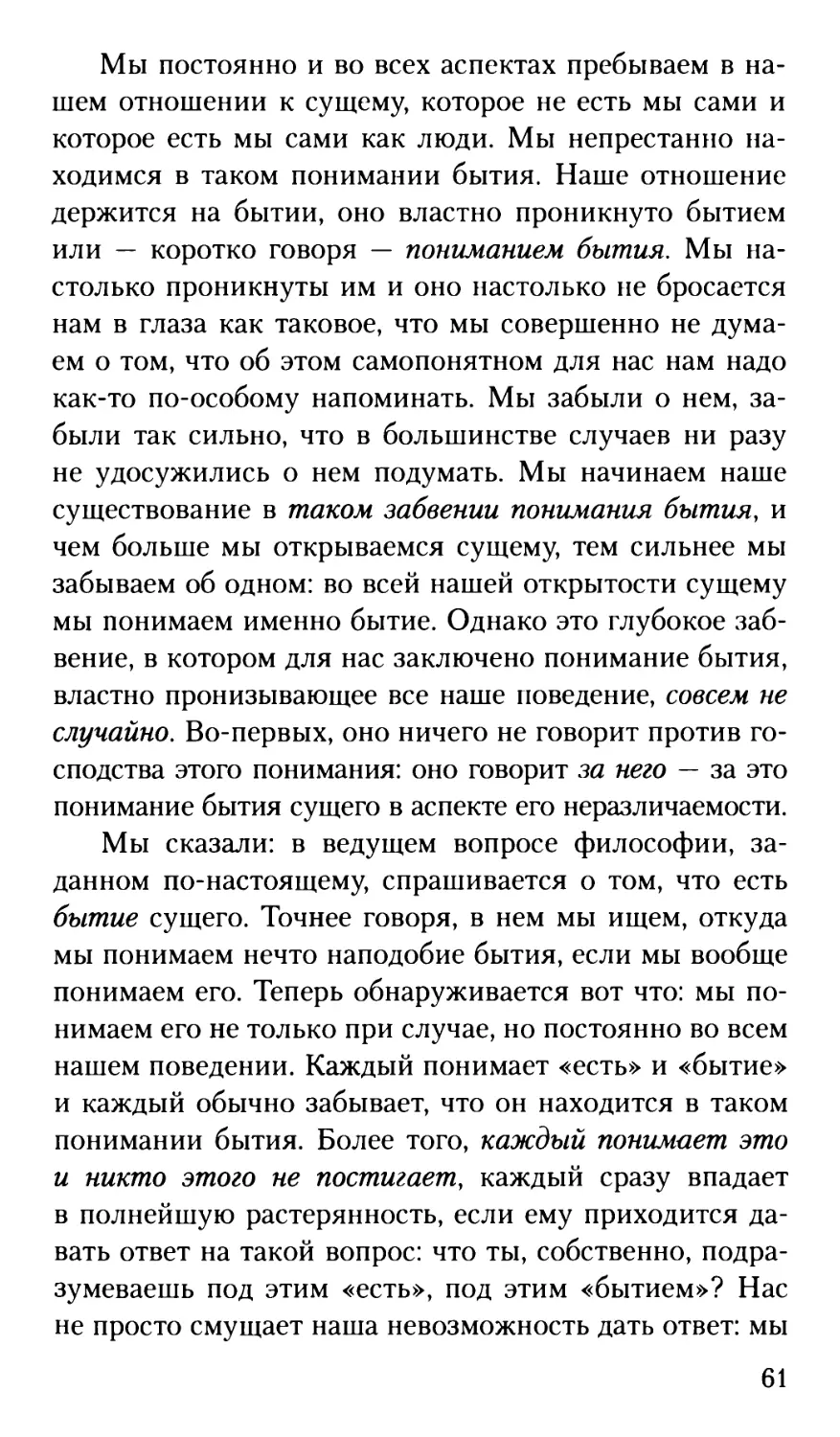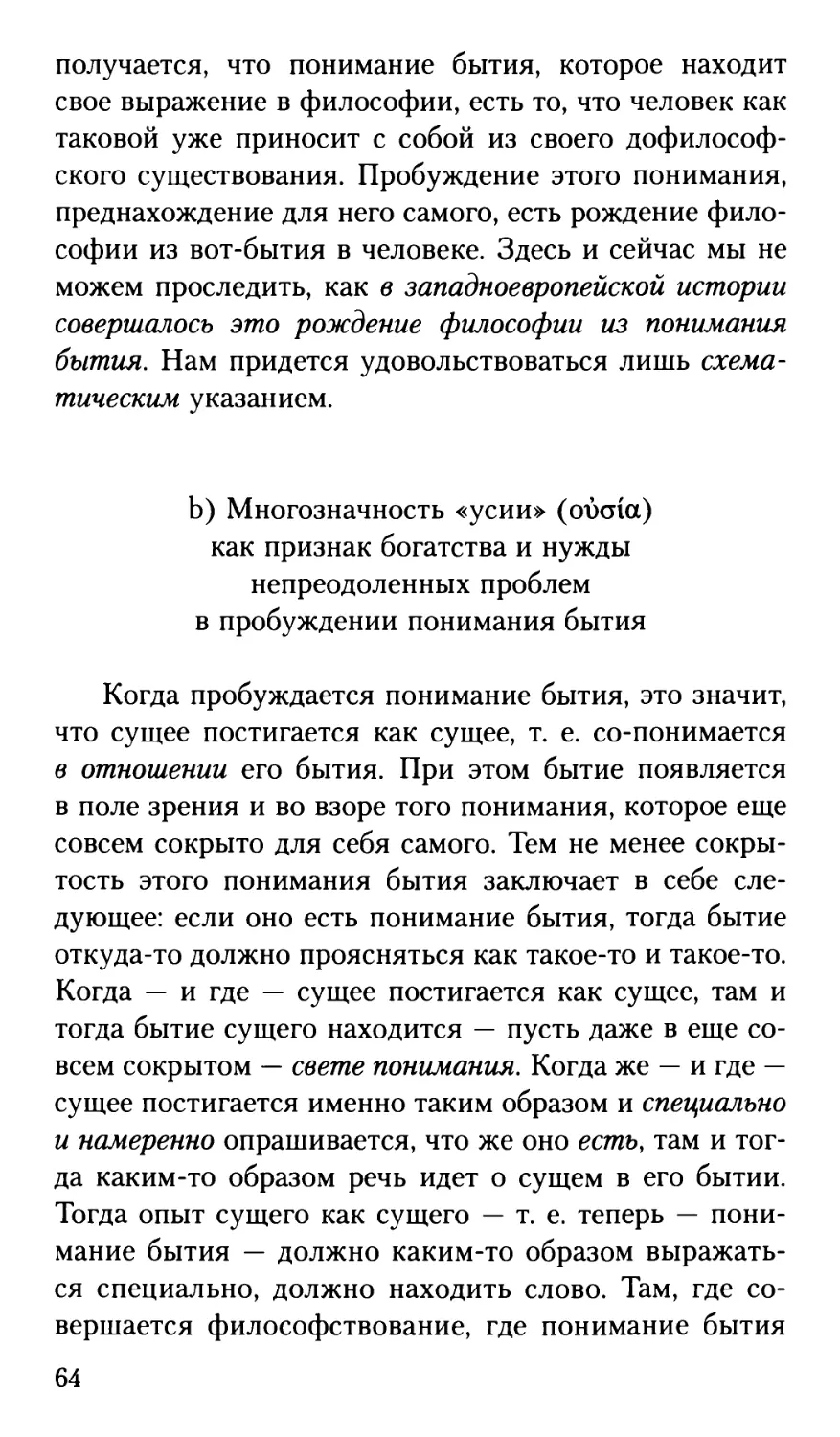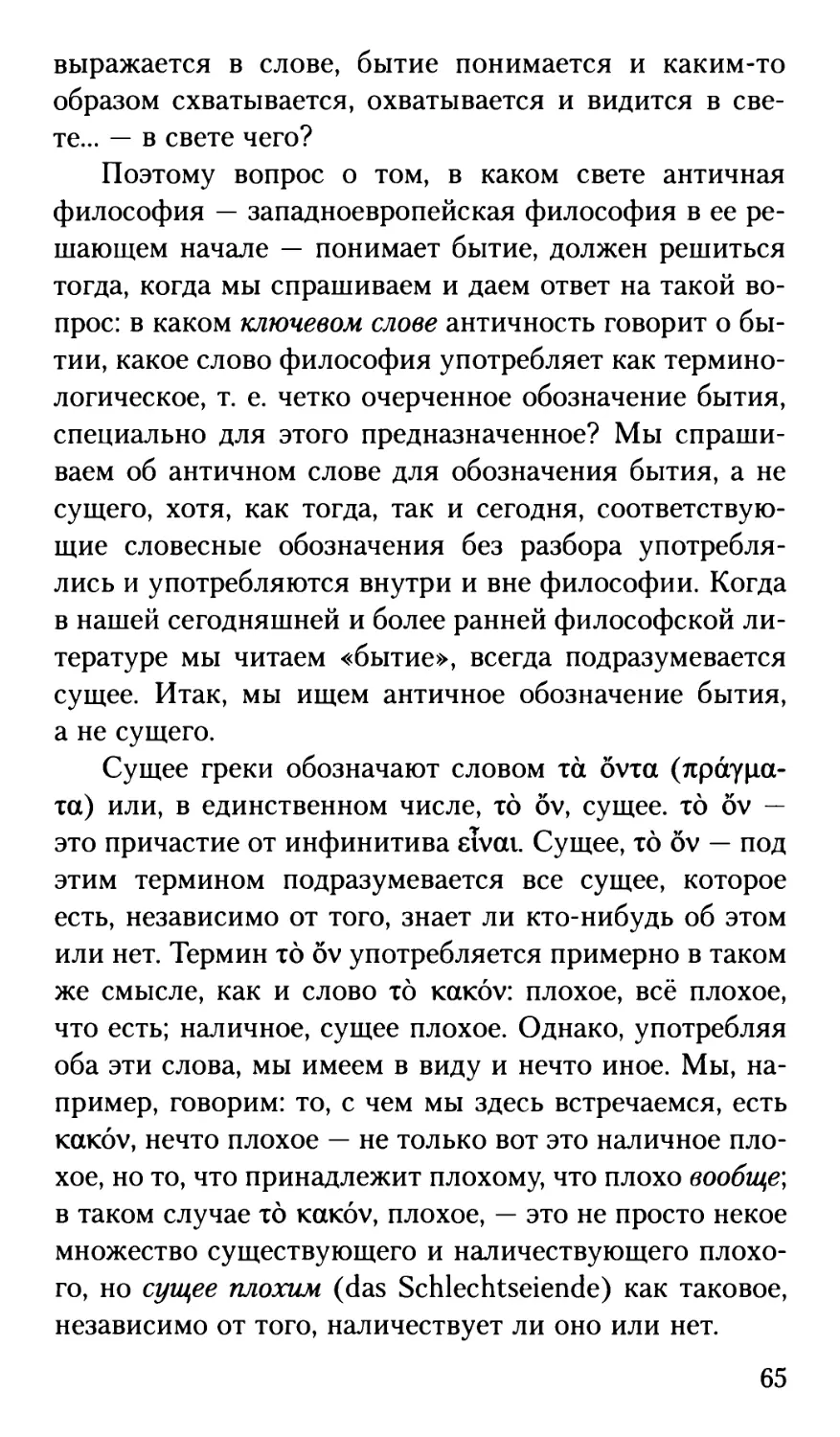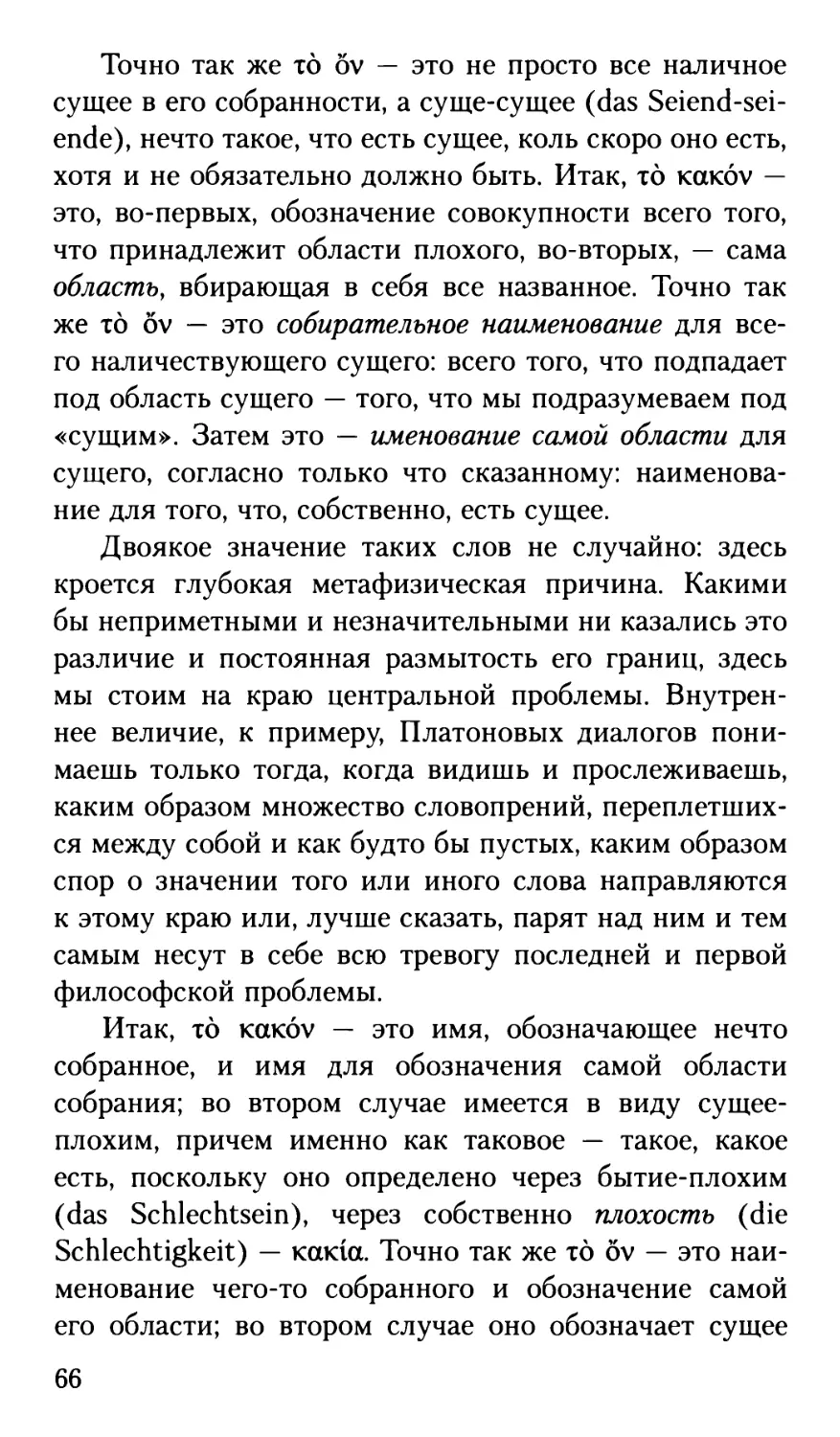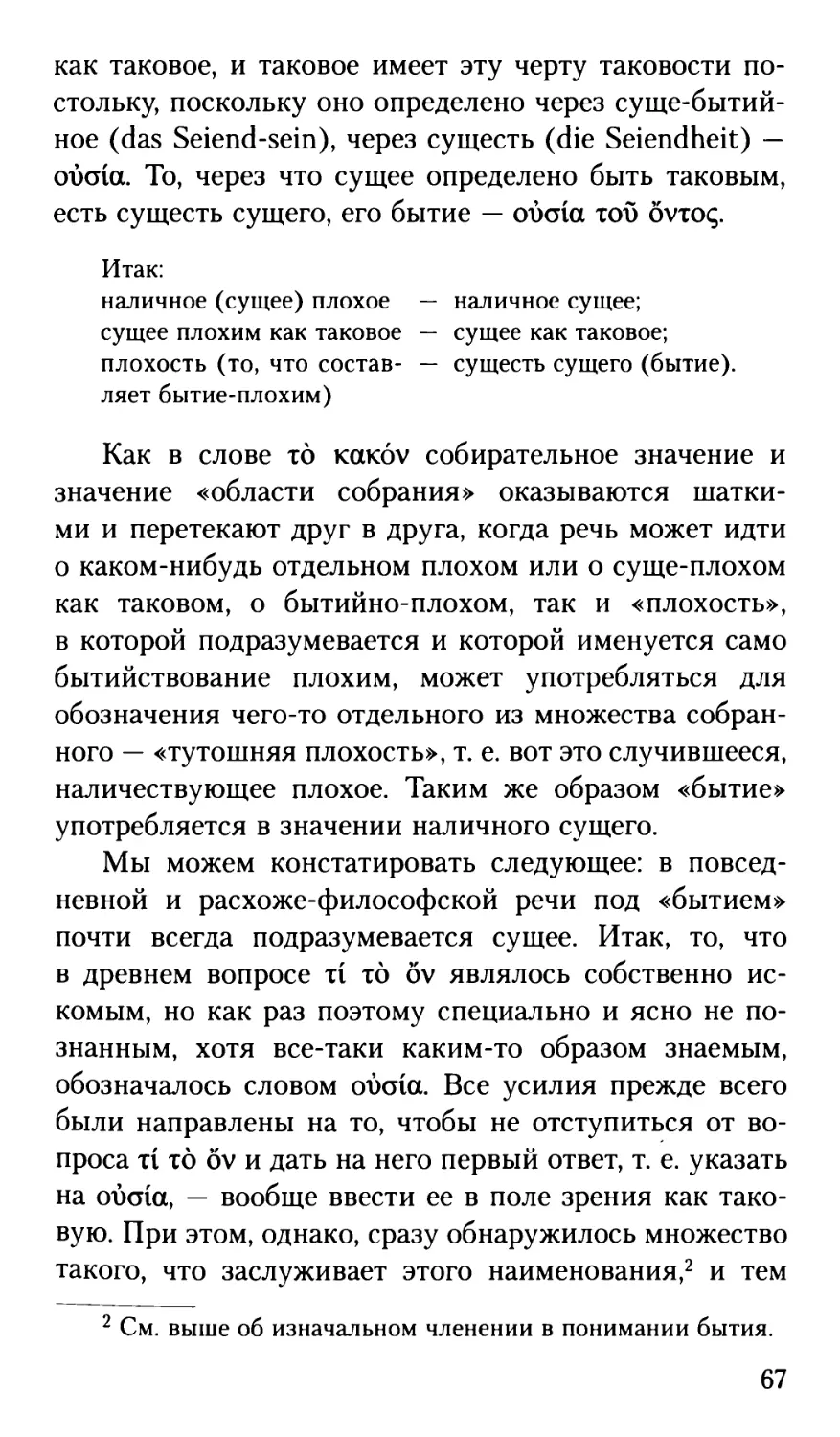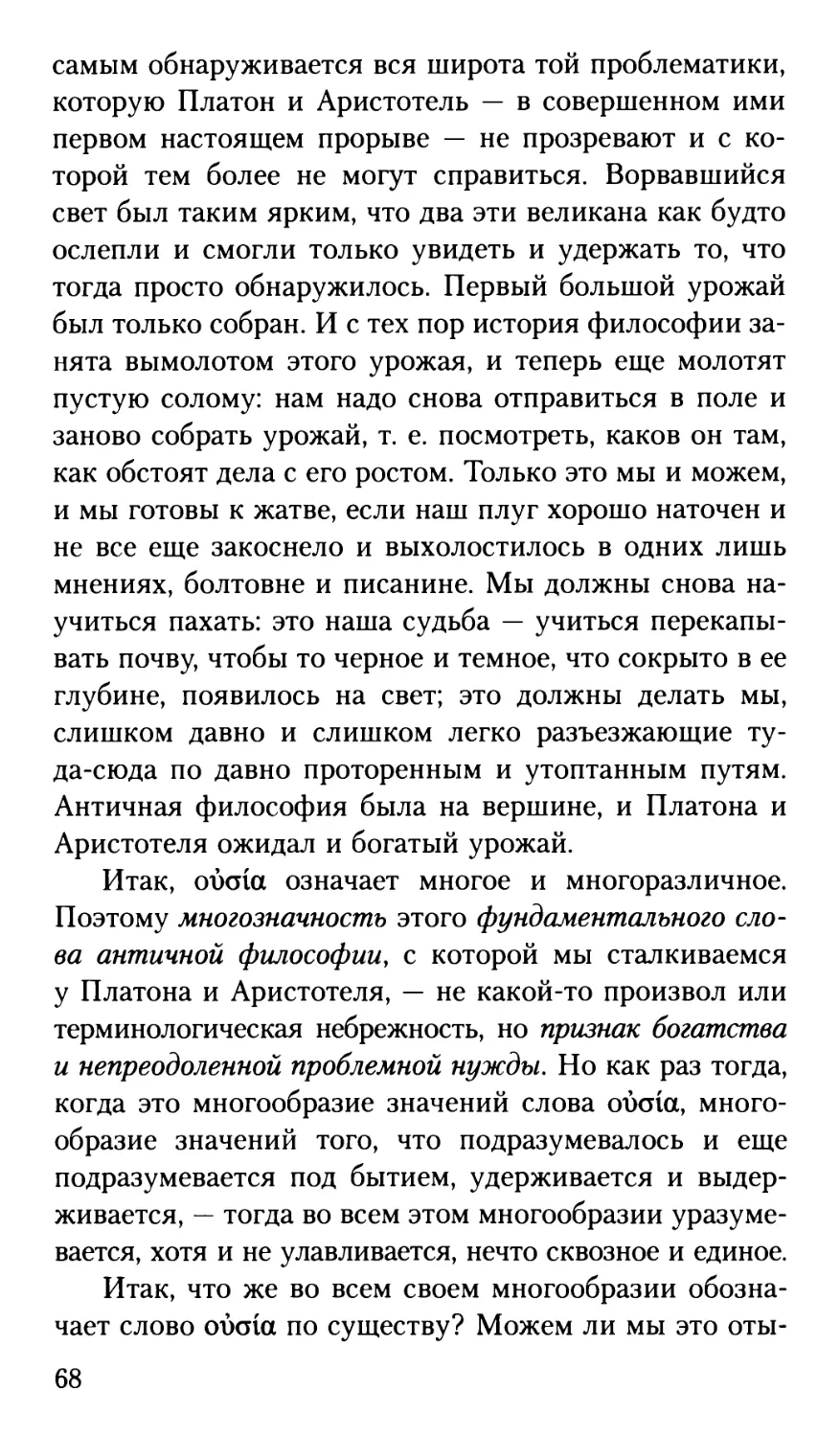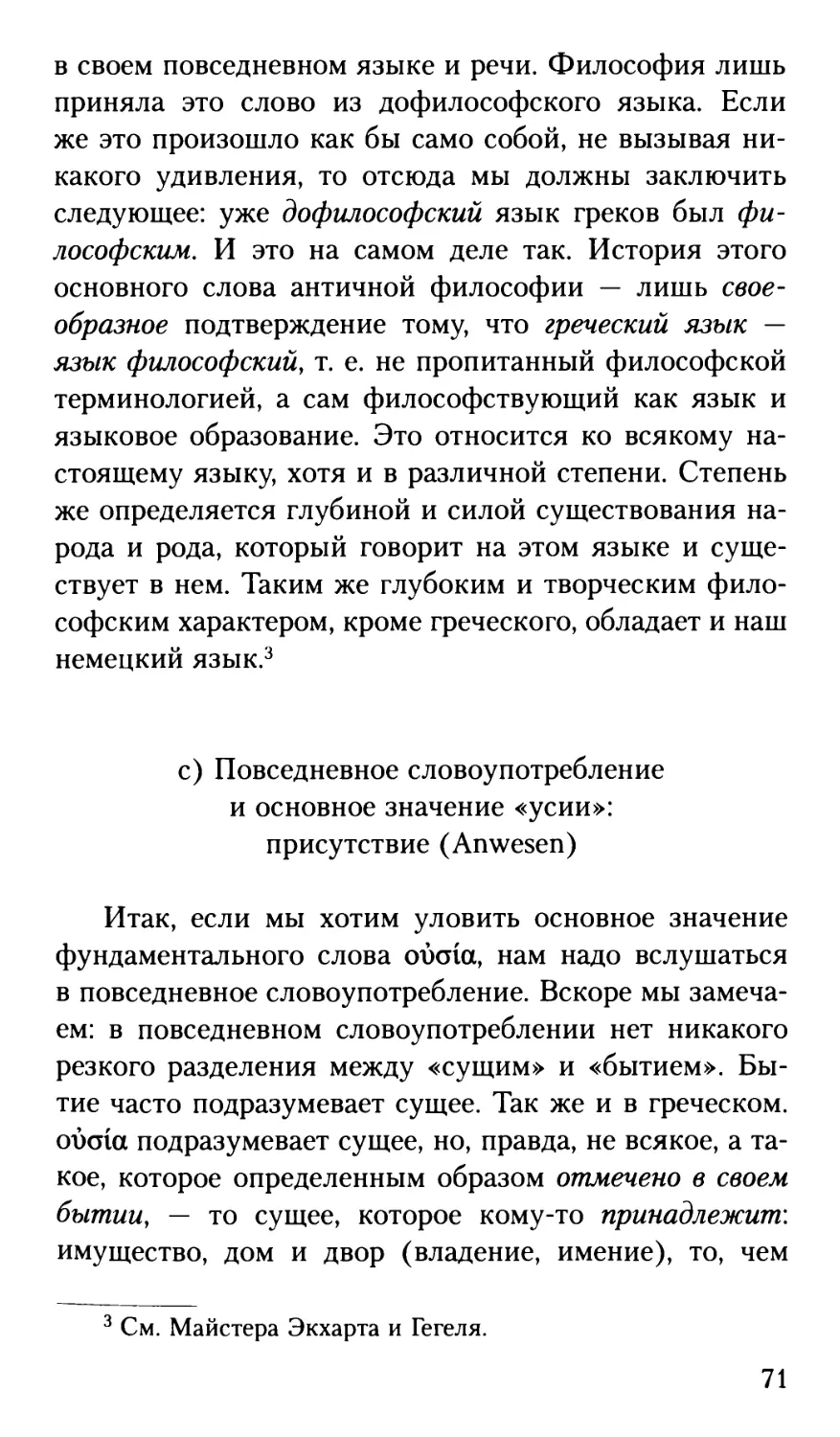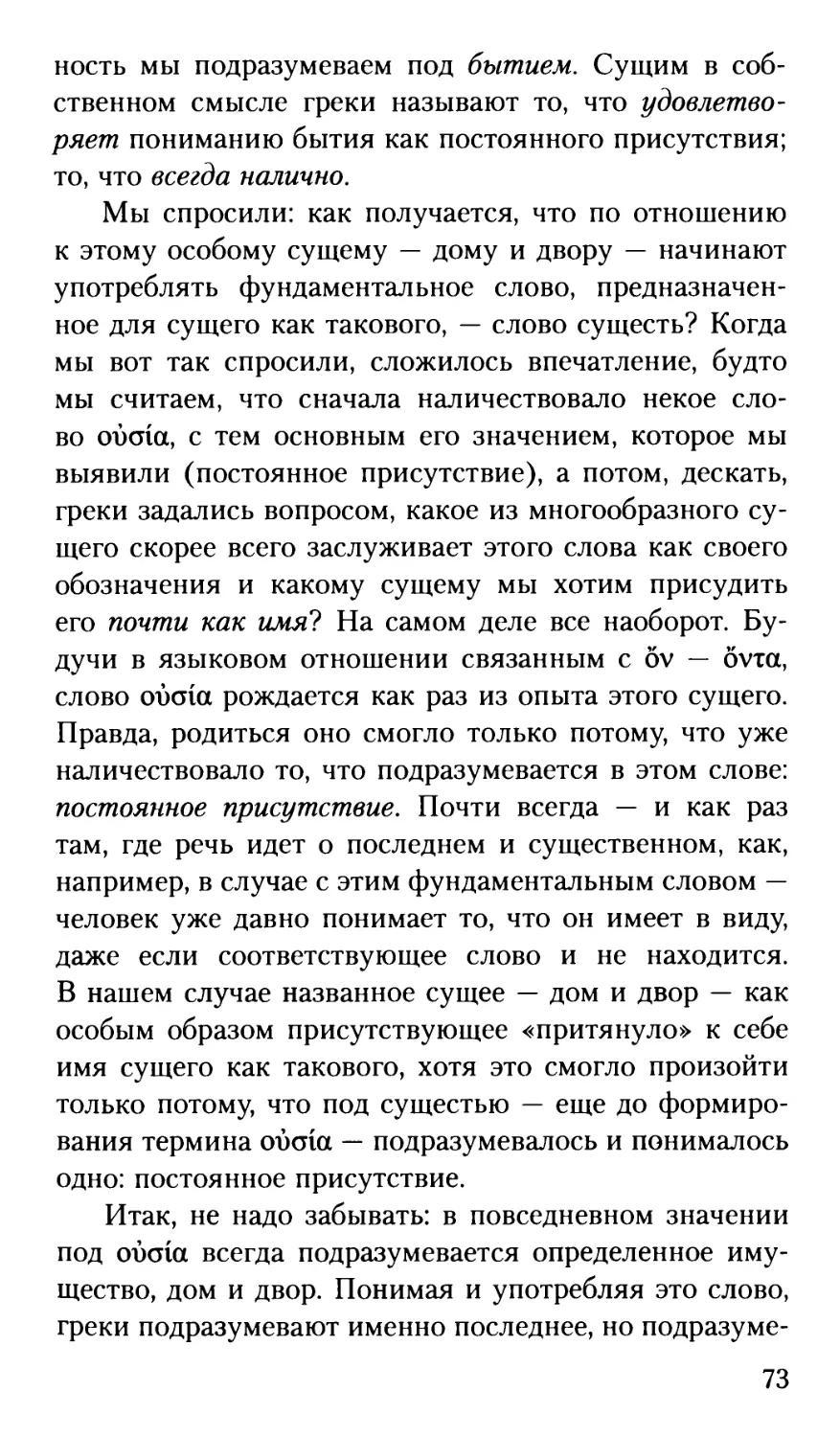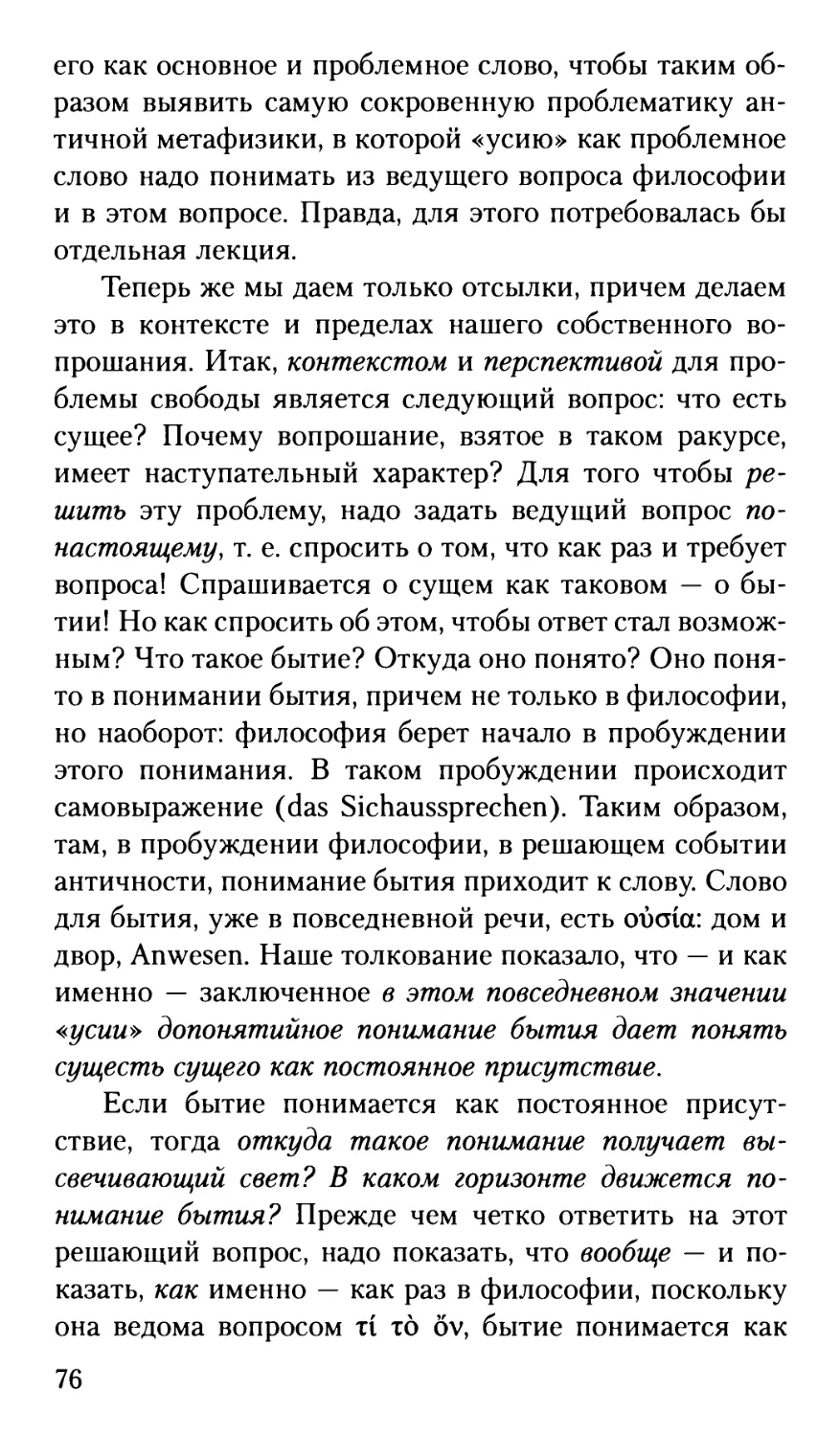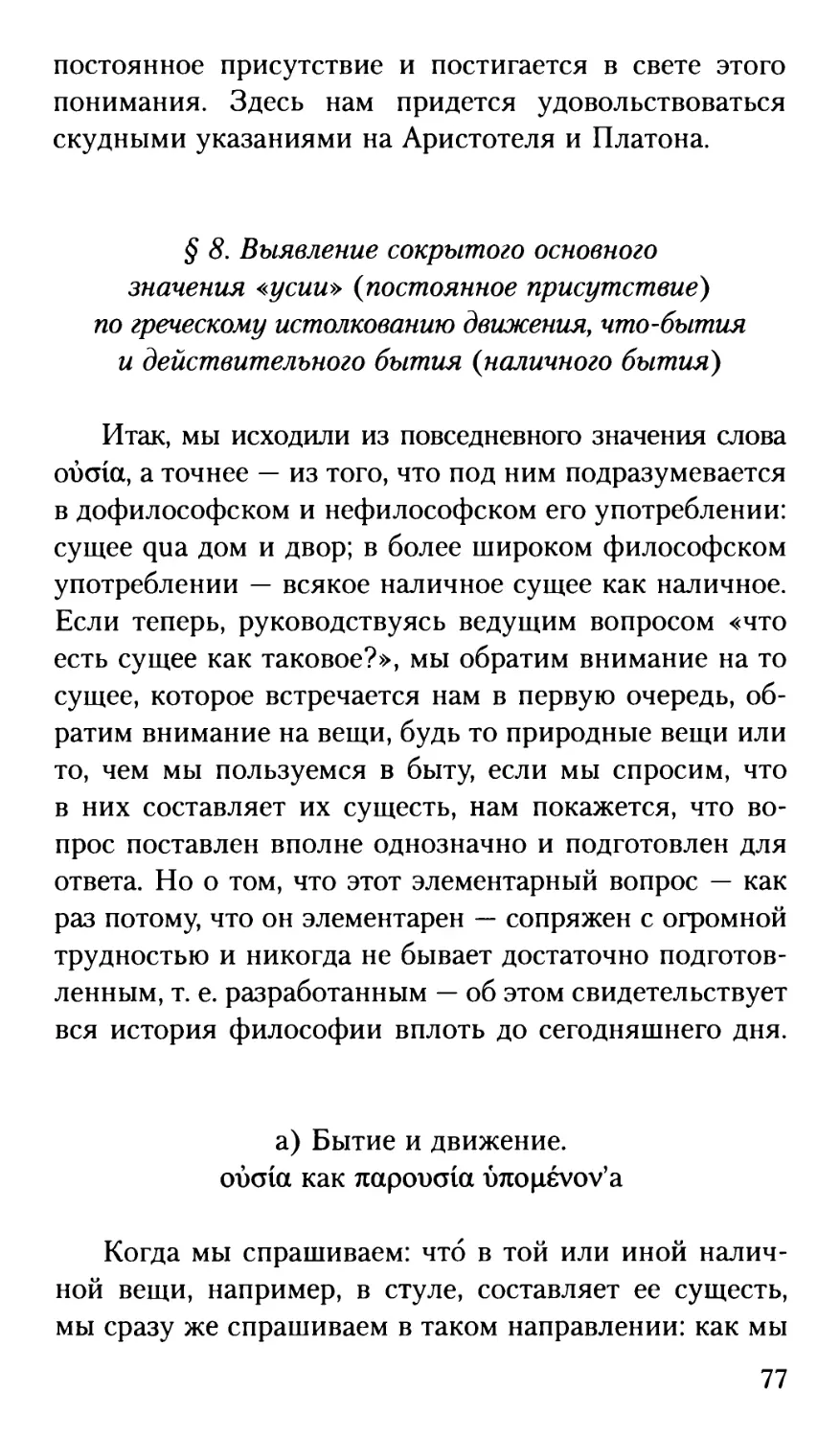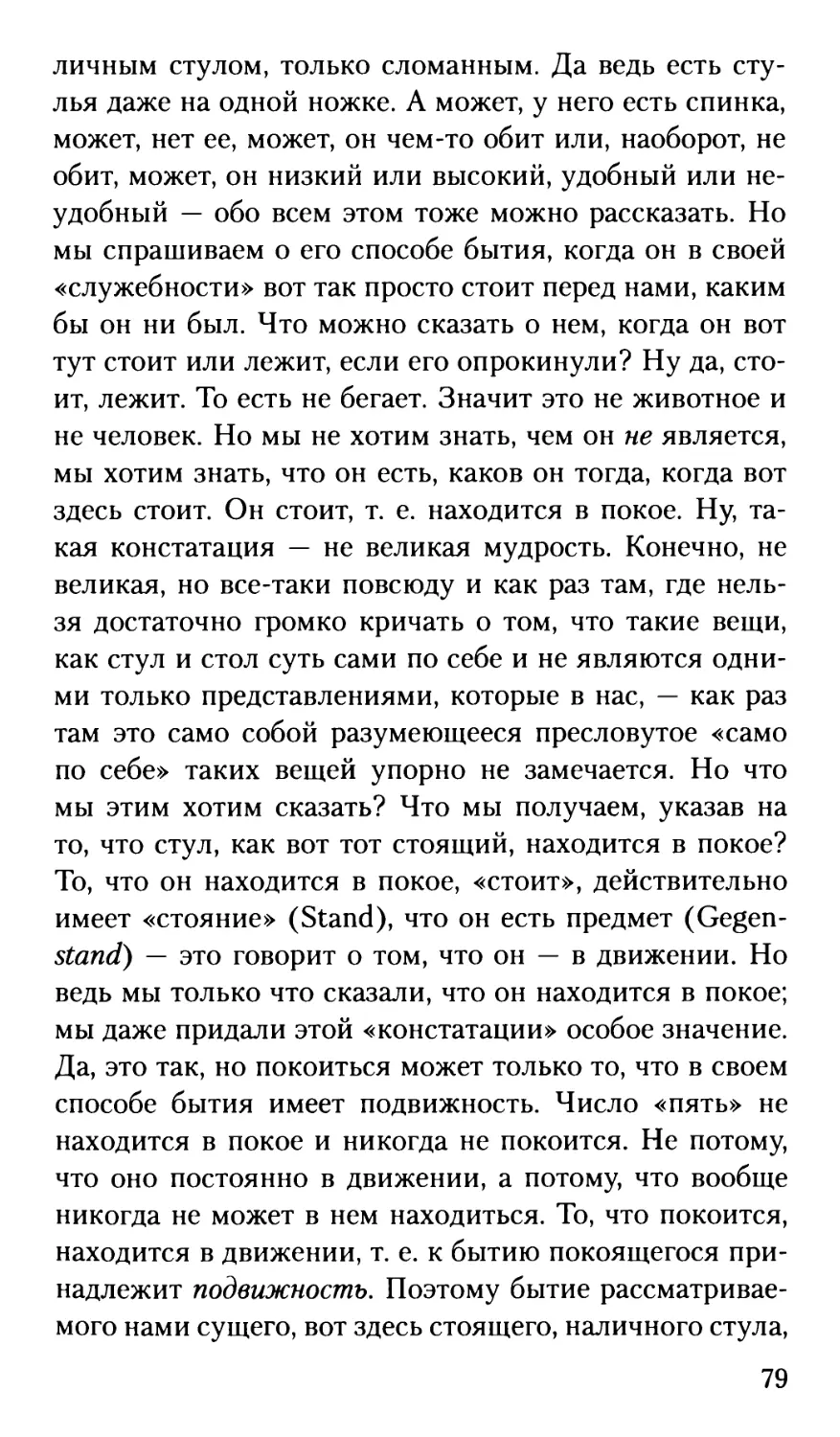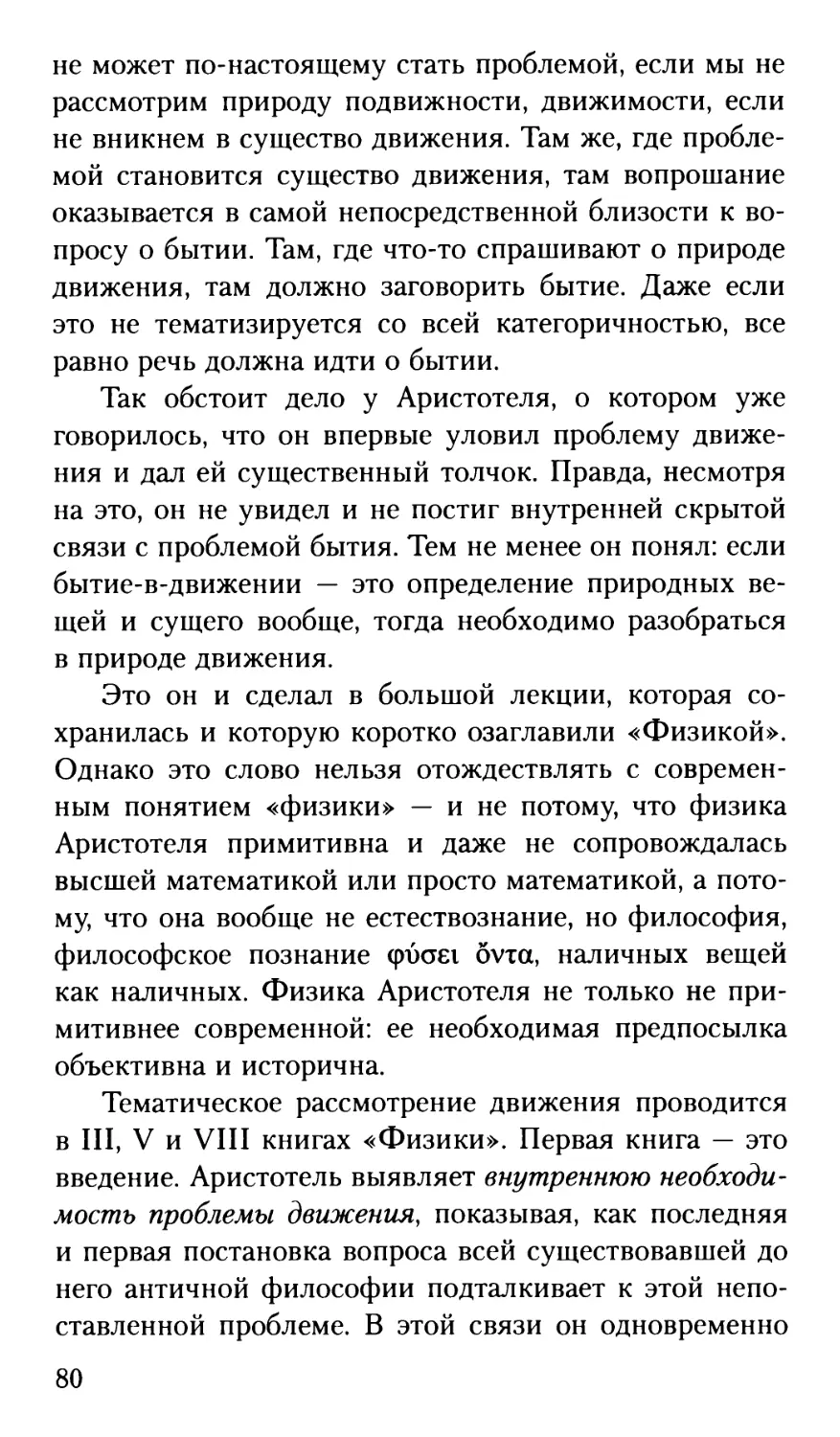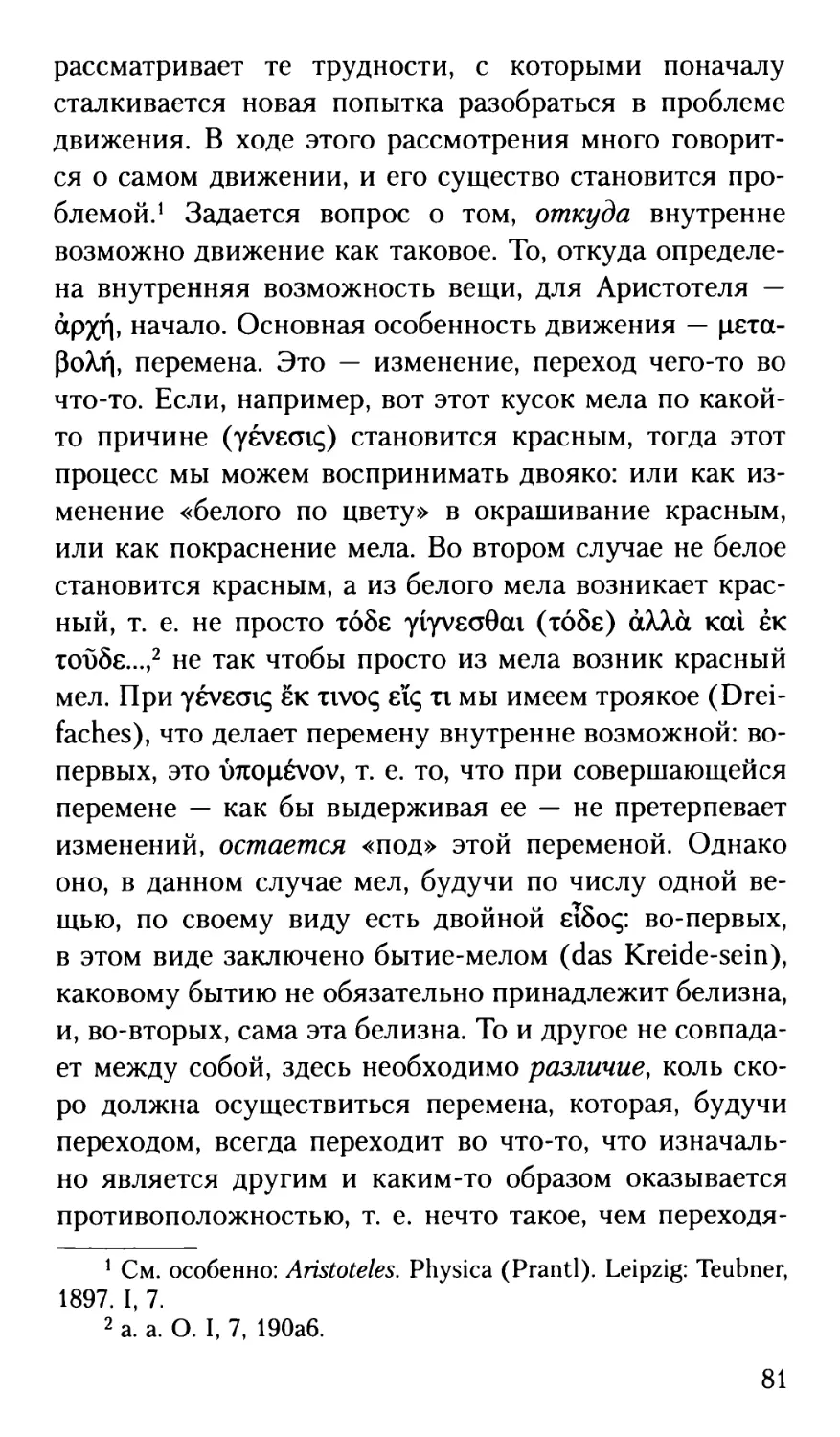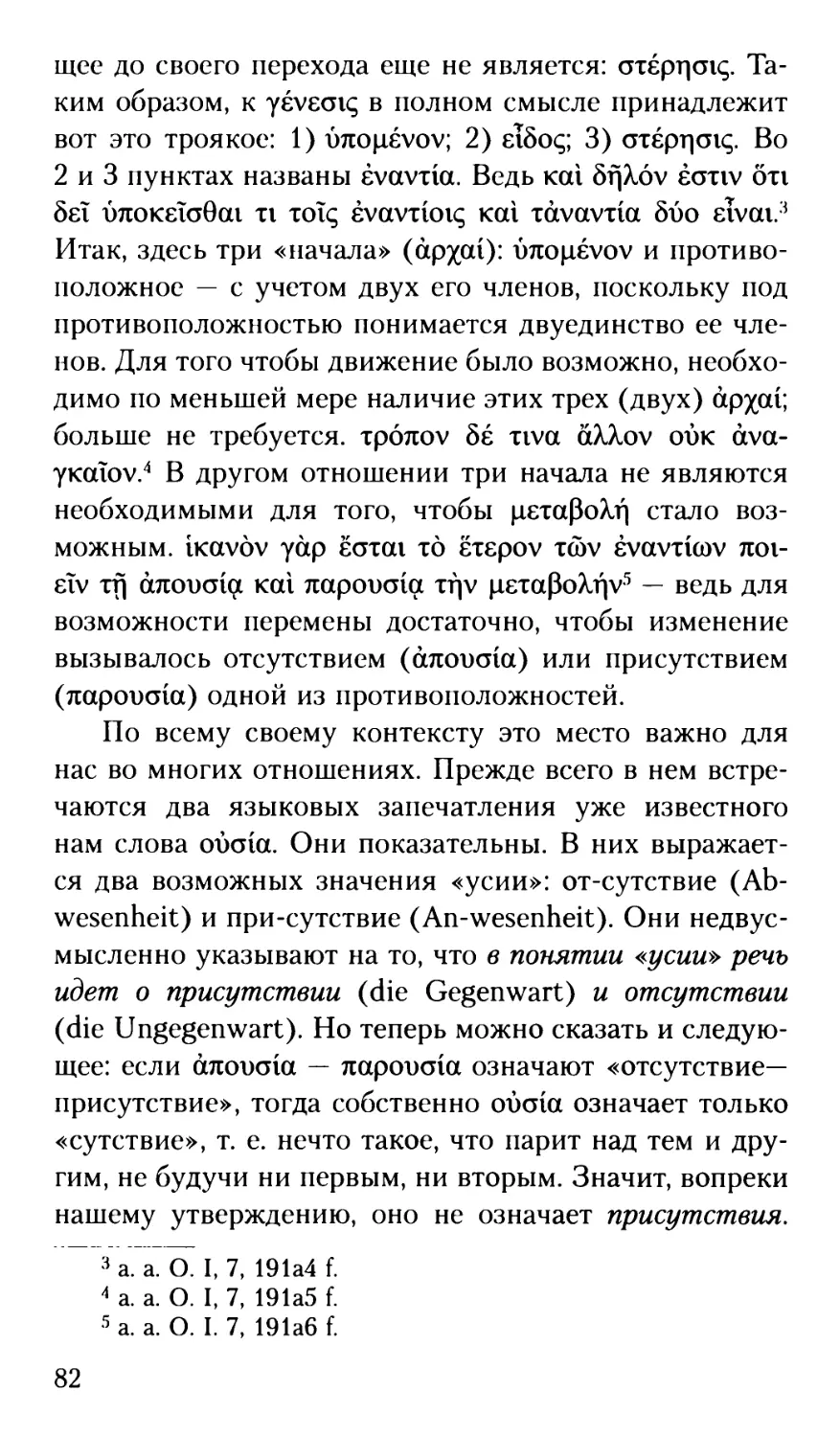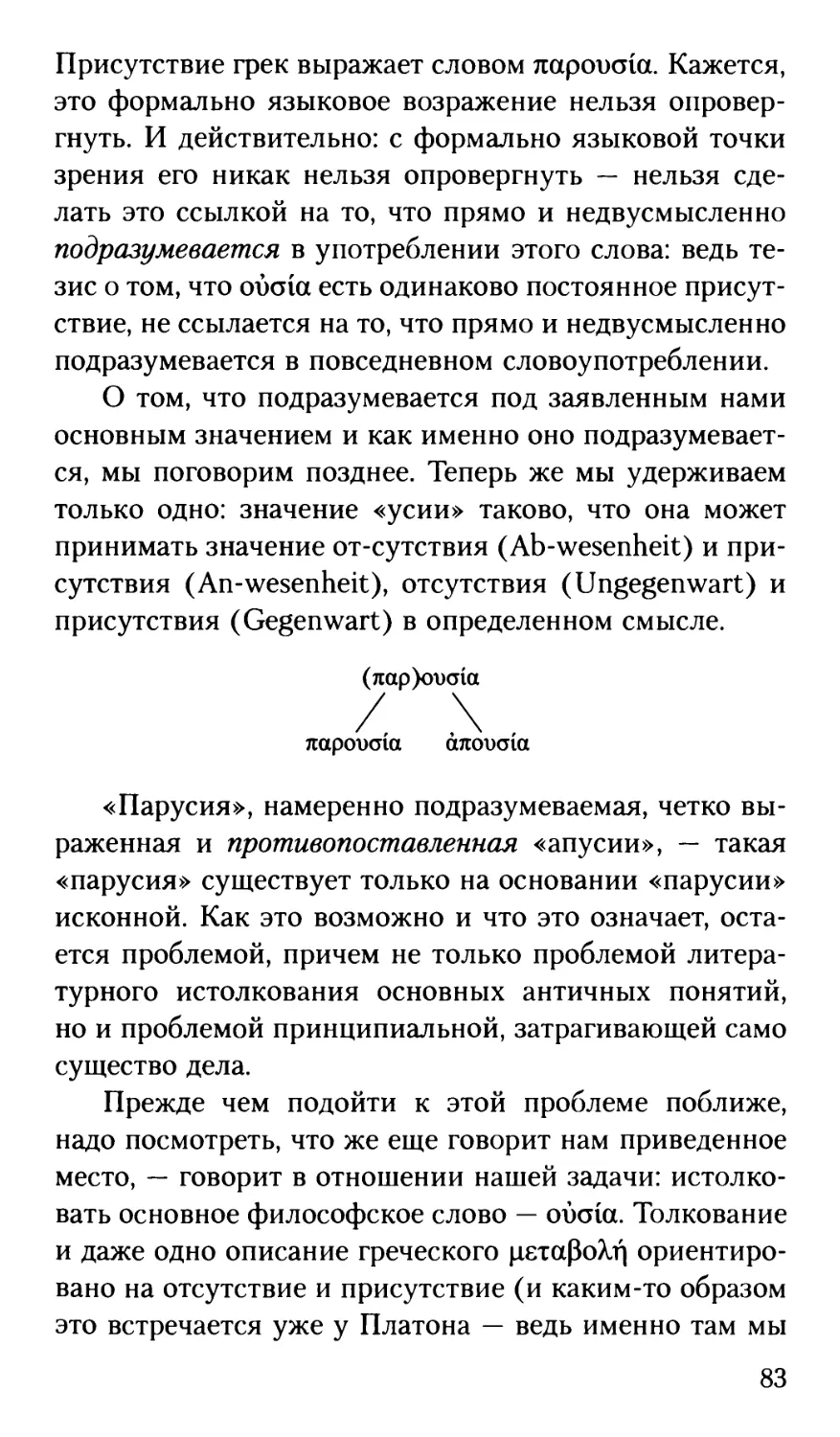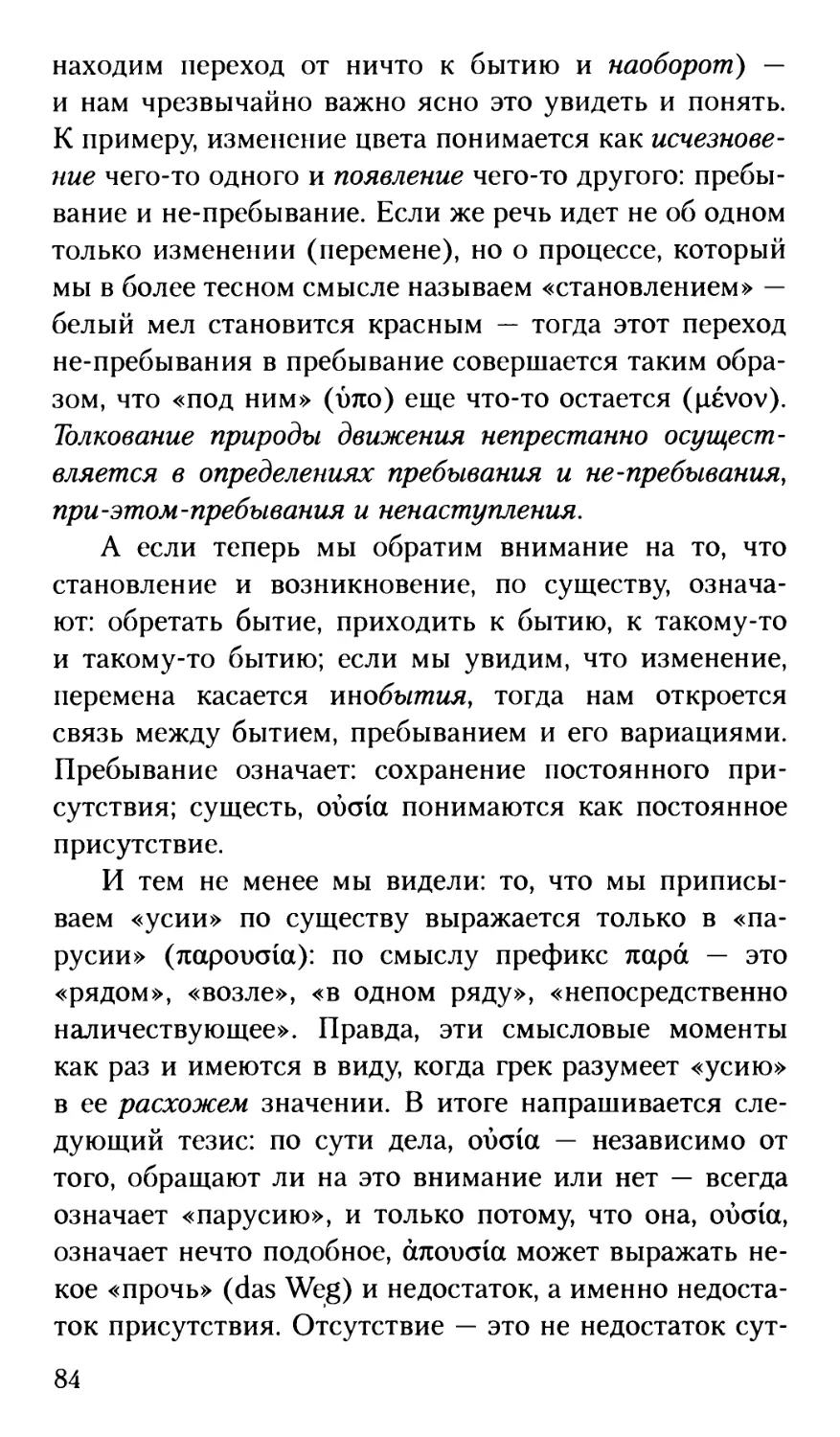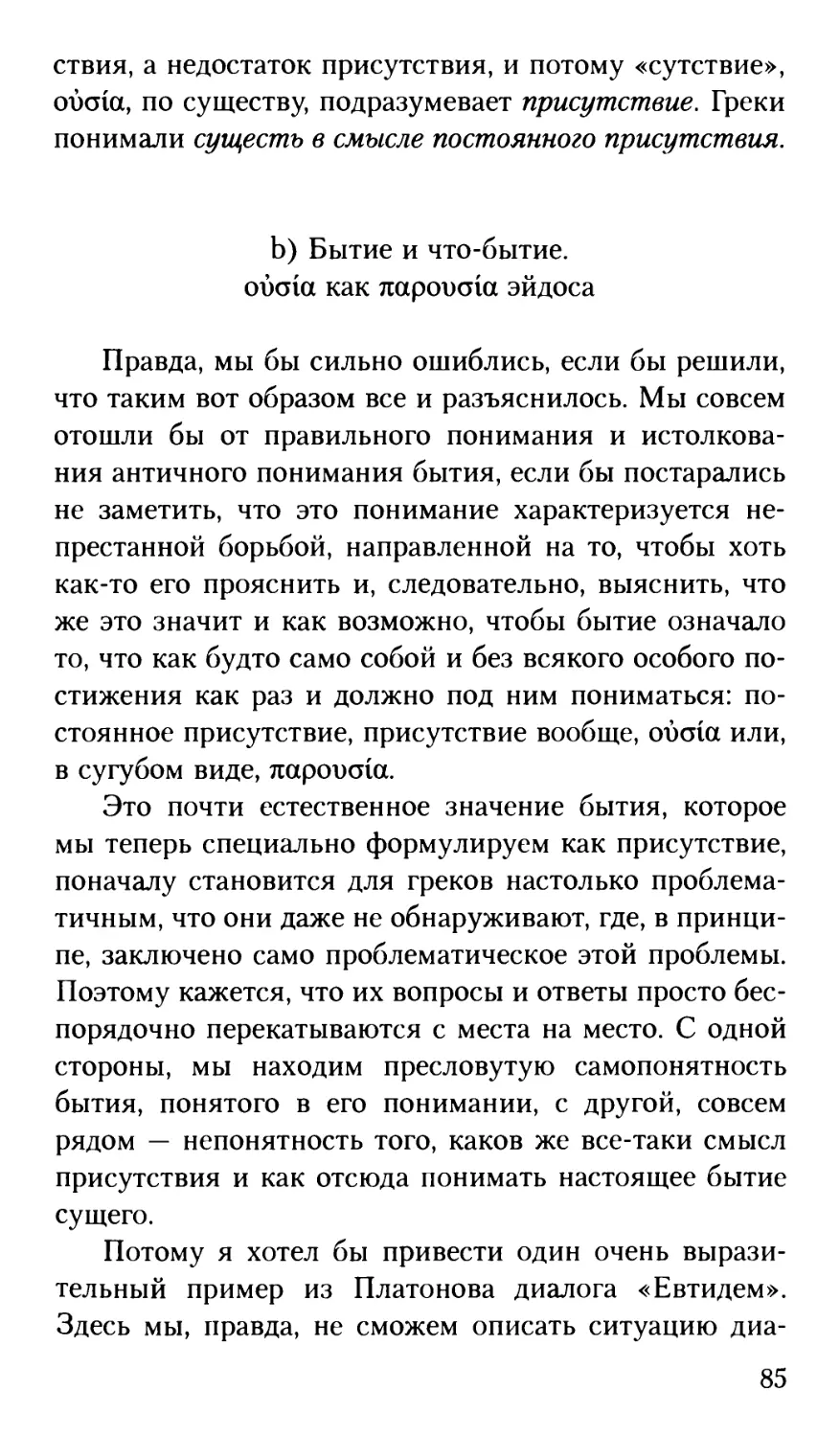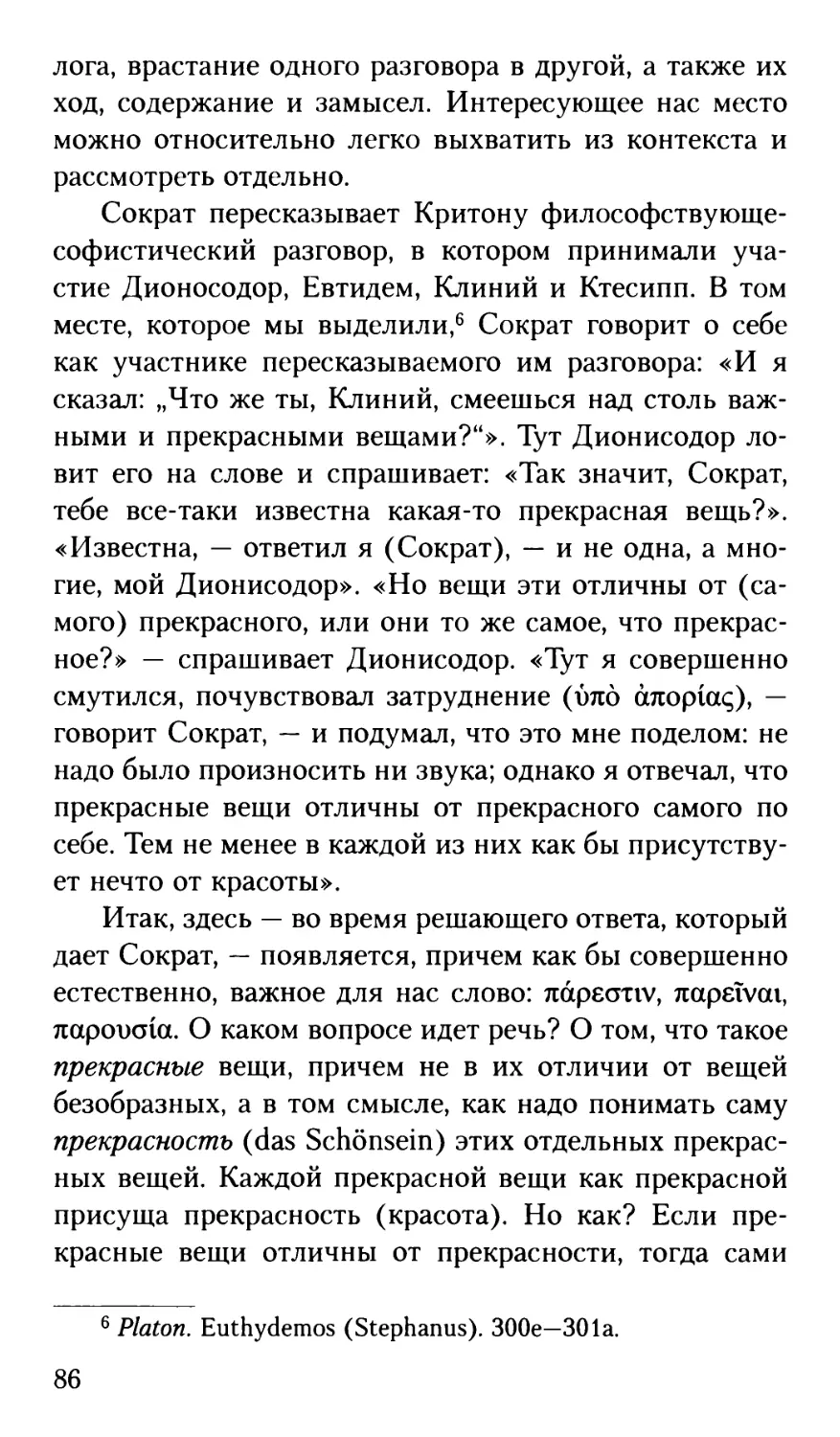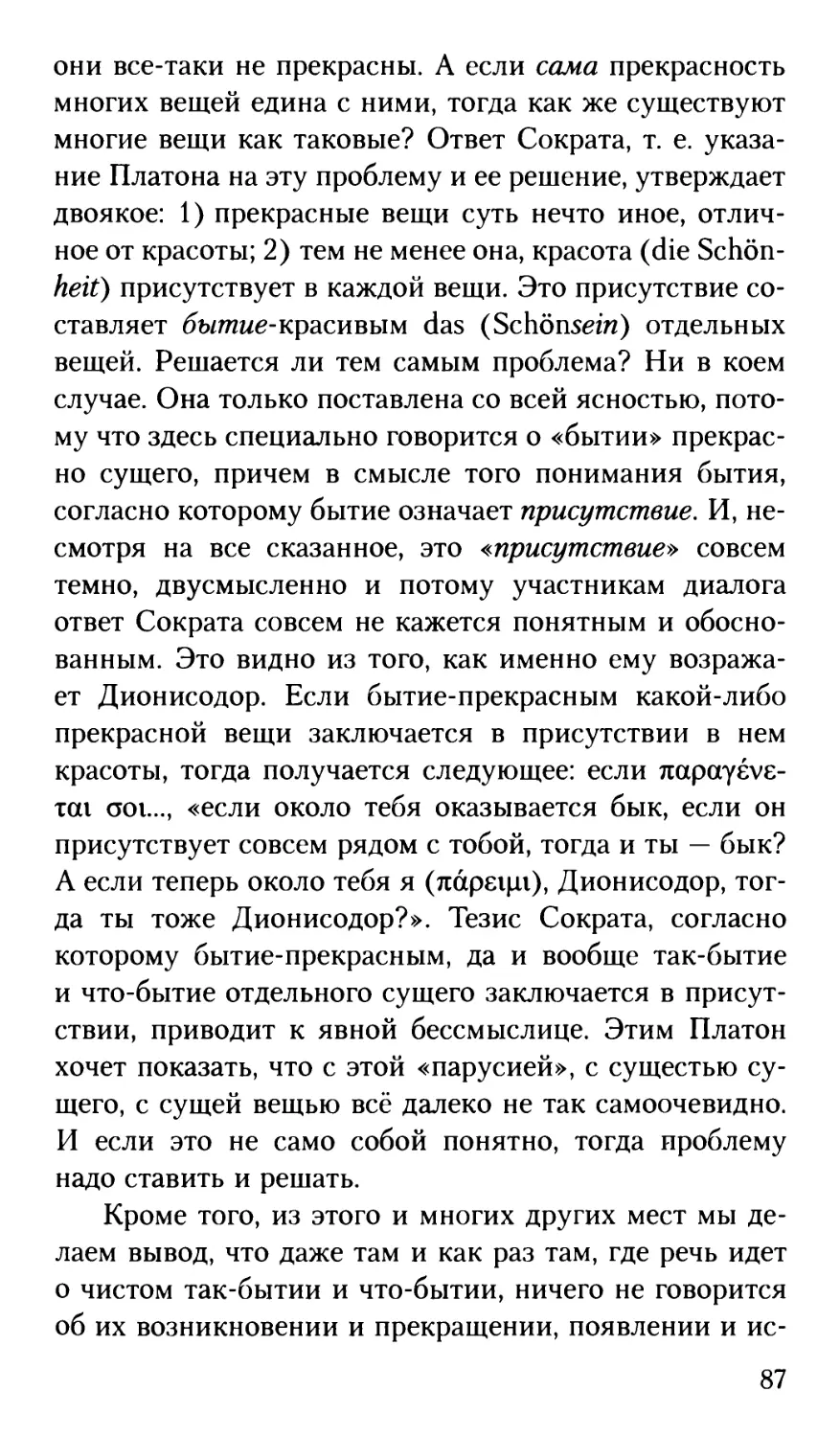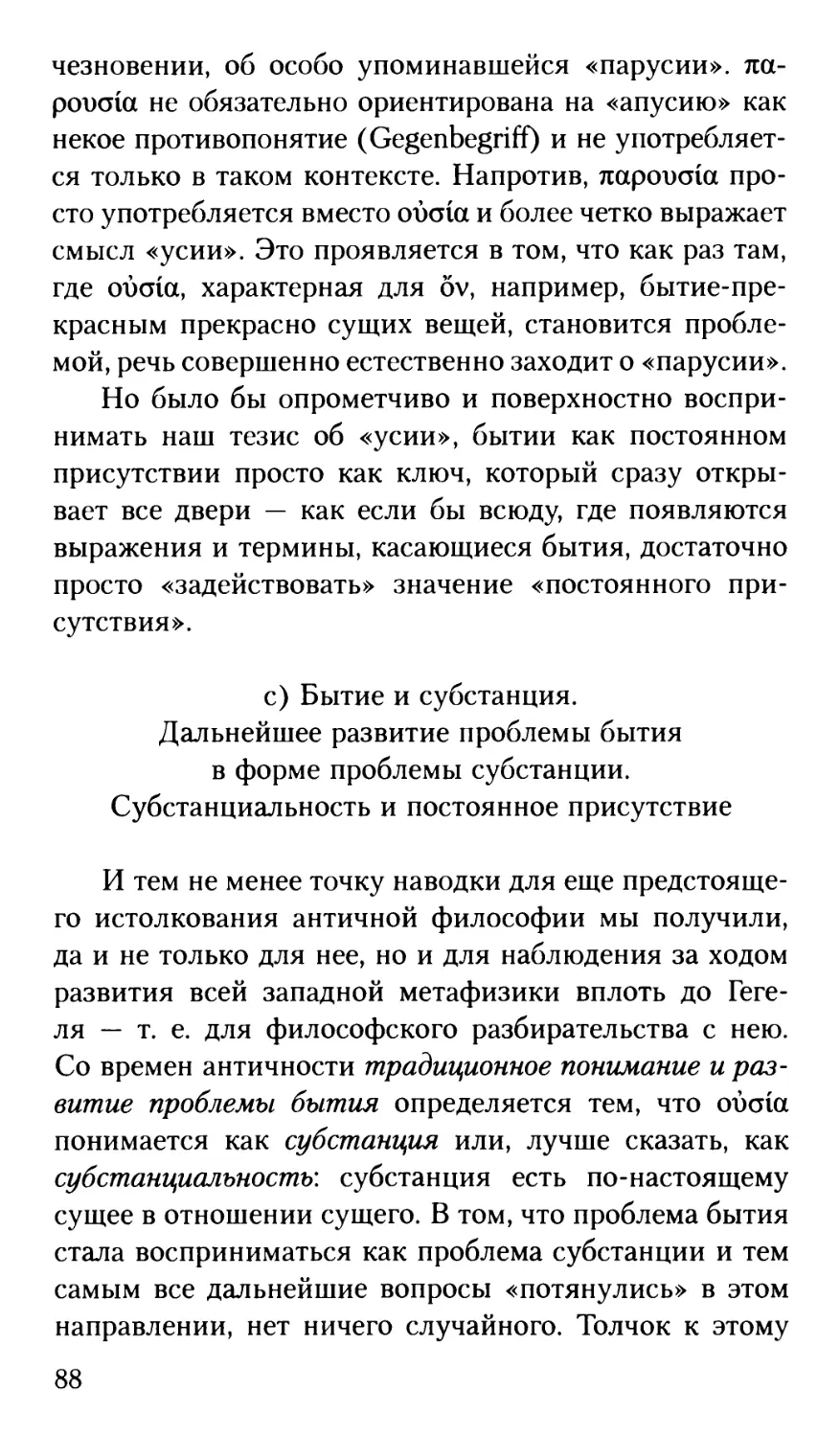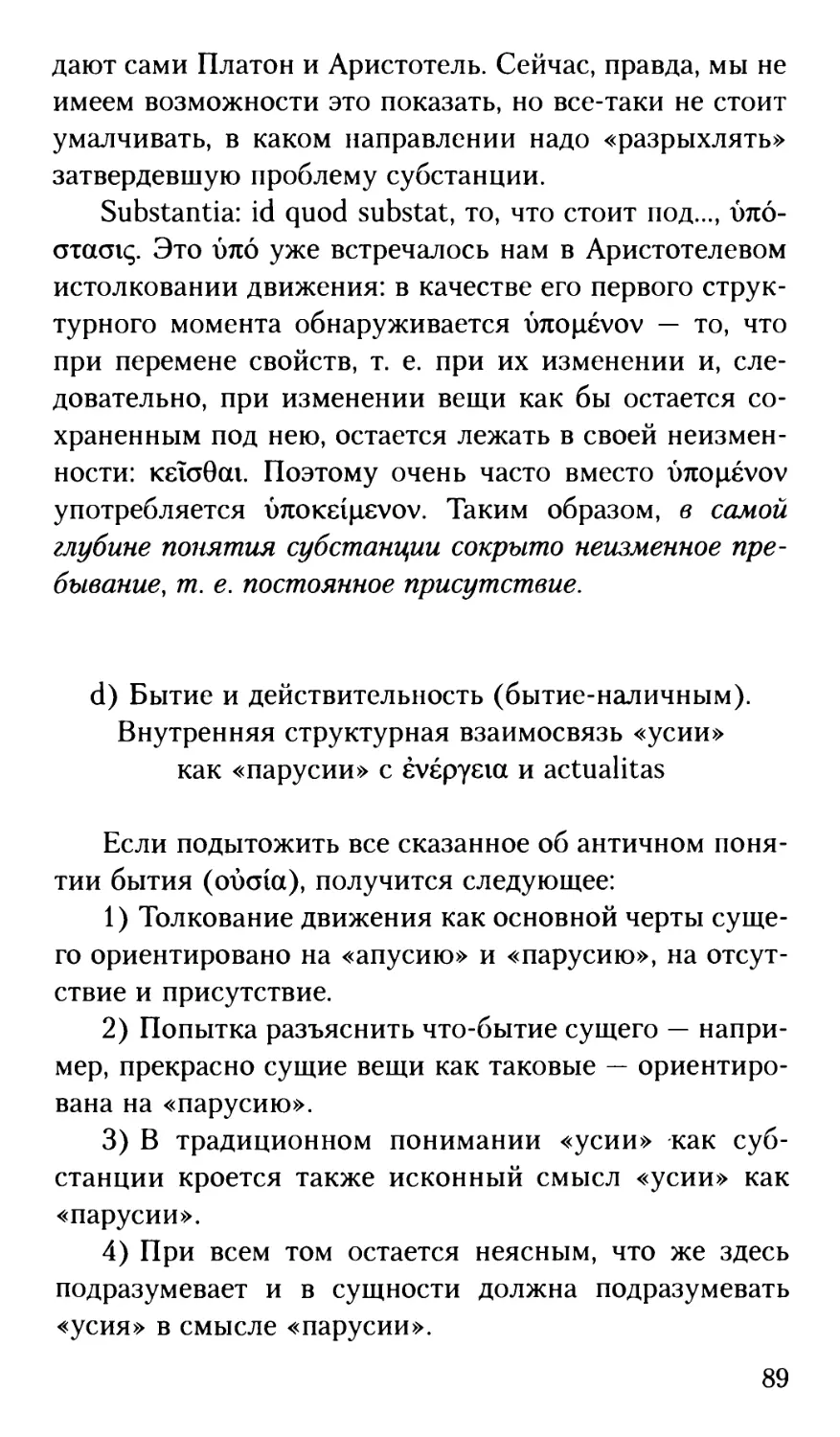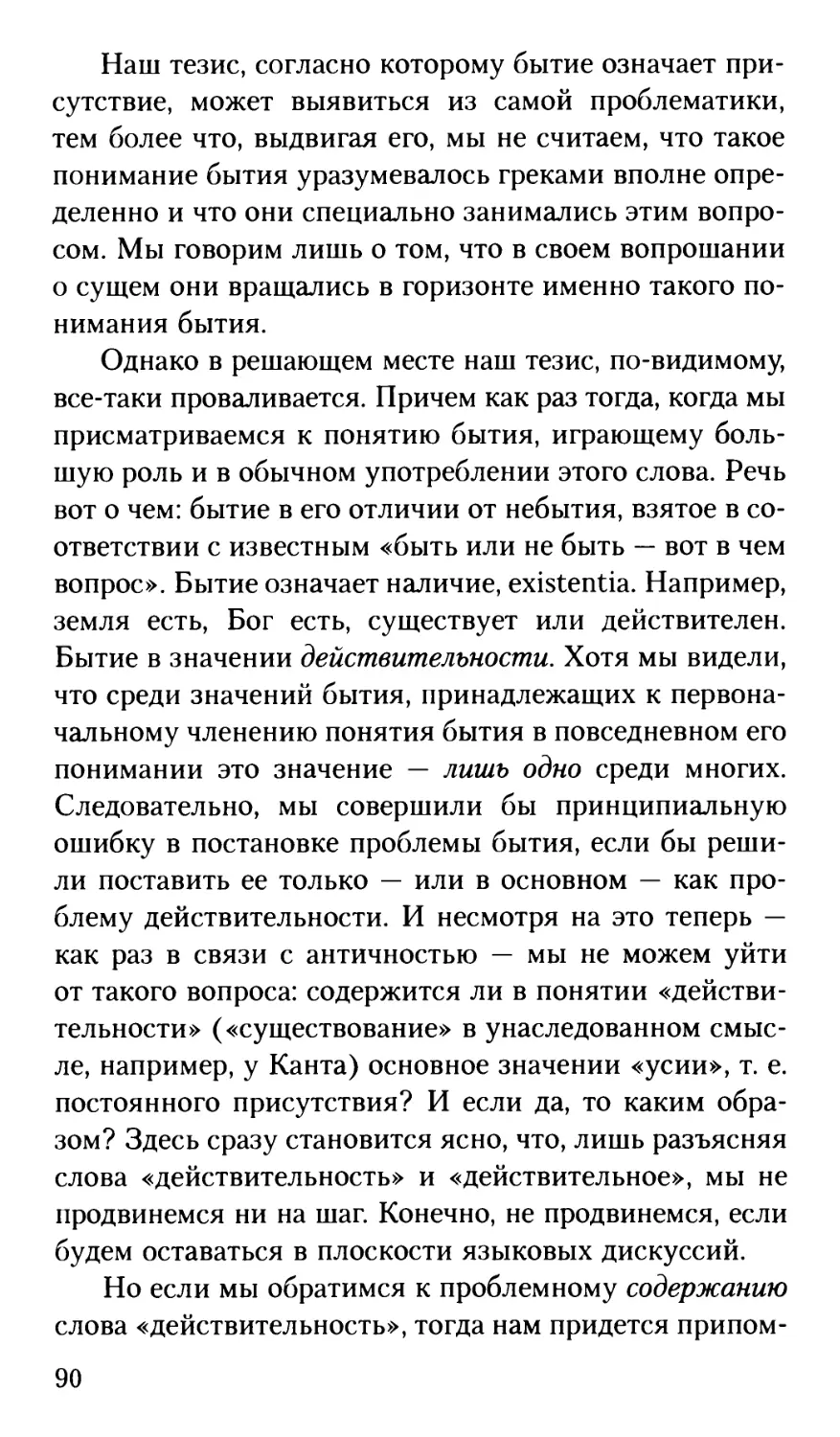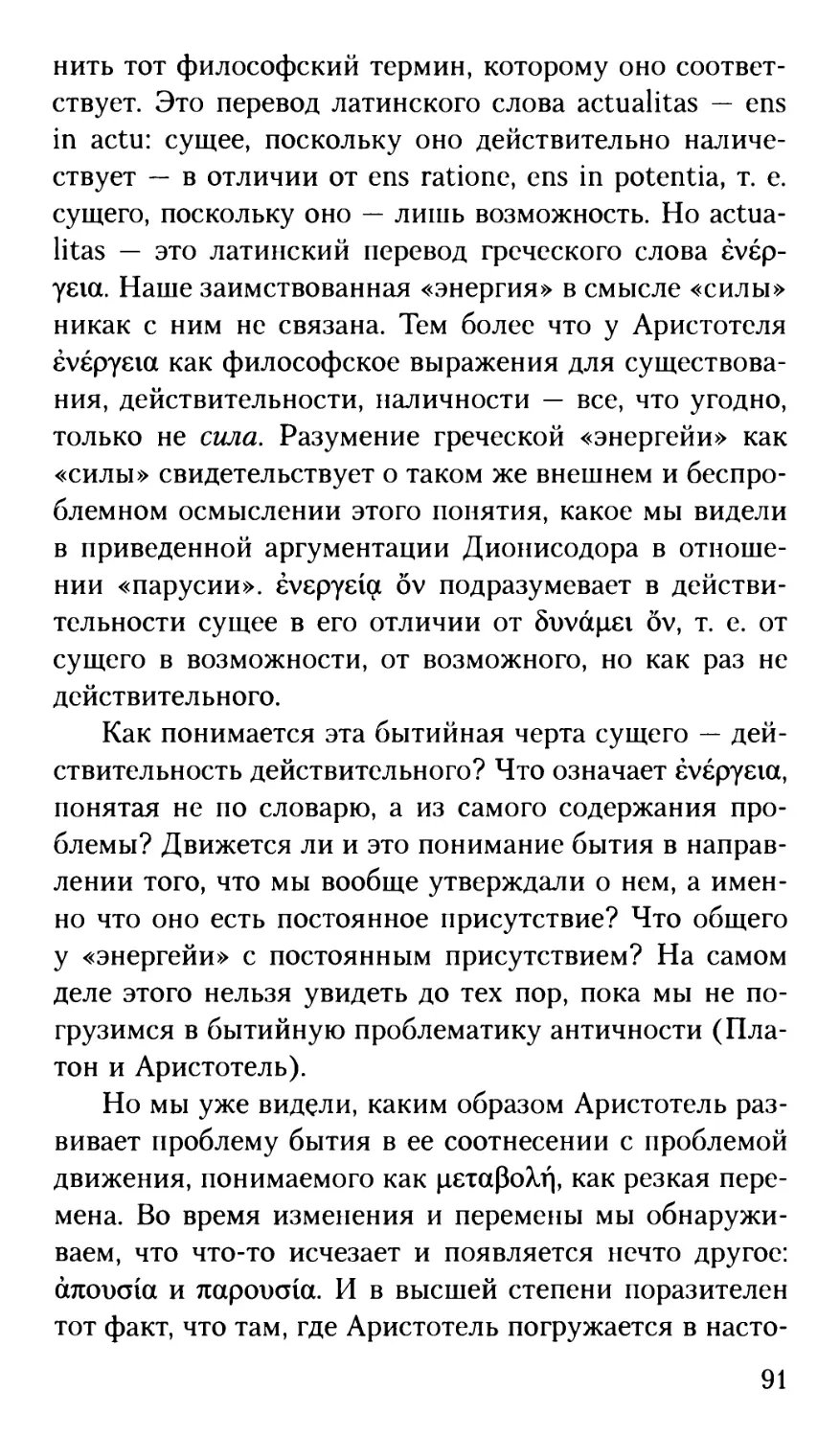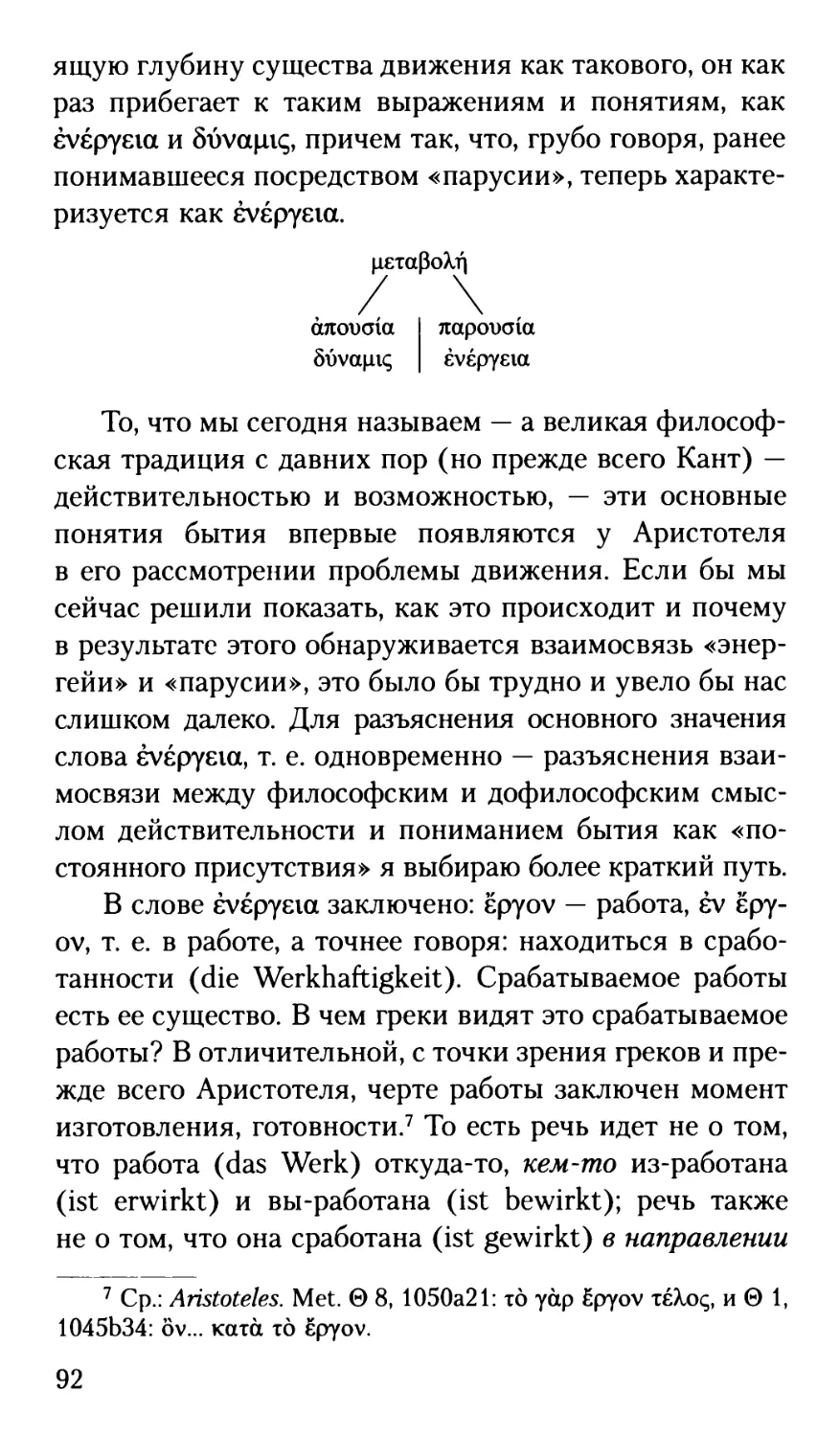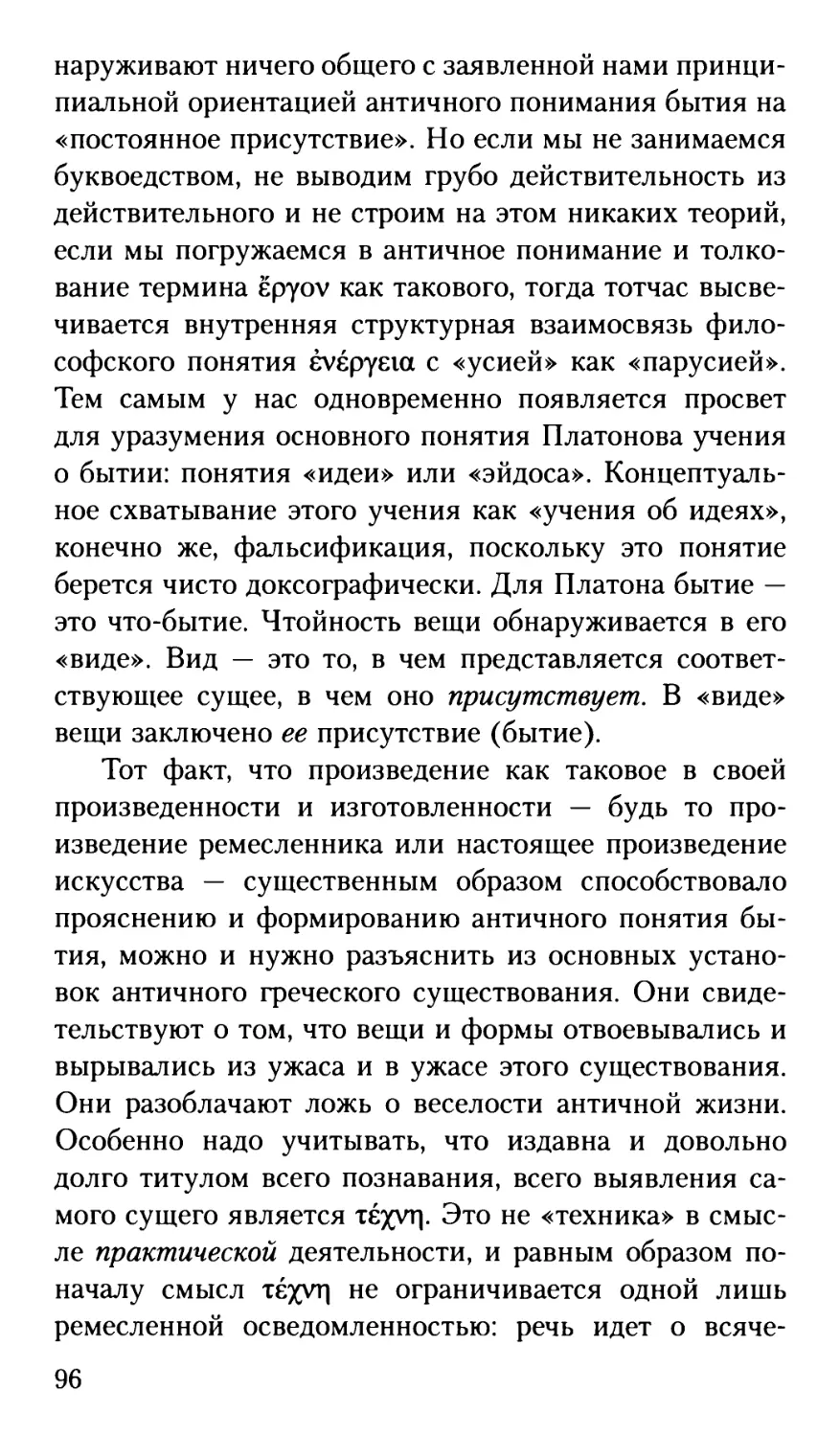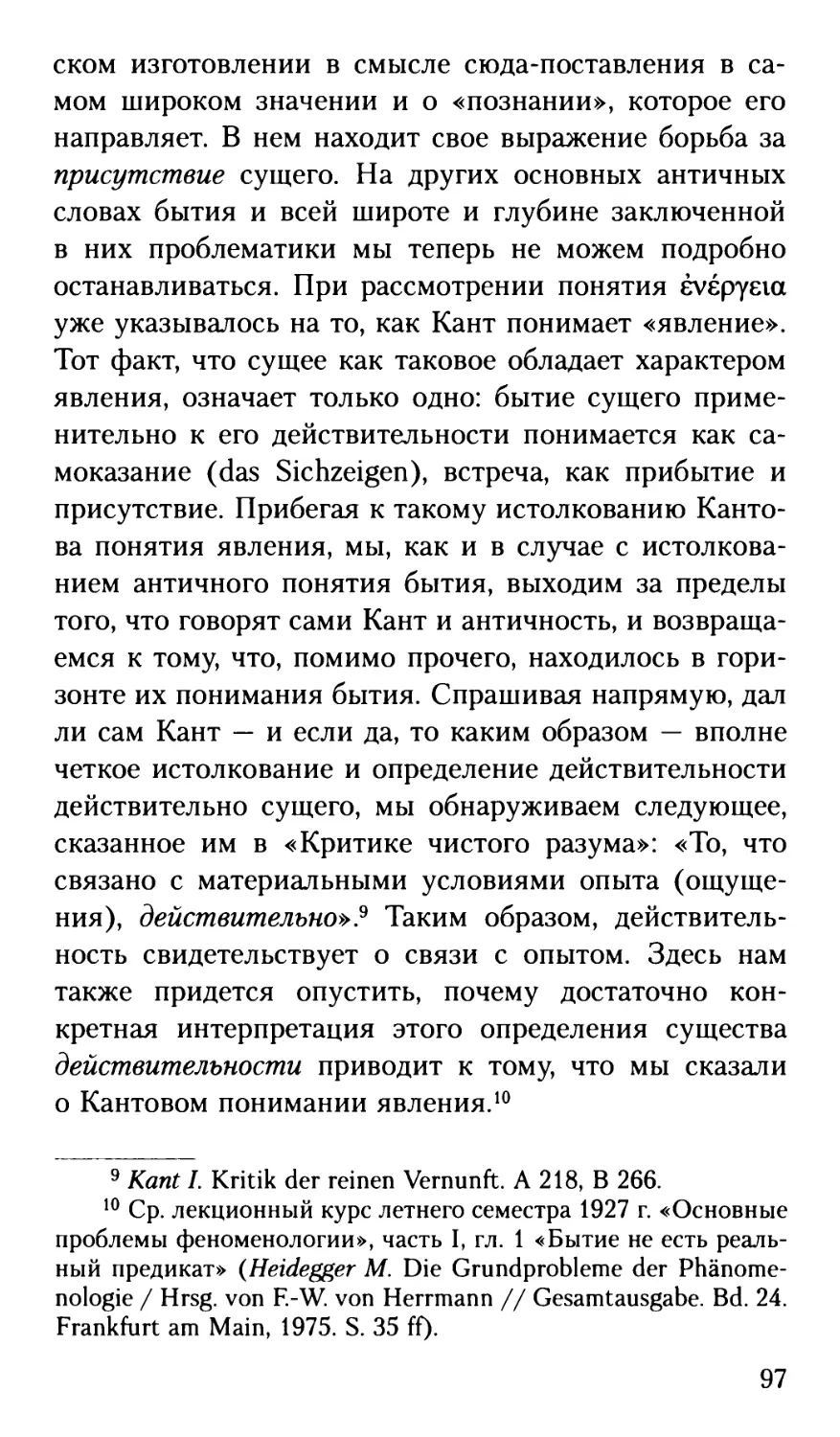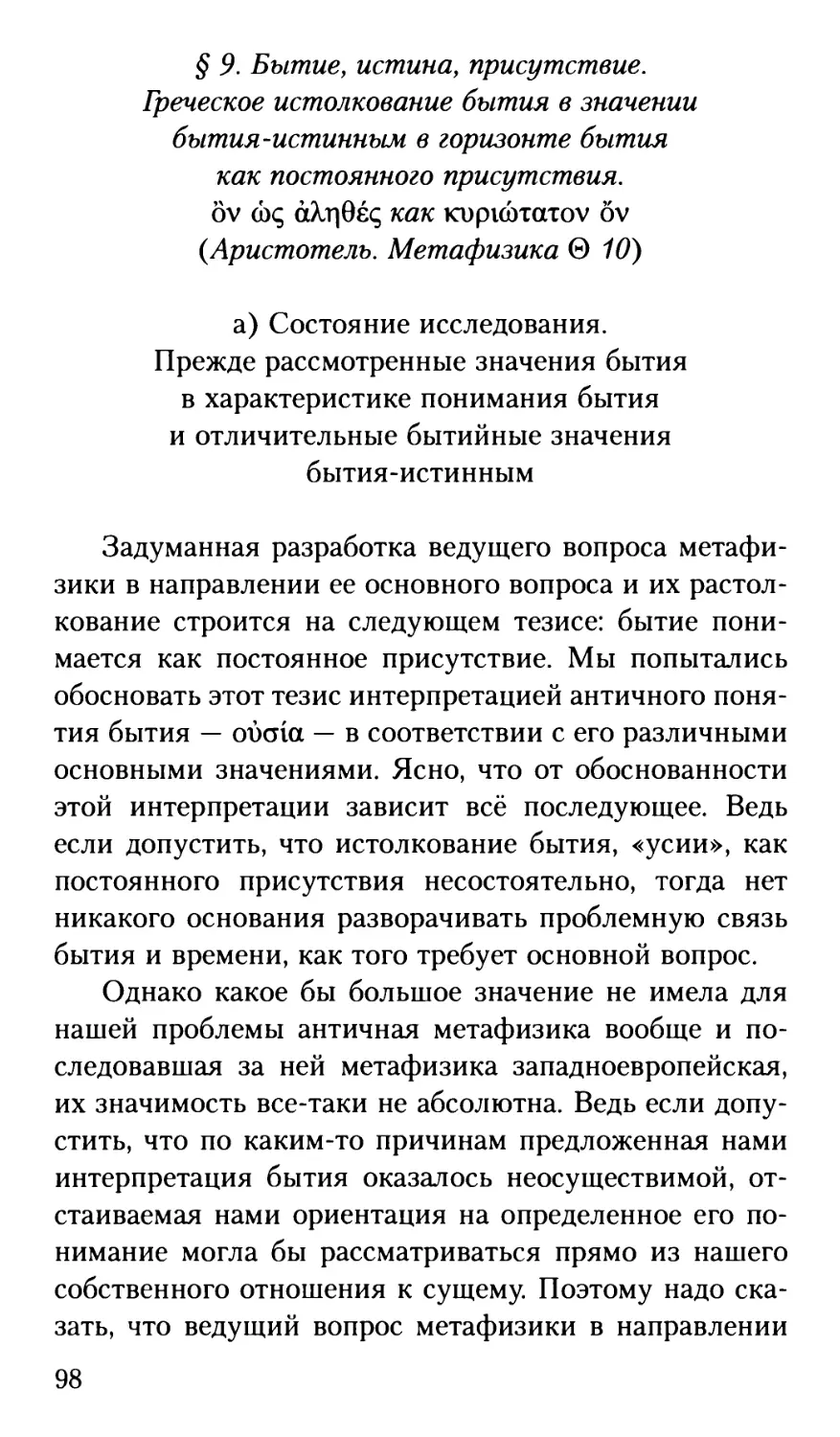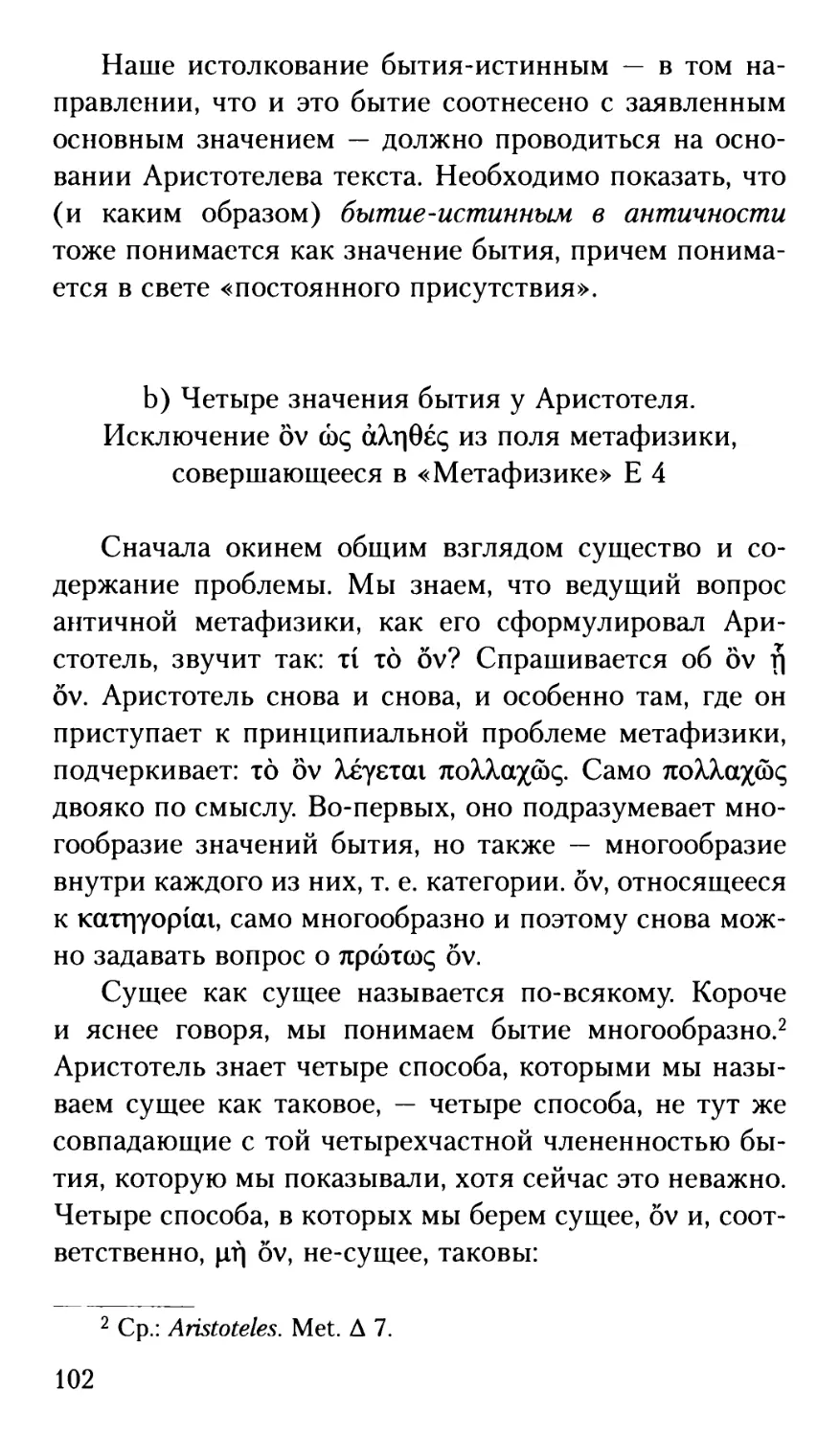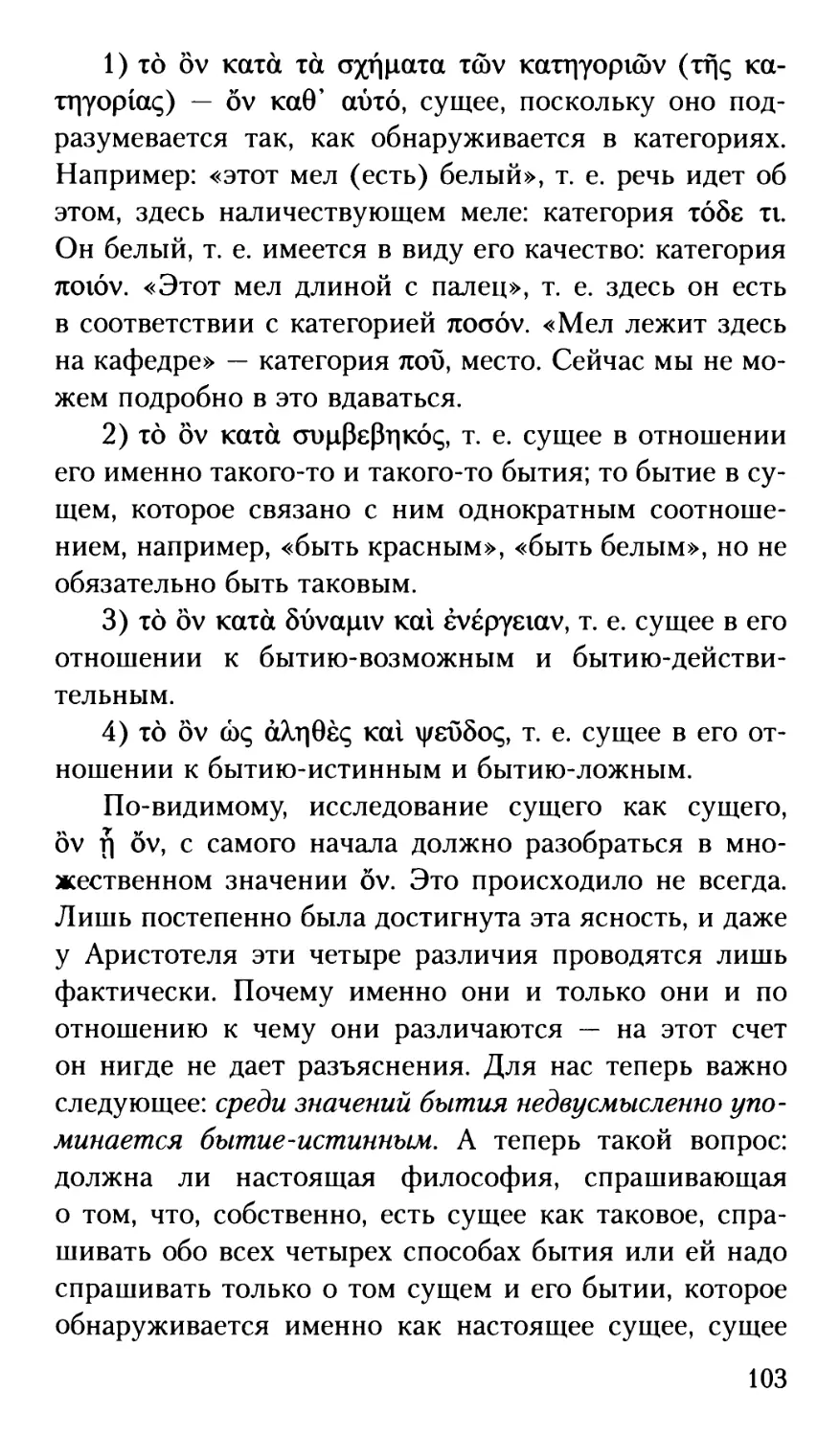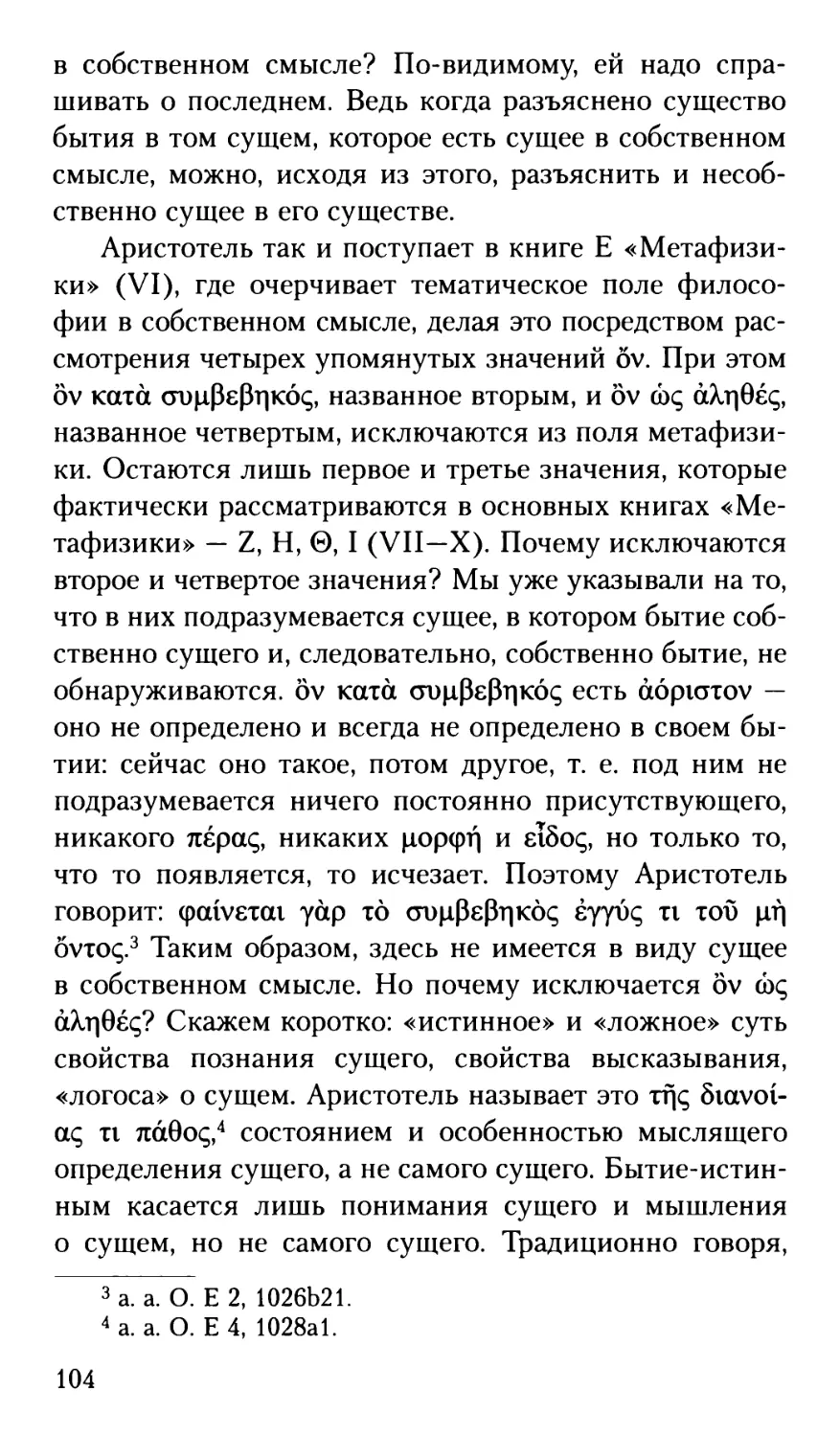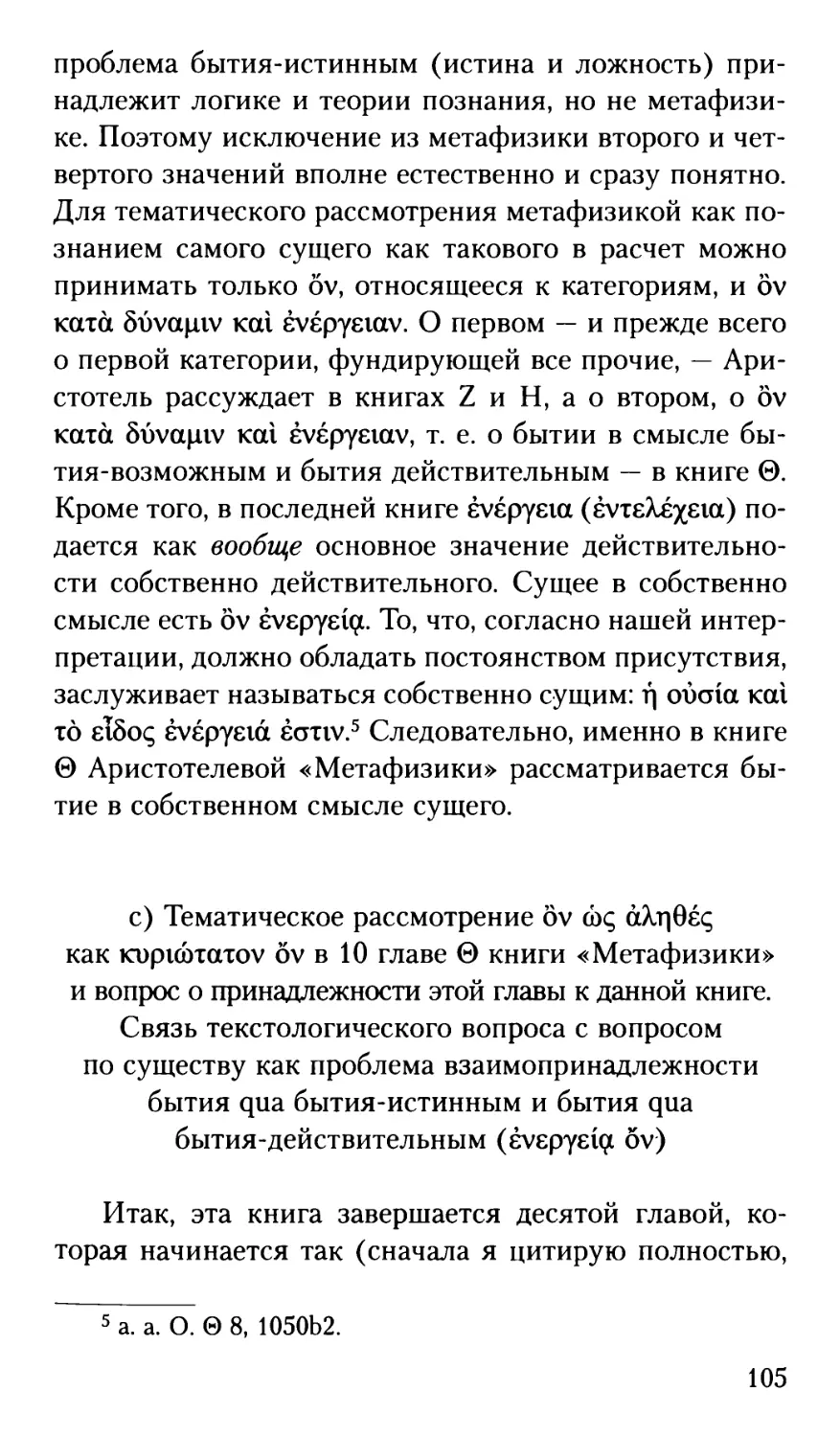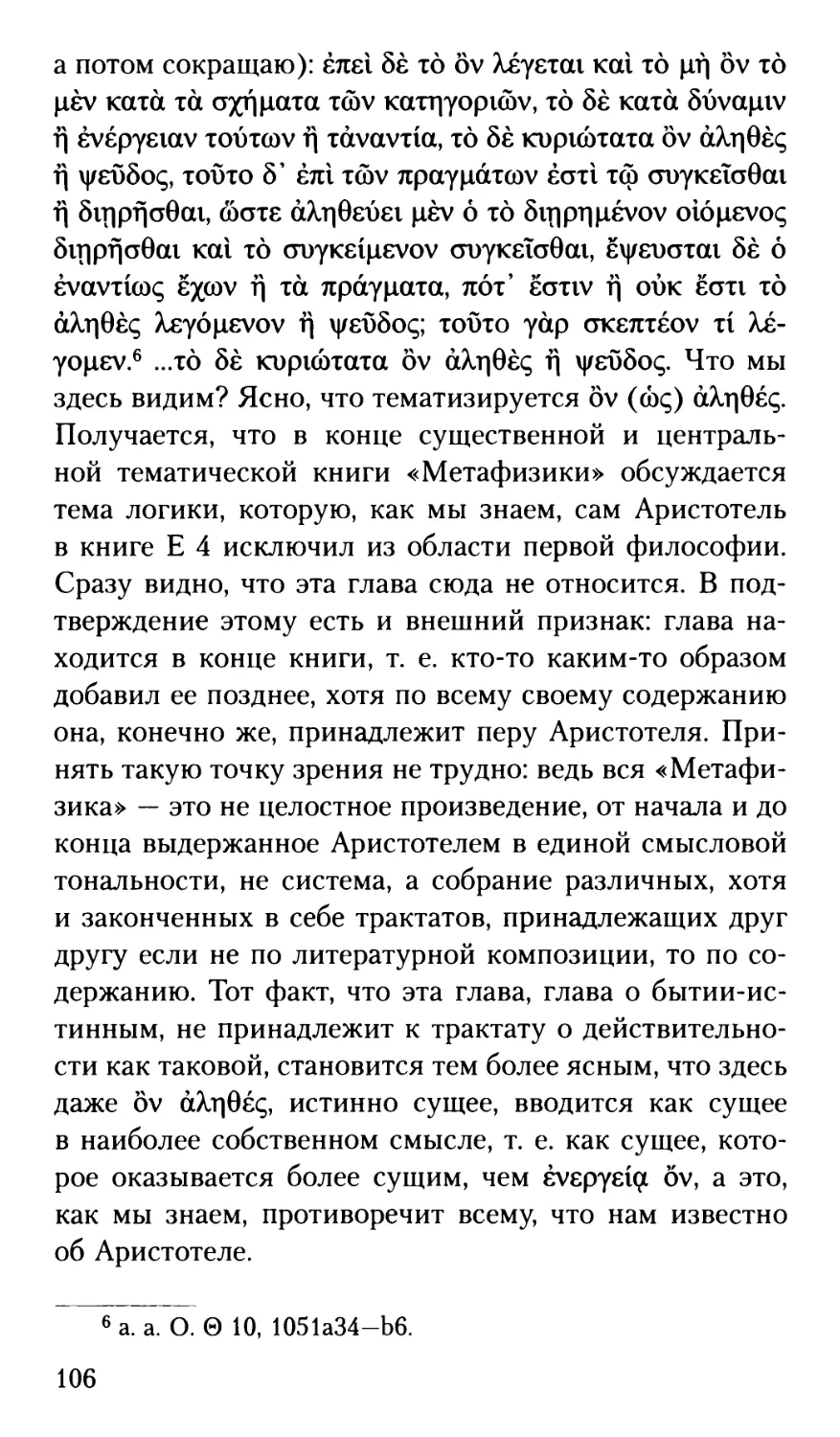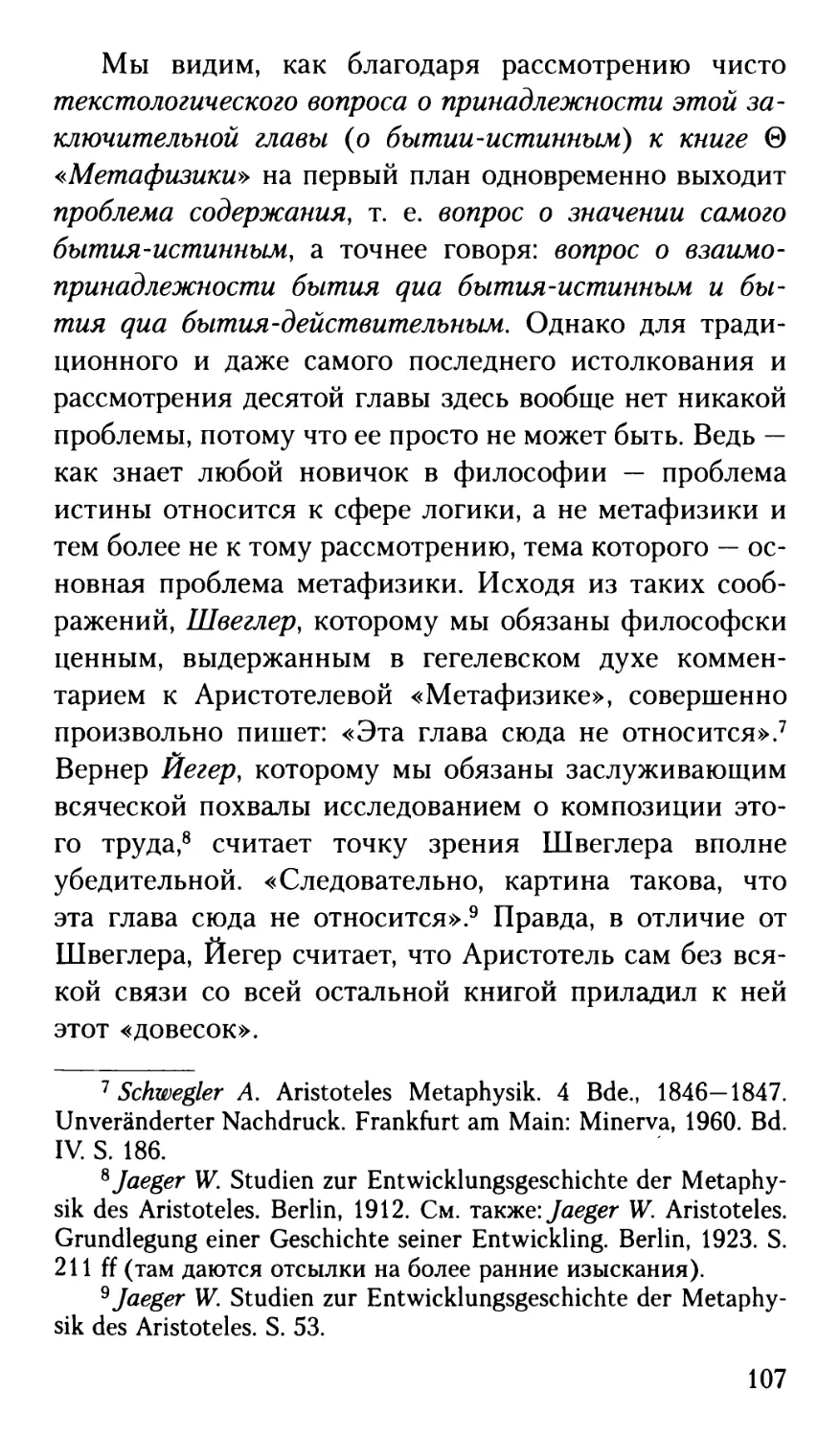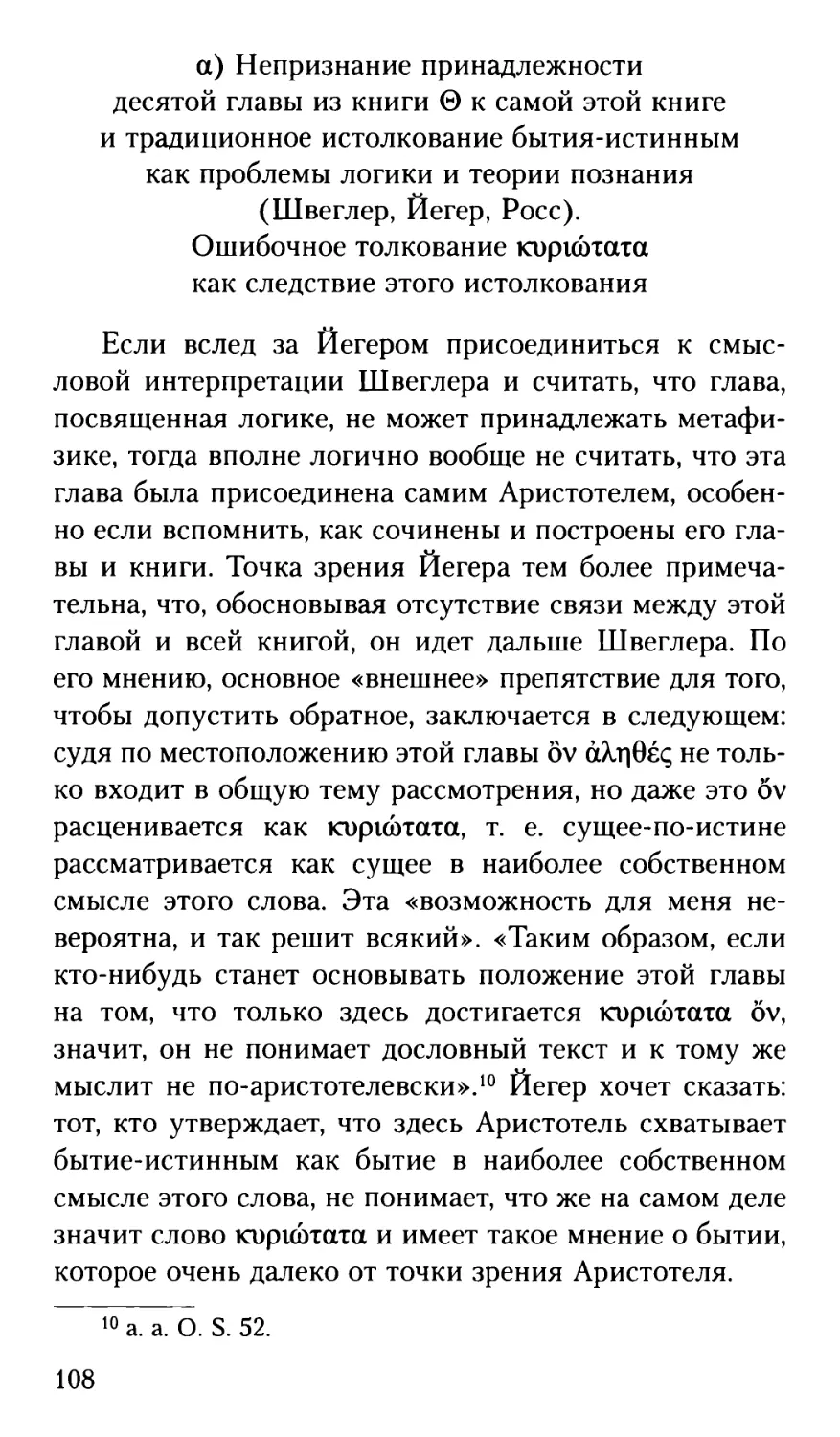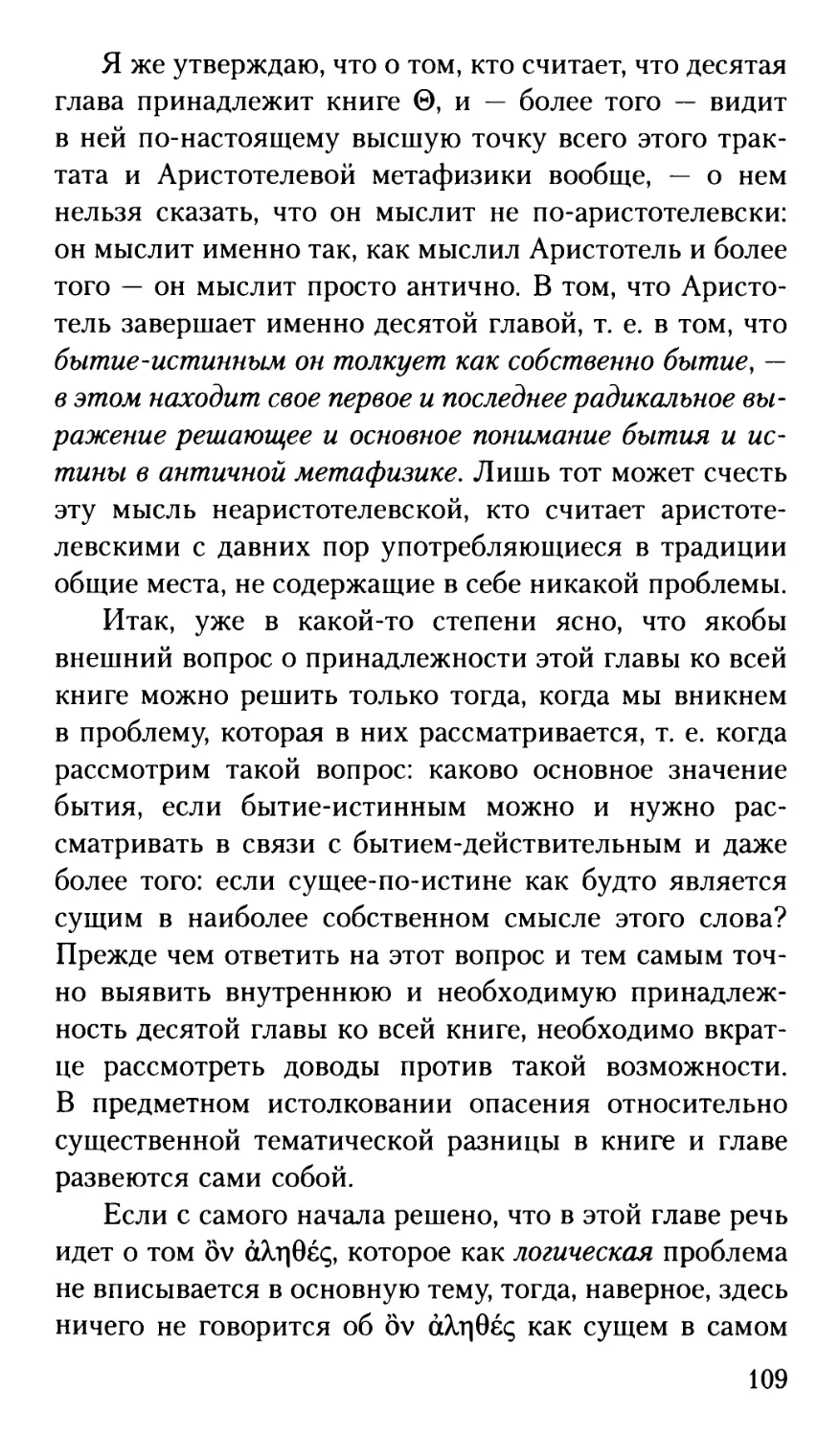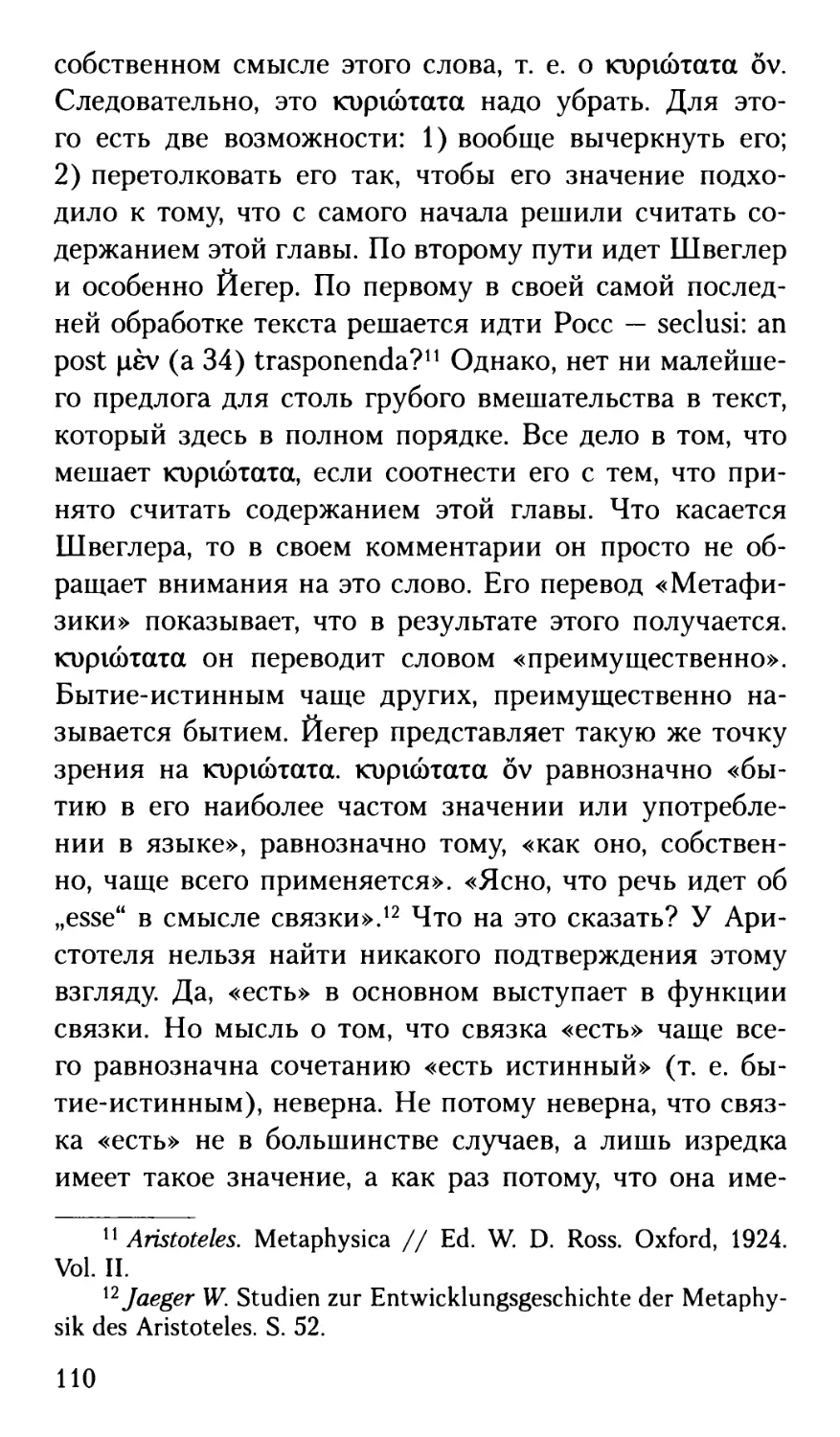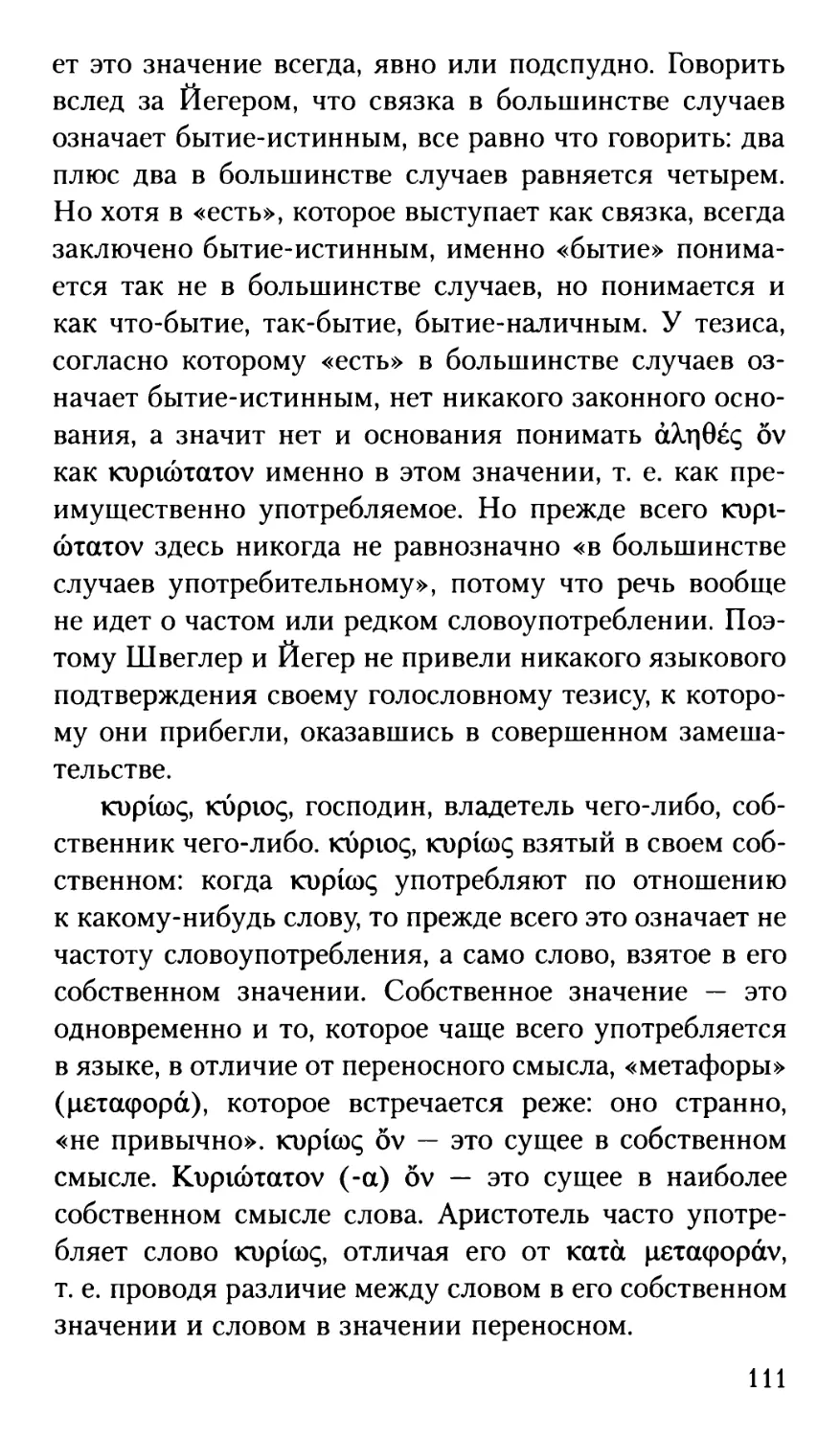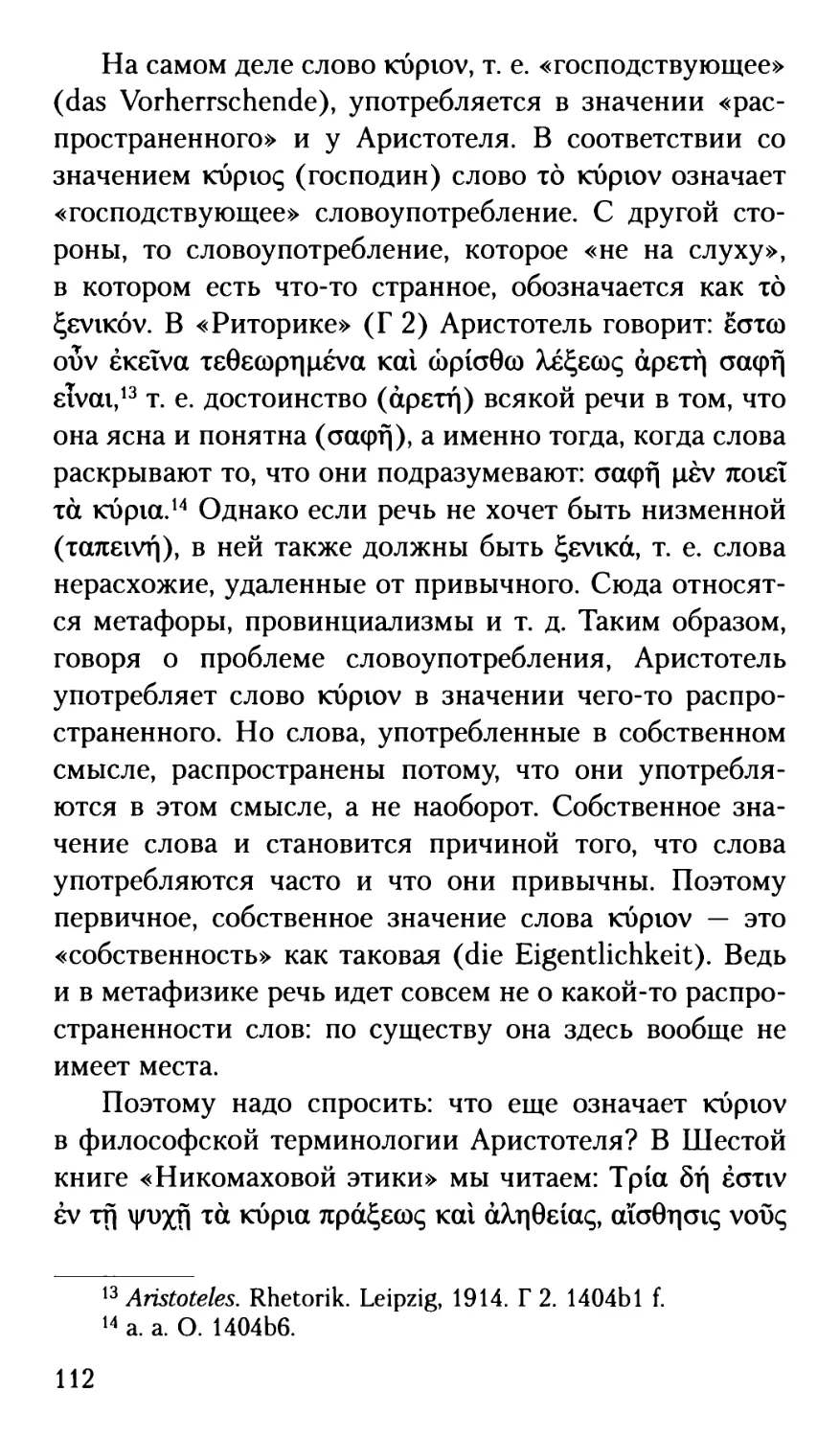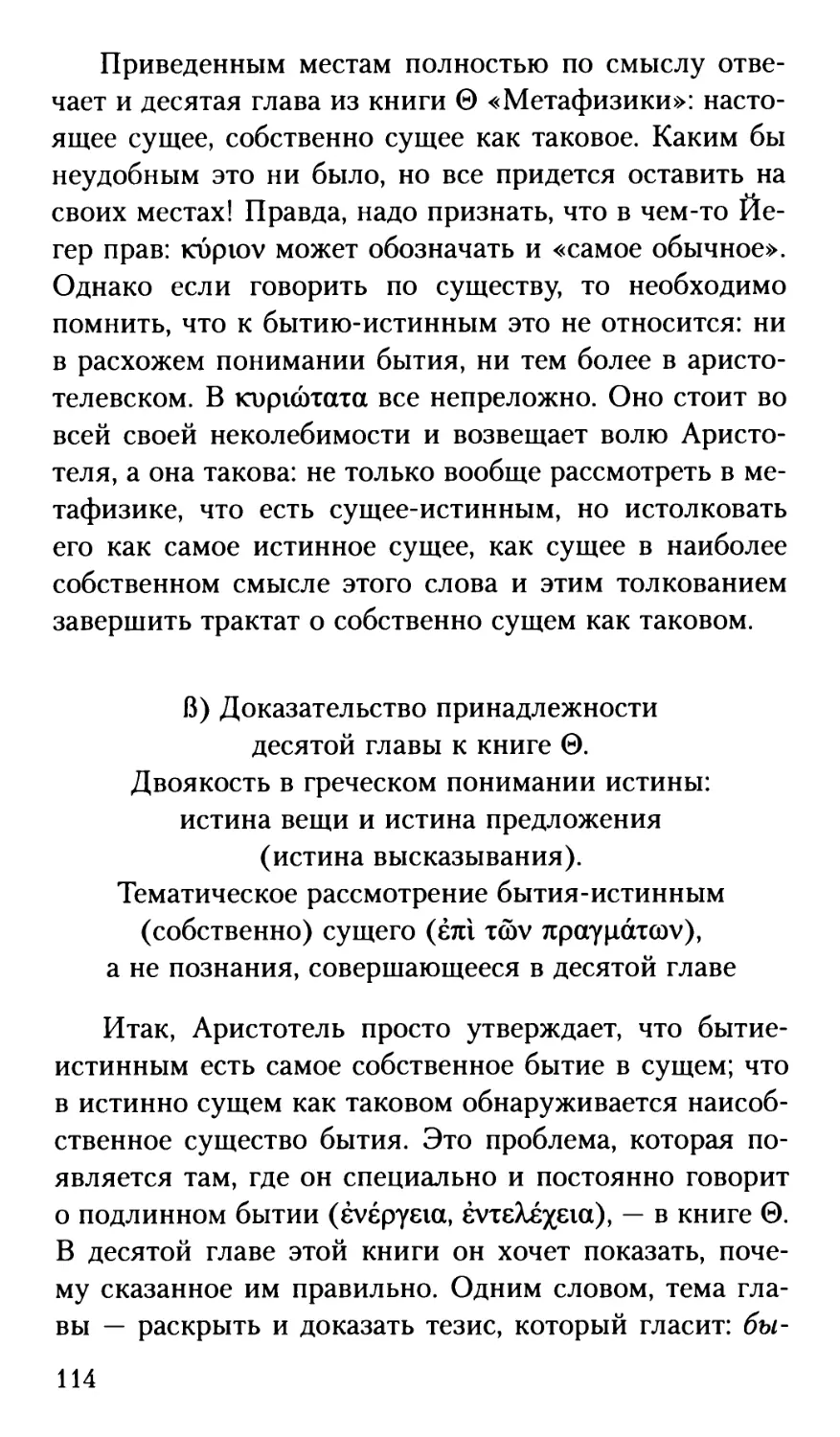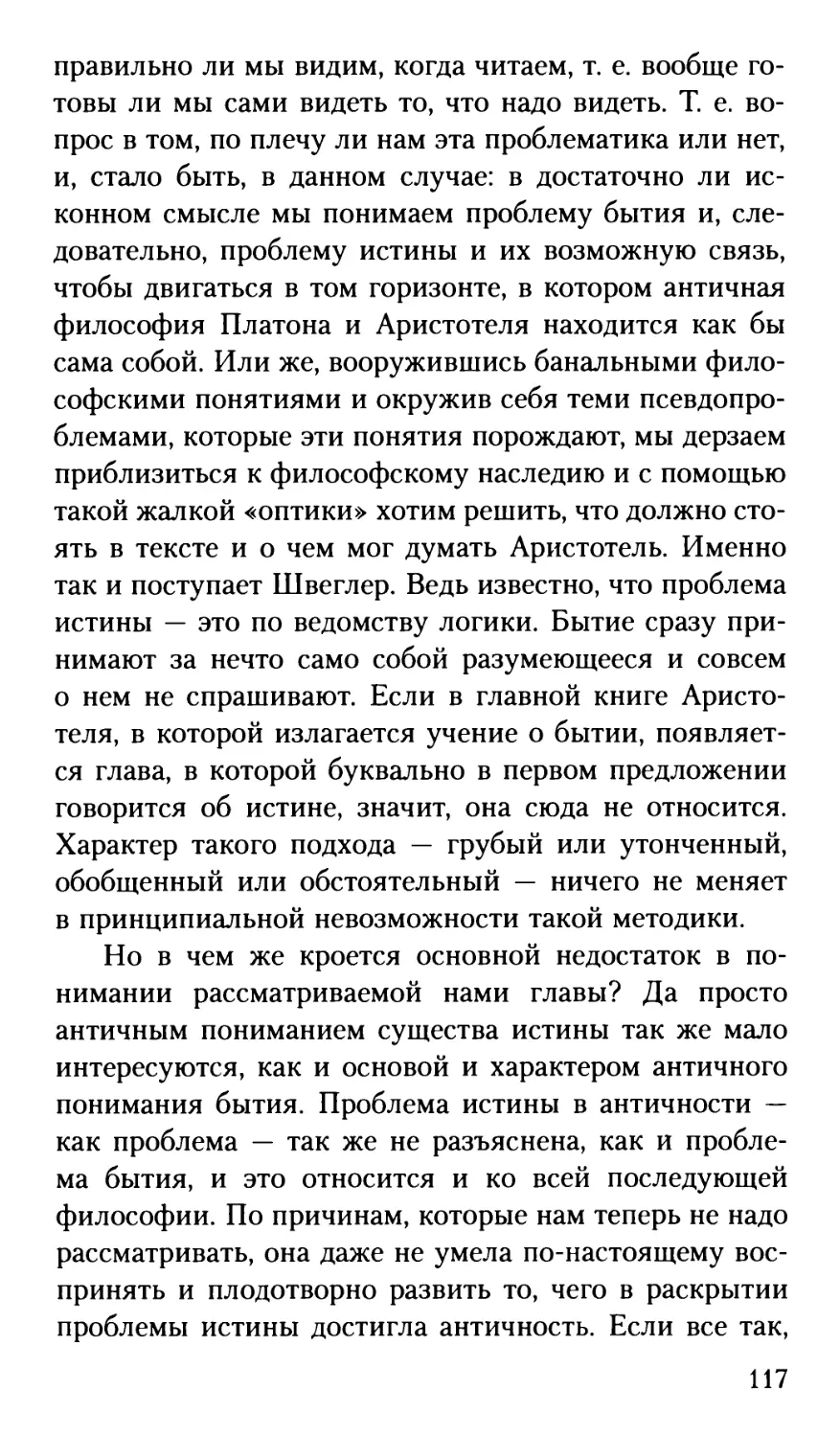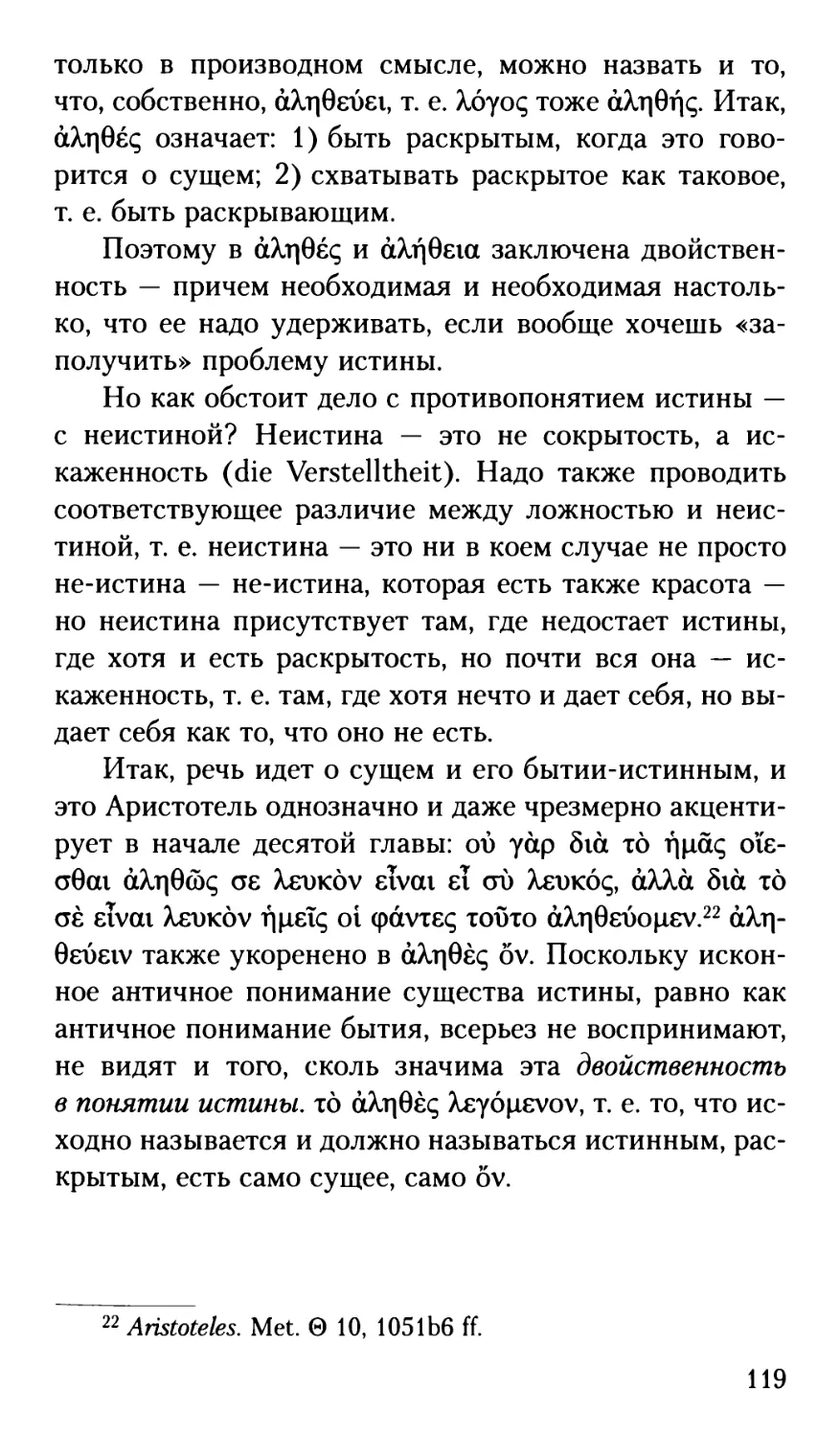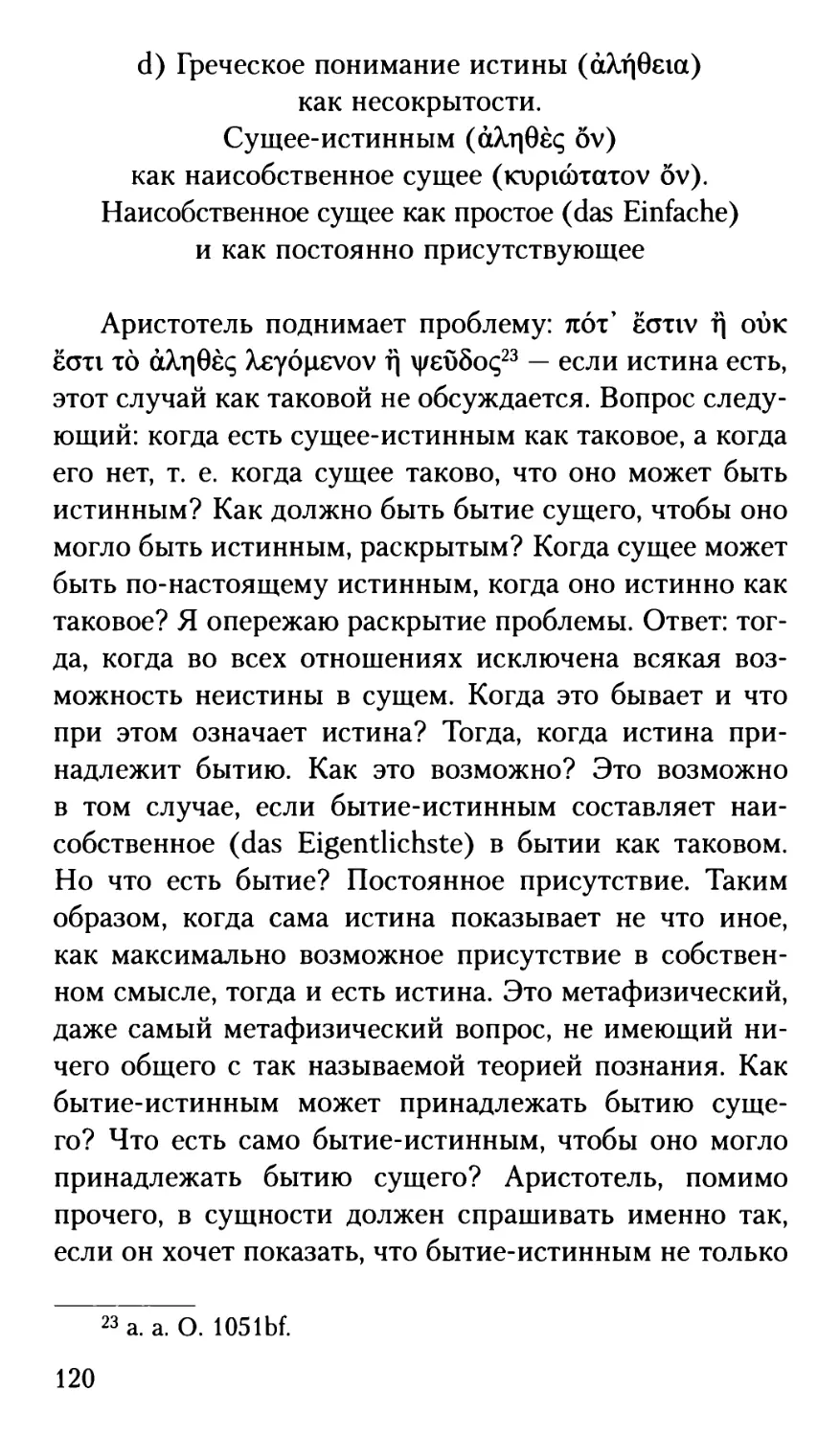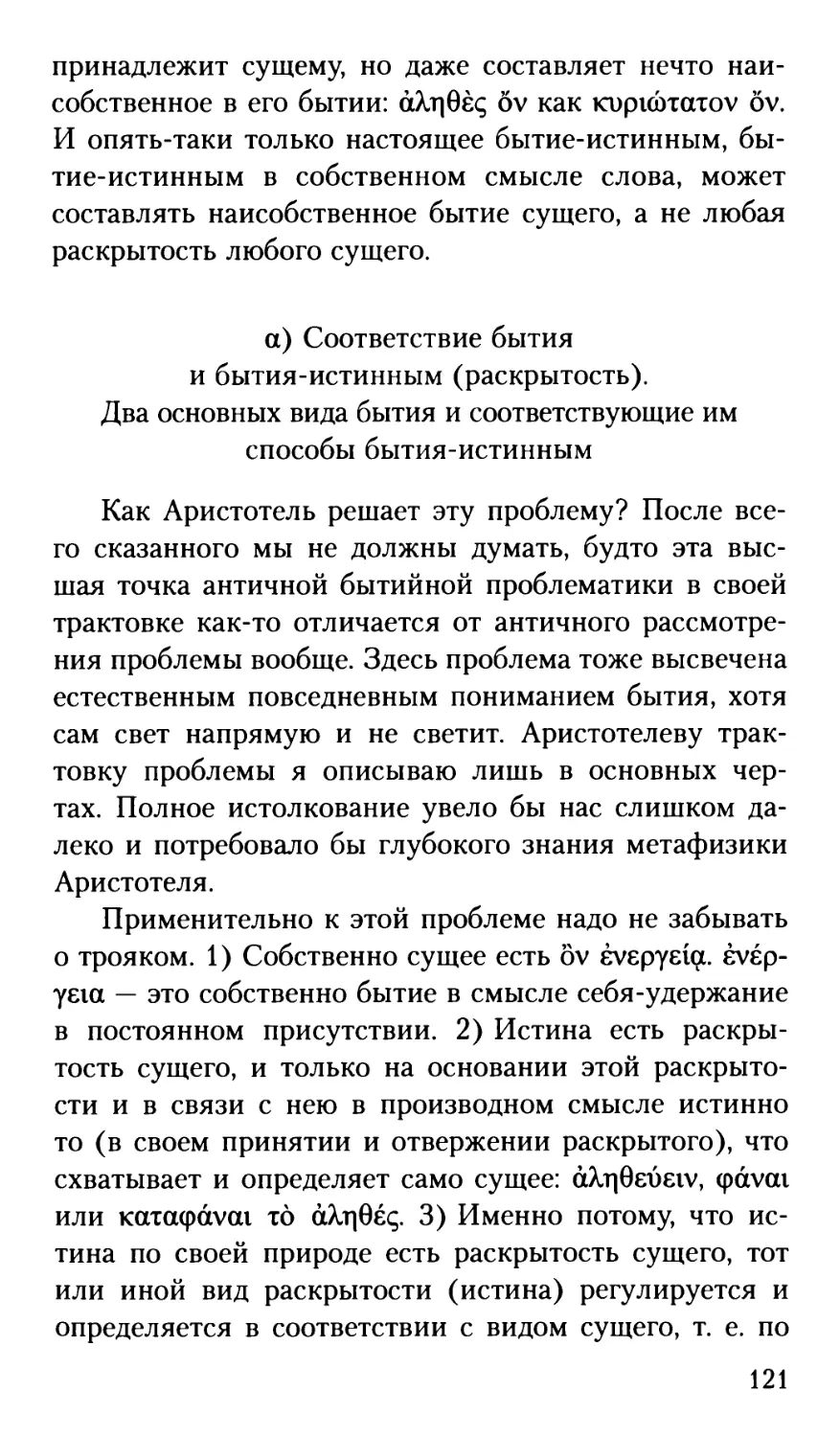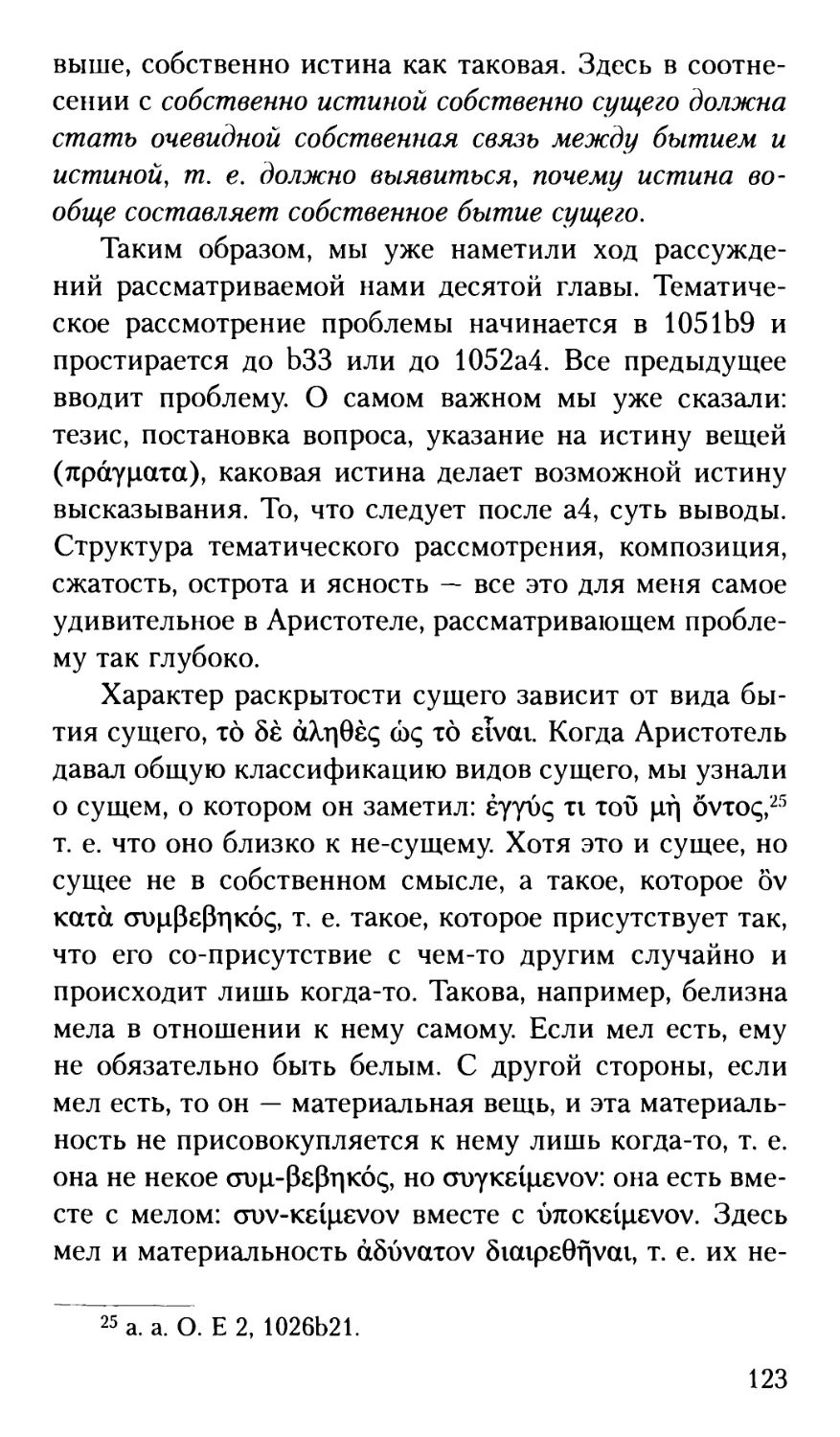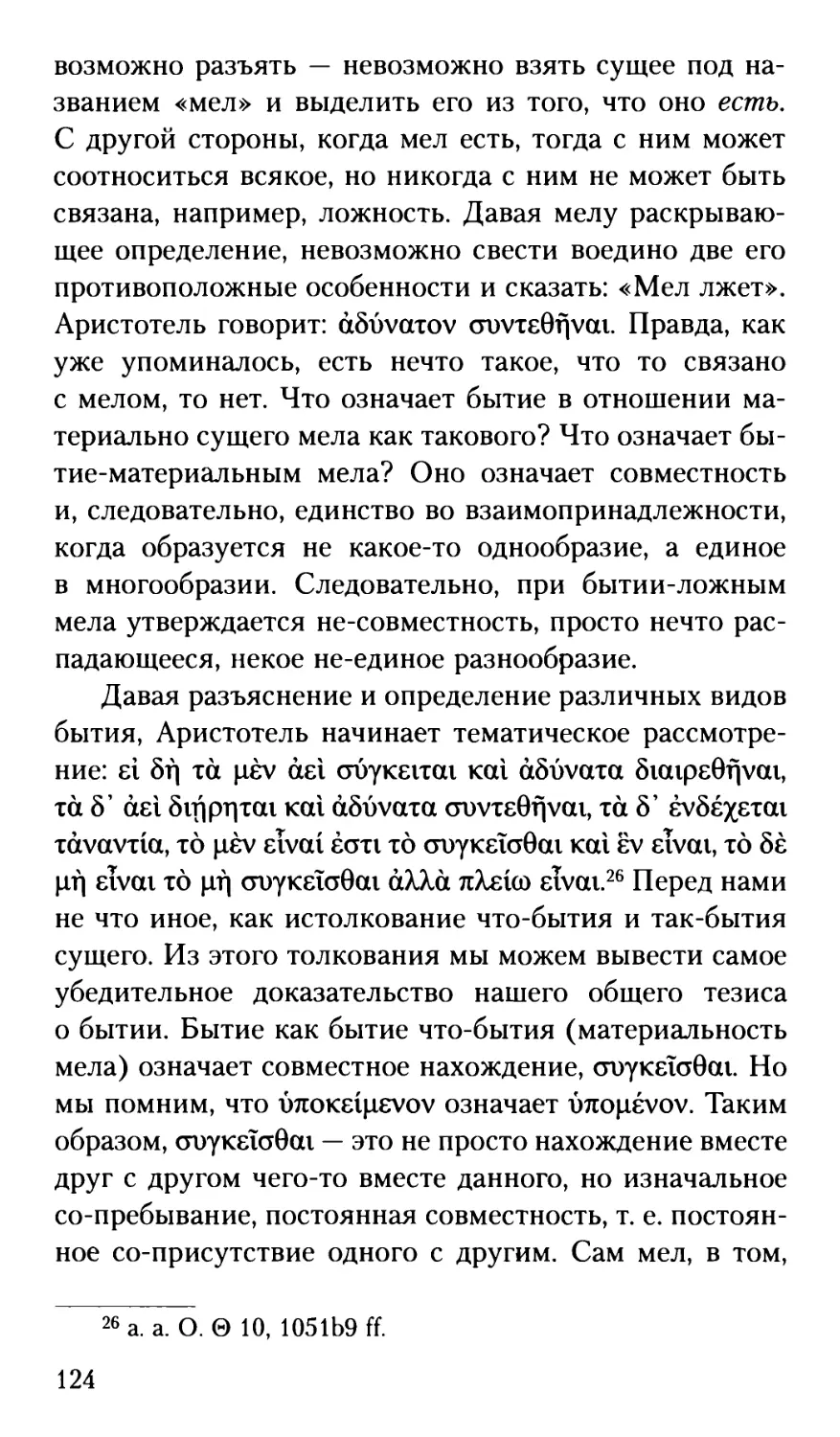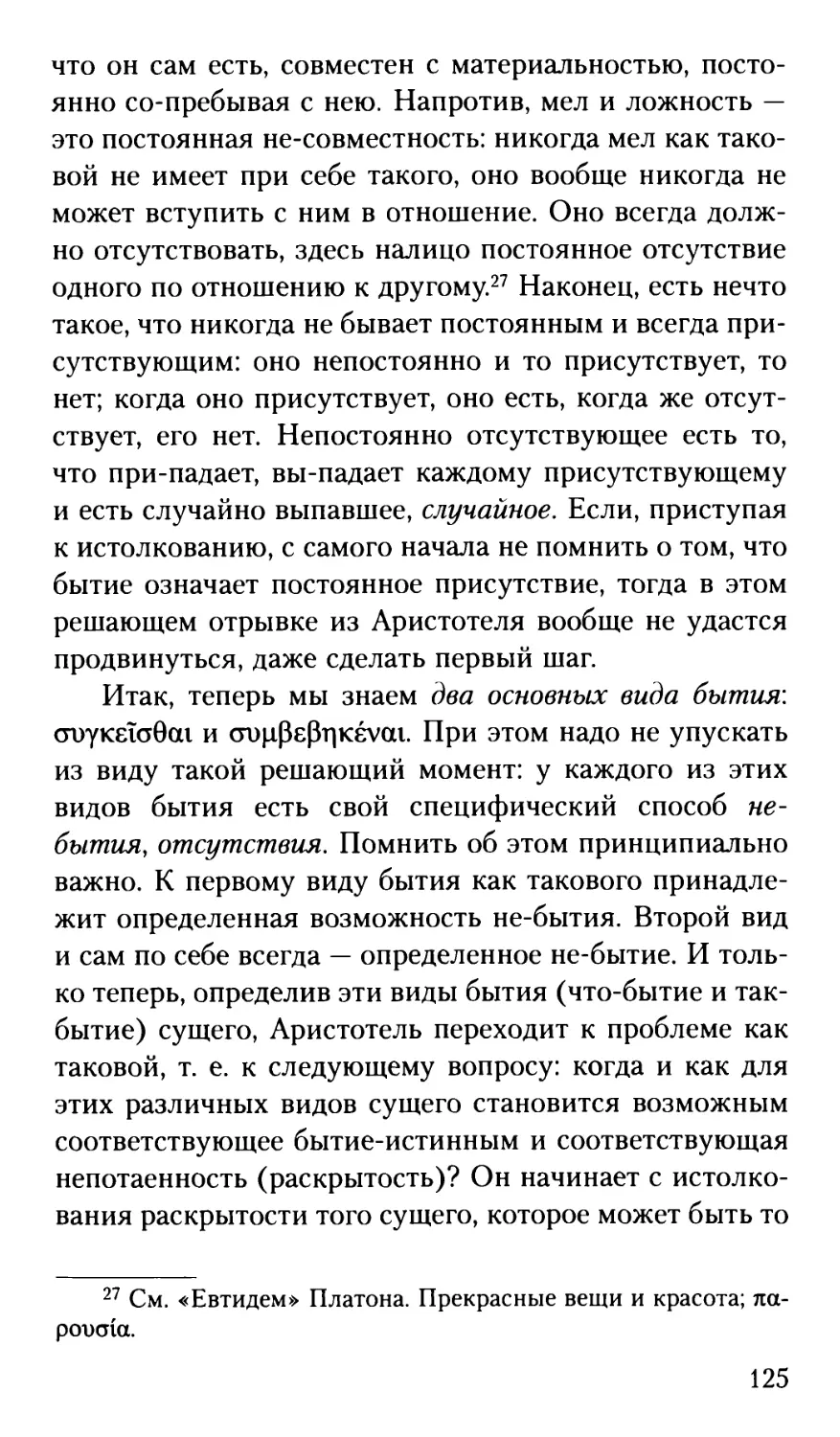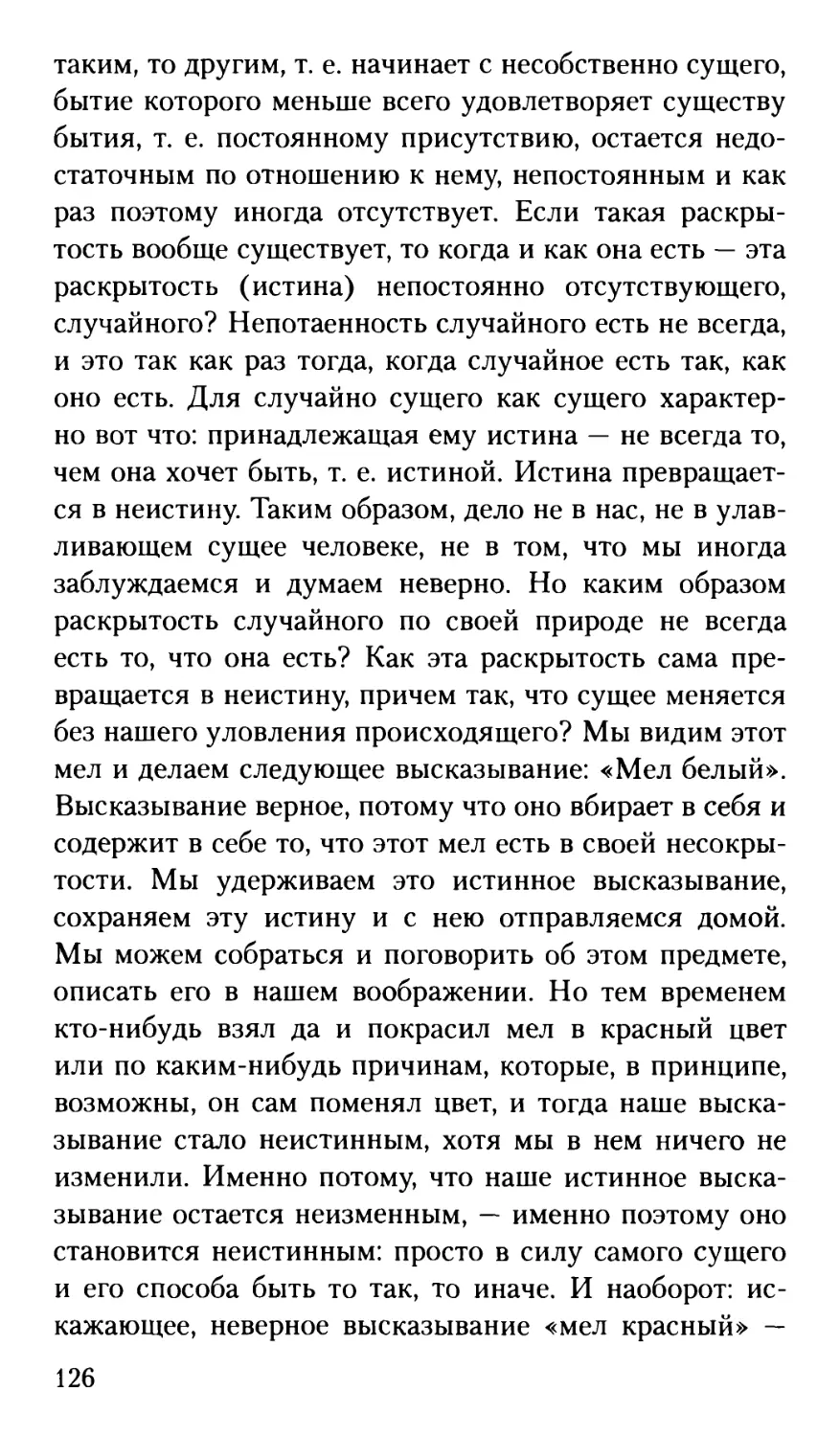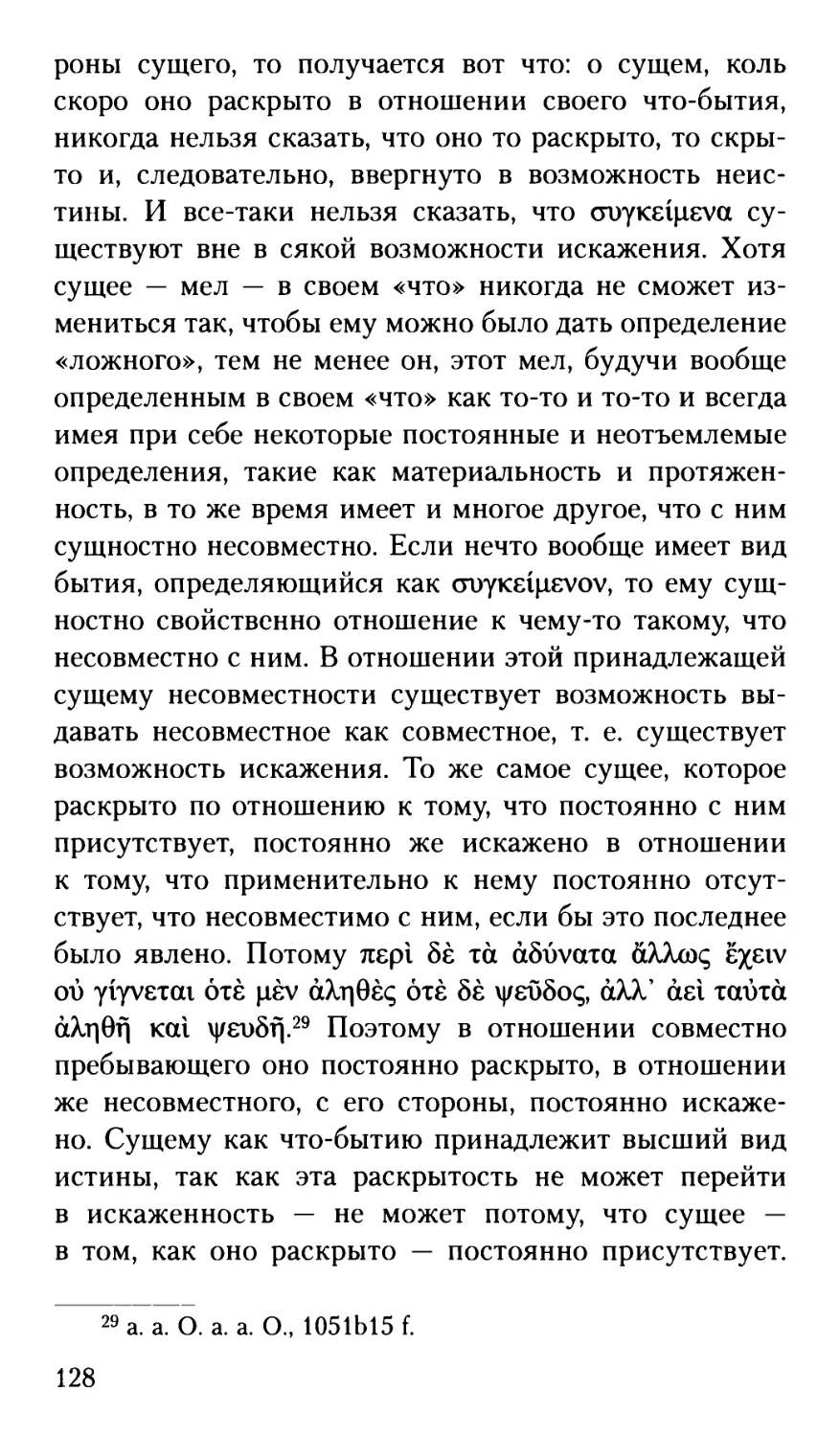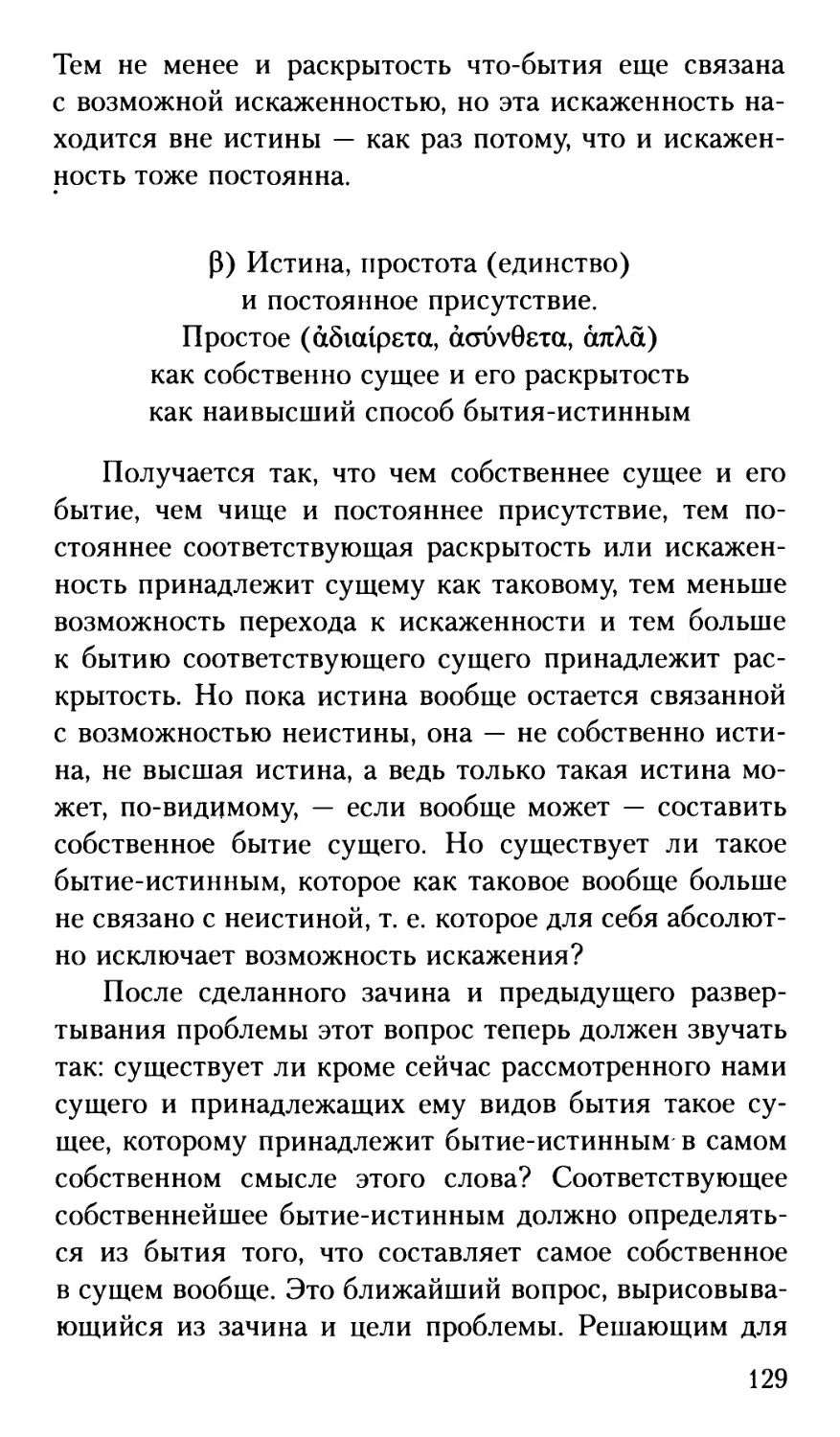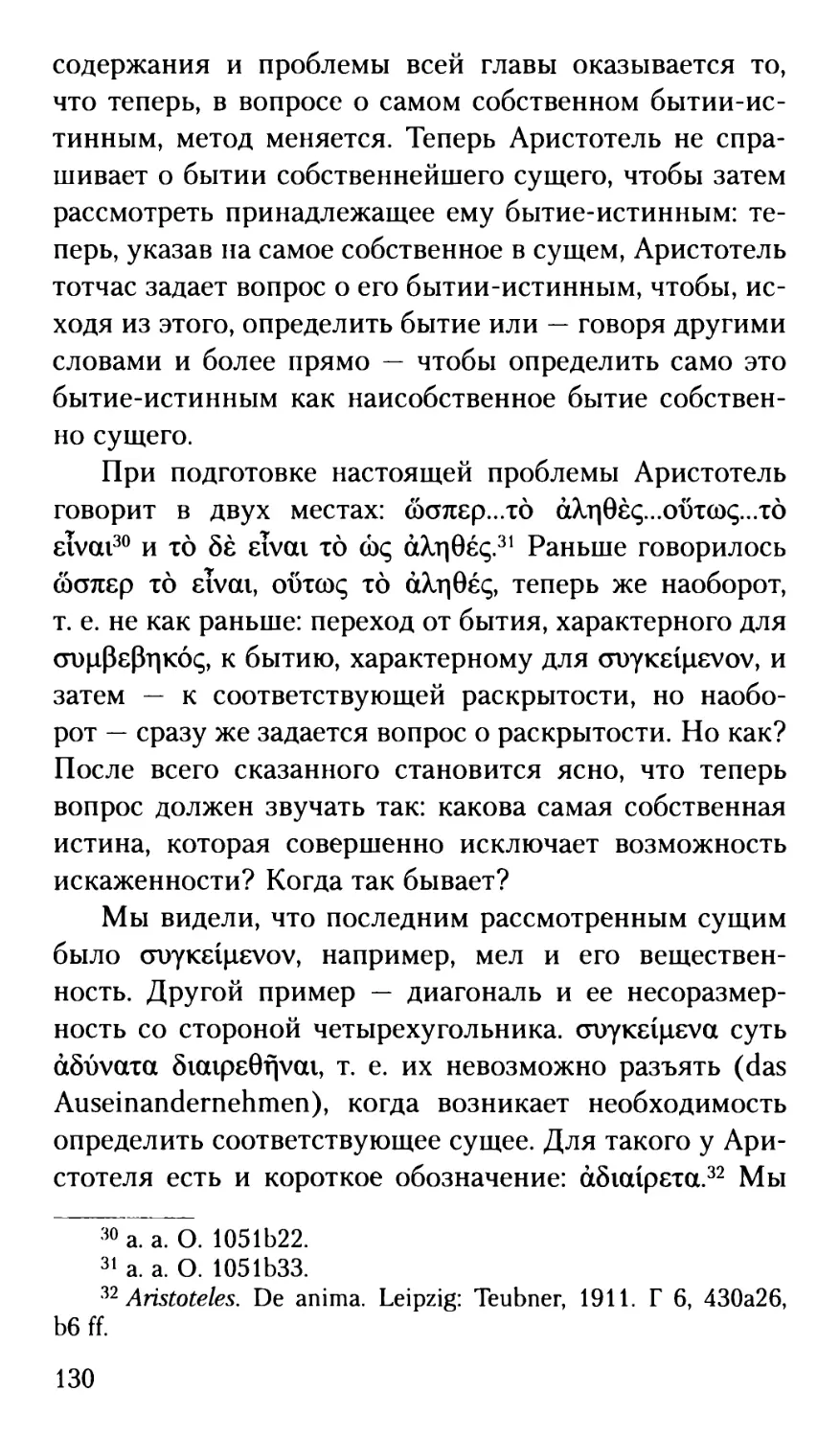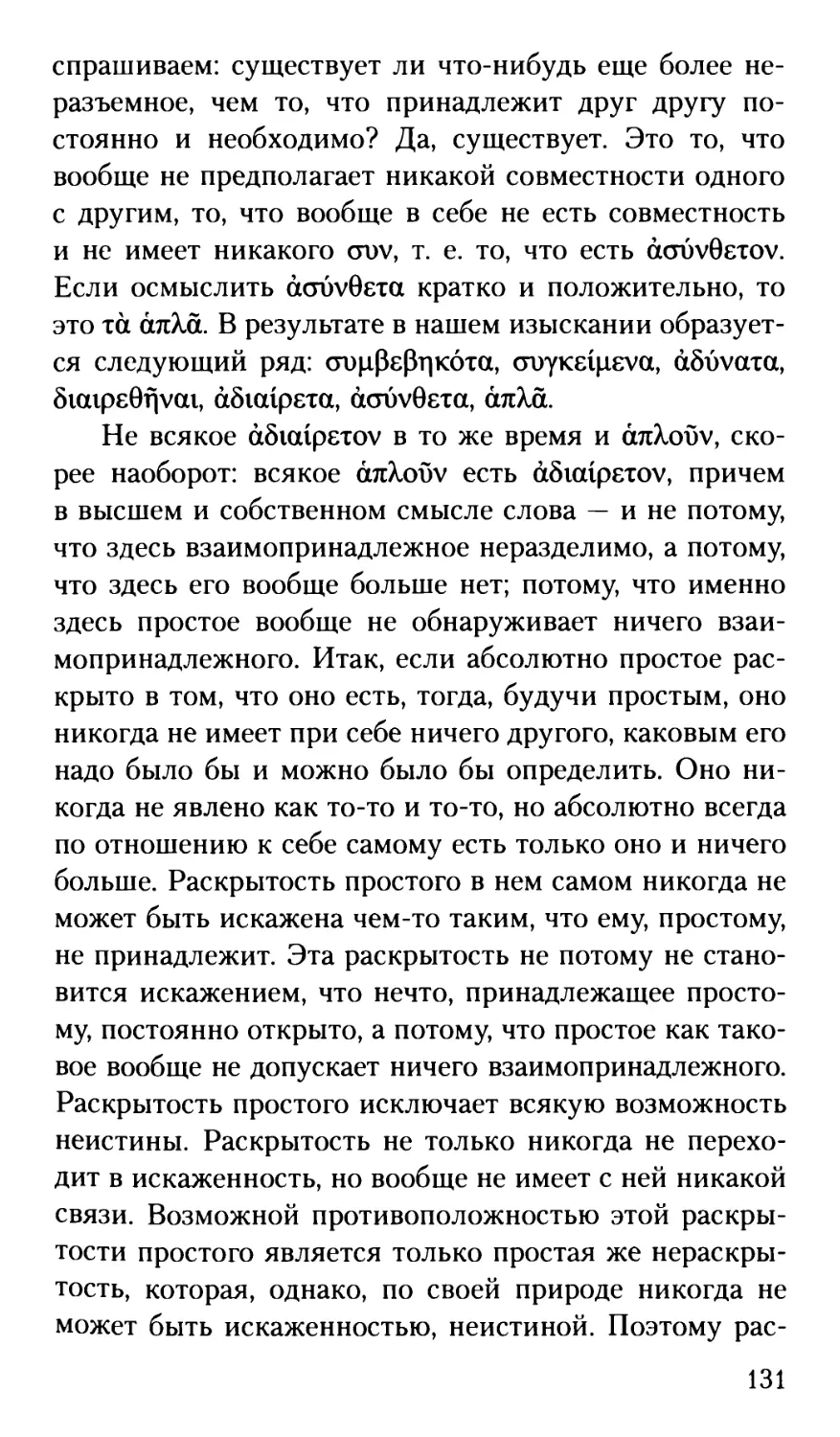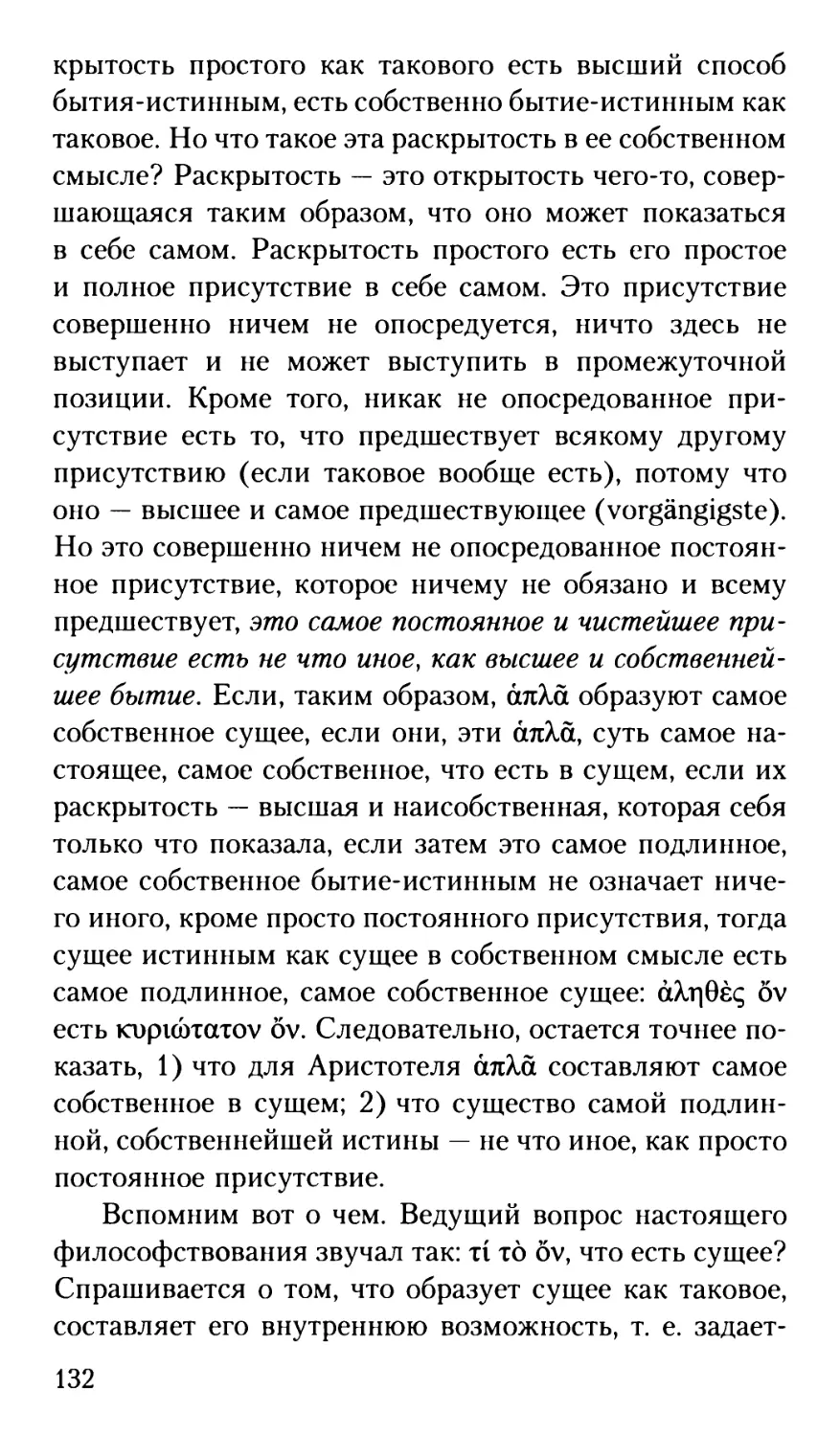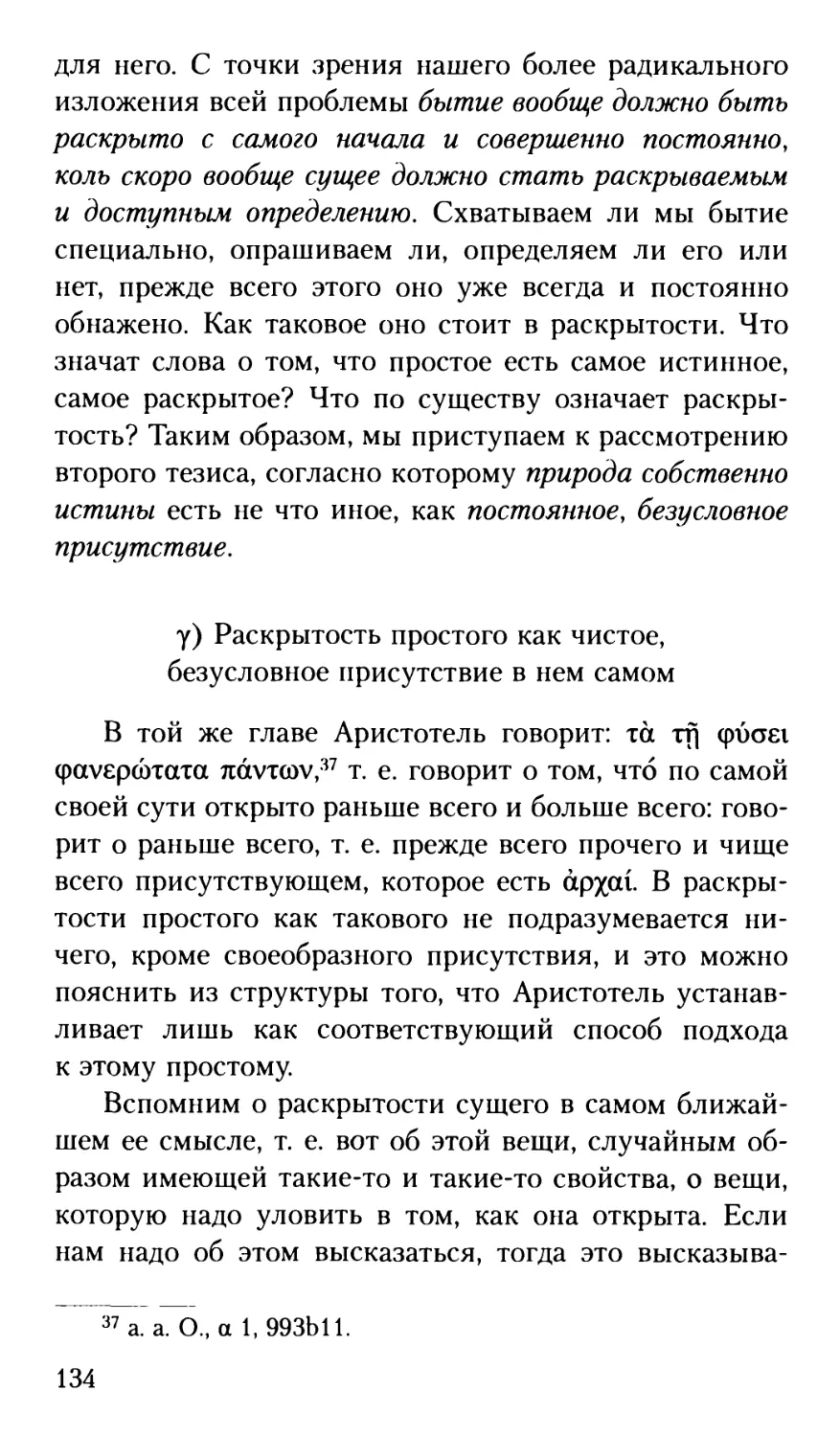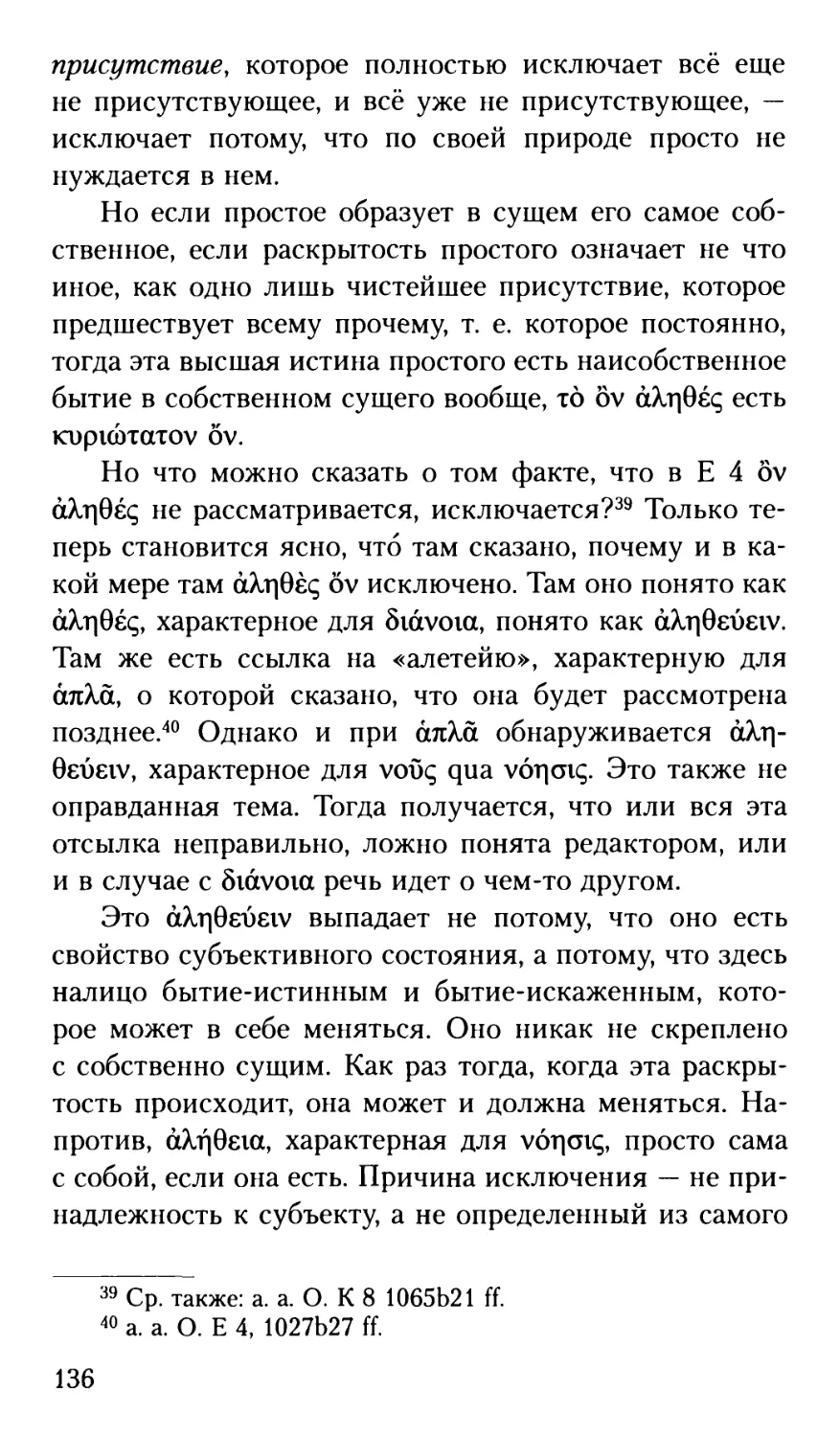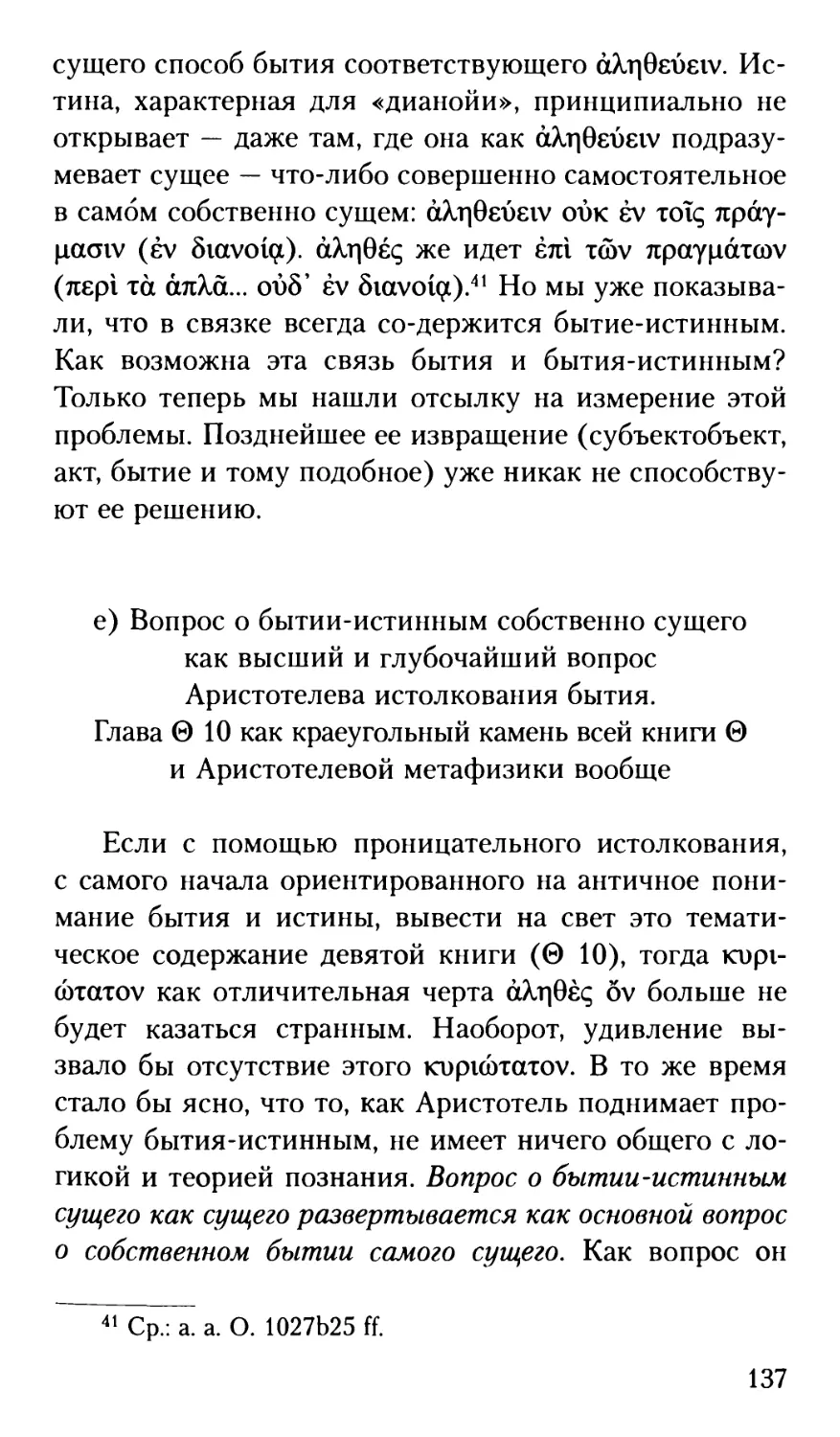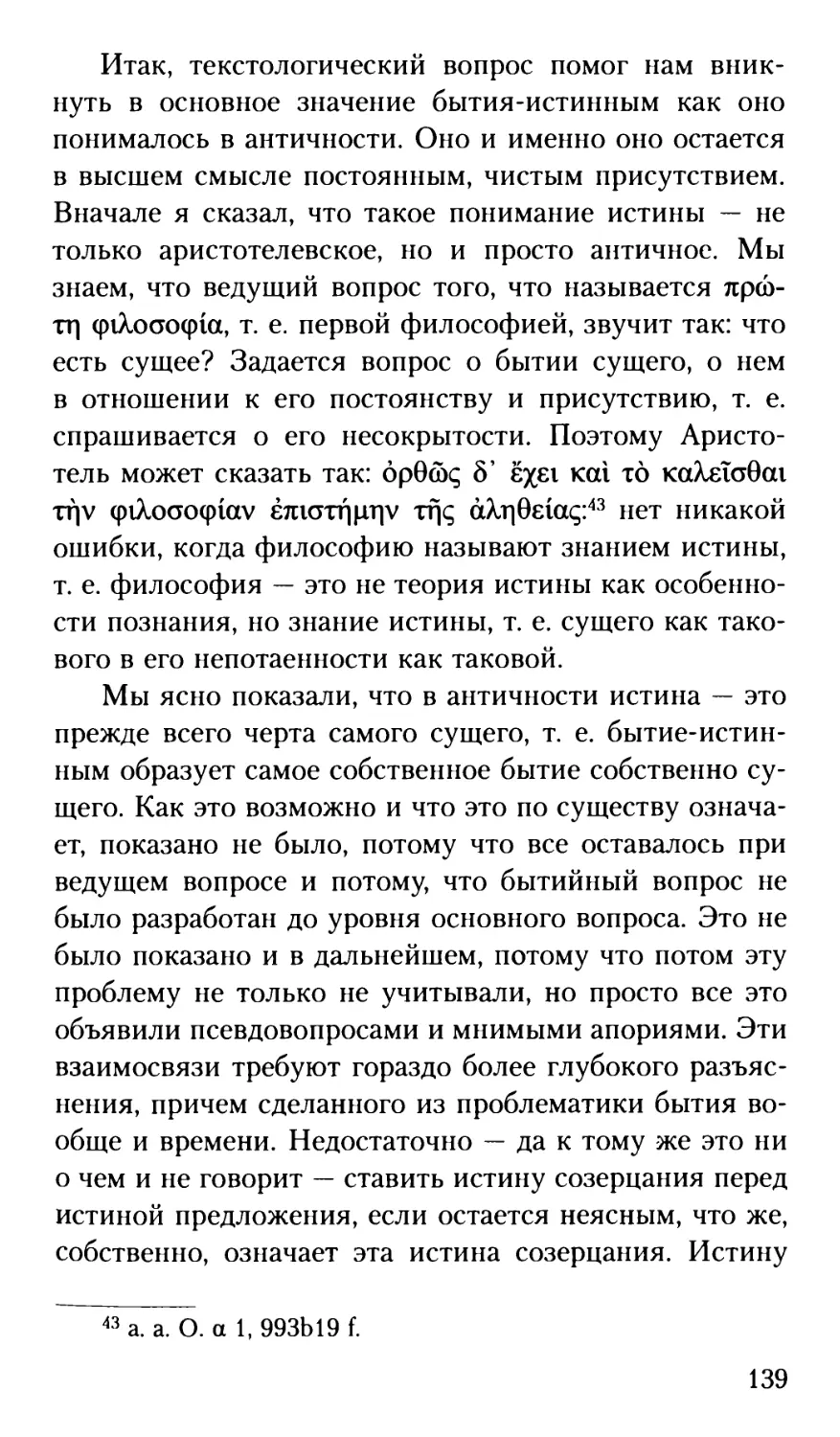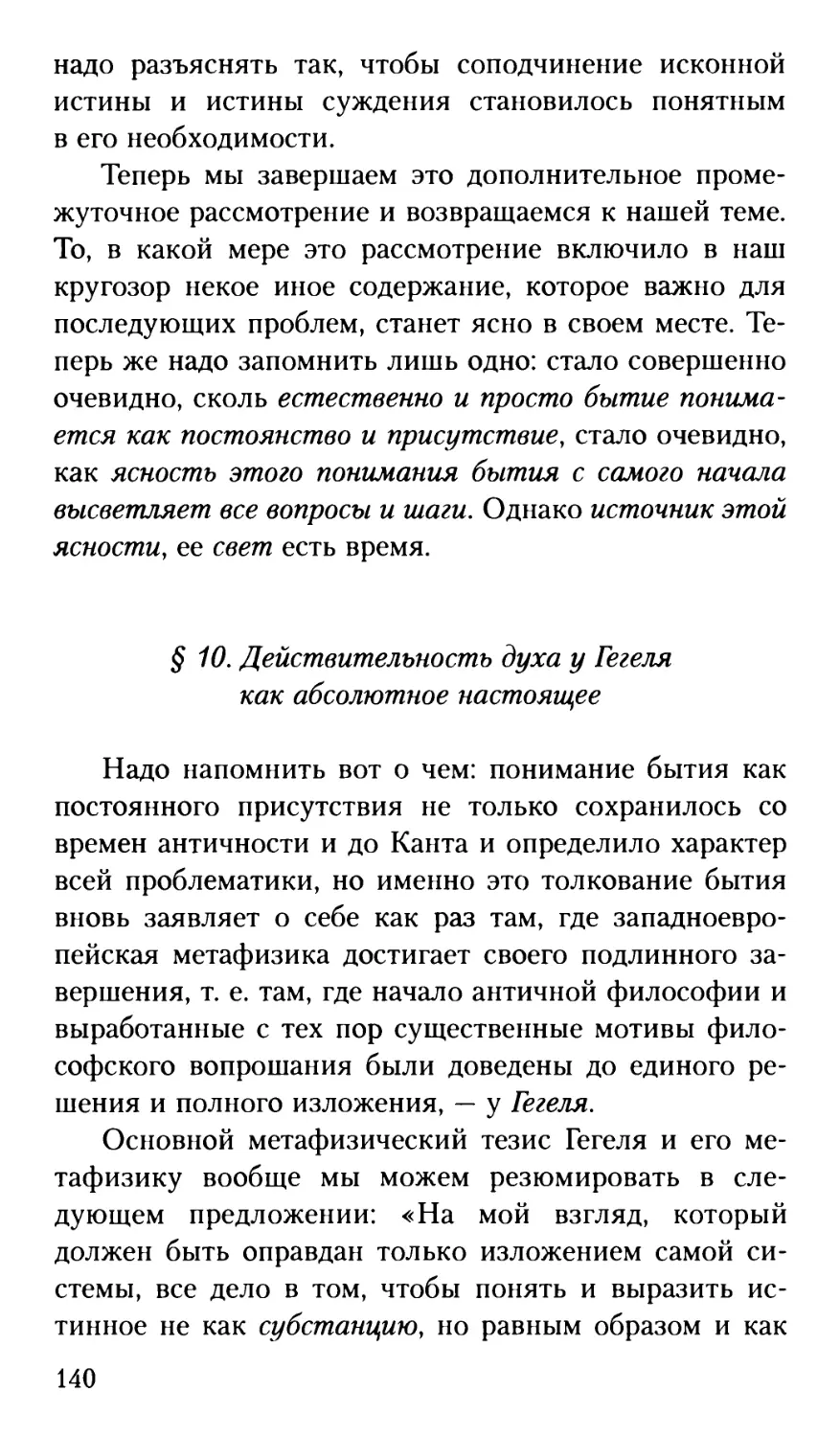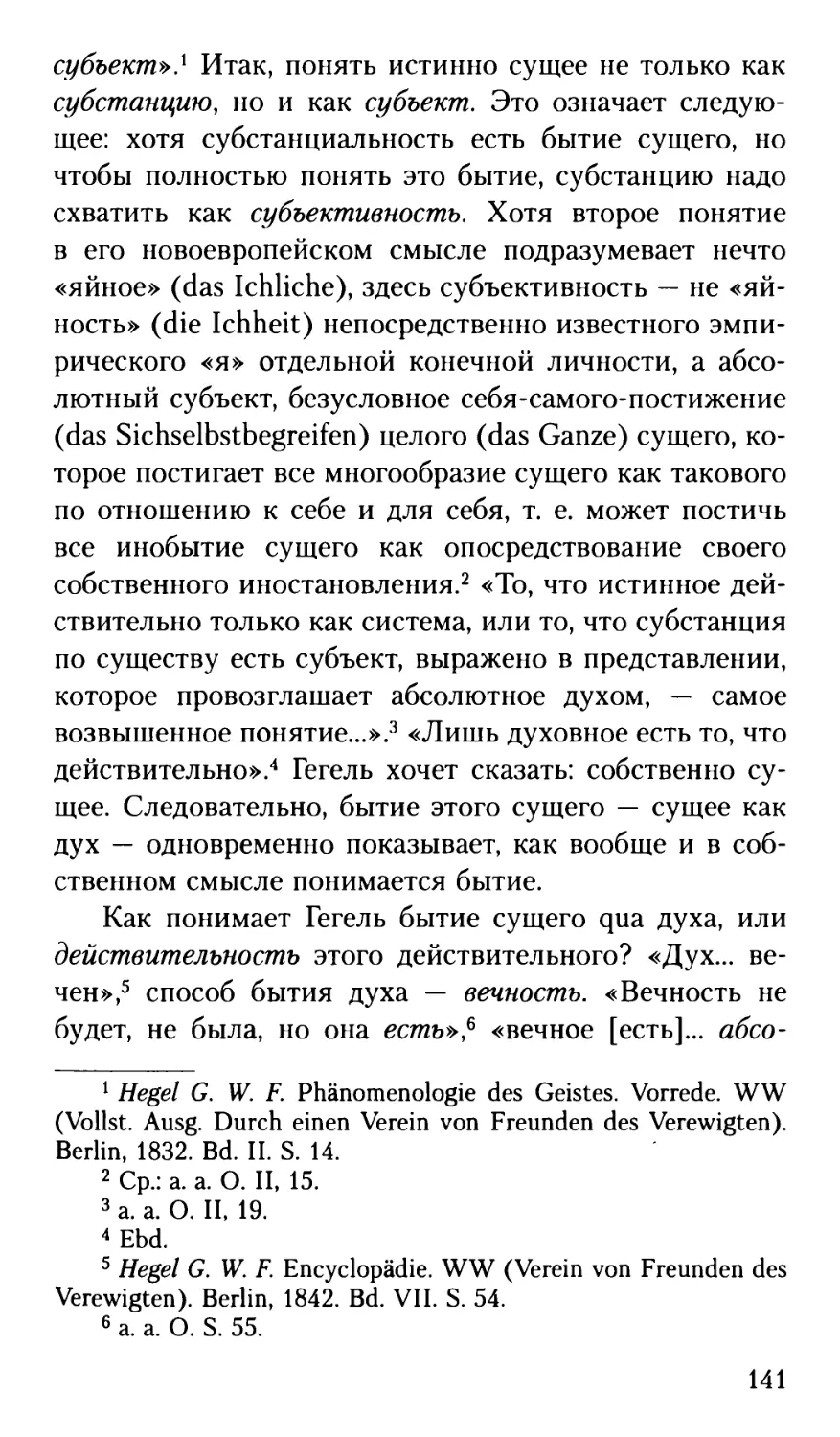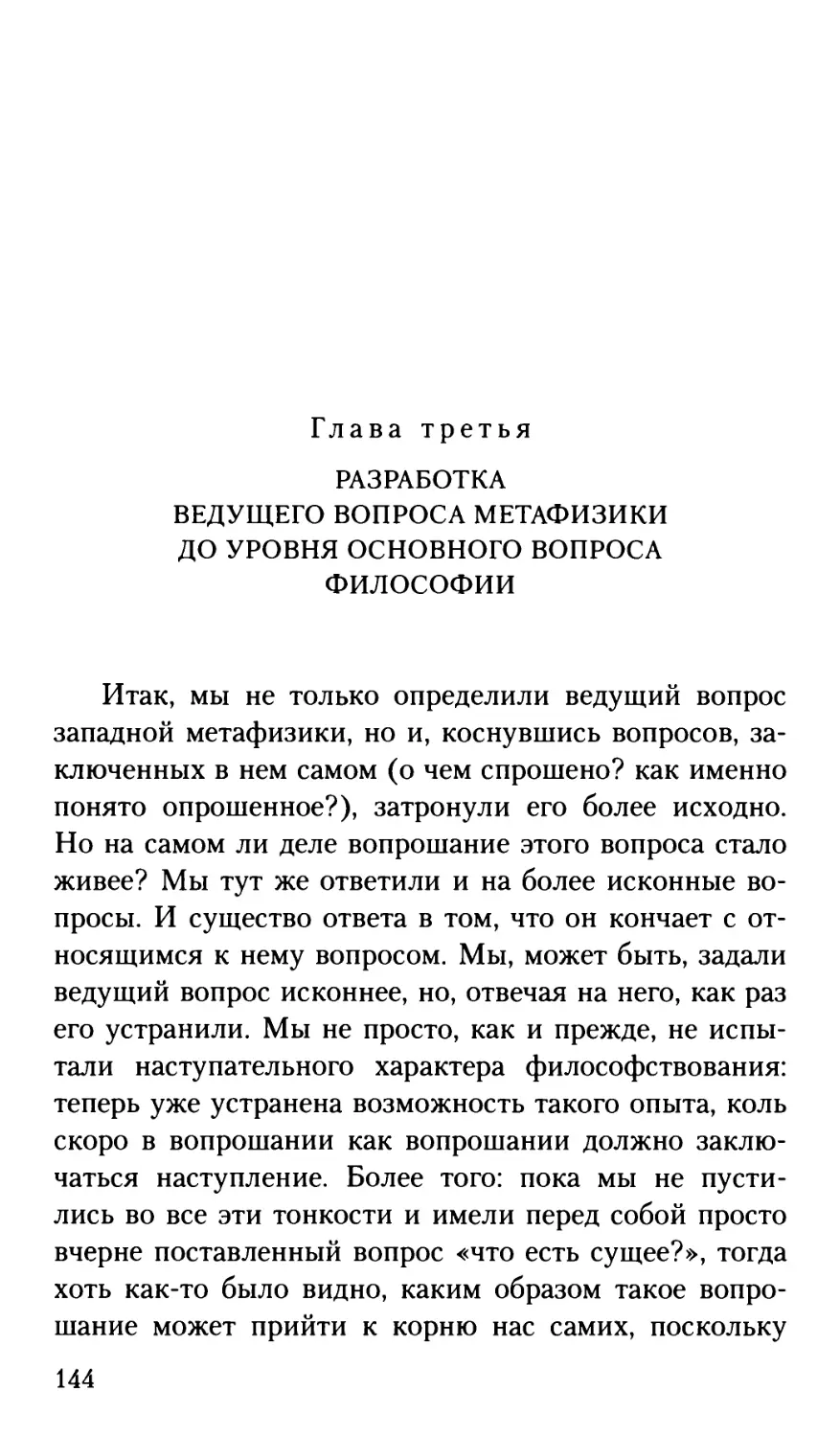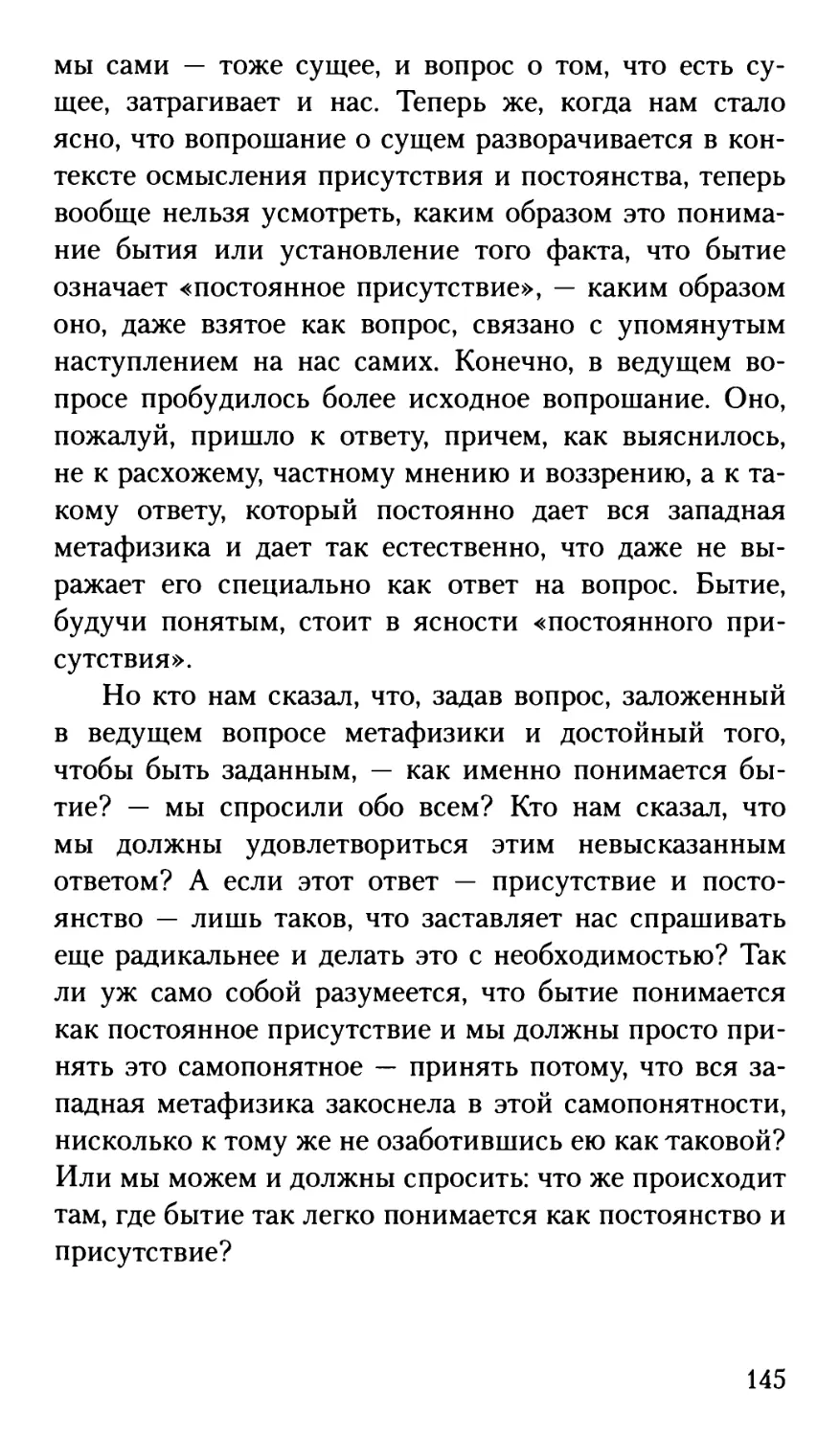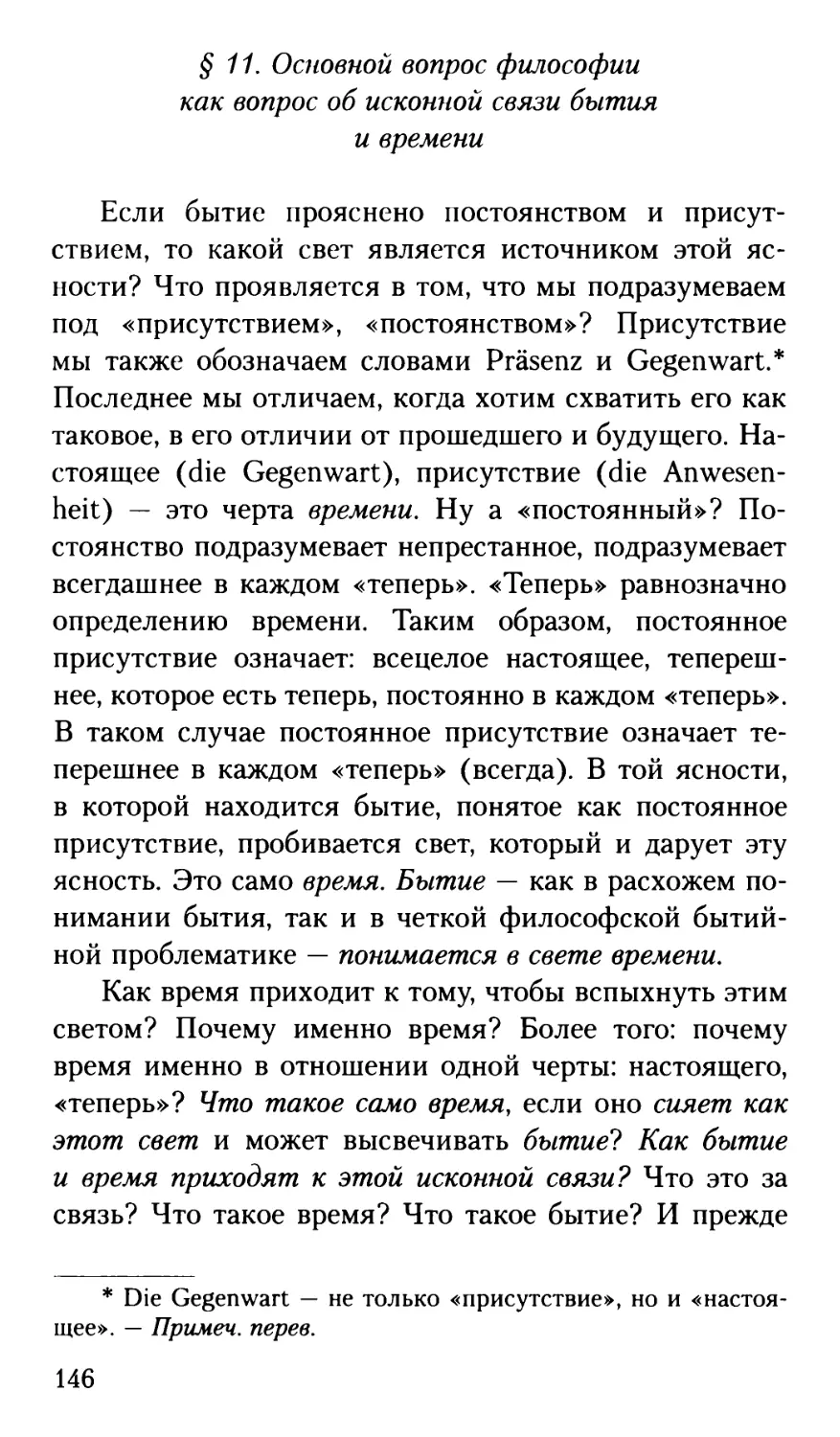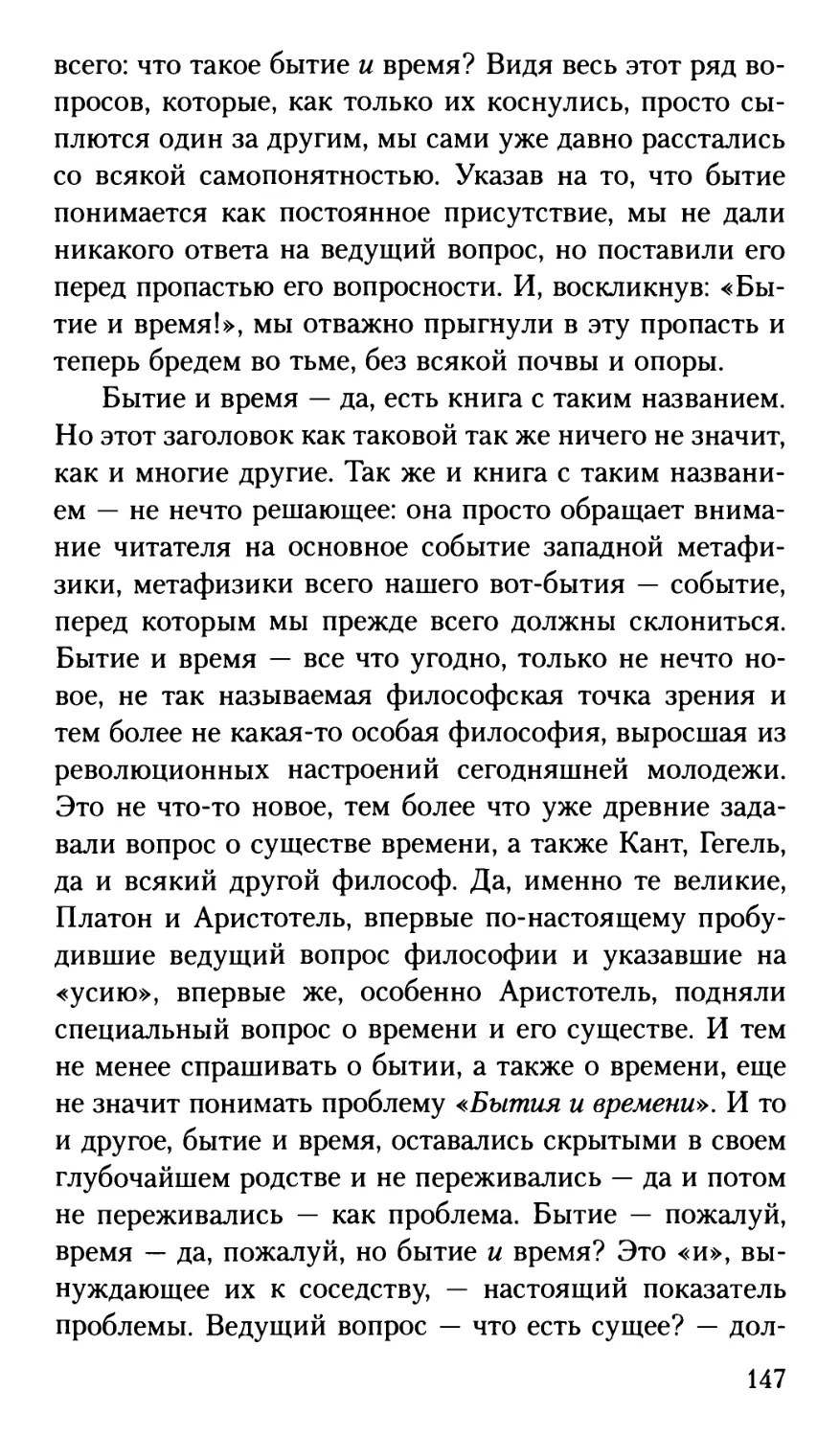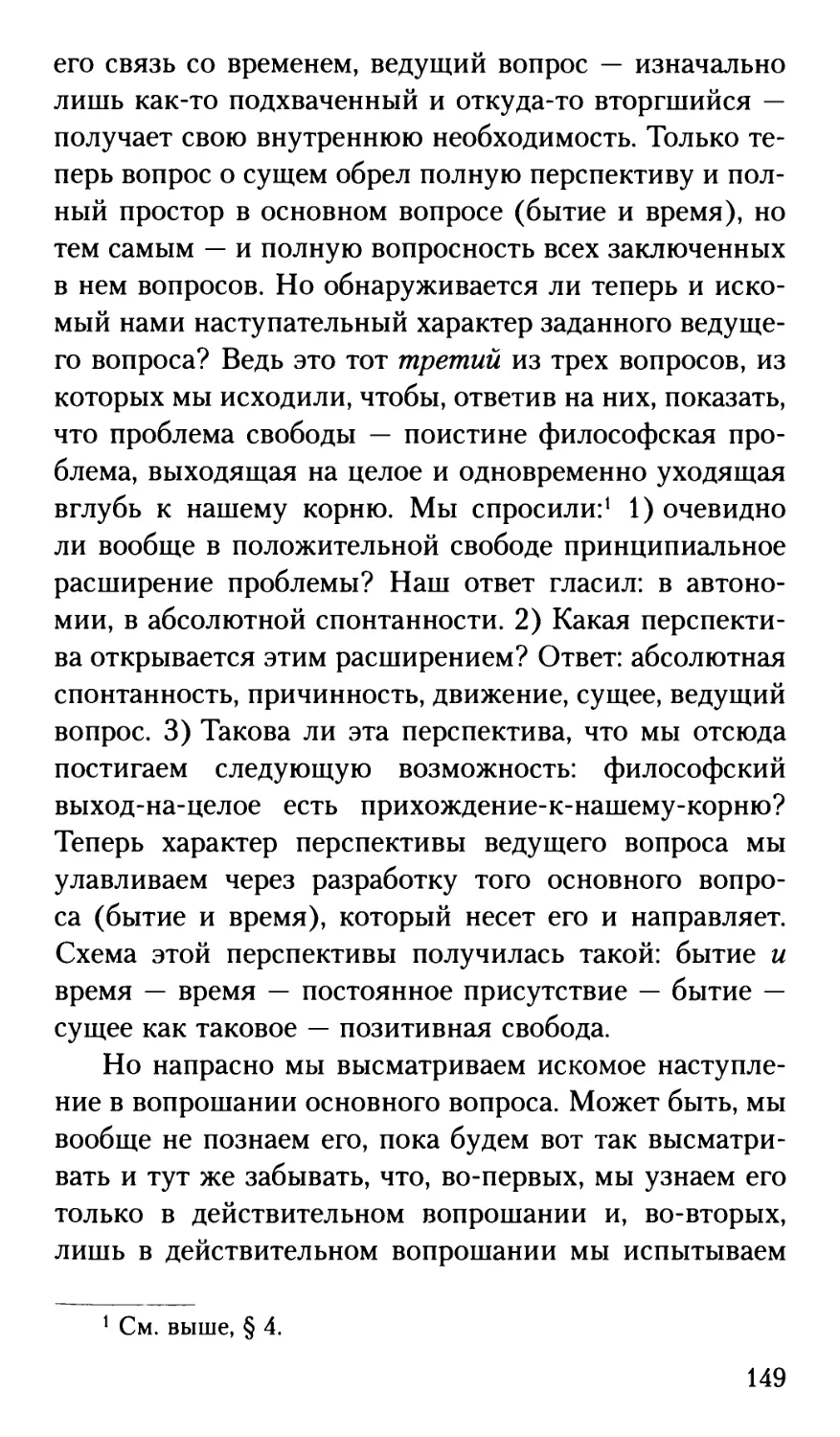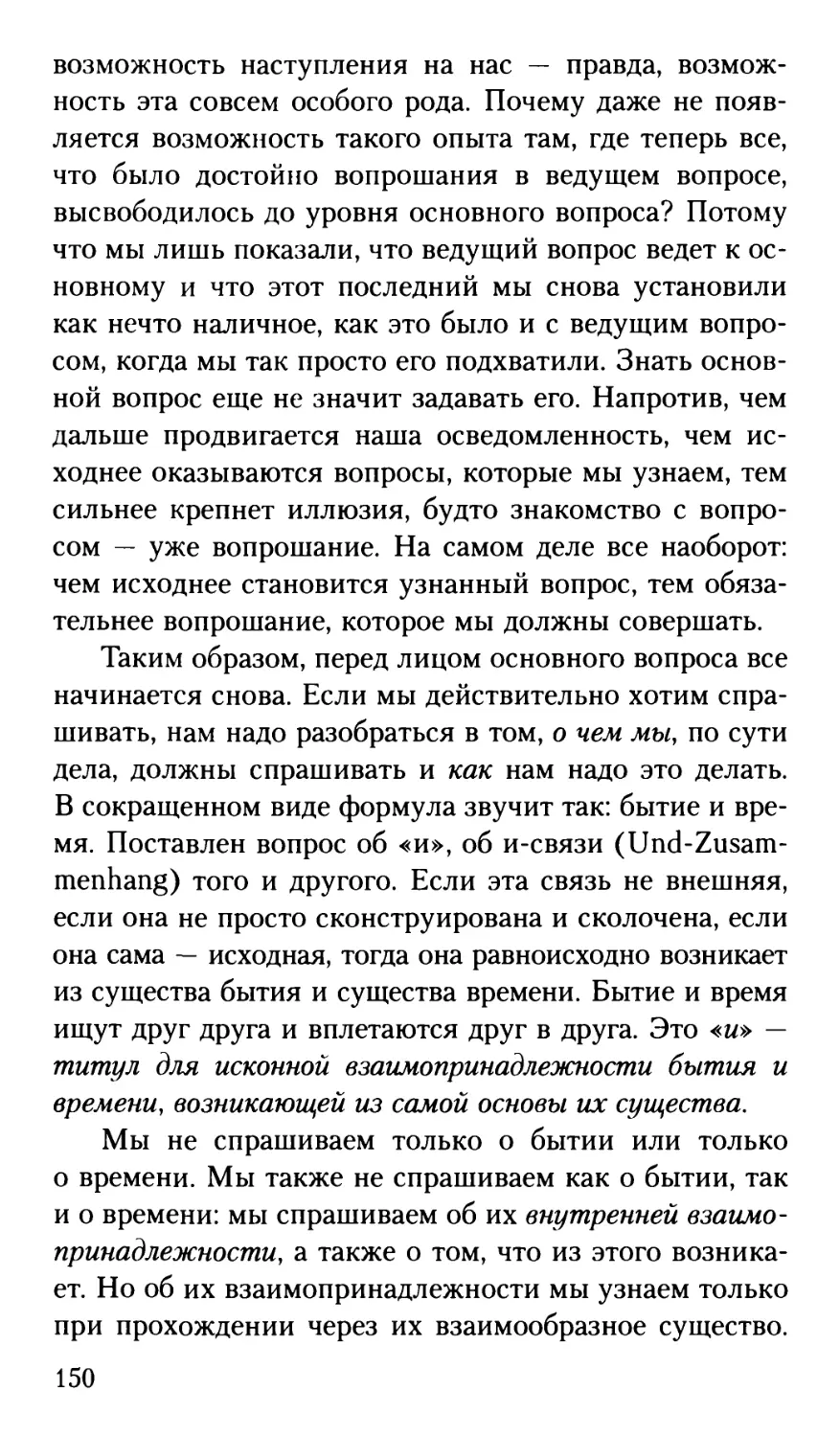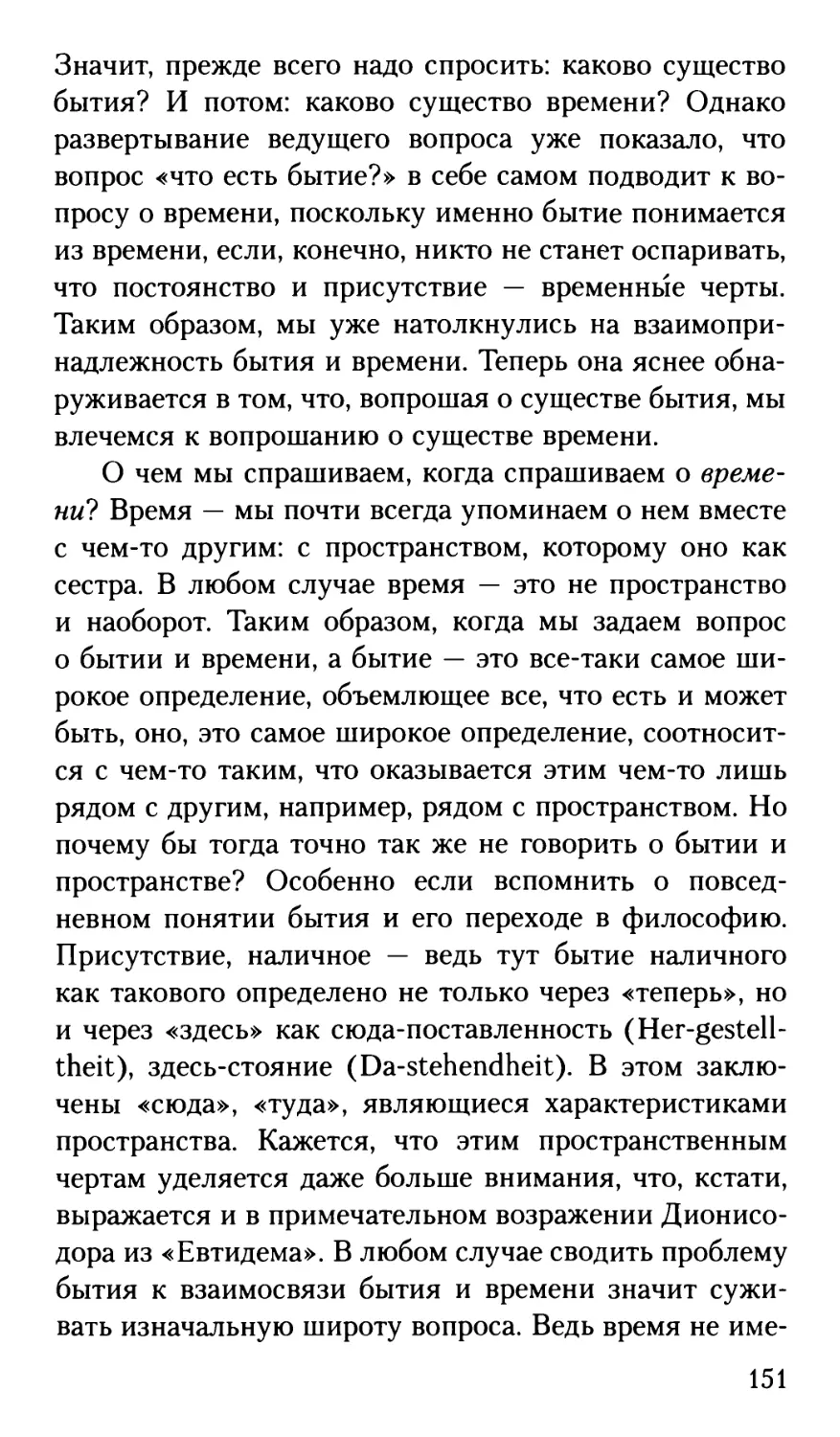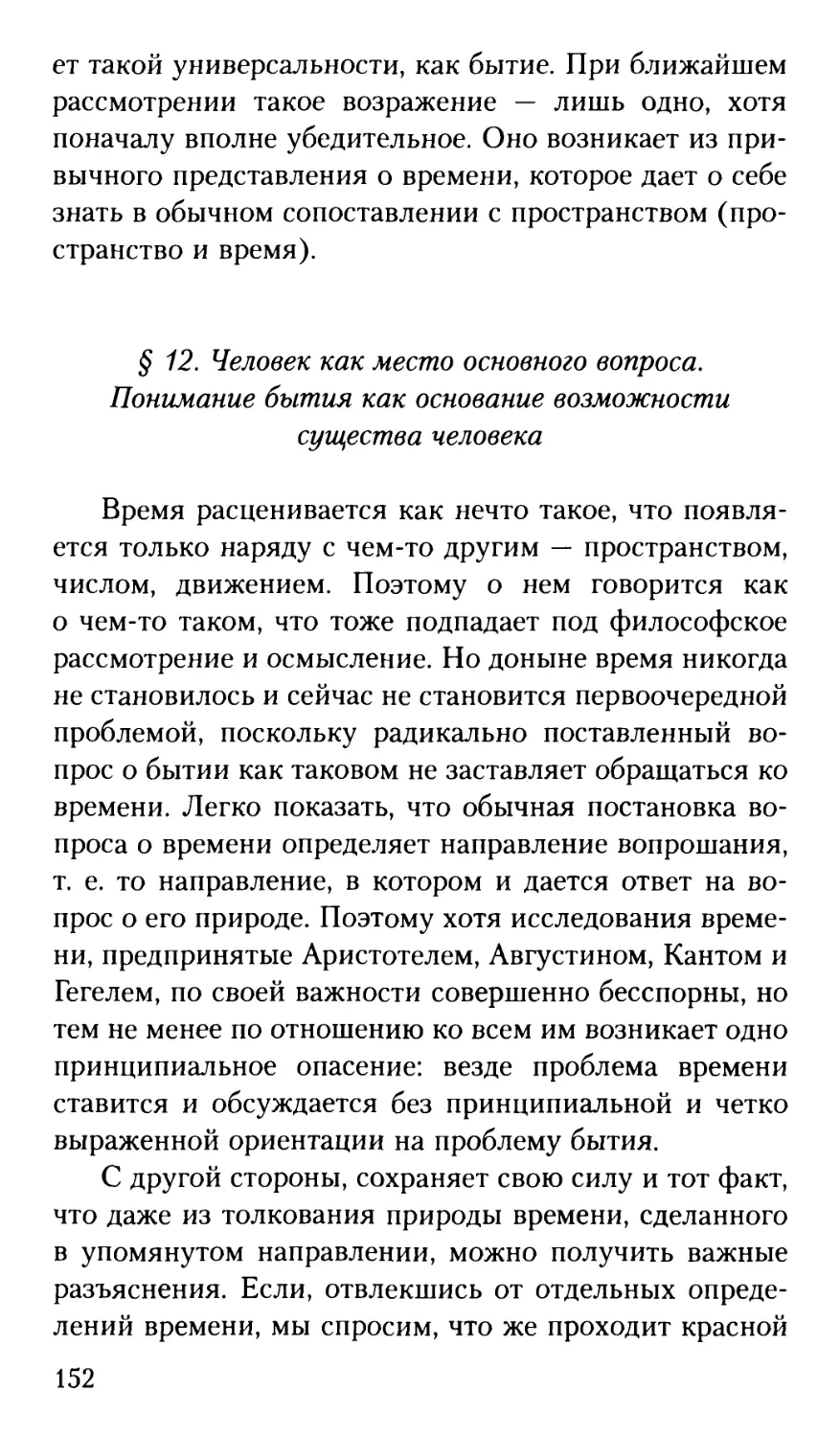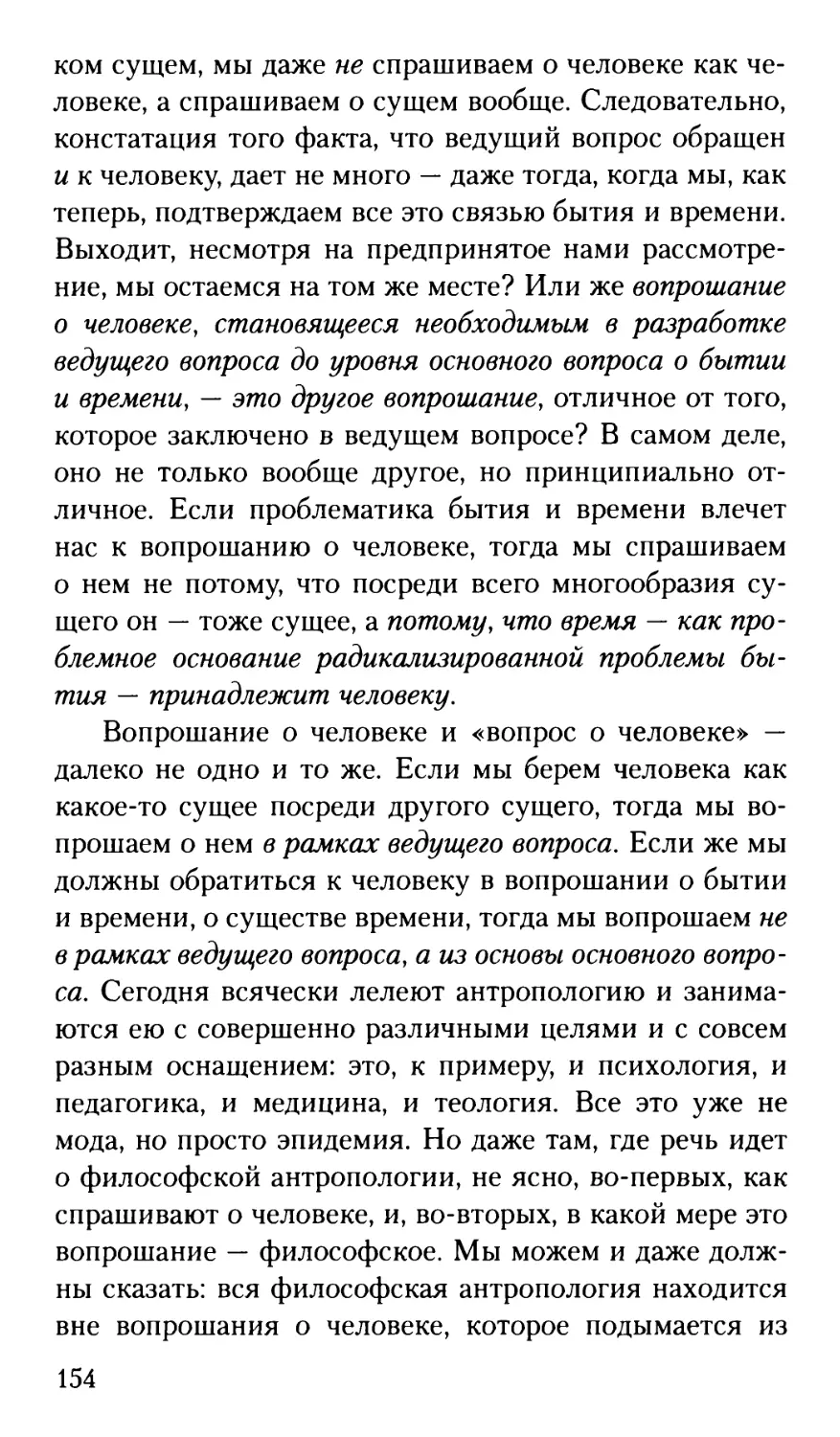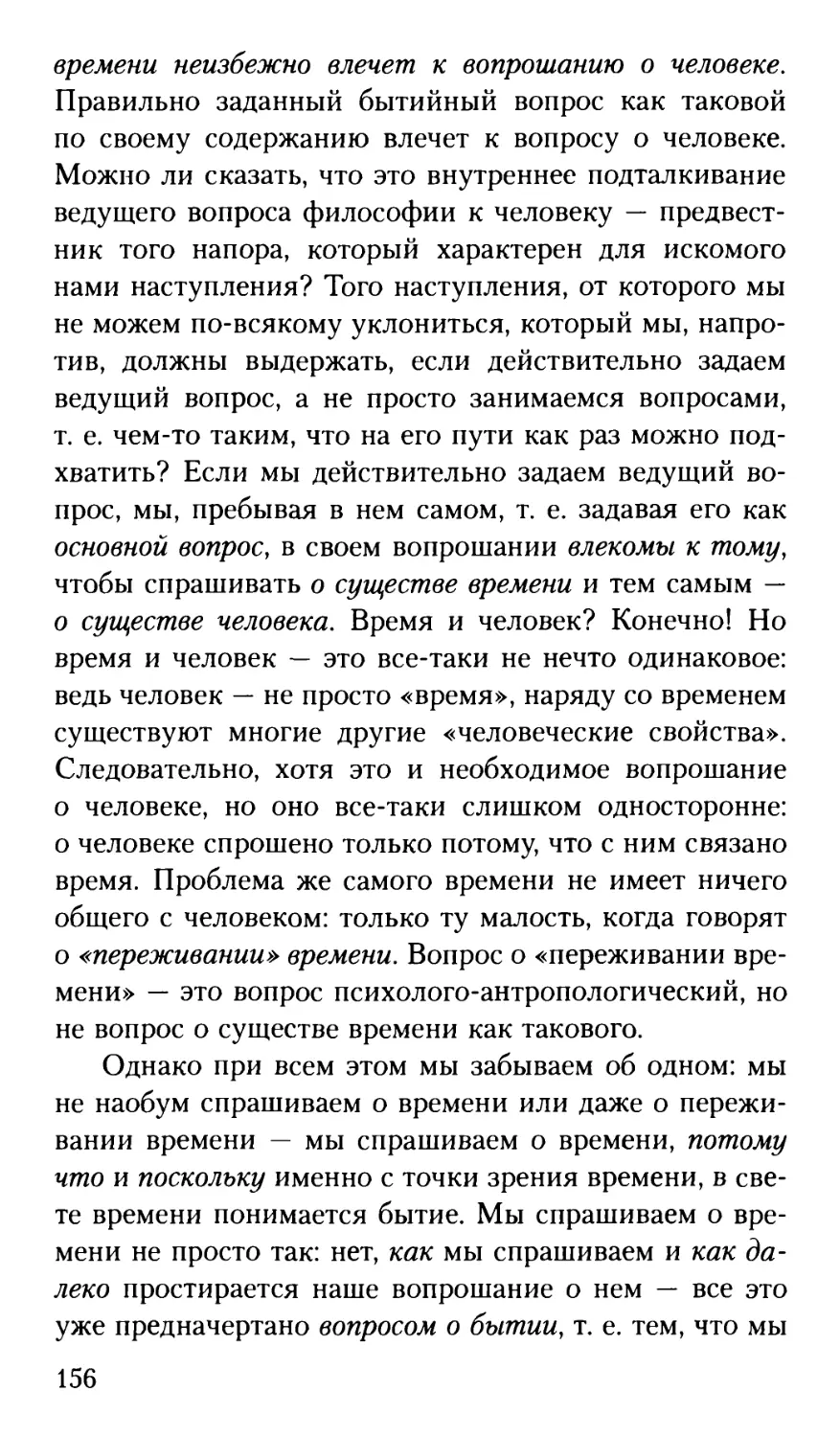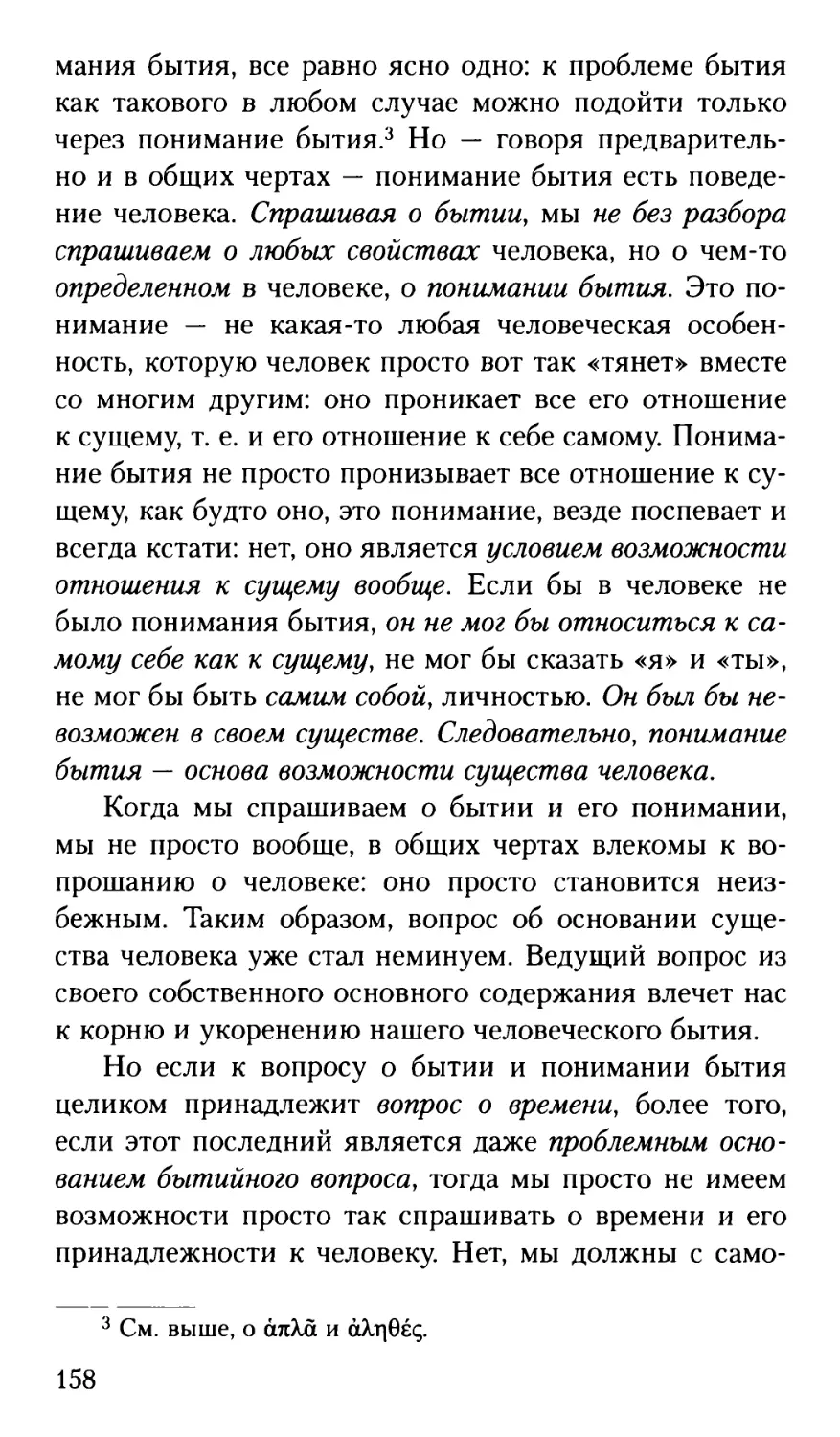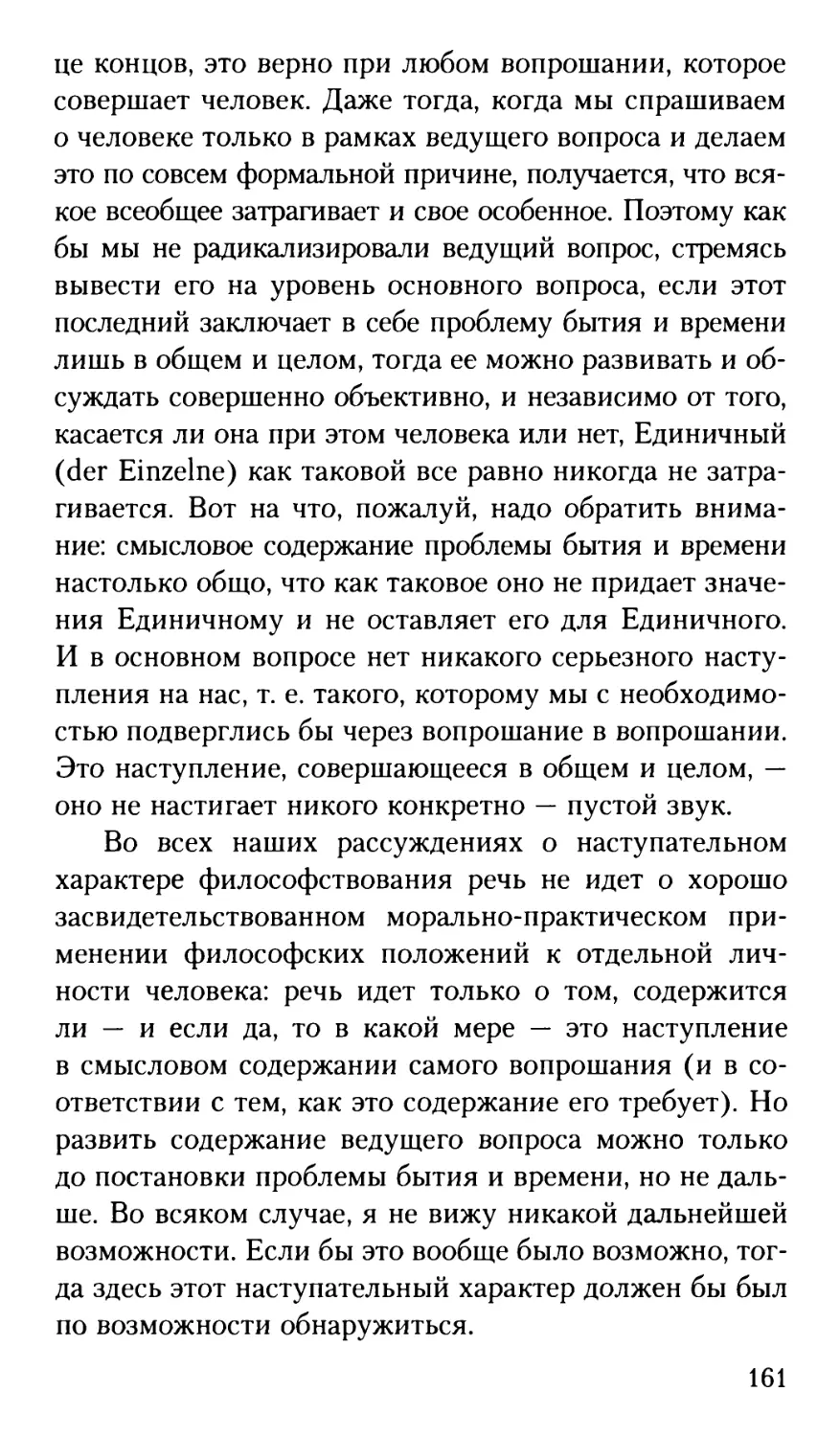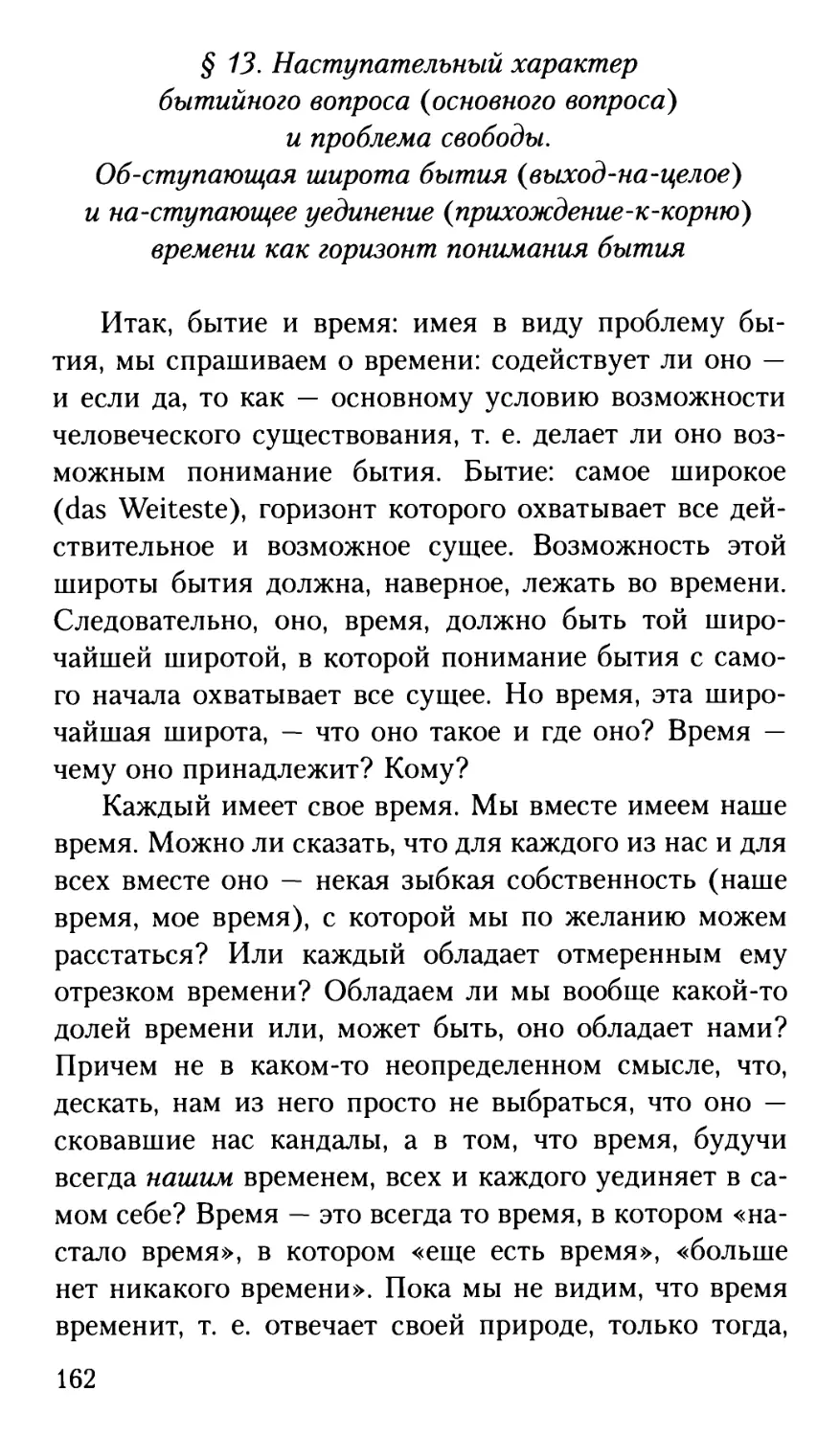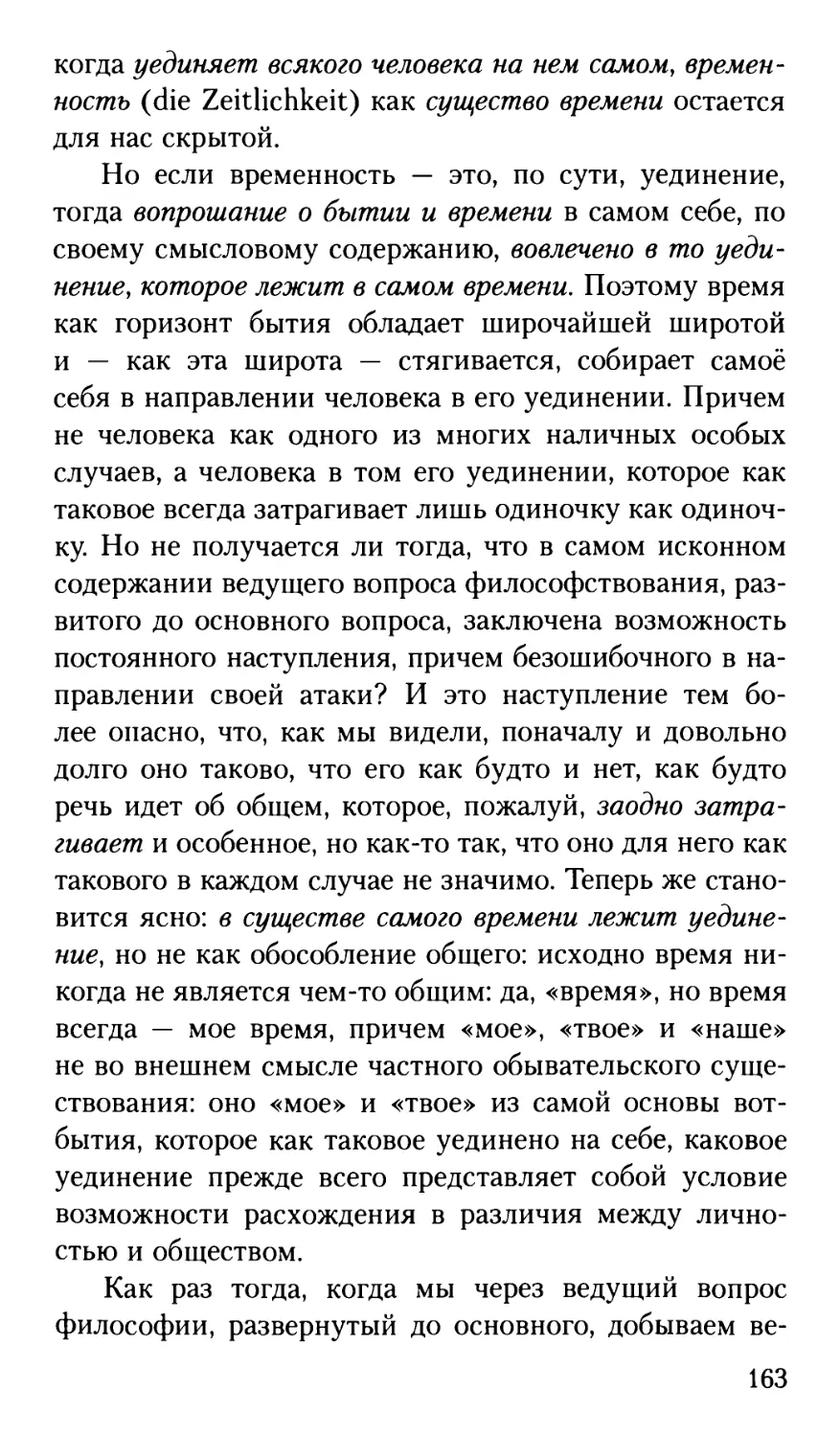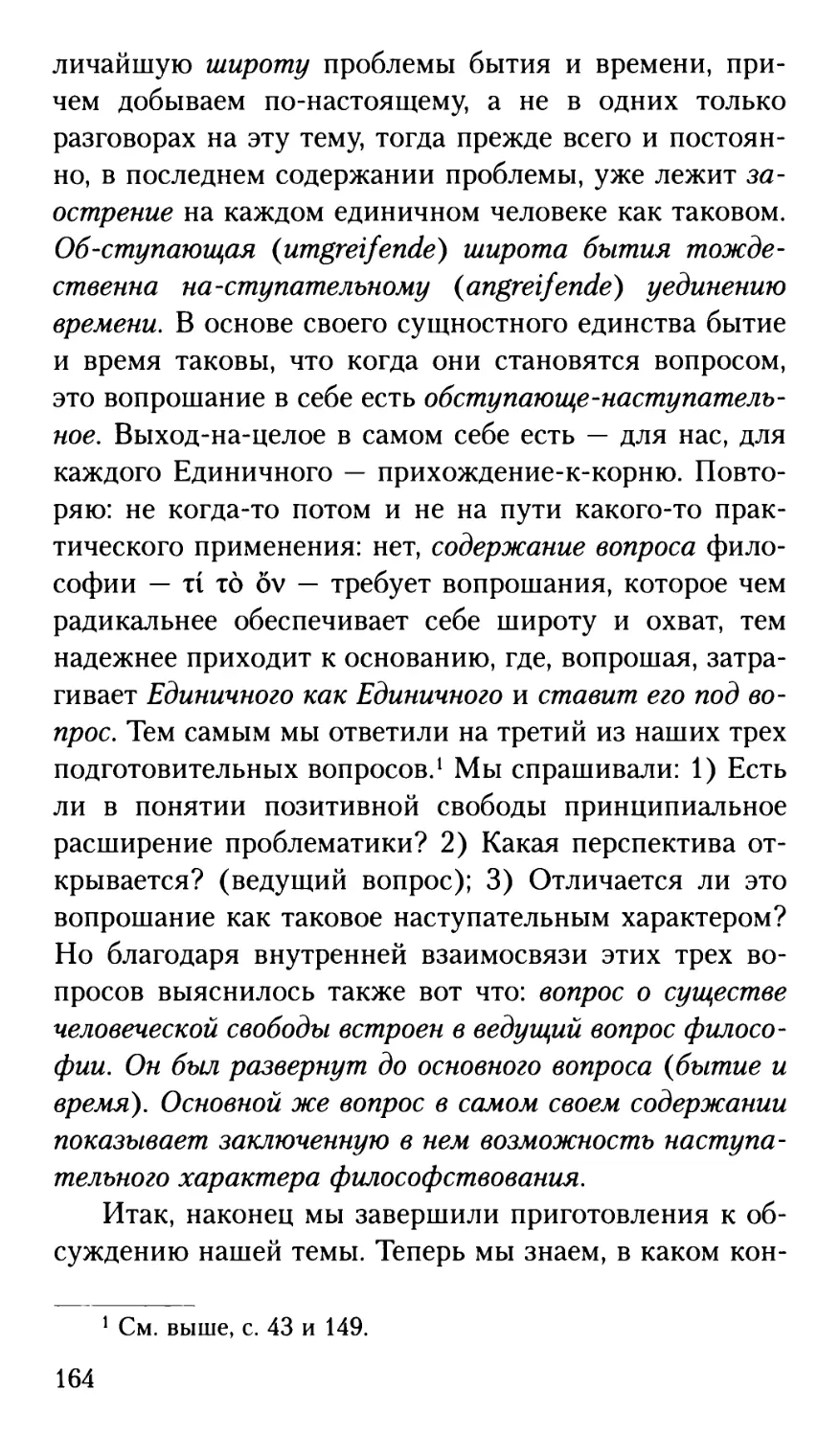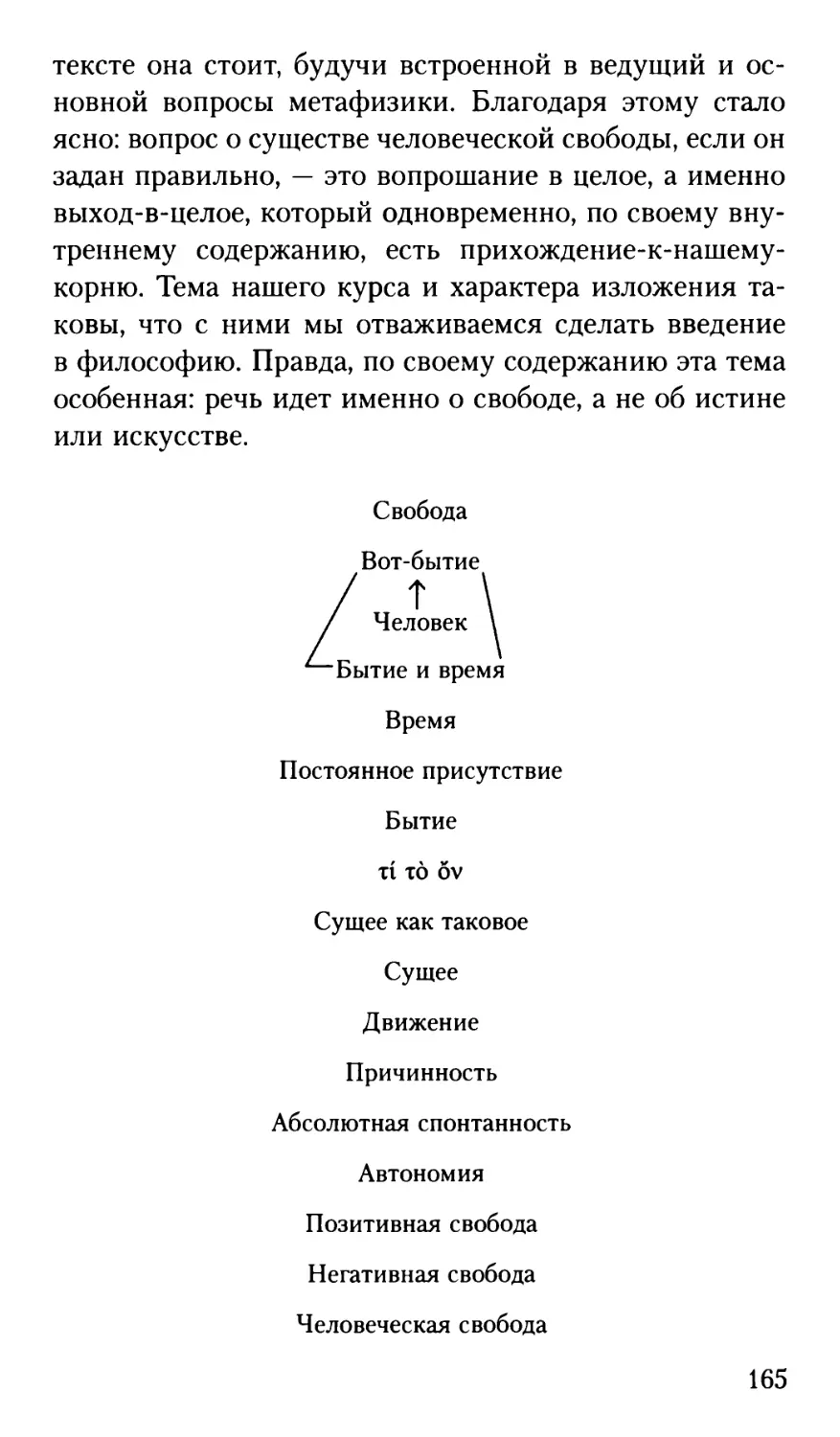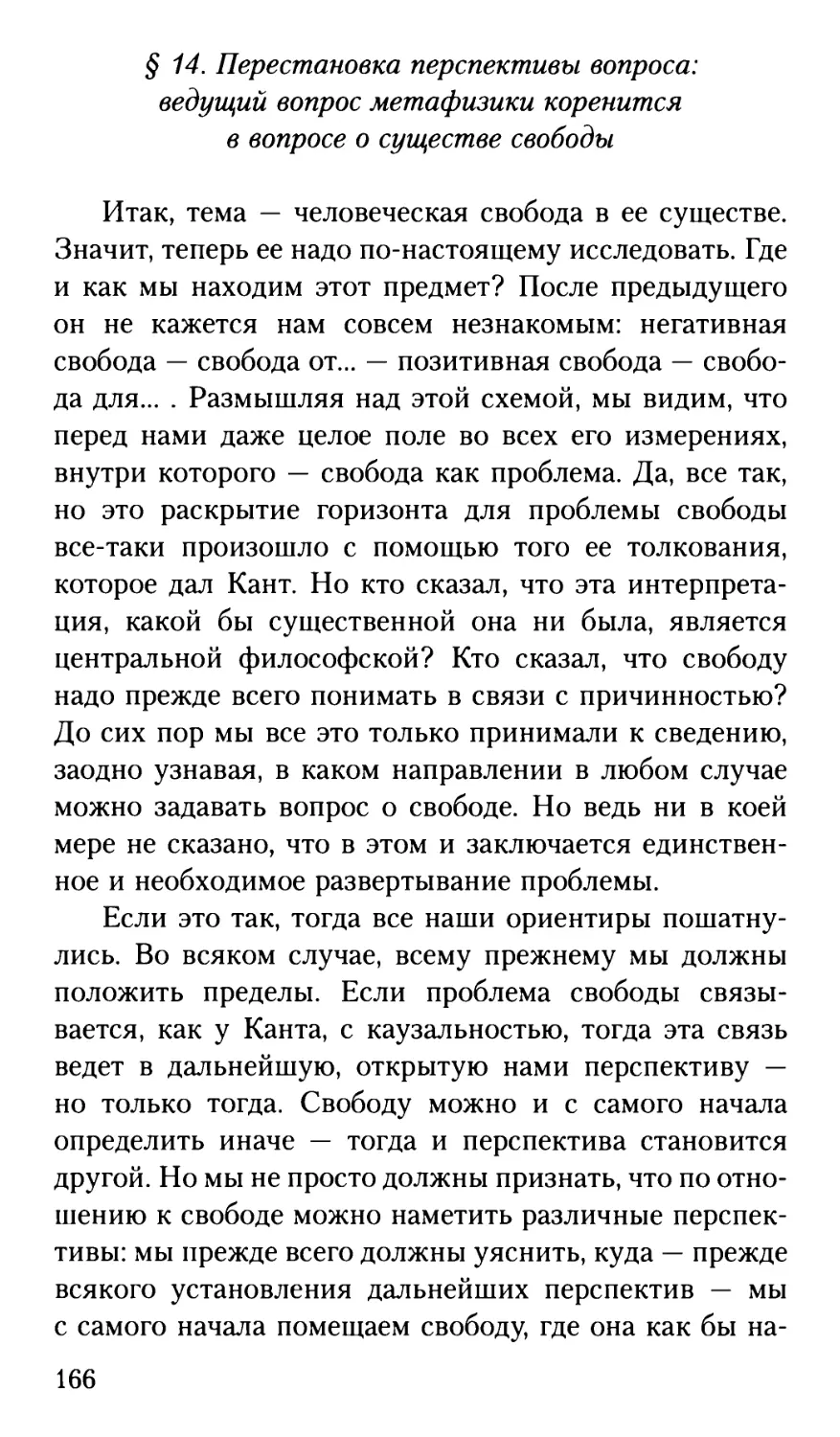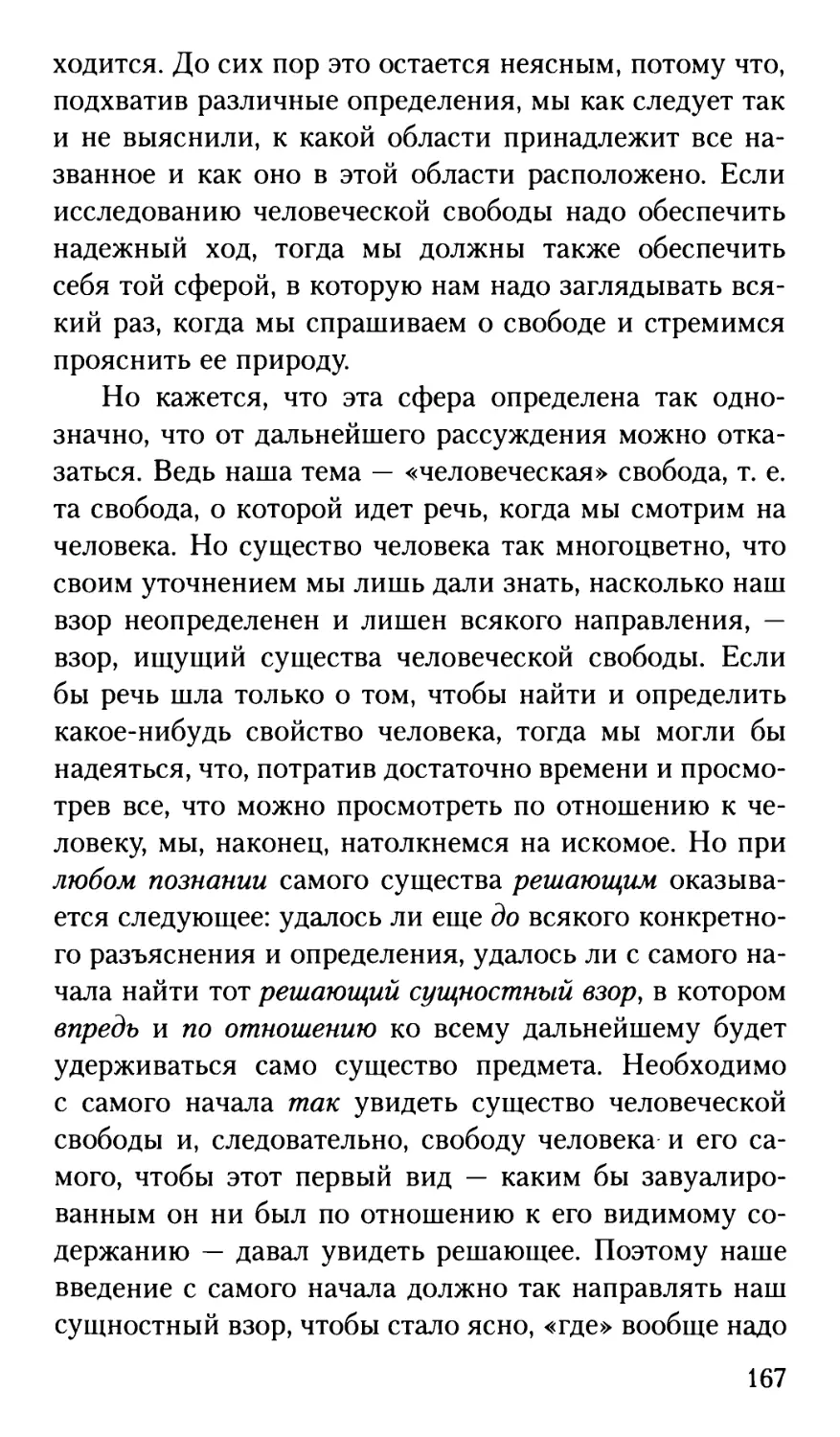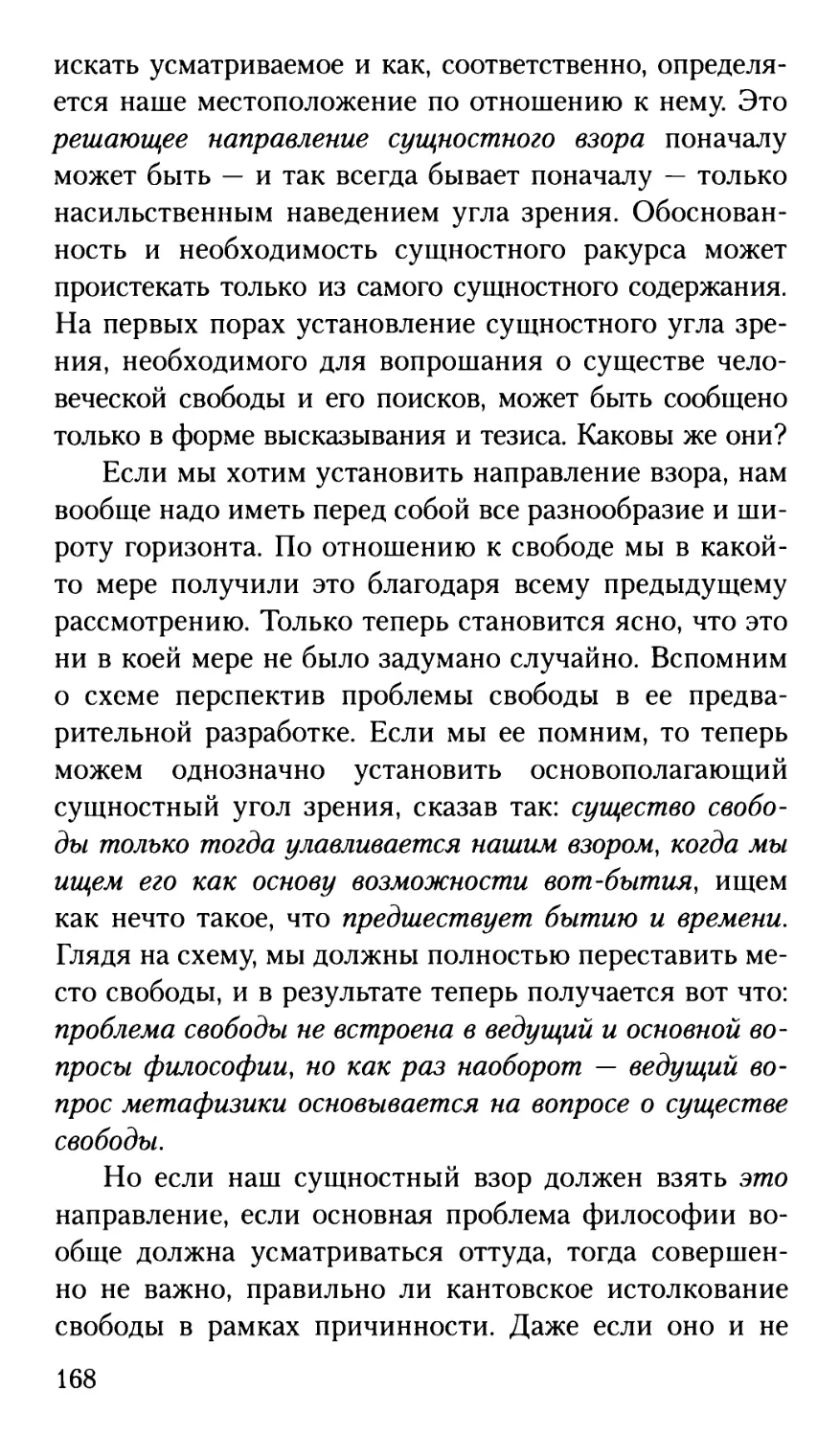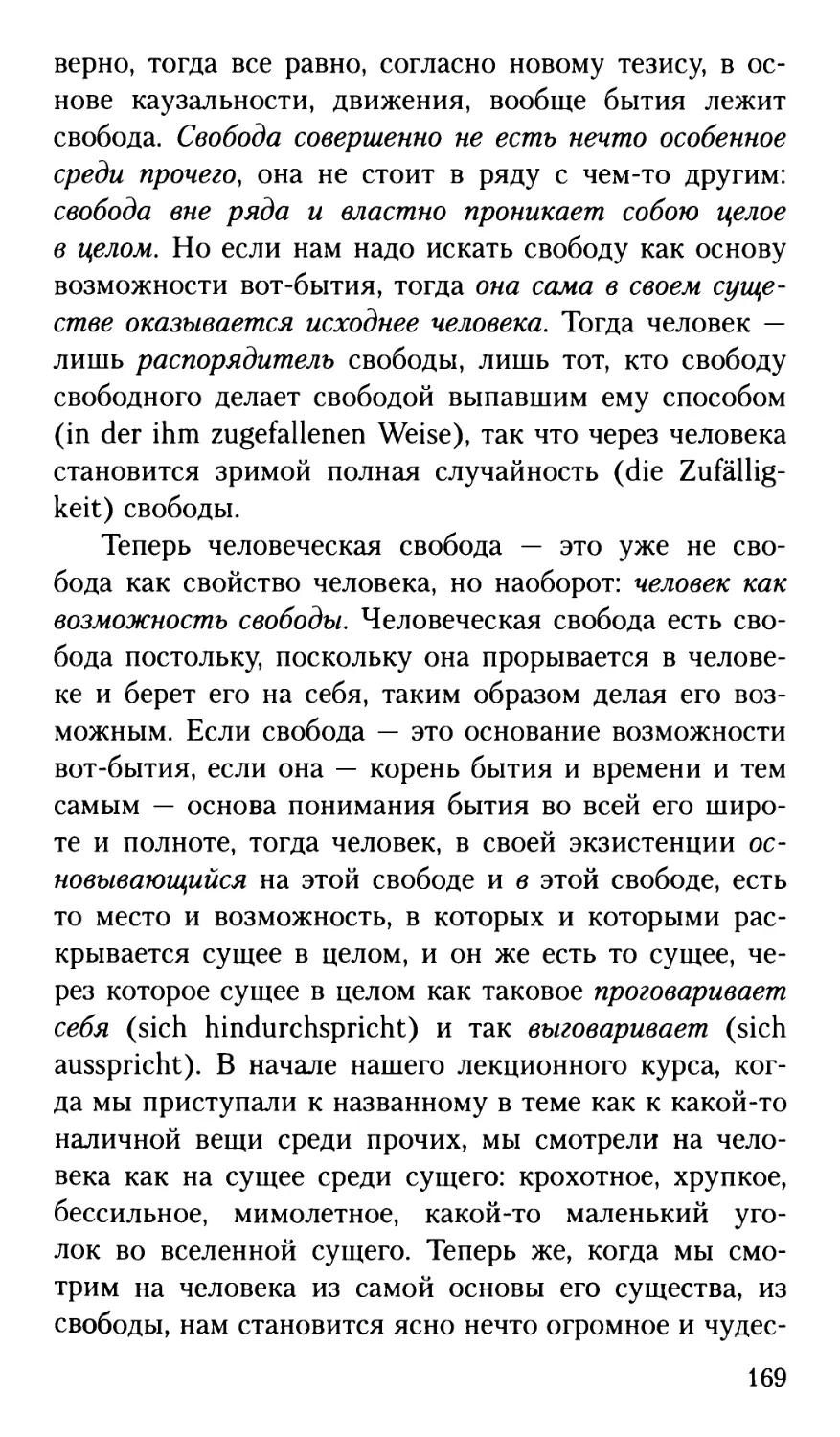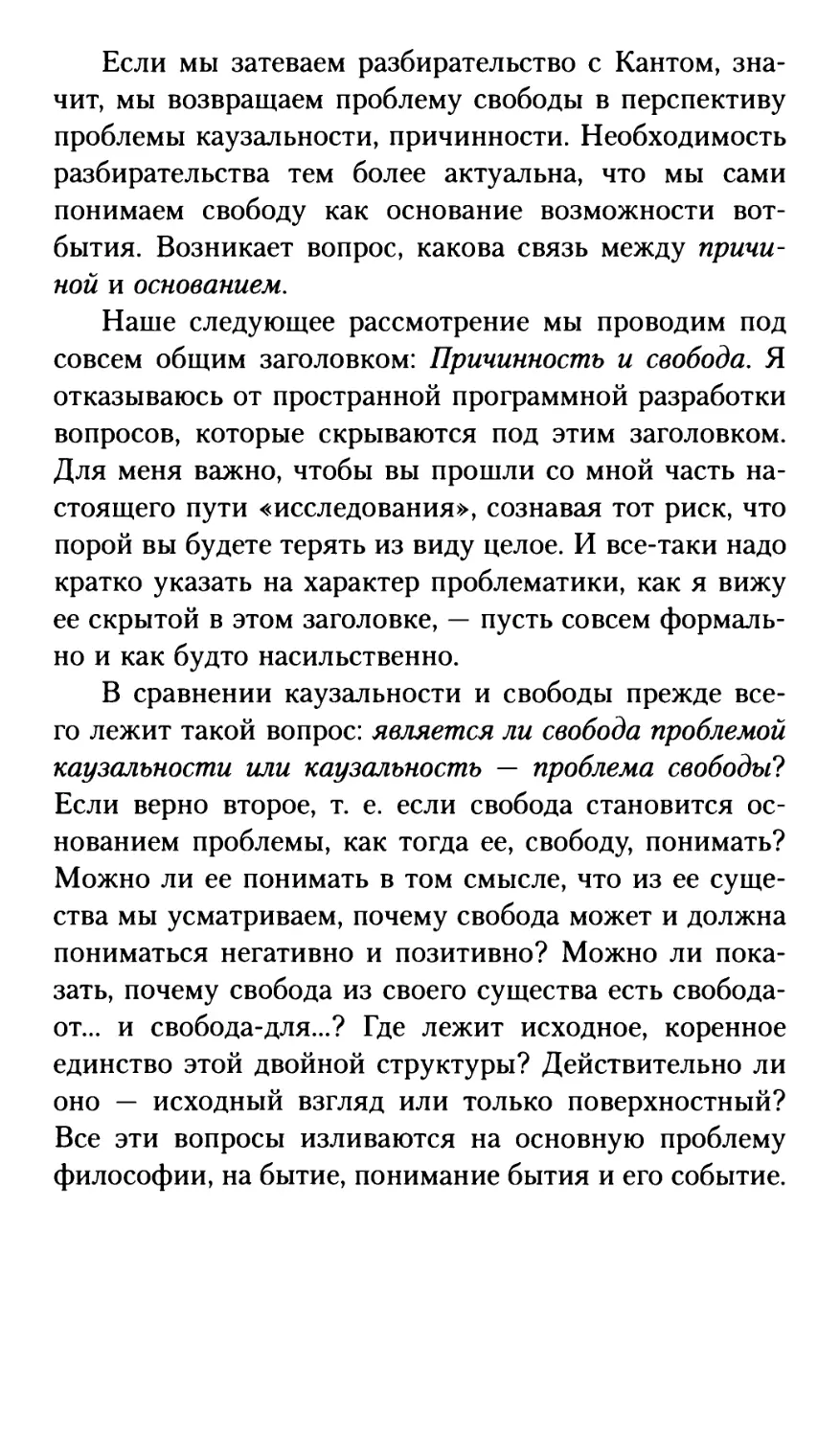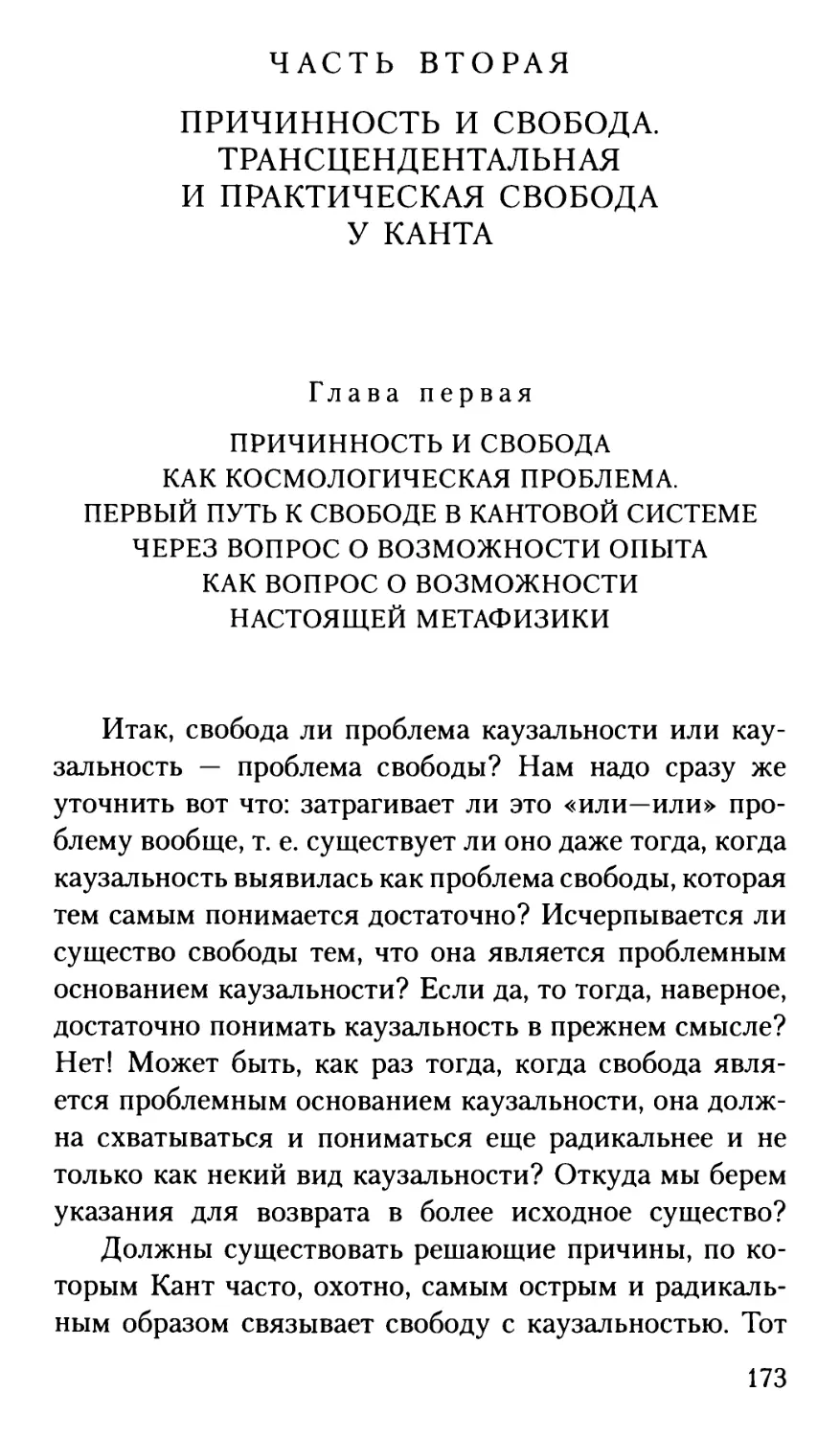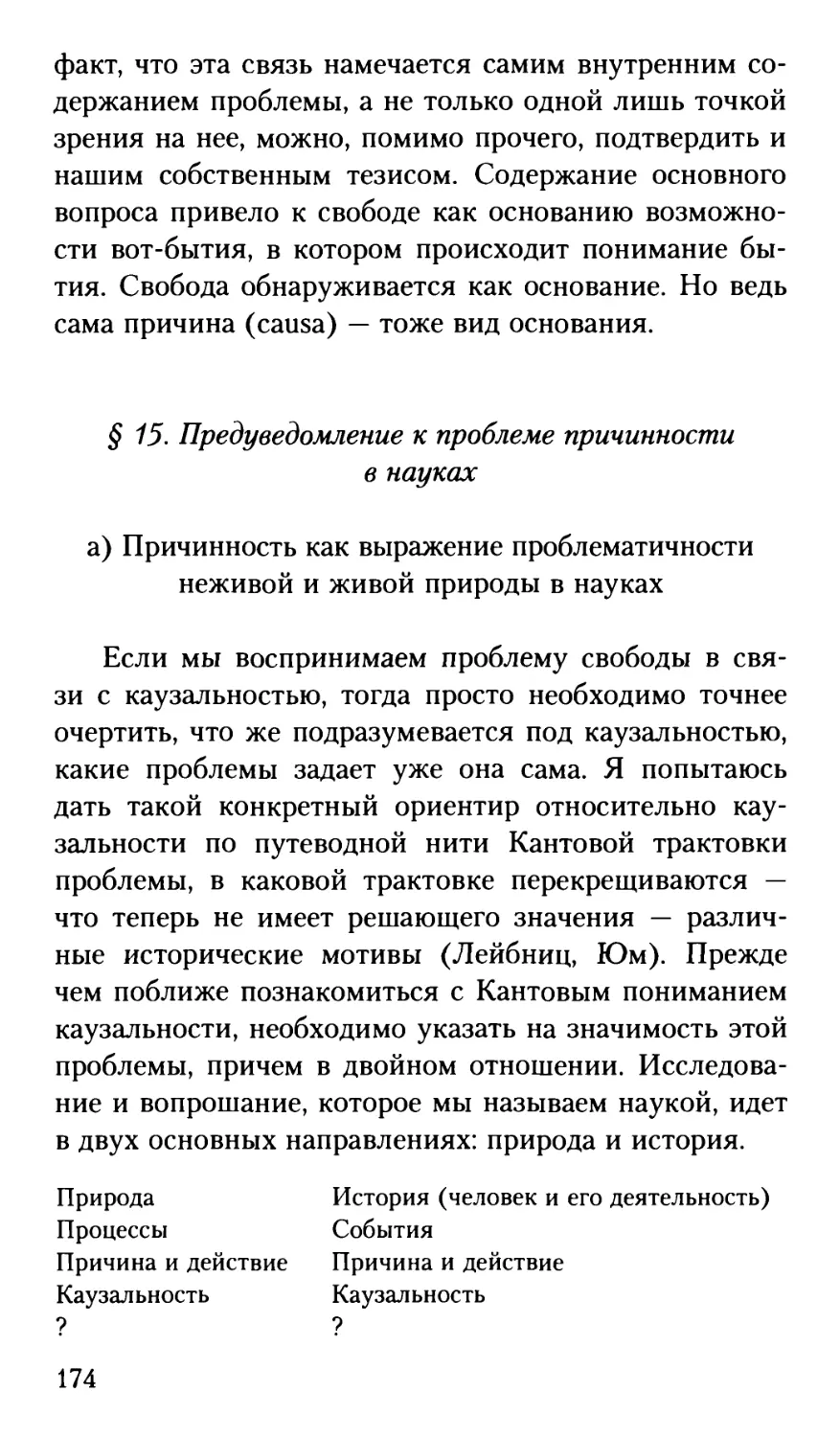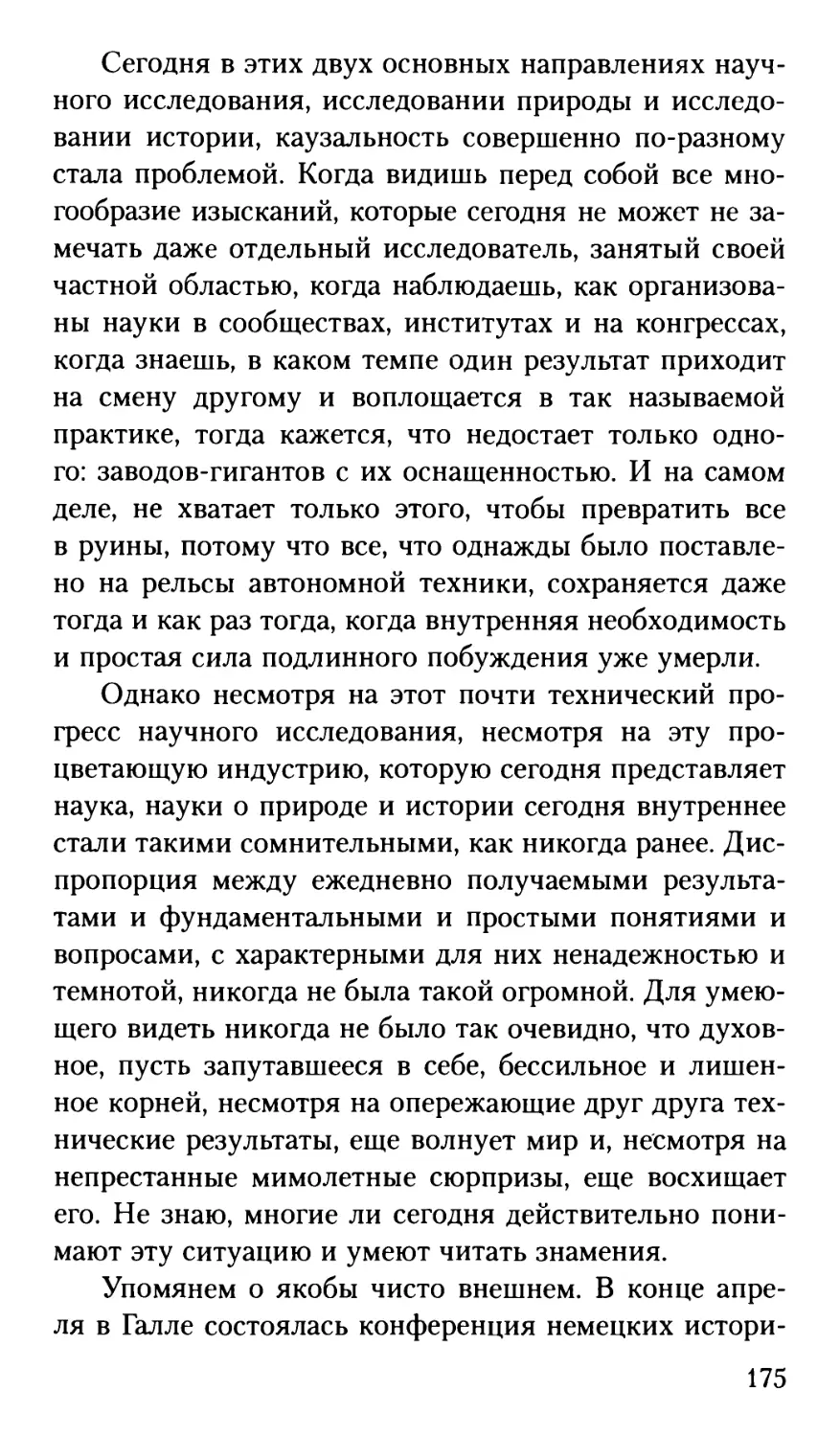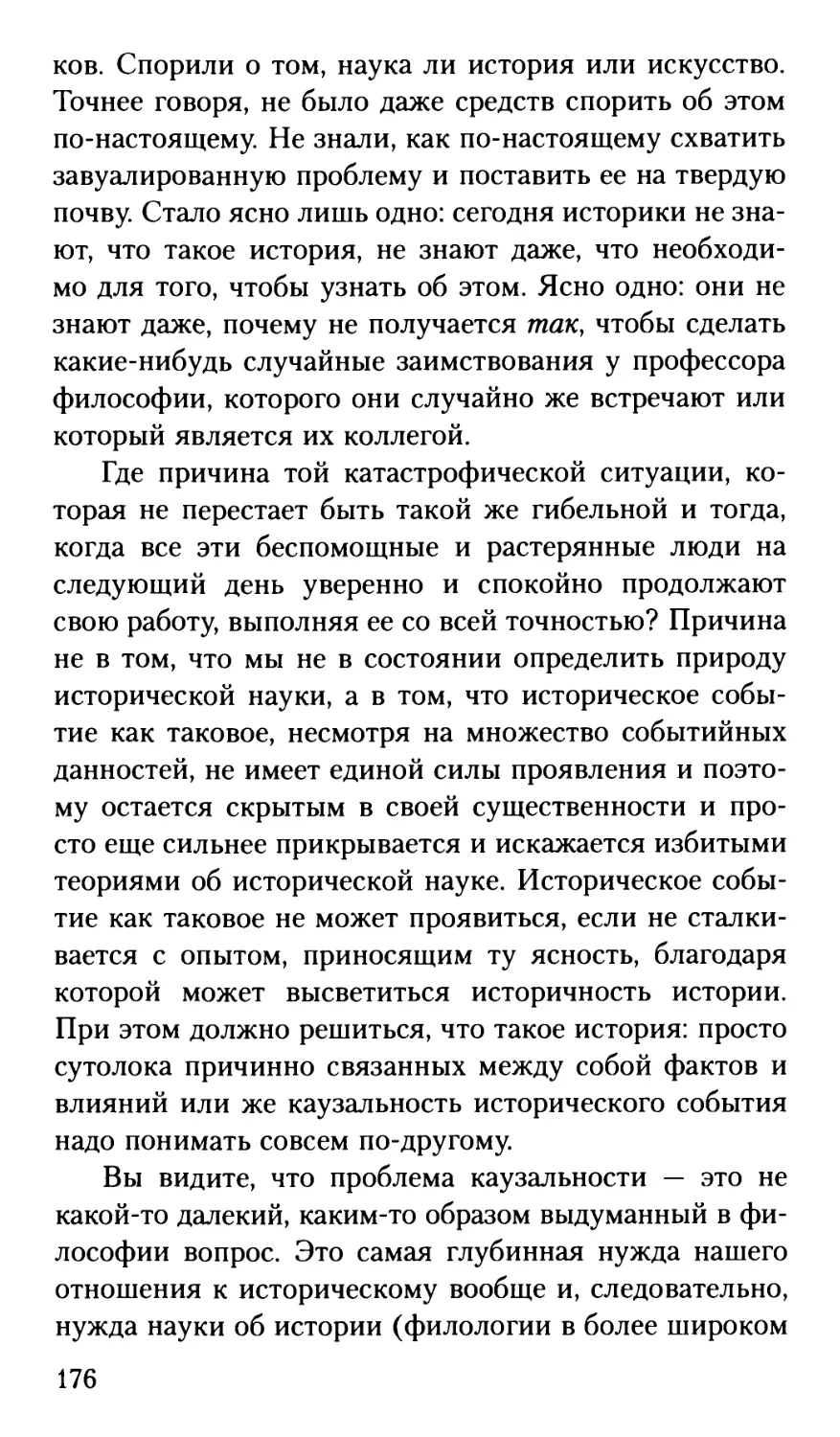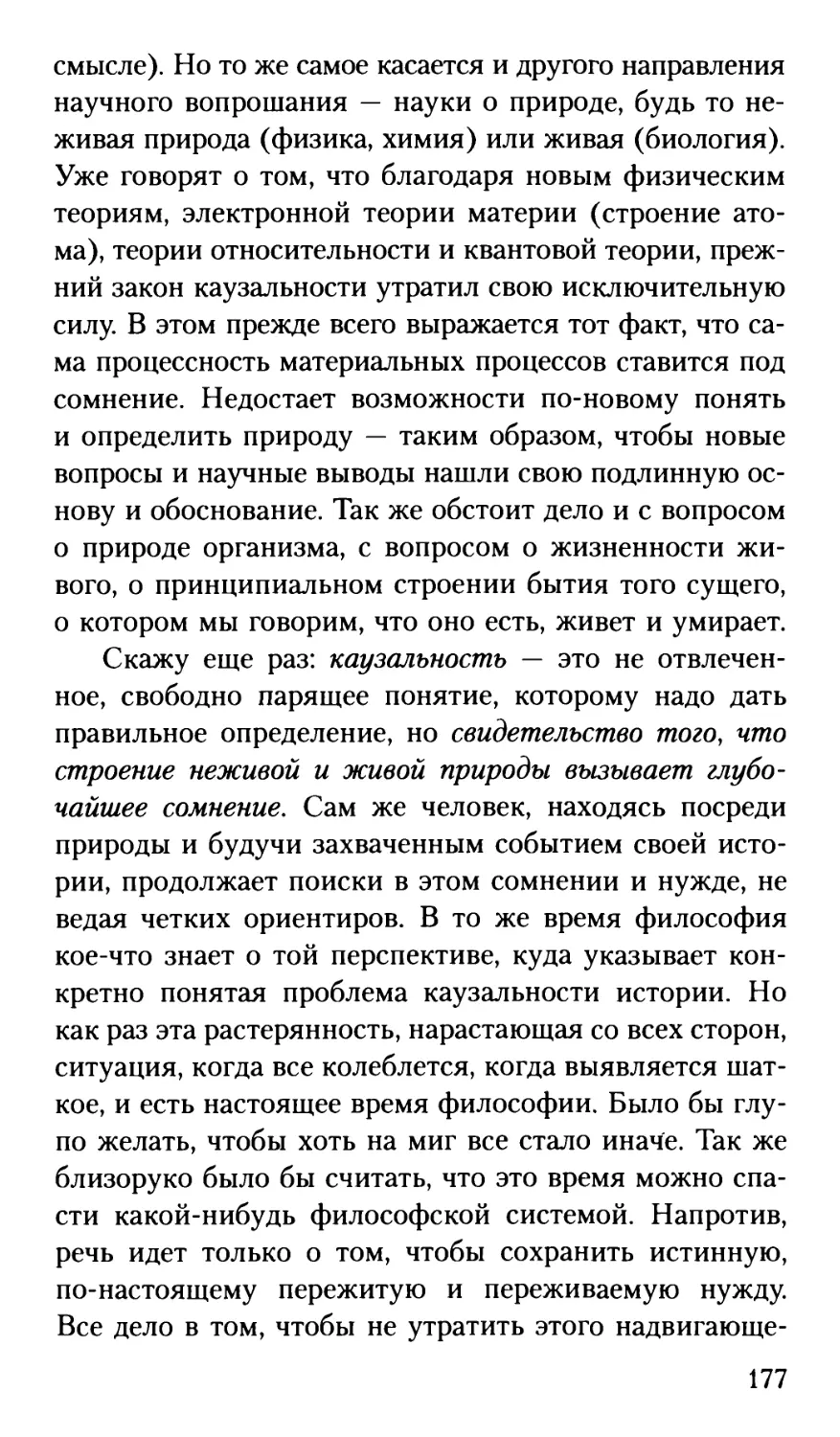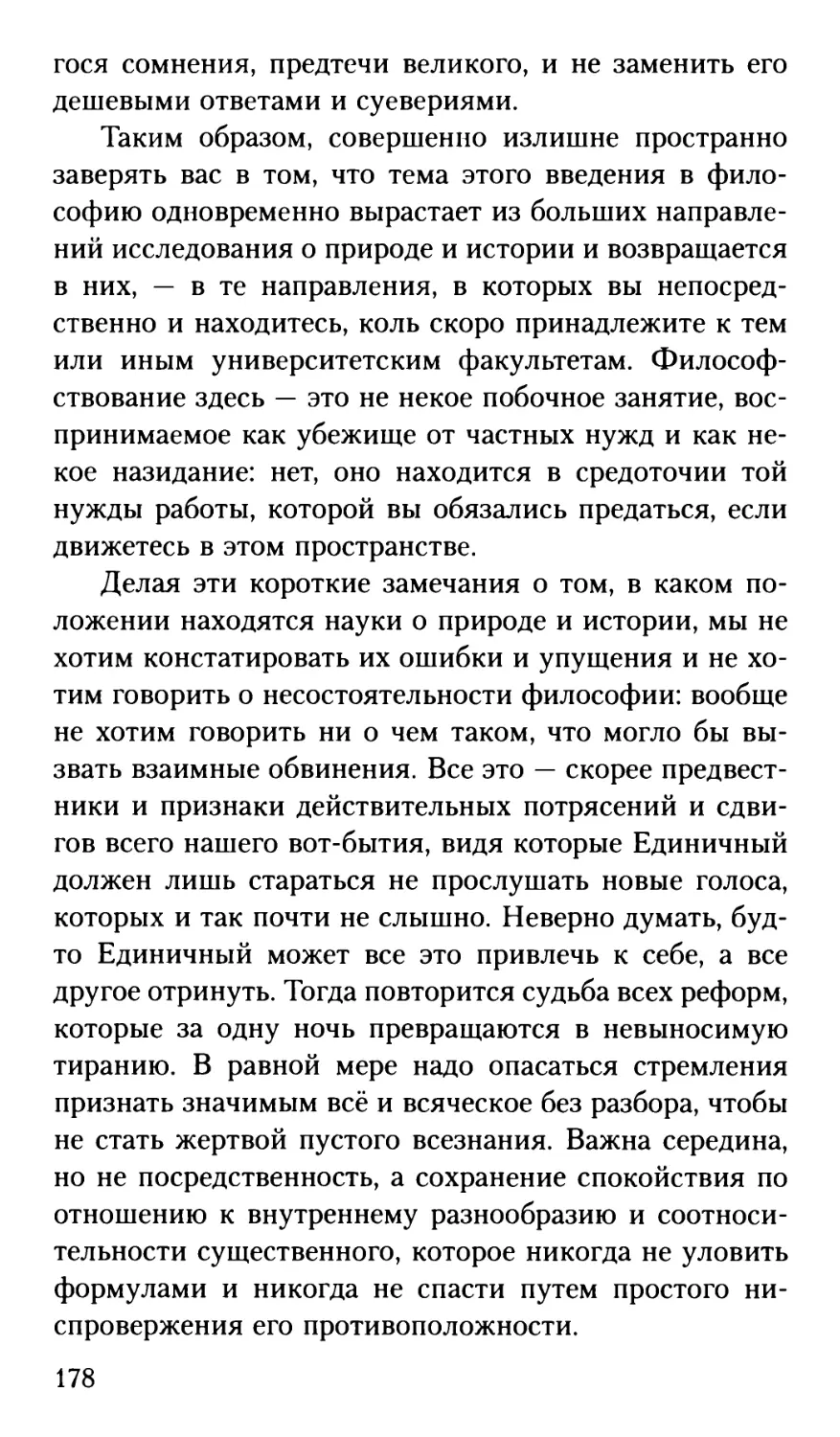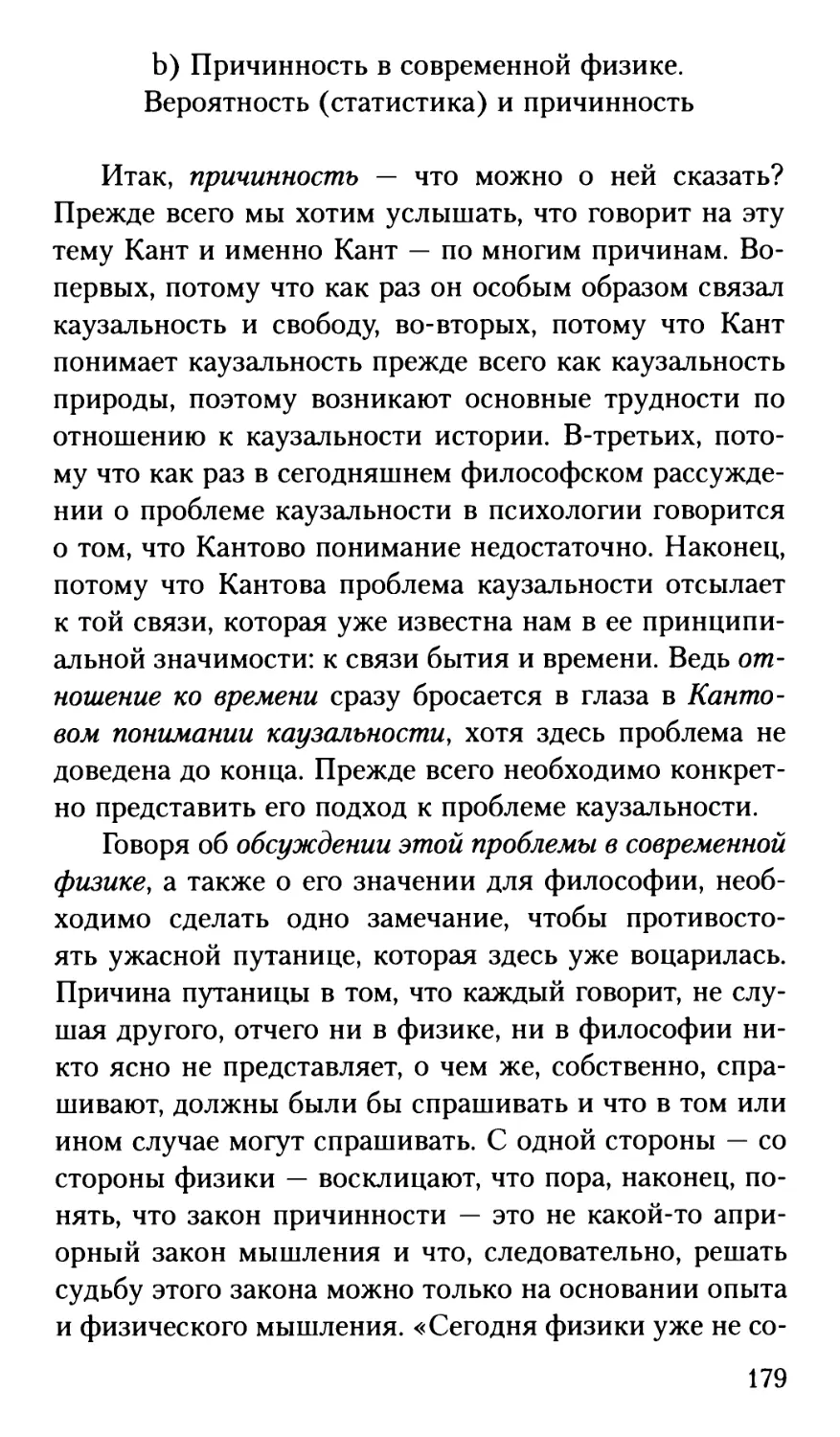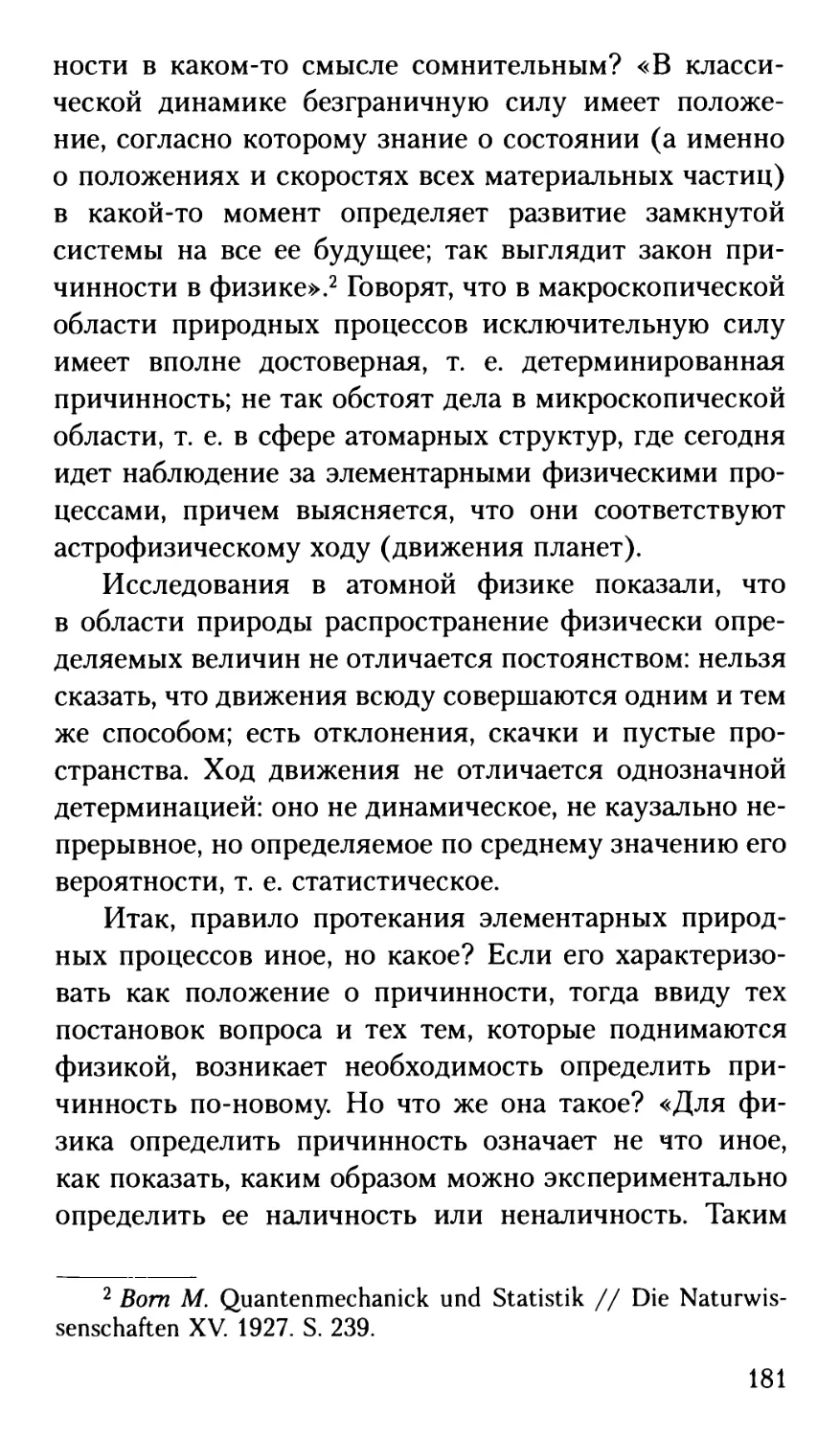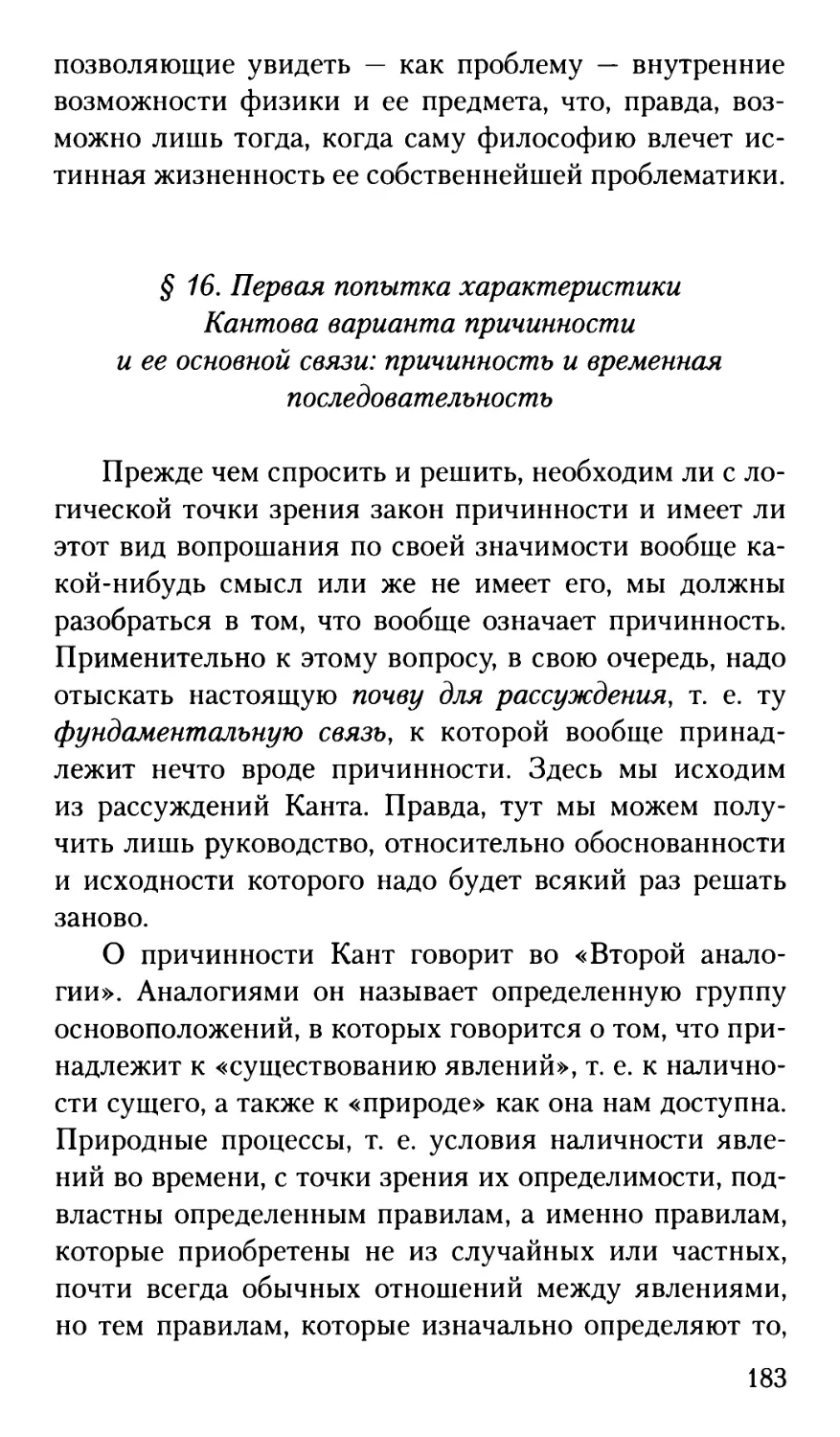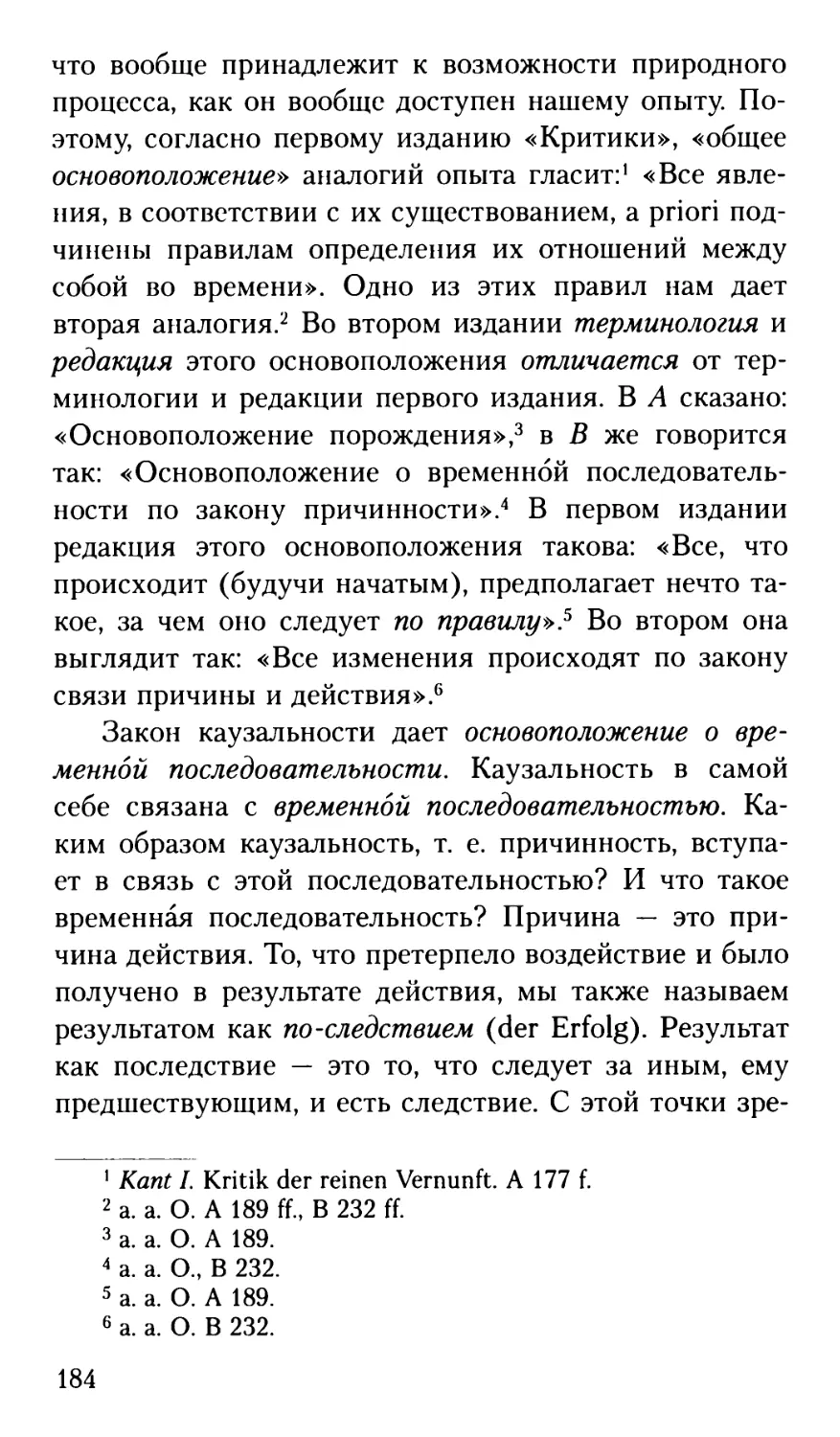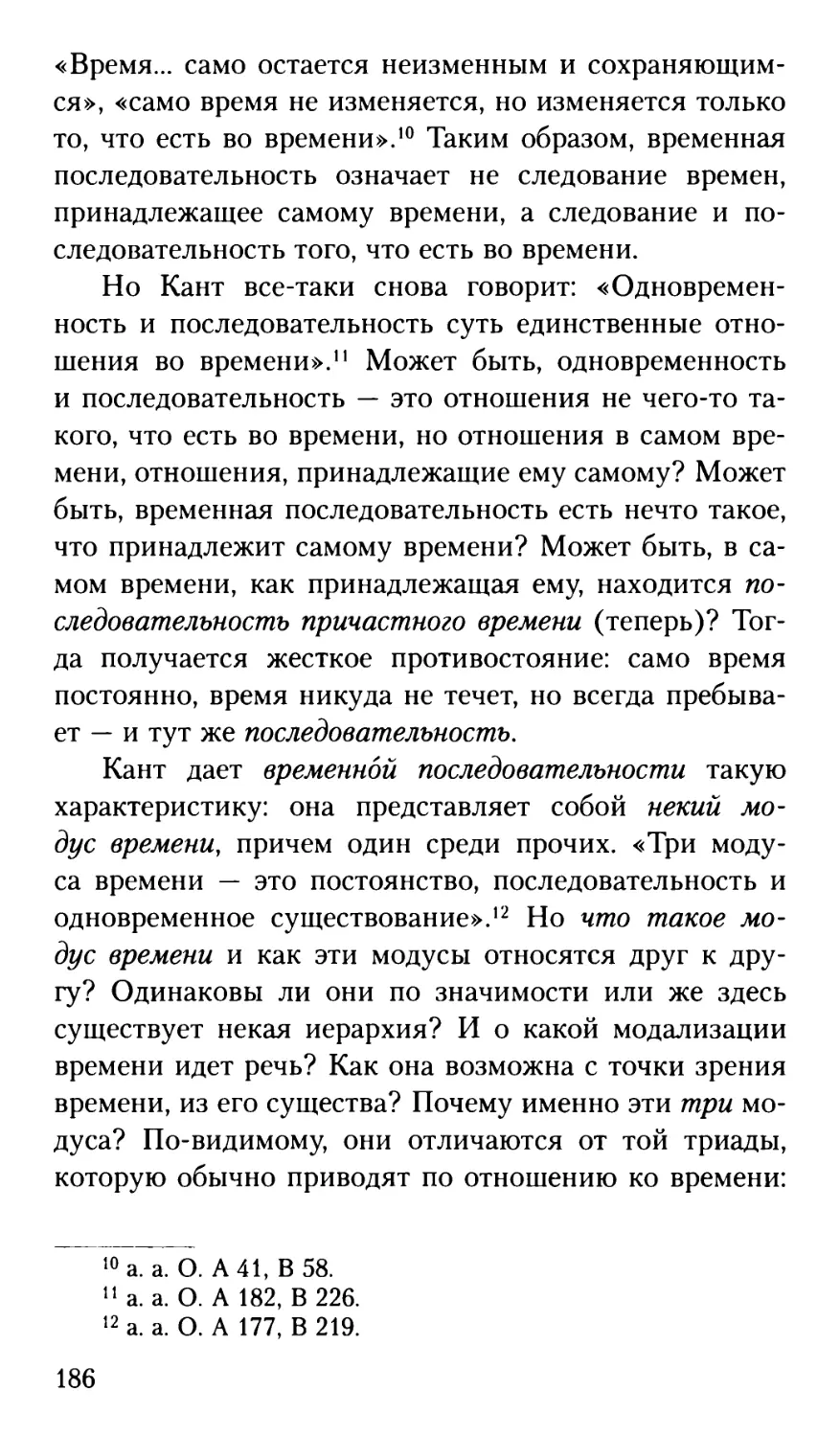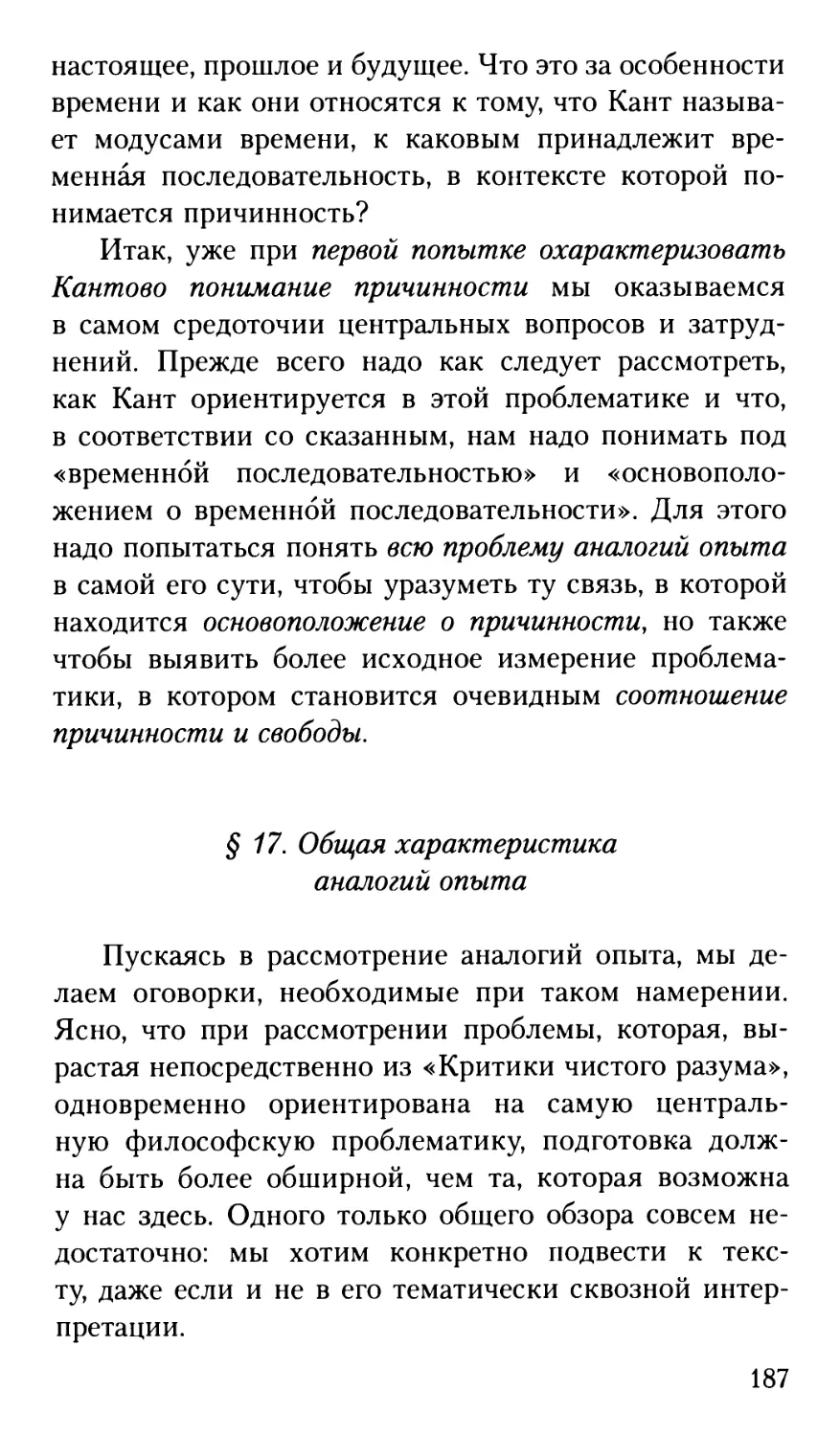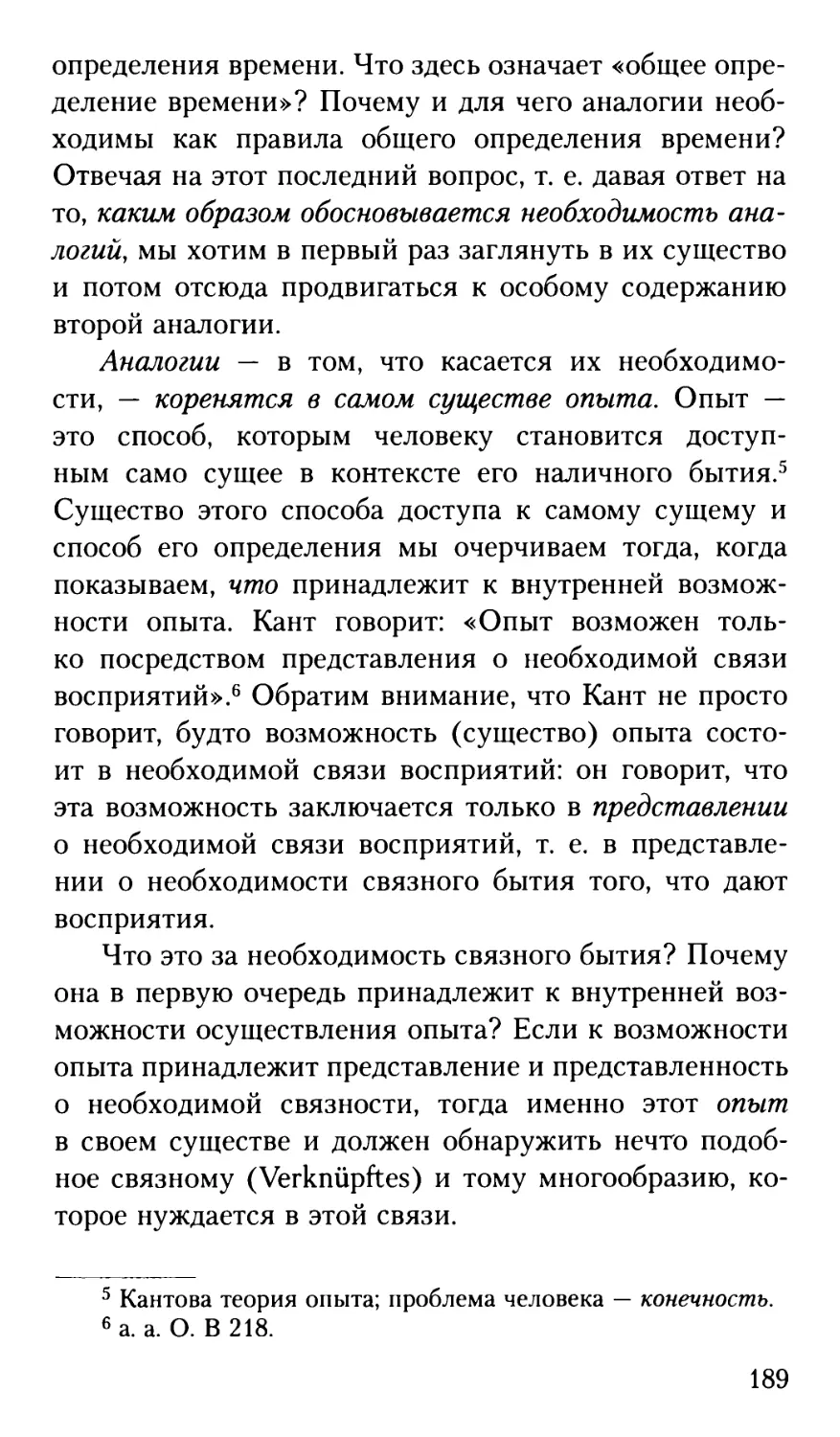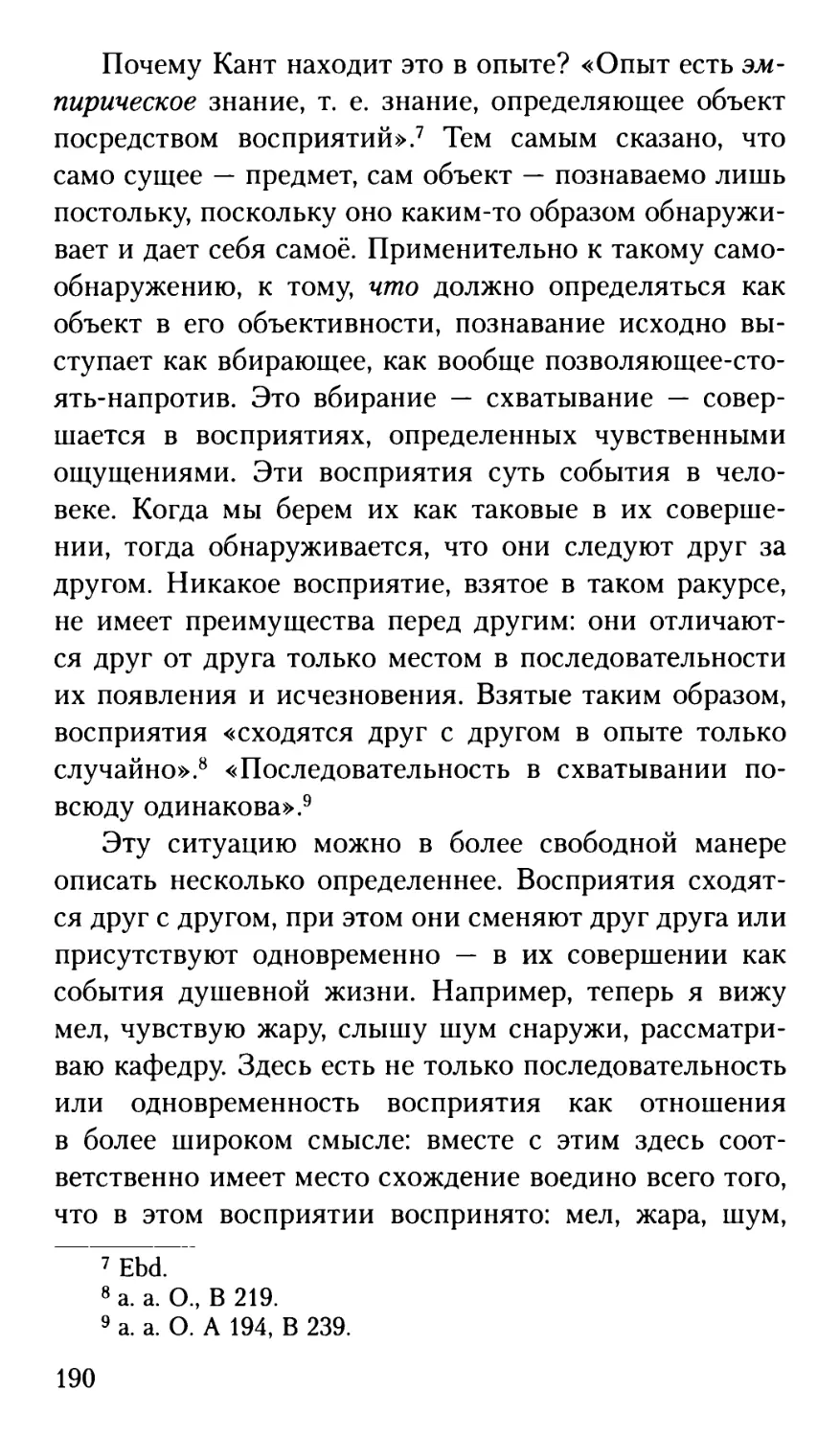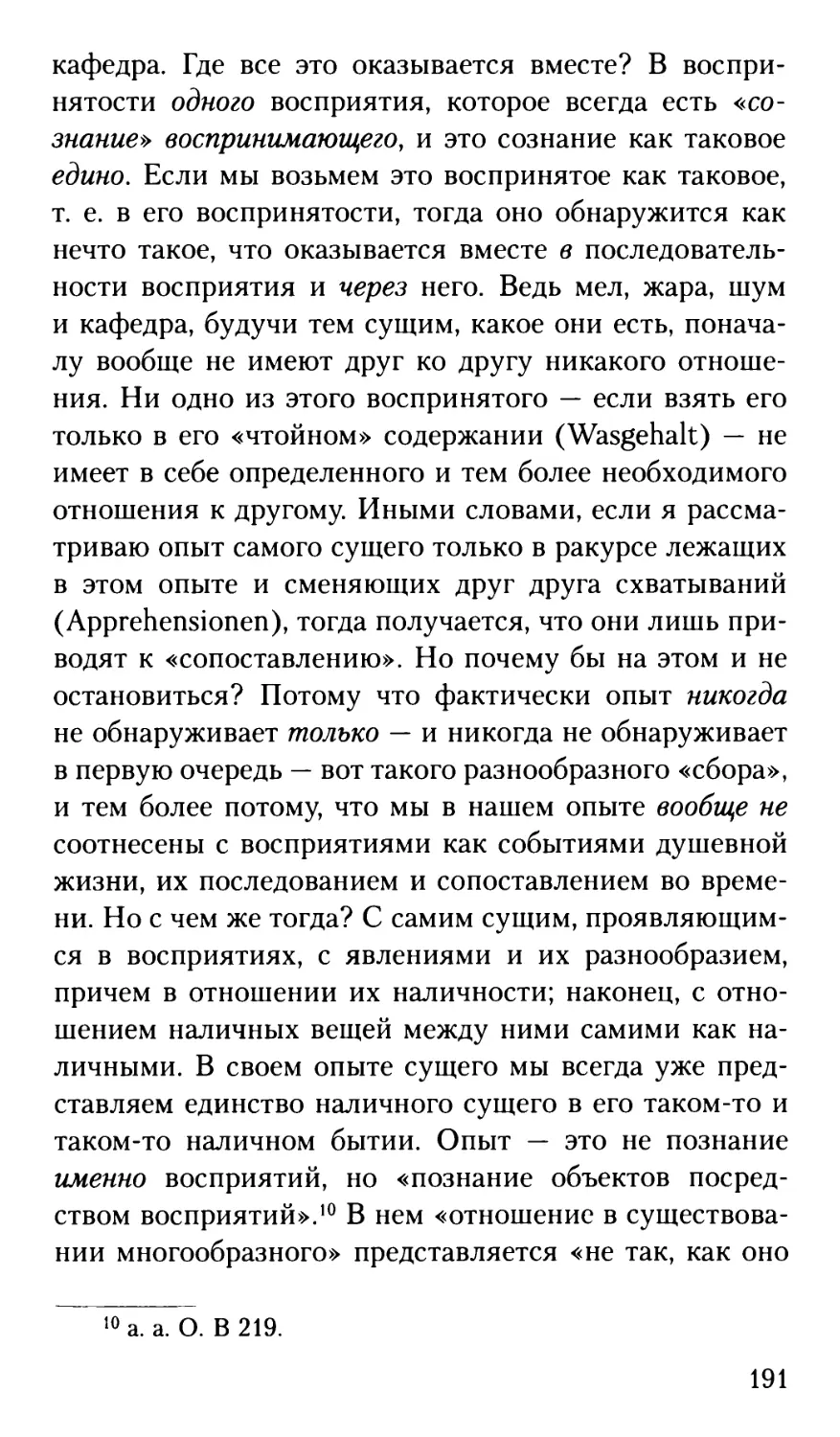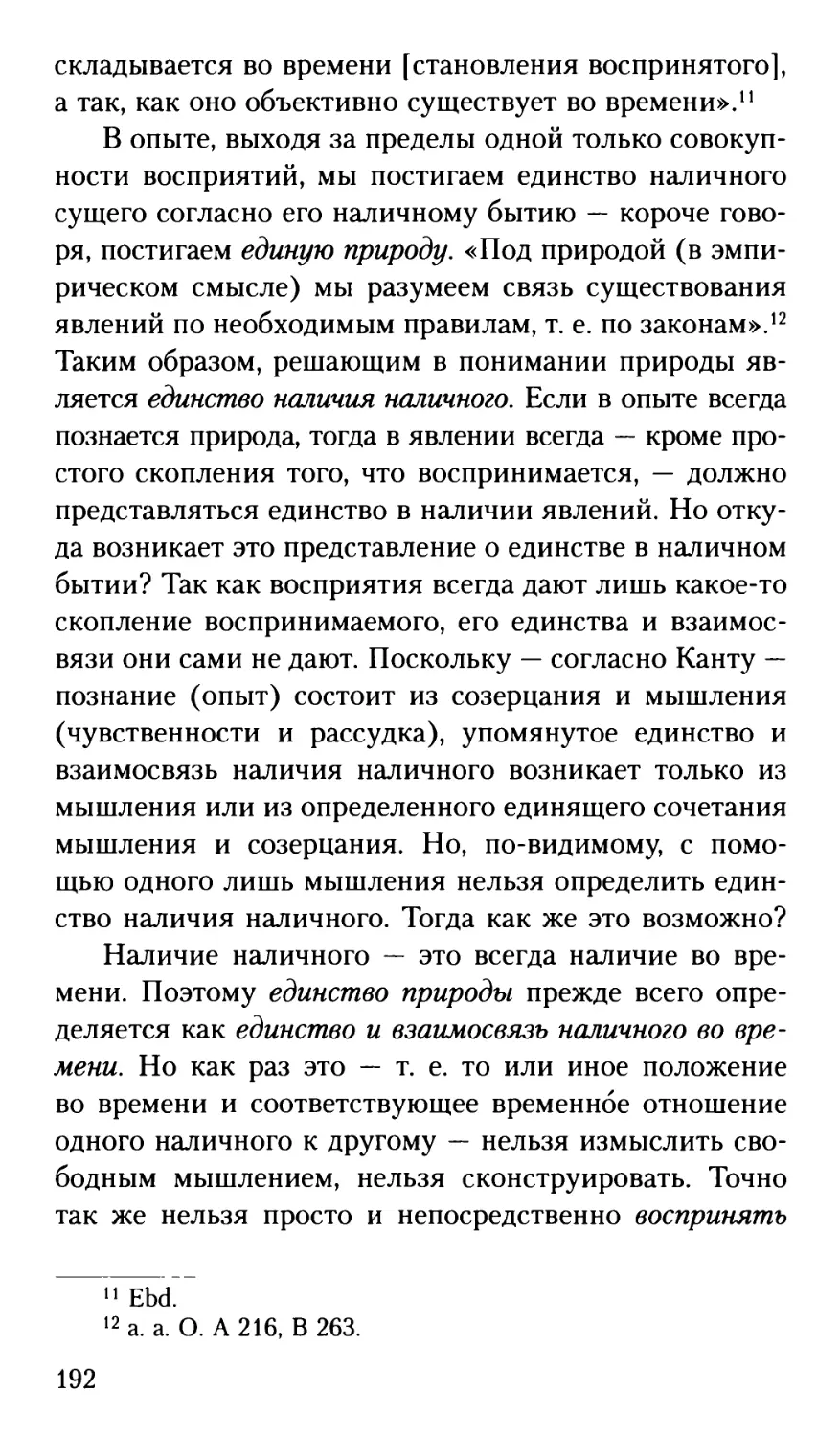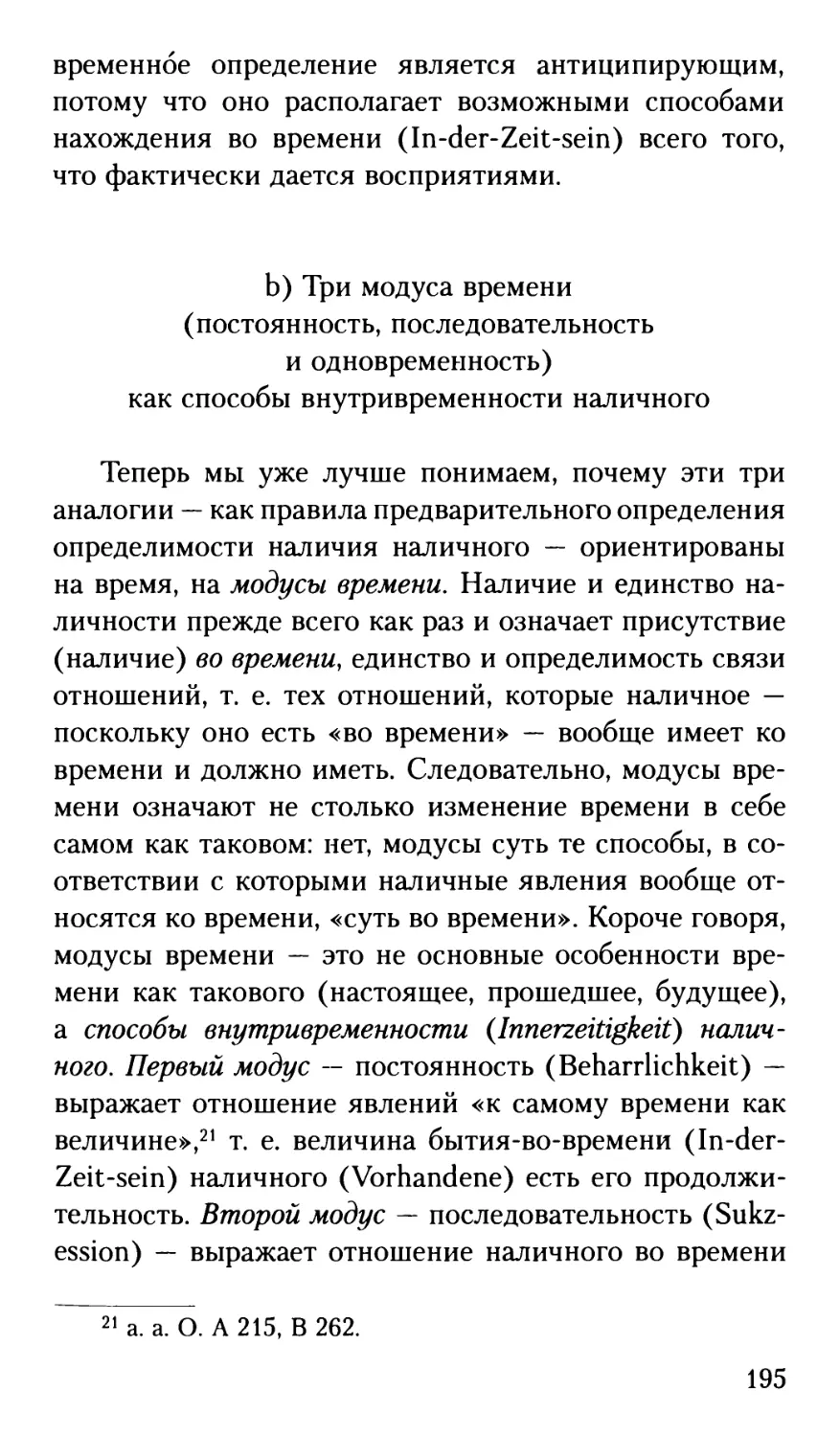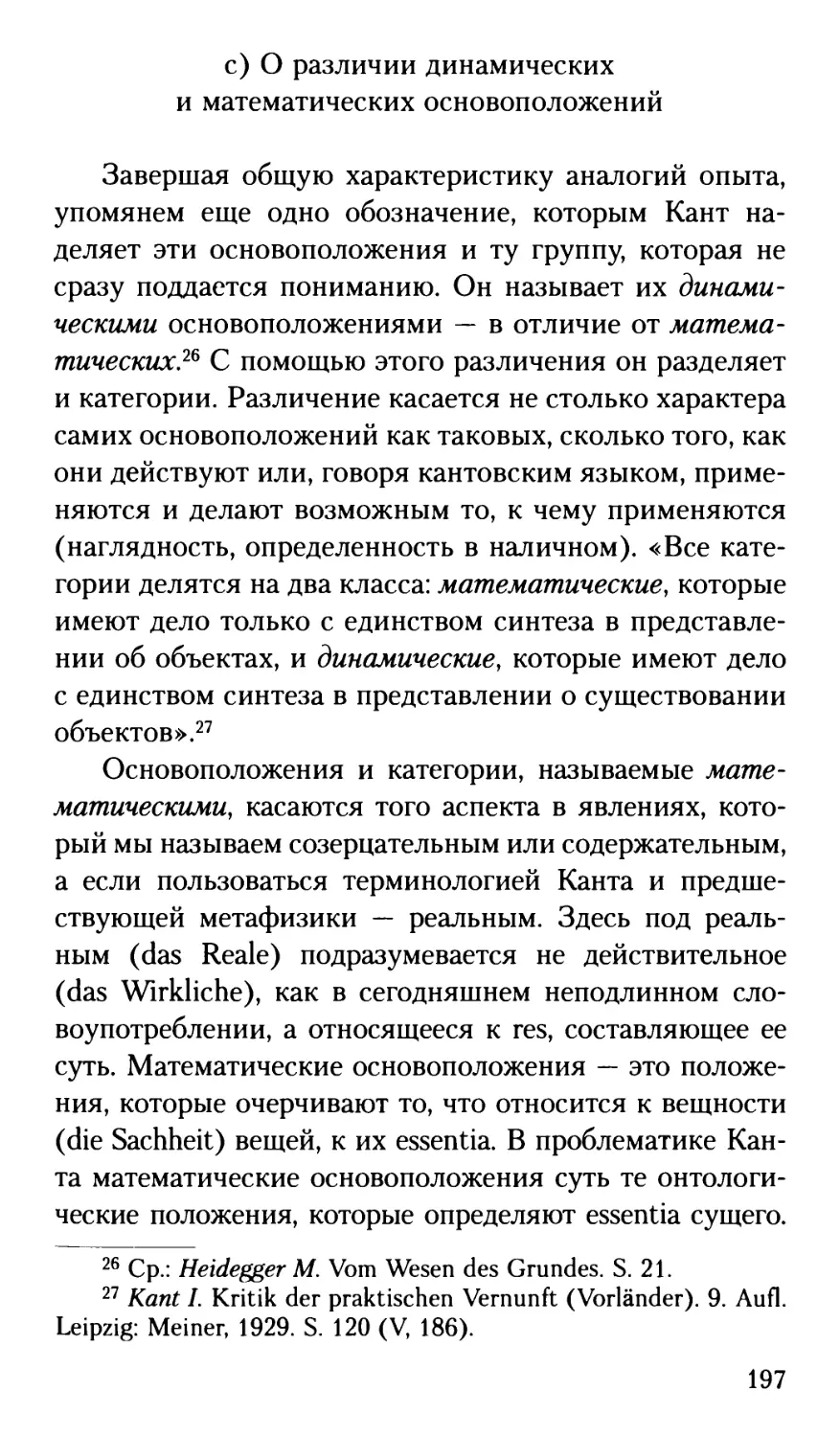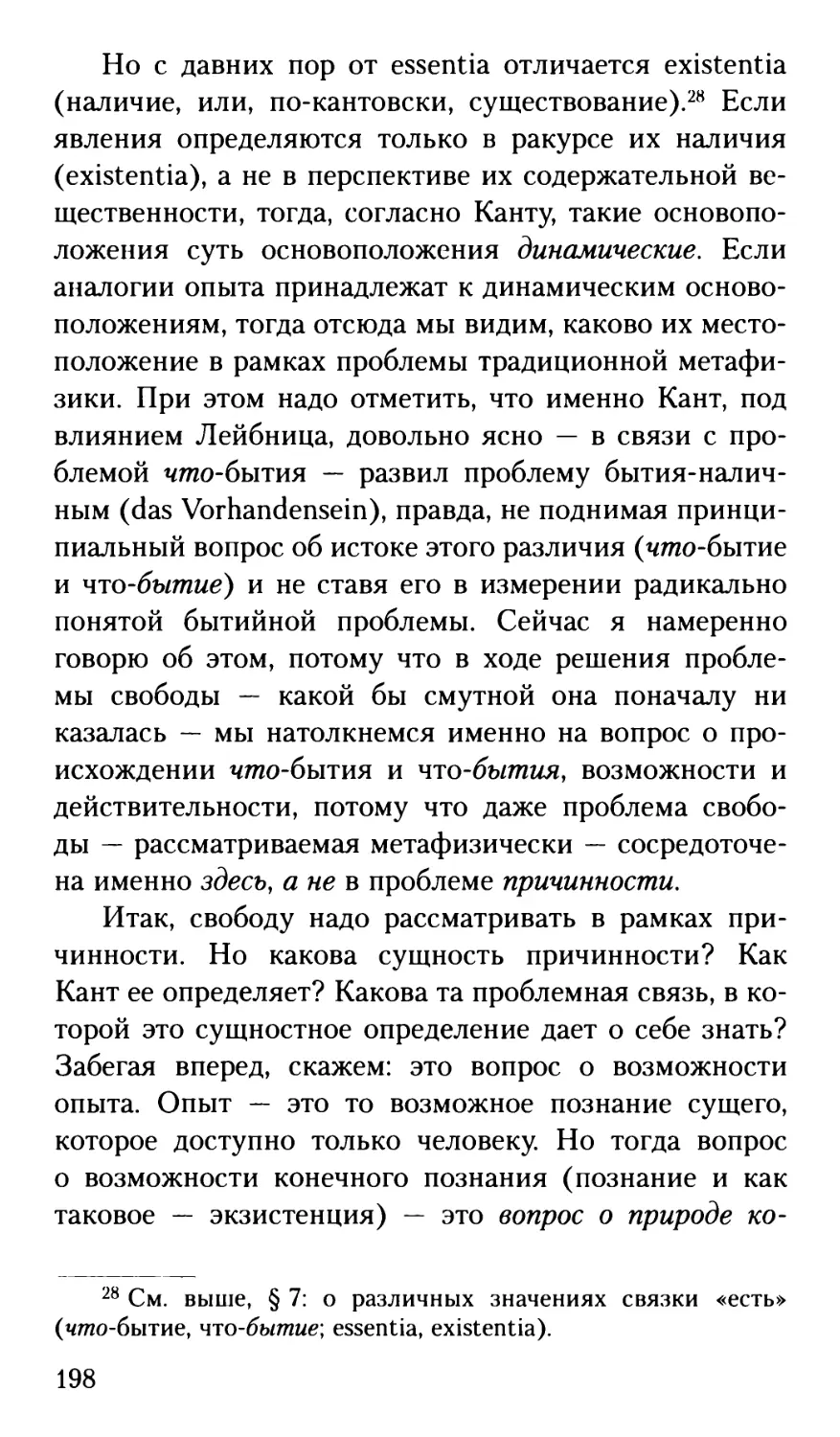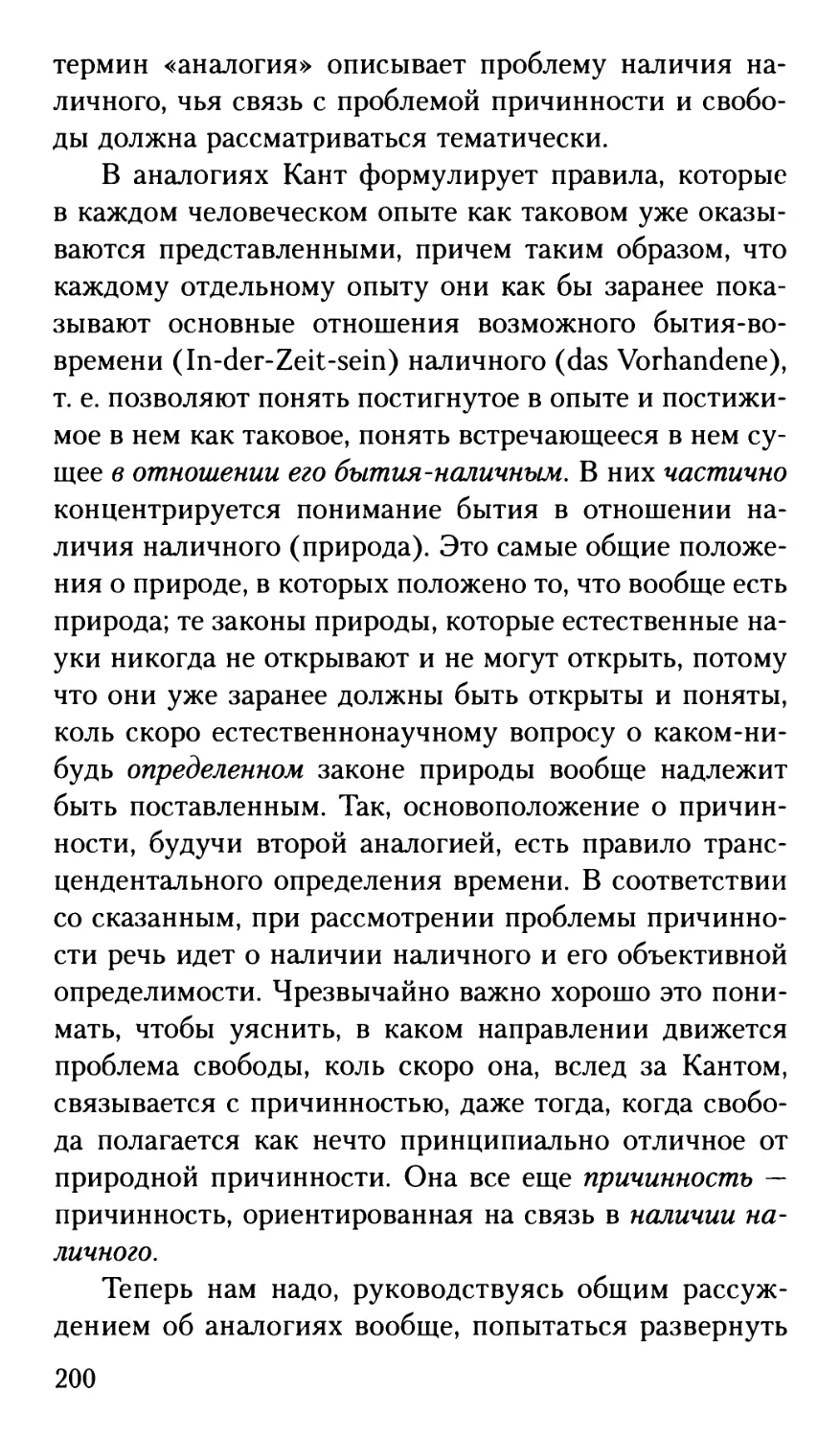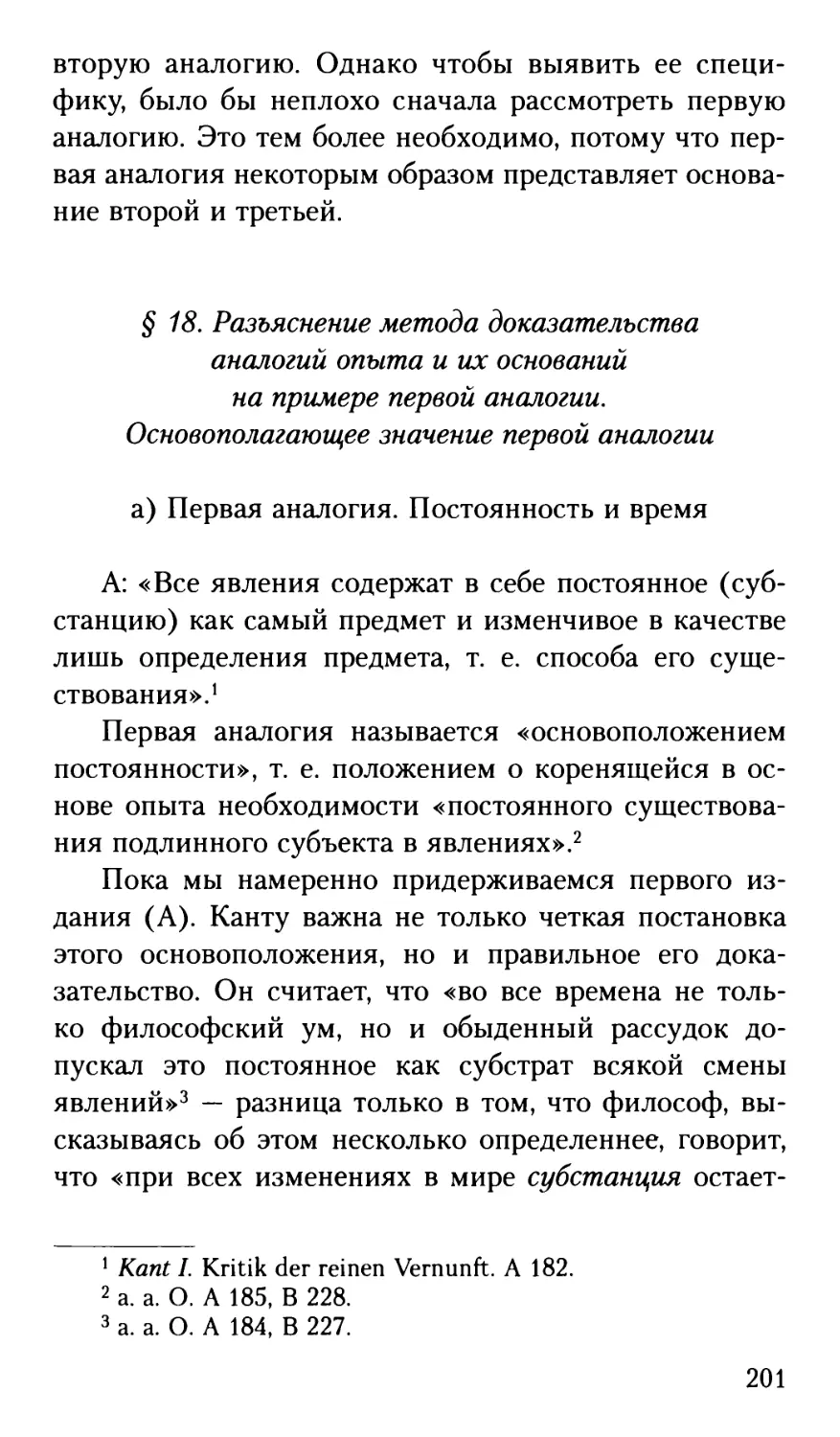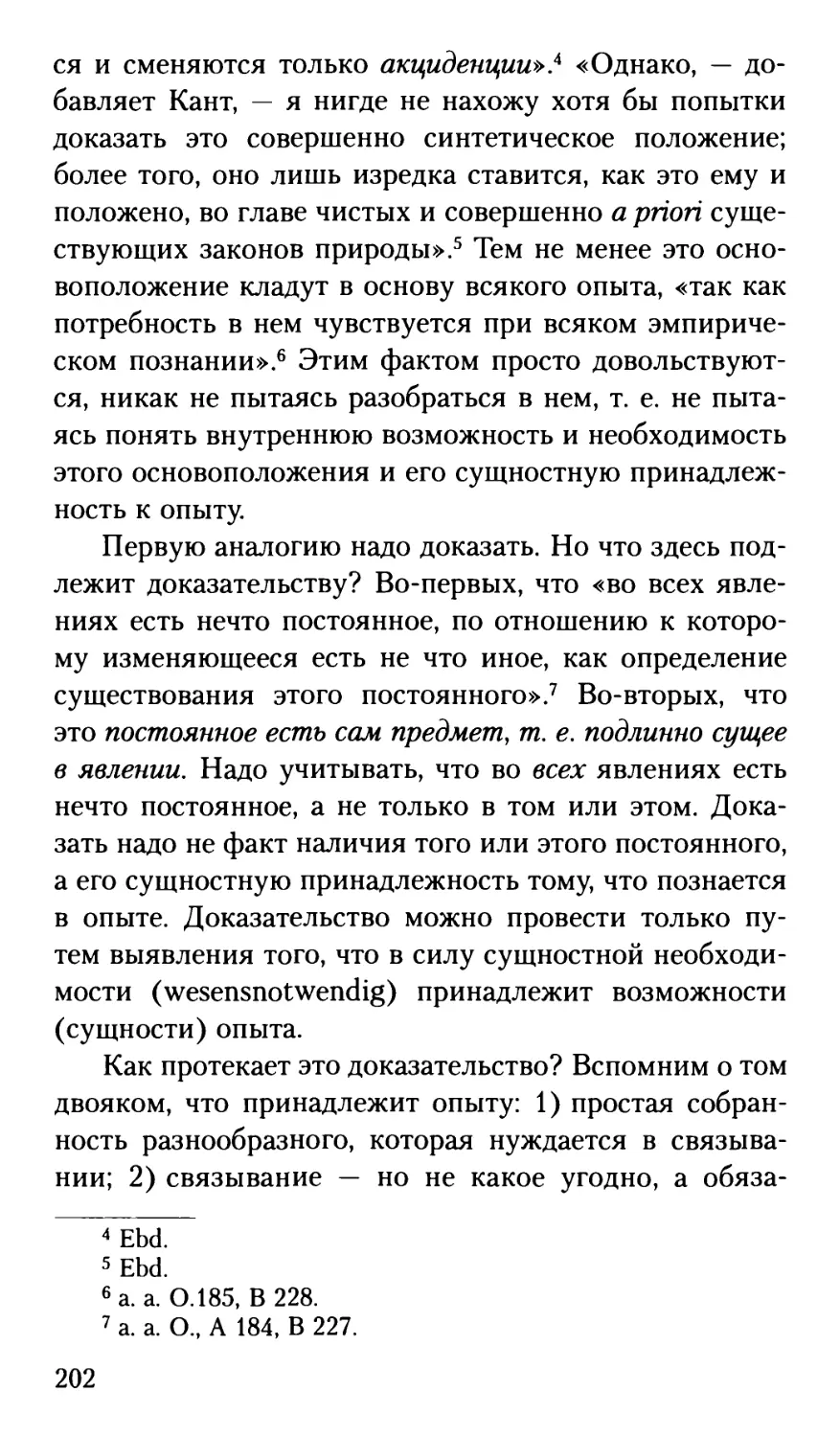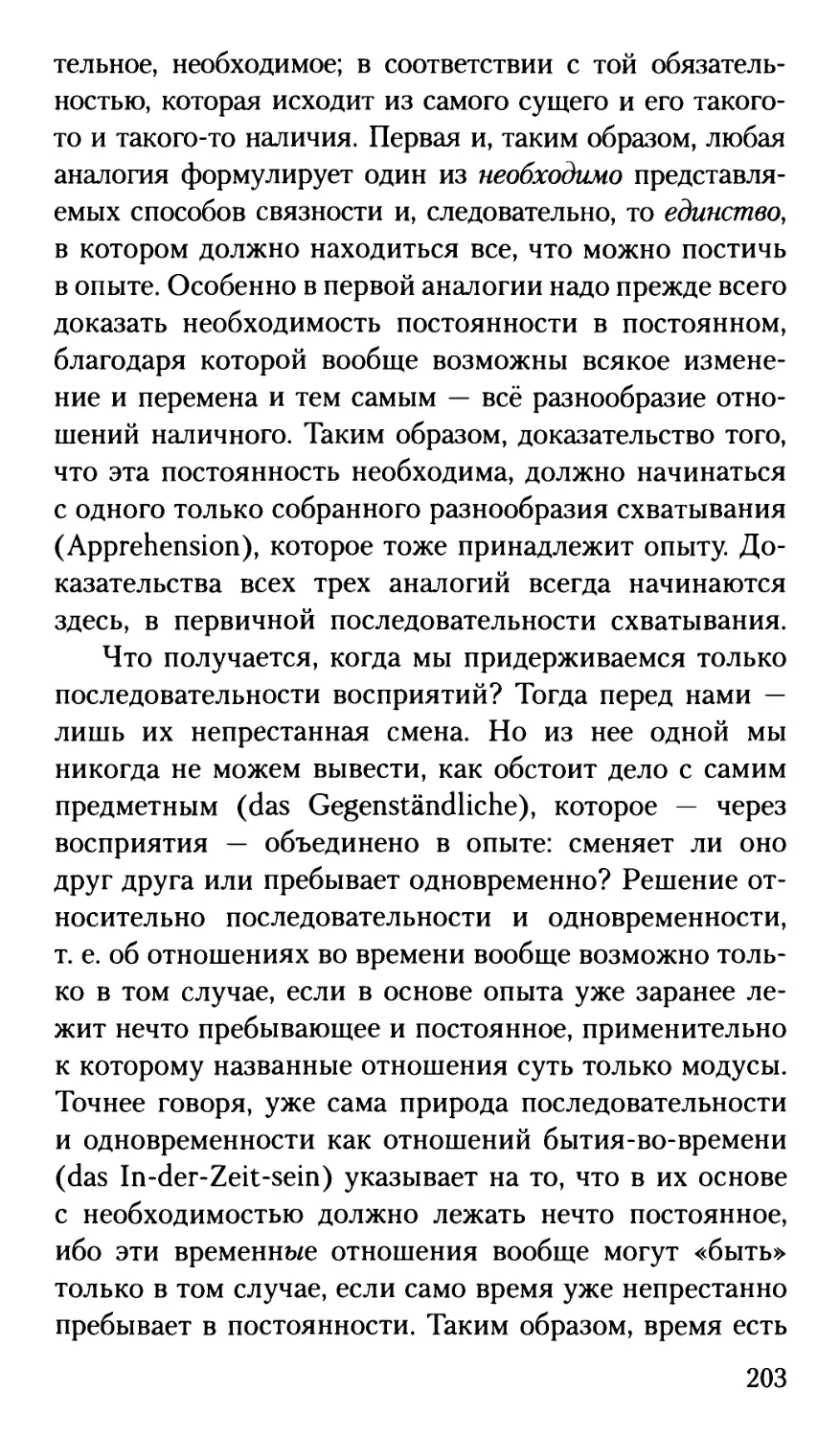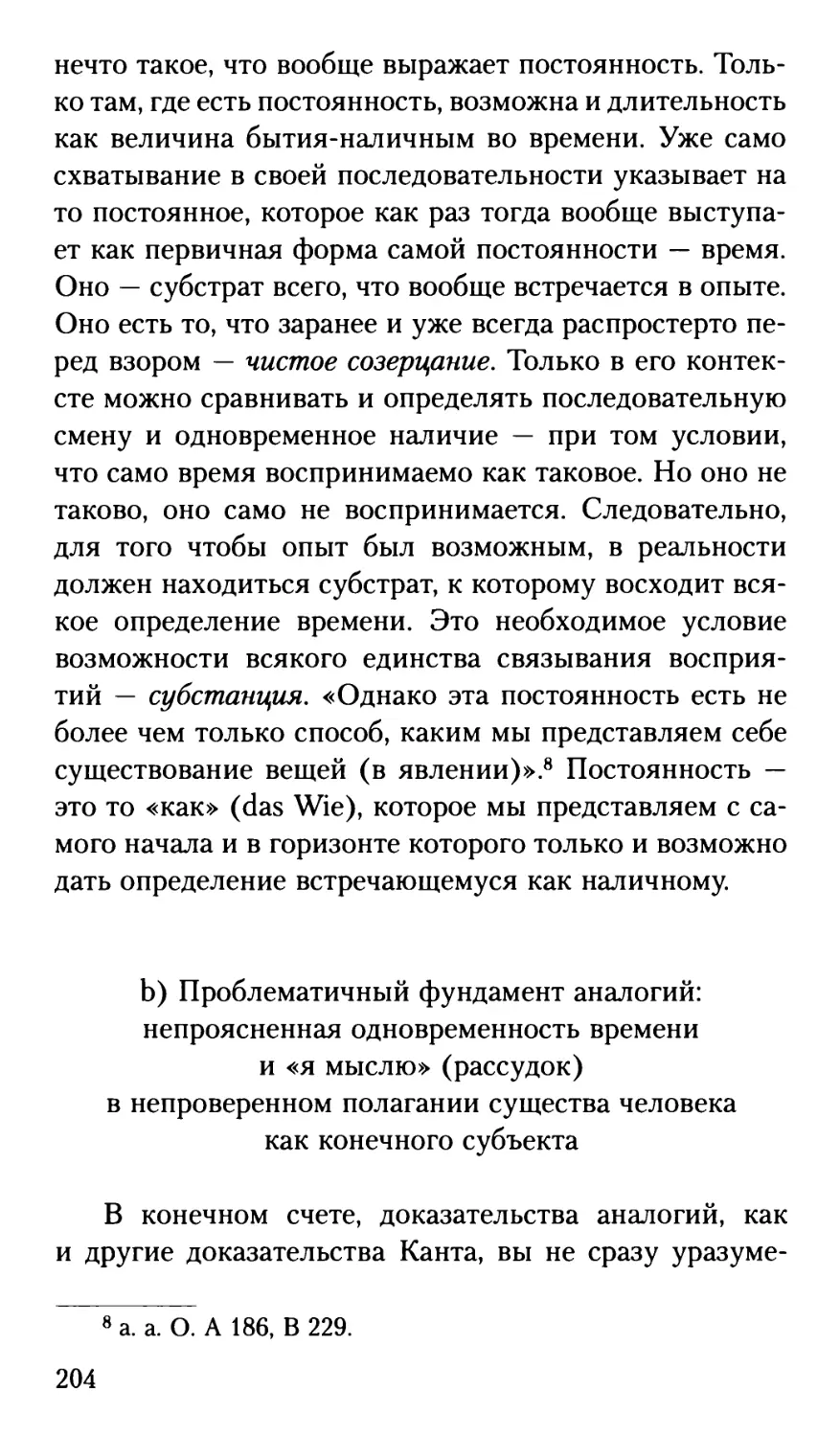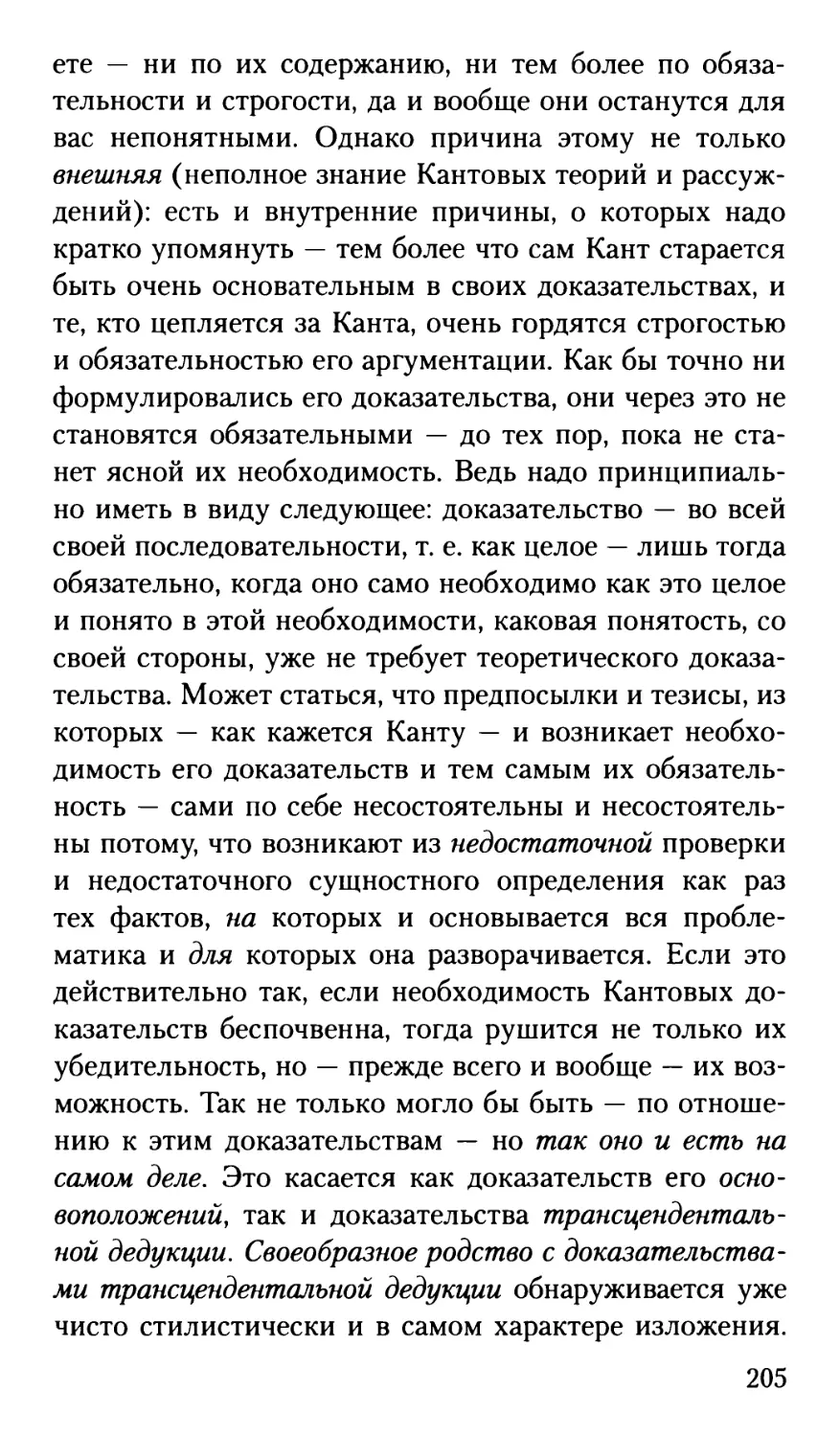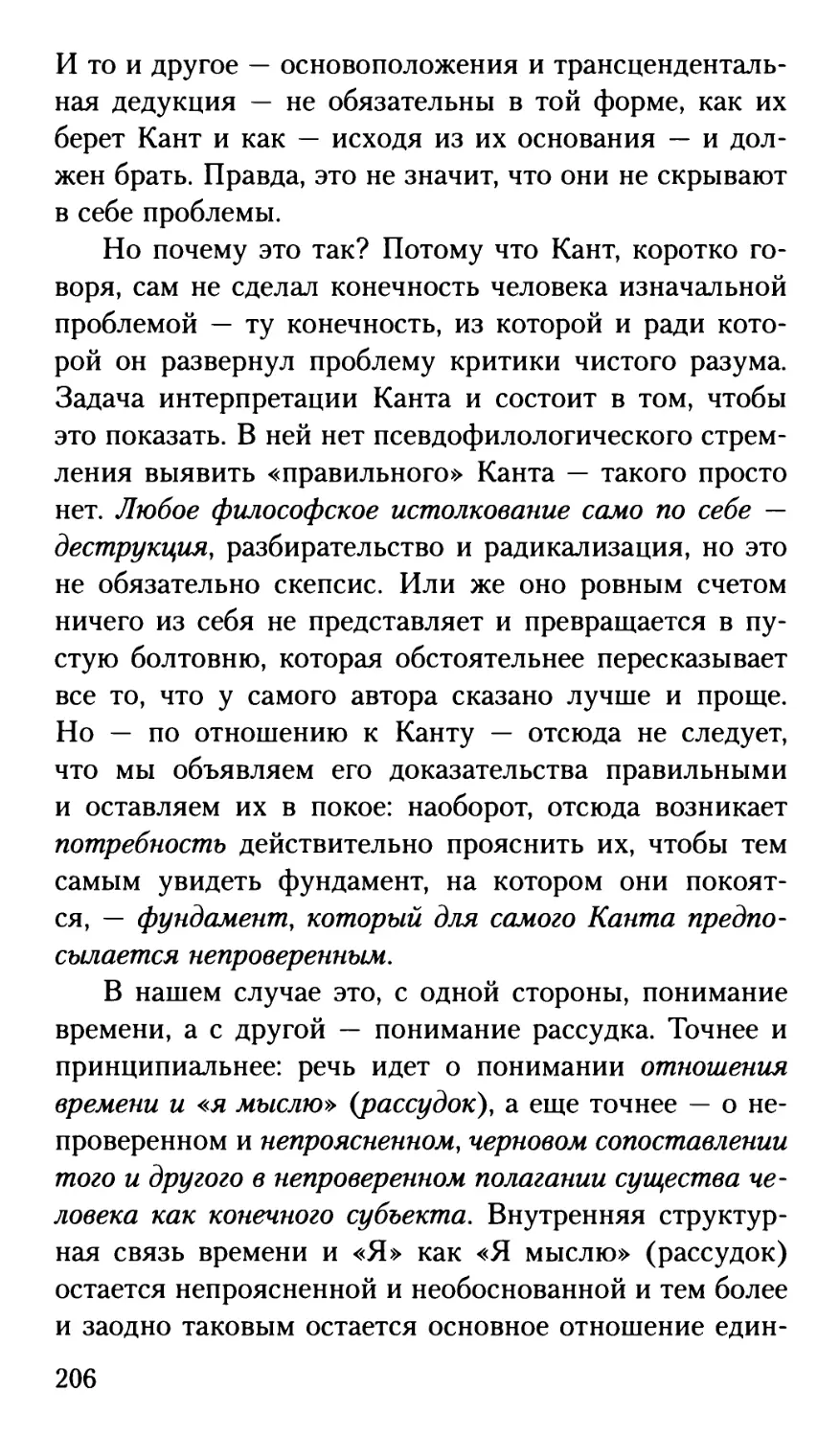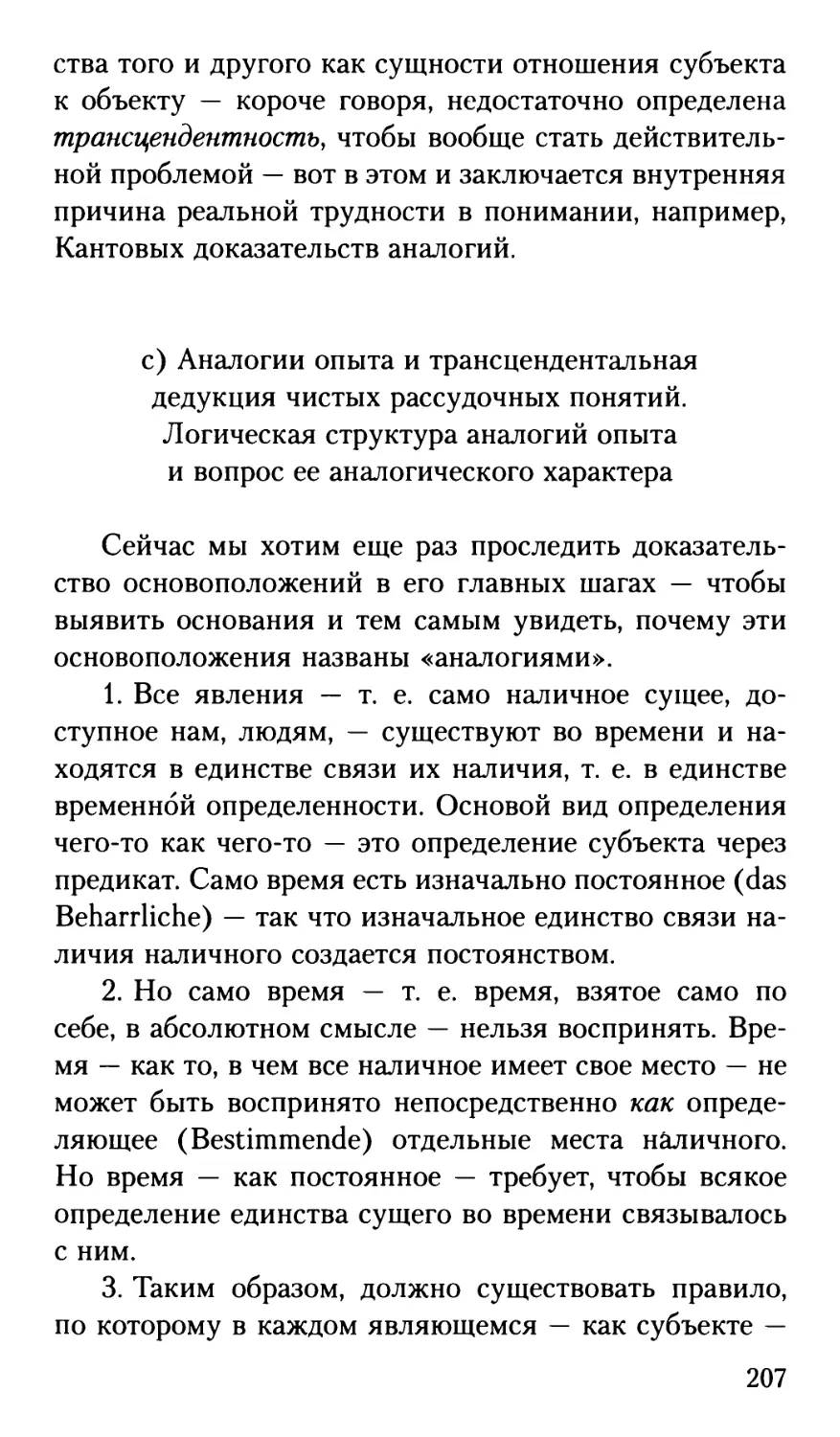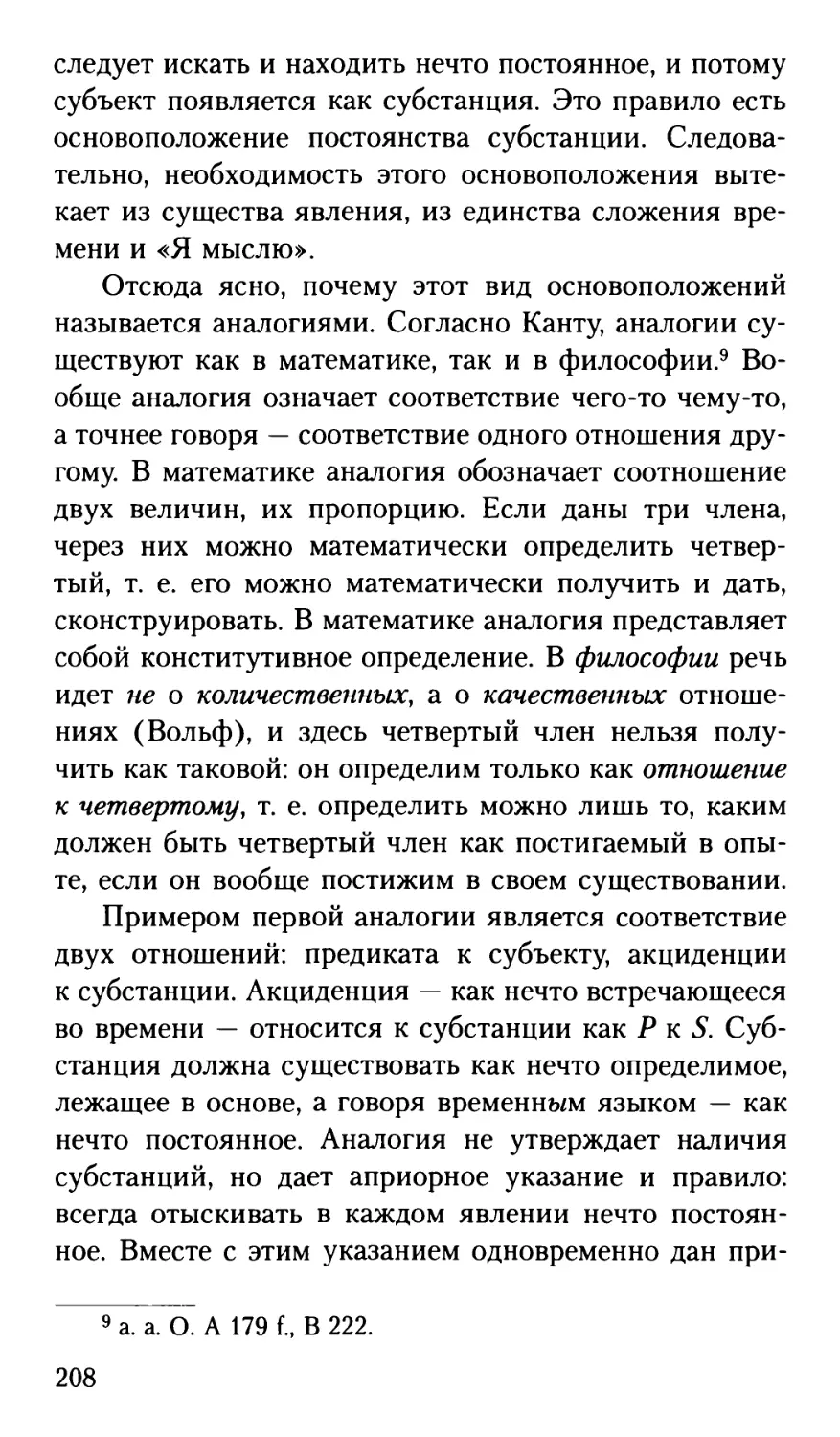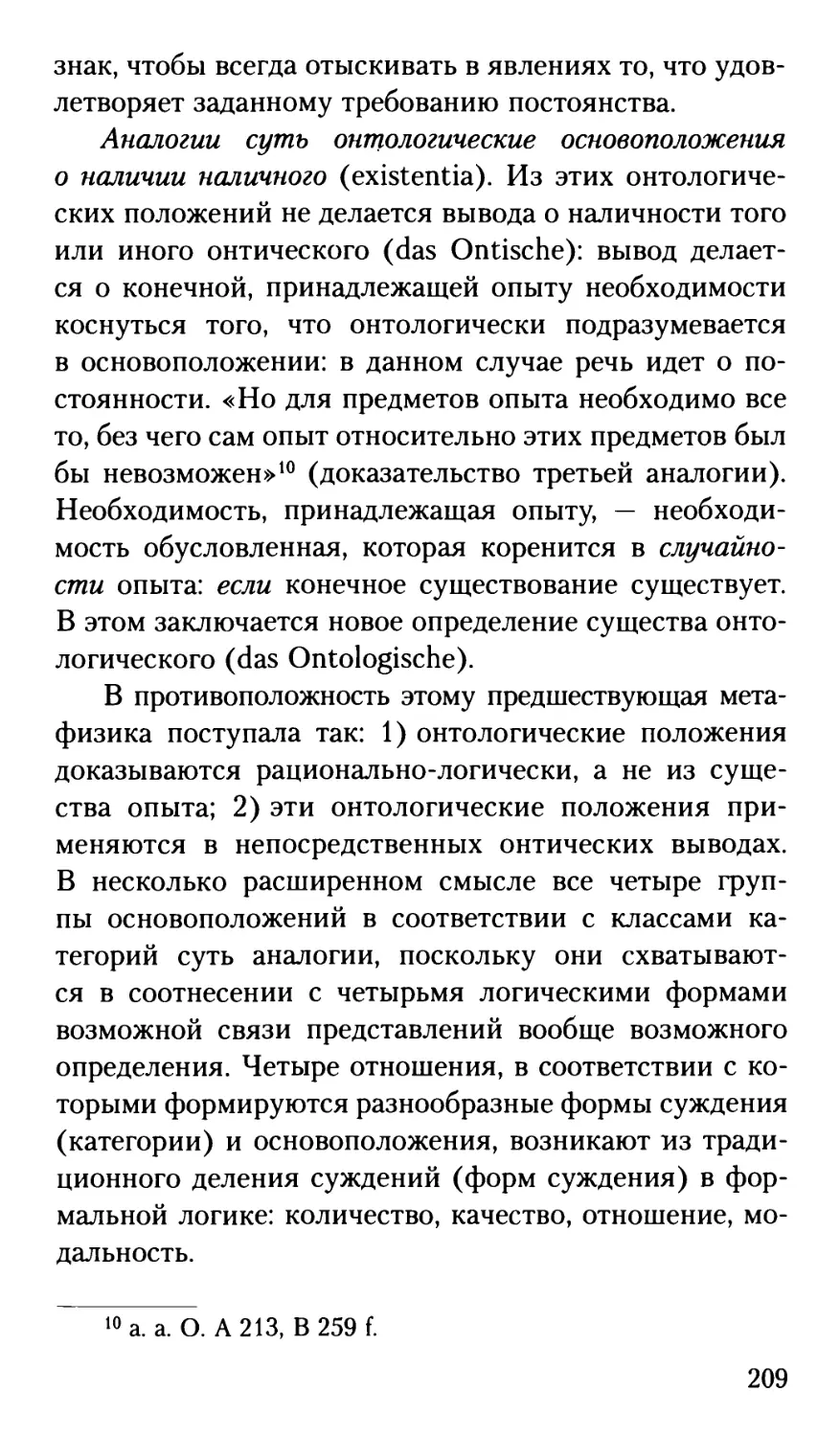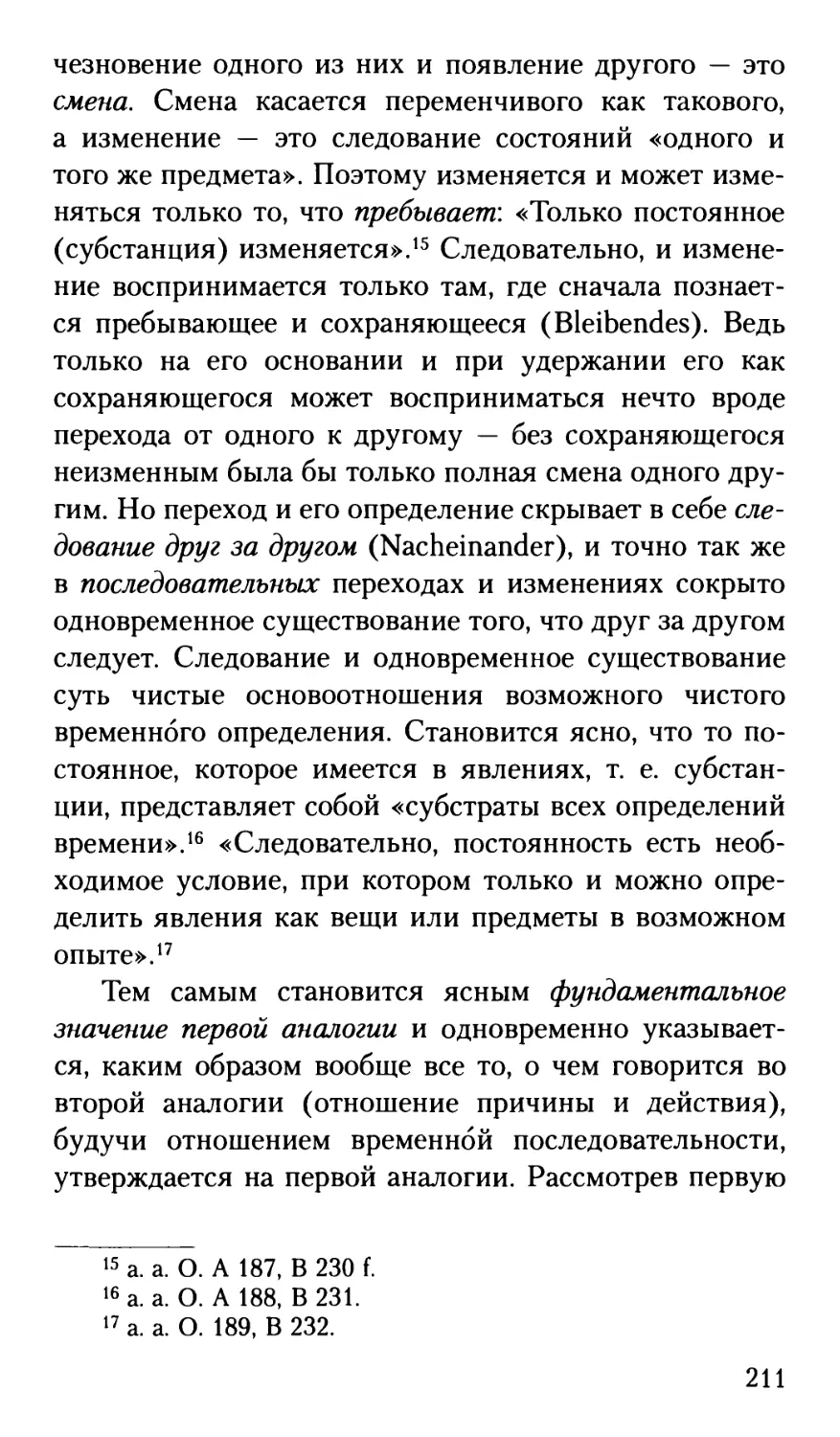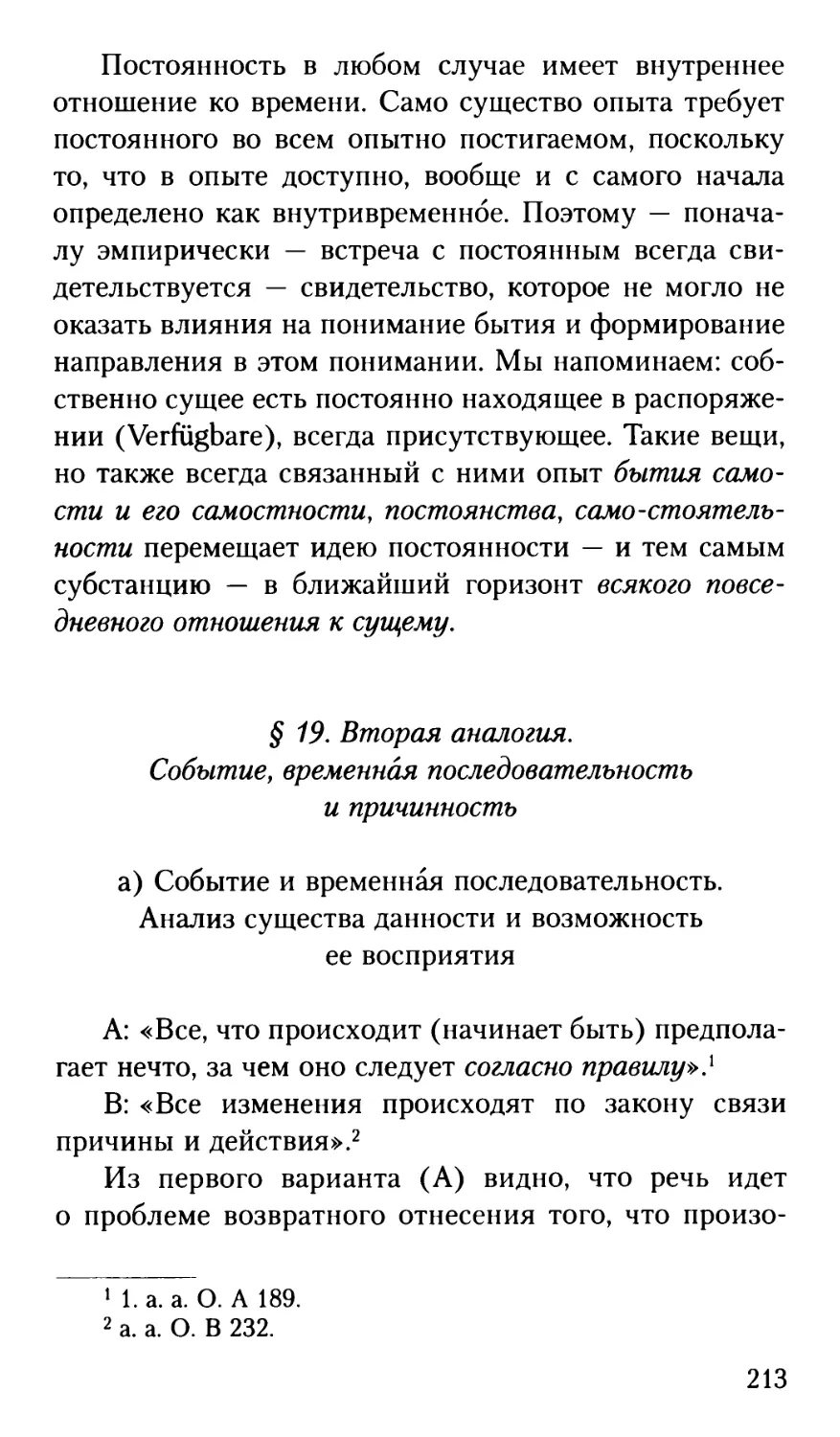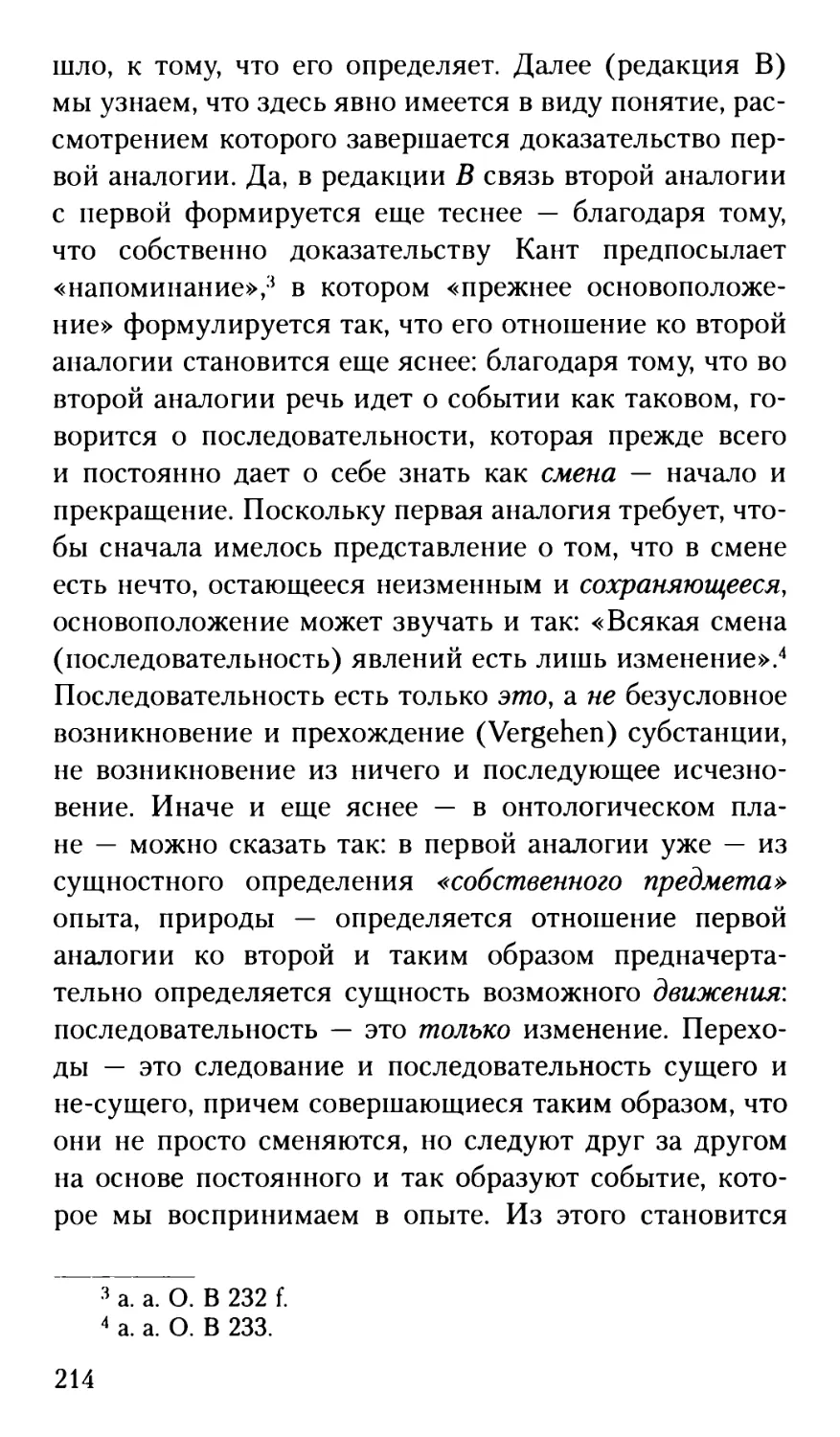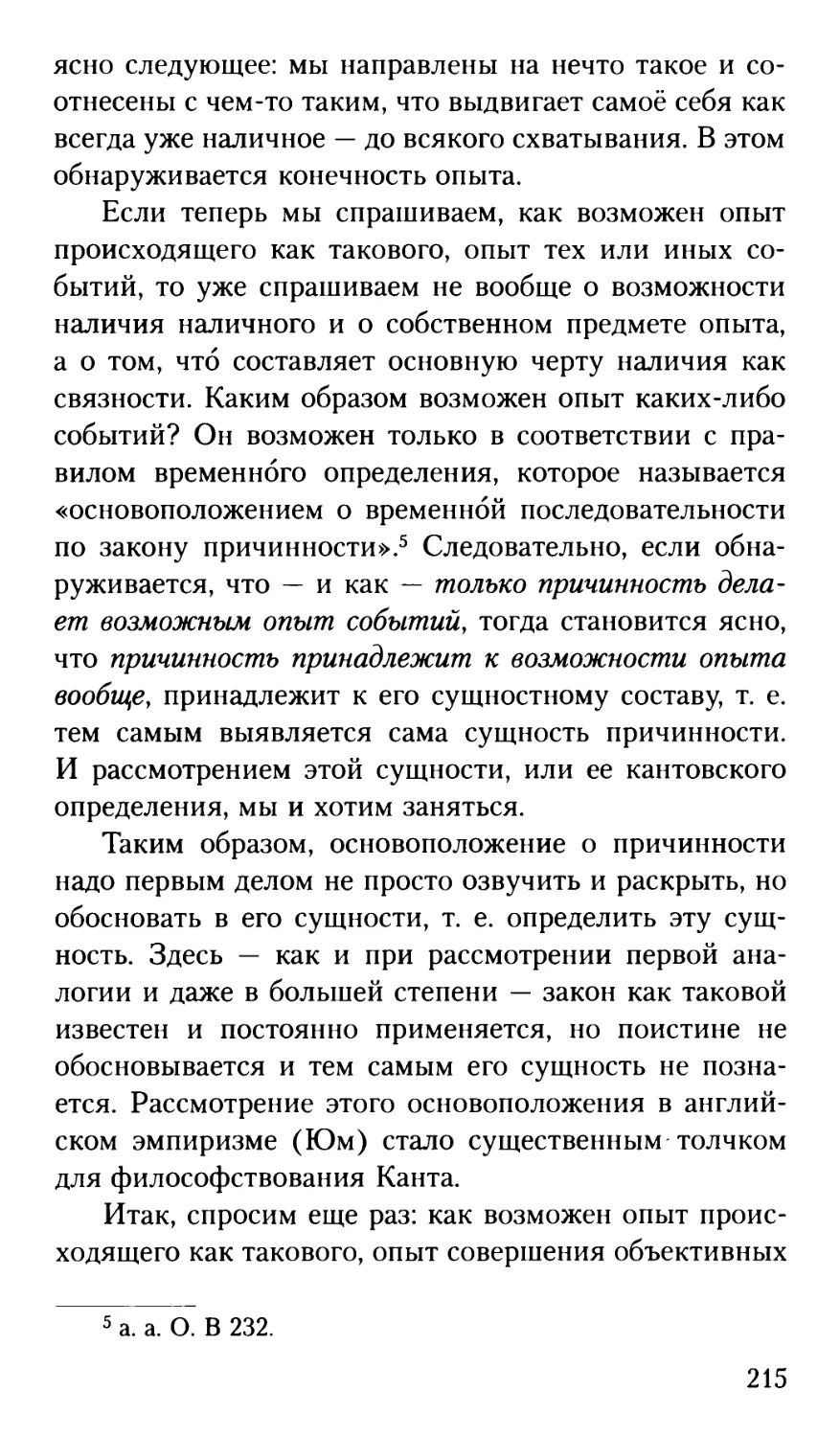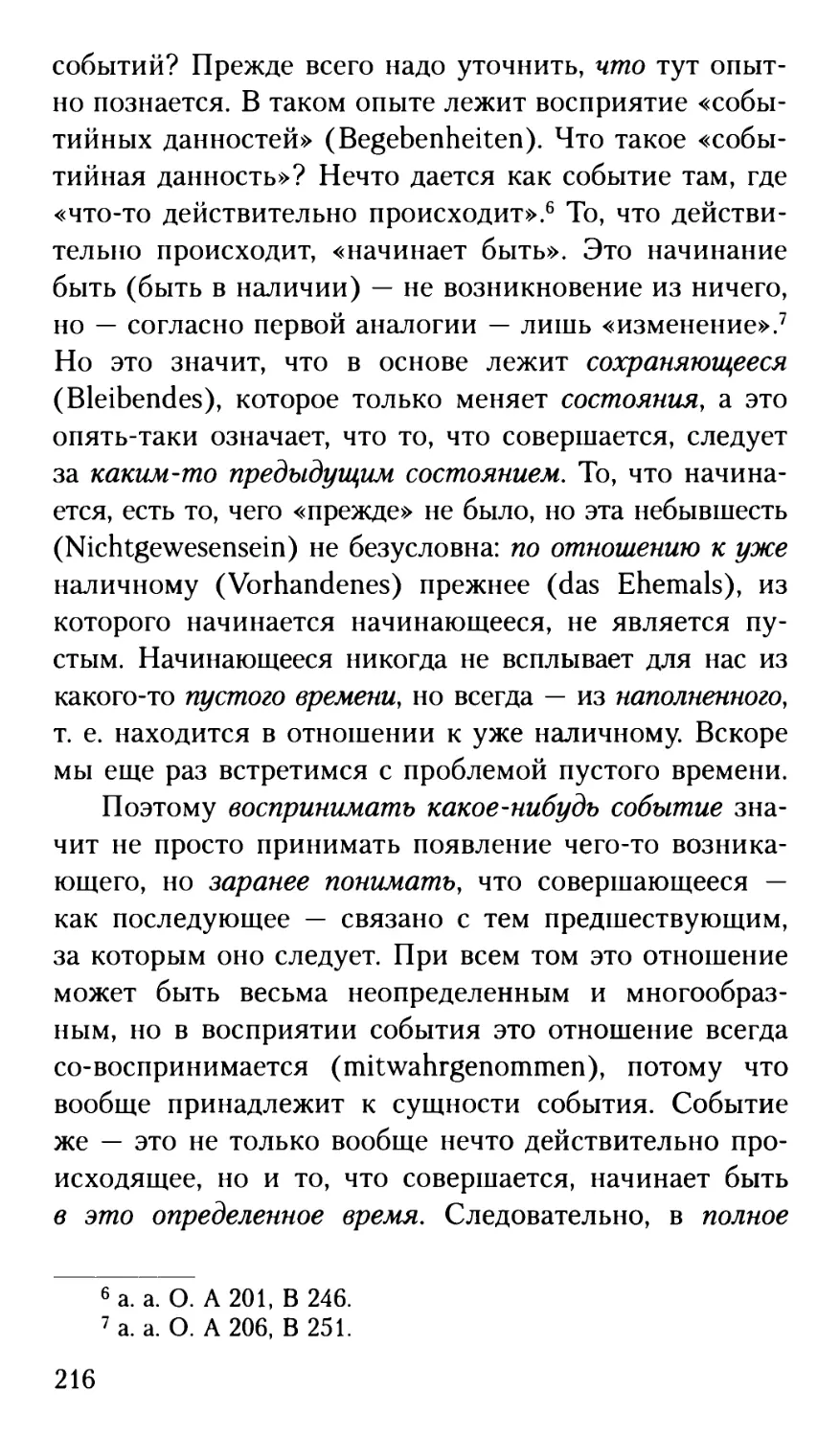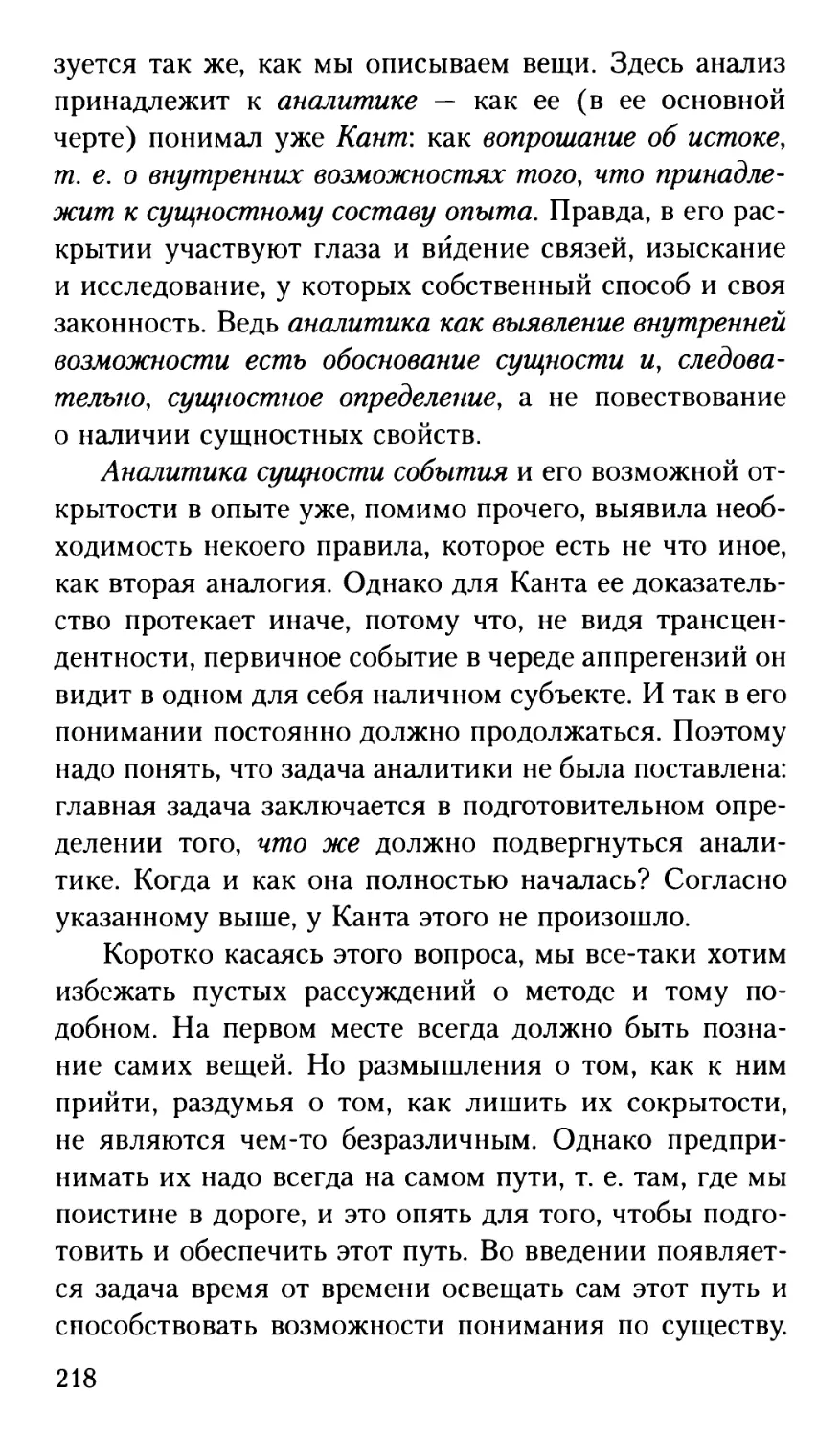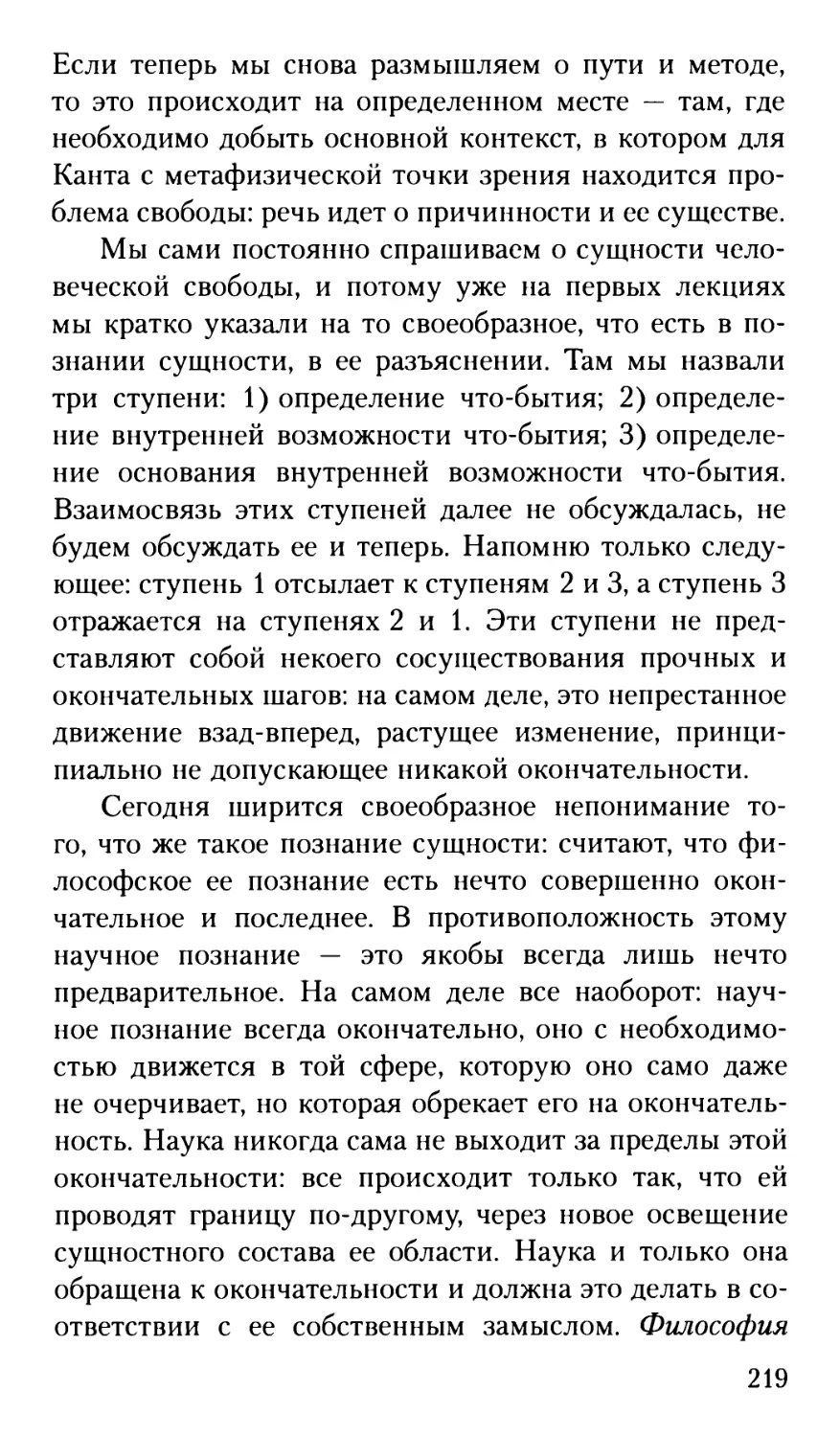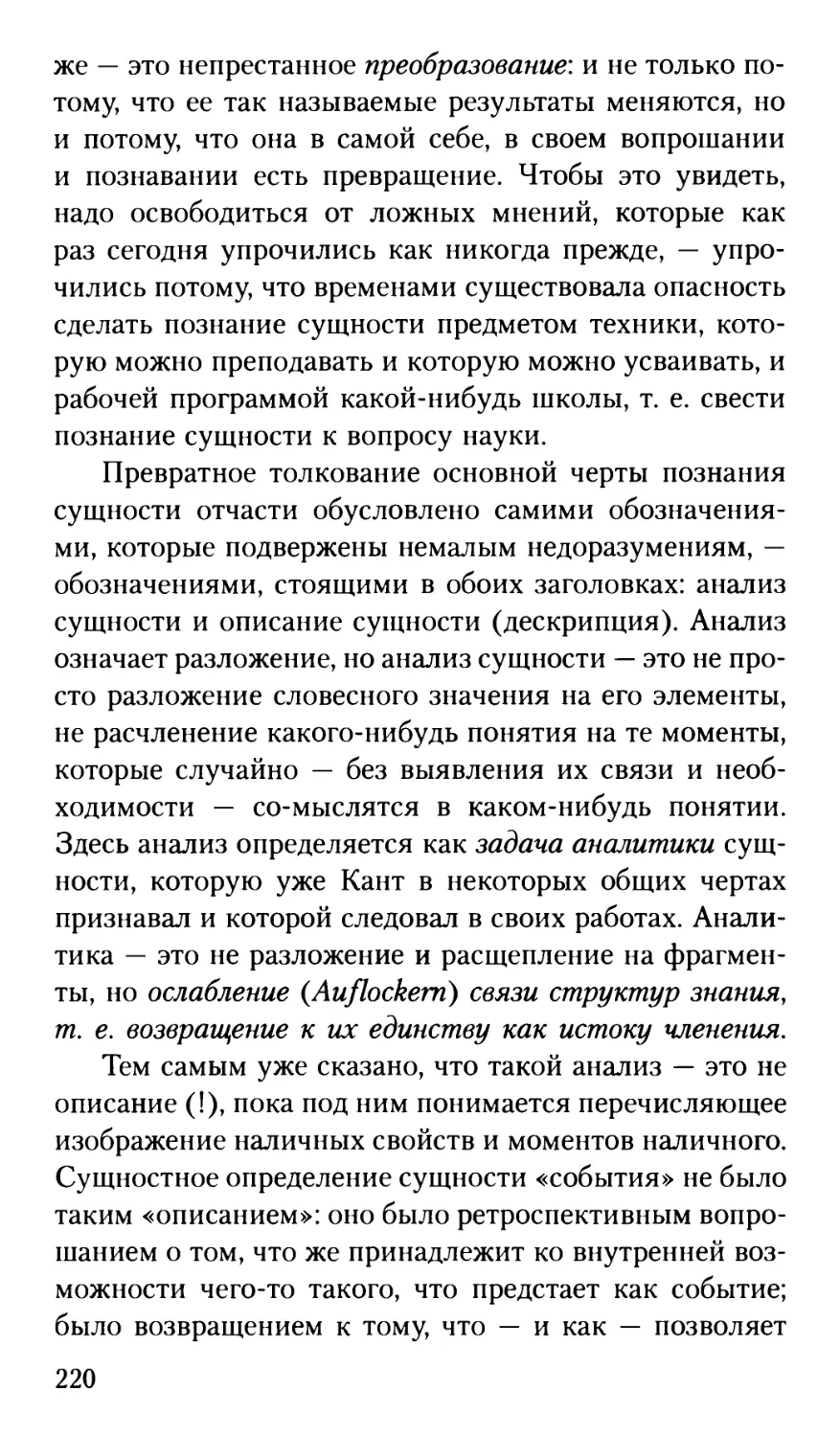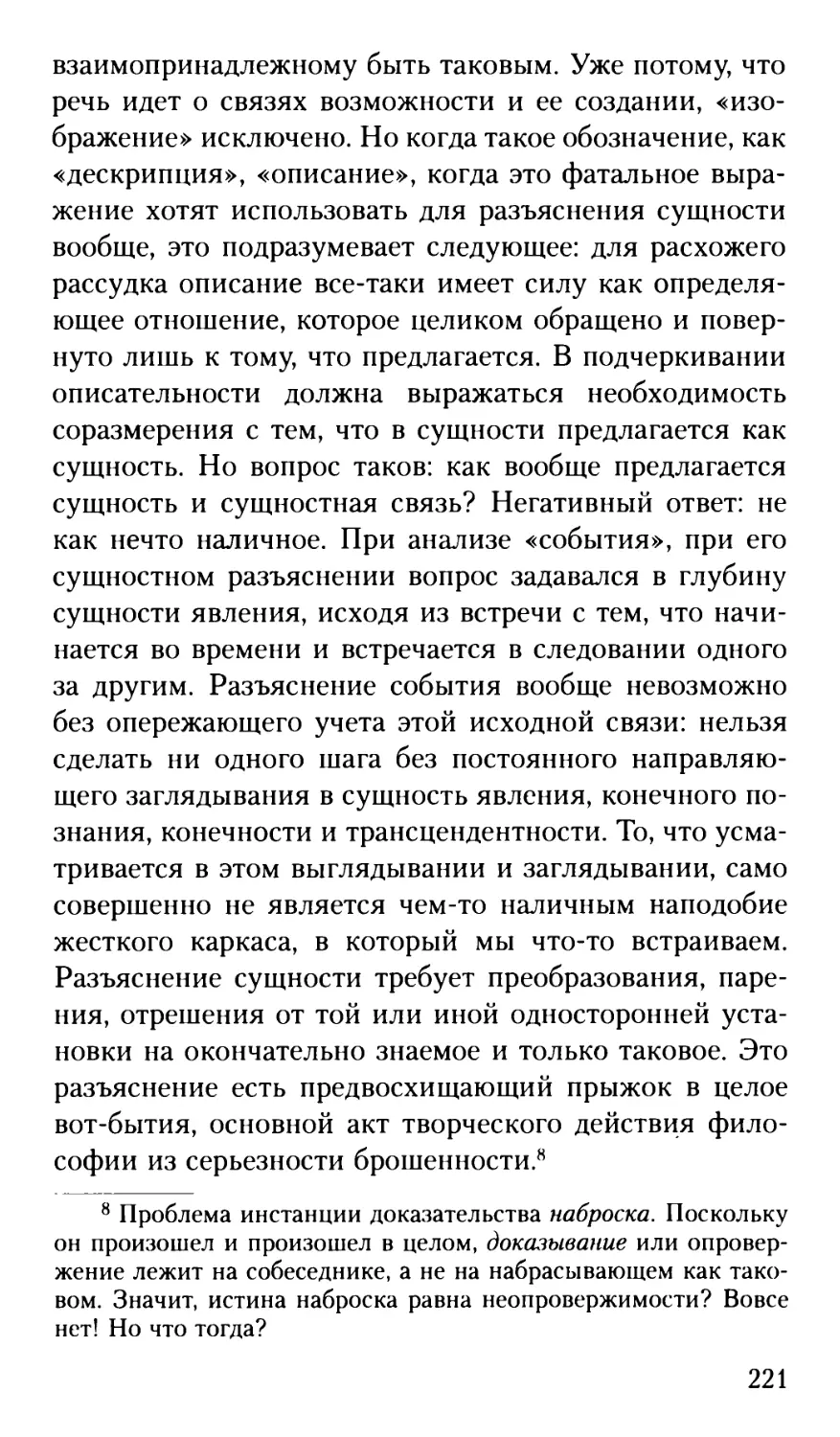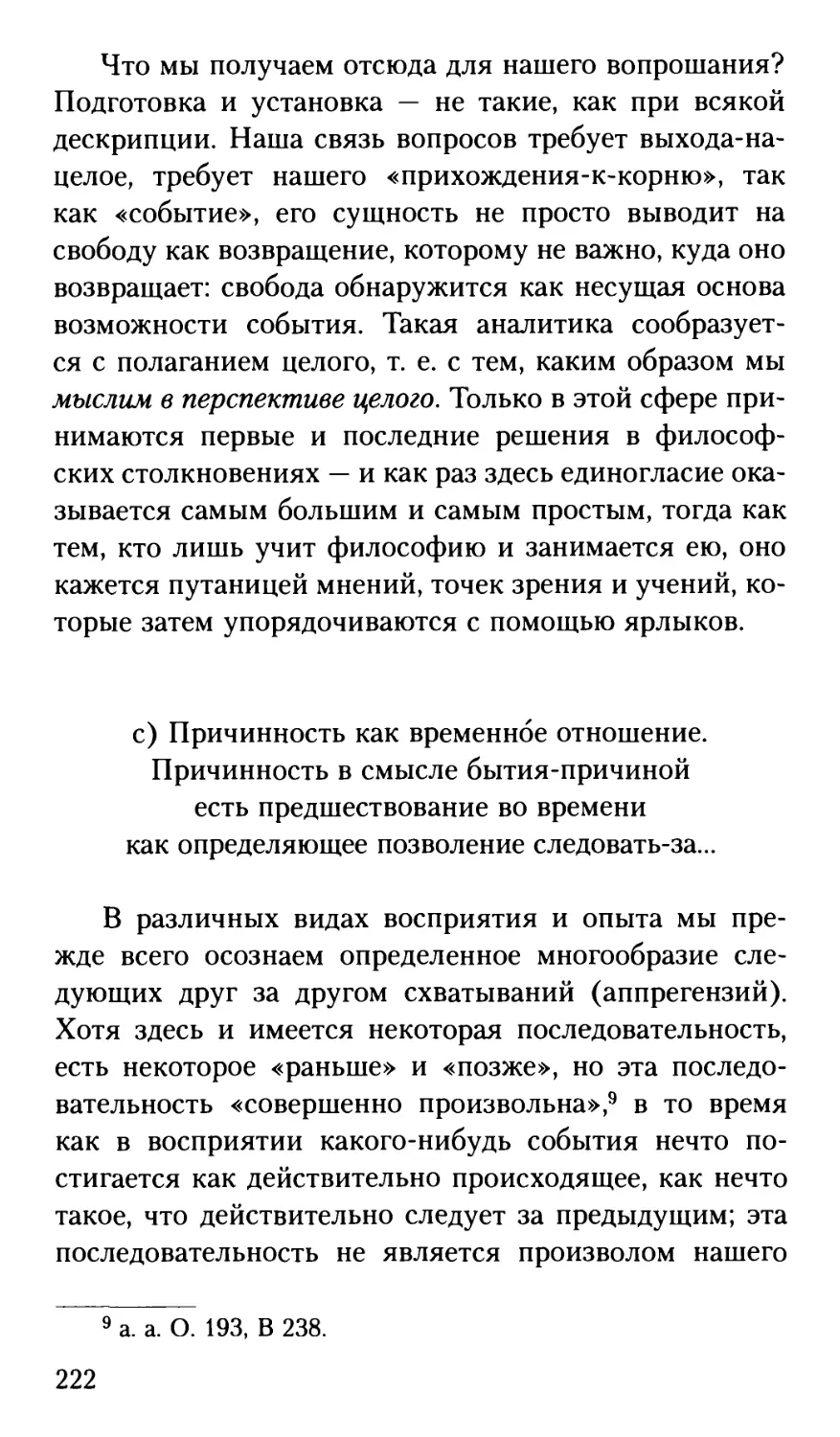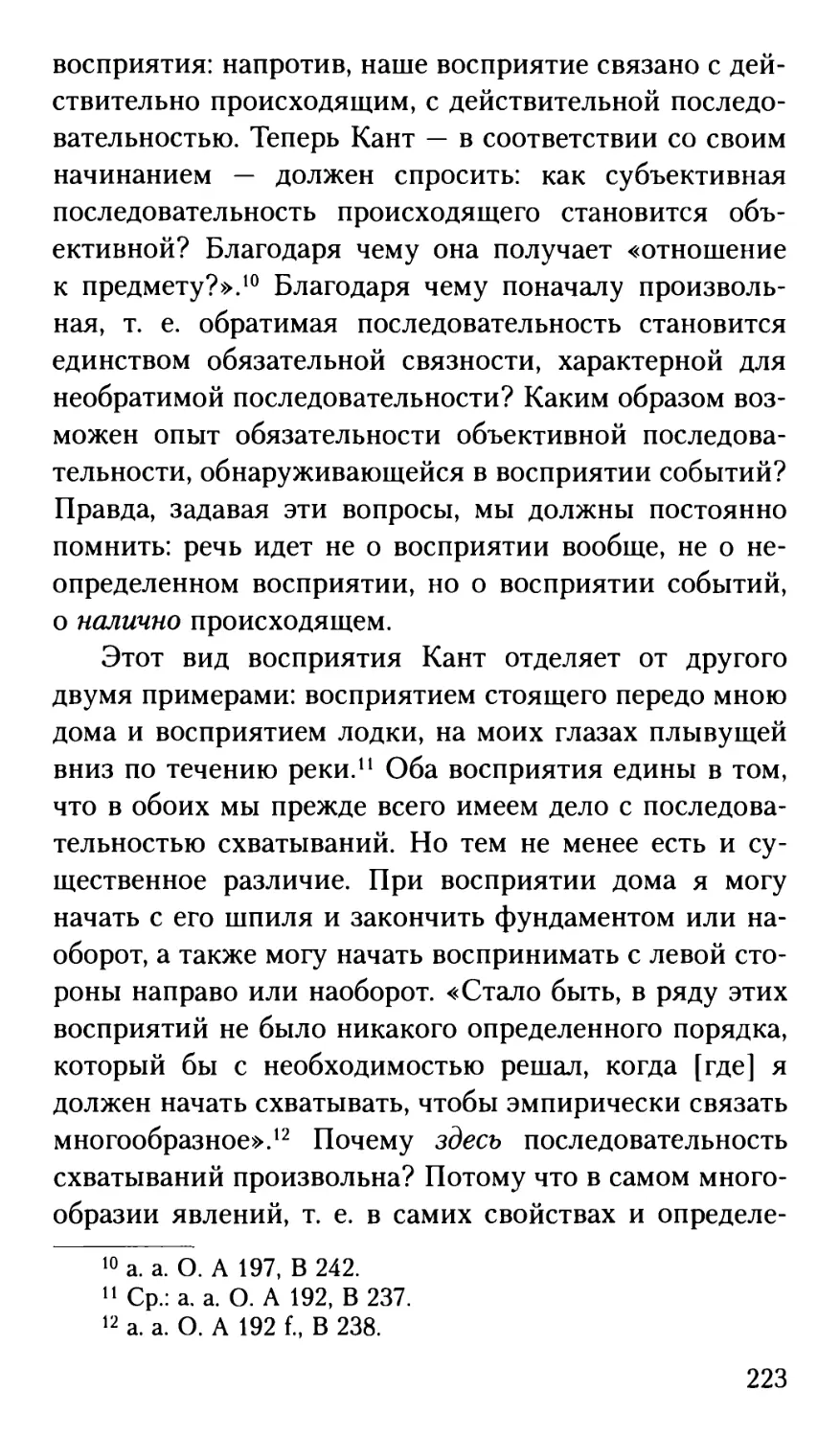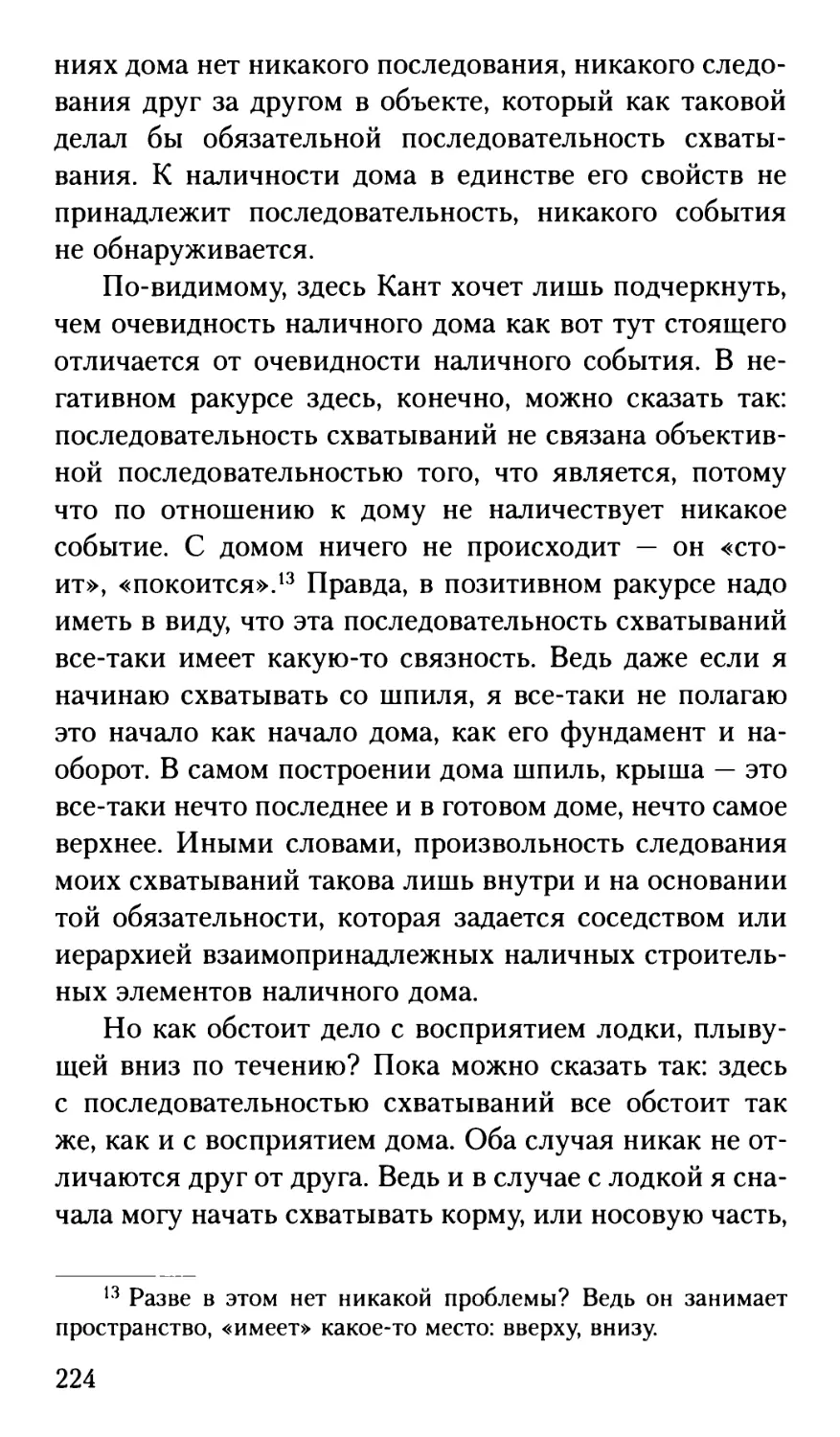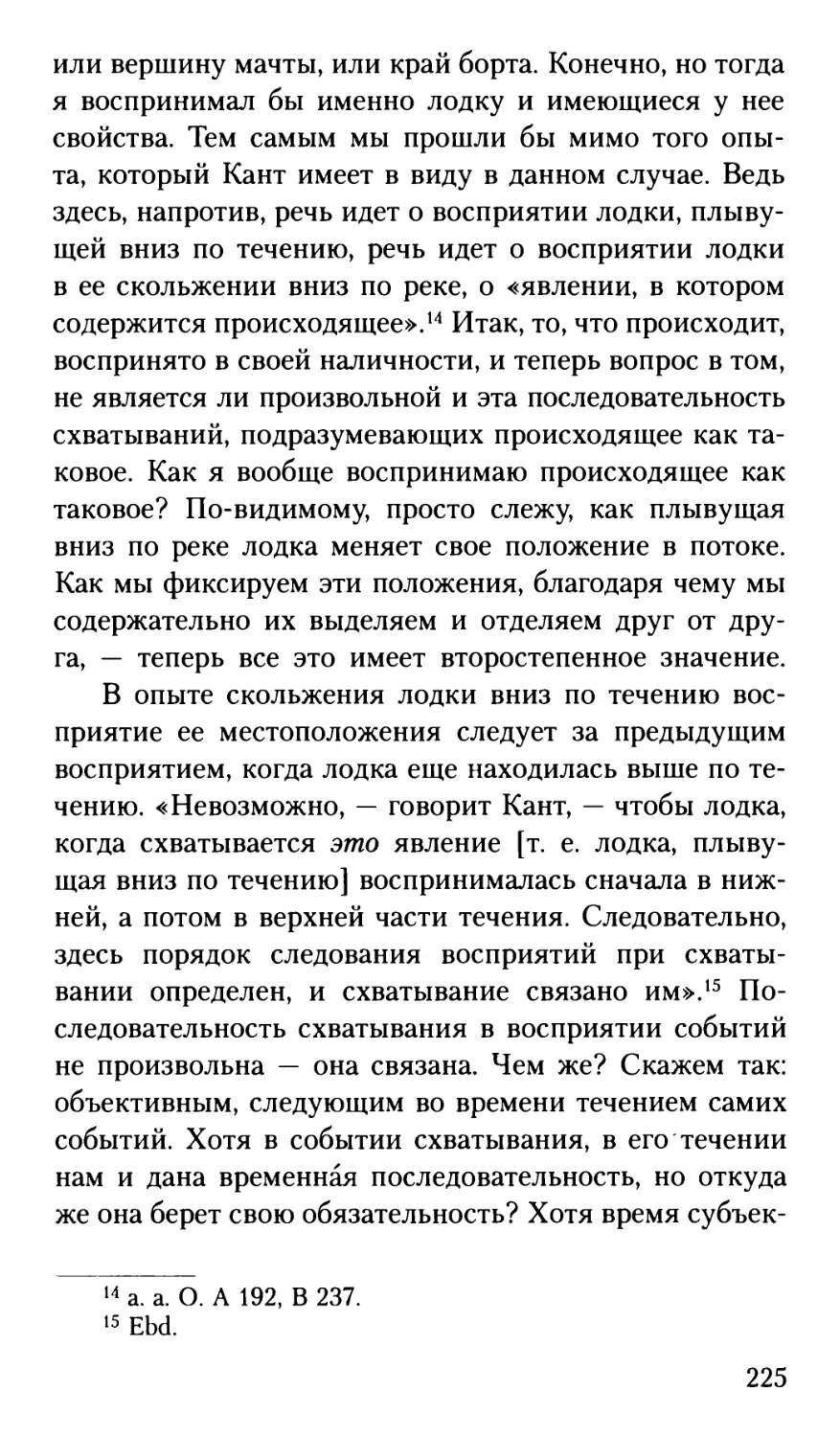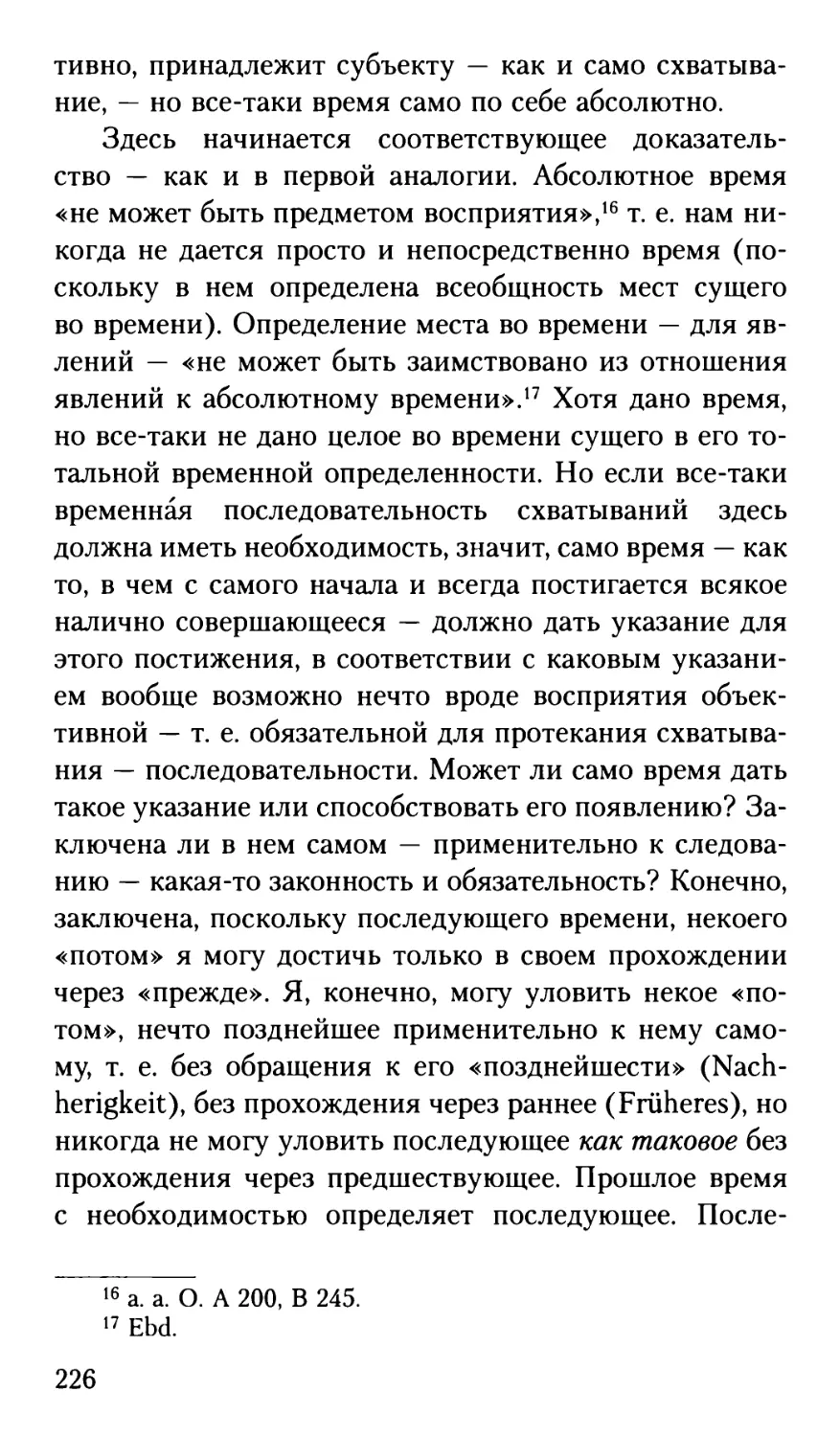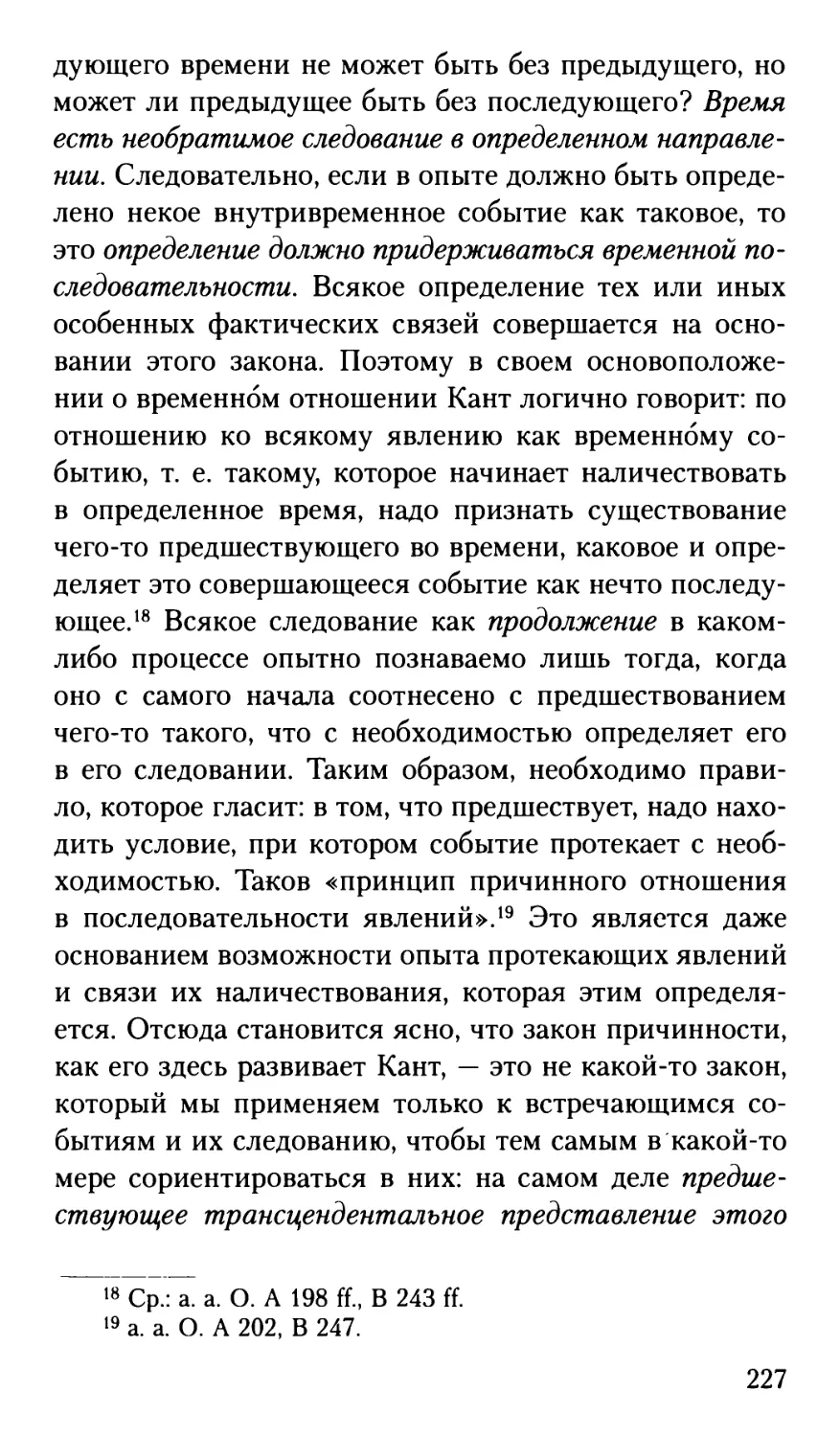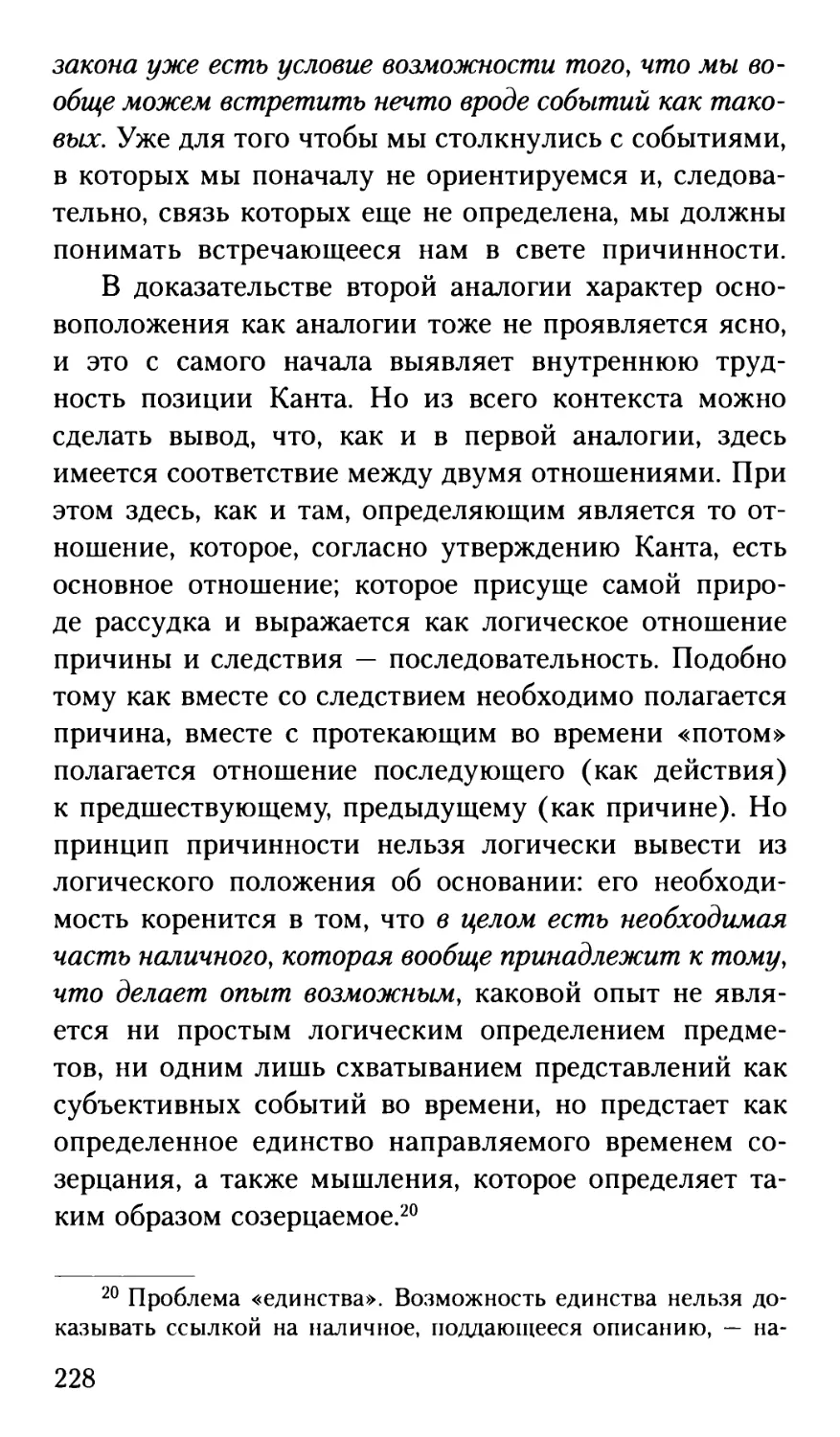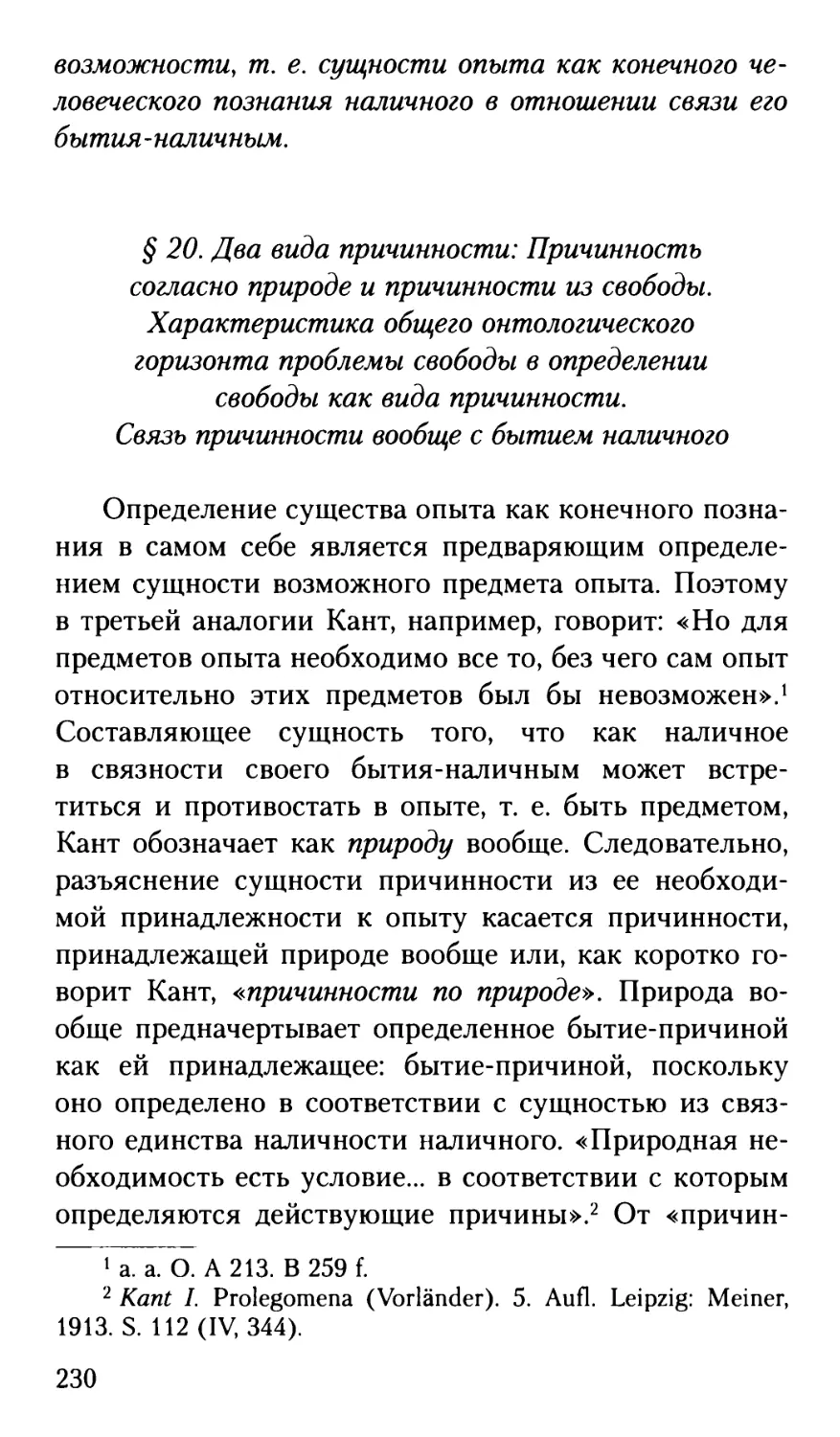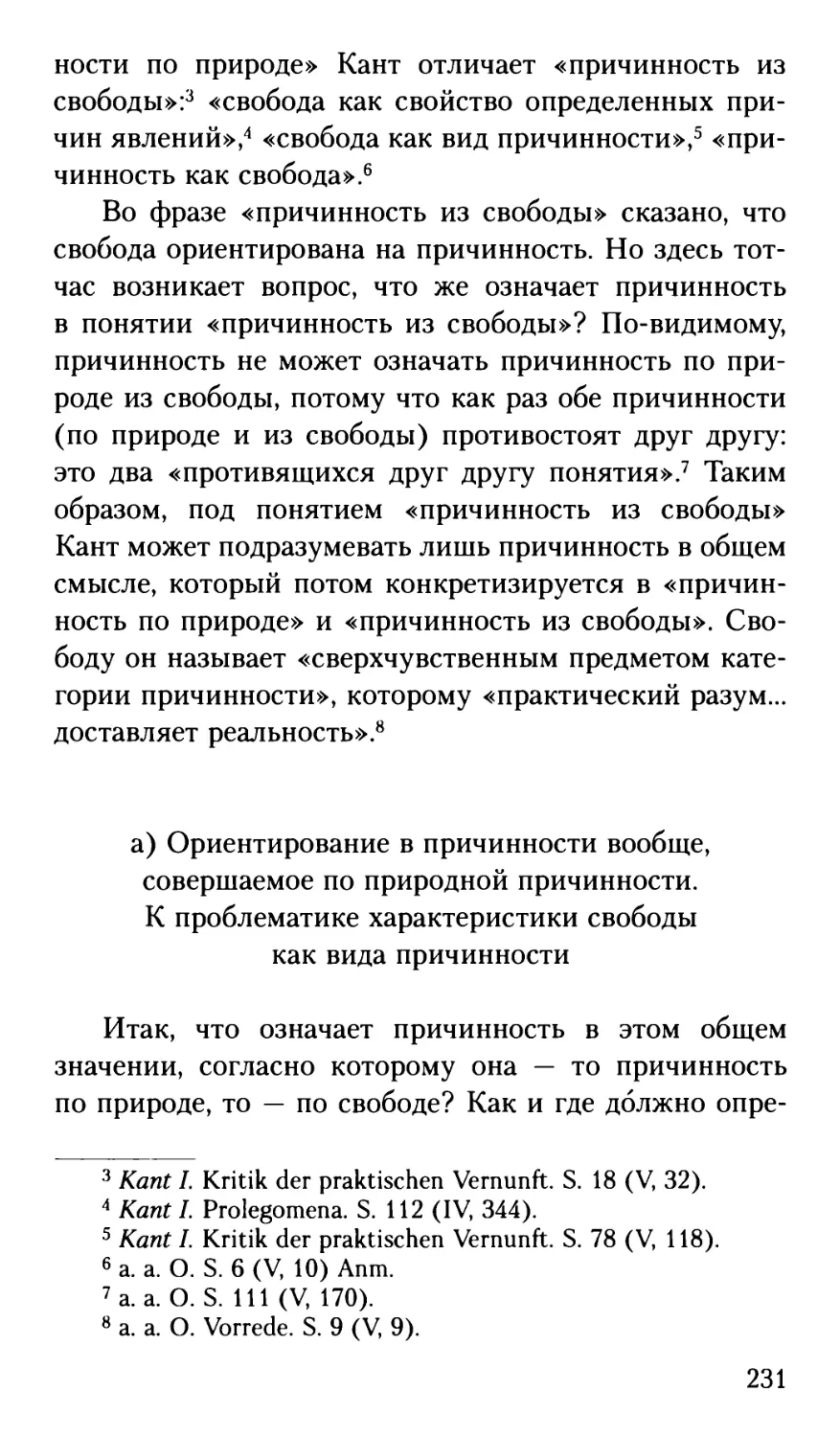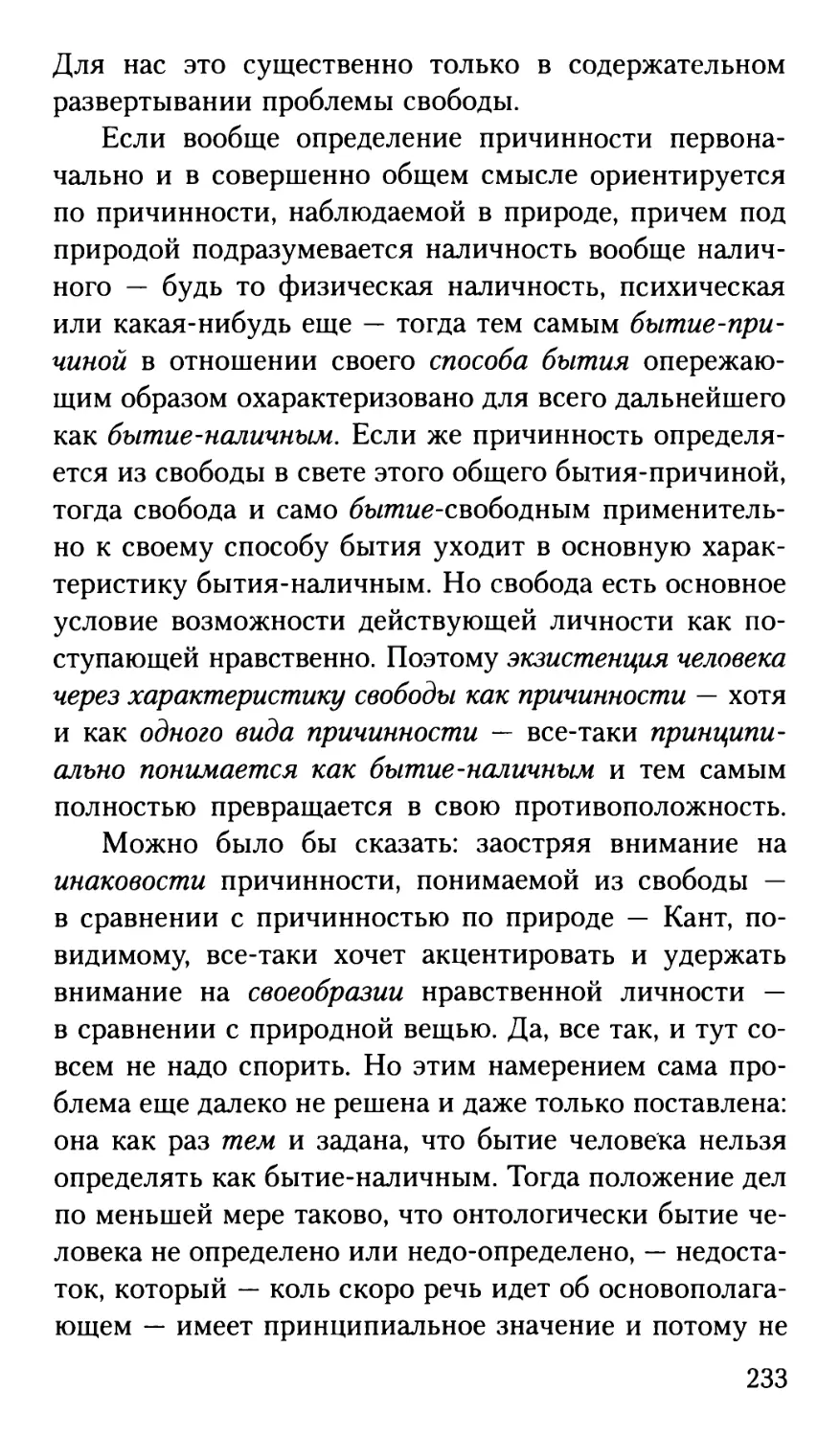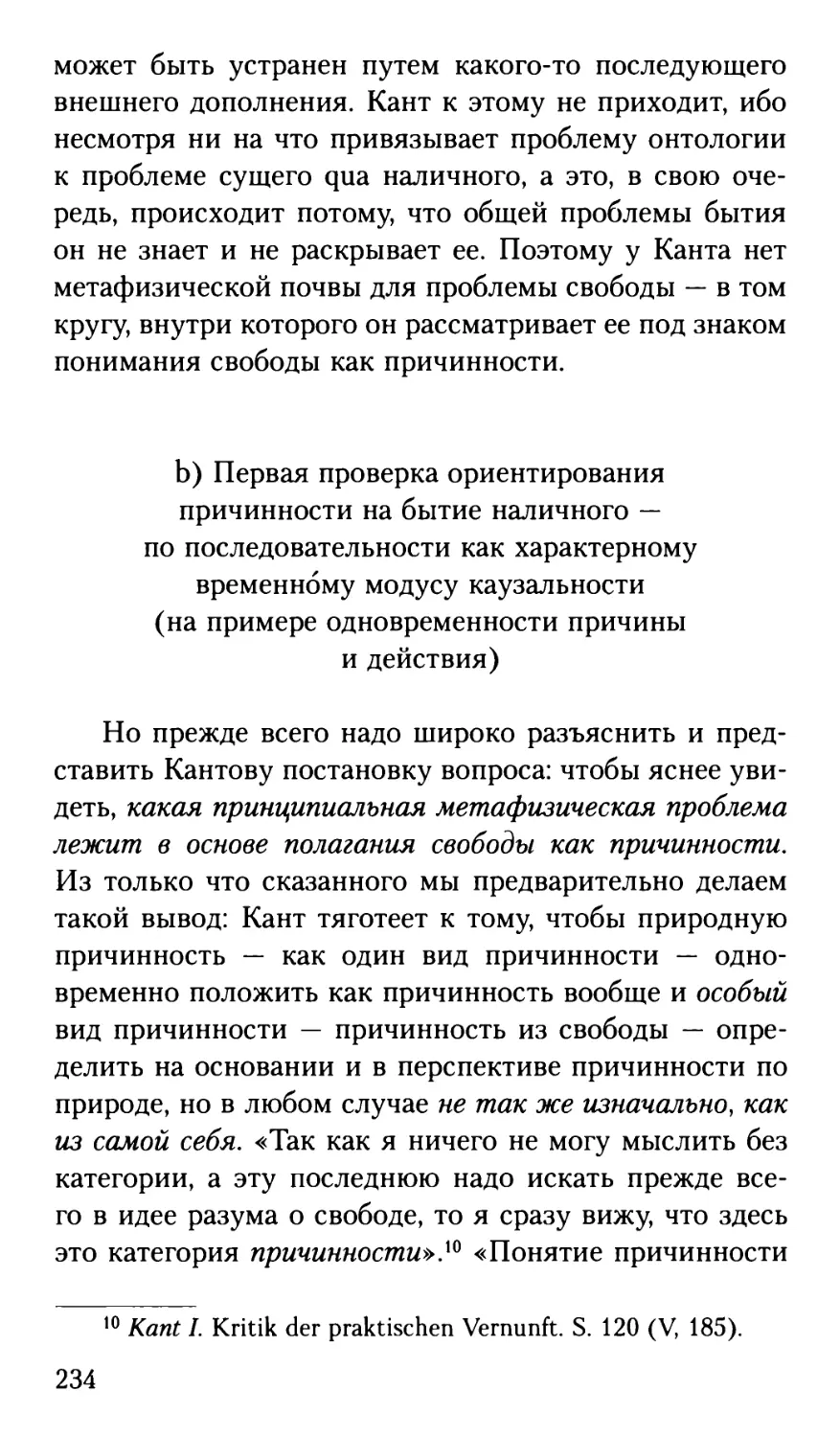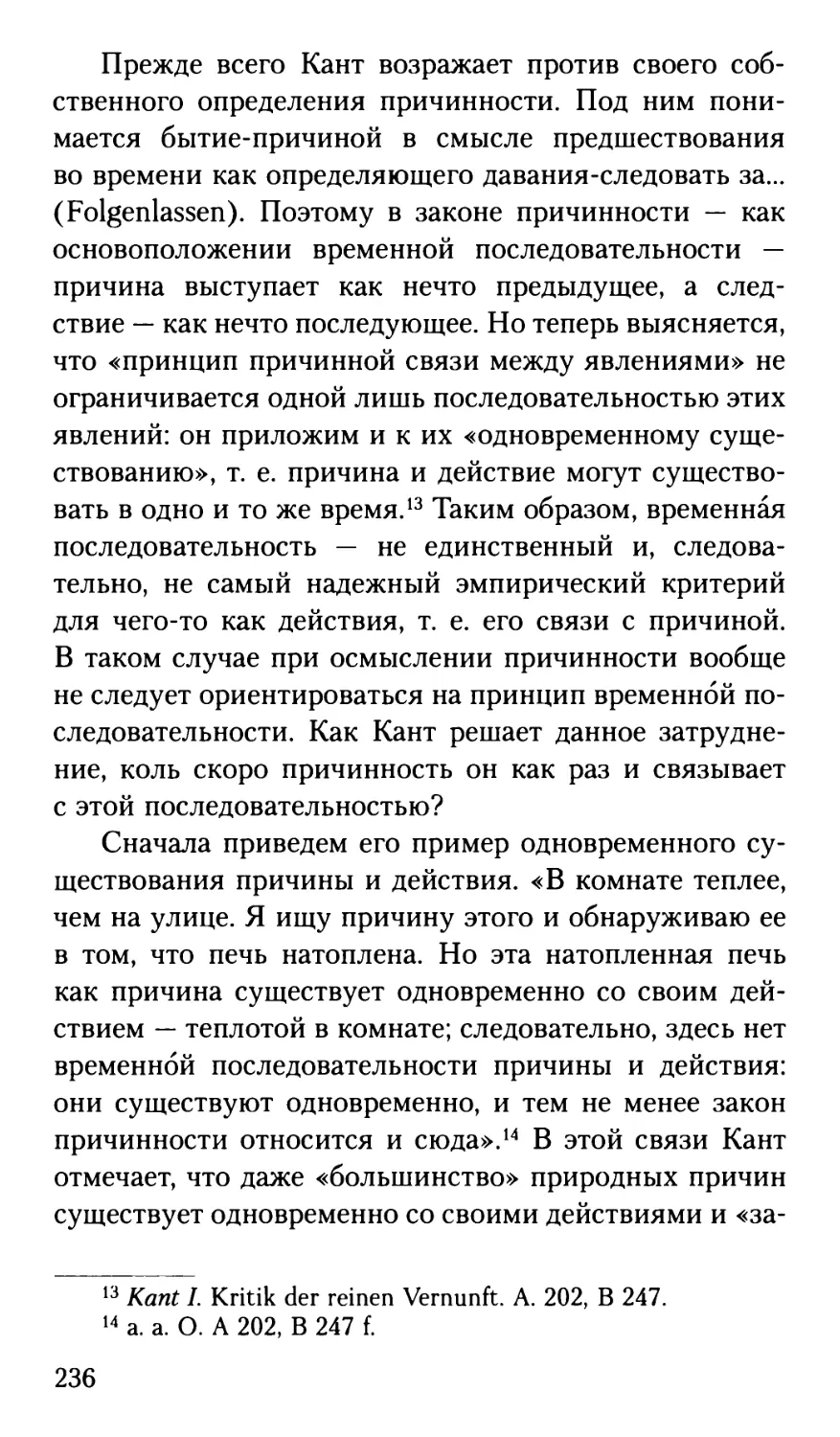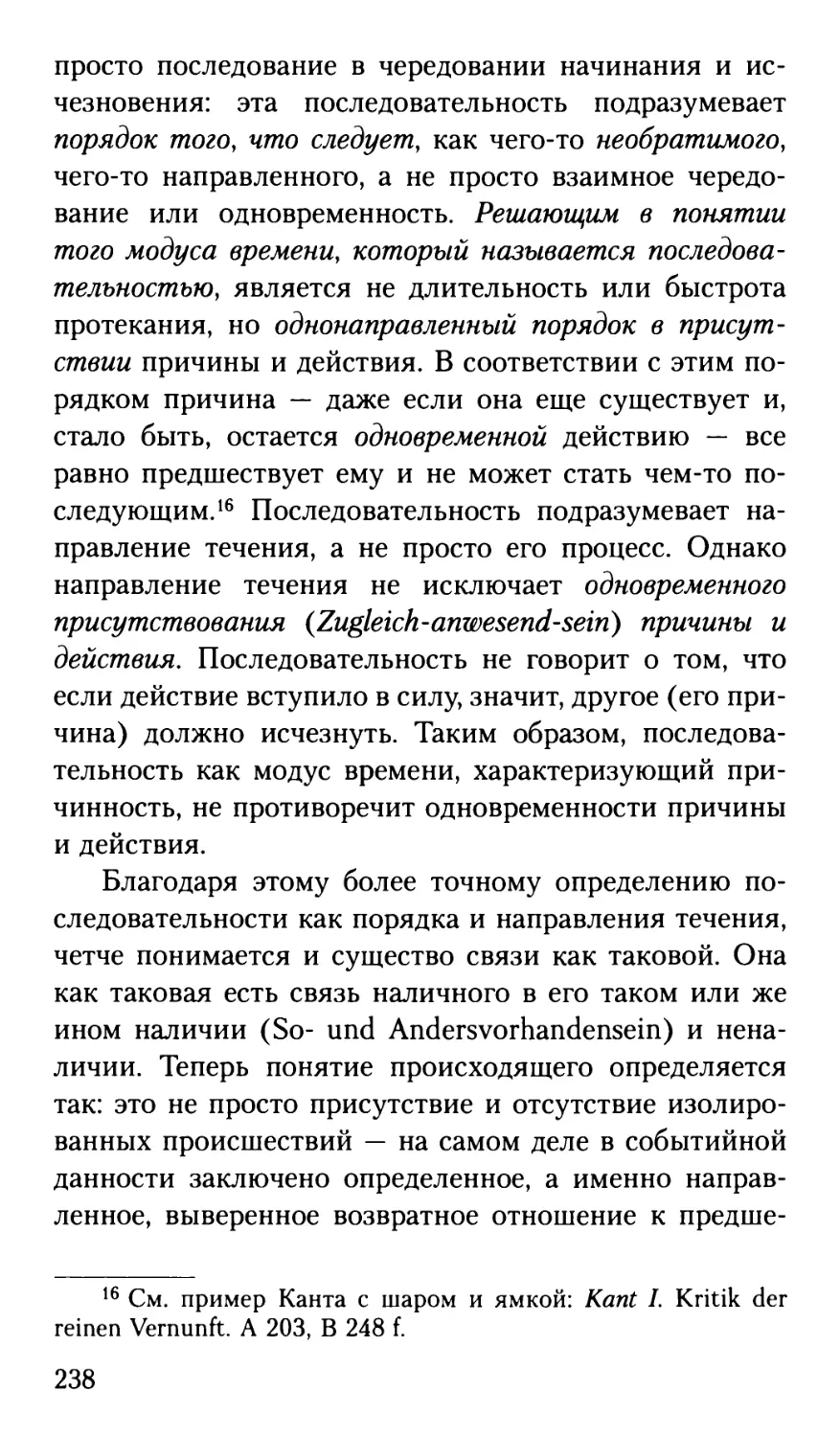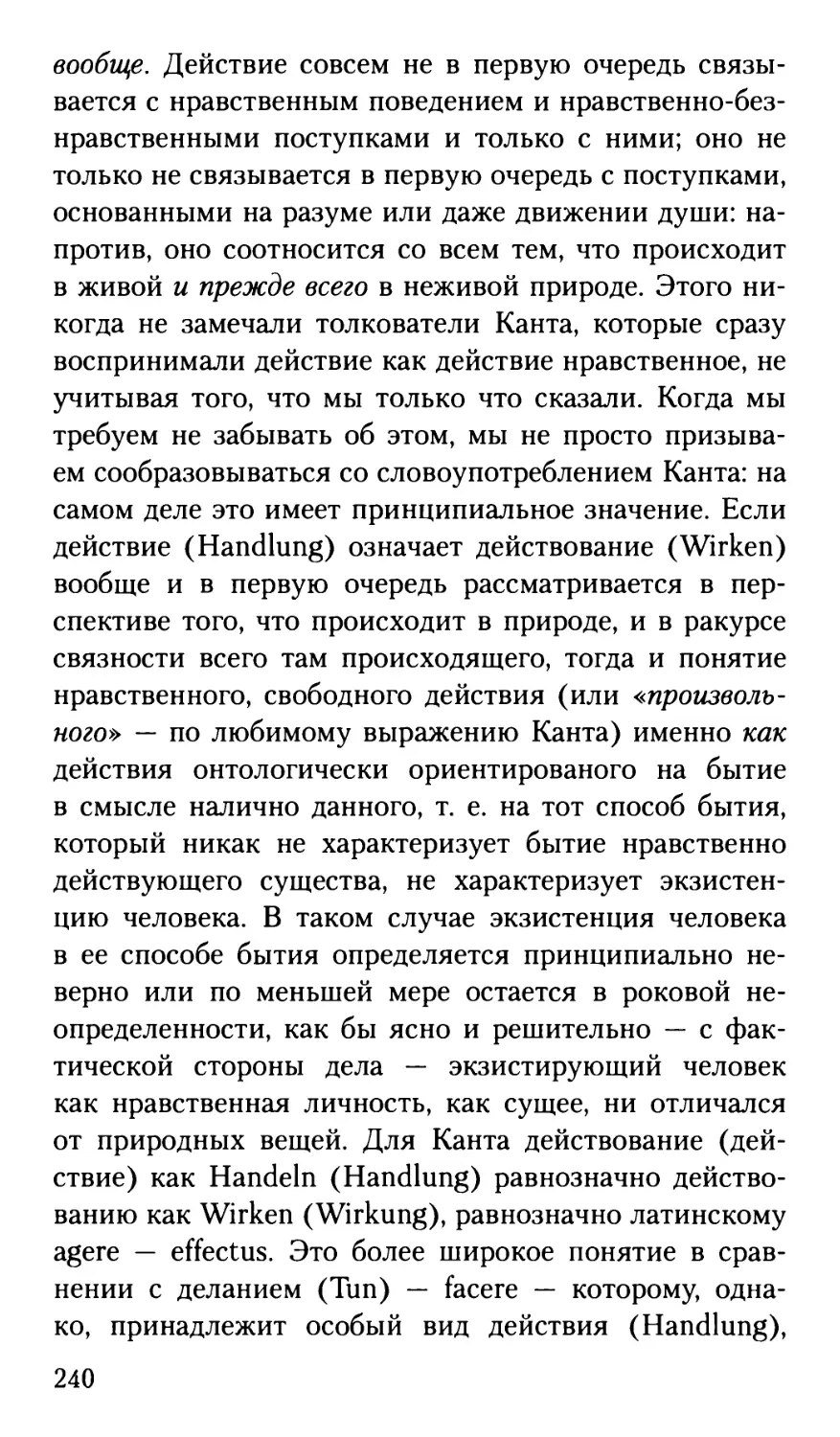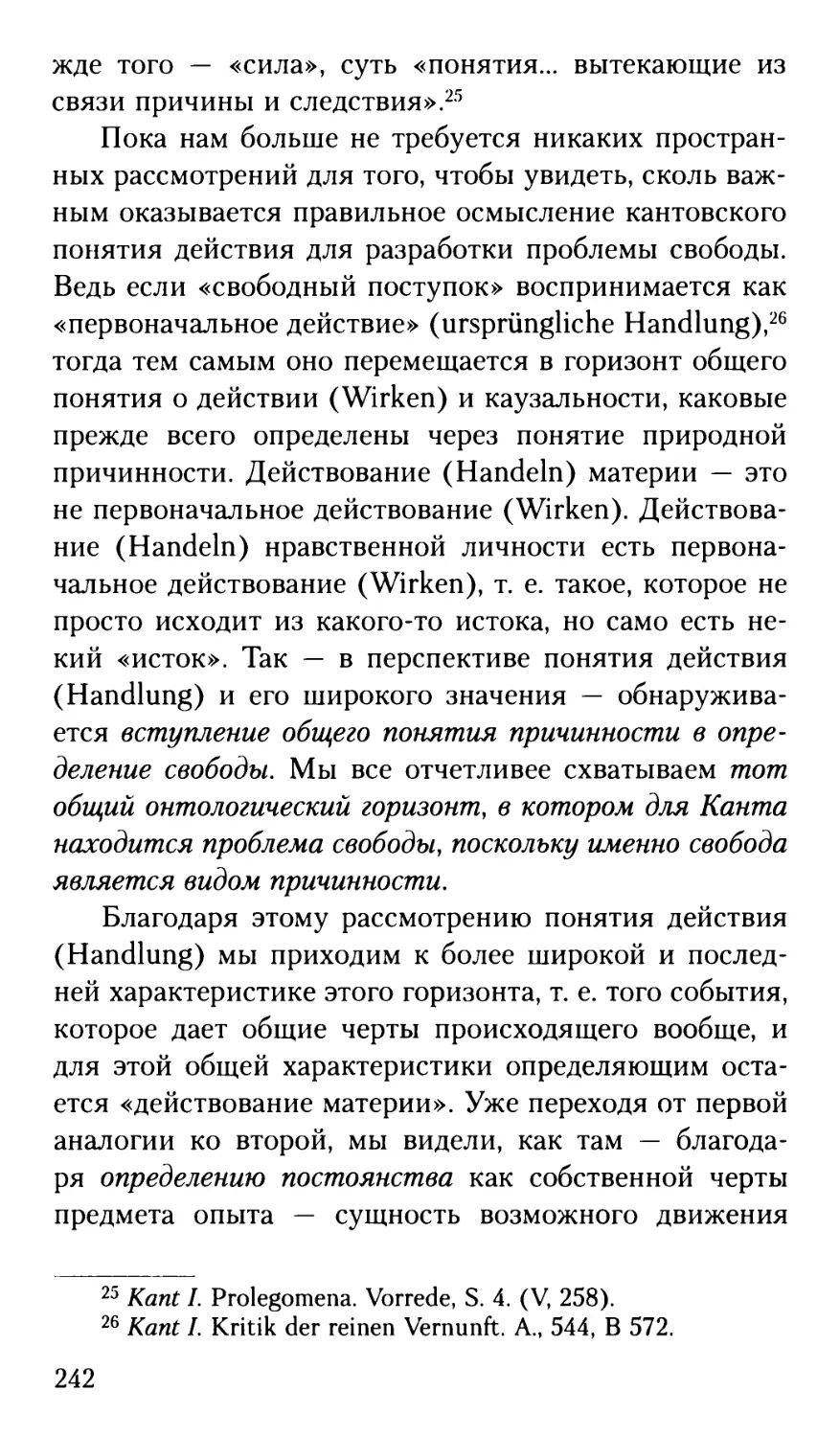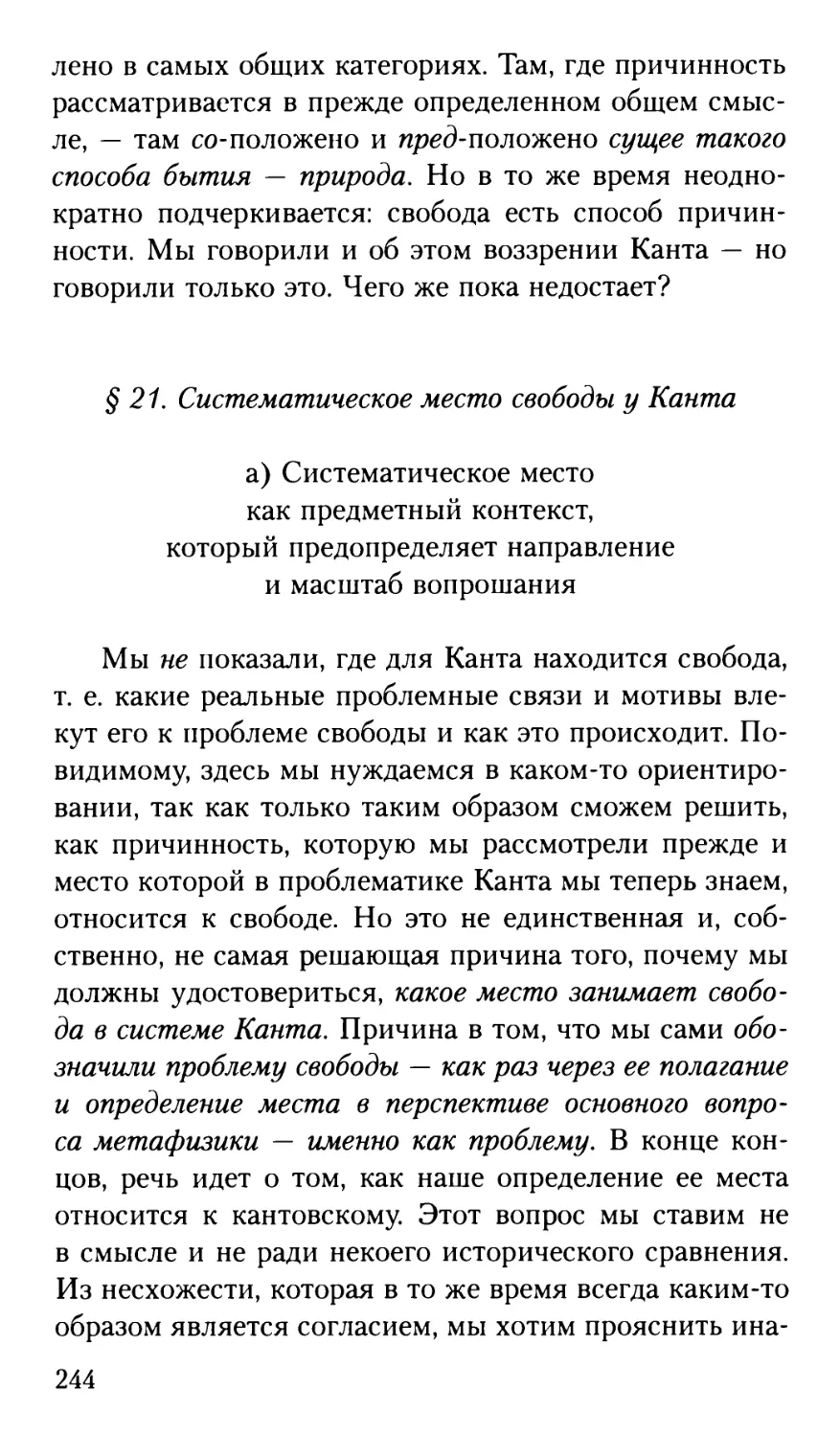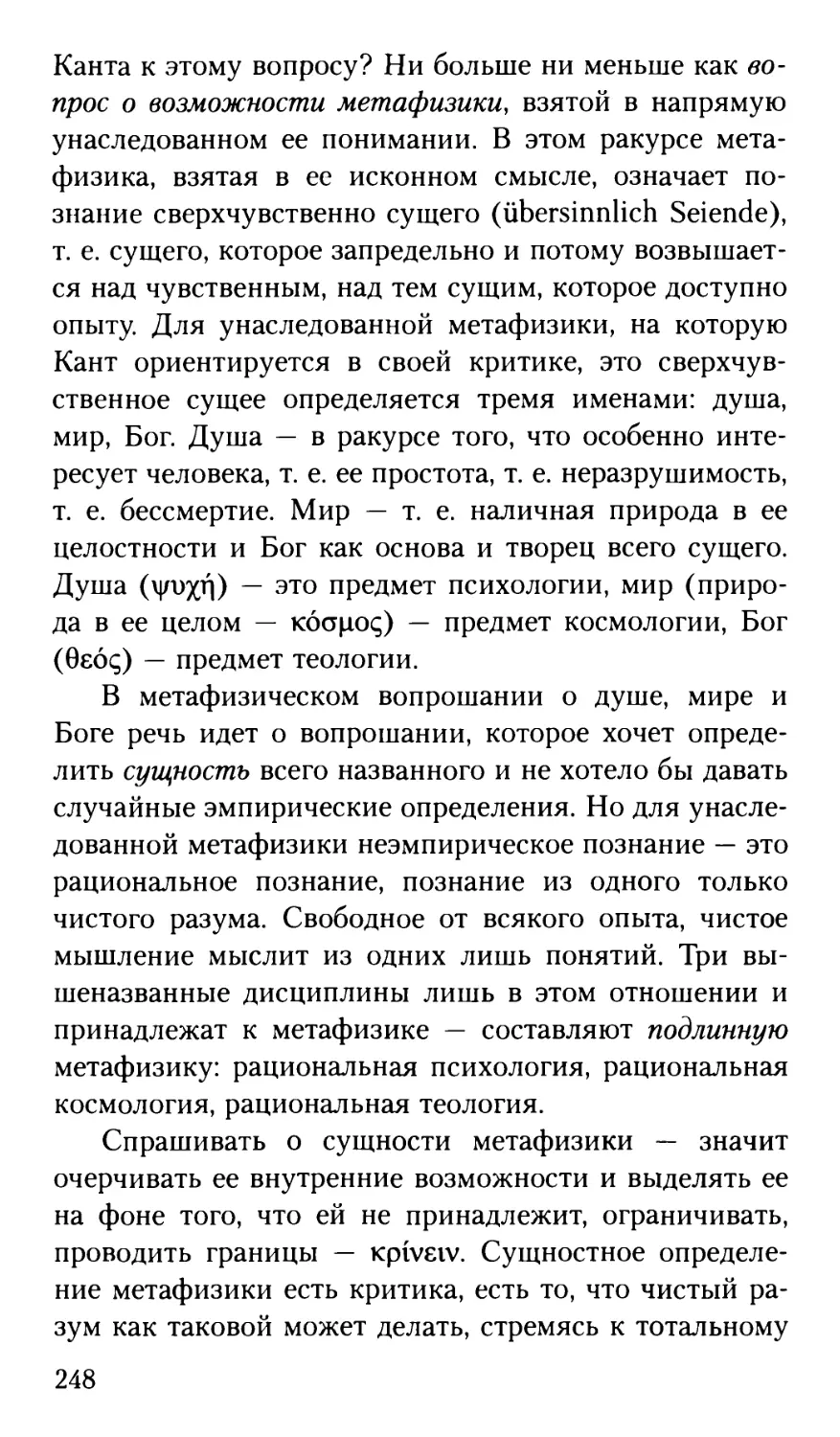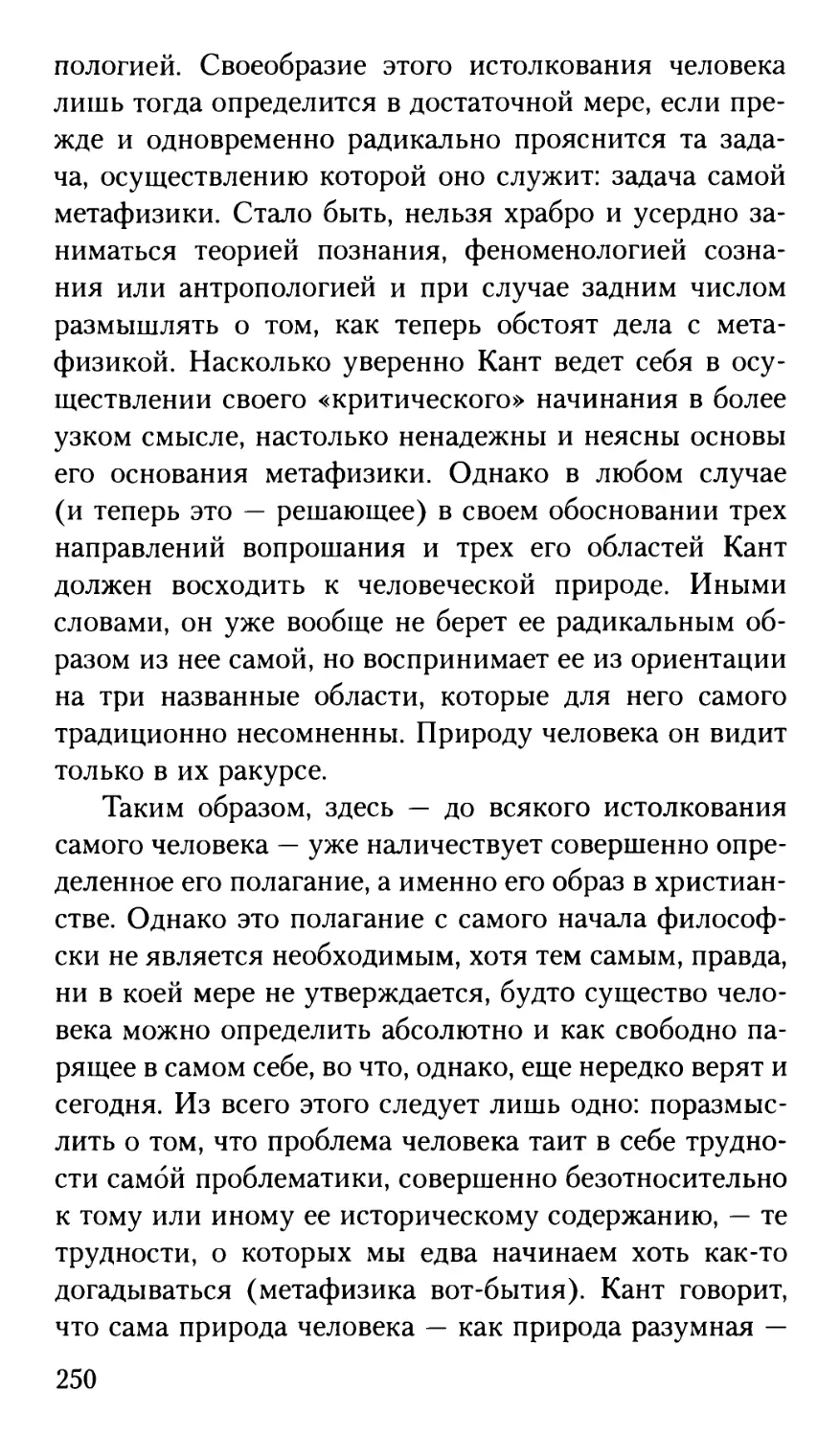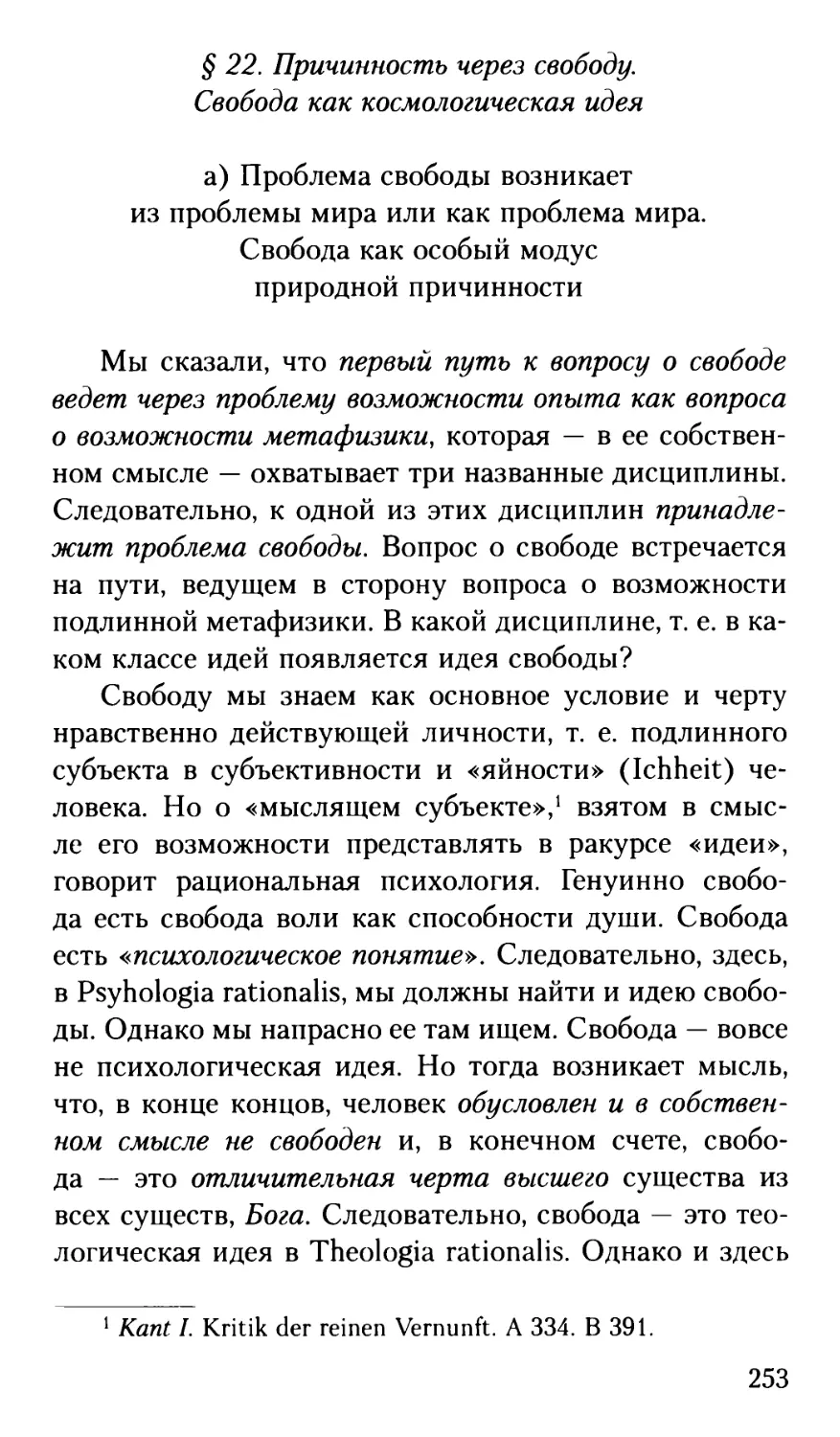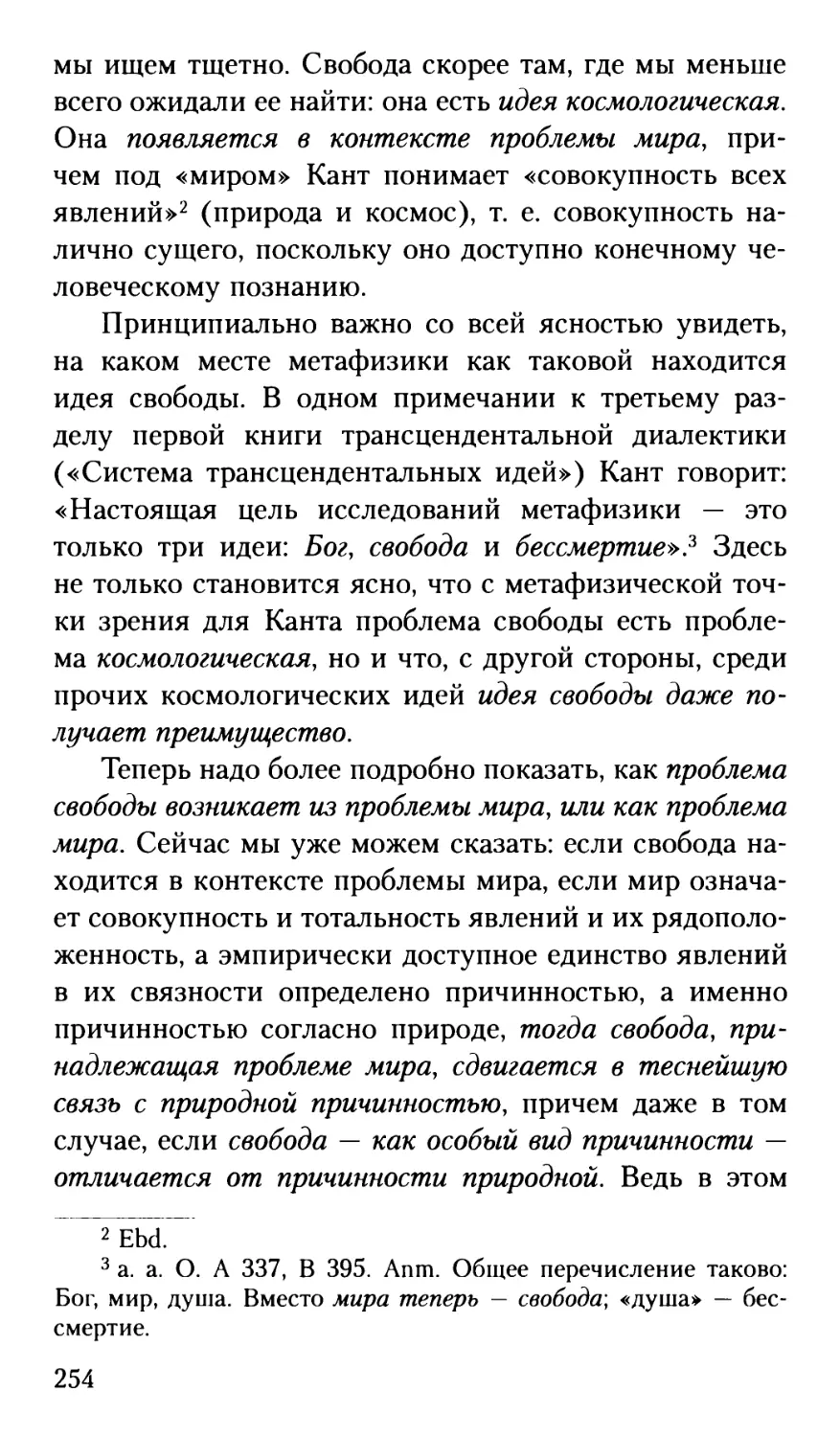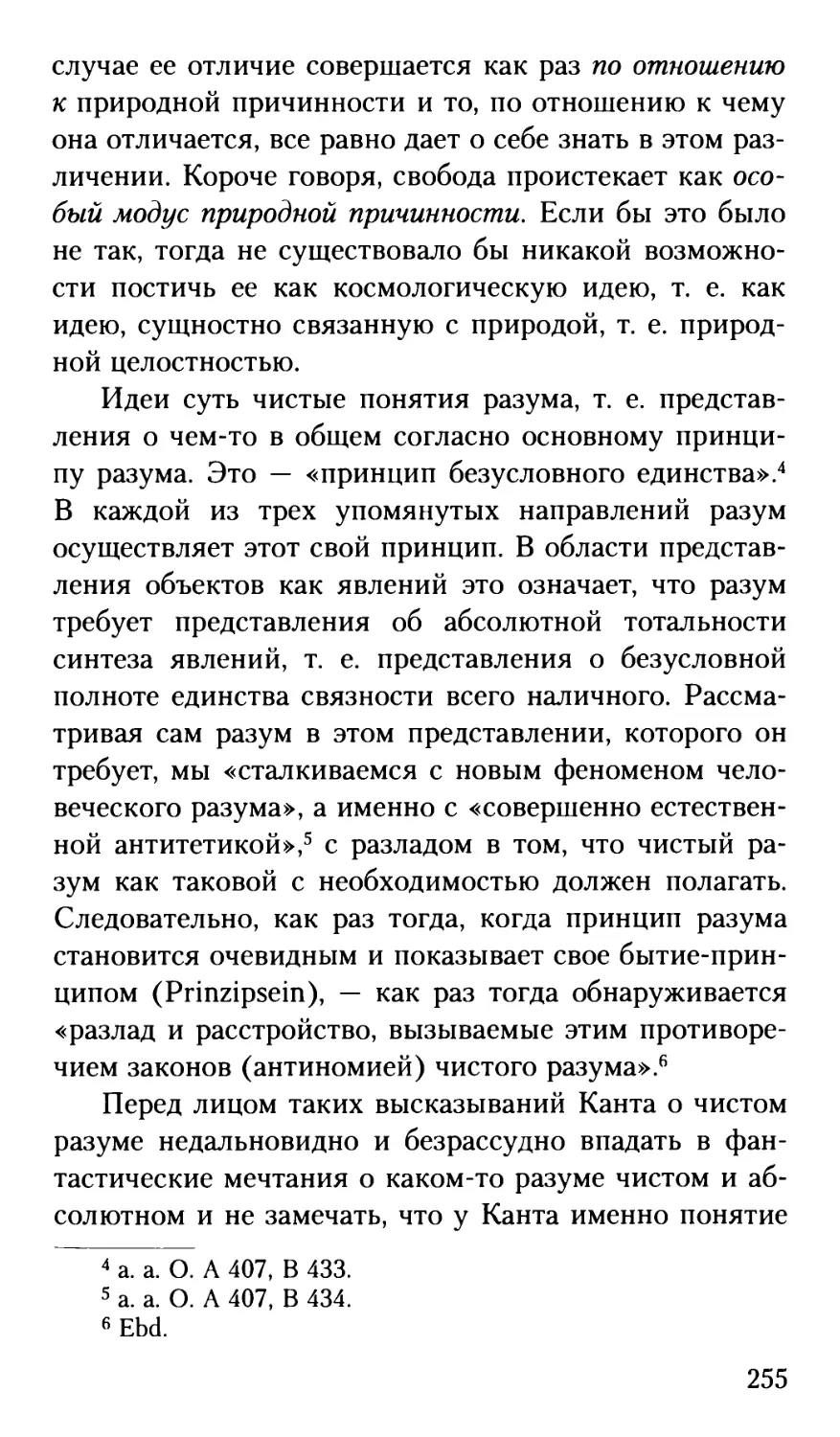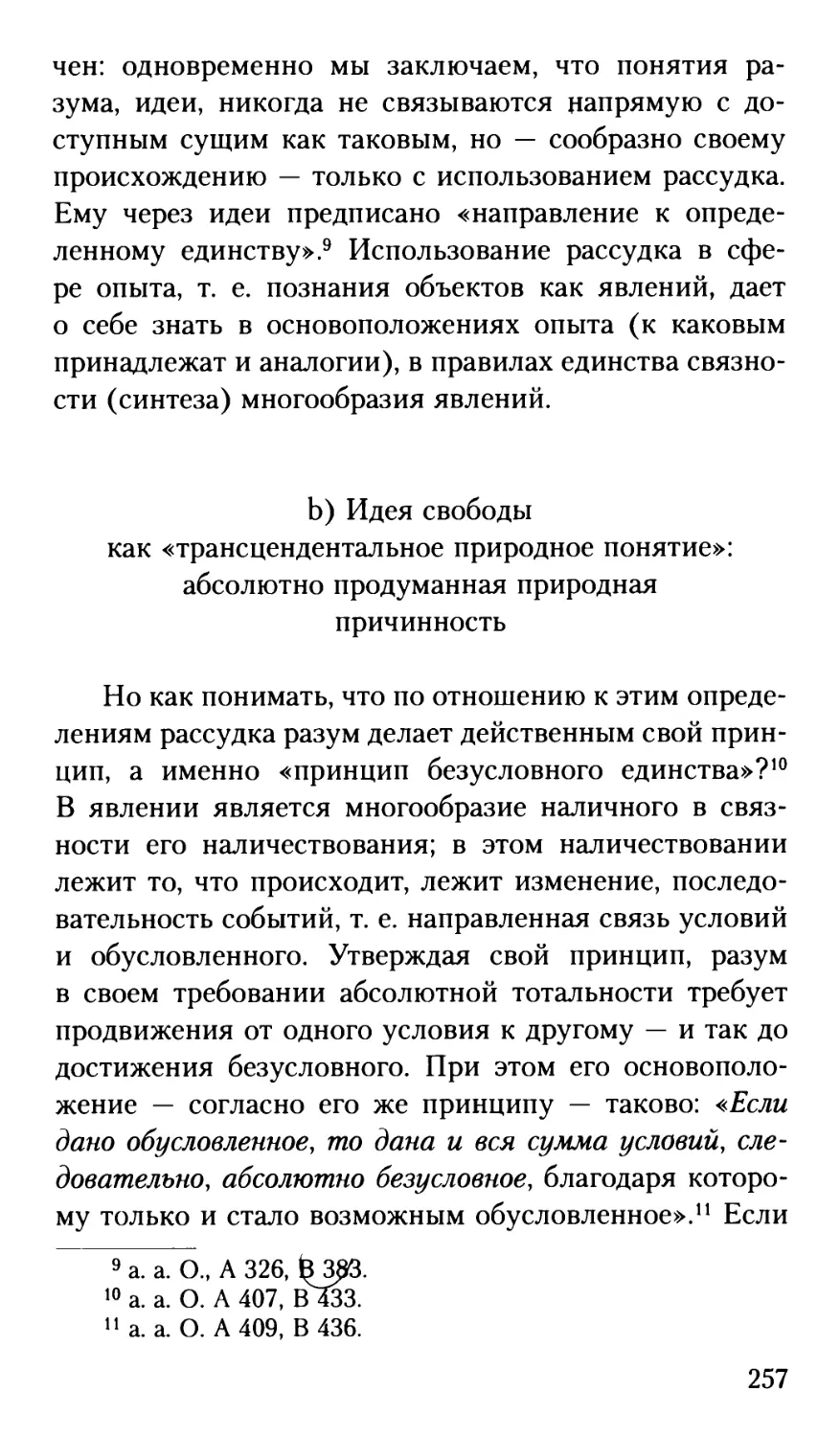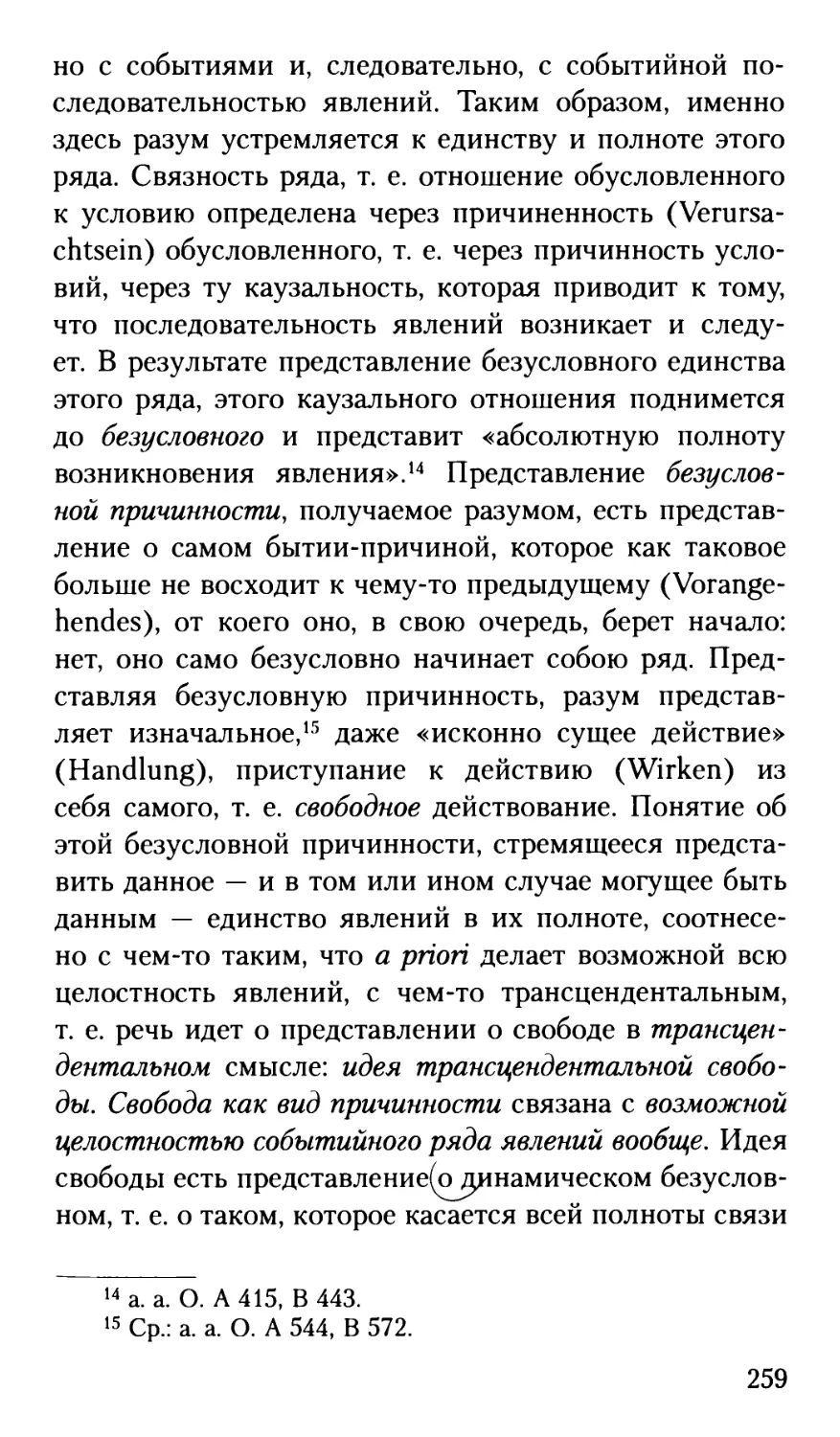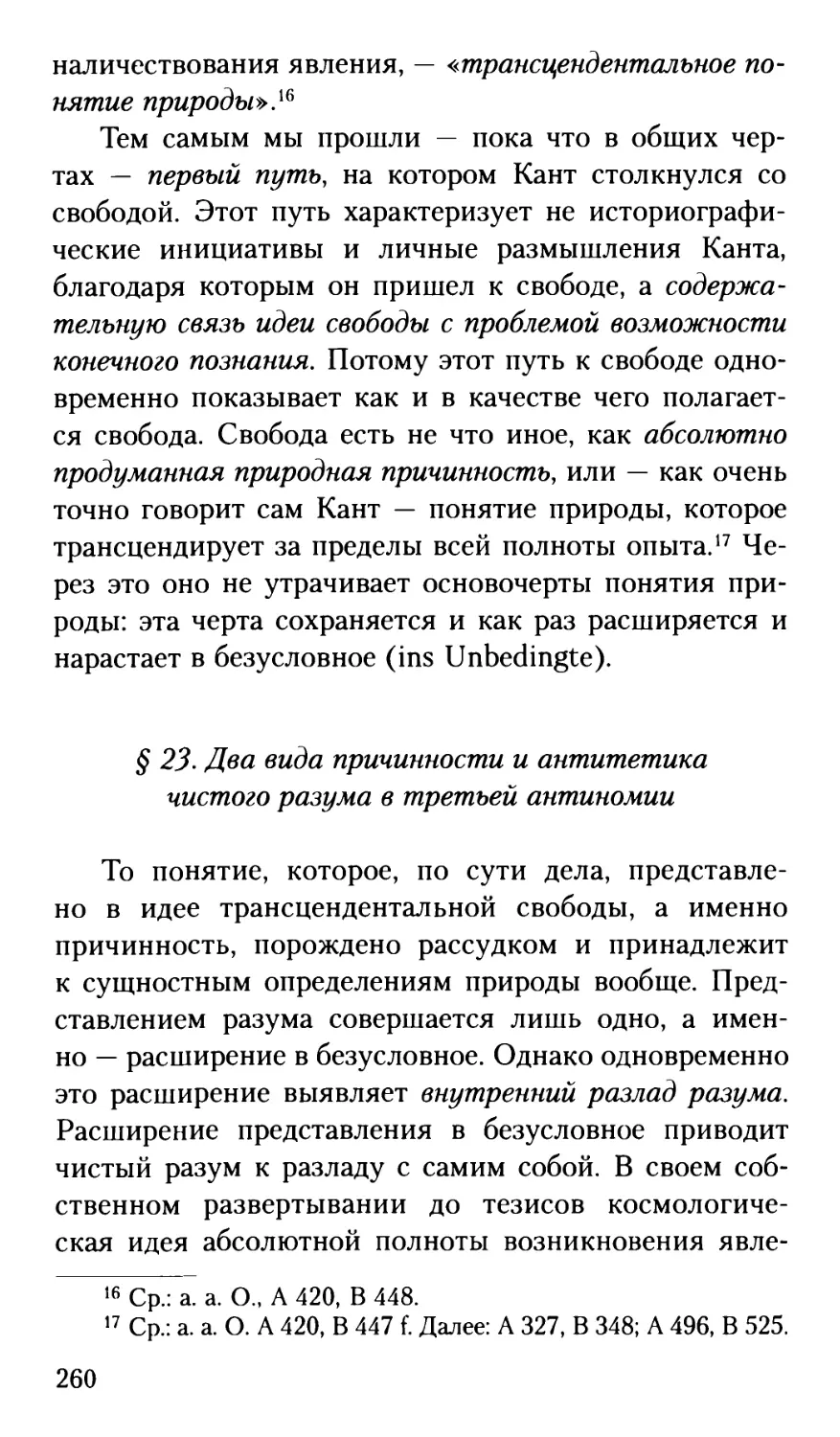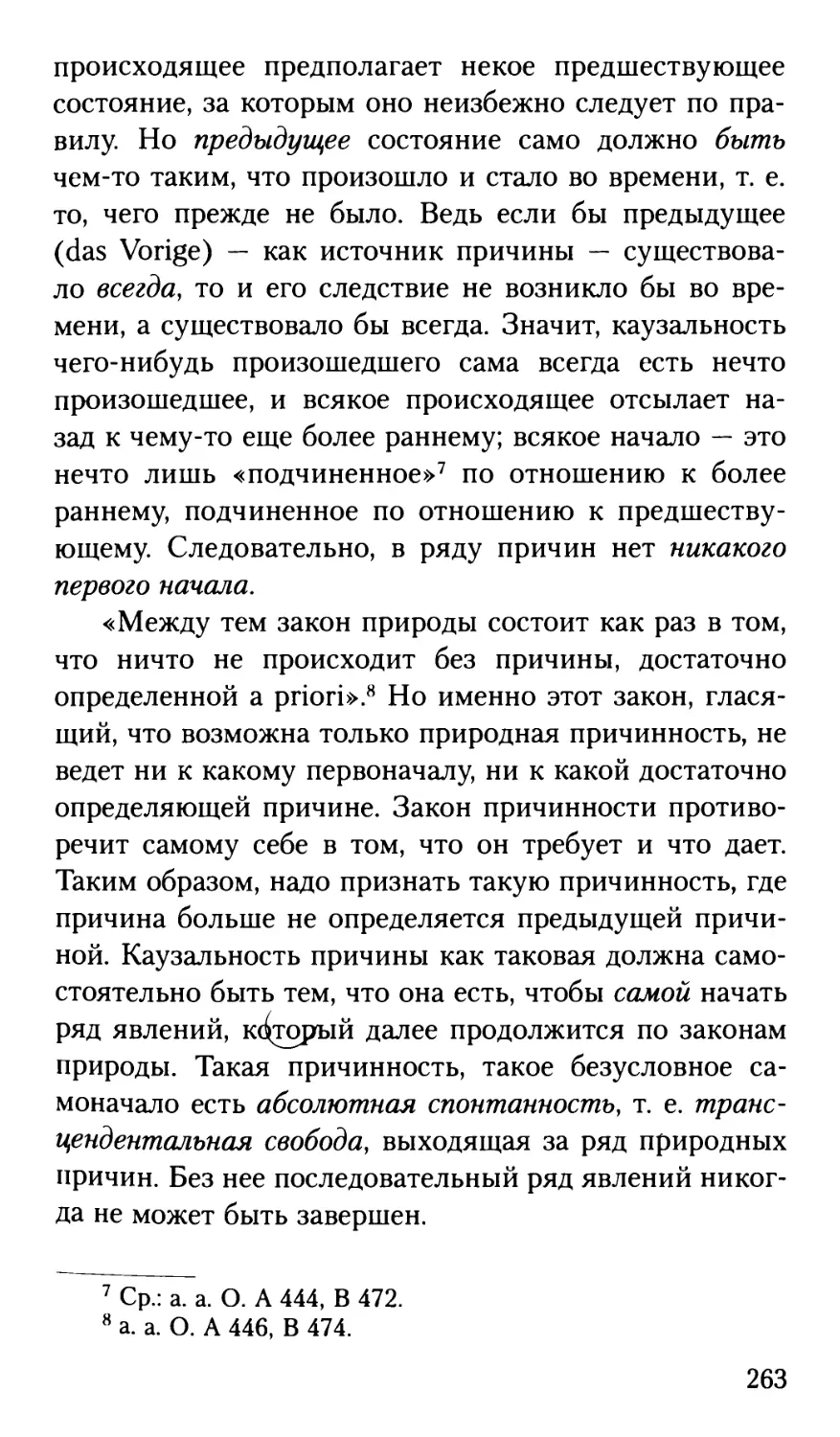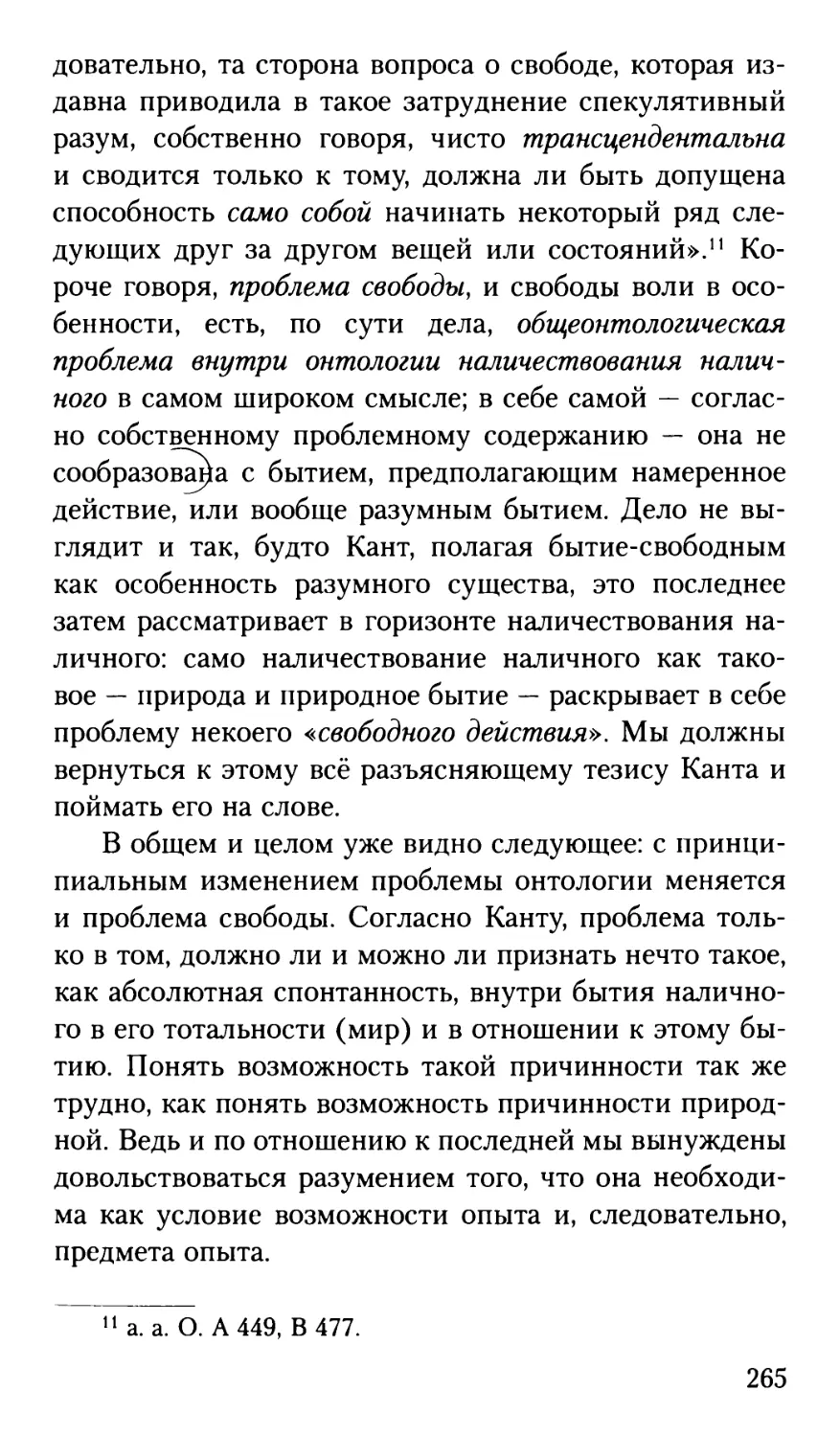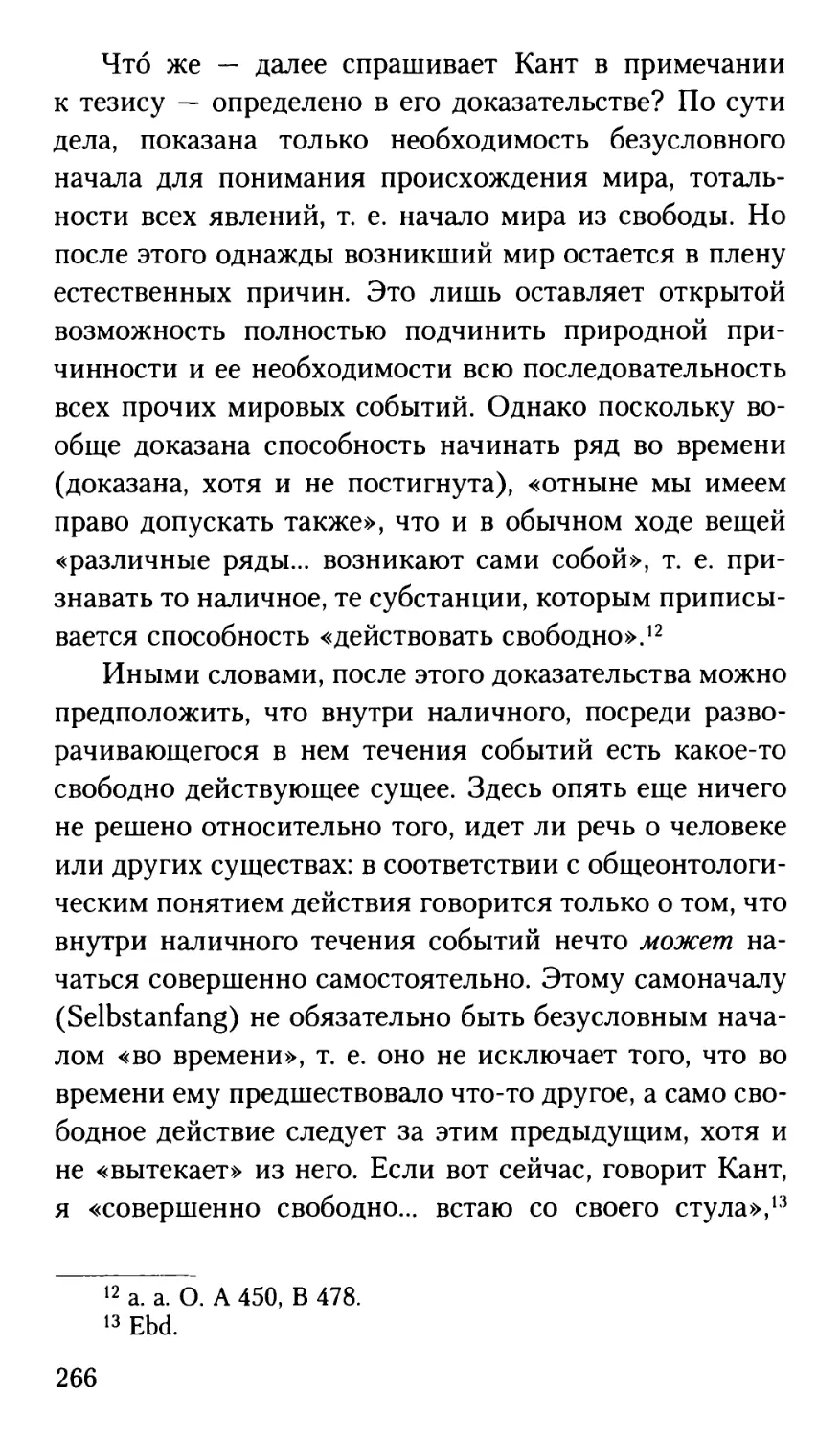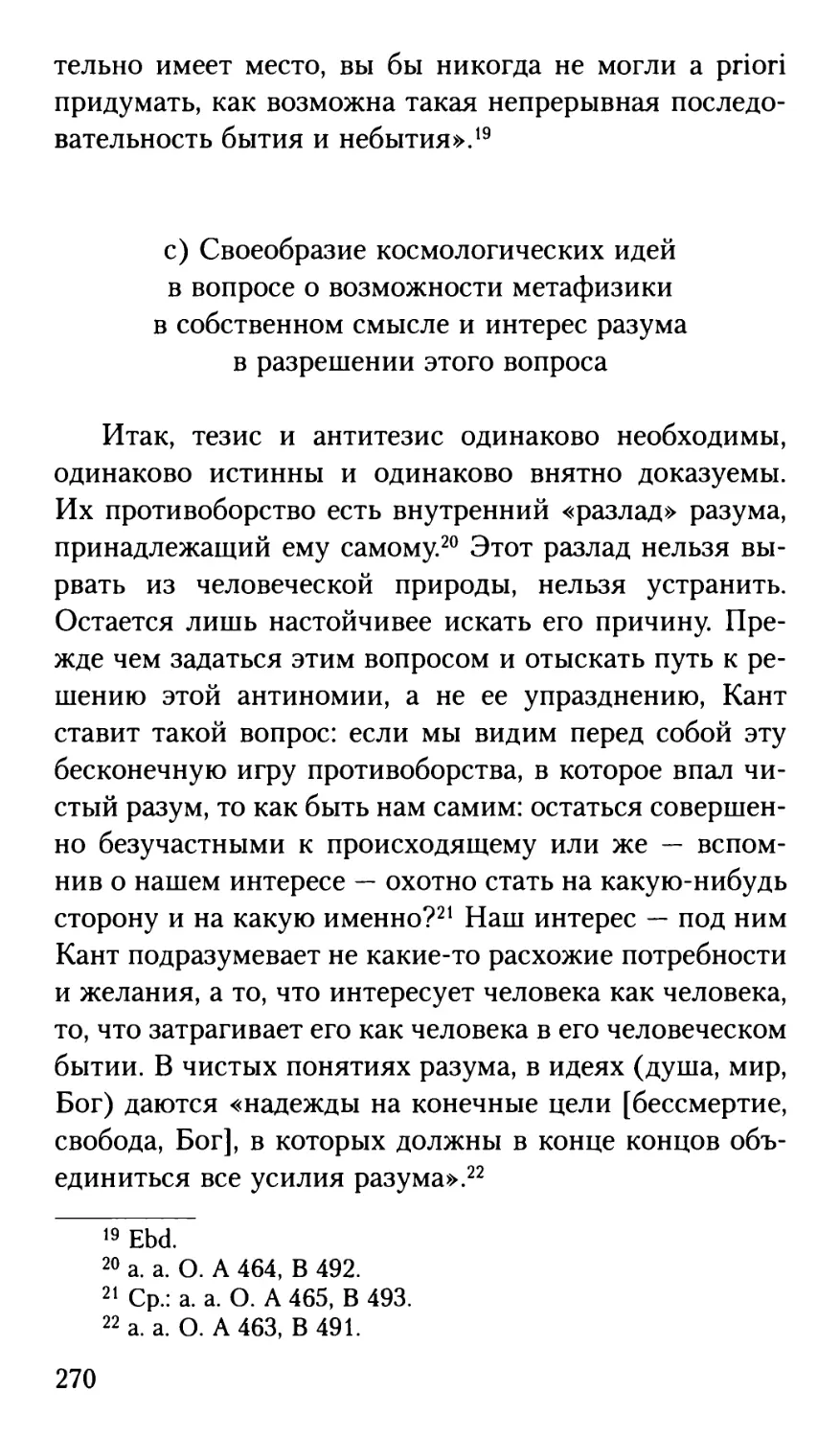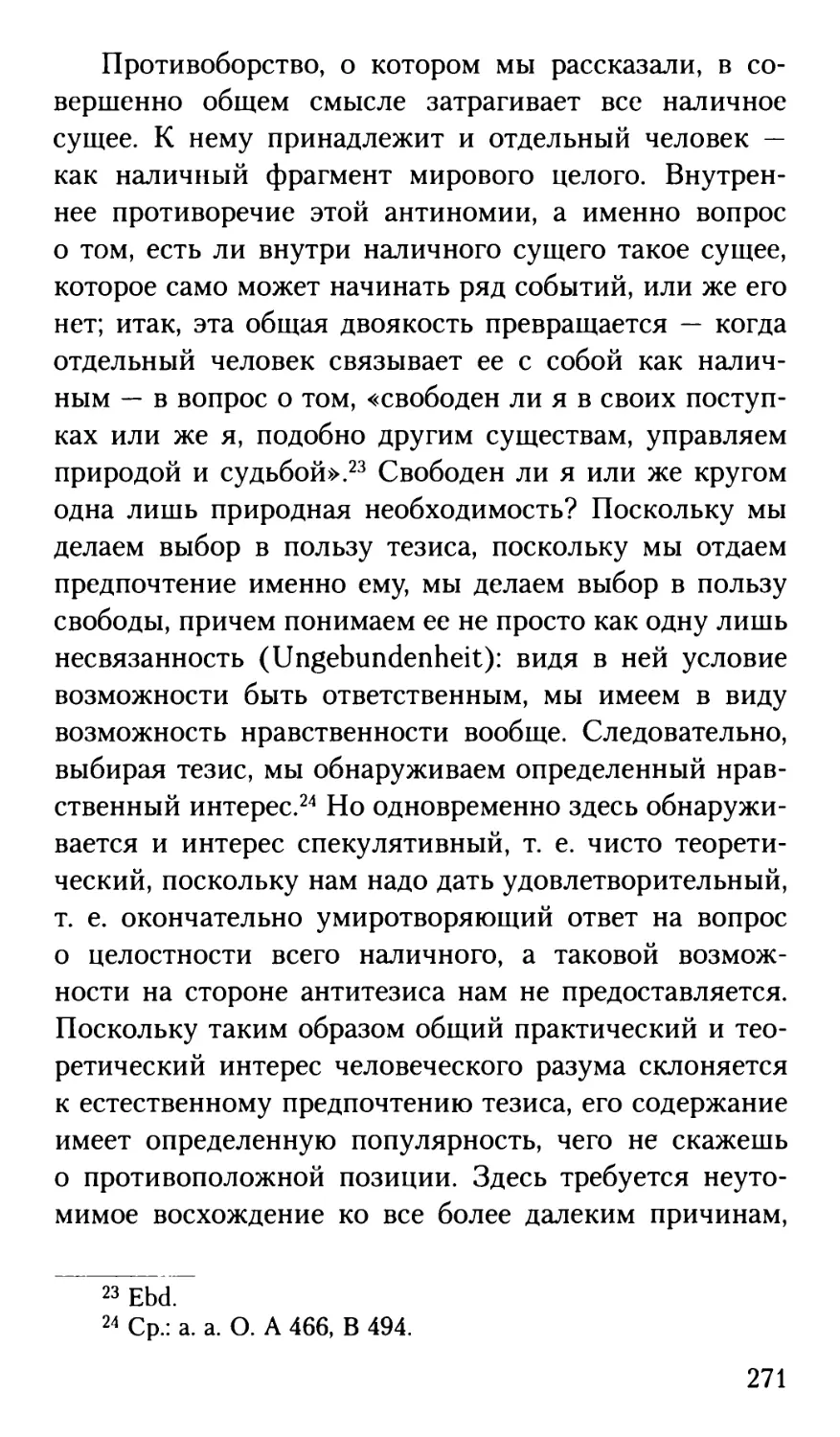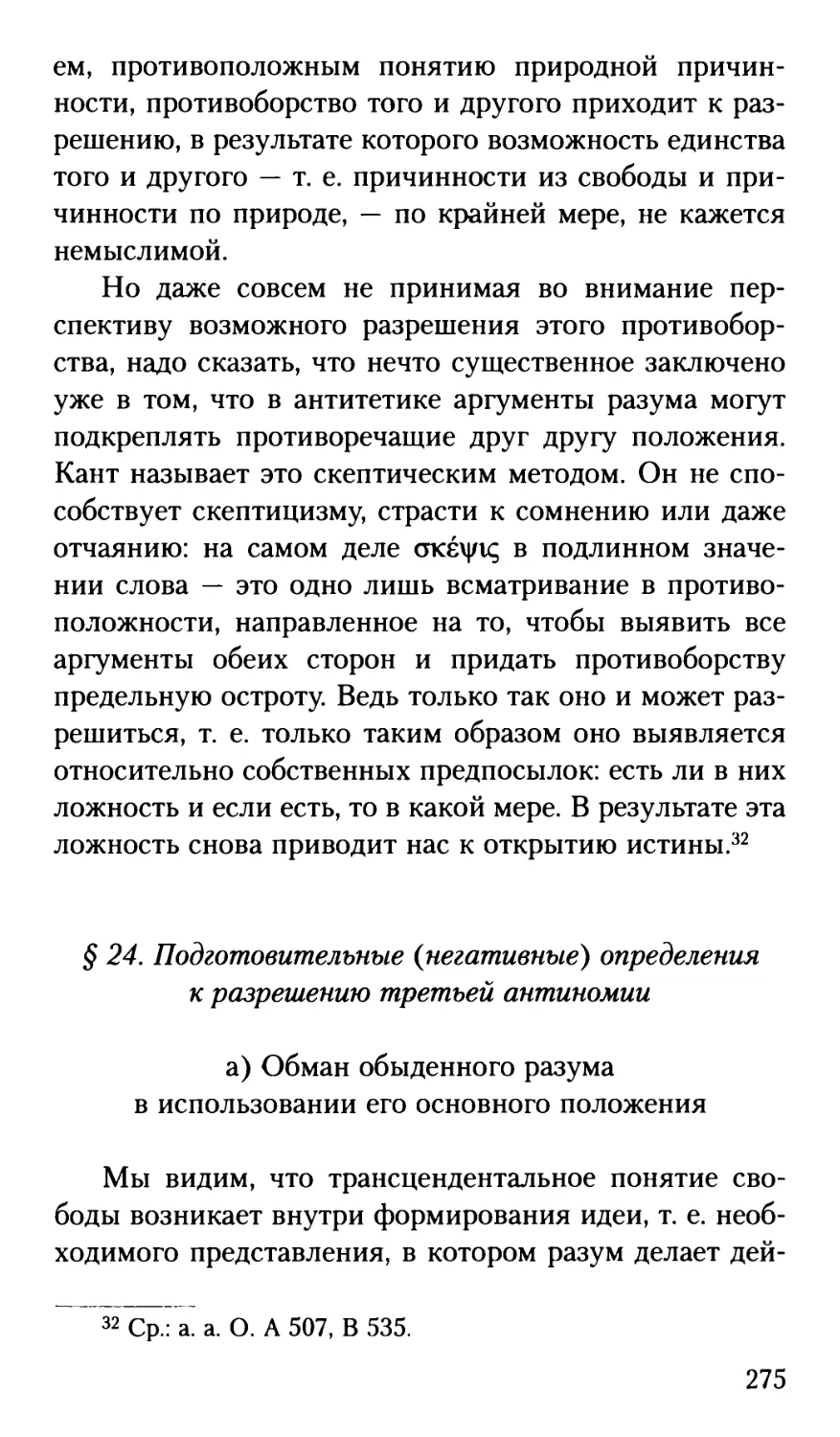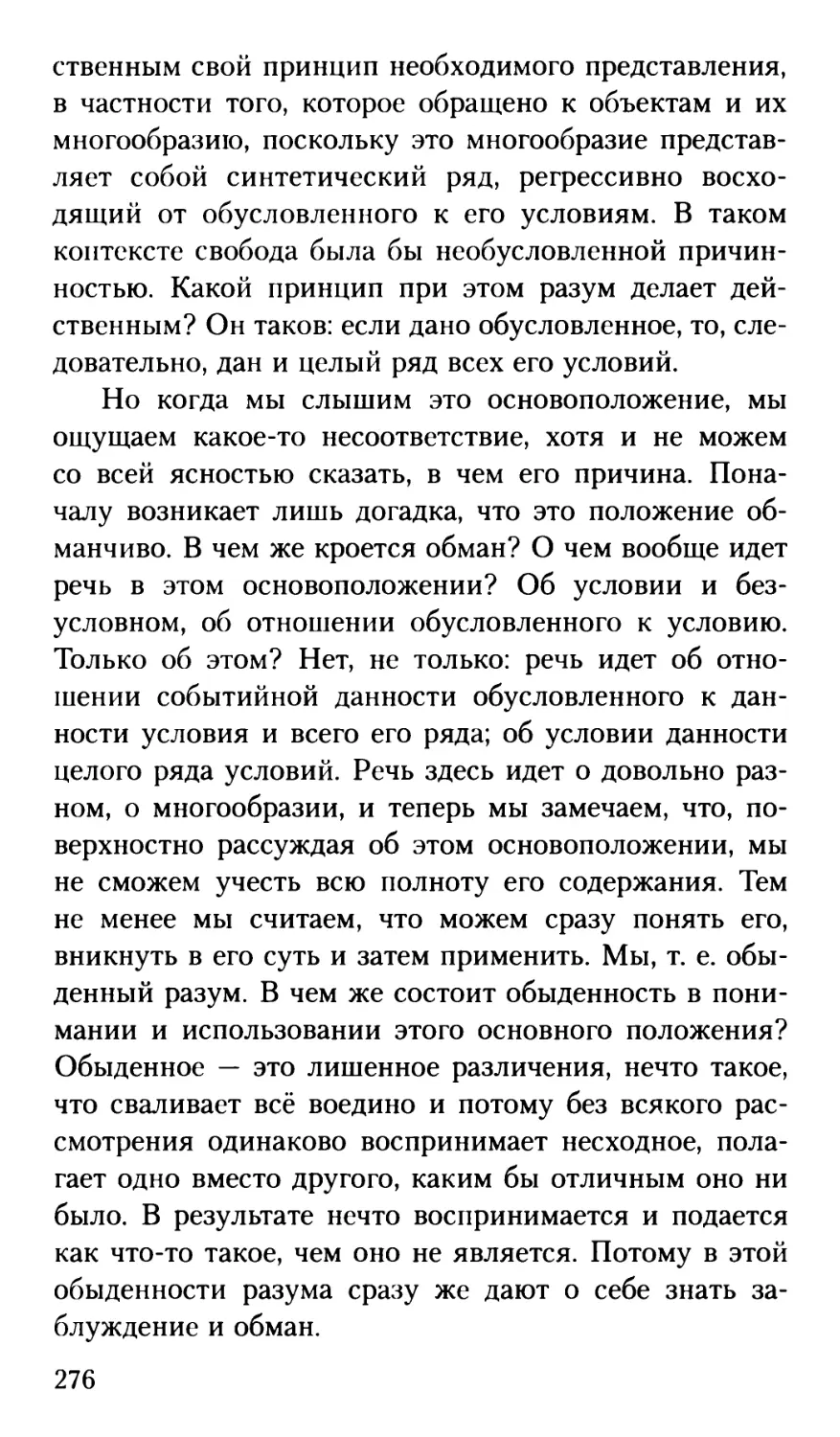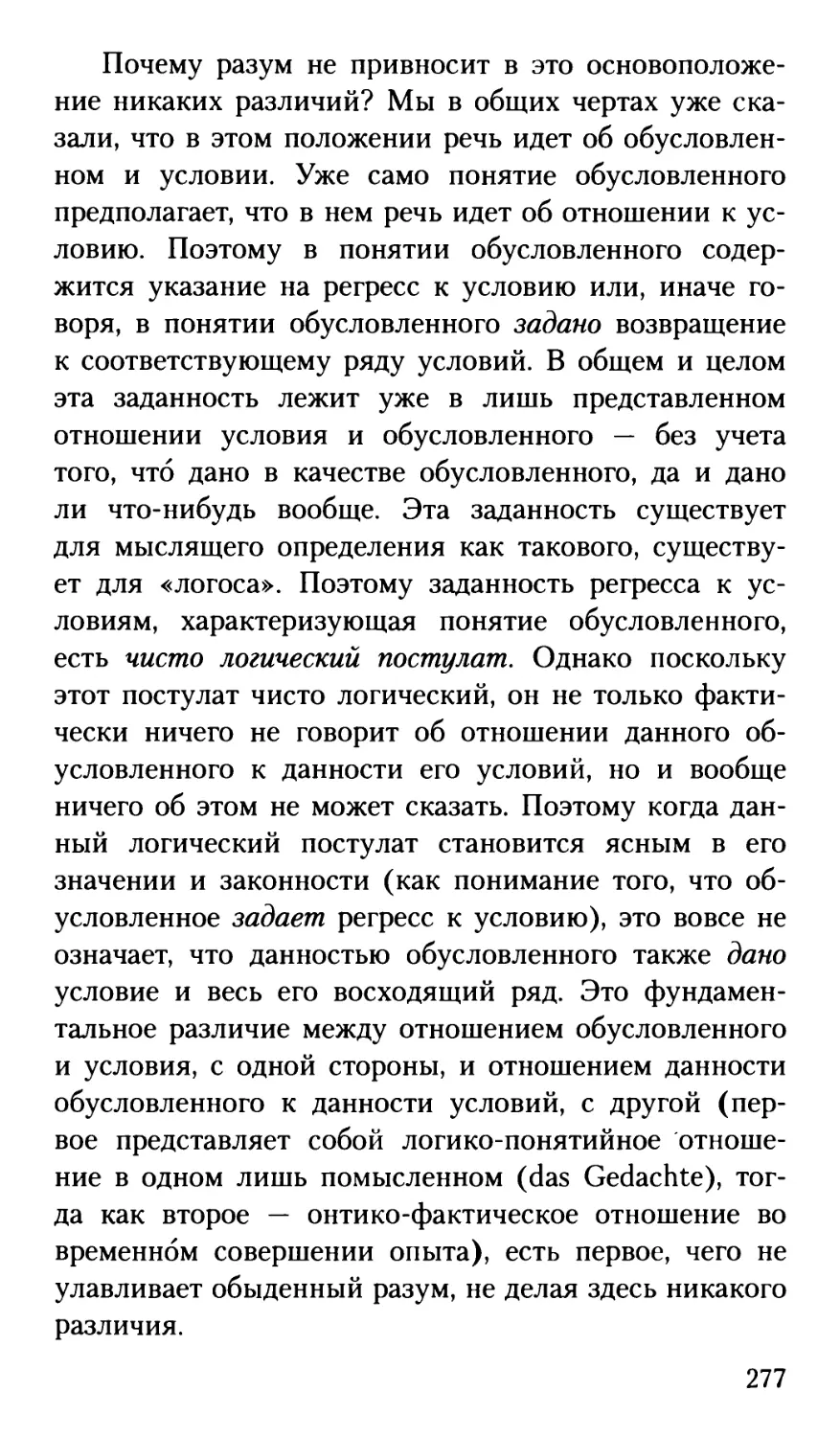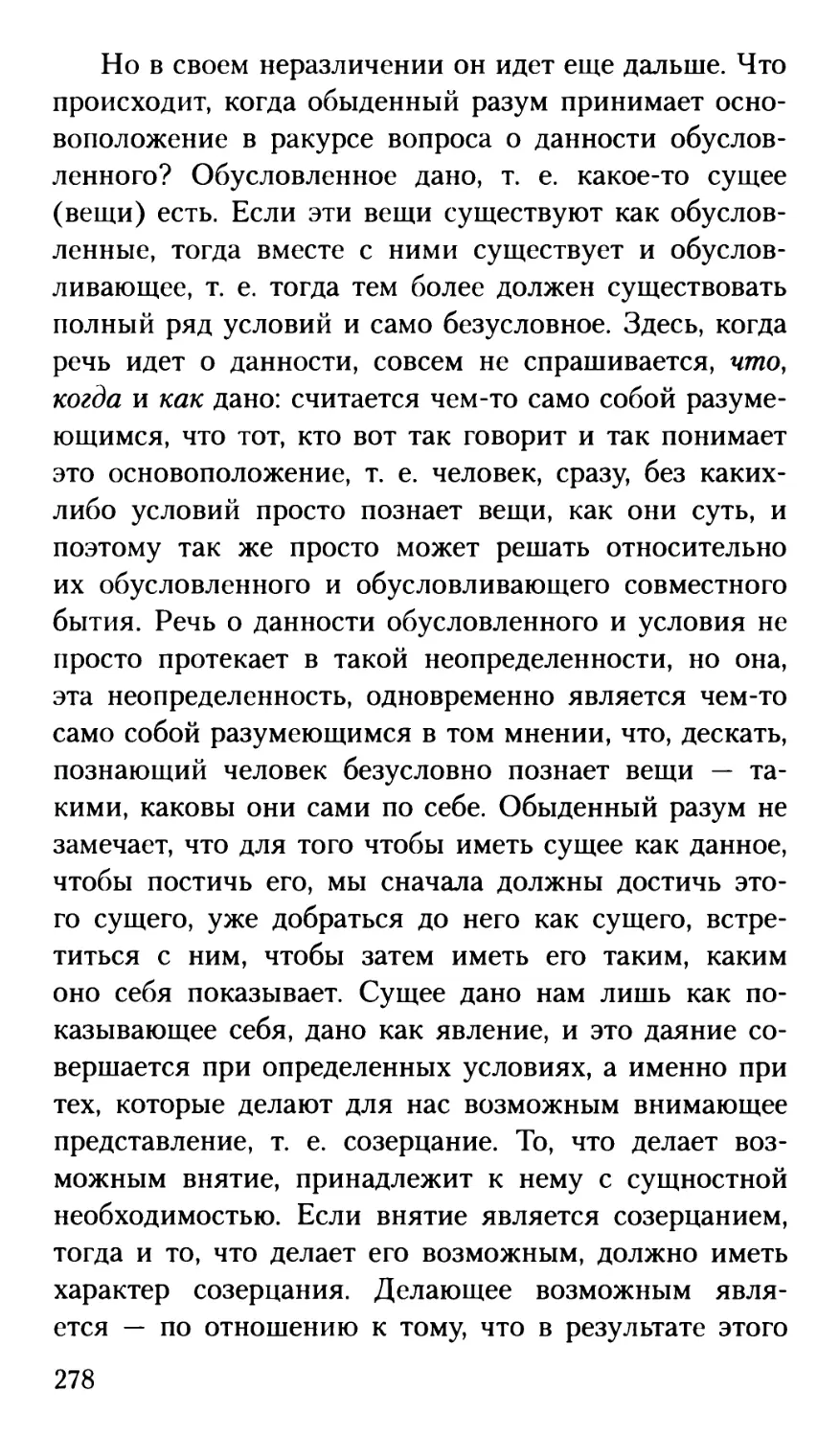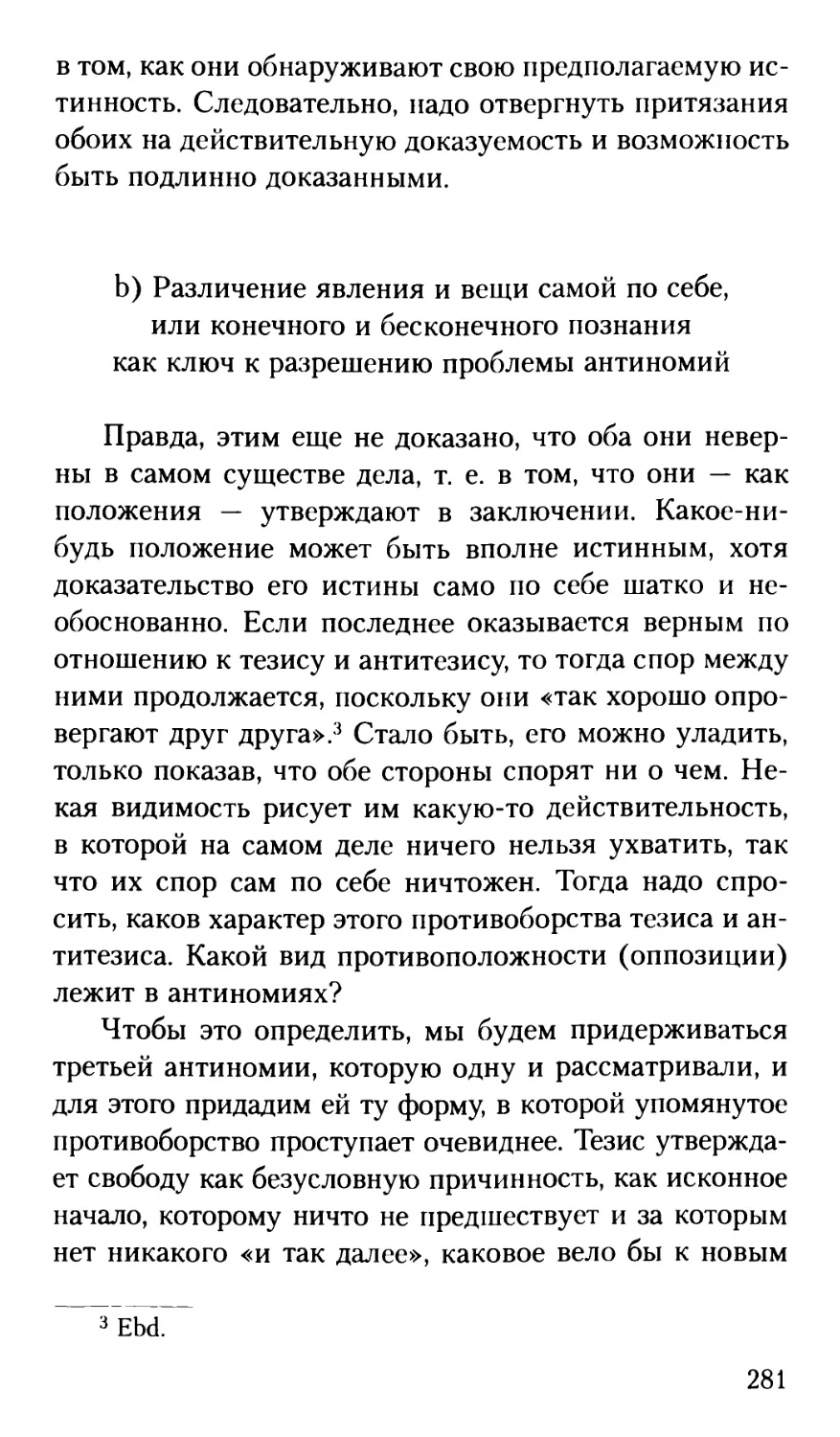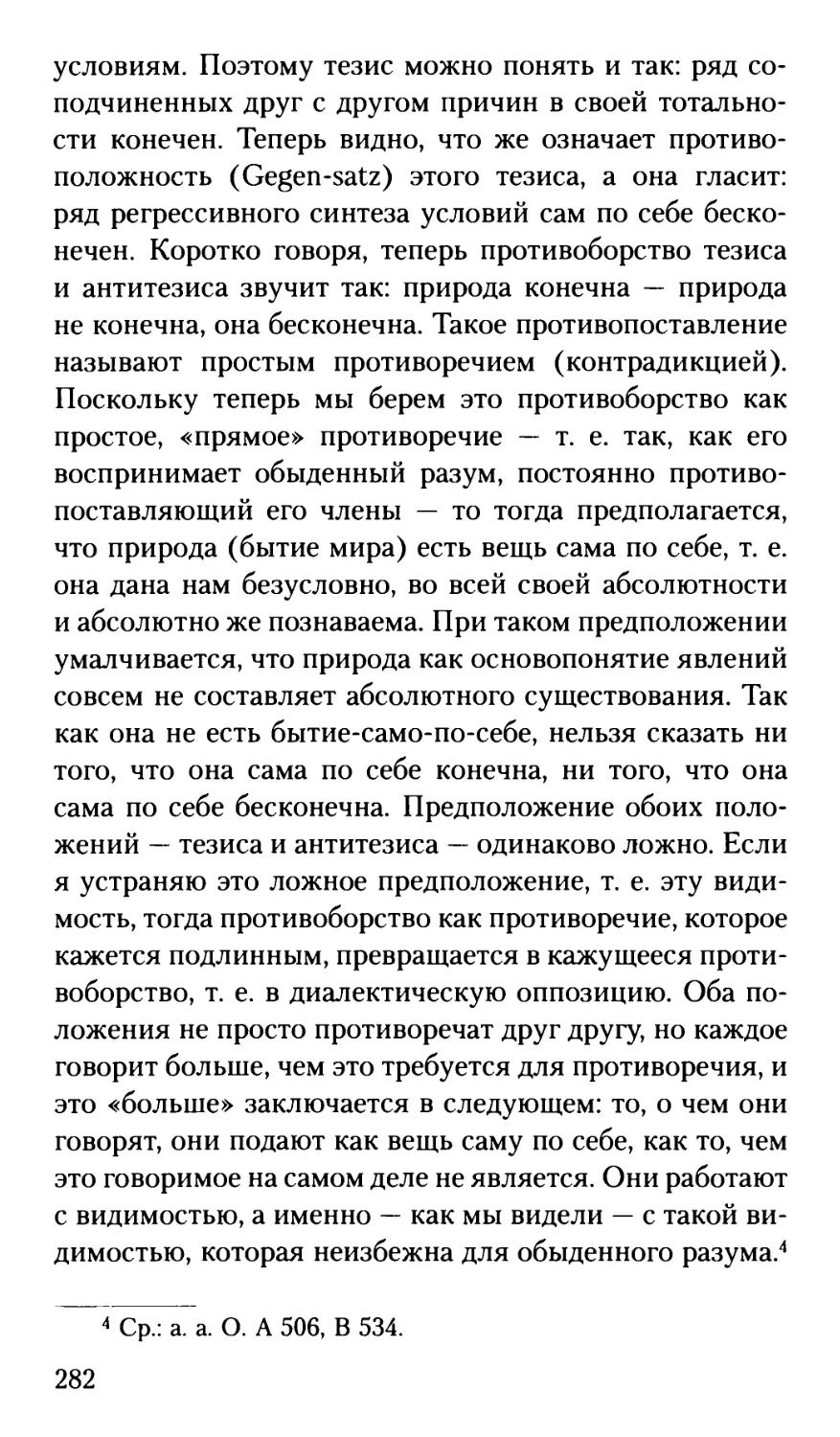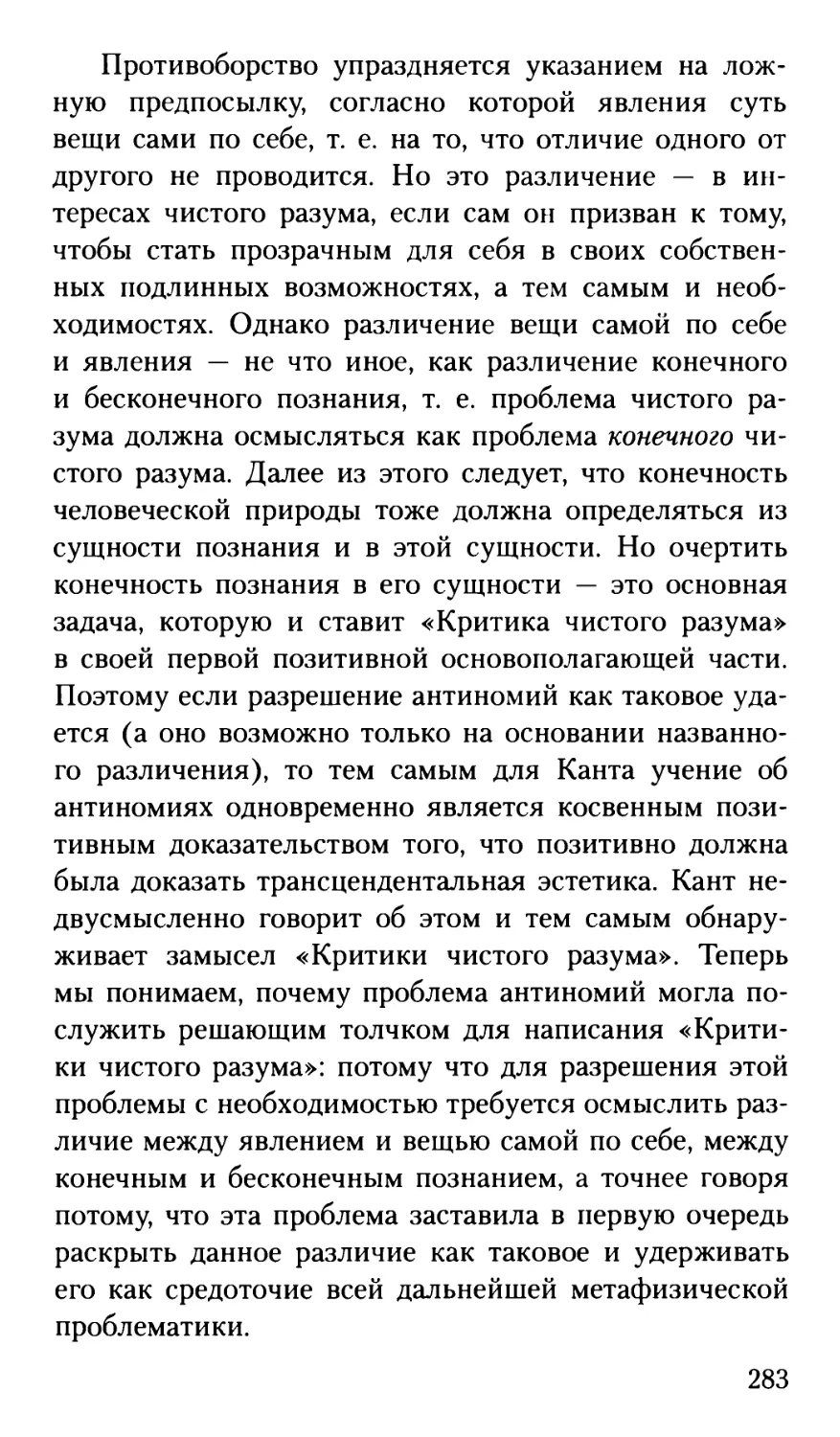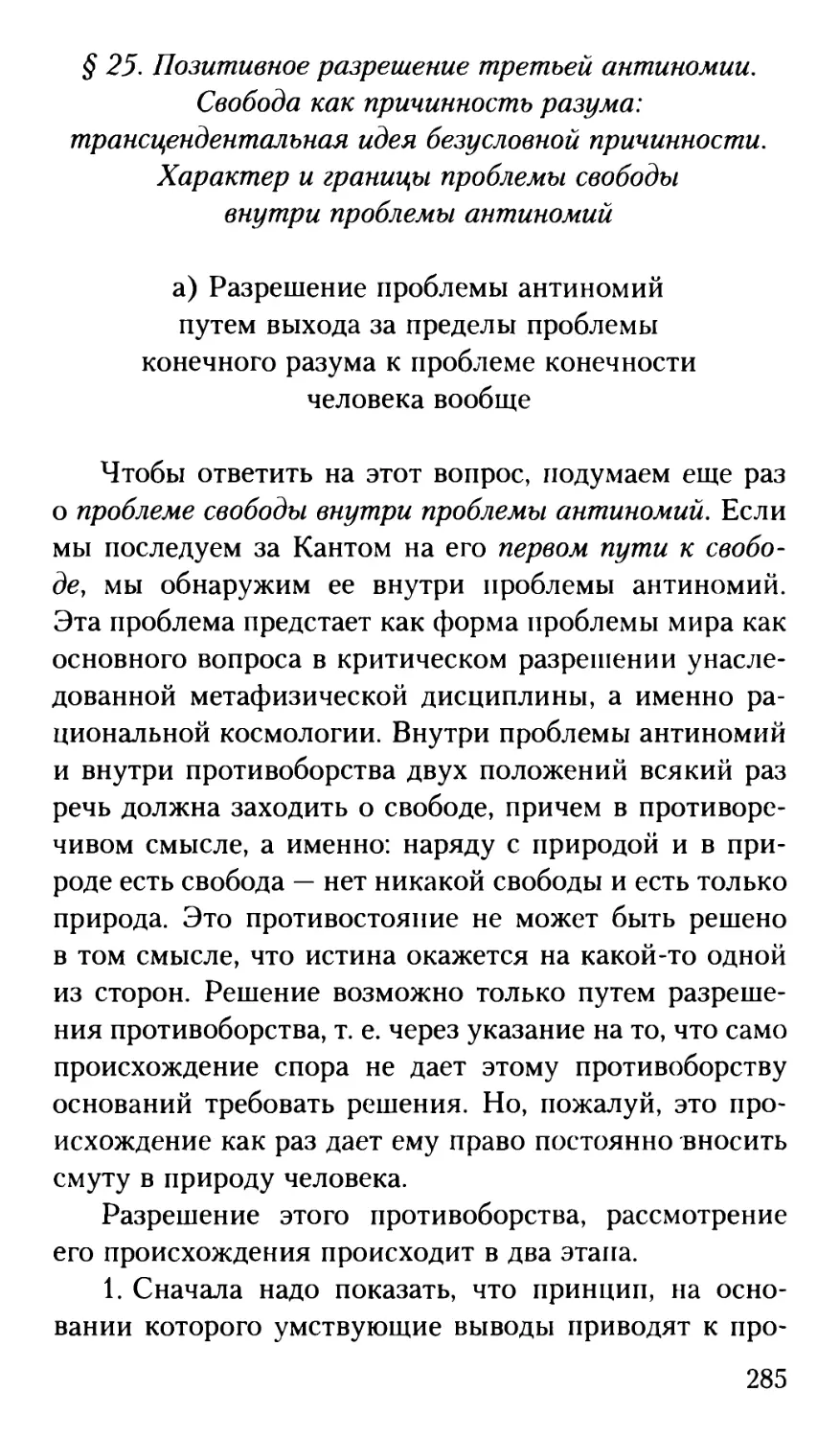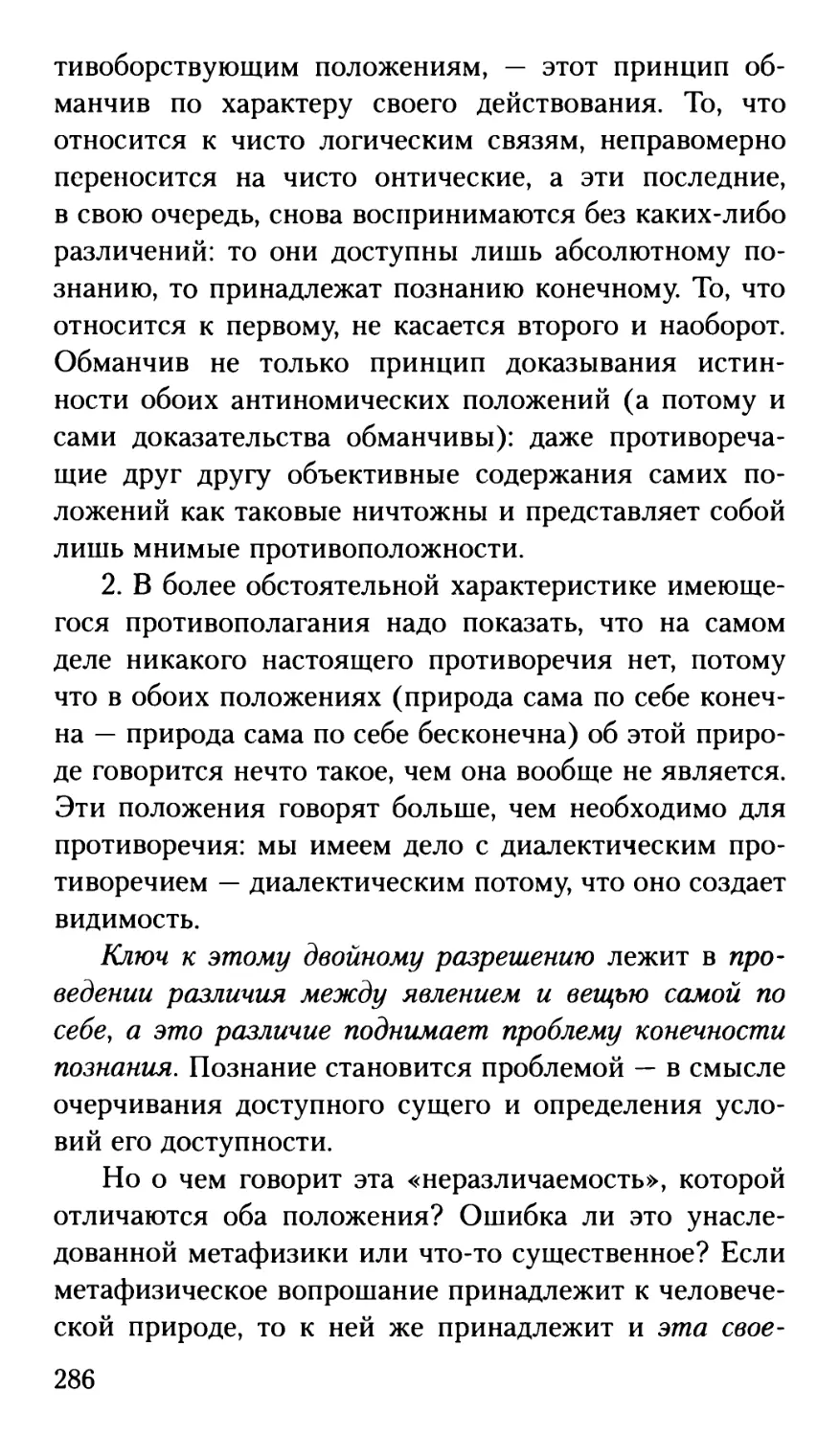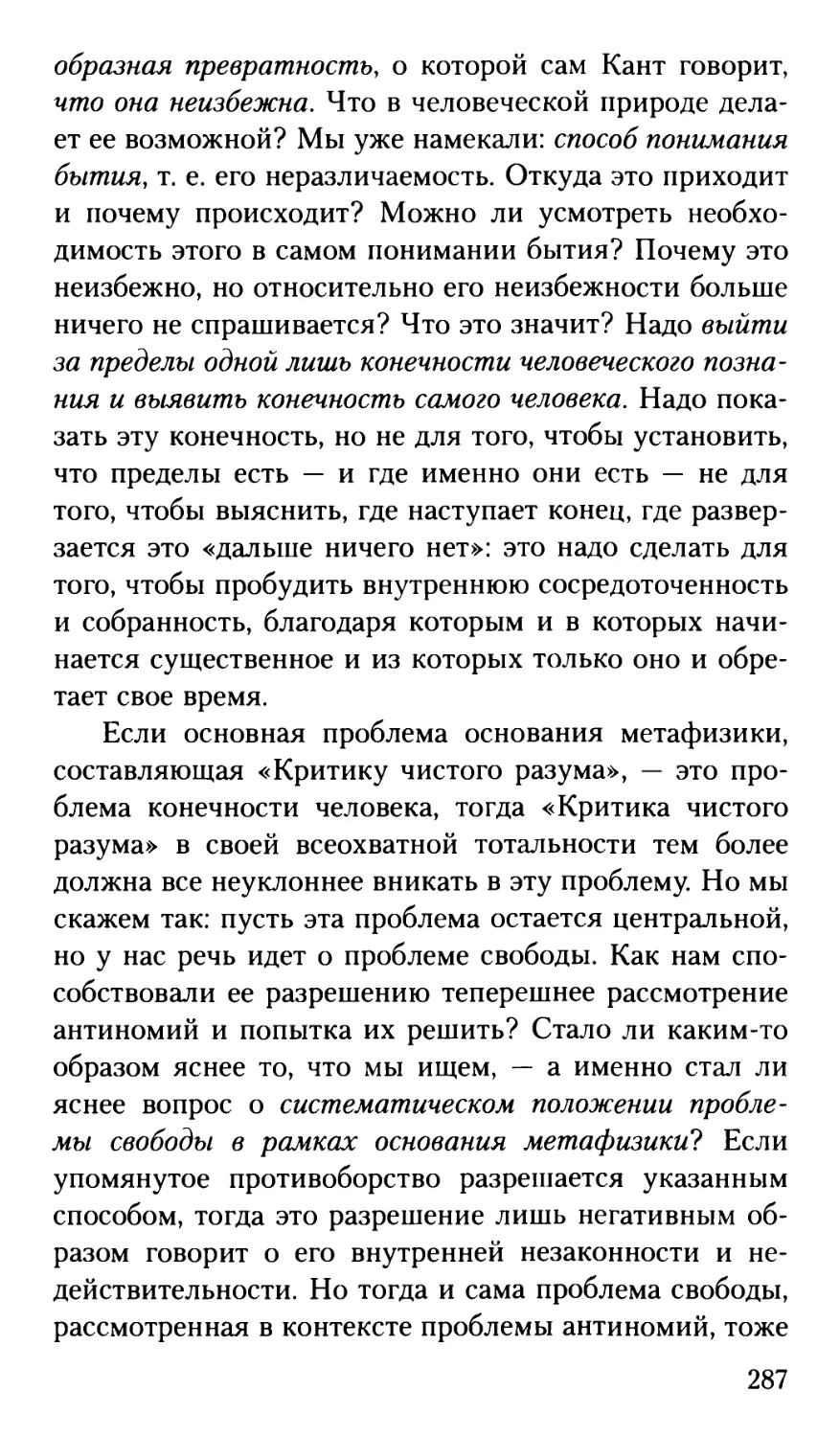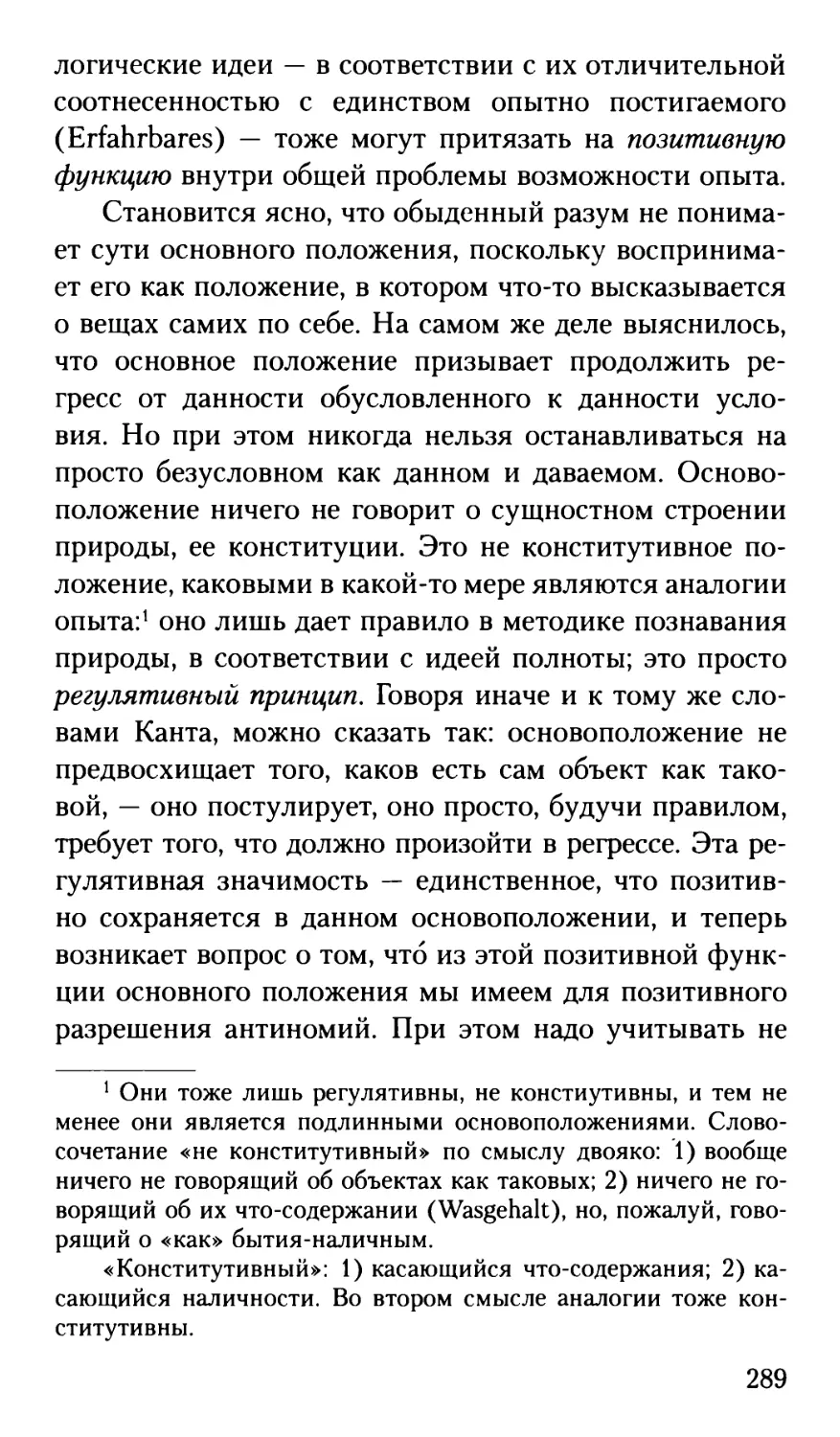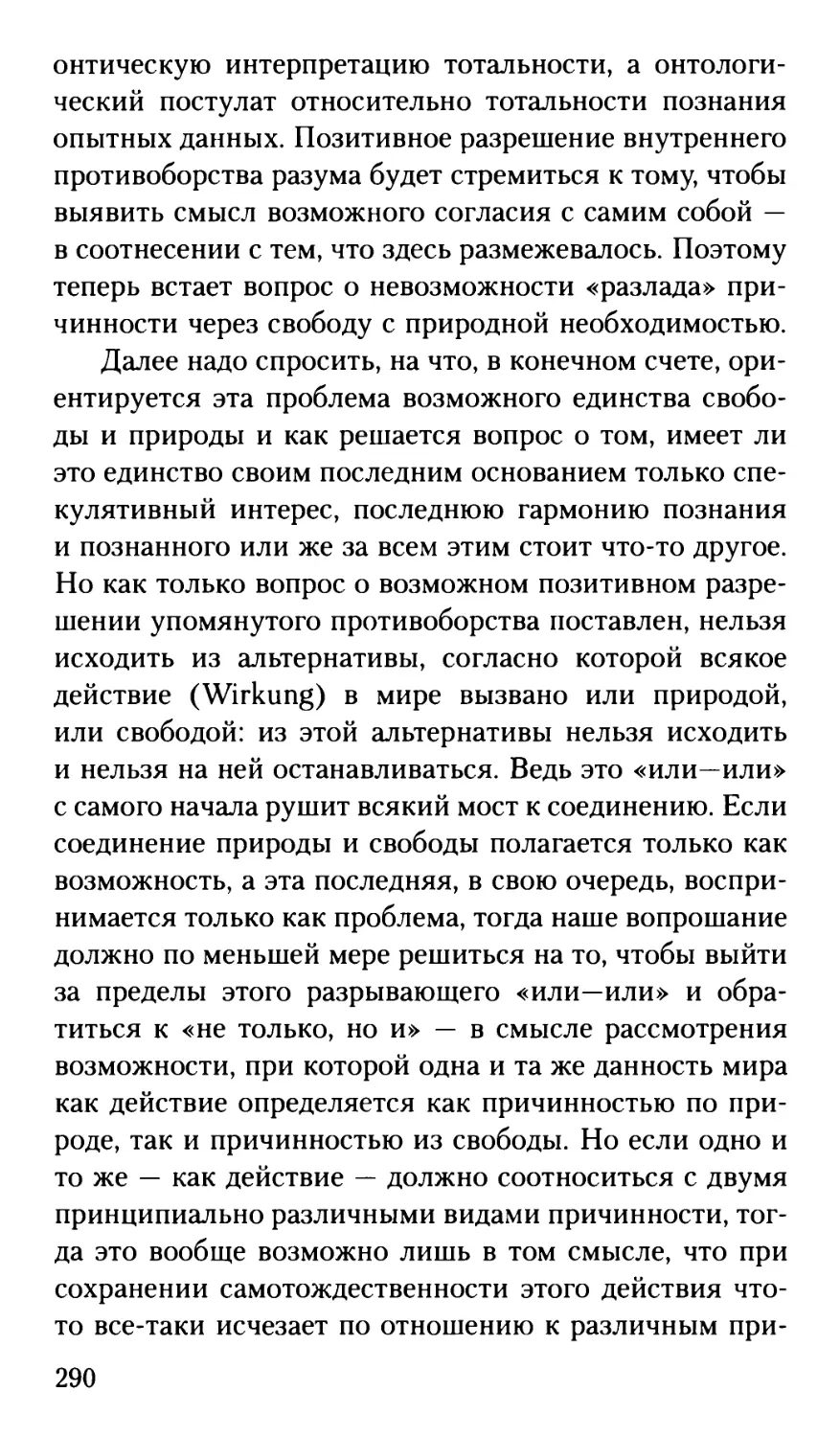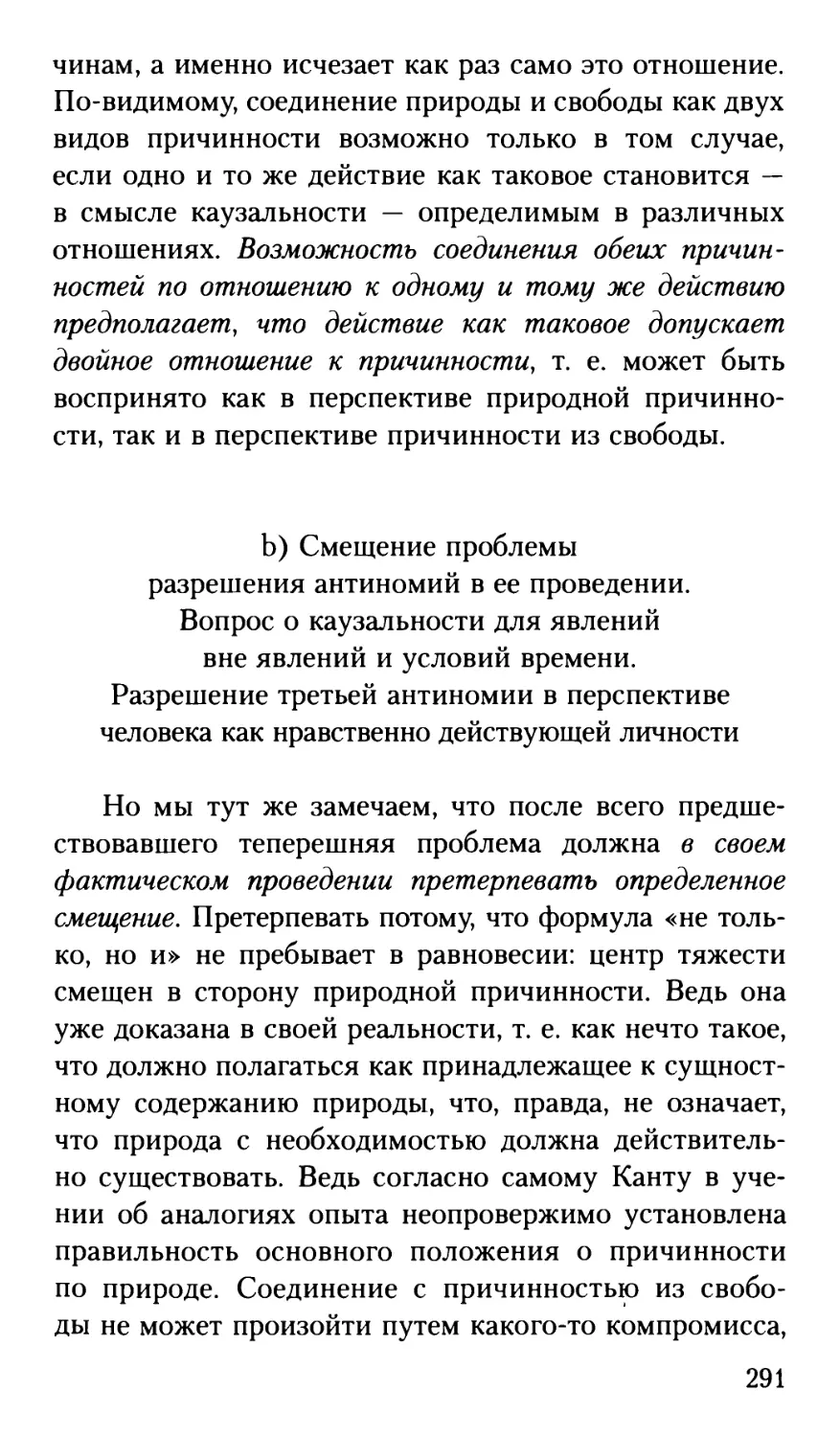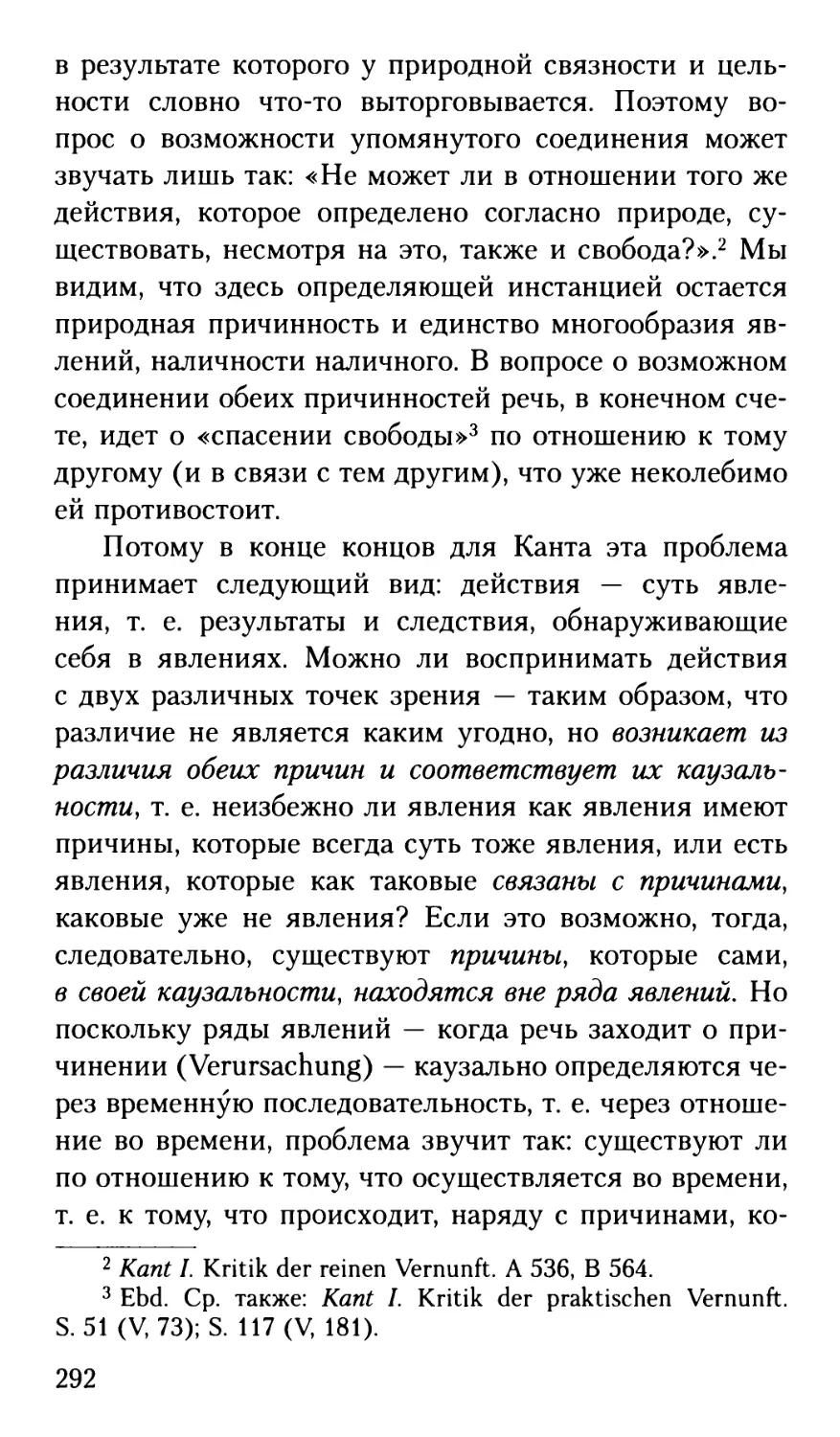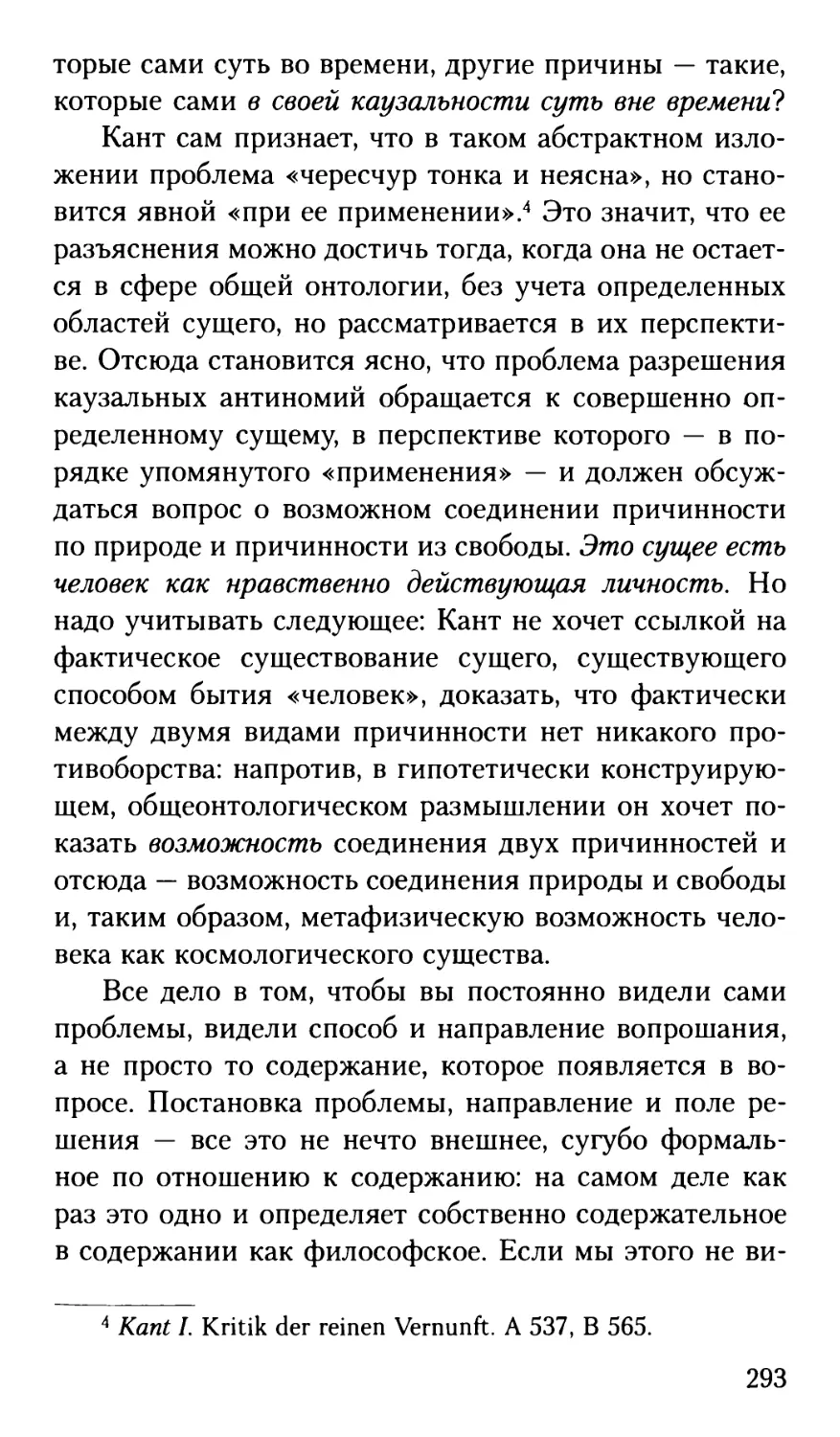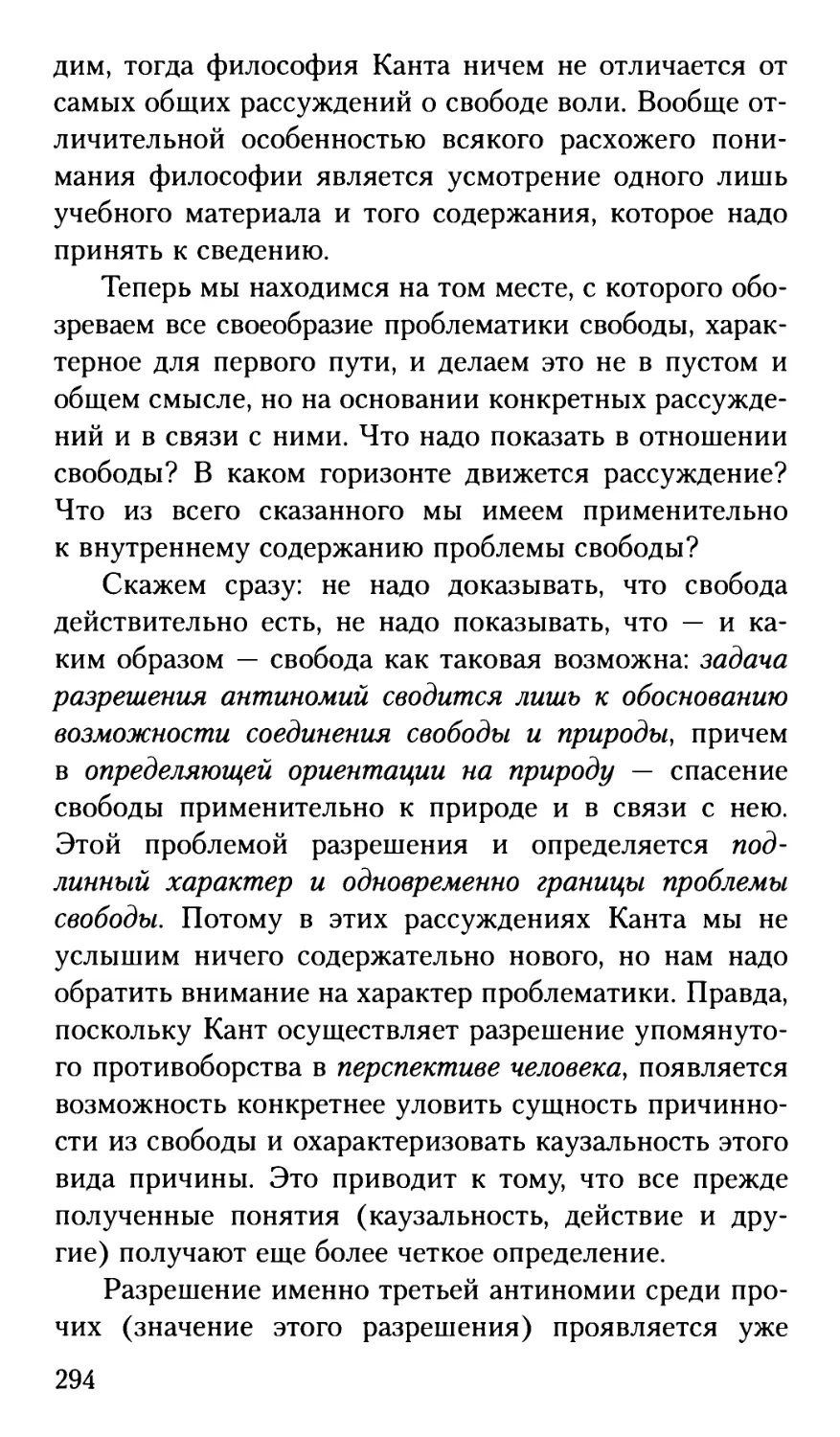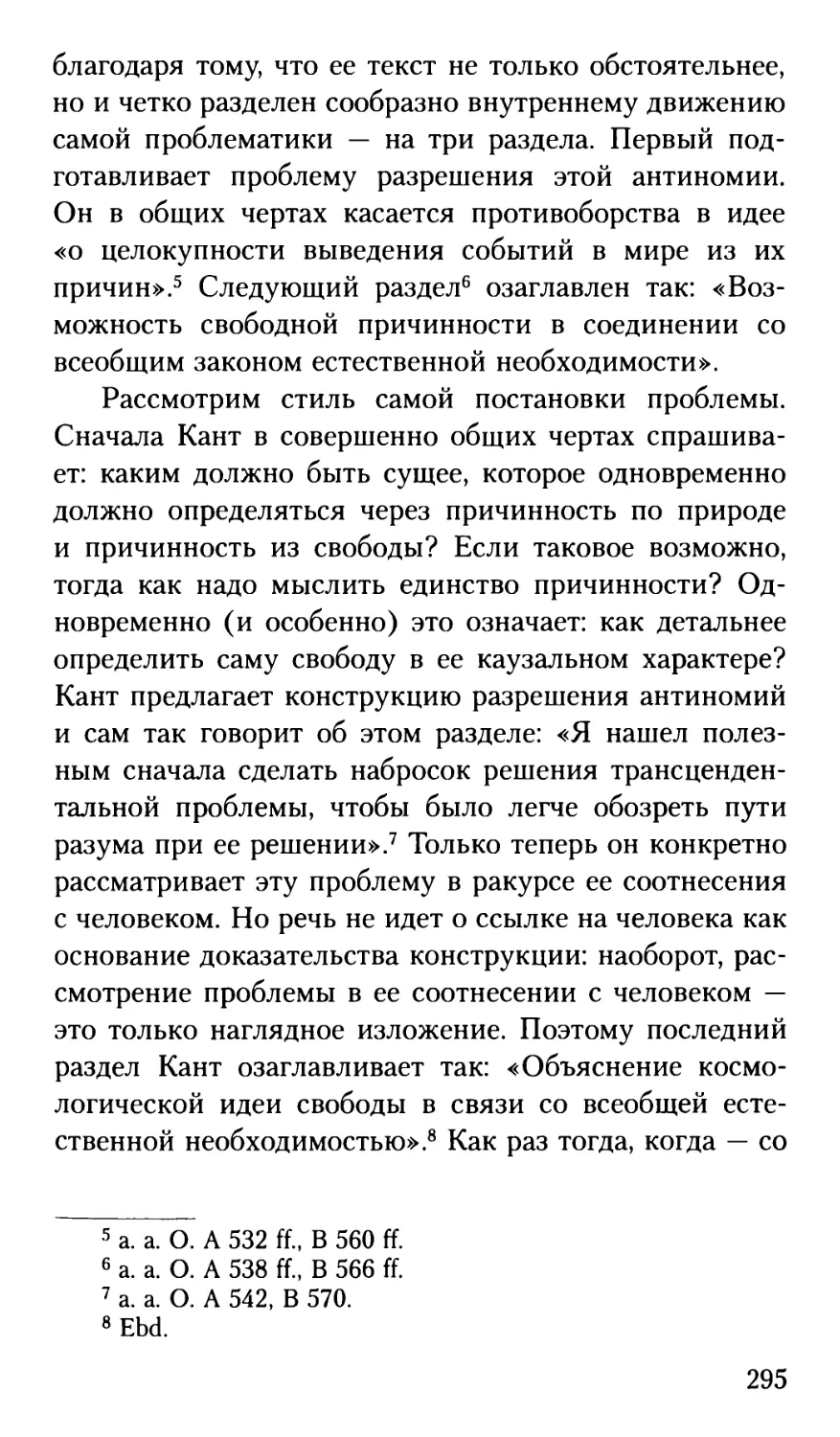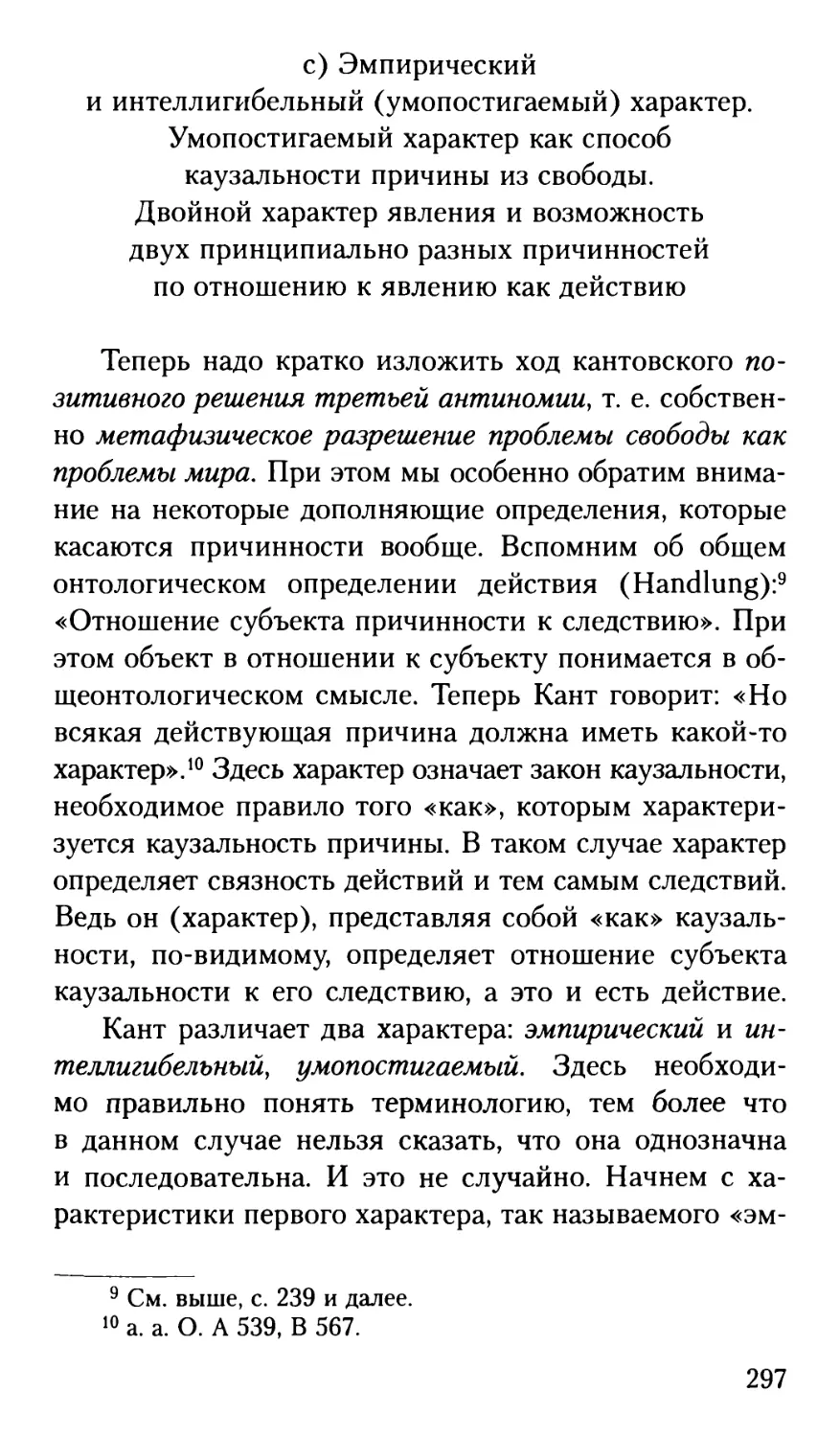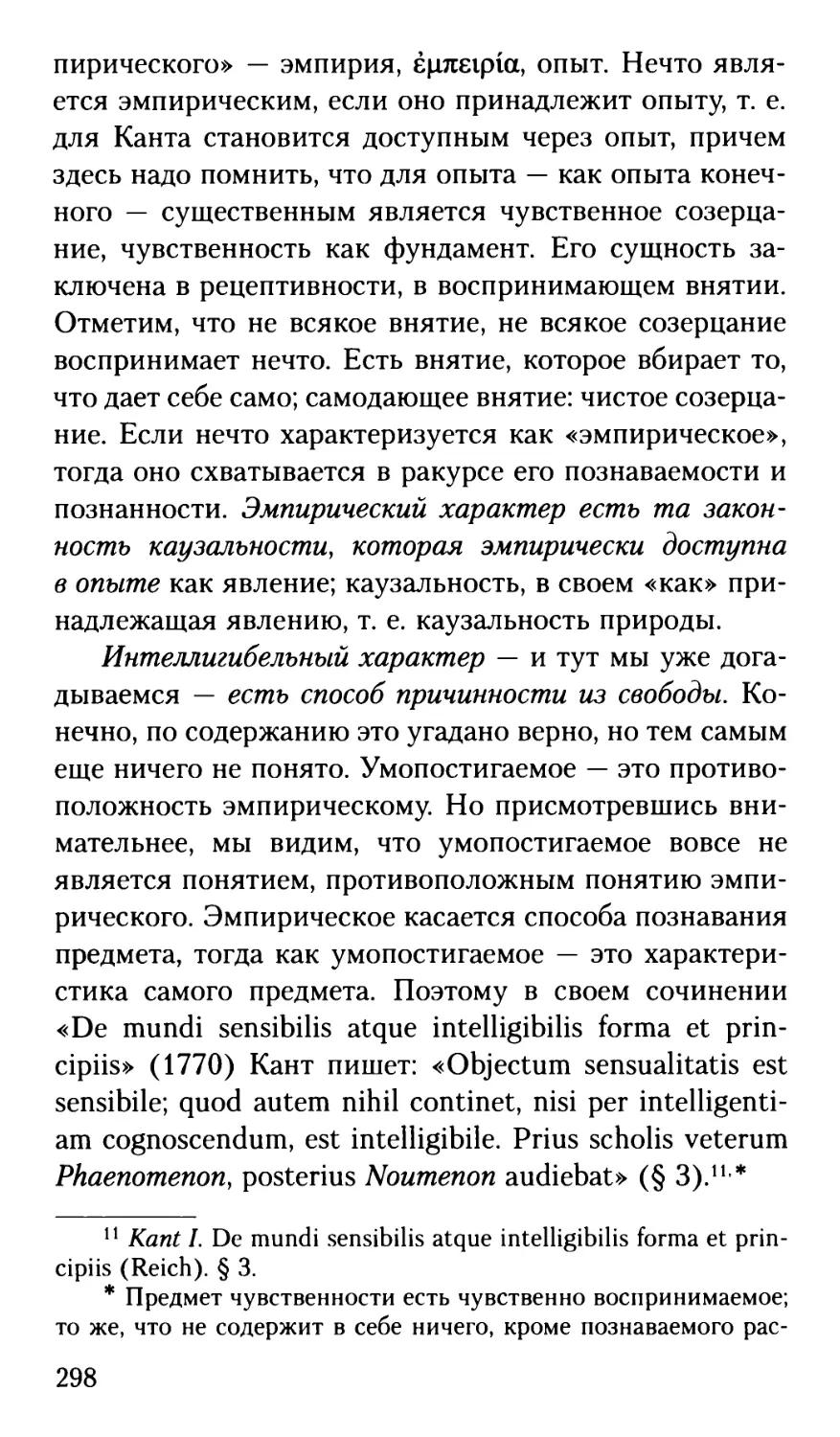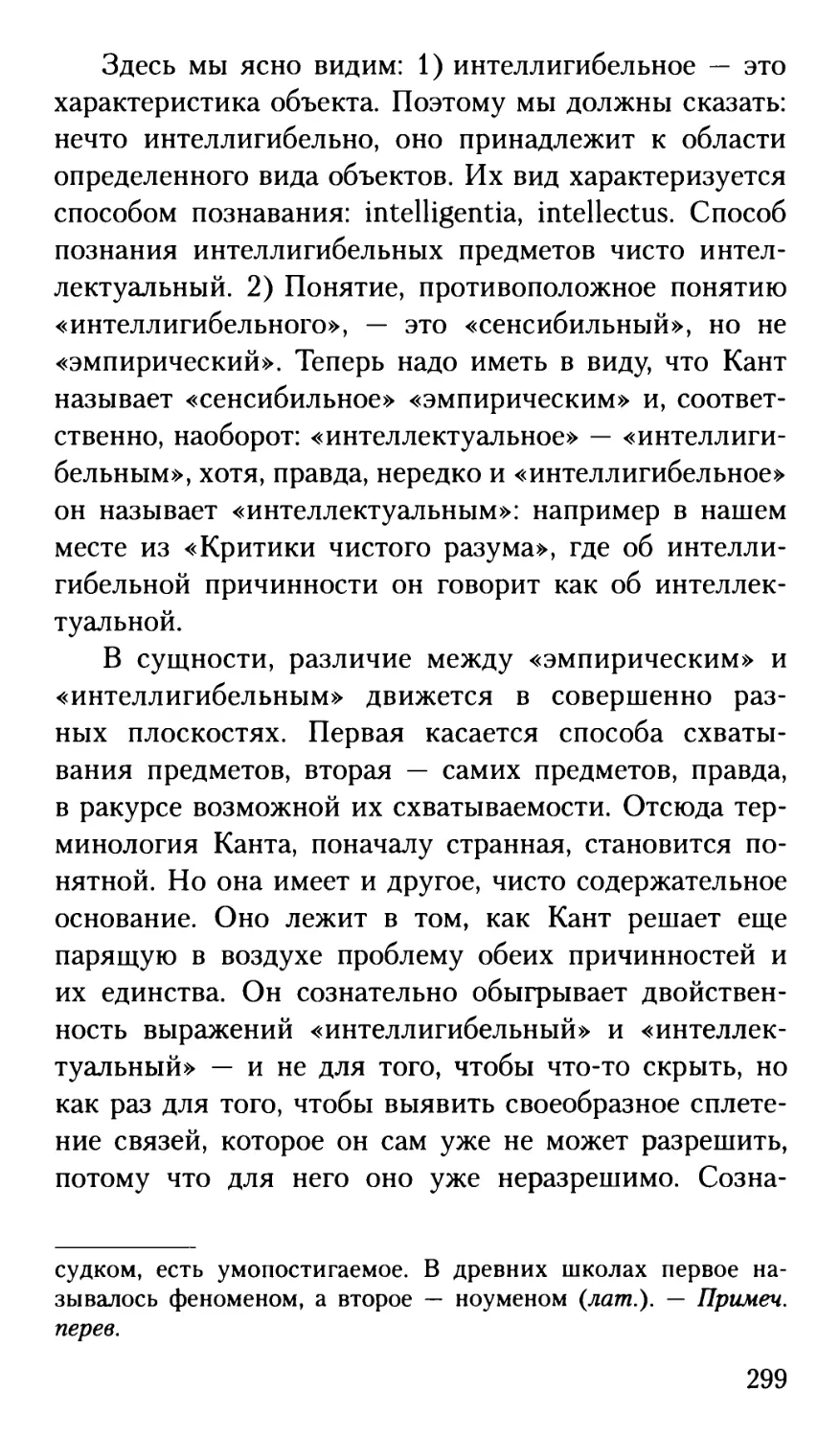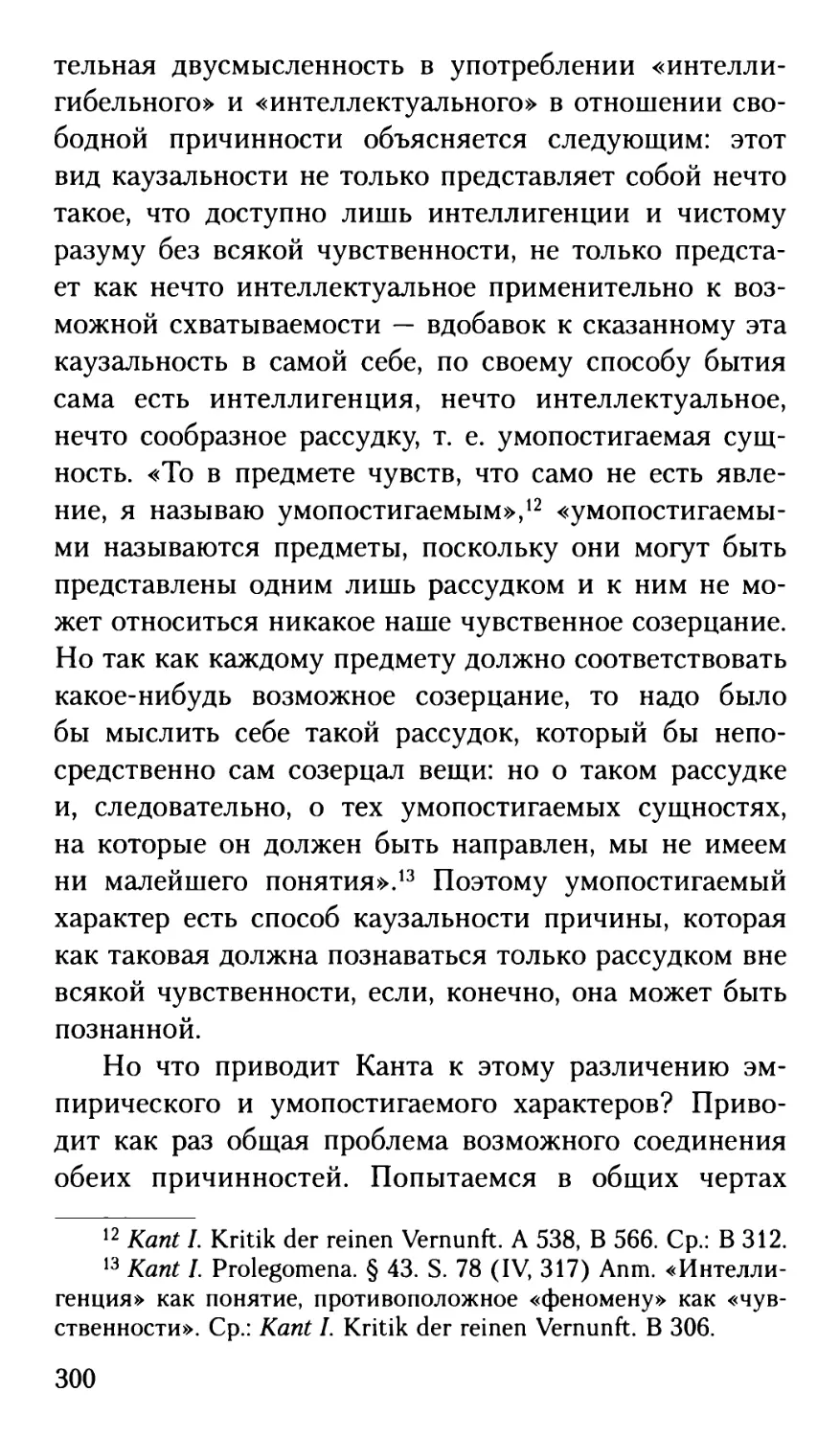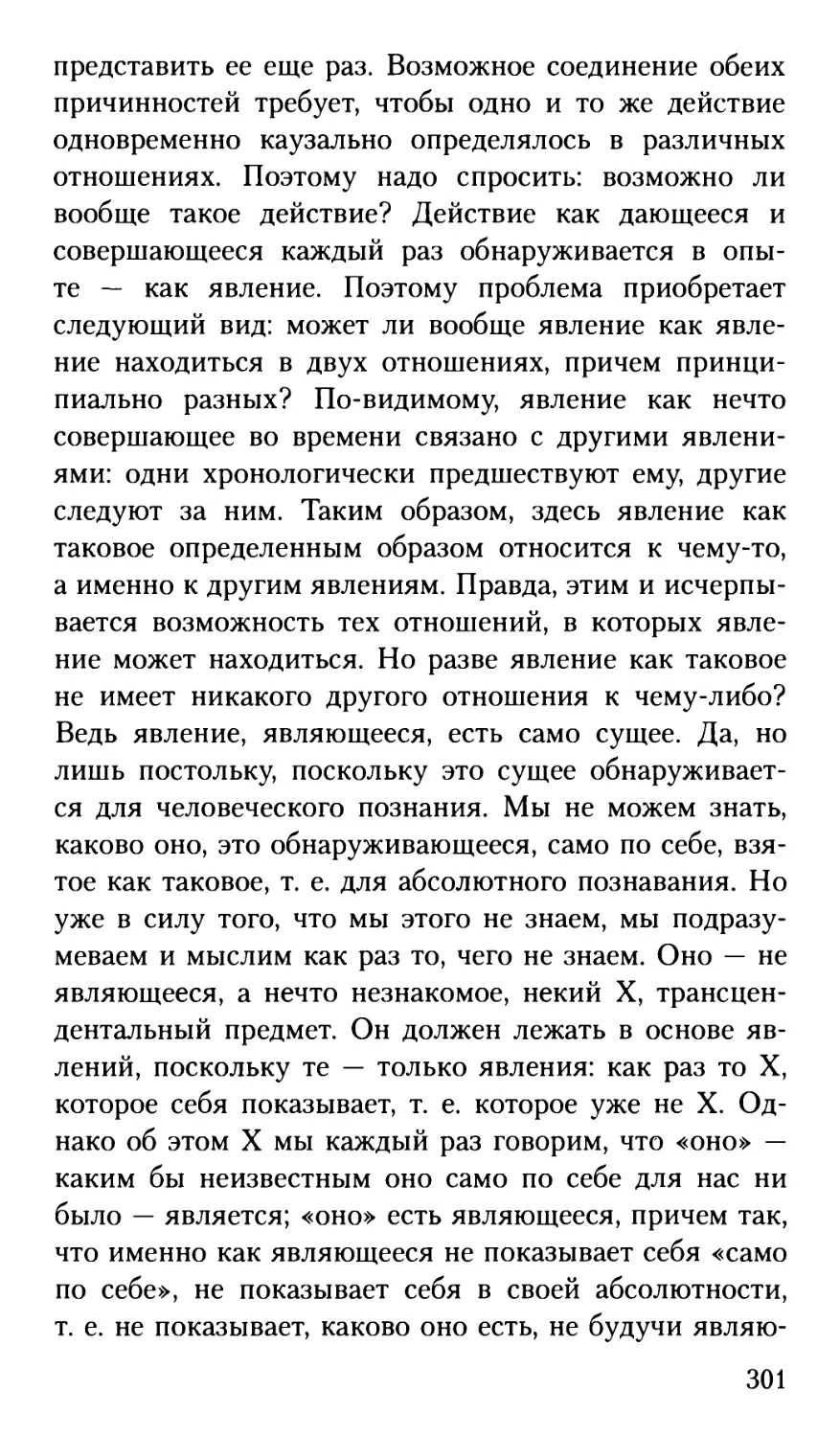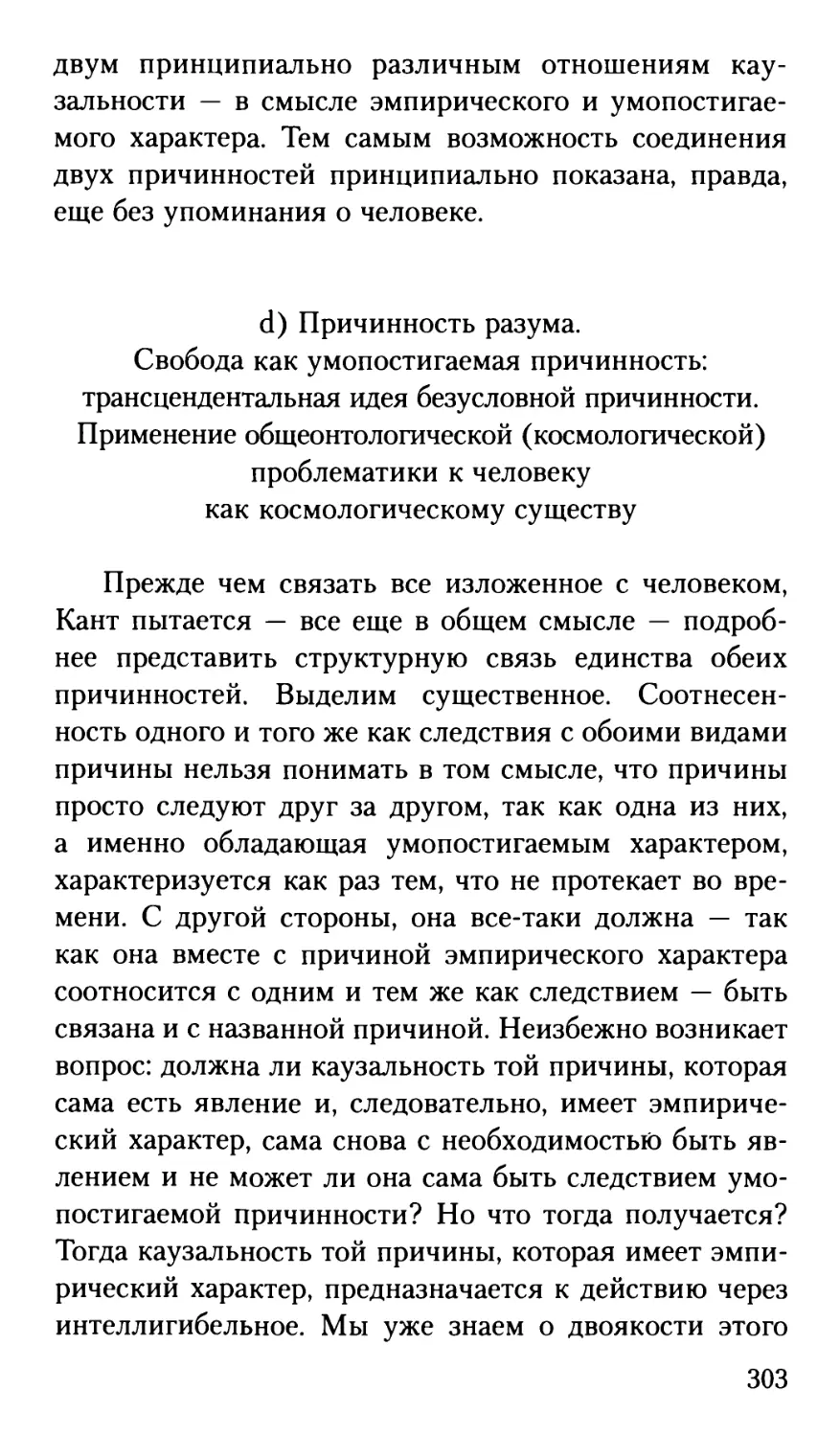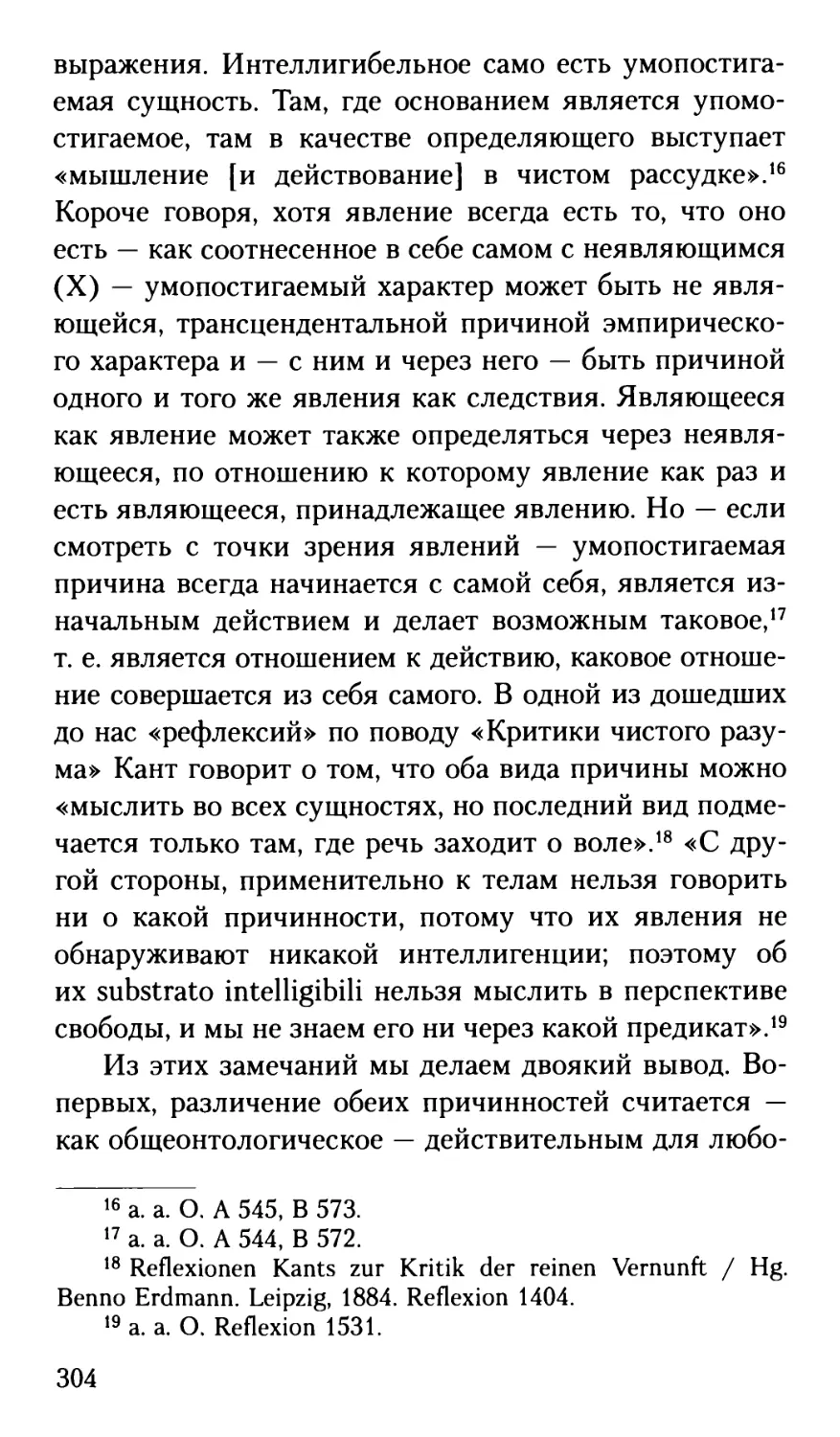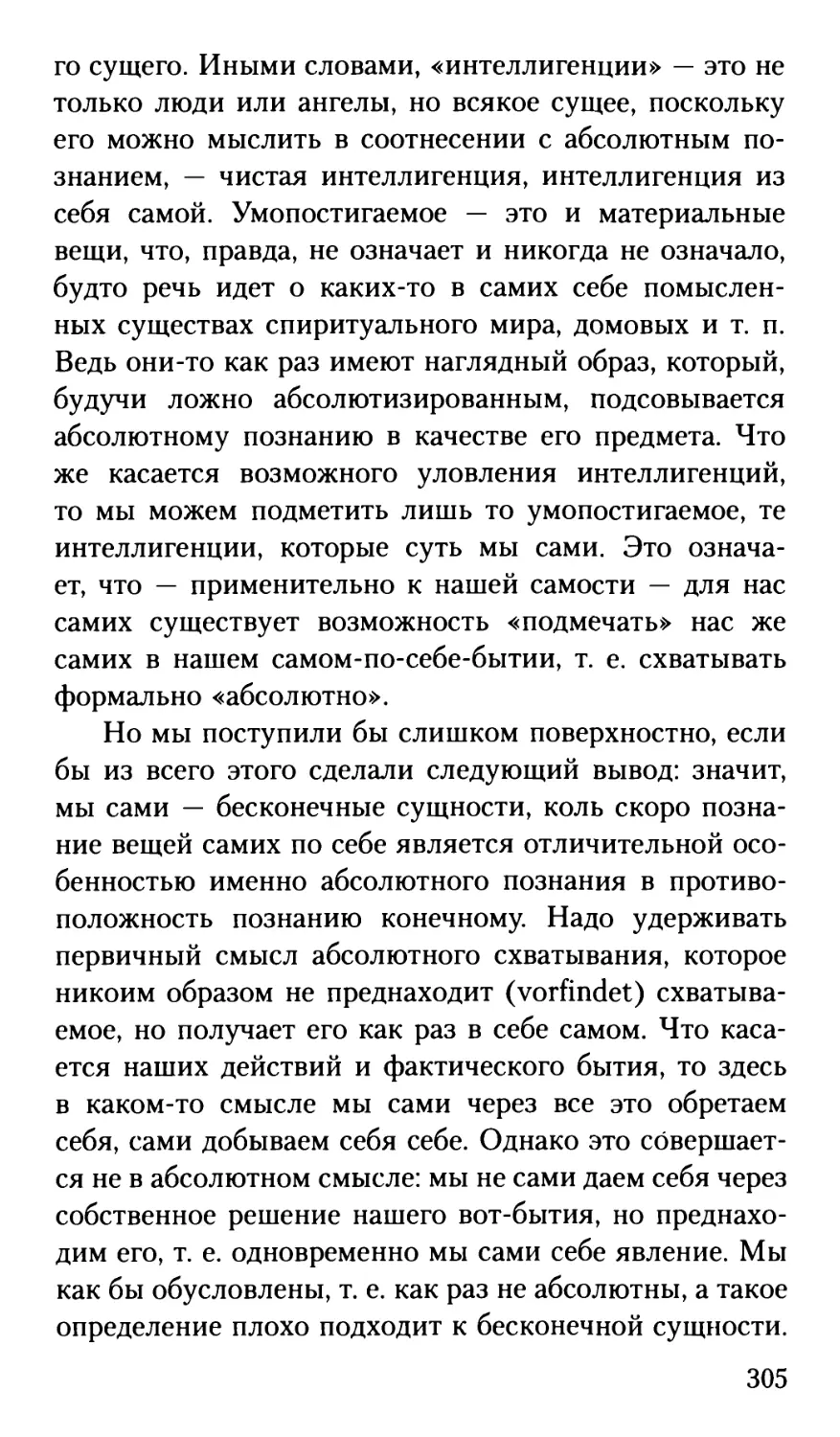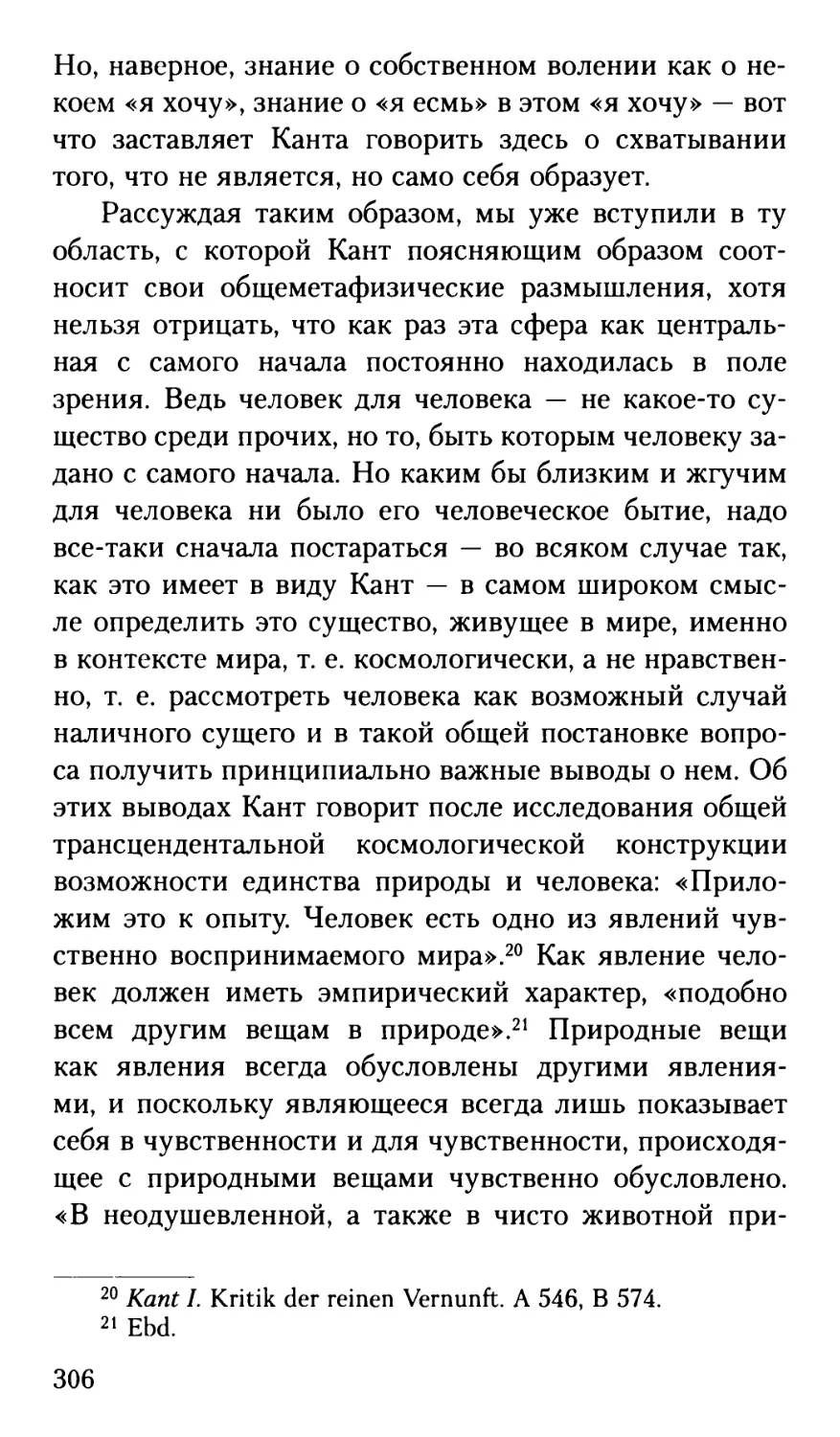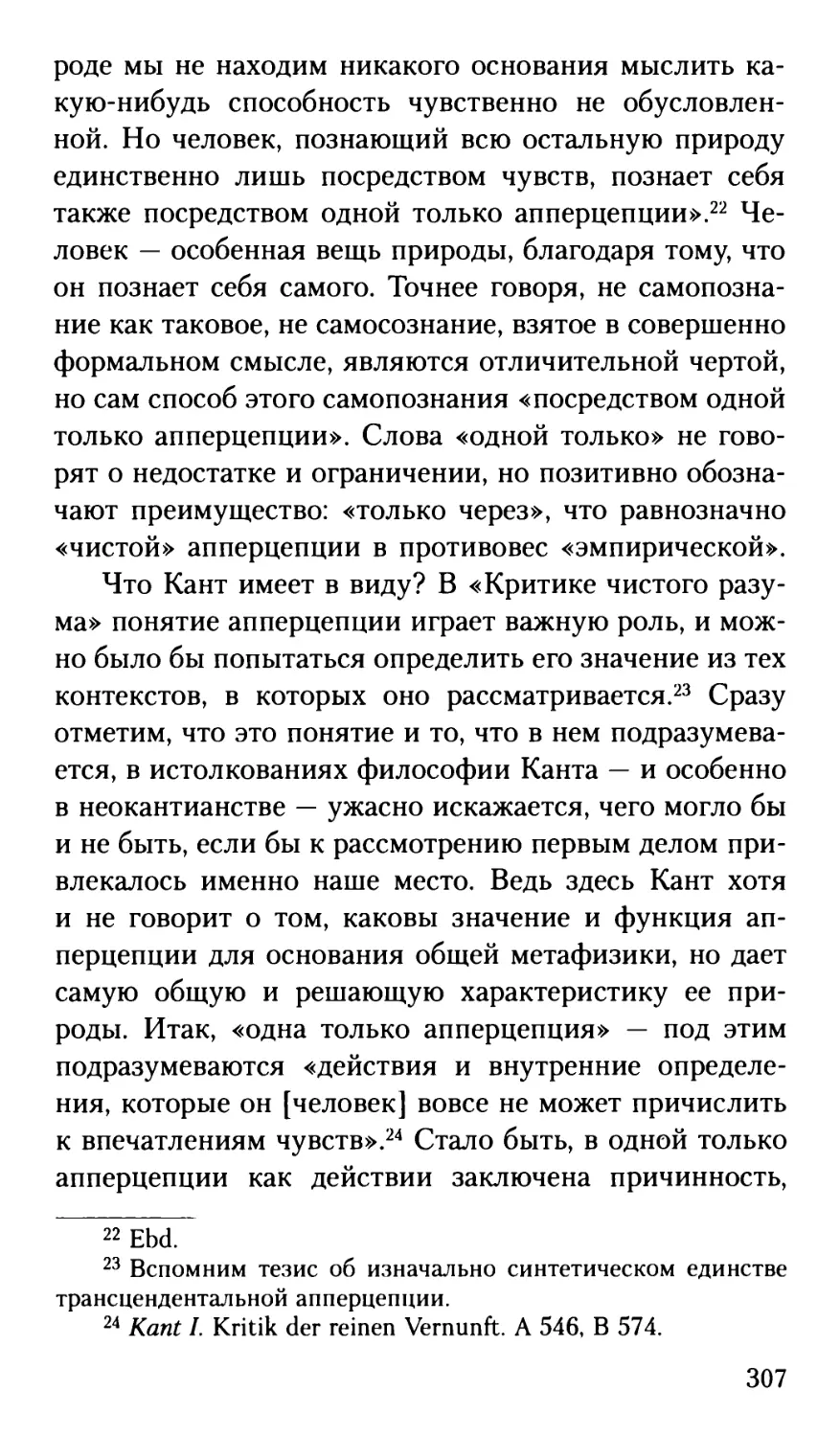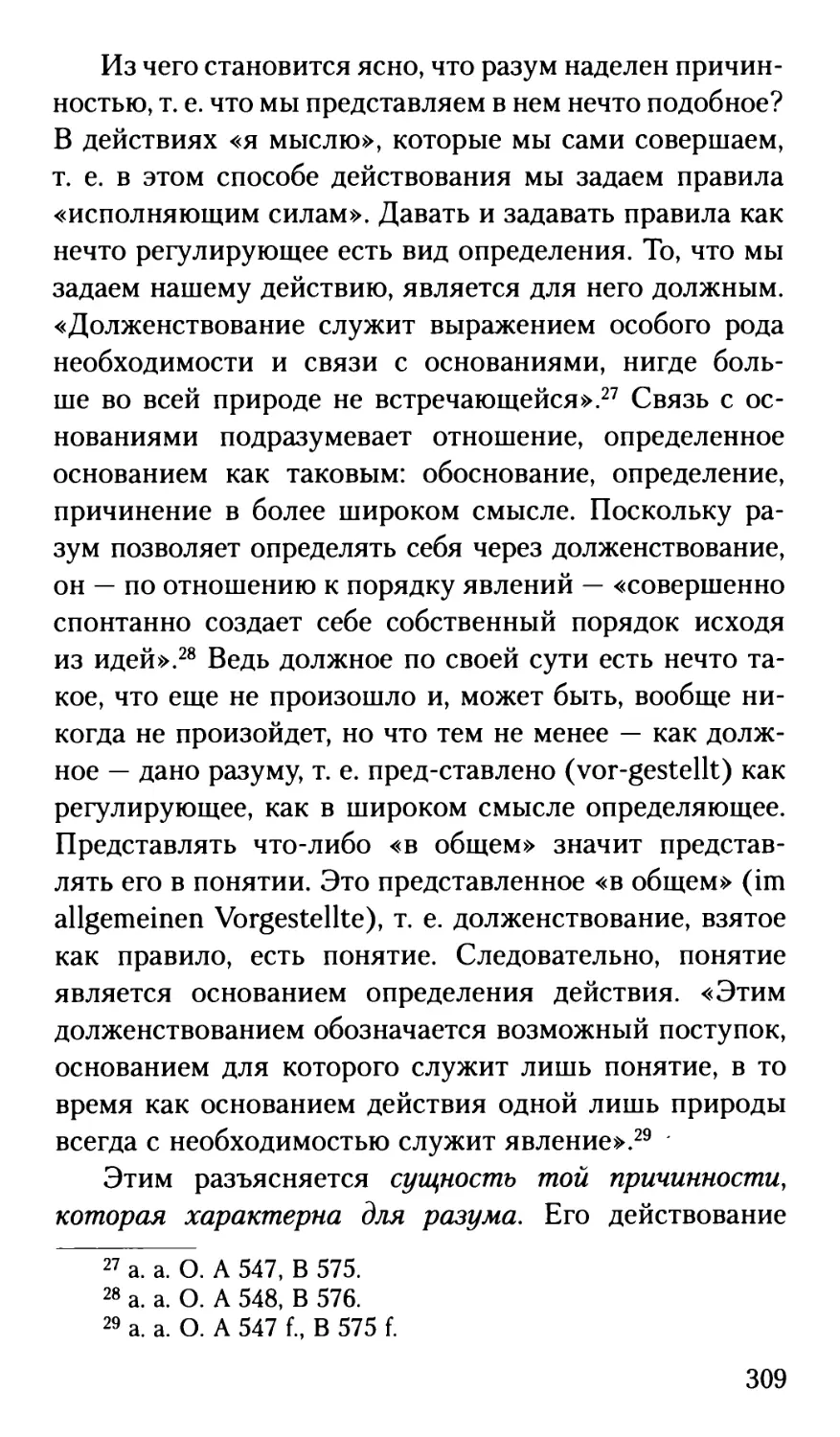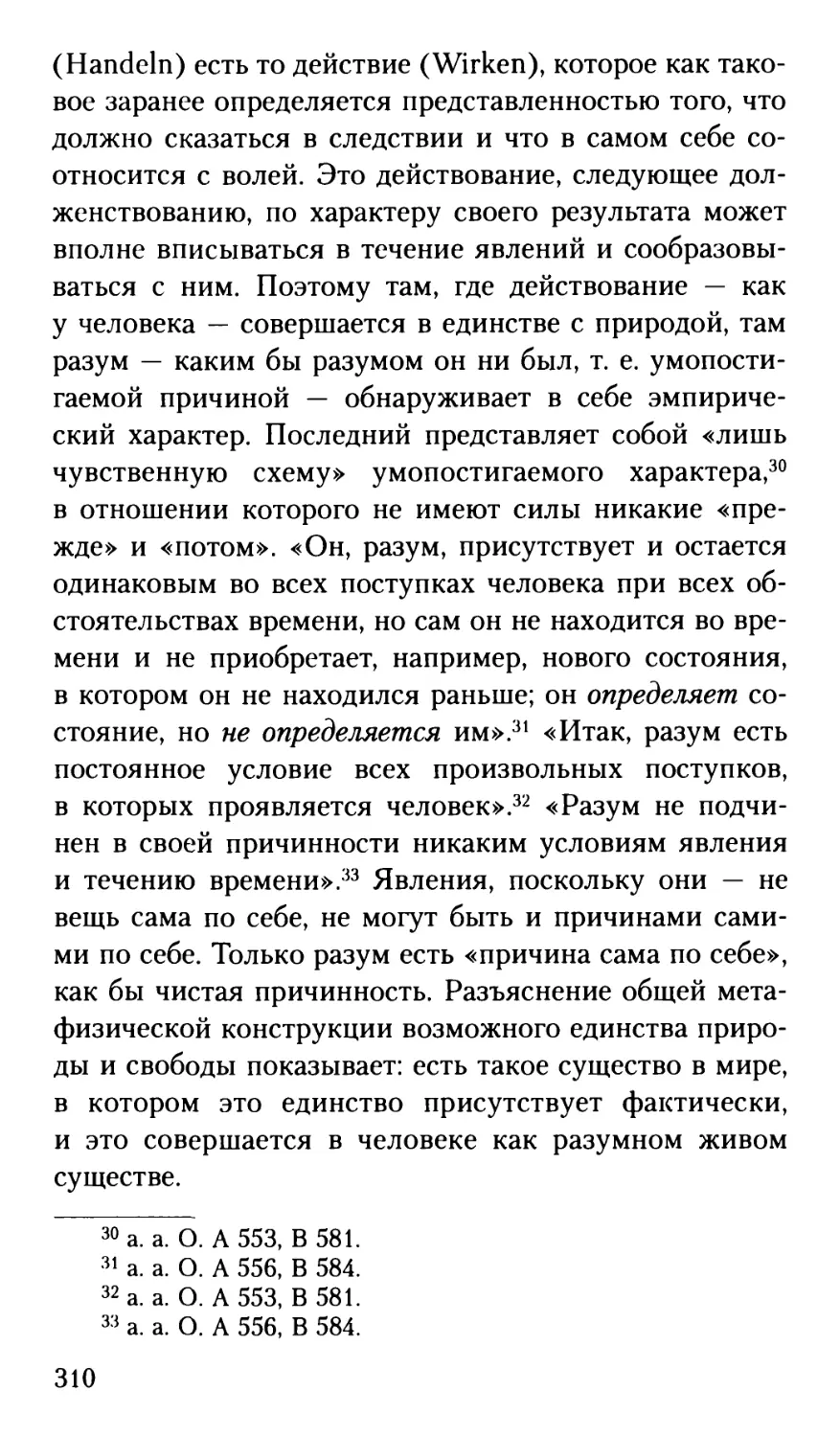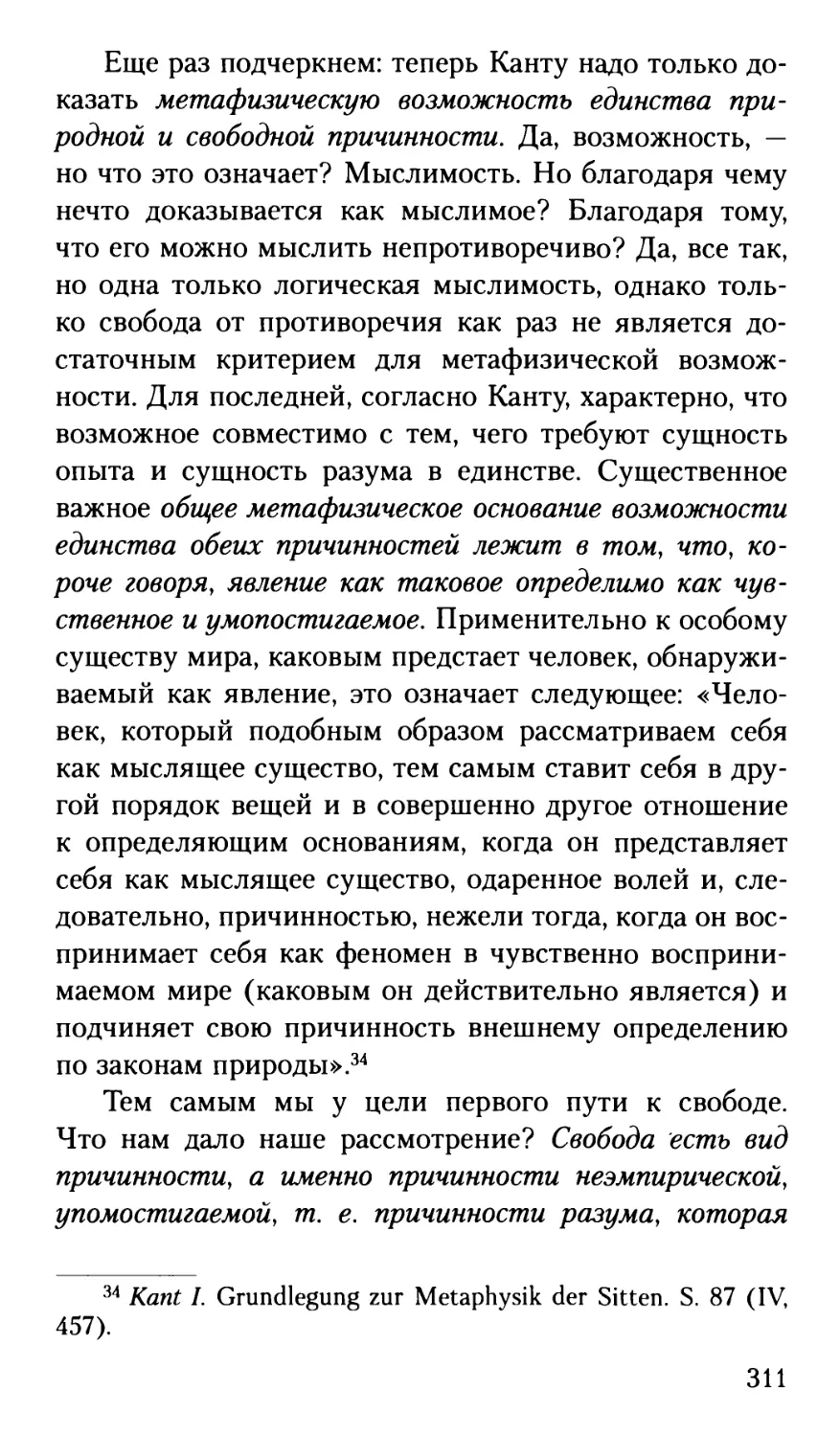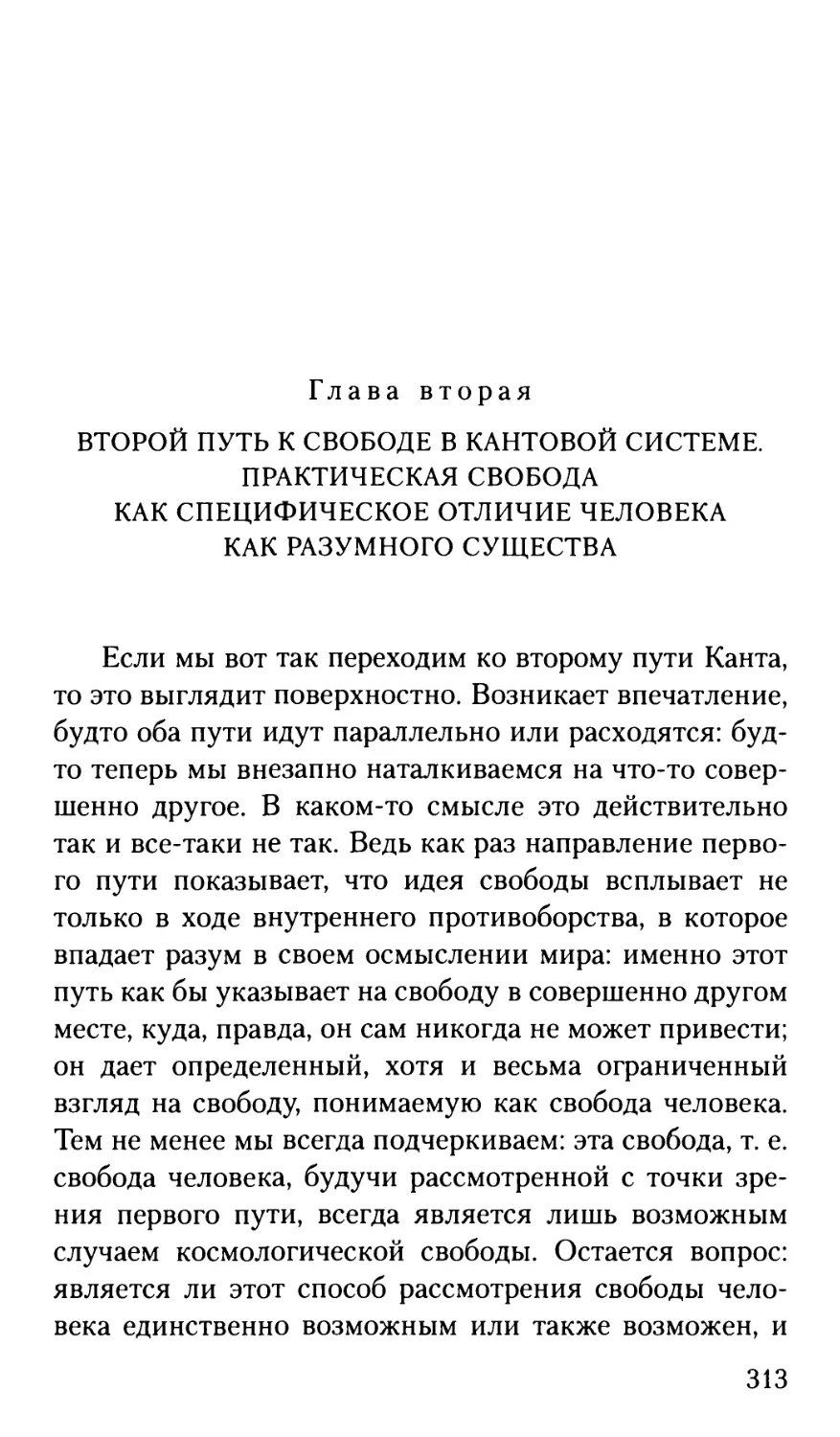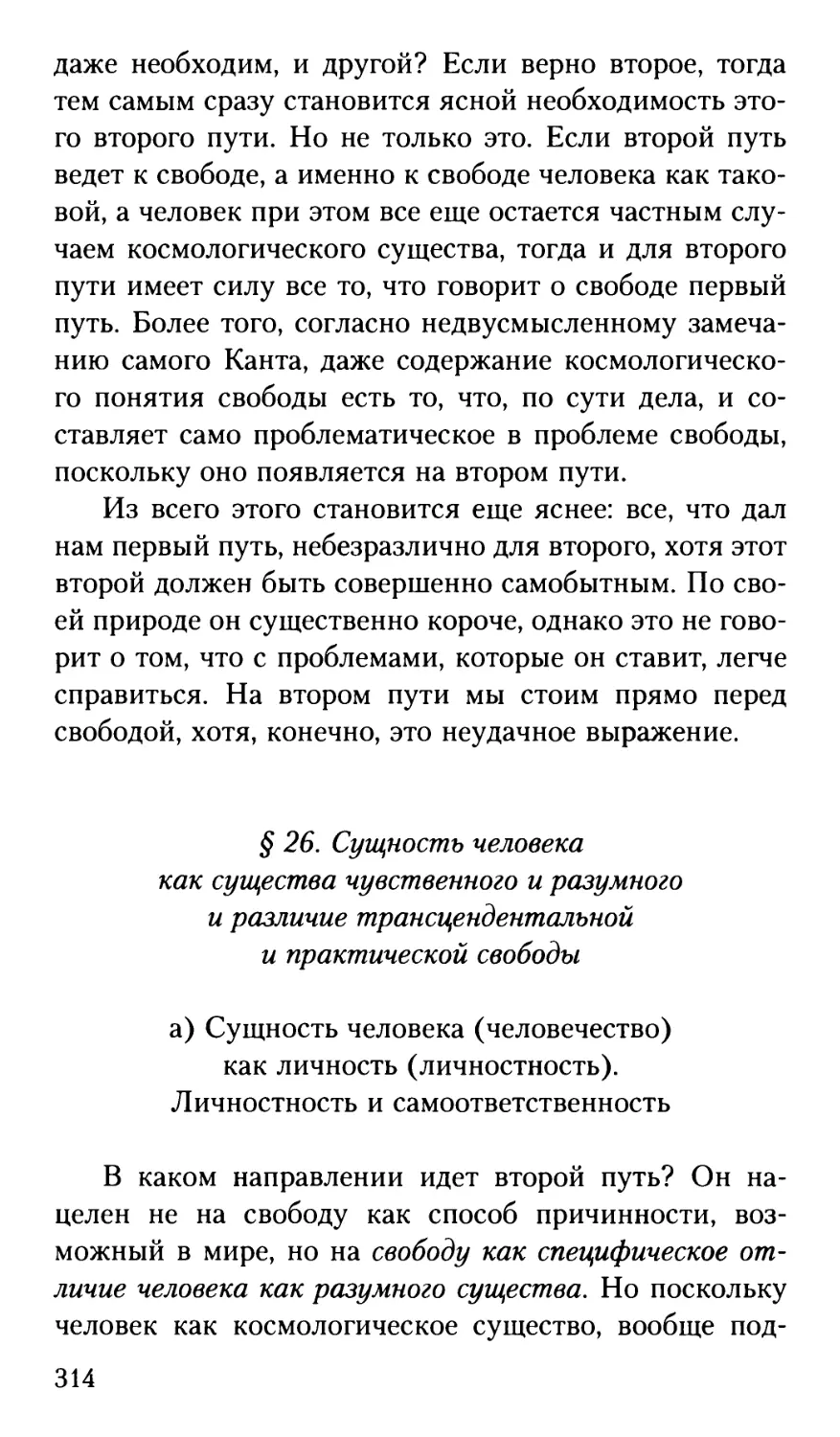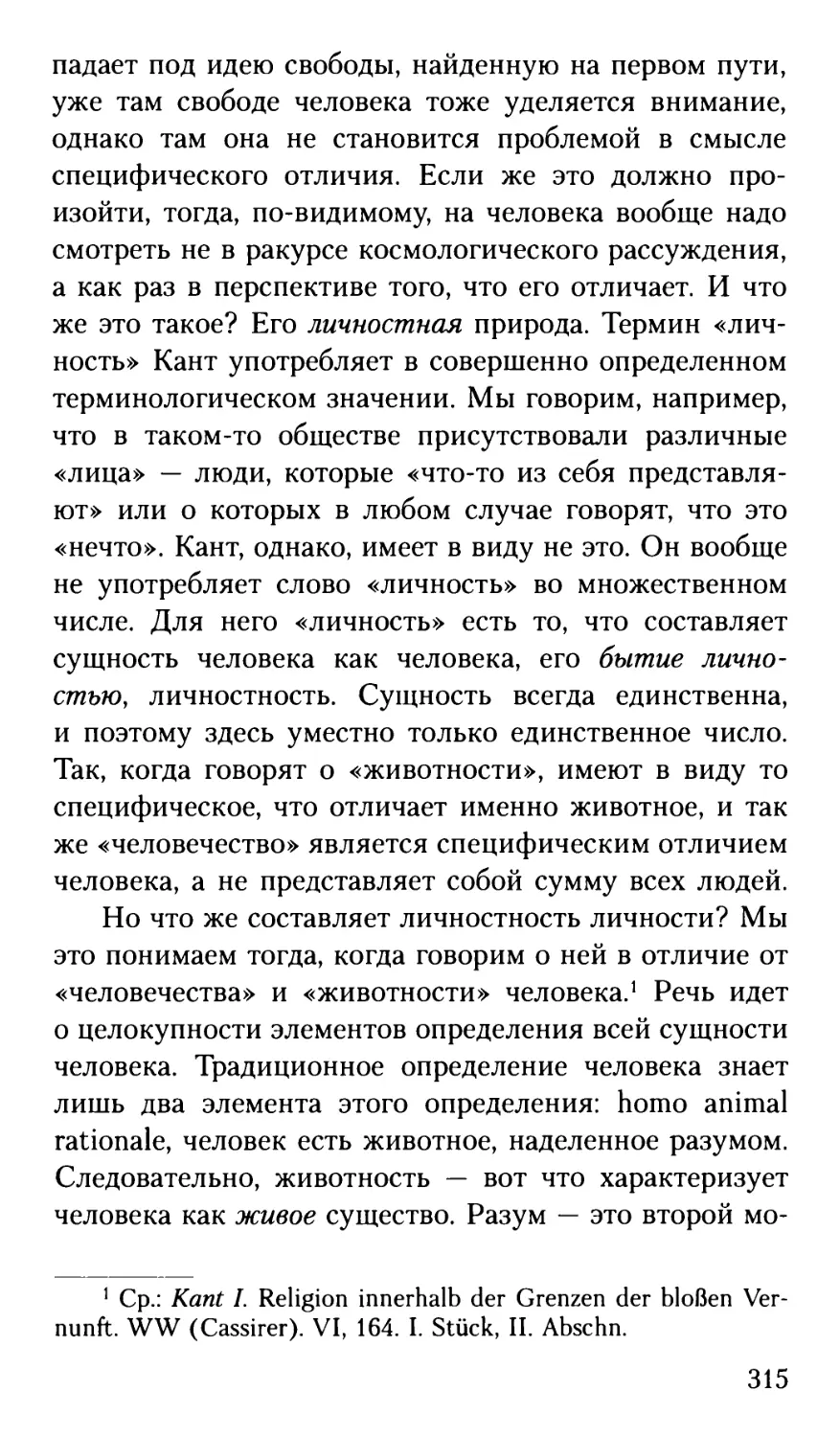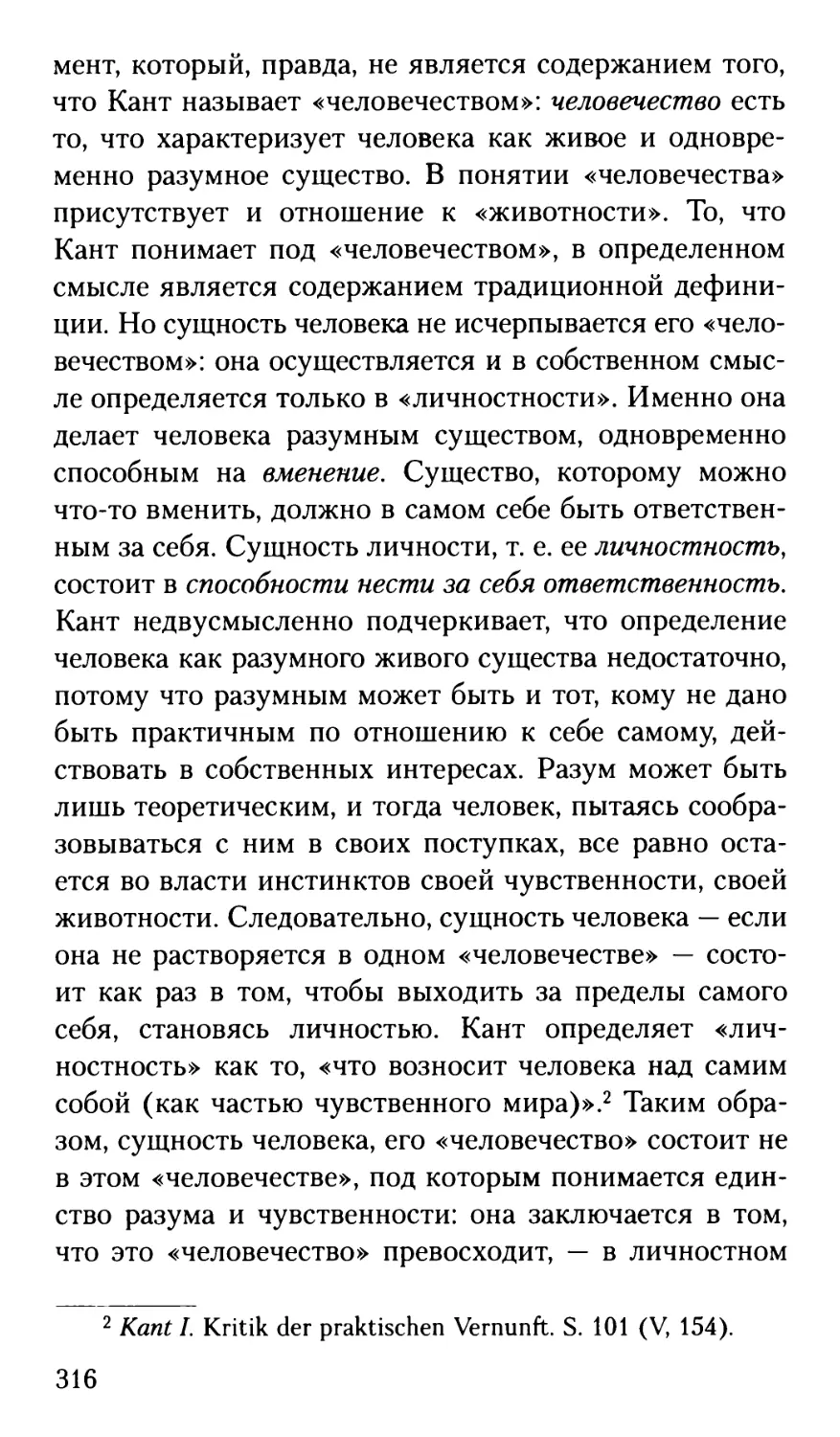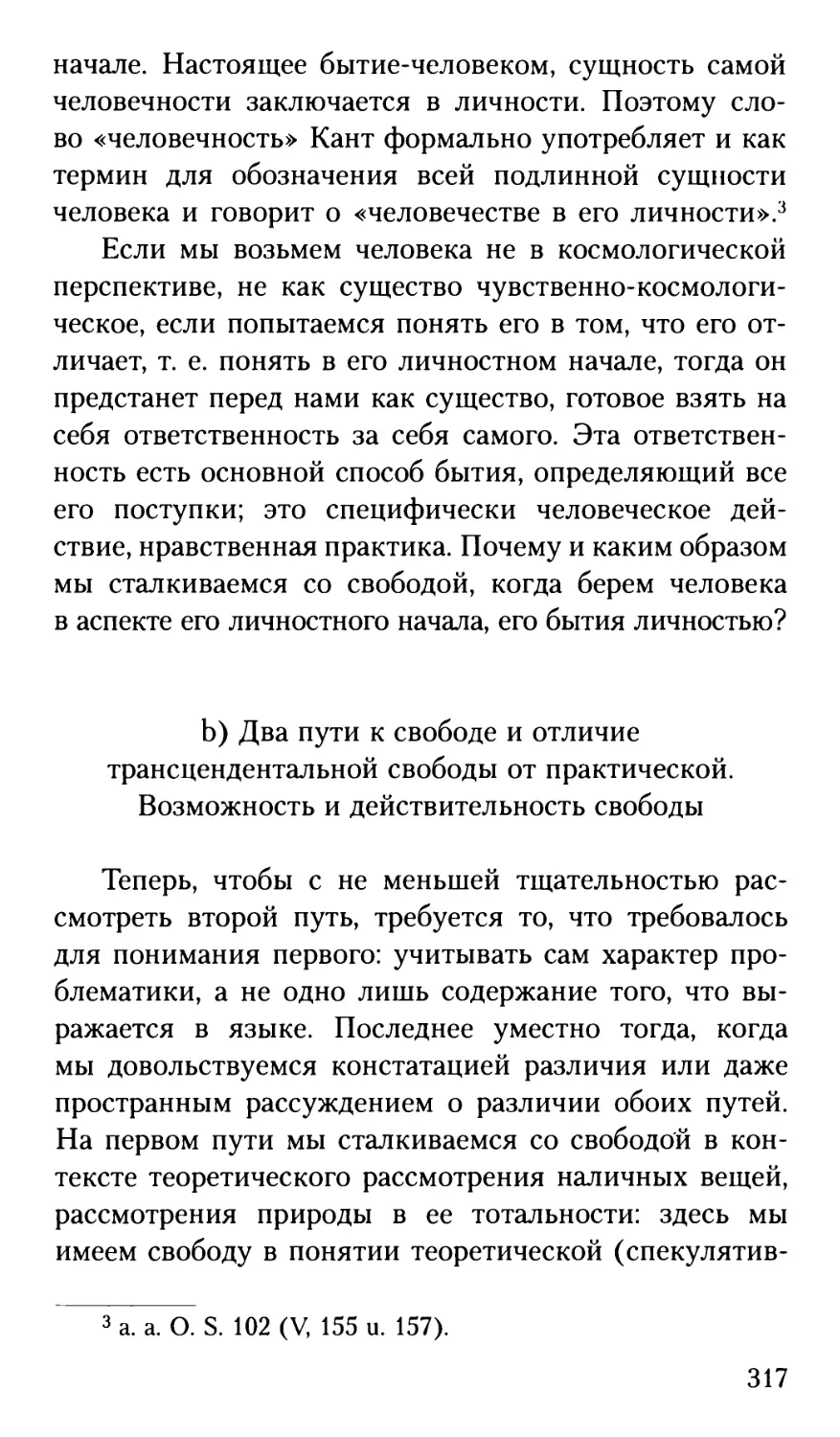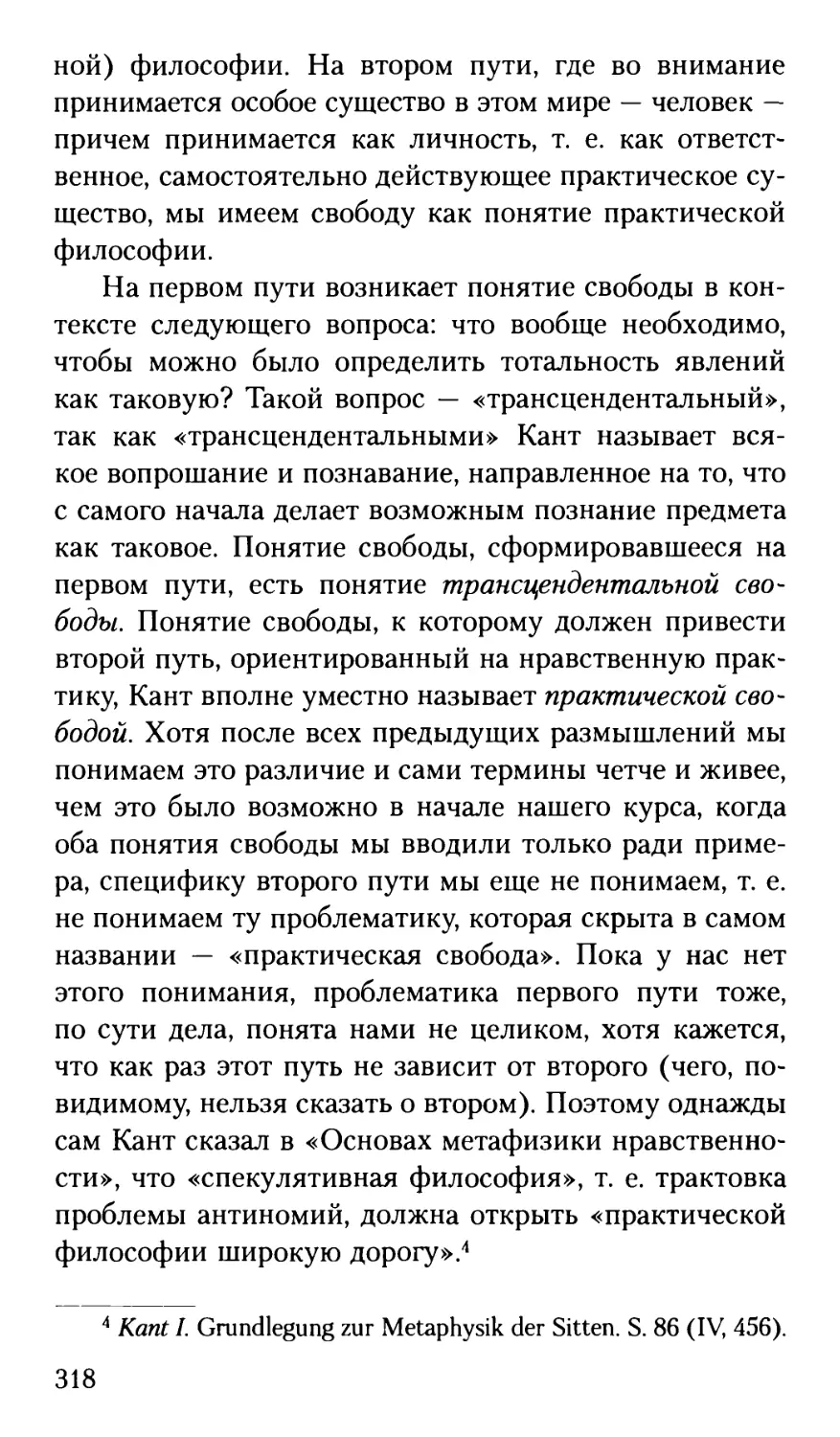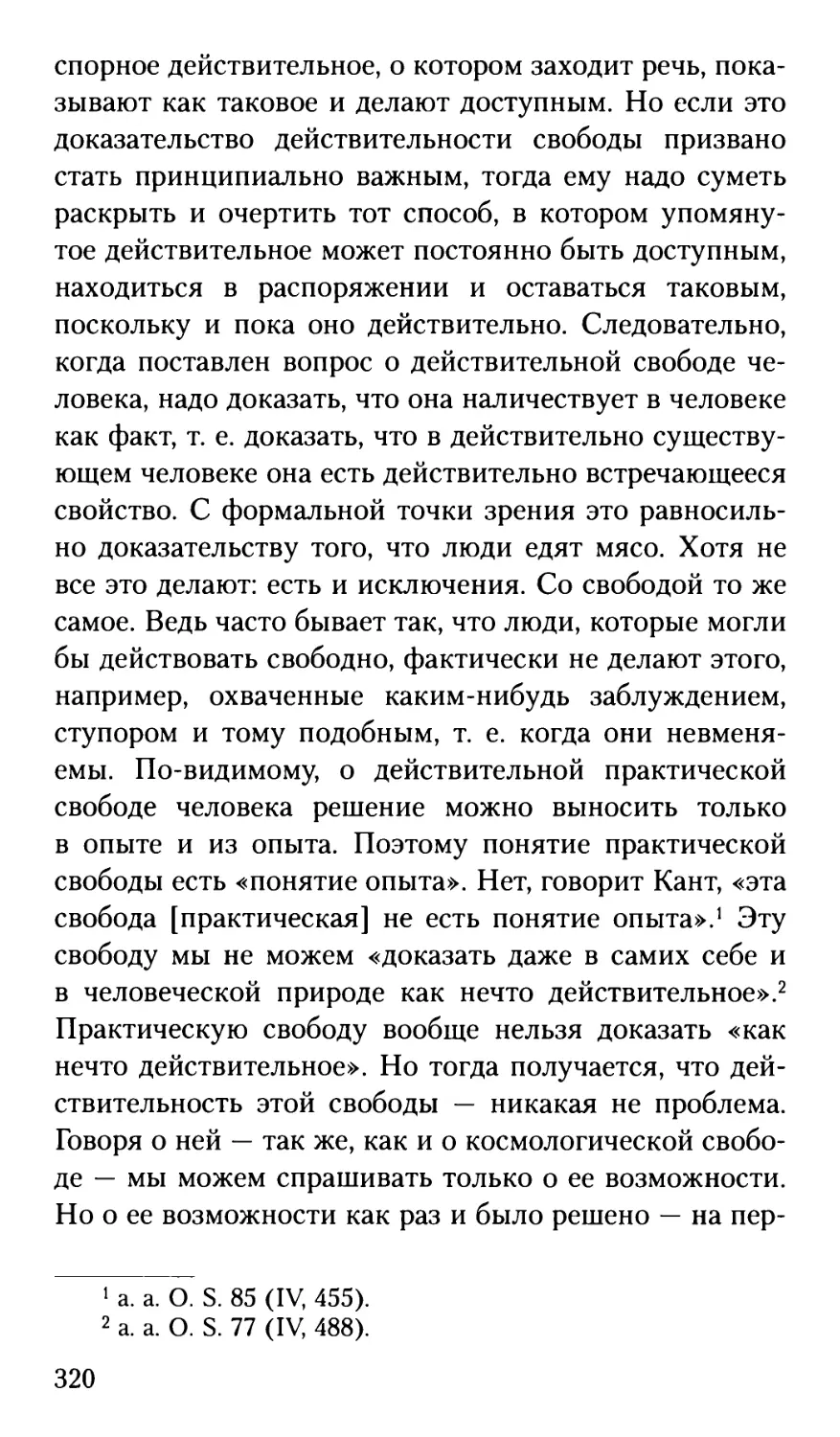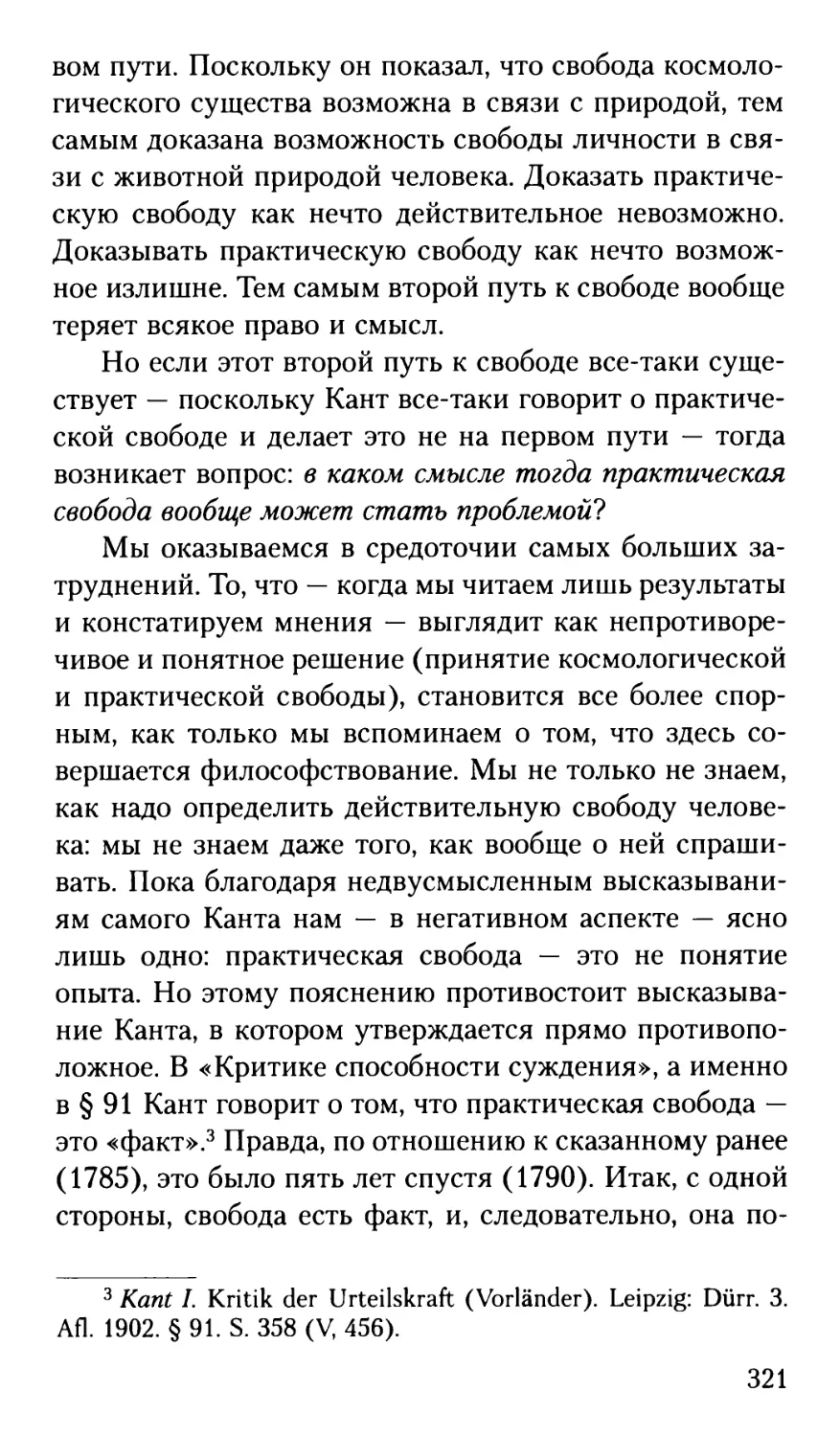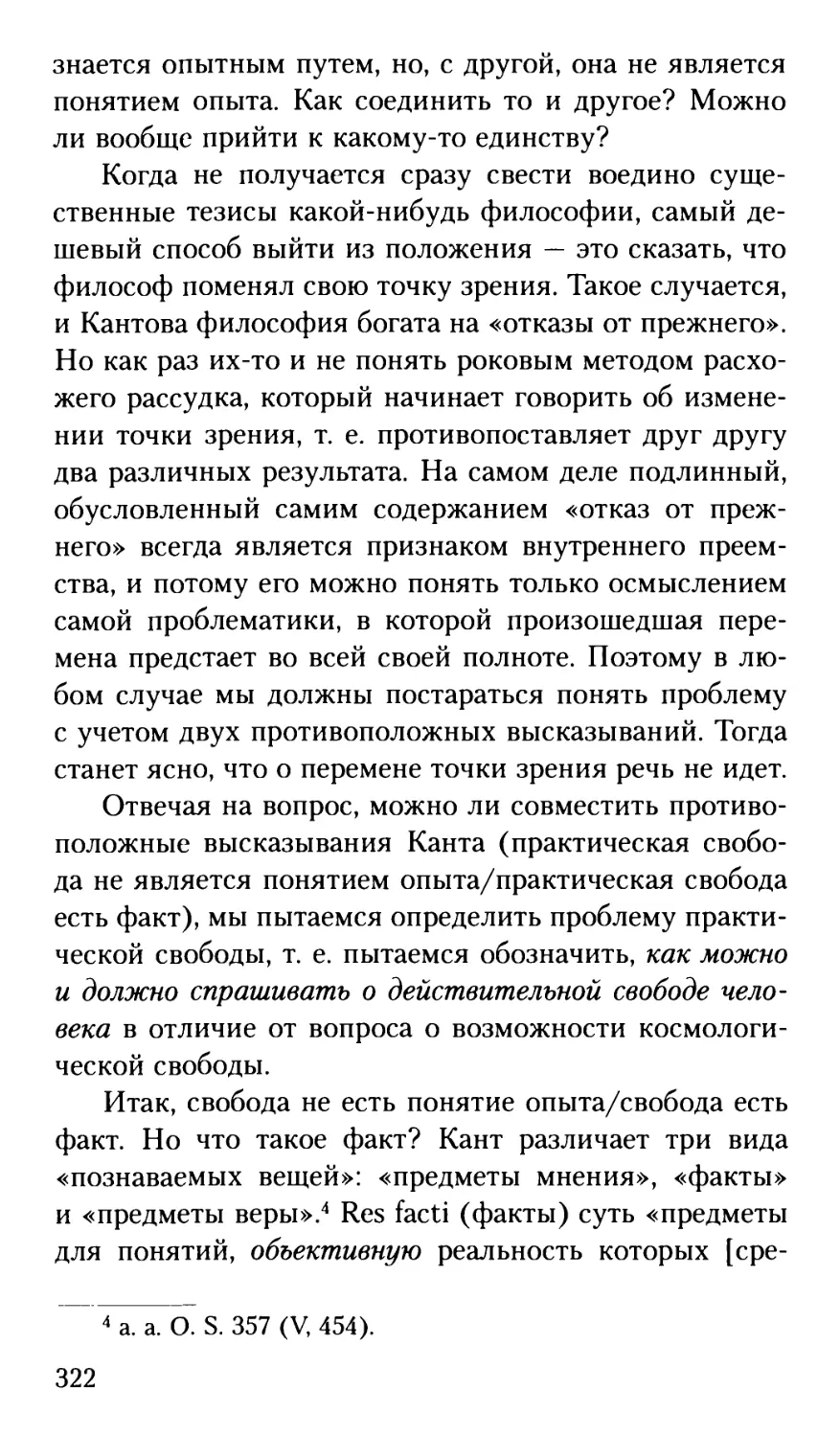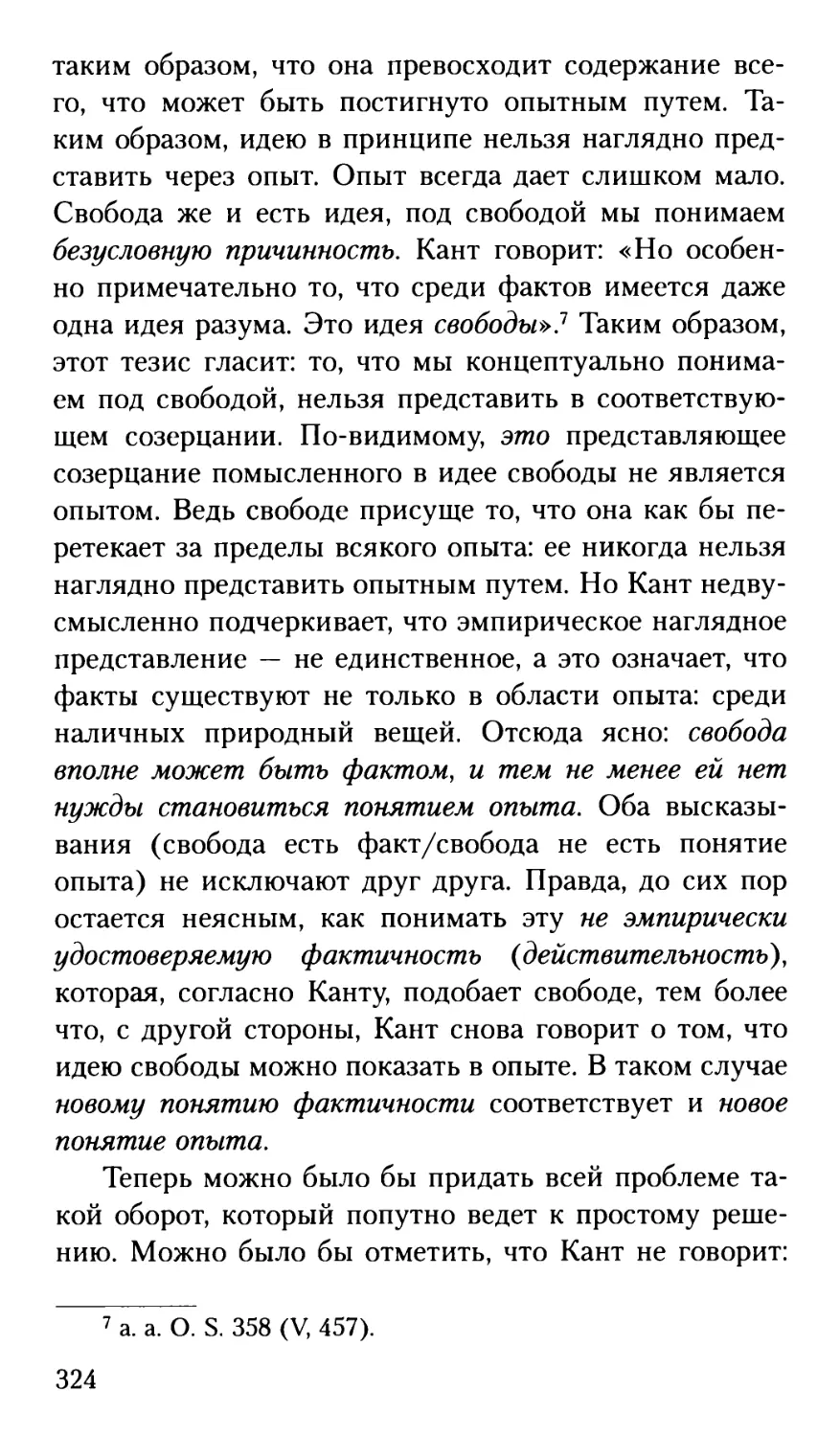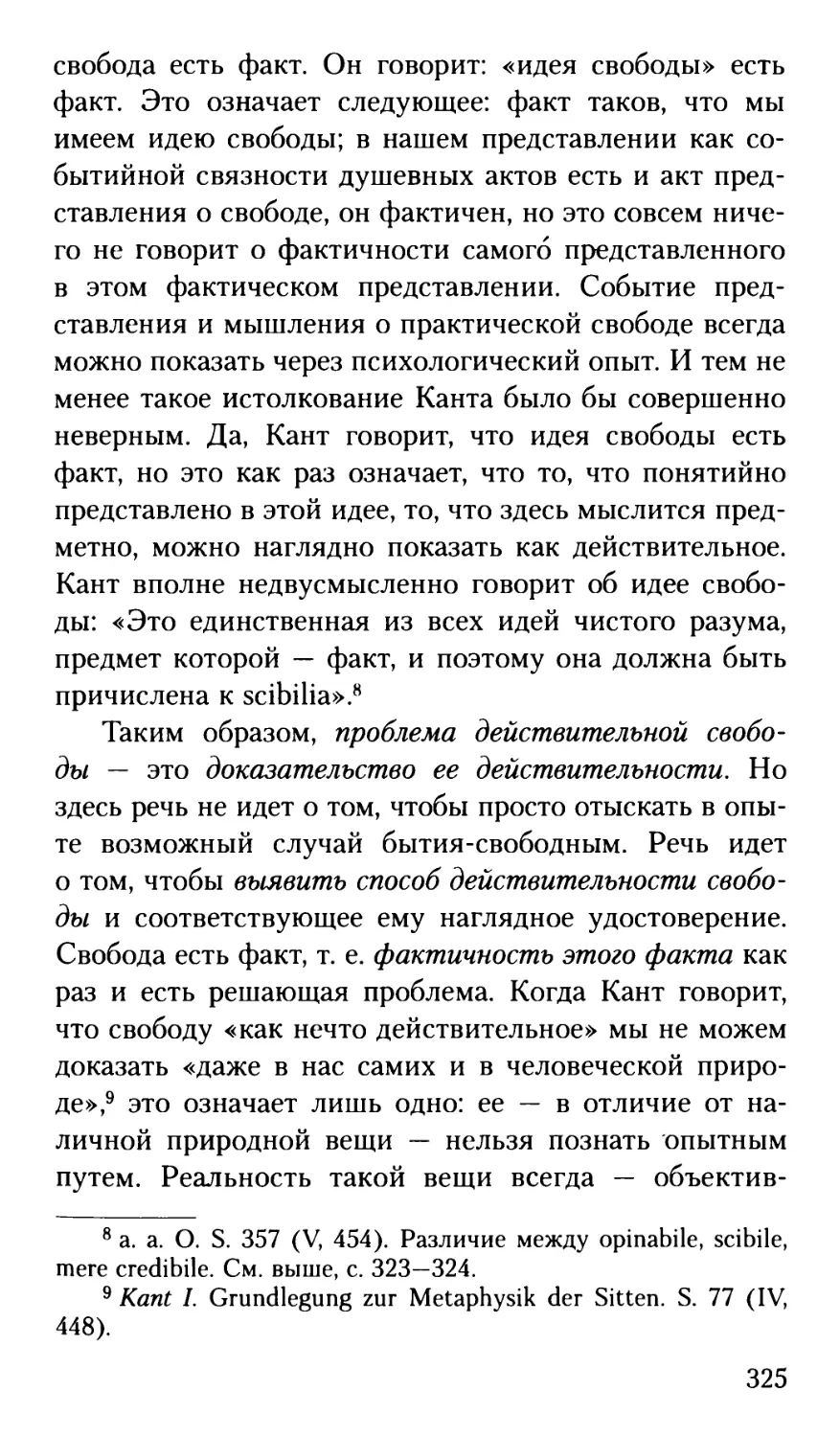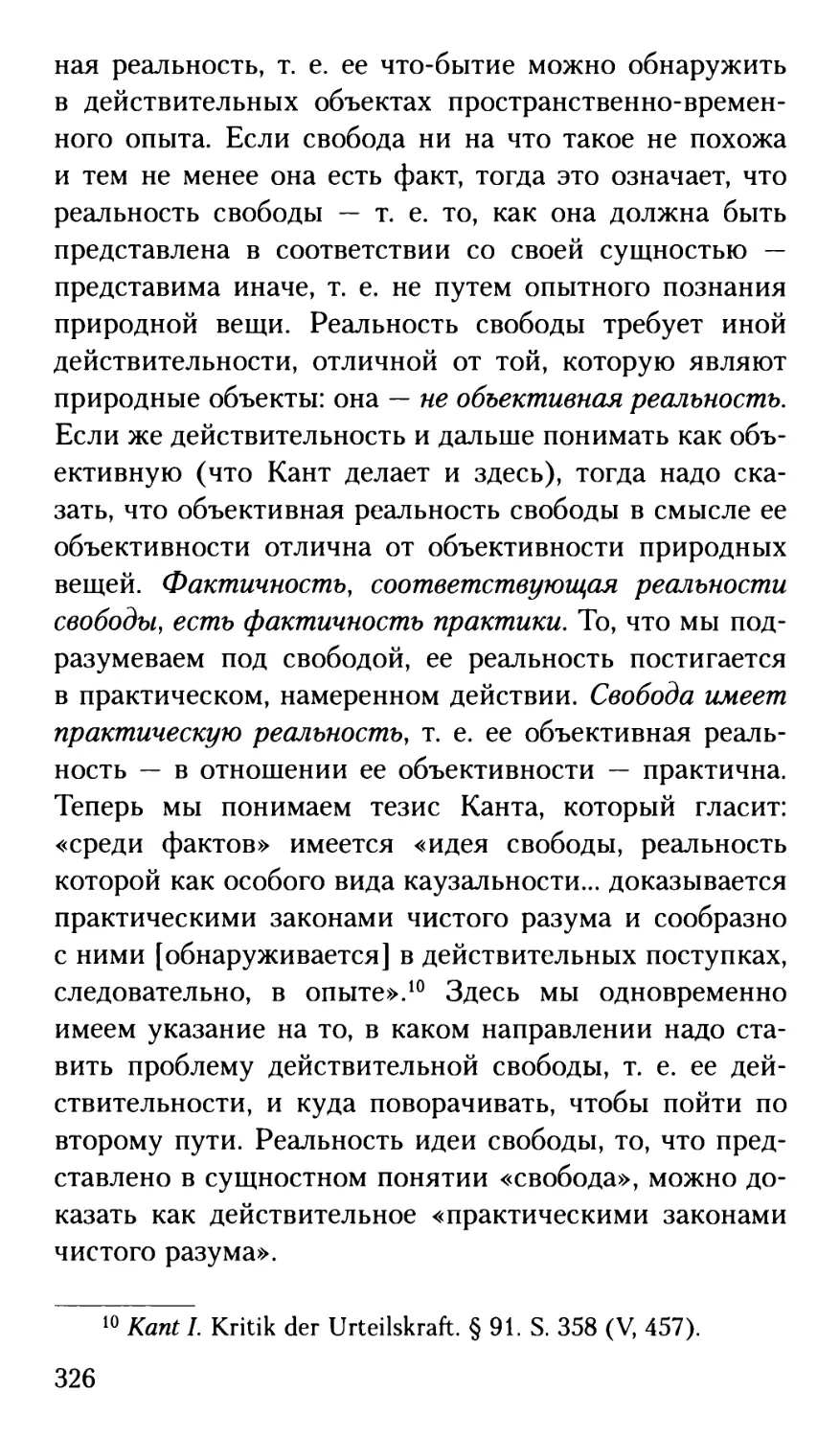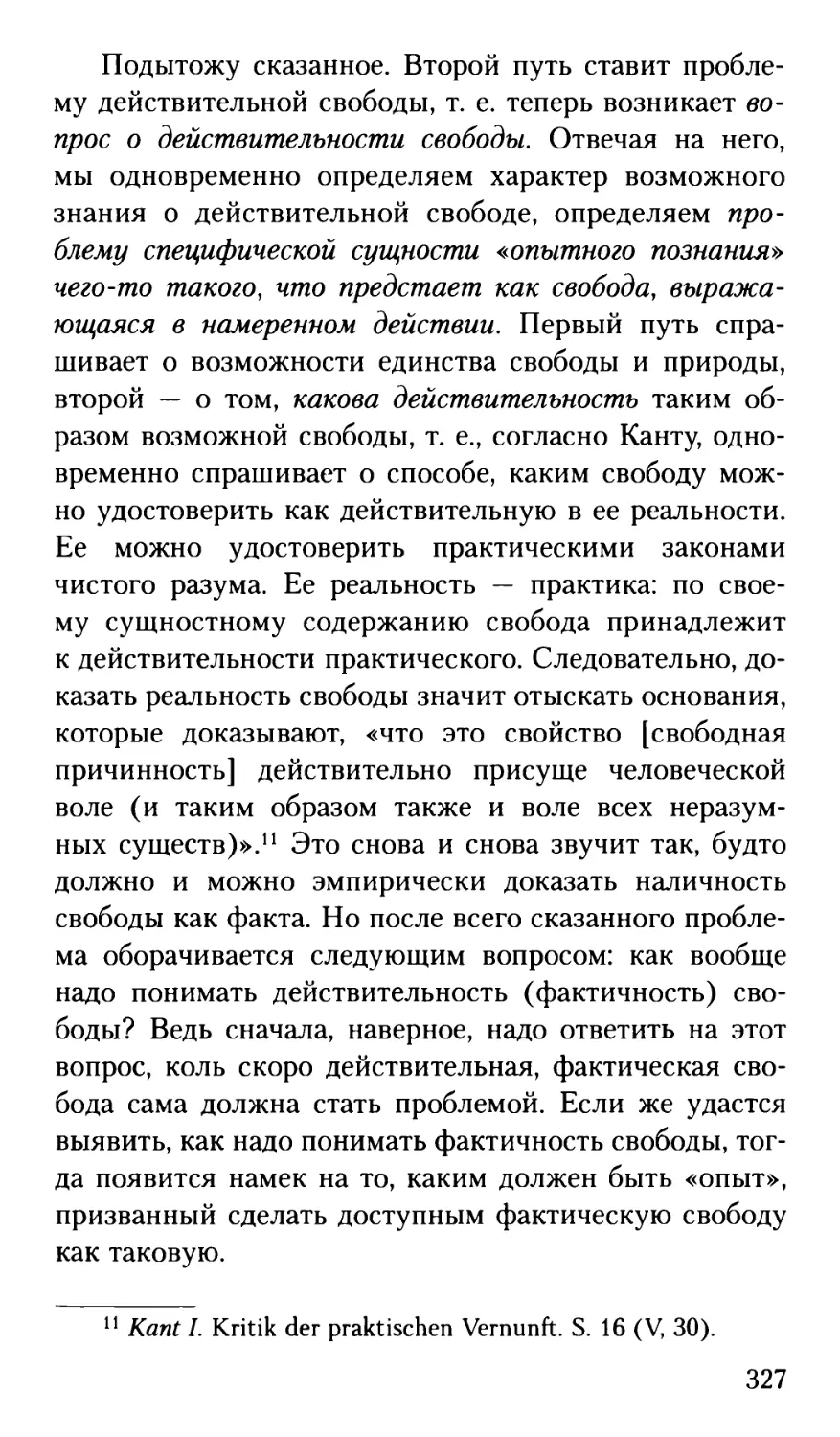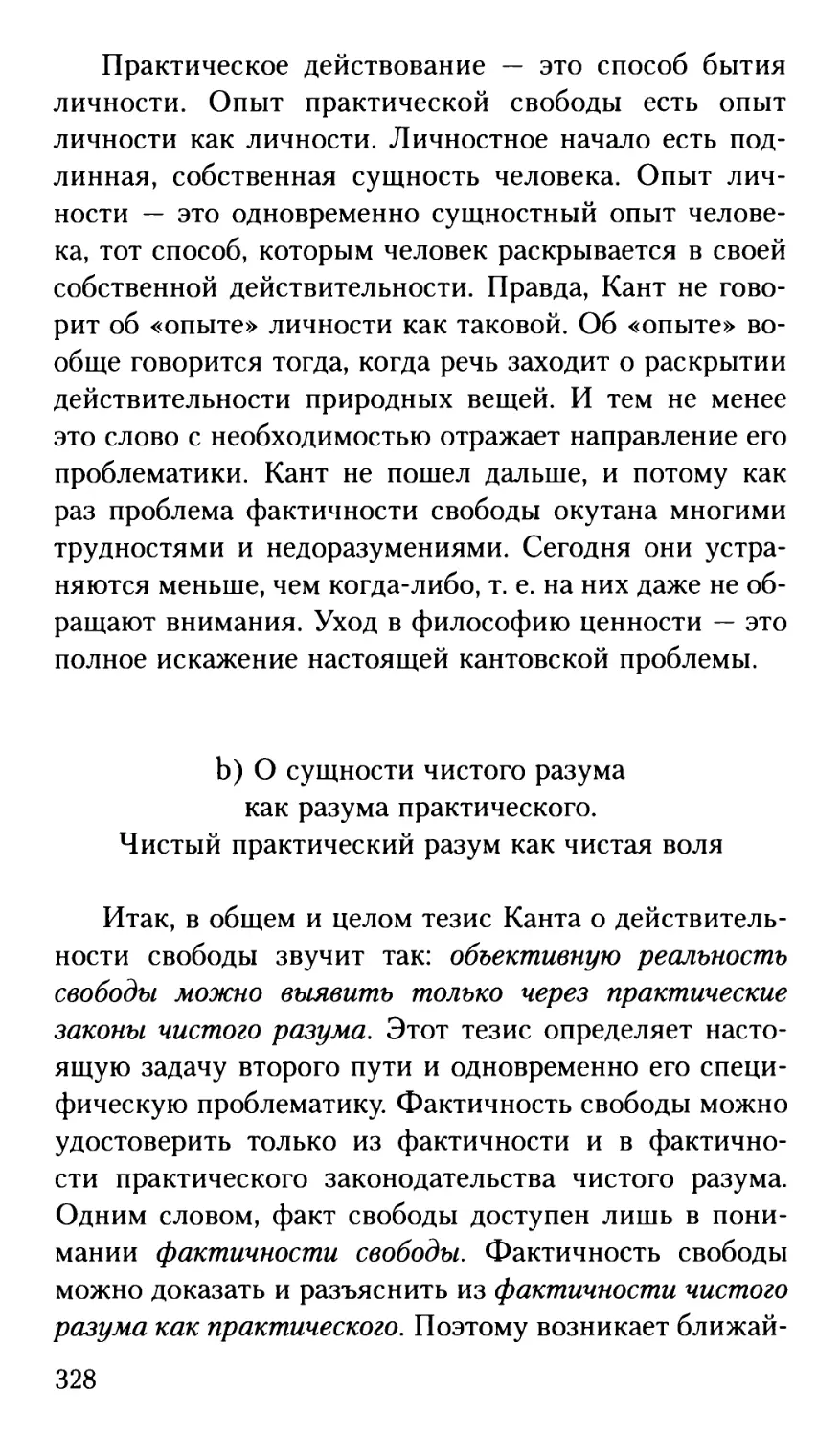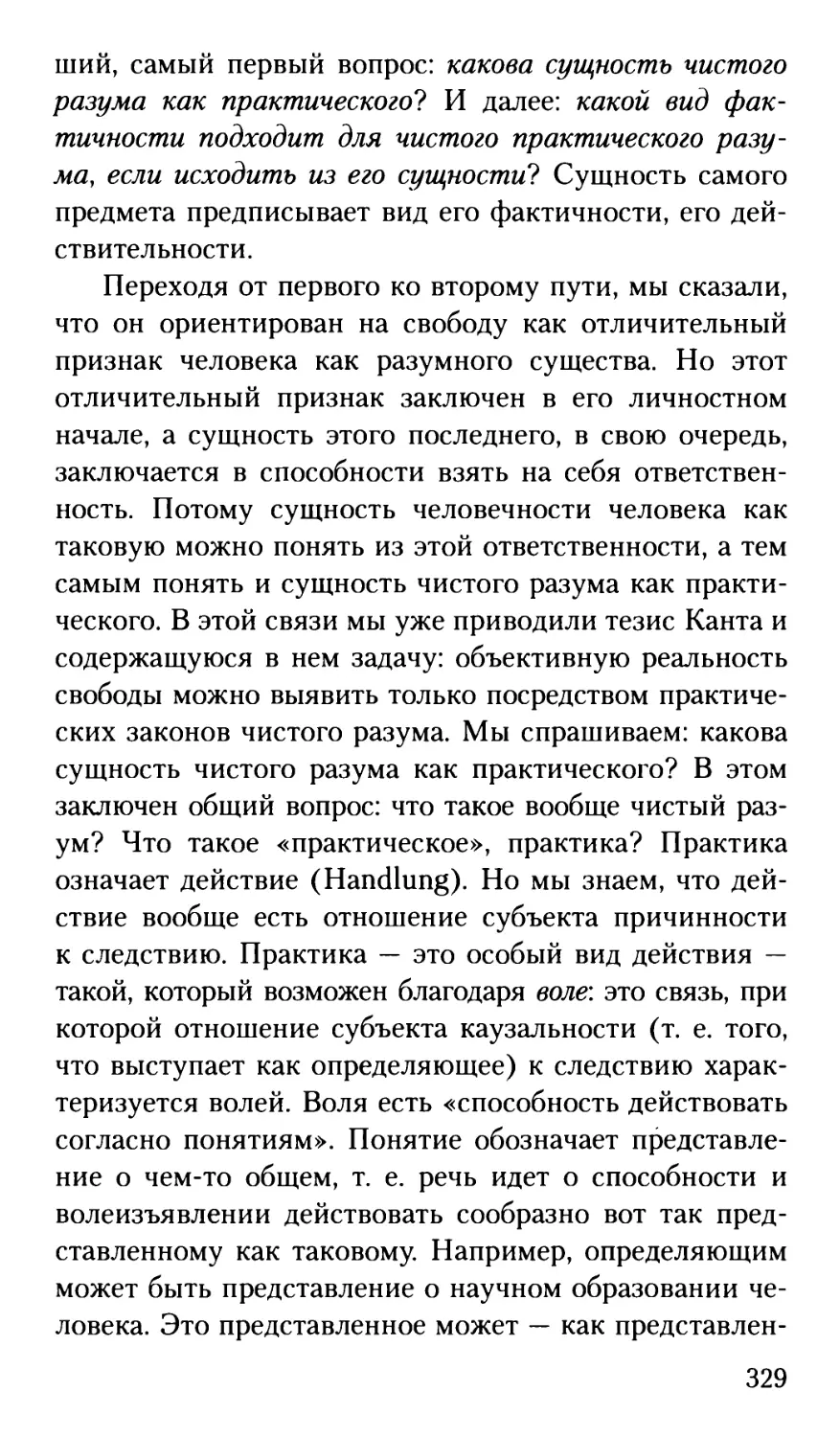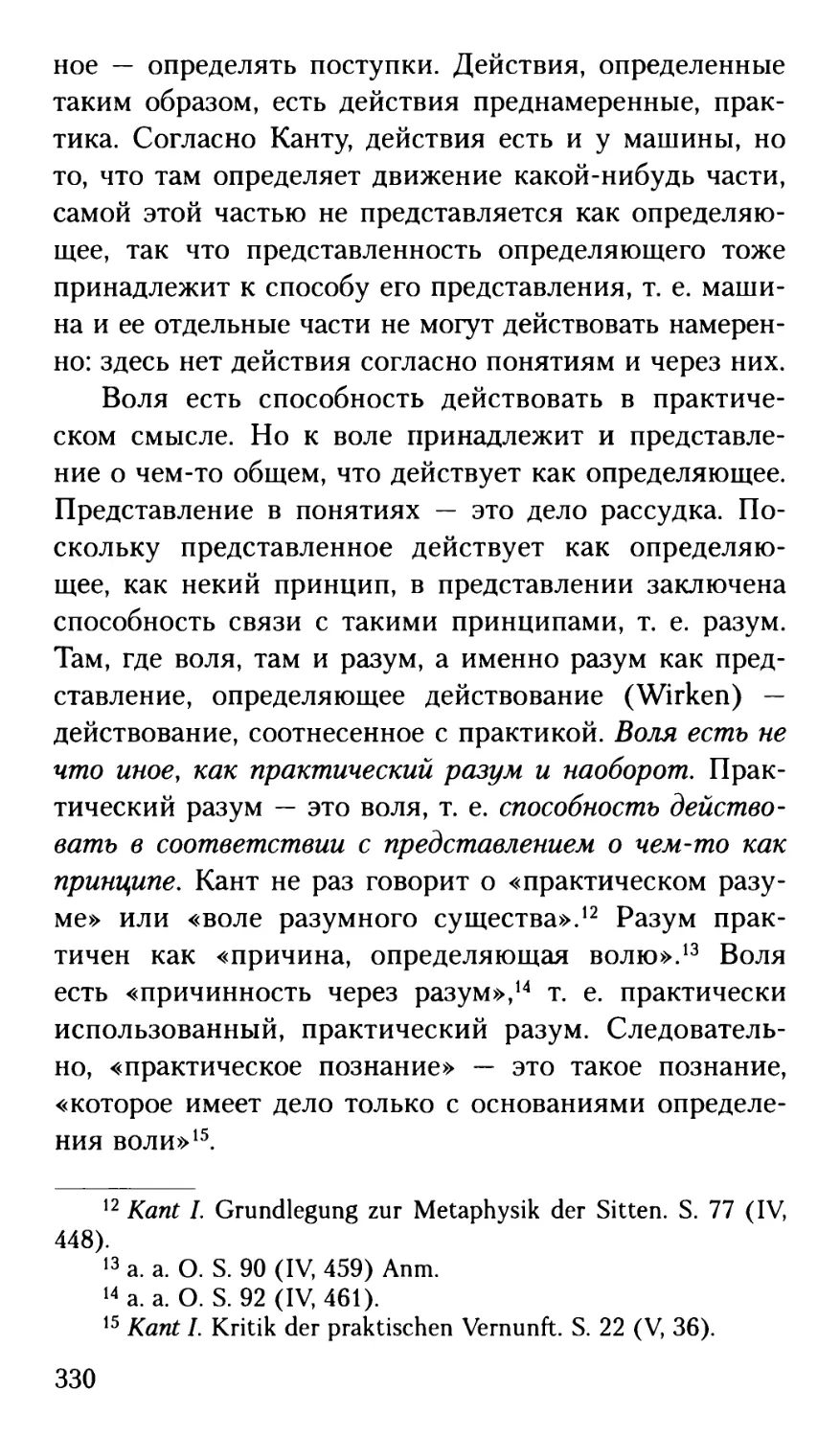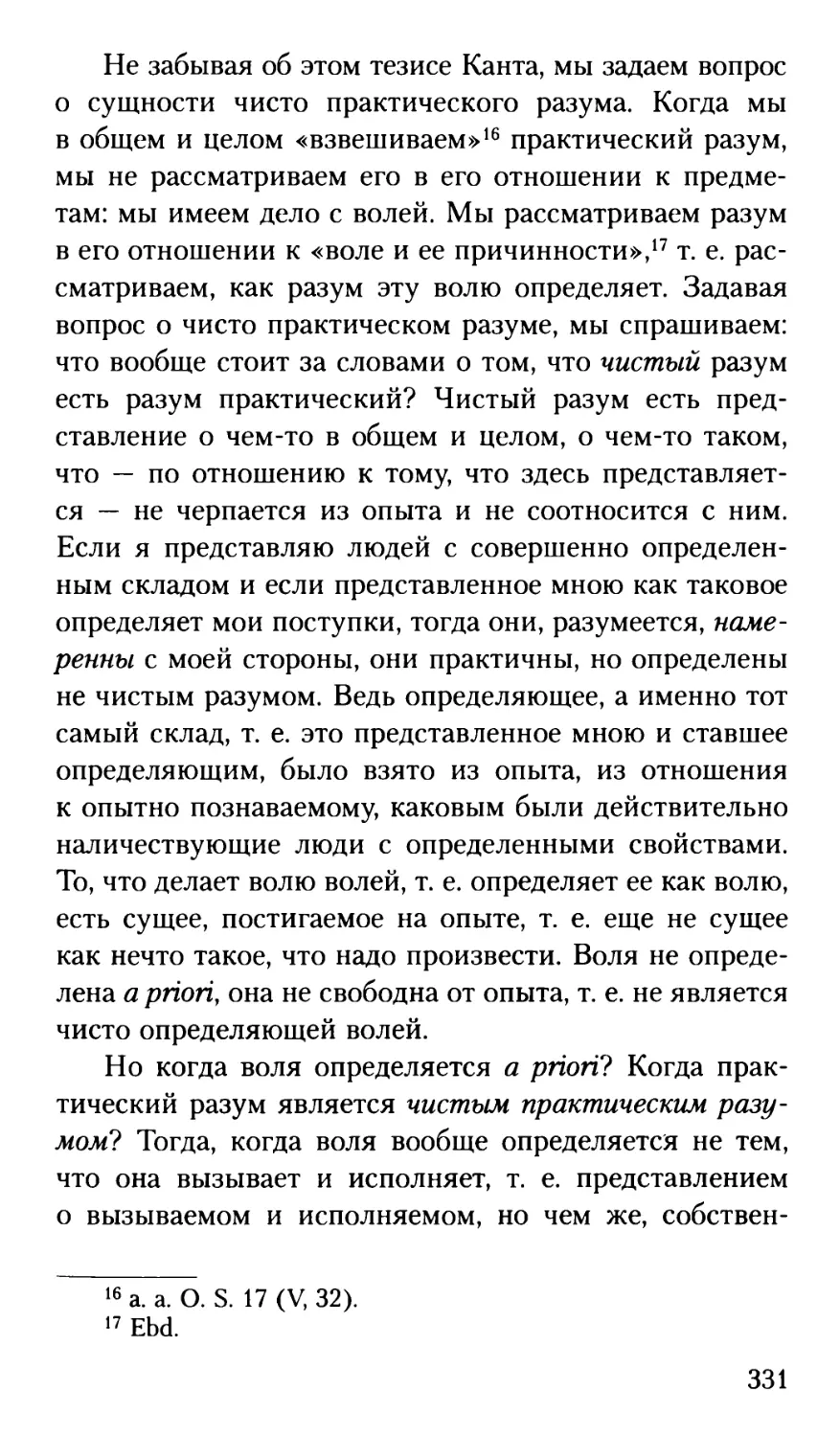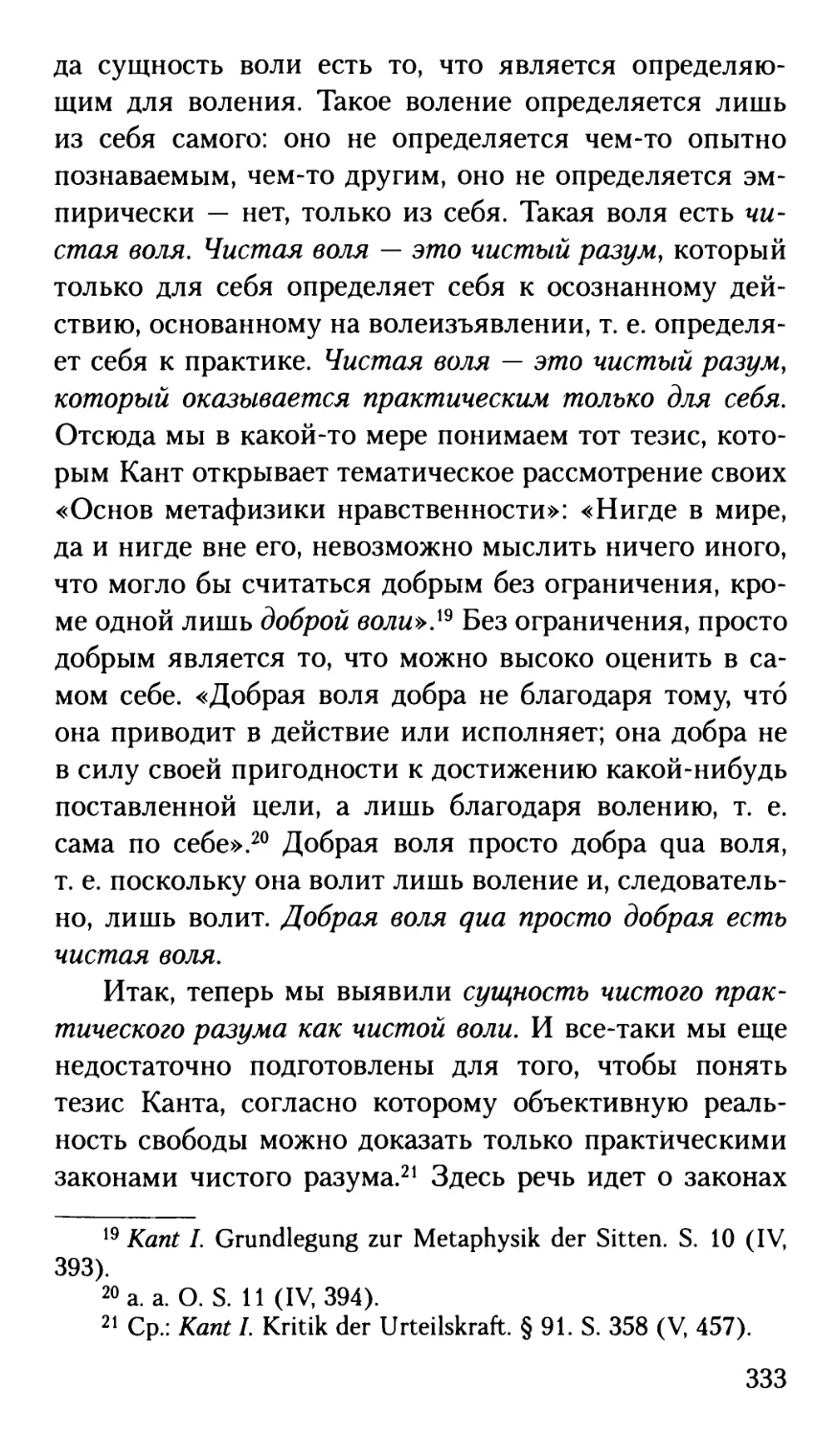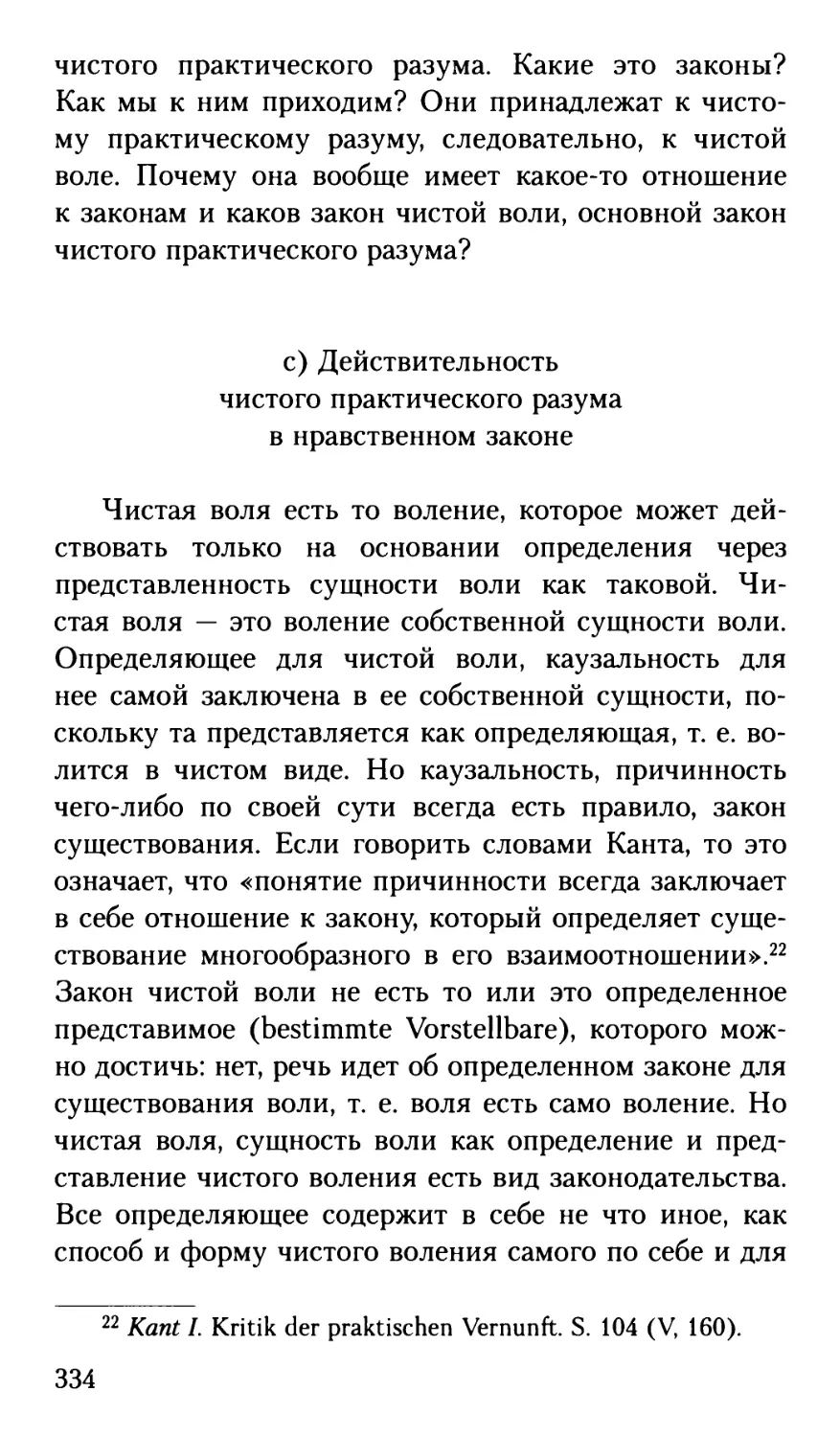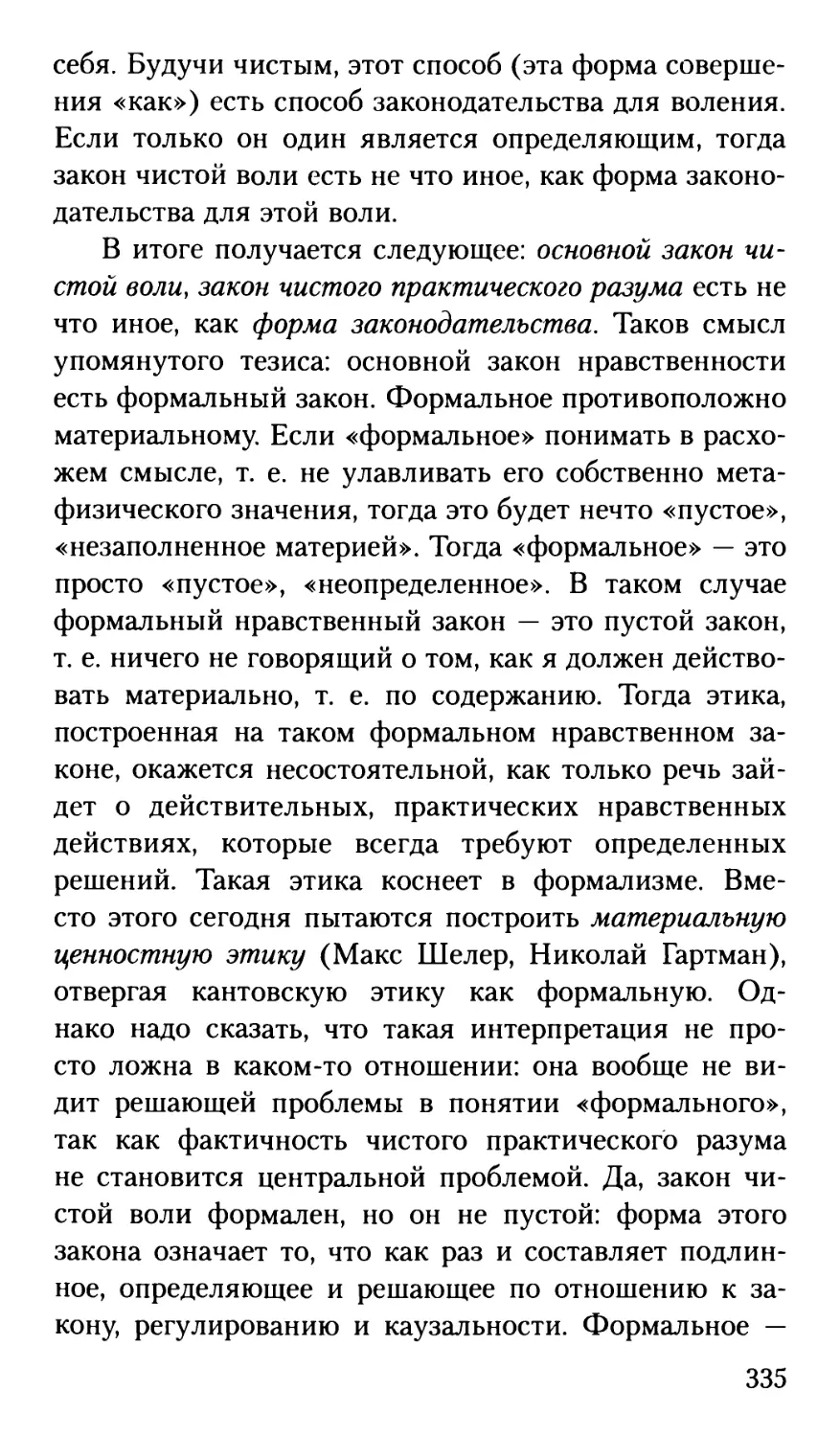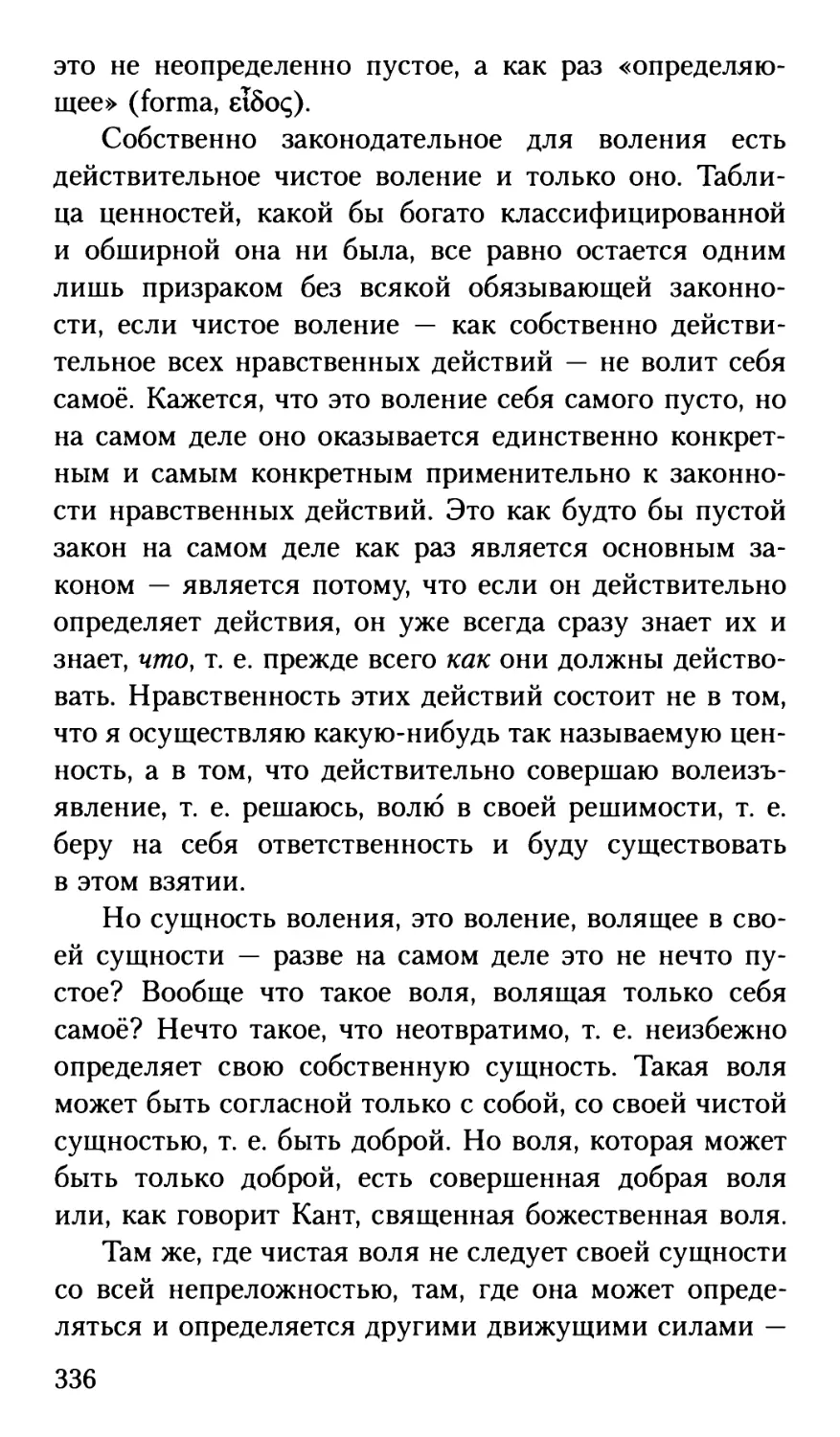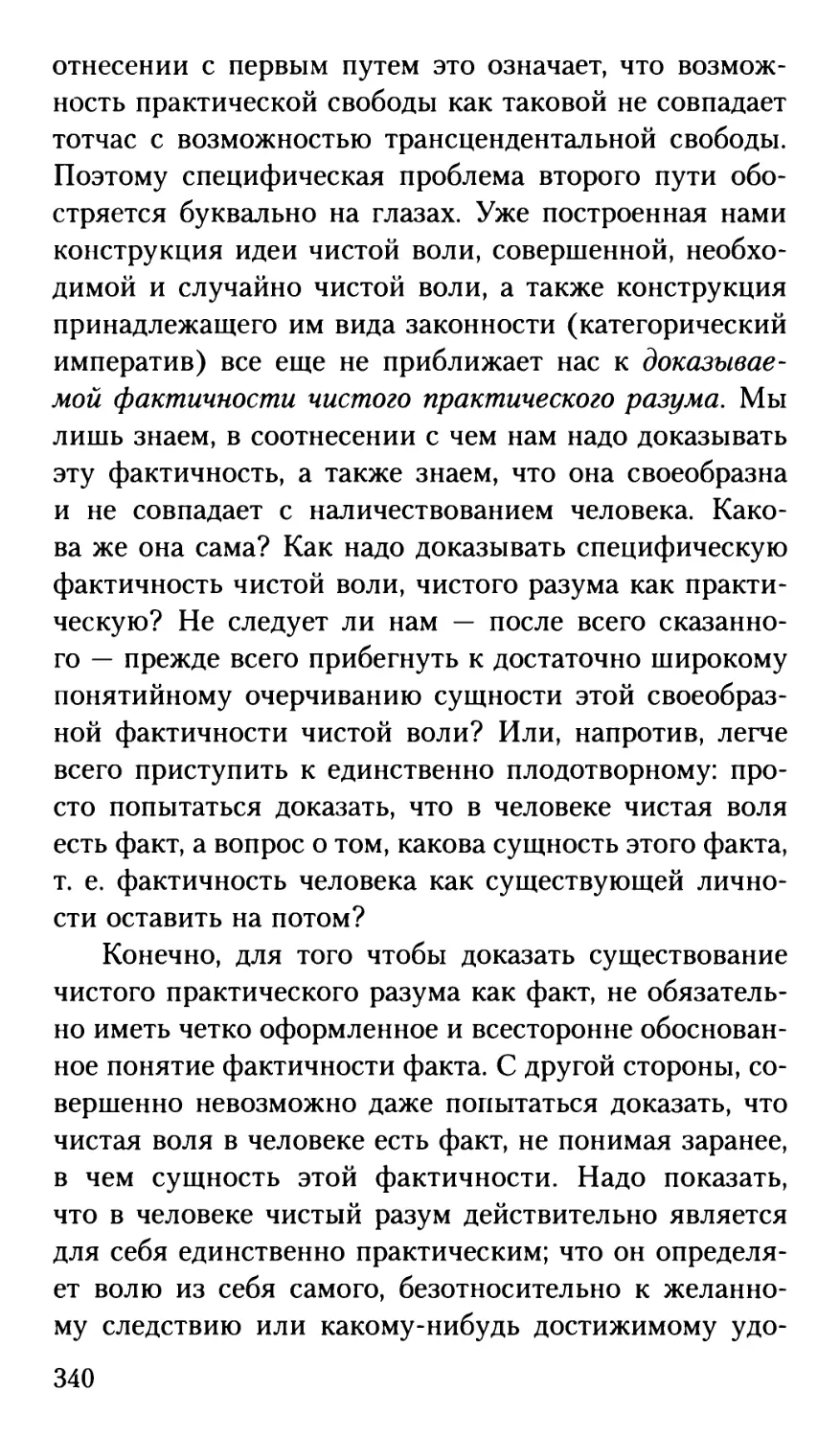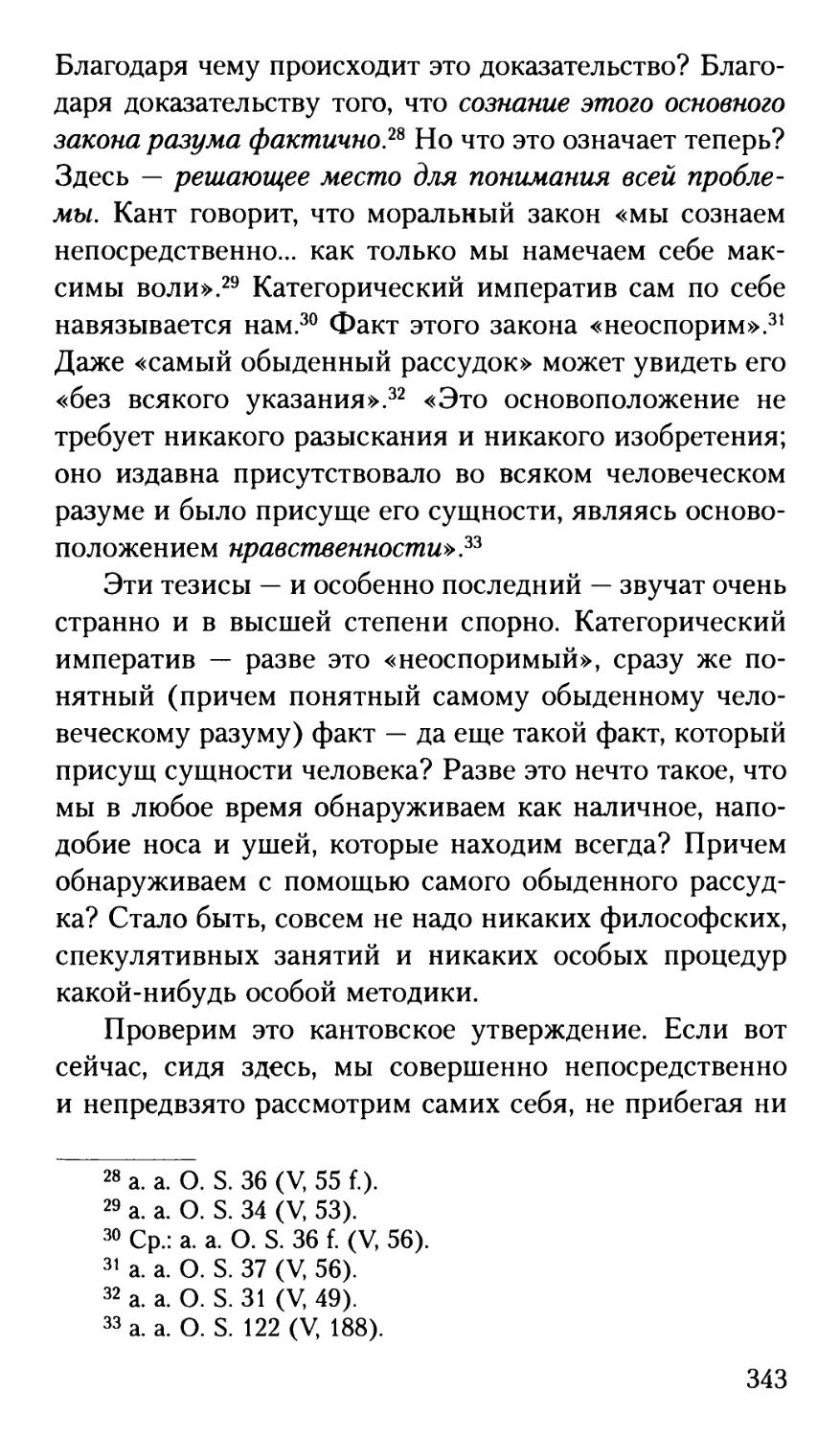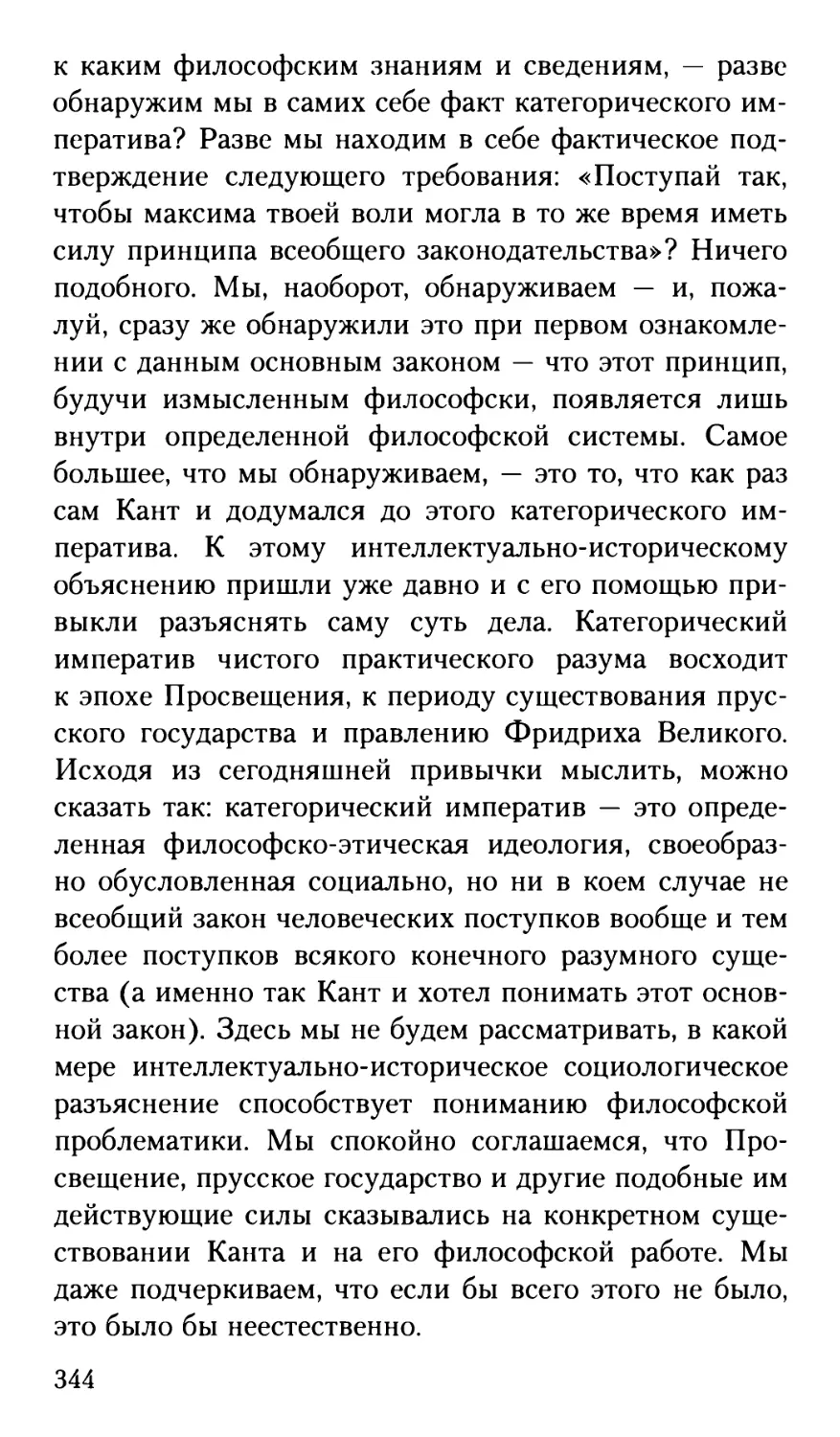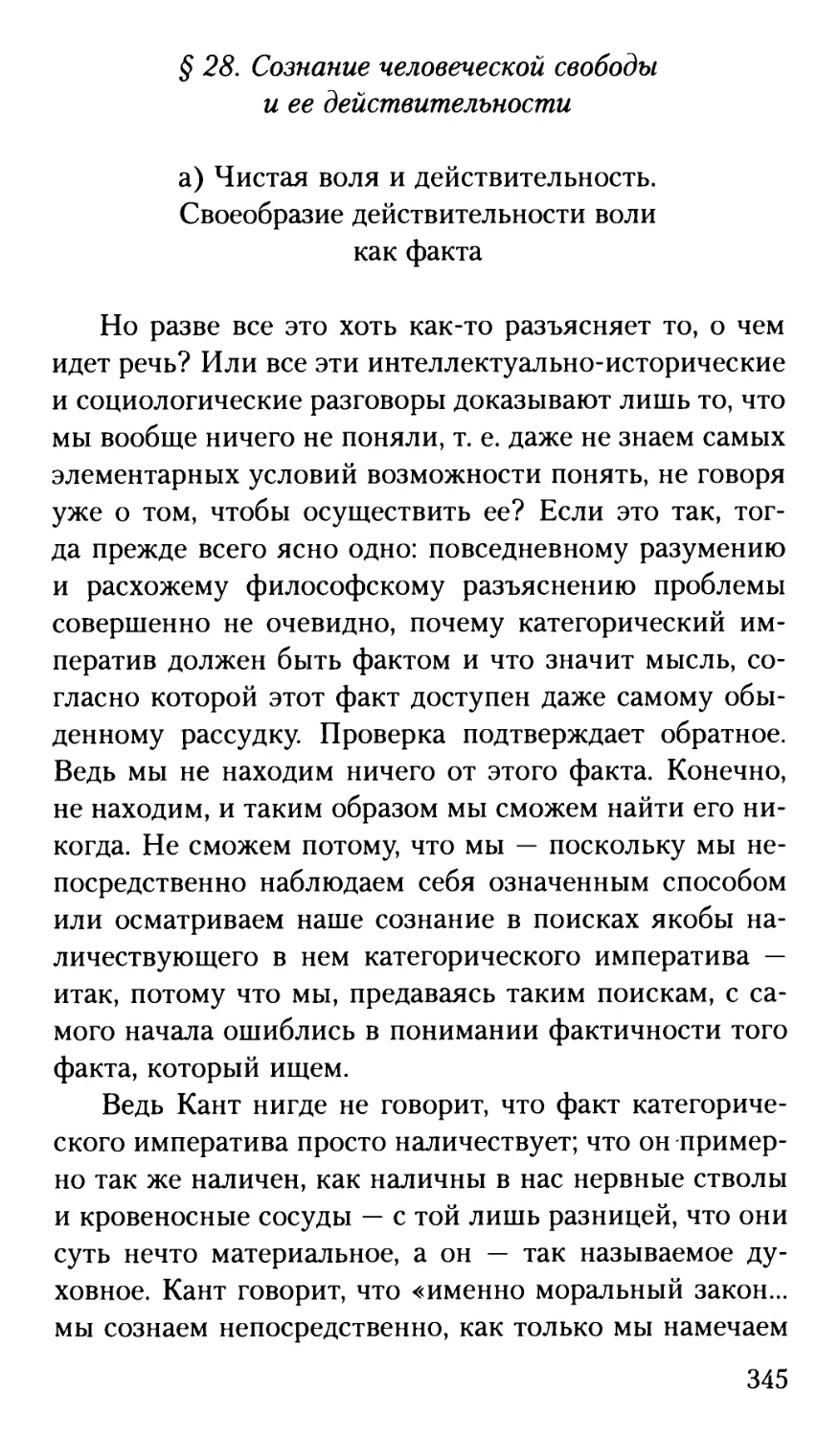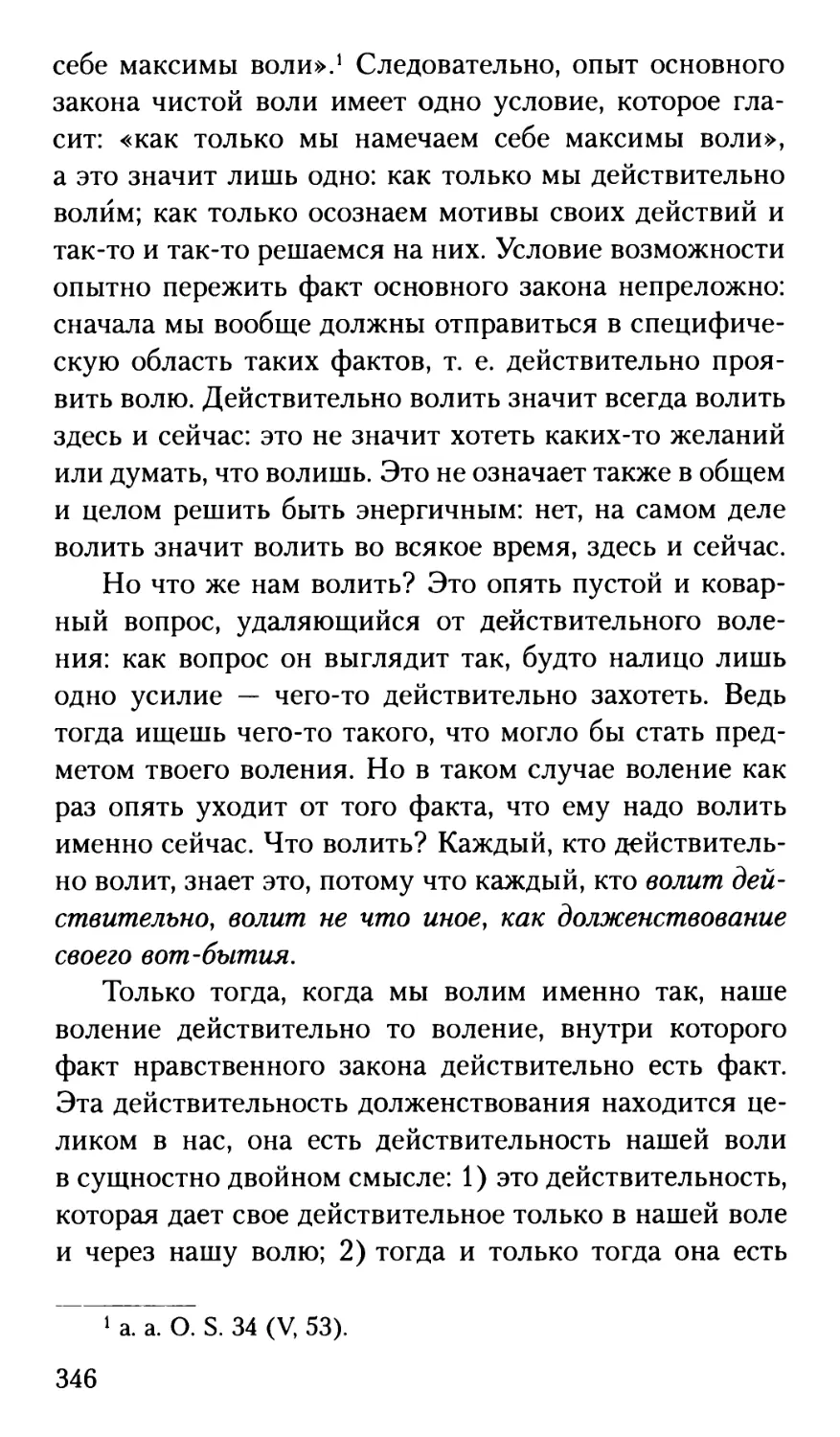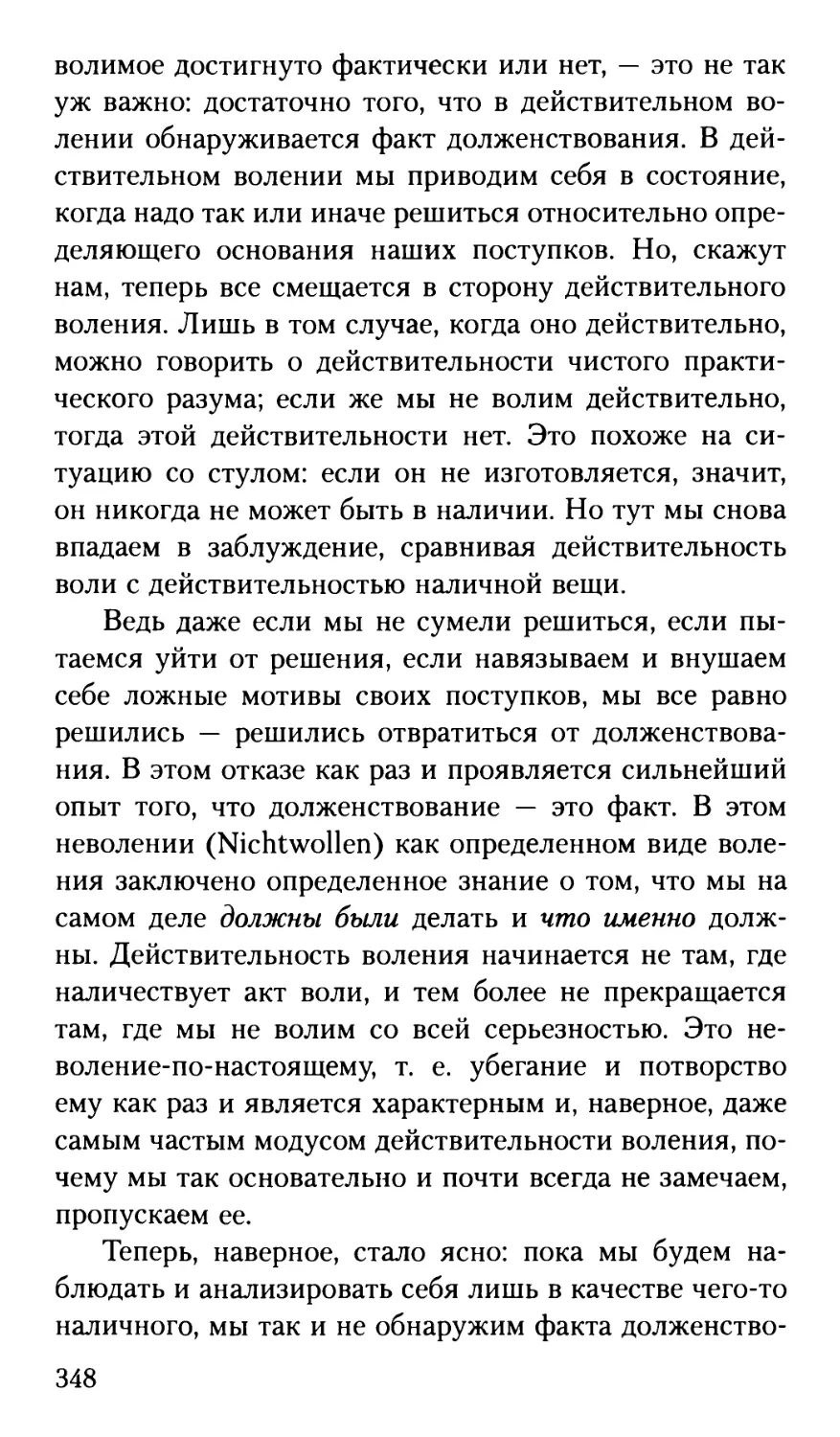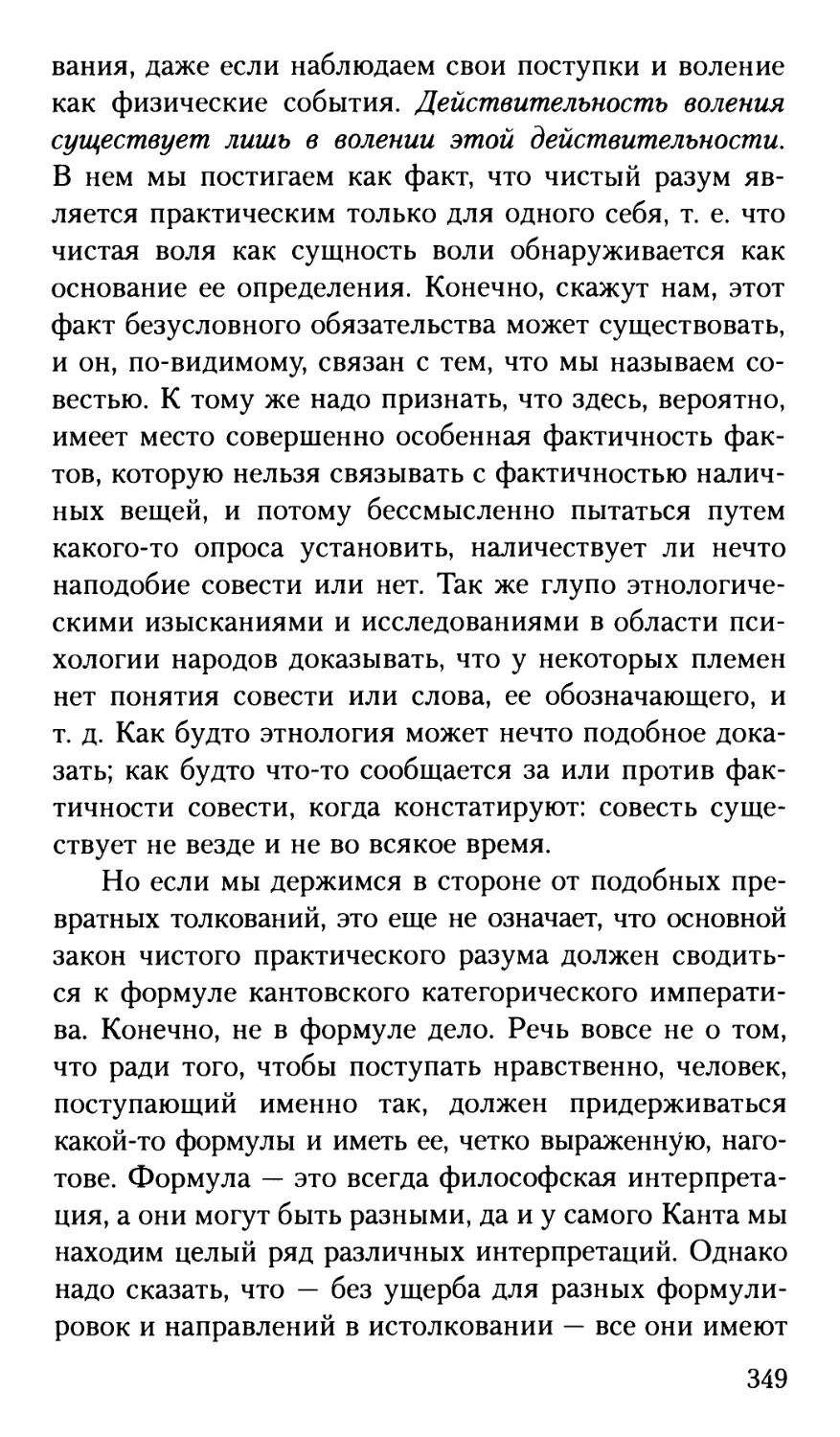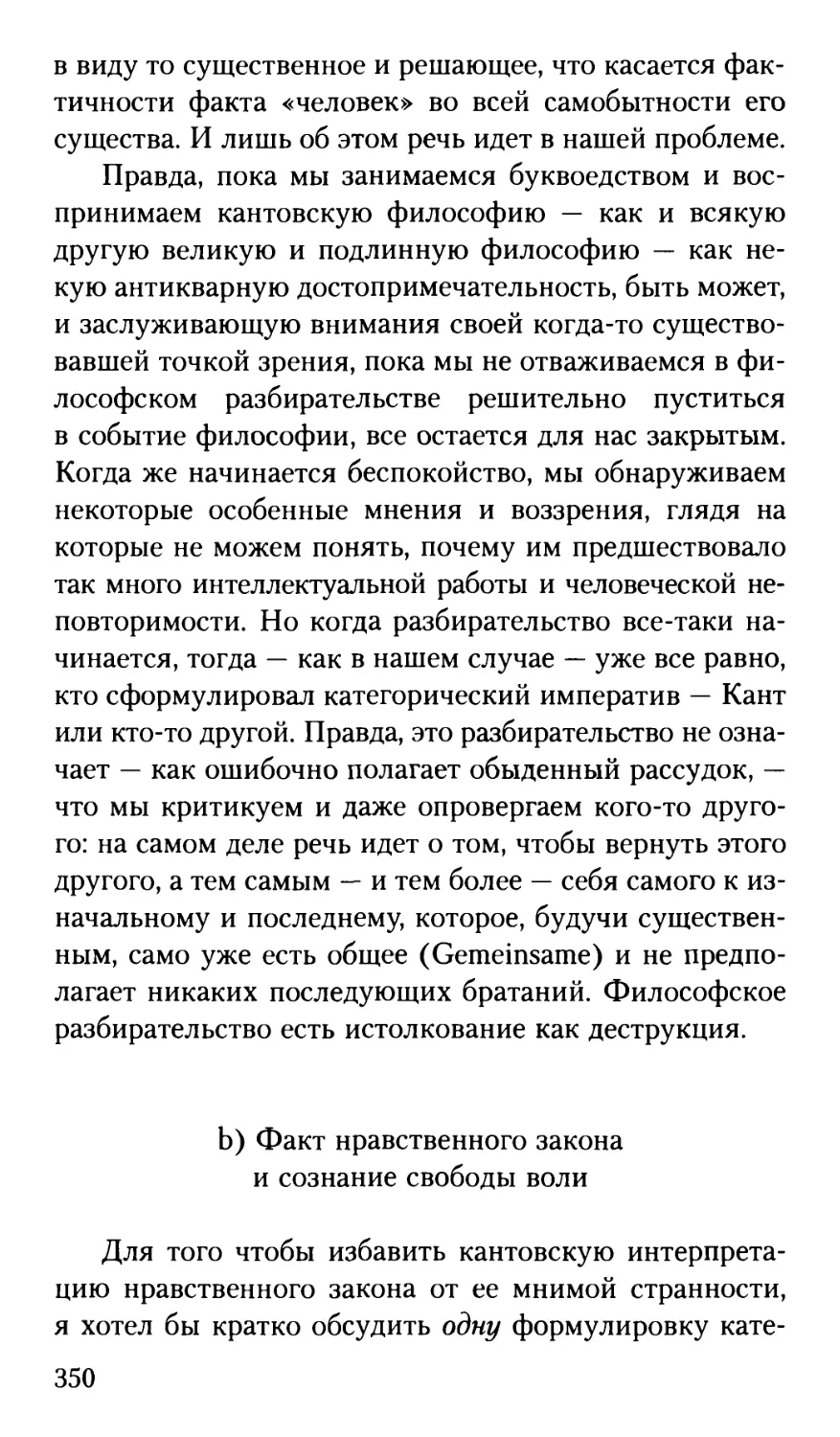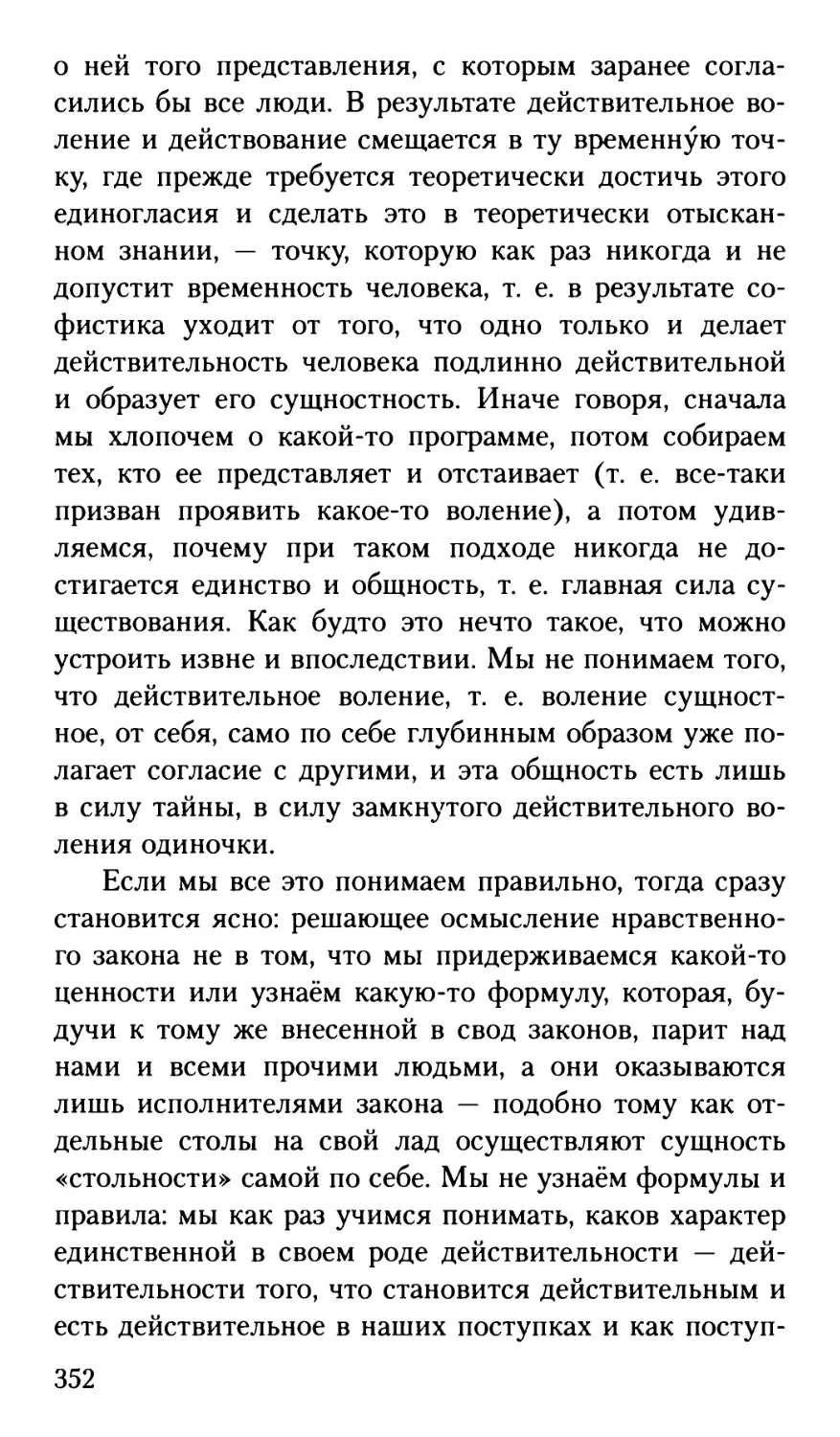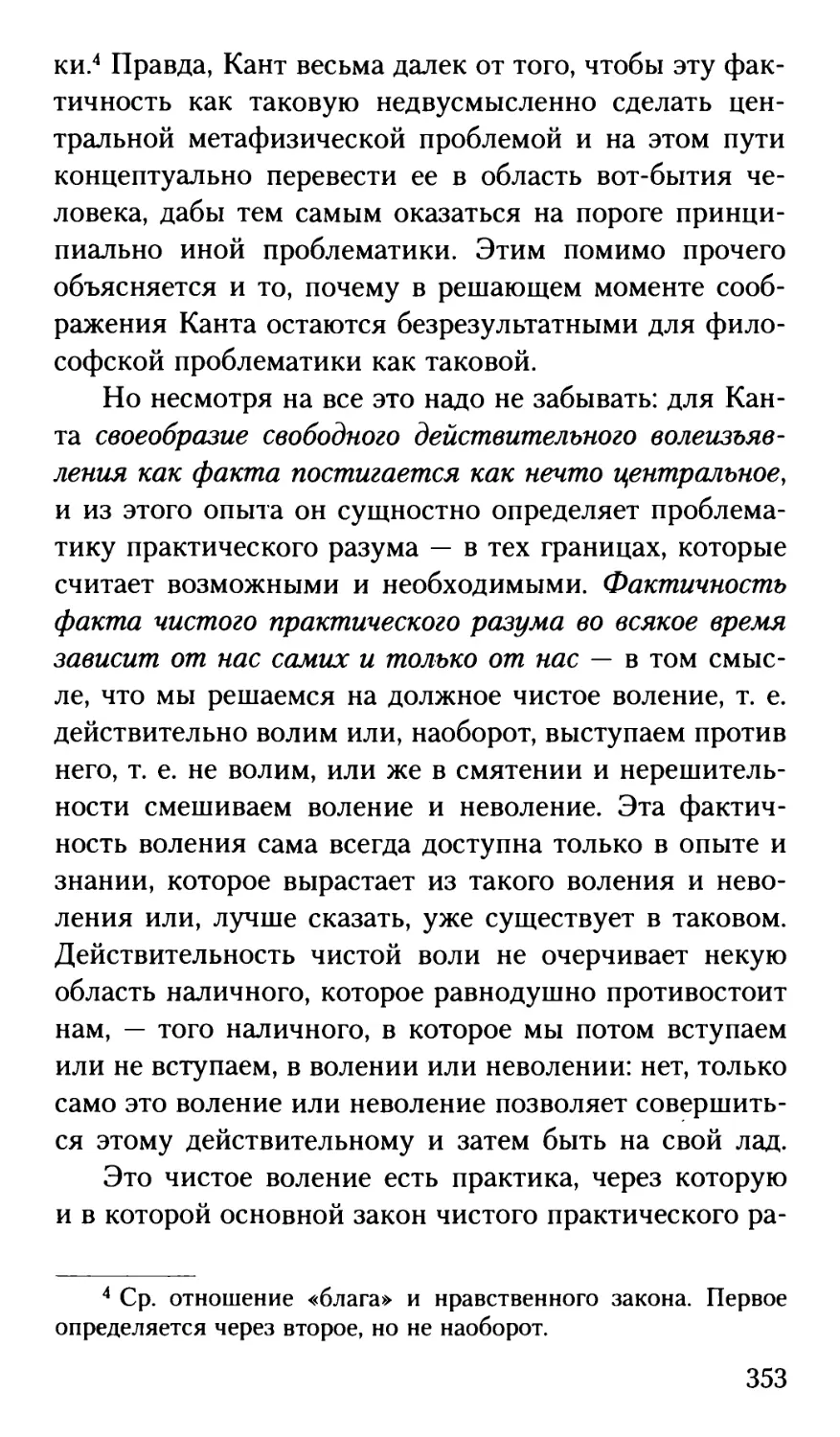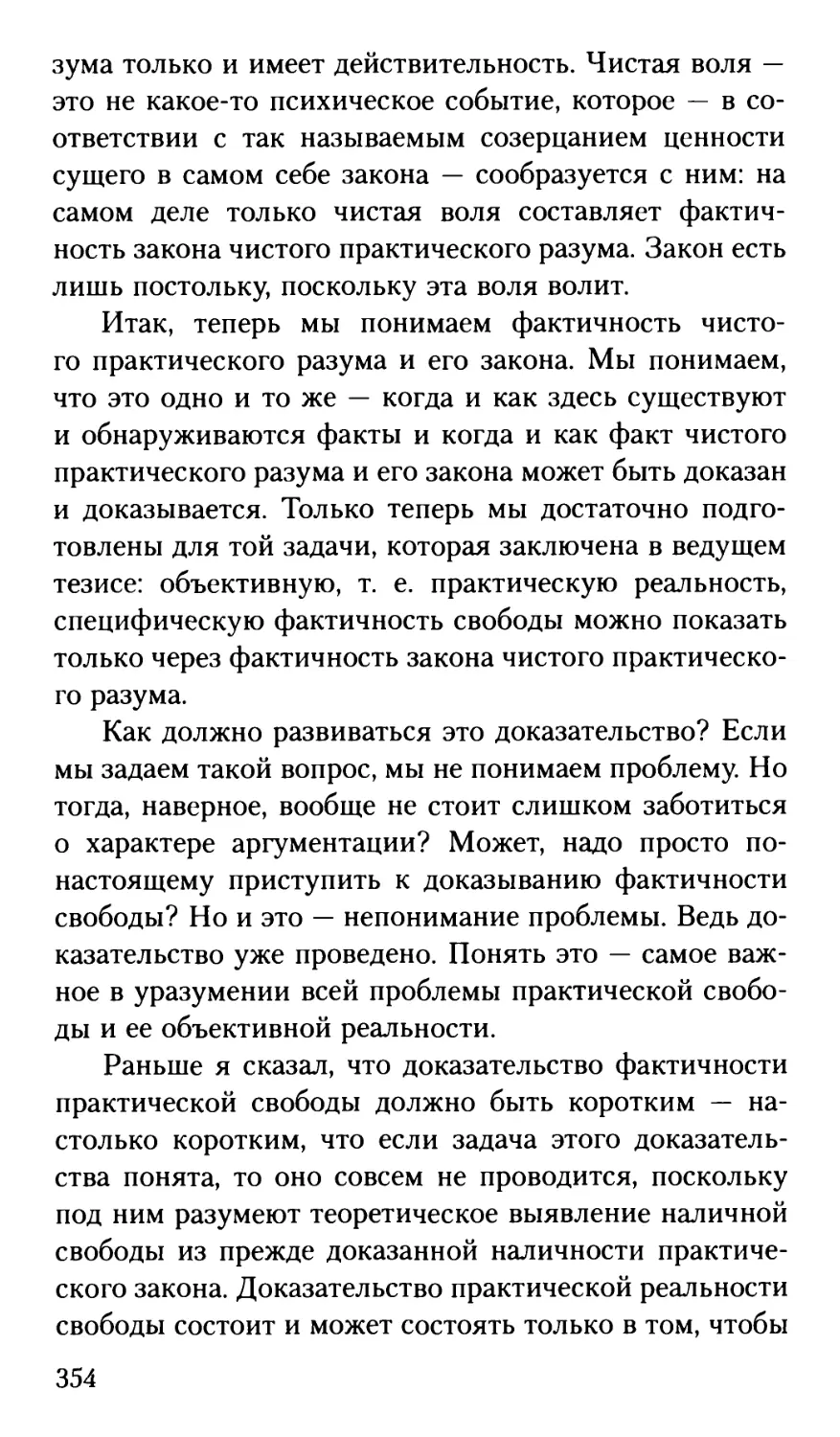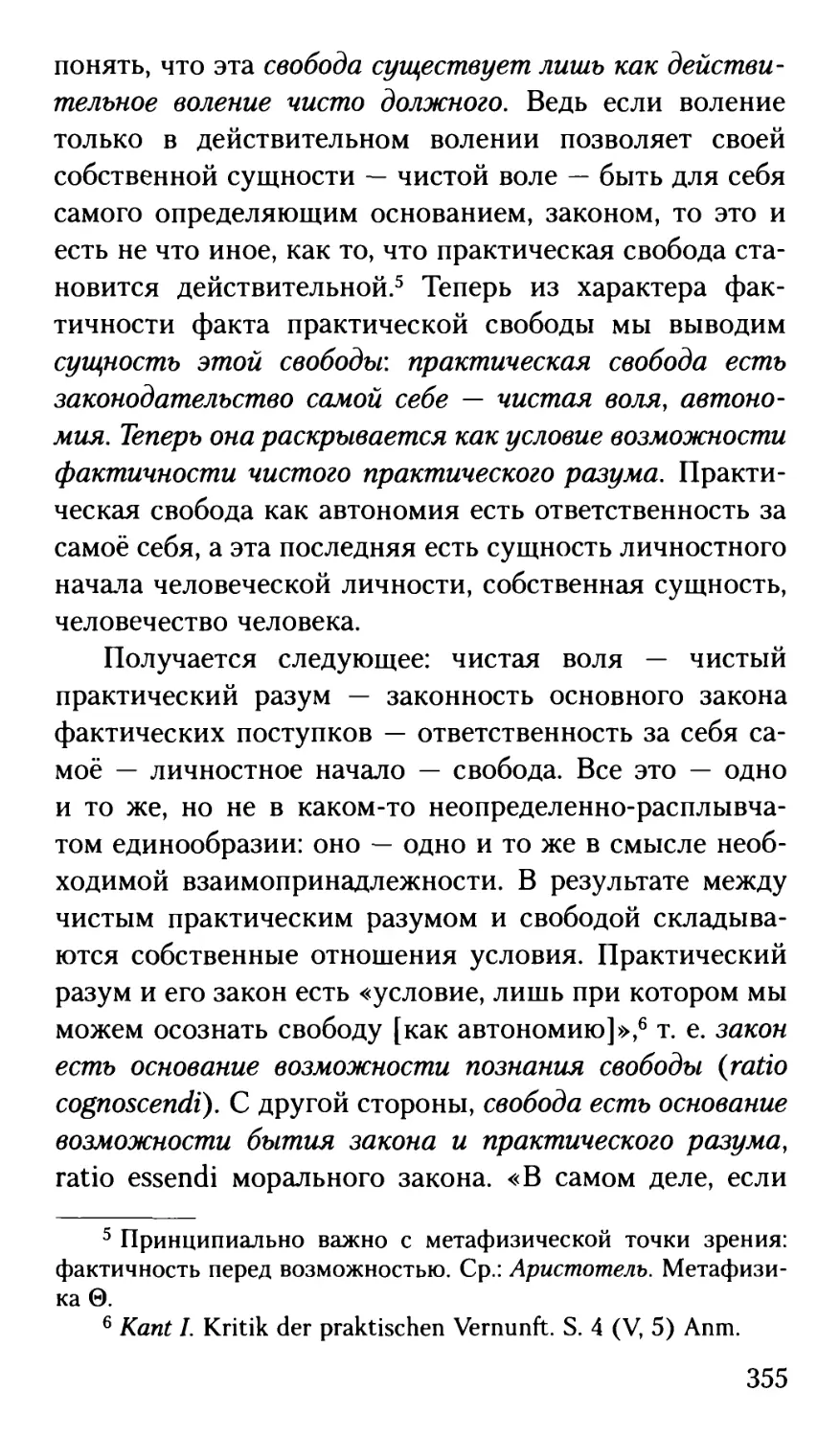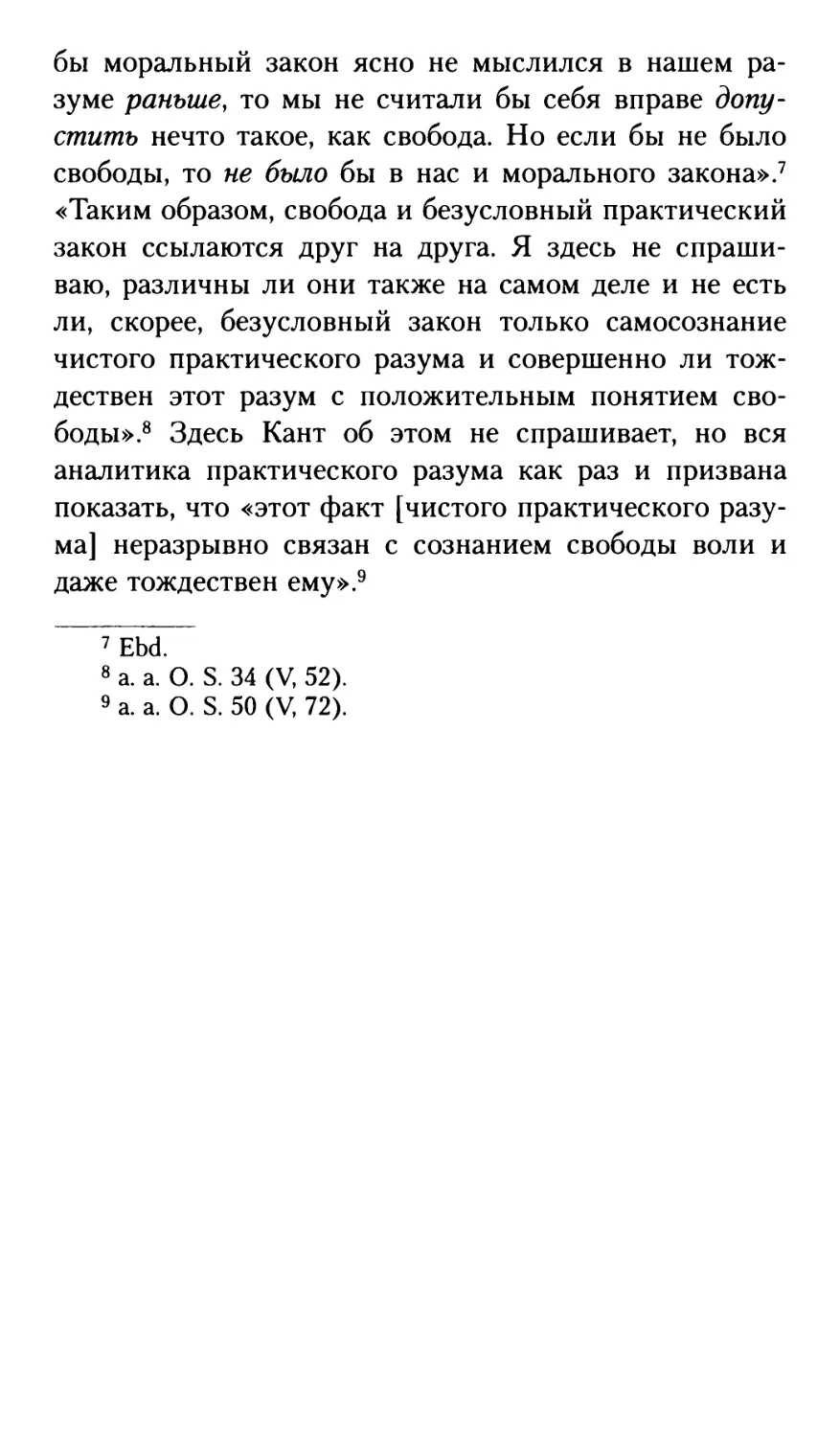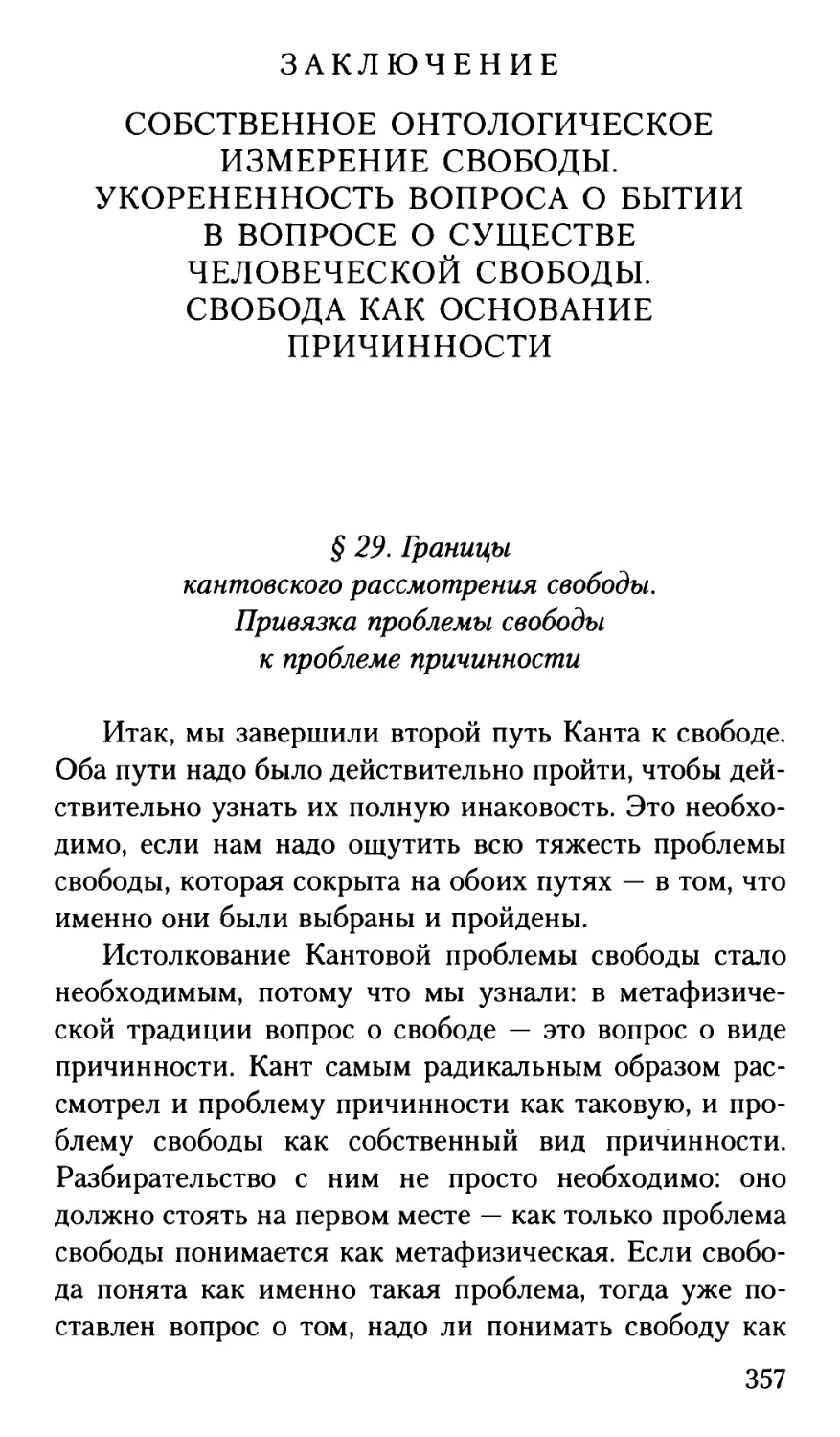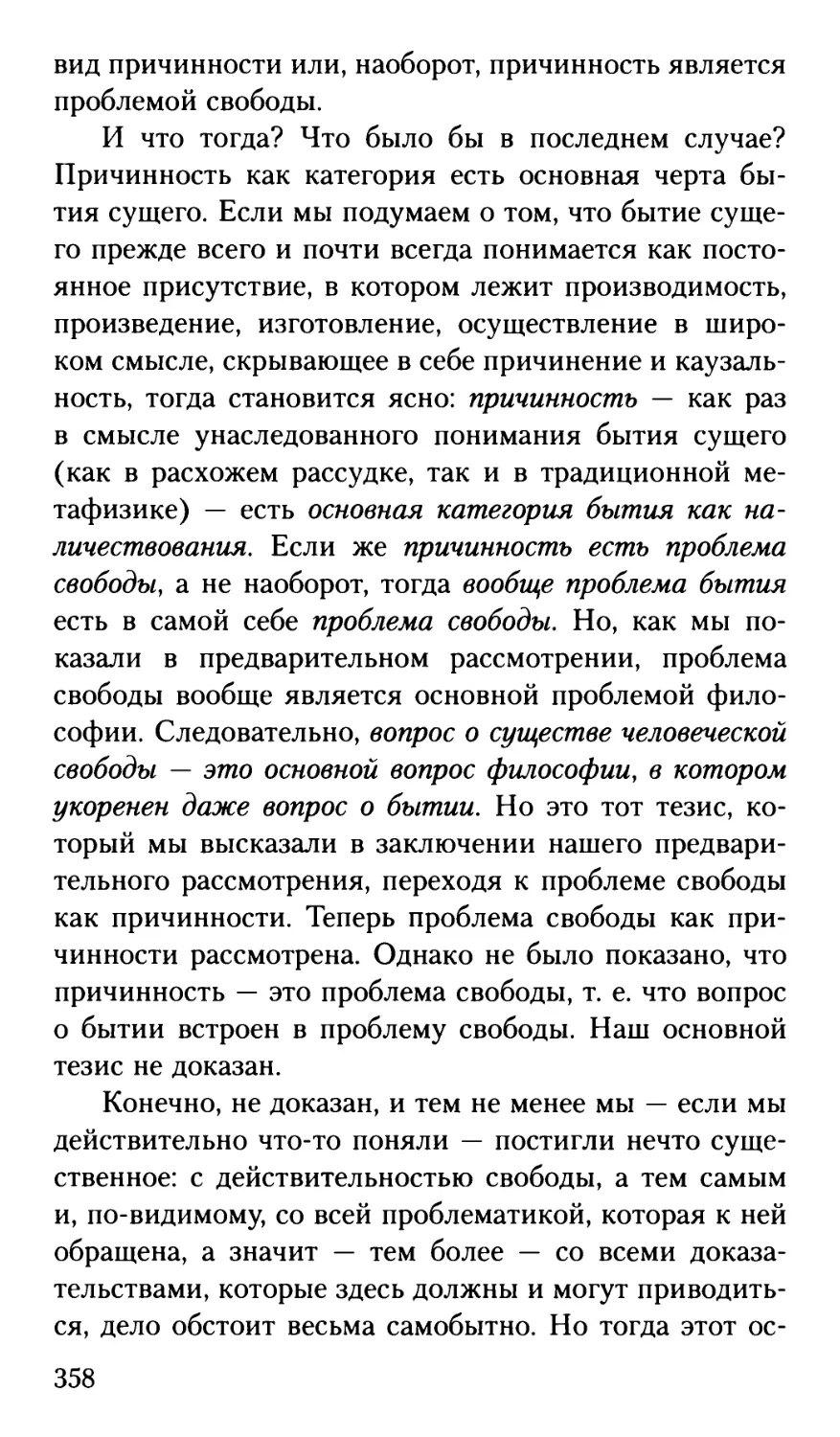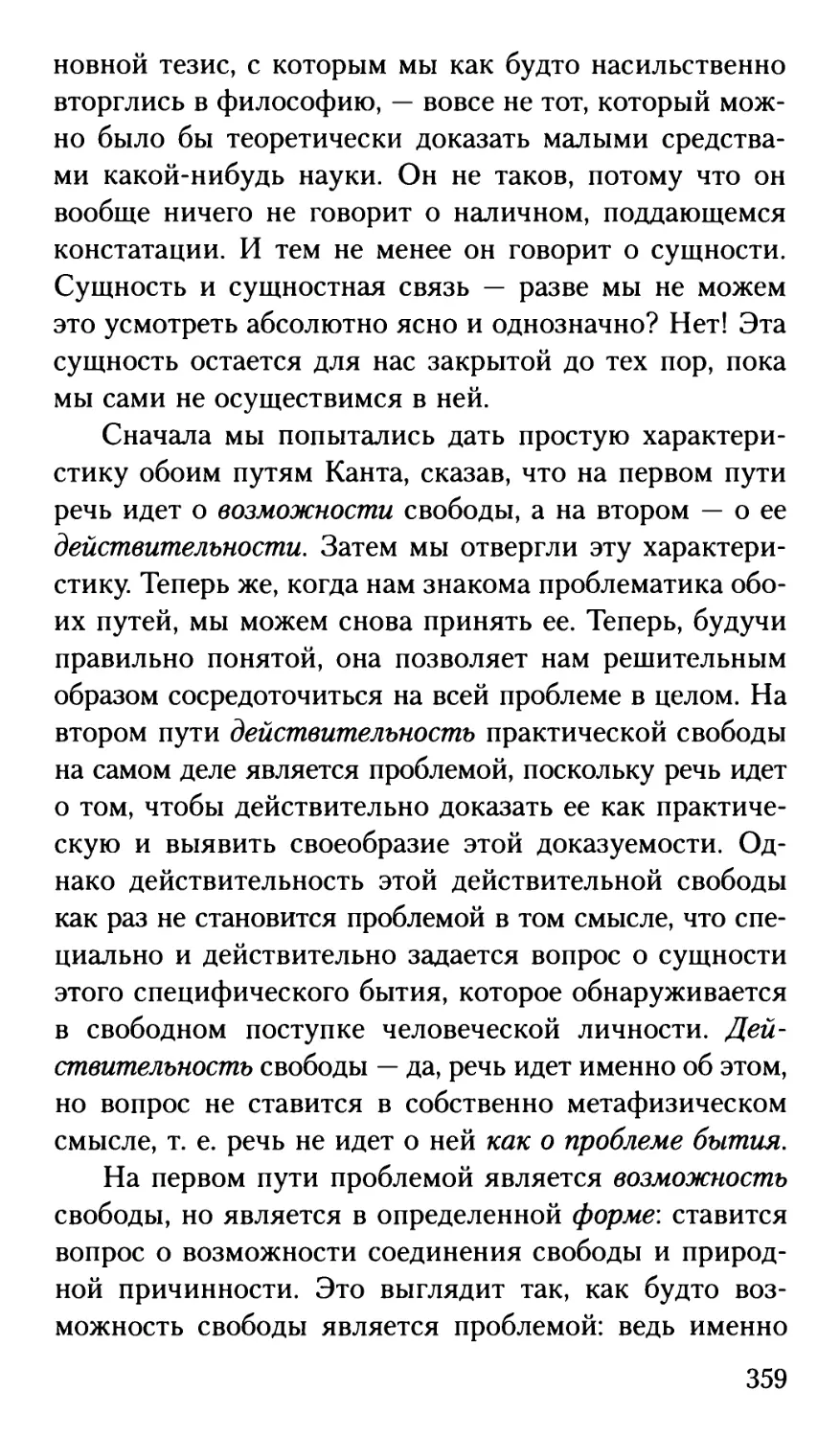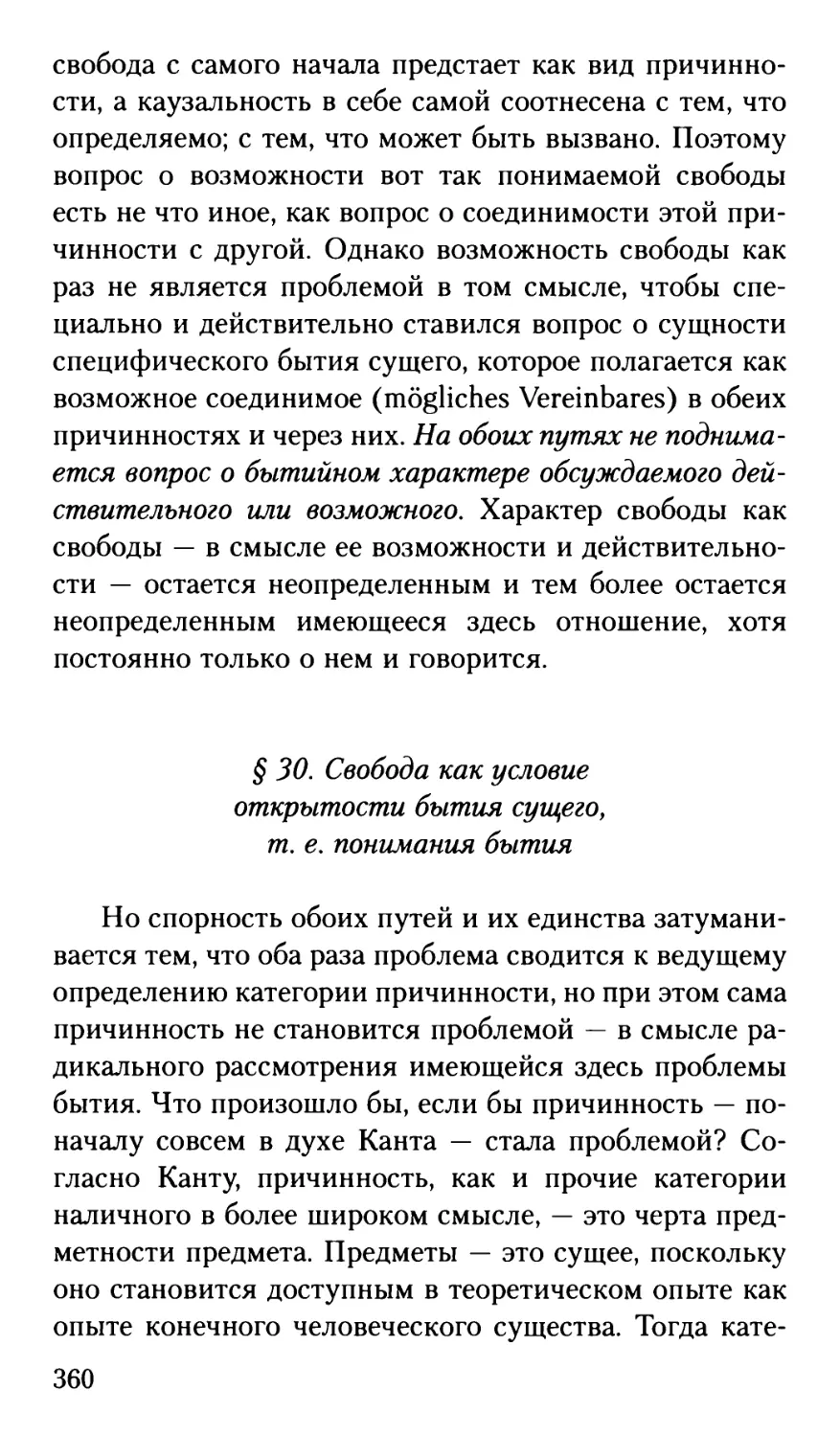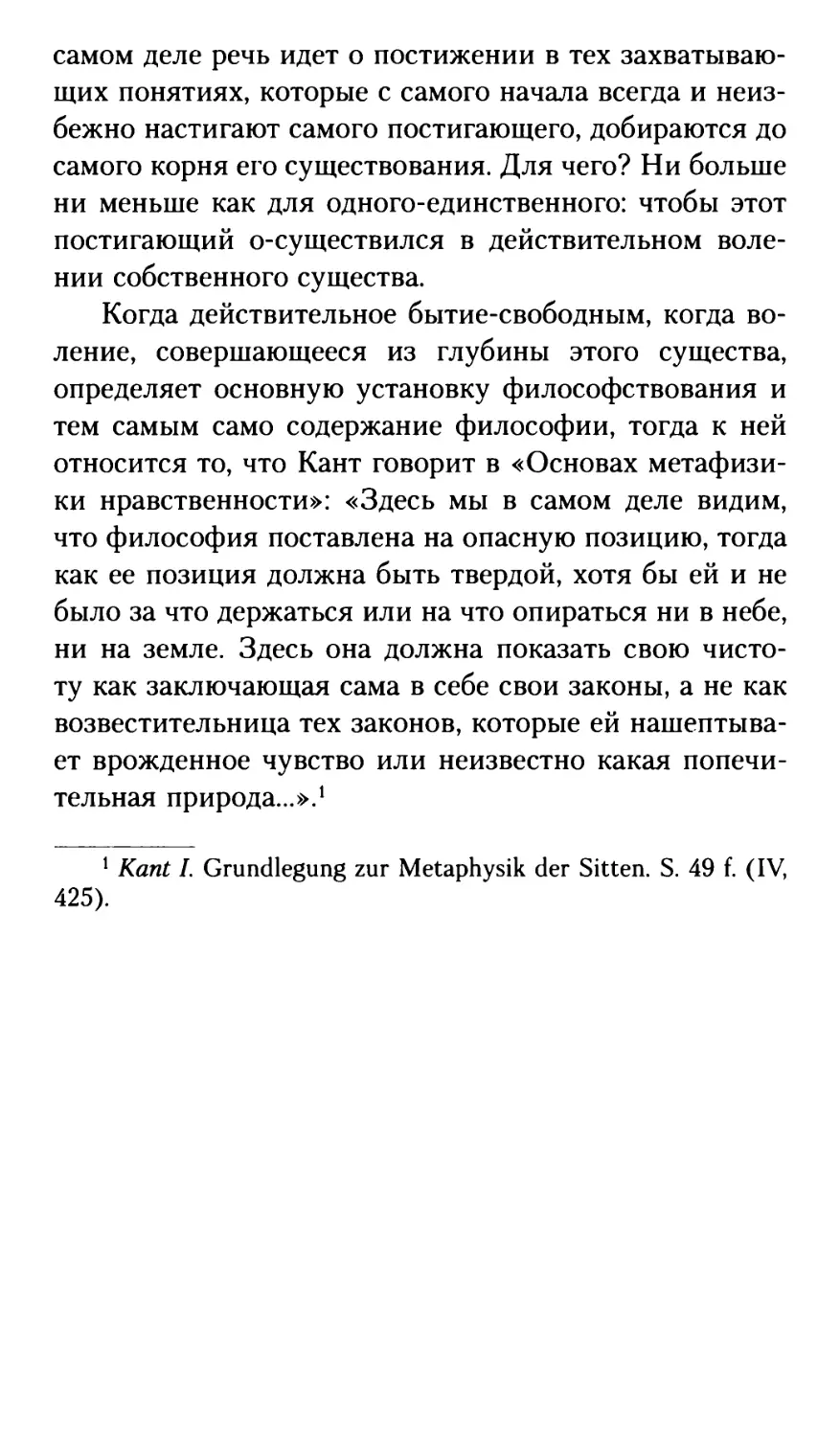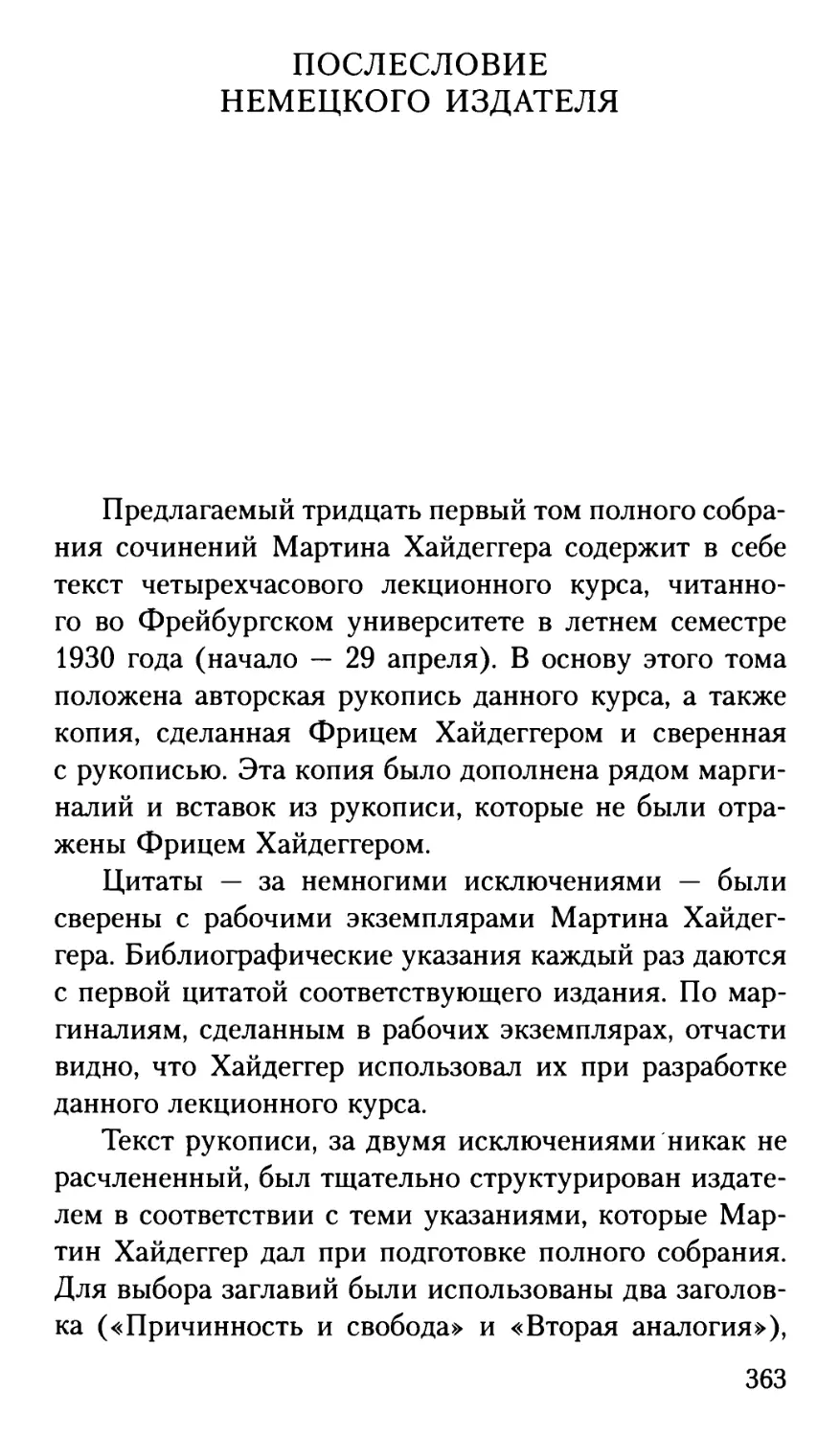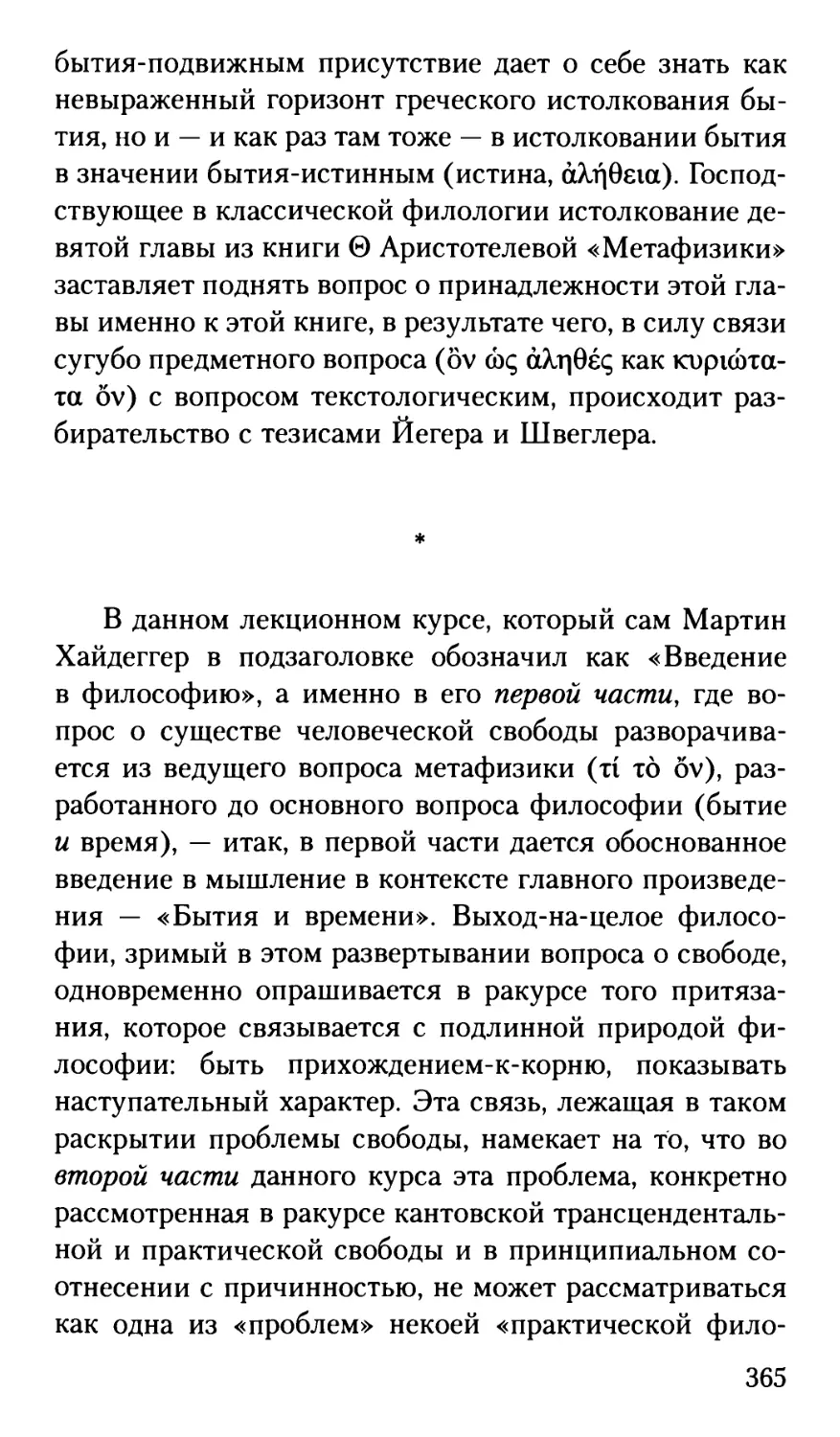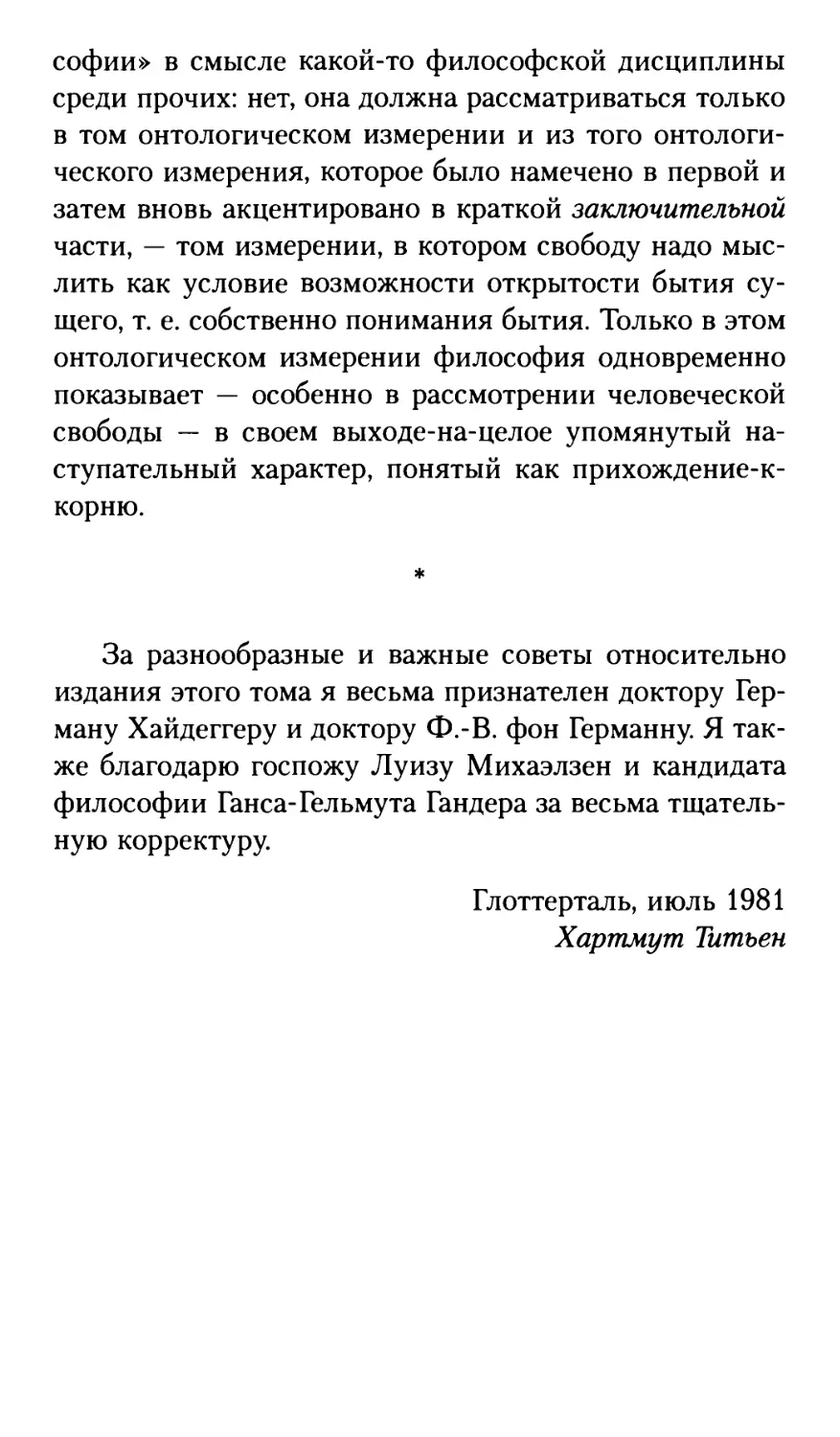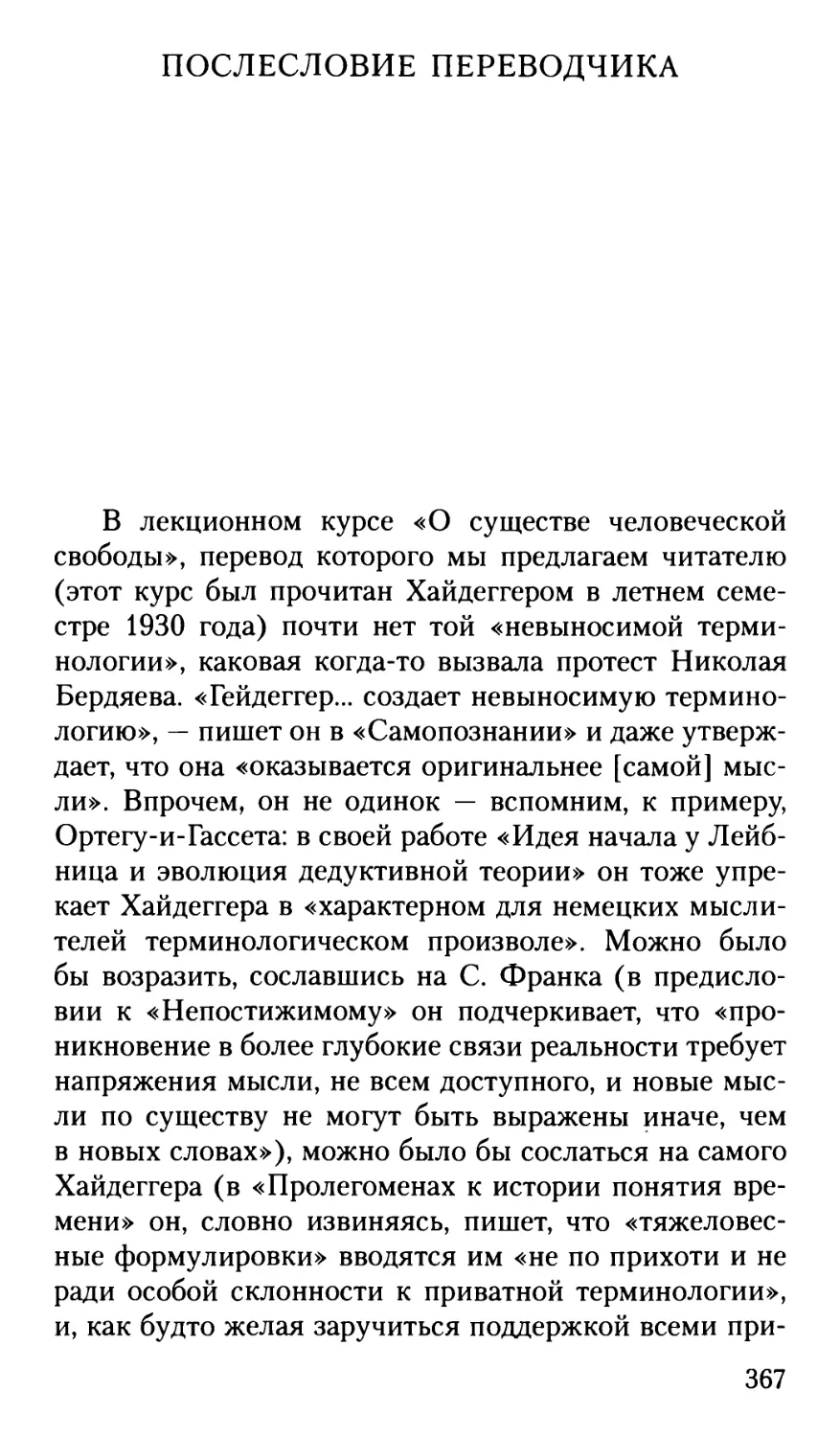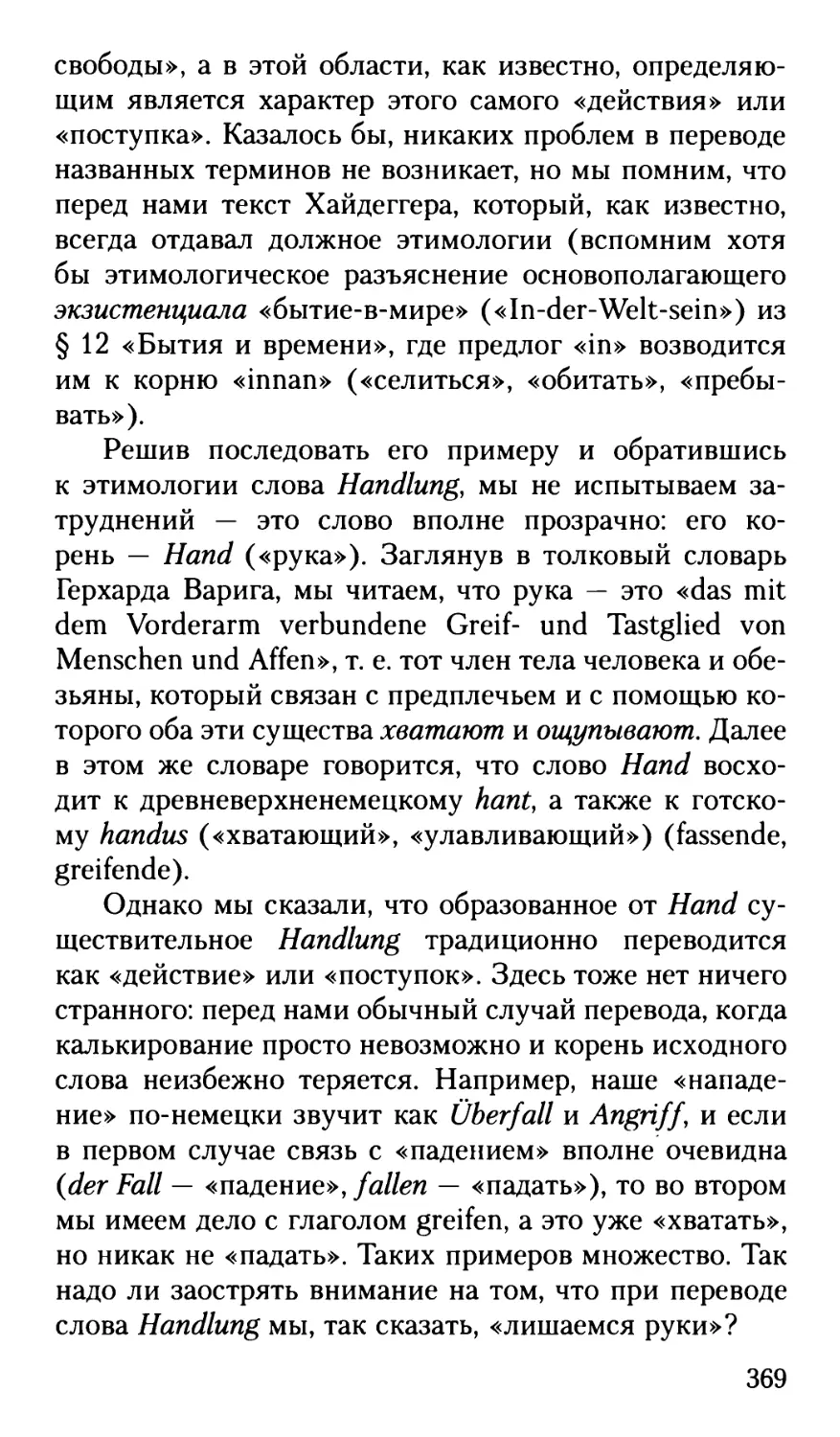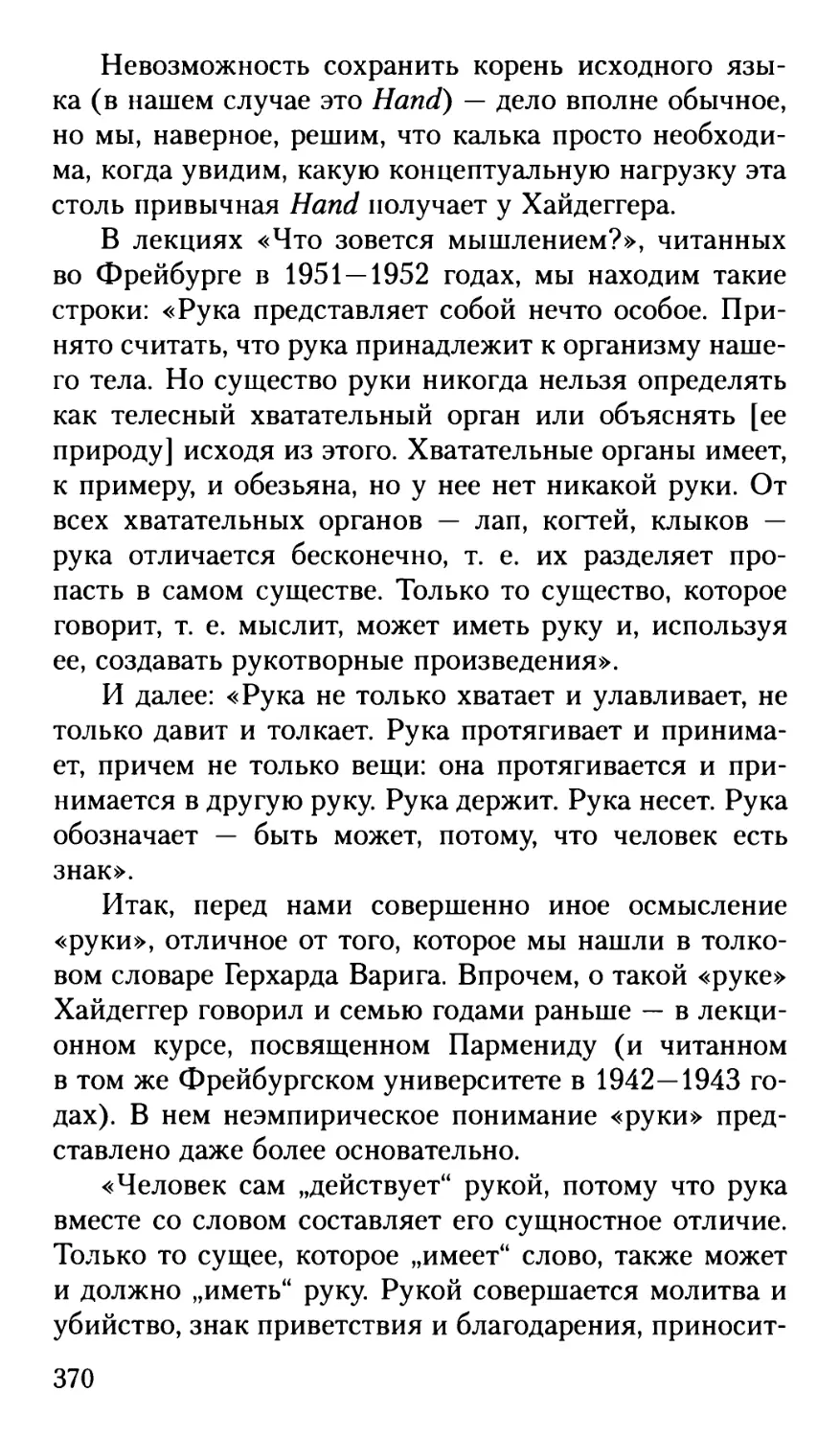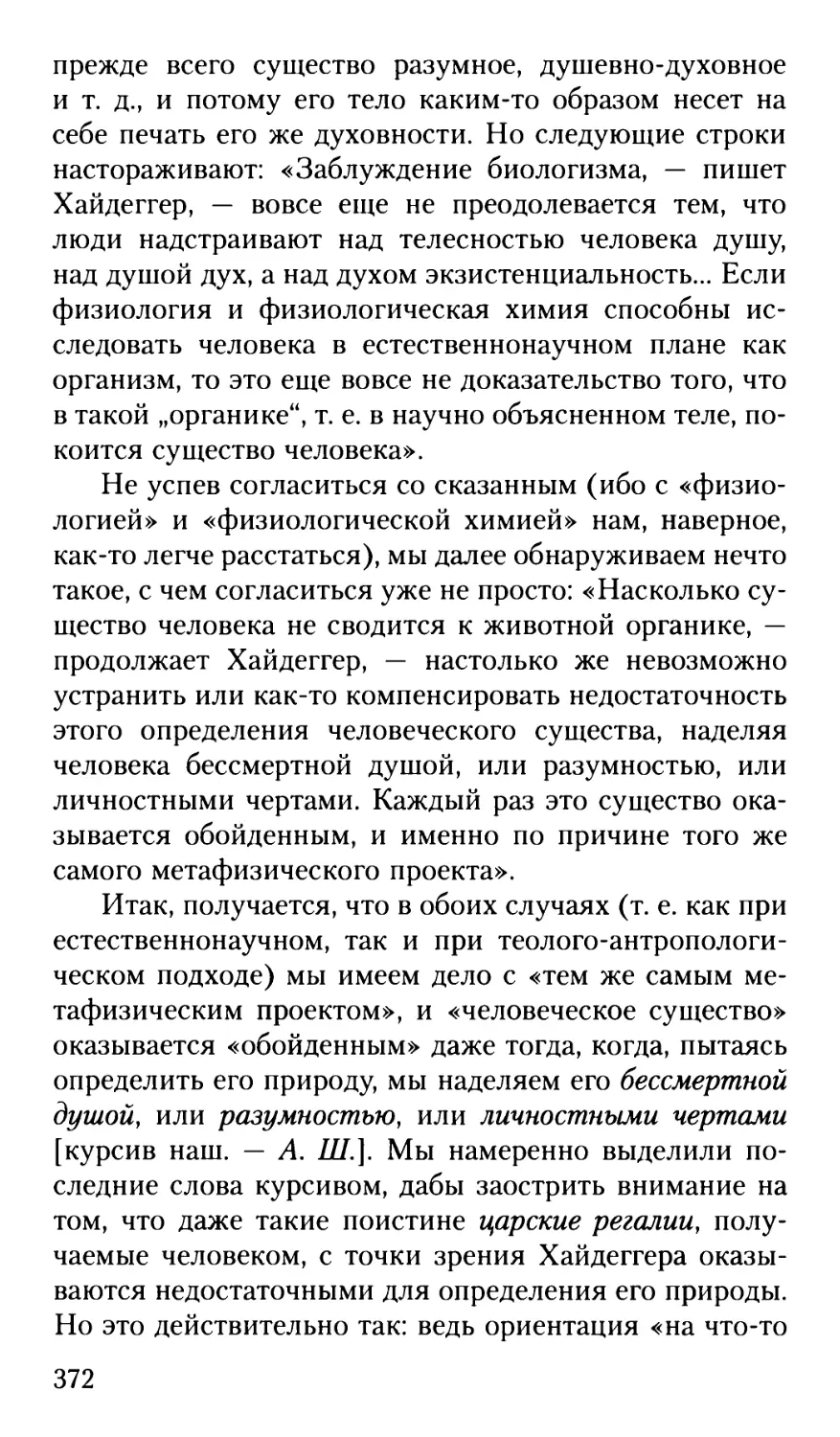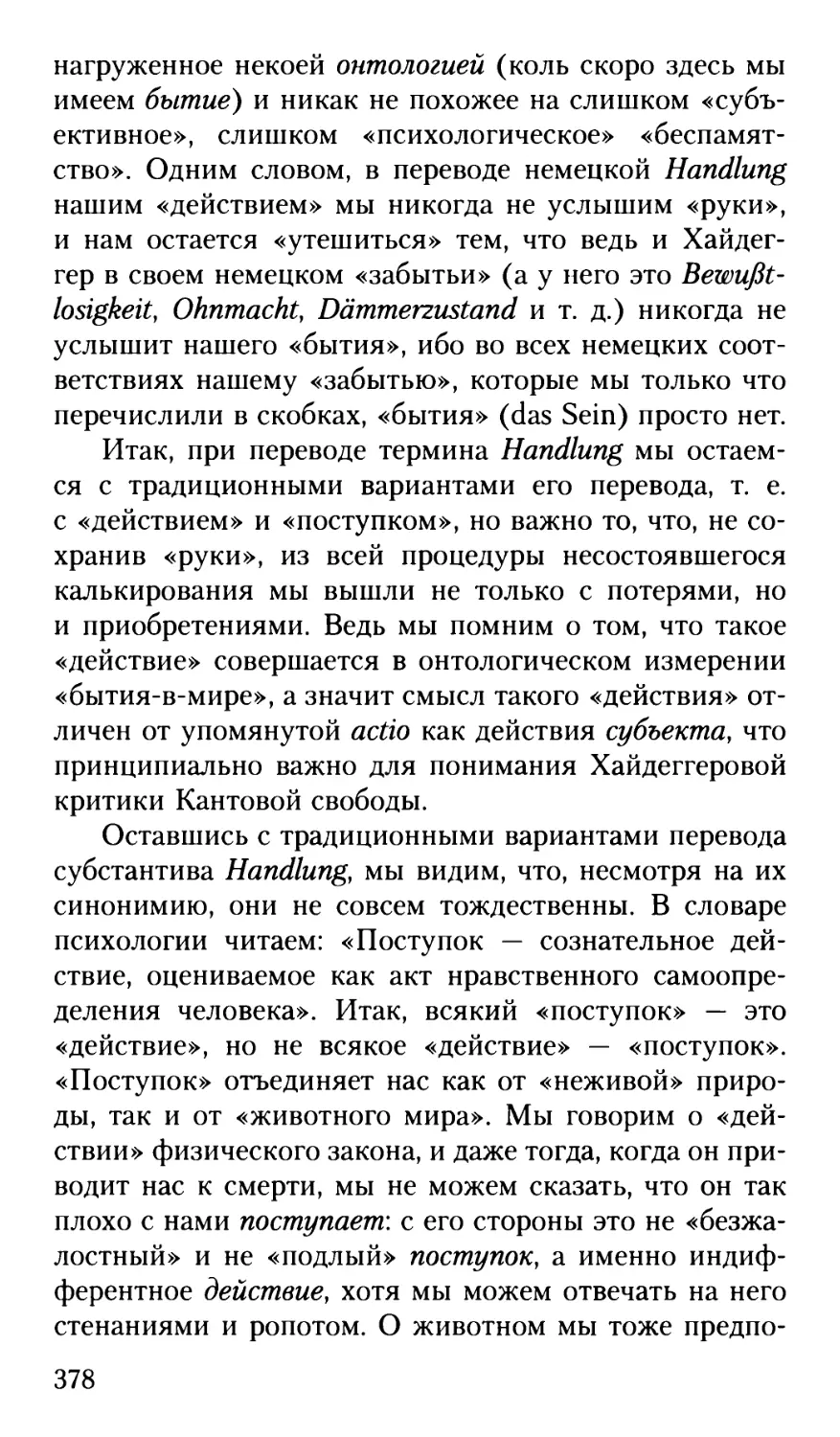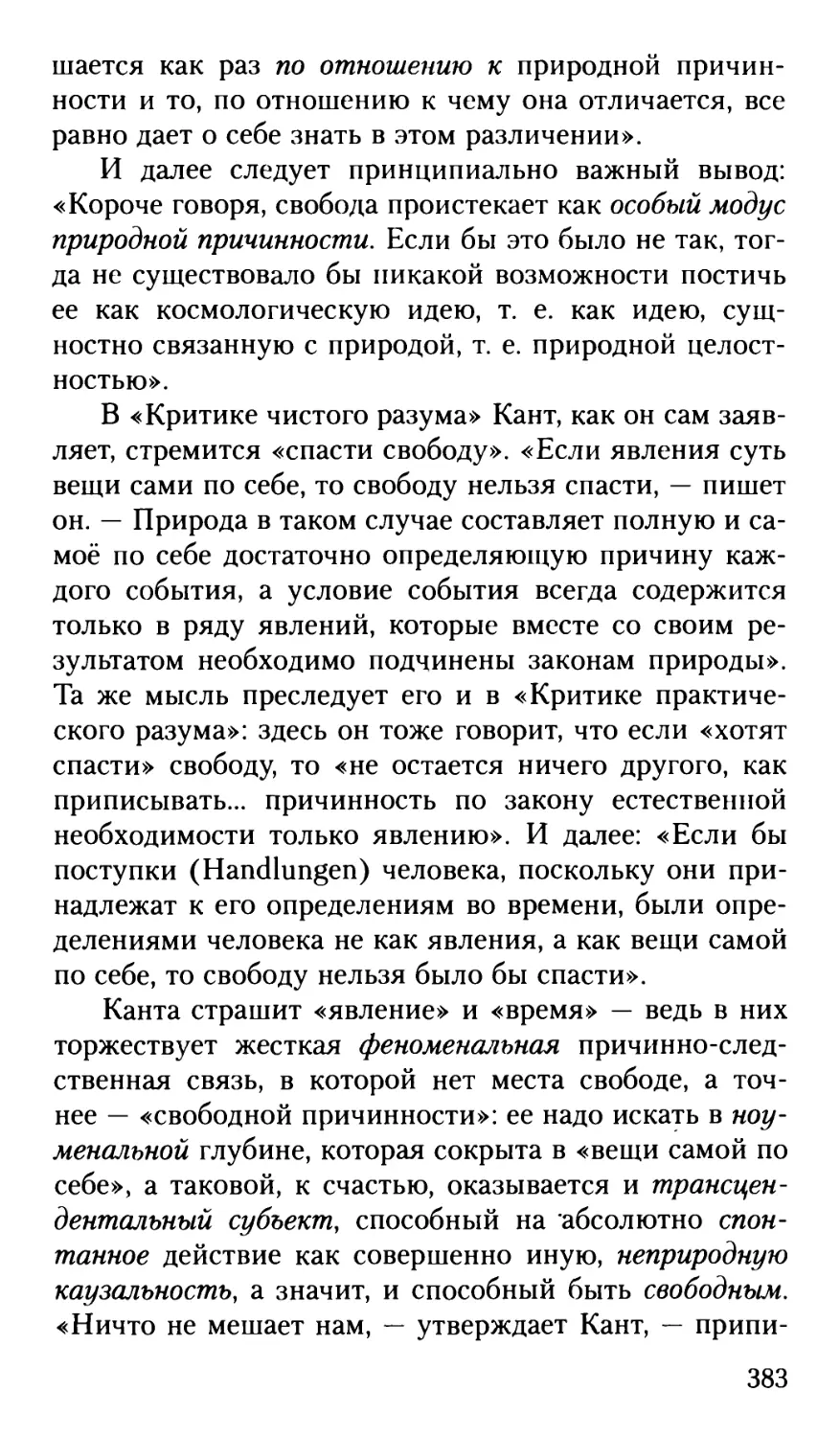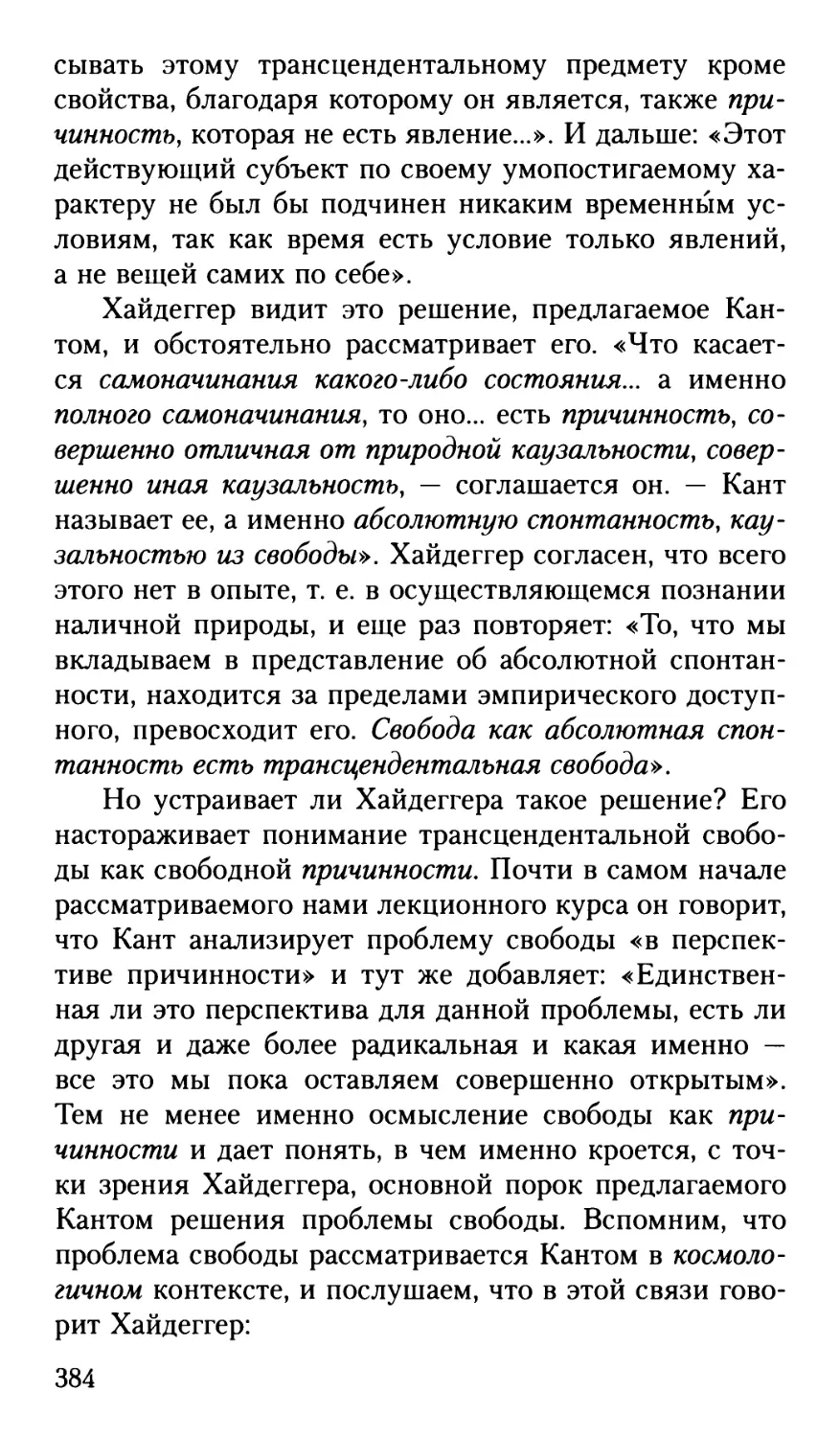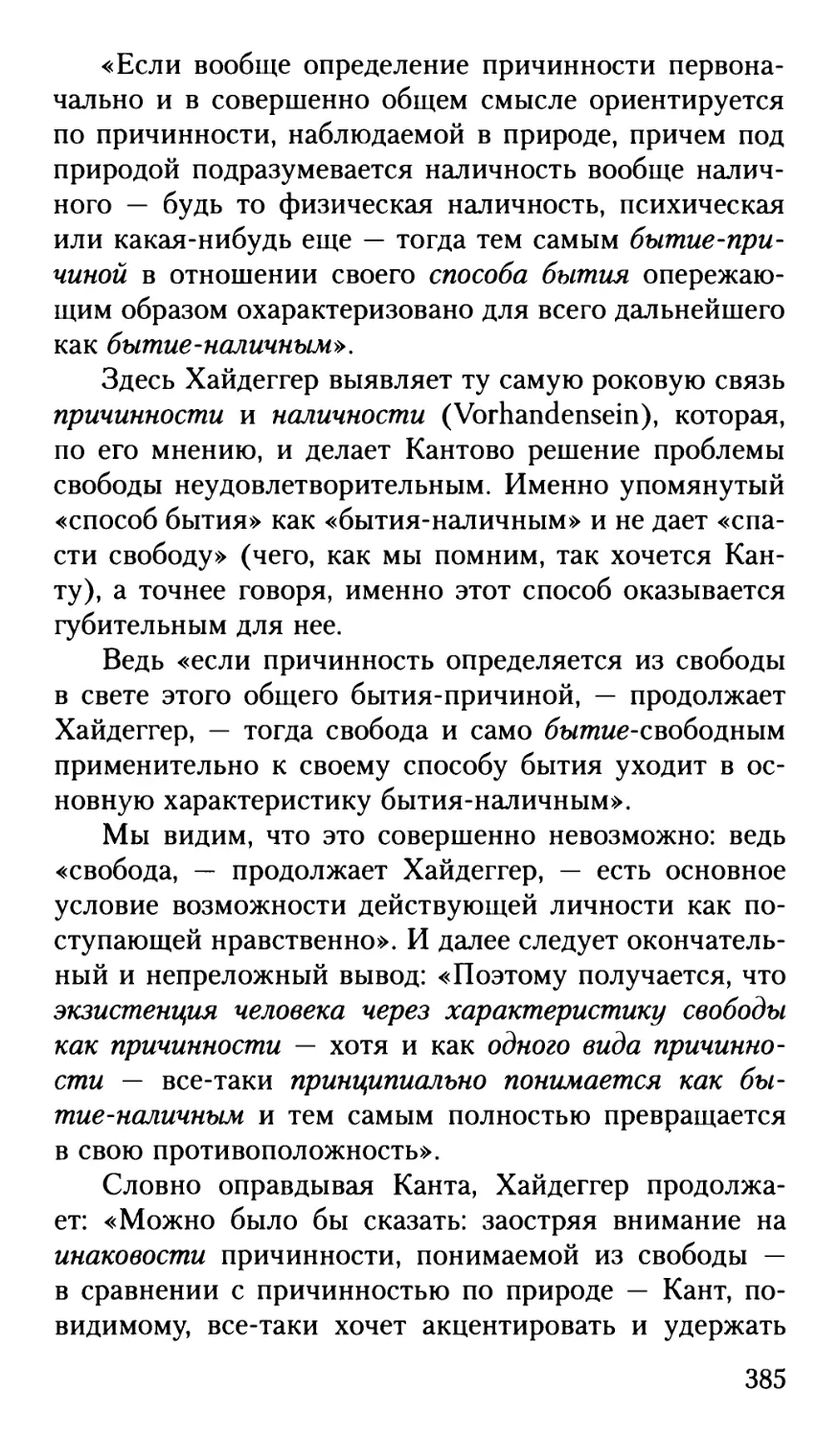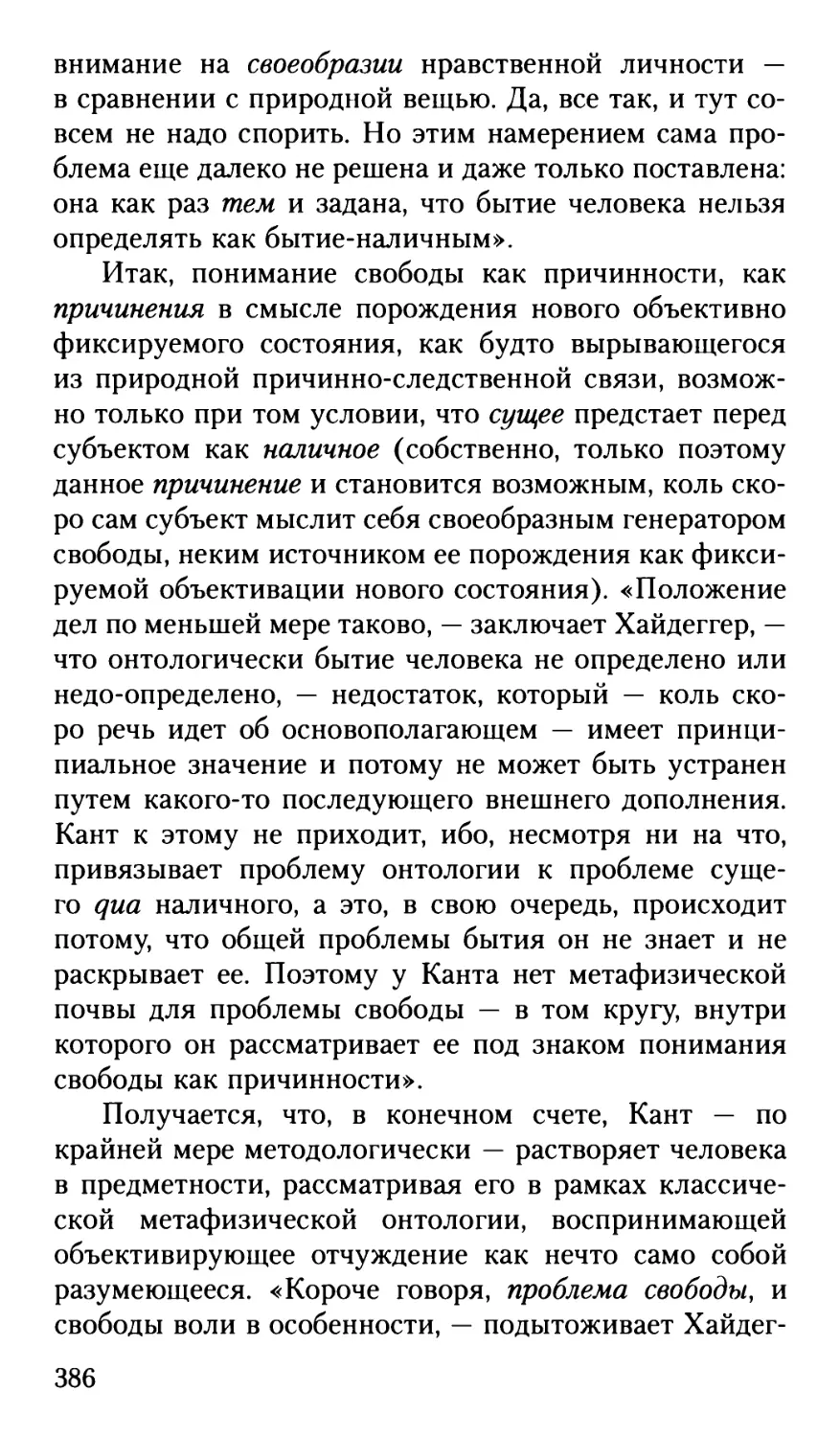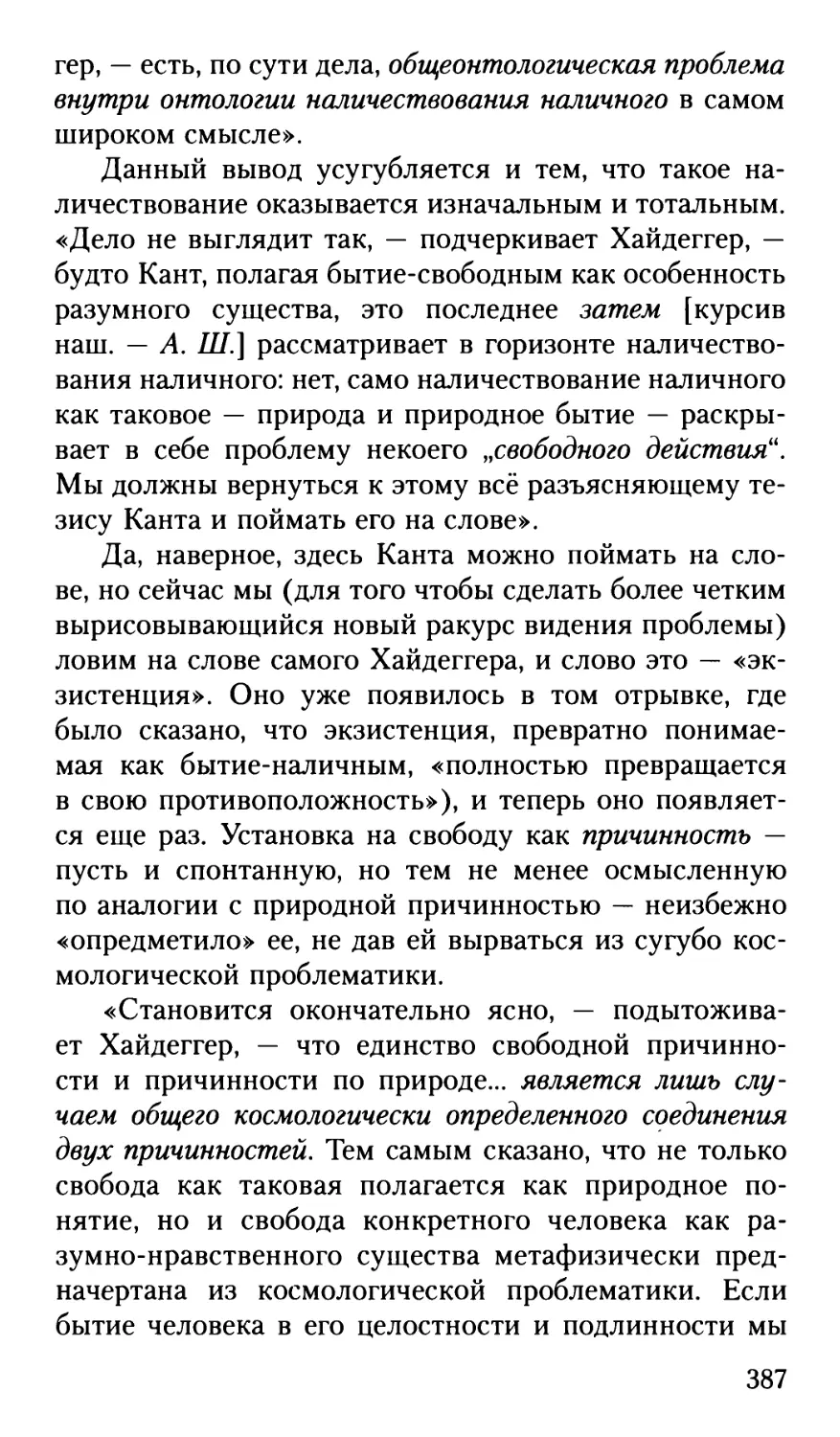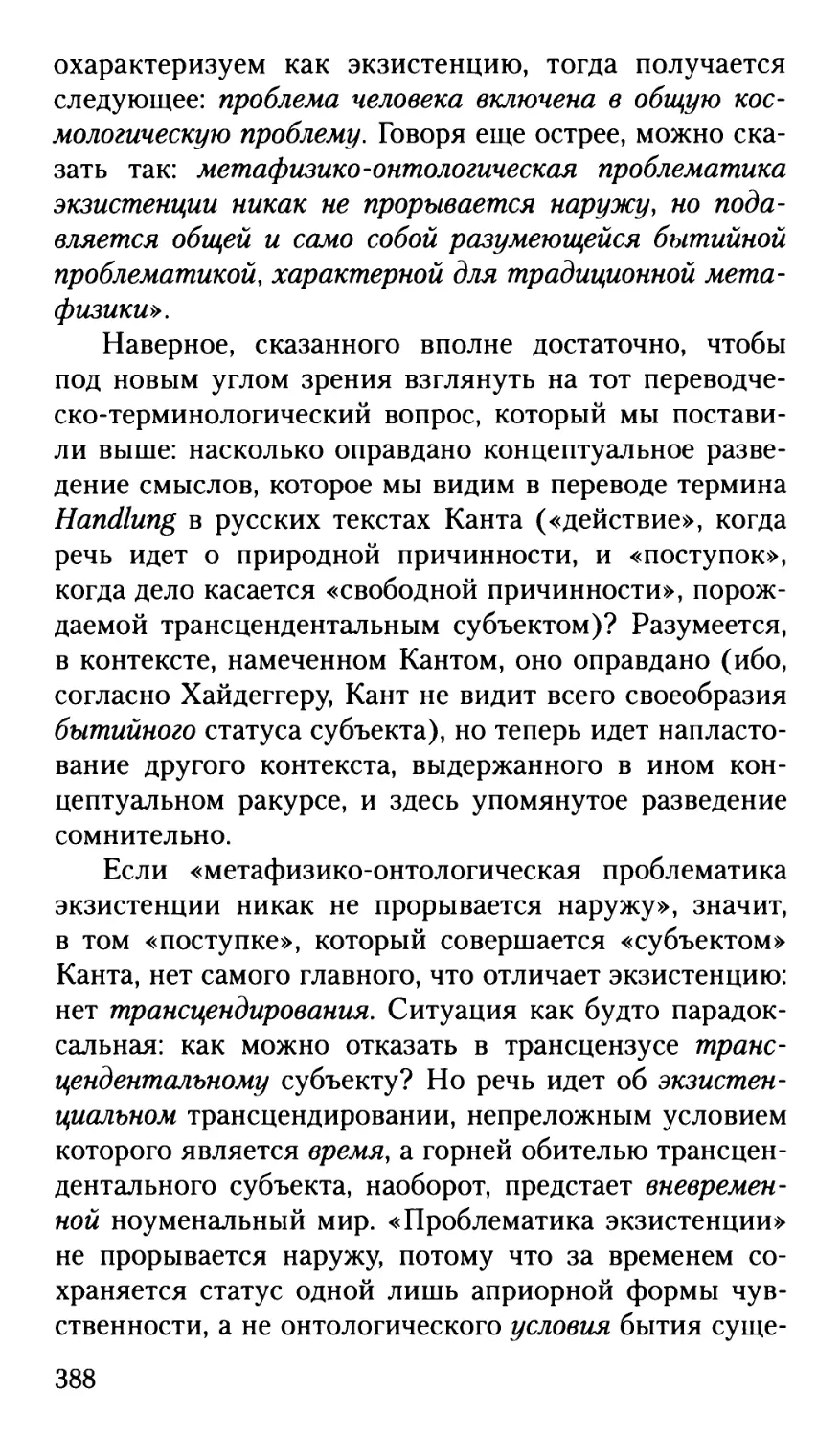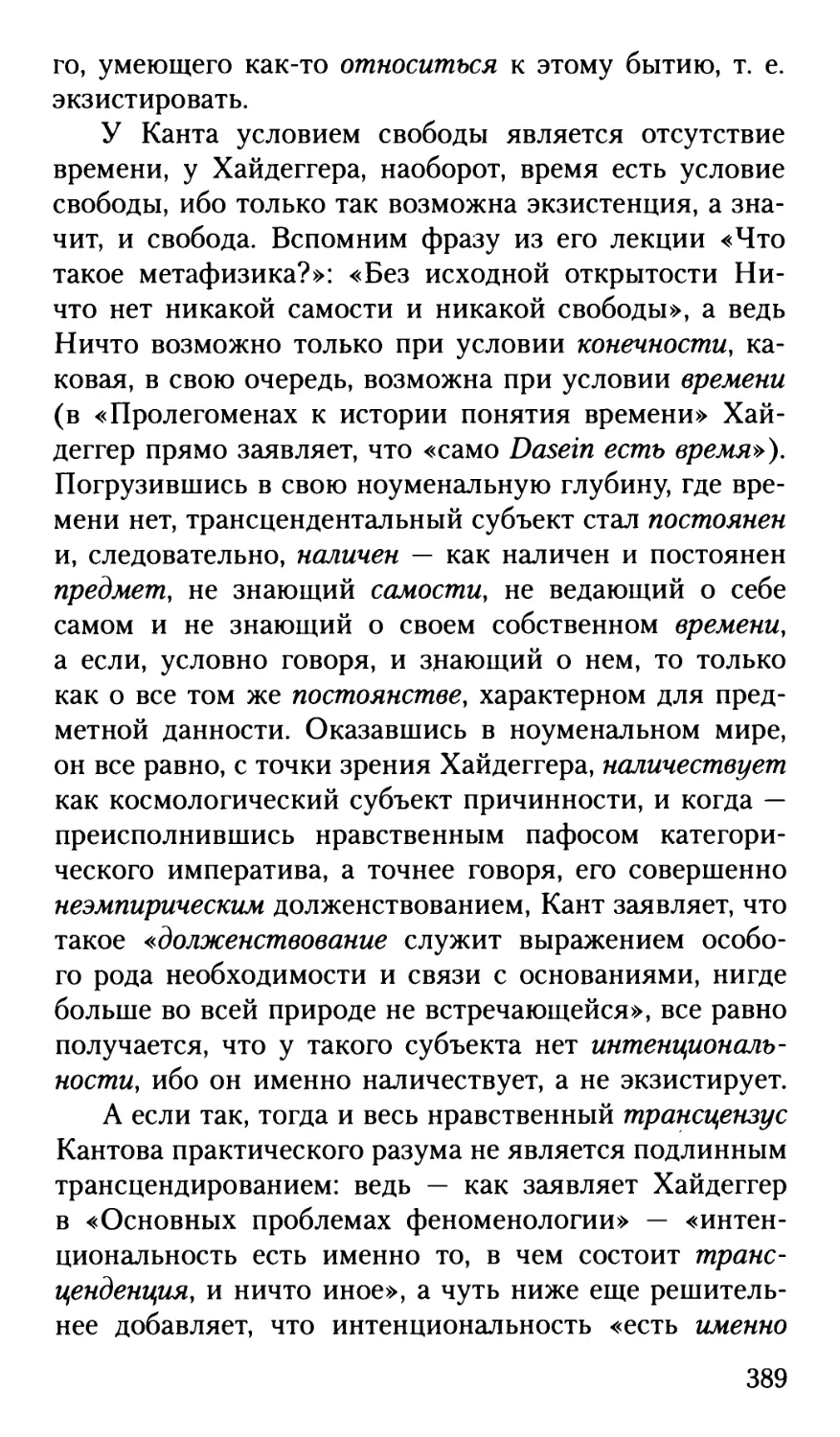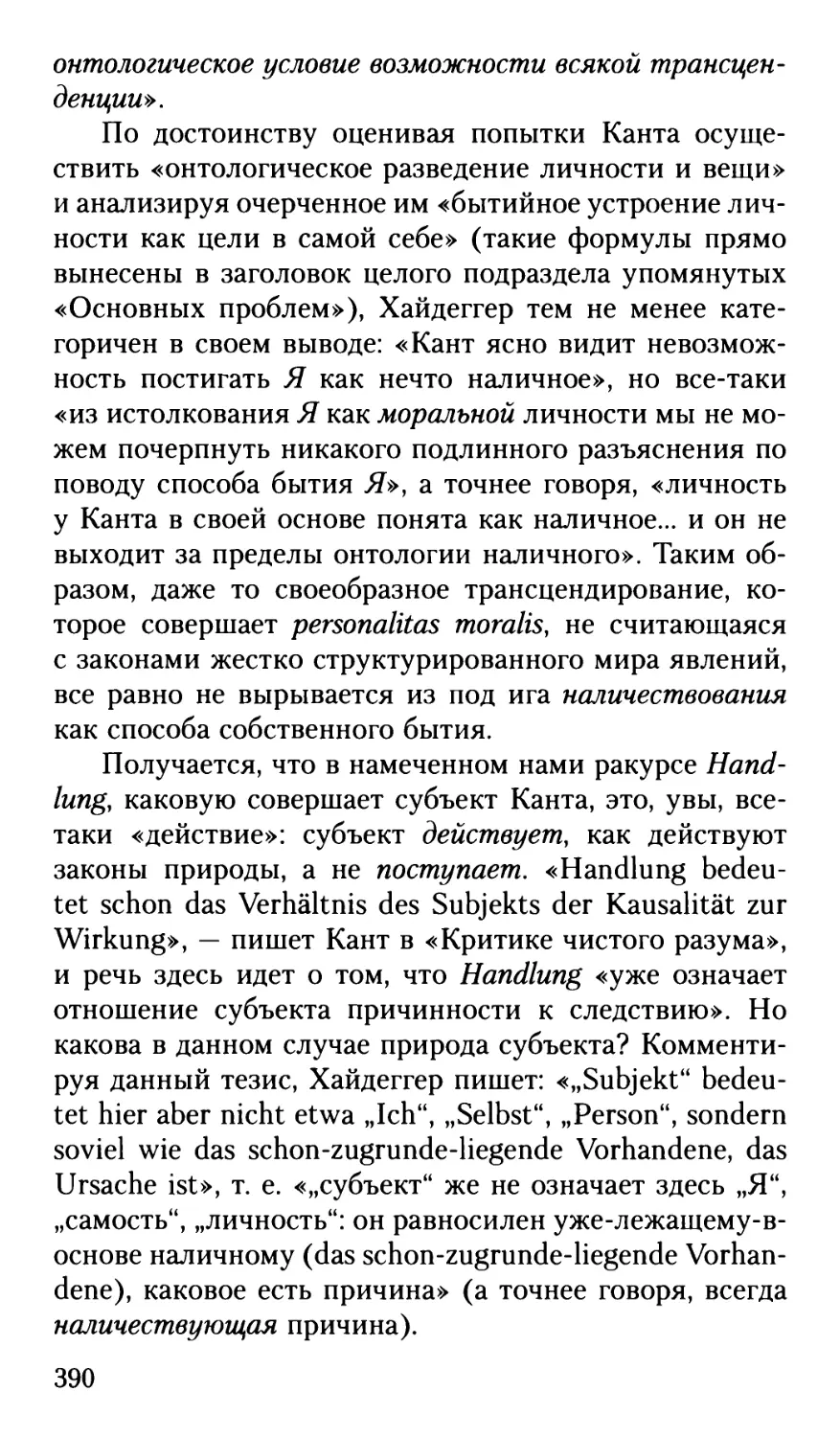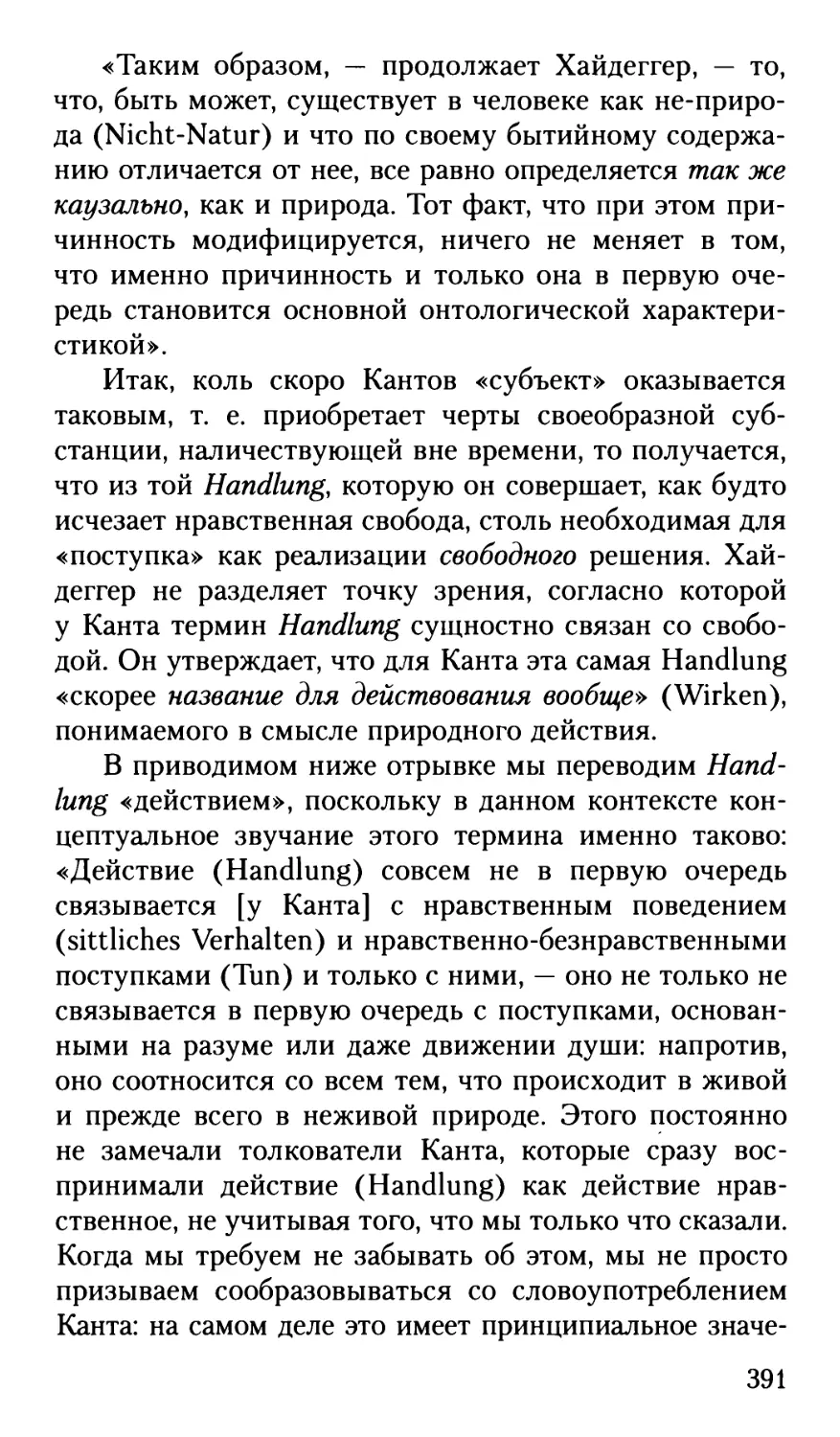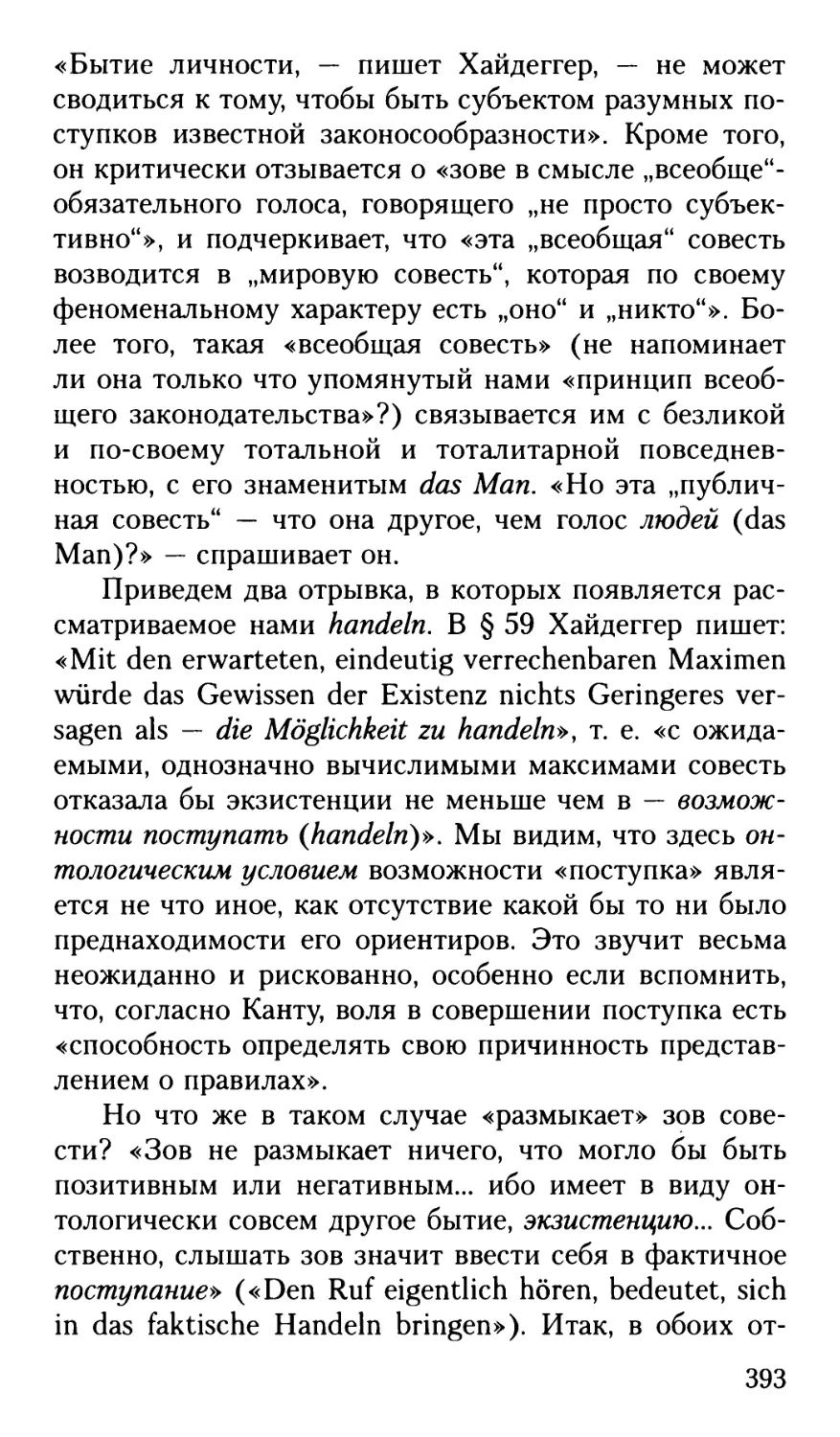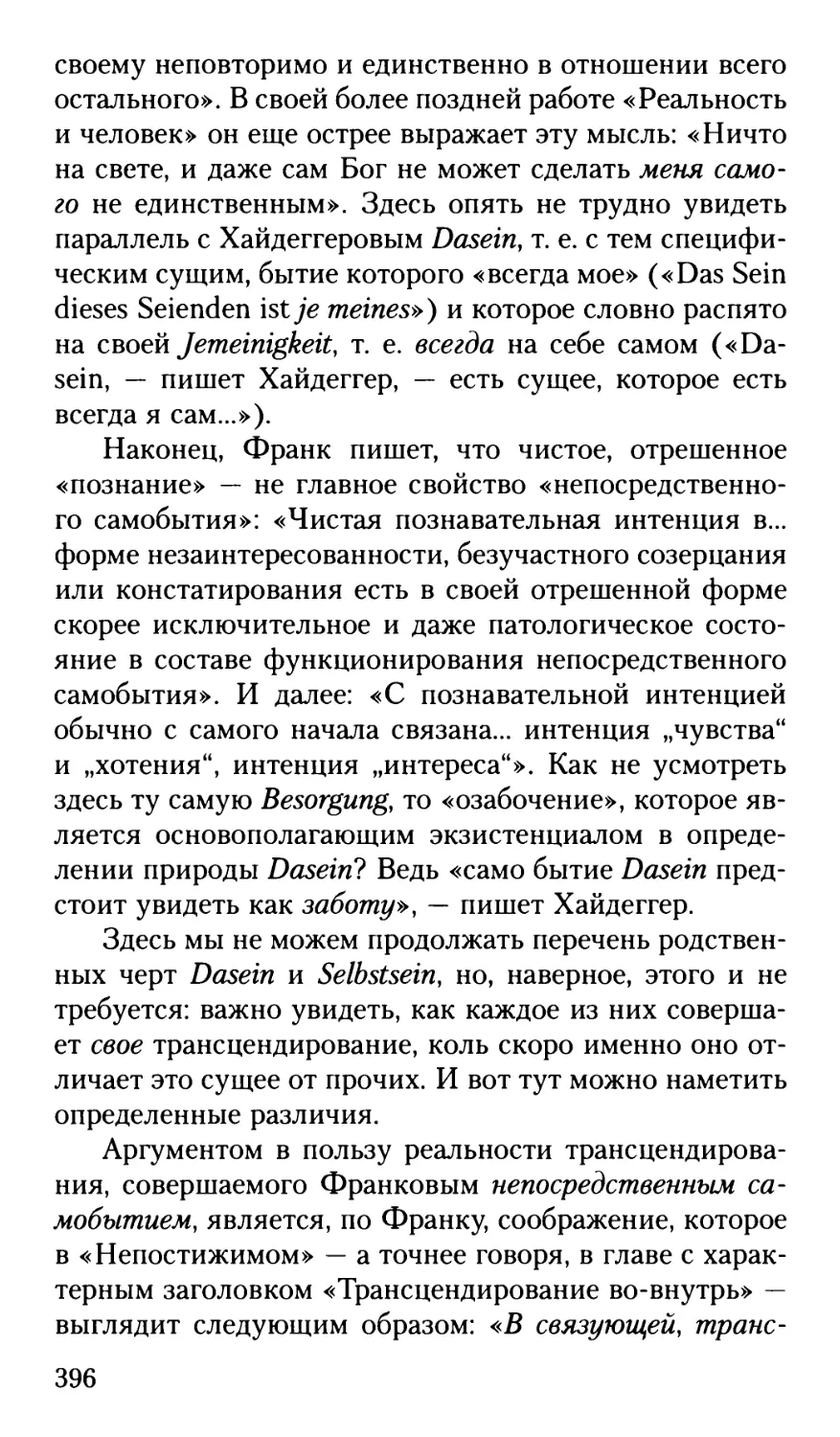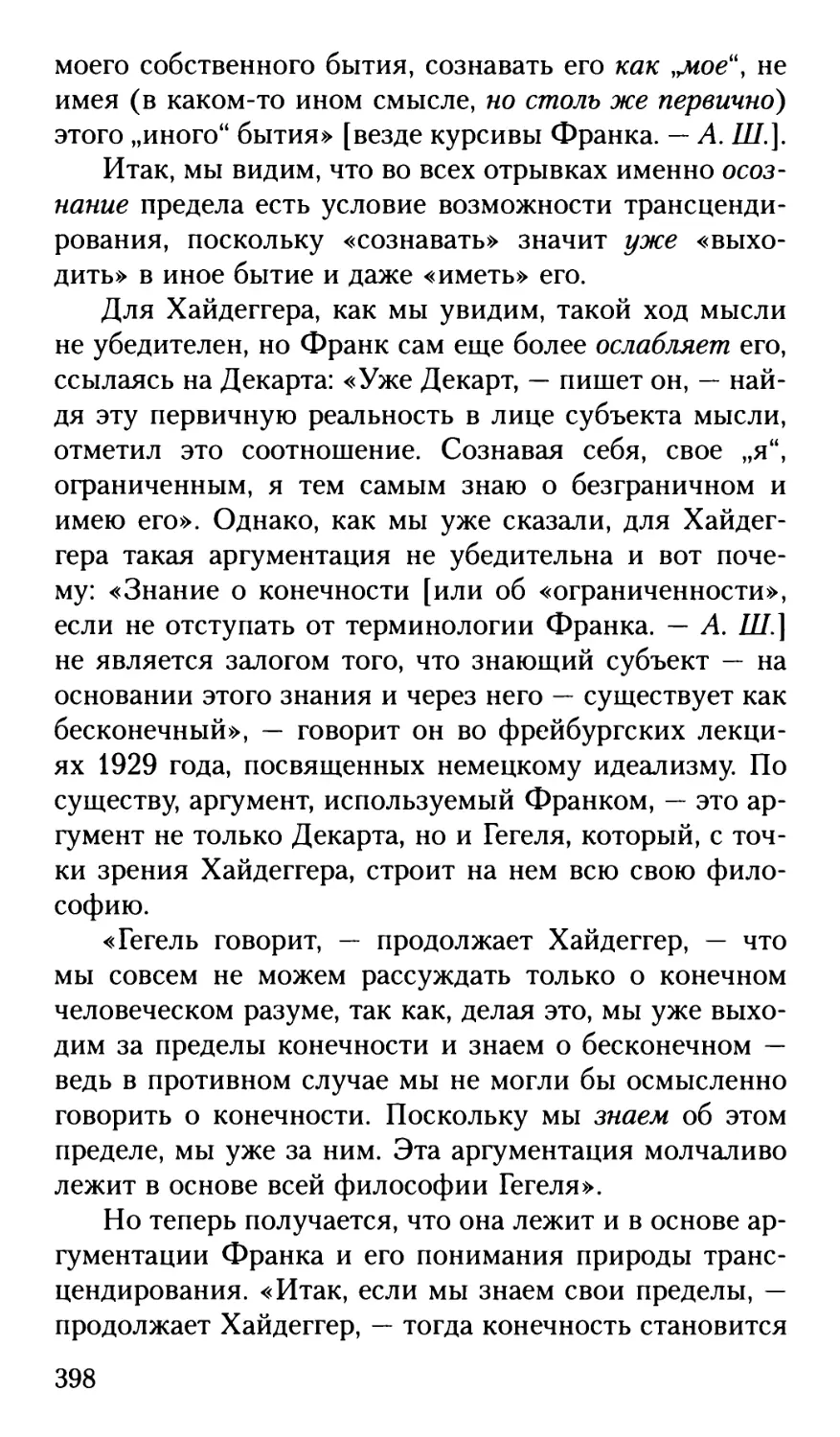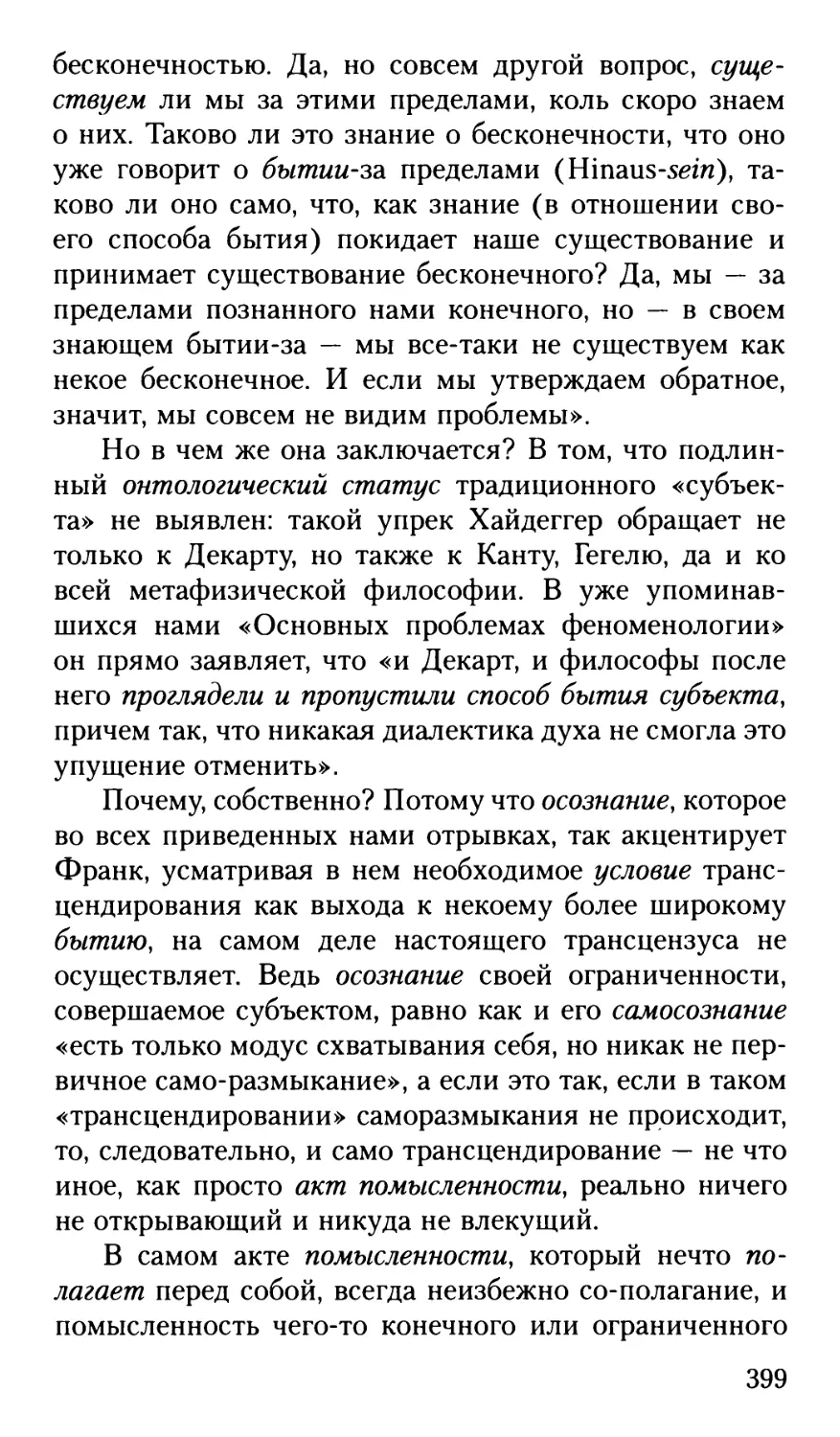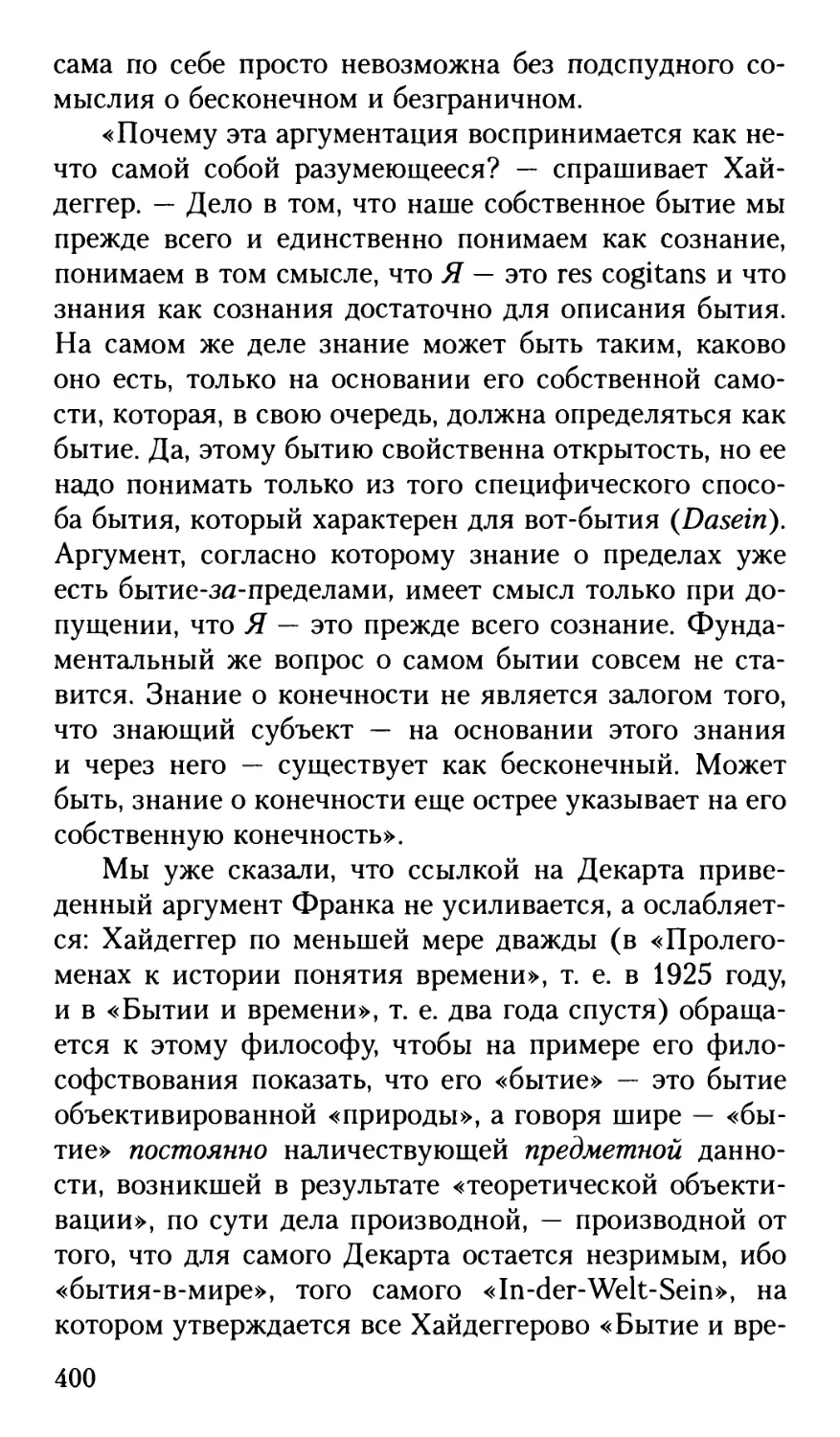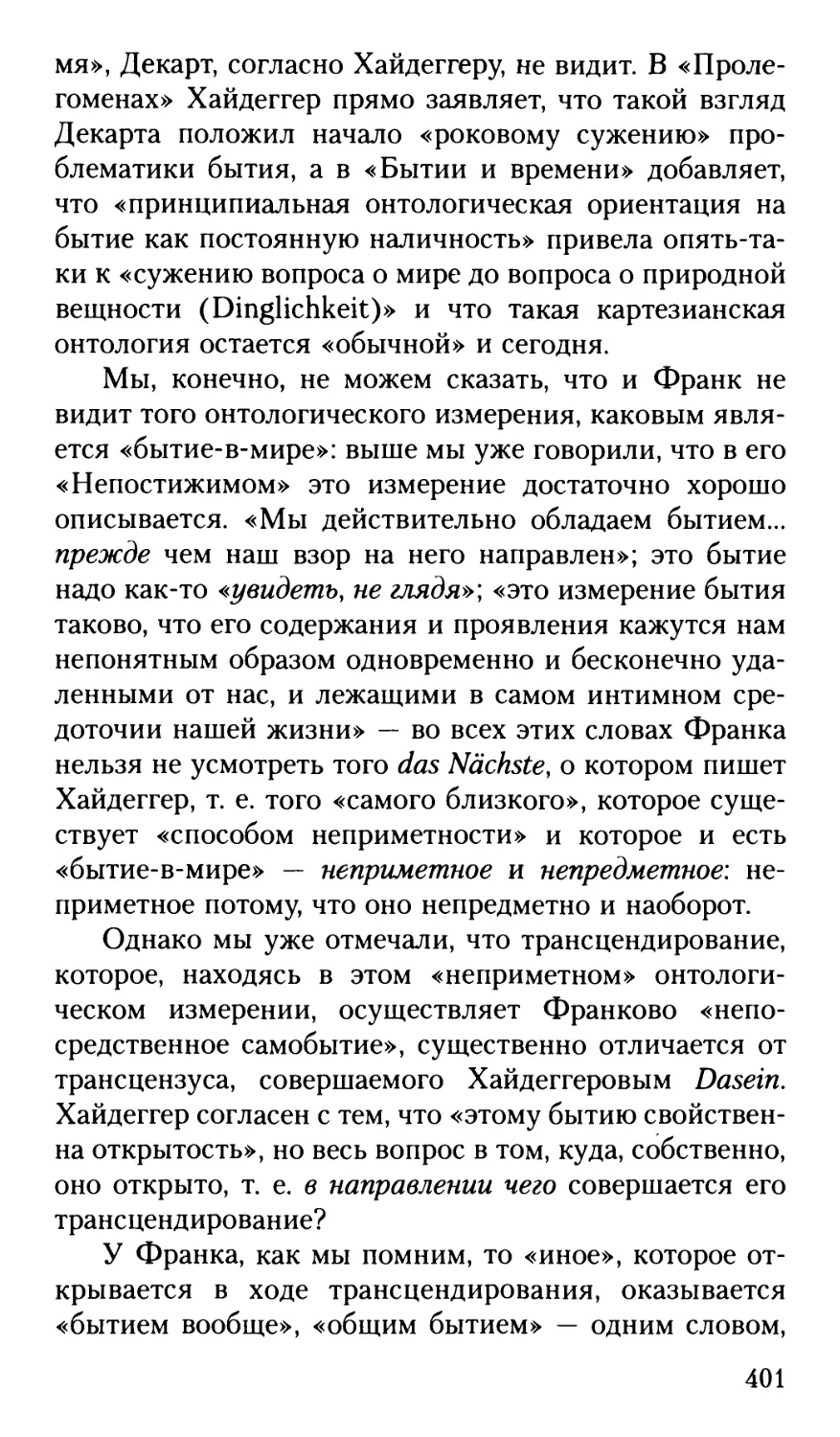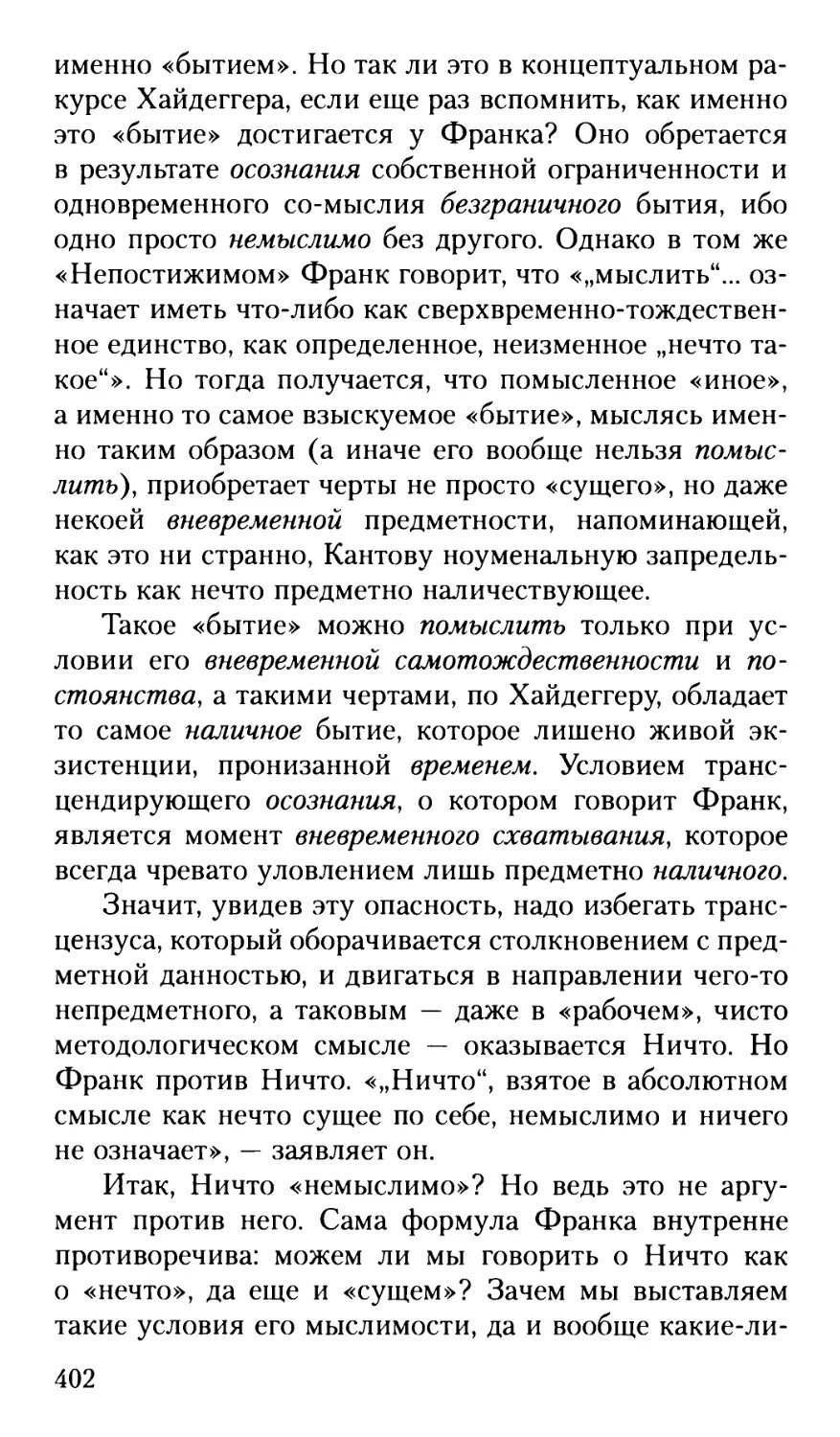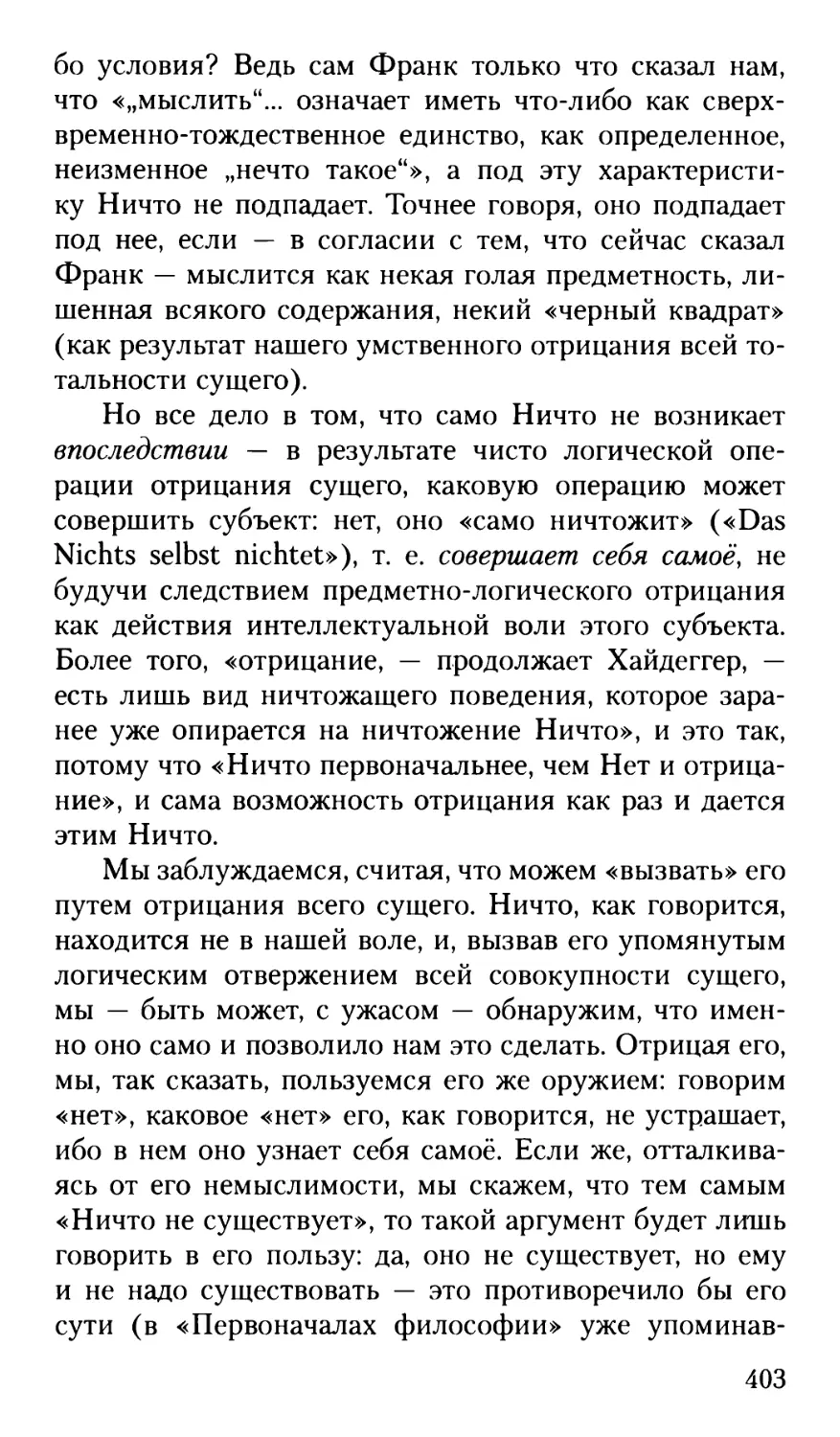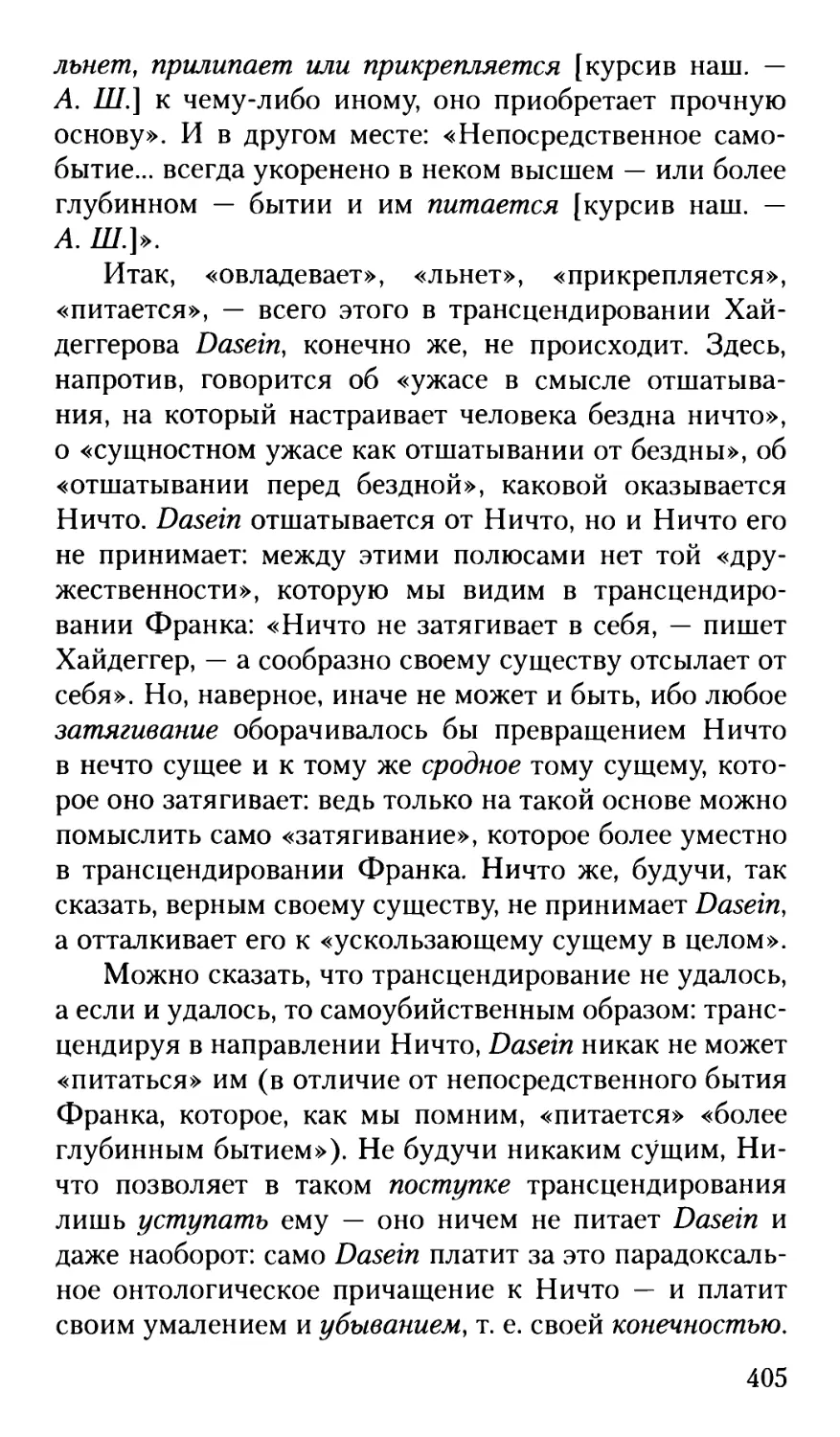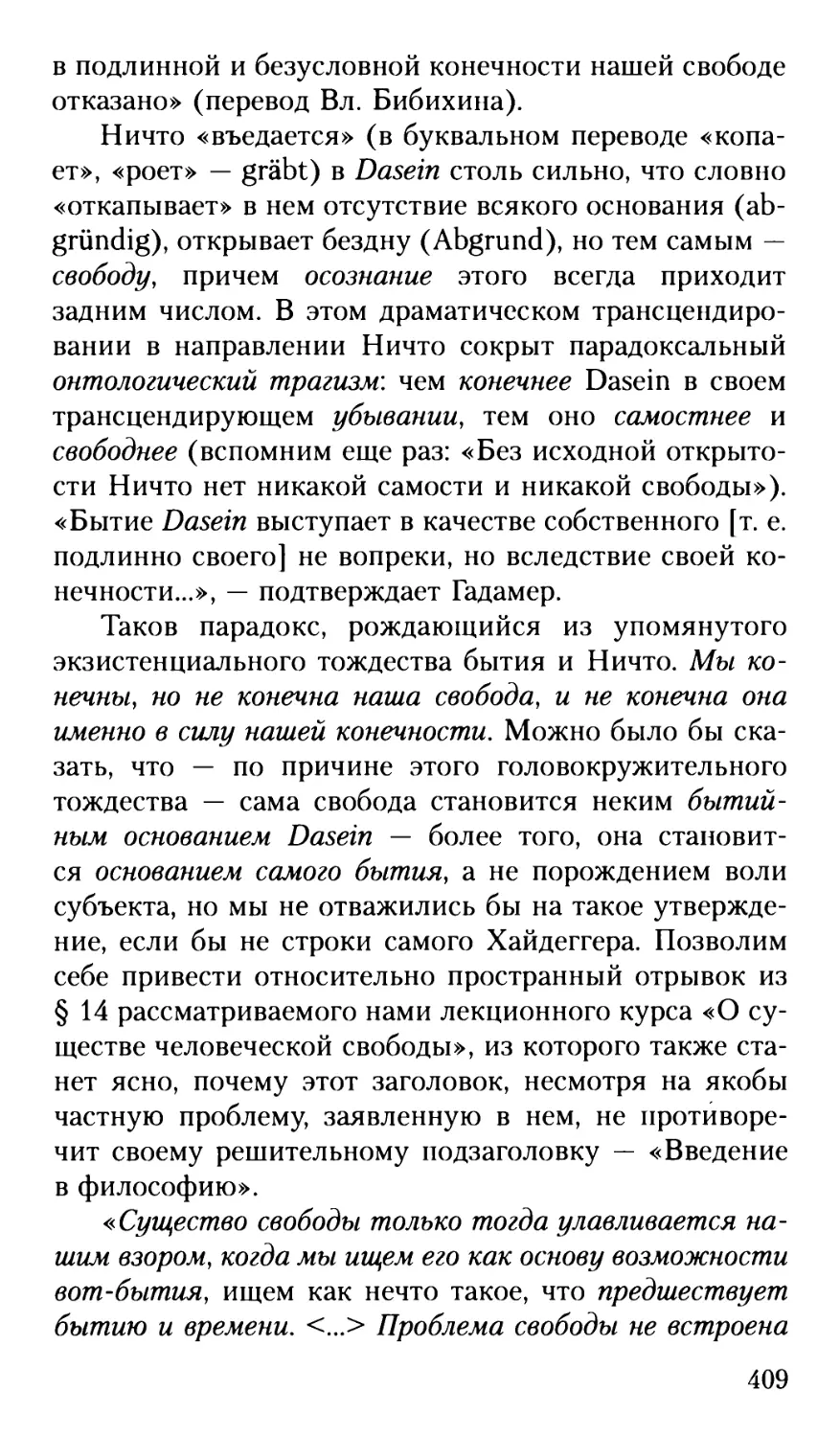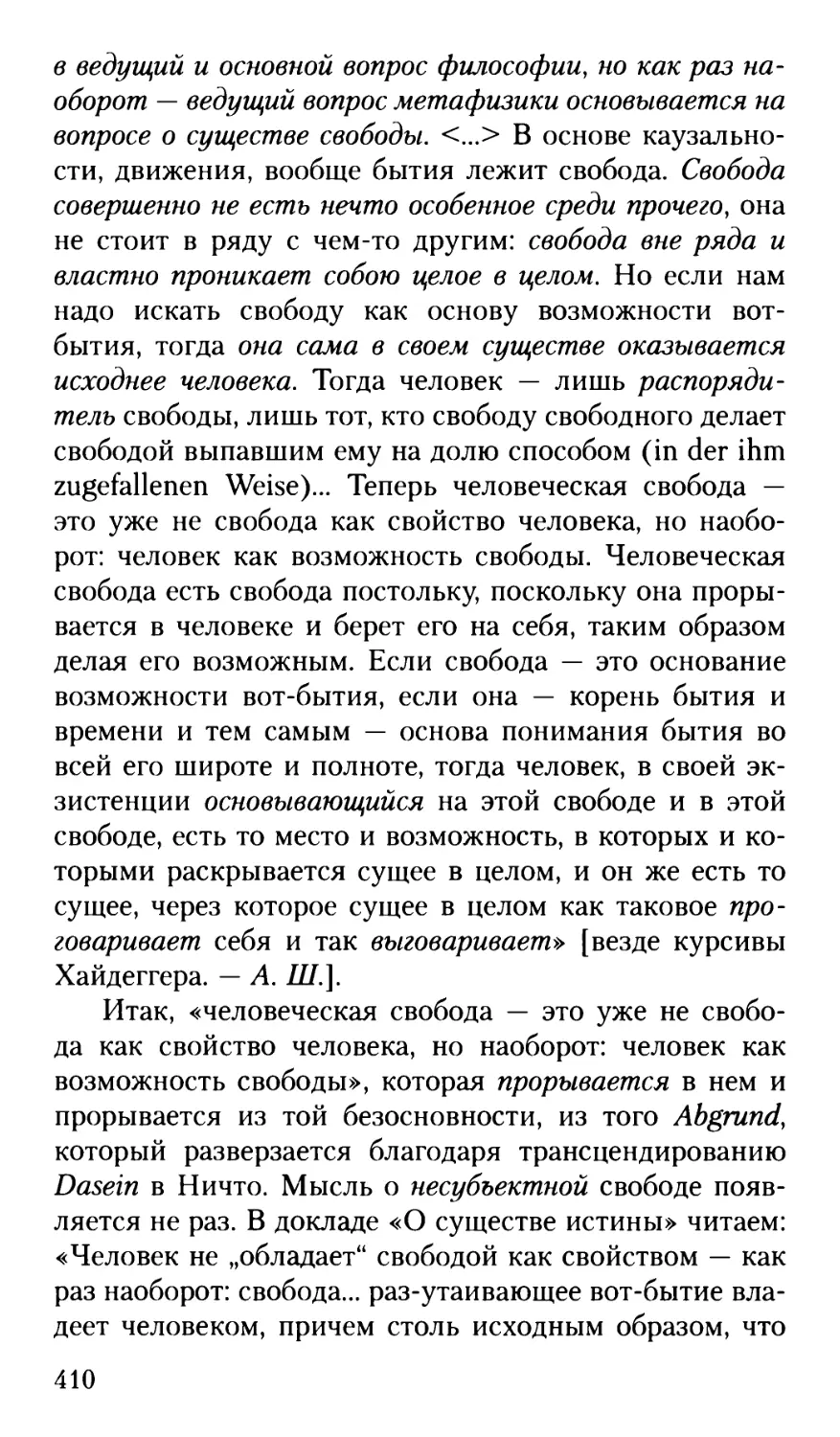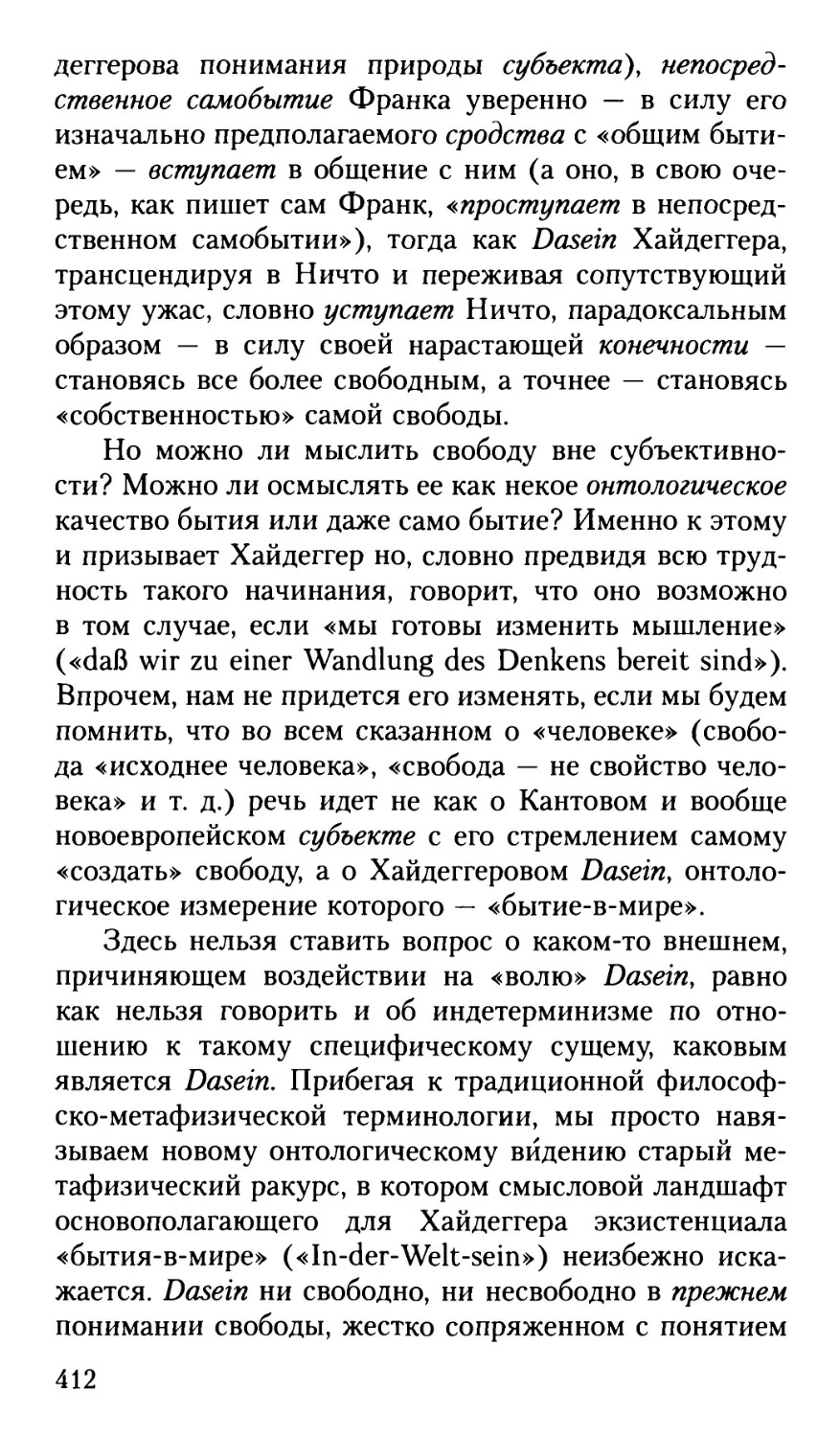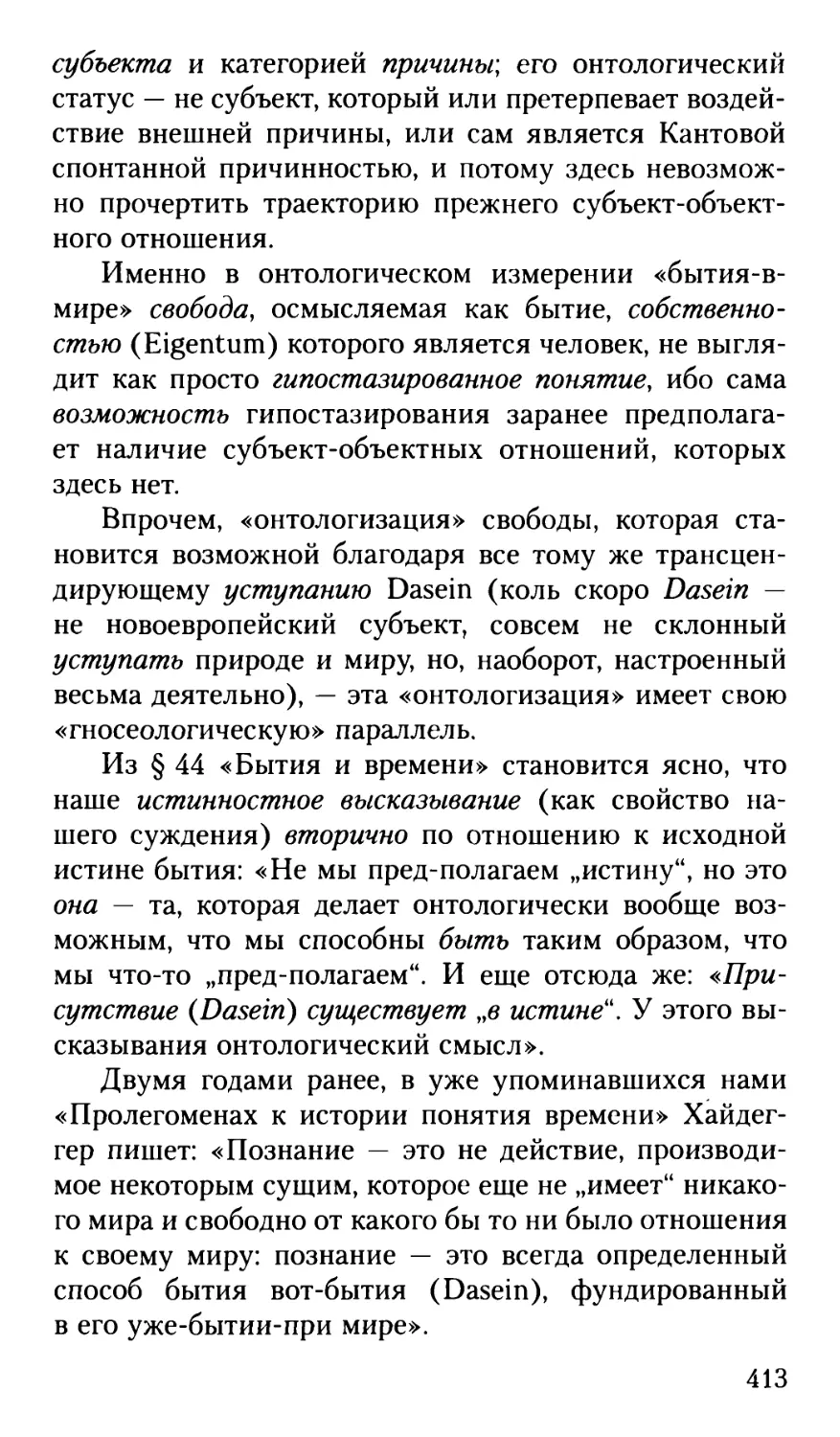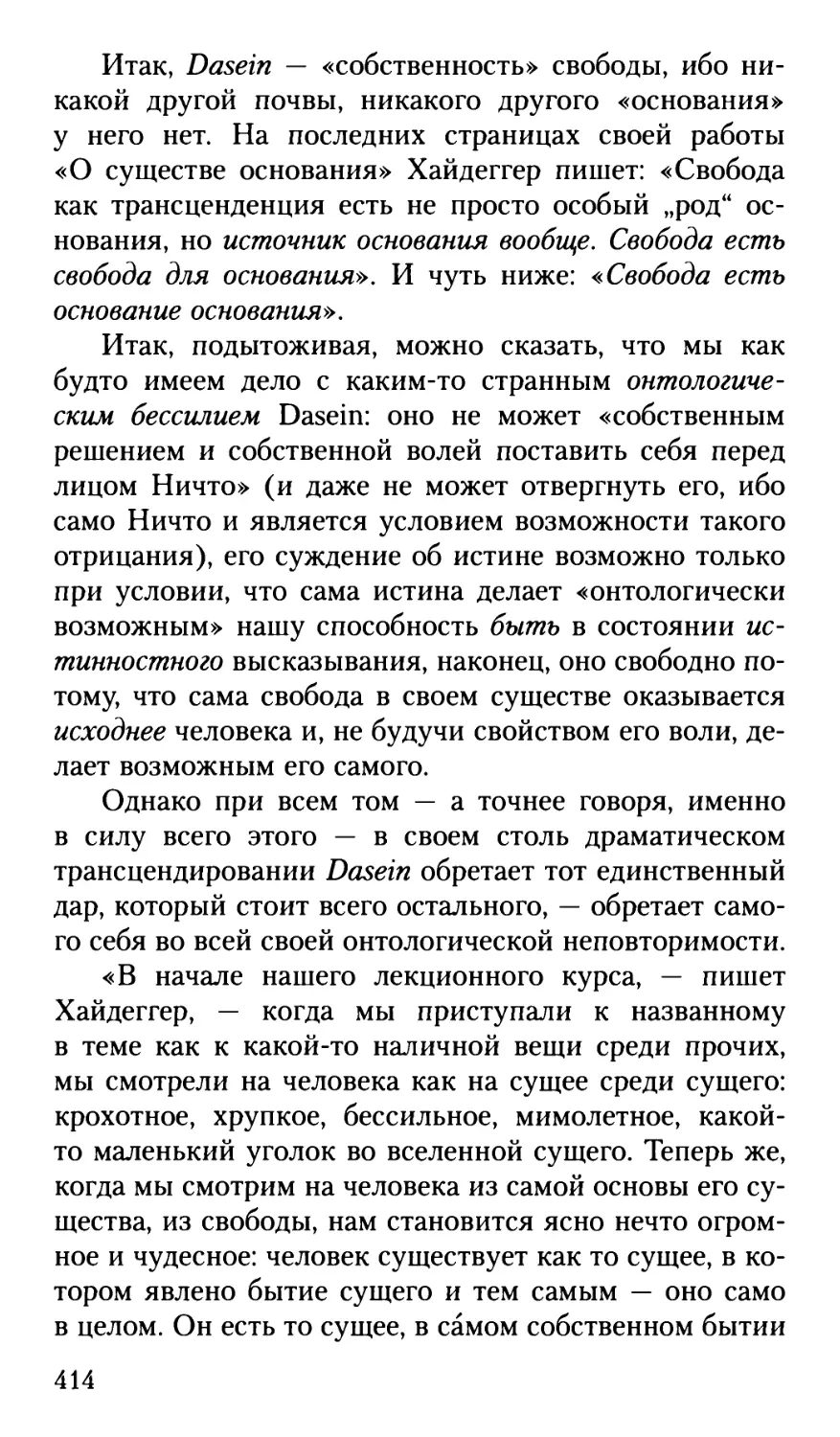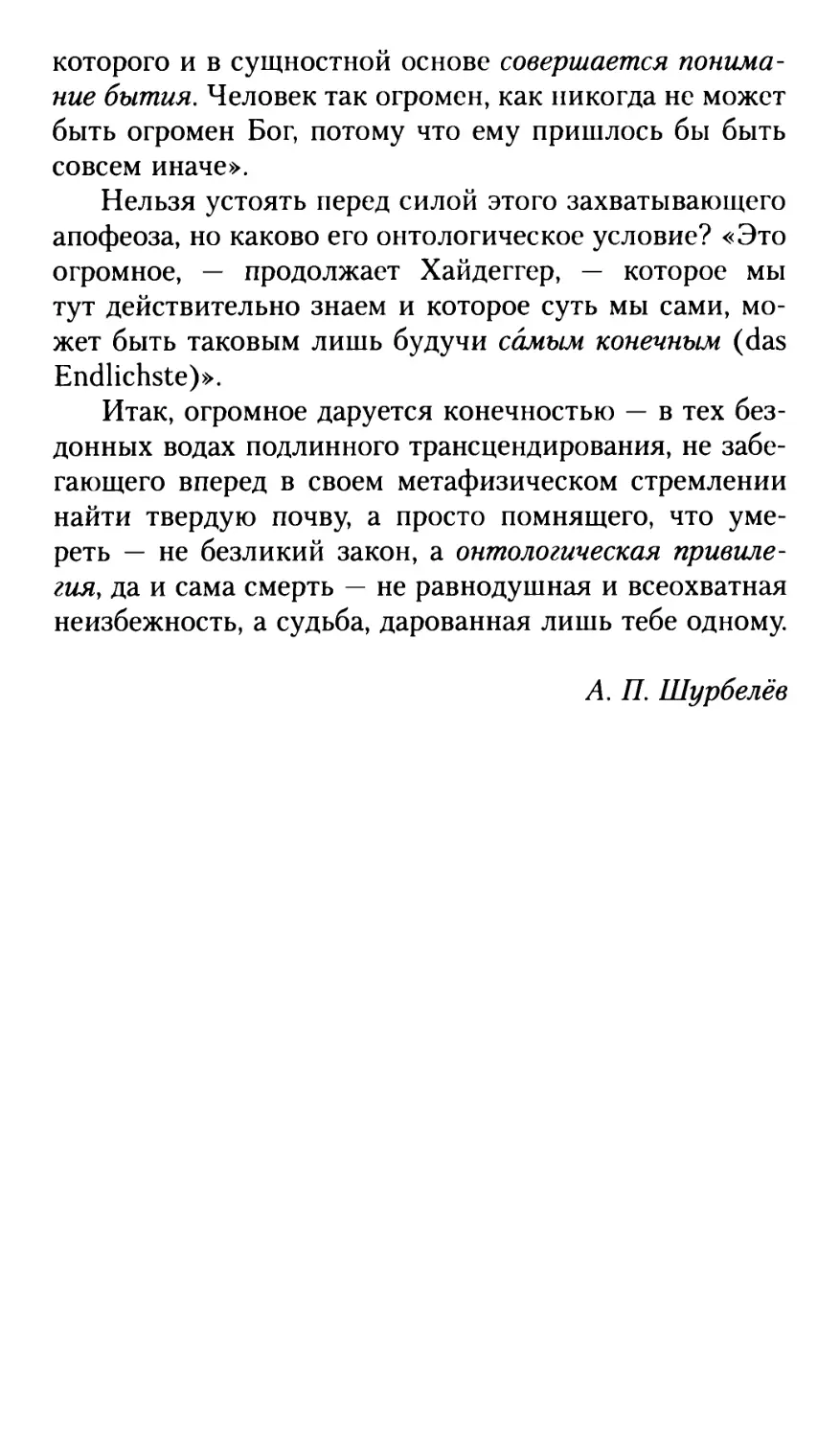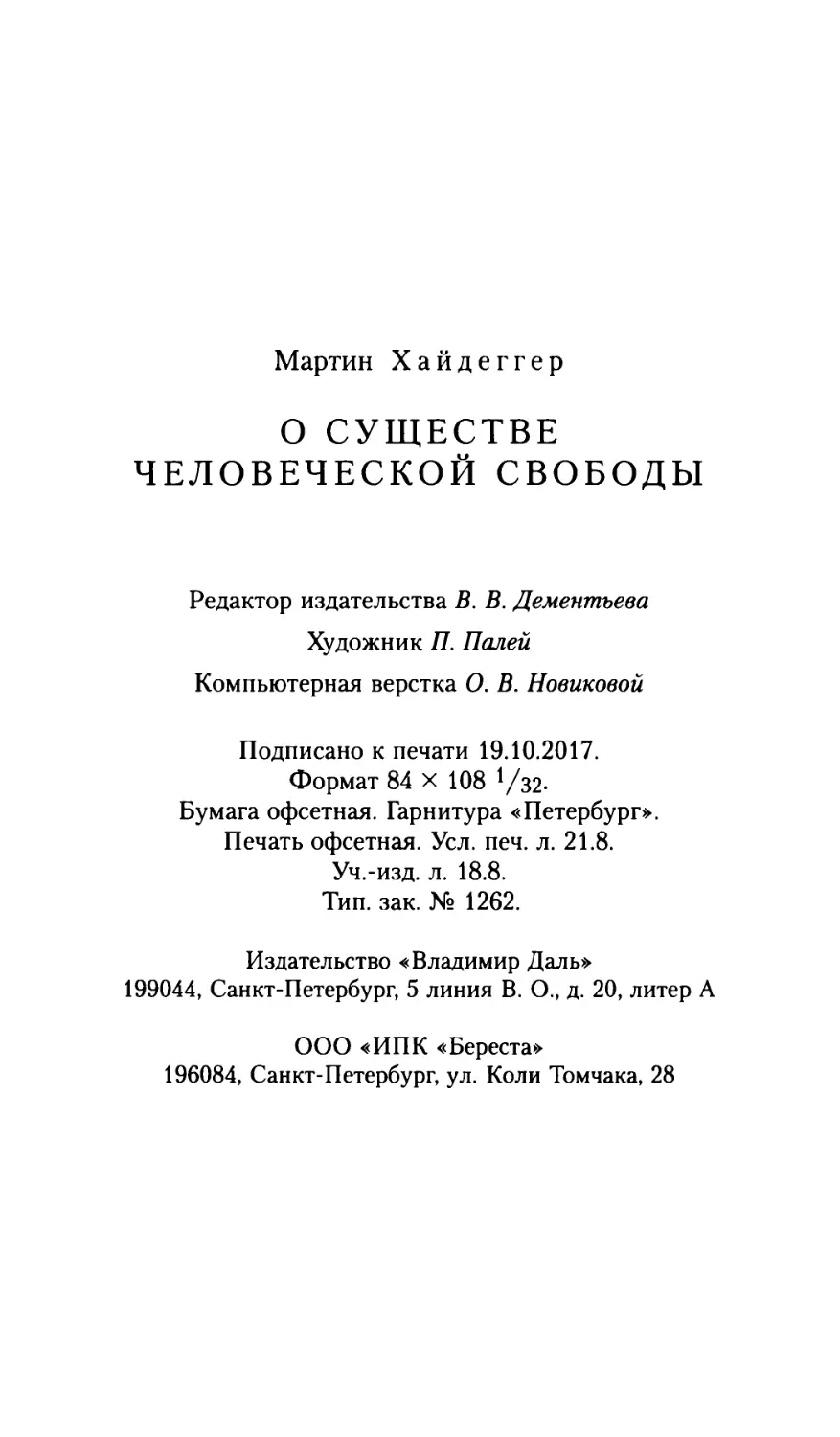Автор: Хайдеггер М.
Теги: философия философия свободы общая философия история философской мысли
ISBN: 978-5-93615-179-8
Год: 2018
Текст
МАРТИ Н
ХАЙДЕГГЕР
О СУЩЕСТВ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
СВОБОДЫ
ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ
МАРТИН ХАЙДЕГГЕР
Курс лекций «О существе
человеческой свободы»,
прочитанный Мартином
Хайдеггером во
Фрайбургском университете в
летнем семестре 1930 г., носит
подзаголовок «Введение в
философию» и
представляет собой попытку
раскрыть суть европейского
философствования через
рассмотрение проблемы
свободы как
фундаментальной и определяющей
для всей истории
человеческого мышления.
Первая часть посвящена
положительному определению
философии из
исторической проблематики
человеческой свободы, во
второй части
рассматривается соотношение свободы
и причинности на
трансцендентальном и
практическом уровне в
соответствии с различением двух
смыслов свободы,
установленным Иммануилом
Кантом.
MARTIN HEIDEGGER
GESAMTAUSGABE
II. ABTEILUNG: VORLESUNGEN 1923-1944
BAND 31
VOM WESEN DER MENSCHLICHEN FREIHEIT
Einleitung in die Philosophie
VITTORIO KLOSTERMANN
FRANKFURT AM MAIN
MARTIN HEIDEGGER
VOM WESEN DER
MENSCHLICHEN FREIHEIT
EINLEITUNG IN DIE PHILOSOPHIE
VITTORIO KLOSTERMANN
FRANKFURT AM MAIN
MARTIN HEIDEGGER
VOM WESEN
DER MENSCHLICHEN
FREIHEIT
EINLEITUNG IN DIE PHILOSOPHIE
МАРТИН ХАЙДЕГГЕР
О СУЩЕСТВЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
СВОБОДЫ
ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ
Перевод с немецкого
А.П. Шурбелёва
Санкт-Петербург
«ВЛАДИМИР ДАЛЬ»
2018
© Vittorio Klostermann GmbH
Frankfurt am Main, 1994
© Издательство «Владимир Даль»,
2018
© Шурбелёв А. П., перевод с
немецкого, послесловие, 2018
ISBN 978-5-93615-179-8 © Палей П., оформление, 2018
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 16
§ 1. Мнимое противоречие между «особым» вопросом
о существе человеческой свободы и «общей
задачей» введения в философию 16
a) «Особенное» темы и «общее» введения в
философию 18
b) Высвобождение вопроса о существе
человеческой свободы в направлении на целое сущего
(мир и Бог) в предварительном рассмотрении
«негативной» свободы. Своеобразие
философского вопрошания в сравнении с вопрошанием
научным 21
c) Более глубокое истолкование «негативной
свободы» как свободы от..., сделанное из самого
существа ее «соотносительного» характера.
Сущее в целом как тема, с необходимостью
присутствующая в вопросе о человеческой свободе 27
d) Философия как раскрытие целого в
прохождении через действительно понятую отдельную
проблему 30
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПОЗИТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
ИЗ СОДЕРЖАНИЯ ВОПРОСА О СВОБОДЕ.
ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СВОБОДЫ И
ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ 32
Глава первая
ПЕРВЫЙ ПРОРЫВ ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ В НАСТОЯЩЕЕ
ИЗМЕРЕНИЕ (КАНТ). СВЯЗЬ ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ С
ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ МЕТАФИЗИКИ 32
7
§ 2. Философия как вопрошание вовнутрь целого.
Выход-на-целое как прихождение-к-корню 32
§ 3. Формально-уведомительное рассмотрение
«позитивной свободы» в соотнесении с
«трансцендентальной» и «практической» свободой у Канта 35
§ 4. Расширение проблемы свободы, намеченное в
обосновывающем характере «трансцендентальной»
свободы; расширение, взятое в перспективе
космологической проблемы: свобода — причинность —
движение — сущее как таковое 42
§ 5. Спорность наступательного характера
расширенного вопроса о свободе и унаследованная нами
форма ведущего вопроса философии.
Необходимость нового вопрошания о ведущем вопросе .... 49
Глава вторая
ВЕДУЩИЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ И ЕГО ВОПРОСНОСТЬ.
РАССМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕГО ВОПРОСА ИЗ ЕГО
СОБСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПРЕДПОСЫЛОК 57
§ 6. Ведущий вопрос философии (τί το öv) как вопрос
о бытии сущего 57
§ 7. Допонятийное понимание бытия и ключевое для
бытия слово античной философии: ουσία 59
a) Особенности допонятийного понимания бытия
и забвение бытия 59
b) Многозначность «усии» (ουσία) как признак
богатства и нужды непреодоленных проблем
в пробуждении понимания бытия 64
c) Повседневное словоупотребление и основное
значение «усии»: присутствие (Anwesen) 71
d) Самосокрытое понимание бытия (ουσία) как
постоянного присутствия, ουσία как искомое и
предпонятое в ведущем вопросе философии ... 74
§ 8. Выявление сокрытого основного значения «усии»
(постоянное присутствие) по греческому
истолкованию движения, что-бытия и действительного
бытия (наличного бытия) 77
а) Бытие и движение, ουσία как παρουσία ύπομέ-
vov'a 77
8
b) Бытие и что-бытие. ουσία как παρουσία эйдоса 85
c) Бытие и субстанция. Дальнейшее развитие
проблемы бытия в форме проблемы
субстанции. Субстанциальность и постоянное
присутствие 88
d) Бытие и действительность (бытие-наличным).
Внутренняя структурная взаимосвязь «усии»
как «парусин» с ενέργεια и actualitas 89
§ 9. Бытие, истина, присутствие. Греческое
истолкование бытия в значении бытия-истинным в
горизонте бытия как постоянного присутствия, öv ώς
αληθές как κυριώτατον öv (Аристотель. Метафизика Θ
10) 98
a) Состояние исследования. Прежде
рассмотренные значения бытия в характеристике
понимания бытия и отличительные бытийные
значения бытия-истинным 98
b) Четыре значения бытия у Аристотеля.
Исключение öv ώς αληθές из поля метафизики,
совершающееся в «Метафизике» Ε 4 102
c) Тематическое рассмотрение öv ώς αληθές как
κυριώτατον öv в 10 главе Θ книги «Метафизики»
и вопрос о принадлежности этой главы к
данной книге. Связь текстологического вопроса
с вопросом по существу как проблема
взаимопринадлежности бытия qua бытия-истинным и
бытия qua бытия-действительным (ενεργεία öv) 105
α) Непризнание принадлежности 10 главы из
книги Θ к самой этой книге и традиционное
истолкование бытия-истинным как
проблемы логики и теории познания (Швеглер, Йе-
гер, Росс). Ошибочное толкование κυριώτατα
как следствие этого истолкования 108
β) Доказательство принадлежности десятой
главы к книге Θ. Двоякость в греческом
понимании истины: истина вещи и истина
предложения (истина высказывания). Тематическое
рассмотрение бытия-истинным (собственно)
сущего (έπί των πραγμάτων), а не познания,
совершающееся в десятой главе 114
9
d) Греческое понимание истины (αλήθεια) как не-
сокрытости. Сущее-истинным (αληθές δν) как
наисобственное сущее (κυριώτατον öv).
Наисобственное сущее как простое (das Einfache)
и как постоянно присутствующее 120
а) Соответствие бытия и бытия-истинным
(раскрытость). Два основных вида бытия и
соответствующие им способы
бытия-истинным 121
β) Истина, простота (единство) и постоянное
присутствие. Простое (αδιαίρετα, άσύνθετα,
άπλα) как собственно сущее и его
раскрытость как наивысший способ
бытия-истинным 129
γ) Раскрытость простого как чистое,
безусловное присутствие в нем самом 134
e) Вопрос о бытии-истинным собственно сущего
как высший и глубочайший вопрос
Аристотелева истолкования бытия. Глава 0 10 как
краеугольный камень всей книги Θ и
Аристотелевой метафизики вообще 137
§10. Действительность духа у Гегеля как абсолютное
настоящее 140
Глава третья
РАЗРАБОТКА ВЕДУЩЕГО ВОПРОСА МЕТАФИЗИКИ ДО
УРОВНЯ ОСНОВНОГО ВОПРОСА ФИЛОСОФИИ 144
§11. Основной вопрос философии как вопрос об
исконной связи бытия и времени 146
§12. Человек как место основного вопроса.
Понимание бытия как основание возможности существа
человека 152
§13. Наступательный характер бытийного вопроса
(основного вопроса) и проблема свободы.
Обступающая широта бытия (выход-на-целое) и
наступающее уединение (прихождение-к-корню)
времени как горизонт понимания бытия 162
§ 14. Перестановка перспективы вопроса: ведущий
вопрос метафизики коренится в вопросе о существе
свободы 166
10
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПРИЧИННОСТЬ И СВОБОДА.
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ СВОБОДА У КАНТА 173
Глава первая
ПРИЧИННОСТЬ И СВОБОДА КАК КОСМОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА. ПЕРВЫЙ ПУТЬ К СВОБОДЕ В КАНТОВОЙ
СИСТЕМЕ ЧЕРЕЗ ВОПРОС О ВОЗМОЖНОСТИ ОПЫТА КАК
ВОПРОС О ВОЗМОЖНОСТИ НАСТОЯЩЕЙ МЕТАФИЗИКИ .... 173
§15. Предуведомление к проблеме причинности в
науках 174
a) Причинность как выражение
проблематичности неживой и живой природы в науках 174
b) Причинность в современной физике.
Вероятность (статистика) и причинность 179
§16. Первая попытка характеристики Кантова
варианта причинности и ее основной связи:
причинность и временная последовательность 183
§ 17. Общая характеристика аналогий опыта 187
a) Аналогии опыта как правила общего
временного определения наличности наличного
в контексте внутренней возможности
осуществления опыта 188
b) Три модуса времени (постоянность,
последовательность и одновременность) как способы
внутривременности наличного 195
c) О различии динамических и математических
основоположений 197
d) Аналогии опыта как правила основоотноше-
ний возможного бытия-во-времени (In-der-
Zeit-sein) наличного (das Vorhandene) 199
§ 18. Разъяснение метода доказательства аналогий
опыта и их оснований на примере первой аналогии.
Основополагающее значение первой аналогии ... 201
a) Первая аналогия. Постоянность и время 201
b) Проблематичный фундамент аналогий:
непроясненная одновременность времени и «я
мыслю» (рассудок) в непроверенном полагании
существа человека как конечного субъекта 204
11
c) Аналогии опыта и трансцендентальная
дедукция чистых рассудочных понятий. Логическая
структура аналогий опыта и вопрос ее
аналогического характера 207
d) Об основополагающем значении первой
аналогии. Постоянность (субстанциальность) и
причинность 210
§19. Вторая аналогия. Событие, временная
последовательность и причинность 213
a) Событие и временная последовательность.
Анализ существа данности и возможность ее
восприятия 213
b) Экскурс: о сущностном анализе и аналитике.. 217
c) Причинность как временное отношение.
Причинность в смысле бытия-причиной есть
предшествование во времени как определяющее
позволение следовать-за 222
§ 20. Два вида причинности: причинность согласно
природе и причинность из свободы.
Характеристика общего онтологического горизонта
проблемы свободы в определении свободы как вида
причинности. Связь причинности вообще с
бытием наличного 230
a) Ориентирование в причинности вообще,
совершаемое по природной причинности. К
проблематике характеристики свободы как вида
причинности 231
b) Первая проверка ориентирования
причинности на бытие наличного — по
последовательности как характерному временному модусу
каузальности (на примере одновременности
причины и действия) 234
c) Вторая проверка ориентирования
причинности на бытие наличного — по понятию
действия (Handlung). Действие как понятие связи
причины и следствия 239
§21. Систематическое место свободы у Канта 244
а) Систематическое место как предметный
контекст, который предопределяет направление и
масштаб вопрошания 244
12
b) Два пути к свободе у Канта и
унаследованная проблематика метафизики. Место вопроса
о свободе в проблеме возможности опыта как
вопроса о возможности подлинной метафизики 247
§ 22. Причинность через свободу. Свобода как
космологическая идея 253
a) Проблема свободы возникает из проблемы
мира или как проблема мира. Свобода как
особый модус природной причинности 253
b) Идея свободы как «трансцендентальное
природное понятие»: абсолютно продуманная
природная причинность 257
§ 23. Два вида причинности и антитетика чистого
разума в третьей антиномии 260
a) Тезис третьей антиномии. Возможность
причинности через свободу (трансцендентальная
свобода) наряду с причинностью по природе
в разъяснении явлений мира как вообще
онтологической проблемы 262
b) Антитезис третьей антиномии. Исключение
свободы из причинности хода вещей 268
c) Своеобразие космологических идей в
вопросе о возможности метафизики в собственном
смысле и интерес разума в разрешении этого
вопроса 270
§ 24. Подготовительные (негативные) определения
к разрешению третьей антиномии 275
a) Обман обыденного разума в использовании
его основного положения 275
b) Различение явления и вещи самой по себе,
или конечного и бесконечного познания как
ключ к разрешению проблемы антиномий 281
§ 25. Позитивное разрешение третьей антиномии.
Свобода как причинность разума:
трансцендентальная идея безусловной причинности. Характер и
границы проблемы свободы внутри проблемы
антиномий 285
а) Разрешение проблемы антиномий путем
выхода за пределы проблемы конечного разума
к проблеме конечности человека вообще 285
13
b) Смещение проблемы разрешения антиномий
в ее проведении. Вопрос о каузальности для
явлений вне явлений и условий времени.
Разрешение третьей антиномии в перспективе
человека как нравственно действующей личности 291
c) Эмпирический и интеллигибельный
(умопостигаемый) характер. Умопостигаемый
характер как способ каузальности причины из
свободы. Двойной характер явления и
возможность двух принципиально разных причинно-
стей по отношению к явлению как действию 297
d) Причинность разума. Свобода как
умопостигаемая причинность: трансцендентальная идея
безусловной причинности. Применение
общеонтологической (космологической)
проблематики к человеку как космологическому
существу 303
Глава вторая
ВТОРОЙ ПУТЬ К СВОБОДЕ В КАНТОВОЙ СИСТЕМЕ.
ПРАКТИЧЕСКАЯ СВОБОДА КАК СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ОТЛИЧИЕ
ЧЕЛОВЕКА КАК РАЗУМНОГО СУЩЕСТВА 313
§ 26. Сущность человека как существа чувственного
и разумного и различие трансцендентальной и
практической свободы 314
a) Сущность человека (человечество) как
личность (личностность). Личностность и
самоответственность 314
b) Два пути к свободе и отличие
трансцендентальной свободы от практической.
Возможность и действительность свободы 317
§ 27. Действительность человеческой (практической)
свободы 319
a) Свобода как факт. Фактичность
(действительность) практической свободы в нравственной
практике и проблема ее «опыта».
Практическая реальность свободы 319
b) О сущности чистого разума как разума
практического. Чистый практический разум как
чистая воля 328
14
c) Действительность чистого практического
разума в нравственном законе 334
d) Категорический императив. О его
действительности и «всеобщности» 338
§ 28. Сознание человеческой свободы и ее
действительности 345
a) Чистая воля и действительность. Своеобразие
действительности воли как факта 345
b) Факт нравственного закона и сознание
свободы воли 350
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СОБСТВЕННОЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ СВОБОДЫ. УКОРЕНЕННОСТЬ ВОПРОСА
О БЫТИИ В ВОПРОСЕ О СУЩЕСТВЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СВОБОДЫ. СВОБОДА КАК
ОСНОВАНИЕ ПРИЧИННОСТИ 357
§ 29. Границы кантовского рассмотрения свободы.
Привязка проблемы свободы к проблеме
причинности 357
§ 30. Свобода как условие открытости бытия сущего,
т. е. понимания бытия 360
Послесловие немецкого издателя 363
Послесловие переводчика 367
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССМОТРЕНИЕ
§ 1. Мнимое противоречие
между «особым» вопросом
о существе человеческой свободы
и «общей задачей» введения в философию
Тема, о которой мы будем говорить в этом
введении в философию, обозначена уже в заголовке
лекционного курса: о существе человеческой свободы; о
свободе, а именно о свободе человеческой. Тема — человек.
Следовательно, мы говорим о человеке, а не о
животном, не о растении, не о материальных телах, не об
изделиях ремесла и продуктах техники, не о
произведениях искусства, не о Боге — но о человеке и его
свободе.
То, что мы здесь, просто перечисляя, назвали вне
человека и рядом с ним, нам так же известно, как и сам
человек. Все перечисленное словно распростерлось
перед нами. Все это и так уже известное мы можем
отличать — одно от другого. Однако при всех
расхождениях и различиях это известное знакомо нам и в том
аспекте, где одно с другим сходится — без ущерба для
их различий. Все и каждое из названного мы знаем
как нечто такое, что есть; такое есть мы называем су-
16
щим. Быть сущим — в этом все названное сходится
между собой в первую и последнюю очередь.
Человек, о свободе которого предстоит разговор,
есть некое сущее среди прочих сущих. Все сущее в
целом мы в большинстве случаев обозначаем как «мир»,
а основание мира называем «Богом».1 Если мы, пусть
неопределенно, представляем известное и неизвестное
сущее и при этом думаем именно о человеке, тогда
обнаруживается вот что: во всей совокупности сущего
человек — лишь маленький уголок. По отношению к
силам природы и космическим процессам это крохотное
существо обнаруживает свою безнадежную бренность,
по отношению к истории и ее судьбоносным
перипетиям — непреодолимое бессилие, а по отношению к
необозримой длительности космических процессов и
возрасту истории — неудержимую скоротечность. И вот
об этом крохотном, бренном, бессильном и
скоротечном сущем — о человеке — мы и говорим.
А что до него самого, то и здесь мы рассматриваем
лишь одно его свойство — его свободу; мы не
касаемся прочих способностей, достижений и особенностей.
Поднимая тему «о существе человеческой свободы»,
мы связываем наше рассмотрение с особым вопросом
(свобода), который, со своей стороны, соотнесен с
особым сущим (человек) из всей целокупности сущего.
Однако рассмотрение этой темы должно стать
введением в философию. Мы надеемся, что такое
введение поможет нам вникнуть в философию, т. е. в целое
ее вопросов. Вникая в целое, мы хотим обозреть все
поле философии. Введение в философию — это
должно стать ориентиром в самом всеобщем философии.
1 Теперь под «Богом» и «миром» подразумеваются
необязательные ориентирующие титулы для целокупности сущего
(некоторая целокупность природы и истории: мир) и основания
этой целокупности (Бог).
17
Ей надо постараться избежать опасной возможности:
потеряться в специальных вопросах и тем самым
исказить взгляд на всеобъемлющее целое. Несмотря на
то что внутри самой философии могут быть особые
вопросы, введение в философию сначала должно
попытаться приблизить нас к всеобъемлющему целому.
Предпринять введение в философию путем
обсуждения вопроса о существе человеческой свободы, т. е.
искать понимания общего философии (Allgemeine der
Philosophie) и при этом с самого начала
соскальзывать в особый вопрос — замысел явно невозможный.
Ведь само намерение и путь к его осуществлению
противоречат друг другу.
а) «Особенное» темы
и «общее» введения в философию
Спору нет, особенное — это нечто отличное от
общего. Учение о дифференциальных уравнениях — не
математика как таковая; морфология и физиология
грибов и мха — не вся ботаника; истолкование
«Антигоны» Софокла — не классическая филология вообще,
а история Фридриха II — не история средних веков.
В соответствии со сказанным трактовка проблемы
человеческой свободы — не вся философия как таковая.
И все-таки! С чего мы начинаем, например, в
математике? Мы не начинаем с теории дифференциальных
уравнений, а начинаем, пожалуй, с
дифференциального исчисления; речь идет об этом особенном, но
никогда — о математике в ее целом и о математическом
вообще. Мы начинаем с чтения и истолкования
отдельных литературных произведений, но не с филологии
в целом и не с рассмотрения художественного
произведения вообще; и так во всех науках. Начинаем с осо-
18
бенного и конкретного, но не для того, чтобы на нем
остановиться и в нем затеряться: начинаем для того,
чтобы вскоре натолкнуться на существенное и общее.
Да, особенное — это, пожалуй, всегда нечто иное, чем
общее, но эта инаковость не означает никакого
столкновения и взаимного исключения. Совсем наоборот:
особенное — это всегда особенное какого-то, а точнее
говоря, его собственного в нем заключенного общего,
а общее — это всегда общее того особенного, которое
этим общим определяется. Следовательно, в каждом
случае особенное — это самая настоящая возможность
уловить общее. Пробиваться через обсуждение
особенного вопроса (человеческая свобода) к общему
философского познания — это не какое-то невозможное
предприятие, но единственно плодотворный и к тому
же научный путь введения в философию. Это путь,
по которому естественным образом идет всякая наука.
И, значит, с той задачей, которая намечена в этом
лекционном курсе, все обстоит как нельзя лучше.
Это так, но при том условии, что философия —
тоже наука и, следовательно, остается связанной
с принципами научного подхода. Однако
предположение, согласно которому философия — это наука,
ошибочно. Правда, это мнение разделялось, а также
разделяется и отстаивается многими, и не случайно.
Но здесь мы не можем обсуждать, почему
предположение о научном характере философии оказывается
неверным.
Мы размышляем только вот о чем — сначала было
названо многообразное сущее: материальная природа,
живая природа и т. д. Все это сущее — целое мира и
Бога — наука распределяет по различным областям,
а затем эти разделенные области отводятся разным
видам наук: природа — математико-физической теории,
история (человек) — исторической и систематической
19
науке о духе, Бог — теологии. Из всего многообразия
сущего для философии вообще не остается никакой
области. В таком случае она может заниматься всем
сущим, причем именно в его целом. Если ей не
остается никакой особой области сущего как области, тогда,
с другой стороны, получается, что по своему существу
всякая наука определяется в соответствии со своей
областью и как наука она всегда «одолевает» только
какую-то одну область как таковую. Но если такое
ограничение по областям принадлежит к самому
существу науки, тогда философия, по-видимому, не наука,
и неправильно ее таковой называть. Это соображение
не решает вопроса о том, наука ли философия и может
ли она вообще быть таковой: оно просто дает понять,
что есть основания по меньшей мере усомниться в
научном характере философии, так легко принимаемом,
и оспорить его.
Из допущения, что предпосылку о научном
характере философии можно оспорить, мы делаем один
вывод: в таком случае нельзя с полной уверенностью —
каковая возникает поначалу — говорить о том, что
в философии мы можем брать за образец научный
подход и исходить из рассмотрения особого вопроса
(в данном случае — проблемы человеческой свободы),
чтобы через него отыскать — к чему, собственно, и
стремится «введение» — то общее, которое позволяет
ориентироваться во всей философии в целом.
Мнение о том, что поскольку этот подход научный,
то он полезен и для философии и должен требоваться
от нее, покоится на другой предпосылке, а именно на
том, что вопрос о существе человеческой свободы —
вопрос особый. Правда, поначалу здравый смысл так и
считает. Ведь мы сами сразу указали на то, что
свобода — это особенное свойство человека, а сам человек —
особое сущее внутри всей целокупности сущего. Это,
20
наверное, правильно, и все-таки вопрос о существе
человеческой свободы — не частный вопрос. Если наше
утверждение верно и, стало быть, подняв эту тему, мы
поднимаем не какой-то частный вопрос, тогда
получается, что мы вообще не можем исходить из особой
проблемы, чтобы прийти к общему.
Ь) Высвобождение вопроса
о существе человеческой свободы
в направлении на целое сущего (мир и Бог)
в предварительном рассмотрении
«негативной» свободы.
Своеобразие философского вопрошания
в сравнении с вопрошанием научным
Но почему проблема свободы — не частный вопрос?
Сейчас можно только в общих чертах и лишь в одном
отношении пояснить, почему проблема свободы с
самого начала не вписывается в рамки частного вопроса.
Среди определений ее существа с давних пор вновь и
вновь напрашивается одно, согласно которому
свобода — это независимость. Свобода — это
освобожденность от... Daz dinc ist vrî daz dà an nihte hanget und
an deme ouch niht enhanget, свободно то, что ни к чему
не привязано и к чему ничто не привязано.2 В этом
сущностном определении свободы как независимости,
не-привязанности лежит отрицание (негация)
зависимости от чего-то другого. Поэтому принято говорить
о негативном понятии свободы или, короче, о
«негативной свободе». По-видимому, эта негативная свобода
2 Meister Eckhart. Von den 12 nutzen unsers herren lîchames //
Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts / Hrsg. Von Franz
Pfeiffer. Zweiter Band. 3., unveränderte Aufl. Göttingen, 1914.
P. 379. Z. 7/8.
21
человека полностью определяется через высказывание
о том, от чего в этом смысле свободный человек
независим и понимается как независимый. В упомянутом
понимании и толковании свободы это от чего
независимости (Wovon der Unabhängigkeit) постигалось и
становилось проблемой в двух существенных
направлениях.
1. Бытие свободным от... есть независимость от
природы. Под этим мы понимаем следующее: как
таковые поступки человека изначально не вызваны
природными процессами; на них не давит течение природных
процессов во всей их необходимости. Независимость
от природы можно понимать и существенно шире,
размышляя о том, что глубинное решение и решимость
человека в определенном отношении независимы и от
той необходимости, которая заключена в
развертывании человеческой судьбы во всех ее коловращениях.
В соответствии с вышесказанным независимость от
природной и исторической необходимости можно
подытожить как независимость от «мира», понятого как
некоторое целое истории и природы. С этим первым
негативным определением свободы сходится второе —
правда, не всегда, но как раз там, где пробуждается
исходное ее осознание.
2. Здесь свобода от... равнозначна независимости
от Бога, самостоятельность по отношению к нему.
Ведь только тогда, когда такая независимость от Бога
существует, человек может выстраивать свое
отношение к нему. Только тогда он может искать Бога,
признавать его, держаться его и, следовательно, возлагать
на себя Божью заповедь, к нему обращенную. Если бы
человек не имел возможности отвернуться от Бога, все
перечисленные особенности такого бытийного
отношения к нему были бы принципиально невозможны.
Но возможность отвернуться от Бога или повернуться
22
к нему с самого начала предполагает некоторую
независимость и свободу по отношению к нему.
Следовательно, окончательное понятие негативной свободы
таково: независимость человека от мира и Бога.
Таким образом, когда мы рассуждаем о существе
человеческой свободы — пусть лишь в негативном ее
понимании, — т. е. когда действительно мыслим эту
двоякую независимость, мы в своем осмыслении и
осознании этой свободы не можем отвлечься от того,
от чего эта независимость как таковая независима:
от мира, от Бога. В негативном понятии свободы мир
и Бог — не нечто случайное и не что-то
привнесенное: Бог и мир включены в негативную свободу в силу
сущностной необходимости. Если негативная свобода
становится темой, тогда мир и Бог входят в нее как
неотъемлемое «от чего», составляющее природу
независимости. Но в своем единстве мир и Бог — это все
сущее. Если в своем существе свобода — пусть даже
поначалу лишь как негативная — становится проблемой,
тогда мы с самого начала с необходимостью вопрошаем
в направлении всей целокупности сущего. Таким
образом, проблема свободы — это не частный вопрос, но,
по-видимому, — общий! Речь не об особенном, а об
общем? Давайте разберемся.
Вопрос о существе человеческой свободы не
только не ограничивает ее рассмотрения рамками какой-то
особой области, но как раз наоборот: вместо того
чтобы ограничивать наше вопрошание, он высвобождает
его. Однако через это высвобождение мы не
отталкиваемся от особенного и не наталкиваемся на его общее.
Ведь мир и Бог — это не общее по отношению к
человеку как особенному. Человек — это не единичный
случай Бога, как альпийская роза — частный случай мира
растений, а «Прометей» Эсхила — частный случай
трагедии.
23
Высвобождение выводит нас в целое сущего, в мир
и Бога, посреди которых находится сам человек,
причем находится в определенном отношении к тому и
другому. Становится совершено ясно: вопрос о
существе человеческой свободы — это вопрос не об
особенном и не об общем. Он вообще отличается от всякого
научного вопроса, потому что последний, спрашивая об
особенном общего, всегда делает это в пределах
определенной области. Ставя вопрос о свободе, мы
покидаем все «областное» или, лучше сказать, даже не входим
в него. Полная инаковость и своеобразие вопроса о
человеческой свободе, заявляющие о себе уже теперь и
сказывающиеся в том, что этот вопрос сразу же
отсылает нас в целое сущего, представляют его как вопрос
специфически философский.
Если всякий научный вопрос, да и вообще всякая
наука по своей сути ограничены определенной
областью, если вопрос о существе человеческой
свободы — по своему самобытнейшему смыслу — заставляет
входить в сферу отношений, характерных для сущего
в его целом, тогда этот вопрос — не научный. Ведь ни
у какой науки нет такого не только количественного,
но и качественного, сущностного, да и вообще такого
широкого и глубокого горизонта, который позволял
бы ей в ее вопрошании охватить единое целое, которое,
пусть пока что смутно и неопределенно, но все равно
сразу же подразумевается в вопрошании о свободе.
Каким бы неуклюжим ни был для нас наш вопрос,
мы с самого начала — если мы действительно
собираемся его поставить — находимся в каком-то
принципиально ином месте, занимаем то местоположение,
которое никакая наука не может занять — не только
сегодня или завтра, но вообще никогда.
Даже совсем вчерне разъясняя природу
негативной свободы мы уже видим: проблема свободы — это
24
не специальный вопрос, ограниченный какой-то
областью. Да, не специальный, скажут нам, это вообще
не вопрос какой-нибудь отдельной науки, но как раз
особая проблема внутри философии. Ведь философия
не исчерпывается рассмотрением этой единственной
проблемы: кроме нее есть, например, вопрос о
сущности истины, о сущности человеческого познания,
о сущности природы, истории, искусства и всего того,
что обычно перечисляют, желая обозреть всю область
философии. Рядом с этими вопросами вопрос о
свободе человека, конечно же, тоже частный, а все
названные опять-таки представляют собой специальные
проблемы, если вспомнить о еще более общем и даже
самом общем вопросе о сущности сущего как такового
вообще, будь то природа, история, человек или Бог.
Конечно, вопрос о существе истины — это не
вопрос о существе свободы, но и тот и другой в своем
вопрошании уводят в целое и обращают нас к целому
и потому находятся в необходимой связи с самым
общим вопросом о сущности сущего как такового. О том,
каким образом вопрос о свободе с самого начала
высвобождает горизонт и отсылает в целое, мы
намекнули в разъяснении негативной свободы. Но, может
быть, эта отнесенность в целое сама по себе
достаточна одностороння и неполна? Ведь хотя свобода в
негативном ее понимании, т. е. как независимость от мира
(природа и история) и независимость от Бога, и
обнаруживает отношение к этому сущему, но отношение
именно негативное: «прочь от». Мир и Бог предстают
лишь как то, с чем свободное не связано. Нам
постоянно приходится не упускать из виду это «независимое
от», «не связанное с», хотя, собственно говоря, оно не
входит в нашу тему, но лишь находится на ее границе.
Мы должны иметь в виду эту границу, но нам не
обязательно вникать в нее.
25
Если это так, тогда в проблеме свободы,
несмотря на имеющееся объективное расширение рамок,
налицо тематическое ограничение. Целое сущего как
таковое не становится темой. Поэтому проблема
свободы остается внутри философии частным вопросом.
Следовательно, запланированное нами введение будет
неизбежно односторонним: его тема может быть сколь
угодно важной, но как введение оно неизбежно
остается неполным. Это никуда не годится. Но нам
никуда не деться от этого, и оправдаться, наверное, можно
напоминанием о том, что всякое философствование
как человеческое делание — непременно работа
незавершенная, конечная и ограниченная. Философия как
познание целого тоже должно смириться и отказаться
от стремления сразу постичь целое. Такое отречение и
смирение всегда «симпатичны», более того, многие
видят в этом признак так называемого критического
умонастроения, которое поднимает только такие вопросы,
на которые может ответить.
И все-таки только что выраженное банальное
смирение философствования — не охранная грамота для
безмерной поверхностности и произвола, творимого
тем здравым смыслом, который воспринимает
философствование не иначе, как подсчет деловых издержек.
В только что предпринятом нами рассмотрении
негативной свободы мы сами слишком потворствовали этой
поверхностности. Из того, что негативная свобода
задает как тему, мы сразу сделали вывод о том, что вообще
охватывает проблема свободы, т. е. решили, что она
охватывает не все. При этом мы упустили из виду, что —
поскольку мы, в общем-то правильно, говорим о
негативной свободе — можно и нужно мыслить и свободу
позитивную; что, следовательно, именно она, будучи
позитивной, в первую очередь намечает сферу проблемы
свободы; что в любом случае негативную свободу надо
26
представлять в единстве со свободой позитивной, если,
имея в виду проблему свободы, мы хотим решить,
является ли она лишь частным вопросом философии
среди прочих ее вопросов или в конечном счете все-таки
вбирает в себя всю ее в целом. Вместо этого мы в
наметившемся или—или сделали поспешный и
односторонний выбор в пользу негативной свободы. Но не только
это: саму негативную свободу мы поняли неглубоко.
с) Более глубокое истолкование
«негативной свободы» как свободы от...,
сделанное из самого существа
ее «соотносительного» характера.
Сущее в целом как тема,
с необходимостью присутствующая в вопросе
о человеческой свободе
Итак, негативную свободу мы истолковали как
независимость от мира (природа и история) и Бога. Хотя
это «от» и присутствовало в нашей мысли, однако
непосредственной темой не являлось. Нам не надо было
в него вникать, поскольку темой была свобода, т. е.
в данном случае бытие независимым от... как таковое.
Что это значит? Независимость от — если мы хотим
охарактеризовать это в совершенно общих чертах, тогда
надо сказать: это отношение, отношение независимости
одного от другого. Такое отношение есть также
равенство одного с другим, а также различие как неравенство
одного с другим же. Во всяком отношении мы
различаем: 1) отнесенность (die Bezogenheit) одного к другому
как таковую; 2) это самое одно и другое, между
которыми и существует отнесенность, т. е. члены отношения.
Выражение «отношение» в большинстве случаев
двойственно. Прежде всего под ним мы подразумеваем
27
только отнесенность как таковую, но столь же часто —
отнесенность вместе с членами отношения.
Как и не-зависимость, не-равенство — это
«негативное» отношение. Если, например, мы констатируем
неравенство между вот этим столом и лампой на
потолке, тогда речь тоже идет об отношении.
Констатируя такое неравенство, мы должны не только думать
о членах отношения (лампа, стол) — дабы
отнесенность, как бы лишенная почвы, не повисла в воздухе —
но и вникать в саму их природу. При таком вникании
мы констатируем такость, так-бытие (das Sosein) стола
и так-бытие лампы и, исходя из этого, схватываем их
неравенство. Таким образом, при всякой констатации
отношений надо вникать в природу самих членов
отношения. Это понятно, но следует ли из этого, что в
запланированном нами рассмотрении свободы, взятой
как независимость, мы тоже должны вникать в
природу членов отношения? По-видимому, да, ибо как иначе
мы можем констатировать независимость — ведь она
нигде не дана сама по себе как некое свободно парящее
отношение, но дана как раз применительно к чему-то:
мы обнаруживаем ее, когда рассматриваем человека
как один член, отношение и мир — как другой. Но
разве мы хотим констатировать независимость (свободу)?
И можем ли мы это? Ни то, ни другое. Мы рассуждаем
не о человеческой свободе, а о существе человеческой
свободы. В его прояснение входит троякое: 1) что-
бытие; что она (свобода) как таковая есть; 2) каким
образом это что-бытие возможно в самом себе; 3) где
находится основание этой возможности.3
Итак, мы говорим о существе отношения. Мы не
собираемся там и сям констатировать и доказывать
его как факт. Даже если бы так и было, нам все равно
3 См. ниже, раздел «О сущностном анализе и аналитике».
28
прежде надо было бы знать, что, собственно, мы здесь
хотим и должны констатировать. Когда мы
рассматриваем отношение в его существе, надо ли нам, как при
его констатации, вникать в природу его членов?
Когда мы рассуждаем о существе «неравенства», надо ли
нам детально останавливаться на этом столе и этой
лампе? Или кроме него мы должны устанавливать и
другие неравенства (дом и дерево, треугольник и луна
и т. п.)? По-видимому, нет. Для осмысления существа
неравенства неважно, какое конкретное неравенство
между какими двумя конкретными неравными друг
другу сущими мы ради примера имеем в виду. С
другой стороны, мы все-таки должны учитывать сами
члены отношения, мы не можем от них отвлечься.
Таким образом, когда мы очерчиваем существо
отношения, нам нет нужды — в отличие от констатации
какого-нибудь определенного наличного отношения
между определенными же наличностями — вникать
в природу этих определенных членов отношения, но
тем не менее мы не должны упускать из виду именно
члены отношения как таковые. Нам все равно, каковы
их фактические свойства. Однако неважность для нас
того или иного конкретного содержания членов
отношения не означает, что нам решать, оставлять ли их
без внимания при разъяснении существа отнесенности
или не делать этого. Попытаемся, насколько это
получится, применить сказанное к нашей проблеме.
В вопросе о существе человеческой свободы мы —
до тех пор, пока в основу нашего рассуждения мы
кладем негативное понятие — спрашиваем о существе
независимости человека от мира и Бога. Мы не
собираемся определять, независим ли этот или тот человек
от этого или того мира, этого или того Бога: мы ищем
само существо независимости человека как такового от
мира и Бога как таковых. Именно в том случае, если
29
мы хотим понять существо этого отношения, этой
независимости, мы должны задать вопрос о существе
человека, а также о существе мира и Бога. Позднее
мы рассмотрим, возможно ли такое вопрошание и как
именно оно возможно.
Теперешнее размышление позволяет нам сделать
только такой вывод: из того, что независимость как
негативное отношение как бы освобождается и держится
в стороне от того, по отношению к чему она есть
независимость, не следует, что сущностное рассмотрение
независимости точно так же может освободиться от
рассмотрения того, по отношению к чему независимость
есть независимость. Скорее наоборот: именно потому,
что независимость от... есть отношение и к нему как
таковому принадлежит отнесенность к миру и Богу,
в рассмотрение, в тему должно входить и это «от чего»,
свойственное независимости. Короче говоря, то, что
имеет силу по отношению к сущностному содержанию
отношения (быть прочь-от...), не распространяется на
сущностное рассмотрение отношения.
d) Философия как раскрытие целого
в прохождении через действительно понятую
отдельную проблему
Итак, когда мы ставим вопрос о существе
человеческой свободы, с самого начала целое сущего постоянно
присутствует как тема — мир и Бог, а не только
границы. Вопрос о существе свободы — это, пожалуй, не
вопрос о существе истины, и все-таки это не частный
вопрос: он уходит в целое. Но, наверное, это имеет силу
и по отношению к вопросу об истине. Это значит, что
любой философский вопрос вопрошает в целое (fragt
ins Ganze). Поэтому мы можем, даже должны, следуя
30
путеводной нити вопроса о существе человеческой
свободы, отважиться на настоящее введение в
философию как целое.
Правда, один недостаток все-таки сохраняется.
Хотя проблема свободы открывает перед нашими
глазами целое философии, это все-таки происходит в
особой перспективе, а именно в перспективе свободы, а не,
скажем, истины. В нашем введении целое философии
обнаруживается как бы в совершенно определенном
смещении. Если бы мы выбрали проблему истины,
как это было в более раннем введении,4 тогда целое
философии обнаружилось бы в другом расположении
проблемы и ее сплетенности (die Verwobenheit).
Следовательно, действительное целое философии
схватывалось бы только в том случае, если бы мы могли
рассмотреть возможное целое всех возможных вопросов и
их перспектив.
Как бы мы ни крутились и ни вертелись, от одного
нам все-таки не избавиться: следуя путеводной нити
проблемы свободы, введение в философию принимает
особую, единичную ориентацию. Это, в конце концов,
вовсе не недостаток, и здесь совсем не надо
оправдываться, вспоминая о бренности всяческого
человеческого делания. Может быть, сила и значение
философствования в том и заключаются, что оно раскрывает целое
только в действительно понятой отдельной проблеме.
Быть может, излюбленный подход, когда все
философские вопросы втискиваются в какие-то рамки и в
соответствии с ними говорят обо всем и всяческом, не
спрашивая по-настоящему, — противоположность введению
в философию, т. е. видимость философии, софистика.5
4 Einleitung in die Philosophie // Freiburger Vorlesung WS
1928-1929.
5 См.: Aristoteles. Metaphysik (Christ). Leipzig, 1886. Г 2,
1004Ы7 f.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПОЗИТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
ИЗ СОДЕРЖАНИЯ ВОПРОСА О СВОБОДЕ.
ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СВОБОДЫ
И ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ
Глава первая
ПЕРВЫЙ ПРОРЫВ ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ
В НАСТОЯЩЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ (КАНТ).
СВЯЗЬ ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ
С ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ МЕТАФИЗИКИ
§ 2. Философия как вопрошание вовнутрь целого.
Выход-на-целое как прихождение-к-корню
Итак, наш замысел состоит в том, чтобы через
обсуждение особой проблемы человеческой свободы
привести в целое философии и таким образом ввести
в нее, несмотря на первоначальные сомнения в
правильности задуманного. Здесь дело обстоит не так, как
в науках: философия с самого начала целит в целое,
хотя и в определенной перспективе. Мы можем быть
спокойны: у нас под ногами выверенный путь к
правильной цели. В ходе предыдущего предварительного
рассмотрения мы уже многое узнали — хотя и в общих
чертах — о свободе, независимости, отношении,
характере философских вопросов в их отличии от науки.
Цель рассуждений была очевидной: успокоиться
насчет правомерности выбранной задачи. Действительно
ли мы успокоились? Можем ли и должны ли мы
вообще быть спокойными? Это, конечно, необходимо, если
32
в философии дело должно закончиться тем, чтобы
спокойно заниматься всякими интересными и не очень
вопросами. Но допустимо ли, чтобы проблема
человеческой свободы была просто представлена перед нами,
т. е. прошла мимо нас? Или же нам самим надо войти
в эту проблему, чтобы и впредь остаться в ней? Нам
самим, а не кому-то, не любому другому! А может быть,
философия и на самом деле более возвышенное —
потому что более всеобщее — занятие духа, некая
роскошь и развлечение, которое мы позволяем себе,
глядя на ход наук, часто однообразный и утомительный?
Может быть, философия — это полезная возможность
оторвать свой взор от тесной, теснейшей области наук
и дать ему более широкую перспективу, устремив его
на всеобщее целое? Что значат наши слова о том, что
философствование в своем вопрошании обращено
в это целое? Может быть, это означает лишь то, что
мы раздобываем себе эту перспективу, чтобы нам, как
зрителям, оказаться в более благоприятном
положении — в сравнении с тем, которое мы имеем в частных
и нередко слишком тесных сферах науки? Или мысль
о том, что в философии живет обращенность к целому,
означает нечто совсем другое? Может быть, это значит,
что речь идет о нас, о наших собственных корнях?
Причем не в том смысле, что, якобы поняв философские
размышления и тезисы, мы при случае применяем их
к себе в нравственном плане и, таким образом, даем
философии возможность дополнительно
воздействовать на нас своим назиданием. В конце концов, мы
понимаем философствование только тогда, когда вопро-
шание по своему вопросному содержанию, вопросному
измерению таково, что оно в самом себе, а не когда-то
потом, доходит до корней. Философия — это не
теоретическое познание, связанное с его практическим
применением, не теоретическое и практическое одно-
33
временно, но ни то и ни другое: она исконнее их обоих,
каковые опять-таки характерны только для наук.
Характеристика философствования как вопро-
шания вовнутрь целого остается принципиально
неполной, пока «выход-на-целое» мы не понимаем как
«прихождение-к-корню». Но может ли тогда
философствование оставаться успокоением и рассчитывать
на нечто подобное? Разве мы действительно начинаем
философствовать, сопрягая введение с успокоением?
Может быть, таким образом мы просто с самого начала
поворачиваемся к философии спиной?
Однако в конечном счете об успокоении вообще
не может быть и речи, если мы обретаем уверенность
в том, что с путем и целью нашего предприятия все
в порядке; может быть, это означает только то, что
мы с уверенностью приближаемся к опасной зоне
или, говоря осторожнее, имеем для этого верную
возможность. Как бы там ни было, но теперь мы знаем
больше. Прежнее определение философии («она
выходит на целое») недостаточно, а точнее говоря это
выхождение-на-целое мы должны в себе понимать
как «прихождение-к-корню». Это, конечно, просто
утверждение. Как нам его доказать? Наверное, только из
существа дела самих философских вопросов.
Существо философских проблем таково, что оно заставляет
чему-то совершиться с нами. То, как именно это
происходит, должно быть испытано в настоящем
философствовании. Тем не менее уже в начале нам нужен
намек на то, каков полный смысл фразы: философия
вопрошает вовнутрь целого.
Тот факт, что в наших начальных размышлениях
мы не смогли пробиться к этому полному смыслу,
имеет свою особую причину. Ведь философия даже тогда
ориентируется по научному познанию, когда мы
принципиально отличаем ее от науки. В смысле возможно-
34
стей проводимого различения это сопоставление дает
ровно столько, сколько этих возможностей содержится
в том, по отношению к чему сопоставление и
производится, т. е. в науке. Поэтому теперь нам надо
попытаться понять философию позитивно из нее самой, причем
не через пустое рассуждение о философии вообще, а из
содержания выбранной нами проблемы — человеческой
свободы. Тем самым одновременно перед нами
откроются перспективы, в которые мы конкретно обращаем
наше вопрошание по ходу всего лекционного курса.
§ 3. Формально-уведомительное
рассмотрение «позитивной свободы»
в соотнесении с «трансцендентальной»
и «практической» свободой у Канта
До сих пор, разъясняя нашу задачу и тему, а
также способ рассмотрения задачи, мы придерживались
только негативного понятия свободы. Мы не
случайно исходили из так называемой негативной свободы.
Всюду, где пробуждается знание о свободе, ее поначалу
знают в негативном смысле — как бытие-независимым-
от... В основе этого само-напора (das Sichvordrängen)
негативной свободы и даже, наверное, негативного
вообще лежит тот факт, что бытие-свободным познается
как становление-свободным из какой-нибудь
связанности. Саморазвязывание (das Sichlosbinden),
сбрасывание оков, оттеснение себя от притесняющих властей
и сил становится основным опытом человека, вместе
с которым в ясность знания вступает и свобода в ее
негативном понимании. В противоположность
этому сравнительно ясному и как будто бы совершенно
однозначному и надежному определению негативной
свободы характеристика свободы позитивной темна и
35
многозначна. Ее «опыт» зыбок и переменчив. Не
только отдельные взгляды на позитивную свободу
различны и неоднозначны, но вообще неопределенно само
понятие такой свободы, особенно если, как теперь, мы
понимаем под позитивной свободой одно: она не
негативна. Не негативная свобода может означать: 1)
позитивную свободу как противоположность негативной;
2) свободу, которая не негативна, но и не позитивна,
ни ту, ни другую. Теперь для наших подготовительных
рассуждений мы выбираем определенное понимание
позитивной свободы, не вдаваясь во внутреннее
обоснование того, почему выбрано именно оно.
Итак, негативная свобода означает: свободу от
принуждения, означает «прочь-от» него (das Weg-von).
Свобода же в позитивном смысле подразумевает не
прочь-от, а направленность к чему-то (das Hin-zu);
позитивная свобода означает бытие-свободным для...,
держание себя открытым для..., следовательно,
держание себя открытым для..., определение себя самого
через..., определение себя самого к.... Это значит: всецело
из себя, т. е. самому определять собственные поступки,
самому давать им закон. Для Канта позитивное
понимание свободы заключается в этом самоопределении;
далее он понимает ее как абсолютную спонтанность.1
Он описывает ее как присущую человеку
«способность» «самопроизвольно определять себя».2
В этой связи мы называем именно Канта, но не
ради того, чтобы привести какое-нибудь известное
подтверждение из области философских мнений, а потому,
что в истории проблемы свободы Кант занимает особое
место. Он впервые вполне ясно и решительно
связывает эту проблему с основными проблемами метафизи-
1 Kant I. Kritik der reinen Vernunft (R. Schmidt). Leipzig: F.
Meiner, 1926. А 418, В 446.
2 а. а. О. А 534, В 562.
36
ки. Правда, как это всегда с необходимостью случается
в такие решающие моменты, первому прорыву в
настоящее измерение проблемы сопутствует и ее
одностороннее сужение, с которым нам придется разбираться.
Мы вполне определенно сказали, что в кругу
философских проблем Кантово учение о свободе
занимает особое место. До него, в христианской теологии,
эта проблема — с самого начала теологии — уходила
в ее собственную, богословскую, глубину, из которой
существенные импульсы, как позитивные, так и
негативные, проникали в философию, как, впрочем, и
наоборот: богословское рассуждение протекало не без
философского влияния (Павел, Августин, Лютер).
Уже характеристика негативной свободы как
независимости от Бога говорит о сцеплении богословской и
философской постановки вопроса. Однако довольно:
мы берем Кантово понимание свободы, не вдаваясь
теперь в его детальное рассмотрение, — почти как
пример, в котором мы разъясняем позитивную свободу
и ее понятие, а это делаем для того, чтобы получить
четкое понимание дальнейшей перспективы проблемы
свободы и нашей задачи вообще.
Мы сказали: Кант понимает свободу как
способность определять самого себя и как «абсолютную
спонтанность». В обоих определениях нет ничего
негативного. Да, это так, но все-таки они подразумевают
не одно и то же. Поэтому Кант также отличает
свободу «в космологическом смысле» от свободы «в
практическом смысле».3 Однако это различение никоим
образом не совпадает с различием между негативной
и позитивной свободой: это различение само снова
совершается в области позитивной или, лучше сказать,
не негативной свободы.
3 а. а. О. А 533, В 561 f.
37
Прежде всего: что Кант понимает под
космологической и практической свободой? «Под свободой
в космологическом смысле я разумею способность
самопроизвольно начинать состояние; следовательно,
причинность свободы со своей стороны не подчинена
по закону природы другой причине, которая
определяла бы ее во времени. Свобода в этом значении есть
чистая трансцендентальная идея».4 Таким образом,
свобода — это способность к самоначалу {der
Selbstanfang) какого-нибудь состояния. Тем самым
проясняется то, что мы привели выше как Кантово понятие
свободы: «абсолютная спонтанность» — начинать самому,
спонтанно, sua sponte, spons, spondeo, spond, ΣΠΕΝΔ,
σπένδω: жертвовать, дарить (spenden), свободно давать
самому, спонтанно, спонтанность, абсолютная
самодеятельность. Свобода как абсолютная спонтанность есть
свобода в космологическом понимании —
трансцендентальная идея. Позднее мы рассмотрим, что
подразумевают эти последние определения. Пока же спрашиваем:
что такое свобода «в практическом смысле»?
«Свобода в практическом смысле есть независимость воли от
принуждения импульсами чувственности».5 Свобода
в практическом смысле есть независимость, т. е. все-
таки как раз то, что мы привели как отличительную
черту негативной свободы. Но разве мы не сказали, что
у Канта оба понятия свободы — трансцендентальное и
практическое — не негативны? Да, сказали. Но ведь
в предложенном определении практической свободы
она, вне всякого сомнения, берется негативно. И,
присмотревшись внимательнее, мы увидим, что свободу
в практическом смысле Кант разъясняет как раз с
помощью тех моментов, которые мы приводили понача-
4 а. а. О. А 533, В 561.
5 а. а. О. А 534, В 562.
38
лу, говоря о его понимании свободы: «Человеческая
воля... [свободна], так как чувственность не делает
необходимыми ее действия, а человеку присуща
способность самопроизвольно определять себя независимо от
принуждения со стороны чувственных побуждений».6
«Воля» (Willkür) означает здесь не распущенность и
беззаконие, а волевую способность. Здесь упомянута
негативная свобода, но упомянуто и нечто другое:
способность определять самого себя. Но разве это не
совпадает со спонтанностью, разве это не тождественно
космологическому пониманию свободы? Тогда
космологическое понятие было бы позитивным, а
практическое — независимость от чувственности — негативным.
Ни в коем случае. Правда, нельзя спорить с тем, что
в своей дефиниции свободы в ее практическом смысле
Кант говорит о независимости от чувственного
принуждения. На это есть своя причина. Все рассуждение
приводится в «Критике чистого разума», т. е. в труде,
тема которого — чистый рассудок, теоретическая
способность человека, а не практический рассудок, πραξις
в смысле нравственного действия. Поэтому, прежде
чем насильно притягивать Канта к приведенной
дефиниции практической свободы как независимости,
зададимся вопросом: как он определяет свободу в ее
практическом смысле там, где πράξις нравственности
рассматривается тематически, т. е. в «Критике
практического разума»? Заострим вопрос: как Кант понимает
практическую, нравственную свободу там, где
нравственность становится для него метафизической
проблемой, т. е. в «Основах метафизики нравственности»?
В сочинении под таким заголовком, в начале третьего
раздела Кант пишет: «Воля есть вид причинности
живых существ, поскольку они разумны, а свобода была
6 Ebd.
39
бы таким свойством этой причинности, когда она
может действовать независимо от посторонних
определяющих ее причин, подобно тому как естественная
необходимость была бы свойством причинности всех
лишенных разума существ — определяться к
деятельности влиянием посторонних причин».7 Здесь снова
упоминается «независимость». Однако теперь Кант
говорит яснее: «Приведенная дефиниция свободы
негативная, и поэтому она ничего не дает для
проникновения в ее сущность. Однако из этой дефиниции
вытекает положительное понятие свободы, которое более
богато содержанием и плодотворно».8 Здесь уже
становится ясно: если теперь и можно получить
положительное понятие свободы, то, наверное, практическое.
Кант говорит: «Чем же другим может быть свобода
воли, как не автономией, т. е. свойством воли быть
самой для себя законом?».9 Положительно понятие
свободы означает автономию воли,
самозаконодательство. Свобода в практическом смысле — это не нечто
негативное по отношению к свободе в
трансцендентальном смысле: свобода в практическом смысле сама
делится на негативную и положительную.
Но как тогда обстоят дела со свободой в
трансцендентальном смысле, с абсолютной спонтанностью, если
она не является позитивно практической по
отношению к негативно практической? Абсолютная
спонтанность — разве это не то же самое, что и автономия?
В обоих случаях речь идет о самости, о самостном (das
Selbsthaftige), о sua sponte, об αυτός. Да, по-видимому,
они взаимосвязаны, но это не одно и то же.
Присмотримся внимательнее. Абсолютная спонтанность:
7 Kant I. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Vorländer).
6. Aufl. Leipzig: F. Meiner, 1925. S. 74 (IV, 446).
8 Ebd.
9a. a. O. S. 74f(IV, 446 0-
40
способность к самоначалу какого-либо состояния;
автономия: законодательство-себе-самому, совершаемое
разумной волей. В абсолютной спонтанности
(трансцендентальной свободе) речь идет не о воле и
полагаемом ею законе, а о самоначинании какого-либо
состояния; в автономии же говорится об определенном
сущем, к сущности которого принадлежит воление,
πραξις. Они не одинаковы и тем не менее в них
обоих есть самостное: они принадлежат друг другу. Каким
образом? Самоопределение к действию как
самозаконодательство — это самоначало какого-то состояния
в особой области человеческих действий разумного
существа вообще. Автономия — это вид абсолютной
спонтанности: последняя очерчивает общую сущность
первой. Автономия возможна благодаря этой
сущностной черте абсолютной спонтанности. Если бы вообще
не было никакой абсолютной спонтанности, не было бы
и автономии. Автономия по возможности коренится
в абсолютной спонтанности, практическая свобода —
в трансцендентальной. Поэтому в «Критике чистого
разума» Кант вполне определенно говорит: «В высшей
степени примечательно, что практическое понятие
свободы основывается на этой трансцендентальной идее
свободы, которая и составляет настоящий источник
затруднений в вопросе о возможности свободы».10
Трансцендентальная свобода
Практическая свобода тттА ?... Трансцендентальная
(воля разумного существа) свобода
Негативная Позитивная
Независимость Самозаконодательство
от чувственности
10 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. А 533, В 561.
41
Таким образом, трансцендентальная свобода не со-
полагается с практической как негативной свободой,
но пред-полагается практической свободе как
условие ее возможности. Поэтому третий раздел «Основ
метафизики нравственности» открывается таким
заголовком: «Понятие свободы есть ключ к объяснению
автономии воли».11 Определение положительной
свободы как «автономии» содержит в себе настоящую
проблему, связанную с той трудностью, которая
издавна ей сопутствует.
§ 4. Расширение проблемы свободы,
намеченное в обосновывающем характере
«трансцендентальной» свободы;
расширение, взятое в перспективе
космологической проблемы:
свобода — причинность — движение —
сущее как таковое
Итак, что — применительно к нашему замыслу —
дало нам это краткое и общее рассмотрение
положительного понятия свободы? Этим мы хотели
прояснить характер нашего вникания в проблему свободы,
а также его горизонт, т. е. намекнуть на то, каким
образом содержание самой проблемы, выводя на целое,
ведет нас к корню. Для самой проблемы, будучи ее
неотъемлемой частью, характерно некое наступление.
Пока это, вероятно, не очень видно. Остается
только поверить, что наступление проблемы заключается
в том, что свобода, о которой здесь тоже говорится,
свойственна как раз нам, людям, и, следовательно,
11 Kant I. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 74 (IV,
446).
42
касается нас. Это мнение, конечно, правильно, даже
слишком правильно, чтобы схватить то, что мы ищем.
Ведь эта только что высказанная банальность просто
говорит о том практическом значении, которое
выпадает на долю свободы — именно как человеческого
свойства. Однако обо всем этом можно было бы
сказать — и, может быть, даже яснее — исходя из
негативной свободы. Впрочем, если бы говорилось только
об этом, тогда можно было бы и не рассматривать
позитивную свободу. Однако речь идет о чем-то другом,
о наступательном характере проблемы свободы. Этот
характер должен заявить о себе из глубочайшего
существа свободы, поскольку оно находится в горизонте
философского вопрошания.
Поэтому теперь, имея в виду разъяснение
положительной свободы и ее проблемы, каковое
разъяснение мы сделали посредством Кантова различения, нам
надо спросить о трояком:
1) Проглядывает ли вообще в положительной
свободе принципиальное расширение проблематики?
2) Куда ведет это расширение? Т. е. какая
перспектива открывается?
3) Таково ли расширение проблемы, что, будучи
расширенной, она дает нам возможность увидеть,
почему философствование как «выход-на-целое»
одновременно есть «прихождение-к-корню»?
То, что с позитивной свободой связано расширение
проблемы, причем расширение принципиальное,
можно легко и кратко показать в отношении двух
следующих вопросов — второго и третьего. Это уже
произошло: как практическая, положительная свобода равна
автономии. Сообразно своей возможности она
коренится в абсолютной спонтанности
(трансцендентальной свободы). Такая свобода возвращает нас к чему-то
другому, более широкому. Тот факт, что кроме прак-
43
тической позитивной и негативной свободы
появляется трансцендентальная, свидетельствует о
расширении, причем принципиальном, ибо то, что появляется
в расширении, а именно абсолютная спонтанность,
полагается как основание практической свободы, как то,
в чем она коренится. О существовании связи между
практической и трансцендентальной свободой Кант
говорит так: «Упразднение трансцендентальной
свободы вместе с тем уничтожило бы всякую практическую
свободу».1 Возможность второй зависит от
возможности первой. Таким образом, на первый вопрос ответ
получен.
Какую перспективу открывает это расширение?
Перспектива, по-видимому, определяется проблемным
содержанием того, что обнаруживается как
возможность существования практической свободы
(автономия), т. е. проблемным содержанием того, что Кант
называет «абсолютной спонтанностью». Что это
такое? И в чем тогда заключается собственно проблема?
Напомним: спонтанность означает
«самопроизвольность», а именно самопроизвольное начинание —
начинание «некоторого ряда событий»;2 абсолютная
спонтанность — это «совершенное самопроизвольное»
начинание какого-то ряда событий, начальность (das
Anfangsein) для какого-нибудь события, давание ему
возможности следовать «за собой». То, что таким
образом позволяет чему-то (какой-либо вещи) следователь
за собой, есть, согласно Канту, причина этого «чего-то».
В вопросе о спонтанности, начинании и позволении
следовать-за (das Folgenlassen) речь идет о причине.
Эту причинность причины (causa) Кант называет
каузальностью (каузальность причины, die Kausalität der
1 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. А 534, В 562.
2 Ebd.
44
causa). В этом смысле он прямо говорит о
«каузальности причины».3 Однако каузальность причины — это
не причина причины, а причинность (das Ursachesein)
причины: то, что причина есть и как именно есть.
Согласно Канту, всякий опыт, т. е. теоретическое
познание наличной природы подчинено закону
каузальности. Этот закон причинности одного — данного
в опыте — сущего по отношению к другому, т. е. закон
причинённости (das Verursachtsein) второго сущего
первым, в заголовке второй аналогии звучит,
согласно Канту,4 так: «Все изменения происходят по закону
связи причины и действия».5 И далее: «Каузальность
причины того, что происходит или возникает,
также возникла, и, согласно основоположению рассудка,
сама в свою очередь нуждается в причине».6 Та или
иная причинность причины, в свою очередь, следует
за предыдущей, т. е. в природе ни одна причинность
причины не начинается самопроизвольно. Что
касается самоначинания какого-либо состояния (некоего ряда
событий), а именно полного самоначинания, то оно,
согласно сказанному, есть причинность, совершенно
отличная от природной каузальности, совершенно иная
каузальность. Кант называет ее, а именно абсолютную
спонтанность, каузальностью из свободы. Отсюда
становится ясно: собственно проблематичное в
абсолютной спонтанности — это проблема каузальности,
причинности. Поэтому Кант рассматривает свободу как
способность собственной, самобытной причинности.
За. а. О. А 533, В 561.
4 Первая аналогия — основоположение о постоянности
субстанции. Третья аналогия — основоположение об
одновременном существовании согласно закону взаимодействия или
общения.
5 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. А 189.
6 а. а. О. А 532, В 560 fin.
45
Перспектива, которая, согласно сказанному,
открывается вместе с принципиальным расширением
проблемы практической свободы, т. е. полагания автономии
как абсолютной спонтанности, — это перспектива
проблемы каузальности вообще. Каузальность в смысле
абсолютной спонтанности, т. е. причинность в смысле
полного самоначала некоторого ряда событий, есть
нечто такое, чего мы не находим в опыте, т. е., согласно
Канту, в теоретическом познании наличной природы.
То, что мы вкладываем в представление об абсолютной
спонтанности, находится за пределами эмпирически
доступного, превосходит его (transcendere). Свобода
как абсолютная спонтанность есть
трансцендентальная свобода.1
Положительная свобода как свобода,
коренящаяся в абсолютной спонтанности (трансцендентальная
свобода), как раз тогда скрывает в себе проблему
каузальности вообще, когда, как утверждает Кант,
практическая свобода коренится в трансцендентальной,
а последняя составляет самобытную каузальность;
тогда проблема этой самобытной каузальности тем более
становится причиной того, чтобы поднять проблему
каузальности вообще.
Правда, эти вопросы уже выводят нас за пределы
Кантовой проблемы. Для нас, однако, Кант не может
сразу быть абсолютной истиной: сейчас он только
повод и возможность развернуть проблему полностью,
причем сохраняет силу и сказанное ранее, а именно
решающее значение Канта для раскрытия проблемы
свободы вообще.
Свобода рассматривается в перспективе
причинности. Именно Кант понял проблему свободы в этой
7 Данное разъяснение «трансцендентального» совершенно
предварительно, но тем не менее пока его достаточно.
46
перспективе. Единственная ли это перспектива для
данной проблемы, есть ли другая и даже более
радикальная и какая именно — все это мы пока оставляем
совершенно открытым. Если мы придерживаемся
перспективы, полученной в ориентации на Канта, тогда
это означает следующее: спрашивать о сущности
человеческой свободы, т. е. о ее «что», о ее внутренней
возможности и основании, — итак, спрашивать о
сущности свободы значит делать проблемой сущность
каузальности, причинности. Куда мы движемся в своем
вопрошании, если вот так хотим прояснить сущность
причинности? Только ответив на этот вопрос, мы
увидим, какова широта проблемы свободы.
Помимо прочего причинность означает позволение
следовать-за, начинание; она связана с тем, что
совершается, движется и имеет черту процесса, события,
происшествия. Такие черты везде показывают то, что
мы называем движением в широком смысле. Глядя на
это многообразие движений, мы понимаем: движение
движению рознь. То, что можно сказать о так
называем механическом движении, о простом перемещении
материальных частиц, а затем о простом протекании и
развертывании какого-нибудь процесса, нельзя сразу
же отнести и к движению в смысле роста и упадка.
Соответственно различаются причинность,
позволение следовать-за, начинание и окончание. С другой
стороны, от какого-нибудь процесса и роста
отличается то, что мы называем поведением животного и
самоотношением человека. Последние опять-таки можно
рассматривать внутри событий — движений — каких-
нибудь поступков и общения. Путешествие,
например, — это не просто механическое продвижение
вперед на машине (железной дороге, корабле, самолете),
да и вообще не оно: путешествие — это вовсе не
механическое движение плюс поведение человека, но само-
47
бытное событие, о сущностном характере которого мы
знаем так же мало, как о сущности других названных
видов движения.
Обо всем этом мы знаем немного или совсем
ничего, но вовсе не потому, что такое нам недоступно, а
потому, что мы существуем слишком поверхностно, т. е.
не «коренным» образом, чтобы спрашивать об этом и
чувствовать, как жгут эти вопросы. Потому-то с
прояснением сущности движения дела в философии весьма
плачевны. Со времен Аристотеля, который первым и
пока что последним понял эту философскую проблему,
философия ни на шаг не продвинулась в ее решении.
Она даже пошла вспять, потому что вообще не
понимала эту проблему как проблему. Здесь совершенно
несостоятельным оказался и Кант. Это тем примечательнее,
что для него проблема каузальности — центральная.
Легко увидеть, что проблема сущности движения —
это предпосылка к тому, чтобы вообще поставить
проблему каузальности, проблему причинности, не говоря
уже о том, чтобы разрешить ее.
И что же проблема движения? Движение, т. е.
движимость (das Bewegtsein) или покой (как собственный
модус движения) предстают как основное определение
того, что мы вообще наделяем бытием, т. е. сущего. Вид
возможной движимости или недвижимости зависит от
вида того или иного сущего. В основе проблемы
движения лежит вопрос о сущности сущего как такового.
Так расширяется наше прохождение через
проблему свободы. Теперь перечислим еще раз отдельные
места этого расширяющегося прохождения:
практическая свобода (автономия) — трансцендентальная
свобода (абсолютная спонтанность) — самобытная
каузальность — каузальность (причинность) как
таковая — движение как таковое — сущее как таковое.
И где мы находимся теперь?
48
Спрашивая о сущем как таковом, о том, что же
присуще сущему как сущему во всей его широте и
глубине, мы задаем вопрос, который издавна считается
решающим, первым и последним вопросом настоящей
философии — ведущий философский вопрос, τί το öv,
что есть сущее?
§ 5. Спорность наступательного характера
расширенного вопроса о свободе
и унаследованная нами
форма ведущего вопроса философии.
Необходимость нового вопрошания
о ведущем вопросе
Вопрос о сущем как таковом появляется в ходе
раскрытия собственного содержания проблемы
свободы. Он появляется не как вопрос, к которому
проблема свободы лишь примыкает, не как вопрос, который,
будучи более общим, просто парит над частным
вопросом о свободе: нет, когда мы действительно задаем
вопрос о сущности свободы, мы находимся в вопросе
о сущем как таковом. Следовательно, вопрос о
сущности человеческой свободы с необходимостью встроен
в вопрос о том, что, собственно, есть сущее как таковое.
Находиться в этом вопросе значит: просто выходить на
целое — ведь вопрошание не может пойти дальше
вопроса о сущем как таковом.
Но можно ли сказать, что это расширение
проблемного поля таково, что из расширенного
содержания проблемы мы начинаем понимать, почему выход-
на-целое означает наше прихождение-к-корню? Этот
вопрос приводит нас к третьему вопросу.
Теперь мы можем поставить его определеннее.
Можно ли сказать, что, будучи встроенным в вопрос
49
о сущем, вопрошание о сущности человеческой
свободы как вопрошание, обращенное в целое (das
Fragen ins Ganze), само по себе является также нашим
«прихождением-к-корню»? Можно ответить так:
поскольку, постепенно раскрывая содержание вопроса
о свободе, мы начинаем задавать вопрос о сущем как
таковом, а мы сами, вопрошающие люди, тоже этому
сущему принадлежим, — в вопросе о нем спрашивается
и о нас. Однако из того, что в вопросе о сущем мы сами
как сущие подпадаем под вопрос, ни в коей мере
нельзя сделать вывод, что мы (и почему именно) приходим
к корню. Когда задается вопрос о сущем,
спрашивается также о животном и материальной природе — ведь
они, как и мы, люди, тоже сущее. Вопрошание о сущем
затрагивает и животное, но это затрагивание, как и
наше, все-таки не «прихождение-к-корню».
Насколько это верно, нам станет ясно, если мы
поближе присмотримся к вопросу о сущем. В этом
философском вопросе спрашивается о том, что есть сущее.
Спрашивается, что есть сущее именно как сущее, по
отношению к тому, что оно есть сущее. Поэтому
ведущий вопрос звучит острее: что есть сущее как таковое?
Выражение «как таковое» — это перевод латинского ut
taie, qua taie, употреблявшегося в метафизике позднего
средневековья и соответствующий античному наречию
η. Оно означает, что то, с чем оно сопрягается — «стол
как таковой» — не просто любой предмет, который
мы схватываем, о котором имеем какое-то мнение,
который оцениваем и которым пользуемся: речь идет
о том, что надо рассмотреть стол как таковой, т. е.
поскольку он есть стол, в отношении его «стольности».
Только «стольность» стола сообщит о том, что же он
есть, сообщит о его что-бытии, сущности.
Опрашивать сущее как таковое значит опрашивать hoc ens
qua taie, поскольку оно есть это сущее, опрашивать
50
в отношении его бытия сущим. Языковое выражение
«как таковой» — специфически философское. Оно
говорит: то, о чем идет речь, имеется в виду не просто
как оно само, но с самого начала берется в
своеобразном отношении — в отношении его сущности: τί το öv
fj öv. Более того, вопрос о сущем как таковом
спрашивает не только о вот этом или том сущем. Вопрос не
только о каком-то сущем как таковом (животное,
человек), но вопрос о вообще сущем как таковом означает
вопрошание о том, что есть сущее вообще как сущее,
независимо от того, является ли оно растением,
животным, человеком или богом. В этом вопросе также не
принимается во внимание тот или иной предметный и
конкретный характер сущего. Спрашивается о том, что
характерно для сущего вообще — в самом широком
смысле.
Итак, чем дальше мы уходим в вопрос о том, что
есть сущее как таковое, тем более общим,
неопределимо-абстрактным (по отношению к отдельному сущему)
становится поле зрения. Хотя всякое определенное
сущее подпадает под сущее как таковое, происходит это
в таком совершенно всеобщем и широчайшем, что, по-
видимому, вопрос о сущем как таковом уже не может
особо затронуть особое сущее. Таким образом, теперь
не просто по-прежнему не ясно, почему «вопроша-
ние-вовнутрь-целого» равнозначно нашему прихожде-
нию к корню, но это прихождение вообще
невозможно. Ведь спрашивать о сущем вообще значит уходить
в своем вопросе (wegfragen) от всякого особенного
сущего, а значит, и от человека. Как в таком уходе от нас
сказывается, да и вообще может сказаться упомянутый
наступательный характер вопроса о свободе? Будучи
наступлением, прихождение-к-корню должно по
меньшей мере взять направление на нас, иметь нас самих
своей целью. Вопрошание о сущем в общем и целом —
51
и тут неважно, идет ли речь о животном или
человеке — это не приступание к нам самим как таковым и,
следовательно, все, что угодно, только не наступление
на нас. Вопрошающий уход в самое общее — это скорее
бегство от нас как особенного сущего и, таким образом,
от всякого сущего.
Следовательно, если выбранную нами проблему,
вопрос о сущности человеческой свободы, мы берем
в его полном и окончательном содержании, т. е. как
вопрос о сущем как таковом, тогда становится ясно:
вопрошание-вовнутрь-целого не только не движется
к нашему корню, но и вообще не приступает к нам,
поскольку мы суть эти люди. Вот что остается: тезис,
согласно которому вопрошание-вовнутрь-сущего есть
прихождение-к-корню, — просто произвольное
утверждение, обосновать которое из содержания нашего
вопрошания никак нельзя. Нам надо привести
другое подтверждение этому, причем такое, от которого
нельзя просто так отмахнуться.
Мы сказали, что вопрос, в котором покоится
проблема свободы в соответствии с нашим раскрытием ее
собственной перспективы, т. е. вопрос о сущем как
таковом, так же стар, как западная философия. Обозревая
ее историю, мы обнаруживаем, что этот вопрос
никогда и нигде не склонял к тому, чтобы понять вопроша-
ние, философию в себе, как прихождение-к-корню —
корню вопрошающего. Напротив, усилия,
предпринимавшиеся снова и снова, — особенно с начала
новоевропейской философии — были направлены на то,
чтобы в конце концов возвести философию в ранг
науки, или абсолютной науки: как просто теоретическое
отношение, как чистое созерцание, как
спекулятивное познание (Кант), в котором совершенно ничего не
может быть, да и не должно быть от наступления на
человека.
52
Как и история вопроса о сущем как таковом (со
встроенной в него проблемой свободы), так и
внутреннее его содержание тоже не обнаруживает заявленного
нами наступательного характера. Если так, тогда
получается, что наш тезис о наступательном характере
философского вопрошания-вовнутрь-целого совсем не есть
нечто само собой разумеющееся — и уж это тем более
так для философии в ее обычном понимании.
Разъяснение тезиса и его подтверждение совсем не очевидно,
но зато нам весьма близка повседневная и почти
«естественная» точка зрения, согласно которой философия
должна, как гласит фраза, «быть близкой к жизни».
Обсуждая тезис о наступательном характере
философии, мы оказываемся в примечательно
двойственном положении. С одной стороны, наш тезис отвечает
совсем естественному взгляду на философию,
согласно которому она должна иметь дело с самим
человеком и влиять на его поступки. И здесь не важно, что
толкование, которым обычный рассудок обосновывает
это убеждение, а также соответствующее
представление о философии совсем путаны и ложны и вызывают
величайшее недоверие; ведь под «близостью к жизни»
понимают сообразование с так называемыми
сегодняшними потребностями. Но как раз это и нелегко,
потому что — скажем еще раз — естественный дофило-
софский опыт и убеждение требуют того, в чем мы уже
отказали философии. Следовательно, ее так
называемая «близость к жизни» оборачивается совершенной
безликостью. Но если философия — это первая и
последняя возможность человеческой экзистенции,
тогда ей не стремятся навязать такого сообразования, но,
наоборот, требуют, чтобы она сама определила свой
характер из себя самой и своего первого и последнего.
С другой стороны, именно полное раскрытие
ведущего вопроса философии никак не выявляет того на-
53
ступательного характера, который заключен в этом во-
прошании. Напротив, оно, вопрошание, полагает себя
из θεωρία, contemplatio, спекулятивного познания.
Получается, что наш тезис о наступательном
характере скорее отвечает так называемому естественному и
дофилософскому представлению о сущности
философии и как будто бы только им и определяется. В свою
очередь, традиция истолкования философски
ведущего вопроса «что есть сущее как таковое?» ничего не
говорит о его содержании. Какой же инстанции нам
довериться: естественному представлению о философии
или той великой традиции в истолковании ее ведущей
проблемы, которая уже сложилась?
Ни той, ни другой, поскольку они предстают перед
нами в их расхожем обличий. Мы не солидаризуемся
с упомянутым естественным пониманием философии
и не искажаем ее — в том смысле, что не низводим до
уровня обычного глашатая какого-то мировоззрения;
но мы и не торопимся принять унаследованный нами
ведущий вопрос как окончательный в своем
содержании. Почему не принимаем? Ведь мы же не
упраздняем великую традицию и не тешим себя смехотворной
мыслью о том, что должны и можем начать все заново?
Если же мы не можем выпрыгнуть из традиции,
тогда как и зачем нам отвергать ведущий вопрос? Разве
этот вопрос, т. е. τί το öv, поставлен неверно? Если
допустить, что это так, тогда откуда мы берем критерий
для такой оценки? Какова в таком случае истинная
постановка вопроса? Как вообще можно неверно
поставить вопрос? Ведь сущее в целом требует или может
требовать постановки этого элементарного вопроса
о том, что оно, сущее как сущее, есть. Нельзя сказать,
что этот ведущий вопрос западной философии
поставлен неверно: просто он вообще не поставлен. На первый
взгляд, это неслыханное и дерзкое утверждение. Вдо-
54
бавок оно противоречит тому, о чем мы сами только
что сказали: вопрос τί το öv как вопрос настоящего
философствования высказывает и ставит Аристотель,
ибо он выражает то, что до него в великом борении
пыталась прояснить вся античная философия, видя
в этом свою задачу. Этот вопрос задавали Платон и
Аристотель, и мы встречаем его в их сочинениях,
дошедших до нас. Аристотель и Платон — не напрямую,
а всей своей деятельностью — даже дали ответ на него,
который, пройдя через всю историю
западноевропейской метафизики и достигнув своего грандиозного
завершения в работах Гегеля, в принципе воспринимался
как окончательный.
Как же мы можем утверждать, что этот вопрос не
поставлен? Ведь Платон и Аристотель действительно
его задавали. Да, это так, но если этот встречающийся
у них вопрос, да и ответ, мы снова выставляем и просто
констатируем, что он у них действительно
встречается, означает ли это, что мы действительно его ставим,
действительно задаем этот вопрос? Если этот вопрос,
а к тому же и ответ на него и его последствия, вновь
и вновь дают о себе знать в последующей философии,
значит ли это, что вопрос ставился? Ни в коем
случае. Снова спрашивать о том, о чем спрашивалось со
времен Платона и Аристотеля, а короче говоря, с
начала западной философии, значит делать нечто иное.
Это значит: спрашивать исходнее, чем они. В истории
всего существенного это привилегия, но и
ответственность всех потомков: то, что они вынуждены
становиться убийцами своих предков и ожидать своего
собственного неизбежного убиения! Только тогда мы
добьемся той постановки вопроса, в которой наши
предки существовали непосредственно, хотя как раз
потому и не могли добраться до ее последней
прозрачности.
55
Но разве мы сами в наших предыдущих
размышлениях поставили вопрос о том, что есть сущее?
Никоим образом: мы просто подхватили его. Мы только
показали, что проблема свободы встроена в этот
вопрос. Мы показали, сколь широко то, что является
опрашиваемым в этот вопросе: сущее в целом как
таковое. В результате оказалось, что, в силу своей
совершенной абстрактности, именно этот вопрос
совершенно не обнаруживает никакого наступления. Впрочем,
можем ли мы это утверждать, если еще не исчерпали
до конца содержание вопроса? И можем ли мы его
исчерпать, да даже просто увидеть, если мы не задаем
его по-настоящему, но как будто лишь отмечаем, что
он встречается в античной философии. Только тогда,
когда мы действительно задаем, если задаем,
унаследованный нами ведущий вопрос философствования,
мы можем решить, есть ли в этом философствовании
наступление на нас или его нет.
Глава вторая
ВЕДУЩИЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ
И ЕГО ВОПРОСНОСТЬ.
РАССМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕГО ВОПРОСА
ИЗ ЕГО СОБСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
И ПРЕДПОСЫЛОК
§ 6. Ведущий вопрос философии (τί το öv)
как вопрос о бытии сущего
Что значит действительно задавать этот вопрос?
Не что иное, как позволить прорваться и выявиться
всему тому, что обнаруживается в нем как досто-во-
просное (Frag-würdige), ввести в вопрос все, что есть
в нем достойного вопрошания. Достойное же вопроша-
ния вбирает в себя все, что принадлежит этому
вопросу по его внутренней возможности; что в нем самом
зависит от так называемых предпосылок.
Своеобразие всякого вопроса состоит в том, что
все, принадлежащее к его собственной предпосылке,
не появляется в вопросе при его первом пробуждении.
И как раз то вопрошание, которое — как упомянутое
вопрошание о сущем как таковом — словно с самого
начала обращено к целому, именно такое вопрошание
на первом этапе неизбежно спокойно. Однако именно
57
то вопрошание, которое по своей основной тенденции
вопрошает в направлении целого, которое всегда
стремится схватить достовопросное, не может
успокаиваться, видя, какова форма этого первого этапа.
Но, наконец, приступим: что в унаследованном
ведущем вопросе философии (τί το öv) может и должно
быть достойного вопрошания? В этом вопросе
считать достойным вопрошания надо не что иное, как то,
о чем здесь, собственно, спрашивается. Этот ведущий
вопрос, т. е. вопрос о том, что есть сущее, мы
должны сделать действительным вопрошанием, т. е. искать
того, о чем в нем спрашивается: искать сущего как
такового, öv ή öv. Но что есть то, что составляет сущее
как сущее? Можно ли назвать его иначе, чем бытие!
По существу, вопрос о сущем как таковом
направляется на бытие. Спрашивается о том, что есть бытие
сущего, а не о том, что есть сущее. Достойно вопроса
собственно бытие.
Но исчерпали ли мы тем самым то достойное
вопрошания, которое содержалось в этом ведущем
вопросе? Действительное вопрошание только тогда
действительно, когда оно старается получить ответ, т. е.
когда в своем вопрошании одновременно ищет то, что
дает возможность ответа. Однако осуществление
ответа обеспечено и может быть обеспечено только тогда,
когда для самого вопрошания становится ясно, как оно
вопрошает и чего ищет. Но о чем спрашивается в
вопросе: что есть бытие сущего? Чего он ищет? Того, что
определяет существо бытия. Это вопрос определения.
Значит, искомым является следующее: откуда мы
понимаем бытие сущего, если мы его понимаем. Но разве
мы его понимаем? Когда мы понимаем его? Мы
понимаем его всегда, не зная об этом и не обращая никакого
внимания на этот факт. Но почему мы уже понимаем,
что значит «быть»?
58
§ 7. Допонятийное понимание бытия и ключевое
для бытия слово античной философии: ουσία
а) Особенности допонятийного понимания бытия
и забвение бытия
Достаточно вспомнить о том, что постоянно
происходит в нашем вот-бытии. Когда в наших
предыдущих рассмотрениях мы спрашивали о том, может ли
трактовка проблемы свободы, как вопрос единичный,
быть подлинным введением в философию, мы, еще
не обозревая всего вопроса, в любой момент
понимали каждое слово этого предложения, включая и слово
«быть». «Быть» нам известно как инфинитив
глагольной формы «есть». Когда я говорю, что тема лекции
есть человеческая свобода, а Вы, слушая меня,
понимаете это, мы понимаем это «есть». Мы понимаем
нечто совершенно определенное и в любом случае
можем до бесконечности утверждать: под этим «есть» мы
подразумеваем не камень, треугольник или число, но
именно «есть». То же самое касается и его изменений:
«был», «будет». Мы постоянно держимся и движемся
в таком вот понимании того, что значит «быть»,
причем не только тогда, когда эти языковые выражения,
предназначенные для бытия и его изменений,
употребляем в речи. Даже если мы, слушая лекцию, молча
решаем: то, что он тут говорит, (есть) необоснованно
(ist nicht stichhaltig), — мы все равно понимаем это
«есть» и движемся в этом понимании. Или другое:
когда, пересекая какую-нибудь местность, мы на миг
останавливаемся и, оглядевшись, восклицаем:
«Великолепно!» (или не восклицаем, а просто понимаем
это) — мы понимаем вот что: этот сущий вокруг нас
ландшафт (есть) великолепен (ist herrlich). Когда мы
понимаем это «есть», мы движемся не только в гово-
59
рении и речи о сущем, не только в недвусмысленном
«есть»-сказывании («ist»-Sagen), но и во всяком
безмолвном отношении к сущему. С другой стороны, это
совершается не только в созерцательном наслаждении
сущим или в его теоретическом рассмотрении, но и во
всякой его практической оценке, овладении и
использовании. И опять-таки не только во всяком отношении
к окружающему нас сущему мы понимаем, что это
сущее «есть» и что оно «есть» так-то и так-то, а не иначе:
мы понимаем нечто наподобие бытия и в отношении
к нам самим, которые суть, и к другим, подобным
нам, с которыми мы суть. Наконец, это бытие
всяческого сущего мы понимаем не только тогда и
постольку, когда и поскольку специально употребляем слова
«бытие», «есть», «было» и им подобные: нет, во всякой
речи мы подразумеваем и понимаем сущее в его быть-
так-и-иначе, быть-не-так и т. д. Да, мы можем
употреблять «есть», «был» и тому подобные слова и
высказываться в них о том, что мы имеем в виду, только
потому, что уже до всякого высказывания и всяческих
суждений мы понимаем бытие сущего.
Мы понимаем бытие сущего таким образом, что
бытие уже с самого начала расчленилось. Мы
уясняем себе это изначальное членение в отношении «есть»:
«Земля есть», т. е. она как планета действительна, она
существует. «Земля (есть) тяжелая», «она (есть)
покрыта (ist bedeckt) морем или (есть) суша», т. е. теперь
бытие означает не «существование», а так-бытие (das
Sosein). «Земля (есть) планета», т. е. здесь бытие
предстает как что-бытие (das Wassein). «Ситуация (есть)
такова, что Земля вращается вокруг Солнца»: здесь
бытие выступает как бытие-истинным (das Wahrsein).
Пока все это — лишь указание на изначальную членен-
ность, в которой мы понимаем бытие как наличность,
чтойность, так-бытие, бытие-истинным.
60
Мы постоянно и во всех аспектах пребываем в
нашем отношении к сущему, которое не есть мы сами и
которое есть мы сами как люди. Мы непрестанно
находимся в таком понимании бытия. Наше отношение
держится на бытии, оно властно проникнуто бытием
или — коротко говоря — пониманием бытия. Мы
настолько проникнуты им и оно настолько не бросается
нам в глаза как таковое, что мы совершенно не
думаем о том, что об этом самопонятном для нас нам надо
как-то по-особому напоминать. Мы забыли о нем,
забыли так сильно, что в большинстве случаев ни разу
не удосужились о нем подумать. Мы начинаем наше
существование в таком забвении понимания бытия, и
чем больше мы открываемся сущему, тем сильнее мы
забываем об одном: во всей нашей открытости сущему
мы понимаем именно бытие. Однако это глубокое
забвение, в котором для нас заключено понимание бытия,
властно пронизывающее все наше поведение, совсем не
случайно. Во-первых, оно ничего не говорит против
господства этого понимания: оно говорит за него — за это
понимание бытия сущего в аспекте его неразличаемости.
Мы сказали: в ведущем вопросе философии,
заданном по-настоящему, спрашивается о том, что есть
бытие сущего. Точнее говоря, в нем мы ищем, откуда
мы понимаем нечто наподобие бытия, если мы вообще
понимаем его. Теперь обнаруживается вот что: мы
понимаем его не только при случае, но постоянно во всем
нашем поведении. Каждый понимает «есть» и «бытие»
и каждый обычно забывает, что он находится в таком
понимании бытия. Более того, каждый понимает это
и никто этого не постигает, каждый сразу впадает
в полнейшую растерянность, если ему приходится
давать ответ на такой вопрос: что ты, собственно,
подразумеваешь под этим «есть», под этим «бытием»? Нас
не просто смущает наша невозможность дать ответ: мы
61
совсем не знаем, где искать источник, из которого мы
можем этот ответ почерпнуть.
Когда мы спрашиваем, что есть стол, ответить
можно так: предмет обихода. Даже тогда, когда мы не
в состоянии по-школьному правильно определить, что
же такое предмет обихода как таковой, мы все равно
уже — и всегда — движемся в понимании таких вещей.
Когда нас спрашивают, что есть треугольник, мы по
меньшей мере можем сказать: плоская и,
следовательно, пространственная фигура. Отвечая на этот вопрос,
мы уже вращаемся в знании и наглядном
представлении о том, что такое пространственное и пространство.
То, откуда мы даем определение столу и
треугольнику, — предмет обихода, пространство — словно
открыто перед нами как нечто такое, в направлении чего
всё подобное названным предметам может
пониматься и определяться. Так же обстоит дело и со всяким
сущим, каким бы оно ни было; всякое сущее, которое
мы знаем как таковое, мы уже каким-то образом
поняли в отношении его бытия. Но мы понимаем и знаем
не только сущее, но и — невысказанным образом — его
бытие. Вопрос остается: откуда мы понимаем «бытие»
и «есть» и в направлении чего истолковано бытие как
таковое? «Бытие» должно быть истолковано в
направлении чего-то, ибо иначе мы не могли бы его понять,
но мы понимаем его, когда говорим «есть», и уверенно
отличаем «есть» от «был». Мы, правда, можем
ошибаться в констатации — есть ли на определенном
месте определенный предмет или он там был — но
относительно отличия «есть» от «был» как таковых мы не
ошибаемся, не можем ошибаться.1
1 Что это значит: обладать чем-то в его истине? Как это
возможно: изначально быть свободным от возможности
заблуждения?
62
Мы все понимаем бытие, но не постигаем его, т. е.
не можем дать ясное и специальное определение тому,
что же именно мы понимаем под тем, что, по
существу, имеем в виду. Мы движемся в допонятийном
понимании бытия. Тем самым указано на все-таки
загадочный факт: мы уже теперь, причем как раз в нашем
повседневном бездумном существовании, понимаем
бытие сущего. Более того, нам уже известен целый ряд
характерных черт этого понимания бытия — тех черт,
которые мы сейчас перечисляем: 1) широта бытия (все
области сущего, т. е. каким-то образом целокупность
сущего), в котором мы держимся; 2) проникновение
бытием всякого способа нашего человеческого
поведения; 3) невыразимость; 4) забвение; 5) неразличае-
мость; 6) предпонятийность; 7) свобода от
заблуждения; 8) изначальная расчлененность.
Когда тем самым философствование как таковое
вообще прорывается наружу и начинает формировать
себя самоё — формировать тем, что человеческое во-
прошание противопоставляется самому сущему и
задает вопрос, что же это такое — сущее как таковое, тогда
в ходе такого вопрошания и попыток дать ответ —
когда вопрошание и ответствование могут быть весьма
неуклюжими — становится, по-видимому, ясно, что при
этом мы понимаем не только сущее как таковое, но и
бытие сущего.
Это понимание бытия, выражающееся в
философии, не может быть выдумано и измыслено ею
самой: так как философствование как перводействие
(die Urhandlung) человека пробуждается в нём самом
и, следовательно, из него пробивается то, чем он уже
был до всякой четко обозначенной философии; так как
в этом дофилософском существовании человека уже
должно заключаться понимание бытия — ибо иначе
он вообще не смог бы иметь отношения к сущему —
63
получается, что понимание бытия, которое находит
свое выражение в философии, есть то, что человек как
таковой уже приносит с собой из своего дофилософ-
ского существования. Пробуждение этого понимания,
преднахождение для него самого, есть рождение
философии из вот-бытия в человеке. Здесь и сейчас мы не
можем проследить, как в западноевропейской истории
совершалось это рождение философии из понимания
бытия. Нам придется удовольствоваться лишь
схематическим указанием.
Ь) Многозначность «усии» (ουσία)
как признак богатства и нужды
непреодоленных проблем
в пробуждении понимания бытия
Когда пробуждается понимание бытия, это значит,
что сущее постигается как сущее, т. е. со-понимается
в отношении его бытия. При этом бытие появляется
в поле зрения и во взоре того понимания, которое еще
совсем сокрыто для себя самого. Тем не менее сокры-
тость этого понимания бытия заключает в себе
следующее: если оно есть понимание бытия, тогда бытие
откуда-то должно проясняться как такое-то и такое-то.
Когда — и где — сущее постигается как сущее, там и
тогда бытие сущего находится — пусть даже в еще
совсем сокрытом — свете понимания. Когда же — и где —
сущее постигается именно таким образом и специально
и намеренно опрашивается, что же оно есть, там и
тогда каким-то образом речь идет о сущем в его бытии.
Тогда опыт сущего как сущего — т. е. теперь —
понимание бытия — должно каким-то образом
выражаться специально, должно находить слово. Там, где
совершается философствование, где понимание бытия
64
выражается в слове, бытие понимается и каким-то
образом схватывается, охватывается и видится в
свете... — в свете чего?
Поэтому вопрос о том, в каком свете античная
философия — западноевропейская философия в ее
решающем начале — понимает бытие, должен решиться
тогда, когда мы спрашиваем и даем ответ на такой
вопрос: в каком ключевом слове античность говорит о
бытии, какое слово философия употребляет как
терминологическое, т. е. четко очерченное обозначение бытия,
специально для этого предназначенное? Мы
спрашиваем об античном слове для обозначения бытия, а не
сущего, хотя, как тогда, так и сегодня,
соответствующие словесные обозначения без разбора
употреблялись и употребляются внутри и вне философии. Когда
в нашей сегодняшней и более ранней философской
литературе мы читаем «бытие», всегда подразумевается
сущее. Итак, мы ищем античное обозначение бытия,
а не сущего.
Сущее греки обозначают словом τα όντα
(πράγματα) или, в единственном числе, το öv, сущее, το öv —
это причастие от инфинитива εΐναι. Сущее, το öv — под
этим термином подразумевается все сущее, которое
есть, независимо от того, знает ли кто-нибудь об этом
или нет. Термин το öv употребляется примерно в таком
же смысле, как и слово το κακόν: плохое, всё плохое,
что есть; наличное, сущее плохое. Однако, употребляя
оба эти слова, мы имеем в виду и нечто иное. Мы,
например, говорим: то, с чем мы здесь встречаемся, есть
κακόν, нечто плохое — не только вот это наличное
плохое, но то, что принадлежит плохому, что плохо вообще;
в таком случае το κακόν, плохое, — это не просто некое
множество существующего и наличествующего
плохого, но сущее плохим (das Schlechtseiende) как таковое,
независимо от того, наличествует ли оно или нет.
65
Точно так же το öv — это не просто все наличное
сущее в его собранности, а суще-сущее (das Seiend-sei-
ende), нечто такое, что есть сущее, коль скоро оно есть,
хотя и не обязательно должно быть. Итак, το κακόν —
это, во-первых, обозначение совокупности всего того,
что принадлежит области плохого, во-вторых, — сама
область, вбирающая в себя все названное. Точно так
же το öv — это собирательное наименование для
всего наличествующего сущего: всего того, что подпадает
под область сущего — того, что мы подразумеваем под
«сущим». Затем это — именование самой области для
сущего, согласно только что сказанному:
наименование для того, что, собственно, есть сущее.
Двоякое значение таких слов не случайно: здесь
кроется глубокая метафизическая причина. Какими
бы неприметными и незначительными ни казались это
различие и постоянная размытость его границ, здесь
мы стоим на краю центральной проблемы.
Внутреннее величие, к примеру, Платоновых диалогов
понимаешь только тогда, когда видишь и прослеживаешь,
каким образом множество словопрений,
переплетшихся между собой и как будто бы пустых, каким образом
спор о значении того или иного слова направляются
к этому краю или, лучше сказать, парят над ним и тем
самым несут в себе всю тревогу последней и первой
философской проблемы.
Итак, το κακόν — это имя, обозначающее нечто
собранное, и имя для обозначения самой области
собрания; во втором случае имеется в виду сущее-
плохим, причем именно как таковое — такое, какое
есть, поскольку оно определено через бытие-плохим
(das Schlechtsein), через собственно плохость (die
Schlechtigkeit) — κακία. Точно так же το öv — это
наименование чего-то собранного и обозначение самой
его области; во втором случае оно обозначает сущее
66
как таковое, и таковое имеет эту черту таковости
постольку, поскольку оно определено через
суще-бытийное (das Seiend-sein), через сущесть (die Seiendheit) —
ουσία. То, через что сущее определено быть таковым,
есть сущесть сущего, его бытие — ουσία του δντος.
Итак:
наличное (сущее) плохое — наличное сущее;
сущее плохим как таковое — сущее как таковое;
плохость (то, что состав- — сущесть сущего (бытие),
ляет бытие-плохим)
Как в слове το κακόν собирательное значение и
значение «области собрания» оказываются
шаткими и перетекают друг в друга, когда речь может идти
о каком-нибудь отдельном плохом или о суще-плохом
как таковом, о бытийно-плохом, так и «плохость»,
в которой подразумевается и которой именуется само
бытийствование плохим, может употребляться для
обозначения чего-то отдельного из множества
собранного — «тутошняя плохость», т. е. вот это случившееся,
наличествующее плохое. Таким же образом «бытие»
употребляется в значении наличного сущего.
Мы можем констатировать следующее: в
повседневной и расхоже-философской речи под «бытием»
почти всегда подразумевается сущее. Итак, то, что
в древнем вопросе τί το öv являлось собственно
искомым, но как раз поэтому специально и ясно не
познанным, хотя все-таки каким-то образом знаемым,
обозначалось словом ουσία. Все усилия прежде всего
были направлены на то, чтобы не отступиться от
вопроса τί το öv и дать на него первый ответ, т. е. указать
на ουσία, — вообще ввести ее в поле зрения как
таковую. При этом, однако, сразу обнаружилось множество
такого, что заслуживает этого наименования,2 и тем
2 См. выше об изначальном членении в понимании бытия.
67
самым обнаруживается вся широта той проблематики,
которую Платон и Аристотель — в совершенном ими
первом настоящем прорыве — не прозревают и с
которой тем более не могут справиться. Ворвавшийся
свет был таким ярким, что два эти великана как будто
ослепли и смогли только увидеть и удержать то, что
тогда просто обнаружилось. Первый большой урожай
был только собран. И с тех пор история философии
занята вымолотом этого урожая, и теперь еще молотят
пустую солому: нам надо снова отправиться в поле и
заново собрать урожай, т. е. посмотреть, каков он там,
как обстоят дела с его ростом. Только это мы и можем,
и мы готовы к жатве, если наш плуг хорошо наточен и
не все еще закоснело и выхолостилось в одних лишь
мнениях, болтовне и писанине. Мы должны снова
научиться пахать: это наша судьба — учиться
перекапывать почву, чтобы то черное и темное, что сокрыто в ее
глубине, появилось на свет; это должны делать мы,
слишком давно и слишком легко разъезжающие
туда-сюда по давно проторенным и утоптанным путям.
Античная философия была на вершине, и Платона и
Аристотеля ожидал и богатый урожай.
Итак, ουσία означает многое и многоразличное.
Поэтому многозначность этого фундаментального
слова античной философии, с которой мы сталкиваемся
у Платона и Аристотеля, — не какой-то произвол или
терминологическая небрежность, но признак богатства
и непреодоленной проблемной нужды. Но как раз тогда,
когда это многообразие значений слова ουσία,
многообразие значений того, что подразумевалось и еще
подразумевается под бытием, удерживается и
выдерживается, — тогда во всем этом многообразии
уразумевается, хотя и не улавливается, нечто сквозное и единое.
Итак, что же во всем своем многообразии
обозначает слово ουσία по существу? Можем ли мы это оты-
68
екать, если сами греки уже не говорили об этом? Разве
они не находились в таком же положении, в каком
находимся мы сами? «Бытие», «есть», «был», «будет» —
в том-то и дело, что все такое мы понимаем и сами,
причем так, что дальше как будто ничего и не надо
понимать, а потому и спрашивать. Но что же тогда гонит
нас к этому вопрошанию? Именно этот удивительный
факт: мы понимаем «бытие»; ведь когда мы его
понимаем, тогда происходит следующее: мы воспринимаем
бытие, «усию», то, что обозначаем и имеем в виду, —
мы понимаем все это как «то-то» и «то-то» — как что?
Стол как предмет обихода, треугольник как
пространственную фигуру. Бытие как... Как что? Мы понимаем
бытие в смысле и в значении... — чего? Вот в чем вопрос.
Но, в конце концов, мы могли бы и не торопиться
с вопросом о том, в свете чего в нашем понимании
бытия оно понимается, могли бы воздержаться от этого
вопроса, сказав, что как раз бытие-то — не стол и не
треугольник. Все последнее — это определенные вещи,
т. е. сущее, по отношению к которому можно и должно
спрашивать о его бытии — что оно есть (т. е. спрашивать
о что-бытии). Но само бытие — которое все-таки есть
первое и последнее сущего как такового — само бытие —
не сущее, не вещь. Стало быть, у нас нет никакого
права спрашивать о нем так, как мы спрашиваем о сущем.
Звучит убедительно. Ссылка на полную инаковость
(Andersartigkeit) бытия в сравнении с сущим требует,
чтобы вопросы, возможные по отношению к сущему,
не переносились с такой легкостью на бытие сущего.
Но на каком основании мы заявляем о полной
инаковости бытия по отношению к сущему? Ведь
такое заявление уже говорит о том, что нам знакома эта
инаковость, присущая бытию, т. е. что нам знакома его
сущность, что мы знаем о ней. Но разве мы об этом
знаем? Или мы говорим только о каком-то смутном пред-
69
чувствии того, что «бытие», «есть» и «было» — не вещь
и не сущее, подобное самой этой вещи, о которой
говорится, что она есть или была? Разве можем мы что-то
знать и хотеть узнать о существе бытия, если тут же
мешаем себе спросить об этом? По-видимому, нет. Значит,
нам надо спросить о том, что означает бытие. И как
быть, если наш вопрос — как мы понимаем бытие, если
мы его понимаем? — в языке звучит точно так же, как и
вопрос: как мы понимаем это сущее — стол — если мы
его понимаем? Значит, если грамматическое
построение обоих вопросов одно и то же, отсюда не следует,
что в обоих случаях сам способ вопрошания и
понимания одинаков. Отсюда следует только что, что вопрос
о бытии облекается и может и даже должен облекаться
в ту же форму, что и вопрос о сущем. Но отсюда опять-
таки вытекает лишь то, что вопрос о бытии может
принимать чужое обличье и оставаться неузнанным — для
того, кто привык спрашивать только о сущем. Вывод
только таков: задавая этот вопрос, мы идем или, лучше
сказать, пытаемся идти по тропе философии, далекой
от господства обычного разумения. Таким образом,
нам никуда не деться от вопроса: что означает
фундаментальное слово античной философии, ουσία, если
оно — не пустой звук и дымка, но нечто такое, что
силой своего смысла смогло укротить гений Платона?
В соответствующем немецком переводе ουσία του
οντος означает сущесть сущего (Seiendheit des
Seienden); мы говорим: бытие сущего. «Сущесть» — это
очень жесткое и непривычное (потому что
искусственное) языковое выражение, появляющееся только
в философском размышлении. Однако то, что можно
сказать о немецком «Seiendheit», не скажешь о
соответствующем греческом слове. Ведь ουσία — это не
искусственное, не специальное выражение,
появляющееся только в философии: это слово греки употребляют
70
в своем повседневном языке и речи. Философия лишь
приняла это слово из дофилософского языка. Если
же это произошло как бы само собой, не вызывая
никакого удивления, то отсюда мы должны заключить
следующее: уже дофилософский язык греков был
философским. И это на самом деле так. История этого
основного слова античной философии — лишь
своеобразное подтверждение тому, что греческий язык —
язык философский, т. е. не пропитанный философской
терминологией, а сам философствующий как язык и
языковое образование. Это относится ко всякому
настоящему языку, хотя и в различной степени. Степень
же определяется глубиной и силой существования
народа и рода, который говорит на этом языке и
существует в нем. Таким же глубоким и творческим
философским характером, кроме греческого, обладает и наш
немецкий язык.3
с) Повседневное словоупотребление
и основное значение «усии»:
присутствие (Anwesen)
Итак, если мы хотим уловить основное значение
фундаментального слова ουσία, нам надо вслушаться
в повседневное словоупотребление. Вскоре мы
замечаем: в повседневном словоупотреблении нет никакого
резкого разделения между «сущим» и «бытием».
Бытие часто подразумевает сущее. Так же и в греческом,
ουσία подразумевает сущее, но, правда, не всякое, а
такое, которое определенным образом отмечено в своем
бытии, — то сущее, которое кому-то принадлежит:
имущество, дом и двор (владение, имение), то, чем
См. Майстера Экхарта и Гегеля.
71
можно располагать. Этим сущим — домом и двором —
кто-то может распоряжаться, потому что оно прочно и
недвижимо, всегда достижимо, всегда под рукой, всегда
наличествует в ближайшем окружении. Почему
именно по отношению к этому определенному сущему —
дому и двору, имуществу — греки употребляют имя и
слово, которое подразумевает вообще сущее? Почему
именно это сущее обозначается таким именованием?
Наверное, лишь потому, что это сущее в каком-то
особом и первоочередном смысле отвечает тому, что в
повседневном понимании бытия, никак, впрочем, этого
не выражая, греки понимают под сущестью сущего
(под его бытием). Но что они понимают под бытием?
Это мы поймем в том случае, если нам удастся
определить отличительную черту двора и дома, имущества —
отличительную черту всего этого, поскольку оно есть
именно сущее и таким образом как будто настойчиво
напоминает о сущести и обращает на нее внимание.
Какова же эта отличительная черта? Имущество
всегда достижимо, доступно. Будучи вот этим
постоянно находящимся в распоряжении, оно находится
поблизости, лежит вблизи, «на подносе», постоянно себя
предоставляет. Оно — самое близкое и, будучи этим
постоянно самым близким, оно подчеркнуто
наличествует под рукой, находится вот здесь, присутствует.
Поскольку дом и двор, поскольку имущество особым
образом преподносится, присутствует, мы называем
их — т. е. то, что греки обозначают словом ουσία —
словом das Anwesen* Под «усией» (ουσία) на самом деле
подразумевается не что иное, как постоянное
присутствие, а именно это и понимается под сущестью. Это
постоянное присутствие, присутствующую постоян-
* Anwesen {нем.) — двор, усадьба; местопребывание. —
Примеч. перев.
72
ность мы подразумеваем под бытием. Сущим в
собственном смысле греки называют то, что
удовлетворяет пониманию бытия как постоянного присутствия;
то, что всегда налично.
Мы спросили: как получается, что по отношению
к этому особому сущему — дому и двору — начинают
употреблять фундаментальное слово,
предназначенное для сущего как такового, — слово сущесть? Когда
мы вот так спросили, сложилось впечатление, будто
мы считаем, что сначала наличествовало некое
слово ουσία, с тем основным его значением, которое мы
выявили (постоянное присутствие), а потом, дескать,
греки задались вопросом, какое из многообразного
сущего скорее всего заслуживает этого слова как своего
обозначения и какому сущему мы хотим присудить
его почти как имя? На самом деле все наоборот.
Будучи в языковом отношении связанным с öv — όντα,
слово ουσία рождается как раз из опыта этого сущего.
Правда, родиться оно смогло только потому, что уже
наличествовало то, что подразумевается в этом слове:
постоянное присутствие. Почти всегда — и как раз
там, где речь идет о последнем и существенном, как,
например, в случае с этим фундаментальным словом —
человек уже давно понимает то, что он имеет в виду,
даже если соответствующее слово и не находится.
В нашем случае названное сущее — дом и двор — как
особым образом присутствующее «притянуло» к себе
имя сущего как такового, хотя это смогло произойти
только потому, что под сущестью — еще до
формирования термина ουσία — подразумевалось и понималось
одно: постоянное присутствие.
Итак, не надо забывать: в повседневном значении
под ουσία всегда подразумевается определенное
имущество, дом и двор. Понимая и употребляя это слово,
греки подразумевают именно последнее, но подразуме-
73
вают его потому, что уже заранее имеют понятие о
постоянном присутствии. Греки имеют понятие о
постоянном присутствии в своем предпонимании, причем
сами никак это присутствие не тематизируют. Это
основное значение, заложенное в повседневном
употреблении слова ουσία, воспринятое как нечто само собой
разумеющееся и потому дальше никак конкретно не
формулирующееся, перешло в философское
употребление этого слова. Это основное значение дало «усии»
возможность существовать как термину, причем не
всякому, но такому, который обозначает то, что
искалось, обсуждалось и уже предпонималось в ведущем
вопросе настоящего философствования.
d) Самосокрытое понимание бытия (ουσία)
как постоянного присутствия.
ουσία как искомое и предпонятое
в ведущем вопросе философии
Но разве можно, говоря об истолковании и
осмыслении понятия бытия в античной философии, все
сводить к одному только разъяснению повседневного
значения слова ουσία? Разве в таком подходе нет насилия
и надуманности? И к тому же разве нельзя сказать, что
он совершенно внешний: из какого-то изолированного
словесного значения вытягивать проблемное
содержание всей античной философии — особенно если учесть,
что вывод, гласящий, будто бытие — это постоянное
присутствие, нигде в античности не высказывается и
не формулируется? С последним можно согласиться,
но тот факт, что античность не говорит нам
недвусмысленно и специально, что же она, в принципе,
подразумевает под «усией», и есть причина того, почему мы
спрашиваем об этом и должны спрашивать. Но что же
74
можно сказать о насилъственности, искусственности и
стороннем подходе в нашем истолковании и тезисе?
Во-первых, обратим внимание на то, что мы не
призвали на помощь никакой этимологии, чтобы вытянуть
из корня слова какое-нибудь самобытное значение, —
метод, приводящий к большим злоупотреблениям и
заблуждениям, но как раз поэтому — если его применять
правильно, в нужном месте и разумных пределах —
могущий оказаться вполне плодотворным. Кроме того,
слово ουσία мы не просто подхватили и лишь разобрали
его значение: на самом деле мы подробно остановились
на самом сущем, названном в этом значении, — причем
с учетом того, как оно понимается в
словоупотреблении. Мы взяли это слово как выражение, в котором
выражается существенное отношение человека к сущему
его постоянного и ближайшего окружения. Мы взяли
язык в целом как исконное раскрытие сущего,
посреди которого существует человек, — тот человек,
существенным отличием которого является существование
в языке, в этом раскрытии. Именно это сущностное
отличие греки, как никто другой до и после них,
постигали и выражали. Эту отличительную особенность
существования в языке они даже прямо
констатировали как решающий момент в сущностном определении
человека, говоря, что άνθρωπος ζωον λόγον έχον, что
человек, — это живое существо, которое имеет язык, т. е.
держится в раскрытии сущего в языке и через язык.
Наше истолкование — не какая-то внешняя
констатация словесного значения с помощью словаря. Но
главное в том, что все, до сих пор сказанное об ουσία, —
не последнее слово, а лишь подготовка к
интерпретации философского значения этого слова. Эта
интерпретация состоит не в том, чтобы собирать значения,
которые оно имеет в различных местах тех или иных
философских сочинений, но в том, чтобы обнаружить
75
его как основное и проблемное слово, чтобы таким
образом выявить самую сокровенную проблематику
античной метафизики, в которой «усию» как проблемное
слово надо понимать из ведущего вопроса философии
и в этом вопросе. Правда, для этого потребовалась бы
отдельная лекция.
Теперь же мы даем только отсылки, причем делаем
это в контексте и пределах нашего собственного во-
прошания. Итак, контекстом и перспективой для
проблемы свободы является следующий вопрос: что есть
сущее? Почему вопрошание, взятое в таком ракурсе,
имеет наступательный характер? Для того чтобы
решить эту проблему, надо задать ведущий вопрос по-
настоящему, т. е. спросить о том, что как раз и требует
вопроса! Спрашивается о сущем как таковом — о
бытии! Но как спросить об этом, чтобы ответ стал
возможным? Что такое бытие? Откуда оно понято? Оно
понято в понимании бытия, причем не только в философии,
но наоборот: философия берет начало в пробуждении
этого понимания. В таком пробуждении происходит
самовыражение (das Sichaussprechen). Таким образом,
там, в пробуждении философии, в решающем событии
античности, понимание бытия приходит к слову. Слово
для бытия, уже в повседневной речи, есть ουσία: дом и
двор, Anwesen. Наше толкование показало, что — и как
именно — заключенное в этом повседневном значении
«усии» допонятийное понимание бытия дает понять
сущесть сущего как постоянное присутствие.
Если бытие понимается как постоянное
присутствие, тогда откуда такое понимание получает
высвечивающий свет? В каком горизонте движется
понимание бытия? Прежде чем четко ответить на этот
решающий вопрос, надо показать, что вообще — и
показать, как именно — как раз в философии, поскольку
она ведома вопросом τί το öv, бытие понимается как
76
постоянное присутствие и постигается в свете этого
понимания. Здесь нам придется удовольствоваться
скудными указаниями на Аристотеля и Платона.
§ 8. Выявление сокрытого основного
значения «усии» (постоянное присутствие)
по греческому истолкованию движения, что-бытия
и действительного бытия (наличного бытия)
Итак, мы исходили из повседневного значения слова
ουσία, а точнее — из того, что под ним подразумевается
в дофилософском и нефилософском его употреблении:
сущее qua дом и двор; в более широком философском
употреблении — всякое наличное сущее как наличное.
Если теперь, руководствуясь ведущим вопросом «что
есть сущее как таковое?», мы обратим внимание на то
сущее, которое встречается нам в первую очередь,
обратим внимание на вещи, будь то природные вещи или
то, чем мы пользуемся в быту, если мы спросим, что
в них составляет их сущесть, нам покажется, что
вопрос поставлен вполне однозначно и подготовлен для
ответа. Но о том, что этот элементарный вопрос — как
раз потому, что он элементарен — сопряжен с огромной
трудностью и никогда не бывает достаточно
подготовленным, т. е. разработанным — об этом свидетельствует
вся история философии вплоть до сегодняшнего дня.
а) Бытие и движение,
ουσία как παρουσία ύπομένον^
Когда мы спрашиваем: что в той или иной
наличной вещи, например, в стуле, составляет ее сущесть,
мы сразу же спрашиваем в таком направлении: как мы
77
улавливаем смысл стула? Или даже: можем ли мы
вообще уловить его? Даже тогда, когда мы не принимаем
во внимание беспочвенного и бессмысленного
вопроса о том, улавливаем ли мы только психический образ
стула или настоящий стул, даже тогда, когда
придерживаемся того, что перед нами вот эта наличная вещь
как наличная, — даже тогда не все подготовлено для
того, чтобы спросить, что же, собственно, составляет
наличность этой вещи. В философии начинают вести
всяческие разговоры о предметах и их предметном
бытии, не выяснив предварительно и в достаточной
мере, что же имеют в виду тогда, когда, например,
видят перед собой наличный стул как наличный. Можно,
правда, сказать: сегодня ситуация изменилась. Теперь
мы понимаем: стул, который стоит здесь, в комнате
или в саду, — не любая вещь, не камень и не кусок
дерева, отломившийся от ветки: стул, как и все, что на
него похоже, — стол, шкаф, двери, лестница — чему-то
служат. Эта «служебность» не приклеена к ним извне,
но определяет то, что они суть и как они суть.
Конечно, дать настоящую характеристику окружающих нас
предметов пользования очень важно. Но этим мы еще
не получаем никакого ответа на вопрос о том, каково
же их наличное бытие: данная характеристика — лишь
подготовка к тому, чтобы по-настоящему задать этот
вопрос, причем лишь некоторая подготовка в
определенном направлении. Эта характеристика способствует
«описи» того, что есть и как именно есть вещь под
названием «стул». Правда, эта «опись» еще не полна и
в ней даже отсутствует нечто решающее.
Но что еще можно найти в стуле, точнее говоря,
в его способе быть, когда он вот так стоит перед нами?
Что у него четыре ножки? Но, на худой конец, он мог
бы стоять и на трех. Да даже если бы их было только
две, пусть бы он даже лежал, он все равно был бы на-
78
личным стулом, только сломанным. Да ведь есть
стулья даже на одной ножке. А может, у него есть спинка,
может, нет ее, может, он чем-то обит или, наоборот, не
обит, может, он низкий или высокий, удобный или
неудобный — обо всем этом тоже можно рассказать. Но
мы спрашиваем о его способе бытия, когда он в своей
«служебное™» вот так просто стоит перед нами, каким
бы он ни был. Что можно сказать о нем, когда он вот
тут стоит или лежит, если его опрокинули? Ну да,
стоит, лежит. То есть не бегает. Значит это не животное и
не человек. Но мы не хотим знать, чем он не является,
мы хотим знать, что он есть, каков он тогда, когда вот
здесь стоит. Он стоит, т. е. находится в покое. Ну,
такая констатация — не великая мудрость. Конечно, не
великая, но все-таки повсюду и как раз там, где
нельзя достаточно громко кричать о том, что такие вещи,
как стул и стол суть сами по себе и не являются
одними только представлениями, которые в нас, — как раз
там это само собой разумеющееся пресловутое «само
по себе» таких вещей упорно не замечается. Но что
мы этим хотим сказать? Что мы получаем, указав на
то, что стул, как вот тот стоящий, находится в покое?
То, что он находится в покое, «стоит», действительно
имеет «стояние» (Stand), что он есть предмет
(Gegenstand) — это говорит о том, что он — в движении. Но
ведь мы только что сказали, что он находится в покое;
мы даже придали этой «констатации» особое значение.
Да, это так, но покоиться может только то, что в своем
способе бытия имеет подвижность. Число «пять» не
находится в покое и никогда не покоится. Не потому,
что оно постоянно в движении, а потому, что вообще
никогда не может в нем находиться. То, что покоится,
находится в движении, т. е. к бытию покоящегося
принадлежит подвижность. Поэтому бытие
рассматриваемого нами сущего, вот здесь стоящего, наличного стула,
79
не может по-настоящему стать проблемой, если мы не
рассмотрим природу подвижности, движимости, если
не вникнем в существо движения. Там же, где
проблемой становится существо движения, там вопрошание
оказывается в самой непосредственной близости к
вопросу о бытии. Там, где что-то спрашивают о природе
движения, там должно заговорить бытие. Даже если
это не тематизируется со всей категоричностью, все
равно речь должна идти о бытии.
Так обстоит дело у Аристотеля, о котором уже
говорилось, что он впервые уловил проблему
движения и дал ей существенный толчок. Правда, несмотря
на это, он не увидел и не постиг внутренней скрытой
связи с проблемой бытия. Тем не менее он понял: если
бытие-в-движении — это определение природных
вещей и сущего вообще, тогда необходимо разобраться
в природе движения.
Это он и сделал в большой лекции, которая
сохранилась и которую коротко озаглавили «Физикой».
Однако это слово нельзя отождествлять с
современным понятием «физики» — и не потому, что физика
Аристотеля примитивна и даже не сопровождалась
высшей математикой или просто математикой, а
потому, что она вообще не естествознание, но философия,
философское познание φύσει όντα, наличных вещей
как наличных. Физика Аристотеля не только не
примитивнее современной: ее необходимая предпосылка
объективна и исторична.
Тематическое рассмотрение движения проводится
в III, V и VIII книгах «Физики». Первая книга — это
введение. Аристотель выявляет внутреннюю
необходимость проблемы движения, показывая, как последняя
и первая постановка вопроса всей существовавшей до
него античной философии подталкивает к этой непо-
ставленной проблеме. В этой связи он одновременно
80
рассматривает те трудности, с которыми поначалу
сталкивается новая попытка разобраться в проблеме
движения. В ходе этого рассмотрения много
говорится о самом движении, и его существо становится
проблемой.1 Задается вопрос о том, откуда внутренне
возможно движение как таковое. То, откуда
определена внутренняя возможность вещи, для Аристотеля —
αρχή, начало. Основная особенность движения —
μεταβολή, перемена. Это — изменение, переход чего-то во
что-то. Если, например, вот этот кусок мела по какой-
то причине (γένεσις) становится красным, тогда этот
процесс мы можем воспринимать двояко: или как
изменение «белого по цвету» в окрашивание красным,
или как покраснение мела. Во втором случае не белое
становится красным, а из белого мела возникает
красный, т. е. не просто τόδε γίγνεσθαι (τόδε) άλλα και έκ
τούδε...,2 не так чтобы просто из мела возник красный
мел. При γένεσις εκ τίνος εις τι мы имеем троякое
(Dreifaches), что делает перемену внутренне возможной: во-
первых, это ύπομένον, т. е. то, что при совершающейся
перемене — как бы выдерживая ее — не претерпевает
изменений, остается «под» этой переменой. Однако
оно, в данном случае мел, будучи по числу одной
вещью, по своему виду есть двойной εΐδος: во-первых,
в этом виде заключено бытие-мелом (das Kreide-sein),
каковому бытию не обязательно принадлежит белизна,
и, во-вторых, сама эта белизна. То и другое не
совпадает между собой, здесь необходимо различие, коль
скоро должна осуществиться перемена, которая, будучи
переходом, всегда переходит во что-то, что
изначально является другим и каким-то образом оказывается
противоположностью, т. е. нечто такое, чем переходя-
1 См. особенно: Aristoteles. Physica (Prantl). Leipzig: Teubner,
1897. I, 7.
2 a. a. Ο. Ι, 7, 190а6.
81
щее до своего перехода еще не является: στέρησις.
Таким образом, к γένεσις в полном смысле принадлежит
вот это троякое: 1) ύπομένον; 2) εΐδος; 3) στέρησις. Во
2 и 3 пунктах названы εναντία. Ведь και δήλόν έστιν οτι
δει ύποκεΐσθαι τι τοις έναντίοις και τάναντία δύο είναι.3
Итак, здесь три «начала» (άρχαί): ύπομένον и
противоположное — с учетом двух его членов, поскольку под
противоположностью понимается двуединство ее
членов. Для того чтобы движение было возможно,
необходимо по меньшей мере наличие этих трех (двух) άρχαί;
больше не требуется, τρόπον δέ τίνα άλλον ούκ άνα-
γκαΐον.4 В другом отношении три начала не являются
необходимыми для того, чтобы μεταβολή стало
возможным, ίκανόν γάρ εσται το έτερον των εναντίων ποι-
εΐν τη απουσία και παρουσία την μεταβολήν5 — ведь для
возможности перемены достаточно, чтобы изменение
вызывалось отсутствием (απουσία) или присутствием
(παρουσία) одной из противоположностей.
По всему своему контексту это место важно для
нас во многих отношениях. Прежде всего в нем
встречаются два языковых запечатления уже известного
нам слова ουσία. Они показательны. В них
выражается два возможных значения «усии»: от-сутствие
(Abwesenheit) и при-сутствие (An-wesenheit). Они
недвусмысленно указывают на то, что в понятии «усии» речь
идет о присутствии (die Gegenwart) и отсутствии
(die Ungegenwart). Но теперь можно сказать и
следующее: если απουσία — παρουσία означают «отсутствие-
присутствие», тогда собственно ουσία означает только
«сутствие», т. е. нечто такое, что парит над тем и
другим, не будучи ни первым, ни вторым. Значит, вопреки
нашему утверждению, оно не означает присутствия.
За. а. О. 1,7, 191а4 f.
4 а. а. О. I, 7, 191а5 f.
5 а. а. О. 1.7, 191а6 f.
82
Присутствие грек выражает словом παρουσία. Кажется,
это формально языковое возражение нельзя
опровергнуть. И действительно: с формально языковой точки
зрения его никак нельзя опровергнуть — нельзя
сделать это ссылкой на то, что прямо и недвусмысленно
подразумевается в употреблении этого слова: ведь
тезис о том, что ουσία есть одинаково постоянное
присутствие, не ссылается на то, что прямо и недвусмысленно
подразумевается в повседневном словоупотреблении.
О том, что подразумевается под заявленным нами
основным значением и как именно оно
подразумевается, мы поговорим позднее. Теперь же мы удерживаем
только одно: значение «усии» таково, что она может
принимать значение от-сутствия (Ab-wesenheit) и
присутствия (An-wesenheit), отсутствия (Ungegenwart) и
присутствия (Gegenwart) в определенном смысле.
(παρ)ουσία
/ N .
παρουσία απουσία
«Парусия», намеренно подразумеваемая, четко
выраженная и противопоставленная «апусии», — такая
«парусия» существует только на основании «парусин»
исконной. Как это возможно и что это означает,
остается проблемой, причем не только проблемой
литературного истолкования основных античных понятий,
но и проблемой принципиальной, затрагивающей само
существо дела.
Прежде чем подойти к этой проблеме поближе,
надо посмотреть, что же еще говорит нам приведенное
место, — говорит в отношении нашей задачи:
истолковать основное философское слово — ουσία. Толкование
и даже одно описание греческого μεταβολή
ориентировано на отсутствие и присутствие (и каким-то образом
это встречается уже у Платона — ведь именно там мы
83
находим переход от ничто к бытию и наоборот) —
и нам чрезвычайно важно ясно это увидеть и понять.
К примеру, изменение цвета понимается как
исчезновение чего-то одного и появление чего-то другого:
пребывание и не-пребывание. Если же речь идет не об одном
только изменении (перемене), но о процессе, который
мы в более тесном смысле называем «становлением» —
белый мел становится красным — тогда этот переход
не-пребывания в пребывание совершается таким
образом, что «под ним» (ύπο) еще что-то остается (μένον).
Толкование природы движения непрестанно
осуществляется в определениях пребывания и не-пребывания,
при-этом-пребывания и ненаступления.
А если теперь мы обратим внимание на то, что
становление и возникновение, по существу,
означают: обретать бытие, приходить к бытию, к такому-то
и такому-то бытию; если мы увидим, что изменение,
перемена касается инобытия, тогда нам откроется
связь между бытием, пребыванием и его вариациями.
Пребывание означает: сохранение постоянного
присутствия; сущесть, ουσία понимаются как постоянное
присутствие.
И тем не менее мы видели: то, что мы
приписываем «усии» по существу выражается только в
«парусин» (παρουσία): по смыслу префикс παρά — это
«рядом», «возле», «в одном ряду», «непосредственно
наличествующее». Правда, эти смысловые моменты
как раз и имеются в виду, когда грек разумеет «усию»
в ее расхожем значении. В итоге напрашивается
следующий тезис: по сути дела, ουσία — независимо от
того, обращают ли на это внимание или нет — всегда
означает «парусию», и только потому, что она, ουσία,
означает нечто подобное, απουσία может выражать
некое «прочь» (das Weg) и недостаток, а именно
недостаток присутствия. Отсутствие — это не недостаток сут-
84
ствия, а недостаток присутствия, и потому «сутствие»,
ουσία, по существу, подразумевает присутствие. Греки
понимали сущесть в смысле постоянного присутствия.
Ь) Бытие и что-бытие.
ουσία как παρουσία эйдоса
Правда, мы бы сильно ошиблись, если бы решили,
что таким вот образом все и разъяснилось. Мы совсем
отошли бы от правильного понимания и
истолкования античного понимания бытия, если бы постарались
не заметить, что это понимание характеризуется
непрестанной борьбой, направленной на то, чтобы хоть
как-то его прояснить и, следовательно, выяснить, что
же это значит и как возможно, чтобы бытие означало
то, что как будто само собой и без всякого особого
постижения как раз и должно под ним пониматься:
постоянное присутствие, присутствие вообще, ουσία или,
в сугубом виде, παρουσία.
Это почти естественное значение бытия, которое
мы теперь специально формулируем как присутствие,
поначалу становится для греков настолько
проблематичным, что они даже не обнаруживают, где, в
принципе, заключено само проблематическое этой проблемы.
Поэтому кажется, что их вопросы и ответы просто
беспорядочно перекатываются с места на место. С одной
стороны, мы находим пресловутую самопонятность
бытия, понятого в его понимании, с другой, совсем
рядом — непонятность того, каков же все-таки смысл
присутствия и как отсюда понимать настоящее бытие
сущего.
Потому я хотел бы привести один очень
выразительный пример из Платонова диалога «Евтидем».
Здесь мы, правда, не сможем описать ситуацию диа-
85
лога, врастание одного разговора в другой, а также их
ход, содержание и замысел. Интересующее нас место
можно относительно легко выхватить из контекста и
рассмотреть отдельно.
Сократ пересказывает Критону философствующе-
софистический разговор, в котором принимали
участие Дионосодор, Евтидем, Клиний и Ктесипп. В том
месте, которое мы выделили,6 Сократ говорит о себе
как участнике пересказываемого им разговора: «И я
сказал: „Что же ты, Клиний, смеешься над столь
важными и прекрасными вещами?"». Тут Дионисодор
ловит его на слове и спрашивает: «Так значит, Сократ,
тебе все-таки известна какая-то прекрасная вещь?».
«Известна, — ответил я (Сократ), — и не одна, а
многие, мой Дионисодор». «Но вещи эти отличны от
(самого) прекрасного, или они то же самое, что
прекрасное?» — спрашивает Дионисодор. «Тут я совершенно
смутился, почувствовал затруднение (υπό απορίας), —
говорит Сократ, — и подумал, что это мне поделом: не
надо было произносить ни звука; однако я отвечал, что
прекрасные вещи отличны от прекрасного самого по
себе. Тем не менее в каждой из них как бы
присутствует нечто от красоты».
Итак, здесь — во время решающего ответа, который
дает Сократ, — появляется, причем как бы совершенно
естественно, важное для нас слово: πάρεστιν, παρεΐναι,
παρουσία. О каком вопросе идет речь? О том, что такое
прекрасные вещи, причем не в их отличии от вещей
безобразных, а в том смысле, как надо понимать саму
прекрасностъ (das Schönsein) этих отдельных
прекрасных вещей. Каждой прекрасной вещи как прекрасной
присуща прекрасность (красота). Но как? Если
прекрасные вещи отличны от прекрасности, тогда сами
6 Platon. Euthydemos (Stephanus). 300e—301a.
86
они все-таки не прекрасны. А если сама прекрасность
многих вещей едина с ними, тогда как же существуют
многие вещи как таковые? Ответ Сократа, т. е.
указание Платона на эту проблему и ее решение, утверждает
двоякое: 1) прекрасные вещи суть нечто иное,
отличное от красоты; 2) тем не менее она, красота (die Schön-
heit) присутствует в каждой вещи. Это присутствие
составляет бы/тше-красивым das (Schönsem) отдельных
вещей. Решается ли тем самым проблема? Ни в коем
случае. Она только поставлена со всей ясностью,
потому что здесь специально говорится о «бытии»
прекрасно сущего, причем в смысле того понимания бытия,
согласно которому бытие означает присутствие. И,
несмотря на все сказанное, это «присутствие» совсем
темно, двусмысленно и потому участникам диалога
ответ Сократа совсем не кажется понятным и
обоснованным. Это видно из того, как именно ему
возражает Дионисодор. Если бытие-прекрасным какой-либо
прекрасной вещи заключается в присутствии в нем
красоты, тогда получается следующее: если παραγένε-
ται σοι..., «если около тебя оказывается бык, если он
присутствует совсем рядом с тобой, тогда и ты — бык?
А если теперь около тебя я (πάρειμι), Дионисодор,
тогда ты тоже Дионисодор?». Тезис Сократа, согласно
которому бытие-прекрасным, да и вообще так-бытие
и что-бытие отдельного сущего заключается в
присутствии, приводит к явной бессмыслице. Этим Платон
хочет показать, что с этой «парусией», с сущестью
сущего, с сущей вещью всё далеко не так самоочевидно.
И если это не само собой понятно, тогда проблему
надо ставить и решать.
Кроме того, из этого и многих других мест мы
делаем вывод, что даже там и как раз там, где речь идет
о чистом так-бытии и что-бытии, ничего не говорится
об их возникновении и прекращении, появлении и ис-
87
чезновении, об особо упоминавшейся «парусин»,
παρουσία не обязательно ориентирована на «апусию» как
некое противопонятие (Gegenbegriff) и не
употребляется только в таком контексте. Напротив, παρουσία
просто употребляется вместо ουσία и более четко выражает
смысл «усии». Это проявляется в том, что как раз там,
где ουσία, характерная для öv, например,
бытие-прекрасным прекрасно сущих вещей, становится
проблемой, речь совершенно естественно заходит о «парусин».
Но было бы опрометчиво и поверхностно
воспринимать наш тезис об «усии», бытии как постоянном
присутствии просто как ключ, который сразу
открывает все двери — как если бы всюду, где появляются
выражения и термины, касающиеся бытия, достаточно
просто «задействовать» значение «постоянного
присутствия».
с) Бытие и субстанция.
Дальнейшее развитие проблемы бытия
в форме проблемы субстанции.
Субстанциальность и постоянное присутствие
И тем не менее точку наводки для еще
предстоящего истолкования античной философии мы получили,
да и не только для нее, но и для наблюдения за ходом
развития всей западной метафизики вплоть до
Гегеля — т. е. для философского разбирательства с нею.
Со времен античности традиционное понимание и
развитие проблемы бытия определяется тем, что ουσία
понимается как субстанция или, лучше сказать, как
субстанциальность: субстанция есть по-настоящему
сущее в отношении сущего. В том, что проблема бытия
стала восприниматься как проблема субстанции и тем
самым все дальнейшие вопросы «потянулись» в этом
направлении, нет ничего случайного. Толчок к этому
88
дают сами Платон и Аристотель. Сейчас, правда, мы не
имеем возможности это показать, но все-таки не стоит
умалчивать, в каком направлении надо «разрыхлять»
затвердевшую проблему субстанции.
Substantia: id quod substat, то, что стоит под..., ύπό-
στασις. Это υπό уже встречалось нам в Аристотелевом
истолковании движения: в качестве его первого
структурного момента обнаруживается ύπομένον — то, что
при перемене свойств, т. е. при их изменении и,
следовательно, при изменении вещи как бы остается
сохраненным под нею, остается лежать в своей
неизменности: κεΐσθαι. Поэтому очень часто вместо ύπομένον
употребляется ύποκείμενον. Таким образом, в самой
глубине понятия субстанции сокрыто неизменное
пребывание, т. е. постоянное присутствие.
d) Бытие и действительность (бытие-наличным).
Внутренняя структурная взаимосвязь «усии»
как «парусин» с ενέργεια и actualitas
Если подытожить все сказанное об античном
понятии бытия (ουσία), получится следующее:
1) Толкование движения как основной черты
сущего ориентировано на «апусию» и «парусию», на
отсутствие и присутствие.
2) Попытка разъяснить что-бытие сущего —
например, прекрасно сущие вещи как таковые —
ориентирована на «парусию».
3) В традиционном понимании «усии» как
субстанции кроется также исконный смысл «усии» как
«парусин».
4) При всем том остается неясным, что же здесь
подразумевает и в сущности должна подразумевать
«усия» в смысле «парусин».
89
Наш тезис, согласно которому бытие означает
присутствие, может выявиться из самой проблематики,
тем более что, выдвигая его, мы не считаем, что такое
понимание бытия уразумевалось греками вполне
определенно и что они специально занимались этим
вопросом. Мы говорим лишь о том, что в своем вопрошании
о сущем они вращались в горизонте именно такого
понимания бытия.
Однако в решающем месте наш тезис, по-видимому,
все-таки проваливается. Причем как раз тогда, когда мы
присматриваемся к понятию бытия, играющему
большую роль и в обычном употреблении этого слова. Речь
вот о чем: бытие в его отличии от небытия, взятое в
соответствии с известным «быть или не быть — вот в чем
вопрос». Бытие означает наличие, existentia. Например,
земля есть, Бог есть, существует или действителен.
Бытие в значении действительности. Хотя мы видели,
что среди значений бытия, принадлежащих к
первоначальному членению понятия бытия в повседневном его
понимании это значение — лишь одно среди многих.
Следовательно, мы совершили бы принципиальную
ошибку в постановке проблемы бытия, если бы
решили поставить ее только — или в основном — как
проблему действительности. И несмотря на это теперь —
как раз в связи с античностью — мы не можем уйти
от такого вопроса: содержится ли в понятии
«действительности» («существование» в унаследованном
смысле, например, у Канта) основное значении «усии», т. е.
постоянного присутствия? И если да, то каким
образом? Здесь сразу становится ясно, что, лишь разъясняя
слова «действительность» и «действительное», мы не
продвинемся ни на шаг. Конечно, не продвинемся, если
будем оставаться в плоскости языковых дискуссий.
Но если мы обратимся к проблемному содержанию
слова «действительность», тогда нам придется припом-
90
нить тот философский термин, которому оно
соответствует. Это перевод латинского слова actualitas — ens
in actu: сущее, поскольку оно действительно
наличествует — в отличии от ens ratione, ens in potentia, т. е.
сущего, поскольку оно — лишь возможность. Но
actualitas — это латинский перевод греческого слова
ενέργεια. Наше заимствованная «энергия» в смысле «силы»
никак с ним не связана. Тем более что у Аристотеля
ενέργεια как философское выражения для
существования, действительности, наличности — все, что угодно,
только не сила. Разумение греческой «энергейи» как
«силы» свидетельствует о таком же внешнем и
беспроблемном осмыслении этого понятия, какое мы видели
в приведенной аргументации Дионисодора в
отношении «парусии». ενεργεία öv подразумевает в
действительности сущее в его отличии от δυνάμει öv, т. е. от
сущего в возможности, от возможного, но как раз не
действительного.
Как понимается эта бытийная черта сущего —
действительность действительного? Что означает ενέργεια,
понятая не по словарю, а из самого содержания
проблемы? Движется ли и это понимание бытия в
направлении того, что мы вообще утверждали о нем, а
именно что оно есть постоянное присутствие? Что общего
у «энергейи» с постоянным присутствием? На самом
деле этого нельзя увидеть до тех пор, пока мы не
погрузимся в бытийную проблематику античности
(Платон и Аристотель).
Но мы уже видели, каким образом Аристотель
развивает проблему бытия в ее соотнесении с проблемой
движения, понимаемого как μεταβολή, как резкая
перемена. Во время изменения и перемены мы
обнаруживаем, что что-то исчезает и появляется нечто другое:
απουσία и παρουσία. И в высшей степени поразителен
тот факт, что там, где Аристотель погружается в насто-
91
ящую глубину существа движения как такового, он как
раз прибегает к таким выражениям и понятиям, как
ενέργεια и δύναμις, причем так, что, грубо говоря, ранее
понимавшееся посредством «парусин», теперь
характеризуется как ενέργεια.
μεταβολή
απουσία
δύναμις
παρουσία
ενέργεια
То, что мы сегодня называем — а великая
философская традиция с давних пор (но прежде всего Кант) —
действительностью и возможностью, — эти основные
понятия бытия впервые появляются у Аристотеля
в его рассмотрении проблемы движения. Если бы мы
сейчас решили показать, как это происходит и почему
в результате этого обнаруживается взаимосвязь «энер-
гейи» и «парусин», это было бы трудно и увело бы нас
слишком далеко. Для разъяснения основного значения
слова ενέργεια, т. е. одновременно — разъяснения
взаимосвязи между философским и дофилософским
смыслом действительности и пониманием бытия как
«постоянного присутствия» я выбираю более краткий путь.
В слове ενέργεια заключено: έργον — работа, έν
έργον, т. е. в работе, а точнее говоря: находиться в
сработанности (die Werkhaftigkeit). Срабатываемое работы
есть ее существо. В чем греки видят это срабатываемое
работы? В отличительной, с точки зрения греков и
прежде всего Аристотеля, черте работы заключен момент
изготовления, готовности.7 То есть речь идет не о том,
что работа (das Werk) откуда-то, кем-то из-работана
(ist erwirkt) и вы-работана (ist bewirkt); речь также
не о том, что она сработана (ist gewirkt) в направлении
7 Ср.: Aristoteles. Met. Θ 8, 1050а21: το γαρ έργον τέλος, и Θ 1,
1045b34: öv... κατά το έργον.
92
чего-то, с определенным замыслом. Хотя, когда
говорится о существе работы, о ее сработанности, все
сказанное и имеется в виду, но решающим сущностным
моментом оно все-таки не является. Сработанное
работы заключается в ее законченности. Но что это такое?
Законченность — это изготовленность. Но здесь опять
акцент не на том, что что-то должно быть именно
изготовлено, а не вырасти само: речь идет о внутреннем
содержании из-готовленности как сюда-поставленно-
сти (die Her-gestelltheit), об этом «сюда» — о сюда и
туда поставленности, которое как таковое отныне есть
вот-тут-стояние (Dastehen). Таким образом,
изготовленность как сюда-поставленность и ενέργεια
подразумевают удержание-себя-в-сюда-поставленности и
удержание-в-тут-стоянии.
Теперь мы сразу видим, каким образом
высветляется решающий момент: присутствие готового (das
Fertige) как такового. Отсюда нам надо искать путь к
правильному и настоящему философскому истолкованию
той части Аристотелева учения о бытии сущего,
которая издавна больше всего подвергалась искажению и
превратному толкованию и потому уводилась далеко
в сторону от настоящей проблемы. Это учение об ϋλη
и εΐδος, о материи и форме. Согласно расхожему
пониманию — и нередко с якобы обоснованной ссылкой
на буквальное понимание Аристотелевых тезисов —
действительность вещи состоит в осуществлении ее
формы (είδος) в материи. Форма стула, которую
ремесленник уже заранее должен представлять в своем
уме, духе, т. е. εΐδος, ιδέα, осуществляется в материи,
т. е. в дереве. И затем гадают о том или
сталкиваются с необходимостью объяснения того, как же такая
«умственная», «духовная» форма может
«поселиться» в материи. Начинают выдавать Аристотелю некое
особое свидетельство в том, что, в отличие от Плато-
93
на, который перенес идею и форму в какое-то
сверхчувственное место, ему, Аристотелю, удалось низвести
их в материю и в сами вещи. При такой расхожей
интерпретации Аристотелевой философии, которую Вы
можете найти в любом приличном учебнике, не
замечают того, что, во-первых, Платону и Аристотелю
беспрепятственно навязывается что-то слишком наивное,
но, во-вторых, при всем этом уже веками повторяют
то, что вскоре после падения философии с высоты, на
которой она находилась при Платоне и Аристотеле,
появилось в школах и у компиляторов. Такая история
философии в точности напоминает ситуацию, когда,
например, свое истолкование Канта мы решаем
черпать из того, что в 1924 г. один журналист написал по
поводу его юбилея.
Но как обстоит дело с этим претворением формы
в материю, благодаря чему достигается
действительность вещи? Прежде всего никакого разъяснения
существа действительности не существует до тех пор, пока
не сказано, что же означает претворение в
действительное (die Verwirklichung). Кроме того, нет никакой
интерпретации античного понятия действительности,
пока не показано, что греки понимают
действительность из акта претворения в действительное, а это как
раз не так. Но прежде всего вот что: непрестанные
дискуссии о форме и материи протекают и разносятся
без усвоения и выверки того ракурса видения, в
котором и воспринимаются εΐδος и ύλη, учитывающиеся
при разъяснении действительности действительного.
Речь идет не о пересаживании и встраивании формы
в материю, да и вообще не о процессе изготовления
того или иного сущего: речь идет о том, что лежит
в изготовленности изготовленного как такового.
Приведенный выше вопрос гласил: как должна
пониматься сработанность наличного произведения труда как
94
такового, если в этой сработанности обнаруживается
бытие соответствующего сущего. Ответ гласил, что
в изготовленности как таковой лежит
возникновение и появление «вида» той или иной вещи, ουσία,
наличность сущего как действительно сущего лежит
в «парусии» «эйдоса»: в присутствии его «вида».
Действительность обозначает изготовленность как сюда-
поставленностъ, означает вот-тут-стояние в смысле
присутствия «вида».8
Когда позднее Кант говорит, что сущее как вещь
саму по себе, т. е. в ее абсолютном созерцании, мы
не знаем, а знаем ее только как явление, он не имеет
в виду, что мы улавливаем только мнимую
действительность сущего, его половину или четверть: нет, когда
само сущее, когда наличное схватывается как явление,
это означает только одно — действительность
действительного заключается в характерном для него явлении.
Появление обращено к выявлению, присутствию вида,
полной определяющей определенности самого сущего,
кажущего себя. Кант движется в совершенно том же
самом понимании бытия, что и античная философия.
Не его вина, что исконная связь понятия явления с
радикально понятой проблемой бытия осталась для него
скрытой. Но если в дальнейшем мы будем рассуждать
о нем, да и о всяком другом в привычной
беспроблемной манере, виноватыми станем мы — как те изгои,
которых дух истории растирает в порошок в их же
собственном убожестве.
Подытоживая, можно сказать так: поначалу
Аристотелево понятие действительности действительного
и тем более позднейшее, оттуда определенное понятие
actualitas (действительность), понятие ενέργεια не об-
8 Ср. ниже, с. 98 и далее об öv ώς αληθές и относительно
Met. Θ в особенности.
95
наруживают ничего общего с заявленной нами
принципиальной ориентацией античного понимания бытия на
«постоянное присутствие». Но если мы не занимаемся
буквоедством, не выводим грубо действительность из
действительного и не строим на этом никаких теорий,
если мы погружаемся в античное понимание и
толкование термина έργον как такового, тогда тотчас
высвечивается внутренняя структурная взаимосвязь
философского понятия ενέργεια с «усией» как «парусией».
Тем самым у нас одновременно появляется просвет
для уразумения основного понятия Платонова учения
о бытии: понятия «идеи» или «эйдоса».
Концептуальное схватывание этого учения как «учения об идеях»,
конечно же, фальсификация, поскольку это понятие
берется чисто доксографически. Для Платона бытие —
это что-бытие. Чтойность вещи обнаруживается в его
«виде». Вид — это то, в чем представляется
соответствующее сущее, в чем оно присутствует. В «виде»
вещи заключено ее присутствие (бытие).
Тот факт, что произведение как таковое в своей
произведенности и изготовленности — будь то
произведение ремесленника или настоящее произведение
искусства — существенным образом способствовало
прояснению и формированию античного понятия
бытия, можно и нужно разъяснить из основных
установок античного греческого существования. Они
свидетельствуют о том, что вещи и формы отвоевывались и
вырывались из ужаса и в ужасе этого существования.
Они разоблачают ложь о веселости античной жизни.
Особенно надо учитывать, что издавна и довольно
долго титулом всего познавания, всего выявления
самого сущего является τέχνη. Это не «техника» в
смысле практической деятельности, и равным образом
поначалу смысл τέχνη не ограничивается одной лишь
ремесленной осведомленностью: речь идет о всяче-
96
ском изготовлении в смысле сюда-поставления в
самом широком значении и о «познании», которое его
направляет. В нем находит свое выражение борьба за
присутствие сущего. На других основных античных
словах бытия и всей широте и глубине заключенной
в них проблематики мы теперь не можем подробно
останавливаться. При рассмотрении понятия ενέργεια
уже указывалось на то, как Кант понимает «явление».
Тот факт, что сущее как таковое обладает характером
явления, означает только одно: бытие сущего
применительно к его действительности понимается как са-
моказание (das Sichzeigen), встреча, как прибытие и
присутствие. Прибегая к такому истолкованию Канто-
ва понятия явления, мы, как и в случае с
истолкованием античного понятия бытия, выходим за пределы
того, что говорят сами Кант и античность, и
возвращаемся к тому, что, помимо прочего, находилось в
горизонте их понимания бытия. Спрашивая напрямую, дал
ли сам Кант — и если да, то каким образом — вполне
четкое истолкование и определение действительности
действительно сущего, мы обнаруживаем следующее,
сказанное им в «Критике чистого разума»: «То, что
связано с материальными условиями опыта
(ощущения), действительно».9 Таким образом,
действительность свидетельствует о связи с опытом. Здесь нам
также придется опустить, почему достаточно
конкретная интерпретация этого определения существа
действительности приводит к тому, что мы сказали
о Кантовом понимании явления.10
9 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. А 218, В 266.
10 Ср. лекционный курс летнего семестра 1927 г. «Основные
проблемы феноменологии», часть I, гл. 1 «Бытие не есть
реальный предикат» (Heidegger M. Die Grundprobleme der
Phänomenologie / Hrsg. von F.-W. von Herrmann // Gesamtausgabe. Bd. 24.
Frankfurt am Main, 1975. S. 35 ff).
97
§ 9. Бытие, истина, присутствие.
Греческое истолкование бытия в значении
бытия-истинным в горизонте бытия
как постоянного присутствия.
öv ώς αληθές как κυριώτατον öv
{Аристотель. Метафизика Θ 10)
а) Состояние исследования.
Прежде рассмотренные значения бытия
в характеристике понимания бытия
и отличительные бытийные значения
бытия-истинным
Задуманная разработка ведущего вопроса
метафизики в направлении ее основного вопроса и их
растолкование строится на следующем тезисе: бытие
понимается как постоянное присутствие. Мы попытались
обосновать этот тезис интерпретацией античного
понятия бытия — ουσία — в соответствии с его различными
основными значениями. Ясно, что от обоснованности
этой интерпретации зависит всё последующее. Ведь
если допустить, что истолкование бытия, «усии», как
постоянного присутствия несостоятельно, тогда нет
никакого основания разворачивать проблемную связь
бытия и времени, как того требует основной вопрос.
Однако какое бы большое значение не имела для
нашей проблемы античная метафизика вообще и
последовавшая за ней метафизика западноевропейская,
их значимость все-таки не абсолютна. Ведь если
допустить, что по каким-то причинам предложенная нами
интерпретация бытия оказалось неосуществимой,
отстаиваемая нами ориентация на определенное его
понимание могла бы рассматриваться прямо из нашего
собственного отношения к сущему. Поэтому надо
сказать, что ведущий вопрос метафизики в направлении
98
основного вопроса (бытие и время) мы
развертываем не потому, что уже в античности, да и потом,
бытие — пусть подспудно — понималось из времени, но,
наоборот, потому, что, как выясняется, человеческое
понимание бытия вообще надо осмыслять из времени.
Поэтому всюду, где каким-то образом тематизируется
бытие, проблескивает время. Наш тезис, согласно
которому ουσία означает постоянное присутствие, т. е.
наше истолкование истории метафизики, никогда не
рассматривается нами как обоснование проблемы
бытия и времени, но служит лишь примером того, как эта
проблема может раскрываться. Более того, эти связи
мы можем даже не увидеть и не обнаружить в
античном понимании бытия, если прежде, философствуя,
уже не уяснили для себя эту существенную связь.
Правда, для нашего собственного обнаружения
проблемы история метафизики имеет еще одно
значение, отличное от простого показа примера. Хотя мы
никогда не можем авторитетно обосновать проблему и
утвердиться на ней потому, что о ней в свое время
говорили Платон или Кант, возвращение в историю ценно
не только ради примера, как будто это возвращение —
лишь повод показать более раннюю, теперь
преодоленную стадию этой проблемы. Хотя в философии вообще
не существует никакого прогресса и всякая подлинная
философия так же мала и велика, как любая другая,
тем не менее более ранняя философия постоянно,
пусть и скрыто, влияет на нашу сегодняшнюю жизнь.
Поэтому когда мы пытаемся уловить античное
понятие бытия, это не должно быть одним только внешним
историографическим ознакомлением. Мы увидим, что,
видоизменившись, это понятие еще присутствует в
метафизике Гегеля. Сейчас, правда, не время вдаваться
в подробности внутренней взаимосвязи гегелевской
метафизики с метафизикой античной, тем более что
99
античное понятие бытия мы проследили лишь в
некоторых его проявлениях. Выбирая их, мы
придерживались того, что чисто систематически и предметно было
сказано нами о значении бытия в характеристике его
понимания. Мы говорили об изначальном членении
бытия, каковое членение сделали более понятным
через рассмотрение различных значений связки «есть».
Поясним это еще раз на конкретном примере: «Мел
(есть) белый». «(Есть) белый» выражает белизну, т. е.
бытие мела таким-то и таким-то; он есть так-то и так-
то, т. е. белизна не присуща ему с необходимостью: он
мог бы быть красным или зеленым. Мы говорим: «Мел
(есть) материальная вещь» — и тем самым тоже имеем
в виду бытие мела, но не любое бытие, а такое, которое
принадлежит мелу, должно ему принадлежать, если
ему надлежит быть тем, что он есть. Это бытие — не
всякое бытие таким-то и таким-то, но для себя
необходимое что-бытие. Мы говорим: «Мел есть», т. е. «есть
в наличии», как бы возражая против того, что он
существует лишь в воображении, — и тогда бытие означает
бытие-наличным (действительность).1 Если затем все
эти предложения мы произносим с определенным
ударением — «мел есть белый», «мел есть материальная
вещь», «мел есть в наличии» — тогда под этим
ударением мы снова подразумеваем определенное бытие.
Мы хотим сказать: это истинно — что-бытие (Was-
sein) мела, вещное бытие (Ding-sein) мела, а также его
бытие-наличным (Vorhanden-sein). Теперь мы имеем
в виду бытие-истинным (Wahrsein).
Для первых трех значений бытия мы
истолковали и показали соответствующие античные понятия:
в том или ином значении бытия всегда также
заключено «постоянное присутствие». Только по отношению
У Канта — Dasein; ср. в связи с этим мою терминологию.
100
к бытию-истинным мы не сказали ничего, заметив, что,
если бы мы этого захотели, наше начинание увело бы
нас слишком далеко и далось бы с немалым трудом.
Бытие таким-то Что-бытие Бытие-наличным Бытие-истинным
и таким-то
(то так — то этак) (возможность) (действительность) ?
Платон:
απουσία —παρουσία παρουσία ενέργεια
έργον
παρουσία
Различные запросы показали мне, что даже
понимание первых трех значений зависит от разъяснения
четвертого. Такой вывод можно сделать и по
существу — из того, что мы только что предприняли: бытие-
истинным через акцентуацию. Но и без нее значение
бытия-истинным соприсутствует во всех остальных
значениях бытия. Таким образом, «бытие-истинным»
оказывается особенно широким значением бытия.
Учитывая это и прежде всего некоторые вопросы, я
хочу попытаться дать краткое истолкование
бытия-истинным.
Почему и здесь, в бытии в его значении бытия-
истинным, заключено удерживаемое нами основное
значение «постоянного присутствия»? Какая связь
обнаруживается между бытием-истинным и бытием
вообще? Выявить ее не легко — потому что такая
попытка больше всего грозит обернуться расхожим
мнением о бытии-истинным, а также потому, что и прежде
античное учение о таком бытии (особенно учение
Аристотеля) толковалось с расхожей точки зрения. В
итоге все кончалось тем, что настоящую проблематику
Аристотеля вообще не понимали. В таких случаях
самый удобный выход — изменить текст таким образом,
чтобы он соответствовал расхожему мнению и не
вызывал замешательства.
101
Наше истолкование бытия-истинным — в том
направлении, что и это бытие соотнесено с заявленным
основным значением — должно проводиться на
основании Аристотелева текста. Необходимо показать, что
(и каким образом) бытие-истинным в античности
тоже понимается как значение бытия, причем
понимается в свете «постоянного присутствия».
Ь) Четыре значения бытия у Аристотеля.
Исключение ον ώς αληθές из поля метафизики,
совершающееся в «Метафизике» Ε 4
Сначала окинем общим взглядом существо и
содержание проблемы. Мы знаем, что ведущий вопрос
античной метафизики, как его сформулировал
Аристотель, звучит так: τί το öv? Спрашивается об ον ή
öv. Аристотель снова и снова, и особенно там, где он
приступает к принципиальной проблеме метафизики,
подчеркивает: το ον λέγεται πολλαχώς. Само πολλαχώς
двояко по смыслу. Во-первых, оно подразумевает
многообразие значений бытия, но также — многообразие
внутри каждого из них, т. е. категории, öv, относящееся
к κατηγορίαι, само многообразно и поэтому снова
можно задавать вопрос о πρώτως öv.
Сущее как сущее называется по-всякому. Короче
и яснее говоря, мы понимаем бытие многообразно.2
Аристотель знает четыре способа, которыми мы
называем сущее как таковое, — четыре способа, не тут же
совпадающие с той четырехчастной члененностью
бытия, которую мы показывали, хотя сейчас это неважно.
Четыре способа, в которых мы берем сущее, öv и,
соответственно, μή öv, не-сущее, таковы:
2 Ср.: Aristoteles. Met. Δ 7.
102
1) το ον κατά τα σχήματα των κατηγοριών (της
κατηγορίας) — ον καθ' αυτό, сущее, поскольку оно
подразумевается так, как обнаруживается в категориях.
Например: «этот мел (есть) белый», т. е. речь идет об
этом, здесь наличествующем меле: категория τόδε τι.
Он белый, т. е. имеется в виду его качество: категория
ποιόν. «Этот мел длиной с палец», т. е. здесь он есть
в соответствии с категорией ποσόν. «Мел лежит здесь
на кафедре» — категория που, место. Сейчас мы не
можем подробно в это вдаваться.
2) το ον κατά συμβεβηκός, т. е. сущее в отношении
его именно такого-то и такого-то бытия; то бытие в
сущем, которое связано с ним однократным
соотношением, например, «быть красным», «быть белым», но не
обязательно быть таковым.
3) το ον κατά δύναμιν και ένέργειαν, т. е. сущее в его
отношении к бытию-возможным и бытию-действи-
тельным.
4) το ον ως αληθές και ψευδός, т. е. сущее в его
отношении к бытию-истинным и бытию-ложным.
По-видимому, исследование сущего как сущего,
ον ή ον, с самого начала должно разобраться в
множественном значении öv. Это происходило не всегда.
Лишь постепенно была достигнута эта ясность, и даже
у Аристотеля эти четыре различия проводятся лишь
фактически. Почему именно они и только они и по
отношению к чему они различаются — на этот счет
он нигде не дает разъяснения. Для нас теперь важно
следующее: среди значений бытия недвусмысленно
упоминается бытие-истинным. А теперь такой вопрос:
должна ли настоящая философия, спрашивающая
о том, что, собственно, есть сущее как таковое,
спрашивать обо всех четырех способах бытия или ей надо
спрашивать только о том сущем и его бытии, которое
обнаруживается именно как настоящее сущее, сущее
103
в собственном смысле? По-видимому, ей надо
спрашивать о последнем. Ведь когда разъяснено существо
бытия в том сущем, которое есть сущее в собственном
смысле, можно, исходя из этого, разъяснить и
несобственно сущее в его существе.
Аристотель так и поступает в книге Ε
«Метафизики» (VI), где очерчивает тематическое поле
философии в собственном смысле, делая это посредством
рассмотрения четырех упомянутых значений öv. При этом
öv κατά συμβεβηκός, названное вторым, и ον ώς αληθές,
названное четвертым, исключаются из поля
метафизики. Остаются лишь первое и третье значения, которые
фактически рассматриваются в основных книгах
«Метафизики» — Ζ, Η, Θ, Ι (VII—X). Почему исключаются
второе и четвертое значения? Мы уже указывали на то,
что в них подразумевается сущее, в котором бытие
собственно сущего и, следовательно, собственно бытие, не
обнаруживаются, ον κατά συμβεβηκός есть αόριστον —
оно не определено и всегда не определено в своем
бытии: сейчас оно такое, потом другое, т. е. под ним не
подразумевается ничего постоянно присутствующего,
никакого πέρας, никаких μορφή и είδος, но только то,
что то появляется, то исчезает. Поэтому Аристотель
говорит: φαίνεται γαρ το συμβεβηκός εγγύς τι του μη
οντος.3 Таким образом, здесь не имеется в виду сущее
в собственном смысле. Но почему исключается ον ώς
αληθές? Скажем коротко: «истинное» и «ложное» суть
свойства познания сущего, свойства высказывания,
«логоса» о сущем. Аристотель называет это της
διανοίας τι πάθος,4 состоянием и особенностью мыслящего
определения сущего, а не самого сущего.
Бытие-истинным касается лишь понимания сущего и мышления
о сущем, но не самого сущего. Традиционно говоря,
За. а. О. Ε 2, 1026Ь21.
4 а. а. О. Ε 4, 1028al.
104
проблема бытия-истинным (истина и ложность)
принадлежит логике и теории познания, но не
метафизике. Поэтому исключение из метафизики второго и
четвертого значений вполне естественно и сразу понятно.
Для тематического рассмотрения метафизикой как
познанием самого сущего как такового в расчет можно
принимать только öv, относящееся к категориям, и öv
κατά δύναμιν και ένέργειαν. О первом — и прежде всего
о первой категории, фундирующей все прочие, —
Аристотель рассуждает в книгах Ζ и H, a о втором, о öv
κατά δύναμιν και ένέργειαν, т. е. о бытии в смысле бы-
тия-возможным и бытия действительным — в книге Θ.
Кроме того, в последней книге ενέργεια (εντελέχεια)
подается как вообще основное значение
действительности собственно действительного. Сущее в собственно
смысле есть öv ενεργεία. То, что, согласно нашей
интерпретации, должно обладать постоянством присутствия,
заслуживает называться собственно сущим: ή ουσία και
το εΐδος ενέργεια έστιν.5 Следовательно, именно в книге
Θ Аристотелевой «Метафизики» рассматривается
бытие в собственном смысле сущего.
с) Тематическое рассмотрение öv ώς αληθές
как κυριώτατον öv в 10 главе Θ книги «Метафизики»
и вопрос о принадлежности этой главы к данной книге.
Связь текстологического вопроса с вопросом
по существу как проблема взаимопринадлежности
бытия qua бытия-истинным и бытия qua
бытия-действительным (ενεργεία öv)
Итак, эта книга завершается десятой главой,
которая начинается так (сначала я цитирую полностью,
5 а. а. О. Θ 8, 1050Ь2.
105
а потом сокращаю): έπεί δε το öv λέγεται και το μη ον το
μεν κατά τα σχήματα τών κατηγοριών, το δέ κατά δύναμιν
ή ένέργειαν τούτων ή τάναντία, το δέ κυριώτατα ον αληθές
ή ψευδός, τοΰτο δ' έπί τών πραγμάτων εστί τω συγκεΐσθαι
ή διηρήσθαι, ώστε αληθεύει μεν ό το διηρημένον οιόμενος
διηρήσθαι και το συγκείμενον συγκεΐσθαι, έψευσται δέ ό
έναντίως έχων ή τα πράγματα, ποτ' έστιν ή ουκ εστί το
αληθές λεγόμενον ή ψεύδος; τοΰτο γαρ σκεπτέον τί λέ-
γομεν.6 ...το δέ κυριώτατα ον αληθές ή ψεύδος. Что мы
здесь видим? Ясно, что тематизируется ον (ως) αληθές.
Получается, что в конце существенной и
центральной тематической книги «Метафизики» обсуждается
тема логики, которую, как мы знаем, сам Аристотель
в книге Ε 4 исключил из области первой философии.
Сразу видно, что эта глава сюда не относится. В
подтверждение этому есть и внешний признак: глава
находится в конце книги, т. е. кто-то каким-то образом
добавил ее позднее, хотя по всему своему содержанию
она, конечно же, принадлежит перу Аристотеля.
Принять такую точку зрения не трудно: ведь вся
«Метафизика» — это не целостное произведение, от начала и до
конца выдержанное Аристотелем в единой смысловой
тональности, не система, а собрание различных, хотя
и законченных в себе трактатов, принадлежащих друг
другу если не по литературной композиции, то по
содержанию. Тот факт, что эта глава, глава о бытии-ис-
тинным, не принадлежит к трактату о
действительности как таковой, становится тем более ясным, что здесь
даже ον αληθές, истинно сущее, вводится как сущее
в наиболее собственном смысле, т. е. как сущее,
которое оказывается более сущим, чем ενεργεία ον, а это,
как мы знаем, противоречит всему, что нам известно
об Аристотеле.
6 а. а. О. Θ 10, 1051а34-Ь6.
106
Мы видим, как благодаря рассмотрению чисто
текстологического вопроса о принадлежности этой
заключительной главы (о бытии-истинным) к книге Θ
«Метафизики» на первый план одновременно выходит
проблема содержания, т. е. вопрос о значении самого
бытия-истинным, а точнее говоря: вопрос о
взаимопринадлежности бытия qua бытия-истинным и
бытия qua бытия-действительным. Однако для
традиционного и даже самого последнего истолкования и
рассмотрения десятой главы здесь вообще нет никакой
проблемы, потому что ее просто не может быть. Ведь —
как знает любой новичок в философии — проблема
истины относится к сфере логики, а не метафизики и
тем более не к тому рассмотрению, тема которого —
основная проблема метафизики. Исходя из таких
соображений, Швеглер, которому мы обязаны философски
ценным, выдержанным в гегелевском духе
комментарием к Аристотелевой «Метафизике», совершенно
произвольно пишет: «Эта глава сюда не относится».7
Вернер Йегер, которому мы обязаны заслуживающим
всяческой похвалы исследованием о композиции
этого труда,8 считает точку зрения Швеглера вполне
убедительной. «Следовательно, картина такова, что
эта глава сюда не относится».9 Правда, в отличие от
Швеглера, Йегер считает, что Аристотель сам без
всякой связи со всей остальной книгой приладил к ней
этот «довесок».
7 Schwegler A. Aristoteles Metaphysik. 4 Bde., 1846-1847.
Unveränderter Nachdruck. Frankfurt am Main: Minerva, i960. Bd.
IV. S. 186.
8 Jaeger W. Studien zur Entwicklungsgeschichte der
Metaphysik des Aristoteles. Berlin, 1912. См. также: Jaeger W. Aristoteles.
Grundlegung einer Geschichte seiner Entwickling. Berlin, 1923. S.
211 ff (там даются отсылки на более ранние изыскания).
9 Jaeger W. Studien zur Entwicklungsgeschichte der
Metaphysik des Aristoteles. S. 53.
107
α) Непризнание принадлежности
десятой главы из книги Θ к самой этой книге
и традиционное истолкование бытия-истинным
как проблемы логики и теории познания
(Швеглер, Йегер, Росс).
Ошибочное толкование κυριώτατα
как следствие этого истолкования
Если вслед за Йегером присоединиться к
смысловой интерпретации Швеглера и считать, что глава,
посвященная логике, не может принадлежать
метафизике, тогда вполне логично вообще не считать, что эта
глава была присоединена самим Аристотелем,
особенно если вспомнить, как сочинены и построены его
главы и книги. Точка зрения Йегера тем более
примечательна, что, обосновывая отсутствие связи между этой
главой и всей книгой, он идет дальше Швеглера. По
его мнению, основное «внешнее» препятствие для того,
чтобы допустить обратное, заключается в следующем:
судя по местоположению этой главы ον αληθές не
только входит в общую тему рассмотрения, но даже это öv
расценивается как κυριώτατα, т. е. сущее-по-истине
рассматривается как сущее в наиболее собственном
смысле этого слова. Эта «возможность для меня
невероятна, и так решит всякий». «Таким образом, если
кто-нибудь станет основывать положение этой главы
на том, что только здесь достигается κυριώτατα öv,
значит, он не понимает дословный текст и к тому же
мыслит не по-аристотелевски».10 Йегер хочет сказать:
тот, кто утверждает, что здесь Аристотель схватывает
бытие-истинным как бытие в наиболее собственном
смысле этого слова, не понимает, что же на самом деле
значит слово κυριώτατα и имеет такое мнение о бытии,
которое очень далеко от точки зрения Аристотеля.
10 а. а. О. S. 52.
108
Я же утверждаю, что о том, кто считает, что десятая
глава принадлежит книге Θ, и — более того — видит
в ней по-настоящему высшую точку всего этого
трактата и Аристотелевой метафизики вообще, — о нем
нельзя сказать, что он мыслит не по-аристотелевски:
он мыслит именно так, как мыслил Аристотель и более
того — он мыслит просто антично. В том, что
Аристотель завершает именно десятой главой, т. е. в том, что
бытие-истинным он толкует как собственно бытие, —
в этом находит свое первое и последнее радикальное
выражение решающее и основное понимание бытия и
истины в античной метафизике. Лишь тот может счесть
эту мысль неаристотелевской, кто считает
аристотелевскими с давних пор употребляющиеся в традиции
общие места, не содержащие в себе никакой проблемы.
Итак, уже в какой-то степени ясно, что якобы
внешний вопрос о принадлежности этой главы ко всей
книге можно решить только тогда, когда мы вникнем
в проблему, которая в них рассматривается, т. е. когда
рассмотрим такой вопрос: каково основное значение
бытия, если бытие-истинным можно и нужно
рассматривать в связи с бытием-действительным и даже
более того: если сущее-по-истине как будто является
сущим в наиболее собственном смысле этого слова?
Прежде чем ответить на этот вопрос и тем самым
точно выявить внутреннюю и необходимую
принадлежность десятой главы ко всей книге, необходимо
вкратце рассмотреть доводы против такой возможности.
В предметном истолковании опасения относительно
существенной тематической разницы в книге и главе
развеются сами собой.
Если с самого начала решено, что в этой главе речь
идет о том öv αληθές, которое как логическая проблема
не вписывается в основную тему, тогда, наверное, здесь
ничего не говорится об öv αληθές как сущем в самом
109
собственном смысле этого слова, т. е. о κυριώτατα öv.
Следовательно, это κυριώτατα надо убрать. Для
этого есть две возможности: 1) вообще вычеркнуть его;
2) перетолковать его так, чтобы его значение
подходило к тому, что с самого начала решили считать
содержанием этой главы. По второму пути идет Швеглер
и особенно Йегер. По первому в своей самой
последней обработке текста решается идти Росс — seclusi: an
post μεν (а 34) trasponenda?11 Однако, нет ни
малейшего предлога для столь грубого вмешательства в текст,
который здесь в полном порядке. Все дело в том, что
мешает κυριώτατα, если соотнести его с тем, что
принято считать содержанием этой главы. Что касается
Швеглера, то в своем комментарии он просто не
обращает внимания на это слово. Его перевод
«Метафизики» показывает, что в результате этого получается,
κυριώτατα он переводит словом «преимущественно».
Бытие-истинным чаще других, преимущественно
называется бытием. Йегер представляет такую же точку
зрения на κυριώτατα. κυριώτατα öv равнозначно
«бытию в его наиболее частом значении или
употреблении в языке», равнозначно тому, «как оно,
собственно, чаще всего применяется». «Ясно, что речь идет об
„esse" в смысле связки».12 Что на это сказать? У
Аристотеля нельзя найти никакого подтверждения этому
взгляду. Да, «есть» в основном выступает в функции
связки. Но мысль о том, что связка «есть» чаще
всего равнозначна сочетанию «есть истинный» (т. е.
бытие-истинным), неверна. Не потому неверна, что
связка «есть» не в большинстве случаев, а лишь изредка
имеет такое значение, а как раз потому, что она име-
11 Aristoteles. Metaphysica // Ed. W. D. Ross. Oxford, 1924.
Vol. II.
nJaeger W. Studien zur Entwicklungsgeschichte der
Metaphysik des Aristoteles. S. 52.
HO
ет это значение всегда, явно или подспудно. Говорить
вслед за Йегером, что связка в большинстве случаев
означает бытие-истинным, все равно что говорить: два
плюс два в большинстве случаев равняется четырем.
Но хотя в «есть», которое выступает как связка, всегда
заключено бытие-истинным, именно «бытие»
понимается так не в большинстве случаев, но понимается и
как что-бытие, так-бытие, бытие-наличным. У тезиса,
согласно которому «есть» в большинстве случаев
означает бытие-истинным, нет никакого законного
основания, а значит нет и основания понимать αληθές öv
как κυριώτατον именно в этом значении, т. е. как
преимущественно употребляемое. Но прежде всего
κυριώτατον здесь никогда не равнозначно «в большинстве
случаев употребительному», потому что речь вообще
не идет о частом или редком словоупотреблении.
Поэтому Швеглер и Йегер не привели никакого языкового
подтверждения своему голословному тезису, к
которому они прибегли, оказавшись в совершенном
замешательстве.
κυρίως, κύριος, господин, владетель чего-либо,
собственник чего-либо, κύριος, κυρίως взятый в своем
собственном: когда κυρίως употребляют по отношению
к какому-нибудь слову, то прежде всего это означает не
частоту словоупотребления, а само слово, взятое в его
собственном значении. Собственное значение — это
одновременно и то, которое чаще всего употребляется
в языке, в отличие от переносного смысла, «метафоры»
(μεταφορά), которое встречается реже: оно странно,
«не привычно», κυρίως öv — это сущее в собственном
смысле. Κυριώτατον (-α) öv — это сущее в наиболее
собственном смысле слова. Аристотель часто
употребляет слово κυρίως, отличая его от κατά μεταφοράν,
т. е. проводя различие между словом в его собственном
значении и словом в значении переносном.
111
На самом деле слово κύριον, τ. е. «господствующее»
(das Vorherrschende), употребляется в значении
«распространенного» и у Аристотеля. В соответствии со
значением κύριος (господин) слово το κύριον означает
«господствующее» словоупотребление. С другой
стороны, то словоупотребление, которое «не на слуху»,
в котором есть что-то странное, обозначается как το
ξενικόν. В «Риторике» (Г 2) Аристотель говорит: έστω
οΰν εκείνα τεθεωρημένα και ώρίσθω λέξεως αρετή σαφή
είναι,13 т. е. достоинство (αρετή) всякой речи в том, что
она ясна и понятна (σαφή), а именно тогда, когда слова
раскрывают то, что они подразумевают: σαφή μεν ποιεί
τα κύρια.14 Однако если речь не хочет быть низменной
(ταπεινή), в ней также должны быть ξενικά, т. е. слова
нерасхожие, удаленные от привычного. Сюда
относятся метафоры, провинциализмы и т. д. Таким образом,
говоря о проблеме словоупотребления, Аристотель
употребляет слово κύριον в значении чего-то
распространенного. Но слова, употребленные в собственном
смысле, распространены потому, что они
употребляются в этом смысле, а не наоборот. Собственное
значение слова и становится причиной того, что слова
употребляются часто и что они привычны. Поэтому
первичное, собственное значение слова κύριον — это
«собственность» как таковая (die Eigentlichkeit). Ведь
и в метафизике речь идет совсем не о какой-то
распространенности слов: по существу она здесь вообще не
имеет места.
Поэтому надо спросить: что еще означает κύριον
в философской терминологии Аристотеля? В Шестой
книге «Никомаховой этики» мы читаем: Τρία δή έστιν
έν τη ψυχή τα κύρια πράξεως και αληθείας, αϊσθησις νους
13 Aristoteles. Rhetorik. Leipzig, 1914. Γ 2. 1404Ы f.
14 а. а. О. 1404Ь6.
112
ορεξις.15 То, что образует в душе κύρια, τ. е. саму суть
поступка и познания, трояко: это ощущение, мысль и
стремление. Здесь было бы совсем нелепо переводить
κύρια словом «распространенные». А вот что
Аристотель говорит в Девятой книге, касаясь дружбы и
человеческого себялюбия: ει γαρ τις άει σπουδάζοι τα δίκαια
πράττειν αυτός μάλιστα πάντων ή τα σώφρονα ή όποια-
οΰν άλλα τών κατά τάς άρετάς, και ολως άει το καλόν
έαυτω περιποιοΐτο, ουδείς έρεΐ τούτον φίλαυτον ουδέ
ψέξει. Если кто-то, какой-нибудь человек, постоянно
стремится к тому, чтобы совершать поступки
правосудные, благоразумные и какие-либо из тех, что так
или иначе подобают добродетели, и вообще старается
привить себе благородное, никто не станет порицать
его как эгоиста. А ведь именно он, наверное,
заключает в себе истинное себялюбие: μάλλον εΐναι φίλαυτος...
και χαρίζεται εαυτού τω κυριωτάτω,16 т. к. он
притязает на самое благородное и в высшей степени благое
и угождает самому подлинному и самому
существенному в себе, т. е. чувствует внутреннюю обязанность
по отношению к нему. Здесь тоже было бы
бессмысленно переводить не как «самое подлинное» («самое
собственное»), а как «самое распространенное». Кроме
того, в Первой книге говорится: нравственна επιστήμη
πολιτική, потому что она επιστήμη κυριωτάτη,17 т. е.
является высшим и самым собственным знанием,
которое охватывает все человеческие поступки и дает цель.
В этом же смысле Аристотель говорит об άκρότατον
αγαθόν или κυριώτατον αγαθόν, т. е. о самом
настоящем благе, благе в наиболее собственном смысле этого
слова.
15 Aristoteles. Ethica Nicomachea. Leipzig, 1882. Ζ 2, 1139al7 f.
16 а. а. О. 18, 1168b25—31.
17 Ср.: а. а. О. А 1, 1094а25 ff.
113
Приведенным местам полностью по смыслу
отвечает и десятая глава из книги Θ «Метафизики»:
настоящее сущее, собственно сущее как таковое. Каким бы
неудобным это ни было, но все придется оставить на
своих местах! Правда, надо признать, что в чем-то Йе-
гер прав: κύριον может обозначать и «самое обычное».
Однако если говорить по существу, то необходимо
помнить, что к бытию-истинным это не относится: ни
в расхожем понимании бытия, ни тем более в
аристотелевском. В κυριώτατα все непреложно. Оно стоит во
всей своей неколебимости и возвещает волю
Аристотеля, а она такова: не только вообще рассмотреть в
метафизике, что есть сущее-истинным, но истолковать
его как самое истинное сущее, как сущее в наиболее
собственном смысле этого слова и этим толкованием
завершить трактат о собственно сущем как таковом.
ß) Доказательство принадлежности
десятой главы к книге Θ.
Двоякость в греческом понимании истины:
истина вещи и истина предложения
(истина высказывания).
Тематическое рассмотрение бытия-истинным
(собственно) сущего (έπί των πραγμάτων),
а не познания, совершающееся в десятой главе
Итак, Аристотель просто утверждает, что бытие-
истинным есть самое собственное бытие в сущем; что
в истинно сущем как таковом обнаруживается
наисобственное существо бытия. Это проблема, которая
появляется там, где он специально и постоянно говорит
о подлинном бытии (ενέργεια, εντελέχεια), — в книге Θ.
В десятой главе этой книги он хочет показать,
почему сказанное им правильно. Одним словом, тема
главы — раскрыть и доказать тезис, который гласит: 6ы-
114
mue-истинным есть наисобственное бытие собственно
сущего. Тема — бытие-истинным сущего (das Wahrsein
des Seienden), т. е. вопрос ставится так: как само сущее
должно быть сущим, чтобы смочь быть собственно
истинным, и что есть само бытие-истинным, которое так
стало возможным? Как оно относится к собственному
бытию сущего?
Прежде всего надо в общих чертах показать, что
бытие сущего остается темой и Девятой главы тоже и
что бытие-истинным включается в эту ведущую тему.
Поэтому, введя в рассмотрение αληθές öv, сущее-по-
истине, как наисобственное сущее, Аристотель сразу
же говорит: τοΰτο, а именно бытие-истинным, τούτο
δ' έπι τών πραγμάτων,18 т. е. оно, бытие истинным,
понято в соотнесении с самими сущими вещами: бытие-
истинным как бытие-истинным вещей (πραγμάτων),
т. е. речь не идет о бытии-истинным как особенности
мышления, осмысляющего вещи, о бытии-истинным
как свойстве познания сущего, о бытии-истинным как
свойстве высказывания, которое «логос» делает о
сущем, речь не идет о нем как свойстве человеческого
мнения о чем-то как таковом — речь не обо всем этом,
но просто об особенности самого сущего. Из первого
предложения данной главы совершенно очевидно, что
тема не такова, какой она в общем и целом, без всякого
особого рассмотрения была заявлена с самого начала,
а заявлено было о бытии-истинным как особенности
мыслящего определения и высказывания. Об этом,
правда, говорится в Ε 4, где в частности сказано: έπει
δέ ή συμπλοκή έστιν και ή διαίρεσις έν διάνοια άλλ' ουκ
έν τοις πράγμασι, το δ' ούτως ον έτερον ον τών κυρίως.19
Связывание и разъединение — это образ действий
18 Aristoteles. Met. Θ 10, 1051b2.
19 a. a. Ο. Ε 4, 1027b29 ff.
115
мышления по отношению к сущему, его нет в самом
сущем, о котором мыслят, и потому его и все его
свойства, т. е. также бытие-истинным и бытие-ложным,
надо оставить в стороне.
σκεπτέον δέ του οντος αύτοΰ τα αϊτια,20 т. е. надо
рассмотреть само сущее — и рассмотреть в соотнесении
с тем, что делает его возможным как сущее. В таком
случае в десятой главе книги Θ, да и во всей книге
вообще, ставится вопрос о самом сущем, а именно и
прежде всего о его бытии-истинным и его возможности,
но не о том бытии-истинным, которое характерно для
мышления. И о бытии-истинным самого сущего
утверждается, что оно даже составляет наисобственное,
самое подлинное бытие сущего. Таким образом,
проблема не только вообще целиком и полностью движется
в границах «первой философии» (πρώτη φιλοσοφία),
но является даже ее самой радикальной проблемой.
Следовательно, в десятой главе этой книги вообще не
рассматривается проблема логики или теории
познания, как это с самого начала запросто принято считать:
на самом деле речь идет об основной проблеме
метафизики. Но можно ли тогда еще сомневаться в том, что
эта глава принадлежит к той книге, в которой дается
максимально возможное раскрытие ведущего вопроса
античной метафизики? Разве не должна она
принадлежать ей с необходимостью? Нельзя сказать, что глава
никак не связана с книгой и тем более нельзя говорить,
что, несмотря на отсутствие связи, ее приладил к
книге сам Аристотель. Здесь одно невозможнее другого.
Но как можно было так грубо и упрямо не
замечать настоящей темы этой главы? Ведь комментаторы
и те, кто их цитировал, читали главу и толковали ее.
Да, это так, но читать можно по-разному. Вопрос в том,
20 а. а. О. Ε 4, 1028аЗ.
116
правильно ли мы видим, когда читаем, т. е. вообще
готовы ли мы сами видеть то, что надо видеть. Т. е.
вопрос в том, по плечу ли нам эта проблематика или нет,
и, стало быть, в данном случае: в достаточно ли
исконном смысле мы понимаем проблему бытия и,
следовательно, проблему истины и их возможную связь,
чтобы двигаться в том горизонте, в котором античная
философия Платона и Аристотеля находится как бы
сама собой. Или же, вооружившись банальными
философскими понятиями и окружив себя теми
псевдопроблемами, которые эти понятия порождают, мы дерзаем
приблизиться к философскому наследию и с помощью
такой жалкой «оптики» хотим решить, что должно
стоять в тексте и о чем мог думать Аристотель. Именно
так и поступает Швеглер. Ведь известно, что проблема
истины — это по ведомству логики. Бытие сразу
принимают за нечто само собой разумеющееся и совсем
о нем не спрашивают. Если в главной книге
Аристотеля, в которой излагается учение о бытии,
появляется глава, в которой буквально в первом предложении
говорится об истине, значит, она сюда не относится.
Характер такого подхода — грубый или утонченный,
обобщенный или обстоятельный — ничего не меняет
в принципиальной невозможности такой методики.
Но в чем же кроется основной недостаток в
понимании рассматриваемой нами главы? Да просто
античным пониманием существа истины так же мало
интересуются, как и основой и характером античного
понимания бытия. Проблема истины в античности —
как проблема — так же не разъяснена, как и
проблема бытия, и это относится и ко всей последующей
философии. По причинам, которые нам теперь не надо
рассматривать, она даже не умела по-настоящему
воспринять и плодотворно развить то, чего в раскрытии
проблемы истины достигла античность. Если все так,
117
тогда нам тем более нельзя надеяться, чтобы в той
книге и главе, где даже утверждается и
рассматривается взаимосвязь между бытием и истиной, все
трактовалось в совершенной прозрачности. Напротив, там, где
проблематика достигает последних глубин, там — как
бы остро вопрос ни ставился — сохраняется
величайший сумрак.
Итак, прежде всего: что вообще греки понимают —
дофилософски и философски — под истиной?21
Αλήθεια, несокрытость; быть не скрытым, но раскрытым;
раскрытость, т. е. освобожденность от сокрытости.
В соответствии с этим истина как раскрытость с
самого начала — не особенность познавания и схватывания
сущего, но черта самого сущего. Раскрытость есть
раскрытость сущего. Таким образом, когда Аристотель
спрашивает о раскрытости сущего, об истине сущего,
то в античном смысле это самый близкий, первый и
подлинный вопрос, когда речь заходит об истине.
Проблема истины с самого начала — вовсе не проблема
познания и понимания. Таковой она является лишь
во вторую очередь, а именно: поскольку схватывание
и познавание улавливает сущее в его непотаенности,
раскрытости, оно, познавание, в свою очередь, тоже
«истинно», т. е. — если мыслить по-гречески —
таково, что усваивает раскрытость сущего, сообщает его и
сохраняет. Высказывание не является первично
истинным в смысле раскрытости: оно есть тот способ,
которым мы, люди, храним и сохраняем истину, т. е.
раскрытость сущего: άληθεύειν.
О самом сущем нельзя сказать, что оно αληθεύει* —
сущее есть ον αληθές в исходном смысле. Но так же,
21 Ср.: Heidegger M. Sein und Zeit. § 44.
* Т. е. говорит истину, «истинствует» как высказывание. —
Примеч. перев.
118
только в производном смысле, можно назвать и то,
что, собственно, αληθεύει, τ. е. λόγος тоже αληθής. Итак,
αληθές означает: 1) быть раскрытым, когда это
говорится о сущем; 2) схватывать раскрытое как таковое,
т. е. быть раскрывающим.
Поэтому в αληθές и αλήθεια заключена
двойственность — причем необходимая и необходимая
настолько, что ее надо удерживать, если вообще хочешь
«заполучить» проблему истины.
Но как обстоит дело с противопонятием истины —
с неистиной? Неистина — это не сокрытость, а
искаженное™ (die Verstelltheit). Надо также проводить
соответствующее различие между ложностью и
неистиной, т. е. неистина — это ни в коем случае не просто
не-истина — не-истина, которая есть также красота —
но неистина присутствует там, где недостает истины,
где хотя и есть раскрытость, но почти вся она —
искаженное™, т. е. там, где хотя нечто и дает себя, но
выдает себя как то, что оно не есть.
Итак, речь идет о сущем и его бытии-истинным, и
это Аристотель однозначно и даже чрезмерно
акцентирует в начале десятой главы: ού γαρ δια το ήμας οϊε-
σθαι αληθώς σε λευκόν είναι ει σύ λευκός, άλλα δια το
σέ εΐναι λευκόν ήμεΐς οι φάντες τοΰτο άληθεύομεν.22 άλη-
θεύειν также укоренено в αληθές öv. Поскольку
исконное античное понимание существа истины, равно как
античное понимание бытия, всерьез не воспринимают,
не видят и того, сколь значима эта двойственность
в понятии истины, το αληθές λεγόμενον, т. е. то, что
исходно называется и должно называться истинным,
раскрытым, есть само сущее, само öv.
22 Aristoteles. Met. Θ 10, 1051Ь6 ff.
119
d) Греческое понимание истины (αλήθεια)
как несокрытости.
Сущее-истинным (αληθές öv)
как наисобственное сущее (κυριώτατον öv).
Наисобственное сущее как простое (das Einfache)
и как постоянно присутствующее
Аристотель поднимает проблему: ποτ' εστίν ή ούκ
εστί το αληθές λεγόμενον ή ψεύδος23 — если истина есть,
этот случай как таковой не обсуждается. Вопрос
следующий: когда есть сущее-истинным как таковое, а когда
его нет, т. е. когда сущее таково, что оно может быть
истинным? Как должно быть бытие сущего, чтобы оно
могло быть истинным, раскрытым? Когда сущее может
быть по-настоящему истинным, когда оно истинно как
таковое? Я опережаю раскрытие проблемы. Ответ:
тогда, когда во всех отношениях исключена всякая
возможность неистины в сущем. Когда это бывает и что
при этом означает истина? Тогда, когда истина
принадлежит бытию. Как это возможно? Это возможно
в том случае, если бытие-истинным составляет
наисобственное (das Eigentlichste) в бытии как таковом.
Но что есть бытие? Постоянное присутствие. Таким
образом, когда сама истина показывает не что иное,
как максимально возможное присутствие в
собственном смысле, тогда и есть истина. Это метафизический,
даже самый метафизический вопрос, не имеющий
ничего общего с так называемой теорией познания. Как
бытие-истинным может принадлежать бытию
сущего? Что есть само бытие-истинным, чтобы оно могло
принадлежать бытию сущего? Аристотель, помимо
прочего, в сущности должен спрашивать именно так,
если он хочет показать, что бытие-истинным не только
23 а. а. О. 1051bf.
120
принадлежит сущему, но даже составляет нечто
наисобственное в его бытии: αληθές öv как κυριώτατον öv.
И опять-таки только настоящее бытие-истинным,
бытие-истинным в собственном смысле слова, может
составлять наисобственное бытие сущего, а не любая
раскрытость любого сущего.
а) Соответствие бытия
и бытия-истинным (раскрытость).
Два основных вида бытия и соответствующие им
способы бытия-истинным
Как Аристотель решает эту проблему? После
всего сказанного мы не должны думать, будто эта
высшая точка античной бытийной проблематики в своей
трактовке как-то отличается от античного
рассмотрения проблемы вообще. Здесь проблема тоже высвечена
естественным повседневным пониманием бытия, хотя
сам свет напрямую и не светит. Аристотелеву
трактовку проблемы я описываю лишь в основных
чертах. Полное истолкование увело бы нас слишком
далеко и потребовало бы глубокого знания метафизики
Аристотеля.
Применительно к этой проблеме надо не забывать
о трояком. 1) Собственно сущее есть öv ενεργείς,
ενέργεια — это собственно бытие в смысле себя-удержание
в постоянном присутствии. 2) Истина есть
раскрытость сущего, и только на основании этой раскрыто-
сти и в связи с нею в производном смысле истинно
то (в своем принятии и отвержении раскрытого), что
схватывает и определяет само сущее: άληθεύειν, φάναι
или καταφάναι το αληθές. 3) Именно потому, что
истина по своей природе есть раскрытость сущего, тот
или иной вид раскрытости (истина) регулируется и
определяется в соответствии с видом сущего, т. е. по
121
его бытию. Эта привязанность соответствующего вида
раскрытости к соответствующему виду сущего (коль
скоро существо античного понятия истины схвачено
и удержано) с самого начала ясна и понятна. С
другой стороны, если в античности такое соответствие
ясно выражено, тогда это значит, что с самого начала
в основе лежит понимание истины как истины сущего
(раскрытость). Так оно и есть. В конце первой главы
второй книги «Метафизики» Аристотель говорит
просто и однозначно: έκαστον ώς έχει του εΐναι, οϋτω και
της αληθείας,24 т. е. как то или иное относится к бытию,
так оно относится и к раскрытости. Вид бытия
сущего определяет принадлежащий ему вид его возможной
раскрытости. Раскрытость совпадает с видом бытия.
В таком случае к собственно сущему как таковому
принадлежит собственное же бытие-истинным.
Мы утверждаем, что в десятой главе книги Θ
Аристотель ставит следующую проблему: как должно быть
бытие сущего, чтобы сущее могло быть истинным, т. е.
раскрытым? Что, собственно, есть бытие-истинным по
отношению к сущему? Наверное, ясно, что для
античности и тем более для Аристотеля — после того как
однажды пробудился ведущий вопрос τί το öv —
решение этой проблемы становится неизбежным. Это
очевидно. Но в то же время из сказанного мы делаем
вывод о том, каким образом Аристотель, коль скоро он
принимает эту проблему, должен начать свою
трактовку и в каком направлении ее развертывать. Ведь если
его тезис гласит, что αληθές öv есть κυριώτατον öv, т. е.
собственнейшее сущее, тогда он должен прийти к
вопросу об истине собственно сущего. Это не
проблема всякого вида истины всякого сущего, но проблема
истины собственно сущего, т. е., согласно сказанному
24 а. а. О. α 1, 993Ь30 f.
122
выше, собственно истина как таковая. Здесь в
соотнесении с собственно истиной собственно сущего должна
стать очевидной собственная связь между бытием и
истиной, т. е. должно выявиться, почему истина
вообще составляет собственное бытие сущего.
Таким образом, мы уже наметили ход
рассуждений рассматриваемой нами десятой главы.
Тематическое рассмотрение проблемы начинается в 1051Ь9 и
простирается до ЬЗЗ или до 1052а4. Все предыдущее
вводит проблему. О самом важном мы уже сказали:
тезис, постановка вопроса, указание на истину вещей
(πράγματα), каковая истина делает возможной истину
высказывания. То, что следует после а4, суть выводы.
Структура тематического рассмотрения, композиция,
сжатость, острота и ясность — все это для меня самое
удивительное в Аристотеле, рассматривающем
проблему так глубоко.
Характер раскрытости сущего зависит от вида
бытия сущего, το δέ αληθές ώς το εΐναι. Когда Аристотель
давал общую классификацию видов сущего, мы узнали
о сущем, о котором он заметил: εγγύς τι του μη οντος,25
т. е. что оно близко к не-сущему. Хотя это и сущее, но
сущее не в собственном смысле, а такое, которое öv
κατά συμβεβηκός, т. е. такое, которое присутствует так,
что его со-присутствие с чем-то другим случайно и
происходит лишь когда-то. Такова, например, белизна
мела в отношении к нему самому. Если мел есть, ему
не обязательно быть белым. С другой стороны, если
мел есть, то он — материальная вещь, и эта
материальность не присовокупляется к нему лишь когда-то, т. е.
она не некое συμ-βεβηκός, но συγκείμενον: она есть
вместе с мелом: συν-κείμενον вместе с ύποκείμενον. Здесь
мел и материальность αδύνατον διαιρεθήναι, т. е. их не-
25 а. а. О. Ε 2, 1026Ь21.
123
возможно разъять — невозможно взять сущее под
названием «мел» и выделить его из того, что оно есть.
С другой стороны, когда мел есть, тогда с ним может
соотноситься всякое, но никогда с ним не может быть
связана, например, ложность. Давая мелу
раскрывающее определение, невозможно свести воедино две его
противоположные особенности и сказать: «Мел лжет».
Аристотель говорит: αδύνατον συντεθήναι. Правда, как
уже упоминалось, есть нечто такое, что то связано
с мелом, то нет. Что означает бытие в отношении
материально сущего мела как такового? Что означает
бытие-материальным мела? Оно означает совместность
и, следовательно, единство во взаимопринадлежности,
когда образуется не какое-то однообразие, а единое
в многообразии. Следовательно, при бытии-ложным
мела утверждается не-совместность, просто нечто
распадающееся, некое не-единое разнообразие.
Давая разъяснение и определение различных видов
бытия, Аристотель начинает тематическое
рассмотрение: ει δη τα μεν άει σύγκειται και αδύνατα διαιρεθήναι,
τα δ' άει διήρηται και αδύνατα συντεθήναι, τα δ' ενδέχεται
τάναντία, το μεν εΐναί έστι το συγκεΐσθαι και εν εΐναι, το δε
μή εΐναι το μη συγκεΐσθαι άλλα πλείω είναι.26 Перед нами
не что иное, как истолкование что-бытия и так-бытия
сущего. Из этого толкования мы можем вывести самое
убедительное доказательство нашего общего тезиса
о бытии. Бытие как бытие что-бытия (материальность
мела) означает совместное нахождение, συγκεΐσθαι. Но
мы помним, что ύποκείμενον означает ύπομένον. Таким
образом, συγκεΐσθαι — это не просто нахождение вместе
друг с другом чего-то вместе данного, но изначальное
со-пребывание, постоянная совместность, т. е.
постоянное со-присутствие одного с другим. Сам мел, в том,
26 а. а. О. Θ 10, 1051Ь9 ff.
124
что он сам есть, совместен с материальностью,
постоянно со-пребывая с нею. Напротив, мел и ложность —
это постоянная не-совместность: никогда мел как
таковой не имеет при себе такого, оно вообще никогда не
может вступить с ним в отношение. Оно всегда
должно отсутствовать, здесь налицо постоянное отсутствие
одного по отношению к другому.27 Наконец, есть нечто
такое, что никогда не бывает постоянным и всегда
присутствующим: оно непостоянно и то присутствует, то
нет; когда оно присутствует, оно есть, когда же
отсутствует, его нет. Непостоянно отсутствующее есть то,
что при-падает, вы-падает каждому присутствующему
и есть случайно выпавшее, случайное. Если, приступая
к истолкованию, с самого начала не помнить о том, что
бытие означает постоянное присутствие, тогда в этом
решающем отрывке из Аристотеля вообще не удастся
продвинуться, даже сделать первый шаг.
Итак, теперь мы знаем два основных вида бытия:
συγκεΐσθαι и συμβεβηκέναι. При этом надо не упускать
из виду такой решающий момент: у каждого из этих
видов бытия есть свой специфический способ
небытия, отсутствия. Помнить об этом принципиально
важно. К первому виду бытия как такового
принадлежит определенная возможность не-бытия. Второй вид
и сам по себе всегда — определенное не-бытие. И
только теперь, определив эти виды бытия (что-бытие и так-
бытие) сущего, Аристотель переходит к проблеме как
таковой, т. е. к следующему вопросу: когда и как для
этих различных видов сущего становится возможным
соответствующее бытие-истинным и соответствующая
непотаенность (раскрытость)? Он начинает с
истолкования раскрытости того сущего, которое может быть то
27 См. «Евтидем» Платона. Прекрасные вещи и красота;
παρουσία.
125
таким, то другим, т. е. начинает с несобственно сущего,
бытие которого меньше всего удовлетворяет существу
бытия, т. е. постоянному присутствию, остается
недостаточным по отношению к нему, непостоянным и как
раз поэтому иногда отсутствует. Если такая раскры-
тость вообще существует, то когда и как она есть — эта
раскрытость (истина) непостоянно отсутствующего,
случайного? Непотаенность случайного есть не всегда,
и это так как раз тогда, когда случайное есть так, как
оно есть. Для случайно сущего как сущего
характерно вот что: принадлежащая ему истина — не всегда то,
чем она хочет быть, т. е. истиной. Истина
превращается в неистину. Таким образом, дело не в нас, не в
улавливающем сущее человеке, не в том, что мы иногда
заблуждаемся и думаем неверно. Но каким образом
раскрытость случайного по своей природе не всегда
есть то, что она есть? Как эта раскрытость сама
превращается в неистину, причем так, что сущее меняется
без нашего уловления происходящего? Мы видим этот
мел и делаем следующее высказывание: «Мел белый».
Высказывание верное, потому что оно вбирает в себя и
содержит в себе то, что этот мел есть в своей несокры-
тости. Мы удерживаем это истинное высказывание,
сохраняем эту истину и с нею отправляемся домой.
Мы можем собраться и поговорить об этом предмете,
описать его в нашем воображении. Но тем временем
кто-нибудь взял да и покрасил мел в красный цвет
или по каким-нибудь причинам, которые, в принципе,
возможны, он сам поменял цвет, и тогда наше
высказывание стало неистинным, хотя мы в нем ничего не
изменили. Именно потому, что наше истинное
высказывание остается неизменным, — именно поэтому оно
становится неистинным: просто в силу самого сущего
и его способа быть то так, то иначе. И наоборот:
искажающее, неверное высказывание «мел красный» —
126
может стать раскрывающим. Наше же высказывание
стало неистинным, т. е. перестало быть
раскрывающим и стало искажающим. Высказывая его, мы словом
«белый» прикрываем то, что мел явен, т. е. раскрыт,
что он красный. Мы не только прикрываем это, но,
стремясь высказать нечто истинное о меле, мы
преподносим его как нечто такое, что он не есть. Мы не
просто прикрываем, но закрываем, искажаем его
нынешний вид, обманываем себя и других, λόγος
становится ψευδής — и надо учитывать, что это не просто
неправильность, но «ложность», «заблуждение». Мы
вводим в заблуждение. Отсюда получается вот что:
раскрытость случайного по самому своему существу
может во всякое время меняться без нашего
содействия. Истина случайно сущего в себе непостоянна, и
поэтому одно и то же высказывание, схватывающее
истину, может быть то раскрывающим, то искажающим,
περί μεν οΰν τα ενδεχόμενα ή αύτη γίγνεται ψευδής και
αληθής δόξα και ό λόγος ό αυτός, και ενδέχεται ότέ μεν
άληθεύειν ότέ δέ ψεύδεσθαι.28 Одно и то же сущее,
взятое в его так-бытии, — совершенно независимо от того,
меняется ли наше человеческое высказывание о нем и
как именно оно меняется — по своей природе то
раскрывает, то искажает, причем эту перемену надо брать
как событие, которое именно происходит. Аристотель
не говорит, в чем настоящая причина такой
возможности. В самой природе истины случайного скрыта
постоянная возможность неистины, которая есть в себе
не-собственная истина.
Но как обстоит дело с истиной что-бытия, с συγκεί-
μενον? Если раскрытость что-бытия сущего на самом
деле есть, тогда она постоянна, независимо от того,
пользуемся ли мы ею или нет. Если смотреть со сто-
28 Aristoteles. Met. Θ 10, 1051ЫЗ ff.
127
роны сущего, то получается вот что: о сущем, коль
скоро оно раскрыто в отношении своего что-бытия,
никогда нельзя сказать, что оно то раскрыто, то
скрыто и, следовательно, ввергнуто в возможность
неистины. И все-таки нельзя сказать, что συγκείμενα
существуют вне в сякой возможности искажения. Хотя
сущее — мел — в своем «что» никогда не сможет
измениться так, чтобы ему можно было дать определение
«ложного», тем не менее он, этот мел, будучи вообще
определенным в своем «что» как то-то и то-то и всегда
имея при себе некоторые постоянные и неотъемлемые
определения, такие как материальность и
протяженность, в то же время имеет и многое другое, что с ним
сущностно несовместно. Если нечто вообще имеет вид
бытия, определяющийся как συγκείμενον, то ему
сущностно свойственно отношение к чему-то такому, что
несовместно с ним. В отношении этой принадлежащей
сущему несовместности существует возможность
выдавать несовместное как совместное, т. е. существует
возможность искажения. То же самое сущее, которое
раскрыто по отношению к тому, что постоянно с ним
присутствует, постоянно же искажено в отношении
к тому, что применительно к нему постоянно
отсутствует, что несовместимо с ним, если бы это последнее
было явлено. Потому περί δέ τα αδύνατα άλλως εχειν
ού γίγνεται ότέ μεν αληθές ότέ δέ ψεύδος, αλλ' άει ταύτα
αληθή και ψευδή.29 Поэтому в отношении совместно
пребывающего оно постоянно раскрыто, в отношении
же несовместного, с его стороны, постоянно
искажено. Сущему как что-бытию принадлежит высший вид
истины, так как эта раскрытость не может перейти
в искаженность — не может потому, что сущее —
в том, как оно раскрыто — постоянно присутствует.
29 а. а. О. а. а. О., 1051Ы5 f.
128
Тем не менее и раскрытость что-бытия еще связана
с возможной искаженностью, но эта искаженность
находится вне истины — как раз потому, что и
искаженность тоже постоянна.
β) Истина, простота (единство)
и постоянное присутствие.
Простое (αδιαίρετα, άσύνθετα, άπλα)
как собственно сущее и его раскрытость
как наивысший способ бытия-истинным
Получается так, что чем собственнее сущее и его
бытие, чем чище и постояннее присутствие, тем
постояннее соответствующая раскрытость или
искаженность принадлежит сущему как таковому, тем меньше
возможность перехода к искаженности и тем больше
к бытию соответствующего сущего принадлежит
раскрытость. Но пока истина вообще остается связанной
с возможностью неистины, она — не собственно
истина, не высшая истина, а ведь только такая истина
может, по-видимому, — если вообще может — составить
собственное бытие сущего. Но существует ли такое
бытие-истинным, которое как таковое вообще больше
не связано с неистиной, т. е. которое для себя
абсолютно исключает возможность искажения?
После сделанного зачина и предыдущего
развертывания проблемы этот вопрос теперь должен звучать
так: существует ли кроме сейчас рассмотренного нами
сущего и принадлежащих ему видов бытия такое
сущее, которому принадлежит бытие-истинным в самом
собственном смысле этого слова? Соответствующее
собственнейшее бытие-истинным должно
определяться из бытия того, что составляет самое собственное
в сущем вообще. Это ближайший вопрос,
вырисовывающийся из зачина и цели проблемы. Решающим для
129
содержания и проблемы всей главы оказывается то,
что теперь, в вопросе о самом собственном бытии-ис-
тинным, метод меняется. Теперь Аристотель не
спрашивает о бытии собственнейшего сущего, чтобы затем
рассмотреть принадлежащее ему бытие-истинным:
теперь, указав на самое собственное в сущем, Аристотель
тотчас задает вопрос о его бытии-истинным, чтобы,
исходя из этого, определить бытие или — говоря другими
словами и более прямо — чтобы определить само это
бытие-истинным как наисобственное бытие
собственно сущего.
При подготовке настоящей проблемы Аристотель
говорит в двух местах: ώσπερ.,.τό αληθές...οϋτως...το
εΐναι30 и το δέ εΐναι το ώς αληθές.31 Раньше говорилось
ώσπερ το εΐναι, οΰτως το αληθές, теперь же наоборот,
т. е. не как раньше: переход от бытия, характерного для
συμβεβηκός, к бытию, характерному для συγκείμενον, и
затем — к соответствующей раскрытости, но
наоборот — сразу же задается вопрос о раскрытости. Но как?
После всего сказанного становится ясно, что теперь
вопрос должен звучать так: какова самая собственная
истина, которая совершенно исключает возможность
искаженности? Когда так бывает?
Мы видели, что последним рассмотренным сущим
было συγκείμενον, например, мел и его
вещественность. Другой пример — диагональ и ее
несоразмерность со стороной четырехугольника, συγκείμενα суть
αδύνατα διαιρεθήναι, т. е. их невозможно разъять (das
Auseinandernehmen), когда возникает необходимость
определить соответствующее сущее. Для такого у
Аристотеля есть и короткое обозначение: αδιαίρετα.32 Мы
30 а. а. О. 1051Ь22.
31 а. а. О. 1051ЬЗЗ.
32 Aristoteles. De anima. Leipzig: Teubner, 1911. Г 6, 430а26,
b6ff.
130
спрашиваем: существует ли что-нибудь еще более
неразъемное, чем то, что принадлежит друг другу
постоянно и необходимо? Да, существует. Это то, что
вообще не предполагает никакой совместности одного
с другим, то, что вообще в себе не есть совместность
и не имеет никакого συν, т. е. то, что есть άσύνθετον.
Если осмыслить άσύνθετα кратко и положительно, то
это τα άπλα. В результате в нашем изыскании
образуется следующий ряд: συμβεβηκότα, συγκείμενα, αδύνατα,
διαιρεθήναι, αδιαίρετα, άσύνθετα, άπλα.
Не всякое άδιαίρετον в то же время и απλούν,
скорее наоборот: всякое απλούν есть άδιαίρετον, причем
в высшем и собственном смысле слова — и не потому,
что здесь взаимопринадлежное неразделимо, а потому,
что здесь его вообще больше нет; потому, что именно
здесь простое вообще не обнаруживает ничего взаи-
мопринадлежного. Итак, если абсолютно простое
раскрыто в том, что оно есть, тогда, будучи простым, оно
никогда не имеет при себе ничего другого, каковым его
надо было бы и можно было бы определить. Оно
никогда не явлено как то-то и то-то, но абсолютно всегда
по отношению к себе самому есть только оно и ничего
больше. Раскрытость простого в нем самом никогда не
может быть искажена чем-то таким, что ему, простому,
не принадлежит. Эта раскрытость не потому не
становится искажением, что нечто, принадлежащее
простому, постоянно открыто, а потому, что простое как
таковое вообще не допускает ничего взаимопринадлежного.
Раскрытость простого исключает всякую возможность
неистины. Раскрытость не только никогда не
переходит в искаженность, но вообще не имеет с ней никакой
связи. Возможной противоположностью этой раскры-
тости простого является только простая же
нераскрытое^, которая, однако, по своей природе никогда не
может быть искаженностью, неистиной. Поэтому рас-
131
крытость простого как такового есть высший способ
бытия-истинным, есть собственно бытие-истинным как
таковое. Но что такое эта раскрытость в ее собственном
смысле? Раскрытость — это открытость чего-то,
совершающаяся таким образом, что оно может показаться
в себе самом. Раскрытость простого есть его простое
и полное присутствие в себе самом. Это присутствие
совершенно ничем не опосредуется, ничто здесь не
выступает и не может выступить в промежуточной
позиции. Кроме того, никак не опосредованное
присутствие есть то, что предшествует всякому другому
присутствию (если таковое вообще есть), потому что
оно — высшее и самое предшествующее (vorgängigste).
Но это совершенно ничем не опосредованное
постоянное присутствие, которое ничему не обязано и всему
предшествует, это самое постоянное и чистейшее
присутствие есть не что иное, как высшее и собственней-
шее бытие. Если, таким образом, άπλα образуют самое
собственное сущее, если они, эти άπλα, суть самое
настоящее, самое собственное, что есть в сущем, если их
раскрытость — высшая и наисобственная, которая себя
только что показала, если затем это самое подлинное,
самое собственное бытие-истинным не означает
ничего иного, кроме просто постоянного присутствия, тогда
сущее истинным как сущее в собственном смысле есть
самое подлинное, самое собственное сущее: αληθές öv
есть κυριώτατον öv. Следовательно, остается точнее
показать, 1) что для Аристотеля άπλα составляют самое
собственное в сущем; 2) что существо самой
подлинной, собственнейшей истины — не что иное, как просто
постоянное присутствие.
Вспомним вот о чем. Ведущий вопрос настоящего
философствования звучал так: τί το öv, что есть сущее?
Спрашивается о том, что образует сущее как таковое,
составляет его внутреннюю возможность, т. е. задает-
132
ся вопрос о том, откуда оно возможно — как то, что
оно есть. Это «откуда» подразумевает αρχή, начало,
причину, αίτίαι. Аристотель говорит: μάλλον αρχή το
άπλούστερον33 — более простое, т. е. более изначальное,
скорее есть начало, чем менее простое. Чем больше мы
продвигаемся к простому, тем больше приближаемся
к началам. Чем исконее наше познание, чем исконее
раскрытость раскрытого, тем άπλούστεραι ai αιτίαι και
άρχαί.34 Но вопрос о сущем как таковом есть первое
познание, познание в первую очередь, а потому —
самое простое: познание того, что лежит в основе сущего
как такового. И что же это такое? Что вообще
принадлежит сущему как таковому? Само бытие, αυτό το öv,
сущее в себе самом, взятое только в отношении его
бытия. О бытии нельзя сказать, что порой оно
принадлежит сущему, а порой нет: бытие абсолютно, постоянно
и прежде всего другого принадлежит сущему как
таковому. Бытие вообще, простоту, единство вообще
больше ни на что нельзя разложить. Оно совершенно
простое и как это простейшее оно есть первое и последнее
условие возможности всякого как фактического, так и
мыслимого сущего.
Что говорит Аристотель о том, что образует
условие возможности (начало, αρχή) собственно сущего,
т. е. постоянно присутствующего? τας των άει όντων
αρχάς άναγκαΐον εΐναι άληθεστάτας35 (начала вечно
сущего всегда должны быть наиболее истинными). В Θ
10 άπλα схватываются предельно четко: έστιν όπερ εΐναί
τι και ενεργεία.36 Эти начала собственно сущего, т. е.
само бытие как таковое есть самое истинное, т. е.
раскрытое в первую очередь, прежде всего дальнейшего и
33 Aristoteles. Met. К 1, 1059b35.
34 Ср.: а. а. О. Ε 1, 1025b ff.
35 а. а. О. a 1, 993Ь28 f.
36 а. а. О., Θ 10, 1051Ь30 f.
133
для него. С точки зрения нашего более радикального
изложения всей проблемы бытие вообще должно быть
раскрыто с самого начала и совершенно постоянно,
коль скоро вообще сущее должно стать раскрываемым
и доступным определению. Схватываем ли мы бытие
специально, опрашиваем ли, определяем ли его или
нет, прежде всего этого оно уже всегда и постоянно
обнажено. Как таковое оно стоит в раскрытое™. Что
значат слова о том, что простое есть самое истинное,
самое раскрытое? Что по существу означает раскры-
тость? Таким образом, мы приступаем к рассмотрению
второго тезиса, согласно которому природа собственно
истины есть не что иное, как постоянное, безусловное
присутствие.
γ) Раскрытость простого как чистое,
безусловное присутствие в нем самом
В той же главе Аристотель говорит: τα τη φύσει
φανερώτατα πάντων,37 т. е. говорит о том, что по самой
своей сути открыто раньше всего и больше всего:
говорит о раньше всего, т. е. прежде всего прочего и чище
всего присутствующем, которое есть άρχαί. В раскры-
тости простого как такового не подразумевается
ничего, кроме своеобразного присутствия, и это можно
пояснить из структуры того, что Аристотель
устанавливает лишь как соответствующий способ подхода
к этому простому.
Вспомним о раскрытости сущего в самом
ближайшем ее смысле, т. е. вот об этой вещи, случайным
образом имеющей такие-то и такие-то свойства, о вещи,
которую надо уловить в том, как она открыта. Если
нам надо об этом высказаться, тогда это высказыва-
37 а. а. О., α 1.993Ы1.
134
ние — именно высказывание, т. е. мы говорим об этом
меле, исходя из его белизны. Мы называем белую
вещь такой-то и такой-то, т. е., если по-гречески, то
здесь речь, λόγος, есть καταφάναι; мы что-то соотносим
с мелом, καταφάναι το αληθές. Если же речь заходит
о безусловно простом, то оно не имеет в себе ничего
такого, с установкой на что его можно было бы
разложить; это простое можно назвать только им самим
как таковым, а не чем-то другим, вообще не тем-то и
тем-то, но просто им самим — мы как будто можем
сказать: «ты», бытие, единое, оно само. В Θ 10
Аристотель говорит об этом так: по отношению к
простому нет никакого καταφάναι, но есть лишь φάναι.
Простое в его раскрытости можно схватить только
тогда, когда мы просто смотрим-на-него, позволяем
ему в его простоте и больше ни в чем другом быть
рядом с нами. Или же речь идет — как это видно из
даваемой Аристотелем характеристики φάναι το
αληθές в отношении к άπλοΰν — о θιγεΐν, о простом
прикосновении, т. е. простом схватывании, но уже не
охватывании, не об уловлении простого как чего-то
другого, не об о-хватывании, но о простом
схватывании. В нем уже нет никакой ζήτησις, никакой διδάξις
в обычном смысле: при подходе к άπλα требуется
έτερος τρόπος.38 Простое схватывание чего-то — это такой
способ доступа к нему, в котором это нечто само
обнаруживается перед нами в ничем не опосредованном,
ближайшем присутствии, не претерпевающем ничего
промежуточного и предстоящего, т. е. речь идет о
раскрытости простого как такового, которое, согласно
Аристотелю, становится доступным только в этом
схватывании. Эта раскрытостъ — не что иное, как
чистое присутствие простого самого по себе, безусловное
38 а. а. О. Ζ 17, 104Ib9 f.
135
присутствие, которое полностью исключает всё еще
не присутствующее, и всё уже не присутствующее, —
исключает потому, что по своей природе просто не
нуждается в нем.
Но если простое образует в сущем его самое
собственное, если раскрытость простого означает не что
иное, как одно лишь чистейшее присутствие, которое
предшествует всему прочему, т. е. которое постоянно,
тогда эта высшая истина простого есть наисобственное
бытие в собственном сущего вообще, το ον αληθές есть
κυριώτατον ον.
Но что можно сказать о том факте, что в Ε 4 öv
αληθές не рассматривается, исключается?39 Только
теперь становится ясно, что там сказано, почему и в
какой мере там αληθές ον исключено. Там оно понято как
αληθές, характерное для διάνοια, понято как άληθεύειν.
Там же есть ссылка на «алетейю», характерную для
άπλα, о которой сказано, что она будет рассмотрена
позднее.40 Однако и при άπλα обнаруживается
άληθεύειν, характерное для νους qua νόησις. Это также не
оправданная тема. Тогда получается, что или вся эта
отсылка неправильно, ложно понята редактором, или
и в случае с διάνοια речь идет о чем-то другом.
Это άληθεύειν выпадает не потому, что оно есть
свойство субъективного состояния, а потому, что здесь
налицо бытие-истинным и бытие-искаженным,
которое может в себе меняться. Оно никак не скреплено
с собственно сущим. Как раз тогда, когда эта
раскрытость происходит, она может и должна меняться.
Напротив, αλήθεια, характерная для νόησις, просто сама
с собой, если она есть. Причина исключения — не
принадлежность к субъекту, а не определенный из самого
39 Ср. также: а. а. О. К 8 1065Ь21 ff.
40 а. а. О. Ε 4, 1027b27 ff.
136
сущего способ бытия соответствующего άληθεύειν.
Истина, характерная для «дианойи», принципиально не
открывает — даже там, где она как άληθεύειν
подразумевает сущее — что-либо совершенно самостоятельное
в самом собственно сущем: άληθεύειν ουκ έν τοις πράγ-
μασιν (έν διάνοια), αληθές же идет έπί των πραγμάτων
(περί τα άπλα... ούδ' έν διάνοια).41 Но мы уже
показывали, что в связке всегда со-держится бытие-истинным.
Как возможна эта связь бытия и бытия-истинным?
Только теперь мы нашли отсылку на измерение этой
проблемы. Позднейшее ее извращение (субъектобъект,
акт, бытие и тому подобное) уже никак не
способствуют ее решению.
е) Вопрос о бытии-истинным собственно сущего
как высший и глубочайший вопрос
Аристотелева истолкования бытия.
Глава Θ 10 как краеугольный камень всей книги Θ
и Аристотелевой метафизики вообще
Если с помощью проницательного истолкования,
с самого начала ориентированного на античное
понимание бытия и истины, вывести на свет это
тематическое содержание девятой книги (Θ 10), тогда κυρι-
ώτατον как отличительная черта αληθές öv больше не
будет казаться странным. Наоборот, удивление
вызвало бы отсутствие этого κυριώτατον. В то же время
стало бы ясно, что то, как Аристотель поднимает
проблему бытия-истинным, не имеет ничего общего с
логикой и теорией познания. Вопрос о бытии-истинным
сущего как сущего развертывается как основной вопрос
о собственном бытии самого сущего. Как вопрос он
41 Ср.: а. а. О. 1027Б25 ff.
137
глубочайшим образом связан с тем, что
рассматривается во всей книге Θ, во всех ее предыдущих главах.
Достаточно лишь указать на позитивно однозначную
связь десятой главы со всей книгой, чтобы не возникло
мнения, будто эта глава хотя и имеет какую-то связь
с ней, но все-таки не существенную. Тема книги — δύ-
ναμις и ενέργεια, возможность и действительность как
основные способы бытия. В ней говорится о том, что
собственно сущее есть ενέργεια. То сущее есть сущее
в собственном смысле, которое исключает всякую
возможность всякого привходящего и отсутствующего,
вообще любую возможность иностановления
(Anderswerden). Мы привыкли говорить, что для того чтобы
нечто могло стать действительным, оно вообще
должно быть возможным. Следовательно, возможность есть
первое и более ранее, предшествующее
действительности. Аристотель утверждает обратное: πρότερον ενέργεια
δυνάμεως έστιν,42 т. е. более ранним и более исходным,
чем возможность, является действительность. Правда,
это можно утверждать только исходя из специфически
античного подхода к проблеме бытия и античного же
понимания истины как раскрытости. Сейчас мы это не
можем обсуждать. Скажем лишь одно: мы видим, что
десятая глава (Θ 10) — это основная часть всего
тематического рассмотрения, где возможность неистины
по отношению к истине все сильнее умаляется — дабы
тем самым схватить истину в самом собственном ее
смысле. В десятой главе концентрируется радикальное
и радикальнейшее понимание основной проблемы всей
книги. Одним словом, эта глава — не какой-то
«привесок», но внутреннее необходимый краеугольный камень
всей книги Θ, которая, в свою очередь, — центральная
во всей «Метафизике».
42 а. а. О. Θ 8, 1049Ь5.
138
Итак, текстологический вопрос помог нам
вникнуть в основное значение бытия-истинным как оно
понималось в античности. Оно и именно оно остается
в высшем смысле постоянным, чистым присутствием.
Вначале я сказал, что такое понимание истины — не
только аристотелевское, но и просто античное. Мы
знаем, что ведущий вопрос того, что называется
πρώτη φιλοσοφία, т. е. первой философией, звучит так: что
есть сущее? Задается вопрос о бытии сущего, о нем
в отношении к его постоянству и присутствию, т. е.
спрашивается о его несокрытости. Поэтому
Аристотель может сказать так: ορθώς δ' έχει και το καλεΐσθαι
την φιλοσοφίαν έπιστήμην της αληθείας:43 нет никакой
ошибки, когда философию называют знанием истины,
т. е. философия — это не теория истины как
особенности познания, но знание истины, т. е. сущего как
такового в его непотаенности как таковой.
Мы ясно показали, что в античности истина — это
прежде всего черта самого сущего, т. е.
бытие-истинным образует самое собственное бытие собственно
сущего. Как это возможно и что это по существу
означает, показано не было, потому что все оставалось при
ведущем вопросе и потому, что бытийный вопрос не
было разработан до уровня основного вопроса. Это не
было показано и в дальнейшем, потому что потом эту
проблему не только не учитывали, но просто все это
объявили псевдовопросами и мнимыми апориями. Эти
взаимосвязи требуют гораздо более глубокого
разъяснения, причем сделанного из проблематики бытия
вообще и времени. Недостаточно — да к тому же это ни
о чем и не говорит — ставить истину созерцания перед
истиной предложения, если остается неясным, что же,
собственно, означает эта истина созерцания. Истину
43 а. а. О. α 1, 993Ы9 f.
139
надо разъяснять так, чтобы соподчинение исконной
истины и истины суждения становилось понятным
в его необходимости.
Теперь мы завершаем это дополнительное
промежуточное рассмотрение и возвращаемся к нашей теме.
То, в какой мере это рассмотрение включило в наш
кругозор некое иное содержание, которое важно для
последующих проблем, станет ясно в своем месте.
Теперь же надо запомнить лишь одно: стало совершенно
очевидно, сколь естественно и просто бытие
понимается как постоянство и присутствие, стало очевидно,
как ясность этого понимания бытия с самого начала
высветляет все вопросы и шаги. Однако источник этой
ясности, ее свет есть время.
§ 10. Действительность духа у Гегеля
как абсолютное настоящее
Надо напомнить вот о чем: понимание бытия как
постоянного присутствия не только сохранилось со
времен античности и до Канта и определило характер
всей проблематики, но именно это толкование бытия
вновь заявляет о себе как раз там, где
западноевропейская метафизика достигает своего подлинного
завершения, т. е. там, где начало античной философии и
выработанные с тех пор существенные мотивы
философского вопрошания были доведены до единого
решения и полного изложения, — у Гегеля.
Основной метафизический тезис Гегеля и его
метафизику вообще мы можем резюмировать в
следующем предложении: «На мой взгляд, который
должен быть оправдан только изложением самой
системы, все дело в том, чтобы понять и выразить
истинное не как субстанцию, но равным образом и как
140
субъект»} Итак, понять истинно сущее не только как
субстанцию, но и как субъект. Это означает
следующее: хотя субстанциальность есть бытие сущего, но
чтобы полностью понять это бытие, субстанцию надо
схватить как субъективность. Хотя второе понятие
в его новоевропейском смысле подразумевает нечто
«яйное» (das Ichliche), здесь субъективность — не «яй-
ность» (die Ichheit) непосредственно известного
эмпирического «я» отдельной конечной личности, а
абсолютный субъект, безусловное себя-самого-постижение
(das Sichselbstbegreifen) целого (das Ganze) сущего,
которое постигает все многообразие сущего как такового
по отношению к себе и для себя, т. е. может постичь
все инобытие сущего как опосредствование своего
собственного иностановления.2 «То, что истинное
действительно только как система, или то, что субстанция
по существу есть субъект, выражено в представлении,
которое провозглашает абсолютное духом, — самое
возвышенное понятие...».3 «Лишь духовное есть то, что
действительно».4 Гегель хочет сказать: собственно
сущее. Следовательно, бытие этого сущего — сущее как
дух — одновременно показывает, как вообще и в
собственном смысле понимается бытие.
Как понимает Гегель бытие сущего qua духа, или
действительность этого действительного? «Дух...
вечен»,5 способ бытия духа — вечность. «Вечность не
будет, не была, но она есть»,6 «вечное [есть]... абсо-
1 Hegel G. W. F. Phänomenologie des Geistes. Vorrede. WW
(Vollst. Ausg. Durch einen Verein von Freunden des Verewigten).
Berlin, 1832. Bd. II. S. 14.
2 Ср.: а. а. О. II, 15.
3 а. а. О. II, 19.
4 Ebd.
5 Hegel G. W. F. Encyclopädie. WW (Verein von Freunden des
Verewigten). Berlin, 1842. Bd. VII. S. 54.
6 а. а. О. S. 55.
141
лютное настоящее».7 Это настоящее — не какое-то
мгновенное «теперь», которое тотчас истекает и
истекло, и не одно только длящееся настоящее в обычном
смысле продолжающегося далее: нет, это то настоящее,
которое находится у себя самого и через себя самого,
в саморефлектированной длительности; присутствие
того высшего постоянства, которое только и может
дать «яйность», бытие-у-себя-самого.
Из этого краткого упоминания о гегелевских
тезисах мы выводим двоякое: 1) также и у Гегеля —
который, более радикально понимая бытие, а именно
понимая его не как субстанцию, но как субъект,
поднимает проблематику западной метафизики до нового
измерения — также и здесь, и как раз здесь бытие в
абсолютном смысле означает «постоянное присутствие»
(абсолютное настоящее); 2) именно в том, что
толкование действительности действительного выражается
как упразднение истолкования бытия как субстанции,
обнаруживается сознательно удержанная внутренняя
связь гегелевской метафизики с метафизикой
античной и ее начинанием.
Подытоживая все наше рассмотрение основного
значения «усии», бытия, мы видим, что, даже
мимолетно заглянув в мир великих, мы оказываемся перед
одним совсем простым и значимым фактом: не только
в повседневной жизни человека, не только в начинании
античной метафизики, но и во всем событии
метафизики западноевропейской понимание бытия осмысляется
как присутствие и постоянство. Это понимание имеет
ту ясность, которая распространяется
непосредственным, невыраженным, уже имеющимся разумением
постоянства и присутствия. Таким образом мы получили
ответ на вопрос о том, как понимается бытие, а именно
7 Ebd.
142
понимается там, где о нем вопрошают. Спрашивается
же о бытии сущего — и спрашивается в ведущем
вопросе метафизики: τί το öv. Этот вопрос действительно
надо было задать. Мы попытались сделать это, спросив
о двойном, достойном вопроса: 1) о чем спрашивается?
(бытие); 2) как понимается бытие? (постоянное
присутствие).
Пока выстроился следующий ряд вопросов: τί το
öv, что есть сущее? Что есть сущее как таковое? Что
есть сущее в отношении его бытия? Что есть бытие?
Как что (als was) понимается бытие вообще? Таким
образом, мы все больше зарывались в вопросное
содержание ведущего вопроса, как бы вырывая из него
более исходные вопросы. Все это требовалось для того,
чтобы по-настоящему задать ведущий вопрос, а тот,
в свою очередь, для того, чтобы испытать
наступательный характер философствования, а оно — чтобы,
наконец, понять, что же это значит, когда в
философствовании уходят в целое; но и это опять-таки
требовалось для того, чтобы просто с самого начала понять
проблему свободы как проблему метафизики, чтобы,
вот так основательно подготовившись, приступить к ее
разработке.
Глава третья
РАЗРАБОТКА
ВЕДУЩЕГО ВОПРОСА МЕТАФИЗИКИ
ДО УРОВНЯ ОСНОВНОГО ВОПРОСА
ФИЛОСОФИИ
Итак, мы не только определили ведущий вопрос
западной метафизики, но и, коснувшись вопросов,
заключенных в нем самом (о чем спрошено? как именно
понято опрошенное?), затронули его более исходно.
Но на самом ли деле вопрошание этого вопроса стало
живее? Мы тут же ответили и на более исконные
вопросы. И существо ответа в том, что он кончает с
относящимся к нему вопросом. Мы, может быть, задали
ведущий вопрос исконнее, но, отвечая на него, как раз
его устранили. Мы не просто, как и прежде, не
испытали наступательного характера философствования:
теперь уже устранена возможность такого опыта, коль
скоро в вопрошании как вопрошании должно
заключаться наступление. Более того: пока мы не
пустились во все эти тонкости и имели перед собой просто
вчерне поставленный вопрос «что есть сущее?», тогда
хоть как-то было видно, каким образом такое
вопрошание может прийти к корню нас самих, поскольку
144
мы сами — тоже сущее, и вопрос о том, что есть
сущее, затрагивает и нас. Теперь же, когда нам стало
ясно, что вопрошание о сущем разворачивается в
контексте осмысления присутствия и постоянства, теперь
вообще нельзя усмотреть, каким образом это
понимание бытия или установление того факта, что бытие
означает «постоянное присутствие», — каким образом
оно, даже взятое как вопрос, связано с упомянутым
наступлением на нас самих. Конечно, в ведущем
вопросе пробудилось более исходное вопрошание. Оно,
пожалуй, пришло к ответу, причем, как выяснилось,
не к расхожему, частному мнению и воззрению, а к
такому ответу, который постоянно дает вся западная
метафизика и дает так естественно, что даже не
выражает его специально как ответ на вопрос. Бытие,
будучи понятым, стоит в ясности «постоянного
присутствия».
Но кто нам сказал, что, задав вопрос, заложенный
в ведущем вопросе метафизики и достойный того,
чтобы быть заданным, — как именно понимается
бытие? — мы спросили обо всем? Кто нам сказал, что
мы должны удовлетвориться этим невысказанным
ответом? А если этот ответ — присутствие и
постоянство — лишь таков, что заставляет нас спрашивать
еще радикальнее и делать это с необходимостью? Так
ли уж само собой разумеется, что бытие понимается
как постоянное присутствие и мы должны просто
принять это самопонятное — принять потому, что вся
западная метафизика закоснела в этой самопонятности,
нисколько к тому же не озаботившись ею как таковой?
Или мы можем и должны спросить: что же происходит
там, где бытие так легко понимается как постоянство и
присутствие?
145
§11. Основной вопрос философии
как вопрос об исконной связи бытия
и времени
Если бытие прояснено постоянством и
присутствием, то какой свет является источником этой
ясности? Что проявляется в том, что мы подразумеваем
под «присутствием», «постоянством»? Присутствие
мы также обозначаем словами Präsenz и Gegenwart.*
Последнее мы отличаем, когда хотим схватить его как
таковое, в его отличии от прошедшего и будущего.
Настоящее (die Gegenwart), присутствие (die
Anwesenheit) — это черта времени. Ну а «постоянный»?
Постоянство подразумевает непрестанное, подразумевает
всегдашнее в каждом «теперь». «Теперь» равнозначно
определению времени. Таким образом, постоянное
присутствие означает: всецелое настоящее,
теперешнее, которое есть теперь, постоянно в каждом «теперь».
В таком случае постоянное присутствие означает
теперешнее в каждом «теперь» (всегда). В той ясности,
в которой находится бытие, понятое как постоянное
присутствие, пробивается свет, который и дарует эту
ясность. Это само время. Бытие — как в расхожем
понимании бытия, так и в четкой философской
бытийной проблематике — понимается в свете времени.
Как время приходит к тому, чтобы вспыхнуть этим
светом? Почему именно время? Более того: почему
время именно в отношении одной черты: настоящего,
«теперь»? Что такое само время, если оно сияет как
этот свет и может высвечивать бытие? Как бытие
и время приходят к этой исконной связи? Что это за
связь? Что такое время? Что такое бытие? И прежде
* Die Gegenwart — не только «присутствие», но и
«настоящее». — Примеч. перев.
146
всего: что такое бытие и время? Видя весь этот ряд
вопросов, которые, как только их коснулись, просто
сыплются один за другим, мы сами уже давно расстались
со всякой самопонятностью. Указав на то, что бытие
понимается как постоянное присутствие, мы не дали
никакого ответа на ведущий вопрос, но поставили его
перед пропастью его вопросности. И, воскликнув:
«Бытие и время!», мы отважно прыгнули в эту пропасть и
теперь бредем во тьме, без всякой почвы и опоры.
Бытие и время — да, есть книга с таким названием.
Но этот заголовок как таковой так же ничего не значит,
как и многие другие. Так же и книга с таким
названием — не нечто решающее: она просто обращает
внимание читателя на основное событие западной
метафизики, метафизики всего нашего вот-бытия — событие,
перед которым мы прежде всего должны склониться.
Бытие и время — все что угодно, только не нечто
новое, не так называемая философская точка зрения и
тем более не какая-то особая философия, выросшая из
революционных настроений сегодняшней молодежи.
Это не что-то новое, тем более что уже древние
задавали вопрос о существе времени, а также Кант, Гегель,
да и всякий другой философ. Да, именно те великие,
Платон и Аристотель, впервые по-настоящему
пробудившие ведущий вопрос философии и указавшие на
«усию», впервые же, особенно Аристотель, подняли
специальный вопрос о времени и его существе. И тем
не менее спрашивать о бытии, а также о времени, еще
не значит понимать проблему «Бытия и времени». И то
и другое, бытие и время, оставались скрытыми в своем
глубочайшем родстве и не переживались — да и потом
не переживались — как проблема. Бытие — пожалуй,
время — да, пожалуй, но бытие и время? Это «и»,
вынуждающее их к соседству, — настоящий показатель
проблемы. Ведущий вопрос — что есть сущее? — дол-
147
жен перейти в основной вопрос, спрашивающий об «и»
бытия и времени, и, следовательно, об основании того
и другого. Основной вопрос гласит: что такое время,
коль скоро бытие коренится в нем и в этом горизонте
бытийный вопрос может и должен разворачиваться
как ведущая проблема метафизики?
От ведущего вопроса мы продвинулись к
основному вопросу, раскрыв вопросность ведущего
вопроса. Это произошло благодаря двум вопросам. Какова
тема в вопросе о сущем? Ответ: бытие. Как
понимается бытие? Ответ: как постоянное присутствие. Т. е. мы
получили такие ответы на эти вопросы, которые тем
более вовлекают нас в проблематику бытия и
времени. Теперь мы видим, что эта проблематика отражается
и на обоих заданных вопросах, и на ответах, которые
они получают. Ведь только исходя из нее,
проблематики бытия и времени, мы можем спросить: почему
бытие прежде всего и почти всегда понимается с
точки зрения особого временного характера настоящего
(присутствия)? И по первому вопросу: благодаря чему
вообще становится возможным различение бытия и
сущего и с помощью какого различения тема ведущего
вопроса определяется точнее? В какой мере
проблематика бытия и времени указывает путь к прояснению
самой природы различения сущего и бытия — того
различения, благодаря которому мы в нашем
отношении к сущему всегда уже заранее понимаем бытие, т. е.
уже существуем в описанном нами понимании бытия?
Таким образом, только основной вопрос расширяет
всю вопросность ведущего вопроса. Открывается
целый мир скрепленных друг с другом, одинаково
существенных вопросов, в контексте которых ведущий
вопрос выглядит непроработанным и неуклюжим, но
не лишним. Напротив. Только теперь, когда мы
вникли в естественное понимание бытия и установили
148
его связь со временем, ведущий вопрос — изначально
лишь как-то подхваченный и откуда-то вторгшийся —
получает свою внутреннюю необходимость. Только
теперь вопрос о сущем обрел полную перспективу и
полный простор в основном вопросе (бытие и время), но
тем самым — и полную вопросность всех заключенных
в нем вопросов. Но обнаруживается ли теперь и
искомый нами наступательный характер заданного
ведущего вопроса? Ведь это тот третий из трех вопросов, из
которых мы исходили, чтобы, ответив на них, показать,
что проблема свободы — поистине философская
проблема, выходящая на целое и одновременно уходящая
вглубь к нашему корню. Мы спросили:1 1) очевидно
ли вообще в положительной свободе принципиальное
расширение проблемы? Наш ответ гласил: в
автономии, в абсолютной спонтанности. 2) Какая
перспектива открывается этим расширением? Ответ: абсолютная
спонтанность, причинность, движение, сущее, ведущий
вопрос. 3) Такова ли эта перспектива, что мы отсюда
постигаем следующую возможность: философский
выход-на-целое есть прихождение-к-нашему-корню?
Теперь характер перспективы ведущего вопроса мы
улавливаем через разработку того основного
вопроса (бытие и время), который несет его и направляет.
Схема этой перспективы получилась такой: бытие и
время — время — постоянное присутствие — бытие —
сущее как таковое — позитивная свобода.
Но напрасно мы высматриваем искомое
наступление в вопрошании основного вопроса. Может быть, мы
вообще не познаем его, пока будем вот так
высматривать и тут же забывать, что, во-первых, мы узнаем его
только в действительном вопрошании и, во-вторых,
лишь в действительном вопрошании мы испытываем
См. выше, § 4.
149
возможность наступления на нас — правда,
возможность эта совсем особого рода. Почему даже не
появляется возможность такого опыта там, где теперь все,
что было достойно вопрошания в ведущем вопросе,
высвободилось до уровня основного вопроса? Потому
что мы лишь показали, что ведущий вопрос ведет к
основному и что этот последний мы снова установили
как нечто наличное, как это было и с ведущим
вопросом, когда мы так просто его подхватили. Знать
основной вопрос еще не значит задавать его. Напротив, чем
дальше продвигается наша осведомленность, чем ис-
ходнее оказываются вопросы, которые мы узнаем, тем
сильнее крепнет иллюзия, будто знакомство с
вопросом — уже вопрошание. На самом деле все наоборот:
чем исходнее становится узнанный вопрос, тем
обязательнее вопрошание, которое мы должны совершать.
Таким образом, перед лицом основного вопроса все
начинается снова. Если мы действительно хотим
спрашивать, нам надо разобраться в том, о чем мы, по сути
дела, должны спрашивать и как нам надо это делать.
В сокращенном виде формула звучит так: бытие и
время. Поставлен вопрос об «и», об и-связи (Und-Zusam-
menhang) того и другого. Если эта связь не внешняя,
если она не просто сконструирована и сколочена, если
она сама — исходная, тогда она равноисходно возникает
из существа бытия и существа времени. Бытие и время
ищут друг друга и вплетаются друг в друга. Это «и» —
титул для исконной взаимопринадлежности бытия и
времени, возникающей из самой основы их существа.
Мы не спрашиваем только о бытии или только
о времени. Мы также не спрашиваем как о бытии, так
и о времени: мы спрашиваем об их внутренней
взаимопринадлежности, а также о том, что из этого
возникает. Но об их взаимопринадлежности мы узнаем только
при прохождении через их взаимообразное существо.
150
Значит, прежде всего надо спросить: каково существо
бытия? И потом: каково существо времени? Однако
развертывание ведущего вопроса уже показало, что
вопрос «что есть бытие?» в себе самом подводит к
вопросу о времени, поскольку именно бытие понимается
из времени, если, конечно, никто не станет оспаривать,
что постоянство и присутствие — временные черты.
Таким образом, мы уже натолкнулись на
взаимопринадлежность бытия и времени. Теперь она яснее
обнаруживается в том, что, вопрошая о существе бытия, мы
влечемся к вопрошанию о существе времени.
О чем мы спрашиваем, когда спрашиваем о
времени? Время — мы почти всегда упоминаем о нем вместе
с чем-то другим: с пространством, которому оно как
сестра. В любом случае время — это не пространство
и наоборот. Таким образом, когда мы задаем вопрос
о бытии и времени, а бытие — это все-таки самое
широкое определение, объемлющее все, что есть и может
быть, оно, это самое широкое определение,
соотносится с чем-то таким, что оказывается этим чем-то лишь
рядом с другим, например, рядом с пространством. Но
почему бы тогда точно так же не говорить о бытии и
пространстве? Особенно если вспомнить о
повседневном понятии бытия и его переходе в философию.
Присутствие, наличное — ведь тут бытие наличного
как такового определено не только через «теперь», но
и через «здесь» как сюда-поставленность
(Her-gestelltheit), здесь-стояние (Da-stehendheit). В этом
заключены «сюда», «туда», являющиеся характеристиками
пространства. Кажется, что этим пространственным
чертам уделяется даже больше внимания, что, кстати,
выражается и в примечательном возражении Дионисо-
дора из «Евтидема». В любом случае сводить проблему
бытия к взаимосвязи бытия и времени значит
суживать изначальную широту вопроса. Ведь время не име-
151
ет такой универсальности, как бытие. При ближайшем
рассмотрении такое возражение — лишь одно, хотя
поначалу вполне убедительное. Оно возникает из
привычного представления о времени, которое дает о себе
знать в обычном сопоставлении с пространством
(пространство и время).
§ 12. Человек как место основного вопроса.
Понимание бытия как основание возможности
существа человека
Время расценивается как нечто такое, что
появляется только наряду с чем-то другим — пространством,
числом, движением. Поэтому о нем говорится как
о чем-то таком, что тоже подпадает под философское
рассмотрение и осмысление. Но доныне время никогда
не становилось и сейчас не становится первоочередной
проблемой, поскольку радикально поставленный
вопрос о бытии как таковом не заставляет обращаться ко
времени. Легко показать, что обычная постановка
вопроса о времени определяет направление вопрошания,
т. е. то направление, в котором и дается ответ на
вопрос о его природе. Поэтому хотя исследования
времени, предпринятые Аристотелем, Августином, Кантом и
Гегелем, по своей важности совершенно бесспорны, но
тем не менее по отношению ко всем им возникает одно
принципиальное опасение: везде проблема времени
ставится и обсуждается без принципиальной и четко
выраженной ориентации на проблему бытия.
С другой стороны, сохраняет свою силу и тот факт,
что даже из толкования природы времени, сделанного
в упомянутом направлении, можно получить важные
разъяснения. Если, отвлекшись от отдельных
определений времени, мы спросим, что же проходит красной
152
нитью в разговорах о нем, мы увидим следующее:
время не находится где-то как вещь среди вещей, оно —
в нас самих. Потому Аристотель и говорит: αδύνατον
εΐναι χρόνον ψυχής μη ούσης.1 «Времени не было бы,
если бы не было души». А вот что говорит в своих
«Confessiones» Августин: «In te, anime meus, tempora
metior... Affectionem, quam res praetereuntes in te faci-
unt et, cum illas praeterierint, manet, ipsam metior prae-
sentem, non ea quae praeterierunt, ut fieret; ipsam metior,
cum tempora metior».2 «В тебе, дух мой, измеряю я
времена. Впечатление, которое оказывают на тебя
проходящие мимо вещи, остается и после их
прохождения; и вот это сейчас существующее впечатление я
измеряю, а не то, что прошло и оставило это впечатление
в тебе; вот его я измеряю, когда измеряю время». Для
Канта время — форма нашего внутреннего созерцания,
способ поведения человеческого субъекта.
Душа, дух, субъект человека есть пристанище
времени. Спрашивая о природе времени, мы должны
спрашивать о природе человека. Основной вопрос, т. е.
вопрос о бытии и времени, влечет нас к вопросу о
человеке. Говоря более обобщенно, вопрос о сущем, если
мы действительно развертываем его до основного
вопроса, приводит к вопросу о человеке.
Однако это мы знали и до того, как решили
специально развернуть ведущий вопрос. Ведь в вопросе
о сущем хорошо видно, что спрашивая о том, что есть
сущее как таковое, мы также затрагиваем вопрос о
человеке как сущем. Правда, уже тогда стало ясно, что
это вопрошание не обнаружило и не могло обнаружить
никакого наступательного характера, потому что
точно так же мы спрашиваем о растении, животном и вся-
1 Aristoteles. Physica. Δ 14, 223а26.
2 Augustinus. Confessiones. üb. XI. С. 27. Ν. 36.
153
ком сущем, мы даже не спрашиваем о человеке как
человеке, а спрашиваем о сущем вообще. Следовательно,
констатация того факта, что ведущий вопрос обращен
и к человеку, дает не много — даже тогда, когда мы, как
теперь, подтверждаем все это связью бытия и времени.
Выходит, несмотря на предпринятое нами
рассмотрение, мы остаемся на том же месте? Или же вопрошание
о человеке, становящееся необходимым в разработке
ведущего вопроса до уровня основного вопроса о бытии
и времени, — это другое вопрошание, отличное от того,
которое заключено в ведущем вопросе? В самом деле,
оно не только вообще другое, но принципиально
отличное. Если проблематика бытия и времени влечет
нас к вопрошанию о человеке, тогда мы спрашиваем
о нем не потому, что посреди всего многообразия
сущего он — тоже сущее, а потому, что время — как
проблемное основание радикализированной проблемы
бытия — принадлежит человеку.
Вопрошание о человеке и «вопрос о человеке» —
далеко не одно и то же. Если мы берем человека как
какое-то сущее посреди другого сущего, тогда мы
вопрошаем о нем в рамках ведущего вопроса. Если же мы
должны обратиться к человеку в вопрошании о бытии
и времени, о существе времени, тогда мы вопрошаем не
в рамках ведущего вопроса, а из основы основного
вопроса. Сегодня всячески лелеют антропологию и
занимаются ею с совершенно различными целями и с совсем
разным оснащением: это, к примеру, и психология, и
педагогика, и медицина, и теология. Все это уже не
мода, но просто эпидемия. Но даже там, где речь идет
о философской антропологии, не ясно, во-первых, как
спрашивают о человеке, и, во-вторых, в какой мере это
вопрошание — философское. Мы можем и даже
должны сказать: вся философская антропология находится
вне вопрошания о человеке, которое подымается из
154
основания основного вопроса метафизики и только
из него. Это вопрошание, т. е. вопрошание о человеке
из основания основного вопроса, вопрошает изначально
и в отношении возможности осуществления всех
философских вопросов о человеке. Что касается первого во-
прошания, то оно, напротив, в рамках ведущего
вопроса вопрошает о человеке только мимоходом и наряду
с вопрошанием о чем-то еще. Спрашивать изначально,
имея в виду саму возможность всякого дальнейшего
вопрошания о человеке, и спрашивать в конце концов
также-и-о-человеке, делая это в связи с другими
вопросами и в координации с ними, значит спрашивать
по-разному не только с точки зрения упорядочения
проблем (когда спрашиваемое в основном вопросе
выносится на первый план и одновременно возвышается
над ним, а спрашиваемое в ведущем вопросе ставится
рядом с другим спрашиваемым и одновременно
включается в него): эти виды вопрошания принципиально
отличны друг от друга по их содержанию и характеру
всей проблематики.
Теперь, однако, различие имеет для нас особое
значение. Вопрос о человеке, задаваемый в рамках
ведущего вопроса, — это также-вопрошание (Auch-Fragen)
о человеке — именно наряду со спрашиванием о чем-
то еще. Если надо уделить внимание всему сущему
в равной мере, тогда надо спросить и о человеке. Во-
прошание-наряду необходимо для того, чтобы дать
полный ответ на ведущий вопрос метафизики и на
вопросы метафизики вообще. Вопрошание,
совершаемое из основания основного вопроса, необходимо не
только для дополнения к ответу на ведущий вопрос,
но также необходимо уже в отношении подготовки
и обоснования ведущего вопроса как по-настоящему
основного. Вопрошание о бытии и, следовательно,
вопрошание о бытии и времени, вопрошание о существе
155
времени неизбежно влечет к вопрошанию о человеке.
Правильно заданный бытийный вопрос как таковой
по своему содержанию влечет к вопросу о человеке.
Можно ли сказать, что это внутреннее подталкивание
ведущего вопроса философии к человеку —
предвестник того напора, который характерен для искомого
нами наступления? Того наступления, от которого мы
не можем по-всякому уклониться, который мы,
напротив, должны выдержать, если действительно задаем
ведущий вопрос, а не просто занимаемся вопросами,
т. е. чем-то таким, что на его пути как раз можно
подхватить? Если мы действительно задаем ведущий
вопрос, мы, пребывая в нем самом, т. е. задавая его как
основной вопрос, в своем вопрошании влекомы к тому,
чтобы спрашивать о существе времени и тем самым —
о существе человека. Время и человек? Конечно! Но
время и человек — это все-таки не нечто одинаковое:
ведь человек — не просто «время», наряду со временем
существуют многие другие «человеческие свойства».
Следовательно, хотя это и необходимое вопрошание
о человеке, но оно все-таки слишком односторонне:
о человеке спрошено только потому, что с ним связано
время. Проблема же самого времени не имеет ничего
общего с человеком: только ту малость, когда говорят
о «переживании» времени. Вопрос о «переживании
времени» — это вопрос психолого-антропологический, но
не вопрос о существе времени как такового.
Однако при всем этом мы забываем об одном: мы
не наобум спрашиваем о времени или даже о
переживании времени — мы спрашиваем о времени, потому
что и поскольку именно с точки зрения времени, в
свете времени понимается бытие. Мы спрашиваем о
времени не просто так: нет, как мы спрашиваем и как
далеко простирается наше вопрошание о нем — все это
уже предначертано вопросом о бытии, т. е. тем, что мы
156
сами о нем знаем, совершенно не имея в виду его связь
со временем.
Но что мы уже знаем о бытии? Все то, что уже
перечислили, когда давали вступительную
характеристику понимания бытия: 1) широта; 2) проникновение;
3) невыраженность; 4) забвение; 5) неразличимость;
6) предпонятность; 7) свобода от заблуждения; 8)
изначальная расчлененность. Конечно, то, что мы знаем,
разнообразно и, в конце концов, существенно. Но если
присмотреться поближе, станет ясно, что все это —
черты понимания бытия, разумения бытия, но не
самого бытия. Пожалуй, только в пятом и восьмом пунктах
что-то говорится о самом бытии: оно неразличимо и
тем не менее расчленено. Теперь, спустя какое-то
время, мы видим, что, называя эти восемь черт, мы без
разбора смешали между собой черты бытия и особенности
понимания бытия. Потому ли это произошло, что речь
шла о предварительной ориентации, или по какой-то
другой причине? Может быть, понимание бытия
имеет особенно тесную связь с тем, что оно понимает,
а именно с бытием? Быть может, эта связь совсем не
та, что связь между пониманием и познаванием
любого сущего? Наверное, это так, если бытие и сущее — не
одно и то же. Может быть, связь бытия и понимания
бытия настолько проста, что то, что относится к
бытию, относится и к его пониманию, и само бытие
тождественно его раскрытости? Т. е. получается, что здесь
вопрос о бытии вообще нельзя поставить, не
спрашивая о понимании бытия (раскрытии)? И, по сути дела,
основной вопрос надо схватывать так: понимание
бытия и время? На эти вопросы можно будет ответить
только в том случае, если мы будем по существу
продолжать и углублять рассмотрение проблемы бытия.
Но если мы не станем торопиться с окончательным
определением внутренней взаимосвязи бытия и пони-
157
мания бытия, все равно ясно одно: к проблеме бытия
как такового в любом случае можно подойти только
через понимание бытия.3 Но — говоря
предварительно и в общих чертах — понимание бытия есть
поведение человека. Спрашивая о бытии, мы не без разбора
спрашиваем о любых свойствах человека, но о чем-то
определенном в человеке, о понимании бытия. Это
понимание — не какая-то любая человеческая
особенность, которую человек просто вот так «тянет» вместе
со многим другим: оно проникает все его отношение
к сущему, т. е. и его отношение к себе самому.
Понимание бытия не просто пронизывает все отношение к
сущему, как будто оно, это понимание, везде поспевает и
всегда кстати: нет, оно является условием возможности
отношения к сущему вообще. Если бы в человеке не
было понимания бытия, он не мог бы относиться к
самому себе как к сущему, не мог бы сказать «я» и «ты»,
не мог бы быть самим собой, личностью. Он был бы
невозможен в своем существе. Следовательно, понимание
бытия — основа возможности существа человека.
Когда мы спрашиваем о бытии и его понимании,
мы не просто вообще, в общих чертах влекомы к во-
прошанию о человеке: оно просто становится
неизбежным. Таким образом, вопрос об основании
существа человека уже стал неминуем. Ведущий вопрос из
своего собственного основного содержания влечет нас
к корню и укоренению нашего человеческого бытия.
Но если к вопросу о бытии и понимании бытия
целиком принадлежит вопрос о времени, более того,
если этот последний является даже проблемным
основанием бытийного вопроса, тогда мы просто не имеем
возможности просто так спрашивать о времени и его
принадлежности к человеку. Нет, мы должны с само-
3 См. выше, о άπλα и αληθές.
158
го начала так спрашивать о нем, чтобы усматривать
в нем основание возможности понимания бытия, т. е.
основание возможности основания существа человека.
Но тогда время — совсем не то, что просто появляется
также и в человеке (как, в принципе, еще
воспринимает и должен воспринимать время Кант). Вопрос о
существе бытия (понимание бытия), вопрос о существе
времени — это в обоих случаях вопрошание о
человеке, а точнее говоря, об основании его существа. И это
тем более и окончательно так, если мы спрашиваем
о взаимопринадлежности бытия и времени,
спрашиваем об «и». Это вопрошание, вызванное внутренним
содержанием ведущего вопроса философии и с ним и
через него начатое в самом основании, вопрошает о
человеке таким образом, который не просто далек от
повседневного размышления человека о себе самом: это
такое вопрошание о человеке, которое выходит за
пределы того, что в повседневном вопрошании человека
о себе самом попадает в его поле зрения и становится
предметом рассмотрения. Одним словом, наше
вопрошание о человеке — это выходящее за обычные
пределы выспрашивание о нем, взятом в его повседневности.
Свобода
Î
Вот-бытие
/ ' \
/ Человек \
/ ЛТм
Бытие и время
Мы вопрошаем, ориентируясь на то, в чем
раскрывается возможность понимания бытия, т. е.
возможность всей широты этого понимания, в каковой
широте человек относится ко всему сущему в целом.
Задавая основной вопрос, мы вопрошаем в целое суще-
159
го (ins Ganze des Seienden), и это вопрошание, т. е. во-
прошание основного вопроса, одновременно содержит
в себе вопрошающее направление в сторону основания
возможности бытия-человеком. Оно ставит под
вопрос человека в основании его существа, т. е. скрывает
в себе возможность наступления на человека, которое
не снаружи его настигает, но поднимается из самой
основы его существа.
Теперь становится яснее следующее: 1)
действительное вопрошание ведущего вопроса само в себе
влечет к вопрошанию о человеке, а именно 2) вовлекает
в то вопрошание о нем, которое настигает его в самом
основании его существа, в его корне, 3) но это
вопрошание ведущего вопроса есть вопрошание о сущем как
таковом, о сущем в целом: оно никогда не вопрошает
в первую очередь о человеке, и правильно понятый
вопрос о нем вырастает только из радикализации ведущего
вопроса. Ведущий вопрос не в первую очередь и не
напрямую обращен к человеку, но его вопрошание, если
оно радикальным образом есть то, чем хочет быть —
вопрошанием о сущем как таковом — нападает на него
с тыла, застигает его в основе, вопрошание о сущем
как таковом в его целом, будучи «выходом-на-целое»,
оборачивается «прихождением-к-нашему-корню».
Однако это вопрошание о человеке
разворачивается в направлении сущностной основы человека, т. е.
вопрошает о человеке вообще, о человеке в общем и целом
и, следовательно, как раз не спрашивает о том или ином
человеке. Человек опять затронут лишь в общем. Это
проявляется в том, что хотя мы и смогли узнать, как
вопрос о бытии и времени связан с вопрошанием о
человеке, это вопрошание, однако, никоим образом не
затрагивает прямо нас самих. Можно, наверное, сказать
только то, что мы сами, поскольку мы ставим эти
вопросы, в особенности подпадаем под вопрос. Но, в кон-
160
це концов, это верно при любом вопрошании, которое
совершает человек. Даже тогда, когда мы спрашиваем
о человеке только в рамках ведущего вопроса и делаем
это по совсем формальной причине, получается, что
всякое всеобщее затрагивает и свое особенное. Поэтому как
бы мы не радикализировали ведущий вопрос, стремясь
вывести его на уровень основного вопроса, если этот
последний заключает в себе проблему бытия и времени
лишь в общем и целом, тогда ее можно развивать и
обсуждать совершенно объективно, и независимо от того,
касается ли она при этом человека или нет, Единичный
(der Einzelne) как таковой все равно никогда не
затрагивается. Вот на что, пожалуй, надо обратить
внимание: смысловое содержание проблемы бытия и времени
настолько общо, что как таковое оно не придает
значения Единичному и не оставляет его для Единичного.
И в основном вопросе нет никакого серьезного
наступления на нас, т. е. такого, которому мы с
необходимостью подверглись бы через вопрошание в вопрошании.
Это наступление, совершающееся в общем и целом, —
оно не настигает никого конкретно — пустой звук.
Во всех наших рассуждениях о наступательном
характере философствования речь не идет о хорошо
засвидетельствованном морально-практическом
применении философских положений к отдельной
личности человека: речь идет только о том, содержится
ли — и если да, то в какой мере — это наступление
в смысловом содержании самого вопрошания (и в
соответствии с тем, как это содержание его требует). Но
развить содержание ведущего вопроса можно только
до постановки проблемы бытия и времени, но не
дальше. Во всяком случае, я не вижу никакой дальнейшей
возможности. Если бы это вообще было возможно,
тогда здесь этот наступательный характер должен бы был
по возможности обнаружиться.
161
§ 13. Наступательный характер
бытийного вопроса {основного вопроса)
и проблема свободы.
Об-ступающая широта бытия (выход-на-целое)
и на-ступающее уединение (прихождение-к-корню)
времени как горизонт понимания бытия
Итак, бытие и время: имея в виду проблему
бытия, мы спрашиваем о времени: содействует ли оно —
и если да, то как — основному условию возможности
человеческого существования, т. е. делает ли оно
возможным понимание бытия. Бытие: самое широкое
(das Weiteste), горизонт которого охватывает все
действительное и возможное сущее. Возможность этой
широты бытия должна, наверное, лежать во времени.
Следовательно, оно, время, должно быть той
широчайшей широтой, в которой понимание бытия с
самого начала охватывает все сущее. Но время, эта
широчайшая широта, — что оно такое и где оно? Время —
чему оно принадлежит? Кому?
Каждый имеет свое время. Мы вместе имеем наше
время. Можно ли сказать, что для каждого из нас и для
всех вместе оно — некая зыбкая собственность (наше
время, мое время), с которой мы по желанию можем
расстаться? Или каждый обладает отмеренным ему
отрезком времени? Обладаем ли мы вообще какой-то
долей времени или, может быть, оно обладает нами?
Причем не в каком-то неопределенном смысле, что,
дескать, нам из него просто не выбраться, что оно —
сковавшие нас кандалы, а в том, что время, будучи
всегда нашим временем, всех и каждого уединяет в
самом себе? Время — это всегда то время, в котором
«настало время», в котором «еще есть время», «больше
нет никакого времени». Пока мы не видим, что время
временит, т. е. отвечает своей природе, только тогда,
162
когда уединяет всякого человека на нем самом,
временность (die Zeitlichkeit) как существо времени остается
для нас скрытой.
Но если временность — это, по сути, уединение,
тогда вопрошание о бытии и времени в самом себе, по
своему смысловому содержанию, вовлечено в то
уединение, которое лежит в самом времени. Поэтому время
как горизонт бытия обладает широчайшей широтой
и — как эта широта — стягивается, собирает самоё
себя в направлении человека в его уединении. Причем
не человека как одного из многих наличных особых
случаев, а человека в том его уединении, которое как
таковое всегда затрагивает лишь одиночку как
одиночку. Но не получается ли тогда, что в самом исконном
содержании ведущего вопроса философствования,
развитого до основного вопроса, заключена возможность
постоянного наступления, причем безошибочного в
направлении своей атаки? И это наступление тем
более опасно, что, как мы видели, поначалу и довольно
долго оно таково, что его как будто и нет, как будто
речь идет об общем, которое, пожалуй, заодно
затрагивает и особенное, но как-то так, что оно для него как
такового в каждом случае не значимо. Теперь же
становится ясно: в существе самого времени лежит
уединение, но не как обособление общего: исходно время
никогда не является чем-то общим: да, «время», но время
всегда — мое время, причем «мое», «твое» и «наше»
не во внешнем смысле частного обывательского
существования: оно «мое» и «твое» из самой основы вот-
бытия, которое как таковое уединено на себе, каковое
уединение прежде всего представляет собой условие
возможности расхождения в различия между
личностью и обществом.
Как раз тогда, когда мы через ведущий вопрос
философии, развернутый до основного, добываем ве-
163
личайшую широту проблемы бытия и времени,
причем добываем по-настоящему, а не в одних только
разговорах на эту тему, тогда прежде всего и
постоянно, в последнем содержании проблемы, уже лежит
заострение на каждом единичном человеке как таковом.
Об-ступающая {umgreifende) широта бытия
тождественна на-ступательному {angreifende) уединению
времени. В основе своего сущностного единства бытие
и время таковы, что когда они становятся вопросом,
это вопрошание в себе есть
обетупающе-настунательное. Выход-на-целое в самом себе есть — для нас, для
каждого Единичного — прихождение-к-корню.
Повторяю: не когда-то потом и не на пути какого-то
практического применения: нет, содержание вопроса
философии — τί το öv — требует вопрошания, которое чем
радикальнее обеспечивает себе широту и охват, тем
надежнее приходит к основанию, где, вопрошая,
затрагивает Единичного как Единичного и ставит его под
вопрос. Тем самым мы ответили на третий из наших трех
подготовительных вопросов.1 Мы спрашивали: 1) Есть
ли в понятии позитивной свободы принципиальное
расширение проблематики? 2) Какая перспектива
открывается? (ведущий вопрос); 3) Отличается ли это
вопрошание как таковое наступательным характером?
Но благодаря внутренней взаимосвязи этих трех
вопросов выяснилось также вот что: вопрос о существе
человеческой свободы встроен в ведущий вопрос
философии. Он был развернут до основного вопроса {бытие и
время). Основной же вопрос в самом своем содержании
показывает заключенную в нем возможность
наступательного характера философствования.
Итак, наконец мы завершили приготовления к
обсуждению нашей темы. Теперь мы знаем, в каком кон-
1 См. выше, с. 43 и 149.
164
тексте она стоит, будучи встроенной в ведущий и
основной вопросы метафизики. Благодаря этому стало
ясно: вопрос о существе человеческой свободы, если он
задан правильно, — это вопрошание в целое, а именно
выход-в-целое, который одновременно, по своему
внутреннему содержанию, есть прихождение-к-нашему-
корню. Тема нашего курса и характера изложения
таковы, что с ними мы отваживаемся сделать введение
в философию. Правда, по своему содержанию эта тема
особенная: речь идет именно о свободе, а не об истине
или искусстве.
Свобода
Вот-бытие
Î \
Человек \
Бытие и время
Время
Постоянное присутствие
Бытие
τί το öv
Сущее как таковое
Сущее
Движение
Причинность
Абсолютная спонтанность
Автономия
Позитивная свобода
Негативная свобода
Человеческая свобода
165
§ 14. Перестановка перспективы вопроса:
ведущий вопрос метафизики коренится
в вопросе о существе свободы
Итак, тема — человеческая свобода в ее существе.
Значит, теперь ее надо по-настоящему исследовать. Где
и как мы находим этот предмет? После предыдущего
он не кажется нам совсем незнакомым: негативная
свобода — свобода от... — позитивная свобода —
свобода для... . Размышляя над этой схемой, мы видим, что
перед нами даже целое поле во всех его измерениях,
внутри которого — свобода как проблема. Да, все так,
но это раскрытие горизонта для проблемы свободы
все-таки произошло с помощью того ее толкования,
которое дал Кант. Но кто сказал, что эта
интерпретация, какой бы существенной она ни была, является
центральной философской? Кто сказал, что свободу
надо прежде всего понимать в связи с причинностью?
До сих пор мы все это только принимали к сведению,
заодно узнавая, в каком направлении в любом случае
можно задавать вопрос о свободе. Но ведь ни в коей
мере не сказано, что в этом и заключается
единственное и необходимое развертывание проблемы.
Если это так, тогда все наши ориентиры
пошатнулись. Во всяком случае, всему прежнему мы должны
положить пределы. Если проблема свободы
связывается, как у Канта, с каузальностью, тогда эта связь
ведет в дальнейшую, открытую нами перспективу —
но только тогда. Свободу можно и с самого начала
определить иначе — тогда и перспектива становится
другой. Но мы не просто должны признать, что по
отношению к свободе можно наметить различные
перспективы: мы прежде всего должны уяснить, куда — прежде
всякого установления дальнейших перспектив — мы
с самого начала помещаем свободу, где она как бы на-
166
ходится. До сих пор это остается неясным, потому что,
подхватив различные определения, мы как следует так
и не выяснили, к какой области принадлежит все
названное и как оно в этой области расположено. Если
исследованию человеческой свободы надо обеспечить
надежный ход, тогда мы должны также обеспечить
себя той сферой, в которую нам надо заглядывать
всякий раз, когда мы спрашиваем о свободе и стремимся
прояснить ее природу.
Но кажется, что эта сфера определена так
однозначно, что от дальнейшего рассуждения можно
отказаться. Ведь наша тема — «человеческая» свобода, т. е.
та свобода, о которой идет речь, когда мы смотрим на
человека. Но существо человека так многоцветно, что
своим уточнением мы лишь дали знать, насколько наш
взор неопределенен и лишен всякого направления, —
взор, ищущий существа человеческой свободы. Если
бы речь шла только о том, чтобы найти и определить
какое-нибудь свойство человека, тогда мы могли бы
надеяться, что, потратив достаточно времени и
просмотрев все, что можно просмотреть по отношению к
человеку, мы, наконец, натолкнемся на искомое. Но при
любом познании самого существа решающим
оказывается следующее: удалось ли еще до всякого
конкретного разъяснения и определения, удалось ли с самого
начала найти тот решающий сущностный взор, в котором
впредь и по отношению ко всему дальнейшему будет
удерживаться само существо предмета. Необходимо
с самого начала так увидеть существо человеческой
свободы и, следовательно, свободу человека и его
самого, чтобы этот первый вид — каким бы
завуалированным он ни был по отношению к его видимому
содержанию — давал увидеть решающее. Поэтому наше
введение с самого начала должно так направлять наш
сущностный взор, чтобы стало ясно, «где» вообще надо
167
искать усматриваемое и как, соответственно,
определяется наше местоположение по отношению к нему. Это
решающее направление сущностного взора поначалу
может быть — и так всегда бывает поначалу — только
насильственным наведением угла зрения.
Обоснованность и необходимость сущностного ракурса может
проистекать только из самого сущностного содержания.
На первых порах установление сущностного угла
зрения, необходимого для вопрошания о существе
человеческой свободы и его поисков, может быть сообщено
только в форме высказывания и тезиса. Каковы же они?
Если мы хотим установить направление взора, нам
вообще надо иметь перед собой все разнообразие и
широту горизонта. По отношению к свободе мы в какой-
то мере получили это благодаря всему предыдущему
рассмотрению. Только теперь становится ясно, что это
ни в коей мере не было задумано случайно. Вспомним
о схеме перспектив проблемы свободы в ее
предварительной разработке. Если мы ее помним, то теперь
можем однозначно установить основополагающий
сущностный угол зрения, сказав так: существо
свободы только тогда улавливается нашим взором, когда мы
ищем его как основу возможности вот-бытия, ищем
как нечто такое, что предшествует бытию и времени.
Глядя на схему, мы должны полностью переставить
место свободы, и в результате теперь получается вот что:
проблема свободы не встроена в ведущий и основной
вопросы философии, но как раз наоборот — ведущий
вопрос метафизики основывается на вопросе о существе
свободы.
Но если наш сущностный взор должен взять это
направление, если основная проблема философии
вообще должна усматриваться оттуда, тогда
совершенно не важно, правильно ли кантовское истолкование
свободы в рамках причинности. Даже если оно и не
168
верно, тогда все равно, согласно новому тезису, в
основе каузальности, движения, вообще бытия лежит
свобода. Свобода совершенно не есть нечто особенное
среди прочего, она не стоит в ряду с чем-то другим:
свобода вне ряда и властно проникает собою целое
в целом. Но если нам надо искать свободу как основу
возможности вот-бытия, тогда она сама в своем
существе оказывается исходнее человека. Тогда человек —
лишь распорядитель свободы, лишь тот, кто свободу
свободного делает свободой выпавшим ему способом
(in der ihm zugefallenen Weise), так что через человека
становится зримой полная случайность (die
Zufälligkeit) свободы.
Теперь человеческая свобода — это уже не
свобода как свойство человека, но наоборот: человек как
возможность свободы. Человеческая свобода есть
свобода постольку, поскольку она прорывается в
человеке и берет его на себя, таким образом делая его
возможным. Если свобода — это основание возможности
вот-бытия, если она — корень бытия и времени и тем
самым — основа понимания бытия во всей его
широте и полноте, тогда человек, в своей экзистенции
основывающийся на этой свободе и в этой свободе, есть
то место и возможность, в которых и которыми
раскрывается сущее в целом, и он же есть то сущее,
через которое сущее в целом как таковое проговаривает
себя (sich hindurchspricht) и так выговаривает (sich
ausspricht). В начале нашего лекционного курса,
когда мы приступали к названному в теме как к какой-то
наличной вещи среди прочих, мы смотрели на
человека как на сущее среди сущего: крохотное, хрупкое,
бессильное, мимолетное, какой-то маленький
уголок во вселенной сущего. Теперь же, когда мы
смотрим на человека из самой основы его существа, из
свободы, нам становится ясно нечто огромное и чудес-
169
ное: человек существует как то сущее, в котором
явлено бытие сущего и тем самым — оно само в целом. Он
есть то сущее, в самом собственном бытии которого и
в сущностной основе совершается понимание бытия.
Человек так огромен, как никогда не может быть
огромен Бог, потому что ему пришлось бы быть совсем
иначе. Это огромное, которое мы тут действительно
знаем и которое суть мы сами, может быть таковым
лишь будучи самым конечным (das Endlichste), но
в этой конечности оно — экзистентная встреча друг
с другом того самопротиворечивого, что есть внутри
сущего, и потому — повод и возможность
разламывания и взламывания сущего в его многообразии и ина-
ковости. Здесь же лежит ключевая проблема
возможности истины как раскрытости.
Если мы видим человека именно так — а мы
должны так его видеть, поскольку основное содержание
ведущего вопроса философии влечет нас к нему — если,
одним словом, мы воспринимаем его метафизически,
тогда — как только мы понимаем самих себя — мы
уже не движемся в русле маленькой и краткой
эгоистической рефлексии по поводу своего «я». Теперь мы
стоим в нас самих, в нашем существе, где
рассыпается всякая психология и тому подобное. Теперь было
бы бесполезно вдаваться в дальнейшие рассуждения
и предположения об этом основном метафизическом
опыте человека. Что он такое, т. е. как он
осуществляется в качестве философии, можно испытать и узнать
только в конкретном вопрошании. Ясно лишь одно:
основываясь в свободе своего вот-бытия, человек имеет
возможность исследовать эту свою основу, чтобы,
теряясь в истинном внутреннем метафизическом
величии своего существа, именно там обретать себя в
своей экзистенциальной единичности. В свете ложной и
изолгавшейся бесконечности конечность уже давно
170
утратила свое величие, стала маленькой и пошлой, так
что конечность и величие мы больше не можем
помыслить вместе. Человек — не образ Бога как абсолютного
обывателя, но сам этот Бог — неподлинное творение
человека.
Но теперь в отношении конкретного
развертывания и проработки проблемы свободы возникает
следующий вопрос: как нам пробраться туда, куда
направляет нас сущностный взор в свободу? Что это значит:
свобода есть основание возможности вот-бытия
человека? Свобода как это основание открывается нам
только тогда, когда — в начинании нашего вопроша-
ния, его способе, направлении и остроте
концептуального разъяснения — удается свободу как такое
основание основанием и оставить. Поэтому мы спрашиваем:
что значит вот-бытие человека, что значит основание?
Что такое основание вот-бытия? В какой мере мы
сталкиваемся здесь со свободой? На таком пути мы
могли бы, философствуя, освоиться с метафизической
проблемой свободы.
Я, однако, выбрал другой путь, ведущий к той же
цели, — путь, который постоянно принуждает нас
к диалогу с философами и особенно с Кантом. Уже из
предыдущего мы помним, что он впервые самым
радикальным образом рассмотрел проблему свободы в ее
философском значении. Если мы разворачиваем эту
проблему не в монологической свободной рефлексии,
а в разъясняющем диалоге, тогда так должно быть не
ради того, чтобы на уровне обычной историографии
принять к сведению мнения, высказанные об этой
проблеме ранее: такой подход должен дать нам понять,
что такие проблемы, как наша, вообще обретают
настоящую живость только в этом историческом
разбирательстве, в истории, событие которой лежит вне хода
обычных данностей.
171
Если мы затеваем разбирательство с Кантом,
значит, мы возвращаем проблему свободы в перспективу
проблемы каузальности, причинности. Необходимость
разбирательства тем более актуальна, что мы сами
понимаем свободу как основание возможности вот-
бытия. Возникает вопрос, какова связь между
причиной и основанием.
Наше следующее рассмотрение мы проводим под
совсем общим заголовком: Причинность и свобода. Я
отказываюсь от пространной программной разработки
вопросов, которые скрываются под этим заголовком.
Для меня важно, чтобы вы прошли со мной часть
настоящего пути «исследования», сознавая тот риск, что
порой вы будете терять из виду целое. И все-таки надо
кратко указать на характер проблематики, как я вижу
ее скрытой в этом заголовке, — пусть совсем
формально и как будто насильственно.
В сравнении каузальности и свободы прежде
всего лежит такой вопрос: является ли свобода проблемой
каузальности или каузальность — проблема свободы?
Если верно второе, т. е. если свобода становится
основанием проблемы, как тогда ее, свободу, понимать?
Можно ли ее понимать в том смысле, что из ее
существа мы усматриваем, почему свобода может и должна
пониматься негативно и позитивно? Можно ли
показать, почему свобода из своего существа есть свобода-
от... и свобода-для...? Где лежит исходное, коренное
единство этой двойной структуры? Действительно ли
оно — исходный взгляд или только поверхностный?
Все эти вопросы изливаются на основную проблему
философии, на бытие, понимание бытия и его событие.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПРИЧИННОСТЬ И СВОБОДА.
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ
И ПРАКТИЧЕСКАЯ СВОБОДА
У КАНТА
Глава первая
ПРИЧИННОСТЬ И СВОБОДА
КАК КОСМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.
ПЕРВЫЙ ПУТЬ К СВОБОДЕ В КАНТОВОЙ СИСТЕМЕ
ЧЕРЕЗ ВОПРОС О ВОЗМОЖНОСТИ ОПЫТА
КАК ВОПРОС О ВОЗМОЖНОСТИ
НАСТОЯЩЕЙ МЕТАФИЗИКИ
Итак, свобода ли проблема каузальности или
каузальность — проблема свободы? Нам надо сразу же
уточнить вот что: затрагивает ли это «или—или»
проблему вообще, т. е. существует ли оно даже тогда, когда
каузальность выявилась как проблема свободы, которая
тем самым понимается достаточно? Исчерпывается ли
существо свободы тем, что она является проблемным
основанием каузальности? Если да, то тогда, наверное,
достаточно понимать каузальность в прежнем смысле?
Нет! Может быть, как раз тогда, когда свобода
является проблемным основанием каузальности, она
должна схватываться и пониматься еще радикальнее и не
только как некий вид каузальности? Откуда мы берем
указания для возврата в более исходное существо?
Должны существовать решающие причины, по
которым Кант часто, охотно, самым острым и
радикальным образом связывает свободу с каузальностью. Тот
173
факт, что эта связь намечается самим внутренним
содержанием проблемы, а не только одной лишь точкой
зрения на нее, можно, помимо прочего, подтвердить и
нашим собственным тезисом. Содержание основного
вопроса привело к свободе как основанию
возможности вот-бытия, в котором происходит понимание
бытия. Свобода обнаруживается как основание. Но ведь
сама причина (causa) — тоже вид основания.
§ 15. Предуведомление к проблеме причинности
в науках
а) Причинность как выражение проблематичности
неживой и живой природы в науках
Если мы воспринимаем проблему свободы в
связи с каузальностью, тогда просто необходимо точнее
очертить, что же подразумевается под каузальностью,
какие проблемы задает уже она сама. Я попытаюсь
дать такой конкретный ориентир относительно
каузальности по путеводной нити Кантовой трактовки
проблемы, в каковой трактовке перекрещиваются —
что теперь не имеет решающего значения —
различные исторические мотивы (Лейбниц, Юм). Прежде
чем поближе познакомиться с Кантовым пониманием
каузальности, необходимо указать на значимость этой
проблемы, причем в двойном отношении.
Исследование и вопрошание, которое мы называем наукой, идет
в двух основных направлениях: природа и история.
Природа История (человек и его деятельность)
Процессы События
Причина и действие Причина и действие
Каузальность Каузальность
? ?
174
Сегодня в этих двух основных направлениях
научного исследования, исследовании природы и
исследовании истории, каузальность совершенно по-разному
стала проблемой. Когда видишь перед собой все
многообразие изысканий, которые сегодня не может не
замечать даже отдельный исследователь, занятый своей
частной областью, когда наблюдаешь, как
организованы науки в сообществах, институтах и на конгрессах,
когда знаешь, в каком темпе один результат приходит
на смену другому и воплощается в так называемой
практике, тогда кажется, что недостает только
одного: заводов-гигантов с их оснащенностью. И на самом
деле, не хватает только этого, чтобы превратить все
в руины, потому что все, что однажды было
поставлено на рельсы автономной техники, сохраняется даже
тогда и как раз тогда, когда внутренняя необходимость
и простая сила подлинного побуждения уже умерли.
Однако несмотря на этот почти технический
прогресс научного исследования, несмотря на эту
процветающую индустрию, которую сегодня представляет
наука, науки о природе и истории сегодня внутреннее
стали такими сомнительными, как никогда ранее.
Диспропорция между ежедневно получаемыми
результатами и фундаментальными и простыми понятиями и
вопросами, с характерными для них ненадежностью и
темнотой, никогда не была такой огромной. Для
умеющего видеть никогда не было так очевидно, что
духовное, пусть запутавшееся в себе, бессильное и
лишенное корней, несмотря на опережающие друг друга
технические результаты, еще волнует мир и, несмотря на
непрестанные мимолетные сюрпризы, еще восхищает
его. Не знаю, многие ли сегодня действительно
понимают эту ситуацию и умеют читать знамения.
Упомянем о якобы чисто внешнем. В конце
апреля в Галле состоялась конференция немецких истори-
175
ков. Спорили о том, наука ли история или искусство.
Точнее говоря, не было даже средств спорить об этом
по-настоящему. Не знали, как по-настоящему схватить
завуалированную проблему и поставить ее на твердую
почву Стало ясно лишь одно: сегодня историки не
знают, что такое история, не знают даже, что
необходимо для того, чтобы узнать об этом. Ясно одно: они не
знают даже, почему не получается так, чтобы сделать
какие-нибудь случайные заимствования у профессора
философии, которого они случайно же встречают или
который является их коллегой.
Где причина той катастрофической ситуации,
которая не перестает быть такой же гибельной и тогда,
когда все эти беспомощные и растерянные люди на
следующий день уверенно и спокойно продолжают
свою работу, выполняя ее со всей точностью? Причина
не в том, что мы не в состоянии определить природу
исторической науки, а в том, что историческое
событие как таковое, несмотря на множество событийных
данностей, не имеет единой силы проявления и
поэтому остается скрытым в своей существенности и
просто еще сильнее прикрывается и искажается избитыми
теориями об исторической науке. Историческое
событие как таковое не может проявиться, если не
сталкивается с опытом, приносящим ту ясность, благодаря
которой может высветиться историчность истории.
При этом должно решиться, что такое история: просто
сутолока причинно связанных между собой фактов и
влияний или же каузальность исторического события
надо понимать совсем по-другому.
Вы видите, что проблема каузальности — это не
какой-то далекий, каким-то образом выдуманный в
философии вопрос. Это самая глубинная нужда нашего
отношения к историческому вообще и, следовательно,
нужда науки об истории (филологии в более широком
176
смысле). Но то же самое касается и другого направления
научного вопрошания — науки о природе, будь то
неживая природа (физика, химия) или живая (биология).
Уже говорят о том, что благодаря новым физическим
теориям, электронной теории материи (строение
атома), теории относительности и квантовой теории,
прежний закон каузальности утратил свою исключительную
силу В этом прежде всего выражается тот факт, что
сама процессность материальных процессов ставится под
сомнение. Недостает возможности по-новому понять
и определить природу — таким образом, чтобы новые
вопросы и научные выводы нашли свою подлинную
основу и обоснование. Так же обстоит дело и с вопросом
о природе организма, с вопросом о жизненности
живого, о принципиальном строении бытия того сущего,
о котором мы говорим, что оно есть, живет и умирает.
Скажу еще раз: каузальность — это не
отвлеченное, свободно парящее понятие, которому надо дать
правильное определение, но свидетельство того, что
строение неживой и живой природы вызывает
глубочайшее сомнение. Сам же человек, находясь посреди
природы и будучи захваченным событием своей
истории, продолжает поиски в этом сомнении и нужде, не
ведая четких ориентиров. В то же время философия
кое-что знает о той перспективе, куда указывает
конкретно понятая проблема каузальности истории. Но
как раз эта растерянность, нарастающая со всех сторон,
ситуация, когда все колеблется, когда выявляется
шаткое, и есть настоящее время философии. Было бы
глупо желать, чтобы хоть на миг все стало иначе. Так же
близоруко было бы считать, что это время можно
спасти какой-нибудь философской системой. Напротив,
речь идет только о том, чтобы сохранить истинную,
по-настоящему пережитую и переживаемую нужду.
Все дело в том, чтобы не утратить этого надвигающе-
177
гося сомнения, предтечи великого, и не заменить его
дешевыми ответами и суевериями.
Таким образом, совершенно излишне пространно
заверять вас в том, что тема этого введения в
философию одновременно вырастает из больших
направлений исследования о природе и истории и возвращается
в них, — в те направления, в которых вы
непосредственно и находитесь, коль скоро принадлежите к тем
или иным университетским факультетам.
Философствование здесь — это не некое побочное занятие,
воспринимаемое как убежище от частных нужд и как
некое назидание: нет, оно находится в средоточии той
нужды работы, которой вы обязались предаться, если
движетесь в этом пространстве.
Делая эти короткие замечания о том, в каком
положении находятся науки о природе и истории, мы не
хотим констатировать их ошибки и упущения и не
хотим говорить о несостоятельности философии: вообще
не хотим говорить ни о чем таком, что могло бы
вызвать взаимные обвинения. Все это — скорее
предвестники и признаки действительных потрясений и
сдвигов всего нашего вот-бытия, видя которые Единичный
должен лишь стараться не прослушать новые голоса,
которых и так почти не слышно. Неверно думать,
будто Единичный может все это привлечь к себе, а все
другое отринуть. Тогда повторится судьба всех реформ,
которые за одну ночь превращаются в невыносимую
тиранию. В равной мере надо опасаться стремления
признать значимым всё и всяческое без разбора, чтобы
не стать жертвой пустого всезнания. Важна середина,
но не посредственность, а сохранение спокойствия по
отношению к внутреннему разнообразию и
соотносительности существенного, которое никогда не уловить
формулами и никогда не спасти путем простого
ниспровержения его противоположности.
178
b) Причинность в современной физике.
Вероятность (статистика) и причинность
Итак, причинность — что можно о ней сказать?
Прежде всего мы хотим услышать, что говорит на эту
тему Кант и именно Кант — по многим причинам. Во-
первых, потому что как раз он особым образом связал
каузальность и свободу, во-вторых, потому что Кант
понимает каузальность прежде всего как каузальность
природы, поэтому возникают основные трудности по
отношению к каузальности истории. В-третьих,
потому что как раз в сегодняшнем философском
рассуждении о проблеме каузальности в психологии говорится
о том, что Кантово понимание недостаточно. Наконец,
потому что Кантова проблема каузальности отсылает
к той связи, которая уже известна нам в ее
принципиальной значимости: к связи бытия и времени. Ведь
отношение ко времени сразу бросается в глаза в Канто-
вом понимании каузальности, хотя здесь проблема не
доведена до конца. Прежде всего необходимо
конкретно представить его подход к проблеме каузальности.
Говоря об обсуждении этой проблемы в современной
физике, а также о его значении для философии,
необходимо сделать одно замечание, чтобы
противостоять ужасной путанице, которая здесь уже воцарилась.
Причина путаницы в том, что каждый говорит, не
слушая другого, отчего ни в физике, ни в философии
никто ясно не представляет, о чем же, собственно,
спрашивают, должны были бы спрашивать и что в том или
ином случае могут спрашивать. С одной стороны — со
стороны физики — восклицают, что пора, наконец,
понять, что закон причинности — это не какой-то
априорный закон мышления и что, следовательно, решать
судьбу этого закона можно только на основании опыта
и физического мышления. «Сегодня физики уже не со-
179
мневаются в том, что вопрос о наличии окончательной
причинности решается только на основании опыта,
что, следовательно, причинность — это не
априористическая необходимость мышления».1 Под последним
обычно подразумевают Кантово понимание
причинности, и здесь сразу надо заметить, что Кант нигде и
никогда не понимал закон причинности как
априористический закон мышления и не говорил о нем именно
так. Он говорит, что принцип причинности как
всеобщий закон природы никогда нельзя обосновать
опытом и что он, наоборот, является условием
возможности всякого опыта природы вообще.
С другой стороны, философия, глядя на все
притязания физики и ее решения относительно закона
причинности, с самого начала считает, что она сама
занимает надежную и более возвышенную позицию,
заявляя так: пусть физики что угодно говорят о
законе причинности, но пока они мыслят физически, они
вообще не находятся в том измерении, которое одно
только и дает им средство воспринять проблему
причинности. В противоположность всему сказанному
необходимо иметь в виду, что обе позиции внутренне
невозможны и сомнительны. Философская ссылка на
априори так же сомнительна, как совершенно запутана
свойственная физическому мышлению жесткая
установка на опыт. В конце концов, оправдано и первое и
второе, и все-таки и то и другое не радикально и не
столь ясно, чтобы вообще увидеть, в чем же
заключается решающая проблема.
Но на каком основании, если говорить в общем и
целом, сегодняшняя физика считает закон причин-
1 Jordan P. Kausalität und Statistik in der modernen Physik //
Die Naturwissenschaften XV. 1927. S. 105 ff (доклад по случаю
защиты докторской диссертации).
180
ности в каком-то смысле сомнительным? «В
классической динамике безграничную силу имеет
положение, согласно которому знание о состоянии (а именно
о положениях и скоростях всех материальных частиц)
в какой-то момент определяет развитие замкнутой
системы на все ее будущее; так выглядит закон
причинности в физике».2 Говорят, что в макроскопической
области природных процессов исключительную силу
имеет вполне достоверная, т. е. детерминированная
причинность; не так обстоят дела в микроскопической
области, т. е. в сфере атомарных структур, где сегодня
идет наблюдение за элементарными физическими
процессами, причем выясняется, что они соответствуют
астрофизическому ходу (движения планет).
Исследования в атомной физике показали, что
в области природы распространение физически
определяемых величин не отличается постоянством: нельзя
сказать, что движения всюду совершаются одним и тем
же способом; есть отклонения, скачки и пустые
пространства. Ход движения не отличается однозначной
детерминацией: оно не динамическое, не каузально
непрерывное, но определяемое по среднему значению его
вероятности, т. е. статистическое.
Итак, правило протекания элементарных
природных процессов иное, но какое? Если его
характеризовать как положение о причинности, тогда ввиду тех
постановок вопроса и тех тем, которые поднимаются
физикой, возникает необходимость определить
причинность по-новому. Но что же она такое? «Для
физика определить причинность означает не что иное,
как показать, каким образом можно экспериментально
определить ее наличность или неналичность. Таким
2 Born M. Quantenmechanick und Statistik // Die
Naturwissenschaften XV. 1927. S. 239.
181
образом, уже ясно, что вместе с прогрессом в
области наших воззрений, познаний и экспериментальных
средств прогрессивно меняется и определение
причинности».3
Здесь совершенно очевидно: определять
причинность — значит указывать возможный способ
констатации ее наличия, т. е. ее, причинности, наличия. Но
вот что она такое и что надо под ней понимать, — это
все-таки должно быть разъяснено уже до
констатации наличия или неналичия. Или и это прежде надо
констатировать, но если да, то каким образом? Это
вопрос, который физика забывает поставить, но
который философия решает слишком быстро. Ведь когда я
утверждаю, что для того, чтобы мочь констатировать
здесь и там наличие причинности, я уже должен знать,
что я под ней понимаю, а этим знанием я должен
обладать до всякого констатирующего опыта, — итак,
когда я так утверждаю, я, конечно, указываю на нечто
такое, что предшествует всяким констатациями,
основанным на опыте. Но что значит это
«предшествование», это априори, как оно возможно и почему оно
необходимо — все это никак не решается и тем более не
может быть решено простой ссылкой на Канта.
Таким образом, с одной стороны, мы хотя и
должны не доверять властным притязаниям физики, но
все-таки не можем пренебрежительно относиться к
новому содержанию ее сегодняшних проблем, просто
усматривая в нем так называемый эмпирический
материал: ведь он вполне может быть таким, что вообще
укажет на новые сущностные определения природы.
С другой стороны, мы не должны доверять слишком
поспешным и всеобщим утверждениям философии и
забывать о том, что только у нее есть задачи и пути,
3 Jordan P. а. а. О. S. 105.
182
позволяющие увидеть — как проблему — внутренние
возможности физики и ее предмета, что, правда,
возможно лишь тогда, когда саму философию влечет
истинная жизненность ее собственнейшей проблематики.
§ 16. Первая попытка характеристики
Кантова варианта причинности
и ее основной связи: причинность и временная
последовательность
Прежде чем спросить и решить, необходим ли с
логической точки зрения закон причинности и имеет ли
этот вид вопрошания по своей значимости вообще
какой-нибудь смысл или же не имеет его, мы должны
разобраться в том, что вообще означает причинность.
Применительно к этому вопросу, в свою очередь, надо
отыскать настоящую почву для рассуждения, т. е. ту
фундаментальную связь, к которой вообще
принадлежит нечто вроде причинности. Здесь мы исходим
из рассуждений Канта. Правда, тут мы можем
получить лишь руководство, относительно обоснованности
и исходности которого надо будет всякий раз решать
заново.
О причинности Кант говорит во «Второй
аналогии». Аналогиями он называет определенную группу
основоположений, в которых говорится о том, что
принадлежит к «существованию явлений», т. е. к
наличности сущего, а также к «природе» как она нам доступна.
Природные процессы, т. е. условия наличности
явлений во времени, с точки зрения их определимости,
подвластны определенным правилам, а именно правилам,
которые приобретены не из случайных или частных,
почти всегда обычных отношений между явлениями,
но тем правилам, которые изначально определяют то,
183
что вообще принадлежит к возможности природного
процесса, как он вообще доступен нашему опыту.
Поэтому, согласно первому изданию «Критики», «общее
основоположение» аналогий опыта гласит:1 «Все
явления, в соответствии с их существованием, a priori
подчинены правилам определения их отношений между
собой во времени». Одно из этих правил нам дает
вторая аналогия.2 Во втором издании терминология и
редакция этого основоположения отличается от
терминологии и редакции первого издания. В Л сказано:
«Основоположение порождения»,3 в Л же говорится
так: «Основоположение о временной
последовательности по закону причинности».4 В первом издании
редакция этого основоположения такова: «Все, что
происходит (будучи начатым), предполагает нечто
такое, за чем оно следует по правилу».5 Во втором она
выглядит так: «Все изменения происходят по закону
связи причины и действия».6
Закон каузальности дает основоположение о
временной последовательности. Каузальность в самой
себе связана с временной последовательностью.
Каким образом каузальность, т. е. причинность,
вступает в связь с этой последовательностью? И что такое
временная последовательность? Причина — это
причина действия. То, что претерпело воздействие и было
получено в результате действия, мы также называем
результатом как no-следствием (der Erfolg). Результат
как последствие — это то, что следует за иным, ему
предшествующим, и есть следствие. С этой точки зре-
1 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. А 177 f.
2 а. а. О. А 189 ff., В 232 ff.
3 а. а. О. А 189.
4 а. а. О., В 232.
5 а. а. О. А 189.
6 а. а. О. В 232.
184
ния «действовать» означает: последовать и позволять
следовать. Причина как то, что вызывает действие,
есть нечто такое, что дает последовать, следовать за
собой, и, таким образом, она сама есть
предшествующее. Значит, в отношении «причина-действие» лежит
предшествование и следствие или, говоря в общем и
целом, следование одного за другим, последование,
последовательность, которую Кант понимает как
временную последовательность. Таким образом, мы
видим связь между причинностью и временной
последовательностью — ту связь, которую с самого начала
необходимо ясно и прочно удерживать, чтобы понять,
в каком направлении Кант хочет разъяснить существо
причинности.
Итак, причинность подразумевает временную
последовательность (die Zeitfolge). Дословно это
означает, что время следует: одно время следует за
другим. Соответственно этому Кант, например, говорит:
«Различные времена существуют не вместе, а
последовательно».7 Время «течет постоянно». Его
«постоянство» есть течение. С другой стороны, Кант
недвусмысленно подчеркивает: «Если бы мы приписали
последовательность самому времени, то мы должны были
бы мыслить еще другое время, в котором эта
последовательность была бы возможна».8 Это вело бы в
бесконечное, т. е. было бы невозможным, если
предположить, что это «другое время», допускаемое Кантом без
обоснования, имеет такую же природу. Таким образом,
если в самом времени как таковом нет никакой
последовательности, тогда нет и никакого течения. «Проходит
не время, а существование изменчивого во времени».9
7 а. а. О. А 31, В 47.
8 а. а. О. А 183, В 226.
9 а. а. О. А 144, В 183.
185
«Время... само остается неизменным и
сохраняющимся», «само время не изменяется, но изменяется только
то, что есть во времени».10 Таким образом, временная
последовательность означает не следование времен,
принадлежащее самому времени, а следование и
последовательность того, что есть во времени.
Но Кант все-таки снова говорит:
«Одновременность и последовательность суть единственные
отношения во времени».11 Может быть, одновременность
и последовательность — это отношения не чего-то
такого, что есть во времени, но отношения в самом
времени, отношения, принадлежащие ему самому? Может
быть, временная последовательность есть нечто такое,
что принадлежит самому времени? Может быть, в
самом времени, как принадлежащая ему, находится
последовательность причастного времени (теперь)?
Тогда получается жесткое противостояние: само время
постоянно, время никуда не течет, но всегда
пребывает—и тут же последовательность.
Кант дает временной последовательности такую
характеристику: она представляет собой некий
модус времени, причем один среди прочих. «Три
модуса времени — это постоянство, последовательность и
одновременное существование».12 Но что такое
модус времени и как эти модусы относятся друг к
другу? Одинаковы ли они по значимости или же здесь
существует некая иерархия? И о какой модализации
времени идет речь? Как она возможна с точки зрения
времени, из его существа? Почему именно эти три
модуса? По-видимому, они отличаются от той триады,
которую обычно приводят по отношению ко времени:
10 а. а. О. А 41, В 58.
11 а. а. О. А 182, В 226.
12 а. а. О. А 177, В 219.
186
настоящее, прошлое и будущее. Что это за особенности
времени и как они относятся к тому, что Кант
называет модусами времени, к каковым принадлежит
временная последовательность, в контексте которой
понимается причинность?
Итак, уже при первой попытке охарактеризовать
Кантово понимание причинности мы оказываемся
в самом средоточии центральных вопросов и
затруднений. Прежде всего надо как следует рассмотреть,
как Кант ориентируется в этой проблематике и что,
в соответствии со сказанным, нам надо понимать под
«временной последовательностью» и
«основоположением о временной последовательности». Для этого
надо попытаться понять всю проблему аналогий опыта
в самой его сути, чтобы уразуметь ту связь, в которой
находится основоположение о причинности, но также
чтобы выявить более исходное измерение
проблематики, в котором становится очевидным соотношение
причинности и свободы.
§17. Общая характеристика
аналогий опыта
Пускаясь в рассмотрение аналогий опыта, мы
делаем оговорки, необходимые при таком намерении.
Ясно, что при рассмотрении проблемы, которая,
вырастая непосредственно из «Критики чистого разума»,
одновременно ориентирована на самую
центральную философскую проблематику, подготовка
должна быть более обширной, чем та, которая возможна
у нас здесь. Одного только общего обзора совсем
недостаточно: мы хотим конкретно подвести к
тексту, даже если и не в его тематически сквозной
интерпретации.
187
а) Аналогии опыта как правила
общего временного определения
наличности наличного в контексте внутренней
возможности осуществления опыта
Итак, временная последовательность, на
которую ориентировано основоположение о причинности,
представляет один временной модус. В качестве
первого Кант называет постоянство, в качестве третьего —
одновременность. Эти три модуса соответствуют трем
аналогиям опыта. Первая аналогия обращена к
постоянству. Основоположение постоянности
субстанции гласит: «Все явления содержат в себе
постоянное (субстанцию) как самый предмет и изменчивое
в качестве лишь определения предмета, т. е. способа
его существования».1 «При всяческой смене явлений
субстанция постоянна, и количество ее в природе не
увеличивается и не уменьшается».2 Третья аналогия
обращена к третьему модусу времени — к
одновременному существованию: основоположение об
одновременном существовании согласно закону
взаимодействия, или общения. «Все субстанции, поскольку они
существуют одновременно, находятся в полном
общении (т. е. взаимодействии друг с другом)».3 «Все
субстанции, поскольку они могут быть восприняты в
пространстве как одновременно существующие, находятся
в полном взаимодействии».4
Мы задаем общий вопрос: что в
основополагающем смысле высказано в этих аналогиях? В
основоположениях речь идет о правилах. Что в этих
основоположениях действует как правила? Правила общего
1 а. а. О. А 182.
2 а. а. О. В 224.
За. а. О. А 211.
4 а. а. О. В 256.
188
определения времени. Что здесь означает «общее
определение времени»? Почему и для чего аналогии
необходимы как правила общего определения времени?
Отвечая на этот последний вопрос, т. е. давая ответ на
то, каким образом обосновывается необходимость
аналогий, мы хотим в первый раз заглянуть в их существо
и потом отсюда продвигаться к особому содержанию
второй аналогии.
Аналогии — в том, что касается их
необходимости, — коренятся в самом существе опыта. Опыт —
это способ, которым человеку становится
доступным само сущее в контексте его наличного бытия.5
Существо этого способа доступа к самому сущему и
способ его определения мы очерчиваем тогда, когда
показываем, что принадлежит к внутренней
возможности опыта. Кант говорит: «Опыт возможен
только посредством представления о необходимой связи
восприятий».6 Обратим внимание, что Кант не просто
говорит, будто возможность (существо) опыта
состоит в необходимой связи восприятий: он говорит, что
эта возможность заключается только в представлении
о необходимой связи восприятий, т. е. в
представлении о необходимости связного бытия того, что дают
восприятия.
Что это за необходимость связного бытия? Почему
она в первую очередь принадлежит к внутренней
возможности осуществления опыта? Если к возможности
опыта принадлежит представление и представленность
о необходимой связности, тогда именно этот опыт
в своем существе и должен обнаружить нечто
подобное связному (Verknüpftes) и тому многообразию,
которое нуждается в этой связи.
5 Кантова теория опыта; проблема человека — конечность.
6 а. а. О. В 218.
189
Почему Кант находит это в опыте? «Опыт есть
эмпирическое знание, т. е. знание, определяющее объект
посредством восприятий».7 Тем самым сказано, что
само сущее — предмет, сам объект — познаваемо лишь
постольку, поскольку оно каким-то образом
обнаруживает и дает себя самоё. Применительно к такому
самообнаружению, к тому, что должно определяться как
объект в его объективности, познавание исходно
выступает как вбирающее, как вообще позволяющее-сто-
ять-напротив. Это вбирание — схватывание —
совершается в восприятиях, определенных чувственными
ощущениями. Эти восприятия суть события в
человеке. Когда мы берем их как таковые в их
совершении, тогда обнаруживается, что они следуют друг за
другом. Никакое восприятие, взятое в таком ракурсе,
не имеет преимущества перед другим: они
отличаются друг от друга только местом в последовательности
их появления и исчезновения. Взятые таким образом,
восприятия «сходятся друг с другом в опыте только
случайно».8 «Последовательность в схватывании
повсюду одинакова».9
Эту ситуацию можно в более свободной манере
описать несколько определеннее. Восприятия
сходятся друг с другом, при этом они сменяют друг друга или
присутствуют одновременно — в их совершении как
события душевной жизни. Например, теперь я вижу
мел, чувствую жару, слышу шум снаружи,
рассматриваю кафедру Здесь есть не только последовательность
или одновременность восприятия как отношения
в более широком смысле: вместе с этим здесь
соответственно имеет место схождение воедино всего того,
что в этом восприятии воспринято: мел, жара, шум,
«a.a.O., В 219.
9 а. а. О. А 194, В 239.
190
кафедра. Где все это оказывается вместе? В воспри-
нятости одного восприятия, которое всегда есть
«сознание» воспринимающего, и это сознание как таковое
едино. Если мы возьмем это воспринятое как таковое,
т. е. в его воспринятости, тогда оно обнаружится как
нечто такое, что оказывается вместе в
последовательности восприятия и через него. Ведь мел, жара, шум
и кафедра, будучи тем сущим, какое они есть,
поначалу вообще не имеют друг ко другу никакого
отношения. Ни одно из этого воспринятого — если взять его
только в его «чтойном» содержании (Wasgehalt) — не
имеет в себе определенного и тем более необходимого
отношения к другому. Иными словами, если я
рассматриваю опыт самого сущего только в ракурсе лежащих
в этом опыте и сменяющих друг друга схватываний
(Apprehensionen), тогда получается, что они лишь
приводят к «сопоставлению». Но почему бы на этом и не
остановиться? Потому что фактически опыт никогда
не обнаруживает только — и никогда не обнаруживает
в первую очередь — вот такого разнообразного «сбора»,
и тем более потому, что мы в нашем опыте вообще не
соотнесены с восприятиями как событиями душевной
жизни, их последованием и сопоставлением во
времени. Но с чем же тогда? С самим сущим,
проявляющимся в восприятиях, с явлениями и их разнообразием,
причем в отношении их наличности; наконец, с
отношением наличных вещей между ними самими как
наличными. В своем опыте сущего мы всегда уже
представляем единство наличного сущего в его таком-то и
таком-то наличном бытии. Опыт — это не познание
именно восприятий, но «познание объектов
посредством восприятий».10 В нем «отношение в
существовании многообразного» представляется «не так, как оно
10 а. а. О. В 219.
191
складывается во времени [становления воспринятого],
а так, как оно объективно существует во времени».11
В опыте, выходя за пределы одной только
совокупности восприятий, мы постигаем единство наличного
сущего согласно его наличному бытию — короче
говоря, постигаем единую природу. «Под природой (в
эмпирическом смысле) мы разумеем связь существования
явлений по необходимым правилам, т. е. по законам».12
Таким образом, решающим в понимании природы
является единство наличия наличного. Если в опыте всегда
познается природа, тогда в явлении всегда — кроме
простого скопления того, что воспринимается, — должно
представляться единство в наличии явлений. Но
откуда возникает это представление о единстве в наличном
бытии? Так как восприятия всегда дают лишь какое-то
скопление воспринимаемого, его единства и
взаимосвязи они сами не дают. Поскольку — согласно Канту —
познание (опыт) состоит из созерцания и мышления
(чувственности и рассудка), упомянутое единство и
взаимосвязь наличия наличного возникает только из
мышления или из определенного единящего сочетания
мышления и созерцания. Но, по-видимому, с
помощью одного лишь мышления нельзя определить
единство наличия наличного. Тогда как же это возможно?
Наличие наличного — это всегда наличие во
времени. Поэтому единство природы прежде всего
определяется как единство и взаимосвязь наличного во
времени. Но как раз это — т. е. то или иное положение
во времени и соответствующее временное отношение
одного наличного к другому — нельзя измыслить
свободным мышлением, нельзя сконструировать. Точно
так же нельзя просто и непосредственно воспринять
iTmxiT
12 а. а. О. А 216, В 263.
192
ту или иную временную определенность
какого-нибудь наличного в общей связи единых временных
отношений природы. Для этого потребовалось бы, чтобы
временное положение всякого наличного мы
«считывали» с абсолютного времени, а это опять-таки
предполагает, что мы можем — для себя — воспринимать
само время во всей его полноте и целостности. Но это
невозможно. Рассуждая об аналогиях опыта, Кант
снова и снова подчеркивает, что «абсолютное время не
есть предмет восприятия, который мог бы объединить
явления»,13 а «само время... невозможно воспринять».14
«Время само по себе нельзя воспринять».15 «Ведь
время само по себе нельзя воспринять и в отношении
к нему нельзя определить в объекте как бы
эмпирически, что предшествует и что следует».16
Но где же тогда найти настоящее обоснование
единства наличного? Кант не дал четкого и специального
обоснования, да и не мог его дать, потому что у него
отсутствует метафизика вот-бытия.17 «В
действительности существует только одно время, в котором все
различные времена должны полагаться не вместе, а одно
после другого».18 Временную определенность, а тем
самым и единство наличия наличного, т. е. природу,
нельзя ни непосредственно воспринять, ни
сконструировать α ρήοή (хотя здесь же нельзя обойтись и без
созерцания и мышления): ее можно констатировать
только в эмпирическом измерении времени. Но для
этого необходимо, чтобы заранее были установлены
13 а. а. О. А 215, В 262.
14 а. а. О. В 219.
15 а. а. О. В 225.
16 а. а. О. В 233, ср.: В 257.
17 Время — временность — конечность — вот-бытие
человека. Ср.: Heidegger M. Kant und das Problem der Metaphysik (Хай-
деггер M. Кант и проблема метафизики. М.: Логос, 1997).
18 а. а. О. А 188 f., В 232.
193
определения времени, в которых выражаются те
временные отношения, в каковых вообще наличное
существует как наличествующее во времени. Эмпирические
временные отношения вообще определимы только на
основании чистых временных отношений, в которых
природа вообще удерживается как таковая (пусть и
во всем своем всегдашнем фактическом и конкретном
течении). Аналогии опыта, т. е. те основоположения,
к которым принадлежит и основоположение
причинности (вторая аналогия), Кант называет
трансцендентальными определениями времени. Они содержат в себе
правила необходимого и всеобщего временного
определения всего наличного, «без которых было бы
невозможно само эмпирическое временное определение».19
С помощью этих правил мы можем «антиципировать
опыт»,20 т. е. предвосхищать его развитие, причем здесь
имеется в виду не фактическое течение и стечение
обстоятельств, а то, чему подвластно всякое особенное
фактическое течение, поскольку оно представляет
собой течение природы. Эти правила
трансцендентального временного определения, не являющиеся
правилами одного лишь мышления, словно размечают
почти всеохватное единство природной
взаимосвязности и таким образом намечают форму, в соответствии
с которой должна осуществляться всякая конкретная
связь воспринятого. Теперь эта связь соотносится не
столько с последовательностью восприятия душевных
событий, сколько с самим воспринимающимся
явлением, поскольку оно представляется как заранее
находящееся в ракурсе чистых временных отношений. Эта
антиципация есть то представление, о котором Кант
говорит в общем основоположении аналогий. Общее
19 а. а. О. А 217, В 264.
20 Ebd.
194
временное определение является антиципирующим,
потому что оно располагает возможными способами
нахождения во времени (In-der-Zeit-sein) всего того,
что фактически дается восприятиями.
Ь) Три модуса времени
(постоянность, последовательность
и одновременность)
как способы внутривременности наличного
Теперь мы уже лучше понимаем, почему эти три
аналогии — как правила предварительного определения
определимости наличия наличного — ориентированы
на время, на модусы времени. Наличие и единство
наличности прежде всего как раз и означает присутствие
(наличие) во времени, единство и определимость связи
отношений, т. е. тех отношений, которые наличное —
поскольку оно есть «во времени» — вообще имеет ко
времени и должно иметь. Следовательно, модусы
времени означают не столько изменение времени в себе
самом как таковом: нет, модусы суть те способы, в
соответствии с которыми наличные явления вообще
относятся ко времени, «суть во времени». Короче говоря,
модусы времени — это не основные особенности
времени как такового (настоящее, прошедшее, будущее),
а способы внутривременности (Innerzeitigkeü)
наличного. Первый модус — постоянность (Beharrlichkeit) —
выражает отношение явлений «к самому времени как
величине»,21 т. е. величина бытия-во-времени (In-der-
Zeit-sein) наличного (Vorhandene) есть его
продолжительность. Второй модус — последовательность
(Sukzession) — выражает отношение наличного во времени
21 а. а. О. А 215, В 262.
195
как некоего ряда (последовательности «теперь»);
рассмотренное в перспективе этого ряда, наличное в своем
наличии предстает как следование друг за другом.
Третий модус — одновременное существование
(Zugleichsein, Simultaneität) — выражает отношение наличного
ко времени как совокупности всего наличного?2
Таким образом, время здесь берется трояко: как
величина, как ряд и как совокупность. В какой мере
время может быть таким или — тем более — в какой мере
оно должно быть взято этим трояким способом, — это
дальнейший вопрос, который здесь мы пока опустим.
Вспомним лишь об основной части — «О
схематизме чистых рассудочных понятий» — где становится
ясно,23 что, когда время характеризуется как «ряд»,
«содержание», «порядок», «совокупность», в игру
вступают категории, таблица категорий, таблица
суждений и вообще логика.24 Но тогда почему Кант
говорит просто о временных отношениях, если речь все-
таки идет об отношениях сущего во времени к этому
времени? Потому что для Канта время с самого начала
и всегда — не что иное, как то, в чем
упорядочивается многообразие внутреннего и внешнего восприятия.
Время берется прежде всего и исключительно в его
отношении к внутривременному, и тогда временные
отношения означают отношения времени, т. е.
изменения отношения времени ко внутривременному. В этом
понимании времени — сильная сторона проблематики
Канта, но одновременно и ее предел.25
22 Ср.: Ebd.
23 Ср.: а. а. О., А 145, В 184/5.
24 Ср.: Heidegger M. Kant und das Problem der Metaphysik.
§ 22. S. 99.
25 Время, взятое таким образом, — не изначальное время и
не то, в котором выявляется существо времени. Ср.: Heidegger M.
Sein und Zeit. § 79-81.
196
с) О различии динамических
и математических основоположений
Завершая общую характеристику аналогий опыта,
упомянем еще одно обозначение, которым Кант
наделяет эти основоположения и ту группу, которая не
сразу поддается пониманию. Он называет их
динамическими основоположениями — в отличие от
математических.26 С помощью этого различения он разделяет
и категории. Различение касается не столько характера
самих основоположений как таковых, сколько того, как
они действуют или, говоря кантовским языком,
применяются и делают возможным то, к чему применяются
(наглядность, определенность в наличном). «Все
категории делятся на два класса: математические, которые
имеют дело только с единством синтеза в
представлении об объектах, и динамические, которые имеют дело
с единством синтеза в представлении о существовании
объектов».27
Основоположения и категории, называемые
математическими, касаются того аспекта в явлениях,
который мы называем созерцательным или содержательным,
а если пользоваться терминологией Канта и
предшествующей метафизики — реальным. Здесь под
реальным (das Reale) подразумевается не действительное
(das Wirkliche), как в сегодняшнем неподлинном
словоупотреблении, а относящееся к res, составляющее ее
суть. Математические основоположения — это
положения, которые очерчивают то, что относится к вещности
(die Sachheit) вещей, к их essentia. В проблематике
Канта математические основоположения суть те
онтологические положения, которые определяют essentia сущего.
26 Ср.: Heidegger M. Vom Wesen des Grundes. S. 21.
27 Kant I. Kritik der praktischen Vernunft (Vorländer). 9. Aufl.
Leipzig: Meiner, 1929. S. 120 (V, 186).
197
Но с давних пор от essentia отличается existentia
(наличие, или, по-кантовски, существование).28 Если
явления определяются только в ракурсе их наличия
(existentia), a не в перспективе их содержательной
вещественности, тогда, согласно Канту, такие
основоположения суть основоположения динамические. Если
аналогии опыта принадлежат к динамическим
основоположениям, тогда отсюда мы видим, каково их
местоположение в рамках проблемы традиционной
метафизики. При этом надо отметить, что именно Кант, под
влиянием Лейбница, довольно ясно — в связи с
проблемой что-вытия — развил проблему бытия-налич-
ным (das Vorhandensein), правда, не поднимая
принципиальный вопрос об истоке этого различия (*шо-бытие
и что-бытпие) и не ставя его в измерении радикально
понятой бытийной проблемы. Сейчас я намеренно
говорю об этом, потому что в ходе решения
проблемы свободы — какой бы смутной она поначалу ни
казалась — мы натолкнемся именно на вопрос о
происхождении что-бытия и что-бытия, возможности и
действительности, потому что даже проблема
свободы — рассматриваемая метафизически —
сосредоточена именно здесь, а не в проблеме причинности.
Итак, свободу надо рассматривать в рамках
причинности. Но какова сущность причинности? Как
Кант ее определяет? Какова та проблемная связь, в
которой это сущностное определение дает о себе знать?
Забегая вперед, скажем: это вопрос о возможности
опыта. Опыт — это то возможное познание сущего,
которое доступно только человеку. Но тогда вопрос
о возможности конечного познания (познание и как
таковое — экзистенция) — это вопрос о природе ко-
28 См. выше, § 7: о различных значениях связки «есть»
(что-бытие, что-бытпие; essentia, existentia).
198
нечности экзистенции. Проблема причинности, а тем
самым и проблема свободы находятся именно в этой
связи. Это затронутое напоследок и есть, в конечном
счете, последняя и первая связь, исконная, подлинная
и единственно необходимая для решения проблемы
свободы. Правда, отсюда не следует, что проблема
свободы должна ориентироваться на проблему
причинности. «Причинность» — не то исконнейшее, что могло
бы содержать конечность экзистенции: последнюю
вообще не следует понимать только и исключительно из
«опыта», из познания, из теоретического, равно как из
практического. 1де же тогда искать глубочайшее
существо конечности человека? В понимании бытия, в
событии бытия. Таковы вопросы, которые выявляются,
когда мы спрашиваем о том проблемном измерении,
в котором должна решаться проблема человеческой
свободы. И сам этот вопрос надо брать конкретнее,
с прицелом на выработку и проработку проблемы,
а именно в таком смысле: как должна опрашиваться
высшая сущность конечности экзистенции, в каком
направлении развертываться, чтобы появилась
конкретная путеводная нить для решения проблемы свободы?
d) Аналогии опыта как правила основоотношений
возможного бытия-во-времени (In-der-Zeit-sein)
наличного (das Vorhandene)
Решение предвопроса о Кантовом определении
существа причинности равнозначно истолкованию его
учения об аналогиях опыта. Их общая характеристика
приходит к завершению — в конечном счете, путем их
рассмотрения как динамических основоположений —
и проведению отличия математических
основоположений от динамических (essentia—existentia). У Канта
199
термин «аналогия» описывает проблему наличия
наличного, чья связь с проблемой причинности и
свободы должна рассматриваться тематически.
В аналогиях Кант формулирует правила, которые
в каждом человеческом опыте как таковом уже
оказываются представленными, причем таким образом, что
каждому отдельному опыту они как бы заранее
показывают основные отношения возможного бытия-во-
времени (In-der-Zeit-sein) наличного (das Vorhandene),
т. е. позволяют понять постигнутое в опыте и
постижимое в нем как таковое, понять встречающееся в нем
сущее в отношении его бытия-наличным. В них частично
концентрируется понимание бытия в отношении
наличия наличного (природа). Это самые общие
положения о природе, в которых положено то, что вообще есть
природа; те законы природы, которые естественные
науки никогда не открывают и не могут открыть, потому
что они уже заранее должны быть открыты и поняты,
коль скоро естественнонаучному вопросу о
каком-нибудь определенном законе природы вообще надлежит
быть поставленным. Так, основоположение о
причинности, будучи второй аналогией, есть правило
трансцендентального определения времени. В соответствии
со сказанным, при рассмотрении проблемы
причинности речь идет о наличии наличного и его объективной
определимости. Чрезвычайно важно хорошо это
понимать, чтобы уяснить, в каком направлении движется
проблема свободы, коль скоро она, вслед за Кантом,
связывается с причинностью, даже тогда, когда
свобода полагается как нечто принципиально отличное от
природной причинности. Она все еще причинность —
причинность, ориентированная на связь в наличии
наличного.
Теперь нам надо, руководствуясь общим
рассуждением об аналогиях вообще, попытаться развернуть
200
вторую аналогию. Однако чтобы выявить ее
специфику, было бы неплохо сначала рассмотреть первую
аналогию. Это тем более необходимо, потому что
первая аналогия некоторым образом представляет
основание второй и третьей.
§ 18. Разъяснение метода доказательства
аналогий опыта и их оснований
на примере первой аналогии.
Основополагающее значение первой аналогии
а) Первая аналогия. Постоянность и время
А: «Все явления содержат в себе постоянное
(субстанцию) как самый предмет и изменчивое в качестве
лишь определения предмета, т. е. способа его
существования».1
Первая аналогия называется «основоположением
постоянности», т. е. положением о коренящейся в
основе опыта необходимости «постоянного
существования подлинного субъекта в явлениях».2
Пока мы намеренно придерживаемся первого
издания (А). Канту важна не только четкая постановка
этого основоположения, но и правильное его
доказательство. Он считает, что «во все времена не
только философский ум, но и обыденный рассудок
допускал это постоянное как субстрат всякой смены
явлений»3 — разница только в том, что философ,
высказываясь об этом несколько определеннее, говорит,
что «при всех изменениях в мире субстанция остает-
1 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. А 182.
2 а. а. О. А 185, В 228.
3 а. а. О. А 184, В 227.
201
ся и сменяются только акциденции».А «Однако, —
добавляет Кант, — я нигде не нахожу хотя бы попытки
доказать это совершенно синтетическое положение;
более того, оно лишь изредка ставится, как это ему и
положено, во главе чистых и совершенно α ρήοή
существующих законов природы».5 Тем не менее это
основоположение кладут в основу всякого опыта, «так как
потребность в нем чувствуется при всяком
эмпирическом познании».6 Этим фактом просто
довольствуются, никак не пытаясь разобраться в нем, т. е. не
пытаясь понять внутреннюю возможность и необходимость
этого основоположения и его сущностную
принадлежность к опыту.
Первую аналогию надо доказать. Но что здесь
подлежит доказательству? Во-первых, что «во всех
явлениях есть нечто постоянное, по отношению к
которому изменяющееся есть не что иное, как определение
существования этого постоянного».7 Во-вторых, что
это постоянное есть сам предмет, т. е. подлинно сущее
в явлении. Надо учитывать, что во всех явлениях есть
нечто постоянное, а не только в том или этом.
Доказать надо не факт наличия того или этого постоянного,
а его сущностную принадлежность тому, что познается
в опыте. Доказательство можно провести только
путем выявления того, что в силу сущностной
необходимости (wesensnotwendig) принадлежит возможности
(сущности) опыта.
Как протекает это доказательство? Вспомним о том
двояком, что принадлежит опыту: 1) простая
собранность разнообразного, которая нуждается в
связывании; 2) связывание — но не какое угодно, а обяза-
4Ebd.
5 Ebd.
6 а. а. 0.185, В 228.
7 а. а. О., А 184, В 227.
202
тельное, необходимое; в соответствии с той
обязательностью, которая исходит из самого сущего и его такого-
то и такого-то наличия. Первая и, таким образом, любая
аналогия формулирует один из необходимо
представляемых способов связности и, следовательно, то единство,
в котором должно находиться все, что можно постичь
в опыте. Особенно в первой аналогии надо прежде всего
доказать необходимость постоянности в постоянном,
благодаря которой вообще возможны всякое
изменение и перемена и тем самым — всё разнообразие
отношений наличного. Таким образом, доказательство того,
что эта постоянность необходима, должно начинаться
с одного только собранного разнообразия схватывания
(Appréhension), которое тоже принадлежит опыту
Доказательства всех трех аналогий всегда начинаются
здесь, в первичной последовательности схватывания.
Что получается, когда мы придерживаемся только
последовательности восприятий? Тогда перед нами —
лишь их непрестанная смена. Но из нее одной мы
никогда не можем вывести, как обстоит дело с самим
предметным (das Gegenständliche), которое — через
восприятия — объединено в опыте: сменяет ли оно
друг друга или пребывает одновременно? Решение
относительно последовательности и одновременности,
т. е. об отношениях во времени вообще возможно
только в том случае, если в основе опыта уже заранее
лежит нечто пребывающее и постоянное, применительно
к которому названные отношения суть только модусы.
Точнее говоря, уже сама природа последовательности
и одновременности как отношений бытия-во-времени
(das In-der-Zeit-sein) указывает на то, что в их основе
с необходимостью должно лежать нечто постоянное,
ибо эти временные отношения вообще могут «быть»
только в том случае, если само время уже непрестанно
пребывает в постоянности. Таким образом, время есть
203
нечто такое, что вообще выражает постоянность.
Только там, где есть постоянность, возможна и длительность
как величина бытия-наличным во времени. Уже само
схватывание в своей последовательности указывает на
то постоянное, которое как раз тогда вообще
выступает как первичная форма самой постоянности — время.
Оно — субстрат всего, что вообще встречается в опыте.
Оно есть то, что заранее и уже всегда распростерто
перед взором — чистое созерцание. Только в его
контексте можно сравнивать и определять последовательную
смену и одновременное наличие — при том условии,
что само время воспринимаемо как таковое. Но оно не
таково, оно само не воспринимается. Следовательно,
для того чтобы опыт был возможным, в реальности
должен находиться субстрат, к которому восходит
всякое определение времени. Это необходимое условие
возможности всякого единства связывания
восприятий — субстанция. «Однако эта постоянность есть не
более чем только способ, каким мы представляем себе
существование вещей (в явлении)».8 Постоянность —
это то «как» (das Wie), которое мы представляем с
самого начала и в горизонте которого только и возможно
дать определение встречающемуся как наличному.
Ь) Проблематичный фундамент аналогий:
непроясненная одновременность времени
и «я мыслю» (рассудок)
в непроверенном полагании существа человека
как конечного субъекта
В конечном счете, доказательства аналогий, как
и другие доказательства Канта, вы не сразу уразуме-
8 а. а. О. А 186, В 229.
204
ете — ни по их содержанию, ни тем более по
обязательности и строгости, да и вообще они останутся для
вас непонятными. Однако причина этому не только
внешняя (неполное знание Кантовых теорий и
рассуждений): есть и внутренние причины, о которых надо
кратко упомянуть — тем более что сам Кант старается
быть очень основательным в своих доказательствах, и
те, кто цепляется за Канта, очень гордятся строгостью
и обязательностью его аргументации. Как бы точно ни
формулировались его доказательства, они через это не
становятся обязательными — до тех пор, пока не
станет ясной их необходимость. Ведь надо
принципиально иметь в виду следующее: доказательство — во всей
своей последовательности, т. е. как целое — лишь тогда
обязательно, когда оно само необходимо как это целое
и понято в этой необходимости, каковая понятость, со
своей стороны, уже не требует теоретического
доказательства. Может статься, что предпосылки и тезисы, из
которых — как кажется Канту — и возникает
необходимость его доказательств и тем самым их
обязательность — сами по себе несостоятельны и
несостоятельны потому, что возникают из недостаточной проверки
и недостаточного сущностного определения как раз
тех фактов, на которых и основывается вся
проблематика и для которых она разворачивается. Если это
действительно так, если необходимость Кантовых
доказательств беспочвенна, тогда рушится не только их
убедительность, но — прежде всего и вообще — их
возможность. Так не только могло бы быть — по
отношению к этим доказательствам — но так оно и есть на
самом деле. Это касается как доказательств его
основоположений, так и доказательства
трансцендентальной дедукции. Своеобразное родство с
доказательствами трансцендентальной дедукции обнаруживается уже
чисто стилистически и в самом характере изложения.
205
И то и другое — основоположения и
трансцендентальная дедукция — не обязательны в той форме, как их
берет Кант и как — исходя из их основания — и
должен брать. Правда, это не значит, что они не скрывают
в себе проблемы.
Но почему это так? Потому что Кант, коротко
говоря, сам не сделал конечность человека изначальной
проблемой — ту конечность, из которой и ради
которой он развернул проблему критики чистого разума.
Задача интерпретации Канта и состоит в том, чтобы
это показать. В ней нет псевдофилологического
стремления выявить «правильного» Канта — такого просто
нет. Любое философское истолкование само по себе —
деструкция, разбирательство и радикализация, но это
не обязательно скепсис. Или же оно ровным счетом
ничего из себя не представляет и превращается в
пустую болтовню, которая обстоятельнее пересказывает
все то, что у самого автора сказано лучше и проще.
Но — по отношению к Канту — отсюда не следует,
что мы объявляем его доказательства правильными
и оставляем их в покое: наоборот, отсюда возникает
потребность действительно прояснить их, чтобы тем
самым увидеть фундамент, на котором они
покоятся, — фундамент, который для самого Канта
предпосылается непроверенным.
В нашем случае это, с одной стороны, понимание
времени, а с другой — понимание рассудка. Точнее и
принципиальнее: речь идет о понимании отношения
времени и «я мыслю» (рассудок), а еще точнее — о
непроверенном и непроясненном, черновом сопоставлении
того и другого в непроверенном полагании существа
человека как конечного субъекта. Внутренняя
структурная связь времени и «Я» как «Я мыслю» (рассудок)
остается непроясненной и необоснованной и тем более
и заодно таковым остается основное отношение един-
206
ства того и другого как сущности отношения субъекта
к объекту — короче говоря, недостаточно определена
трансцендентность, чтобы вообще стать
действительной проблемой — вот в этом и заключается внутренняя
причина реальной трудности в понимании, например,
Кантовых доказательств аналогий.
с) Аналогии опыта и трансцендентальная
дедукция чистых рассудочных понятий.
Логическая структура аналогий опыта
и вопрос ее аналогического характера
Сейчас мы хотим еще раз проследить
доказательство основоположений в его главных шагах — чтобы
выявить основания и тем самым увидеть, почему эти
основоположения названы «аналогиями».
1. Все явления — т. е. само наличное сущее,
доступное нам, людям, — существуют во времени и
находятся в единстве связи их наличия, т. е. в единстве
временной определенности. Основой вид определения
чего-то как чего-то — это определение субъекта через
предикат. Само время есть изначально постоянное (das
Beharrliche) — так что изначальное единство связи
наличия наличного создается постоянством.
2. Но само время — т. е. время, взятое само по
себе, в абсолютном смысле — нельзя воспринять.
Время — как то, в чем все наличное имеет свое место — не
может быть воспринято непосредственно как
определяющее (Bestimmende) отдельные места наличного.
Но время — как постоянное — требует, чтобы всякое
определение единства сущего во времени связывалось
с ним.
3. Таким образом, должно существовать правило,
по которому в каждом являющемся — как субъекте —
207
следует искать и находить нечто постоянное, и потому
субъект появляется как субстанция. Это правило есть
основоположение постоянства субстанции.
Следовательно, необходимость этого основоположения
вытекает из существа явления, из единства сложения
времени и «Я мыслю».
Отсюда ясно, почему этот вид основоположений
называется аналогиями. Согласно Канту, аналогии
существуют как в математике, так и в философии.9
Вообще аналогия означает соответствие чего-то чему-то,
а точнее говоря — соответствие одного отношения
другому. В математике аналогия обозначает соотношение
двух величин, их пропорцию. Если даны три члена,
через них можно математически определить
четвертый, т. е. его можно математически получить и дать,
сконструировать. В математике аналогия представляет
собой конститутивное определение. В философии речь
идет не о количественных, а о качественных
отношениях (Вольф), и здесь четвертый член нельзя
получить как таковой: он определим только как отношение
к четвертому, т. е. определить можно лишь то, каким
должен быть четвертый член как постигаемый в
опыте, если он вообще постижим в своем существовании.
Примером первой аналогии является соответствие
двух отношений: предиката к субъекту, акциденции
к субстанции. Акциденция — как нечто встречающееся
во времени — относится к субстанции как Ρ к S.
Субстанция должна существовать как нечто определимое,
лежащее в основе, а говоря временным языком — как
нечто постоянное. Аналогия не утверждает наличия
субстанций, но дает априорное указание и правило:
всегда отыскивать в каждом явлении нечто
постоянное. Вместе с этим указанием одновременно дан при-
9 а. а. О. А 179 f., В 222.
208
знак, чтобы всегда отыскивать в явлениях то, что
удовлетворяет заданному требованию постоянства.
Аналогии суть онтологические основоположения
о наличии наличного (existentia). Из этих
онтологических положений не делается вывода о наличности того
или иного онтического (das Ontische): вывод
делается о конечной, принадлежащей опыту необходимости
коснуться того, что онтологически подразумевается
в основоположении: в данном случае речь идет о
постоянности. «Но для предметов опыта необходимо все
то, без чего сам опыт относительно этих предметов был
бы невозможен»10 (доказательство третьей аналогии).
Необходимость, принадлежащая опыту, —
необходимость обусловленная, которая коренится в
случайности опыта: если конечное существование существует.
В этом заключается новое определение существа
онтологического (das Ontologische).
В противоположность этому предшествующая
метафизика поступала так: 1) онтологические положения
доказываются рационально-логически, а не из
существа опыта; 2) эти онтологические положения
применяются в непосредственных онтических выводах.
В несколько расширенном смысле все четыре
группы основоположений в соответствии с классами
категорий суть аналогии, поскольку они
схватываются в соотнесении с четырьмя логическими формами
возможной связи представлений вообще возможного
определения. Четыре отношения, в соответствии с
которыми формируются разнообразные формы суждения
(категории) и основоположения, возникают из
традиционного деления суждений (форм суждения) в
формальной логике: количество, качество, отношение,
модальность.
10 а. а. О. А 213, В 259 f.
209
Постоянность (субстанция), взятая как
категория, входит в рубрику отношений, причем — как Кант
здесь11 говорит — не потому, что она сама содержит
отношение, а скорее потому, что она содержит условие
отношений: присущность (Inhärenz) и субсистенция,
substantiel et accidens, причинность и зависимость (причина
и действие), общение (взаимодействие между
действующим и подвергающимся действию, страдающим).12
Путеводной нитью здесь является таблица суждений,
т. е. «отношения мышления в суждениях». Это суть
«а) отношение предиката к субъекту; Ь) отношение
основания к следствию; с) отношение разделенного
знания и всех членов деления друг к другу».13
d) Об основополагающем значении
первой аналогии.
Постоянность (субстанциальность)
и причинность
Отсюда мы видим, каким образом постоянность
(и первая аналогия вообще) предстает как условие
возможности также причинного отношения, а именно
как отношение вообще. Это становится совершенно
ясным из того соображения, которым Кант завершает
рассмотрение первой аналогии. Оно касается понятия
«изменения», каковое понятие только теперь можно
исправить, правильно уловить. Итак, изменение есть
«один способ существования, следующий за другим
способом существования того же самого предмета».14
Следование различных состояний друг за другом, ис-
11 Ср.: а. а. О. А 187, В 230.
12 Ср.: а. а. О. А 80, В 106.
13 а. а. О. А 73, В 98.
14 а. а. О. А 187, В 230.
210
чезновение одного из них и появление другого — это
смена. Смена касается переменчивого как такового,
а изменение — это следование состояний «одного и
того же предмета». Поэтому изменяется и может
изменяться только то, что пребывает: «Только постоянное
(субстанция) изменяется».15 Следовательно, и
изменение воспринимается только там, где сначала
познается пребывающее и сохраняющееся (Bleibendes). Ведь
только на его основании и при удержании его как
сохраняющегося может восприниматься нечто вроде
перехода от одного к другому — без сохраняющегося
неизменным была бы только полная смена одного
другим. Но переход и его определение скрывает в себе
следование друг за другом (Nacheinander), и точно так же
в последовательных переходах и изменениях сокрыто
одновременное существование того, что друг за другом
следует. Следование и одновременное существование
суть чистые основоотношения возможного чистого
временного определения. Становится ясно, что то
постоянное, которое имеется в явлениях, т. е.
субстанции, представляет собой «субстраты всех определений
времени».16 «Следовательно, постоянность есть
необходимое условие, при котором только и можно
определить явления как вещи или предметы в возможном
опыте».17
Тем самым становится ясным фундаментальное
значение первой аналогии и одновременно
указывается, каким образом вообще все то, о чем говорится во
второй аналогии (отношение причины и действия),
будучи отношением временной последовательности,
утверждается на первой аналогии. Рассмотрев первую
15 а. а. О. А 187, В 230 f.
16 а. а. О. А 188, В 231.
17 а. а. О. 189, В 232.
211
аналогию, мы получили двоякое: во-первых, обсуждая
вторую аналогию, мы должны одновременно мыслить и
понимать первую, — короче говоря, надо иметь в виду,
что проблема причинности как-то срослась с
проблемой субстанциальности, в более широком смысле
понимаемой как постоянность. Кроме того, теперь мы
понимаем, как происходит доказательство аналогий и
какова их основная особенность.
Чтобы — имея в виду первое — еще понятнее
говорить о связи постоянности и причинности, зададимся
таким вопросом: если сама свобода определяет
характер причинности, тогда какое постоянное (Beharrliche)
должно лежать в ее основе? Постоянность
действующей личности. Можно ли понимать эту постоянность
как непреложность наличного во времени, т. е.
неизменность природы? Если нет, достаточно ли тогда
просто сказать, что действующая личность, т. е. разум,
находится не во времени? Или же личностность
личности, человечность (Menschsein) человека имеет свою
собственную временность и, следовательно,
собственную «постоянность», вследствие которой событийный
характер существования человека, т. е. существо
истории определяется в собственном смысле
принципиально иначе — в сравнении с процессами,
совершающимися в наличествующей природе?18 И забегая вперед:
такова ли вообще временность сущностно свободного,
что для его событийности причинность оказывается
решающей? Если нет, тогда проблему свободы вообще
надо вывести за сферу причинности, но это, правда,
тотчас потребует позитивного определения новой,
более исконной проблемной области.
18 Можно ли представлять ее в этом «естественном» способе
представления, т. е. оказывается ли такое представление
достаточным? Сравним современную теорию атомарной структуры,
ее проективный горизонт и представление о «подвижности».
212
Постоянность в любом случае имеет внутреннее
отношение ко времени. Само существо опыта требует
постоянного во всем опытно постигаемом, поскольку
то, что в опыте доступно, вообще и с самого начала
определено как внутривременное. Поэтому —
поначалу эмпирически — встреча с постоянным всегда
свидетельствуется — свидетельство, которое не могло не
оказать влияния на понимание бытия и формирование
направления в этом понимании. Мы напоминаем:
собственно сущее есть постоянно находящее в
распоряжении (Verfügbare), всегда присутствующее. Такие вещи,
но также всегда связанный с ними опыт бытия
самости и его самостности, постоянства, само-стоятель-
ности перемещает идею постоянности — и тем самым
субстанцию — в ближайший горизонт всякого
повседневного отношения к сущему.
§ 19. Вторая аналогия.
Событие, временная последовательность
и причинность
а) Событие и временная последовательность.
Анализ существа данности и возможность
ее восприятия
А: «Все, что происходит (начинает быть)
предполагает нечто, за чем оно следует согласно правилу»}
В: «Все изменения происходят по закону связи
причины и действия».2
Из первого варианта (А) видно, что речь идет
о проблеме возвратного отнесения того, что произо-
1 1. а. а. О. А 189.
2 а. а. О. В 232.
213
шло, к тому, что его определяет. Далее (редакция В)
мы узнаем, что здесь явно имеется в виду понятие,
рассмотрением которого завершается доказательство
первой аналогии. Да, в редакции В связь второй аналогии
с первой формируется еще теснее — благодаря тому,
что собственно доказательству Кант предпосылает
«напоминание»,3 в котором «прежнее
основоположение» формулируется так, что его отношение ко второй
аналогии становится еще яснее: благодаря тому, что во
второй аналогии речь идет о событии как таковом,
говорится о последовательности, которая прежде всего
и постоянно дает о себе знать как смена — начало и
прекращение. Поскольку первая аналогия требует,
чтобы сначала имелось представление о том, что в смене
есть нечто, остающееся неизменным и сохраняющееся,
основоположение может звучать и так: «Всякая смена
(последовательность) явлений есть лишь изменение».4
Последовательность есть только это, а не безусловное
возникновение и прехождение (Vergehen) субстанции,
не возникновение из ничего и последующее
исчезновение. Иначе и еще яснее — в онтологическом
плане — можно сказать так: в первой аналогии уже — из
сущностного определения «собственного предмета»
опыта, природы — определяется отношение первой
аналогии ко второй и таким образом предначерта-
тельно определяется сущность возможного движения:
последовательность — это только изменение.
Переходы — это следование и последовательность сущего и
не-сущего, причем совершающиеся таким образом, что
они не просто сменяются, но следуют друг за другом
на основе постоянного и так образуют событие,
которое мы воспринимаем в опыте. Из этого становится
3 а. а. О. В 232 f.
4 а. а. О. В 233.
214
ясно следующее: мы направлены на нечто такое и
соотнесены с чем-то таким, что выдвигает самоё себя как
всегда уже наличное — до всякого схватывания. В этом
обнаруживается конечность опыта.
Если теперь мы спрашиваем, как возможен опыт
происходящего как такового, опыт тех или иных
событий, то уже спрашиваем не вообще о возможности
наличия наличного и о собственном предмете опыта,
а о том, что составляет основную черту наличия как
связности. Каким образом возможен опыт каких-либо
событий? Он возможен только в соответствии с
правилом временного определения, которое называется
«основоположением о временной последовательности
по закону причинности».5 Следовательно, если
обнаруживается, что — и как — только причинность
делает возможным опыт событий, тогда становится ясно,
что причинность принадлежит к возможности опыта
вообще, принадлежит к его сущностному составу, т. е.
тем самым выявляется сама сущность причинности.
И рассмотрением этой сущности, или ее кантовского
определения, мы и хотим заняться.
Таким образом, основоположение о причинности
надо первым делом не просто озвучить и раскрыть, но
обосновать в его сущности, т. е. определить эту
сущность. Здесь — как и при рассмотрении первой
аналогии и даже в большей степени — закон как таковой
известен и постоянно применяется, но поистине не
обосновывается и тем самым его сущность не
познается. Рассмотрение этого основоположения в
английском эмпиризме (Юм) стало существенным толчком
для философствования Канта.
Итак, спросим еще раз: как возможен опыт
происходящего как такового, опыт совершения объективных
5 а. а. О. В 232.
215
событий? Прежде всего надо уточнить, что тут
опытно познается. В таком опыте лежит восприятие
«событийных данностей» (Begebenheiten). Что такое
«событийная данность»? Нечто дается как событие там, где
«что-то действительно происходит».6 То, что
действительно происходит, «начинает быть». Это начинание
быть (быть в наличии) — не возникновение из ничего,
но — согласно первой аналогии — лишь «изменение».7
Но это значит, что в основе лежит сохраняющееся
(Bleibendes), которое только меняет состояния, а это
опять-таки означает, что то, что совершается, следует
за каким-то предыдущим состоянием. То, что
начинается, есть то, чего «прежде» не было, но эта небывшесть
(Nichtgewesensein) не безусловна: по отношению к уже
наличному (Vorhandenes) прежнее (das Ehemals), из
которого начинается начинающееся, не является
пустым. Начинающееся никогда не всплывает для нас из
какого-то пустого времени, но всегда — из наполненного,
т. е. находится в отношении к уже наличному. Вскоре
мы еще раз встретимся с проблемой пустого времени.
Поэтому воспринимать какое-нибудь событие
значит не просто принимать появление чего-то
возникающего, но заранее понимать, что совершающееся —
как последующее — связано с тем предшествующим,
за которым оно следует. При всем том это отношение
может быть весьма неопределенным и
многообразным, но в восприятии события это отношение всегда
со-воспринимается (mitwahrgenommen), потому что
вообще принадлежит к сущности события. Событие
же — это не только вообще нечто действительно
происходящее, но и то, что совершается, начинает быть
в это определенное время. Следовательно, в полное
6 а. а. О. А 201, В 246.
7 а. а. О. А 206, В 251.
216
восприятие события входит пред взятие
(Vorausannehmen) не только предшествующего вообще, но такого
предшествующего, в соотнесении с которым
появляется теперь начинающееся. Следовательно, в восприятии
такого совершающегося заключено предварительное
принятие того, за чем это совершающееся с
необходимостью следует — по определенному правилу То, что
совершается, всегда каким-то образом обнаруживается
как нечто такое, что за чем-то следует. Следующее
(Erfolgendes) как таковое может проявиться только тогда,
когда взгляд, воспринимающий встречающееся ему,
одновременно смотрит на то предшествующее, по
отношению к которому нечто может быть последующим.
Таким образом, то, что встречается в восприятии,
постигается как событие только в том случае, если оно
заранее представляется так, что в этом представлении
есть направляющее правило, указывающее на
предшествующее как на то условие, при соблюдении которого
совершающееся событие — как нечто обусловленное —
всегда, т. е. с необходимостью следует за предыдущим.
То, что совершается, одновременно обнаруживает себя
как начинающееся, причем начинающееся в
наполненном времени, т. е. как следующее за чем-то, и, наконец,
будучи таковым, оно обнаруживает себя как
обусловленное. Итак, благодаря анализу сущности события и
вообще его восприятия мы выяснили, что принадлежит
к его внутренней возможности.
Ь) Экскурс: о сущностном анализе
и аналитике
Когда мы говорим об анализе, это не имеет
ничего общего с поверхностно воспринимаемым понятием
дескрипции — как будто бы здесь событие характери-
217
зуется так же, как мы описываем вещи. Здесь анализ
принадлежит к аналитике — как ее (в ее основной
черте) понимал уже Кант: как вопрошание об истоке,
т. е. о внутренних возможностях того, что
принадлежит к сущностному составу опыта. Правда, в его
раскрытии участвуют глаза и видение связей, изыскание
и исследование, у которых собственный способ и своя
законность. Ведь аналитика как выявление внутренней
возможности есть обоснование сущности и,
следовательно, сущностное определение, а не повествование
о наличии сущностных свойств.
Аналитика сущности события и его возможной
открытости в опыте уже, помимо прочего, выявила
необходимость некоего правила, которое есть не что иное,
как вторая аналогия. Однако для Канта ее
доказательство протекает иначе, потому что, не видя
трансцендентности, первичное событие в череде аппрегензий он
видит в одном для себя наличном субъекте. И так в его
понимании постоянно должно продолжаться. Поэтому
надо понять, что задача аналитики не была поставлена:
главная задача заключается в подготовительном
определении того, что же должно подвергнуться
аналитике. Когда и как она полностью началась? Согласно
указанному выше, у Канта этого не произошло.
Коротко касаясь этого вопроса, мы все-таки хотим
избежать пустых рассуждений о методе и тому
подобном. На первом месте всегда должно быть
познание самих вещей. Но размышления о том, как к ним
прийти, раздумья о том, как лишить их сокрытости,
не являются чем-то безразличным. Однако
предпринимать их надо всегда на самом пути, т. е. там, где мы
поистине в дороге, и это опять для того, чтобы
подготовить и обеспечить этот путь. Во введении
появляется задача время от времени освещать сам этот путь и
способствовать возможности понимания по существу.
218
Если теперь мы снова размышляем о пути и методе,
то это происходит на определенном месте — там, где
необходимо добыть основной контекст, в котором для
Канта с метафизической точки зрения находится
проблема свободы: речь идет о причинности и ее существе.
Мы сами постоянно спрашиваем о сущности
человеческой свободы, и потому уже на первых лекциях
мы кратко указали на то своеобразное, что есть в
познании сущности, в ее разъяснении. Там мы назвали
три ступени: 1) определение что-бытия; 2)
определение внутренней возможности что-бытия; 3)
определение основания внутренней возможности что-бытия.
Взаимосвязь этих ступеней далее не обсуждалась, не
будем обсуждать ее и теперь. Напомню только
следующее: ступень 1 отсылает к ступеням 2 и 3, а ступень 3
отражается на ступенях 2 и 1. Эти ступени не
представляют собой некоего сосуществования прочных и
окончательных шагов: на самом деле, это непрестанное
движение взад-вперед, растущее изменение,
принципиально не допускающее никакой окончательности.
Сегодня ширится своеобразное непонимание
того, что же такое познание сущности: считают, что
философское ее познание есть нечто совершенно
окончательное и последнее. В противоположность этому
научное познание — это якобы всегда лишь нечто
предварительное. На самом деле все наоборот:
научное познание всегда окончательно, оно с
необходимостью движется в той сфере, которую оно само даже
не очерчивает, но которая обрекает его на
окончательность. Наука никогда сама не выходит за пределы этой
окончательности: все происходит только так, что ей
проводят границу по-другому, через новое освещение
сущностного состава ее области. Наука и только она
обращена к окончательности и должна это делать в
соответствии с ее собственным замыслом. Философия
219
же — это непрестанное преобразование: и не только
потому, что ее так называемые результаты меняются, но
и потому, что она в самой себе, в своем вопрошании
и познавании есть превращение. Чтобы это увидеть,
надо освободиться от ложных мнений, которые как
раз сегодня упрочились как никогда прежде, —
упрочились потому, что временами существовала опасность
сделать познание сущности предметом техники,
которую можно преподавать и которую можно усваивать, и
рабочей программой какой-нибудь школы, т. е. свести
познание сущности к вопросу науки.
Превратное толкование основной черты познания
сущности отчасти обусловлено самими
обозначениями, которые подвержены немалым недоразумениям, —
обозначениями, стоящими в обоих заголовках: анализ
сущности и описание сущности (дескрипция). Анализ
означает разложение, но анализ сущности — это не
просто разложение словесного значения на его элементы,
не расчленение какого-нибудь понятия на те моменты,
которые случайно — без выявления их связи и
необходимости — со-мыслятся в каком-нибудь понятии.
Здесь анализ определяется как задача аналитики
сущности, которую уже Кант в некоторых общих чертах
признавал и которой следовал в своих работах.
Аналитика — это не разложение и расщепление на
фрагменты, но ослабление (Auflockern) связи структур знания,
т. е. возвращение к их единству как истоку членения.
Тем самым уже сказано, что такой анализ — это не
описание (!), пока под ним понимается перечисляющее
изображение наличных свойств и моментов наличного.
Сущностное определение сущности «события» не было
таким «описанием»: оно было ретроспективным вопро-
шанием о том, что же принадлежит ко внутренней
возможности чего-то такого, что предстает как событие;
было возвращением к тому, что — и как — позволяет
220
взаимопринадлежному быть таковым. Уже потому, что
речь идет о связях возможности и ее создании,
«изображение» исключено. Но когда такое обозначение, как
«дескрипция», «описание», когда это фатальное
выражение хотят использовать для разъяснения сущности
вообще, это подразумевает следующее: для расхожего
рассудка описание все-таки имеет силу как
определяющее отношение, которое целиком обращено и
повернуто лишь к тому, что предлагается. В подчеркивании
описательности должна выражаться необходимость
соразмерения с тем, что в сущности предлагается как
сущность. Но вопрос таков: как вообще предлагается
сущность и сущностная связь? Негативный ответ: не
как нечто наличное. При анализе «события», при его
сущностном разъяснении вопрос задавался в глубину
сущности явления, исходя из встречи с тем, что
начинается во времени и встречается в следовании одного
за другим. Разъяснение события вообще невозможно
без опережающего учета этой исходной связи: нельзя
сделать ни одного шага без постоянного
направляющего заглядывания в сущность явления, конечного
познания, конечности и трансцендентности. То, что
усматривается в этом выглядывании и заглядывании, само
совершенно не является чем-то наличным наподобие
жесткого каркаса, в который мы что-то встраиваем.
Разъяснение сущности требует преобразования,
парения, отрешения от той или иной односторонней
установки на окончательно знаемое и только таковое. Это
разъяснение есть предвосхищающий прыжок в целое
вот-бытия, основной акт творческого действия
философии из серьезности брошенности.8
8 Проблема инстанции доказательства наброска. Поскольку
он произошел и произошел в целом, доказывание или
опровержение лежит на собеседнике, а не на набрасывающем как
таковом. Значит, истина наброска равна неопровержимости? Вовсе
нет! Но что тогда?
221
Что мы получаем отсюда для нашего вопрошания?
Подготовка и установка — не такие, как при всякой
дескрипции. Наша связь вопросов требует выхода-на-
целое, требует нашего «прихождения-к-корню», так
как «событие», его сущность не просто выводит на
свободу как возвращение, которому не важно, куда оно
возвращает: свобода обнаружится как несущая основа
возможности события. Такая аналитика
сообразуется с полаганием целого, т. е. с тем, каким образом мы
мыслим в перспективе целого. Только в этой сфере
принимаются первые и последние решения в
философских столкновениях — и как раз здесь единогласие
оказывается самым большим и самым простым, тогда как
тем, кто лишь учит философию и занимается ею, оно
кажется путаницей мнений, точек зрения и учений,
которые затем упорядочиваются с помощью ярлыков.
с) Причинность как временное отношение.
Причинность в смысле бытия-причиной
есть предшествование во времени
как определяющее позволение следовать-за...
8 различных видах восприятия и опыта мы
прежде всего осознаем определенное многообразие
следующих друг за другом схватываний (аппрегензий).
Хотя здесь и имеется некоторая последовательность,
есть некоторое «раньше» и «позже», но эта
последовательность «совершенно произвольна»,9 в то время
как в восприятии какого-нибудь события нечто
постигается как действительно происходящее, как нечто
такое, что действительно следует за предыдущим; эта
последовательность не является произволом нашего
9 а. а. О. 193, В 238.
222
восприятия: напротив, наше восприятие связано с
действительно происходящим, с действительной
последовательностью. Теперь Кант — в соответствии со своим
начинанием — должен спросить: как субъективная
последовательность происходящего становится
объективной? Благодаря чему она получает «отношение
к предмету?».10 Благодаря чему поначалу
произвольная, т. е. обратимая последовательность становится
единством обязательной связности, характерной для
необратимой последовательности? Каким образом
возможен опыт обязательности объективной
последовательности, обнаруживающейся в восприятии событий?
Правда, задавая эти вопросы, мы должны постоянно
помнить: речь идет не о восприятии вообще, не о
неопределенном восприятии, но о восприятии событий,
о налично происходящем.
Этот вид восприятия Кант отделяет от другого
двумя примерами: восприятием стоящего передо мною
дома и восприятием лодки, на моих глазах плывущей
вниз по течению реки.11 Оба восприятия едины в том,
что в обоих мы прежде всего имеем дело с
последовательностью схватываний. Но тем не менее есть и
существенное различие. При восприятии дома я могу
начать с его шпиля и закончить фундаментом или
наоборот, а также могу начать воспринимать с левой
стороны направо или наоборот. «Стало быть, в ряду этих
восприятий не было никакого определенного порядка,
который бы с необходимостью решал, когда [где] я
должен начать схватывать, чтобы эмпирически связать
многообразное».12 Почему здесь последовательность
схватываний произвольна? Потому что в самом
многообразии явлений, т. е. в самих свойствах и определе-
10 а. а. О. А 197, В 242.
11 Ср.: а. а. О. А 192, В 237.
12 а. а. О. А 192 f., В 238.
223
ниях дома нет никакого последования, никакого
следования друг за другом в объекте, который как таковой
делал бы обязательной последовательность
схватывания. К наличности дома в единстве его свойств не
принадлежит последовательность, никакого события
не обнаруживается.
По-видимому, здесь Кант хочет лишь подчеркнуть,
чем очевидность наличного дома как вот тут стоящего
отличается от очевидности наличного события. В
негативном ракурсе здесь, конечно, можно сказать так:
последовательность схватываний не связана
объективной последовательностью того, что является, потому
что по отношению к дому не наличествует никакое
событие. С домом ничего не происходит — он
«стоит», «покоится».13 Правда, в позитивном ракурсе надо
иметь в виду, что эта последовательность схватываний
все-таки имеет какую-то связность. Ведь даже если я
начинаю схватывать со шпиля, я все-таки не полагаю
это начало как начало дома, как его фундамент и
наоборот. В самом построении дома шпиль, крыша — это
все-таки нечто последнее и в готовом доме, нечто самое
верхнее. Иными словами, произвольность следования
моих схватываний такова лишь внутри и на основании
той обязательности, которая задается соседством или
иерархией взаимопринадлежных наличных
строительных элементов наличного дома.
Но как обстоит дело с восприятием лодки,
плывущей вниз по течению? Пока можно сказать так: здесь
с последовательностью схватываний все обстоит так
же, как и с восприятием дома. Оба случая никак не
отличаются друг от друга. Ведь и в случае с лодкой я
сначала могу начать схватывать корму, или носовую часть,
13 Разве в этом нет никакой проблемы? Ведь он занимает
пространство, «имеет» какое-то место: вверху, внизу.
224
или вершину мачты, или край борта. Конечно, но тогда
я воспринимал бы именно лодку и имеющиеся у нее
свойства. Тем самым мы прошли бы мимо того
опыта, который Кант имеет в виду в данном случае. Ведь
здесь, напротив, речь идет о восприятии лодки,
плывущей вниз по течению, речь идет о восприятии лодки
в ее скольжении вниз по реке, о «явлении, в котором
содержится происходящее».14 Итак, то, что происходит,
воспринято в своей наличности, и теперь вопрос в том,
не является ли произвольной и эта последовательность
схватываний, подразумевающих происходящее как
таковое. Как я вообще воспринимаю происходящее как
таковое? По-видимому, просто слежу, как плывущая
вниз по реке лодка меняет свое положение в потоке.
Как мы фиксируем эти положения, благодаря чему мы
содержательно их выделяем и отделяем друг от
друга, — теперь все это имеет второстепенное значение.
В опыте скольжения лодки вниз по течению
восприятие ее местоположения следует за предыдущим
восприятием, когда лодка еще находилась выше по
течению. «Невозможно, — говорит Кант, — чтобы лодка,
когда схватывается это явление [т. е. лодка,
плывущая вниз по течению] воспринималась сначала в
нижней, а потом в верхней части течения. Следовательно,
здесь порядок следования восприятий при
схватывании определен, и схватывание связано им».15
Последовательность схватывания в восприятии событий
не произвольна — она связана. Чем же? Скажем так:
объективным, следующим во времени течением самих
событий. Хотя в событии схватывания, в его течении
нам и дана временная последовательность, но откуда
же она берет свою обязательность? Хотя время субъек-
14 а. а. О. А 192, В 237.
15 Ebd.
225
тивно, принадлежит субъекту — как и само
схватывание, — но все-таки время само по себе абсолютно.
Здесь начинается соответствующее
доказательство — как и в первой аналогии. Абсолютное время
«не может быть предметом восприятия»,16 т. е. нам
никогда не дается просто и непосредственно время
(поскольку в нем определена всеобщность мест сущего
во времени). Определение места во времени — для
явлений — «не может быть заимствовано из отношения
явлений к абсолютному времени».17 Хотя дано время,
но все-таки не дано целое во времени сущего в его
тотальной временной определенности. Но если все-таки
временная последовательность схватываний здесь
должна иметь необходимость, значит, само время — как
то, в чем с самого начала и всегда постигается всякое
налично совершающееся — должно дать указание для
этого постижения, в соответствии с каковым
указанием вообще возможно нечто вроде восприятия
объективной — т. е. обязательной для протекания
схватывания — последовательности. Может ли само время дать
такое указание или способствовать его появлению?
Заключена ли в нем самом — применительно к
следованию — какая-то законность и обязательность? Конечно,
заключена, поскольку последующего времени, некоего
«потом» я могу достичь только в своем прохождении
через «прежде». Я, конечно, могу уловить некое
«потом», нечто позднейшее применительно к нему
самому, т. е. без обращения к его «позднейшести» (Nach-
herigkeit), без прохождения через раннее (Früheres), но
никогда не могу уловить последующее как таковое без
прохождения через предшествующее. Прошлое время
с необходимостью определяет последующее. После-
16 а. а. О. А 200, В 245.
17 Ebd.
226
дующего времени не может быть без предыдущего, но
может ли предыдущее быть без последующего? Время
есть необратимое следование в определенном
направлении. Следовательно, если в опыте должно быть
определено некое внутривременное событие как таковое, то
это определение должно придерживаться временной
последовательности. Всякое определение тех или иных
особенных фактических связей совершается на
основании этого закона. Поэтому в своем
основоположении о временном отношении Кант логично говорит: по
отношению ко всякому явлению как временному
событию, т. е. такому, которое начинает наличествовать
в определенное время, надо признать существование
чего-то предшествующего во времени, каковое и
определяет это совершающееся событие как нечто
последующее.18 Всякое следование как продолжение в каком-
либо процессе опытно познаваемо лишь тогда, когда
оно с самого начала соотнесено с предшествованием
чего-то такого, что с необходимостью определяет его
в его следовании. Таким образом, необходимо
правило, которое гласит: в том, что предшествует, надо
находить условие, при котором событие протекает с
необходимостью. Таков «принцип причинного отношения
в последовательности явлений».19 Это является даже
основанием возможности опыта протекающих явлений
и связи их наличествования, которая этим
определяется. Отсюда становится ясно, что закон причинности,
как его здесь развивает Кант, — это не какой-то закон,
который мы применяем только к встречающимся
событиям и их следованию, чтобы тем самым в какой-то
мере сориентироваться в них: на самом деле
предшествующее трансцендентальное представление этого
18 Ср.: а. а. О. А 198 ff., В 243 ff.
19 а. а. О. А 202, В 247.
227
закона уже есть условие возможности того, что мы
вообще можем встретить нечто вроде событий как
таковых. Уже для того чтобы мы столкнулись с событиями,
в которых мы поначалу не ориентируемся и,
следовательно, связь которых еще не определена, мы должны
понимать встречающееся нам в свете причинности.
В доказательстве второй аналогии характер
основоположения как аналогии тоже не проявляется ясно,
и это с самого начала выявляет внутреннюю
трудность позиции Канта. Но из всего контекста можно
сделать вывод, что, как и в первой аналогии, здесь
имеется соответствие между двумя отношениями. При
этом здесь, как и там, определяющим является то
отношение, которое, согласно утверждению Канта, есть
основное отношение; которое присуще самой
природе рассудка и выражается как логическое отношение
причины и следствия — последовательность. Подобно
тому как вместе со следствием необходимо полагается
причина, вместе с протекающим во времени «потом»
полагается отношение последующего (как действия)
к предшествующему, предыдущему (как причине). Но
принцип причинности нельзя логически вывести из
логического положения об основании: его
необходимость коренится в том, что в целом есть необходимая
часть наличного, которая вообще принадлежит к тому,
что делает опыт возможным, каковой опыт не
является ни простым логическим определением
предметов, ни одним лишь схватыванием представлений как
субъективных событий во времени, но предстает как
определенное единство направляемого временем
созерцания, а также мышления, которое определяет
таким образом созерцаемое.20
20 Проблема «единства». Возможность единства нельзя
доказывать ссылкой на наличное, поддающееся описанию, — на-
228
Итак, что же такое причинность! Это
отношение, которое не просто вообще случается во времени:
это отношение, которое в своем характере
отношения определено как временное отношение, как модус
бытия-во-времени: «следование» — отношение,
которое, будучи представленным с самого начала, только
потому и делает возможным опыт того, что — как
таковое — происходит внутри времени. Как таковое это
отношение есть заранее совершающаяся представляе-
мость во всем постигающем и для всего
постигающего пред-ставления (созерцание и мышление). Это
отношение так причастно времени, что каузальность как
бытие-причиной означает: предшествование во времени
как определяющее давание следовать (Folgenlassen),
причем таким образом, что это предшествующее в
самом своем предшествующем давании следовать есть
событие и как таковое оно связано с «более ранним»
(Früheres), которое его определяет. К причинности как
такому отношению принадлежит временной
характер предшествования, т. е. уже наличного в давании-
быть-наличным какого-нибудь (по-Следующего [(Er)
Folgenden]. Что бы ни следовало, в качестве
последующего получается только такое, которое каким-то
образом всегда уже было. С последующим как событием
никогда не следует что-то такое, чего прежде просто не
было. Такое появление не «изначально».21 Но — как
мы видели — это сущностное определение
причинности производится путем определения внутренней
оборот, существует именно необходимость проблематики того
вида бытия, которое Кант предполагает без его рассмотрения
и определения: субъект, чувственность, разум. То, что Баух,
ориентируясь на Н. Гартмана, принимает за онтологическое, как
раз надо сделать проблемой в онтологическом истолковании и
через него. Так что тем самым и «разум» становится ею.
21 а. а. О. А 544, В 572.
229
возможности, т. е. сущности опыта как конечного
человеческого познания наличного в отношении связи его
бытия-наличным.
§ 20. Два вида причинности: Причинность
согласно природе и причинности из свободы.
Характеристика общего онтологического
горизонта проблемы свободы в определении
свободы как вида причинности.
Связь причинности вообще с бытием наличного
Определение существа опыта как конечного
познания в самом себе является предваряющим
определением сущности возможного предмета опыта. Поэтому
в третьей аналогии Кант, например, говорит: «Но для
предметов опыта необходимо все то, без чего сам опыт
относительно этих предметов был бы невозможен».1
Составляющее сущность того, что как наличное
в связности своего бытия-наличным может
встретиться и противостать в опыте, т. е. быть предметом,
Кант обозначает как природу вообще. Следовательно,
разъяснение сущности причинности из ее
необходимой принадлежности к опыту касается причинности,
принадлежащей природе вообще или, как коротко
говорит Кант, «причинности по природе». Природа
вообще предначертывает определенное бытие-причиной
как ей принадлежащее: бытие-причиной, поскольку
оно определено в соответствии с сущностью из
связного единства наличности наличного. «Природная
необходимость есть условие... в соответствии с которым
определяются действующие причины».2 От «причин-
*а. а. О. А 213. В 259 f.
2 Kant I. Prolegomena (Vorländer). 5. Aufl. Leipzig: Meiner,
1913. S. 112 (IV, 344).
230
ности по природе» Кант отличает «причинность из
свободы»:3 «свобода как свойство определенных
причин явлений»,4 «свобода как вид причинности»,5
«причинность как свобода».6
Во фразе «причинность из свободы» сказано, что
свобода ориентирована на причинность. Но здесь
тотчас возникает вопрос, что же означает причинность
в понятии «причинность из свободы»? По-видимому,
причинность не может означать причинность по
природе из свободы, потому что как раз обе причинности
(по природе и из свободы) противостоят друг другу:
это два «противящихся друг другу понятия».7 Таким
образом, под понятием «причинность из свободы»
Кант может подразумевать лишь причинность в общем
смысле, который потом конкретизируется в
«причинность по природе» и «причинность из свободы».
Свободу он называет «сверхчувственным предметом
категории причинности», которому «практический разум...
доставляет реальность».8
а) Ориентирование в причинности вообще,
совершаемое по природной причинности.
К проблематике характеристики свободы
как вида причинности
Итак, что означает причинность в этом общем
значении, согласно которому она — то причинность
по природе, то — по свободе? Как и где должно опре-
3 Kant I. Kritik der praktischen Vernunft. S. 18 (V, 32).
4 Kant I. Prolegomena. S. 112 (IV, 344).
5 Kant I. Kritik der praktischen Vernunft. S. 78 (V, 118).
6 a. a. O. S. 6 (V, 10) Anm.
7a. a. O. S. 111 (V, 170).
8 a. a. O. Vorrede. S. 9 (V, 9).
231
делить эту общую сущность причинности? И,
по-видимому, так, чтобы при этом определяющей
являлась не только сущность природной причинности, но
в большей или меньшей степени и причинность из
свободы. Или нет никакой общей и более высшей
категории причинности (по отношению к причинности по
природе и причинности из свободы), или, если все же
таковая существует, понятие категории
принципиально двойственно: с одной стороны, просто категории
природы, с другой — схематизированные категории,
схема. Но тогда тем более возникают проблемы:
каким образом чистые понятия разума могут обладать
определяющей категориальной функцией для сущего
(сверхчувственное)? Каково здесь несхематическое
изображение и исполнение, или почему такое здесь не
является необходимым? Провел ли Кант где-нибудь
это определение общей сущности причинности? Если
нет — полагает ли он все-таки в конце общее понятие
причинности, которое первично добыто у природы?
Если да, то на каком основании? Если ни на каком, то
почему Кант так поступает? Какие последствия
имеет кантовское ориентирование в отношении проблемы
причинности — и вообще категорий — для проблемы
свободы?9 Один вопрос влечет за собой другой. Вопро-
шаемость, которая заявляет о себе таким образом,
затрагивает не одну лишь кантовскую трактовку
проблемы, но подводит к вопросу принципиального значения.
9 Употребляет ли Кант категорию причинности вместо
категории природы? Что здесь вообще означает категория? О чем
это говорит потом? Без соотнесенности со временем чистое
понятие рассудка («природа») не было бы схематизировано. Что
тогда означает «причинность»? Ср. особенно: Kant I. Kritik der
praktischen Vernunft. S. 119 ff. Там, где нет никакой
соотнесенности со временем, все равно прекращается всякое употребление
категорий! Ср.: Kant I. Kritik der reinen Vernunft. В. 308.
232
Для нас это существенно только в содержательном
развертывании проблемы свободы.
Если вообще определение причинности
первоначально и в совершенно общем смысле ориентируется
по причинности, наблюдаемой в природе, причем под
природой подразумевается наличность вообще
наличного — будь то физическая наличность, психическая
или какая-нибудь еще — тогда тем самым
бытие-причиной в отношении своего способа бытия
опережающим образом охарактеризовано для всего дальнейшего
как бытие-наличным. Если же причинность
определяется из свободы в свете этого общего бытия-причиной,
тогда свобода и само бытие-свободным
применительно к своему способу бытия уходит в основную
характеристику бытия-наличным. Но свобода есть основное
условие возможности действующей личности как
поступающей нравственно. Поэтому экзистенция человека
через характеристику свободы как причинности — хотя
и как одного вида причинности — все-таки
принципиально понимается как бытие-наличным и тем самым
полностью превращается в свою противоположность.
Можно было бы сказать: заостряя внимание на
инаковости причинности, понимаемой из свободы —
в сравнении с причинностью по природе — Кант, по-
видимому, все-таки хочет акцентировать и удержать
внимание на своеобразии нравственной личности —
в сравнении с природной вещью. Да, все так, и тут
совсем не надо спорить. Но этим намерением сама
проблема еще далеко не решена и даже только поставлена:
она как раз тем и задана, что бытие человека нельзя
определять как бытие-наличным. Тогда положение дел
по меньшей мере таково, что онтологически бытие
человека не определено или недо-определено, —
недостаток, который — коль скоро речь идет об
основополагающем — имеет принципиальное значение и потому не
233
может быть устранен путем какого-то последующего
внешнего дополнения. Кант к этому не приходит, ибо
несмотря ни на что привязывает проблему онтологии
к проблеме сущего qua наличного, а это, в свою
очередь, происходит потому, что общей проблемы бытия
он не знает и не раскрывает ее. Поэтому у Канта нет
метафизической почвы для проблемы свободы — в том
кругу, внутри которого он рассматривает ее под знаком
понимания свободы как причинности.
Ь) Первая проверка ориентирования
причинности на бытие наличного —
по последовательности как характерному
временному модусу каузальности
(на примере одновременности причины
и действия)
Но прежде всего надо широко разъяснить и
представить Кантову постановку вопроса: чтобы яснее
увидеть, какая принципиальная метафизическая проблема
лежит в основе полагания свободы как причинности.
Из только что сказанного мы предварительно делаем
такой вывод: Кант тяготеет к тому, чтобы природную
причинность — как один вид причинности —
одновременно положить как причинность вообще и особый
вид причинности — причинность из свободы —
определить на основании и в перспективе причинности по
природе, но в любом случае не так же изначально, как
из самой себя. «Так как я ничего не могу мыслить без
категории, а эту последнюю надо искать прежде
всего в идее разума о свободе, то я сразу вижу, что здесь
это категория причинности».™ «Понятие причинности
10 Kant I. Kritik der praktischen Vernunft. S. 120 (V, 185).
234
всегда заключает в себе отношение к закону,
который определяет существование многообразного в его
взаимоотношении».11
Если внимательнее присмотреться к тому, что
бытие-причиной ориентировано на бытие-наличным,
каковое Кант примечательным образом уравнивает с вот-
бытием, действительностью и существованием вообще,
тогда станет ясно: Кант тяготеет к тому, чтобы
свободу и бытие-свободным рассматривать в горизонте
бытия-наличным, т. е. упускает вопрос о специальном
виде бытия, каковым является бытие свободно-сущего
(Freiseiende); он не склонен изначально и специально
приступать к свободе как метафизической проблеме и
соответственно раскрывать ее. Если это действительно
так и если и для Канта — и как раз для него —
свобода составляет то последнее и высшее, что есть в
философии («Понятие свободы, поскольку его реальность
доказана некоторым аподиктическим законом
практического разума, составляет опору всего здания
системы чистого, даже спекулятивного, разума»),12 тогда,
конечно же, для Канта должны существовать
причины, по которым он, положив свободу как
самозаконодательство практического разума, оставляет вопрос
о существе человеческой свободы.
Чтобы увидеть здесь то, что пока является
решающим, а именно связь природной причинности — как
причинности вообще — со способом бытия в смысле
бытия-наличным у мы хотим вкратце пояснить то, что
Кант присовокупляет к своему доказательству второй
аналогии. Здесь появляется возможность точнее
определить некоторые основные понятия, имеющие важное
значение в дальнейшем рассмотрении.
11 а. а. О. S. 104 (V, 160).
12 а. а. О. Vorrede, S. 4 f. (V, 4).
235
Прежде всего Кант возражает против своего
собственного определения причинности. Под ним
понимается бытие-причиной в смысле предшествования
во времени как определяющего давания-следовать за...
(Folgenlassen). Поэтому в законе причинности — как
основоположении временной последовательности —
причина выступает как нечто предыдущее, а
следствие — как нечто последующее. Но теперь выясняется,
что «принцип причинной связи между явлениями» не
ограничивается одной лишь последовательностью этих
явлений: он приложим и к их «одновременному
существованию», т. е. причина и действие могут
существовать в одно и то же время.13 Таким образом, временная
последовательность — не единственный и,
следовательно, не самый надежный эмпирический критерий
для чего-то как действия, т. е. его связи с причиной.
В таком случае при осмыслении причинности вообще
не следует ориентироваться на принцип временной
последовательности. Как Кант решает данное
затруднение, коль скоро причинность он как раз и связывает
с этой последовательностью?
Сначала приведем его пример одновременного
существования причины и действия. «В комнате теплее,
чем на улице. Я ищу причину этого и обнаруживаю ее
в том, что печь натоплена. Но эта натопленная печь
как причина существует одновременно со своим
действием — теплотой в комнате; следовательно, здесь нет
временной последовательности причины и действия:
они существуют одновременно, и тем не менее закон
причинности относится и сюда».14 В этой связи Кант
отмечает, что даже «большинство» природных причин
существует одновременно со своими действиями и «за-
13 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. Α. 202, В 247.
14 а. а. О. А 202, В 247 f.
236
поздалость» действия вызвана лишь тем, что причина
не может произвести «всего своего действия в одно
мгновенье».15 Там, где действие только возникает, оно
всегда существует — и даже должно существовать —
одновременно с каузальностью своей причины: ведь
если бы причина в своей каузальности исчезла за миг
до возникновения действия, тогда само действие
просто не возникло бы. Именно до тех пор, пока причина
существует в своей каузальности, действие может
возникнуть и даже быть. Поэтому одновременность
(Gleichzeitigkeit) их обоих необходима.
Однако это необходимое бытие-одновременным
(Zugleichsein) ничего не говорит против
сущностной принадлежности временной последовательности
к причинному отношению — настолько ничего, что как
раз в контексте этой одновременности мы и
улавливаем подлинное значение того, что здесь
подразумевается под временной последовательностью. Это значение
не исключает, но включает в себя взаимопересечение
длительности присутствия причины и действия.
Однако каким бы большим или малым ни был промежуток
времени между появлением причины и началом
действия (этот промежуток может быть совершенно
мгновенным, т. е. то и другое может существовать
одновременно), отношение между появлением причины и
началом действия тем не менее сохраняется. Ведь это
сохраняющееся отношение, всегда поддающееся
определению, подразумевает именно отнесенность
предшествующего к последующему, а точнее говоря —
односторонность направления в этом следовании одного
за другим или в их одновременности — в том смысле,
что направление следования, его порядок необратим.
Таким образом, последовательность означает здесь не
15 а. а. О. А 203, В 248.
237
просто последование в чередовании начинания и
исчезновения: эта последовательность подразумевает
порядок того, что следует, как чего-то необратимого,
чего-то направленного, а не просто взаимное
чередование или одновременность. Решающим в понятии
того модуса времени, который называется
последовательностью, является не длительность или быстрота
протекания, но однонаправленный порядок в
присутствии причины и действия. В соответствии с этим
порядком причина — даже если она еще существует и,
стало быть, остается одновременной действию — все
равно предшествует ему и не может стать чем-то
последующим.16 Последовательность подразумевает
направление течения, а не просто его процесс. Однако
направление течения не исключает одновременного
присутствования {Zugleich-anwesend-sein) причины и
действия. Последовательность не говорит о том, что
если действие вступило в силу, значит, другое (его
причина) должно исчезнуть. Таким образом,
последовательность как модус времени, характеризующий
причинность, не противоречит одновременности причины
и действия.
Благодаря этому более точному определению
последовательности как порядка и направления течения,
четче понимается и существо связи как таковой. Она
как таковая есть связь наличного в его таком или же
ином наличии (So- und Anders Vorhandensein) и
неналичии. Теперь понятие происходящего определяется
так: это не просто присутствие и отсутствие
изолированных происшествий — на самом деле в событийной
данности заключено определенное, а именно
направленное, выверенное возвратное отношение к предше-
16 См. пример Канта с шаром и ямкой: Kant I. Kritik der
reinen Vernunft. А 203, В 248 f.
238
ствующему, к причине. И наоборот: каузальность есть
в себе направленное отношение, которое позволяет
чему-то следовать и происходить.
с) Вторая проверка ориентирования
причинности на бытие наличного —
по понятию действия (Handlung).
Действие как понятие связи причины
и следствия
Это изложение причинности ведет к понятию,
которое имеет значение для проблемы события вообще
и для события свободного существа в особенности.
Речь идет о понятии действия (Handlung). Для этого
имени мы часто и охотно употребляем греческое слово
πραξις (πράττειν означает нечто вроде «осуществлять»),
а «практическое» понимаем в двойном значении:
1) «практический человек», т. е. тот, который обладает
навыками и сноровкой и знает, как их правильно
применить в нужный момент; 2) практика и действие —
одновременно в подчеркнутом смысле
нравственного действия, нравственно-практического поведения.
Кант, помимо прочего, понимает «практику» и
«практическое» именно в этом смысле. «Практическое есть
все то, что возможно благодаря свободе».17 «Платон
находил идеи преимущественно во всем практическом,
т. е. в том, что основывается на свободе».18
Следовательно, действие сущностно связано со
свободой. Однако как раз у Канта это не так.
Практика и действие совершенно не совпадают. Для Канта
«действие» — это скорее название для действования
17 а. а. О. А 800, В 828.
18 а. а. О. А 314, В 371.
239
вообще. Действие совсем не в первую очередь
связывается с нравственным поведением и
нравственно-безнравственными поступками и только с ними; оно не
только не связывается в первую очередь с поступками,
основанными на разуме или даже движении души:
напротив, оно соотносится со всем тем, что происходит
в живой и прежде всего в неживой природе. Этого
никогда не замечали толкователи Канта, которые сразу
воспринимали действие как действие нравственное, не
учитывая того, что мы только что сказали. Когда мы
требуем не забывать об этом, мы не просто
призываем сообразовываться со словоупотреблением Канта: на
самом деле это имеет принципиальное значение. Если
действие (Handlung) означает действование (Wirken)
вообще и в первую очередь рассматривается в
перспективе того, что происходит в природе, и в ракурсе
связности всего там происходящего, тогда и понятие
нравственного, свободного действия (или
«произвольного» — по любимому выражению Канта) именно как
действия онтологически ориентированого на бытие
в смысле налично данного, т. е. на тот способ бытия,
который никак не характеризует бытие нравственно
действующего существа, не характеризует
экзистенцию человека. В таком случае экзистенция человека
в ее способе бытия определяется принципиально
неверно или по меньшей мере остается в роковой
неопределенности, как бы ясно и решительно — с
фактической стороны дела — экзистирующий человек
как нравственная личность, как сущее, ни отличался
от природных вещей. Для Канта действование
(действие) как Handeln (Handlung) равнозначно действо-
ванию как Wirken (Wirkung), равнозначно латинскому
agere — effectus. Это более широкое понятие в
сравнении с деланием (Tun) — facere — которому,
однако, принадлежит особый вид действия (Handlung),
240
особый вид действия (Wirkung) и effectus'a:
произведение — opus.19
Всякое делание (das Tun) есть действование (das
Handeln), но не всякое действование есть делание.
«Делание» в смысле производства, изготовления, самого
ремесла, отличается от «деяния» в смысле
нравственного действия, «свершения» (Tat-handlung). Для Канта
действование происходит и там, где не изготовляется
никаких произведений, — в природе. Поэтому Кант без
лишних раздумий говорит о «действии природы».20
В «Пролегоменах» он говорит о непрестанном
действии материи,21 а затем — о том, что каждая
природная причина «должна начать действовать».22 Во
второй аналогии «Критики чистого разума» дается
более точное определение понятия действия:
«Действие уже означает отношение субъекта причинности
к следствию».23 Действие — это не просто нечто
случившееся, но некий процесс, содержащий в себе
событийную данность, которая принадлежит
происходящему.24 «Субъект» же не означает здесь «Я», «самость»,
«личность»: он равносилен уже-лежащему-в-основе
наличному (das schon-zugrunde-liegende Vorhandene),
каковое есть причина. «Субъект» здесь надо брать так
же широко, как и «действие». Итак, в каждой
событийной данности заключено действование, поскольку
именно событийная данность включает в себя
обусловленное и, таким образом, вызванное к жизни
событие, которое происходит. Потому (как говорит Кант
в предисловии к «Пролегоменам») «действие», а пре-
19 Ср.: Kant I. Kritik der Urteilskraft. § 43.
20 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. А 547, В 575.
21 Kant I. Prolegomena. § 53. S. 112 (IV, 344). Anm.
22 а. а. О. S. 112 (IV, 343).
23 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. A. 205, B. 250.
24 См. выше, § 19.
241
жде того — «сила», суть «понятия... вытекающие из
связи причины и следствия».25
Пока нам больше не требуется никаких
пространных рассмотрений для того, чтобы увидеть, сколь
важным оказывается правильное осмысление кантовского
понятия действия для разработки проблемы свободы.
Ведь если «свободный поступок» воспринимается как
«первоначальное действие» (ursprüngliche Handlung),26
тогда тем самым оно перемещается в горизонт общего
понятия о действии (Wirken) и каузальности, каковые
прежде всего определены через понятие природной
причинности. Действование (Handeln) материи — это
не первоначальное действование (Wirken).
Действование (Handeln) нравственной личности есть
первоначальное действование (Wirken), т. е. такое, которое не
просто исходит из какого-то истока, но само есть
некий «исток». Так — в перспективе понятия действия
(Handlung) и его широкого значения —
обнаруживается вступление общего понятия причинности в
определение свободы. Мы все отчетливее схватываем тот
общий онтологический горизонт, в котором для Канта
находится проблема свободы, поскольку именно свобода
является видом причинности.
Благодаря этому рассмотрению понятия действия
(Handlung) мы приходим к более широкой и
последней характеристике этого горизонта, т. е. того события,
которое дает общие черты происходящего вообще, и
для этой общей характеристики определяющим
остается «действование материи». Уже переходя от первой
аналогии ко второй, мы видели, как там —
благодаря определению постоянства как собственной черты
предмета опыта — сущность возможного движения
25 Kant I. Prolegomena. Vorrede, S. 4. (V, 258).
26 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. Α., 544, В 572.
242
очерчивалась как изменение. В конце второй аналогии
само изменение еще точнее определяется в его
сущности: речь идет о том, что возможность изменения
коренится в непрерывной каузальности действия. Новый
момент, который появляется, — это непрерывность,
постоянство. Этот структурный момент подразумевался
всегда, но раньше он не акцентировался как таковой.
Закон непрерывности всякого изменения коренится
в сущности времени (внутривременность): он гласит,
что время не состоит из частей, даже самых малых.
Всякий переход от одного состояния в другое
совершается во времени, заключенном между двумя
мгновениями и, следовательно, он тоже принадлежит ко всему
времени изменения, почему и всякая причина
изменения обнаруживает свою каузальность в течение всего
времени. Иными словами, действие (Handlung)
материи непрерывно. Не существует никакого внезапного
события, которое словно вырвалось бы из
предыдущего безусловного Ничто. Здесь время тоже является
путеводной нитью для определения постоянства, а
именно как природное время, время взаимопринадлежности
всего наличного (das Vorhandene).
Теперь мы в достаточной мере изложили Кантово
понимание сущности причинности. Оно представляет
собой одно из онтологических определений связности
наличествования наличного в его событийном
совершении. Возможный динамический характер этого
событийного совершения природы есть изменение, т. е.
событие происходит на основе постоянного (das
Beharrliche) и происходит способом непрерывного действо-
вания (Handeln). Понятия действия и непрерывности
в первую очередь считываются с наличествования
телесных вещей. Вспомним собственное замечание
Канта о преимуществе этой области сущего при
наглядном изображении и исполнении того, что помыс-
243
лено в самых общих категориях. Там, где причинность
рассматривается в прежде определенном общем
смысле, — там со-положено и яред-положено сущее такого
способа бытия — природа. Но в то же время
неоднократно подчеркивается: свобода есть способ
причинности. Мы говорили и об этом воззрении Канта — но
говорили только это. Чего же пока недостает?
§ 21. Систематическое место свободы у Канта
а) Систематическое место
как предметный контекст,
который предопределяет направление
и масштаб вопрошания
Мы не показали, где для Канта находится свобода,
т. е. какие реальные проблемные связи и мотивы
влекут его к проблеме свободы и как это происходит. По-
видимому, здесь мы нуждаемся в каком-то
ориентировании, так как только таким образом сможем решить,
как причинность, которую мы рассмотрели прежде и
место которой в проблематике Канта мы теперь знаем,
относится к свободе. Но это не единственная и,
собственно, не самая решающая причина того, почему мы
должны удостовериться, какое место занимает
свобода в системе Канта. Причина в том, что мы сами
обозначили проблему свободы — как раз через ее полагание
и определение места в перспективе основного
вопроса метафизики — именно как проблему. В конце
концов, речь идет о том, как наше определение ее места
относится к кантовскому. Этот вопрос мы ставим не
в смысле и не ради некоего исторического сравнения.
Из несхожести, которая в то же время всегда каким-то
образом является согласием, мы хотим прояснить ина-
244
ковость (Andersartigkeit) нашей проблематики, чтобы
заодно показать, как тем самым то положительное, что
есть в кантовской проблеме, усваивается путем его
преобразования.
Когда мы говорим о месте свободы в системе
Канта, это нельзя воспринимать во внешнем и косном
смысле, как будто система — это какая-то прочно
сбитая коробка выдвижных ящиков, в каждом из которых
размещены соответствующие проблемы и понятия. Да,
у Канта была сильная склонность к архитектонике,
причем осуществляемой по путеводной нити
унаследованных понятийных схем. Это во многом облегчает его
изучение и изложение, но это же приводит к тому, что
многие смыслы и феномены остаются скрытыми или
воспринимаются в неверном ракурсе.
«Систематическое место» какой-нибудь проблемы — это тот
реальный контексту который задает направление и
масштаб вопрошания. При этом мы имеем в виду только
целостный контекст в проблематике философии,
который — сообразно тому, как его видят и полагают —
задает направление и масштаб какой-нибудь проблемы.
В то же время за самим контекстом и предначертанной
проблемой сохраняется вся полнота возможных иных
постановок вопроса и толкований. Если кто-то имеет
систему во внешнем смысле или стремится к такому
распределению и обособлению устоявшегося мнимого
знания, то тем самым он вовсе не доказал, что
философствует «систематически». С другой стороны,
философствование еще не показало, что оно по-настоящему
укоренилось во всей глубине и силе проблем, если —
как в этом смысле соблазнился Кьеркегор по
отношению к Гегелю — оно всячески поносит систему.
Мы видели, что у Канта проблема причинности
прежде всего находит свое место в проблеме
возможности опыта, т. е. конечного человеческого познания
245
самого наличного сущего. Но где у него находится
свобода, т. е. каков тот реальный проблемный контекст, из
которого как бы возвышается проблема свободы?
Может, эта проблемная область необходимо связана с
областью возможности опыта? Может быть, это то же
самое или совсем другое?
Для правильного понимания Кантовой проблемы
свободы и, соответственно, для разбирательства с нею
принципиально важно видеть, что 1) Кант приходит
к свободе из двух совершенно разных проблемных
контекстов; 2) оба пути к свободе для него одинаково
необходимы в соответствии с тем общим основанием,
из которого для него определяется проблематика
философии вообще. Оба пути связаны между собой
внутри общих проблем метафизики. Оба теперь нам надо
показать, причем не только для того, чтобы шире
познакомиться с кантовской философией, но и для того,
чтобы перспективы философского вопрошания стали
богаче и исконнее. Правда, также и здесь — и тем более
здесь — надо отказаться от тематической и полной
интерпретации, и потому мы вынуждены работать с
некоторыми огрублениями. Однако внутренняя
недостаточность такого изложения имеет и совсем другую
причину, которую в настоящее время мы вообще не
можем устранить: сегодня мы совсем еще не сделали
проблему метафизики прозрачной и изначальной,
чтобы в последнем тотальном разбирательстве, используя
позитивный критический подход, одолеть кантовскую
проблематику, т. е. чтобы, философствуя, понять
Канта. Ведь это не происходит — и никогда не
происходит — в так называемом правильном его истолковании.
Да, в проблеме метафизики вообще и как таковой оба
пути Канта к свободе оказываются связанными, но как
раз эта связь у самого Канта остается проблематичной,
причем настолько, что сам он больше не видит эту
246
проблему и тем более не имеет средств ее пробудить.
Причина в том, что и у Канта унаследованный
ведущий вопрос метафизики (что есть сущее?) не вылился
в основной вопрос, который несет и направляет
первый (что есть бытие?). Одновременно здесь кроется и
еще один вопрос: в чем коренится внутренняя
возможность и необходимость открытости бытия?
Ь) Два пути к свободе у Канта
и унаследованная проблематика метафизики.
Место вопроса о свободе
в проблеме возможности опыта как вопроса
о возможности подлинной метафизики
У Канта мы наталкиваемся на радикально новое
определение сущности онтологии, без которого стала
бы невозможной логика Гегеля. И тем не менее — если
смотреть в целом — это новое определение
представляет собой обновление античного вопроса о бытии.
Потому в свете этого основного вопроса философии
совершенно необоснованно противопоставлять Канта
античности, особенно Аристотелю, как это
происходило в неокантианстве XIX века, видевшем в
[философии] Канта теорию познания, которую он якобы
противопоставляет другой такой теории, —
противопоставление, которое было жадно подхвачено в
неосхоластике, чтобы и с этой стороны закрыть доступ
к античности.
Итак, два пути, которые приводят Канта к свободе
как проблеме, суть следующие: первый, который с
исторической точки зрения он прошел в первую очередь,
ведет через тот проблемный контекст, внутри которого
рассматривалась проблема причинности: возможность
опыта как конечного познания сущего. Что привело
247
Канта к этому вопросу? Ни больше ни меньше как
вопрос о возможности метафизики, взятой в напрямую
унаследованном ее понимании. В этом ракурсе
метафизика, взятая в ее исконном смысле, означает
познание сверхчувственно сущего (übersinnlich Seiende),
т. е. сущего, которое запредельно и потому
возвышается над чувственным, над тем сущим, которое доступно
опыту. Для унаследованной метафизики, на которую
Кант ориентируется в своей критике, это
сверхчувственное сущее определяется тремя именами: душа,
мир, Бог. Душа — в ракурсе того, что особенно
интересует человека, т. е. ее простота, т. е. неразрушимость,
т. е. бессмертие. Мир — т. е. наличная природа в ее
целостности и Бог как основа и творец всего сущего.
Душа (ψυχή) — это предмет психологии, мир
(природа в ее целом — κόσμος) — предмет космологии, Бог
(θεός) — предмет теологии.
В метафизическом вопрошании о душе, мире и
Боге речь идет о вопрошании, которое хочет
определить сущность всего названного и не хотело бы давать
случайные эмпирические определения. Но для
унаследованной метафизики неэмпирическое познание — это
рациональное познание, познание из одного только
чистого разума. Свободное от всякого опыта, чистое
мышление мыслит из одних лишь понятий. Три
вышеназванные дисциплины лишь в этом отношении и
принадлежат к метафизике — составляют подлинную
метафизику: рациональная психология, рациональная
космология, рациональная теология.
Спрашивать о сущности метафизики — значит
очерчивать ее внутренние возможности и выделять ее
на фоне того, что ей не принадлежит, ограничивать,
проводить границы — κρίνειν. Сущностное
определение метафизики есть критика, есть то, что чистый
разум как таковой может делать, стремясь к тотальному
248
познанию сущего. Внутренне Кант был совершенно
убежден в том, что метафизика как вопрошание,
совершающееся в соответствии с тремя названными
направлениями, есть «естественная склонность»1
человека — она «возникает... из природы всеобщего
человеческого разума».2 «Чистый разум» человека
«задается» этими вопросами о Боге, мире, душе, «влекомый
своей собственной потребностью» «ответить на них
по возможности хорошо».3 Отсюда получается
следующее: независимо от того, можно ли ответить на эти
вопросы — и как широко это можно сделать, — они
все равно принадлежат к человеческой природе: как
в отношении ее основы (почему они задаются), так и
в отношении ее потребности получить ответ. В какой
мере эти вопросы коренятся в общей человеческой
природе? Как доказывает Кант это утверждение? Как
его можно доказать? Просто ссылкой на саму
человеческую природу. Каким бы неудобным такое
положение дел ни было для более ранней, да и сегодняшней
интерпретации Канта, никаким искусством
толкования нельзя отделаться от того основного факта — или
хотя бы умалить его значение — что даже обоснование
метафизики в собственном смысле слова есть не что
иное, как возвращение к человеческой природе.
Поэтому способ и законность кантовского ее обоснования от
начала и до конца связаны с изначальностью,
уместностью и полнотой его истолкования человека в
перспективе основания метафизики.
Вопрошание о человеке, необходимое в таком
ключе, не может быть — в том, что и как оно
должно быть, — ни психологией, ни теорией познания, ни
феноменологией сознания и переживания, ни антро-
1 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. В 21.
2 а. а. О. В 22.
3Ebd.
/ 249
пологией. Своеобразие этого истолкования человека
лишь тогда определится в достаточной мере, если
прежде и одновременно радикально прояснится та
задача, осуществлению которой оно служит: задача самой
метафизики. Стало быть, нельзя храбро и усердно
заниматься теорией познания, феноменологией
сознания или антропологией и при случае задним числом
размышлять о том, как теперь обстоят дела с
метафизикой. Насколько уверенно Кант ведет себя в
осуществлении своего «критического» начинания в более
узком смысле, настолько ненадежны и неясны основы
его основания метафизики. Однако в любом случае
(и теперь это — решающее) в своем обосновании трех
направлений вопрошания и трех его областей Кант
должен восходить к человеческой природе. Иными
словами, он уже вообще не берет ее радикальным
образом из нее самой, но воспринимает ее из ориентации
на три названные области, которые для него самого
традиционно несомненны. Природу человека он видит
только в их ракурсе.
Таким образом, здесь — до всякого истолкования
самого человека — уже наличествует совершенно
определенное его полагание, а именно его образ в
христианстве. Однако это полагание с самого начала
философски не является необходимым, хотя тем самым, правда,
ни в коей мере не утверждается, будто существо
человека можно определить абсолютно и как свободно
парящее в самом себе, во что, однако, еще нередко верят и
сегодня. Из всего этого следует лишь одно:
поразмыслить о том, что проблема человека таит в себе
трудности самой проблематики, совершенно безотносительно
к тому или иному ее историческому содержанию, — те
трудности, о которых мы едва начинаем хоть как-то
догадываться (метафизика вот-бытия). Кант говорит,
что сама природа человека — как природа разумная —
250
«принимается» за вопросы о Боге, мире, душе. Но что
же характерно для всех этих вопросов, если не
принимать во внимание различия в том конкретном
содержании, о котором мы спрашиваем? Когда человек как
разумное существо берет ракурс таких вопросов, что
вообще тогда разум «имеет в виду»? В вопросе о
бессмертии души эта душа в общем и целом
представляется в перспективе того, что определяет ее в полноте ее
единства, простоты и неразрушимости, т. е. в
целостности ее бытия и сущности. Когда мы спрашиваем
о мире, тогда разум имеет в виду целое (das Ganze)
наличного сущего в смысле его начала и конца.
Когда мы спрашиваем о Боге как творце мира, тогда тем
более речь идет о последнем целом (das letzte Ganze)
сущего. В этом представлении целого разум думает
о единстве и полноте представляемого и того, к чему
человек относится как таковой. Для Канта
представления о чем-то в его общем — суть понятия. Но
понятия, которые в том всеобщем, что они представляют,
к тому же представляют целостность чего-нибудь во
всеобщем, суть понятия, которые особенно присущи
разуму как той способности, каковая представляет
нечто в его начале и исходе, т. е. «принципе». Разуму как
соединению принципов присущи эти представления
о чем-то в целом, понятия разума или, как называет их
Кант, идеи. Согласно Канту, идея «есть понятие
разума о форме некоторого целого, поскольку им a priori
определяется объем многообразного, а также
положение частей относительно друг друга».4 Идеи «содержат
в себе некоторую полноту, каковой не достигает ни
одно возможное эмпирическое знание, и при этом
разум обладает только систематическим единством в
чувстве, и с этим единством он пытается сблизить эмпи-
4 а. а. О. А 832, В 860.
251
рически возможное единство, никогда не достигая его
полностью».5
Совершенно недвусмысленно имея в виду три
унаследованные направления вопрошания, характерные
для собственно метафизики, Кант стремится
обосновать три основные направления представления, взятого
в смысле идей, и обосновать их, исходя из природы
человека. Идеи имеют всеобщий характер представления
о чем-то. Представление всегда связано с чем-то. Все
возможные отношения представления можно свести
к трем основным направлениям: «Всеобщее всякого
отношения, которое могут иметь наши представления,
это 1) отношение к субъекту, 2) отношение к объектам,
а именно или как явлениям, или как предметам
мышления вообще».6 Следовательно, мы можем составить
себе идею: 1) в направлении представления субъекта;
2) в направлении представления многообразного
[содержания] объекта в явлении; 3) в направлении
представления ко всем вещам вообще. Из этих трех
основных направлений возможного пред-ставления вообще
вытекают три класса идей как представлений о чем-то
вообще относительно его целостности. Первый
раскрывает безусловную целостность и единство субъекта,
второй — единство многообразного в явлениях, о
которых мы теперь знаем, что они образуют непрерывный
ряд условий и обусловленного (Bedingungen und
Bedingte), третий — абсолютное единство условий всех
предметов мышления вообще. Сразу после выведения
этой триады возможного представления, причастного
идеям, Кант говорит о трех унаследованных
дисциплинах, входящих в Metaphysica specialis.*
5 а. а. О. А 567 f., В 595 f.
6 а. а. О. А 333 f., В 390 f.
* Частная метафизика {лат.). — Примеч. перев.
252
§ 22. Причинность через свободу.
Свобода как космологическая идея
а) Проблема свободы возникает
из проблемы мира или как проблема мира.
Свобода как особый модус
природной причинности
Мы сказали, что первый путь к вопросу о свободе
ведет через проблему возможности опыта как вопроса
о возможности метафизики, которая — в ее
собственном смысле — охватывает три названные дисциплины.
Следовательно, к одной из этих дисциплин
принадлежит проблема свободы. Вопрос о свободе встречается
на пути, ведущем в сторону вопроса о возможности
подлинной метафизики. В какой дисциплине, т. е. в
каком классе идей появляется идея свободы?
Свободу мы знаем как основное условие и черту
нравственно действующей личности, т. е. подлинного
субъекта в субъективности и «яйности» (Ichheit)
человека. Но о «мыслящем субъекте»,1 взятом в
смысле его возможности представлять в ракурсе «идеи»,
говорит рациональная психология. Генуинно
свобода есть свобода воли как способности души. Свобода
есть «психологическое понятие». Следовательно, здесь,
в Psyhologia rationalis, мы должны найти и идею
свободы. Однако мы напрасно ее там ищем. Свобода — вовсе
не психологическая идея. Но тогда возникает мысль,
что, в конце концов, человек обусловлен и в
собственном смысле не свободен и, в конечном счете,
свобода — это отличительная черта высшего существа из
всех существ, Бога. Следовательно, свобода — это
теологическая идея в Theologia rationalis. Однако и здесь
1 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. А 334. В 391.
253
мы ищем тщетно. Свобода скорее там, где мы меньше
всего ожидали ее найти: она есть идея космологическая.
Она появляется в контексте проблемы мира,
причем под «миром» Кант понимает «совокупность всех
явлений»2 (природа и космос), т. е. совокупность на-
лично сущего, поскольку оно доступно конечному
человеческому познанию.
Принципиально важно со всей ясностью увидеть,
на каком месте метафизики как таковой находится
идея свободы. В одном примечании к третьему
разделу первой книги трансцендентальной диалектики
(«Система трансцендентальных идей») Кант говорит:
«Настоящая цель исследований метафизики — это
только три идеи: Бог, свобода и бессмертие».3 Здесь
не только становится ясно, что с метафизической
точки зрения для Канта проблема свободы есть
проблема космологическая, но и что, с другой стороны, среди
прочих космологических идей идея свободы даже
получает преимущество.
Теперь надо более подробно показать, как проблема
свободы возникает из проблемы мира, или как проблема
мира. Сейчас мы уже можем сказать: если свобода
находится в контексте проблемы мира, если мир
означает совокупность и тотальность явлений и их рядополо-
женность, а эмпирически доступное единство явлений
в их связности определено причинностью, а именно
причинностью согласно природе, тогда свобода,
принадлежащая проблеме мира, сдвигается в теснейшую
связь с природной причинностью, причем даже в том
случае, если свобода — как особый вид причинности —
отличается от причинности природной. Ведь в этом
2 Ebd."
3 а. а. О. А 337, В 395. Anm. Общее перечисление таково:
Бог, мир, душа. Вместо мира теперь — свобода; «душа» —
бессмертие.
254
случае ее отличие совершается как раз по отношению
к природной причинности и то, по отношению к чему
она отличается, все равно дает о себе знать в этом
различении. Короче говоря, свобода проистекает как
особый модус природной причинности. Если бы это было
не так, тогда не существовало бы никакой
возможности постичь ее как космологическую идею, т. е. как
идею, сущностно связанную с природой, т. е.
природной целостностью.
Идеи суть чистые понятия разума, т. е.
представления о чем-то в общем согласно основному
принципу разума. Это — «принцип безусловного единства».4
В каждой из трех упомянутых направлений разум
осуществляет этот свой принцип. В области
представления объектов как явлений это означает, что разум
требует представления об абсолютной тотальности
синтеза явлений, т. е. представления о безусловной
полноте единства связности всего наличного.
Рассматривая сам разум в этом представлении, которого он
требует, мы «сталкиваемся с новым феноменом
человеческого разума», а именно с «совершенно
естественной антитетикой»,5 с разладом в том, что чистый
разум как таковой с необходимостью должен полагать.
Следовательно, как раз тогда, когда принцип разума
становится очевидным и показывает свое
бытие-принципом (Prinzipsein), — как раз тогда обнаруживается
«разлад и расстройство, вызываемые этим
противоречием законов (антиномией) чистого разума».6
Перед лицом таких высказываний Канта о чистом
разуме недальновидно и безрассудно впадать в
фантастические мечтания о каком-то разуме чистом и
абсолютном и не замечать, что у Канта именно понятие
4 а. а. О. А 407, В 433.
5 а. а. О. А 407, В 434.
6 Ebd.
255
разума не только всегда является понятием о
человеческом разуме, но одновременно говорит о глубокой
конечности человека и не становится признаком
бесконечности, как явствует из поверхностных и ложных
интерпретаций. В своем представлении, т. е. в своих
понятиях разум только мнимым образом превосходит
рассудок как настоящую способность к
формированию понятий. По существу все наоборот: разум в
своем представлении — это лишь неправомерный избыток
рассудка, уже конечного в самом себе, и потому — тем
более его оконечивание, «разлад»,7 коль скоро
неправомерное представление является признаком перехода
границы и неумеренности, стало быть,
характеристикой конечности. Этот неправомерный избыток совсем
не является признаком бесконечности по той причине,
что он необходим для человеческой природы как
таковой: наоборот, это показывает, что ее конечность —
не какая-то любая и случайная, но сущностная.
Кант настоятельно подчеркивает, что чистые,
трансцендентальные понятия могут возникнуть только из
рассудка; что «разум, собственно, не создает никаких
понятий, а самое большее освобождает рассудочное
понятие от неизбежных ограничений областью
возможного опыта и таким образом стремится расширить
его за пределы эмпирического, хотя и в связи с ним».8
Но стремление освободиться от ограничений — это
еще далеко не преодоление конечности: как раз
наоборот, это тем более может быть оконечиванием, если
эти ограничения принадлежат к сущностному составу
человеческого познания, а попытки «разграничить» их
ведут к расстройству разума! Отсюда мы не просто
делаем вывод о том, что и чистый разум тоже коне-
7 а. а. О. А 464, В 492.
8 а. а. О. А 409, В 433 f.
256
чен: одновременно мы заключаем, что понятия
разума, идеи, никогда не связываются напрямую с
доступным сущим как таковым, но — сообразно своему
происхождению — только с использованием рассудка.
Ему через идеи предписано «направление к
определенному единству».9 Использование рассудка в
сфере опыта, т. е. познания объектов как явлений, дает
о себе знать в основоположениях опыта (к каковым
принадлежат и аналогии), в правилах единства
связности (синтеза) многообразия явлений.
Ь) Идея свободы
как «трансцендентальное природное понятие»:
абсолютно продуманная природная
причинность
Но как понимать, что по отношению к этим
определениям рассудка разум делает действенным свой
принцип, а именно «принцип безусловного единства»?10
В явлении является многообразие наличного в
связности его наличествования; в этом наличествовании
лежит то, что происходит, лежит изменение,
последовательность событий, т. е. направленная связь условий
и обусловленного. Утверждая свой принцип, разум
в своем требовании абсолютной тотальности требует
продвижения от одного условия к другому — и так до
достижения безусловного. При этом его
основоположение — согласно его же принципу — таково: «Если
дано обусловленное, то дана и вся сумма условий,
следовательно, абсолютно безусловное, благодаря
которому только и стало возможным обусловленное».11 Если
9 а. а. О., А 326, Cm
10 а. а. О. А 407, В133.
11 а. а. О. А 409, В 436.
257
разум представляет всю полноту ряда условий, тогда
внутри последовательного ряда условий и
обусловленного он идет вверх и обратно в направлении условия,
но не вниз и вперед в направлении следствия, «потому
что для полного понимания того, что дано в явлении,
нам нужны, конечно, основания, а не следствия».12
Мимоходом отметим, что это имеет силу внутри
процессов и для процессов телесной природы, но
совершенно не касается истории, так как историческая
событийная данность сущностно понимается как раз
из ее следствий. Для исторического события следствия
не являются — как мы это называем — чем-то
последующим и как бы привешенным: они существенны,
и потому их и категориально надо определять иначе,
чем просто следствие. Одновременно это означает, что
историческое прошлое определено не его местом в
бывшем (im Gewesenen), но возможностями его будущего.
Определяющим здесь является не какое-то будущее,
которое — после того как что-то произошло — стало
событием и следствием, но будущее как возможное.
Поэтому история настоящего — это абсурд. На это
совершенно иное в своем роде измерение сущего Кант не
обращает внимания, он, в принципе, не знает его, и это
косвенно свидетельствует о том, что для него сфера
явлений совпадает с областью наличного, с природой
в широком смысле.
«Следовательно, космологические идеи [понятия
разума о полной связности объектов как явлений]
занимаются целокупностью регрессивного синтеза и
направлены in antecedentia, a не in consequentia».13
Обсуждая основоположение причинности, мы видели,
что оно — как динамическое — специально соотнесе-
12 а. а. О. А 411, В 438.
13 Ebd.
258
но с событиями и, следовательно, с событийной
последовательностью явлений. Таким образом, именно
здесь разум устремляется к единству и полноте этого
ряда. Связность ряда, т. е. отношение обусловленного
к условию определена через причиненность
(Verursachtsein) обусловленного, т. е. через причинность
условий, через ту каузальность, которая приводит к тому,
что последовательность явлений возникает и
следует. В результате представление безусловного единства
этого ряда, этого каузального отношения поднимется
до безусловного и представит «абсолютную полноту
возникновения явления».14 Представление
безусловной причинности, получаемое разумом, есть
представление о самом бытии-причиной, которое как таковое
больше не восходит к чему-то предыдущему
(Vorangehendes), от коего оно, в свою очередь, берет начало:
нет, оно само безусловно начинает собою ряд.
Представляя безусловную причинность, разум
представляет изначальное,15 даже «исконно сущее действие»
(Handlung), приступание к действию (Wirken) из
себя самого, т. е. свободное действование. Понятие об
этой безусловной причинности, стремящееся
представить данное — и в том или ином случае могущее быть
данным — единство явлений в их полноте,
соотнесено с чем-то таким, что α ρήοή делает возможной всю
целостность явлений, с чем-то трансцендентальным,
т. е. речь идет о представлении о свободе в
трансцендентальном смысле: идея трансцендентальной
свободы. Свобода как вид причинности связана с возможной
целостностью событийного ряда явлений вообще. Идея
свободы есть представление(одинамическом
безусловном, т. е. о таком, которое касается всей полноты связи
14 а. а. О. А 415, В 443.
15 Ср.: а. а. О. А 544, В 572.
259
наличествования явления, — «трансцендентальное
понятие природы» }&
Тем самым мы прошли — пока что в общих
чертах — первый путь, на котором Кант столкнулся со
свободой. Этот путь характеризует не
историографические инициативы и личные размышления Канта,
благодаря которым он пришел к свободе, а
содержательную связь идеи свободы с проблемой возможности
конечного познания. Потому этот путь к свободе
одновременно показывает как и в качестве чего
полагается свобода. Свобода есть не что иное, как абсолютно
продуманная природная причинность, или — как очень
точно говорит сам Кант — понятие природы, которое
трансцендирует за пределы всей полноты опыта.17
Через это оно не утрачивает основочерты понятия
природы: эта черта сохраняется и как раз расширяется и
нарастает в безусловное (ins Unbedingte).
§ 23. Два вида причинности и антитетика
чистого разума в третьей антиномии
То понятие, которое, по сути дела,
представлено в идее трансцендентальной свободы, а именно
причинность, порождено рассудком и принадлежит
к сущностным определениям природы вообще.
Представлением разума совершается лишь одно, а
именно — расширение в безусловное. Однако одновременно
это расширение выявляет внутренний разлад разума.
Расширение представления в безусловное приводит
чистый разум к разладу с самим собой. В своем
собственном развертывании до тезисов
космологическая идея абсолютной полноты возникновения явле-
16 Ср.: а. а. О., А 420, В 448.
17 Ср.: а. а. О. А 420, В 447 f. Далее: А 327, В 348; А 496, В 525.
260
ния1 раскрывает противоборство тезиса и антитезиса,
в каковых тезисах одновременно выявляется понятие,
которое Кант схватывает как трансцендентальную
свободу. Два противящихся друг другу положения суть
тезисы, которые касаются не каких-то произвольно
задаваемых вопросов, но таких, на которые «всякий
человеческий разум с необходимостью должен
натолкнуться в своем движении вперед»,2 — тезисы, каждый из
которых (вместе со своей противоположностью) несет
с собой «не неестественную видимость... а естественную
и неизбежную». Оба — даже если кто-то просмотрел
их буквально насквозь — вновь и вновь предстают как
истина. Поскольку оба по своему содержанию
противостоят друг другу и с одинаковым правом притязают на
истинность, они находятся в постоянном и неизбежном
состязании. Обнаружение этого состязания, а вместе
с ним и внутреннего сущностного состязания
человеческого разума как такового составляет предмет
трансцендентальной антитетики. Эти противоборствующие
друг с другом, но неизбежные для человеческого
разума основоположения Кант называет «умствующими»;3
они не могут надеяться на подтверждение опытом, но
и не должны опасаться опровержения с его стороны.
Но тем не менее чистый человеческий разум остается
«неизбежно подчиненным»4 своему внутреннему
раздору. Тезис имеет такие же действенные и
необходимые основания в свою пользу, как и антитезис.5
Трансцендентальная идея свободы заключена в
истоке внутреннего противоборства чистого разума,
которое Кант в своей классификации антиномий рас-
1 Ср.: а. а. О. А 413, В 443.
2 а. а. О. А 422, В 449.
3 а. а. О. А 421, В 449.
4 Ebd.
5 Ср.: а. а. О. А 420 ff., В 448 ff.
261
сматривает как третью антиномию. Это антиномия
в понятии безусловной тотальности возникновения
какого-либо явления. Таким образом, теперь речь идет
о представлении полноты всех явлений в отношении их
возникновения, т. е. их причинной обусловленности.
Стремясь это представить, чистый разум приходит
к следующим двум тезисам:6
1) «Причинность по законам природы — не
единственная причинность, из которой можно вывести все
явления в мире. Для объяснения явлений
необходимо еще допустить свободную причинность (Kausalität
durch Freiheit);
2) «Нет никакой свободы, все в мире совершается
только по законам природы».
Во втором тезисе полагается то, что
противостоит первому. Кант называет его антитезисом. Он
доказывает оба положения, и эти доказательства должны
показать, что в чистом разуме и для чистого разума
оба положения одинаково истинны и обоснуемы. За
доказательствами следует примечание к тезису и
антитезису. Доказательства этих положений косвенны, т. е.
они исходят из противоположного тому, что надо
доказать в каждом из них.
а) Тезис третьей антиномии.
Возможность причинности через свободу
(трансцендентальная свобода)
наряду с причинностью по природе
в разъяснении явлений мира
как вообще онтологической проблемы
Если предположить, что нет никакой иной
причинности, кроме причинности по природе, тогда всё
6 а. а. О. А 444 ff, В 472 ff.
262
происходящее предполагает некое предшествующее
состояние, за которым оно неизбежно следует по
правилу. Но предыдущее состояние само должно быть
чем-то таким, что произошло и стало во времени, т. е.
то, чего прежде не было. Ведь если бы предыдущее
(das Vorige) — как источник причины —
существовало всегда, то и его следствие не возникло бы во
времени, а существовало бы всегда. Значит, каузальность
чего-нибудь произошедшего сама всегда есть нечто
произошедшее, и всякое происходящее отсылает
назад к чему-то еще более раннему; всякое начало — это
нечто лишь «подчиненное»7 по отношению к более
раннему, подчиненное по отношению к
предшествующему. Следовательно, в ряду причин нет никакого
первого начала.
«Между тем закон природы состоит как раз в том,
что ничто не происходит без причины, достаточно
определенной a priori».8 Но именно этот закон,
гласящий, что возможна только природная причинность, не
ведет ни к какому первоначалу, ни к какой достаточно
определяющей причине. Закон причинности
противоречит самому себе в том, что он требует и что дает.
Таким образом, надо признать такую причинность, где
причина больше не определяется предыдущей
причиной. Каузальность причины как таковая должна
самостоятельно быть тем, что она есть, чтобы самой начать
ряд явлений, который далее продолжится по законам
природы. Такая причинность, такое безусловное
самоначало есть абсолютная спонтанность, т. е.
трансцендентальная свобода, выходящая за ряд природных
причин. Без нее последовательный ряд явлений
никогда не может быть завершен.
7 Ср.: а. а. О. А 444, В 472.
8 а. а. О. А 446, В 474.
263
В примечании к этому тезису Кант подробнее
характеризует понятие свободы, появившееся в нем, и
ее значение. В то же время он разъясняет, что
доказательством этого тезиса определено в отношении бытия
мира и как надо понимать «первое начало»
последовательного ряда, определенного свободой.
Появляющееся в этом тезисе понятие
трансцендентальной свободы «далеко не исчерпывает всего
содержания обозначаемого этим словом психологического
понятия, имеющего главным образом эмпирический
характер».9 Что подразумевается под этим
различением трансцендентального и психологического понятия
свободы? В психологическом понятии представлена
душа, душевная способность, воля, которая
мыслится свободной, т. е. совершенно определенное сущее,
к которому мы не приходим, отталкиваясь от одного
лишь представления о сущем, вообще наличном, но
которое нам должно даваться. В противоположность
этому трансцендентальное понятие свободы
возникает в контексте вопроса о полноте явлений, вообще
наличного сущего — и совершенно
безотносительно к тому, каково это сущее по своему содержанию.
Трансцендентальная свобода — это
общеонтологическое понятие, тогда как психологическая свобода — это
регионально-онтологическое понятие.10 Однако
общеонтологическое понятие — именно как таковое —
лежит и в каждом регионально-онтологическом понятии,
а в психологическом понятии свободы оно составляет
подлинное затруднение. Поэтому Кант говорит: «Сле-
9 а. а. О. А 448, В 476.
10 «Общее» не означает здесь «формальное», но
подразумевает то, что подобает всякой regiona как региону сущего в
отношении бытийных определений. Здесь — лишь предварительное
разъяснение.
264
довательно, та сторона вопроса о свободе, которая
издавна приводила в такое затруднение спекулятивный
разум, собственно говоря, чисто трансцендентальна
и сводится только к тому, должна ли быть допущена
способность само собой начинать некоторый ряд
следующих друг за другом вещей или состояний».11
Короче говоря, проблема свободы, и свободы воли в
особенности, есть, по сути дела, общеонтологическая
проблема внутри онтологии наличествования
наличного в самом широком смысле; в себе самой —
согласно собственному проблемному содержанию — она не
сообразовала с бытием, предполагающим намеренное
действие, или вообще разумным бытием. Дело не
выглядит и так, будто Кант, полагая бытие-свободным
как особенность разумного существа, это последнее
затем рассматривает в горизонте наличествования
наличного: само наличествование наличного как
таковое — природа и природное бытие — раскрывает в себе
проблему некоего «свободного действия». Мы должны
вернуться к этому всё разъясняющему тезису Канта и
поймать его на слове.
В общем и целом уже видно следующее: с
принципиальным изменением проблемы онтологии меняется
и проблема свободы. Согласно Канту, проблема
только в том, должно ли и можно ли признать нечто такое,
как абсолютная спонтанность, внутри бытия
наличного в его тотальности (мир) и в отношении к этому
бытию. Понять возможность такой причинности так же
трудно, как понять возможность причинности
природной. Ведь и по отношению к последней мы вынуждены
довольствоваться разумением того, что она
необходима как условие возможности опыта и, следовательно,
предмета опыта.
11 а. а. О. А 449, В 477.
265
Что же — далее спрашивает Кант в примечании
к тезису — определено в его доказательстве? По сути
дела, показана только необходимость безусловного
начала для понимания происхождения мира,
тотальности всех явлений, т. е. начало мира из свободы. Но
после этого однажды возникший мир остается в плену
естественных причин. Это лишь оставляет открытой
возможность полностью подчинить природной
причинности и ее необходимости всю последовательность
всех прочих мировых событий. Однако поскольку
вообще доказана способность начинать ряд во времени
(доказана, хотя и не постигнута), «отныне мы имеем
право допускать также», что и в обычном ходе вещей
«различные ряды... возникают сами собой», т. е.
признавать то наличное, те субстанции, которым
приписывается способность «действовать свободно».12
Иными словами, после этого доказательства можно
предположить, что внутри наличного, посреди
разворачивающегося в нем течения событий есть какое-то
свободно действующее сущее. Здесь опять еще ничего
не решено относительно того, идет ли речь о человеке
или других существах: в соответствии с
общеонтологическим понятием действия говорится только о том, что
внутри наличного течения событий нечто может
начаться совершенно самостоятельно. Этому самоначалу
(Selbstanfang) не обязательно быть безусловным
началом «во времени», т. е. оно не исключает того, что во
времени ему предшествовало что-то другое, а само
свободное действие следует за этим предыдущим, хотя и
не «вытекает» из него. Если вот сейчас, говорит Кант,
я «совершенно свободно... встаю со своего стула»,13
12 а. а. О. А 450, В 478.
13 Ebd.
266
тогда в мире что-то безусловного начинается (в
отношении причинности, а не в отношении времени) и тем
самым начинается ряд дальнейших, вытекающих
отсюда событий. Ведь решение встать со стула — «это
решение и этот поступок вовсе не являются следствием
одних только природных действий».14
В заключение Кант дает историческую отсылку
к античной философии, в которой — за
некоторыми исключениями — хо^е предпринималась попытка
выйти за ряд природных причин к первому двигателю:
здесь прежде всего можно назвать Аристотеля с его
πρώτον κινούν άκίνητον.* Правда, вид движения
этого неподвижно двигающего не исчерпывается, даже
не затрагивается абсолютной спонтанностью, κινεΐ ώς
έρώμενον.** Это именно подтверждение потребности
разума, как оно и выражается в представлении о
безусловной полноте возникновения явлений.
Очень важно учесть, что с чистым разумом и теми
раздумьями, которым он предоставлен, сам тезис и его
доказательство вполне сообразуются: в них нет ничего
навязанного и неестественного. Кант хочет этим
сказать, что все, что положено в этом тезисе и доказано
приведенным доказательством, по своему содержанию
и характеру аргументации, сделанному в
размышлениях обычного человеческого разума, продумывается и
утверждается в самых разных вариациях. То же самое
относится и к антитезису, который утверждает
обратное и чье утверждение должно быть таким же
последовательным и истинным.
14 Ebd.
* Неподвижный перводвигатель (греч.). — Примеч. перев.
** Движет как любимый (греч.). — Примеч. перев.
267
b) Антитезис третьей антиномии.
Исключение свободы из причинности
хода вещей
«Антитезис: Нет никакой свободы, все в мире
совершается только по законам природы».15 Здесь
доказательство тоже косвенно: оно основывается на
принятии противоположного, т. е. на допущении того, что
истинен тезис. Если теперь в доказательстве
антитезиса доказывается истина того, что противоположно
тезису, тогда тем самым одновременно выявляется
противоборство обоих положений — как одинаково
истинных и доказуемых.
Итак, доказательство антитезиса: «Предположим,
что существует свобода в трансцендентальном смысле,
как особый вид причинности»;16 тем самым сказано,
что причинность — как давание чему-то следовать за
собой (Folgenlassen) — сама начинается безусловно.
Поэтому для нее не существует ничего, по отношению
к чему она была бы определима, тем более если речь
идет о постоянных законах. Сама эта каузальность как
происходящее действие есть сущее. Если для нее не
существует никакой закономерности, каковая, в свою
очередь, принадлежит к сущности и возможностям
явлений, наличного, тогда в трансцендентальной
свободе мыслится то, что вообще не может быть никаким
наличным, «пустое порождение мысли».17 Таким
образом — поскольку трансцендентальная свобода уже
противостоит закону причинности как закону —
существует только природа. Если бы свобода вступила
в причинность хода вещей, тогда в этот ход вошла бы
не какая-то другая закономерность, но отсутствие вся-
15 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. А 445, В 473.
16 Ebd.
17 а. а. О. А 447, В 475.
268
кого закона. В результате природа, сущность которой
составляет закономерность, была бы вообще
упразднена, а если бы свобода была каким-то видом законности
и закономерности, тогда она была 6j)i не чем иным, как
природой. Следовательно, нет никакой свободы. Все,
что происходит, определено всемогуществом природы,
присущим только ей.
Правда, в силу истинности антитезиса на познание
возложено постоянное бремя: искать начало, уходя все
выше и выше. Но одновременно устраняется иллюзия
свободы, и за это бремя познание вознаграждает себя
сохранением сплошного и закономерного единства
опыта. Свобода же хотя и освобождает от
непреложности, но одновременно освобождает и от путеводной
нити всяких правил, потому что, будучи тем
безусловным началом, которому ничто не предшествует, она
обрывает путеводную нить правил, определяющих
происходящее, упраздняет определяющий возврат
к предыдущему.
В примечании к антитезису Кант показывает, как
апологет всемогущества природы отстаивал бы свой
взгляд против учения о свободе. Так как единство
опыта непрестанно делает необходимым постоянность
субстанции (т. е. получается, что субстанции
существовали в мире всегда), не представляет никакого
труда также допустить, что всегда существовало и
изменение, и, стало быть, нет никакого первого начала.
Да, возможность такого бесконечного происхождения
понять нельзя, но это не дает основания отвергать эту
«загадку природы». Ведь в противном случае нам
придется отвергнуть и «изменение», потому что его
возможность должна стать «предосудительной».18 «Ведь
если бы опыт не показал вам, что изменение действи-
18 а. а. О. А 451, В 479.
269
тельно имеет место, вы бы никогда не могли a priori
придумать, как возможна такая непрерывная
последовательность бытия и небытия».19
с) Своеобразие космологических идей
в вопросе о возможности метафизики
в собственном смысле и интерес разума
в разрешении этого вопроса
Итак, тезис и антитезис одинаково необходимы,
одинаково истинны и одинаково внятно доказуемы.
Их противоборство есть внутренний «разлад» разума,
принадлежащий ему самому.20 Этот разлад нельзя
вырвать из человеческой природы, нельзя устранить.
Остается лишь настойчивее искать его причину.
Прежде чем задаться этим вопросом и отыскать путь к
решению этой антиномии, а не ее упразднению, Кант
ставит такой вопрос: если мы видим перед собой эту
бесконечную игру противоборства, в которое впал
чистый разум, то как быть нам самим: остаться
совершенно безучастными к происходящему или же —
вспомнив о нашем интересе — охотно стать на какую-нибудь
сторону и на какую именно?21 Наш интерес — под ним
Кант подразумевает не какие-то расхожие потребности
и желания, а то, что интересует человека как человека,
то, что затрагивает его как человека в его человеческом
бытии. В чистых понятиях разума, в идеях (душа, мир,
Бог) даются «надежды на конечные цели [бессмертие,
свобода, Бог], в которых должны в конце концов
объединиться все усилия разума».22
19 Ebd.
20 а. а. О. А 464, В 492.
21 Ср.: а. а. О. А 465, В 493.
22 а. а. О. А 463, В 491.
270
Противоборство, о котором мы рассказали, в
совершенно общем смысле затрагивает все наличное
сущее. К нему принадлежит и отдельный человек —
как наличный фрагмент мирового целого.
Внутреннее противоречие этой антиномии, а именно вопрос
о том, есть ли внутри наличного сущего такое сущее,
которое само может начинать ряд событий, или же его
нет; итак, эта общая двоякость превращается — когда
отдельный человек связывает ее с собой как
наличным — в вопрос о том, «свободен ли я в своих
поступках или же я, подобно другим существам, управляем
природой и судьбой».23 Свободен ли я или же кругом
одна лишь природная необходимость? Поскольку мы
делаем выбор в пользу тезиса, поскольку мы отдаем
предпочтение именно ему, мы делаем выбор в пользу
свободы, причем понимаем ее не просто как одну лишь
несвязанность (Ungebundenheit): видя в ней условие
возможности быть ответственным, мы имеем в виду
возможность нравственности вообще. Следовательно,
выбирая тезис, мы обнаруживаем определенный
нравственный интерес.24 Но одновременно здесь
обнаруживается и интерес спекулятивный, т. е. чисто
теоретический, поскольку нам надо дать удовлетворительный,
т. е. окончательно умиротворяющий ответ на вопрос
о целостности всего наличного, а таковой
возможности на стороне антитезиса нам не предоставляется.
Поскольку таким образом общий практический и
теоретический интерес человеческого разума склоняется
к естественному предпочтению тезиса, его содержание
имеет определенную популярность, чего не скажешь
о противоположной позиции. Здесь требуется
неутомимое восхождение ко все более далеким причинам,
йЁмГ
24 Ср.: а. а. О. А 466, В 494.
271
здесь познание никогда не достигает прочной точки, где
стали бы возможными отдохновение и покой, и потому
здесь у человека «одна нога всегда висит в воздухе».25
Поэтому на никаком основании антитезиса, не
допускающем ничего первого (Erstes) и никакого начала,
совершенно невозможно построить законченное
здание знаний.26 Поскольку «человеческий разум по своей
природе архитектоничен»,27 т. е. он рассматривает все
знания как принадлежащие к какой-нибудь возможной
системе, «архитектонический интерес разума...
заключает в себе естественную благосклонность к
утверждению тезиса».28 Тем самым одновременно сказано, что
основное направление собственно метафизического
вопрошания и ответствования, беря начало в
«естественной склонности» человека, задается тезисом.
Однако это — если смотреть чисто по содержанию — не
дает ему никакого преимущества перед антитезисом,
но лишь показывает, что в большинстве случаев
человеческий разум просто не способен непредвзято
воспринимать свое собственное противоборство. Связь
тезиса с общим интересом человека вообще указывает
на то, что «если бы дело дошло до действий, эта игра
чисто спекулятивного разума» между тезисом и
антитезисом исчезла бы, «как призрак наших грез», и
человек «избрал бы свои принципы только соответственно
практическому интересу».29 Но, с другой стороны,
«никому нельзя поставить в упрек и тем более запретить
попытку выставлять свои тезисы и антитезисы в том
виде, как они могут защитить себя».30 Из всего сказан-
25 а. а. О. А 467, В 495.
26 Ср.: а. а. О. А 474, В 502.
27 Ebd.
28 а. а. О. А 475, В 503.
29 Ebd.
30 а. а. О. А 475 f., В 503 f.
272
ного следует, что чистый разум не просто несет в себе
это противоборство: возможны различные точки
зрения, правомерные по отношению друг к другу.
В нашем проблемном контексте мы должны
отказаться от принципиального рассмотрения развернутой
Кантом проблемы антиномий и вопроса о том, сколь
исконно она укоренена в самом человеческом
существовании. Это означает и отказ от критического во-
прошания о том, в какой мере обозначенные Кантом
антиномии безусловно необходимы и в какой мере
они предстают как необходимые только на основании
специфически кантовского полагания проблемы
разума и вопроса о человеке. Для нас речь идет только
о том, чтобы увидеть, какое место проблема свободы
занимает внутри метафизики, увидеть ее
метафизический характер и свести воедино этот первый путь
к свободе со вторым.
Проблема свободы принадлежит к проблеме мира.
Сама проблематика вырастает как антиномия
космологической идеи, разумного познания абсолютной
тотальности того ряда, в котором возникает какое-либо
явление. Однако космологическая идея свободы
получает и особое определение и отличие — благодаря тому,
что вообще все космологические идеи прежде всяких
других (психологических и теологических)
характеризуются тем, что здесь нельзя уклониться от
разрешения их противоречивой природы. Правда, соблазн
к тому возникает. Можно было бы сказать, что
желание разрешить все вопросы, — это «бесстыдное
хвастовство» и «непомерное самомнение»,31 и что в этих
последних вопросах разума уместнее было бы просто
смириться. Но отговорка относительно
непроницаемой темноты последних вопросов годится для пси-
31 а. а. О. А 476, В 504.
273
хологических и теологических идей, и там она может
быть признаком действительного отречения и
невзыскательности: что касается идей космологических, то
здесь такой подход недопустим, т. е. разрешить
имеющееся в них противоречие необходимо. Почему?
Предмет космологических идей есть тотальность явлений,
и хотя полнота всего наличного в его наличии никогда
не дана эмпирически, тем не менее то, что называется
и подразумевается в космологических идеях — космос,
природа — как раз предстает как возможный предмет
опыта. В таких идеях предмет должен предполагаться
как данный, а вопросы, которые приводят к
возникновению этих идей, касаются как раз полноты опытного
синтеза. Предмет сам по себе известен. То, что здесь
дано как известное, также должно определять меру для
оценки идей и того, каким образом нам дан их
предмет. Хотя космологические идеи неосуществимы, т. е.
тотальность как таковая наглядно не представима и
не дана, однако представление о ней во всякое время
надо отслеживать в ракурсе того, что дано, и в
соотнесении с ним. Может статься, что эти идеи — по тому,
как они сами возникают и рождают
взаимоисключающие утверждения — соотносятся не с тем, с чем они
связаны как космологические идеи (с явлениями) и
прежде всего не с тем, как нам дается предмет этих
идей. Поразмыслив об этом, мы в конце концов
отыщем ключ к тому, как понять природу их
противоборства и разрешить его. Если в его основе одна лишь
видимость, тогда оно должно рассеяться, и можно
будет позитивно включить то, что представляется в этих
идеях, в возможность опыта. Но если это
противоборство все-таки продолжается, тогда придется
искать какой-то путь к его улаживанию. По отношению
к проблеме свободы это означает следующее: свобода
как космологическая идея не просто остается поняти-
274
ем, противоположным понятию природной
причинности, противоборство того и другого приходит к
разрешению, в результате которого возможность единства
того и другого — т. е. причинности из свободы и
причинности по природе, — по крайней мере, не кажется
немыслимой.
Но даже совсем не принимая во внимание
перспективу возможного разрешения этого
противоборства, надо сказать, что нечто существенное заключено
уже в том, что в антитетике аргументы разума могут
подкреплять противоречащие друг другу положения.
Кант называет это скептическим методом. Он не
способствует скептицизму, страсти к сомнению или даже
отчаянию: на самом деле σκέψις в подлинном
значении слова — это одно лишь всматривание в
противоположности, направленное на то, чтобы выявить все
аргументы обеих сторон и придать противоборству
предельную остроту. Ведь только так оно и может
разрешиться, т. е. только таким образом оно выявляется
относительно собственных предпосылок: есть ли в них
ложность и если есть, то в какой мере. В результате эта
ложность снова приводит нас к открытию истины.32
§ 24. Подготовительные {негативные) определения
к разрешению третьей антиномии
а) Обман обыденного разума
в использовании его основного положения
Мы видим, что трансцендентальное понятие
свободы возникает внутри формирования идеи, т. е.
необходимого представления, в котором разум делает дей-
32 Ср.: а. а. О. А 507, В 535.
275
ственным свой принцип необходимого представления,
в частности того, которое обращено к объектам и их
многообразию, поскольку это многообразие
представляет собой синтетический ряд, регрессивно
восходящий от обусловленного к его условиям. В таком
контексте свобода была бы необусловленной
причинностью. Какой принцип при этом разум делает
действенным? Он таков: если дано обусловленное, то,
следовательно, дан и целый ряд всех его условий.
Но когда мы слышим это основоположение, мы
ощущаем какое-то несоответствие, хотя и не можем
со всей ясностью сказать, в чем его причина.
Поначалу возникает лишь догадка, что это положение
обманчиво. В чем же кроется обман? О чем вообще идет
речь в этом основоположении? Об условии и
безусловном, об отношении обусловленного к условию.
Только об этом? Нет, не только: речь идет об
отношении событийной данности обусловленного к
данности условия и всего его ряда; об условии данности
целого ряда условий. Речь здесь идет о довольно
разном, о многообразии, и теперь мы замечаем, что,
поверхностно рассуждая об этом основоположении, мы
не сможем учесть всю полноту его содержания. Тем
не менее мы считаем, что можем сразу понять его,
вникнуть в его суть и затем применить. Мы, т. е.
обыденный разум. В чем же состоит обыденность в
понимании и использовании этого основного положения?
Обыденное — это лишенное различения, нечто такое,
что сваливает всё воедино и потому без всякого
рассмотрения одинаково воспринимает несходное,
полагает одно вместо другого, каким бы отличным оно ни
было. В результате нечто воспринимается и подается
как что-то такое, чем оно не является. Потому в этой
обыденности разума сразу же дают о себе знать
заблуждение и обман.
276
Почему разум не привносит в это
основоположение никаких различий? Мы в общих чертах уже
сказали, что в этом положении речь идет об
обусловленном и условии. Уже само понятие обусловленного
предполагает, что в нем речь идет об отношении к
условию. Поэтому в понятии обусловленного
содержится указание на регресс к условию или, иначе
говоря, в понятии обусловленного задано возвращение
к соответствующему ряду условий. В общем и целом
эта заданность лежит уже в лишь представленном
отношении условия и обусловленного — без учета
того, что дано в качестве обусловленного, да и дано
ли что-нибудь вообще. Эта заданность существует
для мыслящего определения как такового,
существует для «логоса». Поэтому заданность регресса к
условиям, характеризующая понятие обусловленного,
есть чисто логический постулат. Однако поскольку
этот постулат чисто логический, он не только
фактически ничего не говорит об отношении данного
обусловленного к данности его условий, но и вообще
ничего об этом не может сказать. Поэтому когда
данный логический постулат становится ясным в его
значении и законности (как понимание того, что
обусловленное задает регресс к условию), это вовсе не
означает, что данностью обусловленного также дано
условие и весь его восходящий ряд. Это
фундаментальное различие между отношением обусловленного
и условия, с одной стороны, и отношением данности
обусловленного к данности условий, с другой
(первое представляет собой логико-понятийное
отношение в одном лишь помысленном (das Gedachte),
тогда как второе — онтико-фактическое отношение во
временном совершении опыта), есть первое, чего не
улавливает обыденный разум, не делая здесь никакого
различия.
277
Но в своем неразличении он идет еще дальше. Что
происходит, когда обыденный разум принимает
основоположение в ракурсе вопроса о данности
обусловленного? Обусловленное дано, т. е. какое-то сущее
(вещи) есть. Если эти вещи существуют как
обусловленные, тогда вместе с ними существует и
обусловливающее, т. е. тогда тем более должен существовать
полный ряд условий и само безусловное. Здесь, когда
речь идет о данности, совсем не спрашивается, что,
когда и как дано: считается чем-то само собой
разумеющимся, что тот, кто вот так говорит и так понимает
это основоположение, т. е. человек, сразу, без каких-
либо условий просто познает вещи, как они суть, и
поэтому так же просто может решать относительно
их обусловленного и обусловливающего совместного
бытия. Речь о данности обусловленного и условия не
просто протекает в такой неопределенности, но она,
эта неопределенность, одновременно является чем-то
само собой разумеющимся в том мнении, что, дескать,
познающий человек безусловно познает вещи —
такими, каковы они сами по себе. Обыденный разум не
замечает, что для того чтобы иметь сущее как данное,
чтобы постичь его, мы сначала должны достичь
этого сущего, уже добраться до него как сущего,
встретиться с ним, чтобы затем иметь его таким, каким
оно себя показывает. Сущее дано нам лишь как
показывающее себя, дано как явление, и это даяние
совершается при определенных условиях, а именно при
тех, которые делают для нас возможным внимающее
представление, т. е. созерцание. То, что делает
возможным внятие, принадлежит к нему с сущностной
необходимостью. Если внятие является созерцанием,
тогда и то, что делает его возможным, должно иметь
характер созерцания. Делающее возможным
является — по отношению к тому, что в результате этого
278
делания осуществляется — более ранним (das
Frühere), предшествующим; созерцание, которое делает
возможным, должно заранее созерцать свое представи-
мое (Vorstellbares).
Это даяние явлений имеет определенные условия:
явления встречаются нам в пространстве и времени,
а эти последние — не вещи сами по себе, которые
наличествовали бы «рядом» и одновременно с внутрипро-
странственными и внутривременными вещами. Нет,
они суть способы представления, принадлежащие
человеку, причем принадлежащие таким образом, что он
с самого начала воспринимает все, что встречается ему,
в горизонте пространства и времени. Поэтому все
отношения встречающегося нам сущего с самого начала
определены как отношения временные. Это касается и
отношения встречающейся данности обусловленного
к данности условий, т. е. если обусловленное дано нам
в явлении и как явление, то отсюда еще не следует, что
сразу же, т. е. одновременно дано единство временного
отношения обусловленного к его условию: на самом
деле этот ряд всегда лишь последователен во времени.
Поэтому нельзя сказать, что если дано обусловленное,
то также дан и целый ряд всех его условий. Можно
лишь сказать, что вместе с данностью
обусловленного в явлении дан и регресс к ряду его условий и что
хотя они и не отсутствуют, но тем не менее не даны во
всей своей тотальности. Таково общее действие разума
в понимании и использовании этого основоположения.
Чтобы еще раз кратко показать стирание различий,
представим основное положение в его функции
именно такого положения, т. е. как главную посылку
вывода в единстве с этим выводом — в том умозаключении
разума, с помощью которого, согласно Канту, разум
приходит к своим космологическим идеям, одной из
которых является идея свободы. Итак, если обуслов-
279
ленное дано, то дан и весь ряд его условий вплоть до
безусловного. Обусловленное дано в том, что
возникает и следует из чего-то другого. Значит, дано и
безусловное такого следования, дана безусловно
начинающая каузальность, т. е. свобода. Обыденный разум
сразу же отождествляет очевидность чисто
онтологического понятийного отношения с онтическим
отношением данности сущего обусловленного (seiende
Bedingte) и сущего же условия (seiende Bedingung). При
этом сущее воспринимается как вещь сама по себе, т. е.
без учета условий его возможной данности. Именно
это сущее принимается во второй посылке
силлогизма как явление, правда, не будучи познанным именно
в таком его значении. То, что неверно было
высказано о вещах самих по себе, переносится — и опять-таки
неверно — на явления, и отсюда делается вывод,
который показывает всю свою незаконность, если
предположить, что обыденный подход разума как таковой
становится прозрачным. Но в конечном счете
обыденность обыденного разума состоит в том, что он не
только всегда утверждает себя в этой своей неспособности
к различению как в чем-то само собой разумеющемся,
но в результате этого сам мешает себе прийти к
упомянутой прозрачности. Поэтому Кант считает
возможным сказать, что обыденный разум движется в
«совершенно естественном заблуждении»,1 когда имеет дело
с этим своим основоположением и его
использованием при формировании космологических идей, которое
как таковое ведет к раскрытию антиномий. Однако это
положение лежит в основе доказательства как тезиса,
так и антитезиса. Благодаря разъяснению сокрытого
в нем обмана, оба положения оказываются «ошибкой»2
1 а. а. О. А 500, В 528.
2 а. а. О. А 501, В 529.
280
в том, как они обнаруживают свою предполагаемую
истинность. Следовательно, надо отвергнуть притязания
обоих на действительную доказуемость и возможность
быть подлинно доказанными.
Ь) Различение явления и вещи самой по себе,
или конечного и бесконечного познания
как ключ к разрешению проблемы антиномий
Правда, этим еще не доказано, что оба они
неверны в самом существе дела, т. е. в том, что они — как
положения — утверждают в заключении.
Какое-нибудь положение может быть вполне истинным, хотя
доказательство его истины само по себе шатко и
необоснованно. Если последнее оказывается верным по
отношению к тезису и антитезису, то тогда спор между
ними продолжается, поскольку они «так хорошо
опровергают друг друга».3 Стало быть, его можно уладить,
только показав, что обе стороны спорят ни о чем.
Некая видимость рисует им какую-то действительность,
в которой на самом деле ничего нельзя ухватить, так
что их спор сам по себе ничтожен. Тогда надо
спросить, каков характер этого противоборства тезиса и
антитезиса. Какой вид противоположности (оппозиции)
лежит в антиномиях?
Чтобы это определить, мы будем придерживаться
третьей антиномии, которую одну и рассматривали, и
для этого придадим ей ту форму, в которой упомянутое
противоборство проступает очевиднее. Тезис
утверждает свободу как безусловную причинность, как исконное
начало, которому ничто не предшествует и за которым
нет никакого «и так далее», каковое вело бы к новым
3Ebd.
281
условиям. Поэтому тезис можно понять и так: ряд
соподчиненных друг с другом причин в своей
тотальности конечен. Теперь видно, что же означает
противоположность (Gegen-satz) этого тезиса, а она гласит:
ряд регрессивного синтеза условий сам по себе
бесконечен. Коротко говоря, теперь противоборство тезиса
и антитезиса звучит так: природа конечна — природа
не конечна, она бесконечна. Такое противопоставление
называют простым противоречием (контрадикцией).
Поскольку теперь мы берем это противоборство как
простое, «прямое» противоречие — т. е. так, как его
воспринимает обыденный разум, постоянно
противопоставляющий его члены — то тогда предполагается,
что природа (бытие мира) есть вещь сама по себе, т. е.
она дана нам безусловно, во всей своей абсолютности
и абсолютно же познаваема. При таком предположении
умалчивается, что природа как основопонятие явлений
совсем не составляет абсолютного существования. Так
как она не есть бытие-само-по-себе, нельзя сказать ни
того, что она сама по себе конечна, ни того, что она
сама по себе бесконечна. Предположение обоих
положений — тезиса и антитезиса — одинаково ложно. Если
я устраняю это ложное предположение, т. е. эту
видимость, тогда противоборство как противоречие, которое
кажется подлинным, превращается в кажущееся
противоборство, т. е. в диалектическую оппозицию. Оба
положения не просто противоречат друг другу, но каждое
говорит больше, чем это требуется для противоречия, и
это «больше» заключается в следующем: то, о чем они
говорят, они подают как вещь саму по себе, как то, чем
это говоримое на самом деле не является. Они работают
с видимостью, а именно — как мы видели — с такой
видимостью, которая неизбежна для обыденного разума.4
4 Ср.: а. а. О. А 506, В 534.
282
Противоборство упраздняется указанием на
ложную предпосылку, согласно которой явления суть
вещи сами по себе, т. е. на то, что отличие одного от
другого не проводится. Но это различение — в
интересах чистого разума, если сам он призван к тому,
чтобы стать прозрачным для себя в своих
собственных подлинных возможностях, а тем самым и необ-
ходимостях. Однако различение вещи самой по себе
и явления — не что иное, как различение конечного
и бесконечного познания, т. е. проблема чистого
разума должна осмысляться как проблема конечного
чистого разума. Далее из этого следует, что конечность
человеческой природы тоже должна определяться из
сущности познания и в этой сущности. Но очертить
конечность познания в его сущности — это основная
задача, которую и ставит «Критика чистого разума»
в своей первой позитивной основополагающей части.
Поэтому если разрешение антиномий как таковое
удается (а оно возможно только на основании
названного различения), то тем самым для Канта учение об
антиномиях одновременно является косвенным
позитивным доказательством того, что позитивно должна
была доказать трансцендентальная эстетика. Кант
недвусмысленно говорит об этом и тем самым
обнаруживает замысел «Критики чистого разума». Теперь
мы понимаем, почему проблема антиномий могла
послужить решающим толчком для написания
«Критики чистого разума»: потому что для разрешения этой
проблемы с необходимостью требуется осмыслить
различие между явлением и вещью самой по себе, между
конечным и бесконечным познанием, а точнее говоря
потому, что эта проблема заставила в первую очередь
раскрыть данное различие как таковое и удерживать
его как средоточие всей дальнейшей метафизической
проблематики.
283
Правда, и в критическом рассмотрении «особой
метафизики» (Metaphysica specialis) мы тоже видим
ту же основную установку Канта, которой он следует
и в критическом ограничении и определении «общей
метафизики» (Metaphysica generalis) («онтологии»).
Конечность человека не стала темой решительно и
основательно — в смысле проблемы основания
метафизики вообще и границ этой проблемы. Кант
довольствуется — и применительно к своим
ближайшим целям вполне оправданно, например, в учении
об антиномиях — выявлением их противоборства, их
разрешением, и тем самым указанием на заключенную
в человеческой природе видимость (Schein).
Природный разум — это обыденный разум, поскольку он
уравнивает существенные различия, делает их обыденно
общими или вообще не дает им проявиться. Природе
человеческого разума свойственно это уравнивание.
Об этом не только стоит поговорить более полно и
исконно, но прежде всего это естественное, обыденное
уравнивание надо выявить как сущностный момент
конечности. Надо показать, почему оно принадлежит
естественному разуму и в чем оно, собственно говоря,
состоит. Выше мы попытались истолковать, как
используется принцип разума, и в том, как мы это
сделали, мы уже задали направление, в котором надо искать
ответ. Что обнаруживается в таком стирании
противоречий между логическим, онтическим и
онтологическим, в результате которого всё сразу воспринимается
как «бытие»?5
5 См. выше, с. 42 и 149. «Безразличие» в понимании бытия,
«безразличность» — одна из восьми перечисленных
особенностей.
284
§ 25. Позитивное разрешение третьей антиномии.
Свобода как причинность разума:
трансцендентальная идея безусловной причинности.
Характер и границы проблемы свободы
внутри проблемы антиномий
а) Разрешение проблемы антиномий
путем выхода за пределы проблемы
конечного разума к проблеме конечности
человека вообще
Чтобы ответить на этот вопрос, подумаем еще раз
о проблеме свободы внутри проблемы антиномий. Если
мы последуем за Кантом на его первом пути к
свободе, мы обнаружим ее внутри проблемы антиномий.
Эта проблема предстает как форма проблемы мира как
основного вопроса в критическом разрешении
унаследованной метафизической дисциплины, а именно
рациональной космологии. Внутри проблемы антиномий
и внутри противоборства двух положений всякий раз
речь должна заходить о свободе, причем в
противоречивом смысле, а именно: наряду с природой и в
природе есть свобода — нет никакой свободы и есть только
природа. Это противостояние не может быть решено
в том смысле, что истина окажется на какой-то одной
из сторон. Решение возможно только путем
разрешения противоборства, т. е. через указание на то, что само
происхождение спора не дает этому противоборству
оснований требовать решения. Но, пожалуй, это
происхождение как раз дает ему право постоянно вносить
смуту в природу человека.
Разрешение этого противоборства, рассмотрение
его происхождения происходит в два этапа.
1. Сначала надо показать, что принцип, на
основании которого умствующие выводы приводят к про-
285
тивоборствующим положениям, — этот принцип
обманчив по характеру своего действования. То, что
относится к чисто логическим связям, неправомерно
переносится на чисто онтические, а эти последние,
в свою очередь, снова воспринимаются без каких-либо
различений: то они доступны лишь абсолютному
познанию, то принадлежат познанию конечному. То, что
относится к первому, не касается второго и наоборот.
Обманчив не только принцип доказывания
истинности обоих антиномических положений (а потому и
сами доказательства обманчивы): даже
противоречащие друг другу объективные содержания самих
положений как таковые ничтожны и представляет собой
лишь мнимые противоположности.
2. В более обстоятельной характеристике
имеющегося противополагания надо показать, что на самом
деле никакого настоящего противоречия нет, потому
что в обоих положениях (природа сама по себе
конечна — природа сама по себе бесконечна) об этой
природе говорится нечто такое, чем она вообще не является.
Эти положения говорят больше, чем необходимо для
противоречия: мы имеем дело с диалектическим
противоречием — диалектическим потому, что оно создает
видимость.
Ключ к этому двойному разрешению лежит в
проведении различия между явлением и вещью самой по
себе, а это различие поднимает проблему конечности
познания. Познание становится проблемой — в смысле
очерчивания доступного сущего и определения
условий его доступности.
Но о чем говорит эта «неразличаемость», которой
отличаются оба положения? Ошибка ли это
унаследованной метафизики или что-то существенное? Если
метафизическое вопрошание принадлежит к
человеческой природе, то к ней же принадлежит и эта свое-
286
образная превратность, о которой сам Кант говорит,
что она неизбежна. Что в человеческой природе
делает ее возможной? Мы уже намекали: способ понимания
бытия, т. е. его неразличаемость. Откуда это приходит
и почему происходит? Можно ли усмотреть
необходимость этого в самом понимании бытия? Почему это
неизбежно, но относительно его неизбежности больше
ничего не спрашивается? Что это значит? Надо выйти
за пределы одной лишь конечности человеческого
познания и выявить конечность самого человека. Надо
показать эту конечность, но не для того, чтобы установить,
что пределы есть — и где именно они есть — не для
того, чтобы выяснить, где наступает конец, где
разверзается это «дальше ничего нет»: это надо сделать для
того, чтобы пробудить внутреннюю сосредоточенность
и собранность, благодаря которым и в которых
начинается существенное и из которых только оно и
обретает свое время.
Если основная проблема основания метафизики,
составляющая «Критику чистого разума», — это
проблема конечности человека, тогда «Критика чистого
разума» в своей всеохватной тотальности тем более
должна все неуклоннее вникать в эту проблему. Но мы
скажем так: пусть эта проблема остается центральной,
но у нас речь идет о проблеме свободы. Как нам
способствовали ее разрешению теперешнее рассмотрение
антиномий и попытка их решить? Стало ли каким-то
образом яснее то, что мы ищем, — а именно стал ли
яснее вопрос о систематическом положении
проблемы свободы в рамках основания метафизики? Если
упомянутое противоборство разрешается указанным
способом, тогда это разрешение лишь негативным
образом говорит о его внутренней незаконности и
недействительности. Но тогда и сама проблема свободы,
рассмотренная в контексте проблемы антиномий, тоже
287
недействительна. Не исчезает ли и она вместе с
разрешенной антиномией?
Мы не выходим за пределы вывода, который,
быть может, является решающим: свобода
полагается в смысле трансцендентального понятия о
природе. Правда, это — голый результат, а не настоящий
итог — тот, который вытекает из подлинного
понимания проблемы. Проблемой же было разрешение
противоборства между причинностью по природе и
причинностью из свободы. Поначалу разрешение этого
противоборства означает одно: устранить разногласие,
постараться, чтобы его больше не было — т. е. в
определенном смысле нечто негативное. Но настоящее
разрешение противоборства должно вести к чему-то
позитивному, к возможности единства обеих
спорящих сторон. Спросим, почему. Кант ответил бы так:
во-первых, потому что для разума вообще, даже если
это конечный человеческий разум, единство является
основным принципом, а во-вторых, потому что как раз
космологические идеи своеобразно соотнесены с
опытом, который сам представляет единство законности.
Следовательно, только в том случае, когда достигнуто
положительное единение, мы сможем уловить
метафизическое ядро проблемы антиномий. Приближению
к этой цели и служили последние рассуждения — а не
только внешнему дополнению историографического
сообщения об учебном пособии под названием
«Критика чистого разума».
То, что прежде в Кантовом анализе антиномий
имело негативный характер, требует перехода в
позитивное. Это означает, что одна только критика основного
положения и его использования обыденным разумом
(с его умствующими выводами) должна перейти к
выявлению того, каким оно само может и даже должно
быть в исправленной форме, коль скоро как раз космо-
288
логические идеи — в соответствии с их отличительной
соотнесенностью с единством опытно постигаемого
(Erfahrbares) — тоже могут притязать на позитивную
функцию внутри общей проблемы возможности опыта.
Становится ясно, что обыденный разум не
понимает сути основного положения, поскольку
воспринимает его как положение, в котором что-то высказывается
о вещах самих по себе. На самом же деле выяснилось,
что основное положение призывает продолжить
регресс от данности обусловленного к данности
условия. Но при этом никогда нельзя останавливаться на
просто безусловном как данном и даваемом.
Основоположение ничего не говорит о сущностном строении
природы, ее конституции. Это не конститутивное
положение, каковыми в какой-то мере являются аналогии
опыта:1 оно лишь дает правило в методике познавания
природы, в соответствии с идеей полноты; это просто
регулятивный принцип. Говоря иначе и к тому же
словами Канта, можно сказать так: основоположение не
предвосхищает того, каков есть сам объект как
таковой, — оно постулирует, оно просто, будучи правилом,
требует того, что должно произойти в регрессе. Эта
регулятивная значимость — единственное, что
позитивно сохраняется в данном основоположении, и теперь
возникает вопрос о том, что из этой позитивной
функции основного положения мы имеем для позитивного
разрешения антиномий. При этом надо учитывать не
1 Они тоже лишь регулятивны, не констиутивны, и тем не
менее они является подлинными основоположениями.
Словосочетание «не конститутивный» по смыслу двояко: 1) вообще
ничего не говорящий об объектах как таковых; 2) ничего не
говорящий об их что-содержании (Wasgehalt), но, пожалуй,
говорящий о «как» бытия-наличным.
«Конститутивный»: 1) касающийся что-содержания; 2)
касающийся наличности. Во втором смысле аналогии тоже
конститутивны.
289
онтическую интерпретацию тотальности, а
онтологический постулат относительно тотальности познания
опытных данных. Позитивное разрешение внутреннего
противоборства разума будет стремиться к тому, чтобы
выявить смысл возможного согласия с самим собой —
в соотнесении с тем, что здесь размежевалось. Поэтому
теперь встает вопрос о невозможности «разлада»
причинности через свободу с природной необходимостью.
Далее надо спросить, на что, в конечном счете,
ориентируется эта проблема возможного единства
свободы и природы и как решается вопрос о том, имеет ли
это единство своим последним основанием только
спекулятивный интерес, последнюю гармонию познания
и познанного или же за всем этим стоит что-то другое.
Но как только вопрос о возможном позитивном
разрешении упомянутого противоборства поставлен, нельзя
исходить из альтернативы, согласно которой всякое
действие (Wirkung) в мире вызвано или природой,
или свободой: из этой альтернативы нельзя исходить
и нельзя на ней останавливаться. Ведь это «или—или»
с самого начала рушит всякий мост к соединению. Если
соединение природы и свободы полагается только как
возможность, а эта последняя, в свою очередь,
воспринимается только как проблема, тогда наше вопрошание
должно по меньшей мере решиться на то, чтобы выйти
за пределы этого разрывающего «или—или» и
обратиться к «не только, но и» — в смысле рассмотрения
возможности, при которой одна и та же данность мира
как действие определяется как причинностью по
природе, так и причинностью из свободы. Но если одно и
то же — как действие — должно соотноситься с двумя
принципиально различными видами причинности,
тогда это вообще возможно лишь в том смысле, что при
сохранении самотождественности этого действия что-
то все-таки исчезает по отношению к различным при-
290
чинам, а именно исчезает как раз само это отношение.
По-видимому, соединение природы и свободы как двух
видов причинности возможно только в том случае,
если одно и то же действие как таковое становится —
в смысле каузальности — определимым в различных
отношениях. Возможность соединения обеих причин-
ностей по отношению к одному и тому же действию
предполагает, что действие как таковое допускает
двойное отношение к причинности, т. е. может быть
воспринято как в перспективе природной
причинности, так и в перспективе причинности из свободы.
Ь) Смещение проблемы
разрешения антиномий в ее проведении.
Вопрос о каузальности для явлений
вне явлений и условий времени.
Разрешение третьей антиномии в перспективе
человека как нравственно действующей личности
Но мы тут же замечаем, что после всего
предшествовавшего теперешняя проблема должна в своем
фактическом проведении претерпевать определенное
смещение. Претерпевать потому, что формула «не
только, но и» не пребывает в равновесии: центр тяжести
смещен в сторону природной причинности. Ведь она
уже доказана в своей реальности, т. е. как нечто такое,
что должно полагаться как принадлежащее к
сущностному содержанию природы, что, правда, не означает,
что природа с необходимостью должна
действительно существовать. Ведь согласно самому Канту в
учении об аналогиях опыта неопровержимо установлена
правильность основного положения о причинности
по природе. Соединение с причинностью из
свободы не может произойти путем какого-то компромисса,
291
в результате которого у природной связности и
цельности словно что-то выторговывается. Поэтому
вопрос о возможности упомянутого соединения может
звучать лишь так: «Не может ли в отношении того же
действия, которое определено согласно природе,
существовать, несмотря на это, также и свобода?».2 Мы
видим, что здесь определяющей инстанцией остается
природная причинность и единство многообразия
явлений, наличности наличного. В вопросе о возможном
соединении обеих причинностей речь, в конечном
счете, идет о «спасении свободы»3 по отношению к тому
другому (и в связи с тем другим), что уже неколебимо
ей противостоит.
Потому в конце концов для Канта эта проблема
принимает следующий вид: действия — суть
явления, т. е. результаты и следствия, обнаруживающие
себя в явлениях. Можно ли воспринимать действия
с двух различных точек зрения — таким образом, что
различие не является каким угодно, но возникает из
различия обеих причин и соответствует их
каузальности, т. е. неизбежно ли явления как явления имеют
причины, которые всегда суть тоже явления, или есть
явления, которые как таковые связаны с причинами,
каковые уже не явления? Если это возможно, тогда,
следовательно, существуют причины, которые сами,
в своей каузальности, находятся вне ряда явлений. Но
поскольку ряды явлений — когда речь заходит о
причинении (Verursachung) — каузально определяются
через временную последовательность, т. е. через
отношение во времени, проблема звучит так: существуют ли
по отношению к тому, что осуществляется во времени,
т. е. к тому, что происходит, наряду с причинами, ко-
2 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. А 536, В 564.
3 Ebd. Ср. также: Kant I. Kritik der praktischen Vernunft.
S. 51 (V, 73); S. 117 (V, 181).
292
торые сами суть во времени, другие причины — такие,
которые сами в своей каузальности суть вне времени?
Кант сам признает, что в таком абстрактном
изложении проблема «чересчур тонка и неясна», но
становится явной «при ее применении».4 Это значит, что ее
разъяснения можно достичь тогда, когда она не
остается в сфере общей онтологии, без учета определенных
областей сущего, но рассматривается в их
перспективе. Отсюда становится ясно, что проблема разрешения
каузальных антиномий обращается к совершенно
определенному сущему, в перспективе которого — в
порядке упомянутого «применения» — и должен
обсуждаться вопрос о возможном соединении причинности
по природе и причинности из свободы. Это сущее есть
человек как нравственно действующая личность. Но
надо учитывать следующее: Кант не хочет ссылкой на
фактическое существование сущего, существующего
способом бытия «человек», доказать, что фактически
между двумя видами причинности нет никакого
противоборства: напротив, в гипотетически
конструирующем, общеонтологическом размышлении он хочет
показать возможность соединения двух причинностей и
отсюда — возможность соединения природы и свободы
и, таким образом, метафизическую возможность
человека как космологического существа.
Все дело в том, чтобы вы постоянно видели сами
проблемы, видели способ и направление вопрошания,
а не просто то содержание, которое появляется в
вопросе. Постановка проблемы, направление и поле
решения — все это не нечто внешнее, сугубо
формальное по отношению к содержанию: на самом деле как
раз это одно и определяет собственно содержательное
в содержании как философское. Если мы этого не ви-
Kant I. Kritik der reinen Vernunft. A 537, В 565.
293
дим, тогда философия Канта ничем не отличается от
самых общих рассуждений о свободе воли. Вообще
отличительной особенностью всякого расхожего
понимания философии является усмотрение одного лишь
учебного материала и того содержания, которое надо
принять к сведению.
Теперь мы находимся на том месте, с которого
обозреваем все своеобразие проблематики свободы,
характерное для первого пути, и делаем это не в пустом и
общем смысле, но на основании конкретных
рассуждений и в связи с ними. Что надо показать в отношении
свободы? В каком горизонте движется рассуждение?
Что из всего сказанного мы имеем применительно
к внутреннему содержанию проблемы свободы?
Скажем сразу: не надо доказывать, что свобода
действительно есть, не надо показывать, что — и
каким образом — свобода как таковая возможна: задача
разрешения антиномий сводится лишь к обоснованию
возможности соединения свободы и природы, причем
в определяющей ориентации на природу — спасение
свободы применительно к природе и в связи с нею.
Этой проблемой разрешения и определяется
подлинный характер и одновременно границы проблемы
свободы. Потому в этих рассуждениях Канта мы не
услышим ничего содержательно нового, но нам надо
обратить внимание на характер проблематики. Правда,
поскольку Кант осуществляет разрешение
упомянутого противоборства в перспективе человека, появляется
возможность конкретнее уловить сущность
причинности из свободы и охарактеризовать каузальность этого
вида причины. Это приводит к тому, что все прежде
полученные понятия (каузальность, действие и
другие) получают еще более четкое определение.
Разрешение именно третьей антиномии среди
прочих (значение этого разрешения) проявляется уже
294
благодаря тому, что ее текст не только обстоятельнее,
но и четко разделен сообразно внутреннему движению
самой проблематики — на три раздела. Первый
подготавливает проблему разрешения этой антиномии.
Он в общих чертах касается противоборства в идее
«о целокупности выведения событий в мире из их
причин».5 Следующий раздел6 озаглавлен так:
«Возможность свободной причинности в соединении со
всеобщим законом естественной необходимости».
Рассмотрим стиль самой постановки проблемы.
Сначала Кант в совершенно общих чертах
спрашивает: каким должно быть сущее, которое одновременно
должно определяться через причинность по природе
и причинность из свободы? Если таковое возможно,
тогда как надо мыслить единство причинности?
Одновременно (и особенно) это означает: как детальнее
определить саму свободу в ее каузальном характере?
Кант предлагает конструкцию разрешения антиномий
и сам так говорит об этом разделе: «Я нашел
полезным сначала сделать набросок решения
трансцендентальной проблемы, чтобы было легче обозреть пути
разума при ее решении».7 Только теперь он конкретно
рассматривает эту проблему в ракурсе ее соотнесения
с человеком. Но речь не идет о ссылке на человека как
основание доказательства конструкции: наоборот,
рассмотрение проблемы в ее соотнесении с человеком —
это только наглядное изложение. Поэтому последний
раздел Кант озаглавливает так: «Объяснение
космологической идеи свободы в связи со всеобщей
естественной необходимостью».8 Как раз тогда, когда — со
5 а. а. О. А 532 ff., В 560 ff.
6 а. а. О. А 538 ff., В 566 ff.
7 а. а. О. А 542, В 570.
8 Ebd.
295
ссылкой на человека — речь должна идти о
разъясняющем подтверждении и только о нем, становится
окончательно ясно, что единство свободной
причинности и причинности по природе — как его
конкретно-фактически представляет человек — является лишь
случаем общего космологически определенного
соединения двух причинностей. Тем самым сказано, что не
только свобода как таковая полагается как природное
понятие, но и свобода конкретного человека как
разумно-нравственного существа метафизически
предначертана из космологической проблематики. Если
бытие человека в его целостности и подлинности мы
охарактеризуем как экзистенцию, тогда получается
следующее: проблема человека включена в общую
космологическую проблему. Говоря еще острее, можно
сказать так: метафизико-онтологическая проблематика
экзистенции никак не прорывается наружу, но
подавляется общей и само собой разумеющейся бытийной
проблематикой, характерной для традиционной
метафизики. Таким образом, то, что, быть может,
существует в человеке как не-природа (Nicht-Natur) и что по
своему бытийному содержанию отличается от нее, все
равно определяется так же каузально, как и природа.
Тот факт, что при этом причинность
модифицируется, ничего не меняет в том, что именно причинность
и только она в первую очередь становится основной
онтологической характеристикой. Критика этой
метафизики не радикальна, да она и не может быть
таковой, поскольку бытийный вопрос Кант не ставит
основательно. В конечном счете становится ясно:
проблема свободы — какой бы центральной она не
становилась для Канта — не может внутри
метафизической проблематики вывести себя на метафизически
решающее место.
296
с) Эмпирический
и интеллигибельный (умопостигаемый) характер.
Умопостигаемый характер как способ
каузальности причины из свободы.
Двойной характер явления и возможность
двух принципиально разных причинностей
по отношению к явлению как действию
Теперь надо кратко изложить ход кантовского
позитивного решения третьей антиномии, т. е.
собственно метафизическое разрешение проблемы свободы как
проблемы мира. При этом мы особенно обратим
внимание на некоторые дополняющие определения, которые
касаются причинности вообще. Вспомним об общем
онтологическом определении действия (Handlung):9
«Отношение субъекта причинности к следствию». При
этом объект в отношении к субъекту понимается в
общеонтологическом смысле. Теперь Кант говорит: «Но
всякая действующая причина должна иметь какой-то
характер».10 Здесь характер означает закон каузальности,
необходимое правило того «как», которым
характеризуется каузальность причины. В таком случае характер
определяет связность действий и тем самым следствий.
Ведь он (характер), представляя собой «как»
каузальности, по-видимому, определяет отношение субъекта
каузальности к его следствию, а это и есть действие.
Кант различает два характера: эмпирический и
интеллигибельный, умопостигаемый. Здесь
необходимо правильно понять терминологию, тем более что
в данном случае нельзя сказать, что она однозначна
и последовательна. И это не случайно. Начнем с
характеристики первого характера, так называемого «эм-
9 См. выше, с. 239 и далее.
10 а. а. О. А 539, В 567.
297
лирического» — эмпирия, εμπειρία, опыт. Нечто
является эмпирическим, если оно принадлежит опыту, т. е.
для Канта становится доступным через опыт, причем
здесь надо помнить, что для опыта — как опыта
конечного — существенным является чувственное
созерцание, чувственность как фундамент. Его сущность
заключена в рецептивности, в воспринимающем внятии.
Отметим, что не всякое внятие, не всякое созерцание
воспринимает нечто. Есть внятие, которое вбирает то,
что дает себе само; самодающее внятие: чистое
созерцание. Если нечто характеризуется как «эмпирическое»,
тогда оно схватывается в ракурсе его познаваемости и
познанности. Эмпирический характер есть та
законность каузальности, которая эмпирически доступна
в опыте как явление; каузальность, в своем «как»
принадлежащая явлению, т. е. каузальность природы.
Интеллигибельный характер — и тут мы уже
догадываемся — есть способ причинности из свободы.
Конечно, по содержанию это угадано верно, но тем самым
еще ничего не понято. Умопостигаемое — это
противоположность эмпирическому. Но присмотревшись
внимательнее, мы видим, что умопостигаемое вовсе не
является понятием, противоположным понятию
эмпирического. Эмпирическое касается способа познавания
предмета, тогда как умопостигаемое — это
характеристика самого предмета. Поэтому в своем сочинении
«De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et prin-
cipiis» (1770) Кант пишет: «Objectum sensualitatis est
sensibile; quod autem nihil continet, nisi per intelligenti-
am cognoscendum, est intelligibile. Prius scholis veterum
Phaenomenon, posterius Noumenon audiebat» (§ 3).11 *
11 Kant I. De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et prin-
cipiis (Reich). § 3.
* Предмет чувственности есть чувственно воспринимаемое;
то же, что не содержит в себе ничего, кроме познаваемого рас-
298
Здесь мы ясно видим: 1) интеллигибельное — это
характеристика объекта. Поэтому мы должны сказать:
нечто интеллигибельно, оно принадлежит к области
определенного вида объектов. Их вид характеризуется
способом познавания: intelligentia, intellectus. Способ
познания интеллигибельных предметов чисто
интеллектуальный. 2) Понятие, противоположное понятию
«интеллигибельного», — это «сенсибильный», но не
«эмпирический». Теперь надо иметь в виду, что Кант
называет «сенсибильное» «эмпирическим» и,
соответственно, наоборот: «интеллектуальное» —
«интеллигибельным», хотя, правда, нередко и «интеллигибельное»
он называет «интеллектуальным»: например в нашем
месте из «Критики чистого разума», где об
интеллигибельной причинности он говорит как об
интеллектуальной.
В сущности, различие между «эмпирическим» и
«интеллигибельным» движется в совершенно
разных плоскостях. Первая касается способа
схватывания предметов, вторая — самих предметов, правда,
в ракурсе возможной их схватываемости. Отсюда
терминология Канта, поначалу странная, становится
понятной. Но она имеет и другое, чисто содержательное
основание. Оно лежит в том, как Кант решает еще
парящую в воздухе проблему обеих причинностей и
их единства. Он сознательно обыгрывает
двойственность выражений «интеллигибельный» и
«интеллектуальный» — и не для того, чтобы что-то скрыть, но
как раз для того, чтобы выявить своеобразное
сплетение связей, которое он сам уже не может разрешить,
потому что для него оно уже неразрешимо. Созна-
судком, есть умопостигаемое. В древних школах первое
называлось феноменом, а второе — ноуменом (лат.). — Примеч.
перев.
299
тельная двусмысленность в употреблении
«интеллигибельного» и «интеллектуального» в отношении
свободной причинности объясняется следующим: этот
вид каузальности не только представляет собой нечто
такое, что доступно лишь интеллигенции и чистому
разуму без всякой чувственности, не только
предстает как нечто интеллектуальное применительно к
возможной схватываемости — вдобавок к сказанному эта
каузальность в самой себе, по своему способу бытия
сама есть интеллигенция, нечто интеллектуальное,
нечто сообразное рассудку, т. е. умопостигаемая
сущность. «То в предмете чувств, что само не есть
явление, я называю умопостигаемым»,12
«умопостигаемыми называются предметы, поскольку они могут быть
представлены одним лишь рассудком и к ним не
может относиться никакое наше чувственное созерцание.
Но так как каждому предмету должно соответствовать
какое-нибудь возможное созерцание, то надо было
бы мыслить себе такой рассудок, который бы
непосредственно сам созерцал вещи: но о таком рассудке
и, следовательно, о тех умопостигаемых сущностях,
на которые он должен быть направлен, мы не имеем
ни малейшего понятия».13 Поэтому умопостигаемый
характер есть способ каузальности причины, которая
как таковая должна познаваться только рассудком вне
всякой чувственности, если, конечно, она может быть
познанной.
Но что приводит Канта к этому различению
эмпирического и умопостигаемого характеров?
Приводит как раз общая проблема возможного соединения
обеих причинностей. Попытаемся в общих чертах
12 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. А 538, В 566. Ср.: В 312.
13 Kant I. Prolegomena. § 43. S. 78 (IV, 317) Anm.
«Интеллигенция» как понятие, противоположное «феномену» как
«чувственности». Ср.: Kant I. Kritik der reinen Vernunft. В 306.
300
представить ее еще раз. Возможное соединение обеих
причинностей требует, чтобы одно и то же действие
одновременно каузально определялось в различных
отношениях. Поэтому надо спросить: возможно ли
вообще такое действие? Действие как дающееся и
совершающееся каждый раз обнаруживается в
опыте — как явление. Поэтому проблема приобретает
следующий вид: может ли вообще явление как
явление находиться в двух отношениях, причем
принципиально разных? По-видимому, явление как нечто
совершающее во времени связано с другими
явлениями: одни хронологически предшествуют ему, другие
следуют за ним. Таким образом, здесь явление как
таковое определенным образом относится к чему-то,
а именно к другим явлениям. Правда, этим и
исчерпывается возможность тех отношений, в которых
явление может находиться. Но разве явление как таковое
не имеет никакого другого отношения к чему-либо?
Ведь явление, являющееся, есть само сущее. Да, но
лишь постольку, поскольку это сущее
обнаруживается для человеческого познания. Мы не можем знать,
каково оно, это обнаруживающееся, само по себе,
взятое как таковое, т. е. для абсолютного познавания. Но
уже в силу того, что мы этого не знаем, мы
подразумеваем и мыслим как раз то, чего не знаем. Оно — не
являющееся, а нечто незнакомое, некий X,
трансцендентальный предмет. Он должен лежать в основе
явлений, поскольку те — только явления: как раз то X,
которое себя показывает, т. е. которое уже не X.
Однако об этом X мы каждый раз говорим, что «оно» —
каким бы неизвестным оно само по себе для нас ни
было — является; «оно» есть являющееся, причем так,
что именно как являющееся не показывает себя «само
по себе», не показывает себя в своей абсолютности,
т. е. не показывает, каково оно есть, не будучи являю-
301
щимся.14 X есть предмет, но совершенно пустой; тем
не менее как этот пустой предмет он — не явление, он
познается не чувственно, но умопостигаемо, однако
в негативной умопостигаемости, не позволяющей идти
дальше. X есть умопостигаемый предмет, есть нечто
умопостигаемое в отношении предмета. Это имеет
общеонтологическое значение, действительное для
каждого. Но это X — не обособленный предмет познания
сам по себе. Поэтому Кант говорит: «Ничто не мешает
нам приписывать этому трансцендентальному
предмету кроме свойства, благодаря которому он
является, также причинность, которая не есть явление, хотя
результат ее находится тем не менее в явлении».15
То, что не есть явление, интеллигибельно. В
соответствии с этим двойным отношением явления как
такового оно как таковое может быть связано с другими
явлениями, быть результатом какого-нибудь явления
и одновременно быть связанным с интеллигибельными
причинами.
Таким образом, из этой сущности явления
выводится возможность двойного отношения
применительно к одному и тому же и, следовательно, возможность
обращенности двух принципиально разных причин-
ностей к одному и тому же событию как результату.
Сущностная двоякость явления — в том смысле, что
оно, как явление, связано с другими явлениями и оно
же, опять как явление, есть явление являющегося
(того самого X) — содержит в себе принципиальную
возможность соотносимости (Beziehbarkeit) одного и
того же с эмпирическим и неэмпирическим. Эти два
принципиально разных отношения дают возможность
14 Ср.: Kant I. Kritik der reinen Vernunft. А 249 ff. и особенно
А 251 f. — о понятии явления вообще. Далее — В 307: о понятии
ноумена в негативном и позитивном рассудке.
15 а. а. О. А 538 f., В 566 f.
302
двум принципиально различным отношениям
каузальности — в смысле эмпирического и
умопостигаемого характера. Тем самым возможность соединения
двух причинностей принципиально показана, правда,
еще без упоминания о человеке.
d) Причинность разума.
Свобода как умопостигаемая причинность:
трансцендентальная идея безусловной причинности.
Применение общеонтологической (космологической)
проблематики к человеку
как космологическому существу
Прежде чем связать все изложенное с человеком,
Кант пытается — все еще в общем смысле —
подробнее представить структурную связь единства обеих
причинностей. Выделим существенное.
Соотнесенность одного и того же как следствия с обоими видами
причины нельзя понимать в том смысле, что причины
просто следуют друг за другом, так как одна из них,
а именно обладающая умопостигаемым характером,
характеризуется как раз тем, что не протекает во
времени. С другой стороны, она все-таки должна — так
как она вместе с причиной эмпирического характера
соотносится с одним и тем же как следствием — быть
связана и с названной причиной. Неизбежно возникает
вопрос: должна ли каузальность той причины, которая
сама есть явление и, следовательно, имеет
эмпирический характер, сама снова с необходимостью быть
явлением и не может ли она сама быть следствием
умопостигаемой причинности? Но что тогда получается?
Тогда каузальность той причины, которая имеет
эмпирический характер, предназначается к действию через
интеллигибельное. Мы уже знаем о двоякости этого
303
выражения. Интеллигибельное само есть
умопостигаемая сущность. Там, где основанием является упомо-
стигаемое, там в качестве определяющего выступает
«мышление [и действование] в чистом рассудке».16
Короче говоря, хотя явление всегда есть то, что оно
есть — как соотнесенное в себе самом с неявляющимся
(X) — умопостигаемый характер может быть не
являющейся, трансцендентальной причиной
эмпирического характера и — с ним и через него — быть причиной
одного и того же явления как следствия. Являющееся
как явление может также определяться через неявля-
ющееся, по отношению к которому явление как раз и
есть являющееся, принадлежащее явлению. Но — если
смотреть с точки зрения явлений — умопостигаемая
причина всегда начинается с самой себя, является
изначальным действием и делает возможным таковое,17
т. е. является отношением к действию, каковое
отношение совершается из себя самого. В одной из дошедших
до нас «рефлексий» по поводу «Критики чистого
разума» Кант говорит о том, что оба вида причины можно
«мыслить во всех сущностях, но последний вид
подмечается только там, где речь заходит о воле».18 «С
другой стороны, применительно к телам нельзя говорить
ни о какой причинности, потому что их явления не
обнаруживают никакой интеллигенции; поэтому об
их substrato intelligibili нельзя мыслить в перспективе
свободы, и мы не знаем его ни через какой предикат».19
Из этих замечаний мы делаем двоякий вывод. Во-
первых, различение обеих причинностей считается —
как общеонтологическое — действительным для любо-
16 а. а. О. А 545, В 573.
17 а. а. О. А 544, В 572.
18 Reflexionen Kants zur Kritik der reinen Vernunft / Hg.
Benno Erdmann. Leipzig, 1884. Reflexion 1404.
19 а. а. О. Reflexion 1531.
304
го сущего. Иными словами, «интеллигенции» — это не
только люди или ангелы, но всякое сущее, поскольку
его можно мыслить в соотнесении с абсолютным
познанием, — чистая интеллигенция, интеллигенция из
себя самой. Умопостигаемое — это и материальные
вещи, что, правда, не означает и никогда не означало,
будто речь идет о каких-то в самих себе помыслен-
ных существах спиритуального мира, домовых и т. п.
Ведь они-то как раз имеют наглядный образ, который,
будучи ложно абсолютизированным, подсовывается
абсолютному познанию в качестве его предмета. Что
же касается возможного уловления интеллигенции,
то мы можем подметить лишь то умопостигаемое, те
интеллигенции, которые суть мы сами. Это
означает, что — применительно к нашей самости — для нас
самих существует возможность «подмечать» нас же
самих в нашем самом-по-себе-бытии, т. е. схватывать
формально «абсолютно».
Но мы поступили бы слишком поверхностно, если
бы из всего этого сделали следующий вывод: значит,
мы сами — бесконечные сущности, коль скоро
познание вещей самих по себе является отличительной
особенностью именно абсолютного познания в
противоположность познанию конечному. Надо удерживать
первичный смысл абсолютного схватывания, которое
никоим образом не преднаходит (vorfindet)
схватываемое, но получает его как раз в себе самом. Что
касается наших действий и фактического бытия, то здесь
в каком-то смысле мы сами через все это обретаем
себя, сами добываем себя себе. Однако это
совершается не в абсолютном смысле: мы не сами даем себя через
собственное решение нашего вот-бытия, но преднахо-
дим его, т. е. одновременно мы сами себе явление. Мы
как бы обусловлены, т. е. как раз не абсолютны, а такое
определение плохо подходит к бесконечной сущности.
305
Но, наверное, знание о собственном волении как о
некоем «я хочу», знание о «я есмь» в этом «я хочу» — вот
что заставляет Канта говорить здесь о схватывании
того, что не является, но само себя образует.
Рассуждая таким образом, мы уже вступили в ту
область, с которой Кант поясняющим образом
соотносит свои общеметафизические размышления, хотя
нельзя отрицать, что как раз эта сфера как
центральная с самого начала постоянно находилась в поле
зрения. Ведь человек для человека — не какое-то
существо среди прочих, но то, быть которым человеку
задано с самого начала. Но каким бы близким и жгучим
для человека ни было его человеческое бытие, надо
все-таки сначала постараться — во всяком случае так,
как это имеет в виду Кант — в самом широком
смысле определить это существо, живущее в мире, именно
в контексте мира, т. е. космологически, а не
нравственно, т. е. рассмотреть человека как возможный случай
наличного сущего и в такой общей постановке
вопроса получить принципиально важные выводы о нем. Об
этих выводах Кант говорит после исследования общей
трансцендентальной космологической конструкции
возможности единства природы и человека:
«Приложим это к опыту. Человек есть одно из явлений
чувственно воспринимаемого мира».20 Как явление
человек должен иметь эмпирический характер, «подобно
всем другим вещам в природе».21 Природные вещи
как явления всегда обусловлены другими
явлениями, и поскольку являющееся всегда лишь показывает
себя в чувственности и для чувственности,
происходящее с природными вещами чувственно обусловлено.
«В неодушевленной, а также в чисто животной при-
20 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. А 546, В 574.
21 Ebd.
306
роде мы не находим никакого основания мыслить
какую-нибудь способность чувственно не
обусловленной. Но человек, познающий всю остальную природу
единственно лишь посредством чувств, познает себя
также посредством одной только апперцепции».22
Человек — особенная вещь природы, благодаря тому, что
он познает себя самого. Точнее говоря, не
самопознание как таковое, не самосознание, взятое в совершенно
формальном смысле, являются отличительной чертой,
но сам способ этого самопознания «посредством одной
только апперцепции». Слова «одной только» не
говорят о недостатке и ограничении, но позитивно
обозначают преимущество: «только через», что равнозначно
«чистой» апперцепции в противовес «эмпирической».
Что Кант имеет в виду? В «Критике чистого
разума» понятие апперцепции играет важную роль, и
можно было бы попытаться определить его значение из тех
контекстов, в которых оно рассматривается.23 Сразу
отметим, что это понятие и то, что в нем
подразумевается, в истолкованиях философии Канта — и особенно
в неокантианстве — ужасно искажается, чего могло бы
и не быть, если бы к рассмотрению первым делом
привлекалось именно наше место. Ведь здесь Кант хотя
и не говорит о том, каковы значение и функция
апперцепции для основания общей метафизики, но дает
самую общую и решающую характеристику ее
природы. Итак, «одна только апперцепция» — под этим
подразумеваются «действия и внутренние
определения, которые он [человек] вовсе не может причислить
к впечатлениям чувств».24 Стало быть, в одной только
апперцепции как действии заключена причинность,
22 Ebd.
23 Вспомним тезис об изначально синтетическом единстве
трансцендентальной апперцепции.
24 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. А 546, В 574.
307
давание следовать одному за другим и определение.
Какого рода? Определение, чье определяющее не
причисляется к впечатлениям чувств, т. е. нечто такое, что
как определяющее в своем определении со стороны
человека не вбирается и не воспринимается как
найденное и находимое: это нечто такое, что он сам дает
себе; нечто такое, что позволяет самодаянию
возникнуть в первую очередь и в таком становлении быть
одному. Таким образом, «одна только апперцепция»
означает «давать себя себе самому», причем «только»
в существовании,25 а не в том, что я есмь сам по себе.
В том, что я сам есмь, я не могу себя познать — могу
только в том, что я есмь, т. е. я могу познавать свое
существование в этом «есмь». Почему? Потому что
во всяком мышлении и определении я всегда образую
«я»-бытие как таковое как «я мыслю»; я как «я есмь»
дан себе только в акте этого определения и
никогда — до него как некое в себе самом наличное
определяющее. От того, как определяется сущность «я»,
как определяется «яйность», зависит ответ на вопрос
о его схватывании и способ возможного изложения и
сообщения.26
«Одна только апперцепция» есть действие,
которое нельзя причислить к восприимчивости, но
которое имеет характер иного отношения причины
к следствию. Это действие не является становлением
определения через другое как таковое: это становление
совершается через самого себя как определение. Такая
не рецептивная и не эмпирическая, такая
умопостигаемая способность есть разум. Но отсюда одновременно
следует, что сам разум в своем бытии-разумом
характеризуется как вид причинности.
25 Ср.: а. а. О. § 25, В 157 ff., особенно В 157 f. Anm.
26 Ср.: Ebd, Anm.
308
Из чего становится ясно, что разум наделен
причинностью, т. е. что мы представляем в нем нечто подобное?
В действиях «я мыслю», которые мы сами совершаем,
т. е. в этом способе действования мы задаем правила
«исполняющим силам». Давать и задавать правила как
нечто регулирующее есть вид определения. То, что мы
задаем нашему действию, является для него должным.
«Долженствование служит выражением особого рода
необходимости и связи с основаниями, нигде
больше во всей природе не встречающейся».27 Связь с
основаниями подразумевает отношение, определенное
основанием как таковым: обоснование, определение,
причинение в более широком смысле. Поскольку
разум позволяет определять себя через долженствование,
он — по отношению к порядку явлений — «совершенно
спонтанно создает себе собственный порядок исходя
из идей».28 Ведь должное по своей сути есть нечто
такое, что еще не произошло и, может быть, вообще
никогда не произойдет, но что тем не менее — как
должное — дано разуму, т. е. пред-ставлено (vor-gestellt) как
регулирующее, как в широком смысле определяющее.
Представлять что-либо «в общем» значит
представлять его в понятии. Это представленное «в общем» (im
allgemeinen Vorgestellte), т. е. долженствование, взятое
как правило, есть понятие. Следовательно, понятие
является основанием определения действия. «Этим
долженствованием обозначается возможный поступок,
основанием для которого служит лишь понятие, в то
время как основанием действия одной лишь природы
всегда с необходимостью служит явление».29
Этим разъясняется сущность той причинности,
которая характерна для разума. Его действование
27 а. а. О. А 547, В 575.
28 а. а. О. А 548, В 576.
29 а. а. О. А 547 f., В 575 f.
309
(Handeln) есть то действие (Wirken), которое как
таковое заранее определяется представленностью того, что
должно сказаться в следствии и что в самом себе
соотносится с волей. Это действование, следующее
долженствованию, по характеру своего результата может
вполне вписываться в течение явлений и
сообразовываться с ним. Поэтому там, где действование — как
у человека — совершается в единстве с природой, там
разум — каким бы разумом он ни был, т. е.
умопостигаемой причиной — обнаруживает в себе
эмпирический характер. Последний представляет собой «лишь
чувственную схему» умопостигаемого характера,30
в отношении которого не имеют силы никакие
«прежде» и «потом». «Он, разум, присутствует и остается
одинаковым во всех поступках человека при всех
обстоятельствах времени, но сам он не находится во
времени и не приобретает, например, нового состояния,
в котором он не находился раньше; он определяет
состояние, но не определяется им».31 «Итак, разум есть
постоянное условие всех произвольных поступков,
в которых проявляется человек».32 «Разум не
подчинен в своей причинности никаким условиям явления
и течению времени».33 Явления, поскольку они — не
вещь сама по себе, не могут быть и причинами
самими по себе. Только разум есть «причина сама по себе»,
как бы чистая причинность. Разъяснение общей
метафизической конструкции возможного единства
природы и свободы показывает: есть такое существо в мире,
в котором это единство присутствует фактически,
и это совершается в человеке как разумном живом
существе.
30 а. а. О. А 553, В 581.
31 а. а. О. А 556, В 584.
32 а. а. О. А 553, В 581.
33 а. а. О. А 556, В 584.
310
Еще раз подчеркнем: теперь Канту надо только
доказать метафизическую возможность единства
природной и свободной причинности. Да, возможность, —
но что это означает? Мыслимость. Но благодаря чему
нечто доказывается как мыслимое? Благодаря тому,
что его можно мыслить непротиворечиво? Да, все так,
но одна только логическая мыслимость, однако
только свобода от противоречия как раз не является
достаточным критерием для метафизической
возможности. Для последней, согласно Канту, характерно, что
возможное совместимо с тем, чего требуют сущность
опыта и сущность разума в единстве. Существенное
важное общее метафизическое основание возможности
единства обеих причинностей лежит в том, что,
короче говоря, явление как таковое определимо как
чувственное и умопостигаемое. Применительно к особому
существу мира, каковым предстает человек,
обнаруживаемый как явление, это означает следующее:
«Человек, который подобным образом рассматриваем себя
как мыслящее существо, тем самым ставит себя в
другой порядок вещей и в совершенно другое отношение
к определяющим основаниям, когда он представляет
себя как мыслящее существо, одаренное волей и,
следовательно, причинностью, нежели тогда, когда он
воспринимает себя как феномен в чувственно
воспринимаемом мире (каковым он действительно является) и
подчиняет свою причинность внешнему определению
по законам природы».34
Тем самым мы у цели первого пути к свободе.
Что нам дало наше рассмотрение? Свобода есть вид
причинности, а именно причинности неэмпирической,
упомостигаемой, т. е. причинности разума, которая
34 Kant I. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 87 (IV,
457).
311
может быть в единстве с причинностью по законам
природы. При таком подходе мы, как и полагается,
остаемся в границах чисто космологического
рассмотрения сущего, согласно которому сущее, каковое мы
знаем как свободное, т. е. человек, представляет собой
лишь частный случай сущего, и такое сущее не
имеет никаких преимуществ перед любым другим —
настолько никаких, что это сущее, т. е. человек, даже не
является первенствующим и решающим мотивом в
решении проблемы свободы. Эта проблема вырастает из
тематической задачи познания всей тотальности
явлений, познания мира — как трансцендентальная идея
безусловной причинности. Теперь же мы ступаем на
второй путь Канта к свободе.
Глава вторая
ВТОРОЙ ПУТЬ К СВОБОДЕ В КАНТОВОЙ СИСТЕМЕ.
ПРАКТИЧЕСКАЯ СВОБОДА
КАК СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ОТЛИЧИЕ ЧЕЛОВЕКА
КАК РАЗУМНОГО СУЩЕСТВА
Если мы вот так переходим ко второму пути Канта,
то это выглядит поверхностно. Возникает впечатление,
будто оба пути идут параллельно или расходятся:
будто теперь мы внезапно наталкиваемся на что-то
совершенно другое. В каком-то смысле это действительно
так и все-таки не так. Ведь как раз направление
первого пути показывает, что идея свободы всплывает не
только в ходе внутреннего противоборства, в которое
впадает разум в своем осмыслении мира: именно этот
путь как бы указывает на свободу в совершенно другом
месте, куда, правда, он сам никогда не может привести;
он дает определенный, хотя и весьма ограниченный
взгляд на свободу, понимаемую как свобода человека.
Тем не менее мы всегда подчеркиваем: эта свобода, т. е.
свобода человека, будучи рассмотренной с точки
зрения первого пути, всегда является лишь возможным
случаем космологической свободы. Остается вопрос:
является ли этот способ рассмотрения свободы
человека единственно возможным или также возможен, и
313
даже необходим, и другой? Если верно второе, тогда
тем самым сразу становится ясной необходимость
этого второго пути. Но не только это. Если второй путь
ведет к свободе, а именно к свободе человека как
таковой, а человек при этом все еще остается частным
случаем космологического существа, тогда и для второго
пути имеет силу все то, что говорит о свободе первый
путь. Более того, согласно недвусмысленному
замечанию самого Канта, даже содержание
космологического понятия свободы есть то, что, по сути дела, и
составляет само проблематическое в проблеме свободы,
поскольку оно появляется на втором пути.
Из всего этого становится еще яснее: все, что дал
нам первый путь, небезразлично для второго, хотя этот
второй должен быть совершенно самобытным. По
своей природе он существенно короче, однако это не
говорит о том, что с проблемами, которые он ставит, легче
справиться. На втором пути мы стоим прямо перед
свободой, хотя, конечно, это неудачное выражение.
§ 26. Сущность человека
как существа чувственного и разумного
и различие трансцендентальной
и практической свободы
а) Сущность человека (человечество)
как личность (личностность).
Личностность и самоответственность
В каком направлении идет второй путь? Он
нацелен не на свободу как способ причинности,
возможный в мире, но на свободу как специфическое
отличие человека как разумного существа. Но поскольку
человек как космологическое существо, вообще под-
314
падает под идею свободы, найденную на первом пути,
уже там свободе человека тоже уделяется внимание,
однако там она не становится проблемой в смысле
специфического отличия. Если же это должно
произойти, тогда, по-видимому, на человека вообще надо
смотреть не в ракурсе космологического рассуждения,
а как раз в перспективе того, что его отличает. И что
же это такое? Его личностная природа. Термин
«личность» Кант употребляет в совершенно определенном
терминологическом значении. Мы говорим, например,
что в таком-то обществе присутствовали различные
«лица» — люди, которые «что-то из себя
представляют» или о которых в любом случае говорят, что это
«нечто». Кант, однако, имеет в виду не это. Он вообще
не употребляет слово «личность» во множественном
числе. Для него «личность» есть то, что составляет
сущность человека как человека, его бытие
личностью, личностность. Сущность всегда единственна,
и поэтому здесь уместно только единственное число.
Так, когда говорят о «животности», имеют в виду то
специфическое, что отличает именно животное, и так
же «человечество» является специфическим отличием
человека, а не представляет собой сумму всех людей.
Но что же составляет личностность личности? Мы
это понимаем тогда, когда говорим о ней в отличие от
«человечества» и «животности» человека.1 Речь идет
о целокупности элементов определения всей сущности
человека. Традиционное определение человека знает
лишь два элемента этого определения: homo animal
rationale, человек есть животное, наделенное разумом.
Следовательно, животность — вот что характеризует
человека как живое существо. Разум — это второй мо-
1 Ср.: Kant I. Religion innerhalb der Grenzen der bloßen
Vernunft. WW (Cassirer). VI, 164. I. Stück, II. Abschn.
315
мент, который, правда, не является содержанием того,
что Кант называет «человечеством»: человечество есть
то, что характеризует человека как живое и
одновременно разумное существо. В понятии «человечества»
присутствует и отношение к «животности». То, что
Кант понимает под «человечеством», в определенном
смысле является содержанием традиционной
дефиниции. Но сущность человека не исчерпывается его
«человечеством»: она осуществляется и в собственном
смысле определяется только в «личностности». Именно она
делает человека разумным существом, одновременно
способным на вменение. Существо, которому можно
что-то вменить, должно в самом себе быть
ответственным за себя. Сущность личности, т. е. ее личностностъ,
состоит в способности нести за себя ответственность.
Кант недвусмысленно подчеркивает, что определение
человека как разумного живого существа недостаточно,
потому что разумным может быть и тот, кому не дано
быть практичным по отношению к себе самому,
действовать в собственных интересах. Разум может быть
лишь теоретическим, и тогда человек, пытаясь
сообразовываться с ним в своих поступках, все равно
остается во власти инстинктов своей чувственности, своей
животности. Следовательно, сущность человека — если
она не растворяется в одном «человечестве» —
состоит как раз в том, чтобы выходить за пределы самого
себя, становясь личностью. Кант определяет «лич-
ностность» как то, «что возносит человека над самим
собой (как частью чувственного мира)».2 Таким
образом, сущность человека, его «человечество» состоит не
в этом «человечестве», под которым понимается
единство разума и чувственности: она заключается в том,
что это «человечество» превосходит, — в личностном
2 Kant I. Kritik der praktischen Vernunft. S. 101 (V, 154).
316
начале. Настоящее бытие-человеком, сущность самой
человечности заключается в личности. Поэтому
слово «человечность» Кант формально употребляет и как
термин для обозначения всей подлинной сущности
человека и говорит о «человечестве в его личности».3
Если мы возьмем человека не в космологической
перспективе, не как существо
чувственно-космологическое, если попытаемся понять его в том, что его
отличает, т. е. понять в его личностном начале, тогда он
предстанет перед нами как существо, готовое взять на
себя ответственность за себя самого. Эта
ответственность есть основной способ бытия, определяющий все
его поступки; это специфически человеческое
действие, нравственная практика. Почему и каким образом
мы сталкиваемся со свободой, когда берем человека
в аспекте его личностного начала, его бытия личностью?
Ь) Два пути к свободе и отличие
трансцендентальной свободы от практической.
Возможность и действительность свободы
Теперь, чтобы с не меньшей тщательностью
рассмотреть второй путь, требуется то, что требовалось
для понимания первого: учитывать сам характер
проблематики, а не одно лишь содержание того, что
выражается в языке. Последнее уместно тогда, когда
мы довольствуемся констатацией различия или даже
пространным рассуждением о различии обоих путей.
На первом пути мы сталкиваемся со свободой в
контексте теоретического рассмотрения наличных вещей,
рассмотрения природы в ее тотальности: здесь мы
имеем свободу в понятии теоретической (спекулятив-
3 а. а. О. S. 102 (V, 155 и. 157).
317
ной) философии. На втором пути, где во внимание
принимается особое существо в этом мире — человек —
причем принимается как личность, т. е. как
ответственное, самостоятельно действующее практическое
существо, мы имеем свободу как понятие практической
философии.
На первом пути возникает понятие свободы в
контексте следующего вопроса: что вообще необходимо,
чтобы можно было определить тотальность явлений
как таковую? Такой вопрос — «трансцендентальный»,
так как «трансцендентальными» Кант называет
всякое вопрошание и познавание, направленное на то, что
с самого начала делает возможным познание предмета
как таковое. Понятие свободы, сформировавшееся на
первом пути, есть понятие трансцендентальной
свободы. Понятие свободы, к которому должен привести
второй путь, ориентированный на нравственную
практику, Кант вполне уместно называет практической
свободой. Хотя после всех предыдущих размышлений мы
понимаем это различие и сами термины четче и живее,
чем это было возможно в начале нашего курса, когда
оба понятия свободы мы вводили только ради
примера, специфику второго пути мы еще не понимаем, т. е.
не понимаем ту проблематику, которая скрыта в самом
названии — «практическая свобода». Пока у нас нет
этого понимания, проблематика первого пути тоже,
по сути дела, понята нами не целиком, хотя кажется,
что как раз этот путь не зависит от второго (чего, по-
видимому, нельзя сказать о втором). Поэтому однажды
сам Кант сказал в «Основах метафизики
нравственности», что «спекулятивная философия», т. е. трактовка
проблемы антиномий, должна открыть «практической
философии широкую дорогу».4
4 Kant I. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 86 (IV, 456).
318
Как мы приближаемся к специфической
проблематике второго пути? Не может ли здесь и первый путь
наделить нас путеводной нитью понимания — при
условии, что мы учитываем не только результат
первого пути, но и его проблематику? Как первый путь
спрашивал о свободе? Речь шла о возможности ее
соединения с причинностью по природе. Следовательно,
здесь речь вообще идет о возможности применительно
к свободе, т. е. не о действительной свободе и тем более
не о действительной свободе, полностью определенной
в человеке. Таким образом, проблемой второго пути
станет рассмотрение и доказательство действительной
свободы, а именно свободы действующего человека
как действующего в нравственном аспекте. На первом
пути речь идет о возможной свободе вообще какого-то
наличного сущего, на втором — о действительной
свободе определенного наличного сущего, а именно
человека как личности.
§27. Действительность человеческой
(практической) свободы
а) Свобода как факт.
Фактичность (действительность)
практической свободы в нравственной практике
и проблема ее «опыта».
Практическая реальность свободы
Почему и в какой мере действительная свобода
личности должна и может стать проблемой? Если
нечто действительное как таковое становится проблемой,
т. е. подпадает под вопрос, тогда надо разобраться и
решить, действительно ли оно или нет. В конечном
счете, такой вопрос можно решить в том смысле, что то
319
спорное действительное, о котором заходит речь,
показывают как таковое и делают доступным. Но если это
доказательство действительности свободы призвано
стать принципиально важным, тогда ему надо суметь
раскрыть и очертить тот способ, в котором
упомянутое действительное может постоянно быть доступным,
находиться в распоряжении и оставаться таковым,
поскольку и пока оно действительно. Следовательно,
когда поставлен вопрос о действительной свободе
человека, надо доказать, что она наличествует в человеке
как факт, т. е. доказать, что в действительно
существующем человеке она есть действительно встречающееся
свойство. С формальной точки зрения это
равносильно доказательству того, что люди едят мясо. Хотя не
все это делают: есть и исключения. Со свободой то же
самое. Ведь часто бывает так, что люди, которые могли
бы действовать свободно, фактически не делают этого,
например, охваченные каким-нибудь заблуждением,
ступором и тому подобным, т. е. когда они
невменяемы. По-видимому, о действительной практической
свободе человека решение можно выносить только
в опыте и из опыта. Поэтому понятие практической
свободы есть «понятие опыта». Нет, говорит Кант, «эта
свобода [практическая] не есть понятие опыта».1 Эту
свободу мы не можем «доказать даже в самих себе и
в человеческой природе как нечто действительное».2
Практическую свободу вообще нельзя доказать «как
нечто действительное». Но тогда получается, что
действительность этой свободы — никакая не проблема.
Говоря о ней — так же, как и о космологической
свободе — мы можем спрашивать только о ее возможности.
Но о ее возможности как раз и было решено — на пер-
1 а. а. О. S. 85 (IV, 455).
2 а. а. О. S. 77 (IV, 488).
320
вом пути. Поскольку он показал, что свобода
космологического существа возможна в связи с природой, тем
самым доказана возможность свободы личности в
связи с животной природой человека. Доказать
практическую свободу как нечто действительное невозможно.
Доказывать практическую свободу как нечто
возможное излишне. Тем самым второй путь к свободе вообще
теряет всякое право и смысл.
Но если этот второй путь к свободе все-таки
существует — поскольку Кант все-таки говорит о
практической свободе и делает это не на первом пути — тогда
возникает вопрос: в каком смысле тогда практическая
свобода вообще может стать проблемой?
Мы оказываемся в средоточии самых больших
затруднений. То, что — когда мы читаем лишь результаты
и констатируем мнения — выглядит как
непротиворечивое и понятное решение (принятие космологической
и практической свободы), становится все более
спорным, как только мы вспоминаем о том, что здесь
совершается философствование. Мы не только не знаем,
как надо определить действительную свободу
человека: мы не знаем даже того, как вообще о ней
спрашивать. Пока благодаря недвусмысленным
высказываниям самого Канта нам — в негативном аспекте — ясно
лишь одно: практическая свобода — это не понятие
опыта. Но этому пояснению противостоит
высказывание Канта, в котором утверждается прямо
противоположное. В «Критике способности суждения», а именно
в § 91 Кант говорит о том, что практическая свобода —
это «факт».3 Правда, по отношению к сказанному ранее
(1785), это было пять лет спустя (1790). Итак, с одной
стороны, свобода есть факт, и, следовательно, она по-
3 Kant I. Kritik der Urteilskraft (Vorländer). Leipzig: Dürr. 3.
Afl. 1902. §91. S. 358 (V, 456).
321
знается опытным путем, но, с другой, она не является
понятием опыта. Как соединить то и другое? Можно
ли вообще прийти к какому-то единству?
Когда не получается сразу свести воедино
существенные тезисы какой-нибудь философии, самый
дешевый способ выйти из положения — это сказать, что
философ поменял свою точку зрения. Такое случается,
и Кантова философия богата на «отказы от прежнего».
Но как раз их-то и не понять роковым методом
расхожего рассудка, который начинает говорить об
изменении точки зрения, т. е. противопоставляет друг другу
два различных результата. На самом деле подлинный,
обусловленный самим содержанием «отказ от
прежнего» всегда является признаком внутреннего
преемства, и потому его можно понять только осмыслением
самой проблематики, в которой произошедшая
перемена предстает во всей своей полноте. Поэтому в
любом случае мы должны постараться понять проблему
с учетом двух противоположных высказываний. Тогда
станет ясно, что о перемене точки зрения речь не идет.
Отвечая на вопрос, можно ли совместить
противоположные высказывания Канта (практическая
свобода не является понятием опыта/практическая свобода
есть факт), мы пытаемся определить проблему
практической свободы, т. е. пытаемся обозначить, как можно
и должно спрашивать о действительной свободе
человека в отличие от вопроса о возможности
космологической свободы.
Итак, свобода не есть понятие опыта/свобода есть
факт. Но что такое факт? Кант различает три вида
«познаваемых вещей»: «предметы мнения», «факты»
и «предметы веры».4 Res facti (факты) суть «предметы
для понятий, объективную реальность которых [сре-
4 а. а. О. S. 357 (V, 454).
322
ди наличных объектов]... можно доказать».5 Когда мы
хотим убедиться в том, что представляемое нами —
представляемое в общих чертах, например, дом —
существует среди наличных объектов, т. е.
принадлежит к их наличествованию, тогда представленное есть
факт. Реальность есть объективная реальность.
Реальное представления есть «что-содержание» (Wasgehalt)
этого представления. Доказательство принадлежности
к миру объектов, т. е. к тому, что действительно есть
и как таковое может быть открыто каждому как
наличествующее, протекает следующим образом: то, что
сначала было представлено в понятии,
представляется посредством созерцания, соответствующего его
реальности, его «что-содержанию», т. е. представленное
в мысли как общее понятие созерцается в
соответствующем непосредственном представлении наличного
единичного (vorhandene Einzelne).
Ближайший известный нам способ наглядного
представления, т. е. соотнесения с соответствующим
наличным сущим есть опыт: как свой, так и чужой,
о котором мы узнаем через свидетельство. Но
наглядное представление может совершаться и посредством
чистого разума, а именно из его «теоретических или
практических данных».6 В любом случае, однако,
доказательство объективности реального всегда должно
быть наглядным представлением, т. е. сообщать в
отношении его самого какую-то данность. При этом вид
даяния может быть разным. Здесь Кант говорит о данных
теоретического и практического разума. Ранее — когда
речь шла о подготовке к проблеме антиномий — мы
слышали о своеобразных представлениях, а именно
об идеях. В них тотальность, безусловность мыслится
5 а. а. О. S. 358 (V, 456).
6 Ebd.
323
таким образом, что она превосходит содержание
всего, что может быть постигнуто опытным путем.
Таким образом, идею в принципе нельзя наглядно
представить через опыт. Опыт всегда дает слишком мало.
Свобода же и есть идея, под свободой мы понимаем
безусловную причинность. Кант говорит: «Но
особенно примечательно то, что среди фактов имеется даже
одна идея разума. Это идея свободы».1 Таким образом,
этот тезис гласит: то, что мы концептуально
понимаем под свободой, нельзя представить в
соответствующем созерцании. По-видимому, это представляющее
созерцание помысленного в идее свободы не является
опытом. Ведь свободе присуще то, что она как бы
перетекает за пределы всякого опыта: ее никогда нельзя
наглядно представить опытным путем. Но Кант
недвусмысленно подчеркивает, что эмпирическое наглядное
представление — не единственное, а это означает, что
факты существуют не только в области опыта: среди
наличных природный вещей. Отсюда ясно: свобода
вполне может быть фактом, и тем не менее ей нет
нужды становиться понятием опыта. Оба
высказывания (свобода есть факт/свобода не есть понятие
опыта) не исключают друг друга. Правда, до сих пор
остается неясным, как понимать эту не эмпирически
удостоверяемую фактичность (действительность),
которая, согласно Канту, подобает свободе, тем более
что, с другой стороны, Кант снова говорит о том, что
идею свободы можно показать в опыте. В таком случае
новому понятию фактичности соответствует и новое
понятие опыта.
Теперь можно было бы придать всей проблеме
такой оборот, который попутно ведет к простому
решению. Можно было бы отметить, что Кант не говорит:
7 а. а. О. S. 358 (V, 457).
324
свобода есть факт. Он говорит: «идея свободы» есть
факт. Это означает следующее: факт таков, что мы
имеем идею свободы; в нашем представлении как
событийной связности душевных актов есть и акт
представления о свободе, он фактичен, но это совсем
ничего не говорит о фактичности самого представленного
в этом фактическом представлении. Событие
представления и мышления о практической свободе всегда
можно показать через психологический опыт. И тем не
менее такое истолкование Канта было бы совершенно
неверным. Да, Кант говорит, что идея свободы есть
факт, но это как раз означает, что то, что понятийно
представлено в этой идее, то, что здесь мыслится
предметно, можно наглядно показать как действительное.
Кант вполне недвусмысленно говорит об идее
свободы: «Это единственная из всех идей чистого разума,
предмет которой — факт, и поэтому она должна быть
причислена к scibilia».8
Таким образом, проблема действительной
свободы — это доказательство ее действительности. Но
здесь речь не идет о том, чтобы просто отыскать в
опыте возможный случай бытия-свободным. Речь идет
о том, чтобы выявить способ действительности
свободы и соответствующее ему наглядное удостоверение.
Свобода есть факт, т. е. фактичность этого факта как
раз и есть решающая проблема. Когда Кант говорит,
что свободу «как нечто действительное» мы не можем
доказать «даже в нас самих и в человеческой
природе»,9 это означает лишь одно: ее — в отличие от
наличной природной вещи — нельзя познать опытным
путем. Реальность такой вещи всегда — объектив-
8 а. а. О. S. 357 (V, 454). Различие между opinabile, scibile,
теге credibile. См. выше, с. 323—324.
9 Kant I. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 77 (IV,
448).
325
ная реальность, т. е. ее что-бытие можно обнаружить
в действительных объектах
пространственно-временного опыта. Если свобода ни на что такое не похожа
и тем не менее она есть факт, тогда это означает, что
реальность свободы — т. е. то, как она должна быть
представлена в соответствии со своей сущностью —
представима иначе, т. е. не путем опытного познания
природной вещи. Реальность свободы требует иной
действительности, отличной от той, которую являют
природные объекты: она — не объективная реальность.
Если же действительность и дальше понимать как
объективную (что Кант делает и здесь), тогда надо
сказать, что объективная реальность свободы в смысле ее
объективности отлична от объективности природных
вещей. Фактичность, соответствующая реальности
свободы, есть фактичность практики. То, что мы
подразумеваем под свободой, ее реальность постигается
в практическом, намеренном действии. Свобода имеет
практическую реальность, т. е. ее объективная
реальность — в отношении ее объективности — практична.
Теперь мы понимаем тезис Канта, который гласит:
«среди фактов» имеется «идея свободы, реальность
которой как особого вида каузальности... доказывается
практическими законами чистого разума и сообразно
с ними [обнаруживается] в действительных поступках,
следовательно, в опыте».10 Здесь мы одновременно
имеем указание на то, в каком направлении надо
ставить проблему действительной свободы, т. е. ее
действительности, и куда поворачивать, чтобы пойти по
второму пути. Реальность идеи свободы, то, что
представлено в сущностном понятии «свобода», можно
доказать как действительное «практическими законами
чистого разума».
10 Kant I. Kritik der Urteilskraft. § 91. S. 358 (V, 457).
326
Подытожу сказанное. Второй путь ставит
проблему действительной свободы, т. е. теперь возникает
вопрос о действительности свободы. Отвечая на него,
мы одновременно определяем характер возможного
знания о действительной свободе, определяем
проблему специфической сущности «опытного познания»
чего-то такого, что предстает как свобода,
выражающаяся в намеренном действии. Первый путь
спрашивает о возможности единства свободы и природы,
второй — о том, какова действительность таким
образом возможной свободы, т. е., согласно Канту,
одновременно спрашивает о способе, каким свободу
можно удостоверить как действительную в ее реальности.
Ее можно удостоверить практическими законами
чистого разума. Ее реальность — практика: по
своему сущностному содержанию свобода принадлежит
к действительности практического. Следовательно,
доказать реальность свободы значит отыскать основания,
которые доказывают, «что это свойство [свободная
причинность] действительно присуще человеческой
воле (и таким образом также и воле всех
неразумных существ)».11 Это снова и снова звучит так, будто
должно и можно эмпирически доказать наличность
свободы как факта. Но после всего сказанного
проблема оборачивается следующим вопросом: как вообще
надо понимать действительность (фактичность)
свободы? Ведь сначала, наверное, надо ответить на этот
вопрос, коль скоро действительная, фактическая
свобода сама должна стать проблемой. Если же удастся
выявить, как надо понимать фактичность свободы,
тогда появится намек на то, каким должен быть «опыт»,
призванный сделать доступным фактическую свободу
как таковую.
11 Kant I. Kritik der praktischen Vernunft. S. 16 (V, 30).
327
Практическое действование — это способ бытия
личности. Опыт практической свободы есть опыт
личности как личности. Личностное начало есть
подлинная, собственная сущность человека. Опыт
личности — это одновременно сущностный опыт
человека, тот способ, которым человек раскрывается в своей
собственной действительности. Правда, Кант не
говорит об «опыте» личности как таковой. Об «опыте»
вообще говорится тогда, когда речь заходит о раскрытии
действительности природных вещей. И тем не менее
это слово с необходимостью отражает направление его
проблематики. Кант не пошел дальше, и потому как
раз проблема фактичности свободы окутана многими
трудностями и недоразумениями. Сегодня они
устраняются меньше, чем когда-либо, т. е. на них даже не
обращают внимания. Уход в философию ценности — это
полное искажение настоящей кантовской проблемы.
Ь) О сущности чистого разума
как разума практического.
Чистый практический разум как чистая воля
Итак, в общем и целом тезис Канта о
действительности свободы звучит так: объективную реальность
свободы можно выявить только через практические
законы чистого разума. Этот тезис определяет
настоящую задачу второго пути и одновременно его
специфическую проблематику. Фактичность свободы можно
удостоверить только из фактичности и в
фактичности практического законодательства чистого разума.
Одним словом, факт свободы доступен лишь в
понимании фактичности свободы. Фактичность свободы
можно доказать и разъяснить из фактичности чистого
разума как практического. Поэтому возникает ближай-
328
ший, самый первый вопрос: какова сущность чистого
разума как практического! И далее: какой вид
фактичности подходит для чистого практического
разума, если исходить из его сущности? Сущность самого
предмета предписывает вид его фактичности, его
действительности.
Переходя от первого ко второму пути, мы сказали,
что он ориентирован на свободу как отличительный
признак человека как разумного существа. Но этот
отличительный признак заключен в его личностном
начале, а сущность этого последнего, в свою очередь,
заключается в способности взять на себя
ответственность. Потому сущность человечности человека как
таковую можно понять из этой ответственности, а тем
самым понять и сущность чистого разума как
практического. В этой связи мы уже приводили тезис Канта и
содержащуюся в нем задачу: объективную реальность
свободы можно выявить только посредством
практических законов чистого разума. Мы спрашиваем: какова
сущность чистого разума как практического? В этом
заключен общий вопрос: что такое вообще чистый
разум? Что такое «практическое», практика? Практика
означает действие (Handlung). Но мы знаем, что
действие вообще есть отношение субъекта причинности
к следствию. Практика — это особый вид действия —
такой, который возможен благодаря воле: это связь, при
которой отношение субъекта каузальности (т. е. того,
что выступает как определяющее) к следствию
характеризуется волей. Воля есть «способность действовать
согласно понятиям». Понятие обозначает
представление о чем-то общем, т. е. речь идет о способности и
волеизъявлении действовать сообразно вот так
представленному как таковому. Например, определяющим
может быть представление о научном образовании
человека. Это представленное может — как представлен-
329
ное — определять поступки. Действия, определенные
таким образом, есть действия преднамеренные,
практика. Согласно Канту, действия есть и у машины, но
то, что там определяет движение какой-нибудь части,
самой этой частью не представляется как
определяющее, так что представленность определяющего тоже
принадлежит к способу его представления, т. е.
машина и ее отдельные части не могут действовать
намеренно: здесь нет действия согласно понятиям и через них.
Воля есть способность действовать в
практическом смысле. Но к воле принадлежит и
представление о чем-то общем, что действует как определяющее.
Представление в понятиях — это дело рассудка.
Поскольку представленное действует как
определяющее, как некий принцип, в представлении заключена
способность связи с такими принципами, т. е. разум.
Там, где воля, там и разум, а именно разум как
представление, определяющее действование (Wirken) —
действование, соотнесенное с практикой. Воля есть не
что иное, как практический разум и наоборот.
Практический разум — это воля, т. е. способность
действовать в соответствии с представлением о чем-то как
принципе. Кант не раз говорит о «практическом
разуме» или «воле разумного существа».12 Разум
практичен как «причина, определяющая волю».13 Воля
есть «причинность через разум»,14 т. е. практически
использованный, практический разум.
Следовательно, «практическое познание» — это такое познание,
«которое имеет дело только с основаниями
определения воли»15.
12 Kant I. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 77 (IV,
448).
13 a. a. O. S. 90 (IV, 459) Anm.
14 а. а. О. S. 92 (IV, 461).
15 Kant I. Kritik der praktischen Vernunft. S. 22 (V, 36).
330
Не забывая об этом тезисе Канта, мы задаем вопрос
о сущности чисто практического разума. Когда мы
в общем и целом «взвешиваем»16 практический разум,
мы не рассматриваем его в его отношении к
предметам: мы имеем дело с волей. Мы рассматриваем разум
в его отношении к «воле и ее причинности»,17 т. е.
рассматриваем, как разум эту волю определяет. Задавая
вопрос о чисто практическом разуме, мы спрашиваем:
что вообще стоит за словами о том, что чистый разум
есть разум практический? Чистый разум есть
представление о чем-то в общем и целом, о чем-то таком,
что — по отношению к тому, что здесь
представляется — не черпается из опыта и не соотносится с ним.
Если я представляю людей с совершенно
определенным складом и если представленное мною как таковое
определяет мои поступки, тогда они, разумеется,
намеренны с моей стороны, они практичны, но определены
не чистым разумом. Ведь определяющее, а именно тот
самый склад, т. е. это представленное мною и ставшее
определяющим, было взято из опыта, из отношения
к опытно познаваемому, каковым были действительно
наличествующие люди с определенными свойствами.
То, что делает волю волей, т. е. определяет ее как волю,
есть сущее, постигаемое на опыте, т. е. еще не сущее
как нечто такое, что надо произвести. Воля не
определена α priori, она не свободна от опыта, т. е. не является
чисто определяющей волей.
Но когда воля определяется a priori? Когда
практический разум является чистым практическим
разумом? Тогда, когда воля вообще определяется не тем,
что она вызывает и исполняет, т. е. представлением
о вызываемом и исполняемом, но чем же, собствен-
16 а. а. О. S. 17 (V, 32).
17 Ebd.
331
но? Существует ли для воли как таковой вообще
нечто такое, что могло бы ее определять, если ее нельзя
определить через желанное следствие? Если в воле как
способности производится нечто производимое,
тогда это всегда нечто осуществляемое, действительное,
эмпирическое. Воля — это «способность или
создавать предметы, соответствующие представлениям, или
определять самоё себя для их произведения... т. е. свою
причинность».18 Итак, воля — это способность
определять свою причинность, т. е. определять себя в своей
каузальности. Через что? Или через представляемое
производимое, или...? Что еще есть у воли, откуда она
могла бы определять самоё себя? Если воля — это
способность определять свою собственную каузальность,
тогда в воле заключена возможность определять себя
в своей каузальности через себя самоё. Что это
значит? Воля как способность создавать что-либо в
соответствии с представлениями представляет в самой себе
возможное основание для определения — для
определения своего воления. Определение, сообразованное
с волей, в себе самом «адресовано» к себе же самому.
Таким образом, в представлении, проникнутом волей,
всегда с необходимостью со-представляется воление
(das Wollen). Поэтому оно — воление как таковое —
принципиально тоже может представляться как
определяющее (das Bestimmende). Если так и происходит,
тогда воление как таковое и определяет волю. Но
тогда воление берет свое основание для определения не
откуда-то, а из себя самого. Но что оно берет из себя?
Себя в своей сущности — себя самоё.
Воля есть определяющее (das Bestimmende) для
себя самой. Она определяет себя из того, что есть она
сама: определяет свою собственную сущность. Но тог-
18 а. а. О. S. 16 (V, 29 f.).
332
да сущность воли есть то, что является
определяющим для воления. Такое воление определяется лишь
из себя самого: оно не определяется чем-то опытно
познаваемым, чем-то другим, оно не определяется
эмпирически — нет, только из себя. Такая воля есть
чистая воля. Чистая воля — это чистый разум, который
только для себя определяет себя к осознанному
действию, основанному на волеизъявлении, т. е.
определяет себя к практике. Чистая воля — это чистый разум,
который оказывается практическим только для себя.
Отсюда мы в какой-то мере понимаем тот тезис,
которым Кант открывает тематическое рассмотрение своих
«Основ метафизики нравственности»: «Нигде в мире,
да и нигде вне его, невозможно мыслить ничего иного,
что могло бы считаться добрым без ограничения,
кроме одной лишь доброй воли».19 Без ограничения, просто
добрым является то, что можно высоко оценить в
самом себе. «Добрая воля добра не благодаря тому, что
она приводит в действие или исполняет; она добра не
в силу своей пригодности к достижению какой-нибудь
поставленной цели, а лишь благодаря волению, т. е.
сама по себе».20 Добрая воля просто добра qua воля,
т. е. поскольку она волит лишь воление и,
следовательно, лишь волит. Добрая воля qua просто добрая есть
чистая воля.
Итак, теперь мы выявили сущность чистого
практического разума как чистой воли. И все-таки мы еще
недостаточно подготовлены для того, чтобы понять
тезис Канта, согласно которому объективную
реальность свободы можно доказать только практическими
законами чистого разума.21 Здесь речь идет о законах
19 Kant I. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 10 (IV,
393).
20 а. а. О. S. 11 (IV, 394).
21 Ср.: Kant I. Kritik der Urteilskraft. § 91. S. 358 (V, 457).
333
чистого практического разума. Какие это законы?
Как мы к ним приходим? Они принадлежат к
чистому практическому разуму, следовательно, к чистой
воле. Почему она вообще имеет какое-то отношение
к законам и каков закон чистой воли, основной закон
чистого практического разума?
с) Действительность
чистого практического разума
в нравственном законе
Чистая воля есть то воление, которое может
действовать только на основании определения через
представленность сущности воли как таковой.
Чистая воля — это воление собственной сущности воли.
Определяющее для чистой воли, каузальность для
нее самой заключена в ее собственной сущности,
поскольку та представляется как определяющая, т. е.
водится в чистом виде. Но каузальность, причинность
чего-либо по своей сути всегда есть правило, закон
существования. Если говорить словами Канта, то это
означает, что «понятие причинности всегда заключает
в себе отношение к закону, который определяет
существование многообразного в его взаимоотношении».22
Закон чистой воли не есть то или это определенное
представимое (bestimmte Vorstellbare), которого
можно достичь: нет, речь идет об определенном законе для
существования воли, т. е. воля есть само воление. Но
чистая воля, сущность воли как определение и
представление чистого воления есть вид законодательства.
Все определяющее содержит в себе не что иное, как
способ и форму чистого воления самого по себе и для
22 Kant I. Kritik der praktischen Vernunft. S. 104 (V, 160).
334
себя. Будучи чистым, этот способ (эта форма
совершения «как») есть способ законодательства для воления.
Если только он один является определяющим, тогда
закон чистой воли есть не что иное, как форма
законодательства для этой воли.
В итоге получается следующее: основной закон
чистой воли, закон чистого практического разума есть не
что иное, как форма законодательства. Таков смысл
упомянутого тезиса: основной закон нравственности
есть формальный закон. Формальное противоположно
материальному Если «формальное» понимать в
расхожем смысле, т. е. не улавливать его собственно
метафизического значения, тогда это будет нечто «пустое»,
«незаполненное материей». Тогда «формальное» — это
просто «пустое», «неопределенное». В таком случае
формальный нравственный закон — это пустой закон,
т. е. ничего не говорящий о том, как я должен
действовать материально, т. е. по содержанию. Тогда этика,
построенная на таком формальном нравственном
законе, окажется несостоятельной, как только речь
зайдет о действительных, практических нравственных
действиях, которые всегда требуют определенных
решений. Такая этика коснеет в формализме.
Вместо этого сегодня пытаются построить материальную
ценностную этику (Макс Шелер, Николай Гартман),
отвергая кантовскую этику как формальную.
Однако надо сказать, что такая интерпретация не
просто ложна в каком-то отношении: она вообще не
видит решающей проблемы в понятии «формального»,
так как фактичность чистого практического разума
не становится центральной проблемой. Да, закон
чистой воли формален, но он не пустой: форма этого
закона означает то, что как раз и составляет
подлинное, определяющее и решающее по отношению к
закону, регулированию и каузальности. Формальное —
335
это не неопределенно пустое, а как раз
«определяющее» (forma, εΐδος).
Собственно законодательное для воления есть
действительное чистое воление и только оно.
Таблица ценностей, какой бы богато классифицированной
и обширной она ни была, все равно остается одним
лишь призраком без всякой обязывающей
законности, если чистое воление — как собственно
действительное всех нравственных действий — не волит себя
самоё. Кажется, что это воление себя самого пусто, но
на самом деле оно оказывается единственно
конкретным и самым конкретным применительно к
законности нравственных действий. Это как будто бы пустой
закон на самом деле как раз является основным
законом — является потому, что если он действительно
определяет действия, он уже всегда сразу знает их и
знает, что, т. е. прежде всего как они должны
действовать. Нравственность этих действий состоит не в том,
что я осуществляю какую-нибудь так называемую
ценность, а в том, что действительно совершаю
волеизъявление, т. е. решаюсь, волю в своей решимости, т. е.
беру на себя ответственность и буду существовать
в этом взятии.
Но сущность воления, это воление, волящее в
своей сущности — разве на самом деле это не нечто
пустое? Вообще что такое воля, волящая только себя
самоё? Нечто такое, что неотвратимо, т. е. неизбежно
определяет свою собственную сущность. Такая воля
может быть согласной только с собой, со своей чистой
сущностью, т. е. быть доброй. Но воля, которая может
быть только доброй, есть совершенная добрая воля
или, как говорит Кант, священная божественная воля.
Там же, где чистая воля не следует своей сущности
со всей непреложностью, там, где она может
определяться и определяется другими движущими силами —
336
как это бывает у конечного существа, к структуре
которого принадлежит чувственность — там чистое
законодательство воли имеет характер принуждения,
заповеди, императива. Формула заповеди гласит: «Ты
должен». Для священной воли, т. е. для необходимо
доброй воли законом является собственное воление,
простое воление воли. Но для той воли, которая добра
случайно, законом является долженствование чистого
воления. Долженствующим оказывается чистое
воление, т. е. такое, которое больше не волйт в расчете на
что-либо другое, чего можно было бы достичь только
благодаря воле. Следовательно, закон воли, т. е. то
самое «ты должен» не говорит, что ты должен, если
ты хочешь достичь того-то и того-то (т. е., например,
ты должен говорить правду, если хочешь, чтобы тебя
уважали в человеческом обществе) — нет, на самом
деле закон воли говорит: ты просто должен поступать
именно так, без всякий условий и оговорок, без
всякого «если» и «но». Предложение, выраженное в форме
«если есть я, тогда есть Ь», т. е. условное предложение,
в логике называется гипотетическим (ύπόθεσις,
условие); в противоположность этому предложение,
выраженное в форме «а есть», называется категорическим.
В соответствии со сказанным существует такое «ты
должен», которое находится под условием: «ты
должен, если...». Такой императив называется
гипотетическим. Что касается безусловного «ты должен», которое
требует только долженствования чистого воления, то
такой императив можно назвать категорическим.
Таким образом, основной закон конечной чистой воли, т. е.
чистого практического разума, есть категорический
императив. «Но о чем он говорит?», — совершенно
непроизвольно спрашиваем мы. Однако пока что нам
совсем не надо об этом спрашивать. Почему?
Подумаем еще раз о нашей задаче и о том, чего мы уже до-
337
бились. Нам надо понять тезис, который гласит:23
объективную реальность свободы можно доказать только
посредством практических законов чистого разума. Но
основной закон чистого практического разума мы
теперь как раз нашли и тем самым достигли того
основания, откуда, согласно Канту, только и можно доказать
фактичность свободы.
Мы действительно отыскали основной закон
чистого практического разума? Можно ли вообще его
отыскать? Что мы уже сделали на этом пути? Мы
рассмотрели, что вообще принадлежит к идее чистой
воли, обсудили, чем вообще является чистый
практический разум. Затем мы рассмотрели, каким
должен предстать закон чистой воли, поскольку она как
конечная одновременно определена чувственностью.
Мы увидели, что этот закон должен быть
категорическим императивом. Но мы еще не доказали, что
такой закон, обладающий характером категорического
императива, существует фактически. Мы даже не
показали, что фактически существует конечный, чистый
практический разум.
d) Категорический императив.
О его действительности и «всеобщности»
После всего предыдущего, наверное, скажут так: да,
существование конечного чистого практического
разума мы не доказали со всей однозначностью, но ведь
это совершенно излишне: человек и «есть» конечное
разумное живое существо, а единственный ли он
такого рода, мы не знаем. В данном случае неважно, суще-
23 «Понять» здесь означает: 1) установить для себя, что он
подразумевает и требует; 2) выполнить это требование.
338
ствуют ли другие виды конечных разумных существ:
достаточно и того, что фактически существует один
такой вид — люди. Или сначала даже это надо
доказать? Совершенно непонятно, как мы, люди, должны
предоставить фактическое доказательство того, что мы
фактически наличествуем. Нелепо требовать такое
доказательство. Да, но что отсюда следует? Что мы
существуем или лишь то, что это нечто само собой
разумеющееся? И если мы это принимаем, следует ли отсюда,
что существует чистый практический разум? Вопрос
остается. Мы не только не знаем, есть ли фактически
чистая воля, коль скоро наличествуют люди — мы не
знаем гораздо более существенное: что означает
фактическое существование чистой воли. Ведь, в конце
концов, фактичность чистой воли, существование в
чистом волении и как чистое воление — это нечто совсем
иное, чем одно лишь наличие космологического
существа, именуемого человеком. Поэтому с фактичностью
основного закона чистого практического разума, с
действительностью категорического императива дело
обстоит весьма своеобразно.
С доказательством факта чистого практического
разума связана возможность доказательства
фактичности практической свободы. Свобода «проявляется
через моральный закон».24 Потому этот последний сам
сначала должен быть явным как действительный. Если
из его действительности вытекает фактичность
свободы, тогда вместе с действительностью свободы
решается вопрос и о ее возможности. То, что действительно,
должно быть возможным. Поскольку
действительность свободы, доказываемая из фактичности
нравственного закона, есть нечто своеобразное, таковой
должна быть и соответствующая возможность. В со-
24 Kant I. Kritik der praktischen Vernunft. S. 4 (V, 5).
339
отнесении с первым путем это означает, что
возможность практической свободы как таковой не совпадает
тотчас с возможностью трансцендентальной свободы.
Поэтому специфическая проблема второго пути
обостряется буквально на глазах. Уже построенная нами
конструкция идеи чистой воли, совершенной,
необходимой и случайно чистой воли, а также конструкция
принадлежащего им вида законности (категорический
императив) все еще не приближает нас к
доказываемой фактичности чистого практического разума. Мы
лишь знаем, в соотнесении с чем нам надо доказывать
эту фактичность, а также знаем, что она своеобразна
и не совпадает с наличествованием человека.
Какова же она сама? Как надо доказывать специфическую
фактичность чистой воли, чистого разума как
практическую? Не следует ли нам — после всего
сказанного — прежде всего прибегнуть к достаточно широкому
понятийному очерчиванию сущности этой
своеобразной фактичности чистой воли? Или, напротив, легче
всего приступить к единственно плодотворному:
просто попытаться доказать, что в человеке чистая воля
есть факт, а вопрос о том, какова сущность этого факта,
т. е. фактичность человека как существующей
личности оставить на потом?
Конечно, для того чтобы доказать существование
чистого практического разума как факт, не
обязательно иметь четко оформленное и всесторонне
обоснованное понятие фактичности факта. С другой стороны,
совершенно невозможно даже попытаться доказать, что
чистая воля в человеке есть факт, не понимая заранее,
в чем сущность этой фактичности. Надо показать,
что в человеке чистый разум действительно является
для себя единственно практическим; что он
определяет волю из себя самого, безотносительно к
желанному следствию или какому-нибудь достижимому удо-
340
вольствию; что, наконец, чистый разум в самом себе
практически волйт чистую волю, т. е. требует ее саму
по себе. Надо показать, что человек действительно
понимает, что он находится под долженствованием
чистого воления.
Если он действительно волйт в себе чистую волю —
например, хочет сказать истину — тогда это означает,
что регулирование его воления заключено в одном
только представлении чистой воли. Представление
о правилах практических действий — это всегда дело
разума. Если чистая воля — т. е. не та или эта воля,
эмпирически определенная так-то и так-то —
представляется как регулирующая, тогда это регулирование и
законодательство относятся к чистому разуму. Тогда
разум побуждается к действию, т. е. оказывается
практическим, только из себя самого. Но если чистая воля
является определяющей, тогда ее обязательность не
зависит от того, связан ли закон со случайным
человеком в случайном положении действования. Напротив,
закон чистой воли обязателен, общезначим для
каждого человека как такового, или, как говорит Кант, это
не субъективно обусловленный закон, но закон
объективный. Чистота воления возносит волю индивида над
всеми случайностями его положения и склонностей.
Благодаря чистоте воления закон воли может быть
общезначимым, но не наоборот, т. е. нельзя говорить, что
чистота воления является следствием общезначимости
исполняемого закона. Если воление чистой воли
возвышается над случайностью эмпирических действий,
привязанных к случайным порывам, тогда это
возвышение не означает растворения в пустой абстракции
какой-то формы законности, которая просто значима
сама по себе и при которой остается совершенно
неясным, что же надо делать. Напротив, в восхождении
к чистой воле свою работу совершает настоящее кон-
341
кретное воление, которое именно потому и
единственно потому конкретно, что оно действительно волит
воление и только его. Если же человек дает себе закон,
который он считает значимым только для своей
особой субъективной воли, то такое чисто субъективное
основоположение есть «максима». «Если, например,
кому-то говорят, что в молодости надо работать и быть
бережливым, чтобы в старости не терпеть нужду, то
это верное и одновременно важное практическое
предписание воли. Но легко заметить, что здесь воля будет
обращена на нечто другое».25
По своему законодательному характеру чистая
воля — т. е. воление, которое как таковое есть закон
себе самому — не будучи обусловленной
определенными субъективными целеполаганиями, есть
объективный закон, а не максима. Если же мы поступаем таким
образом, что основание определения нашего воления,
т. е. наша максима, всегда такова, что может с
необходимостью определять всякое воление как таковое,
тогда мы поступаем в соответствии с объективным
законом нашей воли. Таким образом, объективный
основной закон чистого практического разума, тот закон,
который должен иметь характер безусловного
повеления, т. е. категорического императива, звучит
следующим образом: «Поступай так, чтобы максима твоей
воли могла в то же время иметь силу принципа
всеобщего законодательства».26
Повторим наш ведущий вопрос: благодаря чему
чистый разум в действительности доказывается у нас как
практический? Благодаря тому, что категорический
императив доказывается как фактический, как факт.27
25 а. а. О. S. 23 (V, 37).
26 а. а. О. S. 36 (V, 54).
27 а. а. О. S. 37 (V, 56).
342
Благодаря чему происходит это доказательство?
Благодаря доказательству того, что сознание этого основного
закона разума фактичное Но что это означает теперь?
Здесь — решающее место для понимания всей
проблемы. Кант говорит, что моральный закон «мы сознаем
непосредственно... как только мы намечаем себе
максимы воли».29 Категорический императив сам по себе
навязывается нам.30 Факт этого закона «неоспорим».31
Даже «самый обыденный рассудок» может увидеть его
«без всякого указания».32 «Это основоположение не
требует никакого разыскания и никакого изобретения;
оно издавна присутствовало во всяком человеческом
разуме и было присуще его сущности, являясь
основоположением нравственности» Ρ
Эти тезисы — и особенно последний — звучат очень
странно и в высшей степени спорно. Категорический
императив — разве это «неоспоримый», сразу же
понятный (причем понятный самому обыденному
человеческому разуму) факт — да еще такой факт, который
присущ сущности человека? Разве это нечто такое, что
мы в любое время обнаруживаем как наличное,
наподобие носа и ушей, которые находим всегда? Причем
обнаруживаем с помощью самого обыденного
рассудка? Стало быть, совсем не надо никаких философских,
спекулятивных занятий и никаких особых процедур
какой-нибудь особой методики.
Проверим это кантовское утверждение. Если вот
сейчас, сидя здесь, мы совершенно непосредственно
и непредвзято рассмотрим самих себя, не прибегая ни
28 а. а. О. S. 36 (V, 55 f.).
29 а. а. О. S. 34 (V, 53).
30 Ср.: а. а. О. S. 36 f. (V, 56).
31 а. а. О. S. 37 (V, 56).
32 а. а. О. S. 31 (V, 49).
33 а. а. О. S. 122 (V, 188).
343
к каким философским знаниям и сведениям, — разве
обнаружим мы в самих себе факт категорического
императива? Разве мы находим в себе фактическое
подтверждение следующего требования: «Поступай так,
чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь
силу принципа всеобщего законодательства»? Ничего
подобного. Мы, наоборот, обнаруживаем — и,
пожалуй, сразу же обнаружили это при первом
ознакомлении с данным основным законом — что этот принцип,
будучи измысленным философски, появляется лишь
внутри определенной философской системы. Самое
большее, что мы обнаруживаем, — это то, что как раз
сам Кант и додумался до этого категорического
императива. К этому интеллектуально-историческому
объяснению пришли уже давно и с его помощью
привыкли разъяснять саму суть дела. Категорический
императив чистого практического разума восходит
к эпохе Просвещения, к периоду существования
прусского государства и правлению Фридриха Великого.
Исходя из сегодняшней привычки мыслить, можно
сказать так: категорический императив — это
определенная философско-этическая идеология,
своеобразно обусловленная социально, но ни в коем случае не
всеобщий закон человеческих поступков вообще и тем
более поступков всякого конечного разумного
существа (а именно так Кант и хотел понимать этот
основной закон). Здесь мы не будем рассматривать, в какой
мере интеллектуально-историческое социологическое
разъяснение способствует пониманию философской
проблематики. Мы спокойно соглашаемся, что
Просвещение, прусское государство и другие подобные им
действующие силы сказывались на конкретном
существовании Канта и на его философской работе. Мы
даже подчеркиваем, что если бы всего этого не было,
это было бы неестественно.
344
§ 28. Сознание человеческой свободы
и ее действительности
а) Чистая воля и действительность.
Своеобразие действительности воли
как факта
Но разве все это хоть как-то разъясняет то, о чем
идет речь? Или все эти интеллектуально-исторические
и социологические разговоры доказывают лишь то, что
мы вообще ничего не поняли, т. е. даже не знаем самых
элементарных условий возможности понять, не говоря
уже о том, чтобы осуществить ее? Если это так,
тогда прежде всего ясно одно: повседневному разумению
и расхожему философскому разъяснению проблемы
совершенно не очевидно, почему категорический
императив должен быть фактом и что значит мысль,
согласно которой этот факт доступен даже самому
обыденному рассудку Проверка подтверждает обратное.
Ведь мы не находим ничего от этого факта. Конечно,
не находим, и таким образом мы сможем найти его
никогда. Не сможем потому, что мы — поскольку мы
непосредственно наблюдаем себя означенным способом
или осматриваем наше сознание в поисках якобы
наличествующего в нем категорического императива —
итак, потому что мы, предаваясь таким поискам, с
самого начала ошиблись в понимании фактичности того
факта, который ищем.
Ведь Кант нигде не говорит, что факт
категорического императива просто наличествует; что он
примерно так же наличен, как наличны в нас нервные стволы
и кровеносные сосуды — с той лишь разницей, что они
суть нечто материальное, а он — так называемое
духовное. Кант говорит, что «именно моральный закон...
мы сознаем непосредственно, как только мы намечаем
345
себе максимы воли».1 Следовательно, опыт основного
закона чистой воли имеет одно условие, которое
гласит: «как только мы намечаем себе максимы воли»,
а это значит лишь одно: как только мы действительно
волйм; как только осознаем мотивы своих действий и
так-то и так-то решаемся на них. Условие возможности
опытно пережить факт основного закона непреложно:
сначала мы вообще должны отправиться в
специфическую область таких фактов, т. е. действительно
проявить волю. Действительно волить значит всегда волить
здесь и сейчас: это не значит хотеть каких-то желаний
или думать, что волишь. Это не означает также в общем
и целом решить быть энергичным: нет, на самом деле
волить значит волить во всякое время, здесь и сейчас.
Но что же нам волить? Это опять пустой и
коварный вопрос, удаляющийся от действительного воле-
ния: как вопрос он выглядит так, будто налицо лишь
одно усилие — чего-то действительно захотеть. Ведь
тогда ищешь чего-то такого, что могло бы стать
предметом твоего воления. Но в таком случае воление как
раз опять уходит от того факта, что ему надо волить
именно сейчас. Что волить? Каждый, кто
действительно волит, знает это, потому что каждый, кто волит
действительно, волит не что иное, как долженствование
своего вот-бытия.
Только тогда, когда мы волим именно так, наше
воление действительно то воление, внутри которого
факт нравственного закона действительно есть факт.
Эта действительность долженствования находится
целиком в нас, она есть действительность нашей воли
в сущностно двойном смысле: 1 ) это действительность,
которая дает свое действительное только в нашей воле
и через нашу волю; 2) тогда и только тогда она есть
1 а. а. О. S. 34 (V, 53).
346
действительность, которая истинно подходит нашей
воле как воле. Фактичность этого факта не
противостоит нам — она лишь в нас самих, причем так, что
мы всегда отвечаем за возможность этой
действительности, причем не здесь или там: мы отвечаем за это
отдачей всего нашего существа. Когда Кант говорит,
что даже самый обыденный рассудок может убедиться
в факте категорического императива, он этим не хочет
сказать, что обыденный рассудок, подпавший — в
области теоретических рассуждений — под власть иллюзии
и обманчивого использования принципов, годится для
того, чтобы уловить факт нравственного закона. Он
скорее хочет сказать, что в этом уловлении вид и
степень теоретического и тем более философского знания
вообще не важны: решающим оказывается воление.
К волению как действию, совершающемуся в
соответствии с представлением о предмете воления,
принадлежит и знание об основании определения действования.
Действительное воление всегда в самом себе есть
прояснение для себя и проясненность относительно
оснований для этого определения. Действительное воление
есть собственный способ действительного знания и
понимания, который ничто не может заменить (по
крайней мере, этого не могут сделать знания о человеке —
например, психологические и т. д.).
Как только мы действительно волим, мы
постигаем, что — как говорит Кант — человеческий разум,
«неподкупный и принуждаемый самим собой, всегда при
совершении поступка сравнивает максимы воли с
чистой волей, т. е. с самим собой, рассматривая себя как
a priori практический».2 В действительном волении мы
постигаем, что сущность воления, воление ради самой
воли, требует быть волимым. Было ли таким образом
2 а. а. О. S. 37 (V, 56).
347
волимое достигнуто фактически или нет, — это не так
уж важно: достаточно того, что в действительном во-
лении обнаруживается факт долженствования. В
действительном волении мы приводим себя в состояние,
когда надо так или иначе решиться относительно
определяющего основания наших поступков. Но, скажут
нам, теперь все смещается в сторону действительного
воления. Лишь в том случае, когда оно действительно,
можно говорить о действительности чистого
практического разума; если же мы не волим действительно,
тогда этой действительности нет. Это похоже на
ситуацию со стулом: если он не изготовляется, значит,
он никогда не может быть в наличии. Но тут мы снова
впадаем в заблуждение, сравнивая действительность
воли с действительностью наличной вещи.
Ведь даже если мы не сумели решиться, если
пытаемся уйти от решения, если навязываем и внушаем
себе ложные мотивы своих поступков, мы все равно
решились — решились отвратиться от
долженствования. В этом отказе как раз и проявляется сильнейший
опыт того, что долженствование — это факт. В этом
неволении (Nichtwollen) как определенном виде
воления заключено определенное знание о том, что мы на
самом деле должны были делать и что именно
должны. Действительность воления начинается не там, где
наличествует акт воли, и тем более не прекращается
там, где мы не волим со всей серьезностью. Это не-
воление-по-настоящему, т. е. убегание и потворство
ему как раз и является характерным и, наверное, даже
самым частым модусом действительности воления,
почему мы так основательно и почти всегда не замечаем,
пропускаем ее.
Теперь, наверное, стало ясно: пока мы будем
наблюдать и анализировать себя лишь в качестве чего-то
наличного, мы так и не обнаружим факта долженство-
348
вания, даже если наблюдаем свои поступки и воление
как физические события. Действительность воления
существует лишь в волении этой действительности.
В нем мы постигаем как факт, что чистый разум
является практическим только для одного себя, т. е. что
чистая воля как сущность воли обнаруживается как
основание ее определения. Конечно, скажут нам, этот
факт безусловного обязательства может существовать,
и он, по-видимому, связан с тем, что мы называем
совестью. К тому же надо признать, что здесь, вероятно,
имеет место совершенно особенная фактичность
фактов, которую нельзя связывать с фактичностью
наличных вещей, и потому бессмысленно пытаться путем
какого-то опроса установить, наличествует ли нечто
наподобие совести или нет. Так же глупо
этнологическими изысканиями и исследованиями в области
психологии народов доказывать, что у некоторых племен
нет понятия совести или слова, ее обозначающего, и
т. д. Как будто этнология может нечто подобное
доказать; как будто что-то сообщается за или против
фактичности совести, когда констатируют: совесть
существует не везде и не во всякое время.
Но если мы держимся в стороне от подобных
превратных толкований, это еще не означает, что основной
закон чистого практического разума должен
сводиться к формуле кантовского категорического
императива. Конечно, не в формуле дело. Речь вовсе не о том,
что ради того, чтобы поступать нравственно, человек,
поступающий именно так, должен придерживаться
какой-то формулы и иметь ее, четко выраженную,
наготове. Формула — это всегда философская
интерпретация, а они могут быть разными, да и у самого Канта мы
находим целый ряд различных интерпретаций. Однако
надо сказать, что — без ущерба для разных
формулировок и направлений в истолковании — все они имеют
349
в виду то существенное и решающее, что касается
фактичности факта «человек» во всей самобытности его
существа. И лишь об этом речь идет в нашей проблеме.
Правда, пока мы занимаемся буквоедством и
воспринимаем кантовскую философию — как и всякую
другую великую и подлинную философию — как
некую антикварную достопримечательность, быть может,
и заслуживающую внимания своей когда-то
существовавшей точкой зрения, пока мы не отваживаемся в
философском разбирательстве решительно пуститься
в событие философии, все остается для нас закрытым.
Когда же начинается беспокойство, мы обнаруживаем
некоторые особенные мнения и воззрения, глядя на
которые не можем понять, почему им предшествовало
так много интеллектуальной работы и человеческой
неповторимости. Но когда разбирательство все-таки
начинается, тогда — как в нашем случае — уже все равно,
кто сформулировал категорический императив — Кант
или кто-то другой. Правда, это разбирательство не
означает — как ошибочно полагает обыденный рассудок, —
что мы критикуем и даже опровергаем кого-то
другого: на самом деле речь идет о том, чтобы вернуть этого
другого, а тем самым — и тем более — себя самого к
изначальному и последнему, которое, будучи
существенным, само уже есть общее (Gemeinsame) и не
предполагает никаких последующих братаний. Философское
разбирательство есть истолкование как деструкция.
Ь) Факт нравственного закона
и сознание свободы воли
Для того чтобы избавить кантовскую
интерпретацию нравственного закона от ее мнимой странности,
я хотел бы кратко обсудить одну формулировку кате-
350
горического императива. Она находится в «Основах
метафизики нравственности» и звучит так: «Поступай
так, чтобы ты всегда относился к человечеству как
в своем лице, так и в лице всякого другого как к цели и
никогда — только как к средству».3 Цель и только цель
человеческих поступков — вот что такое человечество.
Но что значит цель? Мы знаем это, и нам не надо
сначала рассматривать понятие цели. Цель — это то, что
с самого начала представлено в воле и что как таковое
является определяющим основанием для
осуществления объекта, подразумеваемого в представлении. Для
цели характерно то, что определяет заранее. То, что
долженствует быть только целью и никогда —
средством, есть первое и предельное; есть то, что может
быть только определяющим; само по себе оно больше
не может быть определяющим ради кого-то другого, и
таким образом оно как цель определяет волю —
«человечество» в твоем лице или в лице всякого
другого, т. е. речь идет о сущности человека как личности.
Следовательно, категорический императив говорит:
всегда и прежде всего будь в своих поступках
сущностей в своей сущности. Сущность человека и есть эта
способность отвечать за себя: связывать себя с самим
собой, а не с эгоистичным и случайным «я». Нести
ответственность за себя — только ответствовать, т. е.
прежде всего и всегда лишь вопрошать о сущности
самости. Прежде всего и во всем давать ей слово, волить
долженствование чистого воления.
Здесь легко и слишком быстро вкрадывается
софистика, пытающаяся начать
теоретико-спекулятивную дискуссию о сущности человека и заявляющая,
что ее мы не знаем или, во всяком случае, не имеем
3 Kant I. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 54 (IV,
429).
351
о ней того представления, с которым заранее
согласились бы все люди. В результате действительное во-
ление и действование смещается в ту временную
точку, где прежде требуется теоретически достичь этого
единогласия и сделать это в теоретически
отысканном знании, — точку, которую как раз никогда и не
допустит временность человека, т. е. в результате
софистика уходит от того, что одно только и делает
действительность человека подлинно действительной
и образует его сущностность. Иначе говоря, сначала
мы хлопочем о какой-то программе, потом собираем
тех, кто ее представляет и отстаивает (т. е. все-таки
призван проявить какое-то воление), а потом
удивляемся, почему при таком подходе никогда не
достигается единство и общность, т. е. главная сила
существования. Как будто это нечто такое, что можно
устроить извне и впоследствии. Мы не понимаем того,
что действительное воление, т. е. воление
сущностное, от себя, само по себе глубинным образом уже
полагает согласие с другими, и эта общность есть лишь
в силу тайны, в силу замкнутого действительного во-
ления одиночки.
Если мы все это понимаем правильно, тогда сразу
становится ясно: решающее осмысление
нравственного закона не в том, что мы придерживаемся какой-то
ценности или узнаём какую-то формулу, которая,
будучи к тому же внесенной в свод законов, парит над
нами и всеми прочими людьми, а они оказываются
лишь исполнителями закона — подобно тому как
отдельные столы на свой лад осуществляют сущность
«стельности» самой по себе. Мы не узнаём формулы и
правила: мы как раз учимся понимать, каков характер
единственной в своем роде действительности —
действительности того, что становится действительным и
есть действительное в наших поступках и как поступ-
352
ки.4 Правда, Кант весьма далек от того, чтобы эту
фактичность как таковую недвусмысленно сделать
центральной метафизической проблемой и на этом пути
концептуально перевести ее в область вот-бытия
человека, дабы тем самым оказаться на пороге
принципиально иной проблематики. Этим помимо прочего
объясняется и то, почему в решающем моменте
соображения Канта остаются безрезультатными для
философской проблематики как таковой.
Но несмотря на все это надо не забывать: для
Канта своеобразие свободного действительного
волеизъявления как факта постигается как нечто центральное,
и из этого опыта он сущностно определяет
проблематику практического разума — в тех границах, которые
считает возможными и необходимыми. Фактичность
факта чистого практического разума во всякое время
зависит от нас самих и только от нас — в том
смысле, что мы решаемся на должное чистое воление, т. е.
действительно волим или, наоборот, выступаем против
него, т. е. не волим, или же в смятении и
нерешительности смешиваем воление и неволение. Эта
фактичность воления сама всегда доступна только в опыте и
знании, которое вырастает из такого воления и нево-
ления или, лучше сказать, уже существует в таковом.
Действительность чистой воли не очерчивает некую
область наличного, которое равнодушно противостоит
нам, — того наличного, в которое мы потом вступаем
или не вступаем, в волении или неволении: нет, только
само это воление или неволение позволяет
совершиться этому действительному и затем быть на свой лад.
Это чистое воление есть практика, через которую
и в которой основной закон чистого практического ра-
4 Ср. отношение «блага» и нравственного закона. Первое
определяется через второе, но не наоборот.
353
зума только и имеет действительность. Чистая воля —
это не какое-то психическое событие, которое — в
соответствии с так называемым созерцанием ценности
сущего в самом себе закона — сообразуется с ним: на
самом деле только чистая воля составляет
фактичность закона чистого практического разума. Закон есть
лишь постольку, поскольку эта воля волит.
Итак, теперь мы понимаем фактичность
чистого практического разума и его закона. Мы понимаем,
что это одно и то же — когда и как здесь существуют
и обнаруживаются факты и когда и как факт чистого
практического разума и его закона может быть доказан
и доказывается. Только теперь мы достаточно
подготовлены для той задачи, которая заключена в ведущем
тезисе: объективную, т. е. практическую реальность,
специфическую фактичность свободы можно показать
только через фактичность закона чистого
практического разума.
Как должно развиваться это доказательство? Если
мы задаем такой вопрос, мы не понимаем проблему. Но
тогда, наверное, вообще не стоит слишком заботиться
о характере аргументации? Может, надо просто по-
настоящему приступить к доказыванию фактичности
свободы? Но и это — непонимание проблемы. Ведь
доказательство уже проведено. Понять это — самое
важное в уразумении всей проблемы практической
свободы и ее объективной реальности.
Раньше я сказал, что доказательство фактичности
практической свободы должно быть коротким —
настолько коротким, что если задача этого
доказательства понята, то оно совсем не проводится, поскольку
под ним разумеют теоретическое выявление наличной
свободы из прежде доказанной наличности
практического закона. Доказательство практической реальности
свободы состоит и может состоять только в том, чтобы
354
понять, что эта свобода существует лишь как
действительное воление чисто должного. Ведь если воление
только в действительном волении позволяет своей
собственной сущности — чистой воле — быть для себя
самого определяющим основанием, законом, то это и
есть не что иное, как то, что практическая свобода
становится действительной.5 Теперь из характера
фактичности факта практической свободы мы выводим
сущность этой свободы: практическая свобода есть
законодательство самой себе — чистая воля,
автономия. Теперь она раскрывается как условие возможности
фактичности чистого практического разума.
Практическая свобода как автономия есть ответственность за
самоё себя, а эта последняя есть сущность личностного
начала человеческой личности, собственная сущность,
человечество человека.
Получается следующее: чистая воля — чистый
практический разум — законность основного закона
фактических поступков — ответственность за себя
самоё — личностное начало — свобода. Все это — одно
и то же, но не в каком-то
неопределенно-расплывчатом единообразии: оно — одно и то же в смысле
необходимой взаимопринадлежности. В результате между
чистым практическим разумом и свободой
складываются собственные отношения условия. Практический
разум и его закон есть «условие, лишь при котором мы
можем осознать свободу [как автономию]»,6 т. е. закон
есть основание возможности познания свободы (ratio
cognoscendi). С другой стороны, свобода есть основание
возможности бытия закона и практического разума,
ratio essendi морального закона. «В самом деле, если
5 Принципиально важно с метафизической точки зрения:
фактичность перед возможностью. Ср.: Аристотель.
Метафизика Θ.
6 Kant I. Kritik der praktischen Vernunft. S. 4 (V, 5) Anm.
355
бы моральный закон ясно не мыслился в нашем
разуме раньше, то мы не считали бы себя вправе
допустить нечто такое, как свобода. Но если бы не было
свободы, то не было бы в нас и морального закона».7
«Таким образом, свобода и безусловный практический
закон ссылаются друг на друга. Я здесь не
спрашиваю, различны ли они также на самом деле и не есть
ли, скорее, безусловный закон только самосознание
чистого практического разума и совершенно ли
тождествен этот разум с положительным понятием
свободы».8 Здесь Кант об этом не спрашивает, но вся
аналитика практического разума как раз и призвана
показать, что «этот факт [чистого практического
разума] неразрывно связан с сознанием свободы воли и
даже тождествен ему».9
7 Ebd.
8 а. а. О. S. 34 (V, 52).
9 а. а. О. S. 50 (V, 72).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СОБСТВЕННОЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ СВОБОДЫ.
УКОРЕНЕННОСТЬ ВОПРОСА О БЫТИИ
В ВОПРОСЕ О СУЩЕСТВЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СВОБОДЫ.
СВОБОДА КАК ОСНОВАНИЕ
ПРИЧИННОСТИ
§ 29. Границы
кантовского рассмотрения свободы.
Привязка проблемы свободы
к проблеме причинности
Итак, мы завершили второй путь Канта к свободе.
Оба пути надо было действительно пройти, чтобы
действительно узнать их полную инаковость. Это
необходимо, если нам надо ощутить всю тяжесть проблемы
свободы, которая сокрыта на обоих путях — в том, что
именно они были выбраны и пройдены.
Истолкование Кантовой проблемы свободы стало
необходимым, потому что мы узнали: в
метафизической традиции вопрос о свободе — это вопрос о виде
причинности. Кант самым радикальным образом
рассмотрел и проблему причинности как таковую, и
проблему свободы как собственный вид причинности.
Разбирательство с ним не просто необходимо: оно
должно стоять на первом месте — как только проблема
свободы понимается как метафизическая. Если
свобода понята как именно такая проблема, тогда уже
поставлен вопрос о том, надо ли понимать свободу как
357
вид причинности или, наоборот, причинность является
проблемой свободы.
И что тогда? Что было бы в последнем случае?
Причинность как категория есть основная черта
бытия сущего. Если мы подумаем о том, что бытие
сущего прежде всего и почти всегда понимается как
постоянное присутствие, в котором лежит производимость,
произведение, изготовление, осуществление в
широком смысле, скрывающее в себе причинение и
каузальность, тогда становится ясно: причинность — как раз
в смысле унаследованного понимания бытия сущего
(как в расхожем рассудке, так и в традиционной
метафизике) — есть основная категория бытия как на-
личествования. Если же причинность есть проблема
свободы, а не наоборот, тогда вообще проблема бытия
есть в самой себе проблема свободы. Но, как мы
показали в предварительном рассмотрении, проблема
свободы вообще является основной проблемой
философии. Следовательно, вопрос о существе человеческой
свободы — это основной вопрос философии, в котором
укоренен даже вопрос о бытии. Но это тот тезис,
который мы высказали в заключении нашего
предварительного рассмотрения, переходя к проблеме свободы
как причинности. Теперь проблема свободы как
причинности рассмотрена. Однако не было показано, что
причинность — это проблема свободы, т. е. что вопрос
о бытии встроен в проблему свободы. Наш основной
тезис не доказан.
Конечно, не доказан, и тем не менее мы — если мы
действительно что-то поняли — постигли нечто
существенное: с действительностью свободы, а тем самым
и, по-видимому, со всей проблематикой, которая к ней
обращена, а значит — тем более — со всеми
доказательствами, которые здесь должны и могут
приводиться, дело обстоит весьма самобытно. Но тогда этот ос-
358
новной тезис, с которым мы как будто насильственно
вторглись в философию, — вовсе не тот, который
можно было бы теоретически доказать малыми
средствами какой-нибудь науки. Он не таков, потому что он
вообще ничего не говорит о наличном, поддающемся
констатации. И тем не менее он говорит о сущности.
Сущность и сущностная связь — разве мы не можем
это усмотреть абсолютно ясно и однозначно? Нет! Эта
сущность остается для нас закрытой до тех пор, пока
мы сами не осуществимся в ней.
Сначала мы попытались дать простую
характеристику обоим путям Канта, сказав, что на первом пути
речь идет о возможности свободы, а на втором — о ее
действительности. Затем мы отвергли эту
характеристику. Теперь же, когда нам знакома проблематика
обоих путей, мы можем снова принять ее. Теперь, будучи
правильно понятой, она позволяет нам решительным
образом сосредоточиться на всей проблеме в целом. На
втором пути действительность практической свободы
на самом деле является проблемой, поскольку речь идет
о том, чтобы действительно доказать ее как
практическую и выявить своеобразие этой доказуемости.
Однако действительность этой действительной свободы
как раз не становится проблемой в том смысле, что
специально и действительно задается вопрос о сущности
этого специфического бытия, которое обнаруживается
в свободном поступке человеческой личности.
Действительность свободы — да, речь идет именно об этом,
но вопрос не ставится в собственно метафизическом
смысле, т. е. речь не идет о ней как о проблеме бытия.
На первом пути проблемой является возможность
свободы, но является в определенной форме: ставится
вопрос о возможности соединения свободы и
природной причинности. Это выглядит так, как будто
возможность свободы является проблемой: ведь именно
359
свобода с самого начала предстает как вид
причинности, а каузальность в себе самой соотнесена с тем, что
определяемо; с тем, что может быть вызвано. Поэтому
вопрос о возможности вот так понимаемой свободы
есть не что иное, как вопрос о соединимости этой
причинности с другой. Однако возможность свободы как
раз не является проблемой в том смысле, чтобы
специально и действительно ставился вопрос о сущности
специфического бытия сущего, которое полагается как
возможное соединимое (mögliches Vereinbares) в обеих
причинностях и через них. На обоих путях не
поднимается вопрос о бытийном характере обсуждаемого
действительного или возможного. Характер свободы как
свободы — в смысле ее возможности и
действительности — остается неопределенным и тем более остается
неопределенным имеющееся здесь отношение, хотя
постоянно только о нем и говорится.
§ 30. Свобода как условие
открытости бытия сущего,
т. е. понимания бытия
Но спорность обоих путей и их единства
затуманивается тем, что оба раза проблема сводится к ведущему
определению категории причинности, но при этом сама
причинность не становится проблемой — в смысле
радикального рассмотрения имеющейся здесь проблемы
бытия. Что произошло бы, если бы причинность —
поначалу совсем в духе Канта — стала проблемой?
Согласно Канту, причинность, как и прочие категории
наличного в более широком смысле, — это черта
предметности предмета. Предметы — это сущее, поскольку
оно становится доступным в теоретическом опыте как
опыте конечного человеческого существа. Тогда кате-
360
гории — это черты бытия так явленного сущего; они
суть определения бытия сущего, которые делают
возможным, чтобы сущее в своих различных бытийных
отношениях обнаруживалось применительно к себе
самому Но сущее может показать себя и тем более
противостать как предмет только тогда, когда
проявление этого сущего и тем самым в первую очередь то,
что в принципе делает возможным такое проявление,
т. е. если понимание бытия (Seinsverständnis)
обладает в самом себе характером давания чему-то
противостоять (Gegenstehenlassen). Давание чему-то
противостоять как данному — принципиально [это значит]:
открытость сущего в обязательности его так-бытия и
самого бытийствования (So-sein и Daß-sein) —
становится возможной только там, где отношение к сущему
как таковому имеет ту основную черту, согласно
которой всему, что — по возможности — раскрывается в
теоретическом, практическом познании или как-нибудь
еще, с самого начала предпосылается обязательность.
Но предшествующее признание обязательности есть
изначальное связывание себя самого, связь как
обязательность для себя, т. е., согласно Канту, давание себе
некоего закона. Возможность встречи с сущим,
отношение к сущему в любом способе его открытости
возможно лишь там, где есть свобода. Свобода есть
условие возможности открытости бытия сущего, условие
возможности понимания бытия.
Но одним из бытийных определений сущего
является причинность. Причинность коренится в свободе.
Проблема причинности есть проблема свободы, но не
наоборот. Принципиально вопрос о сущности свободы
есть основная проблема философии, если ее ведущий
вопрос заключен в вопросе о бытии.
Однако этот основной тезис и его доказательство —
не из области научно-теоретического рассмотрения: на
361
самом деле речь идет о постижении в тех
захватывающих понятиях, которые с самого начала всегда и
неизбежно настигают самого постигающего, добираются до
самого корня его существования. Для чего? Ни больше
ни меньше как для одного-единственного: чтобы этот
постигающий о-существился в действительном воле-
нии собственного существа.
Когда действительное бытие-свободным, когда во-
ление, совершающееся из глубины этого существа,
определяет основную установку философствования и
тем самым само содержание философии, тогда к ней
относится то, что Кант говорит в «Основах
метафизики нравственности»: «Здесь мы в самом деле видим,
что философия поставлена на опасную позицию, тогда
как ее позиция должна быть твердой, хотя бы ей и не
было за что держаться или на что опираться ни в небе,
ни на земле. Здесь она должна показать свою
чистоту как заключающая сама в себе свои законы, а не как
возвестительница тех законов, которые ей
нашептывает врожденное чувство или неизвестно какая
попечительная природа...».1
1 Kant I. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 49 f. (IV,
425).
ПОСЛЕСЛОВИЕ
НЕМЕЦКОГО ИЗДАТЕЛЯ
Предлагаемый тридцать первый том полного
собрания сочинений Мартина Хайдеггера содержит в себе
текст четырехчасового лекционного курса,
читанного во Фрейбургском университете в летнем семестре
1930 года (начало — 29 апреля). В основу этого тома
положена авторская рукопись данного курса, а также
копия, сделанная Фрицем Хайдеггером и сверенная
с рукописью. Эта копия было дополнена рядом
маргиналий и вставок из рукописи, которые не были
отражены Фрицем Хайдеггером.
Цитаты — за немногими исключениями — были
сверены с рабочими экземплярами Мартина
Хайдеггера. Библиографические указания каждый раз даются
с первой цитатой соответствующего издания. По
маргиналиям, сделанным в рабочих экземплярах, отчасти
видно, что Хайдеггер использовал их при разработке
данного лекционного курса.
Текст рукописи, за двумя исключениями никак не
расчлененный, был тщательно структурирован
издателем в соответствии с теми указаниями, которые
Мартин Хайдеггер дал при подготовке полного собрания.
Для выбора заглавий были использованы два
заголовка («Причинность и свобода» и «Вторая аналогия»),
363
в общих чертах структурирующие сплошной текст
рукописи, а также оглавления двух приложений и одного
резюме, стоящего особняком. Кроме того, в выборе
заглавий самым широким образом использовались
решающие в смысловом отношении отрывки текста.
При сравнении текста с двумя имевшимися в
нашем распоряжении конспектами (Елены Вайс и
Генриха Окснера) выяснилось, что длинное рассуждение
об öv ώς αληθές (Aristoteles. Met. Θ 10), предпринятое
Хайдеггером в ответ на вопрос из зала, в копии текста
отсутствует. Там имеется только ссылка на
соответствующее приложение. Благодаря целенаправленному
изучению рукописного наследия в бумагах под общим
заголовком «Аристотель. Метафизика Θ» удалось
обнаружить это отдельно лежавшее приложение, а также
копию Фрица Хайдеггера. По-видимому, это
приложение, разработанное во время чтения настоящего
лекционного курса и в нем же представленное, Мартин
Хайдеггер использовал в лекционном курсе летнего
семестра 1931 года («Аристотель. Метафизика Θ 1—3»)
и позднее оставил его в этих бумагах.
Копия этого приложения тоже была сверена с
рукописью и — после включения некоторых
незаписанных отрывков — внесена в то место, которое в
рукописи было четко обозначено Мартином Хайдеггером.
Это приложение дополняет данную там
интерпретацию греческого толкования бытия (ουσία) в
горизонте постоянного присутствия (данную на основании
рассматриваемых значений бытия-действительным,
что-бытия и бытия-подвижным) интерпретацией
отличительного смысла бытия как бытия-истинным.
По-своему интерпретируя десятую главу из книги Θ
Аристотелевой «Метафизики», Хайдеггер стремится
показать, что — и как — не только в истолковании
бытия в значении бытия-действительным, что-бытия и
364
бытия-подвижным присутствие дает о себе знать как
невыраженный горизонт греческого истолкования
бытия, но и — и как раз там тоже — в истолковании бытия
в значении бытия-истинным (истина, αλήθεια).
Господствующее в классической филологии истолкование
девятой главы из книги Θ Аристотелевой «Метафизики»
заставляет поднять вопрос о принадлежности этой
главы именно к этой книге, в результате чего, в силу связи
сугубо предметного вопроса (ον ώς αληθές как κυριώτα-
τα ον) с вопросом текстологическим, происходит
разбирательство с тезисами Йегера и Швеглера.
*
В данном лекционном курсе, который сам Мартин
Хайдеггер в подзаголовке обозначил как «Введение
в философию», а именно в его первой части, где
вопрос о существе человеческой свободы
разворачивается из ведущего вопроса метафизики (τί το ον),
разработанного до основного вопроса философии (бытие
и время), — итак, в первой части дается обоснованное
введение в мышление в контексте главного
произведения — «Бытия и времени». Выход-на-целое
философии, зримый в этом развертывании вопроса о свободе,
одновременно опрашивается в ракурсе того
притязания, которое связывается с подлинной природой
философии: быть прихождением-к-корню, показывать
наступательный характер. Эта связь, лежащая в таком
раскрытии проблемы свободы, намекает на то, что во
второй части данного курса эта проблема, конкретно
рассмотренная в ракурсе кантовской
трансцендентальной и практической свободы и в принципиальном
соотнесении с причинностью, не может рассматриваться
как одна из «проблем» некоей «практической фило-
365
софии» в смысле какой-то философской дисциплины
среди прочих: нет, она должна рассматриваться только
в том онтологическом измерении и из того
онтологического измерения, которое было намечено в первой и
затем вновь акцентировано в краткой заключительной
части, — том измерении, в котором свободу надо
мыслить как условие возможности открытости бытия
сущего, т. е. собственно понимания бытия. Только в этом
онтологическом измерении философия одновременно
показывает — особенно в рассмотрении человеческой
свободы — в своем выходе-на-целое упомянутый
наступательный характер, понятый как прихождение-к-
корню.
*
За разнообразные и важные советы относительно
издания этого тома я весьма признателен доктору
Герману Хайдеггеру и доктору Ф.-В. фон Германну. Я
также благодарю госпожу Луизу Михаэлзен и кандидата
философии Ганса-Гельмута Гандера за весьма
тщательную корректуру.
Глоттерталь, июль 1981
Хартмут Титьен
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
В лекционном курсе «О существе человеческой
свободы», перевод которого мы предлагаем читателю
(этот курс был прочитан Хайдеггером в летнем
семестре 1930 года) почти нет той «невыносимой
терминологии», каковая когда-то вызвала протест Николая
Бердяева. «Гейдеггер... создает невыносимую
терминологию», — пишет он в «Самопознании» и даже
утверждает, что она «оказывается оригинальнее [самой]
мысли». Впрочем, он не одинок — вспомним, к примеру,
Ортегу-и-Гассета: в своей работе «Идея начала у
Лейбница и эволюция дедуктивной теории» он тоже
упрекает Хайдеггера в «характерном для немецких
мыслителей терминологическом произволе». Можно было
бы возразить, сославшись на С. Франка (в
предисловии к «Непостижимому» он подчеркивает, что
«проникновение в более глубокие связи реальности требует
напряжения мысли, не всем доступного, и новые
мысли по существу не могут быть выражены иначе, чем
в новых словах»), можно было бы сослаться на самого
Хайдеггера (в «Пролегоменах к истории понятия
времени» он, словно извиняясь, пишет, что
«тяжеловесные формулировки» вводятся им «не по прихоти и не
ради особой склонности к приватной терминологии»,
и, как будто желая заручиться поддержкой всеми при-
367
знанных и достойных «мужей», ссылается на Платона
и Аристотеля, формулы которых в ту пору были, как
он говорит, «неслыханными», а их понимание являлось
«для греков того времени весьма непростой задачей».
Да и чуть позже, через год, уже в «Бытии и времени»,
он опять говорит, что «дело... не в своеволии
терминологии»). Причина в другом: в тех же «Пролегоменах» он
говорит о принципиально новой «задаче»: «постигнуть
сущее в его бытии», а для этого «зачастую недостает не
только слов, но даже и грамматики, т. к.
первоначально... наш язык естественным образом обращен к
сущему... и высказывает именно это сущее», а не бытие.
Мы, однако, уже сказали, что в данном
лекционном курсе такой терминологии почти нет, но нередко
и вполне привычные термины в оркестровом звучании
всего контекста обнаруживают то мелодическое
своенравие, которое неизбежно задается концептуальным
построением какого-нибудь тезиса. Тогда
переводческие проблемы, создаваемые этими привычными
словами, оказываются не меньше тех, которые
возникают при переводе упомянутых «новых слов», каковые
в силу одной лишь морфологической витиеватости
заранее допускают возможность различных лексических
вариаций и тем самым — парадоксальным образом —
насколько усложняют, настолько и облегчают
переводческую задачу. «Привычные» же слова способны
не хуже упомянутых неологизмов задавать тон в
формировании мелодического рисунка, причем именно их
привычность и устоявшаяся смысловая прозрачность
нередко приводят к переводческим затруднениям.
Примером привычной терминологии может
служить глагол handeln («действовать», «поступать»,
«торговать», «трактовать») и субстантив Handlung
(«действие», «поступок»), которые мы и хотим рассмотреть
в этом послесловии. Они являются ключевыми, коль
скоро — как гласит заголовок данного лекционного
курса — речь в нем идет «о существе человеческой
368
свободы», а в этой области, как известно,
определяющим является характер этого самого «действия» или
«поступка». Казалось бы, никаких проблем в переводе
названных терминов не возникает, но мы помним, что
перед нами текст Хайдеггера, который, как известно,
всегда отдавал должное этимологии (вспомним хотя
бы этимологическое разъяснение основополагающего
экзистпенциала «бытие-в-мире» («In-der-Welt-sein») из
§ 12 «Бытия и времени», где предлог «in» возводится
им к корню «innan» («селиться», «обитать»,
«пребывать»).
Решив последовать его примеру и обратившись
к этимологии слова Handlung, мы не испытываем
затруднений — это слово вполне прозрачно: его
корень — Hand («рука»). Заглянув в толковый словарь
Герхарда Варига, мы читаем, что рука — это «das mit
dem Vorderarm verbundene Greif- und Tastglied von
Menschen und Affen», т. е. тот член тела человека и
обезьяны, который связан с предплечьем и с помощью
которого оба эти существа хватают и ощупывают. Далее
в этом же словаре говорится, что слово Hand
восходит к древневерхненемецкому fiant, a также к
готскому handus («хватающий», «улавливающий») (fassende,
greifende).
Однако мы сказали, что образованное от Hand
существительное Handlung традиционно переводится
как «действие» или «поступок». Здесь тоже нет ничего
странного: перед нами обычный случай перевода, когда
калькирование просто невозможно и корень исходного
слова неизбежно теряется. Например, наше
«нападение» по-немецки звучит как Überfall и Angriff, и если
в первом случае связь с «падением» вполне очевидна
{der Fall — «падение», fallen — «падать»), то во втором
мы имеем дело с глаголом greifen, а это уже «хватать»,
но никак не «падать». Таких примеров множество. Так
надо ли заострять внимание на том, что при переводе
слова Handlung мы, так сказать, «лишаемся руки»?
369
Невозможность сохранить корень исходного
языка (в нашем случае это Hand) — дело вполне обычное,
но мы, наверное, решим, что калька просто
необходима, когда увидим, какую концептуальную нагрузку эта
столь привычная Hand получает у Хайдеггера.
В лекциях «Что зовется мышлением?», читанных
во Фрейбурге в 1951 — 1952 годах, мы находим такие
строки: «Рука представляет собой нечто особое.
Принято считать, что рука принадлежит к организму
нашего тела. Но существо руки никогда нельзя определять
как телесный хватательный орган или объяснять [ее
природу] исходя из этого. Хватательные органы имеет,
к примеру, и обезьяна, но у нее нет никакой руки. От
всех хватательных органов — лап, когтей, клыков —
рука отличается бесконечно, т. е. их разделяет
пропасть в самом существе. Только то существо, которое
говорит, т. е. мыслит, может иметь руку и, используя
ее, создавать рукотворные произведения».
И далее: «Рука не только хватает и улавливает, не
только давит и толкает. Рука протягивает и
принимает, причем не только вещи: она протягивается и
принимается в другую руку. Рука держит. Рука несет. Рука
обозначает — быть может, потому, что человек есть
знак».
Итак, перед нами совершенно иное осмысление
«руки», отличное от того, которое мы нашли в
толковом словаре Герхарда Варига. Впрочем, о такой «руке»
Хайдеггер говорил и семью годами раньше — в
лекционном курсе, посвященном Пармениду (и читанном
в том же Фрейбургском университете в 1942—1943
годах). В нем неэмпирическое понимание «руки»
представлено даже более основательно.
«Человек сам „действует" рукой, потому что рука
вместе со словом составляет его сущностное отличие.
Только то сущее, которое „имеет" слово, также может
и должно „иметь" руку. Рукой совершается молитва и
убийство, знак приветствия и благодарения, приносит-
370
ся клятва и делается намек, и ею же осуществляется
какое-нибудь ремесло („рукоделие"), делается утварь.
Рукопожатием закрепляется нерушимая
договоренность. Рука вызывает „дело" опустошения. Рука бы-
тийствует как рука только там, где совершается
раскрытие и сокрытие».
И чуть ниже опять акцентируется отличие
человека от зверя: «У зверя нет руки, и никогда лапа и когти
не станут рукой. Даже рука отчаявшегося человека —
меньше всего „лапа", которой он „царапается"».
И наконец, еще раз — акцентирование решающей
связи руки и слова: «Рука появляется только из слова
и вместе со словом. Не человек „имеет" руки, но рука
вбирает в себя сущность человека, потому что, только
будучи сущностной сферой действия руки, слово
является сущностной основой человека. Слово, как нечто
запечатленное с помощью знака и именно так
предстающее перед взором человека, есть слово написанное,
то есть письмо. Но слово как писание есть руко-писа-
ние, руко-пись».
Можно предположить, что чисто концептуально во
всем сказанном нет ничего нового: да, человек в
отличие от животного — существо разумное, обладающее
самосознанием, и потому все перечисленные действия
«руки» — это действия человека как «разумного
животного» (animal rationale). Разум — его
основополагающая особенность, даже его способ бытия: одним
словом, говоря философски, здесь мы имеем дело
с разумным субъектом, каковым животное,
разумеется, не является.
Пусть так, но вот в «Письме о гуманизме» Хайдег-
гер, словно подытоживая все сказанное о руке, пишет
вообще о теле человека, и тут мы обнаруживаем, что
званием субъекта природа человека не исчерпывается.
«Тело человека есть нечто принципиально другое, чем
животный организм», — пишет он, и здесь мы,
наверное, готовы согласиться: ведь мы знаем, что человек —
371
прежде всего существо разумное, душевно-духовное
и т. д., и потому его тело каким-то образом несет на
себе печать его же духовности. Но следующие строки
настораживают: «Заблуждение биологизма, — пишет
Хайдеггер, — вовсе еще не преодолевается тем, что
люди надстраивают над телесностью человека душу,
над душой дух, а над духом экзистенциальность... Если
физиология и физиологическая химия способны
исследовать человека в естественнонаучном плане как
организм, то это еще вовсе не доказательство того, что
в такой „органике", т. е. в научно объясненном теле,
покоится существо человека».
Не успев согласиться со сказанным (ибо с
«физиологией» и «физиологической химией» нам, наверное,
как-то легче расстаться), мы далее обнаруживаем нечто
такое, с чем согласиться уже не просто: «Насколько
существо человека не сводится к животной органике, —
продолжает Хайдеггер, — настолько же невозможно
устранить или как-то компенсировать недостаточность
этого определения человеческого существа, наделяя
человека бессмертной душой, или разумностью, или
личностными чертами. Каждый раз это существо
оказывается обойденным, и именно по причине того же
самого метафизического проекта».
Итак, получается, что в обоих случаях (т. е. как при
естественнонаучном, так и при теолого-антропологи-
ческом подходе) мы имеем дело с «тем же самым
метафизическим проектом», и «человеческое существо»
оказывается «обойденным» даже тогда, когда, пытаясь
определить его природу, мы наделяем его бессмертной
душой, или разумностью, или личностными чертами
[курсив наш. — Л. Ш.\. Мы намеренно выделили
последние слова курсивом, дабы заострить внимание на
том, что даже такие поистине царские регалии,
получаемые человеком, с точки зрения Хайдеггера
оказываются недостаточными для определения его природы.
Но это действительно так: ведь ориентация «на что-то
372
личностное», продолжает Хайдеггер, так же ошибочна,
как и ориентация «на какую-то предметность».
Но тогда в каком же загадочном измерении
находится человек, коль скоро столь знакомые модусы
существования как будто чужды ему и не могут дать
ничего, кроме традиционных — и, как выяснилось,
негодных или неполных — концептуальных средств
осмысления его природы? Постараемся выяснить это по
путеводной линии все той же Handlung, поскольку с ее
переводом мы и пытаемся определиться. Вернувшись
к лекциям о Пармениде, мы находим в них
интересный отрывок, где Хайдеггер анализирует значение
греческого термина πράγμα, который имеет много
смыслов и прежде всего значение вещи, предмета, дела.
Говоря об исконной несокрытости сущего,
которая была ведома эллинскому сознанию (и даже не
сознанию, а бытийному умонастроению, и даже не ему,
а умению стоять в несокрытости бытия), Хайдеггер
пишет: «Здесь πράγμα еще не отделяется... как вещь и
предмет от πραξιζ как предполагаемой „деятельности".
Πράγμα еще не сводится до уровня понятия о
„предмете"». И чуть ниже снова: «Под πράγμα подразумеваются
не вещь и не деятельность (πραξιζ) как таковые в их
раздельном существовании. Слово τά πράγματα в
данном случае скорее обозначает исконно нераздельное и
целостное взаимоотношение вещей и человека [курсив
наш. — А. Ш.]».
Из сказанного ясно, что перед нами не что иное, как
знаменитое «бытие-в-мире», — тот самый экзистенци-
ал, анализу которого посвящены § 12—24 «Бытия и
времени». Пока не совершилась роковая Entweltlichung,
т. е. пока не произошло размирщение, в результате
которого познающему взору (каковой сам по себе, как
ни странно, вторичен) открылась — как объект
познания — не менее вторичная и, по сути дела,
производная «природа» (т. е. вся совокупность внеположной
предметной данности, выступающая как позднейшая
373
объективация), отношения человека с миром
представляли собой именно эти τά πράγματα. (Мимоходом
отметим, сколь условным порой оказывается деление
на «раннего» и «позднего» Хайдеггера: ведь
лекционный курс о Пармениде был прочитан в 1942—1943
годах, т. е. почти через десяток лет после всем известной
Kehre, если, конечно, ее хоть как-то можно
датировать.)
«Что более само собой разумеется, чем то, что
„субъект" отнесен к „объекту" и наоборот?», —
спрашивает Хайдеггер в § 12 «Бытии и времени»,
рассматривая возникновение метафизической субъект-объектной
гносеологии. Да, это нечто само собой разумеющееся
и понятное, а между тем именно такая онтологическая
конструкция никак не отвечает критерию исконности:
в исходном смысле мы имеем дело не с нею, а с тем
самым «in-der-Welt-sein», с тем «бытием-в-мире»,
которое, несмотря на свою исконность (а может быть,
как раз в силу этого), совершенно неуловимо, ибо —
формально говоря — оно никак нас не аффицирует.
«Бытие-в-мире... на путях онтологически
неадекватного толкования становится невидимо», — добавляет
Хайдеггер в том же параграфе.
Мы как будто несколько отвлеклись от сугубо
переводческой задачи, но это отступление было
оправданным: дело в том, что это самое τά πράγμα, осмысленное
столь своеобразно (т. е. как «исконно нераздельное и
целостное взаимоотношение вещей и человека»),
Хайдеггер переводит на немецкий язык как раз нашим
термином Handlung, а значит «рука» как будто снова дает
о себе знать. В приводимом ниже отрывке мы пока
оставляем Handlung без перевода, поскольку любой
перевод сразу же обременит текст еще не
обоснованным смыслом.
«Мы переводим τά πράγμα как Handlung, — пишет
Хайдеггер. — Это слово означает не человеческую
деятельность (actio), но тот единый способ, каким те или
374
иные вещи оказываются „подручными", то есть
связанными с рукой».
Теперь, когда появляется термин «подручный»
(zuhanden), нам тем более становится ясно, что мы имеем
дело с «бытием-в-мире», однако это снова поднимает
тему «руки», и на сей раз эта тема раскрывается еще
глубже. «„Рука", — продолжает Хайдеггер, — есть
только там, где сущее как таковое появляется несокрытым
и человек раскрывающим образом относится к этому
сущему. Рука, подобно слову, сохраняет отнесенность
бытия к человеку и только через это — отношение
человека к сущему... В своем сущностном
происхождении письмо есть руко-пись (Hand-schrift)».
Желая акцентировать именно этимологическое
прочтение субстантива Handlung и глагола handeln,
Хайдеггер пишет: «Der Mensch selbst „handelt" durch
die Hand», т. е. «человек сам „handelt" посредством
руки». Мы опять оставляем «handelt» без перевода,
ибо как будто ясно: сказать, что «человек сам
„действует" посредством руки», значит прибегнуть к
совершенно «рабочему» варианту перевода, не отражающему
очевидной этимологической и концептуальной связи
(тем более что речь идет, как подчеркнул Хайдеггер,
не о «человеческой деятельности» в смысле actio (что
как раз и означает «действие» в переводе с латыни),
а о едином способе «подручности», где нет
расщепления на «субъект» и «объект»).
Однако все попытки перевести Handlung каким-
нибудь «рукоделием», «рукотворением»,
«поручением», «ручательством» и т. д. терпят крах, потому что
все эти варианты исконно живут в совершенно других
контекстах, которые сразу навязывают свой смысл,
уводя в сторону от намеченного концептуального
ракурса. Никак не помогает и немецкое Handwerk (где,
правда, есть и «рука», и момент некоего совершения,
выраженный словом Werk): здесь в переводе на
русский мы имеем «ремесло», а согласно этимологиче-
375
скому словарю Максимилиана Фасмера (с которым
согласен и Н. Шанский) наше «ремесло» восходит
к «рубить» (латышское remesis, remikis — «плотник»;
древне-прусское romestue — «топор» и т. д.), т. е. в
нашем «ремесле» нет собственно «руки», хотя и есть
намек на ее обладателя — «ремесленника». (Мимоходом
отметим, что и Жак Деррида сетует на то, что в
переводе немецкого Handwerk на французский язык (а там
это «le métier») «рука» тоже утрачивается.)
Просторечно-экзотическое «рукомесло» хоть и
имеет «руку», но представляет собой лишь
контаминацию «ремесла» и «рукоделия», а совершенно
прозрачное «рукоделие» (как будто вполне годящееся для
перевода Handlung, поскольку имеет «руку» и даже
отражает «деятельный» смысл немецкого суффикса
«-ung» в этой Handl-ung) опять-таки слишком
обременено своим привычным контекстом.
Дабы хоть как-то утешиться в своем осознании
того, что здесь мы не можем сделать, казалось бы,
столь принципиальную кальку, не можем «сохранить
руку», вспомним о переводе ключевых терминов
«Бытия и времени». В § 9, говоря об особом бытийном
статусе того сущего, которое предстает как Dasein, Хай-
деггер пишет: «Онтологическая задача тут — именно
показать, что если мы избираем для бытия этого
сущего обозначение „экзистенция", этот титул не имеет
и не может иметь онтологического значения
традиционного термина existentia; existentia онтологически
равносильна наличности (Vorhandensein), которая
сущему характера присутствия (Dasein) в принципе не
подходит». И тут же далее: «Путаница устраняется
тем, что для титула existentia мы всегда употребляем
выражение наличие (Vorhandenheit), а экзистенцию
(Existenz) как бытийное определение отводим только
присутствию (Dasein)».
Мы видим, что в этом отрывке два термина с
корнем «hand», «рука», (а именно Vorhandensein и Vorhan-
376
denheit) переведены традиционными словарными
«наличностью» и «наличием», и любая
калькированная «предручность», полученная в результате полной
морфологической субституции, только ввергает нас
в некий неведомый смысл, непременно требующий
какого-то своего, хотя и несуществующего, контекста
для уразумения этой кальки. В то же время нельзя не
заметить, что эти термины, выражающие
отстраненную предметность, мы — по замысловатой иронии
языка — переводим на русский язык «наличием», в
каковом, что ни говори, присутствуют «лицо» и «лик»,
которые никак не несут в себе смысла «безликой»,
чисто предметной вещи. (Мимоходом отметим, что
в английском переводе «Бытия и времени» ситуация
иная — там «рука» сохраняется в обоих терминах:
«наличность» предстает как présence-at-hand, a «подруч-
ность» — как readiness-to-hand (зато во французском
переводе этих терминов «рука» вообще не появляется:
они предстают там соответственно как étant subsistant
(sous la main) и être disponible.)
Но так ли уж мы были правы, когда, завороженные
Хайдеггеровым осмыслением «руки», стремились ни
в коем случае не упустить ее в переводе и
непременно перевести термин Handlung каким-нибудь «рукот-
ворением», делая это в ущерб его традиционным
значениям «действия» и «поступка»? Все дело в том, что
в субстантиве Handlung Хайдеггер слышит свои
немецкие «руку» и «действие» в их неразложимом единстве
и как раз этот момент он и акцентирует, усматривая
в «действии» как Handlung нечто отличное от
«действия» как Тип или Tat (хотя в немецких словарях
синонимов все они даются именно как синонимы).
Это похоже на то, как если бы мы, увидев, что
в привычном для нас слове «забытье» слышится
«бытие», стали усматривать в этом «забытьи» не просто
«беспамятство», а некое хоть и родственное
«беспамятству» состояние, но в то же время более весомое,
377
нагруженное некоей онтологией (коль скоро здесь мы
имеем бытие) и никак не похожее на слишком
«субъективное», слишком «психологическое»
«беспамятство». Одним словом, в переводе немецкой Handlung
нашим «действием» мы никогда не услышим «руки»,
и нам остается «утешиться» тем, что ведь и Хайдег-
гер в своем немецком «забытьи» (а у него это
Bewußtlosigkeit, Ohnmacht, Dämmerzustand и т. д.) никогда не
услышит нашего «бытия», ибо во всех немецких
соответствиях нашему «забытью», которые мы только что
перечислили в скобках, «бытия» (das Sein) просто нет.
Итак, при переводе термина Handlung мы
остаемся с традиционными вариантами его перевода, т. е.
с «действием» и «поступком», но важно то, что, не
сохранив «руки», из всей процедуры несостоявшегося
калькирования мы вышли не только с потерями, но
и приобретениями. Ведь мы помним о том, что такое
«действие» совершается в онтологическом измерении
«бытия-в-мире», а значит смысл такого «действия»
отличен от упомянутой actio как действия субъекта, что
принципиально важно для понимания Хайдеггеровой
критики Кантовой свободы.
Оставшись с традиционными вариантами перевода
субстантива Handlung, мы видим, что, несмотря на их
синонимию, они не совсем тождественны. В словаре
психологии читаем: «Поступок — сознательное
действие, оцениваемое как акт нравственного
самоопределения человека». Итак, всякий «поступок» — это
«действие», но не всякое «действие» — «поступок».
«Поступок» отъединяет нас как от «неживой»
природы, так и от «животного мира». Мы говорим о
«действии» физического закона, и даже тогда, когда он
приводит нас к смерти, мы не можем сказать, что он так
плохо с нами поступает: с его стороны это не
«безжалостный» и не «подлый» поступок, а именно
индифферентное действие, хотя мы можем отвечать на него
стенаниями и ропотом. О животном мы тоже предпо-
378
читаем говорить, что оно не «поступает», а
«действует» (хотя порой и «коварно»).
Итак, физические и прочие законы не
«поступают», они именно «действуют», хотя, с другой стороны,
нельзя не заметить, что однокоренное «деяние» — это
все-таки не физикалистское «действие»: «деяние»
может быть или человеческим, или божественным (вряд
ли можно говорить о «деянии законов природы», но
опять-таки и «действие» не остается сугубо физи-
калистским: мы говорим, например, о «театральном
действии», о «действующих лицах драмы», «действии
романа» (да и само «действие» в своем корне едино
со «злодеем», «чародеем», т. е. с «человеческим
началом»), но вот когда речь заходит (согласно
приведенному выше определению из психологического
словаря) о нравственном аспекте «действия», то здесь верх
берет поступок, («благородный поступок», «подлый
поступок» и т. д., но не «подлое действие»).
«Handle so, daß die Maxime deines Willens
jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung
gelten könnte», — гласит знаменитый категорический
императив Канта, и здесь переводчик «Критики
практического разума», наверное, просто вынужден был
остановиться именно на «поступке», а не «действии».
«Поступай так, — переводит он, — чтобы максима
твоей воли могла в то же время иметь силу принципа
всеобщего законодательства». Конечно, это столь
категоричное «handle so...» можно было бы перевести и
«действуй так...» (после того, что мы сказали о
«действующих лицах» и «чародеях», такой вариант тоже
годится), но ясно, что при таком выборе
утрачивается та «музыка решимости», которую слышит субъект,
«претворяющий» свою «максиму» в «принцип
всеобщего законодательства» или же, наоборот, словно
«растворяющий» его в отваге своей «максимы».
Хотя почему, собственно, субъект? Ведь мы же
помним, что Handlung дает о себе знать не только в сфе-
379
ре субъект-объектной онтологии, но и в том
загадочном «бытии-в-мире», которое никак не аффицирует
субъекта (и уж как раз его-то оно и не может
аффинировать, потому что он сам это бытие разрушает).
Становится очевидным, что необходима
концептуальная прорисовка «поступка»: ведь тогда мы, по крайней
мере, увидим, сколь различным оказывается его
смысловое наполнение и обнаружим, что выбранный нами
вариант (т. е. именно «поступок») в силу
морфологической подвижности этого термина, корень которого
допускает префиксальную вариативность, в какой-то
мере позволяет эти смыслы отображать.
Мы уже говорили, что термин Handlung
принципиален для данного лекционного курса, коль скоро
речь в нем идет «о существе человеческой свободы».
В ракурсе упомянутой концептуальной прорисовки
интересно взглянуть, как этот термин предстает у
Канта, а точнее говоря — как он переводится Н. Лосским
(с учетом той сверки, которая в переиздании была
осуществлена под общей редакцией В. Ф. Асмуса).
Итак, Handlung появляется уже в предисловии
к «Критике чистого разума», и уже здесь намечается
характерная двоякость в переводе этого слова: когда
речь идет о волеизъявлении субъекта, Handlung
переводится как «поступок», но когда дело касается
космологического закона причинно-следственной связи,
та же Handlung переводится «действием». Эта
переводческая динамика «поступка—действия» наиболее
ярко проявляется в «Трансцендентальной
диалектике», а точнее там, где речь заходит о «возможности
свободной причинности в соединении со всеобщим
законом естественной необходимости». Здесь мы видим,
что вся та Handlung, которая относится к природной
«каузальности», т. е. к самой возможности причинно-
следственного ряда, к способности «явления» заявить
о себе в восприятии субъекта, переводится именно
«действием», но когда дело касается «свободной при-
380
чинности», каковая возможна только благодаря
способности трансцендентального субъекта
«самопроизвольно начинать состояние» (и где самим мотивом
причинности становится лишь понятие, а не явление),
та же Handlung переводится «поступком».
Но насколько оправдано это концептуальное
разведение смыслов с точки зрения самого понятия
свободы, взятого в ракурсе ее понимания Хайдеггером?
Хайдеггеру важно подчеркнуть, что Кантова
практическая свобода — при всем нравственном пафосе ее
категорического императива — прочно связана со
свободой трансцендентальной, каковая, в свою очередь,
рассматривается в космологическом контексте и имеет
своим стержнем понятие спонтанной (или свободной)
причинности как возможности самопроизвольного
начинать новый причинно-следственный ряд, начинать
«состояние». Желая подчеркнуть связь двух «свобод»,
Хайдеггер приводит их определения, даваемые самим
Кантом.
«Под свободой в космологическом смысле я
разумею способность самопроизвольно начинать
состояние; следовательно, причинность свободы со своей
стороны не подчинена по закону природы другой
причине, которая определяла бы ее во времени», — пишет
Кант. «Следовательно, — делает вывод Хайдеггер, —
свобода — это способность к самоначалу {Selbstanfang)
какого-нибудь состояния. Свобода как абсолютная
спонтанность есть свобода в космологическом
понимании: трансцендентальная идея» [курсивы Хайдегге-
ра. - А. Ш\
Далее — свобода «в практическом смысле».
«Свобода в практическом смысле есть независимость воли
от принуждения импульсами чувственности», —
пишет Кант. Это — автономия воли,
самозаконодательство, но Хайдеггеру важно подчеркнуть, что автономия
есть «вид абсолютной спонтанности: последняя
очерчивает общую сущность первой». «Автономия, — про-
381
должает он, — возможна благодаря этой сущностной
черте абсолютной спонтанности. Если бы вообще не
было никакой абсолютной спонтанности, не было бы
и автономии. Автономия по возможности коренится
в абсолютной спонтанности, практическая свобода —
в трансцендентальной».
Да и сам Кант с этим согласен: «В высшей
степени примечательно, — пишет он в «Критике чистого
разума», — что практическое понятие свободы
основывается на... трансцендентальной идее свободы», и
далее признает, что «упразднение трансцендентальной
свободы вместе с тем уничтожило бы всякую
практическую свободу». С точки зрения Хайдеггера такое
признание может таить в себе роковые последствия.
В § 22 он еще раз подчеркивает, что у Канта свобода —
это не психологическая и не теологическая проблема,
а именно космологическая, т. е. решается в контексте
«мира».
«Проблема свободы возникает из проблемы мира,
или как проблема мира», — пишет он (мимоходом на
всякий случай отметим, что речь, конечно же, идет
о «мире» в его классическом метафизическом
понимании, а не о том «мире», который выявляется Хай-
деггером в «Бытии и времени» и к которому мы еще
вернемся). Но если дело обстоит именно так, если
свобода космологична, тогда можно сделать роковой для
нее вывод, который Хайдеггер и делает. «Если свобода
находится в контексте проблемы мира, — продолжает
он, — если мир означает совокупность и тотальность
явлений и их рядоположенность, а эмпирически
доступное единство явлений в их связности определено
причинностью, а именно причинностью согласно
природе, тогда свобода, принадлежащая проблеме мира,
сдвигается в теснейшую связь с природной
причинностью, причем даже в том случае, если свобода — как
особый вид причинности — отличается от
причинности природной. Ведь в этом случае ее отличие совер-
382
шается как раз по отношению к природной
причинности и то, по отношению к чему она отличается, все
равно дает о себе знать в этом различении».
И далее следует принципиально важный вывод:
«Короче говоря, свобода проистекает как особый модус
природной причинности. Если бы это было не так,
тогда не существовало бы никакой возможности постичь
ее как космологическую идею, т. е. как идею, сущ-
ностно связанную с природой, т. е. природной
целостностью».
В «Критике чистого разума» Кант, как он сам
заявляет, стремится «спасти свободу». «Если явления суть
вещи сами по себе, то свободу нельзя спасти, — пишет
он. — Природа в таком случае составляет полную и
самоё по себе достаточно определяющую причину
каждого события, а условие события всегда содержится
только в ряду явлений, которые вместе со своим
результатом необходимо подчинены законам природы».
Та же мысль преследует его и в «Критике
практического разума»: здесь он тоже говорит, что если «хотят
спасти» свободу, то «не остается ничего другого, как
приписывать... причинность по закону естественной
необходимости только явлению». И далее: «Если бы
поступки (Handlungen) человека, поскольку они
принадлежат к его определениям во времени, были
определениями человека не как явления, а как вещи самой
по себе, то свободу нельзя было бы спасти».
Канта страшит «явление» и «время» — ведь в них
торжествует жесткая феноменальная
причинно-следственная связь, в которой нет места свободе, а
точнее — «свободной причинности»: ее надо искать в
ноуменальной глубине, которая сокрыта в «вещи самой по
себе», а таковой, к счастью, оказывается и
трансцендентальный субъект, способный на "абсолютно
спонтанное действие как совершенно иную, неприродную
каузальность, а значит, и способный быть свободным.
«Ничто не мешает нам, — утверждает Кант, — припи-
383
сывать этому трансцендентальному предмету кроме
свойства, благодаря которому он является, также
причинность, которая не есть явление...». И дальше: «Этот
действующий субъект по своему умопостигаемому
характеру не был бы подчинен никаким временным
условиям, так как время есть условие только явлений,
а не вещей самих по себе».
Хайдеггер видит это решение, предлагаемое
Кантом, и обстоятельно рассматривает его. «Что
касается самоначинания какого-либо состояния... а именно
полного самоначинания, то оно... есть причинность,
совершенно отличная от природной каузальности,
совершенно иная каузальность, — соглашается он. — Кант
называет ее, а именно абсолютную спонтанность,
каузальностью из свободы». Хайдеггер согласен, что всего
этого нет в опыте, т. е. в осуществляющемся познании
наличной природы, и еще раз повторяет: «То, что мы
вкладываем в представление об абсолютной
спонтанности, находится за пределами эмпирического
доступного, превосходит его. Свобода как абсолютная
спонтанность есть трансцендентальная свобода».
Но устраивает ли Хайдеггера такое решение? Его
настораживает понимание трансцендентальной
свободы как свободной причинности. Почти в самом начале
рассматриваемого нами лекционного курса он говорит,
что Кант анализирует проблему свободы «в
перспективе причинности» и тут же добавляет:
«Единственная ли это перспектива для данной проблемы, есть ли
другая и даже более радикальная и какая именно —
все это мы пока оставляем совершенно открытым».
Тем не менее именно осмысление свободы как
причинности и дает понять, в чем именно кроется, с
точки зрения Хайдеггера, основной порок предлагаемого
Кантом решения проблемы свободы. Вспомним, что
проблема свободы рассматривается Кантом в космоло-
гичном контексте, и послушаем, что в этой связи
говорит Хайдеггер:
384
«Если вообще определение причинности
первоначально и в совершенно общем смысле ориентируется
по причинности, наблюдаемой в природе, причем под
природой подразумевается наличность вообще
наличного — будь то физическая наличность, психическая
или какая-нибудь еще — тогда тем самым
бытие-причиной в отношении своего способа бытия
опережающим образом охарактеризовано для всего дальнейшего
как бытие-наличным».
Здесь Хайдеггер выявляет ту самую роковую связь
причинности и наличности (Vorhandensein), которая,
по его мнению, и делает Кантово решение проблемы
свободы неудовлетворительным. Именно упомянутый
«способ бытия» как «бытия-наличным» и не дает
«спасти свободу» (чего, как мы помним, так хочется
Канту), а точнее говоря, именно этот способ оказывается
губительным для нее.
Ведь «если причинность определяется из свободы
в свете этого общего бытия-причиной, — продолжает
Хайдеггер, — тогда свобода и само бытие-свободным
применительно к своему способу бытия уходит в
основную характеристику бытия-наличным».
Мы видим, что это совершенно невозможно: ведь
«свобода, — продолжает Хайдеггер, — есть основное
условие возможности действующей личности как
поступающей нравственно». И далее следует
окончательный и непреложный вывод: «Поэтому получается, что
экзистенция человека через характеристику свободы
как причинности — хотя и как одного вида
причинности — все-таки принципиально понимается как
бытие-наличным и тем самым полностью превращается
в свою противоположность».
Словно оправдывая Канта, Хайдеггер
продолжает: «Можно было бы сказать: заостряя внимание на
инаковости причинности, понимаемой из свободы —
в сравнении с причинностью по природе — Кант, по-
видимому, все-таки хочет акцентировать и удержать
385
внимание на своеобразии нравственной личности —
в сравнении с природной вещью. Да, все так, и тут
совсем не надо спорить. Но этим намерением сама
проблема еще далеко не решена и даже только поставлена:
она как раз тем и задана, что бытие человека нельзя
определять как бытие-наличным».
Итак, понимание свободы как причинности, как
причинения в смысле порождения нового объективно
фиксируемого состояния, как будто вырывающегося
из природной причинно-следственной связи,
возможно только при том условии, что сущее предстает перед
субъектом как наличное (собственно, только поэтому
данное причинение и становится возможным, коль
скоро сам субъект мыслит себя своеобразным генератором
свободы, неким источником ее порождения как
фиксируемой объективации нового состояния). «Положение
дел по меньшей мере таково, — заключает Хайдеггер, —
что онтологически бытие человека не определено или
недо-определено, — недостаток, который — коль
скоро речь идет об основополагающем — имеет
принципиальное значение и потому не может быть устранен
путем какого-то последующего внешнего дополнения.
Кант к этому не приходит, ибо, несмотря ни на что,
привязывает проблему онтологии к проблеме
сущего qua наличного, а это, в свою очередь, происходит
потому, что общей проблемы бытия он не знает и не
раскрывает ее. Поэтому у Канта нет метафизической
почвы для проблемы свободы — в том кругу, внутри
которого он рассматривает ее под знаком понимания
свободы как причинности».
Получается, что, в конечном счете, Кант — по
крайней мере методологически — растворяет человека
в предметности, рассматривая его в рамках
классической метафизической онтологии, воспринимающей
объективирующее отчуждение как нечто само собой
разумеющееся. «Короче говоря, проблема свободы, и
свободы воли в особенности, — подытоживает Хайдег-
386
гер, — есть, по сути дела, общеонтологическая проблема
внутри онтологии наличествования наличного в самом
широком смысле».
Данный вывод усугубляется и тем, что такое на-
личествование оказывается изначальным и тотальным.
«Дело не выглядит так, — подчеркивает Хайдеггер, —
будто Кант, полагая бытие-свободным как особенность
разумного существа, это последнее затем [курсив
наш. — А. Ш.] рассматривает в горизонте
наличествования наличного: нет, само наличествование наличного
как таковое — природа и природное бытие —
раскрывает в себе проблему некоего „свободного действия".
Мы должны вернуться к этому всё разъясняющему
тезису Канта и поймать его на слове».
Да, наверное, здесь Канта можно поймать на
слове, но сейчас мы (для того чтобы сделать более четким
вырисовывающийся новый ракурс видения проблемы)
ловим на слове самого Хайдеггера, и слово это —
«экзистенция». Оно уже появилось в том отрывке, где
было сказано, что экзистенция, превратно
понимаемая как бытие-наличным, «полностью превращается
в свою противоположность»), и теперь оно
появляется еще раз. Установка на свободу как причинность —
пусть и спонтанную, но тем не менее осмысленную
по аналогии с природной причинностью — неизбежно
«опредметило» ее, не дав ей вырваться из сугубо
космологической проблематики.
«Становится окончательно ясно, —
подытоживает Хайдеггер, — что единство свободной
причинности и причинности по природе... является лишь
случаем общего космологически определенного соединения
двух причинностей. Тем самым сказано, что не только
свобода как таковая полагается как природное
понятие, но и свобода конкретного человека как
разумно-нравственного существа метафизически
предначертана из космологической проблематики. Если
бытие человека в его целостности и подлинности мы
387
охарактеризуем как экзистенцию, тогда получается
следующее: проблема человека включена в общую
космологическую проблему. Говоря еще острее, можно
сказать так: метафизико-онтологическая проблематика
экзистенции никак не прорывается наружу, но
подавляется общей и само собой разумеющейся бытийной
проблематикой, характерной для традиционной
метафизики».
Наверное, сказанного вполне достаточно, чтобы
под новым углом зрения взглянуть на тот переводче-
ско-терминологический вопрос, который мы
поставили выше: насколько оправдано концептуальное
разведение смыслов, которое мы видим в переводе термина
Handlung в русских текстах Канта («действие», когда
речь идет о природной причинности, и «поступок»,
когда дело касается «свободной причинности»,
порождаемой трансцендентальным субъектом)? Разумеется,
в контексте, намеченном Кантом, оно оправдано (ибо,
согласно Хайдеггеру, Кант не видит всего своеобразия
бытийного статуса субъекта), но теперь идет
напластование другого контекста, выдержанного в ином
концептуальном ракурсе, и здесь упомянутое разведение
сомнительно.
Если «метафизико-онтологическая проблематика
экзистенции никак не прорывается наружу», значит,
в том «поступке», который совершается «субъектом»
Канта, нет самого главного, что отличает экзистенцию:
нет трансцендирования. Ситуация как будто
парадоксальная: как можно отказать в трансцензусе
трансцендентальному субъекту? Но речь идет об
экзистенциальном трансцендировании, непреложным условием
которого является время, а горней обителью
трансцендентального субъекта, наоборот, предстает
вневременной ноуменальный мир. «Проблематика экзистенции»
не прорывается наружу, потому что за временем
сохраняется статус одной лишь априорной формы
чувственности, а не онтологического условия бытия суще-
388
го, умеющего как-то относиться к этому бытию, т. е.
экзистировать.
У Канта условием свободы является отсутствие
времени, у Хайдеггера, наоборот, время есть условие
свободы, ибо только так возможна экзистенция, а
значит, и свобода. Вспомним фразу из его лекции «Что
такое метафизика?»: «Без исходной открытости
Ничто нет никакой самости и никакой свободы», а ведь
Ничто возможно только при условии конечности,
каковая, в свою очередь, возможна при условии времени
(в «Пролегоменах к истории понятия времени» Хай-
деггер прямо заявляет, что «само Dasein есть время»).
Погрузившись в свою ноуменальную глубину, где
времени нет, трансцендентальный субъект стал постоянен
и, следовательно, наличен — как наличен и постоянен
предмет, не знающий самости, не ведающий о себе
самом и не знающий о своем собственном времени,
а если, условно говоря, и знающий о нем, то только
как о все том же постоянстве, характерном для
предметной данности. Оказавшись в ноуменальном мире,
он все равно, с точки зрения Хайдеггера, наличествует
как космологический субъект причинности, и когда —
преисполнившись нравственным пафосом
категорического императива, а точнее говоря, его совершенно
неэмпирическим долженствованием, Кант заявляет, что
такое «долженствование служит выражением
особого рода необходимости и связи с основаниями, нигде
больше во всей природе не встречающейся», все равно
получается, что у такого субъекта нет интенциональ-
ности, ибо он именно наличествует, а не экзистирует.
А если так, тогда и весь нравственный трансцензус
Кантова практического разума не является подлинным
трансцендированием: ведь — как заявляет Хайдеггер
в «Основных проблемах феноменологии» — «интен-
циональность есть именно то, в чем состоит транс-
ценденция, и ничто иное», а чуть ниже еще
решительнее добавляет, что интенциональность «есть именно
389
онтологическое условие возможности всякой трансцен-
денции».
По достоинству оценивая попытки Канта
осуществить «онтологическое разведение личности и вещи»
и анализируя очерченное им «бытийное устроение
личности как цели в самой себе» (такие формулы прямо
вынесены в заголовок целого подраздела упомянутых
«Основных проблем»), Хайдеггер тем не менее
категоричен в своем выводе: «Кант ясно видит
невозможность постигать Я как нечто наличное», но все-таки
«из истолкования Я как моральной личности мы не
можем почерпнуть никакого подлинного разъяснения по
поводу способа бытия Я», а точнее говоря, «личность
у Канта в своей основе понята как наличное... и он не
выходит за пределы онтологии наличного». Таким
образом, даже то своеобразное трансцендирование,
которое совершает personalitas moralis, не считающаяся
с законами жестко структурированного мира явлений,
все равно не вырывается из под ига наличествования
как способа собственного бытия.
Получается, что в намеченном нами ракурсе
Handlung, каковую совершает субъект Канта, это, увы, все-
таки «действие»: субъект действует, как действуют
законы природы, а не поступает. «Handlung
bedeutet schon das Verhältnis des Subjekts der Kausalität zur
Wirkung», — пишет Кант в «Критике чистого разума»,
и речь здесь идет о том, что Handlung «уже означает
отношение субъекта причинности к следствию». Но
какова в данном случае природа субъекта?
Комментируя данный тезис, Хайдеггер пишет: «„Subjekt"
bedeutet hier aber nicht etwa „Ich", „Selbst", „Person", sondern
soviel wie das schon-zugrunde-liegende Vorhandene, das
Ursache ist», т. е. «„субъект" же не означает здесь „Я",
„самость", „личность": он равносилен уже-лежащему-в-
основе наличному (das schon-zugrunde-liegende
Vorhandene), каковое есть причина» (а точнее говоря, всегда
наличествующая причина).
390
«Таким образом, — продолжает Хайдеггер, — то,
что, быть может, существует в человеке как не-приро-
да (Nicht-Natur) и что по своему бытийному
содержанию отличается от нее, все равно определяется так же
каузально, как и природа. Тот факт, что при этом
причинность модифицируется, ничего не меняет в том,
что именно причинность и только она в первую
очередь становится основной онтологической
характеристикой».
Итак, коль скоро Кантов «субъект» оказывается
таковым, т. е. приобретает черты своеобразной
субстанции, наличествующей вне времени, то получается,
что из той Handlung, которую он совершает, как будто
исчезает нравственная свобода, столь необходимая для
«поступка» как реализации свободного решения.
Хайдеггер не разделяет точку зрения, согласно которой
у Канта термин Handlung сущностно связан со
свободой. Он утверждает, что для Канта эта самая Handlung
«скорее название для действования вообще» (Wirken),
понимаемого в смысле природного действия.
В приводимом ниже отрывке мы переводим
Handlung «действием», поскольку в данном контексте
концептуальное звучание этого термина именно таково:
«Действие (Handlung) совсем не в первую очередь
связывается [у Канта] с нравственным поведением
(sittliches Verhalten) и нравственно-безнравственными
поступками (Tun) и только с ними, — оно не только не
связывается в первую очередь с поступками,
основанными на разуме или даже движении души: напротив,
оно соотносится со всем тем, что происходит в живой
и прежде всего в неживой природе. Этого постоянно
не замечали толкователи Канта, которые сразу
воспринимали действие (Handlung) как действие
нравственное, не учитывая того, что мы только что сказали.
Когда мы требуем не забывать об этом, мы не просто
призываем сообразовываться со словоупотреблением
Канта: на самом деле это имеет принципиальное значе-
391
ние. Если действие (Handlung) означает действование
(Wirken) вообще и в первую очередь рассматривается
в перспективе того, что происходит в природе, и в
ракурсе связности всего там происходящего, тогда и
понятие нравственного, свободного действия (Handlung)
(или «произвольного» — по любимому выражению
Канта) именно как действия онтологически
ориентировано на бытие в смысле налично данного, т. е. на тот
способ бытия, который никак не характеризует бытие
нравственно действующего существа, не
характеризует экзистенцию человека. В таком случае экзистенция
человека в ее способе бытия определяется
принципиально неверно или по меньше мере остается в роковой
неопределенности, как бы ясно и решительно — с
фактической стороны дела — экзистирующий человек как
нравственная личность, как сущее, ни отличался от
природных вещей. Для Канта действование (действие)
как Handeln (Handlung) равнозначно действованию
как Wirken (Wirkung)».
Однако когда Хайдеггер говорит, что в кантовской
Handlung слишком сильны физикалистские тона и
что она «никак не характеризует бытие нравственно
действующего существа», когда он подчеркивает, что
у Канта «свобода конкретного человека как разумно-
нравственного существа метафизически предначертана
из космологической проблематики» и, следовательно,
ее нравственный пафос в силу онтологической
недостаточности самой Кантовой концепции субъекта
никак не оправдан или сомнителен, речь, разумеется,
не идет о некоем сожалении по поводу того, что
нравственное начало (да еще в форме «принципа
всеобщего законодательства», как того требует Кантов
категорический императив) не удалось спасти.
Заглянув в «Бытие и время», мы найдем отрывки,
в которых вполне можно усмотреть скрытую
полемику с Кантом и где тот же термин Handlung и глагол
handeln предстают в концептуально иных контекстах.
392
«Бытие личности, — пишет Хайдеггер, — не может
сводиться к тому, чтобы быть субъектом разумных
поступков известной законосообразности». Кроме того,
он критически отзывается о «зове в смысле „всеобще"-
обязательного голоса, говорящего „не просто
субъективно"», и подчеркивает, что «эта „всеобщая" совесть
возводится в „мировую совесть", которая по своему
феноменальному характеру есть „оно" и „никто"».
Более того, такая «всеобщая совесть» (не напоминает
ли она только что упомянутый нами «принцип
всеобщего законодательства»?) связывается им с безликой
и по-своему тотальной и тоталитарной
повседневностью, с его знаменитым das Man. «Но эта
„публичная совесть" — что она другое, чем голос людей (das
Man)?» — спрашивает он.
Приведем два отрывка, в которых появляется
рассматриваемое нами handeln. В § 59 Хайдеггер пишет:
«Mit den erwarteten, eindeutig verrechenbaren Maximen
würde das Gewissen der Existenz nichts Geringeres
versagen als — die Möglichkeit zu handeln», т. е. «с
ожидаемыми, однозначно вычислимыми максимами совесть
отказала бы экзистенции не меньше чем в —
возможности поступать (handeln)». Мы видим, что здесь
онтологическим условием возможности «поступка»
является не что иное, как отсутствие какой бы то ни было
преднаходимости его ориентиров. Это звучит весьма
неожиданно и рискованно, особенно если вспомнить,
что, согласно Канту, воля в совершении поступка есть
«способность определять свою причинность
представлением о правилах».
Но что же в таком случае «размыкает» зов
совести? «Зов не размыкает ничего, что могло бы быть
позитивным или негативным... ибо имеет в виду
онтологически совсем другое бытие, экзистенцию...
Собственно, слышать зов значит ввести себя в фактичное
поступание» («Den Ruf eigentlich hören, bedeutet, sich
in das faktische Handeln bringen»). Итак, в обоих от-
393
рывках глагол handeln связывается с экзистенцией, и
значит, перед нами нечто иное, чем «поступок» Канта,
понимаемый как следствие нравственного суждения,
осуществленного субъектом. Хайдеггер пишет, что
в этом зове Dasein «зовет... само себя», оно «вызывает»
себя «к наиболее своей способности быть собой», а это
не обязательно нравственная максима, пусть даже
перерастающая в «принцип всеобщего
законодательства».
«Слышать зов значит ввести себя в фактичное по-
ступание» и даже просто ступание по тем зыбким и
темным водам экзистенциального трансцендирования,
где нравственная установка — к тому же притязающая
на всеобщность — не может быть непреложным
ориентиром. Кроме того, перед нами определенный парадокс:
взыскуя «наиболее своей способности быть собой»,
Dasein не может не трансцендировать, словно
устремляясь в этом поиске прочь от себя, но дело в том, что
само это трансцендирование и есть та самая «наиболее
своя способность быть собой», которую он так ищет,
причем прежняя установка здесь не может быть
определяющей, потому что Dasein, как мы уже говорили,
находится в онтологически ином измерении, отличном
от субъект-объектных отношений традиционной
онтологии, а именно в «бытии-в-мире» (In-der-Welt-sein).
Итак, мы видим, как выбранный нами вариант
перевода термина Handlung (а переводить мы его решили
«поступком», а не «действием») наполняется новым
содержанием. Теперь это не нравственный поступок,
а трансцендирующее экзистенциальное поступание, но
оно тоже требует концептуальной прорисовки,
благодаря которой мы сможем яснее понять природу
именно Хайдеггерова трансцендирования: ведь
трансцендирование, которое совершает Dasein, отличается от
трансцензуса, которое, например, осуществляет
Selbstsein Семена Франка. Мы не случайно упомянули это
имя, потому что Dasein Хайдеггера и Selbstsein Фран-
394
ка имеют много общего, и, проведя небольшой
сравнительный анализ того и другого, мы яснее увидим,
какова природа именно Хайдеггерова трансцендирова-
ния и той его Handlung, благодаря которой оно
совершается.
В своем «Непостижимом» Франк обстоятельно
анализирует вводимое им понятие
непосредственного самобытия, которое представляет собой перевод
его же термина unmittelbares Selbstsein (вспомним, что
первоначально «Непостижимое» было написано на
немецком, так что в русском тексте упомянутое Selbstsein
не выглядит неким одиноким «вкраплением», не
имеющим своего контекста).
Это сравнение будет тем интереснее, что оба
понятия действительно родственны: не слишком
преувеличивая, можно даже сказать, что
непосредственное самобытие Франка, т. е. его Selbstsein — это Dasein
на русской почве, и тем существеннее выявляющиеся
различия, которые помогают расширить
представление о Хайдеггеровой Handlung и уточнить ее перевод
на русский. Приведем хотя бы некоторые примеры
этого родства. «Существует лишь один словесный
оборот, — пишет Франк, — в котором выражается форма
непосредственного самобытия в ее
противоположности всему предметно-имеемому нами бытию. Это —
словосочетание „я есмь" или... просто слово „есмь". ...
Непосредственное самобытие есть форма „есмь" (Bin-
Form) бытия».
То же самое мы находим в § 12 «Бытия и времени»,
где дается характеристика Dasein в его модусе «бытия-
в-мире»: «Сущее, которому присуще бытие-в в этом
смысле, мы характеризуем как сущее, которое всегда
есмь я сам... Быть, понятое как инфинитив от „я есмь",
т. е. как экзистенциал, значит обитать при..., быть
доверительно близким с...».
Далее Франк пишет, что «„я" дано мне только в
составе конкретного „я есмъ", а это „я есмь'1 по существу
395
своему неповторимо и единственно в отношении всего
остального». В своей более поздней работе «Реальность
и человек» он еще острее выражает эту мысль: «Ничто
на свете, и даже сам Бог не может сделать меня
самого не единственным». Здесь опять не трудно увидеть
параллель с Хайдеггеровым Dasein, т. е. с тем
специфическим сущим, бытие которого «всегда мое» («Das Sein
dieses Seienden ist je meines») и которое словно распято
на своей Jemeinigkeit, т. е. всегда на себе самом
(«Dasein, — пишет Хайдеггер, — есть сущее, которое есть
всегда я сам...»).
Наконец, Франк пишет, что чистое, отрешенное
«познание» — не главное свойство
«непосредственного самобытия»: «Чистая познавательная интенция в...
форме незаинтересованности, безучастного созерцания
или констатирования есть в своей отрешенной форме
скорее исключительное и даже патологическое
состояние в составе функционирования непосредственного
самобытия». И далее: «С познавательной интенцией
обычно с самого начала связана... интенция „чувства"
и „хотения", интенция „интереса"». Как не усмотреть
здесь ту самую Besorgung, то «озабочение», которое
является основополагающим экзистенциалом в
определении природы Dasein? Ведь «само бытие Dasein
предстоит увидеть как заботу», — пишет Хайдеггер.
Здесь мы не можем продолжать перечень
родственных черт Dasein и Selbstsein, но, наверное, этого и не
требуется: важно увидеть, как каждое из них
совершает свое трансцендирование, коль скоро именно оно
отличает это сущее от прочих. И вот тут можно наметить
определенные различия.
Аргументом в пользу реальности трансцендирова-
ния, совершаемого Франковым непосредственным
самобытием, является, по Франку, соображение, которое
в «Непостижимом» — а точнее говоря, в главе с
характерным заголовком «Трансцендирование во-внутрь» —
выглядит следующим образом: «5 связующей, транс-
396
цендирующей силе „не" — в осознании собственной
ограниченности и недостаточности — уже само собой
непосредственно заключено отношение к иному,
обладание иным». Здесь везде — курсивы самого Франка,
но нам бы хотелось выделить курсивом слово
«осознание» («б осознании»), потому что именно здесь и
заключается тот методологический изъян, который
будет выявлен Хайдеггером (правда, в его полемике
с Гегелем).
Итак, «отношение к иному» (и даже «обладание
иным») дается путем «осознания собственной
ограниченности», причем тут же сразу сказывается
связующая сила этого осознания. Насколько убедителен
такой довод? Франк остается верен ему и десять лет
спустя — в своей книге «Реальность и человек», говоря
о том «слое первичной реальности», каковым является
«бытие субъекта», а точнее говоря, то же самое
непосредственное самобытие, то же самое Selbstsein, он
отмечает: «Дело в том, что этот слой по самому своему
существу немыслим иначе, как в связи с чем-то иным,
ему запредельным» [везде курсивы Франка. — А. Ш.\.
Здесь опять появляется «иное», и снова речь идет
о связи с ним, поскольку непосредственное самобытие
невозможно помыслить, не помыслив эту инаковость.
Трансцендирующая связь одного с другим достигается
актом помысленности.
На следующей странице дается резюме такого
трансцензуса: «Существо этого момента трансцен-
дирования состоит в том, что я не могу иметь „мое
собственное" бытие иначе, как часть или член бытия
вообще, выходящего за его пределы. Сознавать или
иметь границу и выходить за нее означает здесь одно
и то же».
И еще: «Когда я пытаюсь осознать, что именно я
под ним [«моим собственным бытием». — А. Ш.]
разумею, я не могу сделать это иначе, как ограничив его
от „всякого иного бытия"... Значит, я не мог бы иметь
397
моего собственного бытия, сознавать его как 1Гмое", не
имея (в каком-то ином смысле, но столь же первично)
этого „иного" бытия» [везде курсивы Франка. — Л. Ш.].
Итак, мы видим, что во всех отрывках именно
осознание предела есть условие возможности трансценди-
рования, поскольку «сознавать» значит уже
«выходить» в иное бытие и даже «иметь» его.
Для Хайдеггера, как мы увидим, такой ход мысли
не убедителен, но Франк сам еще более ослабляет его,
ссылаясь на Декарта: «Уже Декарт, — пишет он, —
найдя эту первичную реальность в лице субъекта мысли,
отметил это соотношение. Сознавая себя, свое „я",
ограниченным, я тем самым знаю о безграничном и
имею его». Однако, как мы уже сказали, для
Хайдеггера такая аргументация не убедительна и вот
почему: «Знание о конечности [или об «ограниченности»,
если не отступать от терминологии Франка. — А. Ш.]
не является залогом того, что знающий субъект — на
основании этого знания и через него — существует как
бесконечный», — говорит он во фрейбургских
лекциях 1929 года, посвященных немецкому идеализму По
существу, аргумент, используемый Франком, — это
аргумент не только Декарта, но и Гегеля, который, с
точки зрения Хайдеггера, строит на нем всю свою
философию.
«Гегель говорит, — продолжает Хайдеггер, — что
мы совсем не можем рассуждать только о конечном
человеческом разуме, так как, делая это, мы уже
выходим за пределы конечности и знаем о бесконечном —
ведь в противном случае мы не могли бы осмысленно
говорить о конечности. Поскольку мы знаем об этом
пределе, мы уже за ним. Эта аргументация молчаливо
лежит в основе всей философии Гегеля».
Но теперь получается, что она лежит и в основе
аргументации Франка и его понимания природы транс-
цендирования. «Итак, если мы знаем свои пределы, —
продолжает Хайдеггер, — тогда конечность становится
398
бесконечностью. Да, но совсем другой вопрос,
существуем ли мы за этими пределами, коль скоро знаем
о них. Таково ли это знание о бесконечности, что оно
уже говорит о бытии-за пределами (Hinaus-sem),
таково ли оно само, что, как знание (в отношении
своего способа бытия) покидает наше существование и
принимает существование бесконечного? Да, мы — за
пределами познанного нами конечного, но — в своем
знающем бытии-за — мы все-таки не существуем как
некое бесконечное. И если мы утверждаем обратное,
значит, мы совсем не видим проблемы».
Но в чем же она заключается? В том, что
подлинный онтологический статус традиционного
«субъекта» не выявлен: такой упрек Хайдеггер обращает не
только к Декарту, но также к Канту, Гегелю, да и ко
всей метафизической философии. В уже
упоминавшихся нами «Основных проблемах феноменологии»
он прямо заявляет, что «и Декарт, и философы после
него проглядели и пропустили способ бытия субъекта,
причем так, что никакая диалектика духа не смогла это
упущение отменить».
Почему, собственно? Потому что осознание, которое
во всех приведенных нами отрывках, так акцентирует
Франк, усматривая в нем необходимое условие транс-
цендирования как выхода к некоему более широкому
бытию, на самом деле настоящего трансцензуса не
осуществляет. Ведь осознание своей ограниченности,
совершаемое субъектом, равно как и его самосознание
«есть только модус схватывания себя, но никак не
первичное само-размыкание», а если это так, если в таком
«трансцендировании» саморазмыкания не происходит,
то, следовательно, и само трансцендирование — не что
иное, как просто акт помысленности, реально ничего
не открывающий и никуда не влекущий.
В самом акте помысленности, который нечто
полагает перед собой, всегда неизбежно со-полагание, и
помысленность чего-то конечного или ограниченного
399
сама по себе просто невозможна без подспудного со-
мыслия о бесконечном и безграничном.
«Почему эта аргументация воспринимается как
нечто самой собой разумеющееся? — спрашивает Хай-
деггер. — Дело в том, что наше собственное бытие мы
прежде всего и единственно понимаем как сознание,
понимаем в том смысле, что Я — это res cogitans и что
знания как сознания достаточно для описания бытия.
На самом же деле знание может быть таким, каково
оно есть, только на основании его собственной
самости, которая, в свою очередь, должна определяться как
бытие. Да, этому бытию свойственна открытость, но ее
надо понимать только из того специфического
способа бытия, который характерен для вот-бытия {Dasein).
Аргумент, согласно которому знание о пределах уже
есть бытие-зя-пределами, имеет смысл только при
допущении, что Я — это прежде всего сознание.
Фундаментальный же вопрос о самом бытии совсем не
ставится. Знание о конечности не является залогом того,
что знающий субъект — на основании этого знания
и через него — существует как бесконечный. Может
быть, знание о конечности еще острее указывает на его
собственную конечность».
Мы уже сказали, что ссылкой на Декарта
приведенный аргумент Франка не усиливается, а
ослабляется: Хайдеггер по меньшей мере дважды (в
«Пролегоменах к истории понятия времени», т. е. в 1925 году,
и в «Бытии и времени», т. е. два года спустя)
обращается к этому философу, чтобы на примере его
философствования показать, что его «бытие» — это бытие
объективированной «природы», а говоря шире —
«бытие» постоянно наличествующей предметной
данности, возникшей в результате «теоретической
объективации», по сути дела производной, — производной от
того, что для самого Декарта остается незримым, ибо
«бытия-в-мире», того самого «In-der-Welt-Sein», на
котором утверждается все Хайдеггерово «Бытие и вре-
400
мя», Декарт, согласно Хайдеггеру, не видит. В
«Пролегоменах» Хайдеггер прямо заявляет, что такой взгляд
Декарта положил начало «роковому сужению»
проблематики бытия, а в «Бытии и времени» добавляет,
что «принципиальная онтологическая ориентация на
бытие как постоянную наличность» привела
опять-таки к «сужению вопроса о мире до вопроса о природной
вещности (Dinglichkeit)» и что такая картезианская
онтология остается «обычной» и сегодня.
Мы, конечно, не можем сказать, что и Франк не
видит того онтологического измерения, каковым
является «бытие-в-мире»: выше мы уже говорили, что в его
«Непостижимом» это измерение достаточно хорошо
описывается. «Мы действительно обладаем бытием...
прежде чем наш взор на него направлен»; это бытие
надо как-то «увидеть, не глядя»', «это измерение бытия
таково, что его содержания и проявления кажутся нам
непонятным образом одновременно и бесконечно
удаленными от нас, и лежащими в самом интимном
средоточии нашей жизни» — во всех этих словах Франка
нельзя не усмотреть того das Nächste, о котором пишет
Хайдеггер, т. е. того «самого близкого», которое
существует «способом неприметности» и которое и есть
«бытие-в-мире» — неприметное и непредметное:
неприметное потому, что оно непредметно и наоборот.
Однако мы уже отмечали, что трансцендирование,
которое, находясь в этом «неприметном»
онтологическом измерении, осуществляет Франково
«непосредственное самобытие», существенно отличается от
трансцензуса, совершаемого Хайдеггеровым Dasein.
Хайдеггер согласен с тем, что «этому бытию
свойственна открытость», но весь вопрос в том, куда, собственно,
оно открыто, т. е. в направлении чего совершается его
трансцендирование?
У Франка, как мы помним, то «иное», которое
открывается в ходе трансцендирования, оказывается
«бытием вообще», «общим бытием» — одним словом,
401
именно «бытием». Но так ли это в концептуальном
ракурсе Хайдеггера, если еще раз вспомнить, как именно
это «бытие» достигается у Франка? Оно обретается
в результате осознания собственной ограниченности и
одновременного со-мыслия безграничного бытия, ибо
одно просто немыслимо без другого. Однако в том же
«Непостижимом» Франк говорит, что «„мыслить"...
означает иметь что-либо как
сверхвременно-тождественное единство, как определенное, неизменное „нечто
такое"». Но тогда получается, что помысленное «иное»,
а именно то самое взыскуемое «бытие», мыслясь
именно таким образом (а иначе его вообще нельзя
помыслить), приобретает черты не просто «сущего», но даже
некоей вневременной предметности, напоминающей,
как это ни странно, Кантову ноуменальную запредель-
ность как нечто предметно наличествующее.
Такое «бытие» можно помыслить только при
условии его вневременной самотождественности и
постоянства, а такими чертами, по Хайдеггеру, обладает
то самое наличное бытие, которое лишено живой
экзистенции, пронизанной временем. Условием транс-
цендирующего осознания, о котором говорит Франк,
является момент вневременного схватывания, которое
всегда чревато уловлением лишь предметно наличного.
Значит, увидев эту опасность, надо избегать транс-
цензуса, который оборачивается столкновением с
предметной данностью, и двигаться в направлении чего-то
непредметного, а таковым — даже в «рабочем», чисто
методологическом смысле — оказывается Ничто. Но
Франк против Ничто. «„Ничто", взятое в абсолютном
смысле как нечто сущее по себе, немыслимо и ничего
не означает», — заявляет он.
Итак, Ничто «немыслимо»? Но ведь это не
аргумент против него. Сама формула Франка внутренне
противоречива: можем ли мы говорить о Ничто как
о «нечто», да еще и «сущем»? Зачем мы выставляем
такие условия его мыслимости, да и вообще какие-ли-
402
бо условия? Ведь сам Франк только что сказал нам,
что «„мыслить"... означает иметь что-либо как
сверхвременно-тождественное единство, как определенное,
неизменное „нечто такое"», а под эту
характеристику Ничто не подпадает. Точнее говоря, оно подпадает
под нее, если — в согласии с тем, что сейчас сказал
Франк — мыслится как некая голая предметность,
лишенная всякого содержания, некий «черный квадрат»
(как результат нашего умственного отрицания всей
тотальности сущего).
Но все дело в том, что само Ничто не возникает
впоследствии — в результате чисто логической
операции отрицания сущего, каковую операцию может
совершить субъект: нет, оно «само ничтожит» («Das
Nichts selbst nichtet»), т. е. совершает себя самоё, не
будучи следствием предметно-логического отрицания
как действия интеллектуальной воли этого субъекта.
Более того, «отрицание, — продолжает Хайдеггер, —
есть лишь вид ничтожащего поведения, которое
заранее уже опирается на ничтожение Ничто», и это так,
потому что «Ничто первоначальнее, чем Нет и
отрицание», и сама возможность отрицания как раз и дается
этим Ничто.
Мы заблуждаемся, считая, что можем «вызвать» его
путем отрицания всего сущего. Ничто, как говорится,
находится не в нашей воле, и, вызвав его упомянутым
логическим отвержением всей совокупности сущего,
мы — быть может, с ужасом — обнаружим, что
именно оно само и позволило нам это сделать. Отрицая его,
мы, так сказать, пользуемся его же оружием: говорим
«нет», каковое «нет» его, как говорится, не устрашает,
ибо в нем оно узнает себя самоё. Если же,
отталкиваясь от его немыслимости, мы скажем, что тем самым
«Ничто не существует», то такой аргумент будет лишь
говорить в его пользу: да, оно не существует, но ему
и не надо существовать — это противоречило бы его
сути (в «Первоначалах философии» уже упоминав-
403
шийся нами Декарт пишет, что «у небытия не может
быть никаких атрибутов, свойств или качеств», и ему,
наверное, показался бы странным разговор о некоем
«ничтожении» как небытийном качестве Ничто).
Хайде!тер вполне согласился бы с Франком в том,
что «Ничто немыслимо» — в той же лекции он
говорит: «Мышлению, которое по своей сути всегда есть
мышление о чем-то, поистине пришлось бы, занявшись
продумыванием Ничто, действовать вразрез с
собственной своей сутью». Однако трансцендирование,
которое осуществляет его Dasein, совершается не в
ракурсе предметно ориентированного мышления, и тут
получается, что — после всего сказанного о роковой
и почти онтологической исходности Ничто — в
своем трансцендирующем «поступке» (Handlung) Dasein
словно уступает ему. Но иначе и быть не может: если
самобытие (Selbstsein) Франка, предстает, как он
пишет, «в направлении „во-внутрь" или „вглубь" не
запертым, а напротив, открытым» (и открытым той
«реальности», которая «как таковая, во всей своей
полноте и широте, как бы проступает в непосредственном
самобытии»), то Dasein, будучи так же «открытым»
(«да, этому бытию свойственна открытость», — пишет
Хайдеггер), открыто, увы, не в сторону «реальности»,
а в направлении Ничто («Без исходной открытости
Ничто нет никакой самости и никакой свободы»), и
тут невозможно то пере-ступание, которое возможно
у Франка.
Оно возможно потому, что его трансцендирование
держится на подспудном единстве двух полюсов, и
потому оно не так драматично, как трансцендирование
у Хайдеггера. «К существу непосредственного
самобытия необходимо принадлежит... трансцендирование,
выхождение за пределы самого себя, переход через
границы своей собственной области бытия», —
пишет Франк. И далее существенное продолжение: «Ибо
лишь когда оно овладевает чем-то иным и как бы
404
льнет, прилипает или прикрепляется [курсив наш. —
А. Ш.] к чему-либо иному, оно приобретает прочную
основу». И в другом месте: «Непосредственное
самобытие... всегда укоренено в неком высшем — или более
глубинном — бытии и им питается [курсив наш. —
А. Ш.]».
Итак, «овладевает», «льнет», «прикрепляется»,
«питается», — всего этого в трансцендировании Хай-
деггерова Dasein, конечно же, не происходит. Здесь,
напротив, говорится об «ужасе в смысле
отшатывания, на который настраивает человека бездна ничто»,
о «сущностном ужасе как отшатывании от бездны», об
«отшатывании перед бездной», каковой оказывается
Ничто. Dasein отшатывается от Ничто, но и Ничто его
не принимает: между этими полюсами нет той
«дружественности», которую мы видим в
трансцендировании Франка: «Ничто не затягивает в себя, — пишет
Хайдеггер, — а сообразно своему существу отсылает от
себя». Но, наверное, иначе не может и быть, ибо любое
затягивание оборачивалось бы превращением Ничто
в нечто сущее и к тому же сродное тому сущему,
которое оно затягивает: ведь только на такой основе можно
помыслить само «затягивание», которое более уместно
в трансцендировании Франка. Ничто же, будучи, так
сказать, верным своему существу, не принимает Dasein,
а отталкивает его к «ускользающему сущему в целом».
Можно сказать, что трансцендирование не удалось,
а если и удалось, то самоубийственным образом: транс-
цендируя в направлении Ничто, Dasein никак не может
«питаться» им (в отличие от непосредственного бытия
Франка, которое, как мы помним, «питается» «более
глубинным бытием»). Не будучи никаким сущим,
Ничто позволяет в таком поступке трансцендирования
лишь уступать ему — оно ничем не питает Dasein и
даже наоборот: само Dasein платит за это
парадоксальное онтологическое причащение к Ничто — и платит
своим умалением и убыванием, т. е. своей конечностью.
405
Может ли Франк принять такой трансцензус?
Разумеется, нет. «„Экзистенциализм" Гейдеггера, —
пишет он в трактате «Реальность и человек», — открыв
необозримую полноту своеобразной реальности в
составе внутреннего бытия человека (его „Existenz"),
утверждает все же ее конечность и замкнутость в себе.
...Но именно это воззрение в корне несостоятельно».
Франк так считает, исходя из своего понимания транс-
цендирования, декартовско-гегелевский прием
которого мы уже рассмотрели. Нам же придется повторить,
что в трансцендировании Хайдеггера Dasein все-таки
уступает Ничто — и происходит это по меньшей мере
по двум причинам. Во-первых, Ничто изначально:
«Только на основе изначальной явленности Ничто», —
пишет Хайдеггер, — Dasein способно «подойти к
сущему и вникнуть в него». Можно даже сказать, что Ничто
фундирует Dasein: ведь «без исходной открытости
Ничто, — продолжает Хайдеггер, — нет никакой самости
и никакой свободы», каковые, как известно, даже не
свойства Dasein, а его модусы бытия. Во-вторых, «не
будь наше присутствие {Dasein) в основании своего
существа трансцендирующим, т. е. ... не будь оно заранее
[курсив наш. — А. Ш.] всегда уже выдвинуто в Ничто,
оно не смогло бы стать в отношение к сущему, а
значит, и к самому себе».
Итак, «изначальная явленность», «исходная
открытость», «заранее выдвинуто», — все это говорит об
одном: Ничто конститутивно по отношению к Dasein,
оно словно вычерчивает своим железным резцом его
онтологические контуры, и конечность Dasein
становится его, так сказать, геральдическим
опознавательным знаком. «Мы настолько конечны, — пишет
Хайдеггер, — что... никак не можем собственным
решением и собственной волей поставить себя перед
лицом Ничто». После таких слов совершенно очевидно,
что Ничто никоим образом не результат
интеллектуально-волевого рационального отвержения всей цело-
406
купности сущего, совершаемого субъектом. Ситуация
парадоксальная: при всем ужасе, который переживает
Dasein (ведь, как говорит Хайдеггер, «ужасом
приоткрывается Ничто», а не как-то иначе), это же Dasein не
может не быть благодарным этому ужасу — как
своеобразной онтологической предпосылке обретения себя
самого.
Но так ли уж тогда безысходна та «конечность»,
которую не принимает Франк? Чем оборачивается
столь явная онтологическая немощь трансцендирую-
щего Dasein? Несмотря на весь мрачный пафос «ни-
чтожащего Ничто» Хайдеггер не склонен утверждать,
что перед нами совершенно «нигилистическое ничто»,
некое nihil negativum. В послесловии к лекции «Что
такое метафизика?» он пишет: «Ничто как Другое
[всему] сущему есть завеса бытия». Поначалу возникает
искушение, прочитав эти слова в метафизическом
ракурсе, «разорвать завесу» и по привычке устремиться
к запредельному и вневременному «бытию», но такое
трансцендирование не станет радостным по меньшей
мере по двум причинам.
Во-первых, Хайдеггер пишет, что «опыт бытия как
Другого всему сущему дарится ужасом», т. е. тот ужас,
которым, как мы читали, «приоткрывается Ничто»,
никуда не исчезает, более того: «Ясная решимость на
сущностный ужас — залог таинственной возможности
опыта бытия». Пусть так, но что за бытие
обретается столь дорогой ценой? Не будучи логической
абстракцией и совершая себя самоё, Ничто не дает
утвердиться никакой метафизической вневременности,
делая бытие конечным и в этом делании словно
сливаясь с ним. «„Чистое бытие и чистое ничто... одно и то
же", — пишет Хайдеггер. — Этот тезис Гегеля вполне
правомерен. Бытие и Ничто взаимопринадлежат друг
другу, однако не потому, что они — с точки зрения
гегелевского понимания мышления — совпадают по своей
неопределенности и непосредственности, а потому, что
407
само бытие в своем существе конечно и
обнаруживается только в трансценденции выдвинутого в Ничто
человеческого бытия».
Итак, во-вторых, упомянутое трансцендирование
не станет радостным потому, что за «завесой» его
ожидает конечное бытие, а не метафизическая вневремен-
ность. Но и это еще не все: поскольку конечность этого
бытия обнаруживается «только в трансценденции
выдвинутого в Ничто человеческого бытия», т. е. в
рассматриваемой нами трансценденции Dasein,
получается, что круг замкнулся, и мы вернулись к исходной
точке, где Dasein трансцендирует в направлении
Ничто, не рассчитывая ни на какие обретения.
Ухватившись за образ «завесы», можно было бы
сказать, что у Франка этой завесы нет, что он сразу
пере-ступает в «общее бытие», а не идет тяжелым
путем трансцендирования через Ничто, через уступание
его властному ничтожению — и потому его
трансцендирование слишком прозрачно и несколько поспешно.
Это, наверное, так, но получается, что завесы нет и
у Хайдеггера, коль скоро Ничто и бытие оказываются
тождественными, и опыт Ничто в нем же самом
оказывается опытом бытия, хотя, правда, такого бытия,
встреча с которым требует — как и при трансцендиро-
вании в Ничто — расставания со всем сущим.
При таком тождестве этот опыт не может не быть
парадоксальным. «Мы настолько конечны, что никак
не можем собственным решением и собственной волей
поставить себя перед лицом Ничто» («So endlich sind
wir, daß wir gerade nicht durch eigenen Beschluß und
Willen uns ursprünglich vor das Nichts zu bringen
vermögen»), — эту фразу Хайдеггера мы уже приводили,
но сразу за нею идет следующая, которая как будто
противоречит первой: «So abgründig gräbt im Dasein
die Verendlichung, daß sich unserer Freiheit die eigenste
und tiefste Endlichkeit versagt», т. е. «в такие бездны
нашего бытия въедается эта ограниченность концом, что
408
в подлинной и безусловной конечности нашей свободе
отказано» (перевод Вл. Бибихина).
Ничто «въедается» (в буквальном переводе
«копает», «роет» — gräbt) в Dasein столь сильно, что словно
«откапывает» в нем отсутствие всякого основания
(abgründig), открывает бездну (Abgrund), но тем самым —
свободу, причем осознание этого всегда приходит
задним числом. В этом драматическом трансцендиро-
вании в направлении Ничто сокрыт парадоксальный
онтологический трагизм: чем конечнее Dasein в своем
трансцендирующем убывании, тем оно самостнее и
свободнее (вспомним еще раз: «Без исходной
открытости Ничто нет никакой самости и никакой свободы»).
«Бытие Dasein выступает в качестве собственного [т. е.
подлинно своего] не вопреки, но вследствие своей
конечности...», — подтверждает Гадамер.
Таков парадокс, рождающийся из упомянутого
экзистенциального тождества бытия и Ничто. Мы
конечны, но не конечна наша свобода, и не конечна она
именно в силу нашей конечности. Можно было бы
сказать, что — по причине этого головокружительного
тождества — сама свобода становится неким
бытийным основанием Dasein — более того, она
становится основанием самого бытия, а не порождением воли
субъекта, но мы не отважились бы на такое
утверждение, если бы не строки самого Хайдеггера. Позволим
себе привести относительно пространный отрывок из
§ 14 рассматриваемого нами лекционного курса «О
существе человеческой свободы», из которого также
станет ясно, почему этот заголовок, несмотря на якобы
частную проблему, заявленную в нем, не
противоречит своему решительному подзаголовку — «Введение
в философию».
«Существо свободы только тогда улавливается
нашим взором, когда мы ищем его как основу возможности
вот-бытия, ищем как нечто такое, что предшествует
бытию и времени. <...> Проблема свободы не встроена
409
в ведущий и основной вопрос философии, но как раз
наоборот — ведущий вопрос метафизики основывается на
вопросе о существе свободы. <...> В основе
каузальности, движения, вообще бытия лежит свобода. Свобода
совершенно не есть нечто особенное среди прочего, она
не стоит в ряду с чем-то другим: свобода вне ряда и
властно проникает собою целое в целом. Но если нам
надо искать свободу как основу возможности вот-
бытия, тогда она сама в своем существе оказывается
исходнее человека. Тогда человек — лишь
распорядитель свободы, лишь тот, кто свободу свободного делает
свободой выпавшим ему на долю способом (in der ihm
zugefallenen Weise)... Теперь человеческая свобода —
это уже не свобода как свойство человека, но
наоборот: человек как возможность свободы. Человеческая
свобода есть свобода постольку, поскольку она
прорывается в человеке и берет его на себя, таким образом
делая его возможным. Если свобода — это основание
возможности вот-бытия, если она — корень бытия и
времени и тем самым — основа понимания бытия во
всей его широте и полноте, тогда человек, в своей
экзистенции основывающийся на этой свободе и в этой
свободе, есть то место и возможность, в которых и
которыми раскрывается сущее в целом, и он же есть то
сущее, через которое сущее в целом как таковое
проговаривает себя и так выговаривает» [везде курсивы
Хайдеггера. — А. Ш.].
Итак, «человеческая свобода — это уже не
свобода как свойство человека, но наоборот: человек как
возможность свободы», которая прорывается в нем и
прорывается из той безосновности, из того Abgrund,
который разверзается благодаря трансцендированию
Dasein в Ничто. Мысль о несубъектной свободе
появляется не раз. В докладе «О существе истины» читаем:
«Человек не „обладает" свободой как свойством — как
раз наоборот: свобода... раз-утаивающее вот-бытие
владеет человеком, причем столь исходным образом, что
410
лишь она наделяет человечество тем отношением,
которое одно только обосновывает и отличает всякую
историю, — отношением к сущему в целом как
таковому Лишь эк-зистирующий человек историчен. У
„природы" нет никакой истории». (Вспомним в этой связи
доклад «Вещь»: «Только человек умирает. Животное
околевает. У него нет смерти ни впереди, ни позади
него».)
И еще раз — из этого же доклада: «Свобода как
существо истины — не свойство человека: наоборот,
человек эк-зистирует лишь как собственность
(Eigentum) этой свободы». И уже в 1953 году, в лекции
«Вопрос о технике» Хайдеггер повторяет эту мысль:
«Существо свободы исходно связано не с волей, тем
более не с причинной обусловленностью
человеческой воли». Здесь опять нельзя не усмотреть явной
полемики с Кантом: ведь он как раз пишет о «свободе
как свойстве [ноуменальной] сущности», о «свободе
как свойстве нашей воли», и — после всего
сказанного о торжестве наличного в онтологии Канта (который,
как мы помним, «не выходит за пределы онтологии
наличного») — получается, что субъект порождает
начало нового причинно-следственного ряда (т. е. Кан-
тову «свободу») примерно так же, как физический
закон порождает начало движения. Понятие
свободы как свободной причинности говорит о том, что
субъект самочинен в своем причинении свободы: Кант
пишет, что деятельная ноуменальная сущность
«самопроизвольно начинает свои действия в чувственно
воспринимаемом мире».
Итак, подытоживая столь пространную
концептуальную прорисовку термина «поступок» (который
в силу неизменности корня и естественной
префиксальной вариативности позволяет концептуально
обыгрывать появляющиеся смыслы), можно еще раз
сказать, что субъект Канта не поступает, а почти фи-
зикалистски действует (именно с точки зрения Хай-
411
деггерова понимания природы субъекта),
непосредственное самобытие Франка уверенно — в силу его
изначально предполагаемого сродства с «общим
бытием» — вступает в общение с ним (а оно, в свою
очередь, как пишет сам Франк, «проступает в
непосредственном самобытии»), тогда как Dasein Хайдеггера,
трансцендируя в Ничто и переживая сопутствующий
этому ужас, словно уступает Ничто, парадоксальным
образом — в силу своей нарастающей конечности —
становясь все более свободным, а точнее — становясь
«собственностью» самой свободы.
Но можно ли мыслить свободу вне
субъективности? Можно ли осмыслять ее как некое онтологическое
качество бытия или даже само бытие? Именно к этому
и призывает Хайдеггер но, словно предвидя всю
трудность такого начинания, говорит, что оно возможно
в том случае, если «мы готовы изменить мышление»
(«daß wir zu einer Wandlung des Denkens bereit sind»).
Впрочем, нам не придется его изменять, если мы будем
помнить, что во всем сказанном о «человеке»
(свобода «исходнее человека», «свобода — не свойство
человека» и т. д.) речь идет не как о Кантовом и вообще
новоевропейском субъекте с его стремлением самому
«создать» свободу, а о Хайдеггеровом Dasein,
онтологическое измерение которого — «бытие-в-мире».
Здесь нельзя ставить вопрос о каком-то внешнем,
причиняющем воздействии на «волю» Dasein, равно
как нельзя говорить и об индетерминизме по
отношению к такому специфическому сущему, каковым
является Dasein. Прибегая к традиционной философ-
ско-метафизической терминологии, мы просто
навязываем новому онтологическому видению старый
метафизический ракурс, в котором смысловой ландшафт
основополагающего для Хайдеггера экзистенциала
«бытия-в-мире» («In-der-Welt-sein») неизбежно
искажается. Dasein ни свободно, ни несвободно в прежнем
понимании свободы, жестко сопряженном с понятием
412
субъекта и категорией причины; его онтологический
статус — не субъект, который или претерпевает
воздействие внешней причины, или сам является Кантовой
спонтанной причинностью, и потому здесь
невозможно прочертить траекторию прежнего
субъект-объектного отношения.
Именно в онтологическом измерении «бытия-в-
мире» свобода, осмысляемая как бытие,
собственностью (Eigentum) которого является человек, не
выглядит как просто гипостазированное понятие, ибо сама
возможность гипостазирования заранее
предполагает наличие субъект-объектных отношений, которых
здесь нет.
Впрочем, «онтологизация» свободы, которая
становится возможной благодаря все тому же трансцен-
дирующему уступанию Dasein (коль скоро Dasein —
не новоевропейский субъект, совсем не склонный
уступать природе и миру, но, наоборот, настроенный
весьма деятельно), — эта «онтологизация» имеет свою
«гносеологическую» параллель.
Из § 44 «Бытия и времени» становится ясно, что
наше истинностное высказывание (как свойство
нашего суждения) вторично по отношению к исходной
истине бытия: «Не мы пред-полагаем „истину", но это
она — та, которая делает онтологически вообще
возможным, что мы способны быть таким образом, что
мы что-то „пред-полагаем". И еще отсюда же:
«Присутствие {Dasein) существует „в истине". У этого
высказывания онтологический смысл».
Двумя годами ранее, в уже упоминавшихся нами
«Пролегоменах к истории понятия времени» Хайдег-
гер пишет: «Познание — это не действие,
производимое некоторым сущим, которое еще не „имеет"
никакого мира и свободно от какого бы то ни было отношения
к своему миру: познание — это всегда определенный
способ бытия вот-бытия (Dasein), фундированный
в его уже-бытии-при мире».
413
Итак, Dasein — «собственность» свободы, ибо
никакой другой почвы, никакого другого «основания»
у него нет. На последних страницах своей работы
«О существе основания» Хайдеггер пишет: «Свобода
как трансценденция есть не просто особый „род"
основания, но источник основания вообще. Свобода есть
свобода для основания». И чуть ниже: «Свобода есть
основание основания».
Итак, подытоживая, можно сказать, что мы как
будто имеем дело с каким-то странным
онтологическим бессилием Dasein: оно не может «собственным
решением и собственной волей поставить себя перед
лицом Ничто» (и даже не может отвергнуть его, ибо
само Ничто и является условием возможности такого
отрицания), его суждение об истине возможно только
при условии, что сама истина делает «онтологически
возможным» нашу способность быть в состоянии
истинностного высказывания, наконец, оно свободно
потому, что сама свобода в своем существе оказывается
исходнее человека и, не будучи свойством его воли,
делает возможным его самого.
Однако при всем том — а точнее говоря, именно
в силу всего этого — в своем столь драматическом
трансцендировании Dasein обретает тот единственный
дар, который стоит всего остального, — обретает
самого себя во всей своей онтологической неповторимости.
«В начале нашего лекционного курса, — пишет
Хайдеггер, — когда мы приступали к названному
в теме как к какой-то наличной вещи среди прочих,
мы смотрели на человека как на сущее среди сущего:
крохотное, хрупкое, бессильное, мимолетное, какой-
то маленький уголок во вселенной сущего. Теперь же,
когда мы смотрим на человека из самой основы его
существа, из свободы, нам становится ясно нечто
огромное и чудесное: человек существует как то сущее, в
котором явлено бытие сущего и тем самым — оно само
в целом. Он есть то сущее, в самом собственном бытии
414
которого и в сущностной основе совершается
понимание бытия. Человек так огромен, как никогда не может
быть огромен Бог, потому что ему пришлось бы быть
совсем иначе».
Нельзя устоять перед силой этого захватывающего
апофеоза, но каково его онтологическое условие? «Это
огромное, — продолжает Хайдеггер, — которое мы
тут действительно знаем и которое суть мы сами,
может быть таковым лишь будучи самым конечным (das
Endlichste)».
Итак, огромное даруется конечностью — в тех
бездонных водах подлинного трансцендирования, не
забегающего вперед в своем метафизическом стремлении
найти твердую почву, а просто помнящего, что
умереть — не безликий закон, а онтологическая
привилегия, да и сама смерть — не равнодушная и всеохватная
неизбежность, а судьба, дарованная лишь тебе одному.
А. П. Шурбелёв
Мартин Хайдеггер
О СУЩЕСТВЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СВОБОДЫ