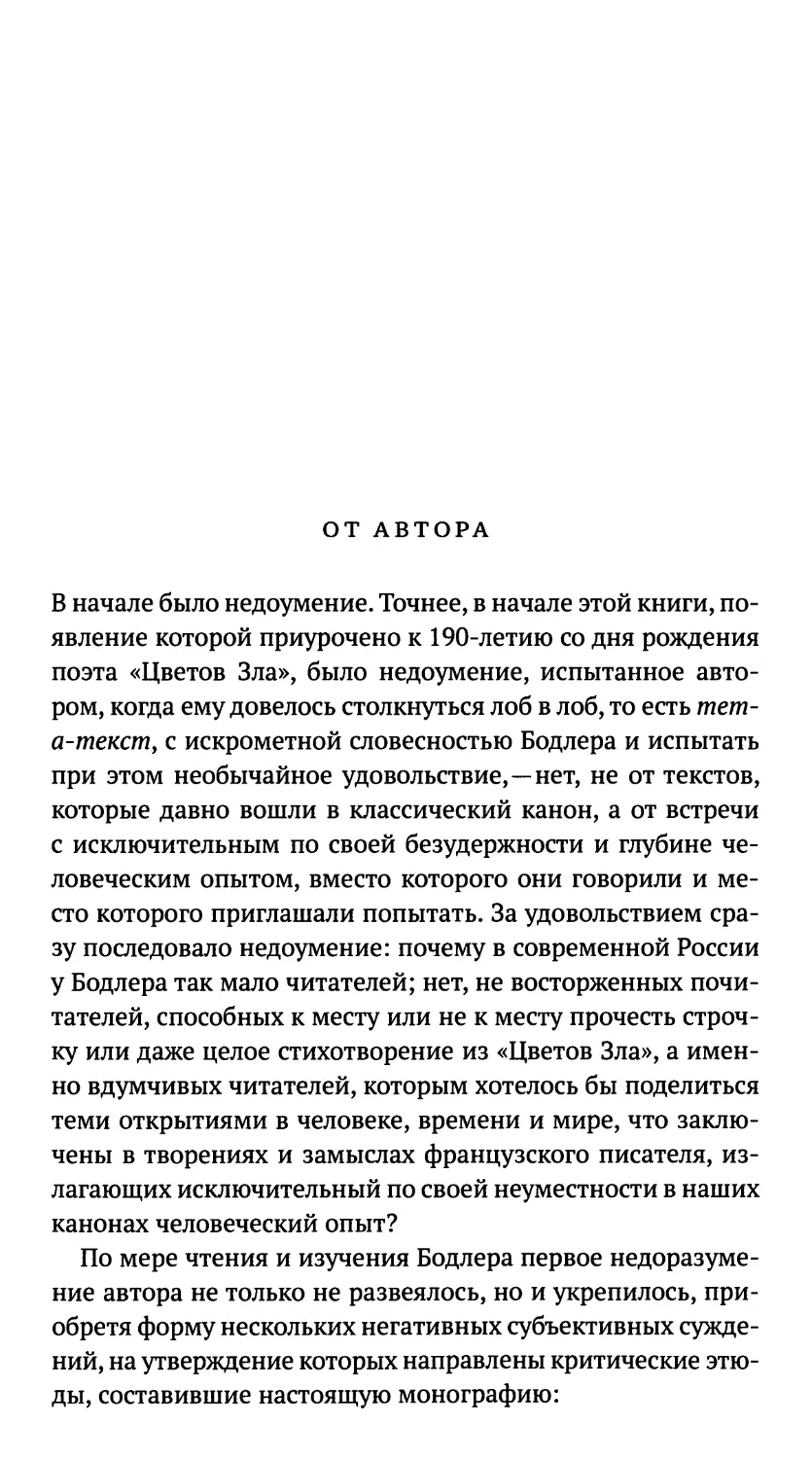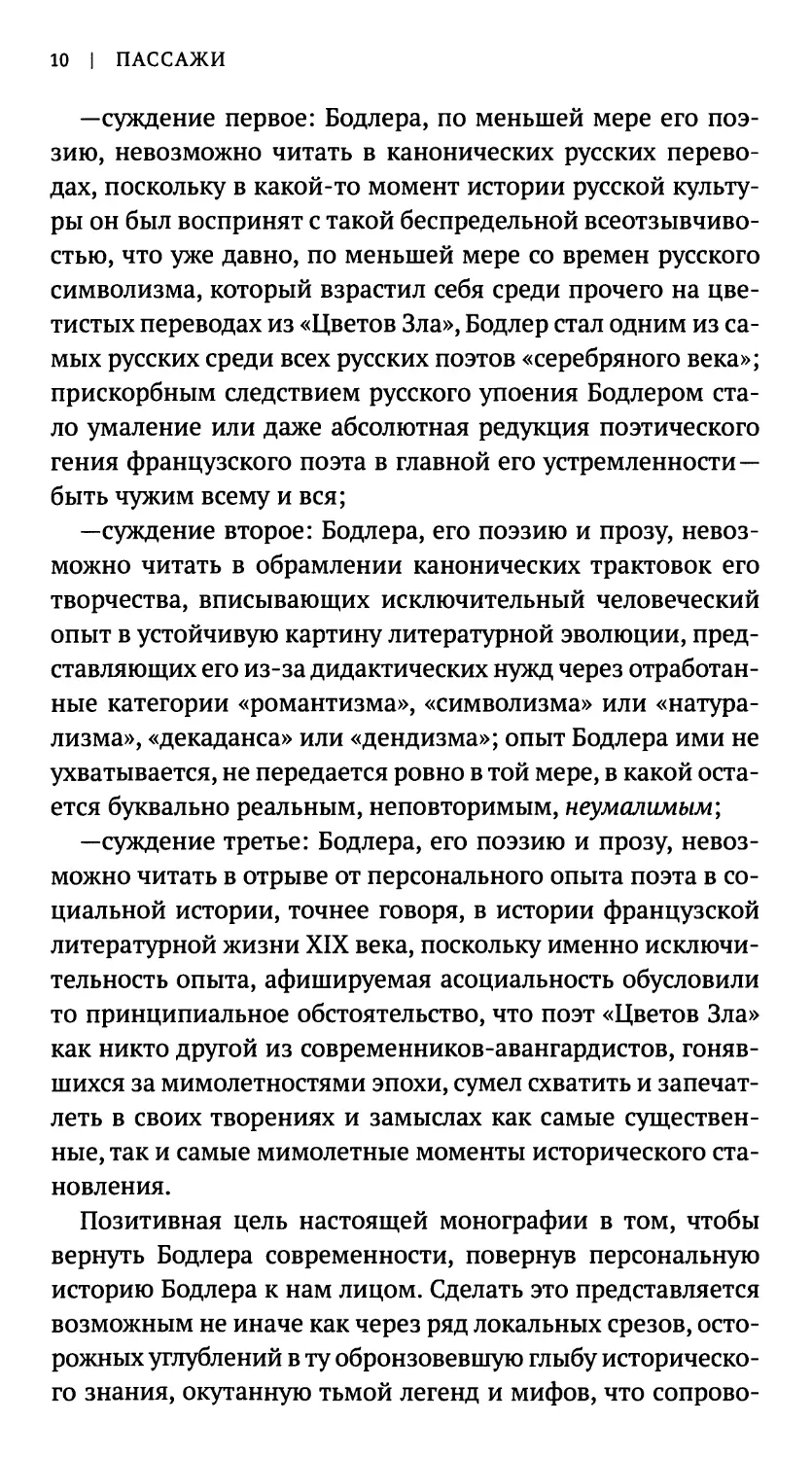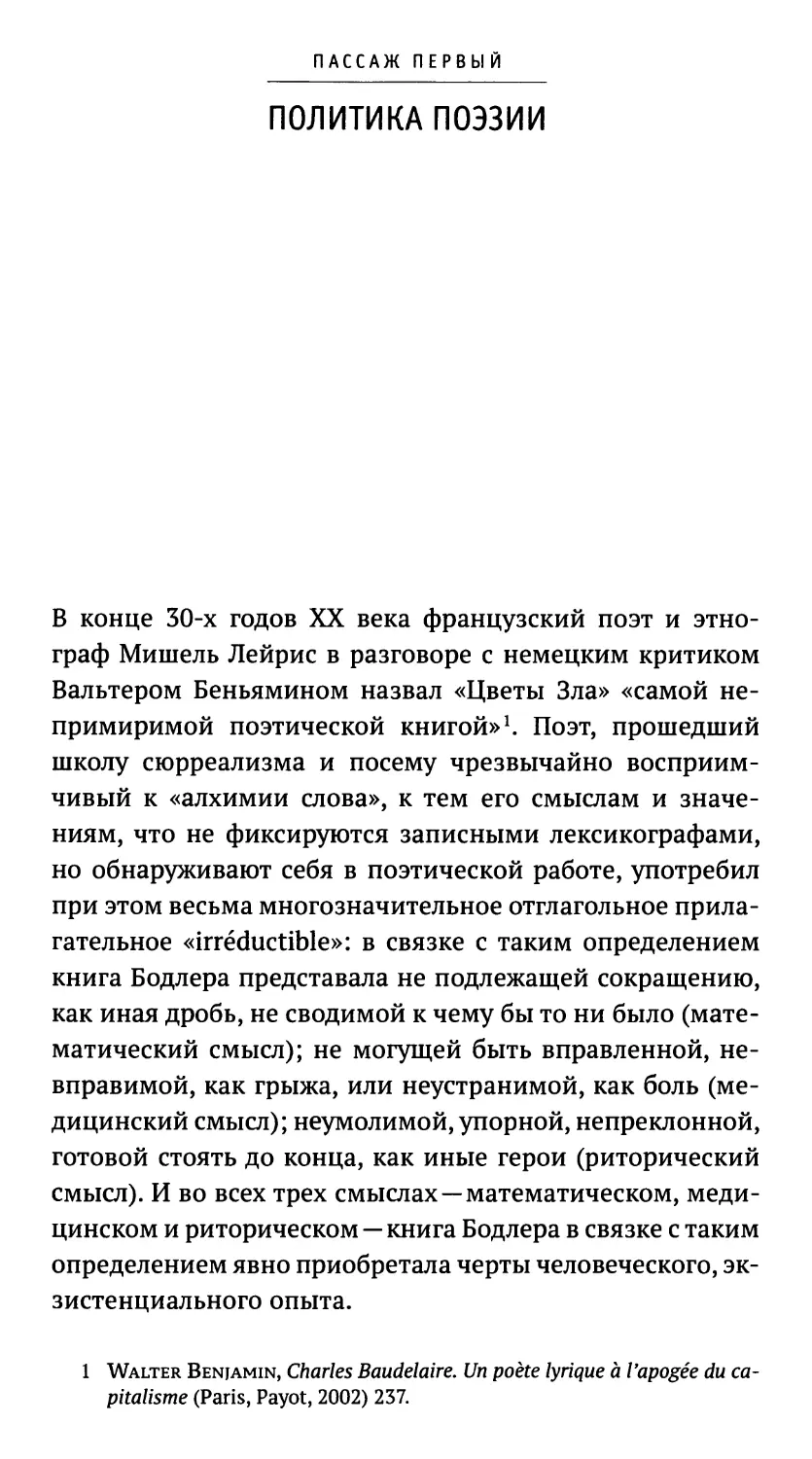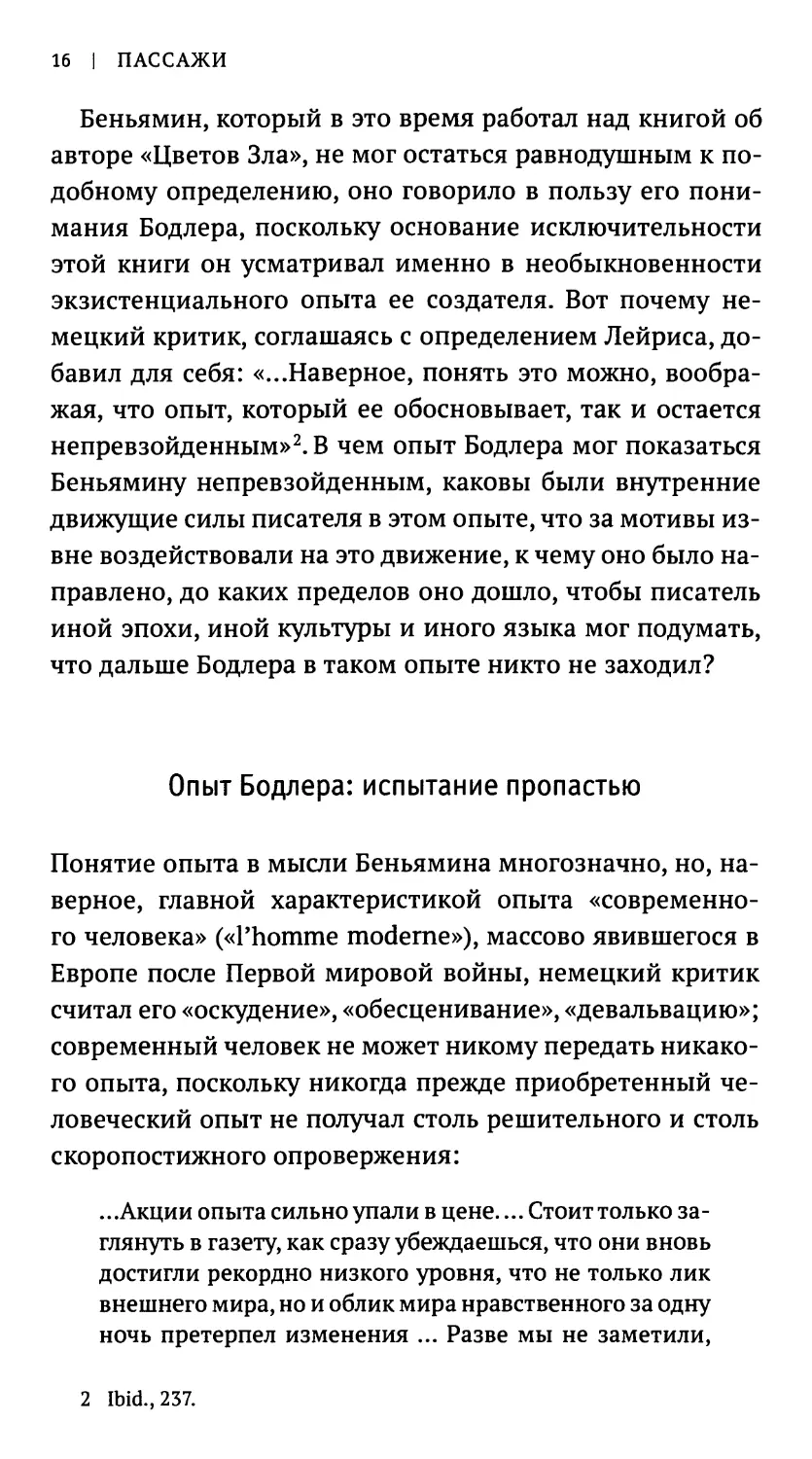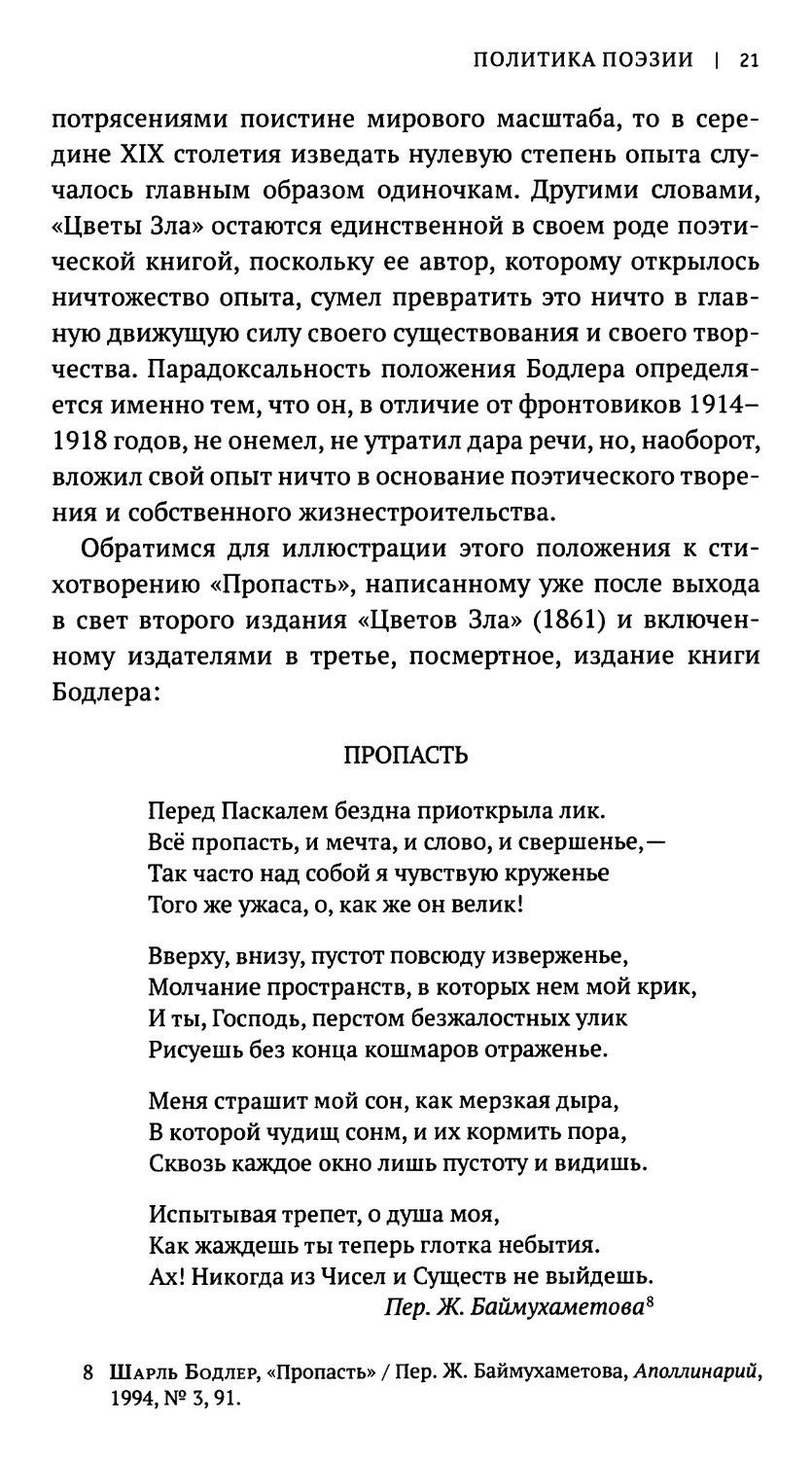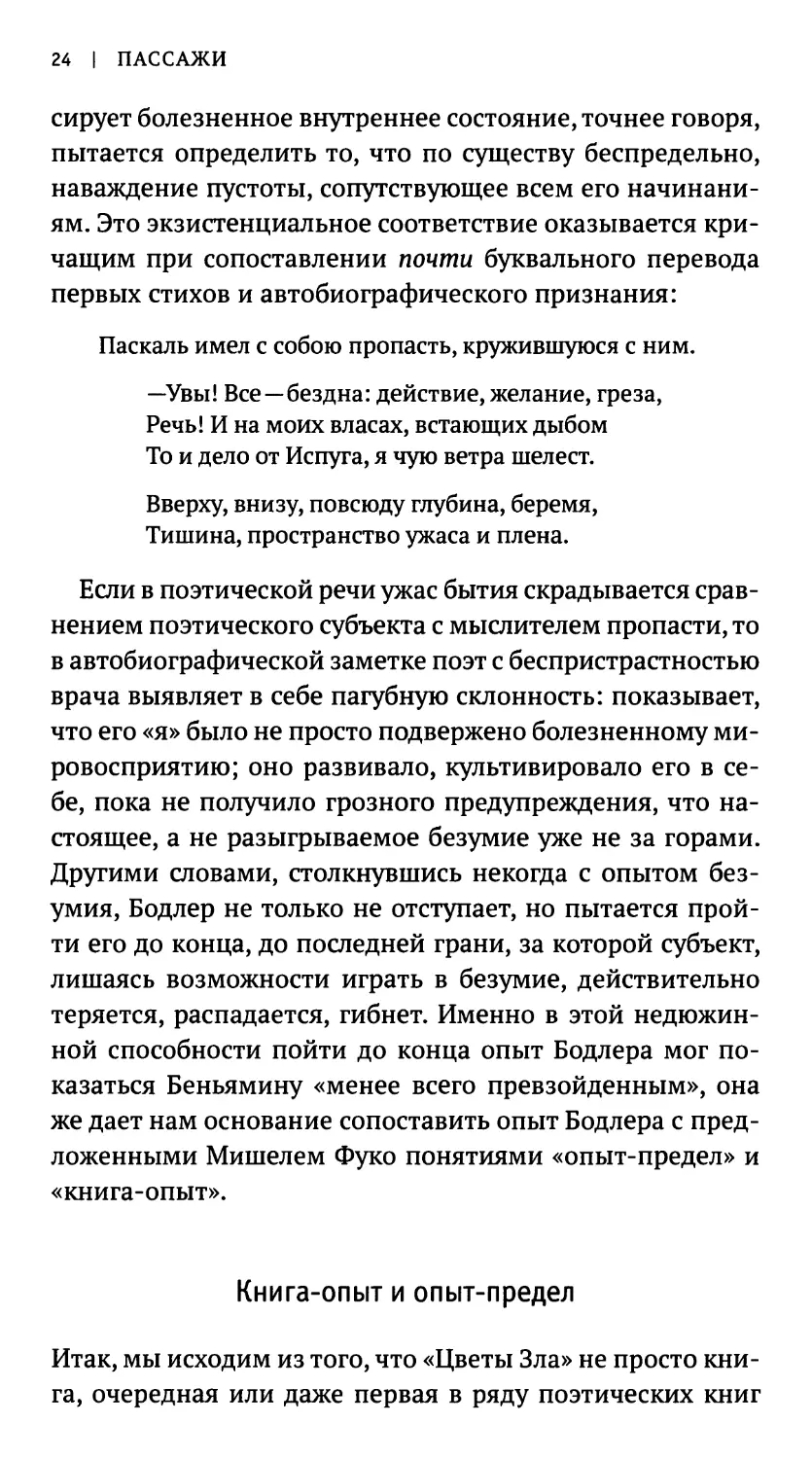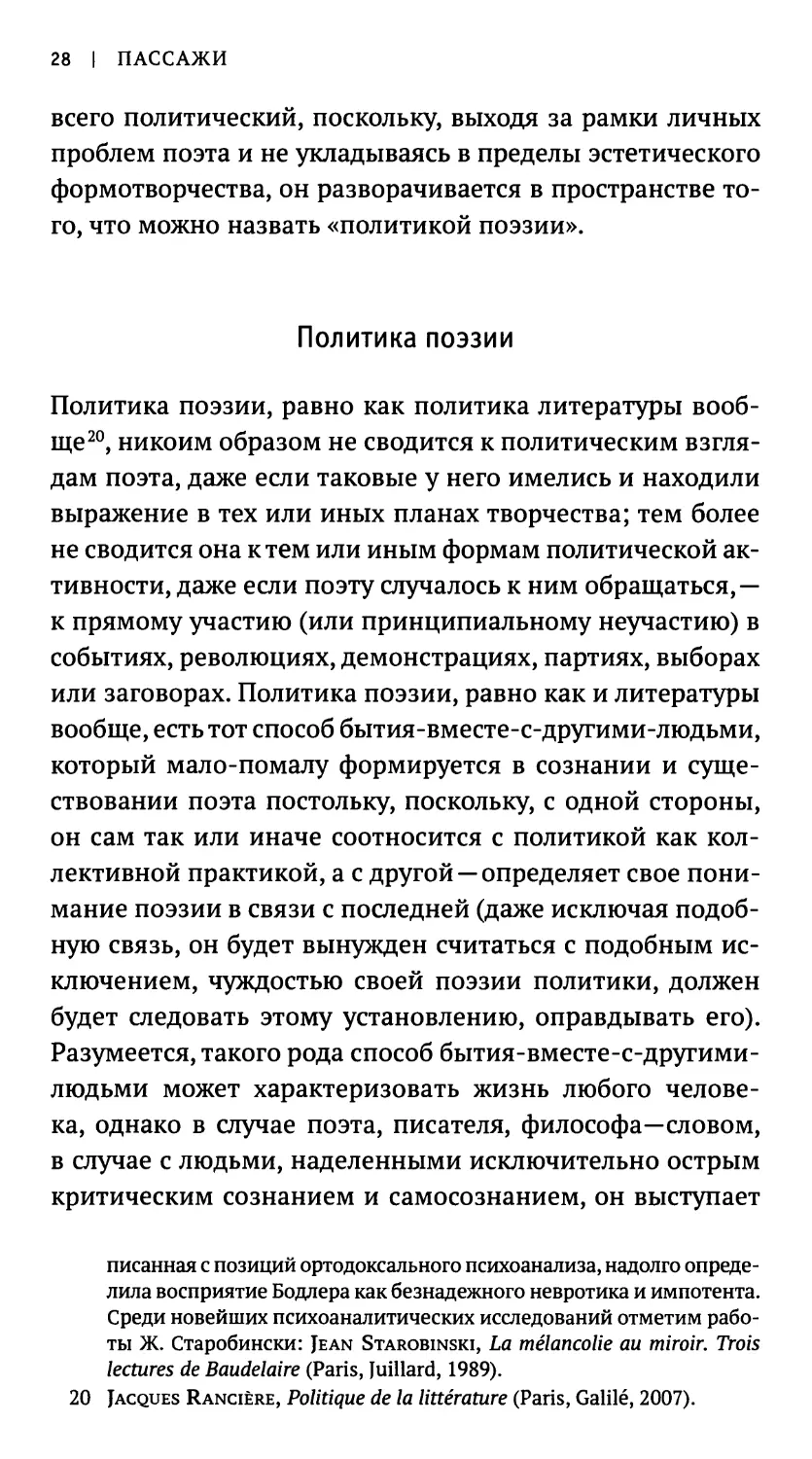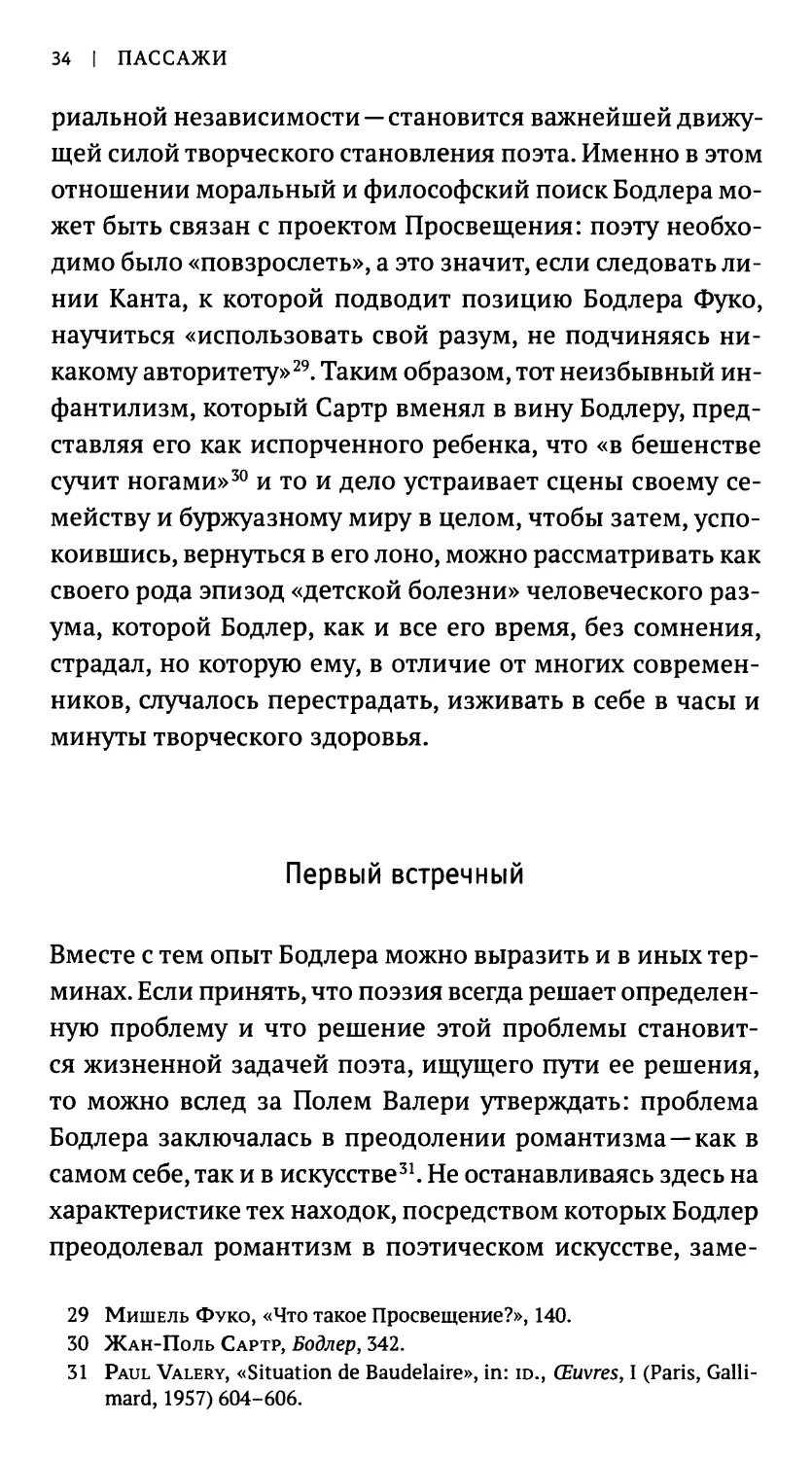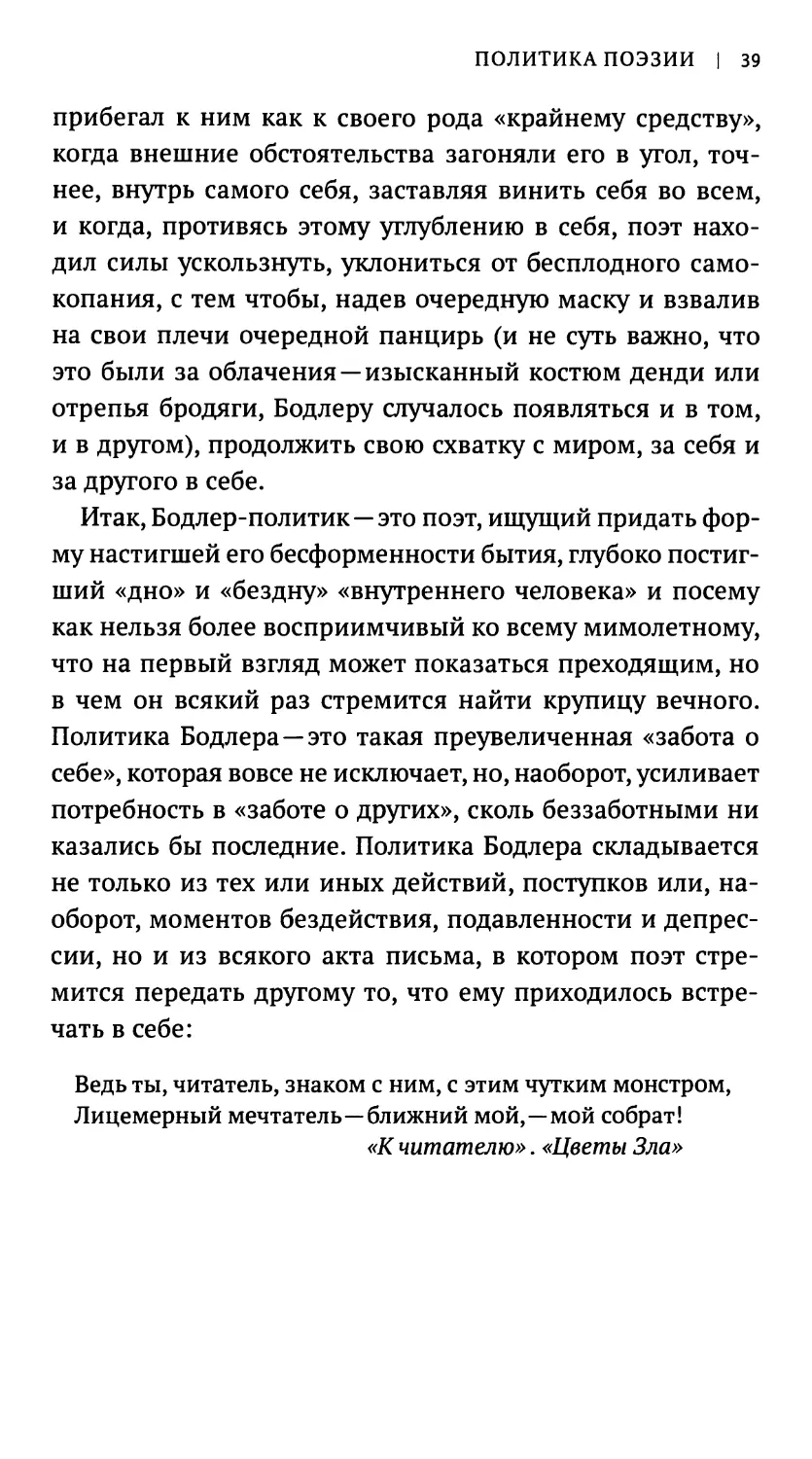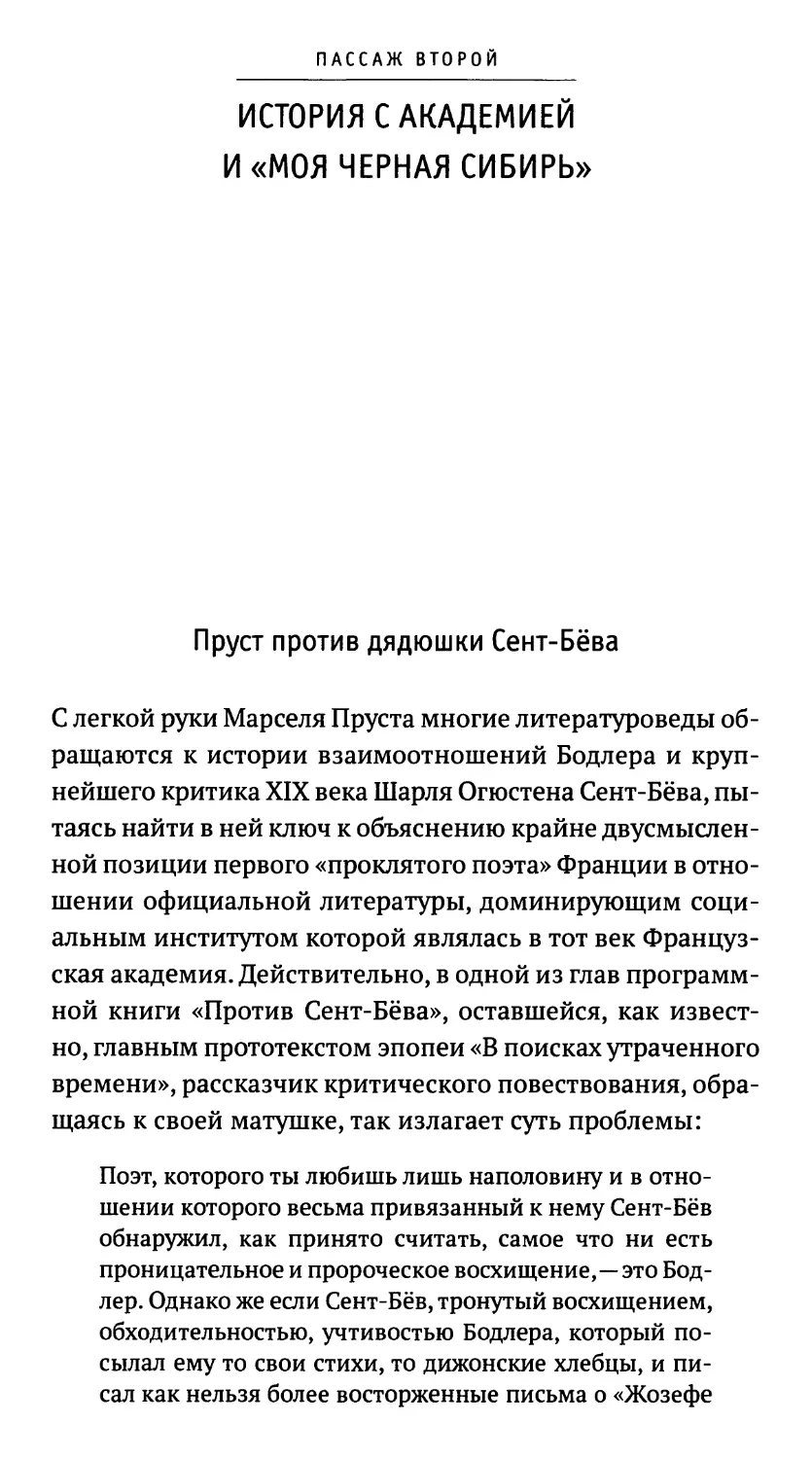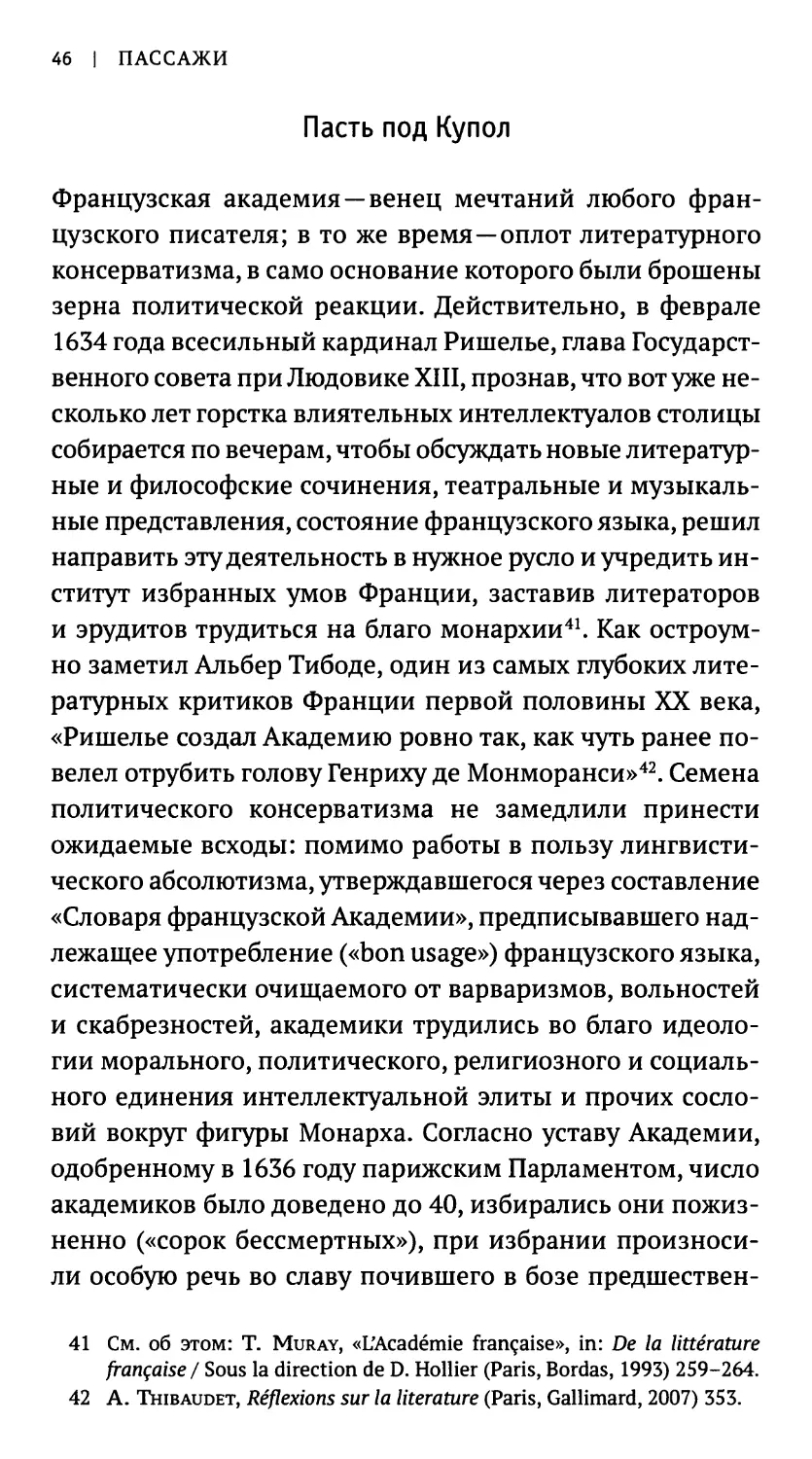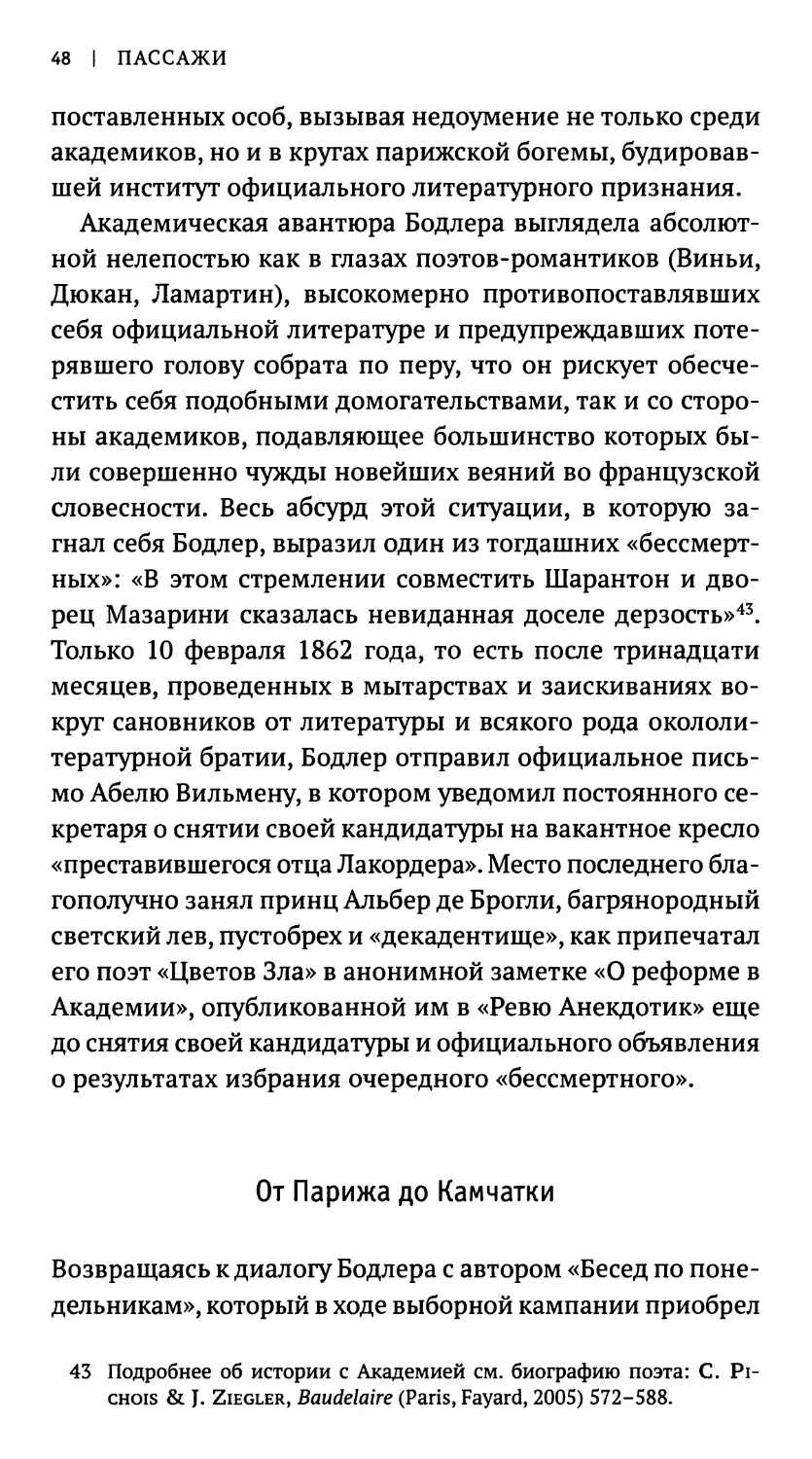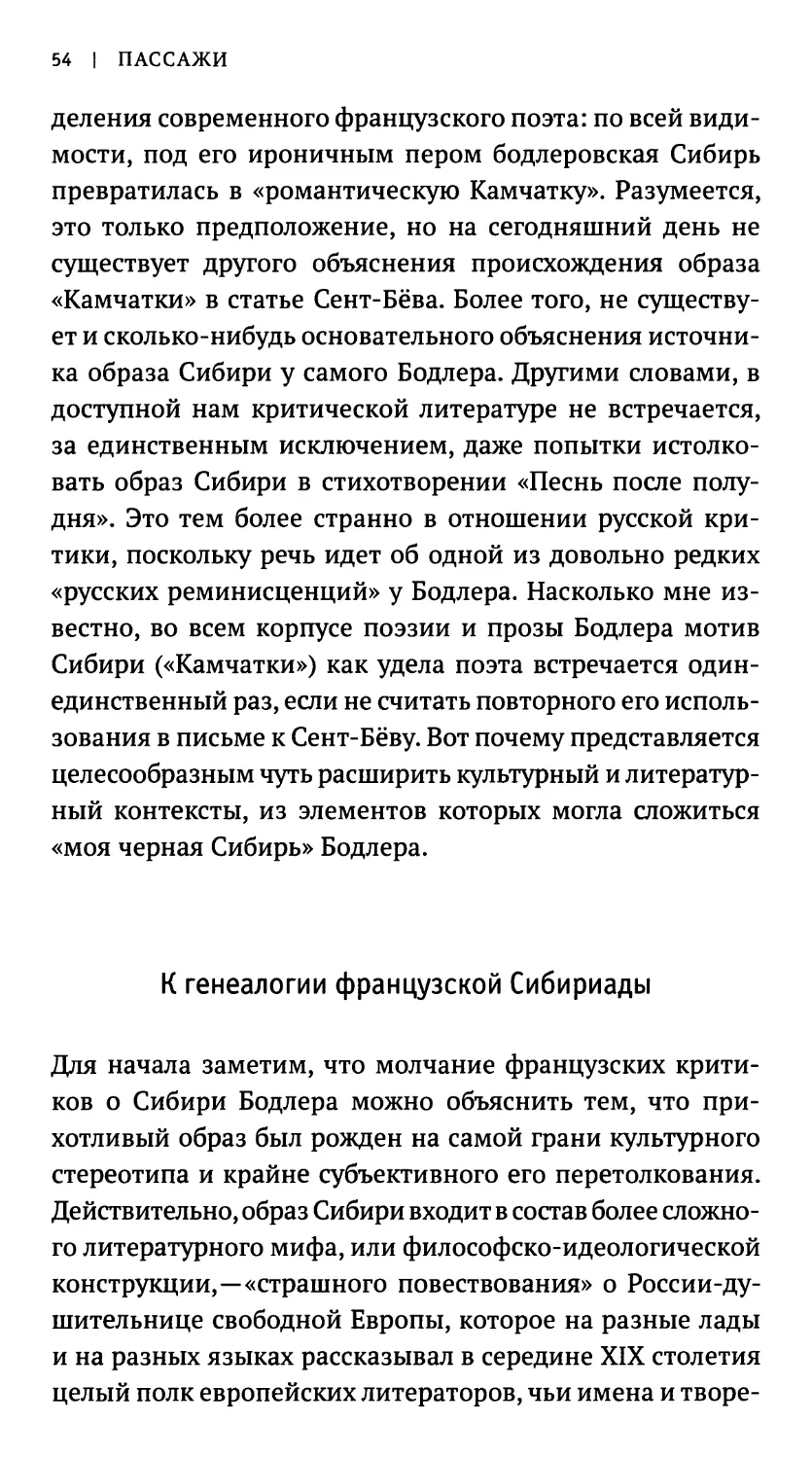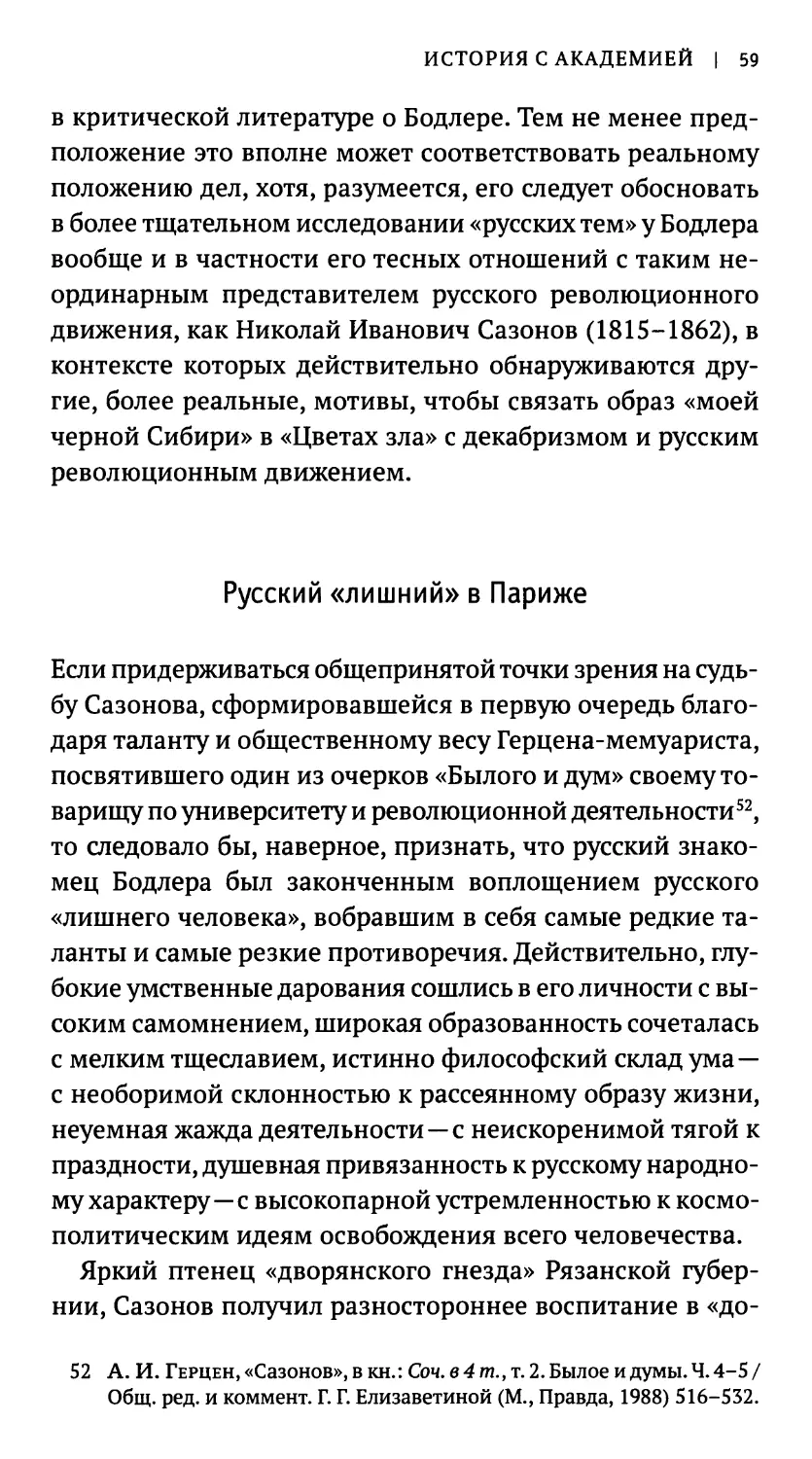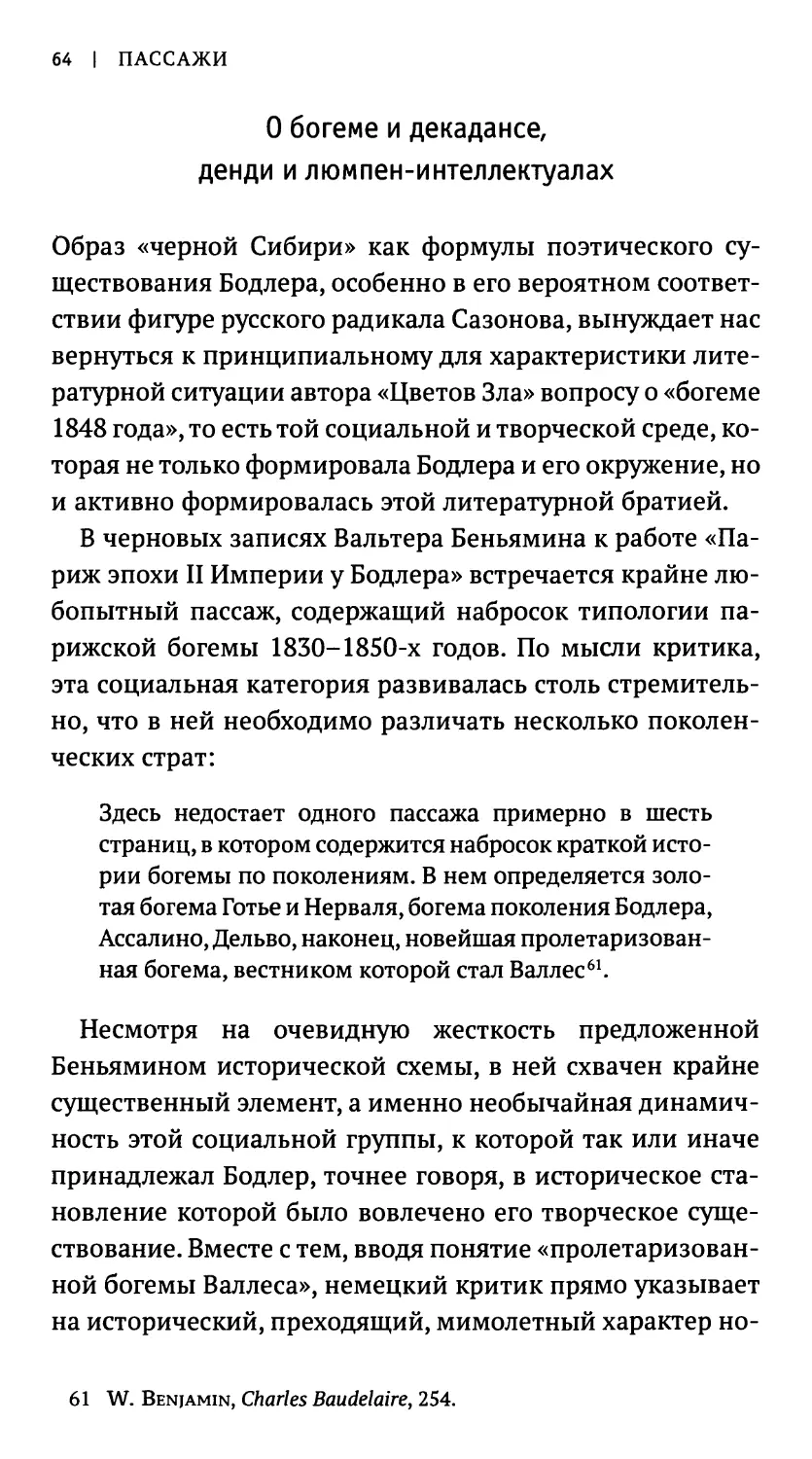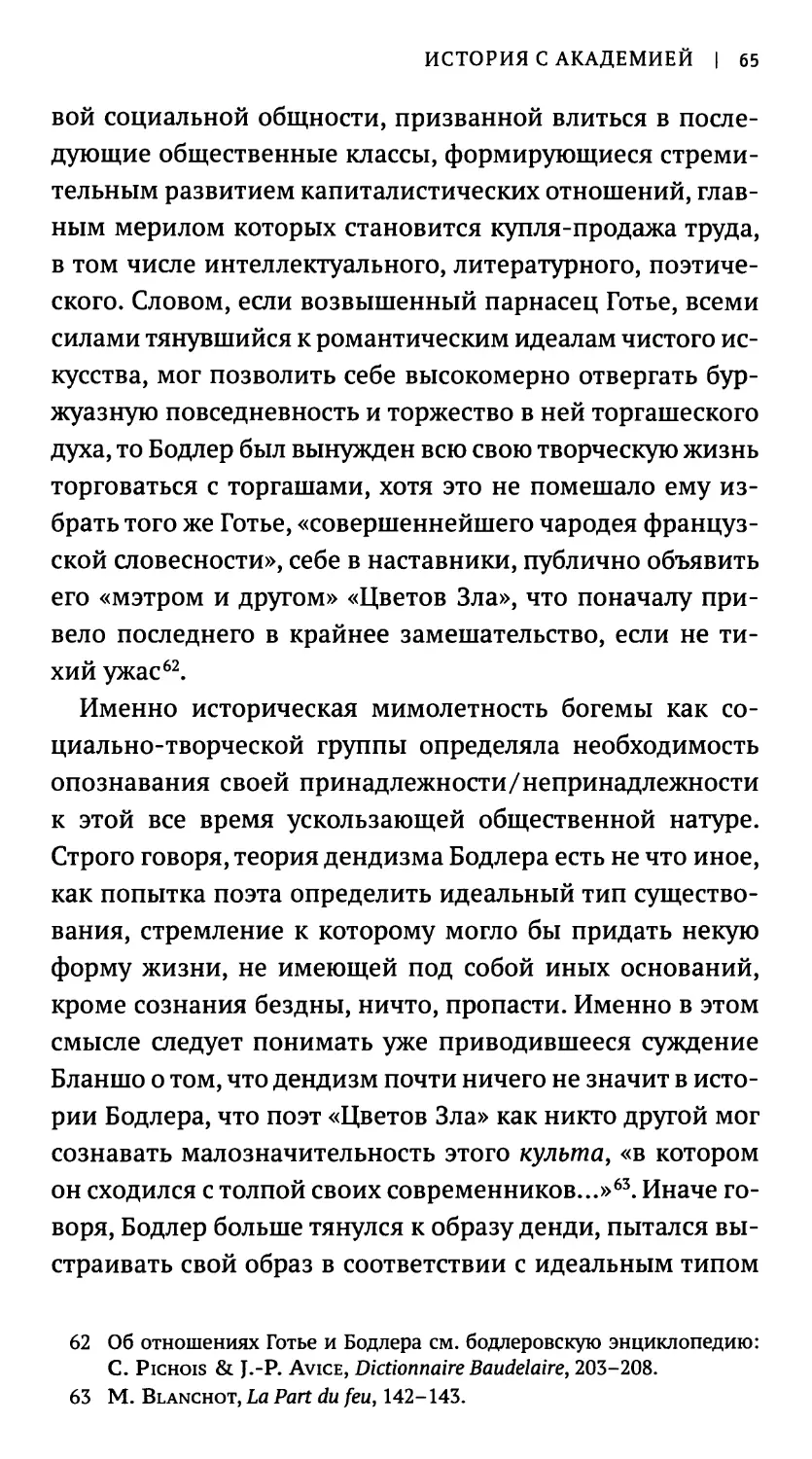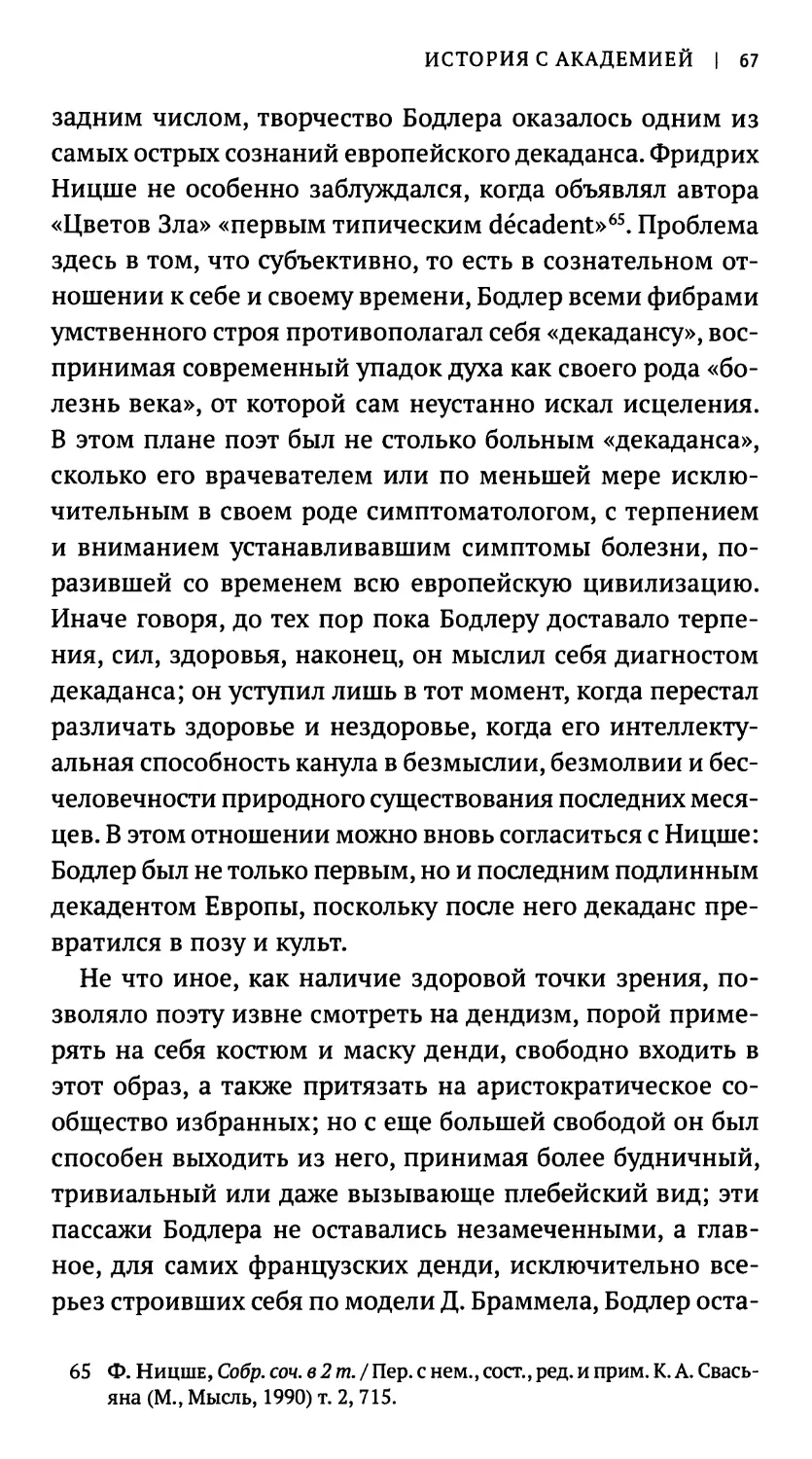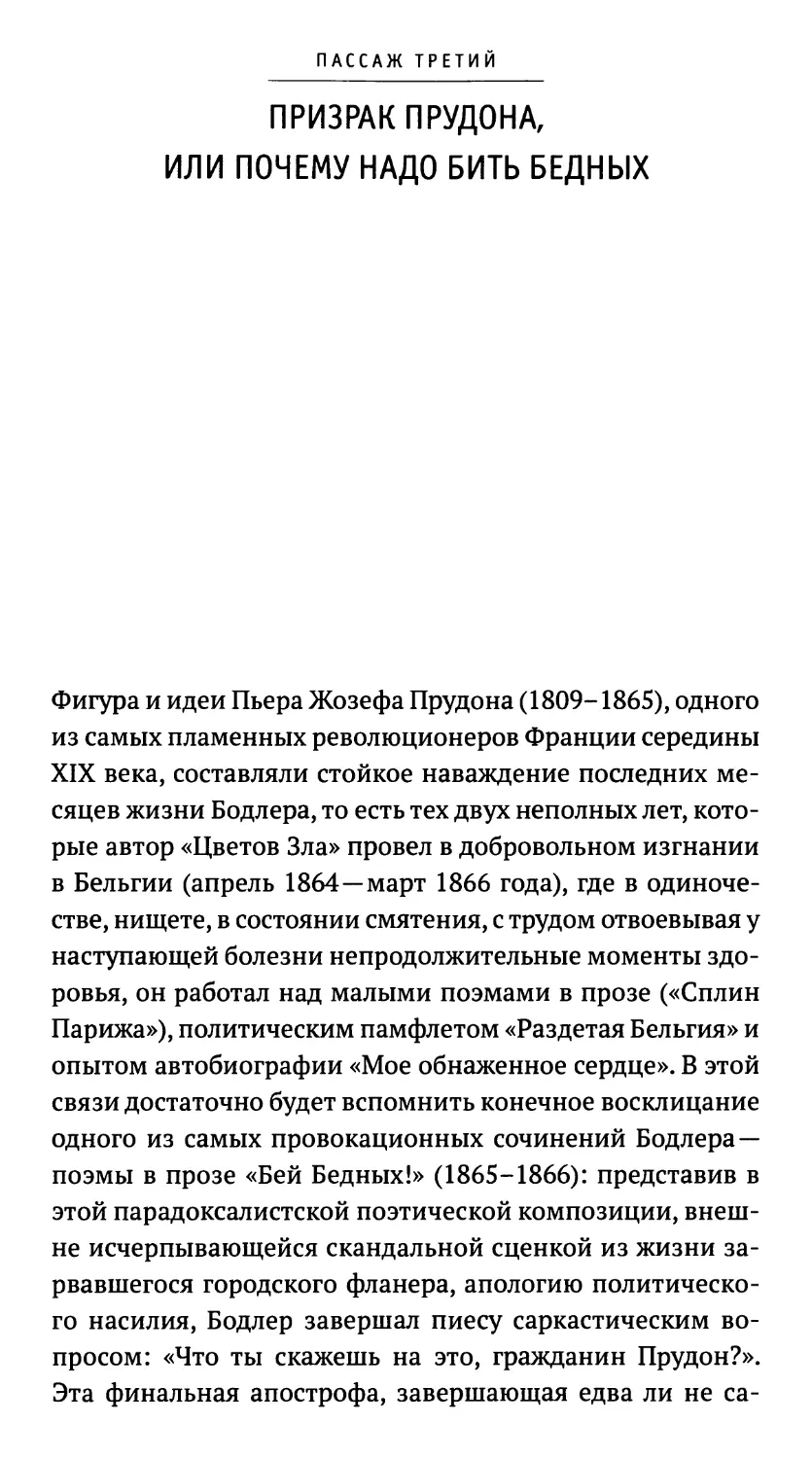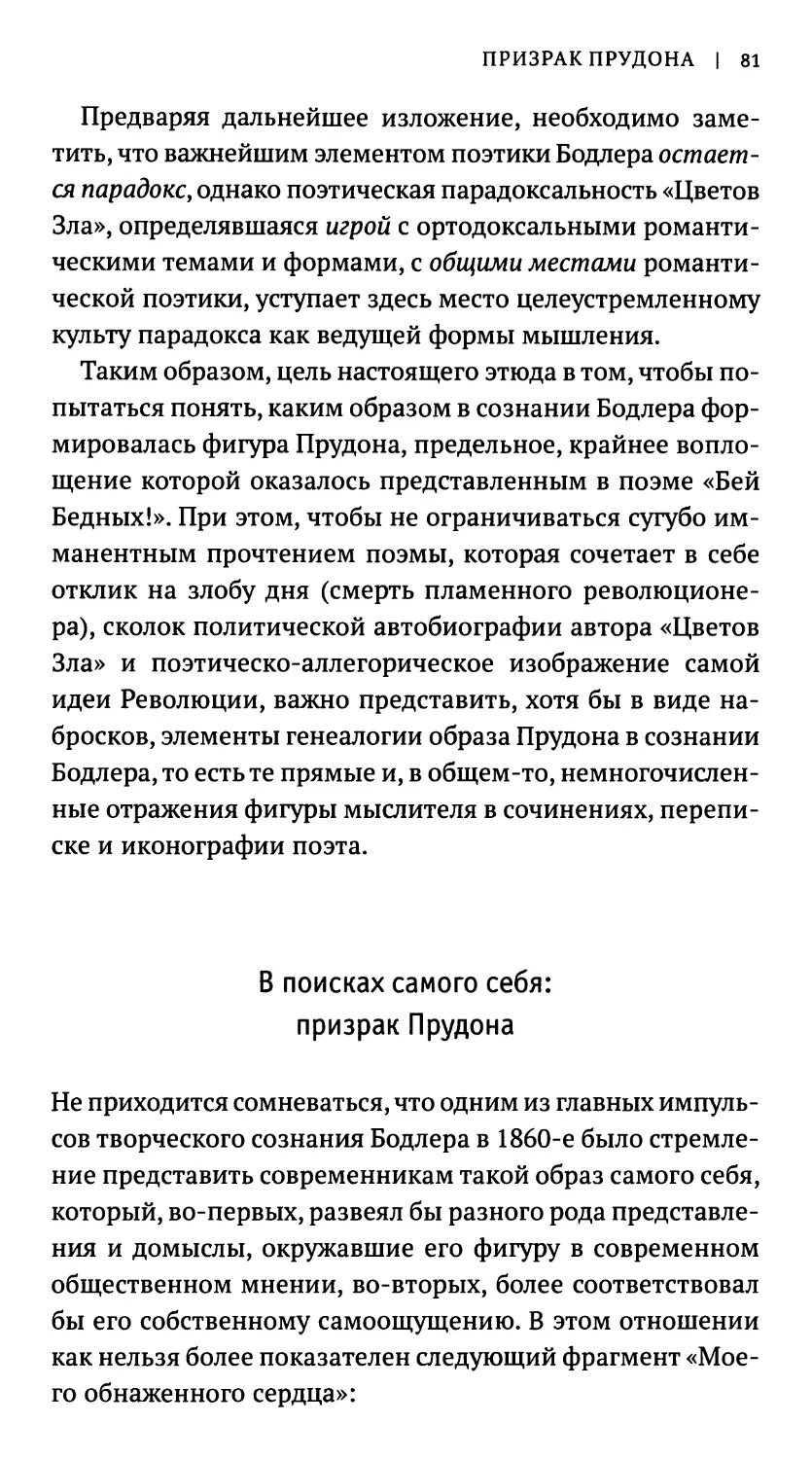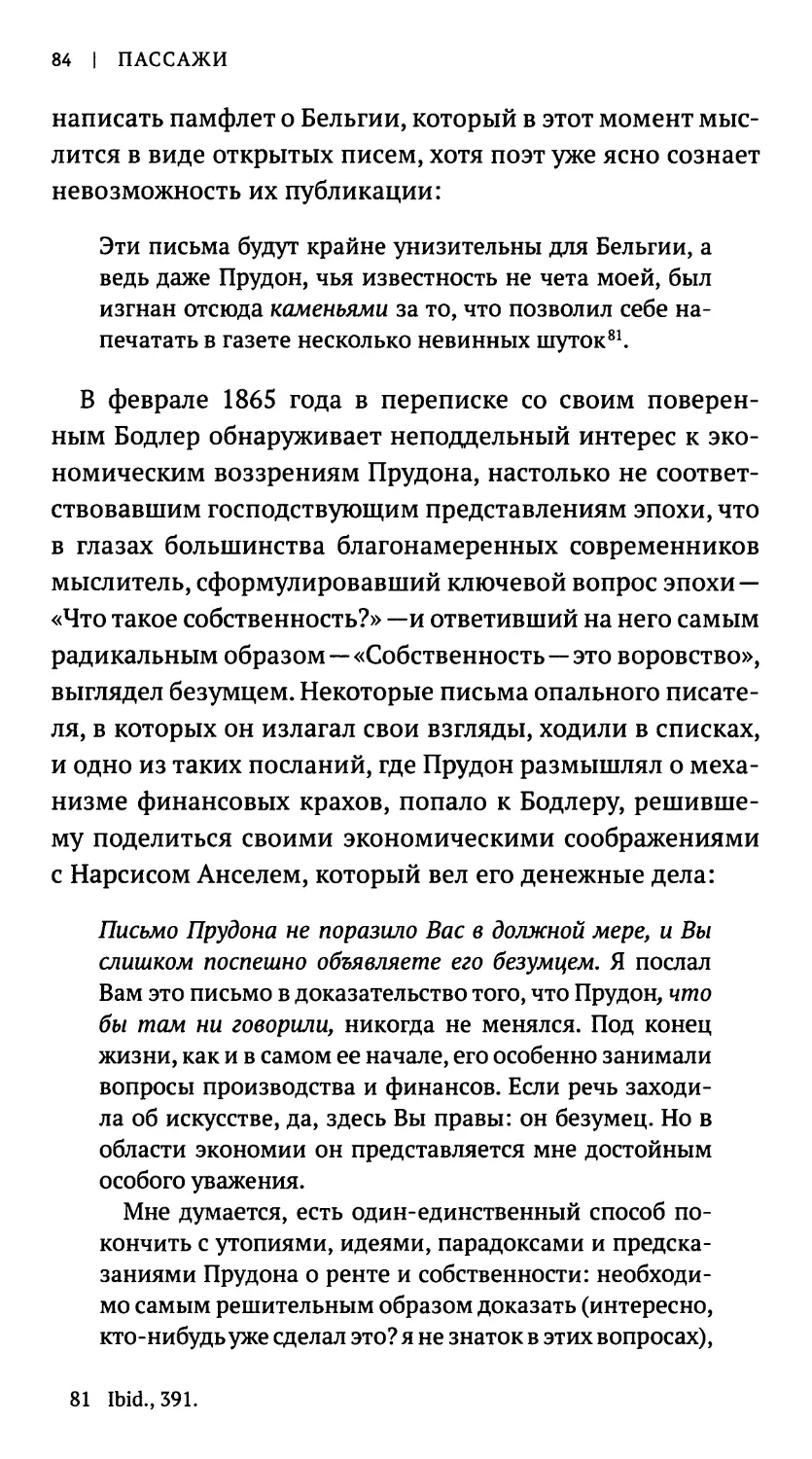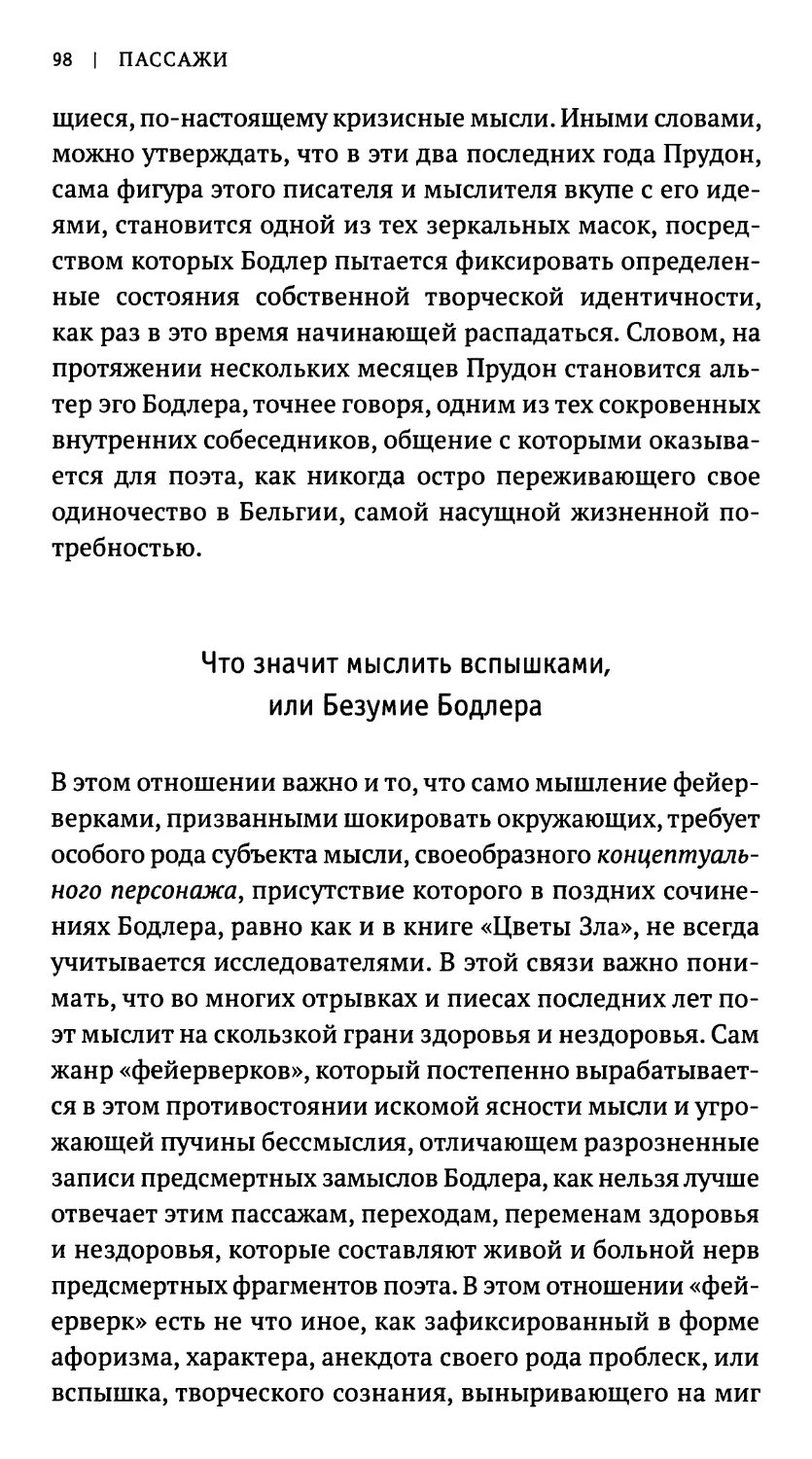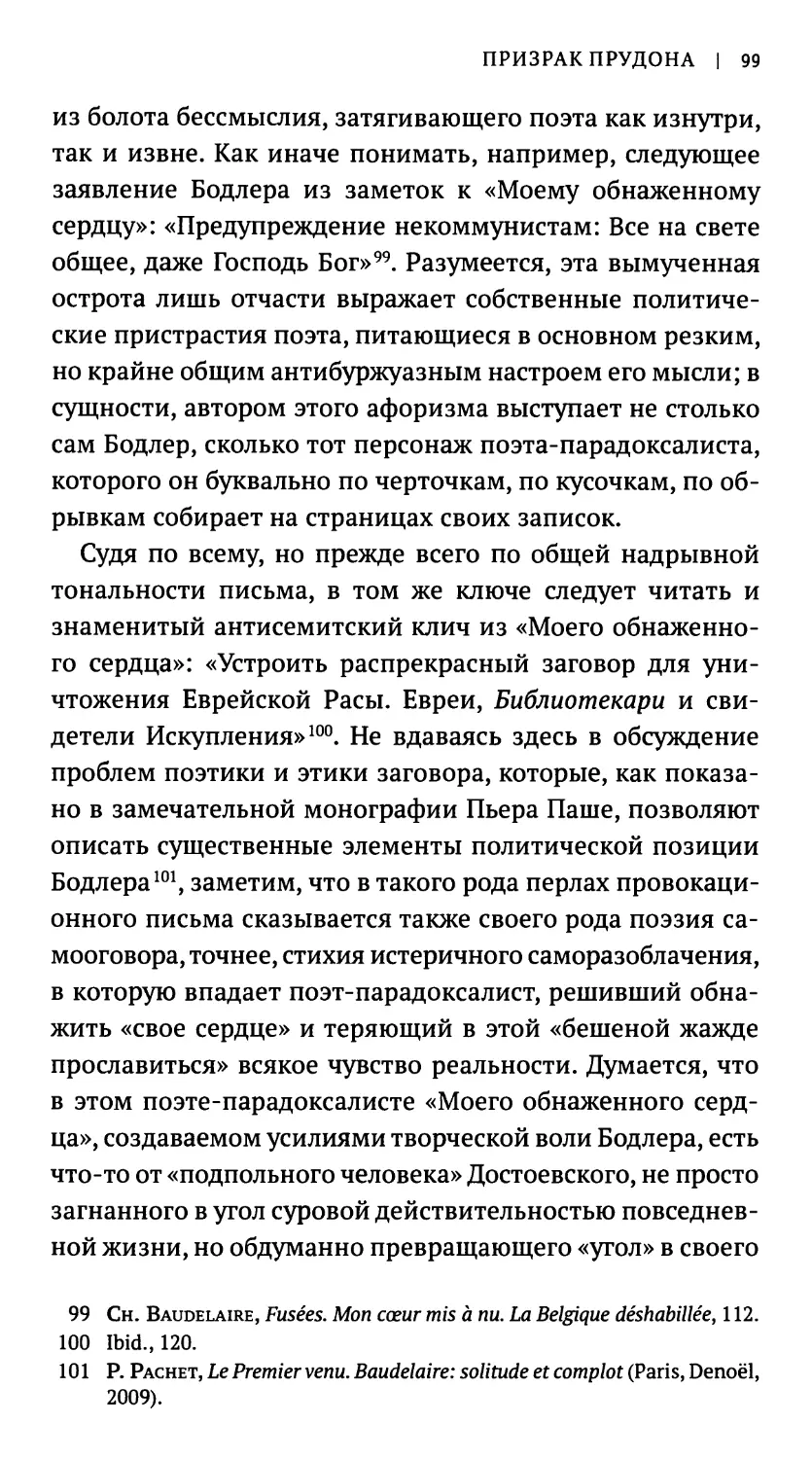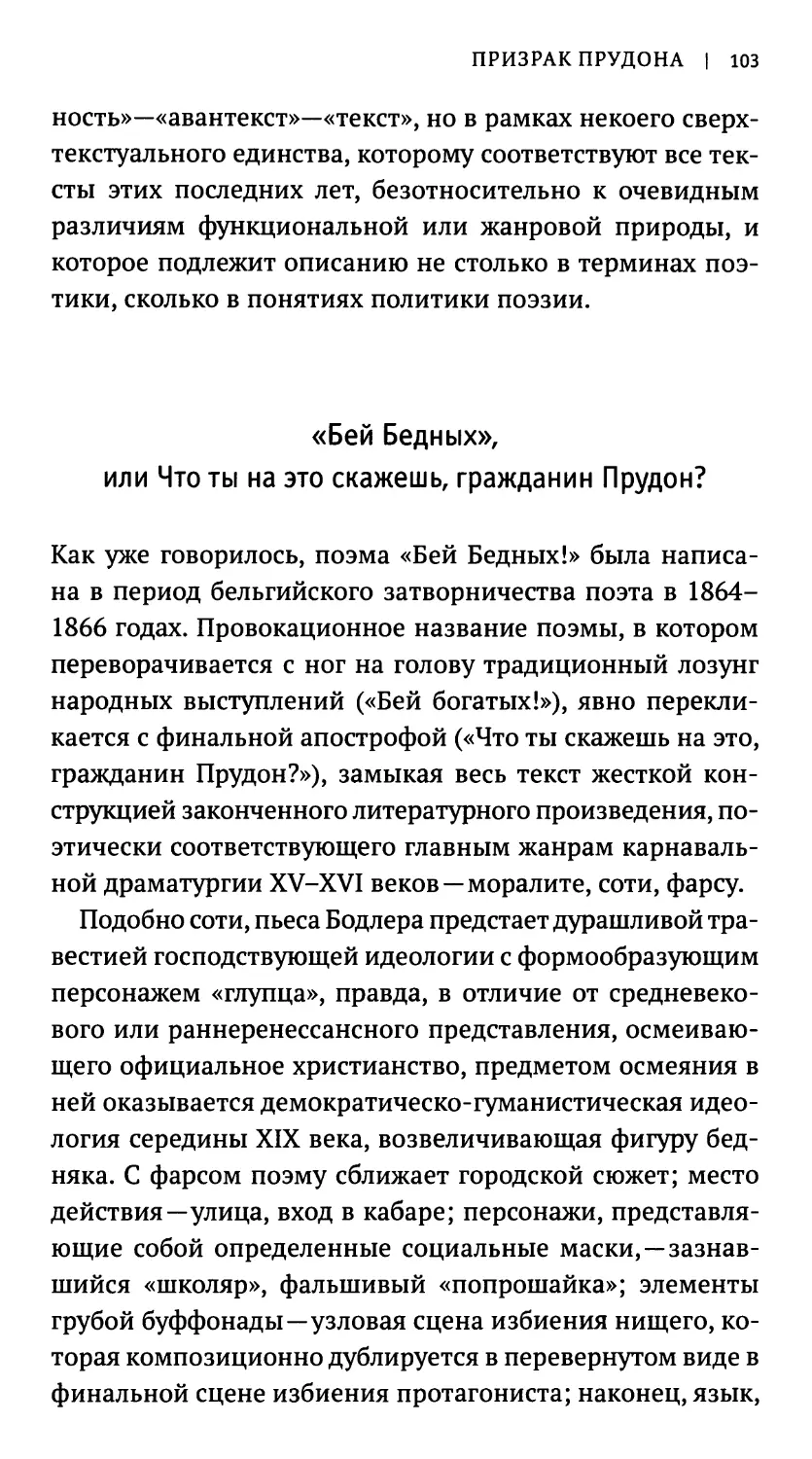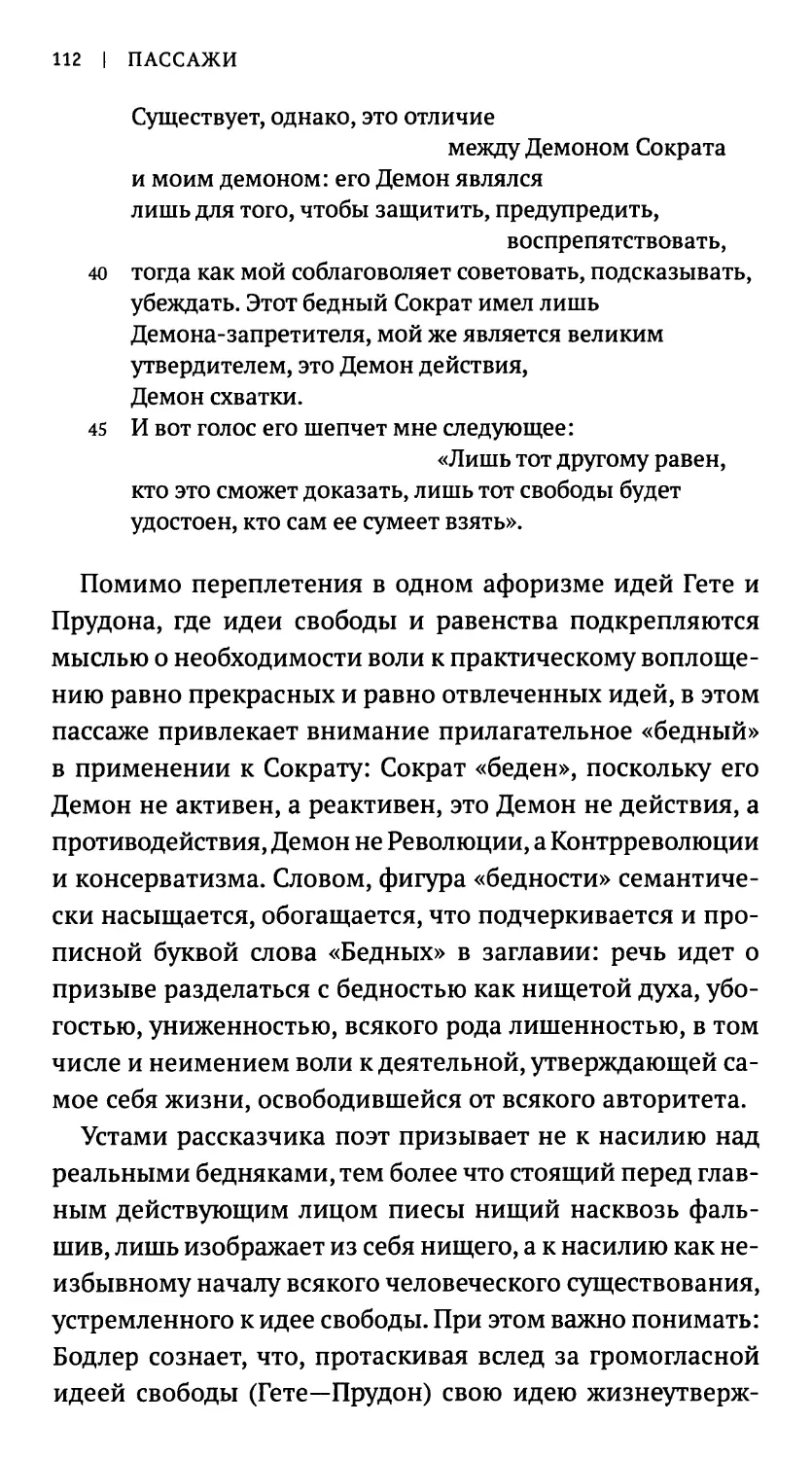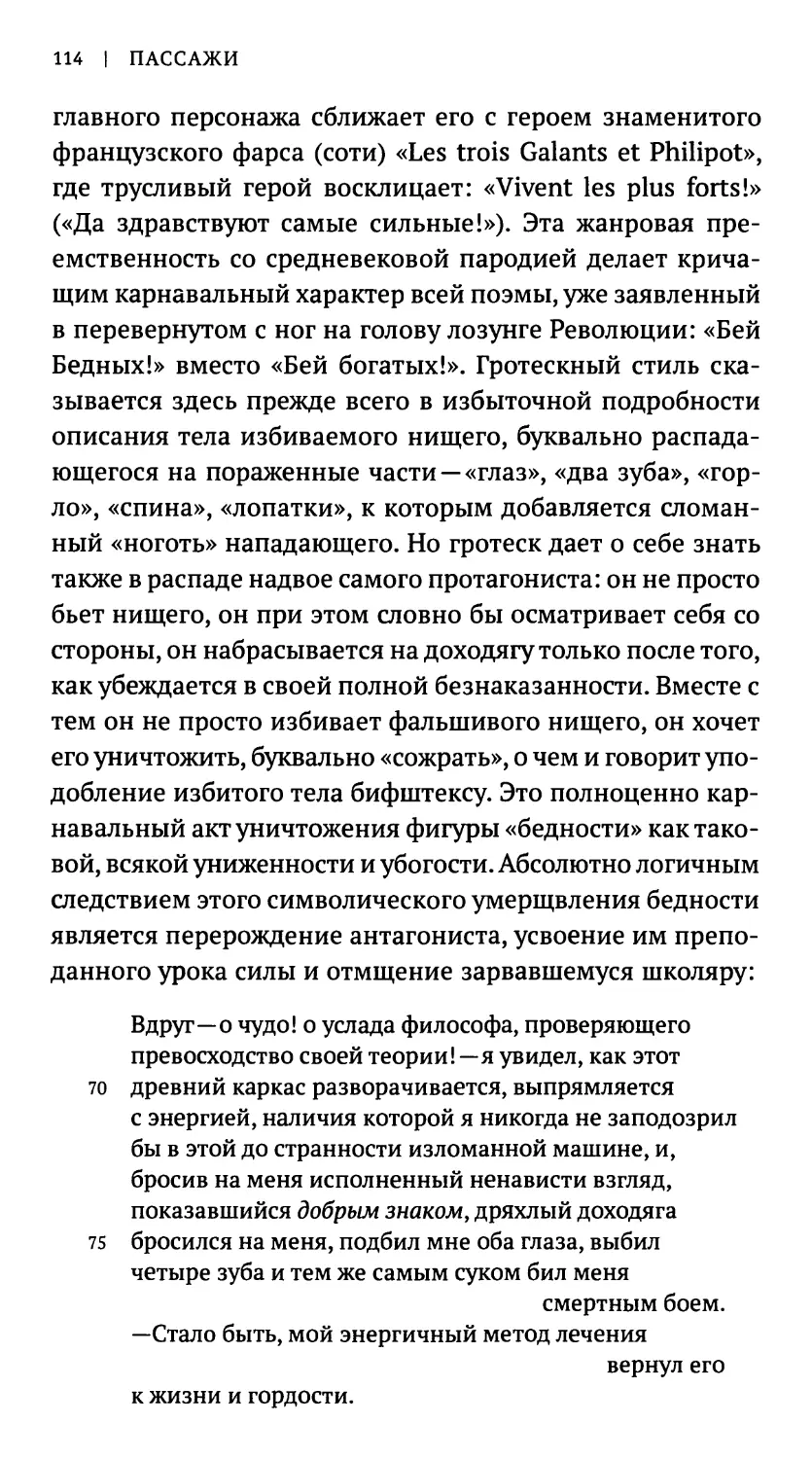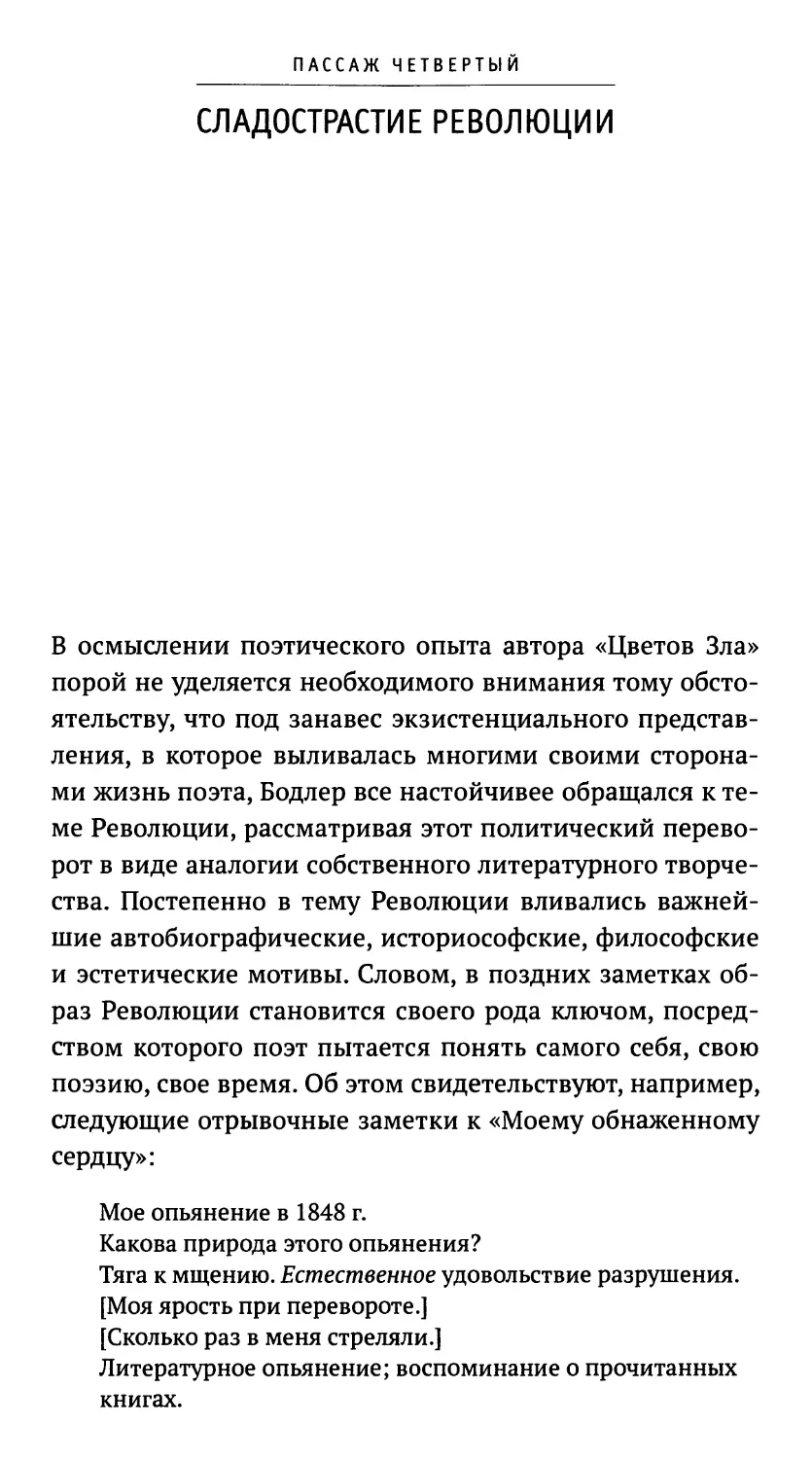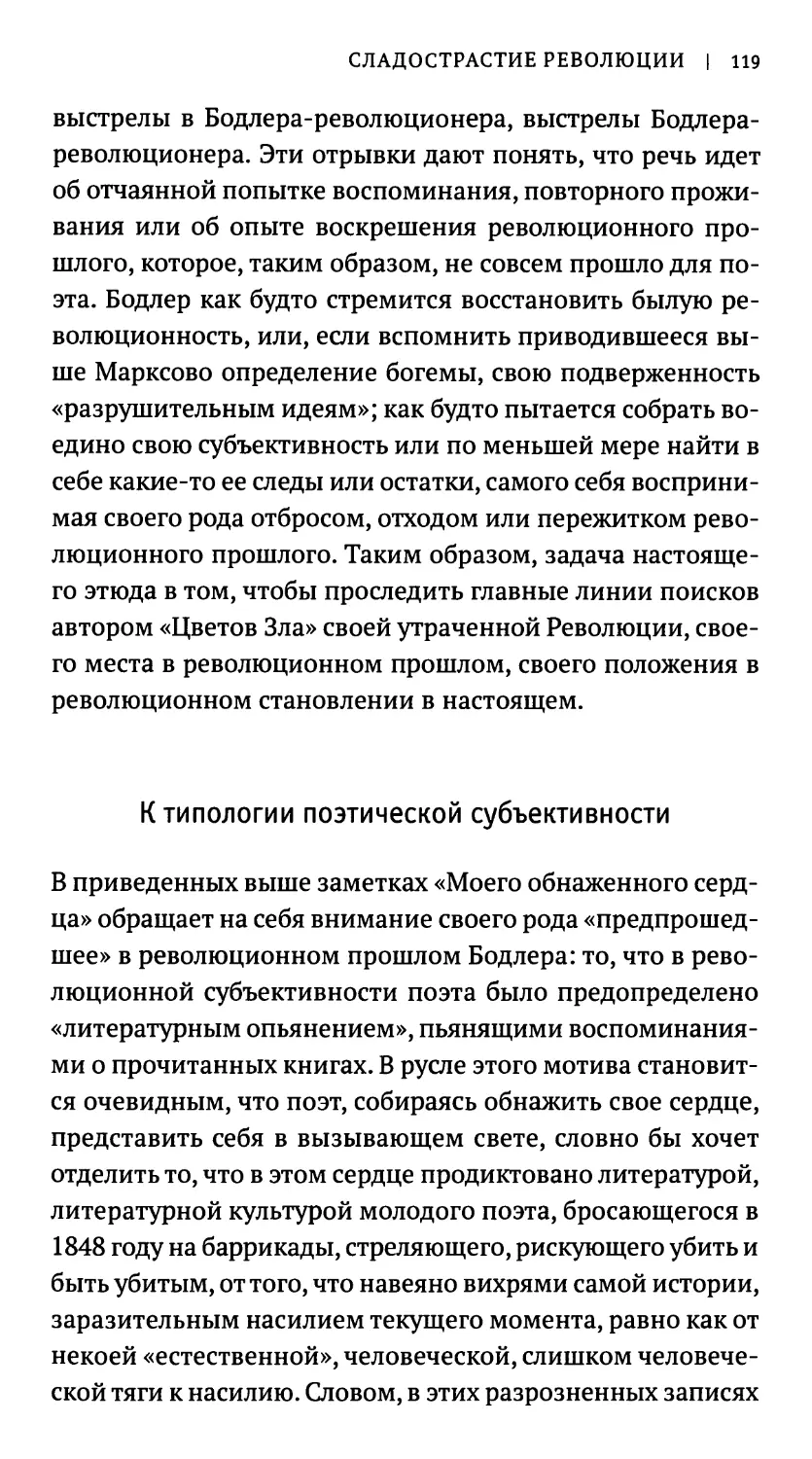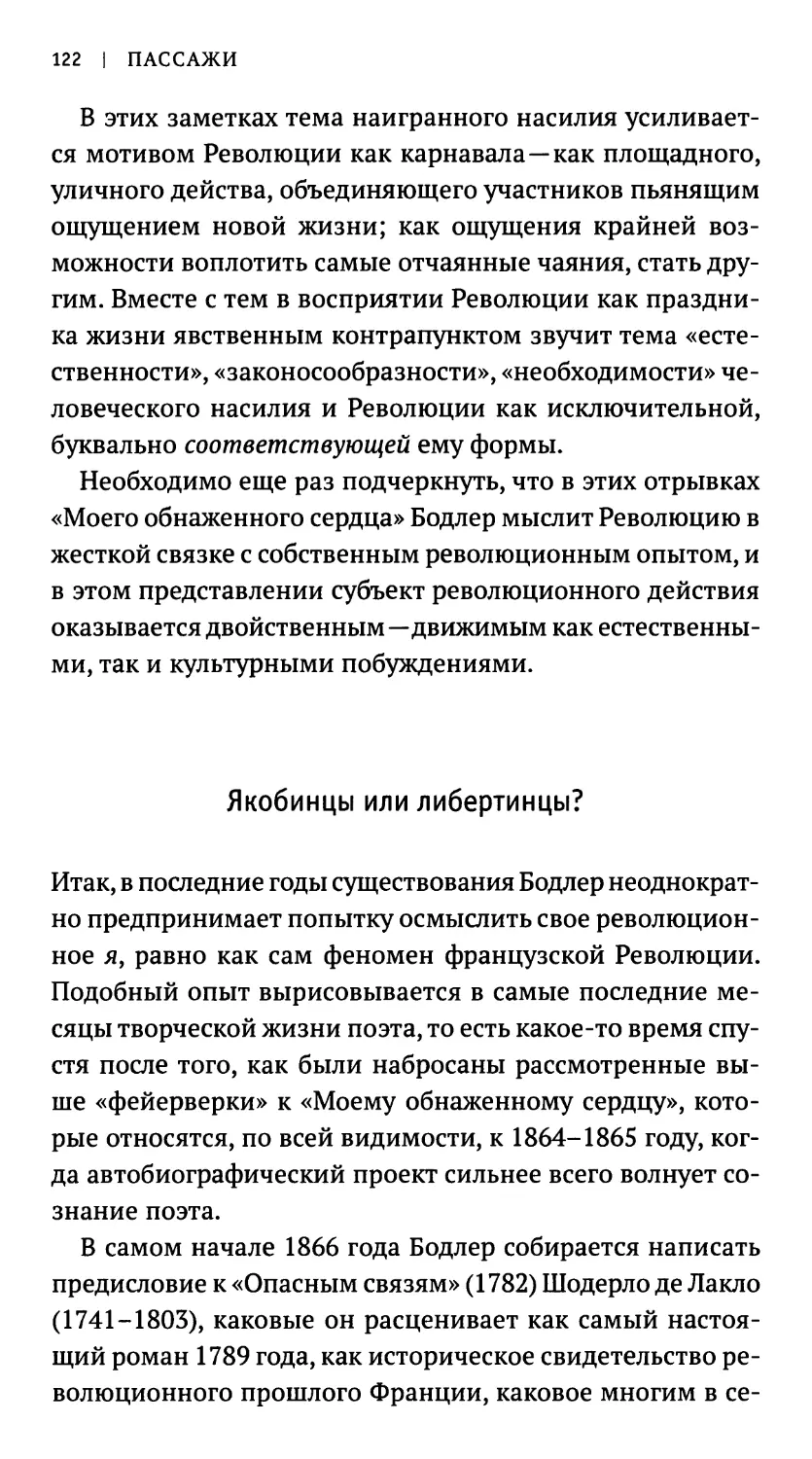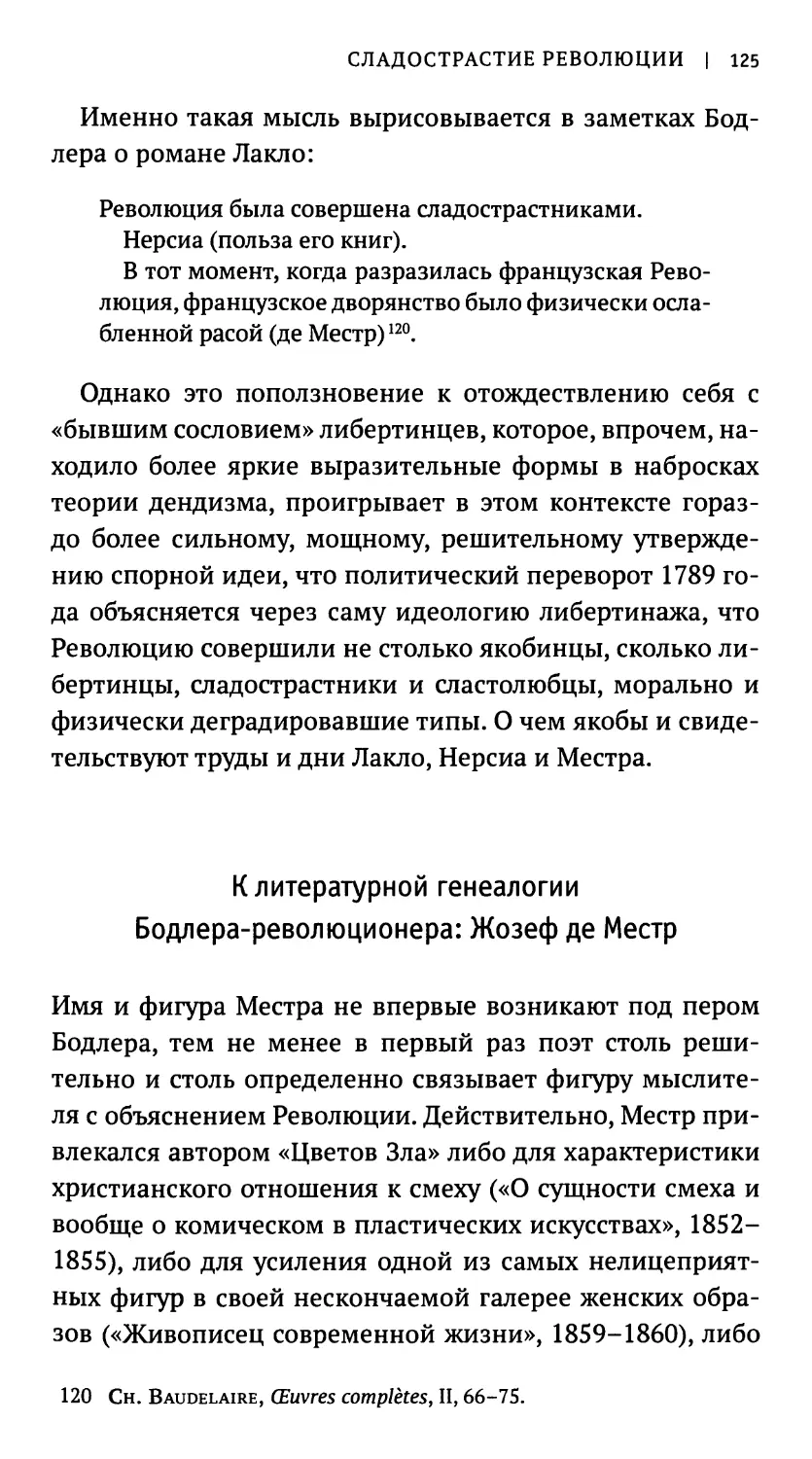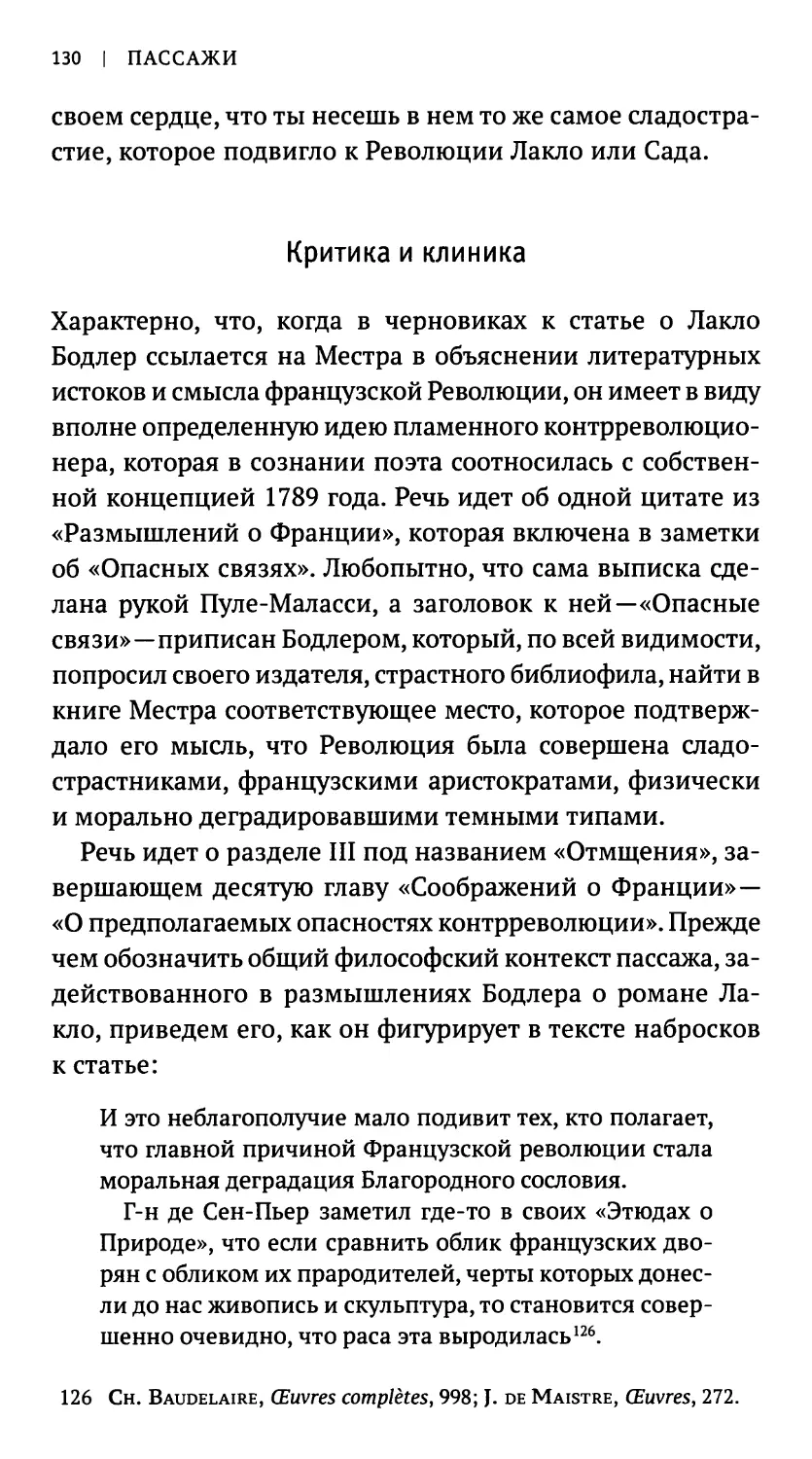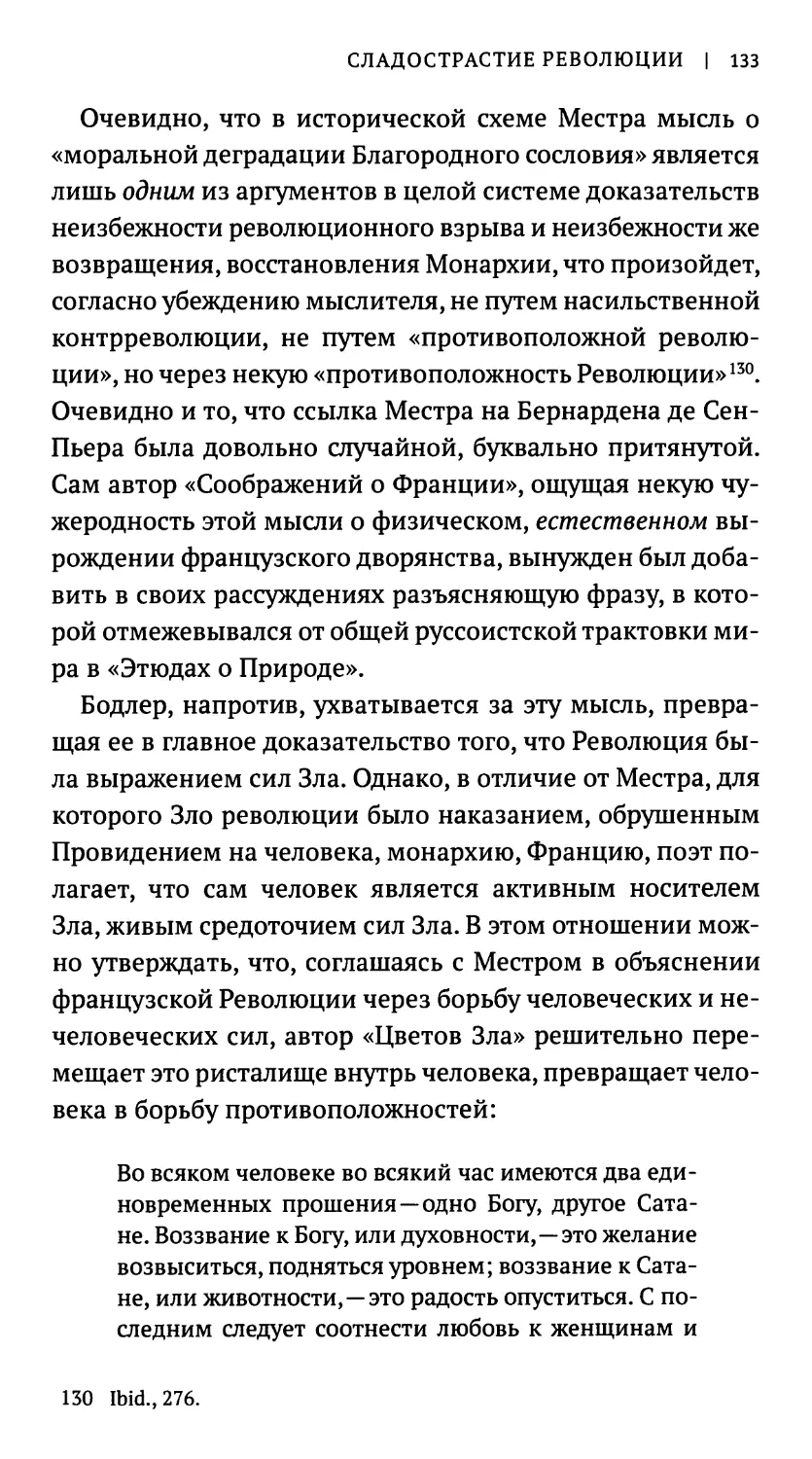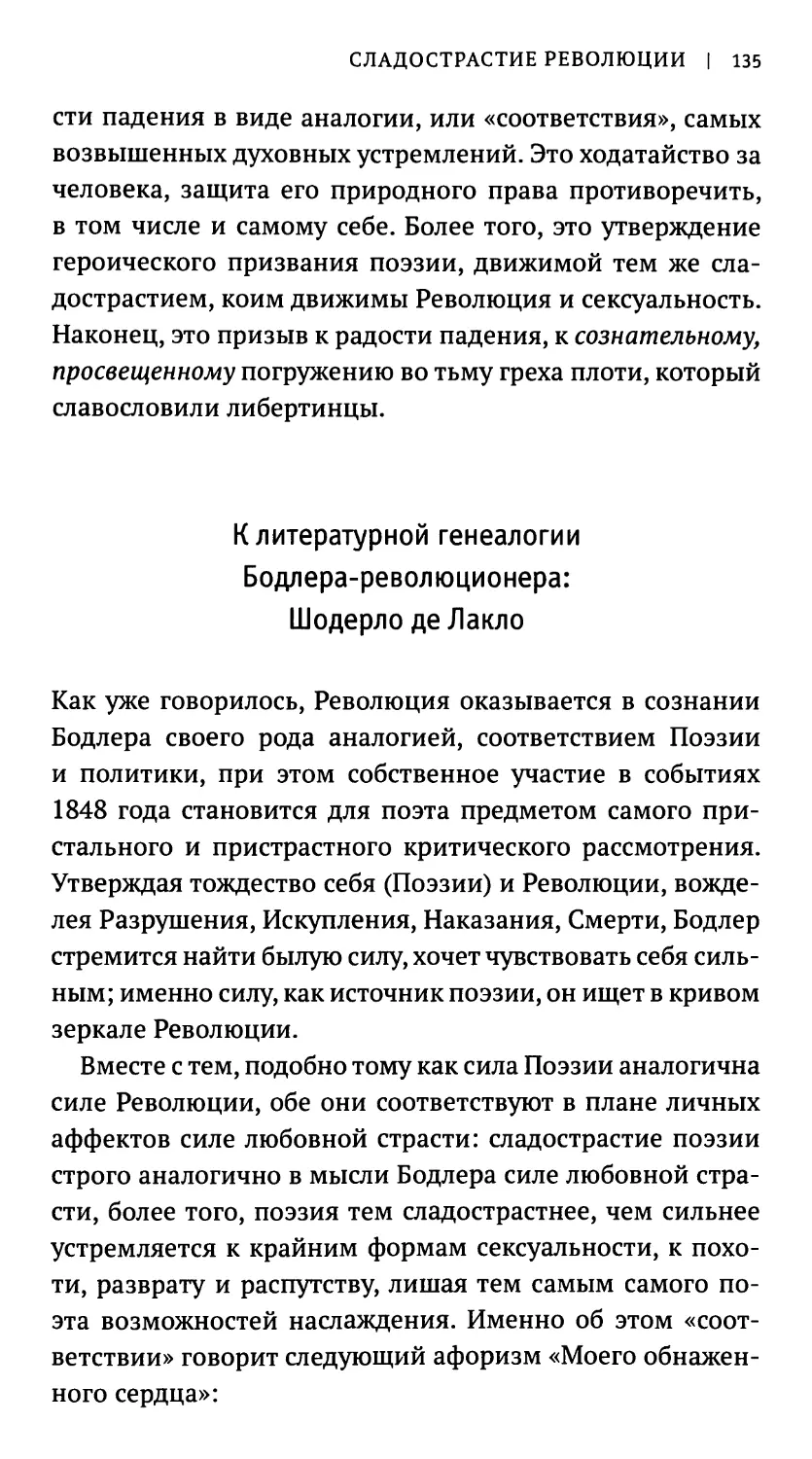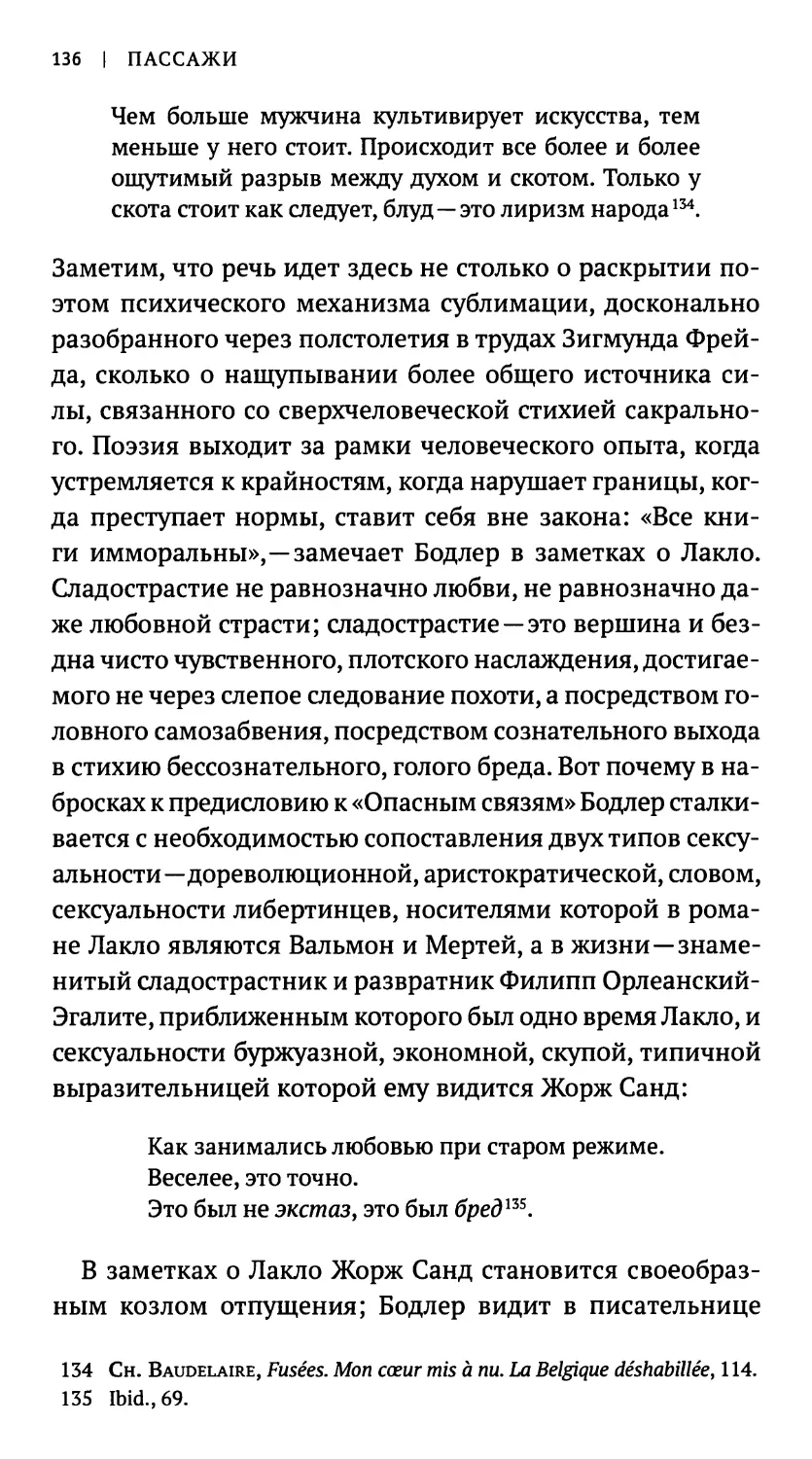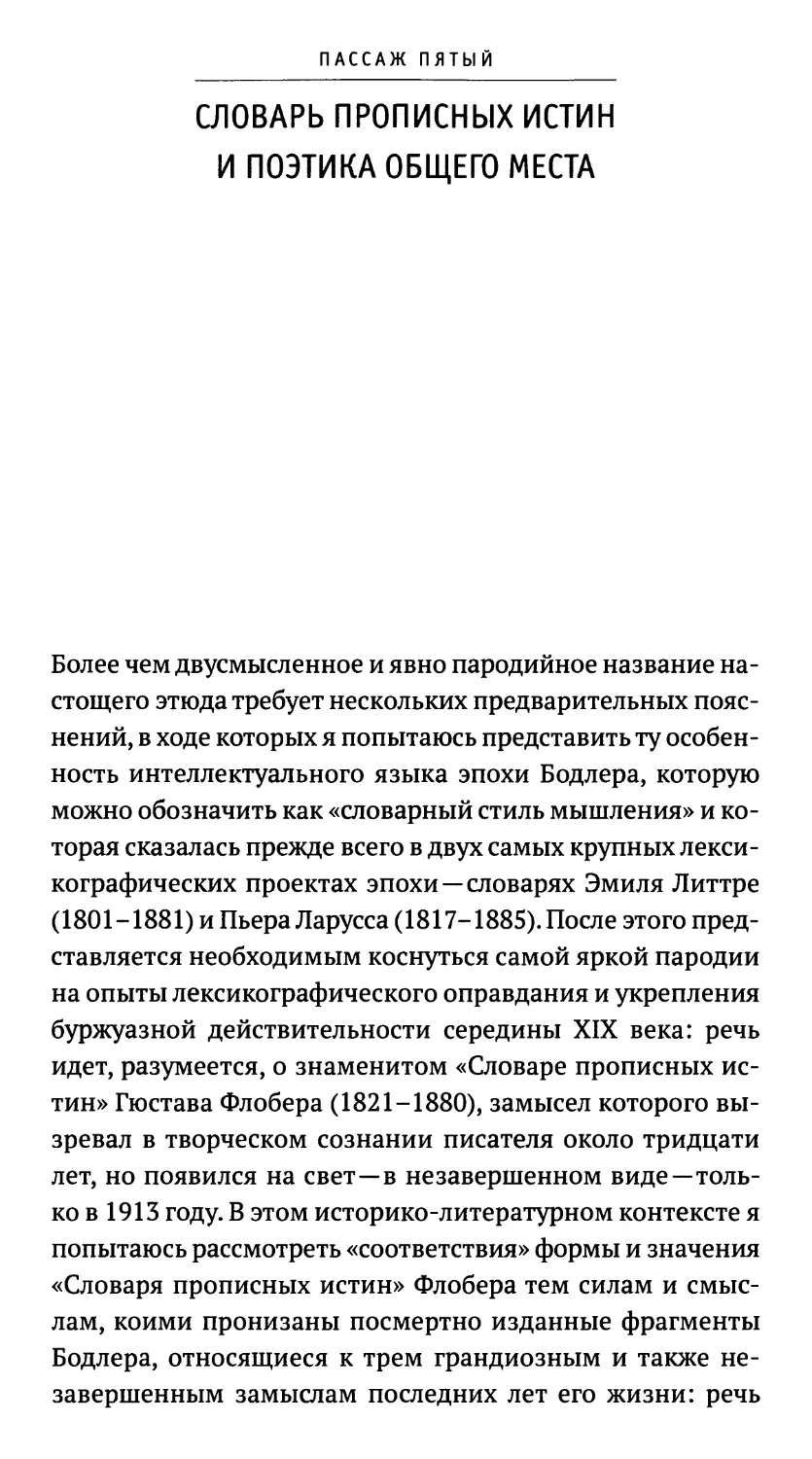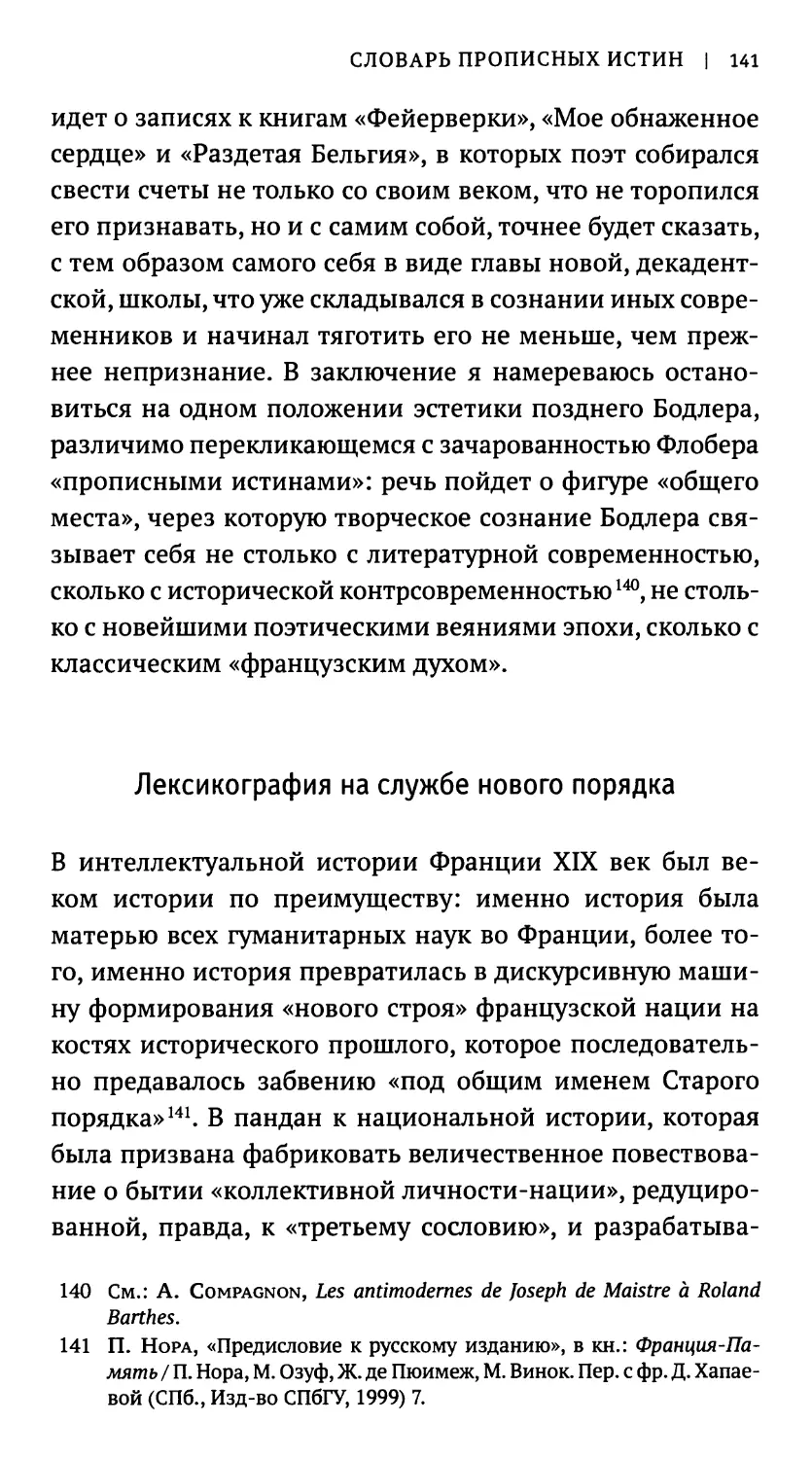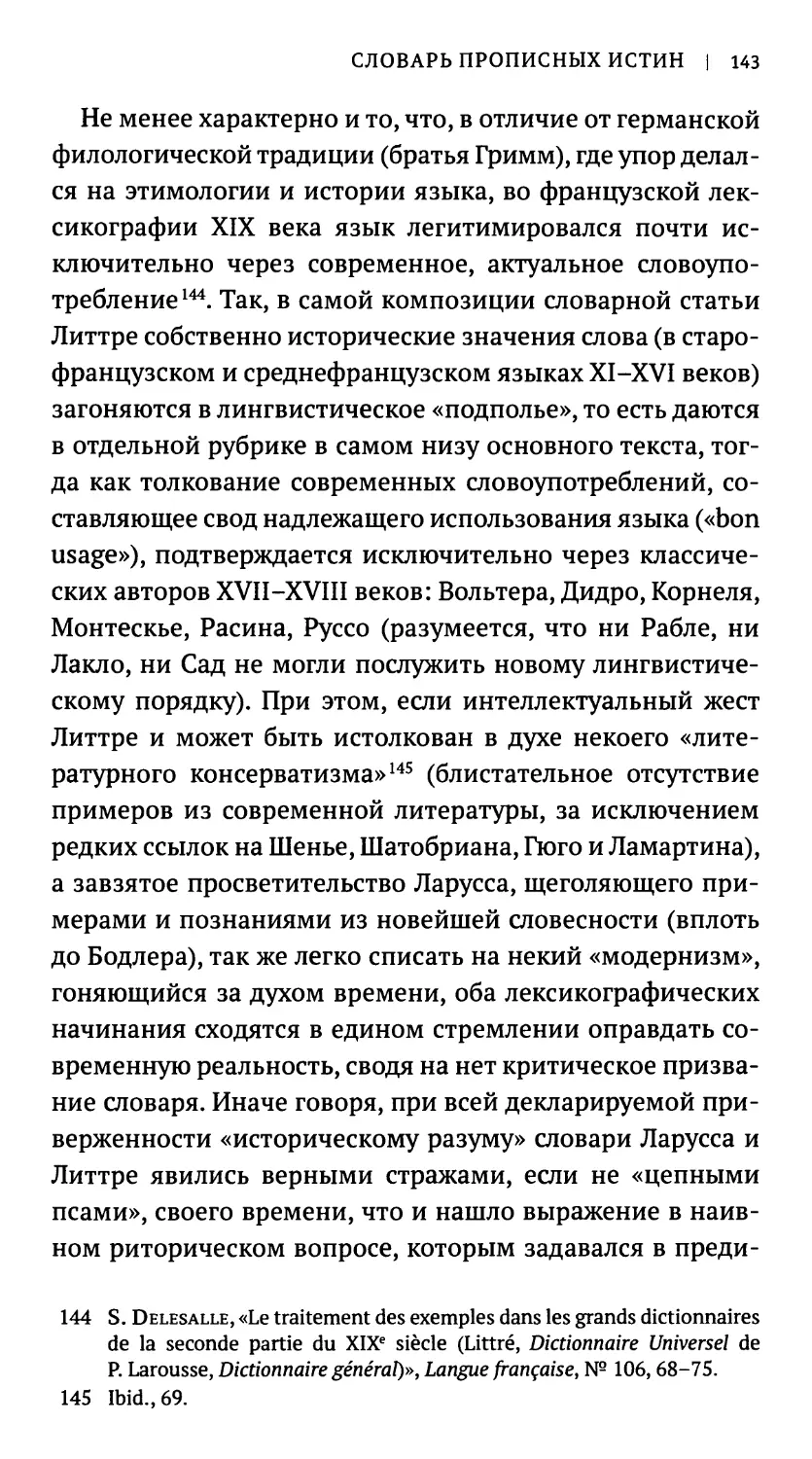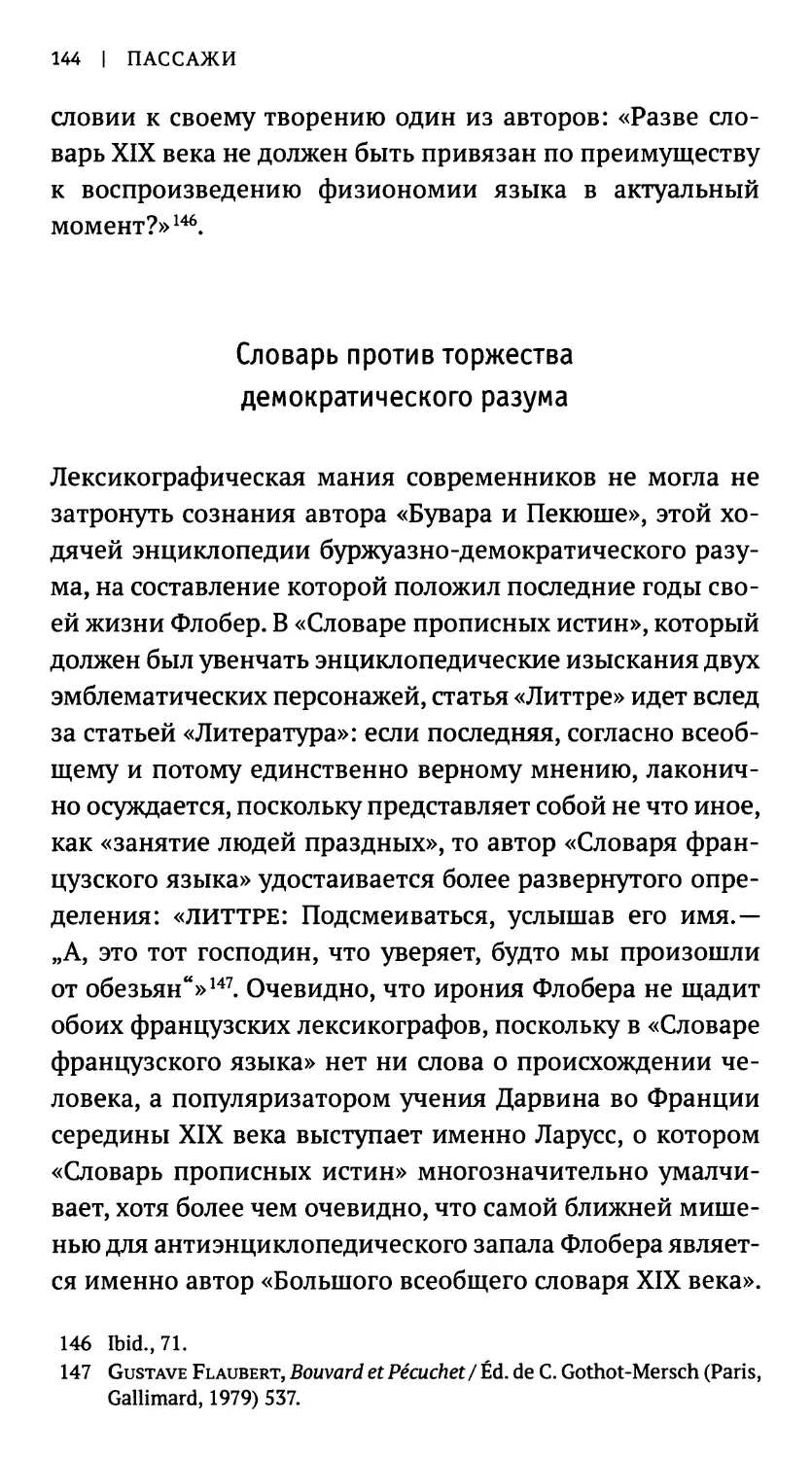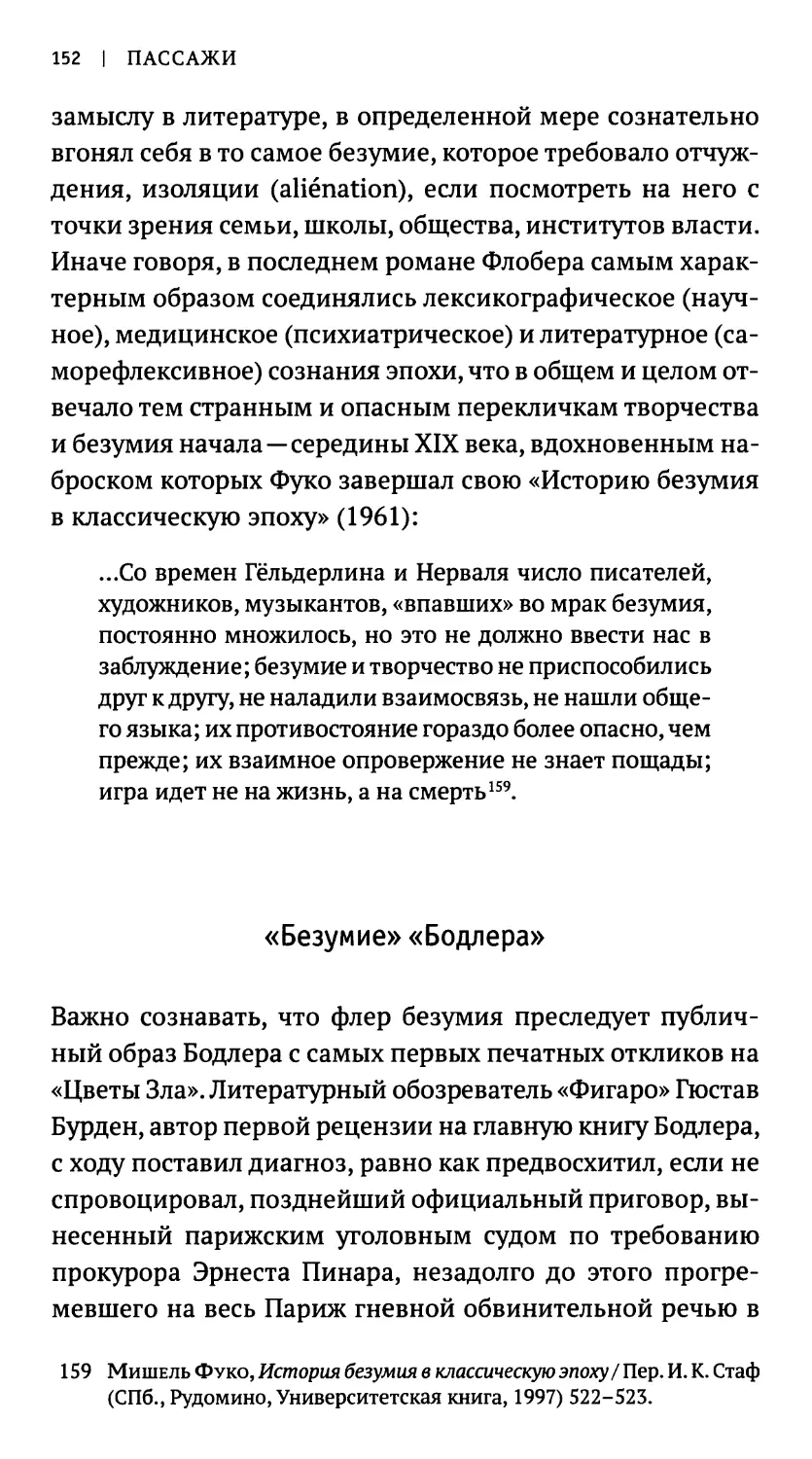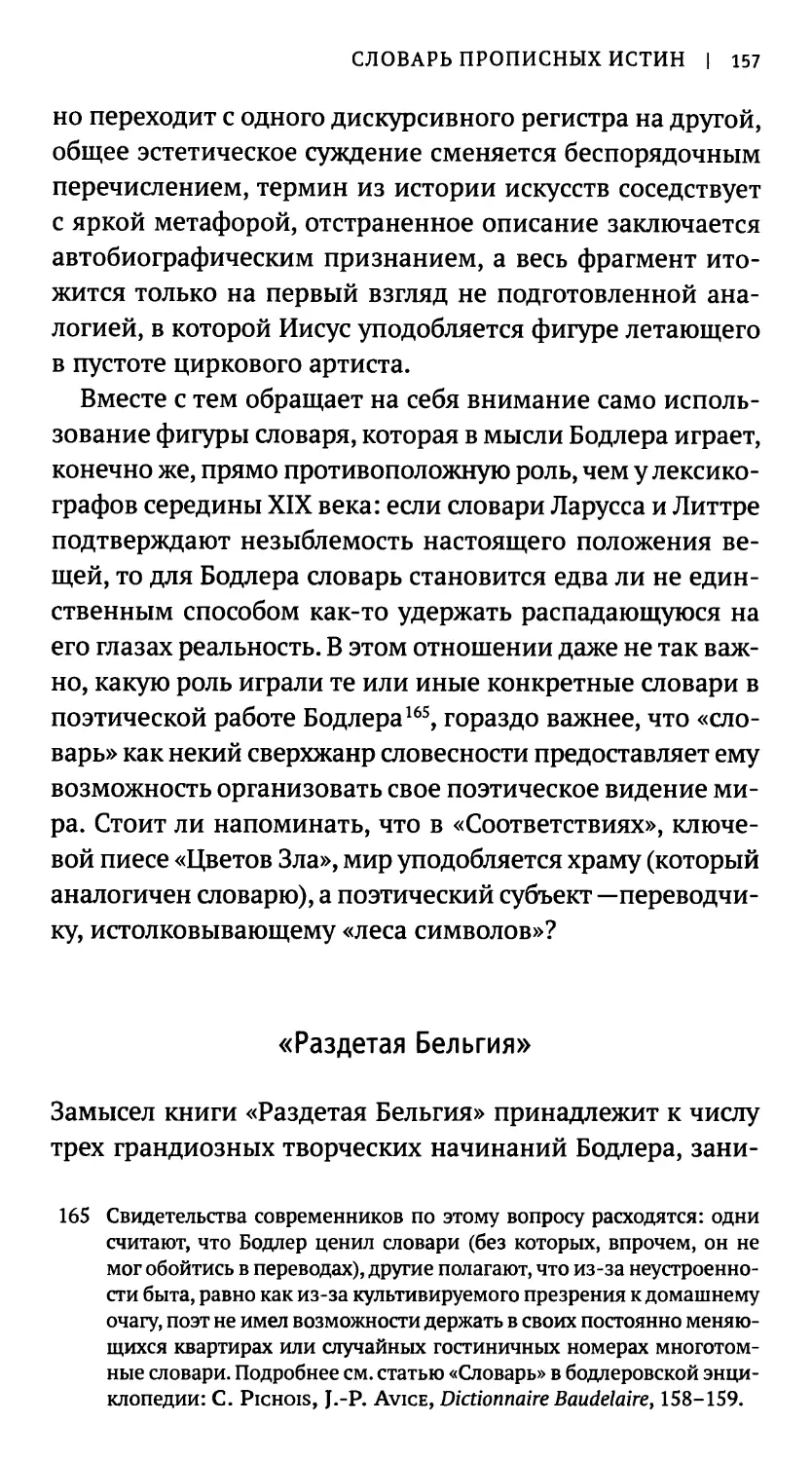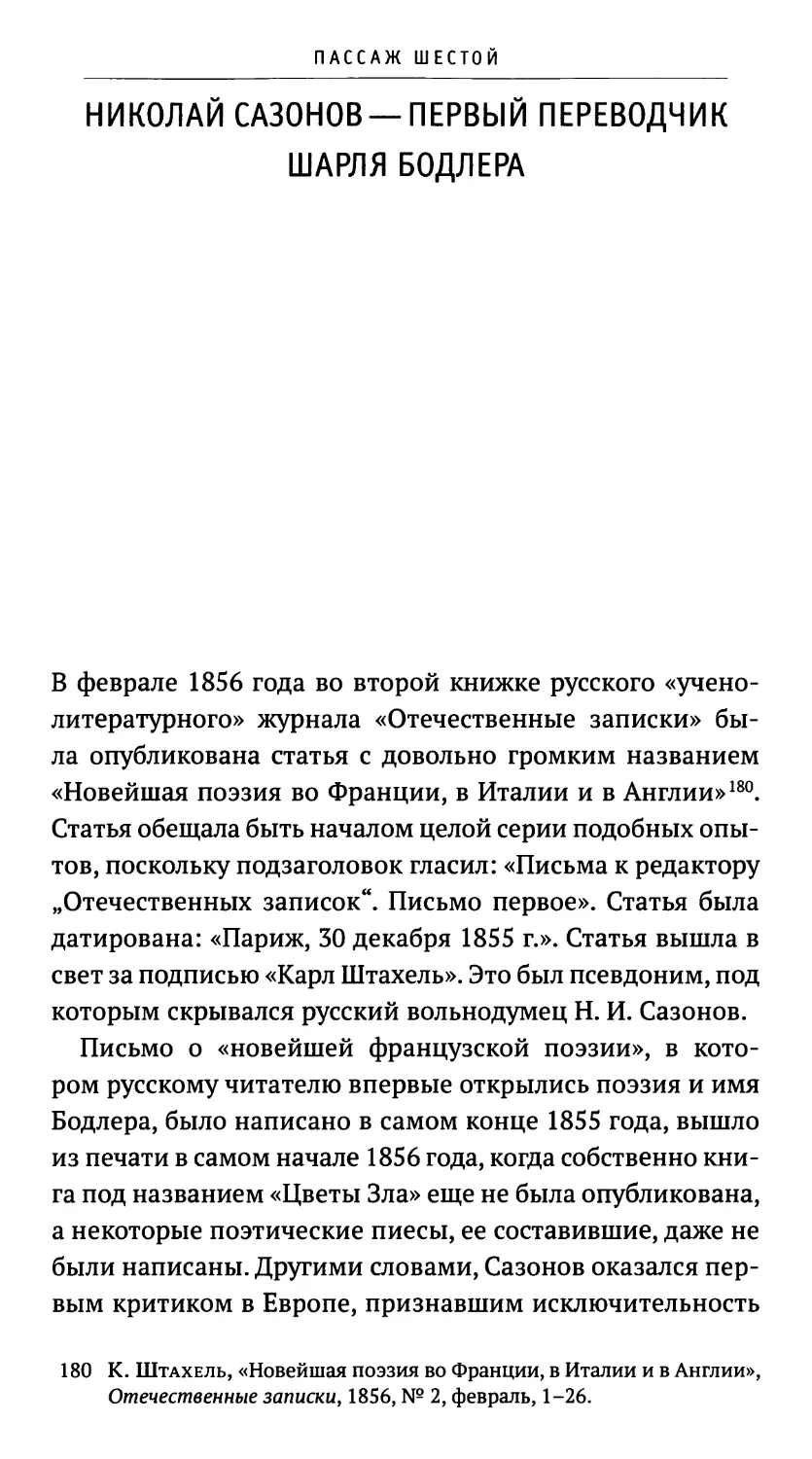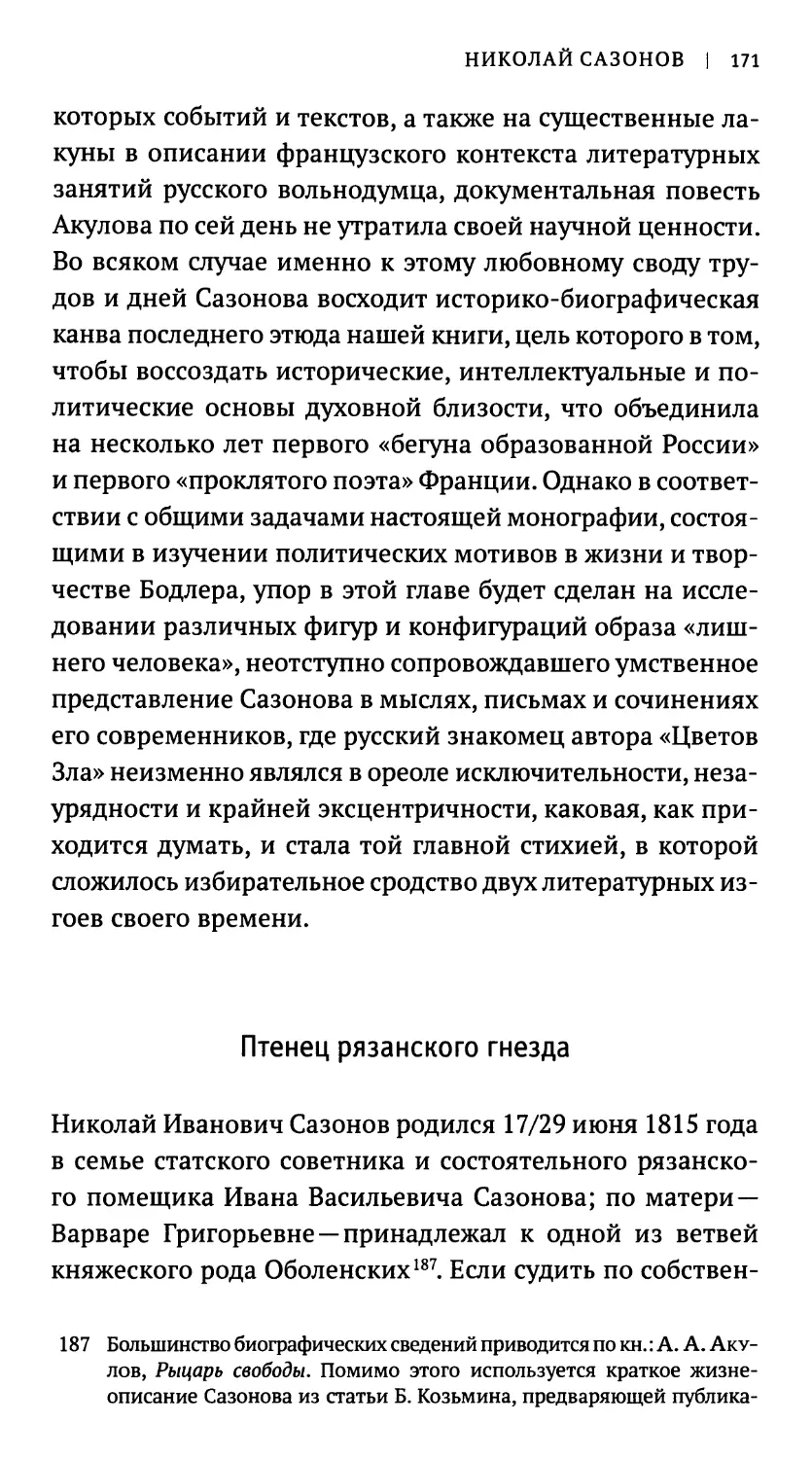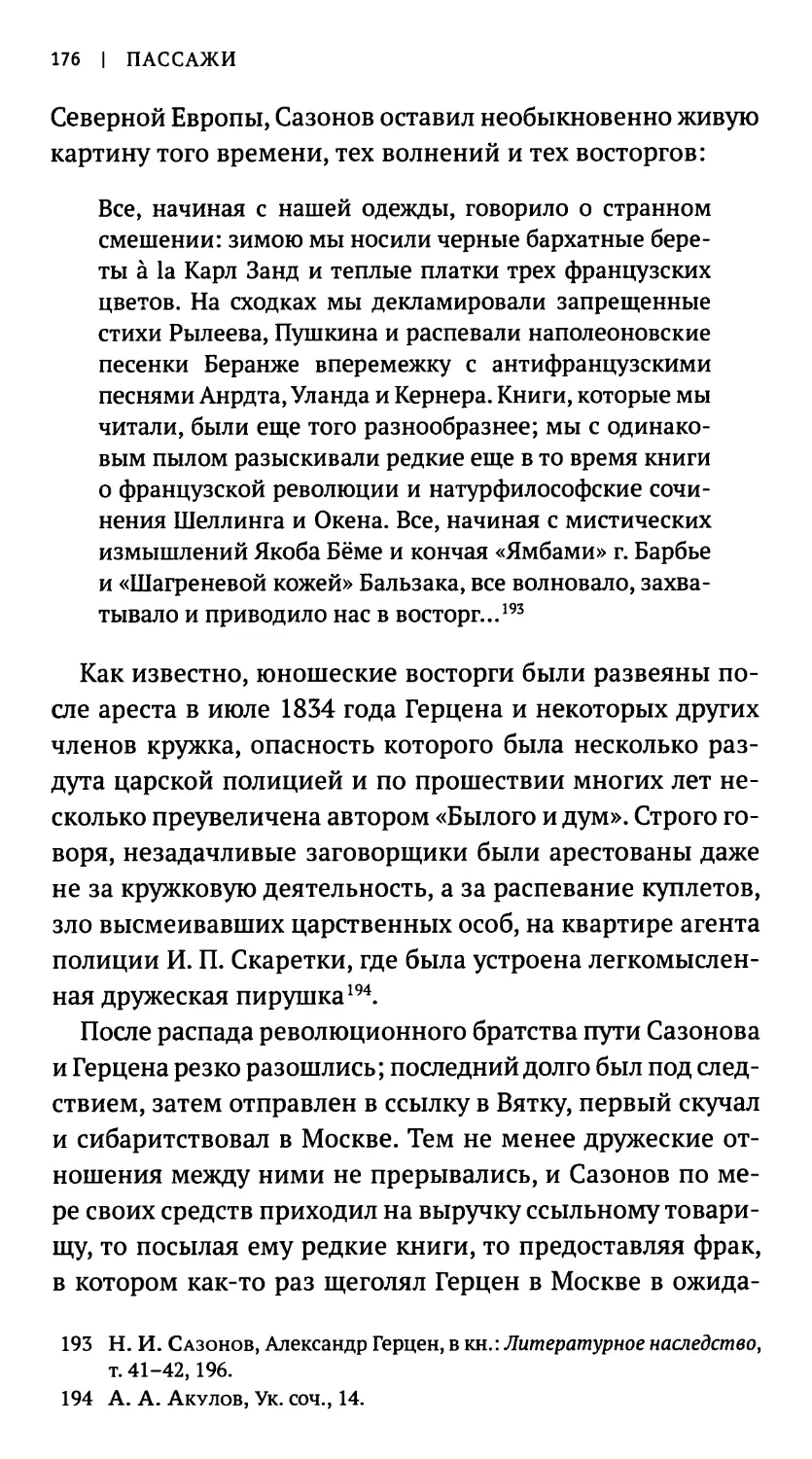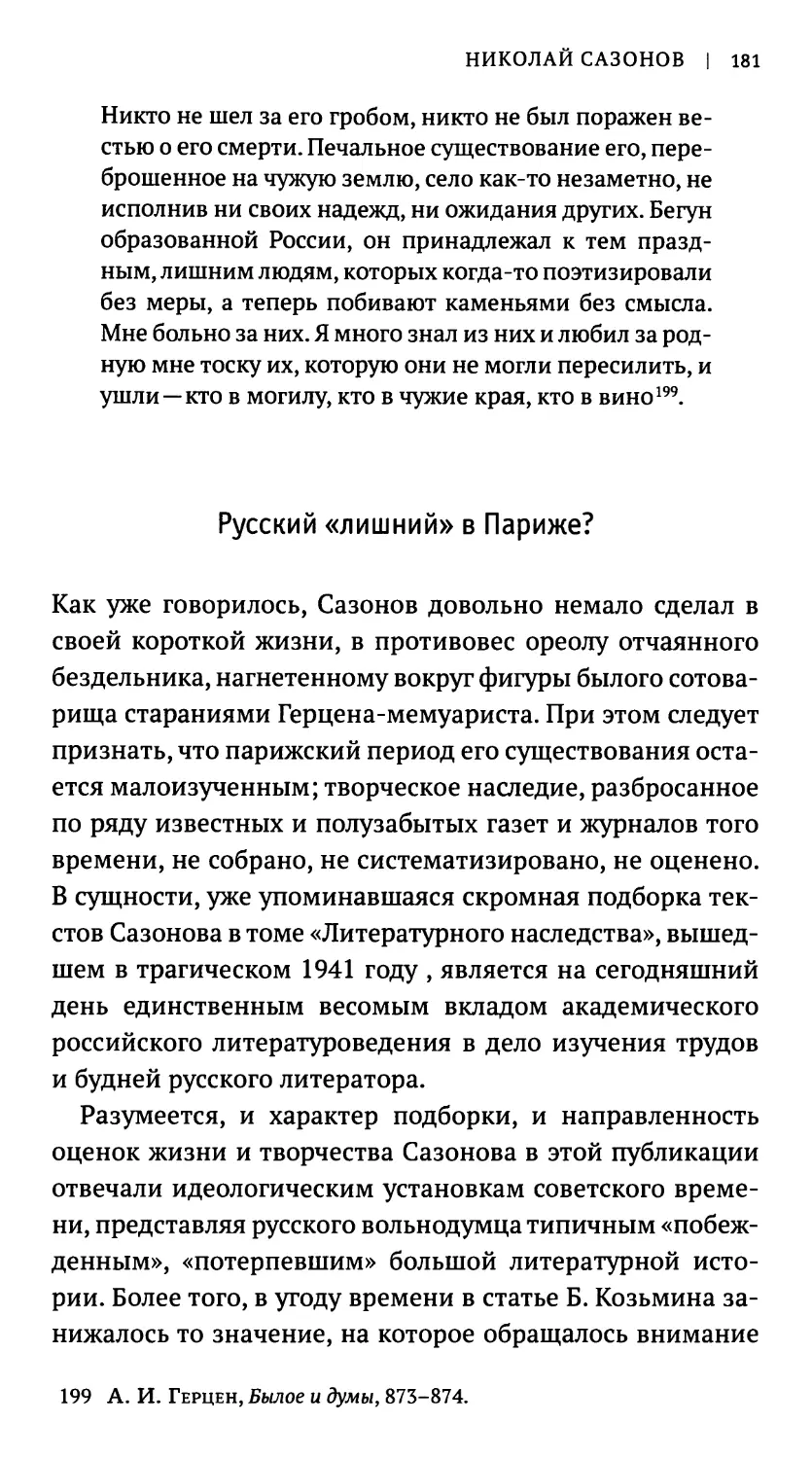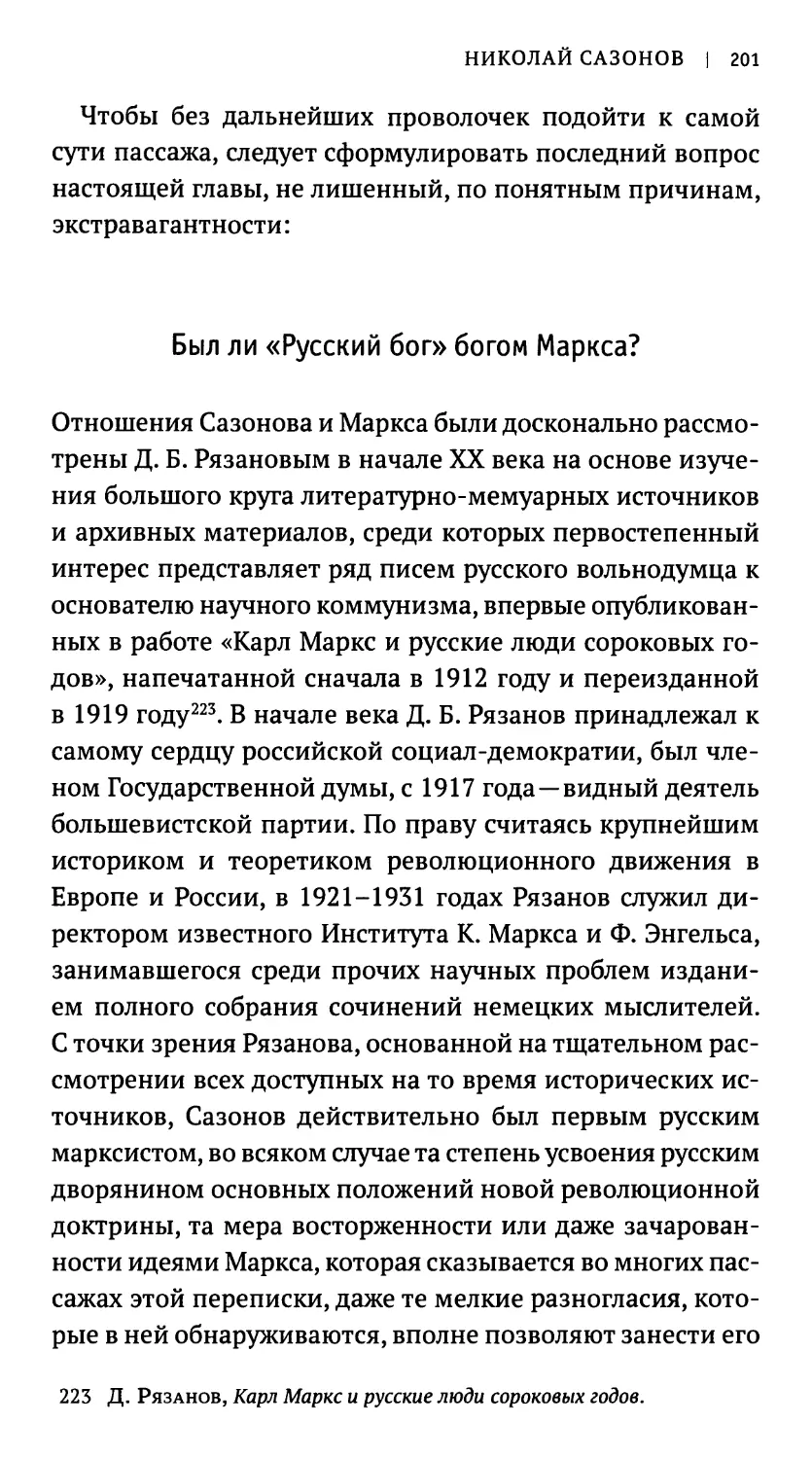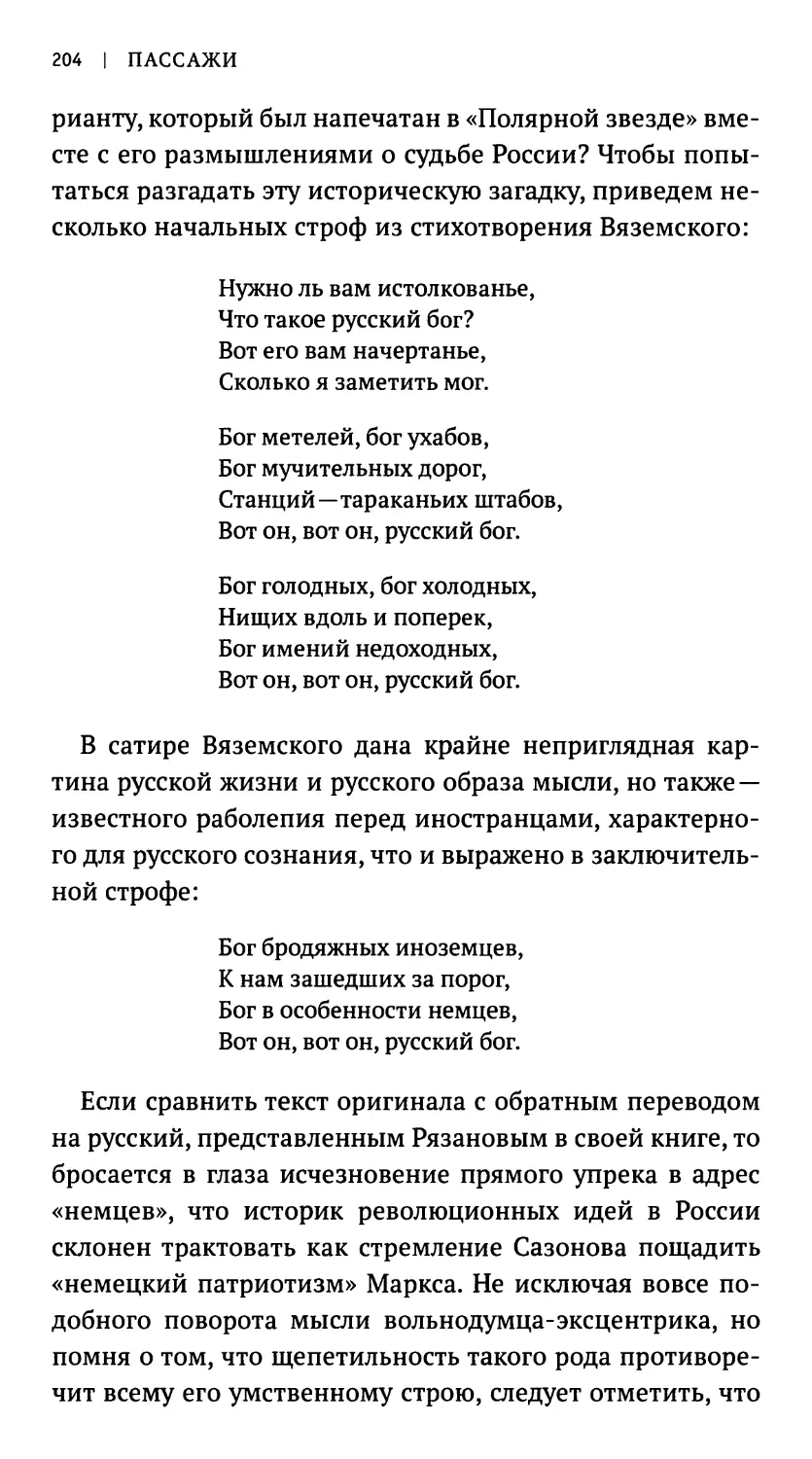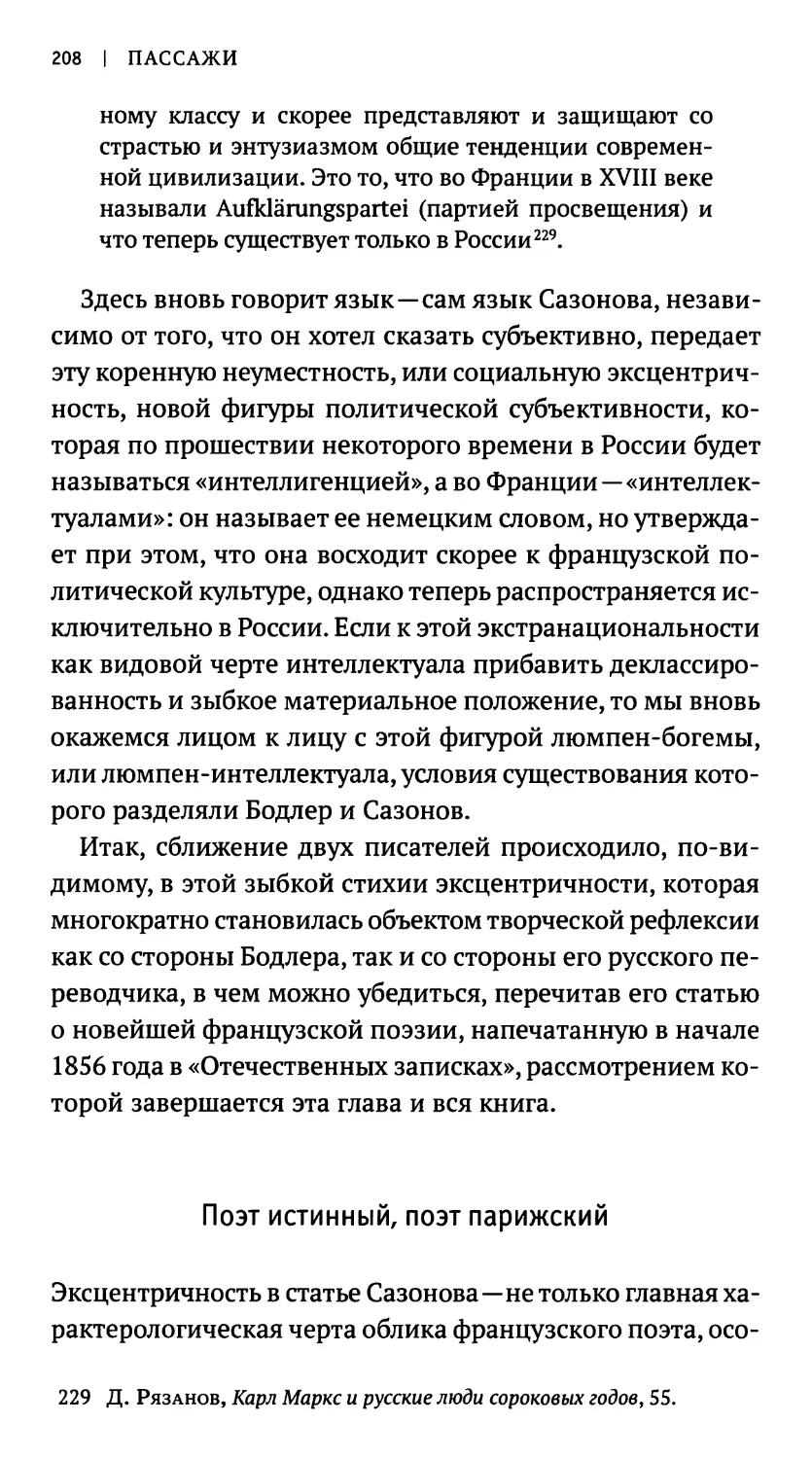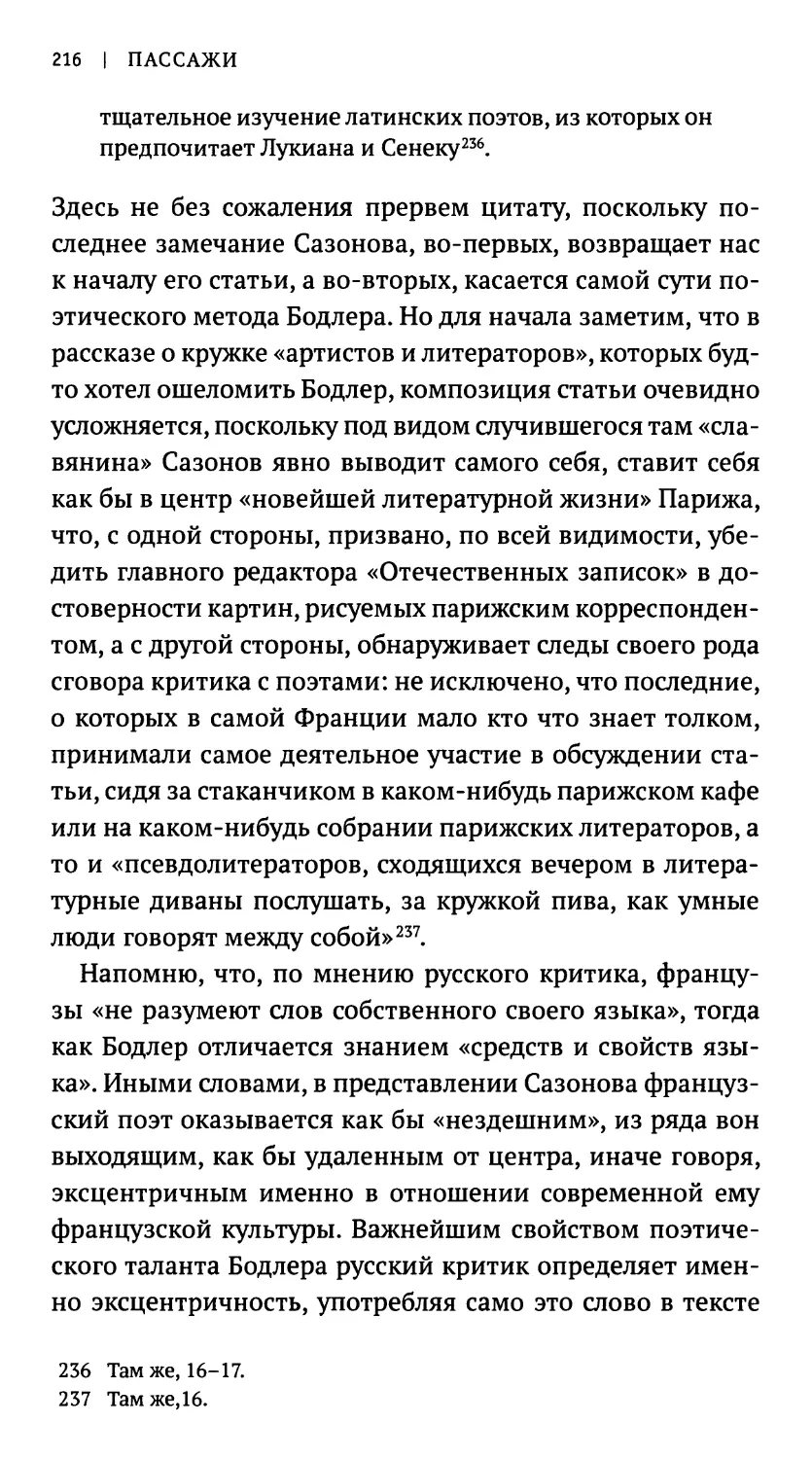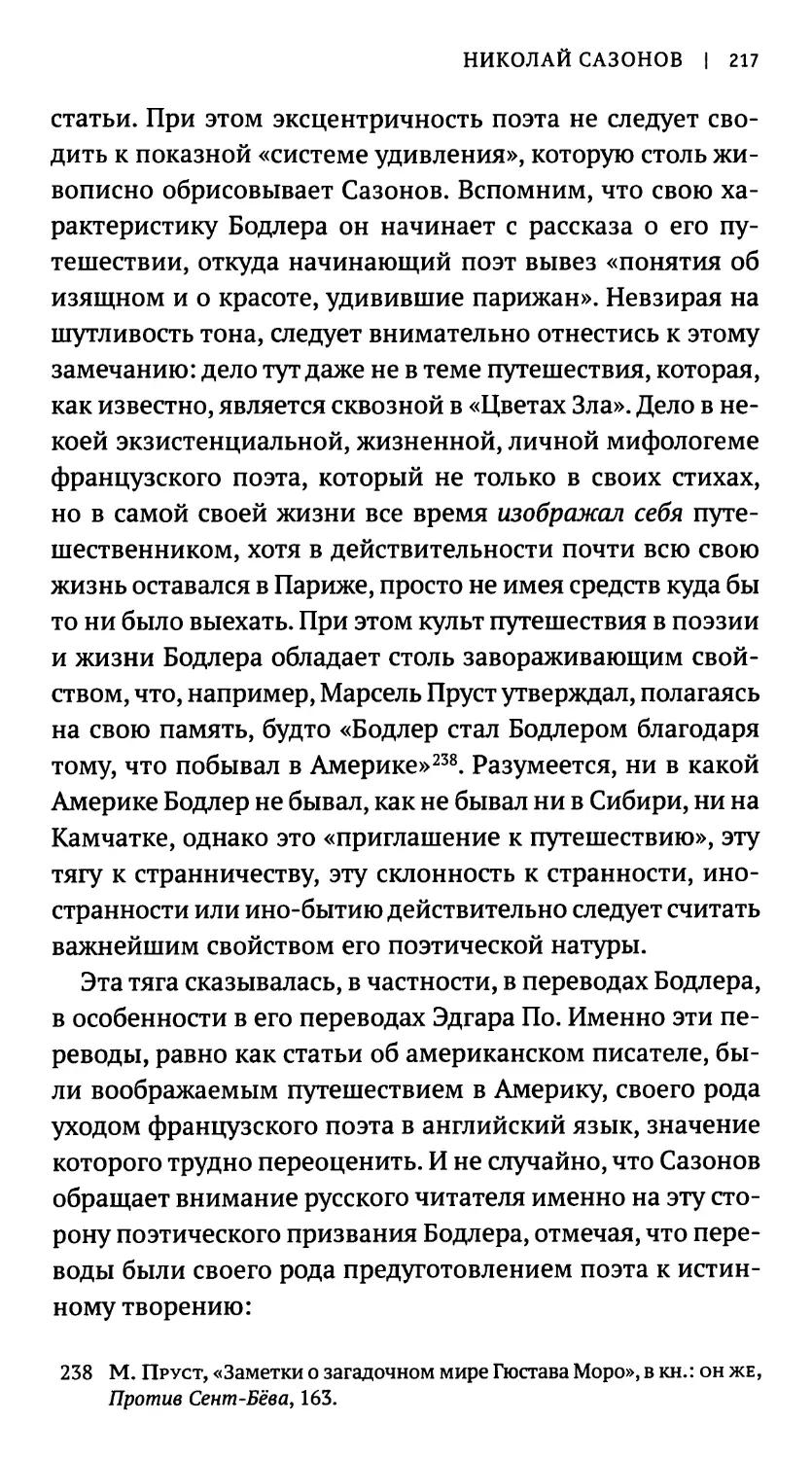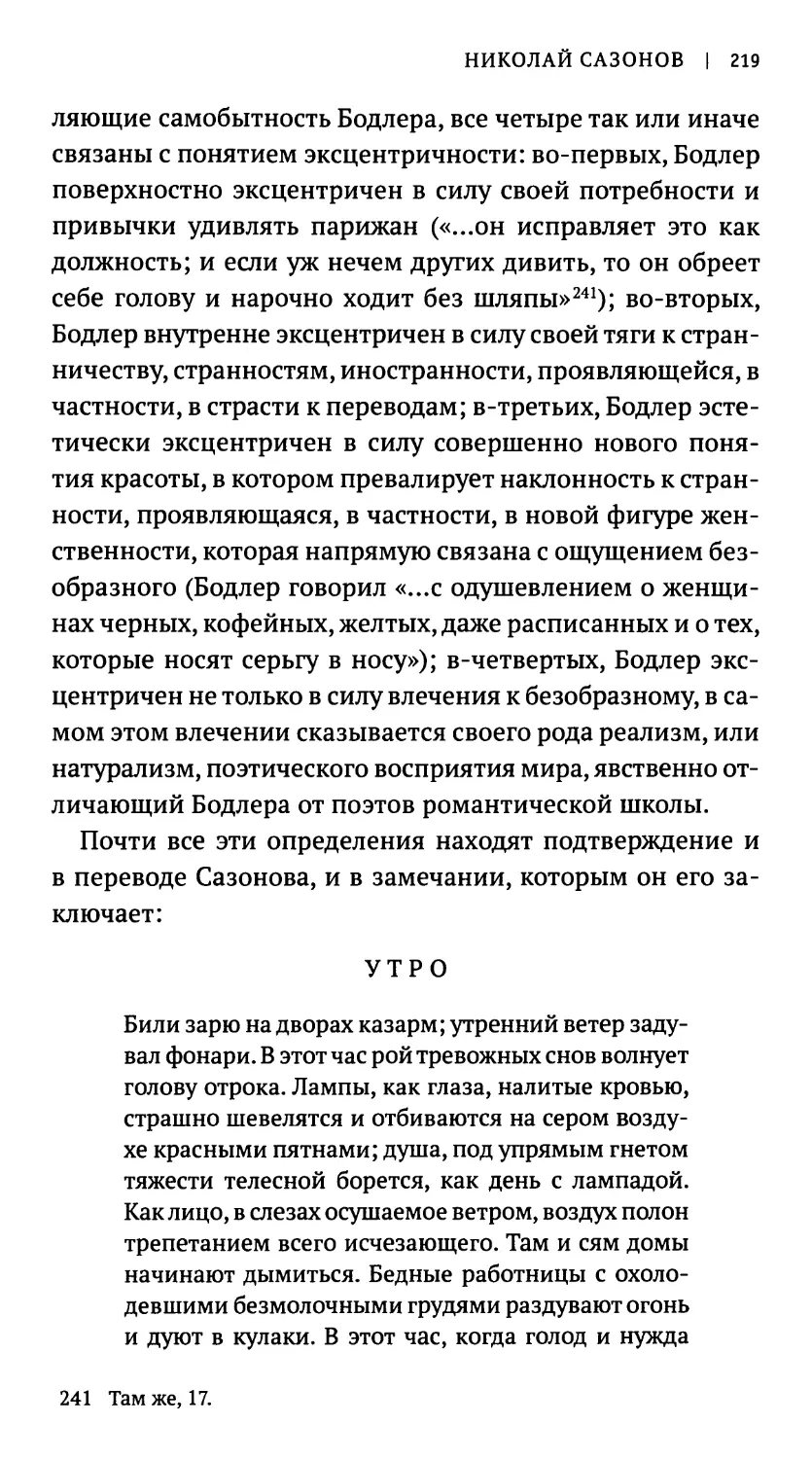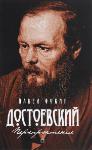Текст
Издание осуществлено в рамках
программы содействия издательскому делу «Пушкин»
при поддержке Посольства Франции в России
Cet ouvrage, publié dans le cadre du
programme d’aide à la publication Pouchkine,
a bénéficié du soutien de l’Ambassade de France en Russie
С. Л. ФОКИН
ПАССАЖИ
ЭТЮДЫ
О БОДЛЕРЕ
MACHINA
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Фокин С. Л.
Пассажи: Этюды о Бодлере.—СПб.: Machina, 2011.—224 с.
Творчество Шарля Бодлера (1821-1867) было воспринято в России
с поистине беспредельной всеотзывчивостью. В известном смысле, он
стал одним из самых русских среди всех русских поэтов «серебряного
века». Прискорбным следствием русского упоения Бодлером стало ума¬
ление или даже абсолютная редукция поэтического гения француз¬
ского писателя в главной его направленности—быть чужим всему и вся.
В предлагаемой читателю серии аналитических этюдов предприня¬
та попытка вернуть Бодлера современности, переосмыслить персо¬
нальную историю поэта. Его опыт поверяется мыслью В. Беньямина,
М. Бланшо, К. Маркса, Ж.-П. Сартра, М. Фуко, сравнивается с творения¬
ми избранных предшественников: маркиза де Сада, Шодерло де Лакло,
Жозефа де Местра,—и устремлениями видных современников: В. Гюго,
П.-Ж. Прудона, Ш.-О. Сент-Бёва, Г. Флобера,—наконец, предстает в свете
полузабытых связей с трудами, утехами и днями русского вольнодумца
Н. И. Сазонова, первого переводчика «Цветов Зла» и «Манифеста ком¬
мунистической партии».
ISBN 978-5-90141-095-0
© С. Л. Фокин, текст, 2011
© А. Г. Наследников, издание, дизайн, 2011
СОДЕРЖАНИЕ
ОТ АВТОРА
9
ПАССАЖ ПЕРВЫЙ
ПОЛИТИКА ПОЭЗИИ
15
Опыт Бодлера: испытание пропастью
16
Книга-опыт и опыт-предел
24
Политика поэзии
28
Первый встречный
34
ПАССАЖ ВТОРОЙ
ИСТОРИЯ С АКАДЕМИЕЙ
И «МОЯ ЧЕРНАЯ СИБИРЬ»
40
Пруст против дядюшки Сент-Бёва
40
Пасть под Купол
46
От Парижа до Камчатки
48
К генеалогии французской Сибириады
54
Русский «лишний» в Париже
59
О богеме и декадансе,
денди и люмпен-интеллектуалах
64
ПАССАЖ ТРЕТИЙ
ПРИЗРАК ПРУДОНА,
ИЛИ ПОЧЕМУ НАДО БИТЬ БЕДНЫХ
79
В поисках самого себя: призрак Прудона
81
Что значит мыслить вспышками,
или Безумие Бодлера
98
«Бей Бедных»,
или Что ты на это скажешь, гражданин Прудон?
юз
ПАССАЖ ЧЕТВЕРТЫЙ
СЛАДОСТРАСТИЕ РЕВОЛЮЦИИ
117
К типологии поэтической субъективности
119
Якобинцы или либертинцы?
122
К литературной генеалогии Бодлера-революционера:
Жозеф де Местр
125
Критика и клиника
130
К литературной генеалогии Бодлера-революционера:
Шодерло де Лакло
135
ПАССАЖ ПЯТЫЙ
СЛОВАРЬ ПРОПИСНЫХ истин
И ПОЭТИКА ОБЩЕГО МЕСТА
140
Лексикография на службе нового порядка
141
Словарь против торжества демократического разума
144
«Безумие» «Бодлера»
152
«Раздетая Бельгия»
157
ПАССАЖ ШЕСТОЙ
НИКОЛАЙ САЗОНОВ —
ПЕРВЫЙ ПЕРЕВОДЧИК ШАРЛЯ БОДЛЕРА
168
Птенец рязанского гнезда
171
Русский «лишний» в Париже?
181
Был ли «Русский бог» богом Маркса?
201
Поэт истинный, поэт парижский
208
ОТ АВТОРА
В начале было недоумение. Точнее, в начале этой книги, по¬
явление которой приурочено к 190-летию со дня рождения
поэта «Цветов Зла», было недоумение, испытанное авто¬
ром, когда ему довелось столкнуться лоб в лоб, то есть тет¬
а-текст, с искрометной словесностью Бодлера и испытать
при этом необычайное удовольствие,—нет, не от текстов,
которые давно вошли в классический канон, а от встречи
с исключительным по своей безудержности и глубине че¬
ловеческим опытом, вместо которого они говорили и ме¬
сто которого приглашали попытать. За удовольствием сра¬
зу последовало недоумение: почему в современной России
у Бодлера так мало читателей; нет, не восторженных почи¬
тателей, способных к месту или не к месту прочесть строч¬
ку или даже целое стихотворение из «Цветов Зла», а имен¬
но вдумчивых читателей, которым хотелось бы поделиться
теми открытиями в человеке, времени и мире, что заклю¬
чены в творениях и замыслах французского писателя, из¬
лагающих исключительный по своей неуместности в наших
канонах человеческий опыт?
По мере чтения и изучения Бодлера первое недоразуме¬
ние автора не только не развеялось, но и укрепилось, при¬
обретя форму нескольких негативных субъективных сужде¬
ний, на утверждение которых направлены критические этю¬
ды, составившие настоящую монографию:
10 | ПАССАЖИ
—суждение первое: Бодлера, по меньшей мере его поэ¬
зию, невозможно читать в канонических русских перево¬
дах, поскольку в какой-то момент истории русской культу¬
ры он был воспринят с такой беспредельной всеотзывчиво-
стью, что уже давно, по меньшей мере со времен русского
символизма, который взрастил себя среди прочего на цве¬
тистых переводах из «Цветов Зла», Бодлер стал одним из са¬
мых русских среди всех русских поэтов «серебряного века»;
прискорбным следствием русского упоения Бодлером ста¬
ло умаление или даже абсолютная редукция поэтического
гения французского поэта в главной его устремленности—
быть чужим всему и вся;
—суждение второе: Бодлера, его поэзию и прозу, невоз¬
можно читать в обрамлении канонических трактовок его
творчества, вписывающих исключительный человеческий
опыт в устойчивую картину литературной эволюции, пред¬
ставляющих его из-за дидактических нужд через отработан¬
ные категории «романтизма», «символизма» или «натура¬
лизма», «декаданса» или «дендизма»; опыт Бодлера ими не
ухватывается, не передается ровно в той мере, в какой оста¬
ется буквально реальным, неповторимым, неумолимым;
—суждение третье: Бодлера, его поэзию и прозу, невоз¬
можно читать в отрыве от персонального опыта поэта в со¬
циальной истории, точнее говоря, в истории французской
литературной жизни XIX века, поскольку именно исключи¬
тельность опыта, афишируемая асоциальность обусловили
то принципиальное обстоятельство, что поэт «Цветов Зла»
как никто другой из современников-авангардистов, гоняв¬
шихся за мимолетностями эпохи, сумел схватить и запечат¬
леть в своих творениях и замыслах как самые существен¬
ные, так и самые мимолетные моменты исторического ста¬
новления.
Позитивная цель настоящей монографии в том, чтобы
вернуть Бодлера современности, повернув персональную
историю Бодлера к нам лицом. Сделать это представляется
возможным не иначе как через ряд локальных срезов, осто¬
рожных углублений в ту обронзовевшую глыбу историческо¬
го знания, окутанную тьмой легенд и мифов, что сопрово¬
ОТ АВТОРА | 11
ждает фигуру поэта в современном культурном сознании.
Отсюда главная методологическая формула, что была вы¬
ведена в ходе критического чтения,—серия аналитических
этюдов, развернутых вокруг нескольких конкретных пасса¬
жей, или литературных событий, заключающих в себе как
элементы поэтических текстов, так и политические жесты
писателя. При этом сама критика, не сосредоточиваясь ни
на тематическом прочтении отдельных сочинений, ни, тем
более, на разработке тотальной исторической картины твор¬
чества писателя, принимает здесь промежуточную форму
пассажей, пробных—пересекающихся и переходящих друг в
друга—ходов, нацеленных прежде всего на поиск «соответ¬
ствий» текстуальным и экзистенциальным фигурам, в кото¬
рые переводила себя субъективность Бодлера.
Одна часть этюдов была опубликована в виде статей, во¬
шедших в состав университетских или академических изда¬
ний; другая представлена в докладах, подготовленных для
нескольких научных собраний; третья сложилась в ходе ра¬
боты над книгой:
—«Об образе „черной Сибири“ в „Цветах Зла“»/XXIV Меж¬
дународная филологическая конференция. Филологический
факультет СПбГУ, 15-20 марта 2004 г. Напечатано: Республика
словесности. Франция в мировой интеллектуальной культу¬
ре / Отв. ред. С. Н. Зенкин (М., НЛО, 2005);
—«Политика поэзии: опыт Шарля Бодлера» / I Всерос¬
сийская конференция памяти Л. Г. Андреева. Кафедра исто¬
рии зарубежной литературы МГУ имени М. В. Ломоносова,
19-20 июня 2007 г. Напечатано: Вестник истории, литера¬
туры, искусства, т. 7 (М., Собрание, 2010);
—«Бегун образованной России и проклятый поэт Фран¬
ции: Николай Сазонов и Шарль Бодлер» / Шарль Бодлер и
Вальтер Беньямин: эстетика и политика. Международная
конференция, организованная кафедрой романских языков
и перевода СПбГУЭФ, Австрийской библиотекой в Санкт-Пе-
тербурге, Смольным институтом свободных искусств и наук
и Институтом русской литературы РАН (Пушкинский дом),
21-22 апреля 2008 г. Напечатано: Русская литература, 2009,
№3;
12 | ПАССАЖИ
—«Словарь прописных истин Шарля Бодлера / Интеллек¬
туальный язык эпохи: история идей, история слов. Между¬
народная конференция, Москва, РГГУ, 16-17 февраля 2009 г.
Напечатано: Интеллектуальный язык эпохи: история идей,
история слов / Отв. ред. С. Н. Зенкин (М., НЛО, 2011);
—«Шарль Бодлер и Жозеф де Местр: критика и клиника
революции» / Актуальность Жозефа де Местра, Франко-рос¬
сийская конференция, Москва, РГГУ, 19-20 июня 2009 г.;
—«Русский „лишний“ в Париже: Николай Сазонов в зер¬
кале сочинений своих современников (Анненков, Герцен,
Маркс)»/ Международная конференция «Франция—Россия:
интеллектуалы, власть и литература (XVIII-XX вв.)». Париж,
Университет Париж-Сорбонна, 25-27 ноября 2010 г.;
—«Бодлер и Прудон, или Почему надо бить бедных» / Bon -
росы литературы, 2011, № 2.
Для настоящего издания все тексты были дополнены и ис¬
правлены с учетом замечаний, высказанных в ходе редакту¬
ры статей или обсуждения докладов моими досточтимыми
коллегами, которым хотелось бы высказать здесь искрен¬
нюю признательность. Это В. Е. Багно, Г. М. Бонгард-Левин,
П. Р. Заборов, С. Н. Зенкин, В. А. Мильчина, О. Ю. Панова,
Т. В. Соколова, И. О. Шайтанов. Разумеется, все огрехи, остав¬
шиеся в книге,—на совести автора.
Особую благодарность хотелось бы выразить Д. В. Тока¬
реву, взявшему на себя труд прочесть всю монографию.
Кроме тех случаев, когда в тексте указаны имена перевод¬
чиков, переводы с французского осуществлены автором.
ПАССАЖИ
...Помешать пониманию духовного смысла, такого оче¬
видного в этих пассажах, может лишь слепота, подобная
той, которую плоть насылает на разум, когда хочет под¬
чинить его себе и принудить к молчанию.
Б. Паскаль, Мысли
Такое мнение, весьма лестное для гостя, составилось
о нем в городе, и оно держалось до тех пор, покамест
одно странное свойство гостя и предприятие, или, как
говорят в провинциях, пассаж, о котором читатель ско¬
ро узнает, не привело в совершенное недоумение почти
весь город.
Н. В. Гоголь, Мертвые души
Здесь недостает одного пассажа примерно в шесть стра¬
ниц, в котором содержится набросок краткой истории
богемы по поколениям. В нем определяется золотая
богема Готье и Нерваля, богема поколения Бодлера,
Ассалино, Дельво, наконец, новейшая пролетаризован-
ная богема, глашатаем которой стал Валлес.
В. Беньямин, Шарль Бодлер. Лирический поэт
в апогее капитализма
ПАССАЖ ПЕРВЫЙ
ПОЛИТИКА ПОЭЗИИ
В конце ЗО-х годов XX века французский поэт и этно¬
граф Мишель Лейрис в разговоре с немецким критиком
Вальтером Беньямином назвал «Цветы Зла» «самой не¬
примиримой поэтической книгой»1. Поэт, прошедший
школу сюрреализма и посему чрезвычайно восприим¬
чивый к «алхимии слова», к тем его смыслам и значе¬
ниям, что не фиксируются записными лексикографами,
но обнаруживают себя в поэтической работе, употребил
при этом весьма многозначительное отглагольное прила¬
гательное «irréductible»: в связке с таким определением
книга Бодлера представала не подлежащей сокращению,
как иная дробь, не сводимой к чему бы то ни было (мате¬
матический смысл); не могущей быть вправленной, не-
вправимой, как грыжа, или неустранимой, как боль (ме¬
дицинский смысл); неумолимой, упорной, непреклонной,
готовой стоять до конца, как иные герои (риторический
смысл). И во всех трех смыслах—математическом, меди¬
цинском и риторическом — книга Бодлера в связке с таким
определением явно приобретала черты человеческого, эк¬
зистенциального опыта.
1 Walter Beniamin, Charles Baudelaire. Un poète lyrique à l'apogée du ca¬
pitalisme (Paris, Payot, 2002) 237.
16 | ПАССАЖИ
Беньямин, который в это время работал над книгой об
авторе «Цветов Зла», не мог остаться равнодушным к по¬
добному определению, оно говорило в пользу его пони¬
мания Бодлера, поскольку основание исключительности
этой книги он усматривал именно в необыкновенности
экзистенциального опыта ее создателя. Вот почему не¬
мецкий критик, соглашаясь с определением Лейриса, до¬
бавил для себя: «...Наверное, понять это можно, вообра¬
жая, что опыт, который ее обосновывает, так и остается
непревзойденным»2. В чем опыт Бодлера мог показаться
Беньямину непревзойденным, каковы были внутренние
движущие силы писателя в этом опыте, что за мотивы из¬
вне воздействовали на это движение, к чему оно было на¬
правлено, до каких пределов оно дошло, чтобы писатель
иной эпохи, иной культуры и иного языка мог подумать,
что дальше Бодлера в таком опыте никто не заходил?
Опыт Бодлера: испытание пропастью
Понятие опыта в мысли Беньямина многозначно, но, на¬
верное, главной характеристикой опыта «современно¬
го человека» («ГЬошше moderne»), массово явившегося в
Европе после Первой мировой войны, немецкий критик
считал его «оскудение», «обесценивание», «девальвацию»;
современный человек не может никому передать никако¬
го опыта, поскольку никогда прежде приобретенный че¬
ловеческий опыт не получал столь решительного и столь
скоропостижного опровержения:
.. .Акции опыта сильно упали в цене.... Стоит только за¬
глянуть в газету, как сразу убеждаешься, что они вновь
достигли рекордно низкого уровня, что не только лик
внешнего мира, но и облик мира нравственного за одну
ночь претерпел изменения ... Разве мы не заметили,
2 Ibid., 237.
ПОЛИТИКА ПОЭЗИИ | 17
что, когда закончилась война, люди пришли с фрон¬
та онемевшими? Вернулись, став не богаче, а беднее
опытом... Ведь никогда прежде никакой опыт не пред¬
ставал столь явной ложью, как опыт стратегов в усло¬
виях окопной войны, экономический опыт в условиях
инфляции, телесный опыт в сражениях с применением
тяжелой военной техники, нравственный опыт в по¬
ступках сильных мира сего3.
Самым очевидным последствием «оскудения опыта»
является внутреннее опустошение человека, каковое и
бросает последнего от одной крайности к другой. Пустота,
заполнявшаяся некогда непререкаемым наследием стар¬
ших и непреложными культурными и религиозными тра¬
дициями, словом, неоспоримым опытом, передававшимся
«из уст в уста» или переходившим из «истории» в «исто¬
рию», настоятельно требует заполнения, отсюда, справед¬
ливо замечает Беньямин, неодолимая тяга современных,
или «последних», людей ко всякого рода призракам, хи¬
мерам и пережиткам:
...Возвращение к жизни астрологии и йоги, Христиан¬
ской науки и хиромантии, вегетарианства и гности¬
цизма, схоластики и спиритизма. При этом дело идет
не столько о настоящем возвращении к жизни, сколько
о своего рода гальванизации4.
Немецкий критик, скрывавшийся в Париже от гитле¬
ровского режима, наверняка мог внести в список призра¬
ков, ринувшихся в пустоту человеческого опыта, и дру¬
гие псевдодуховные движения, захватывавшие в то вре¬
мя человеческие массы, но для нас важнее отметить, что
«обеднение» опыта человека по необходимости возбуж¬
3 Вальтер Беньямин, «Рассказчик. Размышления о творчестве Нико¬
лая Лескова», в кн.: он же, Маски времени. Эссе о культуре и литера¬
туре / Сост., предисл., и прим. А. В. Белобратова (СПб., Симпозиум,
2004) 384. Специально о связи «опыта» и «скудости»: Walter Benia¬
min, «Expérience et pauvreté», in: id., Œuvres II (Paris, Gallimard, 2000)
364-372.
4 Walter Beniamin, Expérience et pauvreté. 566.
18 | ПАССАЖИ
дает в нем потребность в «обогащении» своего существо¬
вания новыми или забытыми старыми переживаниями;
при этом в удовлетворении такого рода потребности че¬
ловек, не сдерживаемый ни авторитетом церкви, ни опы¬
том старших, ни культурной традицией, способен дойти
до самых крайностей.
Представляется, что подобная потребность двигала и
Бодлером, чье существование пестрит пустотами, прова¬
лами и неудачами. В самом деле: ранняя смерть боготво¬
римого отца и поспешное повторное замужество обожае¬
мой матери; неодолимая отроческая тяга к поэзии и не¬
выносимый гнет отчима-солдафона; мятежная и беспут¬
ная юность и «опекунский совет», на всю жизнь ограни¬
чивший доступ к отцовскому наследству; острое сознание
своего поэтического призвания и распущенность личного
существования, в котором случайные связи перемежаются
периодическими обострениями венерического заболева¬
ния; афишируемый культ дендизма и унизительная нище¬
та, вынуждающая влезать в долги и скрываться от креди¬
торов; более чем пятнадцатилетние бдения над «Цветами
Зла» и громкий литературный скандал вместо чаемой сла¬
вы; грезы о своем угле и метания между требовательной
матушкой и капризной стареющей пассией; нескрываемое
отчаяние, беспросветная нищета последних лет и нелепая
смерть, лишившая сначала дара речи и движения и только
по прошествии нескольких месяцев—жизни.
Не слишком ли много злоключений на одного человека?
Или, если поставить вопрос иначе: не слишком ли много
злоключений в опыте этого человека, чтобы списать их на
волю случая? Не было ли здесь злого умысла? И коль ско¬
ро такой умысел невозможно приписать никакому злому
гению, то не следует ли предположить, что автор «Цветов
Зла» сам искал всех своих злосчастий? Что именно он, а не
случай и не какой-то злокозненный гений в ответе за эту
разнесчастную жизнь? Как раз такой вопрос задает Жан-
Поль Сартр на первой странице своей книги «Бодлер», ко¬
ПОЛИТИКА ПОЭЗИИ I 19
торая по праву считается самым нелицеприятным иссле¬
дованием жизненного опыта величайшего французского
поэта:
А что если эта жизнь была им заслужена? Что если,
вопреки расхожему мнению, нам достается лишь та
жизнь, которую мы заслужили?5
Ответ Сартра на этот вопрос хорошо известен: во всех
своих несчастьях Бодлер виноват сам, ибо бунт против
окружающего мира не стал его подлинным, последова¬
тельным выбором; поэт на всю жизнь остался испорчен¬
ным ребенком, чье бунтарство никогда не превосходило
масштабов семейных сцен, которые он закатывал то ма¬
тери, то любовницам, то буржуазному миру в целом. В на¬
шу задачу не входит систематическая критика того ис¬
толкования опыта Бодлера, которое было представлено
Сартром6; замечу, однако, что все провалы, все неудачи,
все злосчастия поэта, искал он их или не искал, уравно¬
вешиваются его бесспорной творческой победой —кни¬
гой «Цветы Зла», подлинным торжеством французского
поэтического гения. Если же к ней присовокупить другие
труды Бодлера—малые поэмы в прозе, определившие но¬
вые пути в развитии поэтического языка; переводы с ан¬
глийского, предвосхитившие новейшую поэтику литера¬
турного перевода; художественную критику, заложившую
5 Жан-Поль Сартр, «Бодлер» / Пер. Г. К. Косикова, в кн.: Шарль
Бодлер, Цветы Зла. Стихотворения в прозе. Дневники / Сост., вступ. ст.
Г. К. Косикова (М., Высшая школа, 1993) 319.
6 Наиболее убедительная критика концепции Сартра содержится в ра¬
ботах Ж. Батая, М. Бланшо и Ж. Блена: 1) Georges Bataille, «Bau¬
delaire», in: id., Œuvres Complètes, IX (Paris, Gallimard, 1979) 189-209.
Речь идет о второй главе книги «Литература и зло» (1957), первый
вариант которой был опубликован в журнале «Критик» в феврале
1947 г. в виде развернутой рецензии на работу Сартра. Журнальный
вариант был существенно переработан для книжной публикации,
начиная с более чем провокационного заглавия—«Обнаженный
Бодлер»; 2) Maurice Blanchot, «L’Echec de Baudelaire», in: id., La part
du feu (Paris, Gallimard, 1949) 133-151; 3) Georges Blin, Le sadisme de
Baudelaire (Paris, Corti, 1948) 16-37.
20 I ПАССАЖИ
основания современного метода рассуждения о произве¬
дении искусства; наконец, грандиозные начинания по¬
следних лет, пусть даже и не завершенные,—то вопрос о
существе опыта Бодлера можно было бы сформулировать
следующим образом: а что если все творческие прорывы
в литературе, которые совершил автор «Цветов Зла», объ¬
ясняются исключительно тем, что он, вопреки здравому
смыслу, ставил в своем экзистенциальном опыте, не на
счастье, а на несчастье, не на исполнение, а на опустоше¬
ние опыта?
Один из этюдов, посвященных Бодлером своему двойни¬
ку в американской литературе Эдгару По, начинается с та¬
ких строк:
Есть роковые судьбы; в литературе каждой страны бы¬
вают такие люди, у которых прямо на морщинистых
лбах выведено таинственными, извилистыми пись¬
менами: невезуха. Недавно перед судом предстал один
несчастный, на лбу которого была престранная татуи¬
ровка: нет в жизни счастья. То есть он повсюду таскал
с собой этикетку своей жизни, как книга—название;
допрос подтвердил, что существование его соответ¬
ствовало надписи7.
В критике неоднократно говорилось об автобиографи¬
ческом подтексте этюдов Бодлера о По, но в этих строчках
сказывается не просто сходство двух роковых литератур¬
ных судеб—здесь говорит тождество двух экзистенциаль¬
но-творческих опытов, субъекты которых, судя по всему,
делали ставку не на удачу, а на неудачу, не на выигрыш, а
на проигрыш, на провал и пустоту.
Итак, если в начале XX века пустота человеческого опы¬
та распространилась на массы, впервые столкнувшиеся с
7 Сн. Baudelaire, «Edgar Allan Рое, sa vie et ses ouvrages», in: id., Œuvres
complètes, II / Texte établi, présenté, annoté par C. Pichois (Paris, Galli¬
mard, 1975) 249.
ПОЛИТИКА ПОЭЗИИ | 21
потрясениями поистине мирового масштаба, то в сере¬
дине XIX столетия изведать нулевую степень опыта слу¬
чалось главным образом одиночкам. Другими словами,
«Цветы Зла» остаются единственной в своем роде поэти¬
ческой книгой, поскольку ее автор, которому открылось
ничтожество опыта, сумел превратить это ничто в глав¬
ную движущую силу своего существования и своего твор¬
чества. Парадоксальность положения Бодлера определя¬
ется именно тем, что он, в отличие от фронтовиков 1914—
1918 годов, не онемел, не утратил дара речи, но, наоборот,
вложил свой опыт ничто в основание поэтического творе¬
ния и собственного жизнестроительства.
Обратимся для иллюстрации этого положения к сти¬
хотворению «Пропасть», написанному уже после выхода
в свет второго издания «Цветов Зла» (1861) и включен¬
ному издателями в третье, посмертное, издание книги
Бодлера:
ПРОПАСТЬ
Перед Паскалем бездна приоткрыла лик.
Всё пропасть, и мечта, и слово, и свершенье,—
Так часто над собой я чувствую круженье
Того же ужаса, о, как же он велик!
Вверху, внизу, пустот повсюду изверженье,
Молчание пространств, в которых нем мой крик,
И ты, Господь, перстом безжалостных улик
Рисуешь без конца кошмаров отраженье.
Меня страшит мой сон, как мерзкая дыра,
В которой чудищ сонм, и их кормить пора,
Сквозь каждое окно лишь пустоту и видишь.
Испытывая трепет, о душа моя,
Как жаждешь ты теперь глотка небытия.
Ах! Никогда из Чисел и Существ не выйдешь.
Пер. Ж. Баймухаметова8
8 Шарль Бодлер, «Пропасть» / Пер. Ж. Баймухаметова, Аполлинарий,
1994, №3,91.
22 | ПАССАЖИ
Перевод Жаната Баймухаметова чуть ближе к оригина¬
лу, чем классический перевод Бальмонта9, однако и в нем
противостояние поэтического субъекта и пленительно¬
го ничто, которое пытается передать Бодлер, несколько
сглаживается, главным образом из-за замены в перево¬
де местоимения первого лица безличными конструкция¬
ми. Между тем тяга к обезличиванию, деперсонализации,
десубъективации, безусловно свойственная поэтической
речи Бодлера, здесь определенно уравновешивается по¬
следовательным утверждением поэтического субъекта
через повтор «я» в 9 и 13-м стихах («Я страшусь сна...»,
«Я вижу лишь бесконечность...») и прямое соотнесение его
с духовной субстанцией в 12-м стихе («И мой дух, осаж¬
денный смятеньем все время...»). Через «я» в стихотворе¬
ние вторгается субъективность поэта, в это «я» он вкла¬
дывает не только «жажду небытия», «вкус к небытию»
(по названию стихотворения, написанного за несколько
лет до «Пропасти»), но и определенное присутствие ду¬
ха. Характерно, что в «Пропасти» поэтический субъект
отвергает сон как возможность спасения от чар небытия:
если в «Жажде небытия» (1858) поэт призывает свой дух
9 Паскаль носил в душе водоворот без дна.
—Все пропасть алчная: слова, мечты, желанья.
Мне тайну ужаса открыла тишина,
И холодею я от черного сознанья.
Вверху, внизу, везде бездонность, глубина,
Пространство страшное с отравою молчанья.
Во тьме моих ночей встает уродство сна
Многообразного,—кошмар без окончанья.
Мне чудится, что ночь—зияющий провал,
И кто в нее вступил—тот схвачен темнотою.
Сквозь каждое окно—бездонность предо мною.
Мой дух с восторгом бы в ничтожестве пропал,
Чтоб тьмой бесчувствия закрыть свои терзанья.
—А! Никогда не быть вне Чисел, вне Созданья!
Пер. К. Бальмонта
Шарль Бодлер, Цветы зла / Изд. подготовили И. И. Балашов,
И. С. Поступальский (М., Наука, 1970) 129.
ПОЛИТИКА ПОЭЗИИ | 23
«бесстыдным сном» (Couche-toi sans pudeur...)10 забыть¬
ся, то здесь его сознание силится бодрствовать перед ли¬
цом «ужасной и пленительной» пустоты. Его дух, как бы
ни одолевало его смятенье, сколь бы ни ревновал он «бес¬
чувственности ничто», остается на стороне «Чисел» и «Со¬
зданий», то есть творчества и существования.
Возвращаясь к понятию опыта Бодлера, следует заме¬
тить, что фигура поэтического субъекта стихотворения
«Пропасть» почти дословно совпадает с автобиографиче¬
ской фигурой Бодлера в том виде, который почти в то же
самое время воплощается в заметках, относящихся к трем
титаническим замыслам последних лет жизни поэта (фи¬
лософский трактат в афоризмах «Фейерверки», автобио¬
графическое эссе «Мое обнаженное сердце» и философско-
политический памфлет «Раздетая Бельгия»):
Как в моральном, так и в физическом плане я всегда ис¬
пытывал ощущение пропасти, не только пропасти сна,
но и пропасти действия, грезы, воспоминания, жела¬
ния, сожаления, раскаяния, прекрасного, числа и т. п.
Я с радостью и ужасом культивировал свою истерию.
[Сегодня]. Теперь я всегда подвержен смятенью, и се¬
годня, 23 января 1862 г., мне было дано необычайное
предупреждение: мне почудилось, что надо мной про¬
шелестело крыло слабоумияп.
Точная дата заметки позволяет не только напрямую со¬
отнести ее со стихотворением «Пропасть» (опубликован¬
ным 1 марта 1862 года), но и отметить крайне напряжен¬
ный характер записи: ясная мысль поэта отчетливо фик¬
10 Ср.: «...Ложись, как старый конь, / будь туп» (пер. В. Шор; там же,
117.)
11 Шарль Бодлер, Цветы зла. Стихотворения в прозе. Дневники, 281.
Перевод немного изменен. Здесь приходится заметить, что данное
русское издание того, что лишь по недоразумению именуется по сей
день «Дневниками» Бодлера, не выдерживает критики в свете по¬
следних текстологических изысканий. На сегодняшний день кано¬
ническим принято считать издание 1986 г., в котором все посмертно
опубликованные тексты Бодлера распределены по трем разделам:
Сн. Baudelaire, Fusées. Mon cœur mis à nu. La Belgique déshabillée / Éd.
d’André Guyaux (Paris, Gallimard, 1986).
24 | ПАССАЖИ
сирует болезненное внутреннее состояние, точнее говоря,
пытается определить то, что по существу беспредельно,
наваждение пустоты, сопутствующее всем его начинани¬
ям. Это экзистенциальное соответствие оказывается кри¬
чащим при сопоставлении почти буквального перевода
первых стихов и автобиографического признания:
Паскаль имел с собою пропасть, кружившуюся с ним.
—Увы! Все—бездна: действие, желание, греза,
Речь! И на моих власах, встающих дыбом
То и дело от Испуга, я чую ветра шелест.
Вверху, внизу, повсюду глубина, беремя,
Тишина, пространство ужаса и плена.
Если в поэтической речи ужас бытия скрадывается срав¬
нением поэтического субъекта с мыслителем пропасти, то
в автобиографической заметке поэт с беспристрастностью
врача выявляет в себе пагубную склонность: показывает,
что его «я» было не просто подвержено болезненному ми¬
ровосприятию; оно развивало, культивировало его в се¬
бе, пока не получило грозного предупреждения, что на¬
стоящее, а не разыгрываемое безумие уже не за горами.
Другими словами, столкнувшись некогда с опытом без¬
умия, Бодлер не только не отступает, но пытается прой¬
ти его до конца, до последней грани, за которой субъект,
лишаясь возможности играть в безумие, действительно
теряется, распадается, гибнет. Именно в этой недюжин¬
ной способности пойти до конца опыт Бодлера мог по¬
казаться Беньямину «менее всего превзойденным», она
же дает нам основание сопоставить опыт Бодлера с пред¬
ложенными Мишелем Фуко понятиями «опыт-предел» и
«книга-опыт».
Книга-опыт и опыт-предел
Итак, мы исходим из того, что «Цветы Зла» не просто кни¬
га, очередная или даже первая в ряду поэтических книг
ПОЛИТИКА ПОЭЗИИ | 25
французской словесности XIX века, но «книга-опыт»: она
содержит в себе не только самое последовательное для то¬
го времени начинание по обновлению французской поэ¬
тической традиции, но и самое рискованное предприятие
по изменению того, что можно назвать уделом француз¬
ского поэта. Возделывая «Цветы Зла», то есть решительно
расширяя тематическую территорию французской поэзии,
Бодлер не мог отказать себе в удовлетворении потребно¬
сти изведать зло на себе. Нельзя сказать наверное, что он
всегда сознательно искал для себя зла, но можно утверж¬
дать, что он никогда не избегал возможности углубиться
в опыт зла. По точному замечанию Клода Пишуа, само¬
го авторитетного французского исследователя творчества
Бодлера, «желание показать красоту зла требует познания
зла»12. Многие современники поэта, особенно из ближай¬
шего окружения, воспринимали его стихи как отрывки ав¬
тобиографии; сам Бодлер так отзывался на этот счет:
...В эту жуткую книгу я вложил все свое сердце, всю
свою нежность> всю свою религию (ряженую), всю свою
ненависть13.
Разумеется, отражая обвинения в посягательстве на мо¬
ральные устои общества, Бодлер не раз заявлял, что по¬
эзия «преследует чуждые морали цели», однако та мера,
или, точнее, та безмерность, с которой поэт вложил в свою
главную книгу свой экзистенциальный опыт, позволяет
поставить под вопрос все те оценки, где автор «Цветов
Зла» выставляется поборником «искусства для искусства».
Безусловно, первым делом поэзия служит поэзии, но этим
ее функции не исчерпываются; поэзии присущ опытный
характер, который отнюдь не сводится к поэтическому
эксперименту, но включает в себя работу поэта над со¬
12 Claude Pichois, «Introduction», in: Charles Baudelaire, Les Heurs du
Mal /Éd. de C. Pichois (Paris, Gallimard, 1996), 10-11.
13 Ch. Baudelaire, Correspondance / Choix et présentation de C. Pichois
et J. Thélot (Paris, Gallimard, 2000), 376.
26 I ПАССАЖИ
бой, вот почему «Цветы Зла» могут быть отнесены к то¬
му роду произведений, которые Фуко называл «книгой-
опытом»14.
Поясним мысль философа. Книга-опыт никогда не сво¬
дится к буквальному, дословному содержанию, сколь бы
богатым или даже неисчерпаемым оно ни казалось; в кни¬
ге-опыте всегда есть некий остаток, не исчерпываемый
никаким, даже самым изощренным толкованием, этот
несократимый остаток заключает в себе неизъяснимые в
слове боли, тревоги, заботы, в которых рождались слова,
строки, стихи, иначе говоря, ту «долю неведомого, отку¬
да ведет происхождение всякое стихотворение»15. Самое
важное в этой доле то, что в ней осталось от автора, от его
индивидуального опыта, ибо, завершив книгу, оставив в
ней крупицы себя, он переходит к иным творческим и эк¬
зистенциальным возможностям. По завершении книги-
опыта автор становится другим, в нем что-то отмирает,
в завершенной книге остается частичка его субъективно¬
сти, тогда как сам он ищет новых возможностей своего «я»,
обращается к другой книге, погружается в другой опыт.
Рассказывая о своем опыте, оставшемся в «Истории безу¬
мия», Фуко признавался:
Опыт есть нечто такое, что проделываешь в одиночку,
и, однако же, полностью он осуществим лишь постоль¬
ку, поскольку выходит за рамки чистой субъективности
туда, где другие смогут, не скажу в точности его повто¬
рить, но по меньшей мере с ним столкнуться или пере¬
сечься16.
В другом месте, связывая понятие книги-опыта с твор¬
чеством таких писателей, как Жорж Батай, Морис Бланшо
и Пьер Клоссовски, Фуко подчеркивал, что существо такого
14 Michel Foucault, [Entretien avec Michel Foucault], in: id., Dits et écrits,
IL 1976-1988 (Paris, Gallimard, 2001) 864.
15 Maurice Blanchot, «Une édition des Meurs du Mal», in: id., Faux pas
(Paris, Gallimard 1996) (1943) 180.
16 Michel Foucault, [Entretien avec Michel Foucault], 866.
ПОЛИТИКА ПОЭЗИИ I 27
опыта—в достижении неких пределов, краев, за которыми
субъект творчества уже не может быть прежним:
Идея опыта-предела, в котором субъект отрывается от
самого себя ... определяет то, что, сколь бы скучными,
сколь бы научными ни казались мои книги, я всегда
воспринимал их как прямые опыты, направленные
на то, чтобы оторваться от самого себя, помешать себе
быть прежним17.
Исследование экзистенциального опыта, на котором
зиждется книга-опыт, не может быть представлено в ви¬
де биографического описания; рассматривать такой опыт
значит со всем возможным вниманием следовать тем ли¬
ниям жизни и письма поэта, в которых он достигал пре¬
делов, границ, концов, где он исчерпывал последние воз¬
можности своего существования и языка, доходил до край¬
ности, откуда уже нельзя было двинуться дальше, где он
останавливался и возвращался назад, чтобы сначала прой¬
ти путь до какого-то другого конца, предела, или, наобо¬
рот, где он заступал за опасную грань. Такого рода опыт—
постоянное испытание и пытание себя, опыт-пытка. По
точному замечанию Фуко, отдаваться такого рода опыту—
«значит пытаться достичь точки жизни предельно близкой
к тому, что невозможно пережить» (invivable)18.
Возвращаясь к «Цветам Зла», следует заметить, что опыт
Бодлера в литературе — по существу своему не клиниче¬
ский, не психиатрический и не психоаналитический, хотя
«случай Бодлера» не раз рассматривался светилами от ме¬
дицины и мэтрами психоанализа19. Опыт Бодлера—прежде
17 Ibid., 1022.
18 Ibid., 862. О понятии опыта-предела в отношении литературы см.
также: Морис Бланшо, «Опыт-предел», в кн.: Танатография Эроса.
Жорж Батай и французская мысль середины XX века (СПб., Мифрил,
1994) 63-77. Ср. также: Martin Jay, «Les limites de Pexpérience-limite»,
in: Georges Bataille après tout/ Sous la direction de Denis Hollier (Paris,
Belin, 1995) 35-59.
19 René Laforgue, L’Echec de Baudelaire. Etude psychanalytique sur la névrose
de Charles Baudelaire (Paris, Denoël, 1931). Книга доктора Лафорга, на-
28 I ПАССАЖИ
всего политический, поскольку, выходя за рамки личных
проблем поэта и не укладываясь в пределы эстетического
формотворчества, он разворачивается в пространстве то¬
го, что можно назвать «политикой поэзии».
Политика поэзии
Политика поэзии, равно как политика литературы вооб¬
ще20, никоим образом не сводится к политическим взгля¬
дам поэта, даже если таковые у него имелись и находили
выражение в тех или иных планах творчества; тем более
не сводится она к тем или иным формам политической ак¬
тивности, даже если поэту случалось к ним обращаться,—
к прямому участию (или принципиальному неучастию) в
событиях, революциях, демонстрациях, партиях, выборах
или заговорах. Политика поэзии, равно как и литературы
вообще, есть тот способ бытия-вместе-с-другими-людьми,
который мало-помалу формируется в сознании и суще¬
ствовании поэта постольку, поскольку, с одной стороны,
он сам так или иначе соотносится с политикой как кол¬
лективной практикой, а с другой — определяет свое пони¬
мание поэзии в связи с последней (даже исключая подоб¬
ную связь, он будет вынужден считаться с подобным ис¬
ключением, чуждостью своей поэзии политики, должен
будет следовать этому установлению, оправдывать его).
Разумеется, такого рода способ бытия-вместе-с-другими-
людьми может характеризовать жизнь любого челове¬
ка, однако в случае поэта, писателя, философа—словом,
в случае с людьми, наделенными исключительно острым
критическим сознанием и самосознанием, он выступает
писанная с позиций ортодоксального психоанализа, надолго опреде¬
лила восприятие Бодлера как безнадежного невротика и импотента.
Среди новейших психоаналитических исследований отметим рабо¬
ты Ж. Старобински: Jean Starobinski, La mélancolie au miroir. Trois
lectures de Baudelaire (Paris, Juillard, 1989).
20 Jacques Rancière, Politique de la littérature (Paris, Galilé, 2007).
ПОЛИТИКА ПОЭЗИИ I 29
своего рода мерилом истины—истины поэзии и истины
жизни.
Политика Бодлера —предмет малоизученный, по мень¬
шей мере в российской истории французской литерату¬
ры21, где все еще популярны интерпретации, представляю¬
щие поэта как поборника искусства для искусства, как пер¬
вого декадента22, как денди, высокомерно противопостав¬
ляющего себя толпе, как праздного фланера, отстраненно
созерцающего бег городской жизни, иными словами, че¬
ловека чуждого треволнений социальной жизни, подвер¬
женного «сплину», что гонит его в иные дали, и витающего
в своих «идеалах» и «облаках», которые еще больше уда¬
ляют его от других людей.
Нельзя сказать, что в такого рода суждениях не схваты¬
ваются отдельные—наиболее броские—черты «политики»
Бодлера, однако следует заметить, что черты эти представ¬
ляют нам не более чем абрис Бодлера-политика, слегка
шаржированный силуэт в духе иных рисунков Констан¬
тина Гиса. При всей привлекательности (или, напротив,
21 Среди зарубежных исследований отметим сразу монографию Пьера
Паше, единственное исследование на французском языке непосред¬
ственно посвященное политике Бодлера: Pierre Раснет, Le premier
venu. Essai sur la politique baudelairienne (Paris, Denoël, 1976). В ряду
немногих политоведческих работ о Бодлере явно выделяются, если
не открывают его, этюды уже упоминавшегося Вальтера Беньямина,
из которых посмертно была составлена книга «Шарль Бодлер. Поэт
в эпоху зрелого капитализма». См.: Вальтер Беньямин, Маски вре¬
мени. Эссе о культуре и литературе / Сост., предисл. и прим. А. В. Бе¬
лобратова (СПб., Симпозиум, 2004) 47-234. Сюда же можно отнести
книгу Сартра «Бодлер», хотя в ней исследуются, скорее, мотивы пре¬
словутой «аполитичности» автора «Цветов Зла». Политика Бодлера-
поэта в отношении эстетической политики Вагнера-музыканта об¬
стоятельно рассмотрена в глубоком этюде французского филосо¬
фа Ф. Лаку-Лабарта: Филипп Лаку-Лабарт, Música ficta (Фигуры
Вагнера) / Пер. с фр., послесл. и прим. В. Е. Лапицкого (СПб., Axioma,
1999)21-70.
22 Ср.: «Бодлер, первый декадент (упадочник)...» (А. В. Луначарский,
«Бодлер», в кн.: Литературная энциклопедия, т. 1 (1929) 550). Впро¬
чем, Луначарский, а вслед за ним почти вся советская критика, про¬
сто повторяли оценку Ницше, высказанную в период, когда автору
«Веселой науки» оставалось несколько месяцев ясного сознания.
30 | ПАССАЖИ
малопривлекательное™) подобного наброска приходится
признать, что самые мощные движущие силы и первосте¬
пенные мотивы политического существования Бодлера,
словом, природа его «способа быть-вместе-с-другими-
людьми» остается здесь непрописанной.
Если попытаться более детально очертить фигуру Бод-
лера-политика, следует прежде всего заметить, что этот
способ, манера или стиль существования складываются из
целого ряда составляющих—начиная с того, что вслед за
Фуко можно назвать «заботой о себе», и кончая тем, что
хотелось бы обозначить как «забота о другом»23. Между
двумя крайними точками, тяготея то к одной, то к дру¬
гой, располагается множество прочих «забот» поэта, сре¬
ди которых самые возвышенные могут пересекаться с са¬
мыми низменными, накладываться на самые обыкновен¬
ные, тривиальные, мелкие; самые искренние, живые, не¬
23 В своей трехтомной «Истории сексуальности» (1976-1984) Фуко по¬
казывает, что «забота о себе», то есть сознательное конструирование
себя в качестве субъекта индивидуального опыта на фоне действую¬
щих в социуме режимов дисциплины, подчинения и подавления, не
только не исключает «заботы о других», но и, наоборот, содействует
упрочению взаимоотношений между «я» и окружающими его людь¬
ми: в противоположность расхожим представлениям об эгоизме, по¬
вышенное внимание к себе позволяет субъекту уклониться от не¬
посредственного хода вещей, захватывающего сознание, обратить
сознание на самое себя, озаботиться собой, с тем чтобы, исходя из
этого обостренного самосознания, острее осознать свою социальную
роль. Последняя, равно как и сама «забота о себе», по необходимости
предполагает свод правил, максим, обетов, позволяющий дать ответ
на принципиальный этический вопрос: сохраняешь ли ты верность
самому себе? Но этот вопрос, если отнестись к нему с той серьез¬
ностью, что граничит со своей противоположностью, способностью
человека смеяться, в том числе и над самим собой, заключает в се¬
бе другой вопрос, более головокружительный: имеешь ли ты право
изменять себе, себе противоречить? См. подробнее: Frédéric Gros,
«Le gouvernement de soi», Sciences Humaines. Spécial № 3. Foucault.
Derrida. Deleuze, Mai-juin 2006,34-37.0 мотиве «заботы о себе» в от¬
ношении Бодлера и о праве противоречить себе см. также: Сергей
Зенкин, «Гуманизм и забота о себе (Дискуссии о самоубийстве в
философии и искусстве)», в кн.: Понятие гуманизма. Французский и
русский опыт (М., РГГУ, 2006) (Чтения по истории и теории культу¬
ры) 36-51, особенно 36-37.
ПОЛИТИКА ПОЭЗИИ | 31
посредственные—скрещиваться с вынужденными, делан¬
ными, показными, сливаться с элементами игры, кривля¬
нья, драматизации собственного существования, из чего
в конечном счете и сплетается политика поэзии, в кото¬
рой приходится заботиться, с одной стороны, о совершен¬
стве стиха и слова, успехе и рекламе книги, отношениях с
издателями, критиками, литературными, культурными и
политическими институциями, а с другой —о своем здо¬
ровье, здоровье матушки, злополучном сифилисе, посты¬
лой любовнице, поиске наслаждений, вине, опиуме, гаши¬
ше, а также о том, чтобы пополнить свои коллекции но¬
выми картинами, книгами, безделушками, расквитаться
с долгами, чтобы расширить или, наоборот, сузить круг
знакомств.
Итак, на одном полюсе то, что в терминах самого Бод¬
лера определяется как «гигиена»:
Клянусь самому себе, что отныне следующие правила
становятся вековечными правилами моей жизни.
Каждое утро возносить молитву Богу, хранилищу вся¬
кой силы и всякой [истинной] справедливости, и как его
заступникам—отцу, Мариетте и По; молить их на¬
делить меня силой, необходимой для исполнения всех
моих обязанностей, и даровать матери столь долгих
лет жизни, чтобы она могла порадоваться моему пре¬
образованию...24
В приведенном фрагменте значимо все: от прямого обра¬
щения поэта к самому себе («забота о себе») до изложения
правил своей жизни (понятие «гигиена» соседствует в за¬
писях поэта с понятиями морали, поведения, метода); от
прямого обращения поэта (который еще при жизни заслу¬
жил репутацию безбожника и сатаниста) к Богу до повы¬
шенного внимания к его земным заступникам («забота о
других»); от состава этих заступников (среди которых са¬
24 Шарль Бодлер, Дневники, 286. Перевод Е. В. Баевской немного из¬
менен.
32 I ПАССАЖИ
мые близкие поэту люди и кумир в искусстве По) до це¬
ли всего этого начинания—«преобразования» (transforma¬
tion) себя. Обращает на себя внимание и то, как перепле¬
таются в этом фрагменте мотивы «вечности» и «современ¬
ности», «бесконечности» и сиюминутности: поэт ищет в
вечности (в Боге) не спасения, а силы, необходимой ему
для изменения себя. Поэт не бежит мира, но ищет себя в
этом мире, здесь и сейчас.
В отличие от Сартра, который видел в такого рода замет¬
ках выражение неизбывного инфантилизма автора «Цве¬
тов Зла», то и дело загоняющего себя в силки суровых, гне¬
тущих требований, не имея при этом ни сил, ни особого
стремления их выполнять25, мы склонны, скорее, рассма¬
тривать их в ключе того сложного отношения между «веч¬
ным» и «преходящим», через которое Фуко характеризует
этическую позицию Бодлера как сознание «современно¬
сти» («модернитет»), возводя ее, таким образом, к крити¬
ческой позиции Канта и проекту Просвещения:
...Быть современным, по Бодлеру, вовсе не значит при¬
знавать и принимать это извечное движение («пере¬
ходность, мимолетность, случайность»—С. Ф.); а на¬
против—занять по отношению к нему определенную
позицию; эта добровольная и трудная позиция за¬
ключается в том, чтобы схватывать то вечное, которое
пребывает не по ту и не по сю сторону настоящего, не
впереди и не позади него—а в нем самом. ... Совре¬
менность—не ощущение мимолетности настоящего, а
воля к его «героизации».... Современный человек для
Бодлера—не тот, кто отправляется открывать самого
себя, свои секреты и свою сокровенную истину; но тот,
кто хочет себя изобрести. Такая современность... под¬
чиняет его задаче сотворения себя26.
25 Ср.: «Бодлер всю жизнь с тоской вспоминал райские кущи своего
детства» (Жан-Поль Сартр, Бодлер, 346). Ср.: также: «Бодлер не мо¬
жет не понимать, что ... ведя себя как ребенок... и т. д.» (там же).
26 Мишель Фуко, «Что такое Просвещение?» / Пер. С. Фокина, Ступени.
Петербургский альманах, 2000, № 1,141-142.
ПОЛИТИКА поэзии I 33
Важно, что, говоря о «героизме» Бодлера, Фуко несколь¬
ко раз подчеркивает момент аскезы: быть современным
не значит принимать себя таким, каков ты есть, это значит
воспринимать себя объектом трудной работы, аскетиче¬
ского самоформирования. В сущности, проблема Бодлера
определяется не той или иной формой физического или
психического нездоровья27, но настоятельной потребно¬
стью в новой морали, которая сказывалась, если не криком
кричала, в его времени и к которой поэт, силясь быть «со¬
временным», не мог остаться глухим. Пресловутый амора¬
лизм Бодлера—оборотная сторона исканий новой морали.
Самое название книги «Цветы Зла», в котором заглавная
буква «3» говорит о теологическом характере авторско¬
го замысла28, свидетельствовало о недетской серьезности
Бодлера, сиротство которого, таким образом, определялось
не только и не столько острой привязанностью к взаимои¬
сключающим образам рано умершего отца и не слишком
долго горевавшей по той смерти матери, но и чувством
изначальной богооставленности. Бодлер, под воздействи¬
ем ранней смерти отца, оказывается не столько под гне¬
том Эдипова комплекса, обернувшегося против отчима,
как то утверждается в психоаналитических исследованиях,
сколько в состоянии «нищеты», «обездоленности», «убого¬
сти», подобно тем онемевшим фронтовикам Первой миро¬
вой войны, о которых писал Беньямин. Важно, однако, что
наряду с безусловно негативными моментами этого опы¬
та, в силу которых поэта все время влекло к безднам, про¬
пастям, пустотам, в нем несомненно был позитивный мо¬
мент: Бодлеру пришлось рано учиться пользоваться сво¬
им разумом. Именно эта необходимость—научиться жить
своим умом, добиться эстетической, моральной и мате¬
27 Ср.: «Индивидуально это объяснялось в Бодлере, конечно, его болез¬
нью» (А. В. Луначарский, Бодлер, 550).
28 Ср.: «Бодлер всегда пишет слово „Зло“ с заглавной буквы, настаивая
на теологическом значении понятия, то есть на первородном грехе»
(Antoine Compagnon, Baudelaire devant l’innombrable (Paris, Presse de
l’Université de Paris-Sorbonne, 2003) 13).
34 I ПАССАЖИ
риальной независимости —становится важнейшей движу¬
щей силой творческого становления поэта. Именно в этом
отношении моральный и философский поиск Бодлера мо¬
жет быть связан с проектом Просвещения: поэту необхо¬
димо было «повзрослеть», а это значит, если следовать ли¬
нии Канта, к которой подводит позицию Бодлера Фуко,
научиться «использовать свой разум, не подчиняясь ни¬
какому авторитету»29. Таким образом, тот неизбывный ин¬
фантилизм, который Сартр вменял в вину Бодлеру, пред¬
ставляя его как испорченного ребенка, что «в бешенстве
сучит ногами»30 и то и дело устраивает сцены своему се¬
мейству и буржуазному миру в целом, чтобы затем, успо¬
коившись, вернуться в его лоно, можно рассматривать как
своего рода эпизод «детской болезни» человеческого раз¬
ума, которой Бодлер, как и все его время, без сомнения,
страдал, но которую ему, в отличие от многих современ¬
ников, случалось перестрадать, изживать в себе в часы и
минуты творческого здоровья.
Первый встречный
Вместе с тем опыт Бодлера можно выразить и в иных тер¬
минах. Если принять, что поэзия всегда решает определен¬
ную проблему и что решение этой проблемы становит¬
ся жизненной задачей поэта, ищущего пути ее решения,
то можно вслед за Полем Валери утверждать: проблема
Бодлера заключалась в преодолении романтизма—как в
самом себе, так и в искусстве31. Не останавливаясь здесь на
характеристике тех находок, посредством которых Бодлер
преодолевал романтизм в поэтическом искусстве, заме¬
29 Мишель Фуко, «Что такое Просвещение?», 140.
30 Жан-Поль Сартр, Бодлер, 342.
31 Paul Valery, «Situation de Baudelaire», in: id., Œuvres, I (Paris, Galli¬
mard, 1957) 604-606.
ПОЛИТИКА ПОЭЗИИ | 35
тим, что все они сходились под знаком культа формы. В от¬
личие от романтизма, в котором главная ставка делалась
на силу (вдохновения, воображения, поэтического востор¬
га и т. п.), Бодлер делает упор на форме: вдохновляясь луч¬
шими образцами романтической поэзии своего времени,
он постепенно приходит к положению, что поэзия и ис¬
кусство вообще способны мыслить; что поэзия если и мыс¬
лит, то не вложенными в нее идеями, чаяниями и отчая¬
ниями поэта, но исключительно формой — стихом, мерой,
ритмом, рифмой, числом, которые выступают противове¬
сом прозе, чрезмерности и неисчислимости32. Поэзия мыс¬
лит, когда следует не прихотям поэтического воображе¬
ния, но «поэтическому принципу», как его сформулировал
По, главный вожатый Бодлера в искусстве33.
Романтизм не дорожит, пренебрегает формой; Бодлер
делает ставку на форму не только в искусстве поэтической
композиции, но и в построении собственного существова¬
ния. Поэту претит бесформенность, вот почему он тратит
столько усилий, чтобы формировать самого себя. И маска
денди помогает Бодлеру бороться с тем, что он ненавидит
более всего,—с отсутствием оригинальной формы или, что
то же самое, униформенностью всего и вся. В этом отноше¬
нии необыкновенно красноречивыми являются знамени¬
тые размышления о черном фраке как визитной карточке
антиромантического искусства и демократического обра¬
за жизни («Салон 1846 года»):
Что до черного фрака, этого облачения нынешнего
героя,—хотя миновало то время, когда мазилы обла¬
чались как мещане во дворянстве и курили длинные,
словно охотничьи ружья, кальяны,—в мастерских и
свете полным-полно людей, которым хотелось опоэти¬
32 Antoine Compagnon, Baudelaire devant l'innombrable, 7.
33 Эдгар Алан По, «Поэтический принцип», в кн.: он же, Стихотво¬
рения. Новеллы. Повесть о приключениях Артура Пима. Эссе / Пер.
с англ. (М., НФ «Пушкинская библиотека», 2004) 720-741. Напомним,
что именно переводы Бодлера сделали По европейски известным
писателем. Переводом «Поэтического принципа» французский по¬
эт особенно дорожил.
36 I ПАССАЖИ
зировать героев Александра Дюма, одев их в хитоны и
туники.
А между тем разве не обладает своей красотой и ту¬
земной прелестью наш фрак, против которого все так
ополчились? Разве не является он одеянием всей на¬
шей эпохи, страждущей и носящей символ вечного
траура даже на своих плечах, черных и узких? Только
вдумайтесь: черный фрак и сюртук обладают красотой
не только политической, каковая выражает всеобщее
равенство, но и красотой поэтической, каковая выра¬
жает публичность души; нескончаемая вереница гро¬
бовщиков: гробовщики-политики, гробовщики-влюб¬
ленные, гробовщики-буржуа. Мы все кого-то или что-
то хороним34.
Необязательное, казалось бы, рассуждение о современ¬
ной моде выливается в бесстрастный диагноз современ¬
ному обществу, достоверность которого подтверждается
собственным опытом поэта: разве не хотелось молодому
Бодлеру внушить окружающим, что он является первым
денди на Париже? Хотелось, и он внушал, играл в денди,
оставаясь поэтом. Если бы Бодлер действительно мыслил
себя «денди», то он остался бы на той же планке, на кото¬
рой самозабвенно отдавался культу дендизма Жюль Амеде
Барбе д’Оревильи35, а не стал бы первым французским по¬
этом XIX столетия, критическим сознанием современной
Франции.
Итак, формировать самого себя не значит просто-на-
просто следовать моде, подчинять себя каким-то внешним
надуманным правилам или уметь подстраиваться под ход
вещей: как подчеркивает Фуко, Бодлер изобретает себя,
изобретает новый тип, новый стиль поэтического суще¬
ствования, политику поэтической жизни.
34 Шарль Бодлер, Об искусстве (М., Искусство, 1986) 128. Перевод ра¬
дикально изменен.
35 Ср.: «Дендизм почти ничего не значит в его истории. Никто лучше
него не мог сознавать малозначительности этого культа, в котором
он сходился с толпой своих современников...» (Maurice Blanchot,
La Part du feu (Paris, Gallimard, 1997) (1949) 142-143).
ПОЛИТИКА ПОЭЗИИ | 37
Главной движущей силой такого рода экзистенциально¬
го изобретательства не может быть нарциссическое погру¬
жение в глубь самого себя; Бодлер не ищет в себе каких-то
сокровенных истин, доподлинного «внутреннего челове¬
ка»; наоборот, он проецирует себя вовне, примеривает на
себя какие-то образы, маски, личины, он в каком-то смыс¬
ле обезличивает, опустошает себя и на фоне этой пусто¬
ты добивается от своего «я» такой всевосприимчивости и
всеотзывчивости, которые позволили бы ему откликнуть¬
ся на все сколько-нибудь созвучное его пониманию задач
искусства и смысла существования и при случае войти в
необходимую роль, переходить от одной роли к другой или
играть сразу две-три.
В сущности, эта «пустота» становится главным элемен¬
том нового понимания призвания поэта, которое Бодлер
разрабатывает на протяжении всего своего творческого
пути, противопоставляя его образу романтического поэ¬
та, свысока взирающего на дольний мир. Поэт Бодлера —
это всечеловек; точнее, это такой человек-как-все, кото¬
рых много, который ничем не отличается от всех других
людей, словом, вечный первый встречный, которыми ки¬
шит толпа:
Не каждому дано искупаться в людском множестве: на¬
слаждение толпой—это искусство; и только тот отдать¬
ся может, за счет рода человеческого, празднику жиз¬
ненности, кому еще в колыбели известная фея внушила
тягу к переоблачению и маскараду, ненависть к посто¬
янному месту жительства и страсть к путешествию.
Одиночество, множество: понятия равноправные и
обратимые для поэта деятельного и плодотворного.
Кто не умеет очеловечить своего одиночества, не умеет
также сохранить себя в деловитой толпе.
Поэт наслаждается несравненной привилегией: быть
самим собой и другим, когда захочется. Подобно бродя¬
чим душам, взыскующим тела, он произвольно входит
в личину каждого. Только для него все места свободны;
а если какие и представляются занятыми, то лишь по¬
тому, что в глазах его они не стоят труда посещения.
38 I ПАССАЖИ
Гуляка задумчивый и одинокий находит исключи¬
тельное опьянение в этом всемирном причастии. Тот,
кто с легкостью сливается с толпой, вкушает горячеч¬
ных услад, коих на веки вечные лишены эгоист, как
сундук, закрытый на ключ, и лентяй, как моллюск, за¬
севший внутри своей раковины. Он приемлет любые
ремесла, любые радости и любые горести, предостав¬
ляемые ему обстоятельствами.
То, что люди любовью зовут, представляет собой не¬
что крайне крошечное, крайне ограниченное и крайне
мелкое в сравнении с этой инфернальной оргией, этой
священной проституцией души, которая отдает себя
целиком и полностью, в поэзии и милосердии, являю¬
щейся вдруг непредвиденности, проходящей мимо не¬
изведанности...
«Толпы». Сплин Парижа. Малые поэмы в прозе36
Вот почему все личины, под которыми попеременно
выступает Бодлер—молодой повеса, который вмиг про¬
гулял треть отцовского наследства и впредь должен был
существовать под неусыпным оком опекунов, все время
вымаливая у них какие-то подачки; салонный поэт, ден¬
ди, эстет, любитель и знаток изящных искусств и словес¬
ности, зарекомендовавший себя превосходным художе¬
ственным критиком; «проклятый поэт», «фланер», «че¬
ловек толпы», но также отщепенец, черный меланхолик,
«люмпен-пролетарий» поэтического труда, который дня¬
ми и ночами трудится за лишнюю дюжину франков и уже
не может беспечно фланировать по улицам Парижа, так
как на каждом углу его подкарауливают кредиторы; на¬
конец, добровольный изгнанник, мечущий громы и мол¬
нии против омерзительной Бельгии, за отвратительным
ликом которой легко угадываются самые пошлые черты
«милой Франции» и всей европейской цивилизации,—так
вот, все эти личины невозможно понять и тем более при¬
нять за чистую монету, если не учитывать того, что поэт
36 Сн. Baudelaire, Petits Poèmes en prose (Le Spleen de Paris) / Éd. de Ro¬
bert Kopp (Paris, Gallimard, 1973) 45-46.
ПОЛИТИКА ПОЭЗИИ | 39
прибегал к ним как к своего рода «крайнему средству»,
когда внешние обстоятельства загоняли его в угол, точ¬
нее, внутрь самого себя, заставляя винить себя во всем,
и когда, противясь этому углублению в себя, поэт нахо¬
дил силы ускользнуть, уклониться от бесплодного само¬
копания, с тем чтобы, надев очередную маску и взвалив
на свои плечи очередной панцирь (и не суть важно, что
это были за облачения —изысканный костюм денди или
отрепья бродяги, Бодлеру случалось появляться и в том,
и в другом), продолжить свою схватку с миром, за себя и
за другого в себе.
Итак, Бодлер-политик—это поэт, ищущий придать фор¬
му настигшей его бесформенности бытия, глубоко постиг¬
ший «дно» и «бездну» «внутреннего человека» и посему
как нельзя более восприимчивый ко всему мимолетному,
что на первый взгляд может показаться преходящим, но
в чем он всякий раз стремится найти крупицу вечного.
Политика Бодлера—это такая преувеличенная «забота о
себе», которая вовсе не исключает, но, наоборот, усиливает
потребность в «заботе о других», сколь беззаботными ни
казались бы последние. Политика Бодлера складывается
не только из тех или иных действий, поступков или, на¬
оборот, моментов бездействия, подавленности и депрес¬
сии, но и из всякого акта письма, в котором поэт стре¬
мится передать другому то, что ему приходилось встре¬
чать в себе:
Ведь ты, читатель, знаком с ним, с этим чутким монстром,
Лицемерный мечтатель—ближний мой,—мой собрат!
«К читателю». «Цветы Зла»
ПАССАЖ ВТОРОЙ
ИСТОРИЯ С АКАДЕМИЕЙ
И «МОЯ ЧЕРНАЯ СИБИРЬ»
Пруст против дядюшки Сент-Бёва
С легкой руки Марселя Пруста многие литературоведы об¬
ращаются к истории взаимоотношений Бодлера и круп¬
нейшего критика XIX века Шарля Огюстена Сент-Бёва, пы¬
таясь найти в ней ключ к объяснению крайне двусмыслен¬
ной позиции первого «проклятого поэта» Франции в отно¬
шении официальной литературы, доминирующим соци¬
альным институтом которой являлась в тот век Француз¬
ская академия. Действительно, в одной из глав программ¬
ной книги «Против Сент-Бёва», оставшейся, как извест¬
но, главным прототекстом эпопеи «В поисках утраченного
времени», рассказчик критического повествования, обра¬
щаясь к своей матушке, так излагает суть проблемы:
Поэт, которого ты любишь лишь наполовину и в отно¬
шении которого весьма привязанный к нему Сент-Бёв
обнаружил, как принято считать, самое что ни есть
проницательное и пророческое восхищение,—это Бод¬
лер. Однако же если Сент-Бёв, тронутый восхищением,
обходительностью, учтивостью Бодлера, который по¬
сылал ему то свои стихи, то дижонские хлебцы, и пи¬
сал как нельзя более восторженные письма о «Жозефе
ИСТОРИЯ С АКАДЕМИЕЙ | 41
Деломе», «Утешениях» и «Беседах по понедельникам»,
то он так и не внял мольбам Бодлера посвятить ему
хотя бы одну статью. Величайший поэт столетия, ко¬
торый к тому же был ему другом, не фигурирует в «По¬
недельниках», где полно статей о всяких графах Дарю,
Д’Альтон Ши и иже с ними ... Правда, он адресовал
Бодлеру письмо о «Цветах зла», напечатанное позже в
«Беседах по понедельникам», подчеркнув, несомненно
затем, чтобы умалить значение своих похвал, что оно
написано с мыслью посодействовать защите книги....
Из этого письма мы узнаём лишь то, что Бодлер вы¬
соко ставит Сент-Бёва, тогда как сам Сент-Бёв ценит
поэта за его душевные качества ... В другой раз ... от¬
кликаясь на предстоящие выборы в Академию, Сент-
Бёв написал статью о кандидатах, среди которых был
и Бодлер. Сент-Бёв, который всегда любил преподать
урок литературы своим коллегам по Академии, как и
урок либерализма коллегам по Сенату ... отозвался в
ней очаровательными и скупыми строчками о «Цветах
зла», «этой крохотной беседке, которую соорудил себе
поэт на окраине литературной Камчатки и которую я
назову „фоли Бодлер“ (ох уж эти „слова“, всегда слова,
которые потом светские острословы смогут процити¬
ровать, посмеиваясь: он называет это „фоли Бодлер“.
Правда, острословы, цитировавшие подобные выраже¬
ния за ужином, могли себе такое позволить, если речь
шла о Шатобриане или Руайе-Колларе, ибо не знали,
кто такой Бодлер)»37.
В воображаемом разговоре с почившей матушкой Пруст
был не вполне справедлив к Сент-Бёву, равно как не впол¬
не сознавал характер привязанности автора «Цветов Зла»
к именитому критику, голосом которого во Франции се¬
редины XIX столетия говорил Его величество литератур¬
ный Вкус. В отличие от Бодлера, Прусту не приходилось
решать специфических задач институционализации сво¬
его положения как писателя, поскольку он входил в боль¬
шую литературу исподволь, как сноб, любитель и дилетант.
Бодлер был одним из первых среди тех французских писа¬
37 М. Proust, Contre Sainte-Beuve (Paris, Gallimard, 1954) 161-165.
42 I ПАССАЖИ
телей, кто был вынужден жить и кормить себя литератур¬
ным трудом38. Вот почему отношения с литературой как
социально-профессиональным институтом, включающим
в себя пересекающиеся инстанции издательских кругов,
литературных критиков, газет и журналов, всякого рода
литературных обществ, собраний и школ, не говоря уже
о Французской академии, кресло в которой виделось вен¬
цом всякой нормальной литературной карьеры, составля¬
ли важнейший элемент его политики в литературе.
Бодлер-политик—это не только восторженный юноша
1848 года, призывающий восставших парижан «расстре¬
лять генерала Опика» (отчим-солдафон и один из высших
военных чинов столицы). Бодлер-политик—это также хи¬
троумный интриган, дипломат и провокатор в одном ли¬
це, который пытается выстраивать свои отношения с силь¬
ными мира французской литературы, подстраивается под
требования книжного рынка, отчетливо сознает значение
рекламы, понимая, что критика, даже дурная или пустая,
приносит книге гораздо больше пользы, нежели самое со¬
чувственное или глубокомысленное молчание.
Разумеется, характер отношений Бодлера с Сент-Бёвом
не исчерпывался такого рода политическими стратегия¬
ми39. Тем не менее в истории с Академией не только на¬
глядно обнажилась противоречивость отношения авто¬
38 Ср. радикальную, если не вульгарную, социологическую трактовку
профессиональной ситуации Бодлера-писателя: «Поведение Бодле¬
ра на литературном рынке: благодаря своему глубокому понима¬
нию природы товара Бодлер был способен или вынужден признать
в рынке объективную инстанцию (ср. его „Советы начинающим ли¬
тераторам“). Благодаря нескончаемым переговорам с редакциями
он был в постоянном контакте с рынком» (Walter Beniamin, Charles
Baudelaire. Un poète lyrique à l'apogée du capitalisme, 220).
39 См. новейшую оценку взаимоотношений двух писателей, представ¬
ленную Андре Гийо в примечаниях к публикации отзывов на «Цветы
Зла» за первые пятьдесят лет рецепции книги: A. Guyaux, Baudelaire.
Un démi-siècle de lectures des Fleurs du mal (1855-1905) (Paris, PUPS,
2007) 1052-1058. Ср. также: M.-C. Huet-Brichard, «Sainte-Beuve à
la lumière de Baudelaire», Revue d'histoire littéraire de la France, 2001,
№ 2, 263-280.
ИСТОРИЯ С АКАДЕМИЕЙ | 43
ра «Цветов Зла» к официальной литературе, но и вполне
внятно сказалось—прежде всего через язвительные уста
Сент-Бёва, но не только через них—отношение последней
к тому, кто на протяжении всей своей писательской жизни
пытался отбить себе место среди тогдашних столпов фран¬
цузской словесности. Как уже говорилось, сама история с
Академией и автором «Бесед по понедельникам», прозван¬
ным в литературных салонах за внушительность фигуры и
обширность знакомств «дядюшкой Сент-Бёвом», неодно¬
кратно становилась предметом обсуждения в литературе
о Бодлере, однако мало кто из литературоведов обращал
внимание на то, в каких словах авторитетный критик, по
праву считавшийся законодателем художественного вкуса
своего времени, и поэт, искавший после оглушительного
скандала, вызванного публикацией его книги, примире¬
ния с сильными мира сего, определяли положение автора
«Цветов Зла» в современности. Хотя именно Пруст под¬
черкнул, какую роль во всей этой истории сыграли слова,
острословие, злословие и... пустословие.
Итак, обратимся к соответствующим событиям и текстам
и для начала напомним, что в очередной понедельник,
20 января 1862 года, в газете «Конститюсьонель» Сент-
Бёв опубликовал статью «О предстоящих выборах в Акаде¬
мию», где, обсуждая новоявленных претендентов на зва¬
ние «бессмертного», обращал внимание своих просвещен¬
ных читателей на более чем причудливую фигуру одного
из кандидатов, о существовании которого подавляющее
большинство тогдашних академиков не ведало ни сном
ни духом:
Иным членам Академии, которые даже не подозревали
о его существовании, пришлось сообщить, буквально
прочесть по складам имя г-на Бодлера. Не так-то просто
убедить академиков-политиков или государственных
деятелей, что в «Цветах зла» встречаются действитель¬
44 | ПАССАЖИ
но презамечательные по таланту и мастерству пиесы;
объяснить им, что в его малых поэмах в прозе такие
две вещи, как «Старый акробат» или «Вдовы», являют¬
ся жемчужинами; что в конечном счете г-ну Бодлеру
достало средств соорудить себе—по ту сторону границ
достославного романтизма и на самом краю призем¬
ленного и слывущего необитаемым языка—причуд¬
ливую беседку, весьма разукрашенную, весьма бес¬
покойную, вместе с тем кокетливую и таинственную,
где погружаются в Эдгара По, читают вслух восхити¬
тельные сонеты, пьянеют от гашиша, пускаясь затем
философствовать, принимают опиум и тьму прочих
одурманивающих средств из чашек тончайшего фар¬
фора. Эту редкостную беседку резного дерева, отлича¬
ющуюся скрупулезно продуманной и сложносоставной
оригинальностью, которая с недавних пор притягивает
взгляды к крайней точке романтической Камчатки, я
называю фолы Бодлер. Автор горд тем, что ему удалось
сделать нечто невозможное там, докуда даже не дума¬
ли, что кто-то может дойти. Значит ли это, что теперь,
после того как мы по мере сил разъяснили все досто¬
чтимым и несколько удивленным собратьям, что все
эти редкости, пикантности и утонченности покажутся
им достойными Академии и что сам автор смог всерьез
себя в этом убедить? Ясно одно: г-ну Бодлеру пойдет на
пользу, если все мы его узнаем, если вместо странного
и эксцентричного типа, которого люди ожидают уви¬
деть перед собой, они окажутся в присутствии учтиво¬
го, благовоспитанного, образцового кандидата, милого
молодого человека, утонченного в речах, совершенно
классического по своим вкусам40.
Как можно убедиться, в этом пассаже Сент-Бёв, давая
волю своему литературному остроумию, если не светскому
злословию, в общем верно очерчивает положение автора
«Цветов Зла» в современной французской литературе, ко¬
торое сводилось к радикальной эксцентричности и экстер¬
риториальности в отношении поэтических угодий фран¬
40 A. Guyaux, Baudelaire. Un démi-siècle de lectures des Fleurs du mal, 347-
347.
ИСТОРИЯ С АКАДЕМИЕЙ | 45
цузского романтизма, вдоль и поперек распаханных таки¬
ми тружениками поэтического слова, как Гюго, Ламартин
или Шатобриан. Вместе с тем весь отзыв исполнен край¬
ней двусмысленности, легкое похлопывание по плечу со¬
седствует здесь с язвительными уколами и цветистыми,
хотя и сомнительными, похвалами и сопровождается по-
истине великосветской учтивостью, с которой поборник
литературного вкуса относится к собратьям-академикам,
наперед предугадывая, что им ни за что не выбрать на
освободившееся кресло «бессмертного» столь экстрава¬
гантного малого.
Так или иначе, но Сент-Бёву нельзя отказать в зоркости
критического взгляда: с одной стороны, он увидел и под¬
черкнул, что автору «Цветов Зла» удалось дойти в своих
поэтических опытах от Парижа до самых до окраин, до из¬
вестных границ французской поэзии, которые поэт дерзко
нарушил, обосновавшись в «крайней точке романтической
Камчатки»; с другой стороны, он сумел разглядеть и об¬
ратить внимание современников на то, что за внешним
предельно причудливым, новомодным обликом Бодлера
кроется более сложная натура, человек классического вос¬
питания и классических вкусов.
Не лишним будет напомнить, что в тот момент авто¬
ра «Цветов Зла» действительно изводит жажда стать пре-
достойным членом Французской академии; это желание
объясняется, с одной стороны, стремлением реабилити¬
ровать себя в общественном мнении, с другой —неиско¬
ренимой тягой к провокации. Непосредственным пово¬
дом для академической авантюры стало второе издание
«Цветов Зла», увидевшее свет зимой 1861 года и вызвав¬
шее чуть более благожелательное отношение критики, не¬
жели первая публикация книги. Среди откликов особой
проникновенностью выделялись теплое письмо Вилье де
Лиль-Адана, глубокая статья Леконта де Лиля, задушевная
заметка де Банвилля —поэту «Цветов Зла» было от чего
потерять голову.
46 | ПАССАЖИ
Пасть под Купол
Французская академия —венец мечтаний любого фран¬
цузского писателя; в то же время—оплот литературного
консерватизма, в само основание которого были брошены
зерна политической реакции. Действительно, в феврале
1634 года всесильный кардинал Ришелье, глава Государст¬
венного совета при Людовике XIII, прознав, что вот уже не¬
сколько лет горстка влиятельных интеллектуалов столицы
собирается по вечерам, чтобы обсуждать новые литератур¬
ные и философские сочинения, театральные и музыкаль¬
ные представления, состояние французского языка, решил
направить эту деятельность в нужное русло и учредить ин¬
ститут избранных умов Франции, заставив литераторов
и эрудитов трудиться на благо монархии41. Как остроум¬
но заметил Альбер Тибоде, один из самых глубоких лите¬
ратурных критиков Франции первой половины XX века,
«Ришелье создал Академию ровно так, как чуть ранее по¬
велел отрубить голову Генриху де Монморанси»42. Семена
политического консерватизма не замедлили принести
ожидаемые всходы: помимо работы в пользу лингвисти¬
ческого абсолютизма, утверждавшегося через составление
«Словаря французской Академии», предписывавшего над¬
лежащее употребление («bon usage») французского языка,
систематически очищаемого от варваризмов, вольностей
и скабрезностей, академики трудились во благо идеоло¬
гии морального, политического, религиозного и социаль¬
ного единения интеллектуальной элиты и прочих сосло¬
вий вокруг фигуры Монарха. Согласно уставу Академии,
одобренному в 1636 году парижским Парламентом, число
академиков было доведено до 40, избирались они пожиз¬
ненно («сорок бессмертных»), при избрании произноси¬
ли особую речь во славу почившего в бозе предшествен¬
41 См. об этом: T. Muray, «L’Académie française», in: De la littérature
française / Sous la direction de D. Hollier (Paris, Bordas, 1993) 259-264.
42 A. Thibaudet, Réflexions sur la literature (Paris, Gallimard, 2007) 353.
ИСТОРИЯ С АКАДЕМИЕЙ | 47
ника; Наполеон, восстановив Академию после революци¬
онных потрясений и нововведений, пожаловал ей дворец
Мазарини, где под знаменитым куполом проходили засе¬
дания светлейших умов Империи, а затем —Французской
республики.
Зимой 1861 года, когда вышло второе издание «Цветов
Зла» и Бодлер начал тешить себя мыслью добиться кресла
под заветным куполом, скончался один из самых славных
«бессмертных» середины века—драматург Эжен Скриб,
автор знаменитой комедии «Стакан воды» (1840), обо¬
шедшей подмостки всех европейских театров. Через не¬
сколько месяцев освободилось кресло Жана Батиста Анри
Лакордера, видного католического проповедника и рели¬
гиозного писателя, смело ратовавшего с кафедры собора
Парижской Богоматери за права и свободы человека. У по¬
эта «Цветов Зла» не было никаких шансов заменить сво¬
ей сомнительной персоной подобных светил: сам он если
и был известен в узких кругах столичных литераторов, то
лишь благодаря громкому процессу над своей книгой, ли¬
шению финансовой правоспособности и постоянно расту¬
щим долгам. Впрочем, Академия славилась не только «из¬
бранными», но и «неизбранными»: чести восседать среди
«бессмертных» не были удостоены ни Декарт, ни Мольер,
ни Паскаль, ни Ларошфуко; из современников Бодлера ли¬
шенцами от Академии оказались Оноре де Бальзак, Тео¬
филь Готье и Гюстав Флобер.
Несмотря на очевидное отсутствие всякой надежды,
или, наоборот, именно в силу полной безнадежности сво¬
его предприятия, Бодлер со всей серьезностью взялся за
избирательную кампанию: написал официальное письмо
постоянному секретарю Академии с просьбой оповестить
высокое собрание о выставлении его кандидатуры; в со¬
ответствии с заведенной процедурой пытался заручить¬
ся поддержкой литературных знаменитостей; исправно
наносил визиты едва знакомым или вовсе незнакомым
писателям; забрасывал льстивыми посланиями высоко¬
48 I ПАССАЖИ
поставленных особ, вызывая недоумение не только среди
академиков, но и в кругах парижской богемы, будировав¬
шей институт официального литературного признания.
Академическая авантюра Бодлера выглядела абсолют¬
ной нелепостью как в глазах поэтов-романтиков (Виньи,
Дюкан, Ламартин), высокомерно противопоставлявших
себя официальной литературе и предупреждавших поте¬
рявшего голову собрата по перу, что он рискует обесче¬
стить себя подобными домогательствами, так и со сторо¬
ны академиков, подавляющее большинство которых бы¬
ли совершенно чужды новейших веяний во французской
словесности. Весь абсурд этой ситуации, в которую за¬
гнал себя Бодлер, выразил один из тогдашних «бессмерт¬
ных»: «В этом стремлении совместить Шарантон и дво¬
рец Мазарини сказалась невиданная доселе дерзость»43.
Только 10 февраля 1862 года, то есть после тринадцати
месяцев, проведенных в мытарствах и заискиваниях во¬
круг сановников от литературы и всякого рода окололи¬
тературной братии, Бодлер отправил официальное пись¬
мо Абелю Вильмену, в котором уведомил постоянного се¬
кретаря о снятии своей кандидатуры на вакантное кресло
«преставившегося отца Лакордера». Место последнего бла¬
гополучно занял принц Альбер де Брогли, багрянородный
светский лев, пустобрех и «декадентище», как припечатал
его поэт «Цветов Зла» в анонимной заметке «О реформе в
Академии», опубликованной им в «Ревю Анекдотик» еще
до снятия своей кандидатуры и официального объявления
о результатах избрания очередного «бессмертного».
От Парижа до Камчатки
Возвращаясь к диалогу Бодлера с автором «Бесед по поне¬
дельникам», который в ходе выборной кампании приобрел
43 Подробнее об истории с Академией см. биографию поэта: С. Pi¬
chois & J. Ziegler, Baudelaire (Paris, Fayard, 2005) 572-588.
ИСТОРИЯ С АКАДЕМИЕЙ | 49
новое дыхание, заметим, что Сент-Бёв не зря упражнялся
в остроумии, поскольку одно из выражений, использован¬
ных им для характеристики положения поэта «Цветов Зла»
в современной литературе, вызвало какой-то особенный
отклик в мыслях последнего. Речь идет о формуле «край¬
няя точка романтической Камчатки», призванной обозна¬
чить своего рода чуждость Бодлера в отношении голов¬
ных направлений французского романтизма. Как это ни
странно, но столь экзотическая формулировка настолько
вдохновила Бодлера, отличавшегося, как правило, повы¬
шенной восприимчивостью к злоречию, что он, по всей
видимости, остался глух к язвительной иронии критика.
Более того, сразу после прочтения статьи «О предстоя¬
щих выборах в Академию» поэт отозвался на нее упомяну¬
той выше анонимной заметкой «О реформе в Академии»,
где, разбирая по косточкам хитроумную механику вос¬
производства интеллектуальной элиты, к которой сво¬
дится в конечном счете функционирование Французской
академии как социального института, нашел повод про¬
цитировать пассаж про «крайнюю точку романтической
Камчатки». Вслед за Сент-Бёвом, изрядно поиронизиро¬
вавшим в своей статье над списком кандидатов, Бодлер-
аноним, представляя претендентов на звание «бессмерт¬
ного», не пожалел внимания к собственной персоне, точ¬
нее говоря, попытался представить отзыв именитого кри¬
тика в таком виде, будто тот весьма благожелательно на¬
строен по отношению к столь странному соискателю:
Г-на Бодлера, чье варварское и неведомое для многих
академиков имя приходилось называть им по буквам,
скорее пощекотали, чем поцарапали. «Г-ну Бодлеру
достало средств соорудить себе—по ту сторону границ
славного романтического мира и на самом краю языка
земель, слывущих необитаемыми,—причудливую бе¬
седку, весьма разукрашенную, весьма беспокойную,
вместе с тем—кокетливую и таинственную... Эту ред¬
костную резную беседку, отличающуюся скрупулезно
продуманной и сложносоставной оригинальностью, ко¬
50 | ПАССАЖИ
торая с недавних пор притягивает взгляды, в крайней
точке романтической Камчатки, я называю ее—фолы
Бодлер. Автор горд тем, что ему удалось сделать нечто
невозможное...». Судя по всему, г-н Сент-Бёв хотел ото¬
мстить за г-на Бодлера тем доброхотам, что рисуют его
в виде этакого оборотня, нечесаного нелюдима, поль¬
зующегося дурной славой, так как чуть дальше он по-
отечески и по-свойски представляет его как «милого
молодого человека, утонченного в речах, совершенно
классического по своим вкусам»44.
Весь этот пассаж представляет собой образчик своего
рода перевода, если не переложения или даже передер¬
гивания, посредством которого «проклятый поэт» пред¬
ставляет себя в наивозможно положительном виде, извле¬
кая символическую выгоду даже из крайне сомнительных
характеристик, вышедших из-под пера критика. Простое
сравнение «переводческих трансформаций», произведен¬
ных Бодлером в процитированном тексте Сент-Бёва, об¬
наруживает стремление поэта выставить автора «Бесед по
понедельникам» своим благодетелем или даже духовным
отцом: поэт обрывает цветистые фразы критика как раз
там, где они начинают выливаться в хулу, едва прикрытую
иронией. Особенно красноречивым в этом плане предста¬
ет заключение, где Бодлер, используя наречия, усилива¬
ющие семантику родства («по-отечески»: paternellement;
«по-свойски», «по-семейному»: familièrement), а также не¬
обыкновенно весомый для всей ситуации глагол «мстить»,
выстраивает целую психо-литературную сцену, в которой
Сент-Бёв предстает истинным литературным родителем
и радетелем автора «Цветов Зла», беспощадно карающим
всех хулителей своего несчастного чада.
Судя по всему, невосприимчивость Бодлера к злой иро¬
нии Сент-Бёва не объясняется одним лишь желанием пу¬
бличного признания, которого поэт добивался не столь¬
ко для удовлетворения мелкого авторского самолюбия,
сколько для обеспечения достойных условий творческо¬
44 Сн. Baudelaire, Œuvres complètes, II, 190.
ИСТОРИЯ С АКАДЕМИЕЙ | 51
го существования. Здесь играло свою роль также созна¬
ние определенного и избирательного «литературного род¬
ства», которое культивировал в себе автор «Цветов Зла» на
протяжении всего пути в литературе. Более того, в отноше¬
ниях с Сент-Бёвом как нельзя более наглядно обнаружи¬
лось то сокровенное благоговение, которое поэт испыты¬
вал ко всем, кого выбирал себе в провожатые в искусстве и
кто порой был даже не в состоянии понять, до какой меры
или даже безмерности могли доходить чувства привязан¬
ности, которые питал к ним поэт. Действительно, персо¬
нальный литературный пантеон автора «Цветов Зла» чрез¬
вычайно богат и разнообразен, крайне разнороден: аме¬
риканский поэт-бродяга Эдгар По и савойский аристократ-
дипломат Жозеф де Местр, революционный трибун Пьер
Жозеф Прудон и либертинец Шодерло де Лакло, мученик
Революции маркиз де Сад и пролетарский поэт-песенник
Дюпон, «дядюшка» изящной словесности Сент-Бёв и ку¬
десник «Эмалей и камей» Теофиль Готье...
Впрочем, для темы настоящего этюда важны не только
мотивы этого литературного недоразумения, в ходе кото¬
рого именитый критик во всеуслышание, хотя и в шутку,
объявил боготворившего его поэта то ли сумасшедшим,
то ли сумасбродом («фоли Бодлер» / folie Baudelaire —без¬
умие Бодлера, но также — загородный домик Бодлера), тог¬
да как последний, остро нуждаясь в какой бы то ни было
поддержке, счел эти слова за отеческое похлопывание по
плечу. Не менее примечателен здесь сам образ «роман¬
тической Камчатки», который явился под пером крити¬
ка и был с видимым удовольствием подхвачен поэтом.
Думается, что этот образ заключает в себе отнюдь не шу¬
точные элементы поэтической и политической позиции
автора «Цветов Зла», которые и надлежит попытаться про¬
яснить в дальнейшем изложении.
Для начала рассмотрим чуть подробнее реакцию Бод¬
лера на такое определение его места в современной фран¬
цузской литературе. Дело осложняется тем, что помимо
52 I ПАССАЖИ
разбиравшейся выше анонимной заметки, в которой по¬
эт с явным удовольствием откликнулся на «Камчатку»,
Бодлер самолично написал тогда Сент-Бёву необычайно
восторженное письмо, где нижайше благодарил критика
за внимание к своей особе и вновь остановился на экзо¬
тической дефиниции, с какой-то чрезвычайной радостью
записывая ее на свой счет:
Вот еще одна услуга, за которую я Вам обязан! Когда же
это кончится?—И как мне Вас благодарить?...
Что ж до того, что Вы называете моей Камчаткой, то
если бы я почаще получал столь смелые поощрения, как
это, то мне, наверное, достало бы сил превратить ее в
необъятную Сибирь, правда знойную и населенную45.
Здесь примечательно не только то, что поэт с явным
удовольствием подхватывает определение критика, как
если бы формула «романтической Камчатки» удачно ло¬
жилась на его поэтическое самоощущение и действи¬
тельно выражала некую сокровенную устремленность его
творческого начинания, выводившую его в иные дали, к
самым окраинам литературного материка. Здесь важно и
то, что Бодлер словно бы поправлял Сент-Бёва, несколько
расширял его определение, превращая Камчатку в «необъ¬
ятную Сибирь». Этот ход мысли можно истолковать и по-
другому: поэт удостоверял это определение, то есть делал
его более достоверным в отношении самого себя. Иначе
говоря, поправляя Сент-Бёва и превращая «Камчатку» в
«Сибирь», Бодлер, как следует думать, отсылал критика к
собственному определению своей поэтической позиции:
когда он говорил «Нет, не Камчатка, а необъятная Сибирь»,
он явно имел в виду свое стихотворение «Песнь после по¬
лудня», в котором незадолго до истории с Академией ис¬
пользовал образ Сибири для характеристики своего твор¬
ческого удела.
45 Сн. Baudelaire, Correspondance, II (1860-1866) / Texte établi, présenté
et annoté par C. Pichois (Paris, Gallimard, 1999) 219.
ИСТОРИЯ С АКАДЕМИЕЙ | 53
Напомним, что стихотворение увидело свет 15 октября
1860 года, а в 1861 году было включено Бодлером во второе
издание «Цветов Зла». Комментаторы расходятся во мне¬
ниях, какой именно пассии поэта посвящено это страстное
любовное послание; композиционно пиеса следует сразу
за «циклом Мари Добрен» и предваряет сонет «Сизина»,
обращенный к «соблазнительной авантюристке» Элизе
Ньери, встреченной Бодлером в доме знаменитой госпожи
Сабатье и вдохновившей его также на фривольную новел¬
лу «Рассудительный Безумец и Прекрасная Авантюристка»,
оставшуюся, правда, незаконченной. Некая неопределен¬
ность женского прототипа вкупе с необыкновенно насы¬
щенным и местами натуралистическим эротизмом всего
стихотворения оттеняют заключительное четверостишие,
в котором поэтический субъект словно бы подводит черту
под своими любовными восторгами и выводит в послед¬
них строчках достаточно причудливую формулу своего ли¬
тературного существования:
Твой свет, твой жар целят меня,
Я знаю счастье в этом мире!
В моей безрадостной Сибири
Ты—вспышка яркого огня!
Пер. Эллиса46
В чуть более верном букве оригинала переводе прозой,
свободной от требований и экваритмичности, и эквариф-
мования, эта формула поэтического удела Бодлера пред¬
стает еще более вычурной:
Тобой душа моя исцелена
Тобою—свет и цвет!
Взрыв зноя
В моей Сибири черной!
Прежде всего заметим, что Сент-Бёв с его литературным
чутьем не мог пройти мимо столь экзотического самоопре¬
46 Ш. Бодлер, Цветы зла, 95.
54 | ПАССАЖИ
деления современного французского поэта: по всей види¬
мости, под его ироничным пером бодлеровская Сибирь
превратилась в «романтическую Камчатку». Разумеется,
это только предположение, но на сегодняшний день не
существует другого объяснения происхождения образа
«Камчатки» в статье Сент-Бёва. Более того, не существу¬
ет и сколько-нибудь основательного объяснения источни¬
ка образа Сибири у самого Бодлера. Другими словами, в
доступной нам критической литературе не встречается,
за единственным исключением, даже попытки истолко¬
вать образ Сибири в стихотворении «Песнь после полу¬
дня». Это тем более странно в отношении русской кри¬
тики, поскольку речь идет об одной из довольно редких
«русских реминисценций» у Бодлера. Насколько мне из¬
вестно, во всем корпусе поэзии и прозы Бодлера мотив
Сибири («Камчатки») как удела поэта встречается один-
единственный раз, если не считать повторного его исполь¬
зования в письме к Сент-Бёву. Вот почему представляется
целесообразным чуть расширить культурный и литератур¬
ный контексты, из элементов которых могла сложиться
«моя черная Сибирь» Бодлера.
К генеалогии французской Сибириады
Для начала заметим, что молчание французских крити¬
ков о Сибири Бодлера можно объяснить тем, что при¬
хотливый образ был рожден на самой грани культурного
стереотипа и крайне субъективного его перетолкования.
Действительно, образ Сибири входит в состав более сложно¬
го литературного мифа, или философско-идеологической
конструкции,—«страшного повествования» о России-ду-
шительнице свободной Европы, которое на разные лады
и на разных языках рассказывал в середине XIX столетия
целый полк европейских литераторов, чьи имена и творе¬
ИСТОРИЯ С АКАДЕМИЕЙ | 55
ния благополучно канули в Лету и известны сегодня раз¬
ве что узким специалистам-русоведам. Разумеется, среди
европейских обличителей тогдашней России попадались
личности весьма незаурядные и по-своему замечатель¬
ные: очевидно, что в первую голову здесь следует назвать
приснопамятного маркиза Астольфа де Кюстина, чьи от¬
чаянные искания мужской любви произвели в тесных ари¬
стократических кружках Парижа в 1824 году примерно та¬
кой же переполох, какой среди ревнителей буржуазной и
религиозной морали вызвали в 1857-м «Цветы Зла».
Заметим также, что книга Кюстина «Россия в 1839 году»,
ставшая литературной сенсацией просвещенной Европы
1840-х годов, была написана известным литератором, ав¬
тором нескольких светских романов, которые во мнении
современников могли соперничать с творениями Бальзака.
Бодлер не избежал того двусмысленного очарования, ко¬
торое источала фигура отлученного от света маркиза, хо¬
тя ценил в нем не столько талант романиста, сколько оре¬
ол истинного денди, чей образ жизни строится в откры¬
том противостоянии моральным суждениям высшего об¬
щества. В статье о «Госпоже Бовари» автор «Цветов Зла»
оставил лаконичный панегирик Кюстину-денди:
...Г-н де Кюстин принадлежит к особому подвиду ге¬
ниев, он—гений, дендизм коего доходит до идеала
небрежения. Высокородное чистосердечие, романи¬
ческий пыл, светское остроумие, абсолютная и абсо¬
лютно небрежная личность—все это недоступно по¬
ниманию толпы...47
Впрочем, эта похвала могла быть продиктована, по
крайней мере отчасти, чувством горячей благодарности,
которое испытывал Бодлер в отношении Кюстина, ока¬
завшегося среди горстки французских писателей, решив¬
ших высказаться в поддержку автора осужденных «Цветов
Зла»: в письме к собрату по дендизму Барбе д’Оревильи
полуопальный маркиз признавался в симпатиях к «заклей¬
47 Сн. ВлиоЕЬАШЕ, (ЕиугеБ сотрШеБ, II, 78.
56 I ПАССАЖИ
менному, но не осужденному поэту»; автор культовой кни¬
ги «О дендизме и Джордже Браммеле» (1845) передал это
письмо Бодлеру, который им очень дорожил и думал ис¬
пользовать в защите своей опальной книги.
Как было сказано, книга Кюстина «Россия в 1839 году»
произвела фурор в Европе, которая разделилась на горячих
сторонников и яростных хулителей маркиза-обличителя
русской жизни. Не останавливаясь здесь на деталях рецеп¬
ции скандального сочинения, оказавшего под запретом в
России почти на сто пятьдесят лет48, подчеркнем, что имен¬
но «Россия в 1839 году» в высшей степени наглядно зафик¬
сировала образ Сибири в виде своего рода общего места,
прописной истины французского культурного сознания се¬
редины XIX века, согласно которой Сибирь—царство про¬
извола, страна рабов, край воплощенной несвободы.
Более того, в «Письме пятнадцатом», от 23 июля 1839 го¬
да, Сибирь предстала маркизу как черный символ всей
России:
...Здесь на каждом шагу встает передо мною призрак
Сибири, и я думаю обо всем, чему обозначением слу¬
жит имя сей политической пустыни, сей юдоли невзгод,
кладбища для живых; Сибирь—это мир немыслимых
страданий, земля, населенная преступными негодяя¬
ми и благородными героями, без которой империя эта
была бы неполной, как замок без подземелий49.
Если в этих строчках, пронизанных поэтическими сти¬
хиями плохого готического романа, образ Сибири не более
48 Подробнее о рецепции Кюстина в России и во Франции см.: М. Са-
dot, La Russie dans la vie intellectuelle française. 1830-1856 (Paris,
Fayard, 1967) 223-283. Ср. также: В. Мильчина, A. Осповат, Ком¬
ментарий к книге Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году» (СПб.,
Крига, 2008).
49 А. де Кюстин, Россия в 1839 году / Пер.с франц. под общ. ред. В. Миль-
чиной (СПб., Крига, 2008) 226. Ср. замечание Михаила Рыклина в его
исследовании гомосексуальных мотивов в автобиографических те¬
мах сочинения Кюстина: «В нарастании страха особую роль играет
Сибирь...» (М. Рыклин, «Вечная Россия: две вариации на тему мар¬
киза де Кюстина», Авто-био-графия. Тетради по аналитической ан¬
тропологии / Под ред. В. А. Подороги (М., Логос, 2001) 250).
ИСТОРИЯ С АКАДЕМИЕЙ | 57
чем высокопарная литературная антиутопия, куда заказан
путь всякой мысли о свободе, то в стихотворении «Карта
Европы», написанном Виктором Гюго 5 января 1852 года
на острове Джерси, воображаемая сибирская земля при¬
обретает вполне конкретные черты в яркой политиче¬
ской топографии, начертанной пером поэта, чьими уста¬
ми говорила самая что ни есть прекраснодушная истина
Франции:
Россия! Ты молчишь, угрюмая служанка
Санкт-петербургской тьмы, немая каторжанка
Сибирских рудников, засыпанных пургой,
Полярный каземат, империя вампира.
Россия и Сибирь—два лика у кумира:
Одна личина—гнет, отчаянье—в другой.
Пер. И Антокольского50
Очевидно, что и в отрывке готической прозы Кюстина,
и во фрагменте поэтической географии Гюго субъект по¬
вествования предельно отстранен от юдоли рабства, он
смело занимает позу внешнего, стороннего наблюдателя,
позволяющую ему и сохранять собственное достоинство,
и выступать неколебимым носителем общечеловеческих
истин и высших духовных ценностей.
Сибирь Бодлера—совершенно иного толка; образ поэта
«Цветов Зла» намного сложнее, рельефнее, выпуклее: эпи¬
тет «черный» указывает на то, что Бодлер вполне сознает
семантику общего места, однако дерзко переворачивает
ее, делает «своей», обращает на самого себя—на фигуру
проклятого поэта, который оказывается, таким образом,
носителем, местом, средоточием Зла:
Тобой душа моя исцелена
Тобою—свет и цвет!
Взрыв зноя
В моей Сибири черной!
50 В. Гюго, «Карта Европы», в кн.: Собр. соч. в 15 т / Ред. А. Смирнов,
М. Трескунов (М., ГИХЛ, 1956), т. 12,47.
58 | ПАССАЖИ
В стихотворении «Песнь после полудня» Зло, или Боль,
что несет в себе Поэзия, обретает моментальное исцеление
через зло, или боль, любви, неистового эротизма. В пику
записным гуманистам своего времени Бодлер утверждает,
что новейшая, истинно современная, литература не мо¬
жет пройти мимо опыта Зла, более того, просто вынужде¬
на взять на себя эту «проклятую долю»—стремление дать
слово Злу, встать на сторону Зла, чтобы от его кощунствен¬
ного имени подвергнуть сомнению ходячие истины совре¬
менности. «Моя черная Сибирь» —имя собственное, кото¬
рое избирает себе проклятый поэт «Цветов Зла».
Итак, если через интертекстуальный анализ образа Си¬
бири в «Цветах Зла» обнаруживаются его сложные отно¬
шения с общей идеей о России, сложившейся в литера¬
турном сознании Франции середины века, его скрещенья
с фрагментами французской романтической Сибириады,
принадлежавшими перу Гюго и Кюстина, то в следующей
части настоящего этюда представляется совершенно не¬
обходимым коснуться еще одного литературного, точнее
говоря, историко-биографического источника, к которому
могла восходить «моя черная Сибирь» Бодлера.
Действительно, в то время как французская критика об¬
ходила молчанием образ Сибири, в русском литературо¬
ведении однажды была сделана попытка его прояснить.
Авторы комментариев к академическому изданию «Цве¬
тов Зла» высказывают робкое предположение, что «об¬
раз Сибири» мог быть навеян тем вниманием, «которое
мировая общественность проявила к возвращению после
смерти Николая I уцелевших декабристов»51. Сама направ¬
ленность подобного предположения, увязывающего об¬
раз французского «проклятого поэта» с фигурами русских
аристократов-революционеров, представляется в общем
правдоподобной, хотя следует признать, что до настоя¬
щего момента эта гипотеза не находила подтверждения
51 Ш. Бодлер, Цветы зла, 360.
ИСТОРИЯ С АКАДЕМИЕЙ | 59
в критической литературе о Бодлере. Тем не менее пред¬
положение это вполне может соответствовать реальному
положению дел, хотя, разумеется, его следует обосновать
в более тщательном исследовании «русских тем» у Бодлера
вообще и в частности его тесных отношений с таким не¬
ординарным представителем русского революционного
движения, как Николай Иванович Сазонов (1815-1862), в
контексте которых действительно обнаруживаются дру¬
гие, более реальные, мотивы, чтобы связать образ «моей
черной Сибири» в «Цветах зла» с декабризмом и русским
революционным движением.
Русский «лишний» в Париже
Если придерживаться общепринятой точки зрения на судь¬
бу Сазонова, сформировавшейся в первую очередь благо¬
даря таланту и общественному весу Герцена-мемуариста,
посвятившего один из очерков «Былого и дум» своему то¬
варищу по университету и революционной деятельности52,
то следовало бы, наверное, признать, что русский знако¬
мец Бодлера был законченным воплощением русского
«лишнего человека», вобравшим в себя самые редкие та¬
ланты и самые резкие противоречия. Действительно, глу¬
бокие умственные дарования сошлись в его личности с вы¬
соким самомнением, широкая образованность сочеталась
с мелким тщеславием, истинно философский склад ума—
с необоримой склонностью к рассеянному образу жизни,
неуемная жажда деятельности —с неискоренимой тягой к
праздности, душевная привязанность к русскому народно¬
му характеру—с высокопарной устремленностью к космо¬
политическим идеям освобождения всего человечества.
Яркий птенец «дворянского гнезда» Рязанской губер¬
нии, Сазонов получил разностороннее воспитание в «до¬
52 А. И. Герцен, «Сазонов», в кн.: Соч. в 4 т., т. 2. Былое и думы. 4.4-5 /
Общ. ред. и коммент. Г. Г. Елизаветиной (М., Правда, 1988) 516-532.
60 | ПАССАЖИ
ме родительском», упорхнув из него в пятнадцать лет от
роду раз и навсегда53; выдающийся питомец Московского
университета, которому профессора и однокашники про¬
рочили великую ученую будущность, он стал верным дру¬
гом Герцену и Огареву, связав себя узами революционных
конспираций и философических бдений; скрывшись по¬
сле разгрома знаменитого кружка в Европу, он оказался
одним из первых политневозвращенцев царской России и
одним из отцов-основателей русской политической эми¬
грации в Париже 1840-х годов54; вестник просвещенной
России, он, едва обосновавшись в Париже, сумел пред¬
ставить французским читателям изысканные переводы
из Пушкина, Лермонтова и Гоголя, выполненные в пику
местным элегантным переложениям в духе «красивых и
неверных»; гуляка праздный и большой повеса, он жил в
столице XIX столетия на широкую ногу, как «настоящий
русский барин», снискал себе известность в кругах па¬
рижской богемы и не замедлил сесть в долговую тюрьму
Клиши, откуда выкупать промотавшегося кутилу приеха¬
ли из Рязани сестры-помещицы; убежденный радикал и
непременный заводила громких революционных демар¬
шей, он принадлежал к той горстке русских аристократов,
что «носили на руках» молодого Карла Маркса55, во вся¬
ком случае, наизусть читал прекрасным дамам «Манифест
коммунистической партии» и даже взялся его переводить
на французский, правда бросил на половине; из того же
53 Б. М. Шахматов, «Сазонов H. И.», в кн.: Русские писатели. 1800-1917.
Биографический словарь / Под ред. П. А. Николаева, т. 5. П-С (М., БСЭ,
2007) 292-293. На настоящий момент самым полным исследовани¬
ем судьбы H. И. Сазонова на русском языке остается его литератур¬
ная биография, написанная рязанским краеведом А. А. Акуловым:
А. А. Акулов, Рыцарь свободы (Рязань, Узорочье, 1988). И в акаде¬
мическом словаре, и в биографической повести А. А. Акулова связи
Сазонова с французской литературой остались, по существу, нерас¬
крытыми.
54 М. Cadot, La Russie dans la vie intellectuelle française, 31-34.
55 Д. Рязанов, Карл Маркс и русские люди сороковых годов (Петроград,
Издание Петроградского Совета Рабочих и Красно-Армейских Де¬
путатов, 1918) 4.
ИСТОРИЯ С АКАДЕМИЕЙ | 61
радикализма, равно как из той же праздности, он принял
посильное участие в революции 1848 года, за что и был
выслан с родины политических свобод, найдя последнее
пристанище в Женеве, где скончался в нищете и забвении.
Герцен так отозвался на смерть Сазонова:
Никто не шел за его гробом, никто не был поражен ве¬
стью о его смерти. Печальное существование его, пере¬
брошенное на чужую землю, село как-то незаметно, не
исполнив ни своих надежд, ни ожидания других. Бегун
образованной России, он принадлежал к тем празд¬
ным, лишним людям, которых когда-то поэтизировали
без меры, а теперь побивают каменьями без смысла.
Мне больно за них. Я много знал из них и любил за род¬
ную мне тоску их, которую они не могли пересилить, и
ушли —кто в могилу, кто в чужие края, кто в вино56.
Вопреки ореолу отчаянного бездельника, нагнетенному
вокруг фигуры былого сотоварища стараниями Герцена-
мемуариста, следует прямо сказать, что Сазонов довольно
немало сделал в своей короткой жизни. Не останавливаясь
на подробной исторической характеристике трудов и дней
этого русского «лишнего человека» в Париже середины
XIX столетия57, заметим здесь, что именно Сазонову до¬
велось стать первым переводчиком Бодлера на иностран¬
ный язык, и подчеркнем, что благодаря этому «лишнему
человеку» первым иностранным наречием, на котором за¬
говорила поэзия «Цветов Зла», оказался именно русский
язык.
В самом деле, еще до того как великая книга увидела
свет в отчизне поэта, Сазонов опубликовал на страницах
«Отечественных записок» замечательную статью о Бодлере
и литераторах его круга, подписав ее псевдонимом Карл
Штахель: в этой статье был помещен перевод отрывка из
стихотворения «Утро», а также осуществлена первая пу¬
56 А. И. Герцен, Былое и думы (М., ОГИЗ, 1949) 873-874.
57 Подробнее о Сазонове см. в наст. изд. «Пассаж шестой. Николай Са¬
зонов—первый переводчик Шарля Бодлера».
62 I ПАССАЖИ
бликация сонета «Флакон» на французском языке58. Судя
по всему, глубинное сближение опального русского воль¬
нодумца и французского «проклятого поэта» произошло
на почве экзистенциального изгойства: один был лишен
всех прав и состояния в России и перебивался в Париже
случайным литературным заработком; другой влачил там
же унизительное существование под гнетом пресловуто¬
го «семейного совета», отнявшего у поэта право распоря¬
жаться отцовским наследством.
Так или иначе, но в далеко не полностью восстанов¬
ленном на сегодня контексте дружбы Сазонова и Бодлера
весьма правдоподобным представляется предположение
о том, что образ «моей черной Сибири» в «Цветах Зла»
мог восходить к общению французского поэта с русским
литератором и революционером, а через фигуру русско¬
го изгоя—к декабристским мотивам Пушкина. Не стоит
забывать о том, что Герцен и его единомышленники вос¬
принимали себя «меньшими братьями» декабристов59: по¬
казательно в этом отношении, что свой мемуарный очерк
о Сазонове Герцен начинает с неточной цитаты из стихо¬
творения Пушкина «К портрету Чаадаева». Немаловажным
представляется и то биографическое обстоятельство, что
Сазонов был лично знаком с автором «Философических
писем», который высоко ценил младшего товарища и на¬
зывал его «человеком ума необыкновенного»60. Словом,
в этом пушкинско-декабристском ореоле Сазонов вполне
был способен отождествить свое парижское изгнанниче¬
ство, обрекавшее его на праздность, пустоту и разные про¬
иски, с сибирской ссылкой, равно как был способен вну¬
шить Бодлеру такую или подобную мысль, которая могла,
с одной стороны, служить замечательным оправданием
58 A. Wanner, «Le premier regard russe sur Baudelaire et la publication
du Flacon», Bulletin baudelairien, décembre 1991, 43-50. См. также:
A. Guyaux, Baudelaire. Un démi-siècle de lectures des Fleurs du mal (1855-
1905), 1058-1060.
59 A. И. Герцен, Былое и думы, 674.
60 П. Я. Чаадаев, Поли. собр. соч. и писем, т. 2. (М., Наука, 1991) 140.
ИСТОРИЯ С АКАДЕМИЕЙ | 63
испорченности, извращенности и бездеятельности русско¬
го «лишнего человека» в Париже, а с другой — послужить
подкреплением политико-поэтической позиции француз¬
ского «проклятого поэта», выглядевшего «чужим» в своем
отечестве и зафиксировавшего эту чуждость в отождест¬
влении своей фигуры с «черной Сибирью».
Так это было или не так, но вполне очевидно, что Бодлер
превращает образ Сибири в формулу собственного поэти¬
ческого существования. Уже было сказано, с какой радо¬
стью он подхватил определение свой поэтической пози¬
ции как «романтической Камчатки», с каким удовольстви¬
ем поправил Сент-Бёва, указав ему, что речь должна идти
все-таки о Сибири, правда «знойной и населенной».
Подводя предварительные итоги, следует сказать, что
«образ Сибири» может быть истолкован исключительно
в биографическом плане: в таком случае его можно сде¬
лать своего рода «автобиографемой» жизни поэта-изгоя,
выстраивающего свое существование на отшибе литера¬
турного бомонда. Это было бы красиво, но недостаточ¬
но точно. Действительно, в «Песне после полудня» образ
Сибири является скорее общим экзистенциальным опре¬
делением удела «проклятого поэта», однако «Сизина», сле¬
дующее стихотворение из «Цветов Зла», словно бы указы¬
вает на некие опасные и тесные связи поэтической фан¬
тазии, любовной страсти и революционного насилия. Как
уже говорилось, оно посвящено легендарной авантюрист¬
ке Элизе Ньери, чуть ли не открыто славившей итальян¬
ского террориста Феличе Орсини, устроившего зверское
покушение на Наполеона III, в результате которого им¬
ператор и императрица остались невредимы, но погибли
свыше 150 парижских зевак и фланеров. Другими словами,
сама композиция «Цветов Зла», особенно во второй ее ре¬
дакции, препятствует тому, чтобы образ Сибири воспри¬
нимался исключительно в биографическом плане, указы¬
вая на глубокую политическую направленность различных
устремлений сознания поэта.
64 | ПАССАЖИ
О богеме и декадансе,
денди и люмпен-интеллектуалах
Образ «черной Сибири» как формулы поэтического су¬
ществования Бодлера, особенно в его вероятном соответ¬
ствии фигуре русского радикала Сазонова, вынуждает нас
вернуться к принципиальному для характеристики лите¬
ратурной ситуации автора «Цветов Зла» вопросу о «богеме
1848 года», то есть той социальной и творческой среде, ко¬
торая не только формировала Бодлера и его окружение, но
и активно формировалась этой литературной братией.
В черновых записях Вальтера Беньямина к работе «Па¬
риж эпохи II Империи у Бодлера» встречается крайне лю¬
бопытный пассаж, содержащий набросок типологии па¬
рижской богемы 1830-1850-х годов. По мысли критика,
эта социальная категория развивалась столь стремитель¬
но, что в ней необходимо различать несколько поколен¬
ческих страт:
Здесь недостает одного пассажа примерно в шесть
страниц, в котором содержится набросок краткой исто¬
рии богемы по поколениям. В нем определяется золо¬
тая богема Готье и Нерваля, богема поколения Бодлера,
Ассалино, Дельво, наконец, новейшая пролетаризован-
ная богема, вестником которой стал Валлес61.
Несмотря на очевидную жесткость предложенной
Беньямином исторической схемы, в ней схвачен крайне
существенный элемент, а именно необычайная динамич¬
ность этой социальной группы, к которой так или иначе
принадлежал Бодлер, точнее говоря, в историческое ста¬
новление которой было вовлечено его творческое суще¬
ствование. Вместе с тем, вводя понятие «пролетаризован-
ной богемы Валлеса», немецкий критик прямо указывает
на исторический, преходящий, мимолетный характер но¬
61 Ш. Весами*, СНагкБ ВаийеШге, 254.
ИСТОРИЯ С АКАДЕМИЕЙ | 65
вой социальной общности, призванной влиться в после¬
дующие общественные классы, формирующиеся стреми¬
тельным развитием капиталистических отношений, глав¬
ным мерилом которых становится купля-продажа труда,
в том числе интеллектуального, литературного, поэтиче¬
ского. Словом, если возвышенный парнасец Готье, всеми
силами тянувшийся к романтическим идеалам чистого ис¬
кусства, мог позволить себе высокомерно отвергать бур¬
жуазную повседневность и торжество в ней торгашеского
духа, то Бодлер был вынужден всю свою творческую жизнь
торговаться с торгашами, хотя это не помешало ему из¬
брать того же Готье, «совершеннейшего чародея француз¬
ской словесности», себе в наставники, публично объявить
его «мэтром и другом» «Цветов Зла», что поначалу при¬
вело последнего в крайнее замешательство, если не ти¬
хий ужас62.
Именно историческая мимолетность богемы как со¬
циально-творческой группы определяла необходимость
опознавания своей принадлежности/непринадлежности
к этой все время ускользающей общественной натуре.
Строго говоря, теория дендизма Бодлера есть не что иное,
как попытка поэта определить идеальный тип существо¬
вания, стремление к которому могло бы придать некую
форму жизни, не имеющей под собой иных оснований,
кроме сознания бездны, ничто, пропасти. Именно в этом
смысле следует понимать уже приводившееся суждение
Бланшо о том, что дендизм почти ничего не значит в исто¬
рии Бодлера, что поэт «Цветов Зла» как никто другой мог
сознавать малозначительность этого культа, «в котором
он сходился с толпой своих современников...»63. Иначе го¬
воря, Бодлер больше тянулся к образу денди, пытался вы¬
страивать свой образ в соответствии с идеальным типом
62 Об отношениях Готье и Бодлера см. бодлеровскую энциклопедию:
С. Pichois & J.-P. Avice, Dictionnaire Baudelaire, 203-208.
63 M. Blanchot, La Part du feu, 142-143.
66 | ПАССАЖИ
социального поведения, который внутренне оставался ему
чуждым, поскольку в текущей жизни поэта доминировала
стихия асоциальности, своего рода деклассированности.
Разумеется, сознание социального отщепенства не сразу
и не всецело завладело мыслями Бодлера, однако сам за¬
мысел трактата о дендизме, который не выходил из го¬
ловы автора «Цветов Зла» в последние годы жизни, обна¬
руживает, насколько далеки от его насущных забот были
устремления тех, кто воплощал для него идеалы дендизма.
В одном из набросков творческих планов, относящемся к
началу 1861 года, трактат о дендизме предстает в следую¬
щей формулировке:
«Дендизм в изящной словесности» (Шатобриан, де
Местр, де Кюстин, Феррари, Поль де Молен, д’Оре-
вильи).—Анализ одной исключительной, своеобраз¬
ной способности декаданса64.
В этой формулировке обращает на себя внимание не
столько дворянское звание почти всех денди от литера¬
туры, притязание на которое следует считать одной из са¬
мых зримых антидемократических пружин литературной
эволюции во Франции середины века, сколько само опре¬
деление дендизма через понятия «способности» и «дека¬
данса». В основании дендизма Бодлер усматривает не
только аристократическое происхождение — природу, но
и самовоспитание—культуру, сознательное развитие в ин¬
дивидуальности таких черт, таких способностей, которые
по определению ставят ее в оппозицию безликой черно¬
фрачной демократии. Очевидно, что подобная социальная
ситуация могла соответствовать лишь каким-то частным
чаяниям Бодлера, который и в существовании, и в твор¬
честве лепил из себя «человека толпы». Однако еще более
проблематичным предстает в этой формулировке понятие
«декаданс»: не приходится сомневаться, что объективно,
64 Сн. ВлиоЕЬАШЕ, Согге5ропс1апсе, II, 128.
ИСТОРИЯ С АКАДЕМИЕЙ | 67
задним числом, творчество Бодлера оказалось одним из
самых острых сознаний европейского декаданса. Фридрих
Ницше не особенно заблуждался, когда объявлял автора
«Цветов Зла» «первым типическим décadent»65. Проблема
здесь в том, что субъективно, то есть в сознательном от¬
ношении к себе и своему времени, Бодлер всеми фибрами
умственного строя противополагал себя «декадансу», вос¬
принимая современный упадок духа как своего рода «бо¬
лезнь века», от которой сам неустанно искал исцеления.
В этом плане поэт был не столько больным «декаданса»,
сколько его врачевателем или по меньшей мере исклю¬
чительным в своем роде симптоматологом, с терпением
и вниманием устанавливавшим симптомы болезни, по¬
разившей со временем всю европейскую цивилизацию.
Иначе говоря, до тех пор пока Бодлеру доставало терпе¬
ния, сил, здоровья, наконец, он мыслил себя диагностом
декаданса; он уступил лишь в тот момент, когда перестал
различать здоровье и нездоровье, когда его интеллекту¬
альная способность канула в безмыслии, безмолвии и бес¬
человечности природного существования последних меся¬
цев. В этом отношении можно вновь согласиться с Ницше:
Бодлер был не только первым, но и последним подлинным
декадентом Европы, поскольку после него декаданс пре¬
вратился в позу и культ.
Не что иное, как наличие здоровой точки зрения, по¬
зволяло поэту извне смотреть на дендизм, порой приме¬
рять на себя костюм и маску денди, свободно входить в
этот образ, а также притязать на аристократическое со¬
общество избранных; но с еще большей свободой он был
способен выходить из него, принимая более будничный,
тривиальный или даже вызывающе плебейский вид; эти
пассажи Бодлера не оставались незамеченными, а глав¬
ное, для самих французских денди, исключительно все¬
рьез строивших себя по модели Д. Браммела, Бодлер оста-
65 Ф. Ницше, Собр. соч. в 2 т./ Пер. с нем., сост., ред. и прим. К. А. Свась-
яна (М., Мысль, 1990) т. 2, 715.
68 | ПАССАЖИ
вался «чужаком». Как замечал Барбе д’Оревильи в частном
письме к одному из «посвященных»: «У него нет нашей
веры, нет наших приличий, зато есть наша ненависть и
наше презрение»66.
Для чуть более точной характеристики той богемной
среды, в которой преимущественно вращался Бодлер и пи¬
сатели его самого ближнего круга, необходимо напомнить,
что Беньямин, утверждая, что богему Бодлера следует от¬
личать от золотой богемы Готье и Нерваля, опирался в по¬
строении своей типологии на классическое определение
люмпен-пролетариата, представленное Марксом в извест¬
ной работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»:
Рядом с промотавшимися кутилами сомнительного
происхождения и с подозрительными средствами
существования, рядом с авантюристами из раз¬
вращенных подонков буржуазии в этом обществе
встречались бродяги, отставные солдаты, уголов¬
ные преступники, беглые каторжники, мошенники,
фигляры, лаццарони, карманные воры, фокусники,
игроки, сводники, содержатели публичных домов,
носильщики, писаки, шарманщики, тряпичники,
точильщики, лудильщики, нищие—словом, вся не¬
определенная, разношерстная масса, которую об¬
стоятельства бросают из стороны в сторону и кото¬
рую французы называют la bohème67.
Прежде всего заметим, что в этой номенклатуре отбро¬
сов общества интересна не только некая амбивалентность
в тех сложных чувствах, которые питает немецкий мыс¬
литель к фигурам человеческого отребья; очевидно, что
он пребывает во власти своего рода очарования богемой
или, по меньшей мере, находится под гнетом психиче¬
ского симбиоза влечения/отвращения: с одной стороны,
через вкрапление «писаки» он словно бы самого себя за¬
носит в чрезвычайно живописный перечень, рискующий
66 С. Pichois & J.-P. Avice, Dictionnaire Baudelaire, 50.
67 К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 6,168.
ИСТОРИЯ С АКАДЕМИЕЙ | 69
обернуться дурной бесконечностью; с другой стороны,
собственно под конец, будто очнувшись от наваждения,
отгораживается от сомнительного сообщества ссылкой
на «французов» и использованием иностранного языка,
позволяющими ему сохранить дистанцию в отношении
всех этих деклассированных элементов. Однако для темы
нашего этюда эта номенклатура важна тем, что она по¬
зволяет чуть точнее схватить те злачные места Парижа,
в которых время от времени вращался Бодлер и топогра¬
фия которых запечатлена во многих пиесах «Цветов Зла»
и «Сплина Парижа».
Вместе с тем в связи со знакомством Бодлера с Сазоновым
Марксово определение богемы приобретает совершенно
особый смысл, позволяя реконструировать социальную
ситуацию и духовную обстановку, в которых происходи¬
ло сближение двух интеллектуальных изгоев. В самом де¬
ле, в переписке Маркса встречается одна прелюбопытная
характеристика Сазонова, отдельные детали которой на¬
столько различимо перекликаются с номенклатурой че¬
ловеческого отребья из книги «Восемнадцатое брюмера
Луи Бонапарта», что возникает искушение предположить,
что Маркс, выстраивая свою типологию богемы, держал
в мыслях—среди прочих авантюристов пера, с которыми
сам был тесно связан в Париже сороковых годов,—фигуру
бывшего русского аристократа, отвечавшую по меньшей
мере таким дефинициям, как «промотавшийся кутила» с
«подозрительными средствами существования».
Эта характеристика Сазонова встречается в письме Марк¬
са к Энгельсу от 22 сентября 1856 года (за полгода до этого
Сазонов напечатал в «Отечественных записках» статью о
Бодлере и новейшей французской поэзии). Поскольку этот
пассаж представляет собой одно из редких свидетельств
отношений Маркса и Сазонова, равно как один из уни¬
кальных литературных документов об образе жизни по¬
следнего в Париже, представляется целесообразным при¬
вести его полностью:
70 | ПАССАЖИ
...Этот русский сильно поистратился, сильно опустился,
был совсем без денег и без кредита, а следовательно,
весьма плебейски и революционно настроен и доступен
разрушительным идеям. Итак, Сазонов услышал, что у
Мозеса водится «монета». И вот он пристал, с одной сто¬
роны, к Мозесу, с другой стороны—к Мозесихе. С по¬
следней он сошелся, а о первом протрубил как о вели¬
ком литературном светиле и ввел его в редакции раз¬
ных обозрений и газет. Владимир (собирательное имя,
которым Марксу случалось называть русских.—С. Ф.),
разумеется, везде имеет своих, и всюду ему открыт до¬
ступ. Таким путем он выманил у скупого Мозеса доста¬
точно монет, чтобы иметь возможность снова «засиять»
и бросить приманку для нового кредита. Вооруженный
этим, Сазонов поймал на удочку богатую старую еврей¬
ку и сочетался с ней кошерным браком. Но с этого дня
он опять стал «аристократом» и повернулся спиной к
Мозесу, отзываясь о нем как об очень заурядном и по¬
средственном парне. Мозесиху же он вероломно поки¬
нул, и она теперь бегает с бранью и криком по всему
Парижу и каждому, кто готов слушать, рассказывает об
измене коварного московита. Такова до известной сте¬
пени история величия и падения Мозесова дома68.
Очевидно, что эта блестящая миниатюра, где стихия чи¬
сто еврейского юмора усиливается едкой иронией всего
повествования и необычайно смачными эпитетами, на ко¬
торые не скупится Маркс-рассказчик, требует детального
разбора в более широком контексте крайне важной темы
«Карл Маркс и русские люди сороковых годов»69, что будет
сделано в своем месте. Здесь же ограничимся рассмотре¬
нием тех отголосков типологии французской богемы из
книги «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», которые
явственно звучат в более поздней Марксовой характери¬
стике Сазонова.
Прежде всего здесь примечательно то, что, описывая об¬
раз жизни русского вольнодумца в Париже, Маркс чуть ли
68 К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 29, 56.
69 Д. Рязанов, Карл Маркс и русские люди.
ИСТОРИЯ С АКАДЕМИЕЙ | 71
не автоматически связывает его революционность с пле¬
бейством, неприкаянностью и неустроенностью; по мыс¬
ли философа, высказанной в письме к ближайшему сорат¬
нику, собственно революционность, то есть доступность
разрушительным идеям, определяется понятием «пле¬
бейства», каковое в данном контексте почти синонимич¬
но «богемности», словом, уделу всех этих отверженных,
униженных и оскорбленных, перечень которых составил
Маркс, осмысляя итоги революций 1848 года во Франции
и Германии. Не менее любопытно и то, что в этом пассаже
возникает противоположная социальная категория—«ари¬
стократия». Здесь важно еще раз подчеркнуть, что отноше¬
ния Маркса с «русскими аристократами» в Париже начала
сороковых годов — это целая и совершенно самостоятель¬
ная тема; в этой связи напомним лишь, что по собствен¬
ным словам основоположника научного коммунизма, не
лишенным, однако, риторического преувеличения, «рус¬
ские аристократы в Париже» носили его на руках70; на де¬
ле это выражалось среди прочего в том, что иные состоя¬
тельные русские парижане вроде П. В. Анненкова, близ¬
кого знакомца Сазонова еще по Москве, щедро ссужали
деньгами молодого немецкого журналиста, подававшего,
как им казалось, большие надежды и с таким трудом сво¬
дившего в столице XIX столетия концы с концами, что его
самого без всякой натяжки можно было бы отнести к это¬
му отребью, которое французы, по его словам, «называют
la bohème». Во всяком случае, в таком приземленном, до
банальности материальном контексте становится более
понятной фраза Маркса о том, что Сазонов «опять стал
„аристократом“», следовательно, вернулся к тому преж¬
нему образу жизни, когда сорил деньгами и, очень может
быть, выручал автора коммунистического «Манифеста»
звонкой монетой. Понятным становится и нескрываемое
злорадство, с которым Маркс рассказывает о любовной
70 К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 25, 321.
72 | ПАССАЖИ
авантюре Сазонова: типологически она мало чем отлича¬
ется от тех ухищрений, к которым прибегал он сам, без за¬
зрения совести клянча деньги у Анненкова.
Во всяком случае, как трудно не принять точку зрения
таких авторитетных историков русского революционного
движения, как Д. Б. Рязанов и П. Н. Сакулин, согласно кото¬
рым Сазонов действительно был «первым русским марк¬
систом», так невозможно отрицать, что социальная сре¬
да, в которой типичный русский «лишний человек» зара¬
зился радикальными революционными идеями, в полной
мере отвечала Марксову определению парижской богемы.
Дополнительным подтверждением такого положения ве¬
щей может стать одна из самых недоброжелательных оце¬
нок, данная Герценом бывшему сотоварищу по москов¬
скому кружку. Действительно, рассказывая о тех кругах,
в которых вращался Сазонов в Париже, Герцен чуть ли не
вторит Марксу, которого, как известно, в жизни на дух не
переносил:
Сазонов, любивший еще в России студентом окружать
себя двором посредственностей, слушавших и слушав¬
шихся его, был и здесь окружен всякими скудными
умом и телом лаццарони литературной киайи, поден¬
щиками журнальной барщины, ветошниками фелье¬
тонов, вроде тощего Жюльвекура, полуповрежденного
Тардифа де Мелло, неизвестного, но великого поэта
Буэ; в его хоре были ограниченнейшие поляки из то-
вянщины и тупоумнейшие немцы из атеизма71.
Здесь не место комментировать убийственные, осо¬
бенно по части инородцев, определения известного де¬
мократа и гуманиста Герцена; подчеркнем лишь, что все
они сходятся под знаком определенного рода литерату¬
ры, точнее говоря, под знаком того окололитературного
сброда, который автор «Былого и дум» называет «лацца¬
рони литературной киайи», то есть сообществом тех, ко¬
71 А. И. Герцен, Сазонов, 525.
ИСТОРИЯ С АКАДЕМИЕЙ | 73
му, по существу, нечего сказать. Характерно также то, что
и Герцен, и Маркс, словно сговорившись, пишут о лацца¬
рони (деклассированные, люмпен-пролетарские элемен¬
ты в Южной Италии), поденщиках, ветошниках и тряпич¬
никах, то есть о тех самых персонажах парижского дна,
о злосчастной доле которых повествуют многие картины
«Цветов Зла» или «Малых поэм в прозе».
Наконец, отметим еще одно, на сей раз персональное,
совпадение, неопровержимо свидетельствующее, что Са¬
зонов и Бодлер принадлежали к единому литературному
братству отверженных, которого с одинаковым высокоме¬
рием сторонились и предводитель русских революционе-
ров-демократов, и глава немецких младо-коммунистов:
язвительно отзываясь о некоем «неизвестном, но вели¬
ком поэте Буэ», Герцен имел в виду, судя по всему, весь¬
ма оригинального французского литератора Филоксена
Буайе, входившего в ближний круг Бодлера и Теодора де
Банвилля. Впрочем, как нам предстоит увидеть в главе о
Сазонове, именно Буайе, Бодлер, Банвилль, а также про¬
летарский поэт-песенник Пьер Дюпон воплощали собой
«новейшую поэзию Франции», как представлял ее «бе¬
гун образованной России» на страницах «Отечественных
записок».
Вместе с тем наряду со всеми выявленными здесь со¬
впадениями и перекличками, обнаруживающими в зыб¬
ком пространстве мемуарной и эпистолярной интертек¬
стуальности поразительную общность творческих марш¬
рутов Бодлера и Сазонова, до нас дошло одно удивитель¬
ное произведение французской поэзии, в котором русский
«лишний человек» оказывается совсем не лишним, напро¬
тив, фигурирует собственной персоной, под собственным
своим именем, обретаясь среди самых ярких личностей
парижской «богемы» эпохи Бодлера.
Речь идет о шутливом поэтическом опыте Теодора де
Банвилля под говорящим названием «Надар», посвящен¬
ном Феликсу Надару, выдающемуся французскому графи¬
74 | ПАССАЖИ
ку-карикатуристу, крупному мастеру портретной фотогра¬
фии и известному в свое время изобретателю предерз¬
ких художественных авантюр, который был, как извест¬
но, одним из самых близких друзей автора «Цветов Зла».
Стихотворение датировано все тем же 1856 годом4 когда
отношения Сазонова с литературным миром Парижа до¬
стигли, по справедливому замечанию его биографа, пи¬
ка интенсивности и плодотворности72. Пиеса Банвилля,
представляющая собой ироничную зарисовку театральных
забав парижской богемы, входит в некогда знаменитую
книгу «Акробатические оды», опубликованную в 1857 го¬
ду. Ода открывается прихотливым описанием парижского
театра «Водевиль», где по вечерам на очередную премьеру
собираются поэты и, снимая шляпы, поражают «лиц неве¬
домых подлые толпы» своими замысловатыми шевелюра¬
ми и белоснежными лысинами:
Вот Лерминье, брюнет, Сазонов и Мюрже,
Лемер, уветливый левит.
Власа их могут молвить заодно с Бюрже:
«Осанна! Как трупье спешит!»73
Нетрудно убедиться, что в эквилибристических строчках
одной из «Акробатических од» Сазонов не глядится «чу¬
жаком», напротив, здесь он наконец оказывается в кругу
своих, в кругу той самой богемы 1848 года, о которой пи¬
сал Беньямин,—«богемы Ассалино, Бодлера, Дельво» или
богемы того самого Анри Мюрже, автора сверхпопулярной
в свое время книги «Сцены из жизни богемы» (1849), по¬
служившей позднее литературной основой для всемирно
известной оперы Д. Пуччини «Богема». В автокоммента¬
рии к стихотворению «Надар», написанном для одного из
последних прижизненных изданий «Акробатических од»,
Банвилль оставил необыкновенно сочную заметку, в ко¬
72 А. А. Акулов, Рыцарь свободы, с. 151-155.
73 www.amis-arts.com/poetes/banville_theodore/4_Odes_
funambulesques/3_autres _guitares/2 3_nadar.
ИСТОРИЯ С АКАДЕМИЕЙ | 75
торой на века запечатлел образ Сазонова, каким он отло¬
жился в памяти французских поэтов:
Это был настоящий русский барин, обходительный
человек и обворожительный писатель, который в по¬
следние годы своей жизни, проведенные в Париже,
стал другом всех местных остроумцев, коих потчевал
неподражаемыми русскими салатами74.
В своих мемуарах Герцен неизменно изображает Сазо¬
нова в виде законченного «лишнего человека», по сути сво¬
дя существование своего былого товарища к этому уделу
ненужной, невостребованной личности, выброшенной —
не без собственного попустительства—на обочину маги¬
стрального пути русского и европейского освободительно¬
го движения. Несмотря на тесные отношения с Сазоновым,
не прерывавшиеся вплоть до смерти последнего, невзирая
на роль, которую тот сыграл в печально известной «семей¬
ной драме», неистовому Искандеру никогда не приходило в
голову задуматься о том, каким образом эта чисто негатив¬
ная характеристика—ненужности, невостребованности, от¬
верженности—могла стать опорой, разумеется крайне зыб¬
кой, шаткой, эфемерной, для формирования особого типа
личности, не только сознающей свою особость, но культи¬
вирующей ее в своей жизни и творчестве. Представляется,
что как раз разделенное сознание экзистенциальной экс¬
центричности обусловило сближение Сазонова и Бодлера
в пересекающихся стихиях «богемного», «дендистского» и
«люмпен-пролетарского» образов жизни, превращая обоих
в своего рода «люмпен-интеллектуалов», чьи будни и сочи¬
нения отличались вызывающим несмирением в отноше¬
нии не только политической власти как таковой, не только
высокомерно бегущих политики аристократов-денди, не
только властолюбивых буржуа-мещан, но и властью пре¬
зираемых или гонимых пролетариев.
74 http ://www.amis-arts.com/poetes/banville_theodore/4_Odes_
funambulesques/variations_lyriques/7 l_commentaire_l 873.
76 | ПАССАЖИ
В силу привязанности к самым броским, внешним, фор¬
мальным знакам своего мимолетного сословия, призван¬
ным хоть как то закрепить исчезающую на глазах социаль¬
ную натуру, сознание «люмпен-интеллектуала» не чуждо
ни «богемности», ни «дендизма», однако по материаль¬
ным человеческим условиям существования оно остается
на уровне жизни «люмпен-пролетариата», обретается на
самой грани выживания, а иногда и за ней, откуда извест¬
ная неразборчивость этих изгоев в денежных вопросах, от¬
куда бесконечные долги, махинации, тяжбы. По своим со¬
циальным амбициям сознание «люмпен-интеллектуала»
является скорее аристократическим, во всяком случае не¬
демократическим, но внутренне, субъективно, оно грани¬
чит с сознанием деклассированных элементов, что лишь
усугубляет его политический радикализм или даже экс¬
тремизм.
Все эти замечания, которые носят предварительный и
приблизительный характер, обязывают нас к своего рода
методологическому отступлению, которым и хотелось бы
завершить эту главу. В истории литературы часто прово¬
дится такая мысль, что поэзия развивается вопреки или
наперекор политике. Гораздо реже говорится о том, по¬
эзия развивается если не благодаря, то в силу политики.
Другими словами, очень может быть, что политика не есть
нечто внешнее по отношению к поэзии, сколь самодоста¬
точной ни казалась бы последняя, что она, наоборот, со¬
ставляет ее мощную движущую силу, которая должна учи¬
тываться историей литературы в точности так же, как учи¬
тывается в ней история литературных жанров, движений
или журналов. Другими словами, речь идет не столько о
политологии поэзии, вычленяющей политические моти¬
вы или воззрения поэта из поэтического целого произ¬
ведения или —в лучшем случае — реконструирующей его
взгляды на основе всего корпуса принадлежащих его перу
текстов, сколько об историческом анализе, исследующем
то, что вслед за Жаком Рансьером должно называть «по¬
ИСТОРИЯ С АКАДЕМИЕЙ | 77
литикой поэтов»75. Иначе говоря, речь идет о прояснении
тех политических элементов—социологического, психо¬
логического и поэтологического характера, —которые не
просто «влияют» на политический выбор поэта или кажу¬
щееся отсутствие такового, но определяют само существо
поэтического проекта. Анализ «политики поэзии» подраз¬
умевает переосмысление отношений между «поэзией» и
«политикой»: поэзия воспринимается здесь в свете грече¬
ского poiein, то есть активного деяния, и не может просто
противостоять «политике», то есть деятельному существо¬
ванию в полисе под надзором полиции. Другими слова¬
ми, как невозможна «чистая политика», так невозможна и
«чистая поэзия»: как политика не обходится без поэтиче¬
ских фикций, так и поэзия вынуждена признавать поли¬
тику одной из своих движущих сил. Дело идет, разумеется,
не только о тех или иных формах прямого вмешательства
поэтов в политическую жизнь своего времени, а о неотъ¬
емлемой сопринадлежности поэзии и политики.
Эта сущностная сопринадлежность поэзии и политики
многократно подтверждается историей литературы: возь¬
мем Платона, который старательно вычеркивает из Гомера
способные помешать «воспитанию стражей» поэтические
строки; возьмем Гёльдерлина, который перед заключени¬
ем в приют для умалишенных бегает по улицам Гамбурга с
криками «Ich will kein Jakobiner sein. Vive le roy!»; возьмем
Бодлера, который в 1848 году пытается найти себе место
на баррикадах, призывая окружающих «расстрелять гене¬
рала Опика»; возьмем Хайдеггера, который в момент ве¬
личайшего политического потрясения Германии предла¬
гает своим студентам погрузиться в тексты Гёльдерлина,
чтобы отыскать там истоки «германства». Словом: «Поэт
принадлежит политике как тот, кто ей не принадлежит,
кто не знает ее приемов и распыляет ее слова. Эта непри¬
надлежащая принадлежность отмечена в понятии, кото¬
75 La politique des poètes: pourquoi des poètes en temps de détresse? / Sous
la direction de J. Rancière (Paris, Albin Michel, 1992) 9-18.
78 | ПАССАЖИ
рое зачастую считается собственностью поэта, в том са¬
мом предельном понятии, которое обозначает основание
и безосновность политики, 1е1оз ее учреждения и лозунг
ее роспуска, —в этом слове „свобода“, которое поэт яко¬
бы должен писать в своей школьной тетрадке»76. Понятие
свободы не может быть ни аполитичным, ни апоэтичным.
Сознание несвободы может принадлежать как поэзии, так
и политике.
76 J. Rancière, «Préface», in: La politique des poètes: Pourquoi des poètes
en temps de détresse?, 9. Не лишним, наверное, будет напомнить, что
в «школьной тетрадке» имя «свободы» выводил в 1942 г. П. Элюар
(стихотворение «Свобода» из книги «Поэзия и истина»).
ПАССАЖ ТРЕТИЙ
ПРИЗРАК ПРУДОНА,
ИЛИ ПОЧЕМУ НАДО БИТЬ БЕДНЫХ
Фигура и идеи Пьера Жозефа Прудона (1809-1865), одного
из самых пламенных революционеров Франции середины
XIX века, составляли стойкое наваждение последних ме¬
сяцев жизни Бодлера, то есть тех двух неполных лет, кото¬
рые автор «Цветов Зла» провел в добровольном изгнании
в Бельгии (апрель 1864—март 1866 года), где в одиноче¬
стве, нищете, в состоянии смятения, с трудом отвоевывая у
наступающей болезни непродолжительные моменты здо¬
ровья, он работал над малыми поэмами в прозе («Сплин
Парижа»), политическим памфлетом «Раздетая Бельгия» и
опытом автобиографии «Мое обнаженное сердце». В этой
связи достаточно будет вспомнить конечное восклицание
одного из самых провокационных сочинений Бодлера —
поэмы в прозе «Бей Бедных!» (1865-1866): представив в
этой парадоксалистской поэтической композиции, внеш¬
не исчерпывающейся скандальной сценкой из жизни за¬
рвавшегося городского фланера, апологию политическо¬
го насилия, Бодлер завершал пиесу саркастическим во¬
просом: «Что ты скажешь на это, гражданин Прудон?».
Эта финальная апострофа, завершающая едва ли не са¬
80 I ПАССАЖИ
мое контрреволюционное и антидемократическое произ¬
ведение поэта, настолько не соответствовала и продолжает
не соответствовать общепринятым представлениям об ав¬
торе «Цветов Зла», что до сих пор издатели «Малых поэм
в прозе» не решаются включать ее в канонический текст,
оставляя в текстологических примечаниях77.
Между тем поэма «Бей Бедных!» является одним из ито¬
говых сочинений Бодлера, в которое он вложил не только
опыт осмысления своего отношения к фигуре Прудона, а
через нее —к идее Революции, революционного насилия,
субъекта исторического действия, но и отдельные эле¬
менты своего стиля жизни, которому он, наперекор все¬
му и вся, следовал в 1864-1866 годах в Брюсселе, шокируя
своим поведением, внешним видом и выходками благо¬
пристойных бельгийцев. В этом отношении поэма «Бей
Бедных!» представляется не только итоговым, но и ключе¬
вым сочинением Бодлера, поскольку именно в нем, равно
как в целом ряде других композиций из «Малых поэм в
прозе», поэт достигает определенной цельности своего об¬
раза мысли и того типа поэтического выражения, который
он разрабатывает в «Сплине Парижа», нащупывая перехо¬
ды, сложные пассажи от классических форм верифициро¬
ванной поэзии к опытам поэтической прозы.
77 Сн. Baudelaire, Œuvres complètes, I / Texte établi, présenté et anno¬
té par C. Pichois (Paris, 2002) 359. Проблема исключения из поэмы
последней строки обозначена в комментариях. См.: ibid., 1350. Ср.
также новейшие интерпретации отдельных пиес «Сплина Парижа»
в фундаментальной монографии С. Мерфи, где справедливо обра¬
щается внимание на систематическое пренебрежение критики в от¬
ношении позднего Бодлера: S. Murphy, Logiques du dernier Baudelaire.
Lectures du Spleen de Paris (Paris, Champions, 2007). Это невнимание
к поздним вещам автора «Цветов Зла» еще более характерно для
России, где до сих пор нет критического издания ни «Малых поэм
в прозе», до сих пор бытующих в культурном сознании с ложным
жанровым определением «стихотворения в прозе», ни посмертно¬
го триптиха («Мое обнаженное сердце», «Фейерверки», «Раздетая
Бельгия»); фрагменты, относящиеся к последнему замыслу, остают¬
ся непереведенными; две первые вещи смешиваются под столь же
ложной жанровой формой «дневники». Ср.: Шарль Бодлер, Цветы
зла. Стихотворения в прозе. Дневники.
ПРИЗРАК ПРУДОНА | 81
Предваряя дальнейшее изложение, необходимо заме¬
тить, что важнейшим элементом поэтики Бодлера остает¬
ся парадокс, однако поэтическая парадоксальность «Цветов
Зла», определявшаяся игрой с ортодоксальными романти¬
ческими темами и формами, с общими местами романти¬
ческой поэтики, уступает здесь место целеустремленному
культу парадокса как ведущей формы мышления.
Таким образом, цель настоящего этюда в том, чтобы по¬
пытаться понять, каким образом в сознании Бодлера фор¬
мировалась фигура Прудона, предельное, крайнее вопло¬
щение которой оказалось представленным в поэме «Бей
Бедных!». При этом, чтобы не ограничиваться сугубо им¬
манентным прочтением поэмы, которая сочетает в себе
отклик на злобу дня (смерть пламенного революционе¬
ра), сколок политической автобиографии автора «Цветов
Зла» и поэтическо-аллегорическое изображение самой
идеи Революции, важно представить, хотя бы в виде на¬
бросков, элементы генеалогии образа Прудона в сознании
Бодлера, то есть те прямые и, в общем-то, немногочислен¬
ные отражения фигуры мыслителя в сочинениях, перепи¬
ске и иконографии поэта.
В поисках самого себя:
призрак Прудона
Не приходится сомневаться, что одним из главных импуль¬
сов творческого сознания Бодлера в 1860-е было стремле¬
ние представить современникам такой образ самого себя,
который, во-первых, развеял бы разного рода представле¬
ния и домыслы, окружавшие его фигуру в современном
общественном мнении, во-вторых, более соответствовал
бы его собственному самоощущению. В этом отношении
как нельзя более показателен следующий фрагмент «Мое¬
го обнаженного сердца»:
82 | ПАССАЖИ
История моего перевода Эдгара По.
История «Цветов зла», унижение по недоразумению
и мой процесс.
История моих отношений со всеми знаменитостями
нашего времени.
Пикантные портреты нескольких придурков.
Портреты судей, чиновников, главных редакторов78.
В этом перечне замыслов, призванных составить «Испо¬
ведь» Бодлера, примечательна не только градация заду¬
манных начинаний, в которой мысль поэта фиксирует раз¬
личные уровни его отношений с общественным мнени¬
ем—от переводов из По, составивших ему литературное
имя, и процесса над «Цветами Зла», обеспечившего ему
скандальную известность, до язвительных портретов су¬
дейских от государства и литературы, изрядно попортив¬
ших ему кровь,—но и манера видеть себя через других:
намереваясь «обнажить свое сердце», поэт хочет покви¬
таться не только со своим временем, но и с самим собой
в своем времени, с тем образом самого себя, который сло¬
жился в сознании современников не без его участия или
по меньшей мере при его попустительстве, но который в
последние годы сильно его тяготил.
Очевидно, что фигура Прудона должна была войти в
число тех знаменитостей, об отношениях с которыми на¬
меревался рассказать Бодлер. Смерть, настигшая 29 янва¬
ря 1865 года неутомимого народного трибуна и выдающе¬
гося мыслителя, вызвала шквал мемориальных откликов,
в которых французская культура спешила проститься со
столпом революционно-демократической мысли и возму¬
тителем общественных настроений, провозгласившим в
эпоху триумфа промышленного капитала, что собствен¬
ность есть воровство и ничего более. Согласно велеречи¬
вой формуле Сент-Бёва, признанного законодателя лите¬
78 Ch. Baudelaire, Fusées. Mon cœur mis à nu. La Belgique déshabillée, 98.
ПРИЗРАК ПРУДОНА | 83
ратурных вкусов и мнений эпохи, Франция потеряла сво¬
его «умственного Прометея»:
Философ, непрестанно прерываемый шумами извне
и изнутри, мыслитель, а главное—строгий и неуступ¬
чивый логик, вооружавшийся и ожесточавшийся во
всяком столкновении страстью и гневом, дополняв¬
шимися обширными познаниями в науке, но также
частыми приступами возмущения, он всегда оставал¬
ся великим трибуном, великим революционером, как
сам себя называл, словом, всегда был самим собой —
Прудоном, а не кем-то другим79.
Однако еще до смерти Прудона жизнь в Брюсселе, где
Бодлер думал поправить свое зыбкое материальное поло¬
жение, заставляет поэта в очередной раз ощутить себя изго¬
ем, отщепенцем, возмутителем спокойствия, обреченным
на непонимание окружающих. Собственное существование
в бельгийской столице живо напоминает ему о том зло¬
счастном происшествии, которое летом 1862 года застави¬
ло Прудона, скрывавшегося в Брюсселе от преследований
французских властей за публикацию работы «О справед¬
ливости в Революции и в Церкви», вернуться во Францию:
бельгийские националисты устроили опальному вольно¬
думцу обструкцию за обращенный к Наполеону III иро¬
ничный призыв аннексировать Бельгию. Летом 1864 года
Бодлер вспоминает об этом эпизоде в одном из писем:
Здесь все помнят об инциденте с Прудоном, я об этом
еще расскажу. Я встречал в свете (!) депутата, который
более других поспособствовал этому отвратительно¬
му бунту.... Я ни с кем более не вижусь и не скрываю
своего презрения ко всем.... Какой нелепый и тяже¬
лый народ!80
31 июля 1864 года в письме к матери Бодлер снова вспо¬
минает об этой истории, связывая ее со своим замыслом
79 Сн. A. Sainte-Beuve, P.-J. Proudhon—sa vie et sa correspondance (Paris,
Michel Levy Freres, 1875) 28.
80 Ch. Baudelaire, Correspondance, II, 388.
84 | ПАССАЖИ
написать памфлет о Бельгии, который в этот момент мыс¬
лится в виде открытых писем, хотя поэт уже ясно сознает
невозможность их публикации:
Эти письма будут крайне унизительны для Бельгии, а
ведь даже Прудон, чья известность не чета моей, был
изгнан отсюда каменьями за то, что позволил себе на¬
печатать в газете несколько невинных шуток81.
В феврале 1865 года в переписке со своим поверен¬
ным Бодлер обнаруживает неподдельный интерес к эко¬
номическим воззрениям Прудона, настолько не соответ¬
ствовавшим господствующим представлениям эпохи, что
в глазах большинства благонамеренных современников
мыслитель, сформулировавший ключевой вопрос эпохи —
«Что такое собственность?» —и ответивший на него самым
радикальным образом—«Собственность —это воровство»,
выглядел безумцем. Некоторые письма опального писате¬
ля, в которых он излагал свои взгляды, ходили в списках,
и одно из таких посланий, где Прудон размышлял о меха¬
низме финансовых крахов, попало к Бодлеру, решивше¬
му поделиться своими экономическими соображениями
с Нарсисом Анселем, который вел его денежные дела:
Письмо Прудона не поразило Вас в должной мере, и Вы
слишком поспешно объявляете его безумцем. Я послал
Вам это письмо в доказательство того, что Прудон, что
бы там ни говорили, никогда не менялся. Под конец
жизни, как и в самом ее начале, его особенно занимали
вопросы производства и финансов. Если речь заходи¬
ла об искусстве, да, здесь Вы правы: он безумец. Но в
области экономии он представляется мне достойным
особого уважения.
Мне думается, есть один-единственный способ по¬
кончить с утопиями, идеями, парадоксами и предска¬
заниями Прудона о ренте и собственности: необходи¬
мо самым решительным образом доказать (интересно,
кто-нибудь уже сделал это? я не знаток в этих вопросах),
81 1Ыа.,391.
ПРИЗРАК ПРУДОНА | 85
что народы обогащаются, влезая в долги. Вы финансист,
и Вам решать, можно ли обосновать такой тезис82.
Очевидно, что помимо самой колоритной фигуры на¬
родного вожака, той славы борца с существующим строем,
которую он завоевал себе в самых различных слоях фран¬
цузского общества, наконец, той роли, которую он чуть
ли не против своей воли сыграл в революции 1848 года,
Бодлера привлекает в Прудоне реальный опыт бедности,
который автор «Философии нищеты» сумел обратить в од¬
ну из движущих сил своего творчества. В какие материи
ни кидало бы Прудона—от «Опыта всеобщей граммати¬
ки» (1837) или эссе «О полезности празднования воскрес¬
ных дней» (1838) до проекта беспроцентного Народного
банка (1848-1849), «Теории налога» (1860) или «Войны
и мира» (1861), он оставался верен этому началу своей
мысли, обусловливавшему ее открытость, всевосприим-
чивость, если не всеядность. В своем литературном порт¬
рете Прудона Сент-Бёв вполне убедительно передает это
неизбывное и даже культивируемое ощущение исходной
бедности, которое должно было сопровождать Прудона во
всех его творческих начинаниях:
Вы сын ремесленника, хорошо, точнее, это ни хорошо,
ни плохо; помните об этом и никогда не краснейте.
Используйте это в виде первичного и точного опыта,
которого иначе как через бедность, через испытание
бедностью и не приобрести; вынесите из него живую,
доподлинную симпатию к пережитым невзгодам83.
Разумеется, бедность Бодлера была иного свойства; это
была бедность не с пеленок, не с отроческих трудовых буд¬
ней в безансонской типографии, где начинались универ¬
ситеты Прудона; бедность Бодлера была, так сказать, бла¬
гоприобретенной и оттого еще более унизительной. Почти
82 Ibid.,453.
83 Сн. A. Sainte-Beuve, P.-J. Proudhon—sa vie et sa correspondance, 26.
86 | ПАССАЖИ
всю свою сознательную жизнь Бодлер прожил в долг, оста¬
ваясь при этом наследником весьма приличного состоя¬
ния, распоряжаться коим был лишен права в силу свое¬
го более чем беспечного нрава и более чем необузданной
тяги к роскоши. Не случайно поэтому, что экономические
предложения Прудона представлялись ему далекими уто¬
пиями: для него нищета была не философией, а образом
жизни, своего рода способом прожить свою жизнь практи¬
чески без собственности. В экономических понятиях этот
парадокс материального существования Бодлера можно
выразить следующим образом: поэт на своем опыте по¬
знает, что жизнь в долг является не издержкой, а необхо¬
димым условием экономического цикла.
Разумеется, в этом повороте мысли Бодлера много злой
иронии, равно как и самоиронии, но то, с каким интере¬
сом он возвращается в своих письмах середины 1860-х
годов к осмыслению понятий денежного долга, ренты,
процентов, убедительно свидетельствует, что внимание
к борьбе с бедностью и нищетой диктовалось отнюдь не
праздным любопытством скучающего и бедствующего в
Брюсселе поэта. В этом отношении само заглавие поэмы
«Бей Бедных!» заключало провокационный ответ Бодлера
на ту героизацию и идеализацию фигуры бедняка, кото¬
рая была характерна как для Прудона, так и для совре¬
менной французской литературы: «Отверженные» В. Гюго
увидели свет в 1862 году, «Труженики моря» —в 1865-м;
оба романа самого видного поэта века спровоцировали
крайне двусмысленные отклики Бодлера, выражавшего в
них свою «неловкость» от этого слова в пользу бедных, то
есть «убогих, отверженных (тех, кто страдает от нищеты
и кого эта нищета бесчестит), оглашенного самыми крас¬
норечивыми устами нашего времени»84.
Вместе с тем в этом кличе «Бей Бедных!», брошенном в
заглавии поэмы в прозе, угадывается глухое стремление
поэта принять удар на себя, прикончить бедного в самом
84 Сн. ВдиоЕЬАШЕ, СЕиугеБ сотрШеБ, II, 224.
ПРИЗРАК ПРУДОНА | 87
себе. Сама форма призыва подразумевает вовлечение поэ¬
тического субъекта в это парадоксальное приглашение об¬
рушить бьющее через край насилие на бедного, на нище¬
го, взывающего к милости, милосердию прохожего; в ори¬
гинале эта вовлеченность подчеркивается употреблени¬
ем первого лица множественного числа: «Assommons les
Pauvres!». Таким образом, фигура нищего, эта священная
корова записного гуманизма, превращается в козла отпу¬
щения, вымещения накопленной силы. Вместе с тем через
это первое лицо, через это «мы», а также через фигуру рас¬
сказчика, представляющего себя в первых строках поэмы
носителем идей Прудона, поэт всемерно приближает себя
к объекту насилия. Это мазохистское стремление обратить
насилие на себя подтверждается парадоксальным поворо¬
том сюжета поэмы, когда избитый в кровь нищий набра¬
сывается на прудониста-парадоксалиста и отплачивает за
нанесенные побои сторицей.
В конечном счете, испытав теорию равенства на соб¬
ственной шкуре, рассказчик признает в нищем равного
себе. Вместе с тем не следует преувеличивать демократич¬
ность воззрений Бодлера, видеть в авторе «Цветов Зла»
последовательного поборника социальной справедливо¬
сти: несмотря на свой незавершенный характер, теория
дендизма, которая остается одной из визитных карточек
Бодлера-мыслителя, является свидетельством если не кон¬
сервативных, то вполне реакционных устремлений мысли
поэта, не приемлющей современных форм демократии,
нивелирующих аристократию духа. В этом отношении ха¬
рактерна более ранняя оценка философии Прудона, вы¬
сказанная Бодлером в одном из писем к Сент-Бёву, насто¬
ятельно советовавшему своему питомцу почитать трактат
«О справедливости в Революции и в Церкви»:
Несмотря на все уважение, которое мне надлежит пи¬
тать к Вашему авторитетному мнению, я ни за что не
приму упразднения галантности, рыцарства, мистич¬
ности, героизма, в общем—сверхизобилия и преизбыт¬
88 I ПАССАЖИ
ка, каковые содержат в себе само очарование, даже и в
порядочности85.
Здесь обнаруживается самый существенный пункт рас¬
хождения Бодлера с теоретиком анархизма и социализма:
искусство видится ему последним прибежищем аристо¬
кратичности и последним основанием для установления
иерархии ценностей, как экзистенциальных, так и эстети¬
ческих. Искусство в мысли Бодлера принципиально анти¬
демократично, поскольку подразумевает культ формы, в
противовес угрозе полной бесформенности, которую не¬
сут с собой процессы демократизации, десакрализации и
рационализации литературной жизни, утрачивающей тем
самым мистический элемент. Искусство в мысли Бодлера
предстает вызовом благоразумному жизненному устрой¬
ству, к утверждению которого тяготеет мысль Прудона,
поскольку подразумевает героику жертвенности, траты,
эксцесса и эксцентричности, решительно противореча¬
щую экономике капиталистического накопления, всяко¬
го рода скаредности. Социальное равенство в мысли ав¬
тора «Цветов Зла» есть не что иное, как бесплотный идеал,
собственно, социальная утопия, тогда как искусство тре¬
бует жесткой привязки к месту и времени, к топосу, како¬
вой в психологическом плане складывается для него ис¬
ключительно из сплина, в топографическом—из Парижа.
Люди равны не социально, а экзистенциально —не в уто¬
пии прав человека, а в стихии выбора, в культе силы и фор¬
мы, в заботе о себе: «Быть великим человеком и святым
для самого себя—вот что важнее всего»86.
Тем не менее сразу после смерти автора трактата «Что
такое собственность?» в размышлениях Бодлера о Прудоне
все отчетливее звучит личная нотка, его все сильнее вол¬
нует некое несовпадение между идеями и книгами писа¬
теля, чьим творчеством он не устает восхищаться, и его
85 Сн. Baudelaire, Correspondance, I (1832-1860) / Texte établi, présenté
et annoté par C. Pichois (Paris, Gallimard, 1993) 505.
86 Id., Fusées. Mon cœur mis à nu. La Belgique déshabillée, 108.
ПРИЗРАК ПРУДОНА | 89
внешним видом, манерами, умением, точнее, неумением
вести себя. В письме Анселю от 12 февраля 1865 года по¬
эт вновь обнаруживает внимание к сочинениям Прудона
и сообщает своему поверенному, как позабавил его рас¬
сказ Теофиля Торе о неудачном путешествии в компании
с Прудоном:
Торе, хотя и республиканец, всегда сохранял элегант¬
ные манеры. Он мне рассказывал, что как-то раз путе¬
шествовал в компании с Прудоном, но вынужден был
оставить его из-за неприязни, которую ему внушала
напускная неотесанность Прудона, напускная грубость
во всем, деревенская бесцеремонность.—Таким обра¬
зом, можно быть разом и человеком блестящего ума,
и мужланом, равно как можно одновременно обладать
необычайной гениальностью и оставаться глупцом. Вик¬
тор Гюго нам это прекрасно продемонстрировал87.
Прудон остается для Бодлера человеком блестящего
ума, но поэта завораживает противоречие между внутрен¬
ним миром и внешним обликом человека, сосуществова¬
ние в одном человеке умственного обаяния, которым он
очаровывает, и физической неопрятности, которой он от¬
талкивает; главное для него —именно это двойственное
впечатление, которое писатель-революционер вызывает
в окружающих, испытывающих к нему одновременно и
влечение, и отвращение. Как это ни парадоксально, но сам
Бодлер, который в своей практике дендизма доходил до
абсурда, мог пробуждать у иных собратьев по перу с более
утонченными вкусами такие же неоднозначные чувства.
Братья Гонкуры оставили в своем «Дневнике» более чем
нелицеприятный набросок совершенно расхристанного
поэта «Цветов Зла», изображающего из себя Сен-Жюста:
Рядом ужинает Бодлер, без галстука, с голой шеей,
обритый наголо, в доподлинном наряде гильоти¬
нированного. Единственный изыск: отмытые, ухо-
87 Сн. ВлиоЕЬАШЕ, СопгеБропйапсе II (1860-1866), 459-460.
90 | ПАССАЖИ
женные, лайковые кисти. Выглядит как сумасшед¬
ший; голос острый, будто бритва. Интонации педан¬
та; метит в Сен-Жюста и... попадает88.
Живое, личностное отношение к Прудону обнаружива¬
ется также в довольно пространной мемуарной зарисов¬
ке, которую поэт оставил в одном из писем к своему из¬
дателю Огюсту Пуле-Маласси. Последний, откликаясь на
смерть заклятого врага французских буржуа, опубликовал
в феврале 1865 года в «Ла Петит Ревю» небольшую замет¬
ку о Прудоне, куда среди прочего включил историю, как
некий гражданин встречался в 1848 году с народным во¬
ждем в редакции газеты «Представитель народа», где тот
одарил его афоризмом в духе: «Кто много работает, тот
много ест». Бодлер, а он в то время был не в ладах со сво¬
им издателем, которому был постоянно должен, поспешил
напомнить Пуле-Маласси, что именно он когда-то расска¬
зал ему эту историю, что упомянутым гражданином был
не кто иной, как он сам:
Этим гражданином, друг мой, был я. Как-то вечером
я пошел повидаться с гражданином Жюлем Виаром в
редакции «Представителя народа».
Там был и Прудон, окруженный своими сотрудни¬
ками, он давал им указания и советы для утреннего
номера газеты.
Мало-помалу все разошлись, и я остался наедине
с ним, он сказал мне, что Виар давно ушел, мы раз¬
говорились. После того как в беседе выяснилось, что
у нас есть общие друзья ... он предложил: «Гражда¬
нин, время ужина; не хотите ли перекусить вместе со
мной?».
Мы пошли к мелкому ресторатору, который недав¬
но открылся на улице Нёв-Вивьен. Прудон много, го¬
рячо, без умолку болтал, посвящая меня, незнакомого
для него человека, в свои планы и проекты, при этом,
так сказать без умысла, пересыпал свою речь крепки¬
ми словечками.
88 С. Ргснок & ]. ггЕСЬЕИ, ВаийеШге, 477.
ПРИЗРАК ПРУДОНА | 91
Я заметил, что полемист много ел и почти не пил,
так что моя сдержанность и жажда контрастировали
с его аппетитом. «Для литератора,—заметил я,—вы
едите на удивление много».—«Так мне многое нужно
сделать»,—ответил он мне с такой простотой, что я не
смог понять, говорит ли он серьезно или смеется.
Я должен добавить—коль скоро Вы придаете ме¬
лочам столь заслуженное зачастую внимание,—что,
когда мы отужинали и я подозвал гарсона, чтобы рас¬
платиться за двоих, Прудон так живо воспротивился
моему намерению, что мне не оставалось ничего дру¬
гого, как позволить ему вытащить бумажник, но меня
удивило то, что расплатился он только за себя.—Мо¬
жет, Вы выведете отсюда решительную тягу к равен¬
ству и чрезмерную любовь к праву?
Искренне Ваш.
Ш. Б.89
Напомним, что Прудон скончался 29 января 1865 года,
письмо написано 11 марта 1865 года; хотя оригинал не да¬
тирован, не приходится сомневаться, что замысел поэмы
«Бей Бедных!» вызревает в это время, по крайней мере,
французские текстологи не приводят какой-то более точ¬
ной датировки. Вместе с тем есть все основания рассма¬
тривать это послание не просто как бытовое письмо, но
в качестве одного из главных прототекстов поэмы. В са¬
мом деле, та горячность, с которой Бодлер откликнулся
на заметку Пуле-Маласси, та живая ирония, которая го¬
ворит в этом послании, придавая ему особую семантиче¬
скую насыщенность, наконец, само желание поэта, чтобы
издатель непременно опубликовал текст его письма, что
и было сделано, превращают это послание в важнейший
элемент авантекста поэмы. Сама структура письма пред¬
восхищает общую трехчастную композицию поэтическо¬
го произведения; оба текста начинаются с обозначения
момента интроспекции, продолжаются в бытовой сценке
и завершаются финальной апострофой: «Может, Вы вы¬
ведете отсюда решительную тягу к равенству и непомер-
89 Сн. ВлиоЕЬАШЕ, Согте5роп(1апсе, II, 469-470.
92 | ПАССАЖИ
ную любовь к праву?» / «Что ты скажешь на это, гражданин
Прудон?». При этом в обоих текстах совпадают ряды клю¬
чевых элементов: имя собственное—Прудон, имя нари¬
цательное—гражданин, имя идеи—равенство. Обращение
на «ты» подчеркивает, с одной стороны, пресловутую фа¬
мильярность революционного вождя в общении, с дру¬
гой—напряженную стихию внутренней полемики Бодлера
с идеей равенства, с этими книгами, «трактующими об ис¬
кусстве за сутки сделать народы счастливыми, благораз¬
умными и богатыми».
Завершая обзор фигур Прудона в переписке Бодлера,
остается добавить, что в ноябре 1865 года, узнав, что Сент-
Бёв опубликовал во Франции очерк жизни Прудона, Бодлер
обращается к Шанфлери с просьбой обратиться к секрета¬
рю академика и попросить его выслать в Брюссель эти ста¬
тьи90. В конце этого же месяца он настоятельно рекоменду¬
ет своему поверенному Анселю прочесть этюды Сент-Бёва
о Прудоне91. Наконец, 2 января 1866 года он пишет крайне
важное письмо самому Сент-Бёву, где, жалуясь на брюссель¬
скую скуку, признается, что его сильно тянет в Париж и что
его необыкновенно волнует портрет Прудона, который был
написан законодателем парижской литературной моды:
Чего бы я только не отдал, чтобы вот так дойти минут за
пять до Вашей улицы на Мон-Парнас и побеседовать с
часок о Ваших статьях о Прудоне; именно с Вами, ведь
Вы как никто умеете слушать даже тех, кто моложе вас.
И не потому, поверьте мне, что я нахожу Вашу благо¬
склонность к нему незаслуженной. Я его много читал и
немного знал. С пером в руке он был славным малым,
но он никогда не был, даже на бумаге, Денди! Вот чего я
никогда не смогу ему простить92.
Наряду с этой оценкой, лишний раз подтверждающей,
что на протяжении всего 1865 года Прудон не выходил у
90 Ibid., 543-544.
91 Ibid., 548.
92 Ibid., 563.
ПРИЗРАК ПРУДОНА | 93
Бодлера из головы, в этом письме к Сент-Бёву встречается
один пассаж, который буквально повторяется в поэме «Бей
Бедных!». Действительно, переходя от характеристики сво¬
его двойственного чувства в отношении Прудона к оценке
собственно литературной работы Сент-Бёва-портретиста,
Бодлер откровенно льстит академику, у которого всегда
искал отеческого заступничества, прибегая при этом к об¬
разу Сократа-воспитателя молодежи:
О Вашей работе мне нечего сказать. Вы как никогда
смотритесь исповедником и родовспомогателем че¬
ловеческих душ. Кажется, то же самое говорили о Со¬
крате, но досточтимые Байарже и Лелю провозгласили
с чистой совестью, что он был сумасшедшим93.
Это использование литературного штампа, или «обще¬
го места» (Сократ-воспитатель), вкупе с «прописной ис¬
тиной» современного знания, подкрепленной ссылкой на
авторитет светил современной медицинской науки (Жюль
Байарже был автором знаменитого в середине века трак¬
тата по психопатологии творчества «Демон Сократа», где
сумасшедшим объявлялся не только учитель Платона, но и
Паскаль, Руссо, Сведенборг), образует, как будет показано
в одном из следующих этюдов, один из характерных при¬
емов парадоксалистского мышления позднего Бодлера.
В поэме «Бей Бедных!» образ безумного Сократа вылива¬
ется в аналогичную фигуру духовного родовспомогателя,
точнее будет сказать, умственного провокатора, подтал¬
кивающего рассказчика к насилию:
Коль скоро у Сократа был свой добрый Демон, поче¬
му бы и мне не иметь своего доброго Ангела, почему
бы мне тоже не удостоиться, подобно Сократу, патента
на сумасшествие, подписанного хитроумным Лелю и
благорассудительным Байарже?94
93 Ibid.
94 Сн. Baudelaire, Œuvres complètes, I, 359.
94 I ПАССАЖИ
Таким образом, в семантической конструкции поэмы
фигура благомыслящего Прудона-воспитателя, с которой
рассказчик связывает свою юность, проведенную за чте¬
нием революционных книг, удваивается в фигуре безум¬
ного Сократа-провокатора, Демона действия, насилия,
борьбы.
Возвращаясь к письму Бодлера к Сент-Бёву, остается за¬
метить, что стареющему академику польстило, по всей ви¬
димости, то живое внимание, с которым Бодлер, все время
остававшийся для него второстепенным литератором, ди¬
летантом и эксцентриком, отнесся к его опусу о Прудоне,
прохладно встреченному парижскими поклонниками на¬
родного трибуна. В ответном послании «дядюшка» фран¬
цузской словесности поделился с младшим собратом по
перу своим разочарованием в современном состоянии ли¬
тературы:
Прудон, о котором Вы мне пишете, был бы вам край¬
не антипатичен. Все эти социалисты и политические
философы видят в литературе лишь институцию или
инструмент морализации народа95.
Сент-Бёв был, разумеется, прав в том, что Бодлеру было
крайне антипатично морализаторство Прудона, его стрем¬
ление подчинить литературу целям общественной полез¬
ности, улучшения, воспитания, возвышения всех сирых
и обездоленных. Но литературный критик, как и всегда,
остался глух к истинной и сокровенной мысли Бодлера, ис¬
пытывавшего к революционному вождю смешанные чув¬
ства влечения и отвращения. Действительно, в этом заяв¬
лении, будто он не может простить «безансонскому му¬
жику», что тот не смог стать Денди, поэт признается, что
не приемлет теоретика социальной революции исключи¬
тельно за то, что тот всю жизнь оставался самим собой,
не смог стать поэтом, денди, словом... Бодлером. В этом
95 «Lettres à Baudelaire» / Publiées par C. Pichois avec la collaboration de
V. Pichois, Etudes baudelairiennes, 1973, IV-V, 346.
ПРИЗРАК ПРУДОНА | 95
странном признании автор «Цветов Зла» словно бы упре¬
кает Прудона за то, что тот не смог стать другим, возвы¬
сить себя до доктрины и культа дендизма, при этом сам
он, Бодлер, в каком-то уголке своей души стал Прудоном,
принял его удел, его мысли, его революцию, поддался оча¬
рованию этого блестящего ума, этой человеческой силы.
Восхищение, которое Бодлер питал к Прудону, заходило
так далеко, что поэту случалось заявлять, будто Европа
всегда будет завидовать Франции, коей выпало родить
подобного писателя96.
Можно утверждать, что Прудон, его фигура, его имя, его
мысль складывались для Бодлера в некий символ или да¬
же аллегорию, через которую в середине 1860-х годов поэт
представлял самого себя, воссоздавал образ самого себя в
том далеком 1848 году; когда он бросился на баррикады,
призывал восставших «расстрелять генерала Опика», когда
сам стрелял в штурмовавших баррикады солдат и уклонял¬
ся от пуль врагов; когда искал личной встречи с Прудоном,
во что бы то ни стало хотел быть рядом с вождем народа
и даже написал ему два безответных письма, в которых
предупреждал кумира о грозящей тому опасности; когда
увиделся с ним в редакции «Представителя народа» или в
этом ресторане, где поборник равенства, плотно поужи¬
нав, настоял, чтобы каждый платил за себя; когда поэт,
крепко выпив, был заодно с самой Революцией, с которой
связал, подобно многим молодым литераторам времени,
смысл своей поэзии.
Этот призрак Прудона, который мучил Бодлера в по¬
следние годы, в котором ему так хотелось увидеть самого
себя и который так отталкивал его своим простоватым,
мужицким видом, грубыми манерами, неопрятным пла¬
тьем, смачными выражениями, обретает вполне зримые
очертания в акварельном наброске Прудона в анфас, вы¬
полненном поэтом в том же 1865 году, когда смерть на¬
родного трибуна пробудила в нем давние воспоминания:
96 Сн. ВдиоЕЬАтЕ, (ЕтгеБ сотрШеБ, И, 40-41.
96 | ПАССАЖИ
на нем явно изображен тот далекий, молодой Прудон, три¬
бун 1848 года—с внимательными глазами, прячущимися
за маленькими очками, широким открытым лбом и столь
же широкой нижней половиной лица, окаймленной бород¬
кой, спускающейся неровной полосой от ушей к бычьей
шее. В наброске нет ни тени шаржированности, столь ха¬
рактерной для рисунков Бодлера: портрет словно бы фик¬
сирует далекое, расплывчатое, но навязчивое воспомина¬
ние. В эти месяцы, когда современники сражались за на¬
следие Прудона, соревнуясь за звание единственно верно¬
го последователя народного вожака, Бодлер формировал
свой образ пламенного революционера, встраивая в него
самого себя.
В этой связи можно напомнить также, что Бодлера и
Прудона связывали предельно антагонистические портре¬
ты, выполненные кистью мэтра реалистической живописи
Гюстава Курбе, дружившего и с поэтом, и с философом. На
первом молодой Бодлер изображен в позе романтического
поэта, углубленного в книгу и словно бы не замечающего
никого и ничего вокруг себя, в том числе убожества своего
холостяцкого убежища; на втором открыто позирующий
Прудон, напряженно всматривающийся в зрителя: апостол
анархизма словно бы запечатлевает себя для вечности, он
отложил в сторону свои толстые книги и незавершенные
рукописи, отставил перо в чернильнице, даже отстранился
от своих детей, играющих на заднем плане на фоне буй¬
ной весенней природы.
Болезненная, кризисная, клиническая самоидентифи¬
кация «последнего Бодлера» с Прудоном дает о себе знать
в отзывах поэта о своем последнем, мертворожденном, де¬
тище-памфлете «Раздетая Бельгия». 18 января, всего че¬
рез несколько дней после того, как Бодлер получил письмо
от Сент-Бёва с отзывом о Прудоне, поэт писал Анселю о
своем замысле, который давался ему с огромным трудом:
«Могу сказать, что книга в том перепутанном состоянии,
в котором Прудон оставил то, что называют его посмерт¬
ПРИЗРАК ПРУДОНА | 97
ными произведениями»97. Эта поразительная формула, в ко¬
торой проскальзывают мотивы самоотождествления поэ¬
та с кумиром своей революционной юности, предощуще¬
ния наступающей смерти и восприятия грядущей книги в
ореоле незавершенности, предсмертности, почти слово в
слово повторяется ровно через месяц, 18 февраля 1866 го¬
да, когда до удара, сразившего поэта афазией и парали¬
чом, оставалось всего четыре недели. В письме к издателю
Эдуару Дантю Бодлер писал о «Раздетой Бельгии»:
Итак, Бельгия начинает входить в моду—благодаря
французской глупости. Настало время сказать правду
об этой Бельгии, как и об Америке, еще одном Эльдо¬
радо всей французской сволочи,—и обратиться к за¬
щите истинно французского идеала.
Книга (скорее, мои заметки) столь изобильна, что я
буду вынужден делать купюры,—ничего страшного,
там есть повторы. Вообразите себе состояние, в кото¬
ром Прудон оставил свои рукописи98.
Следует утверждать, что в последние годы в сознании
Бодлера фигура и идеи Прудона образуют своего рода
мучительный призрак, в котором давние личные воспо¬
минания переплетаются с современными мировоззрен¬
ческими представлениями и дополняются прозрениями
и предощущениями, связанными прежде всего с тем опы¬
том осмысления собственного поэтического призвания,
который примерно в это же время находит выражение во
фрагментах автобиографической прозы «Мое обнаженное
сердце» и эстетическом трактате в афоризмах «Фейервер¬
ки». Более того, приходится думать, что в добровольно¬
вынужденном бельгийском затворничестве фигура и идеи
Прудона складываются в сознании Бодлера в один из тех
центров притяжения, вокруг которых ему с огромным тру¬
дом удается собирать свои все более разбросанные, мяту¬
97 Сн. Baudelaire, Correspondance, II, 471.
98 Ibid.,607.
98 | ПАССАЖИ
щиеся, по-настоящему кризисные мысли. Иными словами,
можно утверждать, что в эти два последних года Прудон,
сама фигура этого писателя и мыслителя вкупе с его иде¬
ями, становится одной из тех зеркальных масок, посред¬
ством которых Бодлер пытается фиксировать определен¬
ные состояния собственной творческой идентичности,
как раз в это время начинающей распадаться. Словом, на
протяжении нескольких месяцев Прудон становится аль-
тер эго Бодлера, точнее говоря, одним из тех сокровенных
внутренних собеседников, общение с которыми оказыва¬
ется для поэта, как никогда остро переживающего свое
одиночество в Бельгии, самой насущной жизненной по¬
требностью.
Что значит мыслить вспышками,
или Безумие Бодлера
В этом отношении важно и то, что само мышление фейер¬
верками, призванными шокировать окружающих, требует
особого рода субъекта мысли, своеобразного концептуаль¬
ного персонажа, присутствие которого в поздних сочине¬
ниях Бодлера, равно как и в книге «Цветы Зла», не всегда
учитывается исследователями. В этой связи важно пони¬
мать, что во многих отрывках и пиесах последних лет по¬
эт мыслит на скользкой грани здоровья и нездоровья. Сам
жанр «фейерверков», который постепенно вырабатывает¬
ся в этом противостоянии искомой ясности мысли и угро¬
жающей пучины бессмыслия, отличающем разрозненные
записи предсмертных замыслов Бодлера, как нельзя лучше
отвечает этим пассажам, переходам, переменам здоровья
и нездоровья, которые составляют живой и больной нерв
предсмертных фрагментов поэта. В этом отношении «фей¬
ерверк» есть не что иное, как зафиксированный в форме
афоризма, характера, анекдота своего рода проблеск, или
вспышка, творческого сознания, выныривающего на миг
ПРИЗРАК ПРУДОНА I 99
из болота бессмыслия, затягивающего поэта как изнутри,
так и извне. Как иначе понимать, например, следующее
заявление Бодлера из заметок к «Моему обнаженному
сердцу»: «Предупреждение некоммунистам: Все на свете
общее, даже Господь Бог»99. Разумеется, эта вымученная
острота лишь отчасти выражает собственные политиче¬
ские пристрастия поэта, питающиеся в основном резким,
но крайне общим антибуржуазным настроем его мысли; в
сущности, автором этого афоризма выступает не столько
сам Бодлер, сколько тот персонаж поэта-парадоксалиста,
которого он буквально по черточкам, по кусочкам, по об¬
рывкам собирает на страницах своих записок.
Судя по всему, но прежде всего по общей надрывной
тональности письма, в том же ключе следует читать и
знаменитый антисемитский клич из «Моего обнаженно¬
го сердца»: «Устроить распрекрасный заговор для уни¬
чтожения Еврейской Расы. Евреи, Библиотекари и сви¬
детели Искупления»100. Не вдаваясь здесь в обсуждение
проблем поэтики и этики заговора, которые, как показа¬
но в замечательной монографии Пьера Паше, позволяют
описать существенные элементы политической позиции
Бодлера101, заметим, что в такого рода перлах провокаци¬
онного письма сказывается также своего рода поэзия са¬
мооговора, точнее, стихия истеричного саморазоблачения,
в которую впадает поэт-парадоксалист, решивший обна¬
жить «свое сердце» и теряющий в этой «бешеной жажде
прославиться» всякое чувство реальности. Думается, что
в этом поэте-парадоксалисте «Моего обнаженного серд¬
ца», создаваемом усилиями творческой воли Бодлера, есть
что-то от «подпольного человека» Достоевского, не просто
загнанного в угол суровой действительностью повседнев¬
ной жизни, но обдуманно превращающего «угол» в своего
99 Сн. Baudelaire, Fusées. Mon cœur mis à nu. La Belgique déshabillée, 112.
100 Ibid., 120.
101 P. Pachet, Le Premier venu. Baudelaire: solitude et complot (Paris, Denoël,
2009).
100 I ПАССАЖИ
рода боевой плацдарм, с которого он сладострастно мечет
громы и молнии против всего человечества.
Вместе с тем не стоит списывать на этого измышляемо¬
го концептуального персонажа, говорящего в последних
сочинениях Бодлера, все крайности мышления фейервер¬
ками, поскольку иные из них разыгрывались в реальной
жизни поэта, диктовались самим стилем его существова¬
ния, которому он, наперекор всему и вся, следовал в 1865-
1867 годах в Брюсселе.
В этом отношении весьма характерной представляется
одна сценка из бельгийской жизни Бодлера, о которой он
сам рассказал в письме к своему другу, французскому ка¬
рикатуристу и фотографу Надару:
Поверишь ли, что я, да-да, я, смог избить бельгийца?
Это невероятно, не правда ли? Чтобы я мог кого-то из¬
бить, это просто абсурд. Но что еще чудовищнее, я был
абсолютно неправ. Вот почему, когда чувство справед¬
ливости все же взяло верх, я кинулся вслед за тем че¬
ловеком, чтобы принести ему свои извинения. Но не
смог его догнать102.
Впрочем, эта невероятная история не находит под¬
тверждения в самой авторитетной биографии поэта, при¬
надлежащей перу Клода Пишуа и Жана Зиглера, где брюс¬
сельское затворничество Бодлера расписано буквально по
дням103. Достоверность происшествия подвергается со¬
мнению и в примечаниях к «Переписке» Бодлера, издан¬
ной в серии «Плеяда»: все тот же Пишуа, связывая анекдот
из письма к Надару с поэмой «Бей Бедных!», ставит под во¬
прос реальную основу этого более чем курьезного эписто¬
лярного пассажа, где поэт не столько признается в содеян¬
ном или раскаивается, сколько удивляется самому себе.
Действительно, поэт здесь словно бы представляет себя
со стороны, в виде некоего отдельно существующего ли¬
102 Сн. Baudelaire, Correspondance II (1860-1866), 401.
103 С. Pichois & J. Ziegler, Baudelaire.
ПРИЗРАК ПРУДОНА | 101
ца, совершающего некое действие —избиение невинного
прохожего,—на которое он, Бодлер, поэт, автор «Цветов
Зла», друг Надара, никоим образом не способен, по его
собственному убеждению, в реальной жизни. В этой эпи¬
столярной зарисовке, выставляя себя в крайне нелицепри¬
ятном виде, Бодлер словно бы действительно становит¬
ся другим, позволяет себе такую выходку, на которую ни¬
когда бы не решился в иной ситуации. Иначе говоря, он
разыгрывает в эпистолярном пространстве, в тексте, не¬
кую сценку или даже выстраивает определенную мизан¬
сцену, выражающую побуждения, на реализацию которых
он не ощущает себя способным.
Если попытаться связать поэму «Бей Бедных!» с этой
эпистолярной мизансценой, что обычно делается крити¬
ками, усматривающими в письме к Надару один из эле¬
ментов авантекста поэтического произведения, то воз¬
никает ощущение, что между этими текстами существу¬
ют какие-то очень сложные связи, смысл которых не ис¬
черпывается семантическими отношениями между дву¬
мя разнородными и разножанровыми текстами; что речь
идет, скорее, о двух различных вариантах какого-то одного
более обширного текста, или, точнее, о различных состоя¬
ниях какого-то одного более обширного и менее выгово¬
ренного опыта, в отношении которого оба текста предста¬
ют своего рода вспышками, фейерверками, выстроенны¬
ми по законам текста, но передающими через эти законы
какой-то более темный, неподзаконный опыт. Этот опыт
утверждается в тексте, но все время выходит за его рамки.
Словом, складывается такое ощущение, что в Брюсселе по¬
эт окончательно перестает воспринимать границы текста
и не-текста, начинает вести себя в литературе как в жиз¬
ни, а в жизни как в литературе.
Еще один пример из переписки поэта позволит понять
эту поэтику кликушества, или самооговора, которая ска¬
зывалась в самом существовании поэта в Бельгии, где он
буквально изощрялся в отчаянных провокациях словом и,
быть может, делом:
102 | ПАССАЖИ
Я прослыл здесь за агента полиции (хорошенькое дело!)
(из-за моей презабавной статьи, написанной по слу¬
чаю шекспировского банкета) — прослыл за педераста
(я сам распустил этот слух, и мне поверили!), после чего
я прослыл за корректора, специально присланного из
Парижа для правки гранок непристойных сочинений.
В отчаянии, что здесь все всему верят, я пустил слух,
будто убил своего отца, а потом его съел; будто из Фран¬
ции меня отпустили только потому, что я оказывал из¬
вестные услуги французской полиции, и мне поверили.
Я, как рыба в воде, купаюсь в бесчестии104.
Говоря о том, что Бодлер начинает вести себя в литера¬
туре как в жизни, а в жизни как в литературе, следует уточ¬
нить, что речь идет не о рядовом случае построения су¬
ществования как произведения искусства; тем более речь
не идет о героическом образе непонятого художника, пре¬
ломлениями которого так богата романтическая поэти¬
ка, биографика и историография. Речь о совершенно иной
конфигурации литературной субъективности, которая да¬
ет о себе знать как в текстах, так и в жизни «последнего
Бодлера»: если придерживаться парадоксальной поэтики
фейерверков, ее можно описать через фигуры поджигате¬
ля, подстрекателя, провокатора. Эти три подфигуры как
нельзя лучше соответствуют тому концептуальному пер¬
сонажу поэта-парадоксалиста, от имени которого Бодлер
часто говорит в своих сочинениях и письмах середины
1860-х годов.
Введение этой фигуры, занимающей промежуточное по¬
ложение между поэтом, как он существует в реальной жиз¬
ни в Брюсселе, и повествователем, как он функционирует
в различных текстах эпохи, позволяет лучше представить
всю сложность настоящей экстра-интер-текстуальности,
через которую сказывается опыт поэта. Такая конфигура¬
ция помогает связать эпистолярную мизансцену из пись¬
ма к Надару с поэмой «Бей Бедных!» не в понятиях «реаль¬
104 Сн. ВлиоЕЬАШЕ, Согте5роп(1апсе II (1860-1866), 437.
ПРИЗРАК ПРУДОНА | 103
ность»—«авантекст»—«текст», но в рамках некоего сверх-
текстуального единства, которому соответствуют все тек¬
сты этих последних лет, безотносительно к очевидным
различиям функциональной или жанровой природы, и
которое подлежит описанию не столько в терминах поэ¬
тики, сколько в понятиях политики поэзии.
«Бей Бедных»,
или Что ты на это скажешь, гражданин Прудон?
Как уже говорилось, поэма «Бей Бедных!» была написа¬
на в период бельгийского затворничества поэта в 1864-
1866 годах. Провокационное название поэмы, в котором
переворачивается с ног на голову традиционный лозунг
народных выступлений («Бей богатых!»), явно перекли¬
кается с финальной апострофой («Что ты скажешь на это,
гражданин Прудон?»), замыкая весь текст жесткой кон¬
струкцией законченного литературного произведения, по¬
этически соответствующего главным жанрам карнаваль¬
ной драматургии ХУ-ХУ1 веков—моралите, соти, фарсу.
Подобно соти, пьеса Бодлера предстает дурашливой тра-
вестией господствующей идеологии с формообразующим
персонажем «глупца», правда, в отличие от средневеко¬
вого или раннеренессансного представления, осмеиваю¬
щего официальное христианство, предметом осмеяния в
ней оказывается демократическо-гуманистическая идео¬
логия середины XIX века, возвеличивающая фигуру бед¬
няка. С фарсом поэму сближает городской сюжет; место
действия—улица, вход в кабаре; персонажи, представля¬
ющие собой определенные социальные маски, —зазнав¬
шийся «школяр», фальшивый «попрошайка»; элементы
грубой буффонады—узловая сцена избиения нищего, ко¬
торая композиционно дублируется в перевернутом виде в
финальной сцене избиения протагониста; наконец, язык,
104 | ПАССАЖИ
в котором стилевой регистр пародируемой идеологии со¬
четается с вольными, поистине раблезианскими оборота¬
ми и выражениями.
С моралите поэму Бодлера связывает не только алле¬
гория как основной литературный прием, но и известная
доля назидательности, равно как мотивы социальной кри¬
тики и сатиры. В целом вся поэма вполне соотносится с
традицией романтического и модернистского гротеска, как
намечал ее Бахтин во французской литературе в связи с
творчеством Гюго, Готье и Жарри105: само понятие гроте¬
ска не чуждо эстетике Бодлера, который специально об¬
ращался к нему в этюде «О сущности смеха и вообще о ко¬
мическом в пластических искусствах» (1855), равно как и
в некоторых других опытах художественной критики. Не
менее примечательно и то, что среди замыслов новых по¬
эм в прозе, относящихся к сборнику «Сплин Парижа», фи¬
гурируют идеи, образы и персонажи карнавальной литера¬
туры: «Философ на карнавале», «Парижский лаццарони»,
«Ад в театре», «Философам-любителям маскарадов» и др.
Характерно, что в наброске плана классификации поэм в
прозе встречается само понятие «моралите»:
Парижские вещи
Грезы
Символы и Моралите
подыскать другие классы106.
Таким образом, не приходится сомневаться, что карна¬
вальные жанры присутствовали в творческом сознании
Бодлера в период работы над книгой поэм в прозе. Среди
законченных вещей помимо поэмы «Бей Бедных!» карна¬
105 М. М. Бахтин, Творчество Франсуа Рабле и народная культура средне¬
вековья и Ренессанса (Б. м., Антиквариат, 1986) 48-52. Ср.: М. М. Бах¬
тин, Собр. соч., т. 4 (1) (М., Языки славянских культур) 112-124. В этом
плане гротеска и готического реализма совершенно отчетливо про¬
ступают элементы сходства поэтики Флобера, особенно в «Буваре и
Пеиоше», с поэтикой позднего Бодлера, каковая в этом отношении
предвосхищает буффонаду Жарри и «черный юмор» сюрреалистов.
106 Сн. Baudelaire, Œuvres complètes, I, 368.
ПРИЗРАК ПРУДОНА | 105
вальные элементы отличают такие миниатюры, как «Доб¬
рые собаки», «Мадмуазель Бистури», «Тир и Кладбище»,
«Суп и Облака» , «Фальшивая Монета», «Дурной стеколь¬
щик» и др.
Опыт приобщения к гротескной традиции, остававшей¬
ся, в общем, маргинальной линией в литературной эво¬
люции XIX века, диктовался в основном факторами твор¬
ческого становления Бодлера, который в своей много¬
летней работе над книгой «Цветы Зла» пришел к созна¬
нию исчерпанности классической стихотворной тради¬
ции (сонет) и в поэмах нового сборника «Сплин Парижа»
стал искать переходов к поэтической прозе. В литератур¬
ном плане конфликт пьесы «Бей Бедных!» определяется
именно столкновением поэзии и прозы, или, в более ши¬
роком мировоззренческом плане, высокой романтическо-
гуманистической идеологии XIX века, идеализирующей
фигуру «униженного и оскорбленного», и неизбывной
двойственности человеческой природы, борьбы в чело¬
века «низа» и «верха», которая не укладывается в рамки
современных научных, философских и идеологических
концепций.
В центре сюжетной линии поэмы находится фигура рас¬
сказчика, которого необходимо отличать от автора поэти¬
ческого произведения, хотя Бодлер столь крепко связал се¬
бя с повествователем очевидными автобиографическими
чертами, что некоторые критики склонны их отождест¬
влять107. Так или иначе, фигура автора присутствует в тек¬
107 Наиболее решительно инстанции автора и повествователя в про¬
зе «последнего Бодлера» разводятся в упоминавшейся монографии
С. Мерфи. Ср. также следующее замечание самого поэта по этой про¬
блеме: «Множество люда, движимого любопытством праздных гуляк,
скучилось вокруг автора „Цветов зла“. Пресловутый автор „Цветов“
не мог не быть чудовищным эксцентриком. Все эти сволочи со¬
чли меня за чудовище, а когда убедились, что я холоден, сдержан и
учтив—и что мне ненавистны вольнодумцы, прогресс и вся эта но¬
вейшая глупость, они вынесли вердикт (как я полагаю), что я не был
автором моей книги... Какое комичное смешение автора и сюжета!
То есть эта проклятая книга (которой я горжусь) остается темной,
совершенно непонятой!» (Сн. Baudelaire, Correspondance, II, 409).
106 | ПАССАЖИ
сте словно бы за кулисами действия, иногда прямо появля¬
ясь на сцене в виде своеобразного двойника, провокатора
и подстрекателя, подталкивающего протагониста к совер¬
шению узлового в сюжетной линии поступка—к избиению
нищего. В системе персонажей поэмы этот двойник мате¬
риализуется в виде «доброго Ангела, или доброго Демона»,
повсюду сопровождающего Рассказчика.
Как уже говорилось, пьеса отличается характерной для
средневековых моралите, соти и фарсов сюжетной закон¬
ченностью и аллегоричностью собственно фабулы, расска¬
за. Однако, в отличие от классических жанров карнаваль¬
ной драматургии, открыто нацеленных на вполне опре¬
деленное нравоучение, моральный урок, финальная апо¬
строфа, обращенная к Прудону, размыкает литературную
структуру, превращая революционного писателя, всегдаш¬
него защитника бедняков, в полноправного персонажа
произведения, который тоже оказывается как бы незри¬
мым свидетелем, зрителем всего происшествия, на глазах
которого и разыгрывается вся сценка с избиением нищего.
Более того, Прудон предстает не просто свидетелем, а со¬
бирательным персонажем «философа-филантропа», про¬
поведующего всеобщее равенство: именно эта «теория»
проверяется на жизнестойкость в фарсе Бодлера.
Следует подчеркнуть, что теория человеческого равен¬
ства не отвергается Бодлером, а именно испытывается в
столкновении с другой центральной идеей законченного
гуманизма XIX века —идеей свободы. Это столкновение
реализуется в 45-й строфе в реплике Демона, шепчуще¬
го на ухо Рассказчику: «Лишь тот другому равен, кто это
сможет доказать, лишь тот свободы будет удостоен, кто
сам сумеет ее взять». Эта открытая ироническая перифра¬
за из «Фауста» Гете усиливает философско-полемический
подтекст произведения. Таким образом, в центре поэмы
оказываются две главные идеи французской Революции —
свобода и равенство, к которым в финале поэмы подклю¬
чается и идея «братства».
ПРИЗРАК ПРУДОНА | 107
Однако Бодлер не отвергает Революцию вообще; он
наделяет и фигуру Рассказчика, и фигуру его Двойника-
Демона элементами собственного политического опыта,
собственными автобиографическими представлениями о
мотивах и движущих силах своего участия в революцион¬
ных событиях 1848 года, осмысление которых живо зани¬
мает его сознание в последние годы. Как уже отмечалось в
критике, сама фигура исторического события Революции,
в которой принимал участие молодой поэт, присутству¬
ет в виде своеобразной цифровой шифрограммы, задаю¬
щей с первых строк поэмы исторический код всего тек¬
ста: «Пятнадцать дней я просидел взаперти в своей спаль¬
не, окружив себя книгами, что были в моде в те времена
(лет шестнадцать или семнадцать тому назад)»; то есть
15 +16+17=48108.
Эта открытая и в то же время скрытая отсылка к 1848 го¬
ду усложняет, точнее говоря, раздваивает фигуру рассказ¬
чика, который превращается, с одной стороны, в персонаж
рассказанной истории, а с другой —в собственно рассказ¬
чика, который рассказывает эту историю приблизительно
в 1865-1866 году, откликаясь на смерть поэта Революции
(напомним, что Прудон скончался 29 января 1865 года). Та¬
ким образом, персонаж Прудона также раздваивается: он
присутствует в тексте поэмы в виде не только незримого
зрителя, на глазах которого разыгрывается уличная сцен¬
ка, но и историчесыкого идеолога Революции, автора книг,
в которых «трактуется об искусстве сделать народы счаст¬
ливыми, мудрыми и богатыми в двадцать четыре часа».
Цифра 24 ощутимо усиливает своего рода поэтику числа,
входящую в арсенал новых изобразительных средств, ко¬
торый разрабатывает Бодлер на путях перехода от класси¬
ческой поэзии к поэтической прозе : 24 * 2=48. Двойка ста¬
новится одной из ключевых цифр поэмы. С одной стороны,
двоятся все персонажи: два рассказчика, два Демона, два
108 S. Murphy, Logiques du dernier Baudelaire. Lectures du Spleen de Paris,
416.
108 I ПАССАЖИ
Сократа, два Прудона, даже двое нищих, один —безропот¬
ный, униженный и оскорбленный, другой —мстительный
злодей; с другой стороны, удваивается узловой сюжетный
ход: избитый нищий набрасывается на рассказчика и от¬
плачивает ему за нанесенные побои ровно вдвое. Поэтика
числа представляет собой один из связующих принципов
поэтической организации текста, подкрепляющий сделан¬
ность, искуственнность, условность произведения, его па¬
родийный и парадоксальный характер.
Не приходится сомневаться, что высокой одой для этой
убийственной пародии служит учение Прудона о социаль¬
ном равенстве как принципе общества будущего. Это
именно «начинка», «фарш» для фарса Бодлера. Доктрина
Революции вводится с самого начала поэмы в образе
книг, которыми загородился от мира рассказчик в дале¬
ком 1848 году:
Пятнадцать дней я просидел в своей спальне взаперти,
окружив себя книгами, что были в моде в те времена
(лет шестнадцать или семнадцать тому назад);
я хочу сказать, книгами, в которых обсуждается искусство
5 сделать народы счастливыми, мудрыми и богатыми
в двадцать четыре часа. То есть я переварил—хочу
сказать, проглотил—все разглагольствования всех
этих дельцов общественного счастья—тех, что советуют
всем беднякам стать рабами, и тех, кто убеждает их в
ю том, что все они поголовно низвергнутые короли.
—Неудивительно поэтому, что был я тогда в таком
расположении духа, которое граничит со смятением
или тупоумием109.
В первом десятистишии пародия реализуется через иро¬
ничное использование пары «общих мест» социалистиче¬
109 Нумерация строф и порядок строк приводятся по изданию Робера
Коппа: Baudelaire, Petits Poèmes en prose (Le Spleen de Paris) / Édition
établie par R. Kopp (Paris, Gallimard, 1973) 148. В дальнейшем текст
поэмы цитируется по этому изданию в новом переводе. Ср. доступ¬
ное русское издание: Шарль Бодлер, Цветы зла. Стихотворения в
прозе. Дневники, 257.
ПРИЗРАК ПРУДОНА | 109
ской риторики: «счастливые и богатые народы», «обще¬
ственное счастье». «Прописные истины» революционной
пропаганды переосмысляются через введение в устойчи¬
вые словосочетания инородных слов, которые сбивают
автоматизм восприятия «общего места»: прилагательное
«sage» (мудрый, но и благоразумный, послушный, как ди¬
тя) в сочетании с ключевым понятием социалистической
теории —«народ»—сбивает высокий слог идеологии; тот
же самый механизм срабатывает в отношении словосо¬
четания entrepreneur de bonheur public, где понятие обще¬
ственного (общенародного) счастья ставится под сомне¬
ние тем смыслом «делячества», приобретения личной вы¬
годы, который фиксируется в слове «предприниматель»
уже в словаре Эмиля Литтре (1863).
Мне лишь показалось, что я ощущал,
15 забившись в глубь моего рассудка, темное зерно
некоей идеи, превосходившей все рецепты ведуньи,
чей словарь пролистал недавно от корки до корки.
Но это была лишь идея идеи, нечто
бесконечно расплывчатое.
20 Ия вышел вон, испытывая великую жажду. Ибо
страсть к нехорошим книгам порождает
пропорциональную потребность в свежем воздухе
и прохладительным напитках.
В 15-20-м стихах отчетливее обнаруживается главная оп¬
позиция первой части поэмы—противоречие между тяже¬
лой, тяжеловесной теорией и легкой, будто игристое вино,
живой и вольной жизнью; между «дурными книгами», до¬
водящими до одурения доверчивого любителя теорий, ко¬
торый сидит взаперти в своей комнатушке и забился в са¬
мое нутро, в самый «угол» своего сознания, и тем, что во¬
вне, «свежим воздухом», живой действительностью. Упо¬
добление революционной доктрины «словарю» народной
целительницы лишает ее даже тени научности.
Псевдонаучность социалистического учения, идеализи¬
рующего фигуру бедняка, подчеркивается в 25-й строфе в
110 | ПАССАЖИ
развитии намеченной выше аналогии «революционная те-
ория»/«искусство гипноза». В ней вводится также фигура
бедняка, которая, в отличие от гуманистической риторики
времени (Гюго, Прудон), преподносится в ауре фальши:
Когда я собирался войти в кабаре, какой-то нищий
25 протянул мне свою шляпу, одарив одним из этих
незабываемых взглядов, от которых
кувырком летели бы троны,
если бы дух приводил в движение материю,
а виноград созревал
по мановению ока какого-нибудь гипнотизера.
Одновременно с фигурой фальшивого нищего на сцене
появляется новый персонаж—внутренний голос главного
действующего лица всей сценки; новая фигура повество¬
вания оказывается связующим звеном между рассказчи¬
ком, главным персонажем и собственно автором, посколь¬
ку в конечной строфе Бодлер незаметно привязывает эту
фигуру к собственной персоне:
В то же самое время я услышал, как некий голос
зо зашептал мне в ухо, голос, который я сразу же узнал;
это был голос благого Ангела, или благого Демона,
сопровождающий меня повсюду. Раз сам Сократ
имел своего благого Демона, почему бы и мне не иметь
моего всеблагого Ангела и не удостоиться,
35 подобно Сократу, патента на безумие, подписанного
хитроумным Лелю и благорассудительным Байарже?
Очевидно, что ссылка на светил современной психо¬
патологии, один из которых в своем трактате «Демон
Сократа» провозгласил безумцами целый ряд творческих
личностей, мысливших на грани здоровья и нездоровья,
привязывает «внутренний голос» поэмы к фигуре само¬
го Бодлера: в брюссельском затворничестве поэт неодно¬
кратно примеривал на себя маску сумасшедшего, пугая
своими словами и делами «бедных бельгийцев». Вместе
с тем эта ссылка еще крепче связывает поэму с фигурой
ПРИЗРАК ПРУДОНА | 111
Прудона, поскольку Бодлер уже использовал этот образ
научно подтвержденного безумия в разбиравшемся вы¬
ше письме к Сент-Бёву (2 января 1866 года), в котором
давал оценку статьям критика о революционном трибу¬
не. Правда, в письме образ Сократа наряду с безумием ха¬
рактеризовался также воспитательной функцией: Бодлер
называет Сент-Бёва «родовспомогателем человеческих
душ», сравнивая его с учителем Платона. Можно полагать,
что эта ироническая и автобиографическая ссылка на Со-
крата-воспитателя пародирует учительство как таковое,
идею головной или книжной зависимости человеческой
личности от духовного авторитета. Вместе с тем за про¬
тагонистом закрепляется маска незадачливого «школяра»,
который путается в дебрях теории и не различает идею
и жизнь. Такая гипотеза усиливает автобиографический
подтекст поэмы, которая в этом отношении представляет
собой жест прощания Бодлера со своими учителями; это
чрезвычайно важный жест, учитывая то благоговение, ко¬
торое поэт всю жизнь питал к своим учителям в литера¬
туре. Действительно, персональный литературный панте¬
он автора «Цветов Зла» чрезвычайно богат и разнообра¬
зен, крайне разнороден: американский поэт-бродяга По и
савойский аристократ-дипломат Местр, революционный
трибун Прудон и либертинец Лакло, мученик Революции
маркиз де Сад и пролетарский поэт-песенник Дюпон, «дя¬
дюшка» изящной словесности Сент-Бёв и кудесник «Эма¬
лей и камей» Готье...
Прощаясь в поэме «Бей Бедных!» с кумиром своей ре¬
волюционной юности Прудоном, Бодлер прощается с
книжной мудростью как таковой; он действительно хо¬
чет мыслить свободно, самостоятельно, жизнеутверж¬
дающе. В этом отношении характерна третья часть поэ¬
мы, где Бодлер тщательно выписывает все отличия свое¬
го Демона от Демона Сократа, который оказывается в его
глазах слишком консервативным. Таким образом, персо¬
наж этот также раздваивается:
112 | ПАССАЖИ
Существует, однако, это отличие
между Демоном Сократа
и моим демоном: его Демон являлся
лишь для того, чтобы защитить, предупредить,
воспрепятствовать,
40 тогда как мой соблаговоляет советовать, подсказывать,
убеждать. Этот бедный Сократ имел лишь
Демона-запретителя, мой же является великим
утвердителем, это Демон действия,
Демон схватки.
45 И вот голос его шепчет мне следующее:
«Лишь тот другому равен,
кто это сможет доказать, лишь тот свободы будет
удостоен, кто сам ее сумеет взять».
Помимо переплетения в одном афоризме идей Гете и
Прудона, где идеи свободы и равенства подкрепляются
мыслью о необходимости воли к практическому воплоще¬
нию равно прекрасных и равно отвлеченных идей, в этом
пассаже привлекает внимание прилагательное «бедный»
в применении к Сократу: Сократ «беден», поскольку его
Демон не активен, а реактивен, это Демон не действия, а
противодействия, Демон не Революции, а Контрреволюции
и консерватизма. Словом, фигура «бедности» семантиче¬
ски насыщается, обогащается, что подчеркивается и про¬
писной буквой слова «Бедных» в заглавии: речь идет о
призыве разделаться с бедностью как нищетой духа, убо¬
гостью, униженностью, всякого рода лишенностью, в том
числе и неимением воли к деятельной, утверждающей са¬
мое себя жизни, освободившейся от всякого авторитета.
Устами рассказчика поэт призывает не к насилию над
реальными бедняками, тем более что стоящий перед глав¬
ным действующим лицом пиесы нищий насквозь фаль¬
шив, лишь изображает из себя нищего, а к насилию как не¬
избывному началу всякого человеческого существования,
устремленного к идее свободы. При этом важно понимать:
Бодлер сознает, что, протаскивая вслед за громогласной
идеей свободы (Гете—Прудон) свою идею жизнеутверж¬
ПРИЗРАК ПРУДОНА | 113
дающего насилия, он идет на показное утверждение бо¬
лее чем расхожего идеологического принципа, «пропис¬
ной истины» всякой героической и освободительной идео¬
логии. Вот почему в этом переутверждении свободы при¬
сутствует столько комизма, вот почему главный персонаж
показан здесь отнюдь не в героическом, а в смехотворном
виде, вот почему узловая сцена с избиением нищего пред¬
стает фарсом чистой воды:
Я тут же набросился на своего нищего.
Одним ударом кулака подбил ему глаз,
50 который вмиг надулся, точно слива.
Сломал себе ноготь, выбивая ему два зуба,
и поскольку не чувствовал в себе довольно силы,
ведь уродился я изнеженным созданием, а в боксе
упражнялся мало, чтобы быстро прибить
этого старикана,
55 я одной рукой ухватился за ворот его платья,
а другой вцепился
в горло, принявшись изо всех сил
колотить его головой о стенку. Должен признать,
что прежде я
предусмотрительно огляделся окрест,
удостоверившись, что в этом пустынном предместье
60 на весьма длительный промежуток времени
я находился вне досягаемости
любого агента полиции.
После чего, сбив шестидесятилетнего доходягу
энергичным пинком в спину,
способным переломать ему лопатки,
я схватил крепкий сук, валявшийся на земле,
65 и стал избивать его с той упрямой энергичностью,
с которой повара отбивают бифштекс,
чтобы сделать его нежнее.
В этой части сцены все происшествие оборачивается буф¬
фонадным издевательством над сословием фальшивых
нищих и в жанровом отношении предстает как опыт об¬
новления средневековых фарсов на тему плут плута пере¬
плутовал (цикл «Патлена»). Тщедушность и трусоватость
114 I ПАССАЖИ
главного персонажа сближает его с героем знаменитого
французского фарса (соти) «Les trois Galants et Philipot»,
где трусливый герой восклицает: «Vivent les plus forts!»
(«Да здравствуют самые сильные!»). Эта жанровая пре¬
емственность со средневековой пародией делает крича¬
щим карнавальный характер всей поэмы, уже заявленный
в перевернутом с ног на голову лозунге Революции: «Бей
Бедных!» вместо «Бей богатых!». Гротескный стиль ска¬
зывается здесь прежде всего в избыточной подробности
описания тела избиваемого нищего, буквально распада¬
ющегося на пораженные части —«глаз», «два зуба», «гор¬
ло», «спина», «лопатки», к которым добавляется сломан¬
ный «ноготь» нападающего. Но гротеск дает о себе знать
также в распаде надвое самого протагониста: он не просто
бьет нищего, он при этом словно бы осматривает себя со
стороны, он набрасывается на доходягу только после того,
как убеждается в своей полной безнаказанности. Вместе с
тем он не просто избивает фальшивого нищего, он хочет
его уничтожить, буквально «сожрать», о чем и говорит упо¬
добление избитого тела бифштексу. Это полноценно кар¬
навальный акт уничтожения фигуры «бедности» как тако¬
вой, всякой униженности и убогости. Абсолютно логичным
следствием этого символического умерщвления бедности
является перерождение антагониста, усвоение им препо¬
данного урока силы и отмщение зарвавшемуся школяру:
Вдруг—о чудо! о услада философа, проверяющего
превосходство своей теории!—я увидел, как этот
70 древний каркас разворачивается, выпрямляется
с энергией, наличия которой я никогда не заподозрил
бы в этой до странности изломанной машине, и,
бросив на меня исполненный ненависти взгляд,
показавшийся добрым знаком, дряхлый доходяга
75 бросился на меня, подбил мне оба глаза, выбил
четыре зуба и тем же самым суком бил меня
смертным боем.
—Стало быть, мой энергичный метод лечения
вернул его
к жизни и гордости.
ПРИЗРАК ПРУДОНА | 115
Совершенно карнавальным предстает здесь превраще¬
ние антагониста в изломанную куклу, неживую марионет¬
ку («изломанная машина»), эта метаморфоза знаменует ко¬
нец игры, окончательное уничтожение фальшивого нище¬
го и возвращение антагониста к живой жизни, характери¬
зующейся знаками силы и насилия: «энергия», «ненависть».
Новый поворот получает и тема учительства: протагонист
ощущает себя философом, новым Сократом, передающими
свою злую мудрость другому; речь идет уже не о расплыв¬
чатых теориях, не о распрекрасных книгах, трактующих о
всеобщем благе, а об испытании силы силой, о схватке во¬
истину равных противников ради единственной действи¬
тельно человеческой ценности—«гордости», чувстве соб¬
ственного достоинства. Именно на возрождение способ¬
ности признания взаимного достоинства и направлен урок
нового Сократа, радующегося, что обнаружил в другом аб¬
солютно равного себе, собственно брата. Братство равных
и сильных, осознающее себя не через отвлеченные теории
и книжную мудрость, а через боль и страдание,—вот фи¬
лософия, которую исповедует прошедший через это испы¬
тание зазнавшийся студент и школяр, превращающийся в
действенного, энергичного учителя жизни.
Тогда я множеством знаков дал ему понять,
80 что считаю дискуссию исчерпанной и,
поднимаясь с удовлетворением софиста
Портика, я сказал ему: «Сударь, мы с вами
равные! Окажите мне честь разделить со мной
мой кошелек; и помните, если вы действительно
85 филантроп, что теорию, которую я с болью испытал
на вашей шкуре, следует применять
ко всем вашим собратьям,
когда они попросят у вас милостыни».
Он поклялся мне, что понял мою теорию и
90 последует моим советам.
Что ты скажешь на это, гражданин Прудон?
Образ античного Портика увенчивает двойной мотив
ученичества/учительства, проходящий сквозь всю поэму,
116 | ПАССАЖИ
и завершает собственно философскую дискуссию призна¬
нием взаимного равенства, достигнутого через взаимное
насилие. Обратим внимание, что в заключительной ча¬
сти поэмы Бодлер категорически—при помощи курси¬
ва—утверждает именно взаимное равенство протагони¬
ста и антагониста, их сущностное братство, скрывавшееся
в начале поэмы теми социальными масками, которые они
добровольно носили: зазнавшийся школяр и фальшивый
нищий. Поэт утверждает здесь не высокую и отвлеченную
идею, а опыт завоевания равенства через боль и страда¬
ние, через испытание, столкновение человеческих сил, без
которого всякие филантропические теории не более чем
пустословие и чистая фраза. По Бодлеру, истинное равен¬
ство не в том, что люди равно богаты или равно бедны,
но в том, что они равно свободны отстаивать собствен¬
ное достоинство, знать себе цену и защищать свою честь.
Унизительна не нищета, а рабская готовность принять ми¬
лостыню от вышестоящего, вместо того чтобы гордо, вы¬
сокомерно поставить себя на одну доску с ним.
Введение в финальной апострофе фигуры вождя Рево¬
люции 1848 года—«Что ты скажешь на это, гражданин Пру¬
дон?»—превращает поэму в аполог и апологию политиче¬
ского насилия в противовес отвлеченному и прекрасно¬
душному теоретизированию. В сущности, в поэме «Бей
Бедных!» Бодлер утверждает ценность Революции, цен¬
ность социального переворота как возможности сбро¬
сить маски, ниспровергнуть устоявшие иерархии, испы¬
тать сущностное равенство на своей шкуре, ощутить себя
жертвой и палачом одновременно.
ПАССАЖ ЧЕТВЕРТЫЙ
СЛАДОСТРАСТИЕ РЕВОЛЮЦИИ
В осмыслении поэтического опыта автора «Цветов Зла»
порой не уделяется необходимого внимания тому обсто¬
ятельству, что под занавес экзистенциального представ¬
ления, в которое выливалась многими своими сторона¬
ми жизнь поэта, Бодлер все настойчивее обращался к те¬
ме Революции, рассматривая этот политический перево¬
рот в виде аналогии собственного литературного творче¬
ства. Постепенно в тему Революции вливались важней¬
шие автобиографические, историософские, философские
и эстетические мотивы. Словом, в поздних заметках об¬
раз Революции становится своего рода ключом, посред¬
ством которого поэт пытается понять самого себя, свою
поэзию, свое время. Об этом свидетельствуют, например,
следующие отрывочные заметки к «Моему обнаженному
сердцу»:
Мое опьянение в 1848 г.
Какова природа этого опьянения?
Тяга к мщению. Естественное удовольствие разрушения.
[Моя ярость при перевороте.]
[Сколько раз в меня стреляли.]
Литературное опьянение; воспоминание о прочитанных
книгах.
118 I ПАССАЖИ
15 мая.—Все та же тяга к разрушению. Тяга законо¬
сообразная, если законосообразно все, что естественно.
[Моя ярость при перевороте.]
Июньские ужасы. Безумие народа и безумие буржуазии.
Естественная любовь к преступлению.
Моя ярость при перевороте. Сколько раз я стрелял из вин¬
товки. Еще один Бонапарт! Какой стыд!
И однако же все успокоилось110.
Это один из самых развернутых опытов Бодлера по осмыс¬
лению своего поведения на баррикадах 1848 года и в ходе
наиболее значительного политического события последу¬
ющих лет: государственного переворота 2 декабря 1851 го¬
да, когда президент Второй республики Луи Бонапарт был
провозглашен императором Наполеоном III, а Бодлер от¬
крыто заявил в одном из личных писем, что «физически
деполитизирован»111. Не вдаваясь здесь во все перипе¬
тии реальной политической биографии Бодлера112, заме¬
тим, что в эстетическом плане этот пассаж строится как
набросок самой настоящей поэтической прозы—«музы¬
кальной, без ритма, без рифмы, в меру гибкой и в меру
отрывистой», как определял Бодлер поэтику «Малых поэм
в прозе»113, «осторожно конкатенированной»114, если ис¬
пользовать здесь «варварский неологизм», придуманный
поэтом для характеристики музыки Вагнера. Лейтмотив
задается настойчивым повтором одного словосочетания —
«Моя ярость при перевороте»—и достаточно близких тем—
«ярость», «тяга к мщению», «тяга к разрушению», кото¬
рые варьируются в целом ряде синонимичных понятий —
«опьянение», «ужас», «любовь к преступлению»—и усили¬
ваются упоминаниями о конкретных деталях события —
110 Сн. Baudelaire, Fusées. Mon cœur mis à nu. La Belgique déshabillée, 92.
111 Ch. Baudelaire, Correspondance, 1,182.
112 См. напр.: S. Murphy, Logique du dernier Baudelaire (Paris, Honoré
Champion, 2007); D. Oehler, Le Spleen contre Voubli. Juin 1848. Baudelaire,
Flaubert, Heine, Herzen (Paris, Payot, 1996); P. Pachet, Le premier venu.
Baudelaire: solitude et complot.
113 Ch. Baudelaire, Œuvres complètes, I, 275.
114 Ch. Baudelaire, Œuvres complètes, II, 803.
СЛАДОСТРАСТИЕ РЕВОЛЮЦИИ | 119
выстрелы в Бодлера-революционера, выстрелы Бодлера-
революционера. Эти отрывки дают понять, что речь идет
об отчаянной попытке воспоминания, повторного прожи¬
вания или об опыте воскрешения революционного про¬
шлого, которое, таким образом, не совсем прошло для по¬
эта. Бодлер как будто стремится восстановить былую ре¬
волюционность, или, если вспомнить приводившееся вы¬
ше Марксово определение богемы, свою подверженность
«разрушительным идеям»; как будто пытается собрать во¬
едино свою субъективность или по меньшей мере найти в
себе какие-то ее следы или остатки, самого себя восприни¬
мая своего рода отбросом, отходом или пережитком рево¬
люционного прошлого. Таким образом, задача настояще¬
го этюда в том, чтобы проследить главные линии поисков
автором «Цветов Зла» своей утраченной Революции, свое¬
го места в революционном прошлом, своего положения в
революционном становлении в настоящем.
К типологии поэтической субъективности
В приведенных выше заметках «Моего обнаженного серд¬
ца» обращает на себя внимание своего рода «предпрошед¬
шее» в революционном прошлом Бодлера: то, что в рево¬
люционной субъективности поэта было предопределено
«литературным опьянением», пьянящими воспоминания¬
ми о прочитанных книгах. В русле этого мотива становит¬
ся очевидным, что поэт, собираясь обнажить свое сердце,
представить себя в вызывающем свете, словно бы хочет
отделить то, что в этом сердце продиктовано литературой,
литературной культурой молодого поэта, бросающегося в
1848 году на баррикады, стреляющего, рискующего убить и
быть убитым, от того, что навеяно вихрями самой истории,
заразительным насилием текущего момента, равно как от
некоей «естественной», человеческой, слишком человече¬
ской тяги к насилию. Словом, в этих разрозненных записях
120 | ПАССАЖИ
речь действительно идет об опыте воссоздания былой ре¬
волюционности, предполагающем наличие в сознании по¬
эта достаточно определенной концепции субъективности,
которая, таким образом, складывается из «естественного»
я, «культурно-литературного» я и «исторического», прехо¬
дящего и мимолетного я. Связующим элементом различ¬
ных сторон субъективности выступает со всей очевидно¬
стью определенная ярость, именно яростью диктуются эти
строки поэта, решившего обнажить свое сердце.
Итак, разбираясь в мотивах своего поведения на бар¬
рикадах, Бодлер сталкивается со своего рода литератур¬
ностью, встречается с литературой или поэзией, каковые,
что само собой разумеется, составляют самую существен¬
ную стихию его поэтической природы. При этом он сам
замечает, что бросился на баррикады из-за литературы;
это литература, это поэзия толкнули его на баррикады, это
они, среди прочих факторов, играли его субъективностью
в ходе этого исторического события, которое он пытает¬
ся воссоздать в автобиографических заметках. Другими
словами, мало того, что поэт сознает, что устремился в
Революцию, движимый определенными литературными
моделями, он подходит к пониманию того, что в самом
революционном событии было много игры, что он играл
в Революцию, к чему подталкивала его и сама литерату¬
ра. Вот еще две заметки из «Моего обнаженного сердца»,
в которых подчеркивается игровой характер революци¬
онных событий:
1848 г. был забавен только потому, что каждый вопло¬
щал в нем утопии и воздушные замки.
1848 г. был очарователен только из-за переизбытка
Смехотворности115.
В этих фразах к образу литературного, наигранного на¬
силия присовокупляется воспоминание о Революции как
празднике, торжестве существования, радости чувствовать
115 Ch. Baudelaire, Fusées. Mon cœur mis à nu. La Belgique déshabillée, 93.
СЛАДОСТРАСТИЕ РЕВОЛЮЦИИ | 121
переизбыток жизни, устремленности вовне. Согласно при¬
мечаниям Жака Крепе и Жоржа Блена, речь идет о Рево¬
люции как «забаве», развлечении и отвлечении от убогой
действительности116. Это клубная, карнавальная, маска¬
радная сторона Революции, принимая которую каждый
участник события хочет оказаться как нельзя более экстра¬
вагантным, выйти за рамки собственной субъективности,
быть вместе с другими и одновременно оказаться где-то
в другом месте. В данном отношении время Революции—
это не только атопическое время, родственное состоянию
опьянения, это возможность поиграть в другого, освобо¬
дившись от строго рассудочной части субъективности:
Об испарении и концентрации Моего я.
О некоей чувственной радости в сообществе экстра¬
вагантных личностей117.
В то же время это напряженное восприятие Революции
как праздника сопровождается в заметках Бодлера ясным
сознанием какой-то скрытой необходимости, неизбежно¬
сти, неотвратимости революционного события—его есте¬
ственности и легитимности. В этом отношении Революция
есть не что иное, как определенная историческая форма,
в которую выливается естественное, природное насилие
человека. Речь идет о сознании своеобразного «соответ¬
ствия» плана истории всему тому, что внутри человека
приходится на план, или стихию, беспорядочности, неис¬
товства, ярости. При этом не стоит упускать из виду, что
событие Революции Бодлер осмысляет в неразрывной свя¬
зи с осознанием революционности собственной субъек¬
тивности, своего собственного революционного станов¬
ления, свое революционной ярости и своего революцион¬
ного сердца, каковое он и хочет обнажить в предсмертных
автобиографических заметках.
116 1Ыа.,558.
117 1Ыа.,89.
122 | ПАССАЖИ
В этих заметках тема наигранного насилия усиливает¬
ся мотивом Революции как карнавала—как площадного,
уличного действа, объединяющего участников пьянящим
ощущением новой жизни; как ощущения крайней воз¬
можности воплотить самые отчаянные чаяния, стать дру¬
гим. Вместе с тем в восприятии Революции как праздни¬
ка жизни явственным контрапунктом звучит тема «есте¬
ственности», «законосообразности», «необходимости» че¬
ловеческого насилия и Революции как исключительной,
буквально соответствующей ему формы.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что в этих отрывках
«Моего обнаженного сердца» Бодлер мыслит Революцию в
жесткой связке с собственным революционным опытом, и
в этом представлении субъект революционного действия
оказывается двойственным—движимым как естественны¬
ми, так и культурными побуждениями.
Якобинцы или либертинцы?
Итак, в последние годы существования Бодлер неоднократ¬
но предпринимает попытку осмыслить свое революцион¬
ное я, равно как сам феномен французской Революции.
Подобный опыт вырисовывается в самые последние ме¬
сяцы творческой жизни поэта, то есть какое-то время спу¬
стя после того, как были набросаны рассмотренные вы¬
ше «фейерверки» к «Моему обнаженному сердцу», кото¬
рые относятся, по всей видимости, к 1864-1865 году, ког¬
да автобиографический проект сильнее всего волнует со¬
знание поэта.
В самом начале 1866 года Бодлер собирается написать
предисловие к «Опасным связям» (1782) Шодерло де Лакло
(1741-1803), каковые он расценивает как самый настоя¬
щий роман 1789 года, как историческое свидетельство ре¬
волюционного прошлого Франции, каковое многим в се¬
СЛАДОСТРАСТИЕ РЕВОЛЮЦИИ | 123
редине XIX века хотелось бы предать забвению, но кото¬
рое не дает покоя поэту «Цветов Зла». Это беспокойствие
в отношении Революции и своего революционного я обу¬
словливается, судя по всему, общим для поэзии и истории
механизмом повторения, представления, фигуративности,
или миметичности, события: литература и история в рав¬
ной мере направляются определенными культурными мо¬
делями и в равной мере не всегда это сознают. Более того,
как Революция осуществляется под диктовку Литературы,
так и последняя—в крайних, предельных своих формах—
ищет отождествления с этой исторической формой чело¬
веческого неистовства. Примерно такая концепция выри¬
совывается в заметках Бодлера о романе Лакло.
Характеризуя в целом этот незавершенный замысел, не¬
обходимо заметить, что черновые записи к предисловию
об «Опасных связях» Лакло, одного из самых характер¬
ных французских романистов XVIII века, которые наря¬
ду с маркизом де Садом (1740-1814) и Жаком Казоттом
(1719-1792) подводили крайне неутешительный итог про¬
свещенческой философии, были набросаны рукой автора
«Цветов Зла» в самом начале 1866 года на оборотной сто¬
роне проспектов подписки на «Современный Парнас»118.
Эти записи представляют собой, наряду с незавершенной
заметкой о «Тружениках моря» Гюго, последние строки
«последнего Бодлера». Они являются замечательным сви¬
детельством умонастроений поэта в последние месяцы его
существования, представляя как всю мощь, так и всю не¬
мощь его творческого сознания, сосредоточившегося на
какое-то время на осмыслении одной из самой сильных
книг французской классической литературы.
Действительно, с одной стороны, Бодлер восприни¬
мает «Опасные связи» как исключительную и «в высшей
степени французскую книгу»119, восходящую к традиции
«расиновского анализа» страсти. Поэт набрасывает в сво¬
118 Сн. Baudelaire, Œuvres complètes, II, вв-75.
119 Ibid.,70.
124 | ПАССАЖИ
ем неоконченном этюде несколько магистральных линий
толкования романа Лакло, непосредственно связанных с
собственными философскими и эстетическими построе¬
ниями: сатанизм как действенная воля творить Зло ради
утверждения Добра; сознательно аморальный характер
подлинной литературы; «просветительская» и формообра¬
зующая роль словесности в плане подготовки определен¬
ных человеческих типов и исторических событий; связь
жизни автора с его произведением; новый тип мужского
персонажа, сочетающего в себе черты Дон Жуана, Денди
и... Тартюфа; Вальмон как предвосхищение байроническо-
романтического героя в европейской культуре; наконец,
раздвоение образа «естественной женщины» на простую,
«трогательную Еву» (мадам де Турвель) и Еву инферналь¬
ную, «сатаническую» (маркиза де Мертей).
Наряду с этими общими семантическими перспектива¬
ми интерпретации романа Лакло в заметках Бодлера про¬
скальзывает одна частная догадка, относящаяся к характе¬
ру политической эволюции самого поэта, в частности к его
восприятию феномена Революции. Как уже неоднократно
говорилось, в последние месяцы существования у Бодлера
неоднократно возникает искушение уподобить поэтиче¬
ское творчество революционному перевороту, а то и пря¬
мо отождествить Поэзию и Революцию, что сказывается
и в заметках о романе «Опасные связи».
Итак, несмотря на то что, поддаваясь настроениям ми¬
нуты, поэт «Цветов Зла» мог провозглашать себя «физиче¬
ски деполитизированным», незавершенный этюд о Лакло
наглядно свидетельствует, что эта физическая деполити¬
зация могла означать все что угодно, кроме того бесспор¬
ного обстоятельства, что Революция остается своего ро¬
да незаживающей раной, глубокой травмой психического
строя поэтической субъективности, психеи поэта, который
оказывается деполитизированным лишь физически, сбли¬
жаясь в этой своей слабости с вырождающейся, деградиру¬
ющей французской аристократией накануне Революции.
СЛАДОСТРАСТИЕ РЕВОЛЮЦИИ | 125
Именно такая мысль вырисовывается в заметках Бод¬
лера о романе Лакло:
Революция была совершена сладострастниками.
Нерсиа (польза его книг).
В тот момент, когда разразилась французская Рево¬
люция, французское дворянство было физически осла¬
бленной расой (де Местр) 12°.
Однако это поползновение к отождествлению себя с
«бывшим сословием» либертинцев, которое, впрочем, на¬
ходило более яркие выразительные формы в набросках
теории дендизма, проигрывает в этом контексте гораз¬
до более сильному, мощному, решительному утвержде¬
нию спорной идеи, что политический переворот 1789 го¬
да объясняется через саму идеологию либертинажа, что
Революцию совершили не столько якобинцы, сколько ли-
бертинцы, сладострастники и сластолюбцы, морально и
физически деградировавшие типы. О чем якобы и свиде¬
тельствуют труды и дни Лакло, Нерсиа и Местра.
К литературной генеалогии
Бодлера-революционера: Жозеф де Местр
Имя и фигура Местра не впервые возникают под пером
Бодлера, тем не менее в первый раз поэт столь реши¬
тельно и столь определенно связывает фигуру мыслите¬
ля с объяснением Революции. Действительно, Местр при¬
влекался автором «Цветов Зла» либо для характеристики
христианского отношения к смеху («О сущности смеха и
вообще о комическом в пластических искусствах», 1852—
1855), либо для усиления одной из самых нелицеприят¬
ных фигур в своей нескончаемой галерее женских обра¬
зов («Живописец современной жизни», 1859-1860), либо
120 Сн. ВАиоЕЬАШЕ, (ЕиугеБ сотрШеБ, II, 66-75.
126 | ПАССАЖИ
в наброске к идее «универсальной религии» («Мое обна¬
женное сердце», 1862-1864), либо, наконец, в размышле¬
ниях об искренности писателя («Автограф» в «Альбоме
Надара», 1865?). Широко известна резкая эпистолярная
отповедь Бодлера фурьеристу и натурфилософу Альфонсу
Туссенелю, в которой поэт встает на защиту мысли Местра
от плоской натуралистической критики, излагая при этом
собственную мировоззренческую доктрину, основанную
на понятиях «мистической религии», «универсальной ана¬
логии» и «соответствий». Именно в письме к Туссенелю,
написанном 21 января 1856 года, поэт называет Местра
«величайшим гением нашего времени», связывая свою
философию истории с сознанием «упразднения идеи пер¬
вородного греха»121. Наконец, в этом кратком обзоре фигур
Местра в сочинениях и письмах Бодлера невозможно не
вспомнить знаменитый замысел трактата о денди, дендиз¬
ме и декадансе, в котором поэт ставит Местра в один ряд с
Шатобрианом, Кюстином и Барбе д’Оревильи122. Даже этот
неполный перечень позволяет понять, что мысль Бодлера
взаимодействует с мыслью Местра во многих регистрах,
во многих планах мировосприятия, так что нельзя не со¬
гласиться с удачной формулой Пьера Глода, замечающе¬
го в своей статье о Бодлере, помещенной в энциклопе¬
дическом словаре по Местру, что идеи автора «Санкт-пе¬
тербургских вечеров» постоянно звучат в сознании поэта
«приглушенным эхом»123. Тем не менее думается, что да¬
леко не все «соответствия» и несоответствия в осмыслении
двумя писателями Революции привлекали в должной мере
внимание исследователей, при том что оба писателя рас¬
сматривают 1789 год и его метаморфозы во французской
121 Сн. Baudelaire, Correspondance, I, 337.
122 Сн. Baudelaire, Correspondance, II, 128. Последовательное сопостав¬
ление позиций Местра и Бодлера в отношении первородного гре¬
ха см.: A. Compagnon, Les antimodemes de Joseph de Maistre à Roland
Barthes (Paris, Gallimard, 2005) 88-110.
123 J. de Maistre, Œuvres / Édition établie par P. Glaudes. Suivies d’un dic¬
tionnaire Joseph de Maistre (Paris, Robert Laffont, 2007) 1135.
СЛАДОСТРАСТИЕ РЕВОЛЮЦИИ | 127
истории как основополагающее, точнее, как некое осново¬
ниспровергающее—роковое—событие, в свете которого
определяется любой последующий человеческий опыт.
В отношении поэтического становления Бодлера такое
рассмотрение тем более необходимо, что в последние го¬
ды и месяцы его творческого существования Революция,
как уже говорилось, оказывается в его сознании анало¬
гией Поэзии, при этом собственное участие в событиях
1848 года становится для поэта предметом пристального
и пристрастного критического рассмотрения. В этом отно¬
шении приведенный выше фрагмент «Моего обнаженного
сердца» явственно перекликается с известным наброском
«Эпилога» к книге о Бельгии, где Бодлер прямо отождест¬
вляет свою поэтическую субъективность с Революцией:
Я говорю Да здравствует революция! Как мог бы ска¬
зать Да здравствует Разрушение! Да здравствует Ис¬
купление! Да здравствует Наказание! Да здравствует
Смерть!
Мало того, что я был бы счастлив оказаться жертвой,
я бы не погнушался стать палачом—дабы прочувство¬
вать Революцию с обеих сторон!124
В этом фрагменте речь идет уже не о поползновении
к самоотождествлению поэта с либертинцами 1789 года,
раздувшими мировой пожар Революции; а, скорее, о то¬
тальной идентификации последнего, неистовствующего
Бодлера с самой силой революционного события, с волей
власти, которая, представляя себя воплощенным могуще¬
ством, не различает жертвования и палачества. Вместе с
тем необходимо понимать, что поэт, со всей ясностью со¬
знавая невозможность революционного события в убогой
действительности середины шестидесятых годов —28 ав¬
густа 1865 года, как датирована запись, не может пережи¬
вать Революцию как таковую; точнее говоря, он пережи¬
вет ее как исчезающий из реальности пережиток, самого
124 Baudelaire, Fusées. Mon cœur mis à nu. La Belgique déshabillée, 317.
128 | ПАССАЖИ
себя воспринимая пережитком в отношении современно¬
сти. В Бельгии, куда Бодлер бежит от убогости француз¬
ской жизни, формула психического существования поэта
сводится к сочетанию выживания (материальная нище¬
та) и своего рода посмертного проживания собственно¬
го существования (психическое обращение ко всему, что
в былом опыте представляется наиболее жизненным).
Революция имела место, я был в этом месте, заряжен¬
ном Разрушением, Искуплением, Наказанием, Смертью.
Я мыслю Революцию, стало быть, я есмь. Мысленное пе¬
реживание Революции вдыхает жизнь в угасающее суще¬
ствование поэта.
С другой стороны, более внимательно вчитываясь в
этот фрагмент, невозможно не обратить внимания, что он
представляет собой крайне субъективную сводку основ¬
ных историософских понятий, непосредственно восходя¬
щих к критическому сознанию автора «Размышлений о
Франции», в трудах которого Революция часто описыва¬
ется через сплетающиеся понятия «разрушение», «искуп¬
ление», «наказание», «жертвы», «палачи». Тем не менее
также невозможно не заметить, что под пером поэта ме-
стровские понятия словно бы уводятся из-под критиче¬
ского надзора, отвлекаются от того смыслового горнила,
в котором они выковывались, складывались, приобретали
свою форму в сознании автора «Санкт-петербургских ве¬
черов»: поэт словно бы переводит слова Местра на другой
язык, более литературный, более поэтический и патети¬
ческий, переводит их в рамки иной субъективности, глав¬
ным элементом которой, очевидно, является некая пате¬
тика или даже патология. Именно из глубин этого патоса,
или буйства, формулы Жозефа де Местра, лишаясь опре¬
деленной теологической строгости, жесткости, вылетают
настоящими, подлинными, истинными фейерверками,
которые, с одной стороны, лишь усугубляют те темноты
бездны асубъективности, в которые с деланной радостью
погружается трезвомыслящее я поэта, а с другой сторо¬
СЛАДОСТРАСТИЕ РЕВОЛЮЦИИ | 129
ны, предстают реальными откровениями его мятущегося
сердца, кровоточащими словами сердца, выставляющего
себя в невозможной наготе. Жанр фейерверка в этом отно¬
шении соответствует мигу горячечного решения отдаться,
открыться, обнажиться до неприличия, до полной поте¬
ри себя, как определял Бодлер существо этой поэтической
формулы в знаменитом письме к Вагнеру:
Может показаться, что трудно, даже невозможно
дойти до чего-то более пламенного; и тем не менее
последний фейерверк вычерчивает еще более бело¬
снежную борозду на пылающем белым фоне. Это,
если вам угодно, последний крик души, достигшей
крайней горячности125.
Возвращаясь к образу Революции в сознании поздне¬
го Бодлера, заметим еще раз, что, выставляя себя в пред¬
смертных записях гневным апостолом Революции, гла¬
сом вопиющим революционное насилие в тихом ому¬
те буржуазной действительности середины 1860-х годов,
поэт «Цветов Зла» стремится прежде всего обнажить свое
сердце, бросая в то же самое время вызов окружающему
его здравомыслию и благополучию. Вместе с тем, взывая к
фантому, или призраку, революционного события, Бодлер
устанавливает своего рода филиацию, естественное род¬
ство Поэзии и Революции, в отношении которых он вос¬
принимает себя не столько прямым потомком, сколько
побочным, незаконнорожденным сыном, пережившим
не только своих родителей, но и самого себя как носителя
этого тайного соответствия. Как уже говорилось, Бодлер в
Бельгии остро чувствует себя пережитком прошлого; мало
того, он культивирует в себе это чувство посмертного су¬
ществования. При этом жизнь в форме ненужного пере¬
житка выливается не только в крайнюю степень нужды,
нищеты, на которую Бодлер чуть ли не добровольно об¬
рекает себя в бельгийском затворничестве, но и в горячее,
обжигающее сознание того, что ты живешь со смертью в
125 Сн. Baudelaire, Correspondance, I, 673-674.
130 | ПАССАЖИ
своем сердце, что ты несешь в нем то же самое сладостра¬
стие, которое подвигло к Революции Лакло или Сада.
Критика и клиника
Характерно, что, когда в черновиках к статье о Лакло
Бодлер ссылается на Местра в объяснении литературных
истоков и смысла французской Революции, он имеет в виду
вполне определенную идею пламенного контрреволюцио¬
нера, которая в сознании поэта соотносилась с собствен¬
ной концепцией 1789 года. Речь идет об одной цитате из
«Размышлений о Франции», которая включена в заметки
об «Опасных связях». Любопытно, что сама выписка сде¬
лана рукой Пуле-Маласси, а заголовок к ней—«Опасные
связи»—приписан Бодлером, который, по всей видимости,
попросил своего издателя, страстного библиофила, найти в
книге Местра соответствующее место, которое подтверж¬
дало его мысль, что Революция была совершена сладо¬
страстниками, французскими аристократами, физически
и морально деградировавшими темными типами.
Речь идет о разделе III под названием «Отмщения», за¬
вершающем десятую главу «Соображений о Франции»—
«О предполагаемых опасностях контрреволюции». Прежде
чем обозначить общий философский контекст пассажа, за¬
действованного в размышлениях Бодлера о романе Ла¬
кло, приведем его, как он фигурирует в тексте набросков
к статье:
И это неблагополучие мало подивит тех, кто полагает,
что главной причиной Французской революции стала
моральная деградация Благородного сословия.
Г-н де Сен-Пьер заметил где-то в своих «Этюдах о
Природе», что если сравнить облик французских дво¬
рян с обликом их прародителей, черты которых донес¬
ли до нас живопись и скульптура, то становится совер¬
шенно очевидно, что раса эта выродилась126.
126 Сн. Baudelaire, (Euvres completes, 998; J. de Maistre, CEuvres, 272.
СЛАДОСТРАСТИЕ РЕВОЛЮЦИИ | 131
Ссылка на французского романиста Бернардена де Сен-
Пьера (1773-1814), старшего современника и вынужден¬
ного свидетеля Революции, включена Местром в довольно
сложное умственное построение, направленное на доказа¬
тельство того, что что бы ни предпринимала французская
знать против Революции, она была обречена на неуспех,
поскольку, согласно его видению истории, если моральная
деградация французского благородного сословия и стала
главной причиной революционного события, то исток, на¬
чало, главная движущая сила Революции были не в людях,
а в Провидении.
Действительно, одна из отличительных особенностей
толкования Местром Революции заключалась в резкой,
решительной дегуманизации и десубъективизации истори¬
ческого события. Вместо человека, полагающего, что он
меняет ход истории, в Революции действует некая высшая
сила, которая подтверждает непоколебимость порядка и
обнажает волю Провидения:
Во французской Революции более всего поражает
именно эта захватывающая сила, подминающая все
препятствия. В этом вихре уносится, словно неве¬
сомая соломинка, все, что сила человеческая могла
ей противопоставить: никто не воспротивился ее
ходу безнаказанно.... Было справедливо замечено,
что скорее французская Революция ведет людей, не¬
жели они ее.... Даже те злодеи, которые, казалось,
направляют революцию, выступает в ней не более
чем простыми орудиями...127
На этом фоне, который Местр заполняет патетическими
и несколько однообразными картинами разбушевавшихся
сил Провидения, сливающихся с силами Революции, како¬
вая происходит сама собой, фигуры революционных деяте¬
лей выглядят как нельзя более жалкими и убогими, беспо¬
мощными и обессиленными. В эту историческую панораму
мыслитель и вводит фигуры контрреволюционеров, дока¬
127 ]. эе Ма^тие, (Етгеэ, 200-201.
132 I ПАССАЖИ
зывая, что они были совершенно под стать своим против¬
никам; более того, в силу разложения так называемых со-
суверенных семейств ложная знать стала «одной из главных
язв» Франции, что и привело монархию к краху.
Может показаться, что идея о Революции как асубъек-
тивной силе равно близка Местру и Бодлеру. Однако на
деле речь идет о двух прямо противоположных подходах
в оценке революционных сил, о двух различных способах
представления силы. В самом общем виде эти противо¬
положности можно было бы выразить следующим обра¬
зом: если Местр смотрит на Революцию, видит ее глаза¬
ми, принимает позу очевидца, то Бодлер, напротив, про¬
живает и переживает Революцию как свою собственную
неизжитую боль, воспринимая себя своего рода пережит¬
ком революционного события, пытаясь найти, разглядеть
в себе останки революционного опыта. Речь идет, иначе
говоря, о том соотношении опыта, который Жиль Делёз
определял как критику и клинику.ш Словом, если Местр
смотрит на Революцию глазами врача, то Бодлер пережи¬
вает ее всеми фибрами своего существа, воспринимая себя
не лекарем, а больным Революции и больным Революцией;
не воображаемым, не мнимым больным, но своего рода
болезненным, болезным магом, пытающимся воскресить
в себе былое историческое величие:
В наших жилах засел республиканский дух, как в ко¬
стях—сухотка. Мы все заражены Демократией и Сифи¬
лисом129.
Вот почему ему так близка мысль о том, что Революция
совершена сладострастниками, либертинцами, в тради¬
цию которых он целенаправленно встраивает свое твор¬
чество, в том числе и в статье о Лакло.
128 G. Deleuze, Critique et clinique (Paris, 1993). Рус. пер.: Жиль Делёз,
Критика и клиника / Пер. с фр. О. Е. Волчек и С. Л. Фокина (СПб.,
Machina, 2002).
129 Baudelaire, Fusées. Mon cœur mis à nu. La Belgique déshabillée, 318.
СЛАДОСТРАСТИЕ РЕВОЛЮЦИИ | 133
Очевидно, что в исторической схеме Местра мысль о
«моральной деградации Благородного сословия» является
лишь одним из аргументов в целой системе доказательств
неизбежности революционного взрыва и неизбежности же
возвращения, восстановления Монархии, что произойдет,
согласно убеждению мыслителя, не путем насильственной
контрреволюции, не путем «противоположной револю¬
ции», но через некую «противоположность Революции»130.
Очевидно и то, что ссылка Местра на Бернардена де Сен-
Пьера была довольно случайной, буквально притянутой.
Сам автор «Соображений о Франции», ощущая некую чу-
жеродность этой мысли о физическом, естественном вы¬
рождении французского дворянства, вынужден был доба¬
вить в своих рассуждениях разъясняющую фразу, в кото¬
рой отмежевывался от общей руссоистской трактовки ми¬
ра в «Этюдах о Природе».
Бодлер, напротив, ухватывается за эту мысль, превра¬
щая ее в главное доказательство того, что Революция бы¬
ла выражением сил Зла. Однако, в отличие от Местра, для
которого Зло революции было наказанием, обрушенным
Провидением на человека, монархию, Францию, поэт по¬
лагает, что сам человек является активным носителем
Зла, живым средоточием сил Зла. В этом отношении мож¬
но утверждать, что, соглашаясь с Местром в объяснении
французской Революции через борьбу человеческих и не¬
человеческих сил, автор «Цветов Зла» решительно пере¬
мещает это ристалище внутрь человека, превращает чело¬
века в борьбу противоположностей:
Во всяком человеке во всякий час имеются два еди¬
новременных прошения—одно Богу, другое Сата¬
не. Воззвание к Богу, или духовности,—это желание
возвыситься, подняться уровнем; воззвание к Сата¬
не, или животности,—это радость опуститься. С по¬
следним следует соотнести любовь к женщинам и
130 1Ыа.,276.
134 I ПАССАЖИ
задушевное общение с животными, собаками, кош¬
ками и т. д.131
Французские литературоведы неоднократно связывали
этот афоризм из «Моего обнаженного сердца» с идеями
Местра132; согласно текстологическим изысканиям Ж. Кре¬
пе и Ж. Блена, сама формула, в которой Бодлер утверж¬
дает неизбывную двойственность человеческой приро¬
ды—deux postulations simultanées, восходит к формуле
Местра oppositions simultanées, появляющейся в «Разъяс¬
нениях к жертвоприношениям», в которой, в свою оче¬
редь, перелагается одно из прозрений «Мыслей» Паскаля:
«Двойственность человека столь зрима...»133. Однако ма¬
ло кто из исследователей обращает внимание на семан¬
тическую градацию в этом последовательном перефор¬
мулировании в общем-то старой, как христианский мир,
идеи о двойственной природе человека. В самом деле, если
Паскаль напряженно прозревает двоемирие в человеке, а
Местр жестко утверждает две противоположности чело¬
веческой природы, то Бодлер, отталкиваясь от очевидной
статичности миропредставления католического мыслите¬
ля, в самом выборе слова выражает более подвижное, бо¬
лее гибкое и более шаткое видение человека: вместо «про¬
тивоположности», «оппозиции» он говорит о «прошении»
(postulations). В этом смысле поэт не видит, не полагает
двойственности человеческой природы: он ее домогает¬
ся, выступает как дерзкий ходатай человеческого могуще¬
ства, разведенного в теологии на верх и низ. Словом, речь
идет не об униженной просьбе, а о вызове, о провокации,
об утверждении сладострастия низа, животности, радо¬
131 Сн. Baudelaire, Fusées. Mon cœur mis à nu. La Belgique déshabillée, 96.
132 См. примечания A. Гийо к «Моему обнаженному сердцу»: Сн. Baude¬
laire, Fusées. Mon cœur mis à nu. La Belgique déshabillée, 593.
133 J. de Maistre, Œuvres, 808. См. также «Введение» П. Глода, где это
созвучие идей Местра и Бодлера рассматривается в контексте идей
П. Рикёра и современных теорий жертвоприношения и смертной
казни: J. de Maistre, Œuvres, 792-795.
СЛАДОСТРАСТИЕ РЕВОЛЮЦИИ | 135
сти падения в виде аналогии, или «соответствия», самых
возвышенных духовных устремлений. Это ходатайство за
человека, защита его природного права противоречить,
в том числе и самому себе. Более того, это утверждение
героического призвания поэзии, движимой тем же сла¬
дострастием, коим движимы Революция и сексуальность.
Наконец, это призыв к радости падения, к сознательному,
просвещенному погружению во тьму греха плоти, который
славословили либертинцы.
К литературной генеалогии
Бодлера-революционера:
Шодерло де Лакло
Как уже говорилось, Революция оказывается в сознании
Бодлера своего рода аналогией, соответствием Поэзии
и политики, при этом собственное участие в событиях
1848 года становится для поэта предметом самого при¬
стального и пристрастного критического рассмотрения.
Утверждая тождество себя (Поэзии) и Революции, вожде¬
лея Разрушения, Искупления, Наказания, Смерти, Бодлер
стремится найти былую силу, хочет чувствовать себя силь¬
ным; именно силу, как источник поэзии, он ищет в кривом
зеркале Революции.
Вместе с тем, подобно тому как сила Поэзии аналогична
силе Революции, обе они соответствуют в плане личных
аффектов силе любовной страсти: сладострастие поэзии
строго аналогично в мысли Бодлера силе любовной стра¬
сти, более того, поэзия тем сладострастнее, чем сильнее
устремляется к крайним формам сексуальности, к похо¬
ти, разврату и распутству, лишая тем самым самого по¬
эта возможностей наслаждения. Именно об этом «соот¬
ветствии» говорит следующий афоризм «Моего обнажен¬
ного сердца»:
136 | ПАССАЖИ
Чем больше мужчина культивирует искусства, тем
меньше у него стоит. Происходит все более и более
ощутимый разрыв между духом и скотом. Только у
скота стоит как следует, блуд—это лиризм народа134.
Заметим, что речь идет здесь не столько о раскрытии по¬
этом психического механизма сублимации, досконально
разобранного через полстолетия в трудах Зигмунда Фрей¬
да, сколько о нащупывании более общего источника си¬
лы, связанного со сверхчеловеческой стихией сакрально¬
го. Поэзия выходит за рамки человеческого опыта, когда
устремляется к крайностям, когда нарушает границы, ког¬
да преступает нормы, ставит себя вне закона: «Все кни¬
ги имморальны»,—замечает Бодлер в заметках о Лакло.
Сладострастие не равнозначно любви, не равнозначно да¬
же любовной страсти; сладострастие—это вершина и без¬
дна чисто чувственного, плотского наслаждения, достигае¬
мого не через слепое следование похоти, а посредством го¬
ловного самозабвения, посредством сознательного выхода
в стихию бессознательного, голого бреда. Вот почему в на¬
бросках к предисловию к «Опасным связям» Бодлер сталки¬
вается с необходимостью сопоставления двух типов сексу¬
альности—дореволюционной, аристократической, словом,
сексуальности либертинцев, носителями которой в рома¬
не Лакло являются Вальмон и Мертей, а в жизни—знаме¬
нитый сладострастник и развратник Филипп Орлеанский-
Эгалите, приближенным которого был одно время Лакло, и
сексуальности буржуазной, экономной, скупой, типичной
выразительницей которой ему видится Жорж Санд:
Как занимались любовью при старом режиме.
Веселее, это точно.
Это был не экстаз, это был бред135.
В заметках о Лакло Жорж Санд становится своеобраз¬
ным козлом отпущения; Бодлер видит в писательнице
134 Сн. Baudelaire, Fusées. Mon cœur mis à nu. La Belgique déshabillée, 114.
135 Ibid.,69.
СЛАДОСТРАСТИЕ РЕВОЛЮЦИИ | 137
выразительницу торжества дьявола (Зла), который, оста¬
вив свои надежды овладеть человечеством через «великих
грешников», стал проникать в современного человека под
видом сандовских инженю:
Жорж Санд.
Мерзость и причитания.
В действительности сатанизм победил. Сатана пре¬
вратился в инженю. Зло, сознающее себя, было менее
отвратительно и куда ближе к исцелению, нежели зло,
не ведающее себя. Ж. Санд стоит ниже де Сада.
Моя симпатия к этой книге136.
Как уже говорилось, в черновых заметках к предисло¬
вию к роману Лакло Бодлер стремится отождествить свою
позицию с литературной идеологией либертинцев, с Лакло
и даже с Садом, хотя в отношении творчества последнего
он не испытывает такого восхищения, которое внушают
ему «Опасные связи». Весьма показательным представля¬
ется самое начало заметок о романе Лакло, где поэт, от¬
крыто взывая к сугубо личным мотивам восприятия ре¬
волюционного события (воспоминания об отце), опреде¬
ляет тональность будущей статьи, в которой думает со¬
единить парадоксальную афористичность своих крити¬
ческих этюдов с идеей представить роман Лакло в виде
исторического сочинения, изобличающего истоки и смысл
Французской революции:
Книга эта, коль скоро она обжигает, может обжечь толь¬
ко так, как обжигает лед.
Историческая книга...—Письма моего отца...
Революция была совершена сладострастниками137.
Не менее характерно и продолжение процитированно¬
го пассажа об объяснении Революции через книги либер¬
тинцев:
136 1ыа.,б8.
137 1Ыа., 67-68.
138 | ПАССАЖИ
Не будем говорить: Иные нравы, нежели у нас. Скажем:
Нравы в большей чести, нежели сегодня.
Значит ли это, что мораль возвысилась? Нет, это зна¬
чит, что понизилась энергия зла.—И святая простота
заменила остроумие.
Были ли блуд и прославление блуда более амораль¬
ны, чем эта нынешняя манера обожать и мешать свя¬
щенное с профанным?138.
В размышлениях о Лакло Бодлер делает сводку своей
эстетической программы, в которой жестко связывает
призвание поэзии, литературы с познанием Зла. В то же
время метафизическое Зло представляется в виде реаль¬
ной, физической болезни, излечение от которой остается
практически бесконечной задачей поэта. Зло внутри че¬
ловека, надо признать это и жить с сознанием своей не¬
излечимой боли, что пытается делать Бодлер в своих по¬
следних творениях, культивируя в них родство с литера¬
турным и революционном либертинством XVIII века, под
маской которого он пытается провоцировать современ¬
ность с ее идолами гуманизма, демократии и феминизма;
отсюда исходит его резкое неприятие эмблематических
фигур современности, каковыми обратились в середине
века Гюго и Жорж Санд; и первый, и вторая—главные коз¬
лы отпущения, на которых Бодлер вымещает свою злость
в отношении пошлой и унылой современности. И подобно
тому как книги Лакло и Сада представляются ему подлин¬
ными историческими свидетельствами события 1789 го¬
да, свое собственное творчество он начинает восприни¬
мать как светоч Революции. Нет, это не значит, что Бодлер
сводит поэзию к факелыцице Революции; это значит, что
сам поэтический опыт и поэтический субъект, в нем за¬
действованный, представляются ему аналогичными исто¬
рическому событию Революции и творческому становле¬
нию поэта самим собой. Поэзия—это боевой прожектор,
маяк Революции:
138 1Ы(1.,68.
СЛАДОСТРАСТИЕ РЕВОЛЮЦИИ | 139
То пароль, повторяемый цепью дозорных,
То приказ по шеренгам безвестных бойцов,
То сигнальные вспышки на крепостях горных,
Маяки для застигнутых бурей пловцов.
«Маяки». «Цветы Зла»
Пер. В. Левика139
Можно утверждать, что в последние месяцы своего су¬
ществования, буквально теряя почву под ногами, Бодлер
мучается болезненным искушением отождествить себя с
грозным бичом Революции, разящим все нынешнее и со¬
временное, где полностью перемешались понятия свято¬
го и мирского, сакрального и профанного, Добра и Зла.
В этом отношении воззвание ко Злу, которым оборачива¬
ется литература в его глазах, есть не прославление Зла как
такового, а напоминание современникам о необходимо¬
сти различать следы (или цветы) этого Зла в себе.
139 Ш. Бодлер, Цветы зла, 309.
ПАССАЖ ПЯТЫЙ
СЛОВАРЬ ПРОПИСНЫХ истин
И ПОЭТИКА ОБЩЕГО МЕСТА
Более чем двусмысленное и явно пародийное название на-
стощего этюда требует нескольких предварительных пояс¬
нений, в ходе которых я попытаюсь представить ту особен¬
ность интеллектуального языка эпохи Бодлера, которую
можно обозначить как «словарный стиль мышления» и ко¬
торая сказалась прежде всего в двух самых крупных лекси¬
кографических проектах эпохи —словарях Эмиля Литтре
(1801-1881) и Пьера Ларусса (1817-1885). После этого пред¬
ставляется необходимым коснуться самой яркой пародии
на опыты лексикографического оправдания и укрепления
буржуазной действительности середины XIX века: речь
идет, разумеется, о знаменитом «Словаре прописных ис¬
тин» Гюстава Флобера (1821-1880), замысел которого вы¬
зревал в творческом сознании писателя около тридцати
лет, но появился на свет—в незавершенном виде—толь¬
ко в 1913 году. В этом историко-литературном контексте я
попытаюсь рассмотреть «соответствия» формы и значения
«Словаря прописных истин» Флобера тем силам и смыс¬
лам, коими пронизаны посмертно изданные фрагменты
Бодлера, относящиеся к трем грандиозным и также не¬
завершенным замыслам последних лет его жизни: речь
СЛОВАРЬ ПРОПИСНЫХ ИСТИН | 141
идет о записях к книгам «Фейерверки», «Мое обнаженное
сердце» и «Раздетая Бельгия», в которых поэт собирался
свести счеты не только со своим веком, что не торопился
его признавать, но и с самим собой, точнее будет сказать,
с тем образом самого себя в виде главы новой, декадент¬
ской, школы, что уже складывался в сознании иных совре¬
менников и начинал тяготить его не меньше, чем преж¬
нее непризнание. В заключение я намереваюсь остано¬
виться на одном положении эстетики позднего Бодлера,
различимо перекликающемся с зачарованностью Флобера
«прописными истинами»: речь пойдет о фигуре «общего
места», через которую творческое сознание Бодлера свя¬
зывает себя не столько с литературной современностью,
сколько с исторической контрсовременностью140, не столь¬
ко с новейшими поэтическими веяниями эпохи, сколько с
классическим «французским духом».
Лексикография на службе нового порядка
В интеллектуальной истории Франции XIX век был ве¬
ком истории по преимуществу: именно история была
матерью всех гуманитарных наук во Франции, более то¬
го, именно история превратилась в дискурсивную маши¬
ну формирования «нового строя» французской нации на
костях исторического прошлого, которое последователь¬
но предавалось забвению «под общим именем Старого
порядка»141. В пандан к национальной истории, которая
была призвана фабриковать величественное повествова¬
ние о бытии «коллективной личности-нации», редуциро¬
ванной, правда, к «третьему сословию», и разрабатыва¬
140 См.: A. Compagnon, Les antimodemes de Joseph de Maistre à Roland
Barthes.
141 П. Нора, «Предисловие к русскому изданию», в кн.: Франция-Па-
мять / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. Пер. с фр. Д. Хапае-
вой (СПб., Изд-во СПбГУ, 1999) 7.
142 I ПАССАЖИ
лась такими историками-монументалистами, как Огю¬
стен Тьерри (1795-1856), Франсуа Гизо (1787-1874), Жюль
Мишле (1798-1874), французская лексикография XIX ве¬
ка также обернулась «защитой и прославлением» суще¬
ствующего порядка вещей. При всех характерных отли¬
чиях самых грандиозных французских лексикографиче¬
ских проектов первой половины XIX столетия—шестого
издания «Словаря Французской академии» (1835-1842),
«Словаря французского языка» Литтре (начинает выхо¬
дить в 1863 году), «Большого всеобщего словаря XIX ве¬
ка» Ларусса (выходит с того же 1863 года) —все три изда¬
ния движимы общим и двуединым стремлением не толь¬
ко предписать словоупотребление, но и превратить сло¬
варь в общедоступное, собственно демократическое, ору¬
дие представления реальности. Более того, именно два по¬
следних словаря со временем превращаются в незыбле¬
мые опоры буржуазной педагогики и эффективные ин¬
струменты социализации индивида, его безболезненной
интеграции в существующий социум посредством предо¬
ставления готовых ответов на все вопросы как лингвисти¬
ческого, так и социального порядка142. В этом отношении
весьма показательным представляется то обстоятельство,
что бунт против буржуазного миро-слово-порядка, в ко¬
тором, исходя из различных творческих позиций, приня¬
ли участие в начале XX века такие мастера возрождения
анормативных возможностей слова, как Андре Бретон,
Жорж Батай или Луи-Фердинанд Селин, заключал в себе
элемент лексикографической пародии143.
142 A. Rey, S. Delesalle, «Problèmes et conflits lexicographiques», Langue
française: Dictionnaire, sémantique et culture, 1979, № 43,4-26.
143 Имеются в виду, естественно, «Манифест сюрреализма» (1924) Бре¬
тона, где определение нового поэтического движения дается в ви¬
де словарной статьи; «Критический словарь» Батая, печатавший¬
ся на страницах авангардного журнала «Документы» (1929-1931);
«Путешествие на край ночи» Селина (1932), выстроенное как поэти¬
ческо-лингвистическая антитеза словарю Литтре, упоминаемому в
одном из трех эпиграфов к роману.
СЛОВАРЬ ПРОПИСНЫХ ИСТИН | 143
Не менее характерно и то, что, в отличие от германской
филологической традиции (братья Гримм), где упор делал¬
ся на этимологии и истории языка, во французской лек¬
сикографии XIX века язык легитимировался почти ис¬
ключительно через современное, актуальное словоупо¬
требление144. Так, в самой композиции словарной статьи
Литтре собственно исторические значения слова (в старо¬
французском и среднефранцузском языках XI-XVI веков)
загоняются в лингвистическое «подполье», то есть даются
в отдельной рубрике в самом низу основного текста, тог¬
да как толкование современных словоупотреблений, со¬
ставляющее свод надлежащего использования языка («bon
usage»), подтверждается исключительно через классиче¬
ских авторов XVII-XVIII веков: Вольтера, Дидро, Корнеля,
Монтескье, Расина, Руссо (разумеется, что ни Рабле, ни
Лакло, ни Сад не могли послужить новому лингвистиче¬
скому порядку). При этом, если интеллектуальный жест
Литтре и может быть истолкован в духе некоего «лите¬
ратурного консерватизма»145 (блистательное отсутствие
примеров из современной литературы, за исключением
редких ссылок на Шенье, Шатобриана, Гюго и Ламартина),
а завзятое просветительство Ларусса, щеголяющего при¬
мерами и познаниями из новейшей словесности (вплоть
до Бодлера), так же легко списать на некий «модернизм»,
гоняющийся за духом времени, оба лексикографических
начинания сходятся в едином стремлении оправдать со¬
временную реальность, сводя на нет критическое призва¬
ние словаря. Иначе говоря, при всей декларируемой при¬
верженности «историческому разуму» словари Ларусса и
Литтре явились верными стражами, если не «цепными
псами», своего времени, что и нашло выражение в наив¬
ном риторическом вопросе, которым задавался в преди¬
144 S. Delesalle, «Le traitement des exemples dans les grands dictionnaires
de la seconde partie du XIXe siècle (Littré, Dictionnaire Universel de
P. Larousse, Dictionnaire générât)», Langue française, № 106, 68-75.
145 Ibid., 69.
144 I ПАССАЖИ
словии к своему творению один из авторов: «Разве сло¬
варь XIX века не должен быть привязан по преимуществу
к воспроизведению физиономии языка в актуальный
момент?»146.
Словарь против торжества
демократического разума
Лексикографическая мания современников не могла не
затронуть сознания автора «Бувара и Пеюоше», этой хо¬
дячей энциклопедии буржуазно-демократического разу¬
ма, на составление которой положил последние годы сво¬
ей жизни Флобер. В «Словаре прописных истин», который
должен был увенчать энциклопедические изыскания двух
эмблематических персонажей, статья «Литтре» идет вслед
за статьей «Литература»: если последняя, согласно всеоб¬
щему и потому единственно верному мнению, лаконич¬
но осуждается, поскольку представляет собой не что иное,
как «занятие людей праздных», то автор «Словаря фран¬
цузского языка» удостаивается более развернутого опре¬
деления: «литтре: Подсмеиваться, услышав его имя.—
„А, это тот господин, что уверяет, будто мы произошли
от обезьян“»147. Очевидно, что ирония Флобера не щадит
обоих французских лексикографов, поскольку в «Словаре
французского языка» нет ни слова о происхождении че¬
ловека, а популяризатором учения Дарвина во Франции
середины XIX века выступает именно Ларусс, о котором
«Словарь прописных истин» многозначительно умалчи¬
вает, хотя более чем очевидно, что самой ближней мише¬
нью для антиэнциклопедического запала Флобера являет¬
ся именно автор «Большого всеобщего словаря XIX века».
146 Ibid., 71.
147 Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet / Éd. de C. Gothot-Mersch (Paris,
Gallimard, 1979) 537.
СЛОВАРЬ ПРОПИСНЫХ ИСТИН | 145
Это смешение имен собственных современного знания,
распространяющегося семимильными шагами в эпоху по¬
вальной демократизации, только усиливается, если посмо¬
треть в словаре Флобера статью «Дарвин»: «Тот, кто гово¬
рит, что мы произошли от обезьян»148. То есть в отношении
двух светочей современной науки писатель проделывает в
своем словаре тот же самый ход, который использовал ка¬
сательно «блондинок» и «брюнеток»: «брюнетки: Горячее
блондинок (смотрите блондинки)». Смотрим: «блондин¬
ки: Горячее брюнеток (смотрите брюнетки)». В этих аб¬
сурдных взаимоотсылках обнаруживается абсолютная пу¬
стота благоглупостей эпохи, которыми блистают друг пе¬
ред другом самодовольные буржуа вроде аптекаря Оме
или Шарля Бовари. Очевидно, что, приводя расхожие мне¬
ния о Литтре или Дарвине, Флобер поднимает на смех не
знание как таковое, а поголовное убеждение современ¬
ников в общедоступности знания, каковое в умах просве¬
щенных буржуа является элементарной противоположно¬
стью невежества. Вот почему «Словарь прописных истин»
не щадит и той элементарной формы представления зна¬
ния, каковой является собственно словарь. Во всяком слу¬
чае, в соответствующей статье приговор выглядит едва ли
не окончательным: «словарь: Смеяться над ним—годен
только для невежд»149.
Однако в истолковании истинного значения «пропис¬
ных истин» Флобера не следует закрывать глаза на ту сти¬
хию трагического самоосмеяния, в которой вызревал, раз¬
вивался и уничтожал себя замысел «Бувара и Пеюоше». По
точному заключению одного из французских специали¬
стов, царство глупости буржуазного мира оставалось неиз¬
бывным уделом самого Флобера, роль которого, таким об¬
разом, была не столько в том, что в век торжества абсолют¬
но позитивного разума он вытащил на всеобщее обозре¬
148 Ibid., 504.
149 Ibid.
146 I ПАССАЖИ
ние неистощимые залежи человеческой глупости, сколько
в том, что обнаружил собственную глупость разума, в том
числе и в самом себе:
Ибо два простака являются точными дублетами свое¬
го создателя, и не только потому, что становятся вы¬
разителями его собственных идей, но и в силу самой
своей деятельности: подобно ему, они бесконечно
переписывают глупости, причем те же самые, что
переписывал Флобер; подобно ему, они пишут книгу,
чтобы доказать, что книги ничего не стоят. Новый и
последний парадокс: если роман «Бувар и Пеюоше»
терпит провал, то исходный тезис остается недока¬
занным; но то же самое, если это успех. В последнем
романе Флобера смысл до бесконечности обращается
против самого себя150.
Речь идет в конечном счете о своего рода семантической
карнавализации самой литературы, в которой автор, ввер¬
гая себя в шутовской маскарад, меняется местами со свои¬
ми персонажами, полностью лишается авторских прав и
полномочий: согласно одному из сценариев продолжения
романа, Бувар и Пекюше должны были включить Флобера
в число персоналий своего словаря, выставив его автором
скандально знаменитого романа «Госпожа Бовари», удо¬
стоившегося уголовного преследования за покушение на
моральные основы современного буржуазного общества.
Иначе говоря, в «Словаре прописных истин» осмеянию
подвергаются не столько какие-то недалекие человеч¬
ки, населяющие какую-то далекую буржуазную вселен¬
ную, но и словно бы само собой разумеющееся притяза¬
ние автора отделить себя от своих смехотворных персона¬
жей. По остроумному замечанию Раймона Кено, отноше¬
ние Флобера к Бувару и Пекюше по мере развития замыс¬
ла усложняется аналогично развитию отношений между
Сервантесом и Дон Кихотом: чем глубже погружается в
150 С. Gothot-Mersch, «Introduction», in: G. Flaubert, Bouvard et Pécu¬
chet, 42-43.
СЛОВАРЬ ПРОПИСНЫХ ИСТИН | 147
свое безумие персонаж, тем больше симпатии испытыва¬
ет к нему автор151.
В своем превосходном анализе поэтики «Госпожи Бо-
вари» Сергей Зенкин справедливо обращает внимание
на одну фразу из переписки Флобера, где автор «Словаря
прописных истин» фиксирует ту направленность своего
замысла, в которой он был призван подвести черту под
пустословием эпохи: «Надо постараться, чтобы во всей
книге не было ни единого слова, идущего от меня, и что¬
бы тот, кто ее прочтет, уже не решался и рта раскрыть из
страха, как бы не сказать нечаянно одну из перечислен¬
ных в ней фраз»152. Однако надлежит пойти дальше и по¬
пытаться понять, что замысел «Словаря прописных истин»
был настолько радикален, что в сущности своей, точнее, в
генезисе своем не давал раскрыть рта самому автору это¬
го неосуществленного творения, в котором посредством
воспроизведения «чужих слов» ставилась под вопрос сама
возможность сказать свое собственное слово: зачарован-
ность писателя «прописными истинами» обернулась твор¬
ческим бесплодием, на которое обрек себя Флобер в лице
двух своих двойников—Бувара и Пекюше.
Вместе с тем в оценке этого замысла, со всеми его воз¬
можными последствиями для онтологии литературы, не
стоит недооценивать конкретных исторических факторов,
связанных не только с лексикографической манией эпохи,
словно задавшейся целью все описать, всему дать свое имя,
подобрать каждой вещи свое слово, а главное—иметь свое
окончательное мнение по каждому вопросу, но и с торже¬
ством самого духа демократии, задурившего в то время
151 «Extraits de la préface de R. Queneau», in: G. Flaubert, Bouvard et Pécu¬
chet, 45.
152 C. H. Зенкин, Работы по французской литературе (Екатеринбург,
Изд-во Урал, ун-та, 1999) 35. Уточненный перевод: «Следовало бы,
чтобы на протяжении всей книги не было ни одного слова моего раз¬
лива и всякий, кто прочтет книгу, не осмелился бы более и рта рас¬
крыть из страха произнести, не подумав, одну из встреченных в ней
фраз» (G. Flaubert, Correspondance / Choix et présentation de Bernard
Masson (Paris, Gallimard, 1998) 214).
148 I ПАССАЖИ
головы не только таким простакам, как аптекарь Оме или
Бувар и Пеюоше. В «Словаре прописных истин» нет статьи
на слово «демократия», хотя по дефиниции слова «депу¬
тат» можно составить некоторое представление о полити¬
ческой позиции Флобера: «депутат:—Быть им! Вершина
славы! Громить Палату депутатов — не умеют держать се¬
бя. Слишком болтливы. Ничего не делают»153. Кто говорит
в этой словарной статье? С одной стороны, безусловно,
говорит аптекарь Оме, удостоенный в последней строч¬
ке «Госпожи Бовари» ордена Почетного легиона, высше¬
го знака отличия французского политического Олимпа, в
отношении которого «Словарь прописных истин» также
амбивалентно безапелляционен: « — Высмеивать его, но
добиваться.—Когда добьешься, говорить, что не просил».
То же самое, с другой стороны, мог бы сказать и Шарль
Бовари, который после смерти Эммы заделался благопри¬
стойным буржуа, «стал носить белые галстуки, фабрил усы
и по ее примеру подписывал векселя»154. Или же здесь го¬
ворит боваризм как таковой, то есть эта психическая на¬
клонность индивида удваивать свое реальное существо¬
вание в своей воображаемой жизни, которая, усугубляясь
нехваткой самокритики, а также подпитываясь захваты¬
вающими романными иллюзиями, уводит его за пределы
реальности и буквально превращает в раба «прописных
истин» в самом широком смысле этого понятия? А если
так, то до какой меры сам Флобер был захвачен бовариз-
мом, если под конец своей творческой жизни знать ничего
не хотел, кроме этих самых прописных истин?
Радикальность интеллектуального проекта в «Словаре
прописных истин» столь безгранична, что вовлекает в свой
ниспровергающий пафос самого субъекта речи, который
теряется в объективированных обрывках или достопамят¬
ных перлах чужих сознаний. Однако, акцентируя этот аб¬
153 G. Flaubert, Bouvard et Pécuchet, 505.
154 Г. Флобер, Госпожа Бовари. Три повести. Бувар и Пекюше. Лексикон
прописных истин (М., НФ «Пушкинская библиотека»; ACT, 2005) 328.
СЛОВАРЬ ПРОПИСНЫХ ИСТИН | 149
солютно негативистский настрой мысли Флобера, не сле¬
дует упускать из виду его вполне земное, вполне истори¬
ческое происхождение. В самом деле, в одной из первых
формулировок замысла своего словаря писатель подчерки¬
вал социально-политический, а совсем не онтологическо-
лингвистический характер начинания. В письме к Луизе
Коле, написанном 16 декабря 1852 года, находится наибо¬
лее развернутый набросок этой задумки, что будет сидеть
в сознании писателя почти тридцать лет:
Ты заметила, что я становлюсь моралистом? Не при¬
знак ли это старости? Но меня точно несет к высокой
комедии. Порой язык так и зудит разнести в пух и прах
людишек, и когда-нибудь я это сделаю, лет этак через
десять, в каком-нибудь длинном и широкопанорамном
романе; а пока ко мне вернулась одна старая мысль, а
именно замысел «Словаря прописных истин» (знаешь,
что это такое?). Особенно возбуждает меня предисло¬
вие, и из-за манеры, в которой я его задумываю (это
будет целый роман), ни один закон меня не сможет за¬
цепить, хотя атаковать я собираюсь буквально все. Это
будет историческое прославление всего, что люди одо¬
бряют. Я покажу в нем, что правота всегда была за боль¬
шинством, а неправота—за меньшинством. Людей ве¬
ликих я принесу на алтарь придурков, мучеников отдам
в руки палачей, и все это в стиле, отделанном до самого
предела, до фейерверков. Например, для литературы я
установлю, это будет нетрудно, что посредственность,
будучи вещью общедоступной, является единственно
легитимным эталоном, а посему надо гнать прочь вся¬
кого рода оригинальность как нечто опасное, глупое
и т. п. А цель этой апологии человеческой пошлости
во всех ее обличьях, апологии ироничной и насквозь
кричащей, напичканной цитатами, доказательствами
(которые будут доказывать ровно обратное) и ужасаю¬
щими текстами (это будет нетрудно), в том, чтобы раз
и навсегда покончить со всякой эксцентричностью,
какой бы она ни была. Я углублюсь тем самым в но¬
вейшую демократическую идею равенства, в эту мысль
Фурье, что великие люди станут бесполезны; именно с
этой целью, скажу я, и написана эта книга. В ней можно
150 | ПАССАЖИ
будет обнаружить в алфавитном порядке и по любому
возможному поводу все, что надлежит говорить на лю¬
дях, чтобы быть премилым и любезным человеком.
Так, в ней будут:
ХУДОЖНИКИ: все сплошь бескорыстны.
ЛАНГУСТ: самка омара.
ФРАНЦИЯ: нуждается в железной руке для правления.
БОССЮЭ: орел из Mo.
ФЕНЕЛОН: лебедь из Камбре.
НЕГРИТЯНКИ: горячее белых женщин.
ВОЗДВИЖЕНИЕ (ЭРЕКЦИЯ): говорится только о па¬
мятниках и т. д.
Думается, что в целом все получится превосходным,
будто из олова155.
Далее следует процитированная выше фраза, после ко¬
торой замысел уточняется по части планируемых статей,
большая часть которых имеет ярко выраженный социаль¬
но-политический характер:
Впрочем, некоторые из статей могут дать повод к вос¬
хитительным рассуждениям, например: МУЖЧИНА,
ЖЕНЩИНА, ДРУГ, ПОЛИТИКА, НРАВЫ, МАГИСТРАТ.
Можно было бы также набросать в несколько строк
даже типы и показать не только то, что следует гово¬
рить, но и то, каким следует казаться156.
Обращает на себя внимание зачин этого фрагмента, в
котором отчетливо обнаруживается крайняя рефлексив¬
ность сознания Флобера, составляющая самую броскую
черту его творческого метода. Действительно, во всяком
тексте автора «Госпожи Бовари» необходимо различать
Флобера-творца и Флобера-критика, стараться разглядеть
своего рода заднюю мысль каждого творческого начина¬
ния, некий скрытый, но время от времени пробивающий¬
ся на свет ироничный прищур, с которым Флобер-критик
смотрит на Флобера-писателя, все время одергивая разы¬
гравшееся воображение последнего. В своем письме, об¬
155 G. Flaubert, Correspondance, 213-214.
156 Ibid.
СЛОВАРЬ ПРОПИСНЫХ ИСТИН I 151
ращенном к близкому человеку, Флобер словно бы выстра¬
ивает объективированный, отчужденный образ самого-
себя-писателя, который чуть ли не против воли становится
моралистом и в этом виде впадает в слог высокой коме¬
дии, призванной бичевать прискорбные нравы ближних.
Однако почти сразу комедиограф-обличитель, которому
не писаны никакие законы, дублируется более осторож¬
ным, поистине хитроумным лексикографом, задумавшим
представить по модели сборника нелепиц (sottisier—сбор¬
ник нелепиц, обычно одного автора) тотальную апологию
человеческой глупости.
Не вдаваясь здесь во все перипетии многострадального
замысла157, подчеркнем еще раз, что «книга мщения» роду
человеческому с течением времени превращается в поис¬
тине «безумную книгу», где безумие персонажей до нераз¬
личимости сливается с безумием автора. В одном из писем
октября 1878 года Флобер, рассказывая о своей одержимо¬
сти «Буваром и Пекюше», признается: «В конечном счете
я впадаю в то, что доктор Трела называет „сознательным
помешательством“, или манией, которая может завер¬
шиться ... „законченным безумием или бешенством“»158.
Примечательно, что ссылка на мнение Трела, уже знако¬
мого нам по пиесе Бодлера «Бей Бедных!» светила совре¬
менной французской психиатрии и автора знаменитого
в то время трактата «Сознательное помешательство, из¬
ученное и рассмотренное с точки зрения семьи и обще¬
ства» (1861), не лишена и социально-политического под¬
текста: Трела был видным государственным деятелем,
министром строительства, прославившимся, в частности,
в 1848 году своим революционным, если не сказать без¬
умным, проектом передать орудия производства в руки
рабочих. Словом, Флобер, отдаваясь своему последнему
157 Подробнее об этом: A. Herschberg-Pierrot, Le Dictionnaire des idées
reçues de Haubert (Lille, PUL, 1988); M.-T. Jacquet, Les mots de l’absence,
ou du Dictionnaire des idees reçues de Flaubert (Paris, Nizet, 1987).
158 G. Flaubert, Correspondance, 715-716.
152 | ПАССАЖИ
замыслу в литературе, в определенной мере сознательно
вгонял себя в то самое безумие, которое требовало отчуж¬
дения, изоляции (aliénation), если посмотреть на него с
точки зрения семьи, школы, общества, институтов власти.
Иначе говоря, в последнем романе Флобера самым харак¬
терным образом соединялись лексикографическое (науч¬
ное), медицинское (психиатрическое) и литературное (са-
морефлексивное) сознания эпохи, что в общем и целом от¬
вечало тем странным и опасным перекличкам творчества
и безумия начала—середины XIX века, вдохновенным на¬
броском которых Фуко завершал свою «Историю безумия
в классическую эпоху» (1961):
...Со времен Гёльдерлина и Нерваля число писателей,
художников, музыкантов, «впавших» во мрак безумия,
постоянно множилось, но это не должно ввести нас в
заблуждение; безумие и творчество не приспособились
друг к другу, не наладили взаимосвязь, не нашли обще¬
го языка; их противостояние гораздо более опасно, чем
прежде; их взаимное опровержение не знает пощады;
игра идет не на жизнь, а на смерть159.
«Безумие» «Бодлера»
Важно сознавать, что флер безумия преследует публич¬
ный образ Бодлера с самых первых печатных откликов на
«Цветы Зла». Литературный обозреватель «Фигаро» Гюстав
Бурден, автор первой рецензии на главную книгу Бодлера,
с ходу поставил диагноз, равно как предвосхитил, если не
спровоцировал, позднейший официальный приговор, вы¬
несенный парижским уголовным судом по требованию
прокурора Эрнеста Пинара, незадолго до этого прогре¬
мевшего на весь Париж гневной обвинительной речью в
159 Мишель Фуко, История безумия в классическую эпоху / Пер. И. К. Стаф
(СПб., Рудомино, Университетская книга, 1997) 522-523.
СЛОВАРЬ ПРОПИСНЫХ ИСТИН | 153
адрес «Госпожи Бовари», по счастью оправданной, в отли¬
чие от книги Бодлера. Диагноз г-на Бурдена был не только
категоричен, но и по-судейски красноречив:
Местами вас одолевают сомнения относительно пси¬
хического состояния г-на Бодлера; местами всякие
сомнения пропадают: по большей части перед нами
монотонное и предумышленное повторение одних и
тех же слов, одних и тех же мыслей.—Гнусность идет
там об руку с мерзостью.—Отвратное сочетается с мер¬
зопакостным. Никогда еще столько грудей не было ис¬
кусано за столь малое число страниц; никогда еще мы
не наблюдали подобного стечения всякого рода демо¬
нов, утробных плодов, дьяволов, бледной немочи, ко¬
тов и прочей нечисти.—Книга эта—сущая лечебница,
открытая для всех безумств духа, для всякого гнилья
сердца: ладно бы еще с тем, чтобы исцелить, но ведь
все это неизлечимо160.
Не вдаваясь здесь в биографические и психологиче¬
ские источники этой экзистенциальной и литературной
эксцентричности Бодлера, которые в свое время самым
замечательным образом представил Николай Сазонов,
первый русский рецензент и первый русский перевод¬
чик «Цветов Зла», заметим, что французский поэт дол¬
гое время выстраивал свое существование не столько от
противного, сколько от подобного: если современникам,
сталкивавшимся с экстравагантностью писателя, угодно
было видеть в нем сумасшедшего, то он, не тратя сил на
доказательство обратного, чуть ли не подыгрывал этим
мнениям, суждениям и пересудам окружающих, во всяком
случае не особенно старался их разубеждать. Так или ина¬
че, к началу 1860-х годов «безумие» Бодлера стало почти
«общим местом» французской литературной жизни: оче¬
видно, что, когда Сент-Бёв в своем представлении канди¬
датов во Французскую академию отпустил по поводу ав¬
160 G. Bourdin, [L’odieux у côtoie l’ignoble], in: Baudelaire. Un demi-siècle
de lectures des Fleurs du mal (1855-1905), 160.
154 | ПАССАЖИ
тора «Цветов Зла» весьма сомнительный каламбур «folie
Baudelare», он просто вторил горизонтам ожиданий своих
читателей, то есть законодатель литературного вкуса эпо¬
хи просто-напросто узаконил «безумие» поэта.
В истолковании последних замыслов Бодлера важно не
упускать из виду этого раздвоения поэта, его полураспада
на публичный персонаж—полубезумного в глазах литера¬
турных обывателей автора скандально известных «Цветов
Зла» —и более сокровенную творческую личность, с боль¬
шим трудом продолжающую свой путь в литературе. При
этом важно понимать, что «публичный Бодлер» является
не только изобретением таких доброхотов, как «дядюш¬
ка» Сент-Бёв и иже с ним, но и творением самого поэта,
ломающего перед своими современниками трагикоме¬
дию «безумия». Важно сознавать, что в начале 1860-х го¬
дов, когда Бодлер-писатель совершает трудный переход
к поэтической прозе, в его сознании происходит тяжелая
работа по переоценке собственных литературных и жиз¬
ненных ценностей. Мысль поэта напряжена как никогда
прежде, он предельно внимателен к самому себе, именно
в стихии этой расположенности к беспощадному самоана¬
лизу рождается одно из самых катастрофических прозре¬
ний Бодлера, которое уже приводилось в первой главе:
Как в моральном, так и в физическом плане я всегда ис¬
пытывал ощущение пропасти, не только пропасти сна,
но и пропасти действия, грезы, воспоминания, жела¬
ния, сожаления, раскаяния, прекрасного, числа и т. п.
Я с радостью и ужасом культивировал свою истерию.
[Сегодня]. Тем временем я всегда подвержен смятенью,
и сегодня, 23 января 1862 года, мне было дано необы¬
чайное предупреждение: мне почудилось, что надо
мной прошелестело крыло слабоумия161.
С беспристрастностью врача Бодлер выявляет в себе па¬
губную склонность: он показывает, что его «я» было не
просто подвержено болезненному мировосприятию, оно
161 Ch. Baudelaire, Fusées. Mon cœur mis à nu. La Belgique déshabillée, 85.
СЛОВАРЬ ПРОПИСНЫХ ИСТИН I 155
развивало, культивировало его в себе, пока не получило
грозного предупреждения, что настоящее, а не разыгры¬
ваемое безумие уже не за горами. И если в стихотворении
«Пропасть» рисуется борьба поэтического «я» с чарами не¬
бытия, а в «Фейерверках» «ощущение пропасти» фиксиру¬
ется как топический принцип «поэтического искусства»,
то соответствующий фрагмент собственно автобиографи¬
ческого опыта находится скорее в одном из бельгийских
писем, написанном с целью обрисовать местному врачу
симптомы побеждающего недуга:
Я заметил, что почти всегда приступы случаются на¬
тощак. Они совершенно беспорядочные...
Характер ощущений:
Туман в голове. Удушье. Ужасные головные боли. Тя¬
жесть; прилив крови; полное смятенье. Стоя, я падаю;
сидя, падаю. Все это очень быстро162.
Письмо датировано 20 января 1866 года, то есть оста¬
валось около двух месяцев до того трагического дня сере¬
дины марта, когда Бодлер упал под сводами намюрской
церкви Сен-Лу. Вдумываясь в историю смерти поэта, не¬
возможно отделаться от навязчивого ощущения, будто са¬
мо пространство последнего падения Бодлера облекает его
кончину символической аурой, поскольку после одного из
предшествовавших посещений он сам окрестил церковь
Сен-Лу «грозным и сладостным катафалком»163. При этом
важно не упускать из виду, что церкви и соборы были ед¬
ва ли не единственным местом в Бельгии, соответствовав¬
шим эстетическим пристрастиям автора «Цветов Зла», ко¬
торый неизменно поражался их барочному виду:
Церковь, построенная на различных стилях, являет¬
ся историческим словарем. Это естественные отбро¬
сы истории...
162 Сн. Baudelaire, Correspondance, И, 575.
163 Сн. Baudelaire, Fusées. Mon cœur mis à nu. La Belgique déshabillée,
273.
156 | ПАССАЖИ
Необычайные кафедры, рококо, драматичные испове¬
дальни. Как правило, стиль домашней скульптуры, а в ка¬
федрах стиль игривости.
Кафедры являют собой мир эмблем, помпезная кутерь¬
ма религиозных символов, вырезанная каким-нибудь ис¬
кусным мастером из Малина или Лувена.
Масличные пальмы, быки, орлы, грифоны; Грех, Смерть,
толстощекие ангелы, предметы культа, Адам и Ева, Рас¬
пятие, растительные орнаменты, скалы, занавесы... и т. д.
и т. п.
Как правило, гигантское раскрашенное распятие, под¬
вешенное под сводом над клиром главного нефа (?).
(Я люблю расписную скульптуру).
Все это один мой друг-фотограф и называет Иисус Хри¬
стос в роли воздушного гимнаста164.
Приведенная запись относится, собственно, к фрагмен¬
там книги о Бельгии и представляет собирательный образ
бельгийских церквей, которым поэт думал посвятить один
из разделов своего памфлета. Черновой набросок нагляд¬
но передает внешний характер этих обрывочных, ярких
и скоропалительных суждений, внутренне соответствую¬
щих, однако, жанру «фейерверков», который разрабатыва¬
ется писателем в тесной связи с трудным переходом к по¬
этике прозы. Речь идет о своего рода мышлении вспышка¬
ми, проблесками, позволяющем Бодлеру, с одной стороны,
отвоевывать у темноты и тумана, постепенно застилаю¬
щих его мысль, моменты творческого настроя, а с другой —
схватывать симпатические черты культурно-исторической
реальности, существующей под знаком распада. Мысль по¬
эта прихотливо перескакивает с одного предмета на дру¬
гой, словно бы выхватывает из тьмы объектов культуры
отдельные безделицы и складывает их в каком-то новом
порядке, которому тут же подыскивает имя: то ли «исто¬
рический словарь», то ли «отбросы истории», то ли «ку¬
терьма религиозных символов». Важно почувствовать, что
речь идет здесь именно о методе: мысль Бодлера свобод¬
164 1Ы(1., 264.
СЛОВАРЬ ПРОПИСНЫХ ИСТИН | 157
но переходит с одного дискурсивного регистра на другой,
общее эстетическое суждение сменяется беспорядочным
перечислением, термин из истории искусств соседствует
с яркой метафорой, отстраненное описание заключается
автобиографическим признанием, а весь фрагмент ито¬
жится только на первый взгляд не подготовленной ана¬
логией, в которой Иисус уподобляется фигуре летающего
в пустоте циркового артиста.
Вместе с тем обращает на себя внимание само исполь¬
зование фигуры словаря, которая в мысли Бодлера играет,
конечно же, прямо противоположную роль, чем у лексико¬
графов середины XIX века: если словари Ларусса и Литтре
подтверждают незыблемость настоящего положения ве¬
щей, то для Бодлера словарь становится едва ли не един¬
ственным способом как-то удержать распадающуюся на
его глазах реальность. В этом отношении даже не так важ¬
но, какую роль играли те или иные конкретные словари в
поэтической работе Бодлера165, гораздо важнее, что «сло¬
варь» как некий сверхжанр словесности предоставляет ему
возможность организовать свое поэтическое видение ми¬
ра. Стоит ли напоминать, что в «Соответствиях», ключе¬
вой пиесе «Цветов Зла», мир уподобляется храму (который
аналогичен словарю), а поэтический субъект —переводчи¬
ку, истолковывающему «леса символов»?
«Раздетая Бельгия»
Замысел книги «Раздетая Бельгия» принадлежит к числу
трех грандиозных творческих начинаний Бодлера, зани¬
165 Свидетельства современников по этому вопросу расходятся: одни
считают, что Бодлер ценил словари (без которых, впрочем, он не
мог обойтись в переводах), другие полагают, что из-за неустроенно¬
сти быта, равно как из-за культивируемого презрения к домашнему
очагу, поэт не имел возможности держать в своих постоянно меняю¬
щихся квартирах или случайных гостиничных номерах многотом¬
ные словари. Подробнее см. статью «Словарь» в бодлеровской энци¬
клопедии: С. Pichois, J.-P. Avice, Dictionnaire Baudelaire1158-159.
158 | ПАССАЖИ
мавших его творческое сознание в последние годы жизни:
речь идет об автобиографическом сочинении «Мое обна¬
женное сердце», мысль о котором рождается в столкнове¬
нии с теми стенами непонимания, что продолжали окру¬
жать «Цветы Зла»; философско-эстетическом трактате в
афоризмах «Фейерверки», где поэт собирал по крохам свое
«поэтическое искусство»; философско-политическом пам¬
флете о Бельгии, задуманном в ходе затянувшегося путе¬
шествия в чужие края в 1864-1866 годах, откуда поэту, как
известно, суждено было вернуться лишь в виде разбитого
односторонним параличом и пораженного афазией полу-
человеческого существа, физическое исчезновение кото¬
рого продолжалось более года уже во Франции. В пери¬
петиях существования поэта, всю жизнь скитавшегося из
гостиницы в гостиницу, в пертурбациях его творческого
метода, который определялся в резких переходах от одной
вещи к другой, все три начинания накладывались друг на
друга, переплетались ветвями и ответвлениями единой
мысли Бодлера, который в последние годы жизни пыта¬
ется отчаянно противостоять как окружающей его мате¬
риальной действительности, неуклонно сводившей жизнь
поэта к унизительному положению «люмпен-пролетария»
интеллектуального труда, так и первым ласточкам психи¬
ческого и физического нездоровья.
Как известно, книга о Бельгии осталась ненаписанной,
равно как не были завершены «Мое обнаженное сердце»
и «Фейерверки». Подобно «Мыслям» Паскаля или «Воле
к власти» Ницше, черновики и наброски Бодлера долгое
время оставались окутанными романтическим флёром
предсмертных откровений, который только сгущался из-
за спорных издательских решений, вносивших путаницу в
головы как ценителей, так и хулителей поэта. Словом, зло¬
получные «Дневники», где вперемешку печатались фраг¬
менты из трех незавершенных сочинений поэта, долгое
время жили вполне самостоятельной культурной жизнью,
имевшей при этом весьма сомнительное происхождение.
СЛОВАРЬ ПРОПИСНЫХ ИСТИН | 159
Как уже отмечалось, только в 1986 году во Франции по¬
явилось филологически достоверное издание трех пред¬
смертных начинаний Бодлера, подготовленное старани¬
ями французского литературоведа Андре Гийо166. Это из¬
дание позволяет по-новому взглянуть на замысел книги
о Бельгии, более ста лет пользовавшейся репутацией едва
ли не самого ксенофобского произведения французской
литературы XIX века.
История этого замысла, как она запечатлелась в пись¬
мах Бодлера и те разрозненные записи, заметки, выпи¬
ски и вырезки из современной прессы, которые он соби¬
рал в ходе не прекращавшейся до последнего дня работы,
позволяют составить определенное представление как об
общей направленности незавершенного сочинения, так и
о его сложных связях с фрагментами «Моего обнаженного
сердца» и набросками «Фейерверков». Важно понять, что
замысел книги о Бельгии складывался в этом запальчивом
стремлении поквитаться со своим временем и тем обра¬
зом самого себя, который был пущен временем в обиход.
Бельгия была не более чем удобным предлогом, той за¬
нозой, которую сам в себя всадил Бодлер в своем бегстве
из Франции. В письме к Анселю, написанном 18 февраля
1866 года, он торопился предупредить, что
«Раздетая Бельгия», принимая шутейные формы, будет
во многих отношениях книгой достаточно серьезной...
цель этой сатирической книги —осмеяние всего, что
люди называют прогрессом, а я—язычеством придур¬
ков, и доказательство Божьего правления. Ясно ли?
В этом же письме неприятие Бодлером своего времени
принимает форму яростной диатрибы:
За исключением Шатобриана, Бальзака, Стендаля, Ме-
риме, де Виньи, Флобера, Банвилля, Готье, Леконта де
Лиля, вся современная сволочь внушает мне отвра¬
щение. Ваши академики—отвращение. Ваши либера¬
166 Ch. Baudelaire, Fusées. Mon cœur mis à nu. La Belgique déshabillée.
160 | ПАССАЖИ
лы—отвращение. Достоинство—отвращение. Порок—
отвращение, гладкий стиль—отвращение. Прогресс —
отвращение. Никогда не говорите мне ничего об этих
пустобрехах167.
В тот же день в письме к Эдуард Дантю замысел осве¬
щался с другой стороны:
Такова Бельгия, что вошла сегодня в моду—благода¬
ря французской глупости. Пора сказать всю правду о
Бельгии, равно как и об Америке, еще одном Эльдорадо
всей этой французской сволочи,—и встать на защиту
истинно французского идеала168.
Обращаясь к истории этой книги, важно понять не толь¬
ко то, как складывался ее замысел в рамках индивидуаль¬
ного творческого становления Бодлера, но и то, как он со¬
относится с общими тенденциями литературной эволюции
середины XIX века. В противном случае эти фрагменты
рискуют остаться в том виде, в котором они десятилетия¬
ми фигурировали в культурном сознании,—как плод раз¬
горяченного неприкаянностью, нищетой и нездоровьем
воображения поэта, вымещающего свою озлобленность на
стране, что стала его последним пристанищем. Другими
словами, представляется целесообразным взглянуть на
«Раздетую Бельгию» не только в плане личной истории
Бодлера, который в то время был буквально загнан в угол
и выплескивал свое отчаяние, гнев и злорадство на бед¬
ных (и богатых) бельгийцев, но и в более широком контек¬
сте той реакции на прекраснодушный романтизм первой
половины XIX века, что была связана с отрицанием соб¬
ственно современности. Иначе говоря, в анализе послед¬
них замыслов Бодлера важно не упустить из виду сложные
отношения, объединявшие мысль поэта с той тенденцией
французской интеллектуальной жизни XIX столетия, что
выливалась в опыты радикального переосмысления всей
167 Сн. Baudelaire, Correspondance, II, 611.
168 Ibid.,607.
СЛОВАРЬ ПРОПИСНЫХ ИСТИН | 161
идеологии Просвещения и принимала те или иные формы
контрсовременности, как определяет эту линию француз¬
ской литературы Антуан Компаньон169.
Именно в этом литературно-философском контексте
обнаруживаются удивительные соответствия последнего
замысла Бодлера и «Словаря прописных истин» Флобера.
Эти соответствия прослеживаются не только на уровне
формулировок замысла, но и в плане формальных твор¬
ческих решений, связанных с обращением к жанру слова¬
ря, или, точнее, сборника плоских мыслей, банальностей,
предвзятых мнений, одним словом, «общих мест» куль¬
туры и языка. При этом нельзя не отметить буквальное
совпадение базовой формулы жанра, к которой приходят
оба писателя независимо друг от друга: и тот, и другой
стремятся мыслить «фейерверками», то есть вспышками,
словно бы выхватывающими из темнот бессмыслия или
пустословия счастливое мгновение здравомыслия. Вместе
с тем не стоит забывать, что эти «фейерверки» рождают¬
ся на скользкой грани «прописной истины», перлов мас¬
сового сознания.
Парадокс жанра «прописных истин» заключается в том,
что писатель, коллекционирующий «прописные истины»
культуры, волей-неволей обрекает себя на испытание изъ¬
ясняться не иначе, как прописными истинами. Другими
словами, собиратель прописных истин рискует оказаться
пустословом; во всяком случае, пустословие оказывается
своего рода условием возможности построения содержа¬
тельного высказывания. В этом испытании пустотой язык
способен подвести писателя, дать сбой, обрекая его на пе¬
реливание из пустого в порожнее.
Этот парадокс в отношении Флобера был в предель¬
но жесткой форме изложен Сартром: разбирая замысел
«Словаря прописных истин», философ прямо говорит об
отсутствии всякой истинной мысли в сознании собирате¬
ля «прописных истин»:
169 A. Compagnon, Les antimodemes de Joseph de Maistre à Roland Barthes.
162 | ПАССАЖИ
Флобер никогда не мыслит: защитник «объективизма»
не имеет никакой объективности; это означает, что
он не соблюдает никакой реальной дистанции между
собой и миром; вследствие чего язык является в нем
и вне его в навязчивой материальности. Нет, язык не
теряет своей сущности, каковая в том, чтобы обозна¬
чать, но его значения остаются в словах... Это в неко¬
тором роде иномысль—материальность, по-обезьяньи
копирующая мысль, или, если угодно, мысль, что гоня¬
ется за материей, оставаясь при этом в клетке самой
материи. Язык, организуясь внутри писателя согласно
логике собственных связей, крадет у Флобера мысль...
и заражает его этими псевдомыслями, каковыми явля¬
ются «прописные идеи» и каковые никому не принад¬
лежат, поскольку, согласно Гюставу, они сидят в каждом
из Других.... На этом уровне Гюстав не верит, что люди
говорят: он думает, что людьми говорят...170
Я прерываю цитату из Сартра, поскольку ее продол¬
жение затянуло бы нас в нескончаемую полемику отно¬
сительно сартровской концепции языка, каковая в сущ¬
ности своей остается радикально контрпоэтической. Тем
не менее Сартр верно передает характер угрозы, подсте¬
регающей собирателя прописных истин и общих мест.
Действительно, в «Словаре прописных истин» едкая са¬
тира на «общие места» современного французского обще¬
ства представляется в поразительной смеси предельной
объективности и предельной субъективности, где объект
критики заключает в себе самого субъекта критики, где
в драме мелкобуржуазного сознания, защищающегося от
реальности языком «прописных истин», главным действу¬
ющим лицом выступает не кто иной, как буржуазный пи¬
сатель, завороженный властью «общих мест», где челове¬
ческая глупость не столько активно отрицается, сколько
пассивно утверждается в самых материальных формах
языка, каковыми являются «общие места».
170 Jean-Paul Sartre, L’Idiot de la famille. Gustave Flaubert de 1821 ä 1857,
1.1 (Paris, Gallimard, 1971) 623.
СЛОВАРЬ ПРОПИСНЫХ ИСТИН | 163
Возьмем, к примеру флоберовскую прописную истину
в отношении своего времени и современности: «ЭПОХА:
Наша. Громить ее. Жаловаться, что непоэтична. Называть
переходной, эпохой декаданса»171. Вновь мы не можем
уклониться от этого вопроса: а кто выступает субъектом
высказывания? Господин Прюдом, аптекарь Оме, Шарль
Бовари или Гюстав Флобер? Последнее отнюдь не исклю¬
чается, если вспомнить те диатрибы, которыми периоди¬
чески разражался Флобер, громя свою эпоху, жалуясь на
ее непоэтичность, буквально оплевывая своих современ¬
ников, мешая их с грязью и отождествляя с этими гряду¬
щими искателями человеческой премудрости —глупца¬
ми Буваром и Пекюше, в которых вкладывал всего себя.
Словом, изобличитель всечеловеческой глупости должен
быть либо сверхчеловеком, либо глупцом. Неудивительно
поэтому, что Флобер собирался смиренно приписать ав¬
торство «Словаря прописных истин» Бувару и Пекюше.
Нам важно было подчеркнуть, какого рода угроза на¬
висает над писателем, сталкивающимся с необходимо¬
стью осмысления «общих мест» и «прописных истин».
Представляется, что именно эта угроза, этот риск мыслить
на скользкой грани тривиальности и оригинальности об¬
разует своего рода «избирательное сродство» последних
замыслов Бодлера и Флобера, это странное сообщество
мысли, в котором два писателя, современники, сверстни¬
ки, зная и не зная друг друга, сообща и порознь бились над
загадкой «общих мест».
Бодлер:
Будь всегда поэтом, даже в прозе. Высокий стиль (Нет
ничего прекраснее, общего места)172.
Создать штамп, вот в чем гениальность.
Я должен создать штамп173.
171 G. Flaubert, Bouvard et Pécuchet, 513.
172 Ch. Baudelaire, Fusées. Mon cœur mis à nu. La Belgique déshabillé,
131. Из «Прециозных заметок», относящихся к разделу «Гигиена.
Поведение. Метод. Мораль» в посмертных фрагментах.
173 Ibid., 79. Из «Фейерверков».
164 I ПАССАЖИ
He удивляйтесь посему, что банальность живопис¬
ца натолкнула писателя на общее место. Впрочем ...
существует ли ... нечто более очаровательное, нечто
более плодотворное и нечто более позитивно возбуж¬
дающее, чем общее место?174
Наконец, если обратиться к отзыву Бодлера на «Госпожу
Бовари», то мы найдем там развернутую похвалу поэтике
общего места, через которую автор «Цветов Зла» объясня¬
ет роман своего собрата по перу. Всего несколько строк,
в которых Бодлер проницательно схватывает ситуацию
постромантического писателя и представляет своего ро¬
да манифест в защиту тривиальности в искусстве:
Будем же вульгарными в выборе сюжета, поскольку вы¬
бор сюжета слишком величественного показался бы чи¬
тателю XIX века настоящей бесцеремонностью.... Самые
горячие, самые кипучие страсти чувства мы вложим в
самую тривиальную историю. Самые возвышенные, са¬
мые решительные речи будут звучать из уст величайших
глупцов...
Где же эта почва глупости, самая тупоумная среда, где
как в роге изобилия полным-полно самых несуразных
несуразиц и самых нетерпимых придурков?
В провинции.
Кто там будет самыми невыносимыми персонажами?
Людишки, которые знать ничего не знают, кроме сво¬
их жалких присутствий, где они набираются завираль¬
ных идей.
Какова будет самая избитая тема, самая ходовая ситуа¬
ция, самая затасканная шарманка пошлостей?
Супружеская измена175.
Хорошо известно, что Флобер высоко оценил отзыв Бод¬
лера за глубину проникновения «в тайны произведения»176.
174 Сн. Baudelaire, Critique d'art suivi de Critique musicale / Édition établie
par C. Pichois (Paris, Gallimard, 1992) 268-269. Из «Салона 1859 года».
175 Сн. Baudelaire, Œuvres complètes, II, 80.
176 «Lettres à Charles Baudelaire», Études baudelairiennes IV— V (Neuchâtel,
1973) 153.
СЛОВАРЬ ПРОПИСНЫХ ИСТИН I 165
Однако мало кто обращал внимание на то, что Поль Вер¬
лен в своем первом очерке о Бодлере не только по тональ¬
ности, но и по сути повторяет эту похвалу общему месту,
говоря о поэтике «Цветов Зла»:
Как автор выразил это чувство любви, самое велико¬
лепное из общих мест и посему отмеченное всеми воз¬
можными поэтическими формами? Как язычник, по¬
добно Гете, как христианин, подобно Петрарке, или как
дитя, подобно Мюссе? Ничего подобного, и в этом его
самая главная заслуга...
А теперь угодно вам знать, как наш поэт понимает и
выражает опьянение вином, другое общее место, вос¬
петое на все лады от Анакреона до Шолье?..
То же самое и со Смертью, третье общее место и, увы,
самое банальное из всех! То же самое с Парижем, став¬
шим общим местом благодаря Бальзаку, хотя поэты ис¬
пользовали его не так часто, как романисты177.
В свете приведенных цитат становится очевидным, что
поэтика «общего места» образует своего рода место встре¬
чи тех писателей середины XIX века, которые если и не от¬
рицают вовсе романтического поиска оригинальности и
новизны, то по меньшей мере стремятся сохранить в нем
особое напряжение в отношении таких категорий класси¬
цистической эстетики, как подражание, повторение, пере¬
ложение.
В этом плане весьма симптоматичной является статья
«Теория общих мест», принадлежащая перу французского
историка и теоретика литературы Фердинанда Брюнетье-
ра: она была опубликована в 1881 году в «Ревю де дё монд»
и актуализирована в 1997 году Антуаном Компаньоном178.
Если Брюнетьер в своей похвале литературной банальности
бросает вызов романтической доктрине оригинальности,
утверждая, что «общее место является условием изобрета-
177 Р. Verlaine, Charles Baudelaire, in: Baudelaire. Un demi-siècle de lectures
des Fleurs du mal (1855-1905), 392-395.
178 A. Compagnon, «Théorie du lieu commun», Cahiers de l’Association
internationale des études françaises, 1997, vol. 49, № 1, 23-37.
166 | ПАССАЖИ
тельности в литературе», то Компаньон расширяет истори¬
ческий контекст поэтики общего места, опираясь в этом на
книгу Жана Палана «Тарбские цветы, или Террор в изящной
словесности», где, как известно, «Спор Древних и Новых»
переносится на почву литературы XX века и принимает
форму противостояния неоклассицизма и сюрреализма.
Возвращаясь к Бодлеру и Флоберу, следует еще раз заме¬
тить, что оба писателя оказываются в предельно парадок¬
сальной ситуации: следуя поэтике общего места, они все
время рискуют соскользнуть в болото банальностей, три¬
виальностей, избитых и прописных истин. Об этой угрозе
бессмыслия писал Сартр, анализируя «Словарь прописных
истин» Флобера. Однако Сартр не видел важного разли¬
чия, сознание которого привносило в опыты Бодлера и
Флобера по-настоящему трагический элемент: речь идет
о различии «общего места» как категории классической
риторики или классицистической поэтики и прописной
истины как категории индивидуального или обществен¬
ного сознания. Если первая, как мы видели, может быть
условием, принципом, причиной литературного творче¬
ства, то вторая является скорее следствием человеческой
способности не мыслить, то есть способности не мыслить
истину, а довольствоваться прописными истинами.
Это различие может показаться очевидным, хотя в са¬
мом его сознании присутствует какая-то неизбывная не¬
ясность, двусмысленность, о которой свидетельствует, на¬
пример, отзыв Флобера об одном поэтическом творении
Луизы Коле:
Ты сосредоточила и изложила в аристократической
форме некую всеобщую историю, которая в основании
своем общедоступна. И в этом для меня истинный знак
силы в литературе. К общему месту прибегают только
глупцы или величайшие творцы. Натуры посредствен¬
ные его избегают, они гоняются за находчивостью, слу¬
чайностью179.
179 С. РишвЕит, Согге5ропс1апсе, 233.
СЛОВАРЬ ПРОПИСНЫХ ИСТИН | 167
Для Флобера, равно как для Бодлера, поэтика «общего ме¬
ста»—это поэтика великих писателей, однако само общее
место остается доступным или даже манящим и для лю¬
дей недалеких, всегда готовых ничтоже сумняшеся вос¬
принять очередное откровение. Для Флобера, равно как
и для Бодлера, прелесть «общего места» заключается не
в готовом литературном решении, которое оно может
предложить, а в решимости начать с «общего места», ко¬
торой требует такого рода поэтика, в поиске и культиви¬
ровании собственной силы, которая требуется от писателя,
принуждающего свою мысль к пассажам из «общих мест».
Напомню запись Бодлера из «Прециозных заметок»: «Будь
всегда поэтом, даже в прозе. Высокий стиль. Нет ничего
прекраснее общего места». Поэт должен быть на высоте
общего места, думает Бодлер, равно как и Флобер, но это
значит, что он должен быть готов в любую минуту низ¬
ринуться в бездну человеческой глупости, кишащей про¬
писными истинами. Это скользкое положение между фи¬
гурой величайшего из творцов и фигурой последнего из
глупцов характерно как для Флобера, почти тридцатиле¬
тие составлявшего свой «Словарь прописных истин», так и
для Бодлера, который в своей книге о Бельгии замахнулся
представить настоящую сумму всечеловеческой глупости,
чтобы в конце концов самому сгинуть в слабоумии.
ПАССАЖ ШЕСТОЙ
НИКОЛАЙ САЗОНОВ —ПЕРВЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
ШАРЛЯ БОДЛЕРА
В феврале 1856 года во второй книжке русского «учено¬
литературного» журнала «Отечественные записки» бы¬
ла опубликована статья с довольно громким названием
«Новейшая поэзия во Франции, в Италии и в Англии»180.
Статья обещала быть началом целой серии подобных опы¬
тов, поскольку подзаголовок гласил: «Письма к редактору
„Отечественных записок“. Письмо первое». Статья была
датирована: «Париж, 30 декабря 1855 г.». Статья вышла в
свет за подписью «Карл Штахель». Это был псевдоним, под
которым скрывался русский вольнодумец Н. И. Сазонов.
Письмо о «новейшей французской поэзии», в кото¬
ром русскому читателю впервые открылись поэзия и имя
Бодлера, было написано в самом конце 1855 года, вышло
из печати в самом начале 1856 года, когда собственно кни¬
га под названием «Цветы Зла» еще не была опубликована,
а некоторые поэтические пиесы, ее составившие, даже не
были написаны. Другими словами, Сазонов оказался пер¬
вым критиком в Европе, признавшим исключительность
180 К. Штахель, «Новейшая поэзия во Франции, в Италии и в Англии»,
Отечественные записки, 1856, № 2, февраль, 1-26.
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 169
литературного дара Бодлера, он же оказался его первым
переводчиком, то есть тот русский перевод стихотворе¬
ния «Утро», который он включил в свою статью, является
первым переводом стихов Бодлера на европейские язы¬
ки. Кроме того, в статье Сазонова-Штахеля был напечатан
по-французски сонет «Флакон» —это первая публикация
данной пиесы «Цветов Зла», прочитанной просвещенны¬
ми читателями Петербурга еще до того, как стихотворение
увидело свет во Франции.
В 2007 году в России вышел очередной том энцикло-
педическо-биографического словаря « Русские писатели.
1800-1917» со статьей о Сазонове181, проливающей новый
свет на те сведения об этом русском спутнике Бодлера,
которые были представлены в 2005 году в нашем этюде
«Об образе Сибири в „Цветах зла“»182. Заметим при этом,
что в русской энциклопедии нет ни слова об отношени¬
ях Сазонова и Бодлера. Добавим, что в том же 2007 году
во Франции, где широко отмечалось 150-летие выхода в
свет «Цветов Зла», вышла в свет критическая антология,
составленная крупнейшим знатоком французской лите¬
ратуры XIX века Андре Гийо, где представлены наиболее
характерные отклики на книгу Бодлера за первые пятьде¬
сят лет критической рецепции, от 1855 до 1905-го, среди
которых посвященный Бодлеру фрагмент статьи Штахеля-
Сазонова занимает почетное второе место183. Ранее ста¬
тья Штахеля обсуждалась в замечательной по охвату ма¬
териала монографии американского слависта Адриана
181 Б. М. Шахматов, «Сазонов H. И.», в кн.: Русские писатели. 1800-1917.
Биографический словарь, т. 5, 292-293. См. там же полную библио¬
графию.
182 С. Фокин, «К образу Сибири в „Цветах зла“», в кн.: Республика сло¬
весности. Франция в мировой интеллектуальной культуре / Отв. ред.
С. H. Зенкин (М., НЛО, 2005) 254-265.
183 A. Guyaux, Baudelaire. Une demi-siècle de lectures des Fleurs du mal
(1855-1905), 149-153. Заметка о Сазонове: 1058-1060. Несколько
раньше Андре Гийо опубликовал статью «Бодлер и Сазонов» в бодле-
ровском ежегоднике: A. Guyaux, «Baudelaire et Sazonov», in: Baude¬
laire toujours: Hommage à Claude Pichois, Année baudelairienne, № 9-10
(Paris, 2007) 143-152.
170 I ПАССАЖИ
Ваннера «Бодлер в России»184. Однако исследователь не
раскрыл псевдонима автора, хотя еще в конце 40-х го¬
дов XX века Жак Крепе указывал в примечании к одному
из писем поэта, что Сазонов печатался под псевдонимом
Карл Штахель185. Имя Сазонова несколько раз мелькает в
критическом издании писем Бодлера в серии «Плеяда»,
подготовленном под руководством Клода Пишуа, самого
авторитетного французского специалиста по творчеству
Бодлера, где, в частности, долгое время фигурировала уже
приводившаяся заметка из автокомментария Банвилля к
«Акробатическим одам», представлявшая русского воль¬
нодумца глазами французской литературной богемы:
Это был настоящий русский барин, обходительный
человек и обворожительный писатель, который в по¬
следние годы своей жизни, проведенные в Париже,
стал другом всех местных остроумцев, коих потчевал
неподражаемыми русскими салатами186.
В завершение этого библиографического обзора следует
еще раз отметить повесть рязанского краеведа А. А. Акуло¬
ва «Рыцарь свободы» (1988), которая на настоящий момент
представляет собой самое полное биографическое иссле¬
дование интеллектуального маршрута русского литерато¬
ра-вольнодумца: построенная на тщательном рассмотре¬
нии огромного корпуса литературных документов и не¬
опубликованных архивных материалов, книга «Рыцарь
свободы» была призвана восстановить доброе имя и ли¬
тературную репутацию Сазонова, изрядно подпорчен¬
ные иными мемуаристами и записными идеологически¬
ми толкователями советской эпохи. Несмотря на отдель¬
ные фактические неточности и натяжки в трактовках не¬
184 A. Wanner, Baudelaire in Russia (Unniversity Press of Florida, 1996).
См. также: A. Wanner, «Le premier regard russe sur Baudelaire et la
publication du Flacon», Bulletin baudelairien, Décembre 1991,43-50.
185 Ch. Baudelaire, Correspondance générale, t. 2 (Paris, Conard, 1947) 17.
186 Ch. Baudelaire, Correspondance, II, 1033.
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 171
которых событий и текстов, а также на существенные ла¬
куны в описании французского контекста литературных
занятий русского вольнодумца, документальная повесть
Акулова по сей день не утратила своей научной ценности.
Во всяком случае именно к этому любовному своду тру¬
дов и дней Сазонова восходит историко-биографическая
канва последнего этюда нашей книги, цель которого в том,
чтобы воссоздать исторические, интеллектуальные и по¬
литические основы духовной близости, что объединила
на несколько лет первого «бегуна образованной России»
и первого «проклятого поэта» Франции. Однако в соответ¬
ствии с общими задачами настоящей монографии, состоя¬
щими в изучении политических мотивов в жизни и твор¬
честве Бодлера, упор в этой главе будет сделан на иссле¬
довании различных фигур и конфигураций образа «лиш¬
него человека», неотступно сопровождавшего умственное
представление Сазонова в мыслях, письмах и сочинениях
его современников, где русский знакомец автора «Цветов
Зла» неизменно являлся в ореоле исключительности, неза¬
урядности и крайней эксцентричности, каковая, как при¬
ходится думать, и стала той главной стихией, в которой
сложилось избирательное сродство двух литературных из¬
гоев своего времени.
Птенец рязанского гнезда
Николай Иванович Сазонов родился 17/29 июня 1815 года
в семье статского советника и состоятельного рязанско¬
го помещика Ивана Васильевича Сазонова; по матери —
Варваре Григорьевне —принадлежал к одной из ветвей
княжеского рода Оболенских187. Если судить по собствен¬
187 Большинство биографических сведений приводится по кн.: А. А. Аку¬
лов, Рыцарь свободы. Помимо этого используется краткое жизне¬
описание Сазонова из статьи Б. Козьмина, предваряющей публика-
172 | ПАССАЖИ
норучному прошению, поданному Сазоновым 14 августа
1831 года в правление императорского Московского уни¬
верситета, в родовом гнезде барчук даром времени не те¬
рял, и его домашнему образованию мог позавидовать вос¬
питанник любой европейской фамилии:
...От роду имею 16 лет, обучался в доме родительском:
Закону Божьему, логике и российской словесности,
арифметике, алгебре и геометрии, истории и геогра¬
фии, языкам—латинскому и немецкому, французско¬
му и английскому. Ныне, желая вступить в число свое¬
коштных студентов физико-математического отделе¬
ния, всепокорнейше прошу ... сделать мне в знаниях
моих надлежащее испытание188.
Об особом политическом настрое, характерном, навер¬
ное, для образа мыслей многих юных дворян тогдашней
России, воспитывавшихся под знаком победоносной вой¬
ны с Наполеоном и трагического выступления декабри¬
стов, свидетельствует один архивный документ—пере¬
писанная рукой Сазонова копия стихотворной повести
«Борский» (1829), принадлежавшей перу популярного в то
время поэта-романтика Андрея Ивановича Подолинского
(1806-1886), где встречаются по-настоящему фатальные
для младого вольнодумца строки:
Под небом чуждым, бледным, странным,
Владимир Борский много дней
Провел, скитаясь как изгнанник,
Вдали от родины своей189.
В Московском университете Сазонов выделялся свои¬
ми недюжинными способностями к учебе, крайней неза¬
висимостью суждений, развитым не по годам чувством
цию подборки текстов Сазонова в томе «Литературного наследства»:
Н. И. Сазонов. Литература и писатели в России. Из литературного
наследства Н. И. Сазонова / Публикация Б. Козьмина, Литературное
наследство, т. 41-42 (М., Наука, 1941) 178-187.
188 А. А. Акулов, Ук. соч., 8.
189 Там же.
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 173
собственного достоинства и афишируемыми притязани¬
ями на превосходство среди однокашников. Один из бу¬
дущих предводителей партии славянофилов Константин
Сергеевич Аксаков (1817-1860), учившийся с рязанским
гением на одном отделении, так отзывался о нем:
Замечательнее других был Сазонов, перешедший из
другого отделения и принадлежавший к кружку Герце¬
на.... Сазонов был человек умный, но фразер и эффек-
тер; он старался со мною сблизиться, желая сделать из
меня прозелита, чего ему, однако, не удалось.... Сазо¬
нов считался первым студентом; я, кажется, вторым...
Сазонов точно был человек очень образованный, очень
много читавший, впрочем преимущественно француз¬
ских писателей; но в особенности он умел ловко держать
себя, умел придавать себе вес. Я помню, случалось, что
не знает того, о чем спрашивает профессор, отвечает,
ошибается, но все это с таким чувством собственного
достоинства, с такой уверенностью в себе, что и про¬
фессору казалось, что Сазонов прекрасно отвечает190.
Эта характеристика любопытна не только тем, что пред¬
ставляет молодого Сазонова глазами московского свер¬
стника, не разделявшего его главных умственных устрем¬
лений, его тяги к западному, французскому складу мысли;
не только тем, что в ней уже подчеркивается определенная
чуждость независимого юноши патриархальному москов¬
скому быту; не только тем, что в ней уже ставится акцент
на некоторой деланности, искусственности, театральности
того образа, в котором являлся Сазонов современникам;
и даже не тем только, что в ней уже сказывается враж¬
дебность, которую умел он возбуждать в окружающих.
Характеристика, данная Сазонову «тяжеловесным и про¬
стым отцом русского славянофильства»191, интересна так¬
же тем, что, описывая облик незаурядного молодого че¬
ловека, русский писатель, известный идеолог русскости и
190 К. С. Аксаков, Воспоминания студентства 1832-1835 годов (СПб.,
1911) 30-33.
191 Д. Рязанов, Карл Маркс и русские люди сороковых годов, 12.
174 | ПАССАЖИ
крупный языковед, словно бы испытывает какую-то линг¬
вистическую неловкость, какое-то неудобство в использо¬
вании русского языка, как если бы сам образ былого това¬
рища по московскому студентству диктовал или нашеп¬
тывал истому славянофилу странные, иностранные, ино¬
родные слова, как если бы только эти слова, прямо заим¬
ствованные из французского языка и подчеркивавшие его
экзистенциальную неуместность в русской речи,—фразер,
эффектер — и могли передать характер этого человека, по¬
стоянно казавшегося чужим и чуждым окружавшим его
людям.
Разумеется, в первой половине XIX века в среде про¬
свещенной русской аристократии французский язык был
родным наречием европейской культуры, вторым или да¬
же первым языком образованных людей России; во вся¬
ком случае было еще довольно далеко до того огульного
отрицания известной русской офранцуженности, одним
из самых ярких симптомов которого стал бессмертный об¬
раз Фомы Опискина, установившего в селе Степанчикове
французский лингвистический террор. Тем примечатель¬
нее выглядит то обстоятельство, что неудовольствие от
крайней степени офранцуженности Сазонова стало, как
нам предстоит убедиться, постоянной чертой его мемуар¬
ных характеристик современниками. Словом, наш рязан¬
ский барич сумел сделать из себя француза еще до отъез¬
да в иные дали.
В Московском университете Сазонов близко сошелся с
Герценом и Огаревым, друзья составили кружок, извест¬
ный среди московского студентства своими прозападны¬
ми настроениями; задумали издавать энциклопедический
журнал, в котором отдел философии истории был отве¬
ден Огареву, Сазонову и Герцену, теории литературы —
Огареву, а статистики—Герцену, Лахтину и Сазонову;
смутно грезили о переустройстве России на принципах
Свободы, Равенства и Братства. В посвященном Сазонову
мемуарном очерке, вошедшем в цикл «Русские тени» из
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 175
«Былого и дум», Герцен так описывал свое сближение с
ним в студенческой аудитории:
Мы вошли в аудиторию с твердой целью в ней осно¬
вать зерно общества по образу и подобию декабристов
и потому искали прозелитов и последователей. Первый
товарищ, ясно понявший нас, был Сазонов; мы нашли
его совсем готовым и тотчас подружились...
Сазонов имел резкие дарования и резкое самолюбие.
Ему было лет восьмнадцать, скорее меньше, но, несмо¬
тря на то, он много занимался и читал все на свете. Над
товарищами он старался брать верх и никого не ставил
на одну доску с собой. Оттого они его больше уважали,
чем любили...
Мы подали друг другу руку и à la lettre пошли про¬
поведовать свободу и борьбу во все четыре стороны
нашей молодой «вселенной», как четыре диакона, иду¬
щих в светлый праздник с четырьмя Евангелиями в
руках...192
В кружке Герцена было мало реальной противоправ¬
ной деятельности, зато было много умных разговоров,
ночных бдений «до пота мозга» над сочинениями немец¬
ких философов, французских социалистов, русских поэ¬
тов. Политические идеалы конспираторов были довольно
расплывчатыми: конституция, республика, русский дека¬
бризм, французская революция, без эксцессов, впрочем,
якобинства. Наверное, никто лучше самого Сазонова не
описал тех высокопарных порывов прекрасных студен¬
ческих душ, коими жило то далекое умственное брат¬
ство. В превосходной литературно-критической статье
«Александр Герцен», включенной в большую двухчастную
работу «Литература и писатели в России», опубликован¬
ную в марте-мае 1860 года на страницах «La Gazette du
Nord» («Северной газеты»), международного обозрения,
выходившего на французском языке в Женеве и ставив¬
шего своей целью знакомить европейцев с жизнью стран
192 А. И. Герцен, Соч. в 4 т., т. 2, 518.
176 | ПАССАЖИ
Северной Европы, Сазонов оставил необыкновенно живую
картину того времени, тех волнений и тех восторгов:
Все, начиная с нашей одежды, говорило о странном
смешении: зимою мы носили черные бархатные бере¬
ты а 1а Карл Занд и теплые платки трех французских
цветов. На сходках мы декламировали запрещенные
стихи Рылеева, Пушкина и распевали наполеоновские
песенки Беранже вперемежку с антифранцузскими
песнями Анрдта, Уланда и Кернера. Книги, которые мы
читали, были еще того разнообразнее; мы с одинако¬
вым пылом разыскивали редкие еще в то время книги
о французской революции и натурфилософские сочи¬
нения Шеллинга и Окена. Все, начиная с мистических
измышлений Якоба Бёме и кончая «Ямбами» г. Барбье
и «Шагреневой кожей» Бальзака, все волновало, захва¬
тывало и приводило нас в восторг...193
Как известно, юношеские восторги были развеяны по¬
сле ареста в июле 1834 года Герцена и некоторых других
членов кружка, опасность которого была несколько раз¬
дута царской полицией и по прошествии многих лет не¬
сколько преувеличена автором «Былого и дум». Строго го¬
воря, незадачливые заговорщики были арестованы даже
не за кружковую деятельность, а за распевание куплетов,
зло высмеивавших царственных особ, на квартире агента
полиции И. П. Скаретки, где была устроена легкомыслен¬
ная дружеская пирушка194.
После распада революционного братства пути Сазонова
и Герцена резко разошлись; последний долго был под след¬
ствием, затем отправлен в ссылку в Вятку, первый скучал
и сибаритствовал в Москве. Тем не менее дружеские от¬
ношения между ними не прерывались, и Сазонов по ме¬
ре своих средств приходил на выручку ссыльному товари¬
щу, то посылая ему редкие книги, то предоставляя фрак,
в котором как-то раз щеголял Герцен в Москве в ожида¬
193 Н. И. Сазонов, Александр Герцен, в кн.: Литературное наследство,
т.41-42,196.
194 А. А. Акулов, Ук. соч., 14.
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 177
нии тайного венчанья с Н. А. Захарьиной. По свидетель¬
ству одной из мемуаристок, даже свадьба Герцена была
сыграна на деньги Сазонова:
Все они были люди безденежные и жили одним жалова¬
ньем. Один Сазонов имел довольно большие средства.
К нему и обратились с просьбой о деньгах. Он охотно
согласился и выдал 400 рублей... 400 рублей оказалось
далеко не достаточно; Сазонов обещал дать больше...
На следующий день... прислал деньги195.
Может показаться, что все эти мелкие детали не до¬
стойны столь пристального внимания в историко-лите¬
ратурном исследовании, посвященном изучению полити¬
ческих мотивов творчества русского писателя, которому
довелось стать первым переводчиком Бодлера на русский
язык и первым переводчиком «Манифеста коммунистиче¬
ской партии» на язык французский. Однако думается, что
они тоже имеют определенное значение для составления
психологического портрета Сазонова, воплотившего всего
через несколько лет тот же тип парижского «люмпен-про¬
летария» литературного труда, к которому принадлежал
автор «Цветов Зла». Во всяком случае все это свидетель¬
ствует о наличии у будущего русского «люмпен-интеллек¬
туала» известной предрасположенности к тому беззабот¬
ному, рассеянному образу жизни, последствия которого
не замедлили сказаться в парижской чужбине и сначала
привели его в долговую тюрьму, а потом не раз заставля¬
ли пускаться во все тяжкие, чтобы раздобыть средства для
проживания.
Между тем, пока продолжались следствие и ссылка Гер¬
цена, Сазонов продолжил образование в университете, ко¬
торый успешно окончил 28 июня 1835 года, получив золо¬
тую медаль и звание кандидата наук по отделению словес¬
ности. Не приходится сомневаться, что перед блестящим
питомцем Московского университета открывалась слав¬
195 Там же, 24.
178 | ПАССАЖИ
ная профессорская стезя, тем более что еще в студенческие
годы он снискал себе известность как ученый пространной
статьей «Об исторических трудах Миллера», написанной в
1833 году в связи с 50-летием со дня смерти великого рус¬
ского историографа и непременного секретаря Российской
Академии наук. На статью, опубликованную недоучив¬
шимся студентом в «Ученых записках Московского уни¬
верситета», последовал отзыв самого Михаила Петровича
Погодина, а впоследствии, в энциклопедии Брокгауза и
Ефрона, она была ошибочно приписана известному про¬
фессору Каченовскому, с которым некогда пикировался
Пушкин и лекции которого слушал Сазонов в Московском
университете196.
Решение об отъезде за границу было совершенно есте¬
ственным выбором для молодого образованного русского
аристократа, желающего повидать свет и мир и не обре¬
мененного в мыслях ни заботами о хлебе насущном, ни
мечтаниями о доходном месте в государственной службе.
Другое дело, что такого рода отъезд был связан с разного
рода бюрократической волокитой, получением специаль¬
ного разрешения, неприятными переговорами с полицей¬
скими чинами. Осенью 1839 года Сазонов, который уже
немного постранствовал по Европе после окончания уни¬
верситета, решил устроиться там более основательно и,
желая избежать лишних проволочек, добился, по всей ви¬
димости не без вмешательства влиятельной родни своей
матушки, места мелкого чиновника в русском посольстве
в Париже, где числился в штате до 1843 года, после чего
вышел в отставку197.
Строго говоря, Сазонов не был политэмигрантом в на¬
стоящем смысле этого слова; он уехал из России вполне
легально, однако отъезд его слишком напоминал бегство
если и не от политических преследований, то по меньшей
мере от пустоты русской политической жизни, от безна¬
196 Б. М. Шахматов, «Сазонов Н. И.», 292.
197 А. А. Акулов, Ук. соч., 28.
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 179
дежности найти применение своим знаниям, силам, та¬
лантам. Герцен в общем верно воссоздал этот момент, ког¬
да в Сазонове вызревает решение оставить Россию:
Сазонов побился, побился в Москве,—скука одолела
его, ничто не звало на труд, на деятельность. Он попро¬
бовал переехать в Петербург—еще хуже; не выдержал
он à la longue и уехал в Париж... Но дела не нашел он
и тут... Объективный интерес науки не был в нем так
силен. Он искал иной деятельности и был готов на вся¬
кий труд,—но на виду, но в быстром приложении его,
в практическом осуществлении и притом при громкой
обстановке; при рукоплесканиях и крике врагов; не на¬
ходя такой работы, он бросился в парижский разгул198.
Прибегая к оценкам личности и различных начинаний
Сазонова из «Былого и дум», следует еще раз напомнить,
что при всей ценности такого рода свидетельств, спас¬
ших от полного исторического забвения того, чьи тру¬
ды и дни не вписались в магистральные линии развития
русской литературы XIX века, многие страницы воспоми¬
наний Герцена продиктованы особого рода злорадством,
в котором сказалась всегдашняя неприязнь кипучего
Искандера к своему былому другу, неизменно казавше¬
муся ему чопорным, манерным и высокомерным аристо¬
кратом. Живописуя человеческие слабости Сазонова, ко¬
торому действительно случалось впадать в беспросветные
русские кутежи; подчеркивая великосветскую спесь свое¬
го приятеля, которому действительно доставляло удоволь¬
ствие ставить себя выше прочих; смакуя подробности всех
его неудач, падений и провалов, которыми действитель¬
но богато европейское существование русского знаком¬
ца Бодлера, Герцен часто теряет чувство меры, сбивает¬
ся на пошлость, на скверный анекдот, подлость которого
лишь усугубляется тем, что зачастую рассказывает его не
очевидец, а ушлый сплетник, подхвативший скандальную
историю из жизни несостоявшегося гения и пересказыва¬
198 А. И. Герцен, Соч. в 4 т., т. 2, 522-523.
180 | ПАССАЖИ
ющий курьез в меру своих литературных способностей и
хорошего вкуса. На эту неприглядную сторону мемуаров
Герцена о Сазонове уже обращали внимание и Д. Б. Ря¬
занов, и А. А. Акулов; оба биографа выявили множество
противоречий, несообразностей и несоответствий в рас¬
сказах Герцена о Сазонове; в их работах раскрыты также
разнообразные личные мотивы глубокой антипатии авто¬
ра «Русских теней» к своему однокашнику—от разночин¬
ного неприятия аристократического великодушия и высо¬
комерия до мелкобуржуазной щепетильности в вопросах
семейной морали. Не говоря уже о том, что, сочиняя свой
опус о Сазонове, Искандер уже бил в колокол, мыслил се¬
бя учителем нового поколения русских революционеров
и стремился преподать всем моральный урок, указуя пер¬
стом праведным, как мелка и ничтожна может быть жизнь
русского праздного человека.
Но фактическая сторона дела еще не все; мемуарная ри¬
торика Герцена, внешне направленная на пользу истори¬
ческой памяти, изнутри нацелена на культурное забвение:
в самом деле, автор-мемуарист будто всерьез задается та¬
кой целью —похоронить Сазонова для истории. Вот поче¬
му он так охотно использует в своих воспоминаниях рас¬
хожий образ «лишнего человека»: мало того, что своего
Бельтова из повести «Кто виноват?», в один миг ставше¬
го очередным образчиком ходульного типа, Герцен стара¬
тельно списывал с Сазонова, погребая тем самым живо¬
го товарища под готовым литературным надгробием, ему
явно хотелось, едва Сазонов скончался, раз и навсегда по¬
хоронить бывшего друга под литературным именем цело¬
го поколения, заслонить живую и неординарную личность
цветистой могильной плитой с велеречивой надписью —
«Здесь покоится лишний человек», приговаривая про себя:
«Там ему и место». Именно эта риторика исторического
забвения говорит во весь голос в уже приводившемся па¬
негирике из четвертого «Письма к будущему другу», где
более чем скромная хвала покойному переплетается с от¬
кровенным литературным наветом:
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 181
Никто не шел за его гробом, никто не был поражен ве¬
стью о его смерти. Печальное существование его, пере¬
брошенное на чужую землю, село как-то незаметно, не
исполнив ни своих надежд, ни ожидания других. Бегун
образованной России, он принадлежал к тем празд¬
ным, лишним людям, которых когда-то поэтизировали
без меры, а теперь побивают каменьями без смысла.
Мне больно за них. Я много знал из них и любил за род¬
ную мне тоску их, которую они не могли пересилить, и
ушли—кто в могилу, кто в чужие края, кто в вино199.
Русский «лишний» в Париже?
Как уже говорилось, Сазонов довольно немало сделал в
своей короткой жизни, в противовес ореолу отчаянного
бездельника, нагнетенному вокруг фигуры былого сотова¬
рища стараниями Герцена-мемуариста. При этом следует
признать, что парижский период его существования оста¬
ется малоизученным; творческое наследие, разбросанное
по ряду известных и полузабытых газет и журналов того
времени, не собрано, не систематизировано, не оценено.
В сущности, уже упоминавшаяся скромная подборка тек¬
стов Сазонова в томе «Литературного наследства», вышед¬
шем в трагическом 1941 году , является на сегодняшний
день единственным весомым вкладом академического
российского литературоведения в дело изучения трудов
и будней русского литератора.
Разумеется, и характер подборки, и направленность
оценок жизни и творчества Сазонова в этой публикации
отвечали идеологическим установкам советского време¬
ни, представляя русского вольнодумца типичным «побеж¬
денным», «потерпевшим» большой литературной исто¬
рии. Более того, в угоду времени в статье Б. Козьмина за¬
нижалось то значение, на которое обращалось внимание
199 А. И. Герцен, Былое и думы, 873-874.
182 | ПАССАЖИ
в первых собственно революционных исследованиях о
Сазонове, принадлежавших перу таких видных историков
русского освободительного движения в связке с историей
русской словесности, как Д. Б. Рязанов и П. Н. Сакулин200:
из их работ следовало, что Сазонов действительно был
первым русским марксистом, что явно противоречило
официальному курсу исторических анналов русского боль¬
шевизма рубежа 1930-1940-х годов, тем более что первый
незадолго до этого был репрессирован.
При оценке парижского или —шире—европейского пе¬
риода творческого существования Сазонова следует учи¬
тывать одну психологическую или даже экзистенциальную
черту его личности, которую сам он выделил в умственном
складе русского мыслителя, чья широкая литературная из¬
вестность и огромное общественное влияние основыва¬
лись на некоем недоразумении и весьма скромным вкла¬
де в текущую русскую словесность. Речь идет о Чаадаеве,
старшем современнике Сазонова, которого он и многие
его товарищи полагали за воплощенную совесть русской
жизни, за саму русскую правду. В статье «Место России на
всемирной выставке», опубликованной во второй книге
альманаха Герцена «Полярная Звезда» (1856), представля¬
ющей собой самое развернутое историософское сочине¬
ние Сазонова, русский писатель, рисуя портрет Чаадаева
на мрачном фоне николаевской России, замечал:
Вот человек, одаренный, конечно, способностями не¬
обыкновенными, умом гениальным, речью свободной
и увлекательной, но не проявивший своих великих и
блестящих качеств нигде, кроме светской жизни; и этот
человек, лишенный богатства, не имеющий чина, не
принадлежавший даже к знатному семейству, делается
одним из важнейших лиц в Москве и потом мало-по-
малу в целой России... В царствование Николая, когда
правду нельзя было ни печатать, ни говорить, ни даже
200 Д. Рязанов, Карл Маркс и русские люди сороковых годов; П. Н. Са¬
кулин, Русская литература и социализм (М., Государственное изда¬
тельство, 1922).
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 183
думать, когда за правду ссылали в Сибирь..., Чаадаев
говорил всегда и о всем правду...201
В другом пассаже о Чаадаеве, вкрапленном в уже ци¬
тировавшуюся работу «Литература и писатели в России»,
Сазонов был более прямолинеен:
Чаадаев, известный широкой публике лишь как автор
письма в несколько страниц... останется тем не менее
в истории умственного развития России.... Из всех рус¬
ских он был наиболее непримиримым отрицателем и
имел редкостное мужество жить сообразно своему об¬
разу жизни202.
Нам еще придется вернуться к сотрудничеству Сазонова
с «Полярной Звездой», сейчас просто заметим, что лите¬
ратурного портретиста Чаадаева явно завораживает сама
личность басманного философа, точнее говоря, бросающе¬
еся в глаза несоответствие между публичным признанием,
общественным влиянием мыслителя и той скромной, если
не ничтожной, лептой, которую он оставил в литератур¬
ной толчее. По-видимому, в глазах Сазонова эта несооб¬
разность вполне компенсировалась известной верностью
мыслителя самому себе. Очень может быть, что и сам он,
подобно Чаадаеву, не придавал большого значения печат¬
ным трудам, во всяком случае явно не стремился стать «ав¬
тором», авторитарным пророком, бить в колокол.
Не менее примечательным здесь является слово «отри¬
цатель», предвосхищающее широкое явление русского ни¬
гилизма на рубеже 1850-1860-х годов: примечательно то,
что в устах Сазонова это слово заряжено скорее позитив¬
ными смыслами, но обозначает уже целое направление
русской мысли, к которому он, похоже, относит и самого
себя. Можно сказать, что через это слово Сазонов опреде¬
201 Н. Сазонов, «Место России на всемирной выставке» (цит. по:
П. Я. Чаадаев, Полн. собр. соч. и избр. письма, т. 2 (М., Наука,
1991) 551-552.)
202 Н. И. Сазонов. Литература и писатели в России, с. 197.
184 | ПАССАЖИ
ляет некий образ мысли, точнее, круг людей, чье суще¬
ствование отличалось прежде всего критическим образом
мысли в отношении доминирующей политики.
В тогдашней России не появилось еще понятия «интел¬
лигенция»; во Франции не было еще собственно интеллек¬
туалов; в середине 1850-х годов, осмысляя тот опыт ин¬
теллектуального противостояния власти, к которому сво¬
дился образ жизни Чаадаева, примеряя тогу московского
обличителя на самого себя, пребывающего то в Париже,
то в Женеве, Сазонов вплотную подходит к формуле того
политического существования, которая в общем характе¬
ризует русских нигилистов и французских интеллектуа¬
лов: и первые, и вторые оказывались «отрицателями» об¬
щепринятых, доминирующих форм политической жизни.
Под конец этого этюда нам еще предстоит убедиться, на¬
сколько глубоко осознавал Сазонов особенность этого но¬
вого социального типа, насколько личным было его вос¬
приятие новых субъектов политической критики, появ¬
ление которых предвосхитил в некотором роде тот удел
«люмпен-интеллектуалов», который он разделял с поэтом
«Цветов Зла».
Так или иначе, но оба пассажа дают основание думать,
что, подобно тому как иные современники Бодлера лепи¬
ли себя с Д. Браммела, Сазонов следовал, насколько это
ему удавалось, идеалу русского европейца Чаадаева: то
же презрение к мнению света, то же неприятие косности
русской жизни, то же равнодушие к чисто литераторским
амбициям, к стремлению оставить свой след на литера¬
турной карте мира. К слову, молодой Сазонов был уди¬
вительно похож на Чаадаева: на фотографии, хранящейся
в московском Литературном музее, мы видим то же тон¬
кое и умное лицо, те же глубокие и пронзительные глаза,
тот же высокий лоб с огромными залысинами, словом, тот
же самый мефистофелевский профиль, который схвачен
на знаменитом портрете Чаадаева кисти Козины (1842-
1845), разве что костюм у русского парижанина был явно
поскромнее чем фрак московского философа.
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 185
Несмотря на то что первые годы парижской жизни Са¬
зонова окутаны завесой исторического забвения или злым
флером воспоминаний Герцена и некоторых других мему¬
аристов, можно полагать, что прекрасное владение фран¬
цузским, английским, немецким и польским языками, раз¬
носторонняя образованность, умение держать и показать
себя в обществе, благоприятствовали тому, что он сумел
не только занять достойное место в нескольких очагах рус¬
ской жизни в Париже 1840-х годов, но и сблизиться с не¬
которыми литературными кругами того времени, прони¬
занными фрондерскими или даже революционными на¬
строениями203. Первым историческим свидетельством не¬
коей известности Сазонова среди русских парижан может
стать пассаж из письма того же Чаадаева к известному рос¬
сийскому общественному деятелю и историку Александру
Ивановичу Тургеневу (1784-1845), направлявшемуся в де¬
кабре 1840 года в Париж и получившему от мыслителя та¬
кое напутствие:
...Есть в Париже русский человек необыкновенного
ума, по имени Сазонову которого, к крайнему моему
удивлению, не знаешь. Он находится в Париже по
препоручению министра государственных имуществ,
следовательно, официальный человек, и ты риску¬
ешь, мой бедный либерал, скомпрометировать себя,
оказывая ему услугу. Найди его и постарайся ему при¬
годиться204.
Очевидно, что Чаадаев, знавший Сазонова по литера¬
турной Москве, хотел составить протекцию своему моло¬
дому товарищу и потому рекомендовал его именитому
историку, знакомство с которым могло придать вес не¬
давнему московскому сибариту в глазах русского обще¬
203 О начале парижской жизни Сазонова см. взвешенный очерк М. Кадо
в его ранней работе об образе России во французской литератур¬
ной жизни, давно вошедшей в золотой фонд французской и миро¬
вой славистики: М. Cadot, La Russie dans la vie intellectuelle française.
1830-1856,31-34.
204 П. Я. Чаадаев, Поли. собр. соч. и писем, т. 2,140.
186 | ПАССАЖИ
ства в Париже. Вместе с тем, иронизируя над либерализ¬
мом Тургенева, Чаадаев подчеркивает, что Сазонов к это¬
му времени состоит в государственной службе, то есть что
он еще не приобрел той скандальной репутации радикала
и революционера, о которой всего лишь через несколько
лет станет известно в высшем обществе Петербурга.
Действительно, пройдет всего лишь несколько лет, и
Сазонов удостоится высочайшего упоминания как мошен¬
ник, строящий козни против России. Как-то раз, уже по¬
сле европейских событий 1848-1849 годов, изрядно обе¬
спокоивших царское правительство, в ответ на предложе¬
ние барона Корфа о возможности обмена книгами между
Публичной библиотекой Петербурга и Парижской библио¬
текой, с тем чтобы русские книги регулярно доставлялись
в Париж, а французские — в российскую столицу, Нико¬
лай I разразился раздраженной тирадой, свидетельство¬
вавшей, что он был в курсе похождений русских беглецов
в Париже:
Да кто же их там станет читать! —возразил государь,—
разве наши изменники и беглецы! Кстати,—продолжал
он,—теперь за границей опять завелись два мошенни¬
ка, которые пишут и интригуют против нас: какой-то
Сазонов и известный Герцен, который, пока ваш Коми¬
тет забрал этих господ в ежовы рукавицы, писывал и
здесь под псевдонимом Искандера...205
Очевидно, что Николаю I лучше была известна история
Герцена, поскольку парижским приключениям Искандера
предшествовали арест, громкое судебное разбирательство
и ссылка в российскую глубинку. Касаемо же революцион¬
ной деятельности за пределами отечества, следует пола¬
гать, что отнюдь не Герцен и даже не Бакунин, но имен¬
но Сазонов должен считаться отцом-основателем русской
политической эмиграции в Париже 1840-х годов. В самом
деле, Сазонов обосновался в Париже даже раньше Ивана
205 М. А. Корф, Записки (М., Захаров, 2003) 469.
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 187
Гавриловича Головина (1816-1890), чьи книги о России,
опубликованные на немецком и французском языках, в
частности «Россия при Николае I» (1845), также вызвали вы¬
сочайшее неудовольствие и лишение автора по суду прав
состояния и российского подданства. Как замечает Кадо206,
Сазонов считался «предводителем» русской эмиграции в
знаменитом салоне графини д Агу, где в начале сороковых
годов собирался цвет европейской художественной элиты.
Не чурался он встреч и с менее обеспеченными соотече¬
ственниками, часто наезжавшими тогда в Париж. По воспо¬
минаниям известного литературного критика и обществен¬
ного деятеля Павла Васильевича Анненкова (1813-1887), к
середине 1840-х годов Сазонов и Бакунин составляли душу
русского общества во французской столице:
Когда я прибыл в Париж весной 1846 г., я уже застал там
целую русскую колонию с главными и выдающимися ее
членами, Б. и С.-вым, занятую непрерывным искани¬
ем и обсуждением бытовых, исторических, философ¬
ских и всяких вопросов, какие постоянно возбуждала
общественная жизнь Парижа при либеральном короле
Людовике-Филиппе207.
В русле этого свидетельства находится и пассаж из вос¬
поминаний Авдотьи Яковлевны Головачевой-Панаевой
(1820-1893), проживавшей в Париже осенью 1844 года, ин¬
тересный тем, что в нем, помимо подтверждения извест¬
ности Сазонова в парижских кругах, встречаются уже зна¬
комые нам нотки неприязни, вызываемой его аристокра¬
тическими замашками, нелепость которых, по-видимому,
особенно бросалась в глаза с истощением источников его
доходов:
Дешевый ресторан, куда мы ходили обедать, сделался
сборным пунктом русских путешественников. Часто
206 М. Cadot, La Russie dans la vie intellectuelle française. 1830-1856 (Paris,
Fayard, 1967) 32.
207 П. В. Анненков, Литературные воспоминания и критические ста¬
тьи. Часть третья (СПб., 1881) 154.
188 | ПАССАЖИ
удостаивал являться туда Сазонов, уже четыре года
как поселившийся в Париже. Он корчил себя из себя
аристократа, брюзжал на то, что невозможно обедать в
таком кабаке, сердился на гарсона за то, что тот плохо
сервирует ему обед, заказывал себе всегда самые до¬
рогие блюда. Между Сазоновым и Бакуниным проис¬
ходили горячие споры о французской политике208.
К этому воспоминанию следует присовокупить также
оценки Сазонова, высказанные известными русскими ме¬
муаристками из ближайшего окружения Герцена. Татьяна
Петровна Пасек (1810-1889) так описывает друга юности
своего московского кумира:
Молодой человек с опухшими глазами и выразительным
лицом... одно из тех эксцентричных существований, ко¬
торые были бы исполнены веры, если бы их век имел
верования; неспокойный демон, обитающий в их душе,
ломает и сильно клеймит печатью оригинальности209.
«Корчевской кузине», как называл свою тетю Герцен,
вторит Наталья Алексеевна Огарева-Тучкова, характеризуя
Сазонова как «очень умного, много знающего человека, но
весьма несимпатичного и очень уж офранцуженного»210.
Все эти мемуарные крохи, заботливо собранные Д. Б. Ря¬
зановым, позволяют составить более или менее отчетли¬
вое представление о том, в каком виде являлся или сохра¬
нялся Сазонов в мыслях и памяти своих соотечественни¬
ков. Очевидно, что самыми броскими чертами его облика
были крайняя эксцентричность, афишируемая оригиналь¬
ность или даже отчужденность, особенно раздражавшая
сознание русских путешественников, ненадолго останав¬
ливавшихся в Париже и поражавшихся тому, каким «фран¬
цузом» мог выставлять себя этот птенец дворянского гнез¬
да и питомец Московского университета.
208 Цит. по кн.: Д. Б. Рязанов, Карл Маркс и русские люди сороковых го¬
дов, 8.
209 Там же, 19-20.
210 Там же, 20.
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 189
Однако эти негативные суждения соотечественников
можно, наверное, повернуть иной стороной и посмотреть
на чужеродность Сазонова среди своих как на оборотную
сторону той легкости, с которой он вошел во французские
литературные круги того времени. Выше уже упоминались
те пассажи, в которых запечатлелось явление Сазонова в
кругу парижской литературной богемы. Несмотря на то
что и стихотворение «Надар», где «русский барин» изоб¬
ражен в одной компании с ключевой фигурой француз¬
ской разночинной богемы Мюрже, и автокомментарий к
нему Банвилля относятся к более позднему периоду, есть
основания полагать, что сближение Сазонова с писателя¬
ми круга Бодлера произошло несколько раньше, а именно
в вихре революционных событий 1848 года, когда Сазонов
сумел заявить о себе как яркий публицист и зачинщик се¬
рии радикальных революционных демаршей, стоивших
ему высылки из Франции к концу 1849 года.
Как уже говорилось, творческое наследие Сазонова оста¬
ется несобранным, разбросанным по целому ряду фран¬
цузских и европейских изданий той поры, само существо¬
вание которых зачастую оказывалось весьма непродолжи¬
тельным в силу политических или финансовых причин.
Тем не менее даже поверхностный обзор журналов или
газет, с которыми он сотрудничал в то время, позволяет
предполагать, что Сазонов отнюдь не был «лишним» в ли¬
тературных и политических баталиях, развертывавшихся
в Париже в 1848 года и последующие годы.
Герцен весьма скептически описывает этот период жиз¬
ни своего былого друга. Но даже в его крайне недоброже¬
лательном и до скандальности неточном рассказе размах
и разброс деятельности праздного дилетанта выглядит
весьма внушительно:
Еще летом 1848 года завел Сазонов международный
клуб. Туда он привел всех своих Тардифов. С сияющим
лицом ходил в синем фраке по пустой зале. Он открыл
международный клуб речью, обращенной к пяти-ше-
190 I ПАССАЖИ
сти слушателям, в числе которых был и я в роли пу¬
блики, остальная кучка была на платформе в качестве
бюро....
На другой или третий день Сазонов мне прислал эк¬
земпляров тысячу программы открытия клуба,—тем и
кончилось... Когда устроилась «La Tribune des peuples»,
под главным заведованием Мицкевича, Сазонов за¬
нял одно из первых мест в редакции, написал две-три
очень хорошие статьи и замолк; а перед падением
«Трибуны», то есть перед 13 июля 1849 года, был уже
со всеми в ссоре....
В1849 года я предложил Прудону передать иностран¬
ную часть редакции «Voix du Peuple» Сазонову. С его
знанием четырех языков, литературы, политики, исто¬
рии всех европейских народов, с его знанием партий
он мог из этой части журнала сделать чудо для фран¬
цузов. ... Сазонов через месяц передал редакцию Хо-
ецкому и расстался с журналом. «Я Прудона глубоко
уважаю,—писал он мне в Женеву,—но двум таким лич¬
ностям, как его и моя, нет места в одном журнале».
Через год Сазонов пристроился в воскрешенной тог¬
да маццинистами «Реформе». Главной редакцией за¬
ведовал Ламеннэ. И тут не было место двум великим
людям. Сазонов поработал месяца три и бросил «Ре¬
форму». С Прудоном он, по счастью, расстался мирно, с
Ламеннэ—в ссоре. Сазонов обвинил скупого старика в
корыстном употреблении редакционных денег. Ламен¬
нэ, вспомнив привычки клерикальной юности своей,
прибегнул к ultima ratio на Западе и пустил насчет Са¬
зонова вопрос, не агент ли он русского правительства.
В последний раз я Сазонова видел в Швейцарии в
1851 году. Он был выслан из Франции и жил в Жене¬
ве.... Праздная жизнь ему надоела, мучила его, работа
не спорилась, он хватался за все без выдержки, сердил¬
ся и пил. К тому же жизнь мелких тревог, вечной войны
с кредиторами, добывание денег, талант их бросать и
неумение распоряжаться вносили много раздражения
и печальной прозы в ежедневное существование Сазо¬
нова; он и кутил уже невесело, по привычке, а кутить
он некогда был мастер211.
211 А. И. Герцен, Былое и думы, 680-681.
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 191
Более объективные характеристики этого периода жиз¬
ни и творчества Сазонова можно найти в работах Д. Б. Ря¬
занова, П. Н. Сакулина и А. А. Акулова, но для темы нашего
этюда исключительно важным является прежде всего так
или иначе установленное тесное сотрудничество Сазонова
с довольно заметными деятелями французской политиче¬
ской и общественной жизни 1840-х годов, с целым рядом
изданий, игравшими существенную роль на авансцене по¬
литической жизни Франции того времени: с польским по¬
этом и идеологом национально-освободительного движе¬
ния Адамом Мицкевичем (1798-1855) и революционной
газетой «Трибуна народов»; с французским мыслителем
и народным вождем Пьером Жозефом Прудоном (1809-
1865), в период Революции депутатом Учредительного со¬
брания и ярким публицистом, заключенным в 1849 году
в тюрьму за статьи против Луи Бонапарта, и возглавляе¬
мой им газетой «Голос народа»; с наконец, родоначальни¬
ком французского христианского социализма Фелисите-
Робером де Ламеннэ (1805-1872) и изданием итальян¬
ских революционеров «Реформа». Отношениям Сазонова
и Мицкевича посвящена специальная работа212; для нас
же особенно примечательными являются два последних
эпизода, поскольку первый из них возвращает к фигуре
Прудона, представлявшей, как уже мы знаем, стойкое на¬
важдение Бодлера в последние годы его существования;
тогда как второй—работа Сазонова в газете «Реформа» —
приоткрывает завесу над обстановкой, в которой произо¬
шло сближение русского вольнодумца с К. Марксом.
В отношении эпизода сотрудничества Сазонова с Пру¬
доном уместно будет напомнить об одном из самых зага¬
дочных пассажей в биографии Бодлера: о двух его пись¬
мах к Прудону (от 21 и 22 августа 1848 года) и необъясни¬
мом стремлении начинающего поэта лично встретиться с
212 В. Сливовская, Николай Сазонов—сотрудник «Трибуны народов»
Адама Мицкевича (Варшава, 1968); РГАЛИ, ф. 2567, оп. 1, ед. хр. 1316,
л. 45,46.
192 | ПАССАЖИ
одним из вождей французского революционного движе¬
ния. Эта встреча планировалась под предлогом того, что
на Прудона готовится-де покушение и «один страстный и
неизвестный друг» желал бы его предотвратить:
П.-Ж. Прудону
[Париж?] 21 или 22 августа 1848
Вот то, что я должен был вам сказать, и мне кажется,
что это пойдет на пользу дела; ибо либо вы это знаете,
и мой долг все равно вам об этом сказать, либо вы не
знаете, и будет хорошо, что узнаете.
Нам обещают волнения.
Кто их будет разжигать—мы не знаем. Но во время
ближайшей демонстрации, даже антинародной, т. е.
при ближайшем предлоге—вас могут убить.
Это реальный заговор.
Сначала—преднамеренный, смутный, скрытый, что
формировался в отношении вас, как несколько лет на¬
зад высказывались пожелания смерти в отношении
Генриха V. Конечно, не следует желать смерти кого бы
то ни было, но как было бы хорошо, если бы с ним что-
нибудь случилось. Другая формулировка более точна: в
следующий раз,—мы знаем, где он живет,—и постара¬
емся его найти. Мы знаем свое дело.— Вы—козел отпу¬
щения. Это ни в коем случае не преувеличение; я не
могу предоставить вам доказательства. Если бы они у
меня были, то, даже не спрашивая вас, я отправил бы
их в префектуру. Но моя совесть и смекалка превраща¬
ют меня в превосходного шпика во всем, что касается
моих убеждений. Я хочу сказать, что я уверен в том, что
утверждаю, я знаю, что человека, который НАМ осо¬
бенно дорог, подстерегают опасности. До такой степе¬
ни, что если будет попытка, то я, вспоминая различ¬
ные подслушанные разговоры, смогу назвать имена,
настолько ярость неосторожна.
Сегодня я подумал, что вы соблаговолите удостоить
меня ответом. Впрочем, я собрался говорить с вами
лишь о необходимых, на мой взгляд, мерах по улучше¬
нию вашей газеты, например о еженедельном издании,
полном переиздании всех выпусков, и, во-вторых, о
насущной необходимости выпустить огромную афи¬
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 193
шу, подписанную вами, другими представителями и
редакторами вашей газеты, отпечатанную огромным
тиражом и ПРИКАЗЫВАЮЩУЮ народу не поднимать¬
ся. В настоящее время ваше имя гораздо более извест¬
но и имеет гораздо большее влияние, чем вы себе это
представляете. Восстание может начаться как легити¬
мистское, а закончиться как социалистическое, но все
может произойти и наоборот.
Пишущий эти строки абсолютно доверяет вам, так же
как и многие его друзья, которые с закрытыми глазами
пошли бы за вами только ради известных гарантий, ко¬
торые вы им дали.
Итак, с началом волнений, пусть даже самых незна¬
чительных, не оставайтесь дома. Если возможно, ор¬
ганизуйте тайную охрану или потребуйте от полиции,
чтобы она вас защитила. Впрочем, возможно, прави¬
тельство охотно бы согласилось с подобным подарком
от свирепых хищников собственности; так что будет
лучше, если вы постараетесь защитить себя сами.
ШАРЛЬ БОДЛЕР213
Письмо поэта ясно свидетельствует о том, какая смута ца¬
рила летом 1848 года не только на залитых кровью ули¬
цах Парижа, но и в умах иных парижан, разгоряченных
правительственным террором, нещадным августовским
солнцем и пьянящим «вином тряпичников». Для нас важ¬
но, что Бодлер читал газету Прудона, с которой сотрудни¬
чал Сазонов, точнее говоря, для продолжения издания ко¬
торой после запрета 13 июня 1849 года русский сотрудник
Прудона самолично изыскал денежные средства... у того же
Герцена, каковой к тому временем стал фантастически богат
и «согласился дать 24000 фр., но на таких условиях, от кото¬
рых, по его собственным словам, Прудона покоробило»214.
Письмо поэта дает также основания для предположения,
что знакомство Бодлера и Сазонова могло состояться в бес¬
покойном кругу Прудона, с которым, во всяком случае, они
213 Перевод H. Притузовой из тома «Избранных писем» Шарля Бодлера,
который подготовлен к печати в издательстве «Machina».
214 Д. Б. Рязанов, Карл Маркс и русские люди сороковых годов, 27.
194 | ПАССАЖИ
оба общались в ходе революционных волнений в Париже215.
При этом поэт «Цветов Зла» если и был лично знаком с
Прудоном, то скорее шапочно, хотя впоследствии превра¬
тил это знакомство в своего рода персональный миф, в сти¬
хии которого мыслил себя гласом вопиющим Революции,
тогда как русский литератор хорошо знал не только само¬
го народного трибуна, но и его экономические и фило¬
софские труды, правда относился к ним скорее критично,
следуя в этом воззрениям более радикального мыслителя
Революции, которого не стеснялся называть своим «доро¬
гим учителем»,—речь идет о К. Марксе. Так или иначе, но
сама пьянящая атмосфера революционной смуты в Париже
1848 года, в которую с очевидным сладострастием погрузи¬
лись тогда Сазонов и Бодлер, благоприятствовала сближе¬
нию русского литератора-радикала и французского поэта.
Очевидно, что оба хотели стать «иными», оба стремились
стать «нужными», во всяком случае ни тот ни другой не же¬
лали остаться «лишними», не при деле.
Произошла ли встреча Бодлера и Сазонова в редакции
какой-нибудь революционной газеты, которые как грибы
множились и тут же пропадали в растревоженном, слов¬
но улей, Париже, случилась ли она на собрании в каком-
нибудь революционном клубе тех лет, к которым обоих так
тянуло, или же они столкнулись друг с другом в одном из
злачных мест столицы XIX столетия, к числу заядлых лю¬
бителей которых относились и начинающий французский
поэт, и видавший виды русский барин, важно подчерк¬
нуть, что с течением времени революционность и того, и
другого постепенно сходит на нет, оставив в мыслях рез¬
кий вкус к радикализму и аристократическое презрение
к серой демократии. Не менее важно и то, что с момента
краха Революции у обоих обостряется сознание изгойства.
Как уже говорилось, французское правительство высла¬
ло Сазонова из страны под предлогом того, что он вме¬
215 Разумеется, такое предположение требует более основательного под¬
тверждения в дальнейших исследованиях литературных документов
того времени, как опубликованных, так и архивных.
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 195
шивается «во внутренние дела приютившей его страны»
(имелись в виду его статьи в «Réforme»), после чего рус¬
ский критик находит приют в Женеве, наезжая время от
времени в Париж. Тем самым он невольно предвосхищает
бегство Бодлера из Франции, когда добровольный изгнан¬
ник, устроившись на птичьих правах в Брюсселе, начинает
метать громы и молнии против Бельгии, за карикатурным,
омерзительным ликом которой, набрасываемым в черно¬
вых пассажах к «Раздетой Бельгии», легко угадываются са¬
мые пошлые черты «милой Франции».
Итак, в 1850-е годы революционный пыл Сазонова ма-
ло-помалу угасает, хотя время от времени его существова¬
ние освещается вспышками политического радикализма.
После того как по высочайшему повелению на рязанское
имение Сазонова было наложено «запрещение», а само¬
му вольнодумцу было предписано «немедленно вернуть¬
ся в Россию»216, он бесповоротно становится политическим
невозвращенцем; потеряв все источники дохода в России,
Сазонов заметно больше работает, хватаясь за любую воз¬
можность высказать свои воззрения. В годы Крымской
войны его политические позиции в отношении николаев¬
ской России предельно ужесточаются: это обнаруживает¬
ся, с одной стороны, в первой работе Сазонова в герценов-
ской «Вольной русской книгопечатне»—проповеднической
брошюре-прокламации «Родной голос на чужбине. Русским
пленным во Франции» (1854), представляющей собой опыт
популярного сравнительного описания исторических пу¬
тей Европы и России, общественный резонанс которого
ощутимо возрос из-за того, что он был подписан полным
именем мыслителя217; с другой—в напечатанном аноним¬
216 А. А. Акулов, Ук. соч., 28.
217 Н. Я. Эйдельман, Тайные корреспонденты «Полярной звезды» (М.,
Наука, 1966) 33. В ходе обсуждения личности Сазонова на междуна¬
родной конференции «Шарль Бодлер и Вальтер Беньямин: эстетика
и политика» (Санкт-Петербург, 22-23 апреля 2008 г.), где автор этих
строк прочел доклад «Бегун образованной России и проклятый по¬
эт Франции», С. H. Зенкин высказал предположение о том, что автор
прокламации «Родной голос на чужбине» мог фигурировать в одном
196 I ПАССАЖИ
но в Париже памфлете «Правда об императоре Николае.
Интимная история его жизни, писанная одним русским
человеком» (1854), который, безусловно, является одним
из самых значительных произведений русской неподцен¬
зурной печати в Европе того времени, требующим особого
рассмотрения в целом ряду сочинений такого рода, напи¬
санных именитыми русскими европейцами (И. Г. Головин,
В. С. Печерин, А. И. Тургенев). Написанный на блестящем
французском языке, полный остроумных наблюдений и яз¬
вительных зарисовок из жизни высшего общества Москвы
и Петербурга, исключительно беспощадный в отношении
самого императора, показанного в карикатурном, шаржи¬
рованном виде в духе политической сатиры Домье, пам¬
флет Сазонова имеет особое историко-литературное зна¬
чение, поскольку содержит несколько крайне интересных
трактовок отношений Николая I с Пушкиным, Гоголем,
Лермонтовым и юным Полежаевым218.
из «Севастопольских рассказов» (1855) Л. Н. Толстого, выступая сво¬
его рода примиряющей фигурой воюющих сторон: «А вот в кружке
французских офицеров наш молодой кавалерийский офицер так и
рассыпается французским парикмахерским жаргоном. Речь идет о
каком-то comte Sazonoff, que j’ai beaucoup connu, monsieur [графе
Сазонове, которого я хорошо знал, сударь],—говорит французский
офицер с одним эполетом,—c’est un de ces vrais comtes russes, comme
nous les aimons [это один из настоящих русских графов, из тех, ко¬
торых мы любим].—Il у a un Sazonoff que j’ai connu,—говорит кава¬
лерист,—mais il n’est pas comte, a moins que je sache, un petit brun de
votre âge à peu près.—C’est ça, monsieur, c’est lui. Oh, que je voudrais
le voir ce cher comte. Si vous le voyez, je vous pris bien de lui faire mes
compliments. Capitaine Latour [—Я знал одного Сазонова,—говорит
кавалерист,—но он, насколько я знаю, не граф, небольшого роста,
брюнет, приблизительно вашего возраста.—Это так, это он. О, как
я хотел бы видеть этого милого графа. Если вы его увидите, очень
прошу передать ему мой привет. Капитан Латур],—говорит он, кла¬
няясь». Принимая во внимание крайне зыбкую ситуацию Сазонова—
политического невозвращенца, упоминание его имени, если речь
идет действительно о нем, может быть истолковано как акт граж¬
данского мужества со стороны графа Толстого.
218 Лишним свидетельством историко-литературного значения памфле¬
та Сазонова является то, что на русский язык его перевод осущест¬
влен, вероятно, под редакцией знаменитого пушкиниста П. Е. Щего¬
лева, который был между прочим автором интересной работы о том
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 197
Можно сказать, что на середину 1850-х—начало 1860-х
годов приходится расцвет творческой жизни Сазонова,
равно как наиболее тесное его общение с французскими
поэтами круга Бодлера: к этому времени относится явле¬
ние Сазонова в кругу парижской богемы в иронической
оде Банвилля «Надар», тогда же его имя начинает мель¬
кать в письмах Бодлера, тогда же, собственно, он пишет
статью для «Отечественных записок» о новейшей поэзии
во Франции, где знакомит русских читателей со своими
парижскими друзьями-поэтами.
Активное участие Сазонова во французской литератур¬
ной жизни того времени выражается прежде всего в сотруд¬
ничестве с чрезвычайно интересным журналом «Француз¬
ский Атенеум» (LAthénaeum Français), где в течение не¬
скольких месяцев существования этого критического обо¬
зрения французских и европейских книжных новинок,
он опубликовал ряд статей и рецензий, подписанных как
своим именем —Sazonov, так и псевдонимом Карл Шта-
хель (Karl Stahel). В текст отдельных критических этюдов
Сазонов вкраплял свои переводы с русского: «Сказка о
рыбаке и рыбке» и «Три ключа» Пушкина, «Поэт» и «Есть
речи —значенье...» Лермонтова. Речь идет либо о первых
самом «полуповрежденном» Тардифе де Мелло, знакомство с кото¬
рым Герцен вменял в вину Сазонову, но который в действительности
был переводчиком Пушкина на французский язык и страстным про¬
пагандистом русской литературы во Франции. В своей работе, опуб¬
ликованной в 1930 г. в журнале «Звезда», Щеголев впервые процити¬
ровал по-русски следующий пассаж из «интимной истории» Николая:
«Пушкин не посмел обратиться прямо к царю,—пишет Сазонов,—по¬
просил разрешения через одного из министров. Николай сразу от¬
ветил решительным отказом: „На что ему эти бумаги? Они лежат в
архиве нетронутыми с того времени, когда моя бабка приказала по¬
ложить их туда, собственноручно их запечатав. Даже я их не читал.
Пушкин может обойтись без них. Не пожелает ли он извлечь отсюда
скандальный материал в параллель песне «Дон-Жуана», в которой
Байрон обесчестил память моей бабки? Ну, нет!“» Министр точно
передал слова поэту, и поэт, уже освоившийся с деспотическим ха¬
рактером императора, выразил удивление только его эрудиции. „Я не
думал, что он прочел «Дон-Жуана» Байрона“,—сказал Пушкин». Цит.
по прим. Л. Б. Модзалевского к письмам Пушкина: http://pushkin.niv.
ru/pushkin/pisma/modzalevskij/1831 - 1833-35.htm.
198 | ПАССАЖИ
переводах этих поэтических пиес на французский язык,
либо о перепереводах, выполненных в пику первым фран¬
цузским переложениям в духе «красивых и неверных».
Обращает на себя внимание критический отклик Сазонова
на труд Тардифа де Мелло «История умственного развития
Российской империи» (1854), представлявший собой об¬
ширную хрестоматию отрывков из классической русской
словесности, данных в переводах автора и сопровождав¬
шихся биографическими и историческими очерками219.
Не менее примечательным является сотрудничество
Сазонова с уже упоминавшейся «Северной газетой», где
в начале 1860-х годов он опубликовал ряд статей о совре¬
менной русской литературе, политической истории и со¬
временном состоянии Российской империи. К этому вре¬
мени радикализм политических воззрений Сазонова за¬
метно смягчается, он все настойчивее задается вопроса¬
ми о собственном историческом предназначении России,
продиктованными, судя по всему, глубоким пониманием
опыта Европы и стремлением прояснить сходства и раз¬
личия двух духовных цивилизаций.
В этом же ключе написана уже цитировавшаяся статья
«О месте России на всемирной выставке», опубликованная
во второй книге альманаха Герцена и Огарева «Полярная
звезда» (1856). В сущности, это было своего рода упражне¬
ние в «защите и прославлении» сокровенного русского ми¬
ра, остающегося недоступным строго рациональному по¬
ниманию в соответствии с категориями западного, латин¬
ского разума. Этот тютчевский мотив Сазонов предупре¬
дительно подкреплял проницательным рассуждением о
роли славянского перевода Библии в формировании основ
русского образа мысли и духовно-жизненного строя:
Иностранцы, толкующие свысока о варварстве России,
упускают из виду два факта необыкновенной важно¬
сти. То, что у нас был полный перевод Библии, тогда как
219 Подробнее об этом эпизоде см.: А. А. Акулов, Ук. соч., 28.
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 199
подобного не существовало еще ни на одном из ново-
европейских языков; и то, что церковная служба совер¬
шалась в России на родном языке с XI столетия, между
тем как в Германии и в Англии народный язык введен в
употребление только со времен реформации220.
К середине 1850-х годов относится начало сотрудниче¬
ства Сазонова с петербургскими «Отечественными запи¬
сками» и «Санкт-Петербургскими ведомостями», где он в
1856-1857 годах регулярно печатал обзоры литературной,
культурной и общественной жизни Европы, среди которых
по французской части выделяются его отклики на сочине¬
ния Бальзака, Виньи, Гюго, Жорж Санд, Ламартина, Мишле,
Тэна, Тьера, Шанфлери, Флобера, а также удивительная по
точности взгляда и глубине проникновения в предмет ста¬
тья «Новейшие кредитные и финансовые учреждения во
Франции». Почти в то же самое время статьи Сазонова
стали появляться в московских журналах «Наше время» и
«Сын Отечества», где, в частности, был опубликован ано¬
нимный перевод фрагмента из этюда Бодлера об Эдгаре
По, авторство которого следует, вероятно, приписать рус¬
скому товарищу французского поэта. Его тесные сношения
с известным русским литератором В. Р. Зотовым (1821—
1896) заслуживают отдельного упоминания и требуют до¬
сконального специального исследования: судя по всему,
именно через Зотова Сазонов думал укрепиться в литера¬
турном мире покинутого отечества, с тем чтобы подгото¬
вить себе пути возвращения в Россию. В 1857 году Сазонов
подал прошение Александру II о помиловании, получил
разрешение вернуться, но воспользоваться им не смог из-
за беспросветной нищеты и застарелых болезней, загнав¬
ших его в могилу в возрасте 47 лет: 5/17 ноября 1862 го¬
да Николай Иванович Сазонов скончался в небольшом
городке Саконе Женевского кантона. Герцен, откликаясь
на смерть былого товарища, писал: «Сазонов прошел бес-
220 Там же, 179.
200 | ПАССАЖИ
следно, и смерть его так же никто не заметил, как всю его
жизнь. Он умер, не исполнив ни одной надежды из тех, ко¬
торые клали на него его друзья»221. Что просто не соответ¬
ствовало действительности: некрологи на смерть «бегуна
образованной России» были напечатаны в «Отечественных
записках», «Санкт-Петербургских ведомостях», «Северной
пчеле» и «Книжном вестнике»222.
Очевидно, что очерк о Николае Сазонове был необходим
прежде всего, чтобы опровергнуть ту историческую прав¬
ду, носителем которой больше чем на век оказался Герцен
и те, кто поднялся по его колоколу, кто стал—больше чем
на век—победителем большой истории. Представляется,
что теперь, когда минуло почти полтора столетия после
смерти Сазонова, имеется возможность взглянуть на бы¬
лое с точки зрения побежденных большой истории, кото¬
рая вполне успешно складывается как из былей, так и из
небылиц. Книга рязанского краеведа Акулова была первым
решительным шагом, сделанным в современной России,
дабы предоставить слово тому, кто был вычеркнут из исто¬
рии победителей. Если в этюде, представленном здесь, мне
удалось хотя бы на немного продвинуться вперед в этом
предприятии—вернуть труды и дни русского вольнодумца
в поле зрения любознательных читателей, одна из основ¬
ных задач настоящей работы может считаться решенной.
Итак, эксцентричность является, безусловно, главной
характерологической чертой Сазонова, по крайней мере,
именно это хотелось подчеркнуть в представленном очер¬
ке его дней, трудов и утех. Примечательно, что она же как
нельзя более ярко —фейерверками —сказалась в одном из
самых загадочных эпизодов отношений «настоящего рус¬
ского барина» с автором «Манифеста коммунистической
партии».
221 А. И. Герцен, Былое и думы, 673.
222 А. А. Акулов, Ук. соч., 230.
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 201
Чтобы без дальнейших проволочек подойти к самой
сути пассажа, следует сформулировать последний вопрос
настоящей главы, не лишенный, по понятным причинам,
экстравагантности:
Был ли «Русский бог» богом Маркса?
Отношения Сазонова и Маркса были досконально рассмо¬
трены Д. Б. Рязановым в начале XX века на основе изуче¬
ния большого круга литературно-мемуарных источников
и архивных материалов, среди которых первостепенный
интерес представляет ряд писем русского вольнодумца к
основателю научного коммунизма, впервые опубликован¬
ных в работе «Карл Маркс и русские люди сороковых го¬
дов», напечатанной сначала в 1912 году и переизданной
в 1919 году223. В начале века Д. Б. Рязанов принадлежал к
самому сердцу российской социал-демократии, был чле¬
ном Государственной думы, с 1917 года—видный деятель
большевистской партии. По праву считаясь крупнейшим
историком и теоретиком революционного движения в
Европе и России, в 1921-1931 годах Рязанов служил ди¬
ректором известного Института К. Маркса и Ф. Энгельса,
занимавшегося среди прочих научных проблем издани¬
ем полного собрания сочинений немецких мыслителей.
С точки зрения Рязанова, основанной на тщательном рас¬
смотрении всех доступных на то время исторических ис¬
точников, Сазонов действительно был первым русским
марксистом, во всяком случае та степень усвоения русским
дворянином основных положений новой революционной
доктрины, та мера восторженности или даже зачарован¬
ное™ идеями Маркса, которая сказывается во многих пас¬
сажах этой переписки, даже те мелкие разногласия, кото¬
рые в ней обнаруживаются, вполне позволяют занести его
223 Д. Рязанов, Карл Маркс и русские люди сороковых годов.
202 | ПАССАЖИ
в тот самый первый круг «русских аристократов», кото¬
рые, по позднейшим словам немецкого мыслителя, «но¬
сили его на руках». К этим словам Маркса нам еще пред¬
стоит вернуться, а сейчас заметим, что после Рязанова к
рассмотрению отношений Сазонова и Маркса обращал¬
ся такой авторитетный историк русской литературы, как
П. Н. Сакулин, который, скорректировав отдельные суж¬
дения своего предшественника, пришел в общем к тому
же самому выводу: «Как бы то ни было, Н. И. Сазонова, по
крайней мере в известный период его жизни, можно счи¬
тать марксистом»224.
Следует думать, что в кругах просвещенных россий¬
ских революционеров начала XX века ходили легенды об
экзальтированном марксизме аристократа Сазонова, что
подтверждается, в частности, отдельными пассажами био¬
графического романа о Марксе, написанного легендарной
Галиной Серебряковой (1905-1980), одной из самых яр¬
ких фурий русской революции. В этом романе-биографии
Сазонов фигурирует под своим именем, и в одной из сцен
произведения, в ответ на слова юной собеседницы, невер¬
но назвавшей программное сочинение революции «кате¬
хизисом коммунизма», выступает как истый апостол но¬
вого учения:
—Вы ошиблись названием. Это не катехизис, а
«Манифест коммунистической партии». Я не сти¬
хотворец, но считаю сей документ чистейшей, ве¬
ликолепнейшей поэзией. Хотите послушать его
по-французски? Это мой перевод.
И Сазонов принялся читать отрывки из «Мани¬
феста»225.
Сазонов действительно перевел на французский язык
первую часть «Манифеста коммунистической партии», о
чем упоминается в переписке Маркса и Энгельса, но фран¬
224 П. Н. Сакулин, Русская литература и социализм, 273.
225 Г. Серебрякова, «Похищение огня», в кн.: она же, Собр. соч. в 5 т.,
т. 3 (М., Худ. лит., 1968) 249.
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 203
цузского издания тогда не последовало, так как второй со¬
автор перевода не справился со своей задачей:
Сазонов перевел одну половину «Манифеста», а
Дронке обязался перевести вторую. Из-за обыч¬
ной небрежности и лени последнего из всего этого
ничего не вышло226.
В архивах Маркса сохранился ряд документов, под¬
тверждающих его тесное общение с русским вольнодум¬
цем, в частности экземпляр брошюры «Родной голос на
чужбине» и, что особенно важно для нашей темы, не¬
мецкий перевод известного стихотворения князя Петра
Андреевича Вяземского (1792-1878) «Русский бог», выпол¬
ненный для Маркса Сазоновым. Это знаменитое стихотво¬
рение, написанное в 1828 году и долго ходившее в списках,
впервые было опубликовано во второй книге «Полярной
звезды» (1865), где, как мы помним, появилась также про¬
граммная статья Сазонова «О месте России на всемирной
выставке». Особый интерес этого перевода заключается в
некотором его расхождении с каноническим текстом ори¬
гинала. Д. Б. Рязанов, первым обративший внимание на
эту находку, так комментирует сей пассаж:
Вместо «Бог пришельцев, иноземцев, перешедших наш
порог, бог в особенности немцев» сказано в обратном
переводе на русский: «Бог бездомных, бог бродяг,
осаждающих наш порог, бог всяких выброшенных на
чужбину». Сделано ли это смягчение, чтобы пощадить
«немецкий патриотизм» Маркса, или существовал еще
третий вариант (этого стихотворения.—С. Ф.), нам не¬
известный?227
Вопрос, сформулированный Рязановым, представляется
крайне важным: действительно, почему Сазонов, обычно
предельно верный оригиналу в своих переводах, несколь¬
ко изменил тексту Вяземского, по крайней мере, тому ва¬
226 К. Маркс, Ф. Энгельс, Собр. соч., т. 27, 321.
227 Д. Рязанов, Карл Маркс и русские люди сороковых годов, 50.
204 | ПАССАЖИ
рианту, который был напечатан в «Полярной звезде» вме¬
сте с его размышлениями о судьбе России? Чтобы попы¬
таться разгадать эту историческую загадку, приведем не¬
сколько начальных строф из стихотворения Вяземского:
Нужно ль вам истолкованье,
Что такое русский бог?
Вот его вам начертанье,
Сколько я заметить мог.
Бог метелей, бог ухабов,
Бог мучительных дорог,
Станций—тараканьих штабов,
Вот он, вот он, русский бог.
Бог голодных, бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных,
Вот он, вот он, русский бог.
В сатире Вяземского дана крайне неприглядная кар¬
тина русской жизни и русского образа мысли, но также —
известного раболепия перед иностранцами, характерно¬
го для русского сознания, что и выражено в заключитель¬
ной строфе:
Бог бродяжных иноземцев,
К нам зашедших за порог,
Бог в особенности немцев,
Вот он, вот он, русский бог.
Если сравнить текст оригинала с обратным переводом
на русский, представленным Рязановым в своей книге, то
бросается в глаза исчезновение прямого упрека в адрес
«немцев», что историк революционных идей в России
склонен трактовать как стремление Сазонова пощадить
«немецкий патриотизм» Маркса. Не исключая вовсе по¬
добного поворота мысли вольнодумца-эксцентрика, но
помня о том, что щепетильность такого рода противоре¬
чит всему его умственному строю, следует отметить, что
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 205
Сазонов, кандидат Московского университета по отделе¬
нию словесности, отличавшийся необыкновенным языко¬
вым чутьем, мог допустить отход от буквального перевода
по той простой причине, что «немцем» в России называ¬
ли любого чужеземца, не говорившего на русском наре¬
чии и потому считавшегося за «немого». Однако в сво¬
ей неверности Сазонов заходит чуть дальше, и там, где
Вяземский говорит о «Боге бродяжных иноземцев / К нам
зашедших за порог», он предпочитает «Бога бездомных, бо¬
га бродяг, осаждающих наш порог, бога всяких выброшен¬
ных на чужбину». Возможно, это покажется некоторой на¬
тяжкой, но здесь непроизвольно прочитывается если и не
откровение, то своего рода поползновение заброшенного
на чужбину русского аристократа сблизиться через пере¬
вод с другим «бегуном» образованной Европы—с самим
Карлом Марксом, которого он считал своим «дорогим учи¬
телем», но в котором, возможно, ему хотелось видеть так¬
же верного товарища и собрата по уделу вечного изгой¬
ства, по зыбкому, шаткому состоянию иноземца в любой
земле, каковое в конечном счете стало судьбой и прокля¬
тием «настоящего русского барина», некогда потчевавше¬
го в Париже неподражаемыми русскими салатами Бодлера
и его литературную братию. Во всяком случае именно со¬
знание своей «чуждости» в любом краю, сопровождавшее
по жизни и Бодлера, отождествлявшего свой поэтический
удел с «черной Сибирью», и Сазонова, представлявшего¬
ся соотечественникам в образе законченного «француза»,
было, по всей видимости, той зыбкой умственной почвой,
на которой взросло их духовное родство.
Что же до Маркса, то он, несмотря на известную зача-
рованность парижской богемой начала 1840-х годов, явно
сторонился подобных экзистенциальных крайностей, чре¬
ватых падениями и личными катастрофами. В его поздних
суждениях о Сазонове возобладал дух того самого немец¬
кого филистерства, мелкобуржуазного морализаторства,
которое он с таким остервенением разоблачал в ранние
годы в своих современниках и соотечественниках. Но к
206 | ПАССАЖИ
этому добавлялась также известная неприязнь, враждеб¬
ность или даже презрение Маркса к России и русским ре¬
волюционерам, замешенные на сложных отношениях с
Бакуниным, товарищем Сазонова по Парижу 1840-х го¬
дов. Именно эта острая фобия говорит в известном пись¬
ме Маркса к Кугельману от 12 октября 1868 года:
По какой-то иронии судьбы именно русские, на которых
я в течение 25 лет неустанно нападаю не только в немец¬
кой, но и французской, а также английской прессе, всег¬
да были моими «доброжелателями». В 1843-1844 годах
в Париже русские аристократы носили меня на руках.
Мое сочинение против Прудона (1847 г.), а также книга,
вышедшая у Дункера (имеется в виду «К критике по¬
литической экономии».—С. Ф.), нигде не нашли тако¬
го большого сбыта, как в России. И первая чужеземная
нация, которая переводит «Капитал», это—опять-таки
русская. Но этому, конечно, нельзя придавать большого
значения. Русская аристократия в молодые годы учит¬
ся в немецких университетах и в Париже. Она жадно
набрасывается на все самое крайнее, что ей в состоя¬
нии дать Запад. Для нее это—просто тонкое лакомство.
Такое же явление мы встречаем и среди части фран¬
цузской аристократии в XVIII столетии. Как говаривал
тогда Вольтер о своей просветительской деятельности:
«ce n’est pas pour les tailleurs et les bottiers (это не для
портных и не для сапожников)». Все это нисколько не
мешает тем же русским, как только они поступают на
государственную службу, превращаться в негодяев228.
В этой оценке интересно не только абсолютно голословное
утверждение Маркса о том, что «русские аристократы» но¬
сили его на руках; не менее любопытно сопоставление са¬
мого типа русского революционера-аристократа с типом
французского вольнодумца XVIII века: в этом сравнении
Маркс словно бы открещивается от определенной фигу¬
ры революционности, восходящей к веку Просвещения и
французской Революции. Автор «Капитала» как будто вы¬
228 К. Маркс, Ф. Энгельс, Собр. соч. (2-е изд.), т. 25, 321.
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 207
носит здесь обвинительный приговор, изобличая анахро¬
ничность фигуры революционера-аристократа, человека,
порвавшего со своим сословием, с устоями, обычаями и
обыкновениями своего класса ради обновления или даже
ниспровержения существующего социального порядка.
Строго говоря, в лице русских аристократов, вставших на
путь революционных конспираций, Маркс отвергает некий
крайний, предельный тип революционности, который вос¬
ходит, с одной стороны, к таким историческим деятелям
Французской революции, как, например, Филипп Эгалите,
с другой—к бессмертным персонажам Лакло или марки¬
за де Сада. Речь идет, собственно говоря, об аристократах-
либертинцах, философское вольнодумство и сам вольный
образ жизни которых не могли не вызывать раздражения у
основоположника научного коммунизма, пробивавшего се¬
бе пути в науке через нищету и лишения. В этой материали¬
стической, или, если угодно, социально-психологической,
перспективе может стать более понятной реакция плебея
Маркса на революционные искания русских дворян, кото¬
рые, с его точки зрения, просто с жиру бесились, потом
перебесились и стали поступать в государственную служ¬
бу, незамедлительно превращаясь в негодяев.
Завершая этот раздел, заметим, что сам Сазонов вос¬
принимал свою интеллектуальную ситуацию именно в
таком ключе: он мыслил себя человеком европейского
Просвещения, понимая вместе с тем, что удел русского
«лишнего человека» придает этому классическому образу
какую-то совершенно небывалую конфигурацию. В бума¬
гах Сазонова Рязанов обнаружил одну записку, составлен¬
ную русским литератором незадолго до смерти для немец¬
ких товарищей, где он попытался набросать социально¬
психологический портрет этого нового общественного
слоя России, сделав упор на его деклассированное™:
В России образовалась группа людей, число которых
растет с каждым днем. Ни по своим интересам, ни по
своим убеждениям они не принадлежат к определен¬
208 | ПАССАЖИ
ному классу и скорее представляют и защищают со
страстью и энтузиазмом общие тенденции современ¬
ной цивилизации. Это то, что во Франции в XVIII веке
называли АиШагш^раЛе! (партией просвещения) и
что теперь существует только в России229.
Здесь вновь говорит язык—сам язык Сазонова, незави¬
симо от того, что он хотел сказать субъективно, передает
эту коренную неуместность, или социальную эксцентрич¬
ность, новой фигуры политической субъективности, ко¬
торая по прошествии некоторого времени в России будет
называться «интеллигенцией», а во Франции—«интеллек¬
туалами»: он называет ее немецким словом, но утвержда¬
ет при этом, что она восходит скорее к французской по¬
литической культуре, однако теперь распространяется ис¬
ключительно в России. Если к этой экстранациональности
как видовой черте интеллектуала прибавить деклассиро-
ванность и зыбкое материальное положение, то мы вновь
окажемся лицом к лицу с этой фигурой люмпен-богемы,
или люмпен-интеллектуала, условия существования кото¬
рого разделяли Бодлер и Сазонов.
Итак, сближение двух писателей происходило, по-ви-
димому, в этой зыбкой стихии эксцентричности, которая
многократно становилась объектом творческой рефлексии
как со стороны Бодлера, так и со стороны его русского пе¬
реводчика, в чем можно убедиться, перечитав его статью
о новейшей французской поэзии, напечатанную в начале
1856 года в «Отечественных записках», рассмотрением ко¬
торой завершается эта глава и вся книга.
Поэт истинный, поэт парижский
Эксцентричность в статье Сазонова—не только главная ха¬
рактерологическая черта облика французского поэта, осо¬
229 Д. Рязанов, Карл Маркс и русские люди сороковых годов, 55.
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 209
бо выделенная русским критиком, но и основная стилевая
стихия самой статьи, исполненной экстравагантных суж¬
дений, причудливых сопоставлений и затейливых калам¬
буров. Эксцентричен в ней не только персонаж «истинно
парижского поэта», не только литературное сообщество,
внутри которого он изображен, эксцентричен в ней сам
автор, который, вместо того чтобы стремиться дать объек¬
тивный, отстраненный очерк новейшей французской по¬
эзии, самого себя изображает в эпицентре парижской ли¬
тературной жизни, ставит себя то на одну доску с поэтами,
то даже выше их, не один раз подчеркивая, что он с ними
одного круга, что всецело посвящен в замыслы и начина¬
ния этого мимолетного братства, представлять которое он
взялся петербургскому читателю, хотя в самой Франции о
нем мало кому что было известно, за исключением узких
богемных или люмпен-богемных кругов Парижа.
Статья Сазонова довольно пространна; она начинается
с весьма оригинального введения, в котором русский кри¬
тик дает беглый и вместе с тем необыкновенно насыщен¬
ный очерк развития французской поэзии от трубадуров
до Виктора Гюго, непосредственного предшественника и
соперника Бодлера на поэтическом ристалище. Статья на¬
писана в откровенно парадоксальной манере, соединяю¬
щей тягу к эффектным формулировкам с неожиданными
сравнениями, обнаруживающими не только колоссальную
книжную культуру автора, его начитанность в европей¬
ских литературах, но и недюжинную способность эстети¬
ческого суждения и развитый ум. Вот, например, самое
начало статьи:
Сказать о французах, что они не разумеют слов соб¬
ственного своего языка,—покажется странным, однако
же это вполне справедливо. Прошу обратить внимание
на каждое выражение в этой фразе: я не говорю, что
французы не понимают своего языка, напротив, они
понимают его превосходно; но я утверждаю, что сло¬
ва, ими употребляемые, понятны для них только как
210 | ПАССАЖИ
условные знаки мысли, чувств и проч., а не как при¬
рожденные излияния особенностей народного духа230.
Далее следует филологический экскурс в историю фран¬
цузского языка, влияние на него латыни и кельтской куль¬
туры: все это с точки зрения современной романистики
может показаться наивным или малодоказательным, од¬
нако в самом подходе критика обнаруживается своего ро¬
да историзм критического суждения, стремление увязать
литературную эволюцию со становлением национального
языка, более того, с развитием того, что в настоящее время
можно было бы назвать общеевропейской цивилизацией.
Представляя самые начала французской поэтической тра¬
диции, Сазонов пишет:
Когда средневековые сумерки только что начали ре¬
деть при свете «Божественной комедии», во Франции
явилась поэма, которая по богатству содержания, по
меткости стихов, по гуманности чувств, в ней выра¬
женных, нисколько не бесчестит века Данта. Я гово¬
рю о Roman de la Rose, мистико-сатирической эпопее,
которая долгое время была в забвении и теперь даже
недостаточно изучена, но в свое время пользовалась
великой славой и таким влиянием, что через сто лет
после ее появления знаменитый Иоанн Жерсон, канц¬
лер Парижского университета, счел себя обязанным
говорить проповеди против пагубного, по его мнению,
действия поэмы Жана де Менга231.
Свою предысторию «новейшей французской поэзии»,
в которой краткие характеристики отдельных авторов (от
Франсуа Вийона до Теофиля Готье и Альфреда де Мюссе)
перемежаются эстетическими размышлениями о соотно¬
шении поэзии и прозы во французской словесности, о ти¬
пах поэтического лиризма, о французском романтизме и
взаимодействиях литературы и истории, Сазонов заканчи¬
230 К. Штахель, «Новейшая поэзия во Франции, в Италии и в Англии»,
Отечественные записки, 1856, № 2, февраль, 1.
231 Там же, 3.
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 211
вает удивительным по своей прозорливости и своей взве¬
шенности суждением, в котором выражает убеждение, что
настоящий период в становлении поэзии во Франции при¬
зван дать что-то небывалое в области французского поэ¬
тического гения:
Нужно было Франции испытать на себе воздействие
Европы посредством эмиграции, посредством первых
пятнадцати лет текущего столетия и, наконец, вслед¬
ствие примирительной, исторической системы рестав¬
рации, для того чтобы почувствовать недостаток и не¬
обходимость поэзии в ее законной форме232.
Приступая к рассмотрению собственно «новейшей по¬
эзии» во Франции, русский критик вводит важное разли¬
чие между «поэзией современной» и «поэзией новейшей»:
для него Гюго и Ламартин, Сент-Бёв и Альфред де Мюссе,
Леконт де Лиль и Теофиль Готье суть поэты современные,
что значит «принадлежащие истории», то есть «принадле¬
жащие прошлому». Отталкиваясь от современного состо¬
яния французской поэзии, Сазонов обращает внимание
русского читателя на четырех авторов, которых выделя¬
ет в соответствии с предложенной им типологией фран¬
цузского лиризма: для лиризма торжественного, возвы¬
шенного он берет Филоксена Буайе; для лиризма архаи¬
ческого, классицистического—Теодора де Банвилля; для
лиризма страстного, личного—Шарля Бодлера; для лириз¬
ма песенного—Пьера Дюпона. Здесь не место останавли¬
ваться на проблеме релевантности эстетического выбора
Сазонова, на степени совпадения или несовпадения его
видения французской поэзии той картине французской
словесности, которая рисуется в современных историко-
литературных исследованиях или очерках. Перед нами
взгляд современника, то есть реальный эпизод рецеп¬
ции текста, другими словами, фрагмент истории функци¬
онирования текста в современном литературном созна¬
нии. Этот взгляд заведомо субъективен, но он принадле¬
232 Там же, 9.
212 | ПАССАЖИ
жит истории; более того, этот взгляд нескрываемо при¬
страстен, поскольку автор статьи «Новейшая поэзия во
Франции» неоднократно дает понять читателю, что лич¬
но знаком с поэтами, о которых он рассказывает. Но и это
не все: он посвящает русского читателя в еще не осуществ¬
ленные замыслы своих друзей-поэтов, цитирует еще не
опубликованные тексты, он продвигает их, делает им ре¬
кламу, как сказали бы сегодня, принимая тем самым дея¬
тельное участие —как критик—в утверждении этих тек¬
стов и этих авторов в современном литературном поле.
Разумеется, здесь не место характеризовать все четыре
очерка о новейших французских поэтах, представленных
Сазоновым читателям «Отечественных записок». В пер¬
вую очередь нас интересует Бодлер и первый русский пе¬
ревод из Бодлера. Вот почему в дальнейшем мы позволим
себе прибегать к обильному цитированию из того фраг¬
мента статьи русского критика, который непосредственно
посвящен будущему автору «Цветов Зла», представляя по
ходу дела свои комментарии.
Г-н Шарль Бодлер, которого европейская известность
началась весьма недавно публикацией стихов его в
«Revue de Deux mondes», давно уже знаком литера¬
турному Парижу. Лет десять назад начал появляться
в обществе артистов и поэтов молодой человек, почти
ребенок, который обратил на себя внимание привле¬
кательной и вместе оригинальной наружностью, не¬
сколькими стихотворениями, обещавшими талант не¬
обыкновенный. Об этом юноше знали, что он принад¬
лежит к почтенному семейству, что мать его, которая во
втором супружестве была за человеком значительным,
занимает в обществе высокое место и что он, Шарль
Бодлер, восемнадцати лет покинул родительский кров
для того, чтобы предпринять путешествие кругом све¬
та. Он вернулся не из Камчатки и не алеутом, но вывез
из тропических стран понятия об изящном и о красоте,
удивившие парижан, которые доселе привыкли считать
идеалом изящества греческие типы, исправленные и
дополненные их XVII веком ad usum Delphini. Бодлер
говорил им с одушевлением о женщинах черных, ко¬
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 213
фейных, желтых, даже расписанных и о тех, которые
носят серьгу в носу. Парижские литераторы, не любя¬
щие ничему удивляться и скрывающие охотно свои
впечатления под личиной равнодушия и насмешки,
стали уверять самих себя и молодого собрата, что он
не просто передает им виденное и почувствованное, но
что ищет возбудить в них удивление. Бодлер, несмотря
на юность и возвращение из Мадагаскара, или, может
быть, именно поэтому, смекнул, в чем дело, и догадал¬
ся, какую пользу он может извлечь для себя, ободряя и
подтверждая то мнение, что он à tout prix хочет людей
дивить, и стал их дивить на славу.
Конечно, поживши с малайцами, с неграми и с ма-
денассами и возвратившись в Париж, молодой Бодлер,
может быть, нашел, что в некоторых отношениях пари¬
жане диче самых диких, и потому удивление их могло
показаться ему утешительным233.
Этот поразительный пассаж требует одного существен¬
ного пояснения. Как можно убедиться, Камчатка Бодлера
волновала не только Сент-Бёва: еще раньше Сазонов ис¬
пользовал этот образ для характеристики неуместности
поэта во французском культурном поле. Строго говоря,
представляя петербургским читателям Бодлера, Сазонов
прибегает к литературной цитате, которая в памяти и на
слуху у каждого просвещенного русского человека234,—
речь идет о строчке из «Горя от ума»: «В Камчатку сослан
был, вернулся алеутом», которая относилась, как извест¬
но, к знатному русскому денди Ф. И. Толстому (1782-1846),
чьи авантюры были притчей во языцех всего русского об¬
щества. Представляется, что отнюдь не случайно этот об¬
раз всплыл в сознании Сазонова, когда он рисовал пор¬
трет Бодлера для русского читателя: наверняка именно
беспорядочный образ жизни легендарного русского ари¬
стократа, также глядевшегося чужестранцем в своей земле
(прозвище —«Американец»), был той стихией, с которой
Бодлер связывался в его мыслях.
233 Там же, 14.
234 Подмечено П. Р. Заборовым.
214 | ПАССАЖИ
Далее, после этой вступительной интермедии, где иро¬
ния критика не щадит ни юношу Бодлера, ни диких пари¬
жан, Сазонов набрасывает психологический портрет поэ¬
та, в котором броские, чуть шаржированные, но в общем
верные черты поэтической натуры автора «Цветов Зла»
даются на подчеркнуто сниженном фоне литературного
Парижа:
Душа чувствительная до раздражительности, фантазия,
наклонная к чудесному и к странному во всех его фор¬
мах, но ум положительный и характер твердый—все
эти свойства, да к тому же еще невольное одиночество
Бодлера и отсутствие семейной жизни, должны были,
в соединении с резким поэтическим талантом, сделать
из него, среди парижского литературного и артисти¬
ческого мира, лицо в высшей степени оригинальное.
Таким он и сделался действительно. Если бы среда, в
которой он вращался, заключала в себе больше поэти¬
ческих условий, если бы она могла дать обильную пищу
поэтическому гению, то Бодлер развился бы до той вы¬
соты и до той самостоятельности, которой достигают
великие поэты в зените их поприща; но и теперь в
парижском воздухе, неблагоприятном для поэзии, он
умеет отыскивать ее разбросанные частички, вдохнуть
их в себя, и от этого умения, от этого страстного ис¬
кания, происходит тот особенный парижский колорит
в его стихах, какого, может быть, ни один французский
поэт не выказывал так резко235.
Далее Сазонов приводит свой перевод стихотворения
«Утро», к которому мы еще вернемся. В сравнении с очерка¬
ми о других новейших французских поэтах, этюд о Бодлере
выделяется особой задушевностью, дружеской приязнью,
почти родственной нотой, в которой доминирует интона¬
ция старшего брата, слегка журящего младшего, но и ис¬
пытывающего неподдельную гордость за него (Сазонов на
шесть лет старше Бодлера). Вот еще один пассаж, где моло¬
дой поэт вновь предстает на фоне литературного Парижа:
235 Там же, 14-15.
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 215
Когда Бодлера убедили и он сам убедился, что хочет
и должен Париж удивлять, он принялся за это дело
серьезно и последовательно. Без сомнения, сначала у
него был очень разумный расчет: в Париже всякая спе¬
циальность уважается, специальность удивления тоже
вступила в полное обладание всеми правами и при¬
вилегиями других специальностей, и, под этим пред¬
логом, Бодлер мог безнаказанно говорить, делать и вы¬
думывать все то, что ему казалось нужным, полезным
или просто приятным и забавным. Но впоследствии
начатое по расчету обратилось в привычку. ... Впро¬
чем, эта система удивления очень сложная; иногда он
выкажет, в виде парадокса, задушевное свое мнение и
нередко верную заметку литературную или нравствен¬
ную. Я помню, например, как он однажды хотел ошело¬
мить кружок литераторов и артистов, заключив какой-
то разговор сентенцией: красота не красота, если в ней
нет странности! Один славянин, тут случившийся, за¬
метил ему хладнокровно, что это мнение заимствовано
у греков, которые представляли Афродиту косоглазой
и считали в Александре Македонском красотой то, что
у него была шея не совсем прямая и что голова скло¬
нялась на левую сторону. Это невинное замечание тем
более раздосадовало Бодлера, что он никак не мог упо¬
требить своего знаменитого ругательства, состоящего
из соединения трех собственных имен: Phidias, m-me de
Sévigné, M. Cousin. Фидия он не терпит как представи¬
теля строгой правильности греческого искусства; г-жа
Севинье противна ему за легкость ее слога, что он на¬
зывает пляской на канате, а в г. Кузене он ненавидит
профессора, поборника университета, эклектического
философа и чопорного, по его мнению, писателя.
Все эти особенности я рассказываю потому, что Бод¬
лер—поэт истинный и поэт парижский, потому что
в нем одном, может быть, между всеми молодыми
французскими писателями выражается непобедимое
стремление к поэтической оригинальности и незави¬
симости.. . Талант Бодлера, проявившийся по сие время
почти единственно в поэзии лирической, заключается
в прочувствованной, выстраданной глубине содержа¬
ния, в смелости и реальности образов и, наконец, в зна¬
нии средств и свойств языка, чему немало способствует
216 | ПАССАЖИ
тщательное изучение латинских поэтов, из которых он
предпочитает Лукиана и Сенеку236.
Здесь не без сожаления прервем цитату, поскольку по¬
следнее замечание Сазонова, во-первых, возвращает нас
к началу его статьи, а во-вторых, касается самой сути по¬
этического метода Бодлера. Но для начала заметим, что в
рассказе о кружке «артистов и литераторов», которых буд¬
то хотел ошеломить Бодлер, композиция статьи очевидно
усложняется, поскольку под видом случившегося там «сла¬
вянина» Сазонов явно выводит самого себя, ставит себя
как бы в центр «новейшей литературной жизни» Парижа,
что, с одной стороны, призвано, по всей видимости, убе¬
дить главного редактора «Отечественных записок» в до¬
стоверности картин, рисуемых парижским корреспонден¬
том, а с другой стороны, обнаруживает следы своего рода
сговора критика с поэтами: не исключено, что последние,
о которых в самой Франции мало кто что знает толком,
принимали самое деятельное участие в обсуждении ста¬
тьи, сидя за стаканчиком в каком-нибудь парижском кафе
или на каком-нибудь собрании парижских литераторов, а
то и «псевдолитераторов, сходящихся вечером в литера¬
турные диваны послушать, за кружкой пива, как умные
люди говорят между собой»237.
Напомню, что, по мнению русского критика, францу¬
зы «не разумеют слов собственного своего языка», тогда
как Бодлер отличается знанием «средств и свойств язы¬
ка». Иными словами, в представлении Сазонова француз¬
ский поэт оказывается как бы «нездешним», из ряда вон
выходящим, как бы удаленным от центра, иначе говоря,
эксцентричным именно в отношении современной ему
французской культуры. Важнейшим свойством поэтиче¬
ского таланта Бодлера русский критик определяет имен¬
но эксцентричность, употребляя само это слово в тексте
236 Там же, 16-17.
237 Там же, 16.
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 217
статьи. При этом эксцентричность поэта не следует сво¬
дить к показной «системе удивления», которую столь жи¬
вописно обрисовывает Сазонов. Вспомним, что свою ха¬
рактеристику Бодлера он начинает с рассказа о его пу¬
тешествии, откуда начинающий поэт вывез «понятия об
изящном и о красоте, удивившие парижан». Невзирая на
шутливость тона, следует внимательно отнестись к этому
замечанию: дело тут даже не в теме путешествия, которая,
как известно, является сквозной в «Цветах Зла». Дело в не¬
коей экзистенциальной, жизненной, личной мифологеме
французского поэта, который не только в своих стихах,
но в самой своей жизни все время изображал себя путе¬
шественником, хотя в действительности почти всю свою
жизнь оставался в Париже, просто не имея средств куда бы
то ни было выехать. При этом культ путешествия в поэзии
и жизни Бодлера обладает столь завораживающим свой¬
ством, что, например, Марсель Пруст утверждал, полагаясь
на свою память, будто «Бодлер стал Бодлером благодаря
тому, что побывал в Америке»238. Разумеется, ни в какой
Америке Бодлер не бывал, как не бывал ни в Сибири, ни на
Камчатке, однако это «приглашение к путешествию», эту
тягу к странничеству, эту склонность к странности, ино-
странности или ино-бытию действительно следует считать
важнейшим свойством его поэтической натуры.
Эта тяга сказывалась, в частности, в переводах Бодлера,
в особенности в его переводах Эдгара По. Именно эти пе¬
реводы, равно как статьи об американском писателе, бы¬
ли воображаемым путешествием в Америку, своего рода
уходом французского поэта в английский язык, значение
которого трудно переоценить. И не случайно, что Сазонов
обращает внимание русского читателя именно на эту сто¬
рону поэтического призвания Бодлера, отмечая, что пере¬
воды были своего рода предуготовлением поэта к истин¬
ному творению:
238 М. Пруст, «Заметки о загадочном мире Гюстава Моро», в кн.: он же,
Против Сент-Бёва, 163.
218 I ПАССАЖИ
Бодлер, вероятно, пойдет далее и выше, потому что
доселе эксцентричность и капризные пристрастия
останавливали развитие его таланта. Он посвятил не¬
сколько лет на перевод сочинений в стихах и прозе
американского писателя Эдгара По, которые в скором
времени выйдут в свет, в двух томах, под названием:
Необыкновенные сказки. Перевод этот замечателен по
строгой точности и по изяществу языка. Это, кажется,
первый пример во французской литературе полного
перевода сочинений современного писателя, сделан¬
ного равным ему художником, и многими блестящими,
если не глубокими своими достоинствами заслужива¬
ет такую честь; но мы особенно радуемся появлению
этой книги потому, что ее издание даст Бодлеру воз¬
можность употребить свои силы на труд высший, само¬
бытный. Мы надеемся, что его талант воскресит, быть
может, поэзию в драматическом искусстве, из которого
она так давно изгнана, и в этой надежде опираемся на
сообщенный нам самим поэтом план народной драмы
с великолепным спектаклем, которой сюжет заимство¬
ван из легенды о Дон Жуане. Мы не имеем права рас¬
сказать вполне этот план, но можем упомянуть о сцене,
которая поразила нас своей эксцентричностью: это —
знаменитая сцена Дон Жуана со статуей Командора...
Она кончается совсем не так, как в легенде: статуя не
уводит Дон Жуана после ужина, сжав его руку своими
мраморными пальцами, а, напротив, Дон Жуан под¬
паивает ее и слуги относят ее, ослабевшую, с должным
уважением, на мавзолей239.
На этом, собственно, этюд о Бодлере заканчивается, в до¬
вершение его Сазонов приводит по-французски стихотво¬
рение «Флакон» —это первая публикация оригинального
текста, появившегося в русском журнале «Отечественные
записки» еще до выхода во Франции240.
Подытожим сказанное и процитированное: в статье
Сазонова четко вырисовываются четыре фигуры, состав¬
239 Там же, с. 17.
240 Ср. : A. Wanner, «Le premier regard russe sur Baudelaire et la publication
du Flacon», Bulletin baudelairien, décembre 1991,43-50.
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 219
ляющие самобытность Бодлера, все четыре так или иначе
связаны с понятием эксцентричности: во-первых, Бодлер
поверхностно эксцентричен в силу своей потребности и
привычки удивлять парижан («...он исправляет это как
должность; и если уж нечем других дивить, то он обреет
себе голову и нарочно ходит без шляпы»241); во-вторых,
Бодлер внутренне эксцентричен в силу своей тяги к стран¬
ничеству, странностям, иностранности, проявляющейся, в
частности, в страсти к переводам; в-третьих, Бодлер эсте¬
тически эксцентричен в силу совершенно нового поня¬
тия красоты, в котором превалирует наклонность к стран¬
ности, проявляющаяся, в частности, в новой фигуре жен¬
ственности, которая напрямую связана с ощущением без¬
образного (Бодлер говорил «...с одушевлением о женщи¬
нах черных, кофейных, желтых, даже расписанных и о тех,
которые носят серьгу в носу»); в-четвертых, Бодлер экс¬
центричен не только в силу влечения к безобразному, в са¬
мом этом влечении сказывается своего рода реализм, или
натурализм, поэтического восприятия мира, явственно от¬
личающий Бодлера от поэтов романтической школы.
Почти все эти определения находят подтверждение и
в переводе Сазонова, и в замечании, которым он его за¬
ключает:
УТРО
Били зарю на дворах казарм; утренний ветер заду¬
вал фонари. В этот час рой тревожных снов волнует
голову отрока. Лампы, как глаза, налитые кровью,
страшно шевелятся и отбиваются на сером возду¬
хе красными пятнами; душа, под упрямым гнетом
тяжести телесной борется, как день с лампадой.
Как лицо, в слезах осушаемое ветром, воздух полон
трепетанием всего исчезающего. Там и сям домы
начинают дымиться. Бедные работницы с охоло¬
девшими безмолочными грудями раздувают огонь
и дуют в кулаки. В этот час, когда голод и нужда
241 Там же, 17.
220 | ПАССАЖИ
чувствительнее, страдания родильниц жесточе.
Вдали голос петуха раздирает воздух, как стон,
прерванный током крови. Здания тонут в мороз¬
ном тумане. Умирающие в углах больниц издают
последнее дыхание в судорожной икоте. Дрожащая
Аврора в зеленорозовой одежде тихо подвигается
по опустевшей Сене, и мрачный Париж, протирая
глаза, хватается за рабочие орудия—старик трудо¬
любивый.
Все, знающие Париж и вместе с тем любящие истинную
поэзию найдут, без сомнения, в этих строках два ред¬
ких достоинства: оригинальность городского пейзажа
и фотографию парижских сцен.
Здесь не место разбирать достоинства и недостатки пе¬
ревода Сазонова, заметим только, что в этом буквальном
переложении рифмованной поэзии напряженной, буд¬
то прикованной цепью к оригиналу, поэтической прозой
сказались два важных момента, один из которых касается
непосредственно поэзии Бодлера, а другой имеет прямое
отношение к традиции литературного перевода в России.
Сазонов, как переводчик, верно ухватывает некое направ¬
ление, некий настрой поэтического мышления Бодлера,
который можно определить, если не бояться парадоксов,
как де-версификацию и де-поэтизацию поэзии: речь идет
о стремлении автора «Цветов Зла» освободить поэзию, с
одной стороны, от жестких рамок классического сонета, а с
другой—от предписанного формой традиционно «высоко¬
го содержания» поэзии, за счет введения в нее элементов
жесткого, порой грубого реализма. Именно эта тенденция
метода Бодлера столь ошеломила современников, что сра¬
зу после публикации «Цветы Зла» подверглись судебному
преследованию, при этом приговор государственного об¬
винителя Эрнеста Пинара, за полгода до того осудивше¬
го «Госпожу Бовари» Гюстава Флобера, гласил: «Считать
установленным, что заблуждение поэта как в цели, коей
он хотел достичь, так и на пути, коим он к ней следовал, и
каковы бы ни были при том усилия стиля, которые он мог
НИКОЛАЙ САЗОНОВ | 221
предпринять, какова бы ни была хула, что предваряла или
заключала его живописания, не может умалить пагубного
воздействия картин, каковые он представляет читателю
и каковые в инкриминированных пиесах неизбежно ве¬
дут к возбуждению чувств посредством грубого и оскор¬
бительного для чистоты реализма»242. Сама история суда
над «Цветами Зла», защиты, которую устраивал поэт, под¬
бирая видных адвокатов, заручаясь поддержкой влиятель¬
ных особ, тексты и письма, написанные в этой связи, а рав¬
но влияние этого опыта на то, что мы называем, вслед за
французским философом Жаком Рансьером «политикой
поэзии» Бодлера, заслуживают отдельного рассмотрения.
Здесь же подчеркнем, что именно де-версификация и де¬
поэтизация поэзии приведут поэта к прозе, к «малым поэ¬
мам в прозе», как он сам определяет жанр «Парижского
сплина».
Что касается метода перевода Сазонова, то должно при¬
знать, что в нем находит выражение важнейшее положе¬
ние в европейской переводческой традиции, которое за¬
ключается в твердом убеждении в невозможности пере¬
водить стихи стихами. То есть в противовес той тради¬
ции русской словесности, у истоков которой стоят вели¬
чественные фигуры Жуковского, Пушкина и Лермонтова,
с их вольными переводами из современных европейских
поэтов, опыт Сазонова-переводчика говорит нам о том,
что перевод—это не искусство вольности, а упражнение
в верности. Упражнение трудное, часто непосильное, но
именно оно является условием любви, в том числе любви
к слову, филологии.
242 Umt. no: Ch. Baudelaire, Les Fleurs du Mal/ Éd. de Claude Pichois (Paris,
Gallimard, 1972) 246.
СЕРИЯ «КРИТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
Жиль Делез, Ницше
Жорж Батай, Внутренний опыт
Филипп Лаку-Лабарт, Música ficta: Фигуры Вагнера
Морис Бланшо, Мишель Фуко, каким я его себе представляю
Жак Рансьер, Эстетическое бессознательное
Жак Деррида, Работы по философии культуры
Жан-Франсуа Лиотар, Хайдеггер и «евреи»
Эмманюэль Левинас, О Морисе Бланшо
Ален Бадью, Манифест философии
Жан-Клод Мильнер, Констатации
Жиль Делез, Критика и клиника
Ален Бадью, Этика
WWW.MACHINA.SU
С. Л. Фокин
ПАССАЖИ
ЭТЮДЫ О БОДЛЕРЕ
Издатель Андрей Наследников
Лицензия № 01625 от 19 апреля 2000 г.
191186, Санкт-Петербург, а/я 42; e-mail: a@machina.su
Формат 84 х 108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная
Отпечатано в UAB «Petro ofsetas», Вильнюс, LT-09303, ул. Жальгирё, 90
Представительство в России: 191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, 17
Тел.: +7 812 600 80 93; e-mail: zakaz@petroofset.ru
ИЗДАТЕЛЬСТВО «MACHINA» ГОТОВИТ К ПЕЧАТИ
ШАРЛЬ
БОДЛЕР
избранные письма
ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
ПОД РЕДАКЦИЕЙ И С ПРИМЕЧАНИЯМИ
С. Л. ФОКИНА
Переписка Шарля Бодлера — бесценный памятник культуры, сво¬
его рода духовная автобиография, дающая ключ ко многим про¬
изведениям поэта, проясняющая многие повороты его личной и
творческой судьбы. Издание, снабженное обширной вступительной
статьей, комментарием и указателями, впервые с академической
полнотой и основательностью представляет российскому читателю
эпистолярное наследие французского классика. Публикация рассчи¬
тана как на профессиональных исследователей, так и на широкую
аудиторию любителей французской поэзии и культуры.
ISBN 978-5-90141-096-7
Charles Baudelaire,
Correspondance
Choix et commentaires de Claude Pichois et de Jérôme Thélot
Paris, Gallimard © 1973, 1993, 2000
ИЗДАТЕЛЬСТВО «MACHINA» ГОТОВИТ К ПЕЧАТИ
ЖИЛЬ ДЕЛЁЗ
фрэнсис бэкон:
логика ощущения
ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
А. В. ШЕСТАКОВА
«Логика ощущения»—единственное специальное обращение Жиля
Делёза к изобразительному искусству. Детально разбирая произ¬
ведения выдающегося английского живописца Фрэнсиса Бэкона
(1909-1992), автор подвергает испытанию на художественном мате¬
риале основные понятия своей философии и вместе с тем предлагает
оригинальный взгляд на историю живописи.
Для философов, искусствоведов, а также для всех, интересующихся
культурой и искусством XX века.
ISBN 978-5-90141-091-2
Gilles Deleuze,
Francis Bacon: Logique de la sensation
Une première édition a paru en 1981 aux Editions de La Différence
© Editions du Seuil, 2002