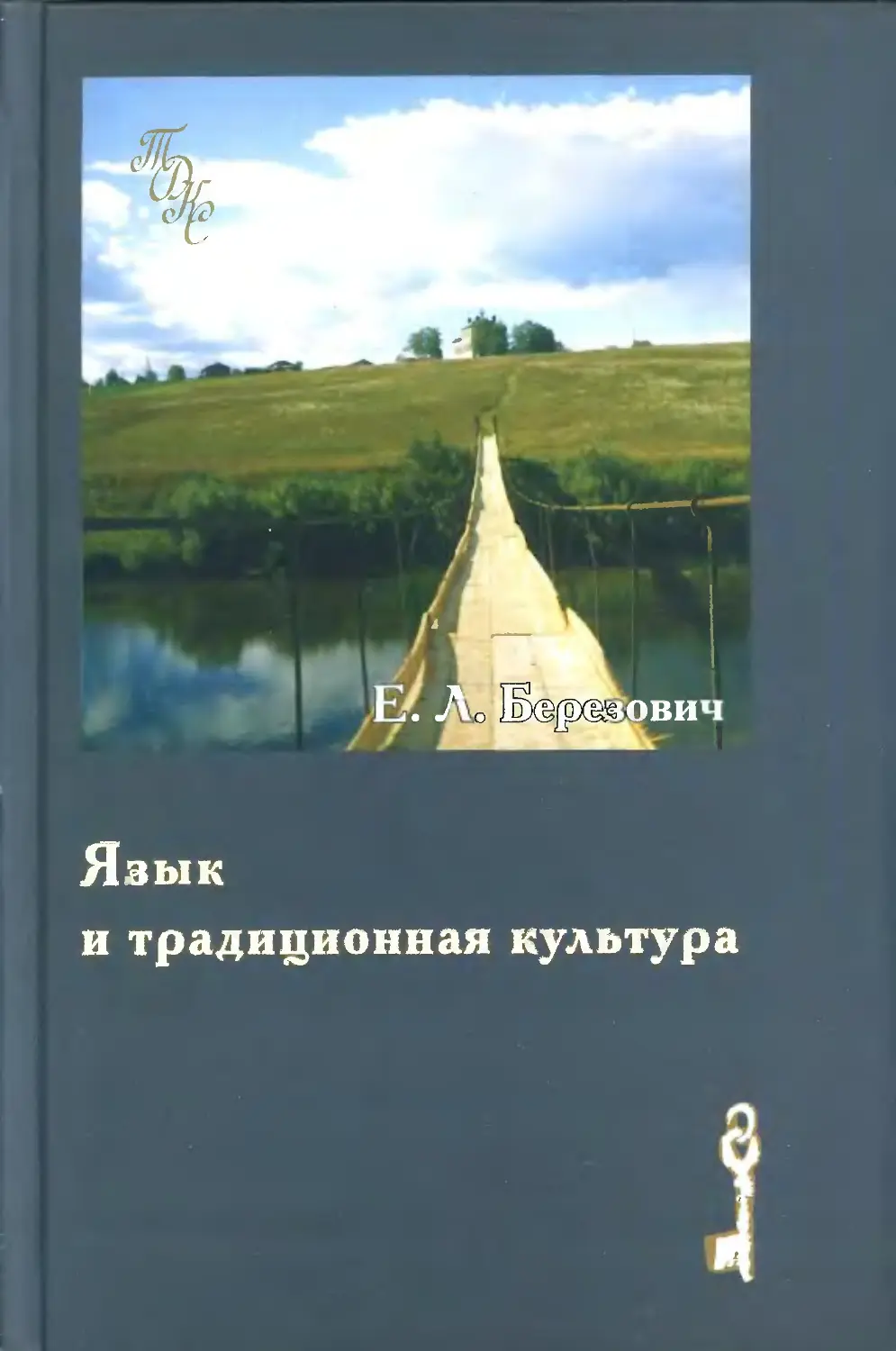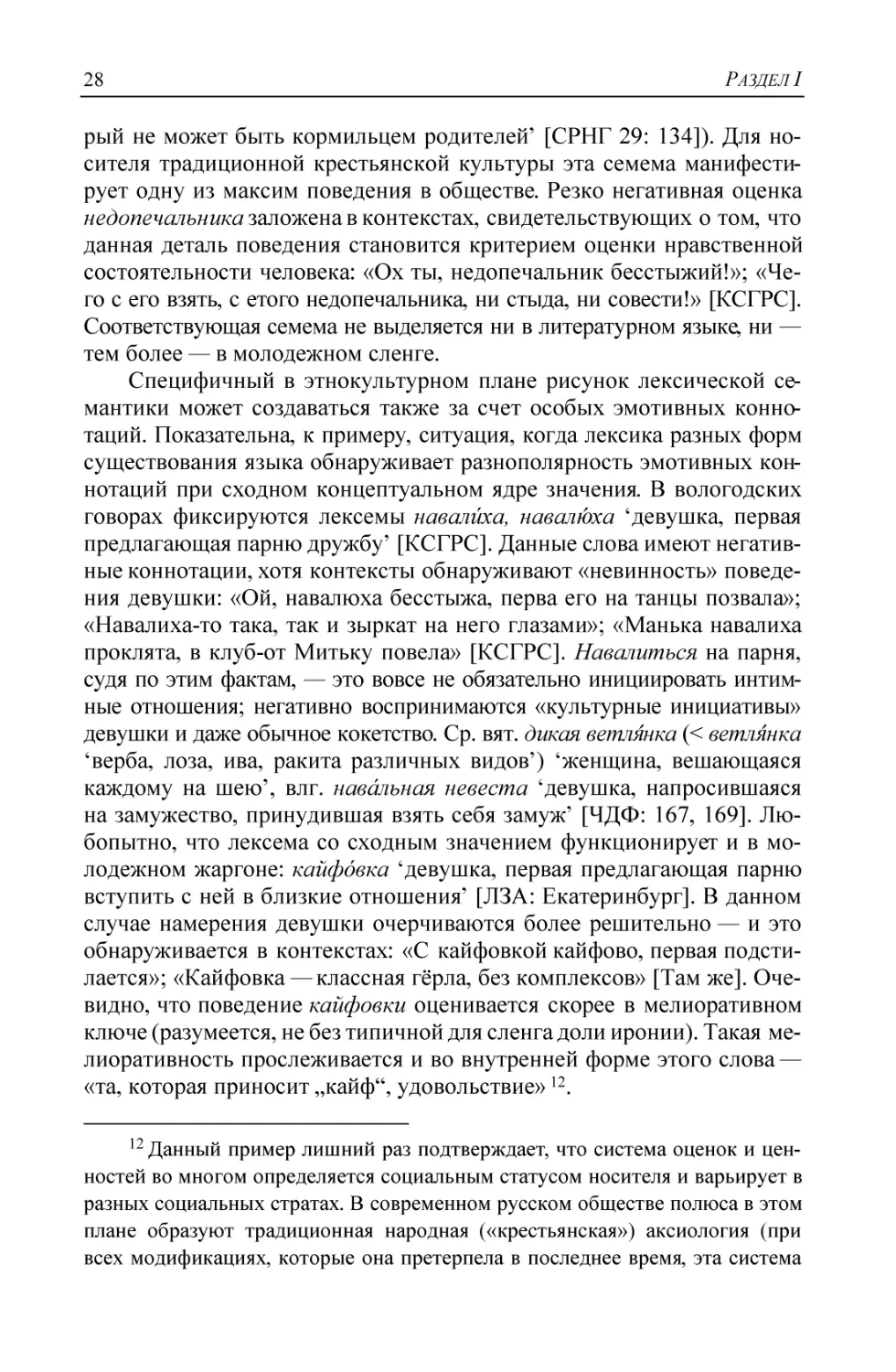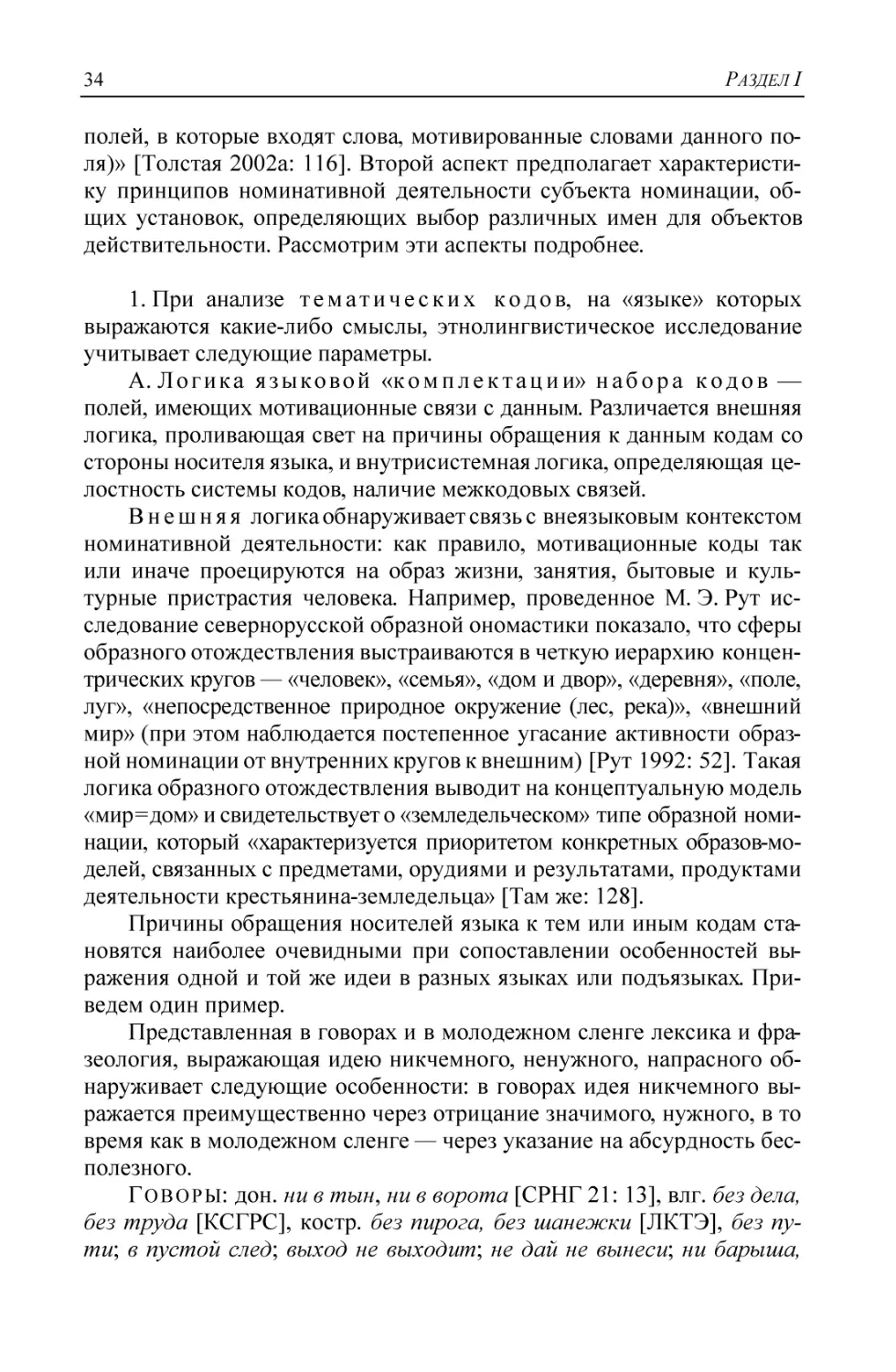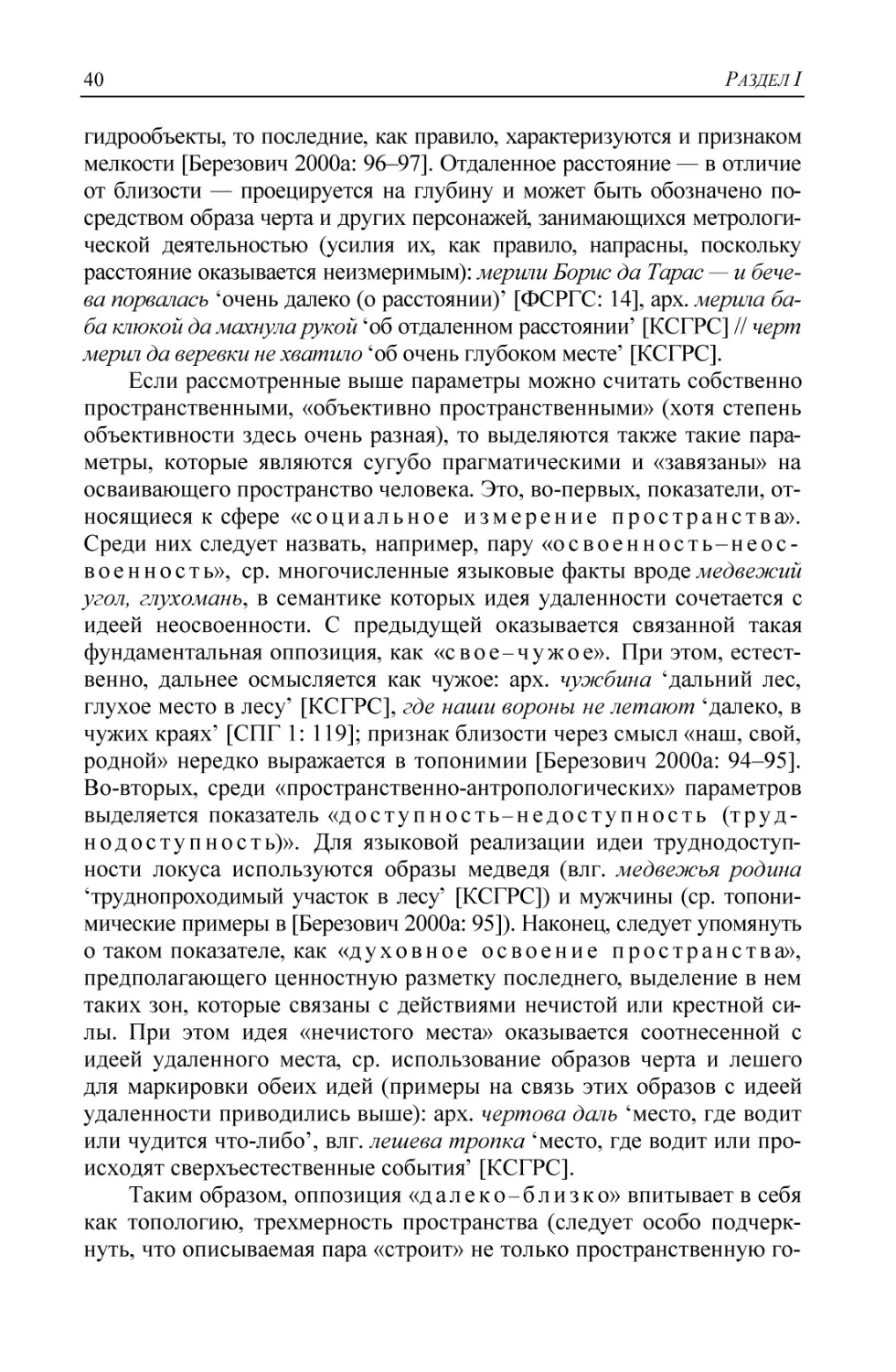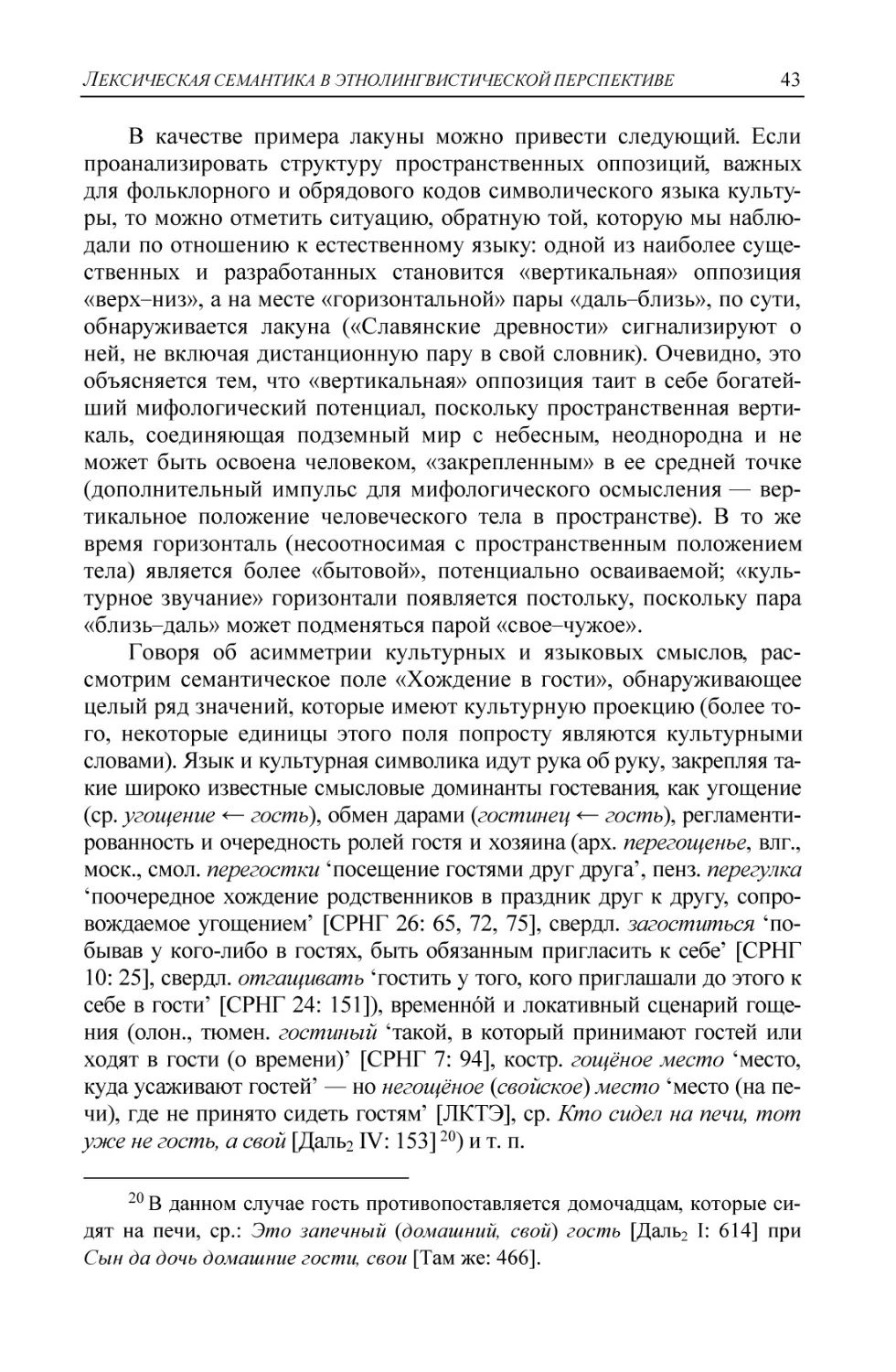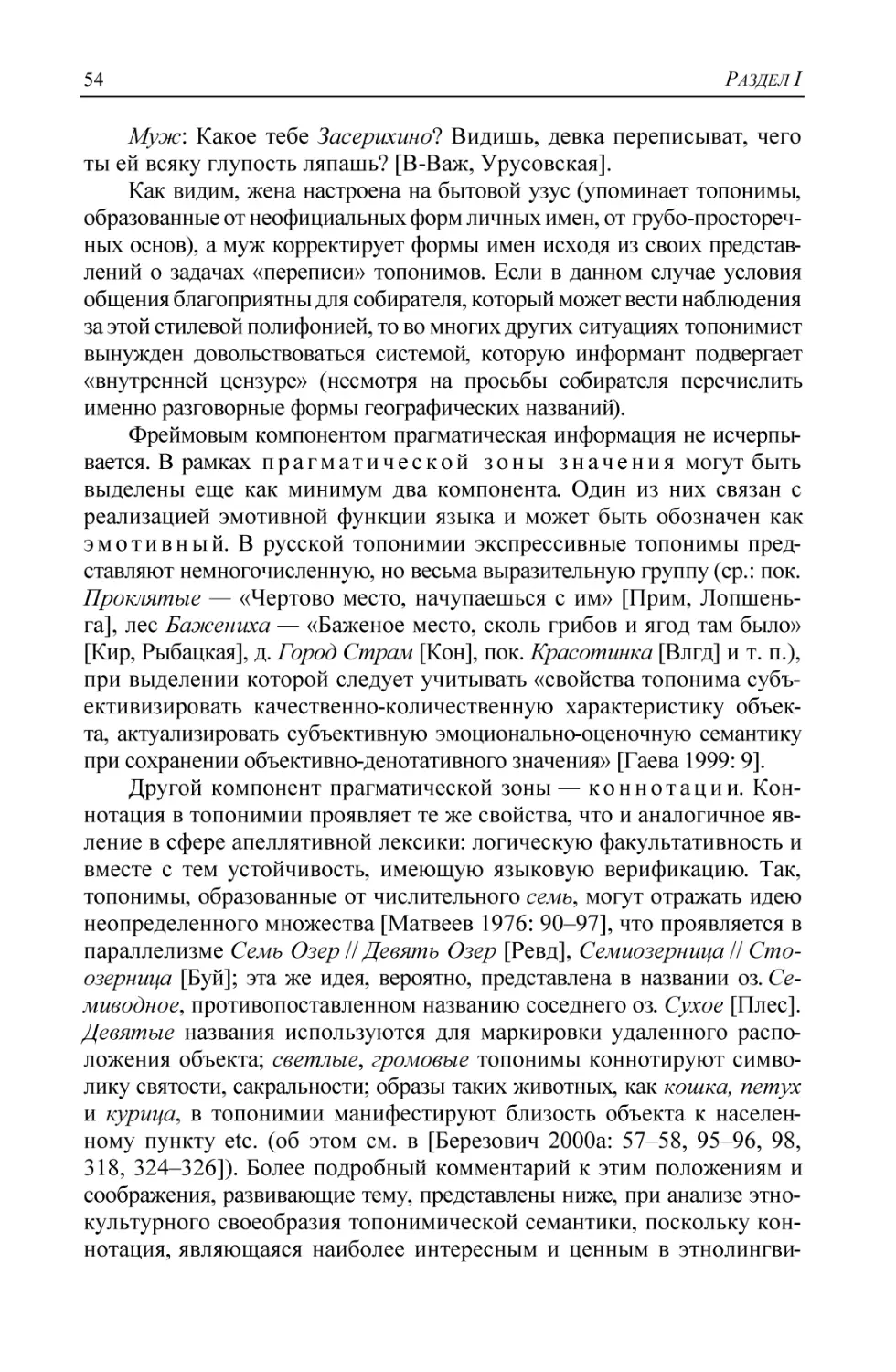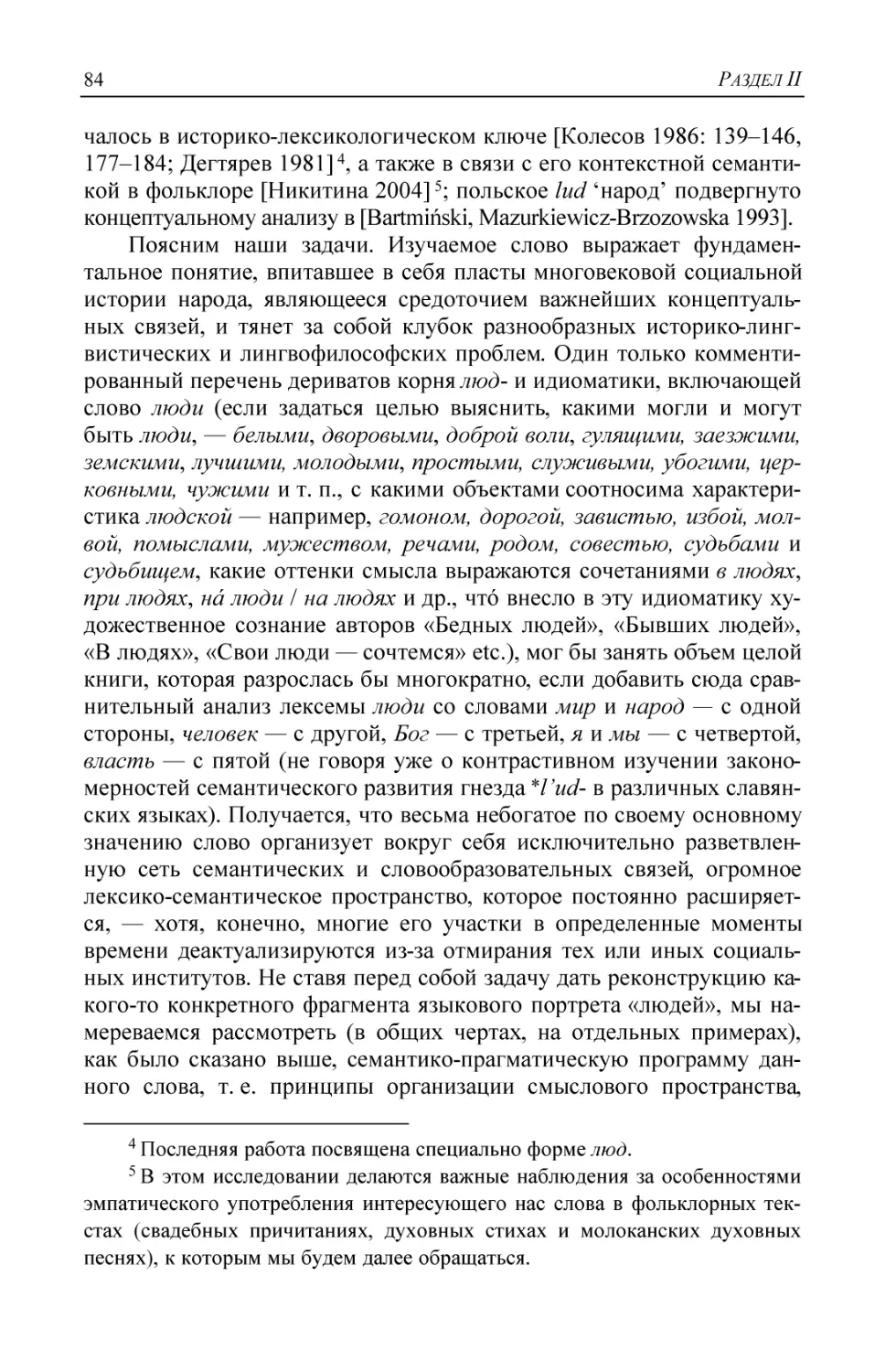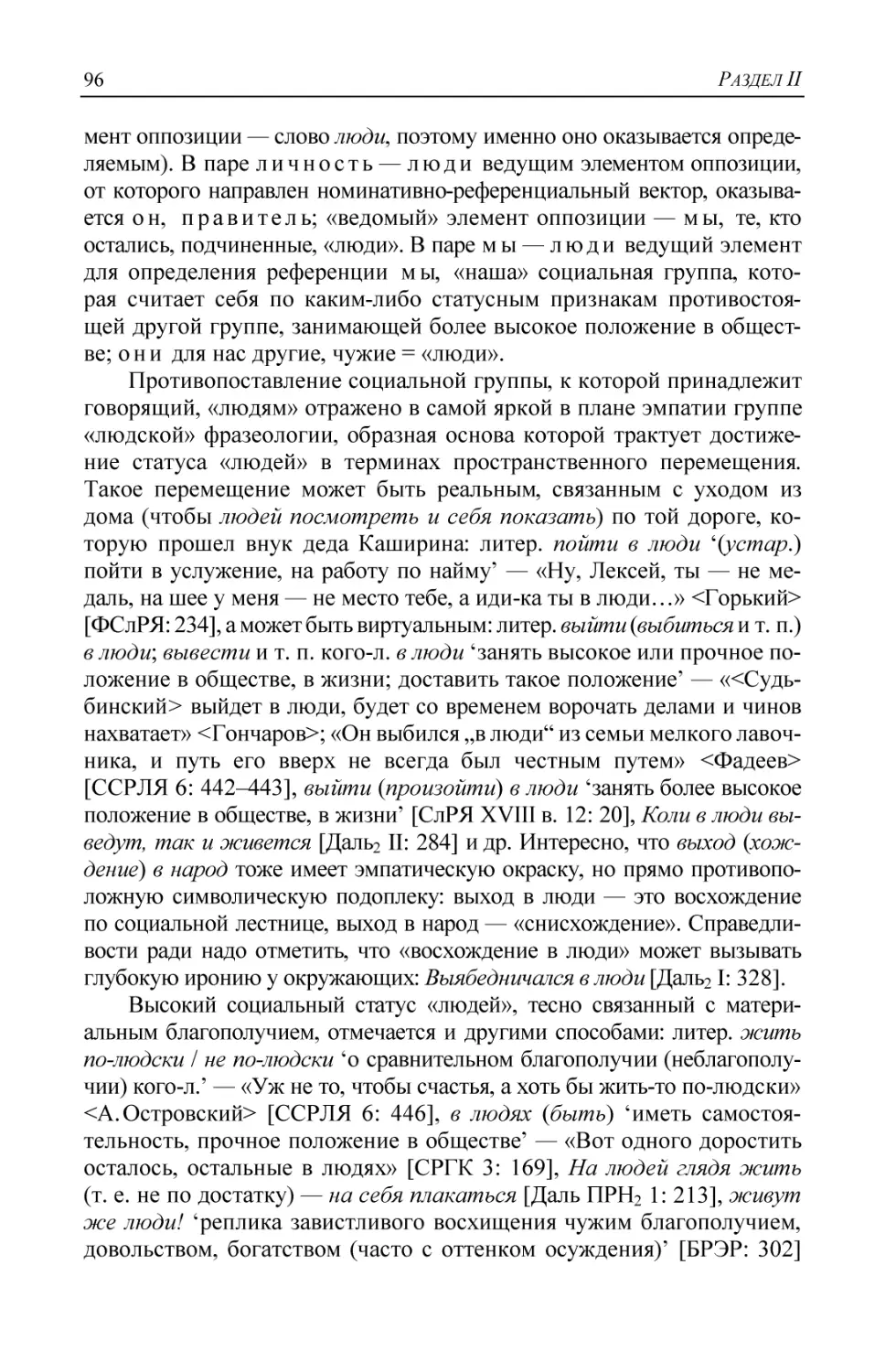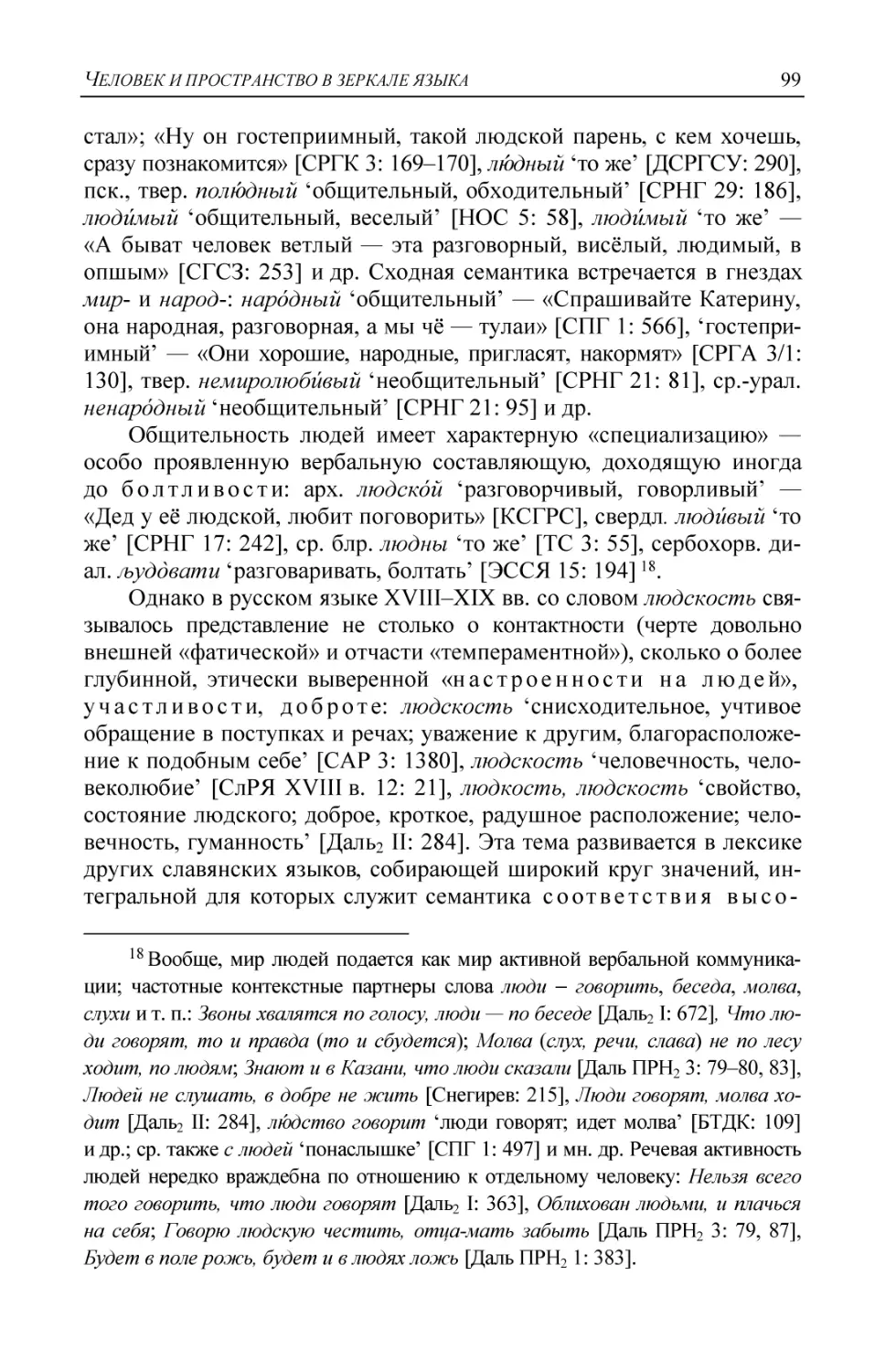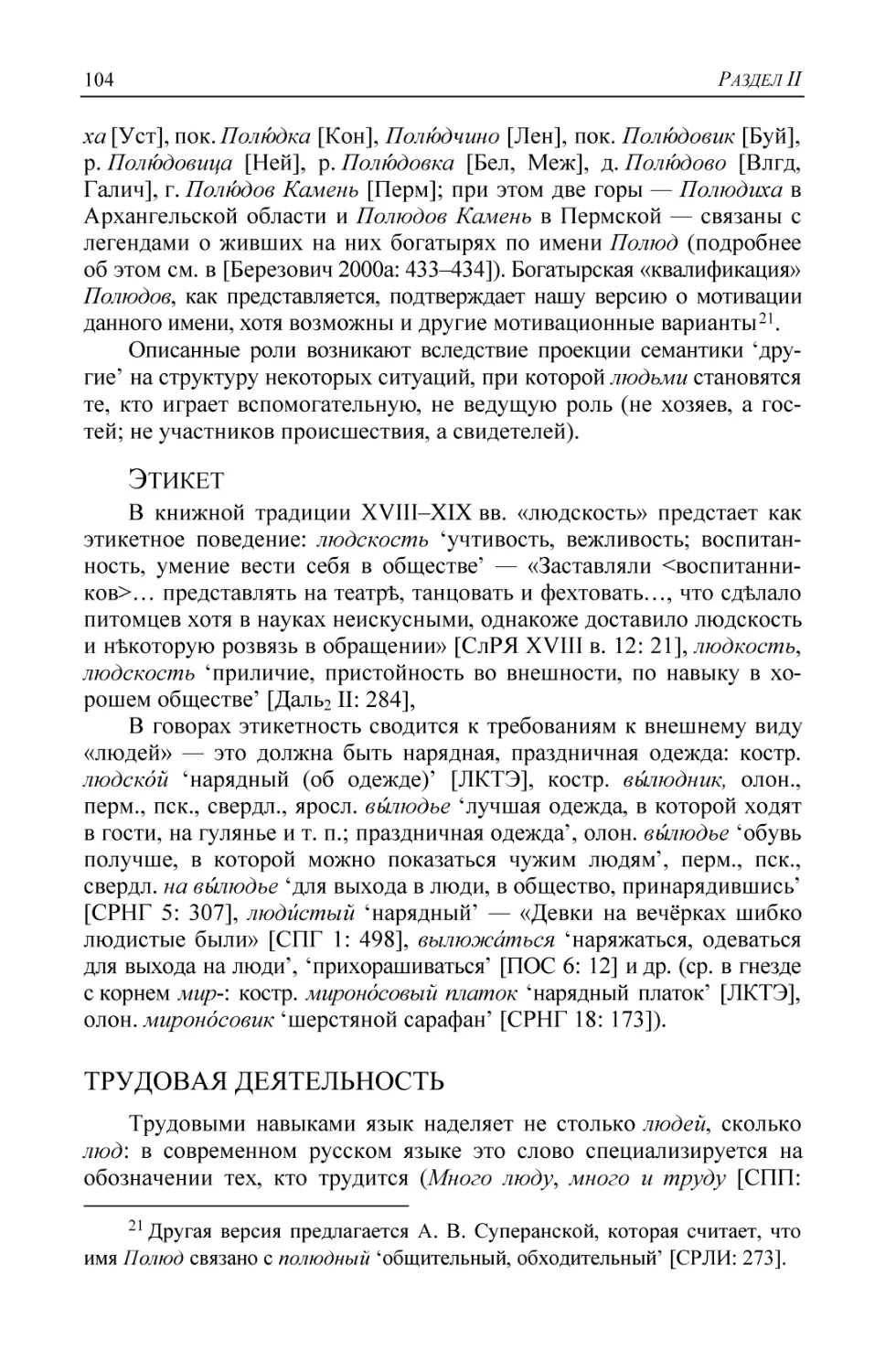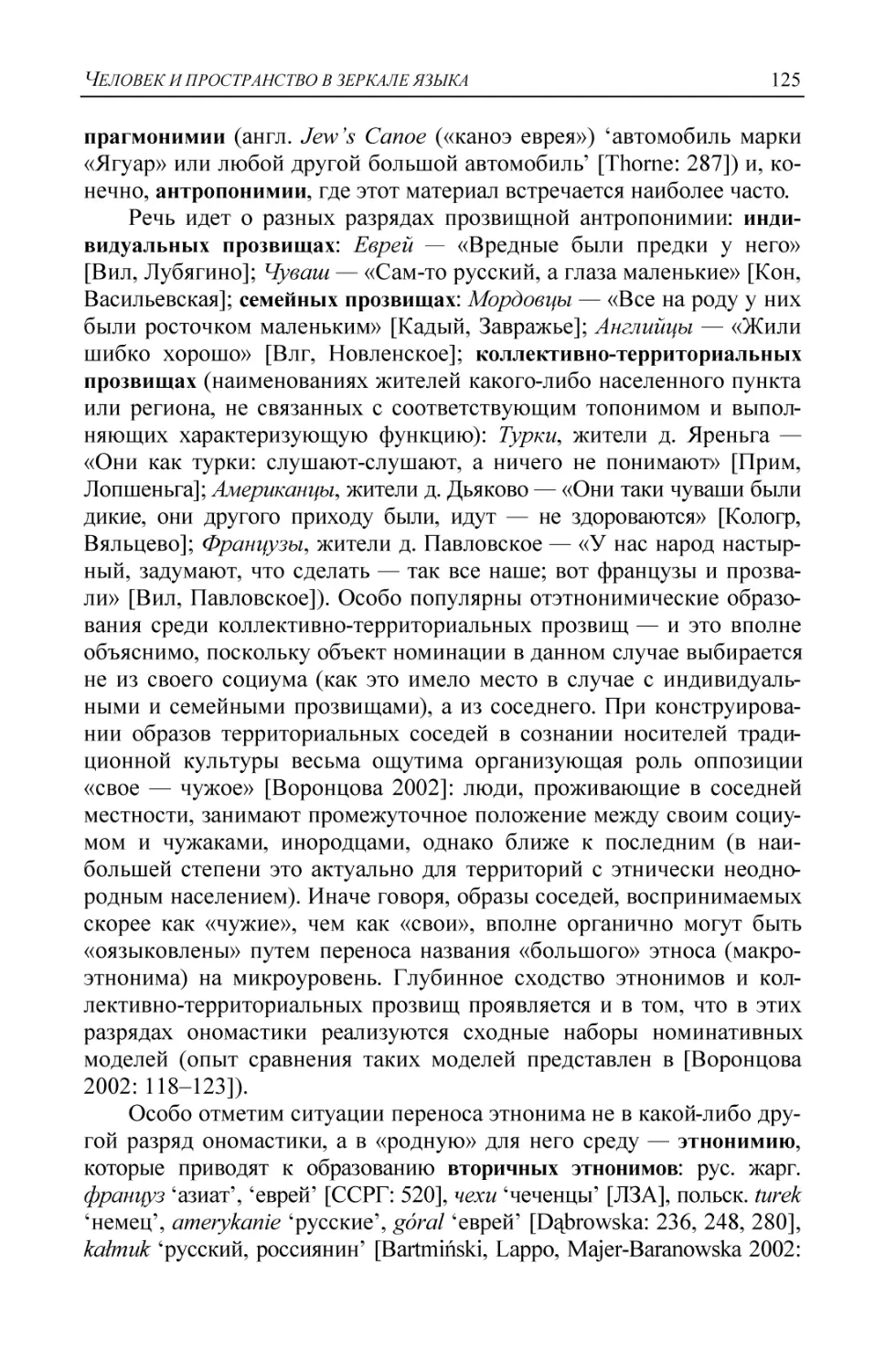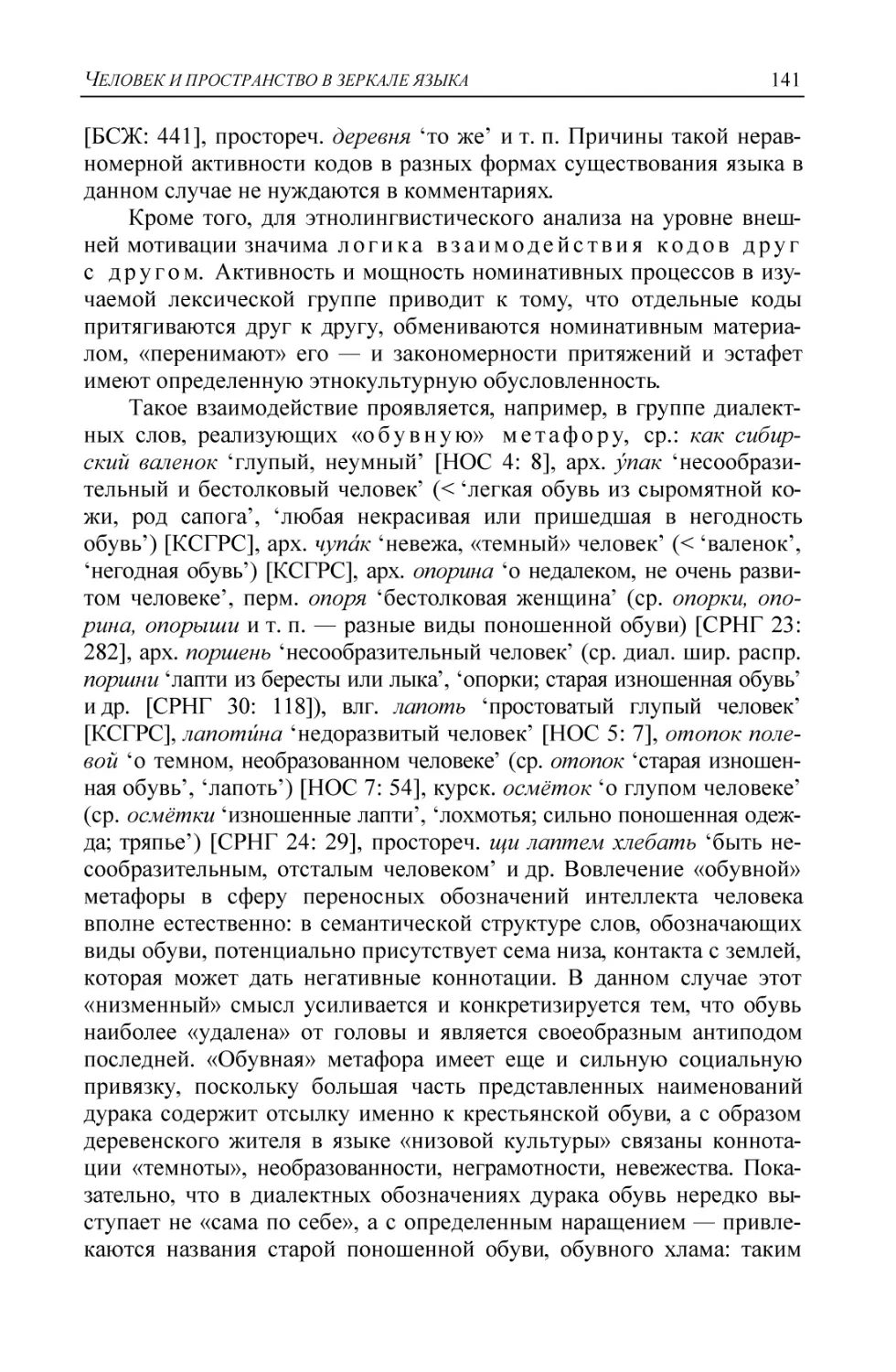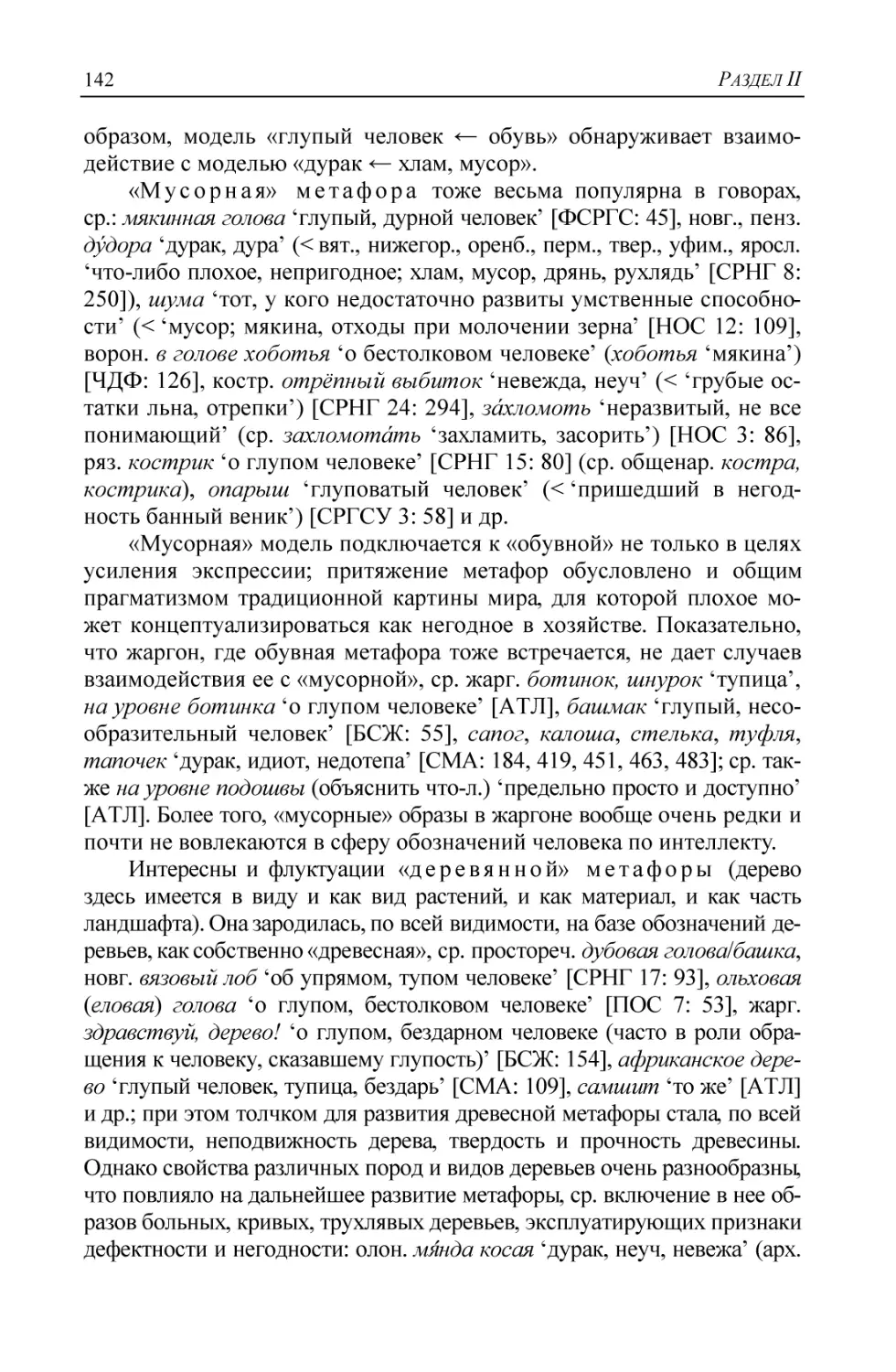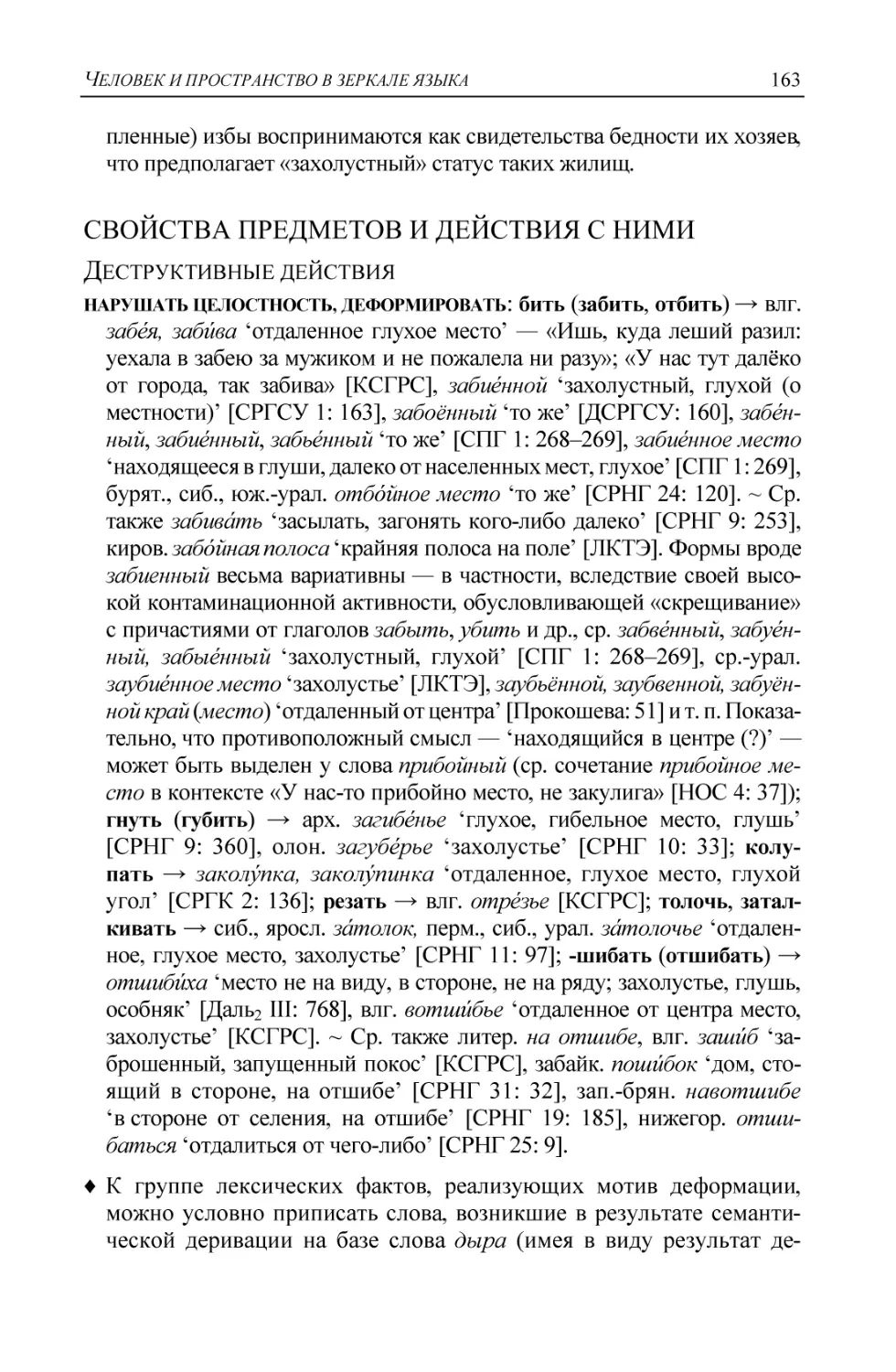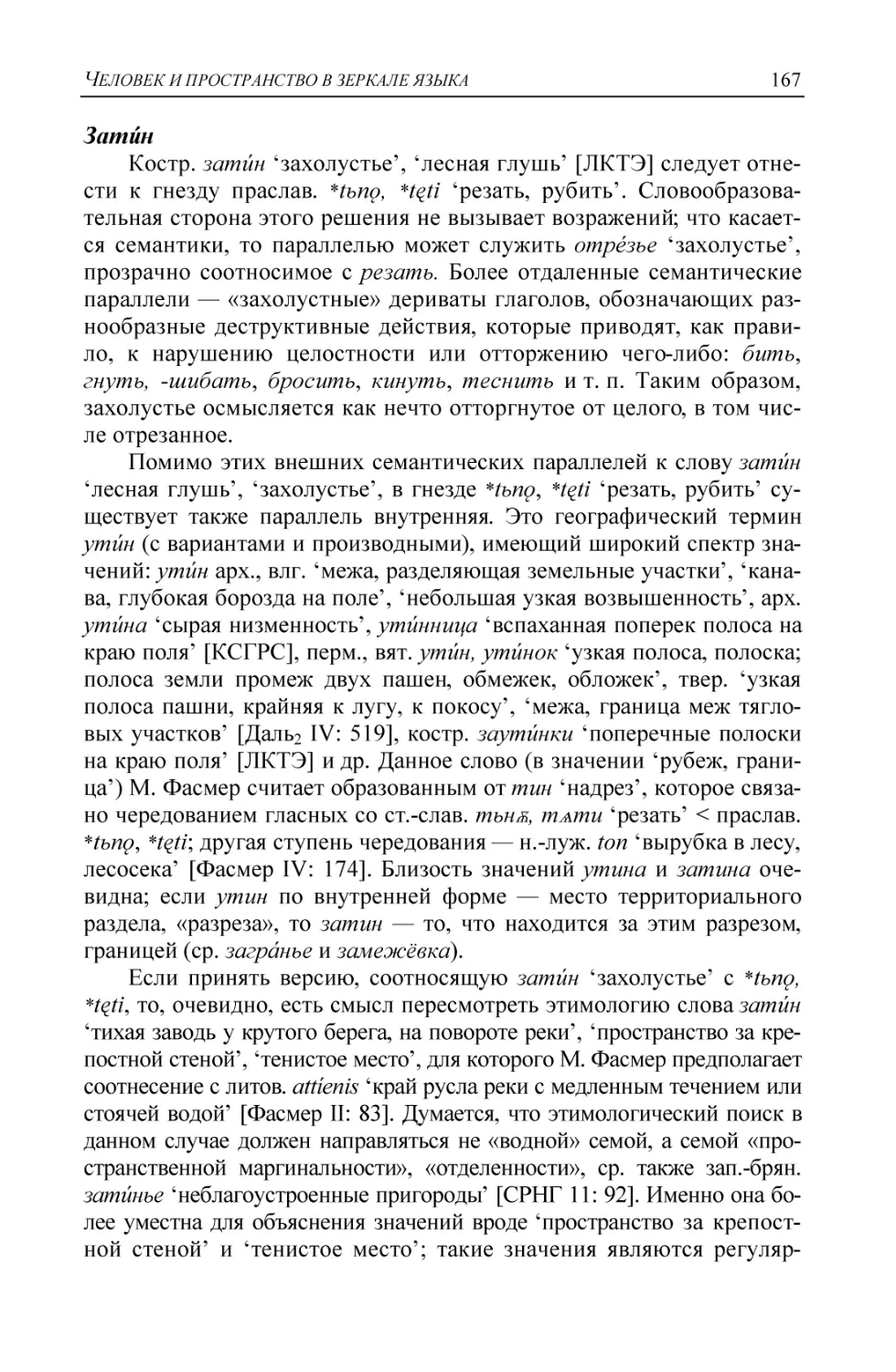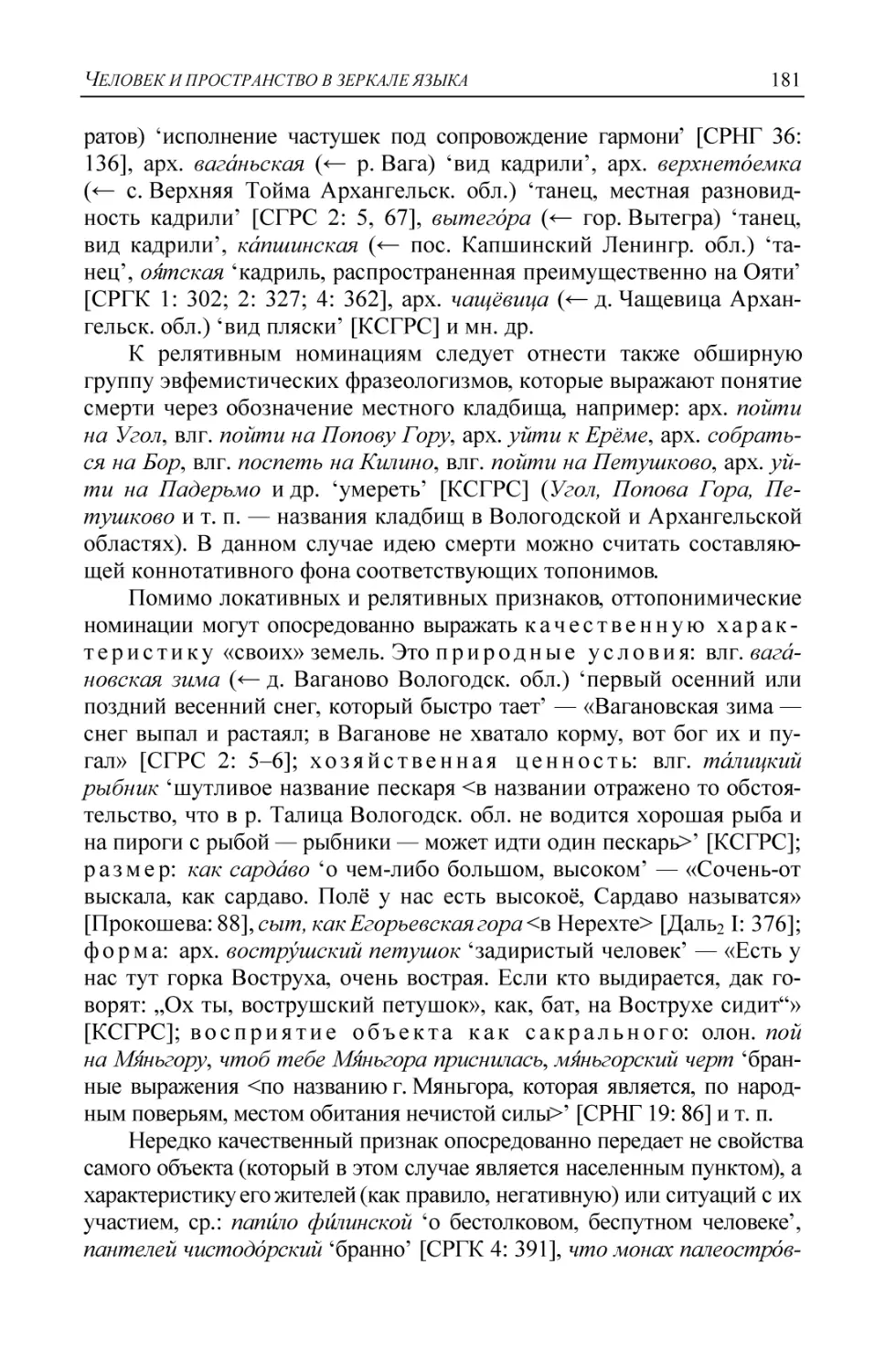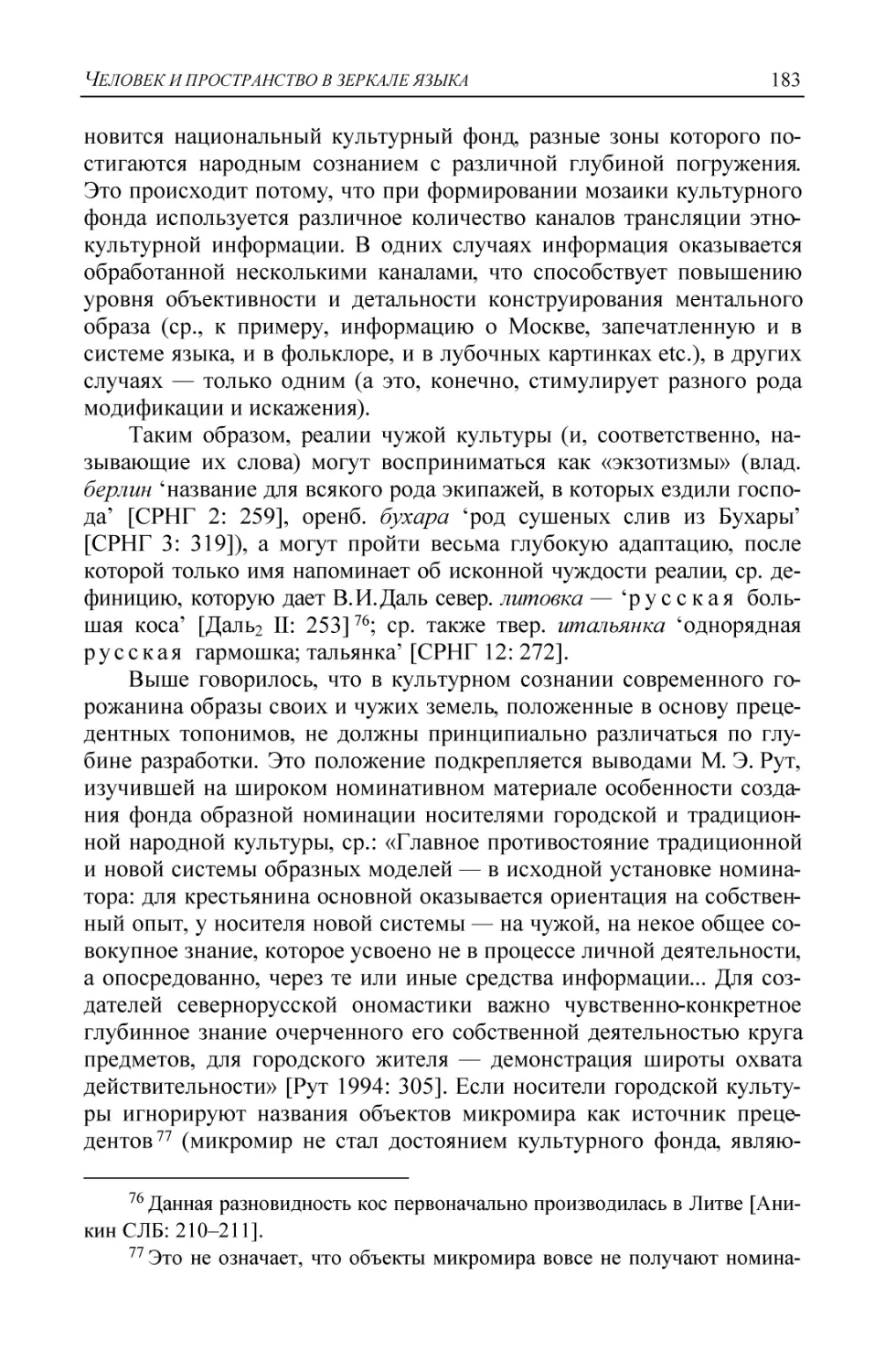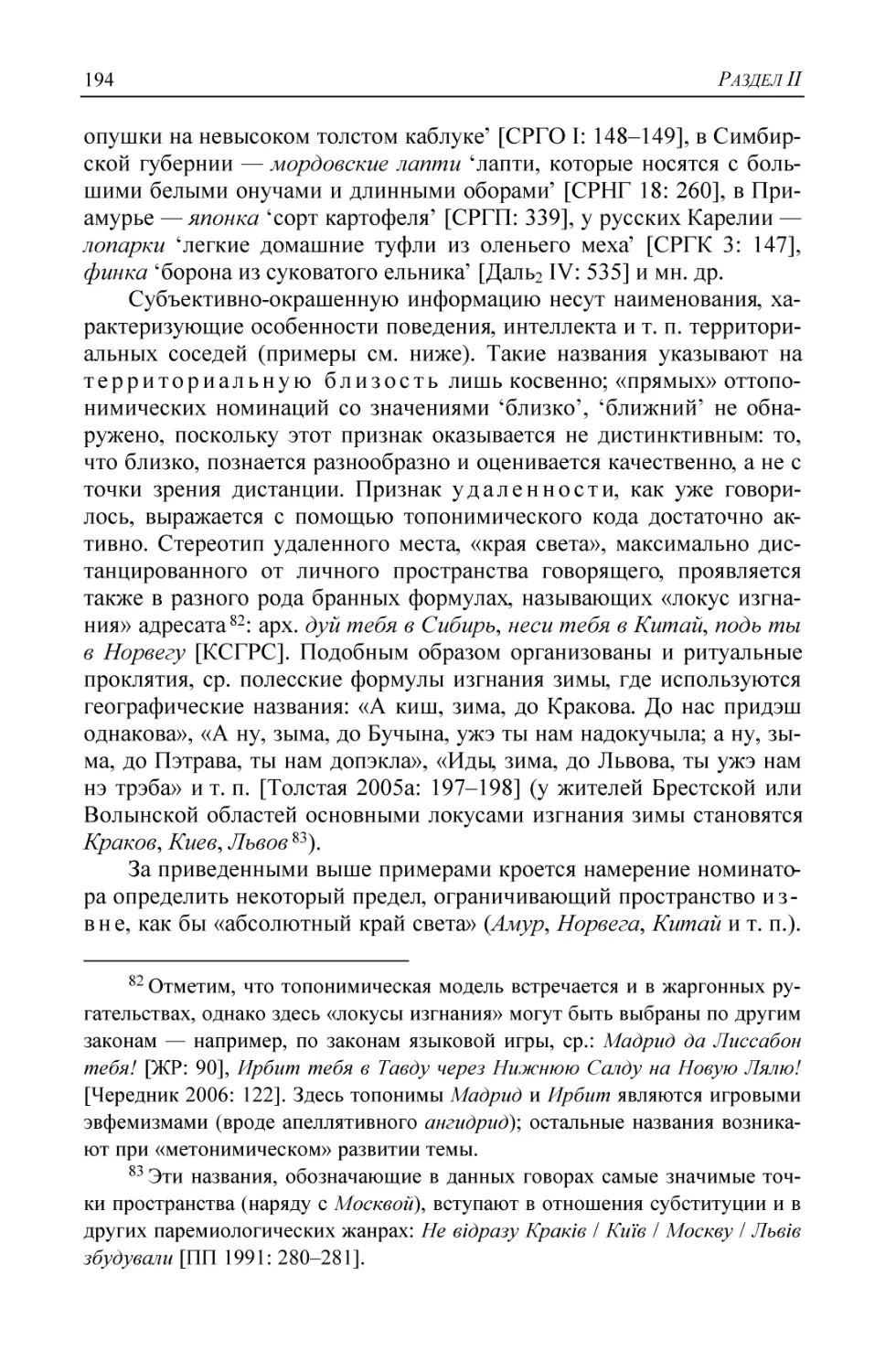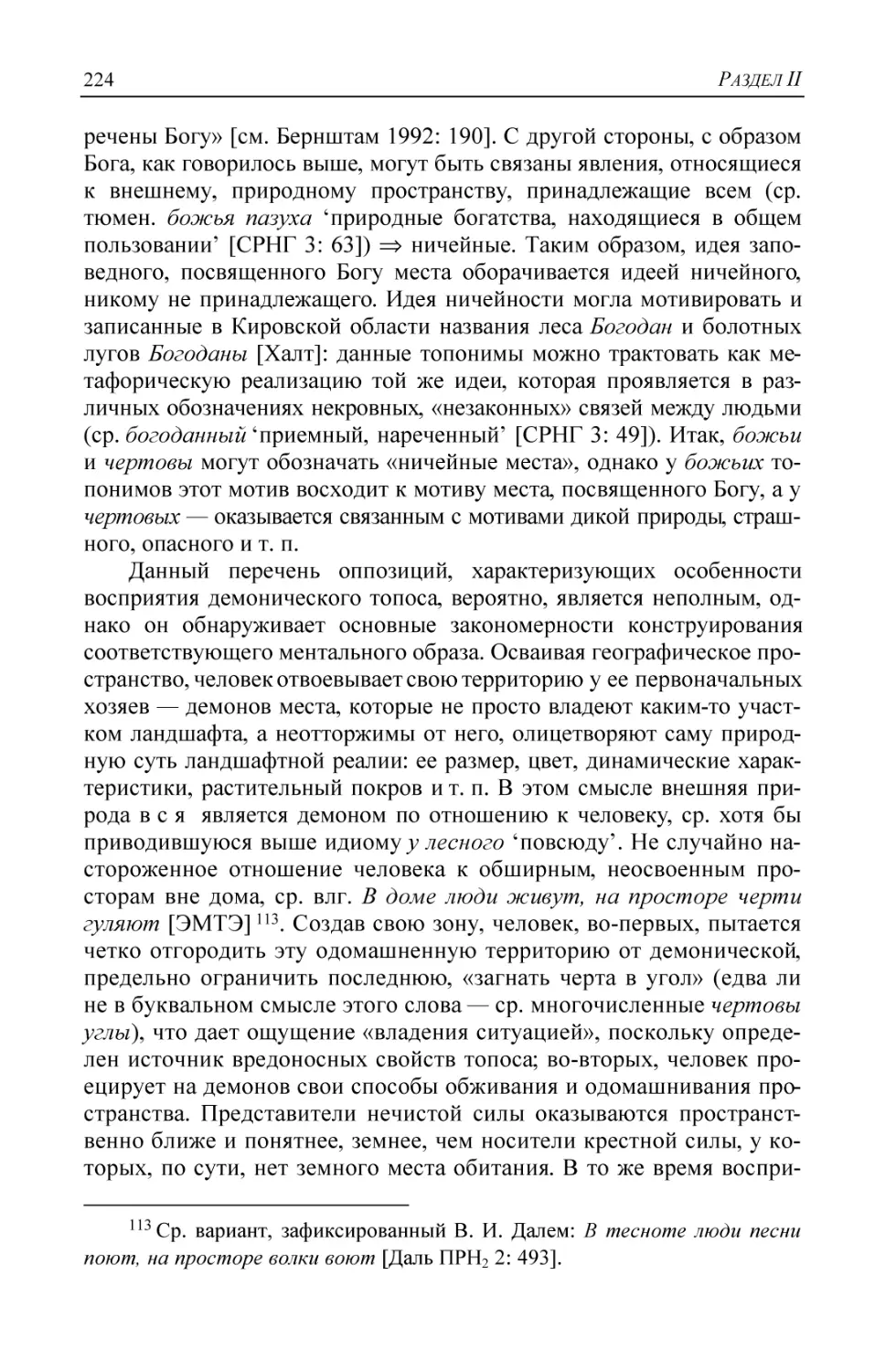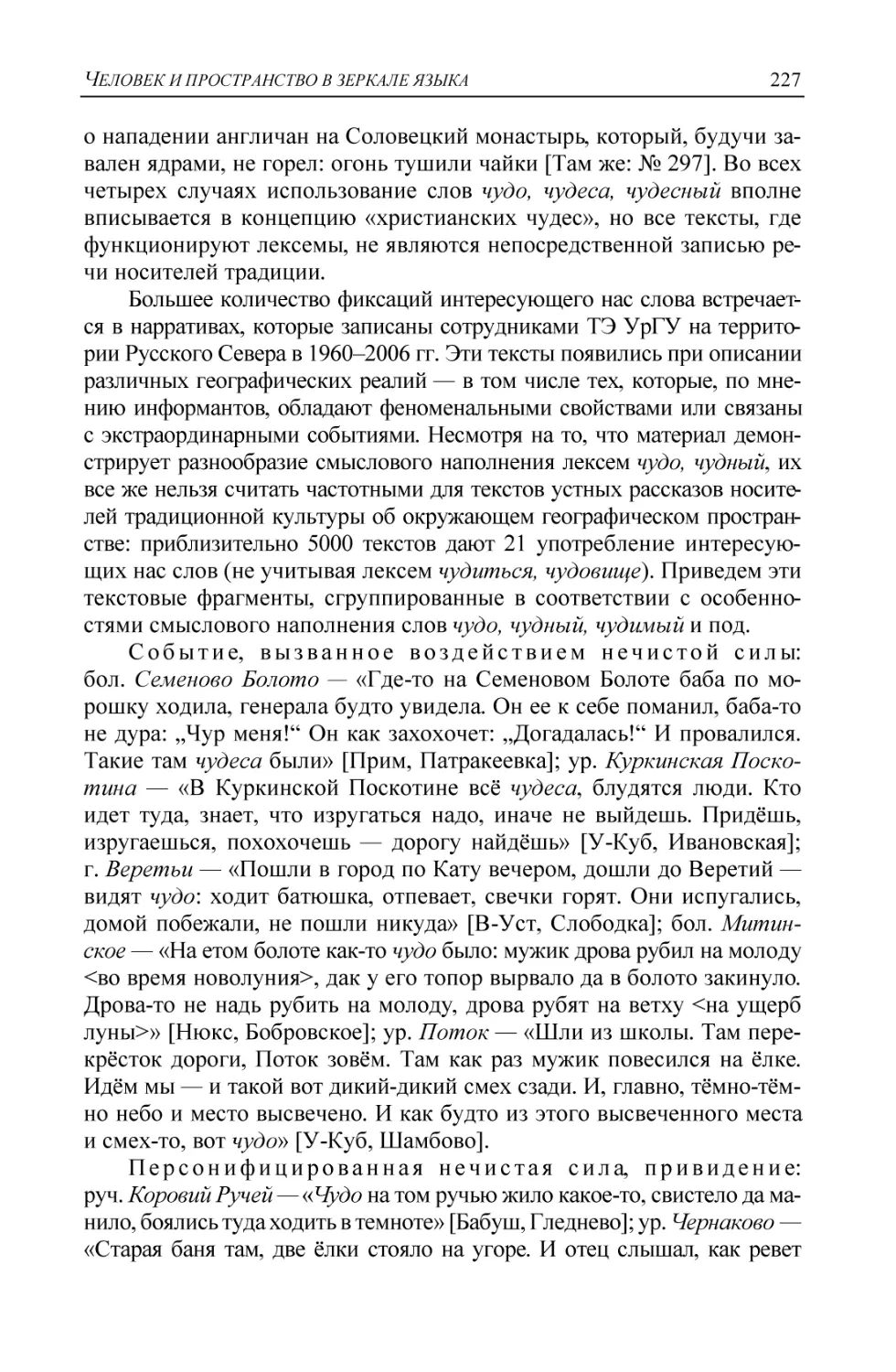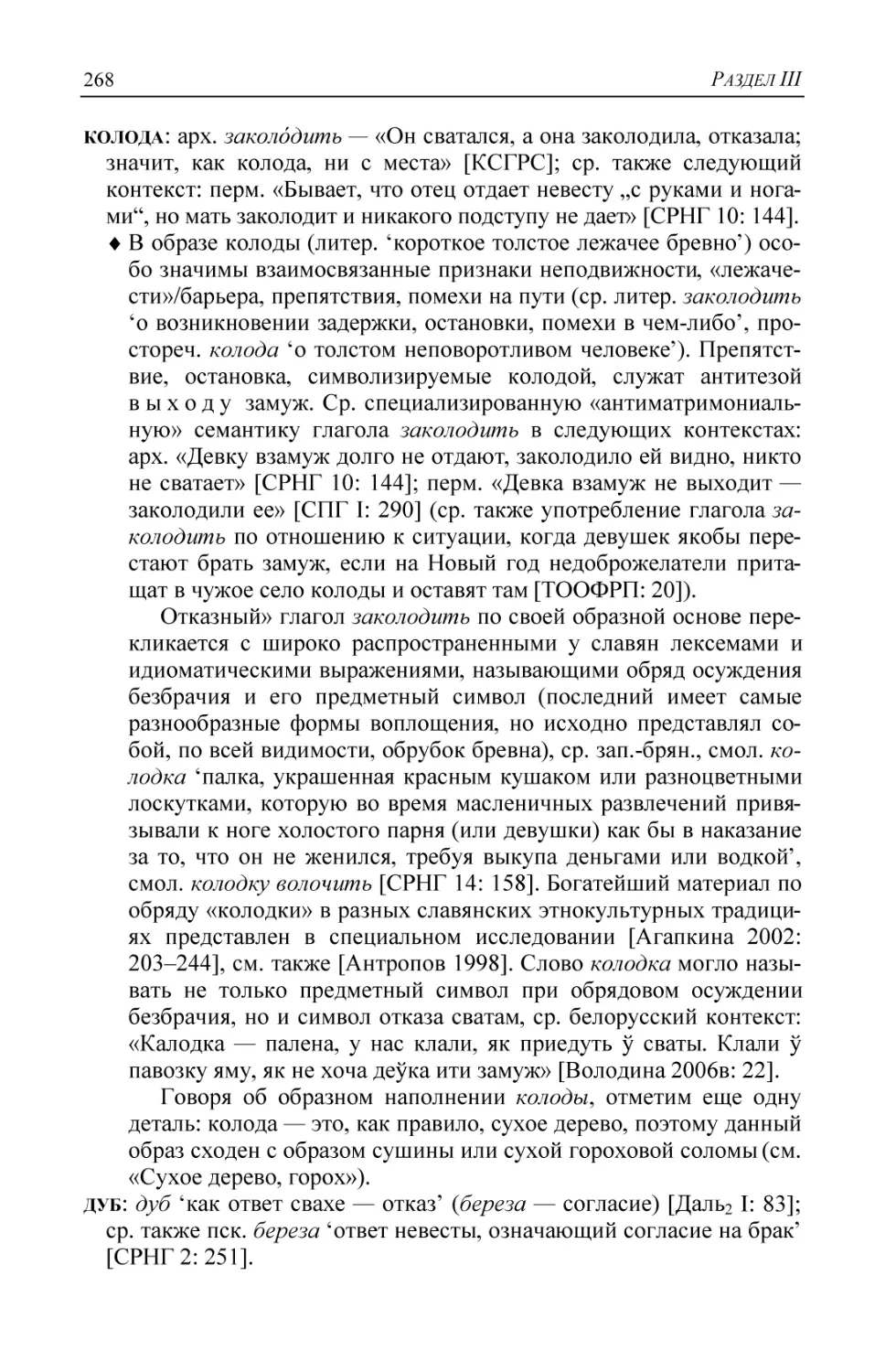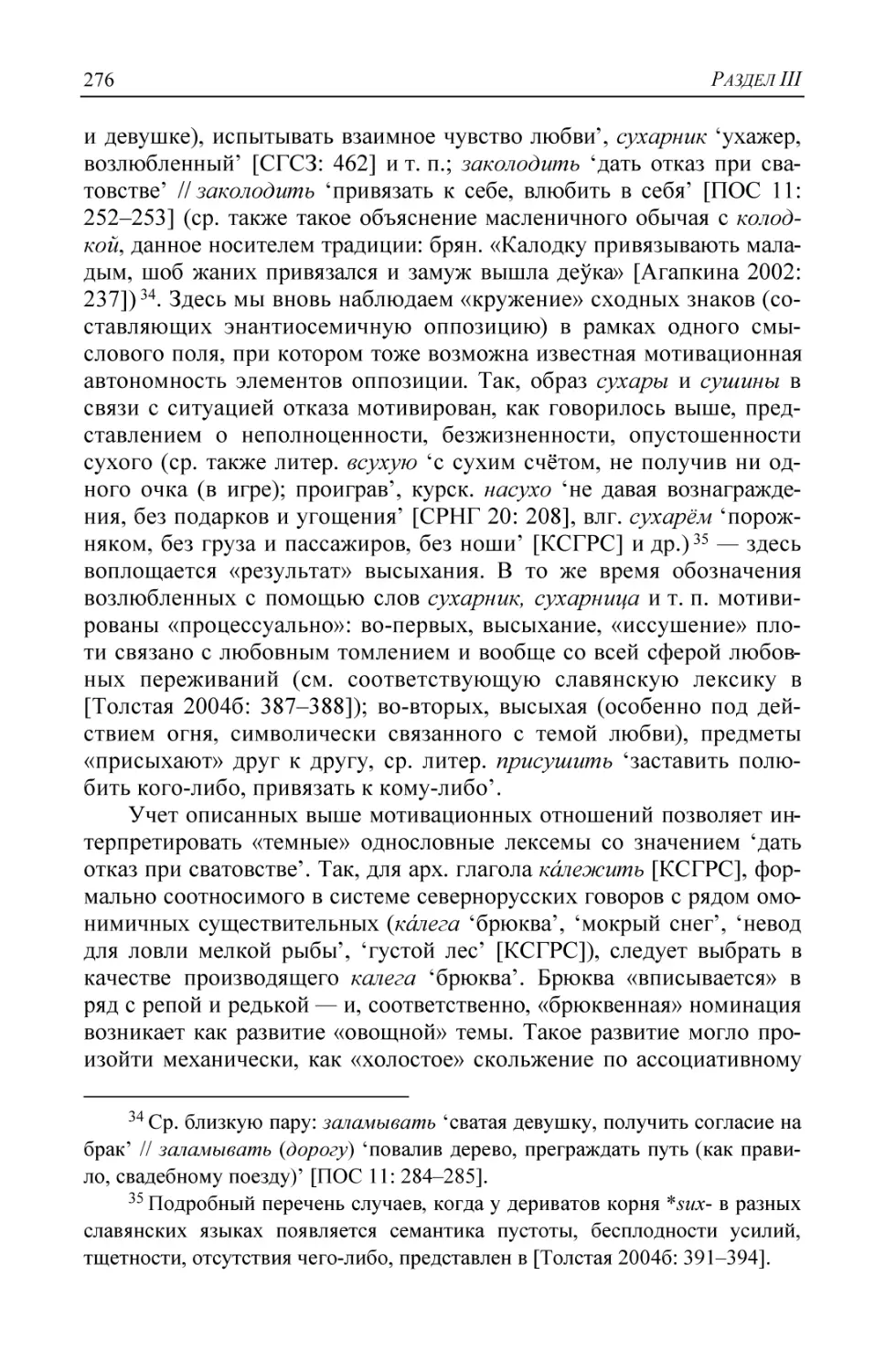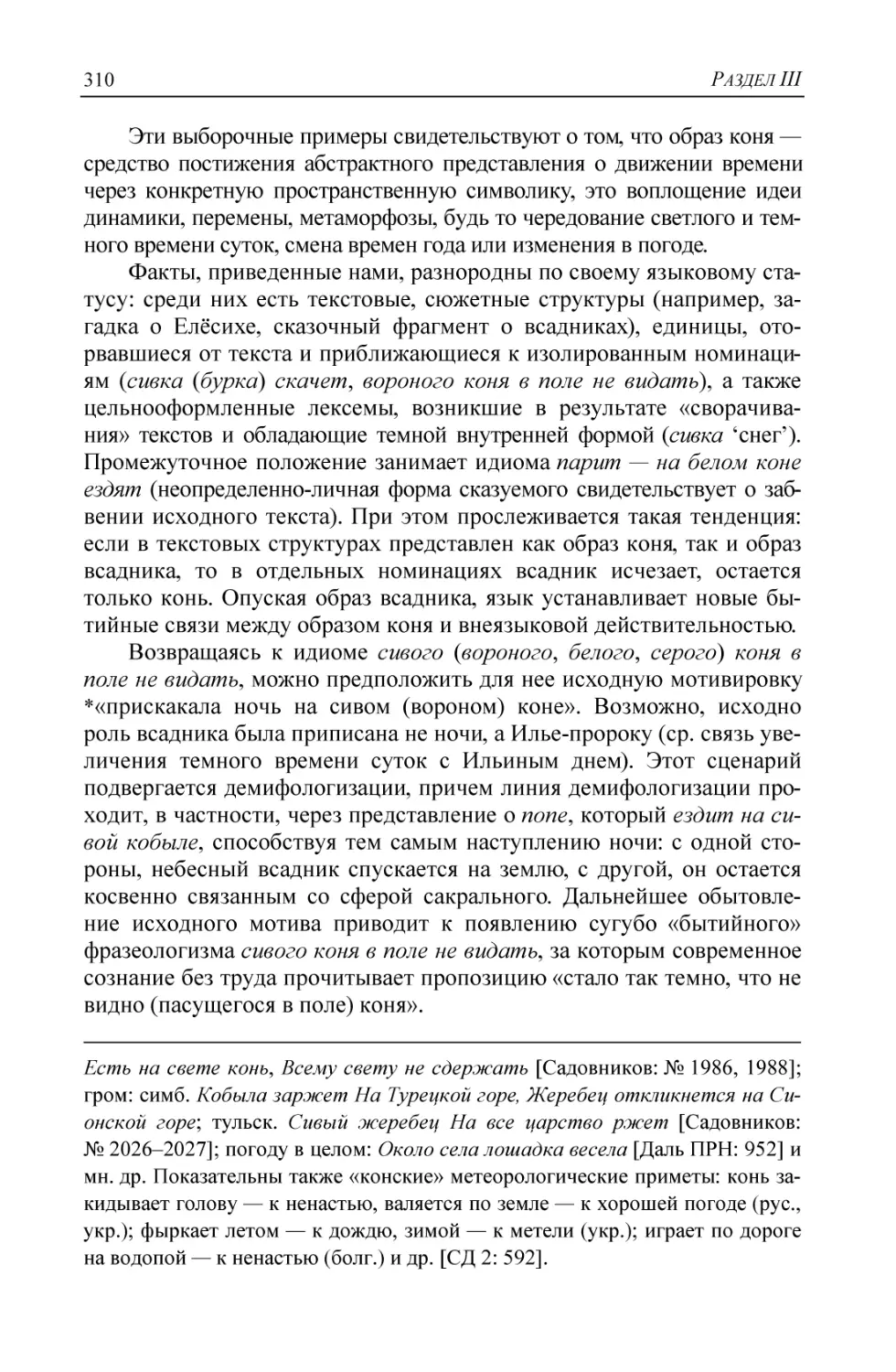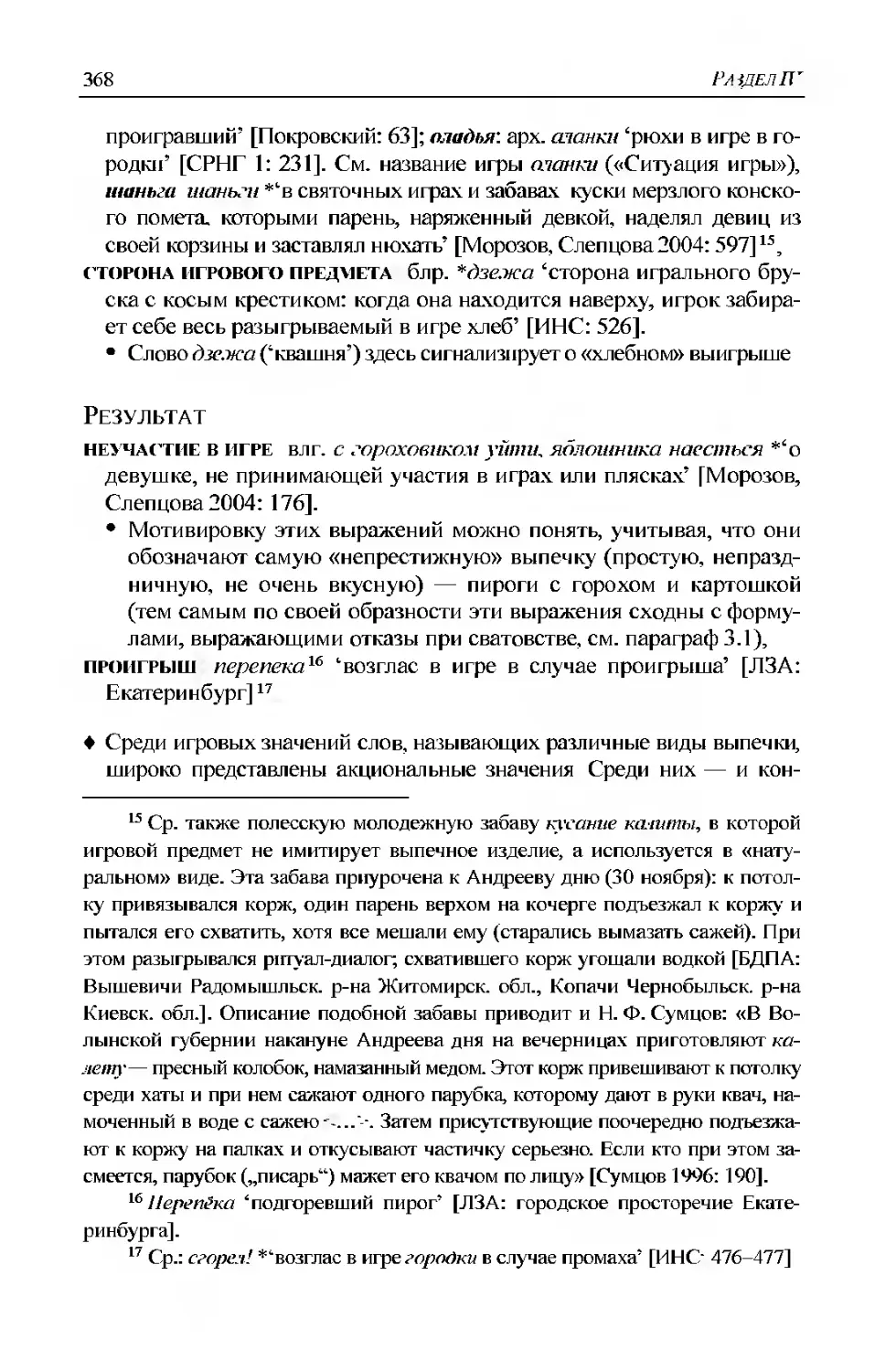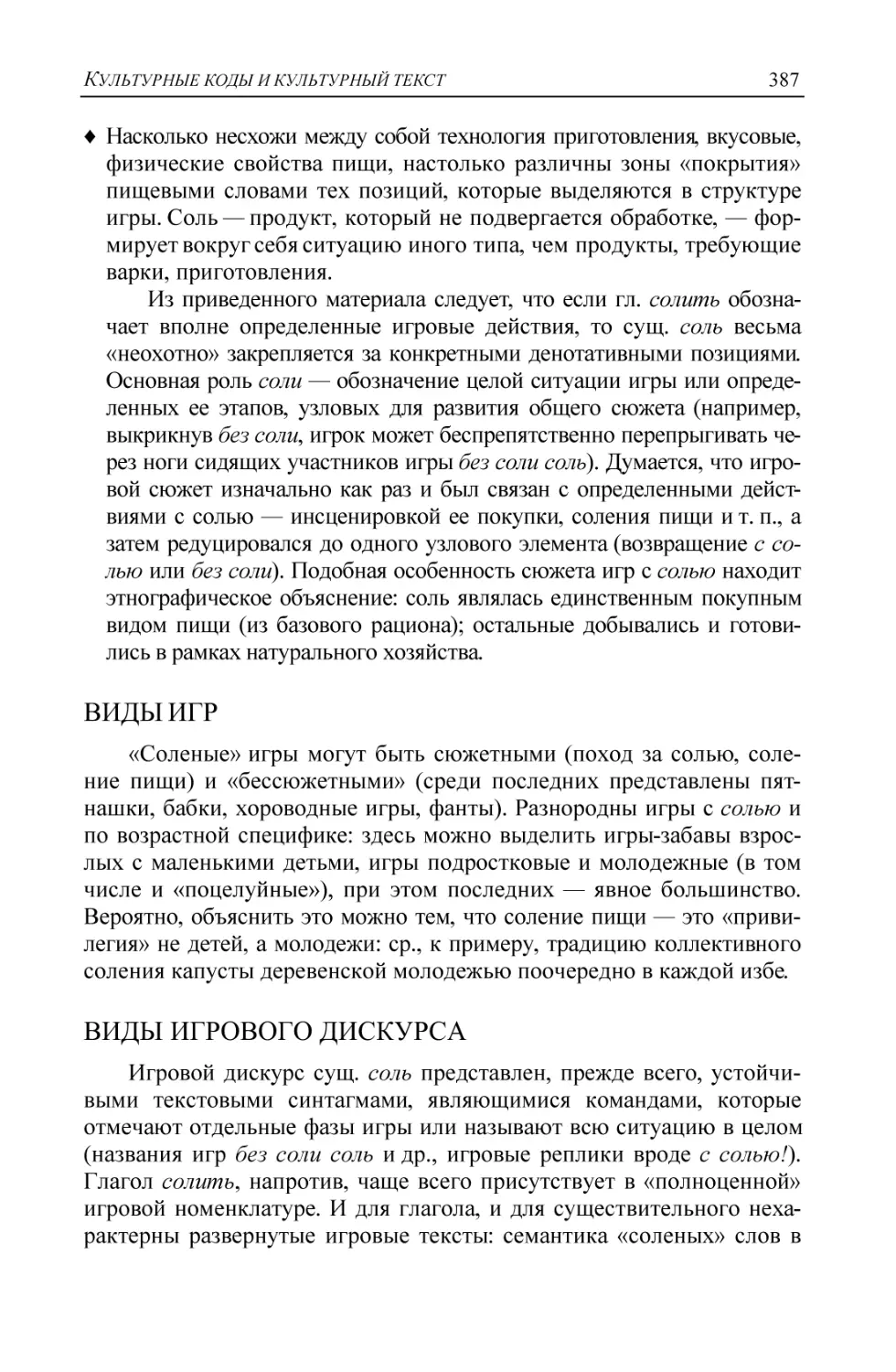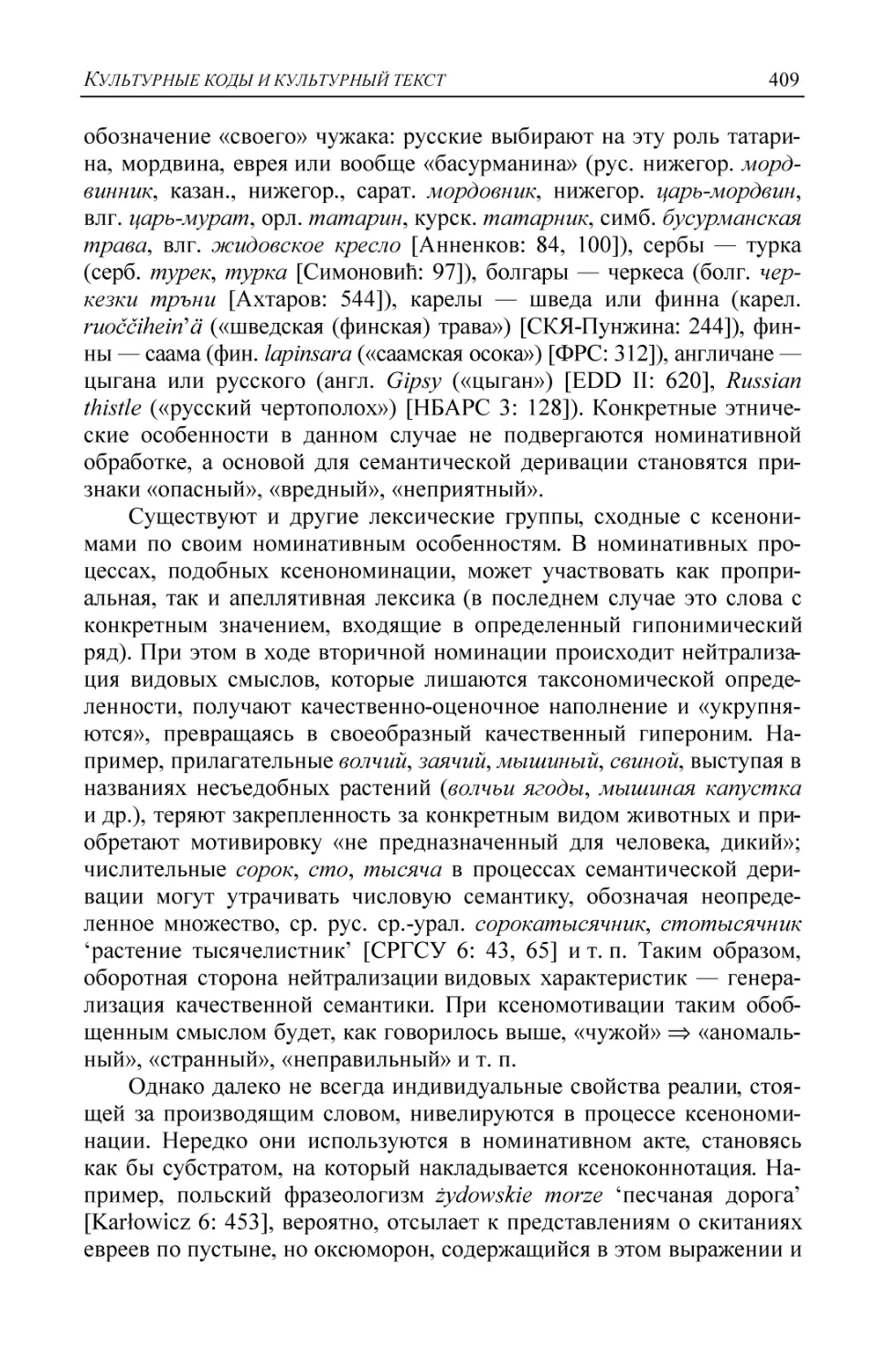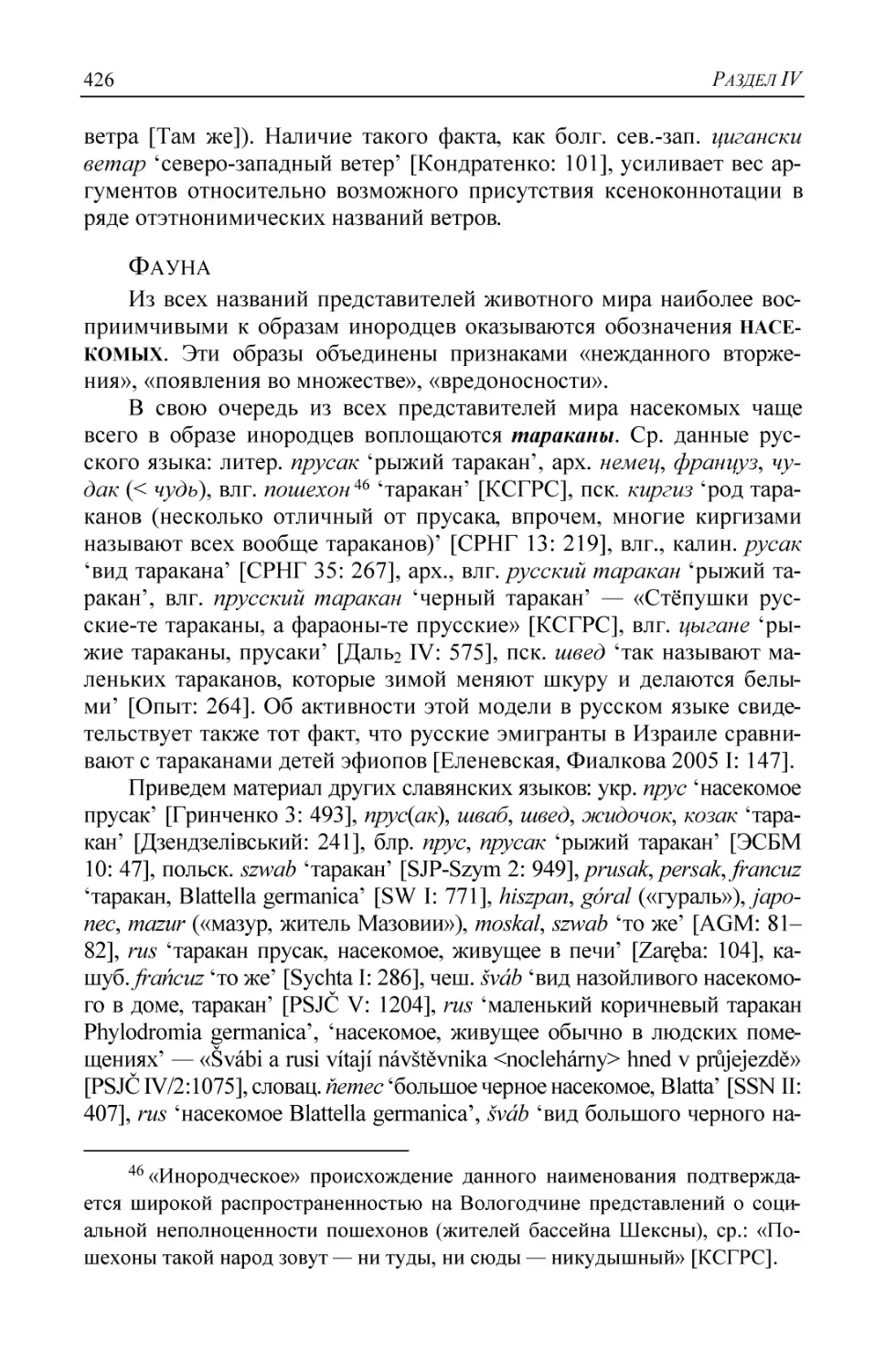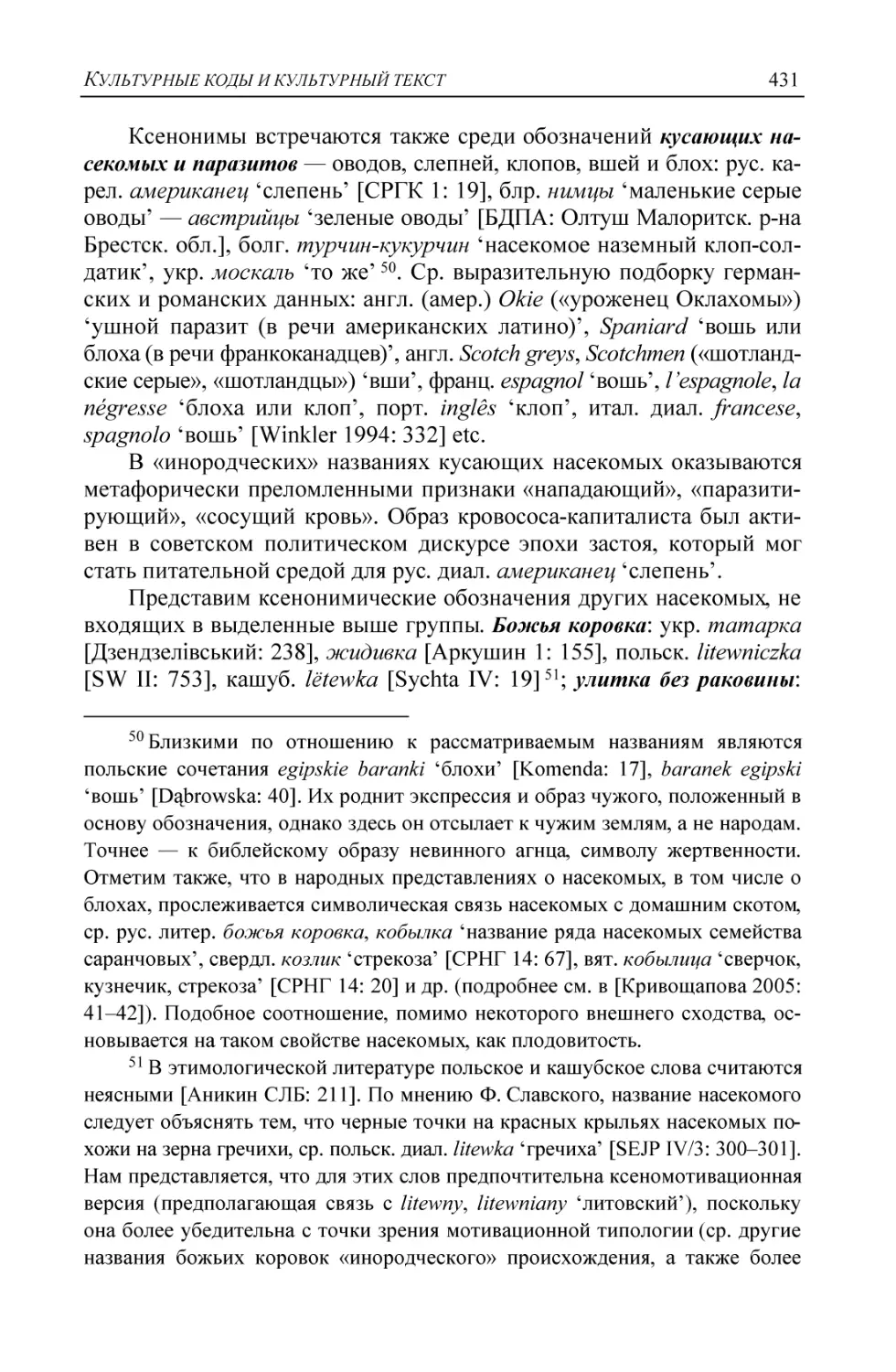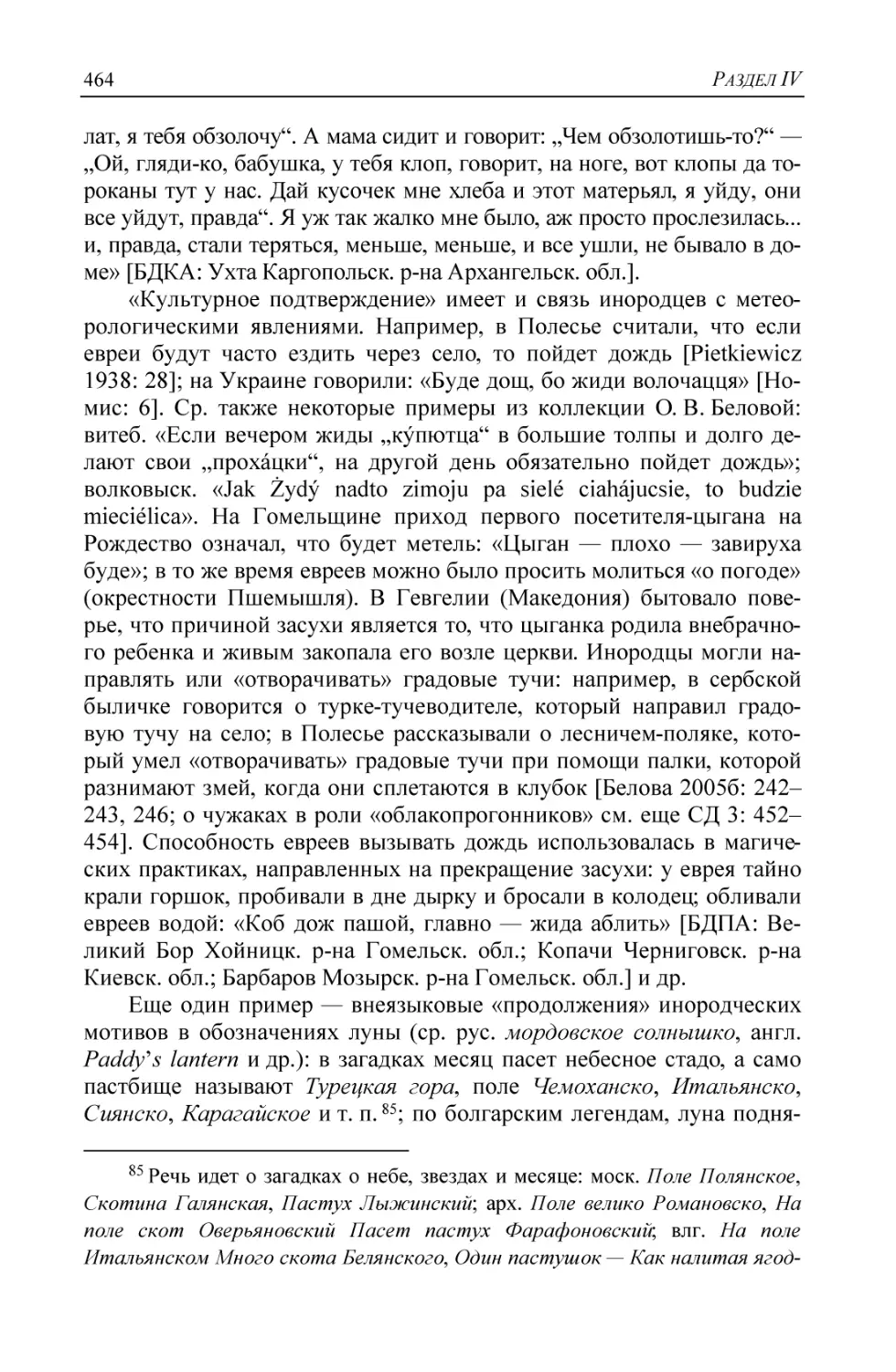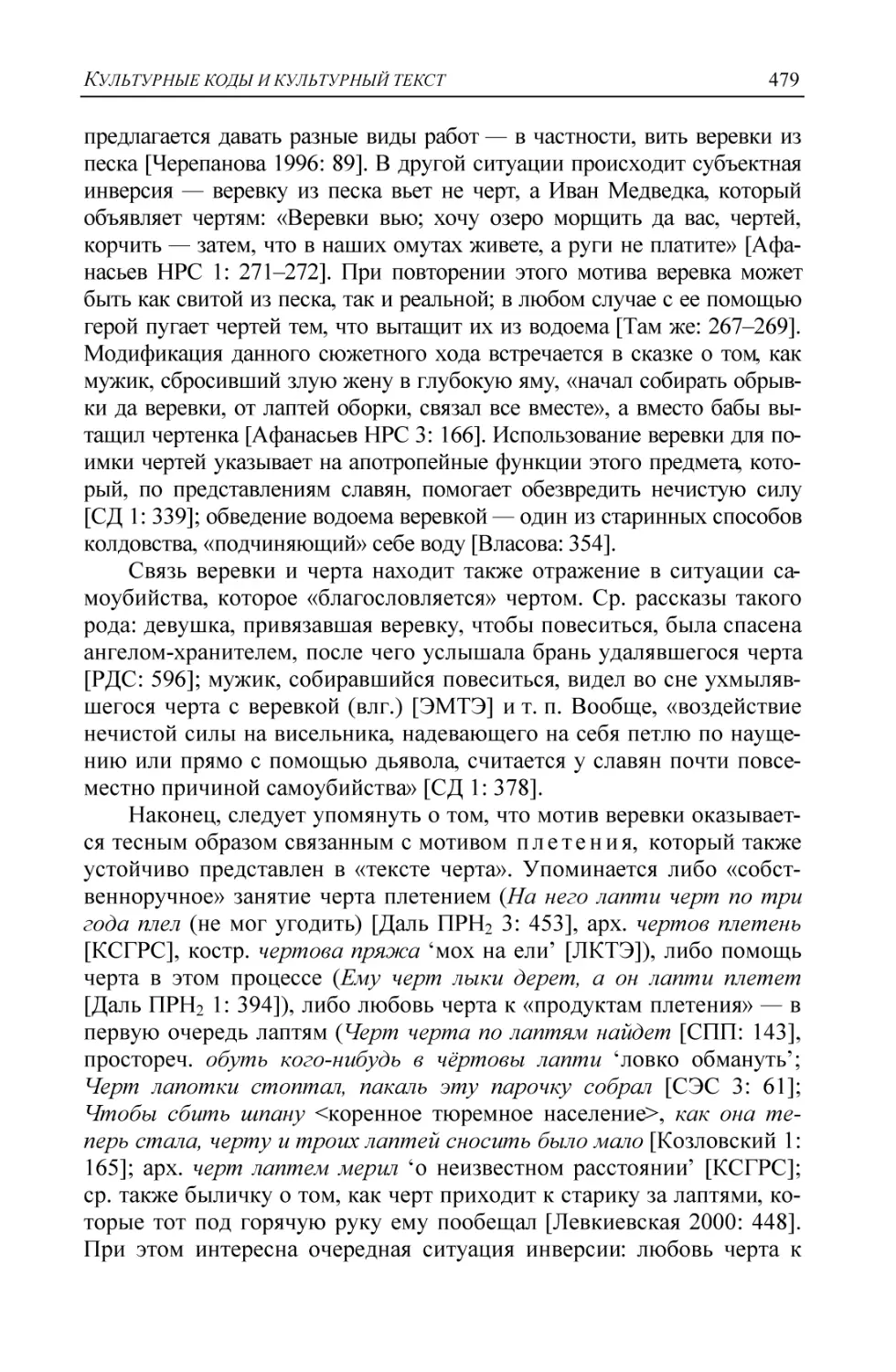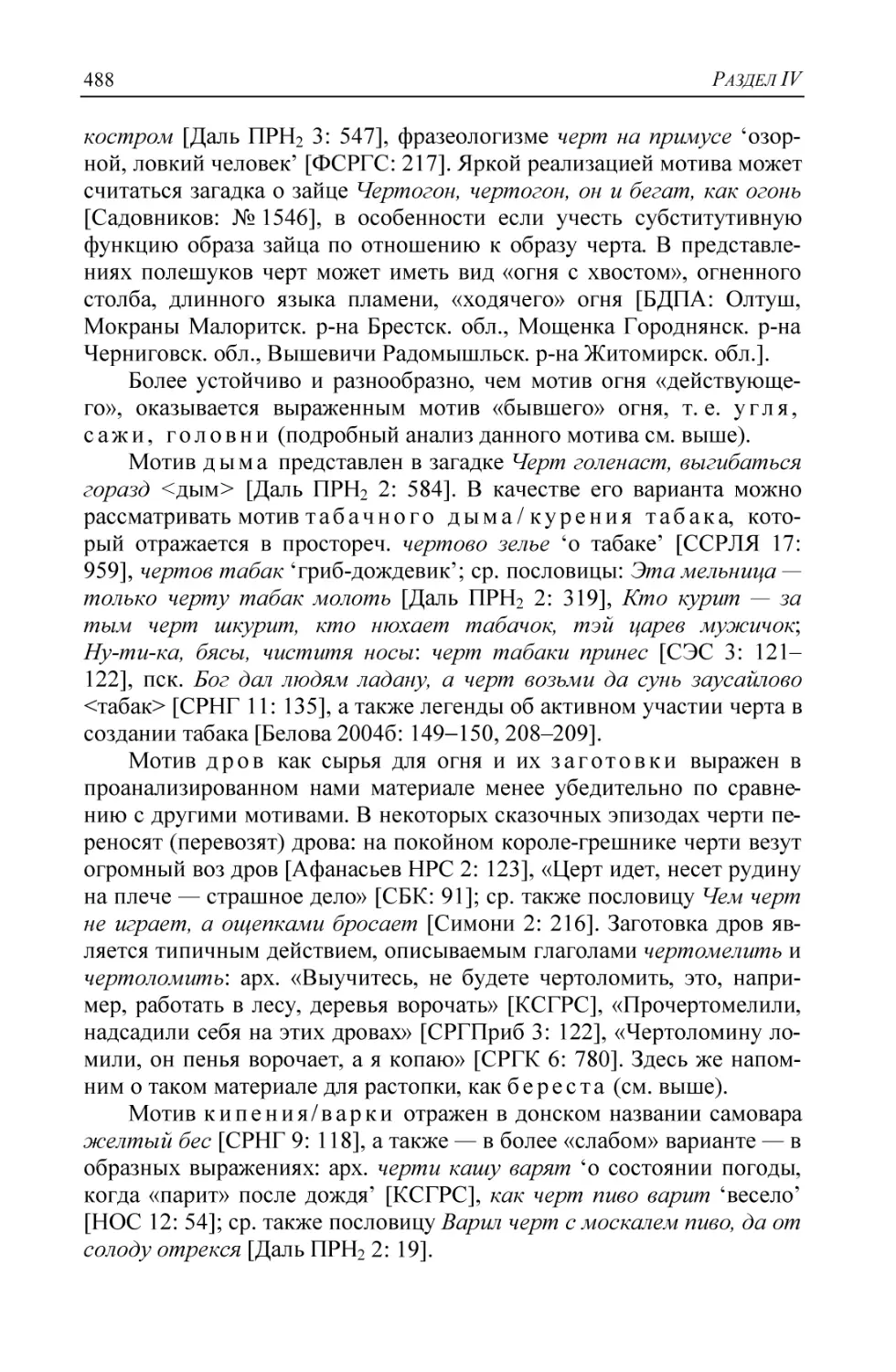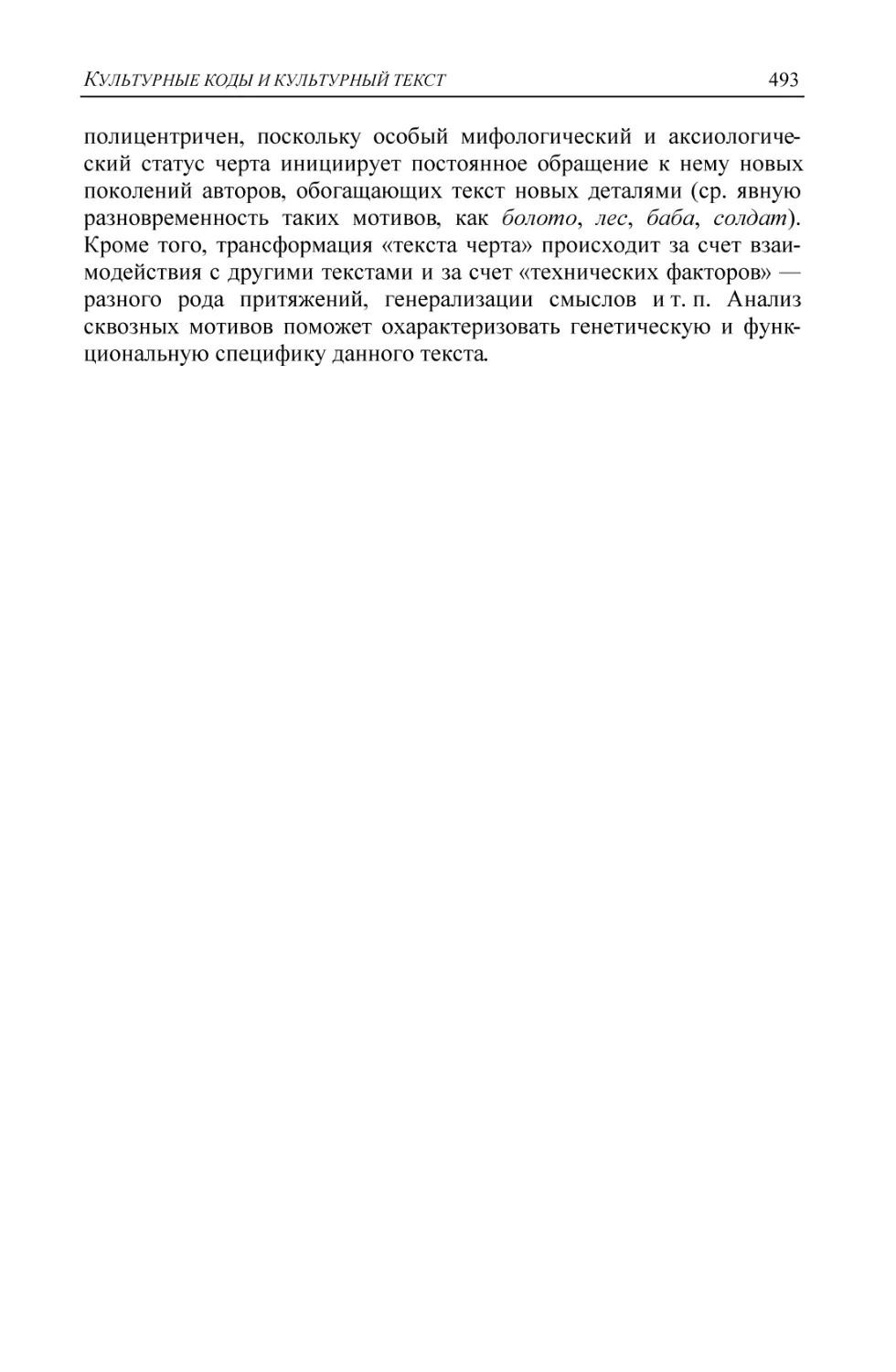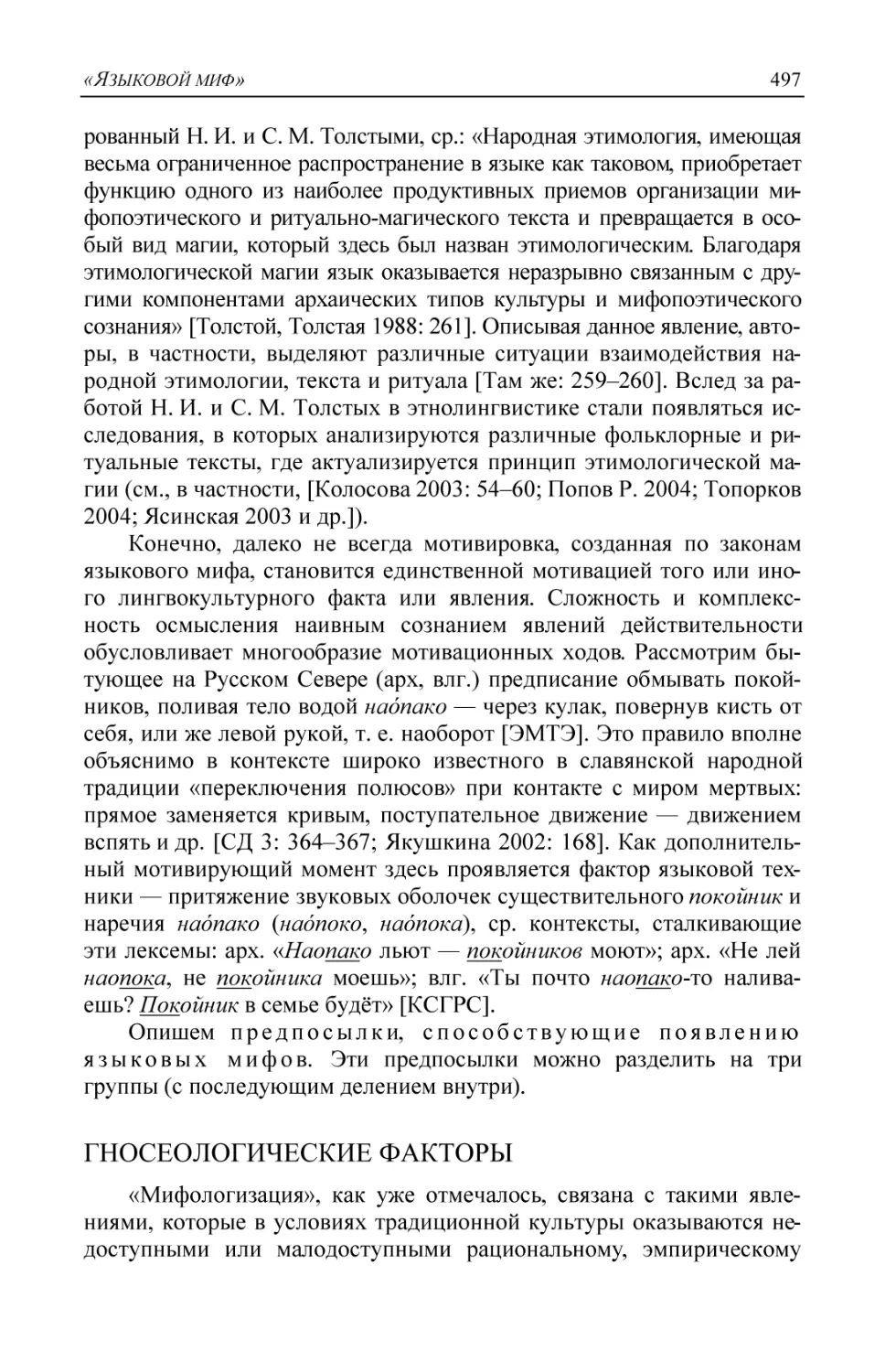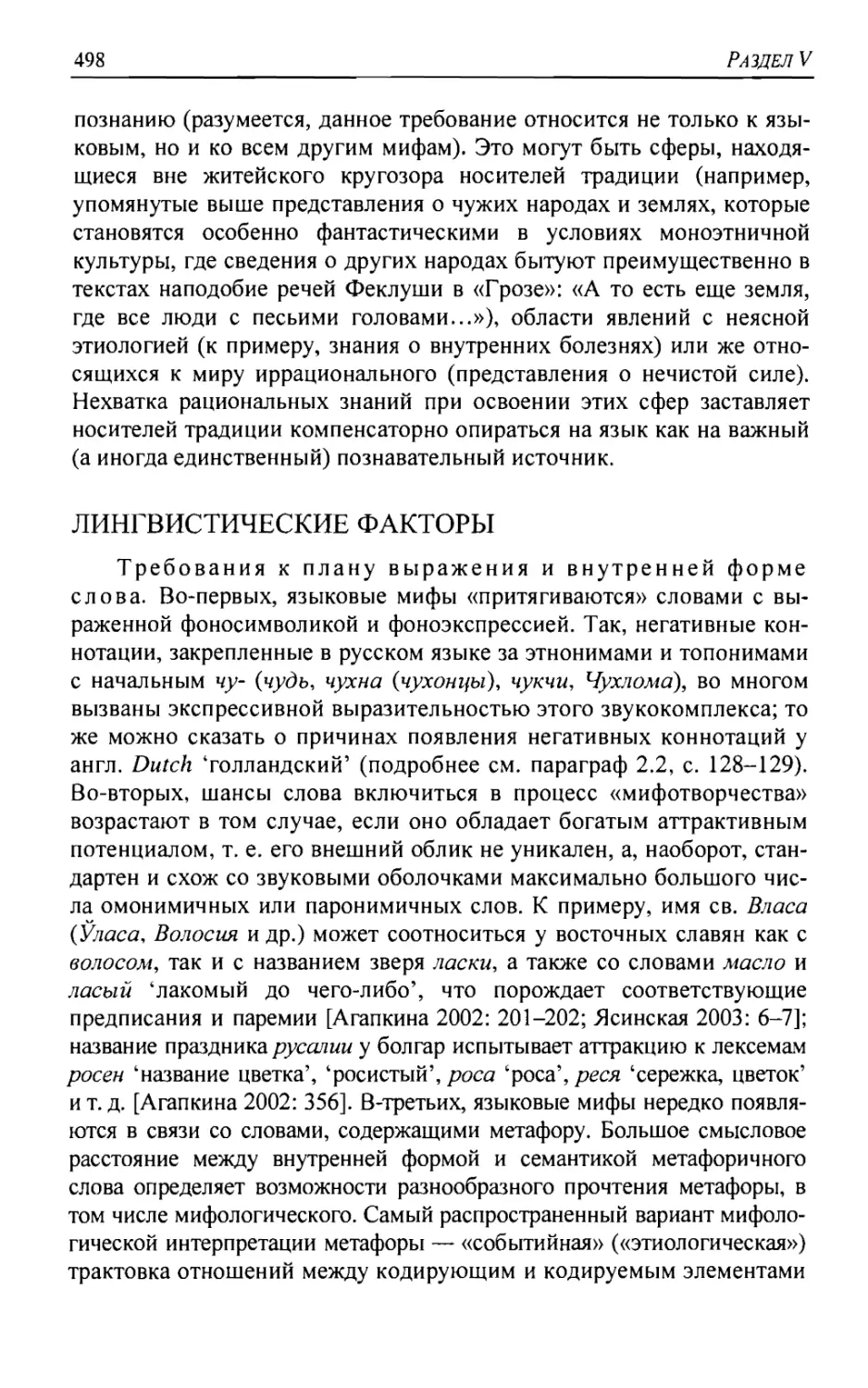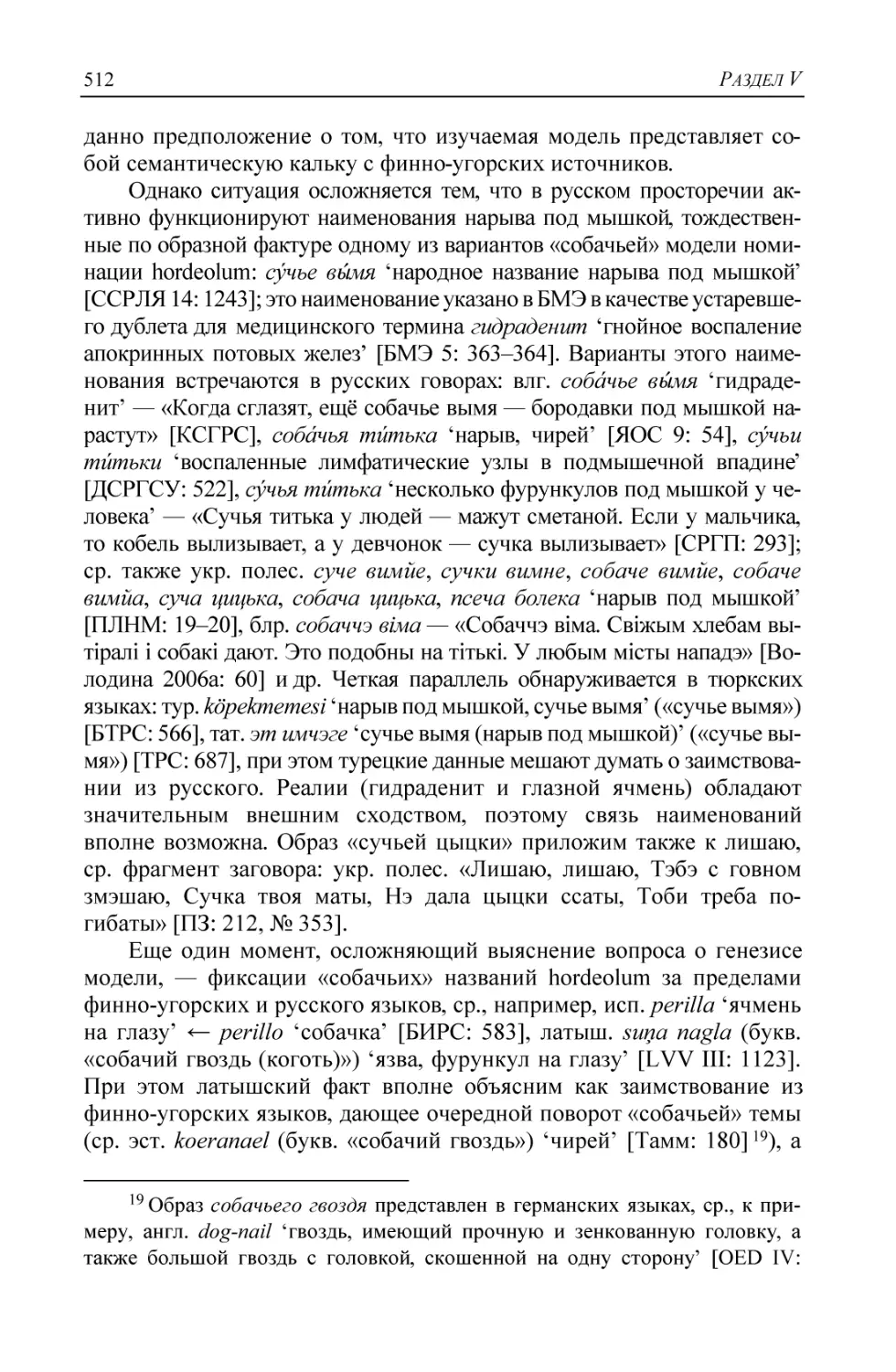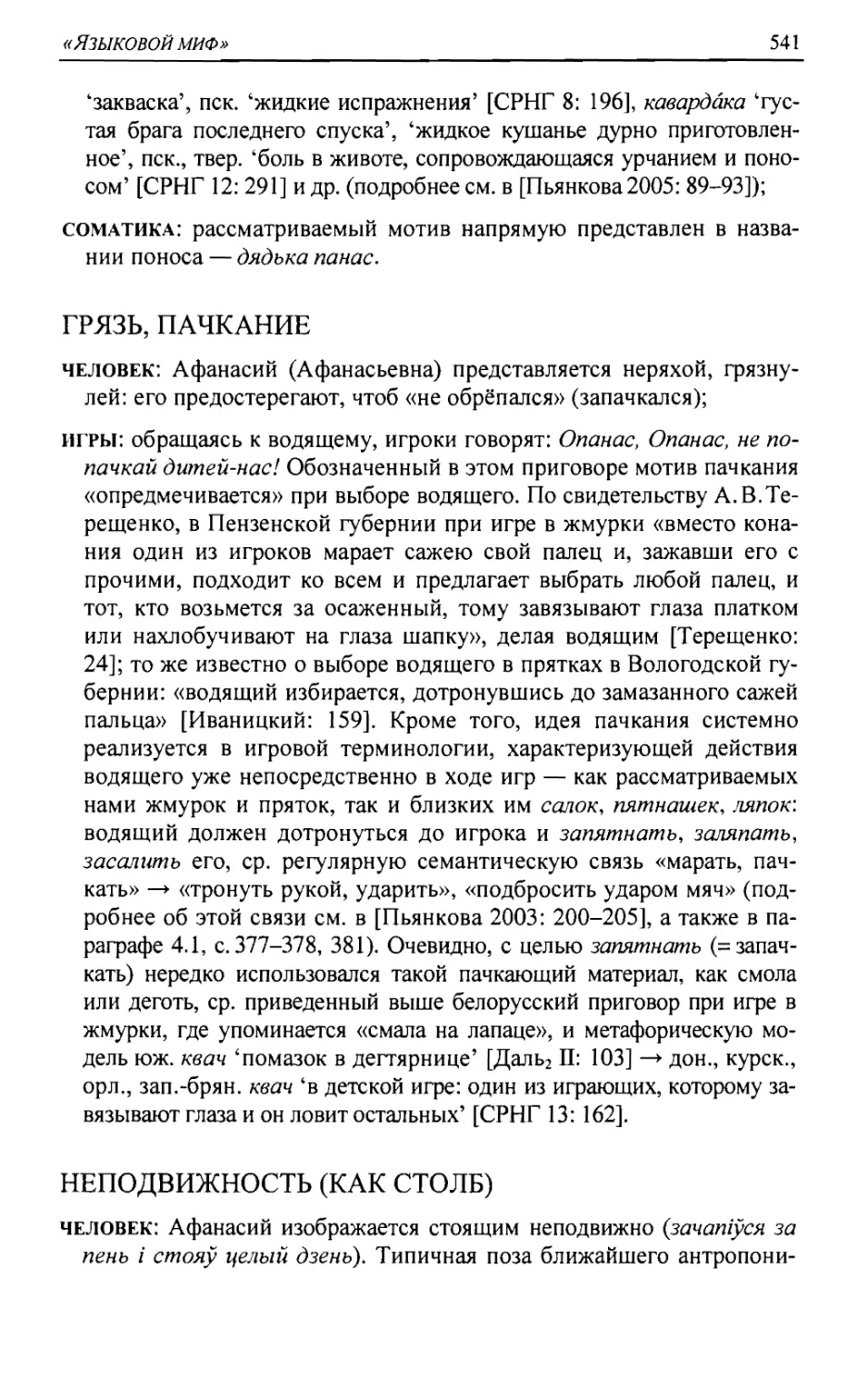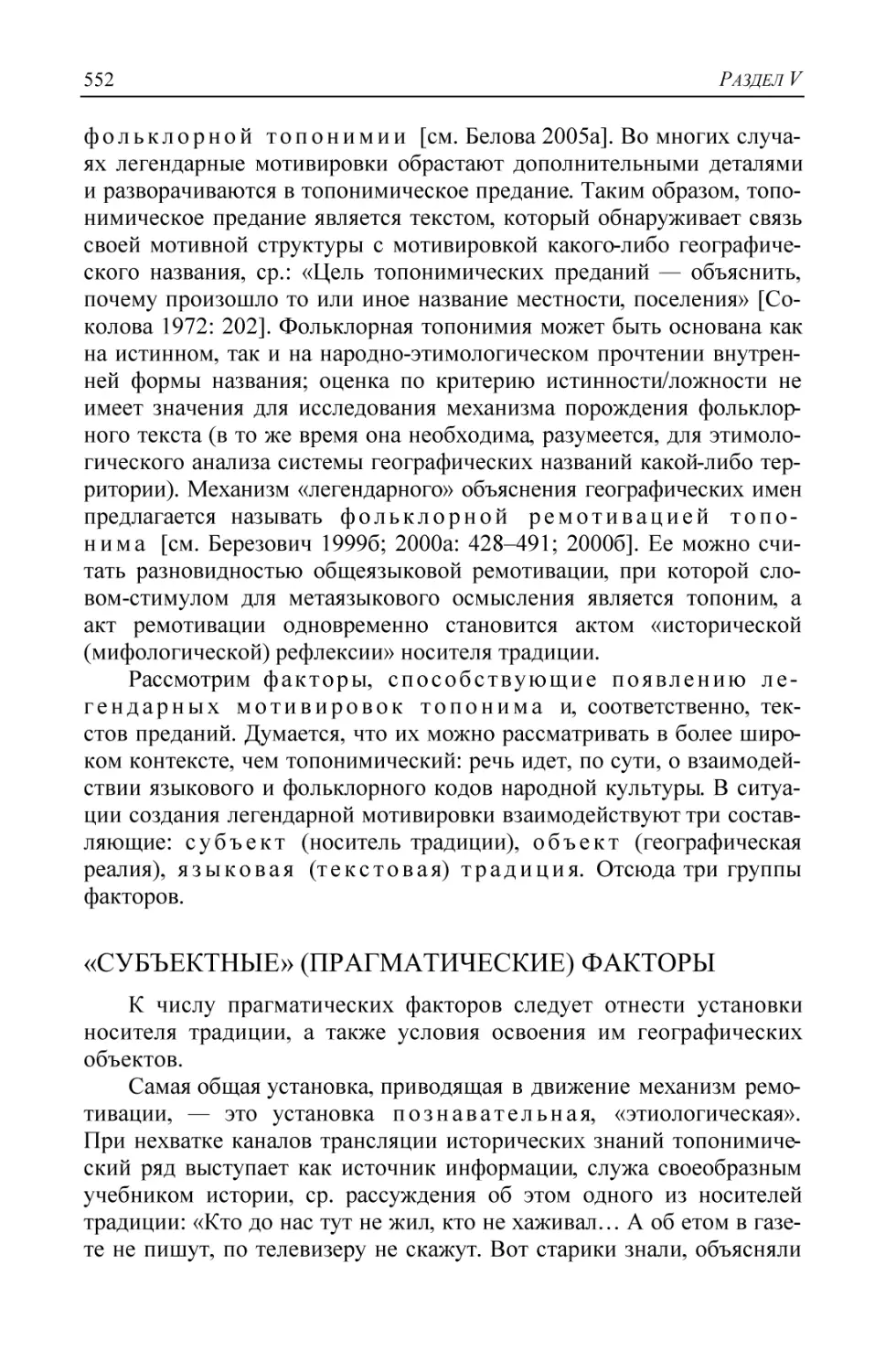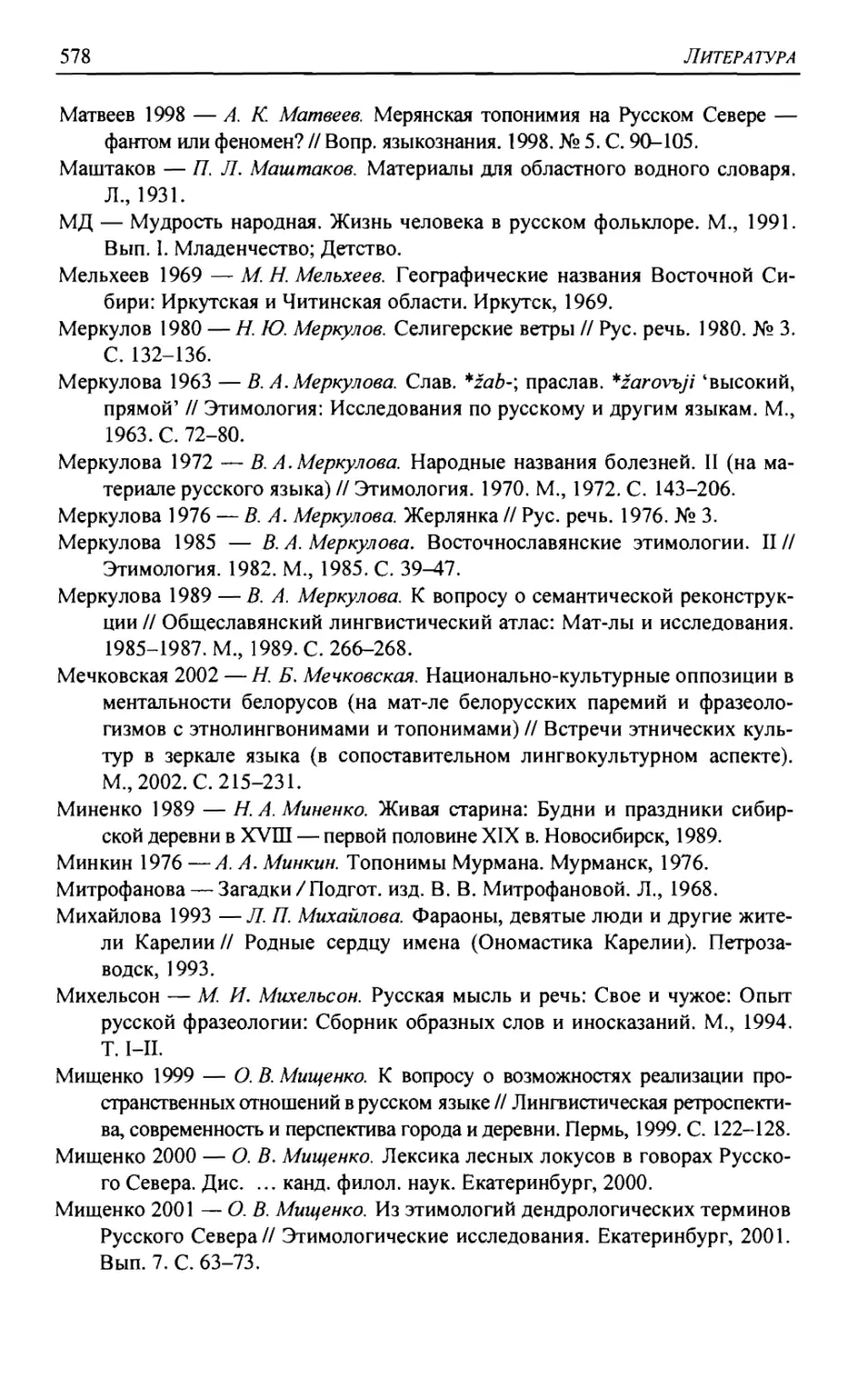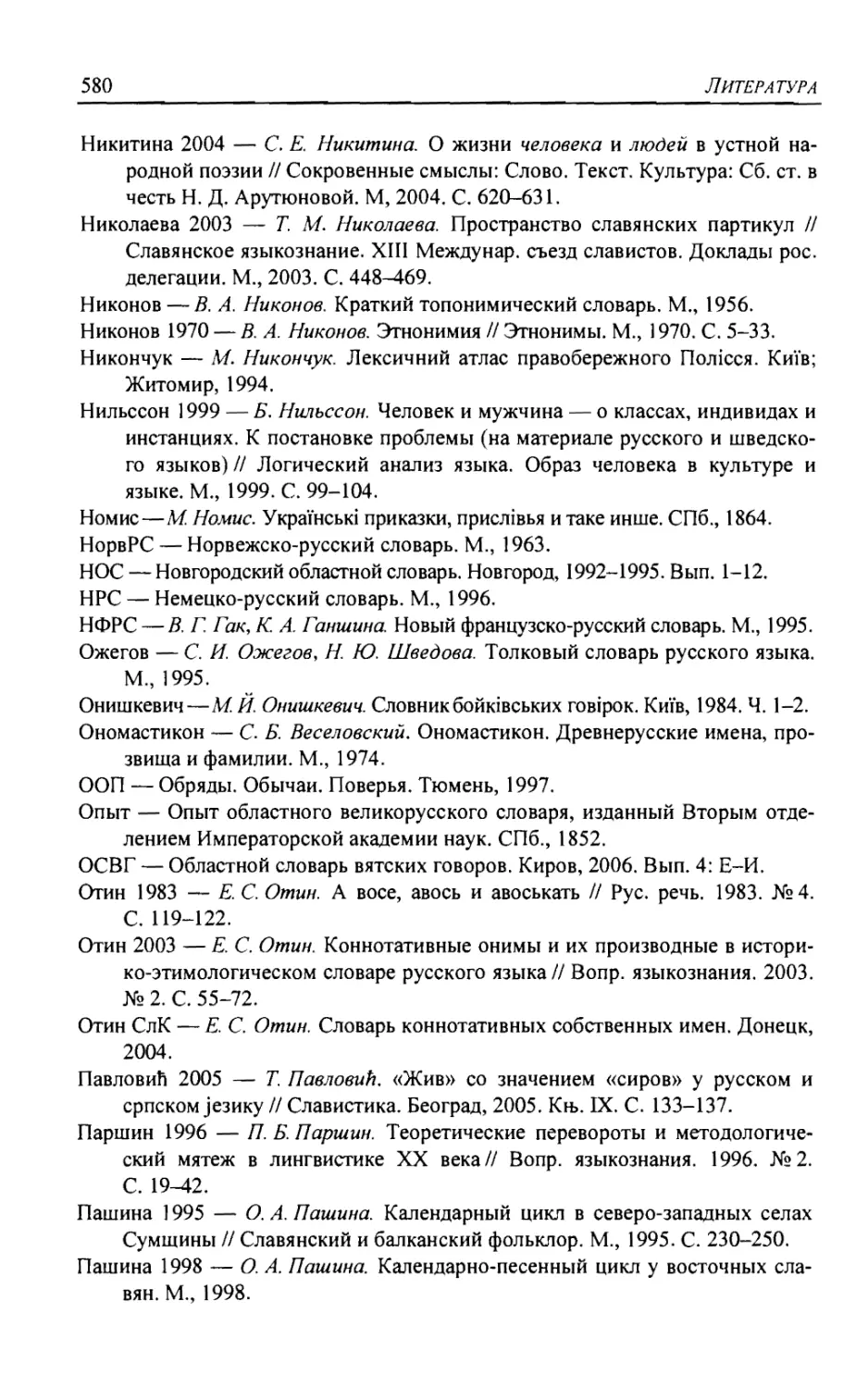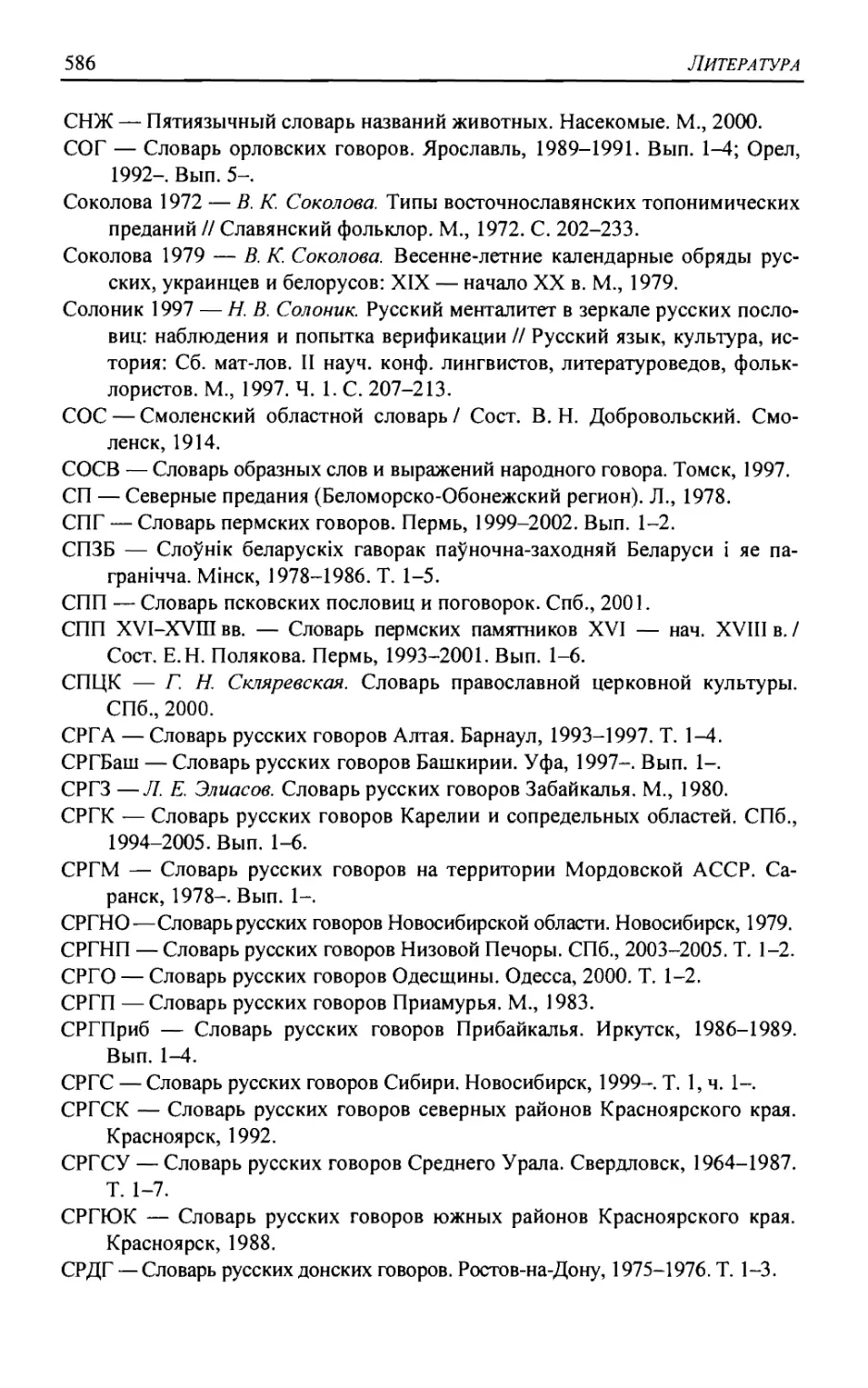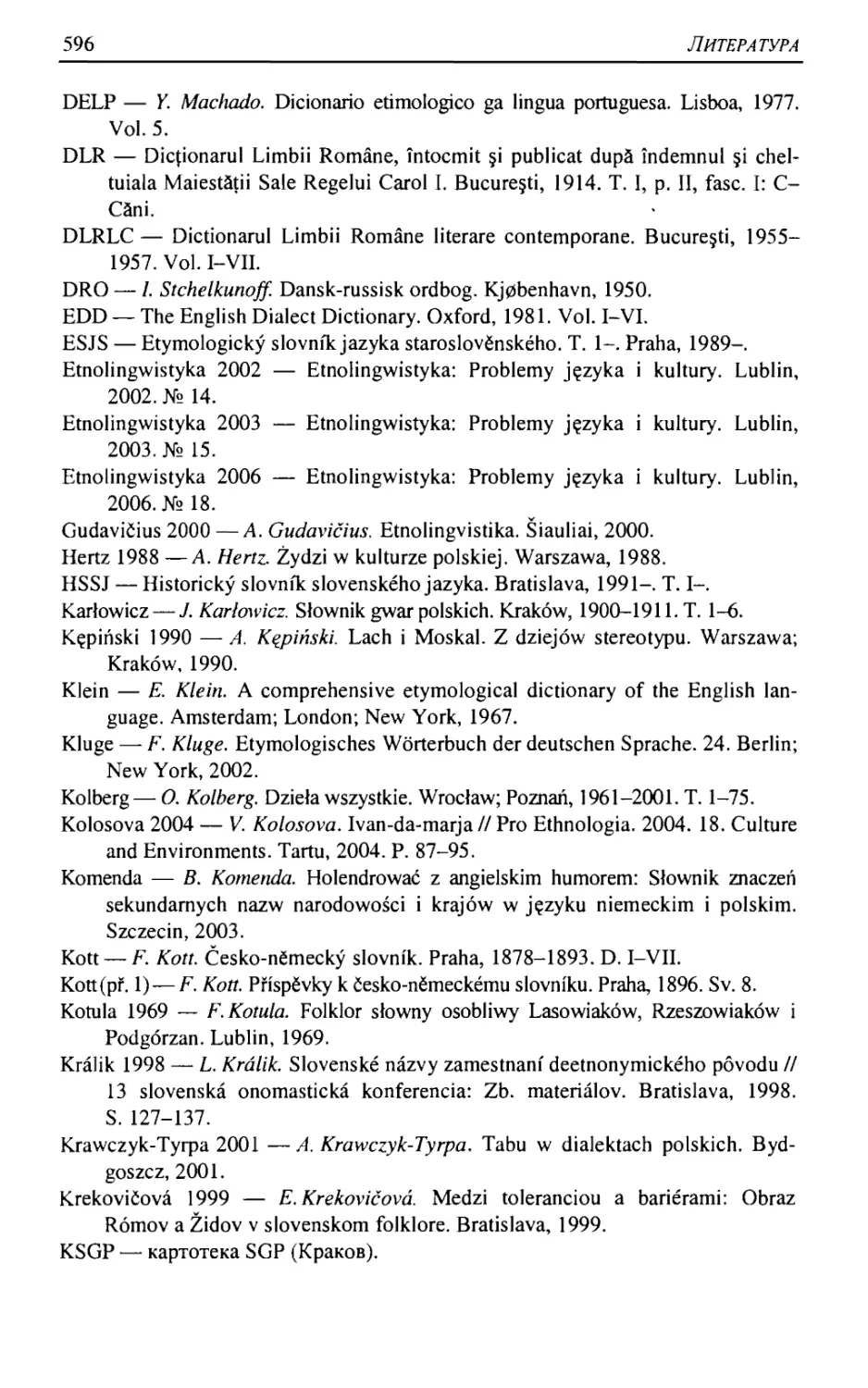Автор: Березович Е.
Теги: фольклор в узком смысле фольклор фольклорист культурология
ISBN: 978-5-85759-419-3
Год: 2007
Текст
Язык
и традиционная культура
Уральский государственный университет
им. А. М. Горького
Современные исследования
Е. Л. Березович
Язык и традиционная культура
Этнолингвистические исследования
X/ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИНДРИК»
Москва 2007
УДК 398
ББК 82
Б 48
Исследовательская работа выполнена при поддержке РГНФ
(проект Ns 04-04-00274а)
Издание осуществлено при поддержке РФФИ
(проект Ns 06-06-87048д)
Ответственный редактор
доктор филологических наук С. М. Толстая
Березович Е. Л.
Язык и традиционная культура: Этнолингвистические исследо-
вания. — М.: «Индрик», 2007. — 600 с. (Традиционная духовная
культура славян. Современные исследования.)
ISBN 978-5-85759-419-3
Монография выполнена в русле так называемой «узкой» этнолинг-
вистики, изучающей язык как источник информации о традиционной
духовной культуре народа. Книга основана преимущественно на мате-
риале русской ономастики и диалектной лексики, большая часть кото-
рого собрана в полевых условиях. Обсуждаются общие вопросы этнолинг-
вистического исследования лексической семантики, в том числе методика
извлечения культурных смыслов, заложенных в именах собственных и
нарицательных. Рассматриваются основные концепты традиционной
языковой картины мира, относящиеся к сферам ПРОСТРАНСТВО и
ЧЕЛОВЕК. Анализируются значимые для этнолингвистического ис-
следования категории «культурного кода» и «культурного текста».
Особое внимание уделяется проблемам «культурной реконструкции»
лексики, в том числе реконструкции «языкового мифа».
Книга адресована специалистам разного профиля — этнолингви-
стам, ономастам, семасиологам, фольклористам, этнографам, а также
всем, кто интересуется традиционной духовной культурой славян.
© Текст, Березович Е. Л., 2007
© Уральский государственный университет
им. А. М. Горького, 2007
ISBN 978-5-85759-419-3 © Издательство «Индрик», 2007
СОДЕРЖАНИЕ
Введение...................................................7
Раздел I. лексическая семантика
В ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ.........................19
1.1. К этнолингвистической интерпретации
семантических полей ...................................19
1.2. Ономастическая семантика..........................51
К построению модели топонимической семантики......51
Культурная семантика имен собственных.............59
РАЗДЕЛ II. ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО В ЗЕРКАЛЕ ЯЗЫКА.........81
2.1. Человек среди людей'.
о семантико-прагматической программе слова люди .......81
2.2. Человек этнический в зеркале языка:
к методике описания.................................. 112
2.3. Человек разумный', языковой образ дурака
(в соавторстве с Т. В. Леонтьевой) .................. 137
2.4 Языковой портрет русского захолустья............. 150
2.5. Свои и чужие земли ............................. 176
2.6. Демонический топос ............................. 205
2.7. Чудесное в пространстве......................... 225
РАЗДЕЛ III. СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЕКСИКИ
И ФРАЗЕОЛОГИИ........................................... 239
3.1. Формулы отказов при сватовстве.................. 243
3.2. Иван да Марья................................... 278
3.3. Типун тебе на язык!............................. 292
3.4. Сивого коня в поле не видать.................... 306
3.5. Жаба и лягушка в призме дериватов............... 311
3.6. «Мужичий» ветер................................. 320
3.7. О языковой концепции живой природы.............. 328
3.8. Еще раз о русском авось......................... 333
6
Оглавление
Раздел IV. культурные коды и культурный текст...........340
4.1. «Пищевой» код в дискурсе игры
(в соавторстве с К. В. Пьянковой) .................. 341
4.2. Явление лексической ксеномотивации................ 404
4.3. «Текст черта» в русском языке и традиционной культуре
(в соавторстве с И. В. Родионовой) ................. 467
Раздел V. «языковой миф»...................................494
5.1. Русские народные названия глазной болезни ячмень . 501
5.2. «Афанас, Афанас, провалился нынче в квас...» ..... 518
5.3. О механизмах порождения фольклорного текста....... 551
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ......................................... 561
ЛИТЕРАТУРА ............................................... 564
ВВЕДЕНИЕ
Как известно, введения к книгам нередко пишутся в конце рабо-
ты над ними: сказав все, легче подняться на метауровень, чтобы по-
нять самому, что же хотелось сказать, — и сформулировать это для
читателя. Такой ретроспективный взгляд заставил автора этой книги
отказаться от намерения проанонсировать во введении все рассматри-
ваемые далее темы и сюжеты: они слишком пестры и кажутся разроз-
ненными. Единство этой книги видится не столько в том, что в ней
изучается, сколько в том, как строится исследование, какой инстру-
ментарий выбирается, каков характер полученных результатов. По-
этому начать хочется с комментария к подзаголовку книги («этно-
лингвистические исследования»), определяющему научную область,
с которой отождествляет свою работу автор, — этнолингвистика.
Эта наука имеет парадоксальную судьбу: сыграв роль первопро-
ходца в становлении антропологической парадигмы языкознания (в кон-
це 30-х гг. XX в., когда появилась гипотеза лингвистической относи-
тельности Э. Сепира и Б.Уорфа), она не получила постоянного места
в этой парадигме, а отправилась в длительный и тернистый путь «по-
исков себя», в ходе которых ее статус получал порой исключающие
друг друга трактовки, размывающие и перекраивающие проблемное
поле науки. Во второй половине XX — начале XXI в. в пространстве
мировой лингвистической мысли соседствуют несколько «тезоимен-
ных» этнолингвистик, — и различия в формулировках предмета и за-
дач науки у этих «тезок» настолько чувствительны, что можно впасть
в самую непродуктивную эклектику, если пытаться объединить все
называемое или когда-либо названное словом этнолингвистика
В настоящей книге мы будем понимать под термином этнолин-
гвистика определенный вариант этой науки1 2 — тот, который разраба-
1 О разных трактовках предмета этнолингвистики см., в частности, в [Бе-
резович 2000а: 3-8; Герд 2001: 3-10; Журавлев 1995; Кабакова 1993; Копыленко
1995: 15-16; Хроленко 2000: 14—20; Юдин 1998в; Gudavicius 2000: 3-5 и др.].
2 Более 10 лет назад Н. И. Толстой высказался в пользу того, что «допус-
тимо и даже плодотворно различное восприятие этнолингвистики» [Толстой 1995:
39]. С этим суждением невозможно не согласиться, добавив, что «плюра-
лизм» особенно плодотворен в условиях диалога (полилога) разных направ-
лений науки. Сейчас же многие лингвистические школы и направления язы-
8
Введение
тывается в современной славистике, прежде всего в Московской
этнолингвистической школе Н. И. и С. М. Толстых, а также в Люблин-
ской этнолингвистической школе Е. Бартминьского3, объединивших
исследовательские силы и за пределами самих центров (это смеет отно-
сить к себе и автор настоящих строк). Теоретические постулаты, сфор-
мулированные в рамках данного направления, нашли доказательную
базу в исследованиях (в том числе фундаментальных словарях-энцик-
лопедиях, монографиях, серийных сборниках), которые выполнены на
богатом материале различных славянских лингвокультурных традиций
(изложение теоретических основ дисциплины, обзоры деятельности
школ и библиография представлены в [Толстой 1995: 15-60; 1999;
Толстой, Толстая 19956; Толстая 19966, 20026, 20056, 2006в; Славянская
этнолингвистика 2004; Български фолклор 2006; Юдин 19986, в; Bart-
minski 2002, 2004; Etnolingwistyka 2006: 7-143 и др.]). Представители
этого направления считают своей главной задачей изучение этнокуль-
турного своеобразия различных символических «языков», трансли-
рующих традиционную картину мира, среди которых ведущую роль
играет естественный язык. Результативность и объем этой работы (не-
смотря на относительную молодость славянской этнолингвистики —
ей около 30 лет) позволяют считать, что данная дисциплина обрела
свое лицо, нашла свою нишу в пространстве современной культурной
кознания нередко оказываются в «параллельных мирах», а их деятельность
носит «монологический» характер, что обусловлено и ослаблением научных
контактов, и отсутствием нормального книгообмена (которое пока не могут
восполнить ресурсы интернета), и неспособностью освоить и обобщить неохват-
ный объем информации, накопленный смежными научными направлениями.
Даже в последние годы, когда в России этнолингвистика включена отдельной
строкой в учебные планы филологических факультетов университетов (а это
наиболее явный показатель обретения наукой своих «институтов»), разные
«изводы» науки весьма редко оказываются соотносимыми друг с другом. По-
казателен подход к отбору материала, включенного в единственный в отечест-
венной науке специальный терминологический словарь — «Словарь этнолингви-
стических понятий и терминов» [Исаев 2003]. Сам жанр терминологического
словаря требует если не всеохватности, то хотя бы определения позиции ав-
тора к отбору терминологии (особенно с учетом того, что базовый термин
этнолингвистика многозначен). De jure такое самоопределение в словаре не
проводится, а подаваемый de facto материал свидетельствует о весьма узкой
и специализированной трактовке этнолингвистики как своего рода политиче-
ской географии языков.
3Эти коллективы, несмотря на некоторые различия между ними [см.
Толстая 20056: 18], можно считать идейно и духовно родственными.
Введение
9
антропологии (и антропологической лингвистики). Можно считать,
что, описав виток спирали, этнолингвистика в каком-то смысле вновь
стала первопроходцем: далеко не во всех дисциплинах антропоцен-
трического блока выкристаллизовалось представление о специ-
фическом материале исследования, комплексе аналитических
процедур, способах верификации полученных результатов etc. Такая
судьба делает этнолингвистическую проблематику не только сущест-
вующей «в себе и для себя», но и обусловливает ее значимость для
антроцентристского языкознания и культурологии в целом.
Этнолингвистика изучает этнокультурную информацию — ин-
формацию о мире, которая закреплена в символической форме, т. е.
имеет лингвокультурную маркированность. Содержание этой инфор-
мации определяется не столько объективным «фотографированием»
действительности, сколько субъективно-наивным мировосприятием
носителя традиции, имеющим этническую, социальную, культурную
подоплеку. Такая информация охватывает основные координаты мо-
дели мира (временные, пространственные, аксиологические и др.), но
при этом очень избирательна (в ряду близких по смыслу элементов
один может иметь культурную (языковую) отмеченность, а другой
оказывается лишенным подобной маркировки)4. С точки зрения ког-
нитивного генезиса она связана скорее с работой чувственно-эмпириче-
ского мышления, нежели рационально-логического. В функциональ-
ном плане этнокультурная информация многообразна, имеет разные
«версии»: обыденную, мифологическую, религиозную и др., которые
могут существовать в социуме параллельно друг другу и даже ужи-
ваться в сознании одного носителя. Своеобразие этих версий этно-
культурной информации в некоторой степени обусловлено специфи-
кой канала трансляции информации, способа предъявления послед-
ней. Разные фрагменты картины мира, разные информационные зоны
имеют свои предпочтения при выборе «передатчика»: один тип зна-
ний, оценок и представлений будет запечатлен скорее «рассыпанны-
ми» номинациями, другой — фольклорным текстом, третий — ритуа-
лом, ср.: «В определенной степени различны и картины мира, стоя-
щие за фольклором, с одной стороны, и верованиями и обрядами — с
другой» [Толстая 1993: 66]. Эти различия пока практически не изуча-
лись, их анализ составляет одну из насущных задач этнолингвистики.
4Ср.: «...волк, кукушка, верба занимают очень важное место в системе
культурных символов, а прагматически близкие к ним лиса, дятел, черемуха
фактически лишены культурных функций (ср. также культурное значение бо-
роны, топора, горшка, с одной стороны, и лопаты, молотка, миски — с дру-
гой)» [Толстой, Толстая 19956: 9].
10
Введение
Размышляя о структуре этой науки, Н. И. Толстой выделил в ней
две основные исследовательские области, условно называемые «уз-
кой» и «широкой» этнолингвистикой. Первая есть «раздел
языкознания или — шире — направление в языкознании, ориентирую-
щее исследователя на рассмотрение соотношения и связи языка и ду-
ховной культуры, языка и народного менталитета, языка и народного
творчества, их взаимозависимости и разных видов их корреспонден-
ции» [Толстой 1995: 27]. Эта ядерная для этнолингвистики область
находится пока в стадии разработки и накопления сфер, подходов и
принципов исследования, — ив этом смысле отстает от более разви-
той «широкой» этнолингвистики. В центре внимания последней не
собственно естественный язык, а весь «„план содержания44 культуры,
народной психологии и мифологии независимо от средств и способов
их формального воплощения (слово, предмет, обряд, изображение ит. п.).
Такое изучение, однако, в наше время может вестись преимуществен-
но или исключительно лингвистическими методами, что в значитель-
ной мере оправдывает наличие второго компонента слова „этнолинг-
вистика44» [Там же: 39-40].
Данная книга относится к области «узкой» этнолингвистики — и
в дальнейшем на ее страницах книги термин этнолингвистика будет
употребляться именно в «узком» значении.
При всей объективной важности своих исследований этнолин-
гвистика является маргиналом для «основного эшелона» современной
антропологической лингвистики. Многие направления, существующие
в ее рамках (лингвокультурология, когнитивная лингвистика, концеп-
туальный анализ и др.), изучают в первую очередь данные синхронно
функционирующих литературных языков, практически не обращаясь
к истории языка, не затрагивая диахроническую проблематику, — и это
вполне естественно: при недостаточной методологической оснащен-
ности антропологического языкознания исследователям очень важна
поддержка собственной интроспекции, собственного языкового «слу-
ха», а также «прозрачность» изучаемых фактов, их максимальная дос-
тупность анализу. Однако при этом неизбежны существенные потери:
современные европейские литературные языки испытывают такое же-
сткое взаимовлияние, и особенно воздействие языков международных
(не говоря уже о взаимодействии различных социолектов внутри на-
ционального языка, а также о принципиальной полифонии культуры,
«обслуживаемой» литературным языком), что очень сложно говорить
об этническом своеобразии той картины, которая может быть получе-
на в ходе анализа.
Этнолингвистика же выбирает более однородный в когнитивном
плане и релевантный в плане этнокультурном материал — материал
Введение
11
народной традиции (в первую очередь ее лексикон), который в то же
время требует более трудоемких предварительных процедур (предше-
ствующих собственно концептуальной интерпретации), — необходимо
«перевести» значения слов на тот семантический метаязык, которым
владеет исследователь; чаще, чем в случае литературной лексики, при-
бегать к мотивационному и этимологическому анализу ит. п. Дополни-
тельное затруднение связано с тем, что народный лексикон не только
не получил до сих пор удовлетворительного лексикографического опи-
сания, но даже не собран с достаточной полнотой. Особенно это спра-
ведливо для такой обширной части народного лексикона, как ономасти-
кой и его подсистемы — топонимия, антропонимия, этнонимия и проч.
Это объясняет причины сегодняшнего положения дел в «узкой»
этнолингвистике, о котором говорилось выше: данная дисциплина на-
капливает результаты интерпретации отдельных групп языковых фак-
тов, осваивает разные способы работы с материалом. Отсюда замысел
автора книги собрать вместе и представить разнообразные ситуа-
ции, с которыми сталкивается исследователь при эт-
нолингвистическом анализе языковой семантики (ра-
зумеется, мы далеки от мысли дать сколь бы то ни было полную ти-
пологию таких ситуаций; это не по силам автору отдельной книги).
Несмотря на различия в тематических (идеографических) характери-
стиках анализируемых фактов, их категориальной принадлежности
(имя нарицательное vs собственное, абстрактная vs конкретная лекси-
ка, цельнооформленные единицы vs фразеология и вербальные фор-
мулы, специальная «культурная лексика», т. е. лексика обрядов и ве-
рований vs «обычные» слова), глубине реконструкции, требуемой в
каждом случае, представленные в книге ситуации имеют много обще-
го. Их объединяет тип изучаемого материала — данные языковой
традиции (в первую очередь русской диалектной лексики и ономасти-
ки). Другим объединяющим фактором служат процедуры анали-
за — в первую очередь, этимолого-ономасиологический (мотиваци-
онный) анализ и семантическая (идеографическая) классификация, а
также контрастивный и типологический анализ, разворачивающийся в
трех плоскостях: а) сопоставление лексики разных подъязыков в пре-
делах национального языка (говоров, литературного языка, жарго-
нов), б) сопоставление лексики разных национальных языков и диа-
лектов; в) сопоставление языкового кода с другими субстанционалы
ными формами культуры, прежде всего с фольклорным и обрядовым.
Наконец, едины задачи исследования (реконструкция традици-
онной языковой картины мира) и его принципы (о которых ниже).
Многие сюжеты приходили к автору не «по плану», но «всплыва-
ли» неожиданно (чаще всего в ходе экспедиционной работы на Рус-
12
Введение
ском Севере), привлекая неясными поначалу «этнокультурными ожи-
даниями», которые затем, при погружении слова в более широкий
языковой и культурный контекст, либо оправдывались и прояснялись,
либо не сбывались. Разработка «внепланового» сюжета подсказывала
возможность планомерного изучения тех лексических пластов, кото-
рые соседствуют с данным. Эта дедуктивно-индуктивная техника (в
которой, разумеется, нет ничего нового или необычного) обнаружила,
что втягивающиеся в орбиту анализа языковые факты постепенно да-
ют вполне показательный диапазон возможностей этнолингвистиче-
ского исследования языковой семантики.
Важная для этой работы установка состоит в том, что изучае-
мые языковые единицы должны представлять собой не изолирован-
ные факты, а определенную лексическую систему (микросистему) —
лексико-семантическое поле, деривационное гнездо, мотивационный
ряд и др. Стоящие за вербальным рядом идеи и представления не
могут без остатка «влиться» в значение одного слова, не отражаясь так
или иначе в значениях его антонимов, синонимов и когипонимов, в
деривационных связях, в текстовой «валентности». Это положение
тоже вполне тривиально, но не будет излишним, как представляется,
о нем напомнить, чтобы предостеречь себя от глобальных выводов
этнокультурного характера, сделанных на основе «точечных» фак-
тов. Подобными выводами особенно чреват анализ так называемых
«ключевых слов культуры»: отсутствие для какого-либо «ключевого
слова» точных параллелей в других языках иногда становится един-
ственным поводом для провозглашения национальной самобытно-
сти той идеи, которая отражается в значении этого слова, — но при
этом не делаются попытки проверить, выражается ли «самобытная»
идея какими-то другими способами (в этом плане интересны и спра-
ведливы рассуждения В. М. Мокиенко, который указывает на недо-
пустимость анализа единичных и подчас случайных лексических па-
раллелей из разных языков, на основании которого утверждается
«загадочность» какой-либо национальной души [Мокиенко 2006а:
225-226]).
И еще одно соображение. Упоминая об «этнокультурных ожида-
ниях» или о выводах этнокультурного характера, мы неизменно заду-
мываемся о том, насколько далеко эти выводы могут выходить за
пределы языковой сферы, каким может быть уровень «культурных
обобщений». Ответ на этот вопрос исключительно важен в эпистемо-
логическом плане, но ни автор этой книги, ни, наверное, другие ис-
следователи еще не готовы дать исчерпывающие формулировки (учи-
тывая переживаемую наукой стадию «первичного накопления капи-
тала»). Пока хочется обозначить только «негативный» принцип, кото-
Введение
13
рый состоит в отказе от прямого прочтения языковой мотивации и
семантики в связи с национальной психологией и менталитетом. Осо-
бенно это касается семантики высказываний: так, пословицы, которые
часто воспринимаются лингвокультурологами как аксиологические
мини-манифесты носителей языка, при лобовом извлечении «куль-
турных смыслов» нередко дают взаимоисключающие результаты (как
известно, к паремиям, будто бы свидетельствующим о лени какого-ли-
бо народа, всегда можно найти «контр-паремии» о его трудолюбии).
Вообще, язык не есть учебник по национальной психологии. Языко-
вые феномены могут объясняться культурными, социальными, поли-
тическими обстоятельствами, но не стоит ждать от языковой системы
эксплицитного и систематического «изложения» жизненного кредо
носителей языка. Вот один пример. Обилие в русских говорах и про-
сторечии лексем со значением ‘глухое, отдаленное место, захолустье’
(количество которых возрастает в тех зонах, где преобладает гнездовой
тип поселений с ярко выраженным делением на центр и периферию)
имеет в качестве одной из причин внеязыковую — особые геополити-
ческие условия, сложившиеся в России (нельзя не учитывать и собст-
венно языковую причину: повышенную экспрессивность «захолуст-
ных» слов, — а экспрессивная семантика склонна мультиплицировать
количество языковых фактов, реализующих какую-либо модель). Вы-
явление внеязыковых обстоятельств такого рода не должно приводить
к заключениям, что русским свойственно «имперское мышление» или,
наоборот, «комплексы провинциалов»: эти выводы лежат за предела-
ми «языкового знания» (подробнее об этом см. в параграфе 2.4 на-
стоящей книги).
Пояснив общие принципы исследования, охарактеризуем анали-
зируемый в книге языковой материал. В качестве материала ис-
пользованы, в первую очередь, данные картотек Топонимической экс-
педиции Уральского государственного университета (далее ТЭ УрГУ)
по территории Русского Севера (Архангельская и Вологодская облас-
ти), Костромской, Ярославской областей, Среднего Урала и Западной
Сибири. Здесь представлены как ономастические факты (главным об-
разом топонимия, а кроме того, прозвищная антропонимия, этнонимия,
хрононимия, астронимия), так и факты нарицательной лексики, а также
сведения этнографического характера. Этот обширный массив материала
собран в полевых условиях и большей частью является новым, впервые
вводимым в научный оборот. Наиболее представительная часть изучае-
мых языковых и культурных фактов связана с Русским Севером, который
является заповедником традиционной русской культуры.
Описанный массив материала является далеко не единственным.
Кроме него, к изучению широко привлекаются данные других лексико-
14
Введение
графических источников по русскому языку: это главным образом диа-
лектные словари, а также словари литературного языка, жаргонов, ис-
торические и этимологические словари. В ряде случаев задачи исследо-
вания предполагают сопоставление русских и иноязычных данных
(с типологической или этимологической целью) —для этого использу-
ются диалектные, литературные, этимологические словари славянских
языков (реже неславянских — германских, романских, финно-угорских,
тюркских и др.).
Охарактеризуем структуру монографии.
В разделе I «Лексическая семантика в этнолингвистической пер-
спективе» обсуждаются общие вопросы этнолингвистического иссле-
дования лексической семантики, при этом особое внимание уделяется
«макросемантике» — семантическим полям, которые рассматриваются
на трех уровнях — собственно семантическом, мотивационном и уровне
культурной символики. Отдельно рассматриваются особенности этно-
лингвистического изучения ономастической семантики (преимущест-
венно на материале семантики топонимов). Выстраивается многоуровне-
вая модель семантики топонима (с проекцией на общую модель значения
имени собственного), делается попытка определить место «культурной
составляющей» ономастической семантики, изучается явление конно-
тации в семантике онима.
Раздел II «Человек и пространство в зеркале языка» содержит ха-
рактеристику наиболее значимых для традиционной картины мира
концептуальных полей — «Человек» и «Пространство», представлен-
ных фактами нарицательной лексики, фразеологии и ономастики. Ра-
зумеется, избранные для изучения лексические подсистемы не могут
проявить всего того, что «знает» русская языковая традиция о челове-
ке и пространстве. В то же время данные подсистемы обнаруживают
особо важные «сгустки» этого языкового знания и показательны для
характеристики той логики, которая лежит в основе наивной социоло-
гии и географии.
При анализе концептуального поля «Человек» выделяются раз-
ные роли, «ипостаси» человека: человек как индивидуум и вместе с
тем член социума, человек в связи с его этнической характеристикой,
человек как «существо интеллектуальное». Анализ «пространствен-
ного поля» включает рассмотрение таких «разворотов», «версий»
пространственной модели мира, как социальное пространство (опре-
деляемое оппозициями «центр — периферия», «свое — чужое») и ми-
фологическое пространство (связанное с категориями демонического
и чудесного).
Раздел III озаглавлен «Семантическая реконструкция лексики и
фразеологии». Если в предыдущем разделе изучаются обширные ело-
Введение
15
весные объединения и ракурс анализа не подразумевает внимательно-
го рассмотрения судеб отдельных языковых фактов, то здесь исполь-
зуется иная оптика, точнее, — другие настройки оптических прибо-
ров: в фокусе нашего внимания оказываются отдельные слова и вы-
ражения, требующие «штучного подхода» вследствие непрозрачности
своей мотивации, а фоном становятся те смысловые поля, к которым
они принадлежат. В разделе представлены разнообразные ситуации
семантической реконструкции, причем разнообразие скрывается в
системно-языковом статусе изучаемых фактов, в характере их «куль-
турной нагруженности», в методике реконструкции.
Категории, которые фигурируют в названии раздела IV — «Куль-
турные коды и культурный текст», — являются категориями не толь-
ко естественного языка, но и языка культуры. Этот раздел вновь ме-
няет оптику исследования. От судеб конкретных слов и выражений
мы возвращаемся к обширным лексическим полям (как и в разделе II),
но в этот раз изучаемые поля формируются по мотивационному
принципу: это система слов одной тематической принадлежности, ко-
торая дает регулярный перенос на другую область (области) действи-
тельности, т. е. некоторый мотивирующий код, на «языке» которого
можно выразить различные идеи. Рассматриваемые в данном разделе
коды названы культурными, поскольку они представлены не только
определенными лексическими группировками, но и связанными с ни-
ми фольклорными текстами, верованиями и проч. Анализируются два
разным образом организованных кода: во-первых, «пищевой» код в
дискурсе восточнославянских игр; во-вторых, ксенонимия (обозначе-
ния чужих народов и земель) в лексике и фразеологии славянских
языков (на инославянском типологическом фоне).
Если культурный код есть понятие парадигматики языка культу-
ры, то культурный текст — синтагматики. В ходе анализа культурно-
го текста выявляется типология различных мотивов, функционирую-
щих в его составе, а также способов реализации мотива в тексте. Ис-
следование проводится на примере «текста черта» в русском языке и
традиционной культуре.
В разделе V «Языковой миф» рассматривается специфический ва-
риант порождения культурного текста — ситуация, когда он создается
самой языковой системой (или же при ее «решающем» участии) и не
является отражением действительности внеязыковой (к примеру, язы-
ковое сознание может извлечь культурную информацию (какие-либо
верования, запреты, предписания) из народно-этимологических сбли-
жений слов). В этом случае мы имеем дело с особым феноменом линг-
вокреативного мышления — языковым мифом. Анализируются три
лексические подсистемы, где подобное мифотворчество проявилось
16
Введение
особенно активно: лексика народной медицины (наименования глазной
болезни ячмень, которые продуцируют магические способы лечения
болезни); семантико-словообразовательное гнездо на базе личного име-
ни (на примере имени Афанасий}, географические названия, порожда-
ющие фольклорные тексты — тексты топонимических преданий.
Таким образом, логика, в соответствии с которой строится ком-
позиция книги, такова: от обоснования принципов этнокультурного
изучения апеллятивной и проприальной лексики — к этнолингвисти-
ческому анализу тематических лексических полей; затем — к индиви-
дуальной реконструкции отдельных непрозрачных слов и выражений
в составе таких тематических групп; далее — к изучению категорий
языка культуры — культурного кода и культурного текста. Наконец —
анализ такого феномена языка культуры, как языковой миф, свидетель-
ствующего о слиянности языка и мышления, о возможности «окуль-
туривания» собственно технических возможностей системы.
* *
Оговорим принципы подачи языкового материала, приня-
тые в книге.
Для активной и широко распространенной лексики русского ли-
тературного языка и просторечия указание на источник материала
(паспортизирующая справка) не приводится (кроме тех случаев, когда
важны тонкости словарной дефиниции); в остальных случаях — для
литературных слов, имеющих низкую степень известности, а также
для жаргонной и диалектной лексики — она дается. При повторном
использовании одного и того же языкового факта в пределах одного
раздела книги паспортизирующая справка опускается.
При подаче фактов нарицательной лексики русского языка даются
социолингвистические пометы — литер., просторен., жарг.; помета
диол, заменяется конкретной лингвогеографической пометой (см. ниже)
и ставится только тогда, когда диалектные факты оказываются в одном
перечислительном ряду с примерами из других форм существования
языка, — чтобы отделить разные подъязыки друг от друга. В тех разде-
лах, где анализируется преимущественно экспрессивная лексика (на-
пример, 2.3 «Человек разумный: языковой образ дурака»), социолин-
гвистические пометы ставятся выборочно — в тех случаях, когда они
помогают отделить друг от друга паспортизируемые и непаспортизи-
руемые материалы. Такое игнорирование помет — мера вынужденная:
имея дело с экспрессивной лексикой широкого употребления, совре-
менные русские лексикографические источники нередко затрудняются
в ее социолингвистической привязке, вследствие чего одна и та же еди-
ница может попасть в дифференциальные словари говоров, жаргонов
Введение
17
или же в словари литературного языка с пометой простореч. (к приме-
ру, идиома не все дома фиксируется всеми типами источников).
С целью экономии места при русских диалектных словах лингво-
географические пометы ставятся только в тех случаях, когда они из-
влечены из «политерриториальных» источников (СРНГ, Даль и др. —
при указании места записи). Если лингвогеографическая характери-
стика вытекает из названия источника, она не приводится. Широко
распространенные диалектизмы даются с пометой диал. шир. распр.
Для иноязычного материала дается указание на язык без социо-
лингвистических и лингвогеографических уточнений.
Изучаемая лексика нередко выбирается из нелексикографических
источников — разного рода этнографических описаний. В этом слу-
чае значения восстанавливаются нами из контекстов и приводятся со
знаком *.
Ономастический материал (в первую очередь данные топонимии)
в подавляющем большинстве случаев извлечен из одного источника —
картотек ТЭ УрГУ. При подаче такого материала ссылка на источник
не дается, но указывается административный район (см. список со-
кращений), в котором сделана запись. В том случае, когда приводится
мотивационный контекст (объяснение названия информантом), отме-
чается также название населенного пункта внутри административного
района. Если речь идет о повсеместно распространенных топонимах
(бол. Медвежье, руч. Церковный), то паспортизирующая справка не
приводится.
* *
Хочется поблагодарить тех, кто оказал большую помощь в ходе
работы над этой монографией и обсуждения затронутых в ней про-
блем. Книга не могла бы состояться без пристального внимания и
доброжелательно-строгого участия научного редактора — С. М. Тол-
стой. При чтении ее трудов, в разговорах с ней родились многие вы-
сказанные в книге идеи; ею подсказаны некоторые конкретные темы
и сюжеты, а также проведена кропотливая работа над композицией и
текстом книги. Необходимо отметить также большую организацион-
ную, научную и дружескую помощь Т. А. Агапкиной — главного ре-
дактора издательства «Индрик», оказавшего мне честь включением
книги в серию «Традиционная духовная культура славян».
Горячую благодарность хочу выразить своим соратникам, рабо-
тающим на кафедре русского языка и общего языкознания Уральского
государственного университета. Это прежде всего М.Э.Рут, мой учи-
тель и неизменный оппонент, и мой первый (и единственный) научный
руководитель А. К. Матвеев. С теплым чувством благодарю участии-
18
Введение
ков проблемной группы «Язык и мир» и других преподавателей, со-
трудников и студентов кафедры, особенно моих аспирантов, диплом-
ников и курсовиков. Некоторые из них стали моими соавторами: совме-
стно с К. В. Пьянковой написан параграф 4.1; с Т. В. Леонтьевой — 2.3,
с И.В.Родионовой — 4.3; в параграфы 2.2 и 4.2 в качестве фрагментов
вошли (в переработанном виде) тексты статей, написанных в соавтор-
стве с Д.П. Гуликом и Ю. А. Кривощаповой. Неоценима поддержка
Н. В.Галиновой и К. В. Пьянковой, помогавших в технической обра-
ботке текста.
Значительная часть результатов получена благодаря огромному
труду десятков сотрудников Топонимической экспедиции УрГУ, на
протяжении многих лет собиравших топонимический, лексический и
этнографический материал, который лег в основу настоящего иссле-
дования.
От души благодарю коллег — этнолингвистов, этимологов и фольк-
лористов — из разных городов и стран, которые помогали в сборе язы-
кового материала и участвовали в обсуждении отдельных сюжетов кни-
ги; в первую очередь Н. П. Антропова, Е. Бартминьского, М.Белетич,
О. В. Белову, Ж. Ж. Варбот, Я. Влаич-Попович, Т. В. Володину, А. В. Гуру,
А. Ф. Журавлева, Л.Кралика, Д.Младенову, В. М. Мокиенко, С. Ю. Не-
клюдова (и членов его семинара в РГГУ), С. Л. Николаева, И. А. Седако-
ву, А. В. Юдина, М. Якубович, И. Янышкову.
Раздел I.
ЛЕКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА
В ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ
1.1. К ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
Задача реконструкции традиционной языковой картины мира, явля-
ющаяся одной из важнейших задач этнолингвистики (и лингвокультуро-
логии) требует поиска таких источников этнокультурной информации,
которые бы позволяли представить последнюю наиболее полно и систем-
но. Логика этого поиска (как можно судить по отечественной лингвистике
последних трех десятилетий) есть логика постепенного углубления, «ин-
териоризации» анализа. Это проявляется не только в совершенствовании
качества самих аналитических процедур, но и в том, что языковые факты
и явления, которые имеют этнокультурную значимость, стали обнаружи-
ваться все более глубоко внутри системы языка.
Поначалу естественна была лингвокультурология (чаще называвша-
яся лингвострановедением) «от кваса и сарафана» (vs колхоза и спутни-
ка) — наиболее очевидных, лобовых (вследствие своей безэквивалент-
ности), но вместе с тем самых лингвистически пустых этнокультурных
сигналов, означающих уникальные явления материальной культуры.
Постепенно популярным стал более «рафинированный» пласт безэкви-
валентной лексики, связанной уже не с материальной культурой, но с
уникальными явлениями духовной культуры или общественной жизни
(ср. слова вроде соборность или совок). На смену им пришли «культур-
ные слова» дружба, милосердие, воля, душа и т. п., не имеющие печати
культурного своеобразия в своем «необходимом и достаточном» значе-
нии, но обнаруживающие специфическую конфигурацию коннотативно-
1 В данном случае не имеет значения популярное в последние годы в отече-
ственном языкознании разграничение этнолингвистики и лингвокультурологии
по отношению к диахронии/синхронии (и «диалектности»/«литературности»).
К примеру, в польской традиции, где этнолингвистические исследования ве-
дутся активно и масштабно, такое разграничение не производится — и анализ
языкового воплощения концептов современной культуры тоже считается зада-
чей этнолингвистики (см. об этом в [Бартминьский 2005: 36-37]).
20
Раздел!
го уровня семантики. Именно здесь стало возможным собственно линг-
вистическое приращение анализа, основанного на всестороннем изуче-
нии системных связей слова.
По этой причине понятие лексической коннотации, не игравшее
ранее определяющей роли в категориальном аппарате лингвистической
семантики, стало одним из ведущих понятий в парадигме антрополо-
гической лингвистики. Соответственно из многочисленных трактовок
термина коннотация [см. Majer-Baranowska 1988] укажем одну — ту,
которая наиболее приемлема, как нам представляется, для этнолин-
гвистических и лингвокультурологических исследований: коннотация
есть смысловой компонент, не входящий непосредственно в дефиницию
(лексическое значение) слова, выражающий несущественные (факуль-
тативные) с логической точки зрения признаки понятия, которые тем
не менее устойчивы, значимы для данного языкового сообщества, яв-
ляются отражением культурно-детерминированного выбора носителей
языка и могут быть верифицированы в пределах системы языка (данная
трактовка в общих чертах соответствует определению, предложенному
Ю. Д. Апресяном [Апресян 1995: 159]).
Принципиальное свойство коннотации состоит в ее алогичности,
избирательности, ср.:«.. .в отличие от собственных видовых признаков,
обобщающих симметричные и/или рефлексивные отношения между
элементами того же класса, привходящие коннотативные признаки по-
мечают несимметричные и/или нерефлексивные отношения между
элементами разных семантических классов» [Бочкарев 2003: 79, вслед
за Растье 2001]. Очевидно, эта формулировка описывает отношения
вроде тех, что сложились между словами осел (коннотация глупости и
упрямства) и ишак (коннотация трудолюбия): по отношению к этой
паре и подобным Ю. Д. Апресян говорит о капризности и непредска-
зуемости коннотаций [Апресян 1995:172-173]. Эта прихотливость кон-
нотаций нередко определяется факторами этнокультурного порядка2:
2 Разумеется, при этом не стоит забывать, что сама языковая система во
многих случаях властно вмешивается в процесс образования коннотаций. Так,
некоторые возможности ответа на законный и важный вопрос В. А. Плунгяна
и Е. В. Рахилиной о том, почему похожие языковые единицы разным образом
ведут себя по отношению к коннотации [Плунгян, Рахилина 1993: 126], таят-
ся в самой иллюстрации к вопросу, приводимой авторами: в паре лексем пол
и потолок первая «кажется свободной от концептуальной нагрузки, тогда как
со второй связан отчетливый концепт предела, исчерпанных возможностей»
[Там же]. Но пол не может концептуализироваться так, как потолок, ибо это-
му мешают внутрисистемные свойства слова — включенность в ряд омонимов,
отвергающая сочетаемость вроде *пол моих возможностей (такое сочетание
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
21
многие птицы рано встают, а самцы их драчливы, но русская языко-
вая традиция выделяет именно петуха, поскольку традиционный быт
обусловил актуальность проявления этих качеств у петуха, а не, по-
ложим, у павлина.
Таким образом, коннотация есть яркое проявление культурной
семантики. Культурная семантика — семантическое следствие куль-
турных предпочтений носителя языка, реализация в семантических
категориях его культурного выбора. Данный компонент не рядополо-
жен другим составляющим семантики (семам, семантическим полям и
т. п.), представляя собой, по сути, «культурную идиоматичность», не-
выводимость особой маркировки какого-либо значения (или других
явлений семантической сферы) из сугубо отражательных, объективи-
рованных, логически выровненных смыслов.
Изучение лексических коннотаций и «культурных слов» далеко не
исчерпало себя, оно нуждается в объективации данных путем расшире-
ния дискурсивного пространства, привлечения контрастивного аспекта
исследования etc., однако оно остается анализом на уровне микросе-
мантики — уровне отдельных слов и значений. Исследование микросе-
мантики — пусть даже самое дотошное и филигранное — не спасает
лингвокультурологические штудии от обвинений во вкусовщине и
«диванности»3. Придание отдельному слову статуса «культурного»
или «ключевого» для данной лингвокультурной традиции нуждается
в строгом обосновании, в рассмотрении его семантического своеобра-
зия на фоне всего массива лексических единиц, выражающих сходные
или противоположные смыслы. Очевидно, что отмеченная выше логика
последовательного углубления сфер анализа требует выхода в макро-
семантику, оперирующую большими, чем семантика одного слова,
пространствами смыслов — семантическими полями4.
может быть понято скорее в «количественном» или даже в «гендерном» ключе,
нежели в связи с семантикой, противоположной потолку). Однако сила «кон-
цептуальной симметрии» столь велика, что искомая коннотация пола начинает
проявляться в языке, ср. новейший рекламный слоган «Цены ниже пола».
3 Ср. противопоставление «корпусной» и «диванной» лингвистики, вве-
денное Ч. Филлмором и развиваемое П. Б. Паршиным: если «корпусный»
лингвист располагает множеством фактов и занят подсчетом эмпирических
закономерностей, то «диванный» представляется «лежащим обхватив голову
с закрытыми глазами и изредка подскакивающим с криком „Какой потряс-
ный факт!44» [Паршин 1996: 35].
4 Ср. положение Т. И. Бендиной о значимости обнаружения «регулятив-
ных принципов семантической организации всего лексикона языка, когда во
внимание принимается не одно слово, а весь массив слов, в котором и прояв-
22
Раздел!
Концептуальные смыслы не сконцентрированы в одном языко-
вом «носителе» в составе поля, но рассеяны по всей семантической
«территории», включены в саму структуру поля, что требует особой
техники реконструкции. Изучая проявления культурной идиоматично-
сти в больших смысловых пространствах, следует осуществлять соот-
носительную оценку различных семантических феноменов — рассмат-
ривать, допустим, не столько саму семантическую структуру слова или
особенности семантической деривации на его базе, сколько логику
появления именно такой структуры, реализации именно таких моде-
лей деривации на фоне семантических «соседей» данного слова; не
столько сам состав семантического поля, сколько закономерно-
сти, определяющие маркировку одного элемента и лакуну на месте
другого при логической равноценности понятий и т. п. Один неболь-
шой пример: семантико-словообразовательная деривация на базе слов
лень, лениться, лентяй и т. п. может дать наименования предметов, ко-
торые языковое знание трактует как «способствующие лени»: просто-
рен. лентяйка ‘швабра’, костр. лентяйка ‘коса-стойка’ [ЛКТЭ], литер.
ленивый ‘приготовленный более быстрым способом (о кушаньях: лени-
вые голубцы, ленивые вареники, ленивые щи и т. п.)’, ср. также Ленивка —
фабричное наименование пледа (одновременно служит покрывалом)
[ЛЗА] и др. Мотивирующее значение «предмет, способствующий ле-
ни» логически, казалось бы, может быть перевернуто и трансформи-
ровано в смысл «предмет, облегчающий труд»: действительно, мытье
пола с помощью швабры-лентяйки, а тем паче кошение косой-стойкой,
отнюдь не предполагает лень. Однако слова труд и работа принци-
пиально не способны на подобную логику семантической деривации,
поскольку «языковое знание» убеждает носителя языка (и далеко не
только русского) в том, что труд труден, что он должен носить тяже-
лый, мучительный, физически изнуряющий характер [см. Толстая 19986;
Еремина 2003: 25-27, 233 и др.], — иначе это лень. Таким образом,
логика появления слов типа лентяйка ‘швабра’ становится понятной,
если учесть закономерности отображения в языке отношения челове-
ка к труду.
Настоящий параграф посвящен методике этнолингвистического
исследования семантических полей; используемый в нем языковой ма-
териал включает преимущественно факты русской диалектной лексики.
Рассмотрим подробнее структуру того смыслового пространства,
которое станет ареной для этнолингвистической интерпретации, —
семантического поля. Представляется, что анализ семантических
ляется языкотворческая позиция человека, его ориентация в мире сущностей»
[Бендина 2002: 311].
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
23
полей можно вести на трех уровнях — собственно семантическом,
мотивационном и уровне культурной символики.
Собственно семантический уровень поля составлен зна-
чениями слов; его структура, группировка единиц определяется логиче-
скими отношениями между понятиями. Мотивационный уровень
поля предполагает «группировку слов на основе общности их мотиваци-
онной модели (мотивационного признака)» [Толстая 2002а: 116]. При та-
кой группировке лексический материал может быть рассмотрен «ретро-
спективно» (с точки зрения моделей мотивации, которые легли в основу
данных слов) и «перспективно» (исходя из способности слов данного
поля становиться источником семантической или семантико-словообра-
зовательной деривации). Объединение этих двух уровней в единую
смысловую структуру даст возможность разносторонне проанализиро-
вать изучаемую группу слов — ив плане закономерностей организации
поля, его внутренней структуры, и в плане мотивационных возможно-
стей. Вообще, если говорить о логике смыслопорождения, эти два
уровня дают не просто взаимосвязанную, но «генетически» единую
информацию, поскольку закономерности комбинирования смыслов в
значении лексемы (если рассматривать его комплексно — и концепту-
альное ядро значения, и коннотации) продолжаются в процессах семан-
тической деривации, приводящих эти смыслы в движение и способст-
вующих их филиации. Иными словами, собственно семантический и
мотивационный аспекты изучения поля могут быть охарактеризова-
ны в категориях статики и динамики.
Если рассматривать семантическое пространство слов, состав-
ляющих лексикон традиционной народной культуры, то оба указан-
ных уровня в некоторых случаях продолжаются третьим — уров-
нем культурной символики. Последний располагается как бы
в «культурной надстройке» над ними, ср. размышления Н.И. и
С. М. Толстых относительно того, что слова естественного языка мо-
гут приобрести в языке культуры «особые символические значения...,
которые „надстраиваются44 над всеми прочими уровнями значения»
[Толстой, Толстая 1995а: 291] и закономерно с ними связаны5.
Таким образом, уровень культурной символики продолжает соб-
ственно семантический уровень, включая культурно обусловленные
5 Например, «отгонная» культурная символика веника (или метлы) стро-
ится «на магическом и мифологическом осмыслении таких признаков обозна-
чаемого словом бытового предмета, как „контакт с мусором, нечистотой44,
„выметание, устранение, очищение44 и т. п., которые входят либо в ядерное,
лексическое значение (дефиницию), либо в лексическую коннотацию, либо в
экстралингвистическую зону коннотации» [Толстой, Толстая 1995а: 292].
24
Раздел!
значения, развивающие денотативные или общеязыковые значения
слов. В то же время он продолжает и мотивационный уровень: при
выходе за рамки языковой системы, в сфере текстов и в сфере ритуа-
ла, «прямым „продолжением44 (или расширением) лингвистического
понятия мотивации оказывается... понятие кода, широко исполь-
зуемое в этнолингвистических и антропологических исследованиях...
Как и мотивация, код предполагает „вторичное44 использование зна-
ков, уже имеющих закрепленное за ними „первичное44 значение, но
при этом знаки могут иметь не только языковую природу (звуковую
субстанцию), но и внеязыковую — это могут быть вещи, действия,
природные объекты и другие реалии жизни или ментальные сущности»
[Толстая 2002а: 124]6. Следовательно, мотивационный ряд в лексике,
являющийся фактом языка, может стать в то же время культурным
кодом — и это произойдет в том случае, если его элементы приобре-
тут символические значения в языке культуры.
Охарактеризовав в общем виде соотношение различных уровней
семантического поля, опишем особенности этнолингвистического ис-
следования применительно к каждому из них.
СОБСТВЕННО СЕМАНТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
Анализ собственно семантического уровня поля может включать,
во-первых, рассмотрение внутренней организации поля, во-вторых,
его связей со смежными полями.
1 .При рассмотрении внутренней организации, «топогра-
фии» поля есть смысл учитывать следующие параметры.
А.Логика выделения смысловых участков, секторов
данного поля (объединяющих единицы, противопоставленные по ка-
кому-либо признаку ядерному элементу [см. Гак 1993: 22]), их ме-
сто в структуре поля, объем и относительная
заполненность.
Членение поля на смысловые участки отражает структуру пред-
ставлений о соответствующем фрагменте действительности. Относи-
тельная лексическая заполненность секторов поля указывает на то,
какие смыслы получают номинативное оформление, а какие остаются
6 К примеру, в рамках растительного кода свадебного обряда функцио-
нирует не только фитоним калина (калина ‘название песни, исполнявшейся на
свадьбе’, ломать калину ‘лишить девственности’ etc.), но и соответствующий
предмет (ветками и ягодами калины украшали каравай, наряд невесты и т. п.)
[Толстая 2002а: 124-125].
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
25
не выраженными лексически, образуя лакуну7. Такая характеристика,
как объем лексического поля (сектора поля), — это количество единиц,
представленных в его составе8. Кроме того, значима симметричность/
асимметричность заполнения логически однотипных или «парных»
секторов (допустим, отражающих представления об уме vs глупости,
скупости vs щедрости, трудолюбии vs праздности etc.).
Развернутая иллюстрация к этим рассуждениям будет приведена
ниже, а сейчас ограничимся небольшим примером. Семантическое по-
ле, представляющее черты характера человека по отношению к другим
людям, по-разному структурировано в русском литературном языке и
говорах (анализ проводился на материале лексики среднеуральских
говоров, содержащейся в [КЭИС]; сопоставление с литературным язы-
ком осуществлялось по [РСС; ТСРЯ]). Рассмотрим «положительный»
сектор такого поля, где представлены слова, которые обозначают по-
зитивно оцениваемые качества человека, проявляющиеся в межлично-
стных отношениях. В уральских говорах данное смысловое простран-
7 Ср.: «Уже сама заполненность терминологической сетки, т. е. осна-
щенность терминами той или иной культурной сферы, плотность или разре-
женность, детализированность или обобщенность терминологии могут быть
показательны» [Толстая 1989: 224].
8 Отметим, что количественный фактор весьма неоднозначен: в ряде
случаев идея «целиком» укладывается в одно слово, а не распределяется ме-
жду несколькими словами, — и это не должно рассматриваться как признак
незначимости соответствующей семантики. Кроме того, количество реализа-
ций определенного значения ощутимо зависит от наличия/отсутствия у него
некоторого эмоционального фона — и, соответственно, от эмотивности вы-
ражающей это значение лексики: экспрессивная лексика всегда склонна к
«самозаражению», проявляющемуся в постоянном увеличении количества
номинативных единиц на единицу смысла (ср. «обвальное» количество языко-
вых реализаций смысла ‘глупый человек, дурак’). Но все-таки некоторая целе-
сообразность в «номинативной бухгалтерии» есть: трудно отрицать значимость
определенного круга значений, если носитель языка вновь и вновь возвращает-
ся к их лексической разработке, закрепляя во внутренней форме разные моти-
вационные признаки, используя единицы разной частеречной принадлежности,
привлекая как цельнооформленные лексемы, так и идиоматику etc.
Стоит отметить, что количественный параметр обладает высокой эффек-
тивностью при анализе ономастической лексики: поскольку в ономастиконе
каждой номинативной единице соответствует свой объект действительности,
то номинация каждого из этих объектов предполагает отдельный акт познания,
а количество одинаковых наименований говорит о степени значимости соот-
ветствующего конкретного значения в рамках определенного смыслового поля
26
Раздел!
ство имеет ярко выраженную ядерную часть — это лексика, дающая
обобщенную характеристику способности человека жить в обществе,
т. е. соответствовать социально закрепленным нормам взаимоотноше-
ний, складывающимся как в процессе общей работы, так и в традицион-
ном общежитии. Данный смысл выражается разнообразно и доминиру-
ет по количеству языковых реализаций — 25% всей «межличностной»
лексики уральских говоров с позитивной оценкой, которая зафиксиро-
вана в [КЭИС]: народный, мирской, общдй, сосёдливый, спарчивый,
товаристый, фамильный, срдбливый, артельной и т. п. Ср. контексты:
«Я роблю с деушкой такой спарчивой, дружелюбна она, со всемя сой-
дётся»; «Он парень мирской, всё как надо с дел ат, как положено, мо-
гилу выкопат и денег не возьмёт» [КЭИС]; ср. также: «Народный — это
когда дружно живет со всеми. Он, скажут, народный, некуражливый
значит» [СРГПриб 2: 109]. К словам такого рода трудно подобрать ли-
тературные эквиваленты9. Самый близкий смысл в литературном
языке имеет слово человеческий ‘такой, какой должен быть у людей,
какой подобает людям’10, однако оно не употребляется как «онтоло-
гическая», постоянная качественная характеристика человека, обла-
дающая статусом черты характера, оно описывает преимущественно
внешние обстоятельства жизни (человеческие условия, человеческая
обстановка) и отдельные поведенческие проявления (человеческие
слова, человеческий поступок, вести себя по-человечески).
«Онтологические» же характеристики, представленные в литера-
турном языке, дают некоторое смещение акцентов: слова вроде дру-
желюбный, открытый, коммуникабельный, общительный, отзывчи-
вый, внимательный, человечный, заботливый, тактичный и т. п. ри-
суют, во-первых, более конкретные личностные проявления, нежели
обобщенная «социализированность»; при этом каждое из этих слов
занимает свою смысловую нишу (одни семантически ближе друг к дру-
гу, другие дальше). Во-вторых, литературные слова со сходной семан-
тикой не имеют подтекста негласной «общественной нормы», у них
не столько социально опосредованное, сколько «частное» звучание:
человек может быть внимателен и отзывчив по отношению к кому-то
(что отнюдь не исключает черствости по отношению к другим), но
мирским или соседливым он должен быть «вообще». Эта «адресность»
подчеркивается тем, что литературные слова с изучаемой семантикой
9 Дефиниции, которые даются этим словам собирателями диалектной
лексики и словарями, зачастую неточны и «скатываются» на более конкрет-
ные смыслы вроде ‘дружелюбный, приветливый’.
10 См. также семантику дериватов корня люд-, которая описана в пара-
графе 2.1.
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
27
концептуализируются как чувства, ср. чувство такта:, чувствовать
чье-либо внимательное отношение ит. и. п. Таким образом, можно
говорить о разной логике структуризации рассматриваемого смысло-
вого пространства в литературном языке и говорах. Эти различия
объясняются, видимо, тем, что традиционное сознание имеет более
высокую степень «социализации», чем сознание современного носи-
теля книжной культуры.
Б. «Этажность» значений слов в составе данного
поля и особенности детализации, модификации смы-
слов. Этот параметр хорошо изучен в семантике и характеризует
глубину разработки, специфику внутреннего «рисунка», степень де-
тализации того или иного смысла или группы смыслов, выводящую
на особенности категоризации действительности (ср. хрестоматийную
ситуацию с детализацией видов снега у эскимосов). К примеру, в диа-
лекте понятие рассеянности, забывчивости может иметь показательную
конкретизацию — ‘тот (такой), кто забывает запереть вовремя двери,
ворота’, ср. арх. пустозаворница — «Манька пустозаворница, за ей
следи, идёт — ворота не заложит», влг. пустоворот — «Дед такой пусто-
ворот стал, не запират ворота-те» [КСГРС], костр. дыропашник [ЛК ТЭ]
(ср. также контексты к полодырай, полоротица "разиня" — «У полоды-
рая ворота полы», «Сроду ворота не запрёт, полоротиса» [ДСРГСУ:
435—436]). Соответствующим образом оцениваются интеллектуальные
способности таких людей, ср. калитка отворена ‘о придурковатом
человеке’ [КСГРС]. Распахнутая калитка является особо выделенным
и значимым проявлением рассеянности, поскольку она может привести
к таким серьезным последствиям, как потеря урожая, который будет
вытоптан зашедшей в огород или на поле скотиной.
Особая «конфигурация» смыслов наиболее ощутима при контра-
стивном исследовании, обнаруживающем отсутствие эквивалентов
для изучаемой семантики в идеографической сетке другого языка или
другой формы существования национального языка. В связи с этим
представляет интерес, к примеру, влг. недопечальник ‘тот, кто не уха-
живал за кем-либо из больных родителей перед смертью’ [КСГРС].
Устойчивость соответствующей смысловой позиции в сетке диалект-
ной аксиологической семантики подтверждается существованием влг.
допечаловатъ ‘осуществить уход за кем-либо из больных родителей
перед смертью’ [КСГРС], костр. допокоитъ, доспокоитъ ‘то же’ [ЛКТЭ]
(сходная идея отражена также в иркут., костр. пдлсына ‘о сыне, кото- *
11 Естественно, сказанное не означает, что средствами диалектной лек-
сики не может выражаться эквивалентная литературной семантика отзывчи-
вости, приветливости и т. п.
28
Раздел!
рый не может быть кормильцем родителей’ [СРНГ 29: 134]). Для но-
сителя традиционной крестьянской культуры эта семема манифести-
рует одну из максим поведения в обществе. Резко негативная оценка
недопечалъника заложена в контекстах, свидетельствующих о том, что
данная деталь поведения становится критерием оценки нравственной
состоятельности человека: «Ох ты, недопечальник бесстыжий!»; «Че-
го с его взять, с етого недопечальника, ни стыда, ни совести!» [КСГРС].
Соответствующая семема не выделяется ни в литературном языке, ни —
тем более — в молодежном сленге.
Специфичный в этнокультурном плане рисунок лексической се-
мантики может создаваться также за счет особых эмотивных конно-
таций. Показательна, к примеру, ситуация, когда лексика разных форм
существования языка обнаруживает разнополярность эмотивных кон-
нотаций при сходном концептуальном ядре значения. В вологодских
говорах фиксируются лексемы навалйха, навалюха ‘девушка, первая
предлагающая парню дружбу’ [КСГРС]. Данные слова имеют негатив-
ные коннотации, хотя контексты обнаруживают «невинность» поведе-
ния девушки: «Ой, навалюха бесстыжа, перва его на танцы позвала»;
«Навалиха-то така, так и зыркат на него глазами»; «Манька навалйха
проклята, в клуб-от Митьку повела» [КСГРС]. Навалиться на парня,
судя по этим фактам, — это вовсе не обязательно инициировать интим-
ные отношения; негативно воспринимаются «культурные инициативы»
девушки и даже обычное кокетство. Ср. вят. дикая ветлянка (< ветлянка
‘верба, лоза, ива, ракита различных видов’) ‘женщина, вешающаяся
каждому на шею’, влг. навальная невеста ‘девушка, напросившаяся
на замужество, принудившая взять себя замуж’ [ЧДФ: 167, 169]. Лю-
бопытно, что лексема со сходным значением функционирует и в мо-
лодежном жаргоне: кайфдвка ‘девушка, первая предлагающая парню
вступить с ней в близкие отношения’ [ЛЗА: Екатеринбург]. В данном
случае намерения девушки очерчиваются более решительно — и это
обнаруживается в контекстах: «С кайфовкой кайфово, первая подсти-
лается»; «Кайфовка — классная гёрла, без комплексов» [Там же]. Оче-
видно, что поведение кайфовки оценивается скорее в мелиоративном
ключе (разумеется, не без типичной для сленга доли иронии). Такая ме-
лиоративность прослеживается и во внутренней форме этого слова —
«та, которая приносит „кайф“, удовольствие» 12.
12 Данный пример лишний раз подтверждает, что система оценок и цен-
ностей во многом определяется социальным статусом носителя и варьирует в
разных социальных стратах. В современном русском обществе полюса в этом
плане образуют традиционная народная («крестьянская») аксиология (при
всех модификациях, которые она претерпела в последнее время, эта система
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
29
При изучении параметров, определяющих внутреннюю «топо-
графию» поля, убедительность и богатство результатов зависят от
различных обстоятельств: от степени универсальности vs культурной
специфичности той смысловой сферы, которую охватывает лексика
данного поля (к примеру, представления о свойствах человека по от-
ношению к интеллекту в известной мере универсальны, в то время
как характеристики по отношению к собственности отличаются более
ощутимым культурным фоном); от глубины того среза, на котором
осуществляется анализ (рассмотрение самой общей структуры поля
дает наименее богатые результаты, которые, несмотря на определен-
ную значимость, нередко ожидаемы и логически вычислимы, — более
интересны внутренние «силовые линии», определяющие дальнейшее
членение секторов поля).
2 . Для этнолингвистической интерпретации семантического по-
ля большую роль играет характеристика данного поля по
его взаимодействию со смежными полями (образующи-
ми, по выражению В. Г. Гака, «ближнее зарубежье» семантического
поля [Гак 1993: 23]).
Семантическое поле не имеет, как известно, жестких границ и
обменивается смыслами со смежными, соседними полями, создавая
плавную цепь взаимопереходов и перекрывающие друг друга семан-
тические «ареалы». Нередко смыслы, логически принадлежащие раз-
личным соседним полям, могут быть объединены, комбинированы в
рамках одного значения. В данном случае для этнолингвистического
анализа интерес представляет как сам список «ближних сосе-
дей» данного поля, так и логика смысловых пересече-
ний между ними.
К примеру, показательно взаимодействие полей «Трудолюбие» и
«Скупость», в результате которого соответствующие смыслы могут
быть совмещены в семантике отдельных лексем: аред влг. ‘злой, жад-
ный до какого-либо дела человек’ [СРНГ 1: 272], арх., влг. ‘очень
остается относительно стабильной) и те аксиологические ориентиры, кото-
рые выработаны в рамках городской молодежной субкультуры. Традицион-
ная система, как было показано выше, характеризуется большей «социализи-
рованностью» нравственных постулатов, более тесной их связью с жизнью
общества: внутренний мир человека здесь во многом оценивается через его
социальный статус, род занятий и образ жизни; для молодежной культуры
эти параметры зачастую оказываются нерелевантными (так, девушка, зани-
мающаяся древнейшей профессией, может считаться «хорошим (душевным)
человеком» — что невозможно для этических догм крестьянина).
30
Раздел!
трудолюбивый, жадный на работу человек’ — «Ой ты, аред! — ска-
жем с похвалой или презрением. — Что тебе — больше всех надо?»
[СГРС 1: 21], ‘жадный (до работы)’ — «Этот аред, говорят, всё ему
мало, работает, ночь его не загонит» [СРГК 1: 21], ряз. омех ‘человек,
чрезмерно много работающий ради накопительства, из жадности’ —
«Омех — все больше человеку надыть захватывать, зависной чело-
век» [СРНГ 23: 201], костр. добыча ‘очень трудолюбивый, но жадный
человек’ [ЛКТЭ]; ср. также внутреннюю форму влад. корпёй, корпёка
‘скопидом, скряга’ [СРНГ 14: 371] < корпеть. Почему же не привет-
ствуется такое, казалось бы, ценное человеческое качество, как «по-
вышенное» трудолюбие? Очевидно, бытующее в традиционном соз-
нании представление о скупости трудолюбивого человека является
следствием коллективного характера труда, вырабатывающего обще-
ственно утвержденную норму труда. Превышение этой нормы очень
заметно (положим, все ушли с покоса, а кто-то остался) и раздражает
окружающих.
Еще пример: достаточно регулярно в семантике диалектного сло-
ва объединяются смыслы, принадлежащие полям «Интеллект» и
«Трудолюбие»: гусар ‘смекалистый, работящий человек’, ловенъкий
‘умелый, ловкий; находчивый, догадливый’, вытный ‘умный, дело-
вой’, делец ‘деловой умный человек’, проеорый ‘сообразительный,
смекалистый, умелый, деловой’ ит. п. [Леонтьева 2003а: 32]. Стрем-
ление представить сообразительного человека одновременно умелым
и деловым свидетельствует о том, что народная культура не столько
ценит «чистый» ум, сколько пытается найти ему практическое приме-
нение. Примерно об этом же говорит еще одно наблюдение Т. В. Ле-
онтьевой над закономерностями комбинирования смыслов в поле «Ин-
теллект»: «Специфичны для говоров толкования, которые содержат
две или несколько рядоположенных характеристик (глупый и — лени-
вый', неумелый; неразговорчивый', суетливый', медлительный', болтли-
вый', неопрятный', несерьезный), по которым можно условно соста-
вить представление о причинно-следственных отношениях между
членами ряда (глупый, потому что упрямый', крикливый, следователь-
но, глупый)» [Леонтьева 2002: 279].
Охарактеризовав особенности анализа собственно семантическо-
го уровня лексических полей, приведем развернутую иллюстрацию,
учитывающую различные параметры такого анализа.
В диалектной лексике весьма определенно и детально представ-
лено лексико-семантическое поле «Характеристика человека по от-
ношению к еде» (анализ проводился на материале [КЭИС], который
сравнивался с литературными данными, извлеченными из [РСС;
ТСРЯ]). В литературном языке это поле выражено гораздо слабее: си-
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
31
туация приема пищи, особенности аппетита и т. п. находят свое лек-
сическое воплощение, а вот «пищевые» характеристики человека здесь
раритетны. Диалект «онтологизирует» их, практически придавая свой-
ствам такого рода статус черт характера, подвергает оценке и вводит в
систему таких «характерных» параметров, которые связаны с межлич-
ностными отношениями. Аксиологизация отношения к еде не случай-
на: как известно, прием пищи в народной традиции является далеко не
«физиологическим» актом, а жестко регламентирован социальными
нормами и традиционными обычаями, нередко становясь составной
частью семейных, календарных, хозяйственных и окказиональных об-
рядов [СД 2: 176-178]). В рамках этого поля представлены следующие
сектора: «характеристика человека по отношению к аппетиту (с хо-
рошим/плохим аппетитом)» — 53% языковых фактов; «индивидуаль-
ные пристрастия в пище» — 25% (в том числе «пищевые пристрастия
в связи с отношением к собственности» — 10%), «разборчивость/нераз-
борчивость в еде» — 16%; «характеристика по времени принятия пи-
щи» — 6%. Если литературный язык, оценивая качества человека в
связи с аппетитом, номинативно закрепляет только значение ‘человек,
который много ест, обжора’ (ср. еще просторен, малоежка), то в систе-
ме говоров (только уральских!), помимо ‘обжоры’, выделяются семе-
мы ‘человек с хорошим аппетитом’, ‘такой, которого трудно накормить
досыта’, ‘такой, который быстро начинает вновь испытывать чувство
голода’, ‘человек, который часто испытывает голод’, ‘женщина, кото-
рая плохо ест’ [КЭИС]. Общей оценке подвергается не только «количе-
ственный», но и «качественный» аспект питания (разборчивость в еде),
при этом значение ‘привередливый, разборчивый в еде человек’, реа-
лизуемое в говорах активно и разнообразно, отчасти накладывается
на литер, гурман и гастроном, но если в изображении литературного
языка соответствующее качество не подвергается отрицательной
оценке и выдается за своеобразное и вполне простительное «хобби»,
то в диалекте привередливость в еде однозначно негативна: «Лебез-
нинка по-нашому: я то не хощу, друго не хощу, ему ето послашше, то
конфетишки, то сварит послашше»; «Хто ты боле, как не притчевата,
ковда так ломасся, не ешь, чё тебе дадут»; «А он, чипчунъка, чё по-
дашь на стол, всё разбират» и т. п. [КЭИС]).
Особым рисунком характеризуется семантика «пищевые привыч-
ки в связи с отношением к собственности», не выражаемая средства-
ми литературного языка, ср.: сиб. пшеничник ‘о человеке, живущем с
достатком (употребляющем в пищу пшеничный хлеб)’ [СРНГ 33: 183],
яросл. конфетник ‘человек, живущий в достатке, который может по-
зволить себе есть конфеты’ — «Митька кладовшик хорошо живёт,
конфетник теперь, сладко ес» [ЛКТЭ], пск., твер. кишечник ‘жадный
32
Раздел!
человек, скряга, кто ест кишки, хотя бы мог есть и говядину’ [СРНГ 13:
249], костр. травоеда ‘человек, который из скупости ест много ово-
щей, не позволяя себе есть мясо’ [ЛКТЭ], петерб. водохлеб ‘человек,
не употребляющий ни вина, ни чаю, ни кофе из скупости’ [СРНГ 4:
347], пск. недосластка ‘скупая женщина’ [СРНГ 21: 31], (ср. также
пск., твер. ботвинник ‘скряга’ [СРНГ 3: 134], пск. мякинник ‘о скупце’
[СРНГ 19: 78]) ит. п.13. В значениях такого рода, вводящих «пище-
вые» характеристики в сферу межличностных отношений, прослежи-
вается своеобразная линия «народного контроля», присущая диалект-
ным характеристикам человека: особенности потребления пищи или
распоряжения собственностью не являются «личным делом» каждого,
но подвергаются общественной проверке и оценке.
Специального комментария требуют также лексические и фразео-
логические единицы, реализующие идею несвоевременного принятия
пищи, нарушения регламента питания (эта идея практически не под-
вергается номинативной разработке средствами литературного языка):
безвремёнъе ‘человек который ест не вовремя’ [ССХЧ: 36], влг. без-
вытный ‘не признающий очередности, сроков принятия пищи’ [СГРС 1:
85], влг. бестерёдица, бесчерёдица ‘несоблюдение порядка принятия
пищи (еда не со всеми, еда не в очередь из общей миски и т. п.)’
[СГРС 1: 109-111], пск., твер. кусовник ‘человек, который ест на ходу,
когда попало, не соблюдая установившегося порядка’ [СРНГ 16: 157],
влг. калаушничать ‘есть что-либо вкусное между приемами пищи или
тайно от всех’ [КСГРС], арх. выти не знать 14 ‘не соблюдать должных
промежутков времени между приемами пищи’, не вытью есть ‘есть
не вовремя’ [СГРС 2: 268], в вытях не мешайся ‘соблюдай время прие-
ма пищи’ [АОС 8: 315] и т. п. Комментарии информантов демонстри-
руют однозначно негативное отношение к такому режиму питания:
влг. «Безвытный не признаёт обед не обед, как здумает, так и ест»;
влг. «Раньше, пока все за стол не сядут, не ели, а теперь одна бестередица:
кто когда хочет, тот и ест, не ждут обеда» [СГРС 1: 85, 109]; «Выть от
выти вытерпеть не можот — кусок от роту не идёт!» [АОС 8: 315]; «Се-
дет ись, дак он ес-ес, как бутто он толку не знат и выти некакой не знат,
13 Вместе с тем пищевые излишества и кутежи, разумеется, тоже не при-
ветствуются, связываясь с мотовством или ленью: сахар (медович) ‘о том, кто
неразумно тратит, проматывает деньги, имущество; мот, расточитель’ [СРНГ 36:
153], банкетатъ ‘праздно сидеть’ [СРГК 1: 38], влг. пробанкетоватъ ‘про-
вести время за пустыми разговорами’ [КСГРС].
14 Арх., влг. выть ‘прием пищи и время, когда он осуществляется’, ‘проме-
жуток времени между приемами пищи’, ‘еда, пища; пропитание’ и др. [СГРС 2:
268-269].
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
33
ес-ес и не наесса, вот ненаед-от» [ССХЧ: 36-37] и др. Лучше всего не-
гативные смыслы, связанные с неупорядоченностью питания, обнаружи-
ваются в самой логике семантической деривации на базе соответствую-
щих слов: костр. безвытный ‘не соблюдающий очереди в еде’ —> ‘не-
ряшливый, не умеющий поддерживать порядок’ —> ‘такой, который
пакостничает, приносит вред’, яросл. кусоломитъ ‘есть на ходу, не до-
жидаясь определенного времени’ —> ‘хулиганить’ [ЛКТЭ]. Регламента-
ция приема пищи не является «личным делом» человека; нарушение
порядка в еде становится важным сигналом асоциального поведения
(питающийся не вовремя ставит себя вне законов традиционного об-
щежития — а затем закономерно обнаруживаются более опасные в
социальном плане черты) и рассматривается как вызов, который че-
ловек бросает обществу.
Есть смысл отметить еще одно обстоятельство: если несоблюдение
правильного режима питания влечет за собой проявление иных нега-
тивных свойств натуры, то, наоборот, способность правильно питаться
и хороший аппетит может дать разного рода позитивные с этической
точки зрения смыслы: вытный свердл. ‘положительный, самостоятель-
ный, требовательный’ — «Яшка тоже, как вытный, порядок ведёт»,
вят., костр., ряз, твер. ‘умный, деловой, старательный, добропорядоч-
ный’, орл. ‘дельный, работящий’ [СРНГ 6: 40], солдщий ‘жадный до
еды’, ‘жадный до работы’ [НОС 10: 116], вдоха ‘человек с хорошим
аппетитом’, ‘знаток, хорошо знающий какое-либо дело человек; мас-
тер’ [СРНГ 8: 323-324], свердл. ждрло ‘быстрый в работе человек’
[СРНГ 9: 217] и др.
МОТИВАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ
Мотивационные отношения можно рассматривать в разных ас-
пектах. Первый аспект — «тематико-мотивационный», определяющий,
что чему сополагается или что с чем сопоставляется (элементы отри-
цательного рельефа — с посудой, периоды человеческой жизни — с ве-
гетативным циклом растений, насекомые-паразиты — с иностранными
захватчиками etc.), с помощью каких тематических кодов выражаются
те или иные идеи, в каких областях действительности отыскиваются
мотивационные источники или наследники данных смыслов. Как ука-
зывает С. М. Толстая, «каждое семантическое поле (лексико-семанти-
ческая группа) характеризуется двумя показателями: присущими ему
и воплощенными в его лексике мотивационными моделями... и теми
мотивационными моделями, в которых составляющие его слова уча-
ствуют в качестве мотивирующих по отношению к лексике других
семантических полей (или, что то же самое, набором и типом других
34
Раздел!
полей, в которые входят слова, мотивированные словами данного по-
ля)» [Толстая 2002а: 116]. Второй аспект предполагает характеристи-
ку принципов номинативной деятельности субъекта номинации, об-
щих установок, определяющих выбор различных имен для объектов
действительности. Рассмотрим эти аспекты подробнее.
1. При анализе тематических кодов, на «языке» которых
выражаются какие-либо смыслы, этнолингвистическое исследование
учитывает следующие параметры.
А. Логика языковой «комплектации» набора кодов —
полей, имеющих мотивационные связи с данным. Различается внешняя
логика, проливающая свет на причины обращения к данным кодам со
стороны носителя языка, и внутрисистемная логика, определяющая це-
лостность системы кодов, наличие межкодовых связей.
Внешняя логика обнаруживает связь с внеязыковым контекстом
номинативной деятельности: как правило, мотивационные коды так
или иначе проецируются на образ жизни, занятия, бытовые и куль-
турные пристрастия человека. Например, проведенное М. Э. Рут ис-
следование севернорусской образной ономастики показало, что сферы
образного отождествления выстраиваются в четкую иерархию концен-
трических кругов — «человек», «семья», «дом и двор», «деревня», «поле,
луг», «непосредственное природное окружение (лес, река)», «внешний
мир» (при этом наблюдается постепенное угасание активности образ-
ной номинации от внутренних кругов к внешним) [Рут 1992: 52]. Такая
логика образного отождествления выводит на концептуальную модель
«мир=дом» и свидетельствует о «земледельческом» типе образной номи-
нации, который «характеризуется приоритетом конкретных образов-мо-
делей, связанных с предметами, орудиями и результатами, продуктами
деятельности крестьянина-земледельца» [Там же: 128].
Причины обращения носителей языка к тем или иным кодам ста-
новятся наиболее очевидными при сопоставлении особенностей вы-
ражения одной и той же идеи в разных языках или подъязыках. При-
ведем один пример.
Представленная в говорах и в молодежном сленге лексика и фра-
зеология, выражающая идею никчемного, ненужного, напрасного об-
наруживает следующие особенности: в говорах идея никчемного вы-
ражается преимущественно через отрицание значимого, нужного, в то
время как в молодежном сленге — через указание на абсурдность бес-
полезного.
Г ОВОРЫ: дон. ни в тын, ни в ворота [СРНГ 21: 13], влг. без дела,
без труда [КСГРС], костр. без пирога, без шанежки [ЛКТЭ], без пу-
ти', в пустой след', выход не выходит', не дай не вынеси', ни барыша,
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
35
ни карыша15; ни в сноп, ни в горсть, ни в толк', ни в честь, ни в славу
[ФСРГС: 21,39,46, 53, 123, 126, 146], арх. ни жару, ни пару [СРНГ 21:
213], влг. ни сжать, ни обмолотить ‘ни к чему, напрасно, бесполезно’
[КСГРС]. Ср. также близкие по смыслу характеристики никчемных,
неспособных к работе людей: иркут. ни дома, ни на поле ‘о неспособ-
ном к работе человеке’ [СРНГ 21: 213], ни с чем пирог ‘о человеке
пустом, никчемном’ [СРГСУ 2: 209], сиб. не тянет, не везёт ‘о чело-
веке, от которого нет никакой пользы’, ворон, ни «тпру», ни «мяу»
‘о человеке, который не уверен в себе и потому от него мало проку’,
сиб. ни тять <ткнуть, рубить, резать>, ни потятъ ‘о бестолковом,
никуда не годном человеке’, дон. не суй, не пхай ‘никчемный человек’
[ЧДФ: 146-147] и др.
Молодежный сленг. Для выражения значения ‘ни к чему, не
нужно’ эксплуатируются две основные модели:
1) сдалось (нужно) мне (тебе, ему) это
как зайцу триппер', как зубы в носу', как собаке боковой карман', как
папе римскому значок ГТО', как кенгуру авоська', как обезьяне партия
[СМА: 171, 174, 438, 314, 17], как лысому бантик', как комару копы-
та', как зайцу стоп-сигнал', как балерине штанга', как негру крем для
загара', как еврею Дахау', как паровозу крылья', как медведю мини-юбка',
как слону балетки', как блохе дезодорант', как коса парикмахеру', как
рыбе купальник', как козе пятое копыто', как собаке бюстгальтер
[ЛЗА: Екатеринбург, Москва] и др.;
2) на фига (на хрена)
еврею лапти [БРЭР: 170]; жиду гармошка', французу чум', козе
баян [СМА: 274,275]; попу гармонь', дяде Степе подъемный кран',
Бу ратине полено', еврею шахтерская лампочка', нарку16 книжка о
любви', водолазу памперсы', медузе беременность', пионеру встав-
ная челюсть [ЛЗА: Екатеринбург, Москва] и др.
Мы привели, конечно, далеко не исчерпывающий набор способов
выражения идеи никчемного, но и приведенный материал дает осно-
вание для следующего вывода. Эталоны полезного, необходимого,
через которые носитель диалекта (~ традиционной культуры) осмыс-
ляет никчемное, сформированы вполне определенно и образуют свое-
образный аксиологический код: дело, труд, честь, дом, сноп, поле
и т. п. В то же время носитель молодежной субкультуры, видящий
никчемное как абсурдное, изобретательно соединяющий несоедини-
15 Карыш ‘крупный осетр’ [СРГСК: 123].
16Жарг. нарк ‘наркоман’ [СМА: 272].
36
Раздел!
мое, оставляет «позитивную программу» за рамками языкового зна-
ния: эта программа никак себя не обнаруживает в образной ткани
фразеологизмов. Более того, «вечные» или «официальные» ценности
общества могут быть вывернуты наизнанку (ср.: нужно мне это, как
любовь до гроба; сдалось мне это, как высшее образование; на фига
пионеру красный флаг}1 [ЛЗА: Екатеринбург]), а новые, свои, повто-
рим еще раз, оказываются невыработанными.
Внутрисистемная логика, позволяющая найти определен-
ные закономерности в разнообразии тематических кодов (с помощью
которых осмысляется определенный объект или явление внеязыковой
действительности), подразумевает соединение тематически различ-
ных мотивов в единую картину или сценарий. К примеру, «донорами»
для поля «Интеллектуальная неполноценность» становятся слова и
фразеологизмы, преподносящие глупость как отклонение от дороги
либо неумение ее прокладывать и искать (просторен, съехать, диал.
бродячий, круженый, беспутица и т. п.), отъезд из дома и странство-
вание, блуждание в темноте (просторен, тронуться, жарг. поплыть,
поехать, диал. ходить в потёме), отсутствие или повреждение жи-
лища (диал. Алеша, ищи квартиру, жарг. крыша надломилась), потерю
родственников (просторен, не все дома, диал. Ванька дома, Васьки
нет), особую близость к Богу (диал. божий человек, Аноха-праведник)
и др. (атрибуцию примеров и подробный комментарий см. в парагра-
фе 2.3, с. 148). Эти тематически разные мотивы движимы единой логи-
кой: отсутствие дома, полноценной семьи, «вечные странствия» вос-
принимаются оседлым народом как антинорма; эти же обстоятельства,
с другой стороны, лишают дурака места на земле, определяют его
отрешенность от земного и обращенность к Богу.
Б. Направление и закономерности межполевого взаи-
модействия. В данном случае предполагается выделение полей-до-
норов и полей-реципиентов, обнаружение различий в мотивационной
потенции и продуктивности различных полей 17 18, выявление логики
донорско-реципиентного распределения, а также логики межполевых
17 Ср., кстати, отрицание «пионерских» ценностей и негативное отношение
к самому статусу пионера в следующих фактах жаргона: пионерить ‘воровать,
красть по мелочам’, устроить большой пионерский костер ‘устроить кавардак,
все испортить, спутать’, пионерская зорька ‘утренний половой акт’ [СМА: 331].
18 О необходимости выявления различной мотивационной потенции и
продуктивности отдельных полей говорит С. М. Толстая, напоминая, к при-
меру, о том, что «к наиболее продуктивным в этом отношении „донорским“
полям принадлежит... соматическая лексика, и это вполне согласуется с ан-
тропоцентризмом восприятия мира человеком» [Толстая 2002а: 123].
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
37
переходов для сходных по базовой семантике полей, характеристика
интерактивного потенциала той или иной семантической структуры
Определение вектора межполевого взаимодействия позволяет
понять направление освоения действительности, механизм постепен-
ного расширения границ познанного, когда старое знание способству-
ет получению нового. Так, показательны выводы Е. И. Якушкиной,
продемонстрировавшей на материале сербохорватской диалектной
лексики, что поле этической семантики в мотивационном отношении
вторично, для него принципиальна функция реципиента, поскольку
этическая лексика «представляет собой метафорическую или метони-
мическую проекцию значений, принадлежащих другим семантиче-
ским полям. Помимо большого числа индивидуальных семантических
моделей формирование лексико-семантического поля этики в сербо-
хорватских диалектах подчинено действию нескольких системных
способов интерпретации сферы нравственности, важнейшими из ко-
торых являются пространственный, гастрономический и анатомиче-
ский коды» [Якушкина 2003: 149].
Особого внимания заслуживает такой фактор анализа, как харак-
теристика интерактивного потенциала семантических структур. Она
включает как логику «дальних» межкодовых соотнесений, так и логику
наложения смыслов «соседних» полей (о таком объединения «ближне-
соседских» сем в одном значении речь шла выше). Различные семанти-
ческие поля и их сектора могут быть описаны в свете их открытости/
замкнутости по отношению к «соседям», их «партнерского потенциа-
ла», тяготения к «коллективистскому» или «сепаратному» поведению.
В связи с этим можно говорить о существовании двух типов полевых
структур. Первый тип — экстравертированные семантические
структуры (поля, сектора поля, семантические оппозиции в составе
поля). Они максимально открыты для взаимодействия с другими се-
мантическими структурами, обнаруживая многочисленные ситуации
наложения и пересечения. Эти семантические структуры входят в
ядерную зону поля (макрополя). Второй тип — интровертиро-
ванные семантические структуры. Они в значительной степени
замкнуты на себе и более удалены от центра поля.
Думается, что статус экстраверта/интроверта и связанное с ним место
в ядре или периферии поля имеет существенную этнолингвистическую
значимость. Так, в рамках макрополя «Пространство» в русском языке
своим особым поведением выделяется поле «Дистанция» (характеризую-
щее отношения удаленности-близости), которое вступает в партнерские
отношения со многими другими пространственными параметрами.
Наименьшее семантическое расстояние отделяет дистанционный
параметр «далеко-близко» от такого показателя, как «охват
38
Раздел!
пространства». При этом идея удаленности нередко выбирает те
же способы выражения, что и идея обширности пространства (вообще,
эти идеи схожи, поскольку и в том и в другом случае охватывается
большое расстояние; разница в том, что удаленность есть векторное
понятие, а обширность — нет). Показательны в этом плане простран-
ственные фразеологизмы, включающие образ черта (или других пред-
ставителей нечистой силы): карел, (рус.) у жйхоря19 ‘об очень отда-
ленном месте’ [СРНГ 9: 198], к семи лешим ‘очень далеко’ [СПГ 1: 478],
просторен, черт-те откуда, литер, у черта на куличках И черт бежал —
ногу переломил ‘о чем-либо, занимающем большое пространство’ [Про-
кошева: ПО], арх. чертовы бега ‘широкий простор’, чертова верста
‘неопределенно большое расстояние’, черт не схватит ‘об обширном
пространстве (как правило, свободном, не занятом какими-либо построй-
ками, поселениями)’ [КСГРС] и т. п. Нередко в семантике «чертовых»
идиом появляется также смежная по отношению к двум вышеназванным
идея неопределенного (неизвестного) направления: у лешего
‘неизвестно где’ [АС 2: 108], к лешему на вешалу ‘неизвестно куда’
[СПГ 1: 478^79], на левом плече леший унёс ‘о том, кто ушел неизвестно
куда’ [СРГК 3: 104]. Более того, данный смысловой «субстрат» может
мотивировать идею повсеместности: у лесного ‘всюду; в разных
местах’ [СПГ 1: 474].
Для маркировки описываемых идей (удаленности, неопределен-
ного направления, охвата пространства) могут использоваться образы
зрительной перцепции: костр. куда глазы не видят ‘далеко’ [ЛКТЭ],
новг. куда очи глядят ‘далеко, куда-нибудь’, пск. в потъ глаз ‘куда-ни-
будь очень далеко, без определенного направления’ [Ивашко 1980:
129] // литер, окоём ‘пространство, которое можно окинуть взглядом;
горизонт’ [СлРЯ 2: 608], глаз достает (хватает) ‘о той части про-
странства, которую способно воспринять зрение’, куда глаз не хватит
‘в любом направлении и на расстоянии, доступном обозрению’, на-
сколько хватает глаз ‘на расстоянии, доступном для зрительного вос-
приятия, насколько можно увидеть’, глазом (оком) не окинуть ‘о боль-
шом пространстве, которое трудно обозреть, воспринять зрением’,
пенз. видки ‘пространство, которое может охватить глаз’ [СРНГ 4: 275].
Кроме того, идея неопределенного направления «материализует» взаи-
модействие с идеей удаленности в других образах: на девятом суку ‘не-
известно где, где-то, далеко’ [АОС 10: 402], пск. с ветру ‘издалека, неиз-
вестно откуда; неизвестный, пришлый (о человеке)’ [Ивашко 1981: 77].
19 Арх., карел, (рус.), олон. жйхаръ, жйхоръ ‘в суеверных представлени-
ях — злой дух, обитающий в жилище человека’ [СРНГ 9: 198], арх. жйхаръ
‘мифическое существо, злой дух (черт и т. и.)’ [СГРС 3: 378].
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
39
Бином «далеко-близко» взаимодействует также с рядом оппози-
ций и неоппозитивными показателями, обозначающими различные
измерения и конфигурации «горизонтального» пространства. Среди
них следует назвать, в частности, пару «с п е р е д и - с з а д и», ср. зад-
ний ‘дальний, последний, конечный в ряду чего-либо’ [СВГ 2: 114],
костр. передний ‘ближний, находящийся неподалеку от кого-либо’
[ЛКТЭ] (см. также топонимические примеры в [Березович 2000а: 108]).
Фиксируется взаимодействие и с такими параметрами конфигурации,
как «широко-узко» (ширина ‘удаленное место’ [АОС 10: 254], ши-
роко ‘далеко’ [ДСРГСУ: 574],узко ‘близко’ [Глущенко 2001: 569]), «во-
круг, около» (литер, около, забайк. околёс ‘близко, рядом’ [СРНГ 23:
137], окольное поле ‘поле, расположенное вдали от дома, от усадьбы’
[Прокошева: 78], перм. околица ‘пашня, отдаленная от села, деревни’
[СРНГ 23: 139]), «угол» (закутъё ‘отдаленное место, находящееся в
стороне от чего-нибудь’ [СРГК 2: 146], влг. в углу ‘далеко’ [КЭИС],
литер, медвежий угол), «ряд» (литер, рядом).
Кроме того, наблюдается взаимодействие с показателями, марки-
рующими пространственные пределы, — «край» (влг. украина ‘даль-
ние деревни’ [КСГРС], арх. идти куды вкрай ‘уходить подальше’
[КСГРС], костр., север, вскрай ‘близ, неподалеку, около’ [СРНГ 5: 204]),
«сторона» (усторднок ‘глушь, отдаленное поселение’ [Грандилев-
ский: 289]), «черта» (под три черты ‘очень далеко’ [СРДГ 3: 192]), а
также обозначающими меры, т. е. метрологические единицы — как
номенклатурные, так и факты наивной метрологии (литер, за версту,
за две версты, один только шаг. влг. два лаптя ‘о небольшом рас-
стоянии’ [СГРС 3: 178]).
Выражая дистанционные отношения в рамках пространственной
горизонтали, пара «далеко-близко» взаимодействует с оппозицией
«в ы с о к о - н и з к о», описывающей пространственную вертикаль. По-
казательно использование одних и тех же образов (и даже идентичных
образных выражений) для обозначения как высоты, так и удаленности,
ср.: на девятом кирпиче ‘далеко’, ‘высоко’ [АОС 10: 402], на птичий
полёт ‘на большое расстояние, далеко’ [ФСРГС: 144] // литер, с (высо-
ты) птичьего полета. Ср. также просторечный фразеологизм сто
верст до небес и все лесом ‘о дальней и трудной дороге’, задающий
обратимость горизонтали и вертикали (возможно, здесь отражается
зрительный образ горизонта).
Оппозиция «глубоко-мелко», которая может считаться частным
проявлением «вертикальных» отношений, также обнаруживает пере-
клички с «далеко-близко». К примеру, образы курицы и кошки исполь-
зуются в русской топонимии и диалектной лексике для маркировки бли-
зости объекта к дому; если куриные и кошачьи топонимы обозначают
40
Раздел!
гидрообъекты, то последние, как правило, характеризуются и признаком
мелкости [Березович 2000а: 96-97]. Отдаленное расстояние — в отличие
от близости — проецируется на глубину и может быть обозначено по-
средством образа черта и других персонажей, занимающихся метрологи-
ческой деятельностью (усилия их, как правило, напрасны, поскольку
расстояние оказывается неизмеримым): мерили Борис да Тарас — и бече-
ва порвалась ‘очень далеко (о расстоянии)’ [ФСРГС: 14], арх. мерила ба-
ба клюкой домахнула рукой ‘об отдаленном расстоянии’ [КСГРС] // черт
мерил да веревки не хватило ‘об очень глубоком месте’ [КСГРС].
Если рассмотренные выше параметры можно считать собственно
пространственными, «объективно пространственными» (хотя степень
объективности здесь очень разная), то выделяются также такие пара-
метры, которые являются сугубо прагматическими и «завязаны» на
осваивающего пространство человека. Это, во-первых, показатели, от-
носящиеся к сфере «социальное измерение пространства».
Среди них следует назвать, например, пару «освоенность-неос-
военность», ср. многочисленные языковые факты вроде медвежий
угол, глухомань, в семантике которых идея удаленности сочетается с
идеей неосвоенности. С предыдущей оказывается связанной такая
фундаментальная оппозиция, как «свое-чужое». При этом, естест-
венно, дальнее осмысляется как чужое: арх. чужбина ‘дальний лес,
глухое место в лесу’ [КСГРС], где наши вороны не летают ‘далеко, в
чужих краях’ [СПГ 1: 119]; признак близости через смысл «наш, свой,
родной» нередко выражается в топонимии [Березович 2000а: 94-95].
Во-вторых, среди «пространственно-антропологических» параметров
выделяется показатель «доступность-недоступность (труд-
но доступность)». Для языковой реализации идеи труднодоступ-
ное™ локуса используются образы медведя (влг. медвежья родина
‘труднопроходимый участок в лесу’ [КСГРС]) и мужчины (ср. топони-
мические примеры в [Березович 2000а: 95]). Наконец, следует упомянуть
о таком показателе, как «духовное освоение пространства»,
предполагающего ценностную разметку последнего, выделение в нем
таких зон, которые связаны с действиями нечистой или крестной си-
лы. При этом идея «нечистого места» оказывается соотнесенной с
идеей удаленного места, ср. использование образов черта и лешего
для маркировки обеих идей (примеры на связь этих образов с идеей
удаленности приводились выше): арх. чертова даль ‘место, где водит
или чудится что-либо’, влг. лешева тропка ‘место, где водит или про-
исходят сверхъестественные события’ [КСГРС].
Таким образом, оппозиция «далеко-близко» впитывает в себя
как топологию, трехмерность пространства (следует особо подчерк-
нуть, что описываемая пара «строит» не только пространственную го-
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
41
ризонталь, но и вертикаль, а также взаимодействует с параметром
формы объекта), так и качественные характеристики последнего. Та-
кое поведение этого бинома определяет его статус экстраверта и, со-
ответственно, центральное место, роль организующего начала в поле
«Пространство». Если дистанционная семантика «стягивает на себя»
многие связи в рамках этого поля, то семантика пространственной вер-
тикали («высоко-низко») является значительно более интровертиро-
ванной по своей организации. Это объясняется, очевидно, преимущест-
венно «плоскостным» характером русского восприятия пространства, а
также высокой степенью дейктичности пары «далеко-близко», ее при-
вязанностью к фигуре наблюдателя (пара «высоко-низко» обладает
меньшей степенью дейктичности, поскольку возможности субъекта но-
минации изменять свое местоположение весьма небогаты), имеющего
жестко закрепленную позицию, которая совпадает с домом, жилищем.
2. Рассмотрев особенности этнолингвистического анализа темати-
ческих кодов, перейдем к анализу принципов номинации. Это
понятие, с одной стороны, обобщает различные признаки номинации,
с другой, сопрягает их с установками номинатора, позволяя предста-
вить общее направление номинативной деятельности (ср., к примеру,
установку на объективное отражение в названии свойств объекта или
же на отражение в имени каких-то идеологем, не имеющих отношения к
объекту номинации, но должных воздействовать на адресата). Анали-
зируя принципы номинации, следует оценить их набор и удельный
вес. Эти принципы могут быть выделены на разных основаниях— по
отражению в номинации компонентов номинативной ситуации (отобъ-
ектный, отсубъектный, отадресатный принцип [см. Рут 1992: 21-22]),
по типу учтенных в номинации свойств объекта (качественный, реля-
тивный, функциональный, ситуативный принципы [Гак 1998: 347; Бе-
резович 2000а: 352-366]), по особенностям ввода в узус (естественная
и искусственная номинация [Голомидова 1998]), по когнитивным ус-
тановкам (здесь возможны разнообразные варианты — к примеру,
«бытийный» принцип / «мифологический» и др.).
Проиллюстрируем кратко противопоставление «бытийного» («эм-
пирического») и «мифологического» принципов номинации. Если
сравнить номинативные портреты таких «гадов», как мышь и жаба,
обнаруживаются показательные различия. Мышь в языке оказывается
преимущественно «бытийной»: ей приписываются такие свойства, как
«серый цвет» (литер, мышастый (мышиный) цвет), «маленький раз-
мер» (орл. мыш 4о человеке небольшого роста’ [СРНГ 19: 68]), «нали-
чие длинного тонкого хвоста» (литер, мышиный хвостик ‘об очень
тонкой косичке, тонком пучке жидких волос’), «тихий тонкий писк»
42
Раздел!
(как мышь из-под копна (петь) ‘о том, кто поет тихим, писклявым го-
лосом’ [ЯОС 5:12]), «подвижность» (новг. мышка ‘еловая палка, которую
пускают зимой по гладкому месту, потом ловят’ [СРНГ 19: 70]), «прожор-
ливость, ,,грызливость“» (мышеядина ‘то, что повреждено мышами,
крысами’ [СРНГ 19: 69]), «плодовитость» (влг. как мышей развелось
‘о большом количестве, обилии чего-либо’ [КСГРС]), «способность ос-
тавлять дорожки следов» (нижегор. Мышины тропки ‘Млечный путь’
[Даль2 II: 367]) etc. «Мифологические» признаки в портрете мыши не-
многочисленны, например: «способность проникать внутрь человече-
ского организма, стимулируя болезни» (мышками называются разного
рода желваки, опухоли и т. п. (как правило, у животных), которые, по
народным поверьям, инициируются проникшей в организм мышью
[см. СРНГ 19: 70-71]; разумеется, сюда подключаются и другие при-
знаки — маленький размер и подвижность) и др.
В то же время номинативный портрет жабы (лягушки) скорее
мифологичен (хотя «эмпирические» мотивировки в нем тоже наличе-
ствуют), ср. признаки «способность залезать в тело (рот) человека»,
«способность инициировать дождь, грозу», «способность инициировать
различные болезни — астму, катаракту, бородавки», «наличие антропо-
морфных черт — как у ведьмы (например, груди)» (подробнее об этом
см. в параграфе 3.5). Возможно, такие различия в соотношении прин-
ципов номинации объясняются свойствами объекта номинации: жаба
в большей степени удалена от человека, обитает в дикой природе и
обладает более необычными, уникальными свойствами — например,
совмещением двух стихий обитания, «холоднокровностью».
УРОВЕНЬ КУЛЬТУРНОЙ символики
Если считать, что уровень культурной символики надстраивается
над собственно семантическим и мотивационным уровнями поля, то
встает вопрос о логике взаимоотношений этих «этажей» поля. Такие
взаимоотношения можно рассматривать в статике и динамике.
1. Статический аспект предполагает сопоставление законо-
мерностей языкового и культурного отбора смыслов в рамках единого
смыслового пространства — иными словами, характеристику рас-
пределения в пределах поля языковой семантики и
культурной символики. При этом, разумеется, важно выявить
не только и не столько участки симметричного наложения, сколько
лакуны и факты асимметрии, когда обнаруживается, что язык и куль-
тура обращают внимание на разные блоки смыслов внутри одной
смысловой сферы.
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
43
В качестве примера лакуны можно привести следующий. Если
проанализировать структуру пространственных оппозиций, важных
для фольклорного и обрядового кодов символического языка культу-
ры, то можно отметить ситуацию, обратную той, которую мы наблю-
дали по отношению к естественному языку: одной из наиболее суще-
ственных и разработанных становится «вертикальная» оппозиция
«верх-низ», а на месте «горизонтальной» пары «даль-близь», по сути,
обнаруживается лакуна («Славянские древности» сигнализируют о
ней, не включая дистанционную пару в свой словник). Очевидно, это
объясняется тем, что «вертикальная» оппозиция таит в себе богатей-
ший мифологический потенциал, поскольку пространственная верти-
каль, соединяющая подземный мир с небесным, неоднородна и не
может быть освоена человеком, «закрепленным» в ее средней точке
(дополнительный импульс для мифологического осмысления — вер-
тикальное положение человеческого тела в пространстве). В то же
время горизонталь (несоотносимая с пространственным положением
тела) является более «бытовой», потенциально осваиваемой; «куль-
турное звучание» горизонтали появляется постольку, поскольку пара
«близь-даль» может подменяться парой «свое-чужое».
Говоря об асимметрии культурных и языковых смыслов, рас-
смотрим семантическое поле «Хождение в гости», обнаруживающее
целый ряд значений, которые имеют культурную проекцию (более то-
го, некоторые единицы этого поля попросту являются культурными
словами). Язык и культурная символика идут рука об руку, закрепляя та-
кие широко известные смысловые доминанты гостевания, как угощение
(ср. угощение гость), обмен дарами (гостинец гость), регламенти-
рованность и очередность ролей гостя и хозяина (арх. перегощенъе, влг.,
моек., смол, перегостки ‘посещение гостями друг друга’, пенз. перегулка
‘поочередное хождение родственников в праздник друг к другу, сопро-
вождаемое угощением’ [СРНГ 26: 65, 72, 75], свердл. загоститься ‘по-
бывав у кого-либо в гостях, быть обязанным пригласить к себе’ [СРНГ
10: 25], свердл. отгащиватъ ‘гостить у того, кого приглашали до этого к
себе в гости’ [СРНГ 24: 151]), временной и локативный сценарий гоще-
ния (олон., тюмен. гостиный ‘такой, в который принимают гостей или
ходят в гости (о времени)’ [СРНГ 7: 94], костр. гощёное место ‘место,
куда усаживают гостей’ — но негощёное (свойское) место ‘место (на пе-
чи), где не принято сидеть гостям’ [ЛКТЭ], ср. Кто сидел на печи, тот
уже не гость, а свой [Даль2 IV: 153]20) и т. п.
20 В данном случае гость противопоставляется домочадцам, которые си-
дят на печи, ср.: Это запечный (домашний, свой) гость [Даль2 I: 614] при
Сын да дочь домашние гости, свои [Там же: 466].
44
Раздел!
В то же время многие смыслы, связанные с гостеванием, посещени-
ем кого-либо (ср. литер, гость ‘тот, кто навещает, посещает кого-либо’),
оказываются не востребованными языком культуры. Как известно,
народная традиция четко различает собственно гостей, пришедших в
дом по приглашению, и незваных посетителей (см. об этом [СД 1:
531]), ср.: Званый — гость, а незваный — пес (и черт его нес) [Даль2 I:
671], Не зван гость, не пасена и честь; На незваного гостя не припа-
сена и ложка [Даль2 II: 519] etc. Номинативное противопоставление
тех и других отражено в лексемах типа званка, званье ‘званые гости’
[ЭИС 4: 10] — но навёртыш ‘случайный гость’ [ЭИС 4: 10], арх., влг.
сычи ‘незваные гости на свадьбе’ [КСГРС], налетала, налетуша ‘не-
званый гость’ [Даль2 II: 433] и др. Л. Г. Невская справедливо указыва-
ет, что «забвение сакрального смысла „гостя“ или сознательный пере-
ход на профанический уровень возвращает к негативному смыслу
‘чужой, чуждый, враг’: незваный гость хуже татарина, болг. без вре-
мя гость отъ Турчинъ полошъ... и под.» [Невская 1997: 448]. Таким
образом, представление о двух категориях гостей отражается в члене-
нии соответствующего семантического поля, при этом смысловой
комплекс ‘званый гость’ имеет поддержку на уровне культурной сим-
волики, а смысловой комплекс ‘незваный гость’, описывающий
«профанное», неритуальное гощение, оказывается лишенным этой
поддержки.
Неритуальное гощение происходит по-разному, но, пожалуй, са-
мая распространенная ситуация такого рода в русской крестьянской
культуре — посещение «запросто» дома соседа. В ряде районов Воло-
годской области представление о таком посещении находит воплоще-
ние в лексике и идиоматике, включающей слово другозъба. Первона-
чальное значение этого слова, в основе которого сочетание другая из-
ба. — ‘чужая, не своя изба в этой или соседней деревне; дом соседей
или знакомых’, ср. другдизба ‘изба соседа’, ‘каждая из двух частей
деревенского дома, состоящего из зимней и летней избы, по отноше-
нию к другой части’ [СВГ 2: 60], другоизбенец ‘живущий в другой избе’,
другоизбный ‘соседний (о доме)’ [СРГК 2: 5-6]21. Это слово оказыва-
ется втянутым в устойчивый сценарий «неритуальных посещений»:
сосед идет к соседу просто «посидеть», узнать новости, обратиться с
какой-то просьбой и т. п. При этом другоизба трансформируется, как
правило, в другозъбу (явно под влиянием народно-этимологического
«подверстывания» к ряду дериватов гостить вроде арх. перегозъба
‘посещение гостями друг друга’ [КСГРС]) и дает разнообразную де-
21 Для подтверждения устойчивости модели см. также перм. друго-дере-
венцы ‘жители другой (соседней) деревни’ [СРНГ 8: 210].
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
45
ривацию и идиоматику: по друго(й)зъбам (обычно с оттенком неодоб-
рительное™) ‘по гостям’ — «Ну, эта пока с роботы идёт, полконца
обойдёт всё по другозьбам. Ей и на корову наплевать — пусть стоит
до вечера»; «Смотри работай, а не ходи по другозьбам» [СВГ 2: 60];
влг. идти (пойти, сходить, уйти, ходить и др.) в другозъбу (по дру-
гозъбам) ‘идти в гости без определенной цели, «посидеть», «просто
так»’ — «В другозьбу пошла, пруши пошла, не в гости, а в другозьбу»;
«Лентяки-те по другозьбам ходят» [СГРС 3: 275; КСГРС]; другозъба,
друговизник ‘неодобр. любитель посещать чужие дома, проводить вре-
мя вне собственного дома’ — «Другозьба — человек от безделья ходит
из дома в дом» [СВГ 2: 59-60], другозъба, другозъбница "неодобр. лю-
бительница посещать дома соседей без определенной цели’ — «Эта
Агнийка другозьба такая, всё ходит, ходит, нюхает, у кого что» [СГРС 3:
276], другозъба ‘пребывание в гостях’ — «Совсем от дома отбилась,
только о другозьбе и думает» [СВГ 2: 60] и др.
Несмотря на то, что иногда просматривается синонимичность
«другощения» и «гощения»22, она скорее «наводится» сугубо языковы-
ми факторами (уже упоминавшимся народно-этимологическими сбли-
жениями), — и «другощение» существенно отличается от «настоящего»
приема гостей. Во время работы в условиях диалектологических экс-
педиций нам не раз случалось вести наблюдения над поведением хо-
зяев и людей, пришедших в другозьбу'. такие наблюдения показывают,
что по ряду позиций «другощение» подчеркнуто неритуально. Если
собиратель оказывается для хозяина гостем издалека, если его по пра-
вилам гостеприимства угощают, на него «тратят время» и т. п., то за-
шедшая во время чаепития хозяина и дальнего гостя соседка может не
удостоиться никакого специального внимания. Ей зачастую не пред-
лагается пройти к столу, не наливается чай23, с ней могут не вступать в
беседу и т. п. Такое поведение хозяев вызывало у «законных гостей»
недоумение, но соседка, кажется, ничуть не обижалась: время от вре-
мени она вставляла в нашу беседу не связанные с ее темой вопросы
(уехал ли Колька? почём брала сахар? откуда у Клавки синяк — не из-
бил ли мужик? и т. п.) — и, вне зависимости от того, получала ли
нужную информацию, через какое-то время удалялась.
Приведенный материал обнаруживает негативные стороны «дру-
гощения»: просиживание в чужих домах может осознаваться как не-
22 Ср.: в другозъбу ‘в гости’ — «Не всё вам к нам, надо и нам к вам в дру-
гозьбу прийти. Пусть-ко нас теперь угошшают» [СВГ 2: 60].
23 Ср., кстати: «А мы в другозьбы всё с сахаром ходим. Там засидимся,
то и цяём напоят» [СВГ 2: 60]: появление в «настоящих гостях» со своим са-
харом могло бы нанести обиду хозяевам.
46
Раздел!
оправданная трата времени, склонность к праздношатанию, безделью
и любовь к сплетням. Пунктиром прочерченные в лексическом ком-
плексе, связанном с другозъбой. эти смыслы становятся более явными
в фактах семантической деривации на базе других слов, означающих
неритуальное посещение чужих домов.
Весьма выразителен комплекс дериватов корня двор-, внутренняя
форма которых рисует перемещение из двора в двор («чужой двор»,
«между дворами», «по дворам», «за двором», «семь дворов»). Лексе-
мы с такой внутренней формой могут сочетать семантику посещения
соседей и лентяйничанья, праздношатания: чужедворый ‘любящий
ходить по гостям’ [СРГК 6: 803], арх. задворничатъ ‘жить не дома,
быть постоянно у кого-либо в гостях’ [СРНГ 10: 46], ворон, между-
дворник. курск. межедвор. орл. межедворец ‘бездельник, который
ходит от нечего делать по чужим дворам’, межедворничатъ юж. ‘час-
то ходить в гости’, тульск., юж. ‘бездельничать, ходя по чужим до-
мам’, перм. межудворница ‘женщина, которая не сидит дома, а ходит
по соседям; шатунья’ [СРНГ 18: 79, 81-82, 90], подворашник ‘мужчи-
на, который любит без дела ходить по чужим дворам’ [СОГ 10: 37],
(р. Урал) подвория ‘непоседливая женщина, которая любит ходить по
гостям’, курск. подворяга ‘женщина или мужчина, любящие бродить
по чужим дворам’ [СРНГ 27: 366, 369], семидворитъ ‘бездельничать,
ходить целыми днями без толку из дома в дом’ [ЯОС 9: 25] и т. п.
Дальнейшая филиация значений дает более широкую палитру этиче-
ски негативных смыслов: дворы ‘сплетни, пересуды’ [СРГК 1: 432],
брян. межедворка ‘сплетница’, межедворитъ ‘сплетничать’ [СРНГ
18: 81-82], семидворитъ ‘бегать по деревне, собирая сплетни’ [ЯОС 9:
25], ворон, межидворница ‘потаскушка’ [СРНГ 18: 87]24. Показатель-
но, что этот смысловой комплекс связывается не с «междомьем», а с
«междворьем»: если дом является относительно замкнутой, личност-
но-семейной сферой, то двор — область, открытая вовне, выводящая
мир семьи в «большой мир» (через мир «соседей», ср. ободворок ‘со-
сед’ [СРНГ 22: 154], судворни ‘соседи, шабры, по смежным дворам,
по задворкам’ [Даль2 IV: 355]), и этот статус задается самим располо-
24 Отметим, что незакрепленное положение по отношению к двору, избе
(или отсутствие двора) может давать также негативную оценку социального
статуса человека — семантику отсутствия семьи и нищеты: бездворовник, во-
рон., курск., тамб. межидвор, межедворник, нижегор. подворник ‘бобыль’,
орл. бездворница, межедворка ‘бобылка’ [СРНГ 2: 186; 18: 81-82; 27: 366],
по дворам ходить ‘собирать милостыню’ [АОС 10: 333; Прокошева: 107],
енис. водиться по избам ‘побираясь, нищенствуя, поочередно питаться в
разных домах в деревне’ [СРНГ 4: 338] и т. п.
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
47
жением двора в пространстве. И еще один важный момент: именно
двор является индикатором хозяйственной состоятельности человек
ка25, а хозяйственная состоятельность для традиционной народной
культуры в значительной степени служит фундаментом морали: от-
сюда столь негативное осмысление отсутствия двора или «не прикре-
пленного» к нему человека.
Аналогичная логика смыслопорождения присуща дериватам кор-
ня чуж-. арх., влг. очужатъся ‘часто и без цели посещать соседей’ —>
‘проводить время, занимаясь чем-то безрезультатным’, влг. чужатъся
‘сплетничать’ [КСГРС]; выразительна здесь семантика корня, катего-
рично указывающая на «чуждость», «инаковость» поведения сло-
няющегося по чужим дворам человека26.
Итак, в семантическом поле «гощения» намечен определенный
водораздел между смыслами, связанными с ритуальным и неритуаль-
ным гощением. Первые имеют не только языковую, но и культурную
маркировку и, соответственно, такую внутреннюю организацию, ко-
торая подчинена культурному сценарию — в данном случае ритуалу
приема гостей: здесь просматриваются важные для любого ритуала
смысловые стержни — пространственно-временная закрепленность («гос-
тевое место» и «гостевое время»), наличие определенной акциональ-
ной программы (сюда входит, в первую очередь, угощение) и пред-
метной символики (гостинцы). Что касается неритуального гощения,
то оно определяется смысловыми доминантами иного рода, оказыва-
ясь вписанным скорее в сферу этики. Здесь нет регламентированности
культурного сценария, здесь есть плавные переходы от внешней, «по-
ступочной» логики к качественной характеристике человека, перехо-
ды, определяемые аксиологической логикой, логикой оценки. Эти пе-
реходы могут быть обеспечены присущей языку «волновой» техникой
филиации смыслов, когда языковая линия весьма гибко обрисовывает
контур движения мысли. Культурный сценарий не фиксирует эту ди-
намику, поскольку семантическое пространство языка культуры более
25 Ср. дворовиха ‘женщина, не любящая без дела ходить по чужим дво-
рам’ [НОС 2: 78], одворитъся ‘завестись хозяйством, двором’ [СРНГ 23: 7],
твер. дворынничатъ ‘постоянно просить у соседей домашнюю утварь, сель-
скохозяйственный инвентарь и пользоваться ими’ [СРНГ 7: 302], смол, под-
воръеко водить ‘вести свое хозяйство’ [СРНГ 27: 369] и мн. др.
26 Семантика бесцельного посещения соседей может реализовываться
также другими лексическими носителями, ср. влг. бызун ‘человек, любящий
без дела ходить по чужим домам’ [СРНГ 3: 258], арх. колядоватъся ‘слонять-
ся без дела’ [СРНГ 14: 222], гулъная палагея, базарна корова ‘о том, кто хо-
дит без дела из дома в дом’ [ССХЧ: 4142] и др.
48
Раздел!
дискретно, здесь знаки связаны друг с другом скорее в рамках статич-
ной «культурной ситуации», нежели в потоке смысловой эволюции.
Таким образом, статический интерпретационный ракурс исследо-
вания в применении к уровню культурной символики (если смотреть
на него «снизу вверх» — т. е. по направлению от естественного языка
к культурной «надстройке») предполагает сопоставление закономер-
ностей языковой и культурной дистрибуции смыслов.
2. Динамический ракурс в изучении взаимоотношений ме-
жду уровнем культурной символики и семантико-мотивационным
уровнем подразумевает выявление направления и закономер-
ностей перекодировок в оппозиции «язык «-> культура».
Возможность таких перекодировок определяется тем, что культура
«представляет собой иерархически организованную систему раз-
ных к о д о в, т. е. вторичных знаковых систем, использующих разные
формальные и материальные средства для кодирования одного и того
же содержания, сводимого в целом к „картине мира44» [Толстой, Тол-
стая 19956: 7]. Так же, как при внутриязыковом взаимодействии по-
лей, процесс перекодировок характеризуется распределением ролей
донора и реципиента27. При этом естественно предполагать движение
информации в направлении «внеязыковые формы культу-
ры^ язык» и наоборот (конечно же, это самое грубое и поверх-
ностное представление, которое должно быть многократно углублено
с учетом разнообразия жанров культуры и существования различных
способов трансляции смысла в языке).
А. Вектор «культура —> язык» реализуется, например, в том
случае, когда фрагменты культурных текстов, сворачиваясь, попадают в
языковую систему в качестве прецедентных знаков. Подобная вторичная
семиотизация свидетельствует о двойном знаковом отборе, что повыша-
ет степень аксиологичности отобранных смыслов (помимо такого меж-
категориального движения от культуры к языку, феномен вторичной се-
миотизации может, разумеется, обнаруживаться как внутри языка, так и
внутри культуры, ср. наблюдения Н. И. и С. М. Толстых над вторичной
функцией обрядового символа, показавшие, что вторичными, вновь
отобранными культурой становятся наиболее существенные, ключе-
вые ее элементы, своего рода архетипические культурные тексты —
27 Однако во многих случаях эти роли невыделяемы — и это указывает на
принадлежность соответствующего факта «пограничной полосе», зоне, где язык
смыкается с другими формами культуры (о таком смыкании и конкретных его
проявлениях см. в [Толстая 2002а: 124 126]). Тогда встает вопрос о различных
техниках обработки одного и того же смысла в языке и в разных сферах культуры.
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
49
обряды жизненного и вегетативного циклов [Толстой, Толстая 1994:
254]). Если рассматривать механизм взаимодействия полей-доноров и
полей-реципиентов, то становится очевидно, что принимающая система,
трансформируя семантику культурных знаков, располагает их вдоль сво-
их силовых линий смыслообразования, подчиняет закономерностям соб-
ственной организации.
Так, образы «злодеев», принадлежащие различным культурным тек-
стам (в первую очередь библейскому), попадая в лексическую систему
русских народных говоров, подвергаются смысловым преобразованиям в
соответствии с логикой организации реципиентного поля «Черты харак-
тера человека». При этом невостребованными могут остаться те грани
образа, которые нередко являются важнейшими в культурном тексте —
допустим, мотив «кровавого преступления», предательства; в то же время
появляются магистральные для диалектной семантической системы зна-
чения, рисующие не разово-событийный негатив, а такие коммуникативно
значимые для традиционного общежития черты, как скупость, сварли-
вость, злобность. Вот, к примеру, перечень культурных героев-«скряг»:
калуж. июда ‘жадный, скупой человек, скряга’, курск., тульск. ирод
‘о жадном человеке’ [СРНГ 12:210,276], зап.-сиб. асмодей ‘злодей, скря-
га’, влад., костр., яросл. аман ‘скряга, скупец’, влг., дон., курск. аспид ‘то
же’, шир. распр. аред, ареда ‘чрезвычайно скупой человек’ [СРНГ 1: 249,
272-273, 286], арх. каин ‘то же’ [КСГРС], арх. кощей ‘скупец, скряга’
[СРНГ 15: 159]. Показательно, что в языках, носители которых в силу
культурных условий лучше знакомы с прецедентными текстами, образы
этих героев могут быть в большей степени приближены к прецеденту.
К примеру, польский, украинский и белорусский портреты Амана вклю-
чают в себя значительное количество языковых фактов, отсылающих к
«злодейской сущности» Амана (например, блр. гаман ‘злодей’ [ЭСБМ 3:
39]) и ситуации победы над ним, которая затем стала отмечаться как ев-
рейский праздник (укр. гаман ‘еврейский праздник; персонаж, которого
во время этого праздника евреи используют как объект глумления и из-
девательств’, гамануеати ‘бить кого-то, как Амана, вести себя жестоко,
как с Аманом’ [ЕСУМ 1: 464], укр. Гомане вухо ‘праздник Пурим’, гама-
нове вухо ‘треугольное печенье с маком, изготавливаемое к празднику
(должно напоминать победу над Аманом, которому отрезали уши)’ [Бе-
лова 2006: 191], бити як Гомана ‘безжалостно бить’, товчуть як жиди
Гомана, блр. 6iyi як Гомана, уси кричацъ на его як на Гомана, польск. bity
jak Aman, zbili go jak Zydzi Hamana, jak na Hamana krzyczec (nastawac)
и др. [1вченко 1999: 185-186], польск. uszka Hamana ‘маленькие пирож-
ные’ [устное сообщение М. Якубович]). Такой подбор черт объясняется
тем, что соответствующие лингвокультурные традиции в большей степе-
ни, чем русская, взаимодействуют с еврейской традицией. Русские же го-
50
Раздел!
воры, дав слабый отклик на ситуацию казни Амана (ср. смол, як гамана
прибили [СРНГ 6: 127]), «подверстывают» его к другим героям-злодеям,
изображаемым, как было показано выше, с привлечением актуальных
для носителя диалекта черт характера28.
Б. Взаимодействие в направлении язык^ культура проявля-
ется, к примеру, при творении языковых мифов — таких культурных
текстов и контекстов, которые созданы самой языковой системой (или
же при ее «решающем участии») и не отражают действительность
внеязыковую. Наиболее ярким проявлением подобного мифотворче-
ства можно считать феномен народно-этимологической магии, по за-
конам которой создаются медицинские рецепты, календарные пред-
писания, толкования сновидений и проч, (подробный анализ языковых
мифов представлен в разделе V).
Таким образом, при анализе уровня культурной символики —
коль скоро этот анализ разворачивается «от языка» — следует выявить
логику распределения «языковых» и «культурных» смыслов, обнару-
живающих как общие зоны, так и специфические, а также закономер-
ности взаимовлияния языковой и внеязыковых форм культуры
Перечень обозначенных нами параметров этнолингвистической ин-
терпретации семантических полей, безусловно, является неполным и от-
крытым. Мы лишь хотели предъявить его к обсуждению. Думается, что
поиск новых параметров следует вести исходя из некоторых общих
принципов исследований такого рода. Эти принципы предполагают «па-
норамное» рассмотрение изучаемых смысловых феноменов, их сопос-
тавление и оценку. При этом должны решаться следующие вопросы:
Какой логикой руководствуется язык (или иная знаковая система)
при отборе явлений действительности для семантизации (т. е. что под-
вергнуто маркировке, а где отмечаются лакуны)!
Какое место занимают различные смыслы и группы смыслов в
общей системе и каков их «удельный вес» (какова дистрибуция смы-
слов, какие из них подвергаются означиванию чаще и разнообразнее,
чем остальные)?
Как определяется разработанность смысла или группы смыслов
относительно других (т. е. какова конфигурация, контуры, глубина, ню-
ансировка. степень детализации, «этажность» смыслов в системе)?
Как осуществляется в данной знаковой системе переход от одних
смыслов к другим (т. е. каково направление, вектор филиации смыслов;
28 Общей для разных славянских языков является также попытка «демо-
низации» Амана, ср., к примеру, польск. gaman ‘дикий великан, чудовище’
[SW II: 11], рус. смол, гаман ‘дьявол, черт’ [ССГ 3: 15].
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
51
в каких случаях наблюдается их обратимость)! насколько соотносимы
ряды смыслов друг с другом (как можно спроецировать один смысло-
вой ряд на другой)?
В какие более общие категории могут быть объединены данные
смыслы (т. е. как определяется принцип смыслообразования)?
Дальнейшие исследования позволят получить не отдельные иллю-
страции к высказанным здесь предположениям, а системное этнолинг-
вистически ориентированное описание лексического состава языка
1.2. ОНОМАСТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА
Семантика имени собственного долгое время играла в отечест-
венной ономастике роль того «мальчика», который рос и мужал во-
преки сомнениям окружающих относительно самого факта его суще-
ствования («А был ли мальчик-то?..»). Несмотря на открытый финал
спора о наличии у имени значения, в конкретных ономастических иссле-
дованиях осуществляется разработка различных проблем ономастиче-
ской семантики: тематических классификаций онимов, семантических
связей между ними, трансформаций смыслового наполнения имен при
деонимизации и др. Таким образом, можно говорить о значительном зазо-
ре между изучением частных аспектов проприальной семантики и созда-
нием общей модели семантики имени, которое тормозится инерцией
представлений об отсутствии у имени полноценного (понятийного) значе-
ния. В то же время включенность имен собственных (ИС) в познаватель-
ные процессы, теснейшее взаимодействие с именами нарицательными
(ИН), реальные условия функционирования ИС неопровержимо свиде-
тельствуют о том, что проприальное слово связано с понятием, — но
связь эта устроена иначе, чем у слова апеллятивного.
В настоящем параграфе, который ни в коей мере не претендует на
полноту освещения этой проблематики, требующей не одной солидной
монографии, предпринимается попытка представить модель семантики
топонимов, которые образуют самый масштабный, разнообразный и по-
казательный в плане проявления ономастических закономерностей класс
ИС. Особое внимание будет уделено культурной семантике топонима.
К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ
ТОПОНИМИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ
Современная «апеллятивная» семантика считает означаемое сло-
ва сложным образованием, состоящим из следующих компонентов:
денотативного, сигнификативного, прагматического, синтаксическо-
52
Раздел!
го. При этом денотат, сигнификат и некоторая часть прагматической
информации, выделяемые традиционно, являются основной частью
лексического значения, а остальные компоненты, описываемые в но-
вейших исследованиях, образуют «второй эшелон» информации, ко-
торая связана со словом-лексемой [Кобозева 2000: 80-81]. Можно ли
спроецировать эту модель на семантику имени собственного (в част-
ности, топонима)?
Интересный и продуктивный вариант моделирования семантики
онима предложен М. В. Голомидовой [Голомидова 1998]. Такое мо-
делирование автор называет разработкой концепта имени собственно-
го. Под концептуальностью имени автор понимает совокупный объем
представлений о возможностях его применения — языковые и экстра-
лингвистические знания, связанные с использованием ономастиче-
ского знака, которые сложились у носителей данного языка [Голоми-
дова 1998: 16]. Выделяются следующие уровни этой концептуальной
модели: 1) общая категориальная семантика имени, вырастающая из
его противопоставления апеллятиву, благодаря чему высвечивается
специфика способа означивания: имя является индивидуализирую-
щим знаком, который не только на речевом, но и на языковом уровне
свидетельствует о ценности вербального выделения отдельной реалии;
2) частная категориальная семантика, основанная на связи оним — на-
рицательное слово и создающая возможность для противопоставле-
ния разных разрядов собственных имен в онимической системе языка;
3) частная характеризующая и индивидуализирующая семантика, отли-
чающая имена друг от друга и основанная на денотативной отнесенно-
сти и мотивировочном значении, которое определяется на «момент»
создания имени и обеспечивает выполнение именем его различитель-
ной функции, поскольку несет указание на индивидуализирующий
мотивировочный признак; 4) фреймы (несобственно языковые знания),
отражающие значимые для языкового коллектива представления о
специфике применения имени (например, ритуальный фрейм, пред-
полагающий в некоторых конфессиональных традициях смену имени
при пострижении или принятии сана; фрейм наречения ребенка в рус-
скоязычной среде, подразумевающий не изобретение имени, а выбор
его из существующего списка русских либо иноязычных имен; фрейм
социальной мимикрии, предопределивший многочисленные акты сме-
ны фамилий после революции 1917 г. и т. п.) [Голомидова 1998: 16-28].
Семантическое своеобразие онимов коренится в том, что наиболее
значимым, идентифицирующим является третий уровень этой модели —
уровень частной характеризующей и индивидуализирующей семан-
тики. На этом уровне осуществляется семантизация конкретно-чувст-
венного представления об объекте номинации, т. е. образа, который
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
53
означивается именем. Ср.: «...образный компонент — главное в се-
мантической структуре имени собственного, поскольку без конкрет-
но-чувственного представления об объекте онима как такового просто
не существует» [Рут 2000: 18].
Попытаемся дополнить и расширить представленную выше мо-
дель, сосредоточив внимание на топонимической семантике.
Первые три компонента модели — общая категориальная
семантика имени, частная категориальная семантика и част-
ная характеризующая и индивидуализирующая семантика —
соответствуют сигнификативному и денотативному компонентам «апел-
лятивной» модели. Их наполнение не требует комментариев.
Четвертый компонент — фреймовый — следует считать ча-
стью прагматической информации, соотносимой с именем, поскольку
разворачивание фрейма определяет программу употребления онима
Отметим, что в топонимическом узусе данный компонент проявляет
себя не столь активно, как в антропонимическом: последний гораздо
более тесно связан с традициями общественной жизни, а значит, бо-
лее определенно и разнообразно вписан в ее сценарии. Наиболее ак-
тивно в топонимии проявляет себя, к примеру, фрейм официального
(неофициального) общения, определяющий тактику выбора соответ-
ствующего варианта из парадигмы обозначений какой-либо геогра-
фической реалии, ср.: деревню Мост жители окрестных деревень на-
зывают ее основным именем в «паспортных» ситуациях (когда при-
езжий выясняет дорогу, когда надо оформить какие-либо документы и
др.), а в ситуациях неофициального общения употребляется шутливое
название Северная Корея — «Была в Северной Корее, корейцы все в лес
убегли» [Уст, Сабуровская]. Фрейм официального общения часто дает о
себе знать при сборе полевого материала в условиях топонимической
экспедиции, существенно осложняя задачу собирателя, который настро-
ен на выявление как раз неофициального именника. Действие установки
«на официоз» может быть настолько сильным, что информант будет ско-
рее создавать фантомы, чем обнаруживать неуместную, с его точки зре-
ния, тональность описываемого топонимикона. Показателен следующий
диалог между супругами-информантами в присутствии собирателя:
Муж*. Дерюги были по реке — Ивана Ивановича Дерюга, Василия
Николаевича Дерюга...
Жена*. А Петькина Дерюга!
Муж*. Да, пиши — Петра Филипповича Дерюга.
Жена*. Еще Манъкина Дерюга тамока!
Муж*. Пиши — Марьи Афоничевой Дерюга. <...> А тут у деревни
поле За Кирпичным Заводом.
Жена*. Это какое? Засерихино!
54
Раздел!
Муж\ Какое тебе Засерихино! Видишь, девка переписыват, чего
ты ей всяку глупость ляпашь? [В-Важ, Урусовская].
Как видим, жена настроена на бытовой узус (упоминает топонимы,
образованные от неофициальных форм личных имен, от грубо-простореч-
ных основ), а муж корректирует формы имен исходя из своих представ-
лений о задачах «переписи» топонимов. Если в данном случае условия
общения благоприятны для собирателя, который может вести наблюдения
за этой стилевой полифонией, то во многих других ситуациях топонимист
вынужден довольствоваться системой, которую информант подвергает
«внутренней цензуре» (несмотря на просьбы собирателя перечислить
именно разговорные формы географических названий).
Фреймовым компонентом прагматическая информация не исчерпы-
вается. В рамках прагматической зоны значения могут быть
выделены еще как минимум два компонента. Один из них связан с
реализацией эмотивной функции языка и может быть обозначен как
эмотивный. В русской топонимии экспрессивные топонимы пред-
ставляют немногочисленную, но весьма выразительную группу (ср.: пок.
Проклятые — «Чертово место, начупаешься с им» [Прим, Лопшень-
га], лес Бажениха — «Баженое место, сколь грибов и ягод там было»
[Кир, Рыбацкая], д. Город Стром [Кон], пок. Красотинка [Влгд] и т. п.),
при выделении которой следует учитывать «свойства топонима субъ-
ективизировать качественно-количественную характеристику объек-
та, актуализировать субъективную эмоционально-оценочную семантику
при сохранении объективно-денотативного значения» [Гаева 1999: 9].
Другой компонент прагматической зоны — коннотации. Кон-
нотация в топонимии проявляет те же свойства, что и аналогичное яв-
ление в сфере апеллятивной лексики: логическую факультативность и
вместе с тем устойчивость, имеющую языковую верификацию. Так,
топонимы, образованные от числительного семь. могут отражать идею
неопределенного множества [Матвеев 1976: 90-97], что проявляется в
параллелизме Семь Озер И Девять Озер [Ревд], Семиозерница // Сто-
озерница [Буй]; эта же идея, вероятно, представлена в названии оз. Се-
миводное. противопоставленном названию соседнего оз. Сухое [Плес].
Девятые названия используются для маркировки удаленного распо-
ложения объекта; светлые, громовые топонимы коннотируют симво-
лику святости, сакральности; образы таких животных, как кошка, петух
и курица, в топонимии манифестируют близость объекта к населен-
ному пункту etc. (об этом см. в [Березович 2000а: 57-58, 95-96, 98,
318, 324-326]). Более подробный комментарий к этим положениям и
соображения, развивающие тему, представлены ниже, при анализе этно-
культурного своеобразия топонимической семантики, поскольку кон-
нотация, являющаяся наиболее интересным и ценным в этнолингви-
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
55
стическом отношении компонентом топонимической (ономастической)
семантики, требует отдельного обсуждения.
К коннотации примыкает ассоциативный фон топонима.
Особый экстралингвистический статус этого компонента обусловлен
тем, что ассоциативный фон не имеет собственно языковой верифи-
кации. Он может быть эксплицирован в показаниях метаязыкового
сознания носителей топонимической системы, т. е. в актах мотивации,
а не собственно номинации. Разумеется, процессы номинации и мотива-
ции теснейшим образом взаимосвязаны, а границы между лингвистиче-
скими и экстралингвистическими коннотациями подвижны, ср. рассужде-
ния Н. И. и С. М. Толстых относительно статуса лексических и культур-
ных коннотаций: «Для каких-то экстралингвистических коннотаций
пока еще просто не обнаружены языковые подтверждения, а какие-то
из них являются лишь потенциальными языковыми коннотациями и в
будущем смогут приобрести статус языковых, когда экстралингвис-
тический сопутствующий признак станет основой для языковой номи-
нации или семантической деривации» [Толстой, Толстая 1995а: 290].
К примеру, топонимы, образованные от апеллятивов темный, бездон-
ный. потенциально несут в себе идею нечистого места, ср.: оз. Темник —
«Темное озеро, нечистая сила ведет туда людей и топит» [Мез, Лам-
пожня], руч. Тёмной — «Там кладбище, да ручей сам такой сумрач-
ный, страшное место, в общем» [Уст, Леонтьевская], оз. Бездённое —
«Там дна нет, говорят, выходили из него какие-то черти» [Влгд, Кри-
вое], пруд Бездонный — «В нем купаться старики не разрешали, не-
чистое место, он без дна» [Некр, Новые Ченцы] и др. Повторяемость
реакций такого рода свидетельствует о том, что соответствующие
смыслы могут приобрести статус языковых коннотаций.
Модель семантики языковой единицы включает в себя семан-
тические связи в рамках определенного семантического конти-
нуума. Частная характеризующая и индивидуализирующая семантика
топонима вводит его в определенное семантическое поле29; все се-
мантическое пространство топонимии может быть представлено как
сложная конфигурация пересекающихся полей. К примеру, могут быть
выделены поля «Цветовые характеристики», «Этническая принадлеж-
ность жителей», «Постройки и сооружения», «Характер почвы» и т. п.
Соответственно семантика каждой топонимической лексемы включа-
ет такую составляющую, как п р о е к ц и я семантического поля.
29 Отметим, что семантическое поле в данном случае может быть при-
равнено к мотивационному, поскольку частная характеризующая и индиви-
дуализирующая семантика, как говорилось выше, основана на мотивацион-
ном значении топонимов.
56
Раздел!
Данная характеристика топонимической семантики определяет место
топонима в составе поля, наличие у него близких и более далеких смы-
словых «партнеров». Подобно значимости (структурному значению), она
может быть выявлена только контрастивно, на фоне других единиц поля.
Специфика полевой организации топонимикона состоит в том,
что она включает виртуальные семантические поля и актуальные кор-
реляции семантического поля.
Виртуальные семантические поля представляют собой
сугубо парадигматические структуры, которые не фиксируются в пол-
ном объеме в какой-либо локальной топонимической системе, а могут
быть выявлены только на метауровне — при объединении данных
многих локальных топосистем в некоторый сводный топонимикон.
Допустим, названия озер Светлое, Красное, Черное, Темное, Белое,
Серебряное, ручьев Бобровый, Медвежий, Кошачий и проч, образуют
виртуальные поля, содержащие единицы, которые могут относиться к
разным локальным топонимическим системам и иметь различное
смысловое наполнение. Так, несмотря на то, что апеллятивы бобр,
медведь и кошка входят в одно поле «Животные», название руч.
Бобровый скорее всего указывает на то, что в нем реально водятся
бобры, руч. Медвежий — на то, что на берегах ручья обитают медве-
ди, руч. Кошачий — на то, что он очень мелкий (как говорят носители
топонимических систем, «даже кошка вброд перебредет»), или на то,
что в нем топили кошек.
Как известно, семантическое поле в апеллятивной лексике харак-
теризуется наличием системных семантических отношений (корреля-
ций) между составляющими его словами — антонимии, синонимии,
конверсивности и т. п. [Кобозева 2000: 99-108]. По отношению к то-
понимическому материалу предпочтительнее работать не с виртуалы
ными, а с актуальными корреляциями семантического
поля. Предпосылкой для установления синтагматических связей в
данном случае становится «объектный контекст» — пространственная
смежность (соотнесенность) объектов. Актуальную семантическую
корреляцию в топонимии тогда можно понимать как комплекс топо-
нимов, в котором реальной пространственной соотнесенности объек-
тов соответствует семантическая связь элементов комплекса. Такие
актуальные семантические корреляции — редкий случай «обнародо-
вания» глубинных парадигматических отношений, которые становят-
ся непосредственно наблюдаемы в названиях связанных между собой
объектов30. Актуальные семантические корреляции могут стать важ-
30 Подробный анализ таких полей (обозначенных как семантические
микросистемы топонимов) представлен в работе [Березович 1992].
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе 57
ным источником информации о семантике топонима. Возможности их
использования в этой функции определяются тем, что внутри такого
топонимического ряда, как и во всяком контексте, действует закон
семантического согласования. Это позволяет в какой-то мере рекон-
струировать значения элементов ряда, поскольку информация о круге
сочетаемости заложена в семантике слова.
Среди актуальных корреляций семантического поля в топонимии
могут быть обнаружены разнообразные отношения: «синонимический»
ряд31 (ск. Плакун — Ревунчик [Приг], оз. Корчажка — Братынъка —
Котелок [Пин], р. Гремелка — Шумелка [Гряз]), «антонимический» ряд
(оз. Горькое — Пресное [Баг], р. Кобыла —Жеребенок [К-Г], пок. Хо-
рошенькая — Плохонькая [Ирб], р. Грязная Речка — Чистая Речка
[Велиж]), тематическая группа (оз. Карасье — Линево [Пыщ], леса Липо-
вец— Сосновец— Калиновец [Гряз], ур. Поповские Пагны —Дьячковы
Пагны [Кир]), ассоциативный ряд (р. Сусло — Хмелевка — Бражка —
Некваса [Баб], р. Мочалъна — нимш&Мыло [Алап]) и др.
Частный (и практически неизученный) случай актуальных семан-
тических корреляций — наличие семантических связей между топо-
нимами при тождестве объекта номинации, т. е. семантическое варьи-
рование исходного имени объекта. Семантические варианты такого
типа могут хронологически сменять друг друга (что нередко обуслов-
ливается социальными факторами) или же функционировать одно-
временно. Семантически связанные варианты топонимов появляются
как своеобразная компенсация застывшей семантике имени, неспо-
собной к апеллятивному семантическому варьированию — много-
значности. Семантическое варьирование в нарицательной лексике
предполагает трансформацию сигнификата, а при ономастическом
варьировании обычно не происходит изменений базовых компонен-
тов топонимической семантики (поле Штаны И Портки [K-Ив], пок.
Камчатка И Австралия [Некр], г. Челпашек И Коровашек [Влгд]), но
иногда манифестируется изменение статуса объекта (ср., к примеру,
переименования географических объектов, возникшие как оппози-
тивная реакция на исходное имя в первые годы советской власти:
31 О синонимии (равно как об антонимии) приходится говорить с из-
вестной степенью условности, поскольку топонимическая синонимия отли-
чается от аналогичного явления в сфере апеллятивной лексики. В топонимии
представлены скорее «психологические» синонимы, нежели общеязыковые.
К примеру, название Котелок дается озеру с «котлообразным» рельефом и
формой, по ассоциации соседние озера со сходными свойствами получают
названия Братынъка и Корчажка. При этом апеллятивы котелок и корчаж-
ка (братынъка) общеязыковыми синонимами не являются.
58
Раздел!
сельские населенные пункты Романово Ленино. Короли Больше-
вик [Рубцова 1989: 78], Голодная^ Веселая [Ваш], Великокняже-
ская Пролетарская. Княжий Бор Красный Бор. порт Импера-
торская Гавань Советская Гавань [Поспелов 1990: 45-57], пере-
улок Протопоповский Безбожный (в Москве) и т. п.)32.
Итак, модель семантики топонима может быть представлена сле-
дующим образом:
Концептуальное ядро — общая категориальная семантика имени — частная категориальная семантика — частная характеризующая и индивидуализи- рующая семантика
Прагматическая зона — эмотивный компонент — фреймовый компонент — коннотации
— ассоциативный фон
Семантические связи (полевая проекция) — место в виртуальном семантическом поле — актуальные корреляции семантического поля
Описав основные составляющие топонимической семантики, пе-
рейдем к рассмотрению ее этнокультурного своеобразия.
32 В то же время необходимо отметить, что актуальные семантические
корреляции, наблюдаемые в топонимии, отличаются от семантических кор-
реляций в системе нарицательной лексики по такому параметру, как обу-
словленность семантических связей. В апеллятивной семантике
все вышеперечисленные виды отношений возникают за счет взаимодействия
языковой системы и внеязыковой среды, отражают реальные свойства объек-
тов номинации. В ономастике выделенные группировки далеко не всегда
обусловлены внеязыковыми реалиями. Связь онимов может возникать за счет
собственно системных ресурсов, не будучи подкрепленной свойствами объ-
ектов. Точнее, одно из названий в составе микросистемы, возникающее пер-
вым, может отражать объектные реалии, а его партнер(ы) — быть «холостой»
ассоциативной реакцией на название-стимул. В этом случае онимы формаль-
но воспроизводят соответствующие отношения в нарицательной лексике.
Ср.: р. Вороная — р. Гнедая, лес Сухой Нос — лес Грязный Рот. пок. Кри-
вое — пок. Слепое и др. (комментарии к этим примерам и другие см. в [Бере-
зович 1992: 113-125]).
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
59
КУЛЬТУРНАЯ СЕМАНТИКА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ
За пять десятилетий своего бурного развития во второй полови-
не XX — начале XXI в. отечественная ономастика превратилась из
«служанки» истории или географии в обширный и значимый раздел
лингвистики. Ономастикой является той золотоносной жилой, которая
способна обогатить не только отдельные направления лингвистических
исследований (контактологию, этнолингвистику, стилистику, ономасио-
логию и др.), но и общую теорию языка, ср. слова В. Ташицкого, хорошо
выразившие «ономастический оптимизм» начала 60-х годов прошлого
века: «Дальнейшее развитие лингвистики, во всяком случае в некото-
рых ее областях, расширение ее горизонтов в значительной мере за-
висит от успехов ономастических исследований» [Ташицкий 1961:
И]. Ценность ономастических данных определяется тем, что «топо-
номастика, как и поэзия, детская речь или явления афазии, представ-
ляет собой некую предельную ситуацию, в которой язык проявляется
в свойствах, ускользающих обычно от исследователя» [Топоров 1964:
3]. Однако далеко не все богатства ономастикона освоены к началу
века XXI: многие даже не разведаны или приняты за пустую руду.
В первую очередь это относится к этнокультурному потенциалу оно-
мастической семантики. Если этнокультурная интерпретация различ-
ных семантических явлений в области нарицательной лексики прочно
вошла в практику этнолингвистических и лингвокультурологических
исследований, то этнокультурное своеобразие семантики ИС не толь-
ко практически не изучено, но даже в полной мере не оценено. Это
связано с неразработанностью процедуры извлечения этнокультурной
информации из ономастикона, а также отчетливо проявляющейся в
настоящее время изоляцией ономастики от «большой» лингвистики33.
33 Такая изоляция вызвана, помимо прочего, и субъективными причина-
ми. Занятия ономаста фактами, имеющими единичные денотаты, волей-
неволей превращают его в «аномалиста» (почти в античном смысле); факто-
графический стиль работы напоминает младограмматизм, а это немодно и в
системно-структурный век, и во время последующего антропологического
бума. Разрыв между ономастической и «апеллятивной» ветвями лексиколо-
гии ощутим, к примеру, на научных конференциях широкой проблематики,
проводимых в последние два десятилетия: секции ономастики (если конфе-
ренция не является сугубо ономастической) не вызывают большого интереса
и постепенно становятся все более камерными, поскольку коллеги из «лекси-
кологических» секций не испытывают большого желания слушать доклады о
микротопонимии деревни Сосновка, формантах в гидронимии бассейна Аму-
ра, кличках быков-производителей колхоза «Правда», искажениях при записи
60
Раздел!
Первые результативные шаги в области этнолингвистического изу-
чения собственных имен естественным образом оказались связанными
с «ономастиконом культуры», который интегрирован в ее фольклор-
ный и обрядовый коды, создающие особые условия трансляции этно-
культурной информации [Толстой, Толстая 1998; Имя... 2001: 120-150;
Юдин 1997 и др.].
«Обычный», общеязыковой именник, функционирующий в рам-
ках народной традиции, существенно отличается от «культурного»,
поэтому здесь требуется своя методика извлечения этнокультурной
информации.
Представляется, что рассмотрение смыслового наполнения топо-
нимов (как и других имен собственных) в этнокультурной перспекти-
ве должно учитывать два измерения ономастической семантики —
вертикальное и горизонтальное. Вертикальное измерение соз-
дается иерархией семантических пластов — от поверхностных, явных,
реализуемых в данном конкретном языковом факте, до глубинных,
неявных, обнаруживающих логику организации группы сходных смыс-
лов. Таким образом, движение вниз (вглубь) по вертикальной оси
предполагает разворачивание семантической перспективы от семемы
к семантическому полю, от микросемантики к макросемантике.
Что касается горизонтального измерения семантики то-
понима, то оно, в отличие от вертикального, появляется факультативно.
Это происходит в том случае, когда имя, обладающее особой культур-
ной значимостью, расширяет свою смысловую базу — и, не переставая
обозначать данный единичный географический объект, начинает ис-
пользоваться для характеристики более широкого круга явлений дейст-
вительности, за счет чего создается своеобразный диапазон семанти-
ческого «рассеивания» имени.
Рассмотрим последовательно специфику культурно ориентирован-
ного анализа семантической вертикали и горизонтали топонима
Семантическая вертикаль
1. Наиболее явный и доступный для этнолингвистического изучения
уровень вертикальной семантики — уровень мотивационного зна-
чения имени. С точки зрения этнокультурной реконструкции еди-
ницы этого уровня неравноценны. Обычно внимание исследователей
привлекают те топонимы, которые отражают собственно культурные
реалии (к примеру, материальные атрибуты обрядовой деятельности:
руч. Церковный, г. Крестовая, пок. Богомольный — «Крест стоял, перед
фамилий в одном из загсов Москвы, новых тенденциях в номинации селек-
ционной вишни и т. п.
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
61
покосом молились там» [Кадый, Ведрово] и др.). В то же время, не-
смотря на свою явную «культурность», факты такого рода имеют
низкую степень культурной идиоматичности, поскольку подают
внешнюю составляющую культуры, ее «план выражения».
Более интересны названия, которые обнаруживают какую-либо
культурную ситуацию, не включающую прямо или косвенно матери-
альные атрибуты культуры, а связанную с традиционным бытовым
поведением. К примеру, показательны топонимы, вариативно реали-
зующие смысл «дорожка, по которой ходили навещать родственни-
ков». Соответствующие топонимы дают представление не о больших
дорогах, проходящих по центральной улице населенного пункта, а о
тропинках, которые обычно начинаются на задах деревни, от огоро-
дов или бань и являются самым кратким путем в соседнюю деревню,
к дому родственников. Чаще всего такие тропинки были «закрепле-
ны» за молодыми женами, бегавшими навестить мать (ср. отражение
этой ситуации в названиях тропинок Матрешкина Дорожка — «Дев-
ку замуж отдавали, не спрашивали — любо не любо. Вот они домой
бегали» [В-Уст, Погорелово], Повиданка — «Девки к матерям бегали»
[Некр, Бор]), однако могли использоваться и зятьями, ходившими «к
теще на блины» (Тещина Тропа — «Из Терменьги брали замуж, парни
бегали к теще на блины» [В-Важ, Борисовская]).
Степень культурной идиоматичности повышается в том случае,
когда топонимы обозначают не реалии или ситуации культуры, а со-
держат культурную версию реальных свойств объекта, ср. такие на-
звания, как бол. Чёртово, бол. Заклятое, пок. Богородицина Ручка
и т. п. Их мотивационные значения демонстрируют «приписывание»
объекту реально не существующих свойств, интерпретирующих ре-
альные: например, выбор образа черта для названия болота определя-
ется такими объективными свойствами, как его топкость, глубина,
расположение в лесу и др.
2. Движение вглубь по вертикальной оси позволяет достичь сле-
дующего, более глубокого уровня залегания культурной семантики —
коннотативного. В данном случае культурная идиоматичность
создается за счет того, что актуализация определенных коннотатив-
ных смыслов осуществляется в известной степени прихотливо, не-
предсказуемо — если сравнить их с логически полным потенциаль-
ным набором возможностей.
Коннотативный уровень топонимической (ономастической) се-
мантики, как уже говорилось, обладает особой этнокультурной цен-
ностью, но при этом изучен крайне недостаточно, поэтому остано-
вимся на нем подробнее и будем оперировать не только топонимами,
но и фактами из других разрядов ономастики.
62
Раздел!
Не обдумывая особо вопрос о применимости понятия коннотации
к ИС, мы интуитивно употребляем данный термин по отношению ко
многим именам. К примеру, филолог (да и любой человек, самым
косвенным образом знакомый с античной культурой) будет считать
коннотативно нагруженным название аптеки Медея (в Екатеринбур-
ге), которое создано, очевидно, в результате игрового восстановления
квазикорня мед- (но без учета «антирекламных» коннотаций имени
героини греческих мифов).
Пытаясь пойти дальше интуитивного восприятия проблемы, по-
пробуем в первую очередь выяснить, как в ономастике проявляется
основное свойство коннотаций — компаративность.
Свойство компаративности заключается в том, что коннотация
становится связующим звеном между двумя языковыми фактами: в
семантике одного из них она проявлена имплицитно, а в семантике
другого становится эксплицитной, ср.: «Наличие коннотации у слова
можно фиксировать только в тот момент, когда несущественный при-
знак обозначаемого им объекта действительности стал семантическим
компонентом в толковании какой-то другой единицы языка» [Апре-
сян 1995: 169]. В числе языковых проявлений коннотаций (т. е. источ-
ников верификации последних) можно назвать переносные значения
слов, метафоры и сравнения, производные слова, фразеологические еди-
ницы, определенные типы синтаксических конструкций, семантиче-
ские области действия одних единиц относительно других [Там же: 163];
эти проявления указывают на способы верификации коннотаций. Как
видим, ключевую позицию в этом перечне занимают явления, отно-
симые к сфере вторичной номинации, ср. определение Оккама:
«Nomen connotativum est illud quod significat aliquid primario, et aliquid
secundario» (Коннотативное имя есть такое <имя>, которое обознача-
ет нечто первичное и нечто вторичное) [цит. по: Бочкарев 2003: 79].
Учитывая ведущую роль процессов вторичной номинации при
определении коннотативного наполнения слова, ономасты считают
коннотативными именно те ИС, которые стали производящей основой
для вторичной номинации: такие онимы «не только способны выпол-
нять свою прямую и изначальную функцию — быть именами объектов
окружающего нас мира, но и проникаются вторичным, дополнительным
понятийным содержанием, становятся в речи экспрессивно-оценоч-
ными заместителями имен нарицательных. Они обогащаются поня-
тийными, или референтными, коннотациями, органично слившимися
с коннотациями эмоционально-экспрессивного плана» [Отин СлК: 5].
Это топонимы Пошехонъе, Вавилон, антропонимы Маланья, Иуда, Ра-
бинович, зоонимы Белка и Стрелка, хрононим Октябрь (как компрес-
сия сочетания Великая Октябрьская Социалистическая революция),
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
63
прагмоним Рога и копыта etc. (ниже, при обсуждении вопроса о го-
ризонтальном измерении ономастической семантики, подобные фак-
ты будут рассмотрены подробнее). Не случайно словарь Е. С. Отина,
описывающий такие феномены, называется «Словарь коннотативных
собственных имен» [Отин СлК].
Получается, что ИС наделяется коннотациями в первую очередь
тогда, когда переносит деонимизацию (полную или частичную), обре-
тая тем самым сигнификат. В этом случае слово-носитель коннотации
и слово-верификатор оказываются на разных полюсах оппозиции
«единственности, уникальности — включенности в класс» — и грань
между ними более резко ощущается языковым сознанием, чем в слу-
чае их однородности по этому параметру. К примеру, хотя личное
имя Дуня (Дунька) функционирует параллельно апеллятиву дунъка
‘некультурная, малообразованная женщина (обычно провинциалка),
простушка’, а перечисленный букет признаков может определять
ироничное отношение к имени Дуня, взятому вне контекста, — в ре-
альной коммуникативной ситуации, где участвует конкретный носи-
тель имени (будь то девушка или собака), коннотации, как правило,
забываются и не влияют на познание свойств объекта. В то же время в
сфере нарицательной лексики верификатор более жестко диктует ха-
рактер восприятия объекта, названного словом-носителем коннота-
ции: информация о том, что заяц должен быть труслив, волк злобен, а
осел упрям, внушается говорящим словами/идиомами-верификатора-
ми. Нарицательный носитель коннотации связан с верификатором
теснее, чем проприальный, поскольку ИН обладает более развитой
контекстной семантикой: коннотация рождается именно в контексте,
а затем закрепляется в системе языка (грязная свинья грязный, как
свинья насвинячить). Контекстные связи ИС являются более сла-
быми: трудно представить себе контекст, который бы дал переход,
предположим, от личного имени Дунъка к дунъка ‘гриб свинушка’ (по
крайней мере, такой контекст является весьма нестандартным).
При слабости контекстных связей сильными становятся связи в
языковой системе: в процессе образования ономастических коннота-
ций формальные факторы (фоносимволика, разного рода аттракции и
проч.) играют особую роль — более значительную, чем в сфере ИН.
Эта роль возрастает с усилением асемантичности разрядов ИС — и
наиболее ярко проявляется в области личных имен (имеются в виду
системы личных имен наподобие той, что сложилась в современном
русском языке). Выхолощенность системно-языковой семантики при-
влекает внимание говорящих в первую очередь к формальной обо-
лочке, поэтому носитель языка реагирует на определенные звукоком-
плексы, которые экспрессивно оцениваются либо сами по себе, либо
64
Раздел!
на основе аттракции к другим лексемам; эти звукокомплексы могли
бы остаться незамеченными в составе полнозначных слов (скажем,
слова вроде афония, фонить, фунтик и т. п., фонетически близкие
имени Афанасий (Афоня), воспринимаются вполне нейтрально и не
вступают, кажется, в аттракционные процессы; в то же время имя
Афанасий проявляет высокую аттракционную активность: об этом см.
параграф 5.2). Все это определяет коннотативную нагруженность
имен типаЛкякгш, Фефела. Дзендзелевский. Титикака. Урюпинск etc.
Означает ли вышесказанное, что имена, не дающие апеллятивных
дериватов, не могут считаться коннотативными? У этого вопроса есть
другая сторона: существуют ли не апеллятивные, а собственно онома-
стические способы верификации коннотаций ИС?
Безусловно, именно апеллятивная верификация наиболее показа-
тельна и надежна. Однако нам представляется, что коннотации ИС
могут быть верифицированы и на собственно ономастическом уровне.
В первую очередь следует отыскать для данного ИС контекстного
«партнера» — имя, поддерживающее с ним смысловую связь при ус-
ловии денотативной соотнесенности, т. е. смежности объектов номи-
нации (пространственной, временной, социальной etc.). Такие микро-
системы взаимосвязанных ИС есть аналог отношениям лексической
системности в сфере ИН; микросистема как бы преодолевает смысло-
вую эксклюзивность ИС, вводя имя в ряд (хотя бы в бином или триа-
ду) ему подобных, создает базу для установления компаративности.
Выше, при рассмотрении общей модели семантики топонима, мы го-
ворили о таких микросистемах, которые были названы актуальными
корреляциями семантического поля.
В качестве примера подобных ономастических «контекстов» про-
анализируем цветовые ряды в различных разрядах ономастики. В на-
родной хрононимии (судя по наиболее полно описанной полесской
традиции, см. [Толстая 2005а: 30-302]) цветовая символика сконцен-
трирована преимущественно в рамках пасхального цикла: Белая неде-
ля. Белый тыжденъ — «Белый тыждень — хаты белять, бельё залим»,
Светлая седмица ‘Страстная неделя’, Светлый понеделок ‘Пасхаль-
ный понедельник’, Светлая ночь ‘Пасхальная всенощная’, Тёмная се-
реда — «У Тёмную середу перед Паскаю на паследней няделе нежы-
вых дитей наминают — тока некрещёных, каторый прысница», Черная
середа ‘среда на Страстной неделе’ — «В Чорную сэрэду подметалы, а в
Чысты чэтвэр — всё чысто», Красная неделя ‘Страстная неделя’, ‘Фоми-
на неделя’, Красная пятница ‘пятница на Страстной неделе’, Красная
суббота ‘суббота на Страстной неделе’ — «Красна су бота называецца,
бо красяць яйца у суботу перэд Паскою» [Там же: 36, 125-126, 221, 247,
258]. Эти цветовые характеристики, казалось бы, можно «прочитать»
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
65
по отдельности: эпитет белый связывается носителями традиции с по-
белкой и другими очистительными обрядами, красный — с крашени-
ем яиц, темный — поминанием мертвых. Однако системная приуро-
ченность цветовых характеристик именно к пасхальной хрононимии
обусловливает появление у рассматриваемых имен коннотативной
семантики: через тему Пасхи цветовые определения получают выход
к смысловым доминантам пасхального цикла — теме плодородия, ко-
торая соотносима с темой воскрешения Христа (воплощение обеих
тем нередко связывалось с символикой красного), теме противостоя-
ния светлых и темных сил, жизни и смерти, теме обновления и очи-
щения (см. [СД 1: 152-153; 2: 647-650; 3: 644-645]). Таким образом,
пасхальная тема задает своеобразный контекст, в котором «материа-
лизуется» семантика хрононимов и поддерживает коннотацию.
Еще пример из области антропонимии. Несмотря на то, что он
принципиально отличается от предыдущего по установкам номинато-
ров, характеру языковой традиции и т. п., он тоже демонстрирует спо-
собность ономастического контекста проявлять коннотации. Известная
триада псевдонимов Андрей Белый — Саша Черный — Саша Красный
служит контекстом для функционирующих в ней названий, который
создает и овеществляет дополнительные коннотативные смыслы:
пролетарский поэт Саша Красный не только утверждает в «красном»
имени приверженность революционным традициям и символике, но и
отторгает тональность, мотивы и темы, связанные с его «белым» и
«черным» предшественниками (ср. подобный «разговор» на языке
псевдонимов между Голодным. Веселым. Бедным. Горьким. Светло-
вым и др., а также эстафетные отношения («симилярные» или «оппо-
зитивные») в рядах Онегин — Ленский — Печорин — Волгин, князь
Мышкин — матрос Кошкин etc.).
Наконец, цветовые ряды встречаются и в фольклорной топони-
мии, ср. варианты загадки о маке: «Кину порохом — Станет городом:
Красной Москвой. Белой Литвой» [Садовников: № 863], «Кину поро-
шок—Будет городок: Красна Москва. Черна Немчура» [ЭМТЭ]. Здесь
красный цвет противопоставлен белому и черному на основе оппози-
ции свое — чужое: свое = красное (т. е. нарядное, красивое, хорошее;
для Москвы, возможно, срабатывает дополнительная мотивировка:
цвет стен Кремля—символа столицы); чужое = белое или черное. При
этом «чужие» цвета, скорее всего, составляют лишь антитезу красно-
му, не имея других специальных смыслов (можно предположить, что
сама инерция цветовой символики географических названий является
откликом на знаменитую триаду Белая Русь — Черная Русь — Чер-
вонная Русь, палитра которой, как предполагается рядом исследовате-
лей, выражает значение сторон света).
66
Раздел!
«Материализации» ономастических коннотаций могут способст-
вовать также ряды, образованные вариантными названиями одного и
того же объекта. При изменении социального контекста, в котором
функционирует объект и его имя, вариантные названия могут нести
коннотацию контраста между старым и новым статусом: статист По-
жаров становится артистом Остужевым [Дмитриев 1986: 143], Ка-
саткин избирает псевдоним Кречетов [Унбегаун 1989: 184], волж-
ский пароход Король Альберт после революции 1917 г. получает имя
Карл Либкнехт [Исаева 1976: 298], Александровский проспект (в честь
Александра I) в Екатеринбурге становится улицей Декабристов и т. п.
Ономастический контекст из взаимосвязанных названий создает
предпосылки для сравнения и обобщения свойств объектов (и, соот-
ветственно, для формирования сигнификата), поэтому, как уже гово-
рилось, данный способ верификации ономастических коннотаций
можно уподобить анализу устойчивых контекстных связей нарица-
тельной лексики. В то же время исследователь имеет возможность
воспользоваться подобными приемами крайне редко — едва ли не в
одном случае из двадцати. Другой собственно ономастический способ
обнаружения коннотаций обращен к денотативной информации. Речь
идет о тех сведениях, которые извлекаются из закономерностей объ-
ектной соотнесенности ИС. Например, Бабьими в русской топонимии
чаще всего называют те объекты, которые находятся недалеко от де-
ревни; коллективное прозвище Кулики в русской антропонимической
системе, как правило, дается жителям удаленных и обособленных
мест; хрононимы с определениями «глухой», «ржавый», «кривой»,
«хромой», «лихой» в славянской народной традиции приурочены
преимущественно к ранневесеннему периоду — времени, несущему
обновление и одновременно опасность [Агапкина 2002: 33^40]. Ин-
формацию, которую выражают эти имена, можно стратифицировать:
основной пласт информации, заключенной в Бабьих топонимах, —
«связанный с деятельностью женщин», дополнительный (коннота-
тивный) смысл — «находящийся около дома»34; антропоним Кулики
прежде всего означает «живущие у болота», а коннотативно — «мар-
гинальные, не такие, как все, отличающиеся образом жизни, укладом»
etc. Специфика подобных информационных добавок состоит в том,
34 Ср. комментарии информантов: бол. Бабье — «Бабы по ягоды бегали,
близко оно» [B-Уст, Палема], поле Бабье Поле — «Тут у деревни оно, бабы
работали» [Котл, Новинки], пок. Бабье — «Самый ближний покос от дерев-
ни» [Холм, Ульяново], пок. Бабья Пожня — «Бабы обрабатывали, у деревни
дак» [Бабуш, Тарабукино], бол. Бабье Болото — «Около деревни оно, бабы
всё туда бегали, далеко-то некогда бежать» [Ваш, Муньга] и др.
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
67
что они имеют принципиально вероятностный характер, отдельный
конкретный оним может их опровергать (топонимы, образованные от
апеллятива баба, встречаются и далеко от дома). В то же время мы
склонны считать подобные смысловые пласты коннотативными, по-
тому что они дополняют основную информацию, выражаемую ИС,
устойчиво повторяются, обладают этнокультурной значимостью.
Таким образом, проявленность в сфере ономастической семанти-
ки базового свойства коннотаций — компаративности — позволяет
говорить о существовании коннотаций у разных функциональных ти-
пов ИС (как у тех, которые имеют дериваты в сфере ИН, так и у имен,
не обладающих такими дериватами). В то же время семантическая
специфика ИС обусловливает ряд различий между именами нарица-
тельными и собственными в способах организации и верификации
коннотаций (подробнее об этих различиях — на примере коннотатив-
ного спектра личного имени — см. в параграфе 5.2, с. 547-548).
Особый интерес в этнолингвистическом плане представляет на-
личие у собственных имен коннотаций, мотивированных
мифом. К примеру, названия ручьев и источников, образованные от
апеллятива копыто, в некоторых случаях коннотируют идею чудес-
ного происхождения, а следовательно, сакральных свойств: руч. Ко-
пытов Ручей — «Петр Первый на коне ехал, конь копытом топнул —
ручей и потек» [Холм, Подборье], ключ Ископытечной И Святой [Некр],
руч. Копыткин — «Водичку там берут, водичка ключевая, лечиться
полезная» [Ревд, Крылатовка]. Эти факты могут быть поняты на фоне
известных у славянских народов представлений, приписывающих об-
разование ключевых и лечебных источников ударам копыт коня Ильи
Муромца (или св. Ильи, св. Юрия), что находит отражение в былинах
(«Куда падают копыта лошадиные, тут становятся колодцы ключевой
воды») и обрядовых песнях [СД 2: 595]; ср. также нижегородскую ле-
генду, повествующую об обстоятельствах появления святого источни-
ка: «А колодчик видела? А тут, говорят, конь обступилась копытом-то.
Татары ехали от нас, потому что они ехали туды, к Семенову... И вот
обступилась, говорят, конь, лошадь-то, копытом, и это копыто сдела-
лось колодчиком» [Шеваренкова 2004: 112].
Подобные мифы легко «рассасываются» в языковой системе,
приобретая новые внемифологические мотивировки. Такое «трепета-
ние» мифа вокруг имени, превращающее его, как правило, в метафо-
ру, со времен Потебни не раз описывалось в литературе. Позволим
себе привести развернутый пример, который представляет интерес
как проявление системности мифо-метафорических мотивационных
переходов в топонимии и как свидетельство разнонаправленности та-
ких движений.
68
Раздел!
В номинативном фонде русской топонимии устойчиво, хоть и не
частотно, фиксируется модель «гидрообъект^- пища» (как пра-
вило, напиток)35. Ср. примеры реализаций этой модели: р. Брага
[Вил, В-Т], руч. Бражка [Кир], руч. Винный Ручей — «Хороша водич-
ка в нем» [Мез, Усть-Няфта], руч. Винный — «Вода вкусна» [Туг,
Щелконогова], руч. Акулин Квас [Чухл], руч. Бабкин Квас — «Цвет
воды в ручье, как квас» [Уст, Плесо], руч. Квас [Уст], руч. Квасник
[В-Важ], р., бол. Квасница [К-Б, В-Важ, Галич, Кологр, Шенк], руч.
Квасной [Прим], лог Федорин Квасок [К-Г], низина Кисель — «Там
грязь такая, как кисель» [Леш, Вожгора], р. Масленка, Маслица, оз.
Масленое, руч. Масленой и т. п. [повеем.], оз., бол. Медовое [В-Т, Выт,
Ник, Чухл], руч. Медовой [В-Т], р. Молочная Речка [Хар], р. Молоч-
ница [В-Т, Ней, Прим, Холм], руч. Молочный — «Вода в ручье бе-
ленька, как молоко» [Вил, Стафоровская], руч. Молочный [Бел, Вель,
Вин, Уст], руч. Белая Мука [Кад, Крюково], руч., пруд Сахар [Баб,
Бел, Карг], руч. Сахарный [Вин, Леш], руч. Сметана [В-Т, К-Г, Уст],
руч. Сметанка [В-Важ, В-Т, Кир, Пин], руч. Сметанный [Пин],
р. Сусло [Кад], руч. Толоконный [Пин, Уст], руч. Чайный — «Вода как
заваренный чай, из болота ручей течет» [Кир, Коротецкая], руч. Чай-
ный [Мез, Ник, Устюж, Череп] и др. Как видно, в основу образной но-
минации кладутся такие признаки, как консистенция, цвет и вкус воды.
В то же время есть ряд мотивировок иного плана: в ручей или ре-
ку был пролит соответствующий напиток или — в более радикальном
варианте — гидрообъект потек оттого, что кто-то разлил напиток. Ср.:
руч. Винный Ручей — «Мужик закупил вино на свадьбу, споткнулся и
разбил» [Бел, Мыстино], руч. Винный — «Машина с водкой разли-
лась» [Ревд, Кунгурка]36, руч. Матрёнин Квас — «Матрёна поставила
квас, а он у ей квасился, вот ручей и потёк» [Плес, Федово], руч. Опро-
хин Квас — «Опроха квас пролила» [Уст, Кононовская], руч. Щи —
«Туда кто-то щи пролил» [Вель, Савинская]. Подобные ситуативные
мотивировки могут функционировать параллельно качественным (ср.
такую ситуацию для гидронима Щи — «Вода вкусная, все пили из не-
го», «Вода как щи» [Вель, Савинская]), что позволяет предполагать их
вторичность («вода вкусная, как щи, значит, кто-то пролил в ручей щи»).
35 Об этой модели см. также в [Рут 1992: 85].
36 Мотив опрокидывания машины с водкой, затопления баржи с этим на-
питком и т. п. встречается и в связи с топонимами, образованными от апелляти-
вов пьяный, кабак\ руч. Пьяный Ручей— «Пьяным зовут потому, что туда машина
с водкой упала, — и все разлилось» [Выт, Сидорово], г. Пьяный Угор — «Маши-
на <с этой горы> оборвалась, вино-то в речку пролили» [В-Важ, Герасимовская],
руч. Кабачок — «Туда машина с водкой пролилась, ручей и потек» [Некр, Бор].
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
69
Однако наличие богатого мифологического фона мешает безогово-
рочно принять версию о вторичности ситуативных мотивов.
Во-первых, следует учесть обрядовую практику проливания на-
питков или высыпания пищи в водоем. Такие действия предпринима-
лись в рамках календарных обрядов (к примеру, в Полесье на Крещение
или во время водосвятия «подкрашивали» квасом воду в реке [СД 2:
488-489]) или же соотносились с практикой ритуального кормления,
рассчитанного на умилостивление духов природы и стихий — напри-
мер, водяного, для которого на Русском Севере бросали в воду масло,
мед, хлебные крошки или хлеб, лили водку [СД 2: 601, 603], сыпали
муку, приговаривая: «Храни, паси нашу семью» [Черепанова 1996: 55].
На Среднем Урале существовала практика бросания в реку хлеба, соли
и денег со словами: «Водяная, водяная, я тебя дарю хлебом-солью, а
ты меня здоровьем» [Петкевич 2006: 16].
Известны также обычаи выливания пищи (например, молока) в
воду для кормления умерших предков: как считали болгары, это
должно быть первое надоенное молоко [Агапкина 2002: 155]. Пища
бросалась в воду не только для потусторонних сил, но и для поддер-
жания жизненных сил самой воды (ср. сербский обычай бросания в
текучую воду каравая из первой муки нового урожая, чтоб жито луч-
ше родилось [СД 2: 604]). В этом же ряду следует рассматривать обы-
чай русских пчеловодов в ночь на Преображение бросать мед и воск
от каждого улья в реку или топить первый рой в пруду или болоте
[СД 2: 211]. Кроме того, выливание молока в реку могло быть магически
направлено на повышение удоев коровы, ср.: «В Вятском крае, подоив
корову через кольцо или процедив молоко через дырку, выливали мо-
локо в реку, где течение сильное, и трижды говорили: „Как эта вода бе-
жит, так у коровы Пеструшки молочко бежит*4» [Толстая 2001: 69].
Возможно, стершиеся отголоски подобных обрядовых практик
можно усмотреть в анекдотах о том, как жители какой-либо местно-
сти (вологодцы, вятчане и др.) месили в проруби толокно, мотиви-
рующих распространенное коллективное прозвище толоконники [Зе-
ленин 1994: 90-91].
Во-вторых, известен миф о небесных сосудах (пиршественных
кубках), из которых боги изливают на землю различные напитки: с по-
мощью этого мифа, распространенного у индоевропейских народов,
объяснялось происхождение земных вод [Афанасьев ПВСП II: 170].
В русских сказках нередко встречаются образы молочной реки с ки-
сельными берегами, рек из пива, вина и водки [СМ: 406]. Сюда же
можно подключить представление о том, что один раз в году (чаще на
Рождество) вода в водоемах превращается в вино (обширный корпус
славянских и германских данных собран в [Страхов 2003: 40-75]).
70
Раздел!
Очевидно, такой мыслительный «субстрат» (представление о молоч-
ных и т. п. реках) мотивирует многочисленные и разноплановые ситуации
соотнесения жидких продуктов питания (особенно молока) и воды в реке,
основанные на символическом или метафорическом разворачивании со-
ответствующего представления. Ср., к примеру: «В магических действиях,
направленных на повышение удоев молока, широко используется уподоб-
ление молока воде и символика текущей воды. Поляки Жешовского края
совершали пасхальные обливания водой в убеждении, что без них молоко
у коров убывало или вовсе пропадало. Архангельские крестьяне, когда в
Вербное воскресенье первый раз выгоняли скот вербовыми ветками, эти
ветки затем опускали в реку или ручей, чтобы у коровы было больше мо-
лока, а пастух с той же целью прятал в воду свой „отпуск44. В Полесье об-
ращались к колодцу: „День добрый, колодезь Максим, а ты, земля Татья-
на, чтоб у коровки прибывало молоко, был сыр, сметана. В колодези вода
жерлами, а у коровки молоко жирами44, а также обливали водой корову с
приговором: „Прибывай, молоко, как водав колодце!44» [Толстая 2001:70].
Согласно сербским верованиям, роженицы, у которых пропало молоко,
должны были пойти к текучей воде и брызгать ею себе на грудь, приго-
варивая: «Пусть моему ребенку молоко течет как вода в реке» [Виногра-
дова 2002: 35]. Ср. также различные случаи реализации «молочной сим-
волики» речной воды, зафиксированные на Русском Севере: арх. «У нас
бабка раньше говорила, когда река ломается. Выйдет река в молосный
день, так больше молока будет, а в постный день — рыбы больше будет»
[Иванова 2002: 143]; «Раньше за реку в лодке не возили молока. <Вообще
никогда?> Пока река не замёрзнет» [БДКА: Рягово Каргопольск. р-на Ар-
хангельск. обл.]; показательна и прибаутка: Нос в деръме, Поди вымой на
реке, В пресном молоке [БДКА: Труфаново Каргопольск. р-на Архан-
гельск. обл.], а также пожелание корове при дойке: Стой, как стена, дой,
как река [БДКА: Казакове Каргопольск. р-на Архангельск, обл.] и т. п.
Таким образом, ситуативные мотивировки винных, квасных и т. п.
гидронимов можно возвести к мифу о пролитых в воду напитках37,
который, подобно этому напитку, растворяется в позднейших переос-
мыслениях.
Особый случай мифологической мотивации «пищевых» гидронимов
состоит в том, что «квасные» названия связываются с пролитой в водоем
кровью38. Речь идет об обозначениях омутов и оврагов — опасных
объектов, в номинации которых нередко отражается память о гибели ка-
37 Отметим, что весьма симптоматичную — в духе времени — модифи-
кацию этот миф получает в том случае, когда «демиургами» винно-водочных
рек становятся водители грузовиков с водкой.
38 Отметим, кстати, что косвенные связи кваса с кровью просматривают-
ся в семантике литер, расквасить (нос).
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
71
кого-либо лица. Это обозначение омута на оз. Воже Квасная Яма (парал-
лельное наименование Мертвая Яма). в которой, по словам информан-
тов, «много народу тонуло» [Кон, Васильевская], а также оврага Тельная
Квасница — «Там татары были. Там хан Батый кучу людей убил и в этот
овраг свалил. Вот там Квасница из тел и была» [Кадый, Иваньково] (ср. и
наименование омута Квасничный Омут [Ней]). Данные названия, по
всей видимости, можно включить в круг следующих фактов: наквасить
(безл.) ‘потонуть’ (?) — «Лёд ломится. „Ну, сегодня наквасит44, — дедуш-
ко говорит, потонут значит» [СРГК 3: 330]; наквасить Каму ‘утонуть’
[Прокошева: 63]; ср. также каргопольский контекст: «Например, человек
едет пьяный <по озеру> или неуверенный, грят: „Куда поехал, хочешь
озеро наквасить?44 Озеро наквасить — утонуть хочешь» [БДКА: Труфа-
ново-Кукли Каргопольск. р-на Архангельск, обл.]39.
Ключом к пониманию указанного смысла глагола наквасить, воз-
можно, является следующее поверье, зафиксированное на Пинеге: «Если
вода-то иногда голубая или темно-красная, дак тоже не хвалили: будет
много утопленников» [Иванова 2002: 145]. «Наквашенная» вода красно-
го цвета — цвета крови. Наверное, нелишним будет добавить, что на той
же территории для обнаружения утопленников использовался хлеб —
основной ингредиент кваса: «Быва человек утонет и утопленника не мо-
гут найти, дак говорят: где хлеб утонет, там и найдешь» [Иванова 2002:
150]. Ср. также общую для всех славян практику использовать квас как
ритуальный напиток в поминальные дни [СД 2: 488]. Еще один мотиви-
рующий момент состоит в том, что глагол наквасить может получить
«реальное», «физиологическое» обоснование (разложение мертвого тела
в воде); вероятно, она актуальна и для киснуть ‘умереть’ [СРГК 2: 354].
Наконец, следует упомянуть, что «смертная» символика квашения нахо-
дит некоторую поддержку в символике соления: по мнению К. В. Пьян-
ковой, аналогом наквасить является приведенное в [СРГК 5: 93] слово
посолить — ‘уничтожить, затопив’ — «Немец посолил три парохода с
детьми в реке здесь» [Пьянкова 2005: 168].
Итак, миф о пролитых в водоем напитках или о реках из меда,
вина, молока и т. п. становится своего рода диахронической коннота-
цией «пищевых» гидронимов; несмотря на то, что образные мотиви-
ровки появляются чаще и более «законны» с точки зрения базовых
для поздних топонимических систем номинативных закономерностей,
«генная память» номинативной модели время от времени возрождает
мифологический прецедент (нередко в модифицированном виде).
39 Возможно, эти факты проясняют смысл следующей неясной фиксации
глагола наквасить в СРНГ: олон. наквасить (знач.?) — «Тебе с этой удачей
молодецкою наквасити река будет Волхова» <Рыбников> [СРНГ 19: 313].
72
Раздел!
3. Если для извлечения коннотаций требуется рассмотрение груп-
пы фактов, входящих в системные отношения с данной тополексемой,
то для анализа нижеследующего уровня семантической вертикали —
уровня топонимической макросемантики — необходимо
изучение обширного семантического пространства топонимикона с
целью выявления структурирующих его доминант. Это предполагает ха-
рактеристику набора семантических полей, особенностей их внутреннего
строения и взаимоотношений друг с другом. При формировании семан-
тических полей в топонимии важную роль играет селективный фактор,
проявление которого ощущается в ономастиконе сильнее, чем в системе
нарицательной лексики40 * * *. Топонимикон не может давать «непрерыв-
ную» и целостную картину действительности, поскольку он оперирует
лишь предметными, неакциональными смыслами, имеющими простран-
ственную «привязку» и лишенными возможности активно проявляться в
ситуации коммуникации. Более того, топонимическая номинация исполь-
зует не все возможные логически смысловые позиции, а только лишь не-
которые, дающие «в снятом виде» сетку приоритетов носителя топони-
мии, которая определяет формирование образа пространства. Вследствие
этой избирательности возникает присущая топонимикону идеографиче-
ская асимметрия: в рамках семантического поля обнаруживаются «неров-
ности», состоящие либо в отсутствии ожидаемой смысловой позиции, ли-
бо в ее низкой активности по сравнению с ближайшим семантическим
«соседом». Если в нарицательной лексике смысловые «неровности» наи-
более отчетливо проявляются в области оценочной семантики (ср. широ-
ко известный перевес «негатива» над «позитивом»), то в топонимии они
могут встретиться в рамках любого поля.
Так, чрезвычайно избирательна цветовая палитра русской топо-
нимии: с большим отрывом лидируют черные, красные и белые на-
звания, но практически не представлены, к примеру, голубые и серые,
весьма пассивны желтые, синие и зеленые. Ср. другие примеры внут-
риполевой асимметрии в севернорусской топонимии: среди названий,
указывающих на стороны света, северные и южные топонимы встре-
чаются во много раз чаще западных и восточных (а северные, в свою
очередь, чаще южныху, в рамках поля «Передвижение в пространст-
ве» модели, обозначающие стартовую точку пути, резко преобладают
40 Ср.: «Слово „отбор44, несущее в себе семантический момент активно-
го, сознательного отношения языкотворца к созданию слов, здесь <в сфере
имен собственных. — Е. Б.> в высшей степени уместно: в возникновении
ономастических единиц<...> рефлекторный и креативный моменты, в про-
тивоположность пассивно-стихийному, играют несравнимо большую роль,
чем при образовании апеллятивных имен» [Журавлев 1999: 10].
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
73
над моделями, маркирующими завершение маршрута; числовые то-
понимы демонстрируют повышенную активность «тройки», «семер-
ки», «девятки» и «сотни»; ср. также резкий перевес бабьих топонимов
над дедовыми, задних над передними и др. Мы принципиально не бе-
рем случаи, которые могут быть истолкованы в связи с законом отно-
сительной негативности В. А. Никонова (либо как его приятие, либо
как отрицание) и объясняться реальным преобладанием объектов с
определенными свойствами над другими — допустим, соленых озер
над пресными, кривых рек над прямыми etc. Факт доминирования,
предположим, северных названий говорит, разумеется, не о том, что к
северу от наблюдателя находится больше объектов ландшафта, чем к
востоку или к западу, а о том, что у номинатора имеются субъектив-
ные (культурно детерминированные) основания обращать больше
внимания на северное направление, которое связано с хозяйственной
деятельностью, ибо северные румбы определяют погоду в регионе
(подробнее об этих и других ситуациях см. в [Березович 2000а]).
Такая же картина наблюдается при выходе за пределы поля и со-
поставлении полей друг с другом. Оживление метафоры семантиче-
ского поля наводит на мысль, что она не подходит к топонимической
макросемантике своей «равнинностью»: наличие лакун и смысловых
сгущений побуждает думать о таких ландшафтных метафорах, кото-
рые связаны не с нулевым, а с отрицательным или положительным
рельефом. Перепады семантического «рельефа» и создают в данном
случае культурную идиоматичность.
Таким образом, семантический «рельеф» топонимии легче, чем в
случае нарицательной лексики, поддается интерпретации с аксиоло-
гической точки зрения, представляя, как уже говорилось, систему
предпочтений носителя именника. Анализ семантического «рельефа»
топонимии (места каждой топонимической семемы в структуре се-
мантического поля, а также места поля в семантическом пространстве
топонимикона, иными словами — набора семантических полей и их
наполненности конкретными смысловыми позициями) позволит вый-
ти на уровень глубинных структурообразующих принципов семанти-
ческой организации именника. К примеру, при изучении семантиче-
ского поля «Ориентация в пространстве» в русской топонимии, в со-
став которого входят названия-ориентиры типа Заднее Поле, Дальний
Лог, Крайняя и т. п., могут быть сделаны выводы относительно ти-
пичной позиции номинатора при ориентации в окружающем про-
странстве (эта позиция статично закреплена в центре осваиваемого
пространства, которым является дом, жилище номинатора).
На уровне макрополевых структур специфика семантического рель-
ефа ощутима при анализе совокупностей топонимов, обозначающих
74
Раздел!
географические реалии одного типа. При этом важно, чтоб данный
класс топонимов был номинативно самостоятелен и независим, т. е.
имел собственные традиции именования, а не пользовался названия-
ми, метонимически перенесенными с географических имен, принад-
лежащих иным классам.
К примеру, названия речных порогов и перекатов Русского Севе-
ра говорят о том, что данный класс географических реалий отчетливо
дифференцируется в картине ландшафта; это, в свою очередь, свиде-
тельствует о давних традициях хозяйственного освоения рек. Своеоб-
разие наименований порогов в первую очередь заключается в яркой
выраженности в их семантическом пространстве поля «Опасность»:
топонимы могут давать общее представление об опасных свойствах
объекта (пороги Страшной [Бел], Злые [В-Т], Касливый^ Капкан —
«Опасное место» [Ваш, Подгорная], Ловушка [Ваш]), указывать на кон-
кретный источник опасности (пороги Рубиха и Теруха — «Рубиха ру-
бит, а Теруха трет» [Мез, Дорогорское], прк. Обаткдрило41 42 — «Немно-
го зазеваешься — тебя и перевернет» [Вин, Верхняя Ваеньга], порог
Росшибиха [Пин], прк. Урванъ [Пин], прк. Перетеръе [Чаг], прк. При-
тужалъник [Пин]), а также на ее роковые последствия (порог Мёртвая
Голова — «Народу тонуло много» [Карг, Шелохово], порог Могильник —
«Нехороший порог, если брести, так спихнет водой» [К-Б, Великодвор-
ская]); опасность объекта подчеркивается и активным использованием
названий, отражающих представления о нечистой (святой) силе (пороги
Чертов Падун [Кадый], Сатана [В-Т], порог Шайтан — «Страшный по-
рог, как шайтан»; «Бурный порог, как шайтан злой» [Мез, Кимжа], руч.
Святой Порог—«Там опасный порог, страшный, вот и Святой» [Бел, Шо-
ла] и т. п.). Свойства этих объектов описываются уважительно и даже с
некоторой долей восхищения перед их величием: прк. Огненник — «креп-
ко, как на огне рвет, он косой, неповоротистой, ехать нехороший» [Вин,
Верхняя Ваеньга], прк. Могучевка [Он], пороги Бравый Порог [Пин],
Железные Ворота [Ваш, Леш, Он, Пыщ], Молодец [Леш], Почтенный
[Холм] и др. Некоторые из этих названий можно считать эвфемисти-
чески-«задабривающими»: наименования порогов — наиболее бога-
тый эвфемизмами разряд топонимов.
Кроме того, специфичным для номинации этого типа объектов
является динамическое восприятие их качеств: здесь представлена и
«физическая» динамика (звук, движение), и образно преломленная по
отношению к географическому объекту динамика черт характера че-
ловека (пороги Утка и Утята — «Сейчас Утки играют — волна та-
41 Ср. арх., влг. касливый ‘приносящий вред’ [КСГРС].
42 Ср. арх. обашкдритъ ‘опрокинуть, перевернуть’ [КСГРС].
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе 75
кая, они как играют» [Он, Порог], прк. Бура Коза — «Еретива очень»
[Холм, Пукшеньга], прк. Козел [Пин], прк. Соловей и Подсоловок
[Пин], пороги Воронко и Рыжко — «Волнами ходит, черный, вот и
Воронко, а Рыжко быстрый», «Воронко и Рыжко бурлящие пороги,
быстрые, как кони» [Леш, Шегмас], порог Горносталъ (Горностай)
[Он, Пин], прк. Заяц-Плясун [Вин], прк. Ревун [Леш], пороги Крикун
[В-Т], НаянАЗ [В-Т], Задира [М-Реч] и др.). Пороги воспринимаются
как наиболее «живые» географические реалии, чему содействует со-
четание точечного характера объекта и максимальной степени дина-
мизма его свойств (реки, допустим, не обладают первым качеством, а
горы и озера — вторым).
Выделенные особенности (хотя отмечены, конечно, не все семан-
тические поля, связанные с названиями порогов) говорят об особом
месте образа порогов и перекатов в структуре пространственного фраг-
мента картины мира: «живость», динамизм в комбинации с величием и
вредоносностью способствуют известной сакрализации представлений
о порогах, создавая неповторимое своеобразие номинации этих объек-
тов; номинативная «исконность» названий порогов и перекатов свиде-
тельствует о традициях хозяйственного освоения рек.
Семантическая горизонталь
Перейдем к описанию семантической «горизонтали» то-
понима, которая определяется способностью имени вступать в дери-
вационные процессы и может быть представлена как диапазон семан-
тического «рассеивания» имени. Горизонтальное измерение в семан-
тике имени появляется факультативно и предполагает расширение
смысловой базы топонима, которое может происходить как в рамках
того ономастического кода, к которому исходно принадлежит имя,
так и при продвижении имени в другие ономастические или апелля-
тивные коды. Трансформация смысловой базы имени свидетельствует
о его особом месте в народной картине мира; такое имя является
прецедентным, отсылая к важному для данной традиции культур-
ному прецеденту. Культурная идиоматичность в данном случае соз-
дается за счет несоответствия исходной «единичной» денотации и
благоприобретенного расширительного смысла.
При анализе семантической структуры прецедентных имен мож-
но выделить различные способы формирования культурных
смыслов.
Во-первых, может наблюдаться символизация единичного смыс-
ла без изменения исходной денотации имени. К примеру, идиома не
43 Ср. арх. наян ‘наглый человек’ [КСГРС].
76
Раздел!
видать свинье неба, а бабе Питера ‘о чем-то недостижимом, неосу-
ществимом’ [СРГК 4: 521] не содержит собственно переносных зна-
чений топонима, но позволяет увидеть мелиоративную окраску его
семантики; фразеологизмы обойти Руссу и Ладогу ‘пройти большое
расстояние’, ‘много познать в жизни’ [НОС 6: 99], арх. пройти Со-
ловки и Канин ‘узнать, увидеть многое’ [КСГРС] позволяют сделать
выводы о значимости соответствующих объектов как рубежных точек
освоенного пространства, определяющих пространственный горизонт
носителя соответствующего говора.
Во-вторых, может происходить «самоцитирование» какого-либо оно-
мастического кода, когда прецедентное имя обнаруживается на другом
уровне функционирования (как правило, элемент макроуровня — макро-
топоним — фиксируется на микротопонимическом уровне): д. Украина
— «Здесь богаче люди жили» [У-Иш, Большая Бича], ур. Карпаты —
«Урочище Карпатами звали, там всё бурлит, пар идёт» [Уст, Шаткурга],
д. Китай — «Что было народу в ём!» [Гряз, Антипино], г. Уральские Го-
ры — «Ребятишка шутейно назвали. Там много горушек, как на Урале»
[Прим, Яреньга] и др. При образовании таких вторичных топонимов из-
меняется частная характеризующая семантика имени.
В-третьих, иногда фиксируется перенос имени в другие ономастиче-
ские коды, при котором происходит изменение его частной категориаль-
ной семантики, создающей возможности дифференциации разных разря-
дов имен собственных. Чаще всего такое взаимодействие наблюдается
между теми классами онимов, которые обладают каким-то референтным
сходством (обозначают одушевленных существ, пространственные объ-
екты и т. п.): между антропонимией и зоонимией, между топонимией и
эргонимией и проч. Реже осуществляется перенос, к примеру, из топо-
нимии в прозвищную антропонимию: Париж, житель д. Натальино —
«Красивый парень, что твой Париж» [Буй, Натальино]; Одесса, житель
д. Погорелово — «Веселый, остроумный был, приврать любил»; Питер.
житель д. Кунгурка — «Богатой мужик, у его всего полно, как Питер»
[Ревд, Кунгурка]; (Сеня) Вятка, житель д. Климлево — «Он не с Вятки
сам, тутошный, а вот разиня, как Вятка» [В-Уст, Кузино].
В-четвертых, может происходить переход из проприального кода
в апеллятивный, при котором изменяется общая категориальная се-
мантика имени: пск. колыма ‘о грязи, бездорожье’ — «Здесь осенью и
весной така колыма проваленная, что и ног не вытянешь» [СРНГ 14:
208], влг. питер ‘способ зарабатывания денег с помощью каких-либо
промыслов’ — «У их мужиков у кажного свой питер: кто что. Шерсь
бьют, сапоги шьют да» [КСГРС], карел, (рус.) питер ‘место отхожего
промысла бурлаков’ [СРНГ 27: 53], ряз. ока ‘всякая вода’ [СРНГ 23:
105] и др. Источником информации о диапазоне «рассеивания» имени
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
77
могут стать не только деонимизированные образования, сохраняющие
исходную форму имени, но и разного рода дериваты: брянская коза
‘непоседливый, подвижный человек’ [СОГ 1: 100], сибирский разго-
вор ‘молчаливое щелканье кедровых орехов в гостях, на посиделках’
[ФСРГС: 162], вавилонитъ ‘плыть на лодке зигзагами’ [СРГК 1: 158],
томск. посодомитъ ‘поругаться, поссориться’ [СРНГ 30: 193] и т. п.
Наконец, отметим ситуацию, когда общеязыковое имя получает
«выход» в другие (неязыковые) культурные коды. В этом случае мо-
тивировка топонима поддерживается фольклорными текстами, обря-
дами, верованиями т. п. Так, название реки Беглая, протекающей в
Архангельской области [Плес], мотивируется широко распространен-
ной у славянских народов легендой о том, как две реки поспорили,
какая из них быстрее: в результате одна проспала, а другая поутру
убежала44; представление о спящих реках обусловливает бытующий
на Русском Севере запрет брать ночью и ранним утром воду в реке;
воду рекомендуется брать в том месте, где течение наиболее заметно
(где река бежит) — например, на перекатах [ЭМТЭ].
В то же время важно отметить, что общеязыковые топонимы, «встро-
енные» в другие культурные коды, занимают, как правило, маргинальное
положение в топонимической системе или вообще проявляют себя
как особый функциональный подъязык «обычной» топонимии. По на-
блюдениям участников полевых сборов топонимии, «культурный» то-
поним, не обнаруженный при фронтальном маршрутном опросе, может
быть выявленным тогда, когда разговор заходит о пространственно
приуроченных обрядовых действиях. При этом объект, поименованный
«культурным» топонимом, в ситуациях повседневного хозяйственного
использования номинируется дублетом — «обычным» именем. К при-
меру, названия ручьев Межник и Говейник имеют «культурных дуб-
леров» — наименования Живая Вода и Мертвая Вода [Нюкс]. Первая
пара топонимов употребляется в подавляющем большинстве бытовых
ситуаций («Косил у Межника», «Перебрела Говейник» и т. п.); вторая —
в тех случаях, когда объекты оказываются связанными с действиями об-
рядового характера («Заболеет кто, дак идут к Живой Воде и Мертвой
Воде, возьмут в две бутылочки той воды и той воды. Спросят у больного:
„Ты из которой посудины будешь пить?“ Светлую водичку возьмет —
оживет, а темную — уже не жить» [Нюкс, Красавино]). Таким образом,
44 Ср. легенду, которую рассказывают в связи с этим названием: «Их
было две реки, две сестры. Они поспорили, какая быстрей до матери добе-
жит, до Онеги-то. Вот одна и убежала вперед, пока сестра спала, ее Беглой и
прозвали. А вторая Мяндуха» [Плес, Пашевская]. О мотиве «спящих рек» см.
также параграф 5.3, с. 555-556.
78
Раздел!
выбор того или иного номинативного дублета происходит по тому же
механизму, как дискурсивное переключение стилевых регистров.
Следует выделить факторы, определяющие характер бы-
тования прецедентных имен в языковой традиции.
Одним из таких факторов является толерантность преце-
дентного символа или мотива по отношению к принимающей
культурной среде. Так, русской народной языковой культурой не
«замечен» такой компонент ментального образа Вавилона, как «город
с пороками»: этот мотив оказывается неактуальным для системы на-
родных представлений о мире; в то же время актуальность приобрел
мотив большого здания, строения (связанный с образом Вавилонской
башни), а также мотив «узорчатости» (по-своему преобразующий тему
блеска, роскоши и отчасти «наведенный» аттракцией Вавилон ++ вилять)
и др. [Родионова 2000: 185-187, Березович 2000а: 274-275]45. Вооб-
ще, особенности трансформации библейских географических назва-
ний в русской языковой традиции весьма показательны: актуализи-
руются зачастую сугубо внешние, «рамочные» и даже «дотекстовые»
атрибуты — например, в русской микротопонимии Иерусалимы могут
выражать мотив удаленности, Палестины — мотивы урожайного мес-
та / неплодородной земли [Березович 2000а: 276-280]. Таким образом,
библейские terrae sacrae осмысляются примерно так же, как другие
чужие земли, — Украина, Сибирь или Камчатка. Логика концептуали-
зации действительности, присущая традиционной крестьянской топо-
нимии, определяет перекомпоновку ментальных образов библейских
географических объектов в соответствии с магистральной прагмати-
ческой направленностью топонимического «видения мира».
Другой фактор — характер ретранслятора (культурного
посредника), обусловливающего перенос исходного имени в иные язы-
45 Аналогичную эволюцию претерпел библейский Содом. Если в биб-
лейско-христианской традиции Содом был символом крайней степени гре-
ховности, навлекшей на себя гнев Божий, то в говорах это имя фиксируется в
связи с мотивами шума, крика вообще и шумной толпы в частности (содом
‘шум, крик, гам’, содомить ‘шуметь, кричать толпою’), ссоры, ругани (содо-
митъ(ся) ‘ссориться, браниться’, содомщик ‘затейщик ссор’), беспорядка, мусо-
ра, грязи (засодомитъ ‘запачкать, засорить’, содом ‘мусор’, содомно ‘грязно’);
это объясняется неактуальностью для русской народной традиции идеи по-
рока-«содомского греха», вследствие чего «тема бесчинства, нарушения ус-
тановленного Богом порядка, греховности получила разрешение в других,
более релевантных для данной культурной среды вариантах-мотивах сумато-
хи, брани, беспорядка», свидетельствующих о переходе образа в предметно-
бытовой регистр (подробнее см. [Родионова 1999: 55-56]).
Лексическая семантика в этнолингвистической перспективе
79
ковые (культурные) коды. Если исходное имя прошло через несколь-
ко ретрансляторов, а особенно через самый демократичный — систе-
му нарицательной лексики, значит, ему обеспечена устойчивая транс-
ляция, при которой выделяются наиболее важные компоненты мен-
тального содержания. Так, имена Москва или Палестина становятся
источниками прецедентов как в ономастике, так и в апеллятивной
лексике, а также в малых жанрах фольклора, что обеспечивает либо
разнообразную проработку образа, либо частотность фактов, подтвер-
ждающих наличие культурной семантики имени (подробный анализ
культурной семантики топонима Москва в русской языковой тради-
ции представлен в параграфе 2.5, с. 188-192). В то же время топони-
мы Порт-Артур, Румыния или Синай дают прецеденты только в на-
родной ономастике: ономастический факт имеет менее отработанную
и выкристаллизовавшуюся, а также более «слабую» и ситуативно за-
висимую семантику, нежели апеллятивный, поэтому мотивировки
онимов (как первичные, так и вторичные) могут казаться случайными,
отражающими далеко не сущностные характеристики, ср.: Румынцы,
жители д. Кряж — «Нет у них реки, так поэтому. Мы румынцев-то
не любили» [К-Г, Сел Иваново]; Португальцы, жители д. Левково —
«В войну богато жили» [Вель, Левково].
Наконец, еще один фактор — системно-языковой потен-
циал имен и, т. е. свойства онима как языкового знака, которые мо-
гут стимулировать его преобразования в процессе функционирования
в качестве вторичной номинативной единицы. Так, если имя обладает
формально-смысловой изолированностью, оно в известной мере «за-
щищено» от различных преобразований, но в том случае, когда оно
входит в обширное морфо-семантическое поле, преобразования прак-
тически неизбежны. Например, мотив «попойки» в образе Питера
наруживаемый в влг. фразеологизме съездить в питер ‘хорошо провес-
ти время в развлечениях и попойках’ [КСГРС]), появился благодаря
притяжению к слову питер < пить, которое выступает в сочетаниях,
обозначающих питье, напиток: олон., север, питер-едер, питер и ядер,
питер и идер [СРНГ 27: 53]46, ср. также ни литера, ни идера не
знать ‘о высокой степени усталости’ [СВГ7: 61], курск. литера ‘обжо-
ра’ [СРНГ 27: 53]. При этом народное сознание может находить смы-
словую поддержку подобных аттракций: к примеру, влг. пойтиладогой
‘помириться’ [КСГРС] «питается» из двух источников — народно-этимо-
логического сближения топонима со словом лад и представления об осо-
бой исторической роли Ладожского озера, по которому проходила
46 Этимологический комментарий к сочетаниям такого рода см. в
[ЭССЯ 6: 39].
80
Раздел!
«дорога жизни». Кроме механизмов морфо-семантического поля, актуа-
лизация системно-языкового потенциала имени подразумевает включе-
ние механизмов экспрессивного сдвига, метонимии и др.
Итак, последовательное выстраивание разных ярусов семанти-
ческой вертикали и выявление «диапазона рассеивания» имени (се-
мантической горизонтали) поможет многосторонне охарактеризовать
этнокультурный потенциал топонимической семантики.
Раздел II.
ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО
В ЗЕРКАЛЕ ЯЗЫКА
Человек и место его обитания — магистральные темы и образы,
которые не просто воплощаются в картине мира, но служат ее
организующим центром, определяют познание многих других сфер
действительности, отражаемых в призме антропологических или про-
странственных метафор. Ипостаси человека и грани пространства, о
которых могут рассказать языковые данные, исключительно много-
образны, но здесь будут затронуты лишь некоторые.
«Человеческих» сюжетов в настоящем разделе три. Первый из
них разрабатывается на материале всего одного слова, которое, одна-
ко, стоит целого лексического поля, ибо обладает чрезвычайно раз-
ветвленной сетью семантических связей. Это слово люди. В семантике
его дериватов обнаруживается языковой «взгляд» на извечную про-
блему взаимоотношений личности и социума (параграф 2.1).
Второй сюжет касается человека этнического. В параграфе 2.2
рассматриваются методические вопросы, связанные с конструирова-
нием языкового «портрета» homini ethnici. Языковой образ соседа/
врага/чужого, равно как и этнический автостереотип, — важнейший
индикатор характера межнациональных отношений (в том числе, ра-
зумеется, «наивной» ксенофобии) и этнического самоопределения.
Третий сюжет повествует о человеке интеллектуальном. Если
языковые образы человека социального и этнического очень зависи-
мы от факторов социокультурного и политического плана, то оценка
интеллектуальных способностей человека весьма стабильна и универ-
сальна (поскольку язык особо детально прорисовывает «негатив», в
центре нашего внимания будет феномен интеллектуальной неполно-
ценности, а попросту глупости). Нас будет интересовать не собствен-
но оценка, а варьирующие во времени, пространстве и социальной среде
способы образного представления глупости (параграф 2.3).
«Пространственные» темы подобраны так, что в них отражаются
не столько параметры самой географической действительности, сколь-
ко взаимодействие человека с пространственными объектами в про-
цессе их освоения. Характер освоения пространства (реального или
ирреального) позволяет объединить пространственные сюжеты в два
82
Раздел II
блока: первый связан с конструированием образа социального про-
странства, второй — мифологического.
Социальный блок открывается темой «русского захолустья». Об-
раз захолустья, соединяющий мотивы пространственной удаленности и
социальной маргинальности (которые дают взаимную проекцию), на-
ходит множество способов лексического воплощения, представляющих
интерес с этнолингвистической точки зрения (параграф 2.4).
Оппозиция «центр — периферия», которая проявляется в представ-
лениях о захолустье, тесно переплетается с оппозицией «свое — чужое»,
делящей пространство на микромир («свои» земли) и макромир («чу-
жие» земли). Свойства этих миров рассматриваются в параграфе 2.5
на материале прецедентных топонимов (географических названий во
вторичном ономастическом или апеллятивном употреблении).
Характеристика мифологического пространства, отраженного в
зеркале русской топонимии и диалектной лексики, содержит ответ на
вопрос, как русская языковая традиция «представляет себе» демони-
ческий топос (параграф 2.6) и как «понимает» категорию «чудесного»
в пространстве (параграф 2.7).
2.1. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ-.
О СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ
СЛОВА ЛЮДИ
И все люди, да всяк человек по себе.
Пословица
— Сашенька, надень варежки, будь человеком!
— Не хочу человеком, хочу как все люди!
Из разговора мамы с ребенком
Лексема люди имеет обобщенную семантику и несет особую цен-
ностную нагрузку: это одно из слов, с которых начинается самоопре-
деление человека в мире (ср. народ, мир ‘человеческое общество’;
в известном смысле сюда же русские1 и др.). Важная функциональ-
но-смысловая особенность этого слова — наличие в его значениях ме-
1 Возможность смыслового тождества «общечеловеческого» и этнони-
мического значений подтверждается хотя бы существованием обратной мо-
дели «люди вообще» «конкретный этнос», ср. распространенную среди
многих народов земного шара традицию использовать в качестве самоназва-
ния слово «люди» [Бенвенист 1995: 242].
Человек и пространство в зеркале языка
83
няющейся точки зрения говорящего (фокуса эмпатии), которая пере-
мещается в координатах мы — они, от личностного полюса к
социумному: говорящий то смотрит на людей изнутри, причисляя
себя к ним, то они становятся для него другими, чужими, а на первый
план выходит его человеческая «отдельность», ср. классические при-
меры вроде Люди женятся, гляжу, неженат лишь я хожу! <Пуш-
кин>, Раньше людей Ермолай подымается, Позже людей с полосы
возвращается <Некрасов> 2.
Отмеченные особенности определяют специфическую семан-
тико-прагматическую программу слова люди, которая бу-
дет предметом нашего анализа. Под семантико-прагматической про-
граммой понимается комплекс общих принципов, которые определяют
логику формирования связей слова в системе языка и тексте, а также
его референциальные и коммуникативные свойства и условия употреб-
ления. Данные принципы диктуются сочетанием некоторых исходных
семантических и прагматических посылок (в нашем случае это, как было
указано выше, обобщенность и аксиологичность семантики, меняющаяся
точка зрения говорящего), носят инвариантный характер и минимально
зависят от конкретных перипетий исторического развития слова
Кажется, изучаемая лексическая единица не подвергалась рас-
смотрению в указанном аспекте. Исследователей гораздо больше ин-
тересовали «личностные» проявления «общечеловеческой» темы, см.
работы о словах человек, лицо, личность, фигура, особа, персона [Ару-
тюнова 1995; Вайс 1999; Виноградов 1999: 271-309; Колесов 1986:
146-157; Нильссон 1999; Розина 1991; Степанов 1997: 551-569], в ко-
торых затрагивается, в частности, вопрос об эффектах эмпатического
употребления лексемы человек3. Что касается слова люди, то оно изу-
2 Значение слова люди ‘лица в противопоставлении их самому субъекту;
другие, посторонние лица’ отражается в языке многообразно, ср. также: в
люди бегать ‘обращаться за чем-н. к чужим, посторонним’ [СРГК 3: 169],
арх., беломор., влг., ряз. людской ‘чужой’ [СРНГ 17: 244], людные ‘чужие,
посторонние’ [СНГ 1: 498]; ср. в паремиологии: Облихован людьми, и плачь-
ся на себя', Людей не осуждай, а за собой примечай!', Коли люди врут, так и
я соврал [Даль ПРН2 3 : 79, 89-90], Нам бы под гору, а людям в гору возить',
К людям Богородица <икона>, а к нам литва да литва! [Даль2 II: 284] и т. п.
3 Ср.: «.. .вопреки своей мнимой универсальности человек все-таки подлежит
жестким ограничениям: ограничивается не только его сочетаемость с любыми
характеристиками человеческих свойств, состояний, действий и т. п. (исключе-
нием являются типично женские и детские признаки), но и его пригодность для
любого денотативного статуса (при отнесении к женщинам и детям без элемента
эмпатии невозможны референциальные употребления)» [Вайс 1999: 88].
84
Раздел II
чалось в историко-лексикологическом ключе [Колесов 1986: 139-146,
177-184; Дегтярев 1981]4, а также в связи с его контекстной семанти-
кой в фольклоре [Никитина 2004]5; польское lud ‘народ’ подвергнуто
концептуальному анализу в [Bartminski, Mazurkiewicz-Brzozowska 1993].
Поясним наши задачи. Изучаемое слово выражает фундамен-
тальное понятие, впитавшее в себя пласты многовековой социальной
истории народа, являющееся средоточием важнейших концептуаль-
ных связей, и тянет за собой клубок разнообразных историко-линг-
вистических и лингвофилософских проблем. Один только комменти-
рованный перечень дериватов корня люд- и идиоматики, включающей
слово люди (если задаться целью выяснить, какими могли и могут
быть люди, — белыми, дворовыми, доброй воли, гулящими, заезжими,
земскими, лучшими, молодыми, простыми, служивыми, убогими, цер-
ковными, чужими и т. п., с какими объектами соотносима характери-
стика людской — например, гомоном, дорогой, завистью, избой, мол-
вой, помыслами, мужеством, речами, родом, совестью, судьбами и
судъбищем, какие оттенки смысла выражаются сочетаниями в людях,
при людях, на люди / на людях и др., что внесло в эту идиоматику ху-
дожественное сознание авторов «Бедных людей», «Бывших людей»,
«В людях», «Свои люди — сочтемся» etc.), мог бы занять объем целой
книги, которая разрослась бы многократно, если добавить сюда срав-
нительный анализ лексемы люди со словами мир и народ — с одной
стороны, человек — с другой, Бог — с третьей, я и мы — с четвертой,
власть — с пятой (не говоря уже о контрастивном изучении законо-
мерностей семантического развития гнезда */ ’ud- в различных славян-
ских языках). Получается, что весьма небогатое по своему основному
значению слово организует вокруг себя исключительно разветвлен-
ную сеть семантических и словообразовательных связей, огромное
лексико-семантическое пространство, которое постоянно расширяет-
ся, — хотя, конечно, многие его участки в определенные моменты
времени деактуализируются из-за отмирания тех или иных социаль-
ных институтов. Не ставя перед собой задачу дать реконструкцию ка-
кого-то конкретного фрагмента языкового портрета «людей», мы на-
мереваемся рассмотреть (в общих чертах, на отдельных примерах),
как было сказано выше, семантико-прагматическую программу дан-
ного слова, т. е. принципы организации смыслового пространства,
4 Последняя работа посвящена специально форме люд.
5 В этом исследовании делаются важные наблюдения за особенностями
эмпатического употребления интересующего нас слова в фольклорных тек-
стах (свадебных причитаниях, духовных стихах и молоканских духовных
песнях), к которым мы будем далее обращаться.
Человек и пространство в зеркале языка
85
создаваемого значениями лексемы люди и элементов соответствую-
щего словообразовательного гнезда.
Существование этих принципов не противоречит тому факту, что
многие семантические связи слова люди детерминированы экстралинг-
вистическими историческими условиями, некоторые виды контекстов с
участием этой лексемы реализуют такие варианты смещения точки зрения
говорящего, которые жестко определены конкретным коммуникативным
или жанровым заданием (ср. выводы С. Е. Никитиной, которая, проанали-
зировав поведение пары человек — люди в различных фольклорных жан-
рах, указала, что «распределение эмпатии становится признаком жанра»
[Никитина 2004: 630]). Установка на выявление общих принципов, опре-
деляющих поведение слова, не означает, что мы придерживаемся внеис-
торического подхода к описанию семантики и прагматики данной лексе-
мы и подобных ей лексических единиц. Мы хотим лишь, пробиваясь че-
рез толщу самых разнообразных словесных проявлений, увидеть вектор,
направляющий функционально-смысловое развитие лексемы и возник-
новение тех или иных деривационных и текстовых связей6.
Цель исследования определяет обращение как к парадигматиче-
ским, так и к синтагматическим связям изучаемого слова. К первым
относятся связи в парадигме лексико-семантических вариантов слова,
деривационном гнезде, коррелятивные отношения в лексической сис-
теме (в первую очередь речь идет об отношениях синонимии и анало-
гии); ко вторым — контекстные связи в составе идиом и паремий. Ра-
зумеется, связи первого типа являются более сильными и устоявшими-
ся, второго — более слабыми и «сиюминутными», однако для получе-
ния полной картины необходимо дополнять один вид анализа другим.
Поставленные задачи позволяют нам использовать весьма пестрый
материал, который извлечен из различных словарей и картотек лексики и
6 К примеру, за словосочетанием белые люди в разные периоды историче-
ского развития русского языка стоят различные смыслы. В языке XI-XVII вв.
этой идиомой обозначалась одна из категорий лиц по отношению к феодальной
собственности [СлРЯ XI-XVII вв. 8: 343]; в современном интержаргоне данное
сочетание (чаще в составе оборота как белые люди) употребляется по отноше-
нию к лицам, обладающим какими-то привилегиями, ведущим обеспеченную,
вольготную жизнь («Мы сидели в переднем ряду, как белые люди»). При разли-
чии в конкретных значениях (и даже в типе этих значений: «историческое» зна-
чение является таксономическим, современное — оценочным) это сочетание ил-
люстрирует, в частности, такой пункт программы слова люди, как активная со-
четаемость со специализирующими определениями (дающая иногда довольно
высокую степень идиоматизации), отражающими видовую дифференциацию,
при которой различные группы людей противопоставляются друг другу.
86
Раздел II
фразеологии русского языка — литературных, диалектных, исторических,
жаргонных, а также из источников по русской ономастике. Преимущест-
венное внимание уделяется фактам диалектной лексики, содержащим
трактовку «людскости», которая закреплена в народной традиции. Ши-
роко привлекаются данные паремиологии. Контексты, демонстрирую-
щие особенности сочетаемости интересующих нас слов, почерпнуты из
иллюстративного материала словарей, в редких случаях выбраны авто-
ром из текстов художественной литературы; некоторые современные
контексты извлечены из газетной периодики и ресурсов интернета (они,
как правило, не атрибутируются вследствие своей стандартности и вос-
производимости). Для более глубокой прорисовки некоторых смысло-
вых линий к лексемам, имеющим в русском языке редкие для дериватов
*l’ud- значения, приводятся параллели из славянских языков.
I. Аксиологическая окраска семантики слова люди влечет за собой по-
явление идеи нормы, причем норма, конечно, связывается не с лич-
ностным, а с социальным полюсом концепта. Нормативность прояв-
ляется в значениях некоторых дериватов изучаемой лексики: литер.
по-людски ‘как подобает людям, как принято’, иск., твер. полюдье
‘обычай, заведенный порядок’ [СРНГ 29: 186], людски ‘так, как следу-
ет; правильно’ — «Ни по-русски умеешь людски, ни по-вепсски»
[СРГК 3: 169], людски (лючки, по-людски) ‘хорошо, как положено, как
следует’ [Глущенко 2001: 476, 531, 644, 682]; ср. укр. niemopa людсъкого
‘неразумное, неуместное’ [Гринченко 2:388] (отрицательный смысл здесь
вводится словом niemopa; следовательно, собственно «людское» — ра-
зумное, уместное =^> нормативное), сербохорв. диал. /ъуддвати
‘вести хороший, правильный образ жизни’ [ЭССЯ 15: 194]. Соответ-
ственно «нелюдское» ненормативно: арх. вылюдъе ‘уродливый, ненор-
мальный, не такой как все человек (люди)’ [СГРС 2: 235], твер. вылюдъе
‘выродок, нравственный урод’ [Даль2 I: 298-299], не дошёвши до людей
‘о бестолковом, неразвитом, неумелом человеке’ [СПП: 51], влад., костр.,
перм., смол, безлюдье ‘плохой или глупый человек’ [СРНГ 2: 192] и т. п.
Другое проявление нормативности — употребление слова люди
(с характерным усилением добрые люди) в составе пословичных пред-
писаний: В мае добрые люди не женятся; На Казанскую добрые люди
вдаль (в отъезд) не отъезжают; Добрые люди гостят, не нагащива-
ются; Добрые люди козьими орешками не потчуют; Супротив церкви
добрые люди кабака не ставят [Даль2 II: 289, 392, 692, 770; IV: 361]
и т. п. Клише добрые люди не дает «характерологического» описания
людей, а как раз приспособлено для реализации идеи нормы: добрые лю-
ди поступают так, как вообще должны вести себя люди (= хорошие,
«правильные», порядочные люди). Более ранним периодам развития
Человек и пространство в зеркале языка
87
языка свойственна трактовка нормативного поведения через призму
имущественного ценза: добрые люди ‘состоятельные люди’ [СПП XVI-
XVIII вв. 2: 29]. Данное клише имеет типологическое звучание, ср. латин.
homines (yiri) boni, франц, des gens honnetes, испан. buena gente и др.
Кроме того, нормативность (хоть и несколько заглушаемая иро-
нией, см. ниже) заложена в семантике устойчивых оборотов все как у
людей, как все люди.
II. Перемещающаяся точка зрения иногда порождает своеобразный
эффект бриколажной самоидентификации: «я противопоставляю себя
людям, но разве я — „не люди44?» Этот эффект дает оксюморон-
ност ь, парадоксальность многих употреблений слова люди. Ср.
типичную речевую ситуацию: ограничивая поток людей, стремящих-
ся подняться по трапу самолета, стюардесса говорит пассажирам:
Люди пройдут — и вы пойдете (такие фразы воспринимаются
по-разному, в зависимости от настроения слушающих — от улыбки
до раздраженного возмущения). Описываемый эффект нередко обыг-
рывается в паремиологии: Все как у людей, да не по-людски', Все мы
люди, да не все человеки (т. е. рода человеческого, но без человеческо-
го достоинства); Аль в людях людей нет?; Народу-то, народу —ровно
людей; Много народу, да людей нет [Даль2 II: 284]; Людей много, а
человека нет [Снегирев: 215] и др.
III. Обобщенность семантики изучаемого слова вкупе с перемещающей-
ся точкой зрения обусловливают явление номинативной конденса-
ции, которая реализуется в направлении род —> вид (термин конденса-
ция (конденсированная номинация) мы используем вслед за В. Г. Гаком,
который применял его по отношению к случаям типа повышенная тем-
пература температура: «это конденсация номинации без транспози-
ции путем устранения специализирующих определений и сужения зна-
чения основного слова по формуле М + Mi —> М» [Гак 1998: 341]). Родо-
вым следует считать основное «общечеловеческое» значение слова лю-
ди, а видовыми — те конкретизации, которые отражают значимую для
номинатора и для данной коммуникативной ситуации оппозицию:
людьми могут быть названы мужчины в противоположность женщинам,
люди среднего возраста — в противоположность детям и старикам, жи-
тели городов—жителям деревни, слуги—хозяину, свидетели происшест-
вия — его непосредственным участникам, миряне — духовенству и т. п.
(примеры будут подробно рассмотрены ниже). Об определяющей роли
процессов конденсации в формировании семантико-прагматической
программы изучаемого слова говорит их неизменная актуальность и ак-
тивность, которая выражается в подключении к ним все новых семанти-
88
Раздел II
ческих сфер, ср. факт уголовного жаргона: люди ‘воры, преступники’
[БСЖ: 326] (подразумевается противопоставление законопослушным
гражданам). Значения, испытавшие подобную конденсацию, представле-
ны в гнездах семантических аналогов слова люди', мир ‘община, общест-
во крестьян’ [Даль2 II: 330], мирской ‘гражданский, светский (противоп.
церковный, духовный’), ‘народный, простой’ [СлРЯ XVIII в. 12: 210],
миряне ‘исповедующие православие, не староверы’ [СРГНП 1: 421], ли-
тер. народный ‘в дореволюционной России: предназначенный для низ-
ших слоев общества, общедоступный’, русский дон. ‘не принадлежащий
казачьему сословию’, (р. Урал) ‘православный, крещеный, христианин’,
нижегор. ‘народный, крестьянский’ — «Она (пйсня) русская, мужицкая,
народная, а не солдатская» [СРНГ 35: 272] и т. п.
Конденсированные номинации обладают специфическими функцио-
нальными свойствами: они «привязаны» скорее к диалоговому, нежели к
нарративному режиму коммуникации, поскольку в диалоге становится
понятно, какие именно люди подразумеваются говорящими (хотя в ряде
случаев конденсированная форма приобретает независимость от комму-
никативных условий). В нарративном режиме потребность в видовой
дифференциации удовлетворяется тем, что изучаемое слово обра-
стает уточняющими определениями, которые могут носить терминоло-
гический характер и образовывать оппозиции и даже развернутые клас-
сификационные ряды. Такие сочетания были особенно распространены
в «феодальный» период истории языка: легкие люди ‘легковооруженная
часть войска, обладающая большой подвижностью’ [СлРЯ XI-XVII вв. 8:
189], гулящие люди ‘разряд населения в Русском государстве XVI — на-
чала XVIII вв., состоящий из вольных людей, не приписанных ни к служи-
лым, ни к посадским, ни к крестьянам’ [СлРЯ I: 357], житийские люди
‘лица, относящиеся к городским зажиточным сословиям, а также несущие
службу при дворе князя или в уездных городах, боярские дети, дворяне’
[СлРЯ XI-XVII вв. 5: 117], лутчие люди ‘наиболее зажиточные люди’ —
молодчие люди ‘низшие по званию и имущественному положению лю-
ди’, прихожие люди ‘новопоселенцы, прибывшие откуда-либо’ — ста-
рожилые люди ‘те, кто много лет живут на каком-либо одном месте’
[СПП XVI-XVIII вв. 3: 41, 65; 4: 195; 5: 162], тяглые — нетяглые —
податные — белые — черные люди ‘различные категории людей по
отношению к несению феодальных повинностей (обложение налога-
ми, податями и др.’ [СлРЯ XI-XVII вв. 8: 343] и др.
IV. Сочетание идеи нормы с перемещающейся точкой зрения дает
оценочность многих употреблений слова люди и его дериватов,
причем разброс оценки — от плюса к минусу. Положительная
оценка проявляется наиболее отчетливо (поскольку диктуется норма-
Человек и пространство в зеркале языка
89
тивностью), она реализуется, например, в семантике качественных
прилагательных и наречий, образованных от корня люд-\ вят. людской
‘хороший, бережный’ [СРНГ 17: 243], людъе (собир.) ‘люди (о хоро-
ших людях)’ [ССГ 6: 67]7, арх. людскй-ладдм ‘хорошо, правильно’
[КСГРС], влг. людъя (жить) ‘хорошо, благополучно’ — «Раньше и
матрасы ткали, а теперь людья жить-то» [КСГРС], лючки (< людски)
‘то же’ [СПГ 1: 498]; ср. болг. диал. л ’удим ‘сделать что-либо хорошо’
[ЭССЯ 15: 193] и др. Семантика положительной оценки представлена
и у дериватов корней мир-, русск-. просторен, мировой ‘очень хоро-
ший, замечательный’, влг.русскгш ‘настоящий’ [СРНГ 35: 272] etc.
Примеры негативной оценки тоже имеются: смол, людя ‘плохой
человек’ [ССГ 6: 67], костр. людно ‘бедно’ [СРНГ 17: 243] и др. Дви-
жение к полюсу негативной оценки кроется и в ироничности многих на
первых взгляд «положительных» употреблений слова люди. Эта иро-
ния, подпитываемая описанной выше оксюморонностью, нередко со-
путствует устойчивому словосочетанию добрые люди: Не нашли Бог
ворога, а добрые люди найдутся (ирония) <замечание В. И. Даля. —
Е. Б.>; Научат добрые люди решетом воду носить', Отстань, Бог,
нападут и добрые люди [Даль2 I: 444; II: 446]. Иронично используют-
ся и сочетания все как у людей', не хуже, чем у людей', как все люди, ср.
примеры из современной газетной периодики: «В Британии все как у
людей: воруют, сэр»; «На Украине со свободой слова все как у людей, а
именно, цензуры де-юре нет, а де-факто — тем более»; «В праздник у
них не хуже, чем у людей: водка, ругань, побои»; «Свешников, как все
люди, умел поставить жене фингал под глазом»8.
V. Комплекс обозначенных выше смысловых и прагматических свойств
слова люди определяет богатую идеографию его семантических и слово-
образовательных дериватов (т. е. многообразие тематических сфер, где
7 Отметим, что при всей закономерности этого значения фиксация его
как узуального в данном конкретном случае вызывает некоторые сомнения,
ср. приведенный словарем контекст, который может свидетельствовать о ре-
чевой «наведенности» рассматриваемой семантики: «— С нилюддим ты зви-
залъсь. — А ты што, люддя?» [ССГ 6: 67].
8 Ср. также песню «Все как у людей» группы «Гражданская оборона» (Егор
Летов), написанную вскоре после событий в Беслане: «Вот и все, что было, не бы-
ло и нету, Все слои размокли, все слова истлели, Все как у людей, Все как у людей,
В стоптанных ботинках годы и окурки, В стираных карманах паспорта и паль-
цы, Все как у людей, Все как у людей. Трезвые колеса, прочные постройки, Но-
вые декреты, братские могилы, Все как у людей, Все как у людей, Вот и все, что
было, не было и нету. Правильно и ясно, здорово и вечно. Все как у людей...»
90
Раздел II
обнаруживаются эти дериваты). В каждой из этих сфер присутствуют
семантические оппозиции, определяемые смещением точки зрения гово-
рящего, при этом «люди» и «нелюди» как бы меняются местами друг с
другом: в одних прагматических условиях, предположим, людьми будут
называться ремесленники в противоположность крестьянам, в других —
наоборот. «Плавающая» точка зрения имеет границы, пределы
варьирования — сферы, которые уже не являются «людскими», не
освоены дериватами изучаемого слова, однако сохраняют с ним ус-
тойчивые оппозиции. В этих сферах переход «нелюдей» в «люди» не
происходит. Таких границ две — внутренняя и внешняя.
Внешняя граница отделяет «людей» от животных и тех-
ники.
Противопоставление людей животным фиксируется устойчи-
вой оппозицией «люди — звери» (чаще всего — волки и собаки): Лю-
ди дорогой, а волк стороной} По наречью (по речным берегам) люди,
по сухменю волки [Даль2 II: 284, 466]; Кушают одни только свиньи, а
люди едят [Даль ПРН2 2: 664]; При такой температуре люди не вы-
живут —разве что собаки} Как звери себя ведут — не по-людски и т. п.
Показателен способ нейтрализации оппозиции «люди — звери», кото-
рым пользуется О. Мандельштам, оформляющий «людей» по «звери-
ной» словообразовательной модели: Были мы люди, а стали людъё}
И по-звериному воет людъё, и по-людски куролесит зверьё.
Частный вариант этой же оппозиции реализуется в названиях
растений, которые воспринимаются как предназначенные в пищу для
людей или для животных (домашние, «окультуренные» — дикие), на-
пример: людской щавель (= свойский) ‘щавель домашний’ — «У нас зна-
ють щавил трёх сартоф: свойский, люцкой шшавель, конскай и варабь-
инай» [БТДК: 272], ряз. людйный ‘предназначенный для людей’ —
«Щавель людйный» [СРНГ 17: 242], ср. также блр. людзшы ‘съедобный,
пригодный в пищу’ — «У нас ваучыныя толью грыбы, ix няможна
есьци, а людзшыя яшчэ ня вырасып» [СЦРБ 1: 218]. Чаще всего
«культурный» («людской») полюс этой оппозиции не получает лекси-
ческой маркировки, а маркированным оказывается «дикий» полюс:
мышиный горошек, заячья капустка и т. п.
Противопоставление людей технике фиксируется в семантике
литер, люди ‘в военном быту — живая сила (в противоположность
технике)’ [ССРЛЯ 6: 442^43]. Характерно, что синонимом слова лю-
ди в этом значении становится сочетание живая сила. Близкая семан-
тика — у влг. народом ‘вручную’ — «Народом чижало стало водить,
стали водить лошадям еки копёлки» [КСГРС].
Внутренней границей служит парадоксальный и нежест-
кий (но все же весьма отчетливо устанавливаемый языком) водораз-
Человек и пространство в зеркале языка
91
дел между сферой людского и сферой человеческого. Его су-
ществование можно показать на примере наречий по-человечески и
по-людски. В ряде словоупотреблений эти наречия имеют тождест-
венную контекстную семантику — например, ‘так, как приемлемо для
людей, с учетом их запросов (о бытовых условиях, обстоятельствах
жизни)’, ср. пары сходных по смыслу контекстов: «Не по-людски
жить в пожилом возрасте трудно, нет сил таскать воду ведрами» //
«Успеют ли ветераны пожить по-человеческиЪт. «Не сумели не только
сберечь солдат, но и похоронить по-людски. А по-людски — не безы-
мянная могила» // «Хочется похоронить маму по-человечески» etc.;
‘так, как люди должны относиться друг к другу, с учетом этики межлично-
стных отношений’: «Мы люди, и с нами надо обходиться по-людски» И
«К людям и к женщинам в частности вообще надо стараться относиться
по-человечески, а не в какой-то определенный день»; «И вести себя мо-
жем по-людски, но только с людьми, которые сами ведут себя по-люд-
ски» И «Научитесь сначала вести себя по-человечески, а не „да мы щас
придем, всех замочим...“, тогда и общаться с вами будет приятно»;
«По-русски типа без проблем, если есть конкретные вопросы, так по мы-
лу либо через личное сообщение, а вашу ругань не принимаю, надо
по-людски дела решать» // «В Москве знают о заявлении президента Ми-
хаила Саакашвили о том, что надо по-человечески этот вопрос решать,
чтобы для России это было достойно» и др.
Однако выделяется смысловая зона, где пути этих наречий расхо-
дятся, — это зона личностных эмоциональных состояний,
переживаний, желаний, куда вхож отдельный человек, но не впускаются
«люди». Речь идет о тех случаях, когда наречие по-человечески сочетает-
ся с предикатами внутренних состояний — жаль, приятно, понятно, хо-
чется ит. п.: «Министр обороны Иванов заявил, что „по-человечески
сочувствует44 полковнику Буданову»; «Девчонки, а мне как Борисовну
жалко по-человечески»; «Борису Говорину, по его словам, по-человечески
приятно, что к руководству алюминиевой отраслью в Сибири пришли но-
вые люди»; «На что можно было по-человечески надеяться — так хотя бы
на право быть выслушанным». Замена по-человечески на ^по-людски в этих
случаях, кажется, невозможна. Противопоставление по-людски и
по-человечески выражено, к примеру, в таком контексте: «Народ, надо
оттопыриваться по-людски, а то мы всё по-человечески» (студенты —
о ночном клубе), который можно «перевести» следующим образом:
«нам всё предлагают „духовные ценности44, а надо думать о развлече-
ниях, о комфортных условиях жизни и отдыха». Такое поведение на-
речий по-человечески и по-людски объясняется тем, что слово челове-
ческий. помимо значения ‘свойственный, подобающий, присущий че-
ловеку’ (и всем людям), имеет также значение ‘личный’.
92
Раздел II
VI. Определив границы, пределы варьирования личностного и соци-
умного значений, представим идеографические сферы, в кото-
рых функционирует слово люди (в своих вторичных значениях) и его
дериваты: «Человек „физический44»; «Общество, Социум»; «Трудовая дея-
тельность»; «Культура, Идеология»; «Пространство»; «Общие свойства тел
и веществ» (внутри некоторых из этих сфер выделяются более узкие
по семантике рубрики). Данные сферы характеризуют широту и свое-
образие смыслового пространства, центром которого является слово лю-
ди. Как уже говорилось, в первую очередь мы обращаем внимание на се-
мантику дериватов изучаемой лексемы (такие связи являются наиболее
сильными и устойчивыми); выявляемые при этом значения могут под-
крепляться теми смыслами, которые обнаруживают механизмы семанти-
ческой сочетаемости. В единичных случаях особенности семантической
сочетаемости становятся основным критерием для выделения частных
рубрик. Это делается лишь тогда, когда «партнерские» отношения в пре-
делах контекста отвечают условию повторяемости, воспроизводимости
(контексты при этом приобретают некоторую идиоматичность, двигаясь
по направлению к фразеологизации).
ЧЕЛОВЕК «ФИЗИЧЕСКИЙ»
Половая принадлежность
Как известно, слова, обозначающие человека, во многих языках
мира, в том числе в ряде славянских и в древнерусском9, дают также
«конденсированное» значение ‘мужчина, муж’, которое издревле от-
ражало представления о том, кто наилучшим образом соответствует
статусу свободного человека. Проецируется ли «мужское» значе-
ние на семантику слова люди! Б. Нильссон не обнаруживает такого
значения в современном русском литературном языке, указывая, что
«слово люди в отличие от слова человек во всех видах референции со-
храняет немаркированность» [Нильссон 1999: 101] <имеется в виду
гендерная немаркированность. — Е. Б.>. В качестве возражения мож-
но было бы указать на бытующее в литературном языке устойчивое
сочетание молодые люди ‘молодые мужчины, юноши’, которое кор-
релирует с сингулятивом молодой человек. Конденсация в сторону
«мужского» значения известна древнерусскому языку [Колесов 1986:
143], а также другим славянским языкам: укр. диал. л’уд ‘мужчина’,
ст.-польск. lud ‘мужчины’, сербохорв. луди ‘то же’10 [ЭССЯ 15: 195—
196]; ср. также ироничную пословицу, косвенно указывающую на
9 О «мужской» семантике продолжений слав, celovekb см. в [ЭССЯ 4: 48^19].
10 О логике появления этого значения см. в [Дегтярев 1981: 86-87].
Человек и пространство в зеркале языка
93
«нелюдскость» женщин (которая превращается в «людскость» в си-
туации производительного труда): блр. Ак жнуцъ — и бабы людз1
[СПЗБ 2: 703]. Однако из-за семантики множественности, свойствен-
ной дериватам */ W-, половая дифференциация проявлена в значени-
ях слов этого гнезда значительно слабее, чем в гнезде *celovek-п.
Физическое состояние
«Людскость» может рассматриваться как физическое здо-
ровье: людный ‘здоровый, полный, крепкий (о человеке)’ — «Дев-
ка-то людная да стройная» [СПГ 1: 498], орл. излюдётъ ‘стать боль-
ным, хилым’ [СРНГ 12: 142], выйти с людей ‘потерять силы, соста-
риться, ослабеть’ [СПП: 51], не дойти до людей ‘не достичь в своем
физическом, духовном развитии полагающегося уровня’ [АС 2: 117]
(ср. сербохорв. лудина ‘крупный человек’, диал. луда ‘высокий, тол-
стый человек с широкими плечами и грудью’ [ЭССЯ 15: 192, 195]; ср.
также ворон, мирской ‘прозвище — очень полный (о человеке)’
[СРНГ 18: 174], казан., нижегор., новг. человечный ‘рослый и плот-
ный, видный собою, мужественный, молодец, ражий’ [Даль2 IV: 588]).
Возраст
Определяя возрастной ценз «людей», язык указывает, что это н е
дети (коми (рус.) людской ‘взрослый, большой’ — «Людской ли ре-
бёнок, а вы его уже на работу отправляете»; «Люцькой ли парень, а
удит» [СРНГ 17: 244; СРГНП 1: 399]) и не старики (костр. из-
людётъ ‘постареть’ [ЛКТЭ]). Люди — те, кто находятся в произво-
дительном возрасте: бёзлюди ‘кто не может работать’ — «Люди
фее на синакосе, астались толька безлюди» [ПОС 1: 154], влг., ле-
нингр., пск., смол, безлюдье ‘люди, негодные (обычно по возрасту)
для работы’ — «Старый да малый — одно безлюдье осталось дома,
все ушли на сенокос» [СРНГ 2: 192]; ср. также костр. безлюдье ‘лен-
тяй’ [ЛКТЭ]. Для женщин этот возраст определяется способностью
рожать: костр. вылюдетъ ‘достичь способности рожать’ [ЛКТЭ].
11 В нашем распоряжении имеется один факт, который, казалось бы,
фиксирует наличие в гнезде люд- «женского» значения: влг. пдлюди
‘женщины, «бабы»’ — «Мужики молотили, а полю ди-то грибы собирали»
[КСГРС]. Гендерный смысл здесь может быть производным от смысла «ста-
тусного», поскольку выполняемая бабами работа явно признается занятием
более «низким», чем мужская (см. рубрику «Социальный статус»). Однако
единичность рассматриваемого факта и неясность словообразовательной мо-
дели (значение приставки по-?) не позволяет уверенно говорить о «женской
линии» в семантике гнезда люд- (хотя ср. еще блр. людзта ‘женщина’
[ЭСБМ 6: 96]).
94
Раздел II
Общество, социум
Данная сфера наиболее обширна и разнообразна, поскольку лю-
ди — это в первую очередь социальный феномен. Собственно, само
слово люди может употребляться как синоним слова общество, ср.
литер, на людях ‘среди людей, в обществе’, на люди (показаться,
выйти, пойти и т. п.) ‘в общество, в общественные места’ и т. п.
Социальный статус, положение в обществе
Здесь объединены значения, которые содержат общую оценку
социального статуса в категориях свободный — зависимый, за-
нимающий высокое— низкое положение в обществе. Как и
следовало ожидать, семантика интересующего нас слова дает своеоб-
разные «статусные качели» с большим размахом колебаний. Статус-
ные значения многочисленны и разнообразны; не перечисляя их,
представим самую грубую характеристику логики семантического
развития (подробнее см. в [Бенвенист 1995: 212-219; Дегтярев 1981;
Иванов 1975: 18; Колесов 1986: 139-146; Степанов 1997: 557-558;
Трубачев 1959: 168-170]).
Исходный пункт смыслового развития приписывает «людям» статус
свободных членов рода: этимологическая связь слав. */W- с и.-е.
*leugh- ‘расти’ (сюда же, к примеру, греч. IXeuOepot;, латин, liber ‘свобод-
ный’, liberi ‘дети’) позволяет трактовать слав. *Гис1ъ как обозначение
этнической группы, совокупности свободных людей, совместно ро-
дившихся и развивавшихся [Бенвенист 1995: 213]12, ср. др.-рус. люди,
людие ‘свободное население страны, княжества, города’ [СлРЯ XI-
XVII вв. 8:341].
Следующее звено смыслового развития, осуществлявшегося
параллельно процессам социальной дифференциации, заключалось в
том, что, при сохранении предельно обобщенного значения слова,
различными способами уточнялся статус «людей» как массы, как це-
лого (войска, подданных, верующих и др.), противопоставленного
правителю (князю, боярам, царю, Богу). Возникающие при этом зна-
чения слова люди и его дериватов содержат языковую реакцию на
противостояние народных масс и личности, при котором народные
массы оказывались на нижнем ярусе социальной пирамиды, зачастую
становясь зависимыми: Царю люди (или слуги) нужны [Даль2 II:
12 Несмотря на иную трактовку генетических связей изучаемого слова,
О.Н.Трубачев считает, что для слав. *l’udjbje и родственных образований зна-
чение ‘свободный’ было весьма древним [Трубачев 1959: 168-170]; о значимо-
сти признака свободы в древней семантике «людей» говорит и Вяч. Вс. Иванов
[Иванов 1975: 18].
Человек и пространство в зеркале языка
95
284]13. Ср. др.-рус. люди, людие(ье) ‘зависимые лица, а также слуги,
челядь, рабы’, ‘низший слой свободного населения’ — «...И рЪше бо-
ляре и людье: тобЪ кня(же) достоите блюсти головы своее», ‘миряне;
люди, не принадлежащие к духовенству’ [СлРЯ XI-XVIIbb. 8: 341—
343], люди (устар.) ‘прислуга, работники в барском доме’, людской
(устар.) ‘предназначенный для дворни, слуг’ [СлРЯ II: 210] и др. (эти
значения пересекаются с широко известными значениями слов мир и
народ, а также коррелируют с семантикой сингулятива человек14).
Современный дискурс дает иную расстановку акцентов. Проти-
вопоставление власти и «людей» сохраняется, но семантика непосред-
ственной социальной зависимости уступает место семантике неофи-
циального статуса «людей», являющихся, так сказать, объектами
власти, ср.: «На площади шла активная подготовка к демонстрации,
выделили место для „официальной44 трибуны и сектор, где будут сто-
ять „люди44»; «Так повелось, что когда мы куда-то едем, он берет на
себя представительские функции, а мы остаемся кем? — Просто
людьми»; «Мечников из руководителей нового типа, старается быть
ближе к людям» (ср. фразы из дискурса «руководителей»: Люди нас
не поймут или Надо думать о людях)15.
Однако смена точки зрения позволяет «людям» подняться на вы-
сокую ступень социальной пирамиды. Если семантика социального
«низа» обусловлена противопоставлением личности и масс, то семан-
тика социального «верха», которую тоже может выражать слово
люди, появляется при противопоставлении разных социальных групп
друг другу: группа, к которой принадлежит говорящий (описываемая
местоимением мы), вводится в оппозицию другим группам, т. е. «лю-
дям». В оппозициях личность — люди и мы — люди складыва-
ются свои внутренние отношения, при которых один из элементов задает
референцию другого (наиболее референциально неопределенный эле-
13 Ср. подробный анализ оппозиций, одним из членов которых является
lud ‘народ’, функционирующих в польском языке: lud— panowie ‘господа’,
lud — uczeni ‘образованные’, lud— bogacze ‘богатые’, lud— wladza ‘власть’
[Bartminski, Mazurkiewicz-Brzozowska 1993].
14 Ср. литер, человек ‘дворовый слуга или вообще помещичий крепост-
ной слуга’, ‘официант в трактире в дореволюционной России’ [СлРЯ IV: 659].
15 Отраженная в языке трактовка людей как субъектов неофициальной,
частной жизни коррелирует с семантикой сингулятива человек (и ощутимо
усиливается в ней), ср. контексты вроде «Я много лет знаю его как руково-
дителя и как человека»; «Мы глубоко ценим ее человеческие качества — ис-
кренность, отзывчивость, готовность прийти на помощь»; «Он мне нравится
как человек, но его организаторские способности ниже критики» и т. п.
96
Раздел II
мент оппозиции — слово люди, поэтому именно оно оказывается опреде-
ляемым). В паре личность — люди ведущим элементом оппозиции,
от которого направлен номинативно-референциальный вектор, оказыва-
ется он, правитель; «ведомый» элемент оппозиции — мы, те, кто
остались, подчиненные, «люди». В паре мы — люди ведущий элемент
для определения референции мы, «наша» социальная группа, кото-
рая считает себя по каким-либо статусным признакам противостоя-
щей другой группе, занимающей более высокое положение в общест-
ве; они для нас другие, чужие = «люди».
Противопоставление социальной группы, к которой принадлежит
говорящий, «людям» отражено в самой яркой в плане эмпатии группе
«людской» фразеологии, образная основа которой трактует достиже-
ние статуса «людей» в терминах пространственного перемещения.
Такое перемещение может быть реальным, связанным с уходом из
дома (чтобы людей посмотреть и себя показать) по той дороге, ко-
торую прошел внук деда Каширина: литер, пойти в люди ‘(устар.)
пойти в услужение, на работу по найму’ — «Ну, Лексей, ты — не ме-
даль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди...» <Горький>
[ФСлРЯ: 234], а может быть виртуальным: литер, выйти (выбиться и т. п.)
в люди, вывести и т. п. кого-л. в люди ‘занять высокое или прочное по-
ложение в обществе, в жизни; доставить такое положение’ — «<Судь-
бинский> выйдет в люди, будет со временем ворочать делами и чинов
нахватает» <Гончаров>; «Он выбился „в люди44 из семьи мелкого лавоч-
ника, и путь его вверх не всегда был честным путем» <Фадеев>
[ССРЛЯ 6: 442-443], выйти (произойти) в люди ‘занять более высокое
положение в обществе, в жизни’ [СлРЯ XVIII в. 12: 20], Коли в люди вы-
ведут, так и живется [Даль2 II: 284] и др. Интересно, что выход (хож-
дение) в народ тоже имеет эмпатическую окраску, но прямо противопо-
ложную символическую подоплеку: выход в люди — это восхождение
по социальной лестнице, выход в народ — «снисхождение». Справедли-
вости ради надо отметить, что «восхождение в люди» может вызывать
глубокую иронию у окружающих: Выябедничался в люди [Даль21: 328].
Высокий социальный статус «людей», тесно связанный с матери-
альным благополучием, отмечается и другими способами: литер, жить
по-людски / не по-людски ‘о сравнительном благополучии (неблагополу-
чии) кого-л.’ — «Уж не то, чтобы счастья, а хоть бы жить-то по-людски»
<А. Островский> [ССРЛЯ 6: 446], в людях (быть) ‘иметь самостоя-
тельность, прочное положение в обществе’ — «Вот одного доростить
осталось, остальные в людях» [СРГК 3: 169], На людей глядя жить
(т. е. не по достатку) — на себя плакаться [Даль ПРН2 1:213], живут
же люди! ‘реплика завистливого восхищения чужим благополучием,
довольством, богатством (часто с оттенком осуждения)’ [БРЭР: 302]
Человек и пространство в зеркале языка
97
и др., ср. также блр. людзецъ ‘быть уважаемым, почитаемым’ [Сцяш-
ков!ч: 243]. Эту же идею выражают следующие «отрицательные» но-
минации: литер, бывшие люди ‘потерявшие свое положение, опус-
тившиеся люди’ — «Учитель приносил с собой газету, и около него
устраивалось общее собрание всех бывших людей. Они двигались к
нему, выпившие или страдавшие с похмелья, разнообразно растре-
панные, но одинаково жалкие и грязные» <Горький, Бывшие люди>;
‘о лицах из эксплуататорских классов России, лишившихся в резуль-
тате Великой Октябрьской социалистической революции своего при-
вилегированного общественного положения’ [СлРЯ II: 210], барнаул.
безлюдица ‘отсутствие культурных или дельных людей’ [СРНГ 2: 192],
безлюдье ‘бесправные люди’ — «Мы, говорит, люди, а вы — безлю-
дье. Вот по таким покосам мы и косили, безлюдье» [ДСРГСУ: 21].
Собственность (свой чужой ничей общий)
Значения, попадающие в данную смысловую сферу, прежде всего
производны от эмпатического ‘они, другие’: людское - это в первую
очередь не своё, ср. костр. людёеый ‘чужой, не свой’ — «Людёвые
деньги-те легко тратить» [ЛКТЭ], арх., влг., карел, (рус.), ряз. людской
‘относящийся к посторонним лицам, чужой’ — «Да вот людски коро-
вы прошли, а наши не» [СРГК 3: 169; СРНГ 17: 244] и др. Значение
‘чужое’ тесно соседствует со значением общего, общественно-
го16: влг. полюдье ‘складчина’ [КСГРС], название поля Людское —
«Тамока горох сажали, он был общёй» [Некр, Бор]. Гораздо активнее,
чем корень люд-, такую семантику развивает корень мир-, твер.
мирской бык ‘общественный бык-производитель при единоличном
хозяйстве’, мирщйна смол, ‘мирское (общественное) имущество’, влад.,
моек, ‘общественное вино, купленное или собранное в складчину
всем миром’, самар. ‘зерно для помола, принадлежащее членам сель-
ской общины’ [СРНГ 18: 174-175] и др.; ср. посессивные названия в
топонимии: поле Мировая [К-Г], пок. Мирские Луга [Бел], лес Мир-
ские Подсеки [Влгд], поле Мирской Выгородок [Кон], пок. Мирская
Чища [Гряз], пок. Мйрщина [Лен, Буй]; ср. также литер, народный
‘государственный’, народский ‘общественный, предназначенный для
общего пользования’ [СлРЯ XI-XVII вв. 10: 217].
В свою очередь, семантика общего легко перетекает в семантику
«ничейности», ср. функционирующие в современном русском об-
щем жаргоне характеристики предметов, собственник которых неиз-
вестен (а значит, ими пользуются все желающие): людской, казённый.
16 В качестве параллели можно напомнить хотя бы широко известный эпи-
зод с семантикой польского слова obey ‘чужой’ (< праслав. *obscijb ‘общий’).
98
Раздел II
государственный (типичны контексты вроде: «Чья конфетка? Никто
не признаётся? Значит, людская (государственная), я её ем»). Эта се-
мантика «общественности» = «ничейности» косвенно представлена в
обозначении незаконнорожденного ребенка: влг. людщина ‘незакон-
норожденный ребенок’ [КСГРС]; ср. перм. мирён (мирон) ‘то же’ (с
примеч. «от слова мир — народ»), ряз. мирской ‘незаконнорожден-
ный’ [СРНГ 18: 171, 173-174]17.
Возвратное движение «эмпатического маятника» (дающее возмож-
ность противопоставить собственность государственную и собственность
отдельных лиц) приводит к появлению семантики личного, част-
ного: блр. людзк! ‘личный’ — «Гэто колхозны товар <скот. — Е. Б.>, а
гэто людзке» [ТС 3: 55].
Таким образом, «людская» лексика занимает все четыре позиции,
которые возможны в сфере Собственность. Этот смысловой диапазон
определяется изменениями фокуса эмпатии.
Черты характера и особенности поведения
Данную рубрику мы считаем возможным включить в сферу «Об-
щество», «Социум», поскольку речь пойдет о таких чертах характера,
которые проявляются исключительно в социуме.
Современный русский литературный язык не знает «характероло-
гических» дериватов корня люд-за исключением нелюдимый ‘избе-
гающий общения с людьми, предпочитающий одиночество’, которое
принадлежит, пожалуй, в равной мере к сфере темперамента, ср. в
говорах: безлюдье ‘нелюдимые, необщительные люди’ [ПОС 1: 154],
дон. нелюдёвый ‘нелюдимый’, орл. нелюдндй ‘застенчивый, робкий’,
пск., твер. нелюдйтъся ‘избегать людей, дичиться’, костр., пск., ряз.,
твер., яросл. нёлюдъ, пск., твер. нёлюда ‘нелюдимый человек’, арх. не-
налюдный ‘необщительный, боящийся людей, избегающий их’ [СРНГ
21: 75-76, 94]. Говорам известны и «положительные» значения. При
этом большинство формулировок диалектных словарей можно свести
к семантике коммуникабельности, контактности: брян. по-
люднётъ ‘стать общительным, приветливым’ [СРНГ 29: 186], людётъ
‘становиться более общительным, человечным’ [ЯОС 6: 22], арх., влг.
людской ‘общительный, коммуникабельный’ [КСГРС], люденндй, люд-
ной, людской, людявый ‘то же’ — «Не людной, не игромой народ ноне
17 Думается, что для формы мирон аттракция к имени собственному
вторична и имеет шифровальный эффект. Смысловые связи с этими номина-
циями имеют также влг., ряз. мйрщина ‘венерическая болезнь’, влг., вят., ка-
зан. мирднъя, смол, мирёница, мирённица ‘о женском половом органе’ [СРНГ 18:
173, 175].
Человек и пространство в зеркале языка
99
стал»; «Ну он гостеприимный, такой людской парень, с кем хочешь,
сразу познакомится» [СРГК 3: 169-170], людный ‘то же’ [ДСРГСУ: 290],
иск., твер. полюдный ‘общительный, обходительный’ [СРНГ 29: 186],
людймый ‘общительный, веселый’ [НОС 5: 58], людймый ‘то же’ —
«А быват человек ветлый — эта разговорный, висёлый, людймый, в
опшым» [СГСЗ: 253] и др. Сходная семантика встречается в гнездах
мир- и народ-', народный ‘общительный’ — «Спрашивайте Катерину,
она народная, разговорная, а мы чё — тулаи» [СПГ 1: 566], ‘гостепри-
имный’ — «Они хорошие, народные, пригласят, накормят» [СРГА 3/1:
130], твер. немиролюбйвый ‘необщительный’ [СРНГ 21: 81], ср.-урал.
ненарддный ‘необщительный’ [СРНГ 21: 95] и др.
Общительность людей имеет характерную «специализацию» —
особо проявленную вербальную составляющую, доходящую иногда
до болтливости: арх. людской ‘разговорчивый, говорливый’ —
«Дед у её людской, любит поговорить» [КСГРС], свердл. людйвый ‘то
же’ [СРНГ 17: 242], ср. блр. людны ‘то же’ [ТС 3: 55], сербохорв. ди-
ал. /ъуддвати ‘разговаривать, болтать’ [ЭССЯ 15: 194]18.
Однако в русском языке XVIII-XIX вв. со словом людскостъ свя-
зывалось представление не столько о контактности (черте довольно
внешней «фатической» и отчасти «темпераментной»), сколько о более
глубинной, этически выверенной «настроенности на людей»,
участливости, доброте: людскостъ ‘снисходительное, учтивое
обращение в поступках и речах; уважение к другим, благорасположе-
ние к подобным себе’ [САР 3: 1380], людскостъ ‘человечность, чело-
веколюбие’ [СлРЯ XVIII в. 12: 21], людкостъ, людскостъ ‘свойство,
состояние людского; доброе, кроткое, радушное расположение; чело-
вечность, гуманность’ [Даль2 II: 284]. Эта тема развивается в лексике
других славянских языков, собирающей широкий круг значений, ин-
тегральной для которых служит семантика соответствия высо-
18 Вообще, мир людей подается как мир активной вербальной коммуника-
ции; частотные контекстные партнеры слова люди - говорить, беседа, молва,
слухи и т. п.: Звоны хвалятся по голосу, люди — по беседе [Даль21: 672], Что лю-
ди говорят, то и правда (то и сбудется); Молва (слух, речи, слава) не по лесу
ходит, по людям; Знают и в Казани, что люди сказали [Даль ПРН2 3: 79-80, 83],
Людей не слушать, в добре не жить [Снегирев: 215], Люди говорят, молва хо-
дит [Даль2 II: 284], людство говорит ‘люди говорят; идет молва’ [БТДК: 109]
и др.; ср. также с людей ‘понаслышке’ [СПГ 1: 497] и мн. др. Речевая активность
людей нередко враждебна по отношению к отдельному человеку: Нельзя всего
того говорить, что люди говорят [Даль2 I: 363], Облихован людьми, и плачься
на себя; Говорю людскую честить, отца-мать забыть [Даль ПРН2 3: 79, 87],
Будет в поле рожь, будет и в людях ложь [Даль ПРН2 1: 383].
100
Раздели
кой морали, этике межличностных отношений: польск.
ludzki ‘свойственный натуре человека, соответствующий натуре чело-
века, понимаемой как добрая, поэтому обладающий доброжелательно-
стью, пониманием взглядов других людей; гуманный, милосердный,
добрый, приветливый (раньше также гостеприимный)’ [SJP-Dor 4: 219],
укр. людсъкий ‘порядочный, разумный’, людсъкють ‘гуманность, чело-
вечность’ [Гринченко 2: 388], блр. людскасцъ ‘человечность, участли-
вость’ [ТСБМ 3: 68], людны, людный ‘добрый, человечный’ [СПЗБ 2:
704], люд с люцъкг, людзю, людськэй ‘такой, у кого высокая мораль,
совестливый, благородный, отзывчивый’ [ЭСБМ 6: 97], сербохорв.
/ъудскй, зъудскй ‘свойственный благородным людям, человечный, гу-
манный; отличающийся положительными качествами, достойный’,
словац. Pudsky ‘добродетельный, гуманный’, диал. ‘порядочный, че-
стный’, польск. диал. ludzki ‘отзывчивый’, ‘доброжелательный, помо-
гающий людям’ [ЭССЯ 15: 204] etc.
Русским говорам тоже известны значения из сферы этики меж-
личностных отношений. В них ощущается некоторый перенос акцен-
тов по сравнению с последней группой значений (функционирующих
преимущественно в литературной традиции): они в меньшей степени
«личностны», но более «социально-нормативны», поскольку заостря-
ют внимание на способности вести себя, как положено среди
людей, уживаться с людьми — соответствовать социально за-
крепленным нормам взаимоотношений, складывающимся как в процессе
общей работы, так и в традиционном общежитии: людйвый, людный,
людской ‘уживчивый’, ‘готовый прийти на помощь’ — «Людный парень,
завсегда взаймы дас» [КЭИС], костр. слюдный ‘такой, который хорошо
уживается с людьми’ — «Слюдная баба, с ей любой зять уживётся»
[ЛКТЭ], людской ‘человеколюбивый’ — «А какой лютской был! Придёт
нищой — последней кусок оддас» [СРГСУ II: 109], ср. также контекст к
слову людской ‘такой, как все люди’ (словарная дефиниция в данном
случае слишком расплывчата): «Шофер не взял, проклятый. Вздым-
нула руку — так не взял, а он порозний едет, хохочет. Ведь людской
был бы, остоялся: „Садись, старушонка“» [СРГК 3: 169]. В «людском»
поведении парня, который легко дает взаймы, шофера, подвозящего
старушку, и т. п. проявляется ощутимый подтекст негласной общест-
венной нормы (более подробно о различиях между диалектными и
литературными значениями см. параграф 1.1, с. 25-27).
Приведенный материал — и особенно словообразовательная струк-
тура и семантика слова слюдный —заставляет думать о том, что сход-
ную модель могло бы реализовывать слово смирный. В прошлом эта
лексема явно обладала более высокой значимостью и аксиологической
нагрузкой, чем в современном литературном языке: образованная от
Человек и пространство в зеркале языка
101
смирный фамилия Смирнов является второй по частотности среди рус-
ских фамилий, находясь между Ивановым и Кузнецовым [Журавлев
2005а: 134]; трудно предполагать, что такой ономастический эффект
могла бы дать современная «темпераментная» семантика смирного.
Возможно, в основе фамилии смирный в значении *‘такой, который
уживается с миром’ (как слюдный — с людьми)19. Однако этот вопрос
заслуживает отдельного неторопливого обсуждения.
В то же время смещение точки зрения проявляется и в этой смы-
словой сфере: если люди — это «мы», то от нас требуется вниматель-
ное и терпимое отношение друг к другу; если люди — это «они», то
«на людях» подчас ведут себя «на экспорт» (Прибойчись, чтоб в люди
показаться [Даль21: 108], В людях тороват казался, а дома никому не
сказался [Снегирев: 53], Накуксилась, да и ходит, чтоб люди видели,
как она плакала! [Даль2 II: 430], Когда людно, хромат, а ковда дома,
то в пляс идёт [СРГС 2: 243], В людях Ананъя, а дома каналья [Даль2
II: 284]), неестественно — и даже вызывающе и заносчиво. Соответ-
ственно семантика «социальной толерантности», способности жить в
согласии со средой сменяется семантикой высокомерного, вы-
зывающего поведения: калин, залюдётъ ‘загордиться’, арх. за-
люднётъся ‘начать важничать, много о себе думать’ [СРНГ 10: 227],
влг. залюдитъ ‘повести себя высокомерно, начать задаваться’, налюд-
ничатъ ‘вести себя заносчиво’ [КСГРС], вылюжатъся, вылюживатъ-
ся ‘держать себя ненатурально, ломаться’ — «На уроке ребята при
пъстаронних вылюжываюцъ» [ПОС 6: 12]; ср. арх. выйти на русь
‘оторваться от своей среды’ — «В деревне жил, жил, да вышел на
русь и начал сам себя высоко ставить» [СГРС 2: 226].
Эмпатический эффект дает также семантику распутного по-
ведения: людная девка ‘девушка легкого поведения’ — «Людны
девки, оне гуляют, у их много ухажёров: одного парня бросат, друго-
го, сами себя хорошо не вели» [СРГП: 71; ЧДФ: 108] (мотивационно
здесь людный = «общий»).
Замужество, свадьба
Данная рубрика обнаруживает переклички с рубриками «Социаль-
ный статус», «Пространство», «Воспитание», однако отчетливо выделя-
ется как отдельная, поскольку включает тематически специализиро-
ванные значения. С. Е. Никитина обратила внимание на ключевую
роль слова люди (чаще всего добрые люди) в текстах свадебных при-
19 В этом случае подтверждается версия ESJS о том, что смирный следует
трактовать как дериват *mir-, а не *тёг- [ESJS 8:477] (последнее предполагалось,
например, в [Фасмер III: 688-689] из-за наличия форм с 5 типа смЬреный).
102
Раздел II
читаний: «свои» добрые люди — соседи спорядовые, «чужие» — род-
ня жениха; функция «людей» — быть людским судом; и «свои», и
«чужие» люди разлучают невесту с семьей [Никитина 2004: 621-623].
Восприятие замужества как ухода из дома в люди отражается и в
паремиологии (Дочь, чужое сокровище. Холь да корми, учи да стере-
ги, да в люди отдай', Вспоили, вскормили и в люди благословили, а жи-
вите сами <говорит отец, благословляя дочь> [Даль2 I: 487, 248]), и в
системе языка: до людей ‘до тех пор, пока не наступило время выда-
вать девушку замуж’ — «Кормила я тебя до людей, люди находятся, и
иди замуж» [СРГС 2: 243], идти в люди ‘выходить замуж’ — «Ты са
сваим характерам в люди идти не гадисся», отдать в люди ‘выдать
замуж’ [СПП: 51], костр. в люди (выйдется) ‘замуж (выйдется)’, ле-
нингр. в людях ‘в семье мужа’ [СРНГ 17: 242], людйться ‘обзаводиться
семьей’ [СВГ 4: 60]. Таким образом, вступление в брак есть женский ва-
риант «выхода в люди»; по отношению к мужчине и от его имени мотив
«людей» в брачной теме практически не звучит (ср. разве что ироничные
паремии Согрешил я перед Господом, что люди меня оженили [Даль
ПРН2 2: 120], Отдай жену в люди, а сам так живи [Даль2 II: 284]).
С образом людей связан и собственно ритуал свадьбы — дейст-
ва публичного: сидеть налюдстве ‘(обряд.) в назначенный перед свадь-
бой день быть наряженными в свадебную одежду, принимать гостей,
угощая их конфетами и орехами (о женихе с невестой)’ — «Жаних с ни-
вестай нарядюцца, на люцтве сидеть штоп. Ну, увесь нарот хадил гли-
деть инвесту» [СГСЗ: 428], блр. людзяцъ ‘играть свадьбу’ [СЦРБ 1: 218].
Важно отметить, что брачная тема представлена и в семантическом
пространстве гнезда *mir-. Ж.Ж.Варбот рассматривает кашуб.-сло-
вин. mira ‘жених, новобрачный’, mirota ‘невеста, новобрачная’ как
«реликты древнейшей семантики гнезда слав. *тшгъ, отражающей за-
ключение разного рода социальных соглашений, договоров, в частно-
сти — брачных соглашений» [Варбот 1981: 328]. Анализируя кашуб-
ские примеры и добавляя к ним более косвенные (смол, мирить (по-
па) ‘договариваться (с попом) о плате за венчанье’, мирную делать
‘мириться’ — «У меня сестра тоже убегом убежала; родители сердят-
ся, а через недели две придут мирную делать, мириться», миркдм-лад-
кдм ‘мирно-дружно’ — «Таперь хорошо. Слюбятся, пойдут распи-
шутся, да и живут мирком-ладком» [СРНГ 18: 171], мировой дружка
‘дружка на свадьбе’), В.Н. Топоров указывает на «глубокое и интим-
ное проникновение мира в сферу брачных отношений, органическую
связь понятий этих сфер» [Топоров 1993: 7]20.
20 К коллекции В.Н. Топорова можно добавить еще мириться ‘венчаться’
[ССГ 6: 100], мириться ‘договариваться о предстоящей свадьбе, о размере
Человек и пространство в зеркале языка
103
Таким образом, люди (мир) выступают не только как свидетели
свадьбы (замужества), но и как новая социальная среда, противопостав-
ленная прежней «частной» жизни, вход в которую открывается замужест-
вом, — более того, с людьми связывается само состояние брака как состоя-
ние наиболее важной и вместе с тем интимной социализации человека
Ситуативные социальные роли
Есть социальные роли, которые исполняются «людьми» ситуа-
тивно, в зависимости от обстоятельств. Таковы, к примеру, роли
свидетелей (люди ‘свидетели’ — «Аже выбьють зубъ, а кровь ви-
дять у него во ртЬ, а людье вылГзуть, то 12 гри(венъ) продаж!»» [СлРЯ
XI-XVII вв. 8: 342], ‘то же’ [СДРЯ 4: 486], третьи люди ‘свидетели’
[СПП XVI-XVIII вв. 6: 30], ст.-укр. добрые люди, люди добрые ‘сви-
детели’ [ССУМ XIV-XV 1: 308], ср. также люда ‘(угол.) прохожие’
[БСЖ: 326]) игостей (въ людехъ ‘при посторонних людях, при гос-
тях, в гостях’ [СлРЯ XI-XVII вв. 8: 343], на (в) вылюдъе выйти ‘в гос-
ти, в люди’ [ПОС 6: 12], полюдье ‘гости’ [СПГ II: 160], костр. полюд
‘гость’, собир. полюдье ‘гости’ — «Не ждешь с утра полюда — а он у
порога»; «Полюдья наехало полна изба» [ЛКТЭ]).
Возможно, диалектные слова полюд. полюдье проливают свет на
происхождение личного некалендарного имени Полюд. отмеченного в
новгородских памятниках письменности: Полюд Къснятинич. новго-
родец (1140 г.); Полюд. новгородец (1215, 1224); Полюд. новгород-
ский боярин (1268) [Тупиков: 313; ср. также Ономастикой: 253]; это
имя легло в основу фамилии Полюдов. зафиксированной, в частности,
на пермской территории: чердынец Ивашка Тимофеев сын Полюдов
(1623) [Полякова: 179]. Если эта версия справедлива, то Полюд —
«гость, пришелец»; можно предполагать, что полюдом. в частности,
называли одного из сборщиков подати, ср. полюдье, полюдие ‘подать,
дань, взимаемая древнерусскими князьями с подвластного населения,
«людей»’ [СлРЯ XI-XVII вв. 16: 388]. В качестве семантической парал-
лели следует привести основу гость, которая тоже фиксируется как
антропонимическая, ср. Гость. Гостюня. Гостена и др. [Ономастикой:
86]. Интересные данные о Полюдах сообщает топонимия. Данная ос-
нова фиксируется в русской топонимии весьма устойчиво: г. Полюди-
приданого’ [СРГС 2: 278], по миру ходить (бегать) ‘собирать продукты на гу-
лянье и на свадьбу у родственников’ [ЭИС II: 69], мировая (в знач. сущ.) ‘ве-
черинка по поводу примирения кого-л. с кем-л.’ — «В тот же вечер мирову
сделали <о родителях и дочери, вышедшей замуж ,,убегом“>» [СРГС 2: 278],
мириться, смиряться, с мировой приезжать ‘просить прощения у родителей
невесты после самовольного увода невесты’ [ЭИС II: 10], блр. см1рыцца ‘поми-
риться’ — «Яны разышлюя, потым см!рыл1ся i зноу зашсагпся» [СПЗБ 4: 504].
104
Раздел II
ха [Уст], пок.Полюдка [Кон], Полюдчино [Лен], пок. Полюдоеик [Буй],
р. Полюдовица [Ней], р. Полюдовка [Бел, Меж], д. Полюдоео [Влгд,
Галич], г. Полюдов Камень [Перм]; при этом две горы — Полюднха в
Архангельской области и Полюдов Камень в Пермской — связаны с
легендами о живших на них богатырях по имени Полюд (подробнее
об этом см. в [Березович 2000а: 433^434]). Богатырская «квалификация»
Полюдов. как представляется, подтверждает нашу версию о мотивации
данного имени, хотя возможны и другие мотивационные варианты21.
Описанные роли возникают вследствие проекции семантики ‘дру-
гие’ на структуру некоторых ситуаций, при которой людьми становятся
те, кто играет вспомогательную, не ведущую роль (не хозяев, а гос-
тей; не участников происшествия, а свидетелей).
Этикет
В книжной традиции XVIII-XIX вв. «людскость» предстает как
этикетное поведение: людскость ‘учтивость, вежливость; воспитан-
ность, умение вести себя в обществе’ — «Заставляли <воспитанни-
ков>... представлять на театрЪ, танцовать и фехтовать..., что сдЬлало
питомцев хотя в науках неискусными, однакоже доставило людскость
и некоторую розвязь в обращении» [СлРЯ XVIII в. 12: 21], людкостъ.
людскость ‘приличие, пристойность во внешности, по навыку в хо-
рошем обществе’ [Даль2 II: 284],
В говорах этикетность сводится к требованиям к внешнему виду
«людей» — это должна быть нарядная, праздничная одежда: костр.
людской ‘нарядный (об одежде)’ [ЛКТЭ], костр. вылюдник, олон.,
перм., пск., свердл., яросл. вылюдъе ‘лучшая одежда, в которой ходят
в гости, на гулянье и т. п.; праздничная одежда’, олон. вылюдъе ‘обувь
получше, в которой можно показаться чужим людям’, перм., пск.,
свердл. на вылюдъе ‘для выхода в люди, в общество, принарядившись’
[СРНГ 5: 307], людйстый ‘нарядный’ — «Девки на вечёрках шибко
людистые были» [СНГ 1: 498], вылюжатъся ‘наряжаться, одеваться
для выхода на люди’, ‘прихорашиваться’ [ПОС 6: 12] и др. (ср. в гнезде
с корнем мир-, костр. мирондсовый платок ‘нарядный платок’ [ЛКТЭ],
олон. мирондсовик ‘шерстяной сарафан’ [СРНГ 18: 173]).
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Трудовыми навыками язык наделяет не столько людей, сколько
люд: в современном русском языке это слово специализируется на
обозначении тех, кто трудится (Много люду, много и труду [СПП:
21 Другая версия предлагается А. В. Суперанской, которая считает, что
имя Полюд связано с полюдный ‘общительный, обходительный’ [СРЛИ: 273].
Человек и пространство в зеркале языка
105
134]), сочетаясь в первую очередь с характеристиками мастеровой,
рабочий, трудовой («Вся эта местность была заселена сплошь масте-
ровым людом — сапожниками, скорняками, портными да мелкими
лавочниками» <Телешов>; «Вечером скудно освещенные улицы ожив-
лялись: с завода и фабрик сюда — домой — тянулся усталый рабочий
люд» <Голубева>).
Если говорить о семантике других слов из данной сферы, то
следует указать, что они близки «статусным» характеристикам (см.
Социальный статус), однако здесь представлена не общая оценка ста-
туса, а характеристика более конкретизированных видов деятельности.
«Интрига» в этой сфере разворачивается вокруг оппозиции крестья-
не— ремесленники, рабочие.
«Людьми» в первую очередь считаются крестьяне: влг. люд-
ские (в знач. сущ.) ‘крестьяне’ — «Родом я из людских, все поколения
назад — всё людские» [КСГРС], ср. блр. людзю, людсъкэй ‘крестьян-
ский’ [СПЗБ 1: 704], сербохорв. диал. lju(d)ski ‘то же’ [ЭССЯ 15: 203]
и др. (ср. также нижегор. русский ‘народный, крестьянский’ [СРНГ 35:
272]). Это объясняется как «простонародностью» крестьян, так и об-
щинным характером труда. Значимость последнего условия подчеркива-
ется тем, что ремесленники противопоставляются крестьянам именно
вследствие своих занятий «индивидуальной трудовой деятельностью».
Ср. зафиксированную в двух словарях пословицу, где дается характери-
стика кузнецов и сапожников: безлюдье ‘нелюдимые, необщительные
люди’ — «Жывут нелюди сапожники, безлюдья, кузницы» [ПОС 1: 154],
безлюдье ‘знач.?’ — «Нелюди — сапожники, безлюдье — кузнецы» (по-
словица) [ЯОС 1: 47]. Эти «профессионалы» могли жить среди кре-
стьян, но оставались маргиналами из-за того, что трудились не на гла-
зах у окружающих, не «на людях», и «людям» были неподвластны
секреты их профессиональной деятельности, ср.: «Чтобы стать „чужим
среди своих“, достаточно обладать некими эзотерическими знаниями
или умениями (знахарь, кузнец, мельник и др.)» [Агапкина 1994: 15].
Смена точки зрения дает другую оценку «профессионалов». По-
следние часто воспринимались как знак большого мира — мира «лю-
дей» (в горьковском смысле), горожан (ср. ст.-укр. людге ‘горожане’
[ЭССЯ 15: 197]), того самого, куда отправлялись жители деревни,
«выходя в люди», ср. тобол. по людям (жить, работать, шататься) ‘ра-
ботать по найму, переходя от одного хозяина к другому’ [СРНГ 17: 242].
Тогда ремесленники становились «людьми»: яросл. людская ра-
бота ‘о вещи, произведенной не дома, не кустарным способом’ [ЛКТЭ],
ср. блр. (устар.) людз! ‘крестьяне, ремесленники, рабочие’ <эта сло-
варная дефиниция имеет общий характер, но следующий далее кон-
текст актуализирует значение ‘ремесленники’. — Е. Б.> — «Цыганы i
106
Раздел II
людз! ездзип» [СПЗБ 2: 703], чеш. диал. Tudsky clovek ‘походивший по
свету (преимущественно о торговцах свиньями)’ [ЭССЯ 15: 204].
КУЛЬТУРА, ИДЕОЛОГИЯ
Религия
Краткое упоминание об оппозиции люди — Бог (а тем более
мир — Бог) банально, подробное рассмотрение требует отдельного
большого исследования (богатые лингвокультурологические и философ-
ские аспекты проблемы освещены в [Топоров 1993], где рассматривают-
ся, в частности, особенности взаимоотношений между mzr-божеством,
творцом и /77/г-коллективом), однако мы должны затронуть ее сообразно
той логике анализа материала, которая принята в настоящем исследова-
нии. Данная рубрика стоит особняком в ряду других, поскольку здесь
представлены главным образом контекстные связи (за исключением од-
ного факта деривации); выделить рубрику позволяет устойчивость этих
связей и смысловая «вписанность» в общую концептуальную картину.
Люди действуют в союзе с Богом: За (на) кого Бог, за (на) того
и добрые люди. Бог да добрые люди дают. Кабы не Бог да не добрые
люди!. За правду (за правого) Бог и добрые люди. Живи по-людски, да
по-божьи, по-божески [Даль2 I: 103; II: 284; III: 133] и др. Формулы
по-людски, по-божески и Бог да добрые люди являются устойчивыми
и активно употребляются в современном дискурсе: «По-справедливому
новая власть рассудила, по-людски, по-божески: кто, мол, бедный —
тот и прав»; «Поступили с ним не по-людски, не по-божески: взяли и
выселили из квартиры»; «Бог да добрые люди помогли, не дали про-
пасть с голоду» и т. п. Аналогичные паремии со словами народ и мир
(последнее особенно) тоже представлены в изобилии: Что мир поря-
дил, то Бог рассудил. Чернецы из тех же мирян, а и миряне божьи
люди'. Мир, Бог на помочь! (оклик бурлаков); Где народ увидит, там и
Бог услышит [Даль2 II: 330-331, 462], Мира никто не судит, а судит
один Бог [Снегирев: 224] etc.; ср. также параллелизм формул мирское
слово, мирская слава, от мирского суда не уйти — но и Божье слово,
Божья слава, от Божьего суда не уйти [Топоров 1993: 8].
Однако амбивалентность оценки «людей» нередко разводит их с
Богом: Бог Богом, а люди людьми [Даль2 II: 284], Люди с лихостью, а
Бог с милостью [Снегирев: 216], Смилосердуется Бог, а не люди
[Даль2 IV: 234], Бог помиловал, так люди одолели [Даль2 III: 272], Ка-
ра Божеская не людская'. Людской изрок (суд) не Божий (бывает
ошибочен); Бог один видел, а люди знают'. Отстань, Бог, нападут и
добрые люди [Даль2 II: 33, 89, 284, 446], ср. также Мир орет, так Бог
молчит [Даль2 II: 331], Мир зинул — и ад рот разинул [Снегирев: 225].
Человек и пространство в зеркале языка
107
Из-за этой же амбивалентности по сходной схеме складываются
взаимоотношения «людей» с чертом (хотя, конечно, связь с чертом
слабее, чем с Богом). С одной стороны, люди противопоставлены черту:
влг. нёлюдъ (собир.) ‘нечистая сила’ [КСГРС], Люди дорогой, а черт
стороной (целиком); Все люди как люди, один черт в колпаке [Даль2 II:
143; IV: 331], ср. также костр. нерусский ‘о черте, демоне’ [СРНГ 21:
146]. С другой стороны, ситуативная враждебность людей по отношению
к отдельному человеку, связь с чужим, отдаленным пространством соот-
носит их с чертом: В людях быстро чертом станешь; В чужих людях (на
чужой стороне) в три года чертом прослывешь [Даль ПРН2 3: 84].
Воспитание, обучение
Данная рубрика очень близка рубрике «Социальный статус», но все
же включает специфическую семантическую оппозицию воспиты-
вать, заботиться — оставлять без ухода, запускать. По-
ложительный полюс оппозиции, предполагающий подготовку к со-
циализации, выходу в люди, выражен словами вылюдитъ ‘вырастить,
воспитать’ [СБГ 3: 73], в люди спустить ‘вырастить, вывести в люди’,
людоватъ ‘то же’ — «Шутка, людовать семеро детей» [СРГК 3: 169],
ср. Не на ту пору мать родила, не собрав разума, в люди пустила
[Даль2 II: 284]; ср. также болг. диал. прилюдя. прилюдявам ‘воспиты-
вая кого-либо, помогать ему стать человеком’ [БЕР 3: 577], укр. бу-
дутъ (вийдутъ) люди з кого ‘кто-нибудь вырастет, у него сформиру-
ются позитивные качества’ [ФСУМ 1: 452] и др. Соответственно не-
достаточно воспитанный и обученный человек считается «нелюдью»:
твер. вылюдъе ‘околотень, неслух’ [Даль2 I: 298-299], сев.-двин. нё-
людъ. нелюдской ‘глупый, неумелый, неотесанный человек’, ‘глупый,
неумелый; неотесанный’ [СРНГ 21: 76], ср. также нвсиб. нёрусъ ‘о
бестолковом человеке’ [СРНГ 21: 147].
Однако у ситуации социализации есть обратная сторона: за ней,
по мнению носителей языковой традиции, может стоять установка
«снять с шеи» того, кто выводится в люди, — и шире — забросить,
запустить кого-что-либо: В люди пустила — с шеи спустила [ЭМТЭ];
в люди опустить ‘оставить без ухода, запустить’ — «Земельку-то ма-
тушку не опустили в люди (в войну), не заросла кустарником, не за-
пустили» [СРГКЗ: 169].
Эстетика
Эстетические нотки звучат в изучаемом смысловом пространстве
довольно слабо, но все же весьма отчетливо: их можно услышать при
актуализации «социумного» полюса концепта. Они реализуются как
положительная эстетическая оценка того, что предназначено для де-
108
Раздел II
монстрации «на людях». В первую очередь это праздничная одежда
(см. рубрику «Этикет»), но не только она: вылюдъе ‘что-либо особо
красивое, нарядное, предназначенное для гостей, для показа’ —
«Вылюдья элакого не было, фарфора да — всё глина» [СГРС 2: 235],
твер. вылюдъе ‘«диво, краса, убранство»’ [СРНГ 5: 307], ср. также
вылюдитъ ‘похорошеть, стать привлекательным’ [АОС 6-7: 295], блр.
нелюдны ‘некрасивый, непригожий’ [ДСБ: 145].
ПРОСТРАНСТВО
Пространство, связанное с людьми, определяется языком весьма
детально и разнообразно. Вследствие того, что данная смысловая
сфера удалена от денотативного значения слова люди, в ней преиму-
щественно представлены не значения дериватов, а факты контекстной
семантики, которые дают более слабые (чем в случае дериватов) свя-
зи с изучаемым словом.
В самом общем виде пространство людей — это свет (Чуден
свет, дивны люди; Свет бел, да люди черны [Даль2 I: 152, 435], кото-
рый может быть сужен до родной страны (На белой Руси не без
добрых людей [Даль2 I: 153]) и родной стороны (людймый ‘лю-
бимый, родной’22 — «Прощай, людима сторона, уезжаю в далёки сто-
рона. И ушла я замуж с людимой сторонушки» [СРГК 3: 169]), ср.
также и в людях и наусторднъе ‘везде; всегда, постоянно’ [ФСК: 123],
где усторонъе понимается как «чужая сторона», а в людях — «своя».
Отрицательная форма выражения той же идеи реализуется в сев.,
смол, безлюдье ‘уединенное, отдаленное, глухое место’ [СРНГ 2: 192].
Образ родной стороны тесно связан с образом освоенного люды
ми пространства — им могут быть речные берега (По наречью
(по речным берегам) люди, по сухменю волки [Даль2 II: 466]), обжитая
«теснота», противопоставленная простору (В тесноте люди жи-
вут, а на простор навоз возят [Даль2 IV: 450]), но не море (Море
далёко, люди близко [ЭМТЭ], ср. Нелюдимо наше море <Языков>) и
не лес (В лесе лесеют, в людях людеют [СРНГ 17: 242]; Беда (на-
праслина) не по лесу ходит, а по людям [Даль2 II: 284]; В лесу лес не-
ровен, в миру люди [Даль2 IV: 6]; влг. заулёшина, заулёшица ‘глухое
безлюдное или малонаселенное место’ [КСГРС], курск. лесник ‘не-
людимый человек’ [СРНГ 16: 372] и др.). Ср. также оппозицию Русь —
лес, которая мотивирует смысловое наполнение арх. выйти на русъ
‘выйти из леса на открытое, светлое место, ближе к жилью’ — «Из
22 Несмотря на явную аттракцию к любимый, семантический импульс,
идущий от люд-, здесь силен.
Человек и пространство в зеркале языка
109
леса я на русь вышел, тут луг, дальше деревни, людями пахнет»
[СГРС 2: 226].
Однако смещение точки зрения, перенесение ее из полюса «мы» в
полюс «они» может трансформировать характер связи людей с лесом
и морем — люди уже не противопоставляются им, а сополагаются:
В люди вышел, что в темный лес [ЭМТЭ]; Чужие люди — дремучий
лес [Даль2 I: 492]; Чем верить люду мирскому, верить темному лесу
[Даль ПРН2 3: 84]; Не верь тишине морской да речи людской [Даль2 II:
346]; Ветром море колышет, молвою — народ} Молва людская, что
волна морская [Даль ПРН2 3: 79, 87]. Так люди помещаются в чужое
пространство: в людях ‘в других местах, не здесь’ [СРГК 3: 169], В лю-
дях быстро чертом станешь [ЭМТЭ] (= В чужих людях (на чужой
стороне) в три года чертом прослывешь [Даль ПРН2 3: 84]). Поэтому
локус людей может быть противопоставлен не только миру природы,
но и миру отдельного человека, самому близкому для человека про-
странству — дому: Зачем в люди по печаль, когда дома плачут!} За
покоем не в люди, дома ищи его [Даль2 III: 107, 242]; Люби дома, что
захочешь, а в людях, что дают [Даль2 II: 284]5 Дома пан, а в людях
болван} Дома Илья, а в людях свинья [Снегирев: 100]5 В людях: «Ра-
дуйся, царице!», а дома: «Не рыдай мене, мати!» [Даль ПРН2 2: 569];
«Посижу хоть у тебя на людях, а то одному-то смерть в доме» <Г.Ус-
пенский> и мн. др. Как показывают контексты, домашний мир пред-
ставляется тесно связанным с психической, эмоциональной жизнью
человека, поэтому в оппозиции «дома — в людях» мы вновь встреча-
емся с противостоянием личности и социума
Интересно, что среди различных локусов людей обнаруживается
такой, который соединяет полюс освоенного и неосвоенного, — это
дорога. Дорога противопоставлена необжитому пространству: Люди
дорогой, а черт стороной (целиком) [Даль2 IV: 331]. Она является
принципиально «людским» локусом: людской путь ‘дорога, улица’,
людчик (лютчик, лютщик, лющик) ‘дорога’ [СлРЯ XI-XVII вв. 8: 344],
ср. также мирская дорога ‘широкая проезжая дорога, большак’ [СРГНП 1:
421], ‘широкая торная дорога’ — «Мирская дорога к жилью приве-
дёт» [СРГК 3: 241], тобол. ‘большая дорога, тракт’ — «Мирская доро-
га эвон куда пошла, а эта на нашу деревню» [СРНГ 18: 174]. Очевид-
но, признак «торности» весьма значим как признак, мотивирующий
данные номинации, поскольку с образом людей связано представле-
ние о множестве (см. Количество).
Приведенные выше факты проливают свет на происхождение за-
фиксированного в современных севернорусских говорах слова лющик
‘непропаханная узкая полоса земли между полями или по краю поля
возле изгороди; межа’ [СРГК 3: 170], арх. лющик ‘межа’ [КСГРС]: его
по
Раздел II
фонетический облик есть результат деэтимологизации формы людчик,
а семантика является результатом закономерного смыслового разви-
тия ‘дорога’ —> ‘межа’ (можно учесть и еще один вариант мотиваци-
онного истолкования: межа отделяет свое от чужого, общего).
В то же время дорога уводит из дома на чужбину, в люди: Домой
по своей деревне, а в люди большаком [ЭМТЭ]; обретение нового, бо-
лее высокого социального статуса осмысляется русским языком как
выход в люди (см. Социальный статус). Таким образом, дорога стано-
вится посредником между противопоставленными локусами людей.
ОБЩИЕ СВОЙСТВА ТЕЛ И ВЕЩЕСТВ
Данная сфера стоит особняком в общем ряду, поскольку здесь
объединены такие значения, которые появились вследствие генерали-
зации «людской» семантики, отрыва ее от исходного денотата и рас-
пространения на другие денотаты и ситуации. Здесь выделяются две
группы значений: Количество и Общая рациональная оценка. Охарак-
теризуем первую из них (вторая была представлена выше, при описа-
нии общих свойств «людской» лексики, см. IV).
Количество
С образом людей связывается представление не только о челове-
ческом множестве, но и о множестве одушевленных и даже
неодушевленных объектов: сиб. людка ‘масса (о предметах)’,
севернорус., сиб. людно ‘много (о животных, птицах, насекомых и т. п.)’,
‘много (неодушевленных предметов)’ — «Дров людно. Дождя проли-
ло людно», арх. людной ‘многочисленный (о животных)’ [СРНГ 17:
242-243], людно ‘в большом количестве, в значительной степени, мно-
го’ — «Она людно знает» [СНГ 1: 498], арх., влг. ‘то же’ — «Людно
овец идет»; «Больно людно наклала в сумку» [КСГРС], арх. полюдно
‘в большом количестве, много’ [СРНГ 29: 186] и т. п.
Если такое смысловое развитие предсказуемо и закономерно, то
весьма алогичным выглядит семантика малого количества: костр.
людно ‘мало, недостаточно’ — «Рабочих рук у нас людно» [СРНГ 17:
243]. Можно предполагать здесь энантиосемию на основе экспрессии,
всегда сопровождающей семантику большого или малого количества,
но более вероятно думать, что значение ‘мало’ появилось на основе
значения ‘бедно’: там же, в Варнавинском уезде Костромской губер-
нии, в том же 1932 г., записано слово людно ‘бедно’ — «Она людно
жила» [СРНГ 17: 243]. Последнее же мотивировано одной из статус-
ных характеристик «людей» — характеристикой «социального низа»
(см. рубрику «Социальный статус»).
Человек и пространство в зеркале языка
111
VII. Несмотря на свою многоаспектность, представленный выше ком-
плекс характеристик внутренне целостен. Его целостность подтвер-
ждается тем, что номинации из разных смысловых сфер могут объе-
диняться мотивными и образными перекличками. Так,
мотив незаконнорожденного ребенка соотносим с мотивами распут-
ного поведения и нежелания воспитывать, заботиться, а также темой
брака. Среди сквозных образов следует назвать, к примеру, метафо-
ру перемещения в пространстве: выход в люди — это путь, которым
проходит человек в процессе своей социализации, это дорога жен-
щины в дом мужа, жителя деревни — в город, где есть работа и, со-
ответственно, заработки, неграмотных — к обучению и образова-
нию. Кроме того, это «духовная» дорога, это путь к этическим цен-
ностям, понимание и обретение которых возможно только в общест-
ве (Через людей в люди выходят [Даль2 II: 284]), поэтому этическая
или интеллектуальная неполноценность признается неспособностью
дойти до людей. Метафора дороги имеет яркое национальное свое-
образие: в стране огромных расстояний и безлюдных просторов,
множества деревень и редких городов, крепостного права и замкну-
тых на себя микросоциумов, — наконец, в стране Ломоносова и
Горького, — она может пониматься совершенно буквально. Поэтому
не случайно русский язык использует корни люд- и мир- для обозна-
чения дороги.
VIII. Внутреннему единству языкового портрета людей не противо-
речит контрастность, полярность многих характеристик, заложенная
в семантико-прагматической программе слова люди. Более того, эта
антиномичность, напряжение между личностным и социальным
полюсом концепта становится основным фактором, определяющим
словоупотребление, и механизмом, запускающим словообразование
в соответствующем гнезде. Если словоупотребление лексемы люди
в ряде ситуаций может быть охарактеризовано как дейктическое,
то значения словообразовательных моделей тоже обнаруживают не-
который «дейктический субстрат», ср. людской ‘уживчивый’ — но
залюдить ‘повести себя высокомерно, начать задаваться’: при опре-
делении мотивации этих слов необходимо учитывать позицию но-
минатора («среди» людей или «вне» их). Это — еще один параметр
семантико-прагматической программы слова люди и одновременно
импульс для изучения проекции дейктических категорий в область
номинации и деривации.
112
Раздел 11
2.2. ЧЕЛОВЕК ЭТНИЧЕСКИЙ В ЗЕРКАЛЕ ЯЗЫКА:
К МЕТОДИКЕ ОПИСАНИЯ *
Научному филологическому знанию непросто осваивать темы,
которые имеют общественно-политический подтекст. Эта задача ос-
ложняется в том случае, когда тема, помимо социальной направлен-
ности, затрагивает сферу глубоко личностную и даже интимную, оп-
ределяющую во многом чувство человеческого достоинства и ком-
фортность межличностного взаимодействия. Такое редчайшее соче-
тание есть, пожалуй, только у «национальной проблемы» (точнее —
проблемы рецепции национальных отношений обыденной психологи-
ей), анализ которой в современной отечественной науке должен пре-
одолеть наследие прошлого — замалчивание в годы советской власти
и эмоциональный субъективизм (иногда с некоторым привкусом конъ-
юнктурности) перестроечной эпохи.
Рассмотрение «национальной проблемы» силами филологиче-
ской науки ставит одной из важнейших задач реконструкцию этниче-
ских стереотипов, т. е. «стандартных представлений, имеющихся у
большинства людей, составляющих тот или иной этнос, о людях, вхо-
дящих в другой или собственный этнос» [Крысин 2002: 171]. Этнические
стереотипы отражаются в различных культурных кодах — в фольк-
лорной традиции, верованиях, в языковой системе; см. исследования
О. В. Беловой [20056, 2006], которые являются самым значительным
на сегодня отечественным опытом анализа этностереотипов в фольк-
лорно-языковой традиции, выполненным на славянском материале;
там же представлен обзор литературы, посвященной этническим стерео-
типам [Белова 2006: 6-17]. Особо следует сказать о богатых традициях
разработки этой темы в польской лингвистике и культурологии, см.
[Бартминьский 2005: 252-278; Bartminski, Lappo, Majer-Baranowska 2002;
Benedyktowicz 2000; Etnolingwistyka 2002; Etnolingwistyka 2003; K?pin-
ski 1990; Pisarkowa 1976; Wysocka 2002 и др.].
Диализ собственно языковых этностереотипов во многом осно-
вывается на изучении семантического потенциала этнонимов, ср.: «За-
дача выявления стереотипов национальных характеров может быть
сведена к задаче выявления коннотаций у этнонимов..., точнее, таких
их несущественных семантических признаков, которые несут инфор-
мацию о чертах характера» [Кобозева 2000: 185]. Однако выводы, из-
* Исследовательская работа выполнена при поддержке гранта РГНФ
№ 06-04-00591 а. В текст данного параграфа включен (в переработанном ви-
де) фрагмент статьи, написанной в соавторстве с Д. П. Гуликом [Березовик,
Гулик 2002].
Человек и пространство в зеркале языка
113
влекаемые из семантического анализа этнонимов, значимы не только
внутри этнолингвистики, но и имеют немалый культурологический и
социально-политический вес, поэтому особенно остро встает вопрос о
методике рассмотрения материала. Приведем примеры, показываю-
щие, что на одном и том же материале — при разных исследователь-
ских установках — могут быть сделаны различные выводы.
В исследовании В. В. Воробьева дается лингвокультурологическая
характеристика доминант русского национального характера (в срав-
нении с французским) на основании анализа текстов (как философ-
ских, так и художественных, в том числе фольклорных), откуда выби-
рались сочетания с лексемами русский, российский, великорусский
[Воробьев 1996: 19-26]. Методика анализа не получила детального
освещения в работе, однако, судя по всему, автор использовал не
только контексты с этнонимом русский и его аналогами, но и более
широкий круг текстовых фрагментов, содержащих «саморефлексив-
ные» высказывания выдающихся деятелей русской культуры. Полу-
ченный перечень черт русской национальной личности выглядит так:
религиозность^ высшие формы опыта; соборность; широта души,
вневременностъ; поляризованностъ, дух противоречия; всемирная
отзывчивость [Там же: 20]. Думается, такой весьма непротиворечивый
перечень может быть получен только в том случае, когда круг привле-
каемых к анализу текстов отобран достаточно тенденциозно. И дейст-
вительно, из памятников русской философской мысли В. В. Воробьев
использует тексты философов рубежа XIX и XX вв., преимуществен-
но идеологов «русской идеи», из художественной литературы — про-
изведения Достоевского, Гоголя, Чехова и др. Выборка объемна, од-
нако привлечение к анализу, скажем, работ Белинского, Чернышев-
ского, Писарева, Горького и др. могло бы изменить результаты иссле-
дования. Более того, те авторы, чьи тексты попали в круг изучаемых,
прочитаны тоже выборочно и «с тенденцией»: к примеру, В. В. Во-
робьев почему-то не берет те контексты, где упоминается русская лень.
Ср. некоторые текстовые фрагменты из [Ruscorpora]: «—Что же касается
до того, что тебе это не нравится, то, извини меня, — это наша русская
лень и барство, а я уверен, что у тебя это временное заблуждение, и
пройдет» <Л. Н. Толстой. Анна Каренина>; «Тут просто русская лень,
наше унизительное бессилие произвести идею, наше отвратительное
паразитство в ряду народов» <Ф. М. Достоевский. Бесы>; «Один путь —
русская лень» <П. И. Мельников-Печерский. На горах>; «Русская бес-
печность и русский толк; радушие и удальство; по временам необы-
чайная деятельность и подчас непреодолимая лень; одним словом, вы
найдете в нем все то, в чем упрекают и за что хвалят русский народ»
<М. Н. Загоскин. Москва и москвичи> etc.
114
Раздел II
Тенденциозность В. В. Воробьева проявляется и в подборе материа-
ла, привлекаемого для характеристики французской национальной лич-
ности. Например, о глубоком индивидуализме французов, по мнению ав-
тора, свидетельствуют популярные девизы Каждый за себя, все для всех;
Живут лишь один раз; После меня хоть потоп [Воробьев 1996: 31]. При
этом автор обходит молчанием факт существования подобных девизов у
русских, ср. пословицы Своя рука только к себе тянет; Всяк сам на себя
хлеб добывает; Сова о сове, а всяк о себе (тужи, заботься); Всяк сам
себе дороже; Мне что до кого? Было б нам хорошо; Что мне до других,
был бы я сыт; А после нас хоть трава не расти; Мне хоть весь свет го-
ри, только бы я жив был; Всякому своя слеза солона; Чужая шкура не
болит; Чужая беда — смех; Ешь чужие пироги, а свой хлеб вперед береги
[Даль ПРН2 2: 603-617], Всякому своя обида горька (болячка больна); На
чужое горе не наплакаться; На чужой спине беремя легко; Своя болячка
велик желвак; Чужую похоронку не скоро найдешь [Снегирев: 48, 254,
364, 462] etc. Отметим и то, что «педалируемая» автором (вслед за фило-
софами рубежа веков) идея соборности тоже весьма противоречиво от-
ражена в русских пословицах, ср., к примеру: Поют собором, а едят по
дворам [Даль2 IV: 142].
Таким образом, авторская установка идет впереди анализа материа-
ла. Неудивительно, что исследователь, прочитавший русские пословицы
с иными, нежели В. В. Воробьев, установками, получает противопо-
ложные результаты (которые, по В. В. Воробьеву, могли бы характери-
зовать разве что француза): русской национальной личности приписыва-
ется эгоизм, глубокое чувство зависти как устойчивое ментальное со-
стояние, уравнительность, иждивенчество, приспособленчество, склон-
ность к эсхатологическому мышлению, самоирония, самоуничижение,
гордыня, менторские наклонности [Солоник 1997].
Иного рода методические проблемы встают в связи с работой
И. М. Кобозевой, основанной на экспериментах [Кобозева 1995]. Ис-
пытуемым предлагалось осуществить: а) свободную интерпретацию
псевдотавтологий типа X есть X; X это X. где X — этноним (в том
числе русский); б) заполнение пропусков в конструкциях типа Как
истинный русский, он....Он по-русски... Автор считает, что такая мето-
дика дает более объективную информацию о стереотипах националь-
ных характеров, чем та, которую можно добыть с помощью прямых
вопросов вроде: «Каков, по Вашему мнению, характер англичани-
на?» [Кобозева 1995:115]. Получен следующий набор свойств русского
(в порядке убывания частотности): бесшабашный, щедрый, ленивый,
необязательный, простодушный, бестолковый, неорганизованный,
бесцеремонный, широкая натура, поверхностный, нелюбопытный,
приятный [Там же: 113]. Однако при интерпретации этих данных ав-
Человек и пространство в зеркале языка
115
тор фактически порывает с анализируемым материалом, подгоняя его
под взятую за пределами исследования, фактически «из воздуха»,
пропозицию «русскому свойственно верить» (имеется в виду русский
как субъект веры). Цепочка умозаключений здесь такая: щедрость и
бесшабашность объединяются через идею добра—на добрых интуициях о
мире основано мнение, обозначаемое глаголом верить, — значит, русско-
му свойственно верить. Отсюда обобщающая характеристика:«.. .Русский
исходит из того, что в мире в конечном счете побеждают добро и правда,
и стремится жить в соответствии с этими принципами, не стесняя себя во
всем остальном» [Там же: 115]; при этом автор полагает, что отрица-
тельные качества русских (лень, необязательность, неорганизованность)
тоже совместимы с этой характеристикой: «Действительно, личное тру-
долюбие, сообразительность, соблюдение порядка и даже верность сво-
им обязательствам не столь существенны, если добро и правда в мире
рано или поздно торжествуют» [Там же].
Думается, что столь же убедительно можно было бы построить рас-
суждения, исходя из противоположной пропозиции «русский не верит»:
она тоже могла бы объяснить многие свойства национальной личности
Более корректной представляется методика обобщения результатов23
в исследовании В. А. Плунгяна и Е. В. Рахилиной [Плунгян, Рахилина 1996].
Проанализировав узуальную (типовую) сочетаемость различных этно-
нимов (в том числе русский) и выявив набор лингвистически отмеченных
«русских» качеств (удаль, широта и прямота', сметка и смекалка', гос-
теприимство (хлебосольство), (за)душевностъ и щедрость', беспечность,
бесхозяйственность, расхлябанность', лень и барство', хамство, свинст-
во, дикость, варварство), авторы остаются «при материале», отмечая,
что лингвистический инвариант всех (или почти всех) этих качеств —
отсутствие ограничителей или сдерживающих тенденций, своего рода
«центробежность», отталкивание от середины [Там же: 343-344].
Типовая сочетаемость этнонимов, языковой узус — в отличие от ли-
тературных текстов — дает представление о некоей понятной для всех
носителей языка установке. Отдельный носитель языка может быть с ней
не согласен; обсуждая ее, он волен так или иначе выразить свое негатив-
ное отношение (пресловутая русская лень, так называемая русская лень
и т. п.), однако за этой характеристикой стоит обобщенное знание, не
требующее развернутых пояснений. Ср. отсутствие этого обобщенного
знания в высказываниях типа китайская лень или немецкая галант-
23 Отметим, что в исследованиях такого рода поиск «объединяющей ма-
гистрали» вообще не должен быть самоцелью. Важно получить собственно
языковой «портрет», а не какой-то абстрактный тезис, который мог быть
сформулирован и за пределами лингвистического исследования.
116
Раздел II
ностъ. при восприятии которых носитель русского языка оказывается
лишенным ключа, помогающего понять, как следует трактовать выска-
зывание (например, иронически). Литературные тексты или психолин-
гвистические эксперименты (к которым нередко прибегают исследовате-
ли национальных стереотипов, предлагая испытуемым дать реакции на
стимул-этноним) отражают индивидуализированное знание: несмотря на
то, что «кванты» этого знания можно определенным образом сгруппиро-
вать, оно остается очень подвижным и текучим, ибо детерминируется
изменчивыми вкусами и мнениями отдельных лиц. Поэтому так ощути-
мо сказывается на результатах исследования подбор текстов (очень по-
учительна в этом плане возможность получения принципиально разной
информации при «прямом» прочтении народных пословиц), а также вы-
бор референтной группы участников эксперимента24.
Думается, что анализа текстов и экспериментальных данных не-
достаточно для выявления коннотативного спектра этнонимов. Неза-
служенно обойдены вниманием исследователей семантико-моти-
вационные отношения, т. е. мотивировки самого этнонима и его
дериватов. Речь идет о создании ономасиологического порт-
рета hominis ethnici, который строится на номинативных моде-
лях — фактах воплощения знаний об объекте действительности во внут-
ренней форме лексических единиц. Ценность этого источника концепту-
альной информации определяется тем, что заложенный в названии при-
знак отражает такое знание об объекте, которое «срослось» с языковой
формой, а потому доступно для всех носителей языка. Сам факт наличия
номинативной единицы в узусе ограждает от использования для получе-
ния этнокультурной информации разовых, индивидуально окрашенных
словоупотреблений (подробнее см. [Березович, Рут 2000: 34]).
Недостаточное внимание к ономасиологическим моделям со сто-
роны исследователей этностереотипов объяснимо: несмотря на кажу-
щуюся простоту сбора номинативных единиц не требующего обраще-
ния к обширным текстовым массивам, этот вид работы осложняется
тем, что набор соответствующих фактов характеризуется значительной
энтропией, они рассыпаны по словарям разных форм существования
языка, при этом преимущественно «внелитературных» подъязыков, лек-
сическое богатство которых пока, к сожалению, редко подвергается
концептуальному анализу. Характерно следующее суждение И. М. Ко-
бозевой: «...возникает непростой вопрос о том, что считать объектив-
ным проявлением коннотации. Если считать таковыми только те свойст-
24 Более подробное обсуждение методики анализа текстов, психолинг-
вистических экспериментов и др. в связи с проблемой реконструкции этни-
ческих стереотипов см. в [Березович 1999а].
Человек и пространство в зеркале языка
117
ва лексемы, которые зафиксированы в лингвистических описаниях, в ча-
стности, в словарях, то среди этнонимов в русском языке, пожалуй, толь-
ко цыган окажется наделенным коннотациями» [Кобозева 2000, 185].
С этим можно согласиться только по отношению к литературно-
му языку. В то же время диалекты, просторечие, жаргоны дают боль-
шое приращение языкового материала. Особое значение фактов этих
подъязыков для обнаружения коннотаций этнонимов определяется и
тем, что в них, как известно, нет никаких «нормирующих» ограниче-
ний ни в плане языковой техники, ни в отношении «политической кор-
ректности». Кроме того, здесь можно получить более разнообразный
набор коннотативных этнонимов, что определяется внелингвистиче-
скими факторами. К примеру, на различных территориях происходили
контакты «местного значения» с представителями соседних этносов,
что отразилось в диалектных отэтнонимических образованиях, но не
стало актуальным для литературного языка (ср. в русских говорах Ка-
релии—вепса ‘об упрямом человеке’ [СРГК 1: 172], на Псковщине —
латышатъ ‘говорить неразборчиво, невнятно’ [СРНГ 16: 293], в перм-
ских говорах — вогул ‘о человеке, который отступает от принятых у рус-
ских норм в поведении, речи, одежде и чем-л. напоминает манси’ —
«Вогул ты, Зойка! Варено не ешь...» [АС 1: 137] и т. п.). Что касается
жаргона, то он быстрее, чем литературный язык, реагирует на разного
рода социальные процессы, а это тоже может сказаться на коннотатив-
ном спектре этнонимов, ср., к примеру, следы боевых действий и межэт-
нических конфликтов, проявляющиеся в таких номинациях, как афган
‘убийца’ [БСЖ: 41], афганистан, Махачкала ‘потасовка, драка’, въетнам
‘дебош’ [ССРГ: 20, 77, 278] etc. Все это дает возможность пронаблю-
дать изучаемый феномен в его максимально полном проявлении.
Другое дело, что языковые факты такого рода, фиксирующие ха-
рактеристики и оценки этническими соседями друг друга, практически
не собраны и не введены в научный оборот, не говоря уже о том, что при
переиздании словарей и других источников XIX в. в советское время
из них попросту исключался «национальный» материал25 (такое со-
стояние Источниковой базы характеризует практически все славян-
ские научные традиции26, за исключением разве что польской).
25 К примеру, многие дериваты этнонима жид, представленные в доре-
волюционных словарях В. Н.Добровольского, Г. И. Куликовского, в 3-м из-
дании словаря В. И. Даля etc., не попали в сводный Словарь русских народ-
ных говоров, соответствующий том которого (9-й) вышел в 1972 г.
26 Ср., к примеру, суждение Н.Б.Мечковской о принципиальной неполноте
печатных источников белорусских паремий с этнонимами [Мечковская 2002:
218-219].
118
Раздел II
Итак, ономасиологическим портретом «человека этнического»
следует называть то наивное знание о нем и об этнической группе в
целом, которое оказалось запечатленным в номинативной системе
языка. Соответствующая информация может быть выделена из языка
путем концептуального анализа следующих единиц этой системы:
1) собственно этноним; 2) словообразовательные производные этнони-
ма; 3) эвфемистические обозначения этноса; 4) прозвищные этнонимы,
«этнические клички»; 5) отэтнонимические семантические дериваты;
6) ономастические образования, включающие этноним. Рассмотрим их
подробнее.
Собственно этноним
Во внутренней форме этнонима запечатлеваются признаки, кото-
рые этнос приписывает себе или же отражающие мнение о нем соседей.
Эти признаки назывались во многих исследованиях, поэтому нет смысла
останавливаться на них подробно (см., в частности, [Агеева 2000; Кова-
лев 1982; Крюков 1984; Никонов 1970; Попов А. И. 1973; Супрун 1976;
Хабургаев 1979; Popowska-Taborska 1990; Rospond 1966 и др.]). Так,
самыми частотными среди «внешних» этнонимов разной языковой при-
надлежности оказываются названия, характеризующие место жительства
чужого народа или племени — например, поляне, древляне; его язык —
немцы; занятия — румын, кэлдэраря («котляры, котельщики») ‘субэтни-
ческая группа цыган’ [Агеева 2000: 370]; религиозные представления —
голланд. Heidens («неверующие») ‘цыгане’ [Абраменко, Кулаева 2004:
11]; оценку его отношений с народом-номинатором: «союзники» — сер-
бы [Фасмер III: 605], «враги» — тунгусы [Аникин ЭСС: 566] и др.
Концептуально значим также объем наивного понятия, стоящего
за этнонимом. Наивным понятиям такого рода свойственна высокая сте-
пень диффузности: название одного народа легко переходит на другие —
близкие по антропологическим, языковым, социальным признакам или
же проживающие на соседней территории. При этом происходит генера-
лизация семантики или же заместительный «сдвиг». Например, в период
освоения Сибири этноним остяк был распространен русскими практиче-
ски на все население Западной Сибири, а татарин — вообще на всю Си-
бирь [Матвеев 1984: 87]; современное русское население Прииртышья
называет всех нерусских словом азербайджан [СРСГСП 1: 16]; для носи-
телей псковских говоров любой иностранец — англйец [ПОС 1: 64], а для
носителей русских говоров Карелии — швед [СРГК 6: 848]; вариативна
семантика этнонима литвсг. онеж. (в былинах) ‘(чужой) род, племя’, ‘по-
ляки и казаки, совершавшие набеги в смутное время на северные облас-
ти’, томск. ‘местное нерусское население’ — «Чудь называли остяками и
Литвой», арх. литва ‘исчезнувший народ, чудь’ и др. [Аникин СЛБ: 207];
Человек и пространство в зеркале языка
119
ср. также пруссы ‘балты’ —> ‘немцы’ [Непокупный 1976: 94, 103], рус.
алт. киргиз ‘казах’ [СРГА 2/П: 36] etc.
Информативна не только первичная мотивация этнонима, но и
вторичные мотивировки, которые он может получить под действием
народной этимологии (например, притяжение англ. Irish ‘ирландский’
к ire ‘гнев’, подробнее см. ниже).
Следует также принимать во внимание грамматические показатели
этнического наименования. К примеру, оформление этнонима в виде
собирательного существительного (мордва, весь, чудь, чухна, литва)
можно трактовать как отражение восприятия соответствующего этноса
в виде некоего нерасчлененного, неразличимого — и потому непонят-
ного мира. Кроме того, собирательность придает этнониму пейоратив-
ную окраску.
Словообразовательные производные этнонима
Сюда относятся экспрессивные словообразовательные дериваты,
обозначающие отдельных представителей этноса (татаришка, еврей-
чик, немчик, арапчонок, цыганенок), этнос в целом (татарва, немчу-
ра) или же лексемы, призванные обозначить особенности культуры и
существования этнической группы (рус. цыганщина, еврейство, англ.
gipsyish ‘свойственный цыганам’). Само наличие в лексических сис-
темах таких производных для одних этнонимов — при отсутствии
аналогичных дериватов для других — уже свидетельствует о важном
месте образов соответствующих этносов в языковой картине мира
Особо следует выделить ситуации, когда словообразовательные
производные приобретают прозвищный характер, функционируя как
вторичные «неофициальные» обозначения того или иного этноса Факты
такого рода можно считать переходным явлением между словообра-
зовательными производными этнонима и «этническими кличками»
(см. далее). Словообразовательной трансформации могут подверг-
нуться как «внешние» этнонимы (рус. жарг. шведюк ‘швед’, америкос
‘американец’ [БСЖ: 686, 35], смол, жидзюга ‘еврей’ [СОС 1: 223],
англ. Jap (< Japanes) ‘японец’ [Longman: 702]), так и «внутренние» (Nip
(< япон. nipponjiri) ‘японец’ [Partridge: 810]). Хотя у таких языковых
единиц нередко отсутствует интерпретируемая в концептуальном пла-
не внутренняя форма, можно говорить о наличии некой минимальной
и самой общей концептуальной информации (как правило, это этно-
пейоративность), которая может быть извлечена из значения словооб-
разовательной модели (ср., например, пейоративную семантику усе-
ченных форм типа англ. Argie (< Argentinian) ‘аргентинец’ [Longman:
51], рус. жарг. азер ‘азербайджанец’, юг ‘югослав’ [БСЖ: 32, 713], а
также собирательных вроде татарва), фоносемантики и, наконец,
120
Раздел II
прагматического наполнения (его передают, в частности, словарные
пометы типа презрительно, пренебрежительно, шутливо-иронично).
Эвфемистические обозначения этноса
Эвфемистические этнонимы или перифрастические обороты ис-
пользуются для того, чтобы скрыть негативное отношение к чужому
этносу. Такие наименования появляются в первую очередь в сфере
официальной коммуникации, а не в «низовом» языке (где нет уста-
новки что-либо скрывать). Показательно, к примеру, слово русскоязыч-
ный. функционировавшее в русском официальном дискурсе эпохи за-
стоя в контекстах вроде русскоязычный поэт Мандельштам (в от-
личие от русских поэтов Есенина или Маяковского), которое имело
точный польский аналог: polskojqzyczny 'о ком-то, кто «формально»
говорит на польском языке, но имеет еврейское происхождение’ [Эд-
browska: 282]. Ср. также другие русские и польские эвфемизмы, «на-
мекавшие» на евреев: рус. пятая графа, человек с характерной
внешностью (носом), фамилией [ЛЗА], польск. nie-aryjczyk. gosc. ludzie
niewiadomego pochodzenia («люди неизвестного происхождения»),
eks-obywatel (особенно о евреях, уехавших в эмиграцию), oczyszczanie
szeregow («очищение рядов») 'исключение евреев из партии в 1968 г.’
[D^browska: 280-282].
ПРОЗВИЩНЫЕ ЭТНОНИМЫ, «ЭТНИЧЕСКИЕ КЛИЧКИ»
Прозвищные этнонимы — это неофициальные наименования на-
родов, сообществ и групп. По мнению А. Винклера, имена такого ро-
да, называемые также пейоративными вторичными этническими на-
званиями, почти всегда относятся к этническим соседям, с которыми
данный народ находится «в постоянном — а потому часто особенно
богатом конфликтами — контакте» [излагается по: Кралик 2006: 163].
Прозвищные этнонимы, как и другие прозвища, как правило, имеют про-
зрачную концептуально информативную внутреннюю форму, в которой
получает отражение одна из характеризующих — с точки зрения номи-
нирующей группы — черт этноса. «Клички» такого рода обычно не свя-
заны по происхождению с основным обозначением данной этнической
группы. Исключение составляют случаи игрового преобразования этно-
нима (на основе аттракции к созвучным словам), превращающего его в
прозвище, ср. рус. жарг. финик 'финн, житель Финляндии’ [БСЖ: 626],
чинарик 'китаец’ [БСЖ: 672] (от англ. China в результате притяжения к
просторен, чинарик 'окурок’), арх. глупаръ 'представитель народности
лопарей, восточных саами’ [АОС 9: 117], просторен, комик 'коми’.
В этнических кличках могут реализовываться различные модели
номинации. Приведем в качестве примера некоторые из них.
Человек и пространство в зеркале языка
121
Среда обитания. В рамках этой группы выделяются наименова-
ния, образованные от обозначения какой-либо географической или
ландшафтной реалии: рус. просторен, горец ‘представитель любой кав-
казской национальности’, жарг. Чебоксар ‘чуваш, мордвин’ [БСЖ:
665], англ. Balt («с берегов Балтийского моря») ‘любой иммигрант из
Европы (австрал.)’ [Partridge: 123]); объектов животного и растительно-
го мира: рус. жарг. урюк ‘представитель народностей Средней Азии’,
чернослив ‘житель Кавказа’27, олень (северный олень) ‘представитель
какой-либо из народностей Севера’ [БСЖ: 615, 668, 397], англ. Froglander
(«житель страны лягушек») ‘голландец’ [Partridge: 430].
Язык. В основу наименований может быть положен распростра-
ненный, типичный для определенного этноса антропоним: рус. жарг.
абрам. абрамович, борух, зяма, изя, ицык, мойша, монъка, Рабинович,
фима, хайм, хаскелъ, цукерман ‘еврей’, сарра. софъя. хая ‘еврейка’
[Отин СлК: 28, 73, 151, 240-241, 243, 294, 306, 322, 370], ишулъка
(< идиш Schmul ‘Самуэль’) ‘презрительное прозвище еврея’ [Фасмер IV:
460]28, просторен, фриц ‘немец’, перм. абдул ‘татарин’ [АС 1: 39], жарг.
хабибулин ‘то же’ [БСЖ: 637], польск. hvan. Wania. Sasza. Wowa ‘рус-
ский’ [Bartminski, Lappo, Majer-Baranowska 2002: 111], англ. О/<т/‘швед’,
Mac. Mack. Mick ‘шотландец’, Fritz. Hans ‘немец’ [Winkler 1994: 327];
игровая имитация такого антропонима: рус. жарг. нахалкер ‘еврей’, ма-
какян ‘армянин’ [БСЖ: 378-379, 331], шмулъвасер ‘еврей’ [Отин СлК:
392]; «слово из речи» соответствующего инородца: рус. жарг. амор
‘итальянец’ [БСЖ: 35], якала "ирон, о немце (< нем./ri ‘да’)’ [Елистратов:
702], арх. асей (< англ. I say) ‘иностранец, особенно англичанин’ [Даль21:
26], цыган, ватъка (< цыган, ватъка ‘мол, дескать’) ‘цыгане-лотфы’
[ЛЗА: сообщено О. Абраменко], англ, mounseer (< франц, monsieur)
27 В названиях урюк и чернослив (как и во многих других прозвищных
этнонимах) отражается языковая игра: слово урюк созвучно лексеме турок и
вообще имеет вид «тюркского» слова; чернослив является игровой «доработ-
кой» оскорбительного прозвища черный, обозначающего в русском просто-
речии жителей Кавказа и Средней Азии.
28Показательно обилие отыменных номинаций со значением ‘еврей’: в
русской языковой среде еврейские антропонимы очень заметны (не так вы-
деляются они, к примеру, в германском именнике), поэтому фактически лю-
бое еврейское имя может служить нарицательным обозначением еврея. Кро-
ме того, долгие годы гонений на евреев сформировали определенный сцена-
рий «распознавания» лиц этой национальности (ср., кстати, уборевич ‘жертва
доноса’ [Отин СлК: 336]): антропоним при этом был одним из наиболее яр-
ких признаков (наряду с характерной внешностью, картавостью, родом заня-
тий и т. п.), что привлекало к нему особое внимание.
122
Раздел II
‘француз’, итал. rigotti (<нем. Herrje Gott!} ‘немец’ [Winkler 1994:
326-327]; специфика фонетической организации речи, акцента пред-
ставителей номинируемой группы: рус. смол, пшек ‘поляк’ [СРНГ 33:
182], англ. Taffy (< Davy + особенности валлийского акцента) ‘валли-
ец’ [Partridge: 1194].
Внешний вид и перцептивный образ: рус. просторен, чубы. хохлы
‘украинцы’ [Даль ПРН2 2: 53], цитрус ‘об азиате; вообще о человеке с
желтым цветом кожи’ [БРЭР: 702], щурик ‘японец, китаец или мон-
гол’ [ЛЗА: Екатеринбург], влг. черной ‘цыган’ [КСГРС], жарг. черно-
мордый ‘негр, африканец’, шнобелъзон (< шнобелъ ‘нос, чаще большой’)
‘еврей’ [БСЖ: 668, 698], польск. Czekolada. Какао. Asfalt. Negatyw
‘негр’ [Wysocka 2002: 179], англ, pongo (< pong ‘вонять’) ‘негр’,
‘цветной’, ‘иностранец’, slant (< slant-eyed ‘раскосый’) ‘представитель
дальневосточной национальности, особенно японец’, velcrohead («голо-
ва, похожая на бархат с крючками, т. е. застежку ,,липучка“») ‘негр’
[Thome: 382, 462, 637], yellowman («желтый человек») ‘азиат’, vanilla,
whitey ‘белый’ [Winkler 1994: 326], squarehead («прямоугольная голо-
ва») ‘бранная кличка немца или скандинава’ [Мюллер: 326].
Образ жизни и деятельности, быт. Прозвища могут отражать пи-
щевые привычки: рус. жарг. рис ‘азиат’, макаронник ‘итальянец’
[БСЖ: 331, 510], польск. kartoflarz ‘немец’, франц, rosbif. stockfish
‘англичанин’, англ, goulash ‘венгр’ [Winkler 1994: 328], нем. Knoblauch-
fresser («пожиратель чеснока») ‘еврей’, Zwiebelfresser («пожиратель лу-
ка») ‘славянин’ [Жданова 2005: 199], итал. gnocco («клецка») ‘немец’
[Winkler 1994: 328]; одежду: рус. белошапочники. магерки29 ‘литовцы’
[Даль ПРН2 2: 51], жарг. аэродром (< жарг. аэродром ‘широкополая
плоская кепка, популярная в южных регионах бывшего СССР’) ‘гру-
зин’ [БСЖ: 41], англ, towel-head («обмотанная полотенцем голова»)
‘араб’ [Thorne: 483], франц, pantalons de velour («бархатные пантало-
ны») ‘бельгиец’ [Winkler 1994: 329]; специфику домашнего хозяйст-
ва: англ, kelper (fykelp ‘бурая водоросль, ламинария, которая исполь-
зуется в качестве топлива и удобрения жителями скалистых островов’)
‘аргентинец, житель Фолклендских островов’ [Thorne: 304]; занятия:
рус. просторен, колбасник ‘немец’ [Даль ПРН2 2: 57], жарг. баклажан
помидорович ‘заключенный, как правило, уроженец Кавказа (намек на
торговлю овощами на рынке)’ [БСЖ: 42, 45], молд. урсаря («медве-
жатники») ‘цыгане’ [Агеева 2000: 370].
Политический, социальный, религиозный статус: рус. жарг. ал-
лах ‘уроженец Средней Азии’ [БСЖ: 34], польск. Sowiet, bolszewik,
29 Ср. зап.-брян., смол, магёрка ‘белая войлочная шляпа с тульей без
полей’ [СРНГ 17: 289].
Человек и пространство в зеркале языка
123
czerwony, komunista ‘русский’ [Bartminski, Lappo, Majer-Baranowska
2002: 111], франц, les paysans («крестьяне») ‘бельгийцы’, нем.
Pachulke (< чеш. pacholek ‘простолюдин; слуга, батрак’) ‘русский’,
англ, hitlander (< Hitler-lander) ‘немец (во время II Мировой войны)’,
чеш., словац. пасек («нацист») ‘немец’ [Winkler 1994: 329]. В эту же
группу условно могут быть включены номинации, отражающие на-
циональный символ или эмблему: англ, kiwi («киви» — эмблема Но-
вой Зеландии) ‘новозеландец’ [Longman: 725].
Черты характера: рус. лентякй ‘коми’ [ЛЗА: Кировск, обл.], англ.
pinch-penny («скупердяй») ‘шотландец’ [Winkler 1994: 329].
Культурные аллюзии: рус. жарг. чардаш ‘венгр’, Анкл Бэнс
(торговая марка Uncle Ben’s, символ которой — портрет чернокоже-
го мужчины) ‘негр’, швондер (по фамилии персонажа повести
М. Булгакова «Собачье сердце») ‘еврей’ [БСЖ: 665, 37, 686], гюлъ-
чатай ‘восточная девушка’ (по имени героини фильма «Белое солн-
це пустыни») [Отин СлК: 121], англ, kermit (Kermit the Frog — Ля-
гушонок Кермит из кукольного сериала «The Muppet Show») ‘фран-
цуз’ [Thorne: 305].
ОТЭТНОНИМИЧЕСКИЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ ДЕРИВАТЫ
Это слова и фразеологизмы, возникшие в результате семантической
деривации на основе этнонимов. Из всех групп языковых фактов, про-
ясняющих связанное с этнонимом «языковое знание», данная группа
является наиболее обширной (разумеется, ее не могли обойти вниманием
лингвисты [см. Аникин 2005, Гулик 1999, Кралик (Kralik) 1998, 2006,
Теллалова 1996, Birken-Silverman 1993, Muller; Winkler 1994], но на
русском материале она изучена явно недостаточно). Сюда входят,
во-первых, этнонимы в переносных значениях — как «антропологи-
ческих» (рус. томск. мериканец ‘изобретательный, изворотливый че-
ловек’ [СРНГ 18: 118], костр., сев.-двин. грек ‘невоздержанный в
употреблении вина человек’ [СРНГ 7: 131], блр. жидзюк ‘оборванец’
[Насов1ч: 156], англ. Turk ‘озорной, непослушный ребенок’ [НБАРС 3:
583], испан. gitano («цыган») ‘льстец, хитрец’ [БИРС: 393], швед, rysk
(«русский») ‘сумасшедший’ [STO: 995]), так и принадлежащих к дру-
гим смысловым сферам (рус. жарг. китаец ‘постельное белье, выда-
ваемое пассажиру проводником вагона, уже бывшее в употреблении,
но нестираное’ [ССРГ: 198], смол, татарин ‘озимый лук’ [Опыт: 226],
болг. турчин ‘мак’ [БД 7: 144], словац. rus ‘шпрота обычная’ [SSJ III:
894], англ. диал. Scotchman ‘древко флага’ [EDD V: 260], нем. Franzose
‘простое подвижное орудие, с помощью которого завинчивают или
отвинчивают болты’ [Komenda: 42]); во-вторых, производные слова с
идиоматическим значением, факты морфолого-семантической моти-
124
Раздели
вации (рус. литер, цыганить ‘вымогать, попрошайничать’, костр. рас-
татаренный ‘жестокий, злой’ [ЛКТЭ], польск. диал. tatarowac ‘бить’
[Karfowicz 5: 391], нем. juden («вести себя, как еврей») ‘при покупке че-
го-либо стремиться заплатить более низкую цену и долго говорить
о цене; торговаться’, Шгкеп («вести себя, как турок») ‘действовать не-
честно, преследуя цель ввести кого-либо в заблуждение, обмануть’
[Komenda: 61, 99]); в-третьих, идиоматические конструкции с разной
степенью фразеологической связанности — от сочетаний с дериваци-
онной связанностью (рус. жарг. китайская желтуха ‘несуществующая
болезнь, симуляция’ [ЛЗА: Екатеринбург], болг. циганско жито ‘сорное
растение овсига’ [Ахтаров: 537], польск. жарг. ruska narkoza ‘резиновая
дубинка’ [Bartminski, Lappo, Majer-Baranowska 2002: 114], англ. Dutch-
man's laudanum («опиум голландца») ‘вид пассифлоры, страстоцвета’
[НБАРС 1: 634]) до клишированных формул и сравнительных оборо-
тов (рус. сиб. уведи его татар ‘черт бы его побрал’ [ФСРГС: 195],
англ, to assist in the French sense («помогать во французской манере»)
‘присутствовать, но не помогать’ [НБАРС 1: 817], укр. привъязавсь, як
москаль [Номис: 55], болг. бос кай татар ‘о бедняке’ [БД 8: 316]).
Сюда же относятся все случаи подобного функционирования прозвищ-
ных этнонимов, когда последние, заменяя собой собственно этнонимы,
вступают в процессы семантической деривации: например, на базе англ.
Paddy (прозвищного этнонима со значением ‘ирландец’) образуется
устойчивое выражение Paddy's apricots («абрикосы Пэдди»), которое
имеет фразеологически связанное значение ‘картофель’ [Partridge:
848] (ср. вариантное Irish apricots ‘то же’). Подробный анализ отно-
шений семантической деривации на базе этнонимов представлен в
параграфе 4.2.
Ономастические образования,
ВКЛЮЧАЮЩИЕ ЭТНОНИМ
Этнонимы, этнические клички либо отэтнонимические семанти-
ческие дериваты могут функционировать в других разрядах ономастики.
Такого рода факты представлены в разных сферах имен собственных:
топонимии (пролив Татарский Пролив (данный топоним демонстри-
рует обобщенное представление о татарах как всех тюркских, мон-
гольских и тунгусо-маньчжурских народах) [Никонов: 410], ур. Чуд-
ские Погреба [Вель], англ. Jewish Alpes («еврейские Альпы») ‘горы
Кэтскилл в штате Нью-Йорк, где расположены пансионаты, владель-
цами которых, как считается, были евреи’ [Chapman: 243]), астрони-
мии (арх. Чухонский Лапоть ‘созвездие Плеяды’ [АстрКТЭ]), зоони-
мии (многочисленные клички Цыган для животных черного цвета),
Человек и пространство в зеркале языка
125
прагмонимии (англ. Jew’s Canoe («каноэ еврея») ‘автомобиль марки
«Ягуар» или любой другой большой автомобиль’ [Thorne: 287]) и, ко-
нечно, антропонимии, где этот материал встречается наиболее часто.
Речь идет о разных разрядах прозвищной антропонимии: инди-
видуальных прозвищах: Еврей — «Вредные были предки у него»
[Вил, Лубягино]; Чуваш — «Сам-то русский, а глаза маленькие» [Кон,
Васильевская]; семейных прозвищах: Мордовцы — «Все на роду у них
были росточком маленьким» [Кадый, Завражье]; Английцы — «Жили
шибко хорошо» [Влг, Новленское]; коллективно-территориальных
прозвищах (наименованиях жителей какого-либо населенного пункта
или региона, не связанных с соответствующим топонимом и выпол-
няющих характеризующую функцию): Турки, жители д. Яреньга —
«Они как турки: слушают-слушают, а ничего не понимают» [Прим,
Лопшеньга]; Американцы, жители д. Дьяково — «Они таки чуваши были
дикие, они другого приходу были, идут — не здороваются» [Кологр,
Вяльцево]; Французы, жители д. Павловское — «У нас народ настыр-
ный, задумают, что сделать — так все наше; вот французы и прозва-
ли» [Вил, Павловское]). Особо популярны отэтнонимические образо-
вания среди коллективно-территориальных прозвищ — и это вполне
объяснимо, поскольку объект номинации в данном случае выбирается
не из своего социума (как это имело место в случае с индивидуаль-
ными и семейными прозвищами), а из соседнего. При конструирова-
нии образов территориальных соседей в сознании носителей тради-
ционной культуры весьма ощутима организующая роль оппозиции
«свое — чужое» [Воронцова 2002]: люди, проживающие в соседней
местности, занимают промежуточное положение между своим социу-
мом и чужаками, инородцами, однако ближе к последним (в наи-
большей степени это актуально для территорий с этнически неодно-
родным населением). Иначе говоря, образы соседей, воспринимаемых
скорее как «чужие», чем как «свои», вполне органично могут быть
«оязыковлены» путем переноса названия «большого» этноса (макро-
этнонима) на микроуровень. Глубинное сходство этнонимов и кол-
лективно-территориальных прозвищ проявляется и в том, что в этих
разрядах ономастики реализуются сходные наборы номинативных
моделей (опыт сравнения таких моделей представлен в [Воронцова
2002: 118-123]).
Особо отметим ситуации переноса этнонима не в какой-либо дру-
гой разряд ономастики, а в «родную» для него среду — этнонимию,
которые приводят к образованию вторичных этнонимов: рус. жарг.
француз ‘азиат’, ‘еврей’ [ССРГ: 520], чехи ‘чеченцы’ [ЛЗА], польск. turek
‘немец’, amerykanie ‘русские’, goral ‘еврей’ [D^browska: 236, 248, 280],
kabnuk ‘русский, россиянин’ [Bartminski, Lappo, Majer-Baranowska 2002:
126
Раздел II
ПО], англ. Chinaman («китаец») ‘ирландец’ [Partridge: 255], итал. диал.
marocchino («марокканец») ‘житель Черногории’, africano ‘корсика-
нец’, нем. Tatar ‘цыган’ [Muller: 28, 248, 342] и др. Вторичные этно-
нимы реализуют различные способы номинации и номинативные ус-
тановки: это может быть метафора, указывающая на сходство народов
по кому-либо признаку («африканец» —> «корсиканец»), эвфемизация
(чехи вместо чеченцы в период военных конфликтов в Чечне), языко-
вая игра (польск. goral, используемое для номинации евреев, содер-
жит игровую отсылку к Синайской горе30).
Итак, на основе выделенных источников концептуальной инфор-
мации может быть воссоздан ономасиологический портрет «инород-
ца», который представляет собой систематизацию мотивов,
составляющих коннотативный спектр этнонима. Этот
портрет есть фрагмент языковой картины мира, отражение в языке
наивной мифологии, описывающей свойства и особенности отдель-
ных «инородцев».
Подобное исследование, по определению, не может иметь отно-
шение к «этнической реальности» как таковой, а лишь описывает ре-
альность языковую. Причины образования определенных коннотаций у
этнонимов носят экстралингвистический характер: они связаны с ис-
торическим, политическим, религиозным контекстом существования
данных лексем и их референтов, а также с действием закономерно-
стей кросс-культурной психологии. Однако внеязыковые факторы не
всегда являются единственными в процессах формирования и функ-
ционирования коннотаций. В ряде случаев коннотации могут продол-
жать существовать, развиваться и детализироваться уже вне всякой
связи с внешними причинами, однажды давшими толчок к их возник-
новению, только под влиянием внутриязыковых факторов. Если при
изучении свободных текстовых связей появляется необходимость де-
лать поправку на индивидуальный характер некоторых контекстных
пар, которые не верифицируются таким социально детерминирован-
ным «фильтром», как система языка, то при анализе номинативных
моделей такая опасность снимается, но возникает проблема иного ро-
да, связанная с проявлением факторов языковой техники.
Это обнаруживается, например, в процессах народной этимоло-
гии, которые базируются на формально-смысловых основаниях. Оби-
лие таких трансформаций в какой-то определенной номинативной
сфере само по себе показательно: та легкость, с которой номинатор
30 Подобная игра заложена в названии горцы, употребляемом по отно-
шению к жителям Среднего Урала, т. е. Уральских гор (в дискурсе ведущих
известной в Екатеринбурге информационной программы «9 с половиной»).
Человек и пространство в зеркале языка
127
идет на ослабление объектной «поддержки» номинации, свидетельст-
вует о недостаточном знакомстве со свойствами объекта, которое
компенсируется внутриязыковым «творчеством».
Рассмотрим ситуации такого типа.
Слова мордовка, мордвинка ‘некрасивая женщина’, зафиксиро-
ванные в ярославских говорах [ЛКТЭ], представляют собой результат
контаминации этнонима и просторечного морда. Рус. костр. еврей
‘постный суп’ можно рассматривать как результат «супплетивной»
номинативной реакции на жидовский суп ‘то же’ [ЛКТЭ]; прил. жи-
довский используется по отношению к слишком разбавленной, нена-
сыщенной, нежирной пище и в городском просторечии, ср. сочетания
типа жидовская сметанка, жидовский супчик, жидовский чаек [ЛЗА:
Москва]. Номинативным материалом, спровоцировавшим появление
этого сочетания, стала контаминация прозвищного этнонима жид и
слова вроде костр. жидель ‘постная похлебка’ [ЛКТЭ], пожида ‘то
же’ [СОГ 10: 93], реализующего признак жидкой консистенции. Смы-
словой базой для этого сближения следует, очевидно, считать пред-
ставление о жадности жидов (которые из скупости не заправляют суп),
а оно, в свою очередь, возникло в результате притяжения слова жид
к просторечному жадитъся (жйдиться) ‘жадничать’; это притяжение,
в частности, реализует figura etymologica «Чего жидишься, как жид?»,
ср. также просторен, жид и карел, (рус.) жиделяга ‘жадный человек’
[СРГК 1: 59]. Конечно, мотив скупости евреев может иметь и экстра-
лингвистические корни, связанные, предположим, с традицией рос-
товщичества, однако для диалектных и просторечных фактов русского
языка естественнее предполагать внутриязыковой стимул, поскольку
названная внеязыковая мотивировка несет определенный отпечаток
книжной культуры.
Приведем также английские примеры. Интересны причины, сфор-
мировавшие образ «гневного ирландца» в английском языке. Мотив
гнева верифицируется следующими языковыми фактами: Irish («ирланд-
ское») ‘гнев’, get up one’s Irish («разбудить в себе ирландца») ‘разозлить-
ся’ [Partridge: 600], Irish confetti («ирландское конфетти») ‘камни и
другие тяжелые предметы, которыми бросаются во время демонстра-
ций и беспорядков’, ‘обломки кирпичей’ [Thome: 240]. Несомненно,
что данный мотив возник под воздействием языковой аттракции: здесь
очевидно внутрисистемное влияние слова ire ‘гнев’ (ср. народную эти-
мологию названия Ireland как «страна гнева» [Shipley: 75]). Также воз-
можно, что вторичная номинация французов при помощи слова Frog
(ср. frog, froggy, froggee ‘француз, французишка (считается, что фран-
цузы употребляют в пищу лягушек)’ [ABBYY Lingvo 11]) явилась
следствием аттракции слов French и frog ‘лягушка’. Наконец, инте-
128
Раздел II
ресна ситуация с образом «английского татарина» (Tartar)', этот до-
вольно неожиданный для английской «карты этносов» образ оказался
ономасиологически релевантным. Он включает, в частности, мотив
дикости, злобности (Tartar ‘человек дикого, необузданного либо раз-
дражительного нрава’ [Webster-36: 2583]). Данный мотив, очевидно,
появился — помимо экстралингвистических факторов («культурного»
образа татарина) — вследствие того, что в английском языке название
этноса испытывает аттракцию к мифониму Tartarus ‘преисподняя’
(звуковой облик и графическое оформление английского этнонима
обусловлено смешением с Tartarus [Ibid.: 2583]), а также, возможно, к
прилагательному tart ‘кислый, едкий’, ‘резкий, колкий (об ответе,
возражении и т. п.)’ [Ibid.].
Еще одно проявление внутриязыковых «сил», вносящих свои
коррективы в процесс создания образа инородца, — экспрессивная
фоносимволика. Думается, именно яркий фоносимволический облик
стал причиной появления богатого коннотативного фона этнонима
чукча (экспрессия выразительной аффрикаты ч здесь удваивается и
поддерживается гласными непереднего ряда и взрывным к). Разуме-
ется, помимо звуковой экспрессии, при языковом выделении чукчи
свою роль могли сыграть процессы аттракции к другим этнонимам,
соотносящимся в наивном сознании с образом «северных» и «диких»
народов (чудь, чухна), а также к словам вроде чушь, просторен, чухня
‘то же’, чужой и т. п.
Показательна и ситуация с английским прилагательным Dutch
‘голландский’. Обилие английских языковых фактов, особенно фра-
зеологии, рисующих негативный образ голландца (Dutch gold («гол-
ландское золото») ‘сплав меди и цинка — дешевая имитация золотого
покрытия’, Dutch double («двойной голландский») ‘тарабарщина, га-
лиматья’, to beat the Dutch («побить голландца») ‘сделать что-то из
ряда вон выходящее’, to do the Dutch act («совершить голландский по-
ступок») ‘дать деру, удрать’, Dutch comfort («голландский комфорт»)
‘слабое утешение, могло бы быть и хуже’, Dutch defence («голланд-
ская защита») ‘защита для видимости’, Dutch feast («голландская пи-
рушка») ‘пирушка, на которой хозяин напивается первым’ [НБАРС 1:
633-634] и мн. др.), может быть объяснено, по мнению Ю. Д. Апреся-
на, экстралингвистическими факторами: негативные коннотации вос-
ходят к XVII в. — времени ожесточенного политического и военного
противоборства Англии и Голландии за господство на морях [Апре-
сян 1995: 171]. Однако факторы «вертикального контекста» не могут
объяснить асимметричную ситуацию с этнонимом Spanish ‘испан-
ский’, ср.: «Интересно, что аналогичное или даже еще более ожесто-
ченное соперничество между Англией и Испанией в тех же областях
Человек и пространство в зеркале языка
129
и в то же время для прилагательного Spanish кончилось вполне благо-
получно» [Там же]. Думается, что причина этой асимметрии во мно-
гом состоит в том, что прилагательное Dutch имеет выразительные
фоносемантические особенности: звукоизобразительная пейоратив-
ность вследствие наличия «условно лабиального» гласного [л] усили-
вается экспрессией, создаваемой за счет того, что соответствующий
слог относится к периферийному для английского языка типу слогов.
Конечно, фоносимволические причины активности «голландских»
коннотаций могут быть дополнены причинами семасиологическими:
данный этноним имеет диффузную семантику (ср. сохранившуюся до
сих пор тенденцию к обозначению с его помощью не конкретной на-
циональности, а группы народов, в данном случае — континенталь-
ных германцев). Доминирование внутриязыковых факторов при соз-
дании данного образа обусловливает своеобразие его структуры: в
портрете «голландца» — в сравнении с другими языковыми образами
«инородцев» в английском языке — мало конкретики (лишь «скупость»,
«пьянство», «грубая сила»; полностью отсутствуют характеристики
внешности, места обитания, особенностей речи, черты характера). Пре-
валирующими в нем являются отсубъектные характеристики: мотивы
«непонятный», «ложный», «неправильный», общая негативная оценка.
Все это максимально сближает его с архетипическим образом чужака
Таким образом, ономасиологический портрет инородца содержит
значительную долю таких деталей, которые «примыслены» (точнее,
«пририсованы») языком. В некоторых случаях мы сталкиваемся с тем,
что связанный с этнонимом языковой факт вообще не должен рас-
сматриваться как языковое проявление этнических коннотаций: этно-
нимы используются как формальная аллюзия к дифференциальному
признаку, лежащему в основе вторичной номинации предмета или си-
туации. Например, одно из переносных значений англ, слова Greek —
‘член неформального объединения студентов университета’ — воз-
никло вследствие того, что эти объединения традиционно именуются
по названию греческих букв Sigma Nu [Longman: 1266]. Данный ме-
тонимический перенос не имеет концептуальной значимости для ха-
рактеристики этноса. Встречается также немало выражений с этнонима-
ми, где вторичные номинации являются следствиями различных видов
языковой игры. Такая игровая номинация может основываться на внеш-
ней схожести слов, например: англ, hungarian («венгр») ‘нищий’ (через
игровое притяжение к hungry ‘голодный’) [Partridge: 502]. Частое явле-
ние — рифмованный сленг, например: англ. Germans («немцы») ‘руки’
(через сворачивание рифмы German bands «немецкие городские оркест-
ры» — hands) [Ibid.: 498]. Аналогичная техника применяется и при фор-
мировании прозвищных этнонимов, ср.: англ, guarter-to-two («без чет-
130
Раздел II
верти два») ‘еврей’ (через рифму quarter-to-two — Jew [Thome: 396]);
widow («вдова») ‘американец’ (через рифму Widow Twankey (персонаж
пантомимы «Аладдин») — Yankee) [Thome: 670]. Конечно, игровые но-
минации потенциально могут быть переосмыслены и «семантизирова-
ны», однако обычно этого не происходит, следовательно, эти языковые
единицы не должны использоваться для «портретирования».
Для того, чтобы иметь возможность сопоставлять языко-
вые портреты между собой, следует соотносить выделяемые
мотивы с некой общей схемой рассмотрения языкового образа «чело-
века этнического», в которой должны быть учтены принципиально
возможные аспекты такого отражения. В качестве такой единой сис-
темы координат предлагается следующий набор признаков (этот на-
бор выявлен индуктивным путем, на основе анализа структуры язы-
ковых образов некоторых инородцев в русском и английском языке).
«О т о б ъ е к т н ы е» свойства: происхождение этнической груп-
пы', речевые характеристики', место обитания', биологические ха-
рактеристики (например, внешность, физические данные, сексуаль-
ная сфера); менталитет (психика: черты характера, привычки; ин-
теллект; убеждения, религиозность); социальные характеристики
(экономическая сфера: например, бедность/богатство, род занятий,
быт); отношение к окружающим: например, «гостеприимство», «ску-
пость», «хитрость»); влияние на другие культуры.
«Отсубъектные» свойства: общие эмоционально-оценоч-
ные характеристики типа «непонятный», «неправильный», «ненасто-
ящий», «общая негативная оценка» и т. д.
Например, при составлении портрета ирландца в английском
языке учитываются языковые данные, которые дают представление
о следующих чертах ирландца: типичное имя — Патрик или Майкл
{Paddy, Mick ‘ирландец’ [Partridge: 735, 847]); место обитания —
болото {straight from the bog («прямиком с болота») ‘типичная реп-
лика по отношению к невоспитанному, необразованному ирландцу’
[Ibid.: 1163]); внешность — черные глаза, толстые ноги {Irishman's coat
of arms («герб ирландца») ‘черный глаз’ [Partridge: 600]); характери-
стика интеллекта — невежество, глупость {Irish joke («ирландская шут-
ка») ‘анекдот про ирландца, где он обычно изображается глупым’
[Longman: 695]); убеждения — религиозность {Irishman’s dinner («обед
ирландца») ‘пост’ [Muller: 202]) и др. (подробнее см. [Гулик 1999: 91-
94]). «Прорисовка» этих черт дает следующий портрет:
Его зовут обычно Патрик либо Майкл. Обитает он где-то в болоти-
стой местности. Он, как все ирландцы, черноглаз, а у его жены толстые
ноги. Он гневен и агрессивен, глуп и неотесан, часто сквернословит, а
Человек и пространство в зеркале языка
131
по отношению к окружающим — нечестен и нагл, хотя гостеприимен
крайне (и это его единственное положительное качество!). В нем про-
глядывает «сексуальный монстр». Он беден, быт его примитивен. По
роду занятий так или иначе связан с полицией он либо сотрудник по-
лиции, либо ее «клиент». В то же время он весьма религиозен, исправно
соблюдает пост. Ирландцы едят тушеную баранину с луком и картофе-
лем, пьют виски, добавляя его даже в кофе вместе со сливками, а по
праздникам танцуют знаменитую ирландскую джигу.
А вообще, ирландцев трудно понять — все у них не так, как
должно быть у нормального человека, все у них какое-то «ненастоя-
щее», шиворот-навыворот!
На основе выделенных параметров может быть произведен со-
поставительный анализ портретов — выводимых как из разных язы-
ков, так и из различных форм существования одного языка (жаргон —
говоры — литературный язык). В качестве примера приведем фраг-
мент сопоставительного анализа портрета «цыгана» в
русском и английском языках31.
Если говорить о конкретных чертах русского и английского
портретов «цыгана», то в обоих языках наблюдается больше сходства,
чем различий. Оба портрета в своих конкретных чертах не противо-
речат друг другу, а, скорее, оказываются взаимно дополняющими.
Что касается социальных характеристик портретов, то наиболее
широко представлен в обоих языках мотив скитальчества, бро-
дяжничества (рус. литер, цыганская жизнь, цыганская натура,
цыганствовать, арх. цыганята ‘непоседливые дети’ [КСГРС] и др.;
gipsy ‘скитаться и жить подобно цыганам’ [OED VII: 524; Webster-88:
603]). Отмечается даже такая подробность цыганского скитальчества,
как привычка носить детей на спине, ср. рус. цыганский загорбыш
‘закукрыш (верхняя часть спины)’ [Даль2 I: 570, 589].
В обоих языках фиксируется мотив обмана, плутовства, во-
ровства: цыган ‘обманщик, плут, барышник, перекупщик’ [Даль2 IV:
31 Мы не преследуем здесь цель дать исчерпывающий языковой портрет
«цыгана», принимая во внимание в основном его специфические свойства, а не
те, которые, по мнению носителей языка, объединяют «цыгана» с другими ино-
родцами и составляют основу ксенономинации (см. параграф 4.2). Безусловно,
такое разделение очень условно и не может быть проведено жестко. Кроме того,
мы берем только отчетливо выраженные черты и опускаем целый ряд мотивов,
которые лишь намечены в русском или английском языке, представлены каким-
то одним фактом — и могут быть более четко выделены при сравнении с дан-
ными других языков.
132
Раздел II
575] и gipsy почти с таким же значением, а также gipsy away ‘стащить,
украсть’ [OED VII: 524], gip ‘обманывать или отнимать посредством
мошенничества; надувать, жульничать’ и gipper ‘тот, кто этим зани-
мается’ [Random: 854]). Данный этноним употребляется для обозна-
чения хитрой, лживой, непостоянной женщины: рус. костр. цыганка
[ЛКТЭ], англ, gipsy [OED VII: 524].
Как в русском, так и в английском есть немалое количество «цы-
ганских» названий сорных, диких или непригодных для хозяйствен-
ного использования растений, что можно интерпретировать как не-
кую обобщающую черту в социальном аспекте портрета, а именно —
метафорическое выражение идеи неокультуренности и даже
контркультуры: рус. орл. цыганка ‘растение заячий горох’ [Ан-
ненков: 236], карел, (рус.) цыганка ‘береза, которую трудно драть на
веники’ [ЛЗА: сообщено участниками этнолингв, экспедиции РГГУ],
одесск. цыганские грибы ‘ядовитые грибы’ [СРГО 2: 269], англ. Gipsy
onion («цыганский чеснок») ‘дикий чеснок, Allium ursinum’, Gipsy rose
(«цыганская роза») ‘полевая скабиоза, Scabiosa arvensis’, Gipsy’s nuts
(«цыганские орехи») ‘ягоды шиповника и боярышника’ [EDDII: 620] etc.
К лексемам, отражающим языковое видение образа жизни
«цыгана», по-видимому, относятся в обоих языках и отэтнонимиче-
ские названия приспособлений, орудий труда с общей для них чертой,
которую можно было бы обозначить как импровизированность,
транспортабельность и примитивность: цыганка-балаганка
‘плохое, неудобное, мало приспособленное для постоянного обитания
жилье’ [АОС 1: 99], англ. Gipsy-caravan («цыганский фургон») ‘кибитка’
[НБАРС 2: 34], gipsy table («цыганский стол») ‘легкий круглый стол, в
основании которого находятся три скрещенные палки’ [OED VII: 524]32.
Схожий мотив — импровизированный, сделанный на ско-
рую руку — присутствует и в названии цыганка ‘блюдо из вареного
картофеля с конопляным маслом’ [СРГНО: 577], цыганочка ‘кушанье
из картошки с луком’ [СРГК 6: 749].
Рисуя занятия цыган, русский язык в первую очередь упоми-
нает покупку, продажу и обмен лошадей: цыганить (лошадьми) ‘ба-
рышничать, менять, покупать и продавать, не без плутовства’, У цыга-
на не купи лошади, у попа не бери дочери [Даль2 IV: 575]. «Лошадиная»
тема присутствует и в английском языке, ср. gyp (gypsy) ‘владелец бе-
32 Ср. также нем. Zigeunerartillerie («цыганская артиллерия») ‘орудие,
состоящее на вооружении пехоты, горной или воздушной артиллерии, кото-
рое часто меняет свое местонахождение’, Zigeunerflak («цыганская зенитная
пушка») ‘пушка противовоздушной обороны, установленная на передвижной
площадке’ [Komenda: 105].
Человек и пространство в зеркале языка
133
говых лошадей, выступающий в качестве тренера и жокея’ [Random:
854]. Русский «цыган» занимается также вымогательством и попро-
шайничеством (литер, цыганить, выцыганить), не имея постоянной
работы (цыганская работа ‘работа непостоянная, урывками’ [СПП:
64]). В англ, gipsy’s warning («предупреждение цыганки») ‘загадочное
и зловещее предупреждение’ [Partridge: 466] запечатлены занятия цыган
гаданием. В английском языке gipsy ассоциируется с нелицензиро-
ванной и независимой (от каких-либо объединений) «индивидуальной
трудовой деятельностью», ср., например, gypsy plumber ‘цыганский сан-
техник’, gypsy cab ‘цыганское такси’ [Webster-88: 603], gipsy ‘водитель
грузовика, работающий независимо/незаконно, не имея постоянного
маршрута и пункта приписки’ [Webster-86:1015;OEDVII: 524] (в послед-
нем примере, безусловно, присутствует мотив скитальчества).
Говоря об отражении особенностей повседневной жизни «цыга-
на», следует отметить английский мотив жизнь (и связанные с ней
функции) вне дома, на открытом воздухе, ср. устойчивые
выражения gipsy breakfast/dinner/party для обозначения соответству-
ющих трапез на открытом воздухе, глагол gipsy ‘устраивать пикники’
[OED VII: 524], а также gipsy’s ginger («цыганское рыжее») ‘челове-
ческие экскременты на улице’ [Partridge: 466].
Романтизированный литературный образ цыгана непременно
включает в себя такую черту, как свободолюбие. Языковой образ об-
ходится без этого слишком «возвышенного» свойства, но обыгрывает
такое следствие свободолюбия цыгана, как отсутствие у него
семьи, ср. англ. Gipsy moth («цыганский мотылек») ‘непарный шел-
копряд, непарник (Ocneria dispar)’ [НБАРС 2: 34]: непарный шелко-
пряд обладает ярко выраженным половым диморфизмом, т. е. муж-
ская и женская особи этого насекомого резко отличаются друг от дру-
га и не имеют «похожей» пары [Щеголев 1964: 247].
В том и другом языке имеется несколько устойчивых словосоче-
таний, обозначающих ассоциируемые с цыганами предметы ма-
териальной культуры: рус. Краснодар, цыганка ‘большая толстая
игла; применяется для шорных работ, для штопки шерстяных изделий’
[КСРНГ], дон. цыганка ‘большая игла для зашивания мешков, починки
валенок ит. д.’ [БТДК: 567], влг. цыганские сани ‘сани большого разме-
ра’ [КСГРС], одесск. цыганские ложки ‘большие деревянные ложки’
[СРГО 2: 269], англ, gipsy-bonnet ‘цыганский капор’, gipsy ring ‘цыган-
ское кольцо’ [OED VII: 524]. Эпитет цыганский употребляется по отно-
шению к яркой одежде с крупными деталями (ср. также влг. цыганка
‘комнатное растение’ — «Цыганка однолетная, нарядная, как юбка у цы-
ганки» [КСГРС]). Любопытно отметить, что в словарных описаниях всех
этих предметов в обоих языках присутствует сема большого размера.
134
Раздел II
Что касается биологических характеристик (внешность,
физические данные), то из английского языка мы узнаем, что у цыга-
на стройные ноги (Gipsy’s legg’d ‘имеющий стройные ноги’ [EDD II:
620]) и он смугл (gipsy ‘игривое обращение к женщине, особенно если
она смугла’ [Partridge: 465], ‘особый оттенок коричневого цвета’
[Webster-86: 1015]). В русском портрете к этому добавляются черные
волосы, черные, как смоль, глаза, подвижное, богатое мимикой лицо
(ср. просторен, зацыганитъ ‘начать гримасничать’ — «Ишь, задерга-
лась, зацыганила лицом-то» [ЛЗА: Екатеринбург]). Сопряжение при-
знака черноты и социальных мотивов, присутствующих в образе цы-
гана, дает мотив грязи: просторен, цыганский загар ‘о грязи на чьей-л.
коже’ [РФ: 232]. Кроме того, русский язык приписывает цыгану вы-
носливость по отношению к морозам: цыган с рождества шубу про-
дает ‘поговорка, означающая, что цыган привык легко переносить
холод’ [СибФр: 200].
Поведение, характер и менталитет цыган более под-
робно описываются в русском языке. Английский «цыган» лишь арти-
стичен и «богемен»: любит петь и танцевать (Gypsy ‘танцор/танцовщица
в массовых сценах в музыкальных шоу’ [Webster-88: 603]), «дружит с
музами» (сленговое название Британской Ассоциации литераторов
Gipsies of Science [Partridge: 465]). Кроме того, что русский «цыган»
также любит петь и танцевать, он еще и весельчак (цыган ‘шутник,
весельчак, танцор’, цыганить ‘шутить, острить, плясать, балагурить’
[СРГЗ: 448], ‘звать, приглашать’ [СРГА 4: 203]). В русском портрете
имеются также такие черты, как ‘пересмешничество, передразнива-
ние, склонность дурачить и подымать на смех’ [Даль2 IV: 575]. В от-
личие от английского языка, в русском фиксируются и негативные
оценки менталитета и черт характера цыгана: цыганство ‘глумление,
насмешка’ [Даль2 IV: 575], литер, цыганить ‘издеваться над кем-либо,
поносить’, цыганство ‘бестолковщина, безалаберность’, цыганщина
‘ страстность, диковатость’.
У рассматриваемого отэтнонимического прилагательного в составе
ряда названий растений, животных, предметов обихода в обоих языках с
достаточной определенностью просматривается значение «дешевый
заменитель, эрзац-продукт». Ср., к примеру, рус. влг. цыганское
мыло — «А это цыганское мыло, цыгане им умываются» [КСГРС], иван.
цыганский табак, цыганская пудра ‘гриб-дождевик’ [Жмурко: 55], цы-
ганские кораллы ‘продолговатые бусы коричневого цвета’ [СРГНО: 577];
в английском языке имеются словосочетания, переводимые дословно как
«цыганский гребень, сельдь, лук, свинья/свинина» и др. и обозначающие
соответственно ‘колючая головка лопуха’, ‘сардины’, ‘дикий чеснок’,
‘еж / мясо ежа’ [OED VIII: 524; EDD II: 620].
Человек и пространство в зеркале языка
135
В приведенных выше лексемах заключены и отсубъектные
характеристики «цыгана», являющиеся отражением не свойств
самого объекта (представителя данного этноса), а субъективного отно-
шения к нему и оценки со стороны «отражающих» языков. Оценка эта
выражается мотивами поддельный, дешевый, ложный, нена-
стоящий (эти мотивы представлены в портретах многих инородцев
(см. раздел 4.2), но в портрете цыгана они играют ключевую роль).
Любопытным в обоих языковых портретах (хотя и представлен-
ным единичными лексемами) является мотив, который можно было
бы определить как влияние на другую культуру. В русском
языке этот мотив прочитывается в слове цыганщина ‘стиль русских
романсов и их исполнения, созданный в подражание цыганским ме-
лодиям и цыганской манере исполнения’, а в английском — в устойчи-
вом словосочетании Romany rye («цыганский господин») ‘человек, сам
не являющийся цыганом по происхождению, но общающийся с цыга-
нами, говорящий на их языке и т. д.’ [Webster-88: 1165; Partridge: 986].
Английский и русский портреты сближает и отсутствие в них такой
характеристики, как место обитания, что объясняется особенностями
объекта номинации (ср., например, данную характеристику в англий-
ских языковых портретах «ирландца» — «обитатель болотистых местно-
стей», «еврея» — «житель определенных кварталов города» и др.).
В отличие от русского языка, английский язык добавляет к портрету
«цыгана» еще и речевую характеристику — в его лексическую
систему вошли вторичные (прозвищные) этнонимы, образованные от
одного из самоназваний данного этноса (Romany [Webster-88: 1165]),
а также от слова из языка цыган (rye < цыган, rei ‘господин’).
Наконец, в английском языке на уровне этимологии этнонима за-
крепилось наивное представление жителей Англии XVI в. (периода,
когда там появились цыгане) о египетском происхождении этого эт-
носа [OED VII: 524] (gypsy < gypcient < кратк. от среднеанглийского
Egipcien ‘египетский, египтянин’ [Webster-88: 1165, 603]). При этом
этимологическая связь этнонима с Египтом является, по всей видимо-
сти, весьма ощутимой для носителей языка, о чем свидетельствует его
употребление одновременно в двух значениях (‘цыганский’ и ‘египет-
ский’) как в литературе (например, W. Shakespeare. Antony and Cleopatra,
IV), так и в сленге разных периодов (gipsy, gippo, gippy в значениях
‘цыган’ и ‘египетский солдат’, ‘египетская сигарета’ [Partridge: 465]).
Это, в свою очередь, наводит на мысль об информативности внутрен-
ней формы данного этнонима для носителей английского языка, ее
способности задавать концепцию в языковой картине мира относи-
тельно происхождения соответствующего инородца (в данном случае,
понятно, неадекватную реальности).
136
Раздел II
Итак, несмотря на сходства и взаимную непротиворечивость обо-
их портретов, заметны и их глубинные различия. Во-первых, в русском
языке сильнее тенденция обобщать ассоциации, связанные с «цыга-
нами» — через этноним или его дериват обозначается целое понятие
(например, «веселье», «плутовство», «диковатость» вообще); другими
словами, отэтнонимические дериваты наделяются обобщающей се-
мантикой. В то же время в английском языке «цыганские» ассоциации
часто используются лишь для характеристики весьма конкретных реа-
лий, существующих в англоязычных сообществах. Так, этнонимом (или
его производным), как было показано выше, обозначают не «склонность
петь и танцевать» вообще, а «танцора в массовых сценах музыкального
шоу», не «независимость» вообще, а именно «нелицензированную ин-
дивидуальную трудовую деятельность» представителей определен-
ных профессий, не «жизнь вне дома» как явление, а лишь, в частно-
сти, «трапезы на открытом воздухе», причем в отношении к собст-
венной традиции пикников. Все эти случаи скорее напоминают шут-
ливые прозвища людей, в чем-то похожих на цыган, и игровые назва-
ния явлений, напоминающих отдельными чертами цыганскую жизнь.
Во-вторых, в русском портрете явно больше характеристик, за-
ключающих в себе отрицательную оценку. Кроме общих с англий-
ским негативных мотивов обмана и плутовства, неокультуренности, в
русском «цыгане» присутствуют пересмешничество, бестолковость,
безалаберность, диковатость, а также общая негативная характери-
стика — образ незваного гостя, нежелательного элемента (ср. влг. цы-
гане ‘рыжие тараканы’ [Даль2 IV: 575]).
В-третьих, в английском языке отразилась идея неоднородности
цыганского этноса, обусловленная фактом обитания его в различных
странах: в общие словари вошли названия венгерских (tzigane [Web-
ster-88: 1447]) и итальянских цыган (zingaro [Random: 2211]). В рус-
ской же языковой картине мира данный этнос предстает как «еди-
ный и одинаковый повсюду». Если вспомнить, что в английском
портрете дается еще и версия происхождения данного народа (пусть
ложная), а также учесть детальность его социальных характеристик,
то возможно охарактеризовать его — по сравнению с русским — как
более «этнографический». Русский же аналог данного портрета
с его тенденциями к обобщению этнических ассоциаций, к общей
негативной оценке всего этнического образа в целом и его абсолю-
тизацией приближается к языковому отражению «чужака» вообще.
В этом смысле русский портрет — в отличие от английского — бо-
лее «мифологичен».
Английский «цыган» — это один из многих инородцев в дан-
ной языковой картине мира. По количеству выводимых мотивов и
Человек и пространство в зеркале языка
137
по экстенсивной характеристике (количеству языковых единиц, запечат-
левающих этот образ) он уступает место «ирландцу», «голландцу»,
«французу», «шотландцу», «валлийцу», «еврею». Русский же «цыган»
является, по-видимому, наиболее разработанным языковым портретом.
К нему по детальности и экстенсивности близки «татарин» и «немец».
«Цыган» — один из немногих «инородцев» в русском языке.
Разработанность портрета «цыгана» в русском языке и его большая
«мифологичность» и, с другой стороны, более выраженная «этногра-
фичность» английского портрета вполне естественно объясняются зна-
чительными отличиями между английским и русским языковыми кол-
лективами в плане масштабов и интенсивности кросс-культурных связей
(знакомством с иными народами представителей англоязычных куль-
тур и, с другой стороны, объективно обусловленной ограниченностью
«этнографического кругозора» русского обыденного сознания). В свою
очередь, меньшее количество инородцев в русской языковой картине
мира могло способствовать тому, что присущий обыденному сознанию
архетип «чужой» оказался более сконцентрированно выраженным в
одном из них — «цыгане».
Итак, создание ономасиологических портретов представителей тех
или иных этносов является продуктивным, хоть трудоемким и методиче-
ски непростым способом выявления национальных стереотипов.
2.3. ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ-.
ЯЗЫКОВОЙ ОБРАЗ ДУРАКА*
У людей дураки — любо каки,
а наши дураки — вона каки!
Пословица
Представления о том, что можно (с некоторой долей эвфемиза-
ции) назвать интеллектуальной неполноценностью человека, преодо-
левают границы пространств, эпох и социумов, ибо сам феномен не-
изменно злободневен и таит мощные ресурсы экспрессии. Лексика и
фразеология, номинирующая простофиль и невеж, обезумевших вре-
менно и сумасшедших постоянно, юродивых и шутов, тугодумов и
«просто дураков», составляет огромный массив в экспрессивном фон-
де любого языка в каждой форме его существования: пожалуй, ника-
кая другая семантическая область не имеет столько словесных репре-
зентаций на единицу смысла.
* Данный параграф написан в соавторстве с Т. В. Леонтьевой.
138
Раздел II
Такая ситуация накладывает отпечаток на формирование этно-
культурного потенциала данного лексико-семантического поля. С од-
ной стороны, в нем содержится множество вторичных (образных) но-
минаций, обнаруживающих круг значимых для номинатора (в данное
время в данном пространстве и в данном социуме) реалий и явлений,
отражающихся в метафорах. При этом постоянное обновление мате-
риала, непрекращающийся номинативный процесс дает большой пласт
прозрачных моделей, облегчающих интерпретацию непрозрачных. С дру-
гой стороны, такое весьма равномерное и интенсивное производство
языковых фактов, движимых экспрессией, чревато опасностью номи-
нативного «заражения», когда новые единицы не проходят заново
ступени мыслительной отработки образного содержания, а играют с
уже найденным образом, вхолостую варьируя его; ср. игровое поле,
эксплуатирующее в современном русском жаргоне образ «поехавшей
крыши»: крыша едет (поехала, съехала, ползет, течет, потекла, ды-
мится); крыша едет, дом стоит; крышу оторвало; поехать крышей;
с крышей не тихо [БСЖ: 296]; башню снесло (отвернуло, сорвало).
безбашенный33 [БСЖ: 55-56], чердак заклинило [БСЖ: 667-668], чер-
дак потёк (протёк, поехал), течь в крыше [СМА: 469, 545], шифер
съехал [БСЖ: 691]; тихо, шифером шурша, едет крыша не спеша;
балка рухнула, шифер лопнул (треснул, съехал) [АТЛ] и др., ср. также
кровля ‘сознание’, кровельщик ‘психиатр’ [БСЖ: 293]. Но более важно
то, что оценка объекта номинации (глупости как феномена человече-
ского сознания и самих дураков) гораздо меньше зависит от ка-
ких-либо «культурных обстоятельств», чем представления о прочих
характеристиках человека «духовного» и «социального». К примеру,
особенности оценки таких человеческих проявлений, как жадность,
нелюдимость, неряшливость, высокомерие, избалованность и др., имеют
более явную этнокультурную обусловленность, нежели оценка интел-
лектуальной неполноценности (исключение составляет разве что фе-
номен юродства).
В силу всех этих причин рассматриваемый пласт претендует едва
ли не на номинативную универсальность: целый ряд базовых метафор
(кодов, сфер отождествления) встречается в разных языковых культурах
и в разные эпохи. Среди них такие коды, как зоологический, расти-
тельный, кулинарно-гастрономический, технический и др. (примеры
из других языков были бы слишком многочисленны; читатель может
без труда их смоделировать, ища параллели русским словам и фра-
зеологизмам вроде просторен, дубина, лопух, осел, глуп, как сивый ме-
рин. жарг. тормоз, без винта, арх., влг., свердл. бессолый ‘недогадли-
33 В данном случае произошла аттракция просторен, башка башня.
Человек и пространство в зеркале языка
139
вый, бестолковый, глупый’ [СРНГ 2: 277], масла нет в голове ‘о глу-
пом человеке’ [ПОС 7: 51], гороховый ум ‘о слабом уме, плохой памя-
ти’ [ПОС 7: 132] etc.).
Разумеется, подобный универсализм не может не создавать труд-
ностей для этнолингвистического анализа. Каковы возможности тако-
го анализа в данном и подобных случаях? Рассмотрим их, используя в
качестве материала лексику и фразеологию разных форм существова-
ния русского языка, выражающую идею интеллектуальной неполно-
ценности человека. Различия в социокультурных «привязках» лекси-
ки создают контрастивный эффект, немаловажный для исследований
этого типа.
Традиционным видом этнолингвистического или лингвокульту-
рологического анализа является изучение диапазона варьиро-
вания образного основания лексических единиц в ка-
кой-либо этнической или социальной среде. К примеру, варьирование
образов в жаргоне указывает на закономерности «осовременивания»
номинативного материала, представленного в системе литературного
языка или диалекта: зоологическая метафора расширяется в жаргоне
за счет использования образов экзотических животных, «синонимич-
ных» традиционным мерину, барану или оленю (мустанг, муфлон
‘глупый человек’ [БСЖ: 363], сайгак ‘дурак’ [СМА: 417]), раститель-
ная — за счет образов ярких, необычных или редких растений (тюль-
пан ‘глупый, несообразительный заключенный’ [БСЖ: 606], баобаб
‘глупый человек, тупица’ [СМА: 33], эдельвейс ‘психически ненор-
мальный человек’ [БСЖ: 709]), социальная — за счет образов популяр-
ных в масс-культуре героев (рабыня Изаура ‘дура, идиотка’ [СМА:
391], Чебурашка ‘дурак, придурок, недотепа’ [СМА: 542], Шварцнеггер
‘культурист, не отличающийся высоким интеллектом’ [БСЖ: 686])
и т. п. Наблюдения такого плана сколь показательны, столь и пред-
сказуемы (и в определенном смысле поверхностны).
Более интересен поиск глубинных «этнокультурных сигналов», ко-
торые скрываются, надо думать, в самих закономерностях орга-
низации мотивационной структуры данного лексико-семан-
тического поля.
Такие закономерности прослеживаются на двух уровнях, которые
можно условно назвать уровнем внешней мотивации и уровнем внут-
ренней мотивации. Первый из них определяет ассортимент тех сфер
отождествления, кодов, предметно-тематических «языков», к которым
обращается номинатор в поисках эталона для сравнения. Причина та-
кого обращения — мотивационный признак — при этом не рассматри-
вается; объяснение находит лишь выбор способа выражения признака.
Второй уровень является собственно «причинным», поскольку пред-
140
Раздел II
полагает выделение мотива номинации, который может вариативно
выражаться средствами разных кодов.
Уровень внешней мотивации
Здесь важна прежде всего сама иерархия кодов, их срав-
нительная продуктивность, которая имеет социальную, про-
странственную и временную детерминированность. Так, несмотря на
то, что речевой, физиолого-соматический, технический и социальный
коды представлены и в диалектах, и в жаргоне, их продуктивность
существенно разнится: диалект очень активен в использовании пер-
вых двух кодов, в то время как жаргон — последних. Речевой код
дает образы носителей тех или иных дефектов речи: кутуй ‘бестолко-
вый человек’ (< ‘неразборчиво говорящий человек’) [ДСРГСУ: 75], тамб.
когдкнутъ ‘проявить простоватость, простодушие, непосредственность,
свойственные русскому’ (ср. моек., тульск. когдкатъ ‘произносить г в
окончаниях род. пад. прилагательных и местоимений’) [СРНГ 14: 43],
курган, немтыръ ‘о бестолковом непонятливом человеке’ [СРНГ 21:
88], толила ‘глуповатый, плохо соображающий человек’ [СРГСУ 6: 86]
(ср. сиб. талала ‘картавый’, талалы ‘болтовня, пустословие’ [Даль2 IV:
388]) и мн. др.; физиолого-соматический код — образы, свя-
занные с физиолого-анатомическими дефектами или «срамными» час-
тями тела: влг. нюхлый ‘страдающий слабоумием’ (< ‘лишенный обо-
няния’) [СРНГ 21: 329], костр. глушня ‘дурак, простофиля’ [ЛКТЭ],
пенз. полусеетный ‘бестолковый, полоумный’ (ср. алт. полусеетый
‘слепой на один глаз’) [СРНГ 29: 162], костр., сев.-двин. лопоухий ‘не-
догадливый, невнимательный’ [СРНГ 17: 143], арх. торма ‘глупый чело-
век’ (<‘женские гениталии’) [КСГРС] etc.; технический код —
образы технических неисправностей, поломок: пробки выбило ‘о дураке,
тупице’ [СМА: 372], помехи на линии ‘о том, кто не понимает чего-л.,
не соображает’ [АТЛ], файлы не сошлись ‘кто-л. недоумевает, не по-
нимает чего-л.’ [БСЖ: 618], с поздним зажиганием ‘о тугодуме’ [АТЛ],
не алло ‘о непонимании чего-л.’ [БСЖ: 34] и т.п.; социальный
код — образы представителей тех слоев, которые обладают в созна-
нии номинатора низким социальным статусом, — провинциалов, жи-
телей деревни: Саша с Уралмаша ‘простоватый, не слишком образо-
ванный провинциал’ [Югановы: 163], Маша с Уралмаша, тульский
пряник ‘о простоватом, глупом человеке’ [СМА: 242, 382], краснодар-
ский край ‘то же’ [ЛЗА: Екатеринбург], просторен. Алёха сельский
‘безнадежный дурак, глупый, невежественный человек’ [СРФ: 22],
колхозник ‘ограниченный, недалекий человек’ [Базарго: 39], селъпош-
ный ‘глупый, необразованный’ [СМА: 425], хуторской ‘то же’ [ЛЗА:
Екатеринбург], плуг ‘глупый несообразительный молодой человек’
Человек и пространство в зеркале языка
141
[БСЖ: 441], просторен, деревня ‘то же’ ит. п. Причины такой нерав-
номерной активности кодов в разных формах существования языка в
данном случае не нуждаются в комментариях.
Кроме того, для этнолингвистического анализа на уровне внеш-
ней мотивации значима логика взаимодействия кодов друг
с другом. Активность и мощность номинативных процессов в изу-
чаемой лексической группе приводит к тому, что отдельные коды
притягиваются друг к другу, обмениваются номинативным материа-
лом, «перенимают» его — и закономерности притяжений и эстафет
имеют определенную этнокультурную обусловленность.
Такое взаимодействие проявляется, например, в группе диалект-
ных слов, реализующих «обувную» метафору, ср.: как сибир-
ский валенок ‘глупый, неумный’ [НОС 4: 8], арх. упак ‘несообрази-
тельный и бестолковый человек’ (< ‘легкая обувь из сыромятной ко-
жи, род сапога’, ‘любая некрасивая или пришедшая в негодность
обувь’) [КСГРС], арх. чупак ‘невежа, «темный» человек’ (< ‘валенок’,
‘негодная обувь’) [КСГРС], арх. опорина ‘о недалеком, не очень разви-
том человеке’, перм. опоря ‘бестолковая женщина’ (ср. опорки, опо-
рина, опорыши и т. п. — разные виды поношенной обуви) [СРНГ 23:
282], арх. поршень ‘несообразительный человек’ (ср. диал. шир. распр.
поршни ‘лапти из бересты или лыка’, ‘опорки; старая изношенная обувь’
и др. [СРНГ 30: 118]), влг. лапоть ‘простоватый глупый человек’
[КСГРС], лапотйна ‘недоразвитый человек’ [НОС 5: 7], отопок поле-
вой ‘о темном, необразованном человеке’ (ср. отопок ‘старая изношен-
ная обувь’, ‘лапоть’) [НОС 7: 54], курск. осмёток ‘о глупом человеке’
(ср. осмётки ‘изношенные лапти’, ‘лохмотья; сильно поношенная одеж-
да; тряпье’) [СРНГ 24: 29], просторен, щи лаптем хлебать ‘быть не-
сообразительным, отсталым человеком’ и др. Вовлечение «обувной»
метафоры в сферу переносных обозначений интеллекта человека
вполне естественно: в семантической структуре слов, обозначающих
виды обуви, потенциально присутствует сема низа, контакта с землей,
которая может дать негативные коннотации. В данном случае этот
«низменный» смысл усиливается и конкретизируется тем, что обувь
наиболее «удалена» от головы и является своеобразным антиподом
последней. «Обувная» метафора имеет еще и сильную социальную
привязку, поскольку большая часть представленных наименований
дурака содержит отсылку именно к крестьянской обуви, а с образом
деревенского жителя в языке «низовой культуры» связаны коннота-
ции «темноты», необразованности, неграмотности, невежества. Пока-
зательно, что в диалектных обозначениях дурака обувь нередко вы-
ступает не «сама по себе», а с определенным наращением — привле-
каются названия старой поношенной обуви, обувного хлама: таким
142
Раздел II
образом, модель «глупый человек обувь» обнаруживает взаимо-
действие с моделью «дурак хлам, мусор».
«Мусорная» метафора тоже весьма популярна в говорах,
ср.: мякинная голова ‘глупый, дурной человек’ [ФСРГС: 45], новг., пенз.
дудора ‘дурак, дура’ (< вят., нижегор., оренб., перм., твер., уфим., яросл.
‘что-либо плохое, непригодное; хлам, мусор, дрянь, рухлядь’ [СРНГ 8:
250]), шума ‘тот, у кого недостаточно развиты умственные способно-
сти’ (< ‘мусор; мякина, отходы при молочении зерна’ [НОС 12: 109],
ворон, в голове хоботъя ‘о бестолковом человеке’ (хоботъя ‘мякина’)
[ЧДФ: 126], костр. отрёпный выбиток ‘невежда, неуч’ (< ‘грубые ос-
татки льна, отрепки’) [СРНГ 24: 294], захломотъ ‘неразвитый, не все
понимающий’ (ср. захломотатъ ‘захламить, засорить’) [НОС 3: 86],
ряз. кострик ‘о глупом человеке’ [СРНГ 15: 80] (ср. общенар. костра,
кострика), опарыш ‘глуповатый человек’ (< ‘пришедший в негод-
ность банный веник’) [СРГСУ 3: 58] и др.
«Мусорная» модель подключается к «обувной» не только в целях
усиления экспрессии; притяжение метафор обусловлено и общим
прагматизмом традиционной картины мира, для которой плохое мо-
жет концептуализироваться как негодное в хозяйстве. Показательно,
что жаргон, где обувная метафора тоже встречается, не дает случаев
взаимодействия ее с «мусорной», ср. жарг. ботинок, шнурок ‘тупица’,
на уровне ботинка ‘о глупом человеке’ [АТЛ], башмак ‘глупый, несо-
образительный человек’ [БСЖ: 55], сапог, калоша, стелька, туфля,
тапочек ‘дурак, идиот, недотепа’ [СМА: 184, 419, 451, 463, 483]; ср. так-
же на уровне подошвы (объяснить что-л.) ‘предельно просто и доступно’
[АТЛ]. Более того, «мусорные» образы в жаргоне вообще очень редки и
почти не вовлекаются в сферу обозначений человека по интеллекту.
Интересны и флуктуации «деревянной» метафоры (дерево
здесь имеется в виду и как вид растений, и как материал, и как часть
ландшафта). Она зародилась, по всей видимости, на базе обозначений де-
ревьев, как собственно «древесная», ср. просторен, дубовая голова/башка.
новг. вязовый лоб ‘об упрямом, тупом человеке’ [СРНГ 17: 93], ольховая
(еловая) голова ‘о глупом, бестолковом человеке’ [ПОС 7: 53], жарг.
здравствуй, дерево! ‘о глупом, бездарном человеке (часто в роли обра-
щения к человеку, сказавшему глупость)’ [БСЖ: 154], африканское дере-
во ‘глупый человек, тупица, бездарь’ [СМА: 109], самшит ‘то же’ [АТЛ]
и др.; при этом толчком для развития древесной метафоры стала, по всей
видимости, неподвижность дерева, твердость и прочность древесины.
Однако свойства различных пород и видов деревьев очень разнообразны,
что повлияло на дальнейшее развитие метафоры, ср. включение в нее об-
разов больных, кривых, трухлявых деревьев, эксплуатирующих признаки
дефектности и негодности: олон. мянда косая ‘дурак, неуч, невежа’ (арх.
Человек и пространство в зеркале языка
143
мянда ‘хвойное дерево с рыхлой древесиной’) [СРНГ 19: 85-86]), арх.
шарага ‘бестолковый человек’ (< арх., влг. ‘кривое сучковатое дере-
во’) [КСГРС], арх. посованный (посоленный) ‘бестолковый, глупый’
[СРНГ 30: 195], арх. посоленное дерево ‘дурак’ [КСГРС] (ср. арх. по-
соленный (о дереве) ‘имеющий волокна, закрученные справа налево,
обычно кривой’ [КСГРС]). Другое направление развития — подклю-
чение образов деревьев с легкой древесиной, реализующих признак
легковесности: пробковое дерево ‘глупый, тупой, необразованный’
[СМА: 372], а также деревьев с дуплом, с полым стволом, что дает
признак пустоты: тамб. дуплец ‘глупый, бестолковый человек, дурак’
[СРНГ 8: 260], жарг. дупло [СМА: 123], бамбук ‘то же’ [БСЖ: 48]. Та-
кая часть дерева, как пень, если рассматривать ее в метафорической
проекции, дает не только признаки твердости, неподвижности и не-
годности (трухлявости), но и признак ‘торчащий’ (в смысле ‘выде-
ляющийся на каком-либо фоне’): влг. как пень в поле ‘о дураке, тупи-
це’ [КСГРС] (ср. как кочка в поле ‘то же’ [ФСРГС: 97]).
Если все эти колебания образа можно рассматривать в рамках
древесного кода, то в других случаях осуществляется выход за его
пределы. Растительная «деревянная» метафора очень близка ланд-
шафтной, эксплуатирующей образ леса: как в темном лесу (быть,
очутиться) ‘о чьем-либо абсолютном непонимании, полной неориенти-
рованности в чем-либо’ [СРФ: 336], арх. заулешица ‘невежественный,
отсталый человек’ [КСГРС], нвеиб. урман, урманщина34 ‘о людях неда-
леких, малознающих, некультурных’ [Лукьянова 1986: 18, 120], отросни
из лесу ‘то же’, темный лес — никакого просвета ‘глупый, лупой’, тай-
га-тайгой ‘недалекий, неграмотный человек’ [ФСРГС: 105, 135, 195],
тундра ‘то же’ [БСЖ: 602] и т. п. «Лесная» метафора актуализирует до-
полнительные признаки ‘темный’, ‘неизвестный, опасный, такой, где
можно заблудиться’, ‘находящийся вдалеке от жилья’. Отсюда симпто-
матичное появление в семантике описываемых лексем компонентов ‘не-
грамотный’, ‘невежественный’. Так модель приобретает социальное
звучание, ср.: живем в лесу, молимся колесу ‘так говорили кресть-
яне захолустных деревень, подчеркивая свою культурную отста-
лость’ [ФСРГС: 135]. Социальная ориентация модели подкрепляется
и связью «дерево» — «деревня» (а образ деревни связан с представ-
лениями об отсталости, невежестве и др.).
Использование дерева в качестве строительного материала дает
взаимодействие древесной метафоры со строительной (операцио-
нальной). При этом возможны разные движения моделей.
34 Ср. зап.-сиб. урман ‘тайга, дикие необитаемые леса на огромном просто-
ре’ [Даль2 IV: 508].
144
Раздел II
Появляется мотив обработки дерева (обтесывания, обстругивания
и т. п.), который теснейшим образом связан с представлениями о кул ь-
туре и образованности человека, ср. яросл. неотёсок ‘некультурный,
необразованный человек’ [СРНГ 21: 104], костр. нестроганый ‘невос-
питанный, необразованный’ [СРНГ 21: 166], жарг. полено недостру-
ганное ‘глупый человек’ [АТЛ] и т. п. Реализацию антонимичной мо-
дели «умный человек обработанный материал» дают калуж., курск.
полированный ‘образованный, умеющий, обращаться с людьми’ (ср.
смол, полировать ‘обучать, воспитывать, приучать к хорошим мане-
рам’) [СРНГ 29: 74] и обакланитъся ‘стать более культурным, воспи-
танным’ (< обакланитъ ‘грубо обтесать, обработать что-л.’) [СРНГ
21: 344]. Нужно отметить, что мотив обработки дерева входит состав-
ной частью в мотив сотворения человека из какого-либо материала
(глины, теста, металла и др.), который отражается как в системе язы-
ка, так и в фольклоре славянских народов [Толстая 2000а].
Вполне естественно возникают образы результатов деревообра-
ботки — различных изделий из дерева: лукнд ‘простофиля’ (< ‘лукош-
ко, корзинка из прутьев, лыка’, ‘решето для просеивания муки’ [НОС
5: 51], арх. бестёръ ‘глупый, ленивый человек’ (< ‘большая корзина
для переноски травы, сена, мякины’) [СГРС 1: 110], чуман берестя-
ной ‘глупый, непонятливый человек’ (< чуман ‘посуда из бересты’)
[СРГСУ 7: 35], сидеть как албан ‘о ничего не понимающем, глупом
человеке’ (ср. албан ‘деревянный долбленый сосуд’) [СНП: 85] и т. п.
Перед нами названия емкостей, которые, помимо своей «деревянно-
сти» и «легковесности», являются полыми внутри (более того, иногда
«дырчатыми» или же наполняемыми «низкосортным» содержимым —
мякиной). При этом подобные факты приобретают дополнительный
социальный «привкус», вписываясь в ряд названий типичных
предметов традиционного быта, наделенных коннотациями вроде
‘нехитрый’, ‘простейший’, ‘деревенский’.
Деревянными могут быть и сами орудия труда, наименования ко-
торых тоже втягиваются в изучаемое поле. На стыке «деревянной»,
операциональной и предметной метафор появляются лексемы вроде
костр. пест ‘невежда’, ‘глупый, тупой человек’ [СРНГ 26: 308], моек.,
ряз. колотушка ‘глупая, несообразительная женщина’ [СРНГ 14: 185],
влг. обух ‘глупый и ленивый человек’ [КСГРС], урал. орячина ‘о взрос-
лом, но глупом человеке’ (< ‘большая дубина, палка’) [СРНГ 23: 349],
ряз. калдай ‘о бестолковом человеке’ (< ‘дубинка с загнутым и утол-
щенным концом, которым ударяют по шару в разного рода играх’,
‘било цепа’) [СРНГ 12: 345] ит. п. Если первоначально в мотиваци-
онном «субстрате» таких слов весьма значимой была характеристика
материала (к ней мог добавляться другой внешний признак — признак
Человек и пространство в зеркале языка
145
формы: разного рода колотушки, песты и другие «дубиноподобные»
предметы имеют утолщение на конце, напоминающее голову), то за-
тем на первый план выходят функциональные характеристики
предмета. К их появлению располагает представление о том, что глу-
пый человек способен выполнять только самую примитивную, простую,
монотонную работу35. Функциональное смещение модели может в
конце концов привести к деактуализации или даже вытеснению «де-
ревянной» составляющей: возникают метафоры на базе наименований
долбящих орудий, которые могут быть сделаны не из дерева, а из других
материалов: краснояр., свердл. колун ‘о глупом человеке; тупица’
[СРНГ 14: 199], жарг. долото, зубило ‘глупец, недотепа, бездарь’
[БСЖ: 193, 227], кувалда ‘то же’ [СМА: 218] и т. п. В рамках модели
возможна также мена субъектно-объектных отношений (кто долбит —
кого долбят), ср. просторен, вдалбливать (кому-л. что-л.) ‘обучать ко-
го-л., многократно повторяя одно и то же и преодолевая сопротивление
обучаемого’. Таким образом, модель «глупый человек всякое ору-
дие труда, с помощью которого производятся повторяющиеся действия»
есть более поздний вариант модели «глупый человек дубина», воз-
никший в результате смещения смысловых акцентов.
Итак, чрезвычайная активность «деревянной» метафоры обуслов-
лена особыми характеристиками дерева, сочетанием в нем свойств
твердого и мягкого, растения и материала — причем самого распро-
страненного в материальной культуре русских. Отсюда разнообразие
проявлений этой метафоры, причем разнообразие не аморфное, а ло-
гично выстроенная система взаимодействий и переходов, имеющая
ярко выраженную этнокультурную обусловленность.
Уровень внутренней мотивации
На этом уровне выделяются мотивы разной степени обобщенности.
Наибольшую степень имеют мотивационные доминанты —
предельно абстрактные идеи, объединяющие все элементы какого-либо
семантического поля. Мотивационные доминанты опираются на сквоз-
ные мотивы. Эти интерпретаторы смысла обладают более разверну-
тым содержанием, радиус их действия охватывает не все пространство
поля, а несколько лексико-фразеологических групп, относящихся к раз-
личным сферам отождествления. Более конкретны частные мотивы,
которые можно сформулировать с различной степенью детализации: от
мотивационного признака, положенного в основу отдельной лексемы
35 Т. В. Бахвалова, выделяя эту модель, отмечает важность характера со-
вершаемого действия (микродействия + повтор) и результат (напрасность,
бесполезность) [Бахвалова 1993: 48].
146
Раздел II
или фразеологизма, до признака, который объединяет какой-либо сло-
весный ряд (синонимов, антонимов, когипонимов и т. п.). Понятно, что
этнокультурный «вес» мотива обратно пропорционален степени его
обобщенности: мотивационные доминанты имеют минимальную этно-
культурную значимость, а частные мотивы — выраженную более ярко.
Данный уровень анализа мотивационных отношений предполагает
анализ соотношения мотивационных доминант, сквозных
и частных мотивов номинации.
Проиллюстрируем сказанное. Мотивационной доминантой поля
«Интеллектуальная неполноценность человека» следует считать идею
антинормы. Данная идея конкретизируется в изучаемом поле сквозными
мотивами беспорядка, смещения, бездеятельности, недостатка, прерыва-
ния процесса и др. К примеру, сквозной мотив смещения реализуется с
помощью следующих мотивационных признаков (частных мотивов):
утрата опоры — с грунту сбиться пск., твер. ‘сбиться с толку’, олон.
‘выжить из ума’ (ср. пск., твер. грунт ‘толк, разум’) [СРНГ 7: 69],
дон. не прибиться умом ‘ума не приложить, не догадаться, не со-
образить’ [СРНГ 31: 111], жарг. потерять штативчик ‘сойти с
ума’ [АТЛ];
шатание — калуж., ряз. ошатетъ, ошатунетъ ‘одуреть, ошалеть’
[СРНГ 25: 81], арх. пошатнуться ‘сойти с ума’ [СРНГ 31: 25],
ворохнуться умом ‘то же’ [ФСРГС: 30];
кривизна, наклон — косо (криво) повязан ‘о человеке глупом, слабо-
го ума’ [НОС 8: 11], криво повязана ‘о необразованной деревен-
ской женщине’ [СНП: 47], перм. окос ‘дурак, глупец’ [СРНГ 23:
156], олон. мянда косая ‘дурак, неуч, невежа’ [СРНГ 19: 86], про-
сторен. мозги набекрень; ср. также урал. поговорку Кривую стре-
лу Бог правит ‘о толковом рассуждении или поступке человека
глупого и недалекого’ [СРНГ 15: 246];
сдвиг, изменение траектории — литер, сойти с ума, сумасшедший,
сумасброд, просторен, съехать, сдвинуться, жарг. сруливатъ ‘схо-
дить с ума; делать что-л. необычное, странное’ [БСЖ: 561], новг.
умом крянутъся ‘сойти с ума’ (ср. крянутъ ‘своротить, сдвинуть’
[НОС 4: 166], арх. ряхнутъся ‘сойти с ума’ (< ‘сместиться, сдви-
нуться’) [КСГРС] и мн. др. Частный случай реализации этого мо-
тива — образ поломки механизма в результате того, что измени-
лось направление движения его самого или его деталей: шарики
за ролики зашли (заехали, заскочили) ‘о чьем-либо сумасшествии,
психическом отклонении’ [СМА: 562], сдвиг по фазе ‘ненормаль-
ность, странность поведения’ [БСЖ: 531], съехать (сойти) с ка-
тушек [СМА: 460], съехать с рельс ‘перестать соображать’ [АТЛ];
Человек и пространство в зеркале языка
147
поворот, обратное («неправильное») движение — жарг. заворачиваться
‘вести себя странно, сходить с ума’ [БСЖ: 192], литер, задним умом
крепок, просторен, спятить, влг. ум петит ‘о помрачении ума’
[КСГРС], заворот мозог ‘помрачение рассудка’ [ПОС 11: 104], смол.
закрут ‘то же’ [СРНГ 10: 167], ум назад пойдет ‘теряется рассудок,
память от старости’ [ФСРГС: 204], влг., новг. опрокиденъ ‘сумасшед-
ший’ [СРНГ 23: 300]. Сюда же следует отнести уже упоминавшийся
образ посолонного дерева — такого, у которого древесина закручена
посолонь, по ходу движения солнца (причины, позволяющие воспри-
нимать такое движение в негативном ключе, будут указаны ниже).
Логическое развитие этих мотивационных линий — мотив на-
чала движения, причем движение может рассматриваться как
аномалия, поскольку нормативна в данном случае статика, устойчи-
вость. Этот мотив «точечно» реализуется в просторен, тронуться,
жарг. поплыть ‘сойти с ума’ [БСЖ: 461], поехать [АТЛ], полный впе-
ред ‘о странном поведении, ненормальности, сумасшествии’ [СМА: 73]
и т. п., а также находит «картинную» разработку в образе отправив-
шейся в путь крыши и ассоциативно с ней связанных шифера, башни,
балки, чердака (примеры приводились выше). Поехать может не только
верхняя часть дома, но и он сам (дом едет (домик поехал) ‘о чьем-л.
странном, глупом поведении’ [СМА: 115]), вследствие чего дурак
лишается земного пристанища (влг. Алеша, ищи квартиру ‘о слабо-
умном человеке’ [КСГРС]). Если даже дом или его части не уехали, то
нарушается их нормальное состояние, заведенный порядок, ср. жарг.
шторка упала, дома не всё в порядке ‘о глупом человеке’ [АТЛ].
Картину разрухи и беспорядка в путешествующем доме дурака до-
полняет еще одна важная тема — тема отсутствия в доме близких родст-
венников: просторен, не все дома, никого нет дома. диал. в башке Ванька
дома — Васьки нет, Васька дома — Ваньки нет ‘о глупом человеке’
[Ивашко 1981: 31], влг. бабушка в Красную Армию уехала служить
‘о чудаковатом, не совсем нормальном человеке’ [СГРС 1: 34], ушли к
соседу (соседям) [ФСРГС: 207], жарг. бабушка на фронте', все ушли на
фронт', бабушка на вахте', совсем маму потерял', дома кто есть? ‘то
же’ [АТЛ] и т. п. В таких фактах мотив смещения дополняется мотивом
пустоты: «концептуальный дом дурака», который соотносится в пред-
ставлении носителей русского языка с головой как физическим «вмести-
лищем» интеллекта, оказывается нежилым, пустующим помещением.
Интересно, что среди отсутствующих родственников в первую очередь
отмечаются родственники по женской линии: хранительнице очага нет
места в разрушенном доме. При этом дурак рисуется ребенком, который
зависит от родителей и без них беспомощен, несамостоятелен.
148
Раздел II
Следует отметить, что дурак отправляется в путь, не зная дороги:
он может поехать, но ему не суждено въехать, доехать, дойти, до-
гнать, домчать, допереть (эти глаголы в жаргоне и просторечии обо-
значают какое-либо результативное интеллектуальное усилие), — и он
вынужден, все время забредая не в ту степь, бесцельно блуждать по
свету (влг. бродячий ‘дурак’ [СГРС 1: 188], на печке блудитъся ‘о не-
расторопном, бестолковом, глуповатом человеке’ [ФСРГС: 13], семи-
палат. заблуждённый ‘темный, необразованный, отсталый’ [СРНГ 9:
260], курск. дурак непутный [СРНГ 21: 136] и др.) или же бестолково
кружить на одном месте (нижегор. круговеня нашла ‘обезумел, белены
объелся’, смол, крутелъ ‘бестолковый, беспорядочный человек’, иркут.
кружалый. терск. круженый ‘сумасшедший, бешеный’ [СРНГ 15: 303,
308, 311, 324], вят. верченый ‘то же’ [СРНГ 4: 171]).
Таким образом, мотив смещения, начала движения выливается в
сценарий путешествия без дороги, куда вынужден пускаться дурак, не
имеющий полноценного дома и близких родственников. Эти странст-
вования странного человека воспринимаются оседлым народом как
антинорма. Обстоятельства, лишающие дурака места на земле, с дру-
гой стороны, определяют его отрешенность от земного и обращен-
ность к Богу, ср. литер, блаженный ‘юродивый; глуповатый, чудако-
ватый’, влад. Аноха-праведник ‘о простофиле, дураке, глупце’, сиб. Аноху
строить ‘представляться простофилей, дураком, глупцом’ [СРНГ 1:
260-260], арх. преподобный ‘глуповатый, чудаковатый, блаженный’
[СРНГ 31: 88], арх. богорадный ‘то же’, курск., орл., пск., смол., твер.
божеволъный ‘одержимый припадками, помешанный, сумасшедший,
безумный’, ряз. божий человек ‘юродивый, придурковатый, идиот’
[СРНГ 3: 42, 62, 64], влг. раич ‘то же’, райка ‘дура’ [КСГРС], моек.
пень божий ‘о тупом, ограниченном человеке’ [СРНГ 25: 346] и др.36.
36 Переход «блаженный» «сумасшедший» хорошо известен русскому
языку и является результатом трансформации христианских представлений о
рае духовном, рае внутри человека. Показательны в связи с этим лексемы
раич. райка < рай. Мотив блаженства, «райского» состояния души (ср. литер.
рай ‘радость, блаженство’ [ССРЛЯ 12: 560]), производный от мотива особой
близости к Богу, порождает значение аномальности, а затем — интеллекту-
альной неполноценности. Сюда же следует отнести пск., твер. райтъ ‘хо-
дить, искать чего-то без сознания’, а также производное от него райха ‘тот,
кто раит’ [ДО: 228]. Таким образом, каноническое представление о рае как
«блаженном состоянии души» весьма негативно осмысляется народным соз-
нанием, сменяясь представлением о неадекватности отражения человеком
реальной действительности, а отсюда — о его интеллектуальной неполно-
ценности.
Человек и пространство в зеркале языка
149
«Родственные» мотиву движения мотивы — в частности, кривиз-
ны и движения вспять (анализ их в этнолингвистическом ключе пред-
ставлен, в частности, в [Толстая 1998а; Якушкина 2002]) тоже могут
дать характерные конкретизации. Так, показательна приведенная вы-
ше идиома косо (криво) повязан (повязана), которая приписывает глу-
пость человеку с криво повязанным поясом: для носителя традицион-
ной культуры пояс является исключительно «нагруженной» деталью
одежды, его отсутствие (собственно «распоясанность») или непра-
вильное подпоясывание имеют далеко идущие последствия, которые
могут указывать в том числе и на связь человека с нечистой силой
[Байбурин 1992; СМ: 386-388]. Сходная образная подоплека может
быть обнаружена у костр. неповитое сено 'о глупом неуклюжем че-
ловеке’, влад., костр. неповитой 'глупый, бестолковый’ [СРНГ 21:111].
В традиционной культуре важен порядок в одежде и порядок в работе
(в том числе при перевязывании снопов), отклонение от которого нега-
тивно маркируется. «Развязанность» глупца — намек на бесконтроль-
ность, неспособность распорядиться чем-либо как должно, руководить
своими действиями (ср. Алёша бесконвойный 'сумасбродный, неуравно-
вешенный, с причудами человек’ [ФСРГС: 7], литер, без царя в голове)31.
Еще пример. Привлекает внимание образ посолонного дерева, яв-
ляющийся одной из частных реализаций идеи обратного движения: он
опирается на столь важный для народной культуры мотив, как мотив
движения по солнцу, с востока на запад (который имеет разные оцен-
ки — как позитивные, так и негативные). В нашем случае очевидны
негативные коннотации. Чем это объясняется? По словам носителей
традиции, посолонными обычно называют старые деревья (часто бе-
резы), которые растут не в лесу, а на открытом месте: в этих условиях
солнце «обходит дерево с восхода на закат» (в лесу же светит «свер-
ху»), дерево «тянется» за ним — и образуются такие дефекты волокон 37
37 Мотив «развязанности» соотносим с мотивом «обуздания», обнаружи-
вающимся в влг. обротать ‘вразумить’, ‘надеть оброть, т. е. уздечку’ [КСГРС],
новг., ленингр. ввести в оглобли ‘образумить’ [СРНГ 4: 82]. «Антонимичное»
сленговое выстегнутъся ‘глубоко задуматься’ [БСЖ: 116] следует интерпрети-
ровать с учетом того, что внезапная задумчивость воспринимается как своего
рода «ненормальность» и сближается в языковом сознании с интеллектуальной
неполноценностью. Глупец трактуется как безудержный, не имеющий понятия о
мере, такой, которого нельзя остановить, «завернуть»: костр. беззаворотный
‘неумный, глупый’ [СРНГ 2: 191], жарг. планка съехала (слетела) ‘кто-либо
сошел с ума’ [БСЖ, 439], планку сбило (у кого) ‘о том, кто обезумел, перестал
соображать’ [АТЛ]. Таким образом, ум ассоциируется с наличием, а глупость
с отсутствием неких сдерживающих веревок, пут, узды и прочих ограничителей.
150
Раздел II
древесины (обычно расположенных вдоль ствола), которые на языке
мастеров деревообработки называются косослой или свилеватость,
дерево с этими дефектами очень трудно пилить (по материалам [КСГРС]).
Вне зависимости от полюса оценки движения солнца, культурной
значимостью обладает сам факт такой оценки.
Данные примеры показывают, что этнокультурная маркировка
становится заметной именно при пошаговом прохождении «лестницы»
мотивов: если мотивационная доминанта поля «Интеллектуальная не-
полноценность» — идея антинормы, будучи предельно обобщенной,
имеет минимальную степень культурной нагруженности, то один из
конкретизирующих ее мотивов — мотив утраты устойчивости, начала
движения — дает определенную этнокультурную информацию, кото-
рая прочитывается в свете общих установок, выработанных образом
жизни народа — в данном случае народа «домашнего». Культурная
информация проявляется также во взаимодействии мотива движения
с другими — например, мотивом утраты матери и др.
Таким образом, несмотря на свою универсальность, «дурость»
обнаруживает весьма нетривиальные и окрашенные национальной
спецификой способы языковой концептуализации.
2.4. ЯЗЫКОВОЙ ПОРТРЕТ
РУССКОГО ЗАХОЛУСТЬЯ
Представления о захолустье — глухом, отдаленном от культурных
центров месте, периферии — присущи, очевидно, всем этническим
традициям, имеющим определенный уровень цивилизации, однако в
русском общественном сознании они занимают особое место. Сло-
жившийся в России неповторимый комплекс факторов — в первую
очередь географических, а также экономических, политических и даже
психологических, — обусловил чрезвычайную активность концепта
«центр — периферия» и появление своеобразной наивной «филосо-
фии провинции», выраженной, пожалуй, более явно, чем «философия
центра». Это неслучайно: образ провинции (того, что может быть обо-
значено сочетанием «далеко от Москвы», ставшим крылатым после
выхода романа В.Ажаева) нередко разрастается до масштабов всей
России, ср. русъ ‘люди патриархальных взглядов, не «испорченные»
цивилизацией, городской жизнью’ [Отин СлК: 302]).
Эта интереснейшая тема привлекала к себе внимание философов,
литературоведов, культурологов (см. обзоры литературы в [Эртнер 2005;
Клочкова 2006]). Лингвистика обнаруживает здесь значительную лаку-
Человек и пространство в зеркале языка
151
ну: портрет захолустья, оперирующий данными системы языка, на-
сколько нам известно, еще не был создан (ср., правда, содержательную
работу А. В. Юдина, посвященную близким концептам — провинция
и регион [Юдин 2006]). В то же время можно предполагать, что рус-
ский язык располагает богатыми средствами для выражения «захолу-
стной идеи»: на это косвенно указывает хотя бы устойчивость и раз-
работанность символики провинции, ее текстового образа в русской
литературе (а текстовый образ должен «питаться» образом систем-
но-языковым). В зеркале литературных образов захолустье предстает
как яма, болото, дыра, всероссийская щель', символическое звучание
приобрели детали портрета провинции — глухой забор, вечные лужи,
топкая грязь [Эртнер 2005: 39, 45, 58, 152-164] и проч. Показательна и
литературная топонимия провинции — Скотопригонъевск, город Глу-
пое, Растеряева улица etc.
Как и следовало ожидать, в разных формах существования рус-
ского языка представлен обширный комплекс «захолустной» лексики
и фразеологии, весьма разнообразной в мотивационном отношении.
Разумеется, не следует жестко связывать номинативную активность
«захолустной» идеи с факторами истории, геополитики и обществен-
ного сознания, однако эти факторы работают и «вообще», и в конкрет-
ных ситуациях: к примеру, на Русском Севере количество разнообраз-
ных лексем, обозначающих захолустье, увеличивается, судя по данным
КСГРС, в тех районах, где наиболее ярко выражен гнездовой тип посе-
ления (северо-запад Вологодской области, бассейн Верхней Ваги [см.
Власова И. В. 2001: 92-93]): при таком расселении «периферия» отде-
ляется от «центра» особенно резко; в то же время в бассейнах Мезени,
Пинеги, на побережье Белого моря, где население в основном прожи-
вает в крупных селах, «захолустных» слов становится меньше.
В настоящем параграфе предпринимается попытка представить
наброски к языковому портрету захолустья, материалом для которых
послужили данные преимущественно одной формы существования
русского языка — русских народных говоров. В некоторых случаях
для сравнения приводятся факты литературного языка и жаргона, од-
нако думается, что эти подъязыки в изучаемом аспекте следует рас-
сматривать отдельно, поскольку на способы языкового воплощения
указанной идеи должны влиять различия внешней и внутренней пози-
ции номинатора по отношению к номинируемому объекту: мнение о
захолустье горожанина (если условно приравнять его к носителю ли-
тературного языка либо жаргона) будет выражаться несколько иначе,
чем мнение жителя деревни (носителя диалекта).
Более того, внутри «языка города» (как и других вариантов на-
ционального языка), по всей видимости, происходит дальнейшая спе-
152
Раздел II
циализация: языковые символы провинции должны быть своими в
Москве, Петербурге или Самаре. Ср. некоторые примеры из языка
старой Москвы: из степи приехал (кто) ‘о провинциале, не москвиче’,
толстопятая ‘город Пенза; вероятно, также обобщенно о провинци-
альном городе (преимущественно о черноземной России)’, сызранский
‘общеметафорическое определение чего-н. провинциального’, чух-
ломской ‘низкопробный, провинциальный, безвкусный’ [Елистратов:
563, 595, 607, 674] и др.; особо выразительна (в свете соперничества
двух русских столиц) данная москвичами характеристика «питерского
провинциализма»: чухна ‘пренебрежительно о петербуржцах’, чухон-
ский ‘плохой, низкого уровня, ничтожный’ [Там же: 674]38.
В то же время не стоит, наверное, преувеличивать значимость
этих различий: где бы ни проживал субъект номинации, для него
вполне естественно считать место своего обитания «центром» (при
всем понимании условности такого взгляда и существовании в созна-
нии иерархии «центров») и отстранять от себя «периферию».
Итак, в центре нашего внимания диалектные лексемы, значения
которых совпадают или близки значению литер, захолустье — ‘глухое,
удаленное, малонаселенное место; глушь’ [ССРЛЯ 4: 1065], ‘глухое,
отдаленное от культурного центра место’ [СлРЯ 1: 592]; ср. также де-
финицию В. И. Даля — ‘глушь, глухое место; закоулок или малолюд-
ная часть в городе; чаща в лесу; отдаленное и малонаселенное, мало-
проезжее место; затишье’ [Даль2 I: 660]. Эти толкования позволяют
обнаружить в структуре соответствующего наивного понятия два ор-
ганизующих центра: пространственный (идея удаленного расстояния)
и социальный (идея социальной маргинальности). При формировании
словника было решено дифференцированно относиться к словам с
толкованиями вроде ‘глухое место’, ‘глушь’: если дефиниция, внут-
ренняя форма или контекст указывали скорее на соответствие литер.
глушь в 1 значении — ‘густо заросшая часть леса, сада’, то такие сло-
ва не принимались во внимание; учитывались те, которые соответст-
вовали литер, глушь во 2 значении — ‘отдаленное от поселений, пус-
тынное место; малонаселенный, удаленный от центров культурной
жизни город, деревня ит. п.; захолустье’ [СлРЯ 1: 318] (хотя, конеч-
но, подобную дифференциацию произвести очень трудно и возможны
ошибки — впрочем, в контексте нашего исследования не очень суще-
ственные). Помимо существительных, объектом анализа стали также
38 В речи питерцев тоже есть специфические номинации провинциального,
ср., к примеру, слово посадский ‘худшего качества, отсталый, второсортный’ —
«Откуда ты такие посадские ложки достала?» [ЛЗА: запись речи уроженцев Пе-
тербурга начала XX в.], за которым стоит противопоставление города посаду.
Человек и пространство в зеркале языка
153
прилагательные со значением ‘глухой, захолустный’, глаголы со зна-
чением ‘жить в глуши’ и т. и.
Сначала рассмотрим только факты с более или менее прозрачной
внутренней формой, на основании которых будут выявлены основные
закономерности номинативного освоения «захолустья». Затем, с опо-
рой на эти закономерности, попытаемся осуществить анализ темных в
этимологическом отношении фактов. При подаче материала выделя-
ются тематические сферы — «доноры» для языковых единиц с анали-
зируемыми значениями («Пространство», «Человек и его окружение»,
«Свойства предметов и действия с ними», «Мифология», «Живот-
ные»); в рамках этих разделов нередко осуществляется более дробная
рубрикация (например, в разделе «Пространство» — «Пространствен-
ные измерения и конфигурации», «Объекты географического макро-
мира», «Ландшафт», «Передвижение в пространстве»). Внутри таких
разделов единицами описания становятся базовые лексемы, являю-
щиеся производящими для семантических дериватов или опорными
словами фразеологизма; синонимичные или близкие по смыслу базо-
вые лексемы в целях удобства описания нередко «укрупняются», и
для них приводится семантический инвариант (например, для произ-
водящих лексем закурёнок, заомуток, тоня и др. инвариантом будет
залив, яма в реке). После базовой лексемы даются примеры языко-
вых единиц со значением ‘захолустье’ с паспортизирующей справкой.
После знака - приводятся семантические и мотивационные параллели;
после знака ♦ даются общие комментарии ко всей смысловой рубрике.
ПРОСТРАНСТВО
Пространственные измерения и конфигурации
глубина: глубь (за глубью) —> литер, глубинка, заглубка (заглубок?) ‘глу-
хая деревня’ — «Ой, говорят, все заглубки взяты, везде свет провожено»
[СРГК 2: 104], арх. глубокой ‘находящийся в отдалении, в глуши’ —
«Самый последний север, само глубоко место» [АОС 9: 112]; дно —>
костр. донный ‘отдаленный, захолустный’ [ЛКТЭ], влг. адово дно ‘пло-
хое для жизни место; захолустье’ [СГРС 1: 13]. ~ Ср. также глубь
‘далекое расстояние, территория от края какого-н. пространства, даль’,
‘глухое, безлюдное место, пространство’ [АОС 9: 115], голбменнбй ‘на-
ходящийся в глубине какой-н. территории, вдали от населенных пунк-
тов’ [АОС 9: 263] при голбменнбй ‘находящийся на глубине, в откры-
том море, вдали от берега’, гбломя (гблымя). гбломенъ ‘открытое море,
глубь, глубинная, далекая от берега часть моря’ [АОС 9:263-264].
граница: за гранью —> влг. загранъе ‘глушь, захолустье’ [КСГРС]; за
межой —> арх. замежёвка ‘захолустье’ [КСГРС].
154
Раздел II
угол; сторона: кут, закут39 —> коми (рус.) кут ‘отдаленное, глухое
место’ [СРНГ 16:164], закутёвъе, закутъе ‘захолустье’ [ПОС 11: 282],
закутъё ‘отдаленное место, находящееся в стороне от чего-л.’ [СРГК 2:
146]. ~ Ср. закутный ‘укромный, тихий’ [ПОС 11: 282]); в стороне —>
усторднок, устордны ‘глушь, отдаленное поселение’ [Грандилев-
ский: 289], север.усторднъе ‘глушь, захолустье; место, удаленное от го-
рода, от большой дороги’ [Даль2 IV: 515]; за углом —> костр. заугдлъе
‘захолустье’ [ЛКТЭ].
♦ Формируя ментальный образ захолустья, субъект номинации в пер-
вую очередь осуществляет пространственную параметризацию «за-
холустного» объекта. В восприятии номинатора этот объект марги-
нален по отношению к освоенному пространству, он находится в уг-
лу, в стороне или же вообще выносится за пределы освоенной зоны и
помещается за границей или межой. При категоризации захолустья
используется не только горизонтальное измерение, но и вертикаль-
ное, — причем «отрицательная» вертикаль, «глубина». Помещение за-
холустья на «дно» имеет социальный подтекст и обнаруживает нега-
тивную экспрессию (ср. коннотации «дна», проявляемые в литер, по-
донок, идти ко дну и т. п.).
Закрытость — открытость
глухой: литер, глухой уголок ‘отдаленное небольшое малонаселенное
место, городок, захолустье’, глухомань, глушь ‘отдаленное от поселе-
ний, пустынное место’, перм. глухомёнъ ‘глухомань’ [СПГ 1: 164], глу-
хота, глухомаръ, глуш, глушйна ‘отдаленное от поселений пустынное
место, захолустье, глушь’ [АОС 9: 128], арх. заглуха, влг. заглушъе,
арх. залухмёнъе ‘то же’ — «Мы в залухменье живём, мало видим лю-
дей» [КСГРС], глушйна, глушменъ, заглушъ, заглушъе ‘то же’, глушндй
‘находящийся в глуши, захолустный’ [СРГК 1: 342; 2: 105], заглуш-
ный ‘отдаленный, глухой (о месте)’, заглушина, заглушище, заглушъ
‘глухое малонаселенное место’ [ПОС 11: разглушъе ‘глушь от-
чаянная, самое глухое, малолюдное место’ [Даль2 IV: 23] и мн. др.
слепой: влг. слепосранъ ‘захолустье, глухомань’ [КСГРС]. ~ Ср. так-
же слепо-наслепо ‘пусто, безлюдно’ [ДСРГУ: 509].
♦ Данные образы воплощают идею закрытости, замкнутости, непро-
ницаемости захолустья, его отделенности от мира, отсутствия вы-
хода, прохода, просвета. Согласно реконструкции С. М. Толстой, это
значение является доминантной семой для слов славянских гнезд
39 Диал. шир. распр. кут, закут ‘место, где сходятся внешние и внут-
ренние стороны предмета, угол чего-л.’ [СРНГ 16: 163; КСГРС].
Человек и пространство в зеркале языка
155
*glux- и ^slep-, от него производны и перцептивные значения (слуховое
и зрительное), которые играют большую роль в синхронной парадигме
значений глухого и слепого [Толстая (в печати-б)].
Объекты географического макромира
объект, обозначенный прецедентным именем: Китай —> китайка
‘о труднодоступной местности’ [СРГК 2: 354]; Кын —> кын — золо-
тое дёнышко ‘шутливая оценка достаточно глухого места’ [Подто-
ков 1997: 17]; Украина (Хохляндия) —> влг. украина^, хохляндия,
хохляцкий край ‘захолустье’ [КСГРС]; Чечня —> Чеченцы, жители д.
Чертяково — «В захолустье живут, в лесу» [К-Г, Плоское].
♦ Прецедентные номинации такого типа, обладающие разной степенью
узуальной закрепленности, в обилии встречаются в литературном язы-
ке. Они образованы от топонимов Австралия, Азия, Жмеринка, Кам-
чатка, Лапландия, Пошехонъе, Полинезия, Сибирь, Тьмутаракань, Ха-
цапетовка, Чухлома [Отин СлК: 36,190,208,255,286-287,281,311,332,
386]40 41 * *. Не обойдены вниманием прецедентные топонимы и в жаргоне:
жарг. криворожъе ‘глухая провинция, захолустье’ [БСЖ: 292], коно-
топ ‘то же’, как в лучших домах Конотопа ‘о плохом сервисе, плохом
тоне’, аляска ‘какое-то далекое, глухое место’, тюменъ ‘провинциал;
недалекий, некультурный человек’, урюпинск ‘далекая глухая провин-
ция, захолустье’, урюпинский ‘провинциальный, глухой, захолустный,
неразвитый, «темный» (о человеке)’ [СМА: 44, 204-205, 214, 334, 495].
Таким образом, носитель диалекта может найти для захолустья эталон
из географического макромира, однако использование таких эталонов
более свойственно другим формам существования языка — литера-
турному языку и жаргону. Здесь сказывается отмеченное выше разли-
чие внешней и внутренней позиции номинатора по отношению к объ-
40 Возможно, образовано от корня край- независимо от макротопонима
Украина, связь с которым в этом случае вторична.
41 Показательны некоторые контексты, приведенные в [Отин СлК]: «А то
живешь-живешь в этой глуши, никакого образования, ни клуба, ни общества —
Австралия, да и только!» <А.П.Чехов>; «Ему представилась церковь на этой
улице, пустыри... „Лапландия! — подумал он, — что-то здесь будет делать
сестра? Дома будет сидеть... муж целый день в казначействе... ни звука, ни
голоса...“» <Н.Успенский>; «А у нас-то теперь, — говорила Бахаревская
птичница, у нас скука престрашенная... Прямо сказать, настоящая Сибирь,
как есть Сибирь» <Н.С. Лесков>; «О, какие уездные чухломские чумички
они, эти наши социал-демократы...» <В.В.Розанов>; «Самые отсталые „сов-
ки44... живут сегодня не в российских жмеринках, а на окраинах Нью-Йорка
и Лос-Анжелеса» <Аргументы и факты>.
156
Раздел II
екту: подыскиванием эталонов для захолустного места из круга «чу-
жих земель» занимается скорее житель центра, нежели провинциал.
Ландшафт
болото: болото ‘захолустье’ [ПОС 2: 89]. -Ср. также заболдшной ‘от-
даленный от крупных населенных пунктов’ [СРГСУ 1: 163], Заболот-
ная сторона ‘глухое место’ [КСГРС], где возможна контаминация с
заволостный^2. В качестве фона к «захолустному» значению слова бо-
лото ср. болотный ‘глупый, без культурных навыков’ [ПОС 2: 89], бо-
лотина ‘дурак, простофиля’ [ПОС 2: 87], заболотный ‘неосведомлен-
ный, невежественный человек’ [ДСРГСУ: 160]. Следует привести также
близкие по смыслу идиомы со значением ‘неизвестно откуда’: с ви-
ру^3, с болота [Ивашко 1981: 74], ни с виру, ни с болота [ФСРГС: 28].
гора (за горой): костр. загорье ‘захолустье’ [ЛКТЭ], якут, горный
‘нецивилизованный, некультурный’42 43 44 [СРНГ 7: 49]. - Гора (холм,
бугор) — реалия, нетипичная для «эталонного» русского ландшаф-
та, поэтому она нередко воспринимается как граница «своей» и
«чужой» зоны, ср. из-за гор горы ‘издали, с чужбины’ [ Даль2 1:
376], за семью горами ‘очень далеко’ [СПГ 1: 178], литер, (фольк.)
за горами, за морями ‘то же’. Об актуальности данной модели гово-
рит распространенное в современном сленге выражение за бугром
‘за рубежом, за границей’.
залив, яма в реке: закурёнок45 —> арх. закурёнок ‘глухое отдаленное
место, захолустье’ [КСГРС], заомуток46 —> карел, (рус.) заомуток
‘захолустье, медвежий угол’ [СРНГ 10: 292]; плес —> влг. пусто-
плёсъе ‘захолустье’, ‘неосвоенная территория’ [КСГРС]; тоня —>
арх. в тоне сидеть ‘жить в глуши’ [КСГРС].
лес: лес (за лесом) —> влг. лес-гора в небо дыра ‘захолустье, перифе-
рия’ [КСГРС]47, олон., тульск. залесный ‘живущий, находящийся в
глухомани, вдали от города и больших селений’ [СРНГ 10: 201],
42 В то же время и в содержательном, и в структурном плане идея кон-
таминации может быть излишней: ср. заболдсной ‘болотный’, чучело забо-
лотское ‘неряшливый человек’ [СРГСУ 1: 163].
43 Брян., калуж., курск., литов, (рус.), орл., иск., сев.-зап. вир ‘глубокое
место в реке или озере; омут, водоворот, пучина’ [СРНГ 4: 291].
44 Данное значение образовано на основе якут, (рус.) горный ‘живущий
далеко от берега реки Колымы’ [СРНГ 7: 49].
45 Арх., влг. закурёнок ‘небольшой залив; старица, яма с водой у реки’
[КСГРС].
46 Арх. заомуток ‘омут, водоворот на реке’ [КСГРС].
47 Ср. также влг. в небо дыра ‘захолустье, периферия’ [КСГРС] при бо-
лее частотном арх., влг. в небо дыра ‘высокий густой лес’ [КСГРС].
Человек и пространство в зеркале языка
157
новг. залёсок ‘глухое место, захолустье’ [СРНГ 10: 202], залёсский
‘живущий в районе, в глуши (при противопоставлении жителей
райцентра жителям деревень района)’ — «В Липином Бору всех де-
ревенских Залесскими зовут, не любят деревенских-то» [КСГРС],
залёшица, залёсица ‘удаленная от центра культурной жизни деревня,
захолустье’ — «Залешыца, где малъ людей, многь къмароф, там, где
и лешый ни живёт» [ПОС 11: 289, 293], залёсъе, залёшина, заулё-
шина, заулёшица ‘то же’ [КСГРС]; кокора (за кокорой) —► закокбр-
ки ‘глухие места, глушь’ [ПОС 11: 250]. ~ Ср. также олон. кокорняк
‘глухое дикое место, где много валежника, бурелома’ [СРНГ 14:
97]; сузем48—► влг. сузём, сузёмок ‘захолустье’ [КСГРС]; трущо-
ба49—> трущоба ‘глушь, захолустье, отдаленное место’ [Даль2 IV:
438]. - Ландшафтные термины с «лесной» семантикой акцентируют
социальную составляющую «захолустья», охотно развивая вторич-
ные значения из сферы социальных характеристик, ср. арх. залещсЬпъ
‘стать диким, одичать’ [КСГРС], влг. заулёшица ‘невежественный, от-
сталый человек’ [КСГРС], лесовйца ‘нечистоплотная женщина, не-
ряха’ [НОС 5: 20], облесётъ ‘одичать’ — «Мишка на хуторе совсем
облесел» [СРГК, 4, 87], курск. лесовик ‘человек нелюдимый, сторо-
нящийся общества’ [СРНГ 17: 10] и др. (о социальных аспектах
«лесной» метафоры см. также параграф 2.3, с. 143).
рукав какого-л. ландшафтного объекта: кулига (за кулигой)50->
арх. кулига ‘глухое, отдаленное место, захолустье’ [КСГРС], закулйга
‘то же’ [НОС 4: 37], загулйжица ‘то же’ [ПОС 11: 162]51. - Ср. также
просторен, у черта на куличках ‘очень далеко, в отдаленных глухих
местах (быть, жить, селиться и т. п.)’52, влг. у черта на кулижках ‘очень
48 Арх., влг. сузём ‘отдаленный лес’ [КСГРС; АОС 10: 254].
49 Трущоба ‘густой, непроходимый лес, заваленный буреломом, трухля-
выми колодами или хворостом’ [Даль2 IV: 438].
5Q Кулига (кулйжка) арх., влг., вост., вят., калуж., моек., нижегор., новг.,
олон., перм., свердл., север., яросл. ‘участок леса, расчищенный под пашню,
иногда луг’, пск. ‘конец поля, полосы, упирающейся в лес’, влг. ‘распаханная
поляна в лесу вдали от деревни и полей’ и мн. др. [СРНГ 16: 60-61, 64-65].
51 Очевидно, форма загулйжица появилась в результате контаминации с
гулять, ср. модели группы «Передвижение».
52 Фразеологизм к черту на кулички (у черта на куличках} трактуется по-
разному — в зависимости от того, какой из омонимов кулички привлекается для
семантической реконструкции данного оборота. Помимо географического терми-
на кулички, в диалектах фиксируется кулички ‘свадебный пирог, кулич’; в этом
случае, как указывается в [СРФ], оборот можно понимать как парадокс: ехать не-
известно куда и зачем, так как у черта не может быть куличей. При этом «хлебобу-
158
Раздел II
далеко’ [КСГРС; Даль ПРН2 2: 495], закулйжина отдаленный участок,
край болота, закулйчъе, закулйга ‘густой частый лес’ [НОС 4: 38].
поле: за полем —> заполъский ‘живущий в удаленных местах, в захо-
лустье’ — «Запольски реткобаи. В лясу родилися, пнём молилися,
серый мы какии» [ПОС 12: 57]), запольный ‘удаленный от центра,
окраинный’ [ПОС 12: 57]. - Ср. запдлек ‘дальнее поле, пашня, луг;
видимый край земли, горизонт’ [ПОС 12: 55].
свет53: за светом —> засвётный ‘краесветный или дальний, далекий,
отдаленный, в глуши, в захолустье находящийся’ [Даль2 I: 634].
ТЕНИСТОЕ МЕСТО; ЗАЩИЩЕННОЕ ОТ СОЛНЦА место: заувйя54 —> влг.
заувйя ‘глушь, захолустье’ [КСГРС]; заусынье (< за-у-солонье)55 —>
влг. заусынье ‘глушь, захолустье’ [КСГРС]; застенье56 —> арх. за-
стёнъко ‘захолустье’ [КСГРС; СРНГ 11: 60].
лочная» мотивировка может быть как первичной, так и возникшей в резуль-
тате народно-этимологического переосмысления слова кулижки [СРФ: 624].
Думается, что исходным все же является географический термин: на это ука-
зывают хотя бы влг. у черта на кулижках ‘очень далеко’, кулички ‘лесные
полянки’ [КСГРС].
53 Слово свет (‘земля со всем существующим на ней, мир, вселенная’
[СлРЯ 4: 45]), не являющееся обозначением ландшафтной реалии, включено
в данную группу условно.
54 Влг., яросл. заувйя ‘место, защищенное от ветра’ [КСГРС; ЯОС 4:
109] < веять', ср. также многочисленные вариантные формы с этим значени-
ем: заувёя, завёя, заувёй, заувёйка, заувъя ит. п. [СРНГ 11: 125; КСГРС; НОС
4: 83; ЯОС 4: 109; СВГ 2: 157; СПГ 1: 274].
55 Ср. лексемы со значением ‘место в тени, куда не попадают солнечные
лучи’, образованные в результате сложения за + солнце', за-у сёлнышком, за-
у солнышком [ПОС 12: 217], заусдлнце [НОС 4: 84], заусолонъе, заусднъе
[НОС 4: 84; СРГК 2: 228], заусынье [СРНГ 11: 136] и др.
56 Ср. арх., влг. сев.-двин., яросл. застёнъе ‘защищенное от ветра и солнца
место’ [СРНГ 11: 60, КСГРС]. Данное слово имеет исключительно богатый в
плане вариативности ряд дублетов, позволяющий говорить о наличии морфо-
семантического поля, в которое входят образования от застить, (с)тенъ, стена
с последующей аттракцией к стыть, сидеть, солнце, тьма и др.: застынъе,
застынъице [СВГ 2: 153], орл. застынка [СРНГ 11: 73]; заусёнок [СРГК 2: 228],
пск., твер. заусёнка, заусёнка, моек., петерб. заусёнь, новг., пск., твер., яросл. за-
усёнъе [СРНГ 11: 135], заусёденка, заусёнечко, заусёница, заусёнки, заусёночек,
заусенце, заусёнце, заусёнышек, заусёнышко, заусень [НОС 4: 83-84], затёнъе
[СВГ 2: 100], калин, заутёнок [СРНГ 11: 136], пск. застен, влг., моек., смол, за-
стёнок, пск., твер. застенъ [СРНГ 11: 59-60], затменетъ, затмёние, засенъе,
засенец, заснйна, затенъ [ПОС 12: 114] ит. п.
Человек и пространство в зеркале языка
159
♦ Для выражения «захолустной» идеи субъект номинации нередко по-
дыскивает ландшафтные эталоны. Ими становятся или максимально
«неокультуренные», не освоенные человеком ландшафтные реалии —
лес (в т.ч. сузем, трущоба, кокора), болото, омут, или те, которые об-
разуют рукав, боковую часть какого-либо основного объекта (кулига,
закурёнок). При этом захолустье может помещаться как в пределы со-
ответствующего ландшафтного эталона (сузем), так и выноситься за них
(ср. многочисленные лексемы с приставкой за — залешица, заомуток
и т. п.: вообще, использование приставки за — диагностическая черта
большинства «захолустных» лексем; в некоторых случаях эта при-
ставка семантически избыточна, но ее настойчивое употребление
выявляет стремление номинатора всеми средствами подчеркнуть
маргинальность захолустья). Однако в том случае, когда положение
захолустья определяется по отношению к полю, оно, конечно, вы-
носится за пределы этого объекта культурного ландшафта (заполъ-
ский). Наконец, характерный ландшафтный эталон захолустья —
место, защищенное от ветра и солнечных лучей (заувия, заусынъе,
застенъко), — как правило, темное (ср. черная заувея ‘затененное
место, где ничего не растет’ [СПГ 1: 314], застенйтъ ‘затемнить’
[СРСГСП 1: 138]).
Передвижение в пространстве
зайти, забежать, заехать: бегать (забегать) —> в забеге ‘в глуши, в
отдалении’ [СРГК 2: 79], перм. забегаловка ‘удаленное или скрыт-
ное место жилья, захолустье, глушь’ [Даль2 I: 557], забега ‘глухое
место, глушь’, забег волчий ‘глухое место’ [ПОС 11:8, 252]. ~ Ср.
также забега ‘подворотня, закоулок’, ‘запущенное жилище’ [НОС 3:
4], (собачья) забегаловка ‘маленький переулок, глухая улица в селе-
нии’ [СПГ 1: 268], забегалка ‘нива, расположенная в стороне от до-
роги’ — «Забегалка; дороги нет, надо забегать» [НОС 3:4]; зайти —>
зашлый ‘глухой, малонаселенный’ [СРГК 2: 241]; колесить (заколе-
сить) —> заколёсица ‘глухое место, глушь’ [ПОС 11: 252]. ~Ср. за-
колесить ‘заставить очутиться где-н., занести’ [ПОС 11: 252].
заблудиться: заблудуха ‘глухое место’ [ПОС 11: 131]. ~ Ср. заблудй-
ха ‘место, по которому трудно пройти, не заблудившись в высоких
кустах или болотине’ [ЯОС 4: 54].
НЕ НА дороге: за путем запутица, запутник, запутница, запуток,
запутъе ‘захолустье, глухомань’, запутненъкий, запутный ‘нахо-
дящийся в глуши, захолустный’, ‘свойственный людям, живущим в
захолустье; неправильный с точки зрения горожанина’, запутно ‘где
глухо, малолюдно’ [ПОС 12: 78-80]. ~ Ср. запутник ‘проселочная
дорога’ [ПОС 12:77], но на путё ‘удобно; под рукой поблизости (жить,
160
Раздел II
быть расположенным)’ [Прокошева: 83]). В результате контаминации
с путать возникает форма запутанный ‘находящийся в глуши, захо-
лустный’ [ПОС 12: 77]. Ср. также близкие в мотивационном отноше-
нии факты: арх. на отходе ‘на отшибе, в стороне’ [СРНГ 24: 354], ни-
жегор., новг., ряз. отхожий ‘стоящий отдельно, особняком’ [СРНГ 24:
356], зарыск ‘окольный путь’, зарыскнутъ ‘быть отнесенным течением
в сторону; объехать на лодке речную косу’ [СРНГ 11: 13], киров. за-
дорджица ‘объездная дорога’ [ЛКТЭ]. Противоположный смысл мо-
жет быть выражен сочетанием натоптанное место ‘населенный
пункт с большим количеством жителей’ [ФСРГС: 111].
♦ Захолустье подается как место, находящееся в стороне от дорог, — а
следовательно, такое, где можно заблудиться или очутиться случай-
но — лишь на время зайти, забежать или «заколесить».
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ
Части тела человека
«маргинальные»: бок —> забдка ‘отдаленное глухое место’ [СРГА 2/ 1:
95]. ~ Ср. забдчный ‘находящийся в стороне от тракта’ [СРГС 2: 146],
тот бок ‘конец деревни’ [НОС 1: 65]); зад —> ленингр. озадки ‘глухое
место, захолустье, глухомань’ — «Не пойду в озадки замуж Комарам
себя кормить, Выйду за приказчика, Буду сидеть у ящика» [СРНГ 23:
83]. ~ Ср. просторен, вульг. задница, жопа ‘глухое место, захолу-
стье’ — «В такой заднице была — там и гостиницы нет» [ЛЗА], жарг.
вульг. чмо изЗажопинска ‘простофиля, провинциал’ [СМА: 150].
внутренние органы: нутро —> арх. нутра ‘глушь’ [КСГРС]. ~ Ср.
арх. нутряной ‘о реке: текущий по лесу, незаметный’, арх. нутрйстый
‘глубокий’, арх., влг. нутро ‘внутренняя сторона чего-либо’, ‘лес-
ная глушь, чаща’, арх. нутроватый ‘замкнутый, необщительный’,
нутряной ‘глубокий’ [КСГРС]. В то же время ср. влг. нутро ‘центр’
[КСГРС].
♦ «Анатомический» человек представлен не только через ожидаемые
«маргинальные» части тела — бок и зад. но и через внутренние ор-
ганы — собственно нутро («нутро» в зеркале языка может осмыс-
ляться двояко: и как центр, средоточие чего-либо, и как «заглублен-
ное» — а значит, труднодоступное, отдаленное место).
ФИЗИОЛОГИЯ И ПЕРЦЕПЦИЯ
оправляться: дристать—> влг. дристунья ‘захолустье, богом забытое
место, где живут отсталые, темные люди’ [КСГРС]; (за)срать —> влг.
засерйхино. слепосранъ ‘захолустье, глухомань’ [КСГРС]. ~ Ср. жарг.
Человек и пространство в зеркале языка
161
вульг. квазитопоним Мухосранск ‘провинциальный город’ — «Чем
ехать в какой-нибудь Мухосранск по распределению, лучше в Мо-
скве замуж выйти» [БСЖ: 364].
дремать: литер, дремучий ‘глухой, захолустный’. ~ Ср. просторен.
дремучий ‘невежественный, отсталый’.
дышать спертым, затхлым воздухом: задохнуться, затхлый —> за-
ддшъе ‘глухое безлюдное место, глушь’ [СРГК 2: 117], влг. захлище
‘отдаленное от центра место, захолустье’ [КСГРС]. ~ С точки зре-
ния фонетики ср. аналогичные формы влг. хлйца (тухлица) ‘рыба,
страдающая от недостатка свежей воды подо льдом’ [КСГРС],
захлетъ ‘неприятный запах гнили, сырости’ [ПОС 12: 194].
♦ При рассмотрении образа захолустья через призму человеческой
физиологии мотивационно продуктивными оказываются обозначе-
ния таких не требующих комментариев процессов, как физиологи-
ческие отправления и сон. Перцептивное восприятие (через органы
обоняния) оказывается негативным, поскольку образ захолустья
связывается с отсутствием воздуха.
Интеллект
забытый: забвённый ‘захолустный, глухой’ [СПГ 1: 268-269].
глупый: глупой ‘находящийся в глуши, в отдалении, захолустный’
[АОС 9: 120].
♦ Социальная доминанта представлений о захолустье предопределяет
манифестацию их через лексику, означающую дефекты интеллек-
туальной деятельности. Слав. *glupu родственно *gluxb (ср. глухие
номинации захолустья), однако, думается, что появление слова глупой
‘захолустный’ поддерживается не только «этимологической памятью»,
но и собственно «интеллектуальной» семантикой.
Одежда
лапти: лапотный ‘далекий от центра, глухой в культурном отноше-
нии’ — «Я выросшы в лапътном месьте, в дикъм месьте, поэтаму я
знаю толька старые слова» [ПОС 16: 502], ворон, лаптёвка ‘отда-
ленная от других населенных пунктов деревня, не имеющая школы,
читальни и т. п.’ [СРНГ 16: 268].
♦ Трактовка захолустья как «лапотного места» весьма колоритна:
«лапотность», ношение лаптей, устойчиво воспринимается как сви-
детельство бедности и отсталости и связывается именно с образом
русского крестьянина (литер, лапотник ‘крестьянин’, ‘пренебр. о
невежественном, отсталом человеке (обычно как бранное слово)’
[СлРЯ II: 164], просторен, лапотон ‘то же’) и даже Руси в целом (об
162
Раздел II
этом говорят устойчивые сочетания вроде лапотная Россия, ср.
также контекст «Эх вы, лапотоны! Эх, Расея-матушка...» <В. Я. Шиш-
ков. Алые сугробы>). Отметим, что сходными коннотациями облада-
ет слово сермяга (оно не дает «захолустных» смыслов, но очень близко
к ним): литер, сермяжник ‘тот, кто носит сермягу, бедный крестья-
нин в дореволюционной России’ —> пск., твер. сермяжник ‘о неве-
же, грубияне’ [СРНГ 37: 217]. Показателен текст А. Солженицына,
соединяющий оба «одежных» символа: «Так вот с ним в камере сидел
один дедусь — Сермяга, лапотник, ну — Русь. Суда не дождался, по-
чил в Бозе» <А. Солженицын. Пир победителей> [Отин СлК: 302].
Место жительства человека
поселение: за волостью —> влг. заволдстный ‘отдаленный, захолуст-
ный’ [КСГРС]. ~ Ср. также заволдстный ‘нездешний, приезжий’ [ЯОС
4: 61], но ср. арх. на волостё ‘на виду, в центре’ — «У нас на волосте,
что ты, не в лес заехала» [КСГРС]; за селом —> моек, засёлъщина ‘от-
даленное, малонаселенное место; медвежий угол’ — «У нас заселыци-
на, место скучное» [СРНГ 11: 28], засёлъщинец ‘человек из глухой от-
даленной деревни’ [СОГ 4: 81]. - Ср. ряз. засёлъе ‘окраина поселения,
пустырь за селом’ [СРНГ 11: 28], яросл. засёлъе, яросл. засёлок ‘село,
расположенное вдали от большой дороги’, заселйще ‘отдаленный по-
кос’ [НОС 4: 70].
не проконопаченный мхом (о жилище): немшёный немшёной
край ‘отдаленный от центра’ — «Как же вы заехали в наш немшё-
ной край, далекишшё ведь мы живём» [Прокошева: 51]. ~ Ср. ниже-
гор., перм. немшёный ‘построенный без мха (о бревенчатых
постройках)’, перм., сиб., симб., ср.-урал. немшёная Сибирь ‘о той
части Сибири, где не жили русские, т. е. отсутствовали постройки,
утепленные мхом (иногда бранно)’, тобол. Расея немшёная ‘о жи-
телях европейской части России, которые из-за бедности не строи-
ли домов на мху, как в Сибири’ [СРНГ 21: 90].
угол в доме: шомуша57 арх. шдмуша ‘захолустье’ [КСГРС].
♦ Собранные здесь модели очень разнятся в мотивационном отношении.
Слова типа заволостный, заселъщина свидетельствуют о том, что но-
ситель языка склонен выносить захолустье за пределы населенных
пунктов. Увидеть захолустье как угол на кухне (шомуша) позволяет
обычное для носителя русского языка «разворачивание» дома в про-
странство вообще. Ярким этнокультурным своеобразием обладает мо-
дель «немшёный» —> «захолустный»: построенные без мха (т. е. неуте-
57 Арх. шдмуша ‘угол на кухне для хранения хозяйственного инвентаря’
[КСГРС].
Человек и пространство в зеркале языка
163
пленные) избы воспринимаются как свидетельства бедности их хозяев,
что предполагает «захолустный» статус таких жилищ.
СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ И ДЕЙСТВИЯ С НИМИ
Деструктивные действия
нарушать целостность, деформировать: бить (забить, отбить) —> влг.
забёя, забйва ‘отдаленное глухое место’ — «Ишь, куда леший разил:
уехала в забею за мужиком и не пожалела ни разу»; «У нас тут далёко
от города, так забйва» [КСГРС], забиённой ‘захолустный, глухой (о
местности)’ [СРГСУ 1: 163], забоённый ‘тоже’ [ДСРГСУ: 160], забён-
ный, забиённый, забьённый ‘то же’ [СПГ 1: 268-269], забиённое место
‘находящееся в глуши, далеко от населенных мест, глухое’ [СПГ 1:269],
бурят., сиб., юж.-урал. отбойное место ‘то же’ [СРНГ 24: 120]. ~ Ср.
также забивать ‘засылать, загонять кого-либо далеко’ [СРНГ 9: 253],
киров. забойная полоса ‘крайняя полоса на поле’ [ЛКТЭ]. Формы вроде
забиенный весьма вариативны — в частности, вследствие своей высо-
кой контаминационной активности, обусловливающей «скрещивание»
с причастиями от глаголов забыть, убить и др., ср. забвённый, забуён-
ный, забыённый ‘захолустный, глухой’ [СПГ 1: 268-269], ср.-урал.
заубиённоеместо ‘захолустье’ [ЛКТЭ], заубъённой, заубвенной, забуён-
ной край (место) ‘отдаленный от центра’ [Прокошева: 51] и т. п. Показа-
тельно, что противоположный смысл — ‘находящийся в центре (?)’ —
может быть выделен у слова прибойный (ср. сочетание прибойное ме-
сто в контексте «У нас-то прибойно место, не закулига» [НОС 4: 37]);
гнуть (губить) —> арх. загибёнъе ‘глухое, гибельное место, глушь’
[СРНГ 9: 360], олон. загубёръе ‘захолустье’ [СРНГ 10: 33]; колу-
пать —> заколупка, заколупинка ‘отдаленное, глухое место, глухой
угол’ [СРГК 2: 136]; резать —> влг. отрёзъе [КСГРС]; толочь, затал-
кивать —> сиб., яросл. затолок, перм., сиб., урал. затолочъе ‘отдален-
ное, глухое место, захолустье’ [СРНГ 11: 97]; -шибать (отшибать) —>
отшибйха ‘место не на виду, в стороне, не на ряду; захолустье, глушь,
особняк’ [Даль2 III: 768], влг. вотшйбъе ‘отдаленное от центра место,
захолустье’ [КСГРС]. ~ Ср. также литер, на отшибе, влг. зашиб ‘за-
брошенный, запущенный покос’ [КСГРС], забайк. пошйбок ‘дом, сто-
ящий в стороне, на отшибе’ [СРНГ 31: 32], зап.-брян. навотшибе
‘в стороне от селения, на отшибе’ [СРНГ 19: 185], нижегор. отши-
баться ‘отдалиться от чего-либо’ [СРНГ 25: 9].
♦ К группе лексических фактов, реализующих мотив деформации,
можно условно приписать слова, возникшие в результате семанти-
ческой деривации на базе слова дыра (имея в виду результат де-
164
Раздел II
формации): литер, дыра ‘глухой удаленный от центров культуры
город, село и т. п.; захолустье’, арх. к небу дыра (в небо дыра) ‘за-
холустье, отдаленное от центра место’ [КСГРС], просторен, собачья
дыра ‘глухое место, захолустье’.
отторгать(ся) отторгнутое: бросать (отбросить) —> влг. отбро-
сок ‘глухомань, захолустье’ [КСГРС]. ~ Ср. также литер, заброшен-
ный ‘оставленный без присмотра, надзора’, карел, (рус.) отброшен-
ный ‘отдаленный, забытый, заброшенный’ [СРГК 4: 274]; кидать
(запокинуть) —> моек, запокйдный ‘находящийся в глуши, отдален-
ный, захолустный’ [СРНГ 10: 337]. ~ Ср. также запокйнутый ‘забы-
тый, заброшенный [СРНГ 10: 337]); гнать (загнать) —> загнанный
‘отдаленный, глухой (о месте)’ [СРГК 2: 105]; падать —> арх. запад-
ное место, запань ‘глухое место’ [КСГРС]; теснить влг. затес-
нённый ‘глухой, заброшенный, труднодоступный (о месте)’ [КСГРС].
спрятать,скрыть: затаить—» влг. затайха ‘глушь, захолустье’ [КСГРС];
затулить58 —> арх. заутулье ‘глушь, захолустье’ — «Заутулье —
глухое местечко. Живём в таком заутулье, нас мало кто знает, и мы
никого не знаем» [КСГРС]. ~ Ср. арх. затула, твер. затулок, иркут.,
костр., олон. якут, затулъе, арх. затулъице, яросл. затулъище ‘ме-
сто, защищенное от ветра, дождя’ [СРНГ 11: 110-111], арх. затула
‘тень, затененное место’ [КСГРС], затулиха ‘нелюдимая’ [НОС 4:
80]; заховать —> влг. захдванное место ‘глушь, захолустье’ [КСГРС].
замусорить: захламить(ся) —> арх. захламустъе ‘глушь, захолустье’
[КСГРС]. ~ Ср. арх. захламоститъ, захламустйтъ, захламоститъ-
ся ‘замусорить(ся), захламить(ся)’ [КСГРС]; захлястить59 —> влг. за-
хлястное место ‘глушь, захолустье’ [КСГРС].
♦ Захолустье вариативно и экспрессивно подается как объект, который
испытывает деформирующее воздействие извне, нарушающее его це-
лостность. Широко представлены «отторгающие» действия, что по-
зволяет трактовать захолустье как нечто «отброшенное», «кинутое»,
«загнанное», «затесненное», «упавшее». Пространственная маргиналь-
ность захолустья через призму предметных действий предстает как ре-
зультат укрывания, прятанья, а его низкий социальный статус провоци-
рует появление среди обозначений захолустья дериватов глаголов со
значением ‘мусорить, грязнить’.
58 Ср. затулить ‘положить, убрать, спрятать так, что трудно найти; засу-
нуть’ [СРГС 2: 225], влг., сарат. затулятъ ‘прятать что-либо так, что невозмож-
но найти’ [СРНГ 11: 111], затьшпъ ‘спрятать’ [НОС 4: 81] и т.п.
‘прятать, укрывать’ (об этом гнезде см. в [Куркина 1985: 22]).
59 Влг. захлястить ‘забить сором’ [КСГРС].
Человек и пространство в зеркале язвпса
165
Цветовая символика
темный: серый —> влг. серое место ‘захолустье’ [КСГРС]. - Ср. также
литер, серый ‘необразованный, малокультурный’; тьма, темный —>
влг. тьма ‘даль, глушь’ [КСГРС], влг. темный угол, темное место
‘захолустье’ [КСГРС] ~ Ср. также: «Глухота, темнота: ни радива, ни
свету, а мы радёшэньки — жывём» [АОС 9: 128].
♦ Цветовая гамма захолустья, разумеется, выдержана в темных тонах;
тем самым цветовые модели обнаруживают переклички с моделями
«тенистое место», «за светом» и др.
ЖИВОТНЫЕ
дикие животные: волк —> забег волчий ‘глухое место’; медведь —>
литер, медвежий угол ‘отдаленное, глухое, малонаселенное место,
захолустье’. ~ Идиома медвежий угол отражена и в топонимии: на
территории Русского Севера имеется 8 таких топонимов — ур., лес,
пок. Медвежий Угол [В-Важ, Галич, Гряз, Ник, Сус, Тот, Чухл],
пок. Медвежий Уголок [Пыщ]60. Ср. также реализацию идеи уда-
ленности в мотивировочном контексте к названию р. Медвежья —
«Подальше от деревни, медведи там ходили» [В-Важ, Ногинская].
«Медвежья» символика имеет ярко выраженный идиоэтнический
колорит: к примеру, просторечная формула медведи по улицам хо-
дят однозначно прочитывается как ироничная характеристика от-
даленных (провинциальных) русских городов, а не каких бы то ни
было других.
ворон, ворона: ворон костей не носит ‘глухой, такой, где никто не
бывает’ [НОС 2: 137], костр. вороний край ‘захолустье’ [ЛКТЭ]. ~
Образ ворона (вороны) связывается с отдаленным и чужим про-
странством. Ср. литер, куда ворон костей не заносил (занесет, за-
носит) ‘очень далеко, в самые отдаленные места (выслать, загнать,
попасть и т. п.)’ [ФСлРЯ: 78], где наши вороны не летают ‘далеко,
в чужих краях’ [СПГ 1: 119] и др. Ср. также другие идиомы с «во-
роньей» тематикой, которые обнаруживают смысловую перекличку
с вышеприведенными: арх., куйб. карга <ворона> в пузыре принес-
ла ‘о нездешнем, приехавшем откуда-либо человеке’ [СРНГ 13: 82;
60 Любопытно, что медвежьи углы попадаются в топонимических мак-
росистемах Вологодской и Костромской областей, но не фиксируются в
Архангельской области — более «глухой» и «медвежьей». Очевидно, в то-
понимии Архангельской области такие названия не обладали бы различи-
тельной силой.
166
Раздел II
КСГРС], как ворона в когтях принесла ‘о чем-либо неожиданном’
[НОС 1: 137]61.
собака: собачья забегаловка ‘маленький переулок, глухая улица в селе-
нии’ [СПГ 1: 268], просторен, собачья дыра ‘глушь, захолустье’. ~ Ср.
также собачьи забеги ‘глухое лесное место’ [НОС 3: 4]62.
♦ Образы животных в языковом портрете захолустья немногочислен-
ны. Вполне естественно, что это дикие животные и птицы — волк,
медведь и ворон; образ собаки обязан своим появлением исключи-
тельно связанной с ним экспрессии (она присуща в какой-то мере и
образам других «захолустных» животных, особенно волка).
МИФОЛОГИЯ
ад: влг. адово дно ‘плохое для жизни место; захолустье’ [СГРС 1:13];
черт: просторен, чертова дыра, глушь, чертово место ‘о крайне глу-
хом и далеком месте’.
♦ Образы данной сферы говорят о некоторой мифологизации захолу-
стья, что объясняется восприятием его как чужого, неосвоенного
пространства. Впрочем, скорее здесь приходится говорить о нега-
тивной экспрессии, нежели полноценном проявлении концептуаль-
ной семантики соответствующих слов.
, * <
Перейдем к анализу «темной» лексики со значением ‘глушь, за-
холустье’. Изучаемый синонимический гиперряд (и другие ряды тако-
го типа) обнаруживает две основные (и взаимосвязанные) особенно-
сти: ярко выраженную экспрессию и высокий процент прозрачных
наименований, которые обусловливают появление обширного набора
мотивационных моделей, помогающих в интерпретации «темных»
слов. Опираясь на опыт изучения «захолустных» лексем с прозрачной
внутренней формой, рассмотрим отдельные слова и лексические
группы, представляющие этимологический интерес.
61 Отметим также, что в связи с образом ворона (вороны) не случайно
упоминание о костях: представление об этой птице в славянской традиции
устойчиво соотносится со смертью и миром мертвых [СД 1: 436^437] (ср.
еще, кстати, арх. вороний день ‘день похорон, седьмой день после смерти’
[СГРС 2: 181]), а идея смерти оказывается опосредованно связанной с идеей
далекого, чужого пространства.
62 Подача материала в словаре не позволяет понять, какого рода факт
представлен — апеллятивный или ономастический, но второе кажется более
вероятным.
Человек и пространство в зеркале языка
167
Затйн
Костр. затйн ‘захолустье’, ‘лесная глушь’ [ЛКТЭ] следует отне-
сти к гнезду праслав. Чъпд, *tqti ‘резать, рубить’. Словообразова-
тельная сторона этого решения не вызывает возражений; что касает-
ся семантики, то параллелью может служить отрёзъе ‘захолустье’,
прозрачно соотносимое с резать. Более отдаленные семантические
параллели — «захолустные» дериваты глаголов, обозначающих раз-
нообразные деструктивные действия, которые приводят, как прави-
ло, к нарушению целостности или отторжению чего-либо: бить,
гнуть, -шибать, бросить, кинуть, теснить и т. п. Таким образом,
захолустье осмысляется как нечто отторгнутое от целого, в том чис-
ле отрезанное.
Помимо этих внешних семантических параллелей к слову затйн
‘лесная глушь’, ‘захолустье’, в гнезде *twig, *t$ti ‘резать, рубить’ су-
ществует также параллель внутренняя. Это географический термин
утйн (с вариантами и производными), имеющий широкий спектр зна-
чений: утйн арх., влг. ‘межа, разделяющая земельные участки’, ‘кана-
ва, глубокая борозда на поле’, ‘небольшая узкая возвышенность’, арх.
утйна ‘сырая низменность’, утйнница ‘вспаханная поперек полоса на
краю поля’ [КСГРС], перм., вят. утйн, утйнок ‘узкая полоса, полоска;
полоса земли промеж двух пашен, обмежек, обложек’, твер. ‘узкая
полоса пашни, крайняя к лугу, к покосу’, ‘межа, граница меж тягло-
вых участков’ [Даль2 IV: 519], костр. заутйнки ‘поперечные полоски
на краю поля’ [ЛКТЭ] и др. Данное слово (в значении ‘рубеж, грани-
ца’) М. Фасмер считает образованным ъттин ‘надрез’, которое связа-
но чередованием гласных со ст.-слав, тьнж, тжти ‘резать’ < праслав.
*tbnp, другая ступень чередования — н.-луж. ton ‘вырубка в лесу,
лесосека’ [Фасмер IV: 174]. Близость значений утина и затина оче-
видна; если утйн по внутренней форме — место территориального
раздела, «разреза», то затйн — то, что находится за этим разрезом,
границей (ср. загранъе и замежёвка).
Если принять версию, соотносящую затйн ‘захолустье’ с *twip,
*tqti, то, очевидно, есть смысл пересмотреть этимологию слова затйн
‘тихая заводь у крутого берега, на повороте реки’, ‘пространство за кре-
постной стеной’, ‘тенистое место’, для которого М. Фасмер предполагает
соотнесение с литов, attienis ‘край русла реки с медленным течением или
стоячей водой’ [Фасмер II: 83]. Думается, что этимологический поиск в
данном случае должен направляться не «водной» семой, а семой «про-
странственной маргинальности», «отделенности», ср. также зап.-брян.
затйнъе ‘неблагоустроенные пригороды’ [СРНГ 11: 92]. Именно она бо-
лее уместна для объяснения значений вроде ‘пространство за крепост-
ной стеной’ и ‘тенистое место’; такие значения являются регуляр-
168
Раздел II
ными семантическими партнерами ‘захолустья’. Таким образом,
затйн ‘тихая заводь...’ изатин ‘захолустье’ имеют, как представля-
ется, общее происхождение (< *tbnp, *tqti ‘резать, рубить’).
Слова с корневым -теп-, -тип-, -тюп-, -чуп-
В данный ряд входят лексемы влг. затепяга, затипяга, зачепяга,
зачупяга ‘глушь, захолустье’ [КСГРС], затепяга ‘то же’ [СВГ 2: 154],
затюпяга ‘то же’, зачупага ‘глухое место’ [СРГК 2: 223]. Ср. также
семантически близкие влг. яга ‘грязное, топкое место’, за-
чепяга, затепяга ‘труднопроходимые заросли мелкого леса, кустар-
ника’, ‘топкое место на болоте’, затепяжный ‘труднопроходимый’
[КСГРС], затипяга ‘топкое место, заросшее деревьями и кустами’
[НОС 4: 77]. Думается, эти слова следует включить в число конти-
нуантов праслав. *tipati ‘ударять, бить, колотить’. Гнездо *tipati и
родственных ему *tepti, *tbpati рассматривается в ряде работ Ж. Ж. Вар-
бот [Варбот 1976: 32-36; 1985: 29-31; 1988: 68-69], которая приво-
дит среди продолжений *tipati слова со значениями ‘тихонько ударить’,
‘схватить, украсть’, ‘воткнуть’, ‘совать, пихать, набивать’, ‘мазать,
замазывать грязью’ и др. Как указывалось выше, семантика битья мо-
жет быть производящей для семантики захолустья; коррелирует с «за-
холустными» смыслами и семантика запихивания, а также пачкания.
Морфо-семантическое поле, куда входят эти слова, зафиксиро-
ванные в смежных севернорусских областях (влг., ленингр., новг.),
включает в себя бытующие в той же зоне (влг., карел, (рус.), ленингр.)
географические термины прибалтийско-финского происхождения, в
значениях которых прослеживается сема ‘угол, край —> узкий конец’
(дальнейшее развитие этой семы может дать значение ‘глухое ме-
сто’): арх., влг. чупа (чупарйна, чупка, чупоейна) ‘участок суши, мыс,
выступающий далеко вперед’, ‘деревенский проулок’, ‘залив в озе-
ре, реке’, ‘непроходимое место, глухой лес’ [КСГРС], чупа, чупка
‘участок покоса, окруженный кустами’ [Мызников 2003: 300-301];
об этимологии этих слов, связываемых с карел, ливв. сирри ‘угол’,
люд. сирр ‘конец мережи’, вепс, сир ‘угол, тупик, пространство, не
имеющее выхода’, см. [Мызников 2000: 301, 402-404; Субботина
1984: 55]. Лексемы такого рода могут скрещиваться с рядом искон-
ных затипяг, оказывая влияние на их форму и семантику.
Кроме того, в вологодских говорах обнаруживается еще одно
«захолустное» слово, пополняющее данное морфо-семантическое по-
ле, для которого более вероятно заимствованное происхождение (то
же, что и для вышеприведенных географических терминов на -чуп-).
Речь идет о влг. тюпки (реже ед. тюпка) ‘отдаленные деревни, захо-
лустье’, ‘дальний угол, конец’, ср. также поди в тюпки ‘бранно: пойди
Человек и пространство в зеркале языка
169
к черту’ [КСГРС]: по мнению О.В.Мищенко, это слово соотносимо с
тюпа, чупа ‘узкий конец мережи’, ‘конец, край’ [Мищенко 2000: 32]
(о дальнейших этимологических связях см. выше).
Отметим также, что изучаемое морфо-семантическое поле включает
слова на -чуп-, которые выражают семантику пачкания, грязи (их
ареал весьма широк, в том числе арх., влг., ленингр., новг.): зачупаха
‘грязь, распутица’ [СРГК 2: 238], влг. зачупатъ(ся) ‘замарать(ся),
запачкать(ся)’, арх., влг. зачупаха, чупа ‘грязнуля, неряха’ [КСГРС],
зачупёня ‘то же’ [НОС 3: 89] и др. Скорее всего, данные слова при-
надлежат к фонду экспрессивной исконной лексики звукосимволи-
ческой природы. Не играя роль непосредственных мотиваторов рас-
сматриваемых «захолустных» лексем, эти языковые факты вносят
свой формально-смысловой вклад в функционирование словесного
пространства на -теп-1-тип-/-тюп-1-чуп- и пр., ср. семантически сход-
ные арх. захламустъе, влг. захлястное место ‘глушь, захолустье’.
Таким образом, славянские и прибалтийско-финские данные об-
разуют клубок форм и значений, в котором все же просматриваются
«концы», имеющие разную лингво-генетическую природу.
Слова с корневым -толш-, -толч-, -тош-, -туш-, -тыш-
Данная группа представлена богатым набором существительных
и прилагательных с популярнейшей для «захолустной» лексики при-
ставкой за-, затолшъ, затошйна, затошъ, затышъ ‘глухомань, захо-
лустье’ [КСГРС], затдлша, затолыиё [СРГК 2: 217-218], новг. затолшъ,
влг. затдшъе, затошъ ‘то же’ [СРНГ 11: 97, 104], затдлшный, за-
тошндй, затошный, затушный ‘захолустный’ [КСГРС], затдлшный
‘то же’ [СРГК 2: 218], новг. затдлчный, затолшндй, затдлшный, влг.
затдчный, затдшный ‘далекий, глухой, пустынный’ — «Затошное —
отдаленное, в малонаселенном крае находящееся место» [СРНГ 11:
97, 104], ср. также затушный, затдшный ‘дремучий, труднопроходи-
мый’ [СВГ 2: 156], затдчный ‘отдаленный, пустынный, находящийся
в глуши, на отшибе’, влад. затдчная дорога ‘малоезжая, глухая, про-
селочная, затолчная63’ [Даль2 I: 651].
Перед нами вновь морфо-семантическое поле, в образовании ко-
торого принимает участие несколько гнезд.
1. Слова, образованные от географического термина арх. тдлша,
тдвша ‘хороший строевой лес на сухом месте’, ‘лесной массив, приле-
гающий к болоту’ [КСГРС] < толстый. Именно такое происхожде-
ние предполагает О. В. Мищенко для форм вроде затолшъ, затошйна
63 Слово затолчная, используемое в дефиниции, В. И. Даль толкует в статье
затолакиватъ'. новг. затолчная дорога ‘проселочная, малая’ [Даль21: 650].
170
Раздел II
‘захолустье’; по ее мнению, эта версия подтверждается тем, что лек-
семы тдлша, тдвша распространены в зоне Русского Севера, смеж-
ной с зоной лексем типа затолшъ [Мищенко 2001: 65-66]. В этом
случае мотивационной параллелью для «захолустных» затолшей
будут залесья, которые тоже дают интересующую нас семантику.
Однако, думается, что для объяснения происхождения указанных
слов связь с лексемой тдлша недостаточна; здесь несомненно про-
явление контаминационных процессов с гетерогенными актантами.
2. Дериваты глагола ткнутъ/тыкатъ (ср. заточный ‘к заточе-
нию, ссылке относящийся; ссыльный, ссылочный’ [Даль2 I: 651], за-
точиться ‘спрятаться, укрыться’ [СВГ 2: 155], заточиться ‘забраться,
забиться куда-нибудь’, заточка, затычка ‘то, чем затыкают какое-н. от-
верстие’ [ПОС 12: 194] и т. п.): семантика затыкания — соотносимая с
идеей засовывания — включена в мотивационную «программу» «за-
холустья», что объясняет форму заточный.
3. Дериваты глагола толочь. Участие в изучаемом поле формаль-
но-смысловой «струи», идущей от глагола толочь, подтверждается
тем, что на базе этого глагола возможно образование слов со значени-
ем ‘захолустье’, не требующих для своего объяснения иного «генети-
ческого материала»; семантика толчения, толкания вписывается в ряд
других деструктивных смыслов, являющихся производящими для
«захолустных» лексем (см. выше). В приведенном выше ряду влияние
со стороны толочь испытали, очевидно, формы типа затдлчный (или
вообще являются образованными от этого глагола).
4. Продолжения Чих-/Чъх-. представленного в тухлый. «Обоня-
тельная» мотивационная модель может быть опорной при образова-
нии «захолустных» лексем, ср. принадлежащие к этому же гнезду за-
ддшъе ‘глухое безлюдное место, глушь’, захлище ‘отдаленное от цен-
тра место, захолустье’. Участие этой линии в рассматриваемом ком-
плексе наиболее вероятна для формы затушный.
5. Продолжения Чызсъпъ, ЧызсътН. связанного с тоска, ср. во-
рон. затошно ‘тяжело, плохо; тошно’ [СРНГ 11: 104]. Эта линия, ду-
мается, не может быть ведущей, базовой, однако она дает ту негатив-
ную экспрессию, которая, несомненно, существенна для эмоциональ-
ного фона «захолустья»64.
64 Современное языковое знание, особенно внешнее по отношению к
диалектной лексической системе, может считать слово тошный производя-
щим для форм типа затдшный (именно так поначалу был воспринят сотруд-
никами ТЭ УрГУ записанный в Вологодской области контекст «Кто таких
молодых девок послал в наше затошное место, женихов-то прокараулите» и
другие контексты такого рода).
Человек и пространство в зеркале языка
171
Слова с корневым -тур-, -тор-, -тыр-
К этому ряду принадлежат слова влг. бутырки ‘отдаленное се-
ление; край, конец села, деревни’ [СГРС 1: 234], костр. закатурки,
закатырки ‘отдаленная деревня, захолустье’ [ЛКТЭ], зататурка, за-
тотуръе, затотурка [НОС 3: 79], зататдрок, зататурок, зата-
туръе [ПОС 12: 169], арх. затура, влг. оботурок, охутуръ, сутыръ,
хутыръ ‘то же’ [КСГРС].
Экспрессивный характер данных образований обусловливает ис-
пользование в их составе экспрессивных архаических префиксов бу-
(бутырки), ка- (закатурки, закатырки), ху- (охутуръ, хутыръ), а также
вставного элемента то-/та- (затотуръе, зататурка и т. п.)65; в слове
сутыръ выделяется архаический префикс су-. Как отмечает И.П.Пет-
лева, гнезда -тур- и -тор- тяготеют к использованию вставок -то- и
-ту-, которые сочетаются с различными префиксами [Петлева 2003: 36].
Добавим, что высокая активность вставки -то-/-та- перед корнем с тем
же звуковым комплексом вызвана тем, что образовавшееся при этом ре-
дуплицированное -тату- (-тоту- и т. п.) усиливает эффект экспрессии.
Осуществляя корневую идентификацию этих слов, следует пред-
положить, что здесь соединились продолжения двух праславянских
гнезд — гнезда *turiti/*tyrati (с семантикой толчка, касания [см. Варбот
1993: 167-169]) и *terti ‘тереть’; при этом *tur-/*tyr- дает огласовки -тур-/
-тыр-, a *ter--огласовку -тор-. Это разграничение является сугубо
формальным; смысловая сторона говорит о лидерстве семантики *turiti
(таким образом, в данном случае реализуется тот тип взаимодействия
гнезд, который предполагает усвоение элементами одного из сблизив-
шихся формально гнезд семантики другого [см. Варбот 20036: 58]).
Для того, чтобы нарисовать семантический фон, сопутствующий
появлению «захолустных» значений, представим набор близких «за-
холустью» смыслов у слов на -тыр-/-тур-/-тор-, ‘запихать, засу-
нуть’‘положить так, что трудно найти’—диал. шир. распр.
затурйтъ, затуторить, затыритъ [СРНГ 11:113-114, 118], затурйтъ,
затуторитъ [КСГРС], зататуритъ, затутыритъ, затыритъ, затурйтъ,
затуторить, заторкать, затюряхатъ [СРГС 2: 225], затуторитъ,
затутыритъ затыритъ [ПОС 12: 203, 207] и др.; ‘выгнать, отда-
лить’ — смол, бутурйтъ ‘послать куда-либо, заставить делать что-ли-
бо’ [СРНГ3:315], просторен, вытурить ‘выгнать, прогнать’, влад., смол.,
тобол. защуривать ‘отправлять, засылать куда-либо далеко’ [СРНГ 11:
113]; ‘развернуть, повернуть в другую сторону’ — смол.
бутурём ‘кверху ногами’ [СРНГ 3:315], влг. заабатуритъ, заотуритъ,
65 Об этих редких словообразовательных явлениях см. серию статей
И. П. Петлевой [1980, 1986, 1996, 2003 и др.].
172
Раздел II
оботуритъ ‘развернуть в противоположном движению направлении’
[КСГРС], волж., вят. защуривает, затурйло судно (плот) ‘заворачива-
ет судно, плот сильным течением, ветром’ [СРНГ 11: ИЗ], (на) утур
‘назад, в обратном направлении’ [ФСРГС: 206], нвсиб. отурйтъ ‘по-
вернуть что-либо другим концом, в другую сторону’ [СРНГ 24: 347];
‘угол, место в стороне’ — на закатурках ‘в стороне от че-
го-либо’ [ПОС 11: 228], зататурок, зататурка ‘один из углов в доме,
комнате’; ‘укромное место у дома, на задворках’ [ПОС 12: 169], за-
урал. заутдр ‘угол, укромное место’ [СРНГ И: 136], арх., симб.
бутырки ‘крестьянский двор, стоящий в стороне от села, деревни; ху-
тор’, симб. ‘дом, стоящий особняком, на отшибе’ [СРНГ 3: 317]; влг.
сутыръ ‘угол; участок леса’ [КСГРС]66; ‘глупый человек’ —
оботур ‘глупый человек’ [КСГРС], забайк. отурятъ ‘сделать бестол-
ковым, непонятливым, забитым’ [СРНГ 24: 348] и т. п.
Для арх. затура — судя по его словообразовательной структуре —
можно предполагать не столько производность от турить, сколько
преобразование — из-за скрещивания с турить — исходного затула
‘прикрытие; тень, затененное место’ (<— затулйтъ ‘прятать, укры-
вать’), фиксирующегося на той же территории (ср. также арх. зауту-
лъе ‘глушь, захолустье’).
Отдельных комментариев требуют и слова охутуръ, хутыръ.
Представляется, что они тоже должны быть квалифицированы как
производные от -тур-1 -тыр- с экспрессивным ху- (то же можно ска-
зать о глаголе захуторитъ ‘засунуть, запихать’ [ПОС 12: 246]). Менее
вероятно считать их дериватами -хут- (основа *xut- связана чередова-
нием с *xytati, *xvatati [ЭССЯ 8: 118]): формально такую связь пред-
положить можно; если говорить о семантике, то значение ‘хватать’
может продуцировать значения ‘похищать’ —> ‘прятать’; последнее
встречается среди семантических связей ‘захолустья’. Однако такое
смысловое сопоставление более натянуто, чем предыдущее решение;
кроме того, в гнезде *xut- указанная выше семантика не засвидетель-
ствована [см. ЭССЯ 8: 118] — хоть и потенциально возможна67. Фор-
66 Семантика укромного места, угла тесно связана с семантикой отда-
ленного места, которая имплицитно присутствует также во фразеологизмах
курск. пойди к чертям на бутырки ‘бранно’ [СРНГ 3: 317], выходить турки
и борки ‘много ходить по лесам, по полям’ [СПП: 74].
67 Слова типа влад., курск., смол, захутатъ ‘закрыть, затворить (дверь,
окно ит. п.)’, влад. захутка ‘затвор у ворот’ [СРНГ 11: 167], захутатъ ‘за-
крывать, затворять’, захутка ‘металлическая крышка, закрывающая дымо-
ход’ [ПОС 12: 245], которые можно было бы рассматривать в связи с семан-
тикой прятания, производны, очевидно, от -кут-. Об этом говорит наличие
Человек и пространство в зеркале языка
173
мально-смысловая близость охутуръ, хутыръ к литер, хутор (не
имеющему убедительной этимологии, см. [Фасмер IV: 286-287]) за-
ставляет задуматься если не об их общем происхождении (этот во-
прос требует отдельного пристального рассмотрения), то хотя бы
взаимовлияниях в процессе функционирования.
Как следует из приведенного выше материала, «захолустные»
лексемы нередко являются результатом различных контаминацион-
ных процессов. Перечислим некоторые другие (требующие менее
развернутых комментариев) случаи «захолустных» контаминаций:
олон. задвённый ‘захолустный, глухой’ [СРНГ 10: 44] (ср. также арх.
задвённый ‘заброшенный, покинутый’, ‘преданный забвению, за-
бытый’ [Там же]) возникло в результате контаминационных про-
цессов, актантами которых могли стать: 1) причастие от глагола
бить типа забённый ‘далекий, захолустный, глухой’, забиённой,
забиённый, забъённый, забъённой ‘то же’ и т. п.; 2) причастие от
глагола забыть, ср. забеённый ‘захолустный, глухой’ (это слово
само по себе возникло не без влияния причастий от бить, ср.
предыдущие примеры, зафиксированные на той же территории);
3) топоним Двина — в составе конструкции за Двиной, на базе ко-
торой образовано арх. задвёнщина ‘о том (о тех), кто живет на
другой стороне Северной Двины (в глухих местах) ’ [СРНГ 10:
44-45]. Как показывает опыт полевой работы в Архангельской
области, жители разных берегов Северной Двины, пересекающей
всю область с юго-востока на северо-запад, действительно, до-
вольно резко противопоставляют правый берег, более «цивилизо-
ванный» и густонаселенный, левому — «дикому»;
•захолупъе ‘глухая провинция’, ‘глухое, заброшенное место’ [ПОС 12:
239], костр. захалупка ‘отдаленный глухой конец деревни’ [ЛКТЭ]
являются, вероятно, результатом притяжения дериватов глагола ко-
лупать вроде заколупка, заколупинка ‘отдаленное, глухое место,
глухой угол’ [СРГК 2: 136], влг. заколупина ‘ямка в стене’, ‘угол в
доме или на дворе’ [СРНГ 10: 145], влг. отколупка ‘укромный уго-
лок’ [КСГРС]68 (как говорилось выше, обозначения деструктивных
действий такого рода могут стать мотивирующими для «захолуст-
ной» лексики) и слов типа разг, халупа ‘об убогом, неказистом жи-
лище, строении’, холупа ‘старая постройка’ [КСГРС], захалупинка ‘о
идентичных параллельных форм с -кут- (более многочисленных и хорошо
соотносимых с семантикой «кутания»); явление чередования заднеязычных
известно севернорусским говорам.
68 Ср. также заколупок ‘темное, укромное место, уголок’ [СРГК 2: 136], влг.
заколупина ‘ямка в стене’, олон. ‘угол в доме или на дворе’ [СРНГ 10: 145] и др.
174
Раздел II
небольшой, невзрачной на вид постройке’ [ПОС 12: 221]. Не исклю-
чена здесь и еще одна линия — линия корня *xal-l *xol- с базовым
значением ‘скрести, резать’, ‘чистить’ [см. ЭССЯ 8: 13, 61], который
несомненно участвует в образовании многих «захолустных» слов
(самого захолустья?);
яросл. захлёсъе ‘глушь, захолустье’ [ЛКТЭ] можно рассматривать
как результат скрещивания слова залесье и глагола хлестать (ко-
торый может выступать не только в общенародном значении, но
и в диалектных, например, арх. ‘забивать сором’ [КСГРС]). Образ
залесья активно используется при номинации захолустья (приме-
ры см. выше); дериваты глагола хлестать тоже могут давать
близкие «захолустью» смыслы, ср. оренб. захлесть ‘поле, плохо
обогреваемое солнцем, находящееся в тени’, моек, захлёстъе ‘не-
плодородная почва’ [СРНГ 11: 151].
костр. заубёя ‘отдаленная деревня, глушь’ [ЛКТЭ], очевидно, воз-
никло в ходе аттракции широко распространенных форм типа
вост., влг., новг., перм., яросл. заувёя, заувёй, заувёйка ‘поле око-
ло леса, находящееся постоянно в тени; тенистое место’ [СРНГ
11: 124], костр. заувёя ‘участок земли в тени, где ничего не рас-
тет’ [ЛКТЭ], производных от веять, к глаголу бить69;
захалина ‘отдаленное место, глухомань’ (а также ‘тенистое место,
где плохо всходят посевы’) [КСГРС] фиксируется в Верхнетоем-
ском районе Архангельской области — в ареале географического
термина халъя ‘бугор, возвышенность’, ‘островок на болоте’, ‘мас-
сив строевого леса’, ‘пустое, лишенное растительности место’ (по-
следнее значение существует также в варианте халина) [КСГРС],
который этимологизируется из прибалтийско-финских языков,
ср. карел, harja, harju ‘вершина, гребень (горы); холм, гора; песча-
ная отмель’, фин. harja ‘вершина, гребень горы’ и др. [Теуш2003:
104]. Очевидно, слово захалина возникло в результате скрещива-
ния этого заимствованного термина и какой-то исконной лексемы
с упоминавшимся выше корнем *xal-l*xol-, закономерно дающим
семантику ‘пустого места’ — и далее ‘тенистого места’, ‘захолу-
стья’ (ср. влг. заухалок ‘глушь, захолустье’ заухалок, заухалочек,
заухалье ‘укромное место’ [КСГРС], для объяснения которого до-
статочно «ресурсов» корня *xal-/*xol-);
69 Возможно, для объяснения заубёи предположение о контаминации
является излишним — и «ресурсов» глагола бить вполне достаточно (ср.,
кстати, забёя, забйва ‘отдаленное глухое место’), однако «словообразова-
тельный прецедент» и близкая семантика заувей все же заставляет предпо-
честь контаминационную версию.
Человек и пространство в зеркале языка
175
костр. закомурок, закомырок, закомыръе, закомдръе ‘захолустье’ [ЛКТЭ]
тоже могли быть результатом соединения нескольких линий: одна
идет от слова конура ^ — а точнее, его производных типа законурок
‘глухое место, глушь’ [ПОС 11: 259], латыш., литов, (рус.) законурки
‘закоулки’ [СРНГ 10: 551] (ср. также законуритъся ‘уйти от людей,
стать отшельником’ [СРГС 2: 182]); другая, возможно, от какого-то
глагола с корневым -мыр- (см. [ЭССЯ 21: 42^43]) вроде замыритъся
‘спрятаться, укрыться где-л.’ [ПОС 11: 346], костр. замыритъ ‘спря-
тать’ [ЛКТЭ], пск., твер. мырнутъ ‘кинуть резко, швырнуть’, терск.,
ульян., перм. мырятъ ‘быстро исчезать из виду, прячась, скрываясь
куда-л.’ [СРНГ 19: 58, 60] ит. п. Есть смысл допустить и влияние
слова коморка. ср. предположительно с ним связанные (или испы-
тавшие его влияние) курск. закомдрок ‘место между стеной и пе-
чью’, дон. закомдрка ‘углубление в наружной стене печи, куда кла-
дут разные вещи для просушки, печурка’ [СРНГ 10: 148].
Выше перечислены далеко не все случаи скрещиваний, но и приве-
денного перечня достаточно, чтоб говорить о чрезвычайно высокой кон-
таминационной активности «захолустной» лексики. Почему это происхо-
дит? Во-первых, изучаемая лексика нетерминологична (хоть и «выраста-
ет» зачастую из географической терминологии), что делает возможным
сосуществование в одном функциональном языковом микроконтинууме
более одной номинативной единицы «на единицу смысла». Во-вторых,
эта лексика обладает большим зарядом экспрессии, что стимулирует ее
варьирование. Третья причина более специфична и выделяет «захолуст-
ную» лексику из других экспрессивных гиперрядов: значительная часть
элементов изучаемого ряда характеризуется структурным единообразием:
локативная модель с приставкой за- (со значением пространства, находя-
щегося позади, по ту сторону того, что названо мотивирующим словом).
Это словообразовательное клише обладает ясным и богатым содержанием
(по сравнению со многими другими словообразовательными моделя-
ми) и поэтому легко «прочитывается» наивным сознанием, что увели-
чивает продуктивность модели и облегчает вовлечение в эту воронку все
нового словесного материала. Однотипное оформление увеличивает кон-
таминационные шансы слов. В силу этих причин в некоторых случаях
элементы ряда и их семантические «соседи» (таковыми оказываются
ряды слов со значением ‘тенистое место’, ‘угол, место в стороне’,
‘глухой лес’ и др.) образуют своеобразные сгущения, блоки — группы
70 Следует учесть не только общенародное значение этого слова, но и
диалектные — вроде ряз. ‘пространство в стене между двумя рядами кир-
пичной кладки’, влг. ‘глубокая яма в реке’ [СРНГ 14: 271] и др.
176
Раздел 11
слов, связанных непрерывной цепью звуковых колебаний. Чем пред-
ставительнее такой блок, тем большее количество различных этимо-
логических линий можно предполагать в его составе, — а это, конечно,
резко снижает степень достоверности каждой из них (и исследователь
сталкивается с почти неразрешимым выбором: объяснять звуковое
варьирование появлением нового корневого актанта — или думать о
фонетических переходах и мутациях на базе одного корня). Самым
обширным блоком такого рода оказывается тот, в который входит са-
мо слово захолустье (некоторые элементы этого блока — к примеру,
захлесъе, захолупье, захламустъе, захалина, заухалок — приводились
выше), не имеющее пока надежной этимологии. Но это — предмет
дальнейших исследований.
2.5. «СВОИ» И «ЧУЖИЕ» ЗЕМЛИ
Для изучения особенностей языкового моделирования простран-
ственных отношений в рамках определенной традиции (в нашем слу-
чае речь идет о русской народной языковой традиции) весьма плодо-
творно изучение культурных коннотаций прецедентных геогра-
фических названий, т. е. географических имен, которые используются
не только в своем первичном значении (как маркер конкретного гео-
графического объекта), но приобретают дополнительные значения,
отсылая своей внутренней формой к важному для данной традиции
прецеденту (подробнее см. параграф 1.2, с. 75-79).
Функционируя вне первичного топонимического употребления,
прецедентные географические названия в системе говоров встречаются в
качестве вторичных или перенесенных топонимов (д. Москва [Ник], бол.
Байкал [Ревд], с. Маэкса на южном берегу Белого Озера —> д. Маэкса на
северном берегу [Бел]), дают оттопонимические дериваты в нарицатель-
ной лексике (норвежки ‘лыжи, подбитые мехом’ [СРГСК: 306], костр.
завражский говорун ‘немой человек <по дому глухонемых в с. Завра-
жье Костромск. обл.>’ [ЛКТЭ]), наблюдаются в составе фразеологизмов
(общенар. во всю Ивановскую ‘что есть мочи, изо всех сил’). Трансони-
мизированные формы вроде прозвищ Одесса или Волга [АКТЭ] в гово-
рах довольно редки. Этот материал помогает представить особенности
восприятия «круга земель», сложившиеся в народном сознании.
В настоящем параграфе прецедентные топонимы будут проана-
лизированы в семантико-мотивационном и прагматическом аспектах.
В географическом континууме можно априорно выделить два пояса:
микромир (для традиционного сознания это мир соседних деревень,
небольших речек, холмов, дорог и т. п., который в той или иной степени
Человек и пространство в зеркале языка
177
хозяйственно освоен) и макромир — «чужие земли». Макромир, в
свою очередь, включает в себя «заморские страны», которые, как пра-
вило, не пропущены через призму личного опыта, никогда не виданы
воочию, и некоторую среднюю зону, куда входят географические макро-
объекты своей страны. Последние, как правило, пространственно удале-
ны от носителя традиционной культуры, но при этом обладают широкой
известностью. Если спроецировать эту конструкцию на топонимикон, то
микроуровень может быть представлен деревней Сосновка и речкой Та-
лица. макроуровень — с одной стороны, именами Париж и Сион, а с
другой — топонимами Москва и Волга. В качестве прецедентных могут
функционировать как топонимы макроуровня, так и микроуровня.
Пытаясь осуществить самонаблюдения и примерить априорное
деление географического пространства на микро- и макроуровень к
представлениям о мире носителя современной книжной культуры,
следует предположить, что микроуровень даст очень малое количество
прецедентных топонимов, а макроуровень представит значительное ко-
личество прецедентов. Иными словами, современный горожанин очень
редко использует в качестве прецедентных топонимов, к примеру, назва-
ния окружающих его улиц, пытаясь осмыслить через их посредство дру-
гие явления действительности71; в то же время реалии внешнего мира,
освоенные через какой-либо культурный фонд (неважно, «высокая» это
культура или «низкая», массовая), воспринимаются как надежный инст-
румент для дальнейшего познания действительности. Как показывает
«Словарь коннотативных собственных имен» Е. С. Отина, в составе
103 прецедентных топонимов, входящих в лексикон носителя русского
литературного языка, функционируют 69 обозначений «чужих» земель и
вдвое меньше — 34 — «своих» (Алтай. Амур, Арарат, Арбат, Бородино,
Воркута, Гуляйполе, Душанбе, Запорожская сечь, Казбек, Камчатка,
Кисловодск, Конотоп, Криворожье, Магнитка, Москва, Нарын, Поше-
хонъе, Расея, Русь, Рязань, Сахалин, Сибирь, Соловки, Сыктывкар, Таш-
71 Ср., однако, примеры из языка старой Москвы: на Ваганъково про-
дать ‘продать «обреченную» вещь, заведомо плохую, испорченную ит. п.’,
с мошкаря на Кутафью башню перешить ‘перешить неузнаваемо вещь <в
речи московских портных>’, ордынка ‘дешевая баранина’, дороже Каменно-
го моста ‘о чем-то очень дорогом <Каменный мост, отстроенный в XVII в.,
был по тем временам очень дорог>’ [Елистратов: 90, 236, 357, 405]. Со вре-
менем происходило разрушение той культурной микросреды, которая поро-
ждала подобные номинации, поэтому в речи жителей современного мегапо-
лиса такие факты встречаются реже. То же можно сказать о топонимиконах
других населенных пунктов: чем более замкнутым является культурный
«микроландшафт», тем активнее продуцируются прецедентные топонимы.
178
Раздел II
кент, Тмутаракань, Тюмень, Урюпинск, Хацапетовка, Ходынка, Хохло-
ма, Черемушки, Чухлома12} [Отин СлК]. Для носителя современной го-
родской культуры географическая реальность, воспринимаемая как ис-
точник прецедентов, нередко не содержит явно выраженных границ ме-
жду освоенным практически и освоенным виртуально, между «своим» и
«чужим» пространством. Эта картина должна отличаться от той, которая
характерна для традиционного языкового сознания.
Рассматривая прецедентные географические имена в русских на-
родных говорах, сначала попробуем найти ответ на следующие взаи-
мосвязанные вопросы, определяющие особенности структурирования
«круга земель» в народном языковом сознании72 73: какова градация
пространственного континуума в сознании носителя языка, какие
«пояса» в нем могут быть выделены и насколько тщательно освоен
каждый из них; каковы характеристики «своих» и «чужих» земель в
сознании носителей традиционной культуры — качественные, лока-
тивные и т. п.; какой логике подчиняется временная динамика изу-
чаемого материала, можно ли говорить о хронологии данных номина-
тивных фактов, отражающей формирование «расширяющейся все-
ленной» в представлениях носителей традиционной культуры?
Как структурируется пространство в традиционной языковой
картине мира?
Диалектный материал обнаруживает ощутимый перевес преце-
дентных топонимов микроуровня над остальными. При этом
следует учесть, что мы работаем с заведомо неполными данными;
картина могла бы быть полнее, если б соответствующие факты были
исчерпывающе зафиксированы в словарях: диалектные лексикографы
нередко отказывают лексике и идиоматике, образованной на базе ме-
стной топонимии, в праве на словарную фиксацию. Однако даже те
факты, которые имеются в нашем распоряжении, показывают, что
микроуровень разработан весьма подробно и детально.
Во-первых, наименования объектов микроуровня74 широко исполь-
зуются для фиксации ориентационных отношений. Наиболее по-
казательны в этом плане наименования метеорологических явлений,
72 «Свои» топонимы понимаются нами в данном случае широко: это на-
звания, присутствовавшие на карте бывшего СССР.
73 О структурировании «круга земель» в традиционной фольклорной
(«былинной») картине мира см. в [Неклюдов 2004].
74 К числу названий объектов микроуровня мы относим не только наиме-
нования деревень, сел, небольших рек и т. п., но и обозначения более крупных
объектов — уездных и губернских городов (в том случае, если оттопонимиче-
ский дериват функционирует в зоне соответствующего уезда или губернии).
Человек и пространство в зеркале языка
179
имеющих четкую локативную привязку, в первую очередь — ветров:
ветер от мокрого Сельца ‘ветер, дующий от деревни Сельцо’, буха-
новец ‘западный ветер со стороны деревни Буханово’ [СРГК 1: 86,
146]; из-за Спирина, из-за Монастыря, из Ондричева, из Подпялузъя
ветер ‘ветер, дующий со стороны соответствующих деревень Архан-
гельской и Вологодской областей’ [КСГРС], влг. белозёр ‘северо-за-
падный ветер (со стороны Белого озера)’ [СГРС 2: 92], пск. вайварка
‘северо-западный ветер с Вайварских возвышенностей’ [СРНГ 4: 15]
и др. Апофеозное проявление этой номинативной тенденции состоит
в использовании в названиях ветров имен конкретных людей, место-
жительство которых становится ориентиром, — ср. арх. проня дует,
пахомко задул, ветер с Зенка (< Зиновий) или из-за дедушки Матвея
[КСГРС]. Популярны также оттопонимические наименования при
обозначении сезонных явлений, связанных с режимом замерзания рек:
арх. вычегда ‘пена, плывущая по Северной Двине после ледохода на ее
притоке — Вычегде’ [СГРС 2: 275], арх. тинёвка (<— р. Тинева, приток
р. Выя) ‘грязь на р. Выя во время ледохода’, влг. лёденъга (<— р. Ледень-
га, приток р. Сухона) ‘лед на р. Сухона во время ледохода’ [КСГРС] и др.
Фиксируются также наименования зари, тумана, росы: корелка (<— Ка-
релия) ‘вечерняя заря’ [СРГК 2: 422], арх. шенкурская (<— Шенкурск, р-н
Архангельск, обл.) ‘то же’, арх. ленка (<— р. Ленка, Ленек, р-н Архан-
гельск. обл.) ‘туман’, влг. устюжские росы (<— гор. Великий Устюг)
‘утренняя роса’ [КСГРС] и т. п. (наименования такого рода обычно
распространены на территориях, находящихся к востоку или западу
от тех, которые обозначены исходным топонимом: вечерняя заря вид-
на на западе, туман или роса связаны с рассветом, а следовательно, с
востоком). Гораздо реже «ориентирующая» мотивировка встречается
в названиях артефактов: терск. умбская ‘одна из сторон невода’ [СРГК 6:
611] (очевидно, речь идет о ставном неводе, одна из сторон которого
указывает в сторону Умбы); влг. кузинская сторона — устюжская
сторона ‘стороны приспособления для сушки гороха (шорома)'. одна
направлена к пос. Кузино, другая — к Великому Устюгу’ — «Шором
поставишь, дак кузинская сторона и устюжская сторона. Устюжская сто-
рона лучше сохнет, на солнышко дак» [КСГРС].
Ориентационные отношения с участием ориентиров «местного
значения» часто оказываются отраженными в микротопонимии. В со-
ставе топонимов могут функционировать наименования какого-либо
известного в округе микрообъекта, которые ориентируют по отноше-
нию к последнему объект наблюдения. Например: в названиях неко-
торых полей вокруг д. Копосово [Котл] запечатлены наименования
деревень, в сторону которых расположены эти поля: «Поле Удимское
в сторону Удимы, а Петровское — по дороге на Петровскую; на По-
180
Раздел II
чинок дорога шла через Починовский Угор» [Котл, Копосово]. Ср.
еще примеры: пастб. Шабановская — «У нашей деревни в сторону
Шабановой» [Вель, Никитинская], бол. Осецкое — «В сторону д. Осе-
ка» [Кад, Крюково], поле Пошехонъе — «Там как раз с Архангельска
дорога шла прямо на Пошехонье» [Он, Верховье] и мн. др. Этот
принцип часто реализуется в названиях частей населенных пунктов,
ср. систему наименований частей д. Пеньево — Святогорский Край,
Шетеневский Край, Воронъевский Край (в сторону, соответственно,
Святогоръя, Шетенево, Воронъево) [М-Реч]. В таких топонимах,
отражающих реальные пространственные отношения между объекта-
ми, «прецедентность» (т. е. определенная «символизация», «укрупне-
ние» конкретного значения топонима) ощущается минимально, но все
же она присутствует, поскольку выбор именно данного, а не другого
названия на роль ориентира, представляющего какое-либо направле-
ние движения, говорит о значимости соответствующего объекта.
Кроме того, прецедентные топонимы представлены в идиомати-
ке, обозначающей ориентацию при передвижении. Если в речи горо-
жан идиоматика такого плана оперирует названиями объектов макро-
уровня (ср. выражения типа через Харьков в Петербург), то в народ-
ной языковой традиции фигурируют объекты микроуровня: не хватя
Боровую да в Мошево ‘не заметив, пройти мимо того, что никак нель-
зя обойти’ [Прокошева: 106], через Сиву в Карагай ‘в обход, околь-
ными дальними путями’ [СПГ 2: 526], арх. через Ширшу в Маймаксу.
влг. в Плёсо через Кишкино ‘то же’ [КСГРС] и т. п.
Во-вторых, весьма популярны названия объектов микроуровня в
релятивных номинациях, к которым в первую очередь принадлежат
обозначения фактов материальной культуры, изготовленных в опреде-
ленной местности. Ср., к примеру, названия видов сох по месту их изго-
товления, распространенные на Урале: байкалка (<— с. Байкалово), кун-
гурка (<— Кунгур), пермянка («—Пермь), тагйлка (<— Нижний Тагил)
[СРГСУ 1: 31; 2: 74; 4: 22; 6: 85]; наименования видов речных судов, об-
разованные по тому же принципу: кенозёрка (<— оз. Кенозеро) ‘килевая
лодка с приподнятой носовой частью’ [СРГК 2: 339], кйжанка (<— с. Ки-
жи) ‘лодка с высоко поднятым носом и кормой’ [СРГК 2: 344], волж. ор-
ловка ‘небольшое грузовое судно (получившее название от с. Орловка)’
[СРНГ 23: 344], твер. осташевка (<— Осташковск. уезд Тверск. губ.)
‘плоскодонное речное судно’ [СРНГ 24: 62]; в этот ряд можно включить
также наименования телег, сортов овощей, кушаний и т. п.
Кроме того, достаточно распространены оттопонимические име-
нования в сфере нематериальных этнографизмов, например, в обозначе-
нии манеры исполнения песен, плясок, хороводов, появившихся в рам-
ках определенной локальной традиции: ворон, саратово (<— гор. Са-
Человек и пространство в зеркале языка
181
ратов) ‘исполнение частушек под сопровождение гармони’ [СРНГ 36:
136], арх. ваганъская (<— р. Вага) ‘вид кадрили’, арх. верхнетдемка
(<— с. Верхняя Тойма Архангельск, обл.) ‘танец, местная разновид-
ность кадрили’ [СГРС 2: 5, 67], вытегдра (<— гор. Вытегра) ‘танец,
вид кадрили’, капшинская (<— пос. Капшинский Ленингр. обл.) ‘та-
нец’, оятская ‘кадриль, распространенная преимущественно на Ояти’
[СРГК 1: 302; 2: 327; 4: 362], арх. чащёеица (<— д. Чащевица Архан-
гельск. обл.) ‘вид пляски’ [КСГРС] и мн. др.
К релятивным номинациям следует отнести также обширную
группу эвфемистических фразеологизмов, которые выражают понятие
смерти через обозначение местного кладбища, например: арх. пойти
на Угол, влг. пойти на Попову Гору, арх. уйти к Ерёме, арх. собрать-
ся на Бор, влг. поспеть на Килин о, влг. пойти на Петушково, арх. уй-
ти на Падеръмо и др. ‘умереть’ [КСГРС] (Угол, Попова Гора, Пе-
тушково и т. п. — названия кладбищ в Вологодской и Архангельской
областях). В данном случае идею смерти можно считать составляю-
щей коннотативного фона соответствующих топонимов.
Помимо локативных и релятивных признаков, оттопонимические
номинации могут опосредованно выражать качественную харак-
теристику «своих» земель. Это природные условия: влг. вага-
новская зима (<— д. Ваганово Вологодск. обл.) ‘первый осенний или
поздний весенний снег, который быстро тает’ — «Вагановская зима —
снег выпал и растаял; в Ваганове не хватало корму, вот бог их и пу-
гал» [СГРС 2: 5-6]; хозяйственная ценность: влг. талицкий
рыбник ‘шутливое название пескаря <в названии отражено то обстоя-
тельство, что в р. Талица Вологодск. обл. не водится хорошая рыба и
на пироги с рыбой — рыбники — может идти один пескарь>’ [КСГРС];
размер: как сардаво ‘о чем-либо большом, высоком’ — «Сочень-от
выскала, как сардаво. Поле у нас есть высокое, Сардаво называтся»
[Прокошева: 88], сыт, как Егорьевская гора <в Нерехте> [Даль2 I: 376];
форма: арх. вострушский петушок ‘задиристый человек’ — «Есть у
нас тут горка Воструха, очень вострая. Если кто выдирается, дак го-
ворят: „Ох ты, вострушский петушок», как, бат, на Вострухе сидит“»
[КСГРС]; восприятие объекта как сакрального: олон. пой
на Мянъгору, чтоб тебе Мянъгора приснилась, мянъгорский черт ‘бран-
ные выражения <по названию г. Мяньгора, которая является, по народ-
ным поверьям, местом обитания нечистой силы>’ [СРНГ 19: 86] и т. п.
Нередко качественный признак опосредованно передает не свойства
самого объекта (который в этом случае является населенным пунктом), а
характеристику его жителей (как правило, негативную) или ситуаций с их
участием, ср.: папйло фйлинской ‘о бестолковом, беспутном человеке’,
пантелей чистоддрский ‘бранно’ [СРГК 4: 391], что монах палеострдв-
182
Раздел II
ский (стоять) ‘неподвижно, замерев на месте (стоять)’, луша кйнецкая ‘о
нерасторопном, медлительном человеке’ [СРГК 3: 255, 161], с усольскую
тётку ‘о высоком человеке’ [Прокошева: 99], костр. мычит, как жел-
нйнский теленок ‘о невнятно говорящем человеке’, егарма савинская
‘неряшливо одетая женщина’, нарядиться, как Анисья климовская ‘наря-
диться вычурно, безвкусно’ [ЛКТЭ], иркут. Лёха боханский ‘дурачок’ —
«В местечке Бохановское жил сумасшедший парень Лёха, его и звали Лёха
боханский» [ЧДФ: 121], колдбиха дубровская ‘о полной, плотной жен-
щине’ [СПГ I: 405], федюнькинский талакут ‘умственно отсталый,
ненормальный человек’ [СПГ 2:433], яросл. война между Тишаевым и Бо-
гавлинкой ‘о мелкой, никчемной ссоре’ [Темняткин 2003: 8], ботало ени-
сейский (анисейский) ‘болтливый человек, пустослов’ [СГСЗ: 49] etc.75
Таким образом, наименования «своих» земель, объектов геогра-
фического микромира, включенных в практическую, хозяйственную
деятельность, нередко оказываются коннотативно нагруженными в рус-
ской народной языковой традиции, причем коннотативный фон по-
зволяет «прочитать» достаточно объективную информацию о свойствах
географических объектов. Несмотря на то, что в номинациях может
найти отражение весьма широкий спектр признаков, отдельный конно-
тативный топоним практически никогда не получает разносторонней
характеристики, становясь носителем какого-либо одного свойства.
При выходе за пределы микромира мы получаем несколько иную
картину. Объекты макромира для традиционного сознания — «чу-
жие земли», которые не могут быть освоены в ходе практической дея-
тельности. Традиционный «домоцентрический» уклад жизни русского
крестьянина, существовавшего преимущественно в моноязыковой и
монокультурной среде, в условиях ограниченных передвижений, оп-
ределял весьма слабую степень знакомства с «большим миром», ми-
ром чужих земель, незнакомых городов, непонятных языков. Но этот
мир так или иначе — вместе с реалиями культуры и цивилизации, ис-
торическими событиями, торговыми контактами — все больше и
больше вторгается в жизнь, что не могло не отразиться в народной
лексике и ономастике.
Коль скоро когнитивная база вторичной номинации на основе на-
званий объектов макромира не может быть создана при подключении
личного опыта, источником ее формирования по преимуществу ста-
75 Такие идиомы очень близки сочетаниям, образованным на базе мест-
ных антропонимов, ср. выражения, записанные в Кацком стане (яросл.): что
Паша Нюх ‘о всяком любящем выпить за чужой счет’, что Федя Вал ‘о ле-
нивом’, что Яша Банченой ‘о нелепо, вычурно одетом человеке’, что Таня
Патюня ‘о нелепо одетой женщине’ [Темняткин 2003: 8].
Человек и пространство в зеркале языка
183
новится национальный культурный фонд, разные зоны которого по-
стигаются народным сознанием с различной глубиной погружения.
Это происходит потому, что при формировании мозаики культурного
фонда используется различное количество каналов трансляции этно-
культурной информации. В одних случаях информация оказывается
обработанной несколькими каналами, что способствует повышению
уровня объективности и детальности конструирования ментального
образа (ср., к примеру, информацию о Москве, запечатленную и в
системе языка, и в фольклоре, и в лубочных картинках etc.), в других
случаях — только одним (а это, конечно, стимулирует разного рода
модификации и искажения).
Таким образом, реалии чужой культуры (и, соответственно, на-
зывающие их слова) могут восприниматься как «экзотизмы» (влад.
берлин ‘название для всякого рода экипажей, в которых ездили госпо-
да’ [СРНГ 2: 259], оренб. бухара ‘род сушеных слив из Бухары’
[СРНГ 3: 319]), а могут пройти весьма глубокую адаптацию, после
которой только имя напоминает об исконной чуждости реалии, ср. де-
финицию, которую дает В.И.Даль север, литовка — ‘русская боль-
шая коса’ [Даль2 II: 253]76; ср. также твер. итальянка ‘однорядная
русская гармошка; тальянка’ [СРНГ 12: 272].
Выше говорилось, что в культурном сознании современного го-
рожанина образы своих и чужих земель, положенные в основу преце-
дентных топонимов, не должны принципиально различаться по глу-
бине разработки. Это положение подкрепляется выводами М. Э. Рут,
изучившей на широком номинативном материале особенности созда-
ния фонда образной номинации носителями городской и традицион-
ной народной культуры, ср.: «Главное противостояние традиционной
и новой системы образных моделей — в исходной установке номина-
тора: для крестьянина основной оказывается ориентация на собствен-
ный опыт, у носителя новой системы — на чужой, на некое общее со-
вокупное знание, которое усвоено не в процессе личной деятельности,
а опосредованно, через те или иные средства информации... Для соз-
дателей севернорусской ономастики важно чувственно-конкретное
глубинное знание очерченного его собственной деятельностью круга
предметов, для городского жителя — демонстрация широты охвата
действительности» [Рут 1994: 305]. Если носители городской культу-
ры игнорируют названия объектов микромира как источник преце-
дентов77 (микромир не стал достоянием культурного фонда, являю-
76 Данная разновидность кос первоначально производилась в Литве [Ани-
кин СЛБ: 210-211].
77 Это не означает, что объекты микромира вовсе не получают номина-
184
Раздел II
щегося для них основным источником образного освоения мира), то
носители культуры традиционной используют в качестве прецедентов
преимущественно названия окружающих их географических реалий, а
знания о макромире, заимствованные из культурного фонда, иногда
остаются на уровне неадаптированных «варваризмов». При этом, ве-
роятно, не следует ожидать существенных различий между логикой
освоения «заморских» и «отечественных» объектов макромира (неко-
торые различия все же есть, но об этом ниже). Перейдем к описанию
конкретных особенностей представления объектов макромира в зер-
кале русской народной языковой традиции.
Одним из ракурсов изображения объектов макромира — так же,
как и микромира — оказывается подача их как координат неко-
торого ориентационного поля. Из всего многообразия ориен-
тационных отношений ономасиологически релевантными становятся
два: «далеко — близко» и «стороны света». Как и следовало ожидать,
в паре «далеко — близко» дистинктивным оказывается только при-
знак удаленности, для воплощения которого используются наимено-
вания любых «заморских» земель — особенно азиатских (здесь учи-
тывается не только удаленность, но и климатический контраст) и тех,
которые являются знаками библейской традиции, а также обозначе-
ния макрообъектов России — преимущественно Сибири и Дальнего
Востока. Америка: пок. Америка — «Дальний покос был» [Ваш,
Босово], лога За Америкой — «Далеко дак, поэтому За Америкой»
[Ник, Шолково], ср. также не в Америку ходить по берегу ‘нет боль-
шой необходимости’ [СПГ 1: 10]; Амур: влг. амуры ‘отдаленное ме-
сто’ [СРНГ 1: 252], ср. также амурка ‘неместная, привезенная издале-
ка’ — «А жену-то привез амурку, с Украины, что ли» [СПГ 1: 10];
Воркута: ур. Воркута — «Мужики назвали эдак после войны уж,
далёко от деревни» [Уст, Березник]; Заполярье: поле Заполярье —
«Это Заполярье считалось, ото всех сзади» [У-Куб, Жуково]; Иеру-
салим: поле Ерусалим — «Дальнее поле, далеко до него, как до Еру-
салима» [Уст, Строевское]; Индия: куст д. Индия — «Очень далеко,
к черту на кулички, в общем, Индия» [Солигалич, Корцово], ср. также
жарг. индия ‘отдаленная колония по заготовке леса’ [БСЖ: 232]; Ир-
бит: влг. уйти в ирбйт (ирбйть) ‘уйти очень далеко’ [КСГРС]; Ка-
зань: новг. Казань миновать ‘уйти, убежать очень далеко’ [СРНГ 12:
310-311]; Камчатка: пок. Камчатка — «В углу была, вот и Камчат-
тивного освоения в городской культуре: неофициальные названия различных
городских реалий весьма частотны, хотя, к сожалению, пока недостаточно
изучены. В данном случае речь идет об отсутствии не самих микротопони-
мов как фактов именника, а прецедентных имен из их числа.
Человек и пространство в зеркале языка
185
ка» [Мез, Нижа], ср. также литер. Камчатка ‘шутливое название зад-
ней парты, последних рядов в классе или в какой-нибудь аудитории’;
Китай: за китайскую границу ‘очень далеко, неведомо куда’ [СРДГ2
1: 119], пок. Китай — «Самая последняя наша пожня» [Лен, Лантыш],
ср. также Китайцы (Лопари), прозвище жителей деревни Хлыщево —
«От сельсовета самая крайняя деревня с той стороны» [Вель, Хлыще-
во]; Можай: за (в) можай загнать (гнать, загонять, вогнать) ‘от-
править, выслать очень далеко, в самые отдаленные места’ [СОГ 6:
135]: Питер: пок. Питер — «Дней на 10 ездили косить — вроде как в
Питер съездили» [Устюж, Конюхово], поле Гогин Питер — «Далеко
она, сама последняя новина, потому и Питер» [Холм, Прилук]; Ру-
мыния^. Румыния — «Далеко казалось» [Шексн, Кощеево]; Саха-
лин: литер. Сахалин ‘отдаленная окраина населенного пункта; всякое
отдаленное место’ [Отин СлК: 306], часть д. Сахалин — «Сахалин
почти в самом конце деревни, далеко до него» [Чаг, Смердомский],
куст д. Сахалин — «Сахалин, как в Советском Союзе, отдельно стоит,
так и у нас, три деревни — дальше тупик» [Солигалич, Жилино], поле
Сахалин — «Сахалин далеко-далеко в лесу» [Шексн, Ларионове];
Сибирь: сибиръ ‘отдаленный участок земли’ [НОС 10: 52], поле Си-
бирь — «Далеко поле, вот и Сибирь» [Уст, Коптяевская], поле Сибиръ —
«Далеко она, чё ли» [К-Г, Лукина Гора]; Соловки: разг, соловки
‘всякое отдаленное место проживания’ [Отин СлК: 320]; Тайвань:
ур. Тайвань — «Ушла за Тайвань — заблудилась» [Бабуш, Тиноватка];
Турци я: за турецкую границу ‘очень далеко, неведомо куда’ [СРДГ2
1: 119], д. Турция — «Далеко Турция, автобусы не ходили в ту сторо-
ну, вот и прозвали так» [Бабуш]; Туруханский край: куст
д. Туруханский Край— «Далеко и бездорожье дикое» [У-Куб, Шпилиха];
Финляндия: Финляндия, часть деревни — «На отставу она, подаль-
ше от других» [B-Уст, Ильинское]; Япония: часть д. Япония — «Да-
лекий край — вот и Япония» [Кадый, Селище] и др.
Отметим, что факты ономастики (вторичные топонимы) в данном
случае более активны, чем деонимизированные единицы: в отличие
от ономастики, в нарицательной лексике признак удаленности на базе
изучаемого номинативного материала имеет ономасиологически сла-
бую позицию, поскольку образ единичного объекта здесь излишен
своей конкретностью, адресностью, в то время как мотивационно
продуктивной является идея неопределенно дальнего расстояния.
Стороны света означиваются через указание на направление, отку-
да дует ветер или несет лед (талые воды) во время ледохода: курск., ряз.,
тульск. московский ветер ‘северный ветер’ [СРНГ 18: 285], москвич
‘холодный северный ветер’ [БТДК: 287], арх. холодная Якутия ‘вос-
точный ветер’ [КСГРС], сиб. ветер русский ‘западный ветер’ [СРНГ 35:
186
Раздел!!
271], влг. зыряк 'северный (северо-восточный) ветер’ [КСГРС], арх.,
новг., олон. ша(е)лдник ‘юго-западный ветер (от р. Шелоны)’ [Дальг IV:
619], пск. поляк ‘на Ловати: лед, идущий сверху из Витебской губернии,
с которого начинается ледостав’ [СРНГ 29: 189], московская вода ‘хо-
лодное половодье с верховьев Дона’ [БТДК: 81].
В то же время использование образов макромира в этой позиции
менее характерно, чем привлечение ближних топографических ориенти-
ров, что говорит о суженности пространственного горизонта носите-
лей традиционной культуры. Объекты макромира осмысляются ско-
рее через их внутренние качества, нежели через ориентационные осо-
бенности, поэтому возможны ситуации, когда ориентационная по
происхождению модель наполняется иным содержанием. Интересна в
связи с этим та мотивационная перестройка, которую прошел образ
Сибири: если реальная Сибирь по отношению к различным европей-
ским территориям, использующим «сибирские» номинации, находит-
ся на востоке, то «языковая» Сибирь располагается на севере или с
той стороны, откуда дует холодный ветер: сибиряк арх. ‘сильный хо-
лодный ветер (как правило, с севера)’ [КСГРС], ‘северный ветер’
[НОС 10: 52], дон. сибирка ‘то же’, зап.-брян. сибирный ‘очень холод-
ный ветер’ [СРНГ 37: 265-266]; ср. название бол. Сибиряк в Вологод-
ской области — «Холодное болото с холодной стороны, вот и Сиби-
ряк» [Бабуш, имени Бабушкина], а также сибиряк ‘снег, идущий без
перерыва’ [НОС 10: 52] (подробнее об образе Сибири см. в парагра-
фе 4.2, с. 422-423).
Образы макромира могут быть использованы для обозначения
качественной характеристики локуса, т. е. его физико-гео-
графических свойств: дор. Урал — «Зимой переметает снегом,
задувает, она высоко, как на Урале» [Уст, Бережная], оз. Байкал —
«Рыбы там разной много, потому и Байкал» [Леш, Вожгора], ур. Кар-
паты — «Неугодье там, ямы, угоры» [Лен, Шубинская], хозяйст-
венной ценности: алтай ‘богатое во всех отношениях место’
[СРГЗ: 53], поле Сахара — «Удобрения надо, чтоб дильно было, так-то
бела земля» [Вель, Макарьино], Кубанцы, жители д. Труново — «Нас
называли кубанцы: усадьбы хорошие, всё росло как на Кубани» [В-Важ,
Труново] и др.
Нередко качественная характеристика сводится к общей не-
дифференцированной оценке объекта макромира, превращающей
образ в лубочную картинку: что Волга ‘красивый, бойкий, веселый’
[СРГСК: 330], (Дуня) Волга, жительница д. Тинева — «Дуня Воуга
лоукая баба, весёлая» [В-Т, Тинева], поле Париж — «Красивое поле,
хорошо родит» [Ревд, Крылатовка], пок. Ленинград — «Покос боль-
шой, хороший, гладкий» [Кир, Левково].
Человек и пространство в зеркале языка
187
Географический макромир входит в жизнь носителя традицион-
ной культуры с помощью фактов материальной культуры,
что также находит отражение в языке. Приведем несколько примеров,
выбирая те группы значений (идеографические сферы), которые в
большей степени «предрасположены» к выражению с помощью про-
изводных от макротопонимов. Это такие сферы, как одежда: азият-
ка 4вид женского платья типа сарафана’ [СОГ 1: 39], болгарка 'рас-
шитая лентами и украшенная цветами шапочка, которую одевали не-
весте’ [СРГНО: 34], иркут. гречанка 'длинная шуба с круглой пеле-
ринкою и с длинными широкими рукавами’ [СРНГ 7: 123], олон. пи-
терская шапка 'шапка из синего сукна, похожая по форме на митру’
[СРНГ 27: 53], иркут., забайк. полька 'шуба с рукавами и небольшим
воротником, которую носят обычно внакидку’, (р. Урал) самаркандка
'вид головного платка’ [СРНГ 36: 74]); сельскохозяйственные
культуры: американка 'сорт картофеля’ [СРГА 1/1: 23], (р. Урал)
полтавка 'сорт дыни; сорт тыквы’ [СРНГ 29: 134], германский мак
'сорт мака’ [СБГ 3: 13], дон. Камчатка 'сорт кукурузы’ [СРНГ 13: 31],
вятка 'сорт ржи’ [СРГНО: 88], яросл. питерка 'сладкая редька’
[СРНГ 27: 53]; транспортные средства: канадские дровни 'ши-
рокие сани’ [СРГК 2: 324], американки 'небольшие легкие санки’
[СГРС 1: 16], чухонка 'вид саней’ [ОСГК: 278], берлинка 'грузовое
судно типа барки’, амур, румынка 'вид лодки’ [СРНГ 35: 258], моек.,
ряз. казанки 'татарские сани’ [СРНГ 12: 310], арх. парижаны 'наряд-
ные выездные сани’ [КСГРС] и мн. др.
Выделяются и более частные значения, ср., к примеру, 'печь и
ее конструктивные особенности’: литер, голландка, тобол.
полька 'голландская печь’ [СРНГ 29: 182], шведка 'печь с закрытой
плитой и духовкой’ [ЯОС 10: 71], дон. венгерка 'передняя часть рус-
ской печки’, 'уступ у печки, куда кладут спички’, 'дымоход, труба
для входа дыма’ [СРНГ 4: 111], финка 'особый вид печи’ [СРГК 6:
684], курск. мурманская печь 'широкая печь с просторной лежанкой
из зеленых изразцов’ [СРНГ 18: 357]; ср. русская печь™.
Однако отличие образов «своего» макромира от «заграничного»
проявляется в том, что первые могут приобретать в номинативных 78
78 Активность «чужеземных» номинаций для обозначения типов печей
подтверждается и данными других языков, ср., к примеру, польск. cygan
‘печь-каменка’, ‘глинобитная печь’ и др. [SGP IV/3: 575-576], серб, цйганче
‘маленькая круглая жестяная печь’ [ЗлатановиЙ: 441], англ. (амер, воен.) Dutch
oven («голландская духовка») ‘полевой кухонный очаг’ [Мюллер: 229], франц.
cheminee prussienne («прусский камин») ‘переносной камин, переносная печь’
[ABBYY Lingvo 11] и т. п.
188
Раздел II
единицах социальное звучание («заморские» в этой плоскости
не осмысляются) в духе оппозиции «город — деревня», ср.: влад., моек.
намосквйчитъся, влад. намосквятитъся ‘перенять ловкость москвичей’
[СРНГ 20: 41], начеркаситъся ‘усвоить говор и манеры горожан’ [СРДГ
2: 176], смол, обпйтеритъея ‘приобрести городские манеры, лоск’, ‘стать
бесцеремонным, наглым’ — «Начал по верхах ходить. По яровому начал
ходить. Обпитерился» [СРНГ 22: 189], влг. напйтеритъея ‘приобрести
манеры жителя большого города’ — «Уехала учиться, дак напитерилась,
чубырится над нами» [КСГРС]. Интересно, что «окультуривание» может
быть интерпретировано в языке и как «выход на Русь»: арх. выйти на
русъ ‘выйти в люди, набраться опыта, получить образование, оторваться
от своей среды’ — «Был так себе, а вышел на русь — сделался челове-
ком» [СГРС 2: 226], нвеиб. обрусеть ‘стать культурнее’ — «Обрусели
люди, дома с верхом строят, просветлеют вроде, обрусеют, не как рань-
ше» [СРНГ 22: 213], арх. повырусетъ ‘стать культурнее, образованнее’
[СРНГ 27: 277], причем такой «выход» воспринимается позитивно, в то
время как приобретение манер жителя большого города осмысляется
скорее негативно, ср. также петроградка ‘модница, франтиха’ [СРГК 4:
493], питерец ‘бродяга’ [СРГК 4: 521], влг. питерка ‘лентяйка’ — «Дев-
ки питерки нынь, робить ничего не хочут» [КСГРС], арх. горожаха ‘ка-
призная, избалованная девочка’ [КСГРС] и др.
В отличие от образов объектов микромира, которые, как правило,
сводятся к одной доминирующей характеристике, реалии макромира
могут разносторонне прорабатываться в номинациях. Пожалуй, в рус-
ской языковой традиции наиболее детально прорисован «портрет»
Москвы. Прежде чем будут перечислены основные мотивы, состав-
ляющие этот портрет, отметим, что мы пытаемся увидеть Москву гла-
зами русского крестьянина, которые, конечно, видят иначе, чем глаза
горожанина — самого москвича или жителя другого города, особенно
соперничающего с Москвой Петербурга79.
В «народном» портрете Москвы могут быть выделены следую-
щие мотивы.
79 Ср. примеры «петербургской» и «внутримосковской» номинаций, об-
разованных от топонима Москва', по-московски ‘о специфической манере
держаться’ — «Она держится „по-московски44: в одно и то же время и „дека-
денткой44, и синим чулком, и „товарищем44, и потрясительницей сердец. На
мой „петербургский44 взгляд, все это достаточно безвкусно <Г.Иванов>»
[Елистратов: 467], московская булъонка — «Питались они (обитатели Хит-
ровки) неизвестно чем, что называлось московской бульонкой. Это — ку-
хонные отбросы, вынутые из выгребных ящиков по соседним домам и квар-
тирам и распаренные в кипятке» <Н.Телешев> [Елистратов: 356] и др.
Человек и пространство в зеркале языка
189
Москва — символ русского, представляет Русь вообще: кирг.
(рус.), ворон, московка ‘о русской женщине’, дон., сиб. московский
‘русский’ [СРНГ 18: 285] и мн. др.; ср. также широко распространен-
ное прозвище русских москали (распространенное как в России, так и
на инославянских территориях, особенно в Белоруссии и Украине).
Москва имеет черты большого города: в ней много жи-
телей (арх. Москвы уголок ‘о деревне, где проживает много жителей’
[КСГРС]), высокие дома (Москва — название болота в бассейне р.
Казым; по мнению информантов, болото названо так потому, что на нем
огромные кочки, похожие на многоэтажные дома, между которыми лег-
ко заблудиться [устное сообщение Т. Н. Дмитриевой]). В некоторых но-
минациях отражены более индивидуализированные приметы внешнего
облика Москвы. Интересен, к примеру, образ золотых маковок,
обнаруживаемый в названии поля Москва — золотые маковки [В-Т], а
также в арх. формуле прощай, Москва — золотые маковки ‘о том, что
безвозвратно утрачено’ [КСГРС]. Ср. отмеченный в жаргоне образ
московских колоколов: устроить московский звон (звон москов-
ских колоколов) ‘ударить кого-л. с двух сторон по ушам’ [БСЖ: 221].
Москва представлена атрибутами материальной куль-
туры. Чаще всего это одежда и обувь; при этом, как правило, речь идет
о нарядной, дорогой, покупной одежде: московочка ‘кофта с белым во-
ротником’ [СВГ 5: 5], вят. московец ‘сарафан (обычно нарядный)’, ниже-
гор. московка ‘сорт шерстяных шляп’, нижегор. московская рубашка
‘нарядная рубашка с коленкоровыми белыми рукавами, манжетами и
кружевами’, (р. Десна) московские лапти ‘лапти косого плетения; по бо-
кам делается полоса, через которую переплетают лыко; за нее зацепля-
ют оборы’ [СРНГ 18: 285] и мн. др.; показательно и жаргонное москвич-
ка ‘ватное полупальто с косыми карманами и воротником — лагерный
шик’ [БСЖ: 357]. Образ Москвы отражен в наименованиях спиртных
напитков: нвсиб. московное вино ‘водка’ [СРНГ 18: 285]. Ср. также
терск. московская резня ‘особая разделка лосося’ [СРНГ 18: 285].
Москва задает вектор в ориентационном поле. В различ-
ных регионах России выделяют ветер, дующий со стороны Москвы:
влг. москаль ‘юго-восточный ветер’ [КСГРС], латыш, (рус.) москвич,
тамб. московец ‘северный холодный ветер’ [СРНГ 18: 284-285] и т. п.
Кроме того, Москва задает некоторый визуальный предел, определяет
линию горизонта, что своеобразно преломляется в просторен. Москву
видать ‘о слабом чае’. «Дистанционная» символика Москвы опосре-
дованно проявляется также в выражениях до Москвы не перевешаешь
‘много, большое количество — обычно о людях’ [Брысина 2003: 53],
костр. до Москвы родня ‘о дальней родне’ [ЛКТЭ], Он на показ до
Москвы без спотычки добежит [Даль ПРН2 3: 99] и т. п.
190
Раздел II
Москва является источником положительных эмоций, ее
образ мелиоративно окрашен. Спектр мелиоративных коннотаций
широк — от признаков ‘нарядный’, ‘дорогой’, ‘красивый’ до
наиболее обобщенных ‘хороший’, ‘приятный’: арх. как в Москву
съездить ‘испытать состояние блаженства, полного удовлетворения
от чего-либо’ [КСГРС]; поле Москва — «Там хорошая земля, вот поле
Москвой-то и назвали» [В-Уст, Хребтово], арх. московик (дорогой
гриб) ‘белый гриб’ [КСГРС], москаль ‘то же’ [СПГ 1: 525]; ср. и вы-
ражение показать Москву в решете ‘обмануть, одурачить’ [Михель-
сон II: 520], где Москва заменяет слово чудо. Показателен также пе-
чальный и ироничный вологодский топоним Московская Тропинка.
являющийся обозначением дороги на кладбище: «Многие у нас меч-
тали в большой город поехать. Да не вышло. Все уж поумирали. А по-
сле смерти пусть им будет большой город» [Бабуш, Дресвяново]. Образ
Москвы появляется здесь, во-первых, потому, что кладбище представ-
ляет собой весьма «густонаселенный» локус; во-вторых, представле-
ния о смерти и кладбище связаны с идеей путешествия; в-третьих,
существующий в сознании носителей крестьянской культуры миф о
Москве сближает ее с раем.
Портрет Москвы немыслим без образа ее жителей. Главный
признак москвичей — разговорчивость, умение хорошо и красиво
говорить: перм. москва ‘об очень разговорчивом человеке’ [СРНГ 18:
284], москва ‘мастер поговорить’ — «Дедушко-то ваш так-то много
знат, он говорить мастёрый, москва говорить» [ДСРГСУ: 306], Моск-
вич. житель д. Нижмозеро — «Он говорил красно, как москвич» [Он,
Нижмозеро], Московец, житель д. Бестужево — «Вышел из армии,
стал говорить чище, вот и московец» [Уст, Бестужево], влг. московец
‘прозвище человека, который умеет хорошо, красиво говорить’ [СРНГ 18:
285] и др. Разговорчивость тесно связана, с одной стороны, с бойко-
стью, доходящей до плутовства, с другой стороны — с общей
культурой, знаниями, умением красиво одеваться и т. п.:
забайк. москва ‘о разговорчивом бойком обманщике, плуте’ [СРНГ 18:
284] (ср. также приведенное выше намосквичитъся ‘перенять лов-
кость москвичей’); арх. московка ‘культурная, хорошо говорящая,
красиво одетая женщина’ — «Московка, говорят, вот идёт: снаредится,
выступыват и говорит хорошо» [КСГРС]; Москва, жительница
д. Чуласа — «Дуська Леонидова Москва така, всё знат» [Леш, Чула-
са]; Москва, жительница д. Дийково — «Была богатой и много знала»
[Баб, Дийково]. Признак высокого благосостояния, промельк-
нувший в мотивировке последнего прозвища, проявляется и в про-
звище жительницы с. Верхняя Тойма Московка — «Манька в центре
живёт, богатая, вот и зовём Москоука» [В-Т].
Человек и пространство в зеркале языка
191
Все это создает противопоставленность «москвичей» и жителей де-
ревни, поскольку первые н е умеют по-настоящему работать:
арх. москвичка ‘неженка, любительница «чистой» работы’ — «Нонь
все девки москвички, в деревне копаться не надь»; «Старша Танька у их
москвичка така, ничего не нравится ей, всё требует деревенской жизнью»
[КСГРС]; влг. московка ‘не умеющая работать, манерная женщина’ —
«Кланя москоука така, ничего не умеет, всё жеманится» [КСГРС]; ср.
также пословицу: Москва стоит на болоте, ржи в ней не молотят, а
больше (а лучше) деревенского едят [Даль2 I: ПО]. Негативные конно-
тации в образе москвичей хорошо проявляет и жаргонная лексема
москвич ‘зазнавшийся, наглый и глупый заключенный’ [БСЖ: 357].
Сложный комплекс оценок москвичей отражен в мотивировках про-
звища Москвичи (параллельное прозвище Чаевые), жители д. Весе-
лая — «Кто-то сказал, что эта деревня лучше всех»; «Хорошо в де-
ревне жили, на горе, весело им»; «Есть нечего, а они нарядные хо-
дят»; «Без чая на работу не выдут» [К-Г, Веселая, Емельяново].
Наконец, для жителя провинции весьма значим мотив самой
поездки в Москву, который выражен во внутренней форме ряда
фразеологизмов: поехать в Москву за песнями ‘поехать, пойти ку-
да-либо без определенной цели’, поедет до Москвы на языке ‘все
разузнает, найдет’ [ФСРГС: 141], на языке через Москву переехать
‘о ком-либо словоохотливом, бойком на язык’ [Прокошева: 73], до
Москвы съездить ‘родить’ [Лютикова: 39], ехать в Москву за песней
‘шутл. собираться рожать’ [Селигер 2: 68]80. Особо отметим два по-
следних номинативных факта, которые образно трактуют роды как
поездку в Москву: вспомнив о том, что с образом Москвы связывается
также представление о смерти (см. выше о топониме Московская Тро-
пинка), мы получаем замкнувшийся круг человеческой жизни — прие-
хавший из Москвы человек, прожив жизнь, уезжает туда же.
Следует напомнить и о мотиве показать Москву, который
тоже дает яркий «стоп-кадр» в картине взаимодействия приезжих со
столицей, ср. отмеченное выше выражение показать Москву в реше-
те и просторен, показать Москву ‘приподнять кого-либо за уши’. Не
обошел вниманием язык и «реакцию» того, кому показали Москву:
просторен, увидеть Москву ‘сощуриться, съев что-либо кислое’.
Таким образом, Москва предстает как наиболее освоенный на-
родным сознанием образ макромира. Детальная разработка этого об-
раза объясняется тем, что этнокультурная информация о Москве
транслируется многими каналами, создавая стереометричность изо-
80 Ср. также эротическую песню «Поедемте в Москву, купим колоколь-
чик», где поездка в Москву символизирует половой акт [РЭФ: 298-299].
192
Раздел II
бражения, а также тем, что Москва включена в сферу непосредствен-
ного опыта носителя традиционной культуры (об этом говорят, на-
пример, сценарные мотивы поехать в Москву, показать Москву).
Очень важным, но трудно решаемым представляется вопрос о
хронологической стратификации рассматриваемых номинативных
фактов, которая могла бы показать, как формировалась «расширя-
ющаяся вселенная» в сознании носителя традиционной культуры.
В некоторых случаях материал позволяет говорить об относительной
хронологии. Так, частотность фиксации языковых фактов, образо-
ванных от определенных макротопонимов, и детализированность
номинативной разработки образа заставляют думать о том, что к бо-
лее раннему пласту следует отнести производные от библейских
имен (Палестина, Вавилон, Содом), а также топонимов Москва, Ду-
най, Карпаты.
Об абсолютной хронологии — естественно, с изрядной долей ос-
торожности — можно говорить в тех случаях, когда номинативный
факт «привязывается» к историческим событиям. К примеру, много-
значная идиома за (в) можай загнать (гнать, загонять, вогнать) ‘от-
править, выслать очень далеко, в самые отдаленные места’, ‘наказать,
проучить, отомстить’, ‘изнурить, утомить работой, измучить’, ‘пре-
восходить кого-нибудь в работе’ [СОГ 6: 135] содержит отсылку к си-
туации отступления армии Наполеона во время войны 1812 г. (мо-
жай Можайск). Интересно, что «генная память слова» как будто
возрождает эту ситуацию в новое время, когда в деэтимологизиро-
ванном уже фразеологизме место французов занимают немцы, ср.
один из контекстов: «Немец здесь не был, нашы-ть быстръ их зъ ма-
жай загнали» [СОГ 6: 135]81. Еще примеры: влг. сочетание стара ла-
дога, разорена ладога ‘о заброшенном, разрушенном доме’ [КСГРС]
указывает на события, связанные с блокадой Ленинграда; вторичные
топонимы Порт-Артур, Дарданеллы, Хасан, Нагорный Карабах обя-
заны своим появлением, соответственно, событиям русско-японской
войны, Дарданелльской морской десантной операции 1915 г., боям у
озера Хасан в 1938 г., конфликту между Арменией и Азербайджаном
конца 80-х — начала 90-х гг. XX в. и т. п. Несомненно, что большинство
образов макромира закрепилось в языке именно в XX в., когда произош-
ло резкое расширение кругозора носителя традиционной культуры
Итак, географическое пространство в традиционной народной
картине мира членится на две зоны — макромир и микромир. Первая
81 Возможно, исторические события 1812 г. мотивируют также нижегор.
можайский ‘обедневший, обнищавший’ [СРНГ 18: 199].
Человек и пространство в зеркале языка
193
из них, являющаяся зоной непосредственного практического освое-
ния, разработана подробно и объективно, именно отсюда наиболее
часто черпаются прецедентные имена; образы второй зоны, «питае-
мые» зачастую только культурным фондом, предстают как менее
иконичные в семиотическом плане и более субъективированные.
Описанная система не является замкнутой, поскольку в XX в. про-
изошло ее резкое расширение, которое, возможно, в будущем изменит
принципы организации системы.
* *
Охарактеризовав особенности выделения в географическом про-
странстве «своей» и «чужой» зоны и описав прецедентные топонимы
с семантико-мотивационной точки зрения, попытаемся посмотреть на
имеющийся в нашем распоряжении материал с несколько иной точки
зрения — в плане лингвистической прагматики.
Прагматический аспект изучения этого языкового материала пред-
полагает выявление позиции (точки зрения) номинатора, отражаю-
щейся во вторичных топонимах и топонимических дериватах, а также
его установок, которые сопутствуют появлению данных номинатив-
ных единиц.
Точка зрения субъекта номинации анализируется в ис-
следованиях по лингвопрагматике в разных координатах — темпо-
ральных, локативных, социальных. В различных языковых фактах та
или иная прагматическая составляющая проявляется в неодинаковой
степени — и это не в последнюю очередь зависит от референтных
особенностей языковой единицы. Топоним — слово с локативным
значением, поэтому при использовании топонимического кода для
номинации других явлений действительности можно прогнозировать
в первую очередь актуализацию локативной составляющей прагмати-
ки. Это в прямом смысле позиция номинатора, его место в про-
странстве, тот «горизонт», который он видит перед собой, а также
само по себе качество обозрения.
Локус номинатора с наибольшей определенностью обнаруживают
«соседские» номинации — слова и выражения, образованные от обо-
значений «ближней чужбины» (по отношению к субъекту номинации)
и ее обитателей. При этом самыми объективно-информативными оказы-
ваются многочисленные наименования явлений материальной куль-
туры, проливающие свет на характер контактов между этническими и
территориальными соседями, ср. в говорах Забайкалья — монгол,
монголка ‘низкорослая, выносливая рабочая лошадь’ [СГСЗ: 270], си-
бирка ‘большой кусок вареного мяса’ [СРНГ 37: 265], в говорах
Одесщины — ромынки, румынки ‘женские ботинки без меховой
194
Раздел II
опушки на невысоком толстом каблуке’ [СРГО I: 148-149], в Симбир-
ской губернии — мордовские лапти ‘лапти, которые носятся с боль-
шими белыми онучами и длинными оборами’ [СРНГ 18: 260], в При-
амурье — японка ‘сорт картофеля’ [СРГП: 339], у русских Карелии —
лопарки ‘легкие домашние туфли из оленьего меха’ [СРГК 3: 147],
финка ‘борона из суковатого ельника’ [Даль2 IV: 535] и мн. др.
Субъективно-окрашенную информацию несут наименования, ха-
рактеризующие особенности поведения, интеллекта и т. п. территори-
альных соседей (примеры см. ниже). Такие названия указывают на
территориальную близость лишь косвенно; «прямых» оттопо-
нимических номинаций со значениями ‘близко’, ‘ближний’ не обна-
ружено, поскольку этот признак оказывается не дистинктивным: то,
что близко, познается разнообразно и оценивается качественно, а не с
точки зрения дистанции. Признак удаленности, как уже говори-
лось, выражается с помощью топонимического кода достаточно ак-
тивно. Стереотип удаленного места, «края света», максимально дис-
танцированного от личного пространства говорящего, проявляется
также в разного рода бранных формулах, называющих «локус изгна-
ния» адресата82: арх. дуй тебя в Сибирь, неси тебя в Китай, подъ ты
в Норвегу [КСГРС]. Подобным образом организованы и ритуальные
проклятия, ср. полесские формулы изгнания зимы, где используются
географические названия: «А киш, зима, до Кракова. До нас придэш
однакова», «А ну, зыма, до Бучына, ужэ ты нам надокучыла; а ну, зы-
ма, до Пэтрава, ты нам допэкла», «Иды, зима, до Львова, ты ужэ нам
нэ трэба» ит. п. [Толстая 2005а: 197-198] (у жителей Брестской или
Волынской областей основными локусами изгнания зимы становятся
Краков. Киев. Львов83).
За приведенными выше примерами кроется намерение номинато-
ра определить некоторый предел, ограничивающий пространство из-
вне, как бы «абсолютный край света» (Амур. Норвега. Китай и т. п.).
82 Отметим, что топонимическая модель встречается и в жаргонных ру-
гательствах, однако здесь «локусы изгнания» могут быть выбраны по другим
законам — например, по законам языковой игры, ср.: Мадрид да Лиссабон
тебя! [ЖР: 90], Ирбит тебя в Тавду через Нижнюю Салду на Новую Лялю!
[Чередник 2006: 122]. Здесь топонимы Мадрид и Ирбит являются игровыми
эвфемизмами (вроде апеллятивного ангидрид)', остальные названия возника-
ют при «метонимическом» развитии темы.
83 Эти названия, обозначающие в данных говорах самые значимые точ-
ки пространства (наряду с Москвой), вступают в отношения субституции и в
других паремиологических жанрах: Не в!дразу Краюв / Kuie / Москву / Лъв!в
збудували [ПП 1991: 280-281].
Человек и пространство в зеркале языка
195
Возможна другая ситуация: номинатор называет точку или линию,
ограничивающую пространство изнутри, служащую «относитель-
ным» пределом, отделяющим известный мир от неизвестного. Такой
предел может быть задан визуально, ср., к примеру, образные идио-
мы, обозначающие некрепкий чай или ясную погоду (предполагается,
что светлая вода или прозрачный воздух позволяют смотреть далеко
вперед): при широко распространенном на территории России про-
сторечном Москву видать на разных территориях добавляются свои
«пределы видимости», образы «своего» макромира — в Петербурге
Кронштадт (Кронштадт виден 4 о прозрачном, жидком чае’ [Синда-
ловский: 97-98]), в Костромской и Вологодской областях — Кострома
(костр. Кострому видать 4 о некрепком чае’ [ЛКТЭ], влг. Кострому
видко 4 о ясной погоде’ [КСГРС]), в Архангельской области — Вологда
(арх. Москва и Вологда видать 4 о некрепком чае’ [КСГРС]) и др. Ви-
зуальные границы могут быть заданы также «отрицательно»: не ви-
дать свинье неба, а бабе Питера 4 о чем-то недостижимом, неосущест-
вимом’ [СРГК 4: 521], влг. не видать тебе Москвы-золотые маковки
6о неосуществившемся желании’ [КСГРС].
При формировании образной основы языковых единиц предел
знакомого и незнакомого мира может быть задан не только с помо-
щью статичного «видеонаблюдения», но и маршрутно, при
мысленном передвижении из дома к некоторой особо значимой точке,
аксиологически выделенному пространственному пределу. Любопыт-
ные примеры такого маршрутного видения обнаруживаются в номи-
нативной системе детских игр с однотипными правилами, известных
на разных территориях. К примеру, в Симбирской губернии игра на-
зывается Москва', для нее выбирается палочка со множеством сучков,
торчащих в одну сторону в виде крючков. Верхушка этой палочки на-
зывается Москва. Каждый играющий имеет свою палочку с крючком —
и эти палочки вешаются на сучки основной палки. Цель игры — до-
браться до верха, до Москвы [см.: Покровский: 294-295]. В такую же
игру играли в Смоленской губернии: в землю втыкается небольшая
суковатая палочка; сучкам даются названия городков, селений и дере-
вень. Первый сучок всегда называется именем той деревни, где игра-
ют, а самый верхний сучок Москвой', в числе «промежуточных стан-
ций» чаще всего упоминаются Королево, Тушино, постоялый двор,
кабак. Цель игроков — добраться до Москвы. Кто раньше других воз-
вратится из Москвы, тот делается царем, победителем, который нака-
зывает отставших щелчками в лоб [см.: ИНС: 536; МД: 498]. Дети
Гомельского уезда тоже играли в Москву, давая сучкам названия Го-
мель, Белица, Климовск, Чернигов, Козельск, Бровары, Киев и т. п.,
верхний сучок назывался Москвой. Игра сопровождалась восклица-
196
Раздел II
ниями типа: «Вот, слава богу, в Чернигов приехал!» [ИНС: 535-536].
На других территориях центр может изменяться: подобная же игра
встречается у латышей Лифляндской губернии под названием поезд в
Ригу [Покровский: 294-295], в Минском уезде она носит название до
Вилъны едуць [ИНС: 533], в Костромской области — в Вологду играть
(через промежуточные станции Анциферова —Дъяконово — Буй) [ЛКТЭ],
в Свердловской области — сибирский поезд (Кунгурка — Крылатовка —
Дегтярск — Свердловск — Сибирь) [ЛЗА: Кунгурка Ревдинск. р-на
Свердловск, обл.]. Игровой маршрут напоминает маршруты пасса-
жирских поездов дальнего следования, которые, отбывая от какой-то
точки, сначала делают частые остановки, собирая всех пассажиров
ближней округи, а потом остановки устраиваются все реже и реже —
вплоть до станции назначения. Дети тщательно наносят на свою «де-
ревянную карту» то, что видят в непосредственной близости от себя
(не обходя вниманием первые на пути из дома объекты внешнего ми-
ра — кабаки и постоялые дворы), а потом пространство становится
все более разреженным — и ограничивается пунктом, имеющим са-
мую высокую (в буквальном смысле этого слова!) значимость, неким
«центром мира».
Конечной точкой мысленного маршрута может быть не только
столица страны или центр своей/соседней области, но и особо значи-
мое святое (культовое) место, которое могло быть, к примеру, объек-
том паломничеств. Такая пропозиция кроется за выражениями вроде
язык до Киева доведет; спрашивая, доходят до Рима [Снегирев: 116].
«Паломнический» сценарий стоит и за многими названиями Млечно-
го Пути, ср. курск. Дорога в Иерусалим [СРНГ 8: 132], калуж. Дорога
(из Киева) в Старый Иерусалим и т. п. [СД 3: 264]; ср. в других язы-
ках: укр. Дорога из Москвы в Иерусалим. Шлях в Кшв. тур. Hazilar joli
«путь пилигримов», тат. (вост.-Дагестан.) Мякъянун елы «дорога в
Мекку» [Рут 1987: 13]84. Вообще, названия Млечного Пути дают ин-
тересные возможности для наблюдений за особенностями маршрут-
ного восприятия пространства: его «небесность» и единственность
располагают к тому, чтобы видеть в нем небесное отражение особо
84 Ср. обширную подборку польских материалов, где в качестве ориен-
тира выступают не только библейские места (Droga do Jerozolimy, Jeruzalemska
Cesta, Droga z Jeruzalem do Betleem) и другие места отправления культа (Droga
do Rzymu, Droga do Czqstohowy, Droga na KaKariq, Droga do Piekar, Droga do
Mogielnicy, Droga do Gietrzwaldu, Droga ze Skqpego do Czgstohowy), но и круп-
ные города (Gosciniec па Warszawg, Droga do Warszawy, z/od Warszawy do
Krakowa, Droga do Kqpcyn, Droga od Budapesztu na Warszawy, Droga do
Olsztina, Gosciniec od Krakowa do Lodzi) [Niebrzegowska 1996: 252-253].
Человек и пространство в зеркале языка
197
значимого для народа маршрута, «главной» дороги. В русской астро-
нимии (принадлежащей народу, у которого традиции длительных па-
ломничеств выражены не так ярко, как, допустим, у мусульман) об-
ращения к образу «главного» культового места раритетны; гораздо
чаще носители традиции при маршрутном видении Млечного Пути
склонны видеть в нем мемориал историческим событиям (сарат., се-
мипалат. Мамаева Дорога, Дорога Татарская на Святую Русь, тамб.,
тульск. Батыева Дорога, тамб. Бакеева Дорога, дон. Батеева Дорога,
Басурманское Становище (подробнее см. в [Рут 1987: 13])85 или же
маршруты «путевых», кочующих народов (арх. Зырянская Лыжня —
«Зырянская Лыжня полосой прошла, она где есть, где пропала. Зыря-
на-то на лыжах дивья ходили, по всякому снегу пройдут»; арх. Чуд-
ские Звезды — «Раньше чудь жила тут, от её званье осталось Чудские
Звезды, их далеко протянулось, много, где-то далёко вовсе затеряны.
Чудские Звезды как чудь потерялись» [АстрКТЭ]).
Если в предыдущих случаях «авторитетная» точка пространства оп-
ределяется по направлению от номинатора к локусу («куда»-номи-
нация), то при номинации разного рода погодных явлений вектор
получает обратное направление («откуда»-номинация). Показа-
тельны в этом плане названия ветров, льда, который несет по реке во
время половодья или ледостава, зари (примеры приводились выше).
При такой «откуда»-номинации ее субъект стремится выбрать более
крупный масштаб изображения, чем в предыдущем случае: геогра-
фические названия часто становятся производящими основами для
обозначений ветров (как и других метеорологических номинаций),
но это, как указывалось выше, по преимуществу названия объектов
«местного значения» — соседней деревни, района, протекающей не-
подалеку реки (и даже имена хозяев стоящих в стороне домов в своей
деревне).
Таким образом, «куда»-номинация в большей степени, чем «от-
куда»-номинация, вовлечена в «большой» (= «чужой») мир; «отку-
да»-номинация предпочитает сопоставимый масштаб локуса-«отправи-
теля» и локуса-«получателя». Из макрообъектов «откуда»-номинация
прибегает чаще всего к образам Москвы, Сибири и Руси. При этом
Русь может трактоваться по-разному. Например, для архангельских
поморов это восточная материковая зона — в противопоставлении
морю и лежащей за ним «немецкой стороне»: русской ветер, ветер с
Руси ‘южный ветер’ [Подвысоцкий: 85], немецкая сторона, в немец-
85 В этом смысле астронимическая номинация разворачивается так же,
как топонимическая, которая тоже склонна к представлению пространства
как арены разворачивания исторических событий — реальных и вымышленных.
198
Раздел II
кую сторону ‘так выражают поморы направление своего пути, идучи
Северным океаном в Норвегию или на о-в Новую Землю’ [СРНГ 21:
79]86. Оперирование пространственными категориями такого мас-
штаба говорит о естественном расширении топографического гори-
зонта у поморов (по сравнению с горизонтом крестьянина).
Помимо объема обозрения, границ видимого, значи-
мыми оказываются, так сказать, дистинктивные возможности глаз, опре-
деляющие качество изображения. Четкое деление пространства
на зоны с разной степенью освоенности проявляется в том, что номи-
натор нередко пытается отыскать для названий предметов, появивших-
ся в «заморских странах», корреляты с более близкой «пропиской».
Так, в донских говорах грецкий орех, называемый также турецким,
получает название азовский [БТДК: 24, 535]87, а сирень становится
известной не только как панский цветок, но и как азовский цветок,
азовка [БТДК: 24; СРНГ 25: 198-199]; красный турецкий перец в ки-
ровских говорах именуется астраханским стручком [СРНГ 1: 287;
Даль2 I: 27]; китайский чай по месту привоза может быть назван кях-
тинским или семипалатинским (интересно, что за границей его назы-
вали русским, чтоб отличить от кантонского, который шел морем в
Европу) [Даль2 II: 230] и т. п. Несмотря на то, что при появлении та-
ких названий значимы факторы дифференциации, уточнения (сорто-
вые названия получают дальнейшую дифференциацию по месту вы-
ведения сорта на территории России88, товары — по направлению
экспорта и т. п.), здесь все же можно усмотреть подспудное желание
субъекта номинации произвести что-то вроде настройки бинокля,
приблизить изображение к себе.
Дистинктивные возможности зрения ослабевают, если смотреть
вдаль, — отсюда тенденция неразличения дальнего, чужого. Эта тен-
денция широко известна и хорошо описана в лингвистической и куль-
турологической литературе, поэтому ограничимся кратким напоми-
нанием о ее последствиях для семантики топонимических или этно-
нимических дериватов. Нередко происходит генерализация семантики
таких дериватов: французское платье ‘немецкое, общеевропейское,
86 Сходная пространственная оппозиция — русский попереченъ и чухон-
ский попереченъ ‘о ветрах разных направлений’ — зафиксирована в Перм-
ской области [СРНГ 29: 307].
87 Показателен способ «освоения» грецкого ореха в английской культу-
ре, ср. англ. English (European, French) walnut («английский (европейский,
французский) орех») ‘грецкий орех’ [ABBYY Lingvo 11].
88 К примеру, астраханский перец — это лишь новая сортовая разно-
видность турецкого.
Человек и пространство в зеркале языка
199
нерусское’ [Даль2 IV: 538], фольк. немецкий ‘чужеземный, иностран-
ный’ [СРНГ 21: 79]89, онеж. панский ‘не русский’, твер. панской ‘сде-
ланный на иностранный манер’ [СРНГ 25: 198]90, австрийская вера
‘католическая’ [СРГА1/1:18], костр. питерщик ‘приезжий из города (лю-
бого)’ [ЛКТЭ] и т. п. (пример генерализации «в другую сторону» —
брян., дон., сиб. московский ‘русский’ [СРНГ 18: 285]). Если сама по
себе генерализация является универсальной тенденцией для номина-
ции чужого, то конкретные направления генерализации имеют яркую
этнокультурную окраску.
К примеру, одна из особенностей русского диалектного «извода»
таких номинаций в том, что при генерализации нередко происходит
сдвиг в сторону семантики ‘сделанный не кустарным способом’,
‘фабричный’: французский ‘магазинный’ [СРГА П/4: 190], голланд-
ская нить ‘пряжа, нитки фабричного производства’ [КСГРС], москов-
ская тётка (московская Параша) ‘фабрика по производству и поши-
ву одежды’ — «Масковскъя тёткъ работьить ни сваими руками, а нъ
машынъх, а мы на сваих руках. Ета ш были как пирвабытныи люди,
ани сами ткали, пряли, а щщас Масковскъя теткъ обрабатывъить усё»;
‘об одежде фабричного производства’ [СОГ 6: 147]. Еще один виток
смысловой конкретизации дает значение ‘нарядная красная ткань с
узорами (и изделия из нее — платки или сарафаны)’: смол, парижчи-
на ‘хлопчатобумажная ткань, называемая также красный ситец’
[СРНГ 25: 224], Курск, немецкий ситец ‘красный ситец’, вят. немецкая
шаль [СРНГ 21: 78-79], француз ‘ткань ярко-красного цвета, кумач’
[ЯОС 10: 28], аршавский платок ‘шерстяной платок с цветами богато-
го рисунка’ [СБГ 1:21], арх. аглйчник ‘сарафан из яркой ткани с цвет-
ным узором’, аглицкая фатка ‘нарядный ситцевый платок’ [СГРС 1:
12], арх. датский ‘изготовленный из нарядного ситца с рисунками’
[СГРС 3: 177], калуж. заграница ‘ситец красного с цветочками’, влг.,
ворон., курск., север, заграничный ‘кумачовый, красный’, калуж. за-
граничный платок ‘красивый и дорогой платок’, влад. ‘шерстяной
платок ярких расцветок’ [СРНГ 10: 27], влг. загранишевка ‘нарядный
89 Этимологическое значение слова немец («немой, тот, кто говорит не-
понятно» [ЭССЯ 25: 103-104] => «чужой, иностранный») определяет тот
факт, что в семантическом пространстве этого слова и его дериватов процес-
сы генерализации и дифференциации чередуются.
90 Связь значений ‘принадлежащий конкретному этносу (польский)’ —
‘иностранный’ — ‘богатый, «барский»’, наблюдаемая в семантической пара-
дигме слова панский, имеет параллель в «немецком» гнезде, ср. описанный
Г. Поповской-Таборской на полабском материале переход ‘немец’ > ‘знат-
ный человек, барин, господин’ [см. ЭССЯ 25: 104].
200
Раздел //
цветастый платок’ [КСГРС], пенз. московский сарафан ‘сарафан из
красной материи’ [СРНГ 18: 285] и проч. Таким образом, дифферен-
циация географических «источников» предметов материальной куль-
туры (стоящая за ситуациями, когда одна и та же реалия означивается
с помощью различных оттопонимических образов) при ближайшем
рассмотрении может обернуться нейтрализацией, при которой на са-
мом деле конкретный «производитель» товара не важен, а значим сам
факт необычности чужого, «заморского» изделия. Показательно, что
здесь на равных выступают образы своей страны и «заграничные»
(допустим, Париж и Москва)91.
Можно привести другие примеры номинативных дублетов, обра-
зованных от разных топонимов или этнонимов и использующихся для
обозначения одного и того же или очень сходных объектов: для арх.,
влг., вят., новг., олон., север, голанка, галанка ‘брюква (на север при-
везена в XVI или XVII в. из Голландии, почему и названа галанкой,
т. е. голландкой)’ [СРНГ 6: 282] дублетами являются шведка и немка
[Даль2 IV: 625; СРГСУ 7: 47], для литер, английская булавка — аме-
риканка ‘маленькая булавка’ [СРГС 1: 29] и т. п. Дублетные номи-
нации подобного типа являются следствием генерализации — осо-
бенно если несут оттенок экспрессии: китайская грамота = татар-
ская грамота [Михельсон I: 429] etc. (о такой нейтрализации, реали-
зующейся в явлении ксенономинации, см. в параграфе 4.2, с. 407-
411). Нейтрализующую дублетность такого рода надо отличать от
тех случаев, когда дублеты отражают различия в позиции номинато-
ра, его опыте общения с территориальными соседями, ср. наименова-
ния способов повязывания платка в Забайкалье (калмычкой ‘о способе
повязывания платка или шали в виде кички’ [СГСЗ: 190]) и в говорах
бассейна р. Урал (татарочкой ‘по-татарски’ — «Повязалась — попе-
ред конечики, а мне жарко, я повязалась назад — татарочкой») [Мале-
ча4:240].
Рассмотрев особенности отражения в языковых единицах пози-
ции номинатора в пространстве, сделаем несколько замечаний отно-
сительно цен ностных предпочтений, установок номина-
тора, которые формируются при взаимодействии «своего» и «чужо-
го» и реализуются при использовании в номинативной деятельности
образов «чужих земель». Нас не будет интересовать оценка тех реа-
91 Если русские крестьяне воспринимают покупные и фабричные изде-
лия как «заграничные», то, к примеру, коми крестьяне считают такие изде-
лия «русскими», ср. коми роч («русский») ‘привозной, фабричный, приобре-
тенный в магазинах’, рочь додь ‘праздничные сани’, роч ной ‘фабричное
сукно’, роч нянь ‘хлеб, купленный в магазине’ [КРК: 566].
Человек и пространство в зеркале языка
201
лий, которые являются собственно «своими» или «чужими», — она
предсказуема и очевидна. Более интересна для рассмотрения ситуа-
ция, когда номинатор реализует установку на восприятие своего
через призму чужого, соотнесение своего микромира и внешне-
го макромира, а в конечном счете— на изменение статуса сво-
его при сопоставлении его с чужим92. При этом возможно
повышение и понижение статуса.
Повышение статуса своего наблюдается, к примеру, при
наделении разного рода артефактов «топонимическими» эпитетами с
обобщенными положительными коннотациями: аглицкий 'о предме-
тах обихода: заграничный или добротный русский’ — «Аглицкий
крючок» [ЯОС 1: 19], яросл. аглецкий (агелъский) 'хороший по каче-
ству, добротный’ — «Агельскую байну срубили, долго простоит»
[ЛКТЭ], ср.-урал. аглицкий серп 'хороший, лучший серп’ [СРНГ 1:
201], укр. польем 'хороший, красивый; наивысшего качества’ —
«Польска хустка» [Аркушин 2: 69]. Интересно, что символика высо-
кого качества закрепляется именно за эпитетом английский. Это объ-
ясняется, во-первых, бытийными обстоятельствами — активной тор-
говлей с Англией и относительным отсутствием у «английского» тех
негативных коннотаций, которые могут быть связаны, скажем, с «не-
мецким» или «французским». Во-вторых, следует учесть собственно
языковые факторы (и это, думается, в данном случае играет решаю-
щую роль): диалектные варианты прилагательного английский «при-
тягиваются» к слову ангельский, ср., к примеру, арх. ангельский 'анг-
лийский’ — «По праздникам наредятся, всё звали ангельские платы,
все разные, яркие, с цветама. Не знаю, почему ангельски, красные по-
тому что» [СГРС 1: 17].
Еще одно проявление описываемой установки можно усмотреть в
практике называния деревень и частей деревень, улиц провинциаль-
ных городов, кабаков, трактиров и т. п. по широко известным россий-
ским и заграничным городам, которая особенно активизировалась в
начале XX в. В это время и в последующие десятилетия концы дере-
вень нередко получали такие имена, как Москва, Питер, Ташкент,
Америка, Берлин, Самара, Турция, Париж и т. п.: Париж — «Два ма-
газина там, церква и клуб, вот и у нас Париж» [Ревд, Крылатовка];
Москва — «На горе там получше жили, всё кофе пили, вот и звали их
Москва, Москвы уголок» [Ревд, Кунгурка]; Берлин — «Там народ по-
92 Возможна и обратная ситуация: восприятие «чужого» через призму
«своего» и отражение такого восприятия в прецедентных топонимах. Однако
номинатор, являющийся носителем традиционного русского лингвокультур-
ного сознания, сталкивается с такой ситуацией весьма редко.
202
Раздел II
богатее был» [Ник, Осиново]; Курский — «Приезжие жили, много мо-
лодых было. Говорили, что как на Курском вокзале» [Чаг, Смердом-
ский]; Новые Черемушки — «Новые дома кругом»; «От Москвы мода
такая пошла» [Уст, Шангалы]; Япония — «Народу там было куча»
[Кон, Заважерец]; Одесса — «У озера, дак Одесса» [Солигалич, Взвоз];
Шанхай — «Сами там настроились, сами место заняли»; «Потому что
беспорядочно строительство» [Котл, Дурницыно] и т. п. Иногда эти
имена образуют микросистемы, обозначая разные концы одного насе-
ленного пункта: Финляндия — Германия — Турция [Котл], Венеция —
Америка — Япония [Н-Серг], Самара — Кострома [Шенк]; ср. также
названия трактиров в вологодском селе Новленском: Москва — Пе-
тербург—Крым [Влгд].
Появление в стремительно застраивающихся и расширяющихся
деревнях (особенно поселках) своего Курского вокзала, Черемушек,
Финляндии и др., которые резко контрастируют со старыми ланд-
шафтными обозначениями концов деревень вроде Гора, Болото, За-
ручей, Завраг, втягивает весь мир в пределы деревни и в определен-
ном смысле приближает к городской культуре. Ср. слова кокшенг-
ской свадебной песни: «Она <деревня> стоит по-посадному, Слывет
по-базарному. Как в нашей-то деревне три города славные: Треть Мо-
сквы, Да треть Вологды, Да уголок славного Питера» [цит. по: PC:
55]. Если русская деревня номинативно подстраивалась чаще всего
под русский же город, то город старался «угнаться за заграницей», ср.
в языке старой Москвы: эльдорадо, Ливадия ‘обобщенно-нарицатель-
ное название трактира или ресторана’ [Елистратов: 697, 311],
по-парижски ‘типичный эпитет в адрес какого-л. блюда’ — «Да,
гранит виктория по-парижски! А по-парижски-то, может, и сам по-
вар не знает как. Переложил лист салату на другое место, вот тебе и
по-парижски» <из речи официанта (И. Шмелев)>» [Елистратов: 468].
Разумеется, «космополитическая» номинация такого рода не обхо-
дится без иронии. Особенно ярко насмешка проявляется в тех случа-
ях, когда «чужие» этикетки приписываются типично русским реалиям
и явлениям, не имеющим «заграничного» эквивалента, ср. просторен.
американские баретки ‘(ирон.) лапти’ [Елистратов: 31], парижанин
‘сельский житель, колхозник’ [ССРГ: 377]; ср. также игровые неофи-
циальные ойконимы вроде Рио-де-Шигарка, Рио-де-Киргизка [ЛЗА:
Томск, обл.].
В ряде случаев вторичные топонимы приобретают типовые кон-
нотации, а затем — ту или иную степень терминологизации: Финлян-
дией обычно называют ту часть деревни, где стоят финские дома,
Японией (Китаем, Шанхаем) — наиболее густонаселенный участок,
Ташкентом (Крымом) — участок, отличающийся наиболее мягким
Человек и пространство в зеркале языка
203
(теплым) климатом, Америкой (Сахалином, Камчаткой, Сибирью) —
самый отдаленный конец, Иерусалимом — пространство вокруг церкви
или монастыря, Черемушками — место новой застройки, БАМом — но-
вую дорогу, Москвой — центр деревни с «очагами культуры» — мага-
зинами, церковью и т. п.
Отметим, что данная тенденция сельской ойконимической номи-
нации на своем уровне повторяет более активную и разнообразно про-
являемую тенденцию номинации урбонимической, благодаря которой
в топонимии любого большого города создается как бы «параллельная
вселенная» (как правило, это касается системы неофициальных наимено-
ваний), ср. примеры из неофициальной урбонимии Перми — Одесса, Па-
риж, Лондон, Америка, Калифорния, Техас, Пикадилли, 5-я авеню, Голли-
вуд, Гонконг, Конго, Сайгон [Подюков 2003: 472], Санкт-Петербурга —
Сайгон, Ольстер, Чили, Сантьяго, Кабул, Пномпень, Ливерпуль, Рим,
Сингапур, Бомбей, Бродвей, Вашингтон, Монмартр, Монте-Карло
и др. [Клубков, Лурье 2003: 453, 456-457], Амазонка, Арарат, Басти-
лия, Вашингтон, Версаль, Вилла Боргезе, Голландия, Куликово Поле,
Лимпопо, Линия Маннергейма, Монголия, Нью-Йорк, София, Суэцкий
Канал, Татарстан, Фудзияма [Синдаловский: 16, 17, 22, 36-37, 48,
100, 107, 119, 129, 132, 172, 178, 180, 193] и др.
В том же направлении работает номинативная тенденция, акту-
альная для монастырского имятворчества, которое стремилось соз-
дать на территории монастыря «прецедентный мир», поименованный
библейскими топонимами. Такая деятельность преследовала цель
«дивинизации» монастырского пространства, творения «поместья Бо-
га на земле»: воссоздание сакрального топографического прецедента
повышало статус монастыря, что прекрасно выражено в названиях
типа Новый Иерусалим.
Описав ситуации повышения статуса своего при сопоставлении
его с чужим, отметим противоположные ситуации, когда наблюдается
понижение статуса своего. В данном случае имеет место ти-
пичная для ксенономинации тенденция негативного осмысления чу-
жого.
Чужое может привлекаться для номинации людей и явлений,
осмысляемых как антинорма, — к примеру, хулиганов. При этом ис-
пользуются образы, отсылающие к местам заключения и каторги
или к борьбе с внешними врагами (ср. моек., новг., олон. басурман
‘безобразник, шалун, разболтанный человек; непослушный, озорной
ребенок’, барнаул. басурманитъ ‘безобразничать, бесчинствовать’
[СРНГ 2: 138]). «Каторжные» ассоциации связаны с Соловками и
Сибирью: парень соловецкий ‘хулиган’ [СРГК 4: 395], хайдула си-
бирская ‘задира, забияка’ [СПГ 1: 285], смол. Сибири кусок ‘об отча-
204
Раздел II
янном, способном на самый рискованный поступок человеке’ [СРНГ
37: 266], сибирный ‘о непослушном ребенке’ [ЯОС 9: 30], неотес
сибирский ‘грубый, невоспитанный человек’ [ФСРГС: 121]. Что ка-
сается внешних врагов, то это в первую очередь шведы и французы:
заурал., перм., тобол. парижан ‘хулиган’ [СРНГ 25: 224], ср. пого-
ворку Француз сорвиголова, живет спустя рукава, шилом бреется,
дымом греется [Даль2 IV: 305]; показательна также мотивировка
коллективного прозвища Французы (жители д. Павловское) — «У нас
народ настырный, задумают, что сделать — так все наше, вот фран-
цузы и прозвали» [Вель, Павловское]; арх., влг. шведка ‘озорная не-
послушная девочка’ — «Шведка боевая очень, везде ползёт, ты уж
опять, шведка, тут» [КСГРС], швед нерубленая голова ‘вольница’
[Даль2 IV: 106]. Этот ряд, думается, может стать дополнительным
аргументом, подтверждающим предположение М. Фасмера (сформули-
рованное, правда, с некоторой неуверенностью) о связи просторен.
шпана ‘хулиган, жулик, беспризорник’ со словом шпанский ‘испан-
ский’ [Фасмер IV: 470]93. Хоть испанцы не воевали с русскими, сте-
реотип испанца включает в себя признак буйного темперамента;
кроме того, характеристики романоязычных территорий и народов
могут, по всей видимости, накладываться друг на друга, ср. костр.
шпанка ‘двойное окно’ [ЛКТЭ] = дон. итальянка ‘широкое (двой-
ное) окно’ [СРНГ 12: 272], испанские ветры ‘сладкие пирожки, би-
сквиты, битый яичный белок с сахаром’ [Даль2 II: 53] ~ арх. хранцуз
‘пирожное с кремом’ [КСГРС].
Частотны «чужеземные» образы, связанные с понижением ста-
туса своего, и при номинации недотеп, неуклюжих людей, дураков.
Интересно, что здесь несколько меняется масштаб сопоставления:
если хулиганы «кооптировались» преимущественно из «дальнего за-
рубежья», то на роль простаков и недотеп чаще избираются жители оп-
ределенной области своей страны, в том числе непосредственные терри-
ториальные соседи (или же представители «малых» народов, ее насе-
ляющих): брянская коза ‘глупый человек’ [СОГ 1: 100], баба рязанская
‘о неловкой, рассеянной женщине’ [СИП: 15, 85], филя тобольский
‘о несообразительном, рассеянном человеке’ [СПП: 77], (р. Урал) прие-
хать (быть) с Бухарской ‘о человеке плохо разбирающемся, мало знаю-
щем, темном’ (ср. Бухарская сторона ‘левый берег р. Урал’) [СРНГ 3:
320], тала ‘о недалеком, глупом, бестолковом человеке’ (< тала ‘бу-
93 По альтернативной версии П. Я. Черных, слово попало в просторечие,
«вероятно, из говоров, где оно — из блатного арго, а здесь, как и многие
другие слова, по-видимому, немецкого происхождения. Ср. нем. (арго)
Spanelder ‘бродяги’, ‘род воров’» [Черных II: 422].
Человек и пространство в зеркале языка
205
рят’) [СГСЗ: 466], моек, мещора ‘о жителях Коробовского района
Московской области (с примечанием «имеет эмоциональный оттенок
„серый, некультурный44»)’ [СРНГ 18: 151], полеха ‘о необразованном, не-
вежественном человеке’ (< 4полешук, житель Полесья’) [СОГ 10: 102],
лёся кунгурский 4 о ненормальном, психически больном человеке’
[СПГ 1: 474], вятский шлепенъ ‘неуклюжий, неповоротливый чело-
век’ [СПГ 2: 556], костр. черемис ‘глупец, дурак’ [ЛКТЭ], идыгёйка
‘глуповатый, бестолковый человек, сумасшедший’ [СГСЗ: 140],
перм. вотъ (вотяк) ‘дурак, болван, разиня’ [Даль2 I: 253] и др.
Сделанные выше наблюдения помогут составить «лингвокуль-
турную карту мира», которая существует в сознании русского кресть-
янина и отражает наивную «политическую», «экономическую» и «ис-
торическую» географию.
2.6. ДЕМОНИЧЕСКИЙ ТОПОС
Наивное восприятие географического пространства как неодно-
родного, ценностно «размеченного» предполагает, среди прочего,
выделение в структуре пространства зон, имеющих сакральный ста-
тус, связанных со сверхъестественным началом — с нечистой или
крестной силой. Логика конструирования образа таких мест средст-
вами различных культурных кодов составляет весьма интересный
предмет этнолингвистического исследования. В данном случае дей-
ствует тот «фактор интереса» (интереса, хоть и ставшего тривиаль-
ным, но не исчерпавшего свой потенциал), который объединяет
представления о местопребывании ирреальной силы с виденьем ее
внешнего облика, атрибутов, действий ит. п.: любой ментальный об-
раз носителей сверхъестественного начала, любая его грань отлича-
ется двойным субъективизмом, поскольку обычная субъективность
отражения фрагмента действительности посредством какой-либо
знаковой системы умножается здесь на фантомность самой «дей-
ствительности». Но все же локативная составляющая портре-
тов нечистой или крестной силы привлекательна для анализа
по-особому: географическое пространство одно, его приходится «де-
лить» между представителями того и другого лагеря (и в нем же про-
живает человек!), оно выступает как арена их взаимодействия, в то
время как некоторые другие характеристики нечистой силы могут
быть воссозданы в сознании в известной мере независимо от пред-
ставлений о крестной силе.
Обозначенная проблематика требует фундаментального иссле-
дования; здесь же мы собираемся затронуть лишь малую ее часть —
206
Раздел II
охарактеризовать народные представления о демоническом (прокля-
том, нечистом) топосе94, месте обитания мифологических персона-
жей (далее МП) в географическом пространстве по данным русской
языковой традиции (диалектной лексики и топонимии).
Сначала охарактеризуем языковой материал, выделив раз-
ные способы представления информации о демоническом топосе, ко-
торая в нем содержится.
Нарицательная лексика
1. Указание на место обитания мифологического персонажа со-
держится во внутренней форме его наименования. Ср.: «Локативная
характеристика МП является важнейшим идентифицирующим при-
знаком, часто мотивирующим их названия-имена... Закрепленные за
демоном места обитания (появления, контактов с человеком) — это
такие локусы, где МП может в полной мере реализовать свою магиче-
скую силу» [Виноградова, Толстая 2000: 41].
Местом обитания МП может считаться «типовая» ландшафтная
реалия — в этом случае наименование МП образовано от географиче-
ского термина. Наиболее яркие, но и нечастые ситуации демонстри-
руют полное совпадение наименований объекта ландшафта и прожи-
вающего в нем демона: олон. лес ‘по суеверным представлениям —
главный лесной дух; леший, дьявол вообще’ [СРНГ 16: 368], лешак
брян. ‘участок старого, глухого леса’ [СРНГ 17: 30] и простореч. ‘ле-
ший’; арх., влг., калин., яросл. ляд ‘низкое болотистое место, непри-
годное для пахоты’ (и другие ландшафтные значения) и диал. шир.
распр. ‘злой дух, бес, нечистый’ [СРНГ 17: 259], ср. также укр. нете-
ча ‘стоячее болото’ и ‘черт’ [СД 1: 228]. Значительно чаще среди на-
званий демонов встречаются словообразовательные дериваты от гео-
графических терминов: пск., смол, болотник, калуж., костр., тюмен.
болотный [СРНГ 3: 79], арх., пск. боровой [СРНГ 3: 107], литер, водя-
ной. урал. горный [СРНГ 7: 49], донный [Власова: 139], сев.-двин. ела-
нъя95 ‘лесной дух’ [СРНГ 8: 338], чкал. камышанов ‘водяной’ [СРНГ
13: 33], литер, леший, диал. олон. лесйк. вят. лесной дедушко, влад.
94 Нам приходится предпочесть этот термин более распространенному
термину локус, поскольку последний более широк: локусом — применительно
к рассматриваемой проблеме — можно назвать любое место обитания демона
(в том числе в доме, во дворе, в амбаре и т. п.); мы же будем анализировать
только те локативные характеристики, которые связаны с географическим
пространством, с ландшафтными реалиями.
95 Ср. диал. шир. распр. елань ‘ровное открытое пространство’, ‘поляна
в лесу’ и др. [СРНГ 8: 336-337].
Человек и пространство в зеркале языка
207
лесной херувим, свердл. лесниха [СРНГ 16: 370-373], лесдвка ‘мифи-
ческое существо в лесу в образе медведицы’ [СРГК 3: 117], луговик,
межевой [Власова: 230, 241], моревой ‘фантастическое существо, жи-
вущее в море’ [СРНГ 18: 261], костр. озерной [СРНГ 23: 92], пск.
омутнйк [СРНГ 23: 206], полевик, полевой гад [НОС 8: 85], костр.,
моек., твер., яросл. полевой [СРНГ 29: 48], арх. рековдй ‘речной дух,
водяной’ [СРНГ 35: 45] и др.
Помимо «типовых» реалий, местом обитания духа может быть
единичная ландшафтная реалия — тогда наименование МП образова-
но от топонима. Ср. лексемы, зафиксированные в архангельских го-
ворах: патромиха ‘мифическое существо, проживающее в болоте
Патрома", чудница ‘мифическое существо, живущее в урочище Чуд-
ницы\ кдленъга ‘мифическая хозяйка реки Коленъга" [КСГРС]. Слу-
чаи такого плана практически не выявлены и не каталогизированы:
вследствие трудностей сбора этих фактов и их не очень определенно-
го статуса (что это — имя собственное или нарицательное?) они прак-
тически не попадают в региональные диалектные словари. В то же
время они очень интересны: перед нами классические genii loci, из-
вестные многим мировым мифологиям (ср. хотя бы сказочный образ
Хозяйки Медной горы).
Наконец, возможны ситуации, когда в имени МП заложено не
указание на ландшафтную реалию, а более абстрактная, неопределен-
ная пространственная характеристика. К примеру, такие наименова-
ния, как влг. вольный ‘мифическое существо, обитающее в лесу, леший’
[СГРС 2: 168], вольная, вольная старуха ‘лешачиха’ [Власова: ПО],
могут быть интерпретированы в связи со словами арх., влг. вольный
‘внешний, обращенный наружу в открытое пространство’ [СГРС 2:
168], вольный ‘свободный, пустой, ничем не занятый’, вольная работа
‘работа, осуществляемая в поле, вне дома’ [АОС 5: 72] и т. п.
2. Указание на МП (или что-либо с ним связанное) содержится во
внутренней форме слов или идиом с пространственным значением.
Данная группа слов на уровне мотивации обнаруживает картину, об-
ратную той, что наблюдалась в предыдущем случае.
Во-первых, указание на МП может содержаться во внутренней
форме географических терминов: черторой ‘овраг, рытвина от воды’
[Даль2 IV: 598], арх., влг. чертова яма, чертовйк ‘омут, яма в реке’
[КСГРС], чертова поварня ‘опасный водоворот на реке’ [ФСК: 289],
чертова лестница ‘крутой подъем в гору, на перевал по крутым кам-
ням, валунам’ [Мурзаев: 613], чёртово городище ‘скалистый гребень
гор, издали похожий на развалины замка, куча надводных скал и камней
в море’ [Мурзаев: 614]; ср. также блр. чортава г1белъ, чортава пропасцъ
‘труднопроходимое место, болото, поросшее лесом’ [ДС: 170] и т. п.
208
Раздел II
Во-вторых, выделяется группа «демонической» нетерминологи-
ческой фразеологии с пространственным значением. Такая фразеоло-
гия имеет, как правило, очень размытую и неопределенную семанти-
ку: ‘о неопределенно большом (неизмеримом) расстоя-
нии’ — вёрсты черт мерил да в воду ушел ‘о большом, точно никем
не измеренном расстоянии’ [СФС: 35], арх. черт мерил, да веревка
сорвалась ‘о неопределенном расстоянии’ [КСГРС]; ‘о неиз-
вестном направлении’ —у лешего ‘неизвестно где’ [АС 2: 108], к лешему
на вешалу ‘неизвестно куда’ [СПГ 1: 478^79], на левом плече леший унёс
‘о том, кто ушел неизвестно куда или долго задерживается где-либо’
[СРГК 3: 104], с черта у турка ‘неизвестно откуда’ [СГСЗ: 515]; ‘повсю-
ду’ — у лесного ‘всюду; в разных местах’ [СПГ 1: 474] и др. Иногда не-
терминологическая «демоническая» фразеология означает локус со
сверхъестественными свойствами, ср. влг. лешева тропка ‘место, где во-
дит или происходят сверхъестественные события’ [КСГРС].
Особо отметим группу негативных вербальных формул (проклятий),
в семантике которых пространственная идея напрямую не выражена, но
прочитывается из стремления говорящего вывести адресата за пределы
«своей» зоны. Это стремление на уровне внутренней формы обнаружи-
вается в упоминании какого-либо топоса — «адреса отсылки». О «демо-
ничности» топоса, называемого в этих формулах, говорит их структур-
ное сходство с теми проклятиями, в составе которых фигурирует обозна-
чение МП, например: болото с ними ‘пусть сгинут’ [ПОС 2: 89] = черт с
ними; ср. также: калуж. пошел в бук96 97 ‘поди к дьяволу’ [СРНГ 3: 262],
орл. горой тебя положи, яросл. одерет тя горой, одуй тя горой и др.
‘бранное выражение’ [СРНГ 7: 17-18], латыш., литов, (рус.) сквозь дон-
ную провались ‘пропади пропадом’ [СРНГ 8: 125], брян. вертись в вир на
дно ‘убирайся, ступай к черту, к лешему’, влад. в омут те головой ‘чтоб
тебе сгинуть, пропасть’ [СРНГ 23: 206], омут возьми [СРГК 4: 200] и др.
Таким образом, в подобных случаях демонические свойства топоса про-
являются отраженно, поскольку в номинативном «кадре» нет демона —
орудия (инструмента) проклятия. Место демона занимает топос — сфера
его обитания. В наиболее очевидных случаях указание на «проклятый»
топос совмещается с непосредственным упоминанием демона: курск.
пойди к чертям на бутырки91 [СРНГ 3:317].
3. Указание на МП содержится в семантике пространственных
обозначений (в некоторых случаях эта идея подсказывается и внут-
96 Зап., калуж., смол, бук ‘глубокое место под колесом мельницы, выры-
тое водой; яма в реке, в месте падения воды’ и др. [СРНГ 3: 262].
97 Арх., симб. бутырки ‘крестьянский двор, стоящий в стороне от села,
деревни; хутор’ [СРНГ 3: 317].
Человек и пространство в зеркале языка
209
ренней формой, которая, однако, не содержит прямого упоминания
МП). Ср. калуж. бук ‘омут, в котором, по суеверным представлениям,
живет водяной’98 99 100 [СРНГ 3: 262], арх. омут ‘нечистое место, водит
или топит’ [СРНГ 23: 206], арх. домовище ‘опасный омут, притон во-
дяного’ [Даль2 I: 467], закретье ‘заколдованное место’ — «Ходишь по
закретьям, когда на худой след попадешь к чертям. Скотину ищут,
рядом ходишь и не видишь» и др. [СРГК 2: 140] и т. п.
4. Указание на место локализации демона содержится в синтаг-
матических связях обозначений МП в составе фразеологизмов или
паремий с непространственным значением: болото не без беса ‘везде
найдутся плохие люди’ [ПОС 2: 89], как черт из болота вылезши ‘об
очень грязном, испачкавшемся в чем-л. человеке’ [СПП: 121], два
черта в озере не живут ‘о неуживчивых людях’ [СОГ 3: 46], як черт
в лужу тропнул ‘когда кто скажет глупо и невпопад’ [СОС: 988],
черт (черти) с виру, с (топкого) виру [СБГ 3: 30], смутил черт брак,
а сам в буерак [Симони I: 141] и др.
Топонимическая лексика
Топонимы — это заведомо имена с пространственной семанти-
кой, поэтому здесь интересующий нас материал формируется из тех
наименований, во внутренней форме которых есть указание на де-
мона или какие-либо демонические свойства номинируемой ланд-
шафтной реалии.
Приведем выборочный список названий МП, которые отражены
в микротопонимии Русского Севера и Урала, и примеры соответствую-
щих топонимов. Бес: г. Бесова Гора [Прим], бука: ур. Букин Угол —
«Заводило там, блудились, там видели фонарики — красные огоньки»
[Некр, Федяево]; вед ъм а: г. Ведьмина" — «Урема там, медведи, никто
там не ходит» [K-Ид, Чебыково]; дьявол: пок. Дьяволово — «Место
все изрыто, в ямах» [В-Т, Сефтра]; жихарь: р. Жихаревка — «Пуга-
ло, будто клад какой-то выкатывался» [Сок, Калитино]; кикимора:
пок. Кикимориха — «Кикиморы лесные бегали, старики-те пугали»
[Бабуш,Чупино]; леший, лешачиха: пок.Лешие — «Зимой леший
водит» [Прим, Рихасово], ур. Лешачиха — «Темной-темной лес, боят-
ся бабы туда ходить» [Нюкс, Звегливец]; нехороший1": овраг Не-
хороший — «Пугало там да водило, нехороший, бают, был» [Бабуш,
Соколово]; оборотень (обмен): пок. Оборотницкая Поскотина
98 Здесь также возможно притяжение бук ++ просторен, бука ‘нечистая
сила, которой пугают детей’.
99 Интересно, что по соседству с Ведьминой находится г. Лысая.
100 Ср. влг. нехороший ‘(эвфем.) леший’ [КСГРС].
210
Раздел II
(Омменово) [Котл]; русалка: поле Русалка [Кир]; сатана: прк. Са-
тана — «Быстро каменье» [В-Т, Монастырь]; скоморохт: оз. Ско-
морошье — «Нечисто озеро, рыбы в нем нет» [Прим, Пушлахта];
упырь: луг Упырь [Уст]; черт: р. Чертоеица — «Там баба белая
ходила, говорят, бросила как-то в мужика красной собакой» [Бабуш,
Королиха], ур. Чёртово Чащение — «Там пугало, водило. Говорили,
Марья Гуляя кружева плетет» [Влгд, Карцево]; шайтан: порог
Шайтан — «Страшной порог, как шайтан» [Мез, Кимжа].
Помимо названий демонов, в составе топонимов могут быть от-
ражены различные качественные характеристики нечистых локусов, а
также обозначения реакций человека на контакт с такими местами, ср.
названия, образованные от апеллятивов блазнитъ, глухой, дикий, дур-
ной, лихой, манить, неповадный, окаянный, поганый, проклятый, пу-
гать, страшный, чудной, шальной и др.: лес Блазнйха — «Блазнило
там, черти с огоньками бегали, а то слышали, будто плачет кто»
[Некр, Гумнищи], луг Дикий Мыс — «Там всё люди б лудятся, вот и
назвали его Дикий Мыс» [В-Т, Малевская], рукав р. Дурной Полой —
«Пужало все в этом полое. Кака-то женщина выходила, расчесывала
волоса, увидит человека — спрячется» [Котл, Приводино], бол. Лихое
— «Страшное болото, манило там, пугали — не вернёшься оттуда»
[Ваш, Муньга], руч. Манйха — «Он в овраге, дак манило там, страшно
было ходить вечером» [Нюкс, Побоище], ур. Поганый Куст — «Во-
дило там раньше, мужики с бабами с косами казались» [Влгд, Белое],
пок. Проклятые — «Чертово место, начупаешься там» [Прим, Лоп-
шеньга], лес Пуганое (параллельное название Темный Лес) — «Там
тайга такая, пугало там» [У-Куб, Тавлаш], овраг Страшной Лог —
«Там черти жили, туда сбежали, когда церкву на угоре ставили»
[Котл, Петровская], ур. Шальной Овражек — «Там кака-то девка лес-
ная выходила» [Плес, Федово] и мн. др.
При анализе названий такого рода необходимо обращать внима-
ние на следующие дополнительные информативные моменты, обна-
руживающие закономерности появления и функционирования этих
топонимов.
1. Закономерности распределения названий по типам географиче-
ских объектов. К примеру, среди 227 топонимов Русского Севера, об-
разованных от апеллятива черт, больше всего, как следовало ожи-
дать, фиксируется чертовых болот — 43; затем идут обозначения уро-
чищ — комплексных или переходных по своему характеру объектов
(предболотье, каменистая гряда между покосами, неровная, ямистая
низменность ит. п.) — 37; столько же отмечено названий небольших *
101 Арх. скоморох ‘нечистая сила’ [КСГРС].
Человек и пространство в зеркале языка
211
озер, заливов и ям с водой — 37; далее следуют обозначения ручьев,
логов и оврагов — 33, полей и покосов — 23, омутов — 18. Названия
других типов объектов малочисленны: деревни (преимущественно
неофициальные названия) — 10, излучины рек, мысы — 7, леса — 7,
пороги — 5, горы — 3, острова — 2. Как явствует из этого перечня,
чертовы названия прилагаются большей частью к малоосвоенным
или трудным для освоения объектам (преимущественно водным).
2. Закономерности локализации топонимов в определенных участ-
ках какой-либо макротерритории. Такие закономерности просматрива-
ются крайне редко: в целом «демонические зоны» весьма равномерно
распределены по территории. Однако можно найти определенную ло-
гику в том, что, к примеру, названий, образованных от апеллятива
черт, в Архангельской области в процентном отношении больше, чем в
Вологодской (на 15%) и Костромской (на 20%). Это, вероятно, объясня-
ется особенностями ландшафта (обилие болот и лесов) и большей неос-
военностью, необжитостью территории, ср. пословицу «Бог создал
небо и землю, а черт — Архангельскую губернию» [РДС: 613]102.
3. Специфика сочетаемости внутри сложных или составных топо-
нимов. Показательны, например, обнаруживаемые в структуре двуоснов-
ных топонимов сочетания черт + рыть, валить, ломать (оз. Черторой-
ное [Леш], ур. Чертовалово [Шенк], бол. Чертолом [Ваш]), а также
устойчивая связь в составе сложных топонимов определений чертов,
бесов и терминов яма, болото, омут.
4. Парадигматические связи топонима.
Во-первых, такие связи иногда проявляются в системе названий
одного географического объекта. При этом возможно как одновре-
менное, синхронное функционирование двух или нескольких парал-
лельных названий (ур. Чёртовы Ворота И Глухие Ворота — «Там
мужика-утопленника оттолкнули от берега и тонули с тех пор. Там
манит, заблудиться можно, дак одежду на левую сторону надень —
выйдешь. Там лешак хозяин» [B-Уст, Палема]; пок. Лешаки И Страш-
ное [В-Т]), так и эстафетная замена одного названия другим (д. Упырё-
во Святая Гора [Гряз]). Если в случае синхронного функциониро-
вания вариантов они реализуют отношения «психологической синони-
мии», то при замене названия могут проявиться отношения «психо-
логической антонимии», знаменующие изменение статуса ландшафтной
реалии в сознании носителей топонимической системы (например,
элиминация «нечистых» свойств при освящении объекта).
102 Кстати, подобным образом воспринимается и близкая к Архангель-
ской губернии Финляндия: чёртова сторонушка ‘Финляндия, голый камень’
[Даль2 IV: 598].
212
Раздел II
Во-вторых, эти связи наблюдаются в системе наименований смежных
объектов, ср., к примеру, факт корреляции поганых и чертовых топони-
мов: пок. Чёртово — пок. Поганая Лужа [Тарн], ур. Поганец — р. Черто-
вица [У-Куб], г. Поганец — бол. Чертова Лужа [Кир], а также святых и
чертовых названий: оз. Святик — оз. Чертик [Котл], оз. Святое — оз. Чер-
това Яма [Бел], о-в Святой — мыс Чертов [Ваш], д. Святица — д. Чер-
туголъе [Тот], д. Святая Лука — бол. Чертоугольное [У-Куб], родник
Святой Ключ — руч. Чертовик [Хар], оз. Святого Луки — пок. Убожъ-
ево — бол. Чертово Болотечко [Чаг] и др. Как показывают данные приме-
ры, семантические связи названий смежных объектов могут отражать и
соположенность характеристик объектов, и их противопоставленность.
5. Показания языкового сознания носителей топонимической систе-
мы, проявляемые в актах мотивационной рефлексии по поводу гео-
графических названий (примеры см. выше). Естественно, что объяс-
нения топонимов информантами нередко бывают народно-этимологи-
ческими и игровыми, но даже в том случае, когда мотивировки явно
вторичны по отношению к данному конкретному названию, они пред-
ставляют интерес для исследователя, фиксируя модель деривацион-
но-мотивационных связей, актуальную для языкового сознания. Оп-
ределенное доверие к этому источнику информации может опираться
также на ярко выраженный консерватизм топонимических моделей,
следствием которого является их воспроизводимость на протяжении
длительного времени.
Охарактеризовав специфику материала (вследствие своего боль-
шого объема он не может быть подан полностью), представим итого-
вую подборку сведений о характере ландшафтных реалий,
квалифицируемых в языковой традиции как демони-
ческие. Перечисление характеристик объектов ландшафта сопрово-
ждается выделением мотивов, являющихся компонентами ментально-
го образа демонического топоса103.
103 При группировке характеристик не удается избежать различных на-
ложений и пересечений, поскольку в пределах каждой группы объекты при-
ходится объединять по какому-то одному свойству, «разрывая» реальный
комплекс качеств. Кроме того, при подаче нижеследующего перечня не вы-
деляются виды МП, обитающих в определенных зонах пространства и сооб-
щающих этим зонам те или иные свойства. Такая недифференцированная
подача объясняется тем, что «специализация» МП в языковом материале вы-
ражена весьма своеобразно: «демоны места» вроде смутного, донного, лесо-
вика etc. (и особенно те, имена которых образованы от конкретного топони-
ма) закреплены за определенным локусом, а вот нечистая сила «широкого
спектра действия» (черт, бес, дьявол и др.) обнаруживает себя в самых раз-
Человек и пространство в зеркале языка
213
Отдаленные от дома, глухие места; объекты, точное местоположе-
ние которых неизвестно (мотив неизмеренности расстояний; мо-
тив дикой природы; мотив необжитого пространства; мотив вез-
десущности демонов);
болото, яма с водой, омут, озеро, река (мотив водной стихии);
участок реки с быстрым течением, перекат (мотив движения);
комплексные или переходные по своему характеру объекты — пред-
болотье, гряды между покосами, объекты с комплексной харак-
теристикой рельефа; дремучий лес; бурелом; ягодные места; мес-
та, обильные змеями; труднопроходимые места (мотивы дикой при-
роды, «апофеозной природности», необжитого пространства);
объекты, расположенные на границе или служащие границей — ме-
жа, перекресток дорог (мотив чужого пространства);
камни-следовики; бездонные озера; озера, где живут коровы водяно-
го; горные массивы, облик которых изменился в результате вы-
ветривания, скалы с причудливыми очертаниями и т. п. (мотив
сверхъестественного);
места, где «водит», «чудится»; скалы, мысы, пороги, перекаты, от-
мели; омуты, водовороты (мотив страшного, опасного);
объекты небольшого размера («точечный» характер локализации
нечистой силы);
овраги, ямы, рытвины, рвы, каменные завалы, бугры (мотив «земле-
устроительской деятельности»);
водоемы с черной водой, «темный лес» (мотив черного цвета);
«убиенные» места (мотив «не своей смерти»);
бедные в хозяйственном отношении объекты, недостаточно обрабо-
танные или заброшенные пахотные и посевные земли (мотив бес-
полезности, «неокультуренности»).
В качестве комментария к этому перечню следует дать более раз-
вернутое описание свойств демонического топоса и попытаться объ-
яснить причины появления здесь противоречащих друг другу харак-
теристик. Такое описание удобно построить как систему оппозиций.
1. Демонический топос может быть огромным по размеру, охва-
тывающим обширное неопределенное и принципиально неизмеримое
пространство — но, вместе с тем, очень маленьким и четко очерченным.
личных пространственных зонах. Определенная дифференциация, разумеет-
ся, характерна и для этих «вездесущих» демонов (мотив черного цвета при-
сущ именно черту; бес проявляет себя в пространстве скорее как активный
деятель, а не как обитатель определенного места и т. п.), однако поиск таких
закономерностей мог бы стать темой отдельного исследования; в нашем
случае важна обобщенная характеристика демонического топоса.
214
Раздел II
Обширность такого топоса обнаруживается в идиоматике: арх.
чертовы бега ‘широкий простор’, чертова верста ‘неопределенно
большое расстояние’, черт не схватит ‘об обширном пространстве
(как правило, свободном, не занятом какими-либо постройками, посе-
лениями)’ [КСГРС], черт бежал — ногу переломил ‘о чем-либо, зани-
мающем большое пространство’ [Прокошева: 110] и т. п. (см. также
параграф 1.1, с. 38).
Казалось бы, «литотность» демонических пространственных объ-
ектов менее очевидна, однако она вполне определенно выражена в
языке. Во-первых, выделяются наименования демонов микролокусов,
обитающих в кочках, во мху, под кустами, под грибами и др.: Томск.
конечный ‘нечистая сила’ [СРНГ 15: 132], влг. моховики — «Малень-
кие, в четверть аршина старички, так что они могут прятаться во
мху», влг. боровики — «...заведуют грибами, груздями, рыжиками.
Тоже маленькие старички, вершка с два. Живут под грибами» [Чере-
панова 2005: 214], подкустовник ‘полевой или лесной дух, обитающий
в кустарнике’ [Власова: 273]. Вообще, по наблюдениям О. А. Черепа-
новой, в языковой традиции Русского Севера «минимизация персо-
нажа <мифологического. — Е. Б.> отчетливо преобладает над гиперо-
нимизацией» [Черепанова 2005: 216].
Во-вторых, в составе сложных топонимов наблюдается устойчи-
вая сочетаемость определений чертов и бесов с географическими
терминами, обозначающими маленькие по размеру объекты, а также с
уменьшительными формами географических терминов: болотце, бо-
лотечко, горка, горушка, кочка, лужа, лягат, мысок, озерко, окно!
окошко, полоска, ямка (пок. Бесов Мысок [Карг], г. Чертова Горуш-
ка [Кон], бол. Чертова Лужа [Кир], ур. Чертова Ямка [Плес] и др.);
ср. также влг. чертово окошко ‘окно воды в болоте’ [КСГРС].
В-третьих, для названий МП характерна сочетаемость со словом
угол (уголок). Такая сочетаемость проявляется в диалектной идиоматике
и паремиологии: около кругом, а к черту в угол [Богданов: 104], люблю,
как черта в углу [Даль ПРНг 3: 197], а также в топонимии: ур. Букин
Угол [Некр], бол. Чертоуголъное — «Русалки там водились. Однажды
один мужик мужичонку черного через реку Двиницу перевез, а тот
подарил ему красные портянки и сказал: „Помни доброту черта“» [Сок,
Березино], лес Чёртов Угол — «В Непретях Чертов Угол, всех обво-
дит» [Пош, Савинское], пок. Чёртов Угол — «Камней было полно»
[Устюж, Степачево] и др.
В-четвертых, маленький размер демонических мест подчеркива-
ется носителями языка в мотивационных контекстах: оз. Чёртово —
104 Арх., влг. ляга ‘лужа, яма с водой’ [КСГРС].
Человек и пространство в зеркале языка
215
«Маленькое, а сильно глубокое, потому и Чертово» [В-Т, Григорьев-
ская Вторая], бол. Чертово Болотце — «Маленькое болотце, черт в
ем живет» [Кир, Чарозеро] и т. и. Отметим, что в финно-угорском
фольклоре (а территория Русского Севера, как известно, является зо-
ной активных русско-финно-угорских контактов), в частности, в
вепсских сказках, черти поселяются в маленьких, но глубоких лесных
озерах [Кузнецов 1995: 78].
2. Мотив движения сочетается с мотивом застойности, непод-
вижности. Последний проявляется в идиоматике и паремиологии: в
тихом болоте (омуте) черти водятся [Даль2 I: ПО], в смирённом бо-
лоте все черти сидят [ФСРГС: 217], влг. сгинь в тиху яму ‘пропади
пропадом, поди к черту’ [КСГРС]; о реализации первого можно су-
дить по данным топонимии, ср. названия вроде Чертов Поток [Некр],
Чертова Быстеръ105 [Чаг], а также частое использование чертовых,
бесовых, сатанинских топонимов для обозначения порожистых рек,
участков реки с быстрым течением, перекатов и т. п. Мотив движе-
ния, перемещения обнаруживается не только в «чертовой топогра-
фии», ср. его реализации при обозначении с помощью образа черта
подвижных людей, исчезнувших предметов и т. п.
3. Демонический природный объект нередко беден, бесперспек-
тивен с хозяйственной точки зрения (или плохо обработан), но в ряде
случаев с образом демона связывается представление о богатом при-
родными ресурсами объекте. Первое свойство проявляется в следую-
щих ономастических и апеллятивных фактах: бол. Чёртово Болотеч-
ко — «Ничего нет в том месте, ни грибов, ни ягод» [Чаг, Лукинское],
пок. Чертовики — «Чертополох там, кочка на кочке, плохо косить-то»
[Сок, Барское], пок. Чёртово Поле — «Много камней там было, не про-
пахать» [Сок, Старое], поле Чёртово — «Черноземина там да грязно па-
хать» [Пош, Ермаково], чертопар ‘вспаханный один раз пар’ [СРГСУ 7:
27-28], перм. ‘плохо подготовленная к будущему году пашня, вспаханная
один только раз’ [Даль21У: 598], чертопруд ‘мало-мальски запруженная
река, мало дающая подъема воды, очень непрочная плотина’ [КСРНГ]
и т.п. Мотив природного богатства просматривается, к примеру, в
том, что черт и бес наделяются гумнами, под которыми понимаются
ягодные места, ср. названия таких мест Бесово Гумно [Кон] и Черто-
во Гумнище [Чухл]. Если на обычном гумне обмолачивается урожай
зерновых, то на бесовом гумне можно собрать урожай никем не посе-
янных и не выращенных ягод. Черт и бес, очевидно, выступают в ро-
ли хранителей этого богатства (ср. широко распространенный во мно-
гих мифологиях образ духа, охраняющего природные сокровища).
105 Арх., влг. быстеръ ‘быстрое, стремительное течение на реке’ [СГРС 1: 245].
216
Раздел ll
4. Интересна оппозиция «актуальности» и вместе с тем «пер-
фектности» присутствия демонов в географическом пространстве.
Актуальность этого присутствия, наличие демона в какой-то зоне
в тот момент, когда человек о нем вспоминает, проявляется, к примеру,
в том, что в «чертовой» идиоматике может употребляться глагол жить
(а также другие глаголы вроде водиться, сидеть, находиться) в настоя-
щем времени, ср. вербальную формулу, употребляемую в ситуации, ко-
гда говорят о долго не возвращающемся или заблудившемся человеке:
костр. Где Маша? — Маша гуляет, где черт проживает [ЛКТЭ]. Сию-
минутно присутствующий в пространстве черт наделяется домом — ср.
синтагматические связи тополексемы черт, которая сочетается со сло-
вами дом, жилище, родина', ур. Чёртовы Дома [Он], ур. Чёртово Жили-
ще [Он], пок. Чертородина106 [Леш] (ср. в паремиологии: Горы да овра-
ги — чертово житье [Богданов: 90]). Свой дом, изба есть и у других де-
монов, ср. костр. омутной ‘в суеверных представлениях — дух, живущий
в речных и озерных омутах’ — «В водах есть у них избы...» [СРНГ 23:
206-207]. Наличие у демонов дома подчеркивается и в топонимических
мотивационных контекстах: бол. Чёртово Окошко — «Там черт живет,
там его домик, глубокое, страшное» [Некр, Черная Заводь], бол. Кикимо-
рово — «Дом там у кикиморы» [В-Т, Тинева].
При этом в пределах дома черту может быть выделена нижняя
часть— голбец, что соответствует его обычному местопребыванию в
природе (яма Чёртовы Голбцы [Сок]). Топонимия фиксирует стремление
номинатора наделить черта типовой околодомной постройкой — баней:
оз. Чёртова Баня — «Озеро небольшое, но очень глубокое, никто не
дружится с ним» [Туг, Яр], г. Чёртова Банька (метафора, указывающая
на труднодоступность горы) [Матвеев 1990: 160]. Мотив бани (каменки)
хорошо прописан не только в топонимическом, но и в общеязыковом
«портрете» черта (см. параграф 4.3, с. 489-490). Кроме бани, демоны мо-
гут обзавестись хлевом — ур. Лешев Хлев [В-Т]. Демоны занимаются и
традиционной сельскохозяйственной работой, ср. упоминавшиеся выше
названия вроде Бесовы Гумна, а также Чёртовы Творила107 [У-Куб].
Вот эта подробная проработка атрибутов жизни черта и других
демонов подчеркивает актуальность пребывания их в пространстве
hie et nunc, проживания в нем параллельно человеку.
Вместе с тем ощущается потребность носителя языка вывести
демонов из настоящего времени, поместить их прошлое — хотя бы
106 Данное название, однако, может иметь и иной исходный смысл, обо-
значая неурожайный участок, ср. внутреннюю форму приводившейся выше
лексемы чертопар.
107 Влг. творило ‘участок пахоты на одного хозяина’, ‘участок поля оп-
ределенной формы’ [КСГРС].
Человек и пространство в зеркале языка
217
такое, которое постоянно напоминает о себе. Характерный поворот теме
чертова дома дает название оз. Чёртово Домовище [Макар]. Данный
топоним может быть интерпретирован двояко, ср. приводившееся
выше слово домовище ‘опасный омут, притон водяного’ и домовище
‘домовина, гроб’ [Даль2 I: 466], причем эта двоякость закономерна,
поскольку обнаруживает временной субстрат концепции чертова
места — указание на «перфектность» пребывания черта в соответст-
вующем урочище, ср. семантику суффикса -ищ- в тополексемах дво-
рище, гумнище, городище (бол. Чёртово Дворище [Тарн], поляна Ле-
шее Гумнище [Кадый], ур. Чёртово Городище — [К-Б]108), сюда же
домовище. Черт и другие демоны не столько проживают где-либо,
сколько оставляют следы своих перемещений или хозяйственной дея-
тельности, ср. мотив следа черта или лешего, отразившийся в названии
камня Чёртов След в Тверской области [Маланин 1996: 156], в мотиви-
ровках некоторых чертовых топонимов Русского Севера (ур. Чёртово —
«Там камень огромный, говорят, по нему черт прошел. Там след от его
ножки матерый, с три моих будет» [Бел, Зубово], д. Большое и Малое
Чертищево — «Камень на реке Лапоч есть, на нем черт след оставил: к
Большому Чертищеву ступня направлена, к Малому — пальцы» [Влгд,
Большое Чертищево], а также во фразеологии (новг. на леший след (иди,
пади и т. п.) ‘выражение пренебрежения к кому-либо, желания избавить-
ся от кого-либо’ [СРНГ 17: 33], на леший след ‘очень далеко, неизвестно
куда’ [СРГК 3:121]).
Оставляя следы, демоны сами оказываются в прошлом109 110, поэто-
му образ их дома может обернуться образом домовища, могилы (на
последний работает также устойчивость представления о связи черта,
лешего с заложными покойниками), ср. название пок. Чёртова Моги-
ла [Кон] и г. Лешего Могила — «Говорят, что леший там похоронен,
боялись люди» [Бел, Никиткино] по.
108 Топонимы такого плана распространены на гористых территориях, — на-
пример, на Урале. Ср., к примеру, наименование горы Чёртово Городище недале-
ко от станции Исеть: на ее вершине возвышаются гранитные башни-останцы из
плоских плит высотой до 18-20 м [Матвеев 1990:177]. Общий смысл таких назва-
ний А.К.Матвеев определяет следующим образом: «...возникшие невесть когда
каменные сооружения не похожи на созданные людьми, их мог соорудить да и
жить здесь только черт» [Матвеев 1990: 178; см. также Мурзаев: 614; РДС: 579].
109 Ср. отражение мотива далекого прошлого в образе черта в следующей
пословице: Когда? — А когда черт по лыки в лес ходил [Даль ПРН2 1: 394].
110 Ср. также восприятие леса как места пребывания умерших неестест-
венной смертью [Власова: 213; РДС: 306] и обращение к лешему: «Эй ты,
леший-красноплеший, Могильный кавалер...» [СРНГ 17: 32].
218
Раздел II
5. С предыдущей оппозицией тесно связана следующая, обнару-
живающая дополнительные подробности пространственной состав-
ляющей взаимодействия демона и человека: демоны близки человеку,
их облик и занятия моделируются по его образу и подобию, что при-
дает им известную «посюсторонность», — но при этом они не могут
не быть далекими, чужими, потусторонними.
Близость демонов человеку обнаруживается не только в том, что в
географическом пространстве у них может быть дом, двор, баня, гумно,
хлев и т. п. В окружающих человека ландшафтных реалиях узнаются де-
тали внешнего облика демонов и предметов их быта: ур. Чёртовы Кудри
[Бел], полоса Чёртов Палец [Меж], пок. Чёртовы Пальцы [Ней], ур. Чёр-
това Нога [Холм], ур. Бесова Ручка [В-Т], омут Чёртова Кружка [Ус-
тюж], омут Чёртово Колесо [Галич], ур. Лешъя Зыбка [Пин], пок. Лешаков
Алтын [Чухл]; ср. также сочетания с географическими терминами, пер-
вичная образность которых может быть оживлена: омут Чёртов Котел
[Холм], пок. Чёртово Колено [Нянд], пок. Чёртовы Портки [Чухл]. Та-
ким образом, чертовы, бесовы и т. п. названия выявляют человекоподо-
бие демонов (правда, надо учитывать, что данные номинации в ряде слу-
чаев имеют сугубо экспрессивный смысл и не могут быть прочитаны как
«рассказ» о внешнем виде демона). Показательно, что детали внешнего
облика и бытовые атрибуты не обнаруживаются топонимической номи-
нацией в образе крестной силы — Бога или ангела.
Человекоподобие МП проявляется также в том, что они исключи-
тельно деятельны. Проживая в определенных точках пространства, пред-
ставители нечистой силы получают возможность заниматься активной
деятельностью по реорганизации окружающего ландшафта. Чаще всего
МП выступают как «демиурги», творцы различных форм рельефа (как
правило, отрицательного). При этом может наблюдаться своеобразная
компенсаторная закономерность: яма, которую черт вырыл в одном
месте, оборачивается насыпаемой в другом месте горой, но никогда
не превращается в ровную поверхность, ср.: ур. Чёртова Яма и Чёр-
тов Бугор — «Черт выкопал яму — в другом месте землю уронил, на
пальце принес. В одну ночь Чёртов Бугор образовался, в другом уже
районе» [Сус, Карповское]. Демоны носят каменные валуны, прокла-
дывают тропы, валят лес и т. п., ср., к примеру, приводившиеся выше
сведения о сочетаемости черт + рыть, валить, ломать, а также ус-
тойчивый мотив ноши черта или лешего (демон рассыпает ношу, соз-
давая тем самым какой-то элемент ландшафта или населенный
пункт). Этот мотив отражен, в частности, во внутренней форме неко-
торых севернорусских топонимов: ур. Лешева Ноша — «Середи боло-
та груда камней большущая. Леший шёл с рюкзаком берестяным,
лямки порвались, камни высыпались, потому урочище Дешевой Но-
Человек и пространство в зеркале языка
219
шей назвали» [Кир, Рыбацкая, Мережино], ур. Чёртова Ноша [Бел];
ср. также данные паремиологии: Это село черт в кузове нес, да кучками
растрес', Словно черт из кузова насеял', Нес черт грибы в коробе, да рас-
сыпал по бору', и выросли однодворцы [Даль ПРН2 3: 139; 2: 14]111.
Естественно, действия МП деструктивны, функция «устроителей
пространства» им не по плечу, что обнаруживается не только в раз-
рушительной направленности этих действий, но и просто в неумении
выполнять взятую на себя работу: ср. мотив неизмеримости расстоя-
ний, реализуемый, в частности, многочисленными фразеологизмами
вроде приводившегося выше выражения черт мерил, да веревка со-
рвалась (черт берется за измерение расстояний с помощью клюки, ко-
черги, веревки, собственных пальцев — и каждый раз терпит фиаско).
Отражая известную антропоморфность МП и близость их человеку,
язык обнаруживает и стремление последнего пространственно «отгоро-
диться» от демонов. Судя по топонимическим данным, МП помещаются
в те ландшафтные зоны, которые находятся в чужом для человека про-
странстве и нередко имеют статус terrae incultae — минимально освоены
и характеризуются «апофеозной природностью», чрезмерным проявле-
нием флористических и фаунистических свойств. Это места с буйной
растительностью или бурным течением, труднопроходимые леса, буре-
лом, валежник, скопления камней, места, обильные змеями, и т. п. Отме-
тим, что мотив дикой природы в структуре ментального образа демонов
(прежде всего черта) проявляется не только в связи с ландшафтными
реалиями, но и дикими животными и растениями, ср. номинации вроде
арх. чертова редька ‘речная трава’ [КСГРС], влг. чертов лук ‘болотная
трава со стеблями, похожими на перья лука’ [КСГРС], чертова курица
‘большая болотная курица, камышник’ [Даль2 IV: 598] и др.
Чрезмерная «природность» демонических ландшафтных реалий
граничит с их феноменальностью, ср., к примеру, название о-ва Чёр-
това Шалыга в Астраханской губернии, который удивил казаков спо-
собностью быстро увеличиваться в размерах [Семенов V: 694], а так-
же название бол. Чертовка-Ездунъя, где находится огромная кочка, ко-
торая перемещается, когда подует ветер [В-Важ], или ск. Шайтан,
длинной, как палец, которая возвышается над лесом и шатается [Г-Зав].
Стремление отделиться и отдалиться от таких объектов мотивировано
и представлением об их опасности: топонимы вроде Дешева Тропа,
111 Этот мотив встречается также в легендах других славянских наро-
дов: черт нес огромный камень, чтоб запрудить Неман, но пропел петух, и
черт был вынужден бросить камень, оставив на нем следы когтей (блр.);
дьявол нес камень, чтоб разрушить монастырь бенедиктинцев, но, услышав
колокольный звон, бросил его (польск., кашуб.) [СД 2: 452].
220
Раздел II
Сатанцы или Чертово Болото выполняют сигнальную функцию, пре-
дупреждая о возможных негативных последствиях контакта с объектом.
Потусторонность демонов проявляется и в их связи с локусами смер-
ти — в первую очередь с «убиенными местами», которые, как известно,
считались нечистыми [Зеленин 1995: 49]: бол. Чертово — «Там баба в
омут бросилась» [Нюкс, Красавино], омут Чертова Яма — «Мужик по-
решился, дак теперь там черт живет, воет» [В-Т, Фроловская], г. Поганая
Гора — «Там убили какого-то мужика, так он на это место являлся, пуга-
ет там. Вот и назвали Поганая Гора» [У-Куб, Бовыкино], овраг Поганый
Лог — «Там человека убили, страшное место» [Вил, Докукинская] и т. п.
6. Демонический топос, место обитания нечистой силы нередко про-
тивопоставляется святому месту, связанному с крестной силой, но, вместе
с тем, такая оппозиция может сниматься, подвергаться нейтрализации.
Актуализация оппозиции на уровне языковой традиции может
происходить, в частности, при реализации следующих компонентов
ментального содержания112:
с идеей святости связано представление о блеске, сиянии вод; цвето-
вой и световой символ нечистого места — черный и темный;
святые водоемы, как правило, характеризуются движением воды, в
то время как нечистые могут быть застойными;
локусом Бога может быть возвышенность, гора — в то время как ло-
кусом нечистой силы часто становится яма, овраг;
со святым полюсом оппозиции связывается представление о пользе,
хозяйственной ценности, в то время как нечистые объекты часто
характеризуются отсутствием таких свойств;
святые объекты нередко имеют большой размер (что связано с пред-
ставлением об их феноменальности), а нечистый полюс обнару-
живает точечный характер локализации объекта (при этом для
представления объектов нечистого полюса может задействовать-
ся признак большого размера, обширности, но это всегда неопре-
деленная обширность, соотносящаяся с идеей удаленности);
через идею святости может осмысляться внесение в ландшафт объ-
ектов христианского культа, а нечистыми считаются места, свя-
занные с отправлением языческих культов;
с описываемыми полюсами соотносятся идеи «своей» и «не своей»
смерти: на святом полюсе выступают обозначения христианских
кладбищ, на нечистом — «убиенных мест»;
112 Подробная характеристика представлений о святом месте, на основе ко-
торой строится настоящее описание, содержится в [Березович 2000а: 205-211,
220-234, 303-328].
Человек и пространство в зеркале языка
221
со святым полюсом связывается общая мелиоративная оценка, с не-
чистым — общая негативная оценка и др.
Противопоставленность нечистого и святого в локативном вари-
анте реализации оппозиции имеет, как уже говорилось, весьма инте-
ресную специфику: поскольку географическое пространство одно,
появляется проблема раздела его между двумя полюсами сверхъесто-
ственного. Эта интрига ярче всего реализуется в топонимической но-
минации, где наблюдаются два варианта организации оппозитивных
отношений между святым и нечистым местом, которые часто обнаружи-
ваются народным сознанием в смежных зонах пространства (ср.: около
святых черти водятся; одолели черти святое место [РДС: 614]).
Первый вариант может быть обозначен как статический:
свойства святого и демонического объектов исходно заданы как про-
тивопоставленные, ср. пары названий смежных объектов: пок. Богов
Угол — бол. Чёртов Угол [Устюж], оз. Поганое — оз. Святое [Холм]
и т. п. При этой противопоставленности свойства таких объектов мо-
гут восприниматься как взаимодополняющие, ср. название руч. Ско-
мороший Ручей, рядом с которым протекает руч. Богородский Ручей
[Мез]. По свидетельству информантов, «у Скоморошьего Ручья в оле-
ньи шкуры рядились, игрища устраивали» [Мез, Дорогорское], в этом
месте — и вне ситуации проведения игрищ — «блазнило»: «Говорят,
по Скоморошьему Ручью в Крещенье ходить нельзя. Мы с ребятами
шли через него, вдруг вижу: целый табун хороших свободных лоша-
дей мчится — и прямо на нас. Я шарахнулась в сторону, в сугроб —
слышу смех. Огляделась — нет ничего и даже снег не прибит. Блазнит
там» [Мез, Заозерье]. После игрищ ряженые купались в Богородском
Ручье, вода в котором считалась святой («Видели там икону Влады-
чицы» [Мез, Дорогорское]): омовение в святой воде — закономерный
финал «бесовских игрищ», дающий право на их проведение, — отсю-
да установление комплементарных отношений между святым (бого-
родским) и нечистым (скоморошьим) объектом.
Второй вариант организации оппозитивных отношений может
быть назван динамическим, поскольку предполагает вытеснение
одних свойств ландшафтной реалии и появление других. При этом
возможна, во-первых, ситуация эстафеты, преемственности нечистых
и святых свойств локуса: после освящения объект теряет нечистые
свойства и наделяется (хотя бы оптативно) статусом святого места.
Примеры такого плана редко оказываются зафиксированными в развер-
нутом виде, поскольку нечистое название забывается: ср. возможность
реконструкции «праназвания» *Бесово Место из контекста к названию
ск. Святой Нос — «Там все карбаса бились, бесово место. Крест поста-
222
Раздел II
вили — бат, пронесет» [Мез, Кимжа]. Иногда преемственность топо-
нимов все же удается установить: оз. Чертово Святое [В-Т], мыс
Бесов Крестовый [Мез].
Во-вторых, при вытеснении нечистых свойств локуса они могут
оказаться перенесенными на другой объект. Данная ситуация являет-
ся продолжением предыдущей, реализуя эволюционный разворот
судьбы нечистого: не подавление его святым, а сосуществование того
и другого в соседних точках пространства. Топонимия многократно и
вариативно фиксирует результаты реорганизации пространственных
связей по этому сценарию, в результате чего около святых объектов
(святой полюс может быть маркирован определениями святой, кре-
стный, агиотопонимами типа Спасская или же быть немаркирован-
ным) появляются чертовы, поганые, шайтановы, страшные, ср. при-
меры таких ситуаций: из оз. Святик вытекает протока Чертовик —
«Озеро, говорят, Стефан Великопермский крестил, черти-то пошли со
Святика да и нарыли все, вот и назвали Чертовик» [Лен, Сойга]; под
Спасской церковью у д. Спасская протекает руч. Чертолом — «На
угоре церкву ставили, дак черти в этот ручей перебежали» [Уст, Под-
горная] и мн. др. Повторяющимся мотивом данного сценария являет-
ся мотив «низвержения» (в буквальном смысле этого слова) нечистых
свойств объекта, которые транспонируются с того места, где ставится
церковь или крест (а это, как правило, возвышенность), в овраг, боло-
то и т. п.: под г. Поклонная Гора протекает руч. Поганец — «Кресты
поставили на горе, хоронять стали там, а черти в ручей сбежа-
ли» [В-Т, Усть-Выйская], ур. Шайтаны — «Под церковью ложбина
есть. Церковь на угоре, а под низом Шайтаны, сыро место. Церковь
ставили — туда черти ушли, боялись подобраться к церкви-то» [Котл,
Шипицыно]; ср. также название Чертова Лыжница в Мурманской
области, обозначающее две параллельно идущие глубокие трещины
на спуске г. Крестовой к морю, которые, по легенде, представляют
собой след, оставленный чертом, катившимся на лыжах с горы [Мин-
кин 1976: 138-139].
Если описанные выше ситуации демонстрируют актуальность
оппозиции, то в ряде случаев происходит ее нейтрализация.
Во-первых, может наблюдаться полное совпадение денотативно-
го содержания нечистых и святых названий. Так, в топонимии и те и
другие используются для обозначения:
камней-следовиков (черт, Бог, святой);
мест, где обитают коровы водяного (леший, святой);
скал, мысов, порогов (бес, сатана, черт, святой);
бурелома (черт, Бог).
Человек и пространство в зеркале языка
223
Таким образом, происходит нейтрализация на базе мотивов «не-
обычное, сверхъестественное», «опасное, страшное», «нечистое». При
этом отмечается возможность перехода святой силы на территорию
нечистой, а не наоборот.
Если в первых трех случаях из четырех нейтрализация осуществля-
ется за счет одинаковой мотивации нечистых и святых топонимов, то
при номинации бурелома (ср. в нарицательной лексике: арх. боголом,
арх., влг. боголомник ‘бурелом’ [СГРС 1: 128], боголомина ‘поваленное
ветром дерево’ [АОС 2: 44], арх., влг. чертолом ‘бурелом’ [КСГРС])
мы имеем разнонаправленные движения мотивов, отражающих дея-
тельность представителей святой и нечистой силы по созданию этого ви-
да природных объектов: деятельность Бога-громовержца, посылающего
бурю, осуществляется сверху вниз, черта — снизу вверх. В то же время
следует отметить, что, независимо от направления действий, резуль-
тат их оказывается одинаковым. Способность божьих топонимов (как
и чертовых, бесовых и т. п.) номинировать заваленные буреломом,
труднопроходимые места, дает еще одну возможность нейтрализации
основной оппозиции народной религии: в данном случае основой для
нейтрализации становится мотив дикой природы. Примеры реализа-
ции этого мотива в структуре ментальных образов демонов были при-
ведены выше; что касается образа Бога, то здесь, помимо боголома,
следует упомянуть многочисленные наименования диких животных и
растений, ср. факты русской диалектной лексики, собранные и интер-
претированные в этом ключе И. В. Родионовой: богова капустка ‘по-
дорожник’, божий хлеб, божьи хлебцы ‘клевер’, божья (богова) ко-
ровка, богова мушка, божья козявка ‘насекомое Coccinella septem-
punctata’, божий олень ‘дикий олень’, божий (богов) конек ‘насекомое
кузнечик, стрекоза’ и др. [Родионова 1998: 155] (вообще, обозначение
диких, неодомашненных животных и растений как божьих (= небес-
ных) является универсалией, известной во многих языках Евразии
[Аникин ЭСС: 131]).
Во-вторых, нейтрализация может предполагать не полное совпа-
дение, а перекличку мотивов, которые обнаруживают эффект калей-
доскопа, совпадая в одной плоскости и различаясь в другой. К приме-
ру, в семантике божьих названий проявляется мотив «ничейности»
места: ср. название леса Богова Дача — «Ничейный лес, Бог им ве-
дал», «Остался участок леса — не принадлежит никому — значит, Бо-
гу» [Галич, Щедрино, Сидорово]. Семантика «ничейного места» воз-
никает на стыке двух смысловых линий в структуре представления о
Боге. С одной стороны, здесь просматривается глубинная связь с иде-
ей заповедного, ср. феномен божелесъя — заповедных лесов, освя-
щенных молебном и окропленных святой водой, которые были «об-
224
Раздел II
речены Богу» [см. Бернштам 1992: 190]. С другой стороны, с образом
Бога, как говорилось выше, могут быть связаны явления, относящиеся
к внешнему, природному пространству, принадлежащие всем (ср.
тюмен. божья пазуха ‘природные богатства, находящиеся в общем
пользовании’ [СРНГ 3: 63]) =^> ничейные. Таким образом, идея запо-
ведного, посвященного Богу места оборачивается идеей ничейного,
никому не принадлежащего. Идея ничейности могла мотивировать и
записанные в Кировской области названия леса Богодан и болотных
лугов Богоданы [Хаит]: данные топонимы можно трактовать как ме-
тафорическую реализацию той же идеи, которая проявляется в раз-
личных обозначениях некровных, «незаконных» связей между людьми
(ср. богоданный ‘приемный, нареченный’ [СРНГ 3: 49]). Итак, божьи
и чертовы могут обозначать «ничейные места», однако у божьих то-
понимов этот мотив восходит к мотиву места, посвященного Богу, а у
чертовых — оказывается связанным с мотивами дикой природы, страш-
ного, опасного и т. п.
Данный перечень оппозиций, характеризующих особенности
восприятия демонического топоса, вероятно, является неполным, од-
нако он обнаруживает основные закономерности конструирования
соответствующего ментального образа. Осваивая географическое про-
странство, человек отвоевывает свою территорию у ее первоначальных
хозяев — демонов места, которые не просто владеют каким-то участ-
ком ландшафта, а неотторжимы от него, олицетворяют саму природ-
ную суть ландшафтной реалии: ее размер, цвет, динамические харак-
теристики, растительный покров и т. п. В этом смысле внешняя при-
рода вся является демоном по отношению к человеку, ср. хотя бы
приводившуюся выше идиому у лесного ‘повсюду’. Не случайно на-
стороженное отношение человека к обширным, неосвоенным про-
сторам вне дома, ср. влг. В доме люди живут, на просторе черти
гуляют [ЭМТЭ] пз. Создав свою зону, человек, во-первых, пытается
четко отгородить эту одомашненную территорию от демонической,
предельно ограничить последнюю, «загнать черта в угол» (едва ли
не в буквальном смысле этого слова — ср. многочисленные чертовы
углы), что дает ощущение «владения ситуацией», поскольку опреде-
лен источник вредоносных свойств топоса; во-вторых, человек про-
ецирует на демонов свои способы обживания и одомашнивания про-
странства. Представители нечистой силы оказываются пространст-
венно ближе и понятнее, земнее, чем носители крестной силы, у ко-
торых, по сути, нет земного места обитания. В то же время воспри-
113 Ср. вариант, зафиксированный В. И. Далем: В тесноте люди песни
поют, на просторе волки воют [Даль ПРН2 2: 493].
Человек и пространство в зеркале языка
225
ятие окружающего ландшафта может объединять тех и других, ней-
трализуя оппозицию святого и нечистого. Но при всем том, что облик
и действия нечисти моделируются по человеческому образу и подо-
бию, при том, что нечистая сила онтологически «задана» в простран-
стве, языковая традиция неустанно подчеркивает дистанцирован-
ность, «античеловечность» демонов, которая создается их принципи-
альным включением в иной хронотоп, чем тот, где находится человек,
и усиливается негативной экспрессией. Эти противоречия и состав-
ляют фундамент концепции демонического топоса в русской языко-
вой традиции.
2.7. ЧУДЕСНОЕ В ПРОСТРАНСТВЕ
Понятие чуда принадлежит к числу важнейших концептов церков-
ной культуры; ядром его служит представление о чуде как ‘сверхъ-
естественном, непостижимом событии, нарушающем известные зако-
ны природы и случающемся как проявление всемогущества Бога
(обычно в ответ на усиленную молитву, соприкосновение со святыней
и т. п.)’ [СПЦК: 266]. Этот концепт, безусловно, значим и для народ-
ной религии, однако можно предполагать, что народная трактовка чу-
да, чудесного будет отличаться от церковной.
Ниже будет представлен анализ народной концепции чудесного,
материалом для которого послужили данные диалектной лексики и
топонимии Русского Севера, а также тексты устных рассказов, запи-
санные на той же территории. Не претендуя ни в коей мере на цело-
стную экспликацию представлений о чуде, мы рассмотрим некоторые
аспекты проявления последних: в центре нашего внимания — поведе-
ние слова чудо в системе языка и в тексте, а также роль языка при
формировании изучаемого концепта. Ограничение материала данны-
ми одной локальной традиции — Русского Севера — связано с тем,
что в данной зоне создаются особые условия для наблюдений над ин-
тересующим нас лингвокреативным аспектом проблемы. Поскольку
значительную часть текстового материала составляют топонимиче-
ские легенды, полученная картина будет обращена в первую очередь
кчудесному в пространстве.
Дифференциальные диалектные словари, к сожалению, редко фик-
сируют особенности смыслового наполнения слова чудо (разумеется, ис-
ключая те ситуации, когда имеется явный семантический сдвиг по срав-
нению с литературной традицией, — например, чудо ‘приключение, про-
исшествие’ [СРГК 6: 802]), поэтому есть смысл обратиться в первую
очередь к речевому материалу — к текстам бытующих на Русском Севе-
226
Раздел II
ре устных рассказов, которые включают слово чудо и однокоренные
(кроме дериватов со специализировавшейся семантикой вроде чудови-
ща). и выявить контекстную семантику этих лексем.
В текстах 425 мифологических рассказов, которые опубликованы
в [Черепанова 1996] и сгруппированы по вполне «чудоносным» темам
(«Народные сюжеты христианства»; «Народная демонология»; «Ма-
гия: колдовство и гадания»; «О змеях, поклонении стихиям, кладам»
и др.), интересующие нас лексемы встречаются очень редко. Так, слово
чудо употребляется только дважды, выражая следующие смыслы: ‘со-
бытие, вызванное воздействием на человека нечистой
силы’ (в данном случае персонифицированной в образе утопленни-
ка) — «Чудес тут было много... Был тут Ильюха, который утонул под
Петушком. Там омут глубокий... Дед как-то осенью шел по берегу,
темно было. Иду и думаю: „Ильюха тут-то утонул“. Смотрю, лежит
человек, Ильюха привиделся. Перекрестился, хвать руками — куча
мха...») [Черепанова 1996: № 18]; ‘о колдуне, человеке, обла-
дающем сверхъестественным знанием’ — «Вот чудо был
пастух. А он чо-то читал, чо-то знал. Он один мог коров позвать.
...А целый день дома, будто кто вместо него пас...» [Там же: № 301].
Кроме того, один раз встречается лексема чудить ‘колдовать, во-
рожить’ — «Колдунья, она бабка, как бабка. ...Она-то баба хитрова-
тая, вот она и чудит рядом, а не докажешь ничем» [Там же: № 307];
пять раз употребляется слово чудиться в литературном значении
‘мерещиться, казаться’ [Там же: № 36, 266, 272, 278, 374].
Просмотр текстов 427 преданий Русского Севера, опубликован-
ных Н. А. Криничной [Криничная 1991] и сгруппированных по темам
«Заселение и освоение края», «Аборигены края», «,,Паны“», «Клады»,
«Силачи (богатыри)», «Разбойники», «Борьба с внешними врагами»,
«Исторические лица» (как видно, тематика нарративов в данном слу-
чае является более обытовленной, хотя рассказы о необычных собы-
тиях и лицах тоже весьма частотны), выявляет несколько иную карти-
ну. Многие предания в этом сборнике подверглись литературной обра-
ботке (записаны М. Пришвиным, В. Астафьевым, этнографами XIX в.
и др.), поэтому употребление слов чудо, чудеса, чудесный соответст-
вует нормам современного литературного языка. Ср., например, текст
«Основание Каргополя»: «В двенадцатом веке на этом месте был на
охоте один из удельных северных князей. Огромный медведь, кото-
рых здесь было множество, уже хотел растерзать его... Лишь чудо
спасло князя. В память о своем избавлении от смерти он приказал
дружине заложить город, назвав его Каргополем» [Криничная 1991:
№7]. В аналогичном смысле дважды употребляется сочетание чудес-
ное спасение [Там же: № 6, № 55]; слово чудеса фигурирует в рассказе
Человек и пространство в зеркале языка
227
о нападении англичан на Соловецкий монастырь, который, будучи за-
вален ядрами, не горел: огонь тушили чайки [Там же: № 297]. Во всех
четырех случаях использование слов чудо, чудеса, чудесный вполне
вписывается в концепцию «христианских чудес», но все тексты, где
функционируют лексемы, не являются непосредственной записью ре-
чи носителей традиции.
Большее количество фиксаций интересующего нас слова встречает-
ся в нарративах, которые записаны сотрудниками ТЭ УрГУ на террито-
рии Русского Севера в 1960-2006 гг. Эти тексты появились при описании
различных географических реалий — в том числе тех, которые, по мне-
нию информантов, обладают феноменальными свойствами или связаны
с экстраординарными событиями. Несмотря на то, что материал демон-
стрирует разнообразие смыслового наполнения лексем чудо, чудный, их
все же нельзя считать частотными для текстов устных рассказов носите-
лей традиционной культуры об окружающем географическом простран-
стве: приблизительно 5000 текстов дают 21 употребление интересую-
щих нас слов (не учитывая лексем чудиться, чудовище). Приведем эти
текстовые фрагменты, сгруппированные в соответствии с особенно-
стями смыслового наполнения слов чудо, чудный, чудимый и под.
Событие, вызванное воздействием нечистой силы:
бол. Семеново Болото — «Где-то на Семеновом Болоте баба по мо-
рошку ходила, генерала будто увидела. Он ее к себе поманил, баба-то
не дура: „Чур меня!44 Он как захохочет: „Догадалась!44 И провалился.
Такие там чудеса были» [Прим, Патракеевка]; ур. Куркинская Поско-
тина — «В Куркинской Поскотине всё чудеса, блудятся люди. Кто
идет туда, знает, что изругаться надо, иначе не выйдешь. Придёшь,
изругаешься, похохочешь — дорогу найдёшь» [У-Куб, Ивановская];
г. Веретъи — «Пошли в город по Кату вечером, дошли до Веретий —
видят чудо', ходит батюшка, отпевает, свечки горят. Они испугались,
домой побежали, не пошли никуда» [B-Уст, Слободка]; бол. Митин-
ское — «На етом болоте как-то чудо было: мужик дрова рубил на мол оду
<во время новолуния>, дак у его топор вырвало да в болото закинуло.
Дрова-то не надь рубить на молоду, дрова рубят на ветху <на ущерб
луны>» [Нюкс, Бобровское]; ур. Поток — «Шли из школы. Там пере-
крёсток дороги, Поток зовём. Там как раз мужик повесился на ёлке.
Идём мы — и такой вот дикий-дикий смех сзади. И, главно, тёмно-тём-
но небо и место высвечено. И как будто из этого высвеченного места
и смех-то, вот чудо» [У-Куб, Шамбово].
Персонифицированная нечистая сила, привидение:
руч. Коровий Ручей—«Чудо на том ручью жило какое-то, свистело да ма-
нило, боялись туда ходить в темноте» [Бабуш, Гледнево]; ур. Чернаково —
«Старая баня там, две ёлки стояло на угоре. И отец слышал, как ревет
228
Раздел II
женщина. Слышали, как что-то скатилось, а предмета не было. Рёв слыша-
ли на ели, манило <призрак, привидение> было такое, чудо-то» [В-Уст,
Аристово]; овраг Берёзовое — «Недалёко есть овраг, дак в ём чудо си-
дит — свиньёй ли козлом блазнит. На ночь там не ходи» [Лен, Ирта].
Необычное происшествие, как правило, считающее-
ся чудом в христианской традиции: д. Пески — «У нас чудо
было преже, нашли иконку на берегу, тутока, в самих Песках. Иконка
Антония была, там и церкву Антониеву поставили. Обычай есть: где чу-
до делается, там и церкву ставят» [Влгд, Пески]; поле Подвересовки —
«Там чудо случилось, иконка на пеньке явилась» [У-Куб, Тавлаш];
г. Софониха — «На Софонихе хотели построить церковь, но там чудо
было: каждую ночь ее разрушало, все бревна потом на берегу Шиги
найдут» [Пош, Пошехонье]; Денница — «Мать и отец рассказывали,
что на Двинице чудо было: мужик через реку по воде перешел у Пет-
ряево» [Сок, Нелидово]; д. Большие Озерки — «Пришли два брата за
грибами сюда, где нынь Большие Озёрки, сели на бугор, и один брат
сказал: „А я бы здесь деревню построил, и было бы озеро44. А озеро лас-
точки сделали, чудо-то, выносили земельку курганом — и вот полу-
чилось Шомпельское Озеро, семнадцать саженей глубиной» [Сок,
Малые Озерки].
Мифическое дорусское население края: р. Реваж —
«Раньше тут чудеса ходили, вот где Реваж наш. Чудеса как люди вро-
де, а сами черти. Они всё на вред делали: где ям нароют, а где-ко де-
ревьев наломают, камней наворотят да. Увидишь такое место, пой-
мёшь, что не человек ладил. Они под землю ушли» [Котл, Большая
Маминская]; д. Куимиха — «У нас на Куимихе до русских жило чудо
тутока. Чудо в яме сидело, мохнато такое, вот как черт» [Котл, Куи-
миха]; оз. Белое Озеро — «Чудо было на Белом Озере. Как люди,
только порато маленькие, потом в озеро ушли, там у их иногда коло-
кол звонит» [Ваш, Подгорная].
Объект с феноменальными природными свойства-
ми: оз. Ёкшалъское — «Чудимое озеро, чистое-чистое, дна нет у его.
От бога ли, от черта ли оно. Водичка золотая, а смотреть в его страш-
но» [Вил, Большой Двор]; ур. Вепри — «Чудо-т есть в Вепрях, колод-
чики ключевые, они божественные, дно видать. За водой святой туда
ходят» [Влгд, Полянки]; руч. Осиновый Ручей — «В лесу есть Осино-
вый Ручей, там у него такое чудо: камни накладены горой, как нарочно
кто наворотил. Черти, бат, все табором орудовали» [Леш, Шегмас].
Объект, где осуществляются действия магическо-
го характера: ключ Под Уралом — «Чудный ключ тамока, на этот
ключ гадать ходили. Придёшь к нему и смотришь: человек останется
жить — или нет. Выживет — так вода тихо стоит, а коли умрет, так
Человек и пространство в зеркале языка
229
всю грязь выворотит» [В-Важ, Потуловская]; поле Долгое — «Там
чудное было: рядились в Святки да в снегу валялись молодяжка»
[Мез, Долгощелье].
Показательно, что каждый из представленных выше текстовых
фрагментов никоим образом не перекликается с «вынесенным в заго-
ловок» топонимом, текстовый ряд функционирует параллельно номи-
нативному, не мотивируя географические названия, которые обозна-
чают, как правило, обычные «физические» признаки ландшафтных
реалий. Возникает вопрос: может ли лексема чудо лечь в основу соб-
ственно топонимической номинации? В доступном изучению поле-
вом топонимическом массиве ТЭ УрГУ, насчитывающем около 2 млн
фиксаций топонимов Русского Севера, такие топонимы встречаются,
хотя могут считаться раритетными: г. Причудные Горы — «Раньше во
всём краю чудь была, на Причудных Горах чуди часовенку строили,
топоры рубят, а придёшь — нет никого. А потом сгорела, камни за-
кладены и сейчас есть»; «Там часовенку ставили, да попы сожгли ее,
так как им доходу меньше было. Родник со святой водой и сейчас там
есть» [Уст, Лукьяновская, Левинская], р. Чудеса [Вин], оз. Чудесное
(Явленное) [Прим], полоса Чудиха [Нянд], ур. Чудо — «Там раньше
была часовенка и, говорят, водило. Там огонек горел» [Влгд, Вели-
кое], руч. Чудное (рядом яма Лешакова Яма) [Вил], р. Чудная [К-Б],
овраг Чёртов Овражек (рядом бол. Чудное) [Ревд], оз. Чудное —
«Там вода особая, целебная, святая» [Карг, Поржало], оз. Чудо —
«Озерко есь в лесу, Чудо зовём. Водичка чистая-чистая, прозрачная,
все камешки видать, нигде такой чистой водички нет» [В-Уст, Клим-
лево], бол. Чудное — «Есь в Забелине где-то болото, так его зовут
Чудное. Там ягод до чёрта, так чёрт его и охраняет. Манит там, пужа-
ет» [Котл, Котлас], д. Чудный Починок [Вил].
В этот список не включаются довольно многочисленные назва-
ния вроде пок. Чудин Бережок [Пин], руч. Чудин [В-Т], поскольку их
словообразовательные характеристики предполагают непосредственную
связь с этнонимом чудь (полный обзор таких этнотопонимов представлен
в [Попова 1999: 107-127]); для приведенного выше топонима Причуд-
ные Горы более вероятно происхождение от чудо — с вторичным при-
тяжением к этнониму. Возможен и обратный мотивационный ход, ко-
гда «чудские» топонимы вторично переосмысляются в связи с идеей
сверхъестественного, ср.: г. Чудина Гора (рядом ур. Городище) —
«Там жило племя чуди. От Чудиной Горы к Городищу подземный ход
был», «Манило, казалось там кому-то» [Вель, Возгрецовская, Ере-
минская] (подробнее о логике таких переосмыслений см. ниже).
Прежде чем выделить выражаемые топонимами смыслы, оста-
новимся подробнее на названии оз. Чудесное, которое имеет парал-
230
Раздел II
лельное название Явленное. Вероятно, исходным номинативным ма-
териалом была конструкция оз. ^Явленного Чуда. Данный объект на-
ходится на берегу Белого моря — практически напротив Соловецко-
го монастыря. Есть все основания считать, что некоторые топонимы
в этой зоне появились благодаря номинативной деятельности соло-
вецких монахов. Это подтверждается существованием названий, не-
сколько выделяющихся по своей стилевой окраске на общем фоне
топонимикона поморов. К примеру, название оз. Благодать отлича-
ет некоторая созерцательность, нехарактерная для поморской топо-
нимии; наименование расположенного рядом с ним бол. Нечистое
дано как бы с точки зрения служителя церкви — в народной топо-
нимии не встречаются такие именования для негативно маркирован-
ных локусов; символические названия гор Елеон и Синай, отсылаю-
щие к малоизвестным для носителей традиционной крестьянской
культуры библейским прецедентам, не дублируются на остальной
территории Русского Севера. Таким образом, стилевая полифония
топонимического текста позволяет увидеть за некоторыми топони-
мами Летнего берега Белого моря номинативный почерк монахов; в
этот ряд явно входит название оз. Чудесное И Явленное, что позволя-
ет считать его маргинальным по отношению к традиционному топо-
нимикону.
Итак, с идеей чуда в топонимии связывается следующий
набор взаимодействующих и переплетающихся смыслов, которые об-
наруживаются в мотивационных контекстах, а также в связях назва-
ния в топонимическом контексте:
объект, обладающий особыми природными свойствами;
объект, связанный с нечистой силой;
объект, связанный с мифическим дорусским населением края;
^объект, где было явлено христианское чудо или находится культо-
вое сооружение христианской религии.
Обобщая представленный выше материал, укажем, что доминан-
той данного комплекса представлений, разумеется, служит идея
сверхъестественного. Если в «каноническом» представлении о чуде
источником последнего является действие, событие, то в анализируе-
мом материале чудо часто «опредмечивается». «Опредмечивание»
фиксируется и в литературном языке, ср. чудо 4 о том, кто (или что)
вызывает общее удивление, восхищение своими качествами’. При та-
ком опредмечивании чудо переводится из акционального регистра в
субстанциональный — за счет этого оно теряет в своей сверхъестест-
венности и непостижимости: уникальный объект все же оценивается
как элемент ряда (пусть и «из ряда вон выходящий»), событие же по
Человек и пространство в зеркале языка
231
природе своей единично. Этот опредмеченный смысл проецируется
на приведенные выше контексты, характеризующие феноменальные
свойства географических объектов. Однако в представленном мате-
риале встречается и другое опредмечивание, когда персонифицирует-
ся как бы само событие, приобретая конкретного деятеля, ср.: «Неда-
леко есть овраг, дак в ём чудо сидит — свиньёй ли козлом блазнит».
Такая персонификация объясняется предметностью мышления носи-
телей традиционной культуры, стремящихся освоить иррациональное
через постулирование субъекта иррационального начала. Подобный
механизм имеет место при персонификации болезней (ср., к примеру,
известную фигуру икотницы).
Может быть представлен следующий сценарий чуда.
Действие, событие:
действия нечистой силы — чудское мольбище строится само собой;
в данном локусе «водит»; создаются слуховые и зрительные гал-
люцинации — слышится свист, рев, смех, видится генерал, свя-
щенник и свечи, свинья или козел; человек наказан за нарушение
бытового запрета — топор, которым он рубит дрова в неурочное
время, закинут в болото;
магические действия, осуществляемые человеком, — гадания на
жизнь или смерть; святочные ряжения;
событие, связанное с христианскими символами, — явление иконы;
знамение, указывающее на место строительства церкви; хожде-
ние по водам;
типичный локус (для «нечистых» чудес): на болоте; в овраге; у ста-
рой бани; меж двух елей; на перекрестке;
субъект:
нечистая сила — черт, леший, утопленник, призрак, привидение;
колдун — пастух, обладающий особым знанием;
мифическое дорусское население;
христианский святой;
свойство географического объекта, позволяющее счи-
тать его чудесным:
«исконное» — чистая, прозрачная вода; бездонность озера; обилие
ягод; нагромождение каменных валунов;
внесенное в ландшафтное пространство извне — наличие креста, ча-
совни.
Важно подчеркнуть, что понятие чуда зачастую индифферентно
по отношению к святому или нечистому носителю феноменальных
232
Раздел II
свойств. Более того, святое и нечистое могут переплетаться, образуя
единый синкретичный комплекс; характерна ремарка информанта при
описании свойств чудгшого озера с прозрачной водой (признак «свя-
тости» гидрообъекта), но без дна (признак «нечистого места»): «От
Бога ли, от чёрта ли оно» 114.
Чудесными могут быть как исконные феноменальные свойства
географического объекта, так и внесенные извне, когда ландшафтная
реалия оказывается связанной с объектом культа (часовней). Вновь
стоит отметить, что исконная и благоприобретенная «чудесность»
географического объекта тесно связаны: кресты, часовни и т. п. как
раз появлялись чаще всего в местах, отличавшихся изначальной свя-
тостью или «нечистотой». Несмотря на наличие как «нечистого», так
и «святого» вариантов чуда, более ярко представлен в описываемой
традиции «нечистый». Для него народное сознание осуществляет
наиболее полную сценарную разработку, выделяя последовательно
различные элементы соответствующего сценария — акциональные,
субъектные, атрибутивные, локативные. Это объясняется ощущением
«рядоположенности» нечисти человеку, возможной связи с ним через
вполне доступные превращения (к примеру, заложный покойник), ло-
кализации ее в близком пространстве. Локус «нечистых» чудес четко
определен (в отличие от локуса христианских чудес) — это чужое, не
освоенное человеком пространство, ср. замечание Б. А. Успенского
о том, что «противопоставление „чистого44 и „нечистого44 простран-
ства появилось не на христианской почве. В архаических (дохристи-
анских) представлениях оно соответствует общему противопостав-
лению „своего44 и „чужого44» [Успенский 1994: 275]. В связи с вос-
приятием лесной глуши как нечистого = чужого локуса показателен
географический термин арх. чужбина ‘дальний лес, глухое место в
лесу’ [КСГРС].
Говоря о взаимодействии идей чудесного и чужого, следует при-
вести весьма примечательный топоним: ур. Чужйна — «Место в лесе
гибучее, болотное, тамока чужевидели: девка на пеньке сидит голая,
волосья шимом <растрепанные, торчком>» [В-Уст, Климлево]. В кон-
тексте функционирует глагол чужевйдетъ ‘мерещиться, чудиться’,
ср. также влг. чужое видеть ‘то же’ — «По болоту в темень шла, так
стала чужое видеть, чёрт-от попутау: будто свечки горят да мужички
в красных рубахах бегают» [КСГРС]. Эти языковые факты представ-
ляют «чудеса» — зрительные наваждения — как виденье «чу-
114 О концепции святого и нечистого локусов в народной традиции
Русского Севера подробнее см. [Березович 2000а: 289-349; см. также пара-
граф 2.6].
Человек и пространство в зеркале языка
233
жой» = ирреальной действительности. Характерно, что такие видения
появляются в чужом пространстве — в лесу, на болоте.
Соотнесенность чужого и чудесного объясняется общим смысло-
вым субстратом — идеей неосвоенности объекта человеком. Кроме
этого, важно учитывать и сугубо языковой фактор: соответствующие
слова включены в единое морфо-семантическое поле, вследствие чего
возможны различные процессы притяжения и взаимовлияний гетеро-
генных языковых фактов, восходящих к *cudo и *tjudjb (см. [ЭССЯ 4:
128-129; Фасмер IV: 377-379]).
Рассматривая процессы аттракции, остановимся подробнее на наи-
более специфичном для изучаемой локальной традиции моменте —
вовлеченности в концепцию чуда образа чуди, понимаемой носителя-
ми традиционной народной культуры, как правило, обобщенно — как
мифическое дорусское население края. Исключительная контамина-
ционная активность слова чудь проявляется, к примеру, в процессах
фольклорной ремотивации топонимов, когда практически любой зву-
кокомплекс с начальным чу- осмысляется в связи с пребыванием в со-
ответствующем локусе чуди (см. [Березович 20006: 2-3]); чаще всего,
разумеется, аттрактивными «партнерами» чуди становятся слова с
корнями чуж- и чуд- (генетическая связь чуди и слов на чуж- многи-
ми исследователями не признается, см. [Агеева 1990: 86-115]). Смы-
словой основой для сближения этих слов становится представление о
сверхъестественных свойствах представителей чужого этноса; ср.
свидетельство о том, что в отношении славян к инородцам тесно пе-
реплетаются понятия «нечистое» и «сакральное»: культовые места,
могилы инородцев нередко считаются нечистым местом, но при этом,
к примеру, земля с такой могилы может быть целебной [СД 2: 415—
416]. Ср. аналогичные данные относительно мест захоронения чуди: в
Пудожском уезде на Водлозере «до сих пор показывают на Кингост-
ров, на котором, по преданию, были уничтожены остатки чуди, спас-
шейся на этот остров: тут и легла вся чудь. Этот остров считался свя-
щенным: он порос лесом, и рубить этот лес считалось греховным и
опасным» [Харузин 1889: 128].
«Нелюдское» начало чуди проявляется в песне о ней, записанной
в Архангельской области: «Чуди вы, не люди, / Отца за отца не по-
читали, / Матерь по-матерному бранили, / Отойдите вы, нечисти
проклятые...» [ЭМТЭ]. В ряде топонимических легенд образ чуди
смешивается с образом черта, ср.: ур. Чёртовы Ворота (Глухие Во-
рота) — «Там мужика-утопленника оттолкнули от берега и тонули с
тех пор. Там манит, заблудиться можно, дак одежду на левую сто-
рону надень — выйдешь. Там лешак хозяин»; «Там какие-то чуди шли,
чертяки. С ними воевали у нас в Палеме. Они через эти Чёртовы Воро-
234
Раздел II
та собирались Палему взять»; «На плотах ездили зыряне, комики-те.
В этом месте разрывало плоты, там на реке кружит, а к реке лог глу-
бокий подходит. В логу этом манило. Всё это и назвали Чёртовы Во-
рота» [В-Уст, Палема, Черная].
По данным фольклора и топонимии Русского Севера могут быть
выделены сходные мотивы и параметры представлений о чуди и
нечистой силе (черте, лешем и др.): локус — «чужое» и опасное
пространство (ямы, овраги, «сузёмы», болота, перекрестки дорог);
внешний вид — имеют необычный рост (слишком маленький или,
наоборот, большой), покрыты шерстью, имеют рога, ходят в крас-
ных рубашках; творение элементов рельефа — роют ямы,
сооружают курганы, насыпи, каменные завалы, стены (ср. топонимы
типа Чудская Стена, Чудское Городище И Чёртова Каменка, Чёртово
Городище); способность к колдовству, оборотничеству —
ворожат, могут превращаться в свинью, петуха; звуковые прояв-
ления — свищут, хохочут, создают эхо; воздействие на чело-
века — способны «заводить», «ставить на круг», внушают галлю-
цинации.
Многие из этих мотивов перекликаются с теми, что были выде-
лены для представлений о чудесном. Эти переклички подтверждают
положение о том, что в народном сознании чужие коллективы неред-
ко наделяются негативными сверхъестественными и даже противоес-
тественными характеристиками [Белова 20056: 213-257; Петрухин,
Полинская 1994: 175 и др.].
Вообще, смысловые поля чуда, чужого и чуди существенно пере-
крываются. Чтобы показать это, выделим общие смыслы, характер-
ные для производных на базе чуж-, чуд- И куд-, чудь (используются
данные словарей и картотек по территории Русского Севера, а также
по дочерним говорам Урала и Сибири). В нижеследующий перечень
попали значения, которые объединяют семантическую структуру хотя
бы двух из трех названных гнезд. Если продолжения чуж- хотя бы на
формальных основаниях отделяются от дериватов чуд- (в то же время
в ряде случаев возможно наведение «чудесных» смыслов на семантику
дериватов чуж-, ср., к примеру, чуженъе ‘шутки, озорство’), то произ-
водные от чудо и чудь нередко не могут быть разведены при этимоло-
гической атрибуции (ср. чудь ‘невежда’, ‘нечистая сила’ и др.). По-
этому при представлении материала дериваты чуж- будут отделяться
знаком // от производных на базе чудо или чудь, подаваемых недиф-
ференцированно.
Все общие для чуда, чужого и чуди значения могут быть разделе-
ны на три группы: 1) ирреальный мир; 2) магические действия; 3) со-
циальная жизнь человека, черты характера.
Человек и пространство в зеркале языка
235
1. Ирреальный мир
Превращение, оборотничество: арх. очудитъся ‘по суевер-
ным представлениям — превратиться в кого-, что-либо’ [СРНГ 25:
72] // влг. счужеватъ ‘стать оборотнем’ [КСГРС].
Мерещиться, чудиться (под действием нечистой силы): ли-
тер. почудиться, арх. вычудитъся, влг. зачудйтъся ‘привидеться’
[КСГРС], чудило ‘о том, кто померещился, показался’ [СРГК 6: 802],
ленингр. чудь *‘то, что привиделось’ [ПНС: 25], кудитъся ‘видеться
во сне’ [ПОС 16: 328], литер, чудиться И влг. чужевйдетъ, чужое
видеть ‘мерещиться, чудиться’ [КСГРС].
Нечистая сила: чудил ‘по суеверным представлениям, добрый
или злой дух, живущий в доме, бане, домовой’ [НОС 12: 66], арх. чу-
даки ‘нечистая сила’ [КСГРС], чудь ‘то же’ [СРГК 6: 803;
КСГРС] // влг. очужалой ‘леший’ [КСГРС].
Мифическое дорусское население: чудаки ‘первобыт-
ные жители Сибири, от которых будто бы остались курганы, так на-
зываемые бугры’ [Опыт: 259]; арх., влг. чудаки ‘мифическое племя
чудь; мифическое дорусское население края’ [КСГРС; Криничная
1991: № 95, 111, 112]; арх. чудеса, чудо ‘то же’ [КСГРС].
2. Магические действия
Ряжение: влг., костр., новг., олон. кудес, кудёс ‘ряженый’, влг.,
новг. кудеса ‘праздничное святочное гулянье; святки’, новг. кудесами
ходить ‘ходить ряжеными’ [СРНГ 16: 9-10], кудёси ‘ряженые’ [СРГК
3: 51], арх. чудить ‘устраивать святочные гуляния с ряжеными’
[КСГРС], чудушка ‘ряженый, ряженая’ [СРСГСП 3: 319] // чуженый
‘переодетый во что-либо, маскированный’ [НОС 12: 67], арх. чужатъ
‘заниматься ряжением, ходить ряженым’ [КСГРС].
Колдовство, ворожба: кудёситъ ‘заниматься колдовством;
гадать, ворожить’, кудесь ‘колдовство, ворожба’ [СРГК 3: 51], куде-
сы ‘чары, колдовство, шаманство’ [ПОС 16: 328], литер, кудёсник
‘волшебник, волхв, колдун’, арх. начудить ‘наколдовать’ [КСГРС],
чудить ‘гадать, колдовать, ворожить’ [СРГК 6: 802; Черепанова
1996: № 307] // влг. зачужатъ ‘приворожить с помощью заговора’
[КСГРС].
3. ССЩИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА, ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА
Неряшливость, нечистоплотность: влг. кудес ‘о человеке
в рваной, грязной одежде’ [СРНГ 16: 9], чуди ‘о грязном человеке’
[Куликовский: 134], чудище ‘грязный лицом’ [ДО: 302], влг. чудо в
лёсе ‘грязный, испачкавшийся человек’ [КСГРС] // костр. зачужатъся
‘запачкаться, измазаться’ [ЛКТЭ].
236
Раздел II
Отсталость, невежество: яросл. чуда лапотная ‘неразвитый,
необразованный человек’ [ЧДФ: 140], чуди ‘темные, неграмотные
люди’ [СРГСУ 7: 34], чудушка ‘о неграмотном человеке’ [СРСГСП 3:
319], арх. чудь ‘недалекий, туповатый, недоразвитый человек’ [КСГРС],
чудь ‘поносительное слово, приписываемое невеждам’ [Опыт: 259],
чудь ‘о темных, неграмотных людях’ [СРГК 6: 803], чудь ‘бестолочь,
невежа’ [СлОби 3: 233]//костр. чужина ‘невежественный человек’
[ЛКТЭ].
Интеллектуальная неполноценность, юродство: чуде-
сить ‘сумасшествовать, сумасбродствовать’ [Даль2 IV: 612], влг.
чуднатъ ‘терять рассудок под действием нечистой силы’ [КСГРС],
чудой ‘чудный, странный; юродивый’ [Подвысоцкий: 189], чудь ‘кто
совершает нелепые, странные поступки’ [СРГНП 2: 427] // арх., влг.
очужалой, влг. чужой ‘выживший из ума’ [КСГРС].
Озорство, шалости: вят., яросл. кудес ‘проказник, шалун’
[СРНГ 16: 9], кудесить ‘устраивать шалости, проказы на Иванов день,
Петров день, на Святках’ [СРГК 3: 51], кудёсничатъ ‘вести себя вы-
зывающе, безобразничать’ [ПОС 16: 328], кудёситъся ‘баловаться,
озорничать’ [ПОС 16: 327], чудиться ‘делать глупости, дурачиться’
[НОС 12: 66; СРГК 6: 802] // влг. чужеватъ ‘озорничать, шалить’
[КСГРС], чужёнъе ‘шутки, озорство’ [НОС 12: 67].
Несколько особняком в данной группе выступает семантика, ко-
торую можно обобщенно (и, наверное, не совсем адекватно) обозна-
чить «казенный дом»: влг. чудйлъник ‘общежитие для наемных
рабочих’ [КСГРС] Пчуждвка ‘тюрьма’ [СРГСУ 7: 35; СРСГСП 3:
320; КСГРС].
Таким образом, проведенное сопоставление показывает, что се-
мантика «чудесного», «чудского» и «чужого» развивается во многом
по сходным законам, причем эта общность обусловлена не только
когнитивными причинами — близостью (а в некоторых смысловых
зонах тождественностью) соответствующих концептов, но и фактора-
ми лингвокреативного характера — аттракционными процессами в
соответствующем морфо-семантическом поле.
Специфика общей смысловой зоны производных от чуж- и чуд-
свидетельствует о том, что идеи своего — чужого и естественного —
чудесного занимают существенное место в структуре представлений о
жизни человека и общества, где они, по сути, сводятся к понятию
нормы/антинормы. Выше говорилось о том, что данные идеи иг-
рают важную роль и при осуществлении ценностной разметки про-
странства: чужое = неосвоенное пространство таит в себе ирреаль-
ное = чудесное. Вероятно, то же можно сказать и о времени. Так, в
Человек и пространство в зеркале языка
237
семантике слова чудорддие ‘неодобр. плохой, старый обычай’ [СРГНО:
589] отражается восприятие старины, прошлого как времени странно-
го, необычного — и, в конечном счете, чуждого и чужого. С другой
стороны, значение приводившегося выше слова чужой ‘выживший из
ума’ (ср. контекст: «Чужая стала, мне уж сотой годок идёт, дикая»)
следует понимать в связи с представлением о «своем» жизненном
сроке, по истечении которого человек становится «чужим» (или жи-
вет чужую жизнь, ср. арх. чужой век заедать ‘жить слишком долго,
дольше «положенного»’ [КСГРС]). Таким образом, даже эти фраг-
ментарные данные демонстрируют организующую роль концепта ес-
тественного — чудесного//своего — чужого в традицион-
ном социохронотопе.
Подводя итоги, отметим, что трактовка чуда в народной тради-
ции Русского Севера расходится с той, что принята в церковной куль-
туре. «Дискурс чуда» разработан очень слабо115 и практически не
совпадает с тем, который сложился в литературном языке: в частно-
сти, характерно стремление обнаружить субъекта чудесного события,
а также амбивалентность представлений о чуде, которое может иметь
как «божественную», так и «нечистую» природу. Та же амбивалент-
ность характеризует ту весьма архаичную концепцию святого, кото-
рая может быть эксплицирована по данным топонимии Русского Се-
вера: святые и божьи топонимы употребляются при обозначении
связи локуса с объектами не только христианского, но и языческого
культа; святое может трактоваться как опасное, феноменальное,
сверхъестественное и даже нечистое. Сходство святого и чудесного
проявляется также в том, что эти свойства могут характеризовать как
исконные (чистота воды), так и благоприобретенные (наличие объек-
та культа) свойства ландшафтной реалии.
При неразвитости дискурса чуда в говорах функционирует доста-
точно разветвленная система дериватов слова чудо, которая развива-
ется во многом по тем же законам, что и гнездо корня чуж-, а также
испытывает влияние со стороны этнонима чудь. Это позволяет гово-
рить о важности идеи чужести, чуждости в структуре концепта чуда, а
также о таком специфичном для культуры Русского Севера моменте,
как включенность образа чуди (дорусского населения края) в круг но-
115 Ср. замечание С. М. Толстой относительно понятия греха, которое
тоже обладает высокой степенью абстракции: «Если мы обратимся к устной
народной традиции, то в ней, разумеется, не найдем не только „теории44 гре-
ха, но и вообще соответствующего „дискурса44, какой мы имеем в случае
„высокой44 (книжной) культуры с развитой рефлексией и со специальными
текстами» [Толстая 20006: 9].
238
Раздел II
сителей сверхъестественного начала. Итак, чудо есть свойство ирре-
ального мира, существующего параллельно человеческому обществу;
в мир людей чудо может войти там, где кончается освоенное челове-
ком реальное географическое пространство, тогда, когда исчерпано
свое (= положенное, предназначенное для жизни) время, и при том
условии, если перестают действовать традиционные социальные нормы
Раздел III.
СЕМАНТИЧЕСКАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ
В настоящем разделе речь пойдет о семантической реконструкции
слов и фразеологизмов в рамках этнолингвистического исследо-
вания. Какого рода лексические факты становятся объектом семанти-
ческой реконструкции «под патронажем» этнолингвистики, в чем
специфика такого анализа?
Этому типу анализа подвергаются языковые факты, которые, как
правило, не составляют фонетических трудностей и ясны в плане сло-
вообразовательной модели, но непрозрачны с точки зрения мотива-
ции, которая выясняется при обращении к некоторому культурному
контексту или культурной ситуации. Мы не учитываем в данном слу-
чае примеры из серии «Worter und Sachen», когда значение слова за-
мыкается на факт материальной культуры — способ изготовления
реалии (ср. плот от плести). ее конструктивные особенности (ср.
связь ткацкого стана со стоять, свидетельствующую о первоначаль-
ной «вертикальности» таких станов), специфику использования (ср.
версию о производности дерева от драть, указывающей на технику
подсечно-огневого земледелия) etc. Те случаи, которые нас интересу-
ют, находят объяснение в сфере духовной культуры — в народных
представлениях о мире, верованиях, системе оценок и ценностей.
Как уже говорилось, любая единица лексической системы несет
информацию о восприятии мира носителем языка. При этом инфор-
мация «рассеивается» в структуре обширных лексико-семантических
полей (когда информативной становится сама структура поля, логика
детализации значений или же объединения их в более крупные кате-
гории) и «сгущается» в отдельных словесных знаках, концентрирую-
щих в себе особую этнокультурную и аксиологическую нагрузку. Та-
кие словесные знаки наиболее привлекательны для семантической ре-
конструкции в этнолингвистическом ключе.
Среди них, во-первых, следует выделить лексику обрядов и
верований, т. е. культурную терминологию. В настоящее время мето-
дика семантической реконструкции таких слов (которую С. М. Толстая
называет «культурной этимологией» [Толстая 1989: 223]) разработана
240
Раздел III
явно недостаточно; более того, сам словесный материал нередко оказы-
вается в «подвешенном состоянии», поскольку находится на пограни-
чье сфер компетенции лингвиста (диалектолога, этимолога) и этно-
графа, ср.: «Для исследователя-этнографа эта терминология, фикси-
руемая чаще всего случайно и неполно, имеет лишь вспомогательное
значение как средство выделения и фиксации функционально реле-
вантных элементов обрядности и верований. В свою очередь, лин-
гвист, изучающий диалектную лексику, в силу недостаточного владе-
ния этнографическим материалом также не в состоянии обеспечить
полноты и необходимой систематичности воспроизведения культур-
ной терминологии <...> Ни этнографа, ни лингвиста не интересует ха-
рактер связи между термином и реалией, между системой (рядом)
терминов и системой (рядом) этнографических элементов» [Там же:
216]. Этнолингвистика призвана комплексно подойти к интерпрета-
ции культурных терминов: их первичные значения выявляются через
изучение взаимодействия словесных знаков со знаками других куль-
турных кодов — прежде всего с предметным и акциональным кодами
обряда, с фольклорными текстами, а также через определение специ-
фики внутрисистемной организации обрядовой терминологии и ее
связей с внеобрядовой лексикой. В качестве примера можно вспом-
нить неоднократно описанные в этнолингвистике1 факты использова-
ния названий птиц для обозначения головного убора невесты: для их
интерпретации важно учесть, с одной стороны, действия с птицами
(курицей, уткой, гусем) при сватовстве и собственно на свадьбе, упот-
ребление птичьих образов по отношению к невесте в свадебном
фольклоре, а с другой стороны, внутриязыковые связи «птичьих» на-
званий: в рамках обрядовой терминологии — широкое распростране-
ние «птичьей» темы при номинации свадебной посуды и пищи; вне
обрядовой терминологии — при обозначении органов половой сферы
и характеристике лиц с точки зрения их сексуально-репродуктивных
возможностей.
Особый пласт культурной терминологии составляют имена соб-
ственные, факты «ономастикона культуры». Такие онимы мо-
гут отсылать к прецедентному имени (как правило, сакральному),
становясь как бы скрытой цитатой из какого-либо значимого для дан-
ной традиции культурного текста и помогая этот текст обнаружить2.
1 Об этом см. [Бернштам 1982; Васева 2001; Зайковский 1998; Толстая 2002а:
125 и др.].
2 Заметим, кстати, что имя нарицательное, не будучи словом с единич-
ной денотацией, такими способностями не обладает (точнее, nomen apellati-
vum тоже может отсылать к какому-либо первичному (прецедентному) тек-
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
241
Так, пара Иван и Марья, входя в состав названий травянистых расте-
ний или животных, «цитирует» некоторый свадебный сюжет (под-
робнее см. ниже). Но культурные имена не только восходят к преце-
денту. Нередко они становятся знаком олицетворения, персонифика-
ции какого-либо общего понятия (вода Татьяна, земля Ульяна, дуб
Матвей), причем выбор объектов олицетворения свидетельствует об
их особой значимости для культурной традиции.
Разумеется, семантической интерпретации с позиций этнолин-
гвистики может подвергаться не только культурная терминология, но
и так называемые «обычные» слова, функционирующие вне сфе-
ры обрядов и верований. Среди них наиболее интересны лексемы и
фразеологизмы, первичная мотивация которых включала
некий культурный текст (миф), утрачиваемый впоследствии
под влиянием как когнитивных, так и внутриязыковых механизмов.
Это приводит к демотивации языковой единицы и, возможно, уста-
новлению новых, «читаемых» синхронным сознанием мотивацион-
ных связей. К примеру, ср.-урал. паучья лесенка ‘тонкие нити облаков
на небе’ [КЭИС] можно трактовать как метафору, однако она кажется
слишком рафинированной. Возможно, более органично объяснение
этого фразеологизма как свернутого культурного текста (широко рас-
пространенного у славян) о пауке, взбирающемся на небо с помощью
своей паутины [СД 3: 380]. Рефлексом этого мифа, очевидно, является
и ср.-урал. лесенка ‘паутина’ [КЭИС], которое с точки зрения син-
хронного восприятия представляется метафорой вполне заурядной.
Объектом этнолингвистической реконструкции могут также стать
«ключевые слова» народной культуры, т. е. лексические
единицы, несущие особую аксиологическую нагрузку, выражающие
понятия, которые играют организующую роль в ценностной картине
мира. Тематически они могут принадлежать к самым разным сферам,
но в первую очередь к сферам онтологии, этики, социальной и куль-
турной жизни. Формирование и восприятие ценностей обусловлено
сложной комбинацией этнокультурных факторов, поэтому аксиоло-
гическая лексика, как правило, имеет неповторимый семантический
рисунок и плохо «переводится» на другие подъязыки и языки.
* *
В настоящем разделе будут предложены опыты семантической
реконструкции лексических единиц, которые иллюстрируют выска-
занные выше положения: материал подобран так, чтобы представить
сту, но для обнаружения такового требуется более развернутый, чем в случае
nomen proprium, ряд вторичных знаков).
242
Раздел III
разные типы языковых фактов, интересных для семантической рекон-
струкции в этнолингвистическом ключе, и опробовать различные ва-
рианты такой реконструкции.
Лексика обрядов и верований представлена, во-первых, группой
вербальных формул, функционирующих в рамках свадебного обряда
и выражающих отказ невесты жениху при сватовстве. При всем оби-
лии соответствующих вербальных формул и их высокой символиче-
ской зашифрованности в их основе лежит вполне исчислимая комби-
нация культурных и внутриязыковых мотивов, что позволяет применить
по отношению к ним методику групповой лингвокультурной рекон-
струкции (параграф 3.1). Во-вторых, будет рассмотрена обрядовая
лексика «ономастического происхождения» — наименования ритуаль-
ных предметов дожинального обряда иван и маръя. которые можно
рассматривать и как реализацию культурного прецедента, и как слу-
чай парадоксальной «обезличенной персонификации» с помощью де-
онимизированного слова (параграф 3.2).
К лексике обрядов и верований примыкает группа диалектных вер-
бальных формул, близких по значению к литер, типун тебе на язык.
С одной стороны, их можно трактовать как формулы вербальной магии;
с другой стороны, утрата особой прагматики, употребление таких выра-
жений вне «культурной ситуации» сближает их с «обычной» бранной
фразеологией. Поэтому реконструкция должна ориентироваться и на по-
иск определенного магическим заданием круга производящих основ, и
на учет особенностей экспрессивной семантики (параграф 3.3).
Группа «обычной» лексики с «культурным прошлым» представ-
лена в первую очередь языковыми фактами, в основу которых поло-
жены названия животных — неисчерпаемый источник как мифологи-
ческих отождествлений, так и «живых» метафор. К анализу привлека-
ется образ коня, для которого реконструируется темпоральная и ме-
теорологическая символика (на основе фразеологизма сивого коня в
поле не видать и лексических фактов, объединенных с ним мотива-
ционными перекличками) (параграф 3.4), а также образ жабы (лягуш-
ки), черты которого восстанавливаются с опорой на семантические
дериваты в русских народных говорах (на славянском фоне) (пара-
граф 3.5). Помимо «животной» лексики, рассматриваются наименова-
ния ветров, которые при синхронном прочтении обнаруживают «ан-
тропологическую» метафору (сравнение с человеком), при диахрон-
ном — миф о свадьбе природных стихий (параграф 3.6).
Наконец, среди ключевых слов народной культуры анализируют-
ся «онтологические» слова живой и авось. Из многочисленных гра-
ней концепта живого выбирается одна — живое в природе: что такое
«живая природа» для русского языкового сознания и каковы ее гра-
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
243
ницы? (параграф 3.7). Для словечка авосъ устанавливается в качестве
первичной проспективно-темпоральная семантика, на базе которой
сформировалась современная «модальность судьбы» (параграф 3.8).
3.1. ФОРМУЛЫ ОТКАЗОВ ПРИ СВАТОВСТВЕ
Кульминационный момент «подготовительного» этапа свадебно-
го обряда — объявление стороной невесты стороне жениха о своем
согласии или отказе принять предложение выйти замуж. Этот акт во-
леизъявления нередко сопровождается ярким символическим оформ-
лением, как словесным (произнесение вербальных формул), так и ак-
циональным (вручение жениху или сватам определенных предметных
символов, которые иносказательно преподносят решение невесты и ее
родни). Значимость, «судьбоносность» этого решения порождает охра-
нительные по сути попытки подвергнуть его шифровке (конечно, нужно
принимать во внимание и включенность данного акта в сценарий сва-
дебного обряда, весь текст которого исключительно символичен).
Набор лексем и вербальных формул, закрепляющих решение не-
весты, характеризуется резкой асимметрией: негативные формулы,
различными способами выражающие отказ, встречаются много чаще,
чем изъявления согласия. Средствами реализации «отказной» идеи
могут стать неметафорические глаголы, в семантической парадигме
которых значение ‘отказать при сватовстве’ вполне закономерно и
связано со значениями ‘обругать’, ‘препятствовать’ и т. д.; ср., к при-
меру, глаголы с корнем -хин-, высинить ‘отказать сватам’ [СРГК 1: 309],
арх. расхйнитъ ‘расстроить свадьбу’ [СРНГ 34: 292] — при выхинитъ
‘обругать, выбранить’ [АОС 8: 352; СГРС 2: 272], арх. расхйнитъ
‘помешать осуществлению чего-либо’ [СРНГ 34: 292]. Фиксируются
также фразеологизмы с прозрачной внутренней формой, которые по-
дают ситуацию отказа «буквально» или с минимальной степенью пе-
реосмысления: на простых (холостых) приехать [ФСРГС: 151]3 4,
сватам лобана^ спели [Кузнецова, Логинов 2001: 38], сделать отбой
3 Здесь и далее значения фразеологических единиц не будут приводить-
ся, поскольку они однотипны: ‘получить отказ при сватовстве (о женихе или
сватах)’, ‘дать отказ при сватовстве (о невесте)’. В единичных случаях, когда
ситуация отказа при сватовстве или какие-то ее компоненты выражена цель-
нооформленными лексемами, значение языковой единицы будет указано (то
же делается в тех ситуациях, когда имеются какие-то смысловые нюансы).
Иллюстративные контексты даются выборочно.
4 Ср. олон. лобан ‘песня-дразнилка’ [Кузнецова, Логинов 2001: 38].
244
Раздел III
[ЯОС 9: 21]. Однако самую большую и наиболее важную для анализа
группу составляют фразеологизмы (в редких случаях — цельнооформ-
ленные лексемы), которые содержат предметную символику, тре-
бующую интерпретации: дать блин, гороховину повесить, рыжиков
нажарить etc. (паспортизацию материала и анализ см. ниже). Форму-
лы такого рода не являются, разумеется, прерогативой русского язы-
ка; перед нами интереснейшая фразеологическая универсалия, кото-
рая встречается в разных языках Европы. Ср. некоторые примеры, не
совпадающие по своей образной основе с русским материалом: блр.
залатцъ штаны («залатать штаны») [Володина 2006в: 16], блр. па-
кацщъ камень, болг. давам трънката («дать терновник») [Коваль
1998: 92], польск. poslac lopat^. ciosk («послать хлебную лопату»)
[SGO: 649], podac szarq. g^s («дать серого гуся») [NKPP I: 626], англ.
to get the mitten («получить латную перчатку») [Мюллер: 450], фин.
antaa rukkaset («дать кожаные рукавицы»), чеш. dostat sojku («полу-
чить сойку») [Мокиенко 20066: 214, 216] и мн. др.
Далее будут рассмотрены «отказные» формулы, зафиксированные
в русских народных говорах. В ряде случаев приводятся параллели из
других славянских языков, преимущественно белорусского и украин-
ского. Наша задача состоит в том, чтобы осуществить интерпретацию
темных в мотивационном отношении «отказных» формул с предмет-
ной символикой, функционирующих в русских диалектах, и выявить
некоторые особенности мотивации языковых единиц такого рода.
При реконструкции символики формул мы исходим как из «собствен-
ного» смысла того или иного знака символического языка народной
культуры, так и из системных связей самой ситуации свадебного отказа:
с одной стороны, она является инверсией ситуации согласия, с другой —
сходна с ситуацией измены в любви, обмана и др.
Фразеологизмы с семантикой свадебного отказа уже становились
объектом специального изучения, ср., например, работу В. И. Коваля,
посвященную восточнославянским формулам отказа, и исследования
В. М. Мокиенко, который включает восточнославянские формулы в
более широкий славянский и романо-германский контекст, а также
полемизирует с В. И. Ковалем по поводу принципов интерпретации
фразеологического материала, а именно — учета этнографической
интерпретации в лингвистической реконструкции [Коваль 1998: 91-
100; Мокиенко 1999а, 20066]. Мы бы не стали «вторгаться» на терри-
торию, где работают такие авторитетные и компетентные специали-
сты, если б не появление в последние годы нового русского диалект-
ного материала и несколько иные акценты при его анализе.
Сосредоточив свое внимание на предметной символике, мы ос-
тавляем в тени семантику глаголов, входящих в состав изучаемых
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
245
формул. Действия невесты описываются глаголами привязать, прице-
пить, дать, повесить и т. и., действия жениха — получить, вывезти etc.
Думается, семантика глаголов могла бы составить предмет отдельного
исследования. На данном этапе мы отметим лишь однотипность гла-
гольного оформления (разные предметные символы могут вводиться од-
ними и теми же глаголами — особенно с семантикой прикрепления).
Представим материал, который будет распределен по тематиче-
ским сферам. Принят условный порядок следования сфер друг за другом,
который определяется степенью близости/отдаленности от образа че-
ловека: сначала человек соматический, потом его ближайшее пред-
метное окружение — орудия и приспособления, пища, посуда и т. п.,
затем животные и растения. По ходу подачи материала будут даваться
необходимые мотивационные комментарии.
СОМАТИКА
penis: влг. килу5 повесить (привязать) [КСГРС].
♦ Как известно, в славянских народных верованиях гениталии имеют
отгонную символику и демонстрируются кому-либо в целях ос-
корбления, унижения; демонстрация гениталий может заменяться
специальным жестом — кукишем или же предметами, имеющими
соответствующую форму (например, палками, которые зажимаются
между ног или привязываются к одежде) [СД 1: 494^95; 3: 26-27,
620]. Отказ невесты является, несомненно, унижением для жениха,
своего рода «кукишем», поэтому использование вербальной форму-
лы с соответствующей образностью вполне закономерно.
Характерно, что указание на гениталии встречается также в
составе фразеологизмов, обозначающих другую неудачу «соци-
ального выбора» — неучастие в молодежных играх (девушки
(реже юноши) не участвовали в играх или танцах обычно пото-
му, что их не приглашали, — по сути, это воспринималось как
сигнал будущих матримониальных неудач): влг. ушла домой с
сайдой6, всю сайду с собой унесла ‘о девушке, не участвующей
в играх’ [Морозов, Слепцова 2004: 176, 850].
Образ килы тоже используется не только для выражения се-
мантики свадебного отказа, но и символизирует неудачи иного
5 Ср. кила влг. ‘мужской половой член’ [КСГРС], арх. ‘то же’, арх., вят.,
костр., онеж. ‘мошонка’ [СРНГ 13: 206]. Аналогичное значение слова кила
фиксируется в русском эротическом фольклоре: в пинежской свадебной пес-
не «По полу кила», в калужской частушке и др. [РЭФ: 167, 479].
6 Влг. сайда ‘женские половые органы’ [КСГРС].
246
Раздел III
рода, перечень которых весьма интересен. Это в первую очердь
отставание на работе (во время жатвы, сенокошения и др.), про-
игрыш в игре, неучастие в обрядовых действиях, ср.: арх. килу
волочить (принести) ‘отставать от других при выполнении сель-
скохозяйственных работ’, кила тебе! ‘слова, которые говорят то-
му, кто отстает при жатве’, влг. килйт ‘прозвище человека, кото-
рый остается последним в каком-л. деле, в игре и т. д.’ [КСГРС],
кила ‘человек, пришедший последним на работу’ [НОС 4: 40],
дать килу ‘превзойти кого-л., победить’ [СВГ 3: 55], кила ‘пе-
телька из ниточки’ — «А тот, кто всех опередил, привязывает ки-
лу», на тебе килу ‘слова, которые говорят тому, кто плохо рабо-
тает, подавая при этом палку с привязанным на конце сеном’
[СРГК 2: 345], сиб. кила ‘о человеке, отставшем от других в поко-
се, жатве’, петерб. кила ‘прозвище возчика навоза в поле, кото-
рый отстает от других в работе’, онеж. кила ‘пучок сена или
сжатого жита, прикрепленный к палке’ — «Ставят на полосы со-
седей, запаздывающих с жатвой. Своего рода символическая на-
смешка: „Вот подожди, я тебе килу поставлю44», свердл. кила
‘вещи, привязываемые к человеку в насмешку’, самар. кила ‘про-
игрыш при игре в «чуги»’, калуж. петровская кила ‘лошадиная
голова, которую привязывают к крыльцу не принимавшего уча-
стия во встрече Петрова дня’ [СРНГ 13: 206].
Вероятно, не во всех случаях из вышеприведенных изучаемый
образ имеет «фаллическую» расшифровку: для семантической
реконструкции можно привлечь также простореч. кила ‘грыжа’,
‘всякая опухоль’ [СлРЯ II: 48] (и многие другие болезни, см.
[СРНГ 13: 205-206]). Грыжа может восприниматься как внешний
(= появляющийся извне) предмет. Возможность «повесить», «при-
вязать» килу вытекает из того, что кила, по поверью, нередко появ-
ляется вследствие сглаза, т. е. может быть «наслана» извне (ср. арх.,
ворон., дон., перм., ряз., сиб., тульск. сажать, ставить, пускать
и т. д. килу (килу) ‘по суеверным представлениям — вызывая дейст-
вие сверхъестественных сил, насылать грыжу, опухоль ит. д.’
[СРНГ 13: 206]). Четко определить образную основу каждого кон-
кретного факта весьма затруднительно, но для свадебных отказов
кила = ‘penis’ с высокой степенью вероятности, что поддерживается
логикой всей системы предметных символов отказа
ОРУДИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
борона: на бороны выехали [Кузнецова, Логинов 2001: 38], борона
кому-либо', на бороне тянуть жениха — «А девка если не хочет ид-
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
247
ти замуж, она просто убегала. И вот посидят женихи да и уйдут.
Вот и говорят: „Борона этим44. На бороне тянут жениха» [БДКА:
Лядины-Киселево Каргопольск. р-на Архангельск, обл.].
♦ Борона имеет ярко выраженную брачную, фаллическую и эроти-
ческую символику. Ритуал катания на бороне входит в состав
свадебного обряда и весенних обрядов (масленицы, Троицы): на
бороне возят неудачливого жениха, сватов [СД 1: 236-239; см.
также Агапкина 2002: 2231]. Вот описание одного из таких обря-
дов (Плесецк, р-н Архангельск, обл.): «Мужики на масленицу са-
жали на зубья бороны парня, который не раз сватался, но получал
отказ. Его тащили с песнями, свистом и криком на горку. Это
считалось большим бесчестьем» [Соколова 1979: 89]. Ср. также
курск. вешать борону *4выражать символическое осуждение
неженатому парню’ [Агапкина 2002: 231]. С помощью образа
бороны может быть выражена также семантика измены, нару-
шения верности, которая близка семантике свадебного отказа,
ср.: затащить борону на крышу ‘изменить, нарушить верность’
[НОС 4: 76].
Борона используется и как орудие отгона, создания препятствия:
к примеру, в Полесье парни бороновали вокруг деревни, чтобы де-
вушки не выходили далеко замуж [Володина 2006в: 13]. Такая симво-
лика тоже может внести вклад в формирование отказных смыслов.
Наконец, с бороной (боронованием) связывается идея битья,
удара, которая тоже обнаруживает переклички с идеей отказа7:
пск. дать бороновку ‘побить’ [Ивашко 1981: 89].
веник: моек, навязывать веники [Войтенко 1993: 127], навязать ве-
ников — «Поломаться захотела, нарочно навязала ему веников, а
он в другой раз и не пошел свататься к ей: уж гораз гордый был»
[НОС 5: 134].
♦ Ср. также блр. прычапщъ дзяркач, палучыцъ вешк (голень) [Ко-
валь 1998: 93; Гура 2006: 273]. Веник используется и в предмет-
ном коде обряда сватовства: в Пермской области веник вручался
неудачливым сватам как символ отказа [ЭССП: 206-207], в Под-
московье привязывался к саням сватов [Войтенко 1993: 127]. Та-
кое применение веника обосновано присущей ему отгонной сим-
воликой. Ср. также пск. на венике прокатить ‘нарушить вер-
ность в любви, изменить’ [Ивашко 1981: 80].
кол, шест: кол привезти [СРГК 2: 396], влг. кол поставить [КСГРС],
шест потащить, с шестом поехать [ФСРГС: 141, 149], влг., арх.
7 Ср., в частности, простореч. дать отлуп ‘отказать’, где существитель-
ное производно от отлупить.
248
Раздел III
шест получить [КСГРС], сшеститъ, шест привязать, шест при-
везти (притащить) — «И ван ко-то четыре шеста привёз. Длинну-
щий шест Колька-то соседский привёз» [ЭИС: 48].
♦ Эти формулы выражают ту же символику, что и приведенное
выше выражение килу повесить (привязать)', образ кола (шеста)
указывает на penis. Эвфемистическое употребление наименова-
ний разного рода палок, кольев, заостренных орудий в «фалличе-
ской» функции встречается в разных культурных традициях, ср.,
например, такие образы, как кол, палка, буравчик, долото, крас-
ный клин, молоток [РЭФ: по указателю], блр. кол, палачка [БЭФ:
по указателю], ср. также блр. ставщъ палк!, палку ставщъ, клшы
гнацъ, клшы заб1вацъ, далатом гваздзщъ ‘futuere’ [БЭФ: по указа-
телю], рус. жарг. кинуть (бросить, вбить, засунуть, вправить,
вставить) палку ‘то же’ [БСЖ: 416] и проч. (см. об этом в [Тол-
стой 1995: 366-368, Володина 2006в: 15, СД 3: 620 и др.]).
В качестве дополнительного можно указать также на мотиви-
ровочный признак «острый», «колющий», а следовательно, по-
тенциально «несущий угрозу». Ср. также арх. заколйтъ (< кол)
‘порицать того, кто отстает на покосе’ [КСГРС].
Палки и шесты фигурировали в предметном коде обряда сва-
товства: к саням неудачливых сватов в Поволжье привязывали
огромный шест [ТООФРП: 88-89], в Белозерье — ствол дерева с
необрубленными сучьями [ДКСБ: 342] и т. п.; эти же символы
широко использовались для обрядового осуждения безбрачия
(обширный материал из разных славянских традиций см. в
[Агапкина 2002: 203-244]).
Предметный код свадебного обряда дает возможность еще
одного прочтения символики палки (жерди). В случае удачного
сватовства жених получал от невесты подарки, причем в некото-
рых локальных традициях было принято подвешивать их на пал-
ку, ср. арх. дары катать ‘готовить свадебные подарки (о невесте и
ее подругах), подвешивая их на специальную жердь’ [СГРС 3:
177]. Образ «пустой» палки (без подарков) может намекать на не-
удачное сватовство (сходную символику имеет пустая корзина,
см. ниже).
гвоздь, клин, шило: арх. гвоздь сковать [КСГРС], с клином приехать
[СРГК 2: 368], сковать, сковывать шило [ССЛО: 42; СОГ 13: 142].
♦ Эти знаки символического языка народной культуры изофунк-
циональны предыдущим.
вилы, рогатина: влг. вилы ‘(эвфем.) употребляется вместо отрица-
тельного ответа при сватовстве’ — «Чё, вилы или грабли? Вилы —
плохо, а грабли — так к себе пригребли, значит, уговорились»
Сем штическля реконструкция лекс ики и фра геологии
249
[СГРС 2: 111] (ср. грабли с(эвфем) употребляется вместо положи-
тельного ответа при сватовстве’ [СГРС 3: 121]); Грабли-вичы^ ‘ино-
сказательный вопрос сватовщикам, вернувшимся с просватанья’
«Сватать пошли, на следующий день моего двоюродного брата уж
спрашивают: „Грабли-вилы?“ Грабли, - высватали как. загребли
значит» [ЭССП: 43^44]), пск. дать рогатку [СРНГ 7: 256].
♦ Ср. также блр. вглы возьмет, на вьчах паедзеш [Коваль 1998: 93].
Вилы, рогатина могут иметь ту же символику, что и другие ору-
дия, о которых речь шла выше, ср. костр. всадить вилы ‘futuere’
[ЛКТЭ], блр. на рагач папасц! ‘то же’ [БЭФ: 194]. У вил весьма
сильна также отгонная символика [Левкиевская 2002: по указате-
лю]. «Индивидуальный» признак, выделяющий вилы из ряда дру-
гих острых орудий, — признак раздвоенности, который как нель-
зя лучше подходит для выражения семантики измены (ср. литер.
наставить рога ‘изменить мужу’, ‘стать любовником чьей-либо
жены’).
Противопоставление «отказной» символики вил и «соглас-
ной» символики граблей основано на разной направленности
действий, осуществляемых этими орудиями: вилами орудуют
вовне, «от себя» (чаще всего подают сено), граблями - «к себе»
(здесь имеет значение также народно-этимологическое сопряже-
ние разных значений глагольного корня граб-1 греб- ‘грести’ и
‘захватывать’ [Толстой, Толстая 1988: 256, 260]).
колун: калин, колун ‘в языке молодежи шуточное: отказ во взаимно-
сти’ «Ишь, сколько колунов набрал!» [СРНГ 14: 199]
♦ Несмотря на то, что в словарной дефиниции нет прямого ука-
зания на обряд сватовства, мы сочли возможным включить
данное слово в круг рассматриваемых фактов, ибо свадебный
отказ в данном случае является наиболее естественным и веро-
ятным сужением дефиниции. Колун (топор) символизирует не
только отказ, но и измену (повесить колун (топор) ‘изменить в
любви’ — «Гришка-то топор повесил Нюшке» [НОС 8: 7]), а
также неучастие в играх (влг. «„Ну, на колуне нао сени домой
идти!“, — огорчался тот, кого не позвали участвовать в игре»
[Морозов, Слепцова 2004: 176]. Символика колуна сходна с сим-
воликой вил, рогатины, шила: это острый, колющий предмет, ко-
торый имеет фаллическую символику (ср. блр. manop ‘penis’
[БЭФ: 271]) и наделяется отгонными функциями [Левкиевская 2002
по указателю; СМ: 461-462; ЭССП: 298]. Прозрачная внутрен-
няя форма колуна актуализирует связь с колом, который тоже
несет символику отказа.
250
Раздел III
ВЕЩЕСТВА
скипидар: ленингр. поехать со скипидаром [СРНГ 28: 287], подлить
скипидару [НОС 8: 38].
керосин: подлить керосину (керосинчику) — «Посватали, если не от-
дали, то керосинчику подлили парню. Придет на поседку такой па-
рень и говорят: „От этого керосином пахне(т)“» [НОС 8:38].
♦ Во многих локальных традициях было принято «обмывать» удач-
ное сватовство — пить вино или водку в том случае, если сторона
невесты принимала предложение сватов (имеет значение и вкус
напитка, см. рубрику «Пища»). Символика отказа часто «перево-
рачивает» символику согласия, поэтому керосин или скипидар —
едкие вещества с острым запахом — можно рассматривать как
«отказный» вариант сладких напитков, выражающих согласие.
С керосином — веществом пожароопасным — связывается также
символика опасности, ср. просторен, дело пахнет керосином
‘грозит провалом, неудачей’.
СВЕТ И ОГОНЬ
лампада, свеча: лампадку гасить (тушить) [СРГК 3: 93], гасить
свечку [СРГК 1: 330], — но ср. свечку засветить ‘выразить согласие
на брак при сватовстве’ — «Сватали недолго, отец говорит мне:
„Чё, девка, идешь ли, нет“? Я молчу, камень в горло закатился. „Ну
не отвечаешь, так на то Бог“. Свечку засветил, так и выдал» [СПГ I:
309; ЭССП: 285].
♦ Символика этих формул прозрачна: при удачном сговоре зажига-
лась свеча, при неудачном — тушилась (вообще, использование
свечей — «прямое» и «переносное» — в свадебном обряде
многообразно: образ горящей свечи передает красоту невесты и
жениха в свадебной лирике [Лычева 2002: 30, 53]; свечи исполь-
зуются в обряде венчания; по пламени свечи судят о «честности»
невесты: если свеча горит ровно, то считается, что невеста
«хорошая», если неровно — «нехорошая» [ЭССП: 218] и др.).
головня: головешку съесть [НОС И: 16], ехать с головешкой [ПОС
10: 139], пск. головешку дать [Ивашко 1981: 80].
♦ Ср. пск., новг. головешку (получить), головешки собирать ‘нару-
шить верность в любви, изменить’ [Ивашко 1981: 80]. Интересно
также вологодское выражение сгорел овин, употребляемое по от-
ношению к девушке, которую не взял замуж ее ухажер [БП: 241].
Символика продуктов горения (пепла) используется и в предмет-
ном коде обряда: к примеру, в Польше в Пепельную среду в кос-
теле ксендз бил парней и девушек мешочком с пеплом в знак
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
251
осуждения за то, что они не вступили в брак в срок; аналогичные
обычаи (разбивание под ногами холостяков горшков с пеплом)
известны на Балканах [Агапкина 2002: 213, 225]; на Украине уча-
стники пародийной свадьбы колотили по мешку с пеплом в знак
нечестности молодой [СВЛ: 88].
ПИЩА
блин, лепешка: получить блин [НОС 8: 99], влг. дать блин [КСГРС],
новг. калитку* съесть [СРНГ 12: 360].
♦ Для понимания отказной символики блина важно учесть, что блин,
как и другая «плоская» выпечка, символизирует удар, битье, а се-
мантика удара связана отношениями выводимости с семантикой
отказа: получить блин ‘быть побитым кем-либо’ [НОС 8: 99], вят.
блинками кормить ‘награждать пинками’ [СРНГ 3: 25], печь бере-
зовые блины ‘бить, хлестать, пороть кого-либо’ [ПОС 2: 42], пре-
снух8 9 надавать ‘избить, поколотить кого-либо’ [СНП: 62] и т. п.
Важно учесть и то, что блин может символически обозначать
неудачу (а семантика неудачи при сватовстве, как мы видели,
есть частный случай неудачи вообще), ср. дело блин блином вы-
шло ‘неудачно’ [Даль2 I: 98].
Блины играют важную роль в свадебном обряде: девушки га-
дают с блинами о замужестве, молодых нередко кормят блинами
или оладьями сразу после первой брачной ночи, устраивают
блинный стол, мать невесты присылает блины к выходу молодых
из бани, в заключительной части свадьбы зять угощается блинами
у тещи [СД 1: 194-195]. В связи с нашей темой особенно значимо
то, что с помощью блина жених может оповестить присутствую-
щих о «честности» или «нечестности» невесты: в последнем слу-
чае жених ломает блин, прокусывает его середину, кладет взятый
блин на стопку и не ест, дарит теще «худой» блин, кладет на блин
мелочь вместо целого рубля [СД 1: 194-195; Володина 2006в: 41].
На Вятке обычай «ломания» блина женихом назывался распеча-
тать блины [РЭФ: 160]10. Отсюда понятно, почему нечестная
8 Арх., влг., новг., пск. калитка ‘род ватрушки, лепешки с начинкой из
толченого картофеля, крупы, каши и др.’, арх. ‘лепешка, блин (иногда сма-
занный сметаной, маслом и т. д.)’ [СРНГ 12: 359-360].
9 Преснуха ‘пресная лепешка’ [СПП: 62].
10 Ср. также болгарский свадебный обычай преломления женихом ле-
пешки на колене, что символически обозначало дефлорацию невесты [Узене-
ва 2003:286].
252
Раздел III
невеста называлась дырка в блину — «Пра ничесную инвесту
гьварили: „Вон идёт дыркъ в блину44. А па диревни насили блин с
дыркъй унутри» [ССЛО: 124]. На формирование символики утра-
ченной девственности оказали влияние, по всей видимости, эв-
фемистические возможности самого слова блин. Тема нечестной
невесты перекликается с темой измены в любви, ср. получить
блин 'узнать об измене любимой(ого)’ [НОС 8: 99]. Мы вновь полу-
чаем возможность убедиться в том, что отказ при сватовстве, измена
в любви и утрата девственности воспринимаются как действия
близкие («женские грехи») и имеют общее символическое поле.
соль: арх., влг. солонйкп схватить, солоника дать (поставить) —
«Солоника поставит невеста жениху — солоно жениху будет»
[КСГРС].
♦ Ср. укр. нагстися сол! 'получить отказ при сватовстве’ [Ужченко:
178]. В символическом языке свадьбы «соленое» (а также «горь-
кое», «кислое» и вообще «несладкое») имеет, как правило, нега-
тивные коннотации, а «сладкое» — позитивные [Узенева 2003: 296;
Седакова 2000: 160-161; Гура 2006: 273]. Оппозиция сладкого —
несладкого проявляется и в теме нечестной невесты или изменив-
шей женщины: традиционная для полесской свадьбы каша в слу-
чае девственности невесты варилась сладкой, в противном же слу-
чае — несладкой или соленой [Толстая 1996а: 203]; у болгар было
принято в случае честности невесты есть сладкие лепешки и пить
сладкую ракию, а родителям нечестной невесты посылалось горь-
кое вино, неподслащенная ракия [Узенева 2003: 296; Седакова
2000: 161]; украинцы угощали нечестных невест луком [СВЛ: 153].
Возможен еще один «поворот» негативной символики соли в
свадебном обряде, ср. перм. «Вот еще в постель кинут собачью
шерсть, кошачью ли, или соль, и тогда жизнь не заладится» [ЭССП:
294]. Это соотносится с общей символикой соленого, обозначающе-
го «неудачу, „горькие" чувства, ср. солоно пришлось 'горько, тяже-
ло, обидно’, солёно тебе в глаза 'пожелание плохого’, насыпать на
хвост соли 'сделать неприятность кому-либо’, насыпь соли на хвост
'говорится при неудаче’. Такая роль соли может быть предопреде-
лена и тем, что в культуре она иногда связана с мотивом выпрова-
живания, отгона» [Пьянкова 2005: 180] (об отгонной символике соли
см. в [СМ: 444; Левкиевская 2002: 80])11 12.
11 Арх., влг. солоник ‘пресная лепешка, посыпанная сверху солью’ [КСГРС].
12 В то же время соль не имеет «одноцветно» негативной окраски, ее
смысловое наполнение амбивалентно; ср., к примеру, позитивную символику
соли в литер, несолоно хлебавши.
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
253
квасная гуща (ГУЩА, опара, бут): гущи налить (наливать) [АОС 10:
166; ДКРС: 342], влг. гущи налить в сапоги — «Невеста скажет: „Не
иду44, пойдут жених да сват, скажут: „Гущу налили в сапоги44»
[КСГРС], гущу повезти [ДКРС: 342], квасной гущи в сани плеснули
[Кузнецова, Логинов 2001: 38], гущи налить в колоши [СРГНП 2:
150 <в статье приказать невесту>\, арх., карел, с опаройх?> вороти-
лись, приехали, обдать опарой [СРНГ 23: 236], налить (полить)
опары в сапоги, прийти с опарой [СРГК 4: 204], им опары в сапоги
налили [Кузнецова, Логинов 2001: 38], арх. приехать с бутом —
«„Приехали с бутом44, — говорят, когда сваты возвращаются с не-
удачного сватовства. Крестьяне стараются вылить в сани таких сва-
тов бут, или опару» [СРНГ 3: 309] и др.
♦ Данные фразеологизмы могут «материализоваться» в архангель-
ском обычае в случае отказа плескать в сани сватов пивной гу-
щей [ЭМТЭ].
Для понимания символики квасной гущи следует в первую
очередь учесть признак «отработанный, связанный с отходами»,
который противопоставляет квасную гущу «настоящему» квасу.
Символика отходов (не только пищевых) используется и в пред-
метном коде свадебного обряда: в Восточном Полесье перед ро-
дителями нечестной невесты выставлялось решето с отходами от
молотьбы [Володина 2006в: 28-29].
Отказная символика квасной гущи вписывается в общий сим-
волический контекст кислой пищи: «Общие для технологии изго-
товления дрожжевого теста и хмельных напитков (пива, кваса)
процессы заквашивания, ферментации и брожения именно в
свадьбе приобретают символическую нагрузку, связанную с бра-
ком» [Гура 2003: 108-109]. «Язык» кислой пищи многогранен, на
нем можно выразить разные смыслы. В нашем случае важен, ду-
мается, признак «несладкий», в то время как позитивное значение
в контексте свадьбы, как говорилось выше, закреплено за призна-
ком «сладкий»; ср. вывод авторов ЭССП, сделанный на основе
анализа символики свадебного обряда в Северном Прикамье:
«Кислое (пища, напитки) маркировало будничное, повседневное,
профанное (заканчивали свадебные подношения кислой капус-
той)» [ЭССП: 237]. Негативная символика кислого проявляется и
в свадебных обычаях других славянских народов: в болгарских
формулах свадебного отказа невесту уподобляли кислому тесту
(сватам сообщалось, что она «не дошла, не созрела») [Узенева 2003: *
13 Арх. опара ‘густой квас’, олон. опара ‘квасная гуща, солодовый оса-
док’ [СРНГ 23: 235-236].
254
Раздел III
286]; у хорватов было принято угощать сватов в случае отказа не-
весты мелкими кислыми яблоками [устное сообщение А. В. Гуры].
Низкий «ранг» кислых или забродивших напитков в «матри-
мониальном» контексте ощущается также в том, что через «кис-
лые» образы обозначается неудача на молодежных вечеринках
(влг. Сёдни тебе простокиша! *‘обращение к девушке, которую
ухаживающий за ней парень позвал участвовать в поцелуйной игре
в последнюю очередь’ [Морозов, Слепцова 2004: 176]), а также из-
мена или нечестность невесты (квас кому-либо ‘нарушение верности
в любви’ — «Витьке-то квас, квас от Райки» [НОС 4: 35]).
пустой суп (ритатуй, черные щи): арх. ритатуй14 15 плеснуть [КСГРС],
свердл. налить черных щейХ5 [ЛЗА: Кунгурка Ревдинск. р-на Сверд-
ловск. обл.].
♦ Ср. блр. даць чорнай полгут [Коваль 1998: 92], польск. dostac
(dac) czarnq. (szarq) polewkq («получить (дать) черный (серый)
суп») [NKPP II: 1000], кашуб, сагпё кгёрё ‘вареная ржаная каша,
не залитая молоком, подаваемая прежде во время сватания в знак,
что старания хлопца о руке девушки напрасны’ [Sychta II: 247];
ср. также польск. szara polewka (szary barszcz), czernina *4 блюда,
которые давали сватам в знак отказа при сватовстве’ [Kolberg 28:
131]. В этих примерах используется образ «черного», т. е. «неза-
беленного» кушанья — такого, которое не заправлено чем-либо
жирным (молоком, сметаной), а следовательно, является пост-
ным, невкусным. Мотивирующие смыслы можно прочитать так:
«пустая пища, лишенная содержания, ценности, будничная, „не-
престижная“» — и следовательно, противопоставленная пище
вкусной, жирной. Здесь вновь представлена инверсия «отказной»
пищи по отношению к «согласной», ср.: «Символы отказа анто-
нимически коррелируют с символами согласия на брак, доминан-
той которых обычно является встреча сватов с „качественной44
пищей» [Мокиенко 1999а: 31].
Вообще, с пустой пищей связывается представление о неуряди-
цах, тяготах, ср. иркут., краснояр. мурцовка ‘мучительные хлопоты;
неурядицы, горе’ (< рус. диал. (шир. распр.) му ребека, мурцовка
‘кушанье из хлеба, лука, растительного масла и соли, залитых во-
дой; тюря’ [СРНГ 18: 359-360]). Возможно, в качестве дополни-
тельного мотивирующего момента выступает признак черного
цвета, имеющего негативную символику и противопоставленного
14 Арх., влг. ритатуй ‘пустой суп, похлебка из картошки и лука на воде’
[КСГРС].
15 Свердл. черные щи ‘пустые щи, не приправленные сметаной’ [ЛЗА].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
255
«свадебным» красному и белому цветам, ср. влад. черничка ‘от-
казавшаяся от замужества девушка’ [БВКЗ: 267] (здесь содержит-
ся также намек на монашество).
Образ будничной, «пустой» пищи используется в языке на-
родной культуры и для того, чтоб обозначить ситуацию неуча-
стия в играх и забавах, ср. влг. с гороховиком уйти, яблошника
наесться16 *‘о девушке, не принимающей участия в играх или
плясках’ [Морозов, Слепцова 2004: 176]: гороховик и яблочник —
пироги с постной начинкой, считавшиеся слишком «простыми»,
невкусными. Сквозная параллель обнаруживается также в симво-
лике измены, ср. обращение к изменившему парню в песне: влг.
«Милой мой, картовна шаньга, Шаньга не помазана. Ты скажи,
картовна шаньга, Чем я не уважена?» [Морозов, Слепцова 2004:
533]. «Пустой» пищей может считаться также разбавленная водой
брага, ср. контекст к сарат. ивашка ‘бражка, сильно разбавленная
водой’ — «Что касается до отца и матери провинившейся (утра-
тившей невинность до брака) дочки, то подносят им не винцо, а
бражку, да и ту ивашку, при том в продырявленном снизу стака-
не» [СРНГ 12: 57]
Итак, образ пустой пищи хорошо подходит для выражения
символики неоправданных надежд. В шутливой песенке, сопро-
вождавшей поедание супа-ритатуя, поется: арх. «Ритатуй, ритатуй,
посерёдке х...!»17 [КСГРС]. Можно сказать, что пустой суп —
это своего рода кукиш на «языке пищи».
ОГОРОДНЫЕ И САДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
горох и его стебли: арх. гороховину повесить18 — «Не хочет его, дак
скажут, ну, гороховину повесила» [СГРС 3: 110].
♦ Ср. арх. гороховину грести ‘обманывать, врать’ [СГРС 3: ПО]:
семантика обмана в связи с образом переплетающихся между собой
стеблей гороха может быть первичной по отношению к семанти-
ке отказа. Образ гороховой ботвы можно соотнести с образом го-
рохового венка, используемым для символического обозначения
16 Арх., влг. гороховик ‘пирог с начинкой из гороха’ [СГРС 3: 109], яб-
лочник ‘пирог с картошкой’ [КСГРС].
17 «Эротические» мотивы проявляются также в другом названии пустого
супа — костр. суп из кункиных губ ‘о постном супе’ [ЛКТЭ], основанном на
языковой игре: губы ‘грибы’ <-> ‘vulva’ (о слове кунка как распространенном
обозначении женских половых органов см. ниже, в разделе ЖИВОТНЫЕ).
18 Арх., влг. гороховина ‘ботва гороха’ [СГРС 3: 110].
256
Раздел III
отказа при сватовстве в ряде славянских языков: польск. dac
grochowy wienec (wianek) [NKPP I: 375], блр. гарохавы дацъ вянок,
атрымау з гарохвш вянок. чеш. pojiti s hrachovym vencem [Коваль
1998: 93]. Справедливой представляется идея А. Аксамитова,
указавшего на важность признака сухости: гороховый венок, из-
готавливаемый из сухих стеблей (и говорящий тем самым о «бес-
плодности» намерений жениха), противопоставляется венку из ру-
ты, мяты и других зеленых растений, символизирующих согласие
невесты [Аксамитов 1984: 25]. Сухие гороховые стебли могли ре-
ально использоваться в предметном коде обряда: так, в Польше в
Пепельную среду два парня обходили дома и били не успевших
вступить в брак девушек и парней кнутами, сплетенными из горо-
ховой или житной соломы; в последний день масленицы замужние
женщины ловили не женившихся в мясоед парней и надевали на
них гороховые венки [Агапкина 2002: 208, 241-242].
Кроме символики гороховой ботвы, соломы (когда акцент де-
лается на свойствах сухих переплетающихся плетей), для объяс-
нения причин появления образа гороха в матримониальном кон-
тексте следует учесть также эротическую и детородную символи-
ку этого растения [СД 1: 524-525]. Являясь символом «женско-
сти», горох противопоставляется «девическому» статусу невесты
(ср., к примеру, белорусский ритуал надевания горохового венка
на женщину, родившую вне брака) [Коваль 1998: 94-95].
Наконец, показательно, что символика неудачи (не только при
сватовстве) связывается также с бобами, ср. литер, остаться на
бобах (об этом выражении, в котором бобы символизируют го-
лодное существование, бесхлебицу, см. в [Мокиенко 2003: 57-
61]). Другое бобовое растение — чечевица — приобретает семан-
тику свадебного отказа в чешском языке: dostat соски («получить
чечевицу») [Мокиенко 20066: 214]. Очевидно, в образах бобовых
растений может актуализироваться признак постной пищи (со
всеми присущими ей коннотациями, см. выше «Пустой суп»).
репа, редька: дать рёдчйну19 [НОС 9: 122; 2: 73], калин, редька ‘от-
каз в сватовстве’ [СРНГ 35: 24], арх. дать репу — «Если невеста
хотела отказать жениху, то выносила ему репу; дать репу — значит
отказать» [СГРС 3: 177].
♦ Как указывает контекст, параллель языковым данным обнаружива-
ется в предметном коде обряда: в Архангельской области в сани по-
лучивших отказ сватов бросали репу [ЭМТЭ], в Поволжье — редьку
[ТООФРП: 87]. Интересно, что репа может символизировать не
19Рёдчйна ‘редька’ [НОС 9: 122].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
257
только свадебный отказ, но и отказ вообще: рус. твер. хоть матуш-
ку репу пой ‘о решительном отказе назойливому просителю’ [СРНГ
35: 66]. Кроме этого, репа символизирует измену в любви (peniiu2{}
поесть ‘узнать об измене в любви’, репня ‘измена в любви’ [НОС 9:
137], дать рёдчину ‘нарушить верность в любви’ [НОС 9: 122]), а
также безбрачие, ср. кашуб, зацёс repq, («сажать репу») ‘не выходить
замуж’ [Sychta IV: 384] (показателен также зафиксированный в хор-
ватском Междумурье обычай: старую проросшую репу клали на во-
рота парня или девушки, которые вовремя не вступили в брак [уст-
ное сообщение В. В. Усачевой]).
Из репы и подобных ей овощей готовится популярная постная
(а значит, «пустая») еда, что, по всей вероятности, мотивировало
рассматриваемые факты. Рассматривая отказные фразеологизмы с
«овощной» символикой, В. М. Мокиенко указывает на «неполно-
ценность» овощей вроде тыквы, редьки и т. п. из-за их «обыден-
ности» [Мокиенко 20066: 217].
Еще одна мотивационная возможность связывается с тем, что
некоторые овощи и фрукты ассоциируются с гениталиями; такая
ассоциация может получить визуальное оформление в жесте ку-
киша, а вербальное — в семантике ‘кукиш, шиш’. Наиболее пока-
зателен образ груши: рус. юж. дуля ‘грушевое дерево; плод этого
дерева’ [СРНГ 8: 225], укр. дуля ‘то же’ [Гринченко 1: 55] —> рус.
просторен, дуля, дулю в нос, укр. дуля ‘кукиш, шиш’ [Гринченко
1: 55], рус. жарг. груша ‘о мужском половом органе’ [СМА: 100].
Ср. грубо-простореч. эвфем. хрен ‘penis’, помидоры ‘о яичках на-
ружного мужского полового органа; о мошонке’ [БРЭР: 468],
жарг. редиска ‘то же’ [ЛЗА], жарг. огурец ‘мужской половой ор-
ган’ [БСЖ: 395], перчик [СМА: 326], репа, брюква, свекла, огурец,
морковка, кукуруза ‘то же’ [РЭФ: 271, 375, 397, 404, 410, 640], а
также блр. агурок, гурок, кукуруза, часнык i цыбуля ‘penis’, жывой
рэпкай накармщъ ‘futuere’ [БЭФ: по указателю]. С учетом описан-
ной ранее символики килы (см. «Penis») показательной представ-
ляется связь «корнеплоды» «кила»: смол, килуша ‘брюква’
[СРНГ 13: 209], кемер. редька ‘болезнь [какая?]’ — «Внешне на
килу похожа» [СРНГ 35: 23]. Эти ассоциативные линии «мате-
риализуются» также в обрядовой практике: порицая отстающего
при жатве и произнося слова «Кила тебе!», архангельские кресть-
яне ставят в борозду кол с насаженной на него репой или с привя-
занной к нему варежкой, которая наполнена репой [ЭМТЭ]. *
20 Репня ‘репа; похлебка из репы, брюквы; каша из тушеной репы; каша
из брюквы’ [НОС 9: 136].
258
Раздел III
Для редьки дополнительным мотивирующим моментом ока-
зывается горький вкус; неслучайно у украинцев было принято
угощать редькой нечестную невесту [СВЛ: 124] (у болгар — по-
сылать ее родителям горький перец [Седакова 2000: 161]).
Надо учитывать и возможность притяжения слова рёдчйна
‘редька’ к омонимичному редчйна ‘пустое место где-либо’ [НОС
9: 123]. Такая аттракция основывается не только на формальной
близости слов, но и на семантике пустоты, перекликающейся, как
мы видели, с «отказной» семантикой.
Наконец, важно то обстоятельство, что данные овощи оказы-
ваются сопоставимы с шишкой от удара, ср. «овощные» и «фрук-
товые» номинации удара, битья: влад. репицу начистить ‘нада-
вать шлепков, поколотить кого-л.’ [СРНГ 35: 69], дать редчину
‘побить кого-л., дать подзатыльник’ [НОС 9: 122], дать тыквину
‘ударить, побить кого-л.’ [НОС 11: 74], влг. лимонить ‘колотить,
бить’ [СРНГ 17: 48], томск. дать, закатить дулю ‘нанести удар’
[СРНГ 8: 225], ср. также укр. грушки дать кому ‘побить’ [Твченко
1999: 65], рус. жарг. дать грушу ‘больно ударить большим паль-
цем по макушке’ [Анищенко: 75], запомидоритъ ‘ударить, чтобы
образовалась шишка’ [ЛЗА], просторен, сделать сливку ‘ущип-
нуть с поворотом’.
тыква, арбуз: ворон, подкатить гарбуз [СРФ: 31], поднести гарбуз
[СРДГ 1: 95], получить гарбуз [ПОС 6: 138]21, острогожск. подка-
тить арбуз, брян. дать гарбуз. кубан. дать гарбуз (гарбуза). спек-
ти гарбуз (соленый), получить гарбуза [Мокиенко 20066: 208].
♦ Ср. в других славянских языках: укр. гарбуз ‘тыква, которую вы-
ставляют на свадебный стол в знак нечестности молодой; тыква,
которую подносят молодой или ее матери в знак нечестности’,
винести гарбуза. повЧсити гарбуз. подарити гарбуза. тдсунути
гарбуз. почепити гарбуз и др. [СВЛ: 36-37], укр. dicmamu гарбуза
(«тыква»), покуштувати (взяты) гарбуза, гарбуз кому покотився,
давати гарбуза, тднести печеного гарбуза [СРФ: 31; РФ: 31],
гарбуз поставити [Ужченко: 29], тднести кабака [Гринченко 2:
202], болг. дадоха ми тиква в ръка [Коваль 1998: 100], польск.
arbuza dostac. nawarzyc arbuza. zjesc arbuza [NKPP I: 26], mu
harbuzprzykotyly [Kolbierg 29: 286]22; другие славянские примеры
и подробный анализ бытования фразеологизмов и соответствую-
щего этнографического контекста представлены в [Коваль 1998,
21 Дон. гарбуз ‘арбуз’ [СРДГ 1: 95], пск. гарбуз ‘тыква’ [ПОС 6: 138].
22 Интересно, что в «высшем обществе» на Украине «простонародную»
тыкву заменял ананас, имеющий тоже «отказную» символику [Bystron: 131].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
259
95-100; Мокиенко 1999а, 20066]. Интересная параллель обнаруже-
на В. М. Мокиенко вне славянского ареала: исп. dar una calahaza,
dar calabazas («дать бутылочную тыкву»); в Гватемале известен
вариант dar ayotes. где фигурирует ацтекское по происхождению
название тыквы [РФ: 31]. Эти факты позволяют увидеть здесь древ-
нюю средиземноморско-славянскую этнофразеоглоссу [Там же].
Ср. также тыквина ‘измена в любви кому-л.’ [НОС 11: 74]. С об-
разами тыквы и арбуза может быть связано представление о постной
пище и символика битья; ср. также употребление «тыквенных» вы-
ражений в качестве брани: укр. «А, батьков! твоему гарбуз пече-
ний!» — брань, употребляемая в одном ряду с «А, матер! твош
хрш!» [Номис: 65]. Кроме того, важным мотивирующим моментом
может оказаться «пустотелость» этих овощей (при употреблении их
в пищу сердцевина обычно вырезается) [Коваль 1998: 96-99].
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
лапти: влг. лапти вешать (повесить) [Морозов, Слепцова 1993: 7],
влг. лапти сплести (расплести) [КСГРС].
♦ Ср. символику лаптей в предметном коде обряда: в южнорусских
областях жених нес избраннице лапти при сватовстве — и если она
их принимала, это становилось знаком согласия на брак; в Бело-
руссии жених, приходя к невесте, бросал лапти на середину хаты, а
сам оставался в сенях, — если девушке нравились лапти, то парня
вызывали на переговоры, а если нет — их выбрасывали обратно
жениху [СД 3: 79-80]23. В Пермской области таким же образом
использовался валенок: «Всяко бывает, вот девка не захочет вза-
муж-то идти, сватам валенок за ворота выкинет» [ЭССП: 205]. У бе-
лорусов фиксируется следующий вариант обряда сватовства: же-
них идет с вязанкой лаптей за плечами к окну дома молодой и
произносит зашифрованную фразу, которую, по мнению В. И. Кова-
ля, можно трактовать так: «Нужен ли здесь жених? Если не ну-
жен, то я пойду дальше» [Коваль 2006: 120]. Лапти фигурировали
и при ритуальном осуждении нечестной невесты: на Вятке в этом
случае подвешивали лапоть к дуге вместо колокольчика [РЭФ:
160]. Образ «подвешенных лаптей» используется также для обо-
значения еще одной ситуации, сходной с ситуацией отказа при
23 Ср. блр. «Так колюя сватал ica: жбурляюць невесщ лапщ i кажуць:
,,UIypri-6ypri, у хату лапоць лещ“; ек прыме, то лад согласны робщь, а ек не
согласны, назад лапщ шургаюць» [ТС 2: 59]. Вероятно, отказные мотивы реали-
зуются и в поговорке: «Не шурай, не бурай, свое лапщ заб!рай!» [ТС 3: 12].
260
Раздел III
сватовстве: влг. лапти повесил! — «Говорили девушке, которую
ухаживающий за ней парень не позвал участвовать в „поцелуйной44
игре» [Морозов, Слепцова 2004: 176].
Символика лаптей в народной культуре многогранна — ив
данном случае можно восстановить целый комплекс мотиви-
рующих признаков. Думается, что ведущую роль в этом комплек-
се играет мотив «нереализованных намерений», ср. влг. лапти
наладить 'собираться сделать что-либо’ [КСГРС], лапти связы-
вать 'начинать какое-нибудь дело’ [ПОС 16: 504], жарг. лапоть
(лапти) плести 'собираться совершить побег’ [БСЖ: 309]: образ
лаптей репрезентирует идею передвижения, устойчиво соотноси-
мую с семантикой намерения, целеполагания, ср. жарг. лыжи на-
вострить 'намереваться сделать что-либо, пойти куда-либо’24.
Парень собирается жениться — и предъявляет девушке лапти как
символ своих намерений; девушка, отказывая и возвращая парню
лапти, как бы снаряжает его в обратный путь, дает «от ворот по-
ворот», просит не задерживаться у нее (или же «расплетает» лап-
ти, разрушая его планы).
Кроме того, с образом лаптей оказывается связанной семанти-
ка обмана вообще — и, в том числе, измены в любви: просторен.
обуть кого-нибудь в чёртовы лапти 'ловко обмануть’; влг. лапти
сплести 'обмануть, ввести в заблуждение’ [КСГРС], жарг. лапоть
(лапти) сплести 'обмануть кого-л.’ [БСЖ: 309], лапти (кому)
'измена в любви’ [ПОС 16: 505], лапти сделать (сплести) 'изме-
нить кому-либо в любви’ — «Сделал дролечка мне лапти, хоть
живая в гроб ложись» [СПП: 49; ПОС 16: 505; НОС 10: 32], ле-
нингр. лапоть подвязали 'о молодой жене, с которой муж не имел
сношений несколько дней после заключения брака’ [СРНГ 16:266].
Идея обмана в данном случае выводима как из мотива обувания
(ср. жарг. обувать кого-л. (в лапти, в валенки, в чуни) 'обманы-
вать, надувать, облапошивать’ [СМА: 291], блр. боты падшыцъ,
польск. szyc коти buty 'обманывать’ [Володина 20066: 233]), так
и из мотива плетения, заплетания.
Наконец, образ лаптя выражает идею неловкости, неуклюже-
сти, которая в конечном счете связана с идеей неудачи: как ла-
поть 'о неловком, нерасторопном, не умеющем себя вести в об-
ществе человеке, невеже’ [СПП: 102], петерб. лапоть 'о тихом и
неповоротливом человеке’ [СРНГ 16: 266].
24 Не случайно идея несбывшихся ожиданий ассоциируется с отсутстви-
ем лаптей, ср. ни лаптя не привезти ‘вернуться ни с чем’ — «Зачем только
ездили? Ни лаптя не привезли» [ФСРГС: 151].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
261
армяк: влг. армяк сделать, армяк скроить — «То ли был не парень,
То ли был не парнечок, К одной девушке посватался — Скроила
армячок»; «На газете скроят армяк, пуговицы большие нарисуют,
невеста его и выносит: „Ходили свататься, да армяк скроили44, —
скажут» [СГРС 1: 22], влг. армяк скроить — «Глашка-то Ваське ар-
мяк скроила» [СРНГ 1: 277]; влг. не пошить армяк [КСГРС].
♦ Скроив парню армяк, девушка — как в случае с лаптями — сим-
волически предлагает ему отправиться восвояси, не задерживать-
ся у нее (так поступил бы хозяин, подавая нежелательному гостю
верхнюю одежду и намекая тем самым на дверь). Важна здесь и
общая символика «одевания» как обмана, ср. активную в славян-
ских языках модель «обмануть, поставить в неловкое положе-
ние» = «приобрести одежду (кофту, штаны и др.)» [Володина
20066: 233-234].
Кроме того, использование армяка в качестве символа отказа
мотивировано тем, что эта будничная, рабочая, ненарядная одеж-
да не соответствует статусу жениха. В этом смысле армяк проти-
вопоставлен рубашкам, которые являются свадебным подарком
невесты жениху и его семье, ср. кроить рубахи 'изготавливать
подарки для жениха и его родственников (о невесте и ее подру-
гах)’ [ССЛО: 61].
Возможен и другой мотивационный ход: армяк является муж-
ской одеждой, в то время как невеста в знак согласия могла дать
жениху женскую одежду — например, сарафан; ср. перм. «Зада-
ток невеста сама даст, если согласна идти, — сарафан да ещё че-
го» [ЭССП: 285].
Выражение не пошить армяк появляется, наверное, в резуль-
тате забвения исходной символики армяка и вытеснения ее се-
мантикой отрицания.
шапка: влг. калаушку25 повесить (навесить, построить) [КСГРС],
шапку в лохань (вкинуть) [СПП: 81].
♦ «Подъязык» головных уборов и венков в символическом языке
свадьбы маркирует изменение статуса молодоженов. При этом
шапка вообще может стать символической заменой жениха26, ср.
сватать за шапку 'сватать без участия жениха, заочно’ [СРСГСП
3: 120], перм. «Раньше было такое сватовство, сватали девок за
шапку новую. Вот идут к девке, шапку покажут. Если она возь-
25 Влг. калаушка ‘шапка-ушанка’ [КСГРС].
26 Шапка символизирует не только жениха, но и мужчину вообще: к при-
меру, у белорусов было принято в первую брачную ночь подкладывать под
зад молодой шапку, чтоб первым родился мальчик [Володина 2006в: 17].
262
Раздел III
мёт шапку-то, значит уже просваталася. Может, шапка-то краси-
вая, а сам-от как черт. Жениха-то тут нет, только одни сваты»
[ЭССП: 309]. Подобная предметная символика зафиксирована у
боснийцев: отказывая жениху, невеста переворачивает его шапку
[устное сообщение А. В. Гуры]. Таким образом, возвращение
парню шапки — тем паче выбрасывание ее в лохань и т. п. — акт
непризнания в нем жениха.
В случае согласия невеста дарит жениху платок (ср. твер., влг.
дать плат (платы) 4дать согласие на брак’ [СРНГ 7: 256]); тогда
вполне объяснимо, почему отказ выражается образом ушанки
(калаушки) — «неуклюжего» и «мужского» головного убора.
Кроме того, с помощью образов головных уборов может быть
выражена символика обмана, а также конфуза: литер, околпачить,
околпачивать, арх. колпачить 'хитрить, ловчить’ [СРНГ 14: 193],
пск. попасть под шляпу 'оконфузиться, попасть в неловкое поло-
жение’ [СНП: 82]. Семантика обмана близка семантике измены,
«неверного», легкомысленного поведения, ср. влг. калаушка 'жен-
щина легкого поведения’ [КСГРС].
Наконец, образы головных уборов устойчиво связываются с
семантикой битья (в данном случае ударов по голове), ср.: татар-
ку <зимняя мужская шапка> сошитъ 'побить, избить’ [ФСРГС:
186], пск., твер. насорить в шапку 'то же’ [СРНГ 20: 182], пск.
в колпак надавать, надавать колпаков 'ударить по голове’ [Иваш-
ко 1981: 91], а также просторен, дать по шапке (показательно и
антонимическое шапочки не покривить 'не причинить вреда, не
сделать ничего плохого кому-либо’ [СНП: 81]).
светлые пуговицы: влг. светлые пуговицы тебе, светлые пуговицы
пришить [КСГРС].
♦ Пришивание пуговиц — завершающий этап пошива одежды, по-
этому символика этого действия сходна с шитьем армяка. Мотив
светлого, белого цвета появляется как антонимическая реакция на
символику красного цвета, «патронирующего» свадебный обряд
и особенно явно связанного с темой «честной» невесты, в рамках
которой он получает обоснование как символическое обозначе-
ние дефлорации. Показательны бытующие у восточных славян
обычаи перевязывать бутылки с водкой после первой брачной
ночи красной лентой (или же пить красное вино), если невеста
честная, и белой — если нечестная [Толстая 1996а: 196; Байбурин
1993: 86; СВЛ: 20, 58]; у белорусов было принято вывешивать в
этих случаях соответственно красный или белый флаг на воротах,
надевать на нечестную невесту белый хомут [БЭФ: 199]. Ср. так-
же белая косоплётка 'старая дева’ [Ивашко 1981: 85].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
263
ПОСУДА И КУХОННАЯ УТВАРЬ
чайник, котелок: дон. подвесить (прицепить, подвязать) чайник —
«Пришли пасватались, жыних ни-пандравился, Йиму чайник и пад-
весили» [СРДГ 3: 642; 2: 102], навязать котелок [СРДГ 2: 320].
♦ Если в русской фразеологии фигурируют чайник и котелок, то в
инославянских и неславянских языках, помимо этих емкостей, встре-
чаются и другие, причем чаще всего корзина. Ср. польск. dac (dostac)
kosza, rozdawac koszyki, kosza otrzymac [NKPP II: 149], хорв. dobiti
kosaricu [Гура 2006: 273], укр. noeicumu чайника кому [Ужченко:
107], тднести чагник, макитру21 [СВЛ: 107], укр. потягти ковша,
чеш. dat kosem, dostat kosik, словац. dostaf kosom, сербохорв. dati
korpu, нем. einenKorb becommen («получить корзину») [Коваль 1998:
98], ср. англ, to give the basket («дать корзину») [Мюллер: 450], эст.
korwi andma («дать корзину») и korvi saama («получить корзину»)
[Мокиенко 20066:212]27 28 и др.; ср. также кашуб, ostac па kosu («остать-
ся с корзиной») ‘не выйти замуж, остаться старой девой’ [Sychta II:
214]. Символика подобных выражений основана на признаке пусто-
ты, незаполненности: если человек отправляется за какой-то «добы-
чей», то в случае удачи называют, что конкретно он достал (содержи-
мое оказывается важнее вместилища), а в случае неудачи остается
только указать на потенциальное вместилище. Иначе говоря, воз-
вращение с незаполненной, пустой емкостью — возвращение ни с
чем, поэтому образ таких емкостей приобретает «отказный» смысл.
Вообще, идея пустоты имеет негативный символический фон, ср.
широко известные в славянском мире поверья о том, что встреча с
женщиной, несущей пустые ведра, таит опасность, что нельзя качать
27 Укр. макитра ‘большая глубокая глиняная посуда’ [СВЛ: 107].
28 В. М. Мокиенко считает «корзинный» фразеологизм в европейских
языках калькой с немецкой источника [Мокиенко 1999а: 31] — и это убеди-
тельно с ареальной точки зрения. В то же время не исключена возможность и
типологически независимого появления образа пустой корзины, ср. ср.-урал.
вернуться с корзиной ‘вернуться ни с чем’ [ЛЗА] (за этой идиомой, по мне-
нию носителей языка, легко прочитывается определенная ситуация: это мо-
жет быть, скажем, безрезультатный поход в лес за грибами, после которого
незадачливые грибники возвращаются с пустой корзиной). Здесь нет семан-
тики отказа при сватовстве, но выражается близкая к ней идея неудачи. Лю-
бопытно, кстати, что небольшой ассоциативный эксперимент, проведенный
автором этих строк среди 100 студентов филологического факультета УрГУ,
показал, что слово корзина нередко вызывает реакцию пустая (это третья по
частотности реакция; определение полная является двенадцатым в списке), в то
время как лукошко воспринимается полным (первая по частотности реакция).
264
Раздел III
пустую колыбель, и т. п. (ср. существующее не только в народной,
но и в современной городской культуре предписание заполнять
чем-нибудь емкости — шкатулки, кружки, конфетницы etc., которые
преподносятся в подарок).
ОСКОЛОК, черепок: твер. осколка хватить, моек, съесть осколок (ос-
колки) [СРНГ 24: 12], моек, осколочник ‘жених, получивший отказ
невесты’ [Войтенко 1993: 127], костр. чёрепней тебе29 ‘слова, ко-
торые произносит невеста, отказывая жениху’ [ЛКТЭ].
♦ Данные номинации можно связать с таким ритуально-магическим
действием, как битье посуды. Оценка этого действия в народной
культуре (в том числе в контексте свадебного обряда) двойствен-
на: в одних контекстах она может быть позитивной, в других —
негативной [СД 1: 180]. В случае отказов при сватовстве за нега-
тивной символикой осколков стоит такая ситуация: жених наде-
ялся на «целый сосуд», а вместо него получает осколки. Этот об-
раз, очевидно, перенесен в «отказную» сферу из соседней смы-
словой области, связанной с темой нечестности невесты [СД 1:
180-181; РЭФ: 160; БЭФ: 200], ср. перм. ломать (бить) корчагу
‘ритуальное определение „честности44 молодой, когда жениху по-
сле брачной ночи поручалось разбить глиняный сосуд’ [ЭССП:
84], а также блр. гариий трябщъ ‘futuere’ [БЭФ: 254]. Кроме того,
образ разбитой посуды может стать обозначением замужней
женщины или вдовы (т. е. женщин, живших половой жизнью), а
не невесты: олон. битый горшок ‘шуточное или бранное назва-
ние замужних женщин или вдов’ [СРНГ 2: 300]. Наконец, с битой
посудой связана идея ссоры, ср. рус. просторен, посуду бить
‘ссориться; находиться в ссоре’ — «Уж пятый год посуду бьют»
[ЛЗА: Екатеринбург], кувшин лопнул ‘о ссоре’, укр. розбити глека
(глечик, макитру) ‘поссориться’ [Коваль 1998: 161-162].
мутовка: арх. дать мутовку — «Жених едет свататься, а девки уже
знают, что подруга-то их откажет, вот они и привяжут мутовку к
саням. Жених едет, а все уже видят: девка, к которой едет, мутовку
сёдня даст» [СГРС 3: 177], влг. мутовку получил (дали), с мутовкой
поехал (уехал) [ДКРС: 342], делать (дать) мутовку (мутолку) [СРГК
1: 424; 3: 274], — но ср. поварёнку получать ‘получать согласие про-
сватанной девушки’ — «Если откажет невеста — сваты мутовку по-
лучают, а согласится — поварёнку получают» [СРГК 4: 578].
♦ Образ мутовки «овеществляется» в обычае привязывать это ору-
дие к саням неудачливых сватов [PC: 481]. «Отказная» символика
мутовки мотивирована тем, что она представляет собой палку с
29 Костр. чёрепенъ ‘глиняный черепок’ [ЛКТЭ].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
265
сучьями, повторяя «в миниатюре» такие символы отказа, как кол,
сухара, сосна, простейшая борона. Таким образом, мутовка наде-
ляется «эротическими» коннотациями, присущими этим знакам
символического языка народной культуры. Вместе с тем у мутов-
ки сильны собственные коннотации такого рода, вырастающие на
основе образного переосмысления функций этого орудия при за-
мешивании теста; ср., к примеру, пинежскую свадебную песню,
которая построена на параллелизме действия futuere и действий с
мутовкой: «Стряпуха кашу варила, варила, Да мутовкою шевели-
ла, шевелила» [РЭФ: 167]; ср. также загадку о квашне и мутовке:
«Государь мой батюшка Против печки, на лавочке Развалил свою
матушку, Запихал суковатую палочку» [РЭФ: 419].
Отметим, что параллель русским «мутовочным» выражениям
можно усмотреть в украинских и белорусских идиомах, где фи-
гурирует пест: блр. абяпзацъ таукача [Коваль 1998: 93], укр. ма-
когш облззати [Гринченко 2: 400]; ср. также блр. таукач ‘penis’
[БЭФ: 35, 208]. Пест имеет свой специфический символический
контекст, в котором отчетливо звучит «фаллическая» тема [СМ:
454-456; Володина 2006в: 13-14 и др.], но при этом он частично
перекрывает символику мутовки, поскольку оба орудия произво-
дят сходные действия «мешания» и «толчения» (ср. аналогичную
символику маслобойки [СД 1: 495]).
Противопоставление мутовки и поваренки основано на их
функциях: мутовке присуща функция «мешания», в то же время
поварёнка ассоциируется с таким действием, как сварить, имею-
щим положительный результат: сваривать ‘устраивать, улажи-
вать (свадьбу ит. п.)’, сварить ‘помирить, сдружить кого-либо с
кем-либо’ [СРНГ 36: 213]).
Возможно, свой вклад в формирование «отказных» (и вообще
негативных) смыслов, связанных с мутовкой, внесла семантика
производящего глагола мутить. Ср. новг., твер. мутовку пропи-
сать ‘побить’ [СРНГ 19: 30], жарг. мутовка ‘избиение кого-л.’
[БСЖ: 363]; ср. также свердл. мутовитъ ‘хитрить, лукавить’, му-
товка арх. ‘вертлявая, непоседливая женщина’, влг. ‘мотовка’,
иркут. ‘ловкая, склонная к авантюрам женщина’ [СРНГ 19: 30].
ЖИВОТНЫЕ
горностай: влг. горносталя добыть [СГРС 3: 107], — но ср. влг. ку-
ницу добыть ‘получить согласие невесты при сватовстве’ [КСГРС].
♦ Формулы отказа, включающие обозначения животных, имеют,
скорее всего, оттекстовую природу — это «цитаты» из фольклор-
266
Раздел III
ных текстов, функционирующих в свадебном обряде, в которых
невеста и жених нередко представляются в образах пушных зве-
рей — куницы и горностая: «сваты, называя в притче своей не-
весту куницею, себя или жениха выдают за ловцов» [Даль2 II:
261; см. также СВЛ: 79, 82]. Иногда сваты сообщают, что пришли
в дом невесты по куньему следу; мотив охоты на куницу и белку,
олицетворяющих невесту, встречается в свадебных песнях; же-
них в свадебной лирике предстает в виде горностая; в Чернигов-
ском районе обряд выкупа невесты на свадьбе называется кушца.
а родственники невесты, отвозящие приданое, в Вологодской об-
ласти зовутся подкупными, ит. п. [Гура 1997: 210-213; ср. также
Лычева 2002: 17, 53; ЭССП: 246]. Важно и то, что слово куна (куна,
кунка) является широко распространенным в русских говорах и
фольклоре обозначением женского полового органа [СРНГ 16: 89,
93; РЭФ: по указателю]; ср. также блр. чорну куну съирябщъ fiituere’,
чорна куна ‘чщрпдс [БЭФ: 46, 254].
Учитывая символику горностая и куницы, можно понять соот-
ветствующую формулу отказа: «добыча» мужского символа вместо
женского есть получение «не той пары», т. е. неудача при сватовстве.
бык: арх. телушечка не пошла [КСГРС], влг. быка вывезти (привезти,
привести) — «Парень быу Ванька Белоус, он сорок быков привёз, на
сорок первой жениуся» [СГРС 1: 243], — но ср. арх. вывезти телу-
шечку ‘получить согласие невесты при сватовстве’ [КСГРС].
♦ В восточнославянских присловьях, звучащих в речи сватов, гостей
на свадьбе, в диалогах между сватами и родителями невесты жених
и невеста регулярно называются быком и телочкой, бараном и яроч-
кой и т. п. [РЭФ: 174; Самоделова 1998; Трошина 2002: 80-84; СВЛ:
146]. Ср. фрагмент диалога в доме жениха на второй день после
свадьбы: «Телушка моя пропала, телушку свою ищу». — «А те-
лушка твоя у меня в теплом хлеве стоит». — «А где ж теплый ваш
хлев?» — «А вот где теплый хлев: у меня дома в спальне ваша те-
лушка» [Русская свадьба 1: 84]. Оппозиция «бык — телка» исполь-
зуется и при обозначении ситуации неучастия в игре: влг. с быком
(по быка) пошёл; быка домой пригнав илиувёв *‘о парне, который не
участвует в играх’ — но с телушкой домой идет *‘о парне, который
весь вечер плясал на вечеринке’ [Морозов, Слепцова 2004: 176].
Эта образность основана на концептуальной для традиционной
славянской культуры семантической связи «женщина — корова»,
«мужчина—бык», ср., к примеру, коровка смол, ‘невеста’ [СРНГ 14:
353], дон. ‘то же’ [Власкина 2000: 142], телочка ‘о невесте после
сватовства’ [ССЛО: 135], дон. холостой бычок ‘мужчина-импотент’
[Власкина 2000: 142], ср. также сопоставление penis’a с бычьим ро-
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
267
гом в белорусском фольклоре и блр. паствша яна бычка (прабила-
ся на ражок), праиграла сваяво бычка *‘о женщине после дефло-
рации’ [Володина 2006в: 16].
Как и в предыдущем случае, получение женихом мужского
символа вместо ожидавшегося женского говорит о постигшей его
неудаче.
ДЕРЕВЬЯ, ЛЕС
сухое дерево: сухара ‘отказ при сватовстве’ [СРГСУ 6: 78], арх., влг.,
ср.-урал. сухару вывезти (привезти) [ЭИС: 48; КСГРС], сушину3{}
притащить [КСГРС].
♦ Ср. также влг. с корягой домой ушла *‘о девушке, не принимаю-
щей участия в играх’ [Морозов, Слепцова 2004: 176].
Образ сухой жерди может быть приравнен к образу кола,
шеста (см. выше) и имеет присущие им «эротические» коннота-
ции, ср. метафорическое обозначение penis’а через полено в рус-
ском фольклоре [РЭФ: 505].
Важное дополнение несет идея сухости, связанная с представ-
лением о неполноценности, безжизненности, опустошенности су-
хого (см. «Горох»). С помощью образа сухого дерева может быть
выражена также семантика «непарности» в семейной жизни,
близкая по отношению к отказной, ср. старый подовинник30 31 ‘о
мужчине, никогда (или долго) не состоявшем в браке’ [СПГ II: 125];
более отдаленные связи (но все же весьма ощутимые) фиксиру-
ются для семантики нелюдимости, необщительности: сиб. как ле-
сина сухая ‘о нелюдимом, необщительном человеке’ [ЧДФ: 167].
Мотив сухости нередко используется для выражения идеи
неудачи: нести сухыша ‘прийти с утиной охоты без добычи’
[СРГНП 2: 333], арх. сухарь ‘рыбак, вернувшийся с лова без рыбы’
[КСГРС], отошёл, как отсуха ‘ни с чем или с носом’ [СРНГ 24:
330] и др. Интересно, что засвидетельствован и своеобразный об-
ратный ход: для обозначения неудачи на рыбалке (т. е. «сухого
результата») может быть использован образ молодой женщины,
не имеющей пока детей (а потому символизирующей бесплод-
ность усилий), ср. пск. с молодушкой приехал ‘о том, кто совсем
не поймал рыбы’ [СРНГ 18: 229].
30 Арх., влг., ср.-урал. сухара, сушина ‘высохшее на корню дерево’
[СРГСУ 6: 78; КСГРС].
31 Под овинник ‘длинное сухое полено, употребляемое для отопления
овина при сушке снопов перед молотьбой’ [СПГ II: 125].
268
Раздел III
колода: арх. заколодить — «Он сватался, а она заколодила, отказала;
значит, как колода, ни с места» [КСГРС]; ср. также следующий
контекст: перм. «Бывает, что отец отдает невесту „с руками и нога-
ми“, но мать заколодит и никакого подступу не дает» [СРНГ 10: 144].
♦ В образе колоды (литер, ‘короткое толстое лежачее бревно’) осо-
бо значимы взаимосвязанные признаки неподвижности, «лежаче-
сти»/барьера, препятствия, помехи на пути (ср. литер, заколодить
‘о возникновении задержки, остановки, помехи в чем-либо’, про-
сторен. колода ‘о толстом неповоротливом человеке’). Препятст-
вие, остановка, символизируемые колодой, служат антитезой
выходу замуж. Ср. специализированную «антиматримониаль-
ную» семантику глагола заколодить в следующих контекстах:
арх. «Девку взамуж долго не отдают, заколодило ей видно, никто
не сватает» [СРНГ 10: 144]; перм. «Девка взамуж не выходит —
заколодили ее» [СПГ I: 290] (ср. также употребление глагола за-
колодить по отношению к ситуации, когда девушек якобы пере-
стают брать замуж, если на Новый год недоброжелатели прита-
щат в чужое село колоды и оставят там [ТООФРП: 20]).
Отказный» глагол заколодить по своей образной основе пере-
кликается с широко распространенными у славян лексемами и
идиоматическими выражениями, называющими обряд осуждения
безбрачия и его предметный символ (последний имеет самые
разнообразные формы воплощения, но исходно представлял со-
бой, по всей видимости, обрубок бревна), ср. зап.-брян., смол, ко-
лодка ‘палка, украшенная красным кушаком или разноцветными
лоскутками, которую во время масленичных развлечений привя-
зывали к ноге холостого парня (или девушки) как бы в наказание
за то, что он не женился, требуя выкупа деньгами или водкой’,
смол, колодку волочить [СРНГ 14: 158]. Богатейший материал по
обряду «колодки» в разных славянских этнокультурных традици-
ях представлен в специальном исследовании [Агапкина 2002:
203-244], см. также [Антропов 1998]. Слово колодка могло назы-
вать не только предметный символ при обрядовом осуждении
безбрачия, но и символ отказа сватам, ср. белорусский контекст:
«Калодка — палена, у нас клали, як приедуть у сваты. Клали у
павозку яму, як не хоча деука ити замуж» [Володина 2006в: 22].
Говоря об образном наполнении колоды, отметим еще одну
деталь: колода — это, как правило, сухое дерево, поэтому данный
образ сходен с образом сушины или сухой гороховой соломы (см.
«Сухое дерево, горох»).
дуб: дуб ‘как ответ свахе — отказ’ (береза — согласие) [Даль2 I: 83];
ср. также пск. береза ‘ответ невесты, означающий согласие на брак’
[СРНГ 2: 251].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии 269
ель: ель ‘как ответ свахе — отказ’ [Даль2 I: 83].
сосна: влг., калуж., свердл., твер. Ель, аль сосна! ‘да или нет, согласие
или отказ’ (влг. «Возвратившуюся со сватанья сваху спрашивают: „Ель
или сосна!“ Ель значит согласна (невеста), сосна — дело расстрои-
лось»; свердл. «Приходит дочь из бани, отец спрашивает: — Ну что,
дочь, сосна или ель! — Сосна, батюшко... Третья дочь поцеловала
солдата в бане и сказала отцу — ель. Ее выдал замуж за солдата — Ну,
солдат: сосна или ель! — Ель «Энчуков с примеч.: Условный язык —
вышло дело или не вышло>») [СРНГ 8: 352; Даль21: 83].
♦ Согласно В. И. Далю, слова дуб, ель, сосна используются для вы-
ражения отказа при сватовстве, в то время как слово береза симво-
лизирует согласие. «Согласная» символика березы и «отказная»
дуба связана с тем, что в славянских верованиях береза связывает-
ся с женским началом и противопоставляется дубу (реже другим
деревьям) как мужскому символу. В русских приговорах при сва-
товстве дуб и береза символизировали жениха и невесту: «У тибе,
примерно, есть бярёза, а у нас дуб. Не стали б их умести случать?»
[СД 1: 156]. Ср. аналогичную символику яблони, которая проявля-
ется, в частности, в севернорусском пожелании тому, кто едет сва-
таться: «Яблоня в сани!» [Узенева 2003: 285]. Такие представления
находят поддержку в грамматическом роде названий деревьев. Ис-
пользование дуба как «отказного» символа основывается на том же
механизме, который наблюдается в случае с горностаем или бы-
ком: мужской символ вместо женского означает отказ наделить
жениха «женской парой».
Что касается такого символа, как ель, то он имеет более «тем-
ную» мотивацию. Выступая в паре с березой, ель приобретает «от-
казную» символику, очевидно, по принципу «не береза». Возможно,
определенную роль здесь играют отмеченные в славянской народ-
ной традиции представления о «бесплодности» ели (к примеру, ель
избегали держать у домов молодоженов, чтобы те не остались без-
детными) [СД 2: 184]; кроме того, ель имеет настолько сильную
«траурную» символику, что сопряжение образа елки и мотива сва-
товства может оборачиваться представлением о смерти: арх. ёлку
сосватать, жениться на ёлке ‘умереть’ [СГРС 3: 315, 356].
Однако указание на «отказную» символику ели единично; ча-
ще ель как раз выступает в «положительном» значении (при нега-
тивной семантике «сосны»). В этом случае можно предположить
следующую историю данных символов: слово ель служит эвфеми-
стической заменой глагола есть (в форме 3 л. ед. ч. настоящего
времени), ср. калуж., твер. ель ‘есть, имеется’ — «А что, хозяин,
сено-то есть? — Ель, батюшка» [СРНГ 8: 352], — а сосна появляет-
270
Раздел III
ся как ассоциативная механическая реакция. Эта шифровальная
цепочка, кажется, свидетельствует о «внутриязыковом» происхож-
дении данных номинативных фактов32.
Наделение сосны «отказным» смыслом происходит, очевидно,
не только по принципу «не ель», но и потому, что образ сосны
может принимать на себя те коннотации, которые присущи об-
разам сухого дерева, кола, шеста и проч. (см. выше). Об этом го-
ворит возможность самостоятельного функционирования данного
образа (вне пары с елью) — например, использование его для
обозначения ситуации, когда девушку не пригласили участвовать
в танцах или играх, ср. влг. волочить сосну — «Ну, сёдни ко сто-
вбушке не созвали, волоки домой сосну с кореннями, с прутья-
ми!» [Морозов, Слепцова 1993: 7], в задор <против сучьев> сосну
или осину поволокла *‘о девушке, не принимающей участия в иг-
рах’ [Морозов, Слепцова 2004: 176].
рыжик: влг. рыжиков нажарить [КСГРС].
♦ В народных представлениях славян грибы обладают эротической
символикой, при этом в связи с интересующей нас темой наибо-
лее значимо то, что с грибами соотносится мотив супружеской
измены [СД 1: 550]. Эти мотивы находят отражение во фразеоло-
гии: арх. промораживать рыжики, солить рыжики на пост ‘шу-
точный обряд, когда обручившиеся жених и невеста целуются
при катании с гор на санях’, рыжики ломать ‘целоваться (после
падения при катании с гор на санях’), рыжик ‘о нарушителе вер-
ности в любви, дружбе’ [СРНГ 35: 3^5}, рыжиков (рыжики) дать
(наделать, наставить, поднести и др.) ‘изменить в любви ко-
му-либо’, рыжики жечь (печь) ‘делать известной измену одного
из влюбленных, сжигая бумагу, гребенку в присутствии всех’
[СПП: 68], новг. сделать рыжики (грибы), наварить (нажарить,
насолить) грибов, сварить грибов ‘изменить кому-л. в любви’
[СРНГ 36: 213, НОС 5: 127; 10: 32] и др.; ср. также текст частуш-
ки, который приводится как иллюстрация к слову лапти ‘измена
в любви’: «Сявони рыжыки хлебала с беленькай тарелачки: прие-
хал дроля на пабыфку, сразу лапти девачки» [ПОС 16: 505].
Из всех грибов язык чаще всего отбирает именно образ рыжи-
ка, что должно получить дополнительную мотивировку. Вероят-
32 В то же время некоторая внеязыковая поддержка для «согласной»
символики ели имеется: у восточных славян ель могла использоваться в ка-
честве свадебного деревца (ее устанавливали в доме невесты с последующим
выкупом деревца женихом; втыкали в свадебные хлебы, в крышу или ворота
дома, где живет невеста, и т. п.) [СД 2: 186; см. также ЭССП: 227-228].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
271
но, значимым оказывается признак красного (рыжего) цвета. Этот
цвет не только имеет весьма абстрактную символику, связанную
с «патронированием» свадебного обряда, но и ассоциируется с
румянцем от стыда (ср. контекст к идиоме рыжики жечъ\ «Вот
зажгут гребенку на гулянке, ана ярка гарит, и у девки или у маль-
ца шшоки гарят ат стыда, што им жгут рыжики» [СПП: 68]; ср.
также вят. рыжика схватить ‘покраснеть, покрыться румянцем
(о лице)’ [СРНГ 35: 305]).
Немаловажно и то, что с образом гриба в русском языке связыва-
ется представление о неудаче, ср. простореч. съесть гриб ‘не полу-
чить, не добиться ожидаемого, обмануться’ [ССРЛЯ 3: 396], ниже-
гор., самар. гриб съесть ‘потерпеть неудачу в чем-н.’ [СРНГ 7: 139].
* *
Данный кодовый набор в своих основных чертах соответствует
кодовому «оснащению» славянской свадьбы в целом [см. Гура 2003;
Гура 2006; Байбурин 1993 и др.].
При осуществлении семантической реконструкции «отказной»
лексики, обнаруживающей многочисленные внеязыковые (культур-
ные) и внутриязыковые связи, мы пытались ввести каждый изучае-
мый факт в определенный ряд (см. работу С. М. Толстой, где пред-
ставлена типология парадигм (рядов, систем), в которые входит каж-
дый культурный термин [Толстая 1989]). Весьма важным был поиск
мотивационных параллелей — лексических фактов одного или
разных диалектов и языков, которые образованы на основе одного
мотивирующего кода и имеют сходные лексические значения.
Между производящими основами и лексическими значениями
слов, объединенных мотивационным параллелизмом, устанавливают-
ся разные типы отношений. Наиболее прозрачны случаи, когда на-
блюдается мотивационное и семантическое тождество {осколок = че-
репенъ, кол = шест, гуща = опара = бут ‘предметные символы сва-
дебного отказа’). Менее очевидны (но интересны и показательны) си-
туации, когда мотивационному тождеству сопутствует семантическое
варьирование. Иными словами, изучаемые языковые единицы вписы-
ваются в одно мотивационное поле с лексическими фактами, которые
пользуются тем же или сходным номинативным материалом для вы-
ражения близких, но не тождественных смыслов. Номинативная общ-
ность дает возможность установить связи между различными регу-
лярно повторяющимися смыслами и, тем самым, обнаружить опреде-
ленные акценты в семантике анализируемой группы фактов: по сути
дела, семантика «соседних» моделей создает фон, на котором рельеф-
нее очерчивается смысловой потенциал данной модели. Для модели
272
Раздел III
«отказать при сватовстве» обнаруживаются следующие «соседи»
по мотивационному полю (далее приводится список моделей;
в качестве иллюстраций дается только русский материал):
изменить, нарушить верность в любви; испытать измену в любви (о
парне или девушке); не брать девушку замуж (об ухаживавшем
парне): затащить борону на крышу, получить блин, лапти сде-
лать (сплести), репни поесть, дать рёдчину, рыжиков (рыжики)
дать (наделать, наставить, поднести), наварить грибов, на ве-
нике прокатить, головешку дать (получить), головешки соби-
рать, сгорел овин, повесить топор (колун), наставить рога, квас,
репня, тыквина ‘измена в любви’, шаньга непомазана ‘об
изменившем парне’;
невеста, утратившая девственность; женщина, жившая половой
жизнью; распутница: дырка в блину, битый горшок, калаушка,
мутовка,
не жить половой жизнью, быть холостым: лапоть подвязала, ве-
шать борону ‘осуждать неженатого парня’, белая косоплетка
‘старая дева’, черничка ‘отказавшаяся от замужества девушка’,
старый подовинник ‘старый холостяк’;
нелюдимый, необщительный человек: лесина сухая;
обманывать, вводить в заблуждение: колпачить (околпачить), лап-
ти сплести, обувать кого-н. в чертовы лапти, гороховину гре-
сти, мутовитъ;
бить, колотить: насорить в шапку, дать по шапке, татарку сошитъ,
надавать колпаков, повойник поправить, получить блин, блинка-
ми кормить, печь березовые блины, преснух надавать, дать бо-
роновку, мутовку прописать, задать мутовку;
ссориться; вызвать ссору, прекращение отношений; сделать непри-
ятность кому-либо: посуду бить, кувшин лопнул, насыпать на
хвост соли;
воспрепятствовать движению, способствовать задержке, остановке:
заколодить;
неловкий, нерасторопный человек: лапоть, колода;
терпеть неудачу, провал в каком-либо деле, остаться ни с чем:
съесть гриб, остаться на бобах, вернуться с корзиной, ни лаптя
не привезти, дело блин блином вышло; отойти, как отсуха; дело
пахнет керосином; насыпь соли на хвост ‘говорится при неудаче’;
трудности, хлопоты: мурцовка;
отстранять, игнорировать (в развлечениях, танцах и др.); быть от-
страненным(-ой): простокиша тебе, лапти вешать (повесить),
уйти с сайдой, с гороховиком уйти, яблошника наесться, с бы-
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
273
ком (по быка) пойти, быка домой пригнать, волочить сосну,
петровская кила ‘символ осуждения тех, кто не участвовал во
встрече Петрова дня’;
проигрыш в игре: кила',
отставать от других при выполнении сельскохозяйственных работ:
закалить, килу волочить (принести)',
вернуться без добычи с охоты или рыбалки: нести сухыша; сухарь
‘рыбак, вернувшийся с лова без рыбы’.
В этом списке выделяются три доминантные линии — измена,
неудача, обман.
Связи между отдельными моделями проявляются и на глубинном
символическом уровне: к примеру, перекличка темы сватовства и темы
охоты (точнее, отказа при сватовстве и неудачной охоты) подтверждается
также тем, что невеста обозначается как пушной зверь — объект охоты.
Помимо установления внутриязыковых мотивационных связей,
данный перечень небезынтересен для характеристики народной картины
мира. Особенно показателен спектр социальных неудач, выявляющий
сферы народной жизни, где наиболее важна результативность (в полевых
работах, при сватовстве, на охоте, на танцах, в играх и обрядах), и свиде-
тельствующий о символическом уравнивании удачи/неудачи в «реаль-
ной» жизни и при ее моделировании в игровой или обрядовой форме, а
также об общинном характере разных видов деятельности, вследствие
чего ее результаты обретают особо ценностное звучание.
Системные отношения в рассматриваемом лексическом про-
странстве можно установить также на основании сквозных моти-
вов, которые объединяют различные номинативные единицы, при-
надлежащие к одному или разным тематическим кодам (при этом в
мотивационном значении одной номинативной единицы могут со-
вмещаться разные мотивы).
Сквозным мотивом является гендерный (мужское вместо ожи-
давшегося женского), который возникает в результате механизма ин-
версии «положительного» символа, означающего согласие
на брак: а) «мужской» элемент в оппозиции парных растительных
или животных символов — горностай, бык, дуб', б) мужская одежда
вместо женской — калаушка, шапка, армяк.
В основе мотива негативной оценки лежит другой механизм —
замена атрибутов свадебного обряда, снижение их „ран-
г а“: а) ненарядная, некрасивая одежда вместо нарядной — калаушка, ар-
мяк', б) постная (несладкая, нежирная) еда вместо праздничной пищи —
черные щи, ритатуй, репа, редька, горох', в) головешка вместо свечей;
г) керосин, скипидар или квасная гуща вместо вина, кваса.
274
Раздел III
Перечислим прочие сквозные мотивы:
отказ, «посыл» с помощью оскорбительного намека
на гениталии («фиг тебе!», «пошел ты на...!») — кила, боро-
на. кол. шест, гвоздь, клин. шило. вилы, рогатина, мутовка, суха-
ра. колода, сосна, грибы, репа, редька (в этих символах соответ-
ствующий намек подвергается шифровке, которая имеет разную
степень глубины; возможно, сюда же ритатуй и блины)'.
выпроваживание («иди отсюда!», «ступай вон!»): а) снаряжение
в путь — лапти, шапка, калаушка, армяк, пуговицы', б) действия,
направленные от себя, вовне — вилы, веник'.
устрашение, угроза: а) острое, колющее — гвоздь, шило, вилы,
рогатка, кол, колун', б) соленое, горькое, едкое; сильно пахнущее —
солоник, редька, керосин, скипидар'.
недостаточность/отсутствие/лишение: а) пустое / имею-
щее полую сердцевину или не имеющее начинки — арбуз, тыква,
кабачок, блин, калитка, репа, редька, черные щи, ритатуй. чайник,
корзина', б) нецелое, разбитое — осколок, черепок; в) что-либо
уже использованное, отработанное — бут, опара, гуща, головеш-
ка; г) сухое — сухара. сушина, гороховина;
неподвижность: колода.
Для изучаемых фактов мотивационные параллели могут быть об-
наружены и на внеязыковом (собственно культурном) уровне. Много-
численные примеры приводились выше; прокомментируем подробнее
один из них. Фразеологизм осколка хватить ‘получить отказ невес-
ты’, как говорилось выше, «читается» в контексте символики разби-
того, дырявого, сломанного и т. п., характерной не только для «отказ-
ной» темы, но и для темы нечестной невесты или женщины, жившей
половой жизнью (при этом нельзя забывать, что битая посуда в сва-
дебном контексте может иметь и положительную символику33): це-
лый горшок, кувшин, стакан в славянских народных представлениях
мог символизировать девственность, а битый, дырявый сосуд, сосуд
без дна, осколок, черепок, решето, дырявые чоботы, дырявая ложка —
утраченную девственность (нечестная невеста должна была, к примеру,
носить воду с помощью решета или сосуда без дна) [Толстая 1996а:
33 Битье посуды осмыслялось как пожелание счастья новобрачным, ас-
социировалось с дефлорацией, родами [СД 1: 180]. Кроме того, черепки от
битой посуды могут выражать идею множества—» плодовитости (ср. арх.
приговор «Сколько черепья, столько ребят молодым!» [СМ: 181], а также
пермский обычай подкладывать осколки от битых горшков под подушку
брачной постели молодоженов [ЭССП: 219]).
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
275
196-198; Коваль 1998: 105-106; СВЛ: 62, 83, 155, 184; СД 1: 180-182;
ЭССП: 201-202, 240-241]. Эта же символика используется для осуж-
дения девушек, не вышедших замуж в срок: например, в Польше пар-
ни в ночь на Пепельную среду разбивали горшки о стены домов, где
жили такие девушки [Агапкина 2002: 206]. При этом характерно, что
тема нечестной невесты чаще выражается невербальными средствами
(возможно, вследствие табуирования соответствующей лексики), в то
время как «отказная» тема — вербальными.
Итак, каждый символ входит в различные смысловые ряды, по-
этому при осуществлении семантической реконструкции учитывают-
ся разнородные мотивационные импульсы. К примеру, «отказная»
семантика выражения дать мутовку, как было показано выше, имеет
сложный мотивационный генезис. Во-первых, здесь проявляются
символико-культурные мотивы: при переосмыслении внешнего вида
(палка с сучьями) и функции мутовки (мешать тесто) она наделяется
фаллической символикой, которая в данном прагматическом контек-
сте прочитывается в связи с намерением показать жениху своего рода
«кукиш». Во-вторых, на символическое значение мутовки оказали
влияние внутриязыковые факторы: народно-этимологическое сбли-
жение с дериватами глагола мотать (мотовка и др.) и ремотивация
отношений мутовка — мутить, при которой актуализируются пере-
носные значения производящего глагола (‘хитрить, обманывать’).
В-третьих, имеет место фактор системных связей: мутовка выступает
как «антоним» поварешки (последняя связывается с действием варки,
первая — с действием «мешания») и как «синоним» бороны, сухары,
кола (она похожа на эти предметы). На уровне межъязыковых лин-
гвокультурных параллелей «синонимом» мутовки становится пест.
Мотивационная специфика изучаемой группы лексических фак-
тов состоит также в том, что здесь вполне допустимо выражение од-
ного смысла антонимичными единицами, ср., к примеру, лапти спле-
сти И лапти расплести, армяк скроить И не пошить армяк. Думает-
ся, дело тут скорее не в забвении исходного варианта (что, впрочем,
тоже возможно), а в характерной для культурной символики своеоб-
разной энантиосемии, возникающей вследствие повышенной «знако-
вости» символического языка, когда однажды найденный знак легко
мигрирует в разные зоны определенного смыслового поля. При этом
для каждого из полюсов энантиосемичной пары может быть найдена
своя мотивировка.
Весьма типична для изучаемой лексики ситуация, когда одна
языковая единица (или ее дериваты) выражает противоположные
смыслы, ср. сухара ‘отказ при сватовстве’ // сухарница ‘любовница’
[СГРСУ 6: 78], сухаритъ, сухаритъся ‘дружить (о молодом человеке
276
Раздел III
и девушке), испытывать взаимное чувство любви’, сухарник ‘ухажер,
возлюбленный’ [СГСЗ: 462] и т. п.; заколодить ‘дать отказ при сва-
товстве’ И заколодить ‘привязать к себе, влюбить в себя’ [ПОС 11:
252-253] (ср. также такое объяснение масленичного обычая с колод-
кой. данное носителем традиции: брян. «Калодку привязывають мала-
дым, шоб жаних привязался и замуж вышла деука» [Агапкина 2002:
237])34. Здесь мы вновь наблюдаем «кружение» сходных знаков (со-
ставляющих энантиосемичную оппозицию) в рамках одного смы-
слового поля, при котором тоже возможна известная мотивационная
автономность элементов оппозиции. Так, образ сухары и сушины в
связи с ситуацией отказа мотивирован, как говорилось выше, пред-
ставлением о неполноценности, безжизненности, опустошенности
сухого (ср. также литер, всухую ‘с сухим счётом, не получив ни од-
ного очка (в игре); проиграв’, курск. насухо ‘не давая вознагражде-
ния, без подарков и угощения’ [СРНГ 20: 208], влг. сухарём ‘порож-
няком, без груза и пассажиров, без ноши’ [КСГРС] и др.)35 — здесь
воплощается «результат» высыхания. В то же время обозначения
возлюбленных с помощью слов сухарник, сухарница и т. п. мотиви-
рованы «процессуально»: во-первых, высыхание, «иссушение» пло-
ти связано с любовным томлением и вообще со всей сферой любов-
ных переживаний (см. соответствующую славянскую лексику в
[Толстая 20046: 387-388]); во-вторых, высыхая (особенно под дей-
ствием огня, символически связанного с темой любви), предметы
«присыхают» друг к другу, ср. литер, присушить ‘заставить полю-
бить кого-либо, привязать к кому-либо’.
Учет описанных выше мотивационных отношений позволяет ин-
терпретировать «темные» однословные лексемы со значением ‘дать
отказ при сватовстве’. Так, для арх. глагола калежитъ [КСГРС], фор-
мально соотносимого в системе севернорусских говоров с рядом омо-
нимичных существительных (калега ‘брюква’, ‘мокрый снег’, ‘невод
для ловли мелкой рыбы’, ‘густой лес’ [КСГРС]), следует выбрать в
качестве производящего калега ‘брюква’. Брюква «вписывается» в
ряд с репой и редькой — и, соответственно, «брюквенная» номинация
возникает как развитие «овощной» темы. Такое развитие могло про-
изойти механически, как «холостое» скольжение по ассоциативному
34 Ср. близкую пару: заламывать ‘сватая девушку, получить согласие на
брак’ // заламывать (дорогу) ‘повалив дерево, преграждать путь (как прави-
ло, свадебному поезду)’ [ПОС 11: 284-285].
35 Подробный перечень случаев, когда у дериватов корня *sux- в разных
славянских языках появляется семантика пустоты, бесплодности усилий,
тщетности, отсутствия чего-либо, представлен в [Толстая 20046: 391-394].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
2Т1
ряду, однако для него имеются и смысловые стимулы: брюква, как и
другие овощи, является постной пищей; образ брюквы — опять-таки,
среди других «овощных» образов — может быть использован для ме-
тафорического обозначения гениталий и воплощения идеи удара, а
семантика удара, битья, колочения, как было показано выше, связана
отношениями выводимости с семантикой отказа.
Архангельское слово кондыритъ [КСГРС], вероятно, производно
от арх., влг. кондыръ ‘козырек’, ‘шапка с козырьком’ [КСГРС]; данная
лексема реализует ту же модель, что и формула калаушку сошитъ
(т. е. «получить по шапке»).
Вологодский глагол отшбйдатъ [КСГРС], обозначающий не толь-
ко ‘отказать при сватовстве’, но и действие отказа вообще, может
быть соотнесен с влг. шдйда (шёйда) ‘пара веников, связанных для
просушки’, ср. также влг. шёйдатъ ‘ломать ветки для веника’, шдй-
датъ ‘вязать веники’ [КСГРС]. Тогда отшдйдатъ — буквально
«разъединить, отделить друг от друга веники». Этот смысл вполне
достаточен как мотивационная база для отказного значения, ср. вет-
ку заломить ‘отказаться от чего-либо’ [АОС 4: 18]; но можно при-
нять во внимание также разнообразные культурные функции веника,
тесно связанные, в частности, со свадебным обрядом: так, показате-
лен вологодский ритуал собирания невестой в охранительных целях
веника, предварительно разобранного по прутику [Виноградова,
Толстая 1993: 21], — тогда за разламыванием веника необходимо
признать негативный смысл. Вероятно, в данном случае определен-
ную значимость имеет и разрушение парности веников: о важности
этого символического действия говорит, к примеру, функциони-
рующий в рамках свадебного обряда полесский обычай связывать
попарно сваренные после первой брачной ночи вареники, начинка
которых символизировала честность/нечестность невесты [Толстая
1996а: 200] (о манипуляциях с парными предметами в контексте
свадебного обряда см. также в [Агапкина 2002: 234]). Ср. использо-
вание пары веников в пермском свадебном обряде: «Невесту в баню
отправляли ходить по веникам. Дружок веников кладут. Она на один
веник встает, потом на другой, так и идет» [ЭССП: 207] Не исклю-
чено также, что внутренняя форма глагола отшойдатъ может быть
прочитана как «отхлестать веником» — в этом случае реализуется
описанный выше переход ‘бить, колотить’ > ‘отказывать’.
Итак, «культурная этимология» должна учитывать специфику
своего объекта (лексики обрядов и верований), который имеет бога-
тые системно-языковые связи и не менее богатую культурную симво-
лику, прочитываемую на невербальном уровне.
278
Раздел III
3.2. ИВАН ДА МАРЬЯ
В Вологодской области ТЭ УрГУ зафиксировала лексемы ива-
нушка (ванъка, в ан юшка, иванушкд) ‘дожинальный сноп’36 и марь-
юшка (манъка, машутка) ‘пучок березовых (реже ольховых) веток,
которым выгоняли мух и подметали избу перед внесением дожиналь-
ного снопа’ [СГРС 2: 21-22; КСГРС]. Эти лексические единицы,
представляющие несомненный этнолингвистический интерес, не от-
мечены ни в одном из известных диалектных словарей; отсутствуют
они и в подробном исследовании О. А. Терновской, посвященном лекси-
ке обрядов жатвенного цикла и основанном на обширной этнографи-
ческой и лингвистической литературе [Терновская 19776: 77-131].
Ниже предлагается попытка семантической интерпретации наимено-
ваний ритуальных предметов севернорусского дожинального обряда
Интересующие нас лексемы имеют достаточно четкий замкнутый
ареал, вписывающийся в зону Белозерья: юго-восточная часть Бело-
зерского района (Бечевинский, Глушковский, Тулинский сельсоветы)
и граничащая с ней юго-западная часть Кирилловского района (Ива-
ноборский, Мигачевский сельсоветы) Вологодской области.
Приведем некоторые из содержащихся в [КСГРС, СГРС] контек-
стов, описывающих обрядовые действия с иванушкой и марыошкош.
«Последнюю горсть в полосе оставляли на иванушка, а к нему веничек
из березы делали — марьюшку. Месяц они в избе стоят» [Кир, Домни-
ково]; «Иванушку сожнем, пояском аленьким подвяжем, в избу несем.
Веток березовых наломам в избе подмести — этта марьюшка. Потом ей
платочек этакой детишки ладили да с иванушкой в угол ставили, стоя-
ли они, как парень с девкой» [Бел, Каргулино]; «Последнюю горсть ов-
са завьют, наверх крестик из овса: ето иванушка; из ольхи веничек сде-
лают — ето марьюшка. Марьюшкой обметают все да приговаривают:
Хозяину — сила,
Нарядчику — кила,
Ваша очередь отошла,
А наша подошла44.
„Коню голова,
А Илье — борода,
Кыште, мухи, вон,
Теперь Иванушка в дом.
Иванушку и марьюшку в угол ставили до Покрова, в Покров скотину
закармливают, по горстке дают» [Кир, Никольское]; «Принесут ва-
нюшку и машутку домой, машуткой все обметают и приговаривают:
„Все мухи долой, Пришел хозяин домой44. Ванюшка до Покрова и
стоит, скотине скормят» [Кир, Пестерево]; «Последний сноп на вань-
36 На Русском Севере в последнюю очередь обычно производилась
уборка овса, поэтому дожинальным снопом был последний овсяный сноп.
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
279
ку дожинали, потом этого ваньку в дом вносили, все серпы в него
втыкали» [Бел, Задняя]; «Иванушка свяжут, а потом девки колоски из
него таскали, гадали о женихе» [Бел, Чикиево]; «Манька — веник бере-
зовый, всё дома им опахивали, пыль снимали» [Бел, Орлово] и т. п.
Воссоздаваемые контекстами элементы структуры дожинального
обряда — придание последнему снопу антропоморфного облика, вты-
кание в него серпов, гадание по вытягиваемым из этого снопа колось-
ям, установка снопа в переднем углу, изгнание мух с помощью специ-
ального веника перед (после) внесением снопа в избу, скармливание
его скотине в праздник Покрова Богородицы (1 октября) и т. д. — ха-
рактерны для севернорусской зоны (см. об этом в [Ефименко 1877:
143-144; Зеленин 1991: 69-74; Пропп 1963: 61-67; СД 3: 448-451;
Терновская 1977а: 221-227; 19776: 92-94, 111-115; 1981: 141] и др.).
Специфической является такая деталь данного ритуала, как параллелизм
некоторых действий со снопом и с веником (придание антропоморф-
ного облика, установка в переднем углу), который объясняется пере-
носом действия с одного ритуального предмета на другой. Очевидно,
перенос осуществляется в направлении сноп —> веник: антропоморфиза-
ция снопа производится не только и не столько на манипулятивном
(подпоясывание), сколько на вербальном уровне (словесно-формуль-
ная традиция, как известно, наиболее эффективно консервирует ар-
хаику): ср. обращения к снопу типа Иванушка, пожалуй в избу [Бел,
Чикиево]; речевые формулы, содержащие олицетворение: последний
Ванька пришел [Бел, Бакино], ой, сегодня мы Иванушка схватим [Бел,
Десятовская]37 38; наконец, чествование его как хозяина дома: Все мухи
долой, пришел хозяин домой3*.
В то же время по отношению к венику вербальный ряд в ритуале
не представлен (за исключением имени этого предмета), а на уровне
манипуляций может проявляться некоторая вариативность: 1) веник не
ставится вместе со снопом в передний угол; 2) веник разрушается, от-
дельные ветви втыкаются в сноп: «Иванушка на божницу ставили, а
марьюшку по веточкам раздирали и в него втыкали» [Бел, Силькино];
3) веник вообще не используется как ритуальный предмет, но «память»
о нем сохраняется в традиции украшения снопа березовыми ветвями:
37 Ср. идиомы типа схватить волка, петуха, зайца, козла ит. и. ‘сжать
последние колосья’, широко распространенные в языках народов Западной
Европы [Фрэзер 1980: 495-514].
38 О. А. Терновская указывает, что упоминаемые при изгнании мух хо-
зяева «оказываются в равной мере реальными (хозяева, возвращающиеся с
полевых работ) и мифическими (хозяин — сноп, ветвь, полевой, домовой)»
[Терновская 19776: 93].
280
Раздел III
«Кончишь жниву — ваньку свяжешь, бересту натыкаешь, березки — и
поставишь его в хату в передний угол» [Бел, Ямская]. Вариативны соб-
ственно обрядовые функции веника: он участвует и в ритуале изгнания
мух, и в ритуальном метении дома (эти ритуалы могут объединяться).
Итак, обрядовые действия со снопом достаточно структурирова-
ны и устойчивы, чего нельзя сказать о манипуляциях с веником. Это
естественно: сноп является главным «действующим лицом» обряда, а
веник — второстепенным. Функциональная «второстепенность» ве-
ника подтверждается предположением О. А. Терновской о том, что в
северных областях, где жатва оканчивается позднее, обычай выгонять
мух при дожинках мог появиться вследствие смешения двух обрядов:
дожинального обряда и ритуала похорон насекомых, который по всей
великорусской территории приурочивался к 1 сентября по ст. ст. —
дню Симеона Столпника [Терновская 1977а: 226-227]. Поэтому дей-
ствия с веником могут и вовсе забыться, ср. утверждение одного из
белозерских информантов о том, что двойное наименование ванъка с
манъкой относится именно к снопу (об участии веника в ритуале ин-
формант не помнит). Вероятно, в силу этих же причин названия снопа
на белозерской территории отмечены 23 раза, а веника — 7 раз.
Закончив описание обрядовых действий, которое понадобится
для дальнейших рассуждений, перейдем к интерпретации названий
ритуальных предметов.
Практика именования ритуальных предметов дожинального об-
ряда собственными именами (как парными, так и одиночными) в
русских говорах, кажется, не имеет широкого распространения.
Единственная известная нам пара отмечается на севере Смоленщи-
ны и функционирует в дожинальном обряде, подробно описанном
О. А. Пашиной: последний овсяный сноп назывался Овсей (он был
одет в штаны и рубаху), а ржаной сноп именовался Солохой (ее на-
ряжали в сарафан, рубашку и платок) [Пашина 2000: 87]. В данном
случае мужское имя получено путем онимизации слова овес. а жен-
ское «оживляет» грамматический род слова рожь и, возможно,
«притягивается» к лексеме солома39.
Если истоки имен смоленской пары ясны, то как объяснить при-
чины наделения белозерского снопа и веника именами Иван и Марья!
39 Здесь отражено характерное для русской территории противопостав-
ление озимого (ржи) и ярового (овса) хлебов как женского и мужского начал.
Такое осмысление этих сельскохозяйственных культур воплощается и в том,
что рожь называли матушкой, а овес батюшкой', в некоторых зонах из ржи
плели косу, а при уборке овса оставляли на поле бороду из колосьев [Тернов-
ская 1976: 52; СД 1: 232; Пашина 2000: 87].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
281
Пара Иеан-да-Маръя (как в ономастическом, так и во вторичном,
апеллятивном употреблении40) не раз привлекала внимание этнолингви-
стов. Чаще всего этот номинативный бином связывался с образами
купальской обрядности. Известно, что в восточнославянских купальских
обрядах выступает имеющий двойную окраску цветок иван-да-марья,
в который, по легенде, были превращены брат и сестра, совершившие
инцест (сводку соответствующих языковых и фольклорных фактов
см. в [Колосова 2003: 75-80; Kolosova 2004]). По мнению Вяч. Вс. Ива-
нова и В. Н. Топорова, пару Иван-да-Маръя можно возвести к более
древней паре типа Купала-да-Марья и восстановить на этой основе
мотив брачного поединка огня и воды [Иванов, Топоров 1974: 230].
Рассматривались также другие трансформации купальских образов и
сюжетов, которые проявляются, к примеру, в названиях божьей ко-
ровки типа иван, иван-да-марья [Терновская 19886: 70; Утешены 1977:
26], аиста [Толстой 1984: 115], в именах участников строительного
ритуала (операция соединения бревен в венец связывается в народном
сознании с сюжетом инцеста) [Байбурин 1983: 210-211]. Таким обра-
зом, Иван и Марья не только являются главными героями одного из
важнейших календарных ритуалов41, но и выступают в ряде транс-
формаций, относящихся к различным предметным сферам, что под-
черкивает архетипическую важность этих персонажей в мифологиче-
ской картине мира.
1. Попытаемся применить подобный «архетипический» под-
ход к названиям интересующих нас ритуальных предметов. В рамках
этого подхода следует установить имена персонажей, которые стоят
за обозначениями снопа и веника. Специфика реалий подсказывает,
что их названия наиболее логично рассматривать в двух плоскостях,
в двух сопоставительных рядах: календарном (хрононимическом) —
в связи с обозначениями самих ритуалов и в предметном — в ряду на-
именований сакральных предметов как дожинального, так и других
календарных обрядов.
40 Заметим, однако, что в интересующем нас случае различия между
ономастическими и апеллятивными единицами (коль скоро последние явля-
ются обозначениями сакрально значимых, а потому принципиально индиви-
дуализированных предметов) практически снимаются.
41 Отметим, что западноевропейские аналоги интересующего нас номи-
нативного бинома также могут быть связаны с ритуалом летнего солнцестоя-
ния. Ср., например, португальскую пару Жуан и Мария — мужчина и жен-
щина, которые в ночь накануне праздника Иоанна Крестителя (= рус. Ивана
Ку палы) исцеляли больных детей [КОО: 50].
282
Раздел III
Обратимся к линии календарных сопоставлений. Воз-
можность таких сопоставлений обусловлена существованием устой-
чивых метонимических моделей «наименование ритуала» <-> «назва-
ние ритуального предмета» и «наименование ритуала» <-> «имя мифо-
логического персонажа», что позволяет названию праздника высту-
пать одновременно в двух ипостасях — как хрононим и как имя ми-
фологического персонажа, иногда воплощаемого в виде ритуального
предмета, ср., например, коляда ‘рождественский сочельник’ —> ‘пу-
чок колосьев, вносимых на Рождество в дом’, ‘мифологический персо-
наж’ [Толстая 1989: 226]. Будучи «подвижным» ритуалом, зависящим
от меняющихся обстоятельств (в первую очередь погодных), дожинки,
казалось бы, не соотносятся напрямую с тем или иным хрононимом.
Однако косвенные связи просматриваются. Такие варианты названия
ритуала окончания жатвы, как вост.-сиб., енис., костр., перм., тобол.,
челяб., яросл. воспожйнки [СРНГ 5: 142], влг., ворон., вят., томск. ос-
пожйнки [СРНГ 24: 51], арх., влг. спожйнки [КСГРС] и др., указыва-
ют на факт контаминации лексем пожинки и госпожин день — день
Успения Богородицы, 15 августа по ст. ст. (ср. госпожа ‘Богородица’
[Даль2 I: 386]). Ср.: «День этот называют госпожин день или госпо-
жинкщ а по случаю уборки в это время хлеба и по созвучию также
оспожинки» [Даль2 I: 386]; здесь же отмечается, что на Русском Севе-
ре, где уборка урожая происходит позднее, чем в средней полосе Рос-
сии, термином госпожинки может обозначаться день 8 сентября
по ст. ст. — Рождество пресвятой Богородицы.
Таким образом, период окончания жатвы (конец августа — начало
сентября) оказывается тесно связанным с образом девы Марии. У многих
славянских народов календарный термин «бабье лето» соотносится с
моментом окончания жатвы и с праздниками культа Богородицы; пока-
зательны в этом плане поверья западных славян о небесной пряхе —
панне Марии, пряжа которой в это время падает на землю, напоминая
женщинам о приближающемся сезоне прядения и тканья [Терновская
1988а: 124-125; Драбик 2004: 476]; ср. также немецкое название периода
начала сентября — «марьина пряжа» [Забылин 1880: 102]. В связи с этим
интерес представляет арх. идиома марьина страда ‘пора окончания
уборки зерновых’ — «Марьина страда о сентябрь живет. Марьина страда
ныне, скоро борода» [КСГРС], которая напрямую соотносит дожинки
с именем Девы Марии. Ср. текст белорусской песни: «Ты Пречистая мать,
ходи бороду ‘бжинать Своей правою рукой, золотым своим серпом И ки-
сейным рукавом...» [Пашина 2000: 88]. Отсюда вытекает возможность
переноса этого имени на ритуальный предмет дожинального обряда.
Что касается Ивана, то по отношению к нему можно найти хроно-
нимический коррелят — день Усекновения главы Иоанна Крестителя
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
283
(29 августа по ст. ст.), для которого в русских говорах фиксируется ши-
роко распространенное название Иван Постный (Тощий) [СРНГ 12: 53-
54]42. Приведем косвенное свидетельство, которое указывает на связь
хрононимических Ивана и Марьи в народном сознании, — это поговорки
о голоде и бедности: перм. В брюхе Иван Постный да Марья Икотишна
(Леготишна) [Подюков 1991: 112]; В одном кармане Иван Тощий (По-
стный), в другом — Марья Леготишна [Даль ПРИ: 91; Елистратов: 219].
Олицетворение голода и бедности в образе Ивана Тощего естественно,
так как 22-29 августа (твер. Иванова неделя [СРНГ 12: 55]) — неделя
строгого поста. Образ Марьи Икотишны (Леготишны) свидетельствует о
сходных коннотациях в восприятии дня Успения Богородицы: перед
этим днем был двухнедельный Успенский пост. Конечно, нельзя исклю-
чать и возможности чисто ассоциативного притяжения Марьи Икотишны
(Леготишны) к Ивану Постному. Взаимодействие этих хрононимов под-
тверждается также наличием влад., яросл. хрононима Оспосын (Оспос-
сын) день, обозначающего как день Успения Богородицы, так и день
Ивана Постного [СРНГ 24: 51]: облик этого слова можно объяснить не
только с точки зрения диалектной фонетики (ж ~ с), но и аттракцией ос-
ложни пос(т)ный. Существенно и то, что на некоторых территориях
день Ивана Постного совпадает с дожинками (к примеру, ряд районов
Архангельской области [ТЭ], Западной Сибири [Даль ПРН: 91]). Во-
обще в пословицах и поговорках, а также другого рода текстах, свя-
занных с календарным циклом, персонажи, олицетворяющие смежные
по времени праздники, нередко оказываются ситуативно объединен-
ными, причем самым естественным для народной культуры способом
их объединения становится семейно-родовая модель [Толстая 2005а:
385-390]. Сказанное выше делает допустимым предположение об
участии хрононимов *Маръин (госпожин) день и Иван Постный в на-
именовании ритуальных предметов43.
42 Возможны взаимодействия этого хрононима с названиями других
праздников культа Иоанна Крестителя: например, по сообщению П. С. Ефи-
менко, на Пинеге Постным называется Иван Купала [Ефименко 1877: 142].
43 Этим не исчерпываются возможности хрононимических сопоставле-
ний. Приведенный выше обзор литературы, где обосновывается «купаль-
ская» версия происхождения ряда значений лексем иван и маръя, подсказы-
вает вероятность купальских реминисценций применительно и к нашему
случаю. Можно предполагать взаимодействие купальской и дожинальной
обрядности — несмотря на двухмесячный интервал, разделяющий соответст-
вующие календарные вехи. Показателен параллелизм между купальскими
ритуалами и дожинками на уровне манипуляций с веником. Ср. контексты,
описывающие обрядовые действия с веником накануне Ивана Купалы в ме-
284
Раздел III
Перейдем ко второму ряду сопоставлений — «предметному»,
пытаясь найти для интересующих нас лексем «тезок» (точных и не-
точных) среди наименований ритуальных предметов других обрядов.
Известны украинские варианты купальского обряда, включающие в
свой состав изготовление, украшение, иногда и потопление соломен-
ной куклы Марины [Толстая 2005а: 439]. Представляет интерес назва-
ние троицкой березки (ритуального предмета троицкого обряда) —
маръюшка. зафиксированное ТЭ в Тугулымском районе Свердлов-
ской области: «В Троицу березку наряжают, как платье у ей сделают,
марьюшкой зовут березку-то. А колды к реке идут венки развивать —
марьюшку разболокут и бросают в реку»; «Марьюшку в платте оденут,
зенской и поморской зонах Архангельской области: «Стары-то люди были —
нахвощутся в Ивандень и бросят веник в воду. Умру в этот год — потонет
веник, а уплывет — жить буду»; «Иванский веник счастливой, его наряжали,
поясок красивой подвязывали, под матицу вешали на счастье. По ему гадали,
где молодым строиться: куцы иванский веник приплывет, там избу ставить»;
«Иванский веник полезный, им мух выгоняли, хвостали по избе-то»; «Иван-
ски венички счастливы, ребятишки новой раз куклу из иванского веничка де-
лали, одёжку ей ладили» [КСГРС]. Как видно из контекстов, иванский веник
обладает ярко выраженными сакральными чертами: ему придается антропо-
морфный облик, он помещается в передний угол, наделяется особыми лечеб-
ными свойствами, используется для гаданий и т. п. О силе «судьбоносных»
свойств веника свидетельствует зафиксированный в той же зоне (на Мезени)
фразеологизм ломать веники ‘гадать о женихе’. Это выражение обозначает
родовое понятие, объединяющее разные виды гаданий: «На Рожество девка-
ма на парней загадывали: „Девки, айда ломать веники! “ Суженого окликали,
собак слушали да, в байну бегали да»; «Айда веники ломать! В байне ж... за-
голяли, чтоб жених погладил» [КСГРС]. Данная идиома, как видно из кон-
текстов, носит эвфемистический характер, употребляясь только при обраще-
нии к подругам, — очевидно, эвфемизация связана с необходимостью скрыть
от потенциальных женихов характер предпринимаемых девушками действий.
Вероятно, своим происхождением это выражение обязано купальским гада-
ниям с помощью веника — а затем произошло метонимическое расширение
семантики.
Таким образом, действия с веником в мезенской и поморской зонах на-
кануне Ивана Купалы — почти зеркальное отражение соответствующих до-
жинальных процедур в белозерско-кирилловской зоне. Эти факты позволяют
высказать предположение о возможности перенесения имен героев купаль-
ского обряда на дожинальный (правда, некоторые промежуточные звенья,
необходимые для обоснования этой версии, не зафиксированы, поэтому мы
считаем ее более «слабой», чем другие).
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
285
все у ей, как у бабы. Платочек завяжут и в воду бросают» [ЭИС 1: 128;
КЭИС]44. Не случаен тот факт, что ритуальные предметы как дожи-
нального, так и семицко-троицкого обряда связаны с березой. Исклю-
чительное внимание к березе в славянских верованиях В. Я. Пропп
объясняет тем, что береза является первым распускающимся весной
деревом, вследствие чего ей приписывалась особая сила роста и пло-
дородия; завивание березки на Троицу — способ уловления и сохра-
нения силы роста [Пропп 1963: 59-61]. Береза имеет яркую женскую
символику [СД 1: 156], антропоморфизация ее проявляется как на ма-
нипулятивном уровне (березку украшали, наряжали, как девушку,
приглашали в дом, ставили перед ней угощения и т. д. [Шаповалова
1977: 104-106; Соколова 1979: 206-212]), так и на вербальном, ср. на-
именования троицкой березки: тульск. кума [Даль2 II: 217; СРНГ 16:
78], кумушка [ЭИС 1: 128], енис., вост.-сиб. гостейка [СРНГ 7: 91],
баба, девушка [Бернштам 1988: 175]45.
Дополнительный штрих в эту картину вносит арх. кокушкины
(кукушкины) слёзы (параллельное название маръины слёзы) ‘красные
пятнышки на листьях березы’ — «Кокушкины слезы у ей, будто брыз-
гал кто»; «Кокушкины слезы на березе, с кокушкиныма слезама вени-
ков не ломай, таки красны, как брызги набрызганы»; «Веники режем
на Ивандень: смотри, чтобы не было марьиных слез, а кто кукушки-
ныма слезама назовет» [КСГРС]. Кроме вполне обычной метафоры
(«рябое оперенье кукушки» —> «пятна на листьях березы») и взаимо-
действия с названием травы кукушкины слёзы, которая тоже имеет
темно-бурые пятна на листьях, здесь можно увидеть весьма любопыт-
ное притяжение образов кукушки и березы, опосредованное образом
Марьи. Неслучайность такого притяжения подтверждается существо-
ванием попарной связи берёзка — марьюшка (ср. марьюшка ‘троиц-
кая березка’) и кукушка — марьюшка (ср. самовеличание кукушки
душой Марьюшки, характерное для песен обряда крещения и похорон
кукушки: «— Ты, кукушка ряба, ты кому же кума? — Я — кума Марь-
44 В соседнем по отношению к тугулымскому говоре — в Туринском
районе Свердловской области — троицкая березка называется близким
маръюшке именем матрёшенъка'. «Эту матрёшеньку вот и делали... Снаря-
дишь её так, пышненько сделаешь. Сарафанчик, хоть юбочку сделай с коф-
точкой, фартучек беленький надевали, косыночку какую-нибудь с кружев-
цом. Вот и завяжешь» [ЭИС 1: 128-129].
45 Сходные мотивы обнаруживаются в наименованиях другого троицко-
го символа — троицкой куклы, которую изготавливали в западнорусских и
южнорусских областях: баба, мужик, гостейка, немчик, Дуня, Халимон (Фи-
лимон), Ебидошенъка [Агапкина 2002: 625].
286
Раздел III
юшке46, я — душа Марьюшке, я кумушка-подруженька вам» [Тернов-
ская 1988в: 112]47).
Эти факты — если оценивать их с точки зрения «архетипическо-
го» подхода — свидетельствуют о том, что березка и кукушка явля-
ются, соответственно, растительной и животной ипостасью некоего
женского существа по имени Марья.
У дожинального снопа по имени иванушка «тезки» среди наиме-
нований ритуальных предметов русских обрядов, кажется, отсутствуют.
Однако параллели встречаются в других славянских и неславянских
лингвокультурных традициях: к примеру, на Сумщине в канун Ива-
нова дня изготавливалось чучело по имени Иван Купальный, которое
подвергалось уничтожению [Пашина 1995: 238]; поляки называли ку-
пальское чучело Jan\ у словаков Jan — одно из названий купальского
деревца [Агапкина 2002: 636-637]; ср. также нем. «Иоганн» — название
букета лечебных трав, переплетенных цветущей рожью; один из кре-
стьян в Бранденбурге должен был скакать верхом с этим букетом в
руках через всю деревню в канун дня св. Иоганна [КОО: 127]. Инте-
ресно также следующее обстоятельство: представление об Иване Пост-
ном, речь о котором шла выше, не отраженное в названиях ритуальных
предметов, «материализовалось» в образе фантастического существа,
живущего, по уральскому поверью, в огороде: свердл. «В огороде-то
Иван Постной, не ходите. Ребятишек пугать — кака-нибудь старушка
срядится, шубу навыворот наденет — вот и Иван Постной» [КЭИС].
Это симптоматично: мифологические персонажи, изображаемые ря-
жеными, на другом этапе «материализации» нередко воплощаются в
виде антропоморфных ритуальных предметов (например, Масленица,
Купала и т. д.).
Заканчивая ряд предметных сопоставлений, отметим, что тради-
ция изготовления парных обрядовых чучел («мужского» и «женско-
го») с их последующим чествованием и/или уничтожением имела ши-
рокое распространение и приурочивалась к различным ритуалам — не
только к дожинальным, но и купальским, троицким и т. п. (обзор та-
ких вещных символов представлен в [Агапкина 2002: 578-662]; см.
также [Соколова 1979: 205; Виноградова, Толстая 1990: 108-109; Тол-
46 Показательную конкретизацию этого мотива дает другая кумильная
песня: «— Ты, кукушка ряба, кому ты кума? — Я, кумушки-голубушки, Бо-
городице кричу» [Бернштам 1981: 199].
47 В фольклорных текстах неоднократно фиксируется параллелизм обрат
зов кукушки и Марьюшки, ср., к примеру, фрагмент тамбовского свадебного
причитания: «Куковала кукушечка, Во сыром бору летаючи. Плакала Марь-
юшка, К столику припадаючи» [Поповичева2001: 89].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
287
стая 2005а: 423^442]). Эти чучела либо оставались безымянными, ли-
бо наделялись именами, которые могли совпадать с названием соот-
ветствующего праздника или быть «родовыми» обозначениями (на-
пример, дед — баба).
Итак, анализ приведенных хрононимических и предметных па-
раллелей с позиций «архетипического» подхода делает возможной
попытку восстановить то мифологическое имя, которое дает пред-
ставленный выше «диапазон рассеяния» [Топоров 1979: 144].
Линия Марьи через хрононимическое сопоставление выводит на
мотив Богородицы — и это косвенно подтверждается предметным ря-
дом, связывающим представления о кукушке, троицкой березке и до-
жинальном венике. Линия Ивана выводит на образ Иоанна Крестите-
ля, Предтечи (народное прозвище — Иван Купала). Фигуры Иоанна
Крестителя и Богородицы Марии нередко объединяются в народном
сознании. Приведем лишь два примера. Ср. заговорную формулу:
«Стой, стрела, не ходя до меня, а подите, стрелы, чрез деву Марию и
чрез главу Иоанна Крестителя...» [Елеонская 1917: 49], а также ле-
генду, объясняющую происхождение народного названия растения
вероники лекарственной — смол, иван безголовый'. «Девка обрубила
некоему Ивану голову. Иван пошел на жалобу к Богородице, неся
свою голову на копье. Богородица превратила Ивана в синий цветок
вероники» [СЭС 1: 379] (отсеченная голова — яркий признак, позво-
ляющий идентифицировать «некоего Ивана» и Иоанна Крестителя,
который был обезглавлен по наущению Иродиады; здесь перед нами
творение «нового мифа» на базе установления вторичных связей ме-
жду персонажами — Крестителем и Богородицей). Сопряжению Бо-
городицы и Крестителя в рамках общих контекстов «в наибольшей
степени способствовало присутствие их изображений в деисусном чине:
первого — слева, второго — справа от изображения Христа. Иоанн и
Мария... — это, так сказать, квинтэссенциальный минимум персо-
нального окружения Сына Божия» [Журавлев 20056: 774].
В рамках нашего исследования трудно говорить о более глубин-
ных, дохристианских соответствиях для данной пары. Это должны
быть какие-то божества растительности и плодородия (ср. европей-
ское поверье о том, что «в зерне живут два духа, один — мужского,
другой — женского пола» [Фрэзер 1980: 505]). Различные попытки
реконструкции «прообразов» интересующих нас персонажей прово-
дились в литературе (говорилось, например, о притяжении — прояв-
ляющемся то в эстафете, то в смешении — имени Богородицы Мария
и имени демонологического персонажа Мара [ср. Бернштам 1981:
199]), однако в нашем случае в этом нет смысла, так как подобное ус-
тановление «этимона» не может быть подтверждено языковым мате-
288
Раздел III
риалом (т. е. невозможно выяснить, являются ли христианские имена
первонаименованиями персонажей дожинального обряда или же име-
ла место христианская перекодировка уже существовавших язычо-
ских имен).
Таким образом, мы рассмотрели интересующий нас бином с «ар-
хетипических» позиций. В то же время судьба слова в языке не сво-
дится к постоянному воспроизведению архетипа, который не облада-
ет статусом этимона, обязательной первопричины названия; по отно-
шению к определенной реализации имени архетипическая мотиви-
ровка может быть одной из ряда других, отличающейся от них боль-
шей глубиной. Следовательно, при семантической интерпретации
имени необходимо выявить спектр возможных мотивировок — от
архетипической до типовых современных.
2. Попытаемся взглянуть на анализируемые названия с син-
хронических позиций. В сознании современного носителя рус-
ского языка Иван и Марья — ‘некий мужчина’ и ‘некая женщина’,
‘мужчина и женщина вообще’, ‘имярек’. Такое восприятие отражено
как в текстах — от пословиц и поговорок типа Иван Марье обычный
друг; Иван был в Орде, а Марья вести сказывает, Иван Марьи не
слушается, сам приказывать горазд [Даль ПРИ: 705, 689, 683] до со-
временных песен (Иванами да Марьями гордилась ты всегда...; Ка-
кая Марья без Ивана...} или кинофильма (ср. кинопритчу А. Конча-
ловского «Любовники Марии», где главные герои носят имена Иван и
Мария), так и в отдельных номинативных единицах (в соответствии с
общей логикой модели «деонимизированный антропоним» —> «нега-
тивная характеристика человека» такие номинации имеют, как прави-
ло, сниженное звучание): просторен, ванъка, иван ‘о простом русском
человеке (часто употребляется со словами наш, русский)’ [БРЭР: 68,
238], просторен, иваны ‘русский народ’, жарг. иван ‘человек, не при-
надлежащий к преступному миру’ [БСЖ: 228], что конёк, то ванёк
‘при каждой подводе находится человек’ [Малеча 1: 194], литер, рус-
ский Ванька ‘доверчивый недалекий человек русской национально-
сти; простой русский солдат’, Иван Иванович ‘условное обозначение
всякого мужчины (как правило, русской национальности)’, Марь
Ивановна ‘всякая (чаще — русская) женщина’, Иван да Марья ‘муж и
жена, супружеская чета (как правило, крестьянская), жених и невес-
та’, ‘мужчина и женщина (вообще)’, просторен. Ваньки да Манъки
(ваньки-манъки; Вани и Мани; дяди Вани и тети Манг!) ‘простой (рус-
ский) народ, простонародье, реже — челядь’ [Отин СлК: 91-93, 159,
161, 228], Маша не чешись и Ваня не царапайся ‘(шутл.) не к чему
придраться’ [СРСГСП 2: 124], марджа ‘русская женщина — в речи
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
289
азиатских народов’ (в основе тюрк, произношение имени Марья), пск.
маришка ‘девушка легкого поведения’ [Кондратьева: 71-72], жарг.,
просторен, маруся ‘девушка, женщина (обычно простоватая, наив-
ная)’ [БСЖ: 337; БРЭР: 309] и т. д.
Характерен обычай до крещения называть детей соответствую-
щего пола Иван или Мария, зафиксированный, в частности, в Поле-
сье, а также на Вятке [Гура, Терновская, Толстая 1983: 24; ОСВГ 4:
211]48. Обозначения иван и маръя как бы перестают быть собствен-
ными именами, они существуют до имени — как «протоиме-
на» (Адам и Ева) и вне имени49 — как родовые понятия. Психо-
логический субстрат восприятия этих имен в паре содержит пред-
ставление о Марии скорее как о девушке, невесте (а не замужней
женщине), а об Иване — как о юноше, женихе50. Это отражается в
образности свадебных песен, где Иван и Маръя традиционно обозна-
чают жениха и невесту, ср.: «В мифологизированной фольклор-
но-ритуальной перспективе Иван и Мария — имена „первожениха“ и
„первоневестьГ, с одной стороны, и неких обобщенных („парадигма-
тических“) жениха и невесты» [Топоров 1999: 503].
Итак, имя фактически превращено в местоимение Иван — Ма-
ръя = Он — Она. Ономасиологическая закрепленность этой ситуации
подтверждается парными номинациями различных персонажей, жи-
вотных и растений, например: влад. Иван и Маръя *‘домовые мужско-
го и женского пола’ [БВКЗ: 124], арх. Иван Чародей и Маръя Никола-
евна ‘мифические существа, обитающие в лесу’ — «Заходишь в лес,
говоришь: „Иван Чародей да Марья Николавна, дай заходу и выходу,
и грибов, и ягод!“», арх. ванъка (ванечка) и маръя (марьюшка) ‘не-
большие лесные птички’ — «Ванька с марьей есть — потки серые, у
казака скрасна крылышки, а маточка без красного, они побольше во-
робья, на зиму улетают» [СГРС 2: 21; КСГРС]; арх. иван и маръя
48 От него производен другой обычай: услышав плач детей, умерших не-
крещеными, надо назвать мужское и женское имя: Адам и Ева. Иван и Ма-
рия. Иван п Анна и т. п. [Толстой, Толстая 1998: 91].
49 В ряде случаев за этими именами может скрываться принципиальная
безымянность, ср., например: жарг. иван ‘главарь преступной группы, скры-
вающий свое имя’ [ССРГ: 171], диал. Ванъка Ветров ‘неизвестный, чужак’
[Пащенко 1: 12].
50 Быть может, вследствие этого топонимические Иван и Маръя (в отли-
чие от Бабы и Деда) располагаются на разных берегах реки, напротив друг
друга: скалы Иван-щелъя и Маръя-щелъя — правый и левый берега р. Юла
[Пин]; ручьи Иванручей и Маръин Ручей — впадают в Выгозеро друг против
друга [Прим].
290
Раздел III
‘лесные цветы’31 — «Иван — высока трава белая, а марья-то дак си-
ненька» [КСГРС] и др. Показательна также пара архангельских слов
ванъка и манъка (парень и девка), обозначающая игровые предметы в
детской загадке-считалке: захватив в щепоть метелку травянистого рас-
тения и проведя по ней снизу вверх, чтобы образовался своеобразный
букетик, дети прячут его за спину и спрашивают друг друга: «Ванъка
или манькаЪг, при этом длинный «прямоугольный» букетик называет-
ся ванъкой, короткий «треугольный» — манъкой [КСГРС] (широко из-
вестна в просторечии другая пара названий тех же реалий — петушок и
курочка). Номинативный ряд ванъка (парень, петушок) —манъка (девка,
курочка) мотивирован формой букетиков51 52.
Сходной символикой формы обладают и предметы дожинального
обряда — сноп53 и пучок березовых веток. Вполне естественно, что
ритуальная отмеченность этих предметов, манипулятивная антропо-
морфизация их могла вызвать стремление к наречению «кукол» име-
нами. При этом имена Иван и Марья выступают как ономасиологиче-
ские дублеты широко распространенных на разных территориях на-
именований последних снопов типа: рус. диал. баба, кумушка [Тер-
новская 19776: 79], влг. дедка, овсяный дедушка [СГРС 3: 197-198];
ср. также блр. баба [Зеленин 1991: 70], чеш. baba, ded; сербохорв.
млада ‘невеста’, итал. la vechia ‘старуха’, англ, maiden ‘девушка’, bride
‘невеста’, granny ‘бабушка’ [КОО: 14, 85, 86, 189, 204] и др.
Таким образом, номинативные ряды Иван — парень — жених —
дед... и Мария — девка — невеста — баба... свидетельствуют о пре-
дельной обобщенности семантики интересующих нас имен, сводимой
к универсальной оппозиции «мужское — женское». Семантическая
51 Ср. ономасиологически тождественную модель: свердл. жених и не-
веста ‘разновидности комнатного растения колокольчики с голубой и белой
окраской соответственно’ [КЭИС].
52 Бином Иван да Марья фигурирует также среди других номинаций по
модели «любой мужчина — любая женщина», которые, будучи переведены в
сниженно-шутливый регистр, функционируют как названия уборных в романе
В. Набокова «Лолита»: «Лолита охотно пользовалась придорожными убор-
ными — ее пленяли их надписи: „Парни“ — „Девки“, „Иван да Марья“, „Он“
и „Она“ и даже „Адам“ и ,,Ева“» (этот пример приводится в [Отин СлК: 159]).
53 О возможности антропоморфного восприятия снопа (особенно вслед-
ствие его «подпоясанности») говорит, в частности, наделение снопа собст-
венными именами (в загадках) — Дорофейко, Егорий, Опанас [Юдин 2007:
54]. То же относится к венику, которому приписывается также «человече-
ский» признак быстроты передвижения, «юркости» (об этом см. в парагра-
фе 5.2, с. 538).
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
291
база этой оппозиции принципиально неисчерпаема, не имеет стади-
ально-исторической закрепленности, а потому функционирование оп-
позиции не может быть жестко связано с «генной памятью» архетипа.
В то же время трактовка предметных символов дожинального об-
ряда в рамках указанной оппозиции имеет более глубокие корни, не-
жели банальное «оживление» признака формы снопа и веника, «дори-
совывание» на его основе мужского и женского силуэта —> персонажа.
У разных славянских народов дожинальный обряд имеет общие эле-
менты со свадебной обрядностью [СД 3: 451]; «цитирование» текста
свадьбы в составе жатвенного текста54 «связано с антропоморфиз-
мом, с идеей отождествления макрокосма и микрокосма, когда проис-
ходящие в течение года в природе изменения осмыслялись человеком
по аналогии с важнейшими событиями собственной жизни. Еще од-
ной причиной активного вовлечения свадебных мотивов и символики
в календарь служат, по всей вероятности, мифологические представ-
ления, согласно которым получение урожая воспринималось как ре-
зультат сексуальных отношений (свадьбы) природных стихий или оли-
цетворяющих их мифологических персонажей» [Пашина 2000: 96].
Таким образом, одним из символических следствий глубинного
единства свадебной и земледельческой обрядности стало появление в
календарных ритуалах парных персонажей (и соответствующих пред-
метных символов), реализующих брачные мотивы55. Изучаемая нами
пара входит в этот ряд.
Подведем итоги. Имеются две возможности семантической интерпре-
тации интересующего нас номинативного бинома, причем достовер-
ность обеих версий примерно одинакова. Одна версия основана на
том, что культурный термин (в нашем случае наименование обрядо-
вой реалии) может повторять, воссоздавать одноименный мифоним,
имеющий статус сакрального прецедента. Эта идея лежит в основе
реконструкций В. Н. Топорова, ср.: «Введение неких значимых для
традиции имен, имеющих отношение к прецеденту..., положившему
начало традиции, и мультиплицирование их на разных уровнях тра-
54 В качестве примера можно привести костромскую практику «матри-
мониальных гаданий» с помощью дожинального снопа: «Когда сожнут по-
следний сноп, из него выбирают волотинку из середины куклы и заворачи-
вают со следующими словами: „Овсяная борода, покажи мне жениха и не-
весту^» [СРНГЗ: НО].
55 Так, парные персонажи троицко-купальского цикла и соответствующие
куклы (чучела) могли носить парные имена: Семик и Семичиха, Русалка и Руса-
лим, чеш. Smrt и Smrtdk, словац. Мо(а)гепа и Mardk etc. [Агапкина 2002: 52Ф-526].
292
Раздел III
диции (в том числе и профанических) обеспечивает ее преемствен-
ность» [Топоров 1979: 143]. В рамках «архетипического» подхода мо-
гут быть восстановлены прецедентные имена, принадлежащие Бого-
родице Марии и Иоанну Крестителю, которые фокусируют, объеди-
няют тот тезоименный «диапазон рассеивания», в который входят и
названия атрибутов севернорусского дожинального обряда. Послед-
ние оказываются связанными с именами Девы Марии и Крестителя по
календарной линии: прецедентные имена являются знаком сезона по-
спевания хлебов и жатвы (через соответствующие хрононимы). Но
язык склонен устанавливать новые связи между словом и внеязыко-
вой действительностью, которые могут быть интерпретированы соз-
нанием говорящих в синхронной плоскости, без ссылок на сакраль-
ный прецедент. Это обосновывает версию о вторичном наделении ан-
тропоморфных ритуальных предметов именами Иван и Маръя. реали-
зующими предельно обобщенные смысловые отношения («он — она»).
Следует подчеркнуть, что обе версии должны рассматриваться не
как возникшие изолированно друг от друга, а как связанные отноше-
ниями преемственности. Очевидно, причины высокой номинативной
активности пары Иван — Маръя. превращения ее в номинативное
клише коренятся в архетипической значимости данных имен, в суще-
ственности той связи между ними, которая была заложена мифом.
Сила трансформационного механизма языка заключается в его спо-
собности, взаимодействуя с мифом и впитывая в себя его элементы,
подвергать их мотивационному перекодированию, делать открытыми
даже такие семантически консервативные, первоначально замкнутые
на денотат структуры, как мифологические имена собственные.
3.3. ТИПУН ТЕБЕ НА ЯЗЫК!
Существует широкий спектр вербальных действий, которые от-
рицательно оцениваются адресатом речи: приставания с расспроса-
ми, надоедливое нытье, плач, повторение одного и того же, брюзжа-
ние, слишком громкий голос или крик, употребление обсценной
лексики, неумеренные похвалы (которые могут быть расценены как
попытка сглазить, навести порчу), негативное содержание речи —
неблагоприятный прогноз, оскорбление, кощунство и др. Негатив-
ная реакция на такие действия чаще всего выражается средствами
ирреальной модальности. Простейшая форма такой реакции — им-
перативы вроде заткнисъ. замолчи, которые выполняют сугубо ко-
нативную функцию. Нас будут интересовать реакции другого плана:
они заключаются в произнесении словесных формул, которые явля-
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
293
ются (по своему актуальному функционированию или по происхож-
дению) разновидностью ритуальной речи, выполняющей магическую
функцию, точнее — разновидностью проклятия. Из них наиболее
известна формула типун тебе на язык, которая фиксируется в лите-
ратурном языке (‘недоброе пожелание тому, кто говорит то, чего не
следует’ [СлРЯ IV: 366]). Думается, что словарь слишком широко
трактует эту формулу: «говорить то, чего не следует» в данном слу-
чае означает высказывать какой-либо неблагоприятный прогноз (от
«легких» вариантов вроде предсказания плохой погоды до «силь-
ных» вроде пророчения тяжелой болезни), от которого хочет огра-
диться собеседник. Формула типун тебе на язык служит и порица-
нием «пророка», и оберегом.
Если литературная формула дает реакцию на прогноз, то много-
численные диалектные клише-проклятия применимы к более широ-
кому кругу ситуаций (практически ко всем, что были перечислены
выше). Как и другие проклятия, они являются перформативами, по-
скольку приравниваются к действию — удалению опасности и защите
от нее (о перформативности ритуальной речи см. [Толстая 2004а: 75]).
Разумеется, магическая функция может утратить актуальность, сме-
нившись экспрессивной, но логика конструирования формулы, выбор
языковых средств подчинены законам словесной магии.
В настоящем параграфе будут рассмотрены русские диалектные
формулы, являющиеся ответом на негативное вербальное действие (под-
черкнем еще раз, что эти формулы шире по семантике, чем литературная,
которая условно вынесена в заголовок параграфа как наиболее извест-
ная). Нашей задачей станет семантическая реконструкция таких формул,
что позволит «подобраться», в частности, к этимологии литер, типун.
Представим материал, собранный по русским диалектным слова-
рям, а также неопубликованным лексикографическим источникам.
Подача материала алфавитная. Значение формул, как правило, не
приводится, поскольку в источниках оно нередко опускается (тогда
источник ограничивается фиксацией самой формулы, подразумевая
прозрачность выведения семантики из внутренней формы) или пода-
ется весьма обобщенно, ср. дефиниции типа «бранно», «бранное вы-
ражение», «восклицание, выражающее крайнюю степень неудоволь-
ствия, неодобрения, возмущения» (в этих случаях появляется пробле-
ма выделения интересующих нас выражений из всего набора бранных
формул: семантика высказывания может быть уточнена с помощью
контекста или же благодаря прочитываемому во внутренней форме
выражения указанию на «локус» негативного воздействия — глотка,
язык, хайло и т. п.); если все же источник дает важный для интерпре-
тации выражения комментарий, мы его фиксируем. По ходу пред-
294
Раздел III
ставления материала даются справки мотивационного характера; бо-
лее развернутые комментарии к отдельным образам (птичьим) приво-
дятся отдельно.
(р. Урал) бастрык те в кадык [Малеча 2: 146].
♦ Ср. бастрык ‘толстая жердь с рогулькой на одном конце и с за-
рубкой на другом, для увязки воза с сеном или с соломой’ [Мале-
ча 1: 105]. В данном контексте у слова бастрык проявляется сим-
волика угрозы, что характерно и для других лексем, обозначаю-
щих такие орудия, как палки и колья, ср. влад. вострого рожна
(кому-либо) ‘употребляется как пожелание чего-либо дурного,
неуспеха в каком-либо деле ит. п.’ [СРНГ 5: 150], провались ко-
лом осиновым ‘эмоциональное восклицание (раздражение, доса-
да)’ [СПП: 45], новг. в рот те ноги, кол те в нос [СРНГ 36: 203],
колом его в землю, другим его сверху [НОС 4: 79] и др., см. ниже
кол бы тебе в горло.
арх. васйха тебе на язык [СГРС 2: 30].
♦ Ср. арх., влад., ворон., иркут., калуж., курск. восса, влг. восса,
свердл. васся, восся ‘болезнь кожи, сопровождающаяся зудом (ли-
шай, экзема, чесотка)’ [СРНГ 5: 145-146; СГРС 2: 188; СРГСУ 1:
67], восца ‘упорный, иногда гнойный лишай, накожная язва на лю-
дях и на скоте’ [Даль2 I: 252] и др. Все вариантные формы такого
рода, по мнению В. А. Меркуловой, восходят к праформе *obsbca,
которая образована от глагола *sbcati ‘мочить’ (вернее — от его при-
ставочной формы *obsbcati); с точки зрения мотивации следует
учесть свойства реалии (мокнущий гнойный лишай) [Меркулова
1972: 156]. Вариантные формы из этой группы имеют традицию ис-
пользования в составе негативных вербальных формул (являющихся
не только негативной реакцией на вербальные действия адресата, но
и имеющих более широкую пейоративную семантику — вроде черт
тебя побери), ср.: чтоб те восса села ‘бранно’ [СРНГ 5: 145].
карел, (рус.) вищипи те горло [СРНГ 7: 41].
♦ Ср. ниже шшепота (шшепотишше) те на язык.
арх., влг. волос бы сел (на язык) тебе — «Волос бы сел на язык тебе\
Думай, что говоришь-то»; «Кто-то говорит напраслину, в общем,
врут на человека, говорят: „Волос бы тебе селГ»; арх. волос тебе
под язык, арх. красный тебе волос, арх. волосёц красной, арх. волдсъи
тебе в хайло, арх. волостй (волосцй) бы тебе [СГРС 2: 156-159].
♦ Ср. волос ‘водяной червь волосатик (по поверью, он забирается
под кожу людям и животным во время купания и причиняет бо-
лезнь волос, волость или волости, выражающуюся опухолями,
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
295
краснотой или даже колотьями)’, ‘гнойное воспаление, язва, опу-
холь, нарыв’ и др. [СРНГ 5: 57]; ср. также многочисленные вариант-
ные формы волосёй, вдлосенъ, волосёнъе, волосёц, волости и т. п.,
обозначающие водяного червя и/или различные причиняемые им
болезни [СРНГ 5: 58-63; СГРС 2: 156]. Характерно появление в этой
лексической группе слова волосатик ‘нечистый дух, черт’ [СРНГ 5:
58], отражающего регулярный переход «название нечистой си-
лы» <-> «обозначение болезни». Следует также отметить, что слова,
входящие в данную группу, нередко используются в составе разного
рода бранных формул, ср.: волосатик ты изныряй [СРНГ 12: 159],
волосатик бы тя взял, волости тя возьми [СРНГ 5: 58, 62] и т. п.
влад., ворон., яросл. жаба! — «...Обманываешь! Побожись-кось! —
Жаба! Отступись ты от меня Христа ради»; яросл. жаба бы тебе
на язык-от; свердл. жаба (жабы) тебе, ему в рот*, олон., ряз.
жаба те сядь; ворон, жаб тебе засади [СРНГ 9: 49], влг. жаба са-
дится тебе — «Если кто ревёт, собака залает или заведёт всё одно
и то же на весь-то вечер, так и говоришь: ,Жсба садится тебе\“»
[СГРС 3: 334]; сядь тебе (вам) жаба [Селигер 2: 69], жаба тебе
седъ [ОСВГ 4: 32], карел, (рус.) сто жаб те в рот [СРНГ 36: 203-
204], просторен, жабу тебе в рот.
♦ Ср. другие «жабьи» проклятия и бранные выражения: свердл.
жаба его возьми ‘бранное выражение: пожелание зла, плохого’,
челяб. жаббите ‘ругательство’ [СРНГ 9: 48], какую жабу ‘что
еще надо’ [СПГ 1: 252] и т. п. Как видим, магической силой для
носителей традиции обладают не только развернутые формулы,
включающие слово жаба, но и их варианты, «свернутые» до од-
ной этой лексемы56. «Жабьи» проклятия, возможно, объясняются
наличием модели ‘жаба’ —> ‘рот’, которая весьма устойчива как в
русских говорах, так и в славянских языках в целом, и разработа-
на с разных сторон: имеют языковую экспликацию функциональ-
ные мотивы ‘хватающая ртом’, ‘жующая’, «портретный» мотив
‘имеющая большой уродливый рот’, а также «сценарный» мотив,
приписывающий жабе способность залезать в рот человека и ини-
циировать различные болезни (подробно об этом в параграфе 3.5).
56 Интересные свидетельства относительно магии этого слова фиксиру-
ются у поляков и сербов: считалось, что при маленьком ребенке нельзя гово-
рить слово «жаба» [Krawczyk-Tyrpa 2001: 249; Толстая 2007: 207]. Если кто-
то его скажет, мать должна произнести охранную формулу: польск. «Czosnek
pod j^zykiem („чеснок под язык“)!» [Krawczyk-Tyrpa 2001: 249]. Возможно,
это проявление запрета на все беззвучное, неговорящее (из опасения, что ре-
бенок не научится говорить) [Толстая 2007: 207].
296
Раздел III
влг. жёви тебя бы съели — «Если кто кого ругает, а другой отговарива-
ется: „Жёви тебя бы съели\“ — отговоришься»; влг. жёели сели —
«Говорят: „Жёели сели\“, когда человек говорит не то, если спра-
шивают вопрос серьёзный, а он демагогию разводит, не может себя
сдержать»; влг. жёели тебе сядь; влг. жёеъе тебе седъ; влг. жёеъи
бы тебе сели — «Кто-то говорит напраслину, в обшем, наврут на
человека, — говорят: „Волос бы тебе сел! Жёеъи бы тебе сели!“»;
арх. в жёеъю тебя седъ — «Когда ругаемся, дак скажем: „В жёеъю
тебя седъ!“ — нехорошее слово» [СГРС 3: 346-347]; олон. желвак
тебе в горло; перм. желвак тебе в рот, влг. жёлви тебе (те) в рот;
новг. жёлви седъ [СРНГ 9: 102-103]; арх. жёлви бы тебе сели —
«Жёлви бы тебе сели хорошие! — чё заарандау-то?» [СГРС 3: 348];
влг. жёлви сели бы тебе на язык — «Жёлви сели бы тебе на язык!
Ишь, что пророчит!» [СВГ 2: 81]; влг. жёлги бы тебе (ему) сели
(село) — «Скажет неладное какое слово, так говоришь: „Сели бы
тебе жёуги!“»; «Сидит да болтает — жёлги бы ему сели!»; влг.
жёлги седъ — «Когда ребёнок много кричит, корова ревёт, то гово-
рят: „Жёуги седъ!“»; влг. жёлги тебя [СГРС 3: 348-349].
♦ Ср. жёлви, жёлги влг., вост, олон., север, ‘нарывы, волдыри, жел-
ваки’, влг., вост., новг., олон., север, ‘гипертрофированные желе-
зы на шее (обычно золотушного происхождения)’, влг. ‘распух-
шие гланды’ и т. п. [СРНГ 9: 102-103; СГРС 3: 347-348]. Базовой
для форм типа жёеъи, жёели и т. п. следует считать лексему
жёлви с исходной семантикой ‘комок, бугорок, желвак’, восхо-
дящую к *zel- (< и.-е. *ghel-, который выступает в разных назва-
ниях шишек, желваков, камешков) с расширением -й- >у [Труба-
чев 1991: 116]. Варьирование данной формы определяется как де-
этимологизацией, так и контаминационными процессами — на-
пример, аттракцией к жеватъ (ср. варианты жёви, жёеъи, жёв-
ли). Такая аттракция обусловлена не только формальной близо-
стью этих слов (усугубляемой типичным для севернорусской фо-
нетики произнесением [у] на месте [л]), но и имеет содержатель-
ную подоплеку — представление о том, что разного рода опухоли
на языке (в частности, типун на языке куриц) могут «н а ж е в ы -
в ат ь с я», ср. эту идею в контексте к влг. слову пйпыш ‘типун на
языке куриц’ — «Пипыш у кур быват, наедают они себе, нажё-
вывают» [КСГРС] (в поле аттракционных сближений такого
рода оказывается и арх. жёлвитъ ‘есть, принимать пищу’
[КСГРС]).
влг. желна тебя колони — «Говоришь плохое против Бога да против
человека — ну, жеуна тебя колони! Жеуна-то в лисе дятеу»)
[СГРС 3:351].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
297
карел, (рус.) завал тебе в горло [СРГК 2: 90].
♦ Ср. онежские бранные формулы завал те седъ, завал те съешь,
значение которых, как отмечает СРНГ, утрачено [СРНГ 9: 291], а
также завал тебе сядь [СРГК 2: 90]. В силу многозначности гла-
гола завалить слово завал допускает разные трактовки; в нашем
случае, возможно, имеются в виду болезни горла, ср. ряз., юж.
завалка ‘распухание подчелюстных железок’, ‘о болезнях горла,
связанных с распуханием горла или железок’, смол, завал ‘жел-
вак’ [СРНГ 9: 291, 293] (смущает лишь, что слова со значением
болезней распространены в южных и центральных говорах, а
бранная формула фиксируется в северных).
(р. Урал) заразой в кадык [Малеча 2: 66].
ворон., дон., курск., твер., тульск. засадй (засадъ) тебе (те) (горло)
[СРНГ 11: 17], ряз. засадй тебе кадык-mo [СРНГ 11: 17], пск., твер.
кабы тебе засадило ‘бранно: чтоб ты замолчал’ [СРНГ 11: 17-18].
♦ Ср.: курск. засадить ‘наполнить мокротой (горло)’ [СРНГ 11: 17].
перм. змей (змеишшо) (тебе, ему, вам и т. п.) в хайло [Прокошева: 40].
дон. кила сядь ‘пожелание болячки на язык, чтоб разговаривающий
человек замолчал’ [БТДК: 215].
♦ Ср. простореч. кила ‘грыжа’ и другие «болезненные» значения
слова кила, широко распространенные в говорах [СРНГ 13: 205-
206]. Близки к «типунному» значению также иные бранные фор-
мулы с «участием» килы: онеж. кила моржовая ‘бранное выра-
жение «по адресу надоедливых ребят»’, латыш., литов, (рус.)
черт килатый ‘бранное выражение’ [СРНГ 13: 206-207] и т. п.
карел, (рус.) кипун тебе на язык [СРГК 2: 348].
♦ Ср. новг. кипун ‘белый пузырь на языке’ [НОС 4: 42]. Аналогич-
ные факты зафиксированы в говорах Полесья: ср. слова ктун,
ктотень, функционирующие в составе вербальной формулы с
изучаемой семантикой [ПЛНМ: 30]. Очевидно, кипун < типун, ср.
подобную мену в случаях клиль < тлиль, кина < тина [КСГРС]
и др. Менее вероятна производность от кипеть.
влг. кляп бы тебе в рот ‘«в ругательстве говорят; т. е. желают, чтоб
ему клином разинули рот, как прежде преступникам во время нака-
зания их кнутом»’ [СРНГ 13: 331].
♦ Ср. литер, кляп, а также кляч в горле встал ‘об ощущении комка в
горле’ при кляч ‘чурка’ [СРГК 2: 379].
карел, (рус.) кол бы тебе в горло, кол бы тебе в кадку [СРГК 2: 310,
396]; перм. кол в хайло — «Ежли уж матюшатся с большие матери,
298
Раздел III
дак им скажут: „Кол вам в хайло!“у> [СПГ I: 403]; иск., твер. колом
тя в горло (по горлу) [СРНГ 13: 110].
♦ Ср. кадка ‘горло’ [СРГК 2: 310]. Кол как орудие угрозы нередко
упоминается в проклятиях вроде колом тебя в землю', по мнению
А. Н. Афанасьева, здесь содержится «намек на осиновый кол, ко-
торым прибивают умерших колдунов и ведьм» [Афанасьев
ПВСП I: 428]. См. выше бастрык те в кадык.
новг. корочун тебе на язык [НОС 4: 117].
♦ Ср. корочун ‘тяжелая болезнь’, ‘злой дух, нечистая сила’ [НОС 4:
117], а также карачун арх., влг., костр., новг., перм., сиб. ‘внезап-
ная, неожиданная смерть’, калуж., симб. ‘злой дух, черт, демон’
и др. [СРНГ 13: 75]. Это слово является производным от *korciti
‘шагать’ с суф. -ипъ (т. е. исходно ‘шагающий, приходящий’);
спектр значений, в котором оказываются соотнесенными семан-
тические сферы ‘болезнь’, ‘смерть’, ‘злой дух, демон’, ‘святоч-
ный обряд, коляда’ и др., можно считать характерным для лексики
такого типа [см.: ЭССЯ 11: 56-58; СД 2: 468-469].
арх. корх тебе седъ на язык — «Не к добру чего скажешь: „Корх тебе
седъ наязык!“у> [КСГРС].
♦ Ср. арх. корх ‘коршун’, ‘типун на языке куриц’ [КСГРС].
свердл. лесной в рот [СРГСУ 2: 93].
♦ Ср. лесной ‘леший’ [СРГСУ 2: 93].
перм. нож ему в ад (глотку) [СРНГ 21: 268].
♦ Ср. влг., вят., киров., перм., яросл. ад ‘пасть, горло, глотка, рот’
[СРНГ 1: 203-204].
карел, (рус.) синий камень тебе в рот [Муллонен 2006: 247].
♦ Камень является элементом неживой природы, ему приписывается
свойство останавливать, прекращать движение, поэтому образ камня
широко используется в славянских проклятиях и апотропеических
формулах (рус. камень в зубы [СРГК 1: 323], укр. щоб ти каменем
стае, зап.-укр. горячий му каминъ в зубы, серб, у камен се претеорио
[СД 2: 449—450]), а также во вредоносной магии, ср., к примеру,
практику подкладывания камней на порог, чтобы наслать болезнь на
обитателей дома [СД 2: 453]. Сочетание сущ. камень с цветовым
эпитетом синий нередко встречается как в восточнославянской заго-
ворной традиции [Агапкина 2005: 258-259], так и в топонимии Рус-
ского Севера57.
57 Возможно, топонимические Синие Камни тоже имеют сакральную се-
мантику: по мнению А. К. Матвеева, в тех зонах, где Синие Камни образуют
скопления, их можно считать переведенными названиями мерянских мольбищ
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии 299
карел, (рус.) *стянуло бы (у вас) пасть [СРГК 4: 91].
♦ СРГК не помещает это выражение в отдельную статью, но,
думается, ее можно было бы выделить исходя из контекста на
слово омменыиг. «Омменыши прокляты, не орите, стянуло бы у
вас пасть!» [СРГК 4: 91]. Правомочность такого выделения под-
тверждается приведенным в этом же словаре выражением пасть
стянуть ‘замолчать’ — «Поём, поём, а мужики-то и говорят:
„Стяните пасть, очень уж, прокляты, не орите!44» [СРГК 6: 382].
влг. сулема на язык тебе [КСГРС].
♦ Вторичное заимствование сулема дает в говорах широкий набор
значений, среди которых арх., влг. ‘несъедобная пища, отрава’,
‘приворотное зелье’, ‘мусор’ [КСГРС] и др. В составе рассмат-
риваемого выражения, скорее всего, функционирует сулема ‘от-
рава’ (ср. сулемовый настой ‘которым крестьяне, лечась, час-
тенько отравляются’ [Даль2 IV: 359]); фиксируются и другие не-
гативные вербальные формулы с использованием сулемы’, арх.
сулема тебе в руки, влг. сулема его побери [КСГРС].
перм. трёсъя тебе (ему, ей) на язык — «Тресъя бы тебе на язык-от села,
чтоб не обалтывала меня, бессовестная» [Прокошева: 102].
♦ Ср. влг., юж., вост, трёсся, трясся ‘гнетучка, кумоха, лихорадка’
[Даль2 IV: 439], влг. трёсъя ‘беда, неприятное происшествие’
[КСГРС]. Обозначения лихорадки используются в других негативных
вербальных формулах: трясца, трясъе тебе [Даль2 IV: 439], тресъ
ее побери [Прокошева: 102], трясучка тебя истряси [СРНГ 12: 266].
арх. червь под язык тебе — «Червь под язык тебе! — всё неладно го-
воришь»; «Червь под язык тебе! Скажешь ты про мою корову, така
хороша, скажут, червь под язык тебе, чтобы не изурочила, а то
скотина прикоснёт» [КСГРС].
перм. чивера тебе (ему, ей) на язык [СПГ II: 531].
♦ Ср. пск. чйверетъ ‘худеть, сохнуть’ [Опыт: 257], чаверетъ,
чавретъ, чаврйтъ ‘блекнуть, вянуть, чахнуть, сохнуть; хилеть,
хизнуть; загнивать’ [Даль2 IV: 580] и др. (об этих глаголах см.
[ЭССЯ 4: 32]). Слово чивера употребляется также в бранных
выражениях с «нетипунной» семантикой, ср.: какая чивера
привязалась, какую чиверу надо [СПГ II: 531].
влг. чирей бы тебе на язык [КСГРС], олон. чирёй вам в рот [Кули-
ковский: 133], чирей тебе (ему) на язык [БТДК: 580].
♦ Ср. арх. чирей тебе в костыч <кафтан>/ [СРНГ 15: 86].
[Матвеев 1998] (ср. также мнение И. И. Муллонен о том, что Синие Камни
обозначают границу какой-либо территории [Муллонен 2006: 246-247]).
300
Раздел III
нвсиб. чтоб тебе глотку заклало [СРГНО: 171].
дон. чтоб тебе язык напяло (вытянуло) [СРДГ 2: 168].
шшепота (шшепотишше) те на язык [Мокиенко 19996: 397].
♦ Ср. щипбта ‘болезнь колика, напускаемая, по убеждению суеве-
ров, волшебниками путем порчи’ [Подвысоцкий: 166].
сиб. язвина тебе в рот [ФСРГС: 160].
Изучаемые формулы реализуют различные структурные модели,
нередко пересекающиеся в основных звеньях. Набор элементов, кото-
рые могут использоваться в составе этих моделей, таков: орудие не-
гативного воздействия — негативное воздействие — объект воздей-
ствия (адресат проклятия) — локус.
Позиция адресата наименее интересна, здесь обычно выступа-
ет местоимение 2 л. ед. ч., реже — 3 л.
Локус воздействия означивается словами, называющими
органы ротовой полости и смежные с ними: ад, глотка, горло, кадка,
кадык, пасть, рот, хайло, язык.
Наиболее разнообразна лексика, называющая орудие нега-
тивного воздействия (неодушевленное или персонифицирован-
ное). Здесь выделяются следующие группы (многозначные лексемы
вроде корочун, волос и др. будут поданы условно в составе той груп-
пы, куда следует отнести основное — хотя бы по критерию частотно-
сти — значение слова):
названия заболеваний, болезненных повреждений (чаще кожных —
язв, нарывов и т. п.): васиха. жёлви (желвак, жёлги и др.), завал,
зараза, кила, кипун. тресъя. чивера. чирей, шшепота. язвина'.
названия животных: пресмыкающиеся (волос, змей, червь), земно-
водные (жаба), птицы (желна, корх);
названия мифических существ: корочун. лесной'.
наименования объектов неживой природы: синий камень'.
обозначения предметов, которые могут использоваться для нанесе-
ния увечий, отравления и т. п.: бастрык. кляп. кол. нож, сулема.
Меньшим разнообразием отличаются характеристики самого нега-
тивного воздействия (соответствующая позиция в составе формулы
нередко оказывается незаполненной). Эти действия либо подаются без-
лично (выщипать, закластъ. засадить. *напятъ. стянуть), либо припи-
сываются перечисленным выше «субъектам» (колонуть, сесть, съесть).
Охарактеризовав в общем виде своеобразие лексики, функциони-
рующей в составе изучаемых формул, представим подробные ком-
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
301
ментарии к формулам, воплощающим «птичьи мотивы» (желна тебя
колони и корх тебе седъ на язык): они представляются архаичными и
открывающими широкие возможности для сопоставлений.
Образ желны (черного дятла) живо восстанавливается языковым
сознанием из соответствующей идиомы (ср. приведенный выше кон-
текст), однако появление этого образа имеет, как представляется, не
столько внеязыковую, сколько внутриязыковую мотивацию. Рассматри-
вая внутриязыковые предпосылки следует, во-первых, обратить внима-
ние на влг. жевна (жёвня) ‘опухоль на языке куриц, типун’ [СГРС 3:
347], для которой можно предполагать производность отжевать'. семан-
тически такая версия поддерживается упоминавшимся выше представ-
лением о том, что типун «нажёвывается» курицами. Возможно, первич-
ная форма жевна подверглась аттракции к желна ‘дятел’ (вероятность
такой аттракции подтверждается тем, что данные лексемы в говорах Рус-
ского Севера могут быть омофонами, ср. арх., влг. желна ‘черный дятел,
желна’ [СГРС 3: 350-351; СРНГ 9: 108] при явлении нейтрализации [в] и
[л] в [у]). Дополнительной смысловой поддержкой процесса аттракции
становится представление о прожорливости желны, о ее свойстве посто-
янно «жеваться», которое отражается, к примеру, во влад., костр. желна
‘обжора; тот, кто беспрестанно ест, «жуется»’ [СРНГ 9: 108; ЛКТЭ].
Во-вторых, базой для аттракции к названию черного дятла мог стать
другой омофон, ср. зафиксированную в русских говорах Карелии лек-
сему желна ‘болячка’ [СРГК 2: 46] (это слово, возможно, родственно
желунйца ‘воспаление, гангрена’, которое, по мнению В.А.Меркуло-
вой, восходит к *zelunb ‘желчный’ < *zelb ‘воспаление; горечь’ [Мер-
кулова 1985: 39^40]). Такая аттракция, как и предыдущая, имеет не
только фонетическое, но и смысловое обоснование: наименования
болезней, как было показано выше, активно функционируют в составе
изучаемых вербальных формул.
В-третьих, процесс аттракции мог быть спровоцирован не омо-
фоничным, но тоже фонетически близким словом типа желвъ и проч,
(см. выше), являющимся обозначением опухоли горла, желвака, и т. п.58.
Факты такой аттракции отмечены А. В. Гурой: «Созвучием слов жел-
на и желвы определяются некоторые коннотации, присущие образу
дятла. Так, карпат. украинцы запрет убивать дятла (укр. жовна) объяс-
няют опасением подхватить золотуху (укр. жовны)59, а русские парят
58 Такая аттракция возможна в ряде славянских языков, см. обзор сла-
вянских орнитологических наименований, восходящих к *zelna. в работе
[Клепикова 1964].
59 Ср. также укр. жоуна ‘название болезни, в результате которой опуха-
ет горло’ [ПЛНМ: 81].
302
Раздел III
и прикладывают траву «дятлевник» к воспаленным железам (желвам)
на шее» [Гура 1997: 714—715; СД 2: 171; см. также Володина (в печати)].
Независимо от того, что является базой аттракции, следует пред-
полагать, что при создании идиомы желна тебя колони происходит
«оживление» образа птицы (наведенного, по-видимому, народно-эти-
мологическими сближениями), когда ей приписываются обычные для
дятла действия—стучать, колотить. Нельзя исключать и существова-
ния внеязыковых факторов, обусловивших соотнесение представле-
ний о типуне и дятле. Такие факторы могут быть аналогичны тем, что
реализовались при появлении другой «птичьей» формулы — корх те-
бе седъ на язык.
В образе коршуна (корха, коршака и др.) ведущим мотивом явля-
ется хищность. Непосредственная опасность для домашней птицы, ис-
ходящая от коршуна, обусловливает использование этого образа в со-
ставе бранных формул типа смол, коршак тебя бей, коршак тебя задери,
твер. коршак тебя возьми [СРНГ 15: 33]. В семантико-типологическом
плане показательна фиксация аналогичных вербальных формул, на-
пример, в венгерском языке, ср.: hogy а капу a vinne el («чтоб коршун
унес его») ‘дьявол его возьми’ [Orszagh I: 974]. Можно думать, что
формула, обозначающая вербальный запрет, возникла в результате
весьма типичного для изучаемого пласта идиоматики семантического
сдвига: как было показано выше, смыслы ‘черт побери!’ и ‘типун на
язык!’ нередко соседствуют в одном блоке вербальных формул и впол-
не обратимы. Однако фиксация слова корх ‘типун на языке куриц’ в ар-
хангельских говорах вне соответствующей формулы позволяет предпо-
ложить и несколько иной ход семантического развития.
С точки зрения типологии любопытно, что весьма редкая связь
значений ‘опасная, хищная птица’ и ‘типун’ известна румынскому и
молдавскому языкам: молд. кдбе — 1) типун (птичья болезнь); 2) фолък.
птица, которая криком предвещает беду (ворон, филин, сова, кукуш-
ка) [МолдРС: 291]; румын. сдЪе — 1) болезнь кончика языка птиц, ти-
пун; 2) птицы (кукушка, ворона и др.), которые своим криком пред-
вещают несчастье [DLRLC I: 477]. Если словари современного ру-
мынского и молдавского дают такой порядок значений, то историче-
ские словари румынского языка первичным для слова сдЪе считают
значение ‘зловещая птица’: 1) птица (сова, филин, кукушка, ворон и др.,
которая предвещает несчастье); 2) любой предмет или явление, кото-
рый предвещает несчастье; 3) несчастье; 4) болезнь у куриц и гусей,
вызванная нехваткой воды, типун и др. [DLR I/ П/1: 25]. Первичность
«птичьего» значения подтверждается этимологически: данное слово
квалифицируется как заимствование из славянских языков, ср. ст.-слав.
кобъ ‘гадание по птичьему полету или по встрече’, др.-рус. кобъ ‘га-
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
303
дание по полету птиц; предзнаменование, колдовство и др.’, при этом
значение ‘типун’ считается региональной романской новацией (вы-
сказывается предположение, что его появление можно объяснить тем
«жалким» звуком, который издает курица, больная типуном) [Tiktin I:
379]. Славянские лексемы являются продолжениями корня ^коЪ-, к
гнезду которого относятся также наименования хищных птиц ср.:
болг. кобъц ‘сокол’, словац. kobec ‘хищная птица Falco columbarius’,
рус. кобец, кобчик ‘малый ястреб’, диал. кобчик ‘род ястреба’, укр.
кгбецъ ‘кобчик’ и др. [ЭССЯ 10: 101-102]. Таким образом, румынский
факт говорит о существовании семантического перехода «зловещая
птица» —> «типун на языке птиц», направляемого, по всей видимости,
семами ‘несущий опасность’, ‘зловещий’ (приведенная выше версия,
которая связывает эти значения через идею звука, издаваемого боль-
ной курицей, малоубедительна): несмотря на то, что птичий типун яв-
ляется, казалось бы, незначительной «болячкой», он тяжело перено-
сится курами (арх. «Хоть маленький пипчик, а куры быстро дохнут»
[КСГРС]) и воспринимается как грозный знак, несущий серьезную
опасность (ср.: влг. «Сегодня пипыш к курам, а завтра беда к людям»
[КСГРС], польск. «Drze рурес wiosce niejednej niebodze, nahalasuje i
naczyni strachu» [SW V: 449]).
Изложенное заставляет думать об устойчивой связи представлений
о хищной (зловещей) птице, пророчащей беду, и вербальной угрозе —
реакции на кощунственные слова. Тем самым создается мотивацион-
ная база для объяснения идиомы корх тебе седъ на язык, а также
смысловая поддержка — в данном случае внеязыковая мотивация, до-
полняющая собственно языковую — для интерпретации выражения
желна тебя колони. Отметим, что представления о коршуне и желне,
а также о вороне и кукушке, фигурирующих в приводившихся выше
романских примерах, отличаются известным сходством: в славянских
народных верованиях коршун и ястреб относятся к тому же разряду
нечистых и зловещих птиц, что и представители семейства вороно-
вых; черный дятел и кукушка предвещают скорую смерть или по-
койника; существует обрядовая параллель коршуна-ястреба и кукуш-
ки, ср. превращение кукушки в ястреба или коршуна; ястреб и кор-
шун как нечистые и зловещие птицы нередко наделяются демониче-
скими свойствами (в представлениях славянских народов, к примеру,
в хищном ястребе скрывается черт; ср. русское выражение черт кор-
шуноватый) и т. п. [Гура 1997: 542, 548, 554-555, 705-707, 714].
Говоря о мотивационном субстрате, который обусловливает взаи-
мосвязь значений ‘птица’ и ‘типун на языке’, следует также напомнить,
что образы различных птиц вообще устойчиво соотносятся со сферами,
связанными с ротовой полостью, речью, ср. литер, ворона в рот залетит
304
Раздел III
‘о невнимательном человеке’, дать дрозда ‘делать выговор, устраивать
разнос’ [ССРЛЯ 4: 478^479], ворон, галки в рот влетели ‘кто-либо ос-
тался обманутым’ [СРНГ 6: 114], живы сороки изо рта летят ‘о лживом
человеке’ [СРГК 2: 56], арх. птичка в роте у кого-либо ‘о том, кто много
говорит, болтает’ [КСГРС], курятник разинуть ‘внимательно слу-
шать, раскрыв рот’ [СРСГСП 2: 85] и т. п. Этот образный материал
стимулирует возможности создания новых номинативных конфигура-
ций, эксплуатирующих связь «птица» <-> «рот, речь». Необходимо от-
метить и существование такого номинативного поворота данного ма-
териала, как мотив «клевания за язык», ср. влг. клюнуть в язык ‘ска-
зать что-то некстати, не подумав’ [КСГРС], серб. у]ела га пчела за je-
зик ‘о пьяном человеке, который заикается, лепечет’ [РСА VIII: 705].
Еще одна мотивационная предпосылка, обусловливающая связь
представления о типуне и птичьих образов, заключается в том, что по-
следние могут использоваться для обозначения разного рода пятен, в
том числе болезненных, ср.: галки ‘у торговцев крупами в дореволюци-
онной России — темные пятна на гречневой крупе’ [СРНГ 6: 114], пск.
журавли ‘о кружках сала или масла, плавающих в воде’ [СРНГ 9: 229],
томск. ласточка ‘болезнь (какая?)’ — «Вот теперь трахомы называют, а
мы называли ласточкой. Она вроде золотухи, нарывает на затылке»,
‘темное пятно на нёбе лошади («якобы признак того, что лошадь про-
живёт не более 7 лет, а если кобыла, то никогда не будет жеребиться»)’
[СРНГ 16: 283]60. Ср. факты других славянских языков: укр. ластовин-
ня ‘веснушки’ — «Хто мае ластовиння на виду, то, побачивше вперше
весною ласт!вку, ...умываеться, щоб не було того ластовиння» [Грин-
ченко 2: 346], журавина, журавиха [Дзендзел1вський: 180], сороче ра-
боты ie, ластовече работенйе ‘то же’ [ПЛНМ: 64], курчат паси ‘о вес-
нушчатом’ [Ужченко: ПО]61, болг. пиленца («птенчики, цыплятки»)
‘знаки крови на рубашке молодой’ [Узенева 2003: 299], блр. гуска —
«Гуска — такая маленькая бародаука, што яе вельм! важна вывесцЬ;
спица — «Спица — наляцщь так! прышчай, чорным! ягадам! прыклада-
ваш, чарнщам!» [Володина (в печати)] и др.
Наконец, с точки зрения языковой типологии следует привести
также упоминаемую В. М. Мокиенко (без комментариев) связь значе-
ний ‘типун’ и ‘синица’ в венгерском языке (pintyoke, cinke) [Моки-
енко 19996: 398].
60 При этом восприятие типуна как пятна на языке тоже имеет языковую
верификацию, ср., например, данные словенского языка, где у слова pika, в
числе прочих, фиксируются значения ‘типун’ и ‘пятно’ [Snoj: 513].
61 Данная модель фиксируется и за пределами славянских языков, ср., на-
пример, литов, strazdana ‘веснушка’ (при strazdas ‘дрозд’) [Журавлев 20056: 893].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
305
Заканчивая рассмотрение «птичьих» слов, используемых для обо-
значения типуна на языке, отметим, что множественность мотиваци-
онных ходов, движимых как когнитивными факторами, так и сугубо
техническими внутриязыковыми обстоятельствами, создает, на первый
взгляд, ситуацию «этимологического агностицизма», которая скрыва-
ет реальный генезис языкового факта. Однако эта ситуация создается
скорее не субъективно, будучи привнесенной исследователем, а объ-
ективно — как отражение истинного положения при рождении такой
языковой единицы, которая связана с реализацией магической функ-
ции языка (особенно это касается идиомы желна тебя колонн}.
«Птичья» тема неминуемо выводит на проблему происхождения
самого слова типун. Эта лексема не рассматривается Ж. Ж. Варбот в
ряде ее работ, посвященных продолжениям глагола *tipati и родст-
венных ему *tepti, *tbpati и др. [см.: Варбот 1976: 32-36; 1985: 29-31;
1988: 68-69], для которых восстанавливается первоначальное значе-
ние ‘касаться, надавливать; ударять; бить, колотить’. Исключение
типуна из этого гнезда мотивировано, вероятно, существованием вер-
сии о связи этого слова с нем. Pips ‘типун, болезнь птиц’ из латин.
pituita ‘густая слизь’ [Фасмер IV: 60 — с замечанием «что не является
удовлетворительным»]. Действительно, обозначения типуна (болезни
птиц) с начальным звукокомплексом pip-ltip- и под. во многих герман-
ских, романских и славянских языках возводятся в ряде этимологических
исследований к латинскому источнику, ср., к примеру, этимологии англ.
pip, нем. Pips, франц, pepie из вульг.-латин. *pippita, связанного отно-
шениями диссимиляции с pittita, которое восходит к клас.-латин.
pituita ‘смола деревьев’ и ‘слизь’ [Picoche: 379; Klein: 1188]; болг. пи-
петница, сербохорв. popita из итал. pipita, имеющего далее описанные
выше связи [БЕР 5: 249; Skok III: 9], и др. При этом в тех же языках
существуют многочисленные слова на pip-ltip-, связанные с «птичьей
темой» и имеющие семантику писка или клевания, ср. рус. влг., вят.
тйпнутъ ‘клюнуть’ [Даль2 IV: 405], серб, пипати ‘обдирать, облупливать,
щипать’, хорв. pipac ‘клюв’, чеш. tipati/pipati ‘пищать (о птицах)’, англ.
pip ‘пищать, чирикать’, ‘разбивать скорлупу’, франц, pepier ‘щебетать,
чирикать, пищать’ и мн. др. Это обстоятельство заставляет некоторых
авторов отказываться от латинской версии и говорить о связи наимено-
ваний типуна со словами звукоподражательного происхождения (ср.,
к примеру, версию Ст. Младенова, изложенную в [БЕР 5:250]).
Не пытаясь решать вопрос о происхождении иноязычных обозна-
чений типуна на pip-ltip- (особенно романских, где связь с латинским
источником наиболее вероятна), укажем, что русское слово типун,
как представляется, все же должно занять свое место среди продол-
жений *tipati. Это мотивируется существованием в гнезде *tipati
306
Раздел III
(*tbpati и др.) тех смысловых линий, которые релевантны для ком-
плекса представлений о типуне, ср. идею «нажевывания» типуна (на-
пример, польск. срас ‘много, медленно, постоянно есть, жевать’ <
*tbpati [Варбот 1985: 29]) и клевания (влг. тйпка ‘клюв’, типатъ
‘клевать’ [КСГРС], а также приводившееся выше слово тйпнутъ). То-
гда внутренняя форма слова типун — «тот, кто клюет» («активность»
словообразовательной модели понятна с учетом тех представлений,
о которых речь шла выше; ср. корочун. лизун и т. п.). Следует вспом-
нить также о реализующих «птичью тему» многочисленных звуко-
подражаниях вроде тип-тип-тип ‘подзывные слова для кур’, тйпень-
ки ‘курицы’, тйпки ‘цыплята’ и под. [НОС И: 38], которые могут
быть связаны с *tipati — тоже звукоподражательным по происхож-
дению — через идею клевания (хотя нельзя отрицать и возможности
их независимого образования).
По крайней мере, рассмотренный выше комплекс русских диа-
лектных вербальных формул помогает уяснить специфику народных
представлений, связанных с речевыми запретами, а также специфику
мотивационных отношений в соответствующей группе лексики.
3.4. СИВОГО КОНЯ В ПОЛЕ НЕ ВИДАТЬ
Фразеологизм сивого коня в поле не видать ‘о наступлении тем-
ноты, сумерек’ (варианты: сивого коня под кустом не видать, белого
коня (в поле) не видеть (увидеть), вороного коня под кустом не ви-
дать. серого коня из-за огороду не видно) зафиксирован ТЭ в не-
скольких районах Архангельской и Вологодской областей, ср. неко-
торые контексты: арх. «Затемнала я у Клавдеи, стало сивого коня в
поле не видать»; влг. «Стемнало, белого коня в поле не увидишь»; арх.
«Темнает рано, темнина така сделатся — вороного коня под кустом не
видать» [КСГРС], влг. «Домой идти пора, уж вороного коня в поле не
видать» [СГРС 1: 182] и др. Ср. также арх., влг. сива коня в поле не
видно ‘о быстром наступлении сумерек после Ильина дня (20 июля по
старому стилю)’62 [Ефименко 1877: 179; КГ: 286]. Образная основа этих
идиом прозрачна, однако интересны переклички с другими фразеологи-
ческими выражениями и фольклорными текстами, восстанавливаю-
щие пласт народных представлений, связанных с символикой коня.
62 Ильин день на многих восточнославянских территориях попадает как
бы на границу между летом и осенью, с ним связаны многие пословицы, по-
говорки и наблюдения, отмечающие происходящие в природе изменения, в
частности, удлинение ночей [Макашина 1982: 86-88].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
307
Сопоставительный ряд следует открыть псковским выражением
поп на сивой кобыле ездит ‘о сивой ночи’ [СПП: 62]. Этот фразеоло-
гизм тоже фиксирует связь «лошадиной темы» с наступлением ночи,
но в нем реализуется несколько иной поворот образа — с кобылой
(у которой обнаруживается всадник) сравнивается сама ночь. Параллели
представлены и в русских народных сказках, где основные временные
рубежи суток — рассвет, восход солнца и наступление ночи — соот-
носятся с образами трех всадников (соответственно белого, красного
и черного), ср.: «Скачет мимо Василисы всадник: сам белый, одет в
белое, конь под ним белый и сбруя на коне белая, — на дворе стало
рассветать»; «Скачет другой всадник: сам красный, одет в красное и
на красном коне, — стало восходить солнце»; «Едет опять всадник,
сам черный, одет во все черное и на черном коне, подскакал к воро-
там бабы-яги и исчез, как сквозь землю провалился, — настала ночь»
[Афанасьев НРС: № 104]. Здесь просматривается связь с древнейшим
представлением о коне или колеснице солнца (луны), характерным для
мифологических систем многих народов — в том числе для индоевро-
пейцев (об этом имеется обширная литература, см. [Афанасьев ПВСПI:
593; СД 2: 405-406, 591; СМ: 442; Журавлев 20056: 302-303; Белова
20046: 136-140; Макашина 1982: 85, 95; SSSL 1: 129 и мн. др.]). Важно
отметить, что в мифологии восточных славян особенно активны пред-
ставления о конях (колеснице) Ильи-пророка — повелителя грома: отсю-
да сразу возникает мысль о неслучайности упоминания Ильина дня при
описании значения рассматриваемых нами фразеологизмов.
Как показывает фразеология народного календаря, образ коня
используется не только для того, чтобы представить смену временных
промежутков в рамках суток, но и для осмысления чередования времен
года: времена года сменяют друг друга, приезжая на коне в определен-
ную рубежную дату (или же всадником становится святой, чей празд-
ник приходится на такую дату). Например, 11 сентября по ст. ст. —
день Феодоры Александрийской (Федоры-замочи хвосты): На Федору
лето кончается, осень начинается — В этот день осень ездит на гнедой
кобыле [Калинский: 218; КГ: 351]; 15 ноября по ст. ст. — день мученика
Гурия: Гурий на пегой кобыле [Даль2 III: 549]; 17 ноября по ст. ст. —
день св. Григория Неокесарийского: Приехала зима на пегой кобыле
[Калинский: 223]; 6 мая по н. ст. — день св. Георгия: Егорий на белом
коне приехал <говорится о снеге, выпавшем в этот день> [СГРС 3:
301]; ср. также пословицу Весна и осень на пегой кобыле ездят [ППЗ:
289]. Подобная паремиология отмечена и у других славянских наро-
дов: укр. Ость на строкатом кош ездить [Номис: 13], чеш. Svaty
Martin prijizdi па Ы1ёт koni («Святой Мартин приезжает на белом ко-
не»), словац. Martin uz па sivkovi prijazdi («Мартин приезжает уже на
308
Раздел III
сивом коне»), польск. Marcin pryjechal па bialym!czarnym koniu («Мар-
тин приехал на белом/вороном коне») [Валенцова 2006: 403], польск.
Sw. Marcin tylko па bialym koniu jezdzi po chmurach, a wtedy pada snieg
(«Св. Мартин скачет в тучах на белом коне, и тогда идет снег»), серб.
До1)е нам свети Димитри]е на белу когьу («Прибыл к нам св. Димит-
рий на белом коне») [СД 1: 153]. Выбор мастей лошадей, на которых
ездят времена года, мотивирован доминирующим цветом в природе в
соответствующий сезон; гнедая (т. е. красно-коричневая) кобыла осе-
ни, вероятно, отражает зрительное впечатление от багряной листвы
деревьев и опустевших полей; сивый (белый) конь ассоциируется с
цветом снега; о пегой (т. е. пятнистой, пестрой) масти кобылы зимы
В. И. Даль пишет: «грязь и снег» [Даль2 III: 549].
Об активности изучаемой модели говорит тот факт, что способ-
ность ездить на лошадях приписывается не только праздникам, свя-
занным с определенным святым (который становится всадником), но
и многим другим календарным датам: полес. «Б1ла Коляда на биюму
кош шхав»; «Кажут, не плачте, дети, вжэ Коляда на трох кониках
еде»; «Коляда приехала на сивых конях, а коням трэба сина <так объ-
ясняют обычай класть сено под скатерть>»; «На Крэшчэння трэба ро-
биць крэшчыки и кони на дзверах. Робили на дзверах кони <и приго-
варивали^ „Прыехали на коних, на коних иуедзеце“» [Толстая 2005а:
36; 120; 128; 185], словац. Akpadd па Martina, aj Vel’kd пос pride па
bielom koni («Если идет дождь на Мартина, и Пасха приедет на белом
коне (придет со снегом)») [Валенцова 2006: 403] и др. «Конская» сим-
волика смены календарных циклов проявляется не только в паремио-
логии, но и в обрядности: к примеру, изображая «Зеленого Юрая»,
словенцы на Юрьев день ездят на белом коне [СД 1: 153]; сербы в
Рождество разъезжают на лошадях с криком «Божич!»; в польском
святочном обряде всадник заезжает прямо в избу, приговаривая:
Chodzil konis po kol^dzie, robil na chleb, robic b^dzie («Ходил конь по
коленде, зарабатывал на хлеб и будет зарабатывать»); конские празд-
ники и ряжение конем приурочиваются к важнейшим сезонным датам
[СД 2: 592-593].
Дальнейшее развитие «лошадиная тема» получает в метеорологи-
ческой фразеологии: арх. сивка скачет (бежит и т. д.)4о наступлении
зимних холодов’ и бурка скачет (бежит) 4 о весенней оттепели’ —
«Сивка скачет — готовь малицу, сивка коль рано прибежит — холод-
на зима будет»; «Бурка скачет — вёшница будет, бурка прибежит —
знать, зима ушла» [КСГРС]. Более детализированные варианты этих
текстов отмечены П. С. Ефименко: «Когда открывается весна — то
значит, что бурка идет на горку, а сивка бежит под горку, а когда на-
ступает осень с морозами — то значит, что сивка (снег) идет на горку
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
309
(нападает сверху), а бурка идет под горку (земля поступает под снег)»
[Ефименко 1877: 171]63; ср. также арх. поговорку Сивка идет на гор-
ку. а бурка — под горку (о начале зимы) [СРНГ 37: 273]. В результате
метонимических переходов с образом коня связывается уже не только
и не столько представление о смене одного временного промежутка
другим, сколько само погодное (природное) явление (сивка — снег,
иней). С этими «снежными» выражениями вступает в образную пере-
кличку идиома седой старик приехал 4 о сильном утреннем инее осе-
нью’ [СВГ 8:48]. Здесь нет образа коня, но представлен образ всадника.
Осмысление мороза, холодов через образ «сивого» коня встречается и
в паремиологии: болг. Сивъ конь рзна. се море смрзна. сиф конь вис-
на. сето поле стисна («Сивый конь ржет — море замерзает; сивый
конь свистит — поле „стискивает44») [Азим-Заде 1979: 96]; рус. Вдоль
села Бежит кобыла весела. Под конец хвоста Висит полон кошель
овса. Бежит да потряхивает (загадка о вьюге, метели) [Садовников:
№ 2059; КГ: 407]64.
Среди метеорологических явлений, связываемых в народной фра-
зеологии с образом коня, не только мороз, снег и иней, но и пар, роса,
ср. арх. от ключей парит — на белом коне ездят [КСГРС], яросл. ро-
са на конь села 4 об обильной утренней росе’ [ЛКТЭ], а также загадку
о росе: Зарится — Елёсиха на коня садится, светает — Елёсиха с ко-
ня слезает [Митрофанова: № 196]. Данные метеорологические явле-
ния сродни друг другу своим динамизмом, яркой «метаморфозно-
стью» (превращение воды в пар и наоборот)65.
63 Возможно, «лошадиная» метафора отражена и в лексемах сивка ‘снег’
[СРГК 6: 85], сивко ‘иней’ [СПГ 2: 333-334]; менее вероятно здесь внеметафори-
ческое воплощение цветовой темы. Эти слова находят, по всей видимости, до-
полнительную формальную и смысловую поддержку в притяжении к лексемам,
образованным от сивер ‘северный ветер’, ср. диал. шир. распр. сивер ‘холод,
холодная погода; мороз’, ряз. сивера ‘снег с дождем при пронзительном ветре’,
нвсиб. сиверка ‘зимняя непогода, метель’ и др. [СРНГ 37: 268-269, 271, 275].
64 Возможно, в рассматриваемый ряд следует включить также томск.
жеребятник ‘весенний мороз’ [СРГС 1/2: 119], хотя в языковом сознании но-
сителей традиции за этим словом закреплена сугубо прагматическая мотиви-
ровка: «Хиус, или жеребятник. Это весной, когда жеребята выходят пастись,
и вдруг мороз, жеребята погибают» [Там же].
65 Разумеется, этими фактами «лошадиная» тема в народной метеороло-
гии не исчерпывается. Широко известны русские народные загадки, где конь
(кобыла) кодирует многие другие природные и погодные явления — напри-
мер, туман: влг. Сивый жеребец Всё поле покрыл [ЭМТЭ]; ветер: тамб. Си-
вый жеребец На все царство ржет', ворон. По полю бежит Сивый жеребец'.
310
Раздел III
Эти выборочные примеры свидетельствуют о том, что образ коня —
средство постижения абстрактного представления о движении времени
через конкретную пространственную символику, это воплощение идеи
динамики, перемены, метаморфозы, будь то чередование светлого и тем-
ного времени суток, смена времен года или изменения в погоде.
Факты, приведенные нами, разнородны по своему языковому ста-
тусу: среди них есть текстовые, сюжетные структуры (например, за-
гадка о Елёсихе, сказочный фрагмент о всадниках), единицы, ото-
рвавшиеся от текста и приближающиеся к изолированным номинаци-
ям (сивка (бурка) скачет, вороного коня в поле не видать), а также
цельнооформленные лексемы, возникшие в результате «сворачива-
ния» текстов и обладающие темной внутренней формой (сивка 4снег’).
Промежуточное положение занимает идиома парит — на белом коне
ездят (неопределенно-личная форма сказуемого свидетельствует о заб-
вении исходного текста). При этом прослеживается такая тенденция:
если в текстовых структурах представлен как образ коня, так и образ
всадника, то в отдельных номинациях всадник исчезает, остается
только конь. Опуская образ всадника, язык устанавливает новые бы-
тийные связи между образом коня и внеязыковой действительностью.
Возвращаясь к идиоме сивого (вороного, белого, серого) коня в
поле не видать, можно предположить для нее исходную мотивировку
* «прискакала ночь на сивом (вороном) коне». Возможно, исходно
роль всадника была приписана не ночи, а Илье-пророку (ср. связь уве-
личения темного времени суток с Ильиным днем). Этот сценарий
подвергается демифологизации, причем линия демифологизации про-
ходит, в частности, через представление о попе, который ездит на си-
вой кобыле, способствуя тем самым наступлению ночи: с одной сто-
роны, небесный всадник спускается на землю, с другой, он остается
косвенно связанным со сферой сакрального. Дальнейшее обытовле-
ние исходного мотива приводит к появлению сугубо «бытийного»
фразеологизма сивого коня в поле не видать, за которым современное
сознание без труда прочитывает пропозицию «стало так темно, что не
видно (пасущегося в поле) коня».
Есть на свете конь, Всему свету не сдержать [Садовников: № 1986, 1988];
гром: симб. Кобыла заржет На Турецкой горе, Жеребец откликнется на Си-
онской горе', тульск. Сивый жеребец На все царство ржет [Садовников:
№ 2026-2027]; погоду в целом: Около села лошадка весела [Даль ПРН: 952] и
мн. др. Показательны также «конские» метеорологические приметы: конь за-
кидывает голову — к ненастью, валяется по земле — к хорошей погоде (рус.,
укр.); фыркает летом — к дождю, зимой — к метели (укр.); играет по дороге
на водопой — к ненастью (болг.) и др. [СД 2: 592].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
311
3.5. ЖАБА И ЛЯГУШКА В ПРИЗМЕ ДЕРИВАТОВ
Названия жабы и лягушки — земноводных «чудищ», издавна по-
ражавших воображение человека, являются неисчерпаемым источни-
ком как мифологических отождествлений, так и «живых» метафор
(описание ряда аспектов культурно-языковых образов этих животных см.
в [Гура 1997: 380-392, Судник, Цивьян 1982, Баранов, Мадлевская 1999,
Dqbrowska 2000]). Ниже будут предложены варианты семантической
интерпретации некоторых диалектизмов, образованных на базе рус.
жаба и лягушка. Эти языковые факты большей частью отсутствуют в
диалектных словарях русского языка и извлечены из лексических кар-
тотек ТЭ УрГУ.
Жаба сядь хорошая ‘призыв хорошей погоды’. Это выражение
записано в Вытегорском районе Вологодской области; ср. контекст: «Пе-
ред погодой галки грают, так говорят: жаба сядь хорошая!» [СГРС 3:
334]. «Метеорологический» регистр в значениях дериватов слова «жаба»
не просматривается, кажется, ни в славянских, ни в финно-угорских
языках (со стороны последних можно ожидать влияний, если учесть
лингвогеографические характеристики рассматриваемой идиомы); един-
ственный отклик обнаруживается в русских говорах Приамурья: жа-
ба ‘далекая гроза без громовых раскатов’ — «Жаба быват, когда хлеб
убирают, жаба — гроза без грома, вдали где-то, стороной, потом тучи
уходят» [СРГП: 84].
Появление метеорологических значений в этих случаях объясня-
ется тем, что в славянских народных представлениях жаба и лягушка
связаны с атмосферными процессами и погодными явлениями, что
обусловливает их активную роль в обрядах вызывания дождя. Пока-
зателен, например, существовавший на юге России обычай нанизы-
вать убитых лягушек и блох на нитку и вывешивать их на кусте, при-
говаривая: «Как ети блохи и лягушки повисли, чтобы тучи повисли»
[Гура 1997: 383-384]; у белорусов зафиксирована ритуальная практи-
ка битья лягушки травой с восклицанием «Аддай дождж!» [Антропов
2004: 246]; ср. также полесский обряд оплакивания и похорон лягуш-
ки, совершавшийся детьми во время засухи [Толстой, Толстая 1978:
112; ср. СД 3: 163]. У русских начало кваканья лягушек соотносится с
первым громом, поэтому практически полностью совпадают магиче-
ские практики, используемые при первом громе и при первом квака-
нье лягушек [Пашина 1998: 100]. Способность этих животных к «ме-
теопрогнозу» фиксируется, к примеру, в отмеченном в русских говорах
Карелии слове дождевка ‘разновидность лягушки’ — «Есть черная
лягуха, дождевкой зовем, как скачет, так, значит, дождь будет» [СРГК 1:
470]. Наконец, символическая связь жабы с грозовыми тучами прояв-
312
Раздел III
ляется в распространенном у славян сюжете о борьбе ужа (змеи) и
жабы, ср., например, гомельский текст: «Увщзшт, як ууж жабу лапая,
вазьм! палку i разгаш — уУжа У адзш бок, а жабу у друг!. А потум
узяцьмеш тую палку у двор. Як граза находзщь i грымщь, i блюкая,
трэба тую палку падняць, памахаць перад хмарай i сказаць: „Разганяю
эту непадобнасць!“» [Судник, Цивьян 1982: 138].
Мотивирующую среду для обозначения метеорологических явле-
ний посредством образа жабы создают особенности поведения этих жи-
вотных перед дождем, а также водная стихия проживания жаб и лягу-
шек; немаловажно и свойство грозовых туч увеличиваться в размерах,
разбухать, «надуваться» — подобное свойство приписывается и жабе.
Мотив «раздувания» жабы, переосмысляющий реальную способ-
ность животного раздувать зоб, проявляется в различных славянских
языках преимущественно при номинации «надутых», зазнавшихся
людей: чеш. zaba ‘надменный человек’ [Machek2: 721], pysny sa naduva
jako zaba na orechu [Kott IV: 1165], польск. nadymac siq jak zaba
[Skorupka II: 888], кашуб, nadqti jak zaba ‘о человеке зазнавшемся’
[Sychta VI: 262], укр. надутися, як жаба на купит [ФСУМ 1: 288],
надувся як жаба (на купит, на пеньку) [ССНП: 53] и др., ср. также
англ, to be puffed up like a frog, нем. Sich aufblasen wie ein Frosch
[D^browska 2000: 195]. Кроме того, можно усматривать воплощение
мотива раздувания в названиях насосов (польск. zabka ‘диафрагмен-
ный насос’ [БПРС II: 727], рус. ленингр., урал. лягушка ‘ручной насос
особого устройства, употребляемый в шахте и на строительных рабо-
тах’ [СРНГ 17: 256]), где он получает характерную конкретизацию:
движения насоса ассоциируются с движениями дыхательных органов
жабы, воплощая представления о затрудненности дыхания земновод-
ного (однако нельзя исключать и вероятности другой мотивировки: в
названиях насосов могут реализоваться впечатления об особенностях
передвижения животного66). Данный мотив фиксируется и в разных
жанрах восточнославянского фольклора, ср. пословицы вроде Как ни
дуйся лягушка, а до вола далеко; загадку о лягушке Этот толстый
Тарас Кричать горазд; сказочные ситуации, когда герой садится на
лягушку, которая раздувается до огромных размеров [Баранов, Мад-
левская 1999: 114].
Использование в составе фразеологизма глагола сядь имеет па-
раллели в других «жабьих» идиомах (ср. влг. жаба садится тебе!
‘типун тебе на язык’ [СГРС 3: 334] и др.) и объясняется представле-
66 Наконец, возможен еще один дополнительный мотивирующий мо-
мент: в речи рыболовов, охотников, туристов лягушкой называется ножной
насос для надувания резиновых лодок, который издает квакающие звуки.
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
313
ниями о неподвижности, фиксированности позы жабы (данное пред-
ставление мотивирует также использование названия лягушки (жабы)
в качестве технического термина, ср. балто-славянские обозначения
разного рода устройств, выполняющих функцию тормоза, крепления
и пр. [Судник, Цивьян 1982: 147-148]).
Рус. диал. жаба ‘рот’. Это слово упоминалось в этимологической
литературе как неясное в плане первичной мотивации слово. М. Фасмер
указывает на возможность соотнесения олон. жаба ‘рот’ с жабра, кото-
рое этимологически не связано с названием животного [Фасмер II: 31];
В. А. Меркулова разделяет данное мнение, включая в этот же ряд жабка
‘лунка, ямка’, жабитъ ‘ломать’, жабатъ ‘молоть’ [Меркулова 1963: Тб-
78]; Г. Плевачева считает, что ареал изолированного рус. жаба ‘рот’ за-
ставляет думать о том, «не имеем ли мы здесь дело с заимствованным
из неславянского источника словом» [Плевачева 1968: 93].
Думается, что жаба ‘рот’ производно от названия животного.
Во-первых, несмотря на то, что ареал слова ограничен вятскими, во-
логодскими, олонецкими, тверскими говорами, а также русскими го-
ворами на территории Мордовии [СРНГ 9: 49; ОСВГ 4:32; Селигер 2:
69; СРГМ 2: 49; СРГК 2: 30; СГРС 3: 334], предположение о заимст-
вованном характере данного факта вроде бы не подтверждается: судя
по лингвогеографическим характеристикам, источник может быть
найден в финно-угорских языках, однако таковой не обнаруживается
(финно-угорское «материальное» заимствование здесь фонетически
невозможно; семантическая калька не просматривается).
Во-вторых, данные языковой типологии показывают, что пасть
жабы или лягушки (относительно большая и широко раскрываемая)
становится лингвистически маркированной деталью ее облика Ср., к
примеру, данные германских языков: нем. Froschmaul («лягушачий
рот») ‘разинутый рот’, ‘полукруглое чердачное окно’ [БИРС I: 502],
англ, toad's mouth («жабий рот»), frog's mouth («лягушачий рот»)
‘растение львиный зев’ [OED XVIII: 171; VI: 210]. В славянских язы-
ках идиомы с внутренней формой «жабий (лягушачий) рот» и обозна-
чения рта на базе названия этого животного, кажется, отсутствуют,
однако имеются косвенные аргументы в пользу выделенное™ рас-
сматриваемой «портретной» характеристики. Например, болг. жа-
бест ‘тот, кто имеет заячью губу’ [РБЕ (Чолакова) V: 8] акцентирует
признак размера и уродливости жабьей пасти. Некоторые лексические
факты эксплицируют мотив ‘хватающая ртом’, ‘жующая’, ср. болг.
жабя, жабвам, жабна ‘взять, схватить полной горстью’, жабя се
‘жевать так много пищи, что выступают слюни на губах’ [БЕР 1: 521,
519], рус. енис. жабатъ ‘есть, жрать (о животных)’ [СРНГ 9: 49], жа-
бонутъ ‘выпить залпом’ [СРГК 2: 30]. Связь жаба — жевать может
314
Раздел III
реализоваться и на уровне паронимической аттракции: фонетически
близкие жабка и жавкатъ влад., вят., иск., хакас., яросл. ‘жевать;
есть с чавканьем, чавкать’ [СРНГ 9: 54] подвергаются сближению,
вследствие чего у слова жавка ‘пережеванная пища’ появляется ва-
риант жабка [ПОС 10: 144].
Следует также отметить, что маркированными оказываются не
только «анатомические» и «функциональные» характеристики жабьей
пасти, но и приписываемая жабе способность залезать в рот человека:
ср., например, рус. просторен, жабу тебе в рот ‘замолчи’, яросл.
жаба бы тебе на язык-от ‘то же’ [СРНГ 9: 49]. Этот же мотив экс-
плицируется в названиях различных болезней, болезненных выпукло-
стей, локализующихся чаще всего во рту, в горле, в области шеи.
Факты такого рода широко представлены в славянских языках, что
позволило В. А. Меркуловой реконструировать общеславянское *zaba
‘болезнь, опухоль горла, языка, шейных желез у людей и животных’
[Меркулова 1963: 72]67. Важно учитывать и дополнительные факто-
ры, мотивирующие названия таких болезненных выпуклостей: это,
во-первых, уже упоминавшийся выше мотив «раздувания» (и связан-
ный с ним мотив тяжелого дыхания: при опухолях горла может появ-
ляться одышка); во-вторых, мотив «бугристости» кожного покрова68.
Следует напомнить, что наименования подобных заболеваний появ-
ляются не только на базе названия жабы, но и обозначений других
«гадов», ср., в частности, рус. диал. шир. распр. мышка ‘опухоль, вос-
паление подчелюстных желез у лошади’ [СРНГ 19: 70], ящер ‘шерохо-
ватое воспаление языка у скота и лошадей’ [Даль2 IV: 683] и мн. др.
Таким образом, обозначения посредством «жабьих» дериватов
болезней, локализующихся в области рта, актуализируют связь «жа-
ба» —> «рот», укрепляя ее мотивационный фундамент. Показательную
актуализацию этой связи фиксируют отмеченные в некоторых кон-
67 Модель «жаба» «опухоль горла» является не только славянской,
ср., к примеру, нем. Frosch ‘опухоль горла, воспаление во рту, нарывы под
языком’, Zungenkrote ‘зоб, опухоль под языком’ [Володина 2006а: 64], англ.
frog-in-the-throat ‘хрипота’ [Мюллер: 292] и др. Распространению «жабьих»
названий болезней горла способствует также номенклатурное латин, капа
(ranula) linguae.
68 Ср., например: рус. курск. жаблина ‘покоробившееся место в доске
или дереве’, костр. жабитъся ‘коробиться от жары (о дереве)’ [СРНГ 9: 50],
блр. жабщца ‘морщиться, иметь бугристую форму’ [ЭСБМ 3: 193]; показа-
тельна также семантика продолжений *korpa\ блр. курапа ‘жаба’, укр. коропа
‘жаба’, коропатий ‘шероховатый, в бугорках’, словац. г ара ‘рубец, оспинка
(на лице)’ [ЭССЯ 11:90].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
315
текстах «рецепты» лечения указанных выше болезней, сконструиро-
ванные не без влияния так называемой этимологической магии (об
этом явлении см. в [Толстой, Толстая 1988]), ср., например, яросл.
жабка ‘увеличенный лимфатический узел’ — «Жабка сделалась в ро-
те, дак надо жабьи лапки высушить да истолочь» [ЛКТЭ]; в болгар-
ской народной медицине для лечения болезни жаба (гущер, гърлобол)
больной должен носить на шее амулет под названием жабка [ЕБНМ:
125]. Интересная параллель отмечается в обрядовой практике англи-
чан: словом frog («лягушка») обозначается ‘болезнь рта, которой под-
вержены маленькие дети’; при лечении этой болезни следует, держа
лягушку за одну из задних лап, поднести ее ко рту ребенка и дать ей
возможность «распространиться» во рту и, тем самым, стать реципи-
ентом болезни [EDD II: 504].
Итак, в структуре славянских народных представлений о жабе
значимым оказывается мотив рта, который реализуется в следующих
вариантах: ‘имеющая большой, некрасивый рот’, ‘хватающая ртом,
жующая’, ‘способная залезать в рот человека’. На этой мотивацион-
ной базе появляется рус. диал. жаба ‘рот’.
Возможно, реализацию модели «название животного» —> «рот»
следует усматривать также в рус. орл. мышка ‘рот’ — «Ты возьми у
мышку воды» [СОГ 6: 163]: в языке широко отражена прожорливость
мыши, что, по всей видимости, мотивировало данную номинацию.
Следует отметить также влг. собаку драть ‘громко кричать’ [КСГРС],
выводящую на * собака ‘глотка, рот’. Это выражение варьирует тему,
которая представлена в просторечном выражении собак спустить
‘выругать, отчитать кого-либо’. Таким образом, обозначения рта с
помощью образов животных задают динамичный, функциональный
аспект изображения этого органа (широко открытого, хватающего
пищу, жующего, грызущего, издающего звуки и т. п.). Поэтому соот-
ветствующие зоометафоры встречаются преимущественно в составе
глагольных конструкций. Так, «контекстными партнерами» жабы вы-
ступают глаголы драть, вопить, разинуть, открыть, раскрывать,
распялить, например: влг. «Ну разбазанилась-то как, жабу-то откры-
ла» [СГРС 3: 334]; киров. «Не раскрывай свою жабу» [СРНГ 9: 49];
«Ну и горластая, жабу роспелила» [ОСВГ 4: 32].
Вышесказанное позволяет предложить некоторую перестановку
акцентов при объяснении названия лягушки жерлянка'. В. А. Меркулова
полагает, что ближайшим мотиватором является жерло ‘голос, громкий
голос’; следовательно, жерлянка — ‘крикунья’ [Меркулова 1976]. Одна-
ко предпочтительнее, на наш взгляд, отвергаемая В. А. Меркуловой вер-
сия о том, что производящим может быть другое значение слова жер-
ло — ‘горло, зев, открытый рот, пасть’. Дополнительным аргументом
316
Раздел III
в пользу такого решения может послужить структурное и мотиваци-
онное сходство слов жерлянка ‘лягушка’ и горлянка томск. ‘разновид-
ность змеи, которая, по поверьям, будто бы может влезть в рот спяще-
го человека’, перм. ‘из названий пресмыкающихся’ [СРНГ7:45].
Яросл. лягушины рачки ‘мозоли’, влг. лягушка ‘мозоль’. Второй
компонент сочетания лягушины рачки [ЛКТЭ]связывается в синхрон-
ной плоскости языкового сознания носителей говора со словом рак;
эта связь определяет рецептуру лечения мозолей: «Обутка тесная была,
дак натерла лягушины рачки. Лягушины рачки от рака. Надо, говорят,
подержать ноги-те в воде, где раки водились, вот и наладится, скоро
сойдут оне» [ЛКТЭ]. Славянской этнокультурной традиции известно
такого рода использование рака в народной медицине: к примеру, у бе-
лорусов считается полезным для лечения лихорадки пить воду, в кото-
рой рак пробыл 12 дней [Гура 1997: 401; см. также ЕБНМ: 350]. Однако
связь с раком, по всей видимости, в данном случае вторична и может
быть квалифицирована как проявление этимологической магии.
Для восстановления первоначальной мотивации идиомы лягушины
рачки следует привлечь отмеченные в соседних вологодских говорах
экспрессивные лексемы рачки, рачйлы ‘глаза (обычно вытаращен-
ные)’, рачитъ ‘смотреть напряженно, «пялиться» на кого-что-либо’
[КСГРС]. Тогда восстанавливается внутренняя форма «лягушачьи
глаза», что подтверждается наличием в донских говорах сочетания ля-
гушачий глаз ‘кожная болезнь’ — «Между пальцами на ногах волды-
ри, синеют они, человек умирает от лягушачьего глаза»69 [СРНГ 17:
257]. В плане типологии показательны факты с аналогичной внутрен-
ней формой и сходной семантикой, обнаруживаемые, к примеру, в
финно-угорских и германских языках: эст. konnasilm («лягушачий
глаз») ‘мозоль’ [Тамм: 192], удм. эбек син («лягушачий глаз») ‘бубон,
подмышечный фурункул’ [УдмРС: 518], англ, frog-eye («лягушачий
глаз») ‘грибковое заболеваний растений, выявляемое по пятнам на их
листьях’ [OED VI: 208]. Здесь не ставится задача осуществить генети-
ческую атрибуцию данной номинативной модели, поскольку для это-
го требуются дополнительные разыскания: насколько нам известно, в
славянских языках, кроме русского, отсутствуют идиомы с внутрен-
ней формой «лягушачий глаз», обозначающие разного рода кожные
болезни, что наводит на мысль о заимствовании, однако лингвогео-
графические характеристики русских идиом мешают признать фин-
но-угорское влияние.
69 Мотив смерти, появившийся в данном контексте, объясняется, по всей
видимости, бытующими у славян представлениями о том, что жаба и лягушка
способны сглазить человека или животное [Гура 1997: 386].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
317
Вообще, мотив глаз оказывается весьма значимым в структуре
славянских народных представлений о лягушке и жабе. Реализации
этого мотива базируются на следующих признаках: размер, «в ы т а -
ращенность», неподвижность взгляда: рус. костр. жвако-
шарый ‘имеющий вытаращенные глаза’ при костр. жвака ‘лягушка’
[ЛКТЭ], польск. zabie oczy ‘выпученные глаза’ [SW VIII: 682; D^brow-
ska 2000: 192], кашуб, zabe осё ‘то же’ [Sychta VI: 264], болг. като на-
стъпена жаба следам ‘широко открытыми глазами (глядеть)’ [РБЕ
(Чолакова) V: 7], блр. вулутла очы, ек жаба на олешину [ТС 2: 54],
укр. витрйцив слаякжаба [ССНП: 53]; цвет (синий): чеш. zabdcie
ocko ‘незабудка’ [Kott IV: 1165], польск. zabie oczka, zabioczy ‘неза-
будка’ [SW VIII: 682], блр. жабшые очш ‘растение пролески’ [ТС 2:
54], болг. жабешки дчи ‘Ranunculus ficaria’ [БЕР 1: 520] и др.; рас-
положение: словац. zabe ро oci ‘очень низко’ [SSJ V: 783]. Марки-
рованность этой детали образа жабы и лягушки проявляется в топо-
нимии (ср. название реки на Полтавщине Жабине Око [Стрижак 1964:
166], залива в Вологодской области Лягушин Глаз [Бел]), а также под-
держивается вне системы языка: согласно славянским верованиям,
лягушка и жаба способны сглазить человека или животное; поляки и
боснийцы считают, что когда лягушка смотрит на человека, она пере-
считывает ему зубы, и они от этого выпадают [СД 3: 163].
Таким образом, в основе наименования мозоли лягушины рачки
лежит признак выпуклой формы, небольшого размера (и цвета?), что
позволило использовать при номинации образ лягушачьих глаз.
Что касается лексемы лягушка ‘мозоль’, то она могла появиться в
результате «сворачивания» исходного * лягушачий глаз. Такая ком-
прессия образа характерна для зооморфных метафор, ср.: арх. пету-
ший гребешок^ арх. петушок ‘витая раковина’ [КСГРС], собачий
язык^ собачка ‘растение Cynoglossum’ [Даль2 IV: 251-252], вят., ниже-
гор., пск. котовые муды, вят. котовые яйца, котовы уши [СРНГ 15:
109-110] —> арх. коток ‘растение клевер пашенный’ [КСГРС] и др.
Возможно и другое объяснение. «Жабьи» дериваты, как говорилось
выше, активно используются в славянских языках для обозначения
нарывов, увеличенных лимфоузлов, желваков и т. п. Обозначение мо-
золи естественным образом могло бы вписаться в сферу действия этой
модели, ср. рус. лягушки ‘пятна на лице у женщины в период бере-
менности’ (материалы Г. Попова; см. в [Баранов, Мадлевская 1999: 118]).
Влг. жабьи воды ‘катаракта’, костр. жабьи плевки ‘то же’. На-
звание жабьи воды [СРНГ 3: 335] включает характерный для обозна-
чений глазных болезней глаз компонент вода, ср. рус. литер, темная
вода ‘слепота, вызванная атрофией зрительного нерва’, желтая вода
‘глаукома’, костр. вода в глазах ‘катаракта’ [ЛКТЭ]: при глаукоме на-
318
Раздел III
рушается циркуляция внутриглазной жидкости; в начальной стадии
катаракты наблюдаются явления оводнения хрусталика70.
Появление образа жабы в составе названия жабьи воды не слу-
чайно. Во-первых, как было показано выше, славянскими языками
фиксируется значимость мотива глаз в структуре народных представ-
лений о жабе. Во-вторых, языковой «портрет» жабы включает мотив
продуцирования болезней. Как представляется, этот мотив имеет
сложную этиологию и возникает вследствие реализации комплекса
мотивов, которые были описаны выше: способность проникать в ор-
ганизм + «бугристость» кожи + способность надуваться / тяжело ды-
шать. Судя по факту распространенности в славянских языках и на-
личию параллелей за их пределами (см. примеры такого рода в [ЭСБМ 3:
190]), исходно с помощью образа жабы обозначались болезни — пре-
имущественно опухоли — рта, горла, шеи (об этом см. выше), однако
«болезненная» модель обнаружила высокую активность, охватив за-
болевания самых различных органов, ср., например, рус. арх. жаба
‘болезнь, которую напускают, наводят; порча’ [СРНГ 9: 49], костр. жа-
бья болесть ‘бронхиальная астма’ [ЛКТЭ], сербохорв. жаба ‘вид болез-
ни ног людей и животных’, жабица ‘расстройство желудка у скота’
[РСА V: 269, 272], н.-луж. zabka ‘смертоносная, быстротекущая болезнь
у крупного рогатого скота, заключающаяся в закупорке и отеке живота’
(Zabka sele napina — «Жабка раздувает теленка») [Muka II: 1132] и др.
Народная мифология подстраивается под эту «экспансию» модели:
если при объяснении причин появления болезни ostra zaba кашубы
утверждают, что корова съела надутую жабу, которая ее распирает, то
в случае с болезнью krizova zaba ‘нарушение функций задних конеч-
ностей коровы’ считается, что корова наступила на жабу и теперь
идет, виляя в разные стороны, чтобы не наступить еще [Sychta VI: 262].
Появлением жабы в организме человека объясняются не только болезни
как таковые, но и другие аномальные физиологические, а также ду-
шевные состояния: карел, (рус.) лягуха ходит ‘тошнит, мутит’ [СРГК 3:
174], просторен, жаба давит (душит, заела и др.) ‘о жадности, завис-
ти’ [БРЭР: 173], укр. жаби в живопи квакаютъ у кого ‘кто-н. очень
голодный’ [Ужченко: 42], холодна жаба сидитъ nid серцем ‘о чувстве
страха, предчувствии чего-л. плохого’ [ФСУМ 1: 288], блр. у яе жаба
на языку не спячэцца ‘не будет в тайне’ [СПЗБ 2: 128], болг. в корема
ми жаби куркат («в брюхе у меня жабы куркают») ‘о чувстве сильно-
70 Показательно греч. хашррахтоо; — букв, «водопад»: происхождение
этого названия связано с тем, что в древности причиной заболевания считали
излияние жидкости между радужкой и хрусталиком с образованием не-
прозрачной пленки [БМЭ 10: 583].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
319
го голода’ [РБЕ (Чолакова) V: 7], сербохорв. (про)гутати жабу ‘тер-
петь неприятности’ [РСА V: 270], кашуб, zdb sq, obzarla («жаб обо-
жралась») ‘о беременной вне брака’, jakbe zabe jaded («как будто жабу
съел») ‘о тощем человеке’ [Sychta VI: 261] и др. Ср. также бытующее
у поляков представление о том, что матка — это лягушка, которая
своими лапками сжимает внутренности человека [Володина 2006в: 40].
Наконец, способность жабы порождать болезни напрямую обозначена
во внутренней форме пенз. жабородка ‘бородавка’ [СРНГ 9: 51].
Таким образом, на пересечении мотива глаз и мотива продуциро-
вания болезней возникает тот смысл, который объясняет появление
образа жабы в названии катаракты жабьи воды. Кажется, из славян-
ских языков подобное значение фиксируется только в кашубском:
zaba, оспа zaba, zaba па оса/ ‘катаракта у людей или животных’
[Sychta VI: 262]71. Следует отметить, что при восприятии идиомы
жабьи воды современное языковое сознание может установить вто-
ричные «реальные» связи с местом обитания жабы — темными бо-
лотными водами.
Дополнительные штрихи в эту картину вносит костромское на-
звание катаракты — жабьи плевки [ЛКТЭ]. Для понимания мотива
плевка следует привести бытующее у славян представление о том, что
жаба может плюнуть человеку в глаза — и он от этого ослепнет [Гура
1997: 386; СД 3: 164]; ср. также польск. nawet jej pot moze czlowieka
oslepic («даже ее пот может человека ослепить») [D^browska 2000:
187]72. Появление данного мотива объясняется, очевидно, способно-
стью животного «выстреливать» языком по направлению к своей до-
быче (насекомому), что создает иллюзию плевка. Заслуживает внимания
также то, что в языке и культуре глаза являются типичным «локусом
плевания», ср., например, шутливую формулу «божбы» у городской мо-
лодежи: Плюнь мне в глаз, если... [ЛЗА] или иркутскую поговорку Хоть
плюй ему в глаза, он говорит — божья роса [СРНГ 27: 107]73.
71 В то же время стремление жабы добраться до глаз человека «замеча-
ют» и другие языки, ср. укр. наче жаба до очей л1зе ‘про докучливого, надо-
едливого человека’ [ССНП: 53].
72 Вообще, мотив «плевания» весьма устойчив в языковом «портрете» жа-
бы, ср. сочетания, обозначающие икру жабы (лягушки): новг. лягушечья блевоти-
на, лягушечьи охарчины [СРНГ 17: 257], арх. жабья харкотина [КСГРС] и т. п.
73 Возможно, сказанное проливает свет на происхождение рус. влг. жа-
воплёвина ‘катаракта’ [СГРС 3: 335], в составе которого можно усмотреть
сложение жаба + плевать (ср. также однократно зафиксированный вариант
живоплёвина [СГРС 3: 364]). Если принять «жабью» версию происхождения
этого слова, то наличие первого звука в в составе жавоплевины следует объ-
320
Раздел III
Влг. устать до лягушки*, устать, как лягушка ‘устать до изнемо-
жения’. В славянских языках отсутствуют структурные и смысловые
аналоги этого выражения, зафиксированного в [КСГРС] (не обнаружены
они и в репрезентативной выборке по германским, романским и балтий-
ским языкам), однако параллель представлена в карельской фразеологии,
ср.: карел, (твер.) Koiran ohottuolla vaivuttiin i ice lotoksi vaivuin («Собаку
на охоте я измотал и сам до смерти „в лягушку44 устал» (Tdt’to ‘лягушка’)
[СКЯ-Пунжина: 152]. Образные истоки этого выражения, возможно,
проясняет карел, (ливв.) margu ku slotoi ‘мокрый до ниточки, «как ля-
гушка»’ (slotoi ‘лягушка’) [СКЯ-Макаров: 364], ср. использование
образа другого «гада» в рус. просторен, мокрый, как мышь. Очевидно,
выражение устать до лягушки можно считать фразеологической
калькой с прибалтийско-финского источника (на факт калькирования
указывает и «неправильность» структуры — до лягушки).
3.6. «МУЖИЧИЙ» ВЕТЕР
В Холмогорском районе Архангельской области сотрудниками
ТЭ УрГУ было записано название ветра мужичок, связанное в сознании
информантов с дифференциацией ветров не по направлению, а, скорее,
по интенсивности: «Мужичок задул, держись. Нрав у него крепкий, са-
мый бойкий ветер у нас» [КСГРС]. С точки зрения своей внутренней
формы название представляется несколько необычным для традици-
онной системы обозначений ветров и требующим некоторых коммен-
тариев. Рассмотрим подробнее это слово в связи с другими названия-
ми ветров, в которых отражены антропоморфные сопоставления.
Обратившись к поиску параллелей, сходную лексическую едини-
цу находим в донских говорах: мужичий ветер ‘холодный северо-за-
падный ветер из Воронежской области’ [СРДГ 1: 62], однако это не
помогает обнаружению мотива наименования.
Контекстуальная перекличка с приведенной выше иллюстрацией
на употребление слова мужичок ощущается в следующей записи,
сделанной в Верхнетоемском районе Архангельской области: «Си-
верко <холодный северный ветер> — мужик суровый, сердитый. Хо-
зяин нашего севера» [КСГРС].
яснить дистактной регрессивной ассимиляцией, а компонент плев- связать с
плевать. Однако аргументом против данной версии является нестандартная
словообразовательная модель (плевина от плевать), а также возможность
объяснения этого компонента в связи с литер, плева ‘тонкая кожица, пленка’,
ср. енис. плева ‘помутнение хрусталика глаза, катаракта’ [СРНГ 27: 107].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
321
Персонификация северного ветра в образе хозяина севера наибо-
лее рельефно проявилась в текстах, записанных в Лешуконском рай-
оне Архангельской области: «Север — наших земель хозяин, а Севе-
риха — женка его»; «Коды холодно бывает, тоды засеверило, Север
вот и дует. И Севериха есть. На севере там они живут»; «Зимой шиб-
ко Север дует, с ног валит, а послабже — Севериха, я баю, дунула»
[КСГРС]. Облик Севера и Северихи — мифических существ, олице-
творяющих хозяина и хозяйку севера, — стерт в памяти современных
информантов, для которых это, по сути, слегка индивидуализирован-
ные абстрактные понятия, однако текст обращения к Северу и Севе-
рихе, приглашающего их посетить баню (чтобы, таким образом, при-
близилось наступление тепла), хранит следы антропоморфных пред-
ставлений об этих персонажах: арх. «Байну затопят, надо Севера по-
звать: „Север да Севериха, пожалуйте в баню помыться, попариться с
малыми детушками44. Так говорят, чтобы степлило погоду: ветер хо-
лодный в байну зовут»; «Люди пойдут из байны и кличут: „Север и
Севериха, идите париться в парку-парушечку, в баенку, унесите се-
вер44» [КСГРС]. Данный текст напоминает известные у славян вока-
тивные формулы, с помощью которых стихии (мороз, ветер, туча), не-
чистая сила, души предков и т. п. приглашаются на рождественский
ужин, реже на Пасху, Кузьминки и др. (подробный анализ таких текстов
представлен в [Виноградова, Толстая 2005]; о приглашении ветров на
обед или ужин см. также в [СД 1: 358]). В архангельском контексте
отражена редкая для такого рода заклинаний «семейная модель», ср.
полес. «Мороз, мороз, иди кути исти, з детками и с жоною, з братом и
з сестрою, з сватом и з братом» [Виноградова, Толстая 2005: 478]74.
Образы «ветреной пары» — ветра и его жены — можно сопоста-
вить с представлениями о некоторых явлениях природы как о свадьбе
природных стихий или нечистой силы. Чаще всего так осмысляется
вихрь, вьюга: арх. черти свадьбу играют [КСГРС], черт с ведьмою
венчается [Даль3 IV: 1361], чертова свадьба, ведьмы свадьбу с ведь-
маками правят [Ермолов 1905: 132]; ср. также полес. черты женяца,
чорт жэницца, чэрти свадьбу гуляютъ, чорт дочку замуж выдав, лу-
кавый катаецца — шукае себе пару, нячисты (недобри) жэницца, дурные
74 Редким является и приглашение в баню; в подавляющем большинстве
случаев такие формулы зазывают на совместную трапезу. Некоторые отда-
ленные переклички обнаруживаются, например, в игровых приговорах, где
персонажей игры {Коршуна и Коршуниху) приглашают в баню, чтоб потом с
ними расправиться: вят. «Коршун, пожалуйте в баньку!» [БП: 239; Покров-
ский: 163-165]. Нужно признать, что приглашение северного ветра именно в ба-
ню удачно настроено на желаемый результат такого «визита» — потепление.
322
Раздел III
жэняцца, черти свадьбу робять, старший чорт дэсь молодым вэсилля
робыть и др. [БДПА: Волынск., Гомельск., Киевск., Житомирск. обл.],
укр. волын. то чортик на весилле йде, чортово вэсилле, предкарпат.
дидъки весилля грают, львов, дидчине весилле [СД 1: 379-380], чеш.
certi se zeni, stary cert ma svatbu, мазур. djabel jedzie na wesele, ср. так-
же нем. Windsbraut («невеста ветра») ‘вихрь’ [Страхов 2003: 228]75.
Свадьба чертей (или их «семейная ссора») является также одним
из объяснений дождя при солнце: блр. полес. чорт жынку бъе, укр.
чорт жинку бье или дочку замижь виддае [Азимов 1983: 214], болг.,
бессараб. дьявол се жени за калоянката («черт женится на калоян-
ке»), серб, havo («дьявол») се жени, havo туче («бьет») ceojy жену,
словен. vrag svojo zeno bije, ker mi je slabe zgance skuhala («черт бьет
свою жену, потому что плохо сварила ему клецки») и др. [СД 2: 111];
«молодоженами» при грибном дожде могут быть не только черти, но
и инородцы (см. параграф 4.2, с. 419-421). Гроза осмысляется как
брачное торжество молнии и грома [Афанасьев ПВСП I: 435]76 77; эти
стихии могут осмысляться также как сестра и брат (серб.) [СД 3: 280].
Как видим, представление о свадьбе используется для осмысле-
ния буйства стихий, апофеозных их проявлений (гроза, вихрь) или же
сложных, «комплексных» погодных явлений (дождь при солнце). Оно
синкретично, персонажи здесь не обозначены. Но этот миф таит воз-
можность разворачивания и расчленения, структурирования. Приоб-
ретая структурную оформленность, миф о свадьбе ветров соотносит
благоприятный непродолжительный ветер с благополучной семейной
жизнью, а сильный продолжительный ветер осмысляется как вдовец
или холостяк. Эти образы отражены в тексте ритуального приговора,
который сопровождает поморский обряд моления ветра11'. «Веток да
обедник пора потянуть, запад да шалоник пора покидать <...>. Встоку
да обеднику каши наварю, блинов напеку, а западу да шалонику спи-
ну оголю — у встока да обедника жена хороша, а у запада-шалоника
жена померла» [Подвысоцкий: 28; см. также Ермолов 1905: 112; Берн-
штам 1977: 113].
Заметны интересные связи между этим приговором и приглаше-
ниями стихий на ужин, о которых говорилось выше. Однако при не-
75 Об этом мотиве см. также в [Афанасьев ПВСП I: 330, 435].
76 Этот образ используется и в современном поэтическом творчестве,
ср.: «Дорогая женщина и мать! Ты сверкай, я буду грохотать!» <М. СветловХ
77 Данный обряд исполнялся «женщинами прибрежных селений Кемско-
го уезда по поводу ожидаемого возвращения с Мурманских промыслов их
мужей и родственников: вечером выходят они к морю всем селением молить
ветер, чтоб не серчал и давал льготу дорогим летникам» [Подвысоцкий: 28].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
323
котором сходстве (в первую очередь, на уровне целеустановки, адре-
сатного ряда и «пищевых обещаний»), есть и существенные отличия в
самой текстовой организации, одно из которых состоит в том, что
текст моления ветра включает нарративный фрагмент (описание об-
стоятельств семейной жизни ветров), который не предусматривался,
кажется, в составе приглашений на ужин (структурный анализ по-
следних см. в [Виноградова, Толстая 2005: 475-500]). Этот нарратив-
ный фрагмент перекликается с текстами легендарного характера, объ-
ясняющими поведение ветров: влг. «У сиверяка <северный ветер>
жона красива, до двенадцати гулят, с двенадцати дома. А шолоник
<западный ветер> запьет — дак на неделю»; арх. «Шалай <сильный,
продолжительный ветер> заглупел, паркой ветер. Шалай женку поте-
рял, дак ищет бегат»; влг. «Сиверик <северный ветер> с Двины бе-
жит. Дунет — да и спать к жене. А запад <западный ветер> долго не
ложится»; арх. «Шелоник <северо-западный ветер> мало гулят, у него
жена красива, так он боится, как бы не отгуляла. А шалай не боится,
холостой, дак неделями гулят»; арх. «Низовый <ветер с севера — с
низовьев Северной Двины> резкой, но быстрый, у него женка есь, он
к ей спешит. Его еще женатый ветер зовем. А шолоник <юго-западный
ветер> сильный, долгой, другу неделю может дуть. Женку потерял,
бесится: „Эк, вдовый ветер задул44» [КСГРС; СГРС 2: 39]; «Бывает си-
верко <северный ветер> подует, раньше говорили: „У сиверки жёнка
молода, к ночи домой — он и утихает, не дует44» [СРГК 6: 84-85].
Как следует из контекстов, репутация благонадежного семьянина
закреплена за северным ветром (подует — а на ночь успокоится, ляжет
спать с женой), а неудачлив в семейной жизни, как правило, западный
ветер (дует долго — ищет потерянную жену или просто гуляет, не об-
ремененный семейными заботами). Ср. английские пословицы о доб-
ропорядочном ветре-джентльмене: The west wind is a gentleman and
goes to bed in the evening («Западный ветер джентльмен — к вечеру в
постель ложится»); An honest man and a north-wind generally go to sleep
together («Честный человек и северо-западный ветер обыкновенно
вместе спать ложатся») [Ермолов 1905: 125]. Связь между буйством
природных стихий и неудачной семейной жизнью (вдовством) отра-
жена также в сербском поверье о том, что вихрь — это души женщин,
вышедших замуж за вдовцов и потому после смерти не имеющих па-
ры [СД 1:380].
Миф о ветре, спящем ночью с женой или бодрствующем, про-
сматривается в языковых метафорах, которые «сворачивают» данный
сюжет в двух направлениях. С одной стороны, в языке может реали-
зоваться тема сна ветра: спящий ветер 4о ночном ослаблении ветра’
[Прох: 180]; с другой — его «семейное положение», ср. содержащую-
324
Раздел III
ся в приведенных выше архангельских контекстах пару вдовый ве-
тер — женатый ветер, а также названия ветров на озере Селигер:
холостой ветер (дует несколько суток) — женатый ветер (стихает
на ночь) [Меркулов 1980: 135].
Остановимся подробнее на характеристике ветров шелоник и ша-
лай. фигурировавших в севернорусских описаниях поведения ветров.
Шелоник (шелон, шелднка. шелднник. шолднник. шалднник и др.) —
широко распространенное на Русском Севере, Урале, Сибири (т. е. на
территориях новгородской колонизации) название различных по на-
правлению ветров (преимущественно западных). «Портрет» этого
ветра можно составить на основании следующих данных: «Шело-
ник — на море разбойник, шальной ветер, без дождя мочит» (т. е.
бросает брызги, пылит) [Подвысоцкий: 192; Даль2 IV: 619]; «Если
шелон сразу нападет, то добра не жди, орудуй рулем умеючи» [СРГЗ:
461]; «Шэлоник на море разбойник, рыбу загонял»; «Шолоник какой
дикой дует» [СРГНП 2: 442]; арх. «Шелоник пошел опять глупеть,
холодины нанес»; влг. «С запада шалонник задует, рыба плохо будет
брать»; влг. «Шелоник самый отчаянный ветер» [КСГРС] и др. Ветер с
такими свойствами легко обретает «человеческий облик», ср.: Шелон-
ник. прозвище жителя д. Азаполье Мезенск. р-на Архангельск, обл. —
«Лихой мужик был, как ветер шелонник» [АКТЭ], Шелоник. прозви-
ще мужчины — «У нас есь прозвишшэ одного целовека, Ивана Гри-
горьевиця, Шэлоник его зовут; крутой целовек, цё захоцет, то и зде-
лает; ветер-от крутой, холодный, дак ы он такой дак» [СРГНП 2: 442],
шалонник (шелонник) ‘человек с крутым характером’ — «Шелон-
ник— ветер очень быстрый, крутой, мужчину тоже так называют»
[СРГК 6: 856]. Сходная модель, переносящая свойства ветра на осо-
бенности поведения и темперамента человека, реализуется, к приме-
ру, в сиб. сиверга ‘резкий зимний ветер’ —> ‘о беспокойном, непосед-
ливом, вертлявом человеке, ребенке’ [СРНГ 37: 269], ветром делать
что-л. ‘делать на скорую руку, небрежно’ [СРНГ 4: 192], курск.
вётритъся ‘вести себя дурно, распутничать’ [СРНГ 4: 202] и др. (ср.
литер, ветреный человек, ветреник, просторен, ветрогон etc.).
Слово шалай ‘сильный продолжительный ветер’ зафиксировано
ТЭ УрГУ на территории Холмогорского района Архангельской об-
ласти. Шалай наделяется такими же характеристиками, как шелоник'.
«Кончай метать, шалай вмиг все размечет»; «Шалай непутявый ве-
тер»; «Шалай северный ветер, крепкий, сильный, так рвет» [КСГРС].
Мотив наименования можно установить, сопоставив эти лексемы с
арх. шалай ‘повеса, бездельник’ [Подвысоцкий: 191], ‘бесхозяйствен-
ный человек, озорник, хулиган’ [КСГРС], ‘шальной, балмочный, ша-
лапай’ [Даль2 IV: 620]. Налицо сходство представлений о шелонике и
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
325
шалав™. Сюда можно привлечь еще арх. шальной ветер — «Шальной
ветер развоевался, весь зарод разметал», арх. зашалётъ ‘подуть сильно-
му ветру’ [КСГРС], ср. также шалънётъ ‘нарастать, достигать большой
интенсивности, ухудшаться (о непогоде)’ [СРГК 6: 828]. Вследствие
формального и смыслового сходства шелоника с «шальными» словами
(шалай. шальной, шалить, шалун) они подвергаются контаминации, в ре-
зультате которой у слова шелоник появляются варианты шалунник
‘юго-западный ветер’ — «Юго-западный ветер, он уш шыпко шальной
был, дёрско брал; шалунник шалит болыпэ фсех, немиролюбимой был»
[СРГНП 2:436] и шалойник [СРГК 6: 856; см. также Фасмер IV: 425].
Если в парадигме значений слова шелоник первично «ветровое»
значение, а «человеческое» вторично, то у шалая, скорее всего, на-
оборот: более широкий ареал «человеческого» значения говорит о его
первичности. Сходная модель развития значений реализуется для арх.
дикарь, смутьян, псих, разбойник ‘сильный холодный ветер’, арх.,
влг. еретик ‘то же’ [СГРС 3: 225, 325; КСГРС].
Учитывая, что шалай входит в гнездо праслав. *sal-. связанного
отношениями чередования с *xal- [см. ЭССЯ 8: 12-13, Фасмер IV:
216], интересно пронаблюдать совмещение «человеческого» и «вет-
рового» значений в гнезде *xal-\ болг. хала ‘чудовище, которое, по на-
родному верованию, производит вихрь, грозу’, ‘буря, гроза’, ‘сильный
человек’, ‘обжора’, рус. смол, халахала ‘суетливый, неоснователь-
ный’, брян. халавёй ‘легкомысленный человек’ [ЭССЯ 8: 13]. В связи
с этим следует вспомнить также холостой ветер (*xolstb < *xol-. вари-
антного к *xal-). Принимая во внимание, что прилагательное *sahjb
исходно имело значение ‘пустой’, В. А. Меркулова указывает на «связь
*sah>jb (< *xdl~) с такими лексемами, как *хо1ръ. *xolstb. как названиями
молодых существ, не дающих потомства (по возрасту или социальному
положению) и в этом смысле ,,пустых“» [Меркулова 1989: 152].
На основании всего этого можно говорить о регулярности семан-
тического перехода «человек» <-> «ветер» для гнезд слов с корнями
*sal-l *xal-/*xol-.
Вообще, из всех явлений природы ветер наиболее динамичен и
«деятелен», а потому удобен для сопоставления с человеком. Ср. мно-
78 Однако в одном из приведенных выше контекстов шалай и шалонник
противопоставляются («Шелоник мало гулят, у него жена красива, так он бо-
ится, как бы не отгуляла. А шалай не боится, холостой, дак неделями гулят»).
Скорее всего, дело в том, что у шалая более яркая «поведенческая» характе-
ристика, поддерживаемая прозрачностью связи с шалай ‘хулиган, озорник’;
нельзя забывать и о постепенном размывании и стирании в памяти диалекто-
носителей традиционной системы ветрообозначений.
326
Раздел III
гочисленные «человеческие маски», которые ветер надевает на себя в
народных верованиях: ветер описывается как дед в изорванной шапке
(поволж.), мужчина в залатанном кожухе (польск.), женщина с распу-
щенными волосами (кашуб.), существо мужского пола, имеющее 12 сес-
тер (курск.); ветер может входить в дом к людям (кашуб., вят.), ездить,
кататься в повозке (луж., польск., рус.); при безветрии он чинит свой
кожух, обедает, отдыхает (польск.) и др. [СД 1: 359].
Об устойчивости и силе «человеческой» модели свидетельствуют
также народно-этимологические трансформации архангельского на-
звания ветра глубнйк19 (в некоторых системах ветрообозначений это
тот же ветер, что и шелоник. см. [СРНГ 6: 206]). Под влиянием народ-
ной этимологии появляются формы гулънйк и блудник79 80, отражающие
особенности поведения этого ветра: арх. «Гульник между зимой и за-
падом. Гульник долго дуе, гуляе» [КСГРС]; арх. «Блудник, как парень
молодой: ничего роботы в голове нет, всё гулят» [КСГРС].
Вернемся к «семейным» моделям, о которых речь шла выше.
Итак, такие сложные погодные явления, как усиление и ослабление
ветра, осмысляются с помощью «семейных» образов. Техника такого
ассоциирования кажется необычной вследствие того, что из «обычно-
го» качественного признака вырастает целый этиологический сюжет.
В духе «семейственности» могут осмысляться и другие погодные
явления, характеризующиеся качественной сменой состояний, например,
таянье льдов. Так, показательна архангельская пара лед Василий и вода
Василиса (во время таянья снегов) [КСГРС]. Обозначение тающего льда
именем Василий, вероятно, можно связать с образом Василия Капельни-
ка, в день которого (7 марта по ст. ст.) на севере «начинает капать с кро-
вель» [Даль2 I: 167]. В этом случае наречение воды Василисой может
быть продиктовано формальной логикой грамматического рода81. Инте-
ресную вариацию этого мотива дает карельская загадка: «Весной Васи-
79 По мнению В. И. Даля, ветер назван так потому, что по этому направ-
лению (с северо-запада) от Мезени глубина, т. е. Белое море [Даль2 1: 356].
80 О народно-этимологическом характере этой формы свидетельствует
совпадение контекстных употреблений, ср. пинежское Блудник — северу род-
ник [СГРС 1: 120] вместо широко распространенного в северных районах
Архангельской области Глубнйк — северу родник [СГРС 3:41].
81 Примеры мифологизации грамматического рода в народных верова-
ниях см. в [Толстая 2005а: 385-390; Толстой 1991: 91-98; Топорков 1981:
171-172; Цивьян 1991: 77-92] и мн. др. В таких случаях первичная языковая
(грамматическая) реакция на имя-стимул впоследствии нередко подкрепляет-
ся объясняющей легендой — с дорисовкой характеров, отношений между
персонажами.
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
327
лей поехал. Василиса плачет. А он говорит: „Не плачь, Василиса, осень
будет — тебя не забуду44» (лед и берег) [Михайлова 1993: 75]. Разворачи-
вание мотива в сюжет и отсутствие скрытых денотатов непосредственно
в тексте загадки снимает необходимость в строгой корреляции по роду
между именами Васшсй и Василиса и скрытыми денотатами 4лед’ и ‘бе-
рег’, однако тот факт, что имя Василиса может прилагаться к разным
объектам (вода, берег), еще раз говорит о его ономасиологической вто-
ричности и производности от имени Василий.
В случае с ветрами мифологически нерасчлененное представление о
свадьбе ветра структурируется и ситуативно переосмысляется (безветрие
= ветер спит с женой, усиление ветра = отсутствие семейной жизни), что
приводит к появлению таких метафор, как спящий ветер, женатый ве-
тер, холостой (вдовый) ветер. При этом определенную роль играет со-
поставление ветра с легкомысленным человеком, гулякой.
Другая линия позднейшей трансформации исходного представ-
ления — наполнение модели градационным содержанием: с мужским
началом связывается большая степень проявления какого-либо признака,
с женским — меньшая. Вспомним приведенную выше сравнительную
характеристику Севера и Северихи: «Зимой шибко Север дует, а по-
слабже Севериха, я баю, дунула». Возможно, название мужичок, с кото-
рого мы начали разматывать клубок переплетений «ветрового» и «чело-
веческого» значений, мотивировано именно логикой градационной мо-
дели (самый сильный ветер). Градационные отношения нередко уста-
навливаются между элементами «семейных» моделей, ср. апеллятив-
ные и ономастические системы: просторен, дед — баба ‘фишки 90 и
80 при игре в лото’, дед — баба ‘ломы разной длины (в речи дворников)’
[ЛЗА]; арх. дед — бабка ‘игральные биты разной тяжести’ — «В бабки
играли, бабки от скота прибирали; костяная-то бабка звалась, а со свин-
цом — дед» [СГРС 3: 196]; г. Старик — г. Старуха [Алап], г. Дед —
т.Баба [B-Уст], о-в Дедов — о-в Бабий — о-в Внуков [Тот] — геогра-
фические объекты разных размеров; арх. бабка — дедка — мамка —
сестренка — братишка, дядька — матка — отец — сынок — дочка
‘пальцы руки’ [СГРС 1: 30; 3: 197, 298; КСГРС] и т. д.
Отметим, что в номинативной судьбе такого рода микросистем гра-
дационный мотив не всегда является первичным. В связи с этим интере-
сен выразительный ряд в лексике алкогольных напитков. Слияние на-
питков или их разбавление водой воспринимается как женитьба, ср. арх.,
влг., куйб., сарат. женить ‘разбавлять водой (квас, пиво и т. п.)’ [СГРС 3:
356; СРНГ 9: 125]. Этот «комбинационный» номинативный ход, акцен-
тирующий внимание на соединении объектов, может смениться града-
ционным: влг. тятька ‘крепкий самогон, пиво’ [КСГРС], влг. бабонька
‘пиво, разведенное водой’ — «Всего-то бабоньки напиуся; бабонька —
328
Раздел III
коуды пиво женили, вот и бабонька стала» [СГРС 1: 32]. Затем происхо-
дит еще один комбинационно-градационный переход — уже на уровне
«детей»: ряз. сынок ‘квас, пиво или брага второго разлива’ [Даль2 IV:
375], пасынок ‘третий слив пива’ [Даль2 III: 24].
Показательна также номинативная история бабок и дедок в сфере
технической терминологии. Бабками в просторечии и профессио-
нальных жаргонах нередко называют подставки, стойки, опорные
части различных устройств. Если подставка представляет собой кре-
стовину, то крепление ее планок может восприниматься через призму
«эротической метафоры» — и при номинации этих планок к бабке до-
бавляется дедка: арх. бабка-дедка ‘скрепленные крест-накрест планки
крестовины в приспособлении для перемотки пряжи’ [КСГРС]; ср.
также: «Бапка у вороп под низом, куда тюрик, так то звали детко и бап-
ка»; «Куда чюрик пихался, так то звали детка да бапка, на детка наде-
вайеця этот чюрик» [АОС 1: 80; 10: 413]. Комбинационный мотив
уточняется градационным, ср. арх. дедка ‘большая из планок крестовины
в приспособлении для перемотки пряжи’, бабка ‘меньшая планка такой
крестовины’ — «Бабка-то короче быват, а дедка длиннее» [СГРС 1: 30; 3:
197]. Таким образом, первый импульс комплексного восприятия объек-
тов может конкретизироваться за счет их градационной дифференциа-
ции. Вследствие аналитической расчлененности своей структуры града-
ционные модели являются новообразованиями. Они обладают высокой
технической разработанностью, что обусловливает легкость воспроизве-
дения модели, приложимость к большому количеству денотатов, — по-
этому эти модели высоко продуктивны на синхронном уровне.
Таким образом, исходное представление может дать толчок раз-
нонаправленным движениям модели. Хронологически выстроить
цепь вероятных трансформаций не всегда возможно, да и не нужно:
модель может поворачиваться разными гранями, актуализируя ту или
иную мотивировку (ситуативную, градационную и т. д.) и взаимодей-
ствовать с другими моделями, испытывая их аналогическое влияние.
Для семантической интерпретации важно представить спектр воз-
можных мотивировок и предположить, какая из них могла быть ис-
пользована в данном конкретном случае.
3.7. О ЯЗЫКОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Концепт живого весьма парадоксален: несмотря на кажущуюся
простоту разбиения объектов окружающего мира на «живые» и «не-
живые», найти для этого концепта четкие характеристические свойст-
ва оказывается трудной задачей [Кошелев 1996: 185]. Попытки экс-
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
329
пликации этого концепта, выполненные как на материале русского
литературного языка, так и говоров, демонстрируют прихотливость и
сложность представлений о живом (ср., к примеру, [Кошелев 1996: 185—
194; Мищенко 1999: 122-128, ПавловиЙ 2005]). Один из наиболее ин-
тересных аспектов этого концепта связан с обнаружением «живой зо-
ны» в окружающей человека природе, в географическом ландшафте.
Живые гидрообъекты имеют проточную воду, живые реки яв-
ляются быстротекущими, ср. живая вода ‘быстротекущая’ [Маш-
таков: 23], влг. ‘проточная вода’ [СГРС 3: 362]. В этом смысле живые
гидрообъекты могут быть противопоставлены мертвым (дохлым) и
глухим: дохлая вода ‘стоячая вода; «загнившая вода»’ [СРГСУ 1: 144],
мертвая вода ‘стоячая’ [Даль2 II: 319], арх. глухой ‘не имеющий сто-
ка, не проточный (о водоеме)’ [АОС 9: 126; СГРС 3: 42], глухое озеро
‘озеро, у которого имеются притоки, а истоки отсутствуют’, свердл.
‘озеро, не имеющее ни притоков, ни истоков’ [СРНГ 6: 216], арх. глу-
хое место ‘старица, староречье’ [СГРС 3: 42]. Возможно, именно эти
признаки положены в основу пар живых и мертвых гидронимов:
р. Живая — р. Мертвая, р. Живой Донец — р. Мертвый Донец [СГУ:
195, 360], р. Живая Харасейка — р. Мертвая Харасейка [Ященко: 60];
показательна и коррелятивная пара оз. Живое — оз. Глухое — «Из од-
ного речка Тюмень текёт, а другое глухое» [В-Т, Тинева], ср. также
оппозицию р. Живой Леваш — р. Глухой Леваш [Сок]82.
Свойство проточности тесно связано со свойством полновод-
но с т и, которое тоже приписывается живым рекам и позволяет про-
тивопоставить их пустым водоемам. Последние являются мелкими,
пересыхающими, ср. в апеллятивной лексике: арх. пустая вода ‘пере-
сохшее русло реки’ — «Пустая вода это остаётся, живая вода дале те-
кёт», пустая река арх. ‘пересохшее русло реки’, влг. ‘мелкая река, по
которой нельзя сплавлять лес’ [КСГРС]. Ср. в топонимии: р. Живая
Осиновка и р. Пустая Осиновка — «Одна и летом текёт, другая пере-
сыхат» [Некр, Некрасово] (восприятие пустых гидронимов как без-
водных актуализируется также парой р. Пустиха — р. Разливаха [Гряз]).
Связь идей жизни и полноводности проявляется и при обозначении
приливов: арх., карел, (рус.) зажить ‘начать прибывать (о воде во
время прилива)’ [СРГК 2: 122; КСГРС], арх., новг. отживать ‘пони-
жаться (об уровне воды), спадать’ [СРНГ 24: 182-183].
Живыми могут быть названы также гидрообъекты с ключевой,
бьющей из-под земли водой, ср. живая вода ‘ключевая, род-
82 Свойства проточной и стоячей воды разнообразно обыгрываются в
народных верованиях, обрядах, фольклоре; об этом см., в частности, в [Вино-
градова 2002: 34-39; 53-55; Журавлев 1994: 139].
330
Раздел III
никовая (о воде)’ [ОСВГ 4: 46], влг. живец ‘родник, ключ’ — «Живци
из-под земли бьют, эко у нас живець есь со святой водичкой» [СГРС
3: 362]. Контекст обнаруживает сакральность таких источников,
что подтверждается и топонимическими данными: ключ Живой Клю-
чик — «К ему ходили за водичкой лечебной» [Некр, Бор]. Ср. также
комментарий информанта к названию руч. Святой Колодчик — «Ме-
сто на бугровине, а из земли как ключи бьют. Считали, что вода свя-
тая. Она живая там, шевелится» [Сок, Кадников]. Это позволяет
говорить о сходстве семантики живых и святых*3 гидронимов (помимо
живой и святой воды, в различных славянских традициях, как известно,
фиксируется параллелизм живого и святого огня, см., в частности, [Жу-
равлев 1994: 134; Топоров 1995: 473; СД 3: 519]). Интересно, что под-
земное, «коренное» происхождение живых источников противопостав-
ляется «верховому» характеру мертвых, ср. названия ручьев Живая Вода
(Живой Ручей) и Мертвая Вода (Мертвый Ручей) — «Два ручья текут,
Живая Вода со светлой водой, родник там, а Мертвая Вода — дождевой
ручей, верховой, с темной водой. Заболеет кто, дак идут к Живой Воде и
Мертвой Воде, возьмут в две бутылочки той воды и той воды. Спросят у
больного: „Ты из которой посудины будешь пить?44. Светлую водичку
возьмет — оживет, а темную — уже не жить; В Живом Ручье коренная
вода, земля родила, а в Мертвом — верховая» [Нюкс, Красавино]83 84.
Кроме того, живые реки характеризуются специфическим вод-
ным режимом — они не замерзают, вода в них остается свобод-
ной: руч. Живой — «Он не замерзает зимой» [Ник, Осиново], ср. живой
‘незамерзающий, текучий’ — «Живые ключики зимой не замерзают»;
«Там живая грязь, незамерзлая» [Селигер 2: 83], арх. живая вода
‘свободная ото льда вода’ [СГРС 3: 362], живой рубец ‘полая трещина
во льду, в которой видна вода’ [ПОС 10: 224]. Отметим, что данный
вариант смыслового наполнения живого вновь демонстрирует его
противопоставленность глухому, ср. глухая порога ‘трещина во льду, в
которой не видно воды, затянутой льдом’ [ПОС 6: 192], заглохнуть
‘покрыться льдом, замерзнуть’ [СРГК 2: 104].
Последняя характеристика живых гидрообъектов дает основания
предполагать, что живыми могут называться любые открытые и под-
вижные водные пространства: это качество диктуется динамизмом
водной стихии. Однако интересно, что наделение такого пространства
семантикой жизни имеет определенные ограничения. Безбрежные
83 Попытка реконструкции смыслового наполнения «святых» топонимов
представлена в [Березович 2000а: 220-234].
84 Сходное поверье фиксируется у русских жителей Заонежья [Логинов 1993:
120]; анализ свойств живой и мертвой воды см. в [Виноградова 2002: 53-55].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
331
морские просторы, удаленные от берега, по всей видимости, не могут
быть обозначены в русской языковой традиции как живые. Ср. пока-
зательную пару названий беломорских каменистых отмелей Живая
Корга — Голомянная*5 Корга [Мез]: первая находится недалеко от
берега, вторая — дальше в море. В этом случае бином голомянный —
живой становится тождественным оппозиции голомянный — береж-
ной (ср., например: о-ва Бережной Власов — Голомянный Власов
[ЛБМ: 349, 404], о-ва Голомянный Гагарий — Бережной Гагарий
[Он]). Семантика живого как соотносимого с берегом, зем-
лей реализуется в паре названий островов Живой Васькин — Васькин
(если первый является прибрежным, то второй расположен дальше в
море) [Мез], а также в топониме Живой Островок, который парал-
лельно именуется Коренным Островком — «У берега, дак коренной»
[Мез, Долгощелье]. Атрибутив, функционирующий в составе топони-
ма, очевидно, соотносим с арх., влг. коренной ‘расположенный на ма-
териковой части суши’, ‘имеющий постоянную береговую линию’
[КСГРС], ср. также (казаки-некрасовцы) коренные горы ‘материковые
горы (в отличие от островных)’ [СРНГ 14: 319]: данные значения
«держатся» на базовой семе ‘основной, главный, центральный’, которая
в данном случае актуализируется в противопоставлении суши воде.
При этом показательно, что «сухопутные», земляные значения
коренной лексики легко сплетаются с другой семантической доминан-
той этого гнезда, связанной с обозначением человеческого родства
(коренной арх., Волхов, ‘родовой, переходящий из рода в род’, арх.
‘связанный кровным родством, родной’, влад., ряз., яросл. ‘состоящий
в законном браке’ [СРНГ 14: 318], корешки ‘родовые истоки, родо-
словная’ [СПГ 1: 417], корень ‘род, родословная’ [СРГК 2: 425], нвсиб.
‘потомки, дети’ [СРНГ 14: 323] и мн. др.); в результате рождается се-
мантика заселенной, «очеловеченной» земли: корень тамб. ‘заселен-
ная земля; жилое место’, курск., тамб. ‘родина, родные места’ [СРНГ
14: 323], смол, с коренечка сжился ‘перестал жить в родных местах, в
родном доме’ [СРНГ 14: 316] и т. п.
Очевидно, очерченный сектор семантики коренного накладывает-
ся на семантику живого85 86: ‘заселенный (о пространстве)’ (ср.
85 Ср. арх. голомянный ‘расположенный дальше от берега, обращенный в
открытое море’ [СГРС 3:81].
86 Вообще, смысловые переклички между живым и коренным представ-
ляют значительный интерес и требуют отдельного изучения. Укажем еще на
такой факт: живой огонь (семантика которого, как уже говорилось, во многом
сходна с семантикой живой воды) добывается из самородного дерева, стоя-
щего на корню, или из столба, врытого в землю [Журавлев 1994: 138].
332
Раздел ill
живое место ‘обжитое, не безлюдное место’ [СРГК 2: 256], а также
топонимические соотносительные ряды на базе лексем живой (жи-
лой) — пустой, выражающие противопоставленность заселенной и
незаселенной территории: р. Жилая Мушня (ср. д. Жилая Мушня) —
р. Пустая Мушня [Шексн], р. Живая Каменка (протекает у д. Перце-
во) — р. Пустая Каменка [Гряз], р. Жилая Кица (протекает против
д. Кица) — р. Пустая Кица [Вин]. Эта оппозиция функционирует да-
же на макроуровне, ср. противопоставление наименований двух рай-
онов Костромской области: Жило — название Пыщугского района Ко-
стромской области в отличие от Пустоши (Павинского района) —
«Демидов их отправлял на завод, на Урал, на Каменный Пояс, дак у
них Пустошь, а у нас Жило» [Пыщ, Крутая]; ‘берущий начало
из земли (о водоеме)’ (ср. приводившиеся выше факты: руч. .Жи-
вая Вода, ж wee г/); ‘связанный с берегом, сушей’ (ср. топоними-
ческую оппозицию живой — голомянный, заметим, что слово голомян-
ный ‘находящийся в открытом море’ потенциально связано со смыслом
‘отдаленный, безлюдный’ (об этом см. параграф 2.4, с. 153).
Еще один важный штрих в картину живого в природе вносят на-
звания, отрицающие идею жизни: лес Нежить — «Дикое место, ни-
чего в ём ягод нет, зарошшено всё дак соснягом» [В-Т, Степановская],
бол. Неживое — «Глушь така, в лесу кругом, не ходили к ему — не
растёт добро» [Вож, Сурковская]. Описываемые ландшафтные реалии
«апофеозно природны», покрыты буйной растительностью, однако
этого мало, чтобы считать их живыми: это слишком «нечеловеческая»
природа, она удалена от человека, не освоена им, не при-
носит ему пользы (к этой семантике ср. арх. нежить ‘пустое место’
[СРНГ 21: 42]).
Подытоживая анализ концепции живой природы в русской диа-
лектной лексике и топонимии, отметим, что жизнь обнаруживается, в
первую очередь, в воде и земле. «Жизненность» водной стихии обу-
словлена ее динамизмом и воплощается в наборе таких признаков, как
‘проточный, быстротекущий’, ‘полноводный’, ‘незамерзающий’, ‘клю-
чевой, текущий из-под земли’. Последний признак объединяет жиз-
ненные силы воды и земли: неслучайно, что текущий из-под земли
ключ наделяется сакральными свойствами. «Жизненность» земли за-
ключается не только в ее способности «порождать» воду. Земля жива
еще и потому, что заселена людьми, — ив этом смысле живая земля
(суша, берег) противопоставлена как «незаселенной» водной стихии,
открытому морю, так и той части земной природы, которая не освоена
человеком и не включена в его хозяйственную деятельность: глухим,
диким лесам и болотам, заросшим не используемой человеком расти-
тельностью. Таким образом, народное языковое сознание восприни-
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
333
мает жизнь в природе не только метафорически (живое = подобное
человеку своим динамизмом и порождающими способностями), но и
«метонимически» (живое = смежное с человеком), при этом метони-
мическое восприятие в известной мере ограничивает пределы мета-
форического: жизнь допускается в те участки природы, которые близ-
ки человеку.
3.8. ЕЩЕ РАЗ О РУССКОМ АВОСЬ
Словечко авось осознается как ключевое слово русской языковой
культуры не только филологами и культурологами (экспликация со-
ответствующего концепта и ссылки на литературу представлены в
[Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005: по указателю]), но и наивными
носителями языка (ср. хотя бы устойчивое сочетание русский авось,
пословицы вроде Русак на авось и взрос', Русский Бог — авось, небось
да как-нибудь [Даль2 I: 3; IV, 114]). Словарями современного литера-
турного языка слово квалифицируется как разговорная частица со
значением ‘может быть’, которая субстантивируется во фразеологиз-
ме на авось ‘в надежде на случайную удачу; наудачу’ [СлРЯ I: 21].
Это слово не могло не привлечь к себе внимания историков языка,
которые едины в том, что лексема авось представляет собой комплекс
из трех «склеившихся» элементов. Элементы такого типа Т. М. Нико-
лаева предлагает называть партикулами, понимая под этим термином
«частички» слов из коммуникативного фонда языка (к последнему
относятся частицы, местоимения, местоименные наречия и т. п.), ко-
торые повторяются в составе этих слов и тяготеют к образованию
комплексов по правилам своеобразного «порождающего конструкто-
ра»: та+м(ъ), къ + то, а + же и т.п. [Николаева 2003: 448-449]; со-
держательно все партикулы в той или иной степени связаны с катего-
рией определенности/неопределенности [Там же: 463, 465]. «Парти-
кулярный» состав слова авось в самом первом грубом приближении,
исходя из современного облика лексемы, выглядит так: а + (в)о + сь.
Соглашаясь с необходимостью такого деления, этимологи расходятся
в решении двух вопросов: о происхождении второго элемента (во из
местоимения ово в результате стяжения при комбинировании с сою-
зом а или в как вставной элемент перед предлогом о) и о семантике
третьего (несомненно, что перед нами указательное местоимение сь,
однако можно ли более точно реконструировать семантику этого
дейктического слова для данного случая?).
Из этимологических словарей наиболее полно описывает изучаемую
лексему словарь под редакцией Н. М. Шанского: «Собственно русское.
334
Раздел III
В памятниках по ССР ЛЯ встречается с XVI в. в форме авосе. Старое аво-
се (> авось в результате отпадения конечного безударного гласного) воз-
никло, очевидно, с помощью лексико-синтаксического способа словооб-
разования в результате сращения в одно слово союза а и указательной
частицы осе ‘вот’ (между а и о появилось затем интервокальное в). Такое
объяснение высказывал еще Буслаев, азатем Соболевский, Грот, Фасмер.
Менее вероятным по словообразовательно-семантическим причинам ка-
жется объяснение слова авось как сращения союза а с указательными
местоимениями ово ‘то’ и се ‘это’ (Zubaty, Преображенский). Совершен-
но неправильно объяснение авось как производного типа вечорось от ово
‘то’ (Шимкевич) и как сращения союза а и „указательных местоимений44
места и времени во ‘вот’ и се ‘сейчас’ (Даль)» [Шанский 1/1: 30]. Версия
о том, что базовой для авося является указательная частица осе ‘вот’,
поддерживается в [Черных 1:25; Фасмер I: 59].
Специальные работы посвятили истории этого слова Е. С. Отин и
В.М.Мокиенко [Отин 1983; Мокиенко 2003: 9-17]. По мнению Е. С. Оти-
на, первоначальное значение словосочетания а восе было локативным и
представляло собой указание на что-то такое, что находится невдалеке.
Логику дальнейшего семантического развития можно представить сле-
дующим образом: ‘вот’ —> ‘вот оно!’ —> ‘вдруг’ —> ‘если’ —> ‘может
быть’ [Отин 1983: 121]. К сожалению, контексты, подтверждающие про-
межуточные ступеньки семантического развития, практически отсутст-
вуют: «памятники письменности не донесли до нас тех синтаксических
построений, в условиях которых протекал данный процесс <развития
субъективно-модального значения. — Е. Б.>. „Кристаллизация44 этого зна-
чения происходила в живой разговорной речи, которая, как известно, в
памятниках письменности отражена крайне скудно» [Там же: 120].
В. М. Мокиенко тоже признает некоторую «подвешенность» се-
мантической реконструкции авося, избирающей в качестве отправной
точки локативное значение (о)сь, и говорит об отсутствии следов смы-
слового и стилистического «скачка» в письменных источниках [Мокиен-
ко 2003: 11]. Он сочувственно вспоминает предположение В. И. Даля
(высказанное в словарной статье авось [Даль2 I: 3]), который «читал»
слово а-во-се как ‘а вот, сейчас’, т. е. придавал ему и пространствен-
ное, и временное значение87. «Указательная частица со значением
‘вот’, конкретизируясь в ‘вот оно <самое ближайшее от меня>’, по-
степенно сплавлялась с ассоциациями о быстром, моментальном пре-
доставлении кому-л. этого „оно“. Так авось стало обозначать и ‘вдруг’,
и ‘если’, и — ‘может быть’» [Мокиенко 2003: 11]. Добавим, что в дру-
87 Эту же версию, базирующуюся на предположении Даля, В. М. Моки-
енко приводит в [ФРР: 46].
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
335
гом месте, в статье восе, вося, восъ, Даль более определенно высказы-
вается в пользу временной семантики авося'. «Из восе, восъ с передо-
вым ну, а как выражением нечаянности образовалось наречие на-
стоящего времени ну-восе и наречие будущего времени авосе, авосъ;
привески же конечные к наречиям восе, восъ — как восъ-этто, восей-
ко и пр. — все относятся к прошлому времени» [Даль2 I: 246].
Фактически никто из перечисленных выше авторов словарей и
исследователей, специально занимавшихся словом авосъ, не вспоми-
нает версию А. А. Потебни. Потебня мельком упоминается только
Фасмером в ряду тех ученых, которые, по его мнению, недостаточно
убедительно объясняют изучаемое слово из *а-ово-се [Фасмер I: 59].
Идею Потебни воскрешает В. В. Виноградов в кратком наброске, ко-
торый не был окончательно подготовлен автором для печати: «По-
тебня наметил вехи <...> того пути, каким пришли к роли модальных
частиц и союзов некоторые указательно-местоименные слова. Так, по
его мнению, из непосредственного местоименного указания на буду-
щее событие (во-се, а-во-се ‘только что, недавно’) произошло авосъ
(из а-во-се) как ‘знак вероятности’» [Виноградов 1999: 824]88. Дейст-
вительно, А. А. Потебня указывал: «И подобно тому, как из велико-
русского авосе как указания на будущее событие <выделено
нами. — Е. Б> произошло авосъ как знак вероятности, так из се, осе, а
се как указания на недавнее или наличное произошло се и пр. = если»
[Потебня 1958: 294]. Однако в работе Потебни не приводятся контек-
сты, подтверждающие первичную «временную» семантику авося.
Таким образом, если принять поддерживаемую большинством
этимологов «раскладку» авосъ < *а+осъ (далее ось = о+съ) со встав-
ным в, то этимологии авося не хватает небольшого штриха, который
помог бы уточнить первоначальную семантику указательного осъ.
Думается, что в поисках проясняющих дело контекстов следует обра-
титься к русским народным говорам: как было указано выше, слово
авосъ изначально циркулировало преимущественно не в книжной среде,
а в народной речевой стихии (ср. хотя бы помету простонар. в [CAP I: 5]
и просторен, в [СлРЯ XVIII в. 1: 17]); возможно, говоры сохраняют ка-
кие-то смысловые звенья, служащие переходными ступенями от про-
странственного или временного значения к субъективно-модальному.
88 В. В. Виноградов отмечает также (вслед за Потебней), что «сходным
образом развивались условные и временные значения в только. Первона-
чально в только заключалось указание на недавнее или наличное, которое
принимается за основание другого события. А отсюда затем возникает усло-
вие и значение обусловленности во временной последовательности» [Вино-
градов 1999: 824].
336
Раздел III
Работая в августе 2004 г. на территории Кадыйского района Ко-
стромской области, сотрудники ТЭ УрГУ записали около тридцати
контекстов, иллюстрирующих употребление наречия восъ и пути пе-
рехода его в авосъ. Приведем некоторые из них с первичным разделе-
нием на три смысловые группы, тесно взаимосвязанные и взаимодей-
ствующие друг с другом:
‘в ближайшем, обозримом будущем, вскоре’: Стоят тамо-
ка деревеньки, а вось и они нарушатся [Столпино]; Сегодня одно
посеют, вось другое [Ковалево]; Вось картошку на семена собе-
рём; вот и зовём «вось», а не «нынче» [Меленки]; Вось — это на
будушшо, или завтра, или послезавтра, вось это сделаю [Чапыги];
Сейчас некогда, вось, ладно, сделаем [Льгово]; Хмара была, а
вось ободняет [Новый Курдюм]; Сыпется звёстка, а вось и пото-
лок обвалится [Завражье];
‘в более отдаленном будущем (с регулярной конкретизацией —
в следующем году)’: Вось — на будушший год, вось Пашка
пойдёт в школу, вось будет ему семь лет [Завражье]; Вось кошке уж
будёт десять лет [Ведрово]; Нынче надо копать, чтобы вось травой
не заросло [Паньково]; Вось относится к году, или говорят «в буду-
щем году», или «вось» [Завражье]; Вось уж поеду к дочке жить, в
две тышши пятом году [Починок]; Сейгод не было сына, а вось на-
вестит, обешшал [Котлово]; Не привезли сейгод дров от сельсовета,
а вось привезут [Мужичковская]; Вось будёт в две тышши пятом го-
ду [Паньково]; Сейгод есь яблоки, а вось яблоков не будёт [Завра-
жье]; Нынче картошка не уродилась, а вось уродится, в две тышши
пятом году; вось-то значит «в следушшем году» [Завражье]; Поду-
мала — так вось уж сделаю, на будушший год значит [Починок];
Нынче не выросла картошка, вось вырастет [Паньково]; 0 на восъ
‘на следующий год’: На вось посеём в полё, на вось, на бу-
душшее оставим; на вось — на будушший год [Завражье];
‘в неопределенном будущем, неизвестно когда’: Восьэто
будет ешшё, картошка не уродилась, ладно, вось может уродиться
[Паньково]; Вось ешшё что-то будёт, нонь-ту нет, а вось будёт [Зав-
ражье]; Нонь глупой ешшё, а вось, можот, поучится, поумнеёт [Но-
вый Курдюм]; Нынь живёшь, а вось, можот, я поеду хоть в город,
соберусь куды [Завражье]; Вот оно идёт, нынче, а вось — это буду-
щее, может, через год, может, завтра, может, через месяц [Панько-
во]; 0 на восъ ‘на неопределенное будущее’: Кончай ро-
боту, на вось не отлаживай [Ивановская].
Как видим, контексты демонстрируют разные стадии перехода от
собственно временного значения к субъективно-модальному. Исходным
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
331
звеном для развития семантики является, по всей видимости, значение
‘в ближайшем, обозримом будущем, вскоре’; его можно передать разго-
ворным вот-вот. демонстрирующим обратимость локативных и темпо-
ральных смыслов. Значение ближайшего будущего «перетекает» в зна-
чение будущего отдаленного, причем в изучаемой группе говоров оно
получает конкретизацию — ‘в следующем году’; последняя недвусмыс-
ленно обнаруживается в контекстах вроде «Вось будет ему семь лет»;
«Нынче надо копать, чтобы вось травой не заросло». Эта конкретизация
в известной степени случайна: вполне вероятно, что в другой диалектной
микросистеме вместо значения 4 в следующем году’ может появиться 4 на
следующей неделе’, 4в следующем месяце’ ит. п. Думается, однако, что
факт именно такой конкретизации в какой-то мере объясняется «подвер-
стыванием» в синхронной системе говора наречной формы вось в ряд
форм типа летосъ, осенесъ, знмусъ и др., имеющих «сезонную» семанти-
ку (подробнее о них ниже). Затем происходит постепенное стирание
временной определенности, приводящее к значению 4 в неопределенном
будущем, неизвестно когда’. Понятно, что от последнего значения «рукой
подать» до 4может быть, возможно’89 (не случайно в некоторых контек-
стах вось и может выступают как дополняющие друг друга партнеры:
«Нынь живёшь, а вось, можот, я поеду хоть в город, соберусь куды»).
О теснейшей связи семантики будущего времени с семантикой возможно-
го говорит множество фактов, ср. хотя бы наблюдаемую во многих языках
генетическую общность форм будущего времени и сослагательного на-
клонения; если говорить о параллелях в области наречной семантики, то
можно вспомнить, к примеру, влг. напрок 'возможно, наверное’ и арх., влг.
на прок 4на следующий год, в будущем году’ [КСГРС] (ср. также на прок
шир. распр. 4на будущий год’, влг. 4в следующий раз’ [СРНГ 32: 151]).
Симптоматично, что наречие вось в костромских записях тяготе-
ет к употреблению в составе противительных конструкций с союзом
а. подчиняющихся логике «сейчас (в этом году) происходит то-то, а в
будущем году (вскоре, в неопределенном будущем) случится то-то».
Эти конструкции фиксируют живые речевые условия, в которых про-
изошло сращение а и вось. Оборот на вось 4на следующий год; на не-
определенное будущее’, встретившийся в наших записях, может счи-
таться смысловым и структурным предшественником литературного
на авось (ср. особенно контексты вроде «Кончай роботу, на вось не
отлаживай»).
89 Ср. диалектное вось в значении ‘авось’: влг., костр., новг. вось ‘может
быть, авось’ — «Вось со мной и погуторит» [СРНГ 5: 153], влад. навдсъ ‘на
авось, наугад’ [СРНГ 19: 185]; вось ‘может быть, видимо’ — «Вось, придется
покупать» [ЯОС 3: 40].
338
Раздел III
Семантика будущего времени у наречий восъ и восе фиксируется
также в СРНГ и ЯОС (правда, фиксации слабо подтверждены контек-
стами). Ср. восъ\ нижегор. ‘в скором времени, скоро’ (Восъ пахать
станем) И костр. ‘через некоторое время; через довольно большой про-
межуток времени’ — «Поеду вось в город — привезу гостинца тебе» //
костр., нижегор. ‘в будущем году’ [СРНГ 5: 153; ЯОС 3: 40]; вдсе\ ни-
жегор. ‘в скором времени, скоро’ — «Ну восе отец приехал»; восевосе'.
олон. ‘в скором времени, скоро’ — «Восевосе приедет он» [СРНГ 5: 130].
Гораздо чаще наречие восъ и многочисленные варианты обозна-
чают ближайший к моменту речи отрезок времени прошедшего. При-
ведем некоторые примеры (представление всего материала было бы
слишком громоздким):
‘недавно, несколько часов назад’: влад., казан., сарат., симб.,
тамб. восёйка, восёйко', арх., вят., перм. восёт, восётъ; влад.,
пенз., ряз. восъ [СРНГ 5: 131-132, 153],
‘недавно, на днях; некоторое, неопределенное время
тому назад’ (возможны уточнения: ‘давеча, вчера вечером’,
‘третьего дня, позавчера’ и т. п.): пенз., ряз., сарат., тамб. восёич-
ка; влад. восёишко; нижегор., казан. восё; влад., пенз., ряз., тамб.
восёй; шир. распр. восёйка, восёйко; влад., оренб, ряз., сарат.,
симб. восёйки; перм. восёйта; шир. распр. восет, восёт, вдсетъ,
восётъ; влад., пенз., ряз. восъ [СРНГ 5: 130-132, 153];
‘не очень давно’: влад. восёиц [СРНГ 5: 131];
‘давно’: тамб., тульск. восёй, куйб. восёйк; казан., симб. восёйка,
восёйко; казан, восёйта; вят. восётъ [СРНГ 5: 131-132] и т. п.
Таким образом, семантика недавнего прошлого оказывается для
вося более устойчивой и распространенной, чем семантика близкого
будущего. Можно думать, что она и была первоначальной, а идея бу-
дущего появилась в результате «симметричного переноса» вокруг та-
кой оси, как момент речи.
Если обратиться к системно-языковым параллелям, то следует
вспомнить, что временное наречие восъ вписывается в обширный ряд
других диалектных наречий с темпоральной семантикой на -съ'. лонисъ,
летосъ, згшусъ, осенесъ, веснусъ, утросъ, оновдасъ, коеваднесъ etc. (эти
или подобные слова присутствуют в любом диалектном словаре русско-
го языка, поэтому приводим их без паспортизации). Разумеется, такие
наречия фиксируются не только в говорах, однако диалектная среда ста-
новится для них наиболее продуктивной в силу своего сугубо разговор-
ного характера (а эти слова подчеркивают связь действия с моментом ре-
чи). Все они наиболее охотно развивают именно «ретроспективные» зна-
чения: ‘прошлым (прошедшим) летом, зимой, осенью, утром, днем, ве-
Семантическая реконструкция лексики и фразеологии
339
чером, на днях’ и т. п. При этом иногда наблюдается такой же, как в слу-
чае с авось, симметричный перенос с прошлого на будущее, ср., к при-
меру, контексты, записанные в архангельских говорах: «Валя выйдет ле-
тось из армии»; «Летось повези меня в Москву»; «Зимось волка изло-
вим»; «А я утрось сварю» [Первухина 2002: 382, 366, 521-522] и т. п.; ср.
также само за себя говорящее кольск. завтресъ ‘завтра’ [СРНГ 9: 345].
Очевидно, грамотнее было бы говорить не о переносе, а о том, что соот-
ветствующие наречия выражают значение ‘этим летом, этой зимой, этим
утром ит. п.’, которое является нейтральным в плане ретроспектив-
но-проспективных отношений в системе языка и получает конкретиза-
цию в акте речи — после события или до него. Очевидно и то, что такая
дейктическая семантика является очень эфемерной — и легко выветри-
вается, становясь просто знаком темпорального наречия (у последнего
остается лишь базовое значение ‘весной, осенью, вчера и т. п.’).
Вернемся к нашему авосю. Приведенный выше диалектный мате-
риал позволяет, по крайней мере, «реанимировать» версию о первич-
ном темпоральном наполнении лексемы (в)осъ, на базе которой фор-
мируется авось (естественно, мы в данном случае говорим не о всех
значениях слова восъ, среди которых есть и локативные, а только о том
значении, которое стало производящим в интересующем нас случае).
Данное слово было фактом темпорального дейксиса и содержало ука-
зание на близкий к моменту речи период времени. Если взять за осно-
ву временную семантику, то логика смыслового развития выглядит
так: ‘в недалекий от момента речи период времени’ —>
‘через некоторое время в будущем (возможны конкретиза-
ции: через год)’ —> ‘возможно, быть может’. Превращение
вося в авосъ происходило, вероятнее всего, при употреблении проти-
вительных конструкций, когда актуальная ситуация противопоставля-
ется ситуации возможной («сейчас так-то, а восъ будет по-другому»).
Неопределенность того момента в будущем, когда случатся прогно-
зируемые авосем события, становится одним из факторов, провоци-
рующих появление у авося современной семантики и соответствующих
коннотаций. Заметим, что «русскость» авося (т. е. закономерность на-
деления его эпитетом русский) подчеркивается и поддерживается за-
крепленным в системе языка стереотипным представлением о неоп-
ределенности сроков исполнения обещаний, которые дают русские:
русский час ‘невесть сколько’ [Даль2 IV: 114], русский час — с днем
тридцать [Даль ПРН2 2: 19], ср. московский час', подожди с москов-
ский час (от русской поговорки сейчас) [Там же: 18]). Проспектив-
но-темпоральная семантика вося фиксируется преимущественно в зо-
не Поволжья — можно предполагать, что именно из этих говоров сло-
во авосъ попало в литературный язык.
Раздел IV.
КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ
И КУЛЬТУРНЫЙ ТЕКСТ
Категории культурного кода и культурного текста относятся к ос-
новным структурным измерениям символического языка куль-
туры — соответственно парадигматическому и синтагматическому.
Понятие культурного кода имеет различные трактовки. По мнению
С. М. Толстой, коды могут быть разделены на субстанциональные и
концептуальные [Толстая (в печати-а)]. Первые определяются на основа-
нии общности плана выражения — материальной, субстанциональной
природы знаков, составляющих код (цветовая уличная сигнализация,
предметный код обряда и др.); вторые — на основании смысловой общ-
ности элементов (концептов, идей, мотивов), которые могут соотносить-
ся с разными материальными воплощениями смысла (растительный код,
зоологический, кулинарный и т. п.) [Там же]. В центре нашего внимания
будут концептуальные коды. Поскольку настоящее исследова-
ние строится преимущественно на языковом материале, то изучаемые
нами коды по субстанции можно отнести к вербальным — а точнее, к
номинативным, воплощающимся в фактах номинации — первич-
ной и главным образом вторичной (в последнем случае речь идет, по
сути, о системной метафоре). Разумеется, этнолингвистический ха-
рактер исследования определяет рассмотрение фактов номинации на
фоне других вербальных и невербальных кодов культуры.
Для анализа избраны два вербальных кода— пищевой и этнический.
Они очень различаются по типу содержания и внутренней организации,
поэтому при их исследовании ставятся разные проблемы Пищевой код
изучается в дискурсе (вербальном континууме) народных игр. Игра, бу-
дучи ролевым, сценарным действом, включающим субъектные, объект-
ные, предикатные, локативные элементы (водящий — другие игроки —
действия играющих — игровой предмет — игровое пространство), ищет
для максимально адекватного отражения такие коды, которые тоже име-
ли бы ролевую структуру. В ситуации приготовления пищи выделяются
позиции (тот, кто готовит (кормит) — тот, кого кормят — действия
приготовления пищи и кормления — сама пища — место ее приготов-
ления и т. п.), вполне соответствующие игровым. Поэтому пищевой
код (в данном случае код-донор) активно участвует в формировании
Культурные коды и культурный текст
341
мотивной структуры игр (реципиентной системы). Соответственно ос-
новная проблема, рассматриваемая нами (параграф 4.1), — характер
взаимодействия донорской и реципиентной стороны (который невоз-
можно описать без подробного анализа устройства обеих).
Этнический код (обозначения чужих народов, реже — земель) ис-
следуется не в связи с каким-то определенным реципиентом, а во всем
разнообразии своих мотивационных возможностей. Семантические де-
риваты на базе этнонимов функционируют в составе обозначений расте-
ний, животных, артефактов, болезней etc., образуя обширное мотиваци-
онное гнездо. Можно ли считать его внутренне единым, есть ли что-то
общее (помимо общности происхождения) между элементами гнезда,
представленными в разных тематических сферах? «Поиски единства» и
составляют в данном случае основную проблему анализа (параграф 4.2).
Концептуальный код — «язык», орудие для выражения смыслов,
имеющих разные формальные «обличья». Смысловое пространство,
концентрирующее в себе все, что «знает» культурная традиция на опре-
деленную тему, можно представить как своего рода «дискурс», «текст».
Ср.: «Этнолингвистика рассматривает текст прежде всего как семантиче-
ское целое, как поле смыслового напряжения, в котором актуализируют-
ся значения, заложенные в каждом отдельном компоненте текста, а раз-
ные по своей природе знаки „поддерживают44 друг друга и взаимно уси-
ливают свой семантический потенциал» [Толстая 2006г: 7]. Такое пони-
мание текста, сконцентрированное скорее на смысловой целостности,
нежели на формальной связности, ассоциируется в первую очередь с
именем В. Н. Топорова с его знаменитым «текстом Петербурга» и др.
Едва ли найдется в русской народной духовной культуре такой
моноцентрический комплекс представлений (моноцентризм здесь не
предполагает генетического единства разных элементов комплекса,
но подразумевает синхронную группировку его вокруг одного об-
раза), который был бы разработан так полно, детально и сюжетно, как
представления о черте. Они составляют особый текст, «текст черта».
При изучении этого текста ставится проблема реконструкции его мо-
тивной структуры (параграф 4.3.).
4.1. ПИЩЕВОЙ КОД В ДИСКУРСЕ ИГРЫ*
Игра моделирует жизнь в различных ее проявлениях — и это от-
ражается в тексте (дискурсе) игры — ее вербальном пространстве, со-
вокупности всего того, что произносится (поется) в игре. Игровой
* Данный параграф написан в соавторстве с К. В. Пьянковой.
342
Раздел IV
дискурс включает в себя языковые единицы, которые ведут свое про-
исхождение из разных кодов, мотивационных сфер. Это такие сферы,
как «животные», «растения», «бытовой инвентарь», «ремесла и заня-
тия» и др. Большую активность в дискурсе игры проявляет пищевой
код: ситуация приготовления пищи принадлежит к числу основных
сценариев, «питающих» игру и ею воспроизводимых. Однако воспро-
изведение этого сценария далеко не всегда осуществляется явно и
связно. Часто пищевые образы предстают в виде «осколочных» номи-
наций — слов, обозначающих различные элементы одной игры или
разных игр, которые кажутся не коррелирующими друг с другом и
даже не мотивированными: трудно, к примеру, без специальных ра-
зысканий объяснить мотивировку тульск. пирог ‘единица измерения
игрового пространства (в игре свайкаУ 1 или терск. соль ‘большая
лунка, в которую надо загнать палочку (в игре зубу.
Поскольку игра есть действо синкретичное, пищевые образы вводят-
ся в нее не только вербально, но и средствами других субстанциональ-
ных культурных кодов, например, акционального (в игре каша стоящие
плотно к друг другу игроки изображают густую кашу, которая становит-
ся редкою, когда участники игры разбегаются, разогнанные водящим),
предметного (например, в различных играх детьми «пекутся» пироги из
песка). Поэтому при изучении «языка» игры все его составляющие —
вербальное оформление (игровой дискурс), физические действия (дви-
жения и позы игроков, расположение игроков в пространстве), «пред-
метное сопровождение» — должны рассматриваться в их взаимосвязи.
Такой комплексный подход предполагается выдержать в ходе
нижеследующего анализа, однако в центре нашего внимания будет
вербальный код игры, который сам по себе неоднороден, включает
разные по своему языковому статусу элементы Нас будет интересовать
в первую очередь игровая номенклатура «пищевого происхождения».
Набор «пищевых» лексем и фразеологизмов, функционирующих
в игровом дискурсе, достаточно представителен, но он демонстрирует
весьма определенный круг производящих лексем, среди которых лег-
ко выделяются самые продуктивные, дающие наибольшее количество
реализаций.
1 Приведенные здесь и далее примеры извлечены из словарей русской
диалектной лексики и фразеологии, а также из различных этнографических
источников; в качестве дополнения к русскому материалу используются дан-
ные других восточнославянских языков; для сравнения приводятся также не-
которые факты польского языка. Во вводной части примеры будут даны без
паспортизации, которая будет осуществлена далее, по ходу классификации
материала.
Культурные коды и культурный текст
343
В число наиболее продуктивных лексем, называющих виды
пищи, входят следующие: каша, квас, сало/масло, соль, обозначения
выпечки — блин, пирог, каравай. Активность этих слов не случайна:
они называют основные составляющие традиционного рациона пита-
ния. Единичны лексемы булка, ветчина, гороховик, кисель, кислая ка-
пуста, клецка, кокорка, колбаса, колоб, корочка, кулеш, кулик, мед,
молоко, мука, мякиш, мясо, оладья (оланка), печенка, пиво, плюшка,
простокваша, рыба, сахар, сметана, солод, сочень, сухарь, хлеб, шаньга,
яблочник. В качестве производящих основ могут выступать обозначе-
ния категориальных признаков пищи (горький, кислый, по-
стный, соленый); наименования действий по приготовлению пищи,
кормлению и поеданию (бить, жать, макать (масло), варить, жа-
рить, забелить, катать (караваи, кулики, булки), кормить, печь, со-
лить, есть); на периферии этого поля находятся элементы, которые
логически принадлежат другим полям, но имеют стойкие ассоциатив-
ные связи с пищевой лексикой, — обозначения посуды для приго-
товления или хранения пищи (горшок, котел, кринка, сковорода),
физических процессов, которым подвергается пища (кипеть,
пригорать), и ее физических свойств (горячий, густой).
Изучение пищевого кода в русском игровом дискурсе предпола-
гает анализ особенностей организации как донорской, так и реципи-
ентной сторон. Если идти от донора, то немаловажно выявить мо-
тивы номинации, которые реализуются в игровой лексике «пищевого
происхождения», соотнести игровую семантику пищевой лексики с
семантикой неигровой.
Взгляд со стороны реципиента, игрового дискурса, предпола-
гает рассмотрение (на примере одного из важнейших кодов, формирую-
щих этот дискурс) внутренней организации последнего, соотношения его
составляющих, имеющих разный семиотический статус (от дискретной
номинации до связного текста), логики становления собственно игро-
вой номенклатуры. Наконец, интересно было бы установить, сущест-
вуют ли закономерности в закреплении пищевой лексики за опреде-
ленными типами игр (можно ли говорить, например, о специфике игр,
где главным «героем» является квас, в отличие от тех, где таковым
оказывается выпечка? выделяется ли вообще модель «пищевой игры»?).
Чтобы охарактеризовать организацию пищевых игр, выявить мо-
тивационные особенности игровой лексики «пищевого происхожде-
ния», реконструировать стоящий за игрой сценарий приготовления
пищи, мы будем использовать единую схему анализа, через которую
будет «пропущен» каждый пищевой образ (или тематически близкая
группа образов), функционирующий в игре.
Охарактеризуем отдельные рубрики схемы.
344
Раздел Л'
I. Элементы структуры игры, обозначаемые через пищевые образы
Здесь будет представлен языковой материал, распределенный по по-
зициям, которые выделяются в структуре игры.
Ситуация игры
общая ситуация игры2,
отдельные фазы игры
И гроки
водящий,
команды, группы игроков,
расположение игроков в пространстве
Игровые действия
действия с предметами (в играх в кости, городки, мяч и др.),
действия без предметов ставить метку (в играх типа салок),
имитировать процесс приготовления пищи.
Игровое пространство
участки игрового пространства: место, где начинается или
разворачивается игра, место, которого необходимо достичь
по условиям игры, другие участки игрового пространства,
единицы измерения игрового пространства
Игровые предметы
в этой рубрике преимущественно представлены названия раз-
ного рода игровых бит или сбиваемых ими предметов. Кро-
ме этого, выделяются обозначения предметов маркеров
игрового пространства и сторон игровых предметов.
Результат игры
участие неучастие в игре,
удачные неудачные действия игроков (в том числе дейст-
вия, нарушающие правила игры),
проигрыш — выигрыш
2 Данная рубрика связана с обозначениями игры в целом. Такие назва-
ния нередко имеют свою номинативную специфику: при номинировании иг-
ры в целом «создать», выделить объект номинации труднее, чем при номи-
нировании других игровых позиций (игрок, игровой предмет и т. п.), поэтому
названия игр нередко появляются в результате метонимического переноса с
обозначений прочих позиций или же возникают в контексте особой номина-
тивной ситуации, становясь фактом метаязыка, описывающего игру. В том
случае, если имеет место метонимический перенос, мы указываем название
игры в той же рубрике, куда помещено обозначение, послужившее источни-
ком переноса. В других случаях название игры помещается в рубрику «Об-
щая ситуация игры»
Культурные коды и культурный текст
345
Внутри некоторых рубрик после знака • дается мотивационный
комментарий. Знак ♦ вводит общие комментарии к разделам класси-
фикации, в которых анализируется распределение пищевой лексики
по выделенным выше денотативным позициям.
II. Виды игр. Заполняя данную рубрику, мы пытаемся проследить, в
каких типах игр используются определенные пищевые образы Как
известно, игры можно классифицировать по различным параметрам.
По возрасту участников игры делятся на детские («младенческие» и
подростковые), молодежные и взрослые; по характеру действия — на
подвижные/«неподвижные»; по способу организации действия — на
сюжетные игры и игры-соревнования: действие сюжетных игр стро-
ится на сценарии, закрепленном в тексте (чаще всего диалоге игроков),
действие игр-соревнований движется физическим соперничеством их
участников. К играм последнего типа можно отнести игры с преследо-
ванием (например, салки), поиском (жмурки, прятки), игры типа лапты,
рюх и т. д. Выделяются также игры с предметами / без предметов.
Поскольку игра моделирует некоторую ситуацию действительности,
различаются игры и по принципам (способам) такого моделирования
(см. далее об играх-«постановках», «метафорах» и «отождествлениях»).
Учитывая временную и локативную «привязку» игры, следует
говорить об играх календарно приуроченных (связанных с опреде-
ленными праздниками, календарными датами), пространственно за-
крепленных (устраиваемых только в определенном месте) и таких,
которые не имеют временных или локативных регламентаций.
III. Виды игрового дискурса. Характеризуя игру как реципиентную
систему (в нашем случае по отношению к пищевому коду), важно
учесть не только структуру игр и их типы, но и собственно структуру
игрового дискурса.
Наиболее распространенными формами игрового дискурса явля-
ются номенклатура и тексты. К игровой номенклатуре отно-
сятся лексемы и фразеологизмы — обозначения игры в целом (напри-
мер, сметанка ‘детская игра’), игроков (мед и сахар ‘каждая из ко-
манд в игре, где игроки перетягивают палку’, масло ‘участник игры,
которому необходимо запятнать кого-л. из прочих играющих’), их
действий (варить кашу ‘подбрасывать и ловить мяч (о действиях во-
дящего в игре цыганская лапта)’), игрового пространства и игровых
предметов (квас ‘центр игрового пространства, где стоит водящий в игре
квас\ булка ‘закругленная чурка, используемая в детской игре’) и т. п.
Игровые тексты могут сопровождать действие («Каждый из
играющих ставит под ладонь водящего указательный палец. Ведущий
346
Раздел IV
поет: „Собирайтесь, колдуны, Под горячие блины. Котик, хлеба. Ца-
па!“ При слове цапа все убирают пальцы, а ведущий, сжимая ладонь,
старается их захватить» [РДИФ: 195]) или же выводиться за пределы
игры, но сохранять с ней смысловую связь — например, в качестве
считалок (влад. «Аннушка, сердце! Свари уху с перцем. А я приду с
хлебцем'. Я приду хлебати. Тебя целовати. Наварила, напекла Три ар-
шина киселя. Пять пудов пирогов. А к этим пирогам Выбирался же-
нишок, — Иванушка-дурачок») [Шейн 1989: 37]).
Выделяются также переходные формы игрового дискурса, к ко-
торым мы относим ролевые слова и устойчивые текстовые синтагмы
Ролевые слова образуют периферию игровой номенклатуры. Они
функционируют, как правило, в сюжетных играх, ср. игру в криночки.
где «мать» называет «дочерей» молоком, сметаной, сливками, а «кош-
ка» пытается стащить сливки и сметану. Слова сметана, сливки и т. п.
входят в открытый ряд, напоминающий перечень действующих лиц в
пьесе (такой ряд варьирует в зависимости от количества играющих,
включая по необходимости в игру дополнительных «героев» — масло,
простоквашу etc.), «кружатся» вокруг одной, заданной игровым текстом
темы (молочная пища, предметы кухонной утвари3 и т.п.). Эти слова,
как правило, являются результатом предикатной номинации, «привязы-
вающей» их к определенным синтаксическим конструкциям, которые
характеризуют распределение ролей в игре и какие-то ролевые действия
(«ты будешь сметанкой (маслом, кашей...)», «молоко убежало», «это
(кусок дерна) будет печенкой, а это (пучок травы) борщом» и т. п.); вне
подобных конструкций данные слова, как правило, не употребляются —
хотя, конечно, обладают всеми возможностями оторваться от «материн-
ских» текстовых формул.
Еще один элемент дискурса игры — устойчивые текстовые
синтагмы, включенные непосредственно в игровое действие; чаще
всего они являются командами (ср. выкрики дети. каша!, без соли!) и
представляют собой как бы свернутый игровой текст, повествующий,
например, о походе за солью и возвращении с ней или без нее.
3 Ср. также описание сюжетной игры, где действующими лицами явля-
ются предметы кухонной утвари: «В Симбирской губ. вожак носит название
слепой сковороды, а каждый из играющих дает себе название, соответствую-
щее предметам кухни: ухват, кочерга, сковородник и т.д. и, вожак, поймав
кого-нибудь, должен назвать его по имени, иначе поимка не имеет значения.
Во избежание столкновения, падения, ушиба и т.д. игроки предупреждают
слепого вожака: ..огонь". Выход за определенную черту или в другую комна-
ту не дозволяется. Нарушивший это правило в Пермской губ. называется
прогорелым и обязывается водить» [ИНС: 395].
Культурные коды и культурный текст
347
В ходе изложения материала мы попытаемся установить, существует
ли «привязка» отдельных пищевых образов к определенным формам
игрового дискурса.
IV. Мотивационные связи игровой номенклатуры, реализующей
пищевой код. Содержание пищевых образов представляет собой слож-
ный комплекс мотивов. Чтобы охарактеризовать этот комплекс, необхо-
димо проанализировать не только собственно игровые ситуации, но и
внешние по отношению к игре связи пищевых образов. Это, во-первых,
семантика пищевой лексики во внеигровых сферах языка; во-вторых,
символика пищи в рамках той семиотической системы, которая наиболее
близка игре по характеру организации действия, — в обряде.
Опора на внеигровую семантику пищевой лексики важна по-
стольку, поскольку единица лексической системы, попадая в игровую
среду, уже имеет «в наследстве» более или менее разветвленную сеть
значений во внеигровых сферах, которые по-своему преломляются в
вербальной системе игры, диктующей набор возможных денотатив-
ных позиций. Простейший пример: использование во внеигровой
сфере образов выпечки (блинов, оладий) для обозначения предметов
круглой и плоской формы определяет появление «блинных» названий
игровых бит. Анализ подобных связей позволяет определить те черты
пищевых образов, которые востребованы игрой.
Поскольку игра имеет несомненную генетическую связь с обря-
дом, поиск «этимологии» игровых слов, а тем более восстановление
некоего «пищевого текста» игры должен опираться не только на
внутриязыковые связи, но и на стоящие за игрой элементы обря-
да всех его уровней (акционального, предметного, вербального).
Перейдем к характеристике пищевых образов в играх. При анали-
зе материал распределяется в группы по тематическому прин-
ципу, т. е. по опорным словам — пищевым лексемам, на базе кото-
рых образуются элементы игровой номенклатуры (порядок следова-
ния — от количественно более представленных к менее представлен-
ным): каша; квас и кислая пища; выпечка; жиры: масло, сало / постный;
соль; сладкое; молоко и молочные продукты; мясо.
Каша
Образ каши появляется в играх часто, и это не случайно: каша —
это одно из первых кушаний ребенка и основная пища взрослых (Щи
да каша — мать (жизнь) наша [Даль2 IV: 657]), а потому и важней-
шее обрядовое блюдо (подробнее см. в [СД 2: 483^488]).
348
Раздел IV
ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ ИГРЫ
Ситуация игры
устар, и обл. каша ‘игра в городки или кегли’ [ССРЛЯ 5: 893], тульск.
кулеш4 *‘игра, в которой игроки бросают шапками в водящего, у
которого завязаны глаза, а он должен узнать бросившего’ [МД:
439-440]; ср. польск. kipi-kasza ‘детская игра в мяч’ [SJP-Szym 1:
896], польск. диал. vv kaszq. ‘вид игры в мяч’, vv kaszk^ ‘вид игры в
мяч для двух человек’ [Karlowicz II: 320].
Игроки
водящий: арх. кашница ^‘участница игры, которая варит кашу, т. е.
должна попасть мячом в кого-либо из игроков’ [ИНС: 511-512];
команды, группы игроков: новорос. каша (густая, ридкая) *‘группа
игроков (в игре в каши)' — «Играющие становятся в кучу, а один
стоит в стороне, с палкою: он спрашивает: „чы густа кашаТ‘ Если
отвечают: „густа“, то он бросает палку в кучу, чтобы она стала
„ридкою“, причем играющие разбегаются; если же отвечают: „ни,
ридка“, то он обходит кругом их и сгоняет палкою, чтобы каша
сделалась гуще» [ИНС: 455]5.
• Изображение каши (помола крупы) игроками встречаем и в поль-
ской игре drobna kasza (kaszka), два участника которой, взявшись
за руки, быстро вращаются по кругу [SJP-Szym 1: 896-897]; враще-
ние может сопровождаться репликами типа: «Kase miele па wesele,
kase miele na wesele» (Кашу мелю на свадьбу, кашу мелю на свадь-
бу) [Milewska 1903: 36].
Игровые действия
действия с предметами: в играх с мячом: вят. заваривать кашу *‘бить
мячом по полю или по кону три раза (в лапте)’ — «Матка... заварива-
ет кашу', бьет мячом по полю или по кону три раза, приговаривая
„Каша, каша, каша1“» [Покровский: 273], арх. варить кашки (кашу)
*‘будучи водящим, бросать мяч, не давая ему упасть на землю (в то
время как участники перебегают от одной черты к другой)’ [ИНС:
511-512; СРНГ 13: 151], варить кашу *‘подбрасывать и ловить мяч
(о действиях водящего в игре цыганская лапта)' [ДКСБ: 208]; в играх
типа лодыжек: влг. кашу варить ‘перемешивать кости в игре’ — «В ло-
дыжки играли: мечешь, кашу варишь, апотом бросишь» [СРНГ 13: 148],
4 Ср. обл. кулеш ‘жидкая каша; густая крупяная похлебка’ [ССРЛЯ 5: 1817].
5 Возможно, эту же семантику (положение игроков в определенный момент
игры) имеет укр. каша ‘пятая фигура при игре в мяч (стшка)" [Гринченко 2: 228].
Культурные коды и культурный текст
349
*‘тереть лодыжки в руках перед броском’, кашеварить *‘при жеребь-
евке в игре: подбрасывать лодыжки и ловить их тыльной стороной ла-
дони’, варить кашу *‘устанавливать очередность перед катанием яиц:
в фартук одной из участниц складывали яйца и затем по очереди до-
ставали, кому попадалось яйцо с отметкой, начинал катать’ [Морозов,
Слепцова 2004: 660, 662, 672], вят. кашу варить ‘о детской игре в баб-
ки’ [СРНГ 13: 149], *‘играть в лодыжки (разновидность бабок)’ [По-
кровский: 333], влг. собрать на кашу ‘по окончании игры в лодыжки:
собрать их в кучу, «на бочку»’ [КСГРС];
действия без предметов: варить кашу *‘о действиях водящего в прят-
ках, который ищет игроков, не удаляясь от места, откуда они разбежа-
лись’ — «Кто на месте кашу варит, тот четыре года галит» [ЭИС IV: 109].
• В данном случае обыгрывается «привязанность» кашевара к месту
варки каши, за которой нужно присматривать, помешивать и т. п.
Успех действий водящего зависит от быстроты передвижения, по-
этому «кашеварение» в данном случае оценивается иронично.
Игровое пространство
место, где начинается или разворачивается игра: вят. каша ме-
сто, где собираются играющие в прятки’ — «Если <водилыцик>
найдет кого-нибудь, называет его по имени и кричит: „На кашу, ре-
бята!“» [Покровский: 112-113; МД: 445], терск. каша ^‘большая
лунка, от которой начинается игра (необходимо перегнать малень-
кую палочку (жабку) из лунки каша в лунку царство)" [МД: 497-
498]; ср. также приведенные выше контексты к выражениям типа
заваривать кашу.
• В месте, названном кашей, игра как бы «заваривается» или «варит-
ся». Представление о каше как центральном игровом локусе нахо-
дим и в перм. каша, кашка ‘лежащая на возвышении доска, на кото-
рой дети, сидящие с разных сторон, качаются’, иркут., перм. сидеть
на кашке ‘сидеть на середине этой доски, когда двое других качают-
ся’ [СРНГ 13: 148, 151];
МЕСТО, КОТОРОГО НЕОБХОДИМО ДОСТИЧЬ ПО УСЛОВИЯМ игры: блр.
каша *‘верхний сучок на суковатой палке, которого нужно достичь,
последовательно перебрасывая крюк с сучка на сучок (в игре Моск-
ва)" [ИНС: 535-536].
Результат
неудачные действия игроков: смол, сделать кашу ‘повалить рюхи
в игре в городки, не выбив их за черту’ [СРНГ 13: 148], арх. нава-
рить кашу ‘попасть в кучу рюх, при этом не вышибив «из города»
ни одной’ [СРНГ 19:312];
350
Раздел IV
проигрыш: устар, и обл. каша ‘неудачный результат игры, когда ни
один городок, ни одна кегля не выбита из черты’ [ССРЛЯ 5: 893].
♦ Отмеченные выше смыслы могут сочетаться друг с другом, ср. се-
мантику слова каша в следующем тексте, описывающем игру в ка-
шу (курск., киев.): «Собирается несколько мальчиков; один гово-
рит: „Тут, тут, дети, каша“. С этими словами ударяет мячом о зем-
лю. Все ловят на лету мяч: кто поймает, тот садится на спину (на
коня) тому, который бросился ловить и не поймал. Сев своему то-
варищу на спину, всадник бросает уже мяч оттуда. Кто поймает, тот
садится на того же игрока, а если каша рассыплется, т. е. если мяч
упадет на землю, не будучи никем задержан в воздухе, то опять на-
чинают по-прежнему бить мячом о землю» [ИНС: 473^474; МД:
467]. В данном случае каша обозначает как место, где начинается
игра, так и положение игроков, сидящих друг на друге и в какой-то
момент «рассыпающихся», подобно каше.
Хотя каша и занимает практически все логически выделяемые
денотативные позиции (субъект, локус, действие), наиболее частот-
ными являются номинации игрового пространства и игровых дей-
ствий: каша, как правило, называет ситуацию, разворачивающуюся
вокруг определенного локуса. Значения каши в игровом контексте
формируют актантную структуру, апеллирующую к некоторому
сценарию приготовления каши.
ВИДЫ ИГР
Будучи основной пищей ребенка, а также подвергаясь удиви-
тельной (с точки зрения ребенка) метаморфозе во время приготовле-
ния (сильно увеличиваясь в объеме), каша имеет все предпосылки,
чтобы стать главным «героем» именно детских игр. Это и происхо-
дит: значительную часть «кашеварных» игр составляют игры «мла-
денческие» и детские-подростковые.
Главная особенность организации действия в играх с кашей —
это их подвижность и насыщенность мелкими предметами: чаще все-
го встречаются игры в бабки, рюхи, лодыжки, в которых движение
лодыжек или деревянных чурок уподобляется варящейся каше. Каша
и процесс ее приготовления могут изображаться двумя способами:
действиями с определенными предметами — рюхами, кеглями (ср.
наварить каши ‘повалить рюхи’) — и непосредственно самими игро-
ками, или сидящими друг на друге, или близко стоящими (ср. ридкая
каша, густая каша) или вращающимися взявшись за руки (польск.
игра drobna kaszka).
Культурные коды и культурный текст
351
ВИДЫ ИГРОВОГО ДИСКУРСА
Разработанная ролевая структура «кашеварной» ситуации нахо-
дит наиболее полное отражение в самом сценарном виде игрового
дискурса — связном тексте.
К теме приготовления каши обращены многие тексты игрового
фольклора, ср.: (в игре костромушка) влад. «Костромушка садится на
землю, а остальные играющие, взявшись за руки, окружают ее, ходят
и поют: „Костромушка, Кострома, Чужа дальня сторона, У Костро-
мушки в дому Ели кашу на полу; Каша масленая, Ложка крашеная;
Кашу брошу, ложку брошу, Душа по миру пойдет44» [МД: 401]; (в иг-
ре сорока) «Сорока-сорока, Кашу варила, Гостей созывала, На порог
скакала. Гости на двор, Она кашу на стол, Этому дала (4 раза), А это-
му не дала. Ты маленек, Коротенек, Сходи за водицей Да истопи
баньку, Да вымой, выпари меня, Тогда дам кашки На красной ложке,
Шиш на головку (мать берет одну левую руку ребенка и плюет на нее,
затем она берет указательный палец правой руки ребенка и начинает
им кружить по ладонке, разводя слюну, чем представляет, как сорока
варила кашу. При четверократном повторении слов этому дала мать
указывает дитяти на его большой, указательный, средний и безымен-
ный пальцы, а при выражении а этому не дала мать указывает на ми-
зинец и грозит ему. В заключение прибаутки мать поднимает ручонки
ребенка на его голову)» [Покровский: 96]6. Эти тексты присутствуют
в таких формах игр, где вербальный ряд доминирует, а собственно эле-
менты соревнования и, соответственно, ролевое распределение играю-
щих отсутствует (или же их роли только начинают просматриваться).
Повторяющиеся текстовые фрагменты, а также действия, сопровож-
дающие тексты, позволяют выявить узловые моменты сценария и оха-
6 Игровые тексты с этим сюжетом существуют во множестве вариантов, ср.
еще один: «Мать водит указательным пальцем по ладони ребенка и говорит:
„Сорока, сорока, Кашу варила, На порог поскакивала, Гостей посматривала: Не
едут ли гости? Не везут ли гостинцы? Приехали гости, Привезли гостинцы“. По-
сле этого мать указывает на каждый палец и говорит: „Этому кашки, Этому
бражки, Этому пивца, Этому винца, А этому недостало. Поди, там Есть колодец,
Напейся водицы44» [Сахаров: 157]; аналогичные тексты представлены и в фольк-
лоре других славянских народов: укр. «Сорока-ворона На припечку сищла,
Дикам кашку варила, Ополоничком Miuiana, СвоТх дпок годувала. Сьому дам,
Сьому дам, Сьому недам» [ДФ: 348], блр. «Hina кашу варыла, Малых дзетак кар-
лйла. Аднаму дала, другому дала, Трэццяму дала, Чацвёртаму дала. А ты, малы
пальчык, щз1, Сам сабэ кашы навары\ Туг — пень, туг калода, Тут — мох, туг —
балота, А тут — цёпленькая вадзща» [ДзФ: 214] и т. п. В кашубской игре на руке
ребенка будто бы мелют кашу, приговаривая: «Мели, мели крупку, этому дала в
мисочке, этому в корытце, этому на сковородке...» [Sychta II: 248] и т. п.
352
Раздел IV
рактеризовать способы их символической презентации, перекодировки
на акциональный «язык»:
— намечаются роли кашевара, едоков, в том числе «неудачника»,
не участвовавшего в процессе приготовления каши и потому не
имеющего права ее есть (эти роли пока только называются, а прообра-
зами «артистов» в соответствующих «номинациях» становятся пальцы
рук, причем неудачника «играет» мизинец);
— изображается процесс приготовления каши: кашеварение пред-
ставляется плеванием, а перемешивание каши — круговыми движе-
ниями по некоторому пространству;
— указывается само пространство, «локус кашеварения», кото-
рым становится ладошка ребенка.
Эти сценарные позиции являются принадлежностью разыгры-
ваемого текста и неотделимы от него, но в то же время они получают
вторичное знаковое оформление: появляется акциональный ряд, в оп-
ределенных точках дублирующий текст.
Другая разновидность «кашеварных» игр сохраняет текстовую
сюжетику и развернутый вербальный ряд (тексты игровых пригово-
ров, диалоги водящего с игроками ит. п.; собственно номенклатура
отсутствует или представлена минимально); в то же время здесь появ-
ляются элементы соревновательности, а многие намеченные в текстовом
режиме позиции переводятся на акциональный уровень. В текстах,
сопровождающих такие игры, тоже представлена тема каши, ср. диалог
коршуна и матери в игре коршун’, кубан., терск. «Коршун, коршун,
что ты делаешь? — Ямку копаю. — На что ямку? — Кашу варить. — На
что кашу! — Твоим детям глаза заливать» [Покровский: 165]. К теме
каши обращен и игровой приговор в пожмурках — варианте пряток (в
этой игре жмурилыцик (водящий с открытыми глазами) должен за-
плевать тех игроков, которых он увидит, когда они выбегают из сво-
их укрытий): харьк., Херсон. «Если же жмурилыцик будет пойман, то
поймавший его кричит: „на кашу“, после чего все игроки собираются,
становятся вокруг жмурилыцика, кладут ему на голову свои руки и
поют: „Ем, ем кашку, як соломашку. Горшок масла — голова красна.
Цур до города44. После этого все разбегаются, а отжмуривший ловит их»
[Покровский: 116; ИНС: 441]. Ср. также сюжетную игру в бога и черта
(новорос.): бог кладет играющему в одну руку травы (борщ), в другую
земли (кашу) и говорит: «Чорте, чорте, иды до мене галушок йисты»;
черт должен угадать, в какой руке борщ, а в какой каша [ИНС: 168].
Эти примеры демонстрируют более четкую, чем в играх типа со-
роки-вороны, разработку собственно акциональной структуры и атри-
бутики; при этом «кашеварная» тема более определенно закрепляется
за элементами структуры игры:
Культурные коды и культурный текст
353
— выделяется некоторый игровой локус, связанный с кашей, —
это выкапываемая игроком ямка (лунка), символизирующая котел, в
котором варится каша;
— само действо в игре символически осмысляется как процесс
кашеварения (элемент сценария игры в коршуна) или же соревнова-
ние за право поедания каши (в пожмурках)}
— прорисовывается персонажный ряд: роль водящего может
быть уподоблена роли кашевара; в образе игрового неудачника мож-
но найти связь с тем, кому не досталась каша (ср. роль «мизинца» в
сороке-вороне)}
— появляются игровые атрибуты (горсть земли), «опредмечи-
вающие» кашу (в боге и черте).
Наконец, следует упомянуть о таких играх, в которых текстовые
вставки практически отсутствуют, зато появляется собственно игровая
номенклатура, в формировании которой участвует каша. Эта номен-
клатура делится на группы, которые были описаны выше (ситуация
игры и ее компоненты; актанты игровой ситуации; игровые действия;
игровое пространство). В плане мотивации игровые «кашеварные»
слова оказываются тесно связанными, во-первых, с внеигровыми лексе-
мами, реализующими сходные мотивы (см. ниже); во-вторых, с другими
игровыми словами, воплощающими тему приготовления пищи (мотивы
варки, кипения, котла, горшка или сковороды и т. п.). Это создает «под-
питку», необходимую для оформления слова как полноценного, само-
стоятельного знака. Мотив варения и кипения связан с подготовкой иг-
рового пространства, ср. наваривать, наварить (= посолить) ‘(поста-
вить на кон несколько лишних бабок, чтобы приобрести утерянное
право бить в кон’, а также возглас кипит!, который является командой
действовать в игре [Большакова 2003]. Мотив котла (горшка) появляет-
ся для обозначения разного рода игровых локусов: котел астрах., моек.,
симб., терск. ‘детская игра в шар, который закатывают в вырытую в
земле ямку’, новг. ‘детская игра в классы’ [СРНГ 15: 102], котел *‘дет-
ская игра: вырыв в земле ямку-котел, бросают в определенном порядке
туда монеты или пуговицы; самому удачливому достается весь котел,
т. е. все содержимое’ [ЭИС IV: 64], арх. горшок ‘большая яма в земле в
детской игре из-за лом" [СРНГ 7: 78], горшок ^‘детская игра (разно-
видность игры в хрен)" — «На колени садились. А потом тоже его, этот
горшочек выдергивают. „Продай горшка". — „Купи“. Снимет, опять дру-
гого ребёнка садит») [ЭИС IV: 101] etc. Можно сделать вывод, что образ
готовящейся пищи указывает на основное игровое действие, разворачи-
вающееся в наиболее значимом, «горячем» локусе.
Итак, разные составляющие игрового дискурса, соответствующие
определенным разновидностям игр (инсценировочное действо, сюжетная
354
Раздел IV
игра, игра-соревнование), могут быть представлены в некоторой после-
довательности. Ее нельзя понимать как строго диахроническую: и сами
игры разных видов, и их вербальные «аранжировки» могут функциони-
ровать параллельно друг другу, в одной временной плоскости. Тем не
менее можно попытаться реконструировать следующий вариант семио-
тической истории «кашеварных» игр (и других подобных игр): сначала
создается некоторый текст о приготовлении каши, который иногда ис-
полняется с элементами инсценировки. Инсценировочное действо неса-
мостоятельно, оно не может существовать в отрыве от текста — но от-
дельные его звенья являются прообразами будущих игровых ситуаций
(ср. инсценировку сороки). Затем акциональный ряд игры постепенно на-
бирает «суверенитет»: стадия инсценировки текста может смениться ста-
дией сюжетной игры с низким уровнем соревновательности и разверну-
тыми текстовыми фрагментами, а та, в свою очередь, может перерасти в
стадию «классической» игры-соревнования. Игра-соревнование имеет хо-
рошо разработанный акциональный ряд с четко обозначенными игровыми
позициями, за которыми должна быть закреплена определенная номенк-
латура. Соответственно перерабатывается вербальный ряд: текст транс-
формируется в систему отдельных номинаций, текстовая синтагматика
превращается в номинативную парадигматику (кашееарение встраивается
в семантико-мотивационные ряды, обслуживающие данную (игровую)
денотативную область). Разумеется, все игры не проходят с необходимо-
стью обозначенные этапы: конкретная игра может остаться на каком-то
промежуточном этапе выстроенной цепочки.
МОТИВАЦИОННЫЕ СВЯЗИ
ИГРОВОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ
Семантика каши, развивающаяся в дискурсе игры, базируется как на
ее реальных физических признаках (множество интенсивно движущихся
частиц — в игре это могут быть мелкие предметы; варка каши в котле —
в игре это игровая лунка etc.), так и на признаках переносных или же от-
ражающих бытийную ситуацию, в которую включен объект. Общими
для игровых и внеигровых значений можно считать следующие мотивы:
— мотив «коллективности», связанный с тем, что каша была «об-
щинным» блюдом (игры, в которых фигурирует каша, чаще всего пред-
полагают участие большого количества игроков) — ср. каша ‘общий
стол в артели’, ворон., дон., томск. ‘группа лиц одной профессии, объе-
диненных для какой-либо работы; артель’ [СРНГ 13: 148], каша народу
нвсиб. ‘очень много’ [ФСРГС: 92], ср. также поговорки В гурте каша
естся (в артели, в семье), Одному у каши не споро [Даль21:409; II: 100];
Культурные коды и культурный текст
355
— мотив активного действия, разворачивающегося вокруг каши в
процессе ее варки (в игре каша — центр, вокруг которого «заварива-
ется» действие, место, где собираются игроки) — ср. литер, каши не
сваришь (с кем-либо) ‘не договоришься, дела не сделаешь’, заварить
кашу ‘быть виною суматохи, хлопотливого дела’ [Даль2 II: 100];
— мотив неустойчивости, «ненадежности», способности рассы-
паться, изменить форму (в одной из игр каша — это группа игроков,
то разбегающихся, то собирающихся вместе (редкая и густая каша),
в другой — каша рассыпается, если мяч падает на землю, не пойман-
ный участниками) — ср. метафорическую реализацию этого мотива в
укр. у кашу гвгздки забивати ‘обманывать’ [Ужченко: 90];
— мотив беспорядка, путаницы, базирующийся на признаке бес-
порядочного движения и вязкости, «размазанности» (кашей в игре на-
зываются поваленные рюхи), — ср. каша ‘смятение, сумятица, суматоха,
беспорядок, недоразумения’ [Даль2 II: 100], заварить кашу ‘затеять
какое-либо неприятное, хлопотливое дело’ [СРНГ 13: 148]; с этим мо-
тивом очень тесно связан мотив неудачи, ошибки — ср. хвать в кашу
‘сказать что-либо невпопад’, влететь в кашу ‘очутиться в неприят-
ном положении’ [Малеча 2: 180], как гусь в кашу ‘влипнуть, оказаться
в безвыходном, затруднительном положении’ [НОС 2: 34];
— мотив битья, удара (в детской игре заваривают кашу, ударяя по
полю мячом; ср. также игровую инсценировку свадьбы (в Смоленской
губернии), где образ каши также связан с мотивом удара: к «молодым»
подходят парни со жгутами и спрашивают, чего они хотят; когда моло-
дые отвечают «каши!», следуют удары жгутами [Морозов 1998: 224])
— ср. литер, березовая каша ‘розги’, просторен, кашей накормить ‘из-
бить’ [ЛЗА], укр. кутью задати кому ‘побить’ [1вченко 1999: 65];
— мотив ценности, жизненной важности (в игре каша может обо-
значать желаемый результат — место, которого необходимо достичь по
условиям игры) — ср. яросл. каше не перевестись! ‘пожелание благосос-
тояния (слова, которые гость обращает хозяевам)’ [ЛКТЭ], укр. каша за-
рита ‘о чем-либо привлекательном (заманчивом)’ [Ужченко: 90-91], Без
каши обед не в обед, Где щи да каша, там и место наше [Даль2 II: 100].
Мотив ценности каши проявляется и во внеязыковых формах культуры:
к примеру, в Курской губернии в ходе именинных торжеств над головой
именинника было принято разламывать пирог с кашей, считая, что чем
больше просыплется каши — тем счастливее будет год [СД 2:407].
Игровые действия с кашей обнаруживают переклички с использова-
нием каши в контексте различных обрядов — в первую очередь свадеб-
ного. Уже было отмечено, что в ряде игр кашу изображают непосредст-
венно сами участники: они или забираются друг на друга, или вращают-
ся, взявшись за руки, или становятся то более плотной, то менее плотной
356
Раздел Л'
группой (тем самым имитируется густая или жидкая каша). Таким же
образом, т. е. самими участниками, располагающимися или движущими-
ся в определенном «ритме», каша изображается в свадебном обряде: в
Вологодской области, когда в конце свадебного праздника при подаче
каши гости выходили плясать, о них говорили каша пчяшст [Воронина
1992 92] Действие описанной выше польской игры, когда двое детей,
встав друг напротив друга, кружатся, изображая помол крупы, сопрово-
ждается словами о приготовлении каши на свадьбу (kase nnele па wesela)
Вообще, и в восточно-, и в западнославянской культурной традиции ка-
ша является одним из основных свадебных блюд: в Польше во время
свадебного обеда молодые ели только кашу, чтобы им было сладко в
супружеской жизни [Wierzchowski 1890 175]; ср. также рус. (арх., моек.)
каша ‘обед после свадьбы в доме молодоженов’ [СРНГ 13: 148], арх ка-
шу сачить ‘целоваться на свадьбе’ — «Скажут: каша дессолая. давай
кашу солить и целуются все» [КСГРС]
Параллели игровым ситуациям представлены также в календар-
ной обрядности. Так, в белорусской игре Москва словом каша обо-
значается верхний сучок на суковатой палке, которого нужно дос-
тичь, последовательно перебрасывая крюк с сучка на сучок [ИНС:
535—536]. Любопытная параллель описываемому игровому действию
встречается в календарных обрядах, приуроченных к Великому посту
(Горьк., Яросл. губ.): на седьмой сучок дерева вешался горшок с мо-
локом, который постепенно опускался вниз, как бы отсчитывая каж-
дую неделю поста: этот обряд вписывается в более широкую сеть
фольклорно-этнографических фактов, связанных с отправкой скором-
ной пищи наверх (чаще всего на дерево), а затем возвращением ее на
землю (см. об этом в [Агапкина, Топорков 1986])
Квас и кислая пища
В данную мотивационную группу вошли лексемы с корнями *kys-l
*kvas~, которые обозначают процесс брожения (квасить, киснуть), ко-
нечный продукт брожения (квас, кисель, пиво), его признаки (кислый)
ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ ИГРЫ
Ситуация игры
твер. квасник'' *‘игра ряженых которые брызгались квасом (водой,
набранной в сосуд с узким отверстием, имитирующий половой
7 Ср. диал. шир. распр. квасник ‘деревянная посуда (обычно кадка, боч-
ка) для приготовления и хранения кваса’ [СРНГ 13: 159-160]
Культурные коды и культурный текст
357
член), спрашивая: «Кваску не желаете?»’ [РЭФ: 211]; курск. кваси-
ки ‘игра вроде салок’ [МД: 419].
Игроки
водящий: курск. квасик (квасик-торгасик) *‘водящий в игре квасики" —
«Дети, сбившись в кучку, складывают большой палец с указатель-
ным в виде кружка и плюют сквозь отверстие, чтоб не замочить
пальцев. У кого слюна попадает на палец, тот называется квасиком
и должен ловить других... Квасика дразнят: „Квасик-торгасик! ква-
сик-торгасик'."... Кто пойман, тот делается квасиком» [МД: 419];
клёцка (прокислая клёцка) вводящий в игре в клёцки" — Того, кто за-
плевал пальцы, дразнят: «Клёцка, клёцка, прокислая клёцка, клёцка»
[Терещенко: 8], твер. квасник ^‘участник святочной игры квасник —
сидящий парень или мужик, к нему подводят девушек, которые
должны брать его за руль и цедить квас <половой член персонажа
эвфемистически представлялся как «кран квасника»>’ [РЭФ: 211].
• Связь между ролью водящего и образами кислой пищи просле-
живается в текстах считалок: «Тани, Вани, трикадоры, Сахар, ма-
хар, помидоры, Аз, бас, трибабас, И выходит кислый квас» (Юрь-
ев-Польский) [МД: 329]; блр. «Цок-цыпрок, Пана фща-футарок.
Прэла, гарэла, Замуж ляцела. Вусь, барадусь, Юслы квас, Лав!
нас!», «Эш-бэш, тры канторы, Сахар, махар, помщоры, Ас, бас,
кйлгы квас, Выб!райся, чорт, ад нас» [ДзФ: 409, 423, 407]. Тема
кислой пищи косвенно реализуется и на уровне коннотаций име-
ни Афанас (Опанас, Панас и т. п.), которым часто называется во-
дящий в прятках или жмурках, ср. костр. афонас ‘водящий в
жмурках’ — «Афонас-от ловит. Он если за скобку дверную по-
держится, дак поймает кого. А кого он поймал, того квасом зовут:
„Афонас, Афонас, Ты почто пришел? — По квас"» (о «кислых»
коннотациях этого имени см. параграф 5.2);
проигравший игрок: костр. квас ‘тот, кого поймал водящий при иг-
ре в жмурки (в афонасы)" [ЛКТЭ].
• Ср. приговор, которым дразнят того, кто «сбежит» (струсит, укло-
нится от удара) в игре в мяч: перм. Гузка, гузка — похлебай кислой
капустки! [СРНГ 7: 208]. При номинации неудачливых участников
игры пересекаются две мотивационные линии. Во-первых, роли во-
дящего и игрока, которого ловит водящий, предполагают активное
перемещение в пространстве, а «квасные» номинации могут обозна-
чать быстрое передвижение, динамичные действия (ср. убегать как
частотный предикат в «дискурсе» брожения — и, наоборот, костр.
квасить ‘убегать, скрываться из поля зрения’ [ЛКТЭ]), что мотиви-
ровано способностью бродящего продукта изменять объем. Во-вто-
358
Раздел IV
рых, роли водящего и того, кого он поймал, связанные отношениями
эстафеты (пойманный становится водящим), реализуют мотив не-
удачи в игре, для презентации которого как нельзя лучше подходит
образ кислой, испорченной пищи;
РАСПОЛОЖЕНИЕ ИГРОКОВ в пространстве: костр. кислый круг ‘в игре
вышибалы: стоящие кругом участники, в которых водящий должен
попасть мячом’ [ЛКТЭ], арх. кислым кругом ‘игра с мячом’ [СРНГ 13:
235], окислым (играть) играть в круговую лапту" — «Окислым игра-
ли. Большой круг начертят. И вот половина эта (ну, пополам деляцца)
мячик прячут — эти, которые по-за кругу ходят <.. .> И вот держат —
и из водящих не знаешь, кто там, у коо мячик. Вот. А в кругу бегаэт
уже, оберегаэцца всех. И вот у коо мячик, он себе подстерегаэт,
штобы: „Как мне ближе ударить, чтобы мячиком попало?44. Вот ес-
ли я бросила мячиком в вас (и промахнулась), значит теперь уже
ваша команда идет по-за кругу, а те становяцца в круг» [ДКСБ:
208], кисель ‘хороводная игра вроде плетня’ [Даль2 II: ПО].
• Расположение игроков, следующих друг за другом в хороводных
играх, может сопоставляться со струей жидкости (ср. ручеек). Такие
обозначения групп игроков, как кислый круг, мотивированы воспри-
ятием кислой пищи как «испорченной», не имеющей структуры
(стоящих кислым кругом игроков вышибают мячом), ср.раскис влить-
ся свердл. ‘развариться, перевариться’, урал. ‘стать слабым, вялым;
раскиснуть’ [СРНГ 34: 117], киснуть ‘становиться вязким, мягким,
превращаться в месиво (о снеге во время таяния)’ [СРНГ 13: 338].
Игровые действия
действия с предметами: арх. наквасить ‘попасть в кучу рюх, при этом
не вышибив ни одной’ [СРНГ 19:312], олон. сквасить ^‘рассыпать уда-
ром рюхи, не вышибив их из города’ — «Чаще однако бывает так, что от
первого удара чушки только рассыпаются в разные стороны по городу.
Игрок, разоривший таким образом город, называется наквасившим, а
рассыпанные по городу чушки сквашенными» [Покровский: 316].
Игровое пространство
место, где начинается или разворачивается игра: укр. (херсон.) квас
*4центр игрового пространства, где стоит водящий в игре квас" — «Две
группы участников становятся в линию напротив друг друга, еще один
игрок становится между ними (на квасу). Команды начинают перебра-
сывать мяч и стараются попасть им в стоящего на квасу. Если это уда-
лось, то обе партии разбегаются в разные стороны, а стоящий на квасу
хватает мяч и старается им попасть в кого-л. из убегающих — в этом
случае он «выручается» из кваса, а побитый заступает его место» [По-
Культурные коды и культурный текст
359
кровский: 248], укр. квас *4 центр игрового пространства, где стоит во-
дящий; окружающие его игроки стараются незаметно передать друг
другу жгут’ [Moszynska 1881: 82], укр. (херсон.) квас *4составленные
вместе колени игроков, на которых сидит водящий в игре квас (цель
игры — как можно дольше продержать сидящего на квасу и нанести
ему побольше ударов)’ [Покровский: 216].
• Центральный игровой локус может быть обозначен и словом со-
лод. ср.: «В д. Пиксимово играли солодом (информатор не уверен
в точности названия). Игроки вставали у лунок, расположенных
по кругу, поставив туда концы палок, одна, никем не занятая, на-
ходилась в центре. Водящий из-за круга старался загнать шар в
центральную лунку или занять палкой чью-либо лунку, пока этот
игрок отбивал направленный им шар» [ДКСБ: 213];
другие участки игрового пространства: кубан. квас *4место, куда
упала палка, брошенная с носка ноги (в игре пласту [Покровский:
293], кисель *4клетка, на которой разрешается отдыхать (в игре кот-
лы. являющейся разновидностью игры в классы)' [Большакова 2003].
Результат
неудачные действия игроков: вят. квас *4неудачный удар (в игре
чиж с кола), когда игрок попадает не в чижа, а по колу’ [Покров-
ский: 305], костр. сквасить ‘нарушить правила игры, переступив
линию, на которой должны стоять игроки’ [ЛКТЭ].
♦ Как показывает приведенный материал, «квасная» лексика гибко накла-
дывается едва ли не на весь список элементов игровой ситуации, испол-
няет самые разные роли — субъектные, предикатные, локативные. Иг-
ровой квас, как и каша, формирует вокруг себя определенный сценарий.
Однако это сценарность разного рода. Если квас динамичен, «деятелен
сам по себе», то каша более «интерактивна», «контактна» с человеком—
процесс ее приготовления, хорошо известный даже детям, прост и не-
продолжителен. Квас же, как и другие продукты брожения, в извест-
ной мере является «вещью в себе», его приготовление длительно и
скрыто от глаз, напиток готовится как бы «сам». Кроме того, для каши
более четко выделяются «человеческие» роли — кашевара и едоков.
ВИДЫ ИГР
Основную группу игр, в дискурсе которых присутствует квас и
однокоренные лексемы, составляют игры-соревнования (пятнашки/
салки, жмурки и т. п.) с динамичным действием и «классическим»
распределением ролей водящего и прочих участников (водящий дого-
360
Раздел IV
няет, остальные убегают или уворачиваются). Также «квасные» номи-
нации встречаются в игре типа рюх. где наквасить (наряду с наварить,
насолить) обозначает неудачный удар.
Несколько иначе организованы собственно «кислые» игры (типа
игры в вышибалы): участники образуют кислый круг, в который во-
дящий должен попасть мячом и выбить одного из участников. В игре
кисель движение хоровода изображает струящуюся жидкость.
Особое место занимают святочные игры-имитации физиологиче-
ских и эротических действий (квасник).
ВИДЫ ИГРОВОГО ДИСКУРСА
Игровой дискурс кваса представлен игровой номенклатурой, на-
зывающей основные структурные звенья игры, и текстами игровых
приговоров, в которых названия продуктов брожения включаются в
разнообразные сюжеты: квас (кисель, пиво) готовится в ходе игры;
одна из играющих сторон приглашает другую выпить кваса или же
стороны соревнуются за это право (одни участники просят кваса или
пива, а другие не дают им пить); с квасом разными способами оказы-
вается связан водящий — он приходит за квасом; выпивает квас; про-
дает квас; падает в квас8 (в квасе могут оказаться также его жена или
кот) etc. Ср.: (в игре киселек) «Бабушка кисель варила На горушечке,
В черепушечке, Для Андрюшечки. Летел, летел соколок Через ба-
бушкин порог, Вот он крыльями забил, Бабушкин кисель разлил. Вот
и нету киселька В черепушечке, У старушечки, На горушечке. Бабка
плачет: „Ай-ай-ай!“ Не плачь, бабка, не рыдай! Чтоб ты стала весела,
Мы наварим киселя Boot сколько!» (параллельно руками показывается
процесс варки киселя) [Шангина: 161-163]; блр. «Ц1, щ, щ! Што у вас
сшщ у печы? — Квас варыцца. — Дайце мне пакушаць. — Мыш увагп-
лася: нельга пщь. <.. .> Ссс.. .ссс.. .ссс! Што у цябе варыцца? — Шва ва-
ру. — Дай мне пакушаць! — Таракан увагпуся» [ДзФ: 461]; блр. «На чом
стопп? — На камень — Шчо п’еш? — Квас. — Лов! чортоу, а не нас»
[ТС 4: 64]; перм. «Что пил? — Квас\ — Ищи век нас!»; вят. «У чего
стоишь? — У столба. — Что продаешь? — Квас да ягоды! — Ищи нас
22 годы»; екатеринослав. «Кот, кот! На чем стоишь? — На квашне\ —
Что в квашне! — Квас\ — Лови мышей, а не нас!» [Покровский: 205];
влг., нижегор. «Где стоишь? — У скобы. — Что продаешь? — Щи да
квас. — Ну так ищи три года нас» [МД: 445] и мн. др. Судя по данным
текстам, активное участие кваса в игровом дискурсе в какой-то мере
обусловлено формальными свойствами слова (рифма квас — нас).
8 Водящий может падать также в дежу, где замешивается тесто.
Культурные коды и культурный текст
361
Отдельно следует сказать о пиве, которое встречается в текстах, со-
провождающих молодежные (реже подростковые) хороводные игры.
При этом реализуются свадебно-эротические мотивы (что вполне естест-
венно, если учесть роль пива в свадебном обряде). Приготовления к
свадьбе описываются в приговоре к игре смола. Участники, взявшись за
руки, ходят вокруг двоих или троих игроков и кричат: «„Смола, смолися,
Бочка, крепися, Крепка смола дедова, Крепче и не было. Пропили, про-
ели Дедову казну на меду, а бабкину на вине. Стук, стук у ворот!44, затем
останавливаются, а стоящие в середине спрашивают: „Хто там? — Поп
Хвядот. — За чем пришел? — За смолою. — На што смола? — Бочку
смолить. — На што бочка? — Пиво варить. — На што пиво! — Сына же-
нить. — Какого?44 <далее выбирают девочку и мальчика>» [МД: 393-
394]9. Эротический подтекст имеют действия и тексты распространен-
ной хороводной игры варил чернец пиво: «Варил чернец пиво, варил зе-
леное, Чернечик ты мой, горюн молодой, Чернецово пиво хмёльно дюже
было, Чернечик ты мой, горюн молодой, Хмёльно дюже было — в но-
женьки вступило, Чернечик ты мой, горюн молодой, Нельзя просту п ить-
ся, нельзя вздрогонуться! Чернечик ты мой, горюн молодой» <далее
текст повторяется со словами «в головку вступило», «в спинушку всту-
пило»> [РЭФ: 303-304]. В ряде вариантов игры во время исполнения
песни девушек вызывают ко столбу (любовному партнеру, стоящему у
столба); после песни во всех региональных вариантах игры участники
валятся на землю «в кучу» и «забавляются», после чего поют снова
[Бернштам 2000: 281-282].
МОТИВАЦИОННЫЕ СВЯЗИ
ИГРОВОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ
В представленном номинативном материале воплощаются пред-
метные (консистенция, запах и т. п.), динамические (способность ме-
нять объем, перемещаться) и интерактивные (включенность кваса в
важнейшие события человеческой жизни, различные «культурные сце-
нарии»: квас готовили на поминки, свадьбу, родины [см. СД 2: 488]) при-
знаки продуктов скисания, брожения. Выделяются следующие мотива-
ционные линии:
9 Интересно, что такая же вопросно-ответная структура повторяется в диалоге
игроков в польской игре wilczek (волчок), где фигурирует пиво, однако там не про-
являются матримониальные мотивы: «Na со ten ogniczek? — Piwko parzyc. — Na co
to piwko! — Talerzyki myc. — Na co te talerzyki? — Na mi^so krajac. — Huzia go
wilku!» (На что огонек? — Пивко варить. — На что пивко! — Тарелочки мыть. —
На что тарелочки? — Мясо резать. — Ату его, волка!) [Cisek 1889: 82].
362
Раздел IV
— мотив динамизма, движения («квасные» игры являются под-
вижными) — ср. литер, как на дрожжах ‘быстро расти’, иркут., крас-
нояр., перм. (как) на опаре киснуть ‘то же’ [СРНГ 13: 238], трогать-
ся ‘начать портиться, киснуть’ [Даль2 IV: 434], калуж. прыткий квас
‘пенящийся, кипучий квас’ [СРНГ 33: 74], Квас вор: воду в жбан свел
и сам ушел ‘о дурном квасе’ [Даль2 II: 103] и мн. др., ср. также загадки,
«шифрующие» опару: «Без рук, Без ног, На стену ползет», «Без корень-
ев растет, Без костей встает» [Садовников: 487-488]. Динамика — это
одно из свойств игры как разворачивающегося процесса, в котором
активно участвует человек. Одновременно динамизм — одно свойств
кваса как бродящего продукта. Связь представлений об игровом дей-
ствии и о брожении, мотивированная идеей движения, отражена в па-
радигме значений самого глагола играть', ср. урал. играть ‘бродить
(о жидкости)’ [СРНГ 12: 69], пиво разыгралось ‘сильно играет, пенит-
ся’ [Даль2 IV: 55], а также в значениях лексем, образованных от основ
*vesel- и *gul-\ подвеселйтъ ‘подпустить хмелю, дрожжей с хмелем’
[Даль2 III: 163], брян. вино гуляет ‘вино бродит6 [СРНГ 7: 147], ср.
также сиб. забалуй ‘пиво, брага’ [Даль2 I: 550]10. Отметим также, что
динамизм кваса отличается от динамизма рассмотренной выше каши'.
для кваса это внутреннее свойство, в то время как у каши динамизм
определяется активным участием человека в ее приготовлении (литер.
заварить кашу);
— мотив хаотического движения, суматохи (в «квасных» играх
обычно участвует много игроков) — ср. яросл. квасить ‘суетиться,
толкаться’ [ЛКТЭ], арх. как около кисельной кадцы ‘о суматохе’
[СРНГ 13: 228], просторен, буза ‘скандал, шум, беспорядок’ (при ли-
тер. буза ‘легкий хмельной напиток из проса, гречихи, ячменя’);
— мотив «струистого» движения (расположение цепочки игроков
в пространстве сопоставляется с течением жидкости) — ср. кеж ‘хоро-
вод, сопровождаемый пением частушек’ [СРГК 2: 339] (< арх. кеж ‘не-
сладкий кисель’ [КСГРС], арх., олон. ‘процеженный настой ржаных
высевок, употребляемый для приготовления киселя’ [СРНГ 13: 175]);
— мотив превышения объема, который в играх проявляется при
обозначении выхода за определенную черту — ср. челяб. коситься
‘бродить (о квасе)’ [СРНГ 15: 52], литер, подниматься (о тесте), карел,
(рус.) повставать ‘подняться (о тесте)’ [СРНГ 27: 164], (р. Урал) пух-
нуть ‘киснуть, портиться (о продуктах)’ [СРНГ 33: 163] и др.;
— мотив битья, удара (в игре «квасные» действия могут обозна-
чать удар — как правило, неудачный) — ср. просторен, расквасить
10 О пищевых значениях глаголов играть и гулять см. в [Толстая 1999:
167-168].
Культурные коды и культурный текст
363
(нос) ‘ушибив, разбить до крови’ [Дальг III: 417], твер. надавать кисе-
лей ‘надавать шлепков’ [СРНГ 13: 227], волосяная брага ‘таскание за
волосы’ [СРНГ 5: 64], яросл. кавардак загнуть ‘больно ушибить, изу-
вечить, изуродовать кого-либо’ (ср. кавардак ‘пивная гуща, плохое
пиво, бурда’) [СРНГ 12: 290];
— мотив неудачи, ошибки (в играх с помощью кваса обозначены
неудачные действия игроков) — ср. неудача с квасом ‘несообрази-
тельный человек’ [СПП: 55], карел, за опарой поехали ‘говорят сва-
там, когда знают, что их ждет неудача’ [СРНГ 23: 235-236] (другие
примеры свадебных отказов с участием кваса см. в параграфе 3.1,
с. 253-254), Удастся — брага, не удастся — квас [Дальг IV: 471]
и т. п. Данный мотив основан на негативном восприятии процесса
скисания (ср. игровую кашу, тоже дающую мотив неудачи, который,
однако, базируется на переосмыслении признака вязкости);
— «эротический» мотив (игра квасник имитирует сексуальный
акт) — ср. уподобление заквашивания совокуплению (жарг. квасить
‘futuere’ [ЛЗА]; другие примеры см. в параграфе 5.2, с. 544-545).
Выпечка
Данную группу составляют названия выпечки (к ней условно при-
писываются любые мучные изделия) и действий по ее приготовлению.
ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ ИГРЫ
Ситуация игры
общая ситуация игры: смол, блины ‘в дореволюционной деревне «пред-
ставление на святочном игрище: бьют лопатою по спине»’ [СРНГ 3:
24]; енис. караваем играть ‘водить хороводы’ [СРНГ 13: 66]; клец-
ки ‘детская игра: плюют сквозь пальцы; а кто заплюет свой палец,
тот клецка и ловит прочих’. См. квасик («Квас: Игроки»); арх. ола-
ны (оланки)п ‘игра, в которой требовалось загнать мяч в лунку с
помощью биты’ — «В оланы зимой играли, в снегу лунки сделаем,
из колья клёскальник вытешем, в серёдке один котёл. Который па-
рится, пытается мячик загнать туда, а мы клёскаем его» [КСГРС].
См. аланки («Игровые предметы»); вят. пирогом ^‘командная игра с
мячом: игроки кормят пирогами (т. е. бьют мячом) представителей
соседней команды’ [Покровский: 252]; олон. пирогом *‘игра с мя-
чом’ — «Мальчики бегают вокруг города, приговаривая: „Уж я иного
огрею, уж я иного ожгу“. Тот, у кого мячик, старается упечь това-
11 Ср. аланка ‘оладья’ [СРГК4:195], ряз., твер. аланки ‘оладьи’ [СРНГ 23:181].
364
Раздел IV
рища <игрока команды, стоящей в городе>. В случае промаха все
кричат: „Сгорел. сгорел", а мальчик оставляет игру» [ИНС: 476-477];
отдельные фазы игры: блин да сочень! *4реплика водящего в игре
ворон, после которой игроки попеременно выставляют то правую,
то левую ногу, спрашивая «Эта ли?»; когда очередь доходит до по-
следнего, то ворон кричит «Эта!» и бросается ловить’ [Шейн 1989:
42-43]; блр. блш гарыцъ! *4реплика водящего в игре блш гарыцъ.
после которой игрокам необходимо выбежать из круга, где находились
ранее, и снова в него забежать, не попавшись водящему’ [ДзФ: 507].
Игроки
водящий: шаньги *4ряженые, которые пекли шаньги — били девушек
лопатой на молодежных вечеринках’ [Морозов, Слепцова 2004: 605-
606]. Полный текст игры см. в разделе «Игровые действия»; казан.
гороховая мучка *4 обращение к водящему в игре гороховая мучка" —
Играющие убегают от водящего и кричат: «Гороховая мучка то и
дело солодела» [МД: 418];
команды, группы игроков: простореч. стать караваем 4об участ-
никах хороводной игры каравай', встать в круг, показывая своими
движениями размеры и форму каравая’ — «Как на Катины (Петины,
имярек) именины Испекли мы каравай — Вот такой вышины, Вот
такой нижины, Вот такой ширины, Вот такой ужины. ..Каравай, ка-
равай. Кого любишь — выбирай. — Я люблю, конечно, всех, А вот
эту — больше всех44» [ЛЗА]; перм. «Шел павин горою, Все люди за
мною, Одного нет у нас... У маменьки печка истопленная, Блины
испеченные. Каравай состряпанный'. Этакой высокой, Этакой ни-
зенькой, Этакой узенькой» [МД: 402] и др.
• Исполняя эту широко распространенную «именинную» песню,
игроки «своими движениями и жестами — расширяющимися и
сужающимися, устремленными вверх и вниз — знаково, семио-
тически выступают как сам коровай, по крайней мере как образ
его объема и движений, как внешняя поверхность коровая» [То-
поров 1999: 494^95].
Игровые действия
действия с предметами: печь (блины, шаньги, лепешки и др.): печь
блины (шаньги) *4ударять девушку лопатой в игре на молодежных
посиделках’ — «Парни на беседах пекли блины'. „Один из парней берет
хлебную лопату или широкий обрезок доски, а другой поочередно вы-
водит девушек на середину избы и, держа за руки, поворачивает их
спиной к первому парню, который со всего плеча дует их со спины44»;
«В д. Карачево пара ряженых — „старик44 и горбатая „старуха44 — пек-
Культурные коды и культурный текст
365
ли шаньги. Об их приходе оповещали заранее: .Д1аньги! Шаньги!
Шаньги идут!44 — тут, глядишь, девки забегали. <...> После обычных
приветствий старик спрашивал у старухи: „А не пора ли шаньги
печъТ‘ — „Пора, батюшко, пора!44 <.. .> Старик махал лопатой, кри-
ча: „У-у-у! Вот сичас шаньгу спичём\“ ... Попугав девушку, подда-
вал ей лопатой — „если нелюба, то сильно: таку шаньгу съест, что
еле с бабки слезет44. Так продолжалось, „пока всех девок не перепе-
кут“. В некоторых деревнях так наказывали девушек, опоздавших
на беседу» [Морозов, Слепцова 2004: 521, 591]; твер. блины печь 4то
же’ — «Мальцы принясуть, значить, с улицы снега, в ступку такую
деревянную положуть — это как бы масло, что ли. Лопату такую
возьмуть и этой лопатой девкам под жопу»; Бабка (мужчина, наря-
дившийся женщиной), взяв лопату (трепалка, которой треплют лен),
зачерпнув ей снегу, бьет девок «по заднице»; иногда при этом при-
говаривали: «Вот тебе пляшка сала, Чтоб п...а на место встала»
[РЭФ: 204-205], блины (шаньги) пекчи (печь) *'в святочных играх и
забавах: обливать девушек или хозяев избы водой, смешанной с са-
жей и налитой на сковородку’ [Морозов, Слепцова 2004: 522; ДКСБ:
46]; просторен, печь (пускать, делать) блинчики 'бросать плиточ-
ные камни по поверхности воды, чтобы они отскакивали’.
• Удар и мотив выпекания соотносятся и в «младенческих» играх, где,
хлопая ладонями, ребенок «печет блины» (здесь, конечно, сказыва-
ется рифма ладушки-оладушки, ладки-оладки): «Лапки, лапки! Где
были? — У бабки. — Что ели? — Оладки. — Еще что? — Пышку. —
С семечком. — Еще что били? — Спинку. — Чем били? — Венич-
ком»; «Бай, бай, качи! На улице калачи. За улочком — прянички.
Качь, качь, качь! Привезет отец калач. Матери сайку. Дочери китай-
ку. Стану я качать, В балалаечку играть. Баю, баю, баю, Баю дитятку
мою. Качу, качу, качу, За волосы схвачу, Хомяков <тумаков> на-
даю» [Шейн 1989: 13, 26]; колобушкип (плюшки) печь 4в детской
игре — стряпать пироги из глины’ — «Глину месили ногами да
пекли плюшки да колобушки» [НОС 4: 85]; самар. лепёшки печи
'бросать камушки так, чтобы они прыгали по воде’ [СРНГ 16:
363]; олон. упечь ^'ударить мячом в игре пирогом" [ИНС: 476-
477], перепечь ^'побить всех девушек лопатой (в играх ряженых)’
[Морозов, Слепцова 2004: 605-606]. См. печь шаньги.
катать караваи: Сургут, караваешки катать 'перекидывать мячик
с руки на руку 20 раз’ [ООП: 70]; кормить пирогами: вят. кормить
пирогами *4 бить игроков мячом, прогоняя на прежнюю позицию в
игре пирогом" [Покровский: 252].
12 Ср. колобушка ‘толстая лепешка, обычно из кислого теста’ [НОС 4: 85].
366
Раздел IV
• Ср. также игровой приговор, исполняемый при наказании в игре
ерга (влг.), когда игрока бьют по спине, приговаривая: «На пи-
роги, на шаньги, На мягкой хлеб, на покатушнички. Ерга не ерга,
Баран не баран, на повети спал, В ячею наделал. Ком, комки,
Нарубили рубыши На еловые кряжи, Куды хошь, побежи» [МД:
473]; есть (блины, шаньги и др.): иркут. есть блины ‘бросать
плиточные камни по поверхности воды, чтобы они отскакивали’
[ФСРГС: 68], шаньгу съесть ^‘получить удар лопатой во время
молодежных развлечений’ [Морозов, Слепцова 2004: 605-606,
591]. См. выше шаньгу спечь; кубан. съесть *‘удачно кинуть
палку в игре цурки", самар. заесть *‘ударить шаром в игре елы
(о действиях водящего)’ [Покровский: 296, 283];
ДЕЙСТВИЯ БЕЗ ПРЕДМЕТОВ — ИМИТАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
пищи: катать караваи, ватрушки', влг. катать караваи, кулики13 14
катать * ‘кататься по полу, земле, перекрестив руки и ухватив ими
пальцы ног (или обхватив ноги руками)’ — «Так обычно развлека-
лись на средних („середовых“) вечерках 13-16-летние девочки до
прихода парней: наклонившись и перекрестив руки, захватывали
большие пальцы ног, а затем катались по полу кубарем. Это назы-
валось катать караваи — ср. другое название для этой забавы ку-
лики катать... В д. Вакомино караваи катала молодежь во время
покоса: сев на землю по-турецки и обхватив ноги руками, катались
с боку на бок — кто дольше прокатается» [Морозов, Слепцова 2004:
789]; загибать сочены, влг. кокорки^ загибать *‘лежа на спине и
упершись в пол руками, доставать через голову со скамьи лучин-
ки’ [ДКСБ: 217]; ломать сухары. пск., твер. сухари ломать ‘бороть-
ся задом, спина-о-спину’ [Даль2 IV: 366]; печь колоб', олон. колобы
печь ‘играть в игру с хороводом и пением’ — «„Прихожу домой —
Печка затопленная..., Колобы состряпаны: Эдако-ль высоки, Эда-
ко-ль широки, Эдако-ль низеньки, Эдако-ль узеньки“. Расходясь
возможно дальше, сжимаясь в одну кучу, привскакивая или опуска-
ясь до земли, показывают размеры колоба» [СРНГ 14: 141].
Игровое пространство
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ игрового пространства: тульск. пирог пядень,
единица измерения расстояния от свайки до кольца в игре свайка" [По-
кровский: 228]; «Еще принимаются в счет пироги, т. е. если свайка не
попадет вовнутрь кольца, а отобьет его, то пространство от свайки до
13 Арх. кулик ‘ватрушка (из теста, каши, сочней с разной начинкой)’
[СРНГ 16: 65].
14 Новг., иск., твер. кокорка ‘род ватрушки или сочня’ [СРНГ 14: 96].
Культурные коды и культурный текст
361
кольца называют пирогами', их вымеряют свайкою; сколько раз уляжет-
ся свайка на этом пространстве, столько пирогов» [Терещенко: 40—41].
• Вероятно наложение двух единиц наивной метрологии, одна из ко-
торых имеет «соматическое» происхождение, другая — «кулинар-
ное»: пядень (пядь) ‘протяженье меж большого и указательного
перстов, растянутых по плоскости’ [Даль2 III: 552] как раз соответ-
ствует стандартному размеру пирожка с начинкой, а сама «фигу-
ра» из пальцев, которая образуется при измерении пяденью, на-
поминает своей формой пирожок.
Игровые предметы
блин: иркут. блин ‘круглый и плоский камешек, используемый в игре
есть блины" [ФСРГС: 68], просторен, блинчик ‘то же в игре печь
(пускать, делать) блинчики".
• Правила игры предписывают игрокам запастись камешками ука-
занной формы и пускать их по воде как бы параллельно ее по-
верхности, чтобы камешек несколько раз «прыгнул» по ней.
Блинчиком в этой игре чаще называется круг, образовавшийся от
соприкосновения камня с поверхностью воды (ср. литер, блинчи-
ки ‘цепочка кругов на поверхности воды, образующаяся вследст-
вие последовательных ударов по ней брошенного по касательной
какого-л. предмета (обычно плоского камня)’ [ССРЛЯ2 1: 642]),
реже — собственно игровой предмет (камень);
булка: влг. булка ‘закругленная чурка, используемая в детской игре;
игра, в которой используется эта чурка’ — «Булку на пенёчек поло-
жат, стрекают по ней кулисой: в булку парни играли» [СГРС 1:211];
• Есть также астрах, игра в булку, где под булкой, возможно, тоже
понимается игровой предмет (шар), который с помощью палки
игроки пытались загнать в лунку [Покровский: 284; Шангина:
89]. Однако не исключено, что название астраханской игры не
связано с предметным рядом, а отражает только семантику удара,
ср. калуж. дать булку ‘ударить’ [СРНГ 3: 271], испечь кому булку
‘дать пощечину’ [Даль21: 141];
каравай: каравайчик *‘«хлеб» из песка (в детских играх)’ [Даль2 II: 89];
колоб', влг. колобки ‘род игры в бабки или костыги, в которой употреб-
ляется плоская железная битка овальной формы’ [СРНГ 14: 145]; хлеб
и его части', хлеб ‘иносказательное обозначение сухой стороны щеп-
ки’ — Спрашивая «Хлеба или воды хочешь?» игроки кидают щепочку,
одна сторона которой намочена в слюне, и определяют жребий [По-
кровский: 102]; смол, корочки или мякиш *‘в игре с ножом — иносказа-
тельное обозначение дерна и собственно земли, которые должен съесть
368
Раздел Л'
проигравший’ [Покровский: 63]; оладья', арх. ачанки ‘рюхи в игре в го-
родки’ [СРНГ 1: 231]. См. название игры ачанки («Ситуация игры»),
шаньга шаньги *‘в святочных играх и забавах куски мерзлого конско-
го помета, которыми парень, наряженный девкой, наделял девиц из
своей корзины и заставлял нюхать’ [Морозов, Слепцова 2004:597]15,
('торона игрового предмета блр. *дзежа ‘сторона игрального бру-
ска с косым крестиком: когда она находится наверху, игрок забира-
ет себе весь разыгрываемый в игре хлеб’ [ИНС: 526].
• Слово дзежа (‘квашня’) здесь сигнализирует о «хлебном» выигрыше
Результат
неучастие в игре влг. с гороховиком уйти, яолошника наесться *‘о
девушке, не принимающей участия в играх или плясках’ [Морозов,
Слепцова 2004: 176].
• Мотивировку этих выражений можно понять, учитывая, что они
обозначают самую «непрестижную» выпечку (простую, непразд-
ничную, не очень вкусную) — пироги с горохом и картошкой
(тем самым по своей образности эти выражения сходны с форму-
лами, выражающими отказы при сватовстве, см. параграф 3.1),
проигрыш перепека16 ‘возглас в игре в случае проигрыша’ [ЛЗА:
Екатеринбург]17
♦ Среди игровых значений слов, называющих различные виды выпечки,
широко представлены акциональные значения Среди них — и кон-
15 Ср. также полесскую молодежную забаву кусание калиты, в которой
игровой предмет не имитирует выпечное изделие, а используется в «нату-
ральном» виде. Эта забава приурочена к Андрееву дню (30 ноября): к потол-
ку привязывался корж, один парень верхом на кочерге подъезжал к коржу и
пытался его схватить, хотя все мешали ему (старались вымазать сажей). При
этом разыгрывался ршуал-диалог; схватившего корж угощали водкой [БДПА:
Вышевичи Радомышльск. р-на Житомирск. обл., Копачи Чернобыльск. р-на
Киевск. обл.]. Описание подобной забавы приводит и Н. Ф. Сумцов: «В Во-
лынской губернии накануне Андреева дня на вечерницах приготовляют ка-
лету— пресный колобок, намазанный медом. Этот корж привешивают к потолку
среди хаты и при нем сажают одного парубка, которому дают в руки квач, на-
моченный в воде с сажею'-... -. Затем присутствующие поочередно подъезжа-
ют к коржу на палках и откусывают частичку серьезно. Если кто при этом за-
смеется, парубок (,,писарь“) мажет его квачом по лицу» [Сумцов 1996:190].
16 Иерепёка ‘подгоревший пирог’ [ЛЗА: городское просторечие Екате-
ринбурга].
17 Ср.: сгорел! возглас в игре городки в случае промаха’ [ИНС' 476-477]
Культурные коды и культурный tekci
369
кретные действия с мячом (караваешки катать, кормить пирогами),
лопатой (печь длины, шаньги) и действия-имитации выпекания хлеба
(катать караваи (кулики), кокорки загибать) Благодаря разнообраз-
ной форме выпечных изделий, названия выпечки часто закрепляются
за различными игровыми предметами - это рюхи (ачанки), чурка
(опта), камешки, бросаемые по поверхности воды (длинчггки), вылеп-
ленные из песка каравай или пирожки, куски дерна или земли (короч-
ки ши мякина), куски мерзлого конского помета (шаньги) Реже встре-
чаются обозначения игрового пространства и участников игры.
Такой вариант заполнения денотативных позиций (детальная
разработка акциональных и предметных значений) позволяет вос-
становить протосюжет выпекания хлеба и свидетельствует о высо-
кой степени «сценарности» игр, имитирующих замешивание теста
(ср. игры плюшки печь, длины печь, каравайчик, в которых из песка,
глины или сажи с водой готовится «тесто»), формирование булки
(караваешки катать, кокорки загибать), ее подъем (каравай, коло-
ды печь, когда участники поднимают руки, изображая, как подни-
мается каравай) и последний этап употребление в пищу (есть
длины, кормить пирогами; ср. также игру, в которой проигравшего
заставляют есть корочки или мякиш, т. е. дерн или землю)
ВИДЫ ИГР
Игры, где встречается «выпечная» лексика, относятся как к «мла-
денческим», детским, так и к молодежным: детскими являются игры
типа ладушек, а также игры с выпеканием пирогов из песка; подрост-
ковыми — подвижные игры с мячом (например, пирогом, оланы, ка-
раваешки катать); молодежными — игры на посиделках (блины печь,
шаньги печь, кокорки загибать)
Игры данной группы конкретизированы во времени и простран-
стве Они могут быть приурочены к определенным календарным да-
там (святкам — блины печь, дню св. Андрея — кусать калиту), се-
мейным праздникам (именинам — каравай) или сельскохозяйствен-
ным обрядам (при окончании жатвы — караваи катать) Определено
и пространство действия одни игры проходили на посиделках в избе
(шаньги печь), другие на лугу (караваи катать)1*. Отметим, что
18 Такие игры вписываются в обширный ряд обрядовых действий,
имеющих продуцирующий смысл. К примеру, в Полесье при окончании жат-
вы соревновались на поле, чтоб оно родило на следующий год: перетягивали
друг друга, считая, что победивший будет богаче [БДПА: Малые Автюки Ка-
пинковичск. р-на Гомельск. обл.]
370
Раздел IV
для многих игр, где фигурирует выпечка, характерен непосредствен-
ный контакт с землей — по ней катаются (в игре катать каравай), из
нее пекут (плюшки, колобушки печь), а иногда даже едят (в одной из
игр провинившегося заставляют есть корочки или мякину, т. е. дерн
или собственно землю).
Кроме того, можно говорить и о гендерной специфике игр: на-
пример, на молодежных посиделках именно парни переодевались в
старика и старуху и пекли блины или шаньги, обливая девушек водой;
специфически мужской забавой была игра кокорки загибать, а кара-
ваи катали обычно 13-16-летние девочки.
Практически все «выпечные» игры являются предметными: в них
используются как реальные орудия для выпекания (сковорода, лопа-
та) и реальная выпечка, так и их «имитации».
Основной сюжет «выпекания», разрабатываемый данной группой
игр, может быть представлен через акциональный код (например, вы-
пекание блинов изображается бросанием камня по воде; кокорки за-
гибают изогнувшиеся определенным образом игроки), а также через
вербальный (в игре каравай пропевается определенный текст о приго-
товлении каравая, которое одновременно изображается участниками).
Различны игры и по способу моделирования воспроизводимой в
игре ситуации. Во-первых, это игры-«отождествления», в которых
пищевой продукт реально «переносится» в игру (ср. забавы с исполь-
зованием калиты). Во-вторых, это игры-«метафоры», в том числе ме-
тафоры целой ситуации: например, в игре кокорки загибать игрок
изображает своими действиями «загибаемый» сочень; участницы иг-
ры катать караваи имитируют катание хлеба, обхватив ноги руками,
катаясь и кувыркаясь. Имитации могут иметь разную степень услов-
ности: пирожок, «выпекаемый» из песка, максимально похож на ре-
альный, — в отличие от пирога, являющегося единицей измерения иг-
рового пространства. Чем условнее имитация, тем богаче комплекс
мотивов, реализуемых пищевыми словами (см. ниже). В-третьих, это
игры-«постановки», напоминающие спектакль с распределенными в
нем ролями. Здесь могут быть использованы как элементы отождест-
вления, так и метафоры. В таких играх (например, блины печь) суще-
ствуют: 1) разделение на публику (девушек) и непосредственных уча-
стников, разыгрывающих действие (два-три парня); 2) распределение
ролей (например, старик и старуха)'. 3) переодевание (в старика и
старуху), что обусловлено проведением этих игр во время святочных
гуляний ряженых; 4) наличие предметов, имитирующих пищу (вода с
сажей = тесто для блинов). Так как подобная игровая система просто
«фотографирует» реальную ситуацию с некоторыми комическими ис-
кажениями-переворачиваниями (присутствует и сковорода, и то, что
Культурные коды и культурный текст
371
можно назвать «тестом», и пекущие блины старик со старухой), то у
названий выпечки не появляются вторичные игровые значения. Опре-
деленный сдвиг от театральной постановки к игре как самостоятелы
ной семиотической системе наблюдается в том случае, когда нару-
шаются некоторые принципы «правдоподобия»: пекут блины, ударяя
девушку лопатой. Тогда проявляются вторичные связи, например,
выпекание блинов = удар.
ВИДЫ ИГРОВОГО ДИСКУРСА
Игры, в которых встречается лексика с «хлебобулочной» семан-
тикой, имеют как разработанную игровую номенклатуру, так и тек-
стовые формы дискурса. В составе игровой номенклатуры большую
часть составляют двухкомпонентные словосочетания (гл. со значени-
ем 4 печь, готовить’ + название выпечного изделия), называющие сразу
целую ситуацию игры-«изготовления» хлеба (колобушки печь и т. п.).
В «хлебобулочных» играх можно встретить также переходные
формы дискурса — устойчивые текстовые синтагмы и ролевые слова.
К первым относятся реплики водящего блш гарыцъ! или блин да со-
чень!. которые обозначают определенную фазу игры и являются сиг-
налами к действию. Ролевые слова представлены «временными» (на
время розыгрыша жребия) обозначениями игровых предметов — ко-
рочки или мякина ‘о кусках дерна или земли’, хлеб ‘о сухой стороне
щепки’. Если, к примеру, игровая бита носит постоянное название ко-
лобок. то одна из сторон щепки только в определенный момент игры
условно обозначается как хлеб.
Разнообразны и собственно текстовые формы дискурса, содержа-
щие «хлебную» лексику. Во-первых, это тексты считалок, предваряю-
щие игру: «Здравствуй, Мишенька-дружок, Сколько стоит пирожок! —
Пирожок-то стоит три, А водить-то будешь ты» [РДИФ: 86]; «Где ты,
бабушка, была? — Я у дедушки была. Я мед-пиво пила, Пироги пекла.
В печи, в печи Пироги горячи. Беги, Пахом, За горячим пирогом\» [ТФ:
120-121] и др. Во-вторых, это тексты, которые отражают суть игры,
звучат на всех ее этапах и направляют действие. Подобные тексты яв-
ляются основой как «младенческих» игр типа ладушки, так и хоровод-
ных игр, участники которых изображают каравай или колоб. В-третьих,
существуют тексты, исполняемые лишь на определенном этапе дейст-
вия (в приговорах или диалогах игроков) и не являющиеся «игрообра-
зующими». Так, при игре в хрен игрока, который изображает хрен, трясут,
приговаривая: моек. «Хрен, хрен садовый, Не я тебя садил, Филимонова
жена, При дорожке жила, Калачи пекла, Калачи сожгла. Пришел мальчик,
Обжег пальчик, Приехали богачи, Растаскали калачи» [МД: 369]; в игре в
372
Раздел Л'
колюкушки водящего подводят к дверям, говоря. «Ступай в кут, там блины
пекут, тебе длин дадут» [МД: 427]; ср. также диалог в игре ворон*. влг.
«„Что мои дети делали? — Они всю капусту перерывали.—Огородом за-
городи. Огород сломают. — Тыном затыни.— Оттынюг Пирогом за-
крой Огложут. Блином закрой.—Съедят*1 Тут матка закричит. „Блин
да сочень!'1' При этих словах все играющие выставляют по очереди то
правую, толевую ногу» [Шейн 1989 42—43] и др
Разработанность игровой номенклатуры отражает акциональную и
предметную насыщенность игр, наличие множества игровых текстов —
сюжетность разыгрываемого действа, а в ряде случаев его зрелищность
и театральность. Имеющиеся тексты позволяют восстановить несколь-
ко основных сюжетов, связанных с выпечкой: собственно выпекание,
попытка своровать выпечку (вор часто обжигается, убегает), ссора,
продажа (торг), кормление выпечкой; для каждого действия существу-
ют свои «традиционные» герои (кот, бабушка, мальчик и т. п.)
МОТИВАЦИОННЫЕ СВЯЗИ ИГРОВОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ
Для удобства описания разделим мотивы на две группы: 1) ак-
циональные мотивы, которые реализуются в обозначениях действий,
связанных с приготовлением хлеба; 2) мотивы, отражающиеся в на-
званиях выпечки
1 Процесс приготовления хлеба переосмысляется в следующих
акциональных мотивах:
— ударять, бить, мять: в играх битье, удары интерпретируются как
выпекание «хлебов»19 и кормление ими (ср. кормить пирогами ‘бить иг-
роков мячом’, блины ‘представление на святочном игрище: бьют лопатою
по спине’ etc ), что поддерживается многими фактами из внеигровой лек-
сической сферы, ср. жарг. выдать горячих блинов ‘выпороть’ [Анищенко:
50], дон. блин дать ‘ударить’, вят. блинками кормить ‘награждать пин-
ками’ [СРНГ 3:24, 25], калуж. пирог ‘удар, тумак’ [СРНГ 27:41] и т. п.,
— гнуть, изгибать: в игре кокорки загибать участникам необхо-
димо изогнуться особым образом, чтобы достать со скамьи лучину;
подобная мотивационная семантика представлена, например, в гл. за-
калачгипь ‘согнуть калачом’ (закалачить руки назад) [Дальг II: 77], в
простореч. фразеологизме кренделя выписывать,
катать: один из этапов приготовления выпечки — раскатыва-
ние теста, ср. катать хлебы ‘плющить, ровнять, гладить, раскатывать,
19 Некоторые фазы процесса выпекания тоже обозначаются через глаго-
лы бить, мять и т. п.: бить пироги ‘раскатывать тесто для пирогов’ [СРГК 4:
515], Не терт, не мят не будет калач [Даль2 II 77] etc
Культурные коды и культурный текст 373
укатывать’ [Даль2 II: 96]. Этот мотив становится главным в молодеж-
ной забаве катать караваи (кулики катать);
— кидать, подкидывать —> падать: с такими действиями связано
приготовление блинов, которое имитируется в игре печь блинчики, ко-
гда участники бросают камни по поверхности воды, или в игре печь
блины, когда ряженые подкидывают на сковороде «тесто» — разме-
шанную с водой золу. Ср. влг. блин испек или олашку? ‘говорят ре-
бенку, когда он, начиная ходить, упадет на пол’ [СРНГ 3: 24].
2. Выпечка в контексте игры может интерпретироваться в свете
следующих мотивов (мотивационных признаков):
— признак специфической формы (круглой, продолговатой, изо-
гнутой). Хлебные изделия часто имеют круглую форму, что отраже-
но, например, в север., вост, коровай ‘что-либо имеющее форму ша-
ра’, волж., сарат. коровай ‘камень валун’ [СРНГ 13: 66]. Соответст-
венно участники игры каравай становятся в круг, изображая это
хлебное изделие. Продолговатой формой обладает «классический»
пирог, поэтому в игре пирог является мерой расстояния. Во внеигро-
вой сфере вторичные значения сущ. пирог указывают на предметы
вытянутой формы, ср. влг. пирожок ‘еще не созревший стручок горо-
ха’ [КСГРС]. Иногда хлебные изделия выступают эталоном изогну-
той, кривой формы (крендель, калач, витушка): У коровы рога кала-
чиком ‘круто согнуты внутрь’, плести пальцы калачиком, сесть кала-
чиком ‘поджав ноги накрест’, Спереди пирог, сзади каравай ‘двугор-
бый’ [Даль2 II: 76, 77, 89]. Данный мотив в игровой сфере реализует-
ся, например, в мужской забаве кокорки загибать;
— мотив горения, горячего. Представление о выпечке неминуемо
связано с темой горения, обжигания, ср. горячая лепешка ‘удар ладо-
нью по какой-либо части тела’ [СРГК 3: 114], просторен, накормить
горячими ‘побить’ etc. Это отражается и в игровых репликах (блш га-
рыцъ! в одноименной игре), в припевках («На печи калачи, Как огонь
горячи. Пряники пекутся, Коту в лапки не даются» [Шейн 1989: 10]),
считалках («Эндзы-бэнзы, энзы трок, Карл Иваныч блины пек, Сково-
родку уронил, Себе руки обварил» [РДИФ: 80]) и др.;
— мотив скорости, быстроты: во внеигровой сфере есть слова и
фразеологизмы, оценивающие скорость приготовления блинов (бы-
строе переворачивание на сковороде), ср. как блин со сковороды ‘на-
подхват’ [Даль21:98], калуж. блинохват ‘проворный человек’ [СРНГ 3:
25]. Упоминавшаяся выше реплика блш гарыцъ! призывает игроков
как можно быстрее выбежать из круга и обратно в него забежать;
— мотив финала, готовности: в ряде считалок готовность выпеч-
ки (пирогов, калачей) служит сигналом для начала действия: «Где ты,
374
Раздел IV
бабушка, была? — Я у дедушки была. Я мед-пиво пила, Пироги пекла.
В печи, в печи Пироги горячи. Беги, Пахом, За горячим пирогом\»
[ТФ: 121]; «...Калачей напекла', Калачи горячи Изгорели все в печи.
Приехали торгаши. Расхватали калачи. А один торгаш Съел послед-
ний калач, Пришел Родивон, Закричали: выйди вон!» [МД: 329] etc.
В смоленских говорах существует выражение каравай твой еще не
упекся ‘рано еще кого-либо женить’ [СРНГ 13: 65], в котором готов-
ность хлеба символизирует готовность к свадьбе;
— мотив коллективности: необходимым условием хороводных
игр типа каравай (колобы) является присутствие большого количества
участников (каравай же нередко выпекался так, что как бы оказывал-
ся составленным из многих маленьких булочек, которые отламыва-
лись едоками). Внеигровые значения этого слова также отражают
«общинный» характер поедания каравая: тамб. каравай ‘девичник, на
котором подается обрядовый свадебный хлеб’, ворон, каравай ‘один
из трех пиров у молодых после свадьбы’ [СРНГ 13: 66];
— мотив неудачи: для выпечки, как ни для одного другого про-
дукта питания, важна оценка удачности/неудачности приготовления
(пропекшийся/сырой/подгоревший, поднявшийся / не поднявшийся).
Ср. во внеигровой сфере: дело блин блином вышло ‘неудачно’ [Даль2 I:
98], смол, горелый блин ‘о том, кто плохо или вяло работает’ [СРНГ 3:
24] etc. Проигрыш в игре обозначается словом перепека; ср. также
горелка ‘неудачный, проигранный удар при играх в чилика, в кремуш-
ки’ [СРНГ 7: 32];
— мотив «нечистого», грязного: участники рождественских игр,
«одетые в самую грязную одежду, с замаранными сажей и завешен-
ными лицами» [Морозов, Слепцова 2004: 591], изображают печение
блинов (шанег), используя сажу, смешанную со снегом, или куски мерз-
лого конского навоза. Ср. шаньги печь ‘обливать (обычно девушек)
водой, смешанной с сажей и налитой на сковородку’. Игровое соотне-
сение блин — навоз, видимо, наведено существующим в просторечии
блин (лепешка) ‘коровий навоз’ [Даль2 I: 98].
Описав внеигровые лексические связи пищевой выпечки, отметим
и существование многочисленных пересечений «выпечных действий»
в игре и обряде. Наиболее богата такими параллелями свадебная об-
рядность. Представление брака как печения хлеба является одним из
доминантных мотивов свадебной обрядности. Некоторые эпизоды сва-
дебного обряда, кодируемые через образы выпечки, содержат элементы
испытания или же моделирования какой-то ситуации, что роднит их с
игрой. Так, на Орловщине выпечка использовалась для того, чтобы
Культурные коды и культурный текст
375
«предсказать» распределение ролей между будущими супругами: пышку
ломать, пирог кусать ‘по приезде после венчания ломать (кусать) по-
данный родителями жениха свадебный хлеб (о женихе и невесте), при
этом гости примечают, кто будет хозяином в доме по величине отломан-
ного (откусанного) куска’ [ССЛО: 90, 95]; ср. также свидетельства о том,
что на Русском Севере во время угощения блинами невеста старалась
вырвать у жениха первый блин, чтоб иметь первенство над мужем
[СД 1: 195]. В Архангельской области теща испытывала с помощью
блинов своего зятя: когда молодые приезжали на блины, она предлагала
зятю брать их без помощи рук, зубами. По количеству блинов, которые
зять мог добыть таким образом, судили о его ловкости (если теще нра-
вился зять, она могла заранее засунуть ему несколько блинов в рукава
рубахи, чтоб спасти его от позора при испытании) [ЭМТЭ]. С помощью
блина жених оповещал присутствующих о «честности» или «нечестно-
сти» невесты (подробнее об этом см. параграф 3.1, с. 251-252).
Песни, которые звучат в хороводных играх, изображающих каравай
или колоб, близки песенным текстам «каравайных обрядов», сопрово-
ждающих приготовление каравая на свадьбу (см. об этом в [Иванов,
Топоров 1970; Топоров 1999]). Разумеется, нельзя забывать о том, что
«каравайные» тексты обслуживают и такой вид семейных обрядов,
как обряды именинные. В них могут появляться и другие «пищевые
образы», например, пирог, ср. архангельский обычай ставить в первые
именины на голову ребенка пирог ребром с пожеланием: «Вот расти
такой высоты!», а затем класть его плашмя, добавляя: «И вот такой
ширины!» [СД 2: 407]).
Образная основа идиом, означающих отказ от игры, перекликает-
ся с образностью вербальных формул, используемых для выражения
отказа невесты жениху при сватовстве. Ср. выражения с гороховиком
уйти, яблошника наесться ‘о девушке, не принимающей участия в
играх’ и отказные формулы калитку съесть, солоник схватить (см.
параграф 3.1, с. 252), включающие образы простой, непрестижной
выпечки.
Игры, приуроченные к дню св. Андрея, времени гаданий о заму-
жестве, вероятно, имели матримониальный смысл — выбор жениха/
невесты. Одна из забав состояла в том, что парень должен был доб-
раться до подвешенного рядом с девушкой блина, не рассмеявшись;
все его смешат: «„Куда идешь? — До млину. — Что везешь? — Мних
<мешок>. — А что в мешке? — Смех. — Засмеешься или нет?“ —
нужно сказать „нет“, тогда дадут корж укусить» [БДПА: Курчица Но-
воград-Волынск. р-на Житомирск. обл.].
Упомянем также о перекличках «выпечных» действий в игре и в
сельскохозяйственной обрядности. Многие игры «с хлебом» предпо-
316
Раздел IV
лагают непосредственный контакт с землей. Одно из основных дейст-
вий в составе земледельческих обрядов — катание по земле. К приме-
ру, в Калужской губернии весной после молебна на поле несколько
молодых людей и девушек, отличающихся «отменной дородностью»,
попарно катались по полю, ибо считалось, что от этого снопы будут
большими [Агапкина 2002: 416]. Это развлечение имело ритуально-ма-
гический (аграрно-продуцирующий) смысл20. «У восточных славян и
на западе славянского мира с будущим урожаем культурных расте-
ний, прежде всего льна и конопли, связывались разнообразные формы
катаний», в том числе и кувыркание, валяние по земле; интересно, что
по земле катали также пищу — хлебы и яйца (в Подлясье это называ-
лось качать каравай и яйка) [Там же: 174, 417]. Игра караваи ка-
тать. которая устраивалась, как говорилось выше, во время покоса,
имитировала подобные действия.
Катание-борьба должна была служить магическому оздоровле-
нию его участников: во многих зонах славянского мира после дожи-
нок женщины катались по земле, чтобы «спина не болела» [ЭМТЭ;
Б ДПА и др.]. Во время жатвы девушки становились спина к спине и
друг друга перекатывали [БДПА: Макишин Городнянск. р-на Черни-
говск. обл.]. Подобные действия составляли суть игры сухари ломать
‘бороться задом, спина-о-спину’.
Еще одна сфера, где проявляются обрядовые связи игровой вы-
печки, — искупительные ритуалы. В некоторых играх проигравшего
заставляют в буквальном смысле есть землю (корочки или мякиш).
Ср. подобный мотив наказания путем «поедания» земли в играх с
другими пищевыми «героями» (игры в печенки и козлячъе сало. см.
рубрику «Мясо»). Эти действия соотносимы со славянскими тради-
циями ритуального искупления. Провинившиеся, испрашивая себе
прощение, должны были съесть землю: «Чтобы снять с себя „мате-
ринское проклятие44 и вымолить у матери прощение, сын должен был
съесть горсть земли: „Коли не съешь, — говорила мать, — меня, значит
не почтишь...44»; «Клятвам и присягам, при которых землю держали в
руках, во рту или съедали, в народе верили безоглядно. Ср. рус. клят-
венные формулы: „Чтобы мне землю есть, если совру44, „Правду гово-
рю — землю съем!44» [СД 2: 318].
20 «Вообще коитус, совершаемый на земле, а также просто кувыркание,
„качание44 по ней трактуются либо как магическое совокупление с землей,
как имитация ее оплодотворения..., либо как слияние с землей, передача ей
женской силы» [Агапкина 2002: 417].
Культурные коды и культурный текст
377
Масло, сало / постный
В данную группу игровой номенклатуры помещены лексемы, в ис-
ходном пищевом значении которых выделяется категориальная сема
‘жир; сдоба, жировая приправа’. Из всех слов с подобным значением в
игровом дискурсе наиболее популярны сало и масло. Следует отметить,
что за русским словом масло стоят два вида пищи, имеющие сущест-
венные различия в своих качествах, способе приготовления и употреб-
ления: растительное масло и животное. Первое выжимается из зерен
подсолнечника и др. и является постным продуктом; второе сбивается
на маслобойке и представляет собой скоромную пищу. Эти различия
проявляются в «масляных» образах, которые представлены в играх.
ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ ИГРЫ
Ситуация игры
общая ситуация игры: смол, козло-масло *‘игра с шаром, который
гоняют палкой’ [Покровский: 284], масло калуж. ‘игра в деревян-
ный шарик’, яросл. ‘игра в дубинки" [СРНГ 18: 14], ср. укр. масло,
масличко. масловий мяч [Гринченко 2: 408]; литер, салки, свердл.
сало ‘детская игра с мячом двумя командами’ [СРНГ 36: 64; ЭИС
IV: 54], кубан. сало *‘игра с мячом’ [Покровский: 244-245], перм.
(игра) салом ‘скаканье на одной ножке по кругу’ [СРНГ 36: 64];
отдельные фазы игры: костр. масло ‘реплика, которую произносят,
если лодыжка при ударе попала в лодыжку’ [ЛКТЭ].
Игроки
водящий: симб. масло * ‘участник игры, которого возят на санках и
которому необходимо запятнать прочих играющих’ — «Остальные
стараются ..отведать“ масла и с этой целью стараются ударить его,
а возница защищает от удара, причем если он кого тронет или уда-
рит, то последний становится маслом, а бывший маслом возит»
[Покровский: 117; МД: 380]; нижегор., яросл. саловник. саля (< са-
лить) ‘ребенок, играющий в пятнашки; тот, кто водит в игре’
[СРНГ 36:65,71].
Игровые действия
ставить метку: литер, салить (осалить) ‘ударять рукой или мячом
убегающего игрока; пятнать’, астрах, засалить ‘то же’ [Покров-
ский: 255; ИНС: 437], (р. Урал) салонутъ. нижегор. саловатъ ‘иг-
рать в пятнашки, в прятки’ [СРНГ 36: 65]; симб. отведать масла
378
Раздел IV
^‘дотронуться рукой до игрока, которого называют маслом’ (см.
«Игроки»);
имитировать приготовление пищи: бить (мешать) масло', бить
масло ‘развлекаться игрой на льду, падая друг на друга’ [СРДГ2 1:
40], жать масло *‘вид наказания в играх: два игрока, стоящие спе-
реди и сзади наказываемого, прижимают его палками — каждый к
себе’ [Покровский: 62], масло бить *‘в молодежной забаве: игрока,
стоящего на четвереньках, опрокидывают, ударяя с размаху пониже
спины той же частью тела другого игрока, которого приподнимают
и раскачивают товарищи’ [ДКСБ: 219]21, укр. давити олио ‘детская
игра (то же, что micna баба), в которой сидящие на краях скамьи
начинают теснить внутри сидящих к ее середине, так, что те оказы-
ваются как бы в тисках’ [Гринченко 2: 52], ленингр. масло мешать
‘вид игры, в которой один из участников мешает масло <глину>,
котята <дети в вывернутых шубах> ходят вокруг, мяукают, а во-
дящий их пачкает глиной’ [ПНС: 29], твер. масло мешать
*‘игра-представление ряженых эротического характера’ — Баба бе-
рет «рогатку» и кастрюлю и будто бы мешает масло, рассказывая,
как ходила по домам и просила маслица: «кто дал, кто не дал, кто что
ответил». Рядом с ней находится кот, который, улучив момент, заби-
рается в масло. Мешая масло, приговаривают: «Маслице мешаю, от
п...ы вошей тягаю, В масло бросаю». Рассказ бабы может быть та-
ким: «Вот пришла я к Маньке: „Дай мне, Манечка, маселъца, хоть
чуть-чуть“. Она говорить: „Не могу я тебе дать. Я б дала, да прихо-
дил кот Ваньки Кузнецова, все масло осадил^» [РЭФ: 205-206]; ма-
кать масло: масло макать *‘прыгая на доске, опускать попеременно
то одну, то другую ногу’ — «На доске скакали. Разные эти <фигу-
ры>. Ох, масло макать дак вот. Одной ногой спустишь, потом вто-
рую. Попеременно так» [Морозов, Слепцова 2004: 802].
Игровое пространство
МЕСТО, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ ИЛИ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ИГРА; МЕСТО, КОТОРО-
ГО нужно достичь по условиям игры: курск., твер. масло ‘боль-
шая яма, овин при игре в дубинки", новг., пск., твер. масло ‘ямка,
лунка, обозначающая определенное место при игре в рюхи’ [СРНГ
18: 14], олон. масло *‘лунки, у которых становятся игроки, охраняя
их от удара буем в игре зимним буем" — «Находящийся в гонках
схватывает буй рукой и кричит: „На масло V. Играющие идут к
21 Ср. польск. siedzi па maslniczce ‘об игроке, сидящем на шее у другого
игрока и наклонившем голову’ [Karlowicz III: 125] (maslnica ‘масленка, при-
способление для сбивания масла’).
Культурные коды и культурный текст
379
к лункам... Когда буй бросается масло и не ударится о чью-ни-
будь ногу, то его гонят дальше от лунок... до тех пор, пока гонщик
не схватит его» [Терещенко: 52], костр. масло ‘условное место, до
которого нужно бежать в игре лапта’ [ЛКТЭ]; ср. также блр. (Моги-
лев.) масло *‘центральная, большая ямка в игре, в которую водящий
стремится загнать шар в игре масло" [ИНС: 476; 502; 507; ДзФ: 532;],
укр. (харьк.) масла *‘лунки, около которых становятся игроки’ [ИНС:
476] и др., польск. maslo ‘ямка в игре’ [KSGP]; сало ‘круг, очерчи-
вающий площадку для игры в мяч’ [НОС 10: 6], арх. сало *‘черта, у
которой стоят играющие и к которой должны бежать’ [МД: 487;
ИНС: 510], сало *‘черта, от которой катают мяч в игре с яйцами в
Яичное заговенье’ [Морозов, Слепцова 2004: 675], курск. салка ‘мет-
ка, место, до которого бегают в игре в салки’ [СРНГ 36: 62], арх. сало
*‘черта, к которой должны бежать игроки’ [МД: 487; ИНС: 510], салы
‘мелкие лунки вокруг касла, куда загоняют шар’ [Даль2 IV: 130];
другие участки игрового пространства: масло ‘место на стене; по-
вернувшись к нему, один из участников игры в кулючки стоит с за-
крытыми глазами’ [БТДК: 277], пск. масло ‘убежище от собаки в
детских играх, «дом»’ [СРНГ 18: 14]22; вят. сало *‘круг, четырех-
угольник в игре, встав на который и сказав „Я на сале“, игроки не
могут быть засалены водящим’ [Покровский: 106], влг. сало ‘поло-
вина игрового поля или черта, разделяющая это поле’ [КСГРС];
единицы измерения игрового пространства: сало ‘расстояние ме-
жду городками’ [ЭИС IV: 51].
Игровые предметы
предмет — маркер игрового пространства: кубан. масло *‘кол, во-
ткнутый в землю в игре иголка" — «Играют двое. Один <...> стано-
вится около этого кола (масло) и, подбросив маленькую палочку
(иголку), ударяет по ней другой палкой» [Покровский: 295]; влад.
сало *‘кол, воткнутый в землю в игре сало, обозначающий середину
игрового пространства’ [МД: 423];
сторона игрового предмета: масло *‘выигрышная сторона игральной
кости’ [Морозов, Слепцова2004:658], арх., влг.масло ‘тоже’ — «У тебя
масло, у меня дира, ты должен чикать»; «Порато <хорошо> ведь он
стрекнул, после сака масло выпало» [КСГРС], масло (масла, маско,
масляк, маслянка) *‘выпуклая, округлая часть игральной кости’,
масло *‘боковая сторона лодыжки’, сало *‘выпуклая и вогнутая
стороны лодыжки’ [Морозов, Слепцова 2004: 655-656].
22 Ср. мазло ‘при игре в прятки — место, где остается водящий и откуда
идут прятаться играющие’ [СРНГ 17: 298].
380
Раздел IV
Результат
неучастие в игре: влг. постный *‘игрок, который пропускает оче-
редь кидать лодыжки’ [Там же 2004: 660].
• Косвенные связи с этим образом обнаруживаются в выражении
масло потекло *‘о сильно запотевшем игроке’ [Сахаров: 170;
Терещенко: 40-41].
♦ Игровое масло занимает все возможные денотативные позиции:
обозначает общую ситуацию игры, водящего, действия игроков,
действия-имитации приготовления пищи (бить масло, жать мас-
ло). ямки, лунки в играх с шаром или в рюхи, центральный игровой
локус и его маркеры, а также сторону игральной кости. При этом
ведущей для масла является семантика локативная и предметная.
Сало и другие лексемы с корнем сал- занимают сходные с мас-
лом денотативные позиции, но для них ведущей становится акцио-
нальная семантика, от которой производны все остальные значения:
‘ударять рукой или мячом, метить’ —> ‘общая ситуация игры’, ‘во-
дящий’, ‘отмеченный, очерченный игровой локус’, ‘маркер игрово-
го пространства’, ‘сторона игральной кости’.
ВИДЫ ИГР
Сало и масло чаще всего встречаются в «классических» играх-со-
ревнованиях, где главным является акциональный, а не вербальный
компонент: пятнашки, игры в мяч, шары. По сравнению с прочими
«пищевыми» играми игры, в которых фигурируют сало и масло, в
наибольшей степени насыщены предметами (мяч, шары, лодыжки) и
характеризуются разработанностью игрового пространства (разде-
ленного на участки, тщательно разграниченного, с размеченными ям-
ками-лунками). Иными словами, в «жировых» играх разработана сис-
тема действий и правил поведения игроков, «расчленено» простран-
ство, но редуцирован словесный компонент (преобладает игровая но-
менклатура; собственно тексты сведены к минимуму).
В то же время отдельные игры, изображающие изготовление масла
(бить масло, жать масло, масло мешать), обладают некоторым эле-
ментарным сюжетом. При этом если игра масло мешать представляет
собой игру-инсценировку, в которой распределены роли и обозначе-
ны соответствующими ролевыми словами (масло и желающие отве-
дать его котята), то игра битъ/жатъ масло является своеобразной
«метафорой» приготовления масла: игроки падают, опрокидывают,
прижимают друг друга, что подобно сбиванию масла животного или
выжиманию растительного; здесь нет ситуации, в которой распреде-
Культурные коды и культурный текст
381
лены роли и разыгрывается сюжет с определенной последовательно-
стью действий, но есть имитация, уподобление. Большая часть игр —
детские и подростковые. «Взрослым» является представление масло
мешать, в котором эвфемистически «пересказывается» половой акт.
ВИДЫ ИГРОВОГО ДИСКУРСА
Игровой дискурс сала/масла представлен игровой номенклатурой,
«покрывающей» все разнообразие номинативных позиций. Практически
отсутствуют развернутые тексты (за исключением эротической игры мас-
ло мешать); в единичных играх функционируют текстовые синтагмы (в
игре масло, отходя от своей лунки, игрок кричит ..Чур! Мое масло до вече-
ра не погасло"') и ролевые слова (в одной из игр водящий мешает масло
(= глину), а котята (остальные играющие) ходят вокруг него). Подобная
специфика дискурса, несомненно, обусловлена характером игр, насыщен-
ных действием и практически лишенных словесного сопровождения
МОТИВАЦИОННЫЕ СВЯЗИ ИГРОВОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ
Рассматривая ряд игровых номинаций, связанных с маслом и са-
лом. можно выделить мотивы «объективные», напрямую связанные с
физическими свойствами пищи, и мотивы «субъективные», основан-
ные на дальнейшем переосмыслении этих свойств:
— мотив битья, удара: большинство игр, где встречаются сало и мас-
ло. связаны с темой битья, удара, реализующейся в разных вариациях.
С одной стороны, существуют лексемы сало и масло как обозначения
игрового пространства (ямка, лунка, отмеченный участок пространства),
общей ситуации игры, определенных действий в играх (ударять мячом,
пятнать), образованные по семантико-мотивационной модели «мазать,
пачкать» —> «пятнать, ударять». Данная семантическая модель характерна
и для других лексем с «жировой» семантикой, ср., к примеру, влг., костр.,
нижегор., новг., пск., смол, волдга ‘жир, масло’ [СРНГ 5: 47] —> ряз. при-
волджитъ ‘загрязнить, запачкать’ [СРНГ 31:146], курск. волджитъ ‘бить,
колотить кого-либо’ [СРНГ 5:48]. С другой стороны, обороты масло бить,
жать масло, мешать масло, обозначающие действия-имитации приго-
товления масла (участники падают друг на друга, опрокидывают или «за-
жимают» одного из игроков и т. п.), реализуют мотивационную модель
«эвфемистического» характера «давить масло» —> «бить, ударять», ср.
жарг. жать (давить) масло ‘гурьбой прижимать выбранную жертву к
стене’ [Анищенко: 156], укр. ол!ю вибити кому ‘побить’ [Гринченко 2:
52] (эта модель может разворачиваться и в эротическом ключе: «давить
масло» —> «futuere»);
382
Раздел IV
— мотив округлой, гладкой формы: названия частей игровых
предметов сало ‘выпуклая и вогнутая стороны лодыжки’, масло *‘вы-
пуклая, округлая часть косточки (лодыжки)’23 даны по сходству с
куском сала или округлым и гладким шаром масла (таковым оно по-
лучалось при изготовлении в домашних условиях), ср. ср.-урал. масло
комом ‘пожелание человеку, сбивающему масло’ [СРНГ 18: 14] и др.;
— мотив центра: словами масло, сало может обозначаться цен-
тральное игровое пространство. Для неигровых значений сала/масла
(и других обозначений жира) также важен мотив центра, ср. масленка
(маслинка) ‘макушка, маковка головы, верховка, темя’ [Даль2 II: 303],
твер. маслинка ‘то же’ [СРНГ 18: 13]; ср. также в тук попасть ‘ска-
зать точно, угадать’ [СПГ 2: 454];
— мотив выигрыша, удачи, ценности, выгоды: в ряде игр с пред-
метами маслом называется выигрышная сторона игральной кости (да-
вавшая право на продолжение игры). Семантико-мотивационная мо-
дель «жирный» —> «выгодный, полезный» представлена и в значениях
тук ‘толк, прок, польза’ [Даль2 IV: 441], литер, жирно ‘слишком хо-
рошо, слишком много для кого-л.’, яросл. сально ‘слишком хорошо,
много, чересчур’ [СРНГ 36: 70];
— мотив притягательности, заманчивости: действия некоторых
игр строятся на том, что их участники стараются «добраться» до мас-
ла, пытаются «отведать» масла, задев одноименного игрока (масло)
рукой (или, переодевшись в котят, ходят вокруг игрока, мешающего
масло, в игре масло мешать). Об особой притягательности масла го-
ворят также фразеологизмы и паремии: как кот на сало ‘с вожделени-
ем’ [СПГ 2: 314], масляные глазки ‘с поволокою, томные, блестящие,
выражающие просьбу, желание’, и дурак кашу съест, было бы масло
[Даль2 II: 302, 100], ни село, ни пало — дай бабе сала [Даль2 IV: 130],
ср. также укр. eidcadue ёго, як кота eid сала [Номис: 69]. В этих фак-
тах указывается типичный «потребитель» масла, персонаж, для кото-
рого оно обладает особой притягательностью, — кот. Сюжет «кот и
масло» используется и в игровой сфере: кот неизменно присутствует
при мешании масла, ср. ленингр. игру масло мешать, где игроки изо-
бражают котят, выпрашивающих масло, а также другую одноимен-
23 Учитывая, что игральная кость — это реальная кость животного, кото-
рая может быть обозначена словами мосол, мослак ‘кость, преимущественно
бедренная, а также — вообще выступающая кость’, генетически не связан-
ными с основой масл- ‘масло’, можно предположить формально-семантиче-
ское сближение основ мосл- и масл-. ср. также влг. маслена косточка ‘кость
ноги ниже щиколотки’ [КСГРС]. Таким образом, игровые номинации могут
быть производны не от пищевого, а от анатомического значения.
Культурные коды и культурный текст
383
ную игру (твер.) эротического характера, где описание действий кота,
который «все масло осадил», недвусмысленно указывает на половой
акт (сходным образом кот ведет себя по отношению к игровому мо-
локу). Разумеется, эта символика формируется и за счет эротических
коннотаций, представленных в образе кота;
— мотив напряжения, усилий, активного участия: через масло и сало
обозначаются игроки, занимающие ключевые позиции в игре (водящий;
тот, кто пятнает остальных). Ср. во внеигровой сфере семантическую
модель «салиться, пачкаться» —> «долго работать, возиться с чем-л.»: пск.,
твер. салиться ‘возиться с кем-либо, мучиться’, тульск. салить ‘рабо-
тать до крайнего утомления, пота’ [СРНГ 36: 62], твер., пск. маслиться
‘«биться около дела»’ [СРНГ 18: 13]. В связи с данным мотивом в
«масляных» играх актуализируется одна из главных категориальных
«пищевых» оппозиций «жирный» — «постный». Если масло — это ак-
тивный участник игры (масло потекло — говорят о сильно запотевшем
игроке), то постный — это игрок, «отстраненный» от действия;
— мотив горения, огня. На нем стоит остановиться подробнее.
Мотив горения масла встречается во фразеологизмах огня маслом не
заливают [Даль2 I: 597], литер, подливать масла (лить масло) в огонь
‘усиливать, возбуждать, разжигать; подстрекать кого-либо (в споре)’.
Тема горения масла реализуется также в польских формулах отказа в
просьбе: Niema masla, bo masla pohasla! или Niema sala: sala potala!
(«Нет масла, потому что масло погасло»; «Нет сала: сало растаяло»)
[Pietkiewicz 1938: 141].
Центральный локус в игре может быть связан как с маслом, так и
с огнем/горением, ср. олон., Могилев, огонь *‘место, откуда брошена
палка и к которому нужно обратно принести ее’ [ИНС: 438], горячее
место *‘ обозначенное на земле место, которое должен оберегать во-
дящий’ [МД: 419], екатеринослав. пекло ^‘большая лунка, от которой
начинается игра’ [МД: 497-498] (ср. также игровые котлы и горшки.
о которых речь шла выше).
Таким образом, центральный игровой локус может быть обозна-
чен как с помощью лексики горения, так и с помощью лексики пищи
(сало, масло), однако в некоторых случаях эти мотивы пересекаются,
что позволяет восстановить сюжет горения масла/сала в котле, в огне.
Ср.: «Яма, куда надо загнать шар, называется котел или касло. <...>
Отходящий от своей лунки должен зачурить ее, сказав: „Чур! Мое
масло до вечера не погасло44. Другие говорят: „Чур, сала-масла, запе-
чатано касло“» [Терещенко: 43]; ср. также вербальное сопровождение
игры в горелки: тамб. «Гары, уары масло. Тары, уары ясно, Штобы ны
пауасла» [Баудер 1997: 233]; влад. «Гори, гори, масло. Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло. Взглянь на небо, Там птички летят» [МД: 426] и др.
384
Раздел IV
Любопытно, что в играх, где затрагивается тема горения, часто
упоминается какие-либо жиры, скоромная пища: масло, сало, ветчина,
мясо (см. ниже «Мясо»). Такая связь имеет бытийное обоснование —
жирная пища требует обработки огнем значительно больше, чем не-
жирная, — и является дополнительным аргументом в пользу сущест-
вования в игре протосюжета приготовления пищи24.
«Жировые» сюжеты в играх имеют обрядовые параллели. О сек-
суально-эротическом подтексте игры бить/жать масло говорит сле-
дующий пермский ритуал, который осуществляется после первой
брачной ночи: «Пирог на пирог бросят, в пироге ямочку сделают,
масла в нее нальют, потом от пирога отламывают и туда масло ма-
чут, едят: „Ох, молодые сколь масла ночью набили“» (при перм. бить
(жать) масло ‘coire’) [ЭССП: 22, 57].
«Масляно-жировая» тема наводит на мысль о приуроченности
некоторых игр рассматриваемой группы к масленичной неделе, бога-
той забавами и развлечениями. Например, забава, где игрок, которого
возят на санках, изображает масло, а другие стараются его ударить =
«отведать», напоминает восточнославянский обычай катания на мас-
леницу (в том числе ввоз чучела Масленицы).
С масленичным циклом было связано также такое весеннее развле-
чение (распространенное, в частности, на Вологодчине), как игры-скака-
ния на досках. Скаканию на доске, как и качанию, «приписывалась раз-
ная символика: например, считали, что, качаясь, встречают Великий пост
и провожают зиму» [Морозов, Слепцова 2004: 801-802]. Одним из вари-
антов такого скакания была «фигура» масло макать (см. выше). В Поле-
сье скакание на досках считалось развлечением-испытанием девушек,
вошедших в возраст невест: в день Сорока мучеников «девчата скака-
лы у дошку. Паложуть кусок сыру (на другой конец доски) и скачуть:
у яки бок упаде сыр, у таки выйде деука замуж» [Агапкина 2002: 478];
«белорусы на масленицу катали сыры — клали сыр на доску, поло-
женную поперек бревна, и загадывали: куда сыр покатится, туда де-
вушка выйдет замуж [Там же: 198]. И в северном, и в южном вариан-
тах этой забавы присутствует «пищевой» мотив — макание масла или
падение сыра, «предвещающее» замужество. Думается, что игра мас-
ло макать также могла иметь матримониальный или сексуальный
подтекст (ср. эротическую символику действия масло мачут в опи-
санном выше свадебном обряде из Прикамья).
24 По мнению В. Н. Топорова, саление-клеймение в игре было синонимично
клеймению огнем: например, в одном из вариантов игры в салки для того, чтобы
выбрать водящего, надо было дотронуться до замазанного сажей пальца В этом
можно видеть мотив опаленности огнем, горения [Топоров 2002: 87].
Культурные коды и культурный текст
385
Соль
В данную группу помещается игровая номенклатура, имеющая
исходную семантику ‘соль’, ‘соленый’, ‘солить’.
ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ ИГРЫ
Ситуация игры
общая ситуация игры: бабка-соль ‘детская игра (водящий, у которого
закрыты глаза, должен угадать, кто из игроков ударил его по голове)’
[ССГ 1: 96], влад., твер., тульск. без соли соль (без соли солью) *‘игра,
два участника которой садятся на напротив друг друга, соприкасаясь
вытянутыми ногами; игроки, подходя к ним, говорят „без соли!" и пе-
репрыгивает через их ноги; на обратном пути кричат: „соль!" или
„с солью!" и стараются перепрыгнуть — но теперь сидящие стараются
его поймать’ [Покровский: 122; Сахаров: 155], новг. солью ‘игра’ [СРНГ
39: 308], вят. солоно мясо ‘беседная игра, вроде фантов’ [Даль2 IV:
268], ср. блр. солана-молана — Ребенка зажимают коленями, гладят по
голове, спрашивая: „Солана-молана. щ лук, щ качан?“. Если ответ —
„качан“, то начинают «тормошить» ребенка, если „лук“, то легонько
ударяют по лбу [ДзФ: 545], укр. дриб соли, дриб — «Двое игроков,
взявшись за руки, кружатся, напевая: .Дриб соли. дриб. на камени биб,
Пид каменем бочка, Петрова дочка, Выгнали бычки в воритнычки...“
Закружившись, падают на землю» [ИНС: 401].
• Вероятно, суть последней игры состоит в изображении процесса
измельчения, «дробления» соли: эта игра аналогична польской иг-
ре drobna kasza. в которой имитируется помол крупы (см. «Каша»).
Ср. также курскую игру в шшуку. которая, возможно, изображает
помол муки: игроки встают в круг (к середине спиной), берутся за
руки, кружатся (пока кто-нибудь не упадет) и кричат: «Шшу ка-иу-
ка\ Шшука-иу/ш!» [МД: 434]. Участники всех трех игр совершают
одни и те же движения — вращаются, взявшись за руки, что ими-
тирует вращение жернова при дроблении зерна, соли;
отдельные фазыигры: влад., твер., тульск. без соли! ^‘реплика, произно-
ся которую, игрок беспрепятственно перепрыгивает через ноги сидящих
участников в игре без соли соль"; соль (с солью)! *‘реплика, обозна-
чающая момент, когда сидящие игроки должны ловить игрока, пере-
прыгивающего через их ноги в игре без соли соль" [Покровский: 122],
олон. осарасоли. соли, был в городу, никого не боюсъ\ *‘реплика в игре
чур мой. произнося которую, игроки, стоящие в городе, идут искать
спрятавшихся’ [ИНС: 434], вят. соленая рыба! ^‘реплика, произносимая
кружащимися в хороводе участниками игры соленая рыба', кружатся
386
Раздел IV
до тех пор, пока кто-нибудь не оторвется от цепи’ [Покровский: 150—
151]. См. сходные игры кисель, кислый круг, окислым играть («Квас»).
Игровые действия
действия с предметами: калуж. посолить ‘поставить на кон несколь-
ко лишних бабок, чтобы приобрести утерянное право бить в кон’
[СРНГ 19: 151; Терещенко: 45];
действия без предметов — ставить метку: блр. Старая баба на
соль узяла\ *‘говорят, если накрытый игрок не узнает водящего, его
ударившего (в игре жутка)" [ДзФ: 483]; имитировать процесс
приготовления пищи: соль весить ‘игра с отвесом поцелуев’
[Даль2 IV: 268]; влг. солить снятки *‘вид святочной забавы, когда
детей, играющих роль снятков (снетков), сажают нагими в большую
корзину и посыпают снегом (=солят). а затем «для рассола» обли-
вают холодной водой’, влг. девушек солить ^‘масленичная забава:
катать девушек по рассыпанной на полу костре’, влг. солить *‘зака-
пывать или бросать девушек в снег в Чистый понедельник, «чтобы
не портились»’ [Морозов, Слепцова 2004: 525, 618], блр. салщъ (ры-
жш салщъ) ^‘натирать уши детям в игре рыжм салщъ" — «Если
уши горят, спрашивают, „щ досыць рыжм салщъ“. Если мало, со-
лят дальше, если хватит, перестают» [ДзФ: 545].
• Ср. также развлечение солить рыжики на пост в рамках свадеб-
ного обряда: когда жених и невеста садятся на санки, чтобы кататься
с горы, то молодежь их не пускает, пока невеста не поцелует жениха
25 раз подряд [Подвысоцкий: 150].
Игровое пространство
терск. соль *‘большая лунка, в которую надо загнать палочку в игре
зуб" [МД: 497-498].
Игровые предметы
влг. соль ‘испорченная игральная кость’ [СРНГ 39: 308].
Результат
неудачные действия игроков: просолил (туза) ‘не взял на него
взятки’ [Даль2 III: 507].
• Косвенным образом с этой рубрикой соотносится онеж. солью со-
лить ‘в детской игре при купании: забрасывать грязью тех, кто поз-
же других заходит в воду или выходит из воды’ — «Того солью со-
лить. Того морью морить, кто долго в воды сидит» [СРНГ 39: 265]:
соление маркирует неудачные действия (опоздание, задержку).
Культурные коды и культурный текст
387
♦ Насколько несхожи между собой технология приготовления, вкусовые,
физические свойства пищи, настолько различны зоны «покрытия»
пищевыми словами тех позиций, которые выделяются в структуре
игры. Соль — продукт, который не подвергается обработке, — фор-
мирует вокруг себя ситуацию иного типа, чем продукты, требующие
варки, приготовления.
Из приведенного материала следует, что если гл. солить обозна-
чает вполне определенные игровые действия, то сущ. соль весьма
«неохотно» закрепляется за конкретными денотативными позициями.
Основная роль соли — обозначение целой ситуации игры или опреде-
ленных ее этапов, узловых для развития общего сюжета (например,
выкрикнув без соли, игрок может беспрепятственно перепрыгивать че-
рез ноги сидящих участников игры без соли соль). Думается, что игро-
вой сюжет изначально как раз и был связан с определенными дейст-
виями с солью — инсценировкой ее покупки, соления пищи и т. п., а
затем редуцировался до одного узлового элемента (возвращение с со-
лью или без соли). Подобная особенность сюжета игр с солью находит
этнографическое объяснение: соль являлась единственным покупным
видом пищи (из базового рациона); остальные добывались и готови-
лись в рамках натурального хозяйства.
ВИДЫ ИГР
«Соленые» игры могут быть сюжетными (поход за солью, соле-
ние пищи) и «бессюжетными» (среди последних представлены пят-
нашки, бабки, хороводные игры, фанты). Разнородны игры с солью и
по возрастной специфике: здесь можно выделить игры-забавы взрос-
лых с маленькими детьми, игры подростковые и молодежные (в том
числе и «поцелуйные»), при этом последних — явное большинство.
Вероятно, объяснить это можно тем, что соление пищи — это «приви-
легия» не детей, а молодежи: ср., к примеру, традицию коллективного
соления капусты деревенской молодежью поочередно в каждой избе.
ВИДЫ ИГРОВОГО ДИСКУРСА
Игровой дискурс сущ. соль представлен, прежде всего, устойчи-
выми текстовыми синтагмами, являющимися командами, которые
отмечают отдельные фазы игры или называют всю ситуацию в целом
(названия игр без соли соль и др., игровые реплики вроде с солью!).
Глагол солить, напротив, чаще всего присутствует в «полноценной»
игровой номенклатуре. И для глагола, и для существительного неха-
рактерны развернутые игровые тексты: семантика «соленых» слов в
388
Раздел IV
играх связана с ситуацией (т. е. привязана к определенной фазе дейст-
вия), но не с целостным сценарием. Последнее свойственно каше или
квасу, которые являются самодостаточными образами, способными
организовать вокруг себя действие, заполнить практически все дено-
тативные позиции и «реализоваться» во всех видах игрового дискурса.
МОТИВАЦИОННЫЕ СВЯЗИ ИГРОВОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ
В группе игровой номенклатуры, производной от «пищевых»
лексем соль, соленый, солить, реализуются следующие мотивы:
— мотив битья, удара, с которыми связано действие многих игр,
где фигурирует соль (ср. игрурыжш салщъ). Значения глагола солить
во внеигровой сфере соотносят физическое ощущение от удара с раз-
дражением кожи, возникающим при попадании соли: осолйть ‘при-
чинить боль чем-н. жгучим, ожечь (о крапиве)’ [СРГК 4: 250], осали-
вать арх. ‘пересолить’, карел, (рус.) ‘хлестнуть крапивой’ [СРНГ 23: 351],
просторен, всыпать соли (перца) кому-н. ‘побить’, ср. укр. одважив
соли добре *‘о том, кого избили, поколотили’ [Номис: 77], польск.
wsolic komus ‘побить кого-л.’ [SGD 2: 216];
— мотив неудачного, не принесшего выгоды (выигрыша) дейст-
вия (просолил туза). Семантическая модель «солить» —> «напрасно
сохранять, не извлекая пользы» выделяется и для внеигровых значе-
ний «соленого», ср. просторен, солить ‘хранить, не используя (о ве-
щах, деньгах)’, дон., твер. держать (пустить) в (на) просол ‘долго не
отдавать замуж’ [СРНГ 32: 237];
— мотив «поцелуя», который встречается в игре соль весить ‘иг-
ра с отвесом поцелуев’, а также в масленичной забаве солить рыжики
на пост. Обозначение поцелуя через действия с солью можно расце-
нивать как эвфемистическую замену, во многом предопределенную
эротической семантикой «соленого»: ср. свадебный обычай, когда
молодые, целуясь, солят кашу25 (влг.) [КСГРС], а также распростра-
ненную до настоящего времени в русском обиходе примету, согласно
которой пересоленная пища указывает на то, что повариха влюбилась.
Говоря об обрядовом контексте игровой соли, отметим, что иг-
ры девушек солить или снятков солить являются календарно при-
25 Соль используется как «предметное сопровождение» ряда гаданий и, ви-
димо, должна способствовать тому, что гадающему привидится невеста (или же-
них), ср. пересол ‘род гаданья парней или девушек: в рождественский сочельник
парень кладет под подушку хлеб, соль, воду и наперсток, чтобы увидеть во сне
невесту’, нижегор. делать пересол ‘загадывать, чтобы во сне явилась невеста, для
чего смесь хлеба, соли и воды в наперстке кладут под подушку’ [СРНГ 26: 225].
Культурные коды и культурный текст
389
уроненными (святки и Чистый понедельник) и имеют связи с обря-
дом. «Соление» парнями девушек в Чистый понедельник выполняло
«репродуктивную» функцию (что можно объяснить эротическими
коннотациями соленого, см. выше), а также «консервирующую»:
«„Солили44 обычно еще не имеющих детей молодых женщин (моло-
док, молодух), „чтобы забеременели44, либо не вступивших в данном
брачном сезоне в брак девушек, чтобы „не испортились44 во время по-
ста и быстрее вышли замуж»; такие действия являлись частью очи-
стительной церемонии перед Великим постом» [Морозов, Слепцова
2004: 523, 299]. На Урале существовал обычай соления молодых в
Чистый понедельник: «А молодожёнам снегу натолкают в штаны.
Снегу. Свалят и всё. Тогда уж молодожёны не ходят вовсе, когда со-
лят их» [ЭИС I: 108-109].
Святочная забава «купать» детей в снегу (т. е. солить их), види-
мо, изначально имела своей целью их омовение-«очищение» и обес-
печение здоровьем на предстоящий год26. Севернорусский обычай
соления сняткое. в роли которых выступали дети, сопоставим с дале-
кой географически, но типологически сходной южнославянской тра-
дицией «соления» детей, описанной Н. И. Толстым: среди болгар бы-
товал обычай солить новорожденного после купания, покрывая тол-
стым слоем мелкой соли все части тела, кроме головы. По мнению
Н. И. Толстого, «прагматическое или практическое объяснение соле-
ния ребенка „от неприятного запаха пота44, широко распространенное
у болгар, безусловно, вторичное. Первичным следует считать защит-
ное употребление соли против нечистой силы, сглаза и других бед
вкупе с верованием, что соль, как и железо, приносит здоровье, бла-
гополучие и, подобно хлебу и серебру (деньгам), изобилие и богатст-
во» [Толстой 1995: 419, 425].
Сладкое
Группа игр, где встречаются лексемы с семантикой сладкой пищи,
немногочисленна. Пара мед/сахар обыгрывается в текстах считалок:
«Тюри-тюри, воробей, Тюри, маленькиё, Тюри, крошечныё. Ты зачем
пришел, Заиграл ковшом? Чашки, ложки, Медок, сахарок. Иван — ко-
ролек» [ЭИС IV: 90], блр. «Бегла курка па таку, Па зялёным табаку,
Ела сага/? гмядок. Адчашся, каралёк» [ДзФ: 404]; «Тенчики-соренчики,
Летели голубенчики, Там чашки, орешки, Сахар, медок. Пойди-выйди,
королек. Первенчики-друженчики, Летели голубенчики По солоду, по
26 Соль повсеместно использовалась славянами в качестве оберега [Лев-
киевская 2002: 80].
390
Раздел IV
молоду» [МД: 320] и др. Вероятно, поэтому она появляется в качестве
наименования команд, ср. казан, мед и сахар *‘каждая из команд в иг-
ре, где игроки перетягивают палку, определяя, на чьей стороне боль-
ше силы’ [МД: 393].
Употребляющийся в реплике одной из игр гл. солодеть (казан.
гороховая мучка то и дело солодела! *‘реплика, произносимая игро-
ками, убегающими от водящего в игре гороховая мучка" [МД: 418]),
скорее всего, имеет семантику ‘становясь сладким, бродить, киснуть’,
ср. влг. осолодеть ‘закиснуть, забродить (о квасе)’ [КСГРС], засолодеть
‘забродить, закиснуть’ [СРГК 2: 204] (переходным звеном от пищево-
го значения к игровому может быть значение вроде олон. солодеть
‘слишком много суетиться, хлопотать’ [СРНГ 39: 283]).
Молоко И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Образы молочных продуктов встречаются, как правило, в сюжет-
ных играх, ср. игру криночки: «Девочки изображают мать и дочерей.
Мать дает девочкам названия — „ты будешь молоко. ты сметана" и т. п.
Кошка пытается забрать сливки и сметану, т. е. увести девочек с собой»
[Кудрявцев: 188]. Ср. аналогичные белорусские игры — гарлачыш
(«Дети выбирают матку и кота. Потом все садятся на землю, а матка
говорит коту: „Глядз! ж, кот: я пайду у полена работу, а ты вартуй тут
гарлачыкц каб, божа баран!, шхто их не перакул!у“. Матка отходит, а
кот обходит сидящих детей и говорит одному: „Гэта смятанка\". на
другого: „Гэта тваражок\" и т. д. И начинает их опрокидывать. В это
время приходит матка, видит перевернутые крынки и ловит кота. Ко-
гда поймает, наказывает его: „Не чапай смята! nti\ Не 6i гарлачы!“») и
гладышю, (дети-кувшины садятся и объявляют, что в кувшине: сметана,
мед, конфеты, а когда мать их ищет, то они подают голос: шипят, как
сало на сковороде, как картошка кипит и т. д.) [ДзФ: 517-518].
Описанные игры принадлежат к детскому репертуару: именно
дети были основными «потребителями» молока. Ср. забаву взрослых
в Симбирской губернии, в которой актуализируется социально-воз-
растная «функция» молочного продукта: после «похорон коня» (обряд,
сходный с «проводами русалок») участники забавы били всех встреч-
ных ребят с криком: «Не станете ли просить молока?»; отрицатель-
ный ответ на этот вопрос (отказ от молока) указывал на переход детей
в подростки — в противовес малолеткам, которым матери дают моло-
ко [Бернштам 2000: 295].
«Молочная» лексика тяготеет к сюжетным играм, в которых дети
играют роли различных видов пищи. Поэтому молоко, сливки etc. чаще
всего функционируют в игровом дискурсе как ролевые слова. Случаи,
Культурные коды и культурный текст
391
когда «молочная» лексика используется в качестве игровой номенк-
латуры, редки, ср. смол, сметанка ‘детская игра (какая?)’ [СРНГ 38:
368], арх. забелйлы21 — «Каждый участник игры забелйлы стоит в
своем круге на некотором расстоянии от другого участника и держит
перед собой дощечку, которой он должен отбивать мяч, брошенный
водящим», арх. забелить2* ‘заляпать, запятнать (в игре)’ [КСГРС],
влг. белить ‘ударять в кого-л. мячом (при игре в мяч)’ [СРНГ 2: 214].
Действия игроков подобны тем, которые осуществляются в «сальных» и
«масляных» играх (и это не случайно, так как сходны сами продукты:
молоко, сметана, сливки насыщены жирами), что позволяет говорить
о реализации модели ‘метить, ставить метку’ —> ‘пятнать (в игре)’.
Сходство с игровой семантикой масла проявляется также в том,
что жирная молочная пища (сливки) может иметь эротическую симво-
лику (тесно связанную с мотивом удачи, успешного осуществления
действия), что косвенно выражается в таком факте: девушке, которую
ухаживающий за ней парень пригласил участвовать в поцелуйной игре в
последнюю очередь, говорили: «Сёдни тебе простокиша!», при этом пред-
полагалось, что «сливки другие съели» [Морозов, Слепцова 2004: 176].
Мясо
Игровая номенклатура, восходящая к словам со значением ‘мясо,
мясная пища’, немногочисленна и представлена лексемами ветчина,
соленое мясо, колбаса (колбаска), обозначающими игровые предметы:
тульск. ветчина (ветчинка) кипит, вят., перм. соленое мясо *‘игра, в
которой к вбитому колу привязывают веревку, а около старые вещи
(лапти): водящий, взяв в руки веревку и прут, отвечает на вопросы
игроков: „Поспела ли ветчинкаТ‘ — „Нет!“; если водящий отвечает
„Кипит. Шевелит, продаваться велит“, то начинается расхищение
ветчинки, а водящий старается ударить похитителей прутом’ [ИНС:
145; Покровский: 211-212]; ср. ветчина ‘детская шум жгутик, рыбка.
подобная игре ветчина кипит" [Даль2 I: 188]. Веревочка в данном
случае изображает, очевидно, веревку, на которой коптится мясо, ср.
дошла ветчинка до лычка ‘все покончили’ [Даль2 I: 188]. Ветчинкой
или соленым мясом называются помещенные в начерченный на земле
круг старые вещи, которые необходимо «похитить», при этом готов-
ность ветчинки (когда она поспела и кипит) является сигналом для
начала активного действия. Выбор мяса как объекта похищения обу-
27 Ср. арх., влг. забела ‘сметана’ [КСГРС].
28 Ср. забелять (забелить) ‘подбеливать чай, щи, прибавлять сливок,
сметаны’ [Даль2 1: 557].
392
Раздел IV
словлен его ценностью, ср. во внеигровой сфере: арх. мясисто ‘рос-
кошно, с избытком’ [СРНГ 19: 87].
Как обозначения игровых предметов используются также лексе-
мы колбаса, печенка29 и козлячъе сало', урал. колбаса (колбаска) ‘в иг-
ре в бабки — короткая обструганная палка, бита, которой сбивают
кон’ [СРНГ 14: 112], тульск. печенка *‘кусок дерна, который вырезается
из грядки при игре в печенки, в случае проигрыша он кидается игроку
в спину’ [МД: 492-493]; литов, (рус.) козлячъе сало *‘куски дерна,
бросаемые в игрока-неудачника в игре в козла со словами «На, наижся
козлячъего сала»' [ИНС: 454]. В последних двух играх, где отождест-
вляются земля и сало/печень, вероятно, отражен описанный выше (см.
комментарии к играм с выпечкой) мотив наказания землей-«пищей».
ф ф
Подведем итоги. Анализируемый донорский код (пищевая но-
менклатура) обнаруживает такое точное соответствие структуре игры,
что особенности его внутренней организации лучше видны тогда, ко-
гда описана реципиентная игровая система и донорско-реципиентное
взаимодействие. Поэтому наши заключительные соображения будут
организованы так: сначала мы охарактеризуем виды игр с участием
пищевой лексики и структуру игрового дискурса, а затем мотиваци-
онные связи игровой номенклатуры и ее семантическое своеобразие.
ВИДЫ ИГР С УЧАСТИЕМ ПИЩЕВОЙ ЛЕКСИКИ
Рассмотренный материал показал, что различные пищевые обра-
зы закрепляются за определенными типами игр.
Весьма четкая дифференциация «пищевых» игр может быть осу-
ществлена по такому параметру, как характер участников. Так,
«молочные» и «кашеварные» слова «привязаны» преимущественно к
детским играм (и даже к «младенческим»), а названия выпечки связа-
ны как с детскими, так и с молодежными праздничными забавами,
развлечениями, театрализованными действами. Это объясняется раз-
ными обстоятельствами, среди которых не последнюю роль играют
сугубо бытийные: пьют молоко и едят кашу маленькие дети, в обя-
занность старшим детям нередко вменялась варка каши для младших
29 В данном случае, к сожалению, неясно, какой именно вид пищи ими-
тируется в игре: печенкой в русских говорах могут быть названы самые раз-
ные продукты, подвергшиеся печению (запеканию). В то же время синони-
мия печенки и козлячъего сала (см. далее) является косвенным аргументом в
пользу того, что печенкой называется мясная пища.
Культурные коды и культурный текст
393
Печение хлеба, блинов, пирогов — занятие трудное, требующее мас-
терства и сноровки (не случайно существование развернутого и диф-
ференцированного списка обозначений неудачной выпечки), к кото-
рому не допускались дети; умение печь хлеб, наряду с умением ткать,
входило в основной набор требований к невесте. Поэтому тема хле-
бопечения приобретала актуальность не в детском возрасте, а в под-
ростковом и молодежном, по мере приближения к браку. Мотив под-
готовки к свадьбе просматривается в молодежном характере «пив-
ных» игр, а также некоторых «квасных». Наконец, преимущественно
молодежь участвовала в «солевых» играх, потому как действия с со-
лью актуальны для взрослого, включенного в социальные ситуации
(совместное соление, покупка соли).
Что касается характера действия, то «пищевые» игры
являются, как правило, подвижными (исключение составляют разве
что «поцелуйные» игры, например, солить рыжики на пост). Для
внутренней дифференциации игр более значим признак наличия/от-
сутствия игровых предметов: предметность практически отсутствует
у кваса, меда и сахара, соли, но становится отличительной чертой
«выпечных» и «мясных» игр (в них предметы имитируют пищевой
продукт главным образом своей формой), а также свойственна играм
«кашеварным» (среди них часто встречаются игры с мелкими предме-
тами, в которых движение лодыжек или деревянных чурок уподобля-
ется варящейся каше), реже — «жировым» (здесь берется во внимание
качественная характеристика жиров, которая переносится на свойства
поверхности игрового предмета). К числу игровых предметов в пище-
вых играх относятся главным образом бьющие «орудия» и объекты
сбивания — мяч и разного рода кости, бабки, городки. Из «беспред-
метных» игр преобладают игры-преследования типа салок, а также
поисковые игры типа жмурок и пряток (это характерно в первую оче-
редь для сала, масла, кваса и соли).
По способу организации действия пищевые игры делят-
ся на сюжетные и игры-соревнования. К примеру, игры, где фигури-
руют молочные продукты, чаще являются сюжетными; «жировые» —
практически всегда соревновательными. Игры с участием других пи-
щевых «актантов» сочетают сюжетность и соревновательность в раз-
ных пропорциях, которые меняются в истории каждого типа игр. С
увеличением степени сюжетности возрастает роль текстового сопро-
вождения игры; соревновательные игры обслуживаются скорее не
текстами, а игровой номенклатурой.
Еще одной характеристикой игр является способ моделиро-
вания ситуации или признака, воспроизводимых игрой. Выше
мы выделили три основных способа такого моделирования (возможны
394
Раздел IV
и переходные случаи): отождествление, метафора и постановка. Пер-
вое имеет место, когда в игру переносится «настоящий» предмет, ко-
торый включается в игровое действие (реальный корж, который пы-
таются ухватить зубами игроки; реальная сковорода, на которой,
правда, пекутся «виртуальные» блины; реальный хлеб, который игрок
получает в качестве выигрыша, если игральный брусок выпал дзежой
вверх). По сути, такие случаи балансируют на грани игры и «не-игры»:
игра все же есть знаковая интерпретация ситуации, а не ее «цитиро-
вание». Метафора (в широком смысле) воплощается в целом спектре
вариантов — имитация, максимально приближенная к объекту изо-
бражения (вода с сажей как «тесто» для блинов), условное уподобле-
ние (закругленная чурка как булка; «зажимание» друг друга палками
как изображение выжимания масла), зашифрованный символ (поце-
луй как соление рыжиков или каши). Постановка есть комплексное
действо, включающее в себя разные по своему семиотическому стату-
су элементы (от перенесения в игру реальных предметов до символи-
ческих загадок) и предполагающее выделение артистов и публики,
распределение ролей, переодевание и проч. Из разных пищевых «ге-
роев» наиболее «постановочными» оказываются выпечка и жиры, что
связано с их включенностью в святочный и масленичный «рацион»
(именно в это время были широко распространены действа ряженых).
Наиболее символичны квас и соль: их трудно «изобразить».
Хронотоп игр, как было показано выше, в ряде случаев ха-
рактеризуется весьма четкой заданностью. К примеру, если пищевые
«актанты» игры имеют матримониальную символику, то соответст-
вующие игры нередко оказываются приуроченными к тем календар-
ным датам, которые связаны с «моделированием» брака: масленице
(макание масла, соление девушек), дню св. Андрея (кусание калиты),
святкам (цедить квас). Что касается локативной закрепленности, то
она прослеживается, например, в том, что игровые действа, имеющие
продуцирующую символику, разыгрывались в поле (катать караваи).
ВИДЫ ИГРОВОГО ДИСКУРСА
И ПРИНЦИПЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
Как следует из предшествующего изложения, наиболее распро-
страненными составляющими игрового дискурса являются сюжет-
ные тексты и игровая номенклатура (ставшая основным
объектом нашего анализа). Кроме того, выделяются переходные фор-
мы дискурса — ролевые слова и устойчивые текстовые
синтагмы.
Культурные коды и культурный текст
395
Эти элементы игрового дискурса могут быть расположены на
своеобразной шкале, одним полюсом которой являются дискретные
номинации (игровая номенклатура), а другим — связные тексты. Осталь-
ные элементы игрового дискурса — ролевые слова и устойчивые тек-
стовые синтагмы — находятся между этими полюсами, объединены с
ними некоторыми общими свойствами и противопоставлены по дру-
гим. Охарактеризуем моменты сходств и различий между выделен-
ными элементами игрового дискурса по нескольким параметрам.
Разновидность игры. Номенклатура и устойчивые текстовые
синтагмы встречаются, как правило, в игре-соревновании, которая яв-
ляется «классической» и самой распространенной разновидностью
игры. Ролевые слова жестко привязаны к сюжетной игре, а связные
тексты — либо к сюжетным играм, либо к играм-инсценировкам текста.
В некоторых случаях связные тексты могут быть вводом в игру-со-
ревнование (функционируют как считалка, приговор и т. п.). Вообще,
анализ игрового дискурса позволяет высказать предположение о су-
ществовании закономерности, которую можно грубо охарактеризовать
формулой «больше действий — меньше слов»: если в знаковое про-
странство игры входит целостный текст, то система игровых действий
развита слабо, несамостоятельна, подчинена этому тексту, — в то время
как «номенклатурные игры», где вербальный ряд минимален, характе-
ризуются хорошо разработанной и разветвленной системой действий.
Объект номинации. Номенклатура и ролевые слова обозна-
чают отдельные элементы ситуации; устойчивые текстовые синтагмы
и самостоятельные тексты — ситуацию в целом (но устойчивые син-
тагмы подают ее в свернутом виде, а тексты «разворачивают»).
Мотивационная прозрачность. Номенклатура часто явля-
ется непрозрачной: говорящие могут не понимать, почему игровая лун-
ка называется маслом, а водящий квасом. Такой же непрозрачностью
зачастую обладают устойчивые текстовые синтагмы: из-за свернуто-
сти соответствующих сюжетов игроки вряд ли осознают смысл вы-
криков без соли! или блш гарыцъ!. эти выкрики являются в известном
смысле фатическими, немотивированно приуроченными к кульмина-
ционному моменту игры. В то же время ролевые слова и связные тек-
сты обычно прозрачны, понятны в контексте сюжета, который вос-
производится в игре.
Тематическая связность. Номенклатурные слова могут вы-
полнять свои функции в составе лексической микросистемы (лексики,
«обслуживающей» какую-либо игру), элементы которой не имеют
тематического единства, восходят к разным кодам, — таким образом,
общность мотивирующей тематики для номенклатуры не требуется.
То же можно сказать об устойчивых текстовых синтагмах, которые
396
Раздел IV
нередко выглядят тематически изолированными в общем вербальном
контексте игры. В отличие от них, ролевые слова вписаны в игровой
сценарий, имеющий тематическую связность, которой в полной мере
наделены связные тексты.
Как видим, элементы, находящиеся между двумя полюсами шка-
лы, по одним свойствам ближе к полюсу дискретных номинаций, по
другим — к полюсу связных текстов. Получается, что шкала строится
практически без разрывов, как цепь плавных переходов одного эле-
мента дискурса в другой. Отсюда возможность интерпретации этих
составляющих дискурса не только как соположенных, но и вступаю-
щих в некоторых случаях в отношения преемственности, когда одна
из них могла бы трактоваться как результат трансформации другой.
Выше мы попытались восстановить условия и ход такой транс-
формации на материале игрового дискурса, связанного с одним пище-
вым «героем» игр — игровой кашей. Была выстроена цепочка, показы-
вающая последовательное превращение разных элементов дискурса
друг в друга (от связного текста к «рассыпанной» номенклатуре). Эта
цепочка, разумеется, не претендует на статус универсальной модели
становления игрового дискурса. Семиотическая история игр разнооб-
разна и может разворачиваться «с другого конца» — от действия: в
этом случае возможна, например, трансформация элементов обряда в
игровые ситуации (ср. пример из рассмотренного выше материала:
обряд подвешивания пищи на верхний сучок дерева во время Велико-
го поста мог превратиться в игру, в которой играющие должны дос-
тигнуть верхнего сучка жерди, называемого кашей). Таким образом,
описанный процесс трансформации текста в систему дискретных
элементов номенклатуры является лишь одним из вариантов семио-
тической истории игрового дискурса. При этом необходимо учесть,
что описанный процесс не мог развиваться в «безвоздушном» про-
странстве, только на базе внутритекстовых ресурсов, вне воздействия
системы языка. Влияние последней проявилось в том, что в лексике
из сферы игровой номенклатуры реализуется примерно тот же набор
мотивационных признаков, что и в лексике внеигровой.
Итак, можно выделить как минимум два источника формирова-
ния игровой номенклатуры: «прототекст» — сценарная модель, в ко-
торую включен данный денотат, и общеязыковая семантико-мотива-
ционная парадигма соответствующего слова. При этом общеязыковая
парадигма дает сам мотивационный материал, определенный набор
мотивационных признаков, а «прототекст» определяет характер связи
между разными игровыми значениями слова: «комплект значений»
субъект — действие — локус отсылает к сценарию, который воспро-
изводится в игре.
Культурные коды и культурный текст
397
МОТИВАЦИОННЫЕ СВЯЗИ ИГРОВОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ,
РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПИЩЕВОЙ КОД
Для определения мотивировки игровых терминов мы опирались
не только на свойства самих объектов номинации, проявляемые в кон-
тексте игры, но и на внеигровые связи слов и реалий — в первую
очередь на языковую внеигровую семантику и символику пищевых
образов в обряде.
Языковая внеигровая семантика — вторичные значения пищевых
слов, функционирующие вне сферы игры и обнаруживающие пере-
клички с игровыми значениями. Наиболее яркий пример — семантика
битья, удара, обнаруживаемая в парадигме значений многих пищевых
лексем как в связи с игрой, так и во внеигровом контексте (некоторые
примеры из следующего перечня приводились выше, они будут по-
вторены без паспортизации), ср.: варить, печь, угощать, кормить —
влг. варить ‘сильно стегать, бить’ [СРНГ 4: 54], отпекать бока (кос-
ти) кому-л. ‘избить, поколотить кого-л.’ [СПП: 18], литер, угостить
подзатыльником (тумаком, оплеухой и др.), просторен, накормить
горячими ‘побить’; каша — укр. кутью задати кому ‘побить’; кислые
напитки — твер. надавать киселей ‘надавать шлепков’, волосяная
брага ‘таскание за волосы’; жир — жарг. маслянка ‘удар по голове
костяшками пальцев’ [Анищенко: 158], курск. воложитъ ‘бить, коло-
тить кого-либо’, укр. дати сала кому ‘побить’ [Твченко 1999: 65]; вы-
печка и мучные изделия — арх. алабыш, тяпыш ‘удар, оплеуха’30
[СРНГ 1: 229], дон. блин дать ‘ударить’, арх. печь колобки ‘хлопать в
ладоши (о маленьком ребенке)’ [СРНГ 27: 11], олон. дать калабашку31
У дарить', получить калабашку ‘получить затрещину, оплеуху’ [СРНГ 14:
143], мукой дать ‘ударить’ [СПГ 1: 200], калуж. пирог ‘удар, тумак’
[СРНГ 27: 41], испекли пирог во весь бок ‘побили’ [Даль2 III: 112],
преснух32 надавать ‘избить, поколотить кого-л.’ [СПП: 62], вломить
на пряник кому ‘сильно избить’ [ПОС 4: 54]; соль — просторен, всы-
пать соли (перца) кому-н. ‘побить’, осолйть ‘причинить боль чем-н.
жгучим, ожечь’, карел, (рус.) осаливать ‘хлестнуть крапивой’ и др.
Таким образом, системная метафора «кормить» —> «бить» является
одним из значимых факторов, привлекающих образы продуктов пита-
ния и «пищевых действий» к использованию в сфере игры, для которой
действие удара, мечения является одним из «игрообразующих».
30 Арх. алабыш ‘особого рода блин’ [СРНГ 1: 229], арх. тяпыш ‘оладья’
[КСГРС].
31 Арх., влг. калабашка ‘небольшой круглый хлебец’ [КСГРС].
32 Преснуха ‘пресная лепешка4 [СПП: 62].
398
Раздел IV
Помимо мотива битья, есть и другие мотивы, объединяющие пи-
щевые образы между собой и находящие параллели во внеигровой
сфере. Общими являются мотивы динамизма, скорости (квас, выпеч-
ка), коллективности (каша, выпечка), ценности, жизненной важности
(каша, жиры, мясо) etc. Вместе с тем есть и индивидуальные мотивы,
присущие какому-то одному пищевому «герою».
В качестве примера остановимся подробнее на общих и индиви-
дуальных признаках каши и кваса. И в игровой, и во внеигровой сфе-
ре каша и квас предстают как динамические субстанции, которые
способны изменять физические характеристики (объем, консистен-
цию) и организовывать вокруг себя некоторое действие, хаотическое
движение. Общей для игровых каши и кваса является акциональная
семантика (каша и квас часто называют одни и те же игровые дейст-
вия), а также семантика неудачи, ошибки.
Отличие же их состоит в том, что квас мыслится как «про-
дукт-субъект»: динамизм, скорость — это его собственные характери-
стики, поэтому квас в большей мере, чем каша, используется для на-
зывания водящих в игре, места, на котором они находятся. В то же
время каша — это «продукт-объект», на который человек воздейству-
ет (варит, ест), включенный в сюжет приготовления-употребления,
поэтому игровая семантика каши в большей мере локативна: каша —
это в первую очередь центр игры, от которого развивается действие
(в связи с этим свойством у каши выявляется специфический мотив
коллективности). Кроме того, индивидуальными для каши являются
мотивы неустойчивости, «ненадежности» и ценности (каша как жиз-
ненно необходимый продукт). Можно говорить и об элементе резуль-
тативности в семантике каши'. действительно, кашу, во-первых, нуж-
но сварить — и это уже результат, во-вторых, нужно не упустить
свою порцию при дележе (вспомним сороку-ворону). Отсюда возмож-
ность «прочитать» некоторые «кашеварные» игры как соревнование
за обладание кашей, — и это отчетливо проявляется в играх с развер-
нутым текстом; в «номенклатурных» играх рефлекс такого соревно-
вания заметен в том, что кашей может называться локус, которого не-
обходимо достичь.
Эти свойства донорского мотивирующего кода находят отраже-
ние в свойствах реципиента — структуре игр. «Квасные» и «каше-
варные» игры организованы так, что определенные физические
свойства каши и кваса «пересказываются» на языке игровых дейст-
вий: динамизм продукта, действия по его приготовлению —> актив-
ное передвижение игроков в пространстве, коллективность приго-
товления и употребления пищи —> «многофигурность» игры и рас-
пределение ролей, приготовление пищи в общем «центральном»
Культурные коды и культурный текст
399
котле —> наличие игрового организующего центра, превышение пи-
щей определенного объема —> выход за обозначенную черту в игре,
изменение консистенции продукта —> изменение позиций игроков в
пространстве, неудачное приготовление пищи —> ошибочное дейст-
вие в игре. Такую организацию имеют жмурки (прятки), салки (пят-
нашки), лапта, городки, кости. Именно они (и их многочисленные
разновидности) составляют ядро «квасных» и «кашеварных» игр.
Итак, мотивная структура образов, составляющих донорский
код, определяет возможности эксплуатации их в реципиентной сис-
теме — и в то же время определяется ею.
Как было показано выше, пищевые «эпизоды» игр имеют тес-
ную связь с различными ритуалами и обрядами — свадебным, име-
нинным, земледельческим, искупительным, а также календарны-
ми — святочным, масленичным и др. Существование связей такого
рода помогает в мотивационной интерпретации пищевых образов:
так, игровой обычай наказывать проигравшего, заставляя его есть
куски земли или дерна (изображающие хлеб или мясо), находит па-
раллели в славянских ритуалах искупления вины. Помимо модели
«наказание провинившегося» —> «наказание проигравшего», есть и
другие системные связи игровых и обрядовых сюжетов, реализуе-
мые с помощью пищевых образов: «отказ при сватовстве» —> «отказ
от участия в игре», «„результат44 семейной жизни» —> «результат иг-
ры» etc. Наиболее активные контакты с обрядами имеют «выпеч-
ные» игры, что определяется продуцирующей символикой хлеба и
выпечки, а также статусом игроков: ими, как говорилось ранее, бы-
ли большей частью подростки и молодежь — та социальная группа,
которая, в отличие от маленьких детей, полноценно участвовала в
обрядовой деятельности.
Изучение перекличек игровых и обрядовых сюжетов помогает
реконструировать некоторые концептуальные доминанты символи-
ческого языка народной культуры. К примеру, игровые действия,
реализующие мотив приготовления пищи из земли, — размешивание
глины, изображающей масло (игра масло мешать), выпекание «хле-
ба» (пирожков, плюшек, каравайчиков) из земли, печение шанег из
золы с водой (святочная забава шаньги печь), поедание земли = ко-
рочки или мякиша проигравшим, исполнение землей «роли» каши
(игра бог и черт) etc., вкупе с обрядовыми действиями в земледель-
ческих и искупительных ритуалах, позволяют восстановить значи-
мый для народной культуры концепт «земля = пища».
400
Раздел IV
ПИЩЕВАЯ НОМЕНКЛАТУРА ИГР
КАК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Комплекс игровой лексики «пищевого происхождения» обнару-
живает разного рода системные связи между отдельными лексемами,
а также имеет определенные закономерности семантической органи-
зации, типологические особенности семантики.
Говоря об отношениях лексической системности, отме-
тим, что наиболее очевидна внутридиалектная синонимия, ср. калуж.
наварить = посолить ‘поставить на кон несколько лишних бабок, что-
бы приобрести утерянное право бить в кон’, арх. наквасить = наварить
кашу ‘попасть в кучу рюх, при этом не вышибив ни одной’, курск.
квасик = клёцка = прокислая клёцка ‘водящий, тот, кто «заплевал»
свои пальцы во время распределения ролей в игре квасики’. Помимо
внутридиалектной синонимии, представлена также междиалектная:
влад. сало ‘кол, воткнутый в землю в игре сало" ~ кубан. масло ‘кол,
воткнутый в землю в игре иголка’, просторен, блинчик ‘круглый и
плоский камешек, используемый в игре делать блинчики’ ~ влг. коло-
бок ‘плоская железная битка овальной формы, используемая в игре
колобки’, арх. аланки ‘рюхи в игре городки’ ~ влг. булка ‘закруглен-
ная чурка, по которой бьют битой в детской игре’; ср. также пары,
между элементами которых устанавливаются отношения «аналогии»:
екатеринослав. пекло ‘большая лунка, от которой начинается игра’ =
терск. каша.
Встречаются также синтагматические отношения между словами
разной категориальной принадлежности («обслуживающими» разно-
типные позиции в игре) — каша варится, рассыпается, она густая,
редкая и т. п., причем элементы таких синтагм могут получить тер-
минологическое закрепление: в игре пирогом действие удара мячом
обозначается словом упечь (олон.) или кормить пирогами (вят.); в иг-
рах на молодежных вечеринках ряженые, которые именуются шань-
гами, пекут девушек (ударяют по спине лопатой), пытаясь перепечь
всех, — а девушки, принимающие удары, едят шаньги.
Характеризуя типологические особенности семанти-
ки лексем пищевого кода, функционирующих в игре, отметим, что
наиболее частотны в семантическом спектре изучаемой лексики ак-
циональные значения, особенно те, которые связаны с активными
движениями или с ударом (удар с помощью мяча, игровой биты;
удар-прикосновение с целью «заляпать», отметить другого игрока).
Это понятно: изготовление пищи (в первую очередь печение хлеба,
пирогов, выжимание масла) — трудоемкий процесс, требующий энер-
гичных, интенсивных действий: этим манипуляциям, во-первых, не-
Культурные коды и культурный текст
401
обходимо было научиться, чему способствовала игра; во-вторых, они
соответствуют по своему характеру собственно игровым действиям,
среди которых важную роль играет удар.
Частотны и локативные значения: пищевая лексика активно ис-
пользуется для обозначения участков игрового пространства — игро-
вого центра (места, где стоит водящий) или же различных ямок, лу-
нок, кругов, клеток, куда нужно попасть мячом, битой etc. (ср. эле-
менты игровой номенклатуры, образованные от слов каша. квас, ки-
сель. масло, сало. соль). Эти значения настолько активны, что, по всей
видимости, в игровой номенклатуре «пищевого происхождения» про-
исходит «системное заражение» (так можно объяснить, к примеру,
появление слова соль ‘большая игровая лунка’). Поскольку слова,
обозначающие виды пищи, употребляются параллельно лексемам, на-
зывающим посуду (котел, горшок, сковорода), следует предполагать,
что лунки и другие участки игрового пространства трактуются как
места, где «заваривается» («варится») еда.
Более редкими являются субъектные и объектные значения (в пер-
вом случае обозначаются сами игроки, во втором — игровые предметы).
Рассматривая распределение отдельных пищевых «ге-
роев» по этим смысловым позициям, отметим, что оно ха-
рактеризуется количественной и качественной неравномерностью.
Несмотря на то, что игровые значения пищевых слов характеризуют-
ся высокой степенью системности, различные пищевые «герои» рас-
ставляют свои акценты в общем семантическом пространстве.
Что касается количественных параметров, то наиболее предста-
вительны игровые каша и квас, которые заполняют все возможные
позиции в структуре игры. Выпечка и жиры тоже способны развивать
все типы пищевых значений, но они несколько отстают от каши и
кваса по разнообразию конкретной семантики. Игровая соль дает го-
раздо более узкий и сфокусированный смысловой диапазон, а мясо и
молочные продукты в игровой номенклатуре моносемантичны. Сла-
дости и пиво в игровую номенклатуру практически не попадают.
Говоря о качественных особенностях дистрибуции пищевой лек-
сики по денотативным позициям игры, укажем, что, к примеру, на-
звания жиров (сало, масло, сметана) оказываются наиболее приспо-
собленными для выражения семантики метки, мечения (игрового дей-
ствия) и отмеченного пространства (игрового локуса), поскольку здесь
оказывается мотивационно значимой способность жира оставлять
след на какой-либо поверхности или же изменять цвет заправляемого
блюда (ср. забелить ‘заправить сметаной’). Акциональна также игро-
вая выпечка: ее наименования тяготеют в основном к выражению се-
мантики битья, удара, а также мечения, «ляпанья». Показательно,
402
Раздел IV
кстати, что модель «печь» <-> «„ляпать44» обратима, ср., например,
пищевые слова, образованные от ляпать', наляпать 'сделать пироги
для выпечки’ [СРГК 3: 352], смол, ляпки 'пресные большие лепешки
из ячменной муки’, арх. ляпочек 'кусок раскатанного теста, из которо-
го приготовляется пирог’, ляпушки свердл. 'печенье’, влг. 'круглые
небольшие пирожки из ячменной муки’ [СРНГ 17: 279, 281]. Кроме
того, образы выпечки, обладающие признаком формы (в отличие от
бесформенных кваса, масла, каши, соли), привлекаются для обозна-
чения игровых предметов (палочек, камешков, биток и т. п.). Этот же
тип значений (предметный) характерен для мяса. «Кислые» слова
(квас, прокислая клёцка) чаще, чем другие, развивают субъектные
значения ('водящий в игре’, 'проигравший игрок’): как уже говори-
лось, это объясняется динамизмом кваса, его способностью «передви-
гаться», «убегать», а также негативными коннотациями, связанными с
темой скисания (скисание проигрыш). Для каши специфичны
«субъектно-локативные» значения: «кашеварные» слова обозначают
не собственно локус или игроков, а могут реализовывать интеграль-
ную семантику, характеризующую расположение игроков в простран-
стве (тем самым изображается варка каши). Особняком стоит соль,
которая специализируется на обозначении общей ситуации игры и ее
узловых моментов. Объяснение данной особенности в том, что «соле-
вые» игры изображают соление пищи, приуроченное к определенно-
му моменту варки и связываемое с готовностью пищи, или же засали-
вание (солку), где соль выступает основным «действующим героем».
Заканчивая рассмотрение типологических особенностей семанти-
ки пищевых слов в игре, следует обратить особое внимание на специ-
фическую организацию парадигмы многозначности некоторых наи-
более популярных игровых терминов — например, кваса, масла или
каши. Способность одного слова выражать акциональные, субъект-
ные, локативные значения, т. е. обозначать одновременно и водящего
в игре, и того, кого он ловит, и игровое действие, и место etc., а зна-
чит, содержать в парадигме своих значений некоторую мини-ситу-
ацию, — следует рассматривать как проявление «с ц е н ар н о с т и» иг-
ровой номенклатуры (разумеется, не всей, но определенной ее части,
— и кажется, «пищевыми» словами дело отнюдь не ограничивается),
возникающей как бы при разделении на фрагменты целостного «филь-
ма». Некоторые из этих фрагментов вполне самостоятельны и могут
восприниматься изолированно, другие обладают мотивационной
недостаточностью (если вновь воспользоваться «картинными»
метафорами, то здесь следует выбрать современную метафору пазлов
(puzzles)', каждый из этих изобразительных кусочков апеллирует к
своим партнерам). К примеру, при изолированном восприятии и вне
Культурные коды и культурный текст
403
представлений об исходном игровом сценарии трудно раскрыть внут-
реннюю форму некоторых игровых «квасов» (‘составленные вместе
колени игроков, на которых сидит водящий’, ‘тот, кого поймал водя-
щий в жмурках’ и др.). Для их объяснения стандартная операция про-
ецирования внеигровых значений кваса в игровую сферу оказывается
недостаточной, а требуется обратить внимание на типологически
сходные игры, в которых также функционирует лексика скисания, на
различные составляющие игрового дискурса, сопровождающие игро-
вое действие, т. е. восстановить исходный игровой сценарий (нужно
соотнести колени игроков с другими игровыми локусами, допустить,
что игровой локус осмысляется как место, где «варится» игровое дей-
ствие, и т. п.). Таким образом, факты такого рода являются результа-
том дробления или сворачивания игрового сценария — и самой своей
непрозрачностью апеллируют к нему.
Анализ поведения пищевой лексики в игровом дискурсе показы-
вает, что закономерности организации донорского мотивирующего ко-
да и реципиентной системы соответствуют друг другу, связи донор <->
реципиент двунаправленны, обратимы. Встречное влияние реципи-
ентной системы на донорский код проявляется в том, что структура
игр определяет набор игровых значений рассмотренных нами пище-
вых слов. В ряде случаев парадигма игровых значений этих слов от-
ражает некоторую ситуацию, обладает свойством сценарности, под-
чинена классической ситуационной модели (кто? — что делал? — на
кого (что) направлено действие? — где оно проистекало? — каков ре-
зультат?). Если в рамках номенклатуры ситуация представлена пара-
дигматически — в наборе значений лексемы (включающем локативную,
субъектную, объектную, предикатную составляющие), то в связном
тексте ситуация разворачивается по законам синтагматики, в описа-
нии процесса приготовления пищи. Воспроизведение этого процесса
сформировало некоторый «пищевой сценарий», который был поло-
жен в основу многих игр, о чем свидетельствует регулярность реали-
зации пищевого кода в игровой номенклатуре и наличие системных
связей между игровыми словами, восходящими к обозначениям пищи.
Итак, приготовление пищи — один из важнейших бытийных сцена-
риев33 (наряду с посадкой овощей, уборкой урожая, охотой и т. п.), кото-
рые изначально стремится воспроизвести игра. Как мы видели, игровые
33 Ср. «классическую» в этом плане игру под названием Што робишъ*. «Иг-
рающие садятся в кружок. Одна из них, в середине, назначает всем работу. Од-
ной — обед вариц, другой—хлеб пэчэ и т. п.» (Минск, губ.) [ИНС: 149-150].
404
Раздел IV
ситуации, связанные с пищей, очень разнообразны: выпекание хлеба, по-
мол зерна (дробление соли), варка каши, засолка грибов, приготовление
ветчины, «поход» за солью, битье масла и т. д. На ранних стадиях семиоти-
ческой истории игр воспроизведение «пищевого сценария» по преимуще-
ству театрально; отдельные вербальные элементы в большей степени со-
риентированы на отражаемую (донорскую) ситуацию, нежели привязаны
к ситуации реципиентной, у них нет еще четкого закрепления за кон-
кретными моментами и ролями игры. При дальнейшей разработке и ме-
ханизации игровых ситуаций, в ходе которой степень иконичности игры
по отношению к «жизни» постепенно снижается, происходит номина-
тивное оформление и кристаллизация семантики лексем, которые более
или менее устойчиво фиксируют элементы игрового действия. Этот про-
цесс направляется не только внутренними потребностями игры как спе-
цифической знаковой системы, но и давлением со стороны системы ес-
тественного языка. Становясь частью этой системы, игровые слова впи-
сываются в разработанные в языке мотивационные модели, формируют
определенное семантическое поле. Семантическое поле игровой лексики
имеет собственную структуру, его элементы устанавливают различные по
силе и регулярности связи с лексикой других семантических полей.
Рассмотренные факты демонстрируют гибкость и многообразие
семиотических связей игровой лексики. Думается, что проанализиро-
ванные свойства характерны не только для лексем с пищевой мотива-
цией, а выявляют общие закономерности формирования вербального
кода игры, «балансирующего» между сюжетным текстом и общеязы-
ковой системой.
4.2. ЯВЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ
КСЕНОМОТИВ АЦИИ *
Неотъемлемой частью картины мира является образ «чужого»
мира — представления о чужих народах (этнографических группах) и
землях. На языковом уровне такие представления отражаются разнооб-
разно, причем наиболее информативными являются те единицы язы-
ка, которые возникли в результате семантической деривации на базе
имен собственных: этнонимов (татарин, цыган, француз), микроэтно-
нимов (пошехоны — жители бассейна Шексны, мазуры — население се-
веро-восточной части Польши), макротопонимов (Америка. Сибирь) и
* В текст данного параграфа включен (в значительно переработанном
виде) фрагмент статьи, написанной автором книги в соавторстве с Ю. А. Кри-
вощаповой [Березович, Кривощапова 2006].
Культурные коды и культурный текст
405
катойконимов (москвич, парижанин). Такие единицы могут функциони-
ровать как цельнооформленные лексемы или же входить в состав фра-
зеологизмов. Какого рода информацию несут эти языковые факты?
Во-первых, дериваты этнонимов и топонимов могут выражать
знание о реальных, объективных свойствах, атрибутах на-
рода или территории. Чаще всего такое реальное знание характеризу-
ет особенности материальной культуры: рус. литер, кашемир ‘легкая
шерстяная ткань, получившая свое название от кашемирских шалей,
вырабатывавшихся из тонкой козьей шерсти в Кашмире’, польск. plotek
szwedzki («шведский заборчик») — ‘деревянная конструкция для суш-
ки сена’, англ. Paris white («парижский белый») ‘мел для побелки’,
нем. ungarisches Paprikaletscho ‘лечо из сладкого перца по-венгерски’,
итал. americano ‘вермут, амаро и сельтерская — по-американски’,
франц, espagnolette (< espagnol ‘испанский’) ‘шпингалет, оконная за-
движка’, исп. ventana italiana ‘итальянское окно’ и мн. др.
Во-вторых, в составе изучаемых вторичных имен обнаруживается
большая группа фактов, фиксирующих некоторый стереотип — субъ-
ективно окрашенное мнение о психологических особенностях
инородцев, их образе жизни etc.: рус. литер, китайские церемонии,
просторен, негр ‘о том, кто занимается тяжелым, непроизводитель-
ным трудом’, польск. krakowiak ‘о веселом и дерзком человеке’, англ.
the French ‘грубое непристойное слово или выражение’, нем. ein blinder
Hesse («слепой житель земли Гессен») ‘недальновидный человек’,
франц, italien ‘ревнивый человек’, итал. americanismo ‘американский
образ жизни’, исп. chistes alemanes («немецкие шутки») ‘плоские шут-
ки’ и т. п. (подробно о таких стереотипах см. в параграфе 2.2). Не-
смотря на то, что информация, выражаемая языковыми единицами
этого типа, отличается изрядной долей субъективизма и яркой оце-
ночностью, она является характеристикой определенного народа
(территории) и не может быть обращена к любому другому объекту
из того же ряда: допустим, сочетание русская лень нельзя свободно
заменить на * китайскую лень, ^английскую лень и т. п.34.
В-третьих, выделяются слова и фразеологизмы, приписывающие
конкретному этносу или территории такие свойства, которые — в си-
лу общих закономерностей оценки чужого («ксенопсихологии») —
можно было бы отнести ко многим другим (если не ко всем) чужим
народам и землям. Здесь мы имеем дело с наиболее субъективными
характеристиками, причем степень субъективизма настолько велика,
34 Некоторое варьирование здесь допускается (ср. рус. жарг. финский
тормоз / эстонский тормоз ‘о медлительном, флегматичном человеке’ [ЛЗА]),
но его диапазон невелик.
406
Раздел IV
что происходит разрыв с реальным основанием для оценки: черты,
«инкриминируемые» представителю того или иного народа, дают о нем
ирреальное, намеренно искаженное представление, которое
порой не имеет ничего общего с конкретной этнической культурой и
историей. К примеру, при мотивационной интерпретации английской
идиомы Jew's harp («еврейская арфа») ‘музыкальный инструмент вар-
ган’ [НБАРС 2: 278] не помогает апелляция к исходному Jew ‘еврей’:
варган отнюдь не является специфически «еврейским» инструментом
(по происхождению или употреблению), он широко распространен по
всему земному шару — и это фактически исключает возможность
культурного заимствования. Примитивность варгана по сравнению с
арфой35 заставляет трактовать прилагательное «еврейский» как каче-
ственное (пейоративное и ироническое по своему смысловому напол-
нению), а не относительное36. Подобным образом можно объяснить
фин. Lapinkiuru («саамский жаворонок») ‘рогатый жаворонок, рюм
(Eremophila alpestris)’ [ФРС: 312]. Рюм является «странным» жаво-
ронком: в отличие от обычного жаворонка, он имеет «рожки» (удли-
ненные пучки черных перьев по бокам головы) и редко поет на лету;
зона распространения рюма очень широка (Европа, Азия, Африка и
Северная Америка) и никаким специальным образом не связана с
местами проживания саамов. Логично предположить, что определе-
ние «саамский» в данном случае обозначает ‘странный, необычный’.
Факты такого рода (относящиеся к третьей из перечисленных
выше групп семантических дериватов от названий чужих народов и
35 Варган, как правило, является самодельным инструментом (ср. посло-
вицу, подключающую к представлениям о нем еще один «инородческий» об-
раз: Цыган варганы кует, и то ему ремесло [Даль2 I: 165]) и выглядит как уд-
линенная железная подкова с прикрепленным к ней тонким стальным языч-
ком. Он издает «простейшие» звуки, впечатление о которых отражает глагол
варганить костр. ‘шуметь, кричать’, влг. ‘нестройно, громко петь или играть
на каком-либо инструменте’, курган, ‘звенеть (о колокольчике)’ и т. п. [СРНГ
4: 46-47]; ср. также просторен, сварганить ‘сделать, приготовить (обычно на
скорую руку, кое-как)’.
36 Это предположение косвенно подтверждается наличием других англий-
ских идиом с внутренней формой «этноним + музыкальный инструмент»: Irish
harp («ирландская арфа») ‘скребок с длинной ручкой’ [Partridge: 600], Scotch
fiddle («шотландская скрипка») ‘зуд, струпья у овец’ [EDD V: 260]. Семантика
«ирландского» и тем более «шотландского» в данном случае весьма сходна с
семантикой «еврейского» и усугубляет ее в негативную сторону: пейоративные
этнонимы не просто «снижают ранг» музыкальных инструментов, но и паро-
дируют их, превращая в отнюдь не музыкальные предметы.
Культурные коды и культурный текст
407
земель) будут интересовать нас в настоящем параграфе. Эти языковые
единицы скрываются «под маской» конкретного этнического или то-
понимического обозначения, но при этом отражают обобщенное
представление о чужом37 как о примитивном, некультурном, диком,
аномальном, неправильном etc. (гораздо реже чужое трактуется пози-
тивно, что реализуется в признаке «лучшее по качеству»). Такое вос-
приятие практически не детерминировано факторами культур-
но-исторического плана и может характеризовать не один конкретный
этнос, этническую группу или территорию, а целый ряд объектов по-
добного рода. Воплощение обобщенного представления о чужом в
мотивировках слов и фразеологизмов предлагается обозначить тер-
мином ксеномотивсщия (соответственно процесс образования таких
единиц — термином ксенономинация, а языковые единицы, возник-
шие в результате этого процесса, — термином ксенонимы).
Важнейшее свойство ксенонимов как элементов лексической
системы состоит в том, что их этнонимическая (топонимиче-
ская) основа подвержена варьированию, которое нивели-
рует «адресность» ономастических основ, создавая номинативные пара-
доксы. К примеру, настроившись «вычитывать» из ономастической
внутренней формы фитонимов указание на родину (типичное место про-
израстания) растения, носитель языка может быть озадачен следующим
рядом обозначений крыжовника (Ribes grossularia) в болгарском языке:
влашко грозде, нймско грозде, руско грозде, татарско грозде, френско
грозде, цариградско грозде [Ахтаров: 262; ср. также Геров-Панчев: 317].
Появление этого ряда объясняется тем, что наименования фиксируют не
«культурный адрес» крыжовника, а восприятие его как «неправильного»,
«испорченного» = «чужого» винограда (ср., кстати, сходную в мотива-
ционном отношении английскую фразеологию, обозначающую более
«примитивные», чем виноград, растения: Paddy’s grapes («виноград Пэд-
ди-ирландца») ‘картофель’ [Thome: 240], Irish vine («ирландский вино-
град») ‘жимолость, Lonicera Periclymenum’ [EDD III: 330]).
Приведем еще примеры вариантных обозначений одной реалии: в
белорусском Полесье пятница, считающаяся опасным днем, называ-
ется тотарская нэдэля, тотарско свато («татарское воскресенье»,
«татарский праздник») или же полъска неделя («польское воскресе-
нье») [Толстая 2005а: 203]38 *; польский фразеологизм obejdzie sig tatarskie
37 Обобщенная категория «чуждости», «чужака» активно используется в
работах по культурной антропологии и фольклору [см., например, Белова 20056;
Benedyktowicz 2000; Березкина 2001 и др.].
38 Ср. контексты: «У нас так говорили: „Пятница — тотарская нэдэля44.
Шчо-нибудь прали, да тотар войдэ у хату, да нэ сховаеш. Тотарско свато —
408
Раздел IV
wesele bez marcepanow («обойдется татарская свадьба без „марципа-
нов“») ‘кто-либо не нуждается в изъявлениях вежливости со стороны
другого’ [Komenda: 94]) имеет вариант obejdzie siq cyganskie wesele
bez marcepanow [Там же]; птица камышовка-барсучок, чье пение со-
стоит из повторяющихся трескучих звуков и может напоминать тре-
щание кузнечиков, в английских диалектах получает обозначения
Irish nightingale («ирландский соловей») и Scotch nightingale («шот-
ландский соловей») [EDD III: 330; V: 260], а дальнейшее снижение
образа позволяет включить в этот ряд лягушку, которая называется
Dutch nightingale («голландский соловей») [EDD II: 217], и др. Такие
параллели могут быть обнаружены и на межъязыковом уровне, ср.
болг. турчин-кукурчин ‘насекомое наземный клоп-солдатик’ [Геров 5:
383] — укр. москаль ‘то же’ [Гринченко 2: 447], рус. просторен, ев-
рейский ответ ‘ответ в форме вопроса’ [ЛЗА: Москва] — англ. Scotch
answer («шотландский ответ») ‘то же’ [НБАРС 3: 162].
Варьирование проявляется достаточно широко, но это не означа-
ет, что выбор производящих основ при ксенономинации не подчиня-
ется каким-либо закономерностям. В рамках каждой локальной лин-
гвокультурной традиции состав производящих основ, на базе которых
создаются семантические дериваты, определен достаточно четко: эти
основы содержат указания на территориальных соседей, противников
в военных действиях, захватчиков и т. п. Например, эталоном непо-
нятной речи, тарабарщины для французов канадского Квебека стано-
вится речь индейцев из племени алгонкинов (parler algonquin («гово-
рить по-алгонкински») ‘говорить непонятно’ [Кривоногова 1999: 295]),
для англичан — голландцев (англ. Dutch double («двойной голланд-
ский») ‘тарабарщина, галиматья’ [НБАРС 1: 633]), для русских Онеж-
ского полуострова — карел (корелятъ ‘говорить на непонятном языке’
[СРНГ 14: 315]), а для населения востока Архангельской области —
зырян (зыряна ‘невнятно говорящие люди’ [КСГРС]). Если набор ос-
нов предопределен, то в некотором смысле случайной является связь
между значениями производящей основы и производного слова. Слу-
чайность в данном случае означает, что разные производящие
основы, каждая из которых имеет свое конкретное (предельно кон-
кретное — ономастическое!) значение, могут дать одну и ту же
производную мотивационную семантику. Так, колючие рас-
тения родов Carduus, Carex, Cirsium и Xanthium, известные русским
как чертополох, репейник, осока, получают разнообразные «инород-
ческие» наименования, в основу которых в каждом языке положено
боялися тотар»; «У пьятницу прести не можно. Говорили, шо не можно — ето
польска неделя» [Толстая 2005а: 203].
Культурные коды и культурный текст
409
обозначение «своего» чужака: русские выбирают на эту роль татари-
на, мордвина, еврея или вообще «басурманина» (рус. нижегор. морд-
винник, казан., нижегор., сарат. мордовник, нижегор. царь-мордвин,
влг. царь-мурат, орл. татарин, курск. татарник, симб. бусурманская
трава, влг. жидовское кресло [Анненков: 84, 100]), сербы — турка
(серб, турек, турка [СимоновиЙ: 97]), болгары — черкеса (болг. чер-
кезки тръни [Ахтаров: 544]), карелы — шведа или финна (карел.
ruocciheirfa («шведская (финская) трава») [СКЯ-Пунжина: 244]), фин-
ны — саама (фин. lapinsara («саамская осока») [ФРС: 312]), англичане —
цыгана или русского (англ. Gipsy («цыган») [EDD II: 620], Russian
thistle («русский чертополох») [НБАРС 3: 128]). Конкретные этниче-
ские особенности в данном случае не подвергаются номинативной
обработке, а основой для семантической деривации становятся при-
знаки «опасный», «вредный», «неприятный».
Существуют и другие лексические группы, сходные с ксенони-
мами по своим номинативным особенностям. В номинативных про-
цессах, подобных ксенономинации, может участвовать как пропри-
альная, так и апеллятивная лексика (в последнем случае это слова с
конкретным значением, входящие в определенный гипонимический
ряд). При этом в ходе вторичной номинации происходит нейтрализа-
ция видовых смыслов, которые лишаются таксономической опреде-
ленности, получают качественно-оценочное наполнение и «укрупня-
ются», превращаясь в своеобразный качественный гипероним. На-
пример, прилагательные волчий, заячий, мышиный, свиной, выступая в
названиях несъедобных растений (волчьи ягоды, мышиная капустка
и др.), теряют закрепленность за конкретным видом животных и при-
обретают мотивировку «не предназначенный для человека, дикий»;
числительные сорок, сто, тысяча в процессах семантической дери-
вации могут утрачивать числовую семантику, обозначая неопреде-
ленное множество, ср. рус. ср.-урал. сорокатысячник, стотысячник
‘растение тысячелистник’ [СРГСУ 6: 43, 65] и т. п. Таким образом,
оборотная сторона нейтрализации видовых характеристик — генера-
лизация качественной семантики. При ксеномотивации таким обоб-
щенным смыслом будет, как говорилось выше, «чужой» =^> «аномаль-
ный», «странный», «неправильный» и т. п.
Однако далеко не всегда индивидуальные свойства реалии, стоя-
щей за производящим словом, нивелируются в процессе ксенономи-
нации. Нередко они используются в номинативном акте, становясь
как бы субстратом, на который накладывается ксеноконнотация. На-
пример, польский фразеологизм zydowskie morze ‘песчаная дорога’
[Karlowicz 6: 453], вероятно, отсылает к представлениям о скитаниях
евреев по пустыне, но оксюморон, содержащийся в этом выражении и
410
Раздел IV
эксплицирующий идею аномального, «перевернутого», а также нали-
чие «цыганской» номинативной параллели (польск. cyganskie bloto
‘глубокие пески’ [SW 1: 358], cyganska woda "глубокие и рыхлые пес-
ки, песчаная почва’ — «В деревне при обилии воды цыганской (песка)
недостаток воды „натуральной“» [SGP IV/3: 580]), заставляет думать
о наложении на «реальную» мотивировку ксеномотивации.
Очевидно, есть смысл говорить о своеобразной шкале, на кото-
рой могут быть помещены языковые факты, образованные от назва-
ний чужих народов или земель. На одном полюсе этой шкалы будут
расположены характеризующие номинации, имеющие под собой ре-
альное основание — объективное или субъективно-преломленное, на
другом — оценочно-нейтрализующие (т. е. факты ксенономинации).
«Крайних» случаев в функционирующей языковой стихии не так
много; основная масса языковых единиц расположена внутри шкалы,
на разном смысловом расстоянии от ее полюсов — и определить со-
отношение характеристики и обобщенной оценки в конкретном но-
минативном акте весьма непросто. К примеру, стереотипы еврея и
шотландца включают такую черту, как скупость (ср. рус. простореч.
жид ‘скряга, корыстный скупец’ [Даль3 I: 1346], жидовйн ‘то же’
[Опыт: 57], жидоватъ, жидоморить ‘скряжничать; добывать копейку
вымогая, не доплачивая и пр.’ [Даль3 I: 1346], англ. Scotch ‘скупой,
прижимистый’ [НБАРС 3: 162], нем. Schotte ‘скупец’ [Komenda: 84]
и др. — здесь можно было бы привести данные многих европейских
языков). В этих номинациях, несомненно, силен характеризующий
момент: в стереотипе еврея он создается традициями ростовщичества
(в русском языке, как было показано ранее (см. параграф 2.2, с. 127)
значим системно-языковой фактор — притяжение пейоративного
этнонима жид к простореч. жадиться ‘жадничать’, а также жидкий
и однокоренным); в стереотипе шотландца — трудными социаль-
но-экономическими условиями Шотландии (см. об этом, в частности,
в [Kralik 1998: 130]). Но, с другой стороны, языковая действительность
обнаруживает и других скупцов-инородцев: рус. простореч. хохол, жарг.
американский жим [ЛЗА: Екатеринбург], свердл. католик (< като-
лик) [СРНГ 13: 121], курск. астрият (< австриец) [СРНГ 1: 287], блр.
жмудзъ («литовец») [Мечковская 2002: 228], польск. krakowianin
[Бартминьский 2005: 181] ит. п. В исследовании К. Мюллера, посвя-
щенном этнонимическим дериватам в романских языках, указывают-
ся следующие этнонимические основы (кроме «еврея» и «шотландца»),
на базе которых образуются романские названия скупцов: «америка-
нец», «араб», «житель Оверни (провинция во Франции)», «болгарин»,
«англичанин», «галисиец», «генуэзец», «грек», «итальянец», «кафр
(представитель одного из племен банту)», «каталонец», «мавр», «негр»,
Культурные коды и культурный текст
411
«тосканец», «турок», «ханаанеец», «цыган», «зулу» [Muller: 426-427].
Скупость оказывается качеством, притягивающим этнонимические
номинации, поскольку приписывание скупости другим народам явля-
ется универсальным свойством «ксенопсихологии». Это говорит о на-
личии ксеномотивации в обозначениях скупцов, образованных от эт-
нонимов, — в том числе от «еврея» и «шотландца».
Еще примеры из области названий насекомых. В основу болгар-
ского обозначения улитки без раковины цйгански шулей («цыганский
слизень») [БД 5: 216] положены такие свойства цыгана, как бездом-
ность и кочевой образ жизни. В то же время у «цыганского слизня»
есть «инородческая» параллель — болг. турски дйл’уф («турецкий
слизень») [Там же: 141]; ср. также обширный ряд отэтнонимических
обозначений других насекомых (факты будут представлены ниже).
Следовательно, в создании этого слова определенную роль могла
сыграть ксенономинация, предполагающая обобщенно-оценочный
взгляд на номинируемую реалию. То же можно сказать о рус. смол.
жидовский писарь ‘насекомое водяной паук, водомерка’ [СРНГ 9:
170]. «Индивидуальная» мотивация состоит в том, что это слово вос-
создает образ еврёя-«грамотея», который, очевидно, что-то «пишет»
на воде (среди малограмотного населения русской провинции евреи
нередко выполняли обязанности писарей). Объективной поддержкой
образной перекодировки стала траектория движения водомерки по
воде, напоминающая рукописные строки, ср. еще рус. (р. Урал) пи-
сарь ‘рыжий таракан’ [СРНГ 27: 45]. Однако это название не только
вписывается в ряд других инородческих наименований насекомых, но
и имеет среди них точные параллели: рус. смол, жидовская коза, цы-
ганка [СРНГ 9: 170], что позволяет усматривать в сочетании жидов-
ский писарь ксеномотивационный компонент.
Добавим, что номинации, расположенные на разных полюсах
шкалы, как бы поддерживают друг друга, обусловливая активность
разных по своему характеру процессов деривации на базе этнонимов
и топонимов. К примеру, для ксенонимических обозначений болезней
(см. ниже раздел «Человек физический»), обусловленных представле-
ниями о «чужеродности» болезни, вторгающейся извне в тело челове-
ка, есть фон, создаваемый названиями, которые движимы «реальны-
ми» интенциями: болезни могут получать метонимические обозначе-
ния по тому локусу, где были обнаружены их возбудители или же где
они были изучены и описаны (ср. литер, испанка, сибирская язва, ус-
тар. английская болезнь ‘рахит’, дон. крымская болезнь ‘проказа’
[СРНГ 15: 348] и др.). Этот фон поддерживает активность «чужезем-
ного» кода в номинации болезней, который, повторим, может повора-
чиваться разными мотивационными гранями: если сибирская язва бы-
412
Раздел IV
ла изучена в Сибири, то лихорадка, выраженная ксенонимами сибир-
ское (или германское) поветеръе. по мнению носителей традиции,
была занесена «чужим» ветром. Точно так же дела обстоят с назва-
ниями насекомых: ксенонимам очень близки (а порой от них неотли-
чимы) имена насекомых, которые содержат указание на родину насе-
комого (реальную либо приписываемую ему языковым сознанием),
типичное место обитания или место, где оно было впервые обнару-
жено и изучено. Такие наименования представлены преимущественно
в научной номенклатуре, ср., например, рус. дровосек уссурийский,
медляк крымский, англ, german honey bee («немецкая медоносная пче-
ла»), нем. Agyptischer Erbsenkafer («египетский гороховик») и т. п.,
хотя некоторые названия такого типа проникают в народную речь:
рус. литер, колорадский жук. дон. саранча итальянская ‘Colliptamus
italiens’ [СРНГ 10: 203], одесск. итальянка ‘пчела желтой итальян-
ской породы’ [СРГО 1: 245]. Повторим: «объективные» номинации
такого рода создают фон, активизирующий ксенономинацию.
По своей структуре ксенонимы разнообразны; назовем лишь
самые частотные типы. Среди ксенонимов встречаются однослов-
ные семантические дериваты: рус. астрах, немец ‘мешок с
песком, землей и т. п., используемый как балласт на некоторых лод-
ках’ [СРНГ 21: 78], яросл. калмык ‘замочный кирпич (камень) в арке
или своде’ [СРНГ 12: 363], пск. омазуритъся ‘стать бесчестным чело-
веком, мошенником’ [СРНГ 23: 196], укр. жидит ‘растение Bidens,
череда’ [ГГ: 70; СБукГ: 114], блр. цыганы ‘кожаные лапти’ [СПЗБ 5:
369], польск. szwabic ‘красть’ [SW VI: 690], англ, chinaman («китаец»)
‘крученый мяч, брошенный левой рукой, в крикете’ [НБАРС 1: 364]),
нем. Franzose («француз») ‘простое подвижное орудие, с помощью
которого завинчивают или отвинчивают болты’ [Komenda: 42] и т. п.
Наиболее «развернутый» структурный тип — предикативные
фразеологические сочетания: рус. пск. литва пошла ‘о начале
брани, склоки’ [СПП: 49], кашуб, sveye melg кгёрё <па zarna%> («шве-
ды крупу мелют») ‘идет мелкий сухой снег’ [Sychta V: 311], англ. Гт
a Dutchman, ifldo! («я голландец, если...») ‘провалиться мне на этом
месте, если...’ [Мюллер: 229].
Самыми распространенными можно считать двусловные ат-
рибутивные конструкции, между компонентами которых — в
зависимости от их роли в создании идиоматического смысла всего
выражения — устанавливаются разные типы отношений (при
этом «нулевой» тип — сочетания, в которых определение и опреде-
ляемое слово прочитываются в их прямом значении, и идиоматич-
ность, равно как и ксеномотивация, практически отсутствует, ср. рус.
ирландский сеттер, французский хлеб. англ. Russian doll (русская
Культурные коды и культурный текст
413
кукла») ‘матрешка’, франц, format а ГНаИеппе ‘итальянский формат
книги: ширина больше высоты’ и др.).
Первый тип среди двусловных конструкций — сочетания с
сильным атрибутивным компонентом, за счет которого
происходит модификация смысла всего сочетания. Ср. примеры вроде
рус. костр. татарская ива ‘ива, с которой не дерется кора’ [ЛКТЭ],
твер. карельская канифоль ‘канифоль плохого качества’ [СРНГ 13: 86],
монгольский чай ‘растение Saxifraga crassifolia, бадан (вяленые или
пролежавшие зиму под снегом листья этого растения используются
для приготовления суррогата чая)’ [Даль2 IV: 580], укр. жид1всъка
курка ‘куропатка’ [Аркушин 1: 155], англ. Chinaman’s chance («китайский
шанс») ‘весьма слабый, ничтожный шанс на успех, заработок ит. п.’
[НБАРС 1: 364], Irish evidence («ирландское свидетельство) ‘ложное
свидетельство’ [Partridge: 600], нем. Tatarennachricht («татарское из-
вестие») ‘страшное известие, ужасы’ [БИРС 2: 422] и др., в которых
опорное слово читается в прямом смысле, а определение в перенос-
ном: ива — но особая («татарская» = не идущая «в дело»), свидетель-
ство — но особое («ирландское» = ложное и др.).
Второй тип — сочетания с сильным определяемым
словом, создающим номинативный парадокс (в то время как опре-
деление не содержит смыслового сдвига или же он минимален): рус.
орл. сибирский ананас ‘ягодный кустарник облепиха’ [СОГ 13: 113],
сиб. сибирская роза ‘крапива’ [ФСРГС: 121], ср.-урал. уральский ви-
ноград ‘крыжовник’ [ЛЗА], российский виноград ‘рябина’ (из фильма
Е. Матвеева «Судьба»: главный герой предлагает раненому товарищу
гроздь рябины со словами: «На, поешь нашего российского винограда.
Он горьковатый, но полезный»); ср. также англ. Scotch rose («шотланд-
ская роза») ‘роза колючейшая, Rosa spinosissima’ [ABBYY Lingvo 11],
англ. Scotch broth («шотландский бульон») ‘перловый суп’ [НБАРС III:
162] etc. Здесь ограничены возможности варьирования производящей
основы и ксеномотивационный компонент почти неощутим, но все же
он присутствует, поскольку за языковыми фактами стоят пропозиции
такого рода: «в Сибири не растут ананасы, зато есть облепиха, кото-
рую можно считать „странным44, т. е. сибирским, ананасом».
Третий тип — сочетания, где оба компонента содержат
смысловой сдвиг, рус. олон. жидовские яблоки, жидовские яйца
‘растения из пасленовых: первое из них с красными плодами, сход-
ными с помидорами, второе с белыми плодами, и формой, и величи-
ной напоминающими куриное яйцо’ [Куликовский: 23], Херсон, жи-
довская корова ‘коза’ [Даль31: 1346], болг. циганско мляко ‘род водки’
[ФРБЕ 2: 498], влашкиябълки («румынские яблоки») ‘растение колюч-
ник, Carlina acanthifolia’ [Ахтаров: 344], польск. tatarski taniec ‘борьба
414
Раздел IV
с медведем’ [Karlowicz 5: 391], zydowska czystosc ‘грязь, непорядок’
[NKPP III: 989], жарг. bal murzynow («бал негров») ‘разгульная раз-
вратная вечеринка’ [Wysocka 2002: 183], cyganskie miqso («цыганское
мясо») ‘падаль’ [NKPP I: 345], словац. cigctnskizup ‘зуб бороны’ [SSN I:
210], ср. также англ. French walk («французская прогулка») ‘высылка
из города, вышибание из бара, салуна’ [НБАРС 1: 817], англ. Irish hurri-
cane (Irishman’s hurricane) («ирландский ураган») ‘полный штиль’
[Partridge: 600], эст. wene-kapsad («русская капуста») ‘растение свер-
бига’ [Wiedemann: 1344] etc. Элементы таких оксюморонных сочета-
ний подыгрывают друг другу: водка превращается в молоко, если она
«цыганская»; если можно назвать козу коровой, то «еврейской», и др.
От этих трех случаев следует отличать четвертый, когда в ходе
семантической деривации отношения между компонентами
фразеологизма не изменяются (как правило, это означает по-
явление переносного значения у закрепленного уже в системе языка
идиоматического сочетания): рус. костр. французские тени ‘синяк под
глазом’ [ЛКТЭ], польск. egipskie baranki («египетские барашки») ‘блохи’
[Komenda: 17], англ. Russian bear («русский медведь») ‘коктейль из вод-
ки, ликера-какао и сливок’ [НБАРС 3: 128], нем. Judenbart («еврейская
борода») ‘камнеломка ползучая, SaxifragasarmentosaL.’ [БИРС 1: 684].
Ксеномотивация (ксенономинация) представлена в различных
тематических сферах языка. При этом закономерности «ком-
плектации» сфер, осуществляемой языком, просматриваются вполне
определенно и являются гораздо более жесткими, чем, к примеру, в
системе нейтральных («объективных») дериватов от названий чужих
народов и земель (типа кашемир или ирландский сеттер). В послед-
нем случае языковая система «фотографирует» весь диапазон куль-
турных контактов между народами, т. е. отражает внеязыковые усло-
вия и обстоятельства (которые, как известно, являются «рыхлыми» и
труднопредсказуемыми), в то время как при ксеномотивации выбор
тематических сфер в большей степени направляется внутриязыковыми
предпочтениями, логикой языковой экспрессии, особенностями номи-
нативной разработки признаков «аномальный», «странный», «непра-
вильный» и др. (поэтому сам спектр тематических сфер относительно
неширок).
Чтобы выявить языковые предпочтения, о которых идет речь,
приведем перечень наиболее репрезентативных тематических сфер, в
каждой из которых представим развернутые (но, разумеется, отнюдь
не исчерпывающие) иллюстративные ряды. Следует отметить, что
языковой материал собран весьма неравномерно: основу его состав-
ляют данные русского языка — преимущественно диалектов, в мень-
шей степени — жаргонов и просторечия, которые дополнены фактами
Культурные коды и культурный текст
415
других славянских языков (в первую очередь диалектными). В ряде
случаев приводятся параллели из германских и романских языков
(большей частью английские), спорадически — данные языков других
семей и групп. Думается, что для решения наших задач такая неодно-
родность извинительна: нам важно доказать сам факт существования
модели. Есть и достаточно веские субъективные причины, оправды-
вающие «отрывочность» материала: лексикографы по понятным со-
ображениям «политкорректности» (особенно в советское время) не-
редко не включали ксенонимы в словари, что мешает системному
осмыслению ксенонимии (см. об этом в параграфе 2.2, с. 117). Для
частичной компенсации этой лакуны нам, в частности, приходится
использовать собственные записи живой разговорной речи или же
примеры, сообщенные коллегами из других городов и стран. Несмотря
на все это, материал достаточно объемен. Для его ограничения в на-
стоящем параграфе анализируются только те ксенонимы, которые имеют
негативные коннотации; ксенонимы с мелиоративными коннотациями
встречаются значительно реже, охватывают меньшее количество тема-
тических групп (в основном они сконцентрированы в группе «Арте-
факты»), — поэтому есть смысл описать их отдельно, в другом месте.
Для того, чтобы читатель легче вошел в курс дела, первые разделы
подаваемой ниже классификации («Природа: Небесные светила, По-
годные явления, Фауна: насекомые») будут представлены более под-
робно и с развернутыми комментариями, а в последующих разделах
материал будет дан более сжато.
ПРИРОДА
Небесные светила
Ксеномотивация затрагивает лишь обозначения ночных светил —
луны (месяца) и созвездий.
Луна (месяц). В славянской народной традиции луна восприни-
мается как «неправильное» солнце, «испорченный двойник» солнца
(ср, рус. костр. ночное солнышко [СРНГ 12: 323], польск. поспе slonce
[SSSL 1/1: 159]; о культурной подоплеке подобного восприятия см.
[СД 3: 143-147; Белова 20046: 122-126]). Такое видение луны легко
переводится на язык ксеномотивации. Соответственно в русских го-
ворах луна трактуется как «мордовское», «казанское» или «цыган-
ское» солнце, ср. сарат. мордовское солнышко, мордовская копеечка
‘о луне’ [СРНГ 18: 260], влг. казанское солнышко ‘о месяце во время
осенней жатвы’ [СРНГ 12: 310], Краснодар, цыганское солнце ‘луна’
[КСРНГ], ср. также жарг. цыганское солнышко \шутл.) луна (особен-
но яркая, в период полнолуния), месяц’ [БСЖ: 553]. Аналогичные
416
Раздел IV
обозначения встречаются в украинском и белорусском языке: укр. ци-
гансъке сонце ‘месяц’ [ФСУМ 2: 843], блр. цыганскае сонца ‘то же’
[Мечковская 2002: 226]39. В плане типологии интересно англ, сленг.
Paddy's lantern («светильник Пэдди-ирландца») ‘луна’ [Partridge: 848]40.
В сознании носителей языка наименования вроде цыганское
солнце могут быть мотивированы тем, что цыгане проявляют ночью
повышенную активность; объяснение такого рода приводится в [БСЖ]:
«источник света для тех, кто активен ночью (хищных зверей, бродяг
ит. п.)» [БСЖ: 553]. Временная мотивировка представлена и в кон-
тексте к рус. сев.-двин. казачье солнышко ‘луна’: «Казачье солнышко
зайдёт — казак с работы уйдёт» [СРНГ 12: 314]; ср. также идиому, ука-
зывающую на «лунные бдения» влюбленных: польск. kawalerskie slonce
‘луна’ [SSSL 1/1: 159]. Однако временной мотив представляется вто-
ричным, он не может быть без натяжек приложим ко всему ряду ино-
родческих наименований луны, которые отражают, как было указано,
признак «сниженного двойника» солнца.
«Чужеземная» модель в какой-то мере реализуется и в номинации
Сион ‘луна’ [БСЖ: 538] (хотя здесь, вероятно, значима и народно-эти-
мологическая связь Сион — сиять).
Образы инородцев фиксируются также в обозначениях лунных
пятен, которые в славянской народной традиции нередко восприни-
маются как человеческие фигуры [СД 3: 150-154], ср. рус. влг. Жид
и Цыган [АКТЭ]41. Выбор конкретных образов здесь не случаен: ев-
39 Ср. другие факты, отражающие связь «цыган — солнце»: польск. kr^ci
jak cygan slonkiem («крутит, как цыган солнцем») [NKPP I: 345], укр. як (мое,
нгби и т. д.) цыган сонцем (крутиmu, eepmimu и т. д.) ‘в большой мере, очень
сильно’ [ФСУМ 2: 940], крутить (свгтом) як цыган сонцем ‘распоряжаться
чем-либо по собственному произволу’ [ССНП: 159; Номис: 60].
40 Ср. также сходное по образной структуре англ. Irishman ’s fire («огонь
ирландца») ‘пламя, которое горит только в верхушке (горит очень плохо)’
[EDD III: 330], которое подтверждает, что образ инородца может привлекать-
ся для обозначения неяркого источника света (по сравнению с ярким).
41 В восточнославянской традиции мы обнаружили только один факт та-
кого рода, а в южнославянских верованиях инородческая тематика распро-
странена шире: лунные пятна — это цыган, покумившийся с крестьянином,
но из-за ссоры убивший кума молотом и тайком закопавший его тело, зама-
хивается молотом, а под ним наковальня и лом, с помощью которого убитый
крестьянин ставил изгородь (хорв. Лика, боен. Краина); повешенный цыган
(болг.); цыган (человек) с зеркалом, которое он поворачивает на нас в полно-
луние и в сторону при неполном месяце (болг.); кузнец-иноверец, прекра-
щавший стучать молотом по наковальне, когда мулла с минарета призывал к
Культурные коды и культурный текст
417
рей и цыган — самые популярные герои восточнославянской ксено-
номинации.
Созвездия. Так же, как луна составляет пару к солнцу, некоторые
созвездия могут составлять пару к другим — более крупным, ясно ви-
димым. К примеру, Кассиопея, Малая Медведица или Плеяды вос-
принимаются как «сниженный двойник» Большой Медведицы — са-
мого яркого и четко различимого объекта звездного неба для народов
северного полушария: рус. поволж., севернорус., урал., сиб. Лось ‘Боль-
шая Медведица’ [СРНГ 17: 155] — арх. Остяцкая Лось, Лось Остяц-
кая ‘Кассиопея’ [СРНГ 17: 155; 24: 95], печор. НемецкийЛось ‘Плеяды’
[СРГНП 1: 475], ср. Немецка Кучка ‘то же’ [СРГК 3: 410]).
«С точностью до наоборот» данное соотношение повторяется в
финском языке: Большая Медведица у финнов называется Otava или
финское Suomen («финская») Otava. «Антитезой» этому астрониму
становится Кассиопея, которая дублирует название Большой Медве-
дицы, но с эпитетом «русская»: Ryssan Otava, Venajan Otava [Рут 1988:
86]. Добавим, что наличие ксеномотивировки в рассматриваемом слу-
чае подтверждается тем, что модель дает номинативное варьирова-
ние: в финском языке «в пандан» к названию Большой Медведицы,
являющемуся центром финской астронимической системы, фиксиру-
ются астронимы Lapin («саамская») Otava ‘Малая Медведица’ [ФРС:
428], Ruotsin («шведская) Otava ‘то же’, в эстонском — Rootsi («швед-
ская») Otava ‘Пояс Ориона; Малая Медведица’ [SKES: 442]. Любо-
пытно, что сходные ксенонимические обозначения отмечены в якут-
ском языке: якут, samaj araijas sulusa («самоедская Большая Медве-
дица») ‘Кассиопея’, toijus araijas sulusa («тунгусская Большая Медве-
дица») ‘Малая Медведица’; ср. нен. Хаби” Со”дм ’ («остяцкая Большая
Медведица») ‘то же’ [Аникин ЭСС: 432, 481, 566-567].
Русско-финский диалог на языке астронимии продолжается в еще
одной номинативной модели, которая используется для обозначения
Плеяд: архангельские крестьяне называют это созвездие Лапоть или
Чухонский Лапоть ([Рут 1992: 54; АстрКТЭ], а финны — Venajan
Virsu («русский лапоть») [Рут 1988: 86]. Мотивировка, даваемая носи-
телями языка, является вторичной: «У нас Лапоть в небе был, его еще
Чухонский Лапоть звали. Чухна, говорят, раньше жили здесь, ходили
всё в лаптях, а мы-то в галошах. Он на лапоть казау, сверху круглое, а
снизу продоуговато» [АстрКТЭ]. Первична же ксеномотивировка —
молитве (боен, мусульмане); кузнец-цыган с молотом и клещами бьет по на-
ковальне, отчего луна светит слабее солнца (сербы-граничары); кузнец-
иноверец, отправленный на луну за уважение к чужой вере в пример другим
(боен.) [СД 3: 151, 153].
418
Раздел IV
восприятие созвездия как «недостаточного», «ущербного» по своим
свойствам объекта (в сравнении с более яркими созвездиями), которое
усиливается впечатлением от «дырчатости» Плеяд: плотная кучка из
множества мелких звезд видится как предмет с отверстиями, дырами,
ср. севернорус. Решето. Сито. Лапоть с Дыркой [Рут 1992: 54], удм.
Исъникут кизили («изношенный лапоть-звезда») [Рут 1988: 85], а «дыря-
вость» таит в себе заряд негативной экспрессии, как нельзя лучше
притягивающей образы инородцев.
Столь точные — но с «зеркальным переворачиванием» — соот-
ветствия номинативных моделей в русском и финно-угорских языках
наводят на мысль о возможности калькирования. Если думать о направ-
лении калькирования, то следует предположить скорее путь от фин-
но-угров к русским: охотники-финны более активны в номинативном ос-
воении неба, чем земледельцы-славяне, которые «списали» у финнов це-
лый ряд астронимов, см. [Рут 1988]. Тем более интересна и симптома-
тична перемена этнической составляющей в переведенных астронимах
Образ инородца заложен (по крайней мере, при синхронном вос-
приятии) и в сербохорв. Влашийи. болг. Влахци. Власци. Влашкоее
‘Плеяды’ [Азим-Заде 1979: 17; БЕР 1: 164; Младенова(в печати)]. По-
скольку Плеяды видятся как группа людей (ср., к примеру, северно-
рус. Бабы. Семейка. Братки. Семь Сестер [Рут 1992: 54]), то внутрен-
нюю форму этих астронимов можно воспринимать как «группа валахов
(румын)» (по сообщению Д. Младеновой, Влашийи представляются как
семь братьев, шесть братьев и одна сестра, шесть сестер и один брат etc.
[Младенова (в печати)]). «Инородческая» трактовка астронима находит
развитие в сербской легенде о споре турка и серба о наименовании Пле-
яд. Серб назвал это созвездие Влашийи. а турок, которому стало обидно,
что не его народ отражен в астрониме, — Турйийи. Судья, к которому об-
ратились за советом серб и турок, в свою очередь, отверг оба термина и
назвал это созвездие «стадо звезд» [Азим-Заде 1979: 17; Младенова (в
печати)]. Несмотря на то, что ксеномотивировка здесь явно вторична и
носит народно-этимологический характер42, показателен сам факт ее по-
явления, подтверждающий возможность «ксеновосприятия» объекта но-
минации (созвездия Плеяды), а также устойчивость в астронимии такти-
ки взаимных переводов, наглядно демонстрирующей роль оппозиции
«свое — чужое» при формировании когнитивной базы номинации.
Ксеномотивацию можно усмотреть и в рус. ворон. Цыганская
Телега. Хохлацкая Телега ‘Большая Медведица’ [КСРНГ]. Появление
42 Об этимологии славянских названий Плеяд с основой влас-, волос-
есть обширная литература, анализ которой, в частности, представлен в [Рут 1987:
39 40; Младенова (в печати)].
Культурные коды и культурный текст
419
этих астронимов вполне закономерно: «тележный» (и вообще «транс-
портный») образ весьма активен как в обозначениях Большой Медве-
дицы, ср. рус. дон. Арба. дон., казан., костр., нижегор., ряз. Воз. орл.
Колесница, курск. Колымага, дон. Повозка. Телега, а также англ, the Wain
(«повозка»), латин. Plaustrum («воз»), венг. Goncolszeker («повозка Кон-
рада») и др. [Рут 1987:17-18,35], так и в представлениях о цыганах, ср. рус.
влг. цыганские сани ‘сани большого размера’ [КСГРС], польск. Cygany па
drqzkach poniesli («цыганы на повозке унесли») ‘о чем-то пропавшем, ра-
зыскиваемом безрезультатно’ [SGP IV/3: 577], англ. Gipsy-caravan («цы-
ганский фургон») ‘кибитка’ [НБАРС 2: 34], нем. Zigeunerkutsche («цыган-
ская карета») ‘маленький открытый вагончик, который легко сдвинуть
с места’ [Komenda: 105], франц, uneroulotte de Romanichels ‘цыганская
повозка’ [ФРСАТ: 880] etc. Дополнительным мотивирующим момен-
том, обусловливающим встречу образов цыгана (хохла) и Большой
Медведицы, может стать представление о «неправильности» небесной
телеги, ср. (р. Урал) Косая Телега [КСРНГ], латыш. Greizie Rati, литов.
Grizulo Ratai («косая телега») [Рут 1987: 35] (ср. выше относительно
Плеяд: это лапоть, но «испорченный»).
В заключение обзора фактов ксеномотивации в названиях созвез-
дий следует отметить, что дополнительным мотивирующим призна-
ком, привлекающим образы инородцев к номинативной «работе» в
данной смысловой группе, может служить признак удаленности (для
передачи впечатления о большом расстоянии «по вертикали» исполь-
зуется признак удаленности «по горизонтали»). Такая мотивировка
выступает на первый план для нем. Amerikanebel («американский ту-
ман») Труппа очень удаленных звезд, которые все вместе выглядят на
небе как одно светлое пятно’ [Komenda: 20].
Погодные явления
Если при ксенономинации небесных светил использовался в пер-
вую очередь признак «сниженного двойника», то при обозначении
погодных явлений ведущими становятся признаки «необычный, ди-
ковинный», «аномальный». Любые изменения погоды воспринимаются
людьми как события — не говоря уже об относительно редких и не-
обычных погодных процессах. Поэтому из различных смысловых воз-
можностей донорского кода (названий чужих народов и земель) реци-
пиентной смысловой областью (областью метеорологической лексики)
оказывается востребованным именно признак странного, необычного.
Дождь при солнце. В русских говорах нам встретилось лишь од-
но «инородческое» обозначение грибного дождя — арх. чуди задави-
лись. чудь удавилась [КСГРС]. Внутренняя форма этого фразеологиз-
ма отсылает к мотиву «удавления» чуди, который очень популярен в
420
Раздел IV
фольклоре Русского Севера и имеет некоторые выходы в собственно
языковую традицию: помимо рассматриваемой идиомы, можно при-
вести в пример название урочища Чудская Удавиха, где, по рассказам
носителей традиции, чудское племя совершило акт самопогребения
[В-Т]. Думается, что вовлечение данного номинативного клише в ор-
биту обозначений грибного дождя имеет дополнительный мотиви-
рующий момент: в восточнославянской традиции широко распро-
странены поверья, сопрягающие представления о грибном дожде и об
умерших не своей смертью, — считается, что во время грибного дождя
утопленники высушивают свою одежду [Азим-Заде 1979: 154-155]; эти
поверья отражаются, в частности, в арх. покойники (родители) сушатся,
утопленники (удавленники) сохнут 4 о дожде при солнце’ [КСГРС].
В белорусских и украинских говорах обозначения грибного дождя,
имеющие ксеномотивацию, представлены гораздо шире, чем в русских,
причем в них фигурируют два «чужака» — цыган и еврей: блр. цы-
ганст дождж [ТСБМ 2: 187], цыганская погода [БДПА: Бельск Коб-
ринск. р-на Брестск. обл.], цыганский дошч (по сообщению информанта,
в такую погоду цыгане женятся) [БДПА: Верхние Жары Брагинск. р-на
Гомельск. обл.], укр. полес., карпат. цигансъкий дошч, буков., гуц. ци-
гансъке ве&лле («цыганская свадьба») [Кондратенко 2000: 101], гуц.
циганске веремне (ср. веремне ‘ясная и солнечная погода’) [ГГ: 34],
блр. полес. жыдоула дождж [Кондратенко 2000: 101].
Инородческая тема (развернутая в одном направлении — «сексу-
ально-матримониальном») представлена и в южнославянских языках:
сербохорв. жени се Циганин, Цигани се жене, родило се Циганче, Цигани
се j...,pal)ajy се Цигани, Cigani se legu; Киша пада, траварасте, Цигани
се жениду [Толстой 1997: 205], болг. кога на една страна дъжди, а на
другата грее слънце, се женели егюпците (цыгани) [Азим-Заде 1979:
155-156]43. Очевидно, отголоски изучаемых мотивов можно услы-
шать и в словацкой песенке: «Pada dazd’ik, nak 1’en pada, Nigda sa
nevydam za seliaka, Ani seliakova zena nigda nebud’em, Racej Zidova fra-
jerka bud’em» [Krekovicova 1999: 56].
Современные носители традиции трактуют цыганский дождь с
прагматических позиций, ср. полесские контексты, содержащиеся в
[БДПА]: «Цыгански дожь. Цигане на дворе колись <жили>. Йим жэ
треба, шоб дожь теплы шол» [Барбаров Мозырск. р-на Гомельск. обл.];
«Цыгански дошч. Бо цыгани ни сонца не бояца, ничого»; «Цыгански
дождж иде, бо цыгане не понимають, што дождж иде, и робять» [Ко-
пачи Чернобыльск. р-на Киевск. обл.]; «Цыганам лучше, каб дашча не
43 Тексты такого типа имеют широкий ареал: они известны на Балканах,
в Испании, Швеции [Азимов 1983: 213].
Культурные коды и культурный текст
421
було, ани ж у лесе начуе»; «Цыганьский дошчик — дошчик иде и сонцэ
светит. У цыгана дома не було, жыли у будане. Тёплый, добрый — и
цыгане не промокнуть» [Малые Автюки Калинковичск. р-на Го-
мельск. обл.]; «Циганьский, шо он трохи пройде, так и снимицця —
циганьский дошч» [Присно Ветковск. р-на Гомельск. обл.]; ср. также
полесский контекст, в котором грибной дождь объясняется тем, что в
такую погоду «цыгане сплять в своих хатах» [Азимов 1983: 213]. Ра-
зумеется, эти трактовки мотивационно вторичны.
Радуга (двойная радуга): укр. циганска райдуга ‘двойная радуга’
[Кондратенко 2000: 101], укр. карпат. жэдиуска весниука ‘о темной
полосе в радуге’ [Белова 20046: 144], польск. t^cza zydowska («еврей-
ская радуга») ‘вторая радуга, находящаяся вне первой и являющаяся
более бледной’ [SW VII: 55]. Как указывает О. В. Белова, представле-
ния о «еврейской радуге» бытуют и у словаков: по мнению жителей
Лугачевского Залесья, существуют две радуги: первая — пестрая —
«христианская»; вторая (рядом с первой, менее видная) — «еврей-
ская» [Белова 20046: 144].
С одной стороны, представления о радуге тесно связаны с пред-
ставлениями о грибном дожде («физически» эти явления очень близ-
ки и часто сопровождают друг друга), ср.: «Мы кажэм, радуха радуе-
ца — и сонцэ и дож. Дож идэ и сонцэ, гаворят, цыганьский дож»
[БДПА: Золотуха Калинковичск. р-на Гомельск. обл.]. С другой сто-
роны, двойная радуга или темная полоса в радуге демонстрируют то
же явление «двойничества», которое мы наблюдали в сфере небесных
светил (маленькая «радужка» составляет пару с основной, яснее ви-
димой и более крупной радугой, темная полоса — со светлой). По-
этому инородческие образы получают здесь дополнительную
мотивационную «подпитку».
Воробьиная ночь (грозовая ночь с молниями, но без грома): рус.
влг. чухарй^ пляшут ‘о грозе без грома’ [КСГРС]. Ср. полесский кон-
текст, связывающий представление о воробьиной ночи с евреями:
«Рабинная ночь — у Спасоуку, одна у году; эта рабинна ночь припадае з
еврейским празником — Кучка (в осень); жиды ж нехрищеные, их чорт
хапау; идуть <в рябиновую ночь> в воду углядаютца, когда ж нема
жени, значит, пропадае той жид — хопит его чорт, <поэтому> они молят-
цаусю ночь Богу» [БДПА: Стодоличи Лельчицк. р-наГомельск. обл.].
Движение облаков: польск. cygany (cygani) idq. (jadq) ‘о надви-
гающихся грозовых тучах’ [SGP IV/3: 577], н.-луж. budychare se smeju
(«жители Будышина смеются») ‘прояснение неба’ [Кондратенко 2000:
101]. Ср. англ. Dutchman’s breeches («бриджи голландца») ‘(в речи
44 Ср. арх., влг. чухари ‘(ирон.) вепсы’ [КСГРС].
422
Раздел IV
моряков) кусок голубого неба в разрыве туч, просвет в тучах’
[НБАРС 1: 634].
Холод, мороз: рус. арх. цыганский жар ‘трескучий мороз’ [СРНГ 9:
72], укр. цигансъке тепло ‘низкая температура, мороз’ [ФСУМ 2: 880],
польск. mroz moskiewski ‘о сильном морозе’ [NKPP II: 525], чеш. cikdnsky
mraz, tat ar sky mrdz, ‘то же’, cikdnskd zima ‘очень холодная зима (ее
только цыган выдержит)’, tatarska zima ‘то же’ [PSJC VI: 47; I: 253],
чеш. cigdnskd rosa ‘сильный мороз’, ‘утренний или вечерний заморо-
зок осенью или весной’ [Кондратенко: 101]. Ср. также укр. поговорки
о морозе: Тепло, як за лихим паном; Тепло, як Циганов! nid въятирин-
кою — «Либонь якийсь навюний Циган заховався од холоду шд въя-
тирину, и виткне оце палець кр!з в!чко, надв!р: „Ух“, каже, „як там
холодно!44» [Номис: 14]; Нагр1вся як циган в неретку (nid ятером) ‘за-
мерз’ [ССНП: 159].
Отметим также, что холодная погода может быть связана с обра-
зом Иуды, указание на которого нередко замещает номинацию «ев-
рей», ср. нем., голланд. Judaswinter («Иудина зима») ‘зима поначалу
мягкая, но потом лютая’, Judaswetter («Иудина погода») ‘плохая по-
года в Страстную неделю’ [Страхов 2003: 230].
Особо следует сказать о группе языковых фактов, отсылающих к
образу Сибири. Климатические условия Сибири наполняют рус. литер.
сибирские морозы ‘о сильных морозах’ реальным содержанием (ср.
лондонские туманы, африканская жара, петербургская сырость), не
имеющим отношения к ксеномотивации. Однако «морозная» семан-
тика у дериватов топонима Сибирь расширяется, преодолевает терри-
ториальные границы за счет аттракции слов с корнем сибир- к гнезду
сивер- ‘север’, ср. рус. диал. шир. распр. сивер, сиверко ‘северный ве-
тер’, сиверко ‘(в знач. сказ.) о холодной ветреной погоде’ [СлРЯ IV:
88] и др. Еще одно существенное обстоятельство, обусловливающее
появление ксеноконнотации, состоит в том, что образ Сибири — все-
мирно известного места каторги и ссылки — несет яркую негативную
экспрессию, ср. простореч. устар, сибирка ‘тюрьма’ [СлРЯ IV: 88],
смол, сибйрное место ‘место с суровыми, трудными для жизни усло-
виями’, сибйрный петерб. ‘несчастный, горемычный’, ворон, ‘злой,
лютый’, калуж., пск., смол, ‘мерзкий, дрянной, поганый, гнусный и т. п.’,
калуж. что-л. кому-л. Сибирь ‘плохо, нехорошо; горе, беда’, смол, си-
биряка ‘негодяй, мерзавец’ [СРНГ 37: 266-267], литер, сибиръ ‘невы-
носимо тяжелая жизнь; мучение’ [Отин СлК: 310-311] etc. Поэтому
на различных русских территориях и за пределами России холодные
северные ветра и сильные морозы становятся сибирскими — хотя ре-
альная Сибирь находится отнюдь не к северу от соответствующих
территорий и не оказывает влияния на формирование погодных уело-
Культурные коды и культурный текст
423
вий: рус. дон. сибирка ‘северный ветер’ [СРНГ 37: 265], арх. сибиряк
(с показательным вариантом сивиряк) ‘сильный северный ветер’
[КСГРС], зап.-брян. сибйрный ‘очень холодный ветер’ [СРНГ 37: 266],
блр. cidipwibiii ‘холодный, злой, жесткий’ — «С1б1рьный мароз з ветрым,
проста цярпець шльга» [Бялькев1ч: 404], укр. сибйрный. сибйръсъкий
‘очень холодный (о ветре)’ [Никончук: карта №99]; ср. чеш. Siberie
‘холодная зима, суровые морозы’, sibir ‘студеный, негостеприимный
(край)’, sibirsky ‘очень сильный (о морозе)’ [PSJC V: 221], а также
англ. Siberian express ‘о наступающих холодах’ (ср.: The Siberian express
seems to be aimed right at our state — «Масса холодного воздуха дви-
жется, кажется, прямо на наш штат»), франц, froid siberien ‘сильный
холод’, исп.утю de Siberia ‘то же’ [ABBYY Lingvo 11] и др.
Вероятно, сходную номинативную историю можно предполагать
для рус. дальневост, китайские морозы ‘о времени в конце января-
начале февраля, когда при большой влажности и сильном ветре не-
сильный мороз становится невыносим. Это считается приметой на-
ступления весны’ [ЛЗА: сообщено О. В. Беловой]. Реальные климати-
ческие условия Китая (отраженные, к примеру, в польск. climat chinski
‘климат с частой сменой ветра, дождливым летом и сухой зимой’
[Komenda: 31]) подвергаются в данном случае переосмыслению,
вследствие чего идиома китайские морозы получает дополнительный
коннотативный смысл — «ненастоящие, странные морозы».
Оттепель, необычно теплая погода. Инородческие образы
встречаются, во-первых, в обозначении бабьего лета и осен-
них оттепелей. Такие наименования нехарактерны, кажется, для
восточнославянских языков, но активны они у южных славян: болг. ци-
ганско пято ‘последние теплые дни в сентябре, которые обычно на-
ступают после Димитрова дня’ [ФРБЕ 2: 498], болг. цйгънску л’ату
(сирмашку л’ату) ‘то же’ [БД 7: 166], макед. цигансколето ‘последние
теплые дни осени’ [РМЕ III: 515], серб, циганско лето ‘период време-
ни в 12 дней после Димитрова дня’ — «Дошло циганско лето. Циганчийи
иду боси. Радугу се, he до] де Ъур1)евдэн» [Зовановий: 668]. В герман-
ских языках образ цыгана получает показательную замену, ср. англ.
Indian summer ‘бабье лето’ [НБАРС 2: 228], нем. Indianersommer ‘то
же’ [Komenda: 53]. Отметим, что мотив необычного, лежащий в осно-
ве ксенообозначений метеорологических явлений, здесь дополняется
мотивом ненастоящего, «ущербного»: осеннее тепло воспринимается
как «слабая копия» настоящего лета, ср. особенности номинации не-
бесных светил.
Во-вторых, образы чужаков функционируют в названиях теп-
лой зимы или зимнего потепления: рус. влг. цыганская зи-
ма ‘теплая малоснежная зима’ [КСГРС], блр. полес. цыганъско солнце
424
Раздел IV
‘о пригревающем февральском солнце’ [БДПА: Золотуха Калинко-
вичск. р-на Гомельск. обл.], рус. сиб. цыган с Рождества шубу про-
дает ‘поговорка, означающая, что цыган привык легко переносить
холод’ [СФСиб: 200], влг. цыган шубу продает ‘о потеплении после
крещенских морозов’ [КСГРС], арх. цыган шубу продает ‘о потепле-
нии после Рождества, Крещенья или Сретенья’ [БДКА]. Ср. зафикси-
рованные в [БДКА] мотивационные контексты вторичного характера:
«С Рождества цыган шубу продаёт. <...> Ну пошли же морозы, они
же рождественски, крещенски, они пройдут — потом можно и шубу
продать. Пока берут у цыгана, потом веть не возьмут весной» [Оше-
венск-Погост Каргопольск. р-на Архангельск, обл.]; «Цыган шубу
продаёт, это значит, што уже тепло наступает» [Ошевенск-Гарь Кар-
гопольск. р-на Архангельск, обл.]; ср. также карел, cigan turkin тйдд
‘зима кончается (цыган шубу продает)’ [Федотова: 19] (возможно,
калька с русского источника).
Имеется также единичное свидетельство об использовании образа
цыгана для обозначения весенней погоды, ср. серб, цйгани ‘о погоде в
период от марта до мая’ [Северное Косово; сообщено Б. Сикимич].
Туман', рус. костр. вятские баню топят, вятский дымок ‘о тума-
не’ [ЛКТЭ]. Вероятно, эти выражения имеют реальную основу: при
территориальной близости Костромы и Вятки туман может осмыслять-
ся как «идущий» со стороны Вятки. Однако наличие одноструктурных
фразеологизмов, в которых фигурируют черт и заяц (рус. арх. черти
баню топят, влг. зайцы баню топят ‘о тумане’ [КСГРС]), а также
богатый экспрессивный потенциал образа вятчан заставляет думать о
ксеномотивационной природе рассматриваемых языковых фактов.
Следует привести также полесскую «этиологическую» идиому <у
нас кажуть.> туман циганы напускаютъ [БДПА: Щедрогор Рат-
новск. р-на Волынск, обл.]. Несмотря на то, что образ цыгана пред-
ставлен в номинации практически всех атмосферных явлений, здесь
он получает дополнительный мотивационный штрих: в структуре
представлений о цыгане значим мотив дыма (см. ниже).
Ср. также англ. Scotch mist ‘густой туман с моросящим дождем’
[НБАРС 3: 162], Scotch dew/drizzle («шотландская роса/изморось») ‘ту-
ман’ [EDD V: 260]. Здесь верно то, что выше сказано о вятчанах: при
возможных «метеоролого-топографических» предпосылках появления
данных идиом нельзя не учитывать негативную экспрессию образа
шотландцев в глазах англичан, что обусловливает появление ксено-
коннотации.
Осадки. Эта рубрика не является исключением среди других: здесь
наиболее активен образ цыгана. Ср. блр. полес. цыгански дождь ‘дождь
со снегом’ [БДПА: Стодоличи Лельчицк. р-на Гомельск. обл.], чеш. ci-
Культурные коды и культурный текст
425
ganskd rosa ‘иней’, болг. цигански сняг ‘первый снег’ [Кондратенко: 101],
сербохорв. цйгани, циганчикш ‘мелкий град, снежная крупа’ [PCXKJ 6:
791], cigam ‘снег, который, падая, не тает и имеет вид зерен [RHSJ 1:
779]. По мнению составителей RHSJ, слово cigani не связано с этно-
нимом, а ведет происхождение от итал. sicciolo, cicciolo ‘шкварки от
сала’ [Там же]. Однако обширный ряд «цыганских» обозначений по-
годных явлений заставляет предпочесть этнонимическую версию (ее
придерживается также П. Скок, указывая, что значение ‘снежная кру-
па’ есть результат метафоры на базе этнонима [Skok 1: 261]).
Целый ряд природных явлений, связанных с осадками, кашубы
приписывают «воздействию» шведов: кашуб, svejde jadu («шведы
едут») ‘собирается дождь’, svejde yz yezu <zbyejze> ‘о дожде, который
пошел в то время, когда вывозили хлеб’, svejde yz vejvouzle ‘хлеб уже
вымок’, sveje skubq gqse («шведы гусей щиплют») ‘снег падает круп-
ными хлопьями’, sveje melg кгёрё <па zarna%> («шведы крупу мелют»)
‘идет мелкий сухой снег’ [Sychta V: 311]. В этих номинациях учиты-
вается и «реальное» северное местонахождение шведов (ср. также
кашуб, sveda ‘северный ветер’ [Там же]), и негативные черты, пред-
ставленные в их ментальном образе (подробнее см. ниже).
Ветер» Номинация ветров стоит особняком в ряду рассматривае-
мой метеорологической лексики: сильнейший мотивационный при-
знак здесь — направление ветра, поэтому частотные названия чужих
земель в составе ветрообозначений несут, как правило, реальную ин-
формацию (подробнее см. параграф 2.5, с. 185). Однако к характери-
стике ветра по направлению нередко присовокупляются качественные
признаки — указание на силу ветра, дожди, которые он несет, etc., что
открывает путь для ксеномотивации. Нельзя не учитывать и склон-
ность наивного сознания к антропоморфизации ветра, предопреде-
ляющую возможность переосмысления в первую очередь тех назва-
ний ветров, которые формально совпадают с катойконимами или эт-
нонимами, — типа рус. арх. вологжанин ‘западный ветер’ [СГРС 2: 152],
словац. polak ‘северо-восточный ветер’ [Кондратенко: 101] и др. Как
факты ксенономинации можно рассматривать рус. ср.-урал. пермяки
поехали ‘о ветре, несущем дождь’ [ЛЗА], арх. зыряк, зырАк-дурак —
«Зыряк нехороший ветер, он хуже севера»; «Зыряк-дурак, перестань!»
[КСГРС]45; ср. также перм. «Сивер подул — видно чердики <жители
Чердыни> ворота растворили'» [СРНГ 37: 269]. Сюда следует при-
соединить укр. тмец, шмчук ‘юго-восточный ветер, дующий со сто-
роны степей’ [Азим-Заде 1979: 69] (как указывает Э. Г. Азим-Заде, в
этом случае первичной может явиться отрицательная характеристика
45 Ср. арх., влг. зыряк ‘коми-зырянин’ [КСГРС].
426
Раздел IV
ветра [Там же]). Наличие такого факта, как болг. сев.-зап. цыгански
ветар ‘северо-западный ветер’ [Кондратенко: 101], усиливает вес ар-
гументов относительно возможного присутствия ксеноконнотации в
ряде отэтнонимических названий ветров.
Фауна
Из всех названий представителей животного мира наиболее вос-
приимчивыми к образам инородцев оказываются обозначения насе-
комых. Эти образы объединены признаками «нежданного вторже-
ния», «появления во множестве», «вредоносности».
В свою очередь из всех представителей мира насекомых чаще
всего в образе инородцев воплощаются тараканы. Ср. данные рус-
ского языка: литер, прусак ‘рыжий таракан’, арх. немец, француз, чу-
дак (< чудь), влг. пошехон^6 ‘таракан’ [КСГРС], пск. киргиз ‘род тара-
канов (несколько отличный от прусака, впрочем, многие киргизами
называют всех вообще тараканов)’ [СРНГ 13: 219], влг., калин, русак
‘вид таракана’ [СРНГ 35: 267], арх., влг. русский таракан ‘рыжий та-
ракан’, влг. прусский таракан ‘черный таракан’ — «Стёпушки рус-
ские-те тараканы, а фараоны-те прусские» [КСГРС], влг. цыгане ‘ры-
жие тараканы, прусаки’ [Даль2 IV: 575], пск. швед ‘так называют ма-
леньких тараканов, которые зимой меняют шкуру и делаются белы-
ми’ [Опыт: 264]. Об активности этой модели в русском языке свиде-
тельствует также тот факт, что русские эмигранты в Израиле сравни-
вают с тараканами детей эфиопов [Еленевская, Фиалкова 2005 I: 147].
Приведем материал других славянских языков: укр. прус ‘насекомое
прусак’ [Гринченко 3: 493], пруссак), шваб, швед, жидочок, козак ‘тара-
кан’ [Дзендзел1вський: 241], блр. прус, прусак ‘рыжий таракан’ [ЭСБМ
10: 47], польск. szwab ‘таракан’ [SJP-Szym 2: 949], prusak, persak, francuz
‘таракан, Blattella germanica’ [SW I: 771], hiszpan, goral («гураль»), japo-
nec, mazur («мазур, житель Мазовии»), moskal, szwab ‘то же’ [AGM: 81-
82], rus ‘таракан прусак, насекомое, живущее в печи’ [Zaruba: 104], ка-
шуб.francuz ‘то же’ [Sychta I: 286], чеш. svab ‘вид назойливого насекомо-
го в доме, таракан’ [PSJC V: 1204], rus ‘маленький коричневый таракан
Phylodromia germanica’, ‘насекомое, живущее обычно в людских поме-
щениях’ — «Svabi a rusi vitaji navstevnika <noclehamy> hned v prujejezde»
[PSJC IV/2:1075], словац. nemec ‘большое черное насекомое, Blatta’ [SSNII:
407], rus ‘насекомое Blattella germanica’, svab ‘вид большого черного на-
46 «Инородческое» происхождение данного наименования подтвержда-
ется широкой распространенностью на Вологодчине представлений о соци-
альной неполноценности пошехонов (жителей бассейна Шексны), ср.: «По-
шехоны такой народ зовут — ни туды, ни сюды — никудышный» [КСГРС].
Культурные коды и культурный текст
427
секомого, Blatta orientalis’ [SSJ IV: 475; III: 894], словен. rus ‘Blattella
germanica’ [Snoj: 634], сербохорв. бубашваба ‘черный таракан, Blatta
orientalis’ [PCA 2: 232; PCXKJ 1: 292], рус ‘рыжий таракан, Blattella ger-
manica’ [PCXKJ 5: 586], бубаруса ‘то же’ [PCCXKJ: 81].
Ср. также некоторые неславянские данные: нем. Franzose, Russe
‘таракан’ [Komenda: 42, 81], Schwabe ‘то же’ [БИРС 2: 328], Darien,
Franzosen, Russen (в Пруссии), Schwaben (в Австрии) [Winkler 1994:
332], итал. венец, sciavo («славянин»), ретороман. sclaf («славянин»),
сардин, cadaldnu («каталонец») [Muller: 238, 329], итал. диал. russo,
франц, allemand («немец»), идиш preissn [Winkler 1994: 332], румын.
prus, rus [Birken-Silverman 1993: 448-449], латыш, prusaks, prtisis, эст.
prussak, карел, russakka, prusakka, фин. rusakka [SKES 4: 882], фин.
ruotsintorakka («шведский таракан») ‘черный таракан’ [НБРФинС:
1341], венг. svdbbogdr («швабский жук») ‘черный таракан, прусак’
[ВРС: ИЗО] и др.47.
Представим «парад наций», которые могут выступать в таракань-
ем обличье (следует подчеркнуть, что этот перечень является заведо-
мо неполным, но все же достаточно репрезентативным):
Этнонимы, от которых Язык, в котором фиксируются
образуются названия тараканов отэтнонимические обозначения тараканов
гуралъ польск.
датчанин нем.
еврей («жид») укр.
испанец польск.
казак укр.
каталонец сардин.
47 Укажем на некоторую противоречивость приведенных нами словар-
ных дефиниций. Одни словари дают «наивную» дефиницию ‘таракан’, дру-
гие пытаются произвести видовую дифференциацию, различая черного тара-
кана (Blatta orientalis) и рыжего таракана (Blattella germanica), который в рус-
ской энтомологической номенклатуре называется прусак (это элемент меж-
дународной номенклатурной системы). При этом встречаются некорректные
определения, смешение терминов (ср. дефиниции типа ‘черный таракан, пру-
сак’ [ВРС] или же трактовку словац. svdb то в виде ‘черный таракан’ [SSJ], то
‘рыжий таракан, прусак’ [СлРС]). Но такие словарные погрешности не за-
темняют общей картины: этнонимические обозначения тараканов широко
распространены как в славянских, так и в других европейских языках, а ви-
довая дифференциация этих насекомых может отражаться в языке с помо-
щью пар наименований (типа svdb — rus), в основе которых — противопос-
тавленные по своему коннотативному фону этнонимы.
428
Раздел IV
киргиз мазур немец перс пошехон РУС- польск. рус., словац., франц, польск. РУС-
пруссак в большинстве европейских языков (элемент международной номенклатуры)
русский (в т. ч. «москаль») рус., польск., чеш., словац., словен., сербо-хорв., нем., итал., румын., карел., фин.
славянин француз цыган чудь шваб итал., ретороман. рус., польск., кашуб., нем. РУС. РУС. укр., польск., чеш., словац., сербохорв., нем., венг.
швед рус., укр., фин.
японец польск.
Легкость и органичность, с которой тараканы оказываются в
символической и номинативной оболочке инородца, безусловно, объ-
ясняется особенностями образа жизни этих насекомых и их контактов
с людьми: вредоносностью, множественностью, «колониальным»
способом перемещения в пространстве и способностью внезапно
вторгаться в жилище человека. Эти черты присущи в полной мере и
образам иностранных захватчиков.
Иноземец, представленный в виде таракана, может выступать в
двух основных ипостасях, характеризующихся разной степенью нега-
тивной окраски: инородец вообще и иноземный захватчик. Первую
ипостась воплощают наименования типа рус. пошехон, цыган, киргиз,
укр. жидочок, польск. japonec, goral, hiszpan, которые отражают
представление о чужом как таковом; конкретные свойства тех или
иных чужаков в таких номинациях могут не приниматься во внима-
ние (хотя некоторую мотивационную поддержку иногда оказывают
внешние черты насекомого — например, черный цвет для цыгана, на-
личие усов для киргиза). Что касается ипостаси захватчика, то она
представлена в названиях типа немец, прус, француз, швед и др. Здесь
выбор определенного этнонима в большей степени мотивирован ис-
торическими факторами, к символике чужого добавляется негативная
семантика враждебности и вторжения на чужую территорию.
Таким образом, данная лингвокультурная модель характеризует-
ся широтой и разнообразием своих проявлений.
Культурные коды и культурный текст
429
В наименованиях других видов насекомых этнонимическая модель
не так активна, как в обозначениях тараканов, но все же дает о себе знать.
Отэтнонимические названия встречаются среди обозначений на-
секомых-вредителей посевов. Вредителям свойственна постоянная ми-
грация и внезапное массовое появление на той или иной территории,
приносящее ощутимый вред сельскому хозяйству, что, в свою очередь,
влечет за собой их уничтожение человеком при помощи химических
веществ. Эти свойства насекомых-вредителей притягивают отэтнони-
мические названия, в составе которых в славянских языках наиболее
частотны «шведские» имена, являющиеся номенклатурными обозна-
чениями нескольких видов мелких черных злаковых мух: рус. литер.
шведская муха (мушка) ‘опасный вредитель злаков’, влг. швед ‘насеко-
мое-вредитель’ [КСГРС], укр. швед ‘точильщик Anobiidae’ [Аркушин 2:
260], блр. швед ‘насекомое отряда жуков, личинки которого точат дере-
во’ [ЖС: 95], польск. szwedzka ‘муха Oscinella frit, вредитель зерновых’
[SJP-Dor 8: 1210]. Латинское название одной из злаковых мух, Oscinella
Linnaeus (рус. шведская муха) [СНЖ: 332], позволяет предположить,
что первоначально в номенклатуре были отражены сведения о швед-
ском происхождении Карла Линнея, который, очевидно, описал этот
вид насекомых. Однако мы сочли возможным рассматривать «швед-
ские» названия в ряду народных отэтнонимических имен постольку,
поскольку этноним «швед» во многих европейских языках обладает
очень ярким и выразительным коннотативным фоном, ср. рус. арх., влг.
шведка ‘озорная непослушная девочка’ [КСГРС], польск. szwed-baba
‘деспотичная, энергичная женщина’ [SJP-Dor 8: 1209], нем. Wie die
Schweden hausen («хозяйничать как шведы») ‘плохо обращаться с людь-
ми’ [Komenda: 86], карел, ala lai ruocin d’ilrkea («не поступай по-шведски
круто») ‘не будь жестким’, ni ruocci pead ei leikkaa («даже швед голову
не отрежет») ‘все должно быть спокойно’ [Федотова: 187] и др. Этот фон
делает вполне вероятным сравнение мух-вредителей с «головореза-
ми»-шведами и наполняет «шведские» наименования насекомых пейора-
тивной экспрессией. Показательно, что в диалектах славянских языков
«шведские» названия выступают не в форме прилагательного, а в форме
существительного, совпадающей с этнонимом.
Менее ярким коннотативным фоном и, кажется, меньшей степе-
нью укорененности в народной речи обладает рус. литер, шпанка,
шпанская муха (мушка) ‘хрущ, жучок Lutta vesicatoria, вонючка, из
которого приготовляют нарывный пластырь’ [Даль2 IV: 643] (< польск.
hiszpan ‘испанец’ [Фасмер IV: 470]). У этого слова тоже есть параллели
в энтомологической номенклатуре европейских языков (ср., к примеру,
нем. Spanische Fliege, франц, mouche d’Espagne). Возможность оживле-
ния этнического образа, положенного в основу названия, демонстрирует
английская энтомологическая номенклатура, в которой хрущ имеет крас-
430
Раздел IV
норечивую пару обозначений: Spanish fly — Russian fly (кстати, в немец-
кой энтомологической номенклатуре на роль сельскохозяйственных вре-
дителей тоже выбираются «русские», ср. Russische Halmfliege («русская
мушка») ‘насекомое-вредитель Lipara saltatrix’ [СНЖ: 332], нем.
Russischer Ваг («русский медведь») ‘насекомое медведка’ [СНЖ: 262].
Интересны также рус. новорос. прус ‘кобылка, нередко поедаю-
щая хлеб’ [Даль2 III: 529], укр. прус, прусик ‘вид саранчи’ [ЕСУМ 4:
616]. Современное языковое сознание связывает эти названия с этно-
нимом (особенно на фоне яркой «прусской» модели в наименованиях
тараканов). Однако эта связь является народно-этимологической, так как
данные истории языка указывают на то, что изучаемые названия отража-
ли признак «прыгучести»: др.-рус. пругъ ‘саранча’, ст.-слав, пржгъ ‘то
же’, юж. прузик ‘итальянская саранча, Gryllus italicus’, укр. прузик ‘куз-
нечик’ родственны ср.-ниж.-нем. spranke. sprinke. sprenkel ‘саранча’,
др.-верх.-нем. houuespranca («прыгающая по сену») ‘то же’; -з- возникло
под влиянием формы мн. ч. прузи'. формы прус и прусик появились
вследствие взаимодействия со словом прусак ‘рыжий таракан’ [ЕСУМ 4:
616; Фасмер III: 387]. Устойчивость «прусских» ассоциаций подтвержда-
ется тем, что для образа саранчи, как и для других насекомых, характер-
на «военная» составляющая, связанная с внезапными и губительными
нашествиями этого насекомого, ср. контекстные употребления наимено-
ваний пругъ. прузи ‘саранча’: «Бес цЬсаря есть пругъ и воюешь отъ еди-
ного повелЬния доброчинытЬ»; «Придоша прузи на Русъкую землю...
поЁдоша всяку траву и многа жита» [СлРЯ XI-XVII вв. 21: 15].
К числу отэтнонимических названий насекомых-вредителей мож-
но отнести, вероятно, также блр. жмодзъ ‘саранча’ (< ‘литовец’)
[ЭСБМ 3: 231]48, укр. (буков.) жидик ‘насекомое, которое вредит под-
солнечнику’ [СБукГ: 114], укр. шваб ‘вид жужелицы Carabus scheidleri’
[Гринченко 4: 488]49.
48 Слово жмодзъ имеет также значение ‘стихийное бедствие’, вполне
согласующееся с семантикой ‘саранча’. Помимо «инородческой» этимоло-
гии, блр. жмодзъ сравнивается с рус. ряз., тамб. жмутъ ‘тот, кто притесня-
ет, обижает кого-либо, жмот’ [ЭСБМ 3: 231]. Думается, что «инородческая»
версия в типологическом плане сильнее. А. Е. Аникин, подавая обе версии
как равноправные, все же подкрепляет «инородческую» упоминанием о
том, что Литва воспринимается как некая стихийная сила (ассоциация
с дождем) [Аникин СЛБ: 152]. Ср., кстати, польск. litwa ‘стая летящих га-
лок’ [SW II: 755].
49 Связь между образами саранчи и инородцев проявляется не только в
отэтнонимических образованиях, но и в прозвищных этнонимах, ср. рус. про-
сторен. саранча ‘о китайцах, незаконно проникающих на территорию Даль-
него Востока и Восточной Сибири’ [Крысин 2002: 174].
Культурные коды и культурный текст
431
Ксенонимы встречаются также среди обозначений кусающих на-
секомых и паразитов — оводов, слепней, клопов, вшей и блох: рус. ка-
рел. американец ‘слепень’ [СРГК 1: 19], блр. нимиы ‘маленькие серые
оводы’ — австрийцы ‘зеленые оводы’ [БДПА: Олтуш Малоритск. р-на
Брестск. обл.], болг. турчин-кукурчин ‘насекомое наземный клоп-сол-
датик’, укр. москаль ‘то же’50. Ср. выразительную подборку герман-
ских и романских данных: англ, (амер.) Okie («уроженец Оклахомы»)
‘ушной паразит (в речи американских латино)’, Spaniard ‘вошь или
блоха (в речи франкоканадцев)’, англ. Scotch greys, Scotchmen («шотланд-
ские серые», «шотландцы») ‘вши’, франц, espagnol ‘вошь’, Vespagnole, la
negresse ‘блоха или клоп’, порт, ingles ‘клоп’, итал. диал. francese,
spagnolo ‘вошь’ [Winkler 1994: 332] etc.
В «инородческих» названиях кусающих насекомых оказываются
метафорически преломленными признаки «нападающий», «паразити-
рующий», «сосущий кровь». Образ кровососа-капиталиста был акти-
вен в советском политическом дискурсе эпохи застоя, который мог
стать питательной средой для рус. диал. американец ‘слепень’.
Представим ксенонимические обозначения других насекомых, не
входящих в выделенные выше группы. Божья коровка: укр. татарка
[Дзендзел1вський: 238], жидивка [Аркушин 1: 155], польск. litewniczka
[SW II: 753], кашуб, letewka [Sychta IV: 19]51; улитка без раковины.
50 Близкими по отношению к рассматриваемым названиям являются
польские сочетания egipskie baranki ‘блохи’ [Komenda: 17], baranek egipski
‘вошь’ [Dqbrowska: 40]. Их роднит экспрессия и образ чужого, положенный в
основу обозначения, однако здесь он отсылает к чужим землям, а не народам.
Точнее — к библейскому образу невинного агнца, символу жертвенности.
Отметим также, что в народных представлениях о насекомых, в том числе о
блохах, прослеживается символическая связь насекомых с домашним скотом,
ср. рус. литер, божья коровка, кобылка ‘название ряда насекомых семейства
саранчовых’, свердл. козлик ‘стрекоза’ [СРНГ 14: 67], вят. кобылица ‘сверчок,
кузнечик, стрекоза’ [СРНГ 14: 20] и др. (подробнее см. в [Кривощапова 2005:
41-42]). Подобное соотношение, помимо некоторого внешнего сходства, ос-
новывается на таком свойстве насекомых, как плодовитость.
51 В этимологической литературе польское и кашубское слова считаются
неясными [Аникин СЛБ: 211]. По мнению Ф. Славского, название насекомого
следует объяснять тем, что черные точки на красных крыльях насекомых по-
хожи на зерна гречихи, ср. польск. диал. litewka ‘гречиха’ [SEJP IV/3: 300-301].
Нам представляется, что для этих слов предпочтительна ксеномотивационная
версия (предполагающая связь с litewny, litewniany ‘литовский’), поскольку
она более убедительна с точки зрения мотивационной типологии (ср. другие
названия божьих коровок «инородческого» происхождения, а также более
432
Раздел IV
болг. турски дйл ’уф («турецкий слизень»), агупцко пале («цыганская
собачка»), цйгански плужък («цыганская улитка») (Оти е гдл и црън
като цйганин) [Теллалова 1996: 583, 577], цйгански шулей [БД 5: 216];
водомерка', рус. смол, жидовский писарь, жидовская коза, цыганка
[СРНГ 9: 170]; сверчок', польск. mazurek [БИРС: 409], болг. цйганка
[Теллалова 1996: 577]; бабочка', чеш. zhid ‘бабочка’, svab, словац. svab,
польск. szwab ‘то же’ [Vazny 1955: 290, 316, 317, 325]; виды муравьев'.
болг. цигански (египечки) мраве ‘муравей Formica rufescens, рыжий
лесной’ [Геров-Панчев: 322], укр. жидок ‘Harpalus ruficornis; муравей
маленькой породы, светлый, водящийся в домах’ [Гринченко 1: 483],
польск. zidka ‘муравей черный, Formica nigra’ [Sychta VI: 299], чеш.
nemci ‘муравьи, обитающие в траве’ [Kott (pf.l): 184], словац. петес
‘красный муравей’ [SSN II: 407]; ср. также название, для которого
словарь дает наиболее расплывчатую дефиницию, — словац. francuz
‘вид жуков’ [SSN I: 459].
Эти обозначения могли появиться в результате метонимического
переноса с наименований насекомых, рассмотренных нами ранее (что
особенно вероятно из-за размытости внутренних границ в системе на-
родной энтомологической номенклатуры). В ряде случаев возможны
метафорические переносы на основе признаков множества, вредонос-
ности и внезапного появления.
Близки к образам насекомых образы ПТИЦ. При их номинации
используются признаки «появляющийся издалека», «появляющийся
во множестве», «непонятно говорящий», «вредящий». Самые «подхо-
дящие» для образов инородцев птицы — воробей и удод. Воробей мо-
жет быть мотивационно приравнен к саранче (правда, значим еще
звуковой признак, интерпретируемый как непонятная, чужая речь):
рус. вят., куйб., курск., новг., тамб. жид [СРНГ 9: 168; ОСВГ 4: 48],
орл. жид — «Замучили жиды: насыпь зерна птице, а они тут как тут»
[СОГ 3: 118], польск. mazurek, zydek ‘полевой красноголовый воробей’
[SW VIII: 732], укр. жид, жидок, жидик [Аркушин 1: 155; Онишкевич 1:
251], блр. мазурак, жыд, жыдок, жыдзюк ‘полевой воробей’ [ЖС: 41].
Удод тоже собирает большое количество разнообразных инородческих
образов: рус. нвсиб. татарский петушок [СРГНО: 533], укр. нимец
[БДПА: Любязь Любешовск. р-на Волынск, обл.], укр. вудвуд жидовск!,
зазуля жидовска, блр. еврэйска зозуля, московська зозуля, польск.
zydowska zazula и др. [Гура 1997: 599-600], болг. циганско петля, чер-
кез [Геров 5: 524]. «Инородческие» образы хорошо приспособлены
для передачи следующих черт образа удода: «перелетная птица, при-
широкий контекст «инородческих» названий насекомых, схожих с божьей
коровкой).
Культурные коды и культурный текст
433
летающая из жарких стран», «издает глухой крик», «имеет необыч-
ный вид»; дополнительный «индивидуализирующий» момент — при-
знак резкого неприятного запаха мяса этой птицы (ср. устойчиво фик-
сируемое в народной культуре представление о неприятном запахе
многих инородцев [Белова 20056: 58-61; СД 2: 269]). Ср. также неко-
торые другие птичьи образы, мотивационно сходные с представлен-
ными выше: рус. чухонский попугай ‘птица клест, с перекрещенным
клювом, Loxia curvirosta’ [Даль2 IV: 616], дон. панская сорочка ‘малень-
кая птица семейства вороновых’ [СРНГ 25: 198], новг. киевская ведьма
‘сорока’ [СРНГ 13: 201], влг. татарка-воронка ‘порода птиц’ — «Та-
тарка-воронка почернее местной вороны, она прилётная, на голове у ей
хохол, она не каркает, а пикает» [КСГРС], арх. татарская сорока ‘пи-
галица’ [КСГРС], укр. жид1вочка ‘синюк’ [Гринченко 1: 483], латиш
‘луток, Mergus albellus’ [Аникин СЛБ: 202], блр. жыдоуски голубь
‘дикий голубь’ [БДПА: Вышевичи Радомышльск. р-на Житомирск. обл.],
болг. турче ‘щегол’ [Гура 1997: 743], цйганчица ‘маленькая коричне-
вая птичка, похожая на воробья’ [БД 5: 216], польск. litwa ‘стая летя-
щих галок’, litwini ‘название, данное мазурами галкам из-за их крика,
напоминающего речь литовцев (по глаголу litwinic ‘говорить на ли-
товский манер)’ [SWII: 755; ср. Аникин СЛБ: 211] и т. п.
Среди названий РЫБ и ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ ксеномотивация ис-
пользуется преимущественно для обозначения мелкой рыбы с невы-
сокой промысловой ценностью, мальков (рус. арх. лопарь ‘малек ле-
ща’, лопарёк ‘головастик’ [КСГРС], карел, (рус.) лопарь ‘малек рыбы,
преимущественно налима или сома’ [СРГК 3: 147], твер. жйдолка
‘рыба Cobitis taenia; щиповка, голец, подкаменщик’ [СРНГ 9: 170], укр.
цигансъка риба ‘головастик’ [Гринченко 4: 428], словац. ciganska repka
‘то же’ [SSN I: 210], болг. циганскы рыбы ‘головастики’ [Геров 5: 524],
блр. цыганка ‘плотва’ [ТС 5: 280], жыдок ‘верховодка’ [ЖС: 68], болг.
циганчица ‘Gobio fluviatilis, пескарь’ [Геров 5: 524]), или же «диковин-
ных», внешне необычных «экземпляров» (рус. одесск. жид ‘зелёная боль-
шая лягушка’ [СРГО 1: 197], просторен, татарин ‘сом’ [ЛЗА: сообщено
Е. Жигариной, Ульяновск], рус. дон., дунайск. пан ‘крупный экземпляр
рыбы сом’ [СРНГ 25: 192], ср.-урал. пермяк ‘налим’ — «Пермяк одно
слово, рыба не рыба, недоразумение» [ЛЗА: Свердловск, обл.]).
Растения
В данной сфере наиболее актуален признак «дикий», причем ча-
ще всего дикое растение оказывается «сниженным двойником» куль-
турного (в этом случае названия, как правило, образуют оппозитив-
ную пару по формуле х — «инородческий» х). К примеру, несколько
таких «двойников» обнаруживается у льна: в русских говорах «куль-
434
Раздел IV
турному» льну противопоставлен сибирский лен — ‘на месте, дикий,
плоше сеяного’ [Даль2 IV: 180]; в украинском языке ‘сорт льна, семя
которого не вылущивается само собой’ называется москаль [Гринчен-
ко 2: 447]; в английских диалектах для обозначения растения Camelina
sativa (рыжик посевной — масличная культура, которая нередко засо-
ряет посевы льна) используется фитоним Dutch flax («голландский
лен») [EDD II: 217], имеющий показательный синоним false flax
(«ложный лен») [ABBYY Lingvo П]52. Ср. также примеры других
«двойников»: {орехи} — калмыцкие орехи ‘бобовник, дикий персик,
заячьи, полевые орешки’, {малина} — малина калмыцкая ‘степная;
бирючьи ягоды’ [Даль2 II: 292], {капуста} — капуста татарская,
башкирская ‘кислец, растение Polygonum polymorphum (употребляет-
ся как щавель)’ [Анненков: 265], {шпинат} — болг. влашки спанакъ
(«румынский шпинат») ‘дикий шпинат, Chenopodium bonus’ [Ахта-
ров: 344], англ, french spinach ‘лебеда садовая’ [ABBYY Lingvo 11],
{конопля} — рус. урал. (яицк.) турка ‘дикая конопля’ [Малеча 4:
284] и т. п. Оппозиция культурного (или считающегося таковым) рас-
тения и его более «сниженного» варианта не всегда реализуется в
языке с помощью «антонимической» пары; ср. неявную противопос-
тавленность «благородной» пшеницы и «золушки» среди злаков —
гречихи (Fagopyrum esculentum), которая получает в различных язы-
ках следующие обознаения: рус. гречиха, польск., чеш. tatarka. эст.
tattar. tatricat. франц, le Sarrasin («сарацин») [Анненков: 143], польск.
диал. litewka («литовка») [SEJP4: 301]; показательно и польск. диал.
poganka ‘то же’ [Karlowicz 4: 208].
Еще одна возможность проявления ксеномотивации в сфере на-
званий растений состоит в том, что образ инородца как бы приписы-
вает растению «суррогатные» свойства, т. е. указывает на возмож-
ность использования растения для приготовления ненастоящего мыла,
чая, кофе и др. Так, растение Saponaria officinalis, содержащее сапо-
нин (этот порошок вызывает сильное чихание; будучи растворен в
воде, дает обильную пену), называется в русском языке татарское
мыло, шведка, арапка [Анненков: 315-316], влг. цыганское мыло
[КСГРС]; ср. названия других растений со сходными свойствами: рус.
тамб. калмыцкое мыло ‘Lychnis viscaria L., смолка’ [Анненков: 201],
словац. cigdnske midlo («цыганское мыло») ‘растение грыжник, Hemiaria
hirsuta’ [SSN I: 210]. Показательны также фитонимы калмыцкий чай
52 Кстати, для этого же растения зафиксированы и другие ксенообозна-
чения: в русском языке — рожь индейская, а во французском — Sesame
d’Allemagne («немецкий кунжут»), Camomille de Picardie («ромашка Пикар-
дии») [Анненков: 79].
Культурные коды и культурный текст
435
‘пьяничник, Rhododendron chrysanthum’ [Даль2 III: 549], шведский ко-
фе ‘Astragalus boeticus (его семена используются для приготовления
суррогата кофе)’, нем. Schwedischer Kaffee [Анненков: 56], серб.
шведска кафа ‘то же’ [СимоновиЬ: 59].
В ряде случаев ксенонимы используются для обозначения новых,
необычных, «диковинных» растений, к которым поначалу относятся
настороженно. В связи с этим характерны, к примеру, названия поми-
дора (Lycopersicum esculentum): рус. липец., ворон, заморское яблочко
[СРНГ 10: 257], дон. цыганки — «Цыганков насажала фсяких разных
сартоф» [БТДК: 567], болг. френскы патлжджане («французские бак-
лажаны») [Геров 5: 475], ср. также англ. Irish lemons («ирландские
лимоны») [EDD III: 330], Jew’s ears («еврейские уши») [EDD III: 361];
кукурузы, рус. турок, турецкая пшеница, турецкое пшено [Анненков:
385] (эпитет «турецкий» повторяется и во многих других европейских
языках), болг. арапка, гръчка, влашка («румынка») [Геров 1: 11; 1: 135],
англ. Indian corn («индейская пшеница»), нем. das Indianische, Welschkorn
(«индейское зерно», «итальянское (французское) зерно»), франц. В1ё
d’Espagne, Ble d’Inde, В1ё de Barbaric («испанское зерно», «индейское
зерно», «чужеземное зерно») [СимоновиЬ: 505; Анненков: 385].
Негативные коннотации могут быть усилены при актуализации
признака «вредный». Ср. примеры названий ядовитых растений', рус.
китайские бобы ‘Strychnos Ignatia, ядовитое аптечное зелье’ [Даль2 I:
Ю1], рус. вишня жидовская, яблоко жидовское, укр. груши жид1вск1,
нем. Judendeckel ‘растение Physalis Alkekengi, имеющее ядовитые
плоды’ [Анненков: 250-251], рус. пск. заграничное вишенье [ПОС 10:
234], чеш. zidovskd tresen ‘то же’ [PSJC VIII: 1043]; несъедобных (или
считающихся несъедобными) грибов', рус. ср.-урал. татарик ‘несъе-
добный гриб’ [СРГСУ 6: 90], тамб. чужак ‘то же’ [Губарева: 62],
иван. цыганский табак, цыганская пудра ‘гриб-дождевик’ [Жмурко:
55], арх. цыганский дым, влг. цыганский табак ‘то же’ [КСГРС],
одесск. цыганские грибы ‘ядовитые грибы’ [СРГО 2: 269], укр. жидки
‘гриб Agaricus vemalis’ [Гринченко 1:483], чеш. zid ‘несъедобный гриб
вообще, поганка’ [PSJC VIII: 1040], словац. петес ‘название некото-
рых видов несъедобных грибов, в т. ч. ядовитый гриб Boletus Satanus’
[SSN II: AQT\, растений с резким или опьяняющим запахом', укр. жид1в-
съш лепехи, татарсъке з1лля ‘аир’ [Гринченко 1: 483; 4: 429], блр.
татаршк ‘то же’ [ТС 5: 136], польск. tatarski korzdn, tatarak, чеш.
tatarak ‘то же’ [Анненков: 8], польск. zydowka ‘красавка, белладонна,
сонная одурь’ [SW VIII: 733], болг. турско цвете ‘Spiraea Ulmaria, та-
волга болотная’ [Геров 5: 382], болг. влашки лукъ («румынский лук»)
‘чеснок’ [Ахтаров: 344], польск. tatarczuch [Komenda: 94], чеш. zidovskd
vanilka ‘то же’ [SSJC IV: 918], ср. также англ. Italian perfume («италь-
436
Раздел IV
янская парфюмерия») [Winkler 1994: 334], нем. Judenobst («еврейский
фрукт») ‘то же’ [Komenda: 61]; жалящих растений', рус. сиб. сибир-
ская роза ‘крапива’ [ФСРГС: 121], конопля остяцкая ‘вид крапивы’
[Даль2 II: 152], болг. турска коприва, гръцка коприва ‘крапива, Urtica
urens’ [Ахтаров: 528] и т. п.
АРТЕФАКТЫ
В данной группе общая пейоративная семантика уточняется как
«некачественный» — с дальнейшей конкретизацией.
Переработка сырья, материалов
Здесь признак «некачественный» трансформируется в признаки
«бесполезный, ненужный» (с возможным развитием далее в двух раз-
личных направлениях: «лишний» или, наоборот, «отсутствующий») и
«суррогатный». Признак бесполезности реализуют обозначения ОСТАТ-
КОВ, ОТХОДОВ, ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ. Это В первую
очередь пищевые отходы', рус. влг. пошехоны спрятались ‘о хлебе со
вздувшейся коркой’, хранцузики ‘подгоревшие при жарке вытопки от
сала’ [КСГРС], укр. цигани ‘подгорелые коржи’, швед ‘шкварка’ [Ар-
кушин 2: 240, 260], блр. швэдц швэды ‘шкварки’ [ДСБ: 260], блр. швэд
‘длинная полоска сала’ — «На сковородзе швэды лежаць, аж хороша
гледзець!» [ТС 5: 325], польск. szwedy ‘шперки, крупные шкварки от
сала’ [SW VI: 693; SJP-Dor 8: 1209-1210], ср. польск. Cygdnowi
szperka, a gazdowi kapusta («Цыгану шкварки, а хозяину капуста»)
[NKPP I: 345]. Кроме того, выделяются названия отходов при молотьбе,
плавке', рус. влг. французы ‘отходы при молотьбе, непригодные в корм (с
крупной остью)’ [КСГРС], чеш. zid ‘остаток (железа) при плавке, шлак’
[PSJC VIII: 1040], словац. cigdnskd blcha ‘отходы стали при изготовлении
ножей’ [SSN I: 210]. Семантика отходов, остатков, шлаков тесно связана
с семантикой грязи, пятен etc.: жид ‘клякса на бумаге’ [Даль3 1: 1346],
смол, жид ‘то же’ [СОС: 223], польск. zyd ‘то же’ (zrobic, usadzic zyda),
zydy ‘черные пятна на стене после побелки’ [SW VIII: 732], чеш. zid ‘пят-
но, грязная полоса’ [PSJC VIII: 1040], ср. также словац. izdk ‘пятно на
стене от стекающей воды’ [Machek2: 727].
Признак «суррогатности» представлен, к примеру, в названиях ме-
таллов — ив первую очередь в обозначениях разного рода сидяче, кото-
рые являются имитацией благородных металлов', рус. французское зо-
лото ‘самое плохое, низкопробное’ [Даль2 IV: 538], американское золо-
то ‘томпак: сорт латуни, представляющий собой сплав меди с цинком’
[Айрапетян 2001: 289], еврейское золото ‘сплав, имитирующий золото’
[Борхвальдт 2000: 401], польск. zloto zydowskie ‘соединение серы и олова,
Культурные коды и культурный текст
437
используемое для покрытия бронзой, «золото» для мозаичных работ’
[SW II: 1075], chinskie srebro ‘сплав цинка, меди и никеля (нейзильбер)’
[Komenda: 32], ср. также англ. Dutch gold («голландское золото») ‘томпак —
дешевая имитация золотого покрытия’ [Мюллер: 229], Gipsy gold («цы-
ганское золото») ‘отражение огня на посуде из драгоценных металлов’
[OED VIII: 524], German silver ‘нейзильбер’ [НБАРС 2: 24], нидерл.
Russisch zilver («русское серебро») ‘то же’ [Van Dale].
Признак «лишний» или «пропущенный» представлен в обозначени-
ях разного рода огрехов (при севе, косьбе, тканье): рус. влг. татаров
оставить ‘оставить огрехи при косьбе’, влг. татары пришли ‘об огрехах
при косьбе’, влг. чухарик ‘брак на ткани — выделяющаяся полоска утка
от ошибки ткачихи в переступании подножек ткацкого станка’ [КСГРС],
укр. жид ‘пропущенное место во время сева вручную’, жидок ‘пропуск
при косьбе’ [Аркушин 1: 155], жид ‘пропуск при пахоте’ [ГГ: 70].
Устройства и приспособления
В этой группе ксенонимов преобладают признаки «примитивный,
элементарный», «импровизированный». Примитивные приспособле-
ния. обозначаемые ксенонимами, обычно являются самодельными,
кустарными: рус. влг. татарская мельница ‘ручная обдирочная мель-
ница’ — «Обдёрка звали или татарская мельница, этак шуткой, совсем
уж доисторическая справа» [КСГРС], ср.-урал. пермские кораллы
‘«бусы» из ягод’ [ЛЗА], цыганские кораллы ‘продолговатые бусы ко-
ричневого цвета’ [СРГНО: 577], польск. cyganek ‘вид лампы без стек-
ла’ [SGP IV/3: 578], zydek ‘то же’ [SW VIII: 732], чеш. zid ‘пуговица
без дырок, обшитая тканью’ [PSJC VIII: 1040], рус. Краснодар, цыган-
ка ‘большая толстая игла’ — «Да в кузне тебе любую цыганку сдела-
ют» [КСРНГ], укр. цигансъка голка ‘большая толстая игла’ [Гринчен-
ко 4: 429], серб, цйгански клйнци («цыганский гвоздик») ‘вид гвоздя,
который используют кустарные кузнецы, а не фабричного производ-
ства’ [ЕлезовиЙ 2: 421], болг. цйгънски гдздий. цйгански пирон" («цы-
ганский гвоздь») ‘гвоздь, сделанный вручную, кованый гвоздь’ [БД 7:
166; 5: 216], словац. ciganski gvusc, cigdnski klinec (hrebik) ‘вид гвоздя
с большой головкой’ [SSN I: 209-210], болг. цйгънски дърак («цыган-
ский гребень») ‘самодельный гребень для обработки шерсти, пеньки
и др.’, цйгънску ръшёту («цыганское решето») ‘жестяное сито с круп-
ными отверстиями’ [БД 7: 166]. Несмотря на то, что в «цыганских»
наименованиях разного рода кованых изделий весьма значимы «ин-
дивидуальные» культурные мотивы — на разных территориях славян-
ского мира цыгане были кузнецами [СД 3: 22] (ср. Со Cygan, to kowal
[NKPP I: 343]), согласно распространенным у славян легендам, цыган
(цыганка) спрятал гвоздь для распятия [Белова 20046: 78-81] — по
438
Раздел IV
своим мотивационным особенностям эти языковые единицы вписы-
ваются в ряд других инородческих обозначений артефактов, что по-
зволяет усматривать в них элемент ксеномотивации.
Следует привести также примеры названий складных, легких в ис-
пользовании устройств', укр. жидок, жидючок, циганик, цыганок ‘не-
большой складной нож (как правило, самодельный)’ [Аркушин 1: 155; 2:
240], блр. цыгашк ‘перочинный ножик’ [ДСБ: 250], польск. zydek,
cyganek ‘складной нож, перочинный ножик (в деревянной оправе)’ [SW
VIII: 732], цыганка ‘рычаг, связывающий подножку самопрялки с осью
колеса’ [СРГА 4: 203]; очевидно, сюда же влг. кайбан53 ‘складное при-
способление для сушки белья, кож’ [КСГРС], карел, (рус.) финский стол
‘стол на боковых перекрещивающихся ножках’ [СРГК 6: 684]; ср. также
англ, gipsy table («цыганский стол») ‘легкий круглый стол, в основании
которого находятся три скрещенные палки’, gipsy winch («цыганская ле-
бедка») ‘небольшая лебедка, состоящая из барабана, храповика и собач-
ки и прикрепляемая к столбу’ [OED VII: 524]. Семантика элементарного,
примитивного легко дает значение ‘ерунда, дребедень’: рус. арх. фрянка
(< * франка [см. Фасмер IV: 208, 273]) ‘всякая всячина’ — «Навезут вся-
кой фрянки: и кашников, и ушаты — всего» [СРГК 6: 690], ленингр. чух-
на парголовская ‘всякая ерунда’ [КСГРС], смол, мордва ‘различные мел-
кие предметы, всякая мелочь’ [СРНГ 18: 258], жарг. всякий китай ‘мел-
кая бижутерия, дребедень — как правило, низкого качества’ [ЛЗА: Ека-
теринбург], болг. циганска торба <без дъно> ‘о множестве разных и не-
нужных вещей’ [ФРБЕ 2: 498], чеш. zid ‘вообще вещь несущественная и
плохого качества’ [PSJC VIII: 1040].
Пища
Здесь реализуются признаки «плохо обработанный», «приготов-
ленный на скорую руку», «суррогатный». Это в первую очередь «цы-
ганские» и «татарские» наименования примитивных блюд из картош-
ки и мяса', карел, (рус.) татарка ‘печеный картофель’ [СРГК 6: 444],
рус. нвсиб. цыганка ‘блюдо из вареного картофеля с конопляным
маслом’ [СРГНО: 577], блр. цыганы ‘половинки неочищенной вареной
картошки’ [СПЗБ 5:369], цыганю ‘картошка, сваренная и подпеченная
в льняном масле’ [Бялькев1ч: 483], маскал! ‘шутл. картошка, сварен-
ная с кожурой’ [ДСБ: 132], рус. арх. цыганские шти ‘мясное блюдо
типа холодца с большим количеством лука’ [КСГРС], словен. tatarski
biftek («татарский бифштекс») ‘измельченное сырое говяжье филе с
приправами’, ciganski golaz («цыганский гуляш») ‘гуляш из двух сортов
мяса, сала, картофеля и паприки’ [SSKJ I: 250; V: 36], польск. tatar,
53 Ср. арх., влг. кайбан ‘насмешливое название вепсов’ [КСГРС].
Культурные коды и культурный текст
439
befsztyk tat ar ski ‘сырое измельченное мясо (говядина или конина) с
приправами’ [SJP-Dor 9: 68, 69], польск. stekpo cygansku, нем. Zigeuner-
steak, Zigeunerschnitzel («цыганский стейк, цыганский шницель») ‘не-
лакированный, жареный кусок свинины или телятины в соусе с пап-
рикой, луком, помидорами ит. д.’ [Komenda: 105], нем. Tatar ‘блюдо
из нежирного мясного фарша (говядины или конины), смешанного с
луком, яйцом, перцем и солью, которое едят сырым’ [Komenda: 94].
Ср. также рус. простореч. рыба по-сибирски ‘сырая рыба’ — «Мурзик
у нас душу отдаст за рыбу по-сибирски» [ЛЗА: Екатеринбург], про-
стореч. жидовский ‘(о супе, чае, сметане и т. п.) слишком жидкий,
разбавленный’, болг. циганска ведричка ‘смесь разнородных продук-
тов’ [ФРБЕ 2: 498], польск. czerkieski ‘о скупом или легком обеде’
[SW 1: 384]; англ. Scotch coffee («шотландский кофе») ‘горячая вода,
приправленная жженым печеньем’ [Partridge: 1021].
ЧЕЛОВЕК
В сфере «Человек физический» повышенное внимание к ксено-
нимам проявляет лексика, обозначающая БОЛЕЗНИ И НЕПРИЯТНЫЕ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ. Возникновение болезни уподобля-
ется вторжению врагов, причем уподобление базируется на признаках
вредоносности, неожиданности появления, массовости «захватчиков»
и, конечно, сопровождается негативной экспрессией.
Наиболее характерна группа названий кожных болезней, высы-
паний на коже, прыщей etc. Показательно, что в русских говорах к
номинативной «работе» привлекаются образы именно тех чужезем-
цев, с которыми русские имели реальные столкновения: рус. влг. ба-
рин-татарин ‘нарыв, чирей, прыщ’ [СГРС 1: 64], костр. паны ‘пры-
щи, сыпь на теле’ — «Сколь панов-то насело» [ЛКТЭ]54, забайк. та-
тар ‘болезнь, вызывающая, подобно чесотке, сильный зуд’ [СРГЗ:
409]. Ср. в других славянских языках: укр. (буков.) татарка ‘опухоль
на теле’ [СБукГ: 540], блр. жид-жидоеына ‘обращение к лишаю в за-
говоре’ [ПЗ: 214, № 356] польск. zydowka ‘язва, короста’, ‘карбункул’,
‘сибирская язва’ [SW VIII: 733], кашуб, vejesc Zedovi skvarki z patelni
(«съесть у еврея шкварки со сковородки») ‘о человеке с гнойником на
54 Для названий барин-татарин и паны можно предполагать, помимо
«иноземной» метафоры, метафору «барскую»: чирей воспринимается как
«пьющий соки» барин, ср. рус. диал. шир. распр. барин ‘гнойный нарыв, чи-
рей (иногда шутливо)’ — «Что у тебя, барин что ли сидит на боку-то?»
[СРНГ 2: 116]. Устойчивая сочетаемость с глаголом сидеть поддерживает
образ «паразита-кровопийцы».
440
Раздел IV
губе’ [Sychta V: 68], vejesc Zedovi sieve («съесть у еврея сливы») ‘иметь
сыпь на лице’ [Семенова 2006: 96], чеш. zid ‘чирей, карбункул’ [PSJC
VIII: 1040], mad’ar («венгр, мадьяр») ‘гнойник на лице’ [Machek2: 667], ср.
также wrn. french measles ‘коревая краснуха’ [ABBYYLingvo 11].
Особенно выделяются сифилитические язвы — и вообще сифи-
лис'. рус. сиб. немцы ‘о сифилитических язвах на коже’ — «Уж эти
немцы, чуть только один сядет, глядишь уж их десяток» [СРНГ 21:
78], вят. татарская оспа ‘сифилис’ [Попов: 346], просторен, фран-
цузская болезнь ‘то же’ [Даль2 IV: 538], жарг. парижский, француз-
ский насморк ‘гонорея, или триппер’ [БРЭР: 359], влг. францы ‘вене-
рические язвы’ [КСРНГ], карел, (рус.) фрянка ‘нарыв, фурункул’ —
«Никак сбыть не могу фрянки, от англичанов стали» [СРГК 6: 691],
влг., юж. хранц(ы)и, франец [Даль2 IV: 564], смол, пранец, смол.,
брян. пранцы ‘сифилис’ [СРНГ 31: 67-68]55. Как видим, в наивном
сознании носителей русского языка сифилис может иметь немецкое,
татарское и французское «происхождение»: этот перечень включает
тех инородцев, которые были наиболее явными внешними врагами56.
Ср. также данные других европейских языков, в которых преоб-
ладает версия о французском (романском) «происхождении» сифили-
са, но, по законам ксеномотивации, указываются и другие варианты:
блр. францы [Насов1ч: 674], чеш. francouze, francouzy [PSJC I: 752],
польск. franca, Pani Franca, lamanie wloskie («болезнь итальянская»)
[SW I: 771; VII: 657], choroba francuska (gallicka, hispanska), francuska
ospa (niemoc), gallik (< Gall ‘француз’), niemoc niepolitanska [D^brow-
ska: 130-131], болг. фрёнга, фрёнка ‘любая венерическая болезнь’
[Геров 5: 475], макед. френгуз [РМЕ III: 481], сербохорв. француска
болеет [PCXKJ 6: 688], словен. francozi, francoska bolezen [SSKJ I:
651], нем. Franzosenkrankheit, dieFranzosen haben («иметь французов»)
‘страдать сифилисом’ [Komenda: 42-43], spanische Krankheit («испан-
55 M. Фасмер рассматривает эти слова (приводя также др.-рус. френчуга
‘то же’) в статьях фрянка, пранец и хранец, указывая, что названия эти вос-
ходят к * франка, собственно ‘француз’, ‘французская болезнь’ (в слове фрян-
ка гиперграмматическое -ря-; формы пранец и хранец отражают регулярные
фонетические процессы) [Фасмер IV: 208, 273; III: 353].
56 «Вражеский» мотив имеет продолжение в активном использовании
изучаемых слов в составе бранных выражений и проклятий: смол, пранец ди-
кий ‘бранное выражение’, смол, пранец (пранцы) тебя заточи (ешь), смол.,
брян. чтоб тебя (его) пранцы ели (съели) ‘бранно: выражение неприязни по
отношению к кому-либо’ [СРНГ 31: 67-68], фрянка тебе в рот! Какой тебе
фрянки! [Куликовский: 127]; сюда же, вероятно, калуж. хранцуз тя огложи
‘чтоб ты пропал! пропади пропадом’ [СРНГ 22: 318].
Культурные коды и культурный текст
441
ская болезнь») [Winkler 1994:331], нидерл.угшгус/ге ziekte [Muller: 135],
англ, (амер.) French crown («французская корона»), French disease
(«французская болезнь»), Irish button («ирландская пуговица»), Spanish
pox («испанский сифилис») [Winkler 1994: 331], gallican, french pox,
french plague («французская чума»), french sickness [Muller: 135], франц.
mal dEspagne, malflorentin, lesprussiens [Winkler 1994: 331], mal (maladie)
de Naples («неаполитанская болезнь»), verole de Naples («неаполитанский
сифилис») [Muller: 141], итал. mal francese, morbo gallico [Winkler 1994:
331], marocchinato («марокканский»), диал. marocca, исп. mal frances,
mal (morbo) gdlico, порт, mal frances, mal gdlico [Muller: 135, 248], mal
de Castilla, mal de Napoles [Winkler 1994: 331] и мн. др. В лингвисти-
ческой литературе нередко отмечается, что «французские» названия
сифилиса указывают на Францию как на источник распространения
болезни в средневековой Европе. Источники даже устанавливают да-
ты появления названий сифилиса. Думается, что в таких толкованиях
есть элемент «наивной лингвистики». Как говорится в медицинской
литературе, «при раскопках могильников в различных районах Евро-
пы и Азии в костях людей периода неолита обнаружены признаки
сифилиса. Есть свидетельства, что болезнь существовала в древние
времена в Европе, Азии, на Вест-Индских островах. Возникшая в Ев-
ропе эпидемия сифилиса в конце XV — начале XVI в. была связана с
войнами, длительными передвижениями, ростом проституции» [БМЭ 23:
326]. Наделение древнейшей болезни «французским носителем» обу-
словлено, как представляется, не столько реальными обстоятельствами
(Франция испытывала эпидемии наряду с другими странами), сколько
стереотипом француза как любителя любовных похождений57 и «вояки»
(ср. жарг. гусарский насморк ‘то же’ [БРЭР: 359]). Кроме того, присущий
болезни симптом «гнусавости» сопоставляется с типичным французским
«прононсом». При этом, повторим, снять с французов «лингвистическую
ответственность» за распространение сифилиса помогает то обстоятель-
ство, что названия этой болезни являются ксенонимами, ср. рус. татар-
ская оспа, англ. Irish button, итал. marocchinato и др.58.
Помимо кожных и венерических болезней, образы чужих земель ис-
пользуются в наименованиях простудной лихорадки, которая восприни-
мается как занесенная издалека, «надутая» чужими ветрами (ср.: надуло
57 Ему соответствует мнение о «доступности» французских женщин, ср.
фрянка ‘распутная женщина’ [Куликовский: 127].
58 В медицинских источниках по истории сифилиса приводятся указания и
на другие страны, считавшиеся «прародиной» сифилиса: в Средние века и Новое
время в Европе сифилис был известен также как «сирийская», «турецкая», «поль-
ская» и даже «курляндская» болезнь [http://www.portal.lg.ua/content/view/1809].
442
Раздел IV
‘выражение для обозначения всевозможных болезненных явлений, рас-
пространено почти повсюду и не среди только одного простого народа’
[Попов: 348]): рус. костр. германское поветеръе. сибирский ветер (си-
бирское поветерье) [ЛКТЭ], арх. норвега [КСГРС], рус. кубан., укр. жи-
довка ‘лихорадка, нападающая ночью’ [Белова 20056: 61]; в названиях
заболеваний и состояний, которые сопровождаются выделением крови'.
польск. zydowska niemoc ‘геморрой’ [SW VIII: 733], ср. франц, avoir les
anglais («иметь англичан») ‘болеть геморроем’ [Muller: 116]; рус. перм.
вятские приехали ‘(шутл.) о menses’ [СПГ 1: 154], жарг. сестра из Крас-
нодара приехала ‘то же’ [ЛЗА: Екатеринбург], ср. также франц, anglaise
‘то же’ [Birken-Silverman 1993: 451], debarguement des anglais («высадка
английского десанта») ‘то же’, avoir ses. les anglais («иметь англичан»)
‘переносить menses’, исп. godo («гот») ‘menses’ [Muller: 115, 159]; слизи:
польск. moskal ‘густые выделения из носа’ [Steffen: 85], кашуб. Zid komus
pale z nosa vetika («еврей кому-л. палец из носа высовывает») ‘о сопли-
вом (обычно ребенке’ [Семенова 2006: 96]; испражнениями: чеш.
пётеска петое ‘недержание мочи’ [Kott (pf.l): 184], словац. та петса
(«имеет немца»), nemci ho nahdnaju («немцы за ним гонятся») ‘о частом
жидком стуле’ [SSN II: 407]; в обозначениях грыжи: болг. турски клини
(«турецкие клинья») ‘тяжелая по форме протекания паховая грыжа’ (в
отличие от легкой формы, которая называется български клини) [ЕБНМ:
179]; в названиях неприятных физиологических состояний, которые не
имеют видимой причины, но сопровождаются ощущением угнетения —
дремоты: рус. ворон, калмык на шею сел ‘дремлется, хочется спать’
[СРНГ 12: 363], влг. калмык на шее сидит ‘то же’ [КСГРС], польск. zyda
wozic, zyda Ыс ‘дремля, «клевать носом»’ [SW VIII: 732], cygon mi depce
po oczach («цыган залез в глаза») [NKPP I: 343], zyd mi depce po oczach,
gorol59 mi depce po oczach («жид (гураль) залез в глаза»), cygani па oczach
(«цыганы в глазах») [Ondrusz: 74, 241, 38], кашуб. Zedov Исёс («жидов
считать») ‘дремать сидя’ [Trader 1989: 14], Abram коти zazera do оси
(«Абрам кому-л. заглядывает в глаза») ‘кого-л. клонит в сон’ [Семенова
2006: 190, 55], ср. нем. (вост.-прусск.) die Samaiten коттеп («жемайты
идут») ‘о сонливости у детей’, литов, zydas lenda [ akis («еврей лезет в
глаза») ‘то же’ [Аникин СЛБ: 148]; головокружения: рус. перм. татара
(молотят) в голове ‘о состоянии головокружения от усталости’ [Проко-
шева: 98]; чувства голода: рус. костр. немцы молотят / играют в брюхе
‘о чувстве голода’ [ЛКТЭ], укр. (лемк.) цыгане в брю&гравуть, цыгане са по
череву бьютъ [ФСЛГ: 141], словац. cigdni mu v bruchu vyhrdvaju (klince
59 В данном фразеологизме может функционировать как этноним «гу-
раль», так и «еврей», ср. польск. goral ‘еврей’ (по названию Синайской горы)
[Dqbrowska: 280].
Культурные коды и культурный текст
443
кирл) («цыгане у меня в брюхе играют/гвозди куют») ‘то же’ [SSJI: 169],
cigdnska kapela ‘о бурчании в животе от голода’ [HSSJ 1:185], польск. bqdq.
ci cyganie snili («цыганы тебе будут сниться») ‘если кто-нибудь идет спать
голодным, ему должны сниться неприятные сны’ [NKPPI: 343; Komenda:
104], tatary mu siqprzysniq, («татары ему приснятся») [NKPP 1:343], кашуб.
glodni jakzedova kobela («голодный, как кобыла еврея») ‘о сильном голо-
де’ [Семенова 2006: 55]; дрожи, озноба', рус. влг. чухарики пошли ‘о му-
рашках по коже’ [КСГРС], рус. просторен, цыганский пот (пробирает,
прошибает, пронимает) ‘озноб, дрожь от холода, ощущение холода’,
укр. цигансъкий nim ‘дрожь’ [Гринченко 4: 429], укр. цигансъкий (холод-
ний) nim проймае (охоплюс. пробирай) ‘кто-нибудь дрожит от нервного
возбуждения, страха, холода и т. п.; кого-нибудь лихорадит’ [ФСУМ 2:
642], цигансъкий nim пройма (пробира) [Номис: 63], польск. cyganskie
poty ‘холодно, знобит’ [SGP IV/3: 580]; возможно, славянские (северно-
русские) формы дали в карельском языке кальку, ср. карел, ciganan higeh
iski («в цыганский пот бросает») ‘холодно’ [Федотова: 19]60; чихания'.
рус. влг. цыган народился ‘говорится при чихании’ [КСГРС], щекотки'.
кашуб, тес zeda v kolane («иметь жида в колене») ‘реагировать на щекот-
ку’ [Sychta VI: 296], zeda z kogos venekac / vesekac («еврея у кого-л. выго-
нять, выискивать») ‘гладить кого-л. по колену’ [Семенова 2006: 332] etc.
Смежным по отношению к образу болезни, инициированной
инородцами, является образ болезни и особых физиологических со-
стояний как дальней поездки: рус. арх. вернуться с Питера ‘выздоро-
веть’ [КСГРС], польск. z Krakow a wrocila ‘перенесла болезнь’ [SW 2:
526], кашуб. Ъёс v Rime («быть в Риме») ‘заснуть в не отведенное для
сна время’ [Sychta IV: 389], просторен, поехать в Ригу ‘о рвоте’ [БСЖ:
509]61; отдельную группу здесь составляют эвфемистические обозна-
чения процесса испражнения62.
60 Для объяснения этого фразеологизма некоторые источники приводят
вторичные мотивировки, ср.: цыганский пот пронял ‘озяб (намек на дырявое
рубище, в которое одевается бедствующий цыган, и на способ — отогревать-
ся в мороз барахтаньем до поту)’ [Михельсон 2: 487].
61 Рус. просторен, поехал в Ригу ‘рвет, вырвало (обычно при сильном
опьянении)’ нередко объясняют созвучием слов Рига и рыгать. Это справед-
ливо, однако приведенный в этой статье материал показывает, что модель
имеет также ксеномотивационную «подпитку».
62 Ср. русские жаргонные слова и фразеологизмы: съездить в Америку
‘сходить в туалет’ [ЛЗА: Екатеринбург], позвонить в Париж ‘сходить в туа-
лет’ [БСЖ: 420], франция ‘общественный туалет’ [ССРГ: 520], Таймыр ‘Туа-
лет’ (по ассоциации с названием пьесы А. Галича «Вас вызывает Таймыр»)
[БСЖ: 580], кремль ‘туалет, уборная’ [ССРГ: 228], Курильские острова ‘муж-
444
Раздел IV
Этот мотив объединяет образную фактуру наименований болез-
ней с представлениями о родах, рождении и смерти. Ср. лексику, свя-
занную с родами', рус. устар, петерб. съездить в Москву [РФ: 450],
влг. до Сибири съездить [КСГРС], тюмен. до Москвы съездить ‘разре-
шиться от бремени, родить’ [Лютикова: 39], новг. ехать в Москву за
песней ‘шутл. собираться рожать’ [Селигер 2: 68], польск. pojechac do
Krakowa ‘рожать, произвести на свет ребенка’ [SW II: 526], блр. у Кры-
чау паехала ‘говорят шуточно о женщине, болезнующей родами, под
словом Кричев разумея крик от болей при родах’ [СБП: 19]. Если ро-
женица трактуется как уехавшая в дальние края, то новорожденный —
как приехавший оттуда: рус. карел, лдпка (лдпенъ)63 наехала ‘ребенок
родился’ [СРГК 3: 148]; ср. также обозначения некрещеных детей как
инородцев (иноверцев): рус. карел, лдпень, лдпка [СРГК 3:148], простореч.
цыганка [ССРГ: 533], польск. zyd [SW VIII: 732], болг. еврейче [РБЕ IV:
611], серб, турче. бугарче. влашче. циганчица [СД 2: 86] etc.64.
Симметрично по отношению к образу рождения разворачивается
образ смерти, иронично представляемой как отъезд в теплые или бо-
гатые края: рус. жарг. (шутл.) отправить в Сочи кого-л. ‘убить кого-л.’
[БСЖ: 557], жарг. уехать в Ташкент ‘умереть’ [ЛЗА: Екатеринбург].
Заканчивая краткий обзор лексики из сферы «Человек физиче-
ский», укажем, что ксенонимы могут использоваться также для обо-
значения некоторых ЧАСТЕЙ ТЕЛА. Во-первых, это половые органы'.
рус. жарг. турок, цукерман (<— цукерман ‘еврей’) ‘membrum virile’
[БСЖ: 602, 662], арап [СМА: 24], чукча ‘то же’ [ЛЗА: Екатеринбург],
черная цыганка ‘(фолък.) vagina’ [РЭФ: 60, 261, 296], ср. также франц.
chinois. исп. negra ‘membrum virile’ [Birken-Silverman 1993: 451];
во-вторых, те части тела, которые особенно уязвимы к внешним воз-
действиям. ударам и т. п.: рус. арх. зырянская косточка ‘одна из костей
лодыжки, удар по которой является особенно болезненным’ [КСГРС],
словац. ciganskd ziua ‘сухожилие под пяткой’ [SSN I: 210], франц, lepetit
juif («маленький еврей») ‘чувствительное место на локте’ [Robert 5: 853],
ср. рус. простореч. жида убить ‘сильно удариться локтем’ [ЛЗА: Мо-
ской туалет, где курят мальчики’ [БСЖ: 401], англичанин "ирон, туалет’ [Ели-
стратов: 33].
63 Ср. карел, (рус.) лопка ‘название женщины народа саами’, лопин ‘са-
ам’ [СРГКЗ: 148].
64 Эти наименования имеют параллель в поверьях о том, что младенца
принесли (привезли, нашли, продали) чужаки, странствующие люди, ср. по-
лесские контексты: «Цыгане йихалы да покынулы <ребенка>»; «Жыд про-
дау»; «Шли грахоуцы <жители соседнего села Гроховка> на ярмарку у Лоев
да прынесли тебя у мешку, — мы купили» [Виноградова 2000: 354 355].
Культурные коды и культурный текст
445
сква], польск. zida ohufrc («жида разбудить») ‘споткнуться о камень’
[SKIII: 140].
Что касается сферы «Человек социальный», то она является, не-
сомненно, самой обширной. Здесь представлены в первую очередь
обозначения тех ЧЕРТ ХАРАКТЕРА, ОСОБЕННОСТЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НОГО, КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ и ПОВЕДЕНИЯ, которые имеют наи-
более универсальный характер и минимально зависят от образа жизни
народа, национальной психологии. Это глупость, лживость, невос-
питанность, лень, драчливость etc.: рус. арх. татарские очи ‘отъяв-
ленный негодяй, бездельник, плут’ [Опыт: 226], жарг. албанец ‘глу-
пый, несообразительный человек; дурак, идиот’ [БСЖ: 33], тунгус
‘растяпа, дурак’, тульский Вася ‘простак’, удмурт ‘шалопай, растяпа,
дурачок’, турка ‘глупый человек’ [СМА: 481, 482, 489], ванъза ‘бес-
толковый, глупый человек’ («— ванъза ‘наименование исконных жите-
лей Зауралья’) [ДСРГСУ: 55], кольск. ваганъё ‘хулиганы’ (< ваган
‘житель бассейна р. Вага’) [СРНГ 4: 10], пск. киёвка ‘злая, сварливая
женщина’ [СРНГ 13: 201], башк. (рус.) калмык ‘о большом, но ленивом
человеке’ [СРГБаш 2: 19], перм., пск. литва ‘брань, склока’ [СРНГ 17:
71], укр. дати швабу кому i без додатка ‘побить’ [ФСУМ 1: 223],
тдпускати, тдвозити москаля ‘лгать, надувать, обманывать’ [Гринчен-
ко 2:447], блр. хохлач («малороссиянин») ‘простофиля’ [Насов1ч: 682],
польск. franca ‘фальшивый человек, который имеет дурные взгляды’
[Komenda: 42], mazur ‘необразованный человек, простофиля’ [SW II:
907], tatarowac ‘бить’ [Karlowicz 5: 391], кашуб, hick ‘сорванец, хули-
ган’ (<F- hick ‘еврей’) [Sychta II: 13], болг. влашки циганин («цыган, ко-
торый говорит на румынском диалекте») ‘лжец’ [РБЕ II: 267]; ср. нем.
turken («вести себя как турок») ‘действовать нечестно, обманывать’
[Komenda: 96], англ, to assist in the French sense ‘присутствовать, не при-
нимая участия’ [Мюллер: 291], франц. alatafr)tare («по-татарски») ‘грубо’
[Редкин: 1085], франц, russe ‘бессердечный, жестокий человек’, iroquois
(«ирокез») ‘безумный, сумасшедший человек’, исп. hacerse el sueco («де-
латься шведом») ‘вести себя глупо’ [Winkler 1994: 334—335] и др.
Негативная оценка этих свойств легко переходит в ОБОБЩЕННУЮ
НЕГАТИВНУЮ ОЦЕНКУ ПОВЕДЕНИЯ, ДЕЙСТВИЙ, ХАРАКТЕРА (призна-
ки «плохо», «плохой», «неправильно» и т. п.): рус. арх. по-вологодски
‘бестолково, неразумно, глупо’ [КСГРС], нвсиб. по-вятски ‘плохо, не-
брежно’ [СРГНО: 88], тюмен. ‘плохо, нехорошо’ [Лютикова: 119], вага-
нить ‘делать что-н. небрежно, кое-как’ [АОС 3: 22], басурманитъся
‘портиться, становиться хуже’ [АОС 1: 122], просторен, по-татарски,
по-еврейски ‘непонятно, не так, как следует, как надо’ [БРЭР: 461],
польск. po czerkiesku ‘небрежно, неаккуратно, плохо’ [SW 1: 384], болг.
габровско блюдо ‘дурной, плохой человек’ [Геров 1: 205], ср. англ. Scotch
446
Раздел IV
mark ‘некоторый дефект, физический или моральный, который отличает
какое-либо лицо’ [EDD V: 260] и др.
В рамках данной сферы представлены также ксенонимические
обозначения особенностей КОММУНИКАЦИИ — непонятной речи и
неэтикетного поведения (ср. многочисленные примеры вроде китай-
ская грамота и уйти по-английски).
Мы намеренно не приводим здесь развернутые перечни иллюстра-
ций, поскольку продуктивность моделей в данном случае не требует
доказательств. Такие сводки следовало бы собрать полно и системно в
рамках каждой конкретной языковой и культурной традиции (что не
может входить в настоящий момент в наши задачи), а отдельные при-
меры здесь не очень информативны. Кроме того, в лексике данной сфе-
ры ксеномотивационный компонент звучит слабее, чем в других, по-
скольку в процессе семантической деривации по формуле «человек» —>
«человек» преодолевается меньшее смысловое расстояние, чем, ска-
жем, в случае «человек» —> «растение». Поэтому исходное представле-
ние об объекте, обозначенном производящим словом, более точно и
менее искаженно проецируется на семантическую структуру дериватов
(разумеется, это не означает, что исходное представление объективно).
Ксенонимы функционируют и в других тематических сферах, но
эти сферы либо являются более узкими, чем те, что были представле-
ны выше, либо разнородными в мотивационном отношении. Приве-
дем некоторые примеры.
Время
Здесь наиболее определенно выделяются три взаимосвязанных
значения — долго', рус. смол, жидоускш зараз ^‘«сейчас» (говорится
иронично, имея в виду, что «сейчас» может обернуться долгим вре-
менем)’ [СЭС 3: 108], укр. москоесъкий тдожди ‘об очень длитель-
ном промежутке времени’ [Номис: 19], словац. uhersky г ok [Machek^:
667], польск. ruski miesiqc ‘то же’ [SW V: 775], kalendarz zydowsky
(zydowskie zaraz, panskie poczekaj) ‘небыстро, неторопливо’ [SW VIII:
733], ср. литов, gudo65 menesj,, gudo metus («месяц гуда», «год гуда»)
‘ненормально долго’ [Завьялова, Англицкене 2005: 149]; давно', серб.
цйганско време ‘выражение, означающее примерно то же, что наше
65 В данном выражении фигурирует литовский этноним gudas, которым
чаще обозначаются белорусы, реже поляки или русские (в прошлом данный эт-
ноним мог быть обозначением готов, затем славян) [Завьялова, Англицкене 2005:
147-148].
Культурные коды и культурный текст
447
при царе Горохе" [ЕлезовиЙ 2: 421], блр. за дзедам-шведам ‘весьма
давно’ [ТСБМ 2: 165], польск. Jak byfy szwedy [Komenda: 89], чеш.
uhersky mesic ‘то же’ — «Uz jsem te nevidel uhersky mesic, pro kafe jsem
nebyl uhersky rok» [Machek2: 667]; никогда', рус. простореч. на турец-
кую пасху, на русский байрам [Мокиенко 19996: 314], кубан. на кал-
мыцкий заговенъ [СРНГ 10: 13], укр. на жид1всъкого Петра, на рах-
мансъкий великденъ, на жид1всъкого Юря, на жид1всъке пущшъи [1в-
ченко 1999: 57], укр. (лемк.) дати як русъкый мюяцъ прийде [ФСЛГ:
84], кашуб, па zedowskie Trze Krole [Sychta II: 256], чеш. za uhersky
mesic («венгерский месяц») ‘никогда’ [Machek2: 667].
Игры
рус. перм. играть зыряном ‘старинная массовая игра’ — «Мы
раньше ишшо зыряном играли, ноне уж так-ту и не играют; о святки
одного средят, долгущего, остальные над им галятся» [СПГ 1: 339],
карел, (рус.) корелы ‘игра в лишнего’ [СРГК 2: 422], влад. жиды ‘на-
звание одной из игр в карты’ — «Карточная игра: кто проигрывает,
тот жид» [СРНГ 9: 171], дон. жида ‘условие игры в айданчики (вид
игры в кости): кто выкрикнул жида, тот гонится последним, т. е. по-
следним бросает свой айданчик, чтобы определить очередь’; ‘при-
ставной айданчик сверх обязательных’ [БТДК: 155; СРНГ 9: 168],
олон. корелка ‘в детской игре — небольшой деревянный брусок, ко-
торый подбрасывают кверху и бьют палками’ [СРНГ 13: 86], челяб.
татарка ‘игра в бабки: их кладут, спинкой кверху, в общий ряд спра-
ва налево’ [КСРНГ], влг. цыганская лапта ‘лапта для трех человек’
[ДКСБ: 208], укр. цигани куйут ‘вид ритуальной игры при покойнике’
[Онишкевич 2: 352], жид ‘название игры при покойнике’ [ГГ: 70],
польск. cygan ‘игра в бирюльки (требуется выбить отдельные палки
так, чтоб остальные остались нетронутыми)’, ‘игра в карты’ [SGP IV/3:
576], zydek ‘в игре в карты, а именно при игре в тарок: банк, который
забирает тот, кто выиграл’, zydek ‘игра в мяч, в «классы»’ [SW VIII:
732], rus ‘игра в карты, в которой выигрывал тот, кто имел три карты
старше по масти’ [SW V: 774]. Ср. также англ, french cricket («фран-
цузский крикет») ‘упрощенный вид крикета: с битой и мячом, но без
калитки’ [ABBYY Lingvo И], ncn.jWzo («еврей») ‘в карточной игре
монте: фигура (король, дама, валет)’ [Moliner II: 194].
Демонология (в т. ч. формулы проклятий и «отсылов»)
рус. костр. нерусский ‘о черте, демоне’ [СРНГ 21: 146], карел,
(рус.) чудь ‘нечистая сила, дьявол’ [СРГК 6: 803], смол, калмык ‘кол-
дун’ [СРНГ 12: 363], колым. жиди ‘лесные черти’ [Богораз: 51], сиб.
уведи его татар ‘черт бы его побрал’ [ФСРГС: 195], костр. ляховат
448
Раздел IV
‘будь проклят, отступись прочь’ [СРНГ 17: 285], арх. нореег его знает
‘кто его знает’ [СРНГ 21: 278]; ср. также польск. niemec, niemczyk ‘дья-
вол’ [D^browska: 236], серб, црни Арапы ‘трехглавые хтонические демоны’,
болг. латыни, елини, джидоее, джидовци ‘великаны-людоеды, иногда од-
ноглазые’ [СД 2:414], франц, ogre (< ’ОусЬр ‘венгр’) ‘людоед’, осет. rujmon
(«римлянин») ‘наименование сказочного чудовища’ [Абаев 1986: 25],
новогреч. ar apis ‘привидение, которым пугают детей’, armenides ‘демо-
ны, которые являются в виде огненных вспышек’ и др. [Страхов 2003:
26Ф-265], франц, тоге, порт, moura, moira («мавр») ‘нечистая сила, де-
мон; великан’, Catalan («каталонец»), sarrasin («сарацин»), итал. диал.
zingariglio (< «цыган») ‘черт, дьявол’ [Muller: 238, 252,298, 379].
Тематический диапазон ксенонимов имеет существенную социолинг-
вистическую обусловленность: в диалектной лексике (на которую пре-
имущественно ориентировано настоящее исследование) активны одни
тематические группы, в жаргонной — другие. К примеру, сфера «Демоно-
логия» специфична для диалектного лексикона, в то время как сфера
«Сексуальное поведение» заполняется большей частью жаргонизмами
(см. германские и романские примеры в [Winkler 1994: 333-334]).
Думается, что приведенного материала достаточно, чтобы сде-
лать некоторые выводы.
Итак, объектом нашего анализа стала активная и достаточно ре-
гулярная мотивационная модель, реализация которой создает своего
рода мотивационное макрогнездо — группу языковых фак-
тов, возникших в результате семантической деривации и объединен-
ных смысловой общностью производящих слов, в данном случае —
обозначений чужих народов и земель (о словесных объединениях такого
типа, хотя с иной внутренней организацией (из-за различий в характере
производящих слов), см. работы С. М. Толстой [Толстая 2003; 20046;
20066 и др.]). Данный словесный комплекс обнаруживает единство по
разным параметрам. Чем оно обеспечивается?
1. Наличие достаточно определенного и заданного круга тема-
тических сфер, в которых функционируют элементы мотиваци-
онного макрогнезда, а также ряда конкретных значений, обслуживае-
мых ксенонимами (‘таракан’, ‘дремота’, ‘дождь при солнце’, ‘удод’,
‘помидор’ etc.). Это положение не следует комментировать подробно,
так как оно является прямым следствием представленной выше тема-
тической классификации.
2. Наличие ряда смысловых доминант, направляющих
семантическое развитие слов, входящих в макрогнездо. Обоб-
щенная идея чужого распадается на несколько производных мотивов:
Культурные коды и культурный текст
449
«чужой» => «неправильный, аномальный (= антипод нормального)» =>
«двойник, суррогатная копия чего-либо», «чужой» =^> «феноменальный,
странный» =^> «парадоксальный, содержащий оксюморон»; «чужой» =^>
«вторгшийся извне» =^> «вредоносный», «чужой» =^> «плохой» =^> «не-
качественный» =^> «бесполезный, ненужный» =^> «лишний»; «чужой» =^>
«нецивилизованный, дикий»; «чужой» =^> «непонятный» и т. п. От-
дельные производные мотивы тяготеют к употреблению в конкрет-
ных смысловых сферах. Так, для названий небесных светил ведущей
является мотивировка «антипод нормального», «двойник»; для обо-
значений болезней — «вторгшийся извне», «вредоносный».
3. Наличие определенных закономерностей организации
«принимающей семантики», т.е. реципиентной сферы. Реципи-
ентная сфера должна обладать таким внутренним устройством, кото-
рое бы стимулировало привлечение в нее донорских моделей и соот-
ветствовало принципам организации донорской семантической об-
ласти. Например, при номинации небесных светил устанавливаются
определенные отношения двойничества: луна — сниженный двойник
солнца; неяркие созвездия — двойники более ярких (ср. для радуги:
темная полоса — двойник более светлой). Для выражения этих смы-
слов хорошо подходят образы инородцев, составляющих «сниженную
пару» к образу «своей» социальной или этнической группы. Отношения
двойничества (установление качественно разных рангов для каких-либо
парных явлений) усматриваются субъектами номинации в самых разных
областях — например, для культурных и диких растений, животных, для
благородных металлов и суррогатных сплавов и т. п.
4. Наличие сквозных образных мотивов, создающих един-
ство образной «фактуры» наименований. Эти мотивы могут быть ха-
рактерны как для одного конкретного деривационного гнезда, так и
для всего макрогнезда в целом. Пример на первый случай — мотив
дыма в образе цыгана, «проникающий» как во внутреннюю форму,
так и в семантику языковых фактов, эксплуатирующих соответст-
вующие представления: рус. цыганский дым (табак) ‘гриб-дождевик’,
укр. туман циганы напускаютъ, польск. cyganski тагсурап ‘набивка
курительной трубки’, cygan, cyganek ‘железная печь, которая дает ма-
ло тепла, но очень дымит’ [SW 1: 358], чеш. cikanka ‘вид трубки’
[PSJC I: 253], ср. также франц, gitan («цыган») ‘темная сигарета’
[Birken-Silverman 1993: 450] и др. Очевидно, причины появления это-
го мотива — черный цвет, являющийся доминантой образа цыгана, а
также действующая в разных языках аттракция «цыган» — «сигара
(цигара)». Ср. также любопытный мотив цыганского молока (очевид-
но, «цыганское молоко» семантически сходно с «птичьим молоком»):
рус. брян. цыганское молоко ‘растение (какое?)’ — «Летом у нас склоны
450
Раздел IV
оврагов покрываются цыганским молоком, которое чуть ли не до осе-
ни остаётся зеленым» [КСРНГ], укр. (лемк.) захцети са як цшаияту
молока ‘очень захотеть чего-л.’ [ФСЛГ: 141], болг. циганско мляко
‘род водки’, серб, ко] циганско мл екд ‘ненадежный, ненадежно; крат-
ковременно’ 66 [МарковиЙ: 475].
В структуре представлений о евреях значим мотив «объекта на-
силия» (битья, убийства, самоубийства): рус. простореч. жида убить
‘сильно удариться локтем’, простореч. за компанию жид повесился
‘об уступчивости, угодливости’, арх. жид ‘шар, по которому бьют
палками в одноименной игре’ [Покровский: 286], смол, слауна жида
харонютъ ‘суетятся без толка’ [СОС 1: 223], польск. zyda Ыс ‘дремля,
«клевать носом»’, zyda pdlic ‘детская забава: из стеблей или из травы
делается треугольник; этот треугольник слюнявят, так что между его
углами образуется тонкая пленка из слюны; когда на нее капают не-
сколько капель молочая, выступают разноцветные узоры’ [Karlowicz 6:
452], zyda grzebac ‘делать тайно, за чьей-либо спиной, вести закулис-
ные переговоры’ [SW VIII: 733], франц, le petit juif ‘чувствительное
место на локте’. Несмотря на очевидную «бытийную» обусловлен-
ность такого рода выражений (помимо практики еврейских погромов,
можно предполагать аллюзию к сюжету повешения Иуды), у них есть
черты ксенонимов, поскольку они подвержены внутриязыковому и
межъязыковому варьированию, ср. хотя бы польск. dla kompanii dal
siq cygan powiesic ‘о чрезмерной уступчивости, угодливости во всем’,
nie taksiq cygana bije ‘не таким способом, не таким образом, ничего из
этого не получится’ [SGP IV/3: 577], англ, to do the Dutch act («осуще-
ствить голландский акт») ‘покончить с собой’, to beat the Dutch («бить
голландца») ‘сделать что-либо из ряда вон выходящее’ [НБАРС 1: 633].
Что касается более широких образных мотивов, охватывающих
разные деривационные гнезда внутри макрогнезда, то среди них мож-
но назвать, например, мотив «нашествия» («пришествия»), ср.: рус.
татары пришли ‘об огрехах при косьбе’, лопка (лопенъ) наехала ‘ре-
бенок родился’, вятские приехали ‘о menses’, чухарики пошли ‘о му-
рашках по коже’, польск. cygany (cygani) idq. (jadq) ‘о надвигающихся
грозовых тучах’, кашуб, svejde jadu ‘собирается дождь’, пермяки по-
ехали ‘о ветре, несущем дождь’ и т. п.
66 В связи с этим выражением рассказывается притча о цыгане, который
достал немного молока. Когда он стал кипятить его в банке над огнем, моло-
ко начало «расти», обрадовав цыгана, который хотел накормить всю свою
большую семью. Однако молоко быстро «убежало», вылилось в огонь — ив
банке ничего не осталось. «Боже, боже! Быстро ты мне его дал, быстро у ме-
ня его взял!» [МарковиЙ: 475].
Культурные коды и культурный текст
451
5. Наличие у ксенонимов регулярных номинативных парал-
лелей. Такие параллели могут быть внутригнездовыми и внешними.
Внутригнездовые параллели являются самым важным
залогом единства макрогнезда, ср. примеры типа цыганский дождь —
жидовский дождь ‘дождь при солнце’. При этом наиболее распро-
страненными следует признать отношения «синонимии» (симиляр-
ности), реже встречаются случаи «антонимии» (оппозитарности), к
которым можно причислить пары вроде рус. русские бобы ‘бобы, рас-
тение Vicia faba’ — турецкие бобы ‘фасоль’ [Даль2 I: I0I]67, карел,
(рус.) русские исподки ‘грубые, связанные в два слоя шерсти рукави-
цы для работы’ — панские исподки ‘рукавицы, связанные в один слой
шерсти’ [СРГК 2: 298], зап.-укр. зазуля руска ‘кукушка’ — вудвуд
жидовски ‘удод’ [Гура 1997: 600-601].
Самыми частотными являются такие параллели, которые объеди-
няют лексику одной тематической микрогруппы, одного смыслового
«регистра» (к их числу относятся приведенные выше примеры). Реже
встречаются «межрегистровые» параллели, в которых участвуют
элементы разных тематических микрогрупп. Ср., к примеру, факты
смыслового параллелизма между обозначениями сальных шкварок,
кожных заболеваний и насекомых-паразитов: кашуб, фразеологизм
vejesc zedovi skvarki z patelni («съесть еврейские шкварки со сково-
родки») ‘о человеке с гнойником на губе’ обнаруживает переклички, с
одной стороны, с ксенонимическими обозначениями корост, гнойни-
ков, с другой — с названиями шкварок. Такие же двусторонние связи
устанавливаются в тексте приводимого Б. Сыхтой кашубского анек-
дота «Как парень наелся шкварок»: парень, который пришел ночью
домой, нашел в темноте сковородку со шкварками. Наевшись, он по-
чувствовал, как «шкварки» начали шевелиться во рту. Они были с
ножками и «рожками». Оказалось, что он riajadlo so yPopisckue
frenciizi («наелся крестьянских „французов44», т. е. тараканов) [Sychta
V: 68], ср. кашуб, francuz ‘таракан прусак’, а также рус. хранцузики
‘подгоревшие при жарке вытопки от сала’.
Внешние номинативные параллели объединяют слова,
которые принадлежат разным гнездам, но регулярно развивают оди-
наковые вторичные значения. В качестве внешних параллелей по от-
ношению к обозначениям инородцев выступают названия животных
(как правило, пейоративно оцениваемых — свинья, волк, медведь, со-
бака), нечистой силы, нежелательных пришельцев — солдат, интер-
вентов, субъектов с низким социальным статусом — женщин и сирот.
67 Ср. другие ксенонимы, обозначающие фасоль: польск. groch wloski («горох
итальянский») [SW VII: 656], англ. French bean («французский боб») [НБАРС 1:817].
452
Раздел IV
К примеру, внеэтническим воплощением темы неожиданного
вторжения, присутствующей в инородческих наименованиях тарака-
нов, следует считать «военную» модель номинации этих насекомых,
соотносящую их появление с нападением армии захватчиков, ср. рус.
влг. майор ‘таракан (очевидно, одиноко ползущий)’ — «Майор эко
ползет, усатый, жирный», лейтенантик ‘таракан’ — «Ползи сюды,
голубок, лейтенантик, полковником стать не успеешь» [КСГРС], ка-
луж. драгун ‘то же’ [СРНГ 8: 169]68.
Близость этнической и военной моделей демонстрирует случай
их пересечения в обозначении другого вредоносного насекомого —
клопа Pyrrhocoris apterus, который в украинском языке получает на-
звание москаль при москаль, московец ‘прозвище солдата русской ар-
мии’ [Гринченко 2: 447]; ср. также блр. маскалъ, мыскалъ ‘мотылек
Libellula’, для которого обнаруживаются параллели в словац. zanddr,
польск. szandar ‘то же’ [ЭСБМ 6: 246]69. Можно предполагать, что
сходные мотивы реализуются в рус. влг. фараон, фараеон ‘большой
черный таракан’ — «Сколько фаравоноу напоузло, их не выживешь.
Фаравоноу-то звали прусские тараканы» [КСГРС], ср. просторен, фа-
раон ‘презрительная кличка полицейского’ 70. Возможно, в качестве
культурно-языковой параллели, поддерживающей «военную» моти-
вировку наименования таракана фараон, следует рассматривать фак-
ты соотнесения образа фараона и близких тараканам «гадов» — лягу-
шек: согласно русской легенде, войско фараона, преследовавшее ев-
реев, превратилось в лягушек, отчего их называют фараонами [Гура
1997: 381]; ср. также свидетельство о том, что на Вологодчине лягу-
шек считали фараоновым войском [Власова: 331-332]71. Образам
68 Ср. также номенклатурные «военные» обозначения других насекомых:
клоп-солдатик, муравей-легионер [СНЖ: 92, 293]. Любопытны и «армейские»
наименования блох: рус. кавалерия, конное войско, возможно не без влияния
нем. braune Husaren, schwarze Dragoner, Schwarzreiter, Schutztruppe, которые
соотносятся с западноевропейскими блошиными аттракционами, где блохи
обычно изображали военные действия [СД 1: 197].
69 Дополнительным мотивирующим звеном можно считать признак
красного цвета (цвет головных уборов солдат русской армии), ср. также блр.
маскалъ ‘подосиновик’ [ЭСБМ 6: 246], рус. перм. москаль ‘гриб-боровик’
[СРНГ 18: 284] (у этих грибов шляпка красного или коричневого цвета).
70 Слово фараон, наряду с созвучной лексемой фармазон, также исполь-
зуется как бранное, ср. фараон ‘бранно’ — «Вот наился, настоящий фармазон
да фараон» [СРГК 6: 678].
71 Отметим также, что в некоторых европейских языках фиксируется
связь «фараонов» и «цыган», ср. словац. диал. farahun ‘ругательство в адрес
Культурные коды и культурный текст
453
инородца и чужеземного захватчика близок образ пришельца, гостя.
Восприятие таракана как гостя отражено в рус. влг. постоялец ‘тара-
кан’ [КСГРС]72.
Иначе в плане мотивации выстраиваются ряды параллелей в сфе-
ре метеорологической лексики, точнее — при обозначении сезонных
потеплений. Осеннее и зимнее потепление трактуется как «ненастоя-
щее» лето или «неправильная» зима, что выражается с помощью об-
разов инородцев, ср. болг. циганско лято, серб, циганско лето, англ.
Indian summer и др. «Субститутом» инородца может стать «баба» или
«бедняк», ср. рус. литер, бабье лето, польск. babie lato, литов. ЪоЪц
vasara («бабье лето»), нем. Altweibersommer («старушечье лето»),
венг. venasszonyok пуага («старушечье лето») [Журавлев 20056: 726]),
болг. сиромашко («бедняцкое») лято [ФРБЕ 2: 498]). Близкий образу
бедняка образ сироты или пасынка тоже может «примеряться» к цы-
гану 73 и попадать в метеорологический регистр, ср. рус. арх. Осеннее
тепло что сиротское {цыганское) счастье [ЭМТЭ], укр. Так же сон-
це {ociuuc) ceimumb, як Цигана мати жалуе [Номис: 13] (ср. также
укр. 31мне сонце як мачушине серце*, 31мнос тепло як мачушино добро
[Там же])74. По этой же логике цыганская зима «уравнивается» с си-
высокомерного человека, фараон’, ‘цыган’, венг.уагао ‘фараон; цыган’ и др.
[Кралик 2006: 166], которая основана на представлении о «египетском» про-
исхождении цыган. Такая связь могла бы дать иные возможности интерпре-
тации «фараоновых» номинаций. Однако в русском языке эти мотивы, ка-
жется, не отмечены, поэтому, восстанавливая смысловую цепочку, которая
привела к появлению слова фараон ‘таракан’, мы считаем более правдопо-
добным отталкиваться от фараон ‘полицейский’. Подробный анализ образа
фараона в русской языковой традиции, который, возможно, даст читателю
иные возможности для интерпретации представленных здесь фактов, см. в
[Черепанова 2005: 109-116].
72 Ср. также диалог, сопровождающий магический способ изведения
тараканов путем передачи их кому-либо: курск. «Увайдешь в гости и ска-
жешь: — „Здравствуйте. Ждали гостей?“ — А сам прусаков держишь. —
„Ждали, добро пожаловать44, — ответят хозяева. — „Гости ваши. Возами во-
зите, лопатами грябите44. Пустишь прусаков либо тараканов, а сама верть ко
двору: оставайтесь, дескать, там» [Гура 1997: 428]. Чтобы избавиться от та-
раканов, в Полесье их, как гостей, «угощали» борщом: «Варят три раза борщ,
плеснут три раза на тараканов со словами: „Э, я вас угощу!“» [БДПА: Рад-
чицк Столинск. р-на Брестск. обл.].
73 Ср., кстати, болг. циганйа ‘бедность, нищенство’ [БД IX: 337].
74 К сходным выводам приходит польская исследовательница В. Драбик,
указывающая, что наименования бабьего лета являются примерами обозна-
454
Раздел IV
ротской, ср. рус. литер, сиротская зима ‘теплая, без больших морозов
зима’75. Параллелизм инородцев и сирот проявляется также при номи-
нации физиологических явлений, связанных с метеорологическими: рус.
чухарики пошли ‘о мурашках по коже’, цыганский пот ‘озноб, дрожь от
холода’ = рус. юж. сироты ‘дрожь, мурашки от холода, озноба, страха’
[СРНГ 37: 351], блр. cipombi noycmaeaai ‘о сильном страхе’ [ТС 5: 36],
польск. sieroty ‘мурашки по коже от озноба’ [SW VI: 108].
Ср. другие примеры: рус. арх. татарский узел ‘способ завязыва-
ния узла, при котором конец веревки идет в петлю с другой стороны,
чем обычно, при завязывании так называемого русского узла" = бабий
узел [СГРС 1: 28]; рус. сарат. мордовское солнышко, Краснодар, цы-
ганское солнце ‘луна’ = медвежье солнце [Даль2 II: 312]; жарг. волчье
солнышко [БСЖ: 553] = жарг. бурлацкое солнце [БСЖ: 553]; рус. вят-
ские баню топят = арх. черти баню топят = влг. зайцы баню топят
‘о тумане’ [КСГРС], рус. чудь удавилась, блр. цыганъсю дож, жы-
doycKi дождж ‘дождь при солнце’ = блр. чорт жынку 6je [Азим-Заде
1979: 156] = рус. влг. лисья погода [КСГРС]; рус. свиный дождь, укр.
медведичий дошч, укр. пташний дошч, болг. магарешкия («ослиный»)
дъжд, лисица се жени [Кондратенко: 93-96], полес. зартчковы] дож,
за]цэв дошт* [Азим-Заде 1979: 156], ср. также рус. арх. беличья ча-
хотка ‘о мелком моросящем дожде’ [КСГРС], рус. вишенье еврейское
‘растение Physalis Alkekengi’ = песьи вишни [Анненков: 250-251]; нем.
Zigeunerlauch («цыганский лук») ‘растение черемша’ = Barenlauch («мед-
вежий лук») [Анненков: 24]; рус. татарское мыло ‘растение Saponaria
officinalis’ = кукушкино мыло = собачье мыло [Анненков: 315-316];
нем. Englischleder («английская кожа») ‘молескин, грубая ткань’ [ABBYY
Lingvo 11] = рус. просторен, чертова кожа; чеш. пётеска петое ‘не-
держание мочи’, словац. та петса ‘о поносе’ ~ рус. просторен, мед-
чения «явлений природы по аналогии с социальными отношениями, а именно:
нетипичная для того или иного сезона погода соответствует слабому полу (ба-
бий), неполному возрасту или росту (малый), неполноправному статусу (бед-
ный, сиротский, чужой — цыганский или индейский)» [Драбик 2004: 476].
75 Есть и другие примеры «сиротской» метеорологии: рус. амур, сироты
плачут, заплачут ‘о дожде при солнце’, ‘о мелком затяжном дожде’ [СРНГ 37:
348], арх. сироты плачут ‘об обильной росе’ [КСГРС], полес. cipoma плачэ
‘о грибном дожде’ [Азим-Заде 1979: 153-154]. Кстати, возникновение мотива
влаги в «сиротской» метеорологической лексике, возможно, в какой-то сте-
пени объясняется притяжением к словам с корнем сыр-, которые тоже активно
развивают метеорологические значения: рус. литер, сырая погода, укр. сира
погода, ейрово, сирость ‘сырая погода с затяжными дождями’, сира погода
‘теплая погода зимой, когда тает снег’ [Никончук: карты № 101, 115] и др.
Культурные коды и культурный текст
455
вежъя болезнь ‘понос’; рус. цыганский табак ‘гриб-дождевик’ = иван.
чёртов табак = медвежий табак, волчий гриб [Жмурко: 55]; рус.
костр. татарский чай = чертов чай ‘самогон’ [Даль IV: 598]; рус. вят-
ские приехали ‘о menses’, сестра из Краснодара приехала = жарг. крас-
ные пришли, красная армия в гости пожаловала, тетка пришла [Жу-
равлев 20056: 399] = рус. арх. гости пришли [БДКА: Лукино, Бор-Да-
выдово, Нокола-Белая Каргопольск. р-на Архангельск, обл.], блр. гости
заехали [ПЛНМ: 33] = польск. krewniprzyjechali [D^browska: 79] и мн. др.
Факты «животного» параллелизма, наиболее распространенные в сфере
фитонимов, высвечивают присущий образу инородцев признак дико-
сти, неокультуренности; линия «инородцы — баба, сирота» подчерки-
вает их социальную ущербность; оппозиция «инородцы — черт» гово-
рит о приписывании им сверхъестественных свойств76 etc. Вместе с
тем условия номинативного функционирования соответствующих слов
нивелируют эти тонкости, утверждая в качестве базы для развития зна-
чений обобщенную пейоративную семантику («аномальный», «дикий»,
«являющийся испорченной копией нормального» и др.).
Номинативные параллели можно охарактеризовать также в
лингвогенетическом плане. Если речь идет о разных диалектах одного
языка или близкородственных языках, то параллели могут быть
междиалектными и межъязыковыми. Факты вроде польск.
chinskie srebro — англ. German silver — нидерл. Russisch zilver ‘ней-
зильбер’, болг. циганско лято — англ. Indian summer ‘бабье лето’,
польск. ruski dar (dzisiaj dal, jutro odebral) («русский подарок: сегодня
дал, завтра отобрал») [Бартминьский 2005: 179] — англ. Indian giver
‘берущий обратно свой подарок’ [НБАРС 2: 228] нельзя, разумеется,
называть внутригнездовыми параллелями; это случаи мотиваци-
онной типологии.
Большую трудность в лингвогенетическом плане представляет
квалификация примеров типа рус. арх. Чухонский Лапоть ‘созвездие
Плеяды’ = фин. Venajan Virsu («русский лапоть»). Как говорилось
выше, здесь можно предполагать кальку, но техника перевода весьма
своеобразна, поскольку это калькирование с «переворачи-
ванием», «переводной бриколаж». Механизм подобного калькиро-
вания схож с техникой «антонимического» отталкивания при пере-
именованиях в сфере топонимии или антропонимии.
Иными словами, имеет место своеобразный «диалог культур» на
«языке» номинативных моделей: в языкеi появляется негативный
76 О связях между образами инородцев и животных, а также нечистой
силы см., например, в [Белова 20056: 54-59, 213-257; Benedyktowicz 2000:
125-128, 139-148, 185-186].
456
Раздел IV
ксеноним, направленный на народ2, в качестве ответного шага в язы-
ке2 создается ксеноним с тем же значением, в основу которого поло-
жено название народах.
Наиболее показательно такой номинативный диалог (точнее, пе-
ребранка) между народами реализуется на «языке» обозначений тара-
канов. Рассмотрим его подробнее. Речь идет о названиях, образован-
ных от этнонимов «немец» («пруссак», «шваб») и «славянин» («рус-
ский»), примеры см. выше. Как нами указывалось, пара «немец» —
«русский» нередко используется для номинации двух видов тарака-
нов — Blattella germanica (рыжий таракан) и Blatta orientalis (черный
таракан)77. Судя по нашему материалу (который, повторим, не явля-
ется исчерпывающим), если в каком-либо языке или диалекте фикси-
руется только один из элементов этой пары («немец» или «русский»),
то он обозначает чаще всего рыжего таракана; если же отмечаются
оба «тараканьих» этнонима, то «русским» обычно становится рыжий
таракан, а «немцем» черный (рус. прусак — русак, чеш. svdb — rus.
сербохорв. бубашеаба — бубаруса. карел, prusakka — russakka и др.),
и это вполне обосновано для наивного языкового сознания: «русский»
таракан более светлый — в соответствии с логикой восприятия антро-
пологических признаков славян.
Функционирование этой модели определяется многими разно-
родными факторами, создающими такой сложный клубок причин и
следствий, что точно восстановить номинативную историю «рус-
ско-немецкого диалога» пока не представляется возможным.
Комментируя некоторые из этих слов, этимологические словари, как
правило, ссылаются на мотивационную типологию, приводя два-три
примера, иллюстрирующие факт существования этнонимической модели
номинации насекомых. Ф. Клюге, разбирая историю нем. schwabe ‘ры-
жий таракан’, обнаруживает для этого слова параллели в новонем. russe.
рус. прусак etc. и пытается найти самое старое наименование подобного
типа, выбирая на эту роль итал. венец, название таракана sciavo («славя-
нин»)78; при этом автор отмечает: «Неясно, откуда взялся импульс для
77 О том, что эти виды тараканов нередко воспринимаются в паре, гово-
рят и другие модели их номинации. Приведем один пример: по свидетельству
сербских этимологов, в живой речи сотрудников Академии наук Сербии ры-
жий и черный тараканы различаются как «действительный член академии» и
«член-корреспондент».
78 Итальянское sciavo (schiavo) означало не только славянина, но и плен-
ного, слугу [VULI VII: 162]; оно родственно франц, esclavе и реализует час-
тотную модель «чужестранец раб» [см. Бенвенист 1995: 235-236]. Кроме
того, как указывает С. Л. Николаев (устное сообщение), в итальянских диа-
Культурные коды и культурный текст
457
этого насмешливого, оскорбительного наименования» [Kluge: 829].
Итальянское sciavo. по мнению Клюге, сыграло свою роль в истории
нем. schabe ‘таракан’: последнее соотносится с гл. schaben ‘царапать,
грызть’ и первоначально означало моль, затем короеда («тот, кто грызет,
размельчает»), перенос на таракана мог произойти под влиянием итал.
слова [Kluge: 788]. Мюллер, вслед за Паулем, отводит итальянскому сло-
ву более значительную роль в истории нем. schabe. представляя первое
непосредственным источником для второго [Muller: 329], что маловеро-
ятно. Многие этимологи отмечают возможность игровой (народно-эти-
мологической) трансформации нем. schabe в schwabe [см. Machek2: 631;
Rejzek: 646; Skok III: 425; Журавлев 20056: 652; ЭСБМ 10: 47]. После по-
явления нем. schwabe. которое было заимствовано в «тараканьем» значе-
нии во многие языки (чеш., словац., польск., сербохорв., укр., венг. и др.),
могло случиться номинативное «заражение» других этнонимов («прус-
сак», «немец», «русский»).
Для понимания того, как расширялась и развивалась эта модель
(очевидно, не во всех своих проявлениях, но хотя бы в их части), сле-
дует учитывать несколько обстоятельств.
Во-первых, этнонимические названия тараканов, функционировав-
шие в германских языках и диалектах, могли повлиять на закрепление в
энтомологической номенклатуре дихотомии Blattella germanica —
Blatta orientalis (создатель номенклатуры, Карл Линней, скорее всего
владел народными названиями этих насекомых). Эта версия подтвер-
ждается тем, что определения germanica — orientalis не несут, кажется,
точного «этиологического» смысла (такого, какой мог бы ожидаться от
номенклатурных определений, нередко указывающих на родину того
или иного вида): родина «восточного» таракана в точности неизвест-
на, он распространился по Европе и Азии с середины XVII в.; роди-
ной «немецкого» таракана считается южная Азия, откуда он попал в
умеренные страны Евразии примерно в середине XVIII в., причем в
Россию он проник и с запада, и с востока [Бей-Биенко 1950: 142, 163].
Но независимо от того, как мотивированы номенклатурные обозначе-
ния, их возникновение могло оказать обратное влияние на функцио-
нирование этнонимической модели в разных национальных языках
(особенно в их литературных вариантах): вероятно, некоторые «нем-
цы» или «русские» среди названий тараканов являются переводами
научных энтомологических терминов.
Во-вторых, большую роль сыграли сугубо «технические» факто-
ры — взаимовлияния в языковой системе. Процессы аттракции особенно
лектах из-за перехода |skl| > |skj| могла произойти контаминация историче-
ских «склава = славянина» и «свева = шваба».
458
Раздел IV
активны в данном случае постольку, поскольку «тараканья» лексика
таит существенный заряд экспрессии (а это важный стимул для народной
этимологии и языковой игры); кроме того, необходимость номинации
двух очень близких объектов (двух видов тараканов) провоцирует
номинаторов использовать похожие друг на друга имена, появившие-
ся в результате народно-этимологического или игрового притяжения.
Помимо уже описанной аттракции нем. schabe — schwabe. следует
указать на игру сочетаниями |prus| — |rus| (рус. прусский — русский,
прусак — русак, румын, rus — prus. карел, russakka — prusakka и т. п.),
|prus| — |pers| (польск. prusak — persak). а также на притяжение слов с
внутренней формой «русский» («прусский») и «рыжий, русый, крас-
ный». Последнее поддерживается реальным цветовым признаком,
присущим объекту номинации, ср., например, карельский (ливв.) кон-
текст, сталкивающий фонетически близкие «тараканью» и «цветовую»
лексемы: brusakkua ruskenah kihizow («рыжие тараканы кишмя кишат»,
при brusakku ‘прусак’, ruskenah ‘(нареч.) красно’) [СКЯ-Макаров: 318].
Ср. также замечание М. Сноя о том, что словен. rus ‘таракан’ — из-за
аттракции к омонимичному цветообозначению rus — может пони-
маться как «рыжий» [Snoj: 634]. Не исключено и то, что цветовая мо-
тивация в некоторых случаях могла быть первичной, а этническая —
вторичной. По мнению М. Белетич и Я. Влаич-Попович, сербские назва-
ния тараканов рус и бубаруса мотивированы именно цветовым при-
знаком (образованы от сербохорв. рус ‘рыжий’), ср. другие цветовые
названия насекомых типа црна буба. зелена буба. бубазлата [устное
сообщение].
В-третьих, нельзя не учитывать факторы «вертикального контек-
ста» — социокультурный фон, национально-психологические стерео-
типы, которые с необходимостью отражаются в номинативной дея-
тельности. В данном случае речь идет о сложных взаимоотношениях
славянского и немецкого мира, которые проявились, в частности, в
ходе Семилетней войны, проходившей примерно в то время, когда
Россия познакомилась с рыжим тараканом (середина XVIII в.). Этим,
очевидно, объясняется широко распространенная легенда о том, что
таракан был занесен в Россию возвращающейся из Германии русской
армией [см., в частности, Бей-Биенко 1950: 163]79 и стал, таким обра-
зом, одним из военных «трофеев». «Легендарный» характер этой вер-
сии происхождения русского таракана понятен: колонизация обшир-
ной территории насекомым не могла произойти в краткий период
79 Аналогично объясняется появление в польском языке «тараканьего»
слова francus. которое считается обязанным своим происхождением пере-
движению войск [D^browska: 40].
Культурные коды и культурный текст
459
времени (хотя миграции больших групп людей, сопровождающие во-
енные действия, катализируют распространение насекомых-парази-
тов); кроме того, источники говорят о том, что процесс «заселения»
России тараканом шел как с запада, так и с востока. Для нас в данном
случае важны, разумеется, не столько перипетии биологической жизни
насекомых, сколько обстоятельства, способствующие сопряжению их
образов с образами этнических соседей (антагонизм славяно-немецких
отношений, самым ярким проявлением которого были войны). Кроме
социально-политического фона, являющегося глубинным «субстра-
том» номинативных процессов, в номинациях отражаются также кон-
кретные составляющие этнических стереотипов (к примеру, рыжие
усы прусского солдата).
Подчеркнем еще раз: подлинную историю «славяно-немецкой»
модели номинации тараканов вряд ли можно реконструировать, но
эта модель впитывает в себя так много разноплановых номинативных
импульсов, что недопустимо сводить биографию всех тараканьих на-
званий такого рода во всех европейских языках и диалектах к какой-то
одной стартовой точке, одному исходному наименованию (например,
к нем. schabe, переосмысляемому в schwabe, или итал. sciavo), от ко-
торого затем по законам отталкивания и притяжения отпочковались
остальные «славяне» и «немцы». «Центробежный» механизм здесь,
конечно, работал, но его действие не было всеобъемлющим, ибо фак-
ты мотивационной типологии (в первую очередь наличие разнообраз-
ных этнических номинаций тараканов и других вредных насекомых
вне славяно-немецкой модели) говорят о том, что некоторые компо-
ненты модели могли появиться независимо друг от друга и втянуться
в разворачивающийся «спор народов».
Мы осуществили подробный экскурс в историю одной номинатив-
ной модели, поскольку нам важно было показать, в чем состоят труд-
ности при выяснении причин параллелизма моделей. Каждый кон-
кретный случай требует специального анализа всего комплекса фак-
торов, которые определяют характер сходства между мотивационны-
ми параллелями (генетический, контактный, типологический).
6. Наличие связей между собственно языковой семан-
тикой и внеязыковой символикой. Языковые модели нахо-
дят продолжение на уровне культурной символики, представленной в
фольклорных текстах, ритуалах и верованиях (некоторые из примеров
кратко были представлены выше)80.
80 Здесь мы не говорим о тех связях, которые существуют вне традици-
онной культуры — в культуре «книжной», однако это не значит, что их нет.
Один пример: как показал английский литературовед Холлингсвёрт, колонии
460
Раздел IV
Взаимодействие фактов языковой сферы и сферы культуры мо-
жет осуществляться в разных направлениях.
Во-первых, вектор взаимодействия может быть направлен от вне-
языковых форм культуры к языку. При этом самая тесная связь между
этими двумя областями реализуется в том случае, когда языковая
единица представляет собой «свернутый» культурный текст, который
полностью объясняет ее происхождение. Так, рус. влг. фразеологизм
чудской (панский) клад отрыл ‘о разбогатевшем человеке’ [КСГРС]
становится понятным на фоне легенд о том, что мифические инород-
цы (чудь и паны) хранили под землей свои сокровища (соответст-
вующие тексты см., например, в [СП: 59-63]); полесская идиома жи-
дум чути ‘о неприятном запахе’ мотивирована представлениями о
дурном запахе, исходящем от инородцев [см. Белова 2006: 191].
Более опосредованные связи наблюдаются тогда, когда культурные
контексты порождают какой-либо языковой мотив, но в языке он
по-своему перерабатывается, отдаляется от исходной культурной среды,
оказываясь связанным с теми реалиями, которые для нее не релевантны.
Так, в разных этнокультурных традициях (в том числе славянских) одной
из составляющих образа еврея является мотив крови: это навеяно пред-
ставлениями о так называемом «кровавом навете», когда евреям припи-
сывалось использование крови младенцев в процессе приготовления ма-
цы и проч, (подробнее см. [Белова 20056: 112-124]). Этот мотив оказы-
вается разными способами обозначенным в славянских диалектах, ср.
рус. яросл. жидовская кровь ‘застывшая смола’ [ЛКТЭ]81, польск. zydzia
krew ‘(шутл.) о мармеладе’ [SGO: 1085], zydowska niemoc ‘геморрой’,
укр. жидивка ‘божья коровка’. Мотивировку последнего названия, дума-
ется, помогает прояснить германская параллель — англ. Jew («еврей»)
‘маленький полевой жук (из-за того, что он выделяет кроваво-красную
или розоватую слюну, к нему обращаются, держа его на ладони: Jew.
Jew. spit blood («Еврей, еврей, слюна — кровь»))’ [EDD III: 361]. Можно
предположить, что речь здесь идет о боярышнице Aporia crataegi (или о
близком ей насекомом), которая, выходя из куколки, выделяет каплю
кроваво-красной жидкости. Иногда бабочки размножаются в массе — и
красные капли невольно обращают на себя внимание, порождая слухи
о «кровавом» дожде [Мариковский 1969: 148]. Божья коровка тоже
способна выделять капельки едкой оранжевой жидкости, похожей на
кровь, что и мотивирует укр. жидивка.
насекомых, олицетворяющие чужаков, были одной из главных метафор ев-
ропейской литературы девятнадцатого века (излагается по: [Еленевская, Фи-
алкова2005 I: 122]).
81 Параллель этому факту обнаруживается в быличке из Мазовше: одна-
жды гром ударил в еврея, и тот растекся смолой [Белова 20056: 58].
Культурные коды и культурный текст
461
Наконец, фиксируются ситуации, когда культурная «подоплека»
не позволяет найти мотивировку какой-либо конкретной языковой
единицы, но объясняет принадлежность этой единицы к определен-
ной тематической группе лексики (семантическому полю). Например,
в славянских народных верованиях инородцы оказываются связанны-
ми с азартными играми: ср., в частности, представления о том, что
«карты выдуманы жидами», им всегда везет в этой игре, из-за карточно-
го долга Иуда предал Христа [Белова 2006: 120-121]. Это представление
мотивирует наличие «инородческой» лексики в сфере карточной терми-
нологии: рус. влад. жиды ‘название одной из игр в карты’, польск. zydek
‘в игре в карты: банк, который забирает тот, кто выиграл’, исп. judio
(«еврей») ‘в карточной игре монте: фигура (король, дама, валет)’, ср.
также польск. W tym miejscu musieli zyda powiesic («в этом месте,
должно быть, жида повесили») ‘говорят, когда не идет игра в карты’.
Аналогичная связь имеется между представлением о том, что инород-
цы (особенно евреи, занимавшиеся шинкарством) являются изобрета-
телями и распространителями спиртного (см. об этом в [Белова 2006:
120]), и названиями крепких напитков: рус. костр. татарский чай
‘самогон’ [ЛКТЭ], нвсиб. москоеное вино ‘водка’ [СРНГ 18: 285], ази-
ятка ‘крепкий самогон’ [СОГ 1: 39], болг. циганско мляко ‘род вод-
ки’, чеш. zidovina ‘водка, самогон’ [PSJC VIII: 1042].
Во-вторых, некоторые мотивы параллельно разрабатываются в
языке и во внеязыковых кодах, создавая ситуацию паритета, когда
выявить вектор взаимодействия не представляется возможным (в ка-
ких-то случаях этот вектор может быть установлен при дополнительных
разысканиях, однако это не устраняет принципиальной вероятности
лингвокультурного паритета). К примеру, у «инородческих» названий
отходов при молотьбе (рус. влг. французы ‘отходы при молотьбе, не-
пригодные в корм’) фиксируются переклички в паремиологии (ср.
рус. костр. загадку о молотиле Маленький Кузя побил всех французов
[ЭМТЭ], укр. поговорку Кукглъ з пшеншц виблратд oicudie и лях1в рыати
[Номис: 20]). Другие примеры: польск. zydek ‘маленькая жестяная
лампа без стекла’ имеет параллель в полесской загадке про лампу:
Серод хатыуиситъ жыд лупатый [БДПА: Золотуха Калинковичск. р-на
Гомельск. обл.]; укр. цигани ‘подгорелые коржи" — в приговорах о
хлебе, растрескавшемся при выпечке: Цыган в печку забравши [СПП:
79], Цыган в пече исхлестал погонялкой [БДКА: Бор-Исаково Карго-
польск. р-на Архангельск, обл.]82, смол, парижчина ‘хлопчатобумаж-
82 Отметим, кстати, что связь образов цыгана и печи в какой-то мере
может наводиться притяжением цыган чугун (особенно в «чокающих» го-
ворах). Ср. блр. цыган ‘чугун’ — «Пастау цыган в п’еч» [Сцяшков1ч: 541].
462
Раздел IV
ная ткань’ [СРНГ 25: 224] — в поверье о том, что носить «бумажное»
белье — грех, ибо его «принес француз» [БВКЗ: 133].
В-третьих, широко распространены ситуации, когда вектор взаи-
модействия направлен от языка к внеязыковым кодам. В этом случае
язык сам создает культурные контексты, используя для этого имею-
щиеся в его арсенале средства — фоносимволику, аттракцию и др. К
примеру, миф о жадности («жмотстве») жителей Жемайтии (жмуди) во
многом обусловлен аттракционными процессами (ср. пск. жмуйда.
смол, жмудяга ‘скупой человек, скряга’, сарат. жмуди ‘скупые люди,
скряги’, ряз., тамб. жмутъ ‘тот, кто притесняет, обижает кого-либо,
жмот’ [СРНГ 9: 206-207], а также рус. уст. Жмудь ‘Жемайтия, Ниж-
няя Литва’, ст.-блр. жмойдъ. жмуйдъ. блр. жмудзш ‘житель Жмуди’
[Аникин СЛБ: 153; Фасмер II: 59]; об ассоциациях русских диалект-
ных слов типа жмуди ‘скряги’ с Жмудью см. в [Аникин СЛБ: 153]).
Такого рода ситуации подробно комментируются в разделе V.
Рассмотрев типологию лингвокультурных связей в сфере ксено-
нимии, приведем несколько более развернутых примеров взаимодей-
ствия языковых и внеязыковых мотивов.
Инородческая тема в наименованиях болезней (ср. примеры типа
рус. татар ‘болезнь типа чесотки’, нореега ‘лихорадка’, польск. zydowka
‘язва, короста’) на внеязыковом уровне поддерживается представле-
ниями о том, что соответствующие заболевания свойственны инород-
цам, ими «спрогнозированы»83, принесены и, по принципу симпати-
ческой магии, должны быть им же «отданы» назад. В фольклорных
текстах болезни получают инородческие эпитеты, ср. белорусский за-
говор, в котором упоминается 9 болячок щгансъких. 9 татарсъких
[ПЗам: 48]. По мнению архангельских крестьян, цыганки килы напус-
кали [ПНС: 205]. В собрании М. Номиса приводится формула, кото-
рую, по поверьям украинцев, следует выкрикнуть вслед проезжаю-
щим евреям, чтоб они забрали с собой лихорадку: Жиди. жиди!
вернщця. та в1змитъ свою ттку (лихоманку) [Номис: 20]. Происхо-
ждение ночной лихорадки жидовки, по бытующим на юге России и
Украине представлениям, объясняется так: люди сначала не знали
этой болезни, но когда Иродиаде принесли на блюде голову Иоанна
Крестителя, она от ужаса впервые затряслась в лихорадке. От нее эта
болезнь распространилась по всему свету [Белова 20056: 61]. В бело-
русском Полесье записаны заговоры от детской бессонницы с «ино-
родческими» формулами отсыла болезни: Ночницы, ночницы. Порви-
це жыдам подушки. Жыдом спаць не давайце, а мою Лёньцу спать
83 Ср. толкование сновидения: Видеть во сне цыган — к тяжелой болез-
ни [БДПА: Вышевичи Радомышльск. р-на Житомирск. обл.].
Культурные коды и культурный текст
463
давайце'. Ночницы, ночницы, на дзитятка сон наведзице. а идзице у
жыдовские ладушки, параскидайце перья [ПЗ: 70-71, №84-85]; ср.
также аналогичный украинский заговор: У git’ sobi do zydiw. ta do
paniw. w poduszky. ta w peryny; tarn warn usteleno («Уходите к жидам да
к панам, в подушки да в перины; там вам постелено») [Там же: 71].
Сходные мотивы представлены в заговорах от лишаев и бородавок:
блр. Сыходзицу, барадауки, на паноу, на жыдоу, На тых, што у ла-
душках лежацъ; Лишай-лишавына. жид-жидовына. у сэреду родыуся.
у субботу сдох [ПЗ: 211, № 349; 214, № 356]; чеш. Zidi v pdtek maso
jedi. At’ te. liseji. taky snedi («Жиды едят в пятницу мясо, пусть они и
тебя, лишай, съедят») [Вельмезова: 108, № 85, ср. также № 119, 130,
205, 275, 356]; серб. Нгъускавице... бошгьнакино, татаркино, арнаут-
кино, чивуткино («Чирей... (пусть будет) боснийкин, татаркин, ал-
банкин, еврейкин») [ПЗ: 211]. По сути, инородческий «анамнез» и со-
ответствующий локус изгнания может приобретать в заговорах любая
болезнь, особенно болезнь от сглаза, ср. обращение к «урокам» в
польском заговоре: Jakzes siq wziql <urok> z Zydziska — to idz pod
pejsiska («Если взялся <урок> от жидочка — иди ему под пейсы»)
[Kotula 1969: 86].
Иноземное происхождение приписывается в заговорах и сифили-
су, причем появление болезни датируется войной 1812 г.: «По морю
по кияну, по острову по Буяну по Можайской дороге шел францус
скверной своей силой поганой, пришел в росийскою землю он, сквер-
ной, негодной, пакосной француз со всей силуй поганой, разсеял по
всей России разные свои скверныя француския болезни и женам кро-
ви, и в ем бели и рези навел, и всем болезнь лютою и заразу нестер-
пимою» [Книголюбов: 359-360]84.
В заговорах «иноземное» происхождение могут иметь не только
болезни, но и насекомые-паразиты, ср. заговор от червей: Татарин,
татарин злодейской породы, урод из всех уродов\ Зачем, татарин,
сеешь червей у моей лошади из такого-то места! Если не выведешь,
то вырву тебя с корнем, заброшу за синюю даль, ты засохнешь, как
порошинка. Вспомнишь свою ошибку, да будет поздно [Забылин 1880:
372]. Инородцы могут «увести» насекомых с собой, ср. сюжет об изве-
дении клопов и тараканов с помощью цыган: «Пришла цыганка, а было
у меня куплено на халат маме: „Девушка, отдай мне этот матерьял на ха-
84 Благодарю А. Л. Топоркова, обратившего мое внимание на этот факт.
Данный текст не является аутентичным, поскольку представляет собой ре-
зультат полуфольклорного-полулитературного творчества Г. Д. Книголюбо-
ва. Однако он вполне характерен — и нам важна сама возможность такого
осмысления причин появления болезни.
464
Раздел IV
лат, я тебя обзолочу44. А мама сидит и говорит: „Чем обзолотишь-то?44 —
„Ой, гляди-ко, бабушка, у тебя клоп, говорит, на ноге, вот клопы да то-
роканы тут у нас. Дай кусочек мне хлеба и этот матерьял, я уйду, они
все уйдут, правда44. Я уж так жалко мне было, аж просто прослезилась...
и, правда, стали теряться, меньше, меньше, и все ушли, не бывало в до-
ме» [БДКА: Ухта Каргопольск. р-на Архангельск, обл.].
«Культурное подтверждение» имеет и связь инородцев с метео-
рологическими явлениями. Например, в Полесье считали, что если
евреи будут часто ездить через село, то пойдет дождь [Pietkiewicz
1938: 28]; на Украине говорили: «Буде дощ, бо жиди волочацця» [Но-
мис: 6]. Ср. также некоторые примеры из коллекции О. В. Беловой:
витеб. «Если вечером жиды „купютца44 в большие толпы и долго де-
лают свои „прохацки44, на другой день обязательно пойдет дождь»;
волковыск. «Jak Zydy nadto zimoju pa siele ciahajucsie, to budzie
miecielica». На Гомельщине приход первого посетителя-цыгана на
Рождество означал, что будет метель: «Цыган — плохо — завируха
буде»; в то же время евреев можно было просить молиться «о погоде»
(окрестности Пшемышля). В Гевгелии (Македония) бытовало пове-
рье, что причиной засухи является то, что цыганка родила внебрачно-
го ребенка и живым закопала его возле церкви. Инородцы могли на-
правлять или «отворачивать» градовые тучи: например, в сербской
быличке говорится о турке-тучеводителе, который направил градо-
вую тучу на село; в Полесье рассказывали о лесничем-поляке, кото-
рый умел «отворачивать» градовые тучи при помощи палки, которой
разнимают змей, когда они сплетаются в клубок [Белова 20056: 242-
243, 246; о чужаках в роли «облакопрогонников» см. еще СД 3: 452-
454]. Способность евреев вызывать дождь использовалась в магиче-
ских практиках, направленных на прекращение засухи: у еврея тайно
крали горшок, пробивали в дне дырку и бросали в колодец; обливали
евреев водой: «Коб дож пашой, главно — жида аблить» [БДПА: Ве-
ликий Бор Хойницк. р-на Гомельск. обл.; Копачи Черниговск. р-на
Киевск. обл.; Барбаров Мозырск. р-на Гомельск. обл.] и др.
Еще один пример — внеязыковые «продолжения» инородческих
мотивов в обозначениях луны (ср. рус. мордовское солнышко, англ.
Paddy's lantern и др.): в загадках месяц пасет небесное стадо, а само
пастбище называют Турецкая гора, поле Чемоханско, Италъянско,
Сиянско, Карагайское и т. п.85; по болгарским легендам, луна подня-
85 Речь идет о загадках о небе, звездах и месяце: моек. Поле Полянское,
Скотина Полянская, Пастух Лыжинскиш, арх. Поле велико Романовско, На
поле скот Оверъяновский Пасет пастух Фарафоновский', влг. На поле
Итальянском Много скота Белянского, Один пастушок — Как налитая ягод-
Культурные коды и культурный текст
465
лась высоко на небо, когда цыган захотел взять ее для освещения своего
дома; болгары говорили, что луна светит для турок; как турки «не зна-
ют ни веры, ни закона, так и луна меняется постоянно» [СД 3: 144]86.
На уровне верований поддерживаются также образы инородцев в
номинативном представлении птиц — особенно воробья, куропатки и
удода. Так, воробей у славян не пользуется почитанием и восприни-
мается как нечистая птица; он своим чириканьем выдал Христа пре-
следователям (харьк.), кричал «жив! жив!», когда Божья Матерь скрыва-
ла младенца Христа (укр.); призывал мучить распятого Христа криком
«жив! жив!» (zyw, zyw!) (рус., укр., польск.); у украинцев выбор суб-
боты как дня, наиболее благоприятного для сева, связан с уподобле-
нием воробьев евреям и с поверьем, что они вместе с евреями справ-
ляют «шабаш» (субботний отдых), а потому не причиняют вреда в
этот день [Гура 1997: 586-587; 593]; согласно украинским этиологи-
ческим легендам, воробьи произошли из козьего помета, который ев-
реи собирали в свои пуховики [Белова 20046: 193]. Запрет на упот-
ребление в пищу воробьев объясняется на Тамбовщине следующим
образом: «Съесть воробья все равно что кровь жида вкусить. Жидов-
ская кровь — это дьявольская кровь» [Поповичева 2001: 88]). Ср. также
поговорку горобш в очерет, а жиди в кучки [Номис: 20]87.
Все вышеперечисленное обнаруживает весьма жесткую системную
организацию изучаемого макрогнезда. Строгость структурных законо-
мерностей предоставляет в распоряжение исследователя дополнитель-
ные аргументы, позволяющие решать вопрос о принадлежности того или
ка [Садовников: 216-217] ит. п. Наиболее полный свод такой «небесной то-
понимии» представлен в [Юдин 2007: 58]; как указывает А. В. Юдин, не-
смотря на разнообразие заместительных номинаций подобного рода, «все
они вполне традиционно-фольклорны; совпадения с реальными топонимами
следует объяснять скорее вторичными переосмыслениями в результате варь-
ирования путешествовавшей из уст в уста по стране загадки» [Там же].
86 Отметим, кстати, что «турецкие связи» месяца могут поддерживаться
тем, что он является эмблемой ислама: ср. польск. ksiqzyc ‘эмблема веры ма-
гометанской, ислам, исламизм, магометанство’ (Walka ksi^zyca z krzyzem.
Sklqsl ksiqzyc basurmanski), ksiqzyc turecki ‘вид музыкального инструмента’
[SW2:609].
87 Кстати, слова со значением ‘еврей’ и ‘воробей’ могут быть даже но-
минативными дублетами, развивая одно и то же конкретное вторичное зна-
чение: кашуб, zeda z kogos venekac / vesekac («еврея у кого-л. выгонять, выис-
кивать») ‘гладить кого-л. по колену’ семантически тождественно vrobla z
kogos venekac / vesekac [Семенова 2006: 332].
466
Раздел IV
иного факта к сфере ксенонимов. К примеру, одна из закономерностей,
просматривающихся в нашем материале, состоит в том, что этноним,
имеющий негативные коннотации, дает дериваты не в одном, а в не-
скольких тематических регистрах, при этом «степень пейоративности»
прямо пропорциональна количеству тематических сфер, в которых
функционируют дериваты (другими словами, чем ярче и сильнее нега-
тивная экспрессия производящего слова, тем шире спектр смысловых
сфер, в которых функционируют его дериваты); более того, разные тема-
тические регистры, как было показано выше, могут «проецироваться»
друг на друга. Эти соображения позволяют, например, усомниться в воз-
можности толковать польск. w^gry (yvqgry) ‘гнойники на коже’ как дери-
ваты этнонима w^gry ‘венгры’ (такая версия предложена в [Komenda:
101]): при всей типологической достоверности и обоснованности этого
решения против него выступает отсутствие других ксенонимов среди
польских дериватов слова wqgry (последние в целом нейтральны и явля-
ются терминологическими обозначениями сортов растений, одежды,
танцев etc. [Komenda: 101-102]). В то же время слово wqgry ‘гнойники’
восходит к праслав. *Qgru и родственно рус. угри [Фасмер IV: 146-147];
форма w^gry могла возникнуть в результате формального притяжения к
этнониму (ср. суждение В. Махека о том, что чеш. uher ‘гнойник’, слу-
чайно совпавшее по форме с этнонимом (названием венгров), порождает
шутливую замену—слово mad’ar ‘гнойник на лице’ [Machek2: 666-667]).
Конечно, помимо моментов сходства, между элементами разных
структурных уровней макрогнезда есть и моменты отличий. Они про-
являются в первую очередь в неравной номинативной активности
микрогнезд, в неодинаковом соотношении экспрессии (оценки) и «ре-
альной» информации в их составе (и применительно к различным те-
матическим регистрам) etc. Так, предсказуем тот факт, что лидерами
по количеству вторичных номинаций, а также по «накалу» экспрессии
в лексике восточнославянских языков (и, возможно, целого ряда дру-
гих европейских языков) будут «цыган» и «еврей» — обозначения эт-
носов, которые на протяжении многих веков являются «чужими среди
своих» для восточных славян (см. об этом в [Белова 20056; Hertz
1988; Krekovicova 1999 и др.]). Различия касаются также выбора са-
мих объектов номинации, которые обозначаются с помощью вторич-
ных этнонимов или топонимов: в некоторых случаях отдельные языки
или диалекты обнаруживают «всплески активности» той или иной
модели. К примеру, на Русском Севере сложилась «номинативная мо-
да» на инородческие обозначения созвездий; в русском и немецком
языке особенную популярность обнаруживает ксенонимическая «та-
раканья» модель; у южных славян очень активны «цыганские» на-
именования календарных периодов, характеризующихся возвратом
Культурные коды и культурный текст
467
температур (весенняя оттепель, бабье лето) и др. Пока можно гово-
рить о причинах такой неравномерности лишь в самом гипотетичном
виде; этот вопрос — как и многие другие — требует тщательного ана-
лиза проявлений ксеномотивации в различных тематических группах
лексики, в разных языках и диалектах, что является программой даль-
нейших исследований.
4.3. «ТЕКСТ ЧЁРТА» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
И ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ*
Комплекс представлений о черте в русской языковой и культур-
ной традиции отличается исключительным богатством. Свойство
полноты и нарративная организация многих фрагментов комплекса
проецируются на такие конституирующие характеристики текста, как
целостность и связность, и позволяют говорить, как было указано
выше, о существовании не просто образа черта, но и особого «текста
черта» в русской языковой и культурной традиции. Не будучи дан-
ным в своем последовательном разворачивании, этот текст может
быть собран (хотя бы частично) по своим устойчивым элементам —
мотивам. При этом наиболее важны сквозные мотивы, которые
выводят на ключевые эпизоды текста и обеспечивают его смысло-
вую согласованность, в какой-то степени компенсируя отсутствие
формальной связности.
Смысловая структура образа может быть уподоблена се-
мантике слова. В последней, как известно, выделяются как минимум
три зоны: концептуальное ядро значения, коннотация, зона энцикло-
педической информации. Эти зоны различаются по степени значимо-
сти в формировании представлений об объекте, обозначенном словом.
В структуре образа могут быть выделены аналогичные зоны.
В базовой зоне, соответствующей концептуальному ядру значе-
ния слова, представлены мотивы-идентификаторы, которые
создают содержательный минимум, необходимый для «опознания»
образа, т. е. определения «того порога тождества, на основании кото-
рого конкретный демонологический образ может быть отнесен к тому
или иному классу персонажей» [Виноградова 2000: 16]. В случае чер-
та идентифицирующими могут служить такие характеристики внеш-
него облика, как рога или копыта, такое действие, как рытье, такой
локус, как болото.
Данный параграф написан в соавторстве с И. В. Родионовой.
468
Раздел IV
В следующей (второй по значимости) зоне располагаются мо-
тивы-коннотации. Как и соответствующее явление в сфере лек-
сической семантики, такой мотив проявляет логическую факультатив-
ность для формирования содержательного минимума (и вытекающую
отсюда избирательность, «прихотливость»), но вместе с тем высокую
степень устойчивости в разных ситуациях реализации.
Показателен, к примеру, мотив пальцев. Его логическая (поня-
тийная) ценность невелика: при антропоморфности облика черта
вполне естественно, что у него есть пальцы, но наличие пальцев не
позволяет «узнать» черта (в отличие, предположим, от рогов). В то же
время язык и внеязыковые культурные коды внимательны к этой не-
существенной детали. Чертовы пальцы встречаются в топонимии,
обозначая острые вершины или длинные полосы земли (ср., к приме-
ру, три таких топонима на территории Костромской области: поле
Чёртов Палец [Меж], камень Чёртов Палец [Галич], пок. Чёртовы
Пальцы [Ней]). В общенародной лексике чертовы пальцы — ростры
белемнитов (массивные тела моллюсков сигарообразной или булаво-
видной формы) [БСЭ 4: 417]; в говорах фиксируются также другие
значения: киров. чёртовы пальцы ‘грибы (какие?)’ [СРНГ 25: 169],
калуж. чёртов палец ‘фульгурит, камнеобразный, иногда стекловид-
ный, продолговатый, не всегда, но в большинстве случаев круглый
сплав, образуется от удара молнии в песчаной почве. Им лечат лишай
и другие кожные болезни: обводят вокруг воспаленного места и про-
износят заговор’ [КСРНГ] и др. Иногда язык, сопрягая образы черта
(беса) и пальцев, отмечает какие-то связанные с последними анома-
лии — либо у самого черта (тобол. анчутка беспалый ‘черт, дьявол,
бес; антихрист’ [СРНГ 1: 262-263]), либо у человека (бесов палец
‘шестой палец у шестопалых людей’ [СРГК 4: 376]). Причины отсут-
ствия пальца (пальцев) у черта объясняют предания, мотивирующие
название белемнита: по одной версии, черт прятался и отломил себе
палец [БДПА: Челхов Климовск, р-на Брянск, обл.], по другой, черти
в полночь бьются между собой «на куличиках» и теряют пальцы
[СОС: 987], при этом мотив драки «на кулачиках» тоже оказывается
многократно отмеченным языком (см. ниже).
Тема повреждения пальцев черта затрагивается и в сказках: они
защемляются солдатом в тисках или в перекладине (при обучении иг-
ре на скрипке) [Афанасьев НРС 3: 327-328]. Эти субъектно-объект-
ные отношения могут подвергаться инверсии — есть тексты, где, на-
оборот, черт грозит повредить пальцы человека, ср. легенду, расска-
зываемую в связи с названием растения чертогрыз ‘сивец луговой’:
«Однажды Бог спорил с чертом. Черт говорил: „Я палец перегрызу у
человека44. А Бог сказал: „Я создам такую траву, которая может выле-
Культурные коды и культурный текст
469
чить эту болезнь44. И создал ее...» [Анненков: 318; КСРНГ]. Наконец,
следует упомянуть и связанный с пальцами образ пригоршни, ладони
(ср. также отмеченный выше образ кулака): (р. Урал) чёртова при-
горшня (знач.?) — «Наша лошадь-то, видно, с чёртову пригоршню»
[КСРНГ], черт в ладоши не клепал 4рано утром’ [СНП: 80]. Возмож-
но, описанная смысловая среда проясняет и мотивировку арх. демон
'средний палец на руке’ [СГРС 3: 206].
Таким образом, мотив чертовых пальцев может считаться конно-
тативным, поскольку он, несмотря на свою логическую факультатив-
ность, многократно и вариативно реализуется в языке и фольклоре.
Единицами последнего, третьего уровня смысловой структуры
образа служат мотивы, которые можно условно назвать «энцикло-
педическими», поскольку данный уровень соответствует зоне эн-
циклопедической семантики слова. Такие мотивы не имеют устойчивой
верификации и в какой-то мере индивидуальны и случайны. К приме-
ру, в былинках, записанных сотрудниками ТЭ УрГУ на Русском Се-
вере, черт может иметь короткие ноги, одно ухо, появляться в желтой
рубашке, превращаться в гуся или бурундука и т. п. [ЭМТЭ].
С данной классификацией мотивов, в рамках которой определя-
ется их место в смысловой структуре образа, тесно взаимодействует
другая классификация, позволяющая установить место мотива в
системе субстанциональных кодов, в кодовом пространстве
культуры. В рамках этой классификации следует выделять мотивы-уни-
версалии (которые могут быть полными и неполными) и частные,
специфические мотивы.
Мотивы-универ с алии представлены в трех базовых субстан-
циональных кодах — в языковом, фольклорном и обрядовом. Каждый
из этих кодов включает в себя различные частные подсистемы (до-
пустим, в естественном языке мотив может быть реализован как в
ономастической, так и в апеллятивной номинации; во внутренней фор-
ме цельнооформленного слова и фразеологизма и т. д.). К примеру,
универсальным можно считать мотив хромоты черта. В системе языка
представлены сочетания вроде хромой черт (бес), анчутка беспятый
курск., орл., тульск. 'черт, дьявол, бес; антихрист’, пенз., сарат. 'черте-
нок, бесенок’ [СРНГ 1: 262]. В фольклорных текстах отсутствие у черта
пятки (из-за чего он хромает) объясняется: пятку откусили собаки, на-
травленные на черта Богом; откусил волк; отшибло дверью [Зеленин
ТС: 102]. На уровне обряда хромота имитируется при «зачерчивании»
(арх.) [ЭМТЭ]. Универсалии бывают неполными, проявляющимися,
условно говоря, не в трех, а в двух базовых субстанциональных кодах.
Частный мотив функционирует в рамках какого-то одного суб-
станционального кода (хотя, конечно, установить это доподлинно
470
Раздел IV
практически невозможно, поскольку трудно быть уверенным в исчер-
пывающей полноте собранного материала). К примеру, частным можно
считать мотив чертова зуба, который представлен лишь в языковом
(топонимическом) коде: г. Чертов Зуб [Парф].
Представленные классификации мотивов в значительной мере
пересекаются (допустим, идентифицирующий мотив — в силу своей
значимости — скорее всего будет универсальным, а энциклопедиче-
ский мотив с большой вероятностью будет частным), но все-таки
предлагают разноаспектное рассмотрение классифицируемых фено-
менов.
В свете этих классификаций сквозной мотив может быть опреде-
лен как идентифицирующий или коннотативный мотив,
являющийся при этом полной или неполной универ-
салией. Что может дать изучение сквозных мотивов? Во-первых, их
каталогизация, как уже говорилось, позволит выделить наиболее зна-
чимые эпизоды всего текста, способствуя его «сборке». Во-вторых,
после осуществления такой каталогизации, вероятно, появится воз-
можность оценки всей совокупности мотивов с тем, чтобы охаракте-
ризовать меру «связности» текста, согласованности его эпизодов ме-
жду собой. Это, в свою очередь, должно помочь решению третьей,
наиболее сложной задачи — генетической, предполагающей выясне-
ние происхождения фрагментов текста. В процессе работы над этими
общими проблемами может быть достигнут частный, но все-таки
очень важный результат: интерпретация отдельных фактов, непро-
зрачных при изолированном рассмотрении, которые обретают «внут-
реннюю форму», будучи включенными в ряд знаковых образований,
кодирующих сходные смыслы.
Для достижения этих целей необходимо учесть формы реа-
лизации сквозных мотивов в тексте. В тексте черта оказыва-
ются представленными следующие формы: 1) сценарий; 2) дескрип-
ция; 3) образ; 4) субститут; 5) этикетка; 6) экспрессив.
Наиболее соответствует статусу мотива как элемента текста и
наиболее прозрачен для интерпретации нарратив или сценарий.
Это такая форма реализации мотива, которая предполагает более или
менее явно выраженную интерактивную структуру, создаваемую ча-
ще всего включением в мотивный «кадр» предметной детали или ка-
кого-то партнера (это может быть партнер-объект воздействия — че-
ловек; субъект воздействия — солдат; партнер-«аналог» — баба и т. п.).
Разумеется, сценарные мотивы обычно встречаются в фольклоре;
примеры можно привести, думается, без паспортизации: черт играет в
карты без крестей; подменяет ребенка чуркой; приносит неправедное
богатство; самоубийца служит черту и мн. др.
Культурные коды и культурный текст
471
Следующая форма реализации мотива условно может быть на-
звана дескрипцией. В данном случае устойчивый содержательный
элемент не включается в какую-то развернутую актантную структуру,
а функционирует как указание на типичный признак или действие:
черт волосатый, косоглазый, остроголовый, громко хохочет, дерется,
роет, молотит и т. п. Дескрипции могут функционировать как в
фольклорном тексте, так и в системе языка, — к примеру, во внутрен-
ней форме эвфемистических наименований черта: корявый, косма-
тый, красавец хвостатый, лукавый, неумытый, поплешник, рогатый,
синий, черный шут и др. [РДС: 577].
Такая форма реализации мотива, как образ, предполагает меж-
категориальное конкретно-чувственное сопоставление различных
представлений, одним из которых в данном случае является пред-
ставление о черте: простореч. чертова кожа ‘прочная ткань блестя-
щего, обычно черного или белого цвета’, прозвище Черт — «Мужик
черный и юркой» [Леш, Вожгора], ур. Чёртовы Рога [Бел].
В основе реализации мотива-су б ститу та — механизм замены,
когда в узнаваемых «чертовых» ситуациях вместо черта в кадре появ-
ляется его «дублер». Как известно, субститутом черта, к примеру, яв-
ляется заяц, который в народных поверьях нередко наделяется демо-
ническими свойствами [Гура 1997: 186-190]. Ср. сюжеты многочис-
ленных быличек такого рода: сестра потеряла в лесу брата, долго зва-
ла, «а он выходит из лесу и говорит: „Я с зайчиком играл да ягодки
собирал44» [Черепанова 1996: 49]; бросившийся под ноги и пойман-
ный заяц становится все тяжелее и тяжелее, когда его несут к куреню,
а когда его бросают, хохочет и убегает [Гура 1997: 188]; человек
встретился с чертом в виде зайца, которого невозможно было поймать
[БДПА: Олтуш Малоритск. р-на Брестск. обл.], и т. п. Субституция
проявляется не только в тексте, но и в системе языка, обусловливая
возникновение номинативных дублетов, ср. примеры вроде влг. зайцы
баню топят (заячья баня, заячий табак) И влг. черти баню топят (чер-
това баня, чертов табак) ‘о перезревшем грибе-дождевике’ [КСГРС],
влг. зайцы пиво варят И влг. черти пиво варят ‘о тумане’ [КСГРС],
костр. зайцы портянки сушат [ЛКТЭ] // влг. черти портянки сушат
4о дожде при солнце’ [КСГРС] и др. Субституция может оборачивать-
ся декларацией тождества, ср. влг. фразеологизм походить на всех
чертей, кроме зайца ‘быть лохматым, неопрятным ит. п.’ [КСГРС].
Субституции могла предшествовать метаморфоза — превращение
участников ситуации субституции друг в друга. Однако при появле-
нии номинативных дублетов возможны и случайные подстановки.
Так, нелепо думать о метаморфозе при анализе названий гриба-дож-
девика, где наряду с заячьей баней и чертовой баней присутствуют
472
Раздел IV
также дедова, мышья, медвежья, волчья и др.: эти факты «демонстри-
руют неважность конкретного представления о животном для носителя
языка... Однако те же номинации вносят характерную черту в онома-
сиологический портрет гриба — „не предназначенный для человека44»
[Березович, Рут 2000: 34]. Конечно, повторение связи черт — заяц при
образовании различных номинативных дублетов несколько снижает
риск случайности, но роль такого повторения нельзя преувеличивать.
Следующая форма реализации мотива условно названа нами
этикеткой. Мотивы-этикетки только «намекают» на связь с тек-
стом черта, декларируют ее, подают как своего рода эмблему, но не
объясняют характер появления этой связи, зашифровывая, скрывая
промежуточные этапы, которые привели к ее возникновению. К при-
меру, арх. чертик 4плевок’ [КСГРС] не является результатом образ-
ной номинации, поскольку не предполагает разворачивания по фор-
муле «подобен черту». Рассматриваемое изолированно, это слово
лишь намечает связь черт — плевать, которая на самом деле фикси-
руется достаточно устойчиво, поскольку оказывается «подхваченной»
образным (влг. чертова слюна ‘пенистые образования на траве, появ-
ляющиеся обычно ранним утром’ [КСГРС]) и сценарным мотивами,
ср. легенды, где описывается участие черта в творении земного рельефа:
«Бог землю гладку сделал, а черт наплевал. Как он плюнет, тут и гора
вырастает»; «Черт за щеку прятал глину. Архангел донес на него. Черту
пришлось выплюнуть — образовались горы и озера» [Померанцева 1975:
128-129], а также представления о том, что картофель создан из слюны
дьявола [Белова 20046: 210], которые на языковом уровне поддержива-
ются влг. черт наплевал 4о разваренном картофеле’ [КСГРС].
Мотивы-этикетки чаще всего функционируют в системе языка,
однако встречаются и в других субстанциональных кодах. Например,
в тексте былички о пьянице, унесенном чертом, отмечается, что после
такой встречи пьяница оказывается в болоте с шишкой вместо рюмки
[РДС: 581]. Шишка становится своего рода эмблемой места, где побывал
пьяница, «гербом» черта. Закономерность появления этой эмблемы
обнаруживается при сопоставлении данного мотива-этикетки с моти-
вом-дескрипцией: черт остроголов или же имеет волосы, стоящие ды-
бом, шишом (отсюда эвфемизмы типа шиш, шишига) [СМ: 391].
Экспрессив как форма реализации мотива обладает выхоло-
щенным содержанием, в котором практически нет никакого нарра-
тивного начала, а остается только оценка, ср., к примеру, многочис-
ленные просторечные формулы вроде какого черта, черт знает где,
черт с ним и т. п.
Ниже будет представлено развернутое описание некоторых сквоз-
ных мотивов (для примера взяты различные по содержанию мотивы —
Культурные коды и культурный текст
473
предметные, признаковые, предикативные), ориентированное на вы-
явление особенностей их функционирования, а также — если воз-
можно — их генезиса.
Мотив головни, угля, сажи является, пожалуй, идентифици-
рующим для текста черта. В обрядовом коде он может функциониро-
вать как мотив-этикетка, ср. использование головни при «зачерчива-
нии»: «Да и ходили чертитца тожо, выслушают на льду-то на крестах.
В Святки-то... Надо взять сковородник88, или головешка там жганая.
Это тожо говорили што: „Черти чертитись, бесы беситись, там сатана,
уходи от меня, покажись мне мой богосуженой44... Это ходят до две-
надцати часов вот на ростаньях, крестовая дорога; по крестовой доро-
ге... Только штоб никто не слышал, не видел» [БДКА: Ухта Карго-
польск. р-на Архангельск, обл.]; «<Чем проводят круг?> Проводят
сковородником или вот головешкой. Любым огарком... Чтобы черти
в круг не зашли. Задумаешь на себя, как год проживёшь» [БДКА:
Кречетово Каргопольск. р-на Архангельск, обл.] и др. Отметим, кста-
ти, закономерность появления такого изофункционального «партне-
ра» головешки, как сковородник (см. об этом ниже). В повествова-
тельных жанрах фольклора головня, уголь и сажа функционируют как
устойчивая деталь-этикетка, являясь меткой ситуаций, связанных с
чертом: унесенные чертом некрещеные младенцы обращаются в го-
ловешку [Максимов 1994: 21]; черт носит пьяницу, после чего тот
оказывается где-нибудь в Москве под мостом с обгорелой чуркой в
руках; девушка, посаженная чертом на цепь, советует попавшему к
черту парню, чтоб он брал не деньги, а угли [РДС: 581, 594]; черти
появились ночью в грязной избе и «уголье в муцьку измяли» [СБК:
76]; мужик выдает за черта попа-прелюбодея, раздевшегося и спря-
тавшегося в сундуке с сажей [Афанасьев НРС 3: 312-313]; баба пря-
чет в короб с сажей попа, дьякона, дьячка и пономаря; когда ее муж
открыл короб, они выскочили оттуда — «настоящие черти, измазан-
ные да черные» [Афанасьев ЗРС: 107] и мн. др. Ср. также функциони-
рование этого мотива в паремиологии: Нечем черту играть, так
угольем [Снегирев: 296], Богу свечу, а черту ожиг (огарыш) [Даль
ПРН2 1:71].
Данный мотив может функционировать не только как этикетка,
но и как образ, ср. факт системы языка — чертенок 4головня из
угольной кучи или недожженная руда’ [Даль2 IV: 598], а также повто-
ряющееся в различных текстах сравнение глаз черта с углем или са-
мого черта с головней: влг. «Приблазнился цёрт на повити, цёрный,
88 Сковородник ‘крючок на длинной палке для захватывания сковороды’
[СРГК 6: 119].
474
Раздел IV
ну вот как головешка» [ЭМТЭ]; из глубоких озер можно выудить чер-
тенка вместо рыбы — «маленького и черненького, как головешка»
[РДС: 580]; глаза черта горят, как угли [Власова: 342-343] и т. п.
Наконец, фиксируется разворачивание этого мотива в сценарном
варианте, при этом сценарий может быть вторичным, ср., к примеру,
сюжет о происхождении головни (на этот раз злаковой), рассказанный
в связи с арх. овсюг. обозначающим такую головню: «В ячмене толь-
ко овсюг быват, пустой овсюг, он такой черный. Сатана этот овсюг
пускает» [КСГРС] (ср. также: Где Господь пшеницу сеет, там черт
плевелы [Даль2 IV: 597]).
Мотив головни, угля и сажи косвенно соотносится с мотивом гря-
зи, нечистоты89, который тоже весьма характерен для текста черта,
ср. только языковые факты: черт ‘о ком-либо, сильно выпачкавшем-
ся, до черноты’ [СОСВ: 199], замазаться как черт ‘об очень сильно,
дочерна измазавшемся, испачкавшемся человеке’ [СПП: 120], чертовка
‘грязнуля’ [СРГЮК: 420], черт-чертом вымазался ‘очень черен, гря-
зен’ [Михельсон II: 510], волж. чертенята ‘два бруска, связывающие
поперек перо руля’ — «После поворота лоцман кричит: очисти черте-
нят!. т. е. распутай бакштов, который цепляется за руль» [Даль2 IV:
89 Мотив грязи, нечистоты связан отношениями филиации с мотивом
нечистот (пусть будет позволителен этот каламбур), испражнений: как черт
наср... травы ‘о быстром росте сорняков’ [НОС 12: 54], чертово дерьмо
‘ядовитое растение’ [Коновалова: 208], нечем черту ср.... дак кременъем
[СПП: 143] (сходным образом происхождение больших груд камней осмыс-
ляют кашубы: «Этих камней здесь столько, как будто их дьявол наср...»
[Sychta II: 129]), черт с красным обоср...м хвостом ‘осужденный, ранее со-
стоявший членом КПСС’ [Балдаев II: 144], нечем черту ср.... и он каменеем
дристать [Дмитриев 1972: 35], богатому черт в кашу ср..., а бедному в ку-
леш — только ешь [СЭС 3:4], долго не говорит, ум копит, а изговорит, что
черт напердит [Симони II: 216]. Показательны и сказочные фамилии черте-
нят, которые солдат переписывает на бересте, — Пердунов. Дристунов и т. п.
[Зеленин ВСПГ: 384]. Ср. также представления о том, что умерший колдун
на том свете будет чертей на себе тягать ср... [БДПА: Малые Автюки Ка-
линковичск. р-на Гомельск. обл.], а также о том, как нечистая сила обходится
с не убранной со стола посудой или оставленной на ночь на прялке куделью:
«<Можно приборы, посуду оставлять на столе, когда не ешь?> Надо убирать.
По-мойму, дак надо, потому што горят <говорят>: „Ой, там оставил, там
все... биси обосс... всё!“» [БДКА: Лукино Каргопольск. р-на Архангельск,
обл.]; «Мать все говорила: „Допрядайте, девки, а то шуликин вам насер... в
куделю“. А сама шушляк <= навозную лепешку> конный положит в куделю»
[ЭИС 5: 143].
Культурные коды и культурный текст
475
598] и т. п. Наименование черта нечистый выступает по отношению к
этим представлениям и как мотивирующее, и как мотивированное (ср.
также немытик, немытый, неумытый ‘нечистый дух, черт; дьявол’
[Власова: 253]).
Если говорить о происхождении мотива головни и прочих про-
дуктов горения, то его корни, очевидно, следует искать в том ком-
плексе представлений, который связан в народном сознании с карти-
ной ада. В центре этого комплекса — представление о поджаривании
чертями грешников на сковороде (это объясняет появление в обряде
«зачерчивания» такой детали, как сковородник).
Другой предметный мотив — береста — более сложен для ин-
терпретации. В форме этикетки мотив обнаруживается в системе язы-
ка: арх. чертюга ‘берестяной поплавок’ [КСГРС] непрозрачно с точки
зрения мотивировки и, будучи рассматриваемым изолированно, не
позволяет найти связь с образом черта. «Этикеточное» функциониро-
вание мотива встречается и в бытовой обрядности: к примеру, на Рус-
ском Севере для того, чтобы разыскать пропавшую скотину, предлага-
ется пойти на перекресток дорог и бросить через плечо кусок бересты
с какими-то закорючками — «письмо лешему» [Щепанская 1992: 115],
оставить кусок бересты с непонятными линиями в дупле старого де-
рева (влг.) [ЭМТЭ], положить берестяное письмо (со специфическим
названием кабала) в поскотину, отнести на место, где потерялась ско-
тина и др. [Белова 2004а: 185; в этой же работе см. более подробное
описание данного обряда]. Береста здесь служит меткой виртуальной
ситуации контакта с чертом или лешим, но причины выбора ее на эту
роль не очень ясны (кроме той, что перед нами лесной материал, ко-
торый, очевидно, наиболее естественно использовать при общении с
нечистой силой, обитающей в лесу).
Образная форма реализации мотива встречается в идиоме как
черт на бересте (крутиться) ‘в хлопотах, в заботах’ [ФСРГС: 217].
В образной фактуре этого фразеологизма соединились представления
о подвижности, «вертлявости» чертей или бесов, их способности к
исключительно быстрому передвижению (ср.: как черт на воздухе,
воздухах (летать, носиться и пр.) ‘о ком-то, быстро передвигающем-
ся’ [СРДГ 3: 192], бесова нога ‘вертлявый, бойкий, проворный’ [Даль2
I: 158], летать как черт ‘об очень быстро, стремительно движущихся
людях, животных, птицах’ [СПП: 121], носиться, как черт на ходулях
‘быстро бегать, идти’ [НОС 12: 54], как черт с полоху (переполоху)
‘от испуга очень быстро’ [СРДГ 3: 37], литер, чёртом ‘очень быстро,
проворно, ловко’, вертеться, суетиться, метаться и т. п., как бес, бесы
и т. п.) и скорости, с которой закручивается в трубочку при попадании
в воду предварительно распаренная береста, — или же меняет свои
476
Раздел IV
формы береста горящая (вертеться, как береста (берёзка) на огне
‘жить в постоянных заботах, хлопотах’, как береста на огне ‘в посто-
янных заботах, в работе’ [ФСРГС: 11, 24]). Сходство образной основы
представлений о черте и бересте особенно наглядно проявляется в
случаях совпадения значений идиом, эксплицирующих тот и другой
образ: вертеться, как береста на огне ‘изворачиваться, юлить, хит-
рить’ = литер, вертеться, как бес (черт) перед заутреней ‘то же’. Все
это позволяет расшифровать номинацию чертюга ‘берестяной попла-
вок’: мотивирующим моментом может служить подвижность поплавка,
мелькающего над поверхностью воды, или же скорость, с которой бе-
реста закручивается в трубочку при изготовлении поплавков.
Актантная структура ситуации письма на бересте, о которой речь
шла выше, склонна к варьированию (и в том числе инверсии). Поми-
мо того варианта, когда человек адресует черту берестяное послание,
возможны следующие случаи: а) черт пишет человеку письмо на бе-
ресте, ср. в паремиологии — черт ли ему на бересте пишет! [Снеги-
рев: 107]; б) человек переписывает имена чертей на бересте, ср. си-
туацию сказки, когда солдат ловит чертей в доме, строит в шеренгу и,
принеся из лесу две «берестины», «начинает на бересте писать, пере-
писал всех чертенят», а потом «сделал им перекличку на своем бере-
сте: Пердунов, Дристунов, Загибалов, Завивалов...» [Зеленин ВСПГ:
384]; в) черт заключает с колдуном договор, который пишется кровью
на берестяном пергаменте [Власова: 357]90. В этих случаях форма
реализации мотива еле ощутимо сдвигается в сторону сценария, по-
90 При заключении таких договоров помимо бересты нередко используется
кожа, ср. рассказ о том, что мужику, который хотел наложить на себя руки, объ-
яснил старик в деревне: «Пошла бы твоя кожа им на бумагу. Пишут они на той
бумаге договоры тех, что продают чертям свои души, и подписывают своей кро-
вью, выпущенной из надреза на правом мизинце» [Максимов 1994: 16]; показа-
тельна также образная основа идиом (что) черт на коже пишет ‘о находчивом
человеке’ [НОС 12: 54], черт на коже пишет ‘о человеке проницательном,
умеющем предвидеть что-либо’, черт на шкуру не берет ‘об озорном, шаловли-
вом ребенке’ [СПП: 80]. Вообще, мотив письма, писания обладает значительной
устойчивостью в тексте черта: вертит пером, что черт хвостом [РДС: 613], но-
ситься, как черт с письмом ‘делать что-либо очень долго’ [СОСВ: 158], пишет,
как черт шестом по Неглинной [Снегирев: 323], черт ли писал, что Захар ко-
миссар [Даль ПРН2 1: 394], што писарь зробиць, сам черт не переробиц [Шейн
II: 484], ср. также укр. написав як чорт до Арефи [ССНП: 163] и др. Возможно,
мотив обязан этой устойчивостью народно-этимологической «наводке» со сто-
роны слова чертить, а также существовавшему в неграмотной народной среде
представлению о «бесовской» природе грамотности.
Культурные коды и культурный текст
Ml
скольку в большей степени просматривается субъектно-объектная орга-
низация соответствующих эпизодов: в случае этикетки человек оставля-
ет на перекрестке или в дупле бересту, которая символически замещает
адресата; здесь же и отправитель, и адресат оказываются «в кадре».
Говоря о происхождении связи черт — береста, следует при-
знать невозможность существования какого-то единственного моти-
вационного решения. Во-первых, нельзя не вспомнить функции бере-
сты как древнейшего бытового писчего материала. С появлением
культуры бумажной книги берестяная письменность вполне законо-
мерно становится таким носителем информации, который обладает
низшим статусом и по форме (т. е. качеству самого материала), и по
содержанию текстов. Отсюда вероятность появления негативных
коннотаций — в том числе связи с чертом. Во-вторых, богатый образ-
ный потенциал таит сама фактура: белый берестяной «лист» с черны-
ми точками и линиями отлично имитирует непонятные письмена При
этом важна и такая деталь, как уже упоминавшаяся «природность»
бересты, ее яркая связь с лесом — локусом нечистой силы.
В качестве аналога можно вспомнить письменный графит (или еврей-
ский камень): как известно, на полированной поверхности этой горной
породы видны фигуры, напоминающие клиновидные письмена, — со-
ответственно, с ней оказываются связанными многочисленные легенды
о нечистом, чертовом происхождении «надписей». В-третьих, значима
такая грань образа бересты, как ее динамизм. Очевидно, весь этот ком-
плекс причин и привел к появлению мотива бересты в «тексте черта».
Значительной устойчивостью обладает также мотив веревки.
Наименее прозрачными фактами можно считать идиомы черт верёв-
кин ‘бранное слово без особого смысла’, чёрт или верёвки ‘бранное
выражение’ — «Сидит, и ничего не бает. Хоть бы слово вымолвил:
черт или верёвки» [КСРНГ], мужик — Черт Иванович Веревкин [Даль
ПРН2 3: 145]. Статус особо ортодоксальных этикеток у этих фразео-
логизмов создается тем, что, во-первых, «намеки» внутренней формы
никак не проясняет выхолощенная экспрессивная семантика; во-вторых,
игровое использование ономастической (фамильной) формулы созда-
ет дополнительный маскирующий эффект. Ненамного яснее с моти-
вационной точки зрения пск. верёвочный черт ‘об обманщике, сума-
сброде ит. п.’ [СРНГ 3: 126; СПП: 80]: образ веревки здесь может
объясняться, наверное, тем, что для «оязыковления» представлений о
лжи, обмане привлекается идея плетения (связь этих двух идей в раз-
ных формах воплощения нередко фиксируется языком).
Этикеточное функционирование мотива встречается и в бытовой
обрядности, когда обвязывание веревкой, тесемкой или шнурком но-
жек стола используется как магическое средство для обнаружения
478
Раздел IV
пропавшей вещи, которая должна быть возвращена с помощью черта или
беса (к нему обращаются с соответствующим призывом): «<Не надо бы-
ло, если что-то в доме потеряется, обвязывать ножки?> У стола. Обвя-
зывали что?> Ножки... Любой тесёмкой обвязывали... <А если скотина в
лесу потеряется?> Тоже, говорят, обвязывали. И даже человек когда те-
ряется, тоже обвязывали: „Чёрт, чёрт, поиграй, да... ну, там, что потеря-
ли, дак omdaiT. — это говорили» [БДКА: Труфаново-Новоселово Карго-
польск. р-на Архангельск, обл.]; «Это ножки стола обвязывали дак чево
потеряешь да не можешь найти, так ножку обвязывают да приговарива-
ют: „Бес, бес откинь... ну чё там потеряешь44. Это уж как называется, бес
под столом сидит...» [БДКА: Ухта Каргопольск. р-на Архангельск, обл.];
ворон, черту бороду завязать 'говорится при потере какой-либо вещи,
перевязывая ножку стола ниткой или ленточкой, с просьбой: «Дедушка,
пошути-пошути да отдай!»’ [СРНГ 9: 349] и др. Это ритуальное действие
может быть вписано в общий контекст ритуалов обвязывания (опоясы-
вания), которые призваны обеспечить связь, цельность, прочность, при-
крепленность к месту [СД 1: 339], и характеризует скорее не круг пред-
ставлений о черте, а функции веревки, однако в нашем случае оно, дума-
ется, тоже должно приниматься во внимание, поскольку вновь иллюст-
рирует сопряжение двух образов — черта и веревки.
Во фразеологии и паремиологии мотив веревки может функцио-
нировать в развернутых вариантах, обладающих выраженной актант-
ной структурой: веревка становится орудием в руках чертей, которые
либо связывают ею людей (так метафорически обозначаются товари-
щеские отношения: словно черт их верёвкой связал 4 о тесной не все-
гда подходящей дружбе’ [Михельсон II: 509], их сам черт лычком
связал; словно черт их веревочкой связал [Даль ПРН2 3: 260], ср. так-
же бес верёвочкой связал 4 о тесной, неразрывной дружбе’ [Михельсон I:
89]), либо друг друга (черт черта на шею посади да ремушком при-
вяжи [СЭС 3: 132]), либо занимаются с ее помощью метрологической
деятельностью (данный образ используется для обозначения неопреде-
ленно большого расстояния до объекта или его глубины: арх., влг. черт
мерил да верёвку вырвал (сорвал), арх. черт ходил да верёвку сорвал.
арх., влг. черт мерил да верёвка сорвалась 4о неизвестном и неизме-
римом расстоянии’, арх. черт мерил да верёвки не хватило 4 об очень
глубоком месте’ [КСГРС] и т. п.; возможны также модификации в ос-
мыслении этой образной ситуации: арх. мерил километры черт с Тара-
сом. Веревка лопнула. Тарас сказал'. «Давай свяжем!». А черт сказал'.
«Давай так скажем!» 4 о том, кто говорит наобум’ [КСГРС]).
В нарративных жанрах фольклора данный мотив тоже весьма ус-
тойчив, при этом его позиция не является закрепленной. Веревки могут
вить сами черти: к примеру, маленьким чертенятам, чтоб они не шалили,
Культурные коды и культурный текст
479
предлагается давать разные виды работ — в частности, вить веревки из
песка [Черепанова 1996: 89]. В другой ситуации происходит субъектная
инверсия — веревку из песка вьет не черт, а Иван Медведка, который
объявляет чертям: «Веревки вью; хочу озеро морщить да вас, чертей,
корчить — затем, что в наших омутах живете, а руги не платите» [Афа-
насьев НРС 1: 271-272]. При повторении этого мотива веревка может
быть как свитой из песка, так и реальной; в любом случае с ее помощью
герой пугает чертей тем, что вытащит их из водоема [Там же: 267-269].
Модификация данного сюжетного хода встречается в сказке о том, как
мужик, сбросивший злую жену в глубокую яму, «начал собирать обрыв-
ки да веревки, от лаптей оборки, связал все вместе», а вместо бабы вы-
тащил чертенка [Афанасьев НРС 3: 166]. Использование веревки для по-
имки чертей указывает на апотропейные функции этого предмета, кото-
рый, по представлениям славян, помогает обезвредить нечистую силу
[СД 1: 339]; обведение водоема веревкой — один из старинных способов
колдовства, «подчиняющий» себе воду [Власова: 354].
Связь веревки и черта находит также отражение в ситуации са-
моубийства, которое «благословляется» чертом. Ср. рассказы такого
рода: девушка, привязавшая веревку, чтобы повеситься, была спасена
ангелом-хранителем, после чего услышала брань удалявшегося черта
[РДС: 596]; мужик, собиравшийся повеситься, видел во сне ухмыляв-
шегося черта с веревкой (влг.) [ЭМТЭ] и т. п. Вообще, «воздействие
нечистой силы на висельника, надевающего на себя петлю по науще-
нию или прямо с помощью дьявола, считается у славян почти повсе-
местно причиной самоубийства» [СД 1: 378].
Наконец, следует упомянуть о том, что мотив веревки оказывает-
ся тесным образом связанным с мотивом плетения, который также
устойчиво представлен в «тексте черта». Упоминается либо «собст-
венноручное» занятие черта плетением (На него лапти черт по три
года плел (не мог угодить) [Даль ПРН2 3: 453], арх. чертов плетень
[КСГРС], костр. чертова пряжа ‘мох на ели’ [ЛКТЭ]), либо помощь
черта в этом процессе (Ему черт лыки дерет, а он лапти плетет
[Даль ПРН2 1: 394]), либо любовь черта к «продуктам плетения» — в
первую очередь лаптям (Черт черта по лаптям найдет [СПП: 143],
просторен, обуть кого-нибудь в чёртовы лапти ‘ловко обмануть’;
Черт лапотки стоптал, пакалъ эту парочку собрал [СЭС 3: 61];
Чтобы сбить шпану <коренное тюремное население^ как она те-
перь стала, черту и троих лаптей сносить было мало [Козловский 1:
165]; арх. черт лаптем мерил ‘о неизвестном расстоянии’ [КСГРС];
ср. также былинку о том, как черт приходит к старику за лаптями, ко-
торые тот под горячую руку ему пообещал [Левкиевская 2000: 448].
При этом интересна очередная ситуация инверсии: любовь черта к
480
Раздел IV
лаптям может смениться страхом перед ними (черт приглашает пас-
туха в кабак, но пастуху приходится при этом скинуть лапти, так как
лапти плетутся крестиками [Власова: 354]).
Проблема происхождения мотива веревки — так же, как и в слу-
чае мотива бересты, — не имеет однозначного решения. Действие
верчения, витья является одним из наиболее мифологизированных
акциональных элементов славянской народной духовной культуры,
при этом ему приписывается целый ряд отрицательных символиче-
ских значений, которые соотносятся с «непрямым», а потому «непра-
вильным» движением; именно с *vz?z, *vwteti нередко связаны назва-
ния вредоносных демонов [Плотникова 1996: 104]. Кроме того, идея
витья коррелирует с идеей быстрого передвижения, весьма значимой
для «текста черта». Поэтому «продукты верчения» и черт на симво-
лическом уровне оказываются соотносимыми: веревка, естественно,
не может быть образным аналогом черта, но становится его символи-
ческим репрезентантом. Важна также особая роль веревки в таком
«чертовском» сценарии, как самоубийство. Наконец, следует учесть,
что «текст черта» имеет выраженную антропологическую ориента-
цию: представления о самом черте неотделимы от представлений о
способах защиты от него. Тогда значимы апотропейные функции ве-
ревки, основанные на символике связи, обвязывания.
Рассмотрев примеры сквозных мотивов, мы можем вернуться к
классификации форм реализации мотивов в тексте, чтобы уточнить ха-
рактер отношений между различными формами. Как было заметно из
предшествующего изложения, формы реализации мотивов характеризу-
ются разной степенью экспликации содержания — и, соот-
ветственно, разной степенью условности, знаковости. Эти два
параметра находятся в обратно пропорциональной зависимости: чем ме-
нее эксплицировано содержание, тем более ортодоксальным становится
связанный с ним знак. Вероятно, можно попытаться расположить раз-
личные по форме реализации мотивы на своеобразной шкале знаковости
Наименее семиотичным (а следовательно, занимающим крайнюю
«левую» позицию) является мотив-сценарий; затем следует дескрип-
ция, которая отличается от сценария, как говорилось выше, отсутст-
вием интерактивной структуры. Следующую позицию при движении
«направо» занимает образ: он может быть основан на том же призна-
ке, что и дескрипция, но выражает этот признак путем отсылки к ино-
категориальному феномену и тем самым провоцирует разнообразие
вариантов развертки образного основания. Затем следует субститут:
как и образ, он базируется на соотнесении разнокатегориальных явле-
ний, однако при образной номинации, разворачиваемой по формуле
«х подобен у», оба элемента сравнения представлены эксплицитно, а
Культурные коды и культурный текст
481
при субституции их связь может быть лишенной знакового обоснова-
ния в конкретном факте реализации; метафора может сменяться здесь
метаморфозой, которая, повторим, остается «за кадром». В то же вре-
мя далеко не все случаи субституции, как было отмечено выше, осно-
ваны на метаморфозе: появление номинативных дублетов может быть
весьма случайным, свидетельствуя в первую очередь о «памяти» зна-
ковых систем, которые стремятся сохранить устойчивую связь даже в
том случае, когда у нее нет надежного смыслового обоснования. Эти-
кетка, как и образ, а также субститут, тоже может использовать такой
смысловой субстрат, как межкатегориальные предметные связи, од-
нако в данном случае облечение их в знаковую форму приводит к по-
явлению символа, — а у знаков этого типа «пропитываемость» ин-
формации об объекте, по сравнению с образом, затруднена [Рут 1992:
28]. Этикетка является уже весьма ортодоксальным знаком, находя-
щимся на правом фланге шкалы семиотичности. На этом же фланге
занимает свою позицию экспрессив: здесь содержание хоть и не за-
шифровано, но предельно генерализовано и выпрямлено.
Данная шкала характеризует уровень синхронного функциониро-
вания знаковых образований: не следует думать, что продвижение по
ней слева направо дает удаление от некоего архетипического пред-
ставления, которое стоит за реконструируемым текстом. Так, сцена-
рий — наименее ортодоксальная с точки зрения знаковости форма
реализации мотива — может иметь вторичное происхождение, будучи
наведенным новым «прочтением» других, «более знаковых» форм
(см. ниже о мотиве «сатанинского» происхождения злаковой голов-
ни). Вообще, при наличии сквозного мотива задача реконструкции
исходного представления одновременно упрощается и усложняется
(ср. сходные проблемы при интерпретации «вечных сюжетов»). С од-
ной стороны, сквозной мотив, как уже говорилось, выводит на ключе-
вой эпизод текста-архетипа. С другой стороны, возникает некоторый
знаковый автоматизм, когда устойчивая связь может воспроизводить-
ся в известной степени машинально. Частным следствием такой ма-
шинальности являются разнообразные рокировки внутри мотива, ин-
версии субъектно-объектных отношений и т. п. Так, обычно черт тол-
кает человека к пьянству (Иван пиво пьет, а черт со стороны челом
бьет [Даль ПРН2 1: 337]), но они могут и поменяться ролями (солдат
угощает черта, тот выпивает целый штоф водки, хмелеет, начинает
плясать [Афанасьев НРС 3: 327]); баба бывает помощницей черта
(Куда черт не поспеет, туда бабу пошлет [Даль ПРН2 2: 68]), его
«аналогом» (От бабы утекай, как от черта [СЭС 3: 1], арх. чертиха
Элая баба’ [КСГРС], бабий язык-— чертово помело [Даль ПРН2 2: 194]),
«заместителем» (мужик сбрасывает злую жену в глубокую яму в лесу,
482
Раздел IV
затем решает ее вытащить и достает чертенка [Афанасьев НРС 3:
166]), а также выполняет иные, весьма разнообразные роли в «черто-
вых» ситуациях (бабы из любопытства открывают рюкзак солдата и
выпускают оттуда чертей [Афанасьев НРС 1: 275]; черт скачет на бабе
[ЭМТЭ]; черт сидит у бабы под подолом [БЭФ: 305], в святочных по-
становках баба бьет пестом черта [Б ДПА: Радчицк Сто линек, р-на
Брестск. обл.]; по совету бабы охотнику удается одурачить черта
[Афанасьев НРС 2: 149]; ср. также ворон, писать черта с бабой ‘мо-
лоть чепуху’ [СРНГ 27: 46] и др.). Рокировки и разнообразные вто-
ричные переосмысления, обусловленные нежеланием знаковых сис-
тем терять ставший привычным мотивный ход, которому может быть
найдено место в самых разнообразных и порой неожиданных «угол-
ках» текста, затрудняют генетическую атрибуцию мотива.
Особый интерес представляет явление перекрестного взаи-
модействия мотивов, которое наблюдается в тексте черта: между
мотивами, реализующимися в различных субстанциональных кодах,
обнаруживаются показательные соответствия.
Рассмотрим этот феномен на примере комплекса мотивов, груп-
пирующихся вокруг двух мотивов-доминант: мотива работы и мотива
интенсивности.
Мотив работы закономерным образом — вследствие его пре-
дикативного характера — наиболее широко и разнообразно реализу-
ется в нарративных жанрах фольклора. Черт здесь выступает пре-
имущественно как непосредственный субъект действия. Мотив может
фигурировать как в роли сюжетообразующего (ср., например, сказки
о черте, нанявшемся в работники к горшечнику [Афанасьев НРС 3:
84], кузнецу, мужику, который с его помощью обогатился [Зеленин
ВСПГ: 391, 67]), так и в роли побочного (проигравший герою в состя-
зании чертенок должен, помимо денежного откупа, прослужить у него
год в батраках [Афанасьев НРС 1: 271-272]; в глубокой яме, куда про-
валилась злая баба, сидят черти и лепят горшки [Афанасьев НРС 3:
84]). Варианты, когда черт выступает в функции «посредника», т. е.
заставляет работать человека, встречаются в сказках намного реже,
они фрагментарны и менее разнообразны: на покойном короле-греш-
нике черти на том свете возят дрова; опойца становится рабочей клячей
у черта [Афанасьев НРС 2: 123; 168-169]. В севернорусских легендах
мотив представлен рассказами о «маленьких» (чертенятах), которые
могут находиться в услужении у человека, и их следует занимать рабо-
той: «Про одну говорили, что у ей маленькие были. Покажутся в крас-
ных шапках торчками... Делать-то все помогают»; «У ворожей есь
маленькие... Им работу дают, какую хошь. Кидают работу, чтоб боль-
ше была. А не дашь работу, они тебя затерющат, жива не будешь»
Культурные коды и культурный текст
483
[Черепанова 1996: 89-90]. Мотив нашел отражение в паремиологии
{Черт дал работу, а Бог отдых [СЭС 3: 133]; Пей воду, как гусь, ешь
хлеб, как свинья, работай черт, а не я <Ванька Каин>; Где черт не
пахал, там сеять не станет [Даль ПРН2 1: 345, 461]), фразеологии
(черти на том свете будут воду возить ‘о сердитом, мрачном чело-
веке’ [СПП: 80], на роже черти горох молотили ‘шадровитый’ [Ба-
лов: 279], черти на лице горох молотили ‘о конопатом, веснушчатом
человеке’ [СПГ II: 528]). Факты лексического уровня демонстрируют
субъектно-объектную инверсию — в функции работающего выступает
человек91: чырт — «Надо бы работника нанять, чырта» [СРСГСП 3:
324], ср. также арготизм черт ‘добросовестно работающий заключен-
ный’ [БалдаевП: 143] и др. Очевидно, что в данном мотиве отразилось
представление о работе, повседневном физическом труде как явлении
«небожественном» по своей сути и происхождению — представлении,
восходящем к библейскому сюжету о грехопадении и изгнании из рая
и поддерживаемом на уровне обрядового кода и в нормах бытового
поведения (запрет на работу в праздничные и выходные дни вследст-
вие восприятия их как дней, посвященных Богу).
Вторым организующим центром рассматриваемого комплекса
является идея интенсивности, высокой степени выражен-
ности признака, которая широко и разнообразно представлена в
лексике и фразеологии. Она может сопутствовать какому-либо более
конкретному мотиву из «текста черта» — например, мотиву подвиж-
ности, быстрого передвижения (см. выше); мотиву драки
(черти ни в кулачки не бьют ‘очень далеко’; когда чёрт кулачку (ещё)
не бьёт; черти в кулачки (ещё) не били (бьют) ‘очень рано’ [ФСРГС:
217], простореч. еще черти не дерутся, не бьются (не дрались, не би-
лись) на (в) кулачки ‘очень рано’); мотиву богатства (очертеть ‘стать
богатым’ [НОС 7: 76], влг. чертовщинка ‘деньги, собранные на всякий
случай, на черный день’ [КСРНГ], денег — черт не уволочет [Подю-
ков: 70], деньги копили — чёрта купили [ПНС: 203], черти яйца несут
‘во всем удача, прибыль’ [СРДГ 3: 192], черту в казну ‘о чем-либо
пропавшем, потерянном’ [СПП: 80], черту на полати не забросить
‘очень много’ — «У нево денег — щёрту на полати не забросить»
[ДСРГСУ: 565], одного черта нет ‘об очень обеспеченном человеке:
всё есть, всего в достатке’ [СОГ 8: 91]; ср. также укр. багатий як
чорт рогатий [ССНП: 162]); мотиву глухого, отдаленного ме-
ста (простореч. к черту (к чертям) на кулички} к черту на рога) и др.
91 В результате логического продолжения данной инверсионной линии
человек становится батраком черта: Черт бессилен да батрак его силен (о чело-
веке) [Даль21: 136].
484
Раздел IV
Кроме того, данная идея эксплицируется более явно в целом ряде
генерализованных по семантике фразеологизмов экспрессивной направ-
ленности, выражающих, например, значение множества, большого
количества (чертовауйма [СРГНО: 585], чертова бездна [СРГК 1:
52], простореч. чертова (чертовская) тьма, пропасть, гибель, арх.
чертова бузна, чертей мешок [КСГРС], простореч. до черта, до пол-
черта ‘очень много; о большом количестве чего-л.’); значением не-
известности, непонятности (черт с виру ‘неизвестно кто и от-
куда’ [СБГ 3: 30], простореч. сам черт не разберет, не поймет ‘абсо-
лютно никто; при всем желании невозможно осмыслить содержание
или причины чего-л.’, черт знает что ‘что-л. неясное, непонятное’,
сам черт ногу сломит ‘полный беспорядок, неразбериха; невозможно
разобраться в чем-л., справиться с чем-л.’). Наконец, наиболее яркой
реализацией этой доминанты являются просторечные лексемы и фра-
зеологизмы, имеющие выхолощенную экспрессивную семантику (экс-
прессия не сопутствует категориальному ядру значения, а заменяет
его): чертов, чертовский ‘необычайно сильный, большой (по степени
проявления)’, до черта, до чертиков ‘до крайности, в высшей степени,
очень’, осточертеть ‘надоесть, опротиветь до крайности’ и т. п.
Происхождение этой доминанты следует, очевидно, связывать с
«эталонной» сущностью образа черта как антагониста Бога, предста-
вителя отрицательного полюса ключевой христианской оппозиции в
ее народной интерпретации. Актуальность оценки при восприятии
образа может оборачиваться на уровне языкового кода формировани-
ем генерализованной экспрессивной семантики лексических единиц.
Объединить данные мотивные доминанты в один комплекс по-
зволяет ряд мотивов, на формирование которых одновременно могли
оказать влияние как идея работы (реализующаяся в первую очередь
на текстовом уровне), так и идея интенсивности (закономерно — в
силу своей абстрактности и экспрессивности — эксплицирующаяся
прежде всего в фактах системы языка).
Интересен в этом отношении, например, присутствующий в сказ-
ках прием гиперболизации — акцент на масштабности осуще-
ствляемых чертом работ, большом о б ъ е м е (нередко назы-
ваются цифры) исходного и конечного продукта: черт, на-
нявшийся к горшечнику, требует себе сразу 40 возов глины, 10 сажен
дров и, призвав на помощь «видимо-невидимо» чертенят, за три ночи
изготавливает 40 тысяч горшков; по приказу солдата три черта наби-
рают в лесу 300 пудов смолы, тащат из пекла самый большой котел на
40 бочек; в качестве откупа солдату черти наполняют 12 подвод золо-
том: «чертенок побежал в озеро, и пошла у нечистых работа: кто ме-
шок тащит, кто два...» [Афанасьев НРС 3: 84; 2: 278, 287-288].
Культурные коды и культурный текст
485
Следует указать также на такой вариант идеи работы, как мотив
тяжелого, изнуряющего физического труда, представлен-
ный и в текстах сказок и легенд, и в лексической системе. Такого рода
труд часто связан с переноской тяжестей (чертенок нарыл два мешка
репы и «насилу тащит — ноги так и подгибаются, инда спина хру-
стит! Вот малыш тащил, тащил, невмоготу, вишь, стало, бросил меш-
ки наземь» [Афанасьев НРС 2: 206]; чертенок платит откуп, наполняя
деньгами шапку без дна, поставленную над глубокой ямой: «чертенок
носил, носил золото, сыпал-сыпал в шляпу, целый день работал»
[Афанасьев НРС 1: 271-272]; черти в аду везут на грешнике «боль-
шущий воз» дров [Там же]) либо с другими делами, требующими зна-
чительного напряжения физических сил, — с работой в поле, на ого-
роде, на лесосплаве etc., ср.: чертомелить ‘работать много, с боль-
шим усердием и напряжением’ — перм. «Отец чертомелил в поле с
утра до вечера»; ср.-урал. «Всю жись на сенокосе чертомелила»; влг. «На
лесосплаве сорок лет чертомелил» [СРГСУ 7: 27; СПГ II: 529; СРГПриб
1: 120; КСГРС], начертомелитъся ‘наработаться’ — «Начертомелилась я
нонче в огороде, ноженьки ноют» [ДСРГСУ: 339], чертоломину ломать
‘заниматься изнурительным, непосильным трудом’ — «Жили-то до со-
ветской власти трудно, чертоломину ломали: работа-та всё тяжела была»
[СПГ II: 529], как черт ‘много, тяжело, на пределе физических возмож-
ностей (работать)’ [ФСК: 33], черта в лоб колотить ‘исполнять неква-
лифицированную, черную работу’ [СРГК 6: 780] и мн. др.
«Пограничное» происхождение можно подозревать у идеи отсут-
ствия или минимальной степени представленности,
выраженности чего-либо. Она наиболее отчетливо проявлена в
ряде просторечных экспрессивных выражений: черта (с) два, черта
лысого, черта в ступе, ни черта, ни один черт, на черта кто-что-н.
(нужен, годится, сдался), ни к черту не годится; ср. диалектные
идиомы черта в кулачки не дуть ‘не догадываться, ничего не знать’
[СРГК 1: 352], арх. один черт нагольный ‘только один компонент
вместо множества необходимых’ [КСГРС]. Данный смысловой ком-
понент может интерпретироваться как связанный отношениями про-
изводное™ с обеими мотивными доминантами. При этом идея интен-
сивности могла продуцировать прямо противоположные смыслы по
логике энантиосемии. Что же касается мотива работы, то вполне ве-
роятен смысловой переход: «напряженно работать» —> «деформиро-
вать объект приложения усилий» —> «трудиться напрасно» —> «про-
пасть, исчезнуть (пустота, отсутствие, отрицание)»92. Вовлеченность
92 Семантический переход «интенсивное трудовое действие» «безре-
зультатность усилий» описан, например, в [Галинова 2000: 125]; об участии
486
Раздел IV
этой идеи в рассматриваемый комплекс подтверждается языковыми
фактами, эксплицирующими среднее звено семантической цепочки —
мотив напрасного труда. На текстовом уровне он представлен, в
частности, вариантом «длительное и бессмысленное занятие»: такого
типа «работу» дают, по поверьям, чертенятам, чтобы отвлечь их и не
дать вредить человеку. Так, знающийся с шишками (чертями) человек
посылает их в лес считать хвою; мужик, чтобы отвязаться от бесов,
накупил пряников и заставил их пересчитать; чертенят, чтобы не ша-
лили, следует заставлять собирать рассыпанное по двору льняное се-
мя, считать пеньки в лесу ит. п. [Черепанова 1996: 89-91]. В лексике
мотив представлен семой «безрезультатность затраченных усилий»:
чертомелитъ ‘работать очень много, напряженно, изо всех сил, но
без справедливого вознаграждения за труд’ [СГСЗ: 515], ‘пропивать
все, что заработано’ [СРГНО: 585], курск. чертопрудничатъ ‘выпол-
нять напрасно тяжелую работу’ [КСРНГ]; ср. также контексты: арх.
«Чертоломили всю жисть, пензии нету никакой» [КСГРС], «Без конца
он чертомелит, а сделанного не видно» [СРГСК: 328].
Таким образом, мы рассмотрели комплекс мотивов, в котором вы-
делены два организующих центра, две мотивные доминанты. Каждая из
них имеет серию автономных реализаций (преимущественно в одном из
субстанциональных кодов культуры), однако фиксируется также ряд мо-
тивных вариантов «пограничного» характера, возникших, вероятно,
вследствие взаимодействия и под перекрестным влиянием доминант.
Обнаруженные соответствия мотивов позволяют говорить об опре-
деленном параллелизме фрагментов содержания и о транскодовой фи-
лиации смыслов в рамках текста черта. В этом можно видеть аналог
морфо-семантического поля, где в процессах сближений участвуют
несколько кодов — в частности, уровни системы языка, узуальных
текстовых связей (паремии) и свободных текстовых связей (нарратив-
ные жанры фольклора).
Итак, мы представили замечания о способах классификации мо-
тивов как устойчивых элементов культурного текста, о месте в нем
сквозных мотивов, а также о возможностях изучения последних и
формах их реализации в тексте. На основе этих замечаний было осу-
ществлено описание особенностей функционирования некоторых
сквозных мотивов и высказаны предположения относительно проис-
хождения той или иной конкретной формы реализации или мотива в
образов нечистой силы в номинативном воплощении идеи исчезновения см. в
[Феоктистова 2003: 103].
Культурные коды и культурный текст
VK1
целом. Развивая эту тему, попытаемся найти магистральные
сюжетные линии, объединяющие некоторые сквозные мотивы,
связанные единством происхождения, т. е. сводимые к определенно-
му архетипу. Этот архетип может быть своего рода макросценарием,
ментальной картинкой, фрагменты которой в «рассыпанном» виде
функционируют в составе сквозных мотивов. К примеру, достаточно
определенно может быть воссоздан макросценарий «Черти в аду», ку-
да тянутся нити от многих устойчивых элементов изучаемого текста,
связанных с темой огня, горения.
Рассмотрим подробнее особенности воплощения данной темы
Она может быть представлена с разной степенью яркости. Наи-
более «сильной позицией» следует считать случаи вторичной номи-
нации (кстати, весьма немногочисленные), когда имя «черт» исполь-
зуется в переносном значении и мотив эксплицируется в семантике
лексемы, ср., например, мотив угля в номинации чертенок ‘головня
из угольной кучи или недожженная руда’. Контекстуальная представ-
ленность мотива — тоже достаточно отчетливый способ его выраже-
ния: «мотивонесущее» слово является, как правило, ключевым в тек-
сте паремии или фразеологизма, что не дает оснований сомневаться в
актуальности данной детали в комплексе представлений о черте; ср.,
например, мотив угля в пословице Нечем черту играть, так угольем.
В текстовом коде — сказках, легендах — интересующие нас мотивы в
большинстве случаев представлены в виде побочных сюжетных хо-
дов; вследствие своей периферийной роли в повествовании каждый
такой факт, взятый в отдельности, вряд ли позволит сделать вывод о
значительной устойчивости данного мотива в народном образе черта,
однако, будучи присовокупленными к языковым и паремиологиче-
ским материалам, эти факты весьма дополняют картину. Наконец, с
той же целью — как дополнительные данные — привлекаются случаи,
где мотив, связанный с «огненной» тематикой, представлен в «слабой
позиции», а на первое место выходят другие детали образа: например,
в качестве эксплицирующей мотив варки/кипения рассматривается
идиома как черт пиво варит ‘весело’ [НОС 12: 54], в которой реали-
зуются мотивы пьянства и веселья.
К данному тематическому блоку могут быть отнесены мотивы
огня и пожара; головни, угля, сажи; дыма (табачного дыма, курения
табака); дров и бересты; кипения и варки; котла; кочерги; печной тру-
бы и дымохода; ухвата (сковородника); бани и банной каменки; гор-
шечного дела; кузнечного дела. Приведем наиболее показательные
примеры реализации мотивов.
Мотив огня/пожара представлен в пословицах Черт возьми
соседа, жги огнем деревню [Даль ПРН2 2:614], Бог с рожью, а черт с
488
Раздел IV
костром [Даль ПРН2 3: 547], фразеологизме черт на примусе ‘озор-
ной, ловкий человек’ [ФСРГС: 217]. Яркой реализацией мотива может
считаться загадка о зайце Чертогон, чертогон, он и бегат, как огонь
[Садовников: № 1546], в особенности если учесть субститутивную
функцию образа зайца по отношению к образу черта. В представле-
ниях полешуков черт может иметь вид «огня с хвостом», огненного
столба, длинного языка пламени, «ходячего» огня [БДПА: Олтуш,
Мокраны Малоритск. р-на Брестск. обл., Мощенка Городнянск. р-на
Черниговск. обл., Вышевичи Радомышльск. р-на Житомирск. обл.].
Более устойчиво и разнообразно, чем мотив огня «действующе-
го», оказывается выраженным мотив «бывшего» огня, т. е. угля,
сажи, головни (подробный анализ данного мотива см. выше).
Мотив дыма представлен в загадке Черт голенаст, выгибаться
горазд <дым> [Даль ПРН2 2: 584]. В качестве его варианта можно
рассматривать мотив табачного дыма/курения табака, кото-
рый отражается в просторен, чертово зелье ‘о табаке’ [ССРЛЯ 17:
959], чертов табак ‘гриб-дождевик’; ср. пословицы: Эта мельница —
только черту табак молоть [Даль ПРН2 2: 319], Кто курит — за
тым черт шкурит, кто нюхает табачок, тэй царев мужичок;
Ну-ти-ка, бясы, чиститя носы, черт табаки принес [СЭС 3: 121-
122], пск. Бог дал людям ладану, а черт возьми да сунь заусайлово
<табак> [СРНГ 11: 135], а также легенды об активном участии черта в
создании табака [Белова 20046: 149-150, 208-209].
Мотив дров как сырья для огня и их заготовки выражен в
проанализированном нами материале менее убедительно по сравне-
нию с другими мотивами. В некоторых сказочных эпизодах черти пе-
реносят (перевозят) дрова: на покойном короле-грешнике черти везут
огромный воз дров [Афанасьев НРС 2: 123], «Церт идет, несет рудину
на плече — страшное дело» [СБК: 91]; ср. также пословицу Чем черт
не играет, а ощепками бросает [Симони 2: 216]. Заготовка дров яв-
ляется типичным действием, описываемым глаголами чертомелить и
чертоломить: арх. «Выучитесь, не будете чертоломить, это, напри-
мер, работать в лесу, деревья ворочать» [КСГРС], «Прочертомелили,
надсадили себя на этих дровах» [СРГПриб 3: 122], «Чертоломину ло-
мили, он пенья ворочает, а я копаю» [СРГК 6: 780]. Здесь же напом-
ним о таком материале для растопки, как береста (см. выше).
Мотив кипения/варки отражен в донском названии самовара
желтый бес [СРНГ 9: 118], а также — в более «слабом» варианте — в
образных выражениях: арх. черти кашу варят ‘о состоянии погоды,
когда «парит» после дождя’ [КСГРС], как черт пиво варит ‘весело’
[НОС 12: 54]; ср. также пословицу Варил черт с москалем пиво, да от
солоду отрекся [Даль ПРН2 2: 19].
Культурные коды и культурный текст
489
Мотив кочерги представлен в известных пословицах Богу све-
чу, а черту кочергу [Даль ПРН2 1: 71]; Упрямый, что лукавый', ни богу
свеча, ни черту кочерга [Даль ПРН2 1: 401]. Интересна также полес-
ская былинка о явлении черта в виде зайца, который беспокоил ночью
ребенка. Этот заяц боялся кочерги [БДПА: Оброво Ивацевичск. р-на
Брестск. обл].
Образ печи «дорисовывается» упоминанием печной трубы,
дымохода, который для черта является «каналом коммуникации»
с миром людей и с собратьями (это согласуется с общей символикой
печной трубы, которая является открытой границей, посредником между
этим и потусторонним миром [СМ: 467^468]). К примеру, в полесской
былинке черт, призывая к дому чертей со всего света, свистит в печную
трубу [БДПА: Вышевичи Радомышльск. р-на Житомирск. обл.]. В дру-
гой былинке черти уносят душу умирающего колдуна через печную тру-
бу [Там же]. В дымоход черт кидает бабе веретена для пряжи; через ды-
моход черт стремится вытянуть тех, кто не выполнил его заклятие; по
ночам черти танцуют около печной трубы, играют на скрипке и балалай-
ке [БДПА: Онисковичи Кобринск. р-на Брестск. обл., Радеж Малоритск.
р-на Брестск. обл., МощенкаГороднянск. р-на Черниговск. обл.].
Мотив котла эксплицируется, например, в гидрониме — назва-
нии омута Чёртов котел [Холм]; ср. также эпизод сказки, где по тре-
бованию героя черти тащат из пекла огромный котел со смолой [Афа-
насьев НРС 2: 278].
Среди печной утвари может быть упомянут также ухват (ско-
вородник). Соответствующий мотив обнаруживается в обрядовом
коде, в частности, в текстах, приведенных выше в связи с мотивом уг-
ля. Сковородник, наряду с углем и огарком, используется для очерчи-
вания круга при гадании: «Под Новый год, ходили, брали, раньше ну,
ухватники были. Сковородники. Брали сковородник этот, выходили в
поле и чертились: „Черти по черте, по-за кругу три чёрта, в кругу нет
никово, стань гора каменна, от востока до запада, шобы, востроголо-
вому Святку не проехать, ни протти“. Вот три раза. Только из круга
не выходить. А если выйдешь, чёрт уволокёт» [БДКА: Кречетово
Каргопольск. р-на Архангельск, обл.].
Широко представлен мотив бани/банной каменки. Баня
обладает статусом «нечистого» места, в ней проживают такие персо-
нажи, как обдериха, шишимора, шишига, банник, нечистик [БП: 236-
246; СД 1: 138-140], арх. банный чёртушко [КСГРС] ит. п. Известен
народный географический термин чертова каменка ‘каменные рос-
сыпи в горах Южной Сибири’ [Мурзаев: 613]; ‘каменные россыпи на
склонах или на плоских поверхностях гор, медленно сползающие
вниз’ [Мельхеев 1969: 116, 106]; зафиксированы топонимы: оз. Чер-
490
Раздел IV
товаБаня [Туг], г. Чертова Банька [Матвеев 1990: 160], выражение о
тумане черти баню топят (арх.) [КСГРС], а также загадка о печ-
ке-каменке: Чертова бабка (шапка) вся в заплатках [Садовников:
№ 1051 в, е], Чертова матка вся в залапках [ПНС: 219]. Кроме того, по-
вествование о появлении чертей в бане (часто на каменке) неоднократно
встречается в народных легендах и былинках, ср., например: «Баба мы-
лась в бане, а из-за каменки полезли бесы, стали ее кусать»; «Девки гада-
ли в бане, а черт забрался на каменку, взял ремень и давай их бить»;
«Парень в бане свистнул три раза, пришли черти и стали его парить»;
«Мужик ночью в бане играл в карты с чертями, выиграл деньги, которые
после превратились в листья от веника» [Черепанова 1996: 68, 72, 74].
Мотив горшечного дела обнаруживается в сказках. В одном
случае он является сюжетообразующим: черт нанимается в работу к
горшечнику и с помощью кучи чертей за три ночи делает множество
горшков [Афанасьев НРС 3: 84]; в другом носит эпизодический ха-
рактер: в сказке о злой жене баба проваливается в яму к чертям, кото-
рые в этот момент лепят горшки [Там же: 170].
Весьма значим в «тексте черта» также мотив кузнечного де-
л а. Представление о связи черта и кузнеца, кузнечного дела отражено
в пословицах Умудряет Бог слепца, а черт кузнеца [Даль ПРН2 3:
426], Одарил ее черт рукомеслом, что кузня у ней под хвостом [СПП:
143]; ср. также полесскую быличку о знахаре, который сделал так,
чтоб черт учил кузнеца ковать [БДПА: Мокраны Малоритск. р-на
Брестск. обл.]. Помимо отношений ученичества, черт и кузнец часто
вступают в отношения соперничества и вражды [СД 3: 21]. Показате-
лен также сказочный сюжет о том, как черти «перелаживают» в куз-
нице старого кузнеца в молодого (костр.) [ЭМТЭ]; идеей переплавки
в чертовой кузнице мотивировано, вероятно, и бранное выражение-«от-
сылка» к чертям на переделку — «Да пойди ты к чертям на переделку,
нехай тебя черти переделают» (дон.) [СРНГ 26: 83].
Итак, в разных «подъязыках» народной культуры встречаются изо-
лированные факты, которые сопрягают два круга представлений — о
черте и об огне. Сложив эту рассыпанную мозаику, можно попытаться
найти внутреннюю логику, формирующую данный лингвокультурный
комплекс. Стоит ли за этой знаковой «коллекцией», собранной исследо-
вателем, целостный фрагмент народной картины мира? И — в развитие
предыдущего вопроса — каков когнитивный статус этого образования?
Пытаясь ответить на эти вопросы, рассмотрим тематическую ор-
ганизацию «огненной» парадигмы (семиотического поля) в проекции
на генезис ее элементов и их связи друг с другом.
В центре, разумеется, мотивы огня/пожара и дыма, которые не
только являются базовыми для синхронной организации рассматри-
Культурные коды и культурный текст
491
ваемого комплекса, но и могут считаться исходными, толчковыми в
ретроспективе. Эти мотивы выводят на представление об огненном
аде, устойчиво связываемое в славянской народной традиции с чер-
том [СД 1: 94]. Пытаясь представить ад и разворачивающиеся там со-
бытия в виде картинки, народное сознание помещает туда котлы (ско-
вородки), где варятся (жарятся) грешники. Соответственно, в анали-
зируемом комплексе появляются такие детали, как котел и сковорода,
которые, будучи рассмотрены изолированно (к примеру, при извлече-
нии из топонима Чертов Котел), не обнаруживают видимой связи с
представлением об аде.
Следующий блок мотивов на шаг удален от описанного ядра, по-
скольку не связан непосредственно с картиной ада (этот вывод, разу-
меется, не может быть категоричным, поскольку вполне допустимо
существование текстов, где такие связи ситуативно проявятся; мы
имеем в виду лишь то, что они вряд ли будут устойчивыми). Это мо-
тивы, называющие продукты горения (уголь, сажа), материал для рас-
топки (дрова, береста), орудия, способствующие процессу растопки, и
части печи (кочерга, дымоход), процесс приготовления пищи (варка
пива и т. п.). Данные мотивы конкретизируют исходное представление,
причем характерен четко заданный ракурс такой конкретизации —
обытовление, наращивание хозяйственно значимых деталей. Такая
логика филиации мотивов соответствует принципу «человекоподо-
бия» народных представлений о черте, в соответствии с которым
портрет черта «срисовывается» с человека в его бытовом, хозяйст-
венном укладе, а деятельность черта моделирует занятия людей. По-
казательно, что в тех случаях, когда тема огня появляется в связи с
образом Бога, она ни в коей мере не подвергается бытовой разработ-
ке: «божий огонь» остается природной стихией (ср. арх., влг., ле-
нингр., олон., перм. божья милость ‘молния’ [СРНГ 3: 63]), в то вре-
мя как «чертов огонь» обязательно «окультурен».
Третий мотивный блок, куда входят мотивы табака, бани, кузне-
ца, горшечного дела, отстоит от ядра еще на один шаг, поскольку в
структуре соответствующих представлений (и в семантике слов) тема
огня играет опосредованную роль (хотя, конечно, она вполне опреде-
ленно просматривается). Эти мотивы появились в анализируемом
комплексе не только вследствие развития данной темы (как, напри-
мер, мотив котла), но и имеют дополнительные внутренние основания
для включения в «текст черта». Так, хорошо известны представления
о бане как месте контактов с нечистой силой [СД 1: 138-140]; особая
роль банной каменки тоже может быть объяснена не только наличием
у последней «огненного содержимого», но и тем, что камни могут яв-
ляться атрибутами и местом пребывания демонов [СД 2: 452]. Ср.
492
Раздел IV
также поверья о сверхъестественном происхождении кузнечного дела,
способности кузнецов к колдовству и оборотничеству, что объясняет-
ся, в частности, их контактами с чертями [СД 3: 22].
Таким образом, изучаемый мотивный комплекс не является од-
нородным ни по своей синхронной организации, ни по происхожде-
нию. Вследствие этой неоднородности данный комплекс не может
обладать психологической реальностью в сознании носителей тради-
ционной культуры. Это в значительной степени искусственный кон-
структ, играющий роль метатекста по отношению к системе реально
функционирующих языковых и культурных знаков, эксплицирующих
представления о черте. В то же время реконструкция такого метатек-
ста очень важна, поскольку обнаруживает механизмы порождения
мифа как на внеязыковом, так и языковом уровне. Исходная связь
черт ++ огонь, мотивированная представлением об опасности огнен-
ной стихии, задает вектор для дальнейшего развития, которое осуще-
ствляется как разработка сюжетной организации. Возникают вещест-
венные детали, соотносимые с темой огня (уголь, котел и т. п.), эти
детали нередко становятся атрибутами черта или трансформируются
в его качественную характеристику (черт — огонь — сажа/уголь —>
черт черный, как сажа, глаза черта горят, как угли; черт — огонь —
береста —> черт крутится, как береста на огне, черт пишет на бересте
и т. п.). «Рядоположенность» черта человеку задает включение по-
следнего в формирующийся сценарий, за счет чего определяются
объект исубъект действия (черт и человек могут меняться этими
ролями); логика метаморфозы, столь типичная для мифотворчества,
помогает найти предикат (черт превращается в головню и др.). Раз-
вернутые сюжетные структуры функционируют в фольклорном тек-
сте; что касается языка, то в его номинативной системе чаще всего
оказываются представленными результаты «сворачивания», «конден-
сации» сюжета, превращения метаморфозы в метафору или символ
(чертенок ‘головня’).
Таким образом, исходное представление, соотносящее черта и
огонь, преобразуется в набор рассыпанных по различным «подъязы-
кам» народной культуры сюжетных микрофрагментов разной суб-
станциональной природы, которые и представляют собой «живую
жизнь» мифа. Именно ими — не собирая их воедино — пользуется
носитель народной традиции. Однако в основе этих микрофрагментов
лежит некая организующая мотивная система, выполняющая по от-
ношению к ним роль метаязыка и задающая логику сборки рассыпан-
ного комплекса.
Разумеется, весь «текст черта» не может восходить к одному или
даже двум таким макросценариям. С генетической точки зрения он
Культурные коды и культурный текст 493
полицентричен, поскольку особый мифологический и аксиологиче-
ский статус черта инициирует постоянное обращение к нему новых
поколений авторов, обогащающих текст новых деталями (ср. явную
разновременность таких мотивов, как болото, лес. баба, солдат).
Кроме того, трансформация «текста черта» происходит за счет взаи-
модействия с другими текстами и за счет «технических факторов» —
разного рода притяжений, генерализации смыслов и т. п. Анализ
сквозных мотивов поможет охарактеризовать генетическую и функ-
циональную специфику данного текста.
Раздел V.
«ЯЗЫКОВОЙ МИФ»
Вопрос о взаимоотношениях языка и мифа обсуждается в языко-
знании и культурологии давно, причем одним из важнейших ра-
курсов его рассмотрения является определение направления «эстафе-
ты» этих двух знаковых систем, производности фактов одной из них
относительно другой. Известна полемика по этому поводу представи-
телей школы сравнительной мифологии (прежде всего А. Куна, М. Мюл-
лера), утверждавших, что мифология есть продукт языка, с философами
преромантизма и романтизма (например, Ф. Шеллингом, И. Гердером),
которые считали, что язык отражает «поблекшую мифологию». Со-
вмещая эти позиции, Э. Кассирер указывает, что «снова и снова...
миф обогащается благодаря языку, а язык благодаря мифу. В этом
постоянном взаимодействии и взаимном проникновении подтвержда-
ется единство духовного начала, из которого они оба происходят,
различными выражениями и ступенями которого они являются» [Кас-
сирер 1990 41]. О необходимости диалектично подходить к описанию
взаимоотношений языка и мифа говорит и Э Таплор: «...рядом с ми-
фическими идеями, в которых речь следовала за воображением, есть и
такие, в которых речь шла впереди, а воображение следовало по про-
ложенному ею пути. Оба эти действия слишком совпадают в своих
результатах, чтобы можно было вполне отделить их, но тем не менее
их следует различать, насколько это возможно» [Тайлор 1989 138]
Таким образом, связка язык <=> миф действует в ту и другую
сторону, но наиболее изученными надо признать ситуации отражения
языком мифологических представлений1 В меньшей степени иссле-
1 Яркое представление об этом позволяет получить фундаментальное иссле-
дование А. Ф. Журавлева [20056], выполненное как комментарий к важнейшему
и самому масштабному труду мифологического направления в русской гумани-
тарной науке XIX в. — книге А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян
на природу». В работе А. Ф. Журавлева выкладки его знаменитого предшествен-
ника подвергнуты ревизии с учетом того, что накоплено почта за полтора века
лингвистической наукой, и прежде всего двумя ее сферами — этимологией (осо-
бенно семантической реконструкцией) и этнолингвистикой.
«Языковой МИФ»
495
дована в современной этнолингвистике процедура творения языко-
вых мифов — таких культурных текстов и контекстов, которые
созданы самой языковой системой (или же при ее «решающем» уча-
стии) и не являются отражением действительности внеязыковой. Не
будучи мотивирован экстралингвистическими причинами, языковой
миф возникает в результате «гносеологизации» (наполнения мысли-
тельным содержанием) формальных свойств языка. Внимание к фор-
мальной стороне уводит номинатора от познания свойств объекта и
подталкивает к реализации упрощенной схемы номинативного процесса:
этап подготовки идеального (мыслительного) содержания к лексиче-
скому объективированию оказывается редуцированным, а новая еди-
ница формируется преимущественно под влиянием накопленного ра-
нее номинативного материала. В результате линия объект языко-
вая единица оказывается прочерченной более слабо — в пользу линии
«старый» номинативный материал новая языковая единица (новой
языковой единицей в данном контексте уместно считать и уже имею-
щееся в языке слово, переосмысленное в духе народной этимологии).
Ситуации такого рода уже неоднократно встречались в этой кни-
ге. Достаточно напомнить многочисленные примеры языковых мифов
о чужих народах и землях, которые можно представить в виде свое-
образных «этиологических контекстов». Ср. контекст самоеды едят
себя, который «разворачивает» результаты народно-этимологического
осмысления этнонима самоед (ведущего происхождение из саамского
источника, ср. Same-sena ‘Лапландия, страна саамов’ [Аникин ЭСС: 481]);
о достоверности такой реконструкции говорят реальные текстовые
фрагменты вроде Ядъ ихъ мясо оленье да рыба да межъ собою друг
друга ядятъ [Там же]. Другие контексты прокомментируем более
кратко (некоторые из них комментировались ранее): мордва морда-
стая'. зыръ зырит (пьянствует) 2; жиды жйдятся (жадничают); цыга-
не курят цигарки', жители Жмуди (Жемайтии) жмоты', меря мерзкая',
лопари глупы и прожорливы (лопают)3; татары тарабарят; в Пи-
тере любят пить; в Литве льет4; английское (аглицкоё) — хорошее,
2 Ср. зыритъ влг., яросл. ‘пить’, ‘пить много и жадно, взахлеб’, влг.,
олон. ‘пить что-либо хмельное, пьянствовать’, влг. зыря ‘устаревшее назва-
ние народа коми, зырянин’, ‘пьяница’ [СРНГ 12: 38-39], влг. зыряк ‘зырянин’
[КСГРС] и др.; наличие языкового мифа проявляется в влг. назыритъся. как
зыряк ‘сильно напиться’ [КСГРС].
3 Ср. арх. лопарь ‘обжора’ [КСГРС].
4 Ср., к примеру, записанные в Тверской области контексты вроде
«Литва — она все зальет» [Маслинский 2000]. Об уподоблении народа, обо-
значаемого словом Литва, дождю см. также в [Аникин СЛБ: 206; Топоров
2000: 65].
496
Раздел V
ангельское; Вавилон — где виляют; Палестину палят5; от Сиона ис-
ходит сияние6; в Гоморре стоит гам и гомон7 и т. п.
Подобная мифологизация может не приводить к перестройке
слова-стимула, а может, как неоднократно отмечалось в литературе
по народной этимологии, существенно его трансформировать — вплоть
до полной замены лексемы, ср. приводившийся выше (в параграфе 2.2,
с. 127) пример: слово еврей ‘постный суп’ возникает как закономерное
развитие аттракции жид жйдиться ‘жадничать’ <-► жидкий.
Языковые мифы относятся к той же когнитивной сфере, что и
мифы «обычные», — к сфере внеопытного, априорного, «культурно-
го» знания. В то же время наивные умозаключения типа мазелином
(< вазелином) мажут или копаткой (< лопаткой) копают, которые
тоже разворачивают результаты словесных аттракций, отражают зна-
ние «внекультурное», а потому их вряд ли целесообразно рассматри-
вать как мифы.
В какой форме существуют языковые мифы? Кон-
тексты, подобные вышеприведенным (типа в Литве льет), есть ре-
конструкт, результат исследовательской экспликации положений
языкового знания. Если такие реконструкты виртуальны, то реально
языковые мифы проявляются либо в самой языковой системе (напри-
мер, дают о себе знать трансформацией фонетического облика языко-
вой единицы, развитием переносных значений и др.), либо в фольк-
лорном тексте, либо вне речевых актов8 — в поверьях или ритуалах (в
качестве примера можно упомянуть существующую в среднеураль-
ской народной медицине практику класть ребенка, которого кочерё-
жит (мучают судороги), на кочергу или же давать ему настой капу-
стной кочерыжки [КЭИС]).
Одно из основных проявлений языкового мифотворчества вне соб-
ственно системы языка — феномен этимологической магии, проанализи-
5 Ср. комментарий информанта к названию поля Палестина — «Там все
выпалено, вот и Палестина» [Буй, Натальино].
6 Ср. многочисленные фольклорные топонимы вроде Сеян-гора, матуш-
ка Сыянъ-гора, Сиянъская гора, Осиянъская гора, которые встречаются в за-
говорах, загадках, духовных стихах [Толстая 1997: 32; Юдин 1997: 190]; по-
добные формы фиксируются и в «реальной» топонимии, ср. вологодские
оронимы Осиян ка, Осиянова Гора, Осиянная Гора, обозначающие горы, на
которых находятся церкви [Березович 2000а: 281].
7 Ср. пск. содом и гомон ‘шумное веселье’ и др. [Родионова 2000: 197],
костр. судом и гомон ‘громкие разговоры, гомон’ [ЛКТЭ].
8 При этом исходной, конечно, была вербальная ассоциация, которая,
однако, может не воспроизводиться каждый раз в речи.
«Языковой МИФ»
497
рованный Н. И. и С. М. Толстыми, ср.: «Народная этимология, имеющая
весьма ограниченное распространение в языке как таковом, приобретает
функцию одного из наиболее продуктивных приемов организации ми-
фопоэтического и ритуально-магического текста и превращается в осо-
бый вид магии, который здесь был назван этимологическим. Благодаря
этимологической магии язык оказывается неразрывно связанным с дру-
гими компонентами архаических типов культуры и мифопоэтического
сознания» [Толстой, Толстая 1988: 261]. Описывая данное явление, авто-
ры, в частности, выделяют различные ситуации взаимодействия на-
родной этимологии, текста и ритуала [Там же: 259-260]. Вслед за ра-
ботой Н. И. и С. М. Толстых в этнолингвистике стали появляться ис-
следования, в которых анализируются различные фольклорные и ри-
туальные тексты, где актуализируется принцип этимологической ма-
гии (см., в частности, [Колосова 2003: 54-60; Попов Р. 2004; Топорков
2004; Ясинская 2003 и др.]).
Конечно, далеко не всегда мотивировка, созданная по законам
языкового мифа, становится единственной мотивацией того или ино-
го лингвокультурного факта или явления. Сложность и комплекс-
ность осмысления наивным сознанием явлений действительности
обусловливает многообразие мотивационных ходов. Рассмотрим бы-
тующее на Русском Севере (арх, влг.) предписание обмывать покой-
ников, поливая тело водой надпако — через кулак, повернув кисть от
себя, или же левой рукой, т. е. наоборот [ЭМТЭ]. Это правило вполне
объяснимо в контексте широко известного в славянской народной
традиции «переключения полюсов» при контакте с миром мертвых:
прямое заменяется кривым, поступательное движение — движением
вспять и др. [СД 3: 364-367; Якушкина 2002: 168]. Как дополнитель-
ный мотивирующий момент здесь проявляется фактор языковой тех-
ники — притяжение звуковых оболочек существительного покойник и
наречия надпако (надпоко, надпока), ср. контексты, сталкивающие
эти лексемы: арх. «Наопако льют — покойников моют»; арх. «Не лей
наопока, не покойника моешь»; влг. «Ты почто наопако-то налива-
ешь? Покойник в семье будёт» [КСГРС].
Опишем предпосылки, способствующие появлению
языковых мифов. Эти предпосылки можно разделить на три
группы (с последующим делением внутри).
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
«Мифологизация», как уже отмечалось, связана с такими явле-
ниями, которые в условиях традиционной культуры оказываются не-
доступными или малодоступными рациональному, эмпирическому
498
Раздел V
познанию (разумеется, данное требование относится не только к язы-
ковым, но и ко всем другим мифам). Это могут быть сферы, находя-
щиеся вне житейского кругозора носителей традиции (например,
упомянутые выше представления о чужих народах и землях, которые
становятся особенно фантастическими в условиях моноэтничной
культуры, где сведения о других народах бытуют преимущественно в
текстах наподобие речей Феклуши в «Грозе»: «А то есть еще земля,
где все люди с песьими головами...»), области явлений с неясной
этиологией (к примеру, знания о внутренних болезнях) или же отно-
сящихся к миру иррационального (представления о нечистой силе).
Нехватка рациональных знаний при освоении этих сфер заставляет
носителей традиции компенсаторно опираться на язык как на важный
(а иногда единственный) познавательный источник.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Требования к плану выражения и внутренней форме
слова. Во-первых, языковые мифы «притягиваются» словами с вы-
раженной фоносимволикой и фоноэкспрессией. Так, негативные кон-
нотации, закрепленные в русском языке за этнонимами и топонимами
с начальным чу- (чудь, чухна (чухонцы), чукчи, Чухлома), во многом
вызваны экспрессивной выразительностью этого звукокомплекса; то
же можно сказать о причинах появления негативных коннотаций у
англ. Dutch ‘голландский’ (подробнее см. параграф 2.2, с. 128-129).
Во-вторых, шансы слова включиться в процесс «мифотворчества»
возрастают в том случае, если оно обладает богатым аттрактивным
потенциалом, т. е. его внешний облик не уникален, а, наоборот, стан-
дартен и схож со звуковыми оболочками максимально большого чис-
ла омонимичных или паронимичных слов. К примеру, имя св. Власа
(Уласа, Волосин и др.) может соотноситься у восточных славян как с
волосом, так и с названием зверя ласки, а также со словами масло и
ласый ‘лакомый до чего-либо’, что порождает соответствующие
предписания и паремии [Агапкина 2002: 201-202; Ясинская 2003: 6-7];
название праздника русалии у болгар испытывает аттракцию к лексемам
росен ‘название цветка’, ‘росистый’, роса ‘роса’,реся ‘сережка, цветок’
и т. д. [Агапкина 2002: 356]. В-третьих, языковые мифы нередко появля-
ются в связи со словами, содержащими метафору. Большое смысловое
расстояние между внутренней формой и семантикой метафоричного
слова определяет возможности разнообразного прочтения метафоры, в
том числе мифологического. Самый распространенный вариант мифоло-
гической интерпретации метафоры — «событийная» («этиологическая»)
трактовка отношений между кодирующим и кодируемым элементами
«Языковой МИФ»
499
(в то время как исходная номинация могла подразумевать, к примеру,
внешнее или функциональное сходство между реалиями). Так, ши-
роко распространенные названия растений (в первую очередь зверобоя),
образованные от слов со значением ‘кровь’ (рус. кровавик, кровяни-
ца, укр. кр1вця, блр. крываушк, чеш. krewnicek и т. п. [см. Анненков:
172-173; Колосова 2003: 23]), имеющих кроваво-красные цветки или
же выделяющих красный сок9, переосмысляются в связи с легендами
о смерти (убийстве) какого-либо персонажа: рус. костр. кровавик —
«Девка парню изменила, а он её убил в лесу. Кровь-от в цветы обра-
тилась, назвали кровавик» [ЛКТЭ; другие примеры см. в Колосо-
ва 2003:24].
Требования к плану содержания. Следуя логике
смысловой компенсации, языковой миф появляется преимуществен-
но в связи с теми словами, которым присуща в той или иной мере
понятийная недостаточность. Формы проявления такой недостаточ-
ности разнообразны. Она может наблюдаться у «свежих» заимство-
ваний, смысловой потенциал которых еще не освоен носителями
языка; у слов с диффузной семантикой, колеблющейся от видового
значения к родовому или же «скользящей» по разным видовым зна-
чениям; у имен собственных или же апеллятивных производных от
них; у экспрессивных слов, имеющих слабое рациональное ядро
значения, и др.
Фактор системы (системного «умножения»). Языко-
вой миф обращен к языковой технике, которую он наполняет позна-
вательным содержанием, поэтому творение мифов, как говорилось
выше, облегчает для субъекта номинации схему номинативного про-
цесса. Номинатор не отыскивает во внеязыковой действительности
когнитивное обоснование для данной номинации и каждой после-
дующей, а, наоборот, «приписывает» действительности те свойства,
которые подсказала языковая система. Иначе говоря, недостаточность
познания свойств объекта компенсируется активной работой самой
языковой системы. Ее технические приемы (скольжение по ассоциа-
тивно-вербальной сети, рифмовка и др.) расковываются, а потому
легко мультиплицируются, давая номинатору возможность механиче-
ски расширять единожды найденную номинативную модель. Много-
численные подтверждения этому можно найти в практике создания
топонимических легенд, когда целый ряд топонимов, обозначающих
смежные объекты, оказывается объединенным каким-либо языковым
9 Еще один вариант прочтения внутренней формы, отражающий крово-
останавливающие свойства растения, не является метафорическим и потому
в данном контексте не принимается во внимание.
500
Раздел V
мифом, ср. легенды вокруг названий деревень Лешуконского района
Архангельской области: под д. Чучепала «чудь пала», о чем свиде-
тельствует и название находящегося рядом ур. Крово', о накале военных
действий говорит и наименование д. Резя, под которой произошла рез-
ня, а также д. Каращелъе, где карали пленников; в д. Русома был лагерь
сражавшихся с чудью русских (новгородцев), а в д. Чуласа — чуди',
в д. Олема новгородцы молились о победе над чудью [Березович 2000а:
464; см. также примеры на с. 448^49].
ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Мифотворчество чаще всего оказывается вызванным к жизни
этиологической установкой — стремлением носителя языка вы-
яснить происхождение тех или иных слов, за которыми стоит история
явлений и феноменов окружающей действительности. В каждой от-
дельной ситуации эта этиологическая установка может конкретизиро-
ваться. Например, при восприятии системы географических названий
какой-либо территории субъект речи пытается вычитать из корпуса
названий историю заселения этих мест. Другая установка — маги-
ческая — предполагает стремление носителя языка «перевести сло-
во в дело», вычитать из языковой единицы рекомендации к осуществ-
лению практических действий. Так строятся многие рецепты народ-
ной медицины, извлекаемые из самих названий болезней, или же дей-
ствия календарной обрядности, источником для которых нередко слу-
жат хрононимы (ср. многочисленные примеры вроде предписания
варить ритуальную кашу на день св. Варвары или же сажать лук в
день св. Луки [Ясинская 2003]).
В тех случаях, когда названные факторы выступают в своем воз-
можно более полном сочетании, мифологизация активизируется и
может «захватывать» целые лексические подсистемы. Ниже будут
подробно рассмотрены три очень разные сферы лексики, в рамках ко-
торых мифотворчество проявилось особенно ярко. Во-первых, это
лексика народной медицины, а именно номинативная серия, связан-
ная с обозначением глазной болезни ячмень (параграф 5.1);
во-вторых, семантико-словообразовательное гнездо на базе собствен-
ного имени (на примере имени Афанасий) (параграф 5.2); в-третьих,
географические названия, на основе которых создаются топонимиче-
ские предания (параграф 5.3). В каждом из этих случаев создание
языкового мифа обусловлено своим комплексом причин, а сам миф
имеет свои характерные формы проявления, что и будет интересовать
нас в ходе анализа.
«Языковой МИФ»
501
5.1. РУССКИЕ НАРОДНЫЕ НАЗВАНИЯ
ГЛАЗНОЙ БОЛЕЗНИ ЯЧМЕНЬ
Русские говоры, кажется, с преувеличенным вниманием относят-
ся к такому относительно легкому заболеванию, как глазной ячмень
(hordeolum). Это проявляется в существовании обширной парадигмы
его наименований: таким номинативным богатством — а подчас и
единственным обозначением в дифференциальной лексической сис-
теме диалекта — не могут «похвастаться» значительно более серьез-
ные и тяжелые по последствиям недуги. Выяснение причин такого
асимметричного заполнения языком «медицинской карты» человека
может стать предметом отдельного исследования, сейчас же отметим
лишь одну причину, лежащую на поверхности: ячмень является
глазным (и видимым глазом) заболеванием — и логика мифологи-
ческого мышления подсказывает; что возникает оно вследствие сглаза,
отсюда особое внимание к этой болезни в народной медицинской об-
рядности, которое отражается и в языке.
Обширный ряд наименований глазного ячменя дает прекрасный
повод для наблюдений над возможностями проявления этимологиче-
ской магии.
Рассмотрим ономасиологически первичные русские названия
hordeolum — т. е. наименования, которые появились для обозначения
именно этого заболевания, а не перенесены с названий других болез-
ней (так, не берется, к примеру, слово пупыш, относимое, по сути, к
любым прыщам, чирьям и т. п. Конечно, выводы о первичности/вто-
ричности наименования могут быть сделаны не всегда). Некоторые из
анализируемых нами слов изучались в обстоятельной статье В. П. Стро-
говой [Строгова 1989: 43-50], однако мы подходим к проблеме под
иным углом зрения и используем более широкий материал, что позволя-
ет вновь обратиться к этой интересной теме.
Представим материал, который может быть сгруппирован в рам-
ках двух полей, имеющих сходные принципы внутренней организа-
ции. Смысловой центр и база для производства элементов первого
поля — «ячмень»; второго — «собака».
Первое («ячменное») поле включает в качестве опорных
слова ячмень, жито, зерно, которые в данном случае являются номи-
нативными дублетами. В основе этих наименований — метафора по
признаку формы10.
10 Ср. факты приложения «зерновой» модели к названиям других болез-
ненных образований, прыщей ит. п.: арх. жито ‘прыщ на языке домашних
502
Раздел V
Слово ячмень является как литературным, так и общенародным
обозначением болезни, о чем свидетельствуют хотя бы его диалект-
ные дериваты с тем же значением — новг. ячменина [Строгова 1989: 47],
ячменёк [Даль2 IV: 682] и т. п. Рус. ячмень ‘гнойное воспаление саль-
ных железок век’ имеет параллели во всех славянских языках: болг.
ечемик. сербохорв. ]'ёчмйк, словен. jecmen. чеш. диал. jacmen. словац.
jacmen. польск. j^czmyk. укр. ячмлнъ и др. [ЭССЯ 6: 63-64]. По мне-
нию О. Н. Трубачева, не исключено распространение значения ‘яч-
мень на глазу’ под влиянием латин, hordeum ‘то же’ книжным путем
[Там же: 63]. Однако убедительность «книжной» версии несколько
ослабляется тем, что изучаемое слово активно функционирует в диа-
лектах славянских языков. Кроме того, в русских диалектах для обо-
значения hordeolum используется не только ячмень. но и другие «зер-
новые» лексемы: зерно11 [НОС 3: 97], арх. зёрнышко [КСГРС], жит
[ПОС 10: 246], новг., петерб. жйтина {<жйтина ‘ячменное зерно’)
[НОС 2: 134; СРНГ 9: 190], моек., пск., смол., твер. жйтенка (жйтин-
ка) [СРНГ 9: 189], влг., новг., пск. жито [КСГРС; НОС 2: 135; ПОС
10: 252], твер. жйтченка [СРНГ 9: 194], жйтчина [ПОС 10: 252], ряз.
крупеник [СРНГ 15: 316]. Наличие таких номинативных дублетов то-
же, казалось бы, служит косвенным опровержением «книжного» по-
явления «ячменной» модели.
В то же время модель «ячмень, ячменное зернышко» = «hordeolum»
подозрительно широко распространена в языках различных семей,
ср., например: литов, miezis [РЛС: 878], латыш, miezgrauds [РЛтшС:
769], нем. Gerstenkorn [НРС: 373], дат. bygkorn [РДатС: 784], итал.
orzaiolo [ИРС: 561], франц, orgelet [НФРС: 759], башк., тат. арпа
[РБС: 975; РТС: 725], тур. arpacik [БРТС: 679], венг. arpa [РВС II:
1006], эст. odraiva [Тамм: 350], мар. шож [РМС: 848], удм. йыды
[РУС: 1261] и др. (см. также [Журавлев 20056: 55-56]). Такое широ-
кое распространение модели вполне может говорить о ее книжном
характере12, источником тогда следует признать факт медицинской
животных’ [СРНГ 9: 192], яросл. зёрнышко ‘гнойничок, прыщик’ [ЛКТЭ]. В пла-
не типологии можно привести также фиксируемую в ряде языков модель
‘типун на языке птиц’ <— ‘зернышко, косточка’: ср., к примеру, порт, pevide.
wm.pepita ‘мед. типун’ <— ‘зернышко, семечко’ [ПРС: 624; БИРС: 578] и др.
11 Здесь и далее при подаче номинативного материала не будет приво-
диться словарная дефиниция, поскольку рассматриваются слова со значени-
ем ‘гнойное воспаление сальных железок век, ячмень’.
12 В то же время во многих языках различных семей фиксируются номи-
нативные факты, не связанные ни с этой моделью, ни с рассматриваемой ни-
же «собачьей», ср. пары, в которых на первом месте приводится название
«Языковой МИФ»
503
номенклатуры — латин, hordeolum («ячменек») ‘ячмень на глазу’ <—
hordeum ‘ячмень’.
Каково бы ни было происхождение «ячменной» модели, она
функционирует в русских говорах как мотивационно «живая» (и это
тоже аргумент в пользу ее исконности), причем в ее рамках нередко
происходит мотивационный сдвиг, направленный логикой этимоло-
гической магии, которая предполагает срабатывание формулы «Если
х, то у» (когда между х и у предполагается причинная связь: х —> у)
[Толстой, Толстая 1988: 252-253]. В применении к медицинской об-
рядности эта формула сводится к принципу similis simili curatur, по-
скольку глазной ячмень лечится ячменным зерном или ячменным
хлебом: при лечении глазного ячменя у белорусов «отсчитывают 9
ячменных зерен и каждое из них, предварительно обмахнув трижды
вокруг больного глаза, отбрасывают наотмашь в сторону. Потом пус-
кают в избу курицу, чтоб она поклевала эти зерна» [Богданович 1895:
162]; болгары для лечения ячменя уничтожают (сжигают, толкут) яч-
менное зерно, произнося такой приговор (служащий в данном случае
формулой невозможного): «Кога изникне това зърно, тогава и мене да
ми изникне ичимик» (Когда прорастет это зерно, тогда и у меня вы-
растет ячмень) [ЕБНМ: 125]; у русских фиксируется практика уколоть
ячмень на глазу зернышком ячменя, а потом отдать зернышко петуху
[Афанасьев ПВСП I: 42; Миненко 1989: 125; ЭМТЭидр.]; ср. сле-
дующие словарные иллюстративные контексты: калин. «Ячмень —
это болезнь глаза. Брали зерно ячменя и торкали три раза у глазу.
Обязательно, чтобы это зерно петух потом склевал» [Строгова 1989:
48]; влг. «Пекут хлеб, корочку срывали, к ячменю теплым приклады-
вали и отдавали петуху» [КСГРС] и др. Как мы увидим далее, моти-
вационные сдвиги такого рода могут стать ведущими факторами, оп-
ределяющими особенности функционирования элементов поля и про-
дуцирования новых номинативных единиц.
В рамках морфо-семантического поля лексемы жито (житина,
житинка и др.) функционирует слово жйча (жйчина) ‘шерстяная
растения, на втором — болезни: кирг. арпа Ф тирсек (< ‘ахиллесово сухожи-
лие’) [КРС 2: 239], узб. арпа Ф нина учук, (нина ‘игла, острие иглы’, учук,
‘сыпь, пузырьки’) [УзбРС: 291], коми ид Ф понпуш (< ‘высохший гриб-
дождевик’) [КомиРС: 551], вепс, orz Ф sarakoda (sara ‘развилина’, koda ‘ку-
рятник; домик’) [СВЯ: 457], порт, cerada Ф tergal (< латин. *tertiolo ‘малая
треть’) [DELP 5: 292] и др. Это обстоятельство говорит о том, что данное за-
болевание было номинативно освоено языками до появления «интернацио-
нальной» номенклатурной модели (если принять версию о книжном пути ее
распространения).
504
Раздел V
нитка, пряжа’ [НОС 2: 137; ПОС 10: 261; КСГРС и др.], ареал которо-
го (весьма широкий) включает зону распространения слов жито,
житина ‘(мед.} ячмень’. Фактором для аттракции данных лексем ста-
новится не только формальное подобие, но и существующая в народ-
ной медицине практика «лечения» болезней путем обвязывания шер-
стяной ниткой больного органа (или пальца на руке с той стороны,
где находится больной орган, а иногда — с противоположной сторо-
ны)13. В результате аттракции жито ‘(мед.} ячмень’ жича ‘шер-
стяная нить’ получаем ряд наименований глазного ячменя с началь-
ным жич-. жйча [НОС 2: 136; ПОС 10: 261], пск. жйчевина, новг.,
пск., смол., эст. (рус.) жйчина, жичйна, калуж., литов, (рус.), моек.,
смол, жйчка [СРНГ 9: 201]. Факт аттракции подтверждается свиде-
тельствами присутствия слов житина и жичина в рамках одного об-
рядового текста: «Житина, житина, возьми свою жйчину» (глазной
ячмень) (коснувшись ячменя на веке ячменным зерном, скармливают
его петуху, бросают в огонь или колодец) [Даль ПРН: 402].
Смысловой фундамент аттракции «ячменных» и «шерстяных»
лексем проявляется в контекстах типа: новг. «Колечко из шерстяной
нитки на пальце. Ячмень на правом глазу, жичина на левой руке»
[НОС 2: 137]; пск. «На каком глазу сядя жичина, на такую руку при-
вязывають шерстяну нитачку, жичину» [Строгова 1989: 45]. Итак, та-
кие наименования hordeolum, как жича, жичина и под., можно счи-
тать переработкой жито ‘то же’ под влиянием со стороны жича
‘шерстяная нить’, обусловленным моделью «болезнь» «способ ее
лечения». Эта интерпретация не позволяет согласиться с тем, что сло-
во жича в медицинском значении является метафорой (на базе жича
‘шерстяная нитка’), «соотносимой с табу, эвфемистическим обозна-
чением болезни, навеянной, по народным верованиям, действиями
нечистой силы» [Там же]: механизм этимологической магии (х^> у}
отличен от механизма метафоризации (х ~у).
В то же время связь с жича ‘шерстяная нить’ может быть реле-
вантной только на уровне вторичных «рецептурных» переосмысле-
ний, а для объяснения путей появления жича ‘глазной ячмень’ может
быть достаточно внутренних ресурсов «ботанической» модели, ср.:
жйча ‘ячмень (злак)’, жйчина ‘одно семя ячменя’ [НОС 2: 136-137],
13 Ср. свидетельства относительно медицинского использования жичины
(безотносительно к глазному ячменю): новг. жйчина ‘шерстяная нитка, кото-
рой перевязывают пуповину у новорожденного’ [СРНГ 9: 200], влг. жйчинка
‘шерстяная нить’ — «Бородавки сводили, дак жичинку вокруг пальца обвя-
жут» [КСГРС], свердл. жйчка ‘то же’ — «Баушки правят и надевают жичку»
[КЭИС] и др.
«Языковой МИФ»
505
жйчинка ‘зерно, крупинка’, ‘ячмень’, жйчка, жйшка, жйшина ‘яч-
мень (злак)’ [ПОС 10: 261] и др.
В результате расширения сферы действия народно-этимологиче-
ских переосмыслений в рассматриваемом поле появляется такое на-
именование hordeolum, как жига [ПОС 10: 230]. Возникновение этой
формы, по-видимому, объясняется аттракцией жито (жича) к много-
значному шир. распр. жйгатъ ‘бить, ударять’, ‘жалить, кусать’, ‘об-
жигать’ [СРНГ 9: 165-166; КСГРС и др.], ср. также зафиксированную
в ареале слова жига (псковские говоры) омоформу — наречие жига
‘горячо, может обжечь’ [ПОС 10: 230]. Смысловой поддержкой такой
аттракции становится, возможно, ощущение пульсации, жжения в
гноящейся ране. Не менее вероятно следующее предположение. При
лечении ячменя осуществлялось прижигание его горячим хлебом
(подробнее см. ниже), поэтому в слове жига можно усмотреть реали-
зацию «рецептурной» модели, ср.: влг. «Песьяк тёплым пирогом при-
жигали и собакам бросали» [КСГРС]; свердл. «Песик садится, глаз опу-
хат, колечки вязали из ниток на палец, хлебом прижгут и собакам наот-
машку бросали» [КЭИС].
Притяжение к слову живой дает форму жйвчина ‘ячмень на веке
глаза’, ‘гнойное воспаление, язва’, ср. также пск. жйвчинка ‘нитка’
[ПОС 10: 230]. Это притяжение, возможно, носит сугубо формальный
характер, хотя у него есть определенная смысловая поддержка (ср.
следующий факт из числа дериватов живой, близкий к номинации
болезней: ряз. посадить живчика к носу ‘ударить кого-либо, разбив
ему нос’ [СРНГ 9: 162]).
Перейдем к анализу элементов второго лексического по-
ля («собачьего»), которое представлено только в говорах, более
обширно и богато аттракционными процессами. Опорные элементы
этого поля — слова пес, собака, сука.
Наиболее широко распространены в говорах наименования ячме-
ня, образованные от основы пес\ арх. песак. песец, влг. песёй. песёнъ.
пёсъик. пёсъ-ячмёнъ [КСГРС], песёц-ячмёнъ [КЭИС], влг., свердл. пёсий
ячмёнъ [КСГРС; КЭИС], сверл., яросл. пёсик [КЭИС; ЛКТЭ], арх.,
влад., влг., калин., карел, (рус.), костр., новг., олон., петерб., пск., твер.,
эст. (рус.), яросл. песьяк [КСГРС; ЛКТЭ; СРГК 4: 489; СРНГ 26: 325;
ЯОС 8: 107], арх., влг., карел, (рус.), костр., новг., яросл. песяк [КСГРС;
НОС 7: 134; СВГ 7: 52; СРГК 4: 489; СРНГ 26: 325] и др. В сознании но-
сителей языка такие наименования являются мотивационно «живыми»:
логика этимологической магии указывает на собаку (пса) как на причину
заболевания и, соответственно, способ лечения (глазной ячмень «отдает-
ся» собаке). Ср. контексты: влг. «Песий ячмень от собак бывает», влг.
506
Раздел V
«Говорят, увидел, как собака поссала, вот и песьяк вскочил» [КСГРС],
яросл. «Песик горячим хлебом лечим, приложим и собаке отдадим»
[ЛКТЭ], «Песик горячим хлебом прижигали, да через левый кулак, на-
отмашку, значит, собакам бросать» [КЭИС] и мн. др. Д. К. Зеленин, опи-
сывая практику народного врачевания с помощью симпатической магии,
приводит (без указания места), обычай передавать ячмень на глазу (песий
ячмень) собаке (так же, как куриную слепоту передают курам, бели у
женщин — белой березе и т. п.) [Зеленин 1991: 286]14.
Не обращаясь пока к происхождению модели, покажем, какого
рода трансформации происходят с лексемами типаиесьяк, входящими
в обширное морфо-семантическое поле.
Весьма частотно притяжение к словам с корнем печ-. вследствие
чего появляются названия hordeolum с соответствующим начальным
сочетанием: влг. пёча-ячмёнъ. пёче-ячмёнъ. пёчий ячмёнъ; влг., свердл.
пёченъ-ячмёнъ (печёнъ-ячмёнъ), пёчъ-ячмёнъ [КСГРС, КЭИС].
Такая аттракция имеет надежное фонетическое обоснование (в не-
которых случаях можно говорить даже не об аттракции, а о фонетических
вариантах исходного слова): как известно, во многих севернорусских и
среднерусских говорах наблюдается шепелявенье, сводящееся, в частно-
сти, к произношению на месте [с’] звука [ш’]. С другой стороны, аффри-
ката [ч] в говорах может терять смычку, что тоже приводит к появлению
звука [ш’]. Таким образом, колебание [с’] — [ш’] — [ч] вполне обосно-
ванно для корня изучаемых наименований15. О справедливости выше-
сказанного говорит и отмеченное в русских говорах Сибири наименова-
ние hordeolum с корневым ш, для которого в качестве исходной следует
восстановить «песью» модель: забайк. пёший чеменъ [СРНГ 27: 13].
Аттракция к печ- обладает и несомненной смысловой подоплекой.
Во-первых, следует учитывать реальное, физическое ощущение «пече-
ния» в ране, ср. факт мотивационной рефлексии диалектоносителя:
«Печень на глазу бывал, печёт глаз-то» [КЭИС]. Актуальность идеи
жжения как мотивирующей для обозначения hordeolum проявляется
вроде бы и в описанном выше названии жига. Поддержка для такого
переосмысления создается также наличием в морфо-семантическом
поле наименований различных заболеваний (кровоподтеков, ссадин,
волдырей) на печ-. которые распространены в ареале интересующих
14 Вообще, животные (журавль, рак, крот и др.) широко используются
как «реципиенты» различных болезней; процесс «передачи» заболевания
отражается в ряде вокативных формул [Усачева 1994а: 232-233].
15 Не случайно названия hordeolum с начальным печ- (нередко восстанавли-
ваемом при лексикографическом оформлении из пещ-) наиболее широко распро-
странены на Среднем Урале, где регулярно фиксируется утрата затвора [ч].
«Языковой МИФ»
507
нас обозначений hordeolum: арх., влг., вят., костр., мар. (рус.), новг. пе-
ченйца ‘синяк, кровоподтек’, влг., нвсиб., яросл. печень ‘сгустки крови’
[КСГРС; СРНГ 26: 347, 349]; новг. печёнка ‘обожженное место’, ‘вол-
дырь, прыщ на губе при простуде’ [СРНГ 26: 347] и др. Внутренняя
форма этих слов может осознаваться носителем языка: влг. «Печеница
экая, кровь спеклася» [КСГРС].
Во-вторых, в восточнославянской медицинской обрядности су-
ществовала практика лечения заболеваний путем «печения», ср., к
примеру, обряд «перепекания» ребенка, больного рахитом — т. е. со-
бачьей старостью или сухотамъг. ребенка кладут на хлебную лопату
и трижды всовывают в теплую печь [Топорков 1992: 115]. Кстати, ра-
хит, как и глазной ячмень, является «собачьей» болезнью: возможно,
это обстоятельство не случайно16. При лечении hordeolum перепека-
ние не использовалось, но мотивационные контексты свидетельству-
ют о применении различных «рецептов», основанных на актуализа-
ции в ходе аттракционных процессов слов с корнем печ-\ печеный
лук — «К печеню лук печёный прикладёшь» [КЭИС]; печйна
(‘печная глина’) — влг. «Печень-ячмень на глазу печиной лечили, от
печи глиной. Возьмёшь кусочек и по глазу водишь» [КСГРС]; печ-
ной уголь — влг. «Печень-ячмень скочит, дак берут печной уголёк,
шепчут чего-то, он и сходит» [КСГРС]; печь (гл. и сущ.) — влг. «Пе-
чень-ячмень скочиу, дак пекут пирожок и бросают собаке», «Хлеба горя-
чего вытащи из печки, поприжимай да собаке отдай, песьячок и прой-
дёт» [КСГРС], «Песий ячмень-от ведихи правили, мякким от забытой
бууки приставлели к нему; буука-то не всяка, а в пече забытая» [КЭИС].
Нельзя не отметить и аттракцию «песьих» наименований к гру-
бо-просторечному писать ‘мочиться’, ср. слова с начальным пис- (и
особенно — с удвоенным с): влг. писсяк [КСГРС], арх., влг., яросл.
писъяк [КСГРС; СВГ 7: 61; ЯОС 8: 107], новг., яросл. писяк [НОС 7:
134; ЯОС 8: 107]. Фонетическая сторона этого сближения тривиальна;
что касается смысловой стороны, то здесь возможны два мотиваци-
16 Сходство методов лечения рахита (собачьей старости) и глазного
ячменя (песьяка) проявляется в следующем «рецепте». На Среднем Урале
рахитичного ребенка «продергивают» в калачик, который затем отдают соба-
ке: «Калачик, его <ребенка> продерьгивают да собаке старой дать. <— А его
из чего стряпали?> Из муки хоть какой. Чтобы ребёнка продёрнуть через дыр-
ку. А потом этот калачик разломают и собакам скормят: „Пеки собачью ста-
рость, чтоб грешно не было...“ Ак она из печи-то выташшит <ребенка>, у ме-
ня калачик-от принесён. Я свой испеку большой калачик. Она продерьгиват
его <через калачик>... Три раза. Я и спрашиваю: „Чё ты продерьгивашь?44
Она мне и отвечает: „Собачью старость44» [КЭИС].
508
Раздел V
онных хода, типичных для этимологической магии. Во-первых, моти-
вировка может быть связана с причиной заболевания: влг. «Не надо
смотреть, ковда собака писает: как зерно на глазу, песьяк на верхнем
веке вскочит»; арх. «Накатаешь шарик и брось от песьяка; как собаку
увидишь, она оправляется, три слова только и сказать: „Тьфу-тьфу-тьфу,
сси-сери, пёс, на свой перст, сси-сери на свои шары44»; влг. «Если
увидишь, как собака оправлятся, печень-ячмень сделатся. Тычут го-
рячим пирогом, чтобы зажило, да собаке подают» и мн. др. [КСГРС].
Во-вторых, причина заболевания инициирует соответствующий маги-
ческий способ лечения: влг. «Скочил писсяк, дак собачьей мочой надо
корочку промочить, к глазу прижать — да и собаке бросить» [КСГРС].
Отметим, что хотя «лингвистическая» природа рецепта в данном слу-
чае очевидна, urina canis издавна использовалась в практике магиче-
ского врачевания разных народов: к примеру, в болгарской народной
медицине мочой собаки промывают глаза от «уроков» [ЕБНМ: 204]17;
«Thesaurus linguae latinae» указывает, что свежую собачью мочу сле-
дует применять для лечения бородавок: «Sanat verrucarum... genera
urina canis recens» [TLL III/I: 255].
Еще одна линия переосмысления песъяков предполагает включение
в круг стимулов мотивационной рефлексии слова пест, вновь демон-
стрирующее «рецептурную» логику народно-этимологических сбли-
жений, ср. пёстя [КЭИС], влг. пестяк — «Пестяк лечили как-то ста-
рухи, пестом-от чего-то в ступе толкли, хлеб толкли да бросали собаке»
[КСГРС]. «Терапия» с помощью песта на Среднем Урале использует-
ся при лечении очередного «собачьего» заболевания, которое называ-
ется сучьи титьки (нарыв в подмышечной области), ср.: «Видишь
пистики, картовочки толкут... Вот этим пистичком тут... Приговари-
вай, причерчивай: „Как печной угол усохнет, посыхает, Так у рабицы
Божьей сучьи титьки Сохните-засыхайте44. Пистичком-то, значит, где
болит боль-то, ак вот тут и притыкать... Впору, чтобы не больно бы-
ло... И опять печному углу. До трёх раз» [КЭИС]. Как и в предыду-
щих случаях, аттракция песьяк пест (или даже замена песьяк
пестяк} обосновывается фонетически, поскольку сочетание [с’т’] по-
является на месте нелюбимого севернорусскими говорами [cj].
Другой «эпицентр» переосмыслений в рамках «собачьего» поля —
лексема сука, которая оказывается представленной в следующих на-
именованиях hordeolum: арх. сучья петля — «Сучья петля скочила,
надо коровашек испечь, дать собаке полизать и съесь; сучий сучок,
17 Ср. также свидетельство о том, что для лечения глаукомы следует
взять головной мозг семидневного щенка: «Glaukomata dicunt magi cerebro
catuli septem dierum emendari» [TLL III/I: 255, 622].
«Языковой МИФ»
509
сучья титька» [КСГРС], сучий сучок ‘ячмень на глазе; по убеждениям
суеверов, делается у тех, кто смотрит на сучью свадьбу’ [Подвысоц-
кий: 168]. Образ петли в номинации сучья петля мотивирован внеш-
ним сходством с «головкой» hordeolum; метафора по признаку формы
лежит и в основе наименования сучья титька.
Более сложная и «многоходовая» мотивация — в основе образа
сучка, ср. приведенное выше сочетание сучий сучок, а также сучок
‘воспаление на глазу, ячмень’ [СРГК 6: 407]. Во-первых, слова сука
(сучка) и сучок могут подвергнуться сближению (носящему, возмож-
но, игровой характер) вследствие фонетической близости и даже час-
тичной омонимии некоторых форм. Во-вторых, сучок прекрасно впи-
сывается в круг «рецептурных» стимулов народно-этимологического
переосмысления. Так, в народной медицине существует практика «за-
гонять» болезни в сук: например, в Сибири при лечении лишая или
чирья следовало, плюнув на безымянный палец, обвести им найден-
ный на стене сучок, потом тем же пальцем обвести лишай или чирей и
произнести определенный приговор [Миненко 1989: 125]. Этот приговор
мог выглядеть так: «Чирей-вирей, пойди в сук» [Усачева 19946: 86]. Ср.
также поверье о том, что «зажать сучок в избе — кровь станет» [Даль2
IV: 358]. Сучок — «эталон» признака сухости: помимо естественных
(природных) свойств самого объекта, существенную роль здесь играет
аттракция сук сух. Отсюда параллелизм идеи высыхания сучка и под-
сыхания раны, ср. семантику гл. завянуть ‘зажить, затянуться, подсох-
нуть (о ране, нарыве)’ — «Коль чустак у меня на ноге станет, а на
лавке сучок, так плюнут и кружат вокруг него, чтоб чустак, как сучок,
завянул да засохнул» [СРГК 2: 101-102]. Описывая своеобразие мо-
делирования магического действия в русских народных заговорах,
Н. В. Гультяева выделяет мотив уничтожения «жизненной силы» (вы-
сыхания), при реализации которого в типичном для заговора паралле-
лизме ситуаций («наличной» и «желаемой») используется идея высы-
хания: «Как сохнет и высыхает сук // так сохни и высыхай болетоп»;
«Как у матушки у сухой сосны сохнут и посыхают сучья из белой боло-
ни и красного сердца // так бы сохло и посыхало у раба Божьего притки и
призоры, щипоты и ломоты, потяготы и позевоты»; «Как этот сук
сох-усыхал // так чтобы у раба Божьего печь-ячмень сох-высыхал» и др.
[Гультяева 2000: 117-118]; при произнесении заговоров такого рода про-
изводились определенные манипуляции с сучком («очерчивали» им
больное место, сжигали и т. п.). Интересно, что в последнем из приве-
денных текстовых отрывков, записанном на территории Свердлов-
ской области, высыхание сучка подается как параллель высыхания
именно глазного ячменя. Тем самым идея высыхания подключается к
идее печения, с которой связаны названия ячменя на пес- печ-.
510
Раздел V
Образ сучьей титьки подвержен варьированию: пёсий (пёсий)
сосок. собачей сосок [СРГК 4: 483; 6: 233], олон. пёсий сосок [СРНГ 26:
301], собачья титька (сиська) [НОС 10: 107]. Деэтимологизировавшееся
сращение песъяк + сосок отражено в форме песусок [НОС 7: 133]. В ре-
зультате деэтимологизации возникает также слово пятисдсок [НОС 9:
77]: первая часть этой формы представляет собой результат аттракции
песъяк к пять (скорее всего, аттракция в данном случае движется сугубо
формальными причинами, хотя возможно, что в ее основе — представ-
ление о множественности «головок» hordeolum).
Весьма устойчиво отмечаются и такие варианты, где упомина-
ние о собаке формально отсутствует, но легко восстанавливается по
контекстам: арх., новг., карел, (рус.) сосок [КСГРС; НОС 10: 124; Ку-
ликовский: 111; СРГК 6: 233], новг. сисёк, сиська [Строгова 1989: 47] —
ср. арх. «Сосок-от скочит, как на собаку плохо посмотреть» [КСГРС],
«На глазу соскочит сосок, его тёплым хлебом мажут и хлеб отдают соба-
ке» [НОС 10: 124]. Распространению варианта сосок способствовало не
только внешнее сходство с реалией, но и формальная близость слов со-
сок и сучок — так что это наименование hordeolum тоже можно считать
участником аттракционных процессов.
Что касается названий, включающих слово собака, то они в целом
повторяют песьи и сучьи варианты (ср. приводившуюся выше форму со-
бачья титька (сиська), а также арх. собачья петля, вариативное по от-
ношению к сучьей петле [КСГРС]). Однако есть один весьма интерес-
ный собачий вариант, не пересекающийся с другими: арх., влг. собачья
стряска (стряски) — «Песяк сам соходит. Говорят, это собачьи стряски,
его собачьи стряски зовут. Собака отряхнётся — дак отлетит. Из теста
замисят, погреют перед печью, упекётся — разломят и подёржат глаз над
паром. Потом закроют и собаке бросят» [КСГРС]. Сочетание собачья
стряска примечательно тем, что репрезентирует весьма редкую ситуа-
цию, когда во внутренней форме языковой единицы легко прочитывает-
ся мифологический по своей природе сюжет, являющийся ее единствен-
ным мотиватором. Ономасиологическая параллель обнаруживается в
болгарском и белорусском языках, где функционируют наименования
кожных болезней, образованные от обозначения дикого «двойника» со-
баки—волка: блр. скраб ваучыны 4 о чесотке’ [Володина 2006а: 60], болг.
диал. вълчетрёси 'шерсть нателе, Pemphygus’ [БЕР 1:206]18.
Представив русские диалектные наименования hordeolum, реали-
зующие «собачью» модель, обратимся к непростому вопросу о проис-
хождении этой модели и исходном смысловом наполнении.
18 Сходная «мифологическая» внутренняя форма имеется также у рус.
влг. собачьи валенцы ‘сыпь’ — «Ну вот собака валяется — а вы попали на
этот след» [ДКСБ: 80].
«Языковой МИФ»
511
«Собачья» модель имеет следующие лингвогеографические ха-
рактеристики (получены при суммировании ареалов песьих, собачьих
и сучьих наименований): арх., влад., влг., забайк., карел, (рус.), костр.,
новг., олон., петерб., пск., свердл., твер., эст. (рус.), яросл. Ареалы всех
собачьих наименований внутри этой зоны в основном перекрещива-
ются; наиболее узкий ареал при этом — у наименований от основы
сука (арх.), а наиболее широкий — у формы песьяк и под. Таким обра-
зом, интересующие нас лексемы фиксируются в говорах северной, се-
веро-западной и северо-восточной диалектных зон (имеются в виду
говоры территорий первичного заселения) плюс дочерние говоры
Урала и Сибири (активное распространение песьих названий на Сред-
нем Урале, а также единичная фиксация в забайкальских говорах).
Специфика ареала заставляет думать о возможности финно-угорского
влияния. В других славянских языках (кроме русского) «собачьи» на-
звания глазного ячменя, кажется, не встречаются.
Действительно, «собачья» модель номинации hordeolum активно
функционирует в различных финно-угорских языках (прибалтий-
ско-финской и волжской ветвей): карел, (твер.) koirannahni («собачий
сосок») [СКЯ-Пунжина: ПО], карел, (ливв.) koirannahni («собачий со-
сок») — «Когда у человека ячмень, испекут блин, его прижмут к глазу,
а потом скормят собаке, тогда ячмень пройдет» [СКЯ-Макаров: 149];
вепс, koiranhiza («собачий сосок») — «Если ячмень сел на глаз, нужно
взять хлеба, разжевать и дать собаке»; «Подразнишь собак — ячмень
вскочит» [СВЯ: 217]; мокш. пиненъ шячи («селезенка собаки») [МокшРС:
312]; эрз. пиненъ чечей («селезенка собаки») [ЭрзРС: 481, 747]; ср. и
вепс, koirankuzi ‘нарыв (обычно на пятке или подошве ноги)’ («собачья
моча») [СВЯ: 217]. В связи с этим интерес представляет также этимо-
логия финского наименования глазного ячменя паагаппарру [ФРС:
411], которому, по данным SKES, могут соответствовать некоторые
саамские формы: naran(is), naranas, nares и др. ‘нарыв’. Если принять
вероятность такого соответствия, то следует признать, что это назва-
ние подвергается народно-этимологическому притяжению к паага
‘сука’, поскольку то же заболевание именуется koirannahni, koiranhiza
и т. п. (см. выше) [SKES: 363; аналогичное решение см. в SSA II: 257].
Существует также другая этимологическая версия, в соответствии с ко-
торой фин. паагаппарру изначально связано с паага ‘сука’ [SSA II: 257].
Как видим, в финно-угорских языках встречаются те же образы и
мотивы, что и в русских диалектных наименованиях, реализующих
«собачью» модель. Показательно, что самые близкие финно-угорским
источникам формы, образованные от основ сука (и переосмысленное
сучок), сосок, распространены в наиболее открытой для финно-угорского
влияния зоне (арх., влг., новг., олон.). Таким образом, вполне оправ-
512
Раздел V
данно предположение о том, что изучаемая модель представляет со-
бой семантическую кальку с финно-угорских источников.
Однако ситуация осложняется тем, что в русском просторечии ак-
тивно функционируют наименования нарыва под мышкой, тождествен-
ные по образной фактуре одному из вариантов «собачьей» модели номи-
нации hordeolum: сучье вымя ‘народное название нарыва под мышкой’
[ССРЛЯ 14:1243]; это наименование указано в БМЭ в качестве устаревше-
го дублета для медицинского термина гидраденит ‘гнойное воспаление
апокринных потовых желез’ [БМЭ 5: 363-364]. Варианты этого наиме-
нования встречаются в русских говорах: влг. собачье вымя ‘гидраде-
нит’ — «Когда сглазят, ещё собачье вымя — бородавки под мышкой на-
растут» [КСГРС], собачья титька ‘нарыв, чирей’ [ЯОС 9: 54], сучьи
титьки ‘воспаленные лимфатические узлы в подмышечной впадине’
[ДСРГСУ: 522], сучья титька ‘несколько фурункулов под мышкой у че-
ловека’ — «Сучья титька у людей — мажут сметаной. Если у мальчика,
то кобель вылизывает, а у девчонок — сучка вылизывает» [СРГП: 293];
ср. также укр. полес. суче вимйе, сучки вимне, собаче вимйе, собаче
вимйа, суча иииька, собача цицъка, псеча болека ‘нарыв под мышкой’
[ПЛНМ: 19-20], блр. собаччэ в1ма — «Собаччэ в!ма. Св1жым хлебам вы-
т1рал! i собак! дают. Это подобны на тпъкь У любым мюты нападэ» [Во-
лодина 2006а: 60] и др. Четкая параллель обнаруживается в тюркских
языках: тур. kopekmemesi ‘нарыв под мышкой, сучье вымя’ («сучье вымя»)
[БТРС: 566], тат. эт имчэге ‘сучье вымя (нарыв под мышкой)’ («сучье вы-
мя») [ТРС: 687], при этом турецкие данные мешают думать о заимствова-
нии из русского. Реалии (гидраденит и глазной ячмень) обладают
значительным внешним сходством, поэтому связь наименований
вполне возможна. Образ «сучьей цыцки» приложим также к лишаю,
ср. фрагмент заговора: укр. полес. «Лишаю, лишаю, Тэбэ с говном
змэшаю, Сучка твоя маты, Нэ дала цыцки ссаты, Тоби треба по-
гибаты» [ПЗ: 212, № 353].
Еще один момент, осложняющий выяснение вопроса о генезисе
модели, — фиксации «собачьих» названий hordeolum за пределами
финно-угорских и русского языков, ср., например, исп. perilla ‘ячмень
на глазу’ <— perillo ‘собачка’ [БИРС: 583], латыш, suqa nagla (букв,
«собачий гвоздь (коготь)») ‘язва, фурункул на глазу’ [LVV III: 1123].
При этом латышский факт вполне объясним как заимствование из
финно-угорских языков, дающее очередной поворот «собачьей» темы
(ср. эст. koeranael (букв, «собачий гвоздь») ‘чирей’ [Тамм: 180]19), а
19 Образ собачьего гвоздя представлен в германских языках, ср., к при-
меру, англ, dog-nail ‘гвоздь, имеющий прочную и зенкованную головку, а
также большой гвоздь с головкой, скошенной на одну сторону’ [OED IV:
«Языковой МИФ»
513
испанское perilla. вероятно, можно трактовать как результат типоло-
гически независимого срабатывания модели.
Вообще, возможности типологически независимого появления но-
минативных фактов, функционирующих в рамках «собачьей» модели,
возрастают за счет того, что образ собаки весьма активно используется в
разных языках при номинации различных болезней — не только гидраде-
нита и hordeolum, ср.: фин. punainen koira («красная собака») ‘ветря-
ная оспа’ [БФРС: 246], дат., норв. hundrode («красная собака») ‘краснуха’
[НорвРС: 364; DRO: 240], нем. roter Hund, weisser Hund ‘вид зудящего,
дергающего, мучительного заболевания кожи’, Hunde-Raude ‘лишай’
[Володина 2006а: 60], болг. диал. штёнец («щенок») ‘прыщик, струп в
момент его появления около воспаленной раны, представляющий собой
красное пятно’ [БД IX: 341], сербохорв. падача ‘тяжелая лихорадка’
[СХРС: 586], болг. песец ‘болезнь детей, при которой они слабеют, желте-
ют и на лице и спине растет сивый мех’, болг. диал. пёсйца, пёснйца ‘то же’,
песйчаво детё ‘ребенок, рожденный с волосами на теле’ и др. [БЕР 5: 186-
187; ЕБНМ: 307]20, польск.psiarka ‘красные коросты у детей’ [SW V: 413],
укр. полес. собаче воло ‘болезнь, в результате которой опухает горло’
[ПЛНМ: 81], блр. скула сабачча ‘небольшая болячка’, рус. дон. ощениться
‘набухнуть и прорвать (о нарыве)’ [Володина 2006а: 59], рус. влг. собачин-
ка ‘жесткие волоски на спинке ребенка’ — «Собачинка быват на спинке,
дак надо шерсть обстричь собачью да пожгать, да этот дымок дать ребе-
ночку понюхать» [КСГРС], рус. просторен, собачья старость ‘детская
болезнь, проявляющаяся в приостановке роста, в появлении у ребенка
старческого вида; разновидность рахита’21 [ССРЛЯ 14: 10-11], собачья
старость ‘бессонница и отсутствие аппетита у ребенка как следствие на-
рушения запрета беременной матерью переступать через кошку или соба-
ку’ [Куликовский: 72], арх. ‘черная щетинка под кожей ребенка’ —«Выво-
дят собачью старость на белое тесто: пекут из его колач, проносят ребёнка
через дырку, а колач скармливают собаке»22 [КСГРС] и др.23.
930]. Нам не удалось, однако, обнаружить в этих языках фактов, говорящих о
применении этого образа по отношению к hordeolum.
20 Авторы БЕР указывают, что народная этимология связывает эти на-
именования со словом пес. что проявляется в обычае просовывать больного
этой болезнью ребенка через собачью лазейку в плетне. Версия Цончева от-
носительно связи со словом пес. мотивированной появлением волос на теле
больного, считается удачной в формальном отношении, но все же семантиче-
ски неясной [БЕР 5: 186-187]. Думается, что приведенный в настоящей статье
материал вполне обосновывает семантическую сторону версии Цончева
21 Ср. также влг. кошачьи сухоты ‘то же’ [КСГРС].
22 Ср. наименование той же болезни — щетины ‘кожная болезнь ребен-
ка, наступающая якобы от собачьей слюны’ [Куликовский: 140].
514
Раздел V
Подобные примеры (количество которых можно было бы значи-
тельно увеличить) обнаруживают тенденцию: «собачьи» болезни яв-
ляются преимущественно кожными заболеваниями, при которых
происходит трансформация кожных покровов или общего внешнего
вида больного (аналогичные признаки отражают многие «волчьи»
наименования, ср. хотя бы рус. волчанка, укр. полес. воуча шерсть
‘родимец’ [ПЛНМ: 65], укр. вовчий лишай ‘особо болезненный ли-
шай’, блр. воуча цыцка ’нарыв на теле’, нем. Wolf ‘трудно заживаю-
щий нарыв’ [Володина 2006а: 62] и латин, lupina). Несомненно, что
дополнительным мотивирующим моментом, поддерживающим об-
ращение к образу собаки при номинации болезней, становится нали-
чие негативных коннотаций, связанных с этим образом. Так, В. В. Уса-
чева считает наименования типа польск. psina ‘лихорадка’ дефемиз-
мами, имеющими ярко выраженную негативную окраску [Усачева
1994а: 227].
Что касается наименований hordeolum, использующих образ со-
баки, то здесь образная основа названия тоже ясна: собачьи глаза
нередко выглядят воспаленными, покрасневшими, слезящимися, со-
бака часто мигает, в углах глаза скапливаются различные выделения.
Такое же впечатление могут производить глаза больного hordeolum.
Внимание языка к собачьим глазам отражено, к примеру, в болг. ку-
человец, кучеок ‘тот, кто имеет «собачьи глаза», мигает, имеет дур-
ной глаз’ [БЕР 3: 169].
Завершая анализ наименований, функционирующих в рамках
«собачьей» модели номинации глазного ячменя, необходимо отме-
тить, что эти языковые факты мотивированы на разных уровнях.
Во-первых, следует выделить уровень «ближайшей», непосредст-
венной мотивации, предполагающий учет объективных свойств
реалии, явившихся основой для переноса, в данном случае — собачь-
их глаз (вероятно, независимо появился образ «сучьего вымени»,
который исходно мог быть обращен к гидрадениту). Во-вторых, есть
смысл говорить о более опосредованном и общем мотивационном
уровне, уровне учета специфики сферы отождествления
(образ собаки часто используется для номинации различных болез-
ней, а также является источником негативных коннотаций, сопровож-
23 Ср. также сообщение Н. И. Толстого о принятых в Сербии способах
лечения детской болезни «пешицы», от которой ребенок сохнет и постоянно
плачет: «Ребенок, болеющий упомянутой болезнью, называется „пешичаво
дете“ или „песичаво дете“ (этимологически от *ръ8ъ ‘пес’, ср. рус. собачья
старость). В Болгарии магическими способами лечится такое же „песичаво
дете“ (чахнущий и желтеющий ребенок)» [Толстой 1993: 93].
«Языковой МИФ»
515
дающих представления о болезни). В-третьих, выделяется уровень
внеязыковой, «культурной» мотивации (собака как «реци-
пиент» болезней и источник различных способов лечения24). Вопрос
о суверенитете этого уровня по отношению к языку весьма сложен:
как мы видели, «анамнез» и «методы» лечения нередко формируют-
ся языком; однако внеязыковые моменты тоже явно присутствуют,
поскольку практика использования ближайшего к человеку живот-
ного в народной медицине, безусловно, имеет давнюю культурную
историю.
Такая комплексная мотивация создает настолько прочный фун-
дамент для «собачьих» номинаций, что вопрос о генезисе модели ста-
новится практически нерешаемым: по сути, «собачьи» названия могут
появиться независимо друг от друга в различных языках мира Одна-
ко это не исключает возможности заимствования модели в каких-то
конкретных случаях. Мы все же склонны думать, что появление «со-
бачьих» названий в севернорусских говорах было инициировано фак-
тами финно-угорских языков. Суммируем аргументы: в применении к
hordeolum модель, кажется, не фиксируется в славянских языках; «со-
бачьи» наименования отмечаются в севернорусских и дочерних по
отношению к ним говорах; «собачья» модель разработана в фин-
но-угорских языках весьма вариативно, а некоторые варианты — к
примеру, наименования с внутренней формой вроде «собачья селе-
зенка» — нетипичны для русского языка (где, как представляется,
этот орган обходится вниманием, и его наименования не становятся
источником вторичных номинаций).
Как уже говорилось, все имеющиеся в нашем распоряжении рус-
ские названия hordeolum по своему генезису распределяются по двум
моделям — «зерновой» и «собачьей». За пределами остается единст-
венное наименование — посёка [НОС 8: 138], которое следует истол-
ковать с учетом выявленных ранее номинативных закономерностей.
Данное наименование, как представляется, есть очередная реализация
«рецептурной» модели номинации: в народной медицине применяет-
ся такой метод лечения, как «сечение» болезни. В частности, при ле-
чении радикулита на Русском Севере принято сечь утин (больной
ложится через порог, на поясницу ему кладут веник, который рубят
топором, произнося определенные приговоры) [КСГРС]25. Использо-
вание в народной магии острых режущих предметов позволило
Н. И. Толстому назвать такое лечение «магической хирургией» [Тол-
24 Подробнее об этом см. в [Володина 2006а: 61-62].
25 Данные о широком распространении подобных обрядов на Русском
Севере см. в [Грысык 1992: 64-65].
516
Раздел V
стой 1993: 93]. «Хирургические» методы если не применяются, то
декларируются при лечении hordeolum, ср. текст приговора: влг.
«Песьик ты, песьик! Вот тебе кукиш, Топор себе купишь. Купи топо-
рок, секи себя поперек» [КСГРС] (мотив «пусть ячмень возьмет топор
и посечет себя» встречается также в украинских и белорусских заго-
ворах [ПЗ: 246, № 417]). Вот эта идея сечения, по всей видимости, мо-
тивирует данное наименование hordeolum — хотя нельзя исключать,
что такая мотивация вторична: название посёка могло сформировать-
ся при аттракции исходного песъяк и под. к сечь (посечь).
Подведем итоги.
В русских говорах функционирует обширная парадигма названий
hordeolum, при этом многие номинативные варианты сосуществуют
на одной и той же территории — значит, причину обилия дублетов не
следует связывать с сугубо номинативной потребностью дать имя
реалии. Данная номинативная парадигма оказалась «зараженной»
весьма тяжелой мотивационной «болезнью», заключающейся в том,
что новые наименования продуцируются на базе двух номинативных
концентров (возможно, один исконный, а другой заимствованный) в
результате различных народно-этимологических притяжений. Меха-
низмы таких притяжений подсказаны логикой этимологической ма-
гии: актантами взаимодействий становятся слова, которые указывают
либо на причину болезни, либо на способ ее лечения (как правило,
причина и методика лечения взаимосвязаны по принципу similis simili
curatur).
Перечислим основные ситуации притяжений.
1. «Зерновая» модель.
Исходная лексема — обозначение hordeolum База переосмысления мотивировки «Стимулированное» название hordeolum
ячмень, ячменина лечение ячменным зерном или хлебом = исходному (но с «рецептурной» ремотивацией»)
жито, житина и т. п. лечение ячменным зерном или хлебом (житом) = исходному (но с «рецептурной» ремотивацией»)
жито, житина и т. п. лечение шерстяной нитью (жичей, жичиной) жича и т. п.
жито лечение прижиганием горячим хлебом жига
жито притяжение к слову живой живчина
«Языковой МИФ»
517
2. «Собачья» модель.
песий ячмень, песец, песьяк и т. п. «заносится» собакой (псом); лечится путем «отдавания» собаке = исходному (но с «рецептурной» ремотивацией»)
песьяк и т. п. лечится печением', прикладыва- нием печеного лука, печины (печной глины), печного угля, хлебом из печи и т. п.) печень, печь-ячмень
песьяк появляется у того, кто видел, как оправляется собака; лечится собачьей мочой писъяк
песьяк лечится толчением хлеба с помощью песта пестяк
? песьяк лечение «сечением» с помощью топора посека
сучья титька появляется у того, кто видел собачью «свадьбу» = исходному (но с «этиологической» ремотивацией)
сучья титька и т. п. болезнь «отсылается» в сук сучий сучок, сучок
сучок притяжение к слову сосок (+ влияние со стороны форм типа собачья титька) сосок
сучок притяжение к слову сухой (ячмень должен высохнуть) = исходному (но с «рецептурной» ремотивацией)
песьяк, сосок притяжение к слову пять пятисосок
По сути, мы имеем совершенно буквальное подтверждение знамени-
того суждения М. Мюллера о том, что мифология появляется как ненор-
мальное состояние языка, его «болезнь» (ср. потебнианское понимание
мифологии как «тени, падающей от языка на мысль» [Потебня 1989:252], а
также высказывание Г. Шухардта: «Вся мифология основывается в сущ-
ности на неправильном понимании тех или иных выражений языка»
[Шухардт 1950: 239] и др.; доверие к языку может породить не только
«народную», но и «кабинетную» мифологию26). Конечно, афоризмы тако-
го рода односторонни и должны приниматься в определенном контексте и
с определенными оговорками, однако эпизод с названиями hordeolum
демонстрирует продуктивность (= «заразность») магических переосмыс-
лений, когда языковой факт порождает какую-либо мифологему, которая
затем «бумерангом» возвращается в язык, становясь основой новой но-
минативной единицы и даже целой номинативной серии.
26 Ср. интересные и методически важные наблюдения по этому вопросу
в [Журавлев 2000].
518
Раздел V
5.2. «АФАНАС, АФАНАС ПРОВАЛИЛСЯ
НЫНЧЕ В КВАС...»
В данном параграфе изучается, как говорилось выше, роль язы-
ковой системы при формировании коннотативного спектра личных
имен. С героем этого очерка сотрудники ТЭ УрГУ (в том числе и ав-
тор этой книги) встретились во время полевой работы в Костромской
области (Буйский, Кадыйский и Солигаличский районы). Герой заста-
вил обратить на себя внимание тем, что настойчиво появлялся в со-
ставе разнородных по своей лингвистической природе фактов, между
которыми обнаруживались регулярные смысловые и образные пере-
клички, но глубинные внутренние связи, выводящие на природу яв-
ления, казалось бы, не просматривались.
Речь идет об антропониме Афанасий в связи с комплексом кон-
нотаций, присущих этому личному имени. На Костромской террито-
рии данное имя функционирует (вне первичного ономастического
употребления), во-первых, в составе топонима Афонин Квасок (более
подробная паспортизация материала будет приведена ниже, в ходе
системной его подачи), во-вторых, как название водящего в жмурках
или прятках (при этом в игровых приговорах звучит тема кваса, а иг-
рок, которого надо поймать водящему, тоже называется квасом),
в-третьих, в выражениях типа Афонъка приходил, обозначающих си-
туацию скисания жидких продуктов, в-четвертых, в составе прозвища
Афоня Кислый. Таким образом, «кислая» тема в языковом портрете
Афанасия заявлена очень определенно. Костромские говоры дают
плотную концентрацию «кислых» фактов, однако они отнюдь не уни-
кальны в этом отношении, поскольку сходные мотивы звучат не толь-
ко в указанной диалектной зоне, но и, как выяснилось в ходе даль-
нейших исследований, в широком восточнославянском контексте.
В то же время конкретные причины, определяющие связь образа
Афанасия и темы продуктов скисания, кажутся неясными. Эта связь
как будто не мотивирована никакими обстоятельствами бытийного
или культурного порядка (хрононимы, а также имена исторических
деятелей и святых, в том числе местночтимых старцев не выводят на
удовлетворительное объяснение27); ultimum refugium мотивационных
27 Представим кратко ту информацию, которую дают хрононимы и преце-
дентные антропонимы. В году девять Афанасьевых дней, из которых наиболее
известны два [см. СД 1: 119-121]. Во-первых, 18 января — день памяти Афана-
сия Великого, архиепископа Александрийского, который у русских называется
днем Афанасия-ломоноса, Афанасия береги-нос. В это время бывают афанасъев-
«Языковой МИФ»
519
исследований в сфере коннотативной ономастики — поиск «наводок»
формально-языкового свойства — тоже не дает положительных ре-
зультатов (рифма Афанас — квас, конечно, существует и в ряде слу-
чаев работает, однако она недостаточна для объяснения множествен-
ных «кислых» ситуаций, где герой фигурирует под не рифмующимся
с квасом именем Афоня). «Кислая» тема находит объяснение только в
общей системе коннотаций этого имени, она обусловлена всем «дис-
курсом» Афанасия (т. е. как бы «всем и ничем»). То же можно сказать
о других темах и мотивах, составляющих смысловую «ауру» изучае-
мого имени.
Ниже будет представлена попытка анализа коннотативного ком-
плекса, связанного с именем Афанасий. Это имя дает широкий спектр
коннотаций (хотя уступает, разумеется, таким антропонимам, как
Иван, Фома, Емеля и др.), которые реализуются и на системно-языко-
вом уровне (в различных тематических сферах лексики), и на уровне
текстовых связей.
Охарактеризуем вкратце алгоритм предпринимаемого исследова-
ния. Систематизация коннотаций изучаемого имени будет произведе-
на по двум основаниям. Во-первых, будут указаны те тематические
сферы, где функционируют нарицательные производные от имени
Афанасий (или имя собственное с определенными символическими
наращениями, только «вставшее на путь» деонимизации). К примеру,
название водящего в жмурках афанас попадает в тематическую сферу
«Игры», а результат кодирования именем Афанасий в тексте загадки
такого скрытого денотата, как веник, учитывается в тематической
сфере «Предметы». Для того, чтоб показать закономерность появле-
ские морозы, а знахари изгоняют ведьм [Даль21: 32]; ср. также присловье Афана-
сий и Кирилла забирают за рыло [Ермолов 1901: 43] и примету Када на Панасъя
мятелъ, многа будить гусинят [СОС: 574]. Этот же день носит и другие назва-
ния: влад. Афанасий-сердце [СРНГ 37: 194], орл. Афанасий-бокогрёй — Афана-
сий-бокогрей коровушке бочок греет [СРНГ 3: 70] (здесь отражен признак поло-
жения этого дня в середине зимы, когда происходит перелом к теплу). Во-
вторых, 5 июля — день памяти Афанасия Афонского. С этим днем тоже оказы-
ваются связаны некоторые метеорологические представления (см. ниже). Менее
известен Афанасий-засевалъник (2 мая) — день, к которому приурочивается на-
чало сева и пения соловьев [СД 1: 121] и др. В целом можно сказать, что пред-
ставления, связанные с этими днями, относительно скупы и более активно функ-
ционируют у южных славян, нежели у восточных [СД 1: 119-121]. В фольклоре,
не связанном с хрононимией, «прецедентные» Афанасии тоже единичны. К при-
меру, в заговорах упоминается Афанасий чернец, чье имя, вероятно, выводит на
преп. Афанасия, затворника Печерского [Юдин 1997: 82,118-119].
520
Раздел V
ния ономастических номинаций в выделенных тематических сферах,
в каждой из них по мере возможности приводятся параллели — дери-
ваты других имен, в первую очередь тех, которые фонетически близ-
ки изучаемому.
Во-вторых, будут выделены мотивы — черты языкового образа
Афанасия, которые реализуются в этих тематических сферах (мотив
глупости, медлительности, слепоты и т. п.). Как и на предыдущем
этапе работы, здесь важно найти параллели, подтверждающие устой-
чивость и неслучайность выявленных мотивов. Эти параллели — слова
и идиомы, выражающие в рамках выделенных тематических сфер те
же мотивы, что и дериваты имени Афанасий. Допустим, «приспособ-
ленность» мотива глупости для реализации семантики ‘водящий в иг-
рах’ доказывается тем, что это значение выражается словами дурак,
болван etc. Наконец, последний этап работы предполагает выяснение
внутренних связей между набором тематических сфер и набором мо-
тивов. Здесь вновь речь идет о неслучайности — но неслучайность
видится в самих закономерностях «комплектации» сфер и мотивов.
Например, сферы «Кислая пища» и «Игры» обнаруживают множество
перекличек друг с другом (в частности, наквасившим называется иг-
рок, нарушающий правила игры, квасом — игровое пространство
и др., см. параграф 4.1, с. 358-359). Значит, два основания классифи-
кации — сферы и мотивы — будут соотнесены между собой так, что-
бы была создана единая смысловая «сеть», объясняющая причины
появления отдельных своих элементов.
Материалом для исследования в первую очередь послужили дан-
ные русской диалектной лексики и паремиологии, которые представ-
лены относительно полно. Факты других форм существования рус-
ского языка рассматривались эпизодически — но они и не дают тако-
го коннотативного богатства, как диалекты, особенно если говорить о
современном литературном языке или жаргоне: имя Афанасий явля-
ется сейчас раритетным (да и раньше оно не значилось на первых по-
зициях в списке наиболее частотных русских имен). Кроме того, к
анализу привлекалась лексика и паремиология белорусского и укра-
инского языков, однако этот материал собран менее систематично,
чем русский. В источниках встречаются следующие фонетические и
словообразовательные варианты имени: Афанаси(е)й/Афонаси(ё)й /
Офонаси(е)й, Фанаси(ё)й/Фонаси(е)й,Афанас1Афонас1Офонас1Фанас/
Фонас, Фанасик, Афоня/Офоня/Фоня, Афонша, Афонъка/Офонъка /
Фонъка, Афонюшка/Офонюшка/Фонюшка, Танас, Ананас/Опанас/Па-
нас(ий)/Понас, Панъко (формы на п встречаются преимущественно в
украинском и белорусском материале, форма Танас представлена
единичной фиксацией).
«Языковой МИФ»
521
Итак, первая ступень описания материала предполагает выявле-
ние тех тематических сфер, где встречаются всяческие Афанасы.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА
В первую очередь следует сказать, что «социальный фон» имени
Афанасий характеризует его носителя как человека «из народа», из
низших сословий. Вот иллюстрации этого положения, которые при-
водит Т. Н. Кондратьева: в русских сатирических драмах имя Афонъка
Малый, Афонъка Новый и др. носили слуги; в стихотворении Мятлева
«Разговор барина с Афонькой» герой является слугой, говорящим
правду о барах. В. Г. Белинский объяснял успех стихотворения Мят-
лева тем, что оно списано «со слов какого-нибудь Афонъки, почему и
отличается тем особенным юмором, который свойствен людям этого
сословия, когда они разговаривают о барах» [Кондратьева: 28].
Помимо этой обобщенной «статусной» характеристики, интере-
сующий нас персонаж наделяется рядом более конкретных пейора-
тивных свойств (весьма близких друг другу и взаимосвязанных). Не-
которые из них проработаны как со стороны системно-языковых, так
и со стороны текстовых данных; другие выражены слабее, оказываясь
представленными только в одиночных текстовых примерах.
простофиля, глупец, невежа: пск. понас ‘невежа’ [ДО: 199;
Даль2 III: 283]. Ср. также факты паремиологии: В трех братьях дура-
ки — Иванушки, а одиночные — Емели да Афони [Даль2 II: 652]; укр.
Свисти, Панъко, ти дуршшшг, «Кожний р о бить, як знае», сказав
Панъко та й зачав корову догтиззаду [ПП 1990: 213];
ротозей, зевака: пск. понас ‘ротозей’ [ДО: 199; Даль2 III: 283],
пск., твер. хоня ‘то же’ (<— хоня, диал. вариант имени Фоня) [Отин
СлК: 376];
неловкий, медлительный человек: краснояр. афдня малахоль-
ный ‘человек, не умеющий быстро и ловко что-либо сделать’ [СРНГ
17: 319], пск. понас ‘лентяй, увалень’ [ДО: 199; Даль2 III: 283]; нелов-
кость персонажа обыгрывается также в украинской поговорке Утяв
Панька во штанях [ПП 1990: 213], а медлительность (герой ушел и не
возвращается, его приходится долго ждать) — в поговорках вроде
блр. Пайшоу Апанас па квас, дык Hi Апанаса, Hi кваса [ПП-блр 2: 309],
О пошоу Апанас по горелку для нас. Зачатуся за пень i стояу целый
дзенъ [Шейн 1/1: 537], укр. Шшов Опанас по горшку для нас, зачепився
за пень та й простояв ц!лий день [ПП 1990: 212]28; ср. также русскую
28 С походом героя за спиртным, возможно, перекликается мотив пьян-
ства героя: В. И. Даль приводит в разделе «Пьянство» поговорку Ох-охонюш-
522
Раздел V
(тульск.) прибаутку, где те же действия приписываются жене Афана-
са: Афонюшка-братец! По чем же ты плачешь? — Как же мне не
плакать! Жена молодая Зацепила за пенёк. Простояла весь денек
[МД: 146];
ЗАБИЯКА (?): афднъка — «Тихонько, Афонька, не обрёпайся! — Го-
ворят задорному субъекту, давая понять, что дадут отпор» [Куликов-
ский: 2]. Для наших последующих построений важна семантика гла-
гола обрёпаться — ‘запачкаться, вымазаться в чем-либо’ [Куликов-
ский: 68], арх. ‘о поносе, «сходить под себя»’ [КСГРС]. Отметим, что
СРНГ, формулируя значение слова афонька ‘о задиристом человеке,
которому собираются дать отпор’, весьма произвольно «подверстыва-
ет» к олонецкому примеру московский — По Афоньке шапка, по
Еремке колпак [СРНГ 1: 294]. Думается, что из этой поговорки не вы-
текает «задиристость» персонажа29;
неудачник: афонькой оказаться ‘остаться в дураках’ [СОГ 1:
50], краснояр. афдня малахольный ‘неудачник, горемыка’ — «Не везет
афоне малахольному, ничего не выходит у него» [СРНГ 17: 319], во-
рон. Афанас-Афанас, лови кошек, да не нас ‘о неудачной попытке
сделать что-либо’ [СРНГ 17: 101];
грязнуля, неряха (—> тот, кто ходит распоясанным): арх. как
у Афанасьевны ‘о грязи в избе’ — «Он один, бобыль дак, зайдёшь к
ему — как у Афанасьевны»; «У её изба грязная, вонькая, как у Афа-
насьевны» [КСГРС]. Данный факт требует отдельного комментария.
Он функционирует в очень узкой зоне — нескольких смежных де-
ревнях Ленского района Архангельской области — и не встречается
за ее пределами. Информанты старшего поколения, приводя этот
факт, иногда дают для него мотивировку (которая неизвестна тем,
кто помоложе): Афанасьевной звали женщину, работавшую в 30-е
годы председательницей местного колхоза. Желая спасти колхозное
стадо, стоявшее в холодном помещении, она разместила только что
родившихся ягнят и телят в собственной избе [КСГРС]. Такой пре-
цедент вполне вероятен, однако нам важна лингвистическая «ретро-
спектива и перспектива» этой ситуации: возможно подключение
прецедентного имени к бытовавшему ранее «беспрецедентному»
ки, хорошо жить Афонюшке; одним Фонюшка не хорош: промысел его не-
гож [Даль ПРН2 3:309].
29 Ср. литер, по Сеньке (и) шапка ‘кто-либо того и достоин, что-либо то-
го и заслуживает’, а также многочисленные варианты типа По Ивашке и
рубашка', По Еремке шапка, по Сеньке кафтан', По Сеньке шлык, да по нем и
сшит (коли косенько сшит); По Сеньке шапка, по-таковскому и колпак
и т. и. [Даль ПРН2 1: 458; 2: 657].
«Языковой МИФ»
523
выражению со сходным смыслом; если даже такого выражения не
было, при забвении прецедента расширительный смысл, разумеется,
укрепляется и получает независимость.
Специально подчеркивается такое особое проявление неряшливо-
сти героя, как его «распоясанность»: влг. афанасий беспоясый ‘о не-
ряшливом человеке’ [СРНГ 1: 294], афонасъи беспоясны ‘дразнят ре-
бят, которые без опояски на рубахе’ [Даль2 IV: 70]. Ср. украинскую
пословицу (иллюстрирующую также «простофильство» и ротозейство
персонажа): Догадався Панъко очкур зав’язати та й думае, що по-
мудршшв [ПП 1990: 212].
С неряшливостью пересекается отсутствие порядка вообще, сум-
бур, ср. катавасия у дядюшки Афанасия ‘шумная сходка, беспорядок,
сумбур’ [Кондратьева: 28];
слепец: укр. Штурх Панька в око, а вш i так слтий [ПП-укр:
213]. Слепота приписывается также водящему в жмурках, а это —
частотная роль Афанаса (см. ниже), ср. полесский игровой приговор,
обращенный к водящему: Кисель вару, Панасу вочи зальу\ [БДПА:
Малые Автюки Калинковичск. р-на Гомельск. обл.].
Е. С. Отин включает в гнездо диалектных производных от имени
Афанасий также следующие контаминированные формы: твер., пск.
маргафдня ‘простофиля’, маргафднтъевна ‘неисполнительная, лени-
вая женщина’ (первая часть этого сложного слова, очевидно, связана с
глаголом моргать); забайк. мордофдня ‘человек, который зазнается’
[Отин СлК: 62].
В перечень дериватов от этого имени, по мнению Е.С.Отина,
следует ввести и глагол наафднить ‘сделать что-то такое, что вызы-
вает негативную оценку, осуждение’ — «„Наафонил я, говорит, на
своем веку не мало“. Он у Демидова-купца шестьдесят тысяч тяпнул»
<Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы> [Отин СлК: 62].
Любопытный специализировавшийся смысл фиксируется в со-
временной городской разговорной речи: афоня ‘мастеровой, рабо-
чий в системе жилищно-коммунального хозяйства, склонный к «ле-
вым» заработкам’ [Отин СлК: 61-62]. К коллекции реализаций этого
значения, собранной Е. С. Отиным30, следует добавить и имя героя
30 Ср. примеры из современной периодики: «Я им было рубль, так они
(сантехники) на меня, как на провокатора, посмотрели и чуть было не бегом
из квартиры... Что делается, а? „Афони“ денег не берут!.. Не держатся „афо-
Н1Й — вот штука. И, уж само собой, не держат их здесь. Хотя рабочих рук,
конечно же, не хватает» <«Литер. газета», 1983 г.>; «Берут в „Сансервис“
высококвалифицированных, хозяйственных, болеющих за результаты своего
труда специалистов — Афоням здесь места нет»; «— Коммунальщик в на-
524
Раздел V
известного фильма «Афоня» (режиссер Г. Данелия, исполнитель
главной роли Л. Куравлев), который был как раз недобросовестным
сантехником.
Как показывает И.В.Родионова, подобные характерологические
смыслы появляются у семантических дериватов личных имен отнюдь
не случайно; более того, можно говорить о том, что такого рода
представления о негативных качествах человека тяготеют к систем-
но-языковой реализации с помощью отыменных производных [Ро-
дионова 2005: 176-178]31. Особенно важно, что сходные значения
возникают у дериватов имен, близких к Афанасию (Афанасу и др.)
по своему внешнему облику, — Агафона и особенно Фофана (< Феофа-
на^ эта близость подчеркивается наличием общего для этих имен
деминутива Фонъка. Ср. влг. агафдн ‘о простаке, глупце’ [СРНГ 1:
201], жарг. агафдн ‘глупый осужденный из сельской местности’ [БСЖ:
29], фофан простореч. ‘дурак, идиот’, арх. ‘человек с растрепанны-
ми, неприбранными волосами’ [КСГРС], костр. ‘бранно: остолоп,
идиот’ — «Уйди-ка хоть, как фофан стоишь» [ЛКТЭ], пск., твер.
фдфанитъ ‘обманывать, плутовать’ [ДО: 287], офдфанить ‘одура-
чить; -ся, стать фофаном’ [Даль2 II: 771], жарг. фофан ‘жертва пре-
ступления, легко поддавшаяся на уловку преступника; слабоумный,
шем представлении — это пожилой человек, не совсем трезвый, в рукавицах,
с двумя ключами, решающий все проблемы городского хозяйства. Этот сте-
реотип укоренился в сознании людей. — Вы, Александр Алексеевич, прямо
нарисовали портрет Афони 25 лет спустя... — Да, и этому стереотипу мы
должны противопоставить качественные коммунальные услуги» «^«Програм-
ма плюс», Донецк, 2002 г.)> [Отин СлК: 61-62].
31 Ср. приводимые И. В. Родионовой многочисленные факты дерива-
ции на базе личных имен, представленные в русских говорах и реализую-
щие те же (или близкие) смыслы, что и производные от имени Афанасий'.
‘умственно ущербный, дурак’ (акулюшка, емеля, иван-дурак, мироном смот-
реть ‘казаться глуповатым’, Никита, савасъян, сафон, фефёла, филатка)',
‘простак, простофиля’ (агафон, андха, ахрамёй, елёся, ерёма, макар, мала-
нъя, мирон, петряюшка, савдська, фатюй, фатюк)', ‘несообразительный,
рассеянный, забывчивый человек’ (слепые макары, малаха, улита, стёха,
стёша, филя тобольский)', ‘нерасторопный, неумелый человек’ (акулина,
акуля, кйпря, кёша-курощуп, митя, маланъины сборы ‘долгие, медленные,
бестолковые сборы’, моня, фетйнья, фёша, фома)', ‘неряха, грязнуля’
(грязная Алёна, артюшка, ходить, как ваня-дураня ‘о плохо, грязно и
бедно одетом человеке’, вавйло, матрёнка, матрёшка, ненйла, севка)',
‘забияка, драчун, хулиган’ (артюха, гаврик, саватюга) и мн. др. [Родио-
нова 2005: 161-175].
«Языковой МИФ»
525
жертва преступления’, ‘тихий, запуганный человек’, надуть фофана
‘обмануть жертву’ [Отин СлК: 366] и др.32.
Эти факты говорят о том, что не последнюю роль в формировании
системы коннотаций изучаемого имени сыграла фоносемантика, осо-
бенно — наличие звука ф (о негативных коннотациях у имен с этим
звуком см. [Отин 2003: 56, 65-66; Журавлев А. П. 1974:139 и др.]).
ИГРЫ
Рассматривая функционирование интересующего нас антропони-
ма в игровой сфере, укажем, что имя Афанас встречается в термино-
логии двух очень близких игр — жмурок (чаще всего) и пряток. В по-
давляющем большинстве случаев имя обозначает водящего; иногда
метонимически переносится и на название самой игры (словари не
всегда это фиксируют и дифференцируют, но логика развития значе-
ний, несомненно, именно такова). В единичных ситуациях использо-
вание имени определяется «нарративным» или «диалоговым» режи-
мом коммуникации: водящий «в третьем лице» называется ка-
ким-либо другим словом, а имя Афанас, обращенное к водящему,
встречается в его диалогах с другими игроками (очевидно, такие си-
туации возникают вследствие контаминации различных обозначений
водящего или разных названий одной и той же игры). «Афанасовская»
игровая лексика распространена очень широко — во всех трех восточ-
нославянских языках (из русских говоров, насколько нам удалось об-
наружить, представлены следующие: арх., влг., костр., Краснодар.,
ср.-урал.). Отметим также, что из всех вариантов антропонима чаще
всего встречаются варианты на -с (Афанас, Панас, Опанас и т. п.), что
вызвано, скорее всего, функционированием имени в составе игровых
приговоров, влекущим за собой рифмовку Афанас — нас — квас и др.
ВОДЯЩИЙ В ЖМУРКАХ; ИГРА В ЖМУРКИ; ОБРАЩЕНИЕ К ВОДЯЩЕМУ ПРИ
игре в жмурки: афанас (офонас, охонас) ‘игра в жмурки’ — «На
святках, на рожестве офонасом играли»; «Попряли — и хватит. Да-
вайте в офонаса играть. Когда в офонас играли, кричали: — Офо-
нас, кого хлебашь? — Квас да ягоды! — Ищи нас два годы»
32 Ср. также ряд близких по смыслу экспрессивных слов, которые могут
иметь различное происхождение, но очень близки данному ряду по звуковой ма-
терии: офеня сиб. ‘плутующий, нечестный торговец’, перм. ‘глупый, бестолко-
вый человек’ [СРНГ 25: 20], офарафонитъ ‘надуть, обмануть’ [СРГСУ 3: 97],
офарфдшитъ оренб. ‘устыдить, сконфузить’, амур, ‘устыдиться, сконфузиться’
[СРНГ 25: 20], офофбнитъ ‘опозорить, пристыдить’ [СРГК 4: 342], влг. фофб-
нитъся ‘«расфуфыриваться», одеваться нелепо и вызывающе’ [КСГРС] и мн. др.
526
Раздел V
[СРГСУ 1: 28; 3: 97, 99]; афонас ‘водящий при игре в жмурки’, ‘иг-
ра в жмурки’ — «На Святках глаза завязывали — афанасом называ-
лось. Куды соберутся: Давайте афанасом играть. Поставят его в
сторонке, а сами разбегутся. Кто спрыснет <прыснет>, кто вздох-
нёт. Он от рукотерником <полотенцем> или опояском ударит»
[ЭИС 4: 109]; влг. афонас ‘водящий в игре в жмурки’, ‘игра в жмур-
ки’ [СГРС 1: 25]; влг. афонасом (опонас) ‘игра в жмурки’ афанас
(опонас) ‘водящий в игре в жмурки’ — «Афанас, Афанас, поди по
нас» [ДКСБ: 384-385]; влг. афанасами (офонасом, из афанасов)
‘игра в жмурки’, афанас (афонас, опонас, офонас) ‘водящий в игре
в жмурки’ «—Афанас, Афанас! У чего стоишь? — У косяка. —
Чего хлебаешь? — Шчи да квас. — Ишчы три года нас!»; «Офонас,
Офонас, Не ходи боле по нас!» [Морозов, Слепцова 2004: 692-693];
костр. афонас ‘водящий при игре в жмурки’, афонас (афонасы)
‘игра в жмурки’ — «В афонасы играли: Афонас, Афонас, ты ищи
три года нас»’, «Афонас-от ловит. Он если за скобку дверную
подержится, дак поймает кого. А кого он поймал, того квасом зовут:
— Афонас, Афонас, Ты почто пришел? — По квас»’, «Бегали и пели
детишки: Афанас, Афанас Провалился нынче в квас» [ЛКТЭ],
Краснодар, опанас ‘водящий при игре в жмурки’ [Покровский: 205],
арх. офандс ‘игра в жмурки’ [СРНГ 25: 20], влг. офонасом (играть)
‘играть в жмурки’ [КСГРС]; укр. апанас ‘игра в жмурки’ [Покров-
ский: 204], укр. панас ‘игра в жмурки’ — «I у панаса грати стала,
Енея б титьки уловить» [Гринченко 3: 91], зап.-полес. панас ‘игра в
жмурки’ [Аркушин 2: 25], блр. апанас (панас) ‘игра в жмурки’ —
«Будзем гуляць у панаса. Хто будзець Панасам!» [Насовтч: 6, 391]33.
33 Ср. также описания игры и действий водящего, приводимые А. В. Те-
рещенко и Е. А. Покровским: при игре в жмурки, которая в Великороссии на-
зывается слепым козлом, а в Малороссии панасом, «одной из девушек завя-
зывают глаза, ведут ее к дверям и ставят вместо слепого козла. Тут козел
стучит ногами, бодает рогами в дверь; на его стук сбегаются, бьют его по
спине ладонью и, переменив голос, говорят: Афанас, не беи нас; Афанас,
ходи по нас“... Козел должен ловить их, потому в это дело избирают прыт-
кую и изворотливую. Несметливая девушка гоняется до поту и не может сло-
вить... Пойманный в игре сменяет козла. В Малороссии Панас —то же самое,
что Афанасий — отводится к дверям с завязанными глазами. Панас получает
удары с приговором: „Панас, Панас, не ходи по нас. Панас, узнай нас, Панас,
лови нас“» [Терещенко: 23-24]; «В Новотитаровской станице, на Кавказе,
вожак с завязанными глазами говорит: — Пуп, пуп! Я сховаюсъ в полонку
(прорубь). —Ая тебя за головку! — Отвечают остальные. — А я в дижичку! —
Я тебе за нижичку! — А я заховаюсь в лободу! — А я тебе и так найду. —
«Языковой МИФ»
527
Ср. также тексты игровых приговоров, где функционирует имя Афа-
нас (Апанас), не совпадающее с именованием ведущего: (при игре в
слепого козла ‘жмурки’) «Игроки спрашивают: Кто здесь? Слышен
ответ: Афанас! Тогда все игроки говорят: Афанас! не бей нас! Афа-
нас! Ходи по нас!» [Сахаров: 156]; (при игре в кота ‘жмурки’
(блр.)) «Выбирают кота, завязывают ему глаза и ведут к дверям.
Кот берется за ручку дверей, а участники игры задают ему вопросы:
— Кот, кот, на чым стами? — На дубе! — За што трымаешся? —
За сук... — и т. д. — А нам што? — Смола на лапаце! Тогда все
бьют кота по спине под песенку: Апанас, Апанас, твоя жонка у нас.
Увал!лася у квас, JIaei сем год нас. После этих слов кидаются от ко-
та в разные стороны» [ДФ: 497-498];
водящий в прятках; игра в прятки: арх. афанас ‘водящий в игре в
прятки’, ‘игра в прятки’ — «Афанас, поди по нас, не имай нас, ба-
ушка у нас, на полке грош, меня век не найдёшь» [СГРС 1: 25],
костр. офонас ‘водящий в игре в прятки’ — «Галились над им:
„Офонас, Офонас, Ты почто насрал сейчас?"» [ЛКТЭ], арх. афонъ-
ка ‘водящий в игре в прятки’ [СГРС 1: 25]; блр. апанас ‘игра в
прятки’ [ГИЗ: 106].
«Начерно» отметим существование тесной смысловой связи между
данной рубрикой и предыдущей (характеристиками человека): во-
дящий в играх представляется простофилей и дурачком, его все об-
манывают. В ходе дальнейшего изложения эта связь обрастет до-
полнительными подробностями.
К роли водящего в жмурках близка роль персонажа святочного ряже-
ния (жмурки во многих русских локальных традициях были свя-
точной игрой), который тоже мог носить изучаемое нами имя: ср.
костр. Афонша — персонаж, ходивший по святочным посиделкам и
исполнявший роль «жениха» [Морозов 1998: 222, 230].
Использование деонимизированного антропонима при номина-
ции водящего (или какого-то иного персонажа в играх) вполне типич-
но, ср. следующий ряд (заведомо неполный): арх. Окулька, слепая
Дунька, слепой Максим, слепой Мартын ‘водящий в играх (преиму-
щественно в жмурках или прятках)’ [КСГРС], Иван, Яша [ЭИС 4: 90,
102], Захарка [Сахаров: 162-163], Уля, Ванъка, Орина (Орина из ови-
Опанас, Опанас, не попачкай дитей-нас! При последнем слове играющие
ударяют вожака по спине и разбегаются в разные стороны, а слепой вожак,
разведши руки, ходит и ловит их. Поймав кого-нибудь, вожак обязан назвать
его по имени и, если угадает, то передает пойманному свою роль» [Покров-
ский: 205].
528
Раздел V
на, погоняй нас), слепая Олена ‘то же’ [МД: 362-363, 416, 417, 429]
и мн. др. Есть игры, дающие целый букет таких наименований: ср., к
примеру, варианты обозначений уральской игры дядя Трифон (и, со-
ответственно, названий водящего в ней), в которой игроки должны
повторять движения водящего: дядюшка Иван, дядя Трифон, дядя
Яков, дядя Прозеваха, тётушка Паша, тётка Ротозея, дядя Митяй
[ЭИС 4: 84-86], а также ряд названий водящего в жмурках, зафикси-
рованный в вологодских говорах: слепой Максим, Фофан, Пахом (По-
хон, Пахомко), дед Бахон [Морозов, Слепцова 2004: 691]. Таким обра-
зом, антропонимические номинации водящего наиболее характерны
для жмурок и пряток. Одна из причин тому — важное условие игры, в
соответствии с которым водящий в жмурках и прятках должен на-
звать (отгадать) имя пойманного (найденного) игрока, после чего по-
следний становится водящим, ср.: арх. «Йесли он тебя найдёт, ошшу-
пайет, назовёт твойо имя — ты галиш, а йесли нет — он снова» [АОС 9:
31] (об этом см. также [Покровский: 113, 205, 245; Терещенко: 24 и др.]).
Так отгадывание имени становится значимой частью «поисковой про-
граммы», а само имя — элементом образа водящего.
Наконец, следует отметить, что в номинативном пространстве
игр функционируют термины, фонетически близкие Афанасу. В пер-
вую очередь это имя Тарас, рифмующееся с Афанасом и со словом
нас, типичным для игровых приговоров, ср. диалог водящего и игро-
ков в варианте жмурок, записанном в Пензенской губернии: Кто
там? —Дядя Тарас. —Ходи по нас, не открывай глаз [Терещенко:
24]. Ср. также использование в составе игровой лексики дериватов
имени Фофан и перекликающихся с ними слов: ср.-урал. офдфан
‘детская игра (какая?)’ [СРГСУ 3, 97; СРНГ 25, 21], влг. фофан ‘во-
дящий в жмурках’ [ДКСБ: 384-385], арх. офофурину искать ‘играть
в прятки’ [КСГРС], фофаны ‘карточная игра, дураки, дурачки’
[Даль2 IV: 538].
В сферу «Игры» включим также (с изрядной мерой условности!)
влг. афонина борода ‘дым от масленичного костра’ [Морозов, Слеп-
цова 2004: 818, 845]. Этот факт И. А. Морозов и И. С. Слепцова рас-
сматривают как реализацию темы покойников, звучащей в связи с
именем Афанасий', авторы указывают, что имена Афанас, Афоня, Фо-
фан употреблялись в качестве эвфемистических названий покойника
[Морозов, Слепцова 2004: 845]. Однако в нашем материале нет ни од-
ного факта, который бы со всей определенностью выводил именно на
«покойницкие» мотивы. Возможно, они встречаются вне собственно
языковой сферы — или же возникают как результат интерпретации
темы водящего в играх, осуществляемой исследователями (о «покой-
ницких» аллюзиях, связанных с фигурой водящего, см. [Там же: по
«Языковой МИФ.
529
указателю]). Как бы то ни было, «прямая» семантика Афанасий =
«покойник», кажется, не фиксируется; мотивировка идиомы афонина
борода может быть раскрыта вне «покойницкой» темы: как будет по-
казано дальше, мотив дыма вполне согласуется с мотивом неприятно-
го (кислого) запаха, который со всей определенностью просматрива-
ется (чувствуется) в «портрете» нашего героя.
ПИЩА, НАПИТКИ
«Пищевые» значения Афанаса четко и узко определены: это
имя привлекается при номинировании жидких продуктов, в той или
иной мере связанных с процессом брожения, кислых или прокис-
ших. При этом дериваты имени не обязательно приобретают собст-
венно пищевые значения, но так или иначе «сотрудничают», обыг-
рываются в этой сфере. Выделим названия соответствующих про-
дуктов брожения.
ПРОКИСШИЙ СУП, МОЛОКО: костр. Афонъка пальцем ткнул, Афо-
ня в лаптях прошёл, Афонъка (Афоня) приходил (пришёл, прошёл,
ступил, был, побыл), Афонъка завалился, Афонъка набздел (бзнул),
Афонъка свистнул, Афонъка (Афоня) ногу опустил ‘о прокисшем су-
пе, молоке’ — «Афонъка пальцем ткнул, то есть суп испортился»;
«Афонъка ужо завалился, выливай суп-от»; «Вот когда щи прокиснут
у кого, мы называли третьегоднишние, а кто говорит, что Афонъка
набздел»', «Молоко скиснет да запах тяжёлый — ну, Афоня пришёл»*,
«Мамка-та говорит: ,,Афонъка-то ногу опустил", вот и смотрим в та-
релку, как это» [ЛКТЭ]; влг. Афонъка заходил ‘о прокисших продук-
тах’ [КСГРС], Афонъка оказался "(шутл.) о прокисшей пище’ —
«Суп, думал, хароший, а там Афонька аказался» [ПОС 1: 75], карел,
(рус.) Афоня лапти мочит (Афоня лаптем ступил) ‘о прокисшей пи-
ще’ — «Суп пришлось вылить поросенку, Афоня лаптем в суп сту-
пил» [СРГК 1: 24; 3: 97], Офоня приехал ‘суп скис’ [ЯОС 7: 70]. По-
давляющее большинство номинаций такого рода являются предикат-
ными, характеризуя ситуацию скисания, но в некоторых случаях фик-
сируются и квалитативные номинации: костр. Афоня кислый ‘про-
кисший суп’ [ЛКТЭ], ср. также в антропонимии: Афоня Кислый —
житель деревни Ведрово Кадыйского р-на Костромской обл. — «Отец у
него Афанасий, а кислый — дак суп прокисший, так называют Афоня
Кислый» [АКТЭ];
КВАС: руч. Афанасьев Квас [Туг], Афонькин Квас [Некр], протока
Афонин Квасок [Буй]. Мотивы номинации здесь неизвестны, и они
могут быть в каждом случае индивидуальными, однако повторяе-
мость таких названий на разных территориях и «квасные» связи Афа-
530
Раздел V
насия вне топонимического употребления заставляют задуматься о
том, что перед нами идиоматичное смысловое целое, в котором опре-
деление не имеет, скорее всего, типичной и частотной для микрото-
понимии посессивной семантики. Подобную фразеологизацию можно
предполагать также для некоторых других «квасных» топонимов: руч.
Акулин Квас [Чухл], руч. Бабкин Квас [Уст], руч. Матрёнин Квас —
«Матрёна поставила квас, а он у ей заквасился, вот ручей и потёк»;
«Матрёна из этого ручья гостей угощала, водой вместо кваса-то»;
«В Заборье спросили: „Нет ли у вас кваса? — Нет“. В Прохнове тоже
спросили. А они: „Не дошел еще“. Так и назвали — Матрёнин Квас.
Вода в ём редко текёт, только весной, болотна водичка» [Плес, Федо-
во], лог Федорин Квасок [К-Г], руч. Опрохин Квас — «Опроха квас
пролила» [Уст, Кононовская] (о топонимах такого типа и стоящих за
ними представлениях подробнее см. параграф 1.2, с. 68-71). В этих
топонимах представлены собирательные (несмотря на свою «квази-
индивидуализацию») образы готовящей квас женщины — бабки, Акули,
Матрены, Опрохи, Федоры, причем образы эти, как правило, имеют
яркую негативную окраску, предполагая неряшливость, неуклюжесть,
лень и т.п. [Родионова 2005: 171-174; Отин СлК: 36-39, 231-232,
352-353]. Образ мужского персонажа (Афанаса) вряд ли вписан в
сценарий приготовления кваса, но дает сходные коннотации.
Помимо топонимов, связь Афанас — квас проявляется на тексто-
вом уровне — в паремиологии. Это преимущественно тексты диало-
гов водящего и игроков в жмурках или прятках (т. е. реплики вроде —
Афонас, Афонас, ты почто пришел? — По квас, которые были пред-
ставлены выше). Вероятно, игровое происхождение имеют и следую-
щие паремии (хотя нельзя отрицать и возможность их появления вне
игрового контекста): укр. Нате й moi штани в квас, щоб i я був Опа-
нас [ПП 1990: 212], Пайшоу Апанас па квас, дык ni Апанаса, Hi кваса
(этот текст приводился выше как иллюстрация к такому качеству
Афанаса, как медлительность)34;
горелка: здесь следует напомнить тексты вроде Ппиов Опанас по
горыку для нас, зачепився за пень та й простояв щлий день, которые
тоже приводились выше в связи с темой медлительности героя;
тесто: укр. Не втне, Панъко, micma, бо ячмшне; Не утнеш,
Паньку, micma, шм, прийде жшка з Micma [ПП 1990: 213] (ср. также
Не втне Панъко шилом борщу [Там же]). Смысл этих поговорок, оче-
34 Ср. варианты этой поговорки: Пашоу пасол па расол — Hi пасола, ш
рассола; Пашоу пасол, да i у nay у рассол; Паиии Цппа па ci та — няма ci та,
няма Lfima [ПП-блр 2: 309]; Ушел посол и утонул в рассол. Коли не удавится,
то назад явится [Даль ПРН2 2: 216].
«ЯЗЫКОВОЙ МИФ»
531
видно, следует трактовать в связи с абсурдностью действий героя, ко-
торый пытается резать, протыкать тесто или борщ, умять растущее
тесто обратно в квашню.
Как показывает приведенный ряд, связь образов Афанасия и про-
дуктов брожения (ср., кстати, такую черту образа Афанасия, как
пьянство) является очень устойчивой и выражается в большом диапа-
зоне трансляторов информации — от текстов паремий до топонимов.
В номинативном поле бродящей пищи функционируют и имена дру-
гих мужских персонажей. Приведем их перечень (каждый персонаж
попадает в этот ряд в соответствии с особым комплексом причин, од-
нако нам важен сам факт использования личных имен в данной номи-
нативной области).
Иван: ивашка ‘бражка или пиво домашнего приготовления или
низкого качества’; сарат. ‘бражка, сильно разбавленная водой’ [СРНГ 12:
57], влг. ивашко-другон ‘пиво, спущенное во второй раз, оно жиже и
горчее (вообще хуже) первого’, ряз. иванёц ‘пиво особого изготовле-
ния; бражка’ [СРНГ 12: 55, 57];
Иисус: костр. Исус ночевал (бывал) ‘о хлебе со вздувшейся, под-
нявшейся коркой’ [ЛКТЭ]. Этот фразеологизм вписывается в круг
других диалектных фактов, отсылающих к мотиву странничества
Христа [см. Родионова 2000: 156-158];
Киприян: влг. киприЛны ‘плохо поднявшееся тесто’ [СРНГ 13:
217]. Ср. также поговорку У нашего Куприяна все дети пьяны [Даль
ПРН2 3: 309] (несмотря на рифму, во многом определяющую подбор
имени, он может оказаться и содержательно обусловленным, ср. ал-
люзию к простореч. кирять ‘выпивать, пьянствовать’);
Тараска: Тараска спит, А таратайка гуторит (Опара) [Садов-
ников: № 491]. В данном случае имя Тараска подбирается как наибо-
лее близкое по звучанию слову таратайка, которое несет в себе яр-
кую звукосимволику. Оба эти слова «аккомпанируют» звуковому об-
разу брожения теста, эксплуатирующему звукосочетания тор-1тур-1
хор-1 ер-1 яр-/юр-huyp- и т. п., который воссоздается в загадках [Садов-
ников: № 494-497; РЭФ: 418-419]. Ср., кстати, использование имени
Тарас при номинации водящего в жмурки;
Фофан: костр. фофан ‘неудавшийся, неподнявшийся хлеб’ [ЛКТЭ].
Необходимо отметить, что звуковой рисунок этого имени тоже соот-
ветствует звуковой теме поднимающегося теста.
Особо следует сказать об имени Прокопий, функционирующем в
составе перм. Прокопий проехал ‘прокисло’ [СРНГ 32: 161-162]. Дан-
ная номинация наиболее близка фактам типа Афонъка приходил — и
причины выбора имени персонажа в этом случае особенно интересны.
Одна причина носит системно-языковой характер: имя Прокопий (да
532
Раздел V
еще в соседстве с гл. проехал). вероятно, возникает на основе созву-
чия глаголу прокиснуть. Но кажется, можно предполагать большую
степень мотивированности, нежели простое анаграммирование. Вероят-
но, здесь добавляется мотивация от хрононима. 8 июля по ст. ст. — день
великомученика Прокопия [Калинский: 212; ПРП: 151-154], который
носит также следующие названия: арх. Прокопьев день — «О Прокопь-
ев день дожди и грозы» [КСГРС], забайк. Прокопка — «В Прокопку у
нас зароды стояли. Прокопка прошел35, говори, что лето на закат
идет» [СРНГ 32: 212].
Подтверждение «грозного» (= грозового) характера Прокопьева
дня можно обнаружить в полесской календарной традиции. Сам хро-
ноним Прокопьев день (или подобные) в Полесье не зафиксирован, но
по датам он точно совпадает с таким праздником, как Явление иконы
Пресвятой Богородицы в Казани, т. е. Казанская. В контекстах, иллю-
стрирующих употребление последнего хрононима, указывается, что в
этот день часто бывают бури, грозы и град: «На Казаньску, 5 дней после
Петра, — градавой день»; «Батька хадиу драть на лапти — ну, и молния
запалила дом нам» и др. [Толстая 2005а: 115-116]. Ср. также пред-
ставления поляков об опасности дождя в этот день: Zle па Р rokopa Jak
zmoknie кору [Ермолов 1901: 373]. Возможно, мотив грозы получает
устойчивую связь с хрононимом (а отсюда и с именем Прокопий), что
влечет за собой, в свою очередь, появление мотива скисания в конно-
тативном спектре имени: известно, что в народных представлениях
гроза вызывает скисание молока [Ермолов 1995: 186]36.
Кстати, любопытно, что день великомученика Прокопия соседст-
вует в июльском календаре (а июль считается самым грозовым меся-
цем в году) с днем преподобного Афанасия Афонского, который от-
мечается 5 июля по ст. ст. (об этом дне см. [Калинский: 212; ПРП:
155-156]). Последний, как уже говорилось, не очень заметен в народ-
ном календаре; свидетельства о нем в различных месяцесловах скупы.
Однако все же с днем памяти святого Афанасия Афонского связаны
некоторые метеорологические представления: На Афанасия Афонско-
го месяц на всходе играет — к урожаю [Ермолов 1901:371]; Как медь
желты в этот день облака — к дождю', Из гнилого кута наволокло
35 В данном примере опять, вероятно, срабатывает анаграмма Прокопка
прошел.
36Верования такого рода распространены очень широко: А. С. Ермолов
указывает на бытование их в народных традициях славян и германцев [Ермо-
лов 1995: 186]; присутствуют они и в бытовом сознании современных горо-
жан. Очевидно, они основаны на реальных физических предпосылках: нали-
чии во время грозы большого количества озона в воздухе.
«Языковой МИФ »
533
тучи — будет дождь [ПРП: 156]. Наиболее отчетливо метеорологи-
ческие коннотации этого хрононима фиксируются у южных славян
(Афанасию Афонскому в этом случае соответствует Атанас Свето-
горский): «В южной Сербии св. Атанас Светогорский почитается как
защитник от бури, грозы. Обычай закрывать сосуды с водой во время
грозы связывают с легендой о святом Атанасе, который заключил
дьявола в сосуд, сосуд бросил в море, но рыбак выловил его сетью и
открыл, выпустив дьявола» [СД 1: 121]. В контексте наших изыска-
ний особенно интересно упоминание о необходимости закрывать со-
суды с водой (предохраняя ее от закисания). Возможно, аллюзию к
хронониму содержит и русская «метеорологическая» поговорка Гово-
рили Афанасью, быть де ненастью', знай поскакал, да колёсы расте-
рял [Снегирев: 71], хотя нельзя исключать, что здесь сказалась ба-
нальная рифма Афанасью — ненастью.
В то же время апеллирующая к календарным представлениям це-
почка зависимостей, которая может сработать для образа Прокопия,
выглядит слабоватой для объяснения связи Афанасия и мотива ски-
сающей пищи (южнославянский материал здесь пока не подтвержда-
ется восточнославянскими параллелями). Это лишь один узел в моти-
вационной сети, которую предстоит восстановить.
СОМАТИКА37
penis: арх. фоня (фбнька) ‘penis’ — «Бесстыжий, ширинка нараспашку да
фоню выставил»; «У его фонькабуде вместо головы» [КСГРС]. Этот же
антропоним функционирует в эротической загадке: арх. Туды суну-
том щелканёт, Оттуль вытяну —лопонёт, А на конце сидит Офоня,
Ермечинин сын (ключ и замок) [РЭФ: 392]. Можно учесть и такой
факт: в украинских заговорах имя Опанас (Танас) используется в ряду
других мужских имен, которыми обозначается ураз (враз, золотник)',
последнее означало и смещение матки38, и саму матку; субъект обра-
щается к уразу, называя его по имени (Вразе-Власе, вразе-Опанасе
и т. п.), «замовляе, загортае» и посылает на место [Юдин (рукопись)].
Вообще, антропонимы нередко номинируют половые органы —
и мотивы такой номинации прозрачны: шифровальный эффект, при-
сутствующий у имени собственного в функции нарицательного, как
нельзя лучше подходит для целей табуизации. Ср. фольклорные
37 В эту сферу включаются как обозначения частей тела, так и физиоло-
гических процессов.
38 Болезнь эта считалась и мужской в связи с народным убеждением в
наличии матки и у мужчин [Юдин (рукопись)].
534
Раздел V
иносказательные обозначения penis’a вроде Фома с красной шля-
почкой, Васюта с бородой, Тимоха с бородой, Ярилко, Филимончик
[РЭФ: 155, 639-640, 407, 409], жарг. ванька-встанька ‘легко возбу-
ждающийся мужской половой орган’ [БСЖ: 88], а также Миронья и
Хавронья в значении ‘vagina’ [РЭФ: 640-641], маланья, малашка
‘vulva; задняя часть тела’, марфа, марфутка ‘задняя часть тела’
[Кондратьева: 70, 73] и др.; ср. также жаргонные «масскультурные»
номинации Карлсон, Демис Руссос, Луис Альберто, Штирлиц, Цукер-
ман ‘мужской половой орган’ [Отин СлК: 123, 194, 213, 381, 392]39.
понос: укр. дАдько панас [ПЛНМ: 49]. Здесь налицо проявление той
же шифровальной функции, что и в предыдущем случае; неслучайно
поэтому наличие других антропонимических номинаций, выражаю-
щих рассматриваемый смысл: укр. настя, швидка настя, гонка настя,
тётка настя, швидки iean [Там же], ср. также рус. жарг. иван-таскун
‘болезненные спазмы желудка от крутого, плохо пропеченного хле-
ба или недостаточно проваренной пищи’ [Кондратьева: 52]. В этом
ряду имя Панас занимает особое место, поскольку при его появле-
нии, несомненно, большую роль сыграла аттракция к слову понос.
ПРЕДМЕТЫ
Предметные образы, связанные с именем Афанасий, наиболее
специфичны в плане особенностей манифестации: они встречаются
только в загадках. Имя используется для кодирования двух сходных
между собой предметов — веника и снопа; тексты загадок с этими
скрытыми денотатами практически идентичны.
веник (в т.ч. растрепанный): Маленький Афанасий лычком опоясан,
по полу елозит, заду не занозит*, Маленький Фанасик лычком под-
поясан (голик); Уж ты еж, еж, ты куда ползешь? — На боярский
двор. Там дедушка Афанасий лычком подпоясан; лычко спало, та-
тарочка украла (растрепанный голик) [Садовников: № 308а; 314а, г].
По мнению В. Н. Топорова, в загадках такого типа наблюдается ана-
грамма: Дядя Афанасий лыком подпоясан? — Веник [Топоров 2004:
742]40. Полные сведения о распространенности «антропонимиче-
39 «Антропоморфизм» penis’a подтверждается также следующим обстоя-
тельством, которое небезынтересно в контексте данной работы: этот образ
обнаруживает связи с образом водящего в играх. Ср. такие обозначения во-
дящих, как дедушка-рожок и пропихач, которые недвусмысленно апеллиру-
ют к образу penis’a [Топоров 2002: 105-107].
40 Эта версия правомочна, но несколько «подрывается» тем, что отгадка
«Языковой МИФ
535
ских» загадок о венике в восточнославянском фольклоре пред-
ставлены в [Юдин 1998а: 304-305], где приводится богатый пере-
чень «имен» этого предмета: Антон, Василька, Дашла, Дорофейко,
Ерофейко, Макарчик, Максимко, Мартын, Матвешак, Миколка,
Митя, Стахш, Степан, Степанко, Трофимко, Филипп. Антропо-
морфность веника подкрепляется такими признаками, как подпоя-
санность, способность к передвижению, «юркость» 41;
сноп: Маленький Фанасик {Афанасий) лычком {травкой) подпоясан
(сноп) [Садовников: № 322; 1280] и др. Помимо имени Афанасий {Фа-
насик, Опанас), при «загадочном» кодировании снопа встречаются
имена Дорофейко, Егорий, Федосья [Юдин 1999: 19; Юдин 2007: 54].
Выбор имени Опанас в украинских загадках может быть мотивирован
анаграммой Опанас — сноп; кроме того, по мнению М. Лесёва, здесь
еще работает созвучие со словом опасаний — ‘завязанный’ (излагается
по [Юдин 2007: 54]).
Причины использования одних и тех же имен и однотипных тек-
стов для загадывания веника и снопа, как уже говорилось, прозрачны:
предметы эти очень похожи, только первый динамичен, а второй ста-
тичен. Кроме того, для «сноповых» номинаций работает дополни-
тельный фактор — фоносимволический. Т. Н. Кондратьева предлагает
еще одно объяснение: «Слово Афанасий в загадках может обозначать
и сноп и веник, так как после дня св. Афанасия кончалось приготов-
нередко выражается не словом веник, а словом голик.
41В контексте нашей работы небезынтересно то, что образ веника обна-
руживает связи с другими образами, которые обозначаются именем Афана-
сий. Так, веник, особенно банный, весьма часто фигурирует как скрытый де-
нотат эротических загадок, ср.: Вышел Ярилко Из задней избушки, Стал бабу
ярить'. По шерсти, по персти, поперек шерсти. Ярил да ярил, Да наярил доб-
ро (печку метут помелом); Дедушко на бабушке Ярык да ярык. Не в ту дырку
попал, В голбец упал (помелом в печи подметают); Вспомни, Ваня, дорогой,
Как меня наяривал'. И в стоячку, и в лежачку Промеж ног давал горячку (ве-
ник) [РЭФ: 379, 407, 429; см. также 377-380]). Кроме того, образ веника ока-
зывается связанным с образом водящего в играх. Ср. текст приговора в игре
хоронушки ‘прятки’: арх. Туда Митя, Сюда Митя, Ты ишши нас, Митяй, Ты
повсюду залезай [КСГРС]. Прямого упоминания веника тут нет, однако текст
приговора недвусмысленно указывает именно на этот образ, ср. типичную за-
гадку о венике Туда Митя, Сюда Митя, И под лавку ушел [Садовников: № 316],
в которой имя персонажа содержит аллюзию к глаголу мести [Юдин 1998а:
307]. Основой для сопоставления является функциональный признак: водя-
щему, как и венику, надо быть вездесущим.
536
Раздел V
ление веников и начиналась жатва хлебов» [Кондратьева 1964: 156].
Эта догадка весьма остроумна, но уязвима тем, что практически не
верифицируема: во всем обширном материале, связанном с именем
Афанасий, не находится ни одного другого факта, как-то ее подтвер-
ждающего. Предложим еще одно объяснение, опирающееся на моти-
вационные параллели: ярчайшая характеристика снопа и веника —
наличие пояса; мотив пояса просматривается в структуре образа Афа-
насия (см. раздел «Характеристики человека»). При этом «распоясан-
ность» Афанасия и подпоясанность снопа и веника не противоречат
друг другу: важно само внимание к этой детали, а идея отсутствия
пояса в номинациях человека объясняется их общей негативной на-
правленностью. Кроме того, «загадочный» веник тоже может быть
растрепанным, потерявшим пояс!
Итак, мы закончили обзор тех тематических (денотативных) сфер,
где встречается имя Афанасий. По ходу представления материала бы-
ла выявлена самая общая отсистемная мотивация изучаемых
фактов: во всех сферах производные имени Афанасий фигурируют
параллельно производным от других имен. Таким образом, в каждой
сфере работает «фактор имени собственного». Однако пока
сами сферы кажутся изолированными друг от друга (хотя некоторые
пересечения и параллели уже намечены или выявлены) и образуют
радиальную структуру, в центре которой изучаемое имя. Думается,
что для представления коннотативного спектра данного имени более
приемлема не радиальная, а сетевая структура. Как уже говори-
лось, она будет построена (оживляя образ сети, следует сказать «свя-
зана») с учетом двух оснований — не только тематических сфер, но и
мотивов — т. е. разного рода черт, признаков, присущих персонажу.
Некоторые мотивы уже были названы (ротозейство, медлительность
и др.). Поскольку данное исследование нацелено прежде всего на вы-
явление регулярных, системных закономерностей, определяющих
формирование коннотаций, мы в первую очередь будем работать со
сквозными мотивами — теми, которые представлены в нескольких
тематических сферах.
Иными словами, наши усилия будут направлены на выявление
мотивных перекличек из разных сфер. При этом особое положение
занимает сфера «Человек»: она является ведущей сферой, точкой от-
счета, ибо в ней представлены все мотивы, претендующие на статус
сквозных. Это понятно: данная сфера наиболее близка к семантике
изучаемой нами производящей основы (имени Афанасий). От нее на-
правляется вектор поиска мотивов в других сферах (игровой, пище-
вой, соматической, предметной). Данные источников, которые уже
приводились выше, будут кратко пересказаны без паспортизации.
«Языковой МИФ»
537
ГЛУПОСТЬ, РОТОЗЕЙСТВО
человек: Афанасий считается глупцом, ротозеем и невежей; он спо-
собен к абсурдным действиям (к примеру, доит корову «сзаду»);
игры: водящий в играх получает такие недвусмысленные наиме-
нования, как арх. болван, арх., влг. дурак и др. [КСГРС]; ротозейст-
во водящего отражено в вят., кубан. зевака ‘тот, кто промахнулся в
игре’ [Покровский: 245], а также в приводившихся выше обозначе-
ниях вроде дядя Прозеваха, тётка Ротозея и т. д. Не последнюю
роль в наделении водящего этими характеристиками играют детали
его внешнего облика: он стоит с нахлобученной на глаза шапкой,
растопыренными руками ит. п. (ср. яросл. пакли растопырить ‘о
рассеянном, несообразительном человеке, простофиле’ [ЛКТЭ]).
Что касается условно приписанной к группе «Игры» идиомы
афонина борода, называющей дым от масленичного костра, то она
находит переклички в вят. дурь ‘чад, угар, смрад, вызывающий
дурноту, головокружение’ [СРНГ 8: 273];
пища: связь образов дурака и кислой пищи обратима, ср. модели ‘ду-
рак’ —> ‘кислая, бродящая пища’ (костр. дурак ‘неудачный, испол-
нявшийся хлеб’ [ЛКТЭ], иван. дура ‘четверть с брагой’, арх., перм.
дуранда ‘недобродившее пиво, брага и т.п.’ [СРНГ 8: 263-264]) и
‘кислая пища’ —> ‘дурак’ (вят. квашня ‘простак, несообразительный
человек’, пск., твер. киселяй ‘вялый, неумелый, бестолковый человек’
[СРНГ 13: 164, 228], арх. опара ‘о неповоротливом, глуповатом чело-
веке’ [СРНГ 23: 235-236], ворон., вят., костр., яросл. простокваша
‘простак, простофиля’, пск. простокйша ‘то же’ [СРНГ 32: 248], влг.
полубелый с квасом ‘дурак’ [КСГРС], пск. неудача с квасом ‘о несо-
образительном, рассеянном человеке, растяпе’ [СПП: 55] и т. п.);
соматика: костр. дурак ‘penis’ [ЛКТЭ]. К теме испражнений ср. так-
же диал. шир. распр. дурь ‘гной’ [СРНГ 8: 273].
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗБУДИМОСТЬ, ЗАДИРИСТОСТЬ
человек: Афанасий считается забиякой, задирой, которого надо оса-
живать;
пища: мотивационная связь образов бродящих напитков и эмоциональ-
ного возбуждения человека двунаправленна. Во-первых, возможно
движение «от напитка к человеку»: простореч. буза ‘скан-
дал, шум, беспорядок’ (при литер, буза ‘легкий хмельной напиток
из проса, гречихи, ячменя’), влг. ерунда ‘прозвище вздорного и за-
538
Раздел V
диристого крестьянина’ (ср. ерунда симб. ‘жидкий безвкусный на-
питок (квас или бражка)’, самар. ‘скверное питье’) [СРНГ 9: 35],
оренб. пузырный ‘раздражительный’ (при костр. пузырное пиво ‘пени-
стое, пенное пиво’) [СРНГ 33: 116] и т. п. Во-вторых, может сработать
вектор «от человека к кислой пище»: костр. огнёватъся
‘прокиснуть’ [СРНГ 22: 323], влг., вят., перм. изругаться ‘испор-
титься’ [СРНГ 12: 70], влад. свирепый ‘крепкий (о пиве)’ [СРНГ 36:
294], сиб. забалуй ‘пиво, брага’ (при забалуй ‘шалун, баловник’)
[Даль2 I: 550]. Примеры взяты из [Пьянкова 2004], где представлен
подробный анализ семантических связей такого рода;
соматика: яросл. забияка ‘penis’ [ЛКТЭ], заиграть ‘futuere’ [РЭФ: 641];
предметы: веник изображается в загадках как чрезвычайно задорный
и резвый персонаж, его характеризуют такие определения и предика-
ты, как удаленький, бегунок, куражится, наиграется, скачет, пляшет,
скок, двиг, шмыг и др. [Садовников: № 306-319]; ср. также факт со-
временного интержаргона: шустрый веник ‘бойкий человек, проныра’.
МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ
человек: Афанасий медлителен вследствие своей неловкости; когда
его посылают за квасом или горелкой, он заставляет долго (целый
день) себя ждать;
игры: костр. жданки прогалйтъ ‘о водящем в игре в прятки: превы-
сить время, отведенное на поиск спрятавшихся игроков’ [ЛКТЭ].
Эта идиома описывает такой вариант игры, при котором вводится
временное ограничение на действия водящего (общенар. галйтъ
‘водить в играх’); из-за медлительности и нерасторопности водящего
игроки иногда слишком долго просиживают в своих укрытиях, ожи-
дая, пока их найдут или будет предоставлена возможность выбежать;
пища: образ кислой пищи имеет весьма отчетливую темпоральную
составляющую, проявленную как в обозначении самого скисания,
брожения, так и в переносных номинациях, ср.: Час придет, и квас
дойдет [Даль2 I: 485], ворон, лапша прокиснет ‘об опоздании’
[СРНГ 16: 270], енис. (как) на опаре киснуть ‘медленно что-либо
делать’, томск. кисель продавать ‘тихо ходить’ [СРНГ 13: 227, 238],
Это подогретые щи ‘старые вести’, Эти щи из Царяграда пеши
шли [Даль2 IV: 657] и др. Номинации такого рода несут любопыт-
ную этнокультурную информацию, указывая на такой «эталон»
времени, как скорость приготовления пищи. Отметим, кстати, что
наш герой Афанасий неслучайно задерживается именно в походе за
«Языковой МИФ»
539
квасом (а в паремиях, варьирующих эту идею, посол падает в мед-
ленно засаливающийся рассол);
соматика: мотив испражнений («зада») соотносится с мотивом мед-
лительности, ср. гузать ‘медлить, мешкать’ [СРГСУ 1: 129].
НЕУДАЧА, КОНФУЗ, ОШИБКА
человек: Афоне не везет, он неудачник и горемыка;
игры: тема неудачи и конфуза является едва ли не центральной в
языковом образе водящего в играх. Роль водящего, как правило,
достается тому, кто допустил ошибку, нарушил правила игры —
сделал то, что обозначается просторечным глаголом окарапся. У этого
глагола есть метафорические синонимы, в том числе: метафора
сгорания (перм. прогорелый ‘нарушивший правила в игре в
жмурки и становящийся вожаком’ [Покровский: 205], сгореть ‘не
попасть мячом в цель (в игре в вышибалы)’ [ЭИС 4: 85], огорел
‘при игре в классы: полукруг, куда нельзя наступать ногой’, сго-
рать ‘наступать ногой в этой полукруг и начинать игру снова’
[ДКСБ: 104]), скисания, сквашивания (костр. сквасить ‘на-
рушить правила игры, переступив линию, на которой должны стоять
игроки’ [ЛКТЭ] (подробнее см. параграф 4.1, с. 358)), испражне-
ний (костр. насрать ‘не соблюсти каких-либо правил игры’, ‘про-
махнуться, бросая мяч (в играх)’ [ЛКТЭ]; арх., влг. сгузать ‘нару-
шить правила игры’, влг. гузало ‘тот, кто плохо или нечестно играет
(и, как правило, выходит из игры)’ [КСГРС]; ср. также влг., перм.
сгузать, арх. сгузйть ‘спятиться, не устоять в слове; струсить, сро-
беть’ [Даль2 IV: 165]) и др.42);
42 Отметим, что наши выкладки могут быть учтены при обсуждении
проблемы семантических связей глагола галйтъ, являющегося, в частности,
общенародным обозначением действий водящего в играх. Существует не-
сколько омонимичных галйтъ, отношения между которыми получают неод-
нозначные трактовки (о различных продолжениях одного или разных *galiti
см. в [ЭССЯ 6: 92-94; Варбот 2003а: 25-27]). Не пытаясь высказаться в поль-
зу гомогенности или гетерогенности этих слов (к решению этого вопроса
нельзя даже приблизиться походя, в маргиналиях к разработке другой про-
блемы), укажем все-таки на смысловую близость семантики вождения в иг-
рах (общенар. галить), а также значений ‘срамить, конфузить кого-либо’,
‘позорить себя чем-либо; делать что-либо, вызывая насмешки людей’, ‘сме-
яться, насмехаться’, ‘валять дурака, беситься’, ‘страдать рвотой, извергать
рвоту’, ‘портить что-либо, повреждать что-либо’ (см. в [СРНГ 6: 111-112]).
540
Раздел V
пища: мотив неудачи прослеживается при обозначении плохо пропе-
ченной выпечки (арх., влг., иркут., костр., курган., перм., свердл. не-
удача ‘неудачно испеченный хлеб’ [СРНГ 21: 188]), а также бродя-
щих напитков (Удача — брага, неудача — квас; Удастся — бражка,
не удастся — квасок [Даль ПРН2 1: 138]). Модель работает и в дру-
гом направлении: образы продуктов скисания и брожения исполь-
зуются при номинации каких-либо неудачных действий человека: к
примеру, ошибок в играх (см. предыдущую рубрику), неудачного
сватовства (об этом см. в параграфе 3.1, с. 253-254).
ДУРНОЙ ЗАПАХ, ИСПРАЖНЕНИЯ
человек: мотив испражнений появляется в тексте одного из игро-
вых приговоров, обращенных к игроку, допустившему ошибку
(Офонас, Офонас, Ты почто насрал сейчас?). Возможно, именно с
таким акцентом следует интерпретировать значение глагола обре-
патъся в контексте Тихонько, Афонька, не обрепайся (ср. выше о
двух значениях этого глагола — ‘запачкаться’ и ‘испражняться’).
Рискуя вызвать улыбку читателя, выскажем все же предположение
(не очень, правда, серьезное), что в рамках данной рубрики следу-
ет рассматривать и профессию современного Афони — сантехник.
Чем объяснить настойчивое «кружение» изучаемого имени вокруг
данного мотива? Очевидно, здесь проявился фактор фоносимволики:
имя Афоня обнаруживает несомненную перекличку с грубо-просто-
речным глаголом нафунять ‘навонять, испортить воздух кишечными
газами’ [БРЭР; 362], нафунить ‘то же’. Можно предположить, что ис-
пользуемый Ф. М. Достоевским глагол наафонить (см. выше) являет-
ся «приподнятым» вариантом этого просторечного слова;
игры: как говорилось выше, идея неудачи в игре, приводящей к тому,
что игрок становится водящим, может быть реализована с помощью
слов, обозначающих физиологические отправления, в частности,
глаголов насрать и сгузать. Тема дурного запаха представлена
также в семантике идиомы афонина борода, обозначающей дым от
масленичного костра;
пища: действия Афони, инициирующие скисание пищи, обозначаются, в
частности, словами набздел, свистнул, ногу опустил. В контекстах
подчеркивается тяжелый запах продуктов скисания: «Молоко
скиснет да запах тяжёлый — ну, Афоня пришёл». Вообще, наиме-
нования бродящих (скисающих) продуктов иногда сопоставляются
с обозначением испражнений (здесь значимо и внешнее сходство, и
сходство процессов газообразования): дрожжа пск., твер. ‘дрожжи’,
«Языковой МИФ»
541
‘закваска’, пск. ‘жидкие испражнения’ [СРНГ 8: 196], кавардака ‘гус-
тая брага последнего спуска’, ‘жидкое кушанье дурно приготовлен-
ное’, пск., твер. ‘боль в животе, сопровождающаяся урчанием и поно-
сом’ [СРНГ 12: 291] и др. (подробнее см. в [Пьянкова 2005: 89-93]);
соматика: рассматриваемый мотив напрямую представлен в назва-
нии поноса — дядька панас.
ГРЯЗЬ, ПАЧКАНИЕ
человек: Афанасий (Афанасьевна) представляется неряхой, грязну-
лей: его предостерегают, чтоб «не обрёпался» (запачкался);
игры: обращаясь к водящему, игроки говорят: Опанас, Опанас, не по-
пачкай дитей-нас! Обозначенный в этом приговоре мотив пачкания
«опредмечивается» при выборе водящего. По свидетельству А. В.Те-
рещенко, в Пензенской губернии при игре в жмурки «вместо кона-
ния один из игроков марает сажею свой палец и, зажавши его с
прочими, подходит ко всем и предлагает выбрать любой палец, и
тот, кто возьмется за осаженный, тому завязывают глаза платком
или нахлобучивают на глаза шапку», делая водящим [Терещенко:
24]; то же известно о выборе водящего в прятках в Вологодской гу-
бернии: «водящий избирается, дотронувшись до замазанного сажей
пальца» [Иваницкий: 159]. Кроме того, идея пачкания системно
реализуется в игровой терминологии, характеризующей действия
водящего уже непосредственно в ходе игр — как рассматриваемых
нами жмурок и пряток, так и близких им салок, пятнашек, ляпок:
водящий должен дотронуться до игрока и запятнать, заляпать,
засалить его, ср. регулярную семантическую связь «марать, пач-
кать» «тронуть рукой, ударить», «подбросить ударом мяч» (под-
робнее об этой связи см. в [Пьянкова 2003: 200-205], а также в па-
раграфе 4.1, с. 377-378, 381). Очевидно, с целью запятнать (= запач-
кать) нередко использовался такой пачкающий материал, как смола
или деготь, ср. приведенный выше белорусский приговор при игре в
жмурки, где упоминается «смала на лапаце», и метафорическую мо-
дель юж. квач ‘помазок в дегтярнице’ [Даль2 П: 103] дон., курск.,
орл., зап.-брян. квач ‘в детской игре: один из играющих, которому за-
вязывают глаза и он ловит остальных’ [СРНГ 13: 162].
НЕПОДВИЖНОСТЬ (КАК СТОЛБ)
человек: Афанасий изображается стоящим неподвижно (зачатуся за
пень i стояу целый дзень). Типичная поза ближайшего антропони-
542
Раздел V
мического «партнера» Афанасия — Фофана — тоже стояние стол-
бом, ср. в контексте к фофан ‘остолоп, идиот’ — «Уйди-ка хоть, как
фофан стоишь», а также паремию Наш фофан в землю вкопан
(столб). [Даль2 IV: 538; Даль ПРН2 2: 582];
игры: для игры в жмурки и прятки значимо то, что водящий стоит у
вбитой в землю палки, печного столба, дверей, дверной скобы
ит. п. [ДКСБ: 385; Покровский: 206-209 и др.] (о символике игро-
вого столба см. в [Топоров 2002: 98-99]);
соматика: самый распространенный эвфемистический предикат
penis’a — стоять', сам penis может быть назван колом, палкой, по-
леном, сучком и т. п. [РЭФ: 639-640].
ПОЯС
человек: как говорилось выше, Афанасий ходит без пояса (особенно
подчеркивается отсутствие пояса на ребенке, условно названном
этим именем43) и считает, что проявляет особую мудрость, если
догадается его завязать;
игры: в одном из контекстов, описывающих игру в жмурки (в афана-
са). указывается, что водящий, обнаружив игрока по какому-то шу-
му, ударяет его «рукотерником или опояском». Очевидно, водящий
снимает с себя пояс и держит его в руке;
предметы: имя Афанасий дается снопу и венику — предметам «под-
поясанным», а иногда и растрепанному венику, с которого спало
лычко (поясок).
СЛЕПОТА
человек: Афанасию приписывается слепота;
игры: водящему в жмурках завязывают глаза; его называют слепым коз-
лом, слепой Оленой, слепой Дунькой и т. п. (об идее слепоты, имеющей
важнейшее значение для понимания тех представлений, которые свя-
заны со жмурками и прятками, см., например, в [Топоров 2002: 82-83]).
Описанные выше сквозные мотивы обнаруживают различную
продуктивность. То же можно сказать о тематических сферах, в кото-
рых они реализуются. Это обстоятельство определяет порядок рас-
43 Об особой значимости подпоясывания ребенка говорит поверье Не
подпоясав мальчика, на улицу не пускать [Даль2 III: 197].
«Языковой МИФ»
543
смотрения сфер, которого мы придерживались выше: характеристики
человека — игры (жмурки и прятки) — кислая пища — соматика —
предметы (по убыванию количества сквозных мотивов в каждой сфе-
ре). Представим данные о продуктивности мотивов и сфер в таблице:
Сквозной мотив — коннотация антропонима Афанасий Сферы реализации мотива
характеристики человека игры (жмурки, прятки И др.) кислая пища соматика предметы
глупость, ротозейство + + + +
эмоциональная возбудимость, задиристость + + + +
дурной запах, испражнения + + + +
медлительность + + +
неудача, конфуз, ошибка + + +
неподвижность (как столб) + + +
пояс + + +
грязь, пачкание + +
слепота + +
По своей категориальной природе сквозные мотивы разнородны:
среди них выделяются качественные мотивы (глупость, эмоциональная
возбудимость, медлительность, слепота), предметные (столб, пояс, ис-
пражнения, грязь), предикатные (неудача). Особая спаянность мотив-
ного комплекса достигается за счет того, что связи между мотивами
выстраиваются в разных направлениях: мотивы не только объединены
тем, что реализуются в одних и тех же тематических (денотативных)
сферах, — они еще и вступают в смысловые переклички друг с другом.
Самым активным можно признать мотив глупости, который
встречается в четырех тематических сферах из пяти (такие же показа-
тели у мотива эмоциональной возбудимости и дурного запаха, но реа-
лизации мотива глупости в отдельных тематических сферах более
разнообразны и весомы). Данный мотив можно избрать отправной
точкой для определения той логики, в соответствии с которой выстраи-
вается именно такой мотивный комплекс. Образ дурака и ротозея Афони
разрабатывается на разных ступеньках конкретизации. Ближе всего к
ядру «синонимы» и следствия глупости, которые указывают на ее
«социальный резонанс»: дурак не умеет вести себя по отношению к
другим людям (забияка) и по отношению к работе (медлительный,
544
Раздел V
неудачник). Эти характеристики продолжаются и преломляются в бо-
лее внешних, физических чертах героя: социальная «ущербность» — в
ущербности перцептивной (слепота), медлительность и неловкость — в
типичной для него неподвижной позе. Отсюда выводится последняя
ступень конкретизации и «овнешнения» характеристик, где появля-
ются некоторые предметные детали, которые символически замеща-
ют дурака (столб) или являются его атрибутами (отсутствие пояса,
грязь, испражнения). Нарисованная картина характерна для традици-
онного сознания, которое ищет в первую очередь социальные и физи-
ческие проявления и следствия глупости.
Поскольку реконструируемая нами смысловая сеть систематизирует-
ся за счет установления двух осей отношений — отношений между моти-
вами (коннотациями имени Афанасий) и тематическими сферами, в кото-
рых реализуются мотивы), то могут быть исчислены следующие варианты
связей в сети: 1) тематическая сфера — коннотативный мотив (внешние
связи сфер и мотивов: первые дают экспликацию вторых); 2) мотив —
мотив (внутренние связи мотивов друг с другом); 3) сфера — сфера
(внутренние связи между тематическими сферами). Первые два варианта
связей были охарактеризованы выше; что касается третьего, то здесь
предполагаются широкие сопоставления внутри лексико-семантической
системы, которые должны продемонстрировать глубокую укорененность
в ней ономастических коннотаций. Изучение связей тематических сфер
друг с другом — предмет отдельного исследования, которое далеко уво-
дит от имени Афанасий, поэтому мы не будем описывать эти связи в
рамках данной работы; укажем лишь, что проведенный «за кадром» ана-
лиз обнаружил наличие таких связей для рассматриваемых нами темати-
ческих сфер. Приведем лишь один пример.
Устойчивые связи существуют между сферами кислой пищи и со-
матики. В последней (в связи с образом Афанасия) наиболее отчетливо
звучит «половая» тема. Если понимать данную тему более широко — как
сексуально-репродуктивную — то следует говорить об обратимости пи-
щевой и «сексуальной» моделей. Движение модели из сексуаль-
но-репродуктивной сферы в пищевую направляется идеей женитьбы, ко-
торую «совершает» пища, квас при закисании или разбавлении водой.
Ср.: сарат., куйб. женить ‘разбавлять водой (квас, пиво ит. п.)’, курск.
женилась похлебка ‘прокисла похлебка’, ‘просваталась (о девушке)’
[СРНГ 9: 125-126], калуж., курск., нвсиб., твер., тульск. просвататъся
‘прокиснуть, испортиться (о пище)’ [СРНГ 32: 223], смол, в сваты по-
ехать ‘прокиснуть, испортиться (о пище)’, пск., твер. свататься ‘проки-
сать, портиться (о щах, похлебке, молоке и т.п.)’ [СРНГ 36: 216-217]
и т. п. Кстати, с этой темой «кислой женитьбы» перекликается отражен-
ный в белорусском игровом приговоре образ жены Ананаса. которая
«Языковой МИФ»
545
провалилась в квас: Апанас, Апанас, твоя жонка у нас. Увалыася у квас.
Тема сватовства и женитьбы продолжается темой полового акта (ср.
якут, (рус.) сват ‘половой член’, сватья ‘о женском наружном половом
органе’ [СРНГ 36: 216, 221]), кЛорая разрабатывается, к примеру, в
жарг. квасить ‘futuere’ [ЛЗА], а также в загадках типа Стар да матер,
До коренья дотер. До мошны засадил, Всю ночь заводил (Квашня целую
ночь кисла); Государь мой батюшка Против печки, на лавочке Развалил
свою матушку, Запихал суковатую палочку (Квашня и мутовка); Дедуш-
ка на бабушке — Шир да шир. Соскочит да поточит — Да опять шир
да шир (Мутовкой в квашне мешают) [РЭФ: 419^120, 429]. Ср. также за-
гадку: Под полом (полем!) мужик Поткой грозит (Квас) [СРНГ 30: 284-
285]. Комментарий к такого рода сюжетам см. в [Пьянкова 2004].
Движение модели в обратном направлении — из пищевой сферы
в сексуально-репродуктивную — встречается реже. В качестве при-
мера можно привести идиому цедить квас, эвфемистически назы-
вающую действие участников святочной игры — т. е. манипуляцию,
которую совершает девушка с половым членом мужика или парня,
при этом сам penis представляется как кран квасника (подробнее см.
параграф 4.1, с. 356-357). Ср. также символику продуктов брожения и
скисания в ситуации отказа при сватовстве (параграф 3.1, с. 253-254).
Можно было бы проиллюстрировать также взаимодействие сфер
кислой пищи и игр (см. параграф 4.1, с. 356-363), связи между обра-
зом веника (снопа) и «человеческой» сферой, соматической и игровой
сферами etc. Важно, что изучаемый набор тематических сфер не име-
ет «разрывов»: все сферы оказываются связанными мотивационными
узами (то более, то менее сильными). Так создается мотивационный
контекст, на фоне которого проясняются закономерности, опреде-
ляющие формирование системы коннотаций имени Афанасий.
Итак, набор коннотаций имени Афанасий является хорошо органи-
зованной системой, структурированной по принципу сети, расположение
узлов которой определяется двумя параметрами — мотивами, деталями,
чертами языкового образа Афанасия и теми сферами, где они находят
свое воплощение. Связи внутри сети подчас настолько сильны, что в не-
которых своих участках она превращается в текст, обладающий при-
знаком локальной связности. Наиболее яркое проявление ло-
кальной связности — столкновение в одной синтагме элементов раз-
ных сфер. Речь идет в первую очередь о триаде человек — кислая
пища — игры: каждый элемент ее связан с именем Афанас не только
по отдельности, в конкретных изолированных номинациях, но иногда в
составе единого сюжета: Афанас догоняет кваса в игре; Афанас (или его
жена) падает (валится) в квас, опускает туда ногу, хлебает его, продает
или достает, свистит в нем, полощет штаны или мочит лапти.
546
Раздел V
Однако локальные связи эпизодичны, поскольку основной массив
материала — комплекс «рассыпанных» номинаций. Более значимо то,
что представленный «дискурс» Афанаса в известной мере обладает
глобальной, концептуальной связностью. Она проявляется в
тесном взаимодействии сквозных мотивов, среди которых ведущим
оказывается мотив дурака, простофили. Вокруг него разрабатывается
концептуальный сценарий с прорисовкой не только признакового и
предикатного, но и предметного уровней, элементы которых вступа-
ют в переклички друг с другом. Таким образом, в данном «тексте»
(как и в других «текстах» такого типа) концептуальная связность зна-
чительно сильнее локальной.
Кроме того, данной сети фактов присущ признак цельности,
дополняющий свойство связности. Цельность проявляется в том, что
сферы реализации мотивов объединены отношениями взаимоперехо-
дов и не образуют лакун. И вновь — при общей цельности «текста»
отдельные его участки обладают весьма низкой степенью содержа-
тельной независимости и самодостаточности (иными словами, многие
конкретные фрагменты текста непонятны сами по себе, вне общего
целого). Разумеется, речь идет не о коммуникативной достаточности
каждого конкретного языкового факта (т. е. способности знака вы-
полнять свою основную функцию), а о его мотивационной прозрач-
ности. Прочтение отдельного факта нередко затруднено отсутствием
непосредственной мотивировки (носителю языка в каждом конкрет-
ном случае может быть неясно, почему именно Афоня рисуется
«агентом скисания», водящим в играх и т. п.). Ситуации мотивацион-
ной «достаточности» (наличия явной, «видимой» мотивировки того
или иного факта) немногочисленны. К ним можно отнести следую-
щие: слабо просматриваемую связь с хрононимом (ср. метеорологи-
ческий мотив, который, в свою очередь, соотносится с мотивом ски-
сания), частный случай мотивации именем реального персонажа (как
у Афанасьевны), а главное — мотивацию от звукосимволики или со-
звучия и, конечно, рифмы. Несмотря на то, что звукосимволика и
рифма являются весьма сильными факторами, они все-таки не могут
быть признаны мотивационной основой всего комплекса (как уже
говорилось, даже при реализации темы скисания могут использовать-
ся нерифмующиеся варианты имени), — скорее им должна отводиться
роль одного из механизмов «раскрутки».
Таким образом, появление коннотативных смыслов как будто не
имеет «видимых» причин, срабатывают по преимуществу косвенные,
«отсистемные» мотивационные связи, связи «второго порядка». Именно
поэтому нам пришлось выстраивать столь объемную мотивационную
конструкцию, показывающую, как уже говорилось, глубину враста-
«Языковой МИФ»
547
ния данной мотивной парадигмы в семантико-мотивационное про-
странство языка. Вся система могла быть «запущена», «раскручена» в
какой-то одной или нескольких «сильных позициях»: допустим, при од-
новременном движении из центра «Человек» (здесь действует звукосим-
волика имени, определенные коннотации «социальной среды», а также
общая модель «имя собственное» —> «негативная характеристика чело-
века»), из центра «Кислая пища» (рифма Афанас — квас) и «Соматика»
(Афоня — нафунятъ и т. п.). Получив эту мотивационную «закваску»,
система стала активно развиваться, достраивая себя самое.
Позволим себе высказать несколько более общих соображений,
связанных с теми вопросами, которые оказались затронутыми в дан-
ном исследовании. Причины обращения к изучавшемуся выше мате-
риалу глубже, чем желание разобраться с темой кислой пищи (послу-
жившее непосредственным импульсом для анализа коннотаций имени
Афанасий) или с какой-то иной деталью. Нам показалось небесполез-
ным представить модель описания ономастических кон-
нотаций, которая выводила бы, как говорилось выше, на принципы
построения коннотативного комплекса, логику формирования состав-
ляющих его смыслов. В то же время предложенная модель не претен-
дует на универсальность: это одна из ряда моделей, который следует
выстроить для того, чтобы разработать принципы системно-структур-
ного изучения коннотативной семантики.
Думается, что именно системный аспект оказывается пока наи-
менее разработанным звеном теории коннотации — и это понятно:
сфера коннотативной семантики чаще всего «проходит по ведомству»
дисциплин лингвокультурологического толка, ориентирующихся ско-
рее на поиск уникальных, специфических проявлений духовной куль-
туры в языке, нежели на установление регулярных системных зако-
номерностей. Эта ситуация поддерживается положением о капризно-
сти и непредсказуемости коннотаций, а также тем, что коннотации
чаще всего выявляются «точечно» и предстают как одна-две черты,
«оттенка», «напластования», «добавки» к основному значению. Зна-
чительно реже изучается комплекс, «пучок» коннотаций или коннота-
тивный спектр какого-либо слова, а еще реже осуществляется струк-
турирование этого комплекса (например, важный опыт такого струк-
турирования представлен в [Толстой, Толстая 1995а]). Очевидно, что
систематизация коннотативной семантики должна проводиться иначе,
чем систематизация семантики «базовой»; ясно и то, что единую мо-
дель такой систематизации выработать невозможно (пока?), посколь-
ку слишком разнообразны по своему внутреннему рисунку коннота-
тивные комплексы отдельных лексем и разных классов лексики.
548
Раздел V
По-видимому, отличие имен собственных от нарицательных при
образовании коннотаций заключается в разной технике организации
коннотативного спектра. У имен нарицательных коннотации сигни-
фикативны, а значит, выводимы из корпуса знаний об объекте, вслед-
ствие чего образуют вокруг слова-носителя своеобразную радиаль-
ную структуру (петух какой? — драчливый и задиристый, рано про-
сыпается, имеет красный гребешок etc.). Что касается имен собствен-
ных, то здесь радиальная структура коннотативного спектра может
быть обнаружена только у так называемых культурных, прецедент-
ных имен (Москва какая? — нарядная, красивая, «говорливая» и т. п.).
«Обычные» имена, не имеющие статуса прецедентных и, соответствен-
но, разработанного и общеизвестного смыслового наполнения, могут по-
лучать такой коннотативный спектр, который не может быть представ-
лен радиально, поскольку смысловые линии не выводятся напрямую из
определенного центра — представлений об объекте. Носитель языка вряд
ли сможет объяснить, почему имя Афанасий связывается с описанным
выше комплексом характеристик - и сам комплекс вырастает на основе
косвенных «отсистемных» мотивационных связей. Таким образом, ком-
плекс коннотаций некоторых «обычных» имен (типа рассмотренного
выше) может быть представлен, как было показано выше, скорее как се-
тевая, а не радиальная структура: в узлах сети — средства и модели язы-
ковой системы, использование которых наделяет имя коннотациями.
Специфика рассмотренной выше модели определяется в первую
очередь тем, что она действует в тех случаях, когда лексема не имеет яв-
ного мотивационного «вывода», мотивировки «первого порядка». Ти-
пичные примеры коннотаций — трусливость зайца, глупость осла, болт-
ливость тещи, лень русского, наивность чукчи, умение совести «разгова-
ривать» и т. п. — имеют объяснения «первого порядка», поскольку объ-
ясняются тем, как наивное сознание интерпретирует реальные свойства
денотата или же свойства, приписанные ему культурно-языковой тради-
цией. Прихотливость и алогичность коннотации проявляется не в том,
что «ослиная» коннотация случайна (некоторые свойства животного,
особенности его контактов с человеком и т. п. вполне определенно вле-
кут за собой соответствующие семантические последствия), а в том, что
логически она несущественна и может не выделяться у других лексем с
идентичным значением (тем более — у эквивалентов в других языках).
Может быть, ономастическая лексика ведет себя в плане образования
коннотаций принципиально иначе, чем лексика нарицательная? И да, и
нет. Расшифровать ономастические коннотации зачастую непросто (не
говорим об элементарных случаях типа удаленности Сибири или трудо-
любия и бесправия Золушки), но многие из них тем не менее вполне ясно
«прочитываются», допустим, в культурном контексте (для антропонимов
«Языковой МИФ»
549
таким контекстом нередко становится соотнесенность с хрононимом44),
в связи с формально-языковыми факторами и т. п. (подробный анализ
причин, определяющих появление антропонимических коннотаций, пред-
ставлен в [Родионова 2005: 181-187]). Другое дело, что ономастическая
семантика создает наиболее благодатную питательную среду для образо-
вания косвенных семантических связей, поскольку она слабо разработа-
на в понятийном плане. Тем самым в ряде случаев создается «мотиваци-
онная недостаточность» имени, которая компенсируется широкой сетью
системных связей, выявляемых на глубинных семантических срезах.
Какие еще слова естественного языка обладают свойством моти-
вационной недостаточности? Этот вопрос требует отдельного неторо-
пливого обсуждения, но пока мы можем обозначить два полюса на
шкале мотивационной недостаточности. Один из них образуют собст-
венные имена типа Афанасий, не имеющие изначально статуса «куль-
турного имени (слова)» и получающие свой богатый коннотативный
спектр при запуске «системного маховика». Как показано выше, кон-
ституирующая работа системы оказывается здесь значительно более
важной, чем проявление одного-двух факторов (нередко формального
свойства — фоносимволики, рифмы), которые ее инициируют. На дру-
гом полюсе шкалы располагаются некоторые «культурные термины» из
разряда нарицательной лексики — например, названия ритуальных пред-
метов. Описывая мотивированность слов такого рода (ср. названия риту-
альной бороды — дед, перепелка, коза и т.п.), С. М. Толстая отмечает:
«Названия ритуальных предметов часто не имеют прямой обрядовой мо-
тивировки, непосредственной связи со структурой обрядового текста, но
могут быть мотивированы глубинной семантикой обряда, его мифо-
логическим содержанием и назначением, его символикой. <...> Се-
мантический объем таких терминов несравненно больше, чем терми-
нов, имеющих внутриобрядовую мотивировку. Для интерпретации
(«культурной этимологии») каждого из них требуется не только ис-
толкование всей структуры и семантики обряда, но и обращение к бо-
лее широкому культурному контексту других обрядов и верований»
[Толстая 1989: 223]. Таким образом, мотивационная недостаточность
«культурных терминов» типа дед инициируется не столько формаль-
но-языковыми обстоятельствами, сколько причинами культурного,
ментального порядка. Именно поэтому можно говорить о разном поло-
жении комментируемых фактов на шкале мотивационной недостаточно-
44 Ср. пример такой отхрононимической мотивации: выражения типа
рус. мыкаться, как Марк по пеклу, блр. гонять, как Марко по пеклу, объяс-
няются их генетической связью с днем ап. Марка, который в народных пред-
ставлениях имел отношение к предупреждению засухи [Агапкина 2002: 322].
550
Раздел V
сти. Однако они объединяются тем, что для их изучения необходима
проработка глубинных связей слова в лексической системе.
ф ф
Возвращаясь к основной теме, рассматриваемой в настоящем па-
раграфе, отметим следующее.
История с Афанасием удивительна и поучительна постольку, по-
скольку весьма конкретный образ оказывается воссозданным языком
(в данном случае речь идет о восточнославянских языках) как бы из воз-
духа, без опоры на прецеденты и прототипы. Нашему языковому взору
рисуется бородатый и подслеповатый мужик в лаптях, растрепанный и
забывающий подпоясаться. Он очень нечистоплотен и грязен, от него
исходит дурной запах кислой пищи и физиологических отправлений (со-
временный Афанасий, переехавший в город, имеет профессию сантехни-
ка). Афоня глупец, невежа и простофиля, но при этом забияка и драчун.
Имеет пристрастие к спиртному. Неловок, неуклюж и медлителен. На
выполнение самого небольшого задания ему требуется целый день, по-
тому что он может застыть посреди дороги и простоять столбом. Все или
почти все, что он делает, оборачивается неудачей или конфузом.
Эти качества героя определяют особенности переноса образа в
различные тематические сферы: Афанасий представляется водящим
в прятках и жмурках (водящий тоже неудачлив, неповоротлив, слеп,
держит в руках пояс и пачкает («ляпает») других игроков). Исходя-
щий от героя запах позволяет сравнить его с дымом от масленично-
го костра, а также представить «агентом скисания»: Афанасий «за-
лезает» в суп, молоко, квас, тесто, вызывая их брожение. Его зади-
ристость и «стоячая» поза позволяет сравнить его с penis’ом. Внеш-
ний вид героя провоцирует сопоставление с веником и снопом (оба
предмета растрепаны и бывают «распоясаны», а веник к тому же
драчлив).
Этот весьма подробный образ появился под влиянием разветв-
ленной системы факторов.
ЯЗЫКОВЫЕ ФАКТОРЫ
формальные: а) рифма, аттракция Афанас — квас. Афанас — нас
(для семантики ‘водящий в жмурках’), Афанасий — подпоясан (бес-
поясьш). Афанасий — катавасия. Афоня — нафунять/нафунить.
Афоня — малахольный. Панас — понос. Афанасий — ненастье, укр.
Опанас — опасаний ‘завязанный’; б) экспрессивно-негативная фо-
носимволика (имя со звуком фу. в) анаграмма Дядя Афанасий лыч-
ком подпоясан — Веник'. Опанас — сноп.
«Языковой МИФ»
551
семантические: а) смысловая недостаточность имени собственного,
компенсируемая за счет создания коннотативного фона при деони-
мизации; б) общая модель личное имя негативная характери-
стика человека.
системные: а) «умножение» коннотаций Афанасия за счет близких
имен (особенно Фофана}, б) переход на имя пучков ассоциаций,
связанных с нарицательными (неотыменными по происхождению)
словами, обозначающими те же реалии, что и семантические дери-
ваты имени Афанасий.
ВНЕЯЗЫКОВЫЕ ФАКТОРЫ
«реальные»: наличие «прототипов» с таким именем (как у Афанась-
евны).
«социальные»: имя Афанасий отсылает к определенному социаль-
ному статусу своих носителей.
культурные: для некоторых контекстов вероятна связь с хрононимом
Афанасий Афонский. Если предполагать у этого хрононима метео-
рологическую символику, то она может быть связана с мотивом
скисания.
Из этого перечня ясно, что языковые факторы значительно более ве-
сомы, чем факторы внеязыковые. Детальная проработка портрета Афа-
насия есть «дело рук» самой языковой системы, которая рисует его без
всякого «натурщика», поскольку обобщенный образ Афанасия вне языка
не существует. Семантическая «недостаточность» имени собственного
расковывает проявление формальных импульсов, которые становятся
самостоятельной креативной силой. Этот пример есть убедительное сви-
детельство значительной роли языка при создании культурных текстов.
5.3. О МЕХАНИЗМАХ ПОРОЖДЕНИЯ
ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТА
Загадка происхождения географических названий, которые пред-
ставляются связанными с историей родных мест, неизменно волнует
фольклорное сознание, создающее свои версии «топонимической
этиологии». Эти версии — «легендарные» мотивировки то-
понима, которые содержат объяснение названия в связи с каким-ли-
бо событием или фактом местной истории, — формируют пласт
552
Раздел V
фольклорной топонимии [см. Белова 2005а]. Во многих случа-
ях легендарные мотивировки обрастают дополнительными деталями
и разворачиваются в топонимическое предание. Таким образом, топо-
нимическое предание является текстом, который обнаруживает связь
своей мотивной структуры с мотивировкой какого-либо географиче-
ского названия, ср.: «Цель топонимических преданий — объяснить,
почему произошло то или иное название местности, поселения» [Со-
колова 1972: 202]. Фольклорная топонимия может быть основана как
на истинном, так и на народно-этимологическом прочтении внутрен-
ней формы названия; оценка по критерию истинности/ложности не
имеет значения для исследования механизма порождения фольклор-
ного текста (в то же время она необходима, разумеется, для этимоло-
гического анализа системы географических названий какой-либо тер-
ритории). Механизм «легендарного» объяснения географических имен
предлагается называть фольклорной ремотивацией топо-
нима [см. Березович 19996; 2000а: 428-491; 20006]. Ее можно счи-
тать разновидностью общеязыковой ремотивации, при которой сло-
вом-стимулом для метаязыкового осмысления является топоним, а
акт ремотивации одновременно становится актом «исторической
(мифологической) рефлексии» носителя традиции.
Рассмотрим факторы, способствующие появлению ле-
гендарных мотивировок топонима и, соответственно, тек-
стов преданий. Думается, что их можно рассматривать в более широ-
ком контексте, чем топонимический: речь идет, по сути, о взаимодей-
ствии языкового и фольклорного кодов народной культуры. В ситуа-
ции создания легендарной мотивировки взаимодействуют три состав-
ляющие: субъект (носитель традиции), объект (географическая
реалия), языковая (текстовая) традиция. Отсюда три группы
факторов.
«СУБЪЕКТНЫЕ» (ПРАГМАТИЧЕСКИЕ) ФАКТОРЫ
К числу прагматических факторов следует отнести установки
носителя традиции, а также условия освоения им географических
объектов.
Самая общая установка, приводящая в движение механизм ремо-
тивации, — это установка познавательная, «этиологическая».
При нехватке каналов трансляции исторических знаний топонимиче-
ский ряд выступает как источник информации, служа своеобразным
учебником истории, ср. рассуждения об этом одного из носителей
традиции: «Кто до нас тут не жил, кто не хаживал... А об етом в газе-
те не пишут, по телевизеру не скажут. Вот старики знали, объясняли
«Языковой МИФ»
553
по названиям. Вот Удорбола есть поле, там „удар был“. русские с чу-
дями боролись. А на Хамболе потом „гам был“. праздничали в честь
победы» [Вин: Верхняя Ваеньга].
Познавательная установка в нашем случае может быть конкретизи-
рована: топонимический ряд настраивает носителя традиции на «ме-
мориально-посвятительное» восприятие окружающего ланд-
шафта, который читается как природный памятник прошлым событиям.
Имя же становится памятником словесным. Сам факт выделения объ-
екта на местности и наделения его именем, передаваемым из поколе-
ния в поколение, есть деяние историческое — потому географическое
имя является для носителя традиции «движущей силой» истории.
Характер посвятительной деятельности носителей традиции за-
висит от условий освоения географической среды. Можно говорить о
такой тенденции: пространство, которое обжито людьми и включено
в их хозяйственную деятельность, воспринимается как мемориал че-
ловеку; неосвоенное пространство — мемориал событию. Среди имен
освоенных реалий наибольшим «фольклорогенным» потенциалом об-
ладают, разумеется, названия населенных пунктов, с которыми чаще
всего связываются легенды о первопоселенцах, основателях поселе-
ния, ср.: «А тутотки все деревни по жителям. Вон в Блинове поселил-
ся Блинов, в Паримонове Паримон. в Маракине Маракин. в Андрейко-
ве баба, а у её сын Андрейка, у нас в Лысцеве мужик лысый, а в Бело-
усове дедко с белыми усами» [Солигалич: Лысцево]45. Условия взаи-
модействия с неосвоенным пространством задают маршрутный тип
освоения, когда ориентация в длинном ряду географических реалий
может опираться на воспоминания о событиях, случившихся в этих
местах: несчастных случаях, потерях, находках ит. п.: «Бабы шли-шли,
несли мешок семечек. На Семечковом Болоте мешок-от утопили. Де-
ду Андрею сказались. „Чё вы, бабы, клад такой в болоте схоронили?44
Шасть в болото — так его и видали. Вот лес и назвали Андреев Бор»
[Кадый: Ведрово]. Необходимо отметить, что «легендарность» такого
типа наиболее характерна для кочевых культур46.
45 В этом примере наблюдается характерное для фольклорной ремотива-
ции явление: ряд «держится» на одной модели (в данном случае отантропо-
нимической), пока не появится слово, обладающее более сильным ассоциа-
тивным потенциалом: оно-то «переключает» модель (ср. реакцию на восста-
новленный из топонима Лысцево стимул лысый, которая провоцирует даль-
нейшее развитие темы «волосяного покрова»).
46 Ср.: «Названия, указывающие на какое-либо событие, связаны в
большей степени с кочевым бытом в широком смысле этого слова, чем с зем-
ледельческим» [Матвеев 1987: 7]; «Ситуативные топонимы издавна облегча-
554
Раздел V
В качестве дополнительной можно выделить также мнемотех-
ническую установку, которая особенно ощутима в тех случаях, ко-
гда легенда объединяет целый ряд названий смежных объектов, спо-
собствуя их запоминанию: «Шли татары с печенегами. На Татарском
от татар могилы остались, на Печенъге от печенегов. Где Бродовка.
бродом переходили на наш берег. Еда у их кончилась, голодали, вот
лес тут Голодник назвали. У Истратова бой был, все истратились.
На Окатовке их стрелами окатили, на Палочном Болоте палками би-
ли» [Буй: Натальино]. Однако чем длиннее ряд, тем более искусст-
венными и «натянутыми» становятся легендарные мотивировки, тем
ниже их познавательная ценность, — и это нередко ощущается носите-
лями традиции, для которых познавательная установка постепенно под-
меняется игровой. Игра становится крайней степенью проявления
феномена фольклорной ремотивации, придающей последней рацио-
нальность и намеренность (о языковой игре на базе собственных
имен, проявляющейся в фольклорных текстах, см. [Гридина 2001]).
Абсолютизация игровых установок приводит к попыткам уложить
весьма обширный ряд названий в краткое присловье, пародирующее
исторические предания, ср.: названия расположенных рядом полей
Дедово, Денисово, Ступино, Нога, Тёплое, Субботино подвергаются
компоновке в текст «Дед Денис ступил ногой на тёплое в субботу»
[Влгд: Лифино].
ОБЪЕКТНЫЕ ФАКТОРЫ
При обсуждении субъектных факторов мы уже затронули и про-
блему факторов объектных (см. рассуждение о приуроченности «ме-
мориальной» деятельности носителя традиции к определенному типу
объектов). Следует также отметить, что среди ландшафтных реалий
есть необычные, уникальные, которые выделяются из ряда и как бы
сами задают этиологический вопрос. Свойства таких объектов с вы-
сокой степенью вероятности найдут осмысление в языковой (топони-
мической) системе и фольклорном тексте, при этом можно смодели-
ровать особенности текстовых реакций на каждый тип природных
феноменов. Исчерпывающий перечень здесь представить невозможно
(он был бы слишком обширен и его созданию противоречит сам
ли хантам ориентировку на значительных пространствах во время сезонных
перекочевок с оленьими стадами, на охотничьих и рыболовных маршрутах,
способствовали запоминанию комплексов названий на отдельных участках
территории, а также длительному сохранению памяти о происшедших собы-
тиях» [Дмитриева, Панченко 1993: 168].
«Языковой МИФ»
555
принцип уникальности объекта), поэтому ограничимся некоторыми
иллюстрациями (каждый конкретный пример может быть включен в
представительную группу фактов, реализующих сходные мотивы):
местность, изобилующая впадинами, рытвинами и небольшими бу-
грами или сопками, трактуется как арена былых сражений и место за-
хоронений или же как поле деятельности древних племен, прячущих
под землей свои сокровища: «(о поле Панское) Тамока всё бугры, буг-
ры и как канавы. Канавы-те откуда? С панами бились, дык траншеями
изрыто, старые траншеи-те, все заросли. А панов хоронили не на на-
шем кладбище, а на месте. Вот и бугры, как могилы у их. Ночью там
не ходи» [Ревд: Крылатовка];
горы-останцы, различные «фигуры выветривания» антропоморфны
и провоцируют появление легенд об окаменевших людях, имена ко-
торых восстанавливаются из соответствующих топонимов (особый
случай — расположение таких скал или камней на разных берегах
реки, друг напротив друга: здесь практически неминуемы легенды о
несчастной любви юноши и девушки, которые по какой-то причине
не могут встретиться): «Степанов Камень по Биче в верху, а прямо
Любава. Степан и Любава были, его в солдаты взяли и убили. Она
пошла на речку, на Бичу, с камня в воду прыгнула и разбилась. На-
звали камень Любава. А прямо камень был, дак по парню назвали»
[У-Иш: Орловка];
с камнями-следовиками связываются легенды о том, что следы на
их поверхности были оставлены сверхъестественной силой — кре-
стной или нечистой (Богом, Богородицей, святым Николаем, чер-
том), соответствующий мотив нередко отражается в топониме: «(об
урочище Чёртово) Там камень огромный, говорят, по нему черт
прошел. Там след от его ножки матерый, с три моих будет» [Бел:
Зубово];
камни в русле реки, иногда заливаемые течением, воспринимаются
как «плачущие», наделяются именами Плакун. Ревунья etc. и поро-
ждают легенды о трагической смерти одного из возлюбленных, ко-
торую оплакивает другой (могут фигурировать также сын и мать,
брат и сестра и т. д.): «Плакун на ричке, по ему вода текёт — и он
как плачет. У Марфы сынка убили, она всё ходила на ричку, по ему
тосковала, плакала, вот и назвали» [Тевр: Тевриз];
реки, вытекающие из одного озера и текущие некоторое время парал-
лельно (или же реки, параллельно впадающие в одно озеро или крупную
реку), осмысляются как сестры (или братья—в зависимости от грамма-
тического рода названия), которые поспорили о том, кто быстрее добе-
жит до «отца» («матери»), ср.: «Их было две реки, две сестры. Они по-
556
Раздел V
спорили, какая быстрей до матери добежит, до Онеги-то. Вот одна и
убежала вперед, пока сестра спала, ее Беглой и прозвали. А вторая Мян-
духа» [Плес: Пашевская]; аналогичная легенда легла в основу народ-
но-этимологического осмысления названия реки Ухшаста (притока
Шасты, впадающего в последнюю в самых низовьях; возможно, Ух-
шаста < Усть-Шаста', Шаста, в свою очередь, впадает в Ухту)'. «Бе-
жала Ухта, а Шаста спала, отдыхала. А Ухта опередила и сказала:
„ Ух, Шаста!“» [Он: Нименьга]47.
ЯЗЫКОВАЯ И ТЕКСТОВАЯ ТРАДИЦИЯ
Создавая или переосмысляя имя географической реалии в связи с
какой-либо легендой, носитель традиции испытывает влияние сис-
темы языка, имеющей свои неповторимые особенности в рамках
каждой локальной лингвокультурной общности. Это влияние прояв-
ляется по-разному.
Во-первых, системно-языковые связи соединяют топоним и клю-
чевое слово будущего текста: если имя ландшафтной реалии ассо-
циируется с сильной по своему «легендарному» потенциалу нарицатель-
ной лексемой (с семантикой боевых действий, физического уничтожения
и т. п.), то последняя почти наверняка «окружит себя» нарративом, в
сюжете которого она будет играть ключевую роль. Так, топонимы,
включающие звукокомплекс павш-, пал-, независимо от своего происхо-
ждения48, переосмысляются в связи с глаголом пасть ‘погибнуть’: «(о
лесе Павшино) Давным-давно там паны пали, бой был, вот и Павшино»
[Ваш: Тарасьево:]; «(о деревне Павшино) Много татар было побито, мно-
го павших было» [В-Уст: Павшино]; «Тут бои были, с финнами воевали
ли с немцами. Мужики насмерть стояли, оружия-то мало было. Вот ле-
сок есть Пали — дак там и враги пали, и наши мужики. А победа наша
была» [Ревд: Кунгурка]; «Мы-то сюда с Новгорода заселились, а раньше
тут всякая была чудь белоглазая. Дальше деревня есть Чучепала. там
чудь побили, ..чудь пала“. а первый бой был у Лешуконска» [Леш: Кой-
нас, Кеслома]. В результате срабатывания такого механизма ассоцииро-
вания топонимы, образованные от диал. враг ‘овраг, лог’, «переключа-
ются» на враг ‘захватчик’; названия, созданные на базе арх., влг. стрел-
47 Этот мотив обыгрывается в широко известных сказках, где фигури-
руют Волга — Вазуза, Волга — Сожа — Днепр, Волга — Западная Двина,
Дон — Шат, Днепр —Десна, Днепр — Сожа и др.
48 Формы на павш-, как правило, образованы от личного имени Павша
(< Павел)', формы на пал-от глагола палить ‘жечь’ или же отражают фин-
но-угорский по происхождению детерминант -пал-.
«Языковой МИФ»
557
ка. стрелица ‘устье реки’ [КСГРС], оказываются связанными с глаголом
стрелять; топонимы, производные от арх., влг. рубеж ‘граница поля,
межа’ [КСГРС], соотносятся с рубитъ(ся) ‘воевать’ etc. Эти слова обыг-
рываются в преданиях о борьбе с внешними врагами.
Появившийся в связи с ключевым словом фольклорный текст не-
редко заставляет языковое сознание производить аналогичные опера-
ции «фольклоризации» названий, входящих в один денотативный ряд
с данным; при изолированном восприятии у таких топонимов, как
правило, очень мало шансов получить фольклорный «выход». Ср.:
«Богородица шла по земле да по воде, как по суше. Речка Нанеба
есть, по ей она на небо ушла. А ей никто не видел, только два брата,
медведь и овца - ето вот ручьи есть Братики. Медвежий и гора Овеч-
ково. Вот от етого у них и званья» [B-Уст: Климлево]. В данном тек-
сте предание инициируется необычным названием Нанеба. которое
прочитывается как сочетание на небо, рождая легенду о Богородице;
разрастанию текста легенды способствует фольклорное «заражение»
смежных названий.
Во-вторых, системно-языковые связи реализуются на уровне
принципов номинативной (—> текстообразующей) дея-
тельности. Показателен такой пример. Широкое распространение в
годы Советской власти мемориально-символических наименований
(посвященных революционерам, героям войн, государственным дея-
телям и т. п.) активизировало эксплуатацию мемориальных мотивов
при формировании топонимических преданий. Несмотря на то, что
названия вроде поселок Ленинский и деревня Андреевская реализуют
различные номинативные установки (в первом случае топоним никак
не связан с историей населенного пункта и несет исключительно цен-
ностно-дидактическую нагрузку, во втором может отражать имя или
фамилию человека, сыгравшего какую-то реальную роль в «биогра-
фии» поселения), они трактуются в едином (в определенном смысле)
мемориальном контексте и задают типовую модель создания и вос-
приятия как топонимов, так и фольклорных текстов.
В-третьих, свойства языковой системы проявляются на уровне
общей метаязыковой оценки совокупности географических
названий, функционирующих в рамках локальной традиции. Воспри-
нимая словесный ряд, носитель языка, помимо всего прочего, оцени-
вает его с точки зрения «пропитываемости», прозрачности, понятно-
сти названий. Такая оценка в конечном счете оказывается связанной с
оппозицией свое — чужое: обилие непонятных (=> «чужих») названий
провоцирует «этиологический вопрос», активизирует попытки объяс-
нения имен с помощью легендарных текстов и в определенной степе-
ни задает сюжет этих текстов, призванных пролить свет на историю
558
Раздел V
заселения края, особенности взаимодействия с чужими племенами
и т. п. Ср.: «Мы-то русские живём, а до нас нерусские были, тут сло-
ва-те все нерусские'. Шачебол, Яхробол, Искробол, Ученжа, Колон-
дыш, Келнотъ, Сохмара да... Ето были какие-то люди, татары какие
здися. Старики говорили, у них был старший, отец, звали Бол. Вот
Шачебол — значит Шача. а отец его Бол. Яхробол — он Яхра. тоже
Бола сын. Вот по им и назвали речки. Про Шачу-татарина много го-
ворили, он с отрядом ходил» [Некр: Шачебол]; «(о деревне Якшино)
Татары завоевали, сказали ..Якши\“. по их, вроде, „хорошо44, и так и
назвали» [Солигалич: Куземино]; «Болото Рада есть, польское ка-
кое-то имя. поляки здесь были» [Котл: Новинки]; «Слово Талица.
проталинка — от монголо-татар и поляков, между ними появились,
звучат так по-ихнему. Бои здесь были с монголо-татарами, не пустили
их к Москве» [Кадый: Завражье] и т. п.
«Навстречу» системно-языковым факторам действует фактор тек-
стовой традиции. Устойчивые и популярные тексты «витают» в
культурном пространстве, ожидая возможности «зацепиться» за сло-
весный ряд (в нашем случае топонимический), который соответствовал
бы каким-то мотивам или сюжетным ходам. К примеру, мотив нечисто-
ты инородцев (проявляющийся, в частности, в устойчивой связи татары
— вши) на территории Кадыйского района Костромской области оказы-
вается связанным с несколькими топонимами: «(о покосе Вшивая Гор-
ка) «Татары там жили, все вшей искали» [Починок], «(о деревне Ста-
рый Курдюм) «Он на высоком месте на Волге. Татары здися останав-
ливались, когда плыли по Волге. Они здися вшей ловили. Тощие бы-
ли, грязные. На горе этой остановились, гора зовется ..Вшивобойка". а
в переводе с татарского — Курдюм» [Новый Курдюм].
Рассматривая фольклор и топонимию как системы, кодирующие
информацию о мире, можно утверждать, что они тяготеют к активному
взаимодействию, при котором их отношения характеризуются асиммет-
рией: русская топонимия в единичных случаях вступает в «прямой кон-
такт» с фольклорным текстом, избирая отраженную в тексте информа-
цию в качестве мотивационной базы для создания имени49. В то же вре-
мя в обратную сторону взаимодействие идет значительно более интен-
сивно: конкретный топоним (группа топонимов, топонимическая систе-
ма в целом) весьма часто становится пружиной для разворачивания
49 В других топонимических системах эти отношения могут складывать-
ся по-другому: к примеру, в топонимии кочевых народов мотивировки «от
события (легенды)» встречаются гораздо чаще, чем в русской системе гео-
графических названий. Однако и здесь вектор фольклор топонимия рабо-
тает менее активно, чем вектор топонимия фольклор.
«Языковой МИФ»
559
фольклорного текста. Созданию текста способствуют также когнитив-
ные установки носителя традиции, склонного воспринимать географиче-
ское пространство в «мемориальном» регистре, а также «этиологически
проблемные» свойства объектного ряда. Все эти обстоятельства проли-
вают свет на механизм формирования фольклорного текста
Итак, мы рассмотрели несколько очень разных историй слов и сло-
весных парадигм. Все они оказались объединенными в одном разделе
постольку, поскольку в их «биографиях» так или иначе отразились язы-
ковые мифы. Эти мифы имеют различные сферы проявления: сфера об-
рядовых практик — для мифов, порожденных наименованиями глазного
ячменя; сфера фольклорных текстов (топонимических преданий) — для
мифов, стимулированных географическими названиями; собственно язы-
ковая система — для мифа о носителе личного имени Афанасий (сейчас
мы назвали области преимущественного проявления мифов, реально в
каждом случае миф имеет не одну сферу манифестации).
Проанализированные мифы обусловлены некоторыми общими
предпосылками, которые каждый раз выступают в особой комбина-
ции и имеют разную «влиятельную силу».
В случае с названиями глазного ячменя, во-первых, проявляется
сильнейшая прагматика (магическая установка), присущая сфере народ-
ной медицины: субъект номинации пытается «вычитать» из обозначений
болезней как этиологию, так и (что гораздо важнее для носителя языка)
способы лечения болезней. Во-вторых, диалектные названия этой болезни
имеют богатый контаминационный потенциал. Показательно, что само
слово ячмень, весьма бедное в плане языковых ассоциаций, дает малое ко-
личество «рецептурных» переосмыслений, в то время как лексемы жито,
песъяк. сучок и под., имеющие более широкий круг формально-языковых
сближений, «подсказывают» носителю языка большой комплекс снадо-
бий и медицинских приемов. В-третьих, в основе названий болезни ле-
жат предметные метафоры, которые таят возможности мотивационных
перекодировок: признак внешнего сходства реалий (например, болез-
ненного образования и хлебного зерна) оборачивается представлением о
воздействии одной из них на другую.
Что касается истории с именем Афанасий, то здесь важной предпо-
сылкой для появления языкового мифа является смысловая недостаточ-
ность имени собственного, которая компенсируется путем наделения его
широким спектром коннотаций. Значительную роль играют формальные
факторы, которые в данном случае весьма разнообразны: рифма, звуко-
вая экспрессия, анаграмма, словесные аттракции. Наконец, немаловажен
здесь фактор системы: коннотации Афанасия «умножаются» за счет
560
Раздел V
коннотаций близких имен (к примеру, Фофана), а также за счет тех ассо-
циативных комплексов, которые связаны с нарицательными (неотымен-
ными по происхождению) словами, обозначающими те же реалии, что и
семантические дериваты имени (к примеру, Афанасию приписываются
качества водящего в играх: неловкость, слепота и др.).
Для возникновения топонимических преданий значим прагмати-
ческий фактор: этиологическая установка носителя традиции, склон-
ного видеть в географических названиях памятник историческим со-
бытиям. Кроме того, сказывается фактор системного «умножения»:
названия смежных объектов оказываются вовлеченными в один и тот
же мифический текст и становятся движущими факторами, обуслов-
ливающими разворачивание сюжета.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Сокращения в обозначениях географических терминов
бас. — бассейн реки пок. — покос
бол. — болото ж пос. — поселок
г. — гора прк. — перекат
гор. — город прт. — протока
д. — деревня Р- — река
дор. — дорога руч. — ручей
о-в — остров с. — село
03. — озеро СК. — скала
пастб. — пастбище ул. — улица
пер. — переулок УР- — урочище
Сокращения в обозначениях административных областей и районов
(для материалов ТЭ УрГУ)
Алап — Алапаевский район Свердловской области
Арх — Архангельская область
Баб — Бабаевский район Вологодской области
Бабуш — Бабушкинский район Вологодской области
Баг — Багарякский район Челябинской области
Бел — Белозерский район Вологодской области
Буй — Буйский район Костромской области
Ваш — Вашкинский район Вологодской области
В-Важ — Верховажский район Вологодской области
Велиж — Велижанский район Тюменской области
В ель — Вельский район Архангельской области
Вил — Вилегодский район Архангельской области
Вин — Виноградовский район Архангельской области
Влг — Вологодская область
Влгд — Вологодский район Вологодской области
Вож — Вожегодский район Вологодской области
В-Т — Верхнетоемский район Архангельской области
В-Уст — Великоустюгский район Вологодской области
Выт — Вытегорский район Вологодской области
Галич — Галичский район Костромской области
Г-Зав — Горнозаводской район Пермской области
Гряз — Грязовецкий район Вологодской области
Ирб — Ирбитский район Свердловской области
Кад — Кадуйский район Вологодской области
562
СПИСОК СОКРА ЩЕН ИЙ
Кадый — Кадыйский район Костромской области
Карг — Каргопольский район Архангельской области
К-Б — Красноборский район Архангельской области
К-Г — Кичменьгско-Городецкий район Вологодской области
К-Ив — Катав-Ивановский район Челябинской области
К-Ид — Караидельский район Башкирии
Кир — Кирилловский район Вологодской области
Кологр — Кологривский район Костромской области
Кон — Коношский район Архангельской области
Костр — Костромская область
Котл — Котласский район Архангельской области
Лен — Ленский район Архангельской области
Леш — Лешуконский район Архангельской области
Макар — Макарьевский район Костромской области
Меж — Межевской район Костромской области
Мез — Мезенский район Архангельской области
М-Реч — Междуреченский район Вологодской области
Ней — Нейский район Костромской области
Некр — Некрасовский район Ярославской области
Ник — Никольский район Вологодской области
Н-Серг — Нижнесергинекий район Свердловской области
Нюкс — Нюксенский район Вологодской области
Нянд — Няндомский район Архангельской области
Он — Онежский район Архангельской области
Парф — Парфеньевский район Костромской области
Перм — Пермская область
Пин — Пинежский район Архангельской области
Плес — Плесецкий район Архангельской области
Пош — Пошехонский район Ярославской области
Приг — Пригородный район Свердловской области
Прим — Приморский район Архангельской области
Пыщ — Пыщугский район Костромской области
Ревд — Ревдинский район Свердловской области
Сверд — Свердловская область
С-Двин. — гор. Северодвинск Архангельской области
Сок — Сокольский район Вологодской области
Солигалич — Солигаличский район Костромской области
Сус — Сусанинский район Костромской области
Тарн — Тарногский район Вологодской области
Тевр — Тевризский район Омской области
Тот — Тотемский район Вологодской области
Туг — Тугулымский район Свердловской области
СПИСОК С О KPA ЩЕН ИЙ
563
Тюм — Тюменская область
У-Иш
У-Куб
Уст
Устюж
Халт
Хар
Холм
Чаг
Череп
Чухл
Шар
Шексн
Шенк
— Усть-Ишимский район Омской области
— Усть-Кубенский район Вологодской области
— Устьянский район Архангельской области
— Устюженский район Вологодской области
— Халтуринский район Кировской области
— Харовский район Вологодской области
— Холмогорский район Архангельской области
— Чагодощенский район Вологодской области
— Череповецкий район Вологодской области
— Чухломской район Костромской области
— Шарьинский район Костромской области
— Шекснинский район Вологодской области
— Шенкурский район Архангельской области
ЛИТЕРАТУРА
Абаев 1986 — В. И, Абаев. Как можно улучшить этимологические словари//
Этимология. 1984. М., 1986. С. 7-26.
Абраменко, Кулаева 2004 — О. Абраменко, С. Кулаева. История и культура
цыган. СПб., 2004.
Агапкина 1994 — Т. А. Агапкина. Чужой среди своих// Миф и культура. Че-
ловек — не-человек: Тез. докл. М., 1994. С. 15-18.
Агапкина 2002 — Т. А. Агапкина. Мифопоэтические основы славянского на-
родного календаря. Весенне-летний цикл. М., 2002.
Агапкина 2005 — Т. А. Агапкина. Сюжетика восточнославянских заговоров
(мотив мифологического центра)// Заговорный текст. Генезис и струк-
тура. М., 2005. С. 247-291.
Агапкина, Топорков 1986 — Т. А. Агапкина, А. Л. Топорков. К проблеме этно-
графического контекста календарных песен// Славянский и балканский
фольклор: Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. М.,
1986. С. 76-87.
Агеева 1990—Р. А. Агеева. Страны и народы: Происхождение названий. М., 1990.
Агеева 2000 — Р. А. Агеева. Какого мы роду племени? Народы России: имена
и судьбы. Словарь-справочник. М., 2000.
Азим-Заде 1979 — Э. Г. Азим-Заде. Русско-славянская астрономическая и
метеорологическая терминология в сравнительно-историческом и типо-
логическом аспекте. Дис.... канд. филол. наук. М., 1979.
Азимов 1983 — Э. Г. Азимов. Из полесской народной метеорологии: Слепой
дождь // Полесский этнолингвистический сборник: Мат-лы и исследова-
ния. М., 1983. С.212-217.
Айрапетян 2001 — В. Айрапетян. Толкуя слово: Опыт герменевтики по-рус-
ски. М., 2001.
Аксамитов 1984 — А. С. Аксамитов. Обряд и песня как источник образова-
ния фразеологических единиц белорусского языка// Acta Balcano-Slavica.
Warszawa, 1984. XVI. S. 21-31.
АКТЭ — антропонимическая картотека ТЭ УрГУ (кафедра русского языка и
общего языкознания УрГУ, Екатеринбург).
Аникин СЛБ — А. Е. Аникин. Опыт словаря лексических балтизмов в рус-
ском языке. Новосибирск, 2005.
Аникин ЭСС — А. Е. Аникин. Этимологический словарь русских диалектов
Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских язы-
ков. М.; Новосибирск, 2000.
Аникин 2005 —А. Е. Аникин. О некоторых спорных примерах деэтнонимиза-
ции // Ономастика в кругу гуманитарных наук: Мат-лы между нар. науч,
конф. Екатеринбург, 2005. С. 30-32.
Анищенко — О. А. Анищенко. Словарь русского школьного жаргона XIX в. М.,
2007.
Литература
565
Анненков — Ботанический словарь: Справочная книга для ботаников, сель-
ских хозяев, садоводов, лесоводов, фармацевтов, врачей, дрогистов, пу-
тешественников по России и вообще сельских жителей / Сост. Н. Аннен-
ков. СПб., 1878.
Антропов 1998 — И. 77. Антропов. Белорусские этнолингвистические этюды:
1. колода / колодка // Слово и культура. Памяти Н. И. Толстого. М., 1998.
Т. IL С. 21-33.
Антропов 2004 — И. 77. Антропов. Кодовая структура белорусских обрядов и
ритуалов, связанных с вызыванием дождя// Etnolingwistyka: Problemy
j^zyka i kultury. Lublin, 2004. № 16. S. 241-256.
AOC — Архангельский областной словарь. M., 1980—. Вып. 1-.
Апресян 1995 — Ю. Д. Апресян. Избранные труды: В 2 т. М., 1995. Т. II: Ин-
тегральное описание языка и системная лексикография.
Аркушин — Г. Л. Аркушин. Словник захщнополюьких rosipoK. Луцьк, 2000.
Т. 1-2.
Арутюнова 1995 — /7. Д. Арутюнова. Человек и «фигура» (анализ понятий) //
Филологический сборник (к столетию со дня рождения акад. В. В. Вино-
градова). М., 1995. С. 34-46.
АС — Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области
(Акчимский словарь). Пермь, 1984-. Вып. 1-.
АстрКТЭ — астронимическая картотека ТЭ УрГУ (кафедра русского языка и
общего языкознания УрГУ, Екатеринбург).
АТЛ — архив Т. В. Леонтьевой (записи студенческого жаргона, осуществ-
ленные в Екатеринбурге в 1997-2003 гг.)
Афанасьев ЗРС —А. /7. Афанасьев. Русские заветные сказки. М., 1991.
Афанасьев НРС — Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. М., 1984-
1986. Т. 1-3.
Афанасьев ПВСП — А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на при-
роду: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований,
в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. М.,
1994. Т. I-III.
Ахтаров — Материали за български ботаниченъ речникъ / Събр. Б. Давидовъ
и А. Явашевъ; ред. Б. Ахтаровъ. София, 1939.
Байбурин 1983 —А. К. Байбурин. К описанию структуры славянского строи-
тельного ритуала И Текст: семантика и структура. М., 1983. С. 206-226.
Байбурин 1992 — А. К. Байбурин. Пояс (к семиотике вещей)// Сб. МАЭ. Т. 45:
Из культурного наследия народов Восточной Европы. СПб., 1992. С. 5-13.
Байбурин 1993 —А. К. Байбурин. Ритуал в традиционной культуре. Структур-
но-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб., 1993.
Балдаев —Д. С. Балдаев. Словарь блатного воровского жаргона. М., 1997. Т. 1-П.
Балов — А. Балов. Материалы по народному языку, собранные в Пошехонском
уезде Ярославской губернии //Живая старина. 1899. Вып. 2. С. 277-283.
Баранов, Мадлевская 1999 —Д. А. Баранов, Е. Л. Мадлевская. Образ лягушки
в вышивке и мифопоэтических представлениях восточных славян (се-
566
Литература
мантический комментарий) // Женщина и вещественный мир культуры у
народов России и Европы. СПб., 1999. С. 111-130. (Сб. МАЭ. Т. XLVII).
Бартминьский 2005 — Е. Бартминъский. Языковой образ мира: очерки по эт-
нолингвистике / Пер. с польск. М., 2005.
Баудер 1997 — Г. А, Баудер. Игровая лексика в говорах Тамбовской области.
Дис. ... канд. филол. наук. Тамбов, 1997.
Бахвалова 1993 — Т. В. Бахвалова. Характеристика интеллектуальных спо-
собностей человека лексическими и фразеологическими средствами
языка (на мат-ле орловских говоров). Орел, 1993.
БВКЗ — Быт великорусских крестьян-землепашцев. Описание материалов
этнографического бюро князя В. Н. Тенишева. (На примере Владимир-
ской губернии). СПб., 1993.
БД — Българска диалектология. Проучвания и материали. София, 1962-1981.
Кн. 1-Х.
БДКА — Каргопольский архив этнолингвистической экспедиции РГГУ: база
данных (Российский государственный гуманитарный университет, ла-
боратория фольклора)
БДПА — Полесский архив этнолингвистической экспедиции Института сла-
вяноведения РАН: база данных (Ин-т славяноведения РАН, сектор этно-
лингвистики и фольклора)
Бей-Биенко 1950 —Г. Я. Бей-Биенко. Фауна СССР. Насекомые таракановые.
М., 1950.
Белова 2004а — О. В. Белова. Как в деревне Арзубиха «кабалу писали» //
Язык культуры: Семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения
акад. Н. И. Толстого. М., 2004. С. 183-189.
Белова 20046 — «Народная Библия»: Восточнославянские этиологические
легенды / Сост и коммент. О. В. Беловой. М., 2004.
Белова 2005а — О. В. Белова. Названия сел Полесья и топонимические нар-
ративы // Вопросы ономастики. 2005. № 2. С. 151-165.
Белова 20056 — О. В. Белова. Этнокультурные стереотипы в славянской на-
родной традиции. М., 2005.
Белова 2006 — О. В. Белова. Этнические стереотипы по данным языка
и народной культуры славян (этнолингвистическое исследование).
Дис. ... д-ра филол. наук. М., 2006.
Бенвенист 1995 — Э. Бенвенист. Словарь индоевропейских социальных тер-
минов: Пер. с франц. М., 1995.
БЕР — Български етимологичен речник. София, 1962- Т. 1-.
Березкина 2001 —Е. С. Березкина. Этнонимическая лексика в русском народном
поэтическом творчестве. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2001.
Березович 1992 — Е. Л. Березович. Семантические микросистемы в русской
топонимии. Дис.... канд. филол. наук. Екатеринбург, 1992.
Березович 1999а — Е. Л. Березович. Русская национальная личность в зерка-
ле языка: В поисках объективной методики анализа // Русский язык в
контексте культуры. Екатеринбург, 1999. С. 31^-2.
Литература
567
Березович 19996 — Е. Л. Березович. Топонимия и исторические предания (к
вопросу о взаимодействии различных версий этнокультурной информа-
ции)// Ономастика и диалектная лексика. Екатеринбург, 1999. Вып. 3.
С. 3-30.
Березович 2000а — Е. Л. Березович. Русская топонимия в этнолингвистиче-
ском аспекте. Екатеринбург, 2000.
Березович 20006 — Е. Л. Березович. «Чужаки» в зеркале фольклорной ремо-
тивации топонимов И Живая старина. 2000. № 3. С. 2-5.
Березович, Гулик 2002 — Е. Л. Березович, Д. П. Гулик. Ономасиологический
портрет «человека этнического»: принципы построения и интерпрета-
ции И Встречи этнических культур в зеркале языка в сопоставительном
лингвокультурологическом аспекте. М., 2002. С. 232-253.
Березович, Кривощапова 2006 — Е. Л. Березович, Ю. А. Кривощапова. Этно-
нимическая модель в славянских названиях насекомых // Studia
Etymologica Brunensia. 3. Praha, 2006. S. 17-35.
Березович, Леонтьева 2004 — E. Л. Березович, Т. В. Леонтьева. Языковой образ
дурака: Этнолингвистический аспект//Язык культуры: Семантика и грамма-
тика. К 80-летию со дня рождения акад. Н. И. Толстого. М., 2004. С. 368-384.
Березович, Пьянкова 2006 — Е. Л. Березович, К. В. Пьянкова. Пищевой код в
тексте игры: каша и квас // Славянский и балканский фольклор. Семан-
тика и прагматика текста. М., 2006. [Вып. 10]. С. 425-460.
Березович, Родионова 2002 — Е. Л. Березович, И. В. Родионова. «Текст чер-
та» в русском языке и традиционной культуре: к проблеме сквозных мо-
тивов И Между двумя мирами: Представления о демоническом и потус-
тороннем в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2002.
С. 7-44.
Березович, Рут 2000 — Е. Л. Березович, М. Э. Рут. Ономасиологический
портрет реалии как жанр лингвокультурологического описания // Извес-
тия Уральского государственного университета. № 17. Гуманитарные
науки. Вып. 3: Филология. Екатеринбург, 2000. С. 33-38.
Бернштам 1977 — Т. А. Бернштам. Традиционный праздничный фольклор в
Поморье во второй половине XIX — начале XX в. И Этнографические
исследования Северо-Запада СССР. Л., 1977. С. 88-115.
Бернштам 1981 — Т. А. Бернштам. Обряд «крещение и похороны кукуш-
ки»// Материальная культура и мифология. Л., 1981. С. 179-203. [Сб.
Музея антропологии и этнографии. Т. 37]
Бернштам 1982 — Т. А. Бернштам. Орнитоморфная символика у восточных
славян И Советская этнография. 1982. Кн. 1. С. 22-34.
Бернштам 1988 — Т. А. Бернштам. Молодежь в обрядовой жизни русской
общины XIX — нач. XX в.: Половозрастной аспект традиционной куль-
туры. Л., 1988.
Бернштам 1992 — Т. А. Бернштам. Урочище Чупрово (природно-культурный
памятник в Пинежском районе) И Русский Север: Ареалы и культурные
традиции. СПб, 1992. С. 165-194.
568
Литература
Бернштам 2000 — Т. А. Бернштам. Молодость в символизме переходных об-
рядов восточных славян. Учение и опыт Церкви в народном христианст-
ве. СПб., 2000.
БИРС — Большой испанско-русский словарь. М., 1999.
БМЭ — Большая медицинская энциклопедия: В 30 т. М., 1974-1988.
БИРС — Большой немецко-русский словарь. М., 2002. Т. 1-2.
Богданов — Сборник пословиц А. И. Богданова// Пословицы, поговорки, загад-
ки в рукописных сборниках XVIII-XX веков. М.; Л., 1961. С. 65-118.
Богданович 1895 — А. Е. Богданович. Пережитки древняго м!росозерцашя у
бЪлоруссовъ. Гродна, 1895.
Богораз — В. Г. Богораз. Областной словарь колымского русского наречия И
Сб. ОРЯС. СПб., 1909. Т. 68, № 4.
Большакова 2003 — М. А. Большакова. Народные подвижные детские игры: к
проблеме изучения народной терминологии (www.http.ivgi.rsuh. m/folklore/
1 s04_bol shako va 1).
Борхвальдт 2000 — О. В. Борхвальдт. Лексика русской золотопромышленно-
сти в историческом освещении. Красноярск, 2000.
Бочкарев 2003 - А. Е. Бочкарев. Семантический словарь. Нижний Новгород,
2003.
БП — Баня и печь в русской народной традиции / РАН. Ин-т этнологии и ан-
тропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. М., 2004.
БПРС —Д. Гессен, Р.Стыпула. Большой польско-русский словарь. М., Вар-
шава, 1980. Т. I-II.
БРТС —В. Г. Щербинин. Большой русс ко-турецкий словарь. М., 1998.
Брысина 2003 — Е. В. Брысина. Этнокультурная идиоматика донского казаче-
ства. Волгоград, 2003.
БРЭР — В. В. Химик. Большой словарь русской разговорной экспрессивной
речи. СПб., 2004.
БСЖ — В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. Большой словарь русского жаргона.
СПб., 2000.
БСЭ — Большая советская энциклопедия. М., 1949-1958. 2-е изд. Т. 1-51.
БТДК — Большой толковый словарь донского казачества. М., 2003.
БТРС — Большой турецко-русский словарь. М., 1998.
БФРС—И.Вахрос,А. Щербаков. Большой финско-русский словарь. М., 1999.
Български фолклор 2006 — Български фолклор. София, 2006. № 3-4.
БЭФ — Белорусский эротический фольклор/Изд. подг. Т. В. Володина, А. С. Фе-
досик. М., 2006.
Бялькев1ч—/. К.Бялькев1ч. Краёвы слоун!к усходняй Маплёушчыны. MincK, 1970.
Вайс 1999 —Д.Вайс. Человек, лицо, личность и особа: четыре неравных со-
перника И Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке.
М., 1999. С. 81-98.
Валенцова 2006 — М. М. Валенцова. Календарные паремии западных славян //
Славянский и балканский фольклор. Семантика и прагматика текста. М.,
2006. [Вып. 10]. С. 373-424.
Литература
569
Варбот 1976 — Ж. Ж. Варбот. К реконструкции и этимологии некоторых
праславянских глагольных основ и отглагольных имен. IV // Этимоло-
гия. 1974. М., 1976. С. 16-32.
Варбот 1981 —Ж. Ж. Варбот. Лехитские этимологии // Общеславянский лек-
сический атлас. Мат-лы и исследования. 1979. М., 1981. С. 317-328.
Варбот 1985 —Ж. Ж. Варбот. К реконструкции и этимологии некоторых
праславянских глагольных основ и отглагольных имен. XI И Этимоло-
гия. 1982. М., 1985. С. 24-34.
Варбот 1988 — Ж. Ж. Варбот. О семантике и этимологии звукоподражатель-
ных глаголов в праславянском языке // Славянское языкознание. X Ме-
ждунар. съезд славистов: Докл. советской делегации. М., 1988. С. 66-78.
Варбот 1993 — Ж. Ж. Варбот. Чешские и словацкие этимологии (pahyl,
turnut’)H Общеславянский лингвистический атлас: Мат-лы и исследова-
ния. 1988-1990. М, 1993. С. 166-170.
Варбот 2002 — Ж. Ж. Варбот. Из семантического опыта этимологии // Бело-
русский и другие славянские языки: семантика и прагматика: Вторые Суп-
руновские чтения: Мат-лы Меадунар. науч. конф. Минск, 2002. С. 14-22.
Варбот 2003а —Ж. Ж. Варбот. К реконструкции и этимологии некоторых
праславянских глагольных основ и отглагольных имен. XV // Этимоло-
гия. 2000-2002. М., 2003. С. 23-28.
Варбот 20036 — Ж. Ж. Варбот. К типологии взаимодействия этимологи-
ческих гнезд // Stadia etymologica Brunensia. Brno, 2003. № 2. С. 57-63.
Васева 2001 — В. Васева. Птичий код в обрядах жизненного цикла у болгар И
Живая старина. 2001. № 2. С. 10-12.
Васнецов — Н. М. Васнецов. Материалы для объяснительного областного
словаря вятского говора. Вятка, 1907.
Вежбицка 1996 —А. Вежбицка. Язык. Культура. Познание/ Пер. с англ. М.,
1996.
Вельмезова — Е. В. Велъмезова. Чешские заговоры. Исследования и тексты.
М., 2004.
Вендина 2002 — Т. И. Вендина. Средневековый человек в зеркале старосла-
вянского языка. М., 2002.
Виноградов 1999 — В. В. Виноградов. История слов. М., 1999.
Виноградова 2000 — Л. Н. Виноградова. Народная демонология и ми-
фо-ритуальная традиция славян. М., 2000.
Виноградова 2002 —Л. И. Виноградова. Та вода, которая... (Признаки, опре-
деляющие магические свойства воды) // Признаковое пространство
культуры. М., 2002. С. 32-60.
Виноградова, Толстая 1990 — Л. Н. Виноградова, С. М. Толстая. Мотив
«уничтожения — проводов нечистой силы» в восточнославянском ку-
пальском обряде И Исследования в области балто-славянской духовной
культуры: Погребальный обряд. М., 1990. С. 99-118.
Виноградова, Толстая 1993 —Л. Н. Виноградова, С. М. Толстая. Символиче-
ский язык вещей: веник (метла) в славянских обрядах и верованиях //
570
Литература
Символический язык традиционной культуры. Балканские чтения-П. М.,
1993. С. 3-34.
Виноградова, Толстая 2000 —Л. Н. Виноградова, С. М. Толстая. К проблеме
идентификации и сравнения персонажей славянской мифологии // Л. Н.
Виноградова, Народная демонология и мифо-ритуальная традиция сла-
вян. М., 2000. С. 27-68.
Виноградова, Толстая 2005 — Л. Н. Виноградова, С. М. Толстая. Приглаше-
ние мифологических персонажей на рождественский ужин. 1. Обряд. 2.
Структура текста приглашений // С. М. Толстая, Полесский народный
календарь. М., 2005. С. 443-500.
Власкина 2000 — Т. Ю. Власкина. Репродуктивная лексика и культурный
контекст// Etnolingwistyka: Problemy j^zyka i kultury. Lublin, 2000. № 14.
S. 139-154.
Власова — M. Власова. Новая АБЕВЕГА русских суеверий. СПб., 1995.
Власова И. В. 2001 — И. В. Власова. Сельские поселения в центральных рай-
онах Русского Севера // Русский Север: Этническая история и народная
культура. ХП-ХХ века. М, 2001. С. 37-101.
Войтенко 1993 —А. Ф. Войтенко. Что двор, то говор. М., 1993.
Володина 2006а — Т. В. Володина, Анимализмы в этнокультурном тексте
кожных болезней (немецко-славянские параллели) // Слово в словаре и
дискурсе: Сб. науч. ст. к 50-летию X. Вальтера. С. 58-65.
Володина 20066 — Т. В. Володина, Кто кого и зачем обувает в лапти // Сла-
вянские языки в свете культуры. М., 2006. С. 228-242.
Володина 2006в — Т. В. Володина, Телесный низ в традиционных представ-
лениях белорусов // Белорусский эротический фольклор. М., 2006. С. 8-52.
Володина (в печати) — Т. В. Володина. Орнитоморфные образы в этнокуль-
турном тексте кожных болезней у восточных славян. Минск. В печати.
Воробьев 1996 —В. В. Воробьев. Теоретические и прикладные вопросы лин-
гвокультурологии. Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1996.
Воронина 1992 — Т. А. Воронина. Традиционная и современная пища русско-
го населения Вологодской области // Русский Север: Ареалы и культур-
ные традиции. СПб., 1992. С. 78-101.
Воронцова 2002 — Ю. Б. Воронцова. Коллективные прозвища в русских го-
ворах. Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2002.
ВРС — Венгерско-русский словарь / Сост. Л. Хадрович, Л. Галди. Budapest,
1952.
Гаева 1999 — Т. М. Гаева. Снова об экспрессивности в топонимии // Языко-
вая концепция регионального существования человека и этноса: Тез.
докл. к регион, науч.-практич. конф., посвященной памяти проф.
И. А. Воробьевой. Барнаул, 1999. С. 9.
Гак 1993 —В. Г. Гак. Пространство мысли (Опыт систематизации слов мен-
тального поля) // Логический анализ языка. Ментальные действия. М.,
1993. С. 22-29.
Гак 1998 — В. Г. Гак. Языковые преобразования. М., 1998.
Литература
571
Галинова 2000 — Н. В, Галинова. Этимолого-словообразовательные гнезда
праславянских корней со значениями ‘гнуть’, ‘вертеть’, ‘вить’ в говорах
Русского Севера. Дис.... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2000.
ГГ — Гуцульськ! гов1рки. Короткий словник. JlbBiB, 1997.
Герд 2001 — А. С. Герд. Введение в этнолингвистику: Курс лекций и хресто-
матия. СПб., 2001.
Геров—Н. Герое. Речникъ на бльгарския език. Пловдивъ, 1895-1904. Ч. I-V.
Геров — Панчев — Допълнение на българския рЬчникъ оть Н. Геровъ/
Събралъ, наредилъ и изтьлкувалъ Т. Панчевъ. Пловдивъ, 1908.
ГИЗ — Гульш, 1грышчы, забавы. Мн., 1996.
Глущенко 2001 — О. А. Глущенко. Наречия образа действия в архангельских
народных говорах. Дис. ... канд. филол. наук. М., 2001.
Голомидова 1998 — М. В. Голомидова. Искусственная номинация в онома-
стике. Екатеринбург, 1998.
Горюнова 1995 — О. А. Горюнова. Русский этнический образ: прямые и об-
ратные ассоциативные связи // Этническое и языковое самосознание:
Мат-лы конф. М., 1995. С. 36.
Грандилевский — А. Грандилевский. Родина Михаила Васильевича Ломоно-
сова. Областной крестьянский говор. СПб., 1907.
Гридина 2001 — Т. А. Гридина. Ментальные ориентиры ономастической иг-
ры в малых фольклорных жанрах // Известия Уральского государствен-
ного университета. Сер. Гуманитарные науки. Вып. 4. Екатеринбург,
2001. С. 234-241.
Гринченко — Словарь украинского языка / Сост. Б. Гринченко. Киев, 1907-1909.
Т. 1-4.
Грысык 1992 —Н. Е. Грысык. Лечебные и профилактические обряды русско-
го населения бассейна Ваги и Средней Двины: пространственные и вре-
менные координаты // Русский Север: ареалы и культурные традиции.
СПб., 1992. С. 62-77.
Губарева — В. В. Губарева. Словарь тамбовских говоров (лексика питания).
Тамбов, 2003.
Г улик 1999 — Д. П. Гулик. Вторичные этнонимы и отэтнонимические дери-
ваты английского языка в свете языковой картины мира // Ономастика и
диалектная лексика. Екатеринбург, 1999. Вып. 3. С. 81-97.
Гультяева 2000 — Н. В. Гулътяева. Язык русского заговора: лексика. Дис. ...
канд. филол. наук. Екатеринбург, 2000.
Гура 1997 —А. В. Гура. Символика животных в славянской народной тради-
ции. М., 1997.
Гура 2003 -А. В. Гура. К семантической реконструкции славянской свадьбы:
основные мотивы // Славянское языкознание. XIII Междунар. съезд сла-
вистов. Докл. рос. делегации. М., 2003. С. 107-118.
Гура 2006 — А. В. Гура. Соотношение и взаимодействие акционального и вер-
бального кодов свадебного обряда// Славянский и балканский фольклор.
Семантика и прагматика текста. М., 2006. [Вып. 10]. С. 268-279.
572
Литература
Гура, Терновская, Толстая 1983 —А. В. Гура, О. А. Терновская, С. М. Толстая.
Программа полесского этнолингвистического атласа // Полесский этно-
лингвистический сборник: Мат-лы и исследования. М., 1983. С. 24.
Даль ПРИ —В. И. Даль. Пословицы русского народа. М., 1957.
Даль ПРН2 — Пословицы русского народа / Сб. В. Даля. М., 1993. Т. 1-3.
Даль2—В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд.
СПб.; М., 1880-1882 (1955). Т. I-IV.
Даль3 — В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 3-е изд.
СПб.; М., 1903-1909. Т. I-IV.
Дегтярев 1981 — В. И. Дегтярев. О происхождении слова люд // Этимология.
1979. М., 1981. С. 85-92.
Дзендзел1вський — Й. О. Дзендзел1всъкий. Програма для збирання матер1ал!в
до Лексичного атласу украТнськоТ мови. Ки’Гв, 1987.
ДзФ — Дзщячы фальклор. MiHCK, 1972.
ДКСБ — И. А. Морозов, И. С. Слепцова, Е. Б. Островский, и др. Духовная
культура Северного Белозерья: Этнодиалектный словарь. М., 1997.
Дмитриев 1972 — Л. А. Дмитриев. Отрывок сборника пословиц XVII в. // Ру-
кописное наследие Древней Руси: По материалам Пушкинского дома.
Л., 1972. С. 28-56.
Дмитриев 1986 — В. Г. Дмитриев. Придуманные имена: Рассказы о псевдо-
нимах. М., 1986.
Дмитриева, Панченко 1993 — Т. Н. Дмитриева, С. В. Панченко. Ситуативные
названия в топонимии казымских ханты // Язык и прошлое народа.
Екатеринбург, 1993. С. 168-177.
ДО — Дополнения к Опыту областного великорусского словаря. СПб., 1858.
Драбик 2004 — В. Драбик. О «бабьем лете» и прочих бабьих делах И Язык
культуры: Семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения акад.
Н. И. Толстого. М., 2004. С. 476-478.
ДС — Ф. М. Янкоусм. Дыялектны слоушк. М1нск, 1970. Вып. 3.
ДСБ — Дыялектный слоушк Брэстчыны. Мшск, 1989.
ДСРГСУ — Словарь русских говоров Среднего Урала. Дополнения. Екате-
ринбург, 1996.
ДФ — Дитячий фольклор: Колисков! nicni та забавлянки. Кшв, 1984.
ЕБНМ — Енциклопедия българска народна медицина. София, 1999.
ЕлезовиЙ — Гл. ЕлезовиЬ. Речник косовско-метохи]ског диалекта// Српски
ди]алектолошки зборник IV. Београд, 1932; VI. Београд, 1935. Кн>. 1-П.
Еленевская, Фиал ков а 2005 — М. Еленевская, Л. Фиалкова. Русская улица в
еврейской стране: Исследование фольклора эмигрантов 1990-х в Израи-
ле. М., 2005. Ч. I—II.
Елеонская 1917 — Е. Н. Елеонская. Къ изучешю заговора и колдовства въ
PocciH. М., 1917. Вып. 1.
Елистратов — В. С. Елистратов. Язык старой Москвы: Лингвоэнциклопеди-
ческий словарь. М., 2004.
Литература
573
Еремина 2003 — М. А. Еремина. Лексико-семантическое поле «отношение
человека к труду» в русских народных говорах: этнолингвистический
аспект. Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2003.
Ермолов 1901 —А. С. Ермолов. Народная сельскохозяйственная мудрость в
пословицах, поговорках и приметах. СПб., 1901-1905. Т 1: Всенародный
месяцеслов. 1901.
Ермолов J 905 — А. С. Ермолов. Народная сельскохозяйственная мудрость в
пословицах, поговорках и приметах. СПб., 1901-1905. Т. 4: Народное
погодоведение. 1905.
Ермолов 1995 —А. С. Ермолов. Народное погодоведение. М., 1995.
ЕСУМ — Етимолопчний словник украГнськоТ мови. Кшв, 1982-. Т. 1-.
Ефименко 1877 — 77. С. Ефименко. Матер1алы по этнографии русскаго насе-
лешя Архангельской губернш. М., 1877. Ч. 1: Описаше вн^шняго и вну-
тренняя быта.
Жданова 2005 — В. Жданова. Поляк глазами немцев: Актуальный языковой
и социокультурный стереотип И Etnolingwistyka: Problemy j?zyka i kultury.
Lublin, 2005. № 17. S. 197-213.
Жмурко — О. И. Жмурко. Лексика природы: Опыт тематического словаря
говоров Ивановской области. Иваново, 2001.
ЖР — В. П. Белянин, И. А. Бутенко. Живая речь: Словарь разговорных выра-
жений. М., 1994.
ЖС —Жывёльны свет: Тэматычны слоушк. Мшск, 1999.
Журавлев 1994 — А. Ф. Журавлев. Домашний скот в поверьях и магии вос-
точных славян. Этнографические и этнолингвистические очерки. М., 1994.
Журавлев 1995 — А. Ф.Журавлев. Славянская этнолингвистика в работах
Н. И. Толстого // Н. И. Толстой. Язык и народная культура: Очерки по
славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995. С. 8-12.
Журавлев 1999 — А. Ф. Журавлев. Древнеславянская фундаментальная ак-
сиология в зеркале праславянской лексики // Славянское и балканское
языкознание. Проблемы лексикологии и семантики. Слово в контексте
культуры. М., 1999. С. 7-32.
Журавлев 2000 — А. Ф. Журавлев. Наивная этимология и «кабинетная мифо-
логия» (Из наблюдений над мифологизмом А. Н. Афанасьева) И Этимо-
логия. 1997-1999. М, 2000. С. 45-58.
Журавлев 2005а — А. Ф. Журавлев. К статистике русских фамилий. I // Во-
просы ономастики. 2005. № 2. С. 126-146.
Журавлев 20056 — А. Ф.Журавлев. Язык и миф. Лингвистический коммента-
рий к труду А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на приро-
ду». М., 2005.
Журавлев А.П. 1974 —А. П. Журавлев. Фонетическое значение. Л., 1974.
Забылин 1880 — Русский народ: его обычаи, предания, суеверия и поэзия/
Сост. М. Забылиным. М., 1880.
Завьялова, Англицкене 2005 — М. Завьялова, Л. Англицкене. Стереотип поля-
ка глазами литовцев // Etnolingwistyka: Problemy j?zyka i kultury. Lublin,
2005. № 17. S. 145-186.
574
Литература
Зайковский 1998 —В. Зайковский. Невеста-птица. 2. Communio-coitus// Ко-
дови словенских культура. Београд, 1998. Бр. 3. С. 59-78.
Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005 — Анна А. Зализняк, И. Б. Левонтина,
А. Д. Шмелев. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005.
Зеленин 1991 —Д. К. Зеленин. Восточнославянская этнография. М., 1991.
Зеленин 1994 — Д. К. Зеленин. Избранные труды. Статьи по духовной куль-
туре 1901-1913 гг. М., 1994.
Зеленин 1995 —Д. К. Зеленин. Избранные труды. Очерки русской мифоло-
гии: Умершие неестественной смертью и русалки. М., 1995.
Зеленин ВСПГ — Д. К. Зеленин. Великорусские сказки Пермской губернии.
Сокровищница отечественного собирательства. М., 1991.
Зеленин ТС — Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Л.,
1930. Ч. 2: Запреты в домашней жизни. [Сб. МАЭ. Т. IX].
ЗлатановиИ — М. ЗлатановиЬ. Речник говора 1ужне Срби]е. Вран>е, 1998.
Иваницкий — Н. А. Иваницкий. Материалы по этнографии Вологодской гу-
бернии // Известия Общества любителей естествознания, антропологии
и этнографии 1890-1891. Т. LXIX. Вып. 1.
Иванов 1975 —Вяч. Вс. Иванов. К типологическому анализу внутренней формы
праслав. *celovekb ‘человек’ //Этимология. 1973. М., 1975. С. 17-23.
Иванов, Топоров 1974 — Вяч. Вс. Иванов, В. И. Топоров. Исследования в об-
ласти славянских древностей. М., 1974.
Иванова 2002 — А. А. Иванова. Река в культурной традиции Пинежья // Ак-
туальные проблемы полевой фольклористики. М., 2002. С. 141-153.
Ивашко 1980 —Л. А. Ивашко. Пространственные фразеологические единицы
в псковских говорах // Лексика и фразеология севернорусских говоров.
Вологда, 1980. С. 127-131.
Ивашко 1981 —Л. А. Ивашко. Очерки русской диалектной фразеологии. Л., 1981.
1вченко 1999 — А. О. /вченко. Укра'Гнська народна фразеолопя: Ономасю-
лопя, ареали, етимолопя. Харктв, 1999.
Имя... 2001 — Имя: внутренняя структура, семантическая аура, контекст: Тез.
Междунар. науч. конф. М., 2001. Ч. 2.
ИНС — Игры народов СССР. Сб. материалов. М.; Л., 1933.
ИРС — Я А. Скворцова, Б. И. Майзелъ. Итальянско-русский словарь. М., 1996.
Исаев 2003 — М. И. Исаев. Словарь этнолингвистических понятий и терми-
нов. М., 2003.
Исаева 1976 - Т. А. Исаева. Названия волжских пароходов // Ономастика По-
волжья. Саранск, 1976. Вып. 4. С. 297-299.
ДовановиИ — В. Joeauoeuh. Речник села Каменице код Ниша // Српски ди}а-
лектолошки зборник. Београд, 2004. Кн>. LI. С. 319-688.
Кабакова 1993 —Г. И. Кабакова. Французская этнолингвистика: проблема-
тика и методология И Вопр. языкознания. 1993. № 6. С. 110-113.
Калинский — Церковно-народный месяцеслов И. П. Калинского. М., 1990.
Карпенко 1984 — Ю. А. Карпенко. Специфика ономастики И Русская онома-
стика. Одесса, 1984. С. 3-15.
Литература
575
Кассирер 1990 — Э. Кассирер. Сила метафоры // Теория метафоры. М., 1990.
С. 33-43.
КГ — Круглый год: Русский земледельческий календарь / Сост., вступ. ст. и
прим. А. Ф. Некрыловой. М., 1989.
Клепикова 1964 — Г, П. Клепикова Значения славянских орнитологических
названий, восходящих к *ZbLNA // Проблемы индоевропейского языко-
знания: Этюды по сравнительно-исторической грамматике индоевро-
пейских языков. М., 1964. С. 106-114.
Клочкова 2006 — Ю. В. Клочкова. Образ Екатеринбурга/Свердловска в рус-
ской литературе (XVIII — середина XX в.). Дис. ... канд. филол. наук.
Екатеринбург, 2006.
Клубков, Лурье 2003 — П. А. Клубков, В. Ф. Лурье. Разговорные топонимы
как явление фольклора// Современный городской фольклор. М., 2003.
С. 450-459.
Книголюбов — [Заговоры из сборника Г. Д. Книголюбова] // Рукописи, кото-
рых не было: Подделки в области славянского фольклора. М., 2002.
С. 359-389.
Кобозева 1995 — И. М. Кобозева. Немец, англичанин, француз и русский:
выявление стереотипов национальных характеров через анализ коннота-
ций этнонимов// Вестн. Моск, ун-та. Сер. 9. Филология. 1995. № 3.
С. 102-116.
Кобозева 2000 - И. М. Кобозева. Лингвистическая семантика. М., 2000.
Ковалев 1982 —Г. Ф. Ковалев. История русских этнических названий. Воро-
неж, 1982.
Коваль 1998 — В. И. Коваль. Восточнославянская этнофразеология: дерива-
ция, семантика, происхождение. Гомель, 1998.
Коваль 2006 — В. И. Коваль. Полесский толобень*. Об эротическом подтек-
сте регионального обряда сватовства И Белорусский эротический фольк-
лор. М., 2006. С. 118-122.
Козловский — Собрание русских воровских словарей / Сост. В. Козловский.
Нью-Йорк, 1983. Т. 1-4.
Колесов 1986 — В. В. Колесов. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986.
Колосова 2003 — В. Б. Колосова. Лексика и символика народной ботаники
восточных славян (на общеславянском фоне): Этнолингвистический ас-
пект. Дис.... канд. филол. наук. СПб., 2003.
КомиРС — Коми-русский словарь. М., 1961.
Кондратенко — М. Кондратенко. Лексика народной метеорологии: Опыт
сравнительного анализа славянских и немецких наименований природ-
ных явлений. Munchen, 2000.
Кондратьева — Т. Н. Кондратьева. Метаморфозы собственного имени: Опыт
словаря. М., 1983.
Кондратьева 1964 — Т. Н. Кондратьева. Собственные имена в пословицах,
поговорках и загадках русского народа И Вопросы грамматики и лекси-
кологии. Казань, 1964. С. 98-188.
576
Литература
КОО — Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы (конец
XIX — XX в.): Летне-осенние праздники. М.» 1978.
Копыленко 1995 — М. М. Копыленко. Основы этнолингвистики. Алма-Аты,
1995.
Кошелев 1996—А. Д. Кошелев. К определению дихотомии «живое — нежи-
вое» И Московский лингвистический журнал. М., 1996. Вып. 1.
Кралик 2006 — Л. Кролик. Из словацкой диалектной лексики: deethnony-
mica// Ad fontes verborum. Исследования по этимологии и исторической
семантике. К 70-летию Ж. Ж. Варбот. М., 2006. С. 161-169.
Кривоногова 1999 — М. М. Кривоногова. Национальное своеобразие фразео-
логических единиц различных вариантов одного языка (на примере
французского языка в Квебеке и Франции) // Фразеология в контексте
культуры. М., 1999. С. 294-299.
Кривощапова 2005 — Ю. А. Кривощапова. Домашние насекомые-паразиты в
языке и фольклоре // Живая старина. 2005. № 4. С. 40-43.
Криничная 1991 —Н. А. Криничная. Предания Русского Севера. СПб., 1991.
КРК —Л. М.Безносикова, Е.А.Айбабина, Р.И. Коснырева. Коми-роч кыв-
чукбр. Сыктывкар, 2000.
КРС — Киргизско-русский словарь: В 2 т. М., 1985.
Крысин 2002 —Л.П. Крысий. Лингвистический аспект изучения этностерео-
типов (постановка проблемы) // Встречи этнических культур в зеркале
языка (в сопоставительном лингвокультурном аспекте). М., 2002.
С. 171-175.
Крюков 1984 — М. В. Крюков. «Люди», настоящие люди (к проблеме истори-
ческой типологии этнических самоназваний) И Этническая ономастика.
М., 1984. С. 6-12.
КСГРС — картотека Словаря говоров Русского Севера (кафедра русского
языка и общего языкознания УрГУ, Екатеринбург)
КСРНГ — картотека Словаря русских народных говоров (Институт лингвис-
тических исследований РАН, Санкт-Петербург)
Кудрявцев — В. Ф.Кудрявцев. Детские игры и песенки в Нижегородской гу-
бернии (этнографические матер1*алы) // Нижегородский сборник. Ниж-
ний Новгород, 1871. Т. IV. С. 167-238.
Кузнецов 1995 —А. В. Кузнецов. Названия вологодских озер: Словарь лимно-
нимов финно-угорского происхождения. Вологда, 1995.
Кузнецова, Логинов 2001 — В. П. Кузнецова, К. К.Логинов. Русская свадьба
Заонежья (конец XIX — нач. XX в.). Петрозаводск, 2001.
Куликовский — Г. И. Куликовский. Словарь областного олонецкого наречия в
его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898.
Куркина 1985 —Л. В.Куркина. Южнославянские этимологии// Этимология.
1982. М., 1985. С. 13-24.
КЭИС — картотека Этно идеограф и чес кого словаря русских говоров Сверд-
ловской области (кафедра русского языка и общего языкознания УрГУ,
Екатеринбург).
Литература
577
ЛБМ — Лоция Белого моря. Л., 1939.
Левкиевская 2000 —Е. Е. Левкиевская. Мифы русского народа. М., 2000.
Левкиевская 2002 — Е. Е. Левкиевская. Славянский оберег. Семантика и
структура. М., 2002.
Леонтьева 2002 — Т. В. Леонтьева. Опыт установления границ концептуаль-
ного поля «интеллект» в лексике русских народных говоров // Материа-
лы и исследования по русской диалектологии I (VII). М., 2002. С. 277-286.
Леонтьева 2003а — Т. В. Леонтьева. Интеллект человека в зеркале русского
языка. Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2003.
Леонтьева 20036 — Т. В. Леонтьева. Семантическая структура поля «Интел-
лект человека» в русском языке // Язык. Система. Личность. Екатерин-
бург, 2003. С. 108-119.
ЛЗА — личные записи автора (материалы современной русской разговорной
речи, собранные преимущественно в Екатеринбурге и Москве)
ЛКТЭ — лексическая картотека ТЭ УрГУ (кафедра русского языка и общего
языкознания УрГУ, Екатеринбург).
Логинов 1993 — К. К. Логинов. Семейные обряды и верования русских За-
онежья. Петрозаводск, 1993.
Лукьянова 1986 — Н. А. Лукьянова. Экспрессивная лексика разговорного
употребления (проблемы семантики). Новосибирск, 1986.
Лычева 2002 — Н.Г.Лычева. Символический язык русской свадебной лирики:
метафоры невесты, жениха и брака. Дипл. работа. М. (МГУ), 2002.
Лютикова — В. Д. Лютикова. Словарь диалектной личности. Тюмень, 2000.
Макашина 1982 — Т. С. Макашина. Ильин день и Илья-пророк в народных
представлениях и фольклоре восточных славян И Обряды и обрядовый
фольклор. М., 1982. С. 83-100.
Максимов 1994 — С. В. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила.
СПб., 1994.
Маланин 1996 — И. Маланин. Земные прототипы Алатырь-камня // Мифы и
магия индоевропейцев. М., 1996. Вып. 3.
Малеча — Н. М. Малеча. Словарь говоров уральских (яицких) казаков. Орен-
бург, 2002-2003. Т. 1-4.
Мариковский 1969 — П. Мариковский. Тайны мира насекомых. Алма-Ата, 1969.
МарковиЙ — М. Маркович Речник народног говора у Црной Реци // Српски
ди)алектолошки зборник ХХХ11. Београд, 1986. С. 243-500.
Маслинский 2000 — К. А. Маслинский. «Литва — она всё зальёт» // Живая
старина. 2000. № 3. С. 5-9.
Матвеев 1976 —А. К. Матвеев. Нёройки караулят Урал. Свердловск, 1976.
Матвеев 1984 — А. К. Матвеев. Еще раз об этимологии этнонима зырянин//
Этимологические исследования. Свердловск, 1984. Вып. 3. С. 79-91.
Матвеев 1987 — Матвеев А. К. Топонимические древности // Формирование
и развитие топонимии. Свердловск, 1987. С. 4-29.
Матвеев 1990 — Матвеев А. К. Вершины Каменного Пояса: Названия гор
Урала. Челябинск, 1990.
578
Литература
Матвеев 1998 — А. К. Матвеев. Мерянская топонимия на Русском Севере —
фантом или феномен? //Вопр. языкознания. 1998. № 5. С. 90-105.
Маштаков — 77. Л. Маштаков. Материалы для областного водного словаря.
Л., 1931.
МД — Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. М., 1991.
Вып. 1. Младенчество; Детство.
Мельхеев 1969 —М. Н. Мельхеев. Географические названия Восточной Си-
бири: Иркутская и Читинская области. Иркутск, 1969.
Меркулов 1980 — Н. Ю. Меркулов. Селигерские ветры // Рус. речь. 1980. № 3.
С.132-136.
Меркулова 1963 —В. А. Меркулова. Слав. *zab-\ праслав. *zarovbji ‘высокий,
прямой’ // Этимология: Исследования по русскому и другим языкам. М.,
1963. С. 72-80.
Меркулова 1972 — В. А. Меркулова. Народные названия болезней. II (на ма-
териале русского языка) // Этимология. 1970. М., 1972. С. 143-206.
Меркулова 1976 — В. А. Меркулова. Жерлянка // Рус. речь. 1976. № 3.
Меркулова 1985 — В. А. Меркулова. Восточнославянские этимологии. II//
Этимология. 1982. М., 1985. С. 39-47.
Меркулова 1989 — В. А. Меркулова. К вопросу о семантической реконструк-
ции // Общеславянский лингвистический атлас: Мат-лы и исследования.
1985-1987. М., 1989. С. 266-268.
Мечковская 2002 —Н. Б. Мечковская. Национально-культурные оппозиции в
ментальности белорусов (на мат-ле белорусских паремий и фразеоло-
гизмов с этнолингвонимами и топонимами) // Встречи этнических куль-
тур в зеркале языка (в сопоставительном лингвокультурном аспекте).
М., 2002. С. 215-231.
Миненко 1989 — Н. А. Миненко. Живая старина: Будни и праздники сибир-
ской деревни в XVIII — первой половине XIX в. Новосибирск, 1989.
Минкин 1976 —А. А. Минкин. Топонимы Мурмана. Мурманск, 1976.
Митрофанова — Загадки /Подгот. изд. В. В. Митрофановой. Л., 1968.
Михайлова 1993 —Л. П. Михайлова. Фараоны, девятые люди и другие жите-
ли Карелии// Родные сердцу имена (Ономастика Карелии). Петроза-
водск, 1993.
Михельсон — М. И. Михельсон. Русская мысль и речь: Свое и чужое: Опыт
русской фразеологии: Сборник образных слов и иносказаний. М., 1994.
Т. I-IL
Мищенко 1999 — О. В. Мищенко. К вопросу о возможностях реализации про-
странственных отношений в русском языке // Лингвистическая ретроспекти-
ва, современность и перспектива города и деревни. Пермь, 1999. С. 122-128.
Мищенко 2000 — О. В. Мищенко. Лексика лесных локусов в говорах Русско-
го Севера. Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2000.
Мищенко 2001 — О. В. Мищенко. Из этимологий дендрологических терминов
Русского Севера// Этимологические исследования. Екатеринбург, 2001.
Вып. 7. С. 63-73.
Литература
579
Младенова (в печати) — Д. Младенова. Звездного небе над нас. Етнолингви-
стично изследване набалканските народни астроними. София (в печати).
Мокиенко 1999а — В. М. Мокиенко. К сопоставительной этнофразеологии
украинского, белорусского и русского языков (лингвистические и этно-
логические аспекты формулы отказа)// Беларусгстыка. Zeitschrift fur ak-
tuelle Fragen der weiBrussischen Sprache. 1999. № 1. C. 24-39.
Мокиенко 19996 — В. M. Мокиенко. Образы русской речи: Историко-этимо-
логические очерки по фразеологии. СПб., 1999.
Мокиенко 2003 — В. М. Мокиенко. Почему так говорят? Историко-этимоло-
гический справочник по русской фразеологии. СПб., 2003.
Мокиенко 2006а — В. М. Мокиенко. Национальное и интернациональное в
славянской паремиологии// Глобализация — этнизация. Этнокультур-
ные и этноязыковые процессы. М., 2006. Кн. 1. С. 219-249.
Мокиенко 20066 — В. М. Мокиенко. Сопоставительная этнофразеология вос-
точославянских языков // Славянские языки в свете культуры. М., 2006.
С. 206-221.
МокшРС — Мокшанско-русский словарь. М., 1949.
МолдРС — Молдавско-русский словарь. М., 1961.
Морозов 1998 — И. А. Морозов. Женитьба добра молодца: Происхождение и
типология традиционных молодежных развлечений с символикой «свадь-
бы»/«женитьбы». М., 1998.
Морозов, Слепцова 1993 — И. А. Морозов, И. С. Слепцова. Праздничная
культура Вологодского края. М., 1993.
Морозов, Слепцова 2004 — И. А. Морозов, И. С. Слепцова. «Круг игры». Празд-
ник и игра в жизни севернорусского крестьянина (XIX-XX вв.). М., 2004.
Муллонен 2006 — И. И. Муллонен. Маркировка границы в топонимии Заоне-
жья И Ad fontes verborum. Исследования по этимологии и исторической
семантике. К 70-летию Ж. Ж. Варбот. М., 2006. С. 245-255.
Мурзаев — Э. М. Мурзаев. Словарь народных географических терминов. М.,
1984.
Мызников 2003 — С. А. Мызников. Русские говоры Обонежья: ареально-эти-
мологическое исследование лексики прибалтийско-финского происхож-
дения. СПб., 2003.
Мюллер — В. К. Мюллер. Англо-русский словарь. М., 1992.
Насов1ч — L I. Hacoei4. Слоунж беларускай мовы. Мшск, 1983.
НБАРС — Новый большой англо-русский словарь. М., 2002. Т. 1-3.
НБРФинС — Новый большой русско-финский словарь. М.; Хельсинки, 2000.
Невская 1997 —Л. Г. Невская. Концепт гость в контексте переходных обря-
дов И Из работ московского семиотического круга. М., 1997. С. 442-452.
Неклюдов 2004 — С. Ю. Неклюдов. Западный и восточный этнический век-
тор в русском эпическом сознании И На перекрестке культур: русские в
балтийском регионе. Калининград, 2004. Ч. 1. С. 39-45.
Непокупный 1976 — А. П. Непокупный. Балто-севернославянские языковые
связи. Киев, 1976.
580
Литература
Никитина 2004 — С. Е. Никитина. О жизни человека и людей в устной на-
родной поэзии // Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура: Сб. ст. в
честь Н. Д. Арутюновой. М, 2004. С. 620-631.
Николаева 2003 — Т. М. Николаева. Пространство славянских партикул //
Славянское языкознание. XIII Междунар. съезд славистов. Доклады рос.
делегации. М., 2003. С. 448-469.
Никонов — В. А. Никонов. Краткий топонимический словарь. М., 1956.
Никонов 1970 — В. А. Никонов. Этнонимия // Этнонимы. М., 1970. С. 5-33.
Никончук — М. Никончук. Лексичний атлас правобережного Полюся. Ки!‘в;
Житомир, 1994.
Нильссон 1999 — Б. Нильссон. Человек и мужчина — о классах, индивидах и
инстанциях. К постановке проблемы (на материале русского и шведско-
го языков) // Логический анализ языка. Образ человека в культуре и
языке. М., 1999. С. 99-104.
Номис—М. Номис. Укршнсью приказки, присл!вья и таке инше. СПб., 1864.
НорвРС — Норвежско-русский словарь. М., 1963.
НОС — Новгородский областной словарь. Новгород, 1992-1995. Вып. 1-12.
НРС — Немецко-русский словарь. М., 1996.
НФРС — В. Г. Гак, К. А. Ганшина. Новый французско-русский словарь. М., 1995.
Ожегов — С. И. Ожегов, Н Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка.
М., 1995.
Онишкевич—М. Й. Онишкевич. Словникбойювських roeipOK. Киш, 1984. Ч. 1-2.
Ономастикой — С. Б. Веселовский, Ономастикой. Древнерусские имена, про-
звища и фамилии. М., 1974.
ООП — Обряды. Обычаи. Поверья. Тюмень, 1997.
Опыт — Опыт областного великорусского словаря, изданный Вторым отде-
лением Императорской академии наук. СПб., 1852.
ОСВГ — Областной словарь вятских говоров. Киров, 2006. Вып. 4: Е-И.
Отин 1983 — Е. С. Отин. А восе, авось и авоськать // Рус. речь. 1983. №4.
С. 119-122.
Отин 2003 — Е. С. Отин. Коннотативные онимы и их производные в истори-
ко-этимологическом словаре русского языка// Вопр. языкознания. 2003.
№ 2. С. 55-72.
Отин СлК — Е. С. Отин. Словарь коннотативных собственных имен. Донецк,
2004.
ПавловиЙ 2005 — Т. Павловичи «Жив» со значением «сиров» у русском и
српском ]езику // Славистика. Београд, 2005. Кн>. IX. С. 133-137.
Паршин 1996 — П. Б. Паршин. Теоретические перевороты и методологиче-
ский мятеж в лингвистике XX века// Вопр. языкознания. 1996. №2.
С. 19-42.
Пашина 1995 — О. А. Пашина. Календарный цикл в северо-западных селах
Сумщины // Славянский и балканский фольклор. М., 1995. С. 230-250.
Пашина 1998 — О. А. Пашина. Календарно-песенный цикл у восточных сла-
вян. М., 1998.
Литература
581
Пашина 2000 — О. А. Пашина. К вопросу о взаимодействии культурных тек-
стов: жатва и свадьба// Кодови словенских култура. Београд, 2000.
Бр. 5: Землюрадша. С. 86-97.
Пащенко — В. А. Пащенко. Материалы к словарю фразеологизмов и иных ус-
тойчивых сочетаний Читинской области. Чита, 1999. Ч. 1-2.
Первухина 2002 — Е. В. Первухина. Наречия времени и пространства в ар-
хангельских говорах (семантический аспект). Дис. ... канд. филол. наук.
М„ 2002.
Петкевич 2006 — А. В. Петкевич. «Водная жертва» в русской культурной
традиции // Живая старина. 2006. № 3. С. 15-18.
Петлева 1980 — И. П. Петлева. К вопросу о словах с усилительным -to-, -ta-,
-tu- в славянских языках // Этимология. 1978. М., 1980. С. 65-69.
Петлева 1986 — И. П. Петлева. О важности учета в этимологии редких лин-
гвистических явлений формального характера// Этимология. 1984. М.,
1986. С. 198-201.
Петлева 1996 — И. П. Петлева. Архаические префиксы в русских говорах//
Этимологические исследования. Екатеринбург, 1996. Вып. 6. С. 31-38.
Петлева 2003 — И. П Петлева. Еще раз к вопросу о русских диалектных
словах с вставным элементом -то (П-та-И-ту-) // Этимологические ис-
следования. Екатеринбург, 2003. Вып. 8. С. 32-37.
Петрухин, Полинская 1994 — В. Я. Петрухин, М. С. Явлинская. О категории
«сверхъестественного» в первобытной культуре// Историко-этнографиче-
ские исследования по фольклору: Сб. ст. памяти С. А.Токарева. М., 1994.
С. 164-180.
ПЗ — Полесские заговоры (в записях 1970-1990 гг.). М., 2003.
ПЗам — Полесью замовляння. Житомир, 1995.
Плевачева 1968 — Г. Плевачева. К слав. *zabrbjt>ll Этимология. 1966. М.,
1968. С. 90-96.
ПЛНМ — М. В. Никончук, О. М. Никончук, В. М. Мойыенко. Полюька лексика
народно’1 медицини та лжувалыюТ маги. Житомир, 2001.
Плотникова 1996 —А. А. Плотникова. Слав. *viti в этнокультурном контек-
сте // Концепт движения в языке и культуре. М., 1996. С. 104-114.
Плунгян, Рахилина 1993 — В. А. Плунгян, Е. В. Рахилина. БЕЗУМИЕ как лек-
сикографическая проблема (К анализу прилагательных безумный и су-
масшедший) И Логический анализ языка. Ментальные действия. М.,
1993. С.120-126.
Плунгян, Рахилина 1996 — В. А.Плунгян, Е. В. Рахилина. «С чисто русской
аккуратностью...» (К вопросу об отражении некоторых стереотипов в язы-
ке) // Московский лингвистический журнал. М., 1996. Т. 2. С. 340-351.
ПНС — Представления восточных славян о нечистой силе и контактах с ней.
Материалы полевой и архивной коллекции Л. М. Ивлевой. СПб., 2004.
Подвысоцкий — А. И. Подвысоцкий. Словарь областного архангельского на-
речия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885.
Подюков—Сны, приметы,загадки, поговорки/Сост.И. А. Подюков. Пермь, 1994.
582
Литература
Подюков 1991 — И. А. Подюков. Народная фразеология в зеркале народной
культуры. Пермь, 1991.
Подюков 1997 — И. А, Подюков. Культурно-семиотические аспекты народ-
ной фразеологии. Автореф. дис.... д-ра филол. наук. СПб., 1997.
Подюков 2003 — И. А. Подюков. Современное городское топонимическое
творчество // Современный городской фольклор. М., 2003. С. 460-476.
Покровский — Е. А. Покровский. Детские игры: преимущественно русские.
СПб., 1994 (репринт —М., 1895).
Полякова — Е. Н. Полякова. К истокам пермских фамилий: Словарь. Пермь,
1997.
Померанцева 1975 — Э. В. Померанцева. Мифологические персонажи в рус-
ском фольклоре. М., 1975.
Попов — Г. И. Попов. Русская народно-бытовая медицина: По материалам
этнографического бюро кн. В. Н. Тенишева И М. Д. Торзн. Русская на-
родная медицина и психотерапия. СПб., 1996. С. 277-471.
Попов А. И. 1973 — А. И. Попов. Названия народов СССР. Введение в этно-
нимику. Л., 1973.
Попов Р. 2004 — Р. Попов. Народная этимология и культ святых // Язык
культуры: Семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения акад.
Н. И. Толстого. М., 2004. С. 131-138.
Попова 1999 — Э. Ю. Попова. Этнонимия Русского Севера. Дис. ... канд. фи-
лол. наук. Екатеринбург, 1999.
Поповичева 2001 —И. В.Поповичева. Культурная семантика некоторых диа-
лектных названий // Материалы к лингво-фольклорному атласу Тамбов-
ской области. Тамбов, 2001. Вып. 3. С. 84-94.
ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными. Л., 1967-.
Вып. 1-.
Поспелов 1990 — Е. М. Поспелов. Переименования городов и сел в СССР // То-
понимика СССР. М., 1990. С. 45-57.
Потебня 1914 —А. А. Потебня. О некоторых символах славянской народной
поэзии. Харьков, 1914.
Потебня 1958 —А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике. М., 1958.
Т. I—II.
Потебня 1989 —А. А. Потебня. Слово и миф. М., 1989.
ПП 1990 — Прислив’я та приказки: Людина. Родина. Життя. Риси характеру.
Ки!в, 1990.
ПП 1991 — Прислив’я та приказки: Взаемини м!ж людьми. КиТв, 1991.
ПП-блр — Прыказю i прымаукк У 2 кн. Мшск, 1976.
ППЗ — Пословицы. Поговорки. Загадки. М., 1986.
Прокошева — Материалы для фразеологического словаря говоров Северного
Прикамья / Сост. К. Н. Прокошева. Пермь, 1972.
Пропп 1963 — В. Я. Пропп. Русские аграрные праздники: Опыт историко-эт-
нографического исследования. Л., 1963.
Прох — Л. 3. Прох. Словарь ветров. Л., 1983.
Литература
583
ПРП — В. Колесникова. Праздники Руси православной. М., 1998.
ПРС—С. Е. Старец, Е. Н. Феерштейн. Португальско-русский словарь. М., 1972.
Пьянкова 2003 — К В. Пьянкова. Об одном случае «пищевой» мотивации в
русской терминологии игр // Этимологические исследования. Екатерин-
бург, 2003. Вып. 8. С. 199-207.
Пьянкова 2004 — К В. Пьянкова. Антропологический код в русской лексике
брожения и скисания // Лексический атлас русских народных говоров
(Материалы и исследования) 2001-2004. СПб., 2004. С. 54—64.
Пьянкова 2005 — К В. Пьянкова. Семантические связи пищевой лексики в
русском языке: Этнолингвистический аспект. Дипл. работа. Екатерин-
бург (УрГУ), 2005.
Расторгуев — П. А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины
(Мат-лы для истории словарного состава говоров). Минск, 1973.
Растье 2001 — Ф. Растье. Интерпретирующая семантика. Нижний Новгород,
2001.
РБЕ — Речник на българския език. София, 1977-. Т. 1-.
РБЕ (Чолакова) — Речник на българския език /Гл. ред. К. Чолакова. София,
1977-. Т. 1-.
РБС — Русско-башкирский словарь. М., 1964.
РВС — Л. Хадрович, Л. Гальди. Русско-венгерский словарь: В 2 т. Будапешт,
1988.
РДатС — Русско-датский словарь. М., 1968.
РДИФ — Раз, два, три, четыре, пять — Мы идем играть: Русский детский иг-
ровой фольклор. М., 1995.
РДС — Русский демонологический словарь. СПб., 1995.
Редкин —А. П. Редкий. Французско-русский словарь. СПб., 1906.
РЛС —X. Лемхенас. Русско-литовский словарь. Вильнюс, 1955.
РЛтшС — Русско-латышский словарь. Рига, 1971.
РМЕ — Речник на македонскиот ]азик со српскохрватски толкуватьа. Скоп(е,
1961-1966. T.I-III.
PMC — Русско-марийский словарь. М., 1966.
Родионова 1998 —И. В. Родионова. Центральная субъектная оппозиция хри-
стианства в народной языковой картине мира: Опыт верификации (на
мат-ле русских народных говоров) // Ономастика и диалектная лексика.
Екатеринбург, 1998. Вып. 2. С. 148-157.
Родионова 1999 — И. В. Родионова. К вопросу о трансформации библей-
ско-христианской традиции в народной картине мира // Язык. Система.
Личность. Екатеринбург, 1999. С. 51-63.
Родионова 2000 — И. В. Родионова. Имена библейско-христианской тради-
ции в русских народных говорах. Дис. ... канд. филол. наук. Екатерин-
бург, 2000.
Родионова 2005 — И. В. Родионова. Характерологические номинации антро-
понимического происхождения в русских народных говорах // Русский
язык в научном освещении. 2005. № 2(10). С. 159-189.
584
Литература
Розина 1991 — Р. И, Розина. Человек и личность в языке // Логический ана-
лиз языка. Культурные концепты. М., 1991. С. 52-56.
PC — Русский Север: этническая история и народная культура. ХП-ХХ вв. М.,
2001.
PC А — Речник српскохрватског кн>ижевног и народног езика. Београд, 1959-
Кн>. 1-.
РСС — Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизиро-
ванный по классам слов и значений. М., 1998.
PCCXKJ — Речник савременог српскохрватског кн>ижевног ]езика. Београд,
1990.
PCXKJ — Речник српскохрватскога кн>ижевног jезика. Нови Сад; Загреб,
1967-1976. Кн>. 1-6.
РТС — Русско-татарский словарь. М., 1984.
Рубцова 1989 — 3. В. Рубцова. Наименования и переименования сельских
поселений советского периода// Исторические названия — памятники
культуры: Тез. докл. и сообщ. М., 1989. С. 78-79.
РУС — Русско-удмуртский словарь. М., 1956.
Русская свадьба — Русская свадьба. М., 2000. Т. 1-2.
Рут 1987 — М. Э. Рут. Русская народная астронимия. Свердловск, 1987.
Рут 1988 —М. Э. Рут. Взаимодействие языков в области народной астрони-
мии // Русский язык в его взаимодействии с другими языками. Тюмень,
1988. С. 84-89.
Рут 1992 — М. Э. Рут. Образная номинация в русском языке. Екатеринбург,
1992.
Рут 1994 — М. Э. Рут. Образная ономастика в русском языке: ономасиоло-
гический аспект. Дис.... д-ра филол. наук. Екатеринбург, 1994.
Рут 2000 — М. Э. Рут. Имя и образ: динамический аспект // Имя: внутренняя
структура, семантическая аура, контекст: Тез. между нар. науч. конф. М.,
2000. Ч. 1.С. 15-19.
РФ — А. К. Бирих, В. М. Мокиенко, Л. И. Степанова. Русская фразеология.
Историко-этимологический словарь. М., 2005.
РЭФ — Русский эротический фольклор. Песни. Обряды и обрядовый фольк-
лор. народный театр. Заговоры. Загадки. Частушки. М., 1995.
Садовников — Загадки русского народа: Сборник загадок, вопросов, притч и
задач / Сост. Д. Н. Садовников. М., 1996.
Самоделова 1998 — Е. А. Самоделова. Образы домашних животных (коня и
ярки) в рязанской свадьбе // Palaeoslavica. 1998. № VI. С. 95-113.
САР — Словарь Академии Российской 1789-1794: В 6 т. М., 2001- Т. 1-.
Сахаров—Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым. М., 1990.
СБГ — Словарь брянских говоров. Л., 1976-. Вып. 1-
СБК — Сказки Белозерского края / Зап. Б.М. и Ю. М. Соколовы. Архан-
гельск, 1981.
СБП — И. И. Носович. Сборник белорусских пословиц. СПб., 1874.
СБукГ — Словник буковинських roeipOK. Чершвщ, 2005.
Литература
585
СВГ — Словарь вологодских говоров. Вологда, 1983- Вып.1-
СВЛ — И. Магрицъка. Словник весшьноТ лексики украгнських схщно-
слобожанських roeipoK (Луганська область). Луганськ, 2003.
СВЯ — Л/ И. Зайцева, М. И. Муллонен. Словарь вепсского языка. Л., 1972.
СГРС - Словарь говоров Русского Севера. Екатеринбург, 2001- Т. 1-.
СГСЗ — Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья. Новоси-
бирск, 1999.
СГУ — Словник гидрошм1в Украши. Ки!'в, 1979.
СД — Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти томах.
М., 1995-. Т. 1-.
СДРЯ — Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.). М., 1988-. Т. 1-.
Седакова 2000 — И. А. Седакова. О сладком в языке и культуре болгар И
Etnolingwistyka: Problemyj^zykai kultury. Lublin, 2000. № 12. S. 155-166.
Селигер — Селигер: Материалы по русской диалектологии: Словарь. СПб.,
2003-. Вып. 1-.
Семенова 2006 — А. В. Семенова. Идеографическая классификация кашуб-
ской фразеологии и языковая картина мира кашубов. Дис. ... канд. фи-
лол. наук. М., 2006.
СибФр — Словарь фразеологизмов и иных устойчивых сочетаний русских
говоров Сибири. Новосибирск, 1972.
Симашко 1998 — Т. В. Симашко. Денотативный класс как основа описания
фрагмента мира. Архангельск, 1998.
Симони — П. К. Симони. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, за-
гадок и проч. XVIII-XIX столетий. СПб., 1899. Вып. 1, сб. I и II. [Отд. отт.
из сб. ОРЯС АН, 1899. Т. 66].
Симоновий —Д. Симонович Ботанички речник: Имена бил»ака. Београд, 1959.
Синдаловский —Н. А. Синдаловский. Словарь петербуржца. СПб., 2002.
СКЯ-Макаров — Словарь карельского языка (ливвиковский диалект) / Сост.
Г.Н. Макаров. Петрозаводск, 1990.
СКЯ-Пунжина — Словарь карельского языка (тверские говоры)/ Сост.
А. В. Пунжина. Петрозаводск, 1994.
Славянская этнолингвистика 2004 — Славянская этнолингвистика: Библио-
графия. М., 2004.
СлОби — Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна
р. Оби. Томск, 1964-1967. Т. 1-3.
СлРС — Словацко-русский словарь. М.; Братислава, 1976.
СлРЯ — Словарь русского языка. М., 1981-1984. Т. I-IV.
СлРЯ XI-XVII вв. — Словарь русского языка XI-XVII вв. М., 1975-. Вып. 1-.
СлРЯ XVIII в. — Словарь русского языка XVIII века. Л., I984-. Вып. 1-.
СМ — Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 2002.
СМА — В. С. Елистратов. Словарь московского арго: Мат-лы. 1980-1994 гг. М.,
1994.
Снегирев — Русские народные пословицы и притчи / Сост. И. М. Снегирев.
М., 1995.
586
Литература
СНЖ — Пятиязычный словарь названий животных. Насекомые. М., 2000.
СОГ — Словарь орловских говоров. Ярославль, 1989-1991. Вып. 1-4; Орел,
1992-. Вып. 5-.
Соколова 1972 — В. К. Соколова. Типы восточнославянских топонимических
преданий И Славянский фольклор. М., 1972. С. 202-233.
Соколова 1979 — В. К. Соколова. Весенне-летние календарные обряды рус-
ских, украинцев и белорусов: XIX — начало XX в. М., 1979.
Солоник 1997 — Н. В. Солоник. Русский менталитет в зеркале русских посло-
виц: наблюдения и попытка верификации И Русский язык, культура, ис-
тория: Сб. мат-лов. II науч. конф, лингвистов, литературоведов, фольк-
лористов. М., 1997. Ч. 1. С. 207-213.
СОС — Смоленский областной словарь / Сост. В. Н. Добровольский. Смо-
ленск, 1914.
СОСВ — Словарь образных слов и выражений народного говора. Томск, 1997.
СП — Северные предания (Беломорско-Обонежский регион). Л., 1978.
СПГ — Словарь пермских говоров. Пермь, 1999-2002. Вып. 1-2.
СПЗБ — Слоушк беларусюх гаворак пауночна-заходняй Беларуси i яе па-
грашчча. М1нск, 1978-1986. Т. 1-5.
СПП — Словарь псковских пословиц и поговорок. Спб., 2001.
СПП XVI-XVm вв. — Словарь пермских памятников XVI — нач. XVIII в. /
Сост. Е.Н. Полякова. Пермь, 1993-2001. Вып. 1-6.
СПЦК — Г. Н. Скляревская. Словарь православной церковной культуры.
СПб., 2000.
СРГА — Словарь русских говоров Алтая. Барнаул, 1993-1997. Т. 1-4.
СРГБаш — Словарь русских говоров Башкирии. Уфа, 1997-. Вып. 1-.
СРГЗ —Л. Е. Элиасов. Словарь русских говоров Забайкалья. М., 1980.
СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб.,
1994-2005. Вып. 1-6.
СРГМ — Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР. Са-
ранск, 1978-. Вып. 1-.
СРГНО—Словарь русских говоров Новосибирской области. Новосибирск, 1979.
СРГНП — Словарь русских говоров Низовой Печоры. СПб., 2003-2005. Т. 1-2.
СРГО — Словарь русских говоров Одесщины. Одесса, 2000. Т. 1-2.
СРГП —Словарь русских говоров Приамурья. М., 1983.
СРГПриб — Словарь русских говоров Прибайкалья. Иркутск, 1986-1989.
Вып. 1-4.
СРГС — Словарь русских говоров Сибири. Новосибирск, 1999-. Т. 1, ч. 1-
СРГСК — Словарь русских говоров северных районов Красноярского края.
Красноярск, 1992.
СРГСУ — Словарь русских говоров Среднего Урала. Свердловск, 1964-1987.
Т. 1-7.
СРГЮК — Словарь русских говоров южных районов Красноярского края.
Красноярск, 1988.
СРДГ — Словарь русских донских говоров. Ростов-на-Дону, 1975-1976. Т. 1-3.
Литература
587
СРДГ2 — Словарь русских донских говоров: В 2 т. 2-е изд., перераб. и доп.
Ростов-на-Дону, 1991. Т. 1-2.
СРЛИ —А. В. Суперанская. Словарь русских личных имен. М., 1998.
СРНГ — Словарь русских народных говоров. М.; Л., 1965- Вып. 1-.
СРСГСП — Словарь русских старожильческих говоров Среднего Приирты-
шья. Томск, 1992-1996. Т. 1-3.
СРФ — А. К. Бирих, В. М. Мокиенко, Л. И. Степанова. Словарь русской фра-
зеологии. Историко-этимологический справочник. СПб., 1999.
ССГ — Словарь смоленских говоров. Смоленск, 1974-. Вып. 1-.
ССЛО — М. В. Костромичева. Словарь свадебной лексики Орловщины. Орел,
1998.
ССНП — О. С. Юрченко, А. 0.1вченко. Словник стшких народних пор!внянь.
Харю в, 1993.
ССРГ — Словарь современного русского города. М., 2003.
ССР ЛЯ — Словарь современного русского литературного языка. М.; Л.,
1948-1965. Т. 1-17.
ССРЛЯ2 — Словарь современного русского литературного языка. 2-е изд. М.,
1991-. Т. 1-.
ССУМ XIV-XV — Словник староукраГнськоТ мови XIV-XV ст. Кшв, 1977.
Т. 1-2.
ССХЧ — Б. Д. Воробьев. От абалтуса до угланчика, и кто такой «яд» (Сло-
варь синонимов, характеризующих человека в уральских говорах). Ека-
теринбург, 1999.
Степанов 1997 — Ю. С. Степанов. Константы. Словарь русской культуры.
Опыт исследования. М., 1997.
Страхов 2003 — А. Б. Страхов. Ночь перед Рождеством: народное христиан-
ство и рождественская обрядность на Западе и у славян. Cambridge —
Massachusetts, 2003. (Palaeoslavica. XL Suppiementum 1)
Стрижак 1964 — О. С. Стрижак Гщрожм1я Полтавщини фпо-зоограф!чного
семантичного ряду // Укра1'нська диалектолопя i ономастика. КиГв, 1964.
Строгова 1989 — В. П. Строгова. Некоторые особенности метафоризации в
русских говорах (на мат-ле слов жича, жичина, песяк, ячменина, ячмень
в северо-западных говорах) И Среднерусские говоры и памятники пись-
менности. Калинин, 1989. С. 43-50.
Субботина 1984 —Л. А. Субботина. Заимствования в географической терми-
нологии Белозерья. Дис. ... канд. филол. наук. Свердловск, 1984.
Судник, Цивьян 1982 — Т. М. Судник, Т. В. Цивьян. О мифологии лягушки
(балто-славянские данные)// Балто-славянские исследования. М., 1982.
С. 137-154.
Сумцов 1996 - Н. Ф. Сумцов. Символика славянских обрядов: Избранные
труды. М., 1996.
Супрун 1976 — В. И. Супрун. Семантическая и словообразовательная струк-
тура славянских этнонимов. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л.,
1976.
588
Литература
СФС — Словарь фразеологизмов и иных устойчивых словосочетаний рус-
ских говоров Сибири. Новосибирск, 1972.
СФСиб — Словарь фразеологизмов и иных устойчивых сочетаний русских
говоров Сибири. Новосибирск, 1972.
СХРС — Сербско-хорватско-русский словарь. М., 1957.
СЦРБ — Слоушк гаворак центральных раёнау Беларуси. Мшск, 1990. Т. 1-2.
Сцяшков1ч — Т. Ф. Сцяшков1ч. Слоужк Гродзенскай вобласщ. Мшск, 1983.
СЭС —В. Н. Добровольский. Смоленскш этнографическш сборникъ. СПб.; М.,
1891-1903. Ч. 1-1.
Тайлор 1989 — Э. Тайлор. Первобытная культура. М., 1989.
Тамм —И. Тамм. Эстонско-русский словарь. Таллин, 1988.
Ташицкий 1961 —В. Ташицкий. Место ономастики среди других гуманитар-
ных наук // Вопр. языкознания. 1961. № 2.
Теллалова 1996 — С. Теллалова. Етноними с деетнонимни значения в българ-
ските говори (Мизия, Тракия и Македония) И Лингвистични студии за
Македония. София, 1996. С. 550-588.
Темняткин 2003 — С. Н. Темняткин. Люди и события в кацких присловьях //
Живая старина. 2003. № 3. С. 8.
Терещенко —А. В. Терещенко. Быт русского народа. М., 1999. Ч. IV-V.
Терновская 1976 — О. А. Терновская. Славянский дожинальный обряд: тер-
минология и структура. Дис. ... канд. филол. наук. М., 1976.
Терновская 1977а — О. А. Терновская. Ареальная характеристика восточно-
славянской дожинальной обрядности И Ареальные исследования в язы-
кознании и этнографии. Л., 1977. С. 221-227.
Терновская 19776 — О. А. Терновская. Лексика, связанная с обрядами жатвенно-
го цикла: Мат-лы к словарю И Славянское и балканское языкознание: Кар-
пато-восточнославянские параллели. М., 1977. С. 77-131.
Терновская 1988а — О. А. Терновская. Бабье лето: из «Этнолингвистического
словаря славянских древностей» // Рус. речь. 1988. № 5. С. 124—125.
Терновская 19886 — О. А. Терновская. Еще раз о божьей коровке (к проблеме
взаимосвязи макро- и микроструктур) // Этнолингвистика текста. Се-
миотика малых форм фольклора: Тез. и предвар. мат-лы к симпоз. М.,
1988. Ч. 2. С. 69-71.
Терновская 1988в — О. А. Терновская. Обряд крещения и похорон кукушки с
точки зрения принципа заклинательного бинома// Этнолингвистика
текста. Семиотика малых форм фольклора: Тез. и предвар. мат-лы к
симпоз. М., 1988. Ч. 1. С. 111-114.
Теуш 2003 — О. А. Теуш. Этимологизация финно-угорских заимствований в
русском языке и семантический анализ // Вопр. языкознания. 2003. № 1.
С.99-108.
Толстая 1989 — С. М. Толстая. Терминология обрядов и верований как ис-
точник реконструкции древней духовной культуры // Славянский и бал-
канский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной куль-
туры: Источники и методы. М., 1989. С. 215-229.
Литература
589
Толстая 1993 — С.М. Толстая. Христианское и языческое в славянском на-
родном календаре (к проблеме двоеверия) // Истоки русской культуры
(Археология и лингвистика): Тез. докл. М., 1993. С. 66-68.
Толстая 1996а — С. М. Толстая. Символика девственности в полесском сва-
дебном обряде // Секс и эротика в русской традиционной культуре. М.,
1996. С. 192-206.
Толстая 19966 — С.М. Толстая. Этнолингвистика// Институт славяноведе-
ния и балканистики. 50 лет. М., 1996. С. 235-248.
Толстая 1997 — С. М. Толстая, Город Иерусалим, гора Сион и царь Давид//
Живая старина. 1997. № 3. С. 31-35.
Толстая 1998а — С. М. Толстая. Культурная семантика слав. *kriv- // Слово и
культура. Памяти Н. И. Толстого. М., 1998. Т. II. С. 215-229.
Толстая 19986 — С. М. Толстая. Труд и мука // Язык. Африка. Фульбе. Сб.
науч. ст. в честь А. И. Коваль. СПб., 1998. С. 22-28.
Толстая 2000а — С. М. Толстая. Бренное тело, или из чего сотворен чело-
век И 5ужнословенски филолог. Кн>. LVII/3-4. Посвейено Павлу Ивийу.
Београд, 2000. С. 1191-1199.
Толстая 20006 — С. М. Толстая. Грех в свете славянской мифологии// Кон-
цепт греха в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2000.
С. 9-43.
Толстая 2000в — С. М. Толстая. Играть и гулять*, семантический паралле-
лизм И Этимология. 1997-1999. М., 2000. С. 164-172.
Толстая 2001 — С. М. Толстая. Из словаря «Славянские древности»: Моло-
ко // Славяноведение. 2001. № 2. С. 68-71.
Толстая 2002а — С. М. Толстая. Мотивационные семантические модели и
картина мира // Русский язык в научном освещении. 2002. № 1 (3).
С. 112-127.
Толстая 20026 — С. М. Толстая. Словенска етнолингвистика: проблеми и
перспективи// Глас Српске академике наука и уметности. CCCXCIV.
Одел>ен>е ]езика и кнэижевности. Кн>. 19. Београд, 2002. С. 27-36.
Толстая 2003 — С. М. Толстая. Семантическая реконструкция и проблема
синонимии в праславянской лексике И Славянское языкознание. XIII Меж-
ду нар. съезд славистов. Доклады рос. делегации. М., 2003. С. 549-563.
Толстая 2004а — С. М. Толстая. Из словаря «Славянские древности»: Речь
ритуальная // Славяноведение. 2004. № 6. С. 73-80.
Толстая 20046 — С. М. Толстая. Семантические корреляты слав. //
Язык культуры: Семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения
акад. Н. И. Толстого. М., 2004. С. 384-400.
Толстая 2005а — С. М. Толстая. Полесский народный календарь. М., 2005.
Толстая 20056 — С. М. Толстая. Этнолингвистика Ежи Бартминьского //
Е. Бартминьский. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. М.,
2005. С. 9-22.
Толстая 2006а — С. М. Толстая. Культурная семантика и этимология // Studia
Etymologica Brunensia. 3. Praha, 2006. S. 415^428.
590
Литература
Толстая 20066 — С. М. Толстая. О семантике каритивности (слав, ргёзпъ и
его парадигматические партнеры)// Ad fontes verborum. Исследования
по этимологии и исторической семантике. К 70-летию Ж. Ж. Варбот. М.,
2006. С. 363-380.
Толстая 2006в — С. М. Толстая. Постулаты московской этнолингвистики//
Etnolingwistyka: Problemy j?zyka i kultury. Lublin, 2006. № 18. S. 7-28.
Толстая 2006г — С. M. Толстая. Предисловие // Славянский и балканский
фольклор. Семантика и прагматика текста. М., 2006. [Вып. 10]. С. 7-9.
Толстая 2007 — С. Л/. Толстая. Обретение речи посредством магии // Terra
Balkanica/ Terra Slavica: К юбилею Т. В. Цивьян. М., 2007. С. 105-112.
Толстая (в печати-а) — С. Л/. Толстая. К понятию культурных кодов. В печати.
Толстая (в печати-б) — С. М. Толстая. Почему слепой не видит? (к этимоло-
гии слав. *slep-). В печати.
Толстой 1984 — Я Я Толстой. Иван-аист// Славянское и балканское языко-
знание: Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984. С. 115-118.
Толстой 1991 — Я Я Толстой. Мифологизация грамматического рода в сла-
вянских народных верованиях // Историческая лингвистика и типология.
М., 1991. С. 91-98.
Толстой 1993 — Я И. Толстой. Еще раз о славянском ритуальном диалоге//
Славянское и балканское языкознание: Структура малых фольклорных
текстов. М., 1993. С. 82-110.
Толстой 1995 — Я Я Толстой. Язык и народная культура: Очерки по сла-
вянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.
Толстой 1997 — Я И. Толстой. Из географии славянских слов: 8. ‘Радуга’//
Я Я. Толстой. Избранные труды. М., 1997. Т. 1: Славянская лексикология и
семасиология. С. 168-217.
Толстой 2003 —Я Я Толстой. Очерки славянского язычества. М., 2003.
Толстой, Толстая 1978 — Я Я. Толстой, С. М. Толстая. Заметки по славян-
скому язычеству. 2. Вызывание дождя в Полесье // Славянский и бал-
канский фольклор. М., 1978. С. 95-130.
Толстой, Толстая 1988 — Я И. Толстой, С. М. Толстая. Народная этимоло-
гия и структура славянского ритуального текста// Славянское языкозна-
ние. X Междунар. съезд славистов. Докл. советской делегации. М., 1988.
С. 250-264.
Толстой, Толстая 1994 — Я Я. Толстой, С. М. Толстая. О вторичной функ-
ции обрядового символа (на мат-ле славянской народной традиции) //
Историко-этнографические исследования по фольклору: Сб. ст. памяти
С. А. Токарева. М., 1994. С. 238-255.
Толстой, Толстая 1995а — Я Я. Толстой, С. М. Толстая. Культурная семан-
тика славянского *vesel- // Я Я Толстой. Язык и народная культура.
Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995. С. 289-316.
Толстой, Толстая 19956 — Я Я Толстой, С. А/. Толстая. О словаре «Славянские
древности» // Славянские древности: Этнолингв, словарь в 5 т. Т. 1. М.,
1995. С. 5-14.
Литература
591
Толстой, Толстая 1998 — Н. И. Толстой, С. М. Толстая. Имя в контексте на-
родной культуры И Проблемы славянского языкознания: Три доклада к
XII Междунар. съезду славистов. М., 1998. С. 88-125.
ТООФРП — Традиционные обряды и обрядовый фольклор русских Повол-
жья. Л., 1985.
Топорков 1981 —А. Л. Топорков. К оппозиции мужское/женское в этнодиа-
лектных текстах // Структура текста, 81: Тез. симпоз. М., 1981. С. 171-172.
Топорков 1992 — А. Л. Топорков. «Перепекание» детей в ритуалах и сказках
восточных славян И Фольклор и этнографическая действительность. СПб.,
1992. С. 114-118.
Топорков 2004 — А. Л. Топорков. Этимология на службе магии // Язык куль-
туры: Семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения акад.
Н. И. Толстого. М., 2004. С. 284-294.
Топоров 1964 — В. Н. Топоров. Некоторые соображения в связи с построением
теоретической топономастики И Принципы топонимики. М., 1964. С. 3-22.
Топоров 1979 — В. Н. Топоров. Об одном способе сохранения традиции во
времени: имя собственное в мифопоэтическом аспекте // Проблемы сла-
вянской этнографии. Л., 1979. С. 141-149.
Топоров 1993 — В.Н. Топоров. Праславянская культура в зеркале собственных
имен (элемент MIR) // История, культура, этнография и фольклор славян-
ских народов: XI Междунар. съезд славистов. Докл. рос. делегации. М.,
1993. С. 3-118.
Топоров 1995 — В. Н. Топоров. Святость и святые в русской духовной куль-
туре. М., 1995. Т. 1: Первый век христианства на Руси.
Топоров 1998 — В. Н. Топоров. Детская игра «в ножички» и ее мифоритуаль-
ные истоки // Слово и культура. Памяти Н. И. Толстого. М., 1998. Т. И.
С. 242-272.
Топоров 1999 — В. Н. Топоров. Об одной ритуальной «коровье-бычьей» кон-
струкции у восточных славян в сравнительно-историческом и типологиче-
ском аспектах // Славянские этюды: Сб. к юбилею С. М. Толстой. М., 1999.
С. 491-532.
Топоров 2000 — В. Н. Топоров. «Севернорусская» литва и ее мифологизирован-
ный образ // Балты в древности и средневековье: языки, история, культура:
Тез. Междунар. науч. конф, памяти Э. Банёниса. М., 2000. С. 63—77.
Топоров 2002 — В. Н. Топоров. К интерпретации некоторых мотивов русских
детских игр в свете «основного» мифа (прятки, жмурки, горелки, салки-пят-
нашки) И Studia mythologica Slavica. Ljubljana, 2002. № 5. С. 71-113.
Топоров 2004 — В. Н. Топоров. Исследования по этимологии и семантике.
М., 2004. Т. I: Теория и некоторые частные ее приложения.
Трошина 2002 — Н. А. Трошина. Терминология и символика русского обряда
сватовства. Дипл. работа. М. (МГУ), 2002.
ТРС — Татарско-русский словарь. М., 1966.
Трубачев 1959 — О. Н. Трубачев. История славянских терминов родства и
некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.
592
Литература
Трубачев 1991 — О.Н. Трубачев. Этногенез и культура древнейших славян:
Лингвистические исследования. М., 1991.
ТС — Тураусю слоушк. М1нск, 1982-1987. Т. 1-5.
ТСБМ — Тлумачальны слоун!к беларускай мовы. Мшск, 1977-1984. Т. 1-5.
ТСРЯ — Л. Г. Саяхова, Д. М. Хасанова, В. В. Морковкин. Тематический словарь
русского языка. М., 2000.
Тупиков — Н. М. Тупиков. Словарь древнерусских личных собственных имен.
М., 2004.
ТФ — Тверской детский фольклор / Сост. Л. В. Брадис, В. Г. Шомина. Тверь,
2001. [Сер. «Тверской фольклор», кн.З]
ТЭ — Топонимическая экспедиция Уральского государственного универси-
тета (УрГУ); топонимическая картотека ТЭ УрГУ (кафедра русского
языка и общего языкознания УрГУ, Екатеринбург)
УдмРС — Удмуртско-русский словарь. М., 1983.
Ужченко — В. Ужченко, Д. Ужченко. Фразеолопчний словник схщно-
слобожаньских i степових гов!рок Донбасу. Луганьск, 2000.
УзбРС — Узбекско-русский словарь. Ташкент, 1988.
Узенева 2003 — Е. С. Узенева. Персонаж «невеста» в сценарии болгарской
свадьбы // Славянское и балканское языкознание. Человек в пространст-
ве Балкан. Поведенческие сценарии и культурные роли. М., 2003.
С. 279-306.
Унбегаун 1989 — Б. Унбегаун. Русские фамилии: Пер. с англ. М., 1989.
Усачева 1994а — В. В. Усачева. Вокативные формулы в народной медицине
славян // Славянский и балканский фольклор: Верования, текст, ритуал.
М., 1994. С. 222-240.
Усачева 19946 — В. В. Усачева. Движение как компонент славянского на-
родного врачевания // Балканские чтения-3: Лингво-этнокультурная ис-
тория Балкан и Восточной Европы: Тез. и мат-лы симпозиума. М., 1994.
С. 84-87.
Успенский 1994 — Б. А, Успенский. Избранные труды. М., 1994. Т. 1: Семио-
тика истории. Семиотика культуры.
Утешены 1977 — С. Л. Утешены. Названия божьей коровки (Coccinella
septempunctata) в Общеславянском лингвистическом атласе И Общесла-
вянский лингвистический атлас. 1975: Мат-лы и исследования. М., 1977.
С. 16-33.
Фасмер — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. М., 1964-
1973. Т. 1-IV.
Федотова — В. П. Федотова. Фразеологический словарь карельского языка.
Петрозаводск, 2000.
Феоктистова 2003 — Л. А. Феоктистова. Номинативное воплощение абст-
рактной идеи (на материале русской лексики со значением ‘пропасть,
исчезнуть’). Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2003.
ФРБЕ — К. Ничева, С. Спасова-Михайлова, К. Чолакова. Фразеологичен реч-
ник на българския език. София, 1974-1975. Т. 1-2.
Литература
593
ФРР — А. Л/. Мелерович, В. М. Мокиенко. Фразеологизмы в русской речи.
Словарь. М., 1997.
ФРС — Финско-русский словарь. Таллинн, 1998.
ФРСАТ — Французско-русский словарь активного типа. М., 2000.
Фрэзер 1980 —Дж. Фрэзер. Золотая ветвь: Исследование магии и религии.
М., 1980.
ФСК — И. А. Кобелева. Фразеологический словарь русских говоров Респуб-
лики Коми. Сыктывкар, 2004.
ФСЛГ — Н. Вархол, А. 1вченко. Фразеолопчний словник лемювських гов1рок
СхидноГ Словаччини. Брат1слава, 1990.
ФСлРЯ — Фразеологический словарь русского языка. 4 изд., стереотип. М.,
1986.
ФСРГС — Фразеологический словарь русских говоров Сибири / Под ред.
А. И. Федорова. Новосибирск, 1983.
ФСРЛЯ — Фразеологический словарь русского литературного языка / Сост.
А. И. Федоров. Новосибирск, 1995. Т. 1-2.
ФСУМ — Фразеолопчний словник украшськоГ мови. КиТв, 1993. Кн. 1-2.
Хабургаев 1979 — Г. А. Хабургаев. Этнонимия «Повести временных лет». М.,
1979.
Харузин 1889 — Н. Н. Харузин. Из материалов, собранных среди крестьян Пу-
дожского уезда Олонецкой губернии// Труды этнографического отдела
Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Мос-
ковском университете. Кн. IX, Вып. 1. М., 1889. С. 126-131.
Хроленко 2000 — А. Т. Хроленко. Этнолингвистика: понятия, проблемы, ме-
тоды. Славянск-на-Кубани, 2000.
Цивьян 1991 — Т. В. Цивьян. Оппозиция мужской/женский и ее классифици-
рующая роль в модели мира // Этнические стереотипы мужского и жен-
ского поведения. СПб., 1991. С. 77-92.
ЧДФ — М. А. Алексеенко, Т. П. Белоусова. О. И. Литвинникова. Человек в
русской диалектной фразеологии: Словарь. М., 2004.
Чередник 2006 — В. А. Чередник. Вербальные формулы проклятий в русском
языке. Дипл. работа. Екатеринбург (УрГУ), 2006.
Черепанова 1996 — Мифологические рассказы и легенды Русского Севера/
Сост. и автор комментариев О. А. Черепанова. СПб., 1996.
Черепанова 2005 — О. А. Черепанова. Культурная память в древнем и новом
слове: Исследования и очерки. СПб., 2005.
Черных — П. Я. Черных. Историко-этимологический словарь современного
русского языка: В 2 т. М., 2002.
Шангина — И. И. Шангина. Русские дети и их игры. СПб., 2000.
Шанский — Этимологический словарь русского языка / Под ред. и рук. Н. М.
Шанского. М., 1963-. Т. 1-
Шаповалова 1977 — Г. Г. Шаповалова. Майский цикл весенних обрядов //
Фольклор и этнография: Связь фольклора с древними представлениями.
Л., 1977. С. 104-112.
594
Литература
Шеваренкова 2004 — Ю. М. Шеваренкова. Исследования в области русской
фольклорной легенды. Нижний Новгород, 2004.
Шейн — П. В. Шейн. Материалы для изучения быта и языка русского населе-
ния Северо-Западного края. СПб., 1887. Т. I, ч. 1. СПб., 1893. Т. II.
Шейн 1989 — 77. В. Шейн. Великорусе в своих песнях, обрядах, обычаях, ве-
рованиях, сказках, легендах: Материалы, собранные и приведенные в
порядок П. В. Шейном. М., 1989.
Шухардт 1950 — Г. Шухардт. Заметки о языке, мышлении и общем языко-
знании // Г. Шухардт. Избранные статьи по общему языкознанию. М.,
1950.
Щеголев 1964 — В. Н. Щеголев. Энтомология М., 1964.
Щепанская 1992 — Т, Б. Щепанская. Культура дороги на Русском Севере.
Странник// Русский Север: Ареалы и культурные традиции. СПб., 1992.
С. 102-126.
ЭИС — О. В. Востриков. Опыт этноидеографического словаря русских гово-
ров Свердловской области. Екатеринбург, 2000. Вып. I-V; В. В. Липина.
Опыт этноидеографического словаря русских говоров Свердловской об-
ласти. Екатеринбург, 2004-. Вып. VI/1-.
ЭМТЭ — картотека фольклорных и этнографических материалов ТЭ УрГУ
(кафедра русского языка и общего языкознания УрГУ, Екатеринбург).
ЭрзРС — Эрзянско-русский словарь. М., 1993.
Эртнер 2005 — Е. 77 Эртнер. Феноменология провинции в русской прозе
конца XIX — начала XX века. Тюмень, 2005.
ЭСБМ —Этымалапчны слоунтк беларускай мовы. Мшск, 1978- Т. 1-.
ЭССП — И. А. Подюков, С. В. Хоробрых, Д. А. Антипов. Этнолингвистический
словарь свадебной терминологии Северного Прикамья. Пермь, 2004.
ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков: Праславянекий лек-
сический фонд. Отв. ред. акад. О. Н. Трубачев. М., 1974—. Вып. 1-.
Югановы — И. Юганов, Ф. Юганова. Русский жаргон 60-90-х годов: Опыт
словаря. М., 1994.
Юдин 1997 —А. В. Юдин. Ономастикой русских заговоров: Имена собствен-
ные в русском магическом фольклоре. М., 1997.
Юдин 1998а — А. В. Юдин. Антропонимические заместительные номинации
в восточнославянских загадках: подвижные предметы быта// Слово и
культура. Памяти Н. И. Толстого. М., 1998. Т. II. С. 298-308.
Юдин 19986 — А. В. Юдин. Проблемы языка и народной культуры в люблин-
ской «Этнолингвистике» // Живая старина. 1998. № 2. С. 57-59.
Юдин 1998в —А. В. Юдин. Этнолингвистика// Культурология. XX век. Энцик-
лопедия. СПб., 1998. Т. 2. С. 408-411.
Юдин 1999 —А. В. Юдин. Антропонимические заместительные номинации в
восточнославянских загадках (животные и растения) // Диалог культур.
Литературоведение. Лингвистика. Барнаул, 1999. С. 12-21.
Юдин 2006 — А. В. Юдин. Концепты провинция и регион в современном рус-
ском языке // Отечественные записки. 2006. № 5 (32). С. 26-40.
Литература
595
Юдин 2007 —А, В. Юдин. Ономастикой восточнославянских загадок. М., 2007.
Юдин (рукопись) — А. В. Юдин. Ономастикой украинских и белорусских за-
говоров. Рукопись.
Якушкина 2002 — Е. И. Якушкина. Оппозиции прямой — кривой и прямой —
обратный и их культурные коннотации// Признаковое пространство
культуры. М., 2002. С. 163-183.
Якушкина 2003 — Е. И. Якушкина. Сербохорватская этическая лексика в эт-
нолингвистическом освещении. Дис. ... канд. филол. наук. М., 2003.
ЯОС — Ярославский областной словарь. Ярославль, 1981-1991. Вып. 1-10.
Ясинская 2003 — М. В. Ясинская. «Варвара варит, Герман гремит»: народ-
но-этимологическая интерпретация имен святых//Живая старина. 2003.
№З.С. 5-7.
Ященко — А. И. Ященко. Гидронимический словарь Посемья// Проблемы
ономастики. Вологда, 1974. С. 3-119.
ABBYY Lingvo 11 — ABBYY Lingvo 11: шесть языков. Электронный сло-
варь [www.lingvo.ru].
AGM — A. Kowalska, A. Strzyzewska-Zaremba. Atlas gwar mazowieckich. Wro-
claw; Warszawa; Krakow; Gdansk; Lodz, 1985. T. 7, cz. 2.
Bartminski 2002 —J. Bartminski. Lubelska etnolingwistyka // Analecta. 2002. R.
ILS. 29-42.
Bartminski 2004 — J, Bartminski. Etnolingwistyka slowianska — proba bilansu // Et-
nolingwistyka: Problemy j^zyka i kultury. Lublin, 2004. № 16. S. 9-27.
Bartminski, Lappo, Majer-Baranowska 2002 — J. Bartminski, I. Lappo,
U. Majer-Baranowska. Stereotyp Rosjanina i jego profilowanie we wspol-
czesnej polszczyznie// Etnolingwistyka: Problemy j^zyka i kultury. Lublin,
2002. № 14. S. 105-152.
Bartminski, Mazurkiewicz-Brzozowska 1993 — J. Bartminski, M. Mazurkiewicz-Brzo-
zowska. LUD. Profile poj^cia i ich konteksty kulturowe // Profilowanie poj^c.
Lublin, 1993. S. 181-206.
Benedyktowicz 2000 — Z. Benedyktowicz. Portrety «obcego»: od stereotypu do
symbolu. Krakow, 2000.
Вirken-Silverman 1993 — G. Birken-Silverman. Bedeutungsentwicklungen eth-
nischer Appellativa in den romanischen Sprachen // Sprache — Kommunika-
tion — Informatik. Akten des 26. Linguistischen Kolloquiums. Poznan, 1991.
Tubingen, 1993. Bd. 2. S. 447-454.
Bystron — J. Bystron. Przyslowia polskie. Krakow, 1933.
Chapman — American Slang / Ed. by R. L. Chapman. New York, 1994.
Cisek 1889 — M. Cisek. Materialy etnograficzne z miasteczka Zolyni w powiecie
Przemyskim// Zbior wiadomosci do antropologii krajowej. Krakow, 1889.
Cz. III. S. 54-85.
Dqbrowska — A. Dqbrowska. Slownik eufemizmow polskich. Warszawa, 2005.
Dqbrowska 2000 — A. Dqbrowska. zabq trzeba zjesc. J^zykowo-kulturowy obraz
zaby wpolszczyznie//J^zyk a kultura. Wroclaw, 2000. T. 13. S. 181-203.
596
Литература
DELP — К Machado. Dicionario etimologico ga lingua portuguesa. Lisboa, 1977.
Vol. 5.
DLR — Dicfionarul Limbii Romane, intocmit §i publicat dupS indemnul §i chel-
tuiala MaiestStii Sale Regelui Carol I. Bucure§ti, 1914. T. I, p. II, fasc. I: C-
CSni.
DLRLC — Dictionarul Limbii Romane literare contemporane. Bucure§ti, 1955—
1957. Vol. I-VII.
DRO — /. Stchelkunoff. Dansk-russisk ordbog. Kj0benhavn, 1950.
EDD — The English Dialect Dictionary. Oxford, 1981. Vol. I-VI.
ESJS — Etymologicky slovnik jazyka staroslovgnskeho. T. 1-. Praha, 1989-.
Etnolingwistyka 2002 — Etnolingwistyka: Problemy jazyka i kultury. Lublin,
2002. № 14.
Etnolingwistyka 2003 — Etnolingwistyka: Problemy jazyka i kultury. Lublin,
2003. № 15.
Etnolingwistyka 2006 — Etnolingwistyka: Problemy jazyka i kultury. Lublin,
2006. № 18.
Gudavidius 2000 —A. Gudavicius, Etnolingvistika. Siauliai, 2000.
Hertz 1988 —A. Hertz.. Zydzi w kulturze polskiej. Warszawa, 1988.
HSSJ — Historicky slovnik slovenskeho jazyka. Bratislava, 1991- T. I-
Karlowicz— J. Karlowicz. Slownik gwar polskich. Krakow, 1900-1911.Т. 1-6.
K^pihski 1990 —A. K^pihski. Lach i Moskal. Z dziejow stereotypu. Warszawa;
Krakow, 1990.
Klein — E. Klein. A comprehensive etymological dictionary of the English lan-
guage. Amsterdam; London; New York, 1967.
Kluge — F. Kluge. Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache. 24. Berlin;
New York, 2002.
Kolberg— O. Kolberg. Dziela wszystkie. Wroclaw; Poznan, 1961-2001. T. 1-75.
Kolosova 2004 — V. Kolosova. Ivan-da-marja//Pro Ethnologia. 2004. 18. Culture
and Environments. Tartu, 2004. P. 87-95.
Komenda — B. Komenda. Holendrowac z angielskim humorem: Slownik znaczen
sekundarnych nazw narodowosci i krajow w j?zyku niemeckim i polskim.
Szczecin, 2003.
Kott — F. Kott. Cesko-nSmecky slovnik. Praha, 1878-1893. D. I-VII.
Kott(pf. 1) — F. Kott. PfispSvky к desko-nSmeckemu slovniku. Praha, 1896. Sv. 8.
Kotula 1969 — F.Kotula. Folklor slowny osobliwy Lasowiakow, Rzeszowiakow i
Podgorzan. Lublin, 1969.
Kraliк 1998 — L. Kralik. Slovenske nazvy zamestnani deetnonymickeho povodu //
13 slovenska onomasticka konferencia: Zb. materialov. Bratislava, 1998.
S. 127-137.
Krawczyk-Tyrpa 2001 —A. Krawczyk-Tyrpa. Tabu w dialektach polskich. Byd-
goszcz, 2001.
Krekovidova 1999 — E.Krekovicovd. Medzi toleranciou a barierami: Obraz
Romov a Zidov v slovenskom folklore. Bratislava, 1999.
KSGP — картотека SGP (Краков).
Литература
597
Longman — Longman dictionary of English language and culture. Harlow, Essex,
England. 1992.
LVV — K. Miihlenbachs. Latviesu valodas vardmca. Riga, 1923-1932. Sej. I-XLV.
Machek2 — V. Machek. Etymologicky slovnfk jazyka Ceskeho. Praha, 1968 (1971).
Vyd. 2.
Majer-Baranowska 1988 - U. Majer-Baranowska. Z historii uzycia terminu kono-
tacja//Konotacja. Lublin, 1988. S. 185-201.
Milewska 1903 — J. Milewska. Sposoby zabawiania dzieci i ich zabawy w Ciecha-
nowskiem // Wisla. 1903. S. 31-39.
Moliner — M. Moliner. Diccionario de uso del Espanol. Madrid, 1991.I-II.
Moszynska 1881 — J. Moszynska. Kupato tudziez zabawy doroczne i inne z do-
datkiem niektorych obrz^ddw i piesni weselnych ludu ukrainskiego z okolic
Bialej Cerkwi// Zbior wiadomosci do antropologii krajowej. Krakow, 1881.
T. V. S. 24-101.
Muka — E. Muka. Stownik dolnoserbskeje гёсу a jeje nar6cow. SPb., 1911-1915.
Bd. I; Pr., 1926-1928. Bd. П-Ш.
Muller — K.-L. Miiller. Ubertragener Gebrauch von Ethnika in der Romania. Eine
vergleichende Untersuchung unter Beriicksichtigung der englischen und der
deutschen Sprache. Meisenheim am Gian, 1973.
Niebrzegowska 1996 — S. Niebrzegowska. Droga Mleczna// Slownik stereotypdw
i symboli ludowych. Lublin, 1996. T. 1, cz. 1. S. 252-257.
NKPP — Nowa ksi^ga przyslow i wyrazen przyslowiowych polskich. W oparciu о
dzielo S. Adalberga. Warszawa, 1969-1978. T. 1-4.
OED — The Oxford English Dictionary. Oxford, 1989. lied. Vol. I-XX.
Ondrusz — J. Ondrusz. Przystowia i przemowiska ludowe ze Sl^ska Cieszyn-
skiego. Wroclaw, 1960.
Orszagh — L. Orszdgh. Magyar-angol szotar. Budapest, 1969. Vol. I—II.
Partridge — E. Partridge. A dictionary of slang and unconventional English: col-
loquialisms, catch-phrases, solecisms and catachreses, nicknames and vulgar-
isms. New York, 1988.
Picoche — J. Picoche. Dictionnaire etymologoque du francais. Paris, 1993.
Pietkiewicz 1938 — Cz. Pietkiewicz. Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego.
Warszawa, 1938.
Pisarkowa 1976 — K. Pisarkowa. Konotacja semantyczna nazw narodowosci П
Zeszyty Prasoznawcze. 1976. № 1. S. 5-26.
Popowska-Taborska 1990 — H. Popowska-Taborska. J^zykowe wykladniki
opozycji swoi — obey w procesie tworzenia etnieznej tozsamofci // J^zykowy
obraz swiata. Lublin, 1990. S. 61-68.
PSJC — Prirucnf slovnfk jazyka deskeho. Praha, 1935-1957. D. 1-8.
Random — Random House Unabridged Dictionary. New York, 1983.
Rejzek — J. Rejzek. Cesky etymologicky slovnfk. Praha, 2001.
RHSJ —Rjednikhrvatskoga ili srpskoga jezika. JAZU. Zagreb, 1880-1976. D. 1-23.
Robert — P. Robert. Grand Robert de la langue fran^aise. Paris, 1990. T. 1-9.
598
Литература
Respond 1966 — S. Respond. Struktura pierwotnych etnonimow slowianskich H
Rocznik Slawistyczny. XXVI. 1966. Cz. 1. S. 21-34.
Ruscorpora — Национальный корпус русского языка (www.ruscorpora.ru).
SEJP — F. Slawski. Slownik etymologiczny jazyka polskiego. Krakow, 1952-
1982. T. 1-5.
SGD — M. Szymczak. Slownik gwary Domaniewka w powiecie t^czyckim. Wro-
claw, 1962-1970. T. 1-7.
SGO — J. Kqs. Slownik gwary Orawskiej. Krakow, 1900-1911. T. 1-6.
SGOWM — Slownik gwar Ostrodzkiego, Warmii i Mazur. Wroclaw etc., 1987-.
T. 1-.
SGP — Slownik gwar polskich. Krakow, 1979- T.l, z.l-.
Shipley — J. T. Shipley. Dictionary of word origins. Ed. 2. [б.м., б.г.]
SJP-Dor — Slownik jazyka polskiego I Red. W. Doroszewski. Warszawa, 1958-1969.
T. 1-11.
SJP-Szym — Slownik jazyka polskiego / Red. M. Szymczak. Warszawa, 1982-1984.
T. I-III.
SK — B. Sychta. Slownictwo Kociewskie na tie kultury ludowej. Wroclaw; War-
szawa; Krakow; Gdansk, Lodz, 1980-1985. T. I-III.
SKES — Suomen kielen etymologinen sanakiija. Helsinki, 1958-1981. T. 1-7.
Skok — P. Skok. Etimologijski rjednik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb,
1971-1974. Knj.I-IV.
Skorupka — S. Skorupka. Slownik frazeologiczny jazyka polskiego. Warszawa,
1967-1968. T. I-IL
Snoj — M. Snoj. Slovenski etimoloski slovar. Ljubljana, 2003.
SSA — Suomen sanojen alkupera. Etymologinen sanakirja. 1-3. Helsinki, 1992-
1995.
SSJ — Slovnfk slovenskeho jazyka. Bratislava, 1959-1968. D. I-VI.
SSJC — Slovnik spisovneho jazyka Ceskeho. Praha, 1960-1971. T. I-IV.
SSKJ — Slovar slovenskega knjiznega jezika. Ljubljana, 1970-1991. D. 1-5.
SSN — Slovnik slovensky ch naredi. Bratislava, 1994-. T. I-.
SSSL — Slownik stereotypow i symboli ludowych. Lublin, 1996-. T. I, cz. 1-.
Steffen — Ж Steffen. Slownik warminski. Wroclaw etc., 1984.
STO — Svensk-tysk ordbok. Stocholm, 1967.
SW — J. Karlowicz, A. Krynski, Ж. Niedzwiedzki. Slownik jazyka polskiego. War-
szawa, 1904-1927 (1952-1953). T. I-VIII.
Sychta — B. Sychta. Slownik gwar kaszubskich na tie kultury ludowej. Wroclaw;
Warszawa; Krakow; Gdansk, 1967-1976. T. 1-7.
Thome — T. Thorne. The dictionary of contemporary slang. New York, 1987.
Tiktin — H. Tiktin. Dictionar Roman-German. Bucure§ti, 1903. Vol. I.
TLL — Thesaurus linguae latinae. Vol. Ill, fasc. I. [б.м., б.г.]
Tokarski 1988b — R. Tokarski. Konotacja jako skladnik tresci slowa// Konotacja.
Lublin, 1988. S. 35-54.
Treder 1989 — J. Treder. Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tie
porownawczym). Wejherowo, 1989.
Литература
599
Van Dale — Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal. Ed. 14.
(электронная версия)
Vazny 1955 — V. Vazny. О jmenech motylu v slovenskych nafedich. Studie sema-
siologika se zretelem jazykove zemSpisnym. Bratislava, 1955.
VULI — Vocabulario universale della lingua italiana. Mantova, 1845-1856.
Vol. I-VIII.
Webster-36 — Webster’s New International Dictionary of the English Language.
London, Springfield, 1936.
Webster-86 — Webster’s Third New International Dictionary of the English
Language. Springfield, Massachusetts, 1986.
Webster-88 — Webster’s New World Dictionary. Cleveland & New York, 1988.
Wiedemann — F. Wiedemann. Ehstnisch-Deutsches Worterbuch. SPb., 1893.
Wierzchowski 1890 — Z. Wierzchowski. Materyjaly etnograficzne z powiatu Tar-
nobrzeskiego i Niskiego w Galicyi // Zbior wiadomosci do antropologii krajo-
wej. Krakow, 1890. XIV. S. 145-251.
Winkler 1994 —A. Winkler. Ethnische Schimpfworter und iibertragener Gebrauch
von Ethnika H Muttersprache. 1994. № 4. S. 320-337.
Wysocka 2002 — A. Wysocka. J^zykowy obraz Afrikanina// Etnolingwistyka:
Problemy jazyka i kultury. Lublin, 2002. № 14. S. 175-196.
Zaruba — A. Zaruba. Slownik starych Siolkowic w powiecie Opolskim. Krakow,
1960.
Научное издание
Елена Львовна Березович
Язык
и
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА:
ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Издательство «Индрик»
Корректор Т И. Томашевская
Оригинал-макет Л. Е. Корипгысская
Исключительное право оптовой реализации
книг издательства «Индрик»
принадлежит книжной галерее «Нина»
www.kniginina.ru
тел./факс: (495)959-21-03
INDRIK Publishers has the exceptional right to sell this book outside Russia
and CIS countries. This book as well as other INDRIK publications
may be ordered by
e-mail: nina_dom@mtu-netru
or by tel./fax: +7 495 959-21-03
Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции (ОКП) — 95 3800 5
ЛР № 070644, выдан 19 декабря 1997 г.
Формат 60х90!/]6. Печать офсетная.
37,5 п. л. Тираж 1000 экз. Заказ № 1238
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов
в ППП «Типография «Наука» 121099, Москва, Шубинский пер., 6
Е. Л. Березович