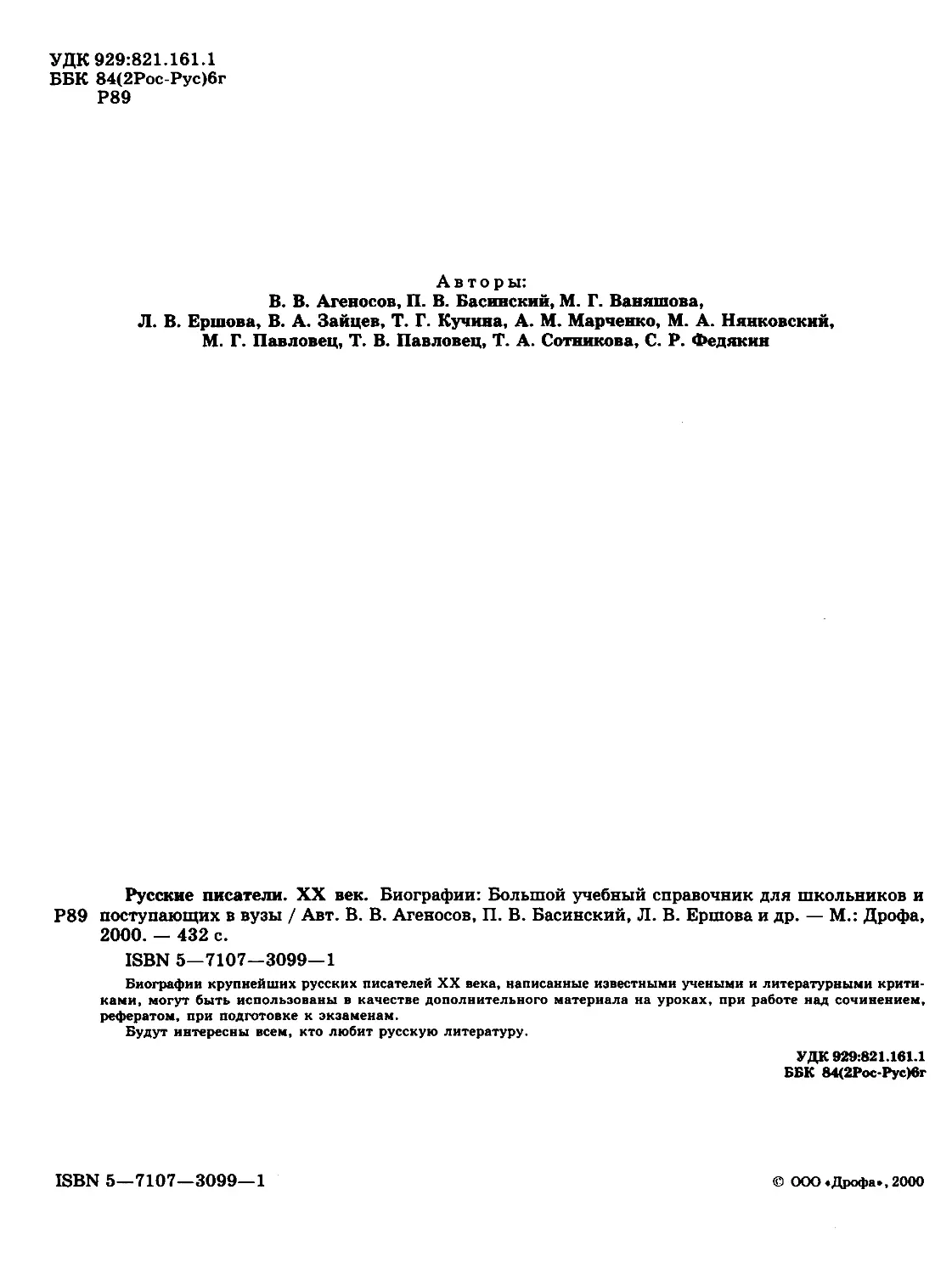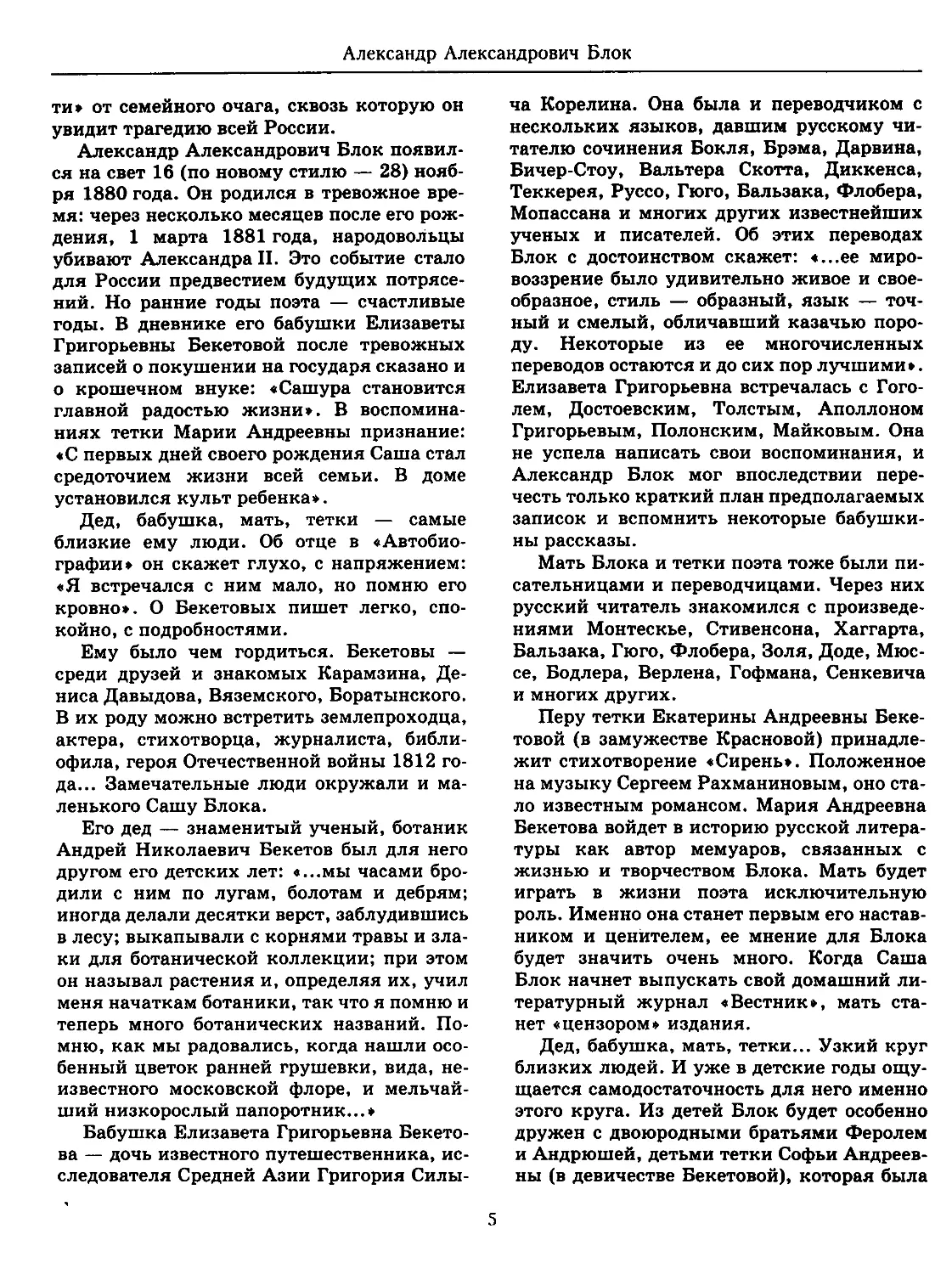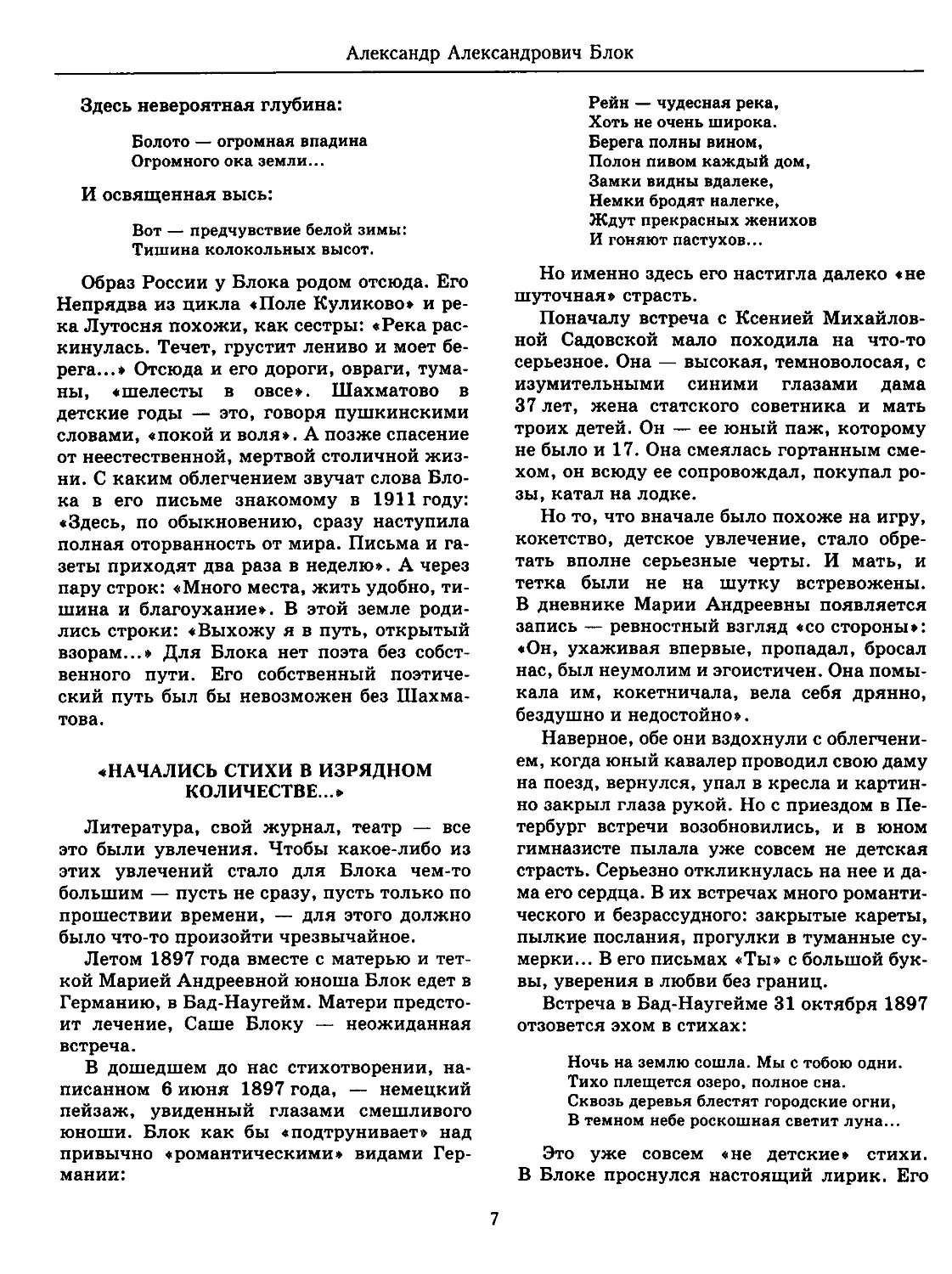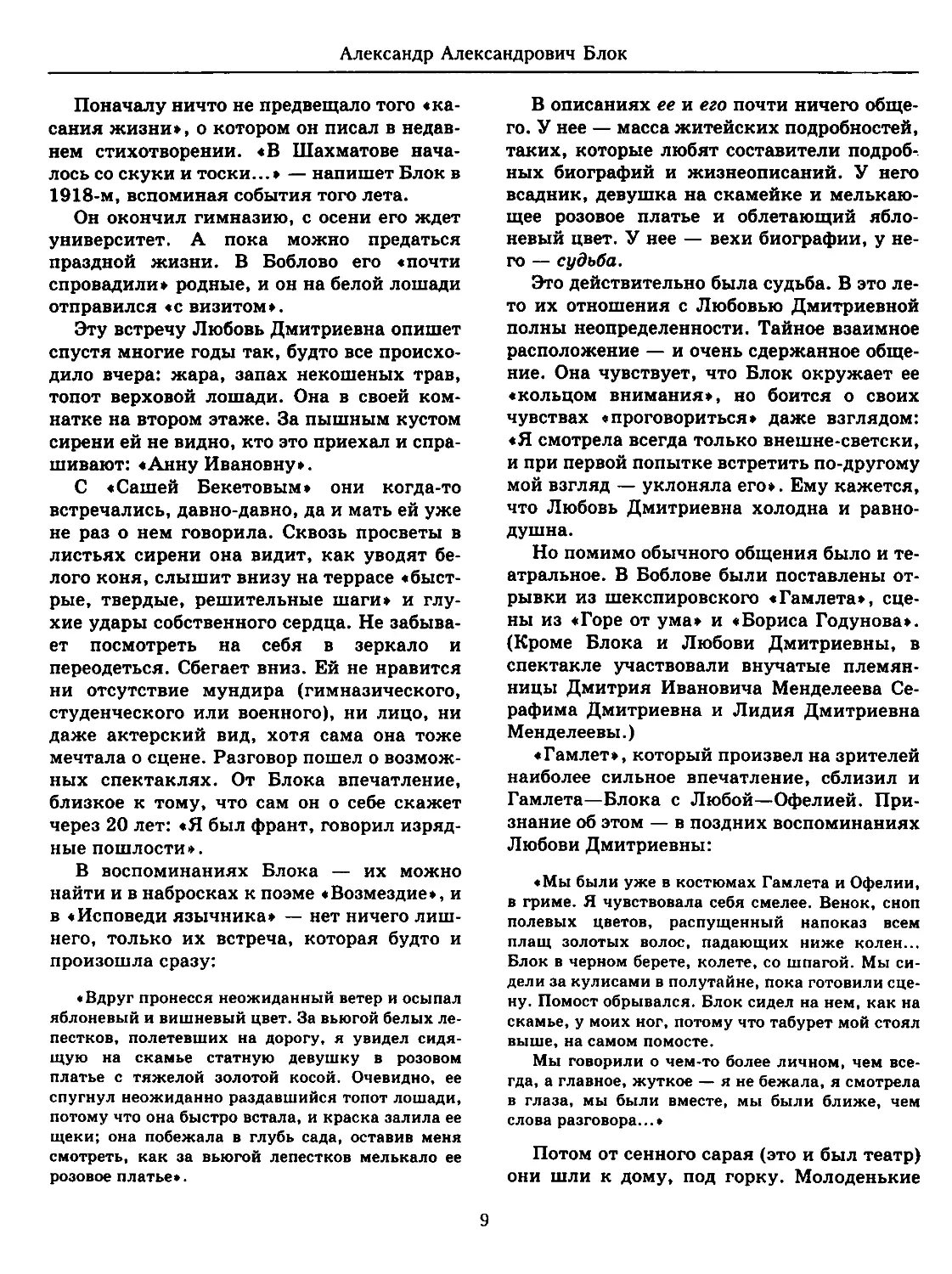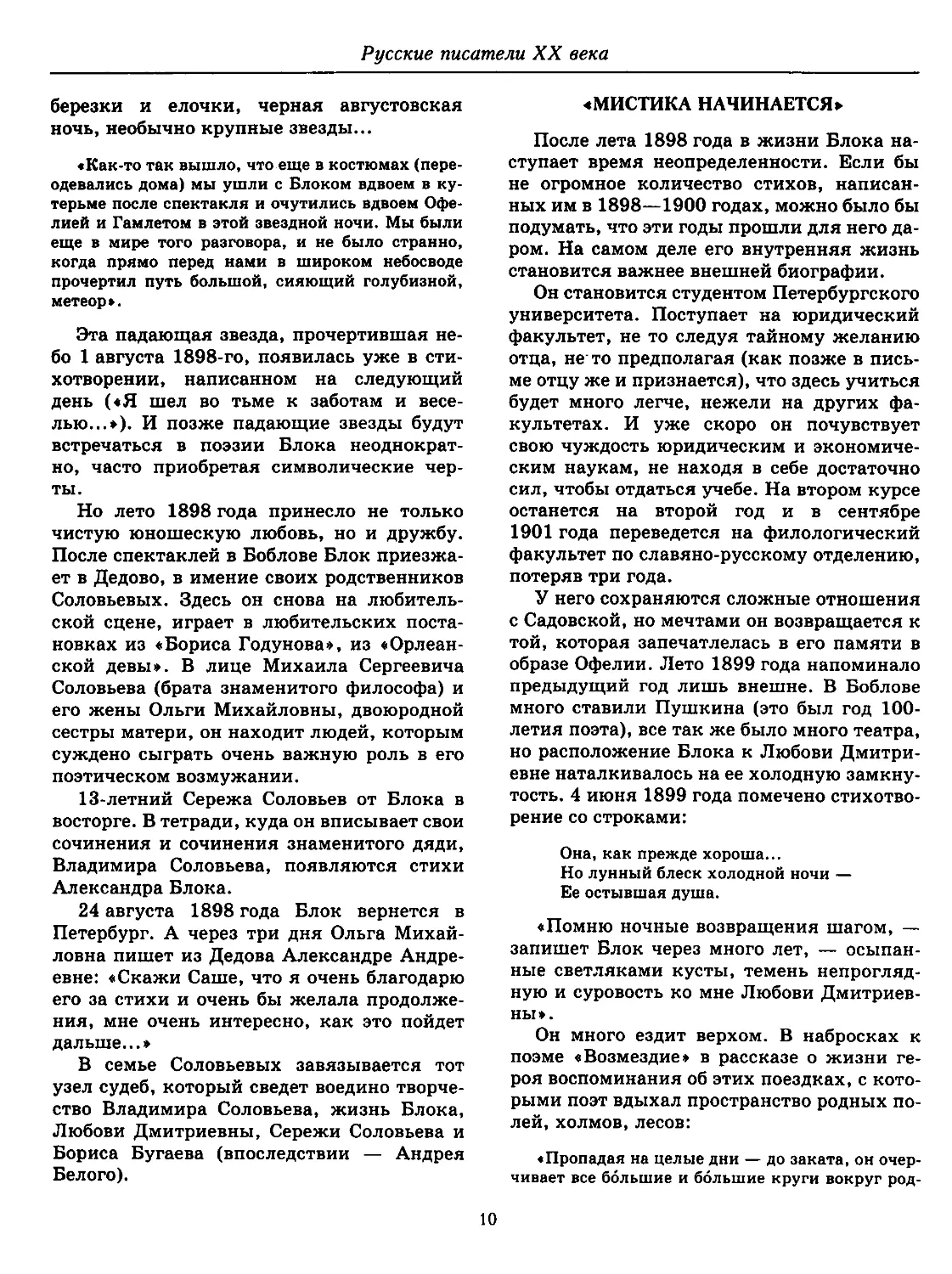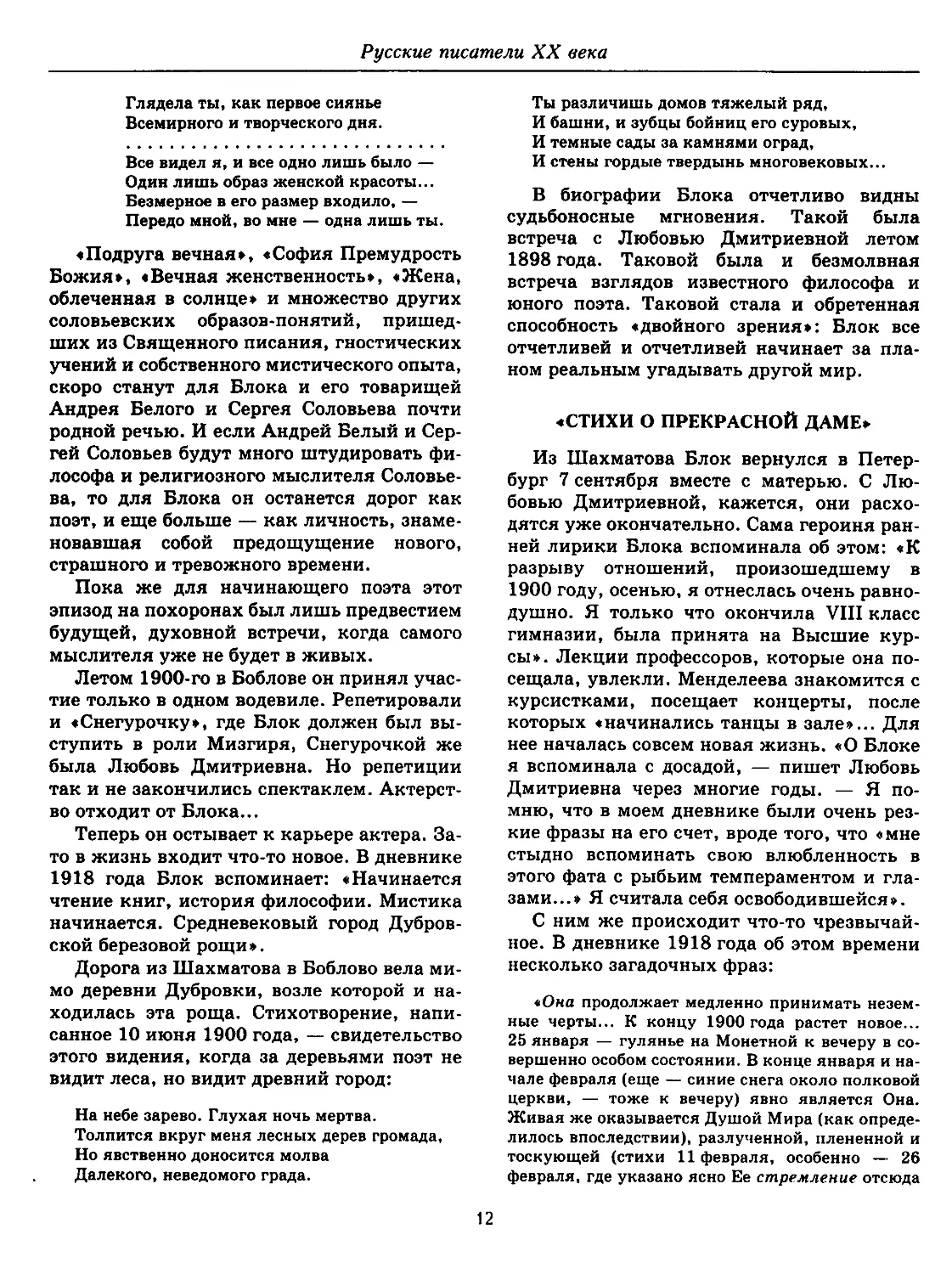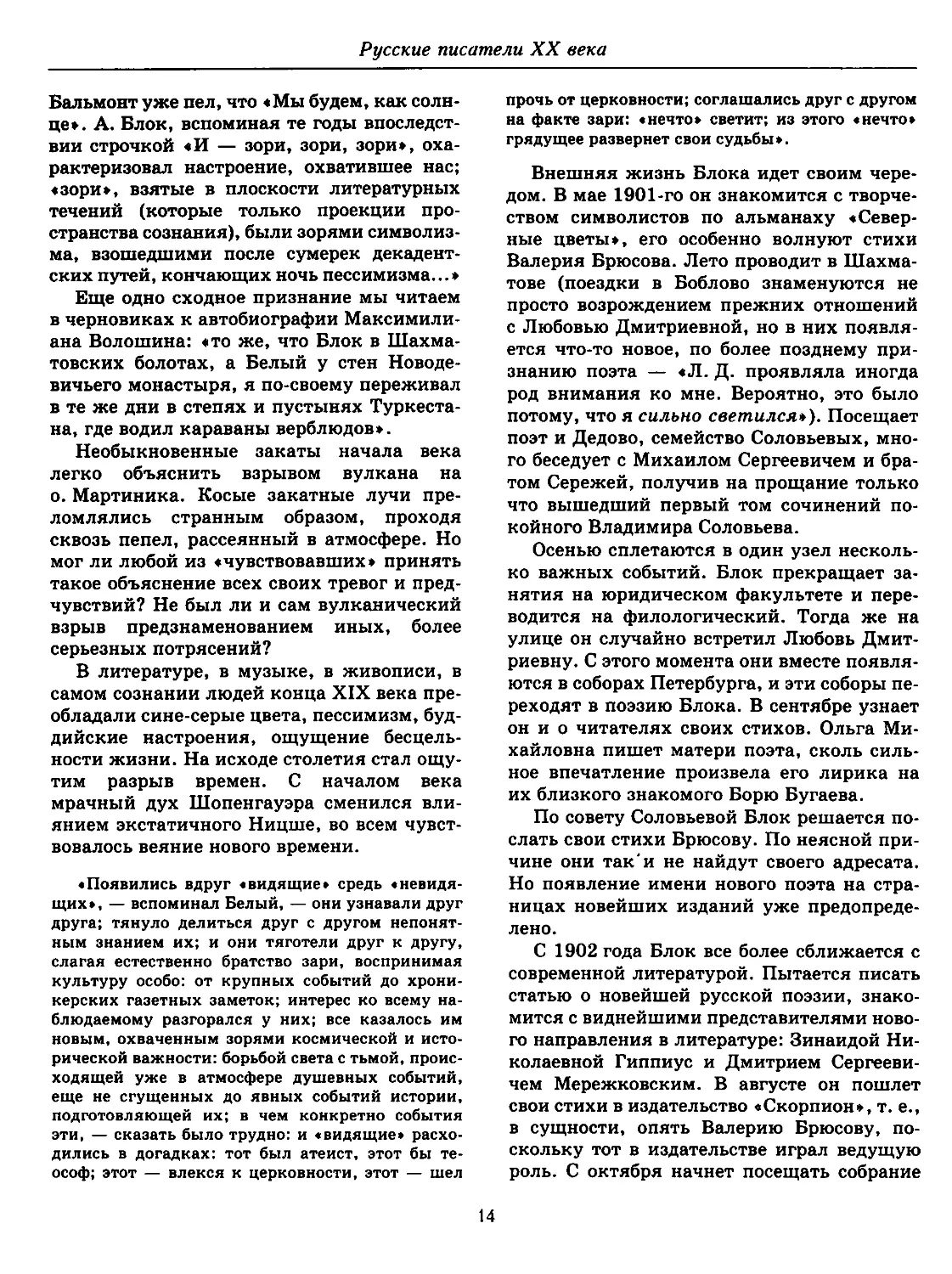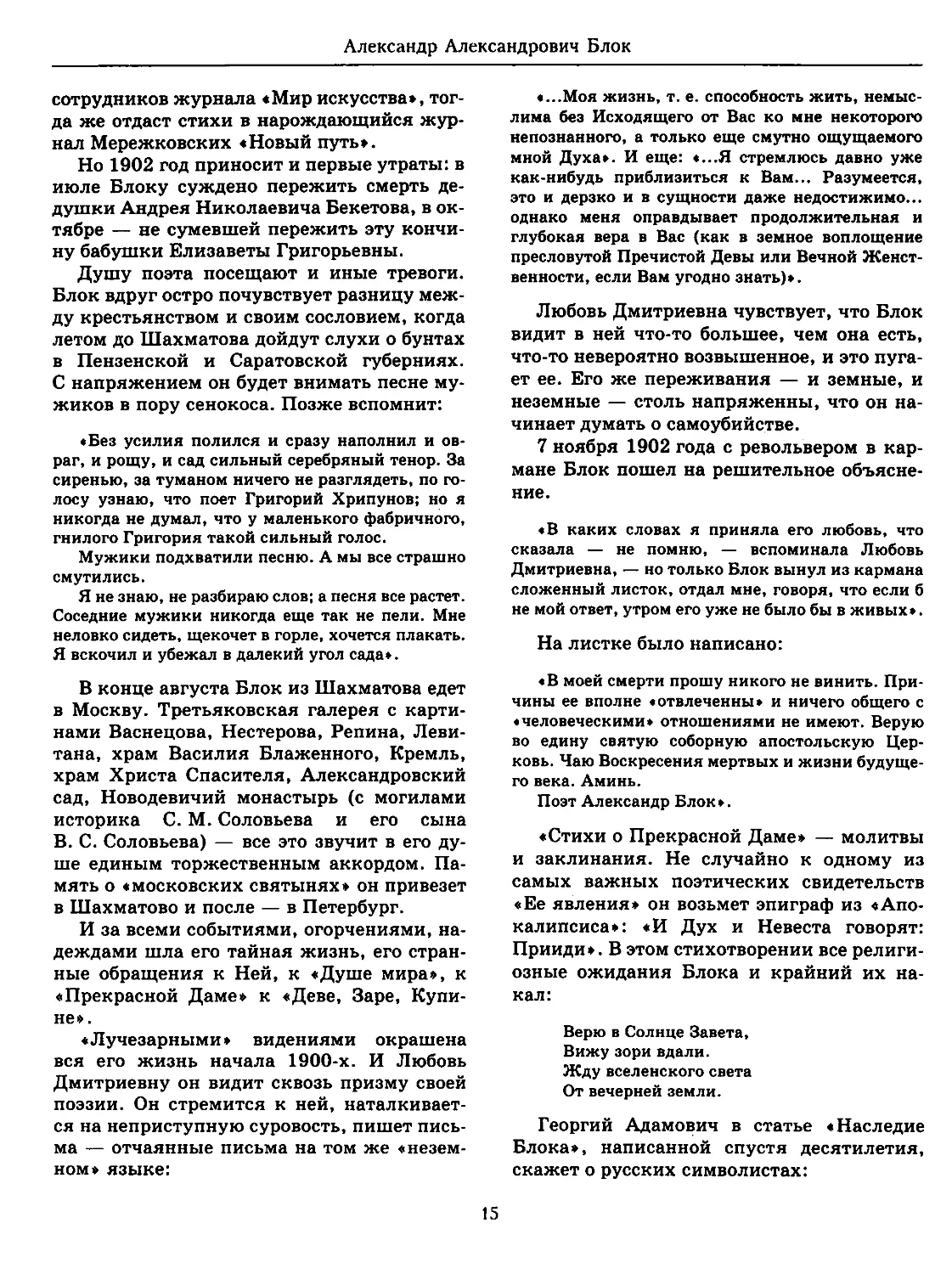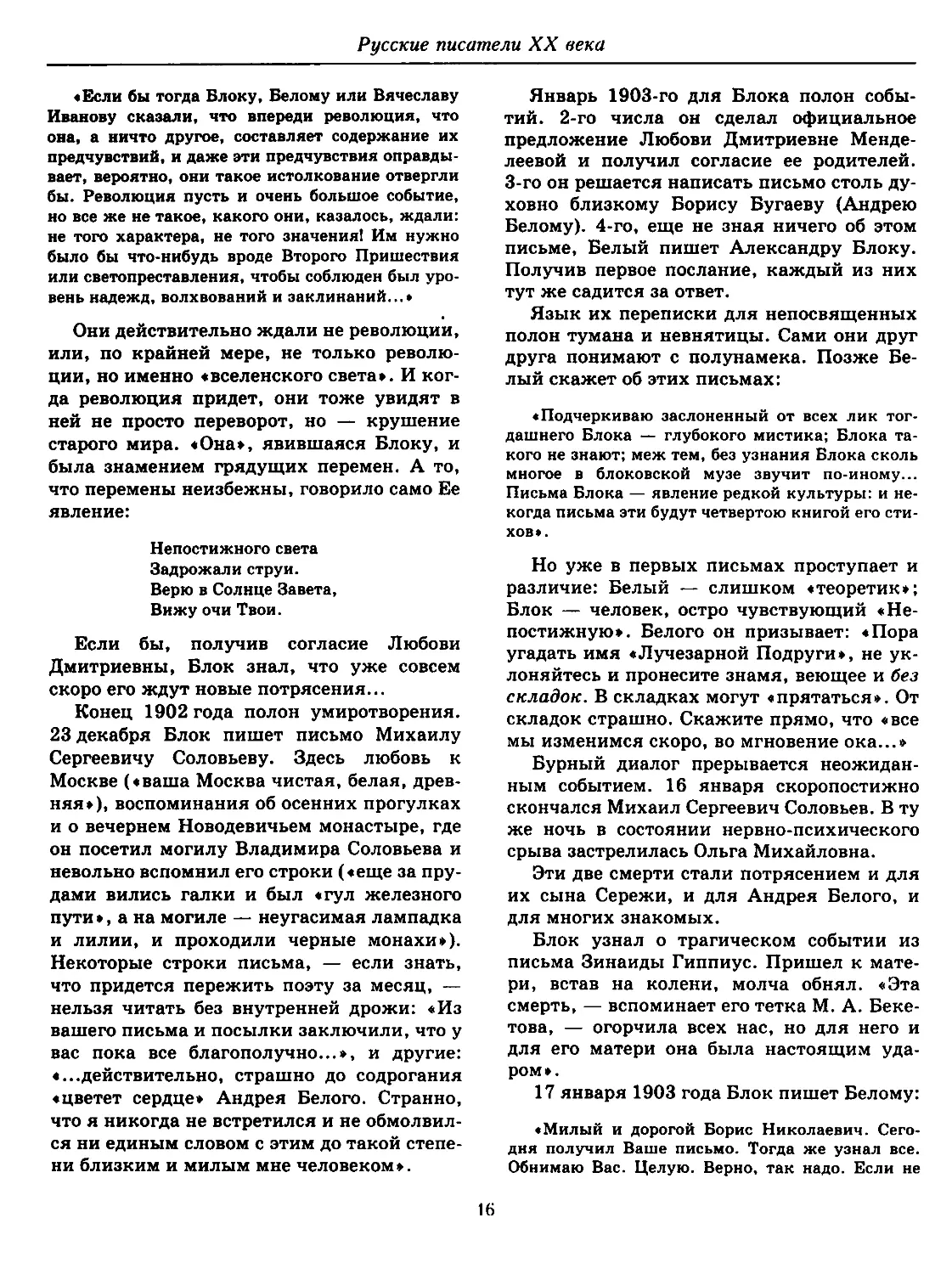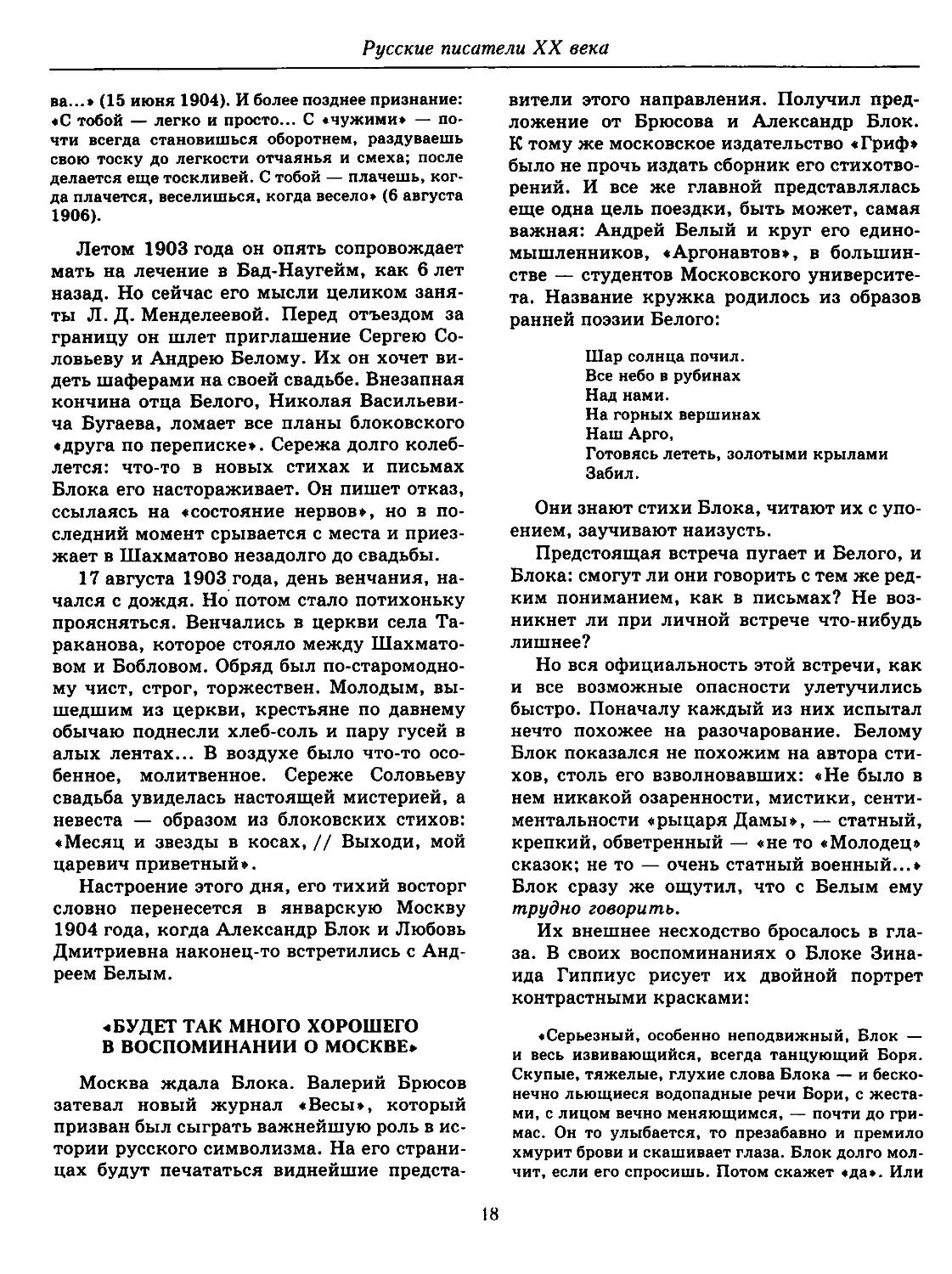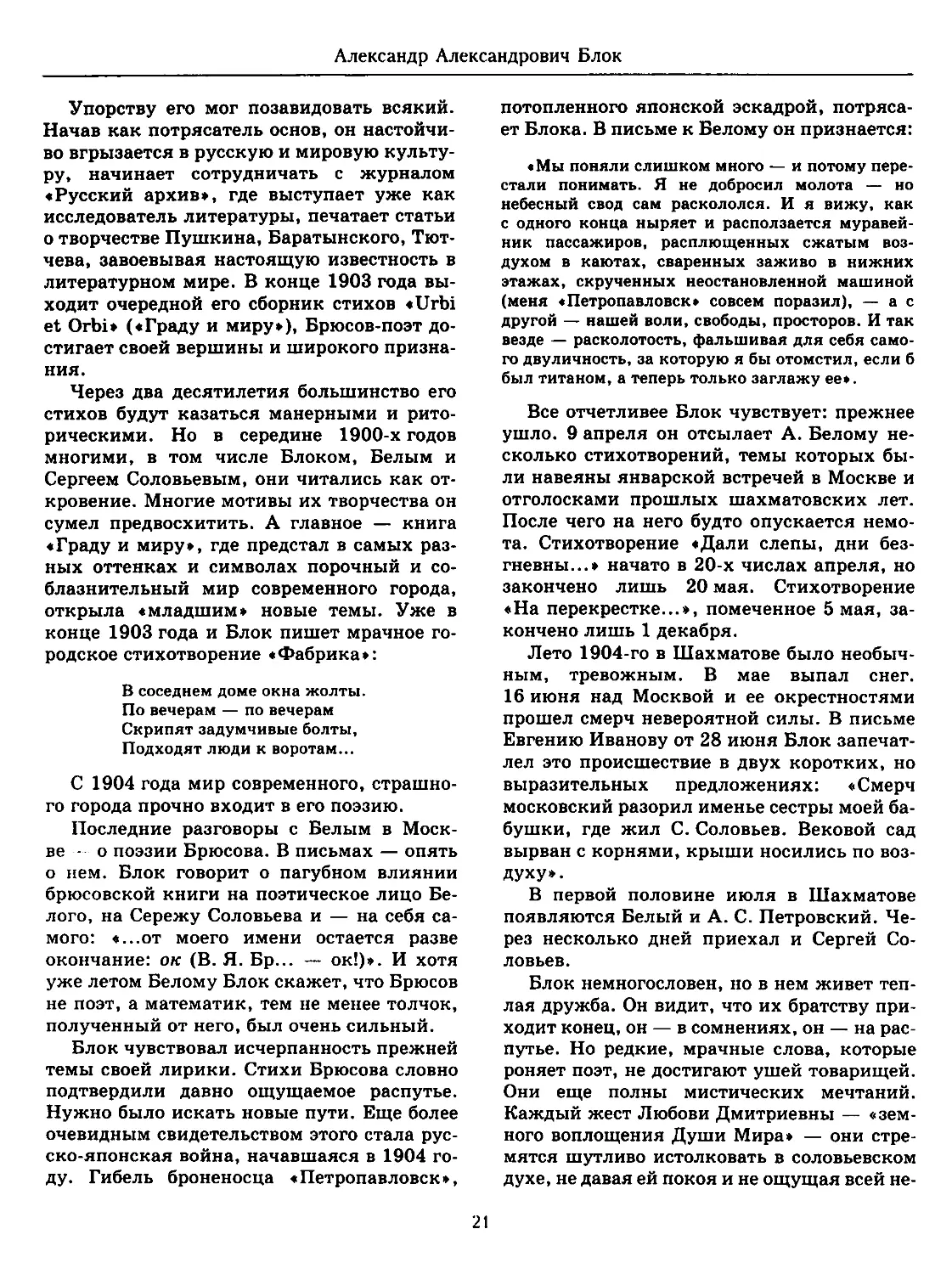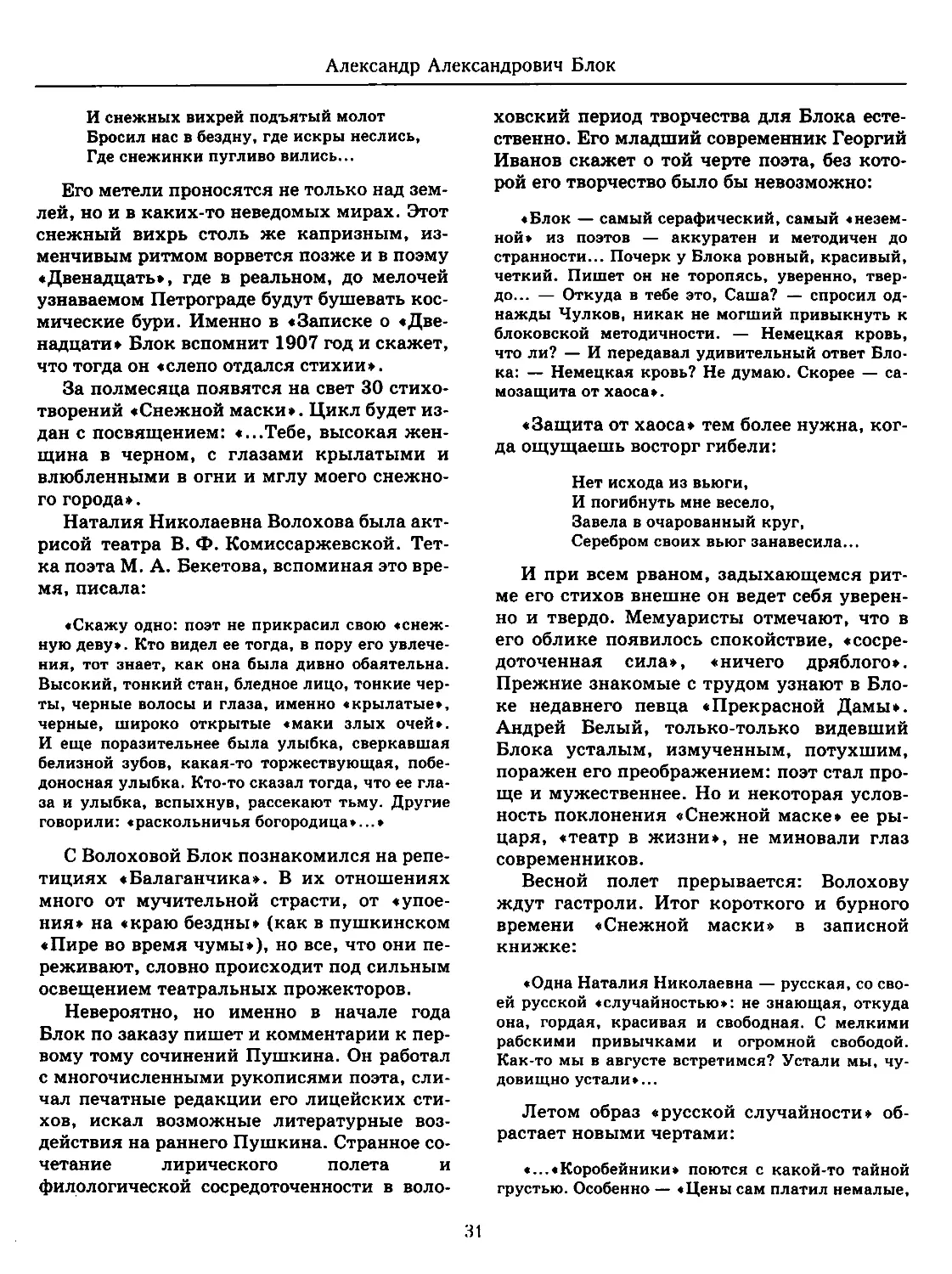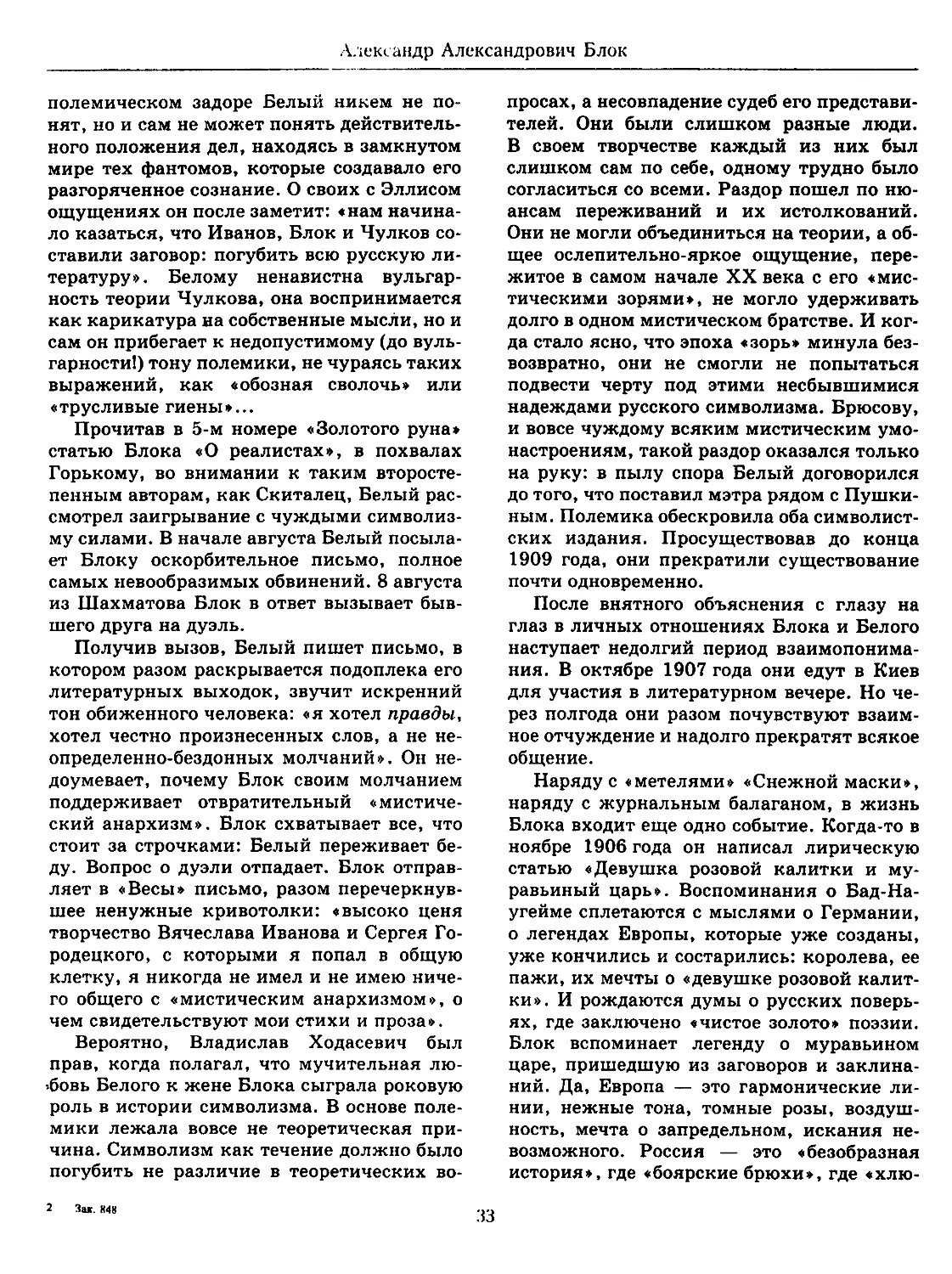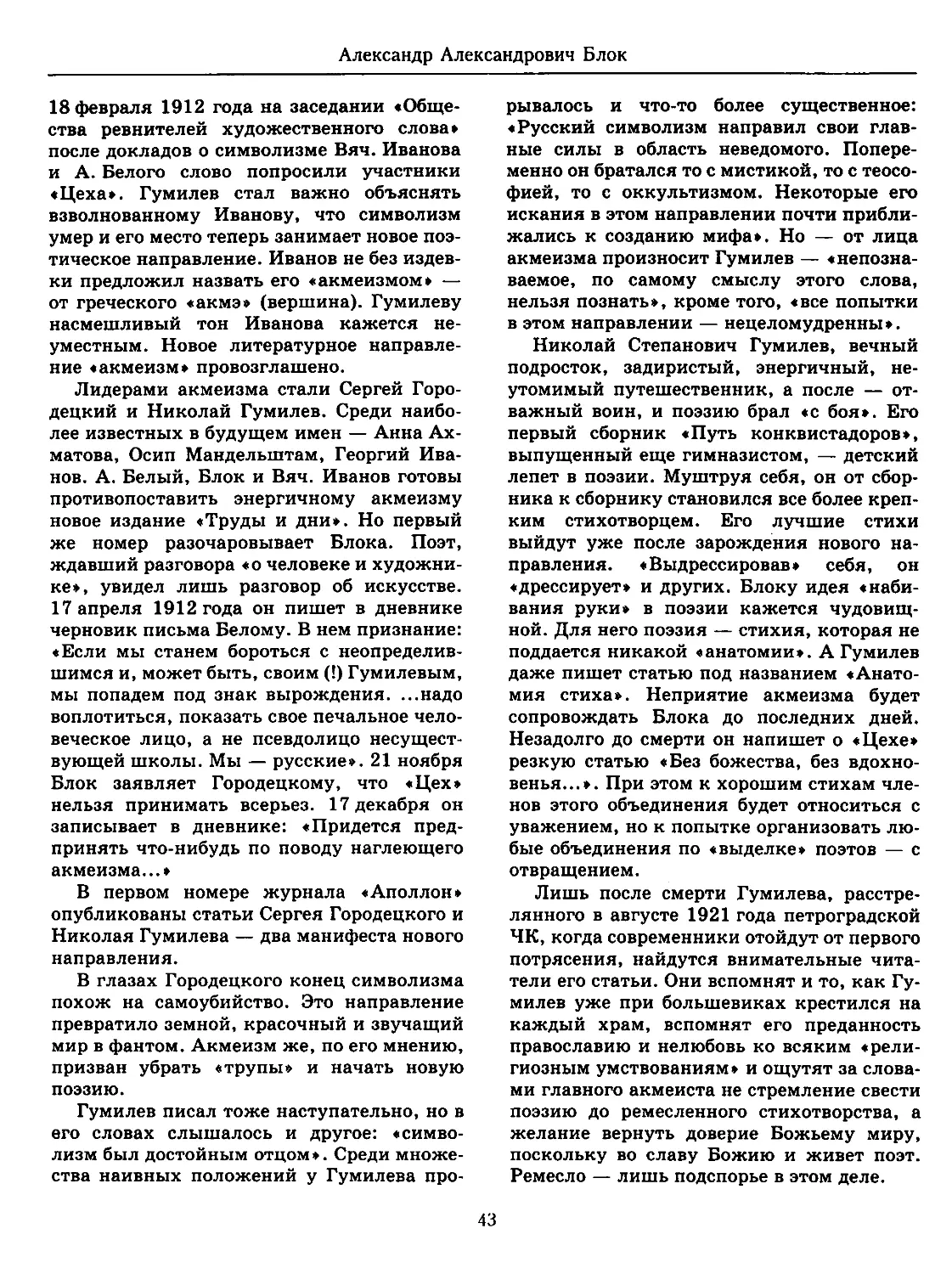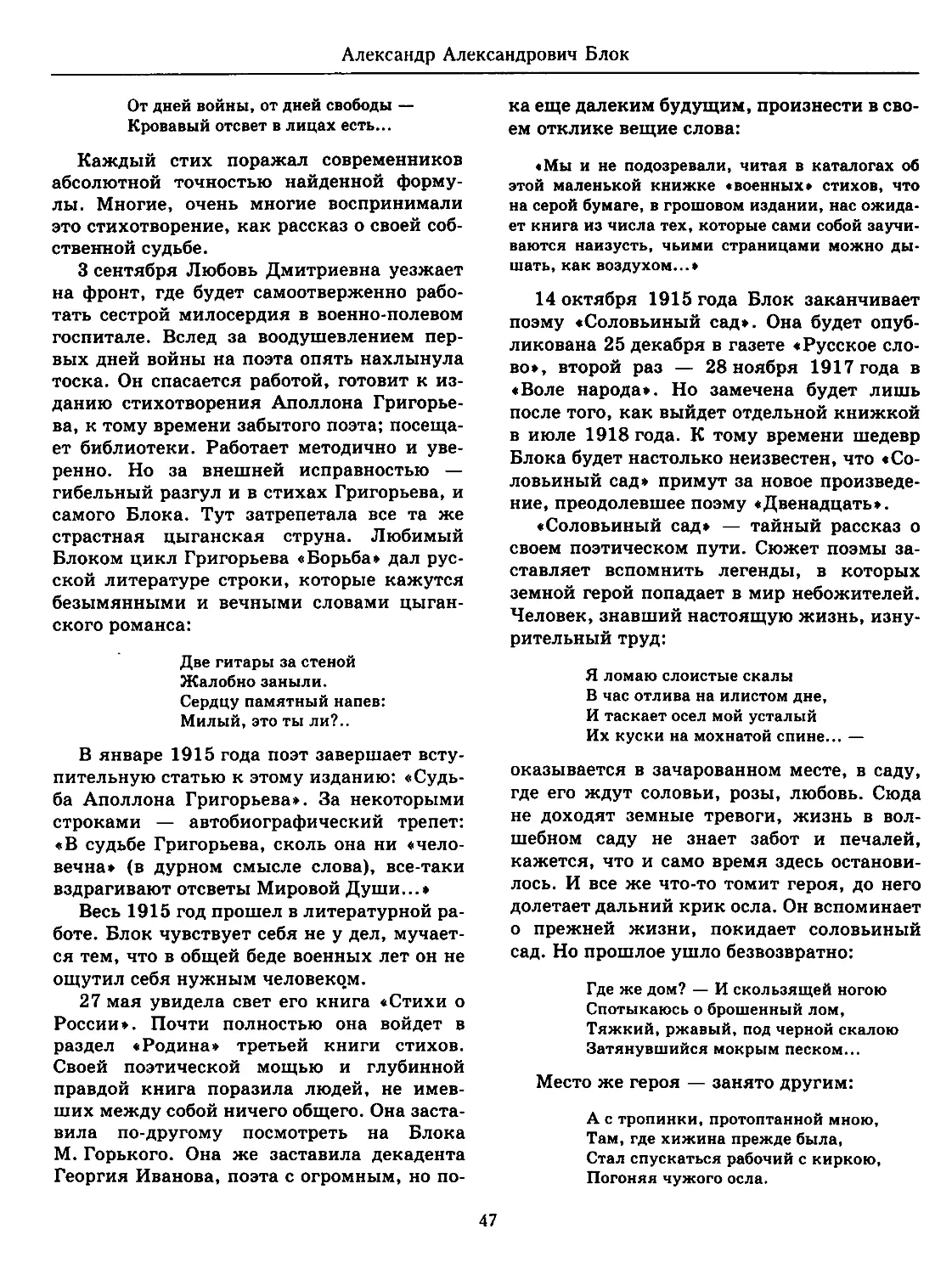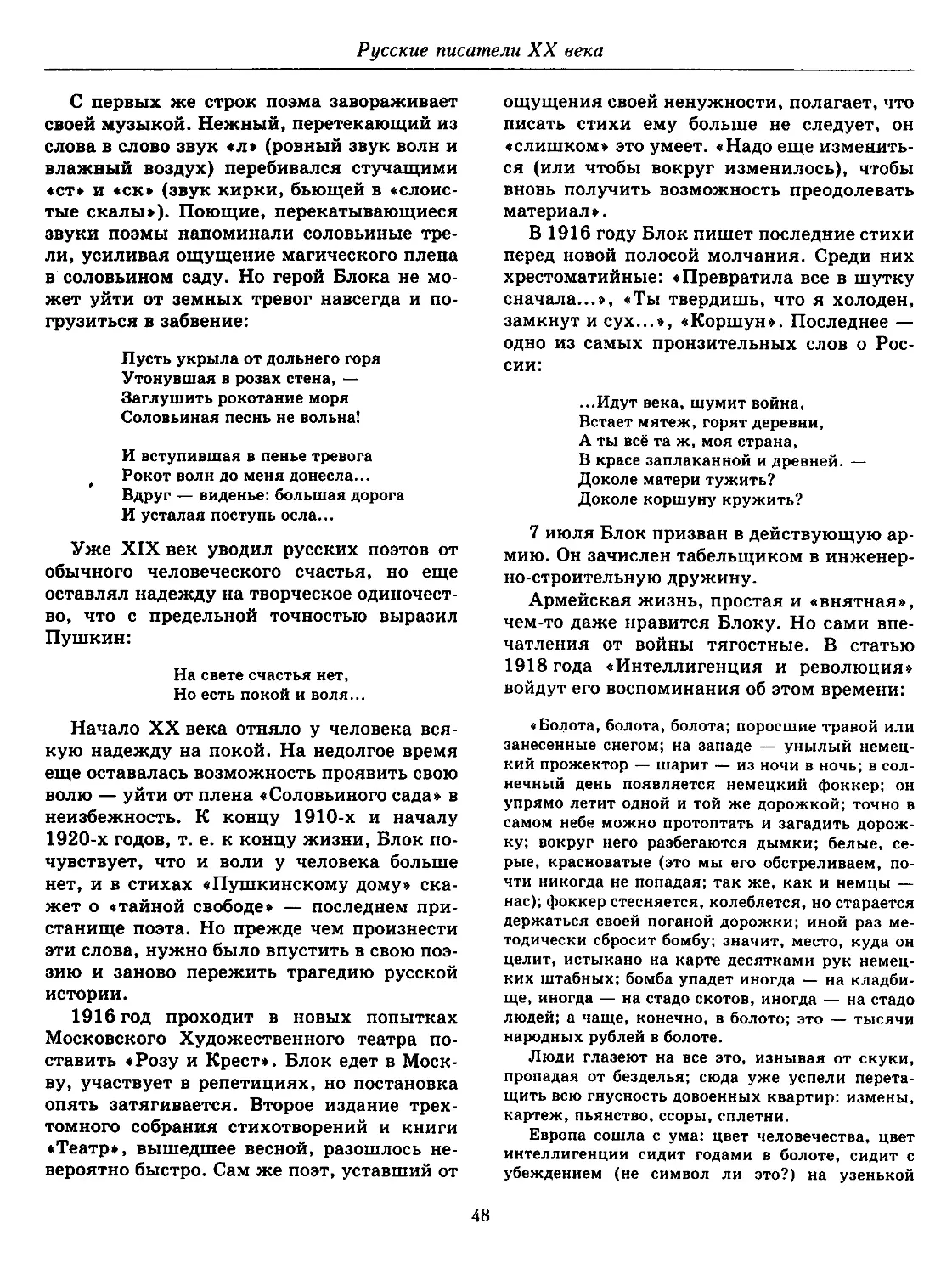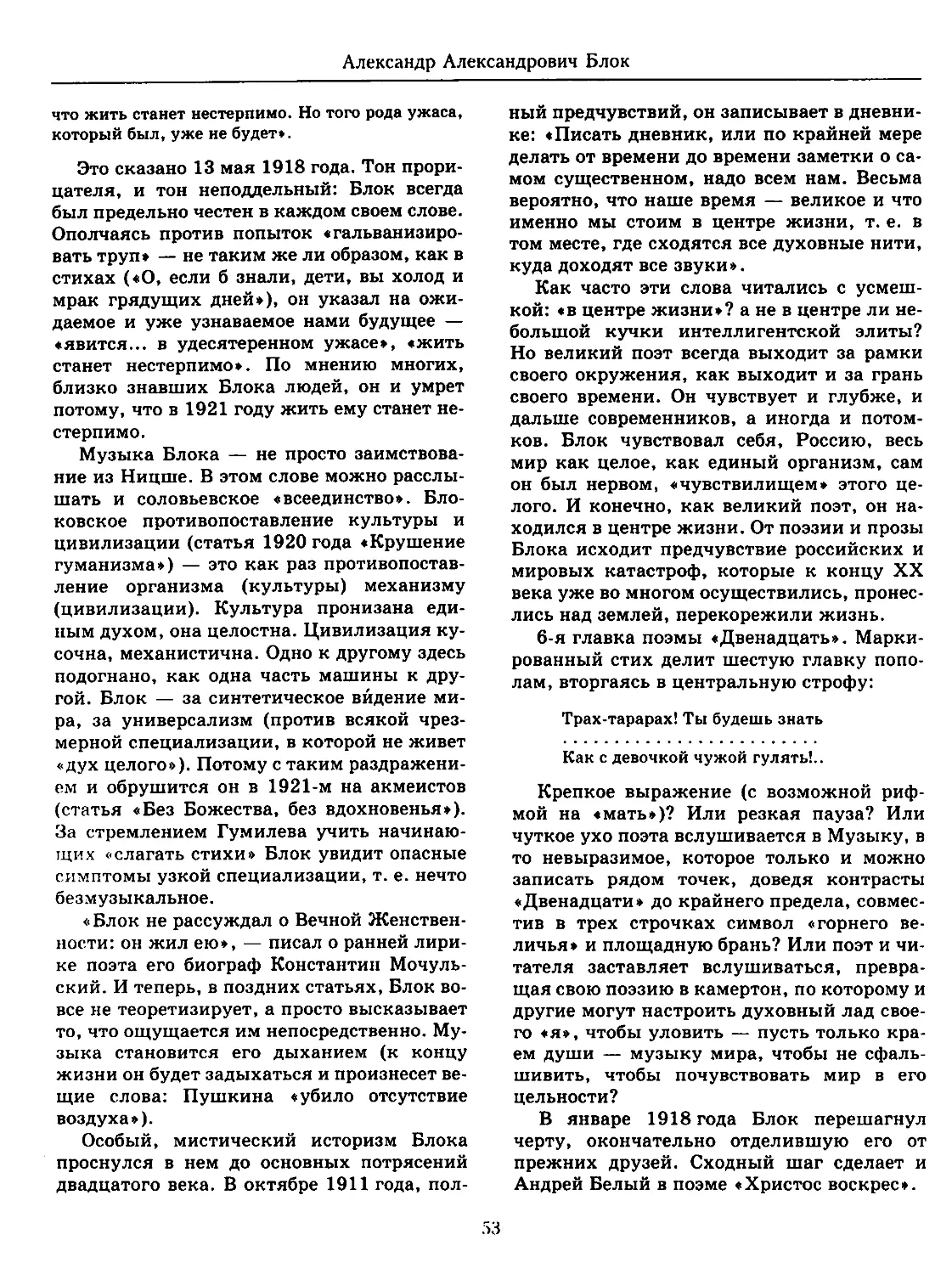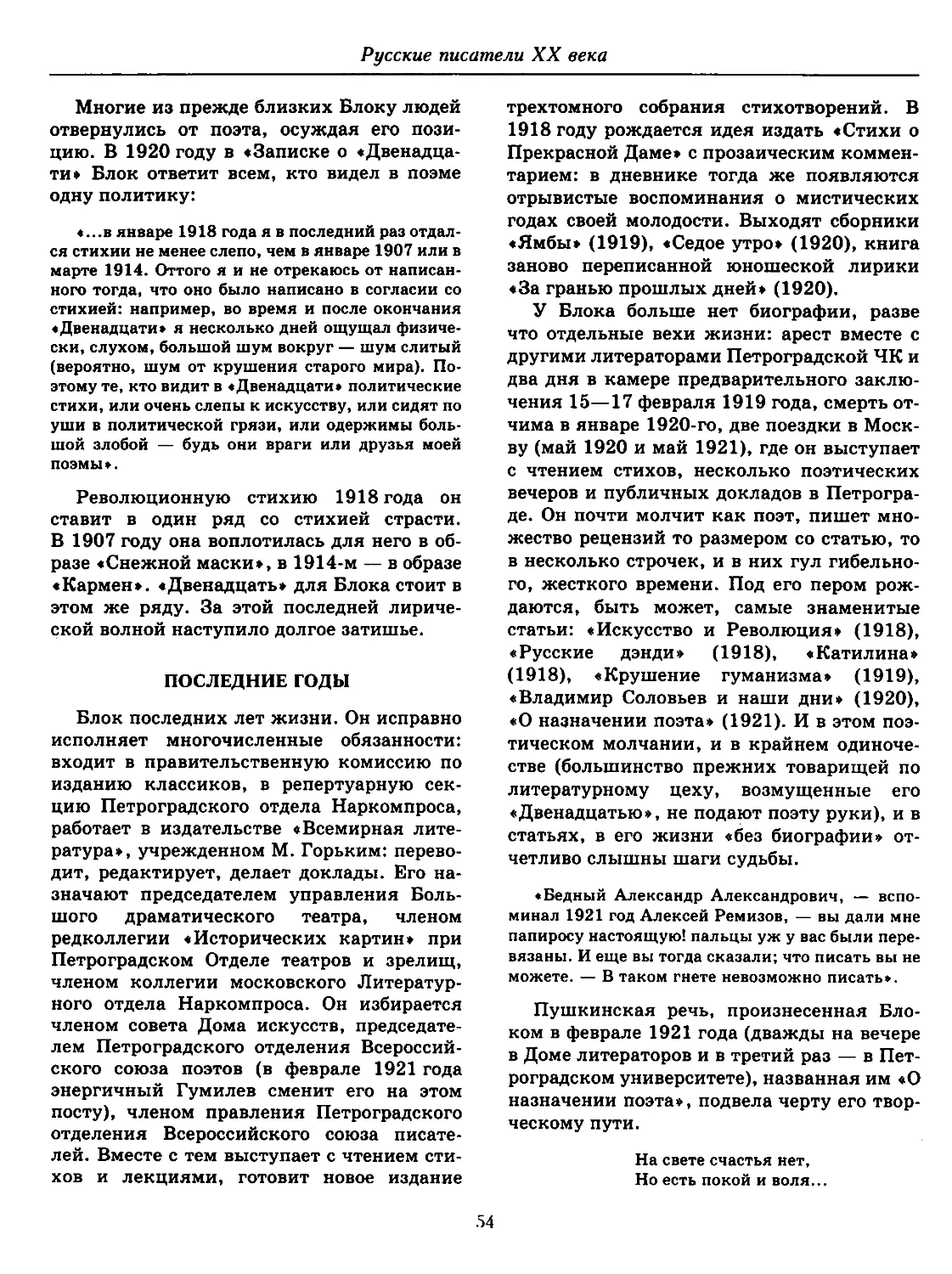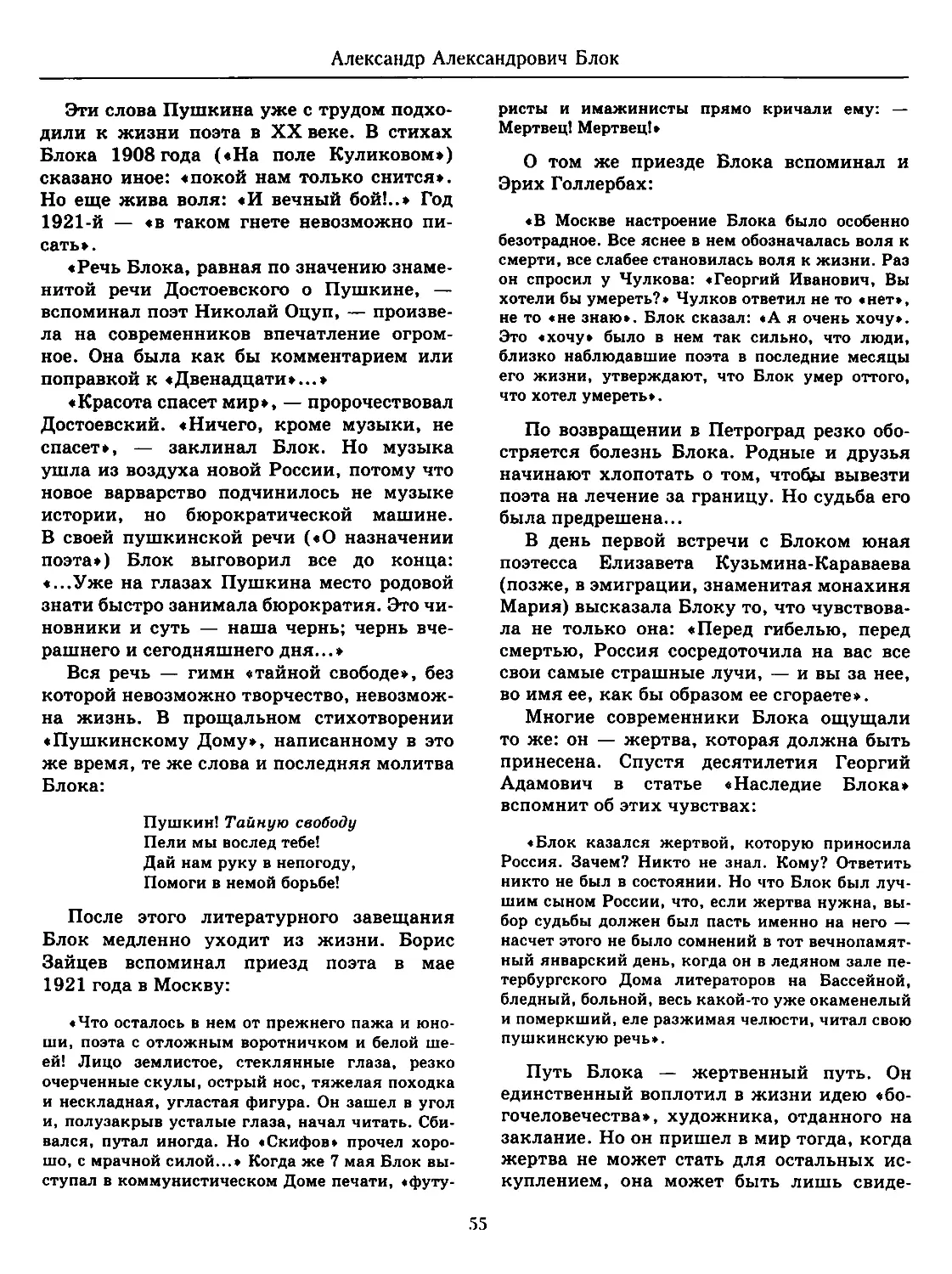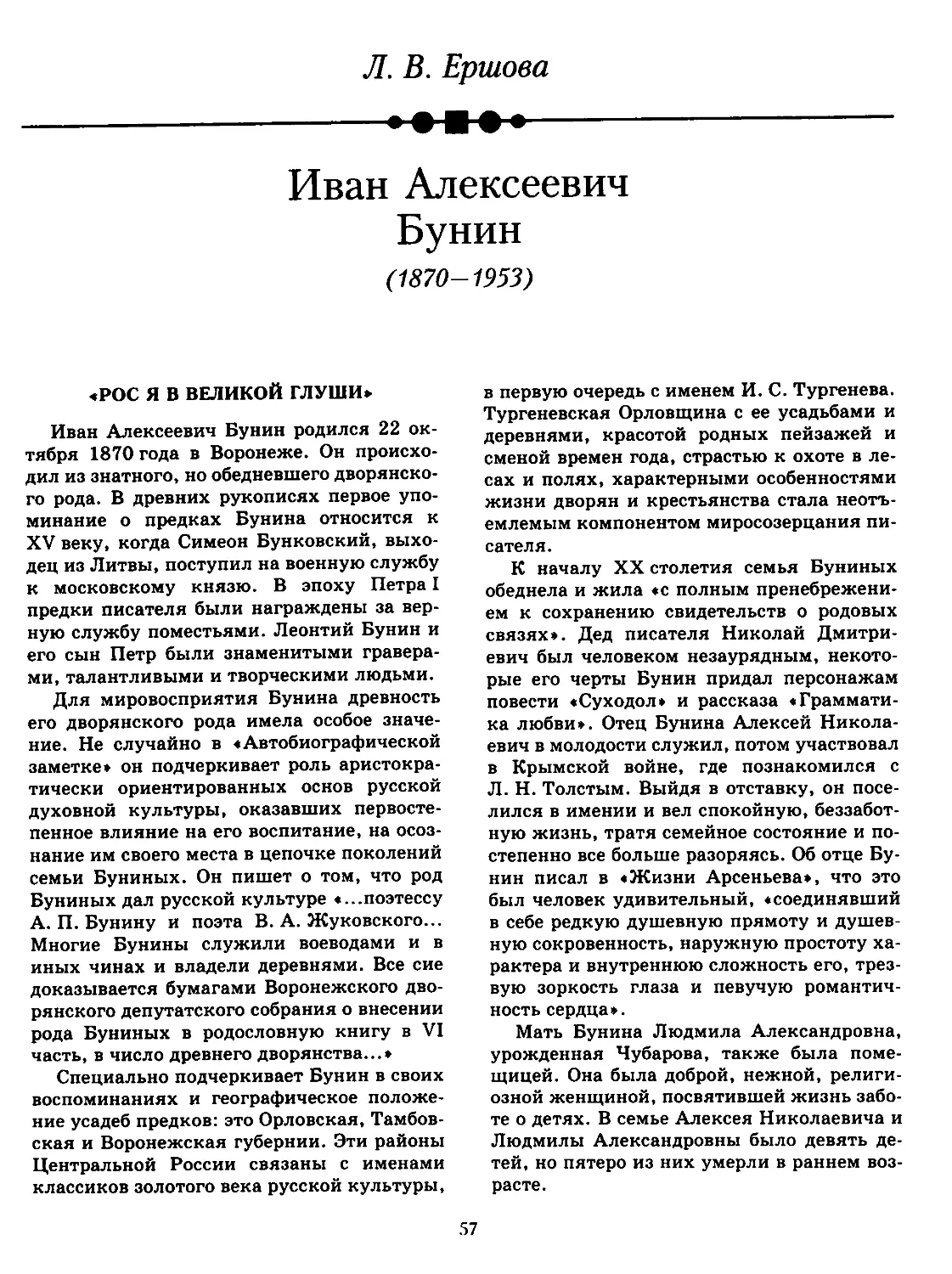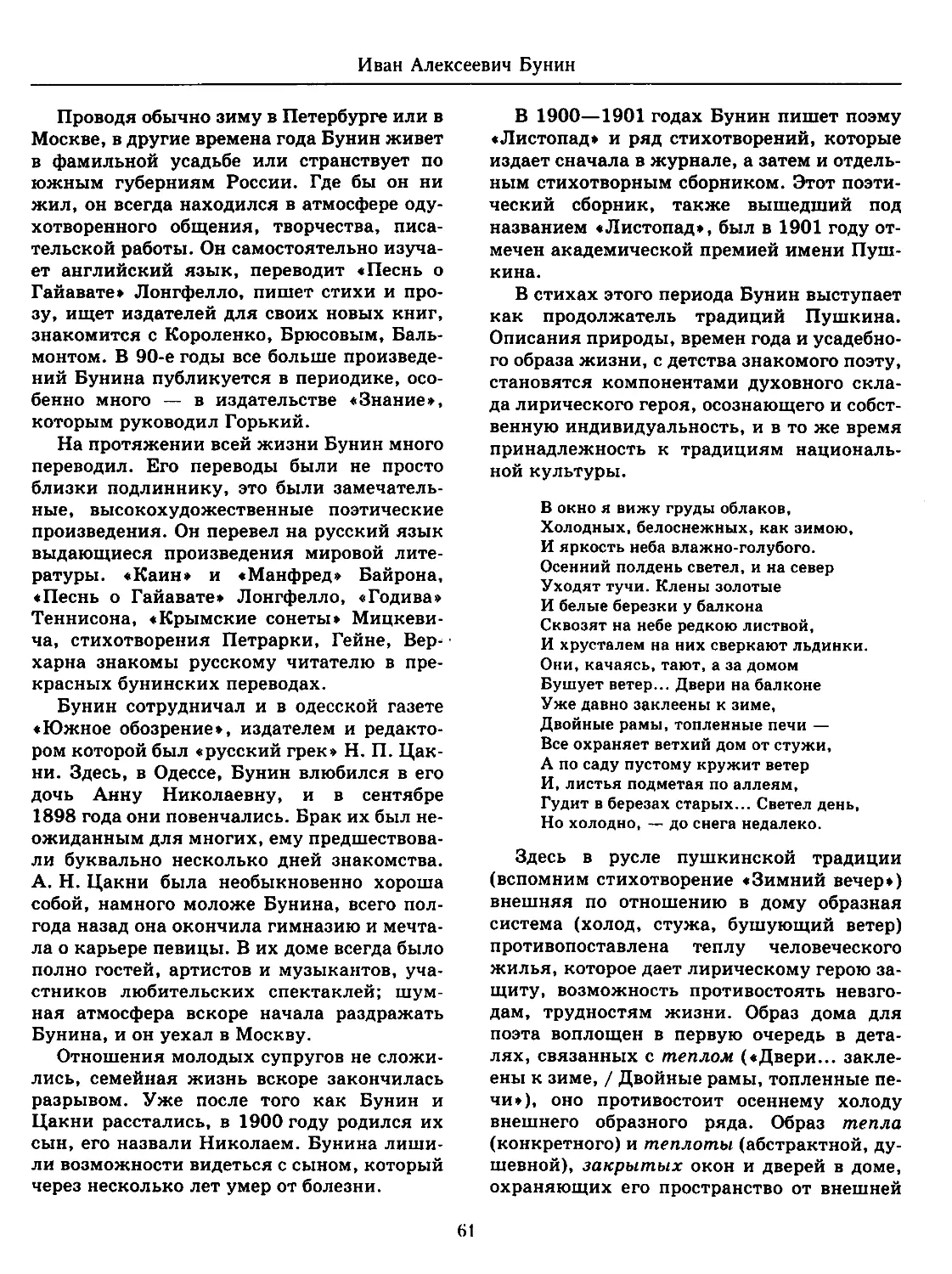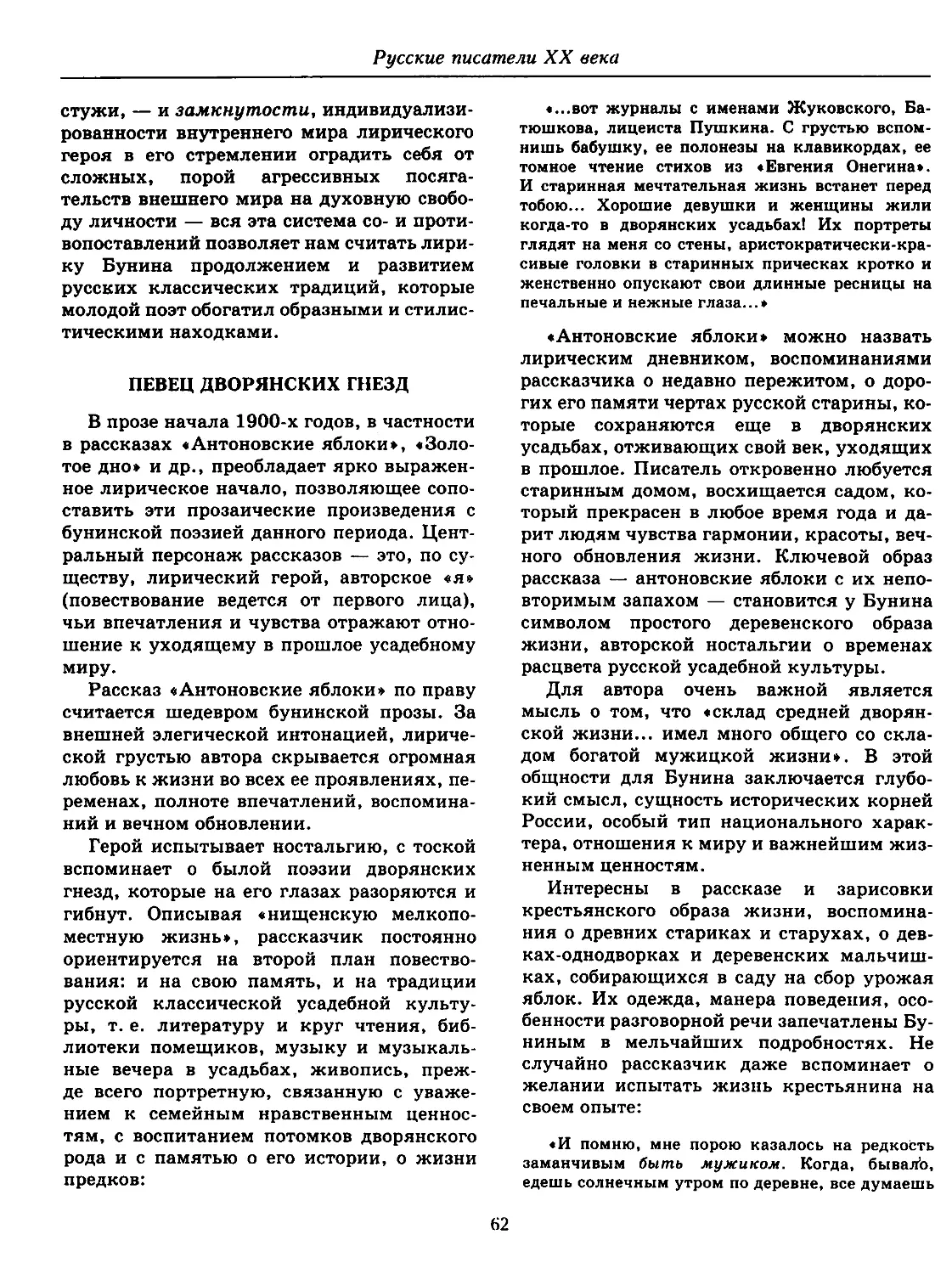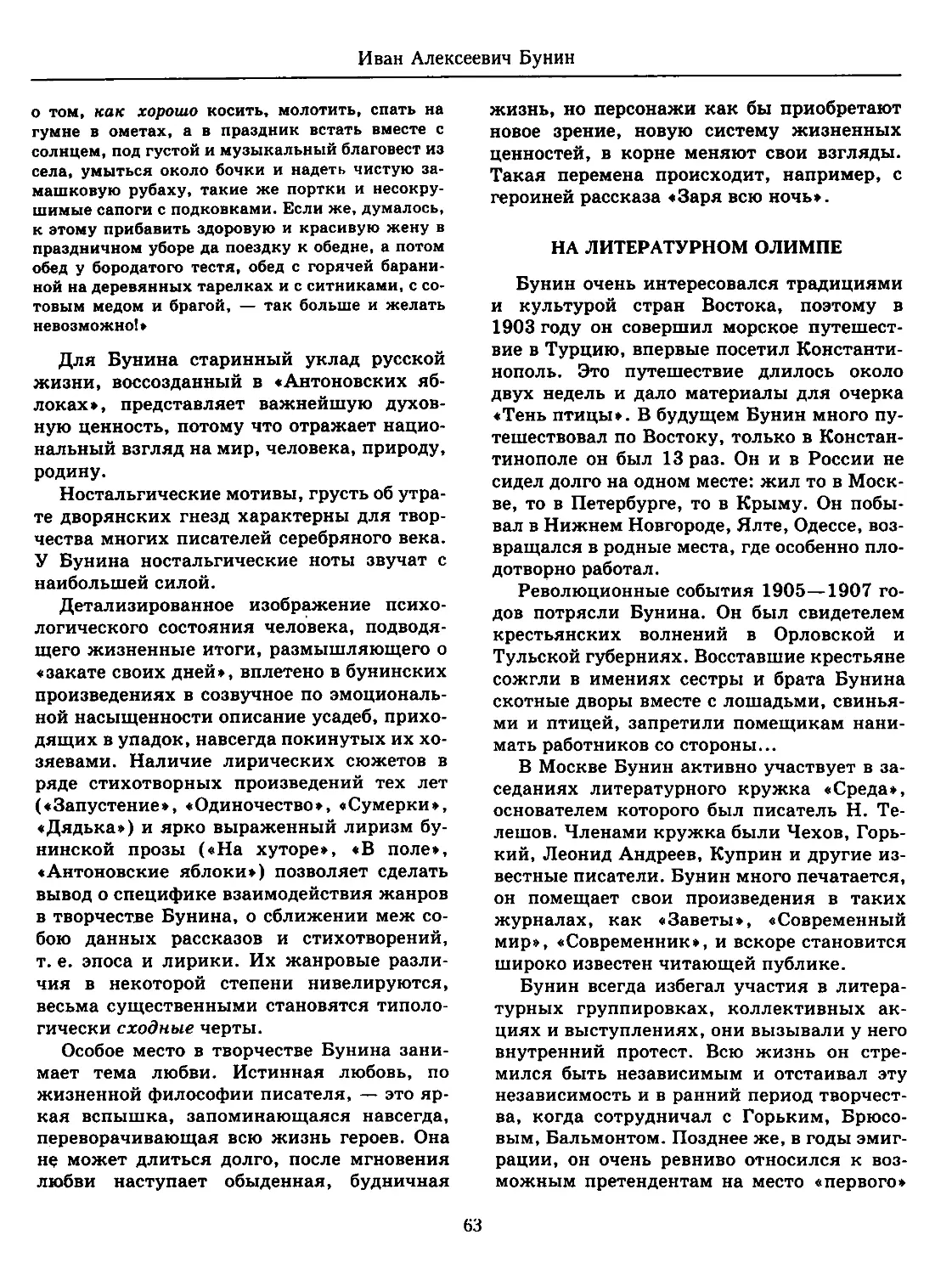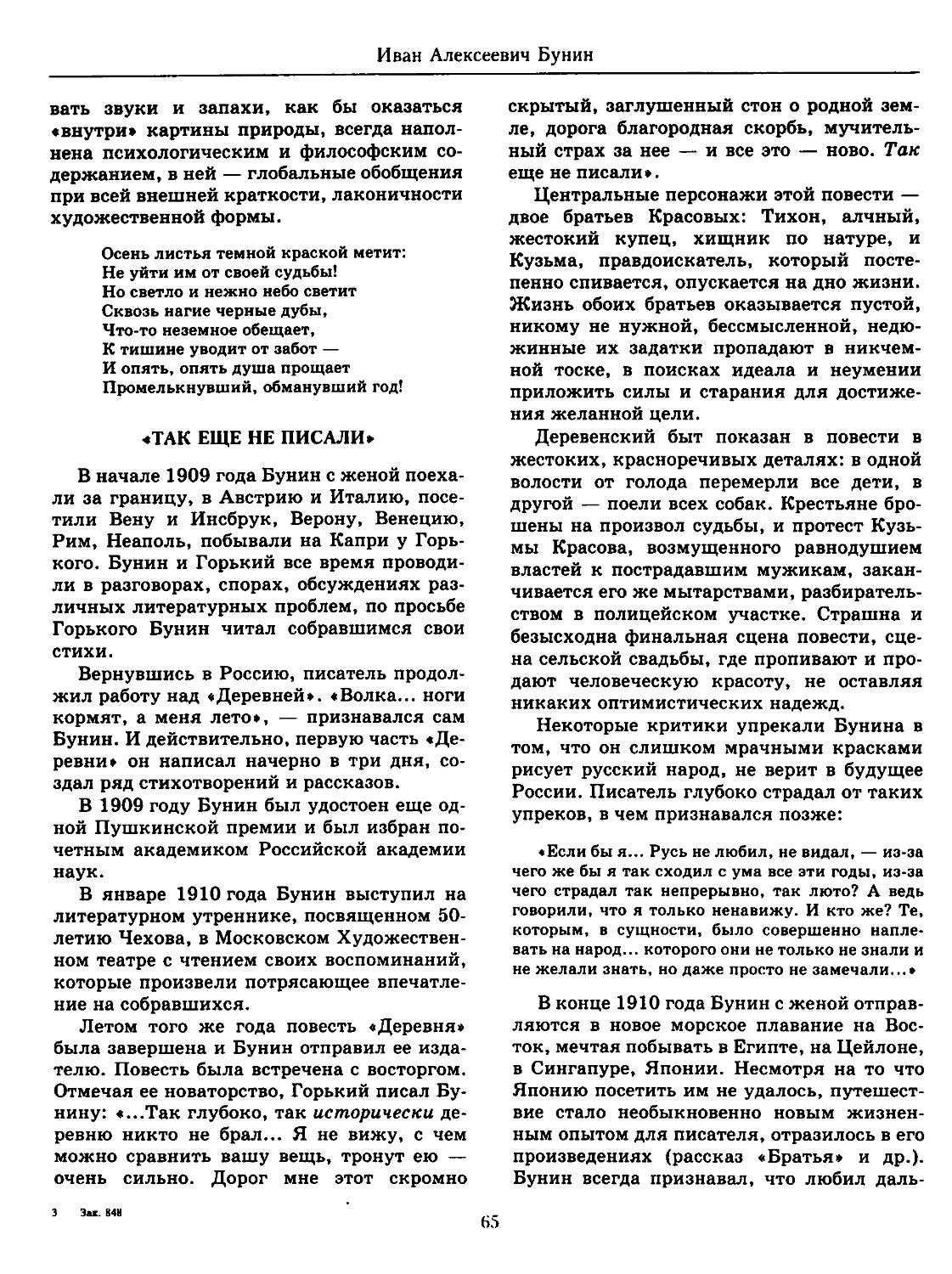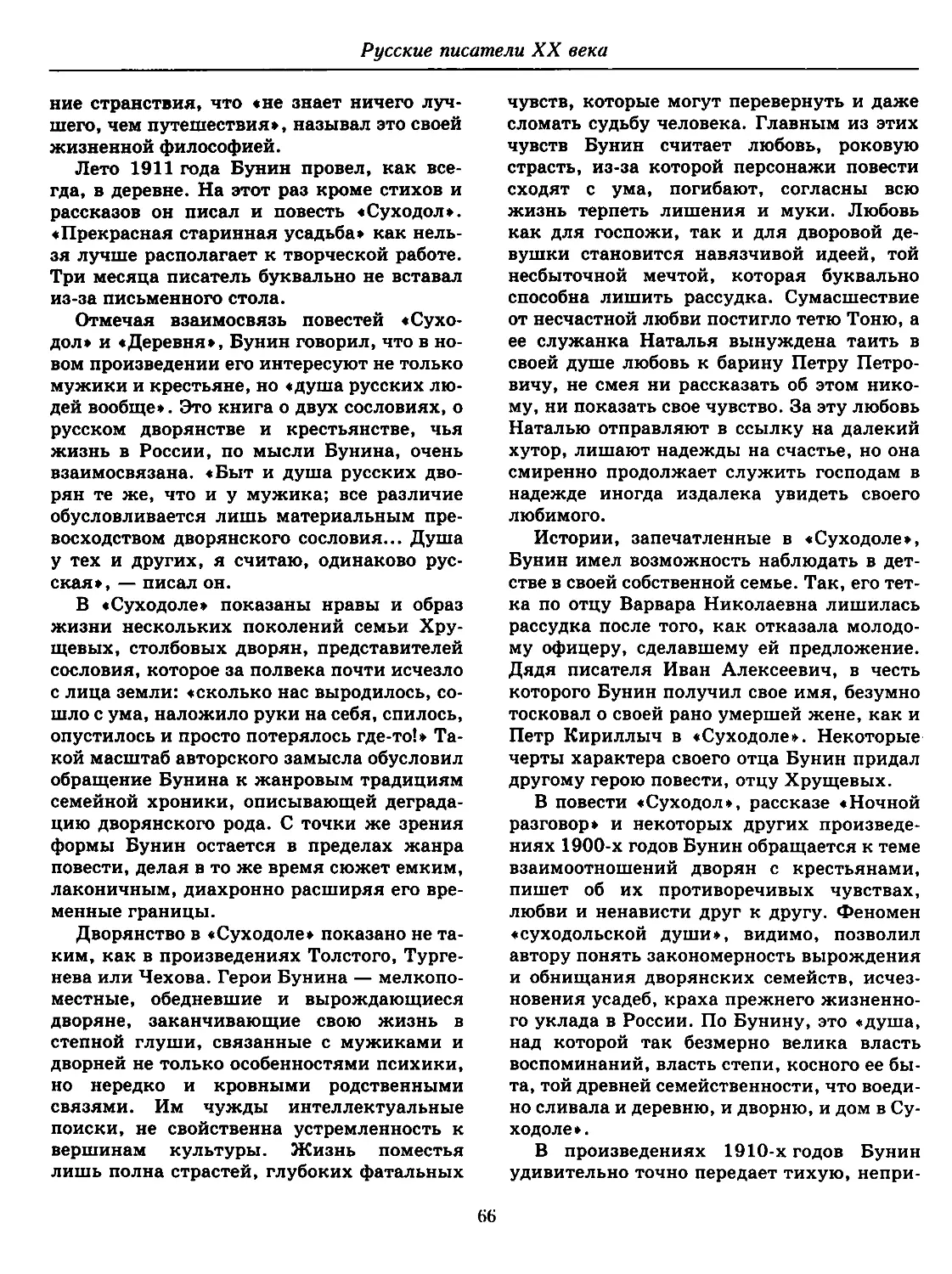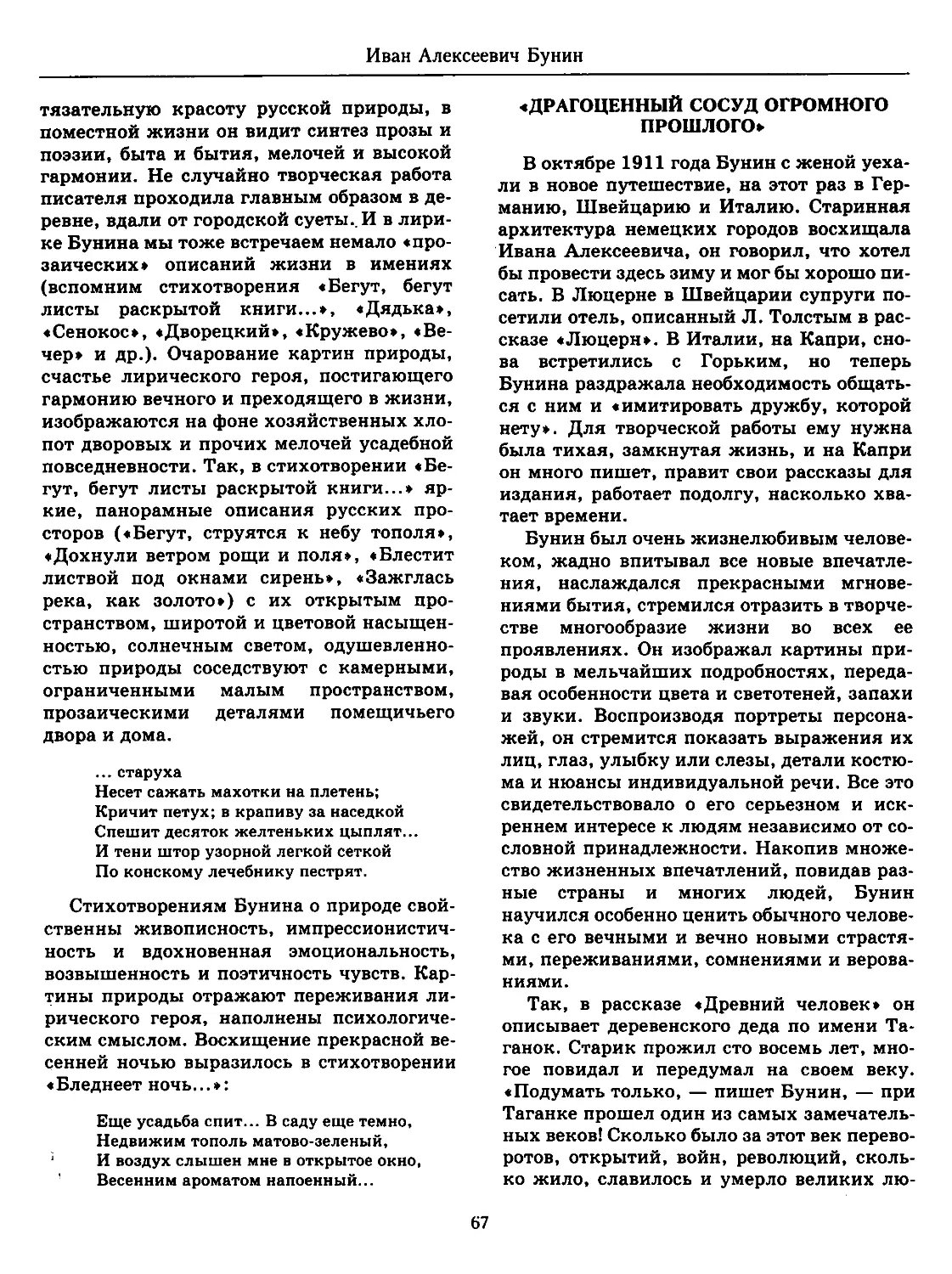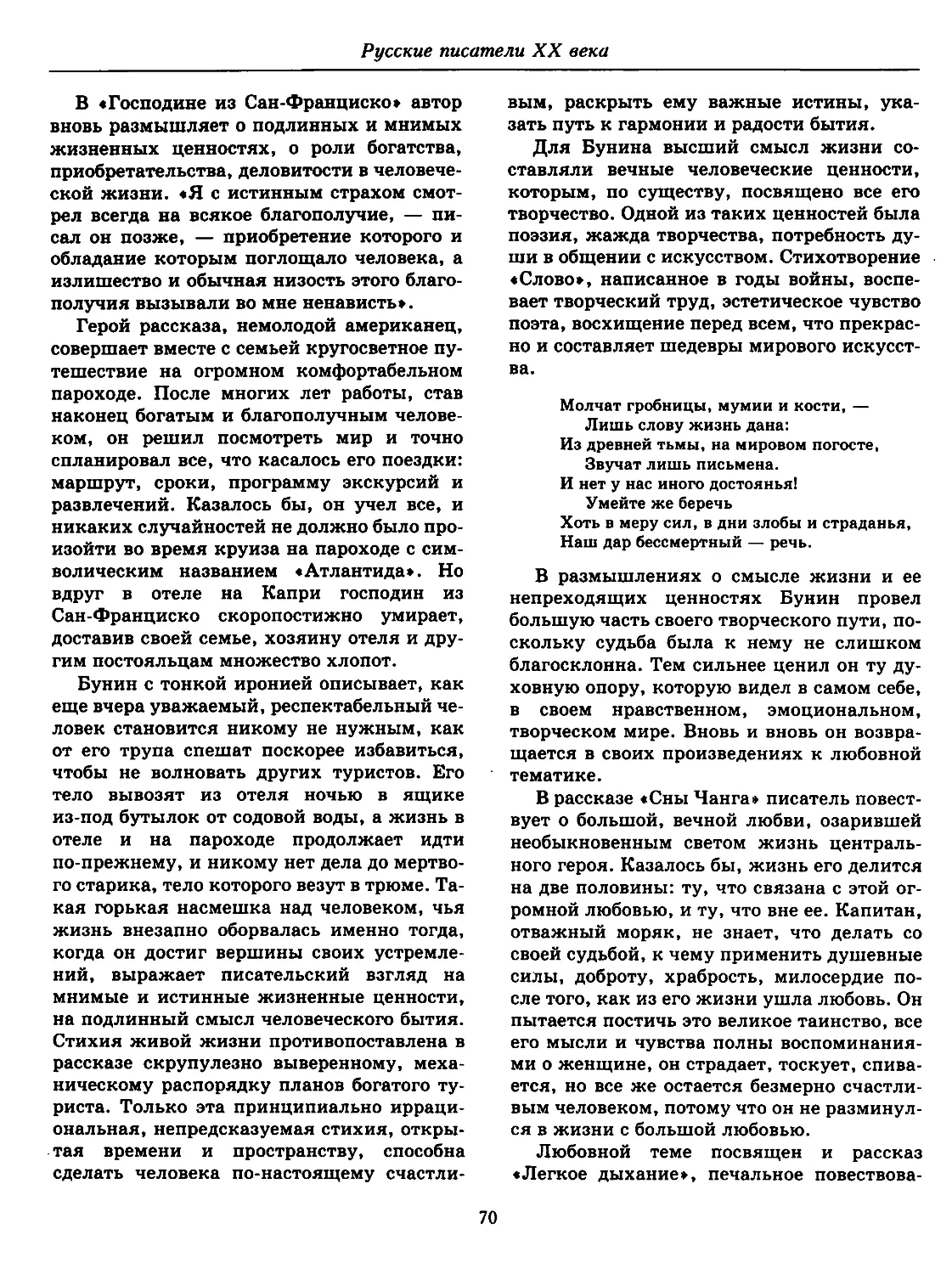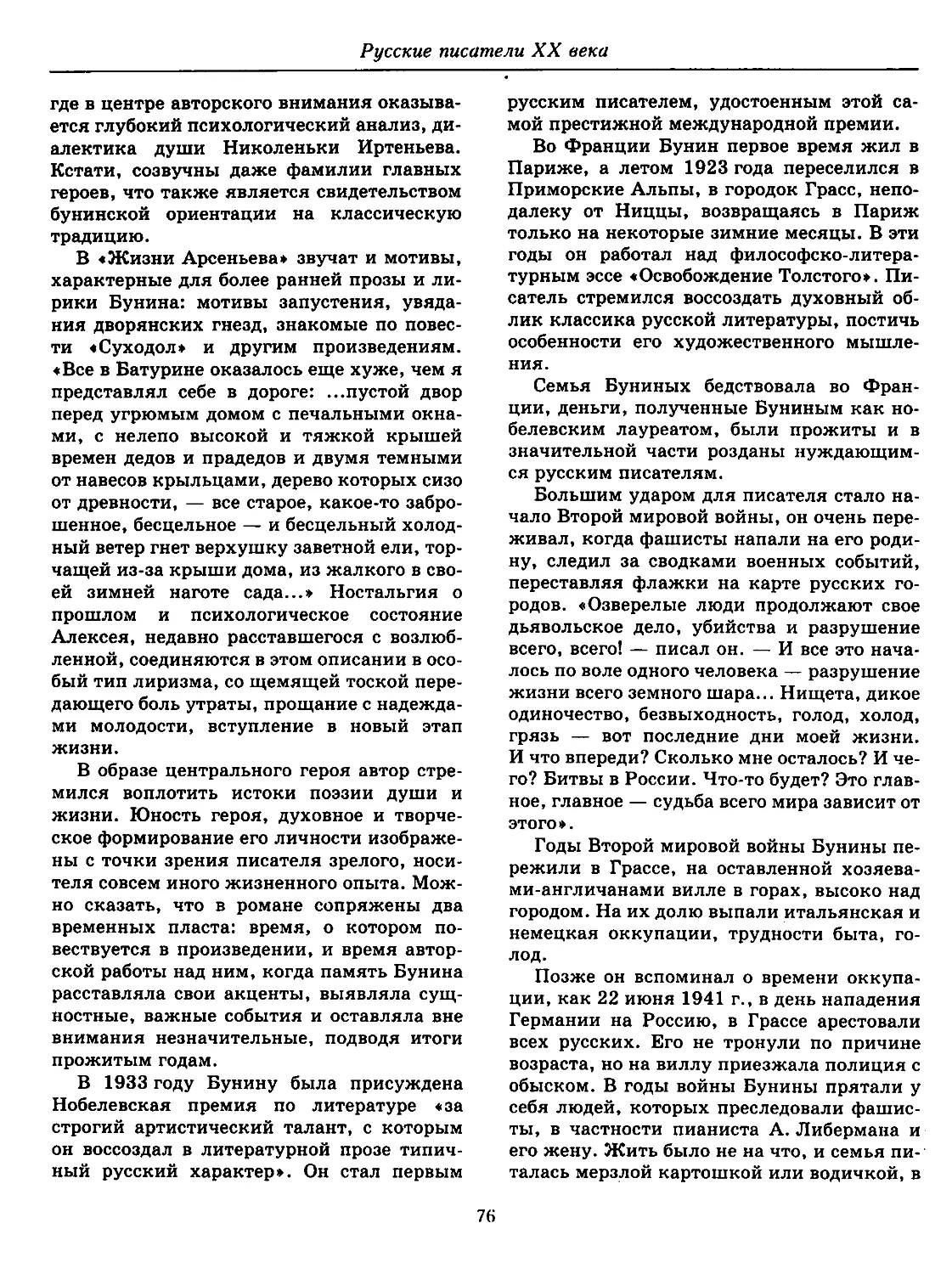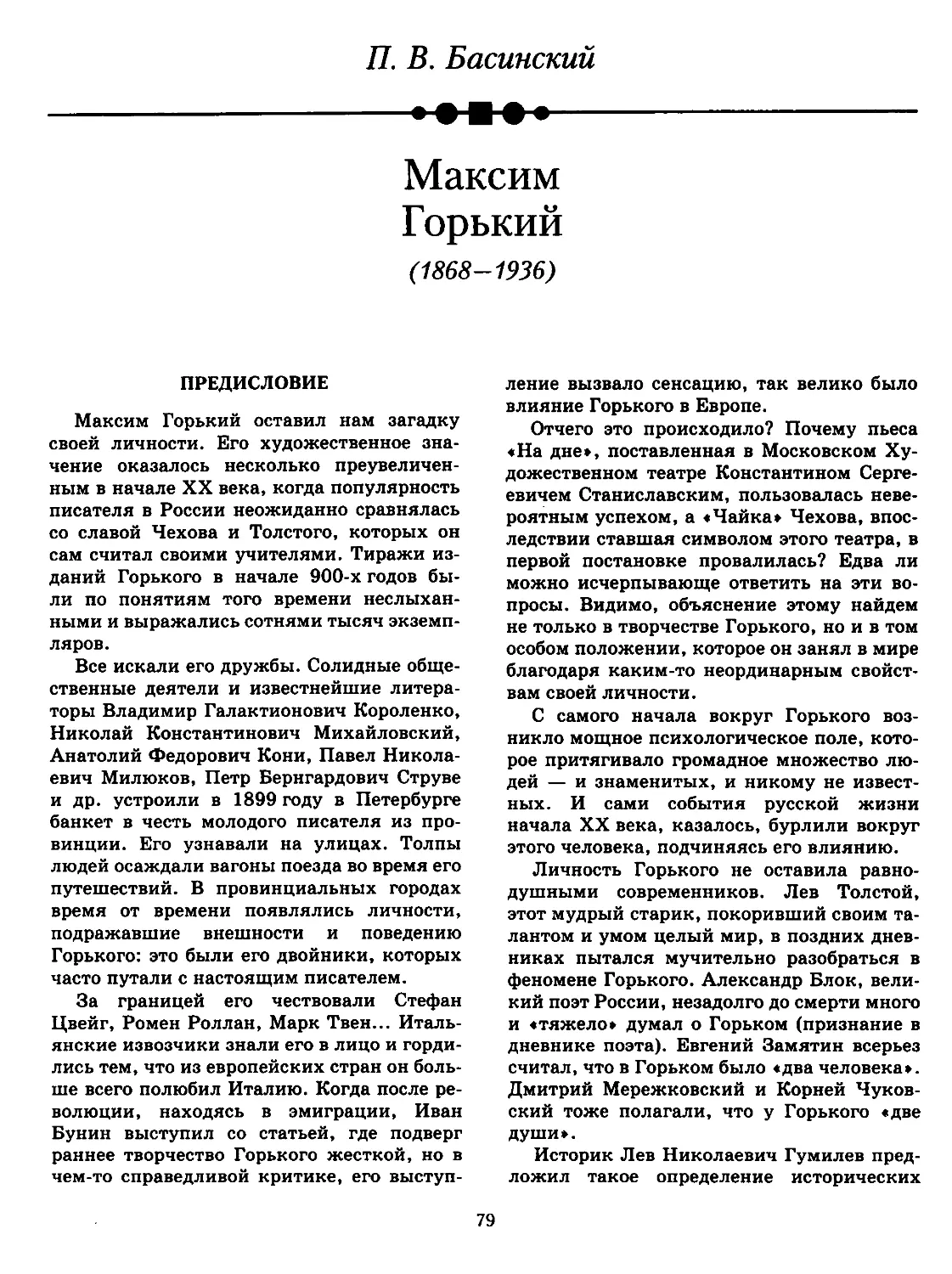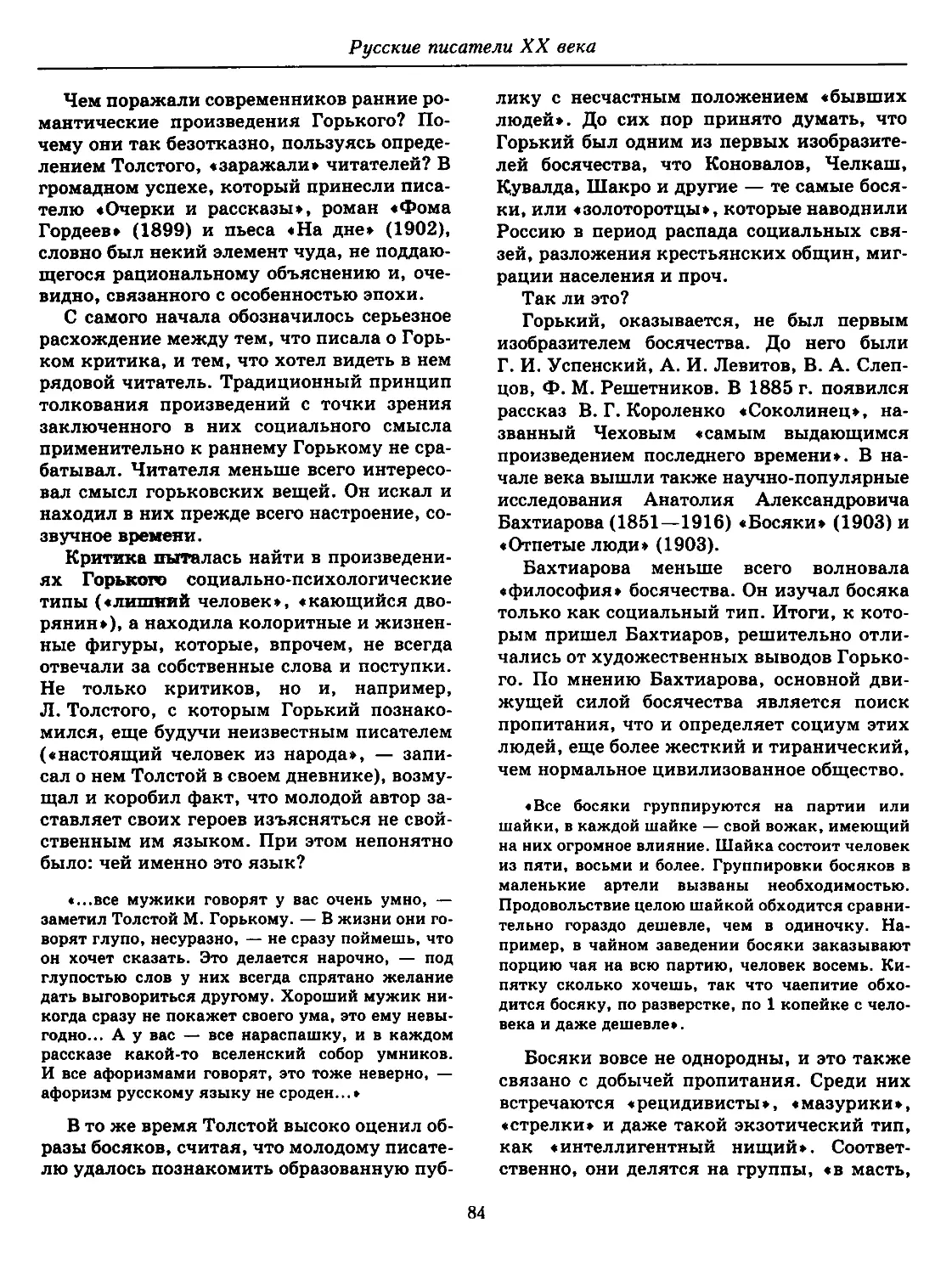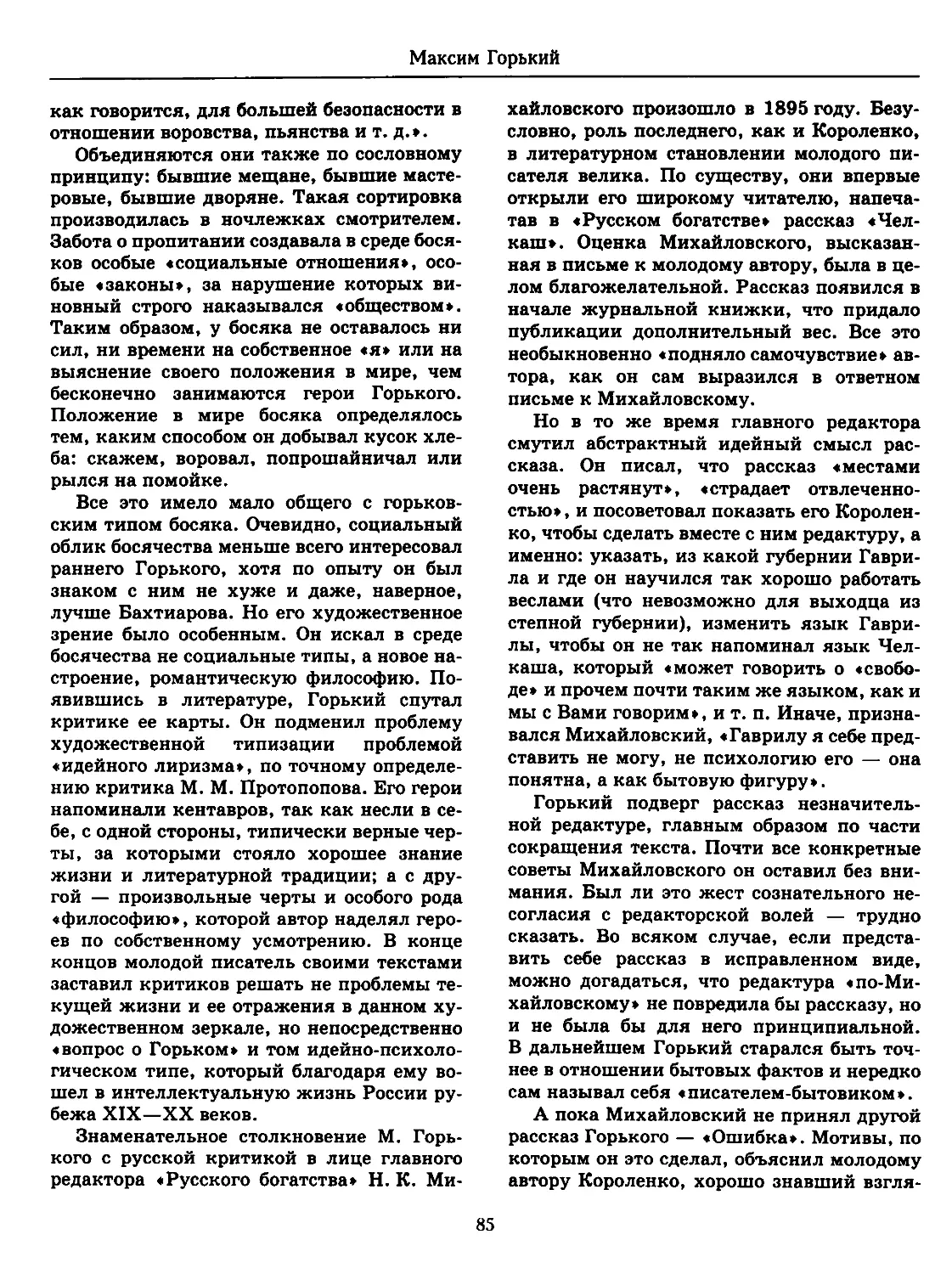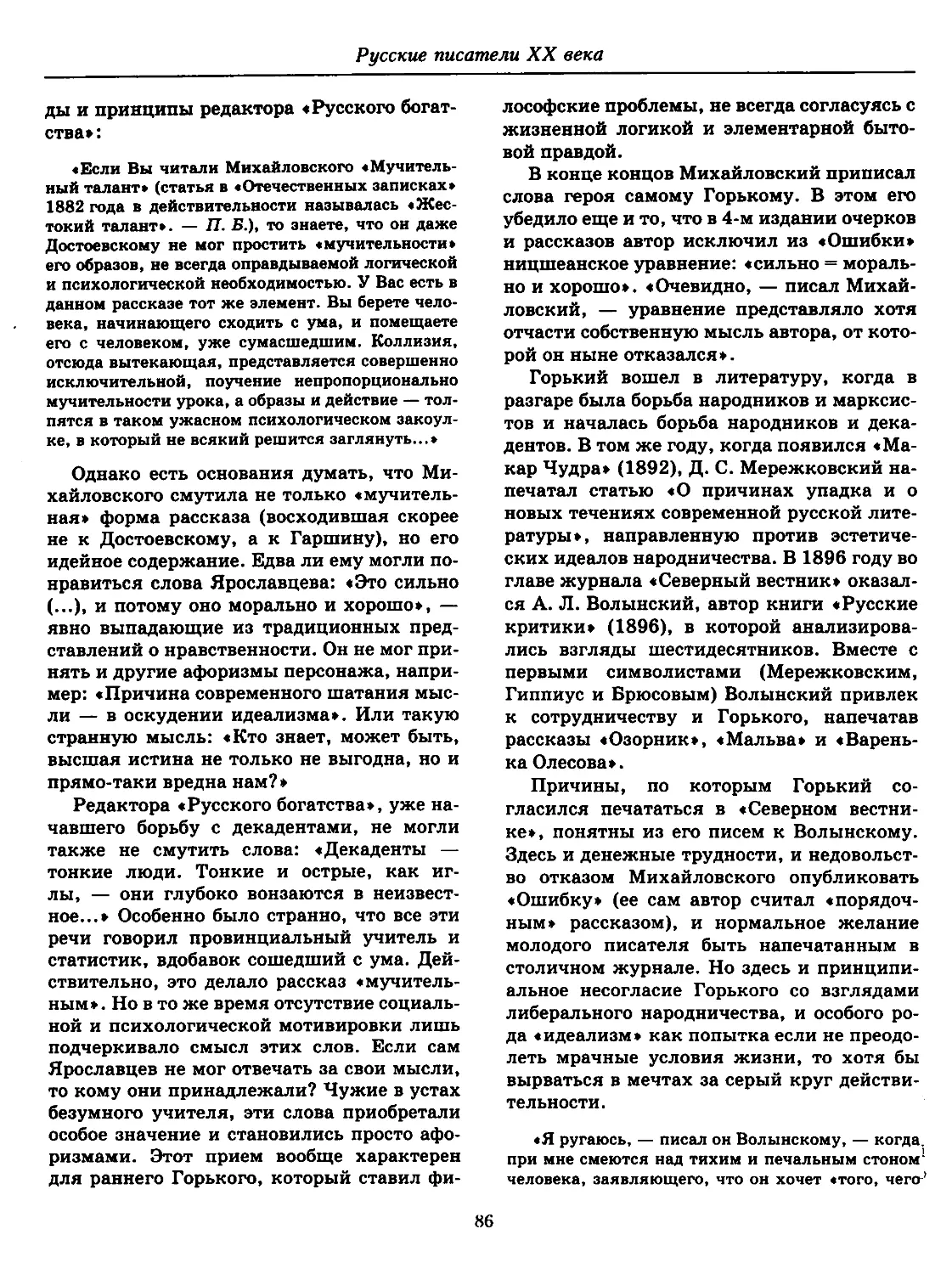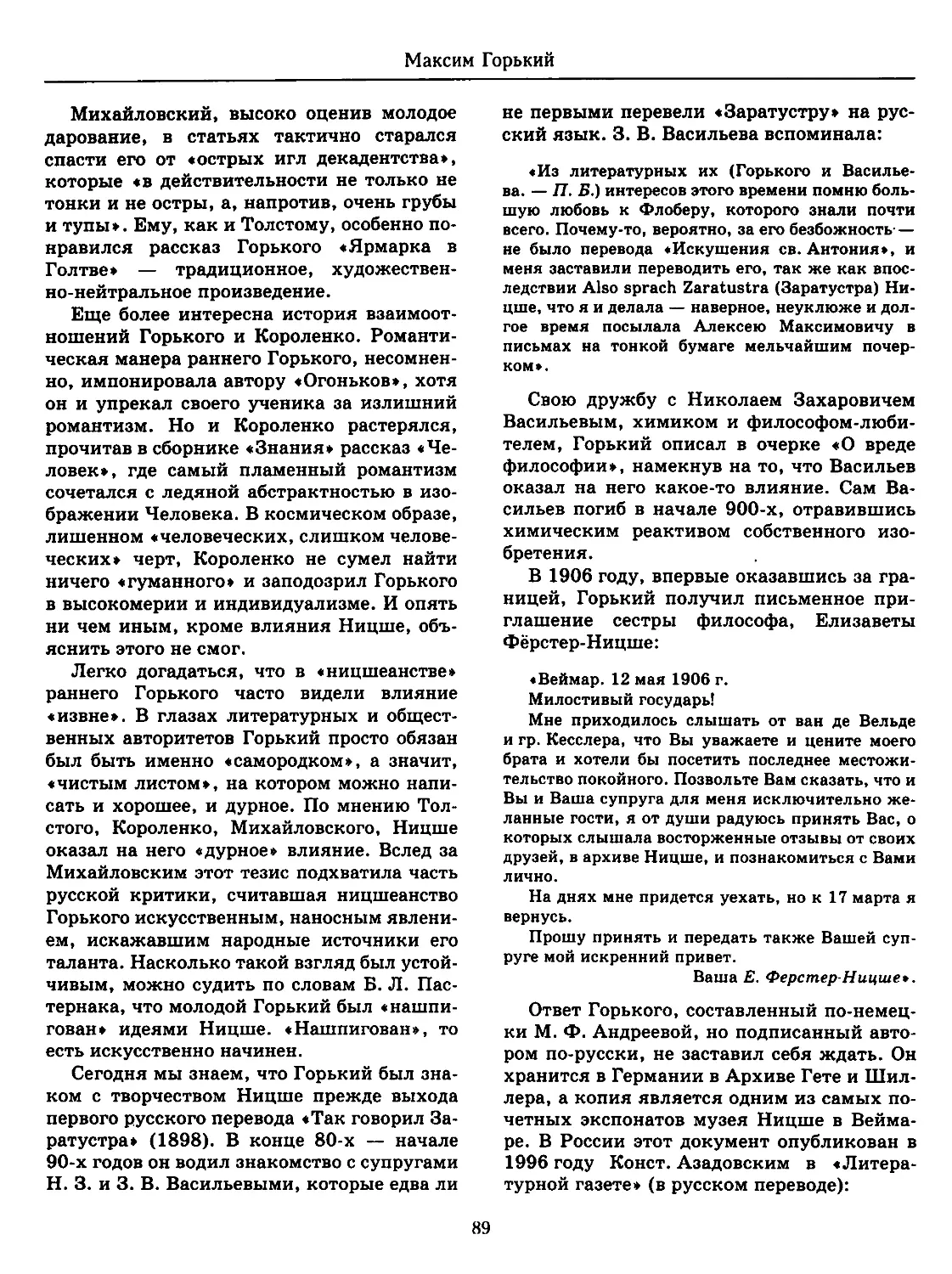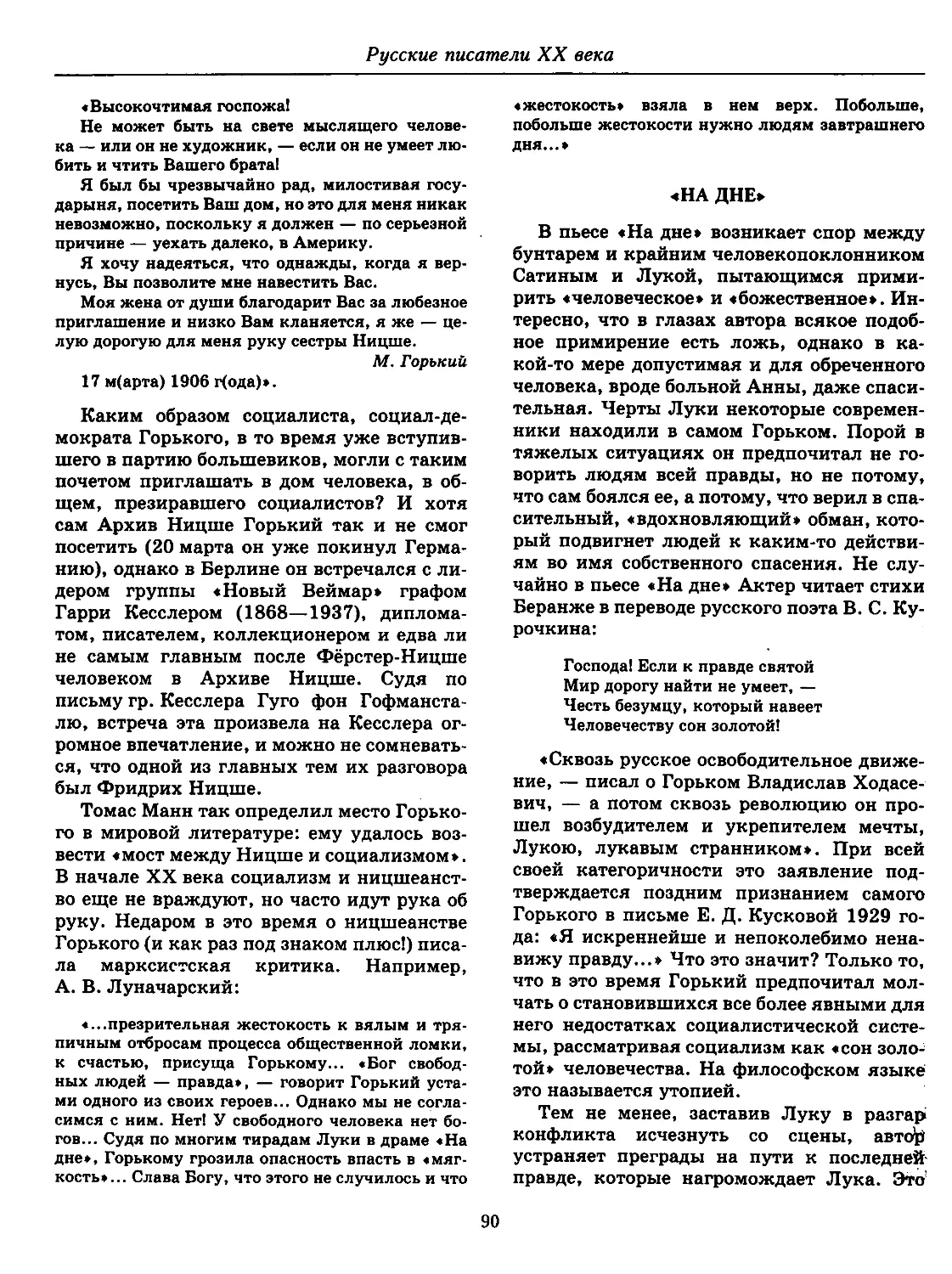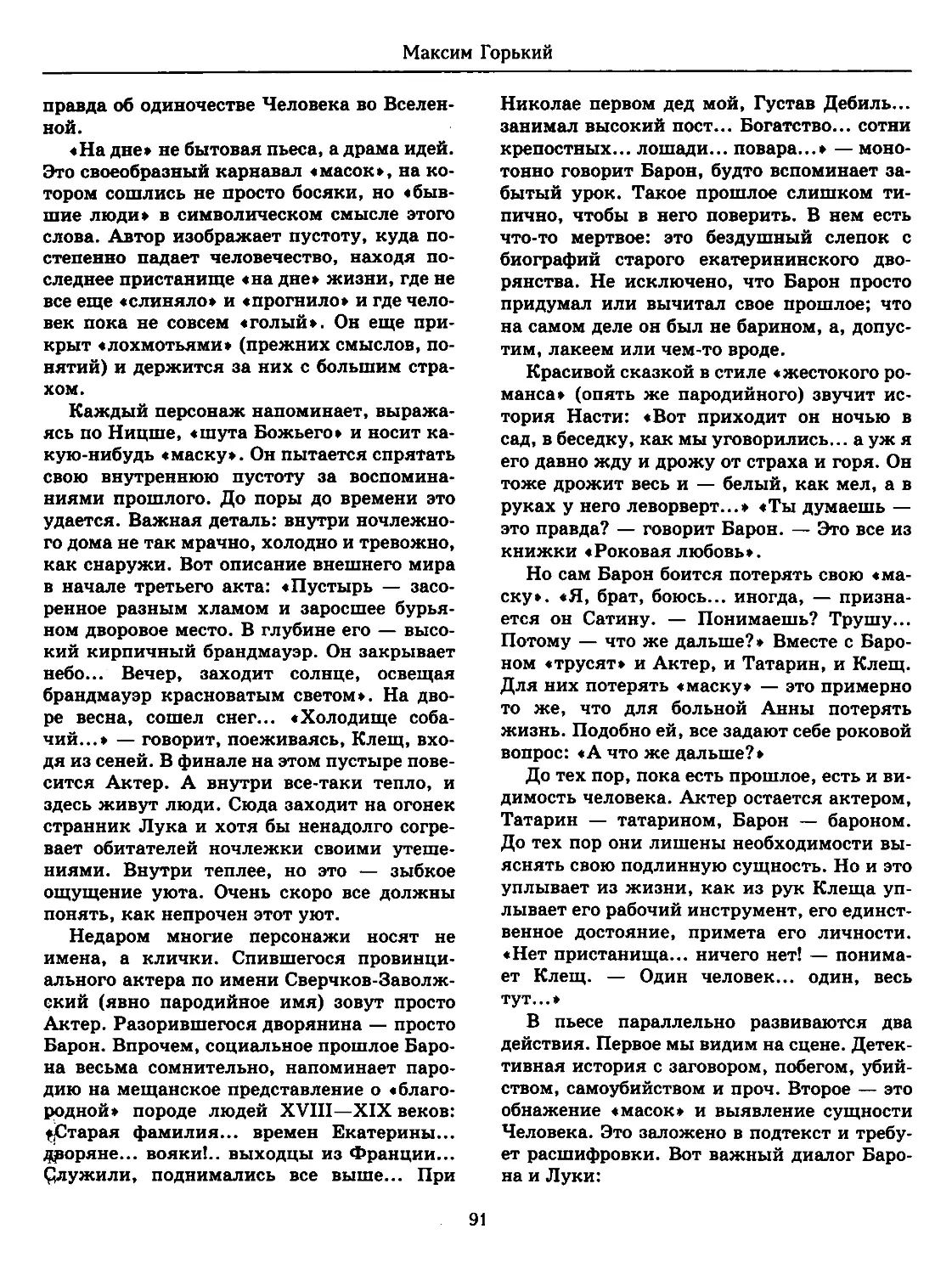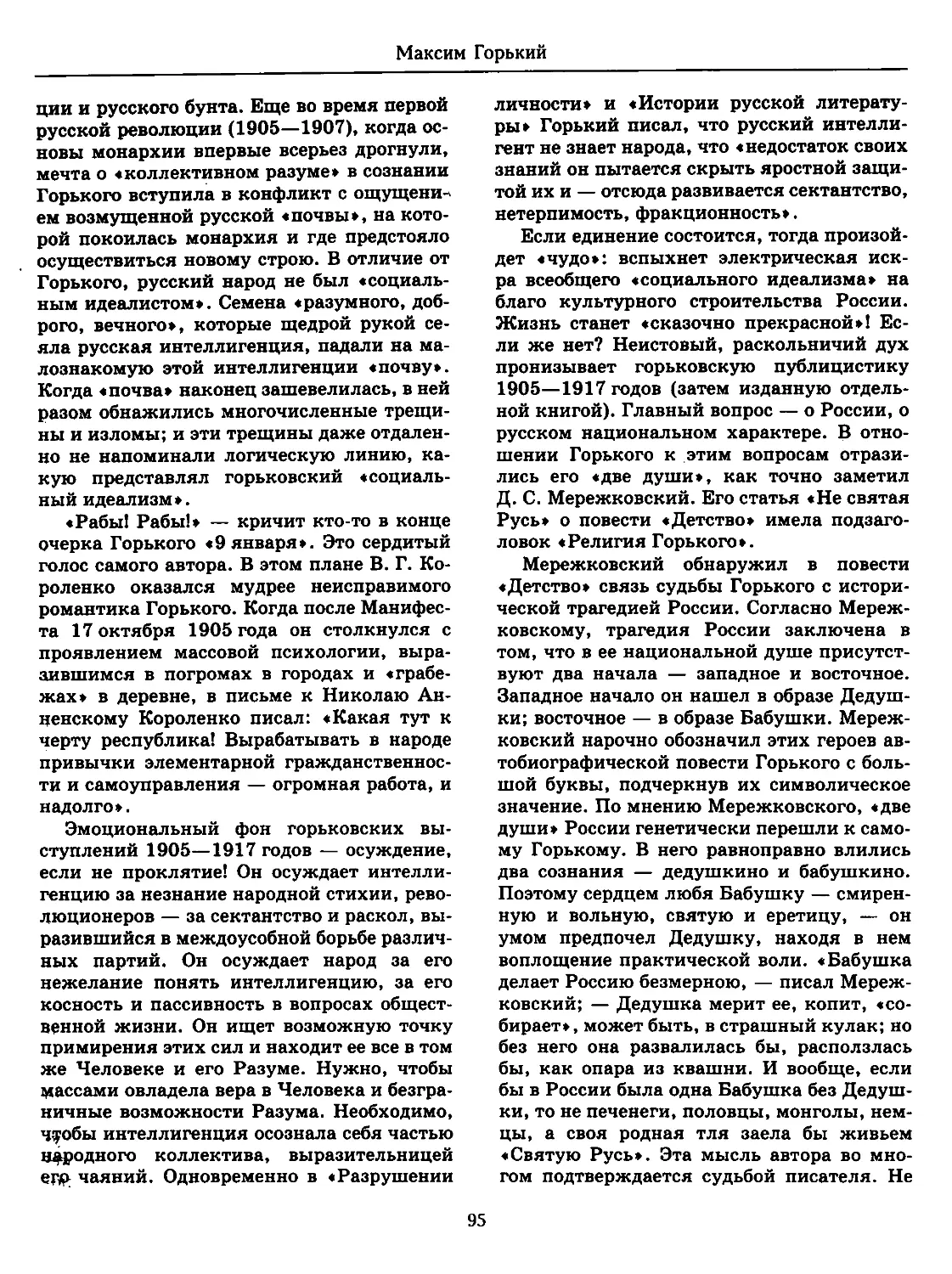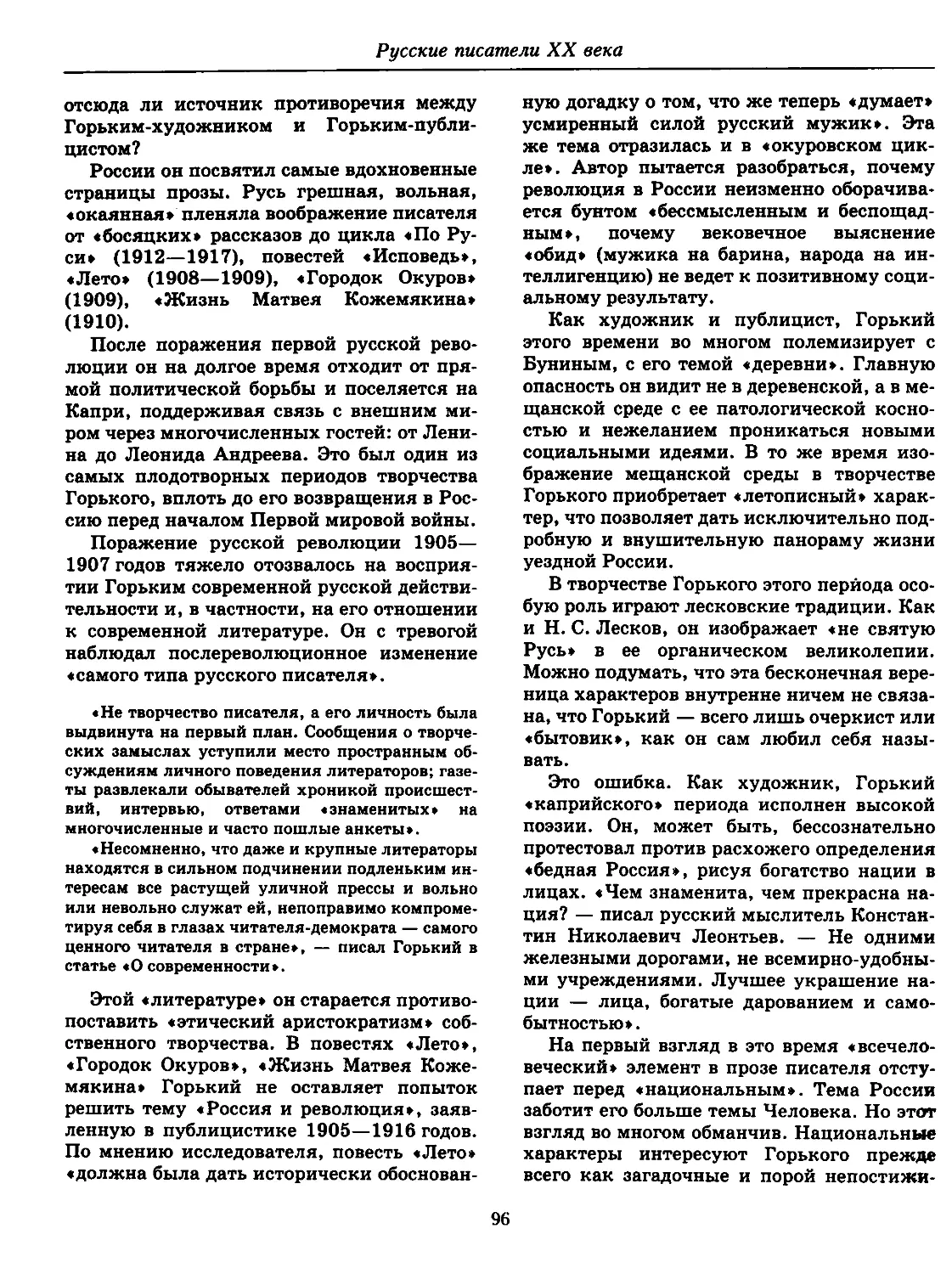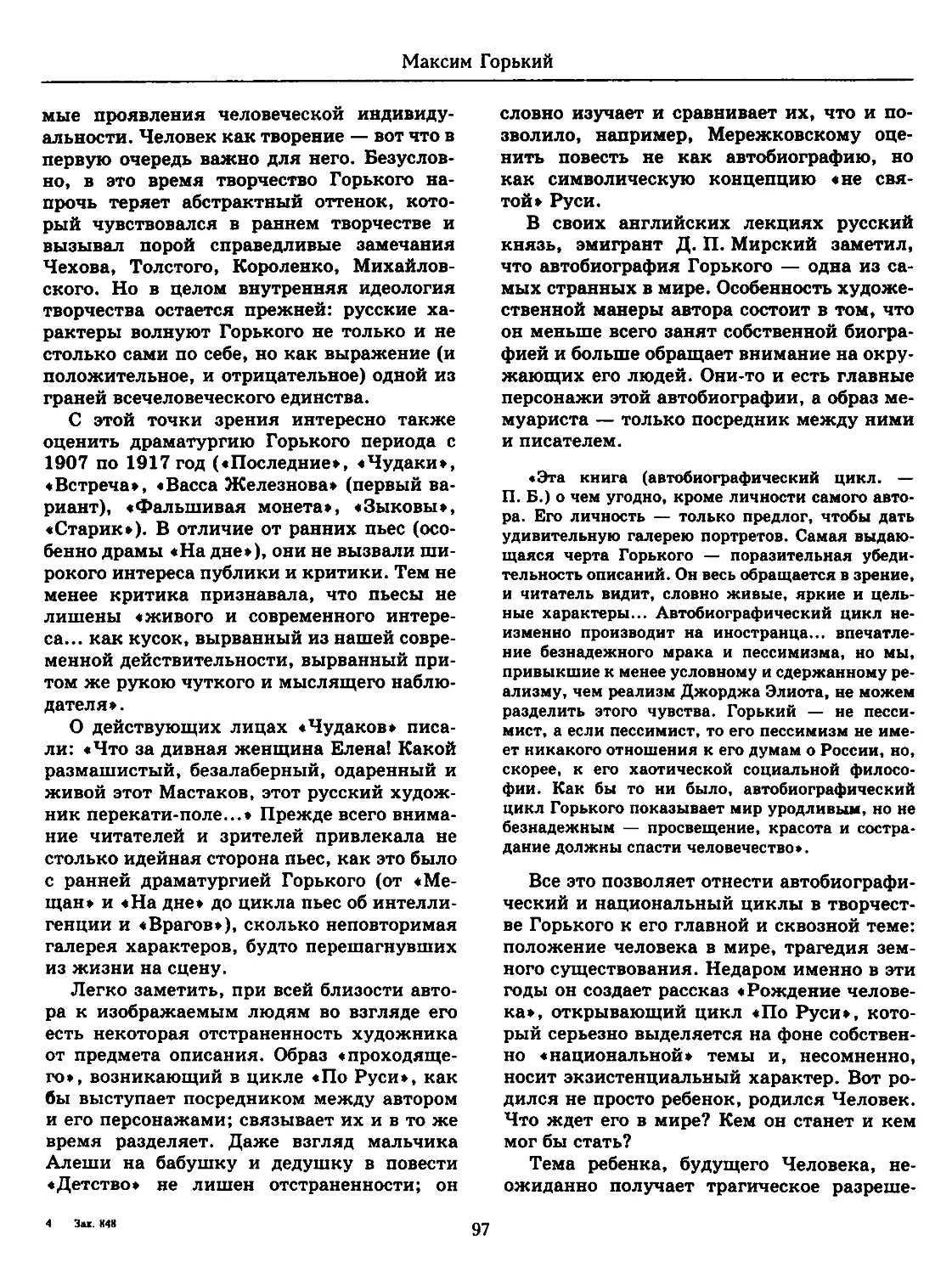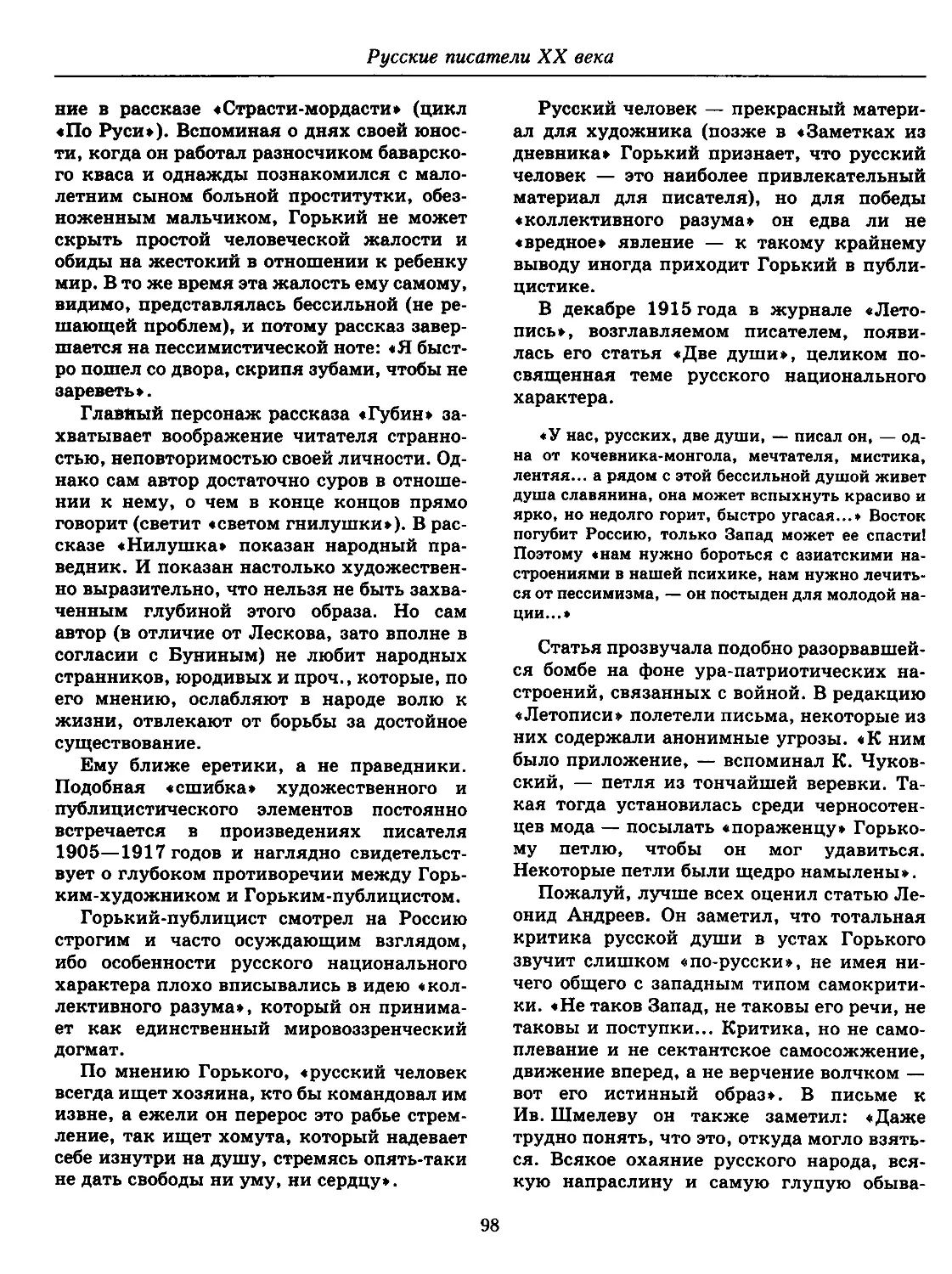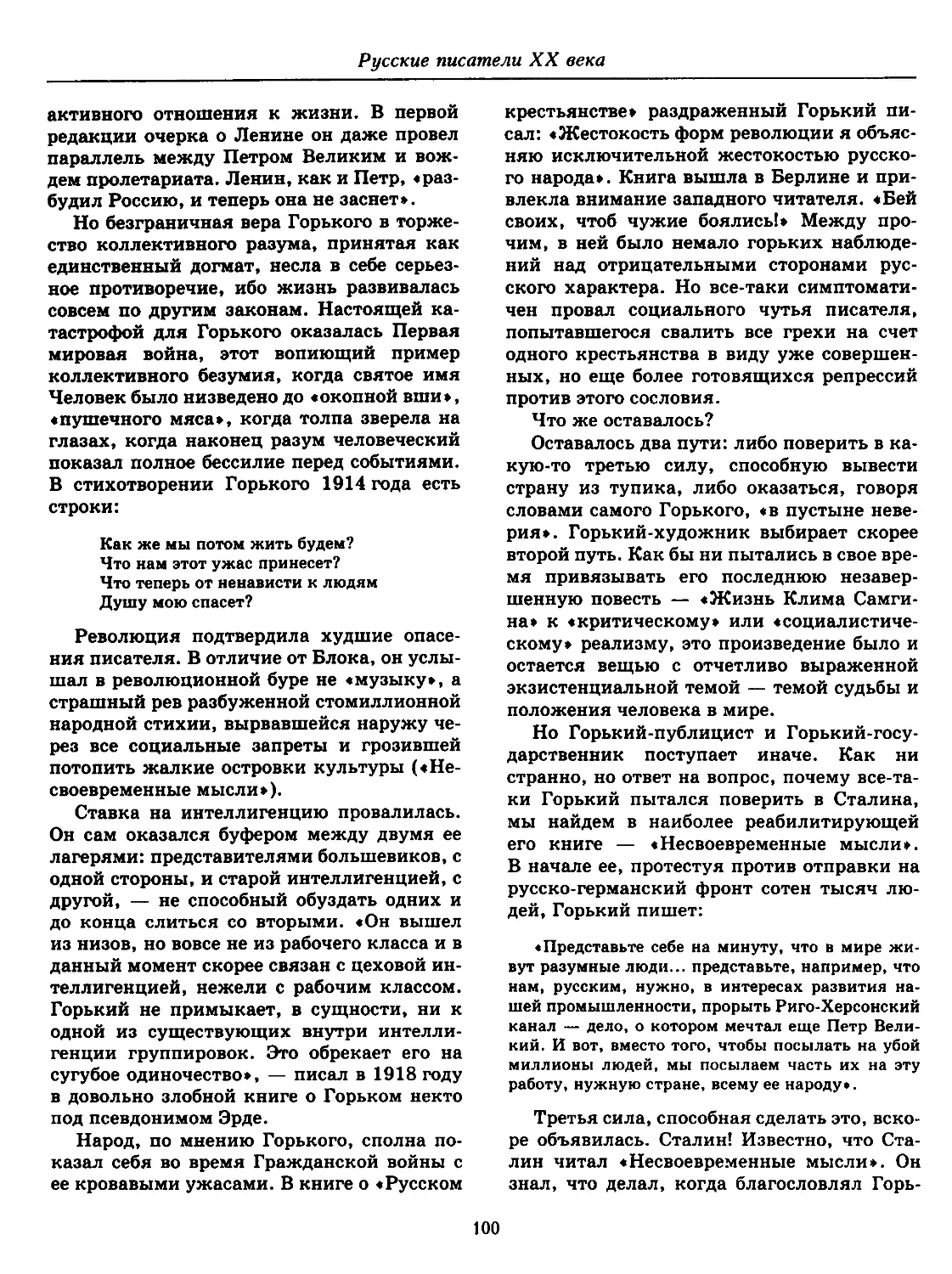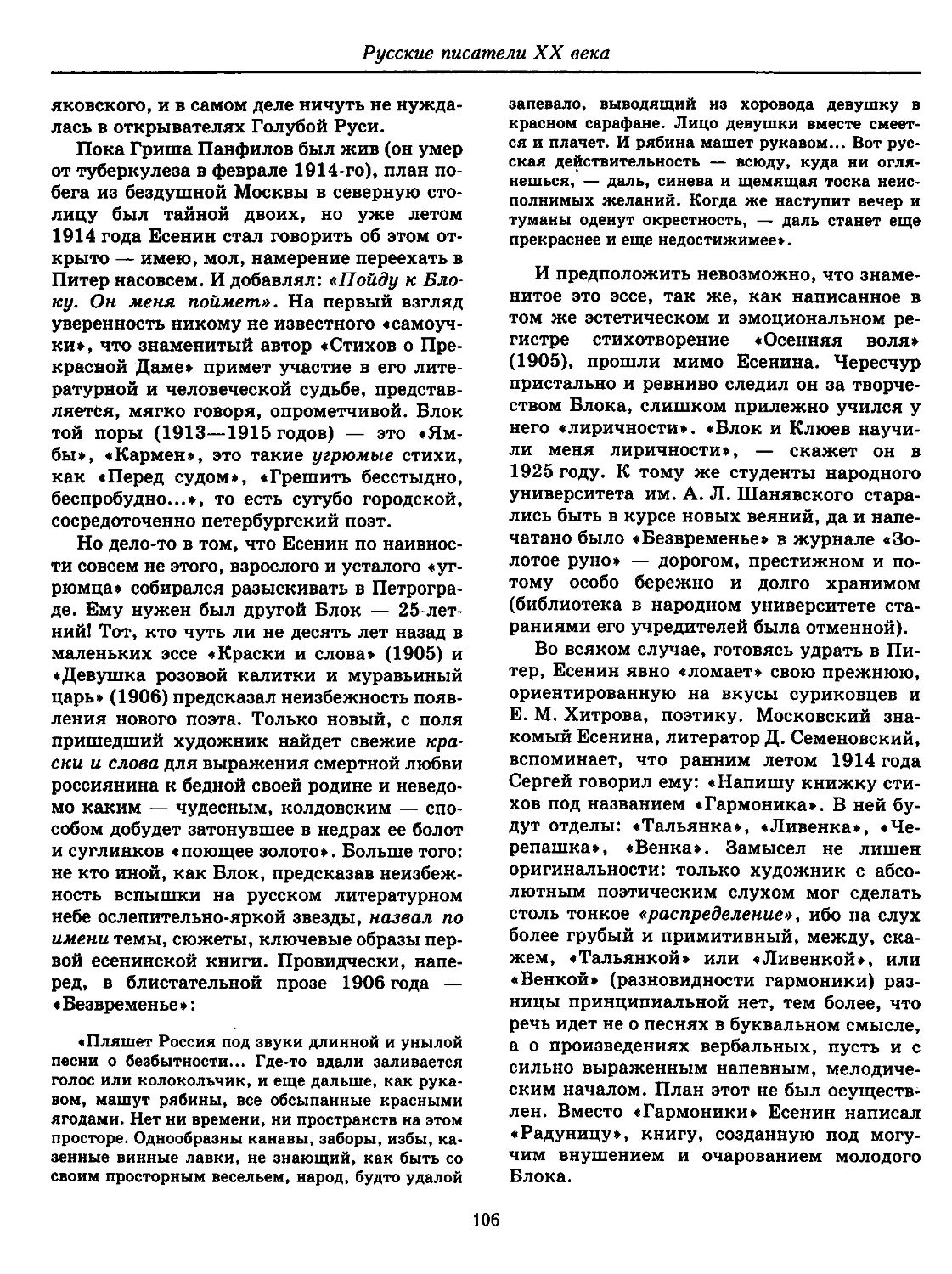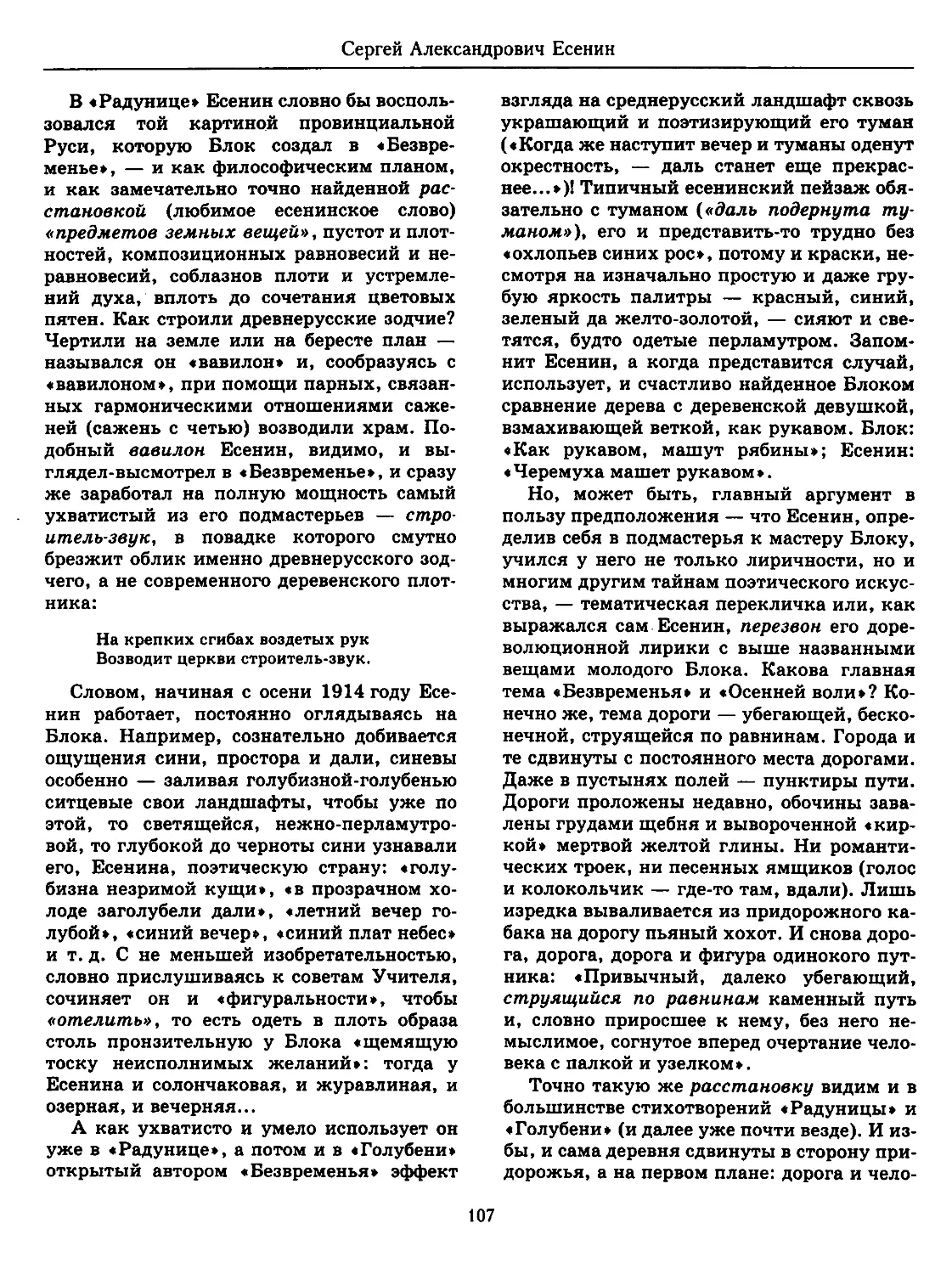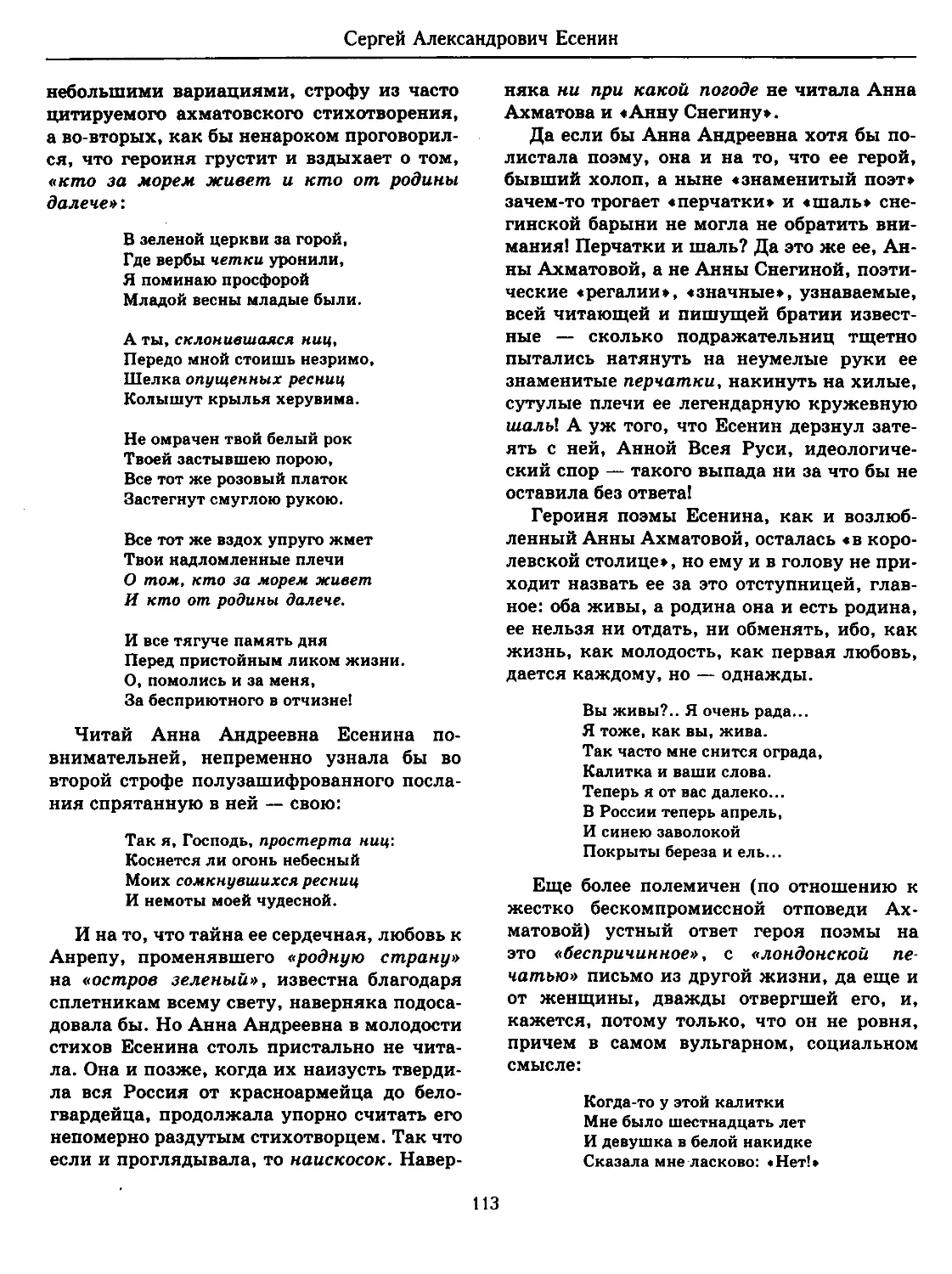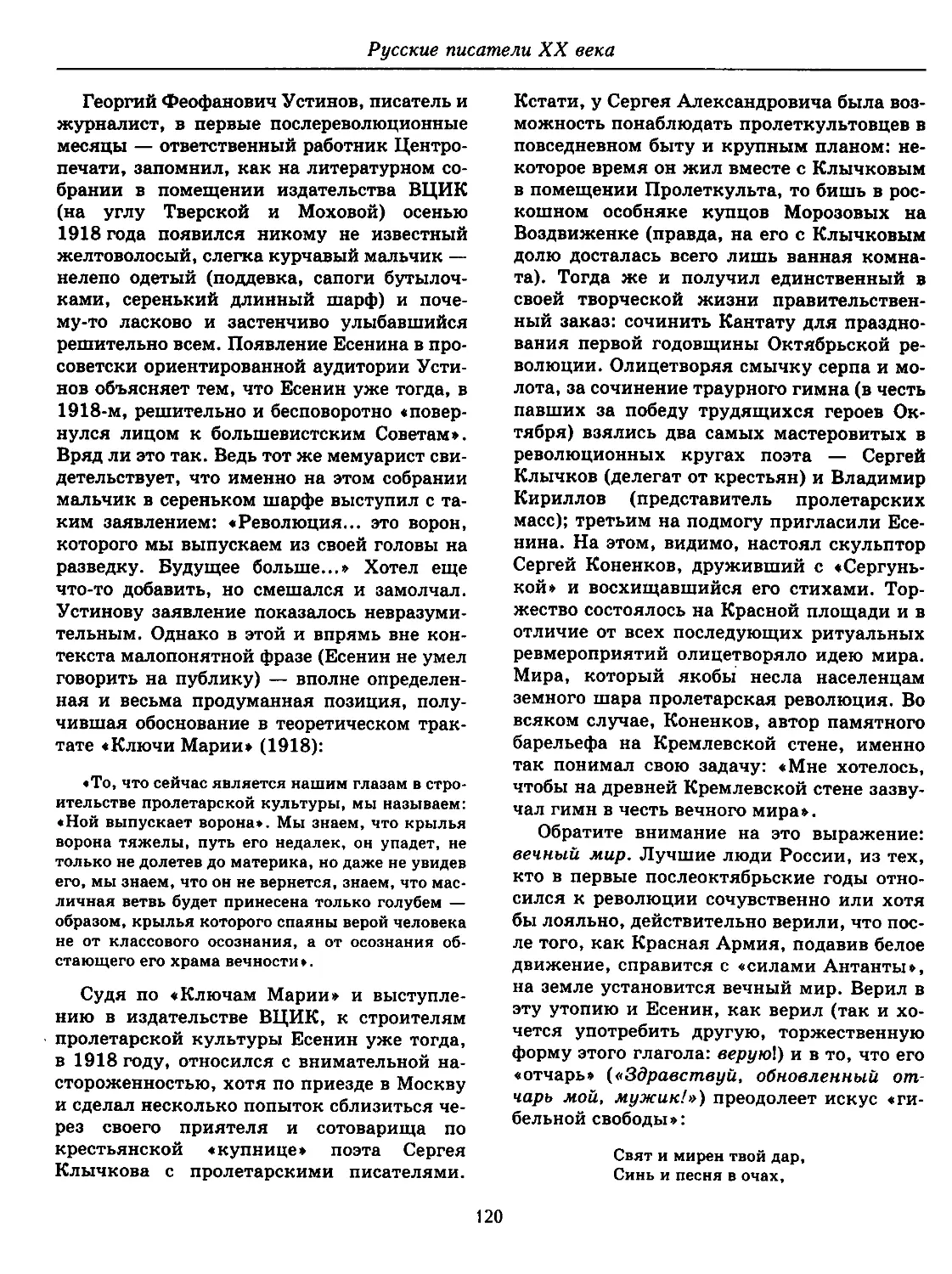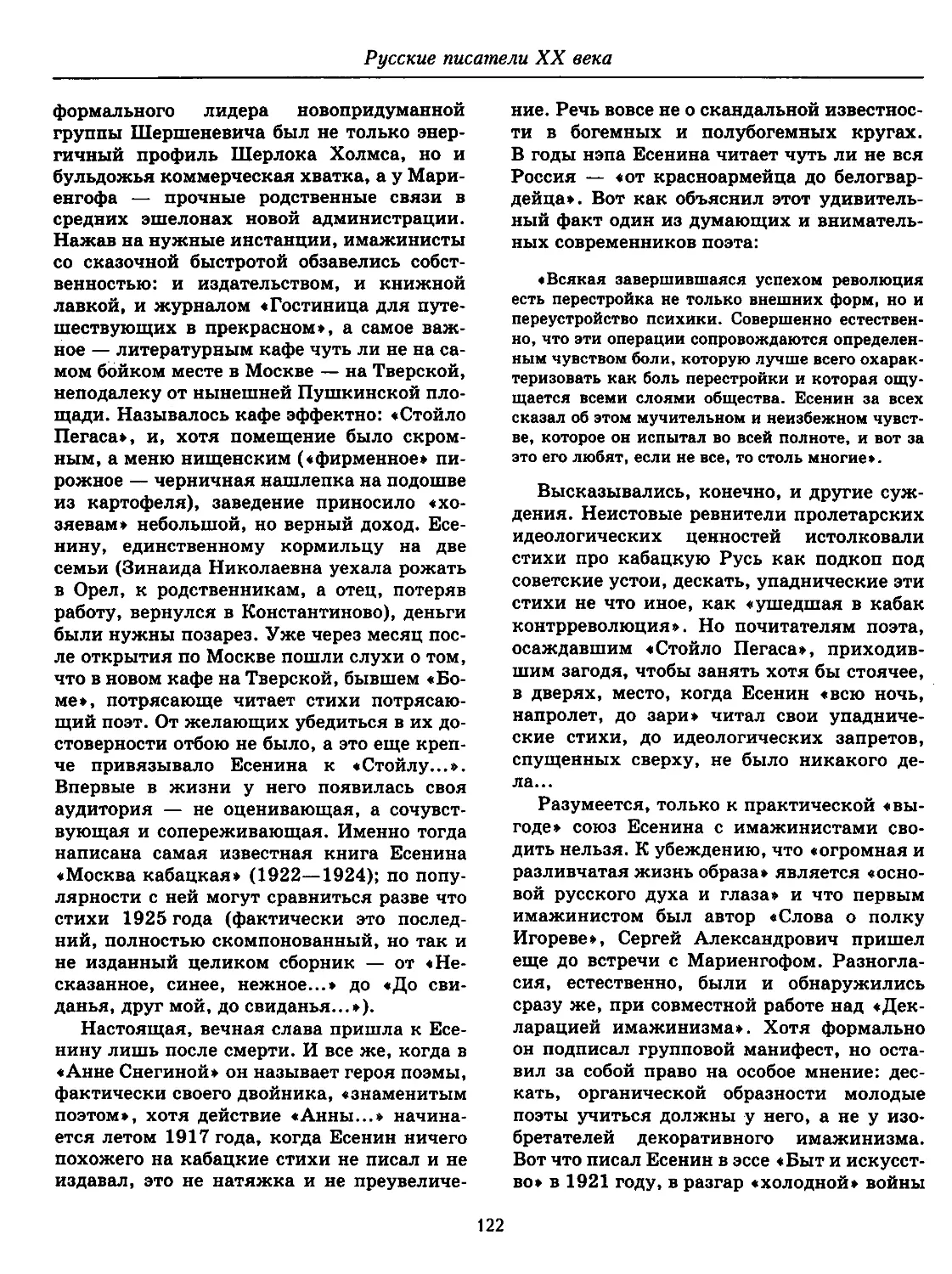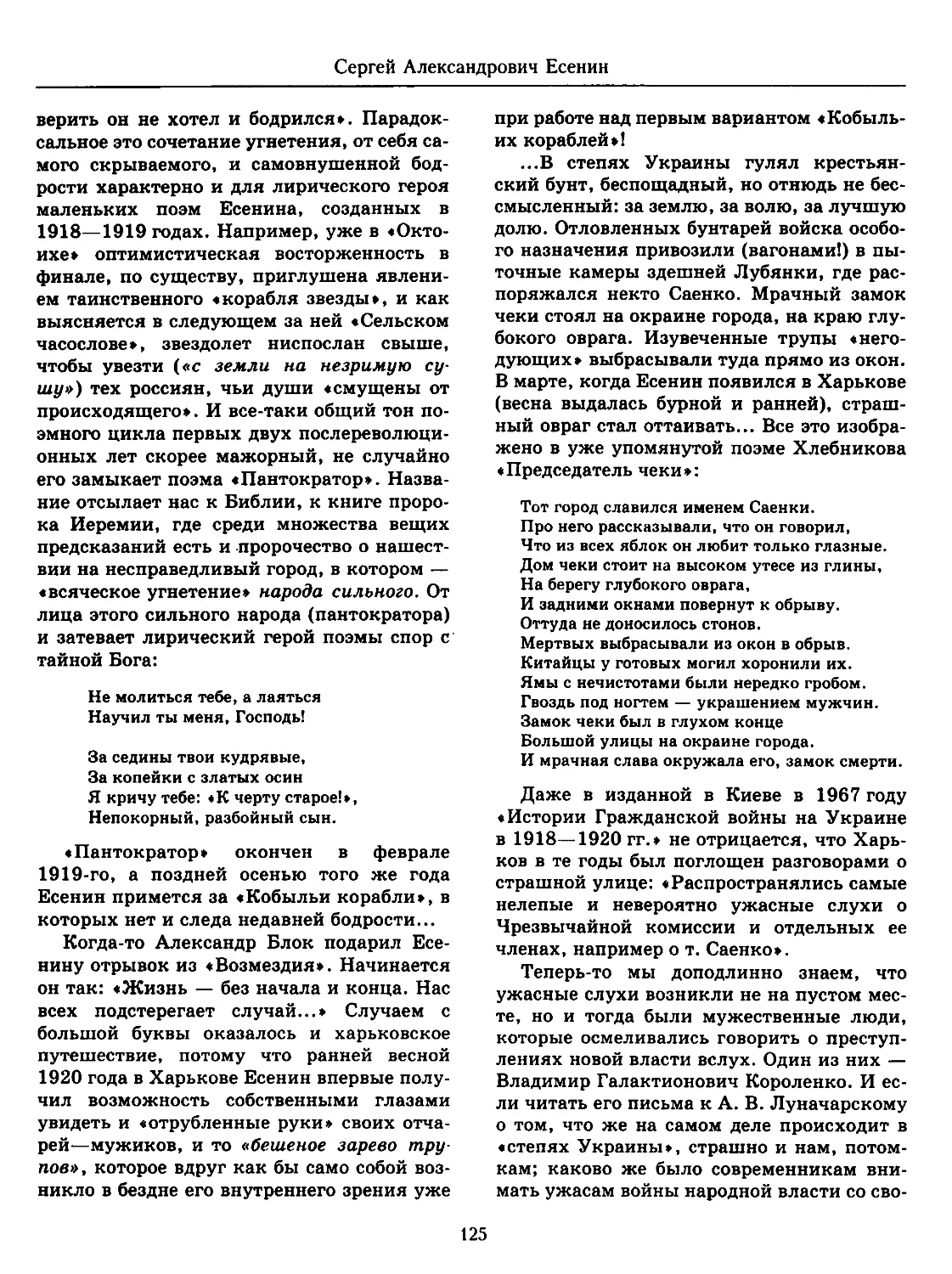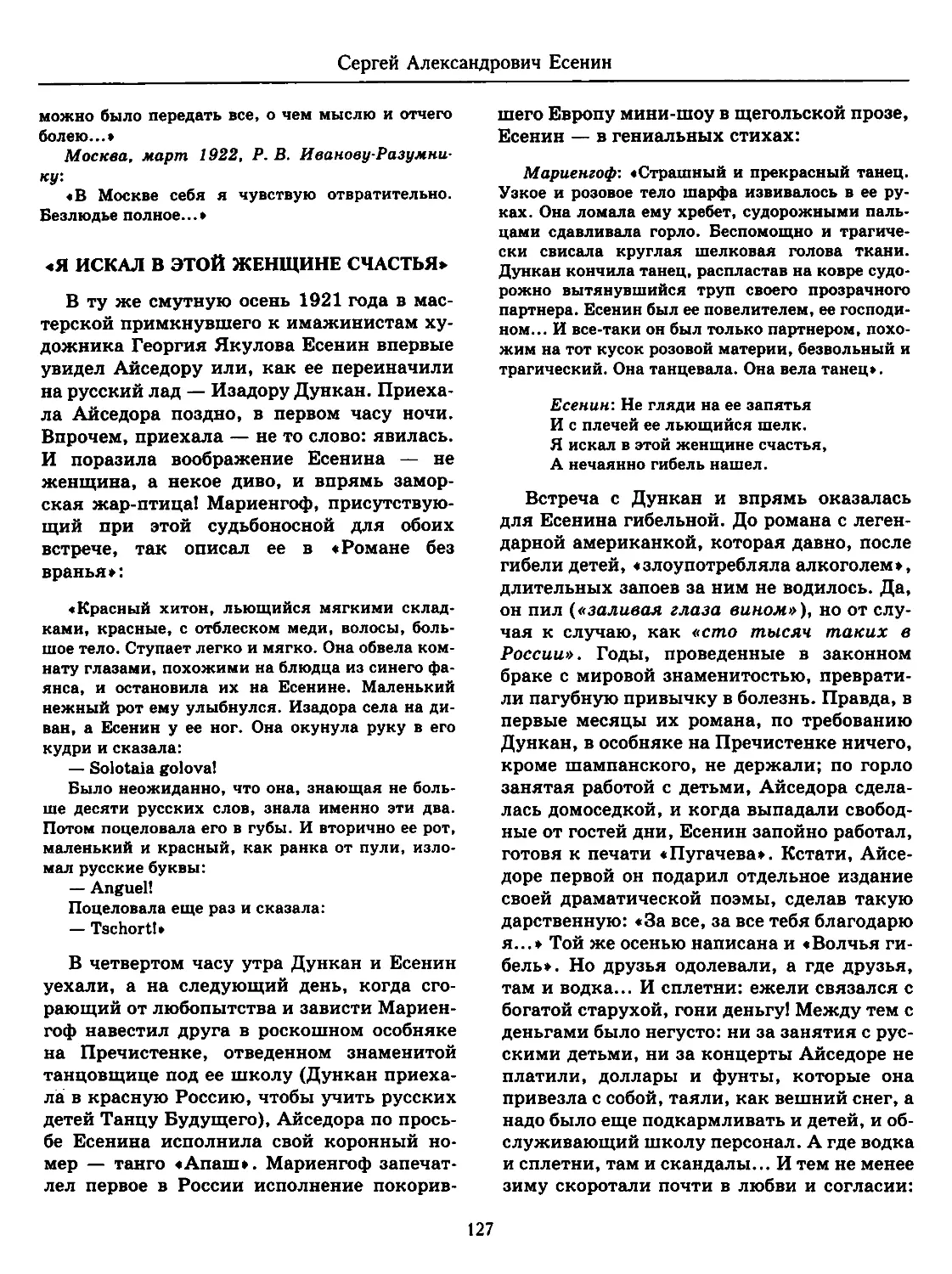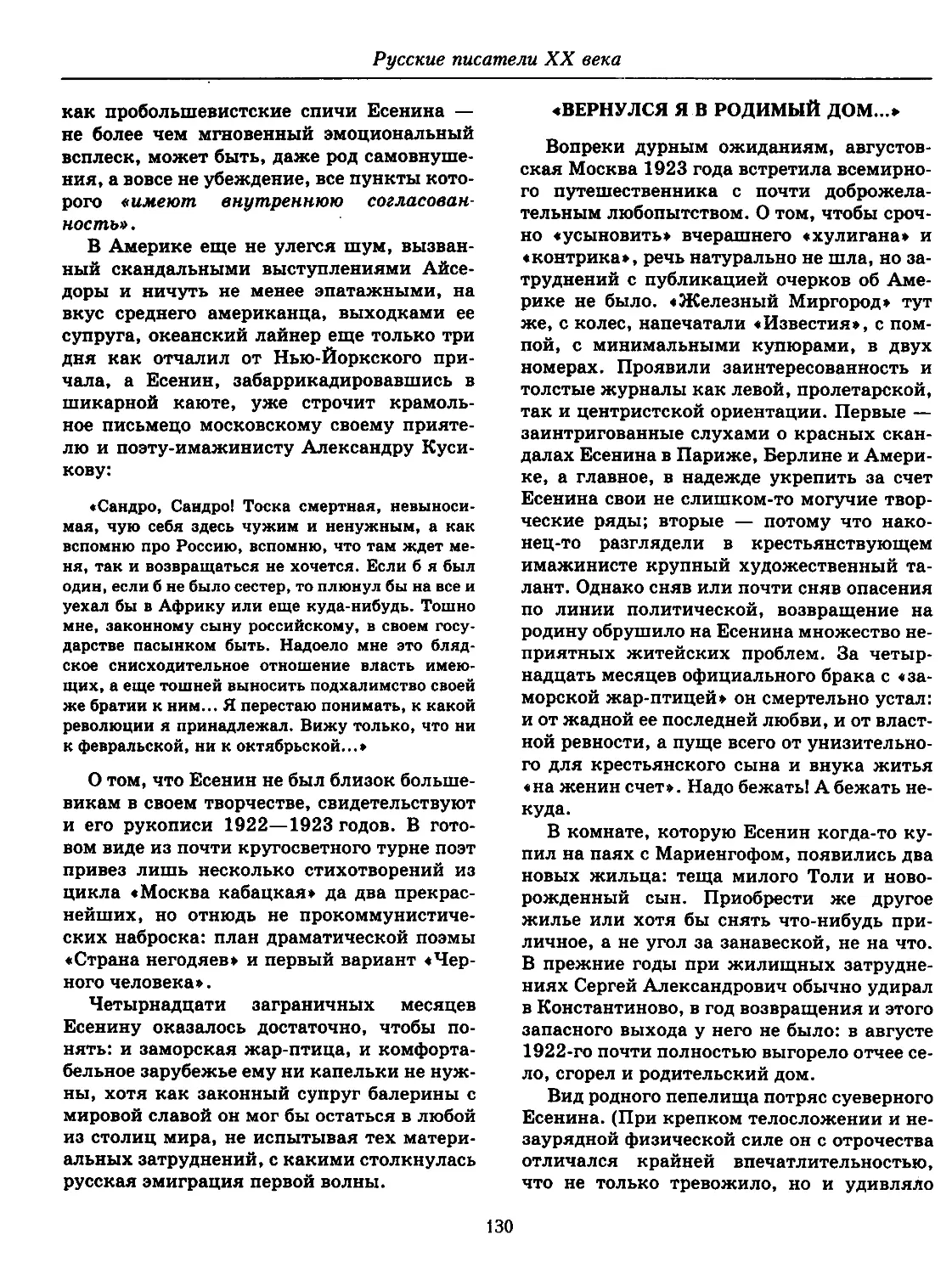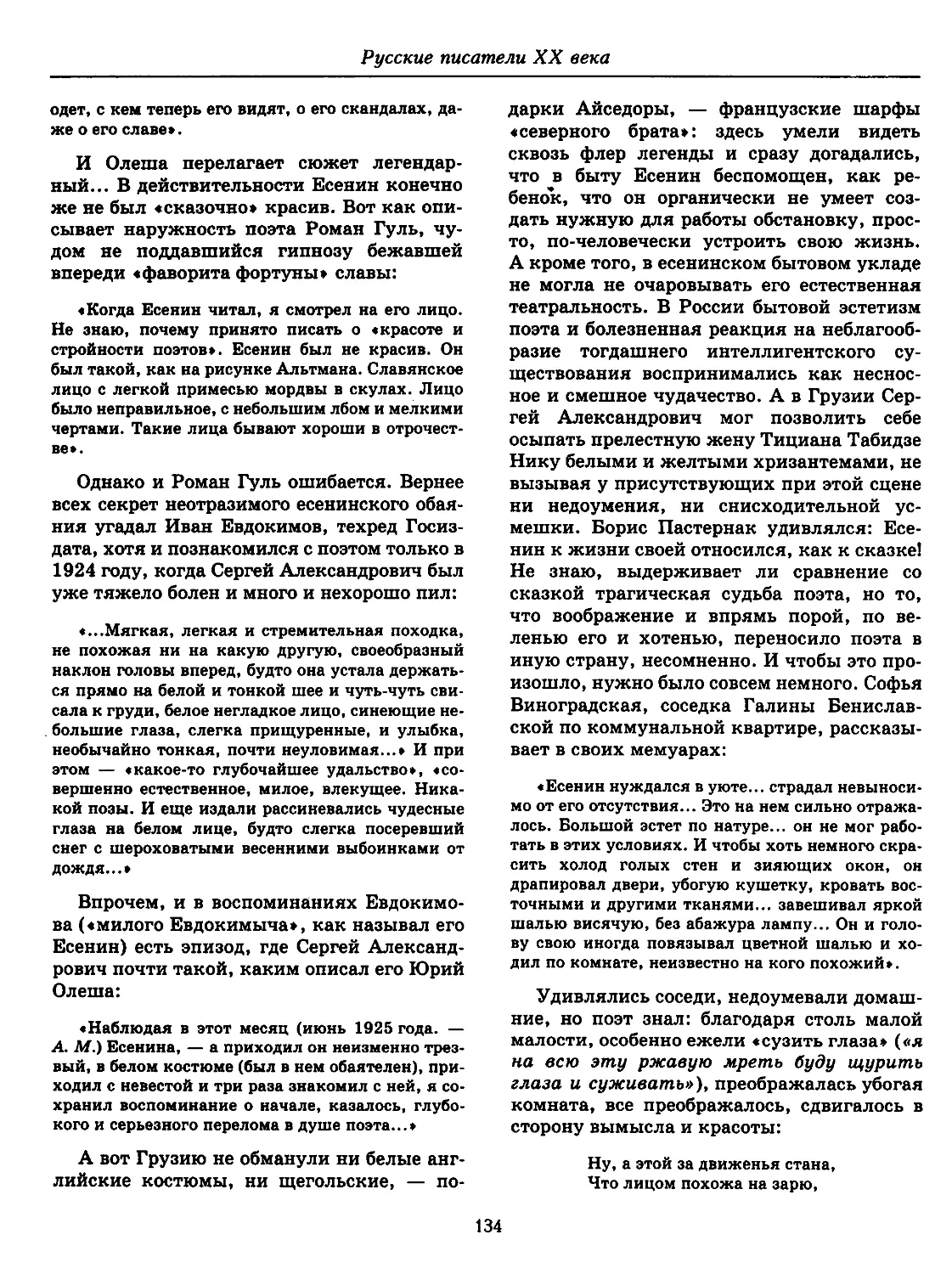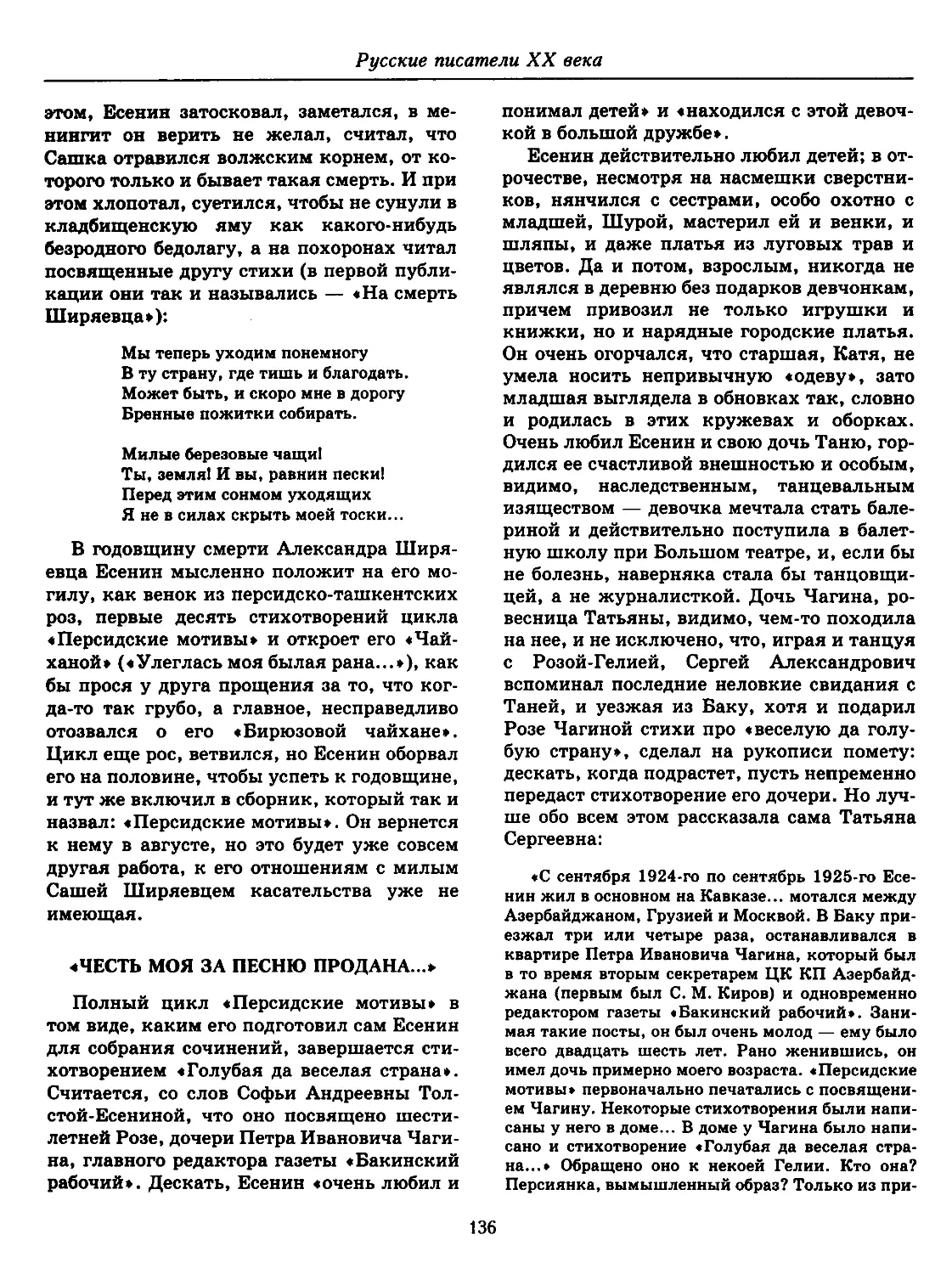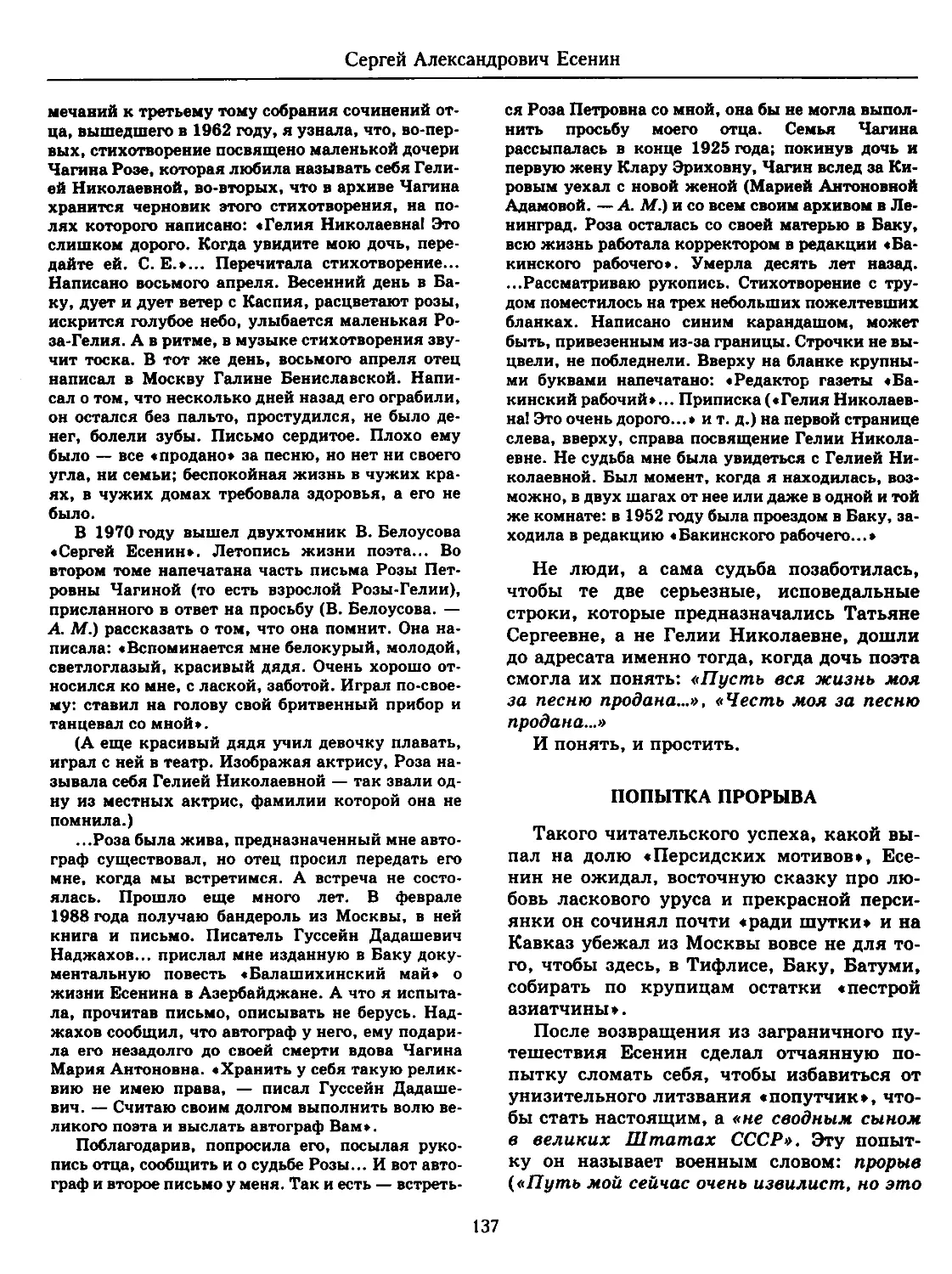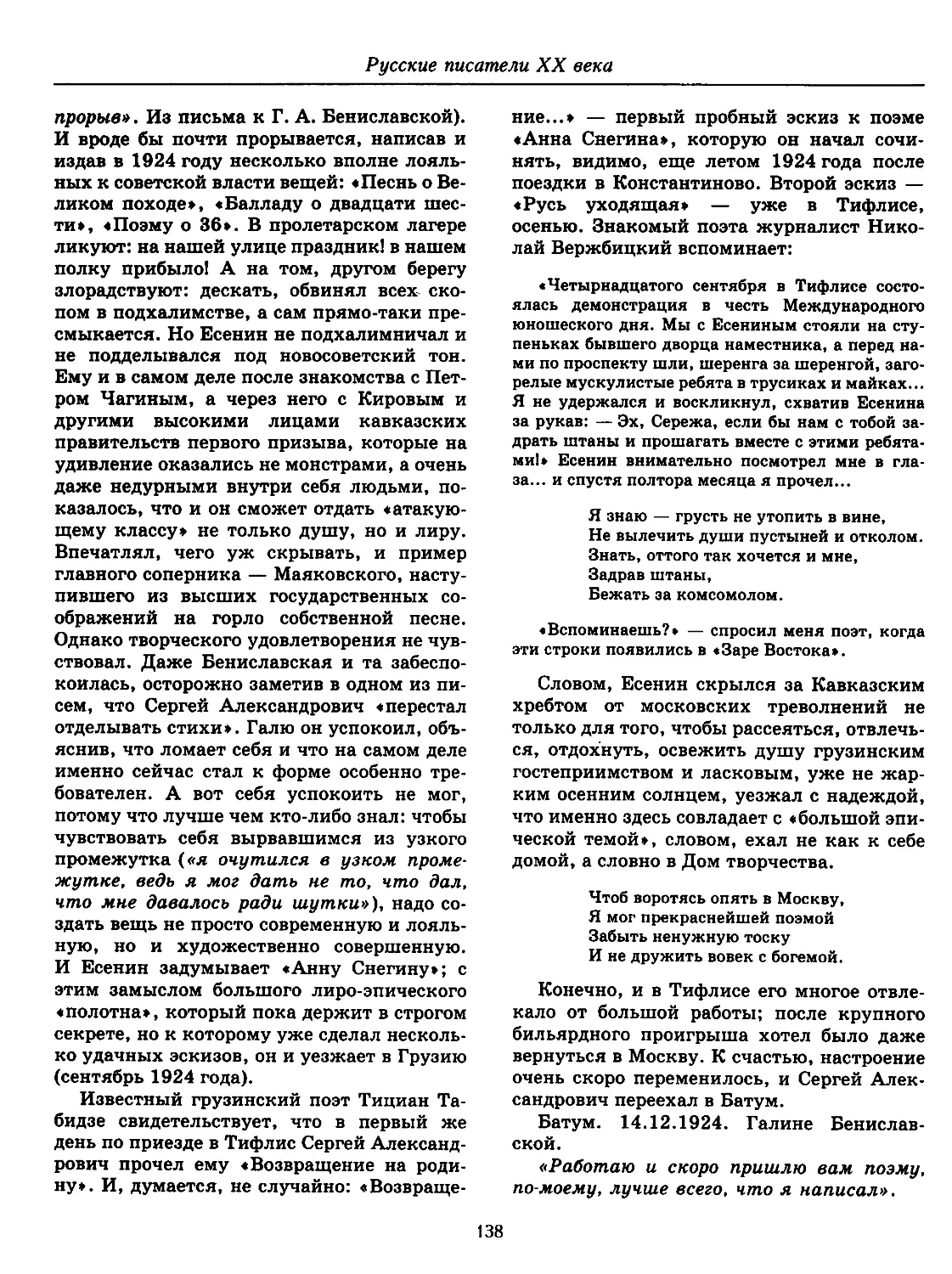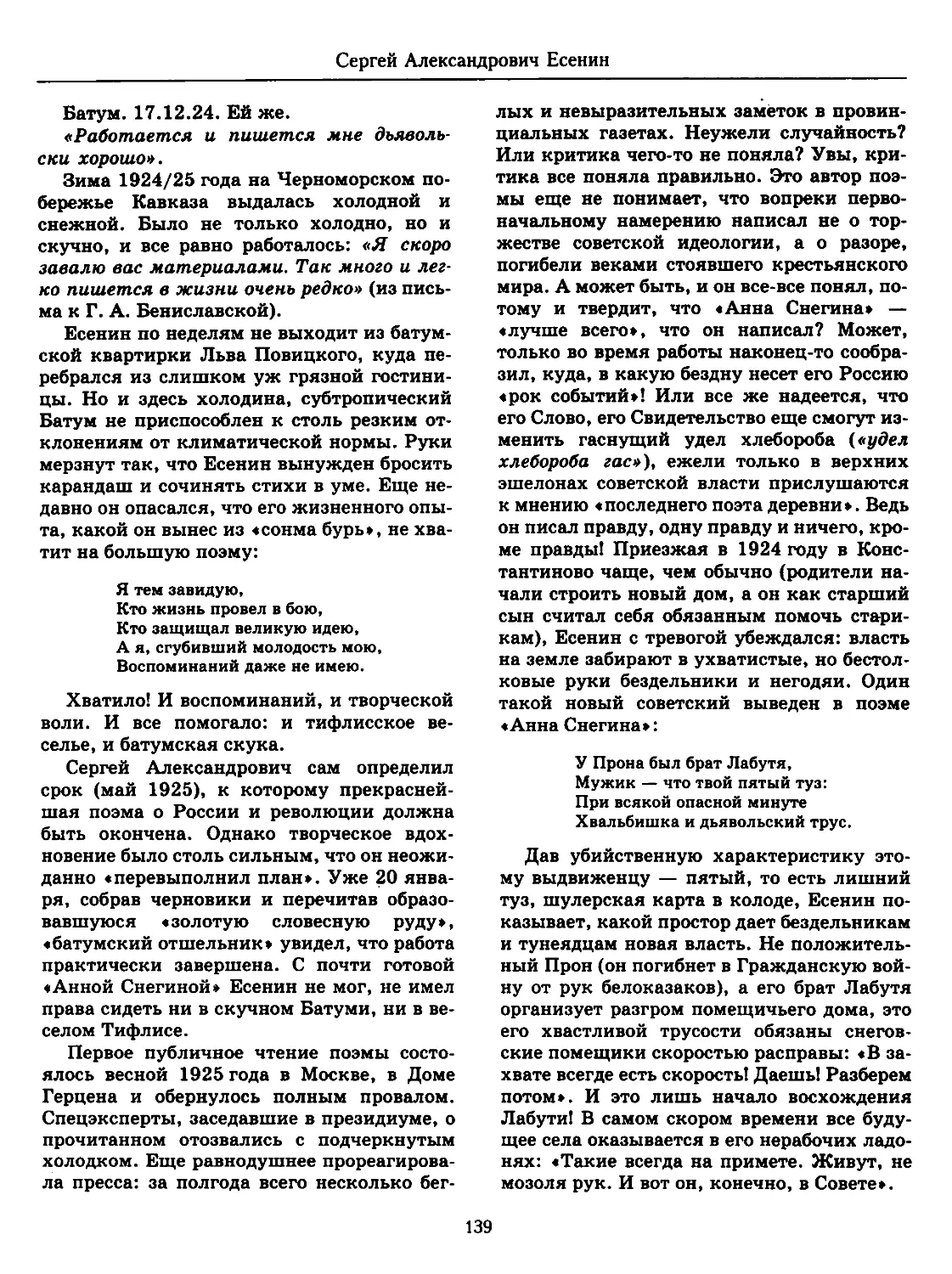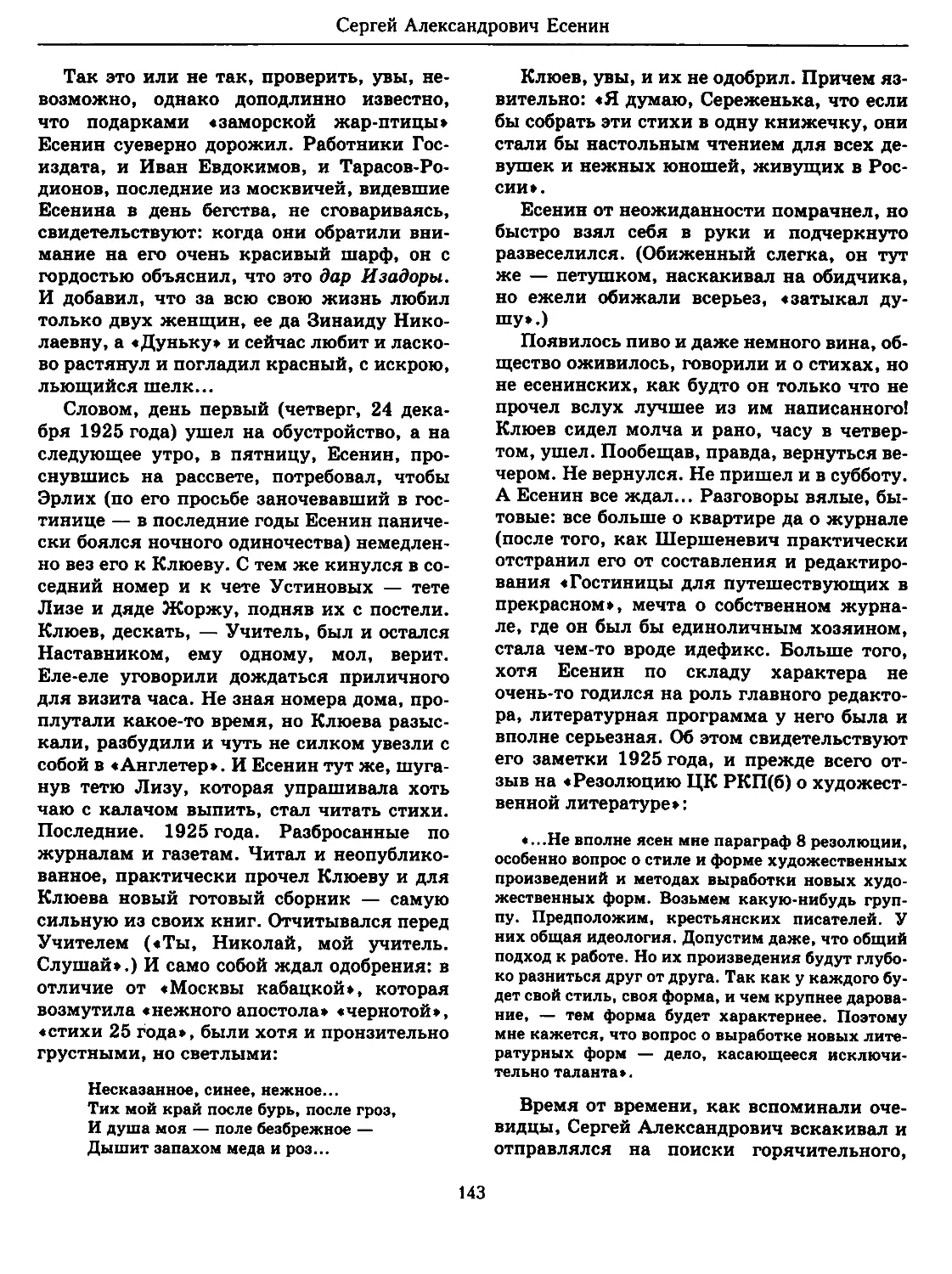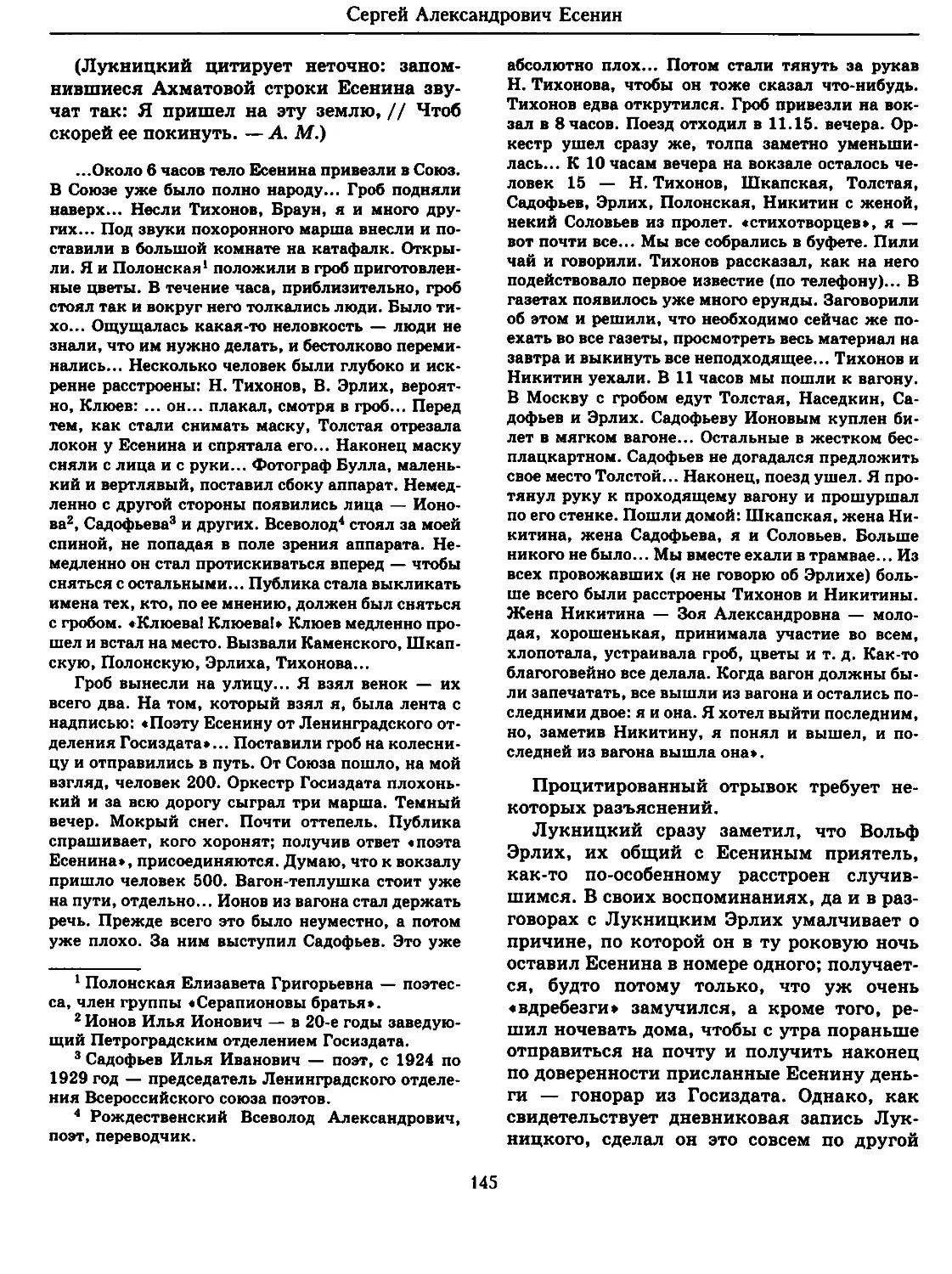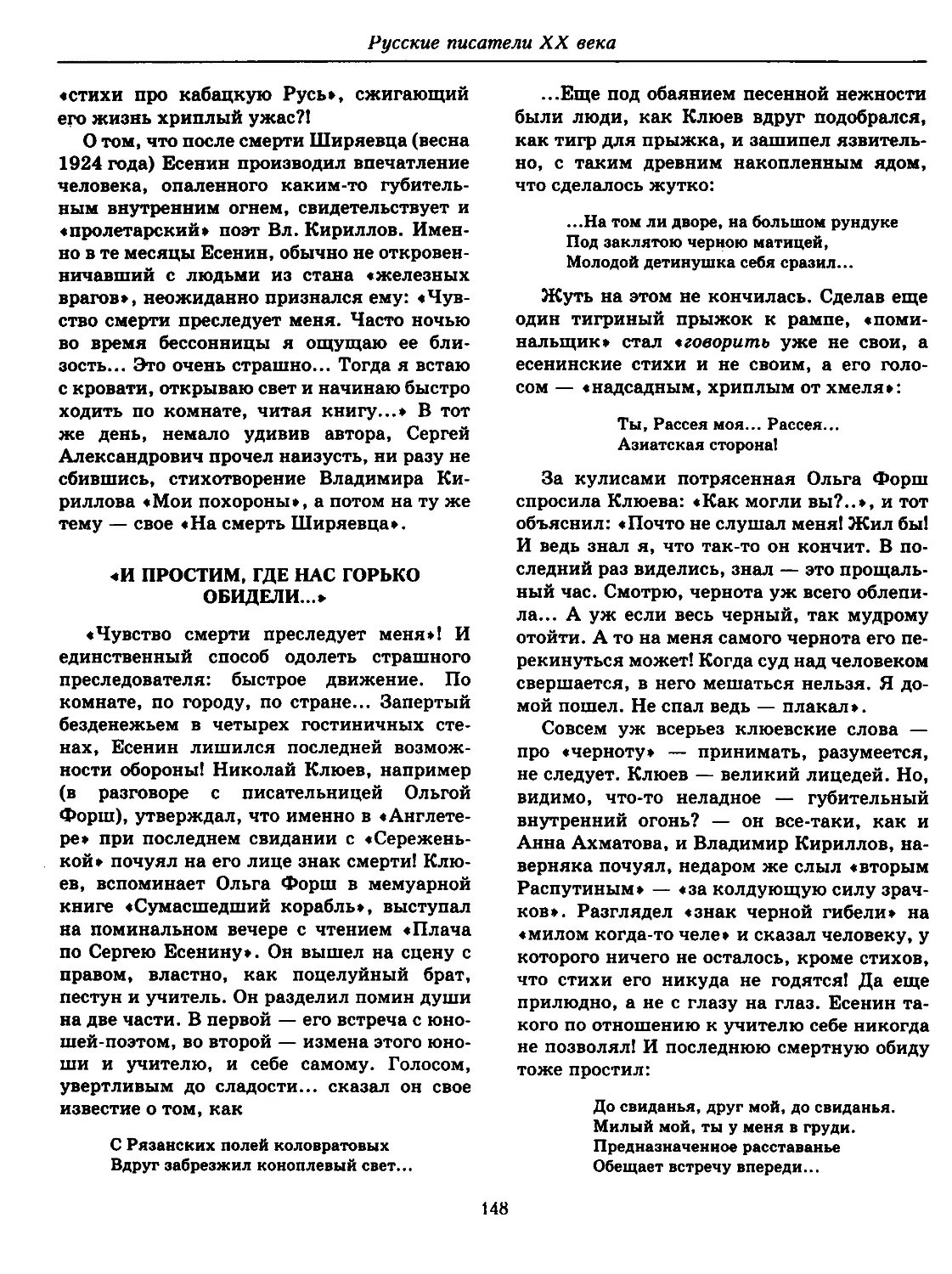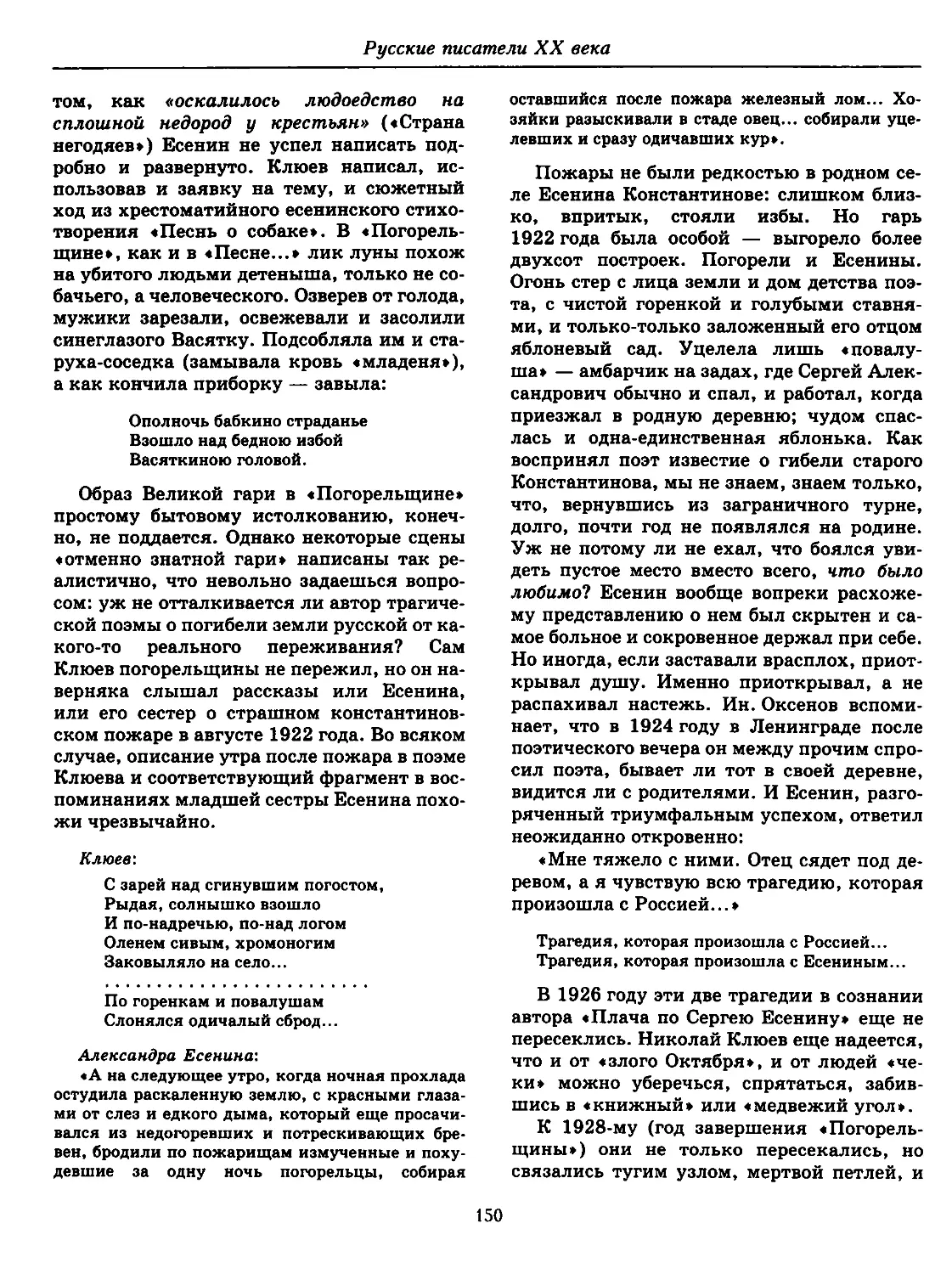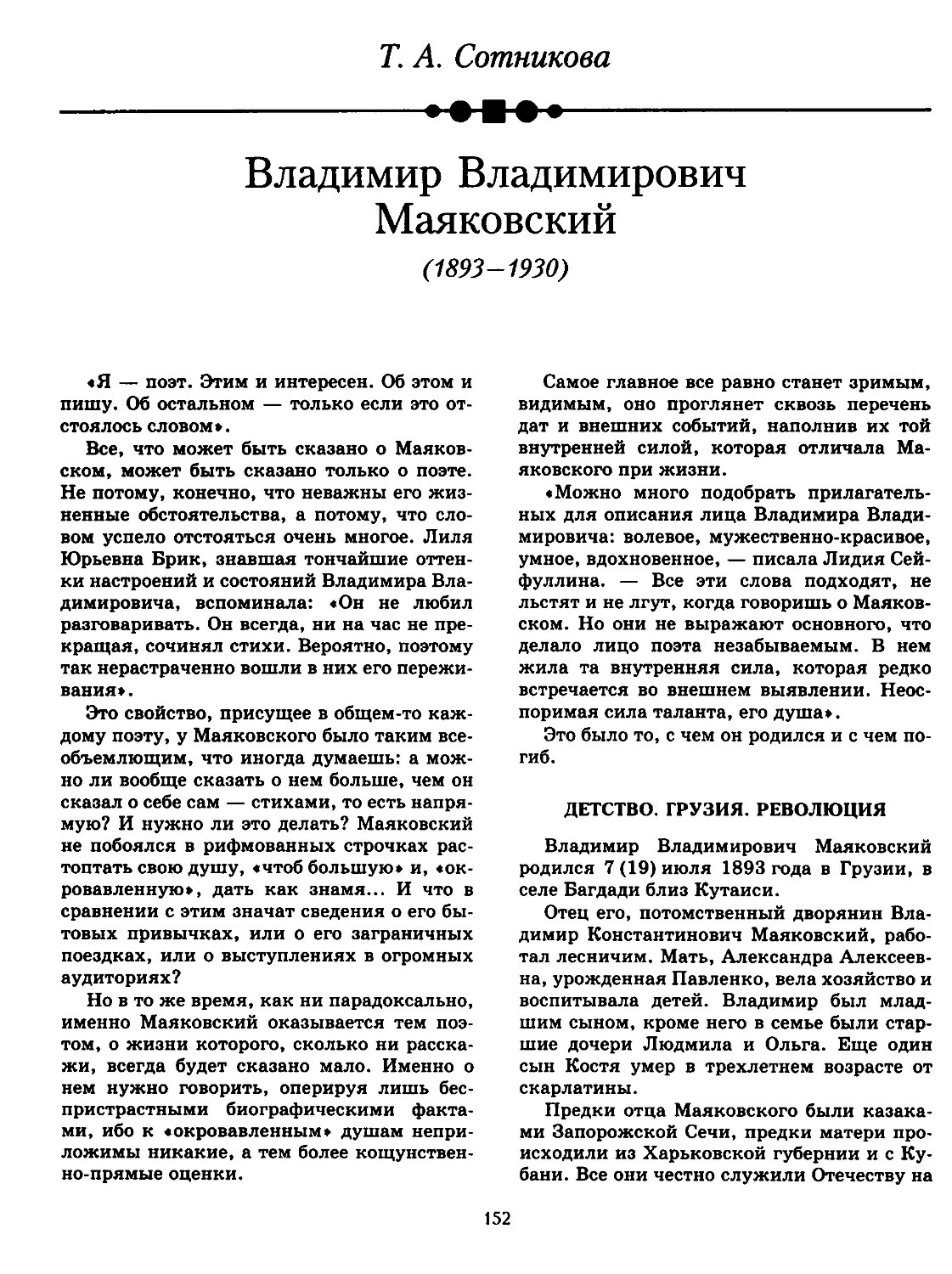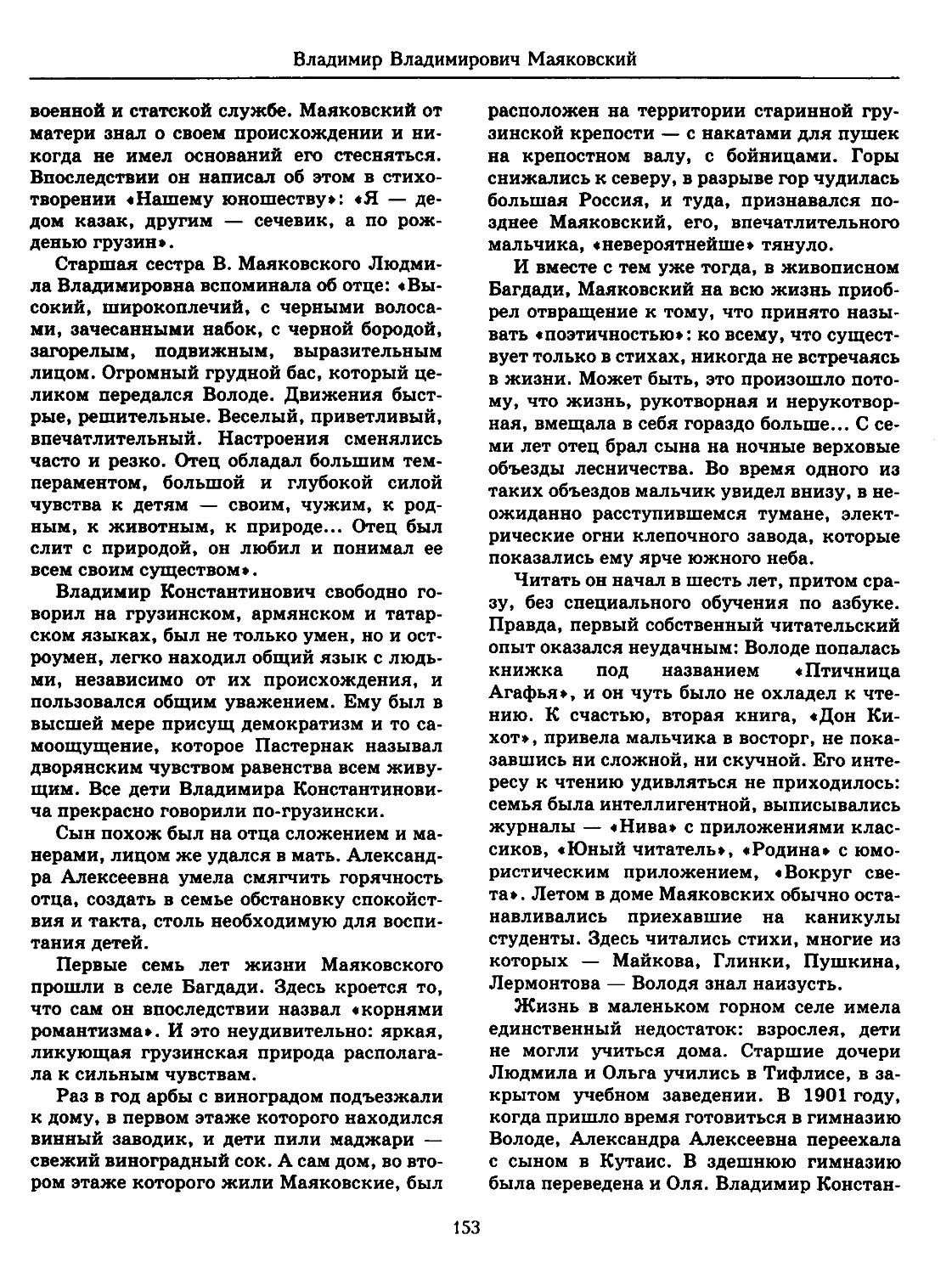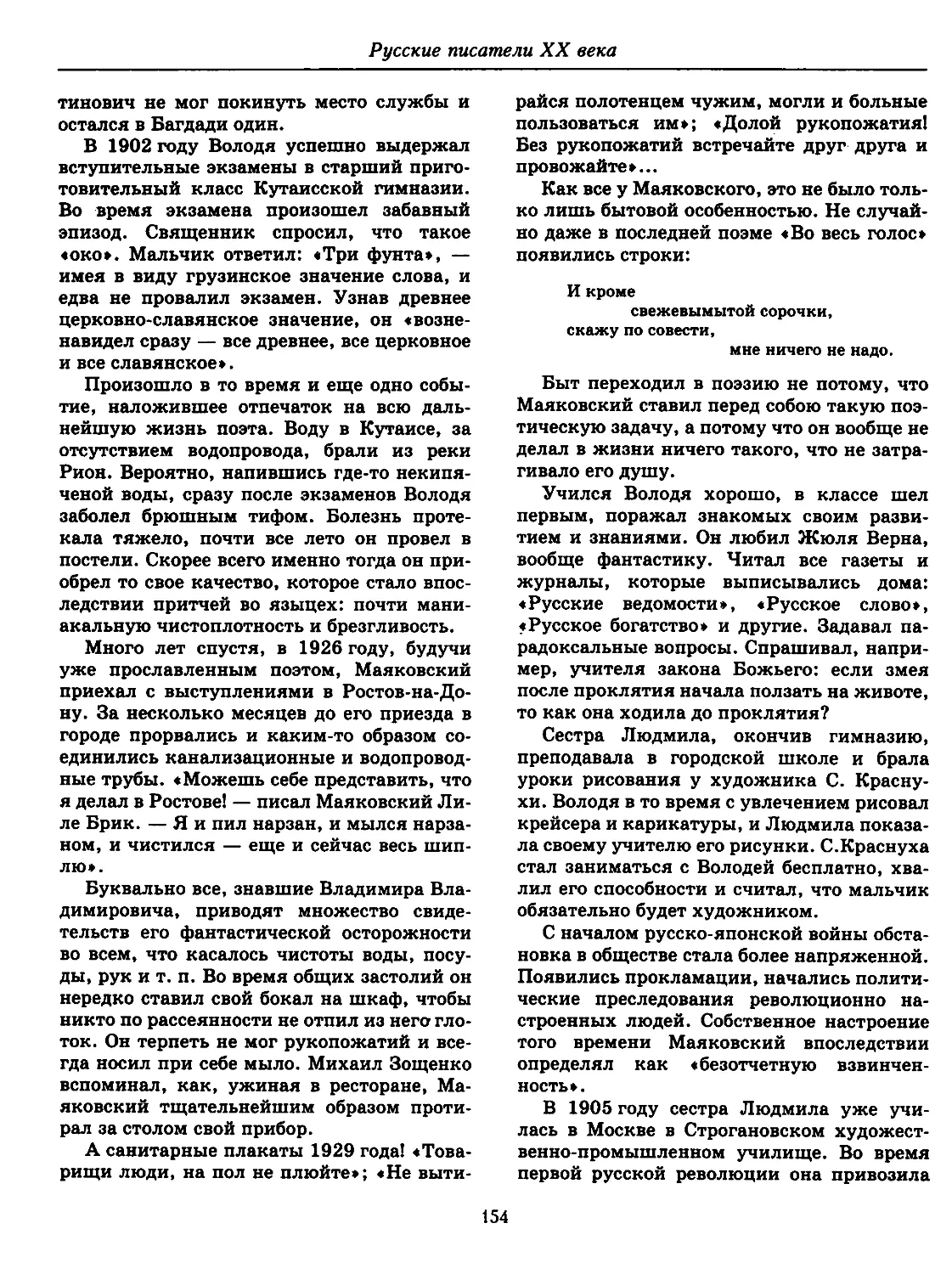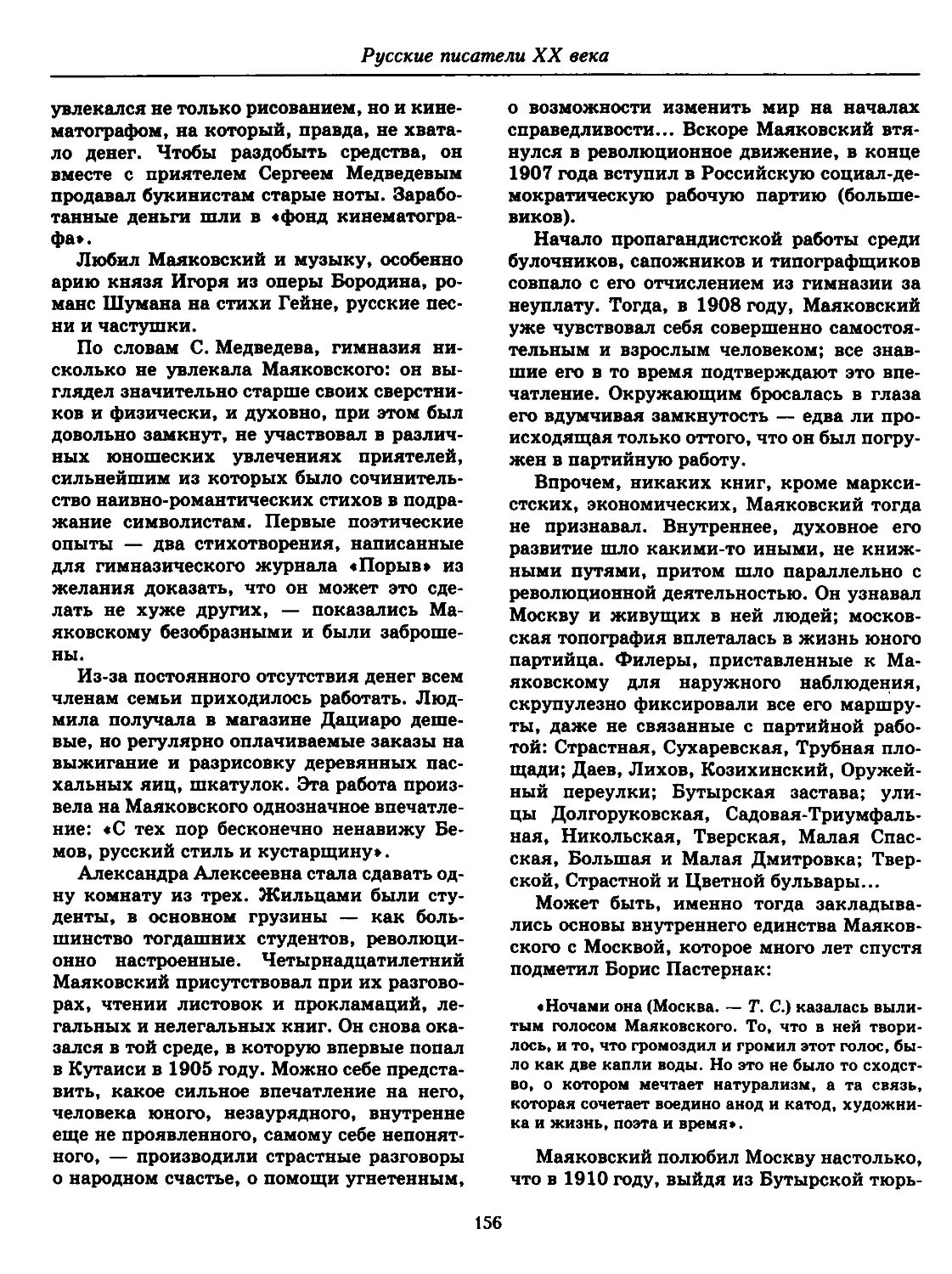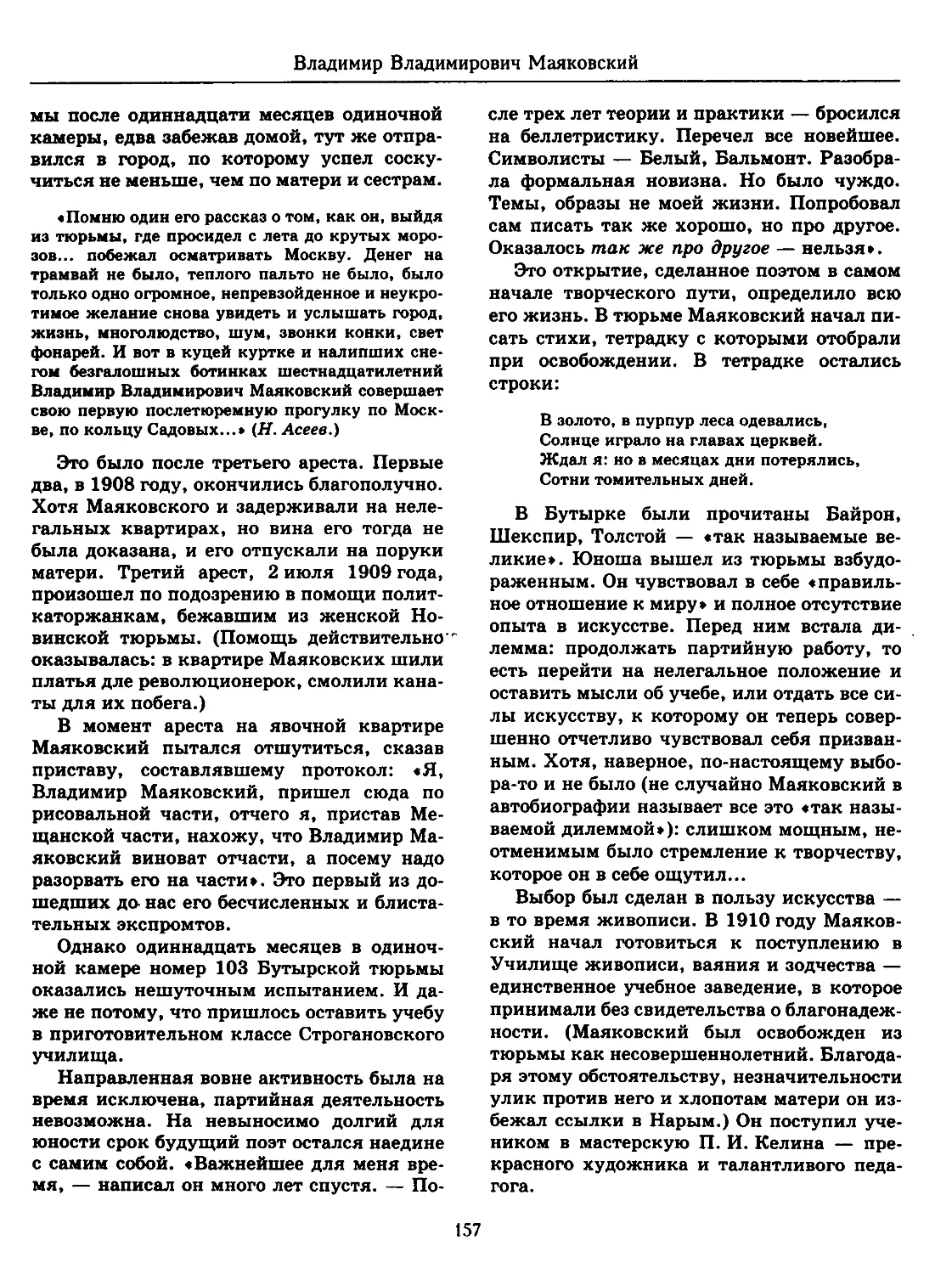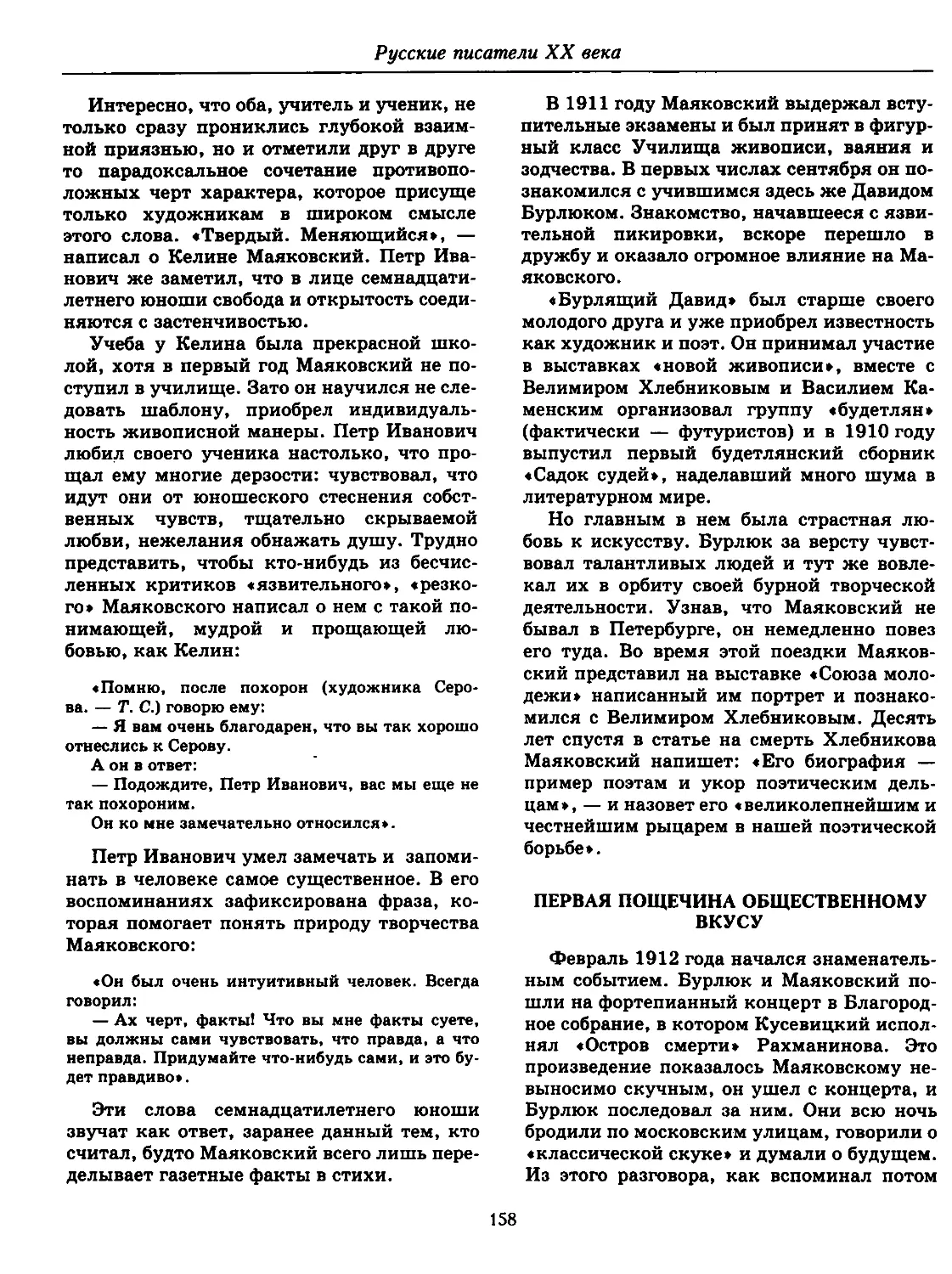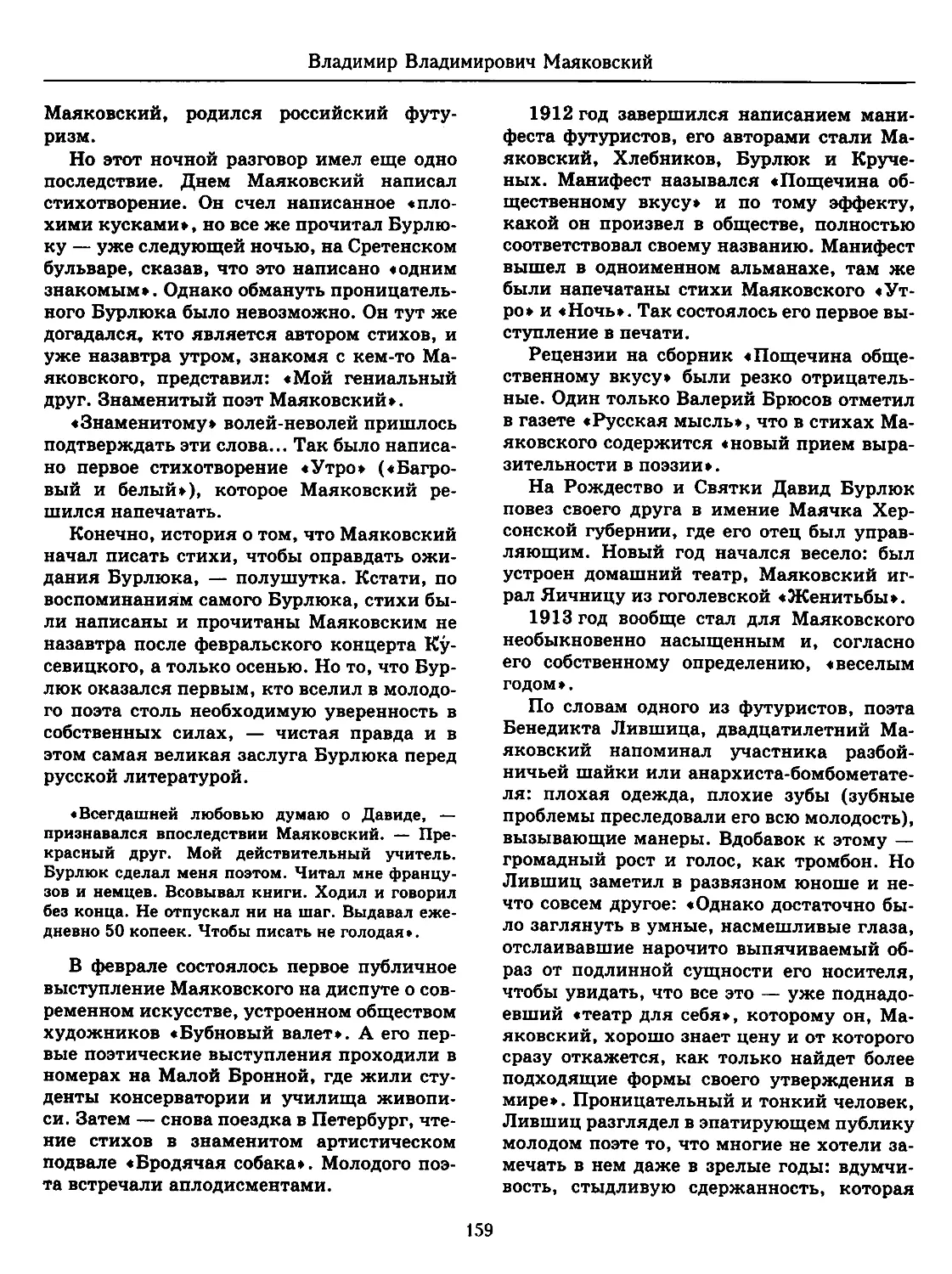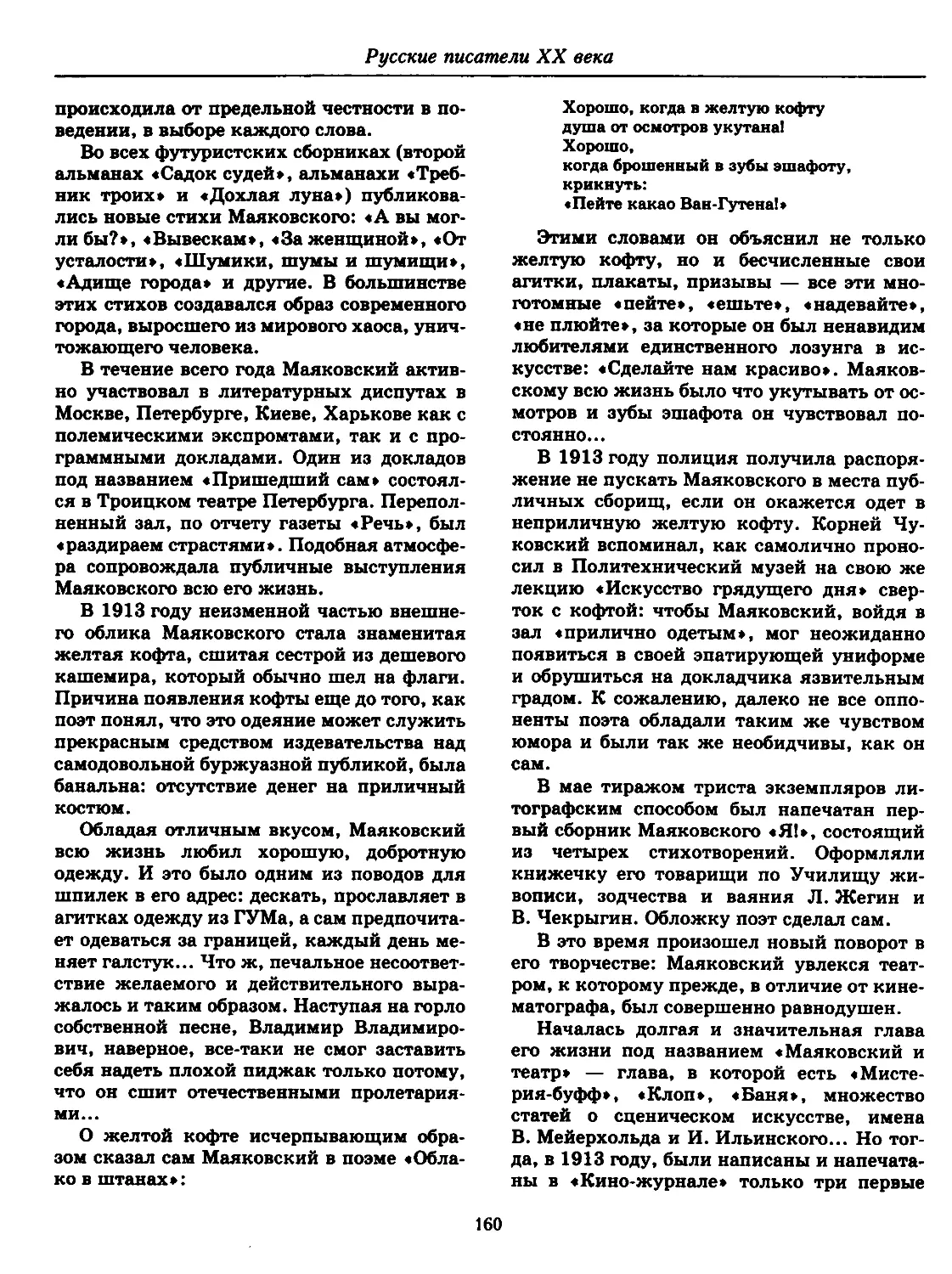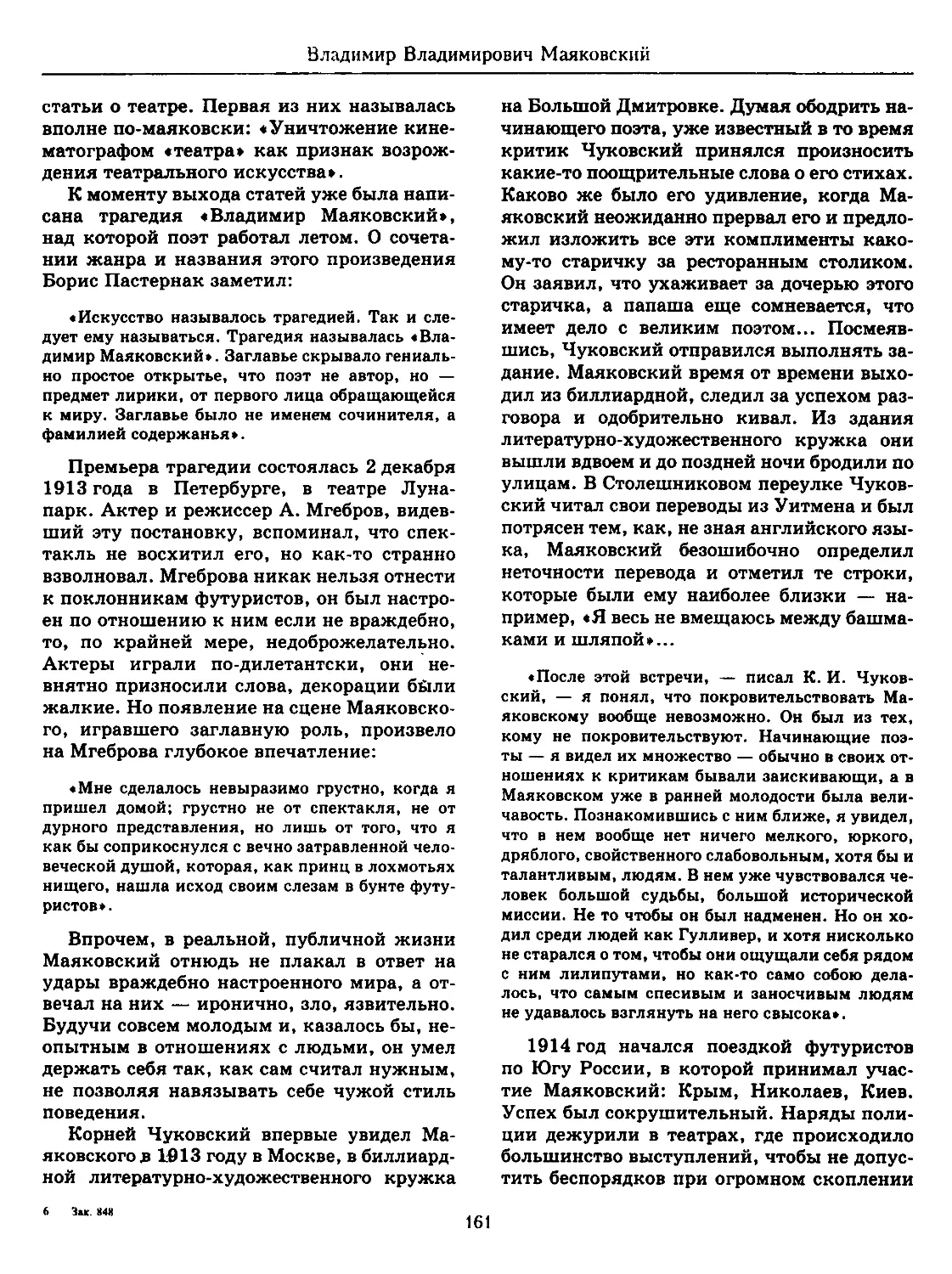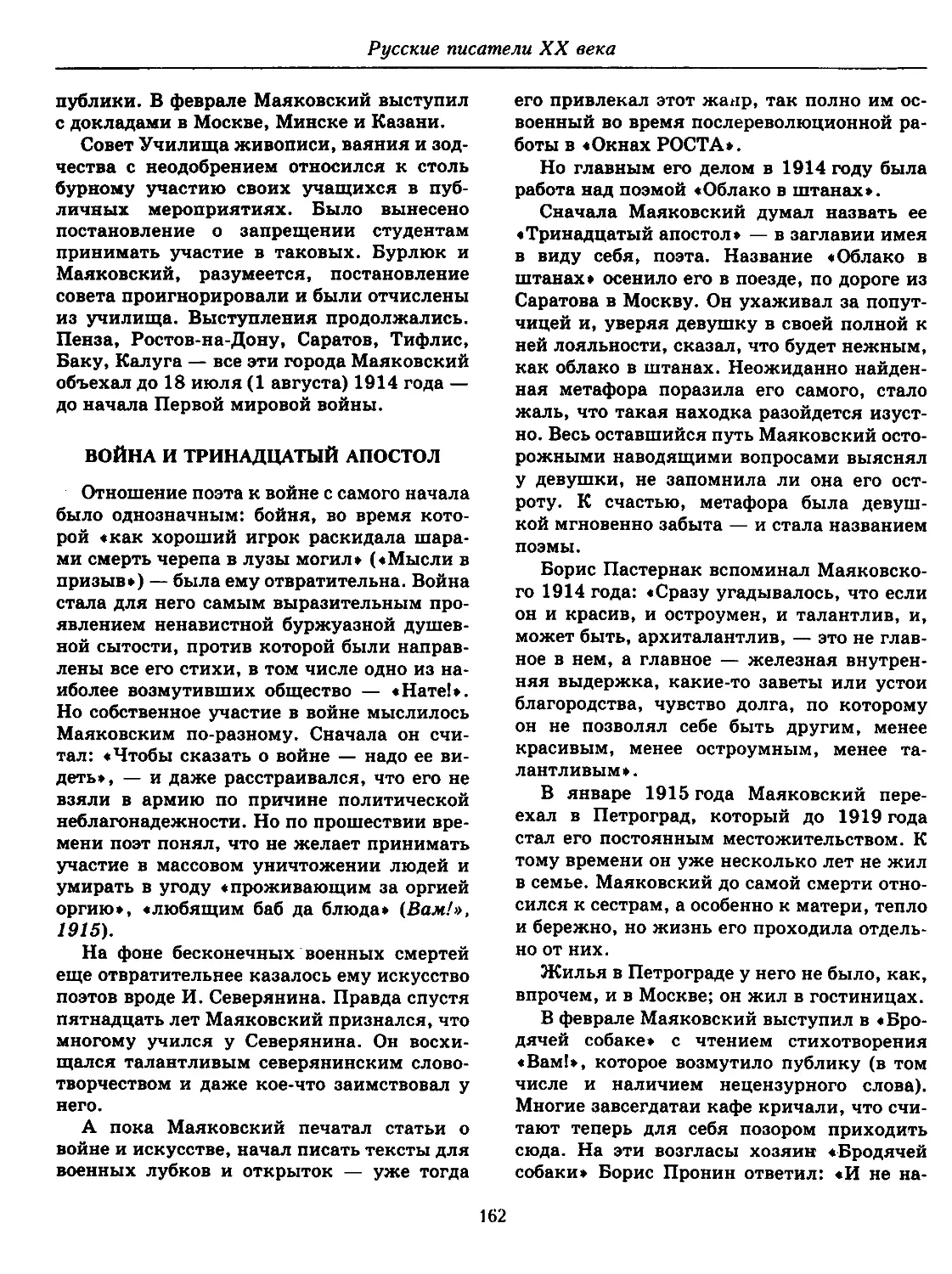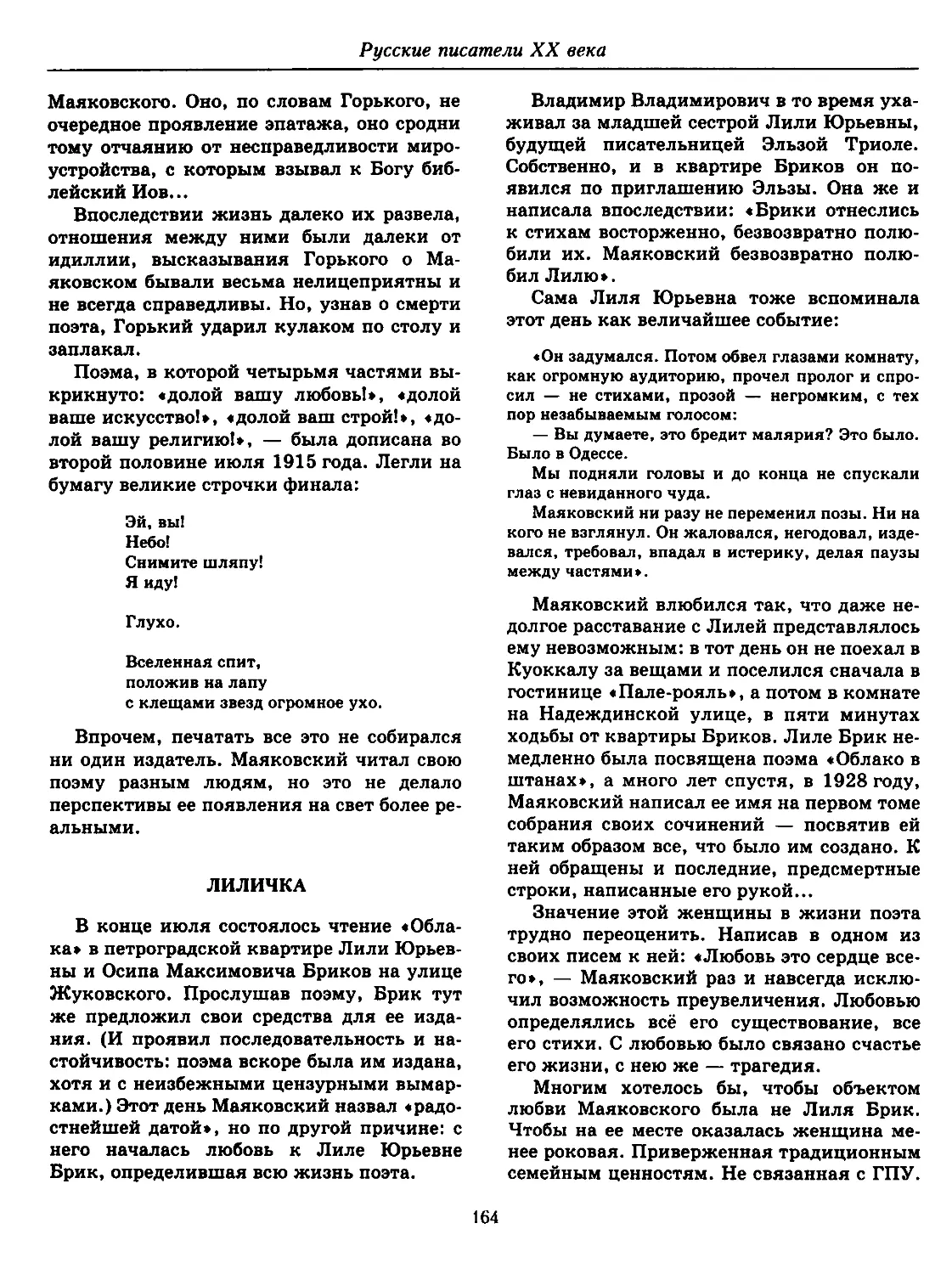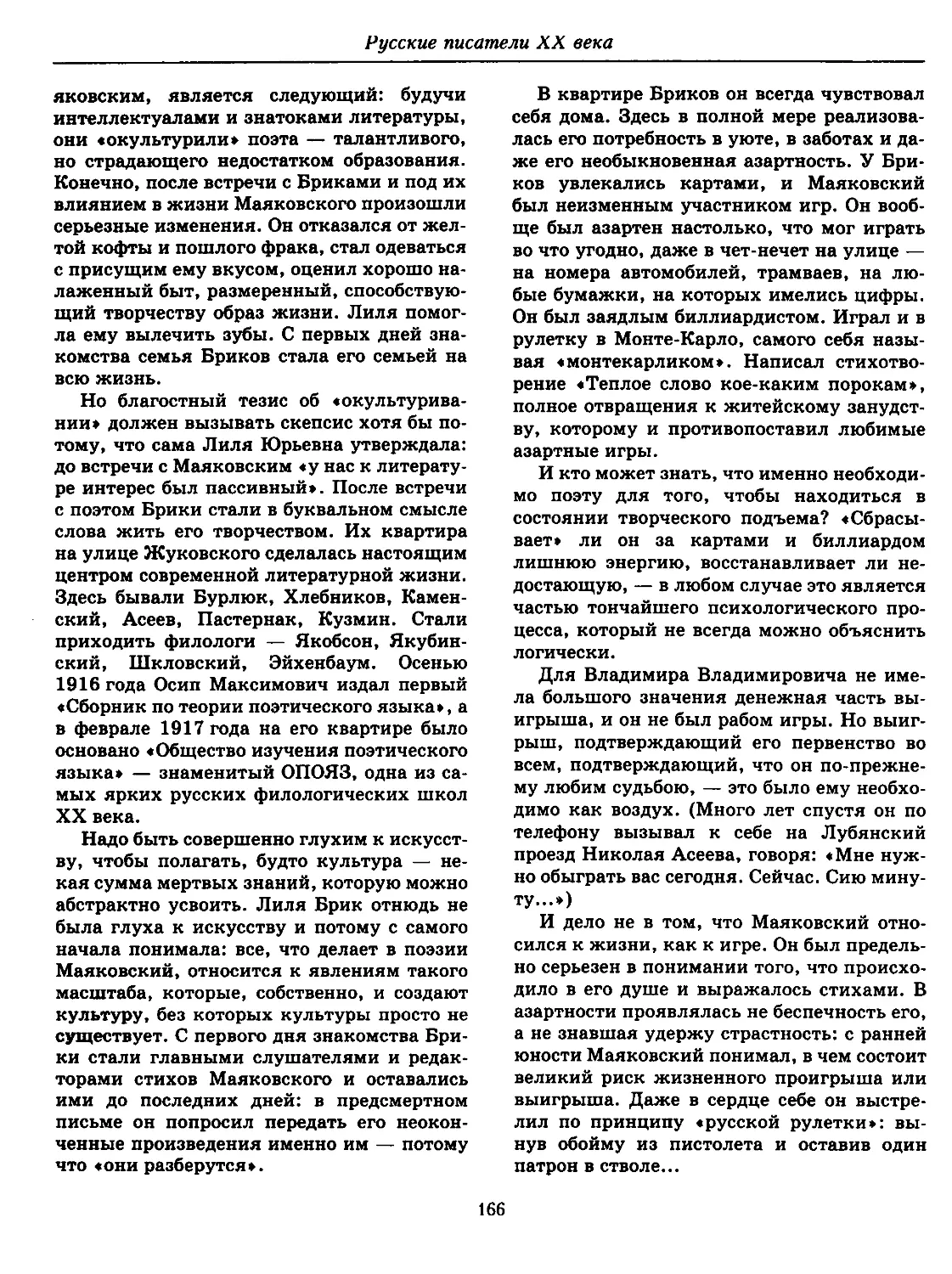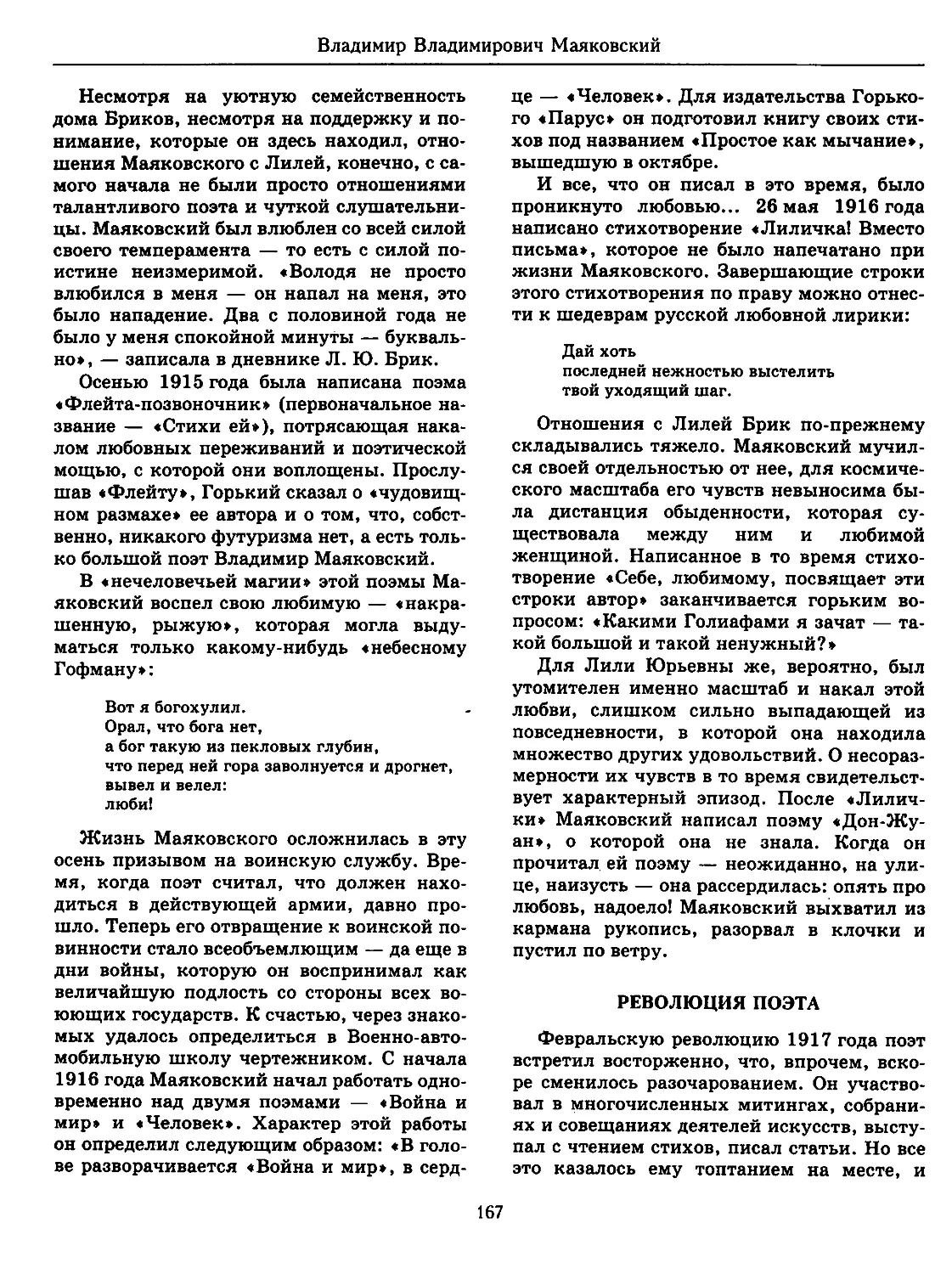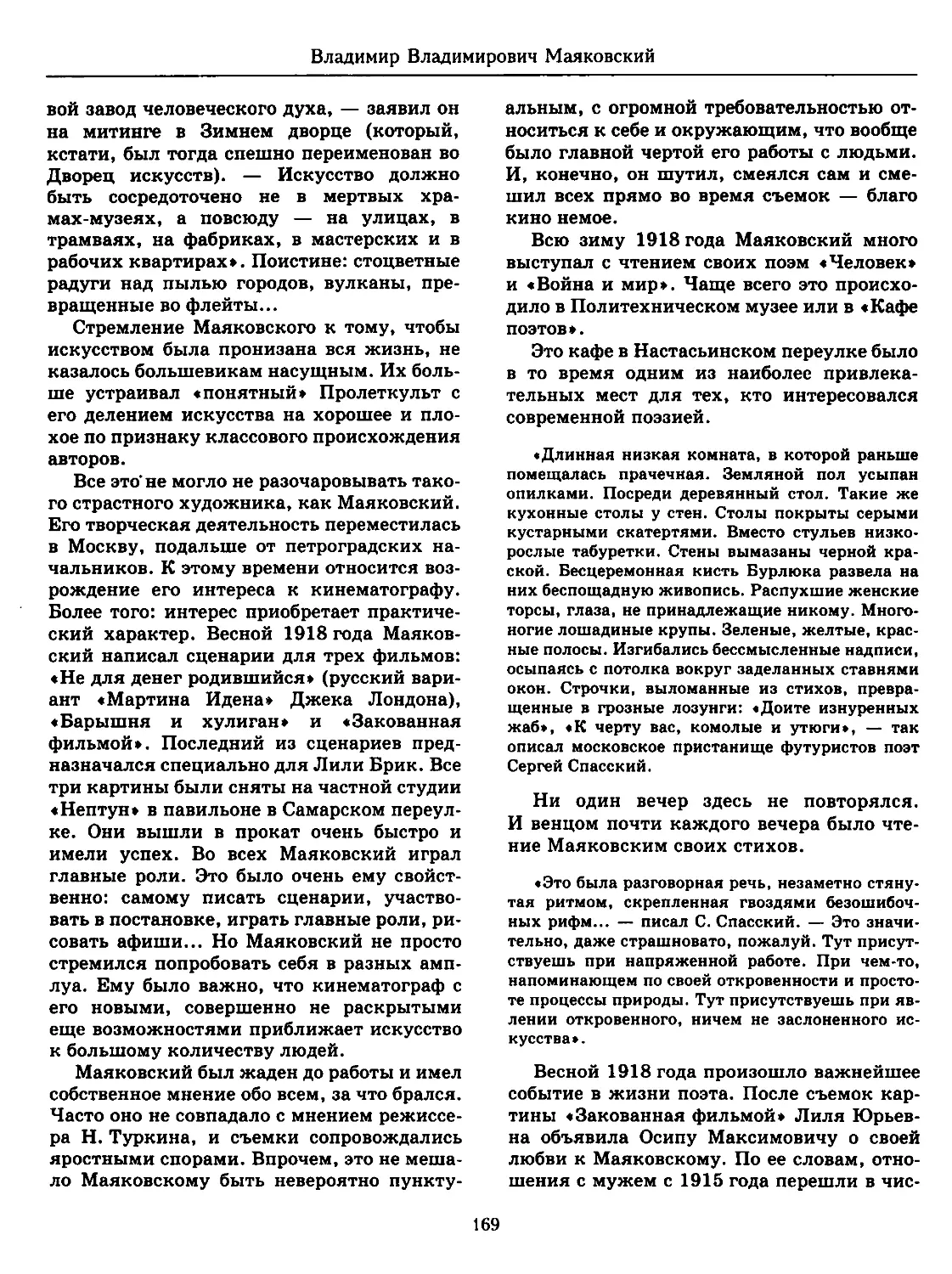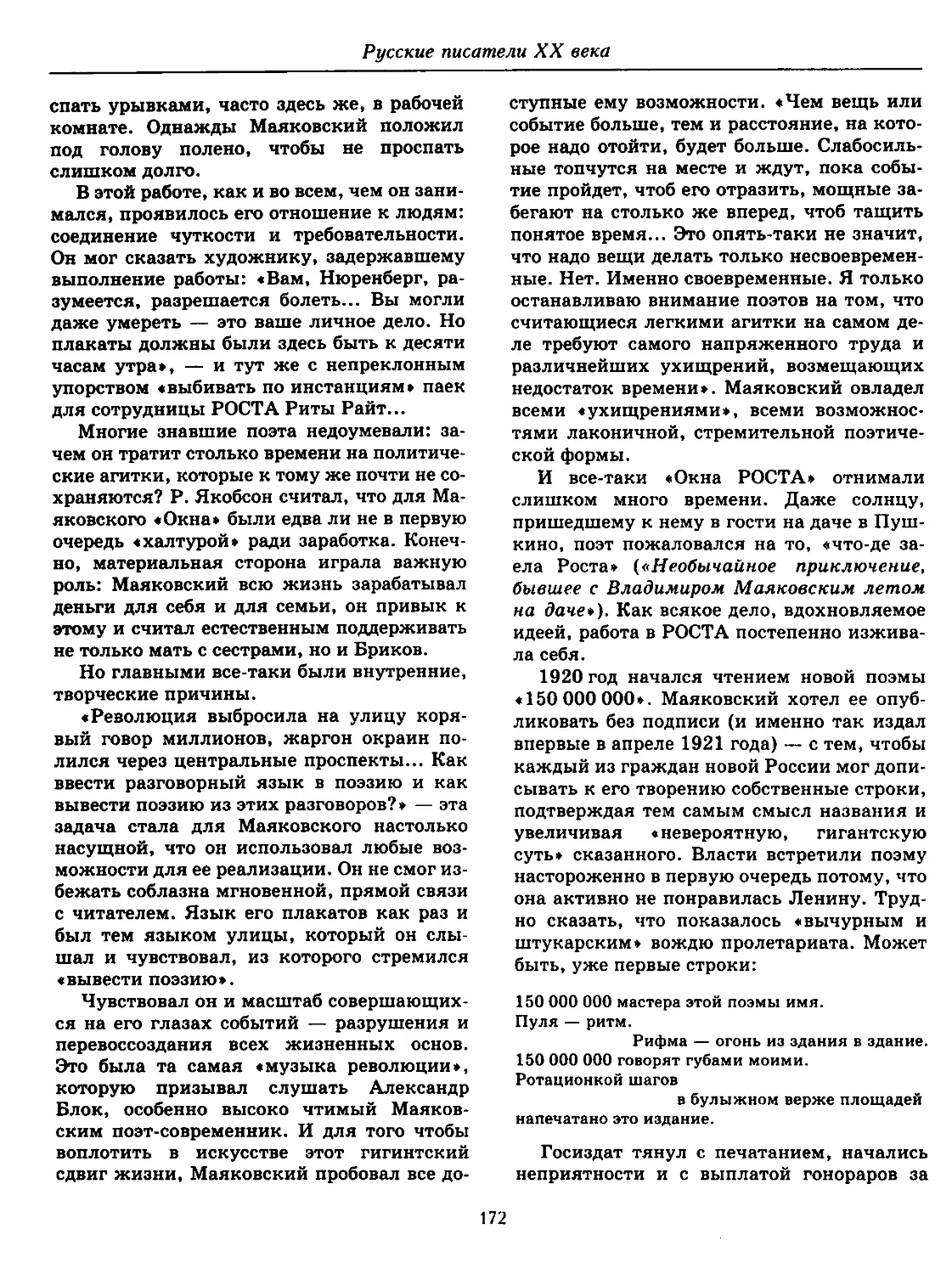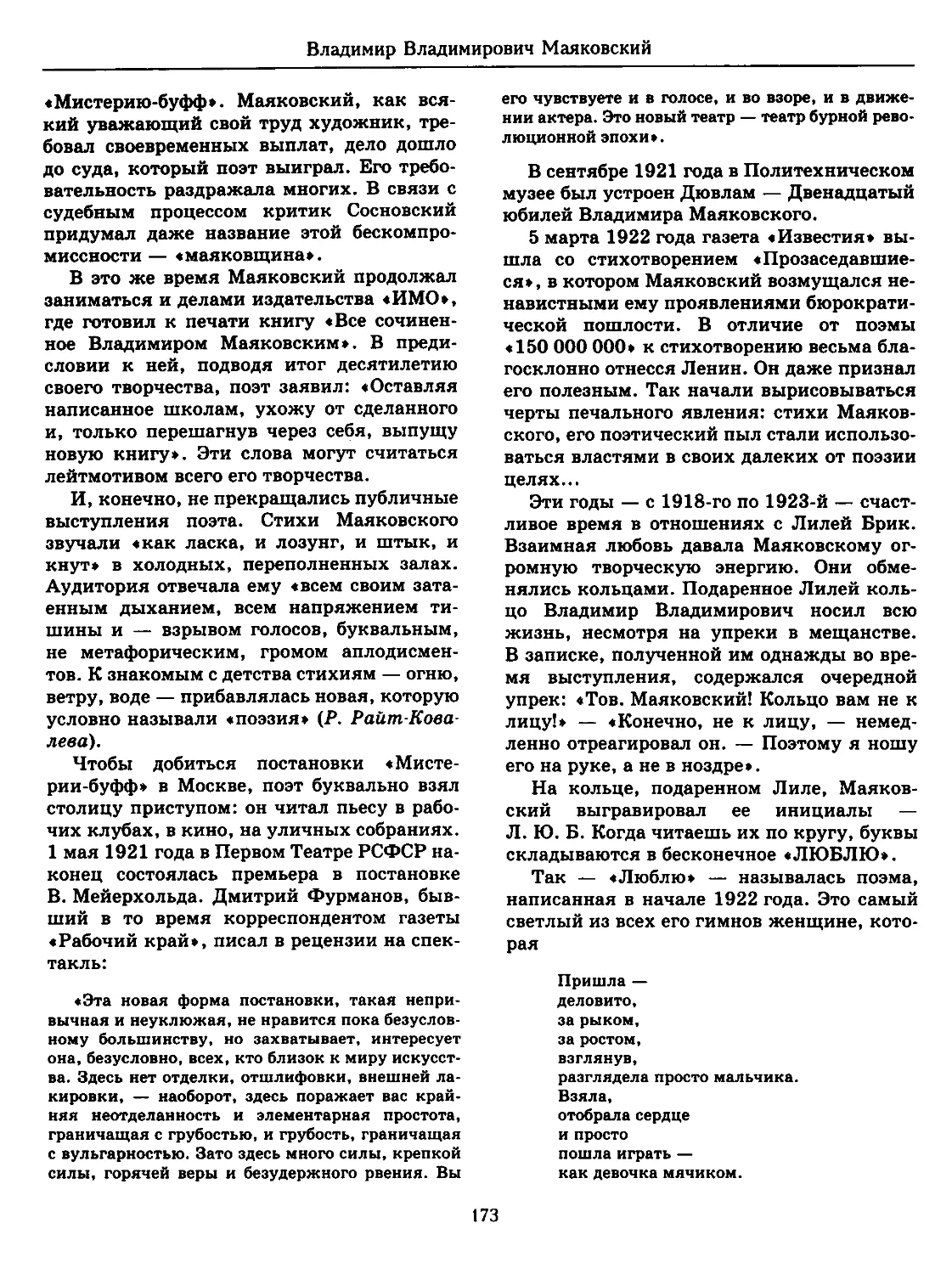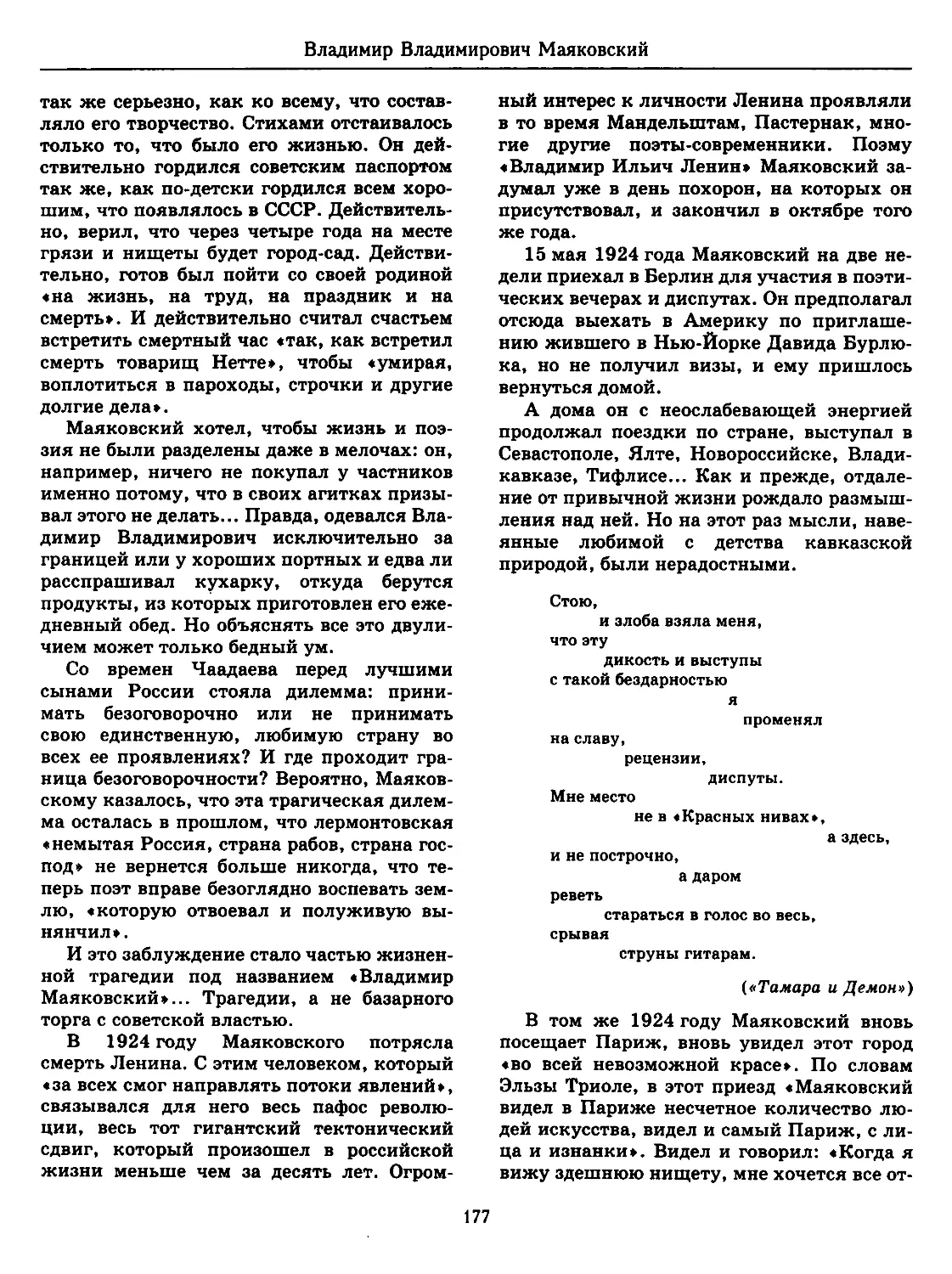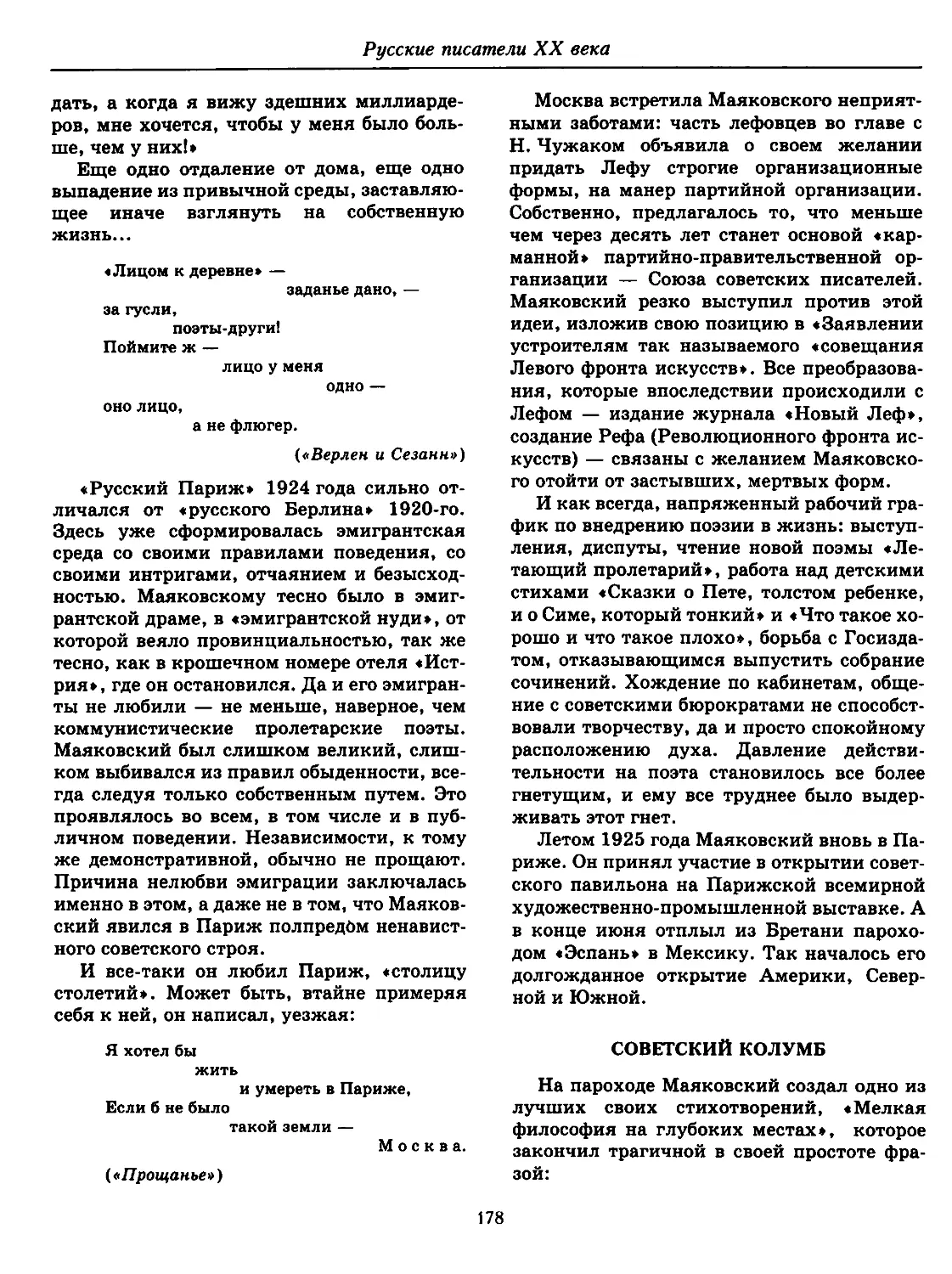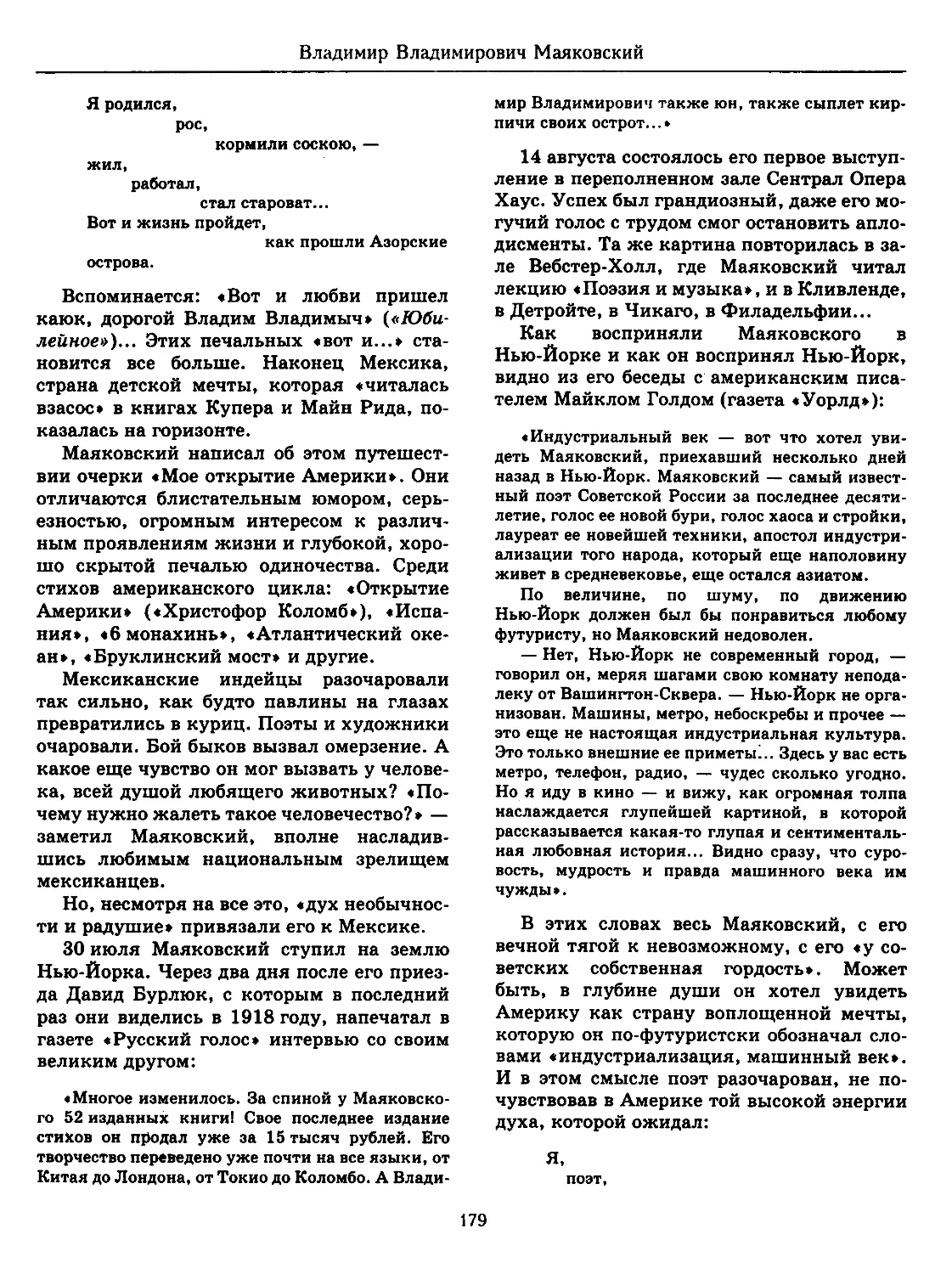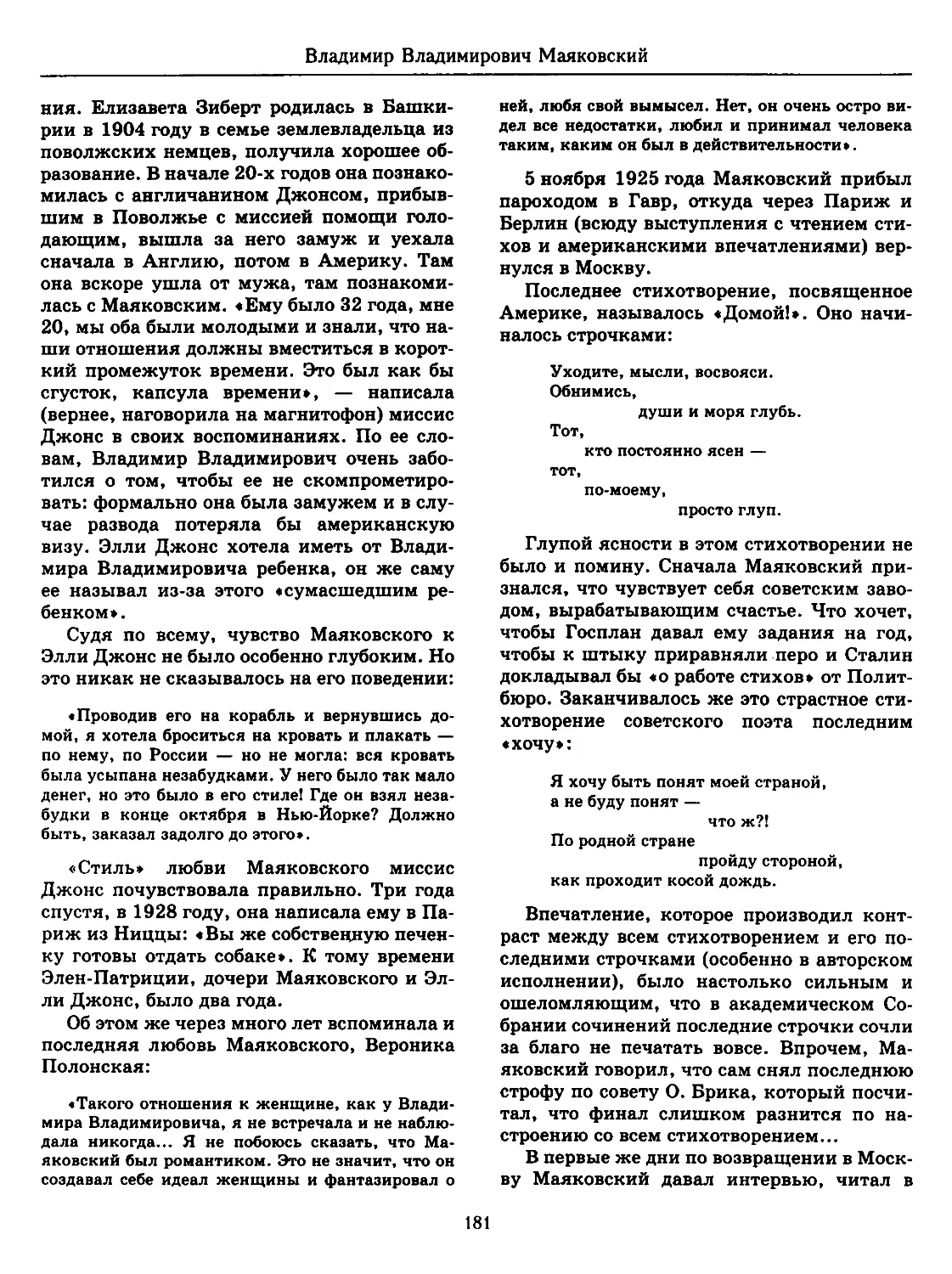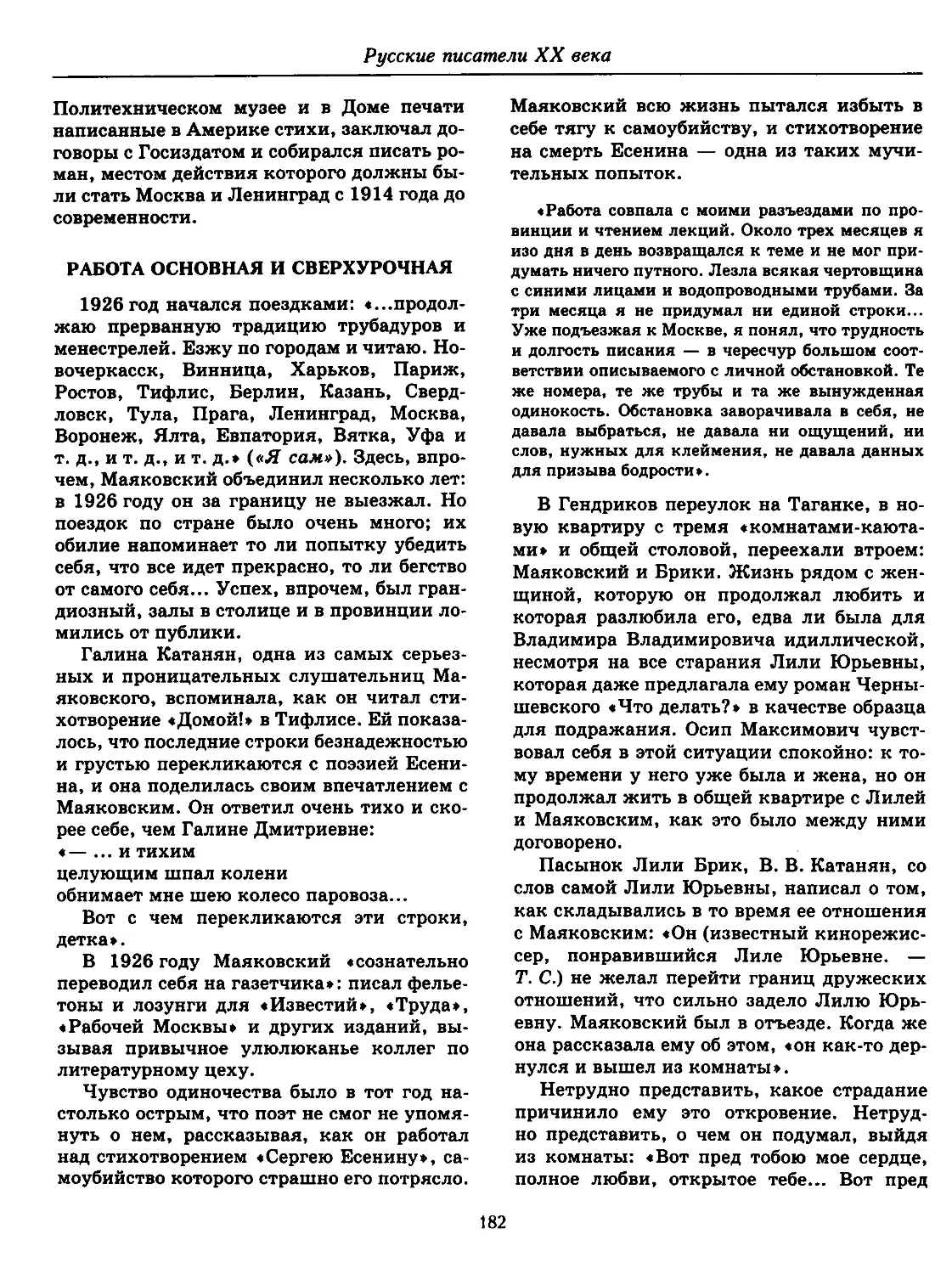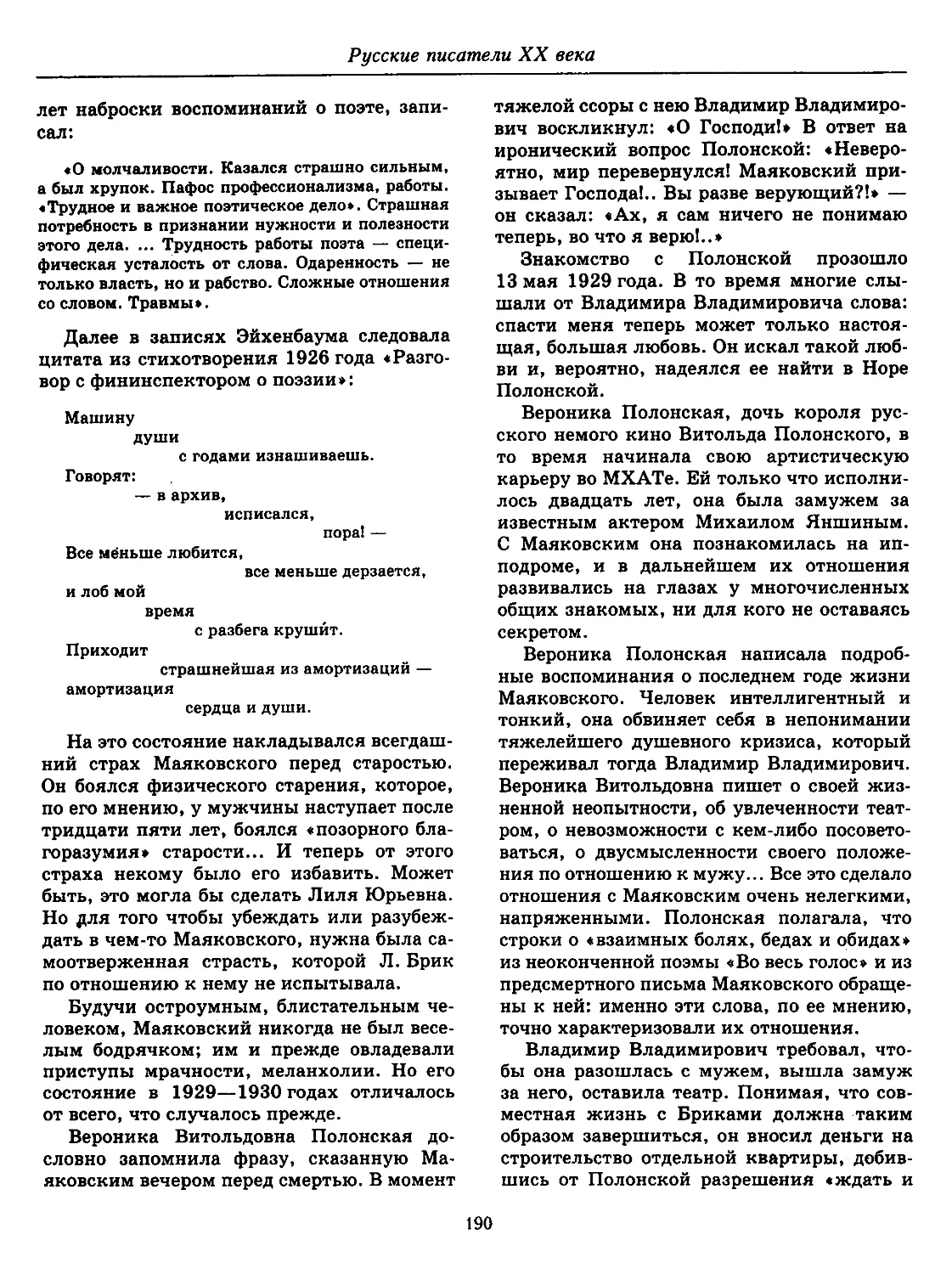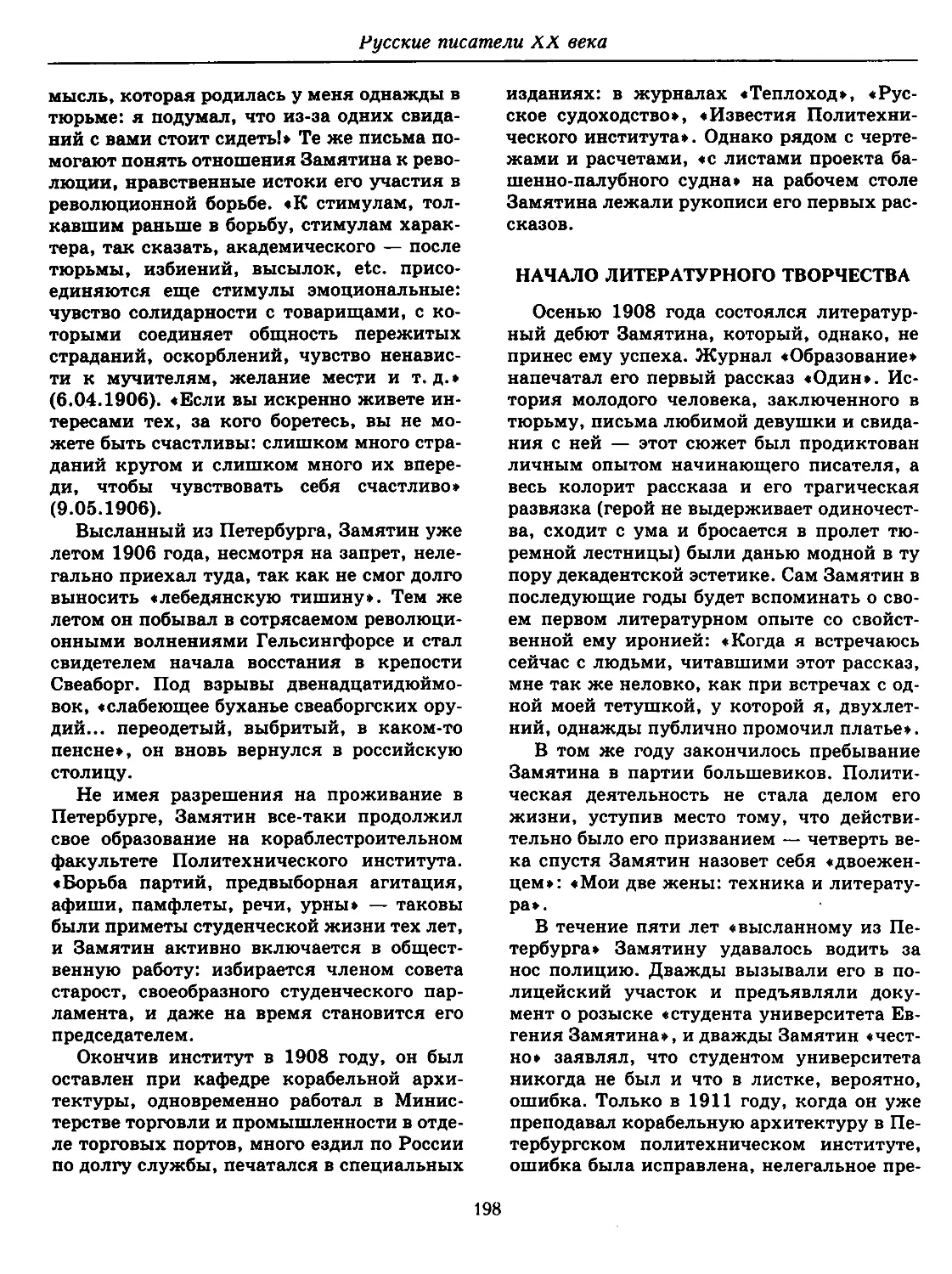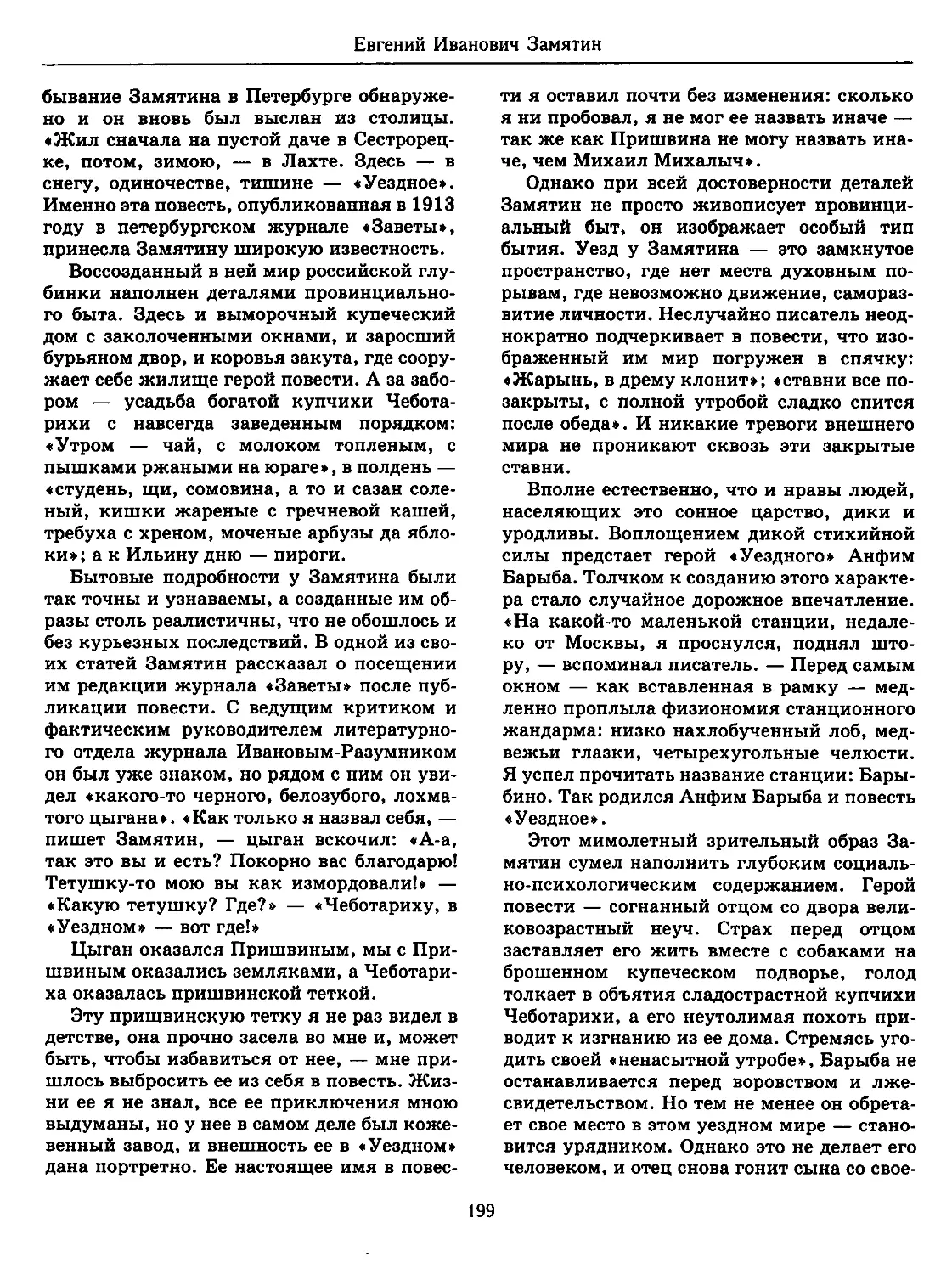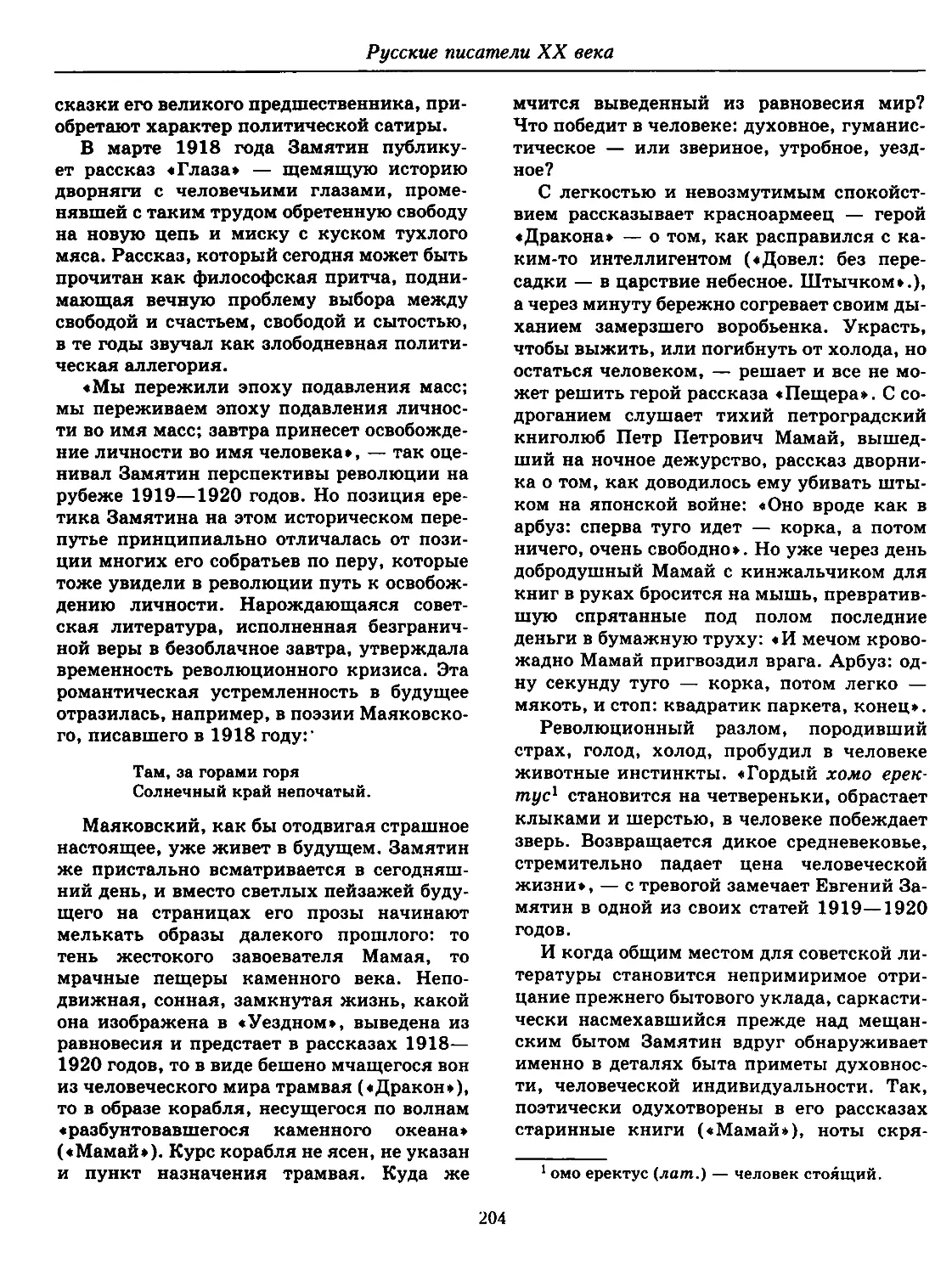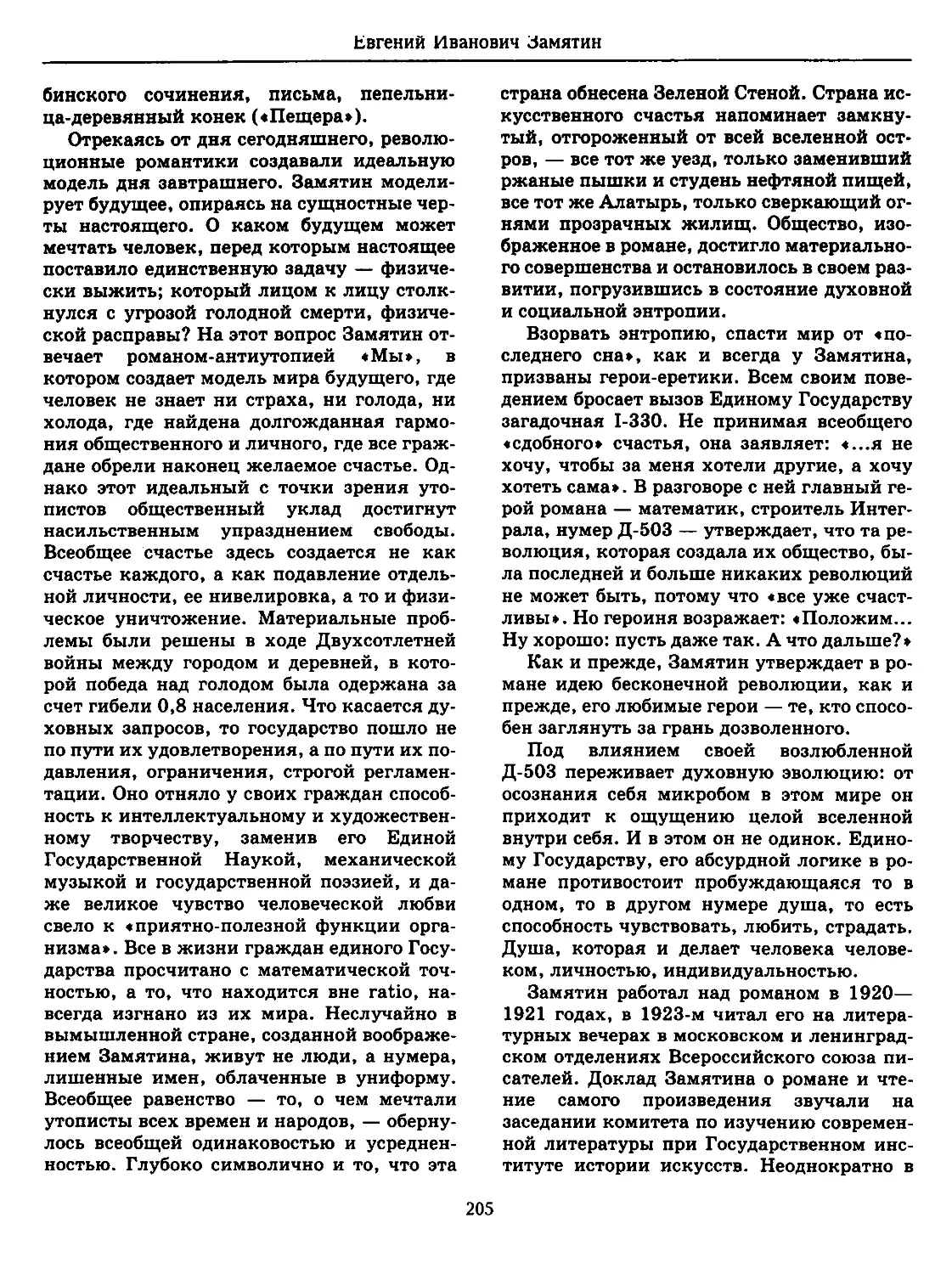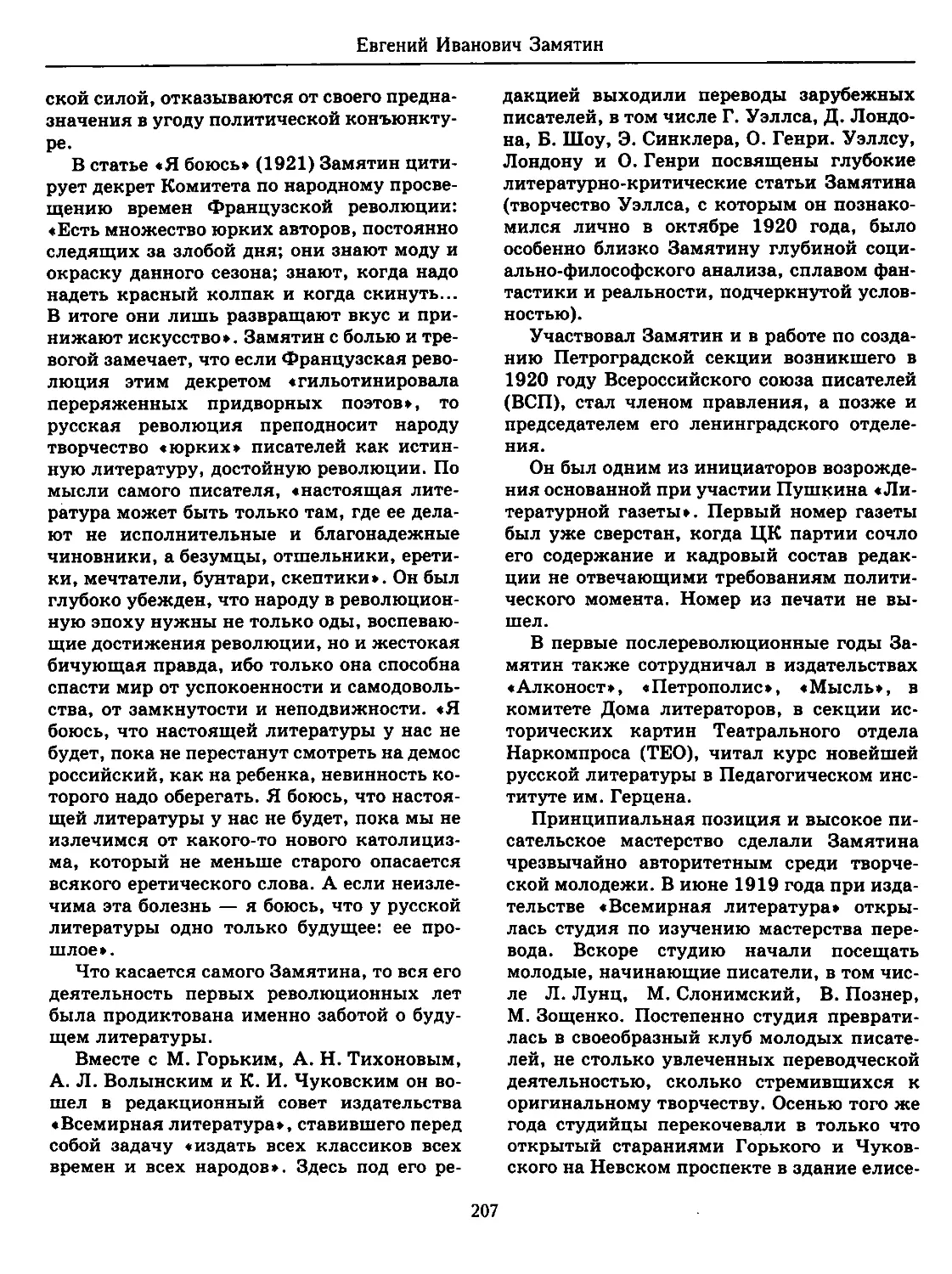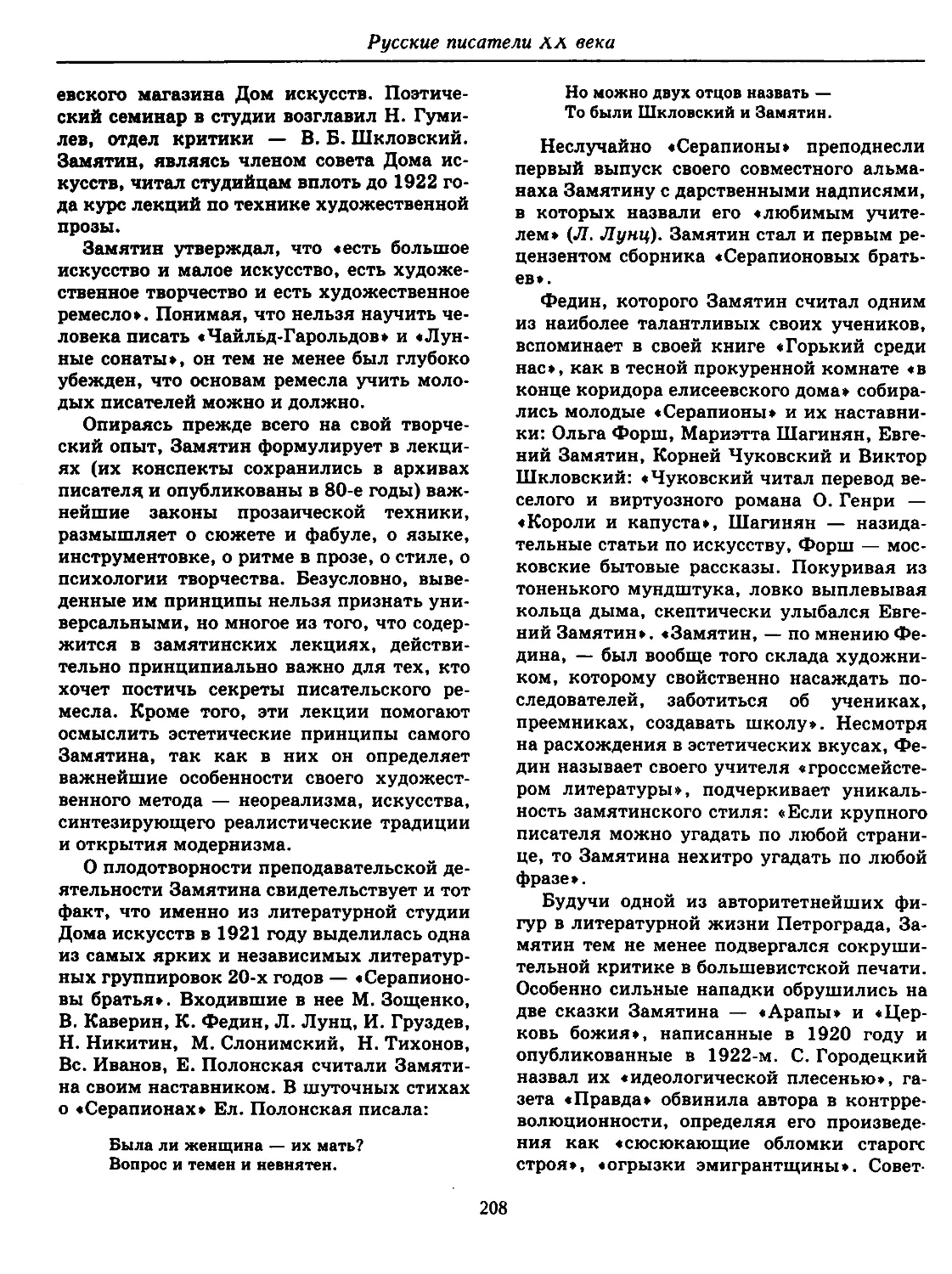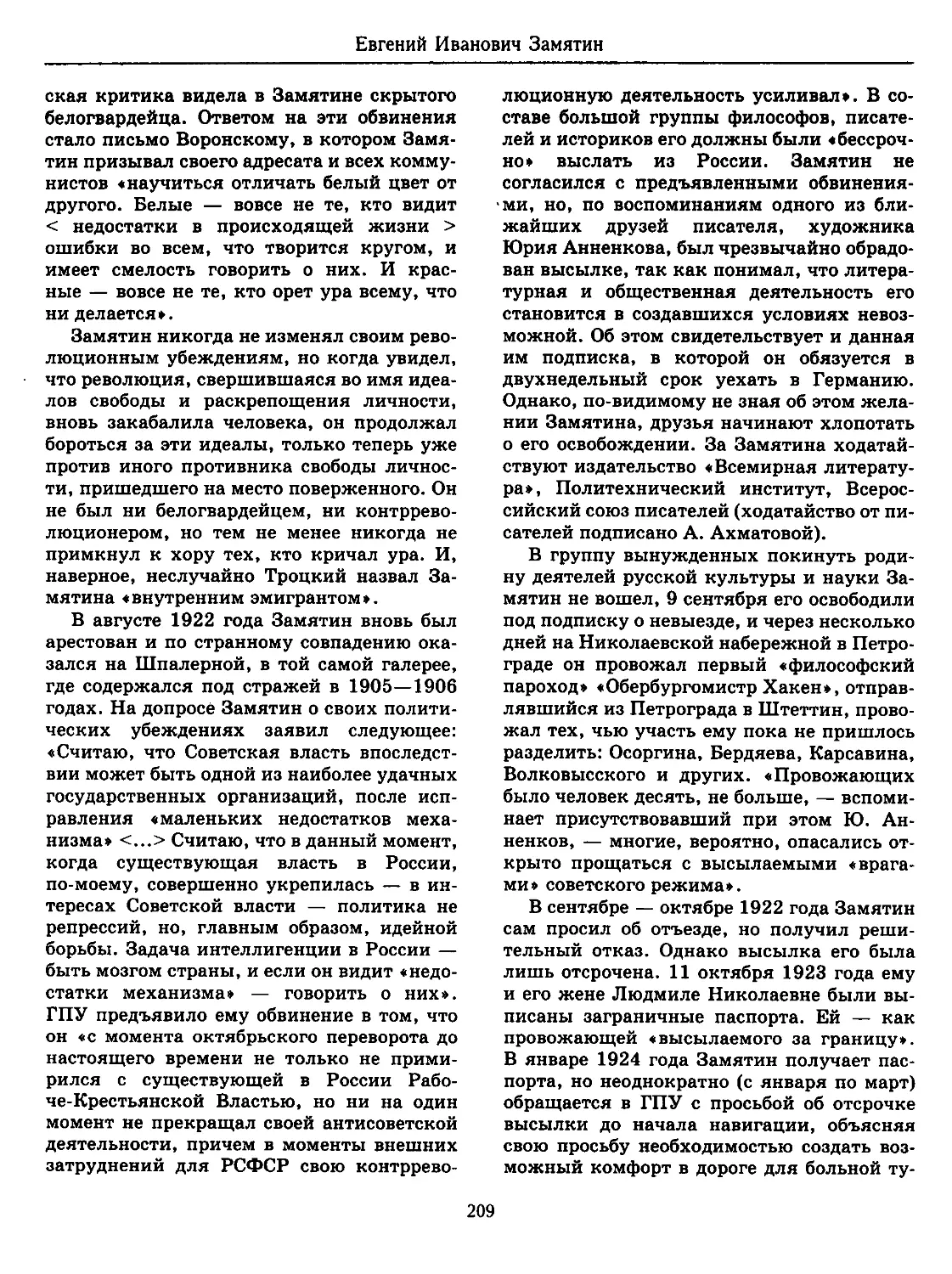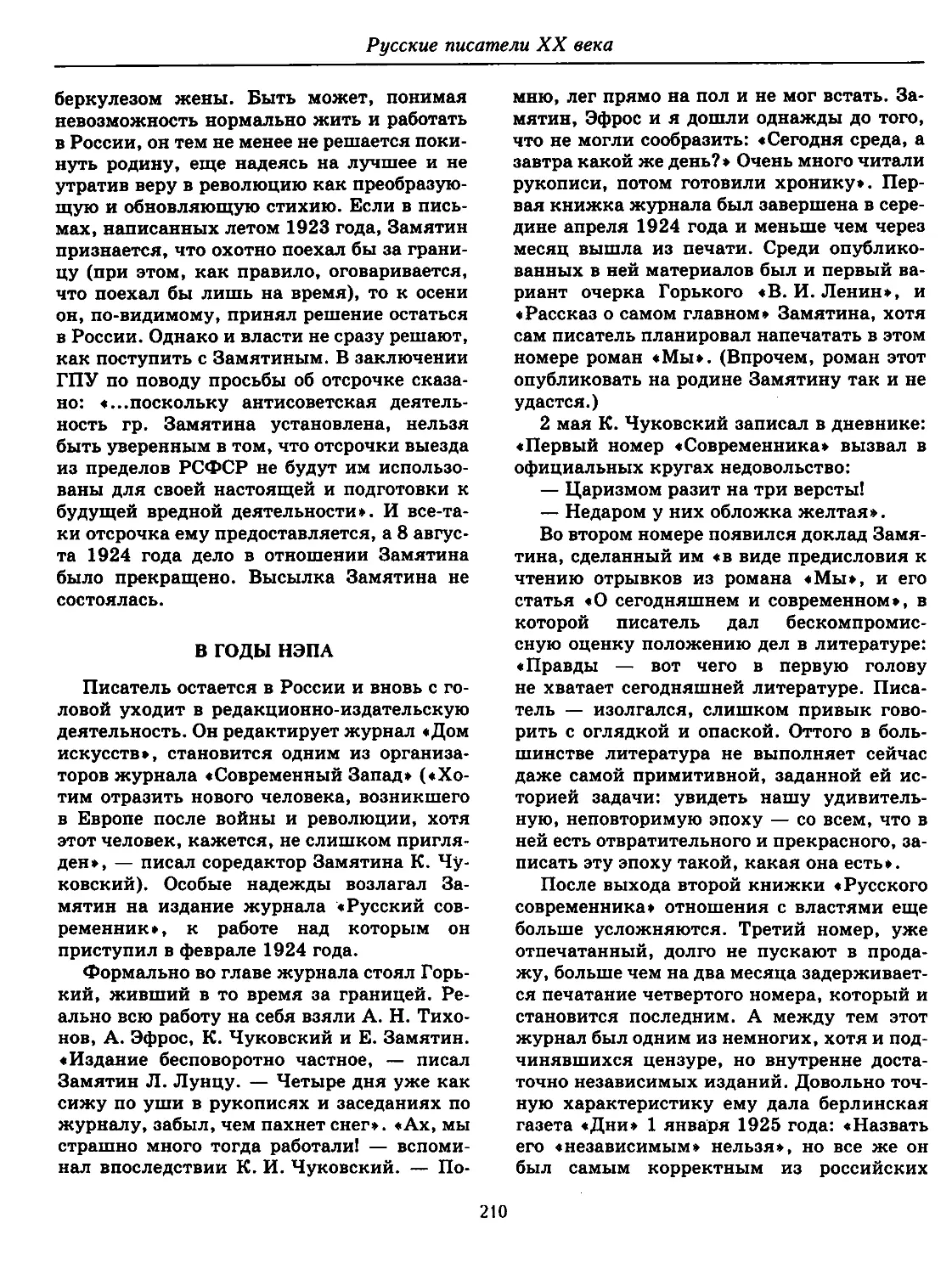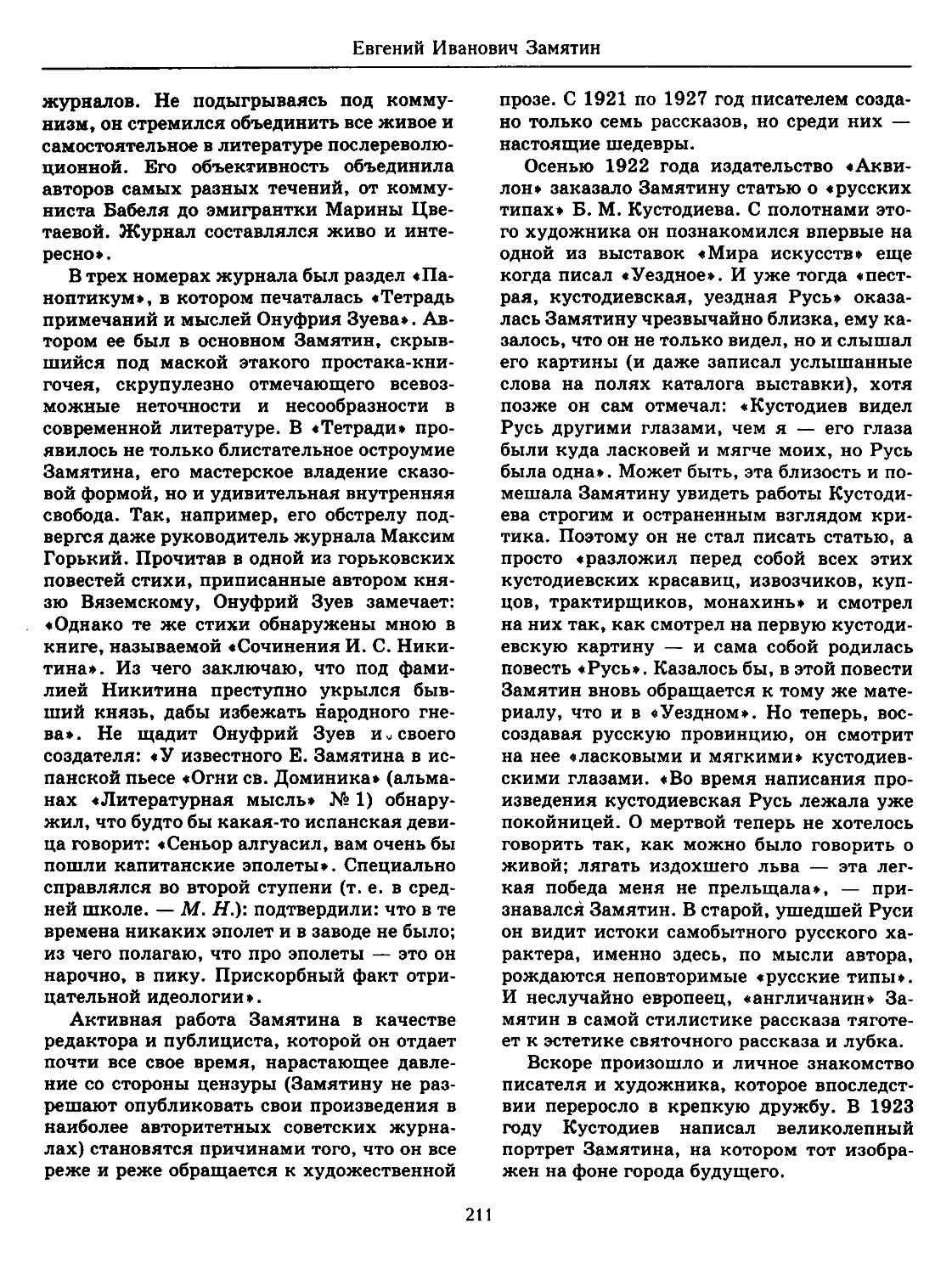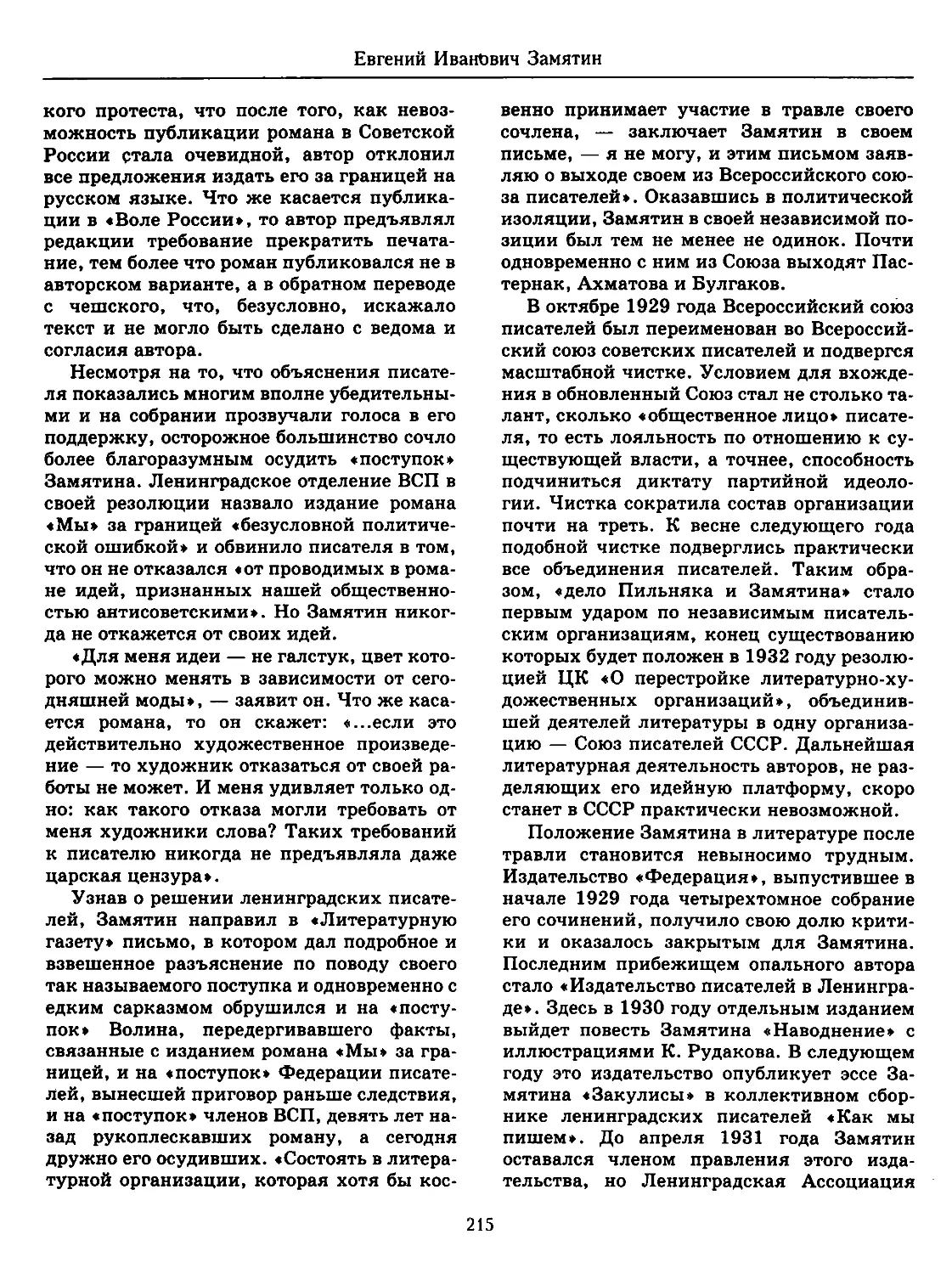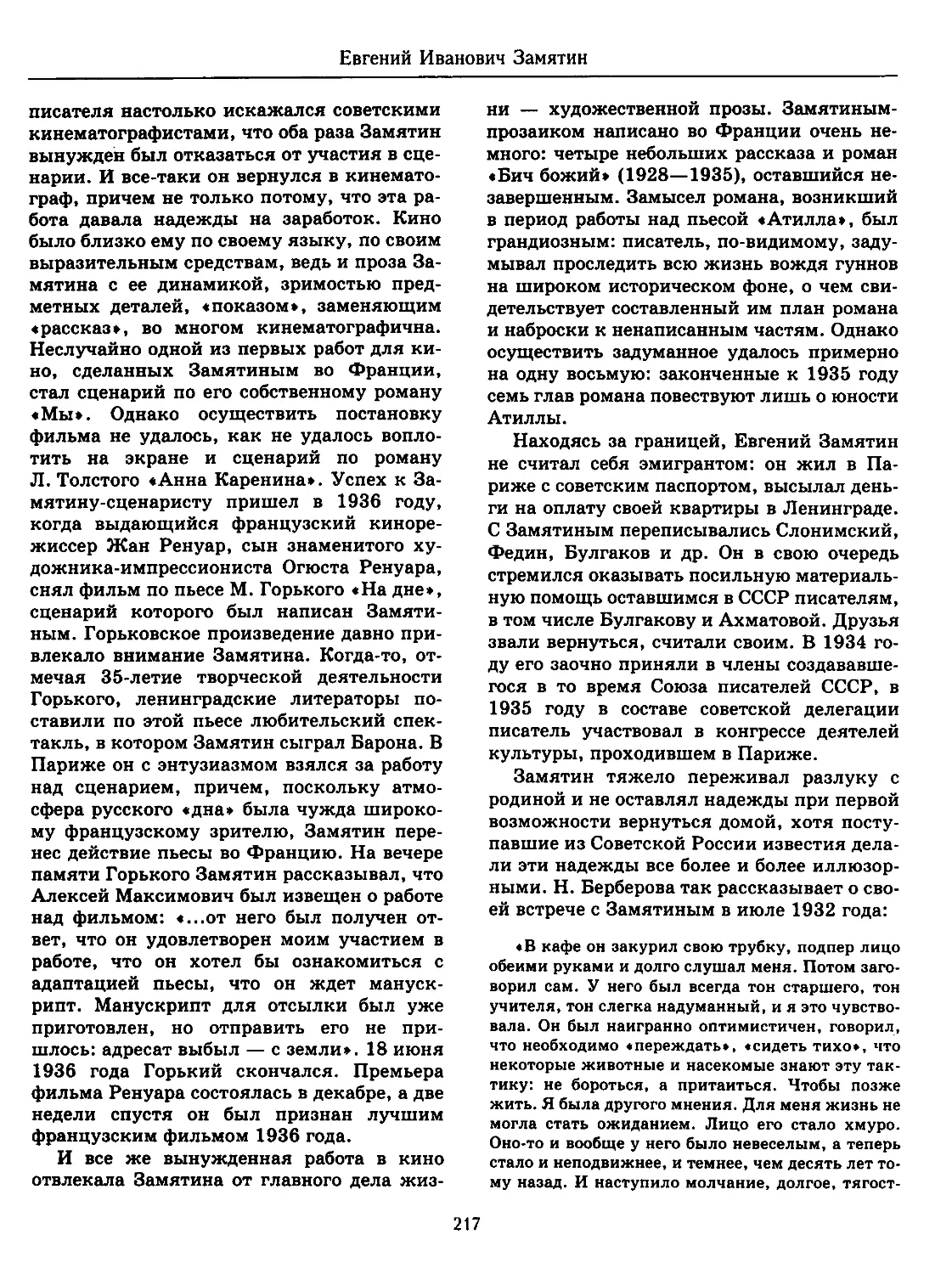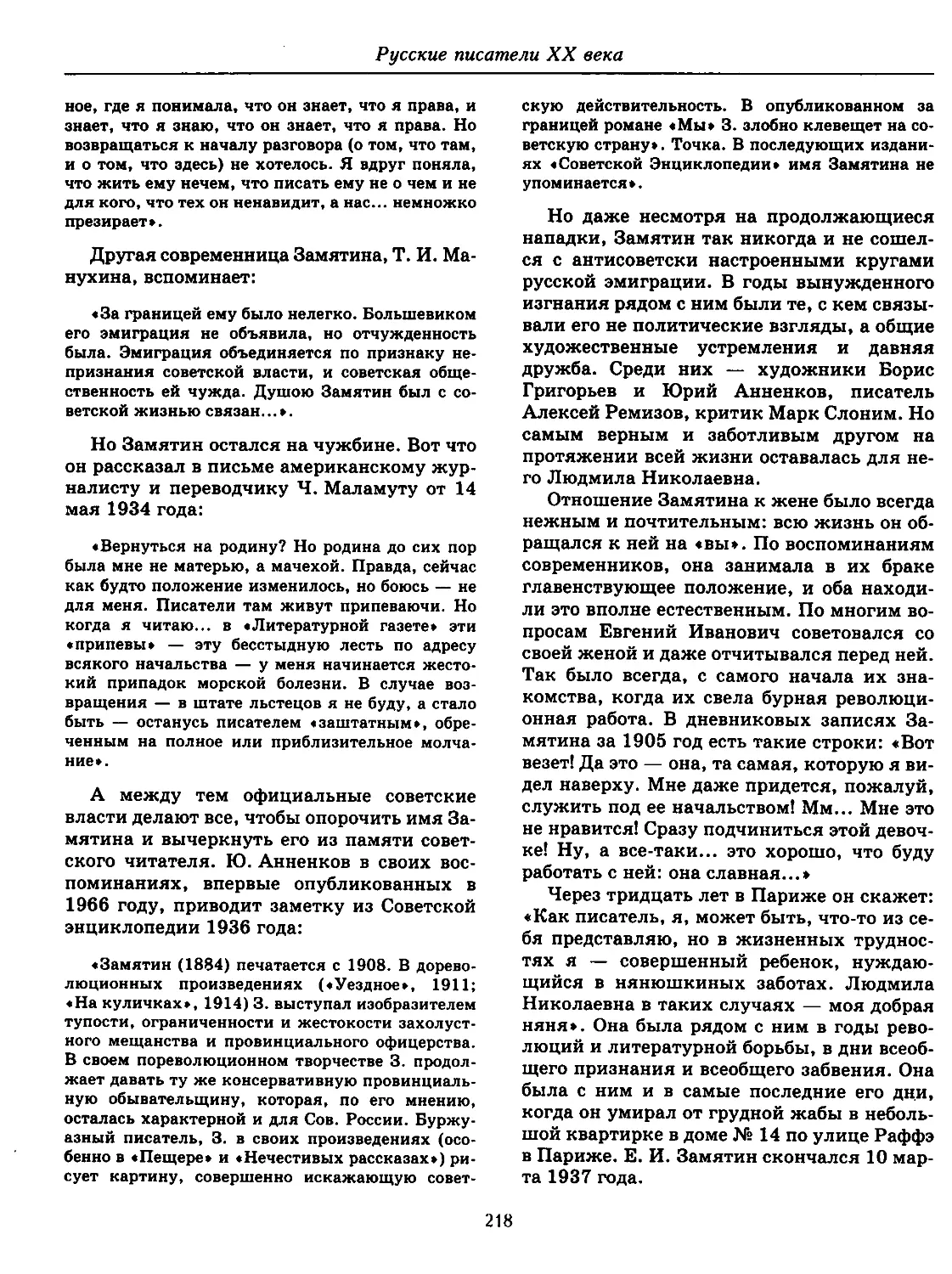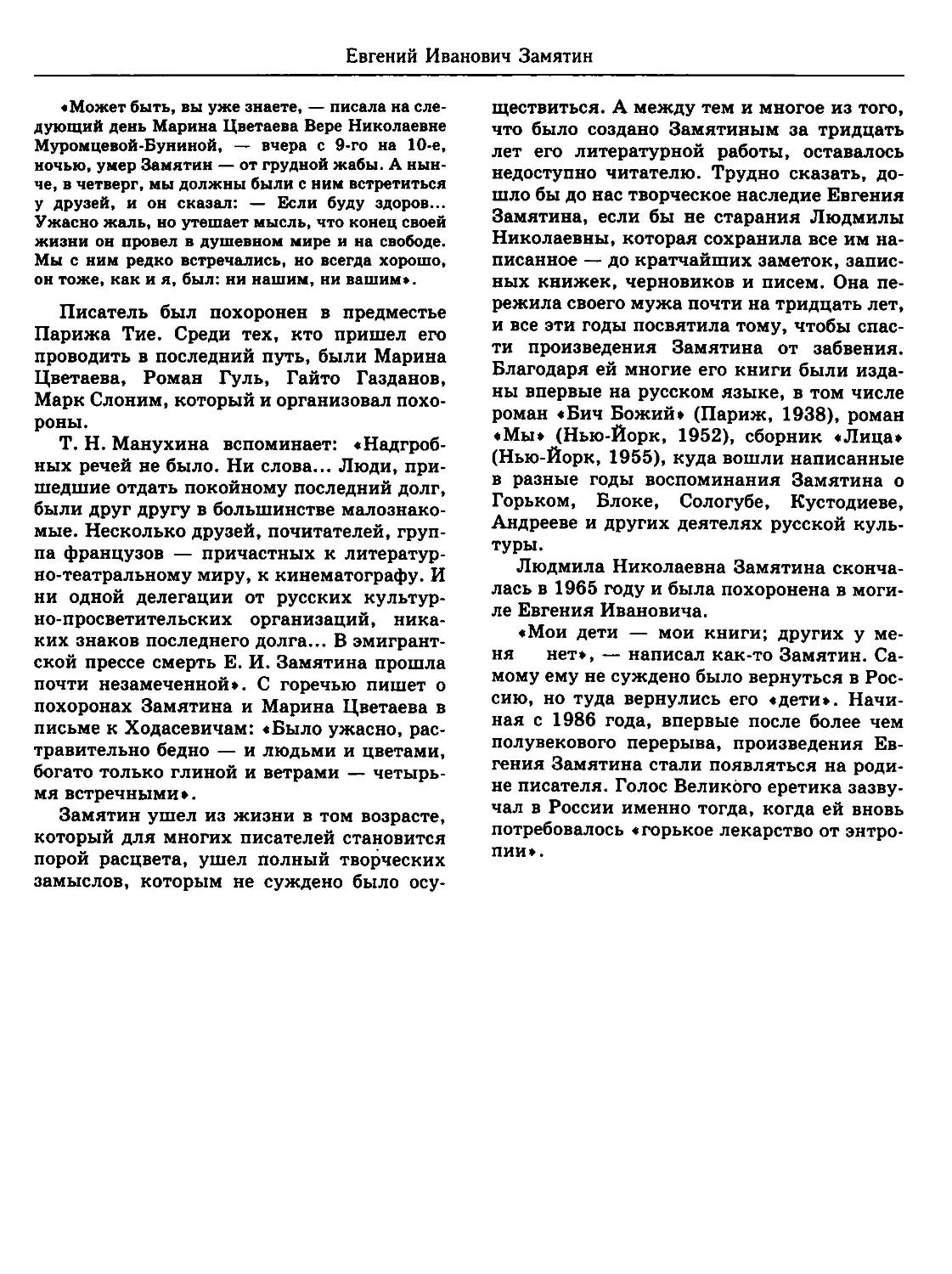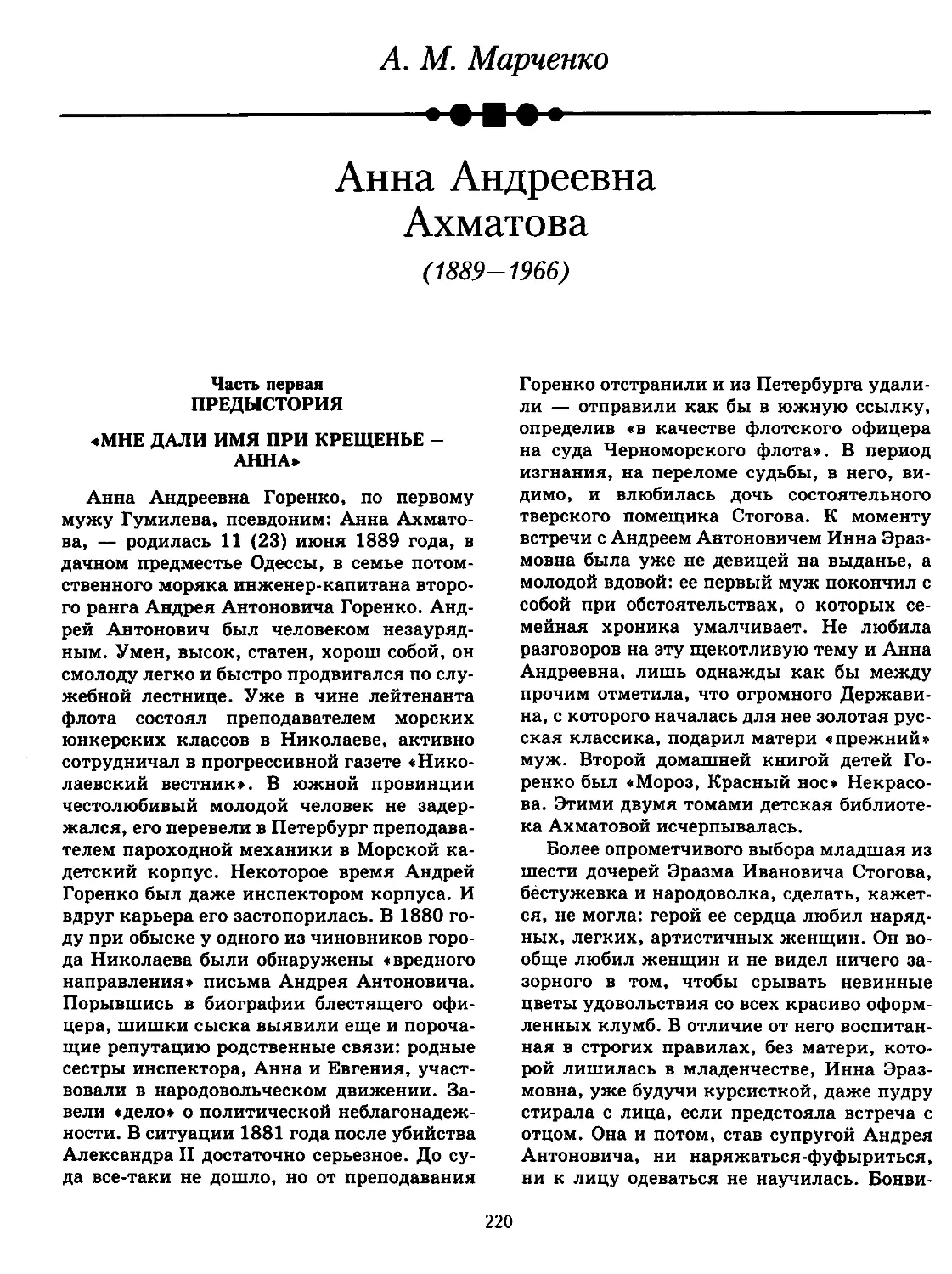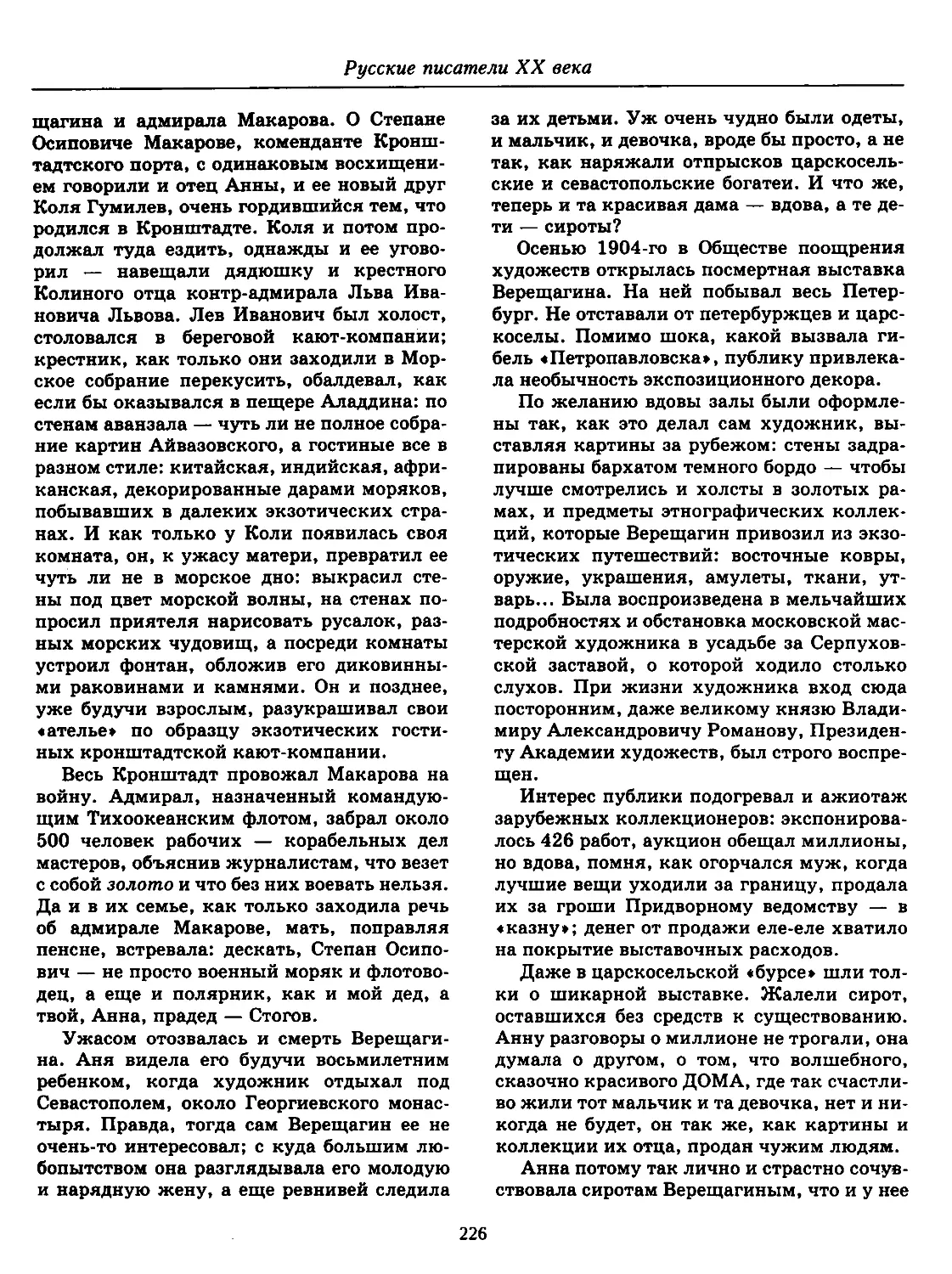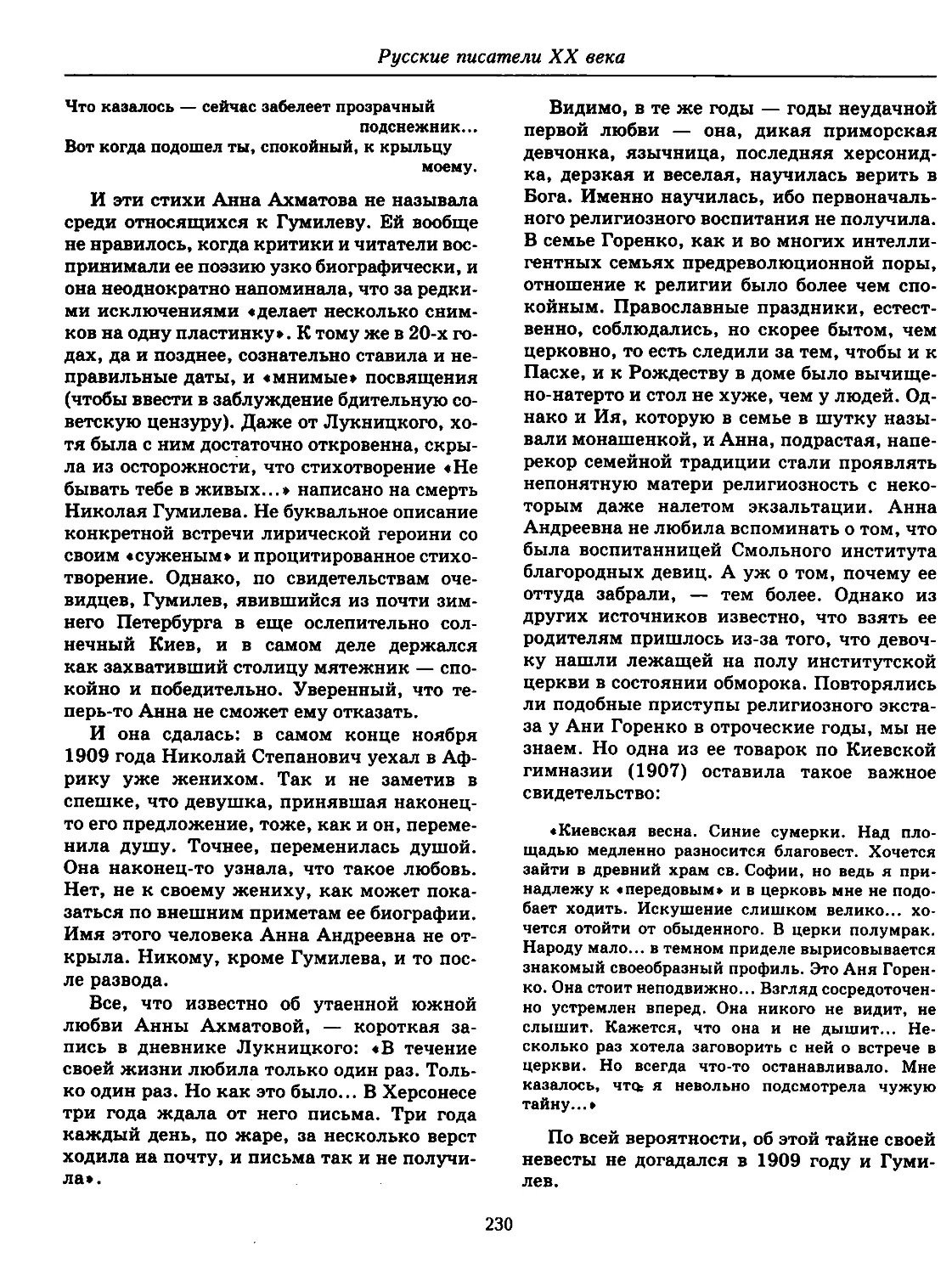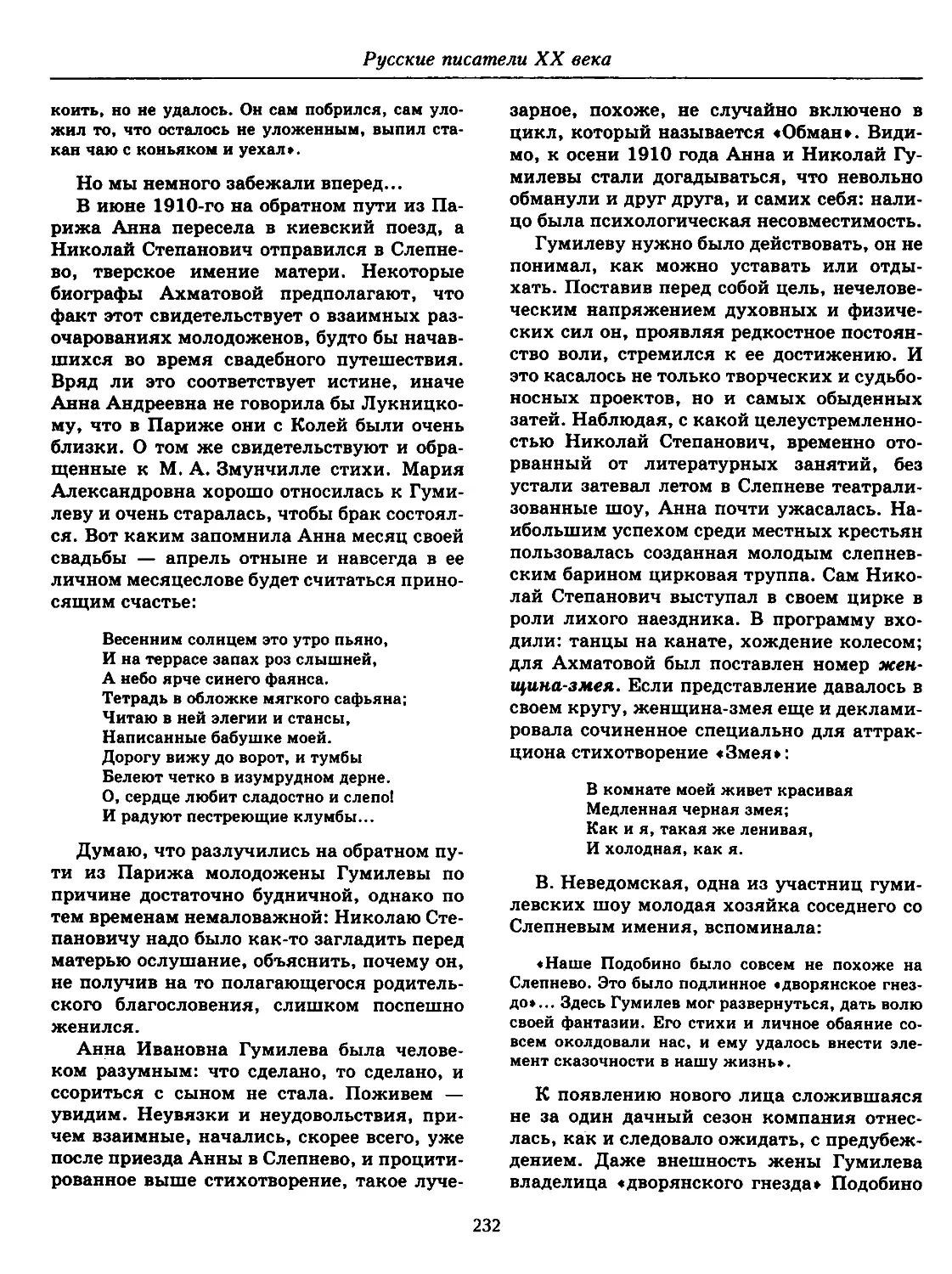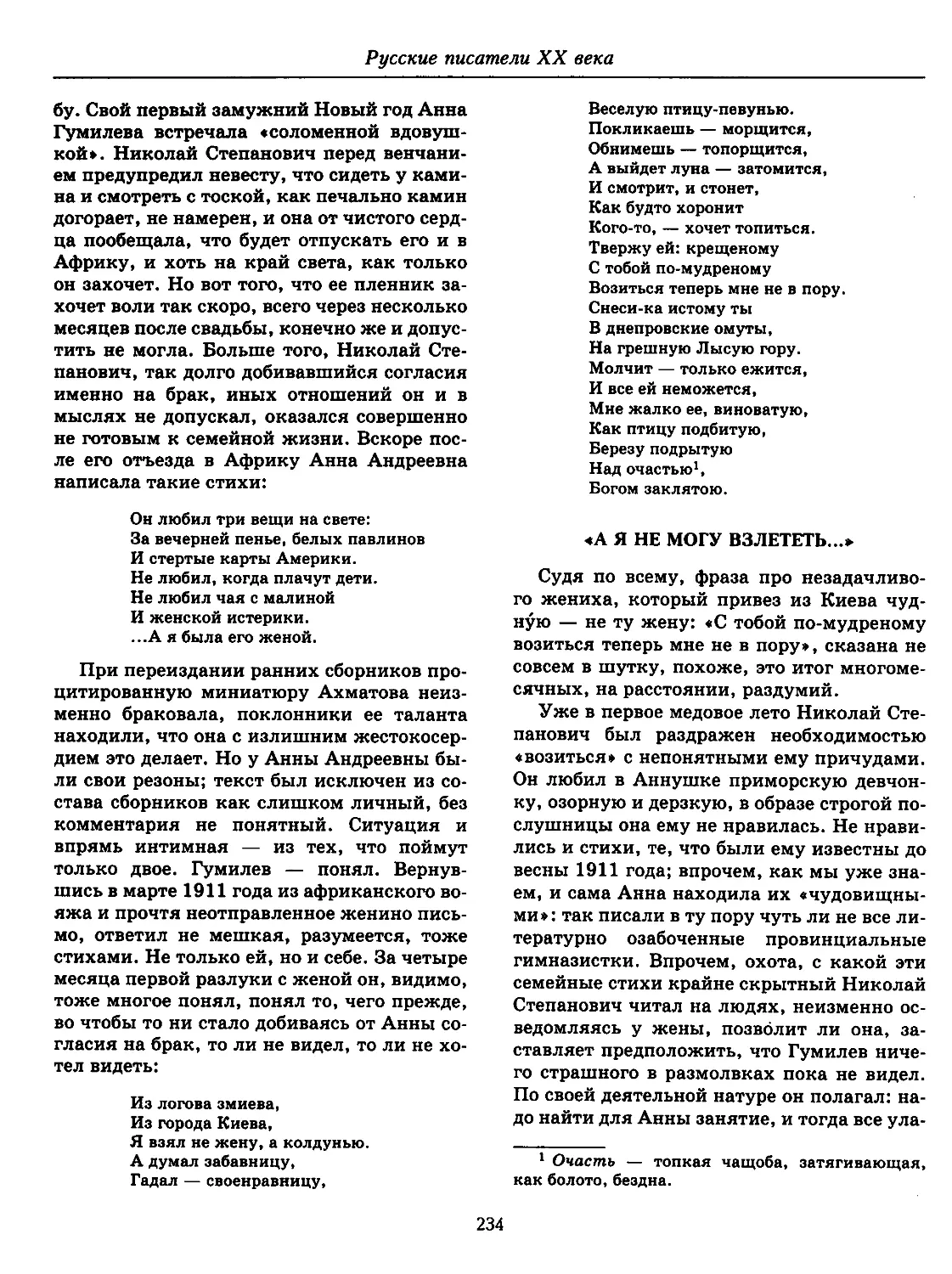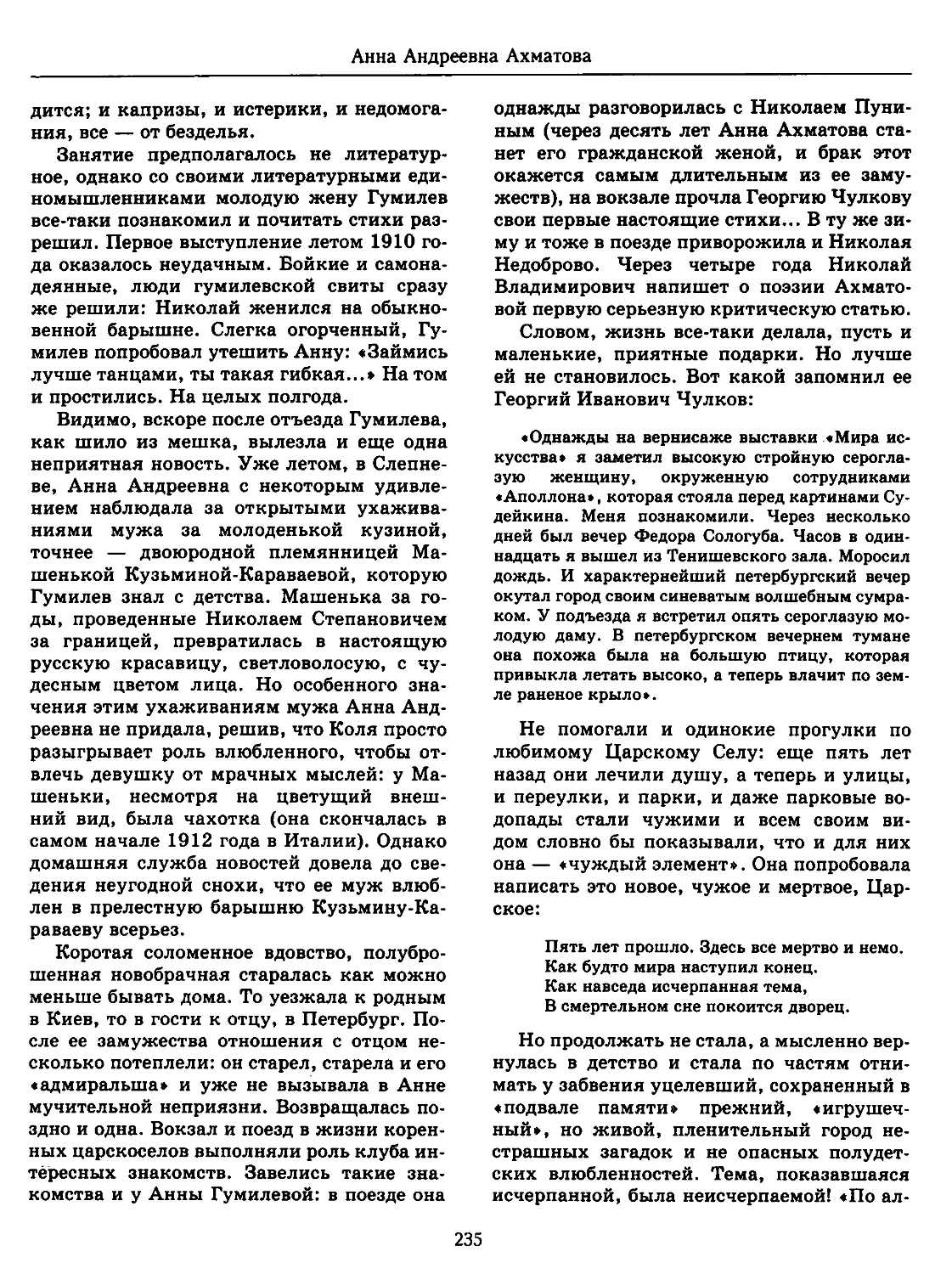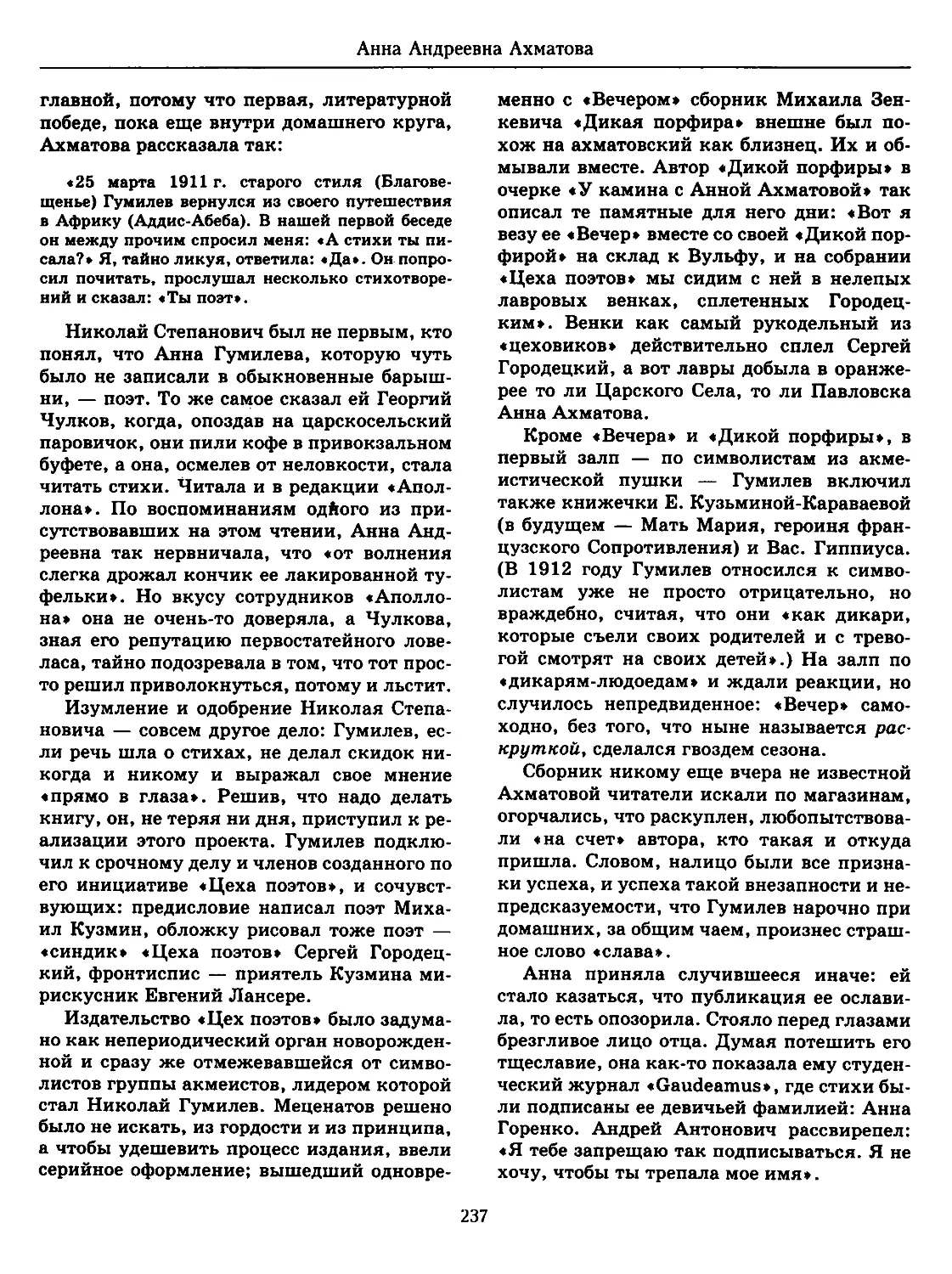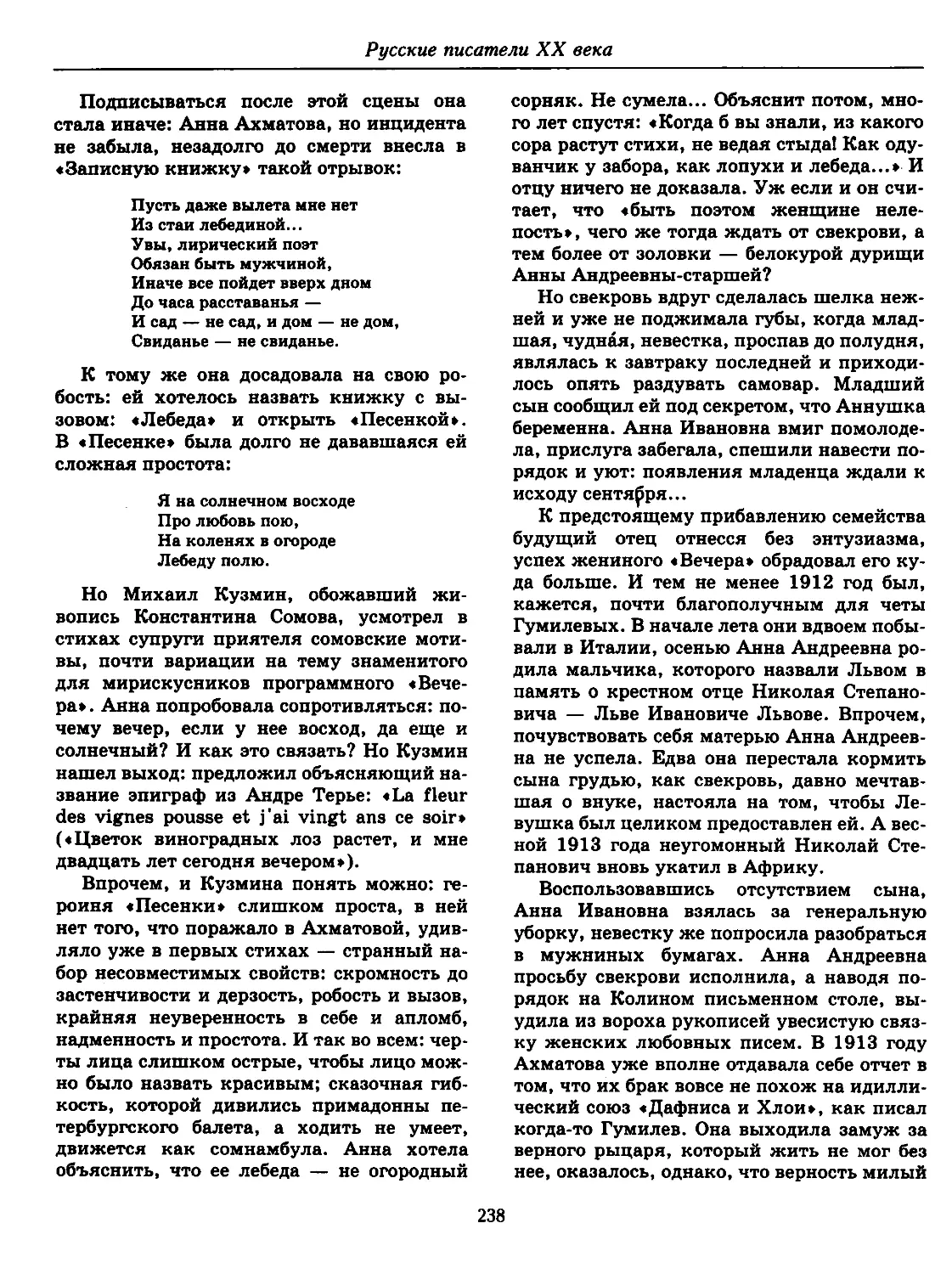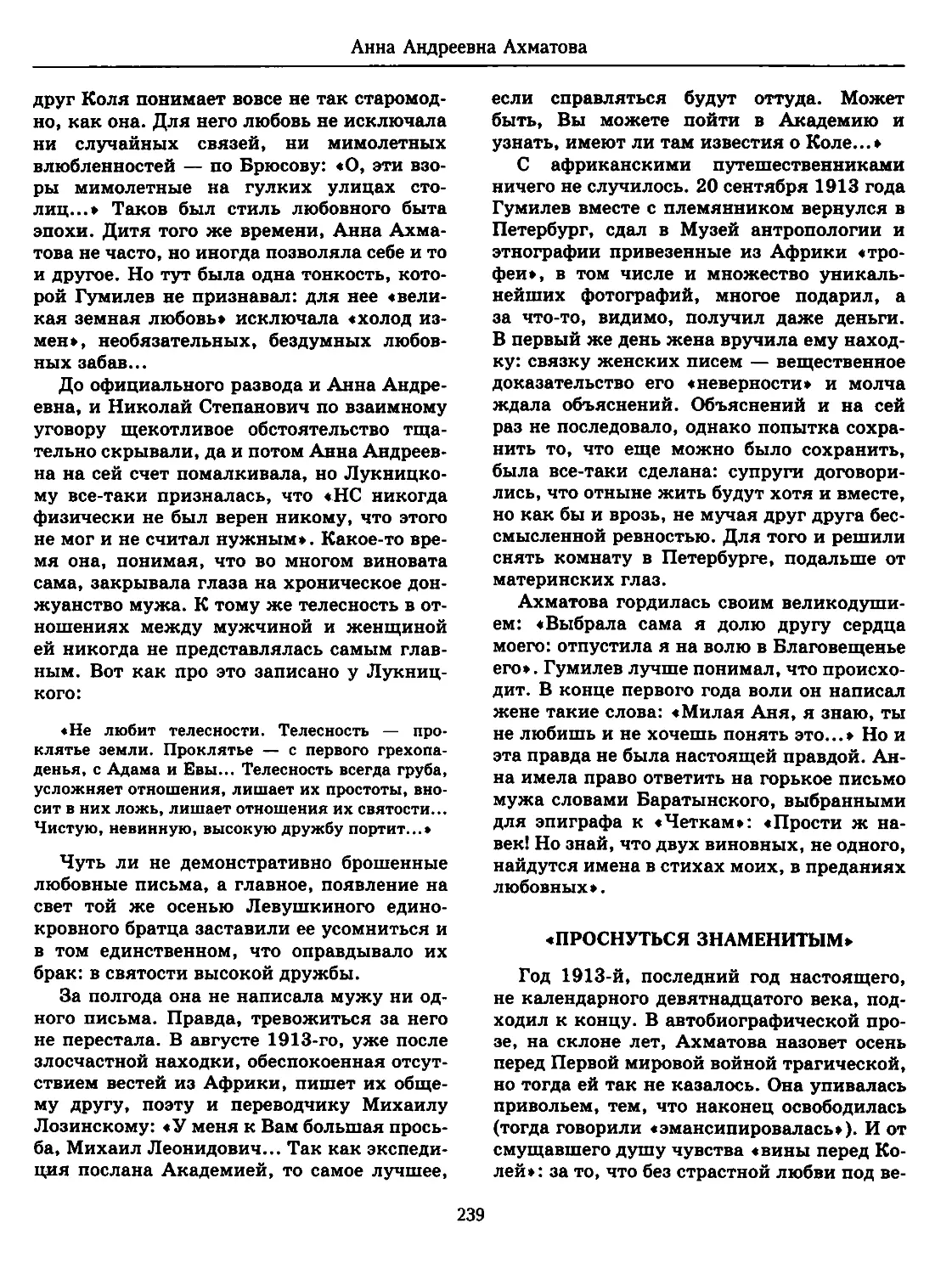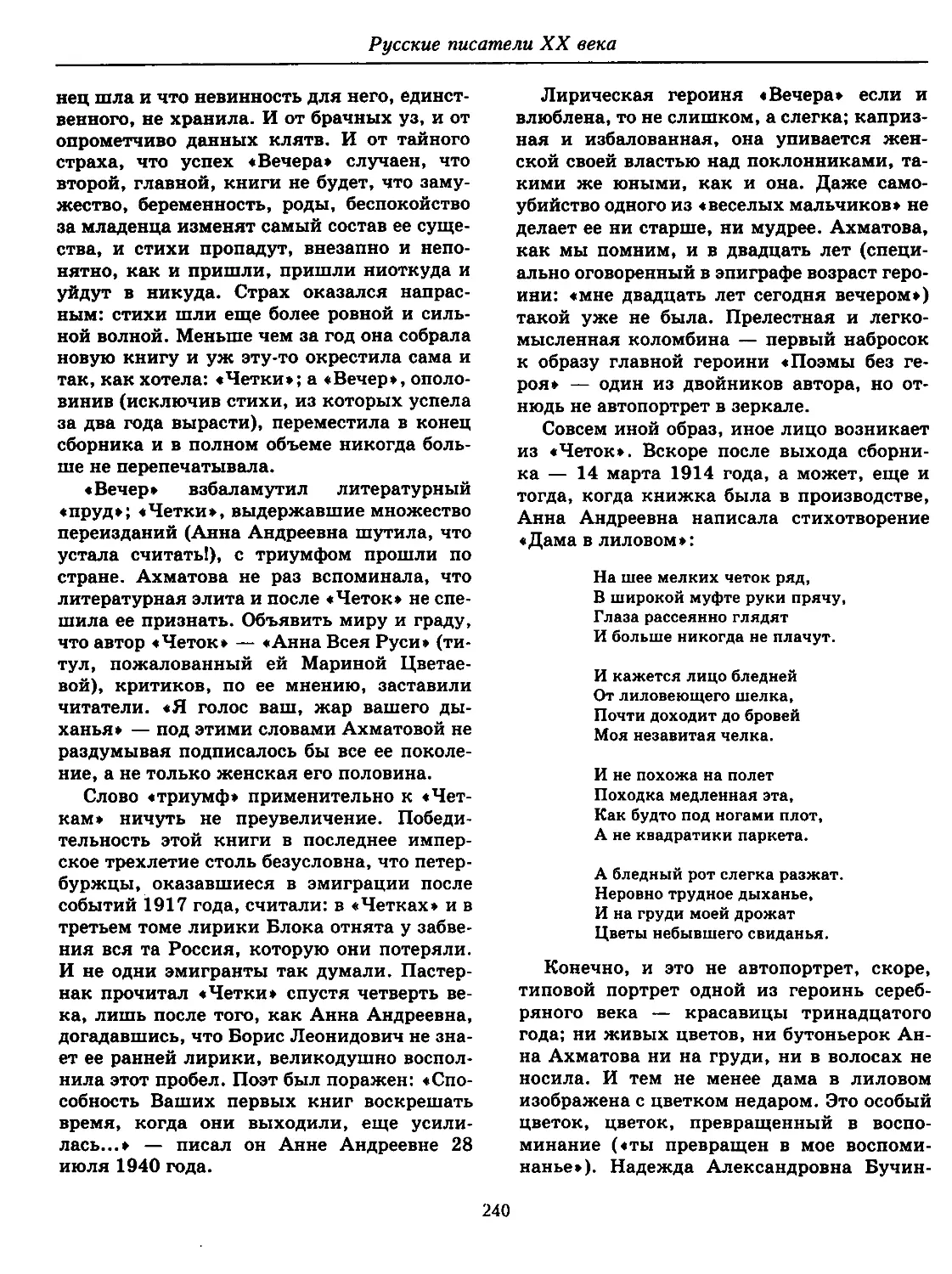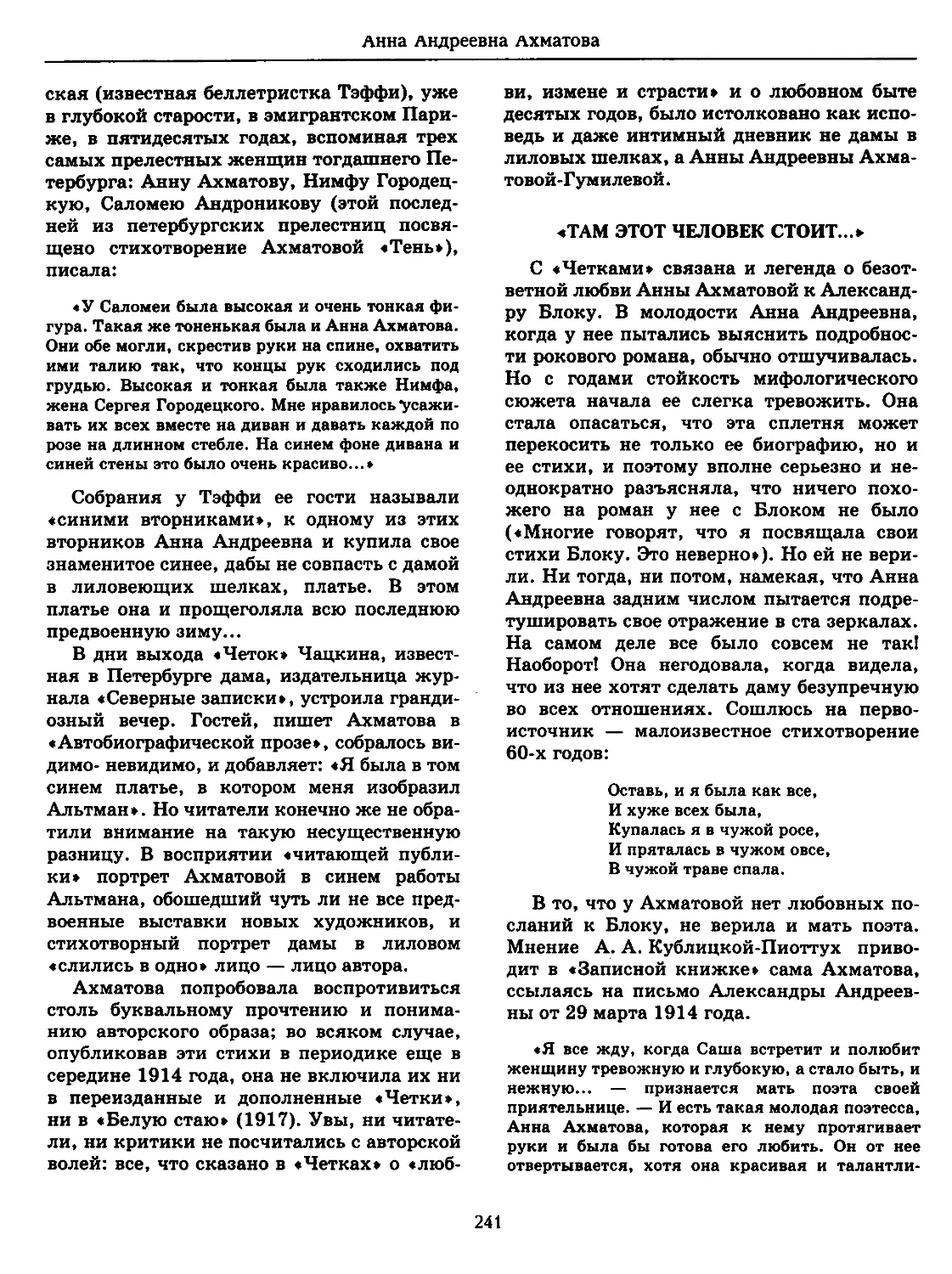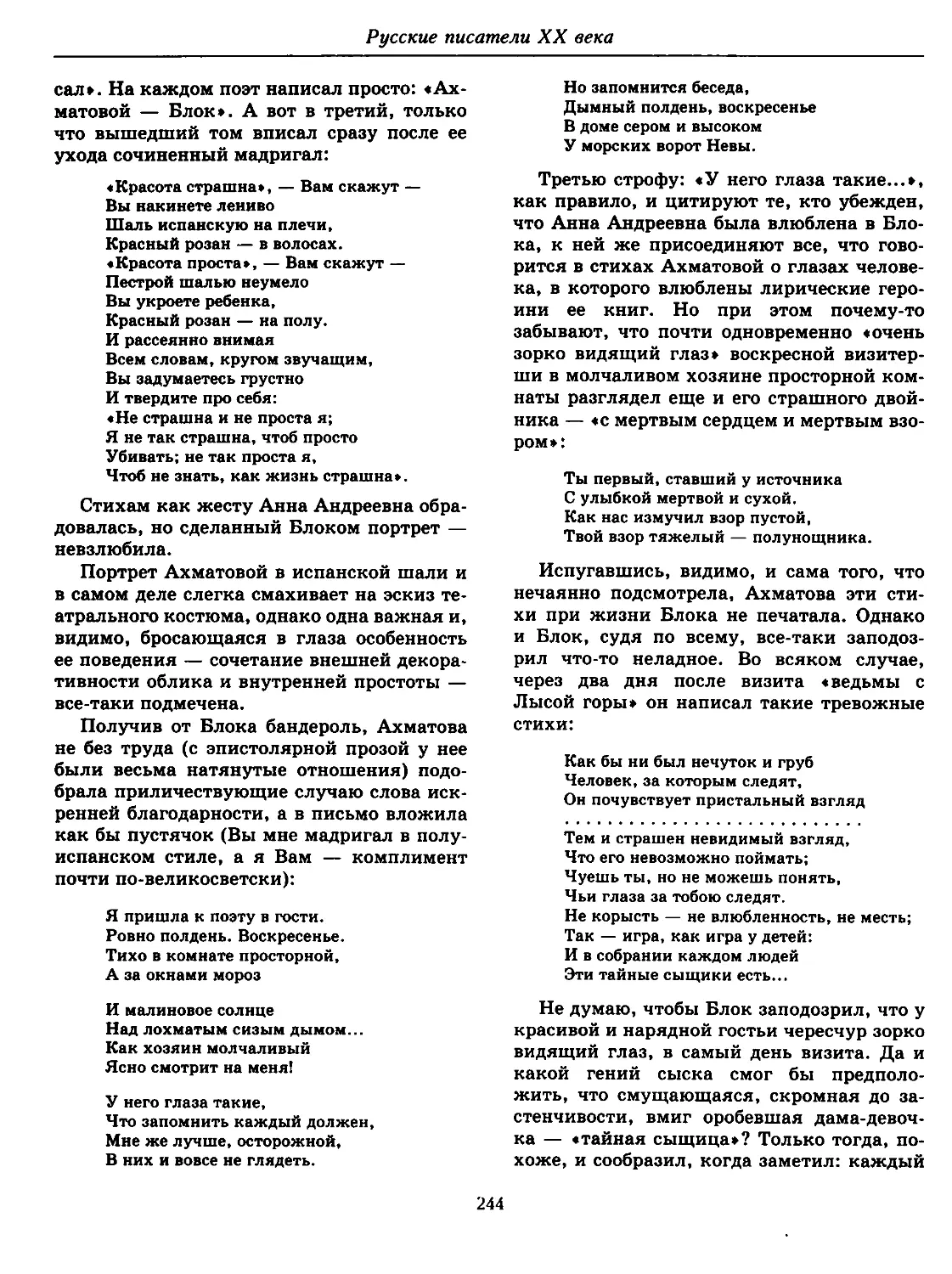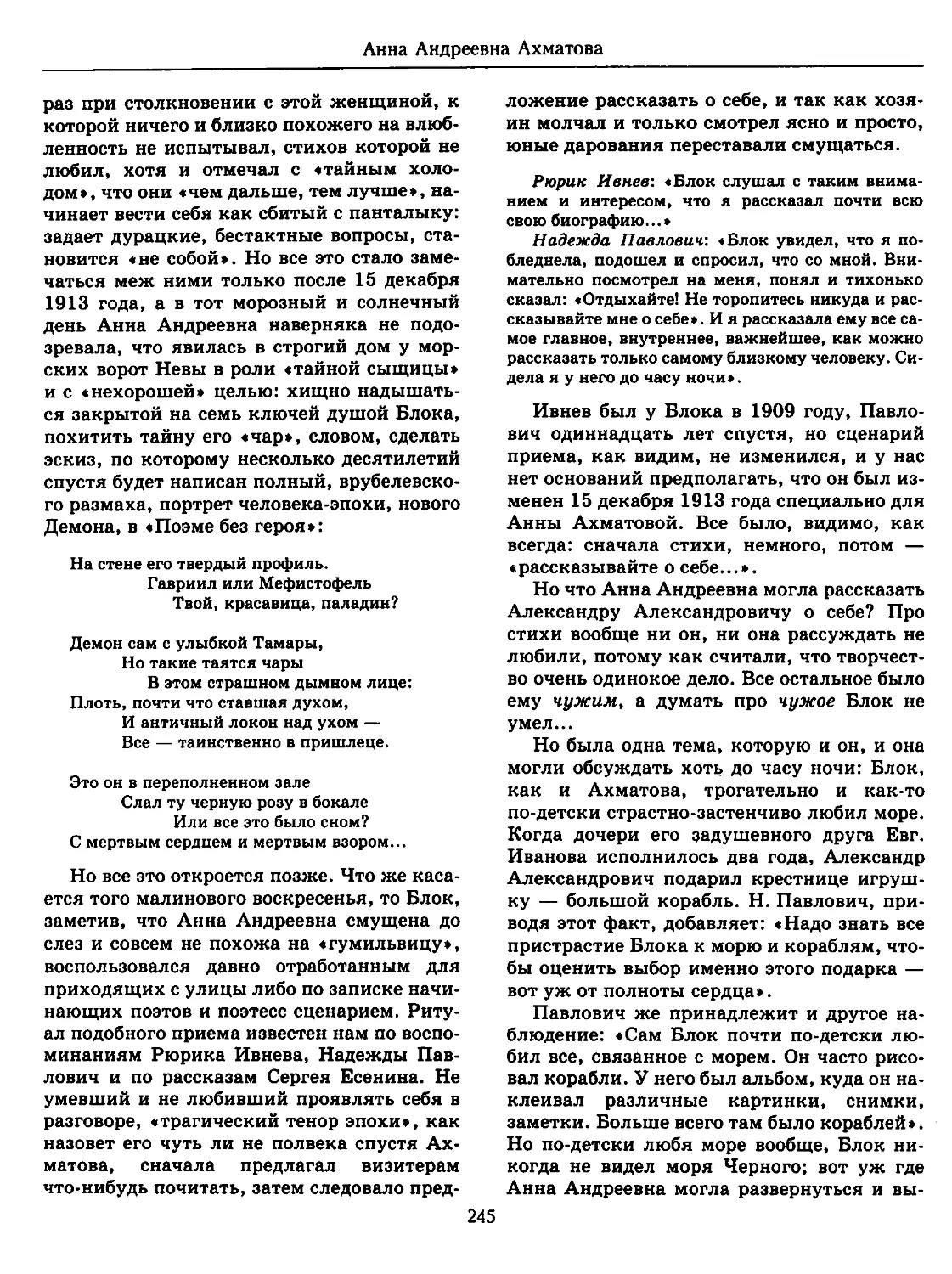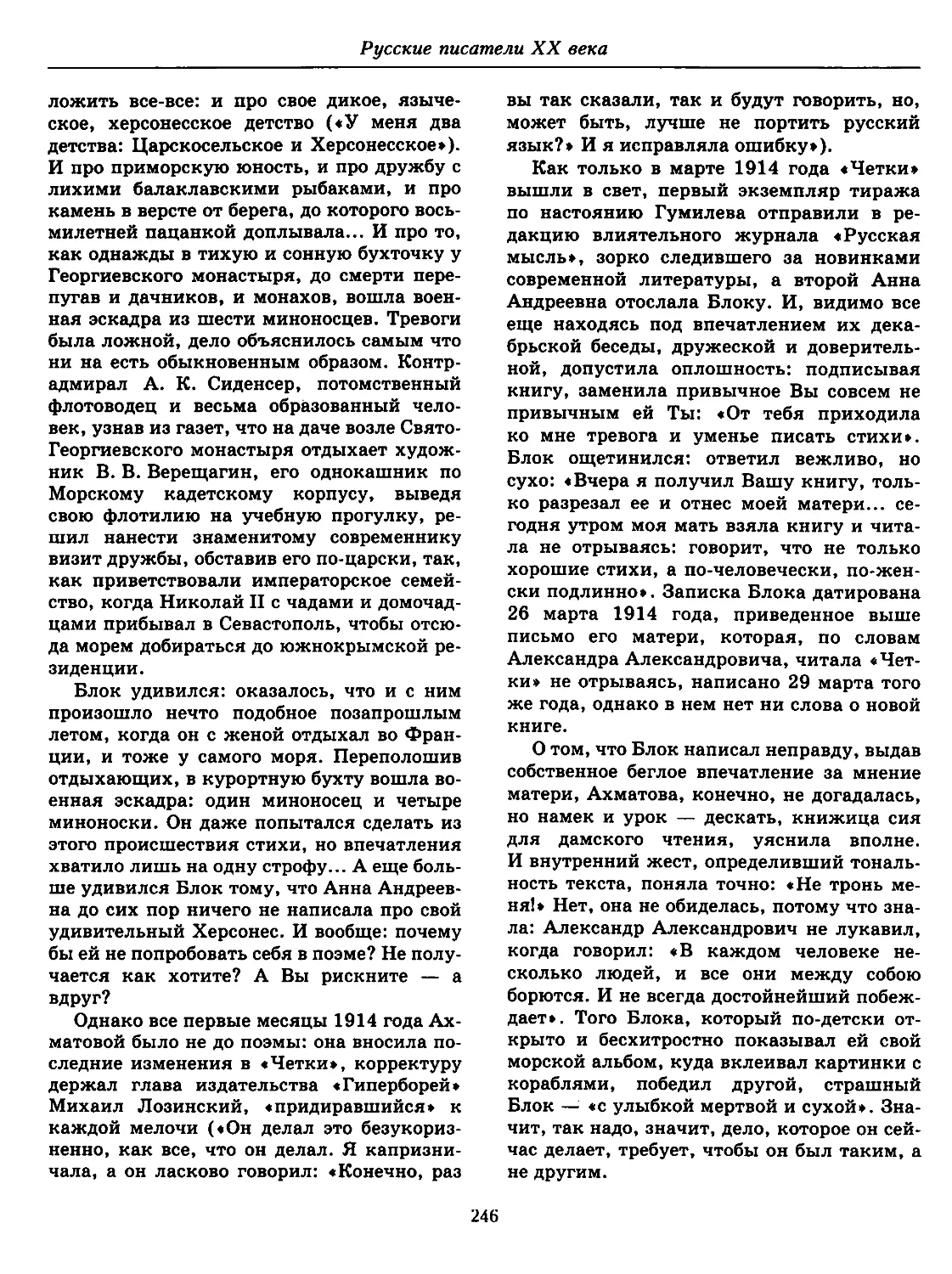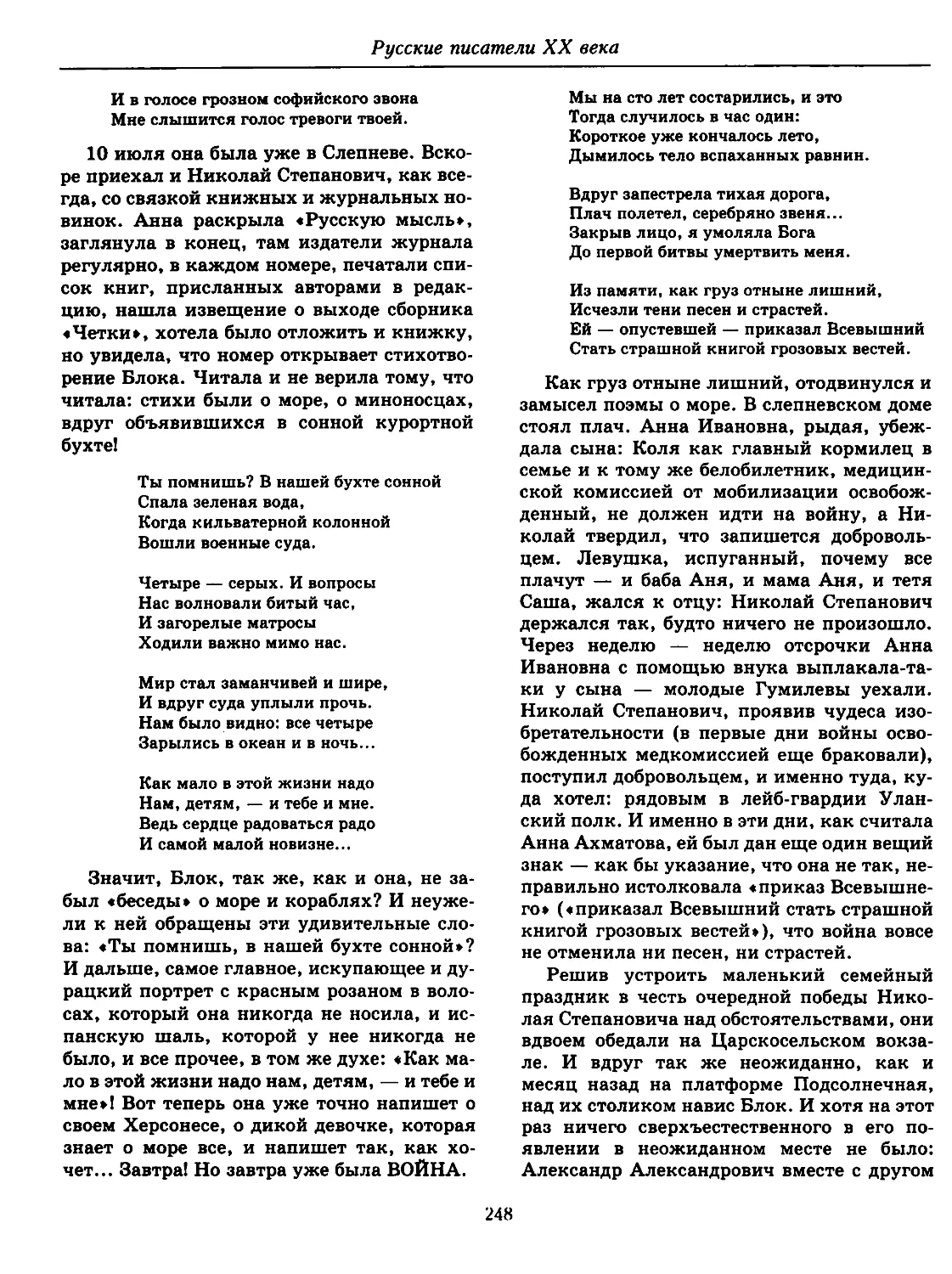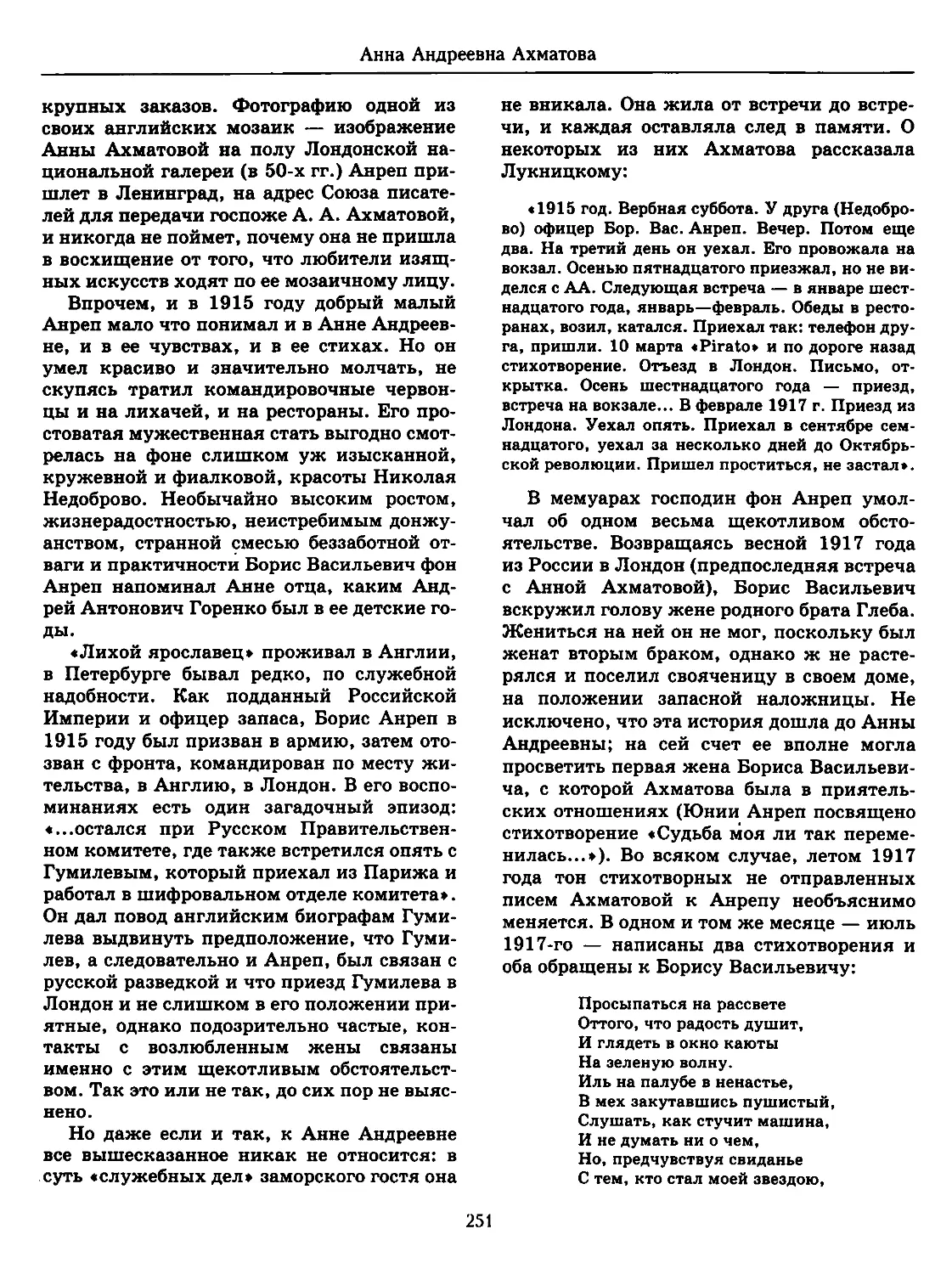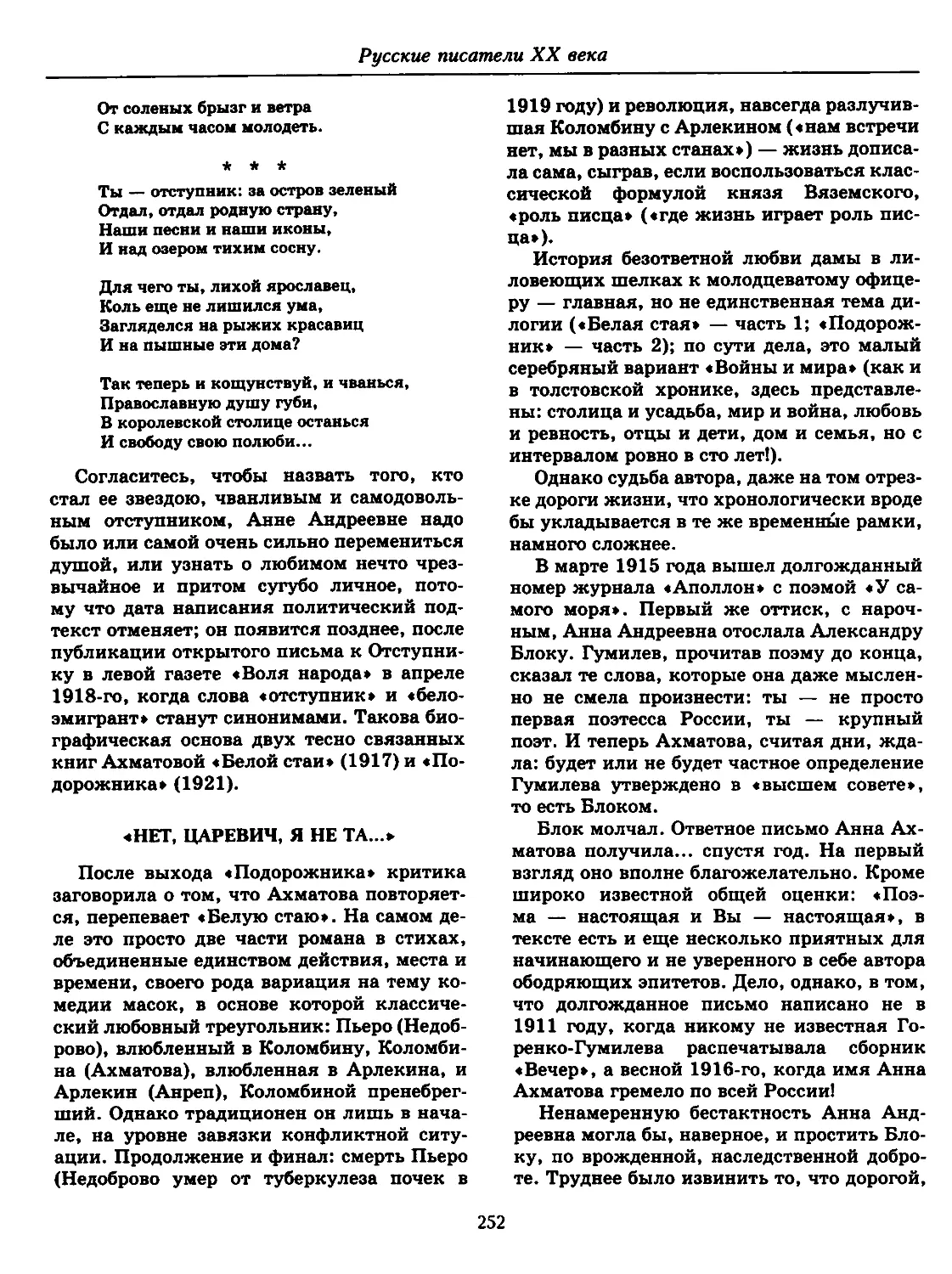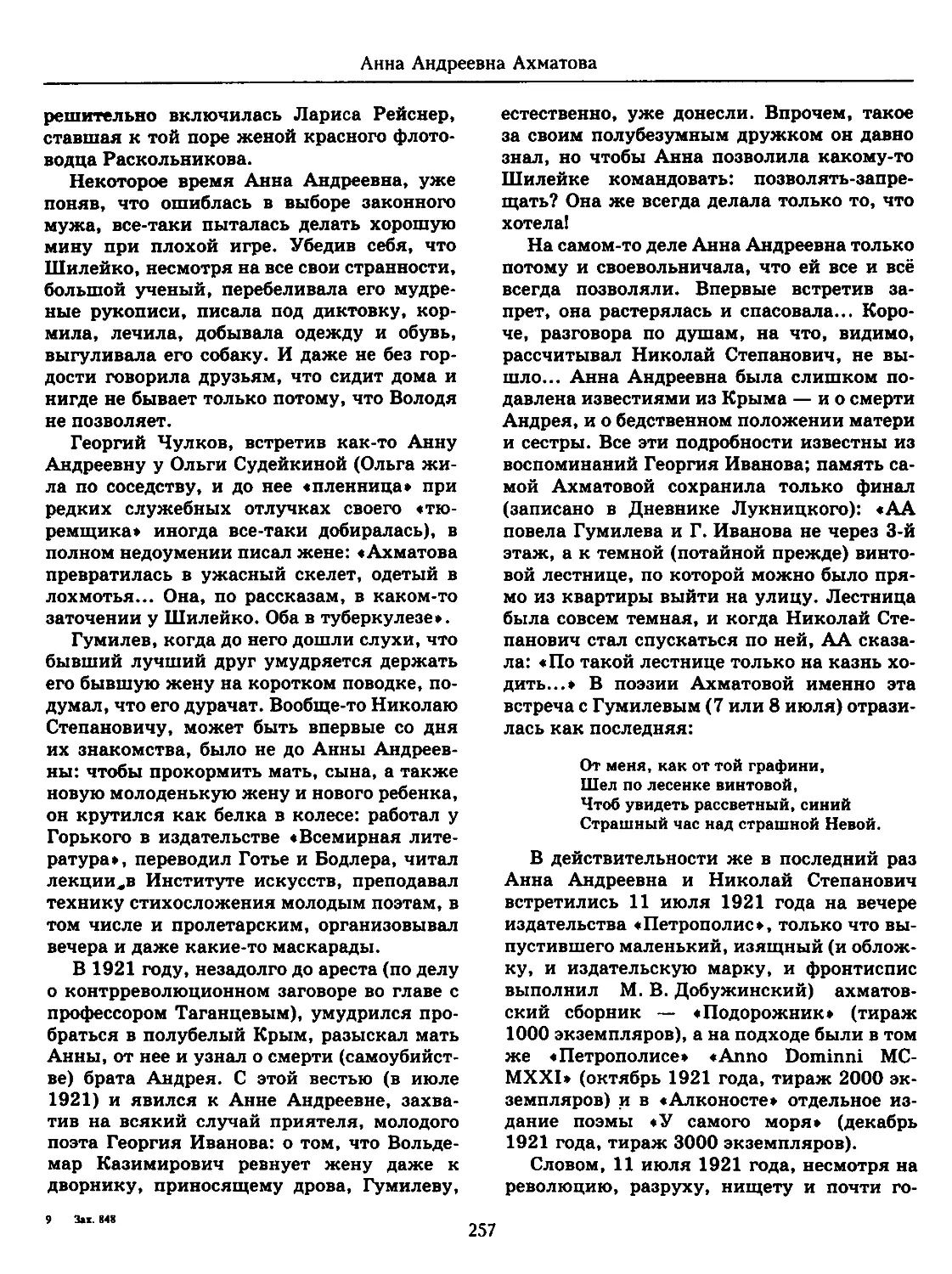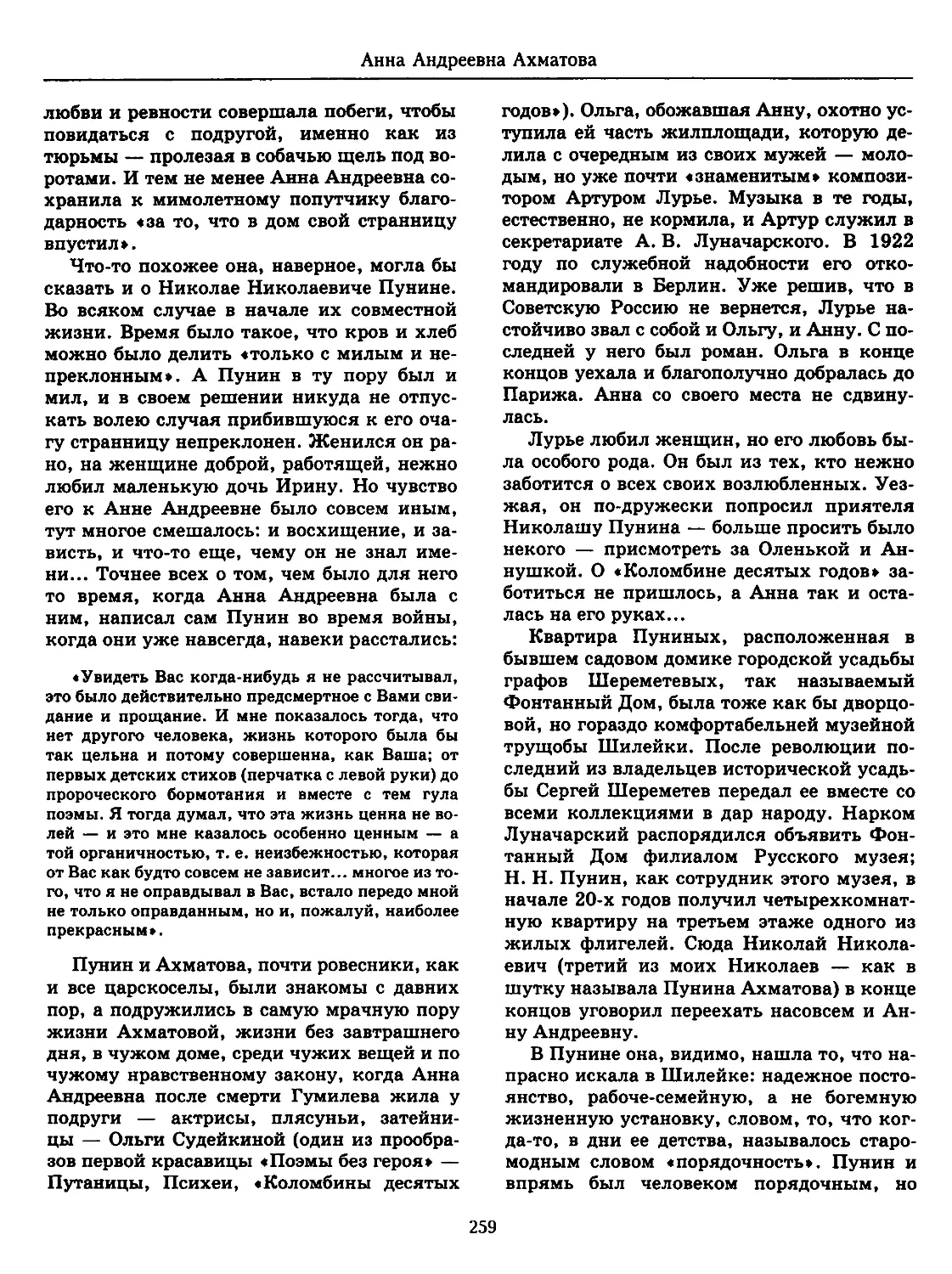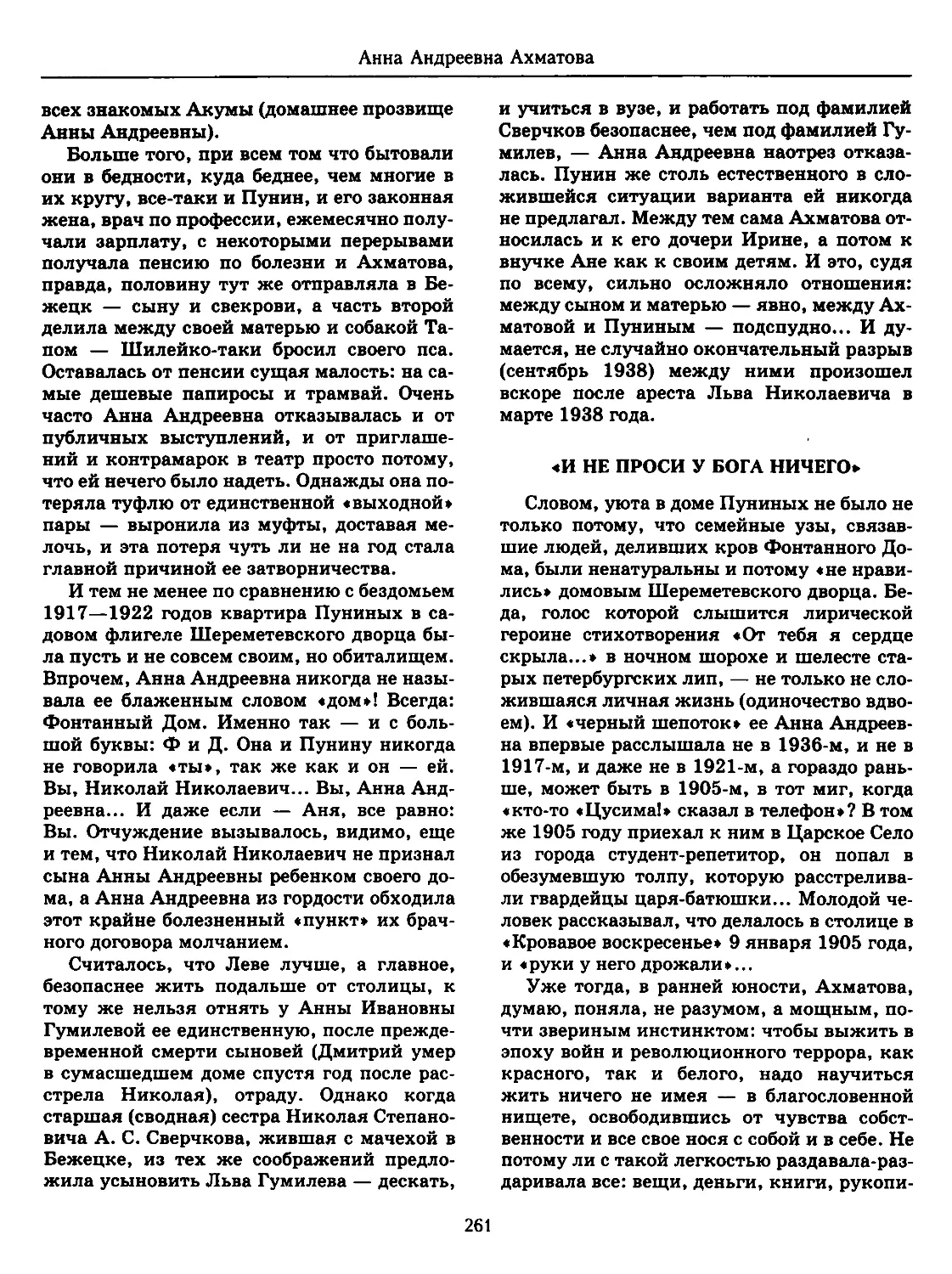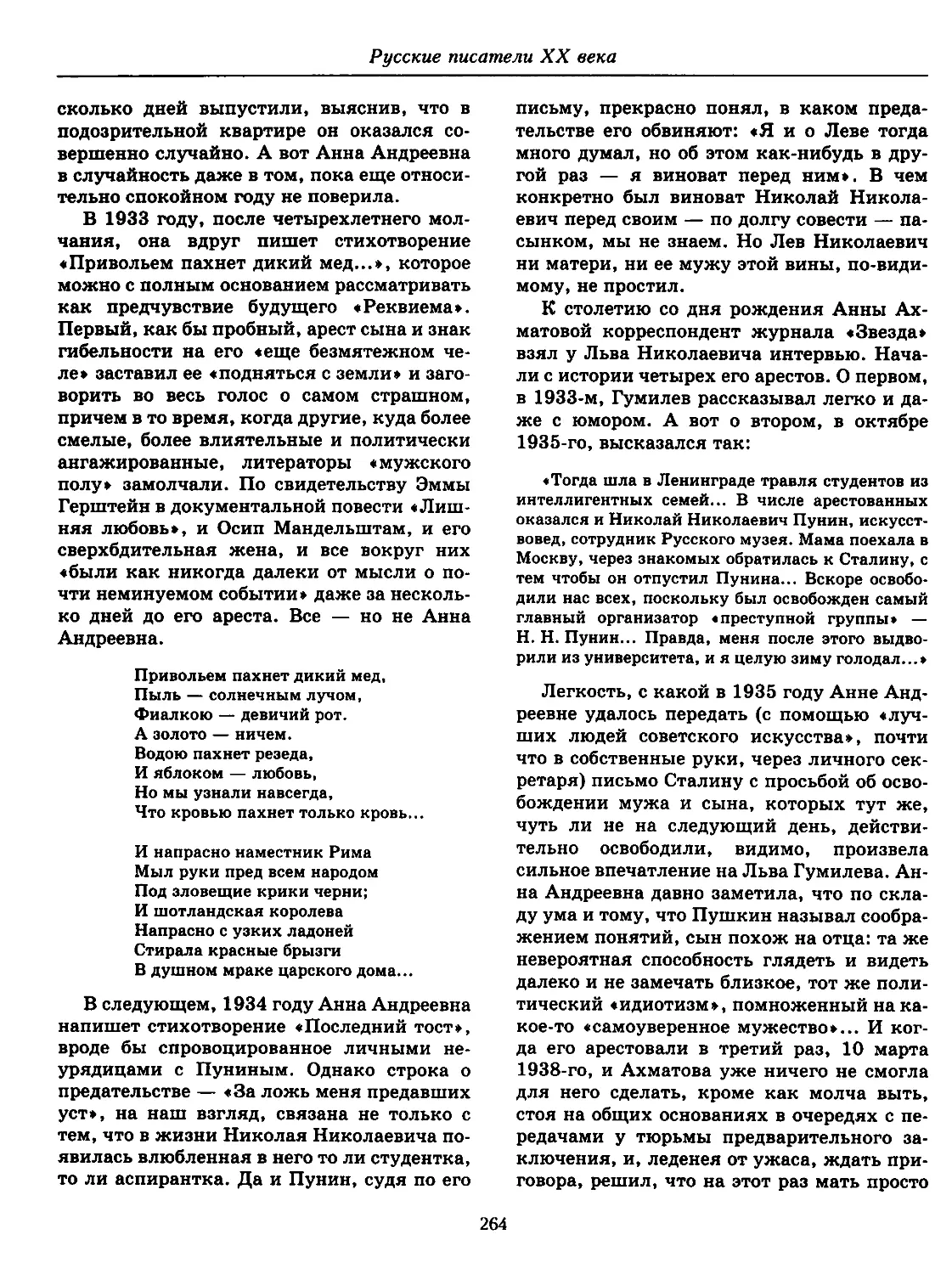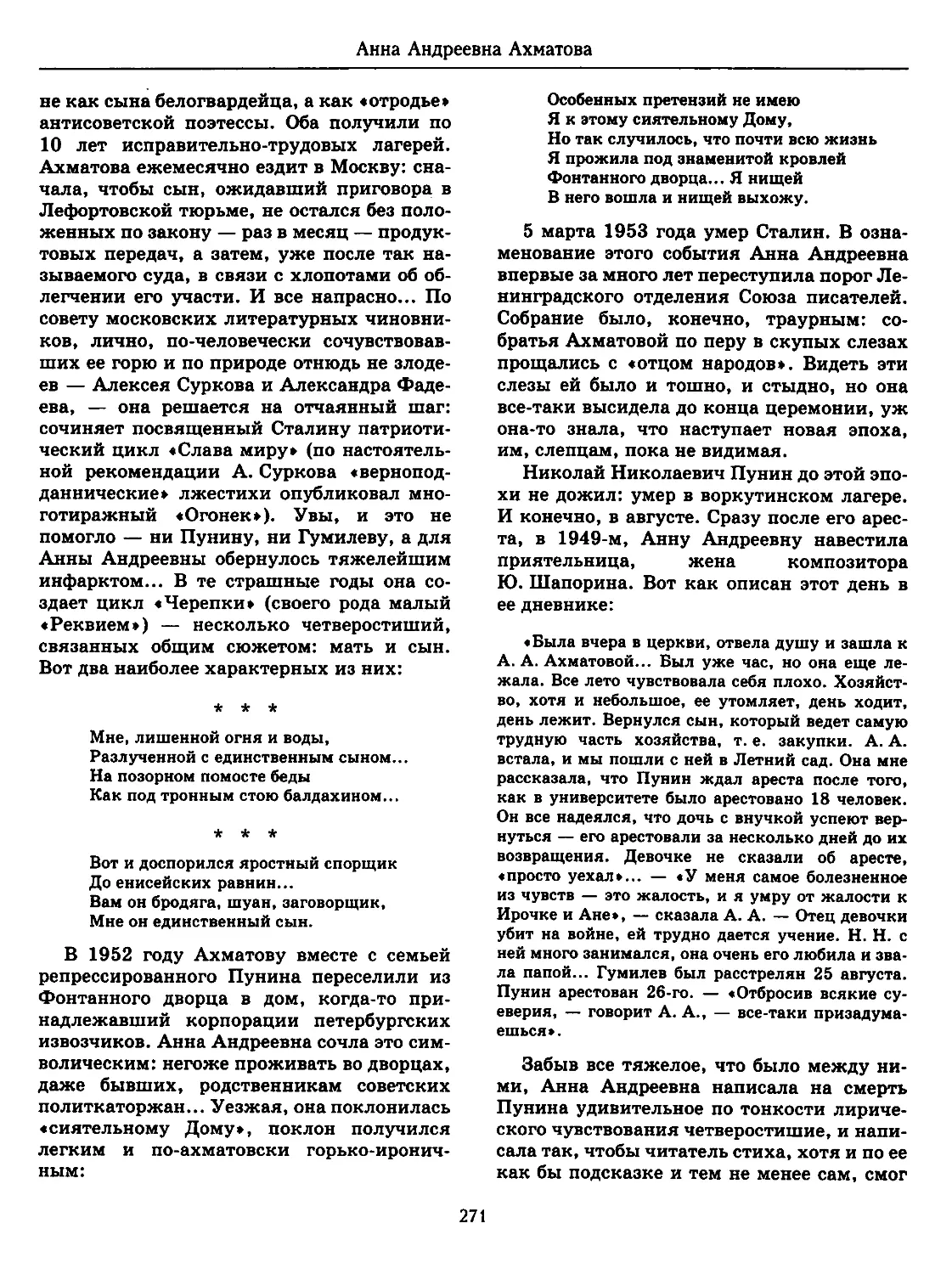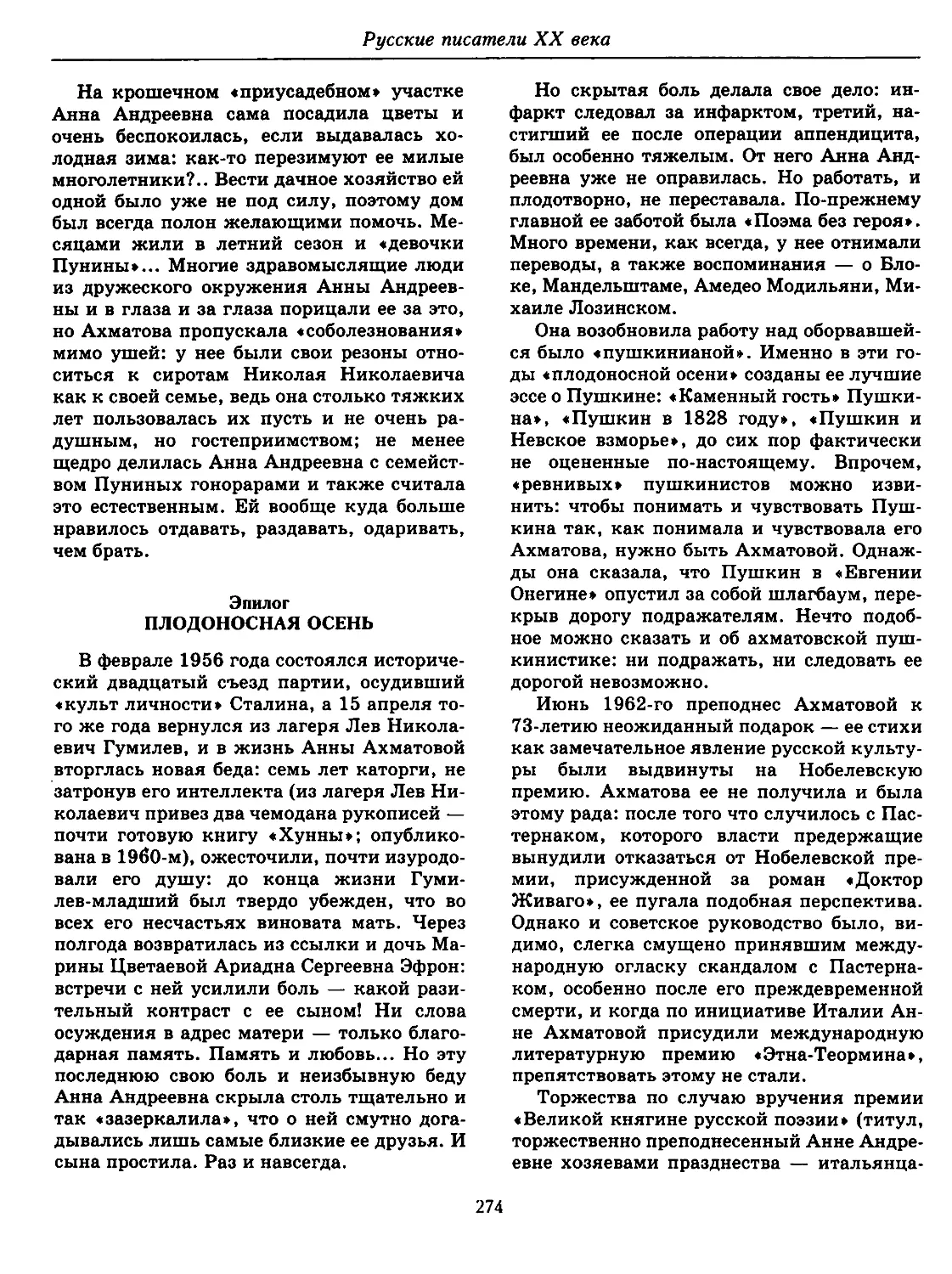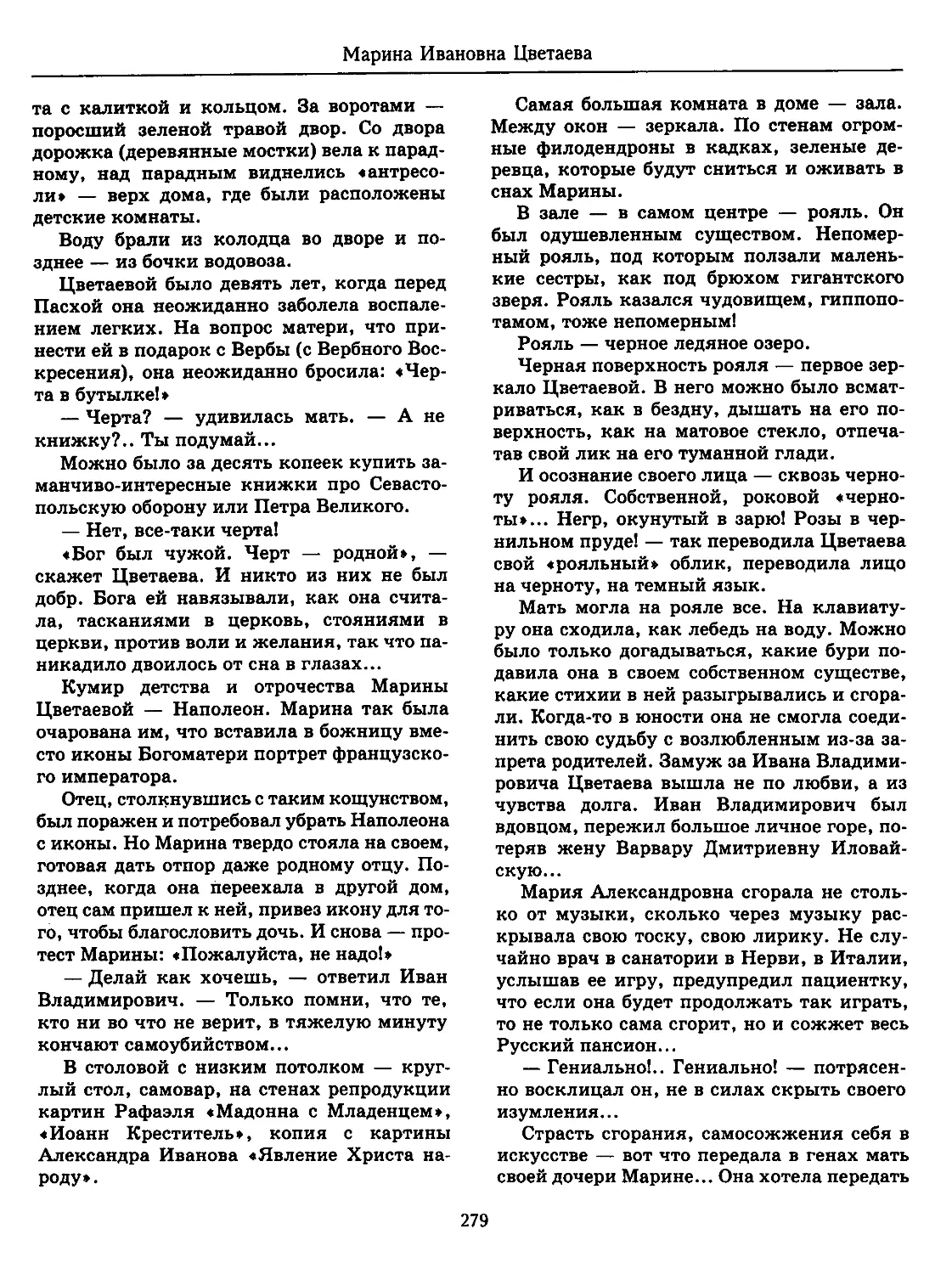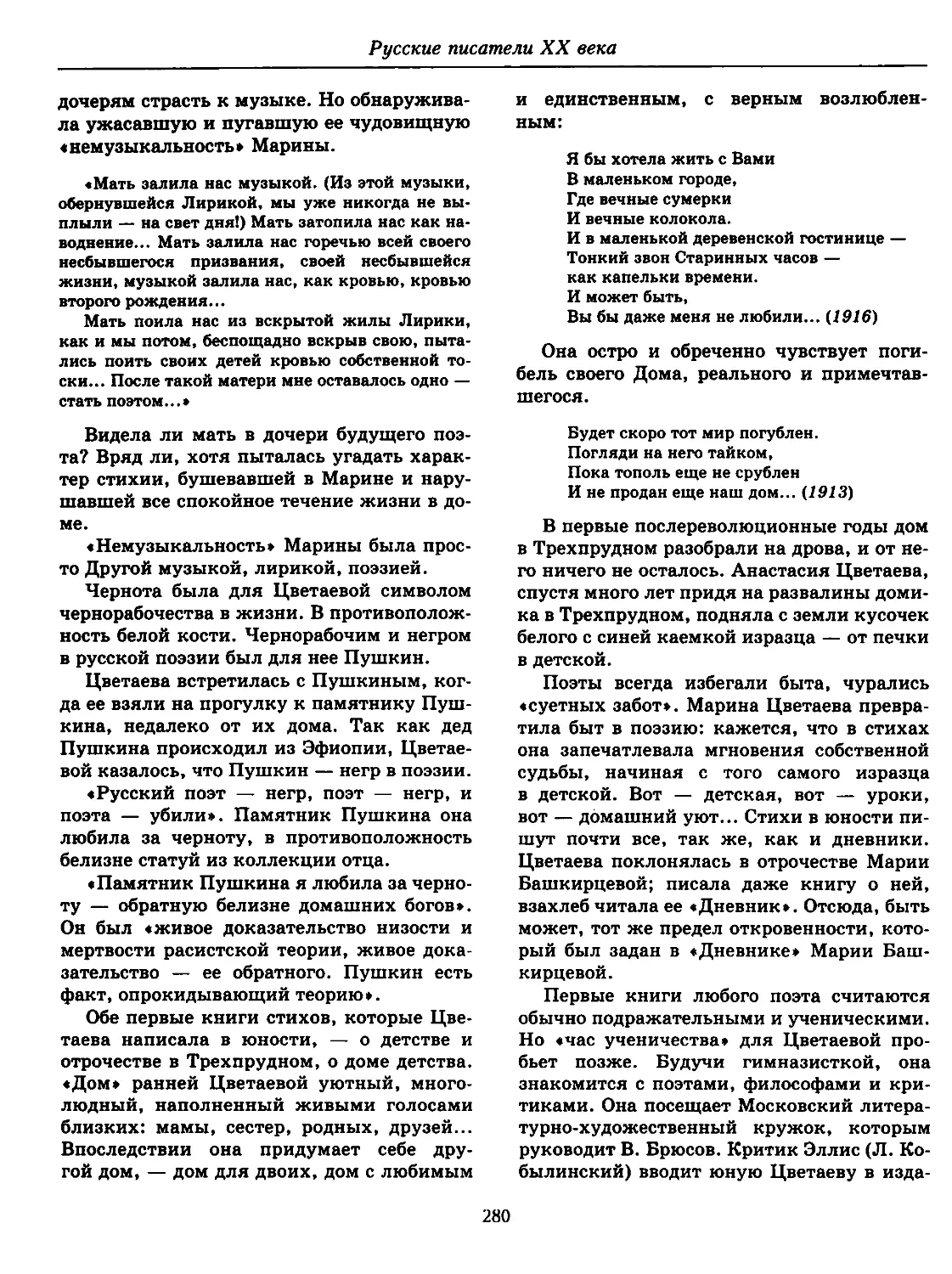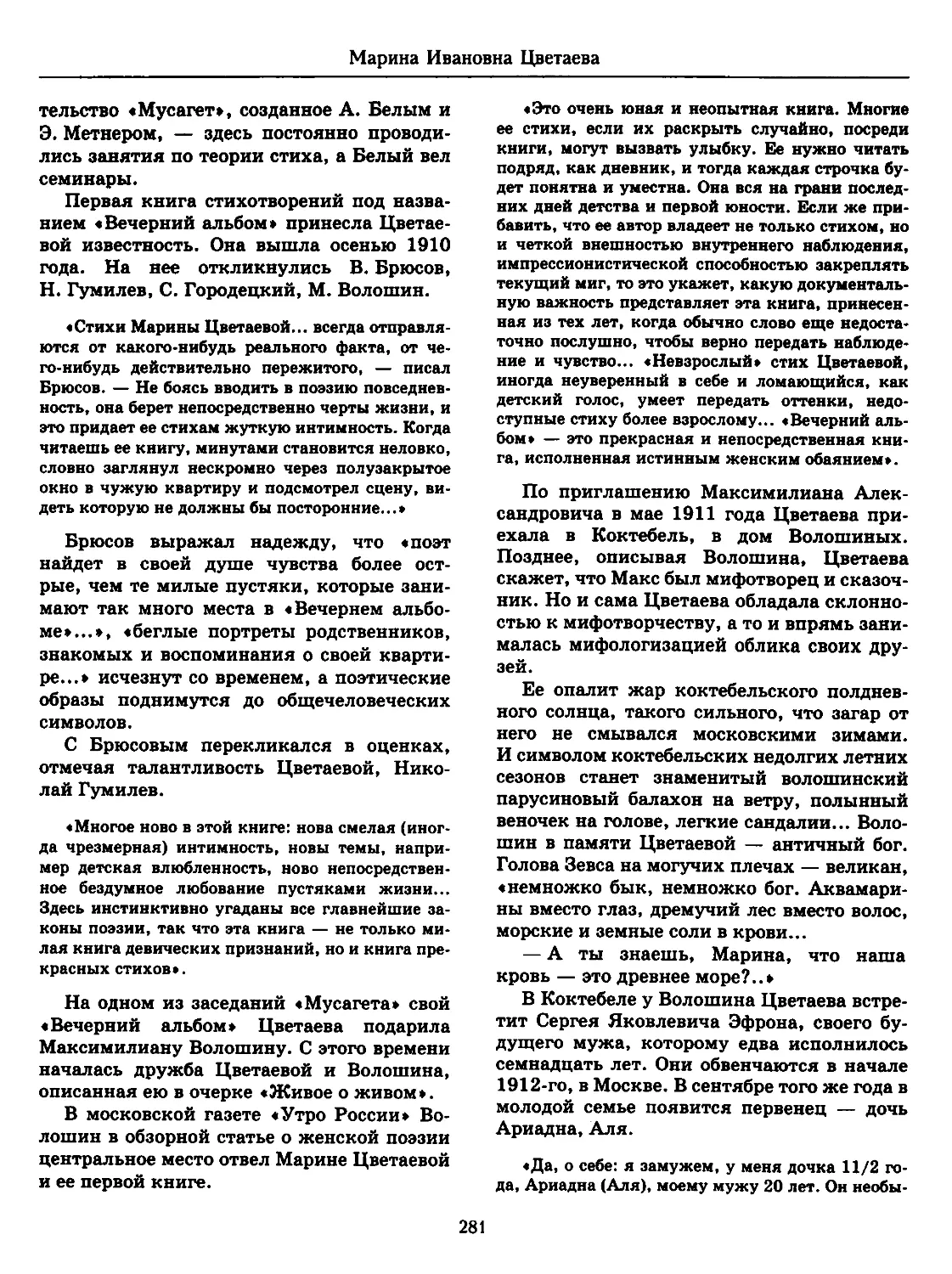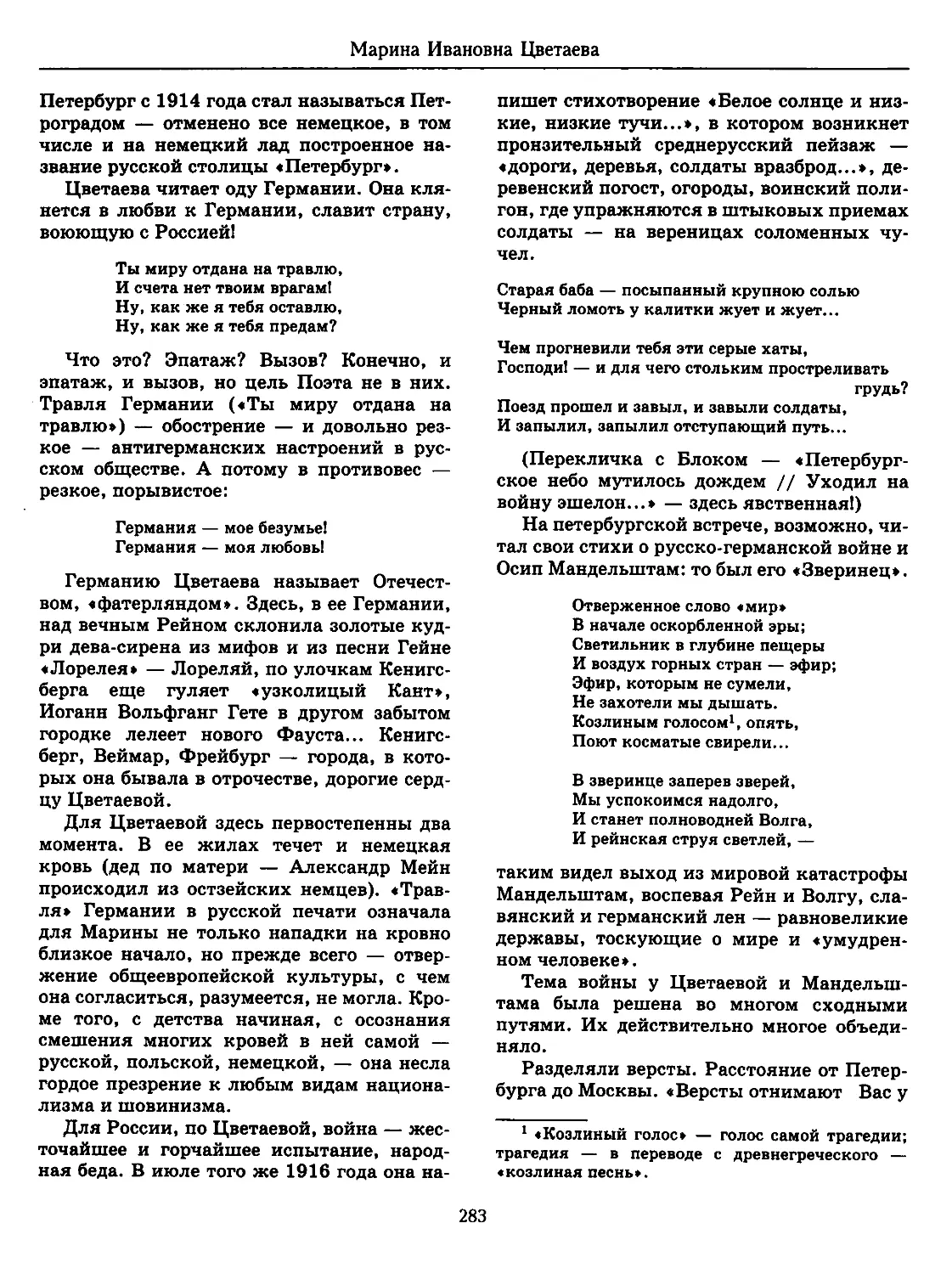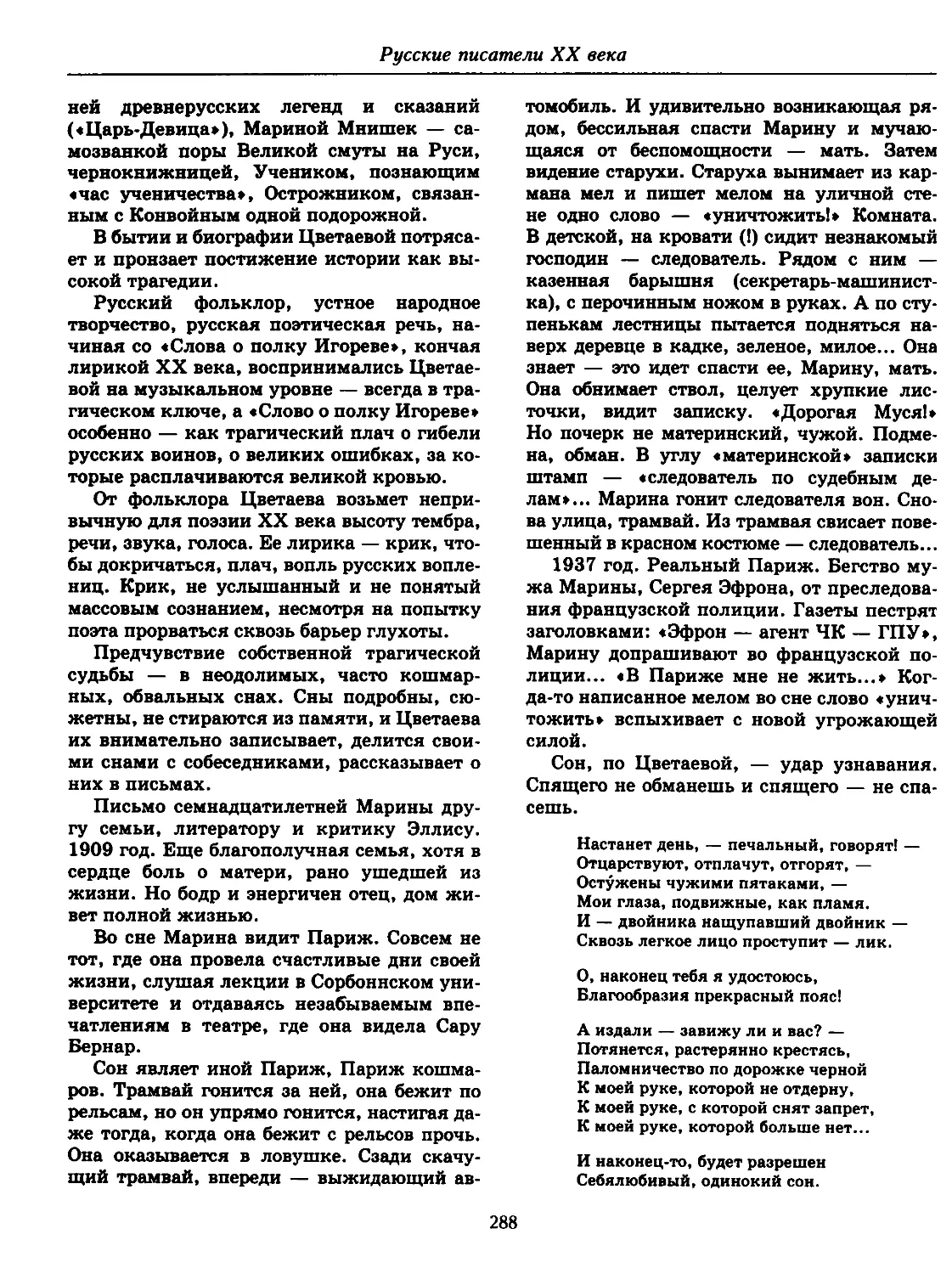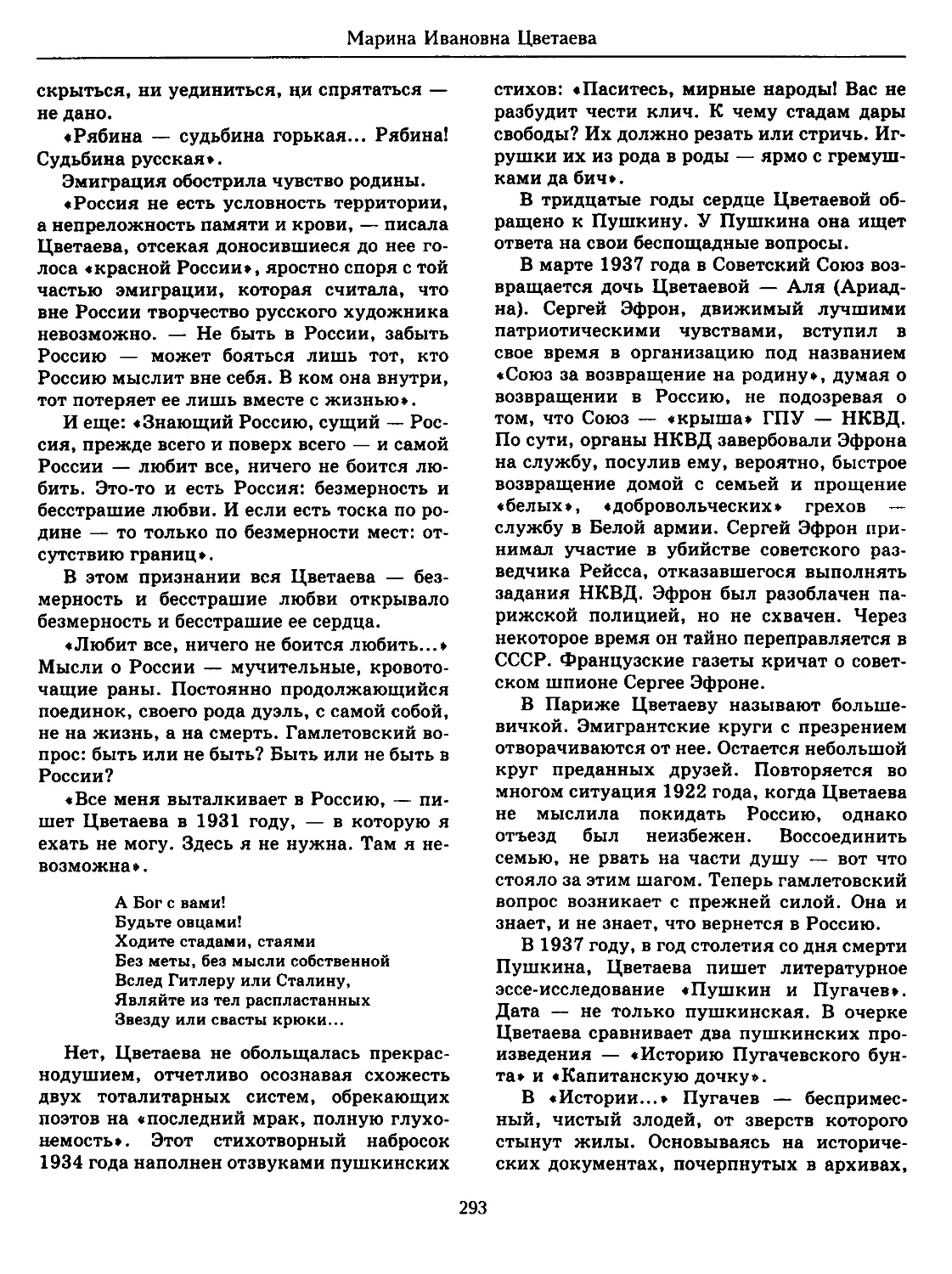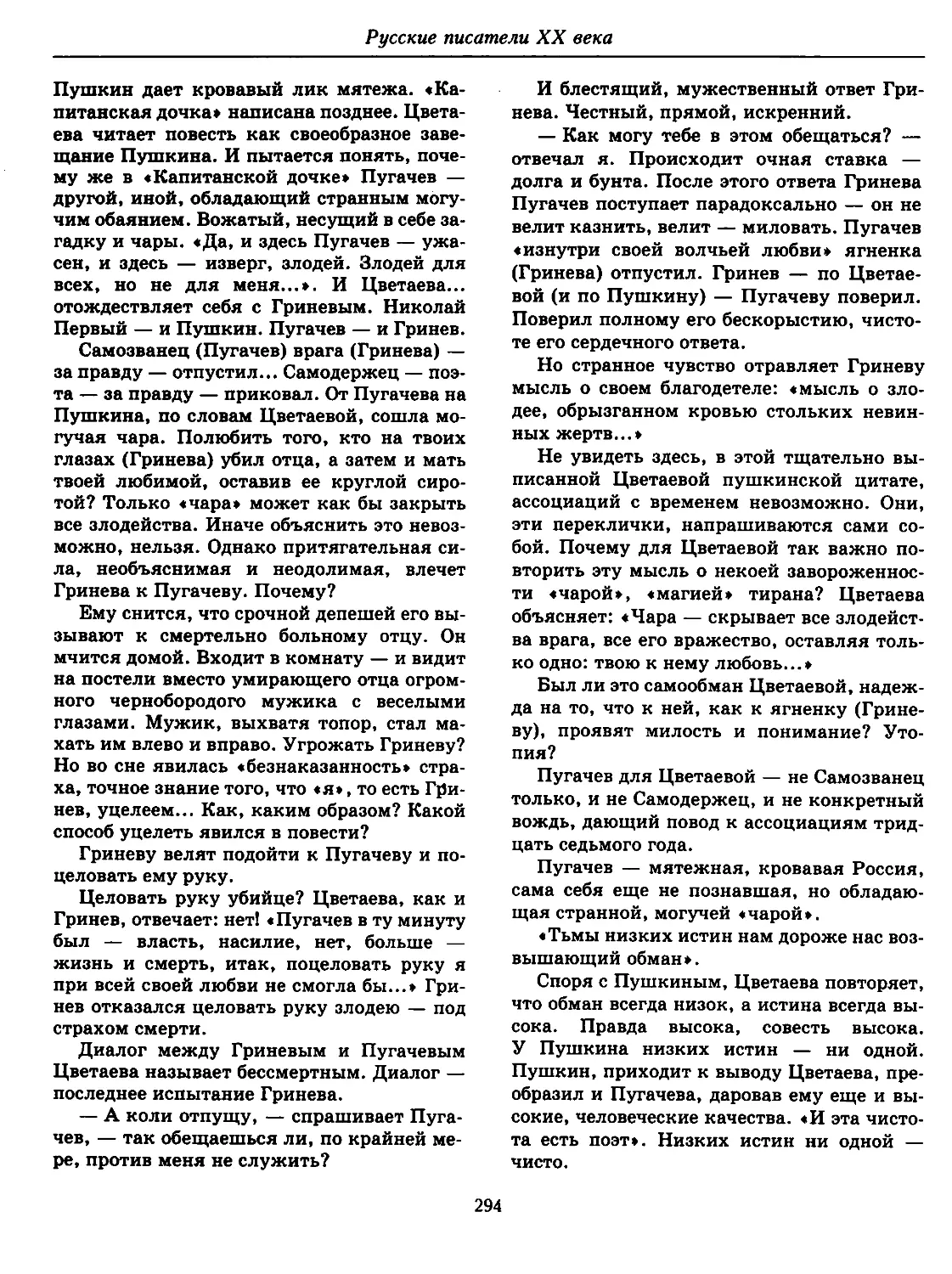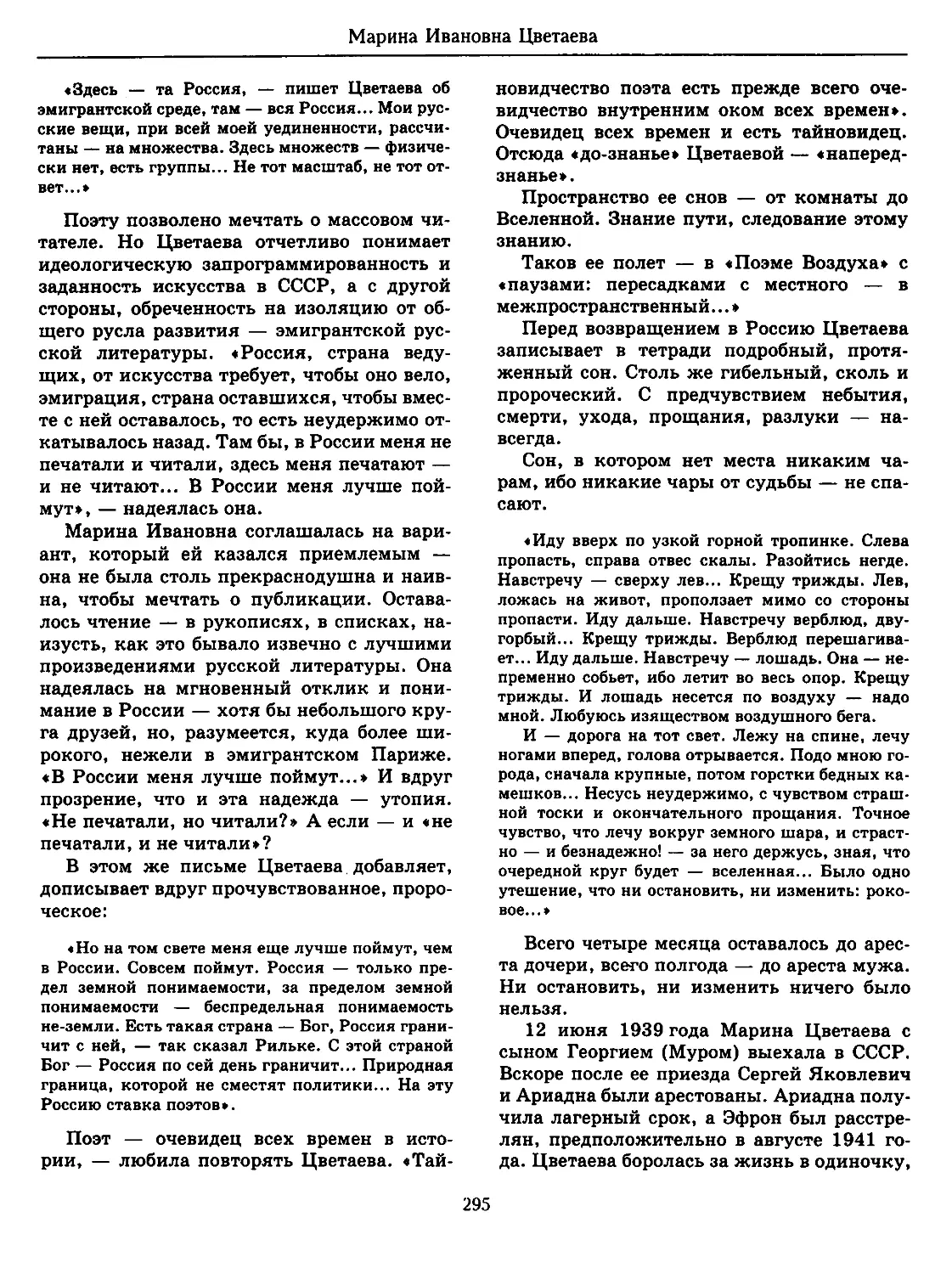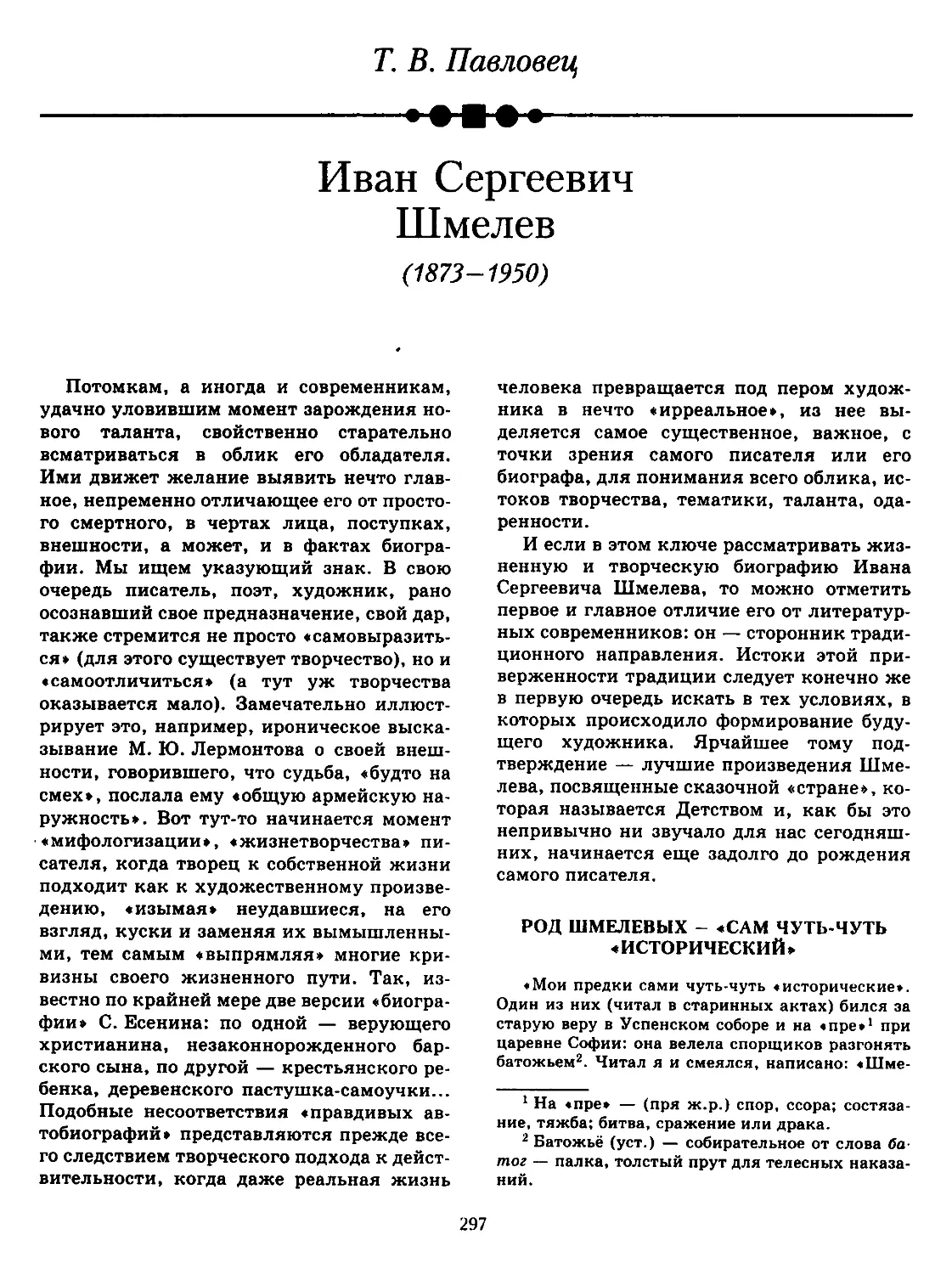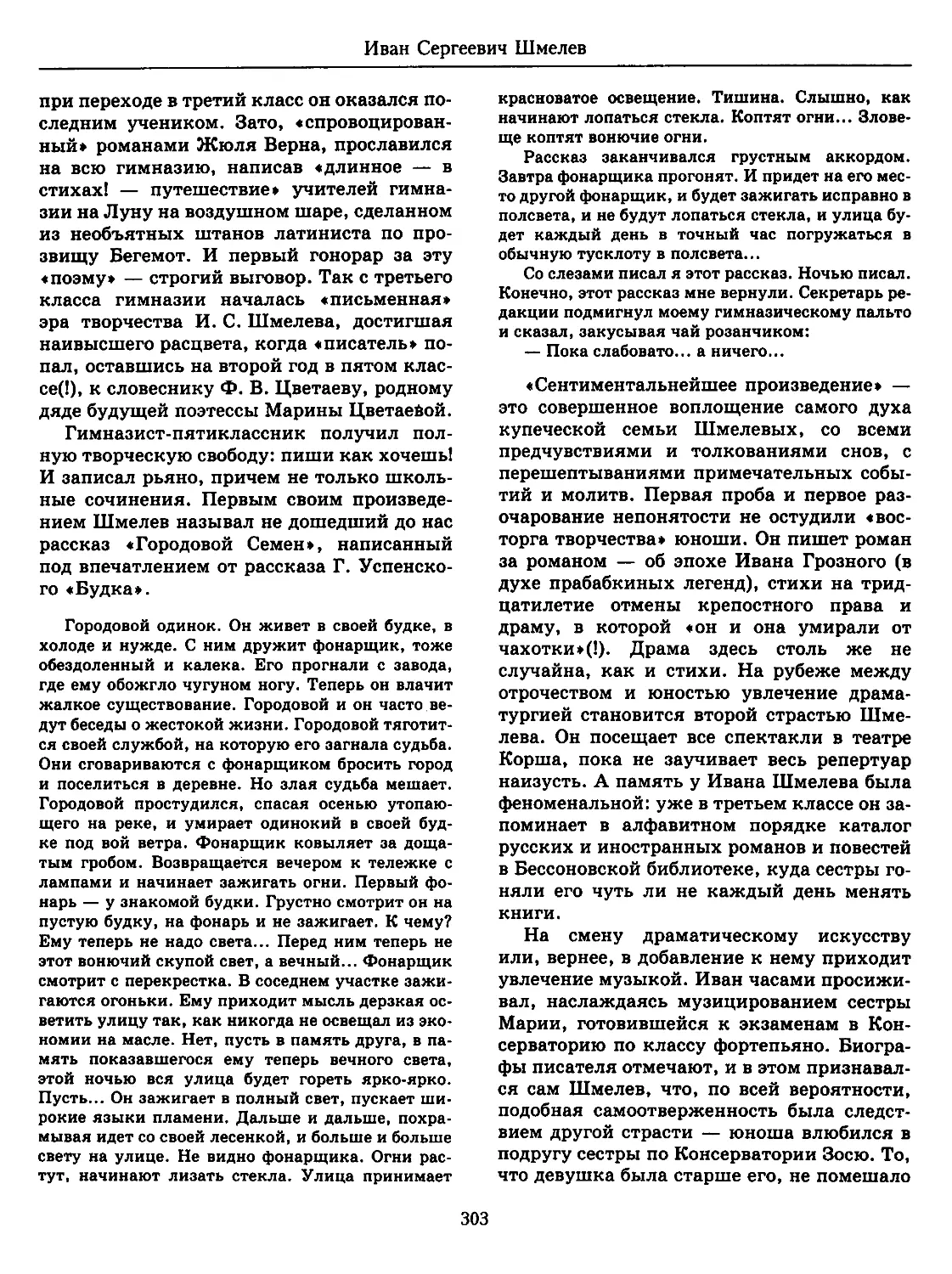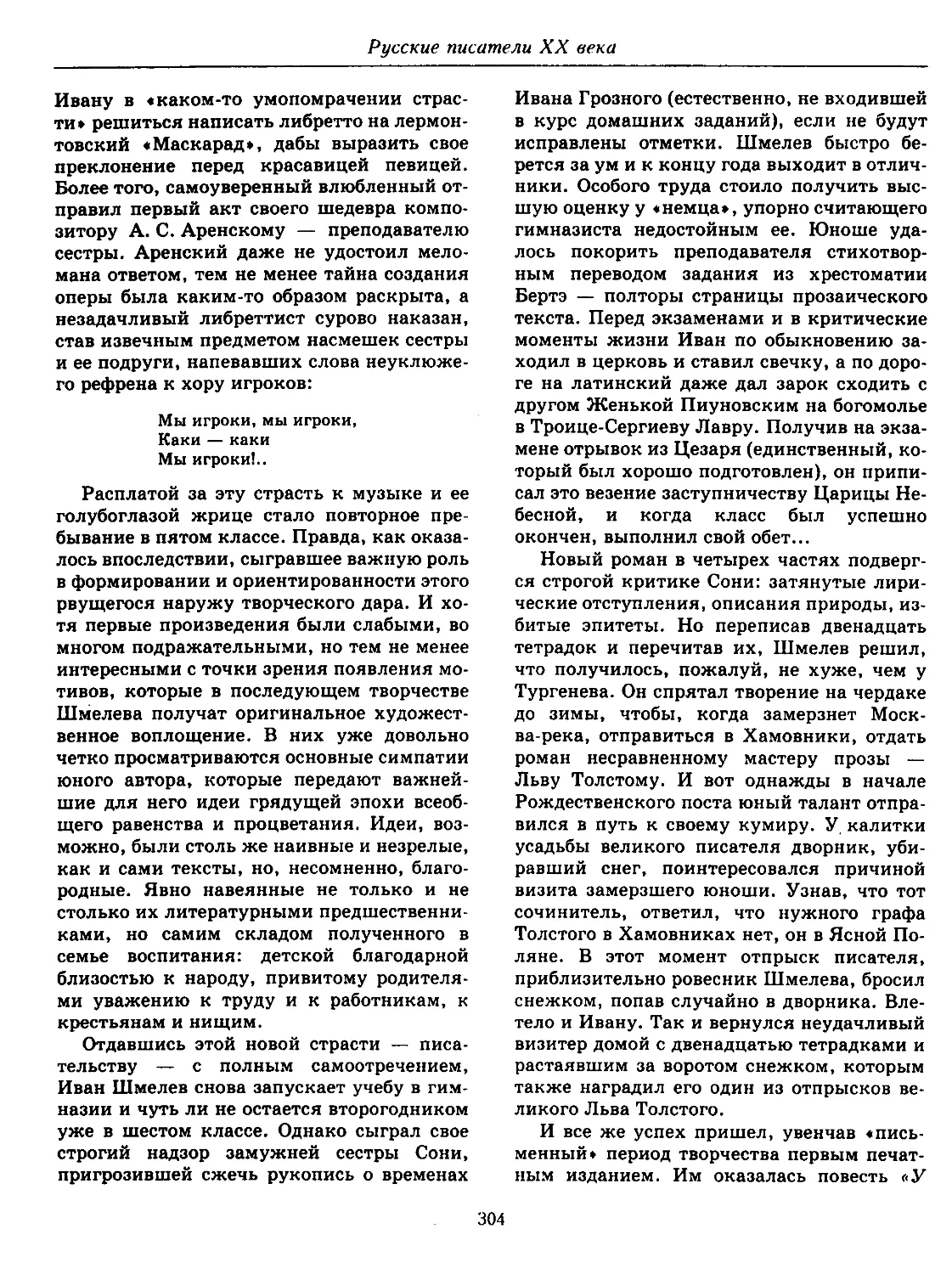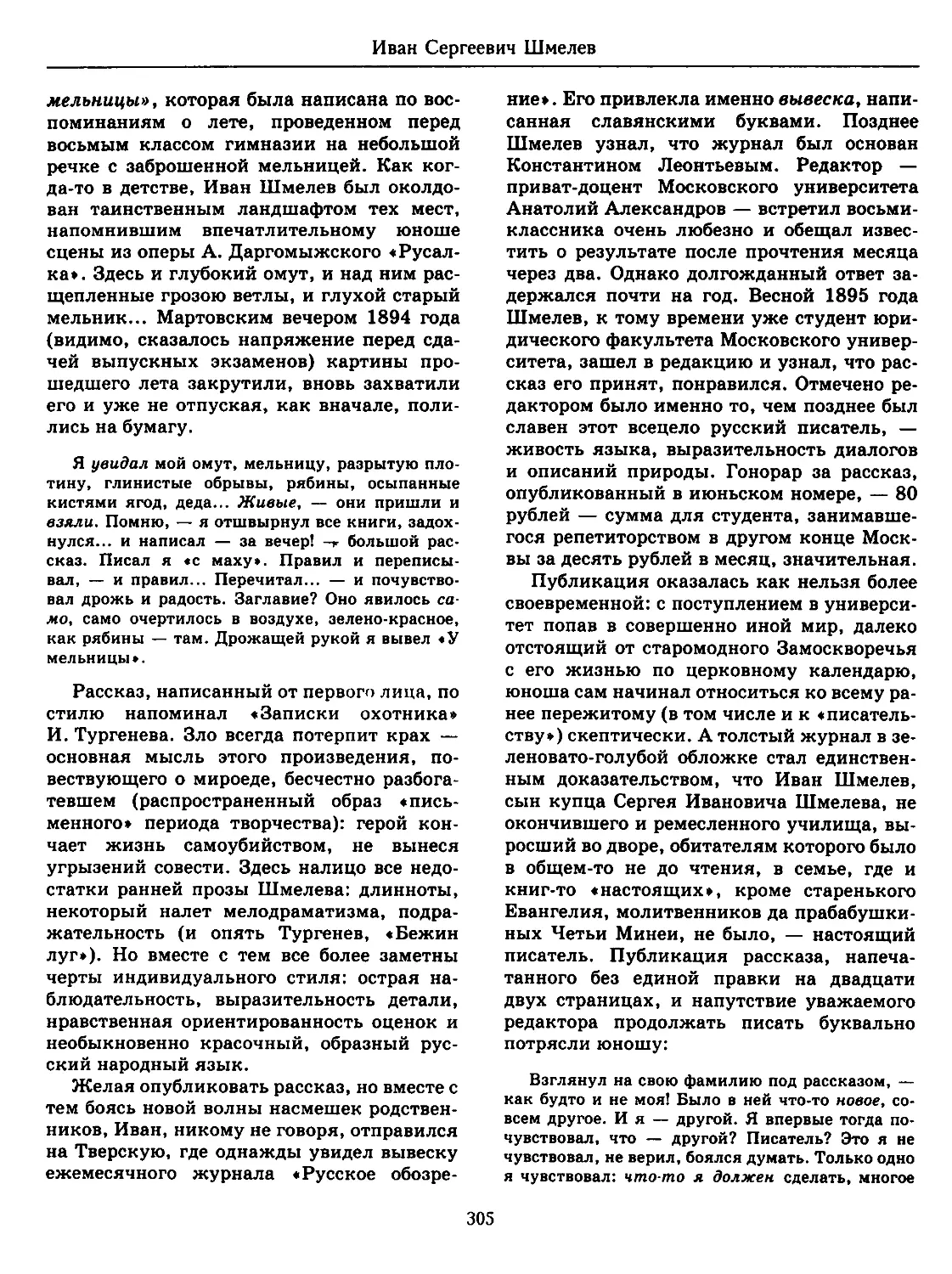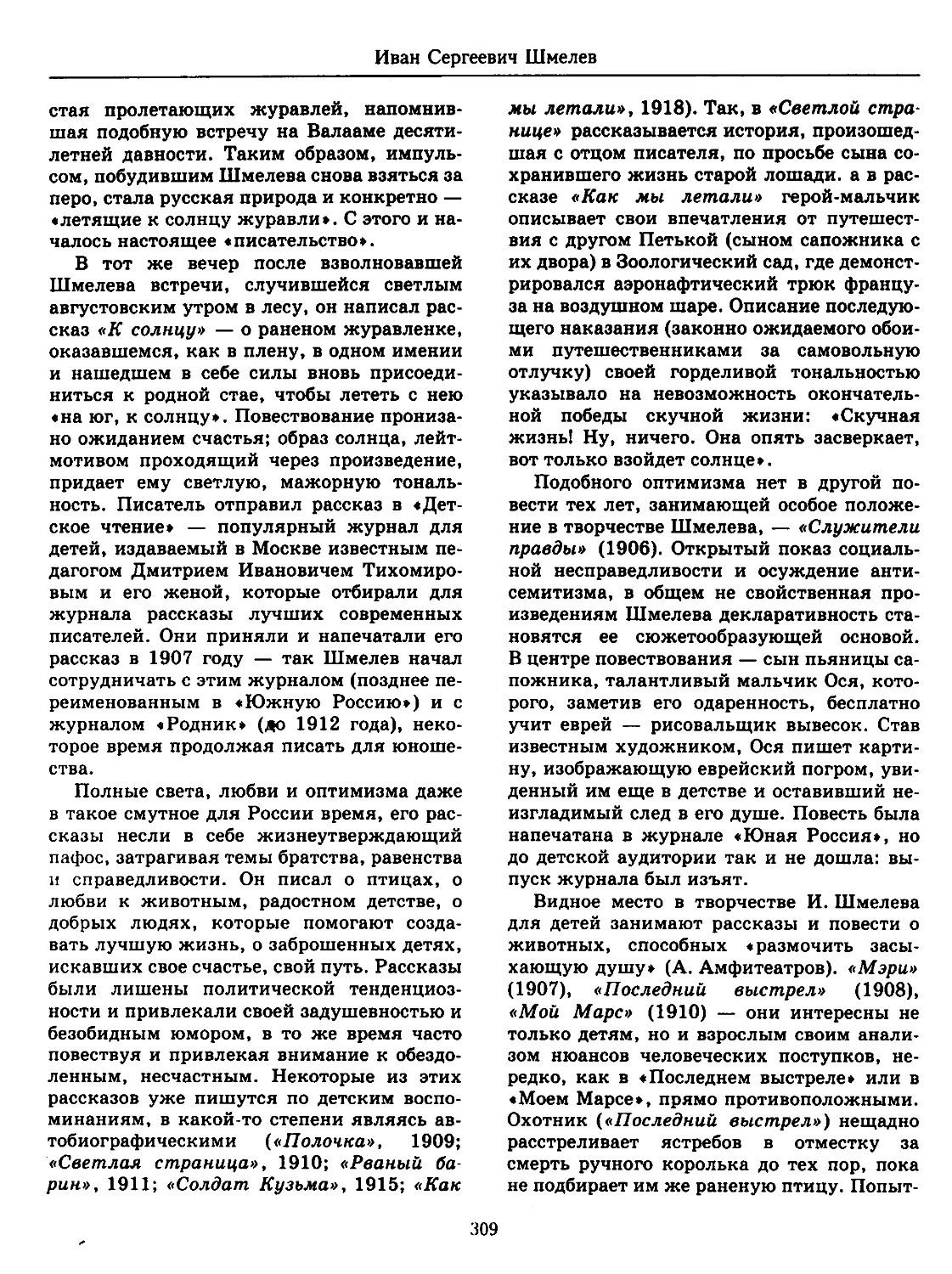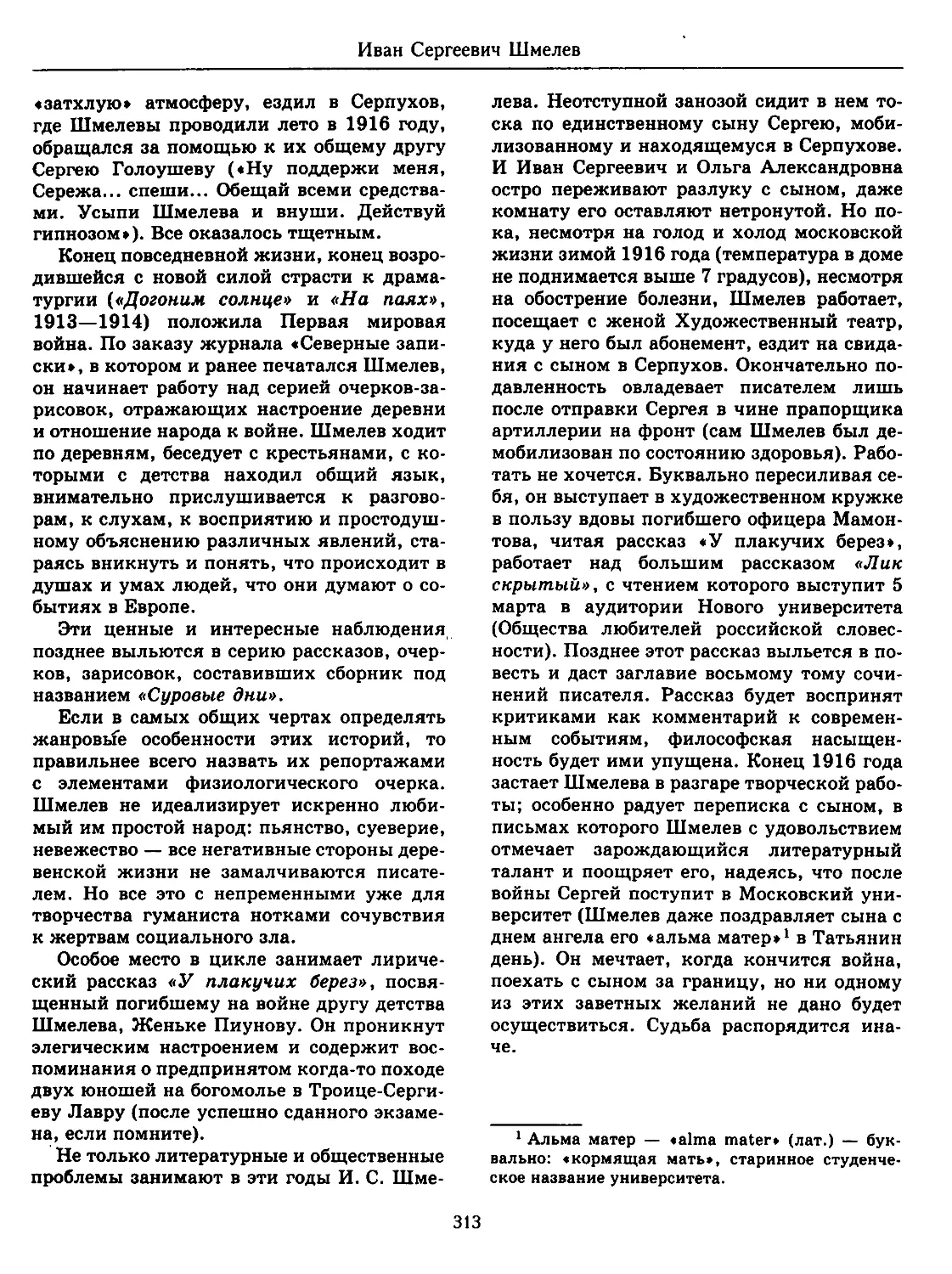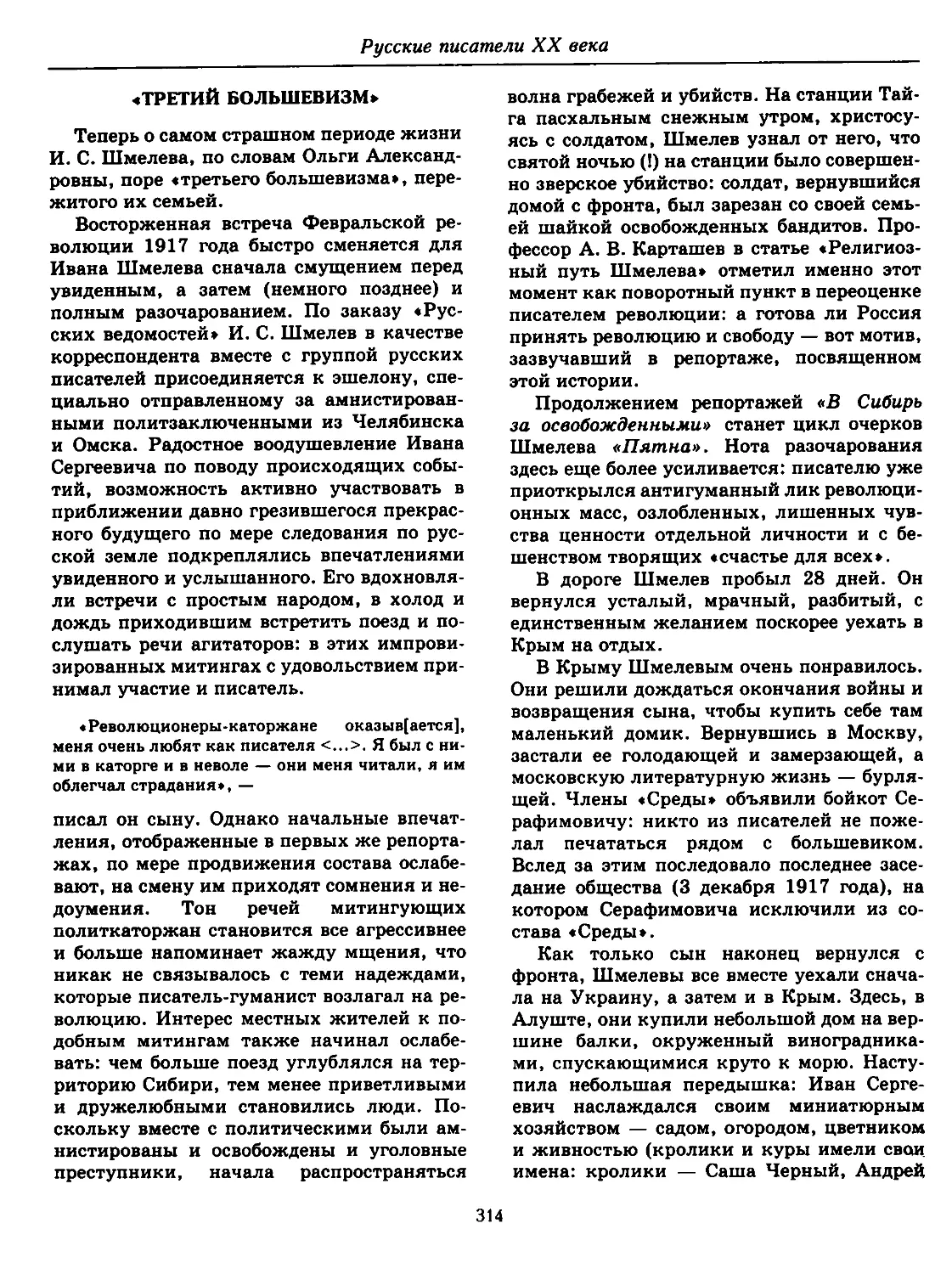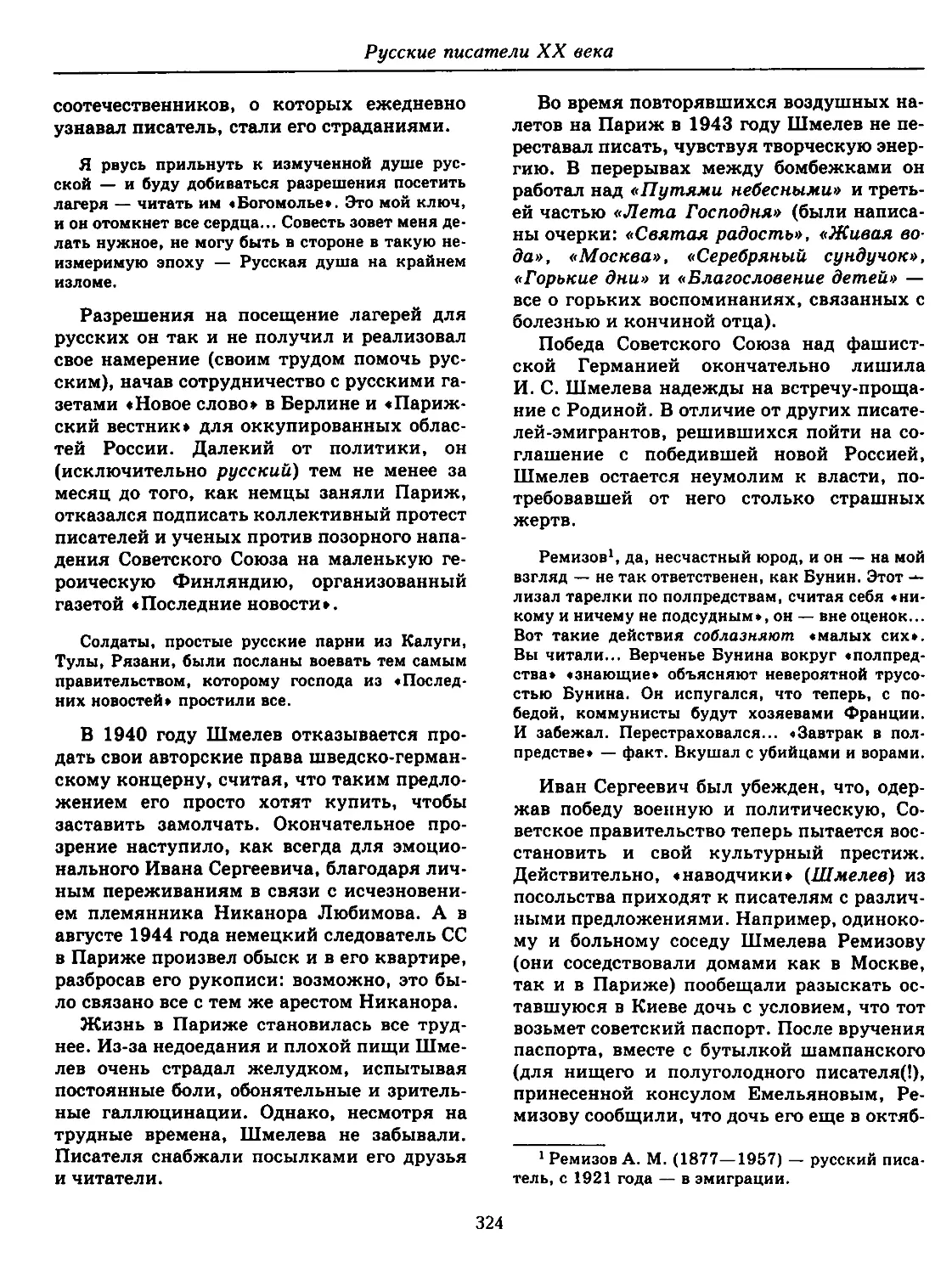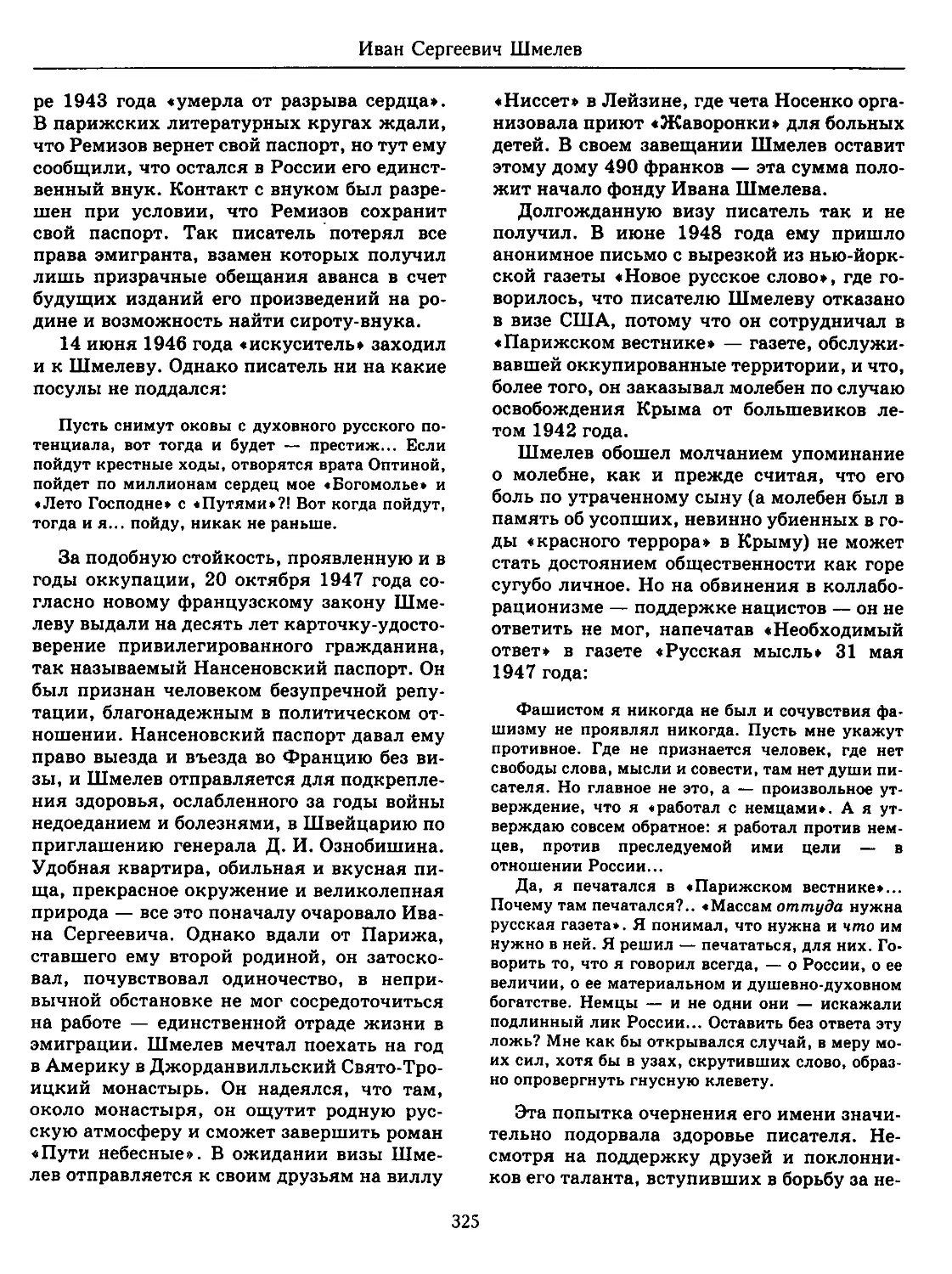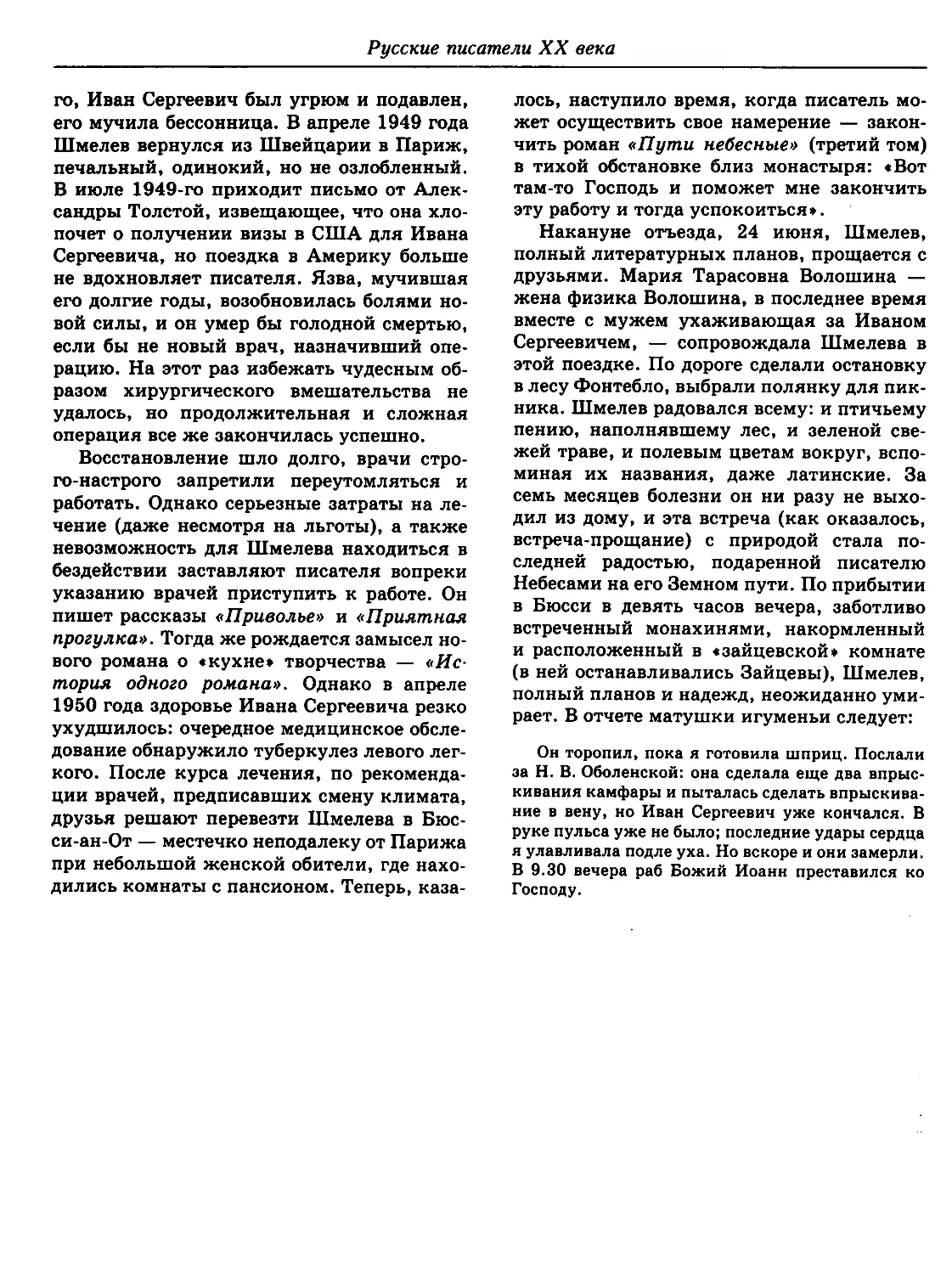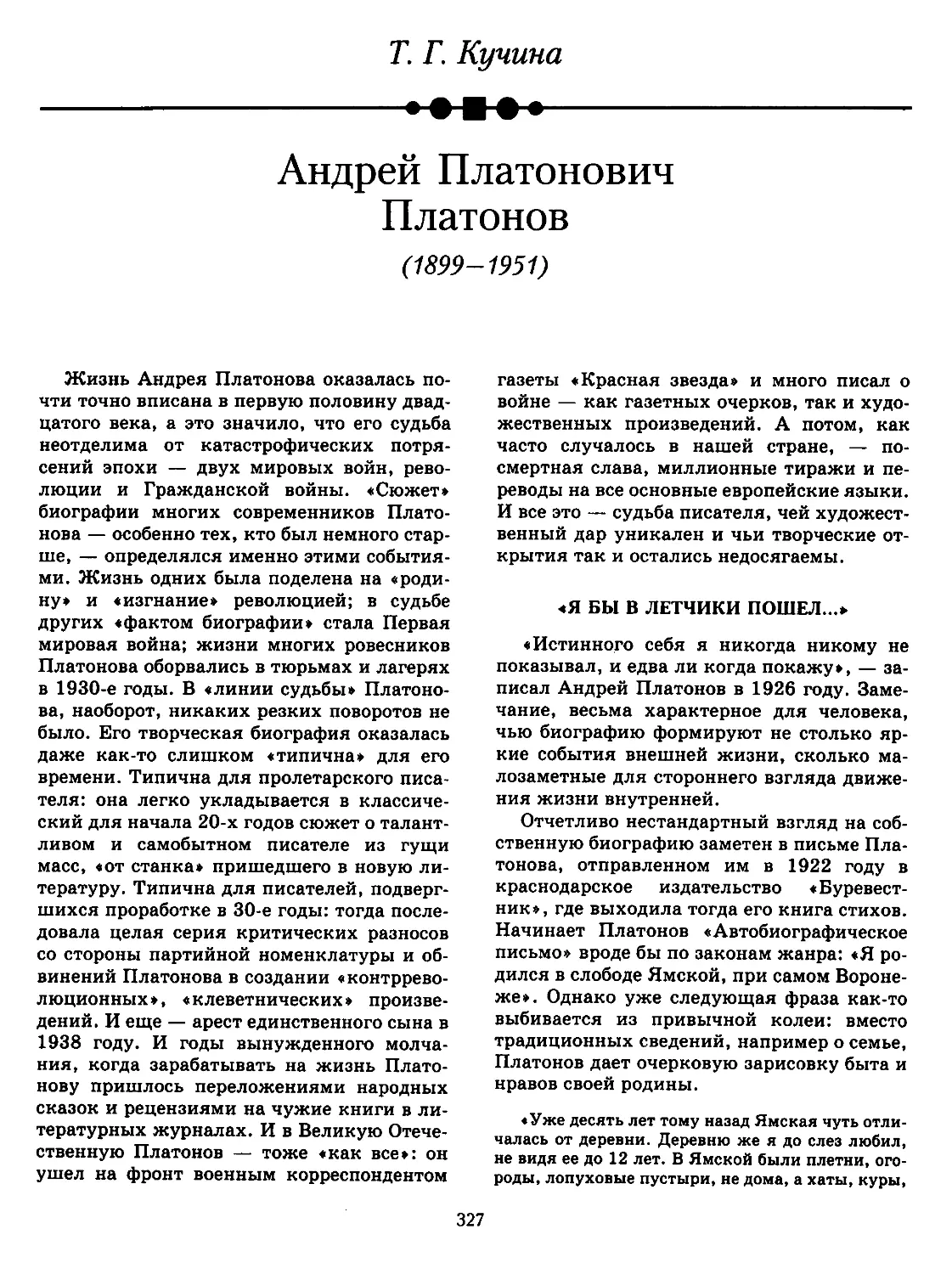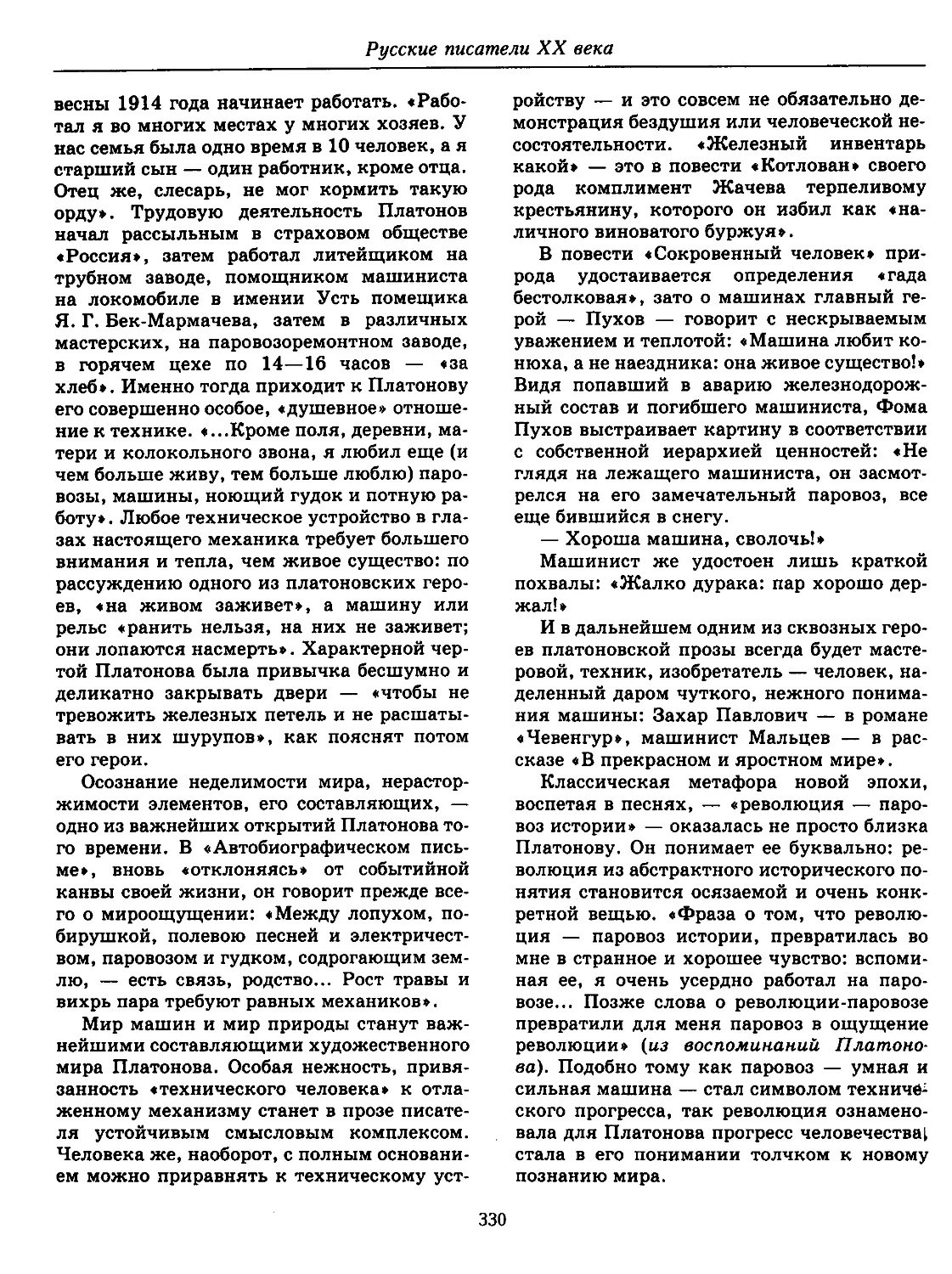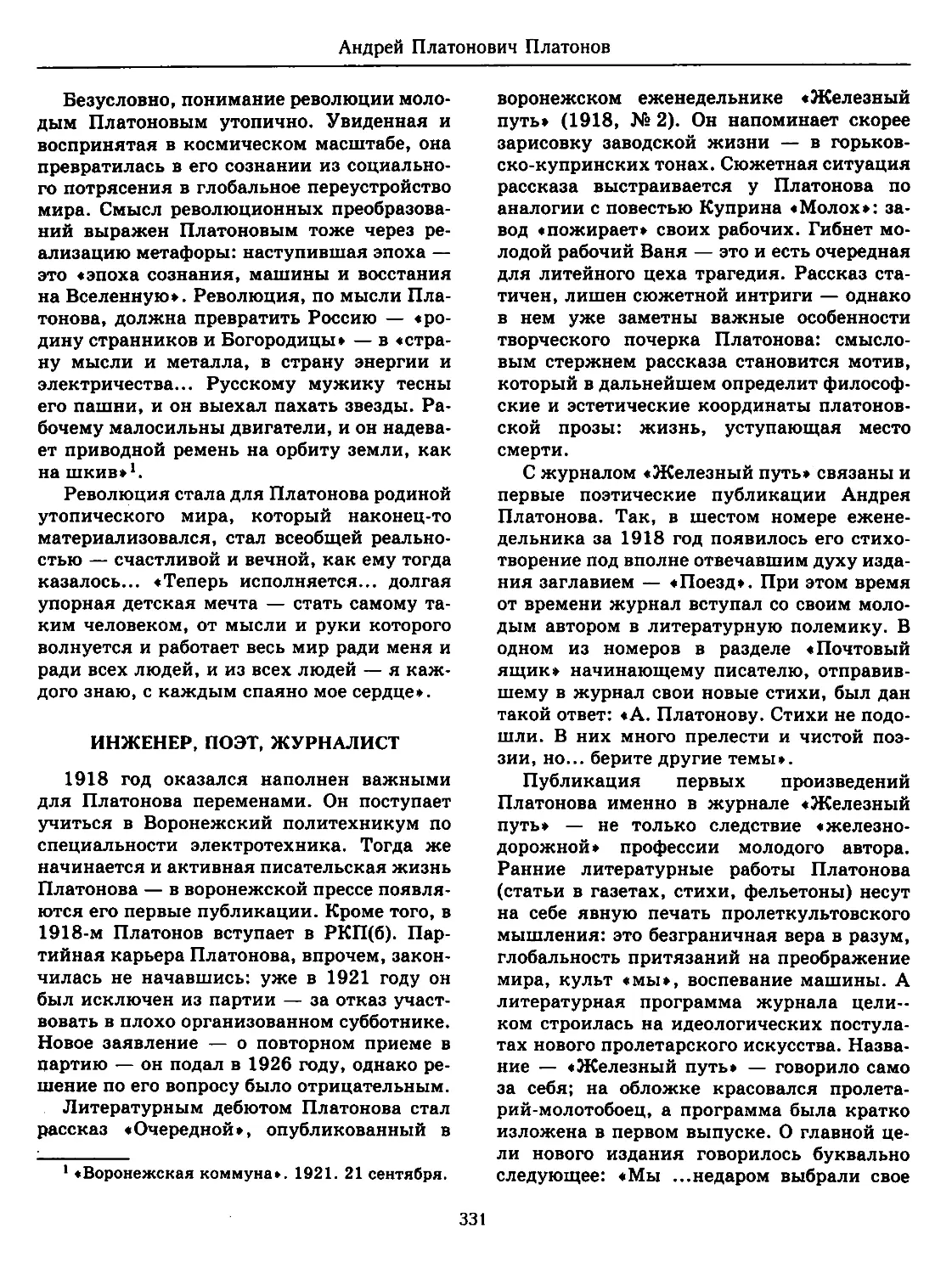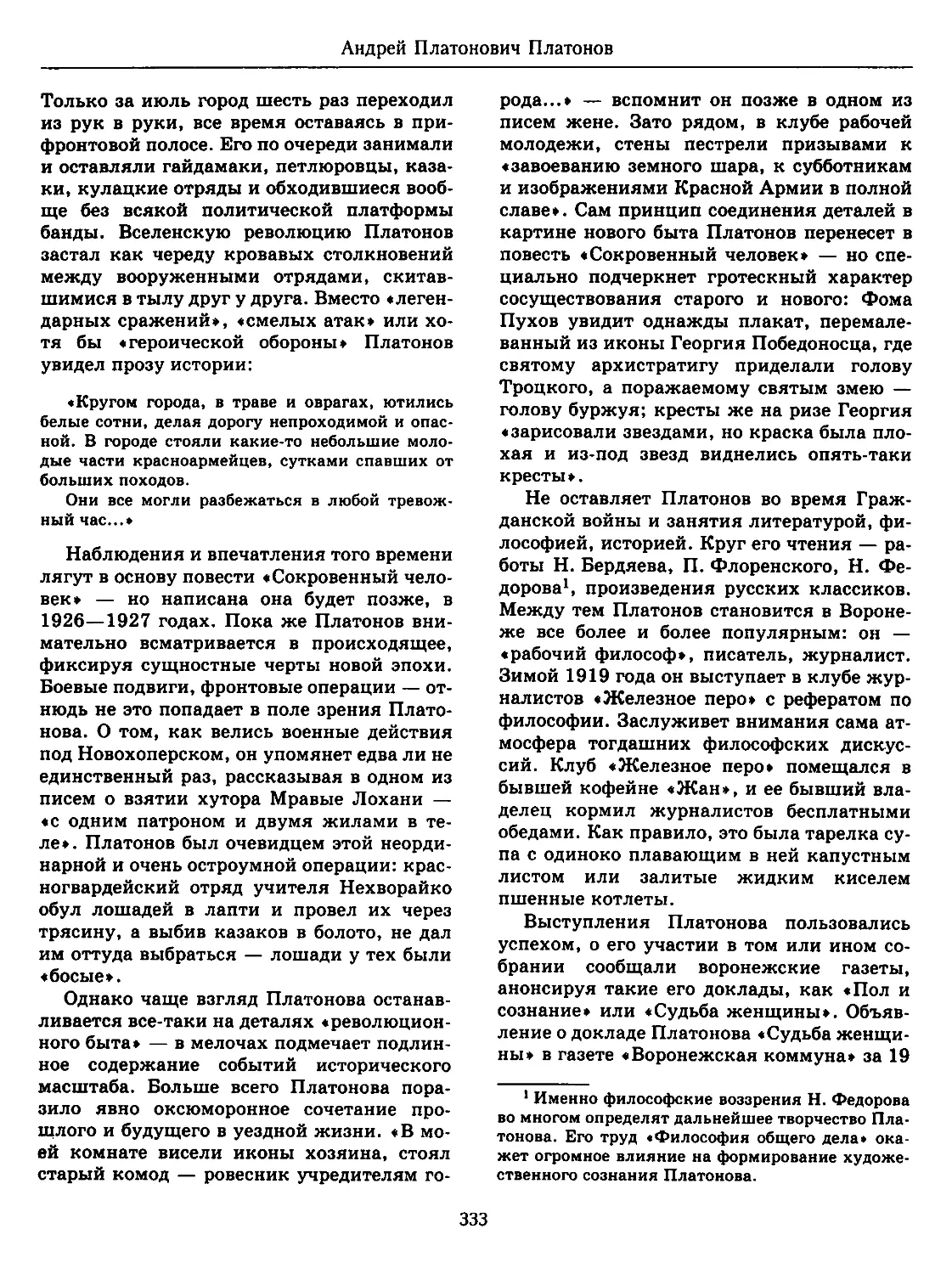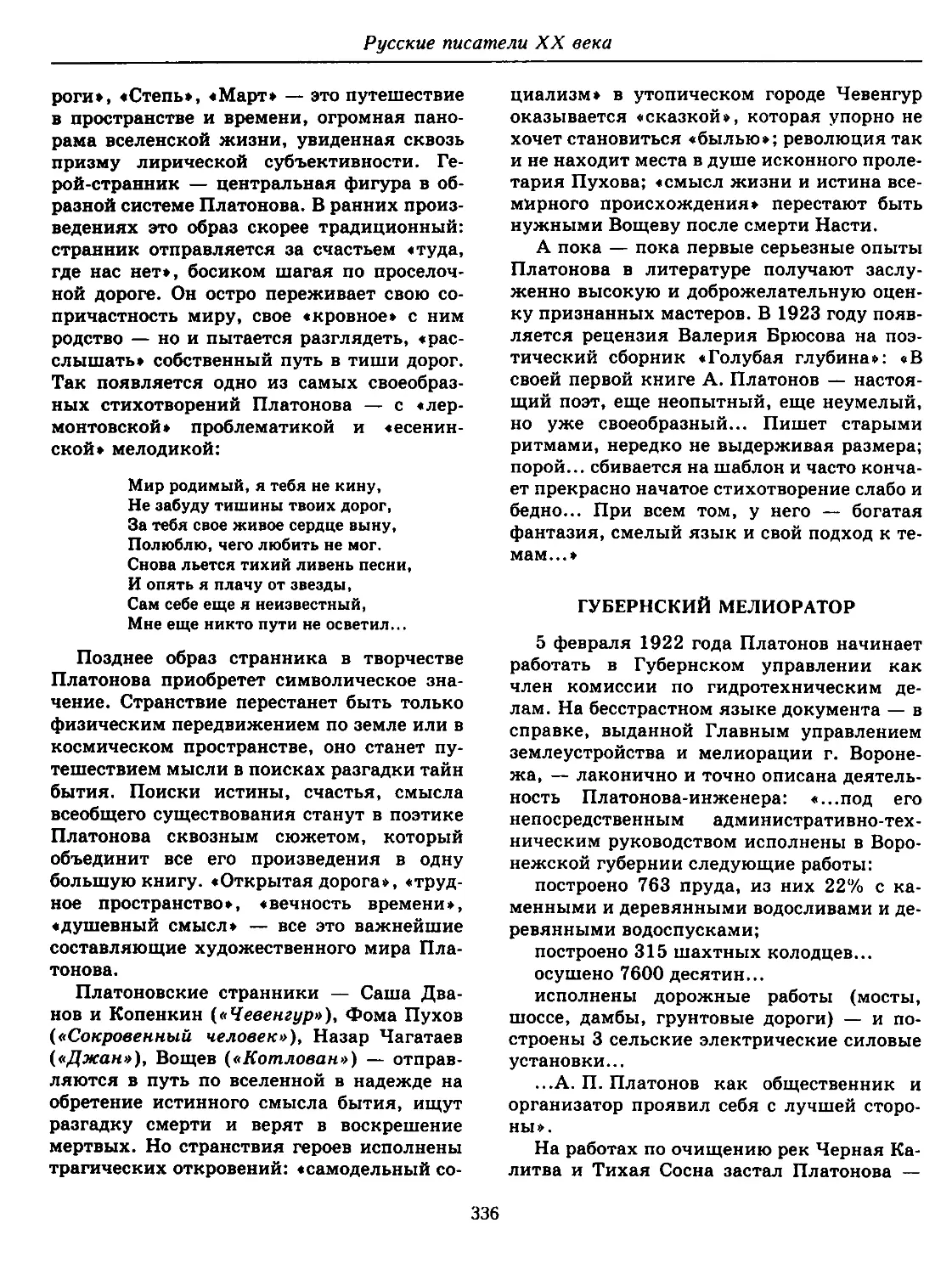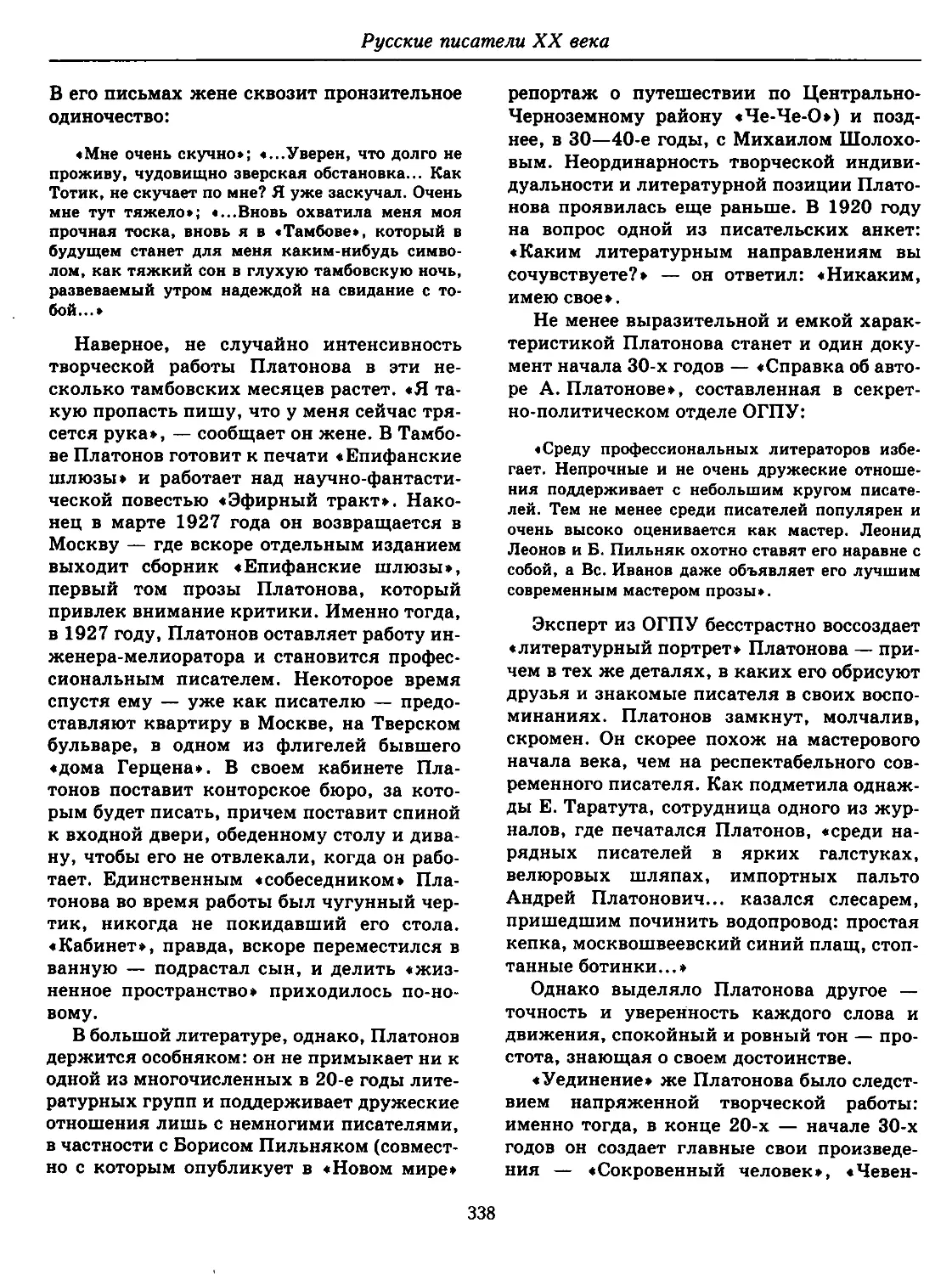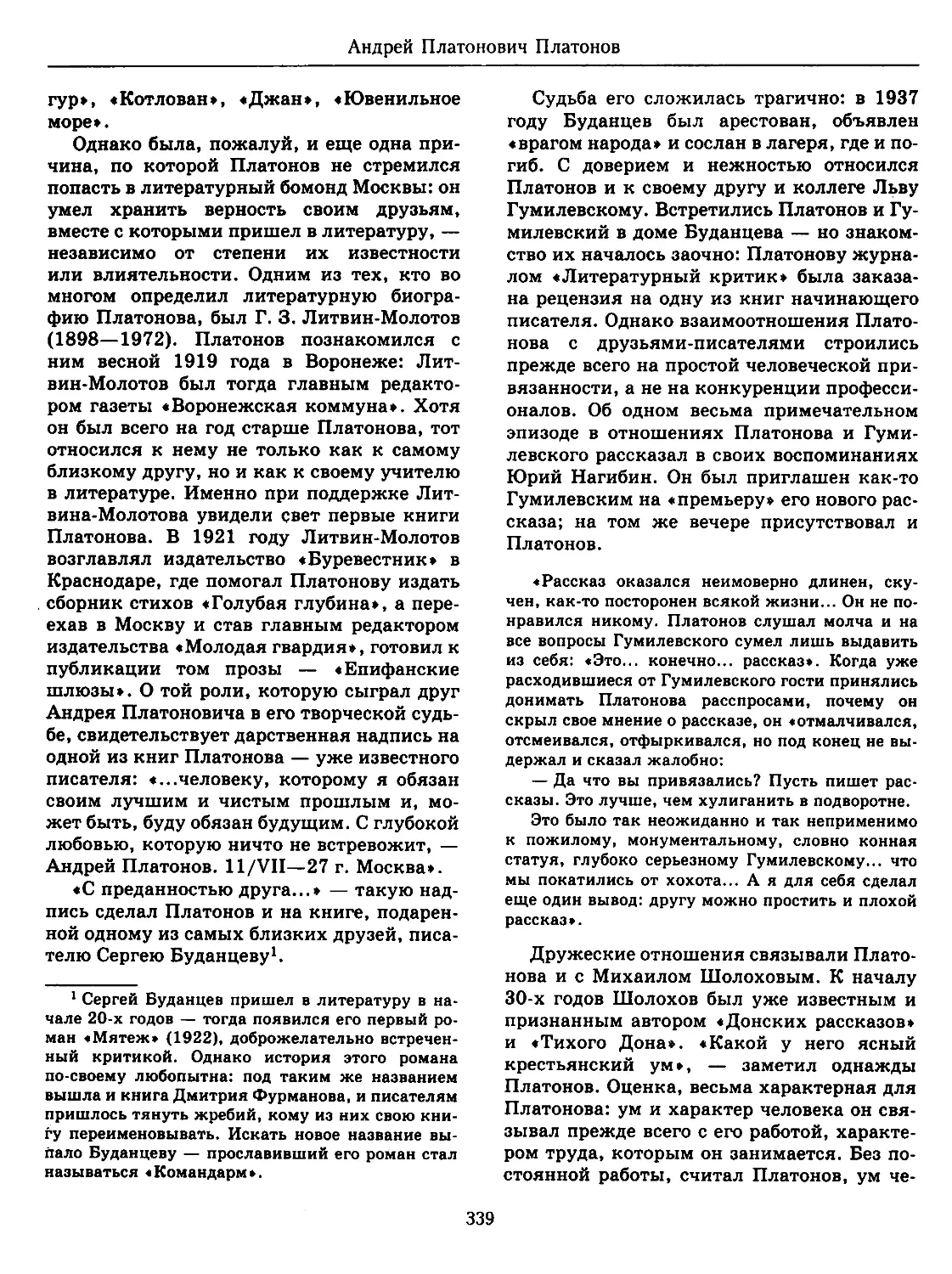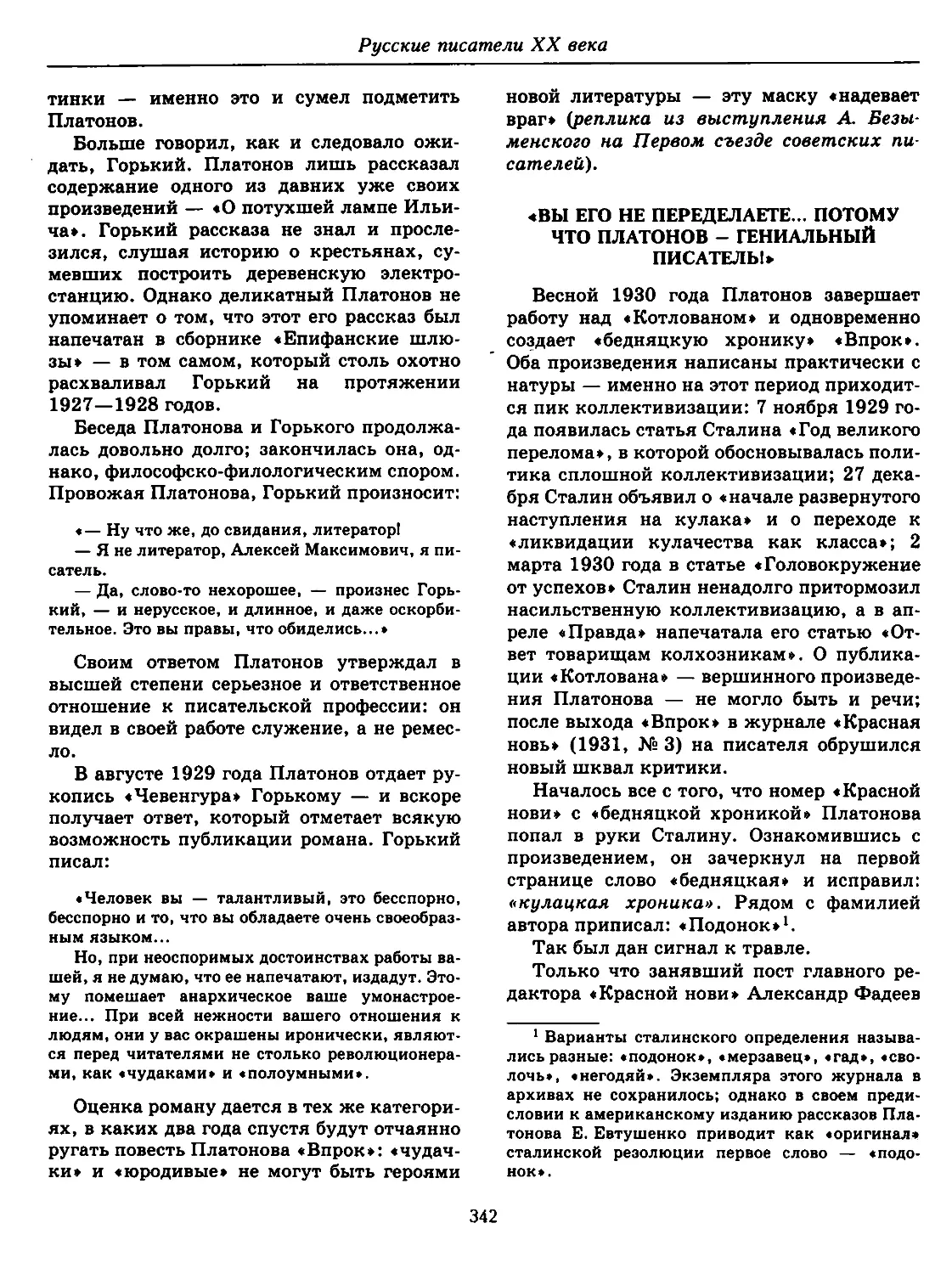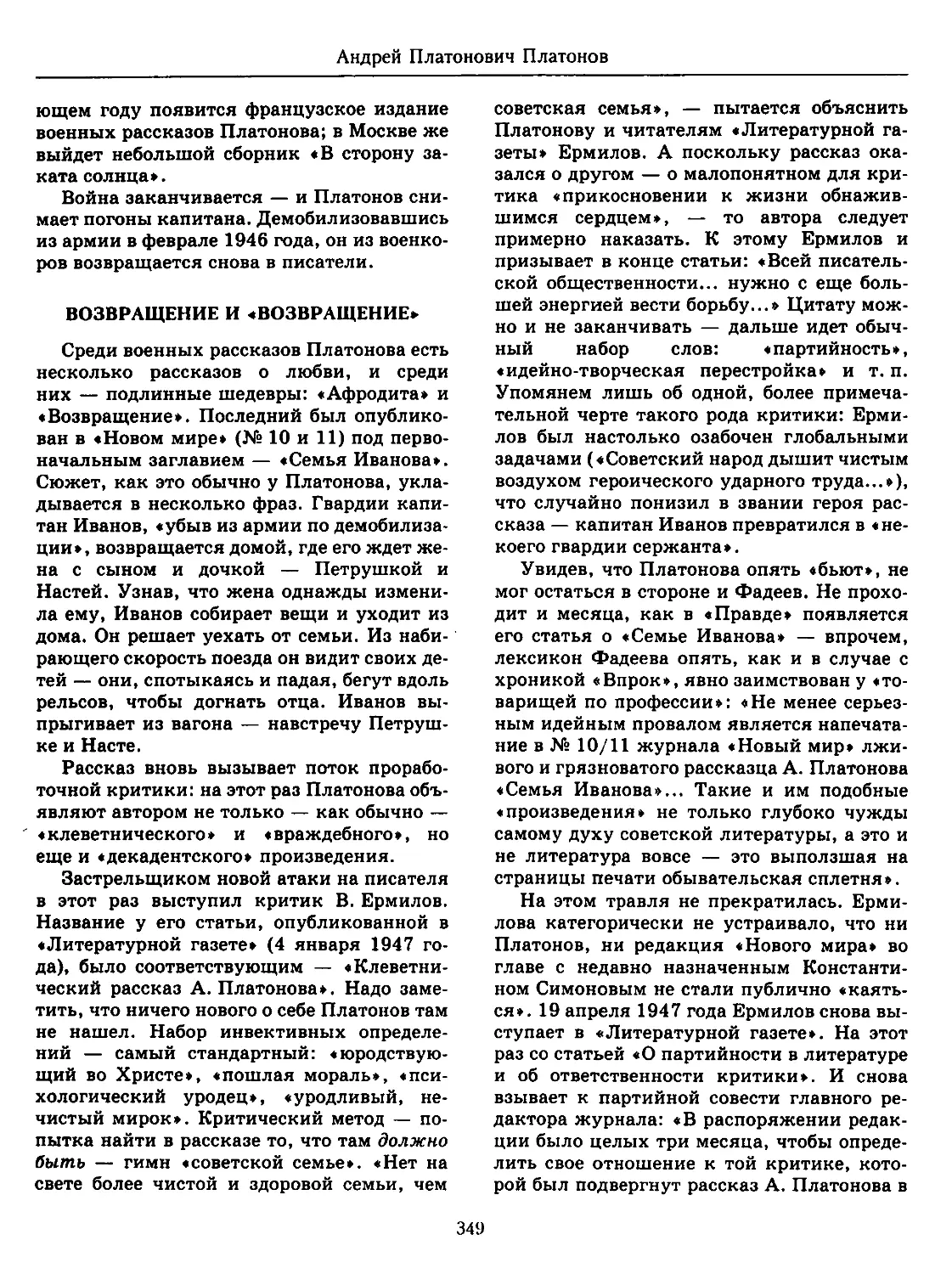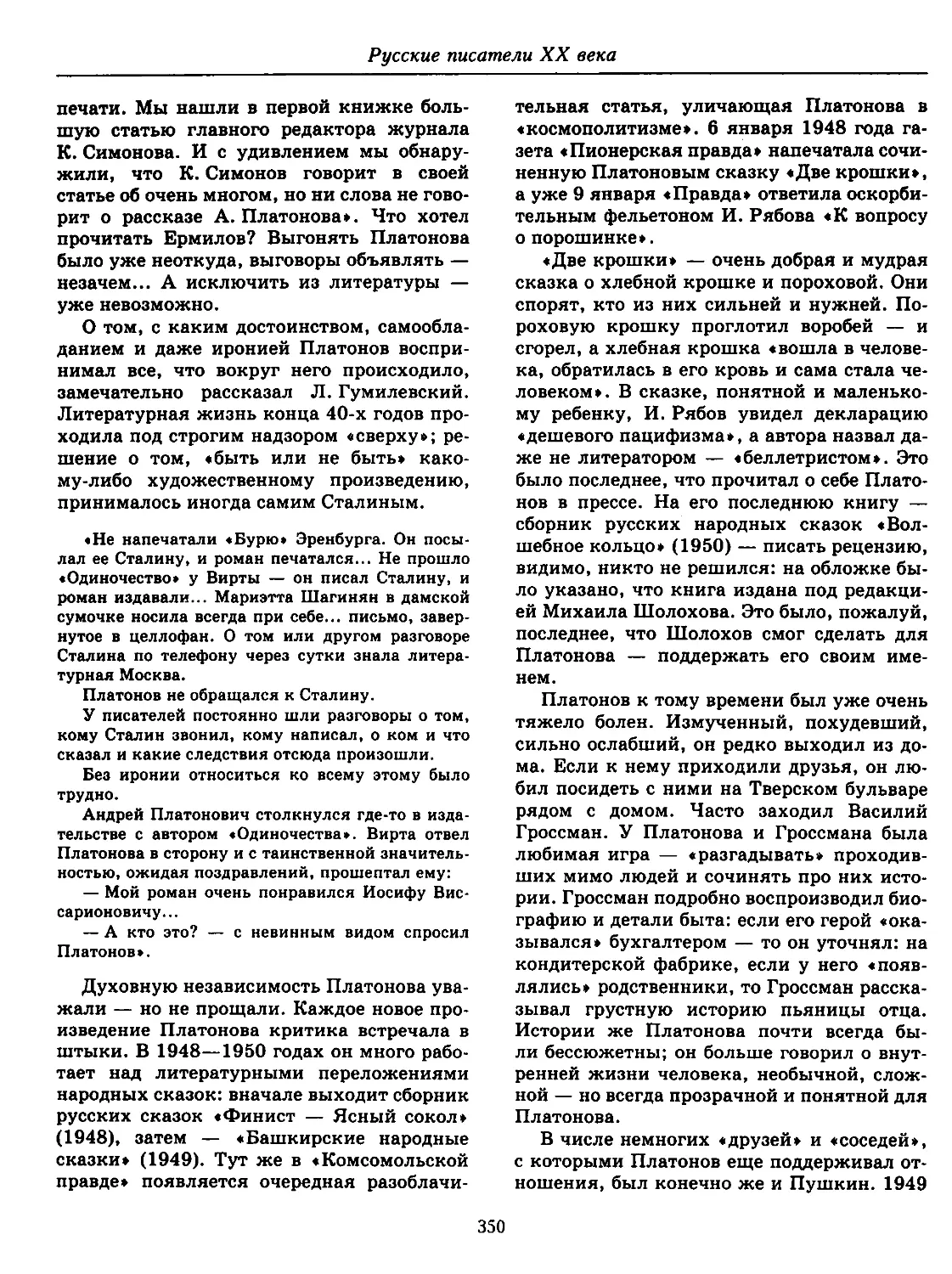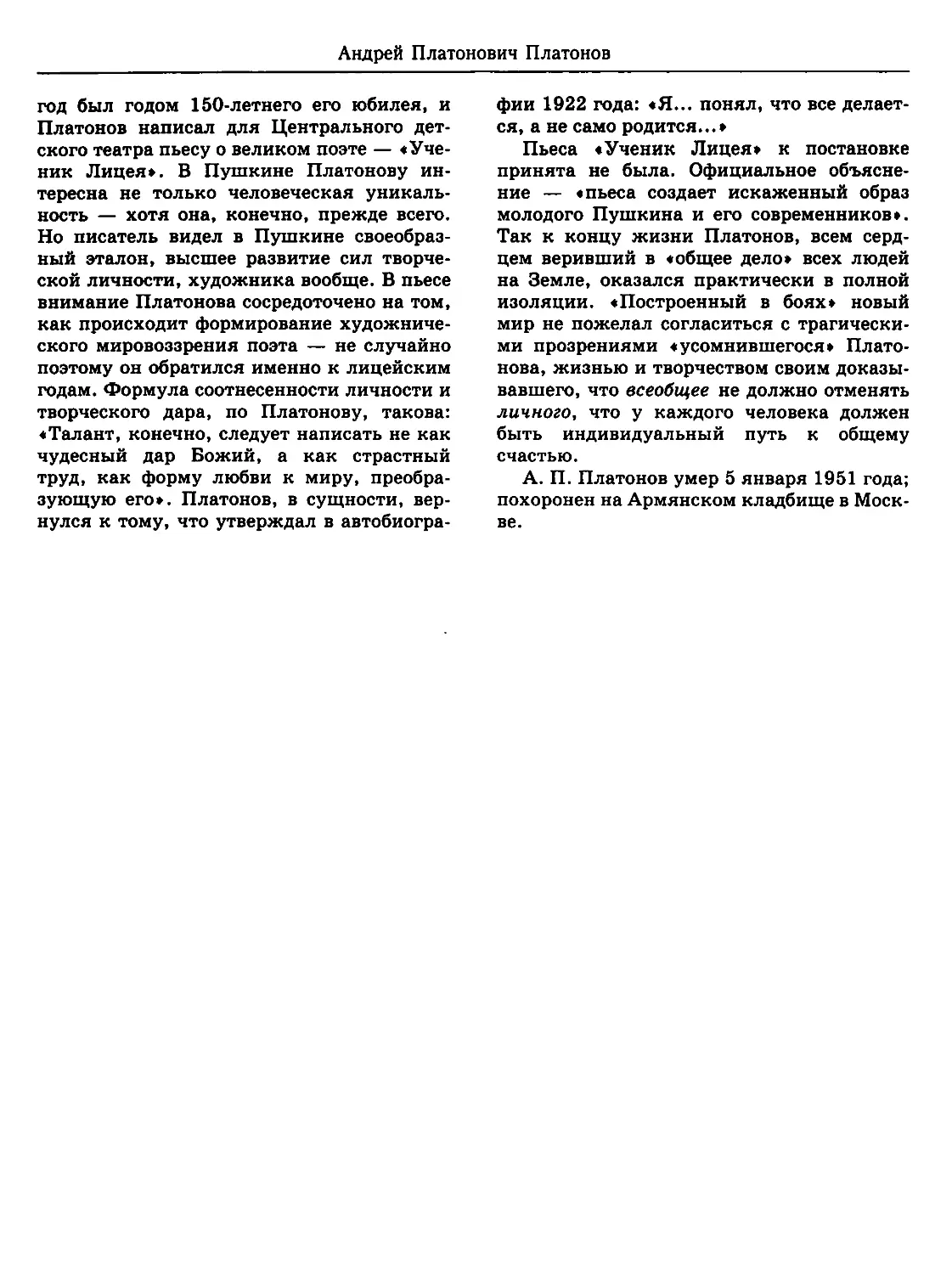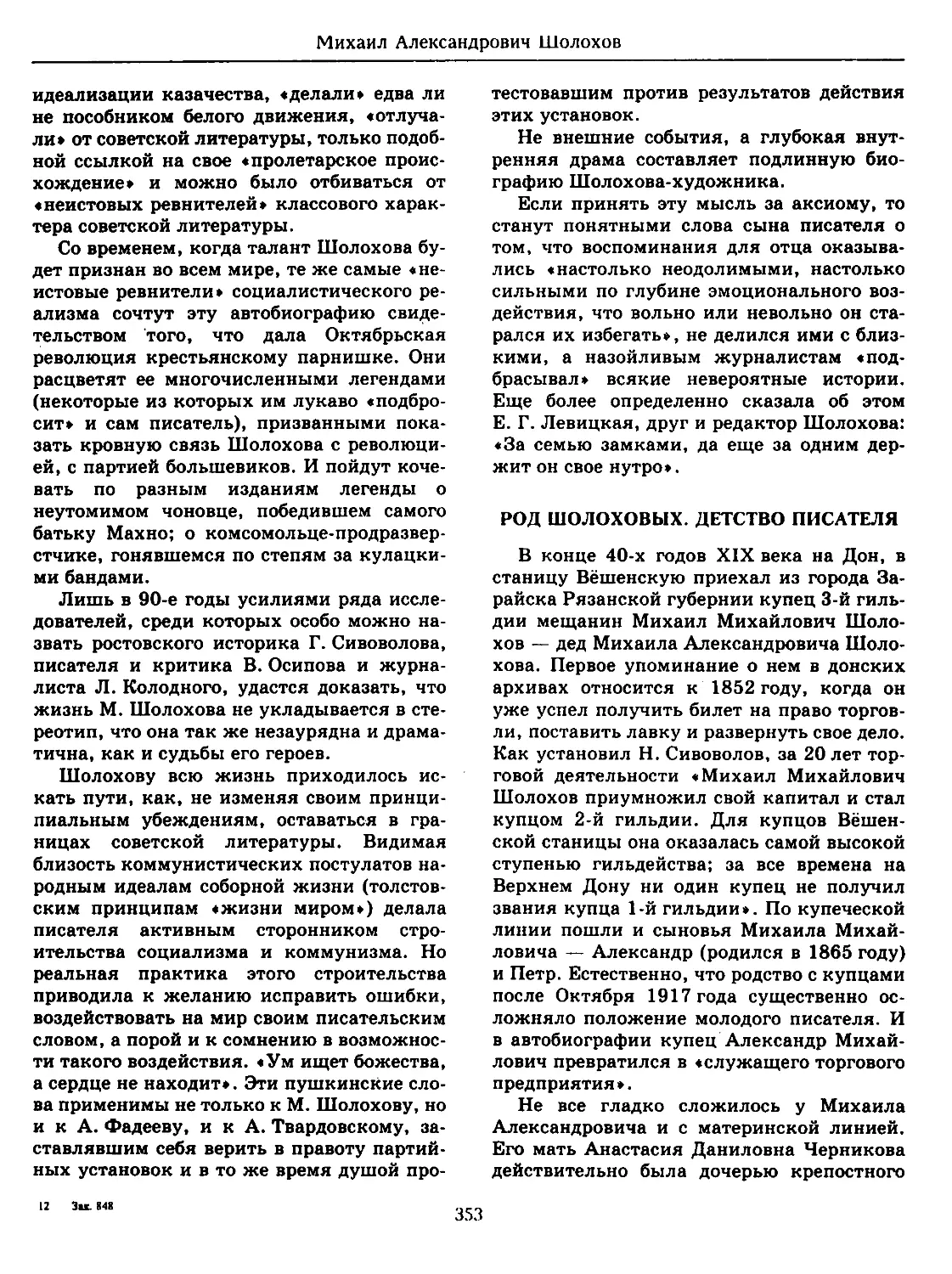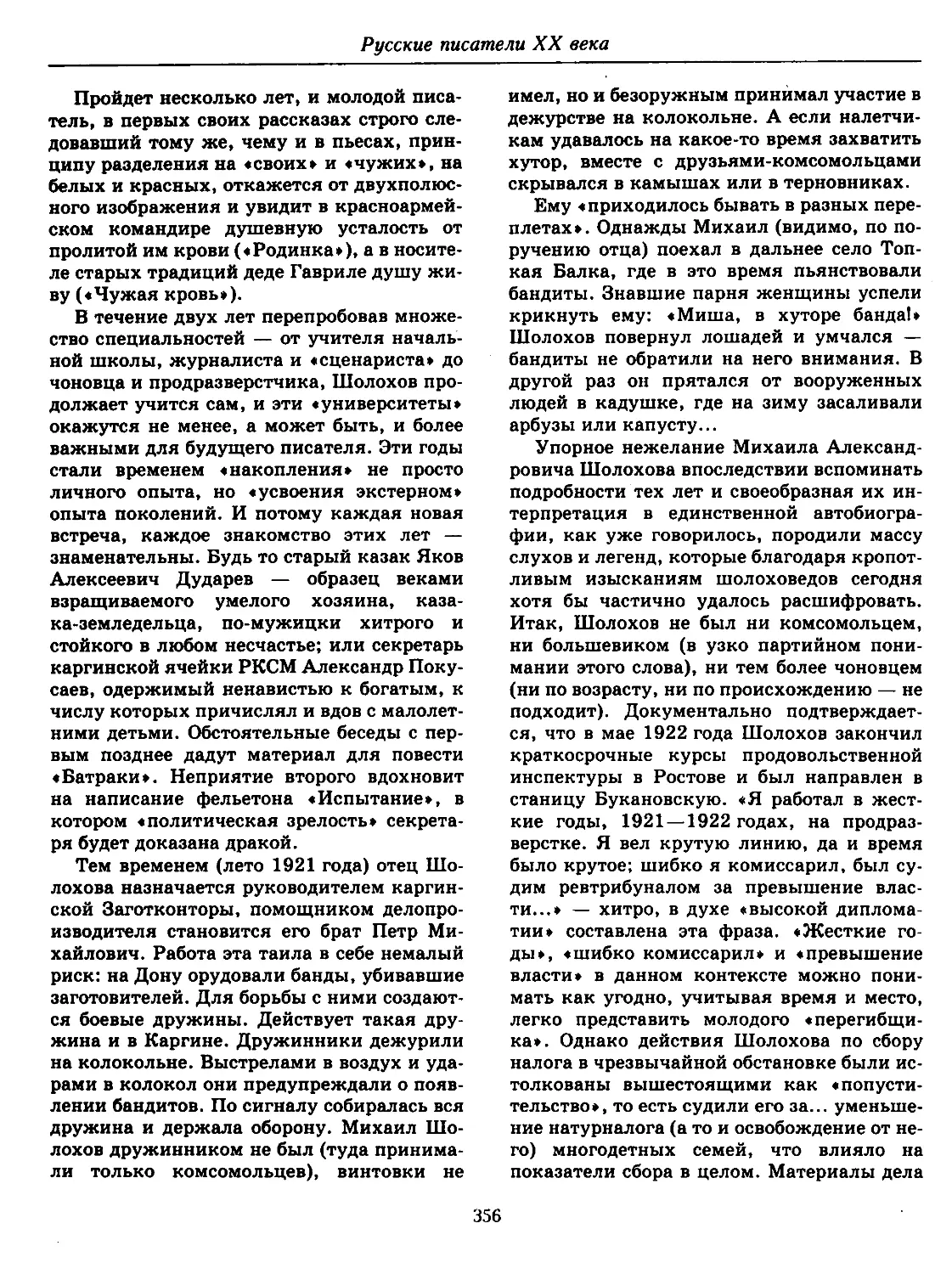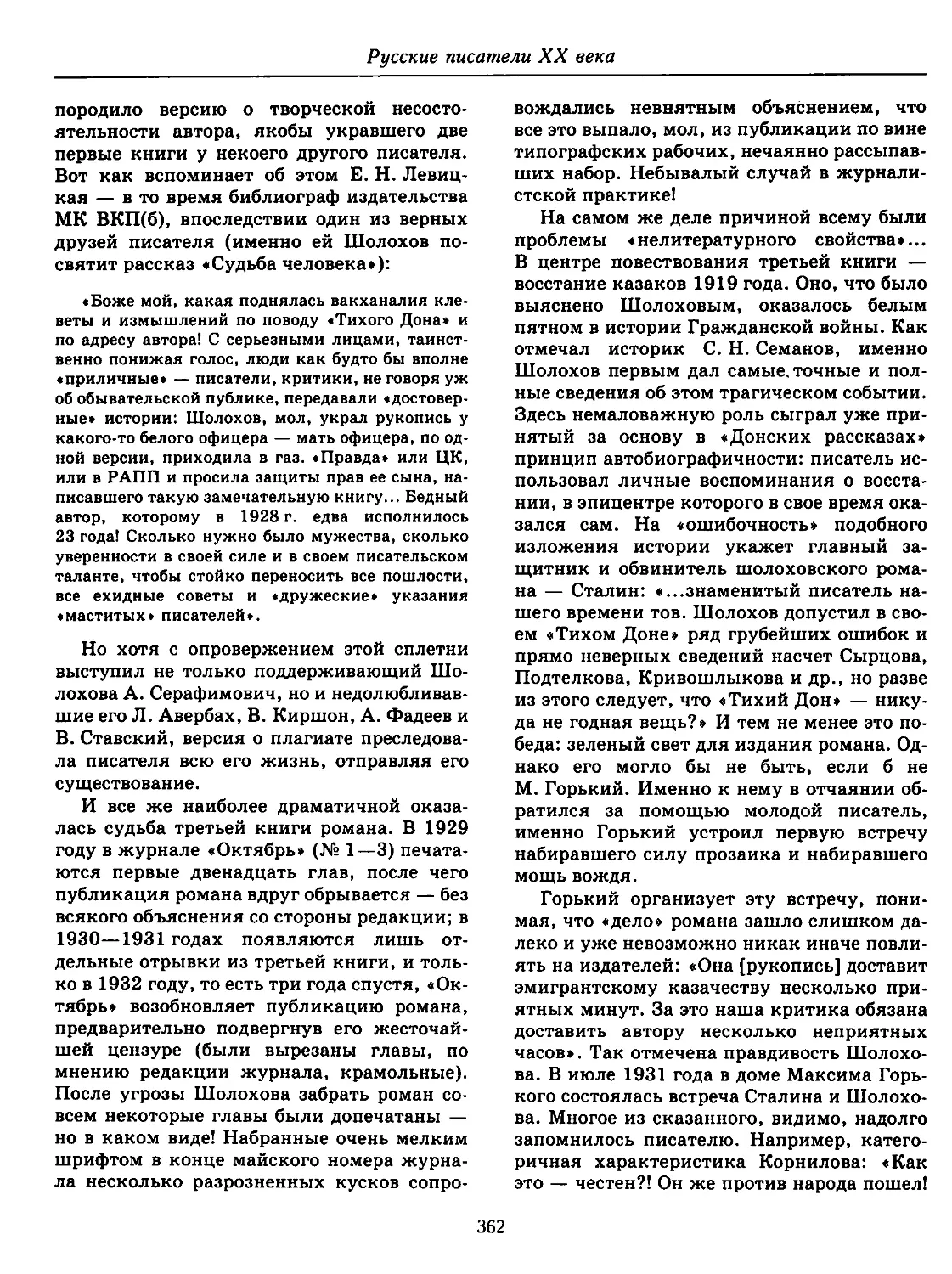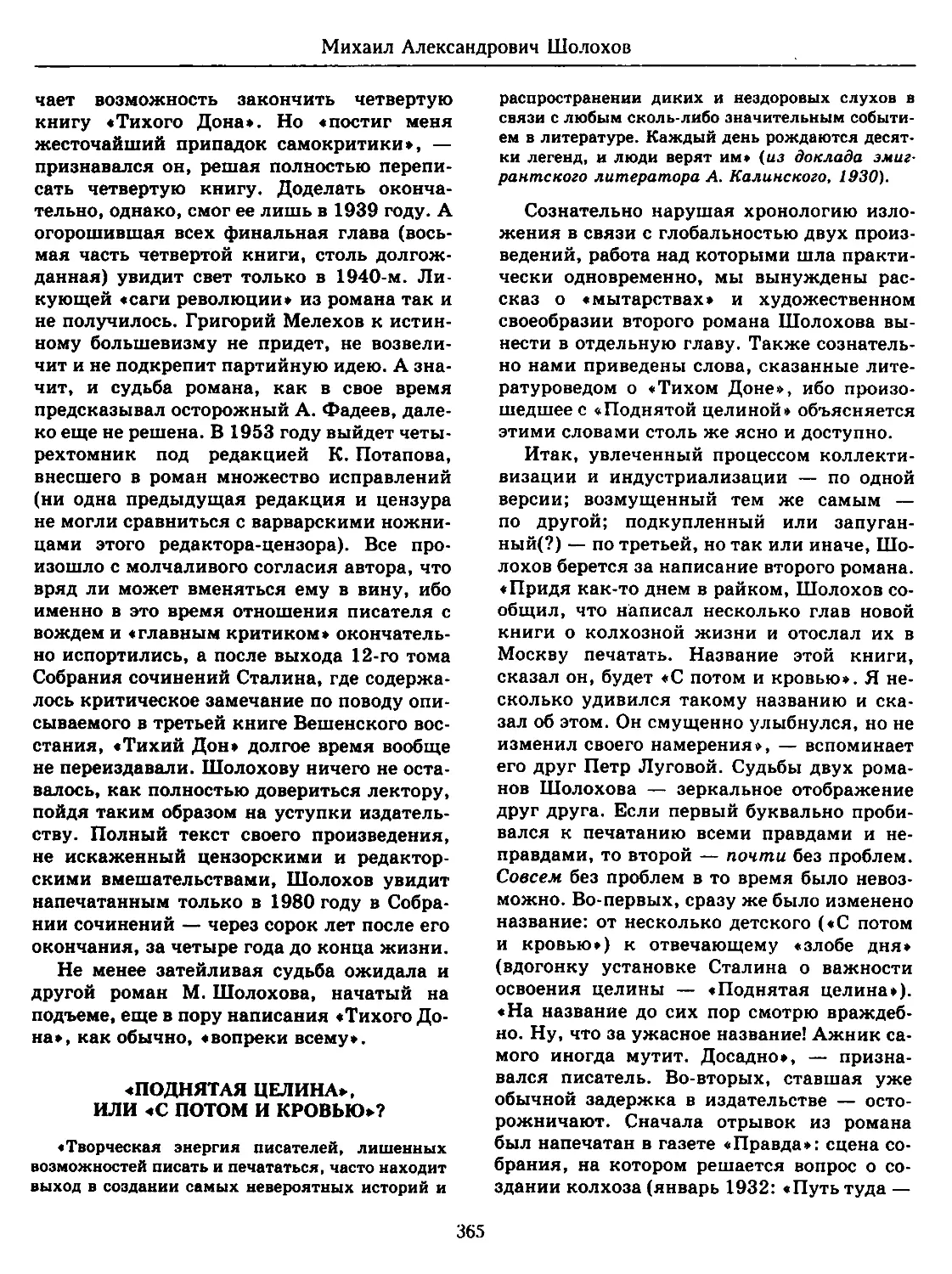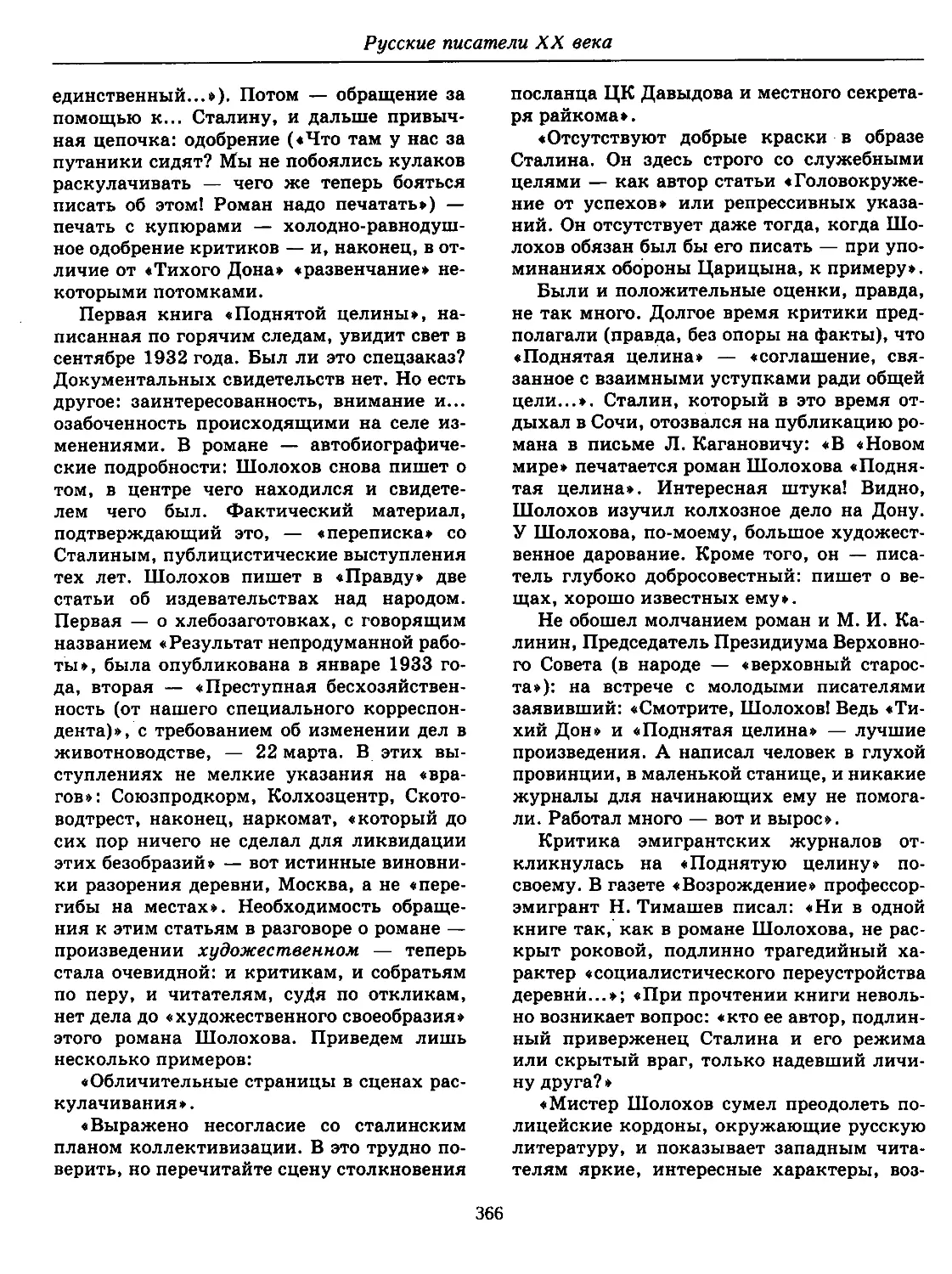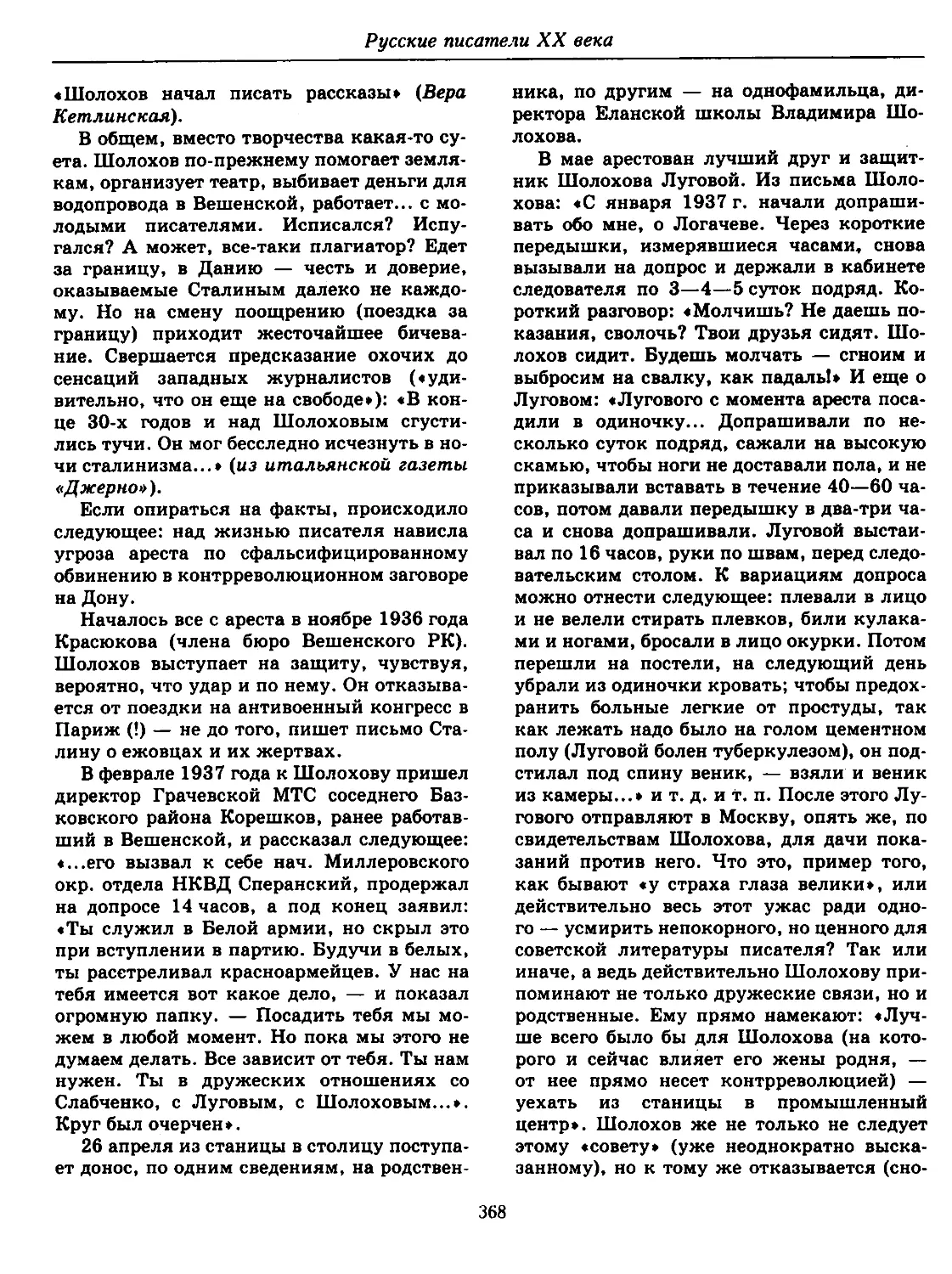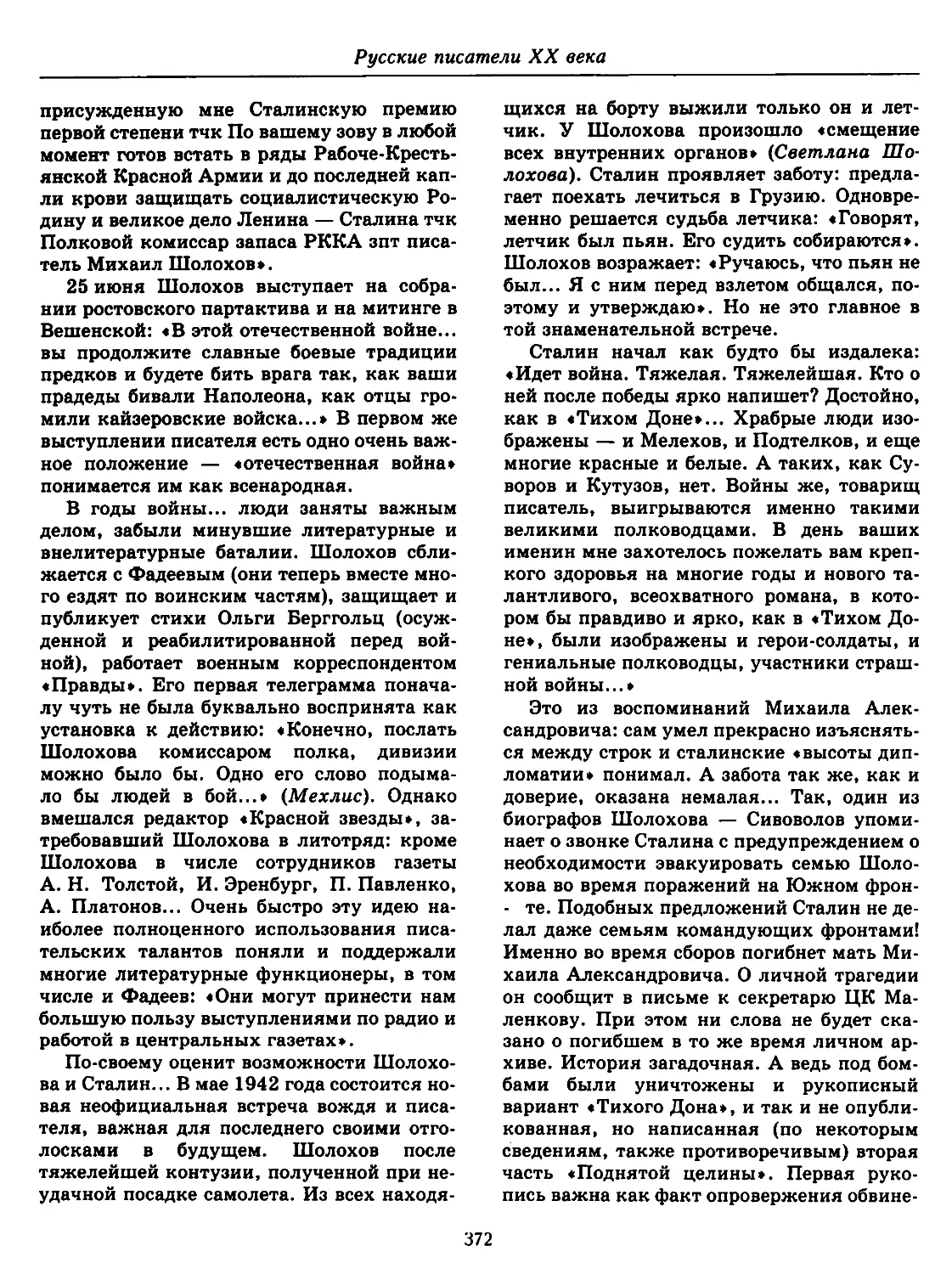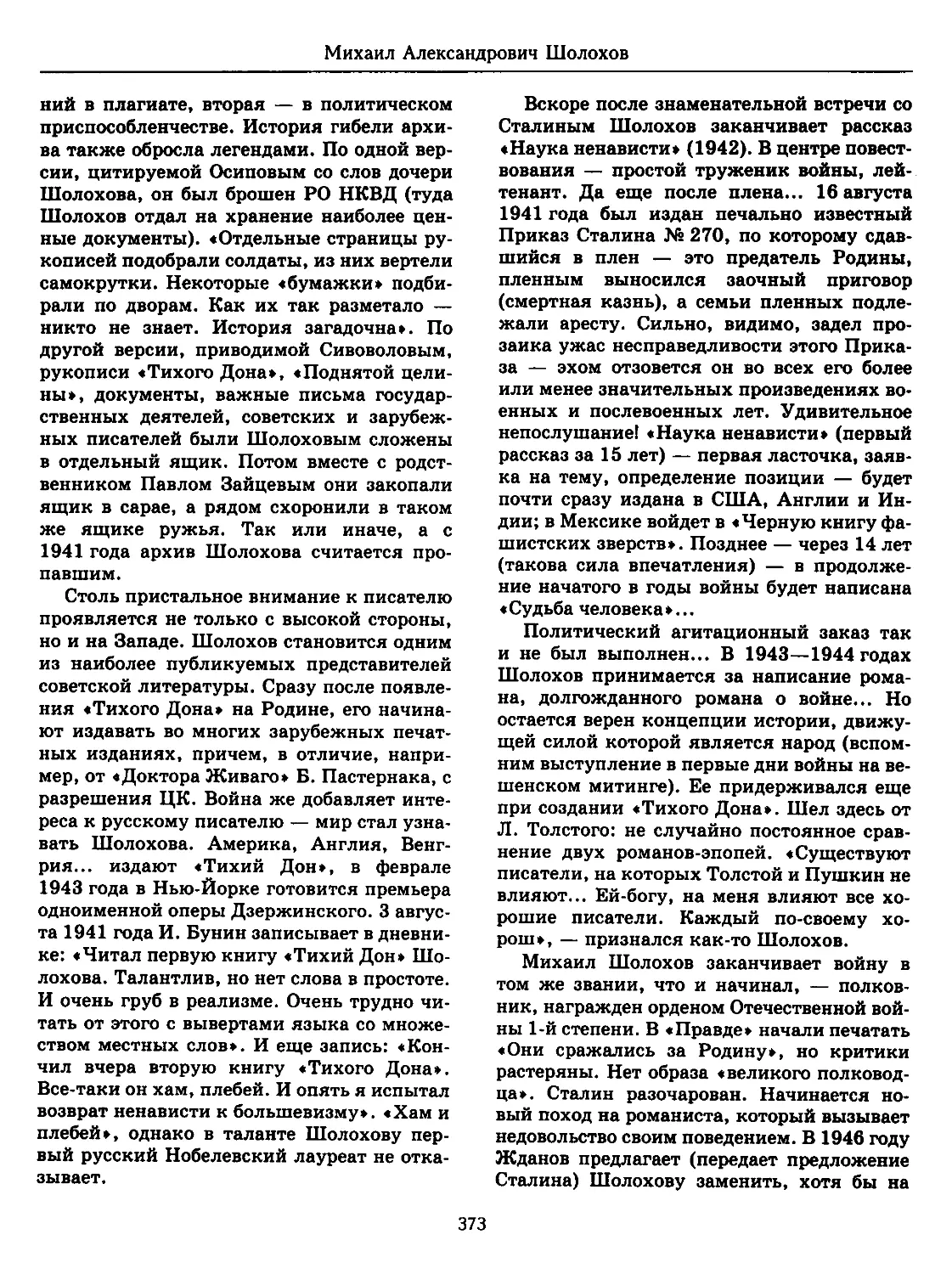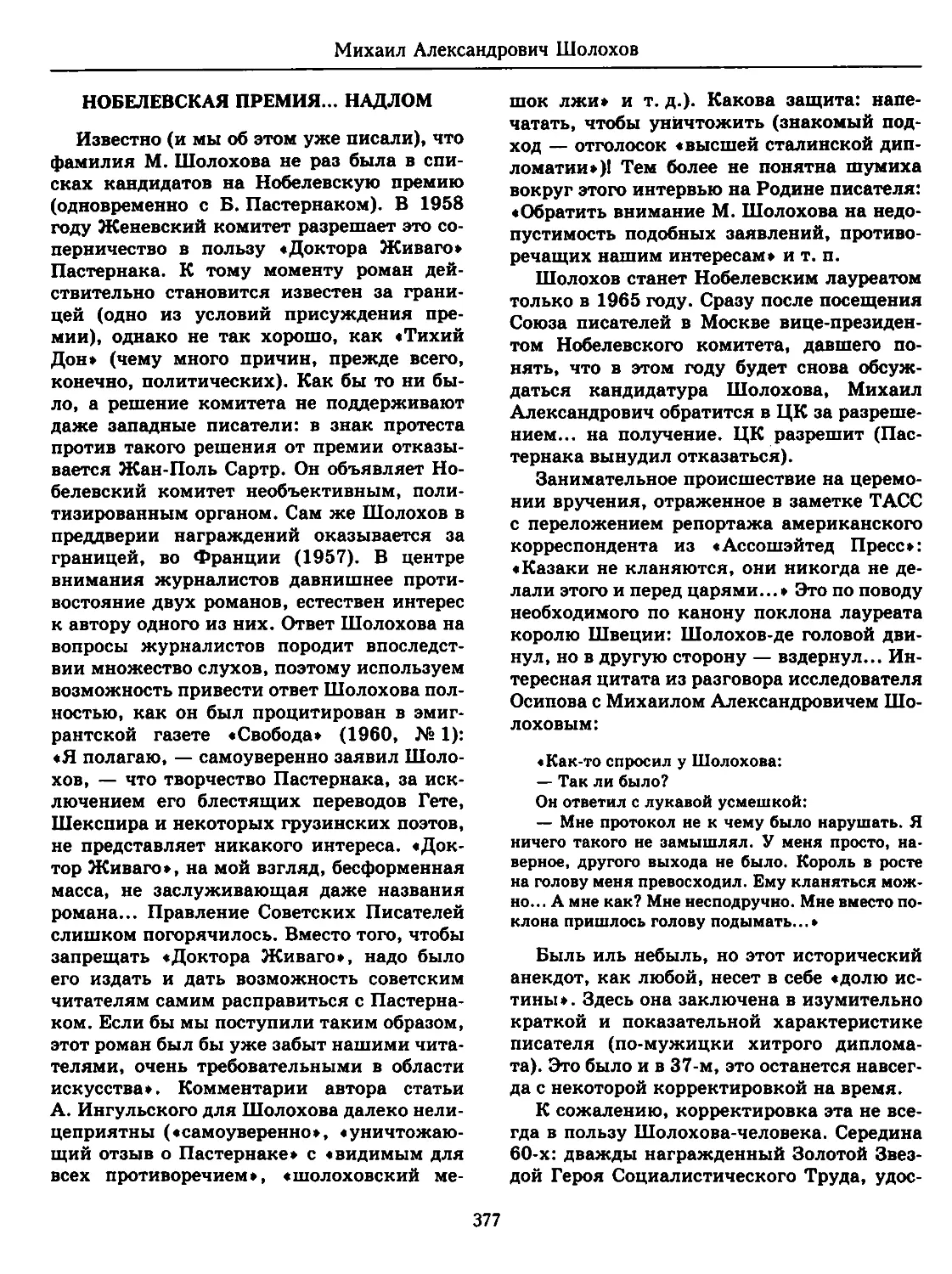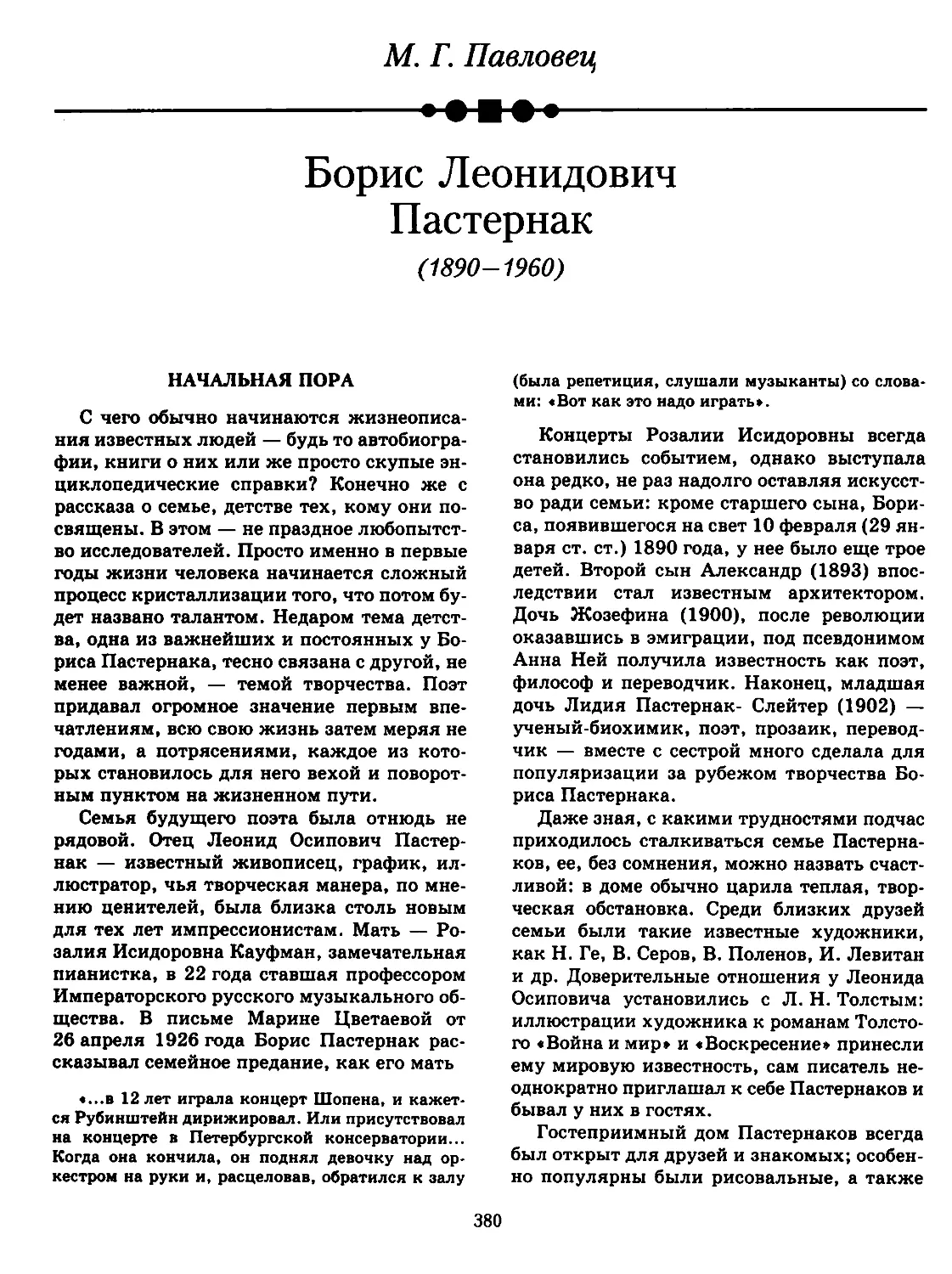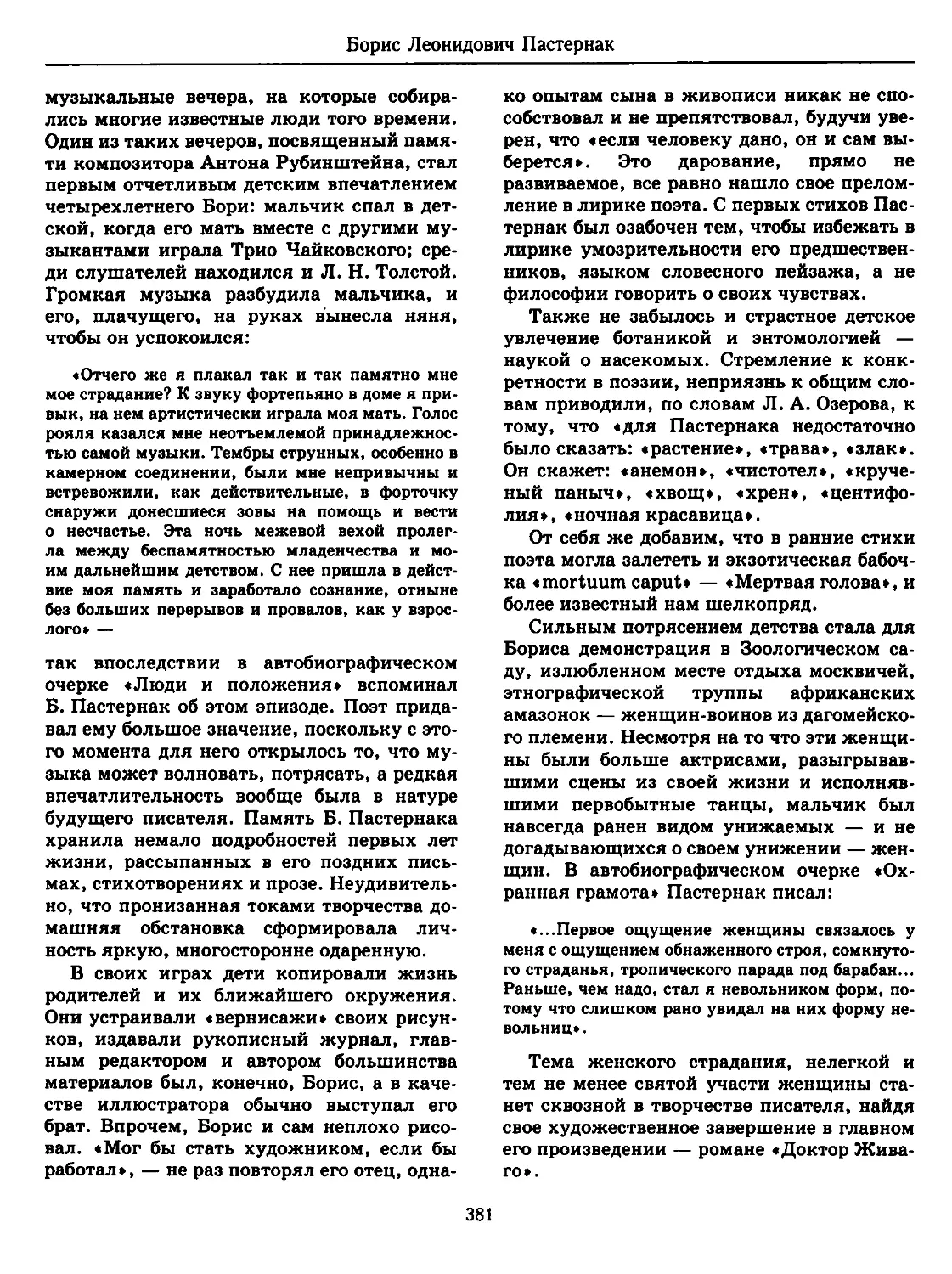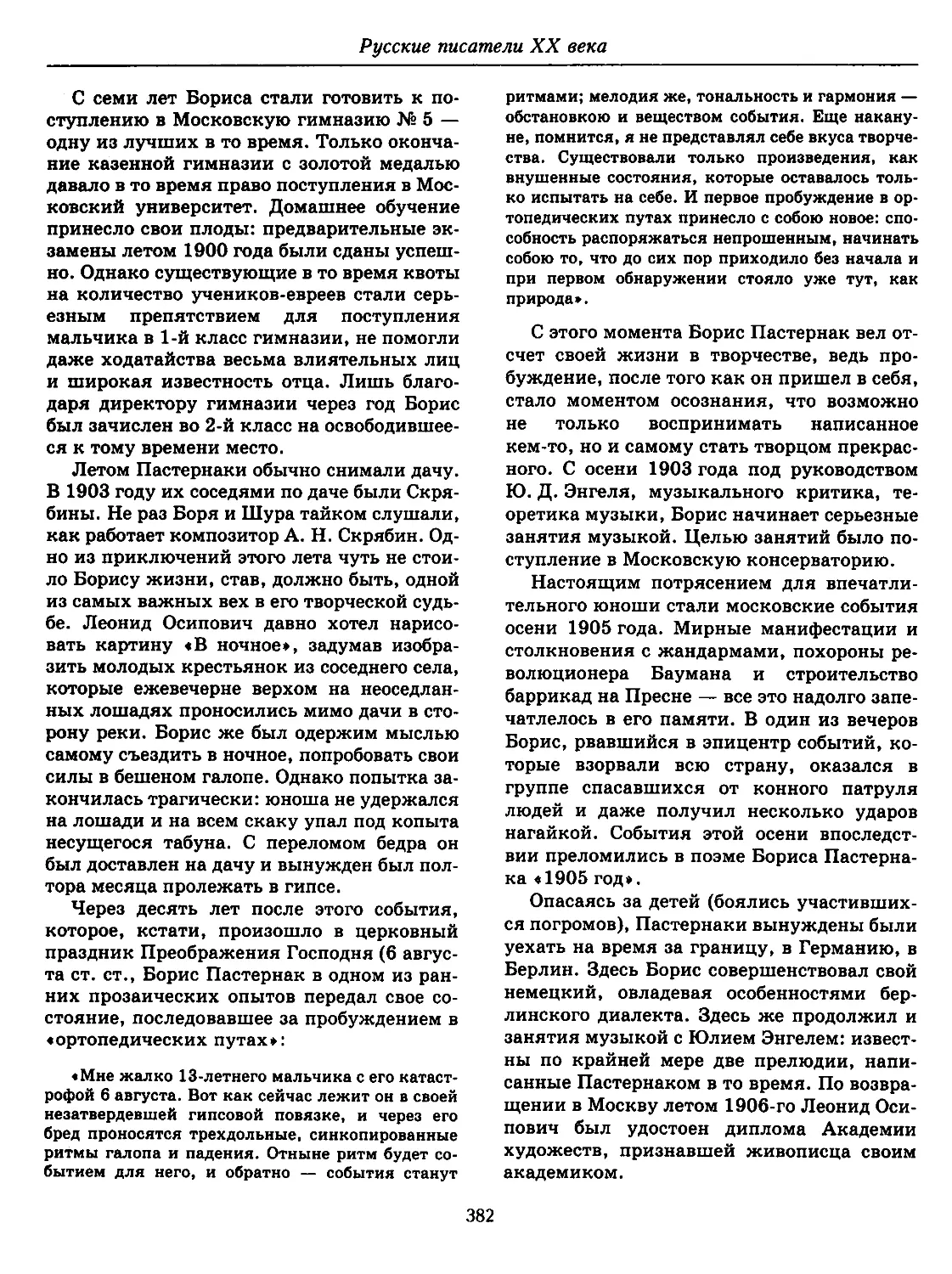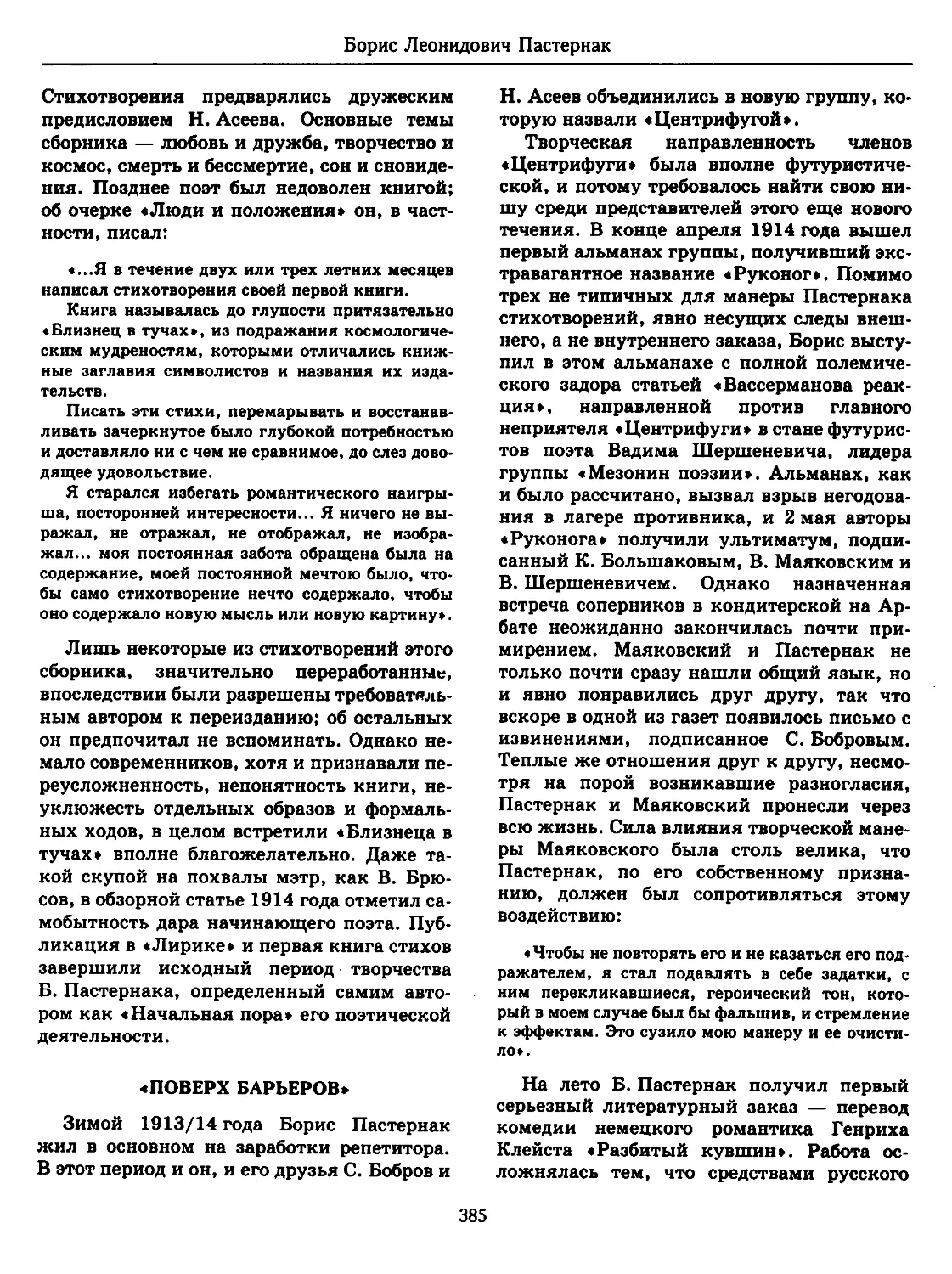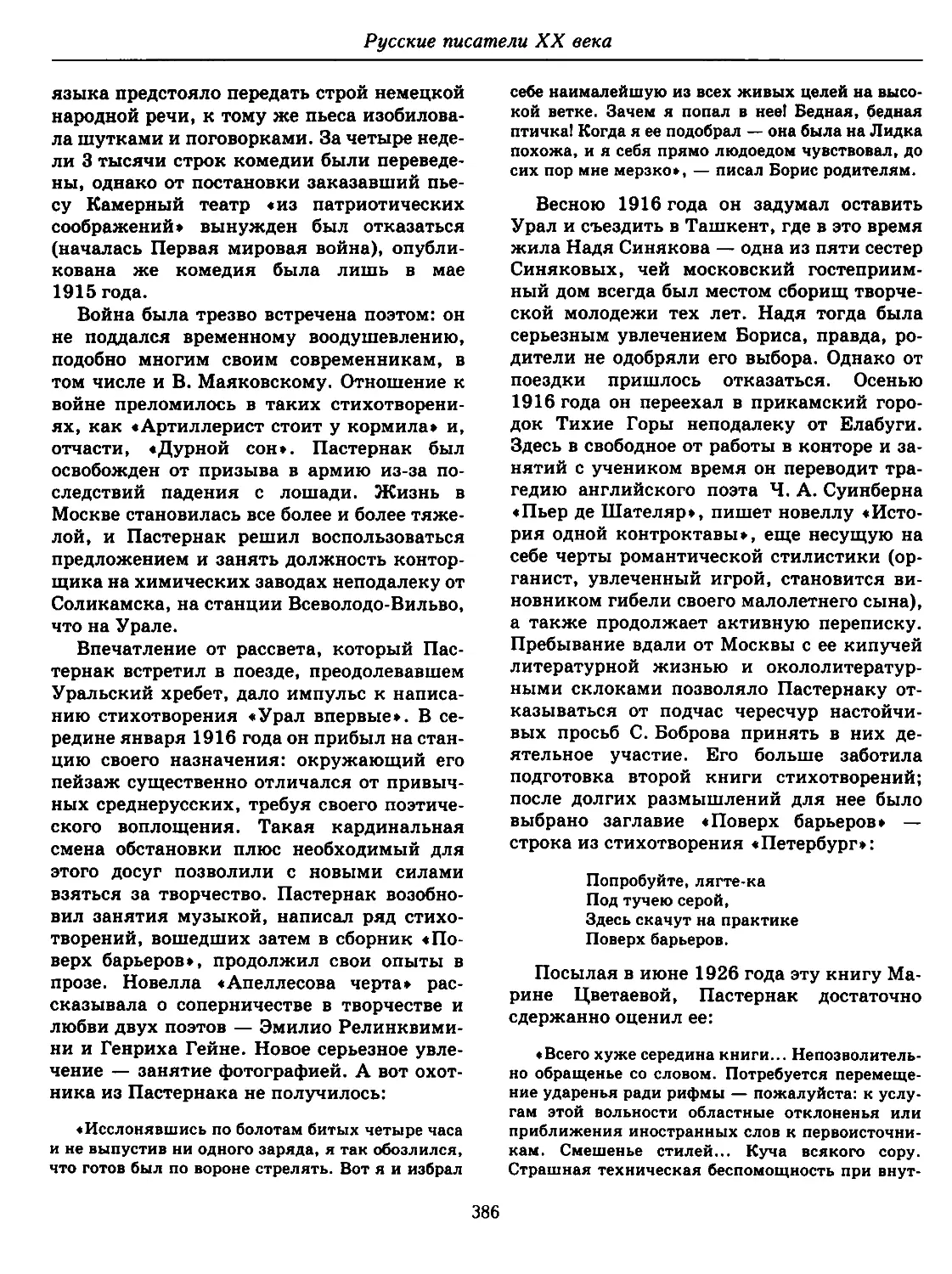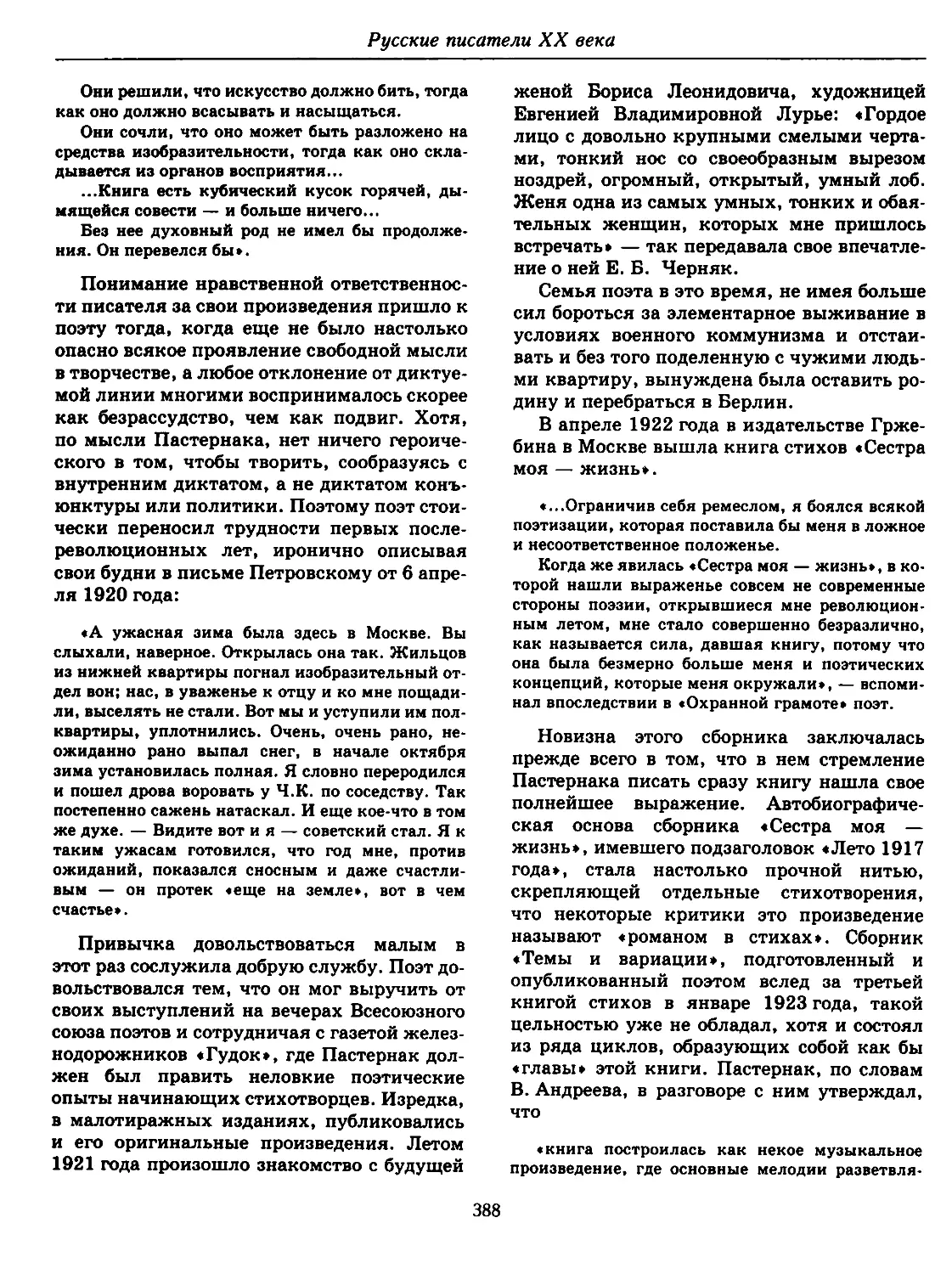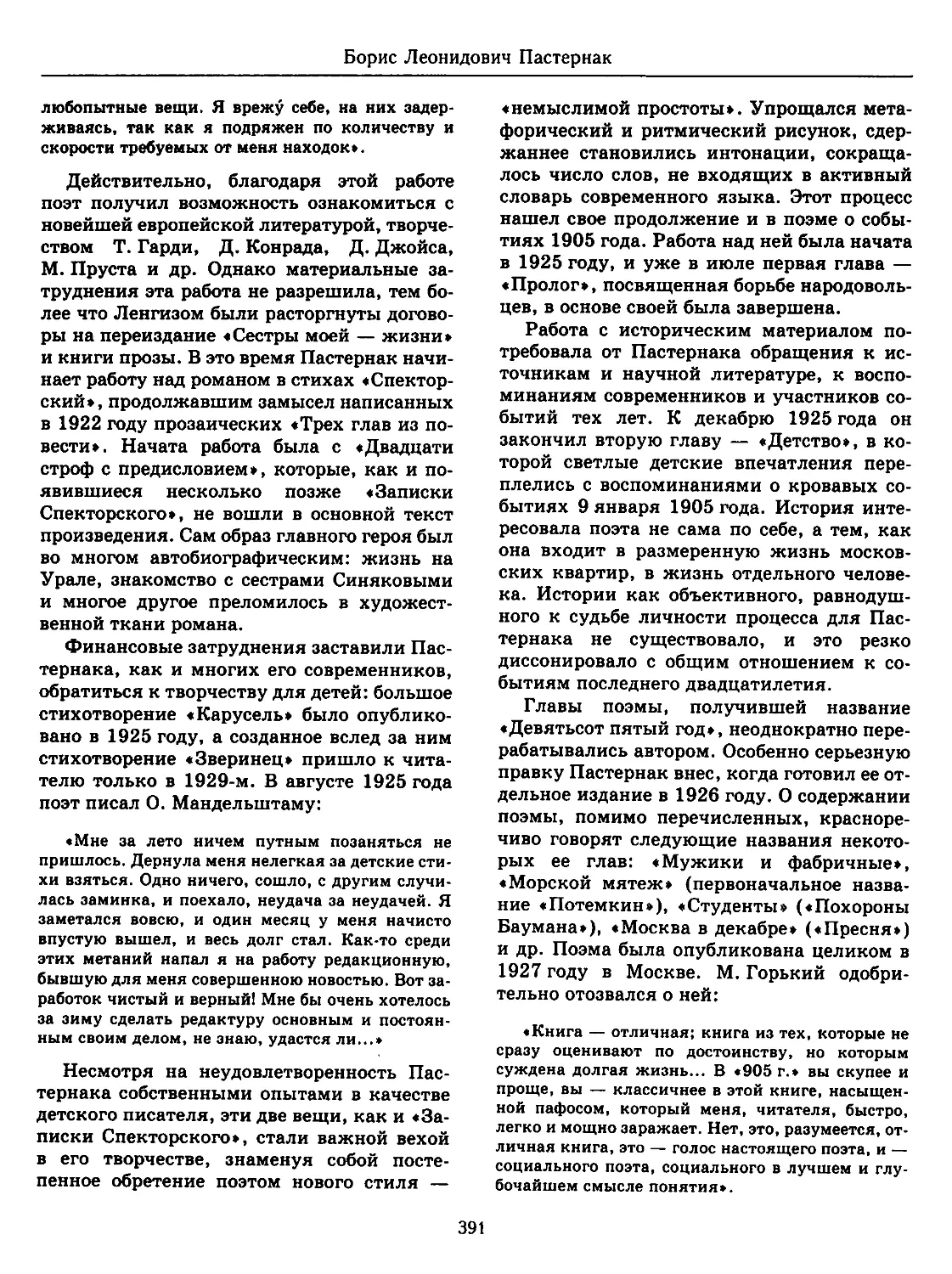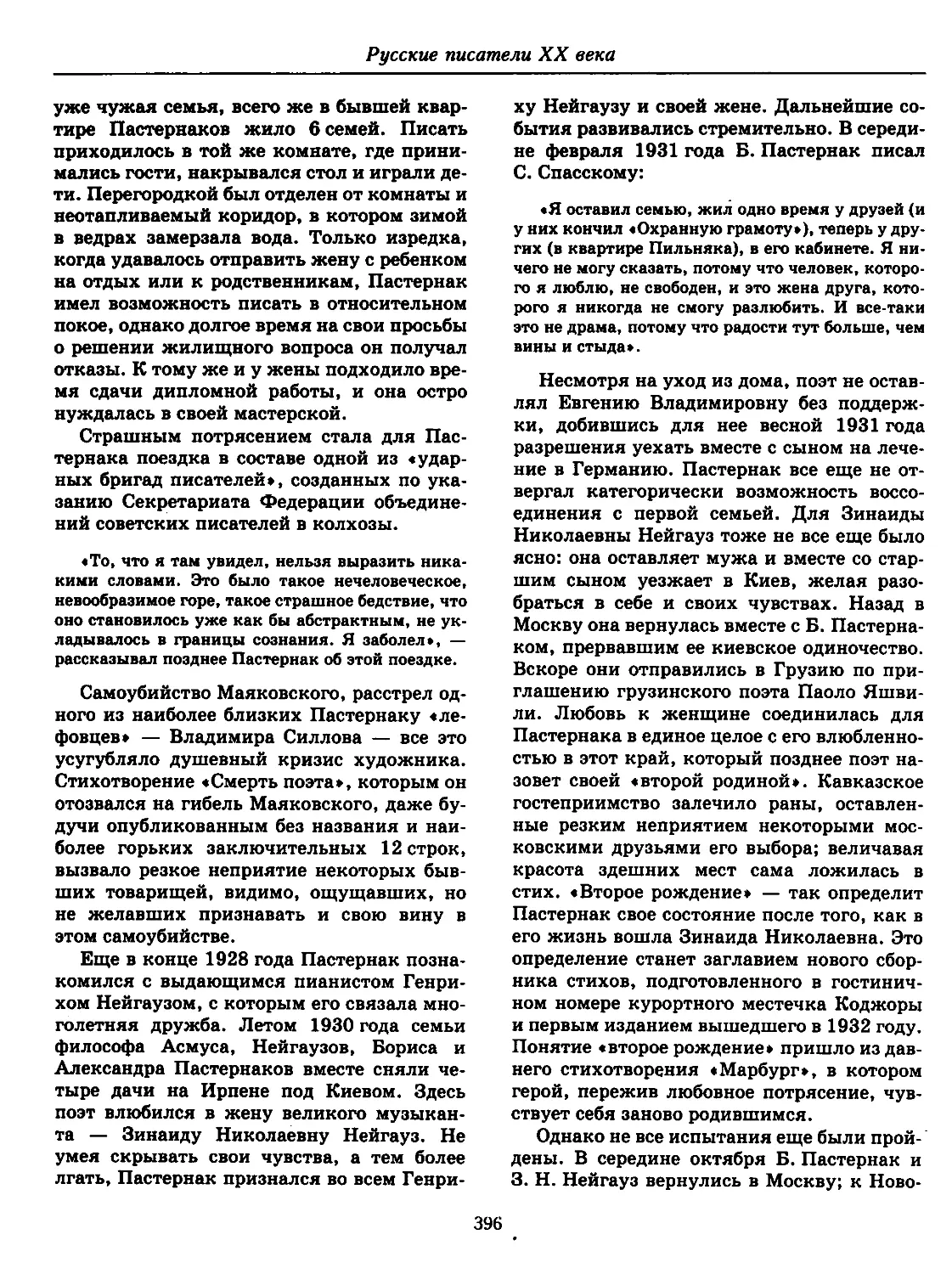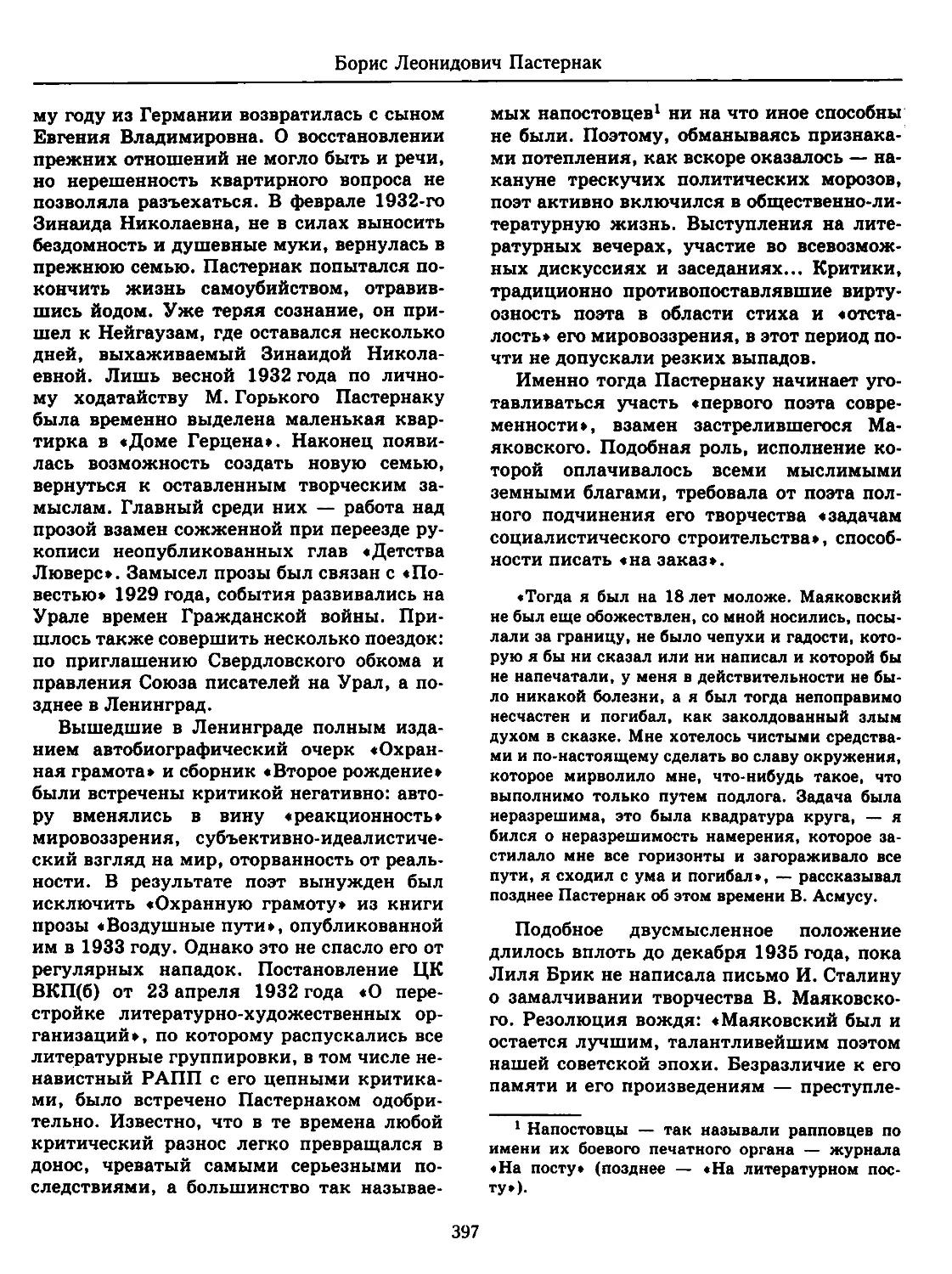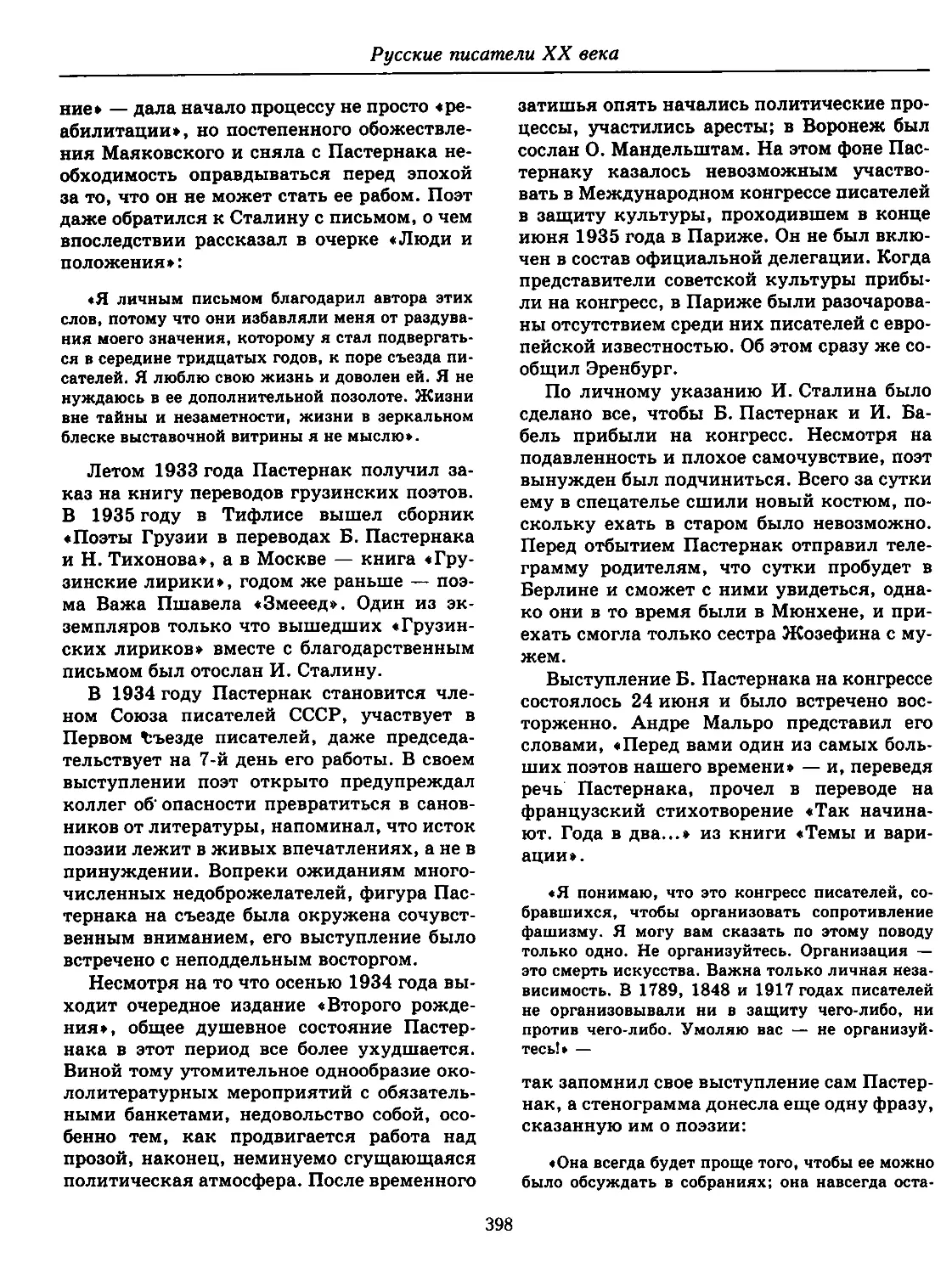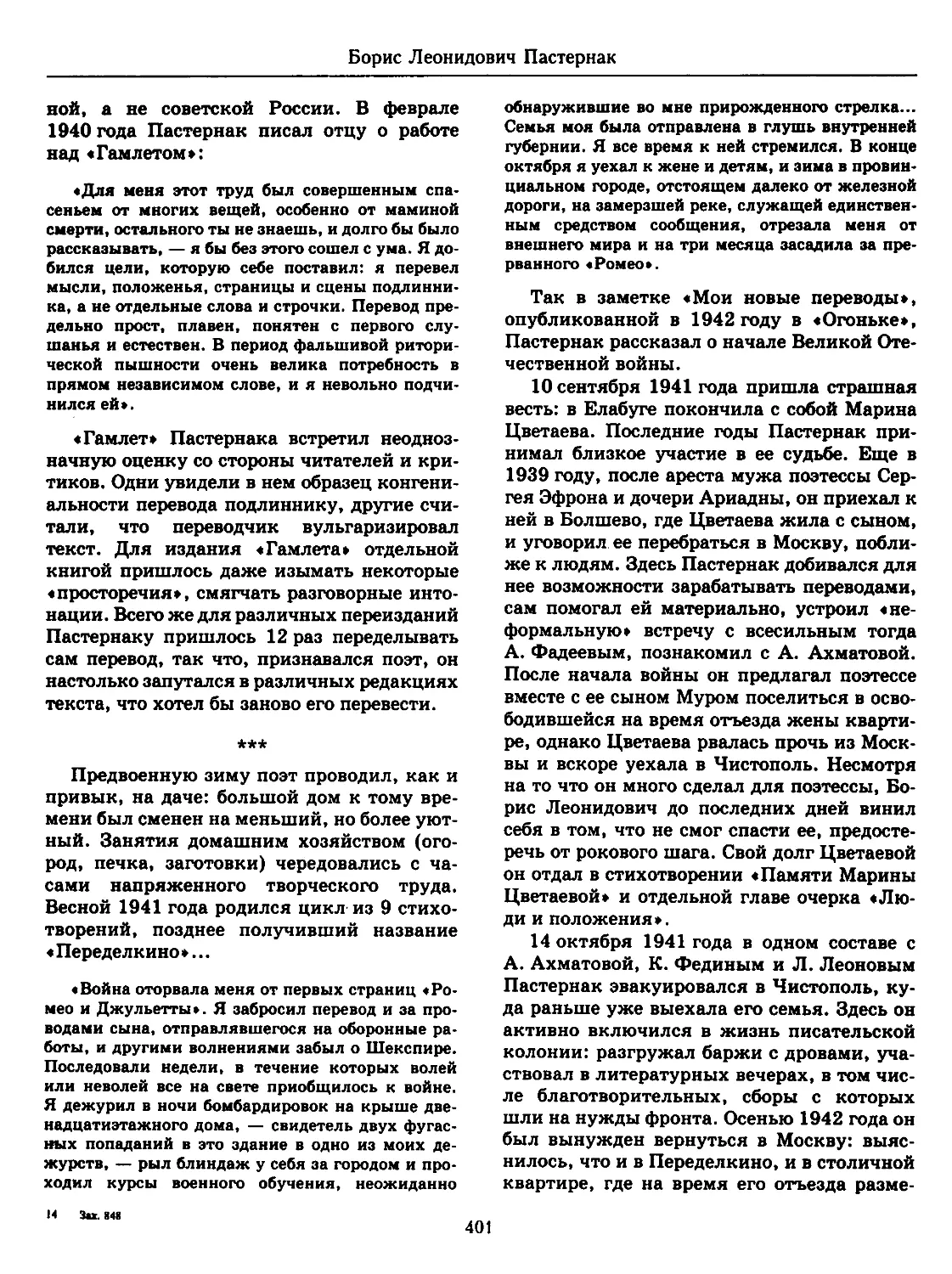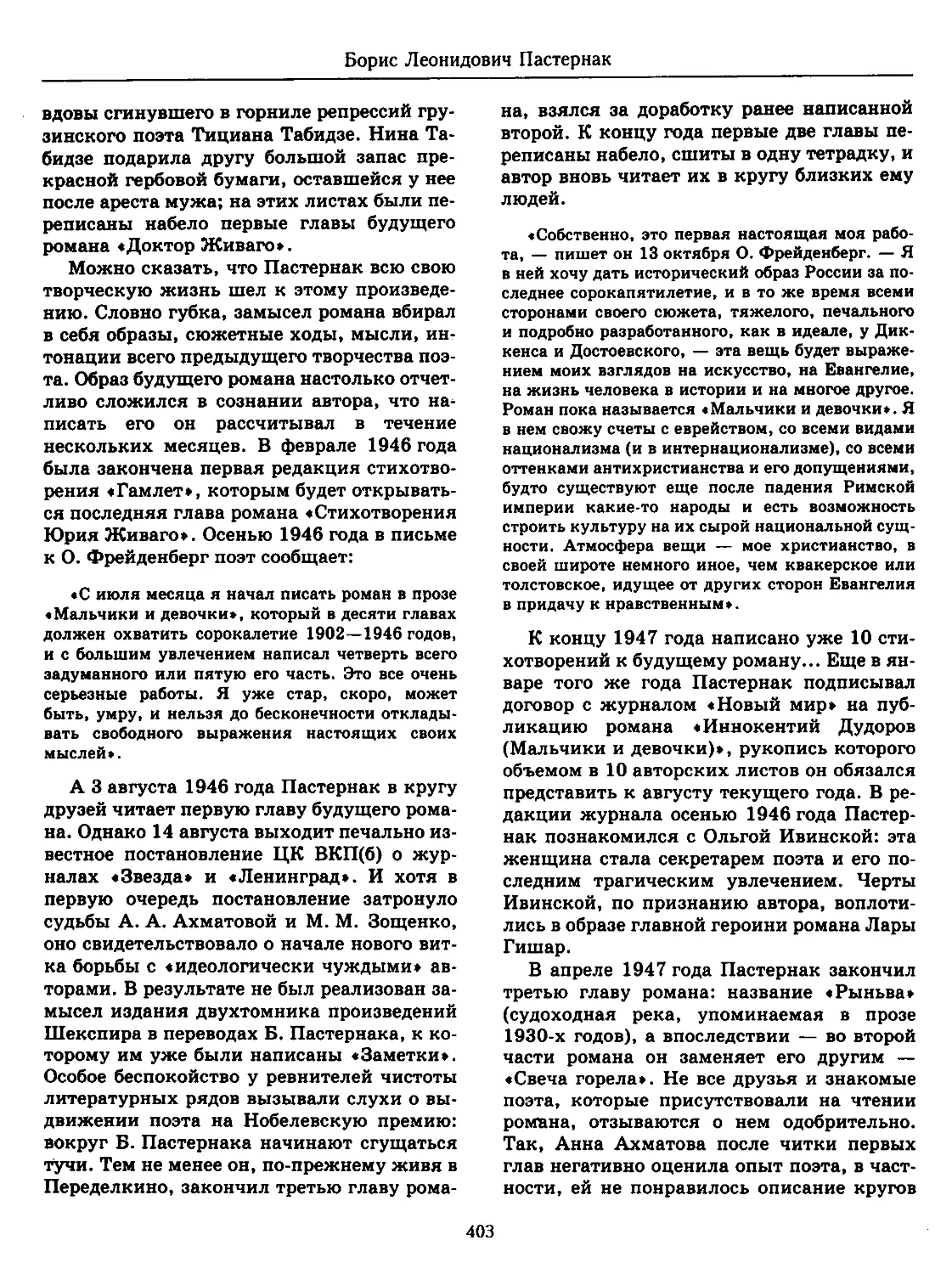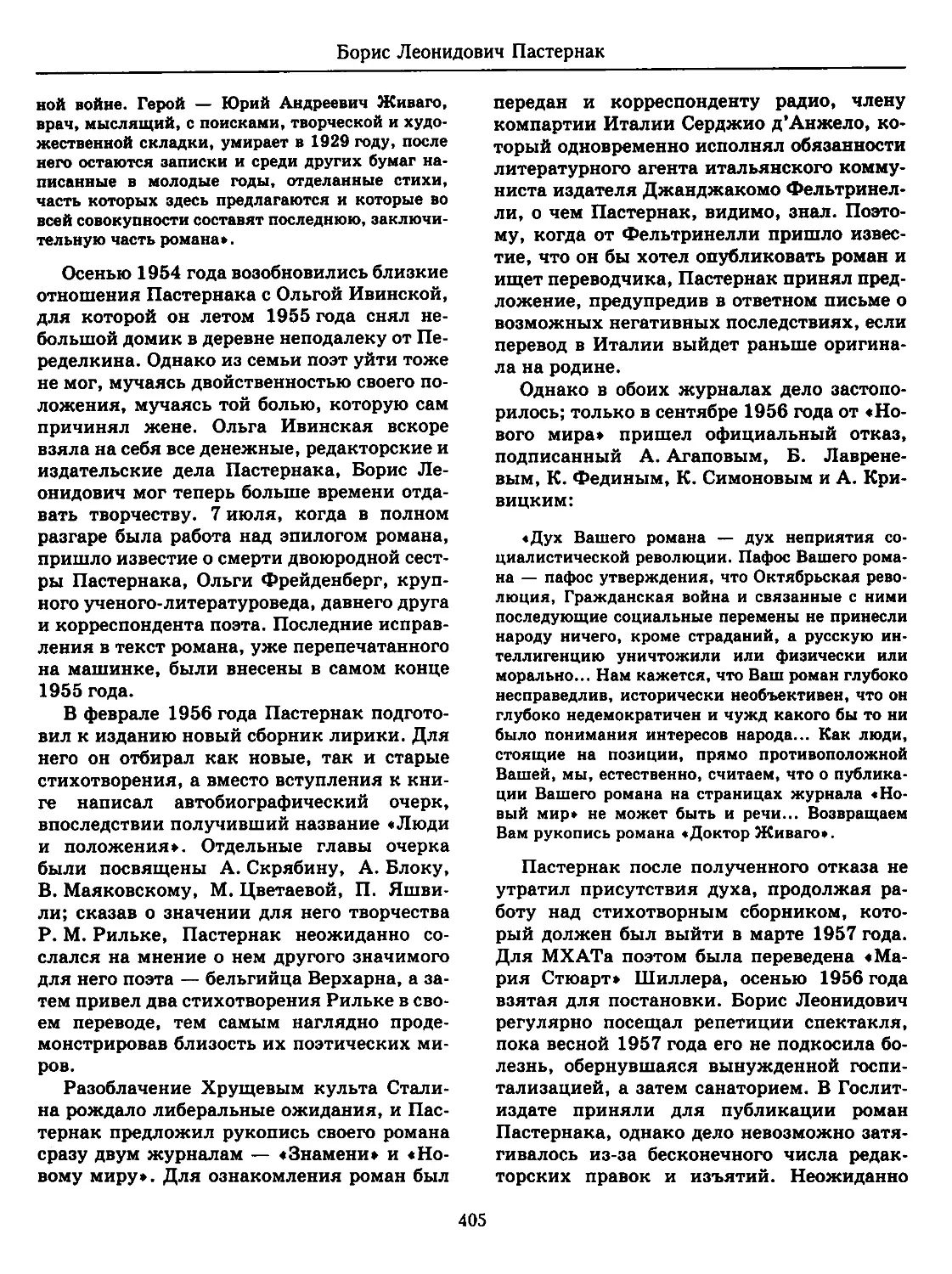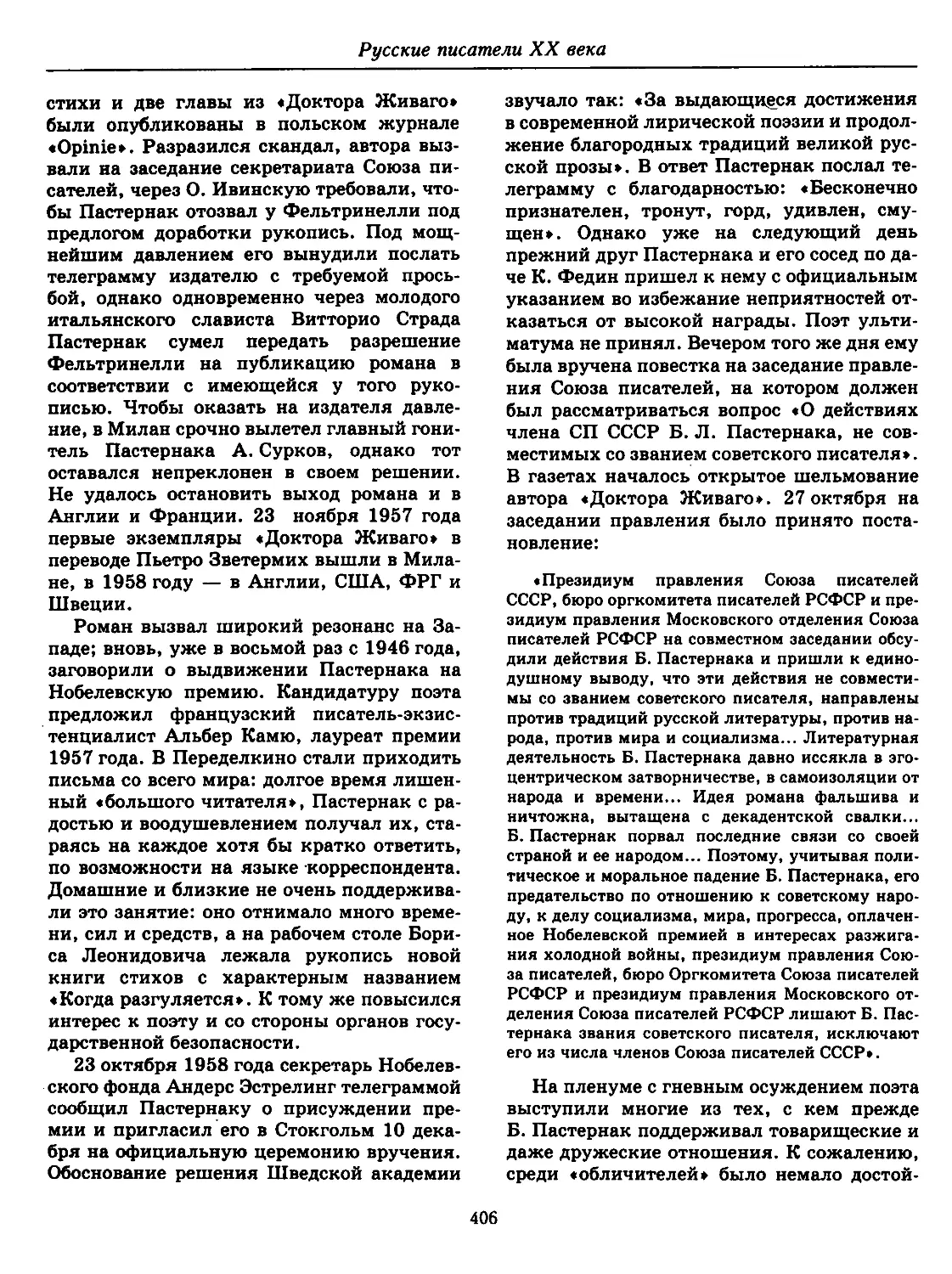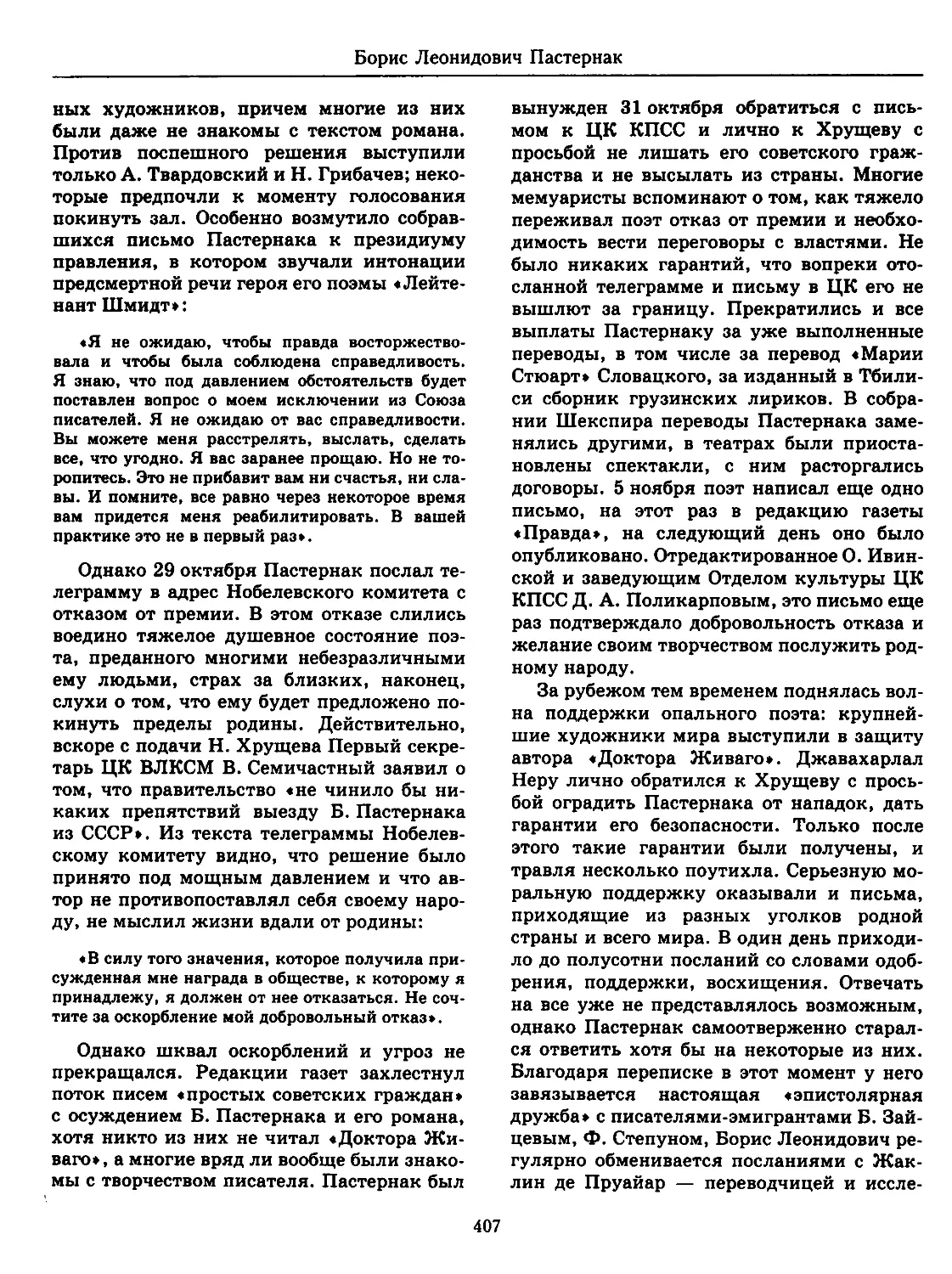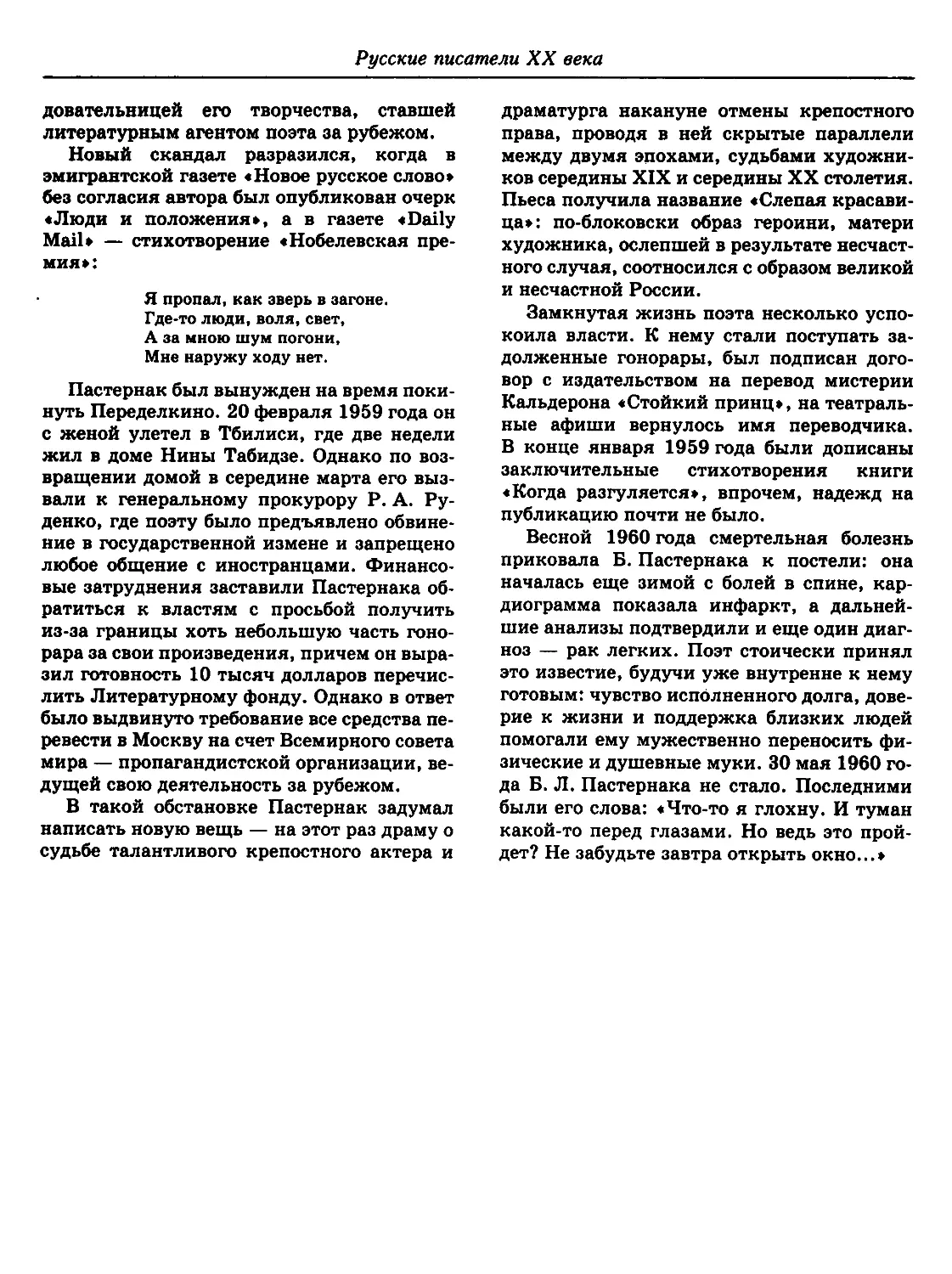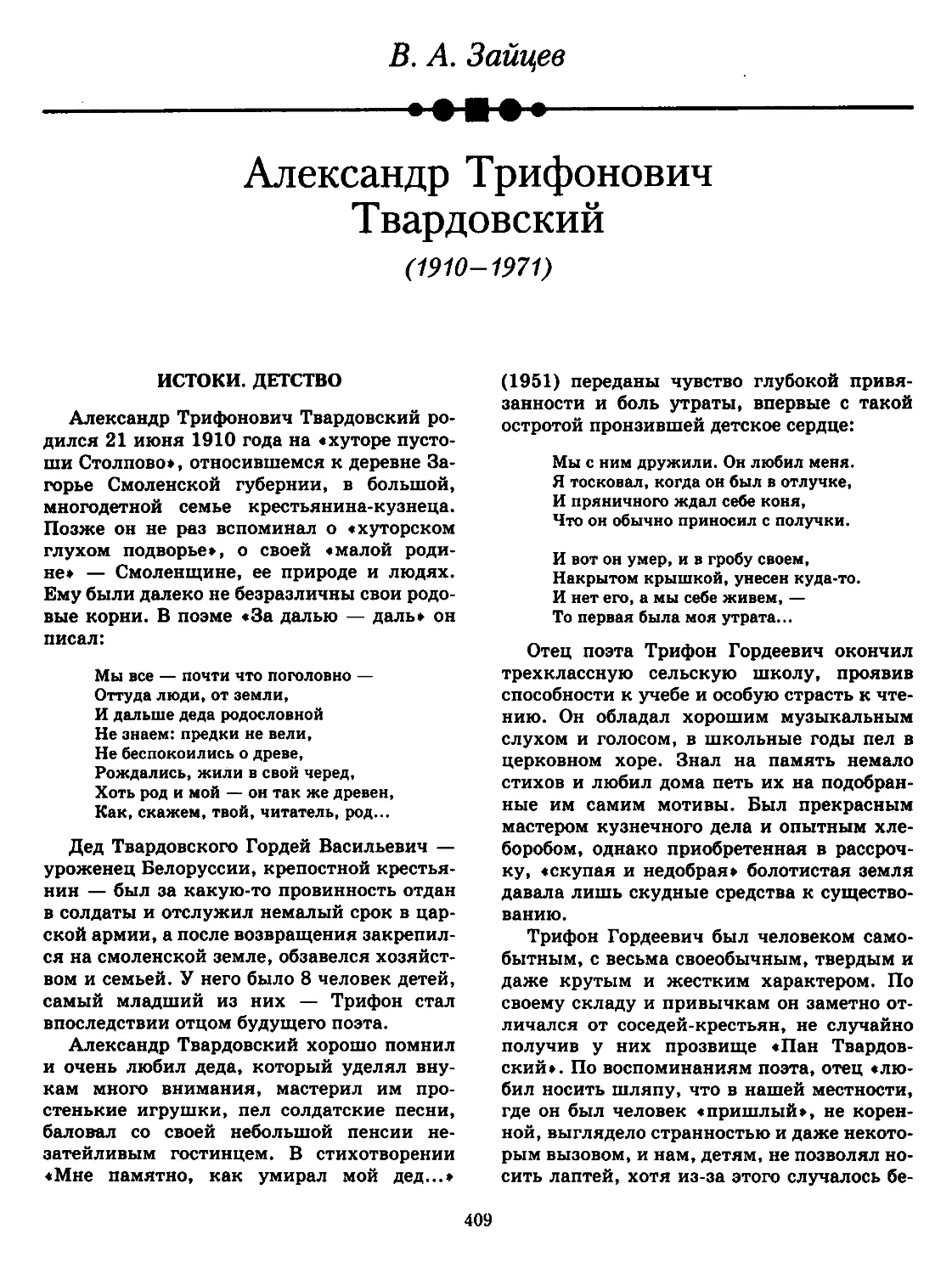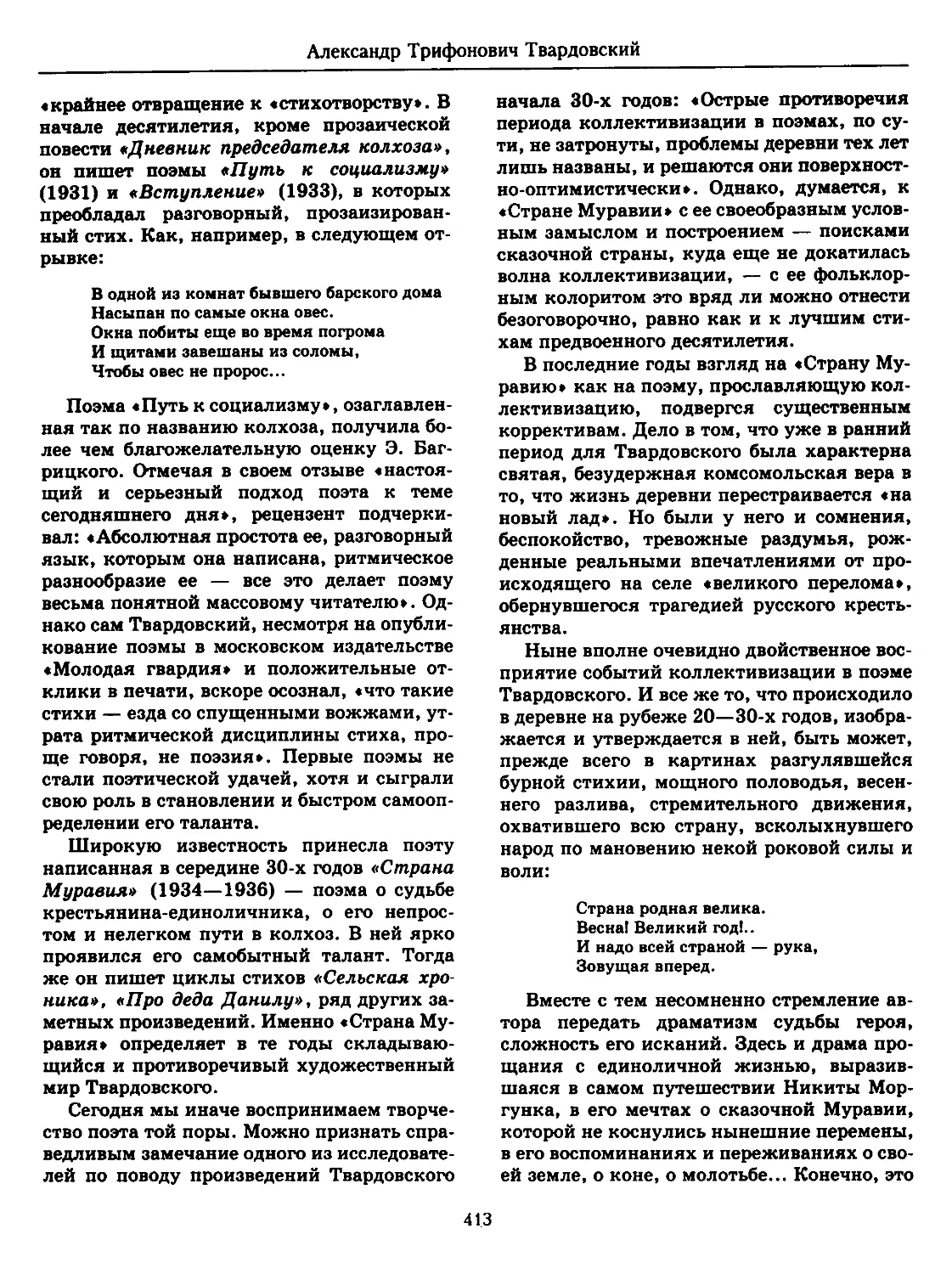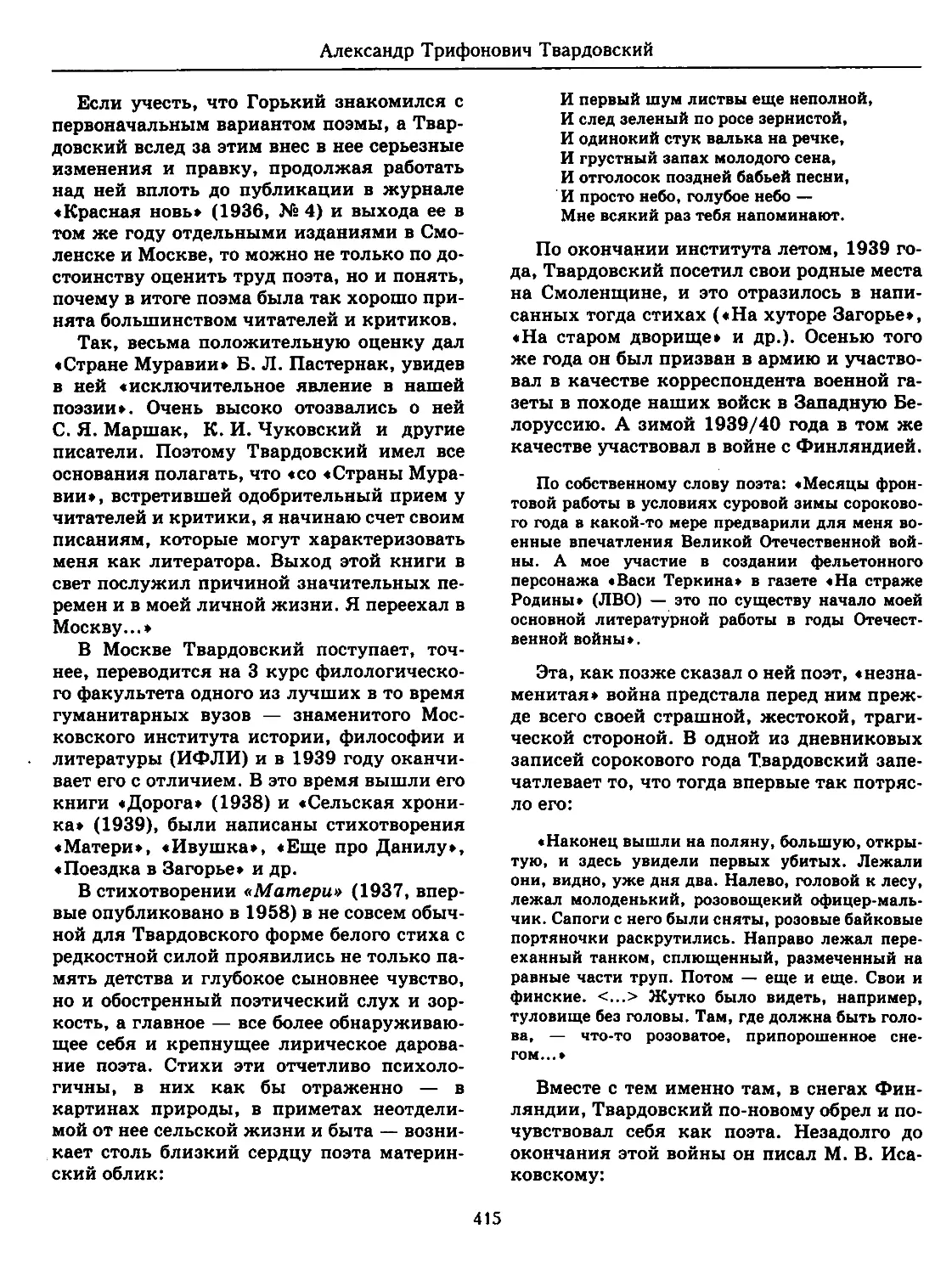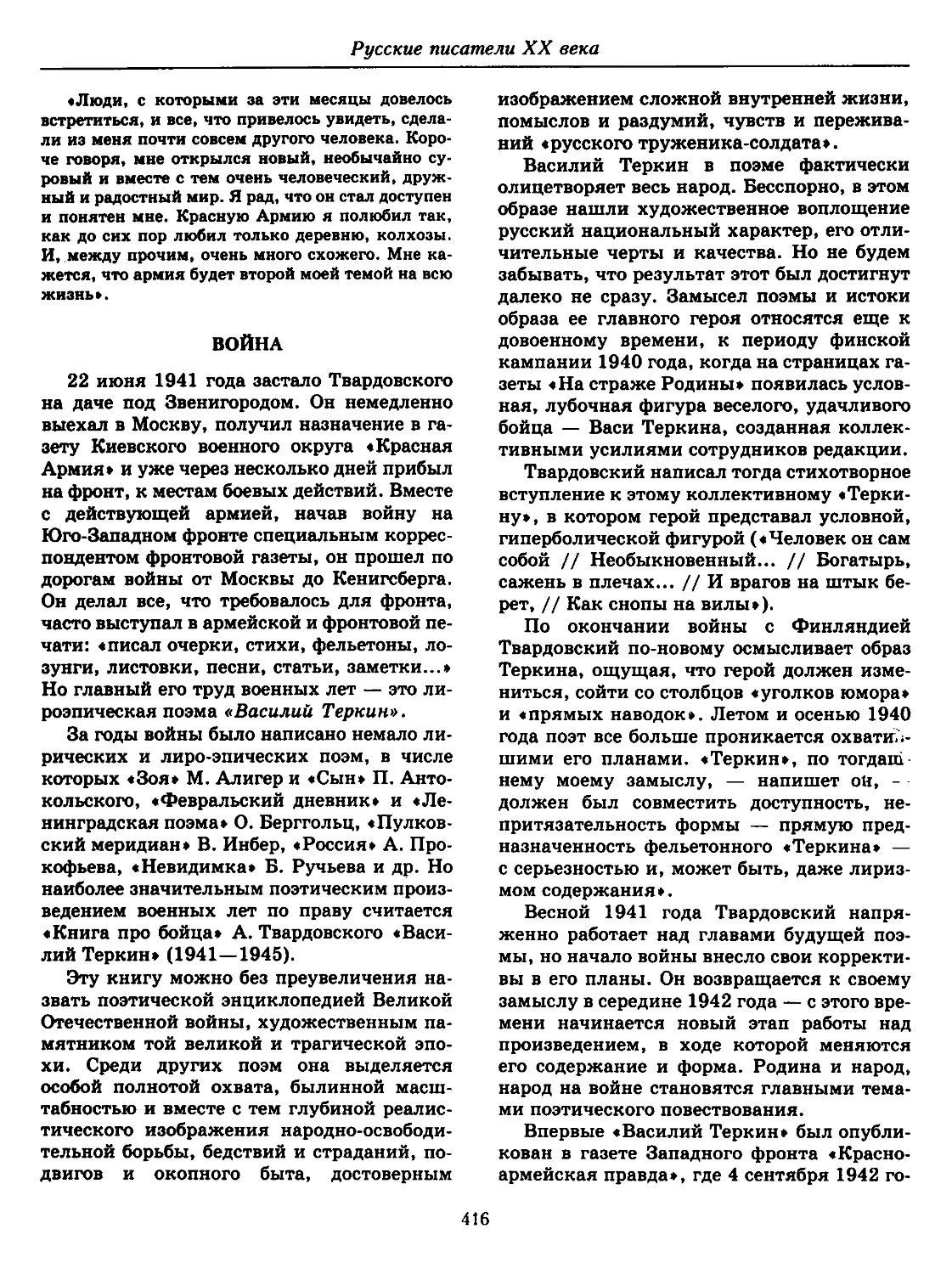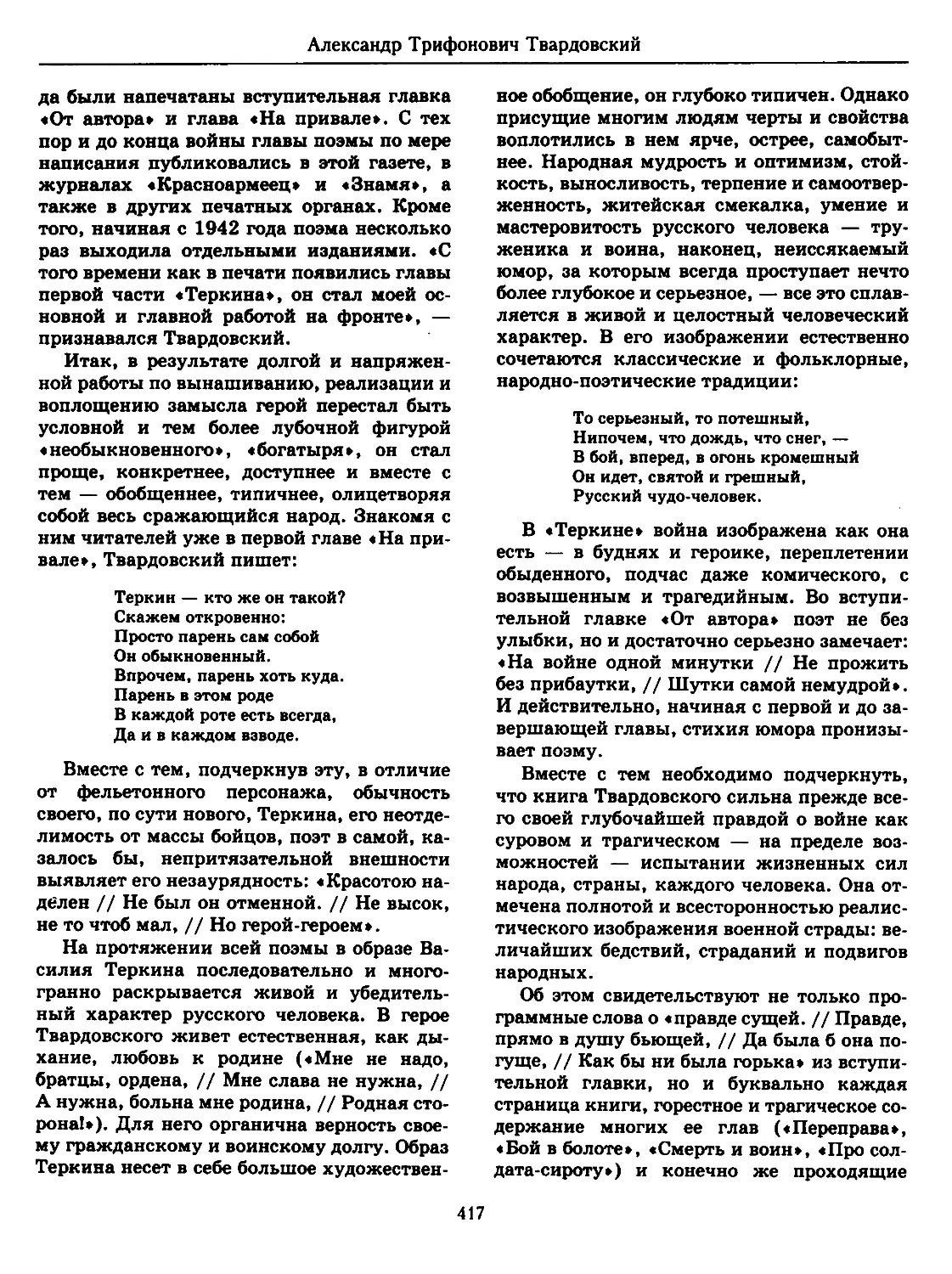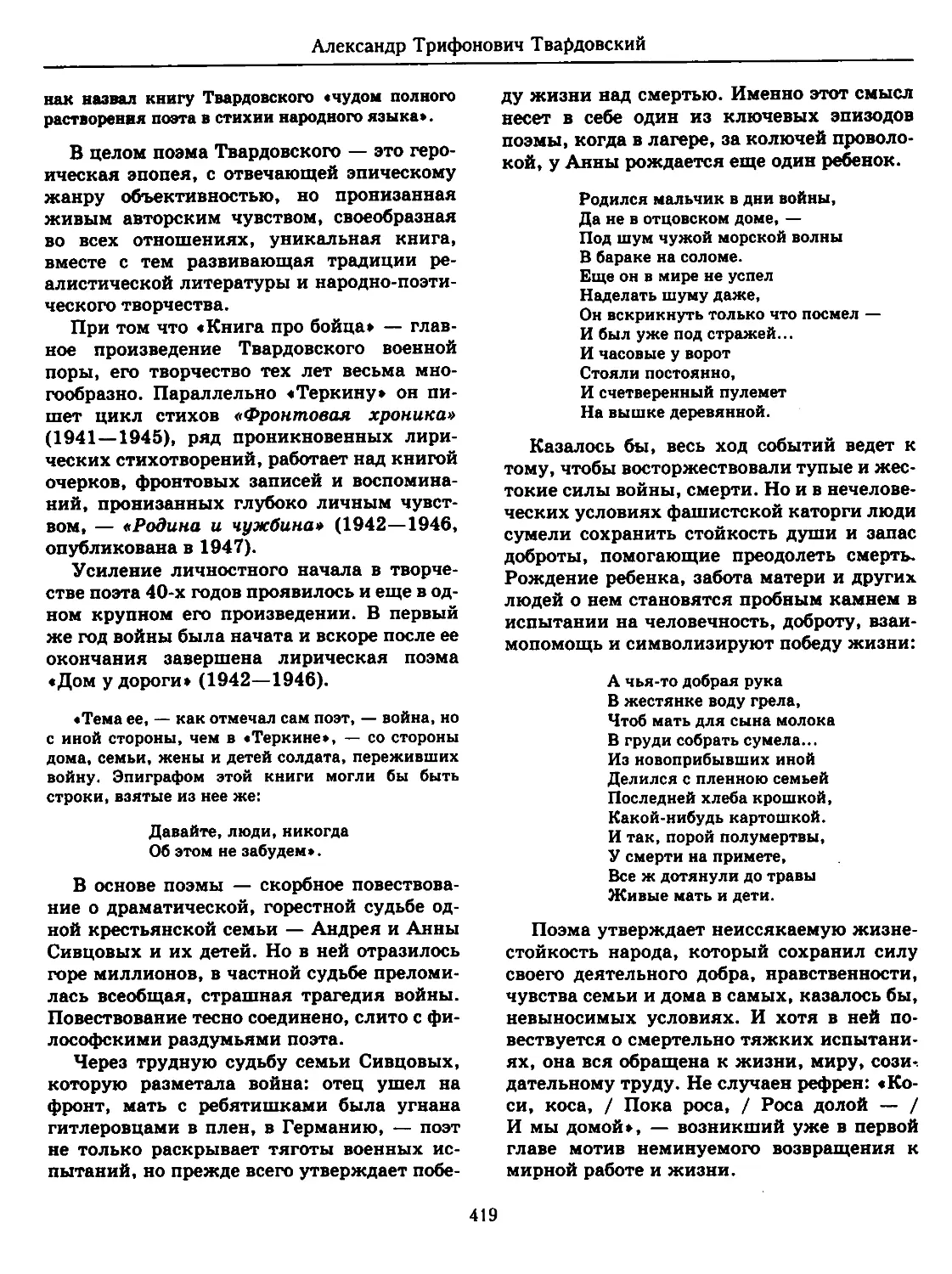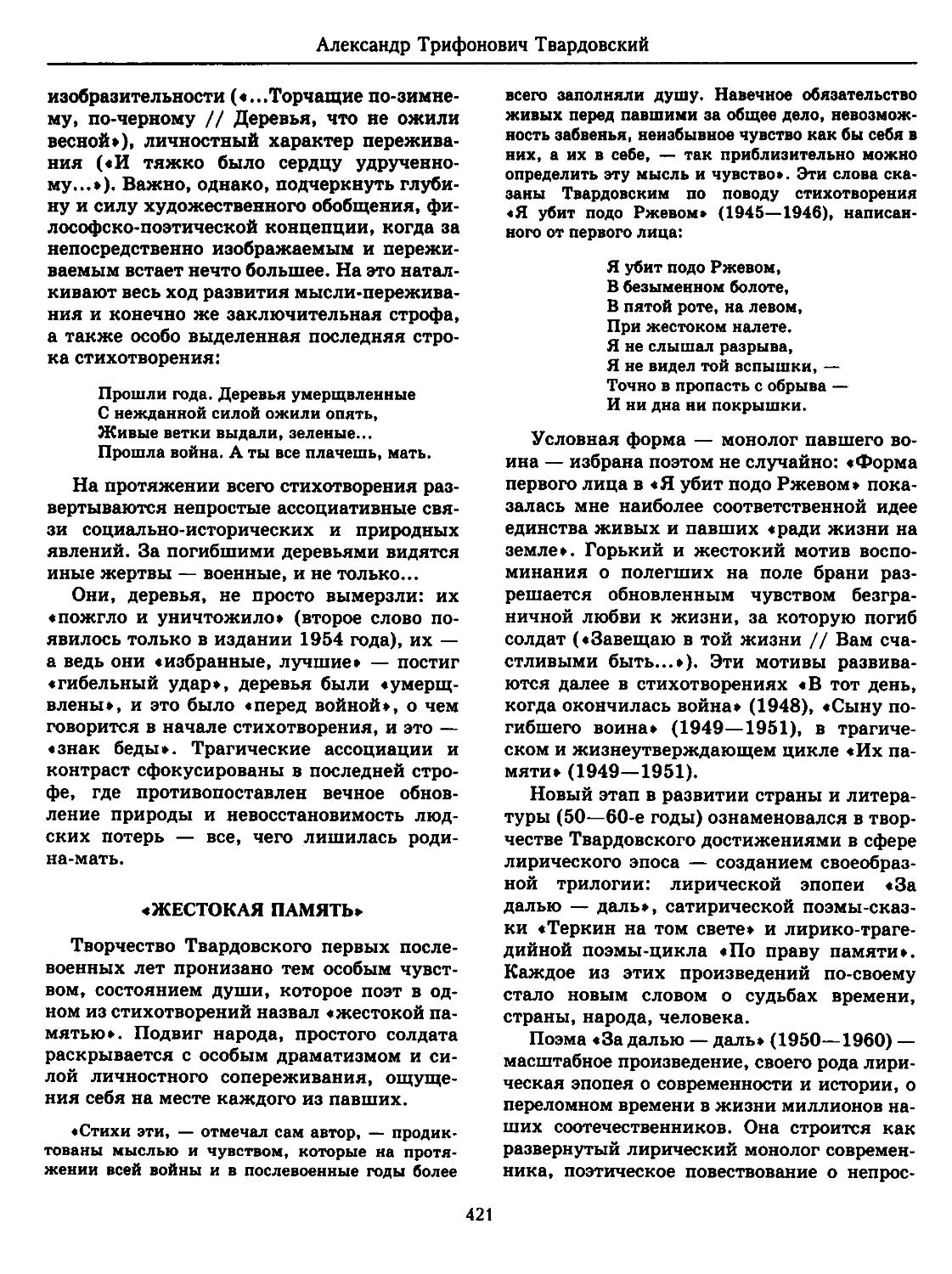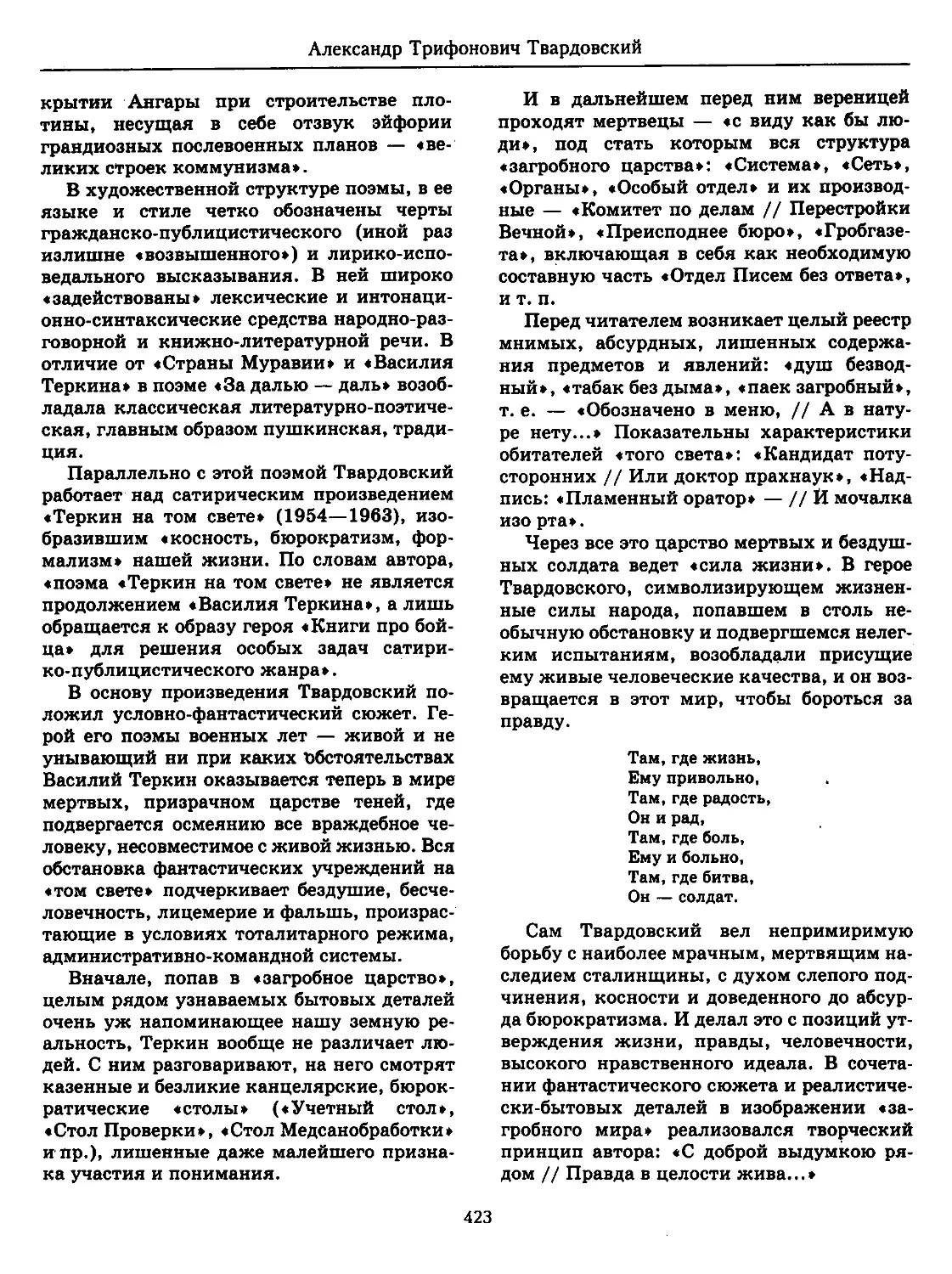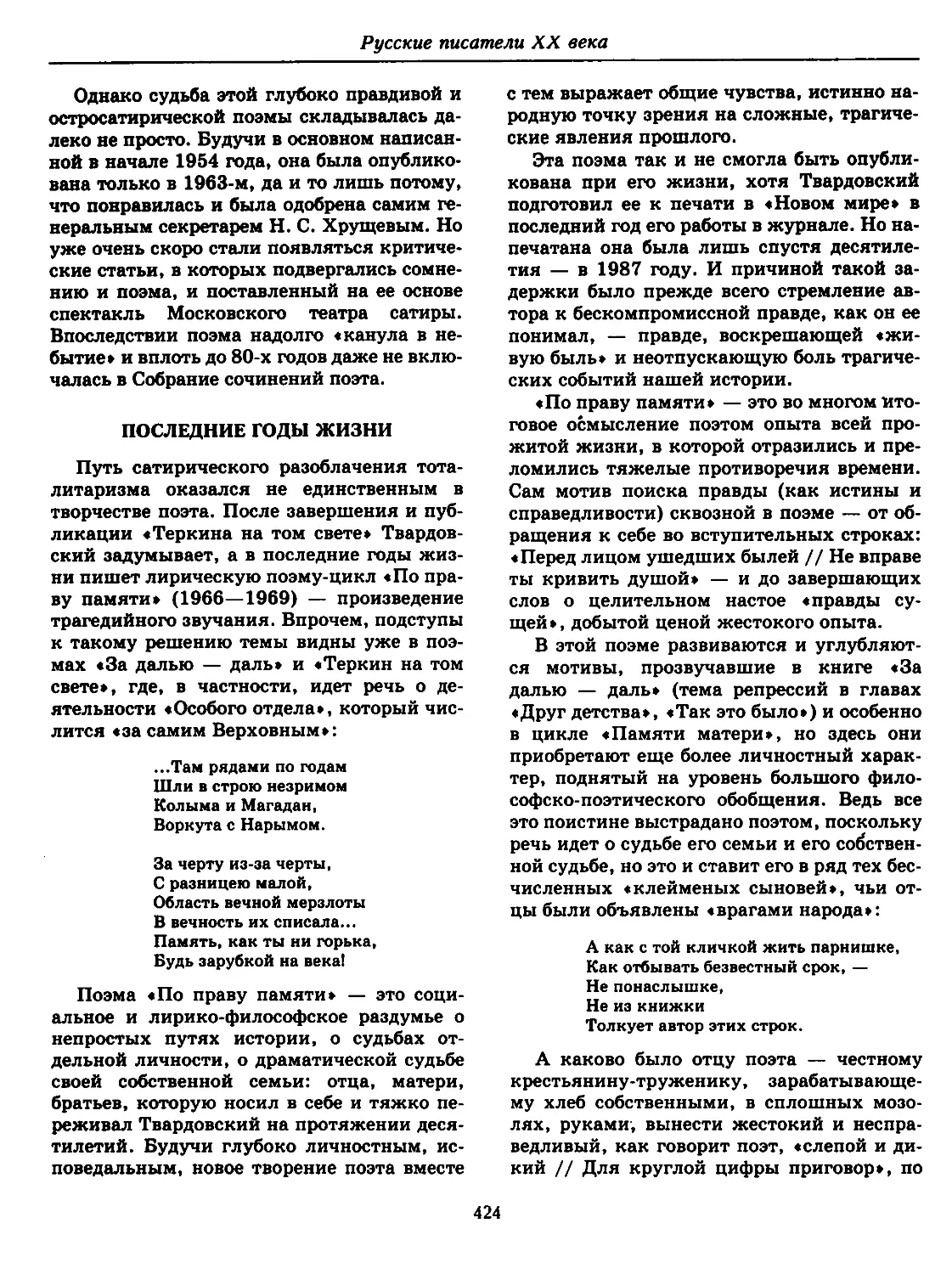Автор: Агеносов В.В. Басинский П.В. Ваняшова М.Г. Ершова Л.В.
Теги: биографические и подобные исследования русская литература художественная литература биографии
ISBN: 5-7107-3099-1
Год: 2000
Текст
Для школьников и поступающих в вузы
РУССКИЕ
ПИСАТЕЛИ
XX-
БОЛЬШОЙ
УЧЕБНЫЙ
СПРАВОЧНИК
ЛАВЛОК • ИАБУНИН • М.ГОРЬКИЙ • В.В.МАЯКОВСКИЙ
А.П. ПЛАТОНОВ • С.А. ЕСЕНИН • МА ШОЛОХОВ
М И. ЦВЕТАЕВА • Е.И. ЗАМЯТИИ • АА АХМАТОВА
Б. Л. ПАСТЕРНАК • И.С ШМЕЛЕВ • А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
СОДЕРЖАНИЕ
Александр Александрович Блок
(С. Р. Федякин) ........................... 3
Иван Алексеевич Бунин
(Л. В. Epiuoea)............................57
Максим Горький
(П. В. Басинский).......................... 79
Сергей Александрович Есенин
(А. М. Марченко)..........................102
Владимир Владимирович Маяковский
(Г. А. Сотникова).........................152
Евгений Иванович Замятин
(М. А. Нянковский)........................196
Анна Андреевна Ахматова
(А. М. Марченко) .......................... 220
Марина Ивановна Цветаева
(М. Г. Ваняшова)..........................277
Иван Сергеевич Шмелев
(Т. В. Павловец)..........................297
Андрей Платонович Платонов
(Г. Г. Кучина)............................327
Михаил Александрович Шолохов
(В. В. Агеносов. Т. В. Павловец)..........352
Борис Леонидович Пастернак
(М. Г. Павловец)......................... 380
Александр Трифонович Твардовский
(В. А. Зайцев) ............................ 409
РУССКИЕ
ПИСАТЕЛИ
YY-
лл
БОЛЬШОЙ УЧЕБНЫЙ
СПРАВОЧНИК
Для школьников и поступающих в вузы
БИОГРАФИИ
А.А. БЛОК • Г1.А. БУНИН • М. ГОРЬКИЙ • В.В. МАЯКОВСКИЙ
А.11. ПЛАТОНОВ • С.А. ЕСЕНИН • А.А. АХМАТОВА • М.И. ЦВЕТАЕВА
Е.И. ЗАМЯТИН • М.А. ШОЛОХОВ • Б.Л. ПАСТЕРНАК
И.С. ШМЕЛЕВ • А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Москва • «Дрофа» • 2000
УДК 929:821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6г
Р89
Авторы:
В. В. Агеносов, П. В. Басинский, М. Г. Ваняшова,
Л. В. Ершова, В. А. Зайцев, Т. Г. Кучина, А. М. Марченко, М. А. Нянковский,
М. Г. Павловец, Т. В. Павловец, Т. А. Сотникова, С. Р. Федякин
Русские писатели. XX век. Биографии: Большой учебный справочник для школьников и
Р89 поступающих в вузы / Авт. В. В. Агеносов, П. В. Басинский, Л. В. Ершова и др. — М.: Дрофа,
2000. — 432 с.
ISBN 5—7107—3099—1
Биографии крупнейших русских писателей XX века, написанные известными учеными и литературными крити-
ками, могут быть использованы в качестве дополнительного материала на уроках, при работе над сочинением,
рефератом, при подготовке к экзаменам.
Будут интересны всем, кто любит русскую литературу.
УДК 929:821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)вг
ISBN 5—7107—3099—1
© ООО «Дрофа», 2000
С. Р. Федякин
Александр Александрович
Блок
(1880—1921)
«Был Пушкин и был Блок... Все осталь-
ное — между!» Эти слова Владислава Хода-
севича очень точно выразили чувства мно-
гих современников поэта. В этой фразе не
только ощущение значения Блока для рус-
ской поэзии, но и чувства несомненного его
родства с великим девятнадцатым веком
русской литературы. Он менее всего стре-
мился быть только поэтом, только писате-
лем. Марина Цветаева, уже после смерти
Блока, напишет о нем: «Больше, чем поэт:
человек». Еще один современник, ставший
уже в эмиграции известным критиком,
Георгий Адамович, скажет о поэзии Блока:
он «там, где остальные люди, Блок заодно с
ними, что бы ни случилось». Потому к нему
на квартиру приходили совсем юные начи-
нающие поэты или просто его почитатели,
чтобы он ответил им на простой вопрос:
«Как жить?» Потому именно творчество
Блока стало для многих русских мыслите-
лей отправной точкой в их попытках объяс-
нить, что же случилось с Россией, да и со
всем миром в самом начале XX века, когда
вдруг, за одно поколение, все изменилось
до неузнаваемости.
«ВЫХОЖУ Я В ПУТЬ,
ОТКРЫТЫЙ ВЗОРАМ...»
В 1755 году немецкий медик Иоганн
Фридрих Блок переселился из Германии в
Россию, превратившись в лейб-хирурга
Ивана Леонтьевича Блока. Он дал начало
новой дворянской фамилии, которая теперь
прочно связалась в нашем сознании с вели-
кой русской поэзией, — с книгами, стихо-
творениями, поэмами и статьями, названия
которых звучат столь знакомо: «Стихи о
Прекрасной Даме», «Незнакомка», «На по-
ле Куликовом», «Соловьиный сад», «Две-
надцать», «Народ и интеллигенция», «Кру-
шение гуманизма», «О назначении поэ-
та»... Но когда в 1909-м и в 1915 году
Блока попросят написать «Автобиогра-
фию», он начнет рассказ о своих предках не
с этой, германской, своей родословной.
«Семья моей матери причастна к литера-
туре и к науке». За этой фразой не только
гордость потомка известнейшего рода Беке-
товых, но и эхо семейной драмы, начало ко-
торой во времени, предшествовавшем появ-
лению будущего поэта на свет.
Отец поэта, Александр Львович Блок,
был человек незаурядный. Он родился в
Пскове, в семье правоведа, чиновника Льва
Александровича Блока. Его мать, Ариадна
Александровна (урожденная Черкасова)
была дочерью псковского губернатора. Гим-
назию Александр Львович окончил в Нов-
городе, с золотой медалью. Поступив на
юридический факультет Петербургского
университета, он обратил на себя внимание
профессоров: ему прочили блестящую бу-
дущность.
Позже от бабушки и тетки со стороны
матери поэт узнает, что в молодости при
случайной встрече его отец своим «байро-
ническим» обликом произвел сильное впе-
чатление на Достоевского (отголоски этого
семейного предания прозвучат в поэме
«Возмездие»). Знаменитый писатель вроде
бы даже вознамерился сделать Александра
3
Русские писатели XX века
Львовича прототипом одного из своих геро-
ев.
Но помимо «байронической» или «демо-
нической» внешности, Александр Львович
обладал и другими, более важными качест-
вами: оригинальный ум, редкая, до само-
забвения любовь к поэзии, к музыке (сам
прекрасно играл на рояле). После себя он
оставил два сочинения: «Государственная
власть в европейском обществе* и «Полити-
ческая литература в России и о России»,
примечательные уже тем, что в них можно
найти сходное с сыном ощущение России:
то, что Александр Львович пытался изло-
жить как ученый-публицист, Александр
Блок с предельной остротой выразил в сти-
хотворении «Скифы».
Но литературное наследие Александра
Львовича оказалось меньше его дарования.
«Свои непрестанно развивавшиеся идеи, —
писал поэт об отце в той же «Автобиогра-
фии», — он не сумел вместить в те сжатые
формы, которых искал; в этом искании
сжатых форм было что-то судорожное и
страшное, как во всем душевном и физиче-
ском облике его». Не менее выразительна и
характеристика отца поэта, данная его уче-
ником Е. В. Спекторским:
«Александр Львович был убежден, что у каж-
дой мысли есть только одна действительно соот-
ветствующая ей форма выражения. Годами пере-
делывая свой труд, он и искал эту единственную
форму, преследуя при этом сжатость и музыкаль-
ность (ритмичность, размеренность). В процессе
этой бесконечной переработки он стал в конце
концов превращать целые страницы в строки, за-
менять фразы отдельными словами, а слова —
знаками препинания», не замечая, что «его рабо-
та становится все более и более символистиче-
скою, еще понятною для ближайших учеников,
но для широкого круга непосвященных уже со-
вершенно недоступною».
Есть какая-то напряженность в облике
Александра Львовича Блока. Талант мыс-
лителя историософского склада и талант
стилиста у Александра Львовича не допол-
няли друг друга, но сталкивались между
собой. Ту же напряженность мы находим и
в его поведении. Близких людей он и стра-
стно любил, и жестоко мучил, ломая жизнь
им и себе.
8 января 1879 года — день венчания
Александра Львовича Блока и Александры
Андреевны Бекетовой. Став приват-доцен-
том в Варшавском университете (в то время
часть Польши вместе с Варшавой входила в
состав Российской империи), отец будуще-
го поэта увозит молодую жену с собой.
Осенью 1880 года Александр Львович при-
езжает с Александрой Андреевной в Петер-
бург. Ему предстоит защита магистерской
диссертации. Состояние Александры Анд-
реевны, ее усталость, измученность, рас-
сказы о деспотическом характере мужа по-
ражают родных. Скоро ей предстоят роды.
По настоянию Бекетовых, Александра Анд-
реевна остается в Петербурге. Александр
Львович, с блеском защитив диссертацию,
уезжает в Варшаву. Какое-то время он пы-
тается заново расположить к себе жену. Од-
нако эти попытки остались безуспешными.
24 августа 1889 года по указу Священного
Синода брак Александра Львовича и Алек-
сандры Андреевны был расторгнут. После
Александр Львович был женат еще раз, но
и этот брак, от которого у него осталась
дочь, оказался непрочным.
Будущий поэт рос вдали от отца. Алек-
сандра Львовича он видит лишь изредка,
их сдержанное общение — в письмах. Оце-
нить отца по достоинству поэт сумеет лишь
после его смерти. В кругу Бекетовых Саша
Блок — любимец и баловень, но печать се-
мейной драмы ожила в глубинах его виде-
ния мира, и многие темы поздней лирики
Блока навеяны неустроенностью, отсутст-
вием твердой опоры в жизни.
Когда мать Блока второй раз выходила
замуж, — ее супругом стал офицер
лейб-гвардии Гренадерского полка Франц
Феликсович Кублицкий-Пиоттух, человек
добрый, мягкий, — то надеялась, что отчим
сможет в какой-то мере заменить сыну от-
ца. Но никакой душевной близости отчим и
пасынок друг к другу не почувствовали. Да
и за беззаветной любовью бабушки и теток
скрывалось напоминание о безотцовщине.
Тема «возмездия» (как и одноименная поэ-
ма Блока) выйдет из этой его «отлученное-
4
Александр Александрович Блок
ти» от семейного очага, сквозь которую он
увидит трагедию всей России.
Александр Александрович Блок появил-
ся на свет 16 (по новому стилю — 28) нояб-
ря 1880 года. Он родился в тревожное вре-
мя: через несколько месяцев после его рож-
дения, 1 марта 1881 года, народовольцы
убивают Александра II. Это событие стало
для России предвестием будущих потрясе-
ний. Но ранние годы поэта — счастливые
годы. В дневнике его бабушки Елизаветы
Григорьевны Бекетовой после тревожных
записей о покушении на государя сказано и
о крошечном внуке: «Сашура становится
главной радостью жизни». В воспомина-
ниях тетки Марии Андреевны признание:
«С первых дней своего рождения Саша стал
средоточием жизни всей семьи. В доме
установился культ ребенка».
Дед, бабушка, мать, тетки — самые
близкие ему люди. Об отце в «Автобио-
графии» он скажет глухо, с напряжением:
«Я встречался с ним мало, но помню его
кровно». О Бекетовых пишет легко, спо-
койно, с подробностями.
Ему было чем гордиться. Бекетовы —
среди друзей и знакомых Карамзина, Де-
ниса Давыдова, Вяземского, Боратынского.
В их роду можно встретить землепроходца,
актера, стихотворца, журналиста, библи-
офила, героя Отечественной войны 1812 го-
да... Замечательные люди окружали и ма-
ленького Сашу Блока.
Его дед — знаменитый ученый, ботаник
Андрей Николаевич Бекетов был для него
другом его детских лет: «...мы часами бро-
дили с ним по лугам, болотам и дебрям;
иногда делали десятки верст, заблудившись
в лесу; выкапывали с корнями травы и зла-
ки для ботанической коллекции; при этом
он называл растения и, определяя их, учил
меня начаткам ботаники, так что я помню и
теперь много ботанических названий. По-
мню, как мы радовались, когда нашли осо-
бенный цветок ранней грушевки, вида, не-
известного московской флоре, и мельчай-
ший низкорослый папоротник...»
Бабушка Елизавета Григорьевна Бекето-
ва — дочь известного путешественника, ис-
следователя Средней Азии Григория Силы-
ча Корелина. Она была и переводчиком с
нескольких языков, давшим русскому чи-
тателю сочинения Бокля, Брэма, Дарвина,
Бичер-Стоу, Вальтера Скотта, Диккенса,
Теккерея, Руссо, Гюго, Бальзака, Флобера,
Мопассана и многих других известнейших
ученых и писателей. Об этих переводах
Блок с достоинством скажет: «...ее миро-
воззрение было удивительно живое и свое-
образное, стиль — образный, язык — точ-
ный и смелый, обличавший казачью поро-
ду. Некоторые из ее многочисленных
переводов остаются и до сих пор лучшими».
Елизавета Григорьевна встречалась с Гого-
лем, Достоевским, Толстым, Аполлоном
Григорьевым, Полонским, Майковым. Она
не успела написать свои воспоминания, и
Александр Блок мог впоследствии пере-
честь только краткий план предполагаемых
записок и вспомнить некоторые бабушки-
ны рассказы.
Мать Блока и тетки поэта тоже были пи-
сательницами и переводчицами. Через них
русский читатель знакомился с произведе-
ниями Монтескье, Стивенсона, Хаггарта,
Бальзака, Гюго, Флобера, Золя, Доде, Мюс-
се, Бодлера, Верлена, Гофмана, Сенкевича
и многих других.
Перу тетки Екатерины Андреевны Беке-
товой (в замужестве Красновой) принадле-
жит стихотворение «Сирень». Положенное
на музыку Сергеем Рахманиновым, оно ста-
ло известным романсом. Мария Андреевна
Бекетова войдет в историю русской литера-
туры как автор мемуаров, связанных с
жизнью и творчеством Блока. Мать будет
играть в жизни поэта исключительную
роль. Именно она станет первым его настав-
ником и ценителем, ее мнение для Блока
будет значить очень много. Когда Саша
Блок начнет выпускать свой домашний ли-
тературный журнал «Вестник», мать ста-
нет «цензором» издания.
Дед, бабушка, мать, тетки... Узкий круг
близких людей. И уже в детские годы ощу-
щается самодостаточность для него именно
этого круга. Из детей Блок будет особенно
дружен с двоюродными братьями Феролем
и Андрюшей, детьми тетки Софьи Андреев-
ны (в девичестве Бекетовой), которая была
5
Русские писатели XX века
замужем за родным братом отчима поэта
Адамом Феликсовичем Кублицким-Пиот-
тух. Но для своих игр он в товарищах не
нуждался. Силой воображения он мог ожи-
вить обычные кубики (деревянные «кирпи-
чики»), превращая их в конки: лошадей,
кондукторов, пассажиров, предаваясь игре
со страстью и редким постоянством, все
усложняя и усложняя выдуманный им
мир. Среди особых пристрастий — корабли.
Он рисовал их во множестве, развешивая
по стенам комнаты, одаривая ими родных.
Эти корабли детского воображения «вплы-
вут* в его зрелые стихи, став символом на-
дежды.
Замкнутость и необщительность в харак-
тере маленького Блока проявлялась самым
неожиданным образом. От француженок,
которых ему пытались нанимать, он так и
не научился французскому языку, посколь-
ку, как позже заметит Мария Андреевна
Бекетова, Саша «уж и тогда почти не разго-
варивал даже и по-русски».
Когда в 1891 году будущий поэт посту-
пит в петербургскую Введенскую гимна-
зию, то и здесь со своими одноклассниками
будет сходиться трудно, даже к наиболее
близким товарищам не испытывая особой
привязанности. Его постоянные увлечения
гимназических лет — сценическое искус-
ство, декламация и свой журнал «Вест-
ник*. Последний Блок «издавал* с 1894 по
1897 год, выпустив 37 номеров. Его тро-
юродного брата Сергея Соловьева, который
в это время познакомился с Блоком, «пора-
зила и пленила в нем любовь к технике
литературного дела и особенная аккурат-
ность»: «Вестник» был изданием образцо-
вым, с вклеенными иллюстрациями, выре-
занными из других журналов.
Но важную роль в развитии поэта сыгра-
ли не только близкие ему люди и не только
увлечения, но и его дом.
В Санкт-Петербурге, столице Россий-
ской империи, пройдет почти вся жизнь
поэта. Петербург отразится в его стихах.
И все-таки Александр Блок не стал толь-
ко лишь столичным поэтом. Петербург —
это была гимназия, которая вызывала в нем
страшные воспоминания: «Я чувствовал
себя, как петух, которому причертили
клюв мелом к полу, и он так и остался в
согнутом и неподвижном положении, не
смея поднять голову». Петербург — это
казенные квартиры, «место жительства».
Домом для Блока стало небольшое имение
Шахматове, которое в свое время купил
его дедушка Андрей Николаевич Бекетов
по совету друга, знаменитого химика Дмит-
рия Ивановича Менделеева. В первый раз
будущего поэта, шестимесячного, сюда
привезла мать. Здесь он жил почти каждое
лето, а иногда с ранней весны до поздней
осени.
Шахматове — между Дмитровом и Кли-
ном. Рядом — Боблово, имение Дмитрия
Ивановича Менделеева, где Блок встретит-
ся с его дочерью Любой. Между Шахматове
и Боблово — село Тараканово, где Алек-
сандр Блок обвенчается с Любовью Дмитри-
евной Менделеевой. Эти места — исконная
«московская Русь»: бесконечные дали, по-
ля, леса, реки. Эта земля живет поверьями.
Отсюда придут в поэзию Блока «зубчатый
лес», туманы и закаты «Стихов о Прекрас-
ной Даме». И отсюда же — «Болотные чер-
тенятки», «Твари весенние», «Болотный
попик»:
На весенней проталинке
За вечерней молитвою — маленький
Попик болотный виднется...
Насколько эта «чертовщина» Шахмато-
ва милее, роднее жутких демонов Петер-
бурга:
Там, на скале, веселый царь
Взмахнул зловонное кадило,
И ризой городская гарь
Фонарь манящий облачила!..
Шахматовская земля то полна радост-
ных солнечных бликов:
На весеннем пути в теремок
Перелетный вспорхнул ветерок.
Прозвенел золотой голосок, —
то чистой прозрачности:
Осень поздняя. Небо открытое,
И леса сквозят тишиной.
6
Александр Александрович Блок
Здесь невероятная глубина:
Болото — огромная впадина
Огромного ока земли...
И освященная высь:
Вот — предчувствие белой зимы:
Тишина колокольных высот.
Образ России у Блока родом отсюда. Его
Непрядва из цикла «Поле Куликово» и ре-
ка Лутосня похожи, как сестры: «Река рас-
кинулась. Течет, грустит лениво и моет бе-
рега...» Отсюда и его дороги, овраги, тума-
ны, «шелесты в овсе». Шахматове в
детские годы — это, говоря пушкинскими
словами, «покой и воля». А позже спасение
от неестественной, мертвой столичной жиз-
ни. С каким облегчением звучат слова Бло-
ка в его письме знакомому в 1911 году:
«Здесь, по обыкновению, сразу наступила
полная оторванность от мира. Письма и га-
зеты приходят два раза в неделю». А через
пару строк: «Много места, жить удобно, ти-
шина и благоухание». В этой земле роди-
лись строки: «Выхожу я в путь, открытый
взорам...» Для Блока нет поэта без собст-
венного пути. Его собственный поэтиче-
ский путь был бы невозможен без Шахма-
това.
«НАЧАЛИСЬ СТИХИ В ИЗРЯДНОМ
КОЛИЧЕСТВЕ...»
Литература, свой журнал, театр — все
это были увлечения. Чтобы какое-либо из
этих увлечений стало для Блока чем-то
большим — пусть не сразу, пусть только по
прошествии времени, — для этого должно
было что-то произойти чрезвычайное.
Летом 1897 года вместе с матерью и тет-
кой Марией Андреевной юноша Блок едет в
Германию, в Бад-Наугейм. Матери предсто-
ит лечение, Саше Блоку — неожиданная
встреча.
В дошедшем до нас стихотворении, на-
писанном 6 июня 1897 года, — немецкий
пейзаж, увиденный глазами смешливого
юноши. Блок как бы «подтрунивает» над
привычно «романтическими» видами Гер-
мании:
Рейн — чудесная река,
Хоть не очень широка.
Берега полны вином,
Полон пивом каждый дом.
Замки видны вдалеке,
Немки бродят налегке,
Ждут прекрасных женихов
И гоняют пастухов...
Но именно здесь его настигла далеко «не
шуточная» страсть.
Поначалу встреча с Ксенией Михайлов-
ной Садовской мало походила на что-то
серьезное. Она — высокая, темноволосая, с
изумительными синими глазами дама
37 лет, жена статского советника и мать
троих детей. Он — ее юный паж, которому
не было и 17. Она смеялась гортанным сме-
хом, он всюду ее сопровождал, покупал ро-
зы, катал на лодке.
Но то, что вначале было похоже на игру,
кокетство, детское увлечение, стало обре-
тать вполне серьезные черты. И мать, и
тетка были не на шутку встревожены.
В дневнике Марии Андреевны появляется
запись — ревностный взгляд «со стороны»:
«Он, ухаживая впервые, пропадал, бросал
нас, был неумолим и эгоистичен. Она помы-
кала им, кокетничала, вела себя дрянно,
бездушно и недостойно».
Наверное, обе они вздохнули с облегчени-
ем, когда юный кавалер проводил свою даму
на поезд, вернулся, упал в кресла и картин-
но закрыл глаза рукой. Но с приездом в Пе-
тербург встречи возобновились, и в юном
гимназисте пылала уже совсем не детская
страсть. Серьезно откликнулась на нее и да-
ма его сердца. В их встречах много романти-
ческого и безрассудного: закрытые кареты,
пылкие послания, прогулки в туманные су-
мерки... В его письмах «Ты» с большой бук-
вы, уверения в любви без границ.
Встреча в Бад-Наугейме 31 октября 1897
отзовется эхом в стихах:
Ночь на землю сошла. Мы с тобою одни.
Тихо плещется озеро, полное сна.
Сквозь деревья блестят городские огни,
В темном небе роскошная светит луна...
Это уже совсем «не детские» стихи.
В Блоке проснулся настоящий лирик. Его
7
Русские писатели XX века
стихотворения часто имеют посвящение
«К. М. С.». Это ее инициалы.
Через год, в августе 1898-го, обращаясь
к Садовской, Блок напишет:
Помнишь ли город тревожный,
Синюю дымку вдали?
Этой дорогою ложной
Молча с тобою мы шли...
Но и тогда он еще не освободился от свое-
го чувства к синеокой «хохлушке*. А через
двенадцать лет, поверив в слух, что давняя
его возлюбленная умерла, вспомнит ее
«тонкие руки», «голос, вкрадчиво протяж-
ный», «синий, синий плен очей», — и под-
ведет черту:
Жизнь давно сожжена и рассказана,
Только первая снится любовь,
Как бесценный ларец перевязана
Накрест лентою алой, как кровь...
В этой встрече гимназиста с «К. М. С.»
было много того, что бывает в каждом рома-
не. Но было и другое. В 1909 году он ска-
жет:
Эта юность, эта нежность —
Что для надона была,
Всех стихов моих мятежность
Не она ли создала?..
В 1918-м, через два десятка лет после
этой встречи, о рубеже 1897—1898 годов он
выразится еще определеннее: «С января
уже начались стихи в изрядном количест-
ве. В них — К. М. С., мечты о страстях...»
В этом пылком раннем романе впервые
обозначилось то, что со временем будет вид-
но все отчетливей: несовпадение обычного
хода вещей и судьбы поэта, которая свети-
лась за планом реальности и которая впер-
вые коснулась его в Бад-Наугейме. Земная
любовь к «синеокой» не совпадала с иной
любовью к той же К. М. С., которая разбу-
дила в нем лирика. И чем дальше, тем
меньше в жизни Блока будет собственно
биографии и тем больше будет судьбы. Пер-
вое ощущение ее дыхания было здесь, в
Бад-Наугейме.
«С января уже начались стихи в изряд-
ном количестве...» Одно из них впоследст-
вии откроет первый том его лирики. Стихо-
творение не только о любви, но и о мраке:
♦Пусть светит месяц — ночь темна... Ночь
распростерлась надо мной... В холодной
мгле передрассветной... *
Все написанное до 1901 года он поместит
в раздел «Ante lucem», т. е. «До света*. Пер-
вые шаги в этом мраке он делает ощупью.
Он болен театром, а не поэзией. Участвует в
любительских спектаклях, декламирует
стихи Фета, Полонского, Апухтина, Алек-
сея Толстого. «Помню в его исполнении
«Сумасшедшего» Апухтина и гамлетовский
монолог «Быть или не быть», — вспоминал
двоюродный брат поэта Георгий Блок. —
Это было не чтение, а именно декламация —
традиционно актерская, с жестами и взры-
вами голоса. «Сумасшедшего* он произно-
сил сидя, Гамлета — стоя, непременно в две-
рях. Заключительные слова: «Офелия, о
нимфа...» — говорил, поднося руку к полу-
закрытым глазам».
Из того, что он напишет в это время,
лишь немногое попадет в будущее собрание
стихотворений. И все-таки среди позже от-
вергнутых попадаются строки, полные
предчувствия Судьбы:
Жизнь, как загадка, темна,
Жизнь, как могила, безмолвна...
В двух строках будто увидены последние
месяцы собственной жизни. Но в стихотво-
рении, обращенном к гимназическому това-
рищу, есть и предчувствие ближайшего бу-
дущего:
Мой друг, я чувствую давно,
Что скоро жизнь меня коснется...
Это касание сначала граничило с обыч-
ной случайностью: весной 1898-го на пере-
движной выставке Блока увидела Анна
Ивановна Менделеева, жена известнейшего
химика Дмитрия Ивановича Менделеева,
друга деда. Она пригласила Блока навес-
тить их летом в Боблове, ведь от Шахмато-
ва это совсем недалеко. 30 мая Блок окан-
чивает гимназию, 1 июня получает аттестат
зрелости, а 4-го едет из Петербурга в Моск-
ву, и 5-го он уже в Шахматове.
8
Александр Александрович Блок
Поначалу ничто не предвещало того «ка-
сания жизни», о котором он писал в недав-
нем стихотворении. «В Шахматове нача-
лось со скуки и тоски...» — напишет Блок в
1918-м, вспоминая события того лета.
Он окончил гимназию, с осени его ждет
университет. А пока можно предаться
праздной жизни. В Боблово его «почти
спровадили» родные, и он на белой лошади
отправился «с визитом».
Эту встречу Любовь Дмитриевна опишет
спустя многие годы так, будто все происхо-
дило вчера: жара, запах некошеных трав,
топот верховой лошади. Она в своей ком-
натке на втором этаже. За пышным кустом
сирени ей не видно, кто это приехал и спра-
шивают: «Анну Ивановну».
С «Сашей Бекетовым» они когда-то
встречались, давно-давно, да и мать ей уже
не раз о нем говорила. Сквозь просветы в
листьях сирени она видит, как уводят бе-
лого коня, слышит внизу на террасе «быст-
рые, твердые, решительные шаги» и глу-
хие удары собственного сердца. Не забыва-
ет посмотреть на себя в зеркало и
переодеться. Сбегает вниз. Ей не нравится
ни отсутствие мундира (гимназического,
студенческого или военного), ни лицо, ни
даже актерский вид, хотя сама она тоже
мечтала о сцене. Разговор пошел о возмож-
ных спектаклях. От Блока впечатление,
близкое к тому, что сам он о себе скажет
через 20 лет: «Я был франт, говорил изряд-
ные пошлости».
В воспоминаниях Блока — их можно
найти и в набросках к поэме «Возмездие», и
в «Исповеди язычника» — нет ничего лиш-
него, только их встреча, которая будто и
произошла сразу:
«Вдруг пронесся неожиданный ветер и осыпал
яблоневый и вишневый цвет. За вьюгой белых ле-
пестков, полетевших на дорогу, я увидел сидя-
щую на скамье статную девушку в розовом
платье с тяжелой золотой косой. Очевидно, ее
спугнул неожиданно раздавшийся топот лошади,
потому что она быстро встала, и краска залила ее
щеки; она побежала в глубь сада, оставив меня
смотреть, как за вьюгой лепестков мелькало ее
розовое платье».
В описаниях ее и его почти ничего обще-
го. У нее — масса житейских подробностей,
таких, которые любят составители подроб-.
ных биографий и жизнеописаний. У него
всадник, девушка на скамейке и мелькаю-
щее розовое платье и облетающий ябло-
невый цвет. У нее — вехи биографии, у не-
го — судьба.
Это действительно была судьба. В это ле-
то их отношения с Любовью Дмитриевной
полны неопределенности. Тайное взаимное
расположение — и очень сдержанное обще-
ние. Она чувствует, что Блок окружает ее
«кольцом внимания», но боится о своих
чувствах «проговориться» даже взглядом:
«Я смотрела всегда только внешне-светски,
и при первой попытке встретить по-другому
мой взгляд — уклоняла его». Ему кажется,
что Любовь Дмитриевна холодна и равно-
душна.
Но помимо обычного общения было и те-
атральное. В Боблове были поставлены от-
рывки из шекспировского «Гамлета», сце-
ны из «Горе от ума» и «Бориса Годунова».
(Кроме Блока и Любови Дмитриевны, в
спектакле участвовали внучатые племян-
ницы Дмитрия Ивановича Менделеева Се-
рафима Дмитриевна и Лидия Дмитриевна
Менделеевы.)
«Гамлет», который произвел на зрителей
наиболее сильное впечатление, сблизил и
Гамлета—Блока с Любой—Офелией. При-
знание об этом — в поздних воспоминаниях
Любови Дмитриевны:
«Мы были уже в костюмах Гамлета и Офелии,
в гриме. Я чувствовала себя смелее. Венок, сноп
полевых цветов, распущенный напоказ всем
плащ золотых волос, падающих ниже колен...
Блок в черном берете, колете, со шпагой. Мы си-
дели за кулисами в полутайне, пока готовили сце-
ну. Помост обрывался. Блок сидел на нем, как на
скамье, у моих ног, потому что табурет мой стоял
выше, на самом помосте.
Мы говорили о чем-то более личном, чем все-
гда, а главное, жуткое — я не бежала, я смотрела
в глаза, мы были вместе, мы были ближе, чем
слова разговора...»
Потом от сенного сарая (это и был театр)
они шли к дому, под горку. Молоденькие
9
Русские писатели XX века
березки и елочки, черная августовская
ночь, необычно крупные звезды...
«Как-то так вышло, что еще в костюмах (пере-
одевались дома) мы ушли с Блоком вдвоем в ку-
терьме после спектакля и очутились вдвоем Офе-
лией и Гамлетом в этой звездной ночи. Мы были
еще в мире того разговора, и не было странно,
когда прямо перед нами в широком небосводе
прочертил путь большой, сияющий голубизной,
метеор».
Эта падающая звезда, прочертившая не-
бо 1 августа 1898-го, появилась уже в сти-
хотворении, написанном на следующий
день («Я шел во тьме к заботам и весе-
лью...»). И позже падающие звезды будут
встречаться в поэзии Блока неоднократ-
но, часто приобретая символические чер-
ты.
Но лето 1898 года принесло не только
чистую юношескую любовь, но и дружбу.
После спектаклей в Боблове Блок приезжа-
ет в Дедово, в имение своих родственников
Соловьевых. Здесь он снова на любитель-
ской сцене, играет в любительских поста-
новках из «Бориса Годунова», из «Орлеан-
ской девы». В лице Михаила Сергеевича
Соловьева (брата знаменитого философа) и
его жены Ольги Михайловны, двоюродной
сестры матери, он находит людей, которым
суждено сыграть очень важную роль в его
поэтическом возмужании.
13-летний Сережа Соловьев от Блока в
восторге. В тетради, куда он вписывает свои
сочинения и сочинения знаменитого дяди,
Владимира Соловьева, появляются стихи
Александра Блока.
24 августа 1898 года Блок вернется в
Петербург. А через три дня Ольга Михай-
ловна пишет из Дедова Александре Андре-
евне: «Скажи Саше, что я очень благодарю
его за стихи и очень бы желала продолже-
ния, мне очень интересно, как это пойдет
дальше...»
В семье Соловьевых завязывается тот
узел судеб, который сведет воедино творче-
ство Владимира Соловьева, жизнь Блока,
Любови Дмитриевны, Сережи Соловьева и
Бориса Бугаева (впоследствии — Андрея
Белого).
«МИСТИКА НАЧИНАЕТСЯ»
После лета 1898 года в жизни Блока на-
ступает время неопределенности. Если бы
не огромное количество стихов, написан-
ных им в 1898—1900 годах, можно было бы
подумать, что эти годы прошли для него да-
ром. На самом деле его внутренняя жизнь
становится важнее внешней биографии.
Он становится студентом Петербургского
университета. Поступает на юридический
факультет, не то следуя тайному желанию
отца, не то предполагая (как позже в пись-
ме отцу же и признается), что здесь учиться
будет много легче, нежели на других фа-
культетах. И уже скоро он почувствует
свою чуждость юридическим и экономиче-
ским наукам, не находя в себе достаточно
сил, чтобы отдаться учебе. На втором курсе
останется на второй год и в сентябре
1901 года переведется на филологический
факультет по славяно-русскому отделению,
потеряв три года.
У него сохраняются сложные отношения
с Садовской, но мечтами он возвращается к
той, которая запечатлелась в его памяти в
образе Офелии. Лето 1899 года напоминало
предыдущий год лишь внешне. В Боблове
много ставили Пушкина (это был год 100-
летия поэта), все так же было много театра,
но расположение Блока к Любови Дмитри-
евне наталкивалось на ее холодную замкну-
тость. 4 июня 1899 года помечено стихотво-
рение со строками:
Она, как прежде хороша...
Но лунный блеск холодной ночи —
Ее остывшая душа.
«Помню ночные возвращения шагом, —
запишет Блок через много лет, — осыпан-
ные светляками кусты, темень непрогляд-
ную и суровость ко мне Любови Дмитриев-
ны*.
Он много ездит верхом. В набросках к
поэме «Возмездие» в рассказе о жизни ге-
роя воспоминания об этих поездках, с кото-
рыми поэт вдыхал пространство родных по-
лей, холмов, лесов:
«Пропадая на целые дни — до заката, он очер-
чивает все большие и большие круги вокруг род-
10
Александр Александрович Блок
ной усадьбы. Все новые долины, болота и рощи,
за болотами опять холмы, и со всех холмов, то в
большем, то в меньшем удалении — высокая ель
на гумне и шатер серебристого тополя над до-
мом».
Расширяется и круг его чтения. Блоку
попался старый номер «Северного вестни-
ка» с повестью Зинаиды Гиппиус «Зерка-
ла». До сих пор он мало был знаком с но-
вейшими направлениями в литературе.
Повесть произвела впечатление. Своеобраз-
ным поэтическим отзывом на нее стало
стихотворение «Кошмар»: «леденеющая»
ночь, пробуждение, пустая и «безмолвная»
стена, а на ней — «полные скорби и ужаса
очи».
В Петербурге ему кажется, что отноше-
ния с Любовью Дмитриевной уже в про-
шлом. В дневнике 1918 года он вспомнит о
последнем объяснении с К. М. Садовской и
заметит: «Мыслью я, однако, продолжал
возвращаться к ней, но непрестанно тоско-
вал о Л. Д. Менделеевой».
В конце 1899 года появится стихотворе-
ние, название которого «Dolor Ante Lucem»
(«Предрассветная тоска») даст имя его ран-
ней лирике (с 1897 по 1900 годы) «Ante
Lucem» («До света»). В стихотворении запе-
чатлелись самые темные часы суток и самое
темное время в году. Под стать им мысли
поэта:
Каждый вечер, лишь только погаснет заря,
Я прощаюсь, желанием смерти горя,
И опять, на рассвете холодного дня.
Жизнь охватит меня и измучит меня!
Он еще не знал, что несостоявшиеся от-
ношения с Менделеевой, предрассветное
стихотворение и знакомство с новейшей ли-
тературой — это не случайные вехи биогра-
фии, но знаки судьбы.
Что-то тайно-значительное ощутил он и
в феврале 1900-го, когда на похоронах
дальней родственницы увидел Владимира
Соловьева. В статье «Рыцарь-монах», напи-
санной более чем через десять лет, он
вспомнит и редкий снежок, и худую, высо-
кую фигуру мыслителя, странно непохо-
жую на всех окружающих. Вспомнит и слу-
чайный взгляд Соловьева.
В этой «бездонной синеве» светились «полная
отрешенность и готовность совершить последний
шаг; то был уже чистый дух: точно не живой че-
ловек, а изображение: очерк, символ, чертеж.
Одинокий странник шествовал по улице города
призраков в час петербургского дня, похожий на
все остальные петербургские часы и дни. Он мед-
ленно ступал за неизвестным гробом в неизвест-
ную даль, не ведая пространств и времен».
Для статьи Блок немного подретуширо-
вал свое воспоминание. В письме Г. Чулко-
ву, которое Блок написал за 5 лет до этой
статьи, то же воспоминание, но чуть иная
обстановка и насколько иначе расставлены
акценты!
«Помню я это лицо, виденное однажды в жиз-
ни на панихиде у родственницы. Длинное тело у
притолоки, так что целое мгновение я употребил
на поднимание глаз, пока не стукнулся глазами о
его глаза. Вероятно, на лице моем выразилась ду-
ша, потому что Соловьев тоже взглянул долгим
сине-серым взором. Никогда не забуду — тогда и
воздух был такой. Потом за катафалком я шел по-
зади Соловьева и видел старенький желтый мех
на несуразной шубе и стальную гриву. Перелетал
легкий снежок (это было в феврале 1900 года, в
июле он умер), а он шел без шапки, и один госпо-
дин рядом со мной сказал: «Экая орясина!» Я
чуть не убил его. Соловьев исчез, как появился,
незаметно, на вокзале, куда привезли гроб, его
уж не было».
Взгляд Соловьева не был случайным.
Что-то он увидел в юноше Блоке.
Через год с небольшим, получив в пода-
рок от матери книгу стихотворений Влади-
мира Соловьева, Блок прочитает строки, в
которых уловит что-то интимно-родствен-
ное собственным таинственным и мучи-
тельным переживаниям:
Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?
Прочитает Блок и поэму «Три свида-
ния», стихотворное признание Соловьева о
видении, посетившем его в египетской пус-
тыне и ставшем главным событием жизни:
И в пурпуре небесного блистанья
Очами, полными лазурного огня.
11
Русские писатели XX века
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.
Все видел я, и все одно лишь было —
Один лишь образ женской красоты...
Безмерное в его размер входило, —
Передо мной, во мне — одна лишь ты.
«Подруга вечная», «София Премудрость
Божия», «Вечная женственность», «Жена,
облеченная в солнце» и множество других
соловьевских образов-понятий, пришед-
ших из Священного писания, гностических
учений и собственного мистического опыта,
скоро станут для Блока и его товарищей
Андрея Белого и Сергея Соловьева почти
родной речью. И если Андрей Белый и Сер-
гей Соловьев будут много штудировать фи-
лософа и религиозного мыслителя Соловье-
ва, то для Блока он останется дорог как
поэт, и еще больше — как личность, знаме-
новавшая собой предощущение нового,
страшного и тревожного времени.
Пока же для начинающего поэта этот
эпизод на похоронах был лишь предвестием
будущей, духовной встречи, когда самого
мыслителя уже не будет в живых.
Летом 1900-го в Боблове он принял учас-
тие только в одном водевиле. Репетировали
и «Снегурочку», где Блок должен был вы-
ступить в роли Мизгиря, Снегурочкой же
была Любовь Дмитриевна. Но репетиции
так и не закончились спектаклем. Актерст-
во отходит от Блока...
Теперь он остывает к карьере актера. За-
то в жизнь входит что-то новое. В дневнике
1918 года Блок вспоминает: «Начинается
чтение книг, история философии. Мистика
начинается. Средневековый город Дубров-
ской березовой рощи*.
Дорога из Шахматова в Боблово вела ми-
мо деревни Дубровки, возле которой и на-
ходилась эта роща. Стихотворение, напи-
санное 10 июня 1900 года, — свидетельство
этого видения, когда за деревьями поэт не
видит леса, но видит древний город:
На небе зарево. Глухая ночь мертва.
Толпится вкруг меня лесных дерев громада,
Но явственно доносится молва
Далекого, неведомого града.
Ты различишь домов тяжелый ряд,
И башни, и зубцы бойниц его суровых,
И темные сады за камнями оград,
И стены гордые твердынь многовековых...
В биографии Блока отчетливо видны
судьбоносные мгновения. Такой была
встреча с Любовью Дмитриевной летом
1898 года. Таковой была и безмолвная
встреча взглядов известного философа и
юного поэта. Таковой стала и обретенная
способность «двойного зрения»: Блок все
отчетливей и отчетливей начинает за пла-
ном реальным угадывать другой мир.
«СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ»
Из Шахматова Блок вернулся в Петер-
бург 7 сентября вместе с матерью. С Лю-
бовью Дмитриевной, кажется, они расхо-
дятся уже окончательно. Сама героиня ран-
ней лирики Блока вспоминала об этом: «К
разрыву отношений, произошедшему в
1900 году, осенью, я отнеслась очень равно-
душно. Я только что окончила VIII класс
гимназии, была принята на Высшие кур-
сы». Лекции профессоров, которые она по-
сещала, увлекли. Менделеева знакомится с
курсистками, посещает концерты, после
которых «начинались танцы в зале»... Для
нее началась совсем новая жизнь. «О Блоке
я вспоминала с досадой, — пишет Любовь
Дмитриевна через многие годы. — Я по-
мню, что в моем дневнике были очень рез-
кие фразы на его счет, вроде того, что «мне
стыдно вспоминать свою влюбленность в
этого фата с рыбьим темпераментом и гла-
зами...» Я считала себя освободившейся».
С ним же происходит что-то чрезвычай-
ное. В дневнике 1918 года об этом времени
несколько загадочных фраз:
«Она продолжает медленно принимать незем-
ные черты... К концу 1900 года растет новое...
25 января — гулянье на Монетной к вечеру в со-
вершенно особом состоянии. В конце января и на-
чале февраля (еще — синие снега около полковой
церкви, — тоже к вечеру) явно является Она.
Живая же оказывается Душой Мира (как опреде-
лилось впоследствии), разлученной, плененной и
тоскующей (стихи 11 февраля, особенно — 26
февраля, где указано ясно Ее стремление отсюда
12
Александр Александрович Блок
для встречи «с началом близким и чужим» (?) —
и Она уже в дне, т. е. за ночью, из которой я на
нее гляжу. То есть Она предана какому-то стрем-
лению и «на отлете», мне же дано только смот-
реть и благословлять отлет).
В таком состоянии я встретил Любовь Дмитри-
евну на Васильевском острове...»
Есть у Пушкина стихотворение «Жил на
свете рыцарь бедный...», которое многое
объясняет в мироощущении раннего Блока.
Он имел одно виденье
непостижное уму, —
этими пушкинскими строками поэт мог бы
сказать о самом себе. Герой пушкинского
стихотворения — рыцарь, избравший Да-
мой Сердца Богородицу:
Полон чистою любовью,
Верен сладостной мечте,
А. М. D. своею кровью
Начертал он на щите.
Это в записях для себя Блок по памяти
цитирует Пушкина, но вместо «А. М. D.»
(то есть «Ave, Mater Dei» — «Радуйся, Ма-
терь Божия») ставит «Л. Д. М.» — иници-
алы дамы своего сердца.
Но Любовь Дмитриевна не совпадает
«без остатка» с «Ты» из блоковской лири-
ки. Она — это земное воплощение того не-
земного образа, который является поэту.
Блока не случайно причисляли к вели-
ким духовидцам, его видения подобны ви-
дениям знаменитых мистиков прошлых
эпох (по времени к нему всего ближе стоит
Владимир Соловьев). Он и стремится оста-
вить свидетельство о своих видениях в сти-
хах. И поначалу делает это не только без
каких-либо влияний, но и без точных пред-
ставлений, как ЭТО происходило у других.
С поэзией Соловьева по-настоящему он по-
знакомится чуть позже, в апреле (книжку
стихов философа подарит ему мать), и будет
поражен совпадением переживаний знаме-
нитого мыслителя со своими собственными.
Еще позже он коснется философских работ
Соловьева, но стихи покажутся значитель-
нее. Из-под пера самого Блока начиная с
25 января 1901 года выходит свидетельство
за свидетельством переживаний необыкно-
венных. И говорить об этом он может толь-
ко стихами.
«И тихими я шел шагами, провидя вечность в
глубине...», «Ветер принес издалека звучные пес-
ни твои», «Песни твоей лебединой звуки почуди-
лись мне», «Народы шумные кричат... Она мол-
чит, — и внемлет крикам — и зрит далекие ми-
ры...», «Боже! Боже! О, поверь моей молитве, в
ней душа моя горит!», «Ты, в алом сумраке ли-
куя, ночную миновала тень», «Близко ты, или да-
лече, затерялась в вышине?», «Зажглось святи-
лище Твое»...
От одного стихотворения к другому тя-
нется пунктиром сюжет: «Она» приближа-
ется. «Живая же оказывается Душой Ми-
ра», — поясняет Блок в дневнике 1918 года
и тем свидетельствует: юноша Блок ждал
явления Вечной Женственности или Души
Мира, которая должна воплотиться в зем-
ную девушку, и воплотилась в некую
«Л. Д. М.». Три буквы, которые можно про-
читать и как «Любовь Дмитриевна Менде-
леева», и как: «Любовь — Душа Мира».
«К весне, — пояснительная запись в том
же дневнике, — начались хождения около
островов и в поле за Старой Деревней, где
произошло то, что я определял как Виде-
ния (закаты)*.
Образ его «Подруги Вечной» светится
красками зорь. В его обращении к Ней час-
ты «огненные* эпитеты. Часто он и самим
именем подчеркивает Ее «лучезарность»:
«Дева — Заря — Купина».
Начало века поразило не одного Блока
своими необычными зорями. В воздухе ви-
село предчувствие скорых перемен. Андрей
Белый в «Воспоминаниях о Блоке* писал о
«психической атмосфере» рубежа веков:
«...До 1898дул северный ветер под се-
реньким небом. «Под северным небом» —
заглавие книги Бальмонта; оно — отражает
кончавшийся девятнадцатый век; в
1898 году — подул иной ветер; почувство-
вали столкновенье ветров: северного и юж-
ного; и при смешенье ветров образовались
туманы: туманы сознания.
В 1900—1901 годах очистилась атмосфе-
ра; под южным ласкающим небом начала
XX века увидели мы все предметы иными;
13
Русские писатели XX века
Бальмонт уже пел, что «Мы будем, как солн-
це». А. Блок, вспоминая те годы впоследст-
вии строчкой «И — зори, зори, зори», оха-
рактеризовал настроение, охватившее нас;
«зори», взятые в плоскости литературных
течений (которые только проекции про-
странства сознания), были зорями символиз-
ма, взошедшими после сумерек декадент-
ских путей, кончающих ночь пессимизма...»
Еще одно сходное признание мы читаем
в черновиках к автобиографии Максимили-
ана Волошина: «то же, что Блок в Шахма-
товских болотах, а Белый у стен Новоде-
вичьего монастыря, я по-своему переживал
в те же дни в степях и пустынях Туркеста-
на, где водил караваны верблюдов».
Необыкновенные закаты начала века
легко объяснить взрывом вулкана на
о. Мартиника. Косые закатные лучи пре-
ломлялись странным образом, проходя
сквозь пепел, рассеянный в атмосфере. Но
мог ли любой из «чувствовавших* принять
такое объяснение всех своих тревог и пред-
чувствий? Не был ли и сам вулканический
взрыв предзнаменованием иных, более
серьезных потрясений?
В литературе, в музыке, в живописи, в
самом сознании людей конца XIX века пре-
обладали сине-серые цвета, пессимизм, буд-
дийские настроения, ощущение бесцель-
ности жизни. На исходе столетия стал ощу-
тим разрыв времен. С началом века
мрачный дух Шопенгауэра сменился вли-
янием экстатичного Ницше, во всем чувст-
вовалось веяние нового времени.
«Появились вдруг «видящие» средь «невидя-
щих», — вспоминал Белый, — они узнавали друг
друга; тянуло делиться друг с другом непонят-
ным знанием их; и они тяготели друг к другу,
слагая естественно братство зари, воспринимая
культуру особо: от крупных событий до хрони-
керских газетных заметок; интерес ко всему на-
блюдаемому разгорался у них; все казалось им
новым, охваченным зорями космической и исто-
рической важности: борьбой света с тьмой, проис-
ходящей уже в атмосфере душевных событий,
еще не сгущенных до явных событий истории,
подготовляющей их; в чем конкретно события
эти, — сказать было трудно: и «видящие» расхо-
дились в догадках: тот был атеист, этот бы те-
ософ; этот — влекся к церковности, этот — шел
прочь от церковности; соглашались друг с другом
на факте зари: «нечто» светит; из этого «нечто»
грядущее развернет свои судьбы».
Внешняя жизнь Блока идет своим чере-
дом. В мае 1901-го он знакомится с творче-
ством символистов по альманаху «Север-
ные цветы», его особенно волнуют стихи
Валерия Брюсова. Лето проводит в Шахма-
тове (поездки в Боблово знаменуются не
просто возрождением прежних отношений
с Любовью Дмитриевной, но в них появля-
ется что-то новое, по более позднему при-
знанию поэта — «Л. Д. проявляла иногда
род внимания ко мне. Вероятно, это было
потому, что я сильно светился*). Посещает
поэт и Дедово, семейство Соловьевых, мно-
го беседует с Михаилом Сергеевичем и бра-
том Сережей, получив на прощание только
что вышедший первый том сочинений по-
койного Владимира Соловьева.
Осенью сплетаются в один узел несколь-
ко важных событий. Блок прекращает за-
нятия на юридическом факультете и пере-
водится на филологический. Тогда же на
улице он случайно встретил Любовь Дмит-
риевну. С этого момента они вместе появля-
ются в соборах Петербурга, и эти соборы пе-
реходят в поэзию Блока. В сентябре узнает
он и о читателях своих стихов. Ольга Ми-
хайловна пишет матери поэта, сколь силь-
ное впечатление произвела его лирика на
их близкого знакомого Борю Бугаева.
По совету Соловьевой Блок решается по-
слать свои стихи Брюсову. По неясной при-
чине они так'и не найдут своего адресата.
Но появление имени нового поэта на стра-
ницах новейших изданий уже предопреде-
лено.
С 1902 года Блок все более сближается с
современной литературой. Пытается писать
статью о новейшей русской поэзии, знако-
мится с виднейшими представителями ново-
го направления в литературе: Зинаидой Ни-
колаевной Гиппиус и Дмитрием Сергееви-
чем Мережковским. В августе он пошлет
свои стихи в издательство «Скорпион», т. е.,
в сущности, опять Валерию Брюсову, по-
скольку тот в издательстве играл ведущую
роль. С октября начнет посещать собрание
14
Александр Александрович Блок
сотрудников журнала «Мир искусства», тог-
да же отдаст стихи в нарождающийся жур-
нал Мережковских «Новый путь».
Но 1902 год приносит и первые утраты: в
июле Блоку суждено пережить смерть де-
душки Андрея Николаевича Бекетова, в ок-
тябре — не сумевшей пережить эту кончи-
ну бабушки Елизаветы Григорьевны.
Душу поэта посещают и иные тревоги.
Блок вдруг остро почувствует разницу меж-
ду крестьянством и своим сословием, когда
летом до Шахматова дойдут слухи о бунтах
в Пензенской и Саратовской губерниях.
С напряжением он будет внимать песне му-
жиков в пору сенокоса. Позже вспомнит:
«Без усилия полился и сразу наполнил и ов-
раг, и рощу, и сад сильный серебряный тенор. За
сиренью, за туманом ничего не разглядеть, по го-
лосу узнаю, что поет Григорий Хрипунов; но я
никогда не думал, что у маленького фабричного,
гнилого Григория такой сильный голос.
Мужики подхватили песню. А мы все страшно
смутились.
Я не знаю, не разбираю слов; а песня все растет.
Соседние мужики никогда еще так не пели. Мне
неловко сидеть, щекочет в горле, хочется плакать.
Я вскочил и убежал в далекий угол сада*.
В конце августа Блок из Шахматова едет
в Москву. Третьяковская галерея с карти-
нами Васнецова, Нестерова, Репина, Леви-
тана, храм Василия Блаженного, Кремль,
храм Христа Спасителя, Александровский
сад, Новодевичий монастырь (с могилами
историка С. М. Соловьева и его сына
В. С. Соловьева) — все это звучит в его ду-
ше единым торжественным аккордом. Па-
мять о «московских святынях» он привезет
в Шахматове и после — в Петербург.
И за всеми событиями, огорчениями, на-
деждами шла его тайная жизнь, его стран-
ные обращения к Ней, к «Душе мира», к
«Прекрасной Даме» к «Деве, Заре, Купи-
не».
«Лучезарными» видениями окрашена
вся его жизнь начала 1900-х. И Любовь
Дмитриевну он видит сквозь призму своей
поэзии. Он стремится к ней, наталкивает-
ся на неприступную суровость, пишет пись-
ма — отчаянные письма на том же «незем-
ном» языке:
«...Моя жизнь, т. е. способность жить, немыс-
лима без Исходящего от Вас ко мне некоторого
непознанного, а только еще смутно ощущаемого
мной Духа». И еще: «...Я стремлюсь давно уже
как-нибудь приблизиться к Вам... Разумеется,
это и дерзко и в сущности даже недостижимо...
однако меня оправдывает продолжительная и
глубокая вера в Вас (как в земное воплощение
пресловутой Пречистой Девы или Вечной Женст-
венности, если Вам угодно знать)».
Любовь Дмитриевна чувствует, что Блок
видит в ней что-то большее, чем она есть,
что-то невероятно возвышенное, и это пуга-
ет ее. Его же переживания — и земные, и
неземные — столь напряженны, что он на-
чинает думать о самоубийстве.
7 ноября 1902 года с револьвером в кар-
мане Блок пошел на решительное объясне-
ние.
«В каких словах я приняла его любовь, что
сказала — не помню, — вспоминала Любовь
Дмитриевна, — но только Блок вынул из кармана
сложенный листок, отдал мне, говоря, что если б
не мой ответ, утром его уже не было бы в живых*.
На листке было написано:
«В моей смерти прошу никого не винить. При-
чины ее вполне «отвлеченны» и ничего общего с
«человеческими» отношениями не имеют. Верую
во едину святую соборную апостольскую Цер-
ковь. Чаю Воскресения мертвых и жизни будуще-
го века. Аминь.
Поэт Александр Блок».
♦ Стихи о Прекрасной Даме» — молитвы
и заклинания. Не случайно к одному из
самых важных поэтических свидетельств
«Ее явления* он возьмет эпиграф из «Апо-
калипсиса»: «И Дух и Невеста говорят:
Прииди». В этом стихотворении все религи-
озные ожидания Блока и крайний их на-
кал:
Верю в Солнце Завета,
Вижу зори вдали.
Жду вселенского света
От вечерней земли.
Георгий Адамович в статье «Наследие
Блока», написанной спустя десятилетия,
скажет о русских символистах:
15
Русские писатели XX века
«Если бы тогда Блоку, Белому или Вячеславу
Иванову сказали, что впереди революция, что
она, а ничто другое, составляет содержание их
предчувствий, и даже эти предчувствия оправды-
вает, вероятно, они такое истолкование отвергли
бы. Революция пусть и очень большое событие,
но все же не такое, какого они, казалось, ждали:
не того характера, не того значения! Им нужно
было бы что-нибудь вроде Второго Пришествия
или светопреставления, чтобы соблюден был уро-
вень надежд, волхвований и заклинаний...»
Они действительно ждали не революции,
или, по крайней мере, не только револю-
ции, но именно «вселенского света». И ког-
да революция придет, они тоже увидят в
ней не просто переворот, но — крушение
старого мира. «Она», явившаяся Блоку, и
была знамением грядущих перемен. А то,
что перемены неизбежны, говорило само Ее
явление:
Непостижного света
Задрожали струи.
Верю в Солнце Завета,
Вижу очи Твои.
Если бы, получив согласие Любови
Дмитриевны, Блок знал, что уже совсем
скоро его ждут новые потрясения...
Конец 1902 года полон умиротворения.
23 декабря Блок пишет письмо Михаилу
Сергеевичу Соловьеву. Здесь любовь к
Москве («ваша Москва чистая, белая, древ-
няя»), воспоминания об осенних прогулках
и о вечернем Новодевичьем монастыре, где
он посетил могилу Владимира Соловьева и
невольно вспомнил его строки («еще за пру-
дами вились галки и был «гул железного
пути *, а на могиле — неугасимая лампадка
и лилии, и проходили черные монахи»).
Некоторые строки письма, — если знать,
что придется пережить поэту за месяц, —
нельзя читать без внутренней дрожи: «Из
вашего письма и посылки заключили, что у
вас пока все благополучно...», и другие:
«...действительно, страшно до содрогания
«цветет сердце» Андрея Белого. Странно,
что я никогда не встретился и не обмолвил-
ся ни единым словом с этим до такой степе-
ни близким и милым мне человеком».
Январь 1903-го для Блока полон собы-
тий. 2-го числа он сделал официальное
предложение Любови Дмитриевне Менде-
леевой и получил согласие ее родителей.
3-го он решается написать письмо столь ду-
ховно близкому Борису Бугаеву (Андрею
Белому). 4-го, еще не зная ничего об этом
письме, Белый пишет Александру Блоку.
Получив первое послание, каждый из них
тут же садится за ответ.
Язык их переписки для непосвященных
полон тумана и невнятицы. Сами они друг
друга понимают с полунамека. Позже Бе-
лый скажет об этих письмах:
«Подчеркиваю заслоненный от всех лик тог-
дашнего Блока — глубокого мистика; Блока та-
кого не знают; меж тем, без узнания Блока сколь
многое в блоковской музе звучит по-иному...
Письма Блока — явление редкой культуры: и не-
когда письма эти будут четвертою книгой его сти-
хов».
Но уже в первых письмах проступает и
различие: Белый — слишком «теоретик»;
Блок — человек, остро чувствующий «Не-
постижную». Белого он призывает: «Пора
угадать имя «Лучезарной Подруги», не ук-
лоняйтесь и пронесите знамя, веющее и без
складок. В складках могут «прятаться». От
складок страшно. Скажите прямо, что «все
мы изменимся скоро, во мгновение ока...»
Бурный диалог прерывается неожидан-
ным событием. 16 января скоропостижно
скончался Михаил Сергеевич Соловьев. В ту
же ночь в состоянии нервно-психического
срыва застрелилась Ольга Михайловна.
Эти две смерти стали потрясением и для
их сына Сережи, и для Андрея Белого, и
для многих знакомых.
Блок узнал о трагическом событии из
письма Зинаиды Гиппиус. Пришел к мате-
ри, встав на колени, молча обнял. «Эта
смерть, — вспоминает его тетка М. А. Беке-
това, — огорчила всех нас, но для него и
для его матери она была настоящим уда-
ром*.
17 января 1903 года Блок пишет Белому:
«Милый и дорогой Борис Николаевич. Сего-
дня получил Ваше письмо. Тогда же узнал все.
Обнимаю Вас. Целую. Верно, так надо. Если не
16
Александр Александрович Блок
трудно, напишите только несколько слов — ка-
ков Сережа? Милый, возлюбленный — я с Вами.
Люблю Вас. Глубоко преданный Вам. Ал. Блок».
19 января, после панихиды, Белый пи-
шет ответ Блоку (после пережитого в сло-
вах его ясно ощутима мистическая экзаль-
тация):
«Все к лучшему. Все озарено и пронизано све-
том, и вознесено. На улицах вихрь радостей —
метель снегов. Снега. С восторгом замели границу
жизни и смерти. Времена исполняются, и при-
близились сроки...»
22 января Блок напишет стихотворение
♦Отшедшим». Чувство внезапной утраты
здесь окончательно просветлело, стало пе-
вучим, протяжным:
Здесь тихо и светло. Смотри, я подойду
И в этих камышах увижу все, что мило.
Осиротел мой пруд. Но сердце не остыло.
В нем все отражено — и возвращений жду...
В стихотворении «Здесь память волны
святой...», помеченном 31 января, сходное
размышление обращено к себе:
Когда настанет мой час,
И смолкнут любимые песни,
Здесь печально скажут: «Угас»,
НоТам прозвучит: «Воскресни!»
В самом конце этого «месяца потрясе-
ний», 30 января, в Петербурге на вечере
журнала «Новый путь» Блок встретился с
Валерием Брюсовым. Личное знакомство
ускорило его публикацию в альманахе «Се-
верные цветы*. Уже 1 февраля Блок посы-
лает Брюсову стихи и вместе с ними пись-
мо: «Посылаю Вам стихи о Прекрасной Да-
ме. Заглавие ко всему отделу моих стихов в
«Северных цветах» я бы хотел поместить
такое: «О вечно-женственном».
В марте состоялся наконец литератур-
ный дебют Блока. В 3-м номере журнала
«Новый путь* появились 10 стихотворений
с общим названием «Из посвящений», сле-
дом — 3 стихотворения опубликованы в
♦Литературно-художественном сборнике»
студентов Петербургского университета и
еще 10 стихотворений — в альманахе «Се-
верные цветы». Брюсов не захотел «соловь-
евского» названия для цикла и дал другое,
взятое из стихотворения «Вхожу я в тем-
ные храмы...*. Это название станет позже и
названием книги: «Стихи о Прекрасной Да-
ме».
Первый не критический, но стихотвор-
ный отклик на поэзию Блока (как и на чая-
ния Андрея Белого и Сергея Соловьева)
даст тот же Брюсов. Весной 1903 года после
петербургских разговоров о новой поэзии,
сидя в вагоне поезда в сторону Москвы, он
напишет стихотворение «Младшим»:
Они Ее видят. Они Ее слышат.
С невестой жених в озаренном дворце!
Светильники тихое пламя колышат,
И отсветы радостно блещут в венце.
Там, там, за дверьми — ликование свадьбы,
В дворце озаренном с невестой жених!
Железные болты сломать бы, сорвать бы!
Но пальцы бессильны и голос мой тих.
Как все перемешано в чувствах Брюсова!
И трепет иронии, и легкая зависть, и горь-
кое чувство: «мне не дано». Блок к стихо-
творному признанию Брюсова отнесется с
недоверием, в мае 1904 года занесет в за-
писную книжку: «Брюсов скрывает свое
знание о Ней».
Итак, Блок входит наконец в литератур-
ную среду. Но предпочитает ей узкий круг
близких людей. В марте он встретит друга
на долгие годы.
Евгений Павлович Иванов в истории рус-
ской литературы фигура проходная. В жиз-
ни Блока — человек особый. Он обладал та-
кими качествами, которые Блок ценил вы-
ше прочих достоинств. Его характеристики
друга — в письмах. «В Петербурге есть ве-
ликолепный человек: Евгений Иванов. Он
юродивый, нищий духом, потому будет бла-
женным», — скажет он Белому в 1904 году.
В 1908-м напишет жене, что верит «до глу-
бины одному только человеку — Евгению
Иванову*.
Еще более ясным становится отношение
Блока к этому человеку из его писем само-
му Евгению Иванову:
«Мне редко что в современном так близко по
способу выражения и восприятия, как Ваши сло-
17
Русские писатели XX века
ва...» (15 июня 1904). И более позднее признание:
«С тобой — легко и просто... С «чужими» — по-
чти всегда становишься оборотнем, раздуваешь
свою тоску до легкости отчаянья и смеха; после
делается еще тоскливей. С тобой — плачешь, ког-
да плачется, веселишься, когда весело* (6 августа
1906).
Летом 1903 года он опять сопровождает
мать на лечение в Бад-Наугейм, как 6 лет
назад. Но сейчас его мысли целиком заня-
ты Л. Д. Менделеевой. Перед отъездом за
границу он шлет приглашение Сергею Со-
ловьеву и Андрею Белому. Их он хочет ви-
деть шаферами на своей свадьбе. Внезапная
кончина отца Белого, Николая Васильеви-
ча Бугаева, ломает все планы блоковского
«друга по переписке». Сережа долго колеб-
лется: что-то в новых стихах и письмах
Блока его настораживает. Он пишет отказ,
ссылаясь на «состояние нервов», но в по-
следний момент срывается с места и приез-
жает в Шахматово незадолго до свадьбы.
17 августа 1903 года, день венчания, на-
чался с дождя. Но потом стало потихоньку
проясняться. Венчались в церкви села Та-
раканова, которое стояло между Шахмато-
вом и Бобловом. Обряд был по-старомодно-
му чист, строг, торжествен. Молодым, вы-
шедшим из церкви, крестьяне по давнему
обычаю поднесли хлеб-соль и пару гусей в
алых лентах... В воздухе было что-то осо-
бенное, молитвенное. Сереже Соловьеву
свадьба увиделась настоящей мистерией, а
невеста — образом из блоковских стихов:
«Месяц и звезды в косах, // Выходи, мой
царевич приветный».
Настроение этого дня, его тихий восторг
словно перенесется в январскую Москву
1904 года, когда Александр Блок и Любовь
Дмитриевна наконец-то встретились с Анд-
реем Белым.
«БУДЕТ ТАК МНОГО ХОРОШЕГО
В ВОСПОМИНАНИИ О МОСКВЕ»
Москва ждала Блока. Валерий Брюсов
затевал новый журнал «Весы», который
призван был сыграть важнейшую роль в ис-
тории русского символизма. На его страни-
цах будут печататься виднейшие предста-
вители этого направления. Получил пред-
ложение от Брюсова и Александр Блок.
К тому же московское издательство «Гриф»
было не прочь издать сборник его стихотво-
рений. И все же главной представлялась
еще одна цель поездки, быть может, самая
важная: Андрей Белый и круг его едино-
мышленников, «Аргонавтов», в большин-
стве — студентов Московского университе-
та. Название кружка родилось из образов
ранней поэзии Белого:
Шар солнца почил.
Все небо в рубинах
Над нами.
На горных вершинах
Наш Арго,
Готовясь лететь, золотыми крылами
Забил.
Они знают стихи Блока, читают их с упо-
ением, заучивают наизусть.
Предстоящая встреча пугает и Белого, и
Блока: смогут ли они говорить с тем же ред-
ким пониманием, как в письмах? Не воз-
никнет ли при личной встрече что-нибудь
лишнее?
Но вся официальность этой встречи, как
и все возможные опасности улетучились
быстро. Поначалу каждый из них испытал
нечто похожее на разочарование. Белому
Блок показался не похожим на автора сти-
хов, столь его взволновавших: «Не было в
нем никакой озаренности, мистики, сенти-
ментальности «рыцаря Дамы», — статный,
крепкий, обветренный — «не то «Молодец»
сказок; не то — очень статный военный...»
Блок сразу же ощутил, что с Белым ему
трудно говорить.
Их внешнее несходство бросалось в гла-
за. В своих воспоминаниях о Блоке Зина-
ида Гиппиус рисует их двойной портрет
контрастными красками:
«Серьезный, особенно неподвижный, Блок —
и весь извивающийся, всегда танцующий Боря.
Скупые, тяжелые, глухие слова Блока — и беско-
нечно льющиеся водопадные речи Бори, с жеста-
ми, с лицом вечно меняющимся, — почти до гри-
мас. Он то улыбается, то презабавно и премило
хмурит брови и скашивает глаза. Блок долго мол-
чит, если его спросишь. Потом скажет «да*. Или
18
Александр Александрович Блок
«нет». Боря на все ответит непременно: «Да-да-
да»... и тотчас унесется в пространство на крыль-
ях тысячи слов. Блок весь твердый, точно дере-
вянный или каменный. Боря весь мягкий, слад-
кий, ласковый...»
Но кроме внешних различий была глу-
бинная, как скажет позднее Блок, «таин-
ственная близость». И когда, встретив-
шись, они ощутили тайное свое родство, все
внешние несоответствия и препятствия
рухнули.
Блоки пробыли в Москве две недели.
Лучшее и счастливейшее время — вчетве-
ром: Блок, Белый, Сергей Соловьев и Лю-
бовь Дмитриевна.
Белого Блок поразил молчаливостью,
вескостью и точностью редких фраз и со-
вершенным неприятием фальши.
Среди своих он чувствовал себя хорошо.
Даже ироничные и эксцентричные выход-
ки Сергея Соловьева, как и всяческие дура-
чества, были ему по-своему милы.
«...едем на конке в Новодевичий монастырь, —
пишет Блок письмо-отчет матери и не без улыбки
продолжает: — Сережа кричит на всю конку,
скандалит, говоря о воскресении нескольких
мертвых на днях, о том, что анархист двинул вой-
ска из Бельгии. Говорим по-гречески. Все с удив-
лением смотрят».
Даже фанатичное следование
Вл. Соловьеву и вообще «теоретическую»
чрезмерность троюродного брата Блок готов
терпеть. В Любови Дмитриевне Сережа с
редким упорством желал видеть земное
воплощение «Софии Премудрости Божи-
ей», а в них троих — братский союз «посвя-
щенных»; мечтая о том, что, быть может, в
будущем преобразовании России им всем
придется играть исключительную роль.
Хотя между любой идеей и ее воплоще-
нием есть определенный зазор, несоответст-
вие, юный Сергей Соловьев готов был довес-
ти отвлеченную идею до буквальности.
Именно поэтому, когда Блок почувствует,
что «это все не то», и не захочет лгать ни се-
бе, ни другим, его менее трезвые, «больные
идеей» друзья воспримут это как отступни-
чество. Но пока разнообразие впечатлений
и сама атмосфера их «братства» затушевы-
вали все возможные разногласия.
К узкому кругу своих могли приблизить-
ся и другие люди, например, товарищ Бело-
го А. С. Петровский. Но уже Эллис Блока
тяготил и своей энергией, и тоном, кото-
рый Блоку казался фальшивым.
Лев Львович Кобылинский (Эллис — его
псевдоним) был человеком крайностей: то
марксист, то монархист, то террорист, то
католик. В сущности, это был такой же пе-
ременчивый человек, как и Андрей Белый.
Но во взвинченном, неуправляемом, иногда
«лживом до искренности» Боре не было
фальши, вся «обманчивость» была его есте-
ством. В Эллисе была какая-то «накручен-
ность», была при всем его особом, странном
таланте «странного человека» неестествен-
ность, от которой Блок уставал и темнел
лицом. Когда же поэт попадал на люди, по-
добная деланность, тайная неправда ощу-
щались им «во всех регистрах» этих собра-
ний.
О вечере в книгоиздательстве «Гриф» Бе-
лый и через многие годы будет вспоминать
с содроганием:
«Молодые декаденты желали подладиться к
«мистикам» А. Блоку и А. Белому, теософы же-
лали показать, что и они «декаденты», Эллис бил
всех по голове Бодлером, и при этом ему каза-
лось, что все с ним согласны. Батюшков и Эртель,
впавши в мистический экстаз к часу ночи, за-
явили: первый — что грядет новый учитель, а
второй — что мы «теургией» расплавим мир, что
в этом смысле вся Москва охвачена пламенем...
Тогда некий присяжный поверенный, равно дале-
кий от искусства, теософии и мистики, громким
басом воскликнул, представляясь, что и он чем-то
охвачен: «Господа, стол трясется...»
Через два года Блок нарисует злую кари-
катуру на подобные вечера в пьесе «Бала-
ганчик», передавая разговор мистиков:
«Ты слушаешь?» — «Да». — «Наступит со-
бытие»... — «Ты ждешь?» — «Я жду». — «Уж
близко прибытие: за окном нам ветер подал
знак»... — «Ты слушаешь?» — «Да». — «При-
ближается дева из дальней страны...»
Белый сокрушался, ему было стыдно за
москвичей и обидно: «каждый в отдельнос-
19
Русские писатели XX века
ттл. был ведь и чуток, и тонок, а коллектив
из каждого извлекал только фальшивые
звуки».
Не менее тягостное впечатление произве-
ло на Блока и другое собрание в религиозно-
философском кружке, хотя здесь были люди
замечательные, а в будущем известные и да-
же знаменитые: В. Ф. Эрн, Б. А. Грифцов,
В. П. Свенцицкий, П. А. Флоренский. Блок,
каменно промолчав вечер, выйдя на воздух,
признался, что ему все крайне не понрави-
лось.
— Люди? — невольно вырвалось у Бело-
го.
— Нет. То, что между ними, — веско от-
ветил Блок.
Впрочем, Блок вообще сторонился мно-
голюдья, дичился всего постороннего. Дав-
няя детская нелюдимость теперь оберну-
лась нежеланием играть какие-либо навя-
занные извне роли. Блок был внимателен и
нежен с близкими и дорогими людьми, или
один на один с собеседником. В его отноше-
нии к человеку всегда было что-то брат-
ское. Но не мог видеть, как начинают фаль-
шивить люди, собравшись вместе. Потому
так предпочитал одинокие прогулки. И к
Шахматову был так привязан еще и пото-
му, что оно давало спасительное уединение.
(Весной 1904 года он будет зазывать Белого
на лето в гости: «...там хорошо, уютно и
глухо».)
И все же в целом Москва оставила в душе
Блока отрадные воспоминания. Все, что ка-
салось их маленького «братства» и самого
облика древней столицы, Блок принимал и
жил этим. И в письме матери заметит: «бу-
дет так много хорошего в воспоминании о
Москве, что я долго этим проживу». Но ли-
тературные собрания не могли не отвратить
от себя, и, думая о Петербурге, он в том же
письме скажет: «Видеть Мережковских
слишком не хочу». То же — о знаменитых
москвичах: «Пьяный Бальмонт отвратил от
себя, личность Брюсова тоже для меня не
желательна».
Последнее замечание особенно любопыт-
но. Поскольку Брюсов-поэт оценивается им
совершенно иначе.
В 1904 году имя Брюсова для «млад-
ших» начинает значить очень многое. Его
воздействия не минует никто из сложивше-
гося «триумвирата».
Валерий Брюсов был старше Белого и
Блока на 7 лет. Его дед был крепостным,
отец уже принадлежал к купеческому со-
словию. Жажда славы и власти привела Ва-
лерия Брюсова на литературный путь. Ради
завоевания известности он не боится стать
посмешищем литературной братии: в
1894 году с немногочисленными соратника-
ми выпускает сборничек модернистских
стихов «Русские символисты», где играет
главную роль. За ним — еще два. В преди-
словиях он попытался очертить основную
особенность нового направления: симво-
лизм — это «поэзия оттенков», которая
пришла на смену «поэзии красок».
Сборники вызвали недоумение и на-
смешки. Самым блестящим и беспощадным
критиком оказался Владимир Соловьев.
И русских символистов, и самого Брюсова
он уничтожил самым страшным орудием —
смехом. Его пародии на русских символис-
тов настолько точно попали в больные мес-
та приверженцев новой поэзии, что подлин-
ники уже нельзя было читать без улыбки.
Но результатами столь сокрушительного
поражения Брюсов воспользовался как по-
бедитель. Шум вокруг странных стихов и
злые насмешки над горе-поэтами не про-
шли даром: направление заметили, брюсов-
ское стихотворение-однострок из третьего
выпуска: «О, закрой свои бледные ноги», —
стало скандально знаменитым.
Он был рожден завоевателем и вождем.
Оттого в его стихах будет так много истори-
ческих лиц, знавших власть над людьми:
Колумб, Ассагардон, Александр Великий и
др. За скандальным дебютом в 1895 году
следуют сборники стихотворений с вызы-
вающими названиями: «Chefs d’oeuvres»
(«Шедевры») и «Me eum esse» («Это — я»).
Столкновения с литературным миром выз-
вали и желание четче и глубже обосновать
возглавляемое им направление. Чтобы на-
писать свои небольшие трактаты, Брюсов
перечитывает целые библиотеки.
20
Александр Александрович Блок
Упорству его мог позавидовать всякий.
Начав как потрясатель основ, он настойчи-
во вгрызается в русскую и мировую культу-
ру, начинает сотрудничать с журналом
«Русский архив», где выступает уже как
исследователь литературы, печатает статьи
о творчестве Пушкина, Баратынского, Тют-
чева, завоевывая настоящую известность в
литературном мире. В конце 1903 года вы-
ходит очередной его сборник стихов «Urbi
et Orbi» («Граду и миру»), Брюсов-поэт до-
стигает своей вершины и широкого призна-
ния.
Через два десятилетия большинство его
стихов будут казаться манерными и рито-
рическими. Но в середине 1900-х годов
многими, в том числе Блоком, Белым и
Сергеем Соловьевым, они читались как от-
кровение. Многие мотивы их творчества он
сумел предвосхитить. А главное — книга
«Граду и миру», где предстал в самых раз-
ных оттенках и символах порочный и со-
блазнительный мир современного города,
открыла «младшим* новые темы. Уже в
конце 1903 года и Блок пишет мрачное го-
родское стихотворение «Фабрика»:
В соседнем доме окна жолты.
По вечерам — по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам...
С 1904 года мир современного, страшно-
го города прочно входит в его поэзию.
Последние разговоры с Белым в Моск-
ве - о поэзии Брюсова. В письмах — опять
о нем. Блок говорит о пагубном влиянии
брюсовской книги на поэтическое лицо Бе-
лого, на Сережу Соловьева и — на себя са-
мого: «...от моего имени остается разве
окончание: ок (В. Я. Бр... — ок!)». И хотя
уже летом Белому Блок скажет, что Брюсов
не поэт, а математик, тем не менее толчок,
полученный от него, был очень сильный.
Блок чувствовал исчерпанность прежней
темы своей лирики. Стихи Брюсова словно
подтвердили давно ощущаемое распутье.
Нужно было искать новые пути. Еще более
очевидным свидетельством этого стала рус-
ско-японская война, начавшаяся в 1904 го-
ду. Гибель броненосца «Петропавловск»,
потопленного японской эскадрой, потряса-
ет Блока. В письме к Белому он признается:
«Мы поняли слишком много — и потому пере-
стали понимать. Я не добросил молота — но
небесный свод сам раскололся. И я вижу, как
с одного конца ныряет и расползается муравей-
ник пассажиров, расплющенных сжатым воз-
духом в каютах, сваренных заживо в нижних
этажах, скрученных неостановленной машиной
(меня «Петропавловск» совсем поразил), — а с
другой — нашей воли, свободы, просторов. И так
везде — расколотость, фальшивая для себя само-
го двуличность, за которую я бы отомстил, если б
был титаном, а теперь только заглажу ее*.
Все отчетливее Блок чувствует: прежнее
ушло. 9 апреля он отсылает А. Белому не-
сколько стихотворений, темы которых бы-
ли навеяны январской встречей в Москве и
отголосками прошлых шахматовских лет.
После чего на него будто опускается немо-
та. Стихотворение «Дали слепы, дни без-
гневны...» начато в 20-х числах апреля, но
закончено лишь 20 мая. Стихотворение
«На перекрестке...», помеченное 5 мая, за-
кончено лишь 1 декабря.
Лето 1904-го в Шахматове было необыч-
ным, тревожным. В мае выпал снег.
16 июня над Москвой и ее окрестностями
прошел смерч невероятной силы. В письме
Евгению Иванову от 28 июня Блок запечат-
лел это происшествие в двух коротких, но
выразительных предложениях: «Смерч
московский разорил именье сестры моей ба-
бушки, где жил С. Соловьев. Вековой сад
вырван с корнями, крыши носились по воз-
духу».
В первой половине июля в Шахматове
появляются Белый и А. С. Петровский. Че-
рез несколько дней приехал и Сергей Со-
ловьев.
Блок немногословен, но в нем живет теп-
лая дружба. Он видит, что их братству при-
ходит конец, он — в сомнениях, он — на рас-
путье. Но редкие, мрачные слова, которые
роняет поэт, не достигают ушей товарищей.
Они еще полны мистических мечтаний.
Каждый жест Любови Дмитриевны — «зем-
ного воплощения Души Мира* — они стре-
мятся шутливо истолковать в соловьевском
духе, не давая ей покоя и не ощущая всей не-
21
Русские писатели XX века
ловкости этой затеи, не чувствуя, насколько
они напоминают нелепых московских мис-
тиков на вечере издательства «Гриф».
После отъезда «мистических братьев»
Блок работает над рукописью своей первой
книги: «Стихи о Прекрасной Даме». Про-
шлое еще так близко. И уже так безвозврат-
но.
Осень Блок встретил в Петербурге. В ок-
тябре в издательстве «Гриф» вышла его
книга. Ее не всегда могли оценить по досто-
инству даже люди символистского круга.
Сам Блок на свое детище смотрел, как на
свое прошлое.
Если художник — своего рода нерв обще-
ства, народа, человечества, то в нервной
системе России начала века Блок был са-
мым чутким нервом. Близкий ему по духу
и противоположный по темпераменту Анд-
рей Белый, намного «туманней» чувствовал
то, что Блок переживал непосредственно:
образ, обозначенный ими как «София Пре-
мудрость Божья», «Вечная Женствен-
ность», «Прекрасная Дама», «Душа Мира»
и т. д. Образ, получивший столько имен по-
тому, что его трудно выразить на человече-
ском языке (и потому простое блоковское
«Ты» с большой буквы, в котором слилось
обращение к близкому существу и к Боже-
ству, быть может, всего точнее передает это
интимно-религиозное переживание).
Эпоха была пронизана особыми токами,
в мистику играли многие. Играли потому,
что эпоха и в самом деле была почти ирре-
альна: действительный мир словно истон-
чался, предчувствие грядущих катастроф
носилось в воздухе.
Подлинный мистик, духовидец Блок как
никто другой почувствовал Ее приближе-
ние, Ее прибытие и Ее уход.
11 октября он подведет черту под этим
прошлым: «Дальше и нельзя ничего. Все
это прошло, минуло, «исчерпано».
«МЕНЯЛСЯ... СОСТАВ ДУХОВНОГО
ВОЗДУХА ЭПОХИ»
Когда в начале 1905 года Андрей Белый
приехал в Петербург, его поразил «взбала-
мученный вид» столицы и тревожные раз-
говоры, долетавшие до ушей: «Примет». —
«Не примет». — «Пошли уж. С икона-
ми!» — «Неужели же будут стрелять: по
иконам!» — «Не будут...»
Было 9 января, день, который войдет в
историю как «Кровавое воскресенье». Бло-
ка он застал дома, и его трудно было
узнать. Никогда Белому не доводилось ви-
деть друга столь встревоженным: быстро
вскакивал, быстро расхаживал по кварти-
ре. Каждые десять минут приходили вести
об убитых и задавленных. Александра Анд-
реевна хваталась за сердце и говорила о
муже: «Поймите же, Боря, что он — нена-
видит все это... А должен стоять там... При-
сяга...» На счастье, вверенное Францу Фе-
ликсовичу подразделение охраняло мост,
где обошлось без столкновений с демонст-
рантами.
Позже, когда Белый встретит за одним
столом и Блока, и его отчима, Франц Фе-
ликсович предстанет перед ним милым и
по-своему беззащитным человеком. При
словах о «подлых расстрелыциках» —
«опускал длинный нос, точно дятел, в та-
релку». Белый, чувствуя неловкость, ста-
рается быть деликатным в разговорах о
происшедшем. Блок же неумолим и беспо-
щаден. Январем 1905 года помечено стихо-
творение, в котором отчетливо слышны
жесткие, дробные звуки, как при движу-
щемся строе:
Шли на приступ. Прямо в грудь
Штык наточенный направлен.
Кто-то крикнул: «Будь прославлен!»
Кто-то шепчет: «Не забудь!»
Рядом, пал, всплеснув руками,
И над ним сомкнулась рать.
Кто-то бьется под ногами,
Кто — не время вспоминать...
Когда это стихотворение вместе с еще
двумя — «Барка жизни встала...» и «Вися
над городом всемирным...» — появится в
ноябрьском выпуске журнала «Новая
жизнь», номер будет изъят цензурой.
В этот свой приезд Белый деятелен и ки-
пуч: входит в круг Мережковских, знако-
мится с петербургскими литераторами, по-
22
Александр Александрович Блок
сещает собрания на квартире Розанова, на
квартире Сологуба, в редакции журнала
«Мир искусства» и редакции журнала «Во-
просы жизни», рожденного из «Нового пу-
ти» Мережковских, который возглавили
Н. А. Бердяев и С. Н. Булгаков. И все же из
шумной литературной жизни он все чаще
сбегает к Блоку. Ему хочется сидеть с дру-
гом часами, в этих встречах было мало
слов, много понимания и совершенно осо-
бый уют. В глазах Блока Белый впервые за-
метил усталость. Иногда Блок выводит Бе-
лого в город. «Переулки, которыми водил
меня Блок, — вспоминал Белый, — я по-
зднее узнал; я их встретил в «Нечаянной
радости»; и даль переулочную, и — крен-
дель булочной...» Будут и слова Блока, ко-
торые он не сможет не вспомнить: «Знаешь,
здесь — как-то так... Очень грустно... Со-
всем захудалая жизнь... Мережковские
этого вот не знают».
Мережковские, у которых остановился
Белый, ревнуют его к Блоку, не понимают
их взаимного молчания: «Удивительная
аполитичность у вас: да, мы, вот, — обсуж-
даем, а вы вот — гуляете...» Блоку литера-
турный мир, в сущности, чужд. Он все по-
стигает не через прения и споры, но в оди-
ночестве. Или — изредка — в прогулках с
друзьями.
Отъезд Белого пришелся опять на особен-
ный день — 4 февраля. В Москве Иваном
Каляевым убит генерал-губернатор великий
князь С. А. Романов. Уже вдогонку Блок
посылает другу письмо: «Как хорошо было с
Тобой в Петербурге! Сейчас мы узнали об
убийстве Сергия Александровича. В этом —
что-то очень знаменательное и что-то ре-
шающее. Это случилось, когда мы проща-
лись с Тобой на платформе».
Блок чувствовал, что Россия вступила в
год потрясений, что «осиянное» прошлое
кончилось, что наступило другое время,
тревожное. Время поисков, отчаяния, на-
дежд. 16 апреля, в страстную субботу, рож-
дается стихотворение, которое впоследст-
вии откроет второй том его стихотворений.
Знакомое обращение: «Ты». И — прощание
с Ней:
Ты в поля отошла без возврата.
Да святится Имя Твое!
Снова красные копья заката
Потянули ко мне острие...
Той честности, с какой он скажет эти
слова: «без возврата», — ему не простят да-
же близкие друзья. Они сочтут, что это из-
мена. Сам Блок о такого рода «изменах»
скажет: «Измена не есть перемена убежде-
ний или образа мыслей: она есть глубочай-
ший акт, совершающийся в человеке, акт
религиозного значения». Это не он изме-
нял. Менялся сам состав духовного воздуха
эпохи. Менялась Россия.
В «Вопросах жизни* появляется первая
статья Блока «Творчество Вячеслава Ива-
нова*. Самый старший из «младосимволис-
тов», после долгой заграничной жизни по-
селившийся в Петербурге и уже заявивший
о себе как интересном поэте и человеке эн-
циклопедической учености, на короткое
время привлек к себе особое внимание Бло-
ка. Ему суждено сыграть роль теоретика
символизма. Сильное впечатление на совре-
менников произвела большая работа о древ-
негреческом культе Диониса «Эллинская
религия страдающего бога» (1904), а также
многочисленные его статьи. Его квартира в
доме 25 по Таврической улице на верхнем
этаже в угловой башне, так и названная
«Башня», становится местом встреч петер-
бургских литераторов, художников, музы-
кантов, актеров и философов.
Собеседник он тоже был необыкновен-
ный. Как вспоминал Николай Бердяев,
«В. Иванов был виртуозом в овладении
душами людей. Его пронизывающий змеи-
ный взгляд на многих, особенно на жен-
щин, действовал неотразимо». Энциклопе-
дизм, ораторский дар и талант импровиза-
тора придавали его суждениям особую
остроту. На любую тему он мог с ходу про-
читать многочасовую лекцию. С легкой ру-
ки философа Льва Шестова он получает
торжественное прозвище: «Вячеслав Вели-
колепный*.
Вслед за статьей в «Вопросах жизни» вы-
ходят многочисленные рецензии Блока. Это
уже не просто профессиональная литера-
23
Русские писатели XX века
турная работа. Это даже не просто критика,
это настоящая проза: емкая, точная.
Блок-критик обладает стереоскопическим
видением. За отдельным литературным яв-
лением (книгой, сборником) он не только
видит состояние литературы, но и постоян-
но ощущает сверхзадачу всякого писатель-
ства, с исключительной вкусовой и нравст-
венной чуткостью отделяя зерна от плевел.
В письмах к Белому чуткий слух Блока
улавливает за политическими событиями
начало мировых потрясений. Белый пишет
статью с вещим названием «Апокалипсис
русской поэзии* (она появится в журна-
ле «Весы» в апреле). В эпиграфе слово из
Соловьева («Панмонголизм!») и два слова
из Блока: «Предчувствую Тебя». В статье
несколько эстетично выражены чаяния
младосимволистов: «Цель поэзии — найти
лик музы, выразив в этом лике мировое
единство вселенской истины». Искусство
для него — «кратчайший путь к религии».
Среди русских поэтов-апокалиптиков он
называет имена Пушкина, Лермонтова,
Некрасова, Тютчева, Фета, Вл. Соловьева
и двух современников: Брюсова и Блока.
О последнем говорится с особой горячно-
стью и в самых превосходных тонах.
В быстром ответе Брюсова («В защиту
одной похвалы») слышится раздражение.
«Провиденциализм» молодых ему чужд.
Он предпочитает чисто литературные мер-
ки для творчества. «И неужели Блок, —
восклицает мэтр, — более являет собой рус-
скую поэзию, чем Бальмонт, или неужели
поэзия Баратынского имеет меньшее значе-
ние, чем моя?» Вторая половина предложе-
ния — явный отвод. Среди современников
Брюсов хочет быть первым. В Блоке он по-
чувствовал соперника. Сам же Блок в ре-
цензии на «Собрание стихов» Бальмонта
формулирует свое отношение к поэту, кото-
рого ему противопоставил Брюсов, без оби-
няков: «Бальмонт не совсем русский и уж
вовсе не народный поэт».
Из-за неразберихи в университете экза-
мены откладывались. В апреле Блок уезжа-
ет с женой в Шахматово, в мир, далекий от
людских тревог. О своей «земляной» жизни
он пишет Евгению Иванову:
«Когда приехали, жутко было иногда от дре-
весного оргазма — соки так и гудели в лесах и по-
лях. Через несколько дней леса уже перестали
сквозить тишиной и стали полношумными. Те-
перь все они веселятся, очень заметно... Цветет
все раньше, уже сирень все ветки согнула. В од-
ной из многочисленных гроз показывался венец
из косых лучей — из глаза Отца. Солнце бушует
ветром — это ясно на закате, сквозь синюю и
душную занавеску. Говорили, будто Москва го-
рит, — так затуманились горизонты; но это были
пары и «пузыри земли», и «ветер разнес их мни-
мые тела, как вздох»...
«Пузыри земли» и последняя строка —
цитата из любимого шекспировского «Мак-
бета».
О том же он скажет в августе в предисло-
вии к сборнику «Нечаянная радость»:
«...пробудившаяся земля выводит на лесные
опушки маленьких мохнатых существ. Они умеют
только кричать «прощай* зиме, кувыркаться и
дразнить прохожих. Я привязался к ним только
за то, что они — добродушные и бессловесные тва-
ри, — привязанностью молчаливой, ушедшей в се-
бя души, для которой мир — балаган, позорище».
В стихах Блока появляется зачарован-
ный мир болот: «бескрайняя зыбь», «чах-
лые травы» и «тощие злаки*, «ржавые коч-
ки и пни*, «зеленые искры», «болотные по-
пики» и «болотные чертенятки»...
10 июня из Дедова в Шахматово приез-
жают Андрей Белый и Сергей Соловьев.
Каждый из них переживает свой духовный
кризис. Воспоминания о прошлом счастли-
вом лете вселяют в них особые надежды.
О предстоящей встрече с Блоком и Лю-
бовью Дмитриевной думается с радостью.
Как пояснял позже Белый: «Хотелось и
просто втроем помолчать: без слов». Когда
друзья ехали в Шахматово, их сопровожда-
ла надвигающаяся гроза, в поезде от Крю-
кова до Подсолнечной их настиг град. Пока
все это воспринималось не как предзнаме-
нование, виделось в ореоле предчувствия
счастья встречи. Когда же их таратайка
подъехала к крыльцу и они увидели Блока
с женой и матерью, сразу почувствовалось,
что прошлое лето ушло безвозвратно: что-то
сдвинулось, какая-то тень легла на преж-
нее братство. Между Блоком, Любовью
24
Александр Александрович Блок
Дмитриевной и Александрой Андреевной
чувствовалось напряжение.
Сергей Соловьев, вера которого в заветы
дяди уже пошатнулась, хватался за про-
шлое, хотел, чтобы все было как раньше,
требовал от всех верности прежним идеа-
лам. К тому же он был увлечен «чеканной»
поэзией Брюсова, и стихи Блока стали ка-
заться ему «романтическою невнятицею».
Любови Дмитриевне прежнее поклонение
казалось насмешкой. Блок стремился к
уединению, был темен и сумрачен. Однаж-
ды он прочитал им несколько стихотворе-
ний, написанных в 1905 году: с болотами,
топями, «тварями весенними», «болотны-
ми чертенятками»...
И сидим мы, дурачки, —
Нежить, немочь вод.
Зеленеют колпачки
Задом наперед, —
это четверостишие показалось Соловьеву и
Белому насмешкой над их общим про-
шлым.
Взаимное напряжение разрешилось са-
мым неожиданным образом. Сергей Соловь-
ев, выйдя погулять, пошел в сторону леса.
Вдруг он увидел зарю, звезду над зарею, и
вся горечь взаимонепонимания вдруг всту-
пила в его сознание странной идеей. Ему
вдруг показалось, что если он будет идти за
этой звездой через леса, болота, не оборачи-
ваясь, все прямо и прямо, то их мистиче-
ское братство будет спасено. Ночь застигла
его в лесу. Чудом он выбрался к Боблову.
Залаяла собака, он увидел девушку в ро-
зовом платье... Это была сестра Любови
Дмитриевны, Мария Дмитриевна Менделе-
ева. Она узнала шафера на свадьбе Блока и
Любы. Соловьев признался, что заплутал.
Его приняли радушно. И в самом благодуш-
ном настроении он вернулся на следующий
день в Шахматово.
Вместо «спасения братства» его ждало
возмущение Александры Андреевны. Всю
ночь в Шахматове не смыкали глаз.
В окрестностях было много «болотных око-
нец», за Сережу тревожились, посылали
гонцов. Утром Белый напал на след пропав-
шего... Больше всего поразило обитателей
Шахматова не безрассудство Сережи, но его
беспечность в отношении друзей. За него
беспокоились, он в ответ то шутил, то ссы-
лался на высокие «мистические причины*.
Мать Блока взорвалась: это «дьявол и со-
блазн». Соловьев как-то беспечно воспри-
нял и гнев Александры Андреевны, но
здесь за друга обиделся Белый. Утром он
уехал раньше положенного, успев-таки пе-
редать через Соловьева записку Любови
Дмитриевне с признанием в любви.
Сергей Соловьев остался еще на два дня.
Исступленно сражаясь в карты, они с Бло-
ком не сказали друг другу ни слова.
После отъезда «мистических братьев», с
которыми отдалялось его прошлое, на Бло-
ка накатывает лирическая волна, и с ней
приходят новые темы. Эхо от недавней
встречи с «братьями» (от ее натянутости,
неестественности, театральности) затрепе-
тало в «Балаганчике»:
Вот открыт балаганчик
Для веселых и славных детей.
Смотрят девочка и мальчик
На дам, королей и чертей.
И звучит эта адская музыка.
Завывает унылый смычок.
Страшный черт ухватил карапузика,
И стекает клюквенный сок.
Стихотворение — микродрама. Мальчик
произносит нечто мистическое («Он спаса-
ется от черного гнева // Мановением белой
руки...»), в ответе девочки — скрытая па-
родия на недавнее явление «Ее», «Дамы»,
«Королевы». Финал — за паяцем в картон-
ном шлеме, и с деревянным мечом, исте-
кающим клюквенным соком. Последние
две строки:
Заплакали девочка и мальчик,
И закрылся веселый балаганчик.
Этому стихотворению еще придется сыг-
рать свою непростую роль в жизни Блока.
Но кроме «Балаганчика» он пишет и
другое — «Осенняя воля». В июле совер-
шенно явственно в его поэзию входит тема
России. Образ родины стоит за движением
холодного воздуха, за каждым словом:
25
Русские писатели XX века
Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнет упругие кусты,
Битый камень лег по косогорам,
Желтой глины скудные пласты.
Ветреный простор, глинистые косогоры,
узорный рукав отныне войдут в его поэзию
навсегда.
В августе рождаются и другие знамени-
тые строки: «Девушка пела в церковном хо-
ре о всех усталых в чужом краю...» Многие
услышали в стихотворении напоминание о
Цусиме. Поражала и лучистая чистота этих
строк, и горькая концовка:
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам, — плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.
Ссора с друзьями толкала на иные, тай-
ные встречи. Летом Блок пишет рецензию
на книгу «Тихие песни» никому неизвест-
ного Ник. Т-о. Он видит в авторе начинаю-
щего и старается быть как можно суше.
И все же с языка срывается: «носит на себе
печать хрупкой тонкости и настоящего поэ-
тического чутья...», «вдруг заинтересовав-
шись как-то, прочтешь, — и становится хо-
рошо...», «совсем новое, опять незнакомое
чувство, как бывает при неожиданной
встрече», «чувствуется человеческая душа,
убитая непосильной тоской, дикая, одино-
кая и скрытная»...
Свою рецензию на этот сборник стихов
Блок закончит пожеланием: «Хочется, что-
бы открылось лицо поэта, которое он как
будто от себя хоронит, — и добавит: — Нет
ли в этой скромной затерянности чересчур
болезненного надрыва?»
Надрыв действительно был. Автор был
слишком стар для начинающего: он уже
подходил к своему пятидесятилетию. Его
жизнь слишком далеко отстояла от литера-
турного мира, хотя его внутренняя, тайная
жизнь была примером редкой любви к ли-
тературе и рыцарской преданности ей.
К началу 1900-х годов Иннокентий Аннен-
ский (псевдоним Ник. Т-о составлен из букв
имени Иннокентий) — уже признанный
ученый-филолог и педагог. Но тайную его
жизнь — его собственную поэзию, которой
через многие годы, уже после смерти авто-
ра, суждена была высокая судьба и подлин-
ное признание, — не знал никто. Одинокая
душа неизвестного автора всколыхнула
Блока. В июльском письме к Георгию Чул-
кову он признается: «Ужасно мне понрави-
лись «Тихие песни» Ник. Т-о. В рецензии
старался быть как можно суше; но, мне ка-
жется, это настоящий поэт, и новизна мно-
гого меня поразила*. В марте следующего
года, узнав имя автора, напишет Анненско-
му: «Это навсегда в памяти. Часть души
осталась в этом*.
27 августа Блок с женой возвращается в
Петербург. Революция волнует его. 17 ок-
тября, в день выхода царского манифеста,
он среди ликующей толпы. В одной из
уличных процессий он нес во главе крас-
ный флаг. Но в самом конце года, 30 дека-
бря, в письме к отцу следует признание:
«Отношение мое к «освободительному движе-
нию» выражалось, увы, почти исключительно в
либеральных разговорах и одно время даже в со-
чувствии социал-демократам. Теперь отхожу все
больше, впитав в себя все, что могу, из «обще-
ственности», отбросив то, чего душа не принима-
ет. А не принимает она почти ничего такого —
так пусть уж займет свое место, то, к которому
стремится. Никогда я не стану ни революционе-
ром, ни «строителем жизни», и не потому, чтобы
не видел в том или другом смысла, а просто по
природе, качеству и теме душевных пережива-
ний».
И здесь, внутри общественного волне-
ния, Блок предпочитает свое одиночество.
И само это волнение он лучше понимает
своими обостренными нервами, наедине с
жизнью.
Память о неудавшейся летней встрече не
отпускала. 2 октября 1905 года Блок пишет
Белому братское письмо, надеясь на пони-
мание.
«Право, я Тебя люблю. Иногда совсем нежно и
сиротливо... Ты знаешь, что со мной летом про-
изошло что-то страшно важное. Я изменился, но
радуюсь этому... Я больше не люблю города или
деревни, а захлопнул заслонку своей души. Наде-
юсь, что она в закрытом наглухо помещении хо-
рошо приготовится к будущему... Не могу ска-
зать, как радостно и постоянно Тебя люблю...»
26
Александр Александрович Блок
Ответ Белого от 13 октября — нервный и
требовательный. Он сомневается, что за бу-
дущим Блока есть какое-то содержание.
И выплескивает в письме всю боль недавно
пережитого:
«Летом, когда мы с Сережей были в Шахмато-
ве, мы оба страдали от внезапных осложнений в
одном для меня и Сережи реальном мистическом
пути, о котором я много и долго говорил Тебе в
свое время и против которого Ты не возражал
(почему?)... Когда же нужно было совершить от-
плытие в сторону долга и Истины, а не бытия
просто за чаем и мистическими разговорами,
все запуталось: тут, без сомнения, Твоя непо-
движность оказала влияние. Все осложнилось.
Мы с Сережей почти обливались кровью...»
В Белом все клокочет: Блок должен был
или «делом принять» тот путь, который
был ему предложен, либо «все это про-
клясть». Блок не сделал ни того, ни друго-
го, а, глядя на друзей, «эстетически на-
слаждался чужими страданиями». В конце
письма Белый смягчается, в нем просыпа-
ется человеческое чувство:
«Дорогой Саша, прости мне мои слова, обра-
щенные к Тебе от любви моей, но я говорю Тебе,
как облеченный ответственностью за чистоту од-
ной Тайны, которую Ты предашь или собираешь-
ся предать. Я Тебя предостерегаю — куда Ты
идешь? Опомнись! Или брось, забудь — Тайну.
Нельзя быть одновременно и с богом и с чертом».
Блок отвечает товарищу сразу: «Целый
день сегодня мне было очень больно, но со-
всем не обидно*. Он готов взять вину на се-
бя. Он никогда «не умел выражать точно
своих переживаний». Он готов отказаться
от прежнего: «Я не мистик, а всегда был ху-
лиганом, я думаю». Все упреки Белого при-
няты, кроме одного: страданиями друзей он
не наслаждался. И готовность к жертве:
«Милый Боря. Если хочешь меня вычерк-
нуть — вычеркни. В этом пункте я маревом
оправданий не занавешусь».
Возникшее напряжение разрешается в
декабре приездом Белого в Петербург. При
первой встрече они поначалу конфузились
как дети. Но разговор пошел теплый.
И главное, как впоследствии вспоминал Бе-
лый, «Блок сумел, точно тряпкой, снимаю-
щей мел, в этот вечер стереть все со-
мненья». После отъезда Белого в Москву в
конце декабря их предновогодние письма
полны умиротворения: Белый признается
другу, что любил его всегда, «но не чувство-
вал такой близости, как теперь». Блок тоже
полон покоя и счастья:
«Родной мой и близкий брат, мы с Тобой чу-
десно близки, и некуда друг от друга удаляться, и
одинаково на нас падает белый мягкий снег, и
бледное лиловое небо над нами...»
13 января 1906 года в том же умиротво-
рении он пишет стихотворение, обращенное
к Белому:
Милый брат! Завечерело.
Чуть слышны колокола.
Над равниной побелело —
Сонноокая прошла...
Их прежние хождения по переулкам,
братские встречи втроем воскресают в этих
строчках:
Возвратясь, уютно ляжем
Перед печкой на ковре
И тихонько перескажем
Все, что видели, сестре...
Но в январе Блок пишет и другое произ-
ведение. Георгий Чулков собирается со-
здать театр «Факелы». Блоку он предло-
жил из стихотворения «Балаганчик» сде-
лать пьесу. 23 января она была закончена.
С «Балаганчика» начался цикл лирических
драм Блока.
Пьеса родилась из стихотворения, как
симфония рождается из музыкальной те-
мы. Здесь есть факельное шествие, картон-
ный шлем и деревянный меч, паяц, исте-
кающий клюквенным соком. Есть и ку-
кольная мистика, которая в стихотворении
едва мерцала. Но появляется и нечто совер-
шенно новое. Блок берет традиционных ге-
роев балаганов, которых видела петербург-
ская публика рубежа веков: Пьеро, Арле-
кина, Коломбину. Под этими масками
разыгрывается любовная драма: Пьеро
влюблен в Коломбину, ее уводит более удач-
ливый Арлекин. Но когда он сажает даму
своего сердца в извозчичьи сани, Коломби-
на падает, превращаясь в картонную невес-
27
Русские писатели XX века
ту. Бывшие соперники ходят по ночным
снежным улицам, уже как братья, поют:
«Ах, какая стряслась беда!» В конце Арле-
кин, стремясь навстречу весеннему миру,
прыгает в окно. «Даль, видимая в окне,
оказывается нарисованной на бумаге. Бу-
мага лопнула. Арлекин полетел вверх нога-
ми в пустоту». В окне появляется смерть,
распугав всех действующих лиц. Навстречу
ей идет только Пьеро, и по мере его прибли-
жения она оживает, становясь Коломби-
ной. Но в решающий момент «декорации
взвиваются и улетают вверх. Маски разбе-
гаются». На сцене остается один жалобный
Пьеро. Театральность и балаганность лири-
ческой драмы еще более подчеркивает ко-
мический образ автора, который то и дело
врывается на сцену, пытаясь защитить свое
произведение от произвола актеров, играю-
щих на сцене, и объясниться с публикой.
В гротескно прочерченном сюжете Блок
увидел скорое будущее.
Они с Любовью Дмитриевной зовут Бело-
го в Петербург. Белый понял недавнее при-
мирение по-своему. В нем все сильнее разго-
рается любовь к жене Блока. Ради соедине-
ния с нею он готов переселиться в Петербург.
Но с первой же встречи все пошло совсем не
так, как ожидалось. Перед своим визитом он
послал Блокам куст пышной гортензии.
Войдя, тут же почувствовал, что посылка по-
казалась безвкусной и всех покоробила. Не
было и прежней теплоты ни в комнатах, ни в
душах. Когда же при следующей встрече
Блок прочитал «Балаганчик», Белый, ожи-
давший светлой мистерии, содрогнулся:
«Нелепые мистики, ожидающие Происше-
ствия, девушка, косу (волосяную) которой
считают за смертную косу, которая стала
«картонной невестой», Пьеро, Арлекин, раз-
рывающий небо, — все бросилось издева-
тельством, вызовом: поднял перчатку!»
Между друзьями нарастает отчуждение.
Блок, чувствуя раздражение Белого, удаля-
ется от него. У поэта впереди выпускные
университетские экзамены, кроме того, он
занят составлением второго сборника сти-
хов, который назовет «Нечаянная радость».
Белый дни проводит в разговорах с Лю-
бовью Дмитриевной. Начинается их обоюд-
ная исповедь. Она рассержена ролью, кото-
рую навязали ей недавние друзья. Она не
идея, и не символ, она — живая. Ей уже не-
выносима прежняя роль, она хочет иметь
свою судьбу и хочет стать актрисой. Начи-
нается мучительная пора объяснений.
26 февраля все кончается взаимным объ-
яснением. Белый, торжествуя победу, от-
рывает Блока от занятий, настаивая на раз-
говоре. Тот, «натягивая улыбку на боль»,
идет вместе с Белым и женой в кабинет.
Происшедшее поразило Белого. Он ожидал
борьбы, напряженно смотрел на соперника:
♦лицо его словно открылось; открытое, про-
тянулось ко мне голубыми глазами, откры-
тыми тоже; на бледном лице (был он бледен
в те дни) губы дрогнули; губы по-детски от-
крылись: «Я — рад...»
Окрыленный Белый несется в Москву:
он должен ехать с Любовью Дмитриев-
ной за границу, и надо много что уладить.
С Л. Д. Блок они переписываются ежеднев-
но. Но в письмах та же невнятица: она то
любит Белого, то Блока... Во второй поло-
вине апреля Белый мчится обратно в Петер-
бург. Опять начинаются трудные диалоги с
Любовью Дмитриевной. Блок усиленно го-
товится к выпускным экзаменам, а то исче-
зает из дому, пропадает «в кабаках, в пере-
улках, в извивах». Вместо чаемого некогда
братства к нему пришло полное одиночест-
во. Однажды после экзамена он уезжает в
Озерки, дачное место под Петербургом,
возвращается с серым лицом, идет нетвер-
дой походкой. На вопрос жены: «Ты —
пьян?» — отвечает: «Да, Люба, — пьян».
В этот день на островах родилось одно из са-
мых знаменитых его стихотворений:
По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух...
«Незнакомка» поразила современников
своей гипнотической мелодией. Друг Блока
Евгений Иванов вспомнит потом, как од-
нажды Блок водил его по тем местам, кото-
рые запечатлелись в стихотворении. Иванов
слышал и «скрип уключин», и «женский
визг», видел и «позолоченный* крендель на
28
Александр Александрович Блок
вывеске кафе, и шлагбаумы... Критики не
случайно будут говорить о Блоке — последо-
вателе «фантастического реализма» Досто-
евского. Явленная поэтом реальность рас-
слаивается, за планом обыденным сквозит
иной, черты самой Незнакомки двоятся:
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
В чертах падшей женщины поэт прозре-
вает черты «вечноженственного» начала,
но мир вокруг «Незнакомки» — не храм,
как в «Стихах о Прекрасной Даме», а ка-
бак. Двоится и сам мир вокруг этого образа:
это не то реальная «Незнакомка», не то
фантом, галлюцинация, «пьяное чудови-
ще», мелькнувшее в хмельном сознании
поэта («Иль это только снится мне?»). Сти-
хотворение обрело такую популярность, что
столичные проститутки рядились в «незна-
комок», им льстило «второе» зрение поэта,
который за самым грязным обликом был
способен рассмотреть нечто таинственное.
Белый и Любовь Дмитриевна решают
расстаться на два месяца, встретиться в ав-
густе и ехать за границу, в Италию. Блок
5 мая сдает государственные экзамены «по
первому разряду», 6-го оканчивает поэму
«Ночная Фиалка» (сон, приснившийся ему
в декабре 1905 года, записанный белым
стихом, где эхо скандинавских легенд: ко-
роль, королева, рыцари — отражается в пе-
тербургских болотах).
11 мая он уезжает в Шахматово. Но
странные отношения между всеми тремя на
этом не заканчиваются. В письмах к Бело-
му Любовь Дмитриевна говорит, что она из-
менилась, что никакой любви к нему у нее
нет и не было. Белый в ответах не отступает
от своего, письма его пахнут трактатами:
здесь и Кант, и Риккерт, и евангелист
Иоанн. В Дедове у Соловьевых Белый полу-
чает письмо от Блока. Тот едет в Москву
для переговоров с журналом «Золотое ру-
но», который стал выходить с начала года.
Белый срывается с места. В Москве они
встречаются в ресторане «Прага», и здесь
происходит один из самых тяжелых разго-
воров между ними, который кончается ни-
чем: после угроз Белого Блок встает и, не
оборачиваясь, идет к выходу.
Белый на грани безумия. В «Воспомина-
ниях о Блоке» напишет:
«Да, я был ненормальным в те дни; я нашел
среди старых вещей маскарадную черную маску,
надел на себя и неделю сидел с утра до ночи в ма-
ске; лицо мое дня не могло выносить; мне хоте-
лось одеться в кровавое домино и так бегать по
улицам...»
Он думает то об убийстве, то о самоубий-
стве. Письмо Белого от 9 августа 1906-го
подтверждает: охватившая его страсть до-
стигла крайнего напряжения и уже грани-
чит с кошмаром:
«Саша, милый, я готов на позор и унижение: я
смирился духом: бичуйте меня; помогите меня,
бейте меня, бегите от меня, а я буду везде и всегда
и буду все, все, все переносить... Я — орудие ва-
ших пыток: пытайте... Отказываюсь от всех
взглядов, мыслей, чувств, кроме одного: беспре-
дельной любви к Любе».
Уже на следующий день после разгово-
ров с экзальтированным Эллисом рождает-
ся идея дуэли; Белому кажется — это под-
ходящая «форма самоубийства». Эллис как
секундант Белого отправляется в Шахмато-
во. Встреча с Блоками оказалась неожидан-
но теплой. Дуэль — не нужной. Блок вы-
глядел усталым. И о Белом сказал: «Просто
Боря ужасно устал...» Эллис возвращается
и передает Белому приглашение встретить-
ся осенью в Петербурге.
24 августа Блок с женой возвращается в
Петербург. Среди написанного за лето —
новая лирическая драма «Король на площа-
ди». Он устал, он измучен. Белый когда-то
вспомнит его лицо 1906 года: тусклое, как
месяц на ущербе. В сентябре Блоки переез-
жают: они сняли квартиру на Лахтинской
улице, чтобы жить отдельно от родителей.
Здесь и настигает их Белый. Десять дней
ждет приглашения. Получив записку от
Любови Дмитриевны, идет как на казнь.
После пятиминутного разговора с ней он
чувствует себя уничтоженным. Возвраща-
ется с неотвязной думой о самоубийстве.
29
Русские писатели XX века
Вторая записка от Л. Д. Блок приходит к
утру. Они встречаются. Решено расстаться
на год, чтобы все само собой определилось.
Совершенно опустошенный, Белый уезжает
за границу.
Проницательный Ходасевич, хорошо
знавший Белого в годы своего студенчества
и тесно общавшийся с ним в 20-е годы, был
уверен, что здесь поломалась не только
жизнь Блока, но и жизнь самого А. Белого:
«Потом еще были в его жизни и любви, и быст-
рые увлечения, но та любовь сохранилась сквозь
все и поверх всего. Только ту женщину, одну ее,
любил он в самом деле. С годами, как водится,
боль притупилась, но долго она была жгучей».
Эта почти безумная любовь многое опре-
делит и в дальнейших отношениях бывших
друзей, эхо далеко не балаганной драмы бу-
дет настигать их спустя годы.
В октябре Блок заканчивает статью «Поэ-
зия заговоров и заклинаний». Тема ее зву-
чит иногда в унисон с его «болотной» лири-
кой. В ней тоже есть «колдуны и косматые
ведьмы». 11 ноября он ставит точку в треть-
ей лирической драме «Незнакомка». Из сти-
хотворения родилась история о женщине —
«падшей звезде» и об одиночестве поэта.
В конце декабря в московском издатель-
стве «Скорпион* вышла вторая книга сти-
хов Блока «Нечаянная Радость», ставшая
своего рода итогом его поэтических блуж-
даний 1904—1906 годов. В рецензии на
этот сборник Белый воскликнет: «Да ведь
это не «Нечаянная Радость», а «Отчаян-
ное Горе»1. В прекрасных стихах расточает
автор ласки чертенятам и дракончикам».
Белый не может спокойно видеть, как поэт
предает свое прошлое, поклонение «вечно-
женственному началу». Но не может не ви-
деть: «Блок настолько же выиграл как
поэт, насколько он упал в наших глазах
как предвестник будущего». А процитиро-
вав «Осеннюю волю», признает: «Здесь
Блок становится поэтом народным». Трево-
га Белого, которая звучит в последних стро-
ках этого отзыва, — это не только тревога о
поэте Блоке, но и самом себе.
Драма «Балаганчик», написанная в на-
чале 1906-го, оказалась пророческой. Бе-
лый уже пережил свою «арлекинаду»,
Любови Дмитриевне еще предстоит сцена:
из чуткой, вдумчивой женщины она вдруг
станет шумной, экзальтированной акт-
рисой. И только в страдающем облике Бло-
ка — ничего от Пьеро. В нем лишь обостри-
лось чувство своей гибели.
1906 год принес невероятную усталость.
В конце декабря Блок заносит в записную
книжку: «Мое бесплодие (ни стихов, ничего,
уже с полтора месяца) и моя усталость...»
Но гибельный пожар приближался.
«ПИСАТЕЛЬСКАЯ СУДЬБА - ТРУДНАЯ,
ЖУТКАЯ, КОВАРНАЯ СУДЬБА»
30 декабря в театре В. Ф. Комиссаржев-
ской состоялась премьера блоковского «Ба-
лаганчика», поставленного В. Э. Мейер-
хольдом. Театр входит в жизнь Блока, за-
полняет ее до краев, сама жизнь его
наполняется тревогой, гибельным востор-
гом. Знал ли он, заканчивая в ноябре
1906 года пьесу «Незнакомка», что не успе-
ет наступить новый год, как образ, создан-
ный его воображением, захочет воплотить-
ся, чтобы сыграть в его жизни роль слепой
и неотвратимой стихии?
29 декабря помечено первое стихотворе-
ние из цикла «Снежная маска»:
И вновь, сверкнув из чаши винной,
Ты поселила в сердце страх
Своей улыбкою невинной
В тяжелозмейных волосах...
Стихотворение рождается за стихотво-
рением. Часто по нескольку в день. Он не
жил — летел с каким-то неостановимым,
гибельным ликованием. И снежная его по-
друга подхвачена тою же внезапно налетев-
шей вьюгой. Ритм стиха часто нервный, за-
дыхающийся:
Ты запрокинула голову ввысь.
Ты сказала: «Глядись, глядись,
Пока не забудешь
Того, что любишь».
И указала на дальние города линии.
На поля снеговые и синие,
На бесцельный холод.
30
Александр Александрович Блок
И снежных вихрей подъятый молот
Бросил нас в бездну, где искры неслись,
Где снежинки пугливо вились...
Его метели проносятся не только над зем-
лей, но и в каких-то неведомых мирах. Этот
снежный вихрь столь же капризным, из-
менчивым ритмом ворвется позже и в поэму
«Двенадцать», где в реальном, до мелочей
узнаваемом Петрограде будут бушевать кос-
мические бури. Именно в «Записке о «Две-
надцати» Блок вспомнит 1907 год и скажет,
что тогда он «слепо отдался стихии».
За полмесяца появятся на свет 30 стихо-
творений «Снежной маски». Цикл будет из-
дан с посвящением: «...Тебе, высокая жен-
щина в черном, с глазами крылатыми и
влюбленными в огни и мглу моего снежно-
го города».
Наталия Николаевна Волохова была акт-
рисой театра В. Ф. Комиссаржевской. Тет-
ка поэта М. А. Бекетова, вспоминая это вре-
мя, писала:
«Скажу одно: поэт не прикрасил свою «снеж-
ную деву». Кто видел ее тогда, в пору его увлече-
ния, тот знает, как она была дивно обаятельна.
Высокий, тонкий стан, бледное лицо, тонкие чер-
ты, черные волосы и глаза, именно «крылатые»,
черные, широко открытые «маки злых очей».
И еще поразительнее была улыбка, сверкавшая
белизной зубов, какая-то торжествующая, побе-
доносная улыбка. Кто-то сказал тогда, что ее гла-
за и улыбка, вспыхнув, рассекают тьму. Другие
говорили: «раскольничья богородица*...»
С Волоховой Блок познакомился на репе-
тициях «Балаганчика». В их отношениях
много от мучительной страсти, от «упое-
ния» на «краю бездны* (как в пушкинском
«Пире во время чумы»), но все, что они пе-
реживают, словно происходит под сильным
освещением театральных прожекторов.
Невероятно, но именно в начале года
Блок по заказу пишет и комментарии к пер-
вому тому сочинений Пушкина. Он работал
с многочисленными рукописями поэта, сли-
чал печатные редакции его лицейских сти-
хов, искал возможные литературные воз-
действия на раннего Пушкина. Странное со-
четание лирического полета и
филологической сосредоточенности в воло-
ховский период творчества для Блока есте-
ственно. Его младший современник Георгий
Иванов скажет о той черте поэта, без кото-
рой его творчество было бы невозможно:
«Блок — самый серафический, самый «незем-
ной* из поэтов — аккуратен и методичен до
странности... Почерк у Блока ровный, красивый,
четкий. Пишет он не торопясь, уверенно, твер-
до... — Откуда в тебе это, Саша? — спросил од-
нажды Чулков, никак не могший привыкнуть к
блоковской методичности. — Немецкая кровь,
что ли? — И передавал удивительный ответ Бло-
ка: — Немецкая кровь? Не думаю. Скорее — са-
мозащита от хаоса».
♦Защита от хаоса» тем более нужна, ког-
да ощущаешь восторг гибели:
Нет исхода из вьюги,
И погибнуть мне весело,
Завела в очарованный круг,
Серебром своих вьюг занавесила...
И при всем рваном, задыхающемся рит-
ме его стихов внешне он ведет себя уверен-
но и твердо. Мемуаристы отмечают, что в
его облике появилось спокойствие, «сосре-
доточенная сила», «ничего дряблого».
Прежние знакомые с трудом узнают в Бло-
ке недавнего певца «Прекрасной Дамы».
Андрей Белый, только-только видевший
Блока усталым, измученным, потухшим,
поражен его преображением: поэт стал про-
ще и мужественнее. Но и некоторая услов-
ность поклонения «Снежной маске* ее ры-
царя, «театр в жизни», не миновали глаз
современников.
Весной полет прерывается: Волохову
ждут гастроли. Итог короткого и бурного
времени «Снежной маски» в записной
книжке:
«Одна Наталия Николаевна — русская, со сво-
ей русской «случайностью»: не знающая, откуда
она, гордая, красивая и свободная. С мелкими
рабскими привычками и огромной свободой.
Как-то мы в августе встретимся? Устали мы, чу-
довищно устали»...
Летом образ «русской случайности» об-
растает новыми чертами:
«...«Коробейники» поются с какой-то тайной
грустью. Особенно — «Цены сам платил немалые.
31
Русские писатели XX века
не торгуйся, не скупись...» Голос исходит слезами
в дождливых далях. Все в этом голосе: просторная
Русь, и красная рябина, и цветной рукав девичий,
и погубленная молодость. Осенний хмель. Дождь
и будущее солнце. В этом будет тайна ее и моего
пути. — Так писать пьесу — в этой осени».
В «Снежной деве» Блок готов видеть те-
перь иное лицо, Фаину из одноименного
стихотворного цикла и Фаину из драмы
«Песня Судьбы», работать над которой он
начинает в апреле 1907-го.
Театр входит в жизнь Блока и с другой
стороны. 20 января умирает отец Любови
Дмитриевны, знаменитый химик Менделе-
ев. Небольшое наследство, полученное же-
ной Блока, дает ей возможность всерьез го-
товиться к сцене: она берет уроки пласти-
ки, декламации. Скоро она начнет жизнь
актрисы — с разъездами, с неустроенным
бытом. Пока же на лето она одна едет в
Шахматово, разучивает роли.
В это время поэта настигают иные страс-
ти, он попадает в полосу литературных
дрязг и битв. Журнал «Золотое руно», бога-
тое, роскошное издание, выпускавшийся на
средства известного капиталиста Н. П. Ря-
бушинского, переживает трудные времена.
Еще недавно он пытался соперничать с «Ве-
сами». Здесь печатались почти те же авто-
ры. Но в «Весах» всегда ощущалась твердая
рука Брюсова. В «Золотом руне» все было
иначе. Рябушинский не хотел ограничи-
ваться ролью мецената, хотя для большего
не имел ни должных знаний, ни вкуса. Ме-
нялись редакторы, не сумевшие найти с
ним общий язык, журнал прошел через не-
сколько кризисов.
На эту ситуацию наложилась сумбурная
полемика вокруг «мистического анархиз-
ма», главным застрельщиком которого стал
Георгий Чулков. Свою попытку преодолеть
индивидуалистические настроения в симво-
лизме он выразил крайне путанно. Если со-
циальный анархизм в глазах Чулкова был
путем к освобождению человека от внеш-
них норм, от давления государства и обще-
ства, а философский анархизм — учением,
ведущим к освобождению от всех обяза-
тельных норм, в том числе моральных и ре-
лигиозных, то мистический анархизм —
это «учение о путях последнего освобожде-
ния, которое заключает в себе последнее ут-
верждение личности в абсолютном». Это
освобождение должно было привести при-
верженцев нового учения к «совместной
влюбленности в Мировую Душу».
Чулкова поддержал Вячеслав Иванов.
Блок к идеям Чулкова отнесся с тем недове-
рием, с каким вообще относился ко всякого
рода умствованиям. Но московские «Весы»
и его как петербуржца причислили к «мис-
тическим анархистам». На «золоторунов-
цев» Чулкова, Городецкого, Вяч. Иванова и
Блока обрушились москвичи: Брюсов, Эл-
лис и Белый. Когда сотрудники «Весов»
Брюсов, Белый, Мережковский, Гиппиус,
Кузмин и другие в разгар серьезных разно-
гласий между журналами отказались от со-
трудничества с взбалмошным Рябушин-
ским, ответ «Золотого руна» прозвучал не-
ожиданно: предложение вести критические
обозрения получает Блок. Уже первые его
статьи показали, насколько далеки его
оценки от каких-либо групповых пристрас-
тий. Он с вниманием всматривается в твор-
чество реалистов, сочувственно отзывается
о Горьком. Все это было слишком непри-
вычно для писателей его круга.
Белый, бежавший осенью за границу,
перенесший там сложную операцию, вер-
нулся в родные пенаты болезненно раздра-
жительным человеком. Его любовь еще не
угасла. Личная драма настолько застила
ему глаза, что кипевшую в нем «вражду к
Блокам» он перенес в теоретическую об-
ласть. И очертя голову бросился на «мисти-
ческий анархизм»: за спиной Чулкова ему
мерещилась иная фигура. Энергия, с какой
Белый обрушился на того, кого недавно
еще считал братом, сам тон его выпадов пе-
решли все рамки приличий.
Читая статьи Блока, Белый не готов был
в неожиданных суждениях поэта видеть
широту чувств. Его болезненное воображе-
ние, к тому же подогреваемое экзальтиро-
ванным недругом Блока Эллисом, заставля-
ло Белого высматривать в них только ложь
и предательство. Все «злые козни» против-
ников находились целиком в мире его боль-
ного воображения. В ненормальном своем
32
Александр Александрович Блок
полемическом задоре Белый никем не по-
нят, но и сам не может понять действитель-
ного положения дел, находясь в замкнутом
мире тех фантомов, которые создавало его
разгоряченное сознание. О своих с Эллисом
ощущениях он после заметит: «нам начина-
ло казаться, что Иванов, Блок и Чулков со-
ставили заговор: погубить всю русскую ли-
тературу». Белому ненавистна вульгар-
ность теории Чулкова, она воспринимается
как карикатура иа собственные мысли, но и
сам он прибегает к недопустимому (до вуль-
гарности!) тону полемики, не чураясь таких
выражений, как «обозная сволочь» или
«трусливые гиены»...
Прочитав в 5-м номере «Золотого руна»
статью Блока «О реалистах», в похвалах
Горькому, во внимании к таким второсте-
пенным авторам, как Скиталец, Белый рас-
смотрел заигрывание с чуждыми символиз-
му силами. В начале августа Белый посыла-
ет Блоку оскорбительное письмо, полное
самых невообразимых обвинений. 8 августа
из Шахматова Блок в ответ вызывает быв-
шего друга на дуэль.
Получив вызов, Белый пишет письмо, в
котором разом раскрывается подоплека его
литературных выходок, звучит искренний
тон обиженного человека: «я хотел правды,
хотел честно произнесенных слов, а не не-
определенно-бездонных молчаний». Он не-
доумевает, почему Блок своим молчанием
поддерживает отвратительный «мистиче-
ский анархизм». Блок схватывает все, что
стоит за строчками: Белый переживает бе-
ду. Вопрос о дуэли отпадает. Блок отправ-
ляет в «Весы» письмо, разом перечеркнув-
шее ненужные кривотолки: «высоко ценя
творчество Вячеслава Иванова и Сергея Го-
родецкого, с которыми я попал в общую
клетку, я никогда не имел и не имею ниче-
го общего с «мистическим анархизмом», о
чем свидетельствуют мои стихи и проза».
Вероятно, Владислав Ходасевич был
прав, когда полагал, что мучительная лю-
бовь Белого к жене Блока сыграла роковую
роль в истории символизма. В основе поле-
мики лежала вовсе не теоретическая при-
чина. Символизм как течение должно было
погубить не различие в теоретических во-
просах, а несовпадение судеб его представи-
телей. Они были слишком разные люди.
В своем творчестве каждый из них был
слишком сам по себе, одному трудно было
согласиться со всеми. Раздор пошел по ню-
ансам переживаний и их истолкований.
Они не могли объединиться на теории, а об-
щее ослепительно-яркое ощущение, пере-
житое в самом начале XX века с его «мис-
тическими зорями», не могло удерживать
долго в одном мистическом братстве. И ког-
да стало ясно, что эпоха «зорь» минула без-
возвратно, они не смогли не попытаться
подвести черту под этими несбывшимися
надеждами русского символизма. Брюсову,
и вовсе чуждому всяким мистическим умо-
настроениям, такой раздор оказался только
на руку: в пылу спора Белый договорился
до того, что поставил мэтра рядом с Пушки-
ным. Полемика обескровила оба символист-
ских издания. Просуществовав до конца
1909 года, они прекратили существование
почти одновременно.
После внятного объяснения с глазу на
глаз в личных отношениях Блока и Белого
наступает недолгий период взаимопонима-
ния. В октябре 1907 года они едут в Киев
для участия в литературном вечере. Но че-
рез полгода они разом почувствуют взаим-
ное отчуждение и надолго прекратят всякое
общение.
Наряду с «метелями» «Снежной маски»,
наряду с журнальным балаганом, в жизнь
Блока входит еще одно событие. Когда-то в
ноябре 1906 года он написал лирическую
статью «Девушка розовой калитки и му-
равьиный царь». Воспоминания о Бад-На-
угейме сплетаются с мыслями о Германии,
о легендах Европы, которые уже созданы,
уже кончились и состарились: королева, ее
пажи, их мечты о «девушке розовой калит-
ки». И рождаются думы о русских поверь-
ях, где заключено «чистое золото» поэзии.
Блок вспоминает легенду о муравьином
царе, пришедшую из заговоров и заклина-
ний. Да, Европа — это гармонические ли-
нии, нежные тона, томные розы, воздуш-
ность, мечта о запредельном, искания не-
возможного. Россия — это «безобразная
история», где «боярские брюхи», где «хлю-
2 3u. 848
33
Русские писатели XX века
пает* кровь, «тяжелая, гнилая, болотная».
Здесь все земляное, небо — «серое, как му-
жицкий тулуп». Но... «Здесь от края и до
края — чахлый кустарник. Пропадаешь в
нем, а любишь его смертной любовью; вый-
дешь в кусты, станешь на болоте. И ниче-
го-то больше не надо. Золото, золото где-то
в недрах поет*.
В конце 1906-го поэт предчувствует по-
явление людей «из земли». Осенью 1907-го
получает письмо от молодого крестьянина
Николая Клюева. Завязывается переписка.
И хитроватый, редкого таланта крестьян-
ский поэт, как бы угадывая, что хочет слы-
шать от него «кающийся дворянин», пишет
о силе людей из народа и той непроходимой
меже, которая пролегла между народом и
интеллигенцией, которую «...наш брат» не
дичится, а завидует и ненавидит, а если и
терпит вблизи себя, то только до тех пор,
покуда видит от «вас» какой-либо прибы-
ток».
Письма Клюева настолько точно попада-
ют в цель, подтверждая тревоги поэта, что
он цитирует отрывки одного из них в статье
«Литературные итоги 1907 года». Блок об-
рушивается на писателей, эстетов, религи-
озно-философские собрания и прочий сло-
весный «кафешантан*.
•А на улице — ветер, проститутки мерзнут,
люди голодают, людей вешают, а в стране — ре-
акция, а в России — жить трудно, холодно, мерз-
ко. Да хоть бы все эти нововременцы, новопутей-
цы, болтуны — в лоск исхудали от собственных
исканий, никому на свете, кроме «утонченных»
натур, не нужных, — ничего в России не убави-
лось бы и не прибавилось!»
Гибельный пожар, охвативший Блока на
пороге 1908 года, разрешается началом его
народничества. И настойчивое требование
Блока, обращенное к литературе, говорить
о главном, и стремление разделаться со сво-
им прошлым, и его внимание к людям «из
земли» выплеснулось в статьи 1908 года.
Тон его прозы иногда приближается к тону
проповеди:
— «символическая школа была только меч-
той, фантазией, выдумкой или надеждой некото-
рых представителей «нового искусства», но ни-
когда не существовала в русской действительнос-
ти...»;
— «только то, что было исповедью писателя,
только то создание, в котором он сжег себя до-
тла, — только оно может стать великим. Если эта
сожженная душа... огромна, она волнует не одно
поколение, не один народ и не одно столетие. Ес-
ли она и не велика, то рано ли, поздно ли она
должна взволновать, по крайней мере, своих сов-
ременников...»;
— «К вечной заботе художника о форме и со-
держании присоединяется новая забота о долге...
В сознании долга, великой ответственности и свя-
зи с народом и обществом, художник находит си-
лу ритмически идти единственно необходимым
путем».
Он пишет о пути художника от людей и к
людям («Об Ибсене»), о растленности мод-
ных «вечеров искусств», о страшной, смер-
тельной душевной болезни его времени —
иронии.
Но все пережитое после краха прежней
жизни соединяется в едином замысле.
В 1908 году Блок бьется над новой драмой
«Песня Судьбы». Герой покидает родной
дом, жену, мать, чтобы идти «в жизнь»;
встречается с раскольницей Фаиной, через
служение которой познает новое ощущение
мира; наконец, оставленный ею, тонет в ме-
тели. В конце пьесы, как спасение героя,
звучит песнь коробейника (строки из зна-
менитой поэмы Некрасова: «Ох, пол-
ным-полна коробушка...»).
Контур собственного пути поэтом начер-
тан, но герои Блока так и не смогли ожить.
Образ Фаины обретает черты раскольницы,
«Снежной маски», цыганки, циркачки. Он
двоится, троится, расслаивается на все
большее число лиц. Вопросы, мучившие
Блока, пока не сводились воедино.
Когда пьеса была уже готова, Блок вдруг
ощутил накат лирической волны. Так ро-
дился стихотворный цикл «На поле Кули-
ковом» — одно из знаменитейших творе-
ний поэта. Здесь звучит знакомое обраще-
ние: .«Ты», но за этим местоимением мы не
обнаружим ни Прекрасной Дамы, ни Не-
знакомки. Конечно, отблеск прежних сти-
хов в этом «Ты» сохранился, потому и обра-
щение к Родине в первом стихотворении
столь необычно: «О, Русь моя! Жена моя!
34
Александр Александрович Блок
До боли нам ясен долгий путь». Не роди-
на-мать, а Русь-Жена. Но это — Жена, ко-
торая пишется с прописной буквы, в ней —
тоже «вечно-женственное» начало, что и в
ранних стихах. В третьем стихотворении
цикла, где ощущения воина в ночь перед
битвой сливаются с ощущением поэта, ко-
торый смотрит в глубь родной истории, сре-
ди полей, лебединых криков, у темного До-
на, где чуткое ухо Блока различает далекие
материнские стенания («И вдали, вдали о
стремя билась, голосила мать») является
«Она»:
И с туманом над Непрядвой спящей,
Прямо на меня
Ты сошла, в одежде свет струящей.
Не спугнув коня.
Даниил Андреев, сын писателя Леонида
Андреева, поэт и философ-мистик, в ком-
ментариях к этому стихотворению не удер-
жался от восклицания: «Кто и когда так яс-
но, так точно, так буквально писал о Ней, о
великой вдохновительнице, об идеальной
душе России, о ее нисхождении в сердца ге-
роев, в судьбы защитников родины, ее поэ-
тов, творцов и мучеников?»
Душа России сходит в душу поэта-воина
и сближается с образом Богородицы, кото-
рую народ испокон веку считал заступни-
цей своей родины:
И когда наутро, тучей черной
Двинулась орда.
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.
Еще в стихотворении «Девушка пела в
церковном хоре...», в строках которого уга-
дывался отклик поэта на Цусимское сраже-
ние и гибель русской эскадры во время вой-
ны с Японией, прозвучала горькая молитва
о России. В «куликовском» цикле горячая
боль поэта за судьбы родины становится яв-
ственной. Цикл «На поле Куликовом* не
только о великом историческом прошлом,
но и о грядущих испытаниях. Тревога про-
низывает уже первое стихотворение:
Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь...
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!
Последнее стихотворение цикла возвра-
щает к этому же тревожному предчувст-
вию, и, хотя заканчивается восклицатель-
ным знаком, за ним ощущается смысловое
многоточие:
Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал. — Молись!
Эти стихи были написаны в 1908 году.
Через шесть лет Первая мировая война —
первая вестница необратимых мировых пе-
ремен.
Лирическая волна стихов «На поле Ку-
ликовом» докатилась и до «Песни Судьбы».
Блок опять возвращается к многострадаль-
ному своему созданию. В новом фрагменте,
вписанном в уже законченную драму, его
герой вдруг вспоминает великое русское
прошлое. Но образы из цикла «На поле Ку-
* ликовом», вписавшись в драму, еще более
запутали основную идею произведения.
Блок любил свою «Песнь Судьбы», как
мать любит больное дитя. И лишь через
много лет, вернувшись к пьесе, вдруг ре-
шит, что это совершенно «дурацкое» произ-
ведение.
Неудача драмы искупалась лирикой и
публицистикой. Конец 1908 года принес
два доклада Блока, прочитанных в Религи-
озно-философском обществе и затем перера-
ботанных в статьи: «Россия и интеллиген-
ция» и «Стихия и культура». Блок говорит
о той же неодолимой черте, которая пролег-
ла между «несколькими сотнями тысяч», с
одной стороны, и «полуторастами миллио-
нов» — с другой. Он вспоминает гоголев-
скую «Русь-тройку», и провидит как неотв-
ратимость: «Что, если тройка, вокруг кото-
рой «гремит и становится ветром
разорванный воздух», — летит прямо на
нас... Можно даже представить себе, как
бывает в страшных кошмарах, что тьма
происходит оттого, что над нами повисла
косматая грудь коренника и готовы опус-
титься тяжелые копыта». И, как и должно
35
Русские писатели XX века
для петербуржца, миф о «Медном всадни-
ке» (в «тяжелых копытах» коренника про-
свечивает и этот образ) соединяет стихию
народного бунта со стихией наводнений —
стихией природной. Вторая статья напоми-
нает о страшном землетрясении в Мессине,
когда в мгновение гибнет долговременное
создание рук человеческих, и провидит гря-
дущие катастрофы: «Мы еще не знаем в
точности, каких нам ждать событий, но в
сердце нашем уже отклонилась стрелка
сейсмографа».
Тема России не отпускает Блока, и на ис-
ходе года рождаются не только последние
стихотворения из цикла «На поле Кулико-
вом», но и стихотворение «Россия»:
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои.
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!..
Появляется и мрачное в своем совершен-
стве стихотворение, в звуках которого ожи-
вает предчувствие ближайшего будущего:
Вот он — ветер,
Звенящий тоскою острожной.
Над бескрайною топью
Огонь невозможный,
Распростершийся призрак
Ветлы придорожной...
Вот — что ты мне сулила:
Могила.
Тему подхватывает стихотворение
«Осенний день» («Идем по жнивью, не спе-
ша...*), написанное в Новый год с тем же
безошибочным чувством родины:
...И низких нищих деревень
Не счесть, не смерить оком,
И светит в потемневший день
Костер в лугу далеком...
О, нищая моя страна.
Что ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена,
О чем ты горько плачешь?
За обращением к жене — новый поворот
в судьбе Блока.
В конце ноября 1908-го в записной
книжке поэта появляется набросок так и не
осуществленной драмы.
«Писатель. Кабинет с тяжелыми занавесками
на окнах. Книги. Цветы. Духи. Женщина. Он —
все понимающий. Она живет обостренной духов-
ной жизнью. Глаза полузакрыты, зубы блестят
сквозь полуоткрытые губы. Тушит огонь, откры-
вает занавеску. Чужая улица, чужая жизнь. Тон-
кие мысли.
Посетители.
Ждет жену, которая писала веселые письма и
перестала.
Возвращение жены. Ребенок. Он понимает.
Она плачет.
Он заранее все понял и простил. Об этом она и
плачет. Она поклоняется ему, считает его луч-
шим человеком и умнейшим...»
После описания душевной неустроеннос-
ти героя, его тоски, мыслей о самоубийстве,
надежд на Россию — заключительная фра-
за, которую Блок подчеркнул: «А ребенок
растет».
Предтеча этого замысла — личные пере-
живания, возвращение Любови Дмитриев-
ны, ребенок, который родился 2 февраля и
был назван в честь знаменитого дедуш-
ки-химика Дмитрием. Блок чувствует во-
одушевление, нежность, иногда он почти
счастлив. Но, прожив неделю, мальчик
умирает. Потемневший Блок чувствует се-
бя усталым, потерянным. На смерть Мити
он откликнется горьким стихотворением:
...Я подавлю глухую злобу.
Тоску забвению предам.
Святому маленькому гробу
Молиться буду по ночам...
В статье «Душа писателя», написанной в
этот тяжелый месяц, не могло не сорваться:
«Писательская судьба — трудная, жуткая,
коварная судьба». В целом статья •— это по-
пытка через судьбою добытые истины под-
вести итог своему прошлому. Писатель дол-
жен напрягать внутренний слух, дабы уло-
вить «мировой оркестр» души народной.
В этом его единственное оправдание. Без
этой самоотдачи и этой глубинной музы-
кальности литература становится, в сущ-
ности, праздным занятием. И только те,
.36
Александр Александрович Блок
«кто исполнен музыкой, услышат вздох
всеобщей души, если не сегодня, то зав-
тра»...
После напряжения последних лет Блоку
нужно забыться. 14 апреля они с Любовью
Дмитриевной уезжают за границу. Они пу-
тешествуют по Италии и Германии. От Ита-
лии впечатлений много, но общее ощуще-
ние более чем критическое: «самая нелири-
ческая страна». После нее в Германии он
нашел «лиризм», близкую его духу готику,
музыку Вагнера. И все-таки в Россию он
возвращается уставшим. Его письмо-испо-
ведь, посланное из-за границы матери, объ-
ясняет многое:
«Люди мне отвратительны, вся жизнь ужасна.
Европейская жизнь так же мерзка, как и рус-
ская, — вообще вся жизнь людей во всем мире
есть, по-моему, какая-то чудовищная грязная лу-
жа... Мне хотелось бы очень тихо пожить и поду-
мать — вне городов, кинематографов, ресторанов,
итальянцев и немцев. Все это — одна сплошная
помойная яма... Более чем когда-нибудь я вижу,
что ничего из жизни современной я до сих пор не
приму и ничему не покорюсь. Ее позорный строй
внушает мне только отвращение. Переделать уже
ничего нельзя, не переделает никакая револю-
ция. Все люди сгниют, несколько человек оста-
нется. Люблю я только искусство, детей и смерть.
Россия для меня, — все та же лирическая величи-
на. На самом деле — ее нет, не было и не будет».
Блок чувствует, что ему не для чего
жить. Ему тягостен круг людей, которому
он обречен (в записной книжке — «вот уже
три-четыре года я втягиваюсь незаметно
для себя в атмосферу людей, совершенно
чуждых мне»), ему претит литература как
стиль жизни («отказаться от литературного
заработка и найти другой»). Но литература
неотступно следует за ним. Вместо «Весов»
и «Золотого руна» на сцену выходит новый
журнал с большим будущим — «Аполлон».
Античное название требовало и определен-
ных имен. Выдающимися учеными-антич-
никами были и поэт Вяч. Иванов, и Инно-
кентий Анненский, и Фаддей Францевич
Зелинский. Все они вошли в совет «Общест-
ва ревнителей художественного слова», ко-
торое было организовано при журнале.
В совет выбраны были также редактор жур-
нала Сергей Маковский, Михаил Кузмин и
Александр Блок.' Напечатанные в первом
номере журнала «Итальянские стихи» Бло-
ка были восприняты многими старыми зна-
комыми с воодушевлением.
Но история «Аполлона» началась траги-
чески. Иннокентий Анненский, для многих
современников остававшийся лицом неуви-
денным (одни знали его как педагога, фило-
лога, знатока античности, другие как пере-
водчика Еврипида, третьи как автора тон-
ких, редкого вкуса критических статей, и
очень мало кто знал его лирику), давно
стремился оставить педагогическое попри-
ще и посвятить себя только литературному
ТРУДУ- Но его первая критическая статья о
современной лирике произвела столь не-
ожиданное впечатление на поэтов, близких
журналу (вплоть до нелепых обид), что Ан-
ненский почувствовал и теневую сторону
жизни литератора. Ощутил он на себе и ре-
дакторский произвол: публикацию его сти-
хов Маковский отложил до следующего но-
мера. Переживания, связанные с отставкой
на педагогическом поприще, и разочарова-
ние в литературной жизни возымели дейст-
вие. 30 ноября 1909 года Иннокентий Ан-
ненский падает замертво от внезапного па-
ралича сердца у подъезда Царскосельского
вокзала. Известие об этой смерти застает
Блока в Варшаве. Из письма к жене можно
понять, насколько он поражен внезапной
для него смертью Анненского. И кроме то-
го, оказывается, он знал почти обо всем,
что делал в последнее время этот поэт (фра-
за о двух «книгах»). Значит, Блок знал не
только о стихах «Кипарисового ларца» (эта
книга Анненского выйдет в 1910 году), но и
о тех, которые войдут в «Посмертный сбор-
ник» и появятся лишь в 1923-м?
В Варшаве Блок оказался в связи со
смертью отца.
«ВОЗМЕЗДИЕ»
Поезд на Варшаву запечатлелся в «за-
писной книжке»:
«Отец лежит в Долине Роз и тяжко бре-
дит, трудно дышит. А я — в длинном и
жарком коридоре вагона, и искры освеща-
37
Русские писатели XX века
ют снег. Старик в подштанниках меня не
тревожит — я один.
Ничего не надо. Все, что я мог, у убогой
жизни взял: взять больше у неба — не хва-
тило сил. Заброшен я на Варшавскую доро-
гу, так же, как в Петербурге. Только ее со
мной нет, чтобы по-детски скучать, качать
головой, спать, шалить, смеяться...»
Первая строка с выправленным назва-
нием варшавской улицы, где в больнице
умирал отец Блока — «...лежит в Аллее
Роз...» — войдет в поэму «Возмездие».
«Она», без которой Блок скучает в доро-
ге, — Любовь Дмитриевна.
Он приехал уже к похоронам. И сразу —
4 декабря — пишет письмо матери:
«Все свидетельствует о благородстве и высоте
его духа, о каком-то необыкновенном одиночест-
ве и исключительной крупности натуры».
Смерть Александра Львовича свела поэ-
та с единокровной (по отцу) сестрой Анге-
линой Александровной Блок. О ней в пись-
ме к жене он скажет с трепетом: «инте-
ресная и оригинальная», «очень чистая»,
«совсем ребенок, несмотря на 17 лет».
Впоследствии Ангелине он посвятит один
из лучших стихотворных циклов «Ямбы*.
Вещие знаки не оставляли его в новый,
1910-й год. В январе Блок взволнован появ-
лением кометы Галлея, вокруг которой
рождается множество толков и слухов. Она
так и не задела хвостом атмосферу Земли, о
чем многие говорили всерьез, но вестницей
потрясений она стала, потому и оставила
свой след в стихотворении «Комета», в поэ-
ме «Возмездие* и в апрельском докладе о
русском символизме.
1910-й год. Смерть в расцвете творческо-
го таланта Веры Федоровны Комиссаржев-
ской, с театром которой Блок был связан.
Следом — смерть художника Михаила Вру-
беля. Отклики Блока на эти утраты — пред-
дверие главного его выступления в «Обще-
стве ревнителей художественного слова».
26 марта здесь произносит речь Вячеслав
Иванов, позже превратив ее в статью «Заве-
ты символизма». 8 апреля поднятую тему
подхватит Блок. Его доклад, вышедший
под названием «О современном состоянии
русского символизма», — это не только со-
гласие с мнением Иванова, что символизм
был призван ко многому, а оказался только
поэзией. Эта статья — и мировоззрение
Блока, и биография его внутренней жизни.
Чтобы понять эту «вторую жизнь», нужно
видеть мир особыми глазами, нужно на-
учиться ощущать тайную связь явлений.
Войны, революции, землетрясения и
прочие стихийные бедствия воспринимают-
ся им не только как политические, истори-
ческие или «геологические» события, но
как часть вселенских потрясений в «мирах
иных». И человеческая смерть для Блока
не была случайной (в год кризиса симво-
лизма уйдут из жизни не только Комиссар-
жевская и Врубель, но и в конце года Лев
Толстой). В судьбе Блока не жизненные об-
стоятельства бросают свет на то или иное
произведение, но, напротив, его произведе-
ния проясняют его путь.
Это мы и вычитываем из его статьи-испо-
веди «О современном состоянии русского
символизма», своеобразной духовной авто-
биографии. Поэт формулирует тезу и анти-
тезу русского символизма и прочерчивает
движение от первой ко второй — и далее к
некоему синтезу, отражая свой собствен-
ный путь, который позже воплотится в трех
книгах его стихотворений. Блок говорит
языком, далеким от философии, но зато
близким к языку мистиков. Он пытается
выразить земным языком то, что с совер-
шенной полнотой выразить на нем невоз-
можно, и потому Блок то и дело отсылает
читателя к своим стихам: именно там он
выразил невыразимое на пределе своих сил.
Путь свой он ощутил в виде триады:
1. Явление Ее («Прекрасной Дамы», «Вечной
Женственности», «Души Мира» и т. д.) и молит-
венное состояние поэта, Ее призывающего (им
проникнуты «Стихи о Прекрасной Даме»).
2. Ее уход, «отлет* (как в стихотворении, ко-
торое откроет вторую книгу лирики: «Ты в поля
отошла без возврата...»). Поэт же, потеряв духов-
ную связь с Высшим началом, погружается в «си-
не-лиловый мировой сумрак», где его преследуют
«Двойники», где он встречается с «Незнакомкой*
(вовсе не просто дама в черном платье со страусо-
выми перьями на шляпе, а «дьявольский сплав
38
Александр Александрович Блок
из многих миров, преимущественно синего и ли-
лового»).
3. Жажда возвращения к жизни и проклятия
искусству, которое мистическое переживание
превратило в литературу, в поэзию. На этом пути
и возникают темы служения, «народа и интелли-
генции», «стихии и культуры», разрешенные
Блоком в одноименных статьях. Именно здесь, на
этом пути, рождается горькая любовь к Отечест-
ву, доходящая до ясновидения (как в цикле «На
поле Куликовом»). Для Блока то, что происходи-
ло с символистами, происходило и со всем мироз-
данием: «революция свершалась не только в этом,
но и в иных мирах... Как сорвалось что-то в нас,
так сорвалось оно и в России. Как перед народной
душой встал ею же созданный синий призрак, так
встал он и перед нами. И сама Россия в лучах этой
новой (вовсе не некрасовской, но лишь традицией
связанной с Некрасовым) гражданственности ока-
залась нашей собственной душой».
Народничество позднего Блока имело
мистическую основу, в сущности, ту же
самую, что и его ранняя лирика.
Его мировоззрение начинает «отверде-
вать», все яснее очерчиваются его контуры.
Переживание, выразившееся в «Стихах о
Прекрасной Даме», в чем-то подобно соловь-
евскому: видение Ее сопровождается ощу-
щением преображенности, духовному оку
поэта открывается религиозная основа ми-
ра, связь всего со всем. Отсюда приходит в
его позднюю публицистику противопостав-
ление цивилизации (механического начала)
и культуры (начала органического). Потому
бунтующий народ (одно из воплощений сти-
хии, «духа музыки») для Блока становится
носителем культуры (будущей), а «образо-
ванные классы* — рабами цивилизации,
которым революция несет возмездие.
Первые наброски поэмы «Возмездие» от-
носятся к июню 1910-го. Они сделаны в
Шахматове. Здесь же Блок пишет стихотво-
рение «На железной дороге»:
Под насыпью, во рву некошеном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая...
Читатель легко узнавал толстовский об-
раз Катюши Масловой из романа «Воскресе-
ние», простой девушки, которая также сто-
яла на перроне и видела сквозь вагонное
стекло любимое и ненавистное лицо бросив-
шего ее барина Нехлюдова. Вспоминалась и
Анна Каренина, покончившая с жизнью под
колесами поезда. И некрасовская «Тройка»
(«Что так жадно глядишь на дорогу...»), где
в душе юной героини стихотворения при
взгляде на каждую пролетающую тройку
сплетается и надежда, и горечь: жизнь, как
и тройка, проносится мимо.
В стихотворении Блока узнавалось все то
же равнодушие людей, которые едут в же-
лезных вагонах тоже мимо:
Вставали сонные за стеклами
И обводили ровным взглядом
Платформу, сад с кустами блеклыми,
Ее, жандарма с нею рядом...
— людей, таких же безразличных, как ко-
леса, режущие все, что ни попадется на пу-
ти. И бездушие цивилизации, воплотив-
шейся в этих монотонных железных путях,
и людское бездушие соединяются в послед-
нем четверостишии в одно нерасторжимое
целое:
Не подходите к ней с вопросами,
Вам все равно, а ей — довольно:
Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена — все больно.
Сравнение этого стихотворения с ранни-
ми произведениями поэта изумляет. Как
поменялась картина мира поэта! Сначала в
центре его поэтической вселенной — Она и
только Она, все прочее — лишь то, что ря-
дом с ней. Потом (как в «Незнакомке») —
падшая женщина в падшем, грязном мире,
за которым лишь в пьяном отчаянии можно
увидеть «берег очарованный» и «очарован-
ную даль». И, наконец, стихотворение,
полное реалистических подробностей, чер-
точек, предельно точных деталей, в кото-
ром точным сцеплением строк поэт дости-
гает почти невозможного: в девять четве-
ростиший вместилась целая повесть о
горькой женской судьбе. Символы — «цвет-
ной платок», «тоска дорожная», «любовь»,
«грязь», «колеса» — здесь спрятаны за
реальными деталями. Только читая дру-
гие стихотворения, где есть «спицы рас-
писные», «расхлябанные колеи» или «плат
39
Русские писатели XX века
узорный до бровей», и статьи Блока, где
он сталкивает понятия «цивилизация» и
«культура», мы можем отчетливее увидеть
символический план произведения.
Но в стихотворении, где угадывался мо-
тив Льва Толстого, живет и предчувствие.
31 октября Блок едет в Москву, получив от
издательства «Мусагет» предложение со-
ставить собрание своих стихов. Здесь, в
Москве, и услышит он весть об уходе Льва
Толстого из Ясной Поляны.
Осень 1910-го — это новое сближение с
Белым. Оно намного прозаичнее их первого
знакомства. И все-таки, когда Белый про-
читал статью «О современном состоянии
русского символизма», статью об их не-
сбывшихся надеждах, он нашел в письме к
Блоку самый верный тон: «...позволь мне
Тебе принести покаяние во всем том, что
было между нами». Признался Белый и в
своем глубоком уважении к автору за его
♦слова огромного мужества и благородной
правды*.
Блоку отрадна эта поддержка: на симво-
листов «первого призыва» его статья возы-
мела совсем иное действие. Брюсову вообще
претили любые попытки навязать поэзии
чуждую цель, будь то общественное пере-
устройство или чаяние нового откровения.
Он всегда стоял за тезис: «Цель поэзии —
сама поэзия». Гнев Мережковского был вы-
зван иным: в статье Блока ему примерещи-
лось уничижительное отношение к револю-
ции и готовность сотрудничать с властями.
Блока выпады Мережковского покоробили
и бестактностью, и сходством с доносом. Но
от печатных столкновений он отказался.
Составляя для «Мусагета» собрание сво-
их стихотворений, поэт в согласии со своей
статьей-исповедью «О современном состоя-
нии русского символизма» хочет печатать
их в трех томах. Для себя он определит эти
три книги стихотворений как «трилогию
вочеловечения *.
Итогом кризисного года стало дека-
брьское выступление на вечере в Тенишев-
ском училище, посвященном 10-й годовщи-
не со дня смерти Владимира Соловьева. На
основе этого выступления родится статья
«Рыцарь-монах». На мыслителя, который
некогда поразил его своими стихотворными
признаниями, он смотрит уже другими гла-
зами. Самое дорогое для Блока в Соловье-
ве — сама его личность. Для поэта Вл. Со-
ловьев — «носитель и провозвестник буду-
щего», всем своим творчеством и жизнью
воплотивший те предчувствия, которые ро-
дили к жизни и сам символизм.
«Он был одержим страшной тревогой, беспо-
койством, способным довести до безумия, — пи-
сал Блок. — Его весьма бренная физическая обо-
лочка была как бы приспособлена к этому; весьма
вероятно, что человек вполне здоровый, трезвый
и уравновешенный не вынес бы этого постоянного
стояния на ветру из открытого в будущее окна,
этих постоянных нарушений равновесия. Такой
человек просто износился бы слишком скоро, он
занемог бы или сошел с ума».
Эти метафизические ветры эпохи уже не
веяли, а дули все упорнее и неотступнее. Их
дыхание отчетливо проступило в замысле
поэмы «Возмездие».
2 января 1911 года Блок ставит в поэме
точку. И сразу чувствует упадок сил, и то,
что в нынешнем виде поэма закончена, но
не завершена. Первая редакция «Возмез-
дия» станет лишь третьей ее главой. Эта
поэма будет сопровождать Блока всю
жизнь, так и не получив окончательного за-
вершения. Не удовлетворенный некоторой
тематической узостью своего детища
(смерть отца, судьба сына). Блок расширяет
тему произведения до осознания своих ро-
довых связей. Он хочет проследить судьбу
трех поколений русской семьи на фоне рус-
ской истории.
Тема найдет свое воплощение не только в
незавершенной поэме, но и в разделах «Воз-
мездие» и «Ямбы» из 3-й книги стихов, в
которые войдут знаменитые его стихотворе-
ния: «О доблести, о подвиге, о славе...»;
«Кольцо существованья тесно...»; «Шаги
командора»; «Я — Гамлет. Холодеет
кровь...»; «Земное сердце стынет вновь...»
и др.
Чувство «возмездия» не покидает поэта
и в личной жизни: раздоры между женой и
матерью удручают его. 17 мая он отправил
Любовь Дмитриевну за границу, а сам едет
40
Александр Александрович Блок
в Шахматово. Здесь он проводит время с
матерью, готовит к изданию стихи, к кото-
рым начинает испытывать отвращение
(«Пришла еще корректура «Ночных ча-
сов». Скорее отделаться, закончить и изда-
ние «Собрания» — и не писать больше ли-
рических стихов до старости»). В начале
июля уезжает к Любови Дмитриевне в Бре-
тань. Мать и жена не могут жить рядом, и
ему приходится разрываться между ними.
Первоначальное впечатление от заграни-
цы — отрада и успокоение — скоро прохо-
дит. Сквозь европейскую обыденность он
все отчетливее видит всю нелепость запад-
ной цивилизации, за которой чувствует лик
смерти. В письмах матери появляются
жесткие характеристики:
«Париж — Сахара — желтые ящики, среди
которых, как мертвые оазисы, черно-серые гро-
мады мертвых церквей и дворцов»... «Париж с
Монмартра — картина тысячелетней бессмысли-
цы, величавая, огненная и бездушная»... «Брюг-
ге, из которого Роденбах и туристы сделали «се-
верную Венецию», довольно отчаянная мура»...
«Мне почти мучительно путешествовать; надо-
ело, москиты кусают, жара, грязь и отвратитель-
ный дух этой опоганенной Европы»... «Надоели
мне серый Берлин, отели, французско-немецкий
язык и вся эта жизнь».
По возвращении он снова работает над
«Возмездием». Чувство неотвратимых пе-
ремен заставляет его взяться за дневник.
Появляется характерная запись:
«Весьма вероятно, что наше время великое и
что именно мы стоим в центре жизни, то есть в
том месте, где сходятся все духовные нити, куда
доходят все звуки».
Но до начала потрясений, Первой миро-
вой войны еще более двух с половиной лет.
В атмосфере русской жизни повисла мрач-
ная пауза. Блок ощутил ее как никто
другой из современников. Это предвоенное
время запечатлелось в одном из самых со-
вершенных стихотворений Блока, написан-
ного 10 октября 1912 года:
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь — начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
Самое жуткое, что ждет человека, — это
понимание бессмысленности жизни, смер-
ти, мироздания. Все это Блок сумел выра-
зить в восьми строках. Вторая строфа сти-
хотворения — это не просто отражение и
пейзажа, и мыслей, запечатленных в пер-
вой. Но обратное движение символов: вме-
сто «фонарь — аптека» теперь «аптека —
фонарь», отраженное в «ледяной», т. е.
«смертной» ряби канала, с предельной без-
надежностью высветило идею «вечного воз-
врата» к бессмысленному существованию.
Безысходность, выраженная в стихотворе-
нии, усилена круговой композицией: чело-
век обречен пребывать в извечном заключе-
нии, из которого нет выхода. За пленом
жизни — плен смерти, за пленом смерти —
плен жизни. И все в мире вращается и воз-
вращается все — в безысходном замкнутом
круге, как в смысловой и символический
круг замкнуты и эти восемь строк, где кар-
тина переходит в мертвое отражение, и
оживающее в «ледяной ряби» отражение —
в мертвую картину.
В таком состоянии проходит весь
1912 год, который Блок отдал воплощению
нового драматического замысла.
Пьеса «Роза и Крест» зародилась в марте
сначала как сценарий балета из жизни про-
вансальских трубадуров (музыку должен
был писать композитор Глазунов), потом
балет стал превращаться в оперу, а сцена-
рий в либретто. Наконец к осени либретто
стало приобретать черты драмы. Главного
героя Бертрана называют Рыцарь-Не-
счастье. Сын ткача, он долгой службой до-
бился посвящения в рыцари графом Ар-
чимбаутом. Однажды на турнире его выбил
из седла рыцарь с дельфином на гербе. Же-
на графа Изора, махнув платком, подарила
ему жизнь. Теперь графиня тоскует, она по-
ражена услышанными где-то словами из
песни о радости-страдании. Всеми прези-
раемый Бертран, тайно любящий свою гос-
пожу, послан ею разыскать автора. Так не-
41
Русские писатели XX века
счастливец Бертран встречается с Гаэта-
ном, седовласым поэтом, рыцарем с
крестом на груди, для которого мир вообра-
жаемый, мир легенд реальнее действитель-
ности. Доставленный к замку, Гаэтан спит
под розовыми кустами. Утром он находит
на груди черную розу, брошенную из окна
Изорой. Бертран просит Гаэтана отдать ро-
зу ему. На празднике рыцарь с крестом на
груди поет свою песню:
...Сдайся мечте невозможной,
Сбудется, что суждено.
Сердцу закон непреложный:
Радость — Страданье одно...
Увидев седовласого поэта, Изора просы-
пается от наваждения. Она дарит любовь
пажу Алискану. Во время нападения на за-
мок войска графа Раймунда Бертран побеж-
дает рыцаря с дельфином на щите. В бою он
тяжело ранен. Однако стоит на страже, ког-
да его госпожа встречается с изнеженным
красавчиком Алисканом. Прижимая чер-
ную розу к груди и умирая от ран, он вдруг
понимает странные слова песни Гаэтана:
♦Радость — Страданье одно». Звон выпав-
шего из его рук меча прерывает свидание
любовников. Алйскан успевает скрыться до
прихода графа. Изора плачет над своим вер-
ным слугой.
Символ радости — роза, символ страда-
ния — крест. Они раскрывают и суть жиз-
ненной драмы Блока. Его судьба словно
осуществляется в согласии с заветом Досто-
евского: <В страдании счастья ищи*.
19 января 1913 года Блок закончил дра-
му «Роза и Крест». Работа изнурила его. Он
читает ее в литературных и театральных
кружках. По лицам, по замечаниям слу-
шавших убеждается, что написал наконец
♦ настоящее». Но скоро — сомнения. Самое
тяжелое испытание — 27 апреля. Блок чи-
тает пьесу Станиславскому. Знаменитый
основатель Художественного театра напряг
всю свою волю и внимание, но пьесы не по-
нял, ее трагического трепета не уловил.
♦ Печально все-таки все это, — пишет Блок че-
рез два дня. — Год писал, жил пьесой, она —
правдивая... Но пришел человек чуткий, которо-
му я верю, который создал великое (Чехов в Ху-
дожественном театре), и ничего не понял, ничего
не «принял» и не почувствовал».
В мае, чтобы еще раз проверить себя,
Блок пишет ♦Записки Бертрана»: герой
драмы рассказывает всю свою горькую
жизнь. И через эти записки поэт снова чув-
ствует: в прозе получилось ♦длинней, скуч-
ней», но — верно. Непонимание Станислав-
ского говорило не о неудаче Блока, но о
его одиночестве. Дневниковые записи под-
спудно говорят о том же, сказано ли это о
Любови Дмитриевне (21 января: «Перед
ночью — непоправимое молчание между
нами, из которого упало слово, что она
опять уедет»), об умершем сыне (10 февра-
ля: «Четвертая годовщина смерти Мити.
Был бы теперь 5-й год») или об Андрее Бе-
лом (11 февраля: «Не нравится мне наше
отношение и переписка. В его письмах —
все то же, он как-то не мужает, ребячливая
восторженность, тот же кривой почерк, ни-
чего о жизни, все почерпнуто не из жизни,
из чего угодно, кроме нее». О ком ни вспо-
минает поэт — он сразу чувствует преграду,
отделяющую его от других людей.
Поражала современников редкая бло-
ковская правдивость. О ней напишет не
один мемуарист. Она же становилась и
главной причиной его одиночества. Даже
«мажорные», энергичные записи, напри-
мер от 10 февраля, говорят о том же: «Пора
развязать руки, я больше не школьник. Ни-
каких символизмов больше — один, отве-
чаю за себя, один — могу еще быть моложе
молодых поэтов «среднего возраста», обре-
мененных потомством и акмеизмом*.
Столь не любимый поэтом акмеизм
именно в 1913 году начал мощное наступле-
ние. Отношения с новым течением, с «Це-
хом поэтов» и его главным вдохновителем
Н. С. Гумилевым складываются трудные.
О первом заседании «Цеха* 20 октября
1911 года Блок пишет с благодушием:
«Безалаберный и милый вечер... Моло-
дежь. Анна Ахматова. Разговор с Н. С. Гу-
милевым и его хорошие стихи о том, что
сердце стало китайской куклой... Было
весело и просто. С молодыми добреешь».
42
Александр Александрович Блок
18 февраля 1912 года на заседании «Обще-
ства ревнителей художественного слова»
после докладов о символизме Вяч. Иванова
и А. Белого слово попросили участники
«Цеха». Гумилев стал важно объяснять
взволнованному Иванову, что символизм
умер и его место теперь занимает новое поэ-
тическое направление. Иванов не без издев-
ки предложил назвать его «акмеизмом» —
от греческого «акмэ» (вершина). Гумилеву
насмешливый тон Иванова кажется не-
уместным. Новое литературное направле-
ние «акмеизм» провозглашено.
Лидерами акмеизма стали Сергей Горо-
децкий и Николай Гумилев. Среди наибо-
лее известных в будущем имен — Анна Ах-
матова, Осип Мандельштам, Георгий Ива-
нов. А. Белый, Блок и Вяч. Иванов готовы
противопоставить энергичному акмеизму
новое издание «Труды и дни». Но первый
же номер разочаровывает Блока. Поэт,
ждавший разговора «о человеке и художни-
ке», увидел лишь разговор об искусстве.
17 апреля 1912 года он пишет в дневнике
черновик письма Белому. В нем признание:
«Если мы станем бороться с неопределив-
шимся и, может быть, своим (!) Гумилевым,
мы попадем под знак вырождения. ...надо
воплотиться, показать свое печальное чело-
веческое лицо, а не псевдолицо несущест-
вующей школы. Мы — русские». 21 ноября
Блок заявляет Городецкому, что «Цех»
нельзя принимать всерьез. 17 декабря он
записывает в дневнике: «Придется пред-
принять что-нибудь по поводу наглеющего
акмеизма...»
В первом номере журнала «Аполлон»
опубликованы статьи Сергея Городецкого и
Николая Гумилева — два манифеста нового
направления.
В глазах Городецкого конец символизма
похож на самоубийство. Это направление
превратило земной, красочный и звучащий
мир в фантом. Акмеизм же, по его мнению,
призван убрать «трупы» и начать новую
поэзию.
Гумилев писал тоже наступательно, но в
его словах слышалось и другое: «симво-
лизм был достойным отцом*. Среди множе-
ства наивных положений у Гумилева про-
рывалось и что-то более существенное:
«Русский символизм направил свои глав-
ные силы в область неведомого. Попере-
менно он братался то с мистикой, то с теосо-
фией, то с оккультизмом. Некоторые его
искания в этом направлении почти прибли-
жались к созданию мифа*. Но — от лица
акмеизма произносит Гумилев — «непозна-
ваемое, по самому смыслу этого слова,
нельзя познать», кроме того, «все попытки
в этом направлении — нецеломудренны».
Николай Степанович Гумилев, вечный
подросток, задиристый, энергичный, не-
утомимый путешественник, а после — от-
важный воин, и поэзию брал «с боя». Его
первый сборник «Путь конквистадоров»,
выпущенный еще гимназистом, — детский
лепет в поэзии. Муштруя себя, он от сбор-
ника к сборнику становился все более креп-
ким стихотворцем. Его лучшие стихи
выйдут уже после зарождения нового на-
правления. «Выдрессировав* себя, он
♦дрессирует» и других. Блоку идея «наби-
вания руки» в поэзии кажется чудовищ-
ной. Для него поэзия — стихия, которая не
поддается никакой «анатомии». А Гумилев
даже пишет статью под названием «Анато-
мия стиха». Неприятие акмеизма будет
сопровождать Блока до последних дней.
Незадолго до смерти он напишет о «Цехе*
резкую статью «Без божества, без вдохно-
венья...». При этом к хорошим стихам чле-
нов этого объединения будет относиться с
уважением, но к попытке организовать лю-
бые объединения по «выделке» поэтов — с
отвращением.
Лишь после смерти Гумилева, расстре-
лянного в августе 1921 года петроградской
ЧК, когда современники отойдут от первого
потрясения, найдутся внимательные чита-
тели его статьи. Они вспомнят и то, как Гу-
милев уже при большевиках крестился на
каждый храм, вспомнят его преданность
православию и нелюбовь ко всяким «рели-
гиозным умствованиям» и ощутят за слова-
ми главного акмеиста не стремление свести
поэзию до ремесленного стихотворства, а
желание вернуть доверие Божьему миру,
поскольку во славу Божию и живет поэт.
Ремесло — лишь подспорье в этом деле.
43
Русские писатели XX века
Странно, но когда на «Башне» у Вячесла-
ва Иванова Блока вынудили высказаться об
акмеистке Анне Ахматовой, его слова вроде
бы так близки этим чаяниям Гумилева:
«Она пишет стихи, как будто стоя перед
мужчиной, а надо — как перед Богом». Но
Бог Гумилева и Бог Блока разнятся между
собой. Между поэтами стояла их творче-
ская несовместимость.
Лирика Блока рождалась из музыки, из
звуковой волны, которая приходила из не-
известных миров, заставляя ощущать ее
ритмы и звуки всем своим существом.
Гумилев рождает поэзию беззвучно: из об-
щего рисунка стихотворения, подгоняя сло-
во к слову, как живописец кладет мазок к
мазку. Их судьбы будут идти разными пу-
тями — но приведут их к одному августу
1921 года.
В 1913 году акмеизм неприемлем для
Блока потому, что он не видит за ним ника-
кой правды, как и вообще не видит правды
в современности: «Это все делают не люди,
а с ними делается: отчаяние и бодрость,
пессимизм и акмеизм, «омертвление» и
«оживление», реакция и революция», —
заносит он в дневник 11 марта.
Но одиночество 1913 года было страшно
и тем, что он ощущал границу не только
между собой и людьми, собой и литерату-
рой. И последнее, быть может, самое
страшное одиночество — чувство неодоли-
мой преграды между собой и своим творче-
ством. Из-под его пера ничего не рождает-
ся. Весь год он почти ничего не пишет.
Затишье, мрачность, апатия. Его мелан-
холия превосходит обычные человеческие
ощущения: он чувствует, что в серой обы-
денности сквозит мировой ужас: «Сегодня
день тусклый и полный каких-то мелких
огорчений, серостей. Просто удивительно,
как это бывает последовательно, до жути»
(26 февраля), — или: «Дни невыразимой
тоски и страшных сумерек — от ледохода,
но не только от ледохода» (30 марта).
Заключительная дневниковая запись от
23 декабря 1913 года (после нее он надолго
забросит дневник) — как воспоминание обо
всем годе: «Совесть как мучит! Господи, дай
силы, помоги мне». Выход, выплеск этого
чувства — несколько ранее, в единственной
статье 1913 года — «Пламень». Повод —
книга Пимена Карпова, писателя из низов.
Она поразила Блока не художественными
достоинствами («Книга не только литера-
турно бесформенна, она бесформенна во
всех отношениях»), но той страшной «хле-
боробной» силой, которая сочилась из неук-
люжего детища Карпова: «автор «Пламе-
ни» — никто, книга его — не книга вовсе;
писана она чернилами и печатана типог-
рафской краской, но в этом есть услов-
ность; кажется, автор прошел много путей
для исполнения возложенной на него обя-
занности, обязанности не личной, а родо-
вой, где-то в глубине веков теряющейся, и
теперь выбрал путь «книжный»...». Говоря
о книге, о том, как воспринял ее интелли-
гент, не поняв главного, того, что светится
за сочинением Пимена Карпова, Блок вос-
пламеняется и дает свое прочтение, которое
более походит на озарение, на предощуще-
ние года 1917-го и последующих: «были в
России «кровь, топор и красный петух», а
теперь стала «книга», а потом опять будет
«кровь, топор и красный петух»... Кровь и
огонь могут заговорить, когда их никто не
ждет. Есть Россия, которая, вырвавшись из
одной революции, жадно смотрит в глаза
другой, может быть, более страшной».
Полоса молчания подходила к концу.
Слабые лирические вспышки начались
лишь с октября. Рядом с одним ноябрьским
стихотворением в черновике помета «Как
«заржавели» стихи. Долго не писал...».
И характерные строки из лирики октяб-
ря — ноября — декабря: «Мы забыты, одни
на земле...», «Все равно ведь никто не пой-
мет, ни тебя не поймет, ни меня...», «Ия
прочту в очах послушных уже ненужную
любовь...», «Он душу свою потерял...», «Он
нашел весьма банальной смерть души своей
печальной», «Взглянул в свое сердце... и
плачу». Среди ноябрьских стихотворений
затрепетала цыганская струна — воспоми-
нание о цыганке Ксюше Прохоровой и о
другой, года два назад говорившей стран-
ные, загадочные слова. И в них предчувст-
вие цыганки Кармен, которая скоро явится
ему в знаменитой опере Жоржа Бизе...
44
Александр Александрович Блок
«МЫ - ДЕТИ СТРАШНЫХ ЛЕТ
РОССИИ...»
С началом нового, 1914 года Блок вына-
шивает замысел, который даст русской ли-
тературе одну из самых певучих, самых му-
зыкальных поэм:
Я ломаю прибрежные скалы
Тяжким ломом...
Я ломаю графитные скалы...
Я ломаю приморские скалы
В час отлива...
Окончательный вариант придет не сразу.
Для завершения «Соловьиного сада* пона-
добится более полутора лет. Они вместят
очень многое.
В опере Жоржа Бизе «Кармен*, которую
давали в Театре музыкальной драмы, его
поразила героиня — пронизанная огнем,
волей, стихийной страстью. Блок чувству-
ет магнетические токи, исходящие от ис-
полнительницы главной роли актрисы
Любови Александровны Андреевой-Дель-
мас. 14 февраля он посылает ей письмо с
признанием:
«Я смотрю на Вас в «Кармен* третий раз, и
волнение мое растет с каждым разом. Прекрасно
знаю, что я неизбежно влюбляюсь в Вас, едва Вы
появитесь на сцене. Не влюбиться в Вас, смотря
на Вашу голову, на Ваше лицо, на Ваш стан, —
невозможно. Я думаю, что мог бы с Вами позна-
комиться, думаю, что Вы позволили бы мне смот-
реть на Вас, что Вы знаете, может быть, мое имя.
Я — не мальчик, я знаю эту адскую музыку влюб-
ленности, от которой стон стоит во всем Существе
и которой нет никакого исхода. Думаю, что Вы
очень знаете это, раз Вы так знаете Кармен (ни-
когда ни в чем другом, да и вообще — до этого
«сезона», я Вас не видел). Ну, и я покупаю Ваши
карточки, совершенно непохожие на Вас, как
гимназист и больше ничего, все остальное как-то
давно уже совершается в «других планах» (ду-
рацкое выражение, к тому же Вы, вероятно, «по-
зитивистка*, как все настоящие женщины, и ду-
маете, что я мелю вздор), и Вы (однако продол-
жаю) об этом знаете тоже «в других планах», по
крайней мере, когда я на Вас смотрю, Ваше само-
чувствие на сцене несколько иное, чем когда ме-
ня нет...»
Он ощущает нечто подобное времени
«Снежной маски». Но лирическая волна
подходит к нему накатами. 27 февраля за-
кончено одно из самых мрачных стихотво-
рений «Голос из хора», которое он начал
еще в 1910 году, полное темных проро-
честв:
...Ты будешь солнце на небо звать, —
Солнце не'встанет.
И крик, когда ты начнешь кричать.
Как камень, канет...
Будьте ж довольны жизнью своей.
Тише воды, ниже травы!
О, если б знали, дети, вы.
Холод и мрак грядущих дней!
Но следом накатывает другая волна, вос-
торга, упоения и гибельной страсти:
Как океан меняет цвет,
Когда в нагроможденной туче
Вдруг полыхнет мигнувший свет, —
Так сердце под грозой певучей
Меняет строй, боясь вздохнуть,
И кровь бросается в ланиты,
И слезы счастья душат грудь
Перед явленьем Карменситы.
Через два дня, 6 марта, в записной
книжке появится запись:
«Во всяком произведении искусства (даже в
маленьком стихотворении) — больше не искусст-
ва, чем искусства.
Искусство — радий (очень малые количества).
Оно способно радиоактировать все — самое тяже-
лое, самое грубое, самое натуральное: мысли, тен-
денции, «переживания», чувства, быт. Радиоак-
тированью поддается именно живое, следователь-
но — грубое, мертвого просветить нельзя.
...Люблю в «Онегине», чтоб сжалось сердце от
крепостного права. Люблю деревянный квадрат-
ный чан для собирания дождевой воды на крыше
над аптечкой возле Plaza de Toros в Севилье (Му-
зыкальная драма «Кармен»). Меня не развлека-
ют, а мне помогают мелочи (кресла, уюты, вещи)
в чеховских пьесах (и в «Кармен», например, то-
же)...»
Стихи цикла «Кармен», эта яркая твор-
ческая вспышка в марте 1914-го, рождают-
ся не из искусства, но приходят как вестни-
ки «из других планов*. Блок робеет знако-
миться с актрисой. Его волнует каждый ее
жест и «песня... нежных плеч*. Он, глядя
на нее издали, провожает глазами, стоит у
45
Русские писатели XX века
дверей ее дома и не решается шагнуть да-
лее. Он похож на влюбленного подростка,
которого волнует каждое Ее приближение.
28 марта они наконец знакомятся. В этот
день родилось стихотворение «Ты — как от-
звук забытого гимна...», ритмом и мелоди-
ей подобное эху еще не законченного «Со-
ловьиного сада»:
...И проходишь ты в думах и грезах,
Как царица блаженных времен,
С головой, утопающей в розах,
Погруженная в сказочный сон.
Спишь, змеею склубясь прихотливой,
Спишь в дурмане и видишь во сне
Даль морскую и берег счастливый,
И мечту, недоступную мне...
31 марта написано последнее стихотво-
рение цикла. С апреля по начало июня
Блок и Дельмас почти неразлучны. С рас-
ставанием снова приходит апатия.
Но в воздухе уже слышна тревога. Еще
28 февраля Блок заносит в записную книж-
ку: «Пахнет войной». Его любовное пере-
живание этого года стало предвестником
иных событий. Все разрешилось 19 июля
1914 года. В этот день Россия вступила в
войну с Германией, которая впоследст-
вии будет названа Первой мировой. Лето
1914-го уже совершенно отчетливо прочер-
тило границу между мрачным прошлым и
жутким будущим.
1 сентября Блок написал одно из вер-
шинных своих стихотворений. Простое и
страшное:
Петроградское небо мутилось дождем,
На войну уходил эшелон...
Редкая точность деталей. Будни военно-
го времени:
И, садясь, запевали Варяга одни,
А другие — не в лад — Ермака,
И кричали ура, и шутили они,
И тихонько крестилась рука.
И жуткая тревога. Она единым порывом
входит в душу сквозь совершенно реальную
картину:
Вдруг под ветром взлетел опадающий лист,
Раскачнувшись, фонарь замигал,
И под черною тучей веселый горнист
Заиграл к отправленью сигнал.
В последние две строки провидец Блок
сумел вместить всю грядущую русскую ис-
торию: ничего не подозревает «веселый гор-
нист», но за «черной тучей», над ним на-
висшей, знак катастрофических перемен,
переворотов самых основ жизни. За горнис-
том, сыгравшим «к отправленью сигнал»,
Россия, шагнувшая в войну. И шаг этот ро-
ковой. В следующей строфе уже явственно
всплывает общее щемящее чувство проща-
ния:
И военною славой заплакал рожок,
Наполняя тревогой сердца.
Громыханье колес и охрипший свисток
Заглушило ура без конца.
Но если для людей, заполнивших эше-
лон, — это только прощание с родными и
близкими, их тревога обычна для военного
времени, то для поэта за нею большее, куда
более страшное. Прошлое России ушло бес-
поворотно. Навсегда. И хотя поэт пытается
заглушить свои чувства: «нам не было
грустно, нам не было жаль», в последних
строчках, где «пожар», «гром орудий», «то-
пот коней» и самое страшное, ранее не бы-
валое ни в одной войне, — «отравленный
пар» (т. е. ядовитые газы) «с галицийских
кровавых полей», будущее встает перед
ним немым вопросом. Тревогу за будущее
родины лишь подчеркивает многоточие, за-
вершающее стихотворение.
Чувство надвигающейся гибели с ред-
кой отчетливостью и той особой точностью,
когда поэт говорит за целое поколение,
Блок выразил в знаменитом стихотворе-
нии, написанном через неделю после нача-
ла войны:
Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
46
Александр Александрович Блок
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть...
Каждый стих поражал современников
абсолютной точностью найденной форму-
лы. Многие, очень многие воспринимали
это стихотворение, как рассказ о своей соб-
ственной судьбе.
3 сентября Любовь Дмитриевна уезжает
на фронт, где будет самоотверженно рабо-
тать сестрой милосердия в военно-полевом
госпитале. Вслед за воодушевлением пер-
вых дней войны на поэта опять нахлынула
тоска. Он спасается работой, готовит к из-
данию стихотворения Аполлона Григорье-
ва, к тому времени забытого поэта; посеща-
ет библиотеки. Работает методично и уве-
ренно. Но за внешней исправностью —
гибельный разгул и в стихах Григорьева, и
самого Блока. Тут затрепетала все та же
страстная цыганская струна. Любимый
Блоком цикл Григорьева «Борьба» дал рус-
ской литературе строки, которые кажутся
безымянными и вечными словами цыган-
ского романса:
Две гитары за стеной
Жалобно заныли.
Сердцу памятный напев:
Милый, это ты ли?..
В январе 1915 года поэт завершает всту-
пительную статью к этому изданию: «Судь-
ба Аполлона Григорьева». За некоторыми
строками — автобиографический трепет:
«В судьбе Григорьева, сколь она ни «чело-
вечна» (в дурном смысле слова), все-таки
вздрагивают отсветы Мировой Души...»
Весь 1915 год прошел в литературной ра-
боте. Блок чувствует себя не у дел, мучает-
ся тем, что в общей беде военных лет он не
ощутил себя нужным человеком.
27 мая увидела свет его книга «Стихи о
России». Почти полностью она войдет в
раздел «Родина» третьей книги стихов.
Своей поэтической мощью и глубинной
правдой книга поразила людей, не имев-
ших между собой ничего общего. Она заста-
вила по-другому посмотреть на Блока
М. Горького. Она же заставила декадента
Георгия Иванова, поэта с огромным, но по-
ка еще далеким будущим, произнести в сво-
ем отклике вещие слова:
«Мы и не подозревали, читая в каталогах об
этой маленькой книжке «военных» стихов, что
на серой бумаге, в грошовом издании, нас ожида-
ет книга из числа тех, которые сами собой заучи-
ваются наизусть, чьими страницами можно ды-
шать, как воздухом...»
14 октября 1915 года Блок заканчивает
поэму «Соловьиный сад». Она будет опуб-
ликована 25 декабря в газете «Русское сло-
во», второй раз — 28 ноября 1917 года в
«Воле народа». Но замечена будет лишь
после того, как выйдет отдельной книжкой
в июле 1918 года. К тому времени шедевр
Блока будет настолько неизвестен, что «Со-
ловьиный сад» примут за новое произведе-
ние, преодолевшее поэму «Двенадцать».
«Соловьиный сад» — тайный рассказ о
своем поэтическом пути. Сюжет поэмы за-
ставляет вспомнить легенды, в которых
земной герой попадает в мир небожителей.
Человек, знавший настоящую жизнь, изну-
рительный труд:
Я ломаю слоистые скалы
В час отлива на илистом дне,
И таскает осел мой усталый
Их куски на мохнатой спине... —
оказывается в зачарованном месте, в саду,
где его ждут соловьи, розы, любовь. Сюда
не доходят земные тревоги, жизнь в вол-
шебном саду не знает забот и печалей,
кажется, что и само время здесь останови-
лось. И все же что-то томит героя, до него
долетает дальний крик осла. Он вспоминает
о прежней жизни, покидает соловьиный
сад. Но прошлое ушло безвозвратно:
Где же дом? — И скользящей ногою
Спотыкаюсь о брошенный лом,
Тяжкий, ржавый, под черной скалою
Затянувшийся мокрым песком...
Место же героя — занято другим:
А с тропинки, протоптанной мною,
Там, где хижина прежде была,
Стал спускаться рабочий с киркою,
Погоняя чужого осла.
47
Русские писатели XX века
С первых же строк поэма завораживает
своей музыкой. Нежный, перетекающий из
слова в слово звук «л» (ровный звук волн и
влажный воздух) перебивался стучащими
«ст» и «ск* (звук кирки, бьющей в «слоис-
тые скалы»). Поющие, перекатывающиеся
звуки поэмы напоминали соловьиные тре-
ли, усиливая ощущение магического плена
в соловьином саду. Но герой Блока не мо-
жет уйти от земных тревог навсегда и по-
грузиться в забвение:
Пусть укрыла от дольнего горя
Утонувшая в розах стена, —
Заглушить рокотание моря
Соловьиная песнь не вольна!
И вступившая в пенье тревога
Рокот волн до меня донесла...
Вдруг — виденье: большая дорога
И усталая поступь осла...
Уже XIX век уводил русских поэтов от
обычного человеческого счастья, но еще
оставлял надежду на творческое одиночест-
во, что с предельной точностью выразил
Пушкин:
На свете счастья нет,
Но есть покой и воля...
Начало XX века отняло у человека вся-
кую надежду на покой. На недолгое время
еще оставалась возможность проявить свою
волю — уйти от плена «Соловьиного сада» в
неизбежность. К концу 1910-х и началу
1920-х годов, т. е. к концу жизни, Блок по-
чувствует, что и воли у человека больше
нет, и в стихах «Пушкинскому дому» ска-
жет о «тайной свободе» — последнем при-
станище поэта. Но прежде чем произнести
эти слова, нужно было впустить в свою поэ-
зию и заново пережить трагедию русской
истории.
1916 год проходит в новых попытках
Московского Художественного театра по-
ставить «Розу и Крест». Блок едет в Моск-
ву, участвует в репетициях, но постановка
опять затягивается. Второе издание трех-
томного собрания стихотворений и книги
«Театр», вышедшее весной, разошлось не-
вероятно быстро. Сам же поэт, уставший от
ощущения своей ненужности, полагает, что
писать стихи ему больше не следует, он
«слишком» это умеет. «Надо еще изменить-
ся (или чтобы вокруг изменилось), чтобы
вновь получить возможность преодолевать
материал».
В 1916 году Блок пишет последние стихи
перед новой полосой молчания. Среди них
хрестоматийные: «Превратила все в шутку
сначала...», «Ты твердишь, что я холоден,
замкнут и сух...», «Коршун». Последнее —
одно из самых пронзительных слов о Рос-
сии:
...Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты всё та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней. —
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?
7 июля Блок призван в действующую ар-
мию. Он зачислен табельщиком в инженер-
но-строительную дружину.
Армейская жизнь, простая и «внятная»,
чем-то даже нравится Блоку. Но сами впе-
чатления от войны тягостные. В статью
1918 года «Интеллигенция и революция»
войдут его воспоминания об этом времени:
«Болота, болота, болота; поросшие травой или
занесенные снегом; на западе — унылый немец-
кий прожектор — шарит — из ночи в ночь; в сол-
нечный день появляется немецкий фоккер; он
упрямо летит одной и той же дорожкой; точно в
самом небе можно протоптать и загадить дорож-
ку; вокруг него разбегаются дымки; белые, се-
рые, красноватые (это мы его обстреливаем, по-
чти никогда не попадая; так же, как и немцы —
нас); фоккер стесняется, колеблется, но старается
держаться своей поганой дорожки; иной раз ме-
тодически сбросит бомбу; значит, место, куда он
целит, истыкано на карте десятками рук немец-
ких штабных; бомба упадет иногда — на кладби-
ще, иногда — на стадо скотов, иногда — на стадо
людей; а чаще, конечно, в болото; это — тысячи
народных рублей в болоте.
Люди глазеют на все это, изнывая от скуки,
пропадая от безделья; сюда уже успели перета-
щить всю гнусность довоенных квартир: измены,
картеж, пьянство, ссоры, сплетни.
Европа сошла с ума: цвет человечества, цвет
интеллигенции сидит годами в болоте, сидит с
убеждением (не символ ли это?) на узенькой
48
Александр Александрович Блок
тысячеверстной полоске, которая называется
«фронт»...»
Февральскую революцию Блок принял с
воодушевлением. Получив отпуск, он при-
был в Петроград. В расположение своей
части он больше не вернулся. 8 мая его на-
значают редактором Чрезвычайной следст-
венной комиссии при Временном прави-
тельстве, которая занята расследованием
деятельности царских сановников и мини-
стров. Блок присутствует во время допро-
сов, его записные книжки полнятся харак-
теристиками. Все эти материалы лягут в ос-
нову его большого очерка, написанного
намеренно сухо, «Последние дни импера-
торской власти*. (Впервые под названием
«Последние дни старого режима» эта книга
выйдет в 1919-м.)
Год 1917-й для Блока — начало иной, не-
привычной жизни. Попытка обновить стра-
ну порождает множество комитетов, комис-
сий, совещаний. Блок получает множество
приглашений. После октября 1917 года это
существование во всевозможных объедине-
ниях и организациях станет делом уже
обычным.
Блок предчувствует новый излом исто-
рии. И это ощущение надвигающихся пере-
мен окончательно отдаляет его от бывших
литературных друзей.
Накануне октябрьских событий, пере-
вернувших историю России, известный
эсер Савинков пытается создать антиболь-
шевистскую газету. Питерская литератур-
ная интеллигенция готова ее поддержать.
Зинаида Гиппиус зовет видных писателей
прийти на первое собрание. Когда она с тем
же обратилась к Блоку, сначала услышала
паузу. Затем: «Нет. Я, должно быть, не
приду... Я в такой газете не могу участво-
вать...»
Она обескуражена. Задает вопрос, кото-
рый ей самой кажется нелепым: «Уж вы,
пожалуй, не с большевиками ли?»
И прямодушный Блок отвечает открыто
и честно: «Да, если хотите, я скорее с боль-
шевиками*.
Когда в начале ноября новые хозяева
России созовут в Смольном представителей
литературно-художественной интеллиген-
ции, готовой сотрудничать с советской
властью, Блок будет одним из первых, кто
откликнется на этот призыв. Он был полон
надежд на великое обновление России.
«НИЧЕГО, КРОМЕ МУЗЫКИ,
НЕ СПАСЕТ*
Январь 1918 года. Петроград. Трамваи
не ходят. Страшный мороз, голод, звуки
стрельбы. В жизни Блока — творческая
вспышка редкой силы.
Новый год он встречает с женой. В запис-
ной книжке записи, в которых голос пред-
чувствия: «Страшный мороз, молодой ме-
сяц справа над Казанским собором. К вече-
ру тревога (что-то готовится)». 3 января
еще одна важная строчка: «К вечеру — ура-
ган (неизменный спутник переворотов)*.
Этот «ураганный» вечер прошел в разгово-
ре с Есениным. Тот читает строки из «Ино-
нии», свой отклик на революционное вре-
мя. Звучат страшные слова:
...Тело, Христово тело
Выплевываю изо рта.
Для людей старшего поколения — чудо-
вищные, кощунственные строки.
Есенин раскрывает Блоку их настоящий
смысл: он «выплевывает Причастие» не из
кощунства, но оттого, что не хочет страда-
ния, смирения, сораспятия. Блок, узнав,
что Есенин из крестьян-старообрядцев, го-
тов видеть в его стихах и ненависть старооб-
рядца к православию. Не из этого ли разго-
вора родится в поэме «Двенадцать» образ
попа? «Помнишь, как бывало брюхом шел
вперед...»
Есенин чувствует в себе голос новой пу-
гачевщины: время смирения для мужика
прошло. Блок готов принять возмездие. Но
крестьянский поэт иначе ощущает отноше-
ние народа к интеллигенции: интеллигент
мается «как птица в клетке; к нему протя-
гивается рука здоровая, жилистая (народ);
он бьется, кричит от страха. А его возь-
мут... и выпустят...» Есенин взмахнул ру-
кой, будто выпускает птицу. Не этот ли
жест, увиденный сквозь зарево «мирового
49
Русские писатели XX века
пожара», скоро отзовется зловещей приго-
воркой в поэме: «Ты лети, буржуй, воро-
бышком...»
Разговор с Есениным лишь подлил масла
в огонь. Свое ощущение настоящей минуты
Блоку поначалу легче выразить языком
статьи.
Он ее начал еще 30 декабря. Тема вына-
шивалась давно, к ней Блок был готов под-
ступить и раньше. 13 июля 1917-го он занес
в записную книжку:
«Буржуем называется всякий, кто нако-
пил какие бы то ни было ценности, хотя бы
и духовные. Накопление духовных ценнос-
тей предполагает предшествующее ему на-
копление матерьяльных».
Когда мы встретим в «Двенадцати» об-
раз: «Стоит буржуй на перекрестке, и в во-
ротник упрятал нос...» — в нем различим и
♦ писатель-вития», интеллигент, всю жизнь
копивший «духовные ценности».
Статья рождается за полторы недели.
Рукой поэта водит чувство: старый мир, ко-
торый он сам и многие ему подобные носят
в себе, немощен, дни его сочтены. В дневни-
ке Блок ищет нужные слова, чтобы выра-
зить свое чувство судеб русской интелли-
генции. Образ мужика, «жилистой рукой»
выпускающего интеллигента из клетки,
стоит перед мысленным взором, когда Блок
говорит о своем сословии:
«Любимое занятие интеллигенции —
выражать протесты: займут театр, закроют
газету, разрушат церковь — протест. Вер-
ный признак малокровия: значит, не осо-
бенно любили свою газету и свою церковь»
(запись в дневнике).
Потому столь чужда ему идея защиты
Учредительного собрания (его разгонят на
следующий день, 6 января):
«Втемную выбираем, не понимаем. И по-
чему другой может за меня быть? Я один за
себя. Ложь выборная (не говоря о подкупах
на выборах, которыми прогремели все их
американцы и французы)*, — рядом с обра-
зом интеллигента-«буржуя» растет тема
«Россия и Европа» — главный мотив стихо-
творения «Скифы».
Под пером Блока рождается статья «Ин-
теллигенция и революция». Стихия, даже
принося разрушение, животворит. В ней не
только сила, в ней — очищающее гряду-
щее. И Блок поет гимн темной, жестокой
народной стихии, которая родит новых лю-
дей: «...они могут в будущем сказать такие
слова, каких давно не говорила наша уста-
лая несвежая и книжная литература*.
Интеллигенция разочарована в народе,
годами разжигала костер, а когда пламя
взвилось — стала кричать: «Ах, ах, сго-
рим!» Но художник обязан слушать миро-
вую «музыку», и отсюда — призыв поэта:
«Всем телом, всем сердцем, всем сознани-
ем — слушайте Революцию».
Блок готов принять гибель ради того,
чтобы дряхлый мир сгорел как птица Фе-
никс, а из его пепла возник новый мир. Си-
юминутные чаяния интеллигенции ему со-
вершенно чужды, она лишена способности
слышать музыку исторических изломов.
Его собственный «неземной» слух достига-
ет предельной остроты. О своих ощущениях
в новый, 1918 год запишет: «На днях, лежа
в темноте с открытыми глазами, слышал
гул: думал, что началось землетрясение».
Стихийный поворот истории, услышан-
ный Блоком, напоминает ему другой, сход-
ный, почти двухтысячелетней давности, за-
печатленный в Евангелии. 7 января прихо-
дит замысел пьесы об Иисусе. Он возник в
родственном круге идей темы «интеллиген-
ция и народ»:«Иисус — художник. Он все
получает от народа (женственная воспри-
имчивость). «Апостол» брякнет, а Иисус
разовьет. Нагорная проповедь — митинг».
Приметы времени ложатся неожидан-
ным отпечатком и на образы действующих
лиц: «У Иуды — лоб, нос и перья бороды,
как у Троцкого».
Все нити сошлись воедино: Россия нахо-
дится на историческом изломе, который
определит будущее всего мира. Все образы
и приметы нынешней минуты — «поп»,
«писатель», «буржуй», «жилистая рука»
народа, плакат «Вся власть Учредительно-
му собранию* — зазвучали в единой, стран,
ной, нечеловеческой мелодии. 8 января
звуковой напор, столь долго и мучительно
водивший его чувствами и мыслями, вы-;
плескивается в строки:
50
Александр Александрович Блок
Уж я ножичком —
полосну, полосну.
Поэма «Двенадцать» начинает писаться
с середины.
9 января Блок закончил статью «Интел-
лигенция и революция». С 8 по 28января
несколькими рывками создает поэму «Две-
надцать». За один рывок она не могла быть
написанной, живая музыка захлебнулась в
истории: настоящее было слишком неус-
тойчиво. В паузах между поэтическими
взрывами крепнет еще одна тема.
11 января прерваны переговоры в
Брест-Литовске. Германские войска начи-
нают наступление. Блок все отчетливее
ощущает свою ненависть к нынешней Евро-
пе: «Тычь, тычь в карту, рвань немецкая,
подлый буржуй. Артачься, Англия и Фран-
ция. Мы свою историческую миссию вы-
полним». Через несколько строк в дневни-
ковых записях — прообраз стихотворения
«Скифы»:
«Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у
вас было лицо. А на морду вашу мы взглянем на-
шим косящим, лукавым, быстрым взглядом; мы
скинемся азиатами, и на вас прольется Восток.
Ваши шкуры пойдут на китайские тамбури-
ны. Опозоривший себя, как изолгавшийся, —
уже не ариец.
Мы — варвары? Хорошо же. Мы и покажем
вам, что такое варвары. И наш жестокий ответ,
страшный ответ — будет единственно достойным
человека».
19 января в газете «Знамя труда» появля-
ется статья «Интеллигенция и революция».
Многие знакомые и некогда духовно близ-
кие люди отворачиваются от Блока. Мереж-
ковские признают: статья искренняя. Но
простить Блоку его жестокой правды не мо-
гут. Он в записной книжке не может удер-
жаться от ответа: «Господа, вы никогда не
знали России и никогда ее не любили!»
Поэма пока не движется. Он участвует в
работе комиссии по изданию русских клас-
сиков. Встает вопрос о новой орфографии,
без буквы «ять», без *i», без твердого знака
на конце слов, разработанной еще при Вре-
менном правительстве. Блок не возражает
против нового правописания, но не может
освободиться от сомнений: опасается «за
объективную потерю кое-чего для худож-
ника, а следовательно, и для народа*. Рус-
скую классику XIX века он предпочел бы
видеть в старой орфографии. Новые писате-
ли пусть черпают свою творческую энергию
в новом правописании.
События следуют одно за другим: цер-
ковь отделяют от государства, выходит дек-
рет о новом календаре — 1 февраля сразу
станет 14-м. Блок хочет писать свое, про-
должить пьесу об Иисусе. Вместо этого
27 января снова звучит ритм «Двенадца-
ти». 29-го он записывает свое впечатление
от созданного: «Сегодня я — гений». 30-го
пишет стихотворение «Скифы». Все, о чем
думалось многие годы и что было пережито
в январе, вылилось в два поэтических про-
изведения. Первое — вихревое, рваное, за-
вораживающее своей метельной музыкой.
Второе — гневная риторика, доведенная до
четких историософских формул. Через не-
сколько лет в эмиграции возникнет течение
евразийцев. Они унаследуют от славянофи-
лов чувство органического развития наро-
да. Но «органику» России увидят иначе: не
славянство, но — Евразия, огромный кон-
тинент, огромная мозаика народов с общей
судьбой и родственной психологией.
Статьей «Интеллигенция и революция»
Блок открыл последний поэтический взлет,
«Скифами» закрыл. Главное последнее ве-
ликое поэтическое создание Блока — поэма
«Двенадцать*.
Наиболее чуткие современники, даже да-
лекие от блоковских идей, поражены заво-
раживающим ритмом и словесной точно-
стью поэта. Налицо были все приметы вре-
мени: и снежная метель, и плакат, и
типажи: старушка, проститутки, буржуй,
красноармейцы, приблудный пес... Даже
реплики: «Предатели! Погибла Россия!» —
«Эй, бедняга! Подходи — поцелуемся...» —
«Уж я ножичком полосну...» — словно вы-
ступили из январской метели 1918 года.
Но и в столь «реалистической» поэме
Блок оставался самим собой. Осколочные
записи в черновике частично раскрывают
символику названия: «Двенадцать (чело-
век и стихотворений)... И был с разбойни-
ком. Жило двенадцать разбойников*. (По-
51
Русские писатели XX века
следняя строка — искаженная цитата из
некрасовской поэмы «Кому на Руси жить
хорошо», баллада о разбойнике Кудеяре.)
Символ «Двенадцать» пытались истол-
ковать, сравнивая поэму и евангельскую
историю. Двенадцать красноармейцев —
двенадцать апостолов. Сопоставление на-
прашивается само собой и потому, что впе-
реди блоковских «апостолов-разбойников»
неясный силуэт Христа, и потому, что име-
на красноармейцев (Петруха, Андрюха,
Ванька) повторяли имена апостольские
(Петр, Андрей, Иоанн). Невоплощенный за-
мысел пьесы об Иисусе целиком впитала в
себя поэма.
Но символ не может иметь однозначного
толкования. Почему бы и не «двенадцатый
час двенадцатого месяца», т. е. канун ново-
го года, символ нарождающегося нового
мира? Символ — не столько ответ, сколько
вопрос, обращенный в будущее. В нем жи-
вет предвидение.
Позже исследователи пересчитают и ко-
личество стихов в поэме. Их окажется
335... если не считать еще один, маркиро-
ванный стих. Эта строка из точек стоит в се-
редине 6-й главки, разрезая ее пополам. Са-
мим положением Блок подчеркнул ее не-
случайность: 336 стихов — это еще одна
«проекция» главного символа поэмы
(3 + 3 + 6= 12).
«Музыка», которая «кристаллизова-
лась» в этом символе, родила не только
«Двенадцать». Ее звучание ощутимо во
всех поздних статьях Блока, от «Интелли-
генции и революции» до «Крушения гума-
низма». Гул, услышанный им накануне
«Двенадцати», прокатился по всей его про-
зе 1918—1921 годов, вплоть до рецензий и
заметок. С 1918 года окончательно и беспо-
воротно Блок ощущает свое место и в жиз-
ни, и в истории только по слуху.
Некогда Блок точно определил свой
путь: «трилогия вочеловечения». Ранние
стихи часто туманны и возвышенны. По-
здние порой удивительно реалистичны.
И вместе с тем все равно возвышенны.
И по-прежнему светятся символами.
Поэт менялся... И если Блок периода
«Прекрасной Дамы» в большей степени ви-
дящий («Вижу очи Твои»), то позже, когда
«душа Мира» словно решилась покинуть
«тело мира», оставив его на произвол мел-
ких людских (или дьявольских?) страстей,
он все больше и больше превращается в
слышащего. Чтобы разглядеть Христа в
конце «Двенадцати», ему приходится вгля-
дываться в столбы метели, как близоруко-
му в расплывчатый текст. Все чаще в его
статьях, записных книжках, дневниках по-
является слово «музыка».
Давно, еще в 1903 году, в только что на-
чатой переписке с Андреем Белым, когда
Блок еще «зряч», его больше волнует во-
прос, как понимать этот термин, уже расхо-
жий в символистской среде:
«Я до отчаянья ничего не понимаю в музыке,
от природы лишен всякого признака музыкаль-
ного слуха, так что не могу говорить о музыке как
искусстве ни с какой стороны... По всему этому я
буду писать Вам о том, о чем мне писать необхо-
димо, не с точки зрения музыки-искусства, а с
точки зрения интуитивной, от голоса музыки,
поющего внутри...»
В декабре 1906 года Блок знакомится с
первоисточником многих идей русского сим-
волизма — книгой Ницше «Происхождение
трагедии из духа музыки». В 1909-м — сло-
во и усвоено, и «природнено», звучит не
по-ницшеански, а по-блоковски, но пока
только касается «души писателя»:
«Неустанное напряжение внутреннего слуха,
прислушиванье как бы к отдаленной музыке есть
непременное условие писательского бытия. Толь-
ко слыша музыку отдаленного «оркестра» (кото-
рый и есть «мировой оркестр» души народной),
можно позволить себе легкую «игру»...»
В статьях последних лет музыка —
сквозной образ-понятие-символ блоковско-
го мира вообще. В этом слове концентриру-
ется главное Слово Блока. Поэт и в прозе
своей в первую очередь художник и прови-
дец. Он не утверждает, а заклинает, не
«приходит к выводам», а пророчествует:
♦ Художнику надлежит знать, что той России,
которая была, — нет и никогда уже не будет. Ев-
ропы, которая была, нет и не будет. То и другое
явится, может быть, в удесятеренном ужасе, так
52
Александр Александрович Блок
что жить станет нестерпимо. Но того рода ужаса,
который был, уже не будет».
Это сказано 13 мая 1918 года. Тон прори-
цателя, и тон неподдельный: Блок всегда
был предельно честен в каждом своем слове.
Ополчаясь против попыток «гальванизиро-
вать труп» — не таким же ли образом, как в
стихах («О, если б знали, дети, вы холод и
мрак грядущих дней»), он указал на ожи-
даемое и уже узнаваемое нами будущее —
♦явится... в удесятеренном ужасе», «жить
станет нестерпимо». По мнению многих,
близко знавших Блока людей, он и умрет
потому, что в 1921 году жить ему станет не-
стерпимо.
Музыка Блока — не просто заимствова-
ние из Ницше. В этом слове можно расслы-
шать и соловьевское «всеединство». Бло-
ковское противопоставление культуры и
цивилизации (статья 1920 года «Крушение
гуманизма») — это как раз противопостав-
ление организма (культуры) механизму
(цивилизации). Культура пронизана еди-
ным духом, она целостна. Цивилизация ку-
сочна, механистична. Одно к другому здесь
подогнано, как одна часть машины к дру-
гой. Блок — за синтетическое вйдение ми-
ра, за универсализм (против всякой чрез-
мерной специализации, в которой не живет
«дух целого»). Потому с таким раздражени-
ем и обрушится он в 1921-м на акмеистов
(статья «Без Божества, без вдохновенья»).
За стремлением Гумилева учить начинаю-
щих «слагать стихи» Блок увидит опасные
симптомы узкой специализации, т. е. нечто
безмузыкальное.
«Блок не рассуждал о Вечной Женствен-
ности: он жил ею», — писал о ранней лири-
ке поэта его биограф Константин Мочуль-
ский. И теперь, в поздних статьях, Блок во-
все не теоретизирует, а просто высказывает
то, что ощущается им непосредственно. Му-
зыка становится его дыханием (к концу
жизни он будет задыхаться и произнесет ве-
щие слова: Пушкина «убило отсутствие
воздуха»).
Особый, мистический историзм Блока
проснулся в нем до основных потрясений
двадцатого века. В октябре 1911 года, пол-
ный предчувствий, он записывает в дневни-
ке: «Писать дневник, или по крайней мере
делать от времени до времени заметки о са-
мом существенном, надо всем нам. Весьма
вероятно, что наше время — великое и что
именно мы стоим в центре жизни, т. е. в
том месте, где сходятся все духовные нити,
куда доходят все звуки».
Как часто эти слова читались с усмеш-
кой: «в центре жизни»? а не в центре ли не-
большой кучки интеллигентской элиты?
Но великий поэт всегда выходит за рамки
своего окружения, как выходит и за грань
своего времени. Он чувствует и глубже, и
дальше современников, а иногда и потом-
ков. Блок чувствовал себя, Россию, весь
мир как целое, как единый организм, сам
он был нервом, «чувствилищем» этого це-
лого. И конечно, как великий поэт, он на-
ходился в центре жизни. От поэзии и прозы
Блока исходит предчувствие российских и
мировых катастроф, которые к концу XX
века уже во многом осуществились, пронес-
лись над землей, перекорежили жизнь.
6-я главка поэмы «Двенадцать». Марки-
рованный стих делит шестую главку попо-
лам, вторгаясь в центральную строфу:
Трах-тарарах! Ты будешь знать
Как с девочкой чужой гулять!..
Крепкое выражение (с возможной риф-
мой на «мать»)? Или резкая пауза? Или
чуткое ухо поэта вслушивается в Музыку, в
то невыразимое, которое только и можно
записать рядом точек, доведя контрасты
«Двенадцати» до крайнего предела, совмес-
тив в трех строчках символ «горнего ве-
личья» и площадную брань? Или поэт и чи-
тателя заставляет вслушиваться, превра-
щая свою поэзию в камертон, по которому и
другие могут настроить духовный лад свое-
го «я», чтобы уловить — пусть только кра-
ем души — музыку мира, чтобы не сфаль-
шивить, чтобы почувствовать мир в его
цельности?
В январе 1918 года Блок перешагнул
черту, окончательно отделившую его от
прежних друзей. Сходный шаг сделает и
Андрей Белый в поэме «Христос воскрес».
Русские писатели XX века
Многие из прежде близких Блоку людей
отвернулись от поэта, осуждая его пози-
цию. В 1920 году в «Записке о «Двенадца-
ти» Блок ответит всем, кто видел в поэме
одну политику:
«...в январе 1918 года я в последний раз отдал-
ся стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в
марте 1914. Оттого я и не отрекаюсь от написан-
ного тогда, что оно было написано в согласии со
стихией: например, во время и после окончания
«Двенадцати» я несколько дней ощущал физиче-
ски, слухом, большой шум вокруг — шум слитый
(вероятно, шум от крушения старого мира). По-
этому те, кто видит в «Двенадцати» политические
стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по
уши в политической грязи, или одержимы боль-
шой злобой — будь они враги или друзья моей
поэмы».
Революционную стихию 1918 года он
ставит в один ряд со стихией страсти.
В 1907 году она воплотилась для него в об-
разе «Снежной маски», в 1914-м — в образе
«Кармен». «Двенадцать» для Блока стоит в
этом же ряду. За этой последней лириче-
ской волной наступило долгое затишье.
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Блок последних лет жизни. Он исправно
исполняет многочисленные обязанности:
входит в правительственную комиссию по
изданию классиков, в репертуарную сек-
цию Петроградского отдела Наркомпроса,
работает в издательстве «Всемирная лите-
ратура», учрежденном М. Горьким: перево-
дит, редактирует, делает доклады. Его на-
значают председателем управления Боль-
шого драматического театра, членом
редколлегии «Исторических картин* при
Петроградском Отделе театров и зрелищ,
членом коллегии московского Литератур-
ного отдела Наркомпроса. Он избирается
членом совета Дома искусств, председате-
лем Петроградского отделения Всероссий-
ского союза поэтов (в феврале 1921 года
энергичный Гумилев сменит его на этом
посту), членом правления Петроградского
отделения Всероссийского союза писате-
лей. Вместе с тем выступает с чтением сти-
хов и лекциями, готовит новое издание
трехтомного собрания стихотворений. В
1918 году рождается идея издать «Стихи о
Прекрасной Даме» с прозаическим коммен-
тарием: в дневнике тогда же появляются
отрывистые воспоминания о мистических
годах своей молодости. Выходят сборники
«Ямбы» (1919), «Седое утро» (1920), книга
заново переписанной юношеской лирики
«За гранью прошлых дней» (1920).
У Блока больше нет биографии, разве
что отдельные вехи жизни: арест вместе с
другими литераторами Петроградской ЧК и
два дня в камере предварительного заклю-
чения 15—17 февраля 1919 года, смерть от-
чима в январе 1920-го, две поездки в Моск-
ву (май 1920 и май 1921), где он выступает
с чтением стихов, несколько поэтических
вечеров и публичных докладов в Петрогра-
де. Он почти молчит как поэт, пишет мно-
жество рецензий то размером со статью, то
в несколько строчек, и в них гул гибельно-
го, жесткого времени. Под его пером рож-
даются, быть может, самые знаменитые
статьи: «Искусство и Революция» (1918),
«Русские дэнди» (1918), «Катилина»
(1918), «Крушение гуманизма» (1919),
«Владимир Соловьев и наши дни* (1920),
«О назначении поэта» (1921). И в этом поэ-
тическом молчании, и в крайнем одиноче-
стве (большинство прежних товарищей по
литературному цеху, возмущенные его
«Двенадцатью», не подают поэту руки), и в
статьях, в его жизни «без биографии» от-
четливо слышны шаги судьбы.
«Бедный Александр Александрович, — вспо-
минал 1921 год Алексей Ремизов, — вы дали мне
папиросу настоящую! пальцы уж у вас были пере-
вязаны. И еще вы тогда сказали; что писать вы не
можете. — В таком гнете невозможно писать».
Пушкинская речь, произнесенная Бло-
ком в феврале 1921 года (дважды на вечере
в Доме литераторов и в третий раз — в Пет-
роградском университете), названная им «О
назначении поэта», подвела черту его твор-
ческому пути.
На свете счастья нет.
Но есть покой и воля...
54
Александр Александрович Блок
Эти слова Пушкина уже с трудом подхо-
дили к жизни поэта в XX веке. В стихах
Блока 1908 года («На поле Куликовом»)
сказано иное: «покой нам только снится».
Но еще жива воля: «И вечный бой!..» Год
1921-й — «в таком гнете невозможно пи-
сать».
«Речь Блока, равная по значению знаме-
нитой речи Достоевского о Пушкине, —
вспоминал поэт Николай Оцуп, — произве-
ла на современников впечатление огром-
ное. Она была как бы комментарием или
поправкой к «Двенадцати»...»
«Красота спасет мир», — пророчествовал
Достоевский. «Ничего, кроме музыки, не
спасет», — заклинал Блок. Но музыка
ушла из воздуха новой России, потому что
новое варварство подчинилось не музыке
истории, но бюрократической машине.
В своей пушкинской речи («О назначении
поэта») Блок выговорил все до конца:
«...Уже на глазах Пушкина место родовой
знати быстро занимала бюрократия. Это чи-
новники и суть — наша чернь; чернь вче-
рашнего и сегодняшнего дня...»
Вся речь — гимн «тайной свободе», без
которой невозможно творчество, невозмож-
на жизнь. В прощальном стихотворении
♦ Пушкинскому Дому», написанному в это
же время, те же слова и последняя молитва
Блока:
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!
После этого литературного завещания
Блок медленно уходит из жизни. Борис
Зайцев вспоминал приезд поэта в мае
1921 года в Москву:
«Что осталось в нем от прежнего пажа и юно-
ши, поэта с отложным воротничком и белой ше-
ей! Лицо землистое, стеклянные глаза, резко
очерченные скулы, острый нос, тяжелая походка
и нескладная, угластая фигура. Он зашел в угол
и, полузакрыв усталые глаза, начал читать. Сби-
вался, путал иногда. Но «Скифов» прочел хоро-
шо, с мрачной силой...» Когда же 7 мая Блок вы-
ступал в коммунистическом Доме печати, «футу-
ристы и имажинисты прямо кричали ему: —
Мертвец! Мертвец!»
О том же приезде Блока вспоминал и
Эрих Голлербах:
«В Москве настроение Блока было особенно
безотрадное. Все яснее в нем обозначалась воля к
смерти, все слабее становилась воля к жизни. Раз
он спросил у Чулкова: «Георгий Иванович, Вы
хотели бы умереть?» Чулков ответил не то «нет»,
не то «не знаю». Блок сказал: «А я очень хочу».
Это «хочу» было в нем так сильно, что люди,
близко наблюдавшие поэта в последние месяцы
его жизни, утверждают, что Блок умер оттого,
что хотел умереть».
По возвращении в Петроград резко обо-
стряется болезнь Блока. Родные и друзья
начинают хлопотать о том, чтобы вывезти
поэта на лечение за границу. Но судьба его
была предрешена...
В день первой встречи с Блоком юная
поэтесса Елизавета Кузьмина-Караваева
(позже, в эмиграции, знаменитая монахиня
Мария) высказала Блоку то, что чувствова-
ла не только она: «Перед гибелью, перед
смертью, Россия сосредоточила на вас все
свои самые страшные лучи, — и вы за нее,
во имя ее, как бы образом ее сгораете».
Многие современники Блока ощущали
то же: он — жертва, которая должна быть
принесена. Спустя десятилетия Георгий
Адамович в статье «Наследие Блока»
вспомнит об этих чувствах:
♦ Блок казался жертвой, которую приносила
Россия. Зачем? Никто не знал. Кому? Ответить
никто не был в состоянии. Но что Блок был луч-
шим сыном России, что, если жертва нужна, вы-
бор судьбы должен был пасть именно на него —
насчет этого не было сомнений в тот вечнопамят-
ный январский день, когда он в ледяном зале пе-
тербургского Дома литераторов на Бассейной,
бледный, больной, весь какой-то уже окаменелый
и померкший, еле разжимая челюсти, читал свою
пушкинскую речь».
Путь Блока — жертвенный путь. Он
единственный воплотил в жизни идею «бо-
гочеловечества», художника, отданного на
заклание. Но он пришел в мир тогда, когда
жертва не может стать для остальных ис-
куплением, она может быть лишь свиде-
55
Русские писатели XX века
тельством грядущих катастроф. Блок это
чувствовал, он понимал, что его жертва не
будет востребована, но предпочел гибель
«вместе со всеми» спасению в одиночестве.
Он умирал вместе с Россией, его родившей,
его вскормившей. И как некогда потрясен-
ный смертью отца, Блок писал матери о
нем: «Я думаю, он находится уже давно на
той ступени духовного развития, на кото-
рой доступно отдалять и приближать
смерть», — так теперь те же слова он мог
бы сказать о самом себе. Быть может, всего
точнее о том событии, которое произошло
7 августа 1921 года в 10 часов 30 минут,
сказал Эрих Голлербах: «Блок умер оттого,
что хотел умереть», или Владислав Ходасе-
вич: «Он умер оттого, что был болен весь,
оттого, что не мог больше жить. Он умер от
смерти».
10 августа Блока хоронили. Гроб был
усыпан цветами. Покойного трудно было
узнать: короткая стрижка, отросшая щети-
на, исхудалое, пожелтевшее лицо, укруп-
нившийся нос. До Смоленского кладбища
гроб несли на руках. За ним двигалась ог-
ромная толпа. Речей на могиле не произно-
сили: Блок и после смерти не терпел фаль-
ши. На могиле поставили крест, положили
венки... В сентябре 1944 года его прах пере-
несут на Литераторские мостки Волкова
кладбища.
Вместе с Блоком ушла в прошлое вели-
кая и оплаканная им Россия. Наступала по-
ра России иной — России советской. Иног-
да о Блоке говорят: он не был поэтом
XX века, он был поэтом, завершившим зо-
лотой XIX век русской литературы. И тогда
еще более веско и точно, не принижая ни-
кого из великих русских поэтов, звучат
слова, случайно оброненные Владиславом
Ходасевичем: «Был Пушкин и был Блок.
Все остальное — между».
Л. В. Ершова
Иван Алексеевич
Бунин
(1870—1953)
«РОС Я В ВЕЛИКОЙ ГЛУШИ»
Иван Алексеевич Бунин родился 22 ок-
тября 1870 года в Воронеже. Он происхо-
дил из знатного, но обедневшего дворянско-
го рода. В древних рукописях первое упо-
минание о предках Бунина относится к
XV веку, когда Симеон Бунковский, выхо-
дец из Литвы, поступил на военную службу
к московскому князю. В эпоху Петра I
предки писателя были награждены за вер-
ную службу поместьями. Леонтий Бунин и
его сын Петр были знаменитыми гравера-
ми, талантливыми и творческими людьми.
Для мировосприятия Бунина древность
его дворянского рода имела особое значе-
ние. Не случайно в «Автобиографической
заметке» он подчеркивает роль аристокра-
тически ориентированных основ русской
духовной культуры, оказавших первосте-
пенное влияние на его воспитание, на осоз-
нание им своего места в цепочке поколений
семьи Буниных. Он пишет о том, что род
Буниных дал русской культуре «...поэтессу
А. П. Бунину и поэта В. А. Жуковского...
Многие Бунины служили воеводами и в
иных чинах и владели деревнями. Все сие
доказывается бумагами Воронежского дво-
рянского депутатского собрания о внесении
рода Буниных в родословную книгу в VI
часть, в число древнего дворянства...»
Специально подчеркивает Бунин в своих
воспоминаниях и географическое положе-
ние усадеб предков: это Орловская, Тамбов-
ская и Воронежская губернии. Эти районы
Центральной России связаны с именами
классиков золотого века русской культуры.
в первую очередь с именем И. С. Тургенева.
Тургеневская Орловщина с ее усадьбами и
деревнями, красотой родных пейзажей и
сменой времен года, страстью к охоте в ле-
сах и полях, характерными особенностями
жизни дворян и крестьянства стала неотъ-
емлемым компонентом миросозерцания пи-
сателя.
К началу XX столетия семья Буниных
обеднела и жила «с полным пренебрежени-
ем к сохранению свидетельств о родовых
связях*. Дед писателя Николай Дмитри-
евич был человеком незаурядным, некото-
рые его черты Бунин придал персонажам
повести «Суходол» и рассказа «Граммати-
ка любви». Отец Бунина Алексей Никола-
евич в молодости служил, потом участвовал
в Крымской войне, где познакомился с
Л. Н. Толстым. Выйдя в отставку, он посе-
лился в имении и вел спокойную, беззабот-
ную жизнь, тратя семейное состояние и по-
степенно все больше разоряясь. Об отце Бу-
нин писал в «Жизни Арсеньева», что это
был человек удивительный, «соединявший
в себе редкую душевную прямоту и душев-
ную сокровенность, наружную простоту ха-
рактера и внутреннюю сложность его, трез-
вую зоркость глаза и певучую романтич-
ность сердца».
Мать Бунина Людмила Александровна,
урожденная Чубарова, также была поме-
щицей. Она была доброй, нежной, религи-
озной женщиной, посвятившей жизнь забо-
те о детях. В семье Алексея Николаевича и
Людмилы Александровны было девять де-
тей, но пятеро из них умерли в раннем воз-
расте.
57
Русские писатели XX века
Иван Алексеевич Бунин провел детство
на хуторе Бутырки Елецкого уезда Орлов-
ской губернии. Впечатления об этом време-
ни отразились в ранних произведениях пи-
сателя, где мир русской усадьбы присутст-
вует не только в качестве пейзажного фона,
но и полон реминисценций, образы ориен-
тированы на традиции золотого века рус-
ской усадебной культуры. Так, в стихотво-
рении «В степи» ощутимы лермонтовские и
тургеневские мотивы: неброская красота
русской природы, лирическая грусть ее
осеннего увядания и разлуки с родиной.
Осенний полет журавлей, который наблю-
дает герой стихотворения, рождает в его ду-
ше щемящую грусть прощания с уходящим
летом и предчувствие долгой, холодной и
темной зимы.
Здесь грустно. Ждем мы сумрачной поры,
Когда в степи седой туман ночует.
Когда во мгле рассвет едва белеет
И лишь бугры чернеют сквозь туман.
Но я люблю, кочующие птицы.
Родные степи. Бедные селенья —
Моя отчизна; я вернулся к ней.
Усталый от страданий одиноких,
И понял красоту в ее печали
И счастие — в печальной красоте.
Наряду с лермонтовско-тургеневскими
мотивами тоски, одиночества, странничест-
ва и любви к этим «бедным селеньям» в
данном стихотворении просматривается и
индивидуальный стиль Бунина, который
разовьется затем как в более поздней лири-
ке, так и в прозе. Детали пейзажа в высшей
степени эмоционально значимы, цветовая
палитра описания точна и экспрессивна, а
словесная инструментовка стиха отточена
до мелодичности (обратим внимание на
контрастную цветовую гамму при описании
тумана, на повторы слов, выражающих
противоречивость чувств лирического ге-
роя: рассвет белеет — бугры чернеют, се-
дой туман; красота в печали — печальная
красота — счастие).
Как видим из данного стихотворения,
бунинскому мировосприятию свойственна
такая характерная черта, как слитность,
неразрывность двух, казалось бы, проти-
воречащих друг другу чувств: печали, грус-
ти — и счастья, причем счастье дается чело-
веку только благодаря его любви к родине,
России. Ее «бедные селенья», сумрак и пе-
чаль ее полей — это и воспоминания ли-
рического героя во время его «скитаний
одиноких», и неотъемлемая часть патри-
отического чувства писателя. Позже, в вос-
поминаниях, Бунин писал: «...в глубочай-
шей полевой тишине, летом среди хлебов,
подступавших к самым нашим порогам, а
зимой среди сугробов, и прошло мое детст-
во, полное поэзии печальной и своеобраз-
ной».
Начальное образование Бунин получил
дома, его гувернером был студент Москов-
ского университета Н. Ромашков, человек
независимый, яркий, талантливый, про-
явивший недюжинные способности в лите-
ратуре, живописи, музыке. Он оказал боль-
шое влияние на формирование духовных
интересов своего воспитанника, вместе они
много читали долгими зимними вечерами в
усадьбе, обсуждали прочитанное, особенно
увлекались поэзией. Позже Иван Алексе-
евич вспоминал, что именно в то время у
него возникло желание самому писать сти-
хи.
В 1881—1886 годах Бунин учился в
Елецкой гимназии, но не закончил ее.
В Ельце он был вынужден жить в чужих до-
мах, где родители снимали для него комна-
ту, и очень тосковал по дому и семье. Его
мало увлекала казенная гимназическая
программа, формализм преподавания по-
давлял его интересы. Очень трудно дава-
лась ему математика. Такое учение через
несколько лет закончилось нервной бо-
лезнью, и в дальнейшем он проходил гим-
назическую программу дома, в имении
Озерки, под руководством старшего брата
Юлия Алексеевича. Братья выписывали не-
сколько литературных журналов, много
читали и спорили о прочитанном. В эти го-
ды Бунин уже посылал в столичные журна-
лы стихи, статьи и рассказы.
Брат Юлий Алексеевич был для писате-
ля самым духовно близким человеком в
семье, с ним Бунин переписывался в тече-
ние всей жизни, ему поверял свои мысли,
58
Иван Алексеевич Бунин
чувства, сомнения и переживания. Юлий
был народовольцем, человеком революци-
онных убеждений, в фамильном имении он
жил в те годы потому, что сидел в тюрьме и
недавно вышел из нее под надзор полиции
без права выезда в течение трех лет. Обща-
ясь с младшим братом, он воспитывал в нем
вольнолюбие, независимость суждений, со-
чувствие к простым, обездоленным людям.
ПИСАТЕЛЕМ СТАЛ
«РАНО И НЕЗАМЕТНО»
Бунин впоследствии вспоминал, что пи-
сателем стал «рано и незаметно», в юности
его больше привлекали музыка, живопись
и ваяние. Поначалу он «хотел быть худож-
ником, часами глядел на цветы, на солнеч-
ный свет и тени, на синеву неба». Склон-
ность к живописи, особое художническое
видение окружающего мира, восприятие
красок, цвета, объема помогли впоследст-
вии писателю передать тончайшие впечат-
ления, детали и оттенки пейзажей, воссоз-
данных словом. Склонность к музыке воп-
лотилась в том особом ритме бунинской
прозы, который делает ее поэтичной, звуча-
щей, как прекрасная мелодия, удивляет и
пленяет читателей спустя годы и десятиле-
тия.
В 1889 году Бунин покинул родитель-
ский дом и начал самостоятельную жизнь.
Он отправился в путешествие на юг, на Ук-
раину и в Крым. Там он был потрясен кар-
тинами южной природы, морем, горами,
которые мечтал увидеть с детства. Страсть
к путешествиям владела писателем в тече-
ние всей жизни, он объездил много стран и
континентов, но первая поездка произвела
на него неизгладимое впечатление.
В том же году Бунину предложили
сотрудничать в газете «Орловский вест-
ник». Так он стал помощником редактора
и постоянным автором литературного от-
дела. Он писал рассказы и стихи, передови-
цы и фельетоны, литературно-критические
статьи и заметки по «две копейки за стро-
ку», работал очень напряженно, но его не
оставляла мысль заняться собственным
творчеством. В поисках духовной поддерж-
ки Бунин даже пишет письмо А. Чехову с
просьбой прочитать некоторые его рассказы
и высказать свое мнение о них, пожелания и
советы.
Позже, познакомившись и подружив-
шись с Чеховым и его семьей, Бунин нахо-
дил в общении с ними много счастья и ду-
шевного тепла. Исследователи творчества
писателей часто отмечают влияние Чехова
на бунинское творчество. Бунин напишет
впоследствии воспоминания о Чехове, рас-
скажет об их встречах в Москве и Ялте, о
трогательном внимании Чехова к его жиз-
ни и художественным поискам.
Когда Бунину было двадцать лет, он глу-
боко полюбил дочь елецкого врача Варвару
Владимировну Пащенко. Любовь к ней бы-
ла романтичной и в то же время драматич-
ной, он хотел жениться на Варваре Влади-
мировне, но ее родители были против их
брака, потому что Бунин был беден, не
имел своего дома и постоянной работы. По-
сле многих переживаний, страданий, писем
и объяснений они расстались. История люб-
ви к Варваре Владимировне стала прототи-
пом сюжетов таких бунинских шедевров,
как «Митина любовь» и «Жизнь Арсенье-
ва*.
В 1891 году в Орле вышел первый юно-
шеский сборник Бунина «Стихотворения
1887—1891 гг.», который не принес его ав-
тору больших гонораров. Сложное матери-
альное положение семьи заставляло его
браться за любую работу: он служил в Пол-
таве в земской управе, в Орле в управлении
железной дороги, затем, вернувшись в Пол-
таву, — библиотекарем. Все это время он
продолжал писать.
В 1893—1894 годах Бунин испытал
сильное влияние учения Л. Н. Толстого, по-
сещал колонии толстовцев и мечтал о встре-
че с Толстым, которая состоялась в январе
1894 года и произвела «потрясающее впе-
чатление* на Бунина.
В 1892 году Бунин написал рассказ
«Танька», в котором поведал о жизни бед-
ной крестьянской семьи, страданиях ма-
ленькой девочки, уже испытавшей голод,
холод, лишения, смерть близких людей, не
знавшей радости, но научившейся перено-
59
Русские писатели XX века
сить горе. Сострадание к ребенку, стремле-
ние помочь человеческой беде — основной
пафос этого рассказа. Бунин послал его в
столичный журнал «Русское богатство»,
где его напечатали. Так писатель начал
приобретать известность, вошел в серьез-
ную, большую литературу. На него обрати-
ли внимание литературные критики.
В рассказах Бунина 1890-х годах неред-
ко повествуется об упадке «дворянских
гнезд», их запустении и угасании. Неболь-
шие рассказы («Танька», «На хуторе», «В
поле» и др.) описывают ограниченные во
времени и пространстве события из жизни
одного или двух центральных персонажей.
В них говорится о потомках древнего дво-
рянского рода, одиноко доживающих свой
век в разорившихся, заброшенных поместь-
ях.
Герой такого произведения, как прави-
ло, старик, который вспоминает о прошлом
и подводит итоги жизненного пути (обра-
тим внимание на то, что написаны эти рас-
сказы 22-летним Буниным, т. е. данный
психологический тип явно не отражает воз-
растную психологию писателя). Лейтмоти-
вы прощания, ностальгии о молодости и
былом расцвете обусловлены восприятием
уходящего в прошлое усадебного мира. Глу-
бокий психологический анализ, роль пред-
метной детализации и символики в раскры-
тии душевного состояния персонажей сви-
детельствовали об обращении Бунина к
тургеневской традиции.
Герой, созвучный позднему творчеству
Тургенева, в бунинских произведениях ока-
зывается погруженным в иной, современ-
ный писателю мир окружающей действи-
тельности. Умирание, угасание поместного
образа жизни показаны при помощи кон-
центрации и гиперболизма выразительных
деталей: это интерьер барского дома и окру-
жающие его поля и леса, описание которых
навевает чувства тоски, одиночества, стра-
ха.
«Все постройки на старинный лад — низкие и
длинные. Дом обшит тесом; передний фасад его
глядит во двор только тремя маленькими окна-
ми... соломенная крыша почернела от времени...
Кажется, что усадьба вымерла: никаких призна-
ков человеческого жилья... ни одного следа во
дворе, ни одного звука людской речи! Все забито
снегом, все спит безжизненным сном под напевы
степного ветра, среди зимних полей. Волки бро-
дят по ночам около дома, приходят из лугов по са-
ду к самому балкону».
Картина быта и нравов обитателей усадь-
бы показана Буниным не только насыщен-
ной мрачным, давящим колоритом, но с
горькой иронией, отражающей авторское
отношение к изображаемым владельцам
дворянских гнезд. Их характеры противо-
речивы, в них соединились жестокость и
доброта, уныние и веселье, желание управ-
лять своим имением и неспособность к это-
му. Не случайно героя рассказа «На хуто-
ре» его соседи называют «отживающим
свое время типом», а название разрушаю-
щейся усадьбы Лучезаровка («В поле») зву-
чит весьма иронично на фоне ее описания, в
котором присутствуют мрак русской зим-
ней ночи, холод, нетопленая печь и кирпи-
чи, падающие с крыши, где ветер повалил
трубу. Запустение, царящее в усадьбах, Бу-
нин описывает экспрессивно, создавая ла-
коничную и емкую картину поместной
жизни на рубеже XIX—XX столетий.
Часто пишет Бунин об одиноких, несча-
стных людях, о безответной любви, в таких
произведениях отражается духовный мир и
переживания самого автора. По существу,
повествование является лирическим днев-
ником, хотя речь и идет о вымышленном
персонаже, как, например, в рассказе «Без
роду-племени»:
«...Уездный городок, где осталась моя семья,
разорившаяся помещичья семья, был от меня да-
леко, и я не понимал тогда, что потерял послед-
нюю связь с родиной. Разве есть у меня теперь ро-
дина? Если нет работы для родины, нет и связи с
нею. А у меня нет даже и этой связи с родиной —
своего угла, своего пристанища... И я быстро по-
старел, .выветрился нравственно и физически,
стал бродягой в поисках работы для куска хлеба,
а свободное время посвятил меланхолическим
размышлениям о жизни и смерти, жадно мечтая
о каком-то неопределенном счастье... Так ело?
жился мой характер и так просто прошла моя мо-
лодость».
60
Иван Алексеевич Бунин
Проводя обычно зиму в Петербурге или в
Москве, в другие времена года Бунин живет
в фамильной усадьбе или странствует по
южным губерниям России. Где бы он ни
жил, он всегда находился в атмосфере оду-
хотворенного общения, творчества, писа-
тельской работы. Он самостоятельно изуча-
ет английский язык, переводит «Песнь о
Гайавате» Лонгфелло, пишет стихи и про-
зу, ищет издателей для своих новых книг,
знакомится с Короленко, Брюсовым, Баль-
монтом. В 90-е годы все больше произведе-
ний Бунина публикуется в периодике, осо-
бенно много — в издательстве «Знание»,
которым руководил Горький.
На протяжении всей жизни Бунин много
переводил. Его переводы были не просто
близки подлиннику, это были замечатель-
ные, высокохудожественные поэтические
произведения. Он перевел на русский язык
выдающиеся произведения мировой лите-
ратуры. «Каин* и «Манфред» Байрона,
«Песнь о Гайавате* Лонгфелло, «Годива»
Теннисона, «Крымские сонеты» Мицкеви-
ча, стихотворения Петрарки, Гейне, Вер-
харна знакомы русскому читателю в пре-
красных бунинских переводах.
Бунин сотрудничал и в одесской газете
♦Южное обозрение», издателем и редакто-
ром которой был «русский грек» Н. П. Цак-
ни. Здесь, в Одессе, Бунин влюбился в его
дочь Анну Николаевну, и в сентябре
1898 года они повенчались. Брак их был не-
ожиданным для многих, ему предшествова-
ли буквально несколько дней знакомства.
А. Н. Цакни была необыкновенно хороша
собой, намного моложе Бунина, всего пол-
года назад она окончила гимназию и мечта-
ла о карьере певицы. В их доме всегда было
полно гостей, артистов и музыкантов, уча-
стников любительских спектаклей; шум-
ная атмосфера вскоре начала раздражать
Бунина, и он уехал в Москву.
Отношения молодых супругов не сложи-
лись, семейная жизнь вскоре закончилась
разрывом. Уже после того как Бунин и
Цакни расстались, в 1900 году родился их
сын, его назвали Николаем. Бунина лиши-
ли возможности видеться с сыном, который
через несколько лет умер от болезни.
В 1900—1901 годах Бунин пишет поэму
«Листопад* и ряд стихотворений, которые
издает сначала в журнале, а затем и отдель-
ным стихотворным сборником. Этот поэти-
ческий сборник, также вышедший под
названием «Листопад», был в 1901 году от-
мечен академической премией имени Пуш-
кина.
В стихах этого периода Бунин выступает
как продолжатель традиций Пушкина.
Описания природы, времен года и усадебно-
го образа жизни, с детства знакомого поэту,
становятся компонентами духовного скла-
да лирического героя, осознающего и собст-
венную индивидуальность, и в то же время
принадлежность к традициям националь-
ной культуры.
В окно я вижу груды облаков,
Холодных, белоснежных, как зимою,
И яркость неба влажно-голубого.
Осенний полдень светел, и на север
Уходят тучи. Клены золотые
И белые березки у балкона
Сквозят на небе редкою листвой,
И хрусталем на них сверкают льдинки.
Они, качаясь, тают, а за домом
Бушует ветер... Двери на балконе
Уже давно заклеены к зиме,
Двойные рамы, топленные печи —
Все охраняет ветхий дом от стужи,
А по саду пустому кружит ветер
И, листья подметая по аллеям,
Гудит в березах старых... Светел день.
Но холодно, — до снега недалеко.
Здесь в русле пушкинской традиции
(вспомним стихотворение «Зимний вечер»)
внешняя по отношению в дому образная
система (холод, стужа, бушующий ветер)
противопоставлена теплу человеческого
жилья, которое дает лирическому герою за-
щиту, возможность противостоять невзго-
дам, трудностям жизни. Образ дома для
поэта воплощен в первую очередь в дета-
лях, связанных с теплом («Двери... закле-
ены к зиме, / Двойные рамы, топленные пе-
чи»), оно противостоит осеннему холоду
внешнего образного ряда. Образ тепла
(конкретного) и теплоты (абстрактной, ду-
шевной), закрытых окон и дверей в доме,
охраняющих его пространство от внешней
61
Русские писатели XX века
стужи, — и замкнутости, индивидуализи-
рованности внутреннего мира лирического
героя в его стремлении оградить себя от
сложных, порой агрессивных посяга-
тельств внешнего мира на духовную свобо-
ду личности — вся эта система со- и проти-
вопоставлений позволяет нам считать лири-
ку Бунина продолжением и развитием
русских классических традиций, которые
молодой поэт обогатил образными и стилис-
тическими находками.
ПЕВЕЦ ДВОРЯНСКИХ ГНЕЗД
В прозе начала 1900-х годов, в частности
в рассказах «Антоновские яблоки», «Золо-
тое дно» и др., преобладает ярко выражен-
ное лирическое начало, позволяющее сопо-
ставить эти прозаические произведения с
бунинской поэзией данного периода. Цент-
ральный персонаж рассказов — это, по су-
ществу, лирический герой, авторское «я»
(повествование ведется от первого лица),
чьи впечатления и чувства отражают отно-
шение к уходящему в прошлое усадебному
миру.
Рассказ «Антоновские яблоки» по праву
считается шедевром бунинской прозы. За
внешней элегической интонацией, лириче-
ской грустью автора скрывается огромная
любовь к жизни во всех ее проявлениях, пе-
ременах, полноте впечатлений, воспомина-
ний и вечном обновлении.
Герой испытывает ностальгию, с тоской
вспоминает о былой поэзии дворянских
гнезд, которые на его глазах разоряются и
гибнут. Описывая «нищенскую мелкопо-
местную жизнь», рассказчик постоянно
ориентируется на второй план повество-
вания: и на свою память, и на традиции
русской классической усадебной культу-
ры, т. е. литературу и круг чтения, биб-
лиотеки помещиков, музыку и музыкаль-
ные вечера в усадьбах, живопись, преж-
де всего портретную, связанную с уваже-
нием к семейным нравственным ценнос-
тям, с воспитанием потомков дворянского
рода и с памятью о его истории, о жизни
предков:
«...вот журналы с именами Жуковского, Ба-
тюшкова, лицеиста Пушкина. С грустью вспом-
нишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее
томное чтение стихов из «Евгения Онегина».
И старинная мечтательная жизнь встанет перед
тобою... Хорошие девушки и женщины жили
когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты
глядят на меня со стены, аристократически-кра-
сивые головки в старинных прическах кротко и
женственно опускают свои длинные ресницы на
печальные и нежные глаза...»
«Антоновские яблоки» можно назвать
лирическим дневником, воспоминаниями
рассказчика о недавно пережитом, о доро-
гих его памяти чертах русской старины, ко-
торые сохраняются еще в дворянских
усадьбах, отживающих свой век, уходящих
в прошлое. Писатель откровенно любуется
старинным домом, восхищается садом, ко-
торый прекрасен в любое время года и да-
рит людям чувства гармонии, красоты, веч-
ного обновления жизни. Ключевой образ
рассказа — антоновские яблоки с их непо-
вторимым запахом — становится у Бунина
символом простого деревенского образа
жизни, авторской ностальгии о временах
расцвета русской усадебной культуры.
Для автора очень важной является
мысль о том, что «склад средней дворян-
ской жизни... имел много общего со скла-
дом богатой мужицкой жизни». В этой
общности для Бунина заключается глубо-
кий смысл, сущность исторических корней
России, особый тип национального харак-
тера, отношения к миру и важнейшим жиз-
ненным ценностям.
Интересны в рассказе и зарисовки
крестьянского образа жизни, воспомина-
ния о древних стариках и старухах, о дев-
ках-однодворках и деревенских мальчиш-
ках, собирающихся в саду на сбор урожая
яблок. Их одежда, манера поведения, осо-
бенности разговорной речи запечатлены Бу-
ниным в мельчайших подробностях. Не
случайно рассказчик даже вспоминает о
желании испытать жизнь крестьянина на
своем опыте:
«И помню, мне порою казалось на редкость
заманчивым быть мужиком. Когда, бывал’о,
едешь солнечным утром по деревне, все думаешь
62
Иван Алексеевич Бунин
о том, как хорошо косить, молотить, спать на
гумне в ометах, а в праздник встать вместе с
солнцем, под густой и музыкальный благовест из
села, умыться около бочки и надеть чистую за-
машковую рубаху, такие же портки и несокру-
шимые сапоги с подковками. Если же, думалось,
к этому прибавить здоровую и красивую жену в
праздничном уборе да поездку к обедне, а потом
обед у бородатого тестя, обед с горячей барани-
ной на деревянных тарелках и с ситниками, с со-
товым медом и брагой, — так больше и желать
невозможно!»
Для Бунина старинный уклад русской
жизни, воссозданный в «Антоновских яб-
локах», представляет важнейшую духов-
ную ценность, потому что отражает нацио-
нальный взгляд на мир, человека, природу,
родину.
Ностальгические мотивы, грусть об утра-
те дворянских гнезд характерны для твор-
чества многих писателей серебряного века.
У Бунина ностальгические ноты звучат с
наибольшей силой.
Детализированное изображение психо-
логического состояния человека, подводя-
щего жизненные итоги, размышляющего о
«закате своих дней», вплетено в бунинских
произведениях в созвучное по эмоциональ-
ной насыщенности описание усадеб, прихо-
дящих в упадок, навсегда покинутых их хо-
зяевами. Наличие лирических сюжетов в
ряде стихотворных произведений тех лет
(«Запустение», «Одиночество», «Сумерки»,
«Дядька») и ярко выраженный лиризм бу-
нинской прозы («На хуторе», «В поле»,
«Антоновские яблоки») позволяет сделать
вывод о специфике взаимодействия жанров
в творчестве Бунина, о сближении меж со-
бою данных рассказов и стихотворений,
т. е. эпоса и лирики. Их жанровые разли-
чия в некоторой степени нивелируются,
весьма существенными становятся типоло-
гически сходные черты.
Особое место в творчестве Бунина зани-
мает тема любви. Истинная любовь, по
жизненной философии писателя, — это яр-
кая вспышка, запоминающаяся навсегда,
переворачивающая всю жизнь героев. Она
не может длиться долго, после мгновения
любви наступает обыденная, будничная
жизнь, но персонажи как бы приобретают
новое зрение, новую систему жизненных
ценностей, в корне меняют свои взгляды.
Такая перемена происходит, например, с
героиней рассказа «Заря всю ночь».
НА ЛИТЕРАТУРНОМ ОЛИМПЕ
Бунин очень интересовался традициями
и культурой стран Востока, поэтому в
1903 году он совершил морское путешест-
вие в Турцию, впервые посетил Константи-
нополь. Это путешествие длилось около
двух недель и дало материалы для очерка
«Тень птицы». В будущем Бунин много пу-
тешествовал по Востоку, только в Констан-
тинополе он был 13 раз. Он и в России не
сидел долго на одном месте: жил то в Моск-
ве, то в Петербурге, то в Крыму. Он побы-
вал в Нижнем Новгороде, Ялте, Одессе, воз-
вращался в родные места, где особенно пло-
дотворно работал.
Революционные события 1905—1907 го-
дов потрясли Бунина. Он был свидетелем
крестьянских волнений в Орловской и
Тульской губерниях. Восставшие крестьяне
сожгли в имениях сестры и брата Бунина
скотные дворы вместе с лошадьми, свинья-
ми и птицей, запретили помещикам нани-
мать работников со стороны...
В Москве Бунин активно участвует в за-
седаниях литературного кружка «Среда»,
основателем которого был писатель Н. Те-
лешов. Членами кружка были Чехов, Горь-
кий, Леонид Андреев, Куприн и другие из-
вестные писатели. Бунин много печатается,
он помещает свои произведения в таких
журналах, как «Заветы», «Современный
мир», «Современник», и вскоре становится
широко известен читающей публике.
Бунин всегда избегал участия в литера-
турных группировках, коллективных ак-
циях и выступлениях, они вызывали у него
внутренний протест. Всю жизнь он стре-
мился быть независимым и отстаивал эту
независимость и в ранний период творчест-
ва, когда сотрудничал с Горьким, Брюсо-
вым, Бальмонтом. Позднее же, в годы эмиг-
рации, он очень ревниво относился к воз-
можным претендентам на место «первого»
63
Русские писатели XX века
русского писателя, порой резко отзываясь о
своих современниках. Об этом, в частности,
вспоминал Набоков в эссе «Другие берега»,
описывая свою встречу с Буниным в Пари-
же. Писателю в высокой степени было свой-
ственно стремление быть первым, занимать
главное место на русском литературном
Олимпе.
В Москве Бунин познакомился с Верой
Николаевной Муромцевой, которая позже
стала его второй женой. Она была хорошо
образованной женщиной, закончила естест-
венный факультет Высших женских кур-
сов, знала несколько иностранных языков,
занималась переводами на русский язык
произведений Флобера и других француз-
ских писателей. Бунин и Вера Николаевна
прожили вместе 46 лет. После его смерти
В. Н. Муромцева-Бунина написала книги
воспоминаний «Беседы с памятью» и
«Жизнь Бунина». А в 1907 году они вместе
совершили заграничное путешествие в Еги-
пет, Сирию и Палестину, побывали в Тур-
ции и Греции. Впечатления об этой поездке
отразились в книге «Храм Солнца*. Бунин
очень любил путешествовать и всю жизнь
находился в разъездах, у него не было по-
стоянного дома и желания жить подолгу на
одном месте, он всегда снимал квартиру,
дом, дачу, виллу или же останавливался в
гостинице. Оседлый образ жизни был чужд
ему.
«ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ МЕСТ СРЕДИ
СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПОЭЗИИ»
В начале 1900-х годов произведения
Ивана Бунина становятся все более попу-
лярными. Так, в рецензии на сборник «Сти-
хотворения 1903—1906 годов» Блок писал,
что он по праву занимает «одно из главных
мест среди современной русской поэзии».
В Петербурге сразу в нескольких издатель-
ствах выходят в свет его сочинения. «Зна-
ние» даже переиздает несколько томов бу-
нинских книг, а сам писатель начинает ра-
ботать над повестью «Деревня», где хотел
по-новому изобразить мужиков.
В поэзии Бунина много эмоционально
насыщенных описаний пространства, окру-
жающего лирического героя. Описания
эти, как правило, статичны, подробно дета-
лизированы, часто в зарисовках усадебного
быта преобладают картины тлена, пустоты,
заброшенности.
Вкруг дома глушь и дичь. Там клены и осины.
Приюты горлинок, шиповник, бересклет...
А в доме рухлядь, тлен: повсюду паутины,
Все двери заперты... И так уж много лет.
Описаниями такого типа полны стихо-
творения середины 1900-х годов, в которых
все отчетливее звучат мотивы, сходные с
чеховской лирической грустью, с носталь-
гией и обреченностью героев «Чайки», «Дя-
ди Вани», «Вишневого сада». Детские вос-
поминания бывших владельцев усадеб, их
драматические раздумья об обманувших
надеждах, несбывшихся мечтах юности —
такова эмоциональная доминанта значи-
тельного ряда бунинских стихов.
...И грустны, грустны сумерки зимой
В заброшенных помещичьих покоях!
Сидишь и смотришь в окна из угла
И думаешь о жизни старосветской...
Увы! Ведь эта горница была
Когда-то нашей детской!
Сравним с этим фрагментом текст диа-
лога Раневской и Гаева из «Вишневого са-
да» Чехова:
^Любовь Андреевна (глядит в окно на сад): О
мое детство, чистота моя! В этой детской я спала,
глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вмес-
те со мною каждое утро... Если бы снять с груди и
с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла за-
быть мое прошлое!
Гаев: Да, и сад продадут за долги, как это ни
странно...»
Ностальгия о детстве, об уходящей в про-
шлое юности у Чехова в большей степени,
нежели в бунинских стихотворениях, моти-
вирована социально-историческими причи-
нами. Для Бунина в таком уходе заложена
природная, объективная закономерность,
как в смене времен года и в других неумо-
лимых законах жизни. Не случайно его
пейзажная лирика, при ее конкретности
описаний и буквальной ощутимости, осяза-
емости деталей, возможности почувство-
64
Иван Алексеевич Бунин
вать звуки и запахи, как бы оказаться
«внутри» картины природы, всегда напол-
нена психологическим и философским со-
держанием, в ней — глобальные обобщения
при всей внешней краткости, лаконичности
художественной формы.
Осень листья темной краской метит:
Не уйти им от своей судьбы!
Но светло и нежно небо светит
Сквозь нагие черные дубы,
Что-то неземное обещает,
К тишине уводит от забот —
И опять, опять душа прощает
Промелькнувший, обманувший год!
«ТАК ЕЩЕ НЕ ПИСАЛИ»
В начале 1909 года Бунин с женой поеха-
ли за границу, в Австрию и Италию, посе-
тили Вену и Инсбрук, Верону, Венецию,
Рим, Неаполь, побывали на Капри у Горь-
кого. Бунин и Горький все время проводи-
ли в разговорах, спорах, обсуждениях раз-
личных литературных проблем, по просьбе
Горького Бунин читал собравшимся свои
стихи.
Вернувшись в Россию, писатель продол-
жил работу над «Деревней». «Волка... ноги
кормят, а меня лето», — признавался сам
Бунин. И действительно, первую часть «Де-
ревни» он написал начерно в три дня, со-
здал ряд стихотворений и рассказов.
В 1909 году Бунин был удостоен еще од-
ной Пушкинской премии и был избран по-
четным академиком Российской академии
наук.
В январе 1910 года Бунин выступил на
литературном утреннике, посвященном 50-
летию Чехова, в Московском Художествен-
ном театре с чтением своих воспоминаний,
которые произвели потрясающее впечатле-
ние на собравшихся.
Летом того же года повесть «Деревня»
была завершена и Бунин отправил ее изда-
телю. Повесть была встречена с восторгом.
Отмечая ее новаторство, Горький писал Бу-
нину: «...Так глубоко, так исторически де-
ревню никто не брал... Я не вижу, с чем
можно сравнить вашу вещь, тронут ею —
очень сильно. Дорог мне этот скромно
скрытый, заглушенный стон о родной зем-
ле, дорога благородная скорбь, мучитель-
ный страх за нее — и все это — ново. Так
еще не писали*.
Центральные персонажи этой повести —
двое братьев Красовых: Тихон, алчный,
жестокий купец, хищник по натуре, и
Кузьма, правдоискатель, который посте-
пенно спивается, опускается на дно жизни.
Жизнь обоих братьев оказывается пустой,
никому не нужной, бессмысленной, недю-
жинные их задатки пропадают в никчем-
ной тоске, в поисках идеала и неумении
приложить силы и старания для достиже-
ния желанной цели.
Деревенский быт показан в повести в
жестоких, красноречивых деталях: в одной
волости от голода перемерли все дети, в
другой — поели всех собак. Крестьяне бро-
шены на произвол судьбы, и протест Кузь-
мы Красова, возмущенного равнодушием
властей к пострадавшим мужикам, закан-
чивается его же мытарствами, разбиратель-
ством в полицейском участке. Страшна и
безысходна финальная сцена повести, сце-
на сельской свадьбы, где пропивают и про-
дают человеческую красоту, не оставляя
никаких оптимистических надежд.
Некоторые критики упрекали Бунина в
том, что он слишком мрачными красками
рисует русский народ, не верит в будущее
России. Писатель глубоко страдал от таких
упреков, в чем признавался позже:
«Если бы я... Русь не любил, не видал, — из-за
чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за
чего страдал так непрерывно, так люто? А ведь
говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те,
которым, в сущности, было совершенно напле-
вать на народ... которого они не только не знали и
не желали знать, но даже просто не замечали...»
В конце 1910 года Бунин с женой отправ-
ляются в новое морское плавание на Вос-
ток, мечтая побывать в Египте, на Цейлоне,
в Сингапуре, Японии. Несмотря на то что
Японию посетить им не удалось, путешест-
вие стало необыкновенно новым жизнен-
ным опытом для писателя, отразилось в его
произведениях (рассказ «Братья* и др.).
Бунин всегда признавал, что любил даль-
3 Зак. 848
65
Русские писатели XX века
ние странствия, что «не знает ничего луч-
шего, чем путешествия», называл это своей
жизненной философией.
Лето 1911 года Бунин провел, как все-
гда, в деревне. На этот раз кроме стихов и
рассказов он писал и повесть «Суходол».
«Прекрасная старинная усадьба» как нель-
зя лучше располагает к творческой работе.
Три месяца писатель буквально не вставал
из-за письменного стола.
Отмечая взаимосвязь повестей «Сухо-
дол» и «Деревня», Бунин говорил, что в но-
вом произведении его интересуют не только
мужики и крестьяне, но «душа русских лю-
дей вообще*. Это книга о двух сословиях, о
русском дворянстве и крестьянстве, чья
жизнь в России, по мысли Бунина, очень
взаимосвязана. «Быт и душа русских дво-
рян те же, что и у мужика; все различие
обусловливается лишь материальным пре-
восходством дворянского сословия... Душа
у тех и других, я считаю, одинаково рус-
ская», — писал он.
В «Суходоле* показаны нравы и образ
жизни нескольких поколений семьи Хру-
щевых, столбовых дворян, представителей
сословия, которое за пол века почти исчезло
с лица земли: «сколько нас выродилось, со-
шло с ума, наложило руки на себя, спилось,
опустилось и просто потерялось где-то!» Та-
кой масштаб авторского замысла обусловил
обращение Бунина к жанровым традициям
семейной хроники, описывающей деграда-
цию дворянского рода. С точки же зрения
формы Бунин остается в пределах жанра
повести, делая в то же время сюжет емким,
лаконичным, диахронно расширяя его вре-
менные границы.
Дворянство в «Суходоле» показано не та-
ким, как в произведениях Толстого, Турге-
нева или Чехова. Герои Бунина — мелкопо-
местные, обедневшие и вырождающиеся
дворяне, заканчивающие свою жизнь в
степной глуши, связанные с мужиками и
дворней не только особенностями психики,
но нередко и кровными родственными
связями. Им чужды интеллектуальные
поиски, не свойственна устремленность к
вершинам культуры. Жизнь поместья
лишь полна страстей, глубоких фатальных
чувств, которые могут перевернуть и даже
сломать судьбу человека. Главным из этих
чувств Бунин считает любовь, роковую
страсть, из-за которой персонажи повести
сходят с ума, погибают, согласны всю
жизнь терпеть лишения и муки. Любовь
как для госпожи, так и для дворовой де-
вушки становится навязчивой идеей, той
несбыточной мечтой, которая буквально
способна лишить рассудка. Сумасшествие
от несчастной любви постигло тетю Тоню, а
ее служанка Наталья вынуждена таить в
своей душе любовь к барину Петру Петро-
вичу, не смея ни рассказать об этом нико-
му, ни показать свое чувство. За эту любовь
Наталью отправляют в ссылку на далекий
хутор, лишают надежды на счастье, но она
смиренно продолжает служить господам в
надежде иногда издалека увидеть своего
любимого.
Истории, запечатленные в «Суходоле»,
Бунин имел возможность наблюдать в дет-
стве в своей собственной семье. Так, его тет-
ка по отцу Варвара Николаевна лишилась
рассудка после того, как отказала молодо-
му офицеру, сделавшему ей предложение.
Дядя писателя Иван Алексеевич, в честь
которого Бунин получил свое имя, безумно
тосковал о своей рано умершей жене, как и
Петр Кириллыч в «Суходоле». Некоторые
черты характера своего отца Бунин придал
другому герою повести, отцу Хрущевых.
В повести «Суходол», рассказе «Ночной
разговор» и некоторых других произведе-
ниях 1900-х годов Бунин обращается к теме
взаимоотношений дворян с крестьянами,
пишет об их противоречивых чувствах,
любви и ненависти друг к другу. Феномен
«Суходольской души», видимо, позволил
автору понять закономерность вырождения
и обнищания дворянских семейств, исчез-
новения усадеб, краха прежнего жизненно-
го уклада в России. По Бунину, это «душа,
над которой так безмерно велика власть
воспоминаний, власть степи, косного ее бы-
та, той древней семейственности, что воеди-
но сливала и деревню, и дворню, и дом в Су-
ходоле».
В произведениях 1910-х годов Бунин
удивительно точно передает тихую, непри-
66
Иван Алексеевич Бунин
тязательную красоту русской природы, в
поместной жизни он видит синтез прозы и
поэзии, быта и бытия, мелочей и высокой
гармонии. Не случайно творческая работа
писателя проходила главным образом в де-
ревне, вдали от городской суеты., И в лири-
ке Бунина мы тоже встречаем немало «про-
заических* описаний жизни в имениях
(вспомним стихотворения «Бегут, бегут
листы раскрытой книги...», «Дядька»,
«Сенокос», «Дворецкий», «Кружево», «Ве-
чер» и др.). Очарование картин природы,
счастье лирического героя, постигающего
гармонию вечного и преходящего в жизни,
изображаются на фоне хозяйственных хло-
пот дворовых и прочих мелочей усадебной
повседневности. Так, в стихотворении «Бе-
гут, бегут листы раскрытой книги...» яр-
кие, панорамные описания русских про-
сторов («Бегут, струятся к небу тополя»,
♦Дохнули ветром рощи и поля», «Блестит
листвой под окнами сирень», «Зажглась
река, как золото») с их открытым про-
странством, широтой и цветовой насыщен-
ностью, солнечным светом, одушевленно-
стью природы соседствуют с камерными,
ограниченными малым пространством,
прозаическими деталями помещичьего
двора и дома.
... старуха
Несет сажать махотки на плетень;
Кричит петух; в крапиву за наседкой
Спешит десяток желтеньких цыплят...
И тени штор узорной легкой сеткой
По конскому лечебнику пестрят.
Стихотворениям Бунина о природе свой-
ственны живописность, импрессионистич-
ность и вдохновенная эмоциональность,
возвышенность и поэтичность чувств. Кар-
тины природы отражают переживания ли-
рического героя, наполнены психологиче-
ским смыслом. Восхищение прекрасной ве-
сенней ночью выразилось в стихотворении
«Бледнеет ночь...»:
Еще усадьба спит... В саду еще темно.
Недвижим тополь матово-зеленый,
‘ И воздух слышен мне в открытое окно,
Весенним ароматом напоенный...
«ДРАГОЦЕННЫЙ СОСУД ОГРОМНОГО
ПРОШЛОГО»
В октябре 1911 года Бунин с женой уеха-
ли в новое путешествие, на этот раз в Гер-
манию, Швейцарию и Италию. Старинная
архитектура немецких городов восхищала
Ивана Алексеевича, он говорил, что хотел
бы провести здесь зиму и мог бы хорошо пи-
сать. В Люцерне в Швейцарии супруги по-
сетили отель, описанный Л. Толстым в рас-
сказе «Люцерн». В Италии, на Капри, сно-
ва встретились с Горьким, но теперь
Бунина раздражала необходимость общать-
ся с ним и «имитировать дружбу, которой
нету». Для творческой работы ему нужна
была тихая, замкнутая жизнь, и на Капри
он много пишет, правит свои рассказы для
издания, работает подолгу, насколько хва-
тает времени.
Бунин был очень жизнелюбивым челове-
ком, жадно впитывал все новые впечатле-
ния, наслаждался прекрасными мгнове-
ниями бытия, стремился отразить в творче-
стве многообразие жизни во всех ее
проявлениях. Он изображал картины при-
роды в мельчайших подробностях, переда-
вая особенности цвета и светотеней, запахи
и звуки. Воспроизводя портреты персона-
жей, он стремится показать выражения их
лиц, глаз, улыбку или слезы, детали костю-
ма и нюансы индивидуальной речи. Все это
свидетельствовало о его серьезном и иск-
реннем интересе к людям независимо от со-
словной принадлежности. Накопив множе-
ство жизненных впечатлений, повидав раз-
ные страны и многих людей, Бунин
научился особенно ценить обычного челове-
ка с его вечными и вечно новыми страстя-
ми, переживаниями, сомнениями и верова-
ниями.
Так, в рассказе «Древний человек* он
описывает деревенского деда по имени Та-
ганок. Старик прожил сто восемь лет, мно-
гое повидал и передумал на своем веку.
«Подумать только, — пишет Бунин, — при
Таганке прошел один из самых замечатель-
ных веков! Сколько было за этот век перево-
ротов, открытий, войн, революций, сколь-
ко жило, славилось и умерло великих лю-
67
Русские писатели XX века
дей! А он даже малейшего понятия не имел
никогда обо всем этом. Целых сто лет видел
он только вот эти конопляники да думал о
корме для скотины!.. Часто охватывает
страх и боль, что вот-вот разобьет смерть
этот драгоценный сосуд огромного прошло-
го. Хочется поглубже заглянуть в этот со-
суд, узнать все его тайны, сокровища...»
Неподдельный интерес Бунина к дере-
венским старикам и старухам, к их особен-
ному восприятию жизни во многом пред-
восхищает более поздние, свойственные
второй половине XX века подходы русских
писателей к изображению жизни деревни.
Серия рассказов Бунина о русских крестья-
нах представляет собой глубокое художест-
венное исследование национального взгля-
да на мир, на жизненные ценности, подлин-
ные и мнимые, на свое место во времени и
пространстве.
В рассказе «Худая трава* автор знако-
мит нас со старым крестьянином Аверкием,
который очень интересно и самобытно раз-
мышляет о своей жизни. «...Он часто делал
попытки вспомнить всю свою жизнь. Каза-
лось, что необходимо привести в порядок
все, что видел и чувствовал он на своем ве-
ку. И он пытался сделать это, и каждый раз
напрасно, воспоминания его были ничтож-
ны, бедны, однообразны. Вспоминались
пустяки, безо всякого толку и все в карти-
нах — неясных и отрывочных. Только нач-
нешь вспоминать жизнь по порядку, с нача-
ла, с детства, как все сольется в один ка-
кой-нибудь день, вечер, часто и не
относящийся к детству и такой далекий...
что только рукой махнешь... «Ведь вот ка-
кое чудо! — думал он. — Жил, жил, а ниче-
го не помню, ничего не понимаю...» Гово-
рят, например, что родился он вот там-то и
тогда-то. А что это значит — родился?»
Русские крестьяне в изображении Буни-
на удивительно самобытны, их образы не-
повторимы и запоминаются читателю своей
живописностью, тонко подмеченными дета-
лями поведения, неординарностью отноше-
ния к событиям и явлениям, о которых час-
то в повседневной суете и не задумываешь-
ся, обходишь вниманием, отвлекаясь на то,
что кажется сейчас более важным. Расска-
зы Бунина побуждают по-новому отнестись
к окружающим людям и к своей собствен-
ной жизни, увидеть в ней главное, ту пре-
красную суть, что делает человека неповто-
римой индивидуальностью, освещает его
судьбу светом вечного смысла.
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ
Осенью 1912 года Бунин вернулся в
Москву, где отмечалось двадцатипятилетие
его литературной деятельности. Торжест-
венное чествование состоялось в Москов-
ском университете. В нем приняли участие
Академия наук, университет, литератур-
ные общества и издательства, известные де-
ятели культуры и читатели, поклонники
бунинского творчества. В связи с двадцати-
пятилетием творческой деятельности Бу-
нин был избран почетным членом «Общест-
ва любителей российской словесности».
Зима 1912/13 года была для Бунина
весьма плодотворной. Среди рассказов, на-
писанных в это время, — «Последнее свида-
ние», «Князь во князьях», «Будни», «Ли-
чарда», «Иоанн Рыдалец», «Худая трава»,
«Весна», «При дороге». Но Бунин был не-
удовлетворен: «Я работаю последние годы
вдесятеро больше прежнего и — в отчаяние
прихожу, как коротки дни и годы!..» — жа-
ловался он в одном из писем.
Эпоха упадка и угасания мира русских
усадеб, современником которой стал Бу-
нин, отразилась во многих его рассказах,
наполненных символическими деталями,
воссоздающих особенности духовного и
нравственного облика помещиков. Время
обусловливает их чувства, отношения, об-
раз мыслей. Так, рассказы «Последнее сви-
дание» и «Грамматика любви» повествуют
о прошлой романтике, о красоте любовных
чувств, о которых остались лишь воспоми-
нания, актуальным же фоном повествова-
ния о любви становится равнодушие и заб-
вение. Недаром молодой Хвощинский про-
дает любимую книгу отца, а Андрей
Страшнее с раздражением думает о Вере,
стремится поскорее расстаться с нею. Эво-
люция характеров этих персонажей для Бу-
нина в значительной степени обусловлена
6«
Иван Алексеевич Бунин
гибелью дворянской усадебной культуры,
происходящей на глазах его героев. «Мы,
дворянское отродье, не умеем просто лю-
бить. Это отрава для нас», — говорит
Стрешнев.
Дождавшись в конце 1913 года выхода
сборника стихов и рассказов «Иоанн Рыда-
лец», Бунин с женой уезжает в Италию, на
Капри. Здесь он написал рассказы «Свя-
тые» и «Весенний вечер», закончил рассказ
«Братья» и создал немало стихотворений.
В «Братьях» отразились впечатления Буни-
на о поездке на Цейлон. Экзотический, на-
сыщенный палящим солнцем и тропиче-
ским зноем мир Цейлона поражает читате-
лей яркостью красок, читатель буквально
ощущает роскошь природы, аромат восточ-
ного городка с его необыкновенными пти-
цами, огромными бабочками, свисающими
с деревьев лианами.
Люди же, населяющие этот полный чу-
дес мир волшебной, непривычной для рус-
ского читателя красоты, живут исковер-
канной, жестокой по отношению друг к
другу жизнью. Они потребительски отно-
сятся к окружающим, забывают о главных
ценностях ради денег, новых приобрете-
ний, национальных и расовых амбиций.
Отношение иностранцев, особенно англи-
чан, к коренным жителям Цейлона показа-
но Буниным как высокомерное, пренебре-
жительное, что, по всей вероятности, боль-
ше всего поразило писателя во время
путешествия, вызвало в нем нравственный
протест.
Рассказывая о жизни и смерти цейлон-
ского рикши, Бунин описывает всего один
день тяжелой, нравственно уничтожающей
человека работы. Он, как загнанная ло-
шадь, весь день бегает под палящим солн-
цем со своей коляской, в которой сидит бе-
лый господин. Господин этот относится по-
требительски и к маленькому рикше, и к
людям вообще, с которыми его сводит судь-
ба во время странствий. Позже, в откровен-
ном разговоре с капитаном корабля, он при-
знается, что «...убивал людей в Индии, ог-
рабляемой Англией, а, значит, отчасти и
мною, видел тысячи умирающих с голоду, в
Японии покупал девочек в месячные же-
ны... на Яве и на Цейлоне до предсмертного
хрипа загонял рикш».
Следуя за бунинским повествованием,
читатель буквально чувствует зной и влаж-
ность воздуха, видит зеленую лагуну, пол-
ную черепах и прочей тропической живнос-
ти, может представить себе изнемогшего от
усталости человека, впряженного в повозку
и подбадривающего себя наркотиком-бете-
лем. Боль и страдание, вызванные непра-
вильным устройством жизни простых лю-
дей, прочитываются за каждой строкой рас-
сказа.
ВЕЧНЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
Летом 1914 года, когда Бунин вместе с
братом Юлием Алексеевичем путешество-
вали по Волге, их застало известие об убий-
стве австрийского эрцгерцога Фердинанда в
Сараеве, послужившем поводом к началу
Первой мировой войны. Это событие произ-
вело большое впечатление на Бунина. От
имени писателей, артистов и художников
он написал письмо-протест, письмо-воззва-
ние против этой войны, против жестокости,
горя, страданий, которые она несла людям.
Писатель глубоко переживает оттого, что
«...снова гибнут в пожарищах драгоценные
создания искусства, храмы и книгохрани-
лища, сметаются с лица земли целые горо-
да и селения, кровью текут руки, по грудам
трупов шагают одичалые люди — и те, из
уст которых так тяжко вырывается клич в
честь своего преступного повелителя, чи-
нят, одолевая, несказанные мучительства и
бесчестие над беззащитными, над старика-
ми и женщинами, над пленными и ранены-
ми...»
В 1915 году Иван Алексеевич подготовил
к изданию шеститомное собрание своих со-
чинений, тогда же вышла его книга «Чаша
жизни», которая была с восторгом встрече-
на читающей публикой. Рецензенты осо-
бенно отмечали такие рассказы, как «При
дороге», «Чаша жизни», «Братья», «Свя-
тые». Летом того же года Бунин приступил
к работе над «Господином из Сан-Франци-
ско». В следующем году он напишет «Сны
Чанга».
69
Русские писатели XX века
В «Господине из Сан-Франциско» автор
вновь размышляет о подлинных и мнимых
жизненных ценностях, о роли богатства,
приобретательства, деловитости в человече-
ской жизни. «Яс истинным страхом смот-
рел всегда на всякое благополучие, — пи-
сал он позже, — приобретение которого и
обладание которым поглощало человека, а
излишество и обычная низость этого благо-
получия вызывали во мне ненависть*.
Герой рассказа, немолодой американец,
совершает вместе с семьей кругосветное пу-
тешествие на огромном комфортабельном
пароходе. После многих лет работы, став
наконец богатым и благополучным челове-
ком, он решил посмотреть мир и точно
спланировал все, что касалось его поездки:
маршрут, сроки, программу экскурсий и
развлечений. Казалось бы, он учел все, и
никаких случайностей не должно было про-
изойти во время круиза на пароходе с сим-
волическим названием «Атлантида». Но
вдруг в отеле на Капри господин из
Сан-Франциско скоропостижно умирает,
доставив своей семье, хозяину отеля и дру-
гим постояльцам множество хлопот.
Бунин с тонкой иронией описывает, как
еще вчера уважаемый, респектабельный че-
ловек становится никому не нужным, как
от его трупа спешат поскорее избавиться,
чтобы не волновать других туристов. Его
тело вывозят из отеля ночью в ящике
из-под бутылок от содовой воды, а жизнь в
отеле и на пароходе продолжает идти
по-прежнему, и никому нет дела до мертво-
го старика, тело которого везут в трюме. Та-
кая горькая насмешка над человеком, чья
жизнь внезапно оборвалась именно тогда,
когда он достиг вершины своих устремле-
ний, выражает писательский взгляд на
мнимые и истинные жизненные ценности,
на подлинный смысл человеческого бытия.
Стихия живой жизни противопоставлена в
рассказе скрупулезно выверенному, меха-
ническому распорядку планов богатого ту-
риста. Только эта принципиально ирраци-
ональная, непредсказуемая стихия, откры-
тая времени и пространству, способна
сделать человека по-настоящему счастли-
вым, раскрыть ему важные истины, ука-
зать путь к гармонии и радости бытия.
Для Бунина высший смысл жизни со-
ставляли вечные человеческие ценности,
которым, по существу, посвящено все его
творчество. Одной из таких ценностей была
поэзия, жажда творчества, потребность ду-
ши в общении с искусством. Стихотворение
«Слово», написанное в годы войны, воспе-
вает творческий труд, эстетическое чувство
поэта, восхищение перед всем, что прекрас-
но и составляет шедевры мирового искусст-
ва.
Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.
В размышлениях о смысле жизни и ее
непреходящих ценностях Бунин провел
большую часть своего творческого пути, по-
скольку судьба была к нему не слишком
благосклонна. Тем сильнее ценил он ту ду-
ховную опору, которую видел в самом себе,
в своем нравственном, эмоциональном,
творческом мире. Вновь и вновь он возвра-
щается в своих произведениях к любовной
тематике.
В рассказе «Сны Чанга* писатель повест-
вует о большой, вечной любви, озарившей
необыкновенным светом жизнь централь-
ного героя. Казалось бы, жизнь его делится
на две половины: ту, что связана с этой ог-
ромной любовью, и ту, что вне ее. Капитан,
отважный моряк, не знает, что делать со
своей судьбой, к чему применить душевные
силы, доброту, храбрость, милосердие по-
сле того, как из его жизни ушла любовь. Он
пытается постичь это великое таинство, все
его мысли и чувства полны воспоминания-
ми о женщине, он страдает, тоскует, спива-
ется, но все же остается безмерно счастли-
вым человеком, потому что он не разминул-
ся в жизни с большой любовью.
Любовной теме посвящен и рассказ
«Легкое дыхание», печальное повествова-
70
Иван Алексеевич Бунин
ние о юной гимназистке Оле Мещерской.
Импульсом к нему, видимо, послужило
впечатление Бунина от одной прогулки во
время путешествия на Капри, когда на ма-
леньком кладбище он увидел могильный
крест с небольшим медальоном. На нем был
портрет молодой девушки с необыкновен-
ными, полными радости и счастья глазами.
Эта картина, трагическая противоречи-
вость юного облика девушки и ее ранней
смерти, настолько поразила писателя, что
сцену эту он сделал обрамлением своего
рассказа, домыслив для героини необыкно-
венный характер, драматическую судьбу и
печальную развязку.
Образ «легкого дыхания», ключевой в
этом произведении, взят со страниц старин-
ной книги, которую якобы читала героиня,
а затем пересказала подруге фрагмент, про-
изведший на нее самое сильное впечатле-
ние. Это одна из тайн природы и всей чело-
веческой жизни — тайна красоты, любви,
женского обаяния, привлекательности и в
то же время — роковой страсти, способнос-
ти любить, данной (или не данной) челове-
ку от природы.
«ОПОЗОРЕН РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК!»
В годы Первой мировой войны Бунин
остро переживал за все, что происходило в
России. Он считал, что народ не хочет вое-
вать, ему надоела война. Волновали Бунина
и революционные выступления, напряжен-
ность внутренней обстановки в стране. На-
ходясь в деревне, он боялся крестьянских
бунтов, пожаров и грабежей. Недаром в
стихотворении «Семнадцатый год» конк-
ретный образ пожара, огня, зарева тракту-
ется как символ, разделяющий русскую на-
цию на два лагеря: бесстрашных разруши-
телей и их жертв, переживающих крах и
гибель всего, что было им так дорого.
Наполовину вырубленный лес,
Высокие дрожащие осины
И розовая облачность небес:
Ночной порой из сумрачной лощины
Въезжаю на отлогий косогор
И вижу заалевшие вершины,
С таинственною нежностью, в упор
Далеким озаренные пожаром.
Остановись, оглядываюсь: да,
Пожар! Но где? Опять у нас, — недаром
Вчера был сход! И крепко повода
Натягиваю, слушая неясный,
На дождь похожий, лепет в вышине,
Такой дремотно-сладкий и бесстрастный
К тому, что там и что так страшно мне.
Новые, раньше неведомые бунинской
поэзии реалии вторгаются в художествен-
ную ткань этого стихотворения: лес наполо-
вину вырублен бунтующими крестьянами,
которые устроили сход, где решили сжечь
усадьбу помещика, и вот сейчас вдали —
пожар. Контрастность образов подчеркива-
ется не только цветом (сумрак, розовые об-
лака — огонь, зарево пожара), но и гармо-
нией, красотой природы, противопостав-
ленной разрушениям, которые творят
люди. На фоне этой антитезы Бунин очень
точно выражает чувства лирического героя:
он ощущает себя песчинкой в океане и не в
силах изменить свою судьбу. Стремление
героя вернуться к прежнему, спокойному и
гармоничному миру передается через его
восприятие окружающего пейзажа: в нем
и «таинственная нежность», и «лепет в
вышине, // Такой дремотно-сладкий и бес-
страстный». Лексический контраст, объяс-
ненный в двух последних строках стихотво-
рения («бесстрастный» — «страшно»), по-
дытоживает всю сложную гамму чувств
героя, который многого не понимает в на-
стоящем, страшится будущего, любит свою
страну и осознает неизбежность скорой раз-
луки с ней. Драматизм его переживаний
выразился и в том, что в лирическое стихо-
творение автор вводит монолог, реплики ге-
роя, в высшей степени эмоционально окра-
шенные. Образность текста позволяет чита-
телю прочувствовать, что происходило на
глазах писателя, сопережить боль утраты.
В октябре 1917 года Бунин приехал в
Москву и здесь пережил революцию, нача-
ло Гражданской войны. С 1918 года он
сперва в Москве и затем в Одессе, где стал
очевидцем расстрелов, насилия, грабежей,
вел дневник, который назвал «Окаянные
дни» (1918—1920). В нашей стране он был
опубликован лишь в конце 80-х годов. Боль
71
Русские писатели XX века
за то, что гибнет Россия, русская культура,
что попираются интересы простых людей,
имеющих право на жизнь и счастье, стала
основным пафосом «Окаянных дней», горь-
ким рефреном этого дневника — слова:
«Опозорен русский человек!» В русской ре-
волюции 1917 года писатель увидел крова-
вую игру, страшный бунт, который разру-
шает все национальные устои, ведет к кра-
ху великой культуры, сеет ненависть к
интеллигенции, образованию, духовности.
Мотивы предчувствия гибели, ожесточе-
ния, тоски характерны и для бунинской ли-
рики того времени. Так, в стихотворении
«Мы сели у печки в прихожей...» изобра-
жается одиночество людей среди заснежен-
ных степей, сумрака ночи, глядящего в ок-
но, и врагов, которые могут войти в дом и
разрушить его в любую минуту. По Бунину,
это страшный век, страшный мир, не толь-
ко угрожающий лирическому герою, но и
несущий смерть стране и ее культуре. Не
случайно одним из лейтмотивов этого сти-
хотворения становится образ могилы.
Мы сели у печки в прихожей,
Одни, при угасшем огне,
В старинном заброшенном доме,
В степной и глухой стороне.
Жар в печке угрюмо краснеет,
В холодной прихожей темно,
И сумерки, с ночью мешаясь,
Могильно синеют в окно.
Ночь — долгая, хмурая, волчья.
Кругом все снега и снега,
А в доме лишь мы да иконы
Да жуткая близость врага.
Презренного, дикого века
Свидетелем быть мне дано,
И в сердце моем так могильно,
Как мерзлое это окно.
Эмоциональный колорит этого стихотво-
рения создают мрачные, зловещие краски,
холод и ночь подавляют героев, оставляют
их беззащитными перед врагами, одиноче-
ством и заброшенностью старого дома в глу-
хой степи. Мы можем отметить сходство
данного стихотворения с более поздними
произведениями XX века, посвященными
изображению Гражданской войны, в част-
ности, с романом Б. Пастернака «Доктор
Живаго», с теми главами, где описывается
жизнь Юрия Андреевича и Лары в деревне
зимой. Для лирического героя, как и для
Юрия Живаго, сильными переживаниями
и страданиями обернулись первые послере-
волюционные годы, и тем важнее становит-
ся вопрос, в чем искать духовную опору,
есть ли в будущем надежда на обретение по-
коя и счастья. Поиски такой духовной опо-
ры характерны для многих бунинских про-
изведений 20-х годов. Творческие поиски
Бунина, таким образом, стали основой для
создания традиции, продолженной затем
писателями последующей эпохи.
ВОСПОМИНАНИЯ О РОССИИ
Весной 1918 года Бунины выехали из
Москвы сначала в Киев, затем в Одессу.
Жилось им трудно, угнетали бездомность и
тревога за близких людей, от которых не
было известий, каждый новый номер газе-
ты причинял боль и ужас. В конце концов
Бунины решили покинуть Россию. Вера
Николаевна в своих воспоминаниях пишет
о переживаниях Бунина, который говорил
о том, что «не может жить в новом мире,
что он принадлежит к старому миру, к ми-
ру Толстого, Москвы, Петербурга. Что поэ-
зия только там, а в новом мире он не улав-
ливает ее. Когда он говорил, то на глазах у
него блестели слезы. Ни социализма, ни
коллективизма он воспринять не может,
все это чуждо ему».
В январе 1920 года Бунины эмигрирова-
ли в Константинополь, оттуда в Болгарию и
Сербию, потом в Париж. Во Франции, вда-
ли от родины, Бунин прожил более 30 лет.
Первое время после отъезда Иван Алексе-
евич смертельно-тяжело переживал разлуку
с родиной. Он долго болел, говорил, что его
жизнь кончилась, а тут еще пришло извес-
тие о смерти брата Юлия Алексеевича. Пи-
сатель так и не смог привыкнуть к жизни в
изгнании: он жил обособленно, никогда не
примыкал к литературно-художественным
эмигрантским группам. Выжить в этом эмо-
ционально невыносимом одиночестве ему
помогали память, творчество и любовь.
В рассказе «Роза Иерихона» он пишет:
72
Иван Алексеевич Бунин
«Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа,
моя Любовь, Память! В живую воду сердца, в чис-
тую влагу любви, печали и нежности погружаю я
корни и стебли моего прошлого... Отдались, не-
отвратимый час, когда иссякнет эта влага, оску-
деет и иссохнет сердце...»
В произведениях Бунина эмигрантского
периода драматический конфликт утраты
дома и родины воплощается, с одной сторо-
ны, в русле классической традиции (образ
лирического героя возведен к архетипу
Блудного сына, например, в стихотворени-
ях «И цветы, и шмели, и трава, и ко-
лосья...», «У птицы есть гнездо, у зверя
есть нора...», «Сириус»). С другой стороны,
в творчестве Бунина постепенно вырабаты-
вается новая, свойственная XX столетию
черта ментальности русского человека:
эмигранта поневоле, искреннего патриота в
душе, нравственно не способного оправдать
и принять ни русской революции, ни Граж-
данской войны, ни феномена «советского
человека». Россия и русская культура для
Бунина и многих эмигрантов первой волны
осталась с ними, в их собственной памяти,
творчестве, русской душе. Эта концепция
места индивида среди других людей, обре-
тение им жизненных ценностей в себе са-
мом, в своих духовных и творческих пои-
сках, а не в коллективе, воплощает свойст-
ва личности нового, XX века.
В бунинской поэзии периода эмиграции
присутствуют философские мотивы, раз-
мышления о прошлом, подведение итогов.
Мыслями о поэзии и предназначении
поэта, об индивидуальной жизни и чело-
веческой судьбе проникнуты, например,
стихотворения «В полночный час я встану
и взгляну...», «Петух на церковном крес-
те», «Ночь». Эмоциональный фон этих
произведений печален, в них все чаще зву-
чат мотивы предчувствия смерти, могилы,
ухода.
Где молодость простая, чистая,
В кругу любимом и родном,
И старый дом, и ель смолистая
В сугробах белых под окном?
Пылай, играй стоцветной силою,
Неугасимая звезда.
Над дальнею моей могилою,
Забытой Богом навсегда.
Родина продолжала жить в душе писа-
теля, была его духовной и нравственной
опорой. «Прелесть была в том, — писал Бу-
нин, — что все мы были дети своей родины
и всем нам было хорошо, спокойно и любов-
но без ясного понимания своих чувств, ибо
их и не надо, не должно понимать, когда
они есть. И еще в том была прелесть, что
эта родина, этот наш общий дом была —
Россия».
Воспоминаниям о России посвящен рас-
сказ «Несрочная весна», произведение ин-
тересное с точки зрения жанра. Оно написа-
но в форме письма, что дает автору возмож-
ность сложно и опосредованно отобразить
свое отношение к событиям, происходящим
в послереволюционной России. Эписто-
лярный жанр позволил писателю, с одной
стороны, детально описать впечатления
повествователя от загородной поездки и
чувства, которые он испытал при виде разо-
ренных дворянских гнезд в начале 20-х го-
дов. С другой стороны, даже в адресате
письма герой не видит своего полного еди-
номышленника, тем более различается его
взгляд на современность с понятиями пер-
сонажей, встреченных во время путешест-
вия: мужиками, трактирщиком, комисса-
ром, сторожем-китайцем и др. Точка зре-
ния рассказчика представляется Бунину
сугубо личной, лишь одной из многих и
проецируется на пеструю мировоззренче-
скую картину современности. Эти возмож-
ности эпистолярного жанра писатель соеди-
нил с возможностями жанра путевых запи-
сок, в которых впечатления и чувства
центрального героя обычно в центре повест-
вования и авторское «я», т. е. лирическое
начало, представлено в высокой степени.
Описание поместья, где провел несколь-
ко дней рассказчик, строго следует тради-
циям русской усадебной культуры, все
«компоненты» планировки территории, ар-
хитектуры, садово-паркового убранства,
живописи и интерьера барского дома пред-
ставлены с типической точностью деталей.
♦Она осталась, по счастливой случайности,
73
Русские писатели XX века
нетронутой, неразграбленной, и в ней есть
все, что обыкновенно бывало в подобных
усадьбах. Есть церковь, построенная знаме-
нитым итальянцем, есть несколько чудес-
ных прудов; есть озеро, называемое Лебеди-
ным, а на озере остров с павильоном, где не
однажды бывали пиры в честь Екатерины,
посещавшей усадьбу... Дом, или, вернее,
дворец, строен тем же итальянцем, кото-
рый строил церковь... Потолки блистали
золоченой вязью, золочеными гербами, ла-
тинскими изречениями... В лаковых полах
отсвечивала драгоценная мебель... И всюду
глядели на меня бюсты, статуи и портреты,
портреты... Боже, какой красоты на них
женщины! Какие красавцы в мундирах, в
камзолах, в париках, в бриллиантах, с яр-
кими лазоревыми глазами!»
Золотой век усадеб для повествователя
связан с расцветом русской культуры, сла-
вой Российской державы, и ностальгия о
той эпохе, переданная в описании усадьбы
при помощи эмоционально окрашенных де-
талей, затем звучит и в лирических фраг-
ментах письма, где автор пишет о своем от-
ношении к духовной культуре прошлого:
«И росло, росло наваждение: нет, прежний
мир, к которому был причастен я некогда,
не есть для меня мир мертвых, он для меня
воскресает все более, становится единствен-
ной и все более радостной, уже никому не
доступной обителью моей души».
ЛЮБОВЬ КАК ВЫСШИЙ ДАР
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУДЬБЫ
Во время эмиграции Бунин пишет мно-
го, его новые книги одна за другой выходят
из печати. В 1921 году в Париже опублико-
ван сборник рассказов «Господин из
Сан-Франциско», а в Праге — «Начальная
любовь», в 1924 году в Берлине — «Роза
Иерихона», в 1925-м в Париже — «Митина
любовь», в 1927-м — «Солнечный удар», в
1929-м — «Избранные стихи», в 1930-м —
«Тень птицы», в 1931-м — «Божье древо».
Жизненным трудностям и потерям, по
мысли Бунина, противостоит не только ис-
кусство, но и любовь как высший дар чело-
веческой судьбы. Чем прекраснее этот дар,
тем трагичнее судьба любящих людей. Бу-
нинская философия любви наиболее ярко
воплотилась в рассказе «Солнечный удар»
и повести «Митина любовь». Чувство это
может быть как неразделенным, так и вза-
имным, но даже если оно взаимно, оно
слишком прекрасно, чтобы длиться вечно.
Если встреча влюбленных продлится, то чу-
до «солнечного удара» исчезнет, умрет,
уступит место повседневности, привычке,
скучным будням. Поэтому и невозможно,
по Бунину, остановить это прекрасное
мгновенье, продлить очарование любовной
встречи.
Так, в рассказе «Солнечный удар» описа-
ние встречи героев, их любовного свидания
создает впечатление чуда, удивительной за-
гадки человеческих чувств, влечений,
страсти. После отъезда женщины из про-
винциальной гостиницы, когда мужчина
остается один в городке, где они сошли с па-
рохода и остановились на день, он мучи-
тельно осознает, что мир потускнел, краски
померкли, солнце светит теперь иначе, по-
тому что возлюбленная уехала и не остави-
ла надежды на будущую встречу. Он мучит-
ся вопросами: что же теперь делать, зачем
нужно все то, что его окружает, куда идти
дальше?
Любовь для героев — это и великая ра-
дость, и тяжкое испытание. В рассказе
♦Митина любовь» чувства центрального
персонажа, его первое любовное томление,
страсти, воспоминания, ожидание письма
переданы писателем прочувствованно, тро-
гательно, откровенно. Обманутый любимой
девушкой, Митя погибает. Трагедия случи-
лась в чудесные весенние дни, когда воздух
напоен цветением, пением птиц, жужжани-
ем пчел, когда радость кажется разлитой
вокруг, душа жаждет счастья и любви.
Именно в этот момент Митя узнает о Ка-
тиной измене и принимает решение покон-
чить с жизнью. «Ах, все равно. Катя, —
прошептал он горько и нежно, желая ска-
зать, что он простит ей все, лишь бы она
по-прежнему кинулась к нему, чтобы они>
вместе могли спастись, — спасти свою пре^
красную любовь в том прекраснейшем ве^
74
Иван Алексеевич Бунин
сеннем мире, который еще недавно был по-
добен раю».
Любовь в произведениях Бунина — это
небывалый взлет человеческих эмоций, и
далеко не все люди способны пережить та-
кое чувство. В любви сосредоточена вся ра-
дость и мука земного существования, но та-
кой высочайший накал чувств не может
длиться долго, поэтому столь часто финалы
произведений о любви у Бунина трагичны,
за мгновение счастья его герои платят за-
тем разочарованием, тоской, иногда даже
жизнью.
ИСТОРИЯ ДУШИ ПИСАТЕЛЯ
В 1927—1933 годах Бунин работал над
романом «Жизнь Арсеньева», первая часть
которого была издана в Париже в 1930-м, а
полностью роман вышел в Нью-Йорке в
1958 году. Темой романа стала история ду-
ши писателя, становление его характера и
таланта, творческие поиски одаренного
юноши, в образе которого отразились не
только воспоминания, но и духовный и эмо-
циональный опыт Бунина. Роман «Жизнь
Арсеньева» — произведение нового, нетра-
диционного, уникального жанра. Как пи-
сал К. Паустовский, «в этой удивительной
книге поэзия и проза слились воедино, сли-
лись органически, неразрывно». Ей свойст-
венны черты художественной биографии,
мемуаров, лирико-философской прозы, по-
следняя же ее часть — это повесть о любви.
В основе романа рассказ о духовном и
нравственном становлении личности цент-
рального героя Алексея Арсеньева. Духов-
но он, несомненно, близок автору, что от-
части делает роман автобиографическим.
Но в то же время мы не найдем в нем изло-
жения биографии Бунина, в нем даже от-
сутствует хронологическая последователь-
ность рассказа о жизни Алексея. Повест-
вование строится по концентрическому
принципу как во времени, так и в простран-
стве. Круг общения героя, его взаимосвязей
с внешним миром постоянно расширяется:
от родного поместья до дальних странст-
вий, прерываемых иногда возвращением в
родовое гнездо. Описания детства Алексея
наполнены лиризмом, поэзией: здесь и мо-
тивы одиночества, элегических раздумий и
красоты, гармонии внешнего мира с миром
юной души героя.
«...Рос я в великой глуши. Пустынные
поля, одинокая усадьба среди них... Зимой
безграничное снежное море, летом — море
хлебов, трав и цветов... И вечная тишина
этих полей, их загадочное молчание...» Об-
разы этого и подобных пейзажей навеяны
как лирическими стихотворениями Буни-
на, так и стилистикой русской усадебной
поэзии в целом. Имена Пушкина, Лермон-
това, Тургенева, Толстого, Баратынского
названы в романе как определившие духов-
ное становление Алексея Арсеньева, его
восприятие окружающего усадебного мира
не только в синхронном, но и в диахронном
контексте.
Для Бунина в его герое на первом пла-
не — черты творческой личности, художни-
ка, поэта, впитывающего все впечатления
об окружающем мире с юношеской жаждой
новизны и романтики. Бунин, как извест-
но, сам считал себя всю жизнь прежде всего
лирическим поэтом, а затем уже прозаи-
ком. Поэтому все, что окружает Алексея в
детстве и юности, важно автору лишь в той
мере, в какой эти явления способствуют
нравственному и духовному росту героя,
формированию в нем поэтического, гармо-
ничного и творческого отношения к миру.
Бунин «подарил» главному герою свою
влюбленность в природу, свои раздумья над
философскими проблемами бытия, свои пе-
реживания первой любви и волнения юного
автора, впервые увидевшего на страницах
журнала свои стихи.
Образная ориентация на историко-лите-
ратурную традицию в «Жизни Арсеньева*
не раз дополняется и прямыми высказыва-
ниями героя о месте русской культуры зо-
лотого века в процессе его духовного разви-
тия. Даже сюжет первой части — детство,
проведенное в фамильной усадьбе, — явля-
ется типическим для многих произведений
классической литературы. С точки зрения
жанровых особенностей, думается, «Жизнь
Арсеньева» наиболее сопоставима с автоби-
ографической трилогией Л. Н. Толстого,
75
Русские писатели XX века
где в центре авторского внимания оказыва-
ется глубокий психологический анализ, ди-
алектика души Николеньки Иртеньева.
Кстати, созвучны даже фамилии главных
героев, что также является свидетельством
бунинской ориентации на классическую
традицию.
В «Жизни Арсеньева* звучат и мотивы,
характерные для более ранней прозы и ли-
рики Бунина: мотивы запустения, увяда-
ния дворянских гнезд, знакомые по повес-
ти «Суходол» и другим произведениям.
«Все в Батурине оказалось еще хуже, чем я
представлял себе в дороге: ...пустой двор
перед угрюмым домом с печальными окна-
ми, с нелепо высокой и тяжкой крышей
времен дедов и прадедов и двумя темными
от навесов крыльцами, дерево которых сизо
от древности, — все старое, какое-то забро-
шенное, бесцельное — и бесцельный холод-
ный ветер гнет верхушку заветной ели, тор-
чащей из-за крыши дома, из жалкого в сво-
ей зимней наготе сада...» Ностальгия о
прошлом и психологическое состояние
Алексея, недавно расставшегося с возлюб-
ленной, соединяются в этом описании в осо-
бый тип лиризма, со щемящей тоской пере-
дающего боль утраты, прощание с надежда-
ми молодости, вступление в новый этап
жизни.
В образе центрального героя автор стре-
мился воплотить истоки поэзии души и
жизни. Юность героя, духовное и творче-
ское формирование его личности изображе-
ны с точки зрения писателя зрелого, носи-
теля совсем иного жизненного опыта. Мож-
но сказать, что в романе сопряжены два
временных пласта: время, о котором по-
вествуется в произведении, и время автор-
ской работы над ним, когда память Бунина
расставляла свои акценты, выявляла сущ-
ностные, важные события и оставляла вне
внимания незначительные, подводя итоги
прожитым годам.
В 1933 году Бунину была присуждена
Нобелевская премия по литературе «за
строгий артистический талант, с которым
он воссоздал в литературной прозе типич-
ный русский характер». Он стал первым
русским писателем, удостоенным этой са-
мой престижной международной премии.
Во Франции Бунин первое время жил в
Париже, а летом 1923 года переселился в
Приморские Альпы, в городок Грасс, непо-
далеку от Ниццы, возвращаясь в Париж
только на некоторые зимние месяцы. В эти
годы он работал над философско-литера-
турным эссе «Освобождение Толстого». Пи-
сатель стремился воссоздать духовный об-
лик классика русской литературы, постичь
особенности его художественного мышле-
ния.
Семья Буниных бедствовала во Фран-
ции, деньги, полученные Буниным как но-
белевским лауреатом, были прожиты и в
значительной части розданы нуждающим-
ся русским писателям.
Большим ударом для писателя стало на-
чало Второй мировой войны, он очень пере-
живал, когда фашисты напали на его роди-
ну, следил за сводками военных событий,
переставляя флажки на карте русских го-
родов. «Озверелые люди продолжают свое
дьявольское дело, убийства и разрушение
всего, всего! — писал он. — И все это нача-
лось по воле одного человека — разрушение
жизни всего земного шара... Нищета, дикое
одиночество, безвыходность, голод, холод,
грязь — вот последние дни моей жизни.
И что впереди? Сколько мне осталось? И че-
го? Битвы в России. Что-то будет? Это глав-
ное, главное — судьба всего мира зависит от
этого».
Годы Второй мировой войны Бунины пе-
режили в Грассе, на оставленной хозяева-
ми-англичанами вилле в горах, высоко над
городом. На их долю выпали итальянская и
немецкая оккупации, трудности быта, го-
лод.
Позже он вспоминал о времени оккупа-
ции, как 22 июня 1941 г., в день нападения
Германии на Россию, в Грассе арестовали
всех русских. Его не тронули по причине
возраста, но на виллу приезжала полиция с
обыском. В годы войны Бунины прятали у
себя людей, которых преследовали фашис-
ты, в частности пианиста А. Либермана и
его жену. Жить было не на что, и семья пи-
талась мерзлой картошкой или водичкой, в
76
Иван Алексеевич Бунин
которой плавала морковка, — это называ-
лось супом. Несмотря на все трудности, Бу-
нин при немцах не печатал своих произве-
дений, хотя ему предлагали сотрудничать в
издававшихся на оккупированной террито-
рии газетах и журналах. Переехать в Аме-
рику Бунин также отказался и всю войну
прожил в Грассе, на оккупированной тер-
ритории.
Работа была для Бунина своеобразной
отдушиной, спасением от ужаса войны,
нравственным противостоянием насилию и
свидетельством бесстрашия, духовного му-
жества.
Даже режим дня был подчинен работе:
он рано вставал, весь день сидел в своей
комнате, мало ел, но много курил и пил
крепкий кофе. После работы ходил гулять
и рано ложился.
Еще в 1937 году Бунин начал писать се-
рию рассказов о любви, позднее объединив
их в цикл под названием «Темные аллеи».
Название это, как вспоминал писатель, бы-
ло навеяно чтением стихов поэта Огарева.
В случайно попавшем ему в руки сборнике
он наткнулся на строки стихотворения
«Обыкновенная повесть»:
Кругом шиповник алый цвел,
Стояла темных лип аллея...
Прочитав эти строки, писатель предста-
вил себе картину русской природы: осеннее
ненастье, длинная дорога и одинокая коля-
ска на ней, едет куда-то старый военный.
Эта сцена послужила отправным эпизодом
рассказа «Темные аллеи», вошедшего в бу-
нинскую книгу и давшего название всему
сборнику.
Книга эта — о любви и о России. Любовь
для писателя — это удивительное счастье,
озаряющее всю жизнь человека. Она не зна-
ет смерти, представляет собой слияние зем-
ного и небесного начал и может повернуть
по-новому всю человеческую жизнь. Так,
героиня рассказа «Холодная осень», прово-
дившая своего жениха на войну, всю жизнь
вспоминает об их прощании холодным
осенним вечером, тридцать лет хранит в
сердце память о возлюбленном, который
погиб через месяц после призыва на фронт.
Она искренне убеждена, что все прекрас-
ное, случившееся в ее жизни, — это тот са-
мый осенний вечер, задушевные слова и
долгое, непоправимое прощание с люби-
мым, все остальное — лишь «ненужный
сон». А героиня рассказа «Темные аллеи*
хозяйка постоялого двора Надежда, через
всю жизнь пронесла любовь к барину, ког-
да-то оставившему ее. Их случайная встре-
ча тридцать лет спустя пробудила в обоих
сложные, драматические чувства. Она, хо-
тя и не простила, но продолжала любить
его всю жизнь, он же признается себе, что
потерял в ней «самое дорогое, что имел в
жизни», и сожалеет об утерянном счастье.
Пути любви неисповедимы, и автор пере-
дает всю гамму переживаний героев в их
взволнованном диалоге.
♦ Он покраснел до слез, нахмурясь опять
зашагал.
— Все проходит, друг мой, — забормотал
он. — Любовь, молодость — все, все. Исто-
рия пошлая, обыкновенная. С годами все
проходит. Как это сказано в книге Иова?
♦Как о воде протекшей будешь вспоми-
нать».
— Что кому бог дает, Николай Алексе-
евич. Молодость у всякого проходит, а лю-
бовь — другое дело.
Он поднял голову, остановись, болезнен-
но усмехнулся:
— Ведь не могла же ты любить меня весь
век!
— Значит, могла. Сколько ни проходило
времени, все одним жила. Знала, что давно
вас нет прежнего, что для вас словно ничего
и не было, а вот...»
Книга «Темные аллеи» замечательна
красотой и обаянием женских образов.
Можно даже сказать, что персонажи-муж-
чины представляют собой своеобразный
фон, который помогает оттенить и глубже
постичь тайну женской красоты, привлека-
тельности, любовного чувства. «Есть...
женские души, — писал Бунин, — которые
вечно томятся какой-то печальной жаждой
любви и которые от этого самого никогда и
никого не любят... Кто их разгадает?» Та-
кая женщина стала героиней рассказа
«Чистый понедельник». Странная, стра-
77
Русские писатели XX века
дающая, не понимающая самое себя, она
находится в вечном духовном поиске, со-
вершая, казалось бы, противоречивые, не-
понятные поступки, отказываясь от воз-
можности спокойного и безмятежного
счастья. Но для писателя именно такие
женские характеры и заключают в себе пре-
красную тайну, загадку красоты, привлека-
тельности любовных переживаний.
Бунин не пишет о счастливой, соединяю-
щей людей любви. Герой рассказа «Таня»
выражает, по-видимому, авторскую мысль,
говоря, что любовь в этом мире должна
быть недолговечной, обреченной, что «свя-
зать себя навеки» даже с любимой женщи-
ной значит убить свою любовь, обратить это
чувство в привычку, обыденность, скуку.
Поэтому он не решается жениться на Тане,
хотя любит ее глубоко, искренне, по-на-
стоящему.
Работая над книгой «Темные аллеи» в
античеловеческих условиях оккупации,
среди катастроф, насилия и жестокости,
Бунин находил в себе силы противостоять
ударам судьбы, следовал важнейшим нрав-
ственным принципам, которые помогали
ему преодолевать трудности жизни. Он все-
гда, особенно в годы эмиграции, находил
духовную опору в красоте, которая, по мет-
кому слову Достоевского, призвана спасти
мир. Это и красота природы в ее вечной из-
менчивости и возрождении, и красота про-
изведений искусства, возвышающих душу,
и красота творчества, поэтического призва-
ния, интенсивной жизни сердца и разума.
Как писал Бунин в рассказе «Богиня Разу-
ма», «...от жизни человечества, от веков,
поколений остается на земле только высо-
кое, доброе и прекрасное, только это. Все
злое, подлое и низкое, все глупое в конце
концов не оставляет следа: его нет, не вид-
но. А что осталось, что есть? Лучшие стра-
ницы лучших книг, предание о чести, о со-
вести, о самопожертвовании, о благород-
ных подвигах, чудесные песни и статуи,
великие и святые могилы, греческие хра-
мы, готические соборы... и «Смертию
смерть поправ...»
После окончания войны, в мае 1945 года,
Бунин вернулся в Париж. Вскоре там был
проведен его литературный вечер, затем по-
следовали и торжества, посвященные семи-
десятипятилетию писателя. В 1950 году в
Париже выходит его книга мемуаров о пи-
сателях-современниках « Воспоминания *.
В нее вошли очерки-портреты Блока, Горь-
кого, Волошина, А. Н. Толстого и других.
Последним творением Бунина стало лите-
ратурно-философское эссе «О Чехове». Он
не успел его завершить, оно было издано
уже после смерти писателя.
В конце жизни Бунин тяжело болел. По-
чти ежегодно он переносил воспаления лег-
ких, после тяжелой операции так и не смог
окрепнуть. Он умер 8 октября 1953 года в
Париже и был похоронен на парижском
кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.
Творчество Бунина вызывает и в наши
дни живой интерес исследователей, россий-
ских и зарубежных литературоведов при-
влекают яркие особенности таланта писа-
теля, утверждение в качестве вечных, не-
тленных ценностей бытия человеческих
чувств: любви, памяти, красоты и патри-
отизма. Его стилистике свойственны жи-
вописность деталей, компактность повест-
вования, конкретность и чувственность в
раскрытии человеческих судеб, проблем,
исканий.
Бунин на всех этапах своего творческого
пути писал о загадках человеческой жизни,
о высшем смысле индивидуального бытия.
Чувство полноты и радости прожитых лет,
по Бунину, могут дать человеку только доб-
рота, духовность, способность ощутить кра-
соту природы, насладиться искусством, ис-
пытать восторг любви и творчества.
П. В. Басинский
Максим
Горький
(1868-1936)
ПРЕДИСЛОВИЕ
Максим Горький оставил нам загадку
своей личности. Его художественное зна-
чение оказалось несколько преувеличен-
ным в начале XX века, когда популярность
писателя в России неожиданно сравнялась
со славой Чехова и Толстого, которых он
сам считал своими учителями. Тиражи из-
даний Горького в начале 900-х годов бы-
ли по понятиям того времени неслыхан-
ными и выражались сотнями тысяч экземп-
ляров.
Все искали его дружбы. Солидные обще-
ственные деятели и известнейшие литера-
торы Владимир Галактионович Короленко,
Николай Константинович Михайловский,
Анатолий Федорович Кони, Павел Никола-
евич Милюков, Петр Бернгардович Струве
и др. устроили в 1899 году в Петербурге
банкет в честь молодого писателя из про-
винции. Его узнавали на улицах. Толпы
людей осаждали вагоны поезда во время его
путешествий. В провинциальных городах
время от времени появлялись личности,
подражавшие внешности и поведению
Горького: это были его двойники, которых
часто путали с настоящим писателем.
За границей его чествовали Стефан
Цвейг, Ромен Роллан, Марк Твен... Италь-
янские извозчики знали его в лицо и горди-
лись тем, что из европейских стран он боль-
ше всего полюбил Италию. Когда после ре-
волюции, находясь в эмиграции, Иван
Бунин выступил со статьей, где подверг
раннее творчество Горького жесткой, но в
чем-то справедливой критике, его выступ-
ление вызвало сенсацию, так велико было
влияние Горького в Европе.
Отчего это происходило? Почему пьеса
«На дне», поставленная в Московском Ху-
дожественном театре Константином Серге-
евичем Станиславским, пользовалась неве-
роятным успехом, а «Чайка» Чехова, впос-
ледствии ставшая символом этого театра, в
первой постановке провалилась? Едва ли
можно исчерпывающе ответить на эти во-
просы. Видимо, объяснение этому найдем
не только в творчестве Горького, но и в том
особом положении, которое он занял в мире
благодаря каким-то неординарным свойст-
вам своей личности.
С самого начала вокруг Горького воз-
никло мощное психологическое поле, кото-
рое притягивало громадное множество лю-
дей — и знаменитых, и никому не извест-
ных. И сами события русской жизни
начала XX века, казалось, бурлили вокруг
этого человека, подчиняясь его влиянию.
Личность Горького не оставила равно-
душными современников. Лев Толстой,
этот мудрый старик, покоривший своим та-
лантом и умом целый мир, в поздних днев-
никах пытался мучительно разобраться в
феномене Горького. Александр Блок, вели-
кий поэт России, незадолго до смерти много
и «тяжело» думал о Горьком (признание в
дневнике поэта). Евгений Замятин всерьез
считал, что в Горьком было «два человека».
Дмитрий Мережковский и Корней Чуков-
ский тоже полагали, что у Горького «две
души».
Историк Лев Николаевич Гумилев пред-
ложил такое определение исторических
79
Русские писатели XX века
личностей: «пассионарии» (от франц, «pas-
sion* — страсть). Горький был «пассиона-
рием*, то есть такой личностью, которая
излучала вокруг себя мощное энергическое
поле, непосредственно влиявшее на судьбы
мира.
В старости он стал внешне походить на
немецкого философа-радикала Фридриха
Ницше. Это можно легко проверить, если
положить рядом их портреты. Советская
писательница Ольга Форш писала о Горь-
ком в 1928 году: «Он сейчас очень похож на
Ницше. И не только своими пугающими
усами, а более прочно. Может, каким-то
внутренним родством, наложившим на их
облики общую печать...»
Известно, что Горький был страстным
поклонником Человека. Не каких-либо
конкретных людей, но Человека в истори-
ческом и метафизическом смысле слова.
В 1904 году он написал поэму «Человек», в
которой попытался сделать невозможное:
изобразить все человечество в одной симво-
лической фигуре. Поэма получилась сла-
бой. Над ней посмеивался Чехов, ее крити-
ковал Короленко. Но все-таки замысел ее
впечатляет! Так и в самом Горьком было не-
мало странного. Но завораживают замысел
и масштаб этого человека, родившегося в
деревянном доме в Нижнем Новгороде,
ставшего одним из самых знаменитых пи-
сателей XX века и окончившего жизнь в не-
счастной роли вождя «социалистического
реализма» и заложника сталинского режи-
ма. Личность Горького символизирует со-
бой целую эпоху русской и мировой жизни.
А это, согласитесь, немало!
ЖИЗНЬ и книги
Ранняя биография Горького замечатель-
но описана в его автобиографической три-
логии «Детство» (1914), «В людях» (1916),
«Мои университеты* (1923).
Максим Горький (настоящие имя и фа-
милия Алексей Максимович Пешков) ро-
дился 16 (28) марта 1868 года в Нижнем
Новгороде. Кто бывал в этом старинном го-
роде на слиянии двух великих русских рек,
Оки и Волги, тот мог почувствовать атмо-
сферу, в которой формировалась личность
будущего писателя. Широта речных про-
сторов и заливных заволжских лугов соче-
талась здесь с размахом деятельности рус-
ского купечества — экономической основы
благосостояния России второй половины
XIX века. И не только экономической.
Факты и цифры неоспоримо свидетельству-
ют о том, что накануне Первой мировой
войны Россия переживала экономический
и культурный расцвет. Это была страна, не
только способная накормить себя, но и ве-
дущий мировой экспортер зерна. Это была
страна, в которой развивалась промышлен-
ность, организуемая выходцами из русско-
го купеческого сословия.
Размах деятельности Морозовых, Дяги-
левых, Мамонтовых, Рябушинских, Рука-
вишниковых и других, как правило, при-
надлежавших к старообрядческим семьям
со своим строгим религиозным укладом и
твердыми нравственными принципами, по-
ражает воображение не меньше, чем стре-
мительный расцвет американского капита-
лизма в лице знаменитых семейств Фордов,
Морганов, Рокфеллеров... Русские купцы
были людьми высочайшей образованности
(заканчивали университеты, знали евро-
пейские языки) и нравственной культуры.
Из недр этой среды вышли писатель Влади-
мир Набоков и культурный организатор
Сергей Дягилев, к купеческой фамилии
принадлежал и вождь русских символистов
Валерий Брюсов. Их деньги шли не только
на приумножение капитала, но и на разви-
тие образования, здравоохранения, куль-
турные начинания, благотворительность.
Отец Горького, Максим Савватиевич
Пешков, — мастер-краснодеревщик, сын
офицера николаевской армии, разжалован-
ного в солдаты за грубое обращение с под-
чиненными. Так же бывший николаевский
офицер тиранил и своего сына, который в
конце концов сбежал от него. В 1870 году
Максим Пешков дослужился до управляю-
щего пароходной конторой в Астрахани, но
вскоре умер от холеры, заразившись от ма-
ленького Алексея.
Мать Горького Варвара Васильевна Ка-
ширина — из мещан. Рано овдовев, она вто-
80
Максим Горький
рично вышла замуж, но вскоре умерла от
скоротечной чахотки. Детство будущего пи-
сателя прошло в доме деда по материнской
линии Василия Васильевича Каширина.
В молодости дед бурлачил, потом разбога-
тел, стал владельцем красильного заведе-
ния, но в старости разорился. Он обучал
мальчика по церковным книгам, а бабушка
Акулина Ивановна приобщила к народным
песням и сказкам, но самое главное — заме-
нила мать, «насытив крепкой силой для
трудной жизни...» («Детство»).
Горький не получил серьезного образова-
ния, закончив лишь ремесленное училище
Кунавинской слободы Нижнего Новгорода.
В Казанский университет, как мечталось,
не поступил. Рано вспыхнувшую жажду
знаний утолял самостоятельно: он принад-
лежал к классическому типу русских «са-
моучек». Тяжелая работа (посудник на па-
роходе, «мальчик» в магазине, ученик в
чертежной и иконописной мастерских, де-
сятник на ярмарочных постройках, статист
театра) преподала хорошее знание жизни и
внушила мечты о переустройстве мира на
иных, добрых и разумных, основаниях.
«Мы в мир пришли, чтобы не соглашать-
ся...» — сохранившийся фрагмент из унич-
тоженной ранней поэмы Горького «Песнь
старого дуба», с которой он однажды явил-
ся на суд к В. Г. Короленко и получил от не-
го мягкий, но отрицательный отзыв, смысл
которого был примерно следующий: «Если
бы вы, молодой человек, были барышней,
я бы сказал вам: «Недурно, милая, но луч-
ше — выходите замуж...» Этот ответ задел
самолюбие начинающего писателя, но и за-
ставил его строже относиться к своему
творчеству. В дальнейшем именно Королен-
ко помог ему опубликовать в самом попу-
лярном в то время литературном журнале
«Русское богатство» рассказ «Чел каш»
(1895), в котором уже чувствовалась рука
молодого мастера.
В декабре 1887 года в Казани юный
Алексей Пешков пытался покончить с со-
бой. В рассказе «Случай из жизни Макара»
(1912) он дал такое объяснение своему по-
ступку:
«Уходя все глубже в даль своих мечтаний, Ма-
кар долго не ощущал, как вокруг него постепенно
образуется холодная пустота. Книжное, незамет-
но заслоняя жизнь, постепенно становилось ме-
рилом его отношений к людям и как бы попирало
в нем чувство единства со средою, в которой он
жил, а вместе с тем, как таяло это чувство, таяли
выносливость и бодрость, насыщавшие Мака-
ра...»
Выходец из рабочих, Макар — идеалист
и рыцарь идеи. Люди, как они есть, не
устраивают его. Он хочет послужить «вели-
кому делу обновления». Но это желание,
оказывается, имеет другую сторону. «Вы-
ламываясь» из родной среды, Макар как бы
обретает в себе Человека, но вместе с тем те-
ряет «ощущение равенства с людьми, среди
которых он жил и работал...» Он попадает в
страшный социальный вакуум. Все луч-
шее, что он воспитал в себе ради людей,
оказалось ненужным людям. Рождаясь как
независимая личность, он неожиданным
образом приходит к идее погибнуть физиче-
ски. Борьба с «материей жизни», говоря
словами А. Платонова, приводит к мысли о
смерти.
Все это было и в судьбе молодого Горько-
го. Объяснение причин несовершенства ми-
ра он искал и в жизни, и в книгах. В жизни
занимает активную позицию: принимает
участие в революционной пропаганде, вмес-
те с революционером-народником Ромасем
идет «в народ», странствует по Руси, двига-
ясь с массой крестьянства с севера на юг,
общается с босяками.
Только за один 1891 год он обошел По-
волжье, Дон, Украину, Крым, Кавказ. По-
бывал в Казани и Царицыне, Росто-
ве-на-Дону, Харькове, Курске, Воронеже,
Полтаве, Киеве. В селе Кандыбове Никола-
евского уезда за попытку спасти от публич-
ного наказания миром деревенскую жен-
щину был избит мужиками. После никола-
евской больницы направился в Одессу.
Горький путешествует по Бессарабии, за-
тем попадает в Херсон, Симферополь, Се-
вастополь, Ялту, Алупку, Керчь, Тамань.
В Майкопе был арестован как «проходя-
щий». Затем Беслан, Терская область, Му-
81
Русские писатели XX века
хет и Тифлис. Работает на добыче соли,
грузчиком, в мастерской.
И все это — за один год!
Неудивительно, что ранние рассказы
Горького поразили российскую читающую
публику своими яркими характерами, стре-
мительными сюжетами, невероятной плот-
ностью описываемых событий, что выделя-
ло их не только на общем фоне скучноватой
русской беллетристики конца XIX века,
но и на фоне гениальной, однако «суме-
речной» прозы Антона Павловича Чехова.
С прозой молодого Горького в русскую ли-
тературу ворвалась неизвестная Россия —
Россия странных людей, живущих под от-
крытым небом, ночующих возле костров,
философствующих о жизни не в душных
кабинетах, но в поле, в лесу, на берегах рек.
От этой философии веяло дыханием под-
линной жизни, а не умозрительных схем.
Первый опубликованный рассказ Горь-
кого появился в малоизвестной тифлисской
газете «Кавказ» в 1892 году. Это был «Ма-
кар Чудра», и начинался он размышления-
ми о жизни старого и мудрого цыгана:
«Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу
и давят друг друга, а места на земле вон сколь-
ко... И все работают.Лачем? Кому? Никто не зна-
ет. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот
он по капле с потом силы свои источит на землю,
а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем
не останется, ничего он не видит с своего поля и
умирает, как родится, — дураком...»
Поразительно, однако, что эти мысли че-
ловека, скорее всего не прочитавшего в сво-
ей жизни ни одной книги, почти буквально
совпадали с идеями Фридриха Ницше в его
сложнейшей философской работе «Несвое-
временные размышления»:
«Все мучаются из-за того, чтобы жалко про-
длить жалкую жизнь; эта ужасная потребность
ведет к изнурительному труду... Но для того, что-
бы труд мог требовать себе почетных титулов,
необходимо прежде всего, чтобы само существо-
вание, для которого он является мучительным
средством, имело бы больше ценности и достоин-
ства...»
Не менее сложным и извилистым был
читательский опыт Горького. В молодом
возрасте он испытал на себе различные
философские влияния: от французского
Просвещения и материализма Гёте до пози-
тивизма Жана-Мари Гюйо, романтизма
Джона Рескина и пессимизма Артура Шо-
пенгауэра. В его нижегородской библиотеке
90-х годов рядом с «Историческими пись-
мами» Петра Лаврова и первым томом «Ка-
питала» Карла Маркса стояли книги Эдуар-
да Гартмана, Макса Штирнера и Ницше.
Его страсть к философскому чтению
нельзя объяснить только любознательно-
стью. Поистине «горький» опыт детской и
юношеской жизни заставлял искать более
глубокие корни страданий человека, чем
те, что лежали на поверхности жизни. По-
жалуй, как никто из русских писателей,
Горький очень рано столкнулся с несовер-
шенством человеческой природы в самом
низменном смысле. Жестокость, грубость,
невежество и прочие «прелести» провинци-
ального быта отравили душу будущего пи-
сателя, но и парадоксальным образом поро-
дили в нем великую веру в Человека и его
потенциальные возможности. «Сшибка»
этих двух противоречащих начал и создала
тот особый дух романтической философии
Горького, где Человек (идеальная сущ-
ность) не только не совпадал с человеком
(реальным существом), но и вступал с ним в
трагический и неразрешимый конфликт.
«В наши дни ужасно много людей, только
нет человека», — вот формула молодого
Горького, заявленная в одном из его писем.
Это фраза напоминает рассказ об античном
философе-кинике Диогене Синопском, ко-
торый среди бела дня бродил с фонарем в
руках и говорил: «Ищу человека».
В 1926 году в письме к С. Т. Григорьеву
Горький высказал поразительную мысль:
«Мне кажется, что даже и не через сто лет, а
гораздо скорей жизнь будет несравненно тра-
гичнее той, коя терзает нас теперь. Она будет
трагичной потому, что — как всегда это бывает
вслед за катастрофами социальными — люди,
уставшие от оскорбительных толчков извне, обя-
заны и принуждены будут взглянуть в свой внут-
ренний мир, задуматься — еще раз — о цели й
смысле бытия».
82
Максим Горький
Но раннее творчество Горького ценно
для нас именно тем, что оно провозглашало
величие Человека вопреки мрачным жиз-
ненным обстоятельствам. В атмосфере рос-
сийского безвременья и скуки раздался бод-
рый голос Максима Горького. Этот голос
вселял надежду:
«Человек! Точно солнце рождается в груди мо-
ей, и в ярком свете его медленно шествует — впе-
ред! и — выше! трагически прекрасный Человек!»
Согласно Горькому, Человек является не
«сосудом греха», но Вселенной, которая не
нуждается в оправдании извне. Человек —
это все! «Он создал даже Бога», — писал
Горький Илье Репину 23 ноября 1899 года.
«ЧЕЛОВЕК ИЗ НАРОДА»?
В 1898 году в петербургском издательст-
ве Дороватовского и Чарушникова вышли
двумя выпусками «Очерки и рассказы»
М. Горького, которые принесли автору сен-
сационный успех. С того времени слава писа-
теля росла с невероятной стремительностью.
В 1903 году было продано в общей сложнос-
ти 102 930 экземпляров его сочинений и от-
дельно: 15 246 экземпляров пьесы «Меща-
не» и 75 073 экземпляра пьесы «На дне».
Однако внешняя легкость этого успеха
была обманчивой. Слава Горького явилась
итогом нескольких лет тяжелых лишений,
странствий, одиночества и душевных кри-
зисов, каторжного журналистского труда в
провинции и весьма непростых вначале от-
ношений с редакторами и издателями. Но
читатели и критика заметили прежде всего
романтическую сторону его судьбы и при-
дали ей решающее значение.
И вот выходец из народа и чуть ли не бо-
сяк, не имеющий даже гимназического об-
разования, ворвался в русскую литературу
и совершил в ней переоценку ценностей,
нарушив прежние представления о литера-
турном авторитете. В XIX веке родовое имя
человека, как правило, ценилось больше
его литературного имени. Так, Афанасий
Фет, антипод Горького по стилю жизненно-
го поведения, страдал от незаконности свое-
го рождения, добивался возвращения родо-
вой фамилии Шеншин и ненавидел свое
поэтическое имя, напоминавшее о его не-
мецком происхождении.
На рубеже веков мы наблюдаем нечто об-
ратное. Борис Николаевич Бугаев страдал
от своей роли «профессорского сынка» и
придумал себе звучный псевдоним Андрей
Белый. До этого и позже появилось много
подобных «говорящих» имен: Горький,
Скиталец, Демьян Бедный, Саша Черный и
др. В 90-е годы в интеллектуальной жизни
России побеждает самосознание, названное
Андреем Белым вслед за Фридрихом Ни-
цше «волей к переоценке*. Традиционные
социальные связи ветшали, а новые воз-
никали с трудом в условиях застывшей по-
литической системы. Паралич Русской пра-
вославной церкви, которая в силу своего
государственного положения в послепет-
ровскую эпоху не могла полноценно участ-
вовать в новых общественных и интеллек-
туальных течениях, сопровождался стре-
мительным ростом атеизма, особенно среди
интеллигенции, к началу века ставшей по
преимуществу атеистической.
Россия ожидала взрывов, потрясений,
катастроф, которые бы мгновенно развея-
ли предгрозовое затишье 80—90-х годов.
В этой атмосфере все яркое, кричащее, не-
изведанное вызывало повышенный инте-
рес. Так было с философией Ницше. То же
случилось и с прозой Горького.
«В девяностых годах Россия, — писал впослед-
ствии критик-эмигрант Георгий Адамович, — из-
нывала от «безвременья», от тишины и покоя...
— ив это затишье, полное «грозовых» предчувст-
вий, Горький со своими соколами и буревестника-
ми ворвался, как желанный гость. Что нес он с со-
бою? Никто в точности этого не знал, — да и до то-
го ли было? Не все ли, казалось, равно, смешано
ли его доморощенное ницшеанство с анархизмом
или с марксизмом: тогда эти оттенки не имели ре-
шающего значения. Был, с одной стороны,
«гнет», с другой — все, что стремилось его унич-
тожить, с одной стороны «произвол», с другой —
все, что с ним боролось. Не всегда разделение про-
водилось по линии политической — чаще оно шло
по извилистой черте, отделяющей всякий свет от
всякого мрака. Все талантливое, свежее, новое за-
числялось в «светлый» лагерь, и Горький был
принят в нем как вождь и застрельщик...»
83
Русские писатели XX века
Чем поражали современников ранние ро-
мантические произведения Горького? По-
чему они так безотказно, пользуясь опреде-
лением Толстого, «заражали» читателей? В
громадном успехе, который принесли писа-
телю «Очерки и рассказы», роман «Фома
Гордеев» (1899) и пьеса «На дне» (1902),
словно был некий элемент чуда, не поддаю-
щегося рациональному объяснению и, оче-
видно, связанного с особенностью эпохи.
С самого начала обозначилось серьезное
расхождение между тем, что писала о Горь-
ком критика, и тем, что хотел видеть в нем
рядовой читатель. Традиционный принцип
толкования произведений с точки зрения
заключенного в них социального смысла
применительно к раннему Горькому не сра-
батывал. Читателя меньше всего интересо-
вал смысл горьковских вещей. Он искал и
находил в них прежде всего настроение, со-
звучное времени.
Критика пыталась найти в произведени-
ях Горького социально-психологические
типы («лишний человек», «кающийся дво-
рянин»), а находила колоритные и жизнен-
ные фигуры, которые, впрочем, не всегда
отвечали за собственные слова и поступки.
Не только критиков, но и, например,
Л. Толстого, с которым Горький познако-
мился, еще будучи неизвестным писателем
(«настоящий человек из народа», — запи-
сал о нем Толстой в своем дневнике), возму-
щал и коробил факт, что молодой автор за-
ставляет своих героев изъясняться не свой-
ственным им языком. При этом непонятно
было: чей именно это язык?
«...все мужики говорят у вас очень умно, —
заметил Толстой М. Горькому. — В жизни они го-
ворят глупо, несуразно, — не сразу поймешь, что
он хочет сказать. Это делается нарочно, — под
глупостью слов у них всегда спрятано желание
дать выговориться другому. Хороший мужик ни-
когда сразу не покажет своего ума, это ему невы-
годно... А у вас — все нараспашку, и в каждом
рассказе какой-то вселенский собор умников.
И все афоризмами говорят, это тоже неверно, —
афоризм русскому языку не сроден...»
В то же время Толстой высоко оценил об-
разы босяков, считая, что молодому писате-
лю удалось познакомить образованную пуб-
лику с несчастным положением «бывших
людей». До сих пор принято думать, что
Горький был одним из первых изобразите-
лей босячества, что Коновалов, Челкаш,
Кувалда, Шакро и другие — те самые бося-
ки, или «золоторотцы», которые наводнили
Россию в период распада социальных свя-
зей, разложения крестьянских общин, миг-
рации населения и проч.
Так ли это?
Горький, оказывается, не был первым
изобразителем босячества. До него были
Г. И. Успенский, А. И. Левитов, В. А. Слеп-
цов, Ф. М. Решетников. В 1885 г. появился
рассказ В. Г. Короленко «Соколинец», на-
званный Чеховым «самым выдающимся
произведением последнего времени». В на-
чале века вышли также научно-популярные
исследования Анатолия Александровича
Бахтиарова (1851—1916) «Босяки* (1903) и
«Отпетые люди» (1903).
Бахтиарова меньше всего волновала
«философия* босячества. Он изучал босяка
только как социальный тип. Итоги, к кото-
рым пришел Бахтиаров, решительно отли-
чались от художественных выводов Горько-
го. По мнению Бахтиарова, основной дви-
жущей силой босячества является поиск
пропитания, что и определяет социум этих
людей, еще более жесткий и тиранический,
чем нормальное цивилизованное общество.
«Все босяки группируются на партии или
шайки, в каждой шайке — свой вожак, имеющий
на них огромное влияние. Шайка состоит человек
из пяти, восьми и более. Группировки босяков в
маленькие артели вызваны необходимостью.
Продовольствие целою шайкой обходится сравни-
тельно гораздо дешевле, чем в одиночку. На-
пример, в чайном заведении босяки заказывают
порцию чая на всю партию, человек восемь. Ки-
пятку сколько хочешь, так что чаепитие обхо-
дится босяку, по разверстке, по 1 копейке с чело-
века и даже дешевле».
Босяки вовсе не однородны, и это также
связано с добычей пропитания. Среди них
встречаются «рецидивисты», «мазурики»,
«стрелки» и даже такой экзотический тип,
как «интеллигентный нищий». Соответ-
ственно, они делятся на группы, «в масть,
84
Максим Горький
как говорится, для большей безопасности в
отношении воровства, пьянства ит.д.».
Объединяются они также по сословному
принципу: бывшие мещане, бывшие масте-
ровые, бывшие дворяне. Такая сортировка
производилась в ночлежках смотрителем.
Забота о пропитании создавала в среде бося-
ков особые «социальные отношения», осо-
бые «законы», за нарушение которых ви-
новный строго наказывался «обществом».
Таким образом, у босяка не оставалось ни
сил, ни времени на собственное «я» или на
выяснение своего положения в мире, чем
бесконечно занимаются герои Горького.
Положение в мире босяка определялось
тем, каким способом он добывал кусок хле-
ба: скажем, воровал, попрошайничал или
рылся на помойке.
Все это имело мало общего с горьков-
ским типом босяка. Очевидно, социальный
облик босячества меньше всего интересовал
раннего Горького, хотя по опыту он был
знаком с ним не хуже и даже, наверное,
лучше Бахтиарова. Но его художественное
зрение было особенным. Он искал в среде
босячества не социальные типы, а новое на-
строение, романтическую философию. По-
явившись в литературе, Горький спутал
критике ее карты. Он подменил проблему
художественной типизации проблемой
«идейного лиризма», по точному определе-
нию критика М. М. Протопопова. Его герои
напоминали кентавров, так как несли в се-
бе, с одной стороны, типически верные чер-
ты, за которыми стояло хорошее знание
жизни и литературной традиции; а с дру-
гой — произвольные черты и особого рода
«философию», которой автор наделял геро-
ев по собственному усмотрению. В конце
концов молодой писатель своими текстами
заставил критиков решать не проблемы те-
кущей жизни и ее отражения в данном ху-
дожественном зеркале, но непосредственно
«вопрос о Горьком» и том идейно-психоло-
гическом типе, который благодаря ему во-
шел в интеллектуальную жизнь России ру-
бежа XIX—XX веков.
Знаменательное столкновение М. Горь-
кого с русской критикой в лице главного
редактора «Русского богатства» Н. К. Ми-
хайловского произошло в 1895 году. Безу-
словно, роль последнего, как и Короленко,
в литературном становлении молодого пи-
сателя велика. По существу, они впервые
открыли его широкому читателю, напеча-
тав в «Русском богатстве» рассказ «Чел-
каш». Оценка Михайловского, высказан-
ная в письме к молодому автору, была в це-
лом благожелательной. Рассказ появился в
начале журнальной книжки, что придало
публикации дополнительный вес. Все это
необыкновенно «подняло самочувствие» ав-
тора, как он сам выразился в ответном
письме к Михайловскому.
Но в то же время главного редактора
смутил абстрактный идейный смысл рас-
сказа. Он писал, что рассказ «местами
очень растянут», «страдает отвлеченно-
стью», и посоветовал показать его Королен-
ко, чтобы сделать вместе с ним редактуру, а
именно: указать, из какой губернии Гаври-
ла и где он научился так хорошо работать
веслами (что невозможно для выходца из
степной губернии), изменить язык Гаври-
лы, чтобы он не так напоминал язык Чел-
каша, который «может говорить о «свобо-
де* и прочем почти таким же языком, как и
мы с Вами говорим», и т. п. Иначе, призна-
вался Михайловский, «Гаврилу я себе пред-
ставить не могу, не психологию его — она
понятна, а как бытовую фигуру*.
Горький подверг рассказ незначитель-
ной редактуре, главным образом по части
сокращения текста. Почти все конкретные
советы Михайловского он оставил без вни-
мания. Был ли это жест сознательного не-
согласия с редакторской волей — трудно
сказать. Во всяком случае, если предста-
вить себе рассказ в исправленном виде,
можно догадаться, что редактура «по-Ми-
хайловскому» не повредила бы рассказу, но
и не была бы для него принципиальной.
В дальнейшем Горький старался быть точ-
нее в отношении бытовых фактов и нередко
сам называл себя «писателем-бытовиком».
А пока Михайловский не принял другой
рассказ Горького — «Ошибка». Мотивы, по
которым он это сделал, объяснил молодому
автору Короленко, хорошо знавший взгля-
85
Русские писатели XX века
ды и принципы редактора «Русского богат-
ства» :
«Если Вы читали Михайловского «Мучитель-
ный талант» (статья в «Отечественных записках»
1882 года в действительности называлась «Жес-
токий талант». — П. Б.), то знаете, что он даже
Достоевскому не мог простить «мучительности»
его образов, не всегда оправдываемой логической
и психологической необходимостью. У Вас есть в
данном рассказе тот же элемент. Вы берете чело-
века, начинающего сходить с ума, и помещаете
его с человеком, уже сумасшедшим. Коллизия,
отсюда вытекающая, представляется совершенно
исключительной, поучение непропорционально
мучительности урока, а образы и действие — тол-
пятся в таком ужасном психологическом закоул-
ке, в который не всякий решится заглянуть...»
Однако есть основания думать, что Ми-
хайловского смутила не только «мучитель-
ная» форма рассказа (восходившая скорее
не к Достоевскому, а к Гаршину), но его
идейное содержание. Едва ли ему могли по-
нравиться слова Ярославцева: «Это сильно
(...), и потому оно морально и хорошо», —
явно выпадающие из традиционных пред-
ставлений о нравственности. Он не мог при-
нять и другие афоризмы персонажа, напри-
мер: «Причина современного шатания мыс-
ли — в оскудении идеализма». Или такую
странную мысль: «Кто знает, может быть,
высшая истина не только не выгодна, но и
прямо-таки вредна нам? »
Редактора «Русского богатства», уже на-
чавшего борьбу с декадентами, не могли
также не смутить слова: «Декаденты —
тонкие люди. Тонкие и острые, как иг-
лы, — они глубоко вонзаются в неизвест-
ное...» Особенно было странно, что все эти
речи говорил провинциальный учитель и
статистик, вдобавок сошедший с ума. Дей-
ствительно, это делало рассказ «мучитель-
ным». Но в то же время отсутствие социаль-
ной и психологической мотивировки лишь
подчеркивало смысл этих слов. Если сам
Ярославцев не мог отвечать за свои мысли,
то кому они принадлежали? Чужие в устах
безумного учителя, эти слова приобретали
особое значение и становились просто афо-
ризмами. Этот прием вообще характерен
для раннего Горького, который ставил фи-
лософские проблемы, не всегда согласуясь с
жизненной логикой и элементарной быто-
вой правдой.
В конце концов Михайловский приписал
слова героя самому Горькому. В этом его
убедило еще и то, что в 4-м издании очерков
и рассказов автор исключил из «Ошибки»
ницшеанское уравнение: «сильно = мораль-
но и хорошо». «Очевидно, — писал Михай-
ловский, — уравнение представляло хотя
отчасти собственную мысль автора, от кото-
рой он ныне отказался».
Горький вошел в литературу, когда в
разгаре была борьба народников и марксис-
тов и началась борьба народников и дека-
дентов. В том же году, когда появился «Ма-
кар Чудра» (1892), Д. С. Мережковский на-
печатал статью «О причинах упадка и о
новых течениях современной русской лите-
ратуры», направленную против эстетиче-
ских идеалов народничества. В 1896 году во
главе журнала «Северный вестник* оказал-
ся А. Л. Волынский, автор книги «Русские
критики» (1896), в которой анализирова-
лись взгляды шестидесятников. Вместе с
первыми символистами (Мережковским,
Гиппиус и Брюсовым) Волынский привлек
к сотрудничеству и Горького, напечатав
рассказы «Озорник», «Мальва» и «Варень-
ка Олесова».
Причины, по которым Горький со-
гласился печататься в «Северном вестни-
ке», понятны из его писем к Волынскому.
Здесь и денежные трудности, и недовольст-
во отказом Михайловского опубликовать
«Ошибку* (ее сам автор считал «порядоч-
ным» рассказом), и нормальное желание
молодого писателя быть напечатанным в
столичном журнале. Но здесь и принципи-
альное несогласие Горького со взглядами
либерального народничества, и особого ро-
да «идеализм* как попытка если не преодо-
леть мрачные условия жизни, то хотя бы
вырваться в мечтах за серый круг действи-
тельности.
«Я ругаюсь, — писал он Волынскому, — когда,
при мне смеются над тихим и печальным стоном1
человека, заявляющего, что он хочет «того, чего’
86
Максим Горький
нет на свете»... Кстати, — скажите Гиппиус, что
я очень люблю ее странные стихи...»
В 90-е годы отношение Горького к разно-
го рода общественным и эстетическим тече-
ниям еще не определилось. Об этом он пря-
мо написал И. Е. Репину:
«Я вижу, что никуда не принадлежу пока, ни
к одной из наших «партий». Рад этому, ибо — это
свобода. А человеку очень нужна свобода, и в сво-
боде думать по-своему он нуждается более, чем в
свободе передвижения».
Таким же неясным было отношение пи-
сателя к вечным вопросам.
«Ницше где-то сказал: «Все писатели всегда
лакеи какой-нибудь морали», — писал он
А. П. Чехову. — Стриндберг — не лакей. Я — ла-
кей и служу у барыни, которой не верю, не ува-
жаю ее. Да и знаю ли я ее? Пожалуй — нет. Очень
тяжело и грустно мне, Антон Павлович».
Судя по творчеству Августа Стриндбер-
га, которым Горький увлекался в то время,
можно понять, что под «моралью» он пони-
мал не просто обывательские законы, по-
зволявшие обитателям железнодорожной
станции «скуки ради» издеваться над за-
поздалой любовью Арины («Скуки ради»),
но сущностные категории, в которых пы-
тался мучительно разобраться. Он даже пы-
тался объяснить это своей жене Е. П. Пеш-
ковой:
«У меня, Катя, есть своя правда, совершенно
отличная от той, которая принята в жизни, и мне
много придется страдать за мою правду, потому
что ее не скоро поймут и долго будут издеваться
надо мною...»
Что это за правда? Из этих слов ничего
понять нельзя. Мотивируя в письме к изда-
телю свой отказ написать предисловие к
«Очеркам и рассказам», Горький призна-
вался:
«Пробовал, знаете, но все выходит так, точно
я кому-то кулаки показываю и на бой вызываю.
А то — как будто я согрешил и слезно каюсь».
Но нагляднее всего странность позиции
Горького обнаружилась в его рассуждениях
q «людях» и «человеках». В письмах к
Л. Н. Толстому, И. Е. Репину, Ф. Д. Ба-
тюшкову он сложил гимн во славу Челове-
ка. Однако в других письмах, написанных в
то же время, мы встретим много своенрав-
ных, даже жестоких отзывов о людях, — и
это позволяет думать, что гуманизм писате-
ля вовсе не был «гуманного» происхожде-
ния. Так, Е. П. Пешковой в 1899 году он
писал о каких-то барышнях, которые «уха-
живали» за ним в Ялте и надеялись полу-
чить автограф или что-то вроде:
«Господи! Сколько на земле всякой сволочи,
совершенно не нужной никому, совершенно ни на
что не способной,тупой, скучающей от пустоты
своей, жадной на все новое, глупо жадной*.
Зная, что Чехова связывали с А. С. Суво-
риным непростые личные отношения, он
тем не менее писал Антону Павловичу:
«Мне, знаете, все больше жаль старика — он,
кажется, совершенно растерялся... Наверное,
Вам больно за него — но простите! Может, это и
жестоко — оставьте его, если можете. Оставьте
его самому себе — Вам беречь себя надо. Это
все-таки — гнилое дерево, чем можете Вы помочь
ему?»
Впервые посетив Петербург и познако-
мившись со столичной интеллигенцией, он
отозвался о ней так: «Лучше б мне не ви-
деть всю эту сволочь, всех этих жалких, ма-
леньких людей, которым популярность в
обществе нужна более, чем сама литерату-
ра». С кем же он встречался в Петербурге
осенью 1899 года? Вот только несколько
имен: В. Г. Короленко, Н. К. Михайлов-
ский, И. Ф. Анненский, П. Б. Струве, П. Н.
Милюков, А. Ф. Кони, В. Д. Протопопов,
Н. Н. Ге, М. И. Туган-Барановский. Сло-
вом, цвет русской интеллигенции, радушно
встретившей молодого писателя!
Горький рано стал понимать, что сохра-
нить свое лицо в обществе «самородку»
чрезвычайно сложно. По меткому замеча-
нию критика и публициста М. О. Меньши-
кова, Горький был «всем нужен». «Для
всех лагерей, как правдивый художник,
г. Горький служит иллюстратором их те-
орий; он всем нужен, все зовут его в свиде-
тели, как человека, видевшего предмет спо-
87
Русские писатели XX века
ра — народ, и все ступени его упадка».
В этой ситуации он часто действует «от про-
тивного», ведет себя вызывающе, надеясь
хотя бы так сохранить свое Я.
В воспоминаниях А. Н. Тихонова есть
эпизод о посещении Горьким одной из сту-
денческих марксистских вечеринок. К Горь-
кому подбежала студентка с просьбой вы-
ступить в прениях.
«Горький взглянул на нее с любопытством:
— Извините, я не адвокат, выступать не
умею...
— Это необходимо! Я должна сказать прямо,
честно, в лицо... Ваша позиция кажется нам со-
мнительной... Вы должны объясниться... прямо,
честно, в лицо...
— Кому это «вам»? — спросил Горький с уста-
лостью человека, которому надоело, а приходит-
ся опять сердиться.
— Нам? Студенчеству, стоящему на опреде-
ленной платформе.
— На платформе возят бревна».
Некоторые из современников отмечали в
поведении молодого Горького грубоватость.
Одни называли это недостатком, как, на-
пример, А. Л. Волынский, который после
премьеры «На дне» делился своими впечат-
лениями с К. С. Станиславским: «У Горько-
го нет того нежного, благородного сердца,
поющего и плачущего, как у Чехова. Оно у
него грубовато, как бы недостаточно мис-
тично, не погружено в какую-то благо-
дать». Другие видели в этом проявление не-
дюжинной цельной натуры, явившейся из
народных низов и разрушающей обычные
представления о писателе (сравните реак-
цию Толстого на первое посещение Горько-
го: «Настоящий человек из народа»).
Интерес к личности Горького в широких
слоях общества был невероятно велик.
Между тем он весьма скупо сообщал сведе-
ния о себе в печать. Его первые словесные
портреты вроде заметки Д. Городецкого в
еженедельнике «Семья» мало чем дополня-
ли его фотографии и рисовали все тот же
расхожий образ «человека из народа». Го-
родецкий писал: «Видно, что если этот че-
ловек много потрудился горбом, то не мень-
ше поработал и головой. Если он много пе-
ренес и перестрадал, то многое понял и
простил».
Читатель должен был узнавать о биогра-
фии Горького из его «босяцких» рассказов,
нередко путая автора и его героев. В резуль-
тате его биография становилась фактом
творчества, частью романтической леген-
ды. Было ли это сознательное литературное
поведение, для нас не имеет существенного
значения. Важно, что на рубеже веков было
как бы два Горьких. Первый — живой пи-
сатель и человек с очень сложной судьбой и
не вполне ясным мировоззрением, который
в письме к жене мог воскликнуть: «Сколь-
ко во мне противоречий — боже мой!» Вто-
рой — мифическая личность, особый сим-
вол эпохи, рожденный в читательском во-
ображении.
Горький однажды признался, что его
биография мешала правильному представ-
лению о нем. О происхождении Горького
публике было известно, что он «вышел из
народа» и долгое время жил с босяками.
Между тем именно спор о народе, его про-
шлом, настоящем и будущем к концу
XIX века достиг апогея и нуждался в «тре-
тейском суде». Сила традиции была так ве-
лика, что Мережковский в статье «О причи-
нах упадка и о новых течениях современ-
ной русской литературы», впервые
объявляя о принципах символизма, тоже
обращался «к народному мнению»:
«Не нам жалеть народ. Скорее мы должны се-
бя пожалеть. Чтобы самим не погибнуть в отвле-
ченности, в пустоте, в холоде, в безверии, мы
должны беречь кровную связь с источником вся-
кой силы и всякой веры — с народом».
Потому не случайно, что такие раз-
ные, самостоятельно мыслящие люди,
как Н. К. Михайловский, В. Г. Короленко,
Л. Н. Толстой, единодушно пожелали уви-
деть в молодом Горьком «настоящего чело-
века из народа». Они именно хотели этого,
надеясь найти в талантливом самородке
весомый аргумент в пользу собственных
взглядов. Толстой, например, всерьез сер-
дился и ревновал Горького, если тот не от-
вечал его априорным представлениям о
♦ писателе из народа».
88
Максим Горький
Михайловский, высоко оценив молодое
дарование, в статьях тактично старался
спасти его от «острых игл декадентства»,
которые «в действительности не только не
тонки и не остры, а, напротив, очень грубы
и тупы». Ему, как и Толстому, особенно по-
нравился рассказ Горького «Ярмарка в
Голтве» — традиционное, художествен-
но-нейтральное произведение.
Еще более интересна история взаимоот-
ношений Горького и Короленко. Романти-
ческая манера раннего Горького, несомнен-
но, импонировала автору «Огоньков», хотя
он и упрекал своего ученика за излишний
романтизм. Но и Короленко растерялся,
прочитав в сборнике «Знания» рассказ «Че-
ловек», где самый пламенный романтизм
сочетался с ледяной абстрактностью в изо-
бражении Человека. В космическом образе,
лишенном «человеческих, слишком челове-
ческих» черт, Короленко не сумел найти
ничего «гуманного» и заподозрил Горького
в высокомерии и индивидуализме. И опять
ни чем иным, кроме влияния Ницше, объ-
яснить этого не смог.
Легко догадаться, что в «ницшеанстве»
раннего Горького часто видели влияние
«извне». В глазах литературных и общест-
венных авторитетов Горький просто обязан
был быть именно «самородком», а значит,
«чистым листом», на котором можно напи-
сать и хорошее, и дурное. По мнению Тол-
стого, Короленко, Михайловского, Ницше
оказал на него «дурное» влияние. Вслед за
Михайловским этот тезис подхватила часть
русской критики, считавшая ницшеанство
Горького искусственным, наносным явлени-
ем, искажавшим народные источники его
таланта. Насколько такой взгляд был устой-
чивым, можно судить по словам Б. Л. Пас-
тернака, что молодой Горький был «нашпи-
гован» идеями Ницше. «Нашпигован», то
есть искусственно начинен.
Сегодня мы знаем, что Горький был зна-
ком с творчеством Ницше прежде выхода
первого русского перевода «Так говорил За-
ратустра» (1898). В конце 80-х — начале
90-х годов он водил знакомство с супругами
Н. 3. и 3. В. Васильевыми, которые едва ли
не первыми перевели «Заратустру» на рус-
ский язык. 3. В. Васильева вспоминала:
«Из литературных их (Горького и Василье-
ва. — П. Б.) интересов этого времени помню боль-
шую любовь к Флоберу, которого знали почти
всего. Почему-то, вероятно, за его безбожность' —
не было перевода «Искушения св. Антония», и
меня заставили переводить его, так же как впос-
ледствии Also sprach Zaratustra (Заратустра) Ни-
цше, что я и делала — наверное, неуклюже и дол-
гое время посылала Алексею Максимовичу в
письмах на тонкой бумаге мельчайшим почер-
ком».
Свою дружбу с Николаем Захаровичем
Васильевым, химиком и философом-люби-
телем, Горький описал в очерке «О вреде
философии», намекнув на то, что Васильев
оказал на него какое-то влияние. Сам Ва-
сильев погиб в начале 900-х, отравившись
химическим реактивом собственного изо-
бретения.
В 1906 году, впервые оказавшись за гра-
ницей, Горький получил письменное при-
глашение сестры философа, Елизаветы
Фёрстер-Ницше:
«Веймар. 12 мая 1906 г.
Милостивый государь!
Мне приходилось слышать от ван де Вельде
и гр. Кесслера, что Вы уважаете и цените моего
брата и хотели бы посетить последнее местожи-
тельство покойного. Позвольте Вам сказать, что и
Вы и Ваша супруга для меня исключительно же-
ланные гости, я от души радуюсь принять Вас, о
которых слышала восторженные отзывы от своих
друзей, в архиве Ницше, и познакомиться с Вами
лично.
На днях мне придется уехать, но к 17 марта я
вернусь.
Прошу принять и передать также Вашей суп-
руге мой искренний привет.
Ваша Е. Ферстер-Ницше».
Ответ Горького, составленный по-немец-
ки М. Ф. Андреевой, но подписанный авто-
ром по-русски, не заставил себя ждать. Он
хранится в Германии в Архиве Гете и Шил-
лера, а копия является одним из самых по-
четных экспонатов музея Ницше в Вейма-
ре. В России этот документ опубликован в
1996 году Конст. Азадовским в «Литера-
турной газете» (в русском переводе):
89
Русские писатели XX века
«Высокочтимая госпожа!
Не может быть на свете мыслящего челове-
ка — или он не художник, — если он не умеет лю-
бить и чтить Вашего брата!
Я был бы чрезвычайно рад, милостивая госу-
дарыня, посетить Ваш дом, но это для меня никак
невозможно, поскольку я должен — по серьезной
причине — уехать далеко, в Америку.
Я хочу надеяться, что однажды, когда я вер-
нусь, Вы позволите мне навестить Вас.
Моя жена от души благодарит Вас за любезное
приглашение и низко Вам кланяется, я же — це-
лую дорогую для меня руку сестры Ницше.
М. Горький
17 м(арта) 1906 г(ода)».
Каким образом социалиста, социал-де-
мократа Горького, в то время уже вступив-
шего в партию большевиков, могли с таким
почетом приглашать в дом человека, в об-
щем, презиравшего социалистов? И хотя
сам Архив Ницше Горький так и не смог
посетить (20 марта он уже покинул Герма-
нию), однако в Берлине он встречался с ли-
дером группы «Новый Веймар» графом
Гарри Кесслером (1868—1937), диплома-
том, писателем, коллекционером и едва ли
не самым главным после Фёрстер-Ницше
человеком в Архиве Ницше. Судя по
письму гр. Кесслера Гуго фон Гофманста-
лю, встреча эта произвела на Кесслера ог-
ромное впечатление, и можно не сомневать-
ся, что одной из главных тем их разговора
был Фридрих Ницше.
Томас Манн так определил место Горько-
го в мировой литературе: ему удалось воз-
вести «мост между Ницше и социализмом».
В начале XX века социализм и ницшеанст-
во еще не враждуют, но часто идут рука об
руку. Недаром в это время о ницшеанстве
Горького (и как раз под знаком плюс!) писа-
ла марксистская критика. Например,
А. В. Луначарский:
«...презрительная жестокость к вялым и тря-
пичным отбросам процесса общественной ломки,
к счастью, присуща Горькому... «Бог свобод-
ных людей — правда», — говорит Горький уста-
ми одного из своих героев... Однако мы не согла-
симся с ним. Нет! У свободного человека нет бо-
гов... Судя по многим тирадам Луки в драме «На
дне», Горькому грозила опасность впасть в «мяг-
кость»... Слава Богу, что этого не случилось и что
«жестокость» взяла в нем верх. Побольше,
побольше жестокости нужно людям завтрашнего
дня...»
«НА ДНЕ»
В пьесе «На дне» возникает спор между
бунтарем и крайним человекопоклонником
Сатиным и Лукой, пытающимся прими-
рить «человеческое» и «божественное». Ин-
тересно, что в глазах автора всякое подоб-
ное примирение есть ложь, однако в ка-
кой-то мере допустимая и для обреченного
человека, вроде больной Анны, даже спаси-
тельная. Черты Луки некоторые современ-
ники находили в самом Горьком. Порой в
тяжелых ситуациях он предпочитал не го-
ворить людям всей правды, но не потому,
что сам боялся ее, а потому, что верил в спа-
сительный, «вдохновляющий» обман, кото-
рый подвигнет людей к каким-то действи-
ям во имя собственного спасения. Не слу-
чайно в пьесе «На дне» Актер читает стихи
Беранже в переводе русского поэта В. С. Ку-
рочкина:
Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не умеет, —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!
«Сквозь русское освободительное движе-
ние, — писал о Горьком Владислав Ходасе-
вич, — а потом сквозь революцию он про-
шел возбудителем и укрепителем мечты,
Лукою, лукавым странником». При всей
своей категоричности это заявление под-
тверждается поздним признанием самого
Горького в письме Е. Д. Кусковой 1929 го-
да: «Я искреннейше и непоколебимо нена-
вижу правду...» Что это значит? Только то,
что в это время Горький предпочитал мол-
чать о становившихся все более явными для
него недостатках социалистической систе-
мы, рассматривая социализм как «сон золо-
той» человечества. На философском языке
это называется утопией.
Тем не менее, заставив Луку в разгар
конфликта исчезнуть со сцены, авто)}
устраняет преграды на пути к последней
правде, которые нагромождает Лука. Это*
90
Максим Горький
правда об одиночестве Человека во Вселен-
ной.
«На дне» не бытовая пьеса, а драма идей.
Это своеобразный карнавал «масок», на ко-
тором сошлись не просто босяки, но «быв-
шие люди» в символическом смысле этого
слова. Автор изображает пустоту, куда по-
степенно падает человечество, находя по-
следнее пристанище «на дне» жизни, где не
все еще «слиняло» и «прогнило» и где чело-
век пока не совсем «голый». Он еще при-
крыт «лохмотьями» (прежних смыслов, по-
нятий) и держится за них с большим стра-
хом.
Каждый персонаж напоминает, выража-
ясь по Ницше, «шута Божьего» и носит ка-
кую-нибудь «маску». Он пытается спрятать
свою внутреннюю пустоту за воспомина-
ниями прошлого. До поры до времени это
удается. Важная деталь: внутри ночлежно-
го дома не так мрачно, холодно и тревожно,
как снаружи. Вот описание внешнего мира
в начале третьего акта: «Пустырь — засо-
ренное разным хламом и заросшее бурья-
ном дворовое место. В глубине его — высо-
кий кирпичный брандмауэр. Он закрывает
небо... Вечер, заходит солнце, освещая
брандмауэр красноватым светом». На дво-
ре весна, сошел снег... «Холодище соба-
чий...» — говорит, поеживаясь, Клещ, вхо-
дя из сеней. В финале на этом пустыре пове-
сится Актер. А внутри все-таки тепло, и
здесь живут люди. Сюда заходит на огонек
странник Лука и хотя бы ненадолго согре-
вает обитателей ночлежки своими утеше-
ниями. Внутри теплее, но это — зыбкое
ощущение уюта. Очень скоро все должны
понять, как непрочен этот уют.
Недаром многие персонажи носят не
имена, а клички. Спившегося провинци-
ального актера по имени Сверчков-Заволж-
ский (явно пародийное имя) зовут просто
Актер. Разорившегося дворянина — просто
Барон. Впрочем, социальное прошлое Баро-
на весьма сомнительно, напоминает паро-
дию на мещанское представление о «благо-
родной» породе людей XVIII—XIX веков:
^Старая фамилия... времен Екатерины...
дроряне... вояки!., выходцы из Франции...
Служили, поднимались все выше... При
Николае первом дед мой, Густав Дебиль...
занимал высокий пост... Богатство... сотни
крепостных... лошади... повара...» — моно-
тонно говорит Барон, будто вспоминает за-
бытый урок. Такое прошлое слишком ти-
пично, чтобы в него поверить. В нем есть
что-то мертвое: это бездушный слепок с
биографий старого екатерининского дво-
рянства. Не исключено, что Барон просто
придумал или вычитал свое прошлое; что
на самом деле он был не барином, а, допус-
тим, лакеем или чем-то вроде.
Красивой сказкой в стиле «жестокого ро-
манса* (опять же пародийного) звучит ис-
тория Насти: «Вот приходит он ночью в
сад, в беседку, как мы уговорились... а уж я
его давно жду и дрожу от страха и горя. Он
тоже дрожит весь и — белый, как мел, а в
руках у него леворверт...» «Ты думаешь —
это правда? — говорит Барон. — Это все из
книжки «Роковая любовь».
Но сам Барон боится потерять свою «ма-
ску». «Я, брат, боюсь... иногда, — призна-
ется он Сатину. — Понимаешь? Трушу...
Потому — что же дальше?» Вместе с Баро-
ном «трусят» и Актер, и Татарин, и Клещ.
Для них потерять «маску» — это примерно
то же, что для больной Анны потерять
жизнь. Подобно ей, все задают себе роковой
вопрос: «А что же дальше?»
До тех пор, пока есть прошлое, есть и ви-
димость человека. Актер остается актером,
Татарин — татарином, Барон — бароном.
До тех пор они лишены необходимости вы-
яснять свою подлинную сущность. Но и это
уплывает из жизни, как из рук Клеща уп-
лывает его рабочий инструмент, его единст-
венное достояние, примета его личности.
♦Нет пристанища... ничего нет! — понима-
ет Клещ. — Один человек... один, весь
тут...»
В пьесе параллельно развиваются два
действия. Первое мы видим на сцене. Детек-
тивная история с заговором, побегом, убий-
ством, самоубийством и проч. Второе — это
обнажение «масок* и выявление сущности
Человека. Это заложено в подтекст и требу-
ет расшифровки. Вот важный диалог Баро-
на и Луки:
91
Русские писатели XX века
«Барон. Жили и лучше... да! Я... бывало...
проснусь утром и, лежа в постели, кофе пью... ко-
фе! — со сливками... да!
Лука. А все — люди! Как ни притворяйся,
как ни вихляйся, а человеком родился, челове-
ком и помрешь...»
Но быть «просто человеком» Барон боится.
И «просто человека» Луку не признает:
«Барон. Ты, старик, кто такой?.. Откуда ты
явился?
Лука. Я-то?
Барон. Странник?
Лука. Все мы на земле странники... Гово-
рят, — слыхал я, — что и земля-то наша в небе
странница».
Кульминация второго (скрытого) дейст-
вия наступает, когда встречаются Лука и
Сатин. Традиционно их принято считать
враждебными персонажами, но это не со-
всем верно. Лука жалеет человека и тешит
его мечтой. Он обещает Анне загробную
жизнь, выслушивает сказки Насти, посы-
лает Актера в лечебницу. Сам по себе Лука
с его искренней «ложью» даже симпатичен
Сатину:
«Дубье... молчать о старике!.. Старик —
не шарлатан!.. Он врал... но — это из жа-
лости к вам, черт вас возьми!»
И все-таки «ложь» Луки его не устра-
ивает. «Ложь — религия рабов и хозяев!
Правда — бог свободного человека!», «Че-
ловек — вот правда! Что такое человек?..
Это не ты, не я, не они... нет! — это ты, я,
они, старик, Наполеон, Магомет... в одном!
(Очерчивает пальцем в воздухе фигуру че-
ловека.) Понимаешь? Это — огромно! В
этом — все начала и концы... Все — в чело-
веке, все — для человека!»
Но здесь проявляется крайне запутанное
отношение Горького к вопросу о правде и
лжи. По существу, он выделяет две правды:
«правду-истину» и «правду-мечту». Они не
только не имеют необходимой связи, но из-
начально враждебны. Грандиозный миф о
Человеке, который предлагает Сатин (очер-
тив изображение Человека в пустоте, что
очень важно), рождается на фоне духовной
пустоты всего человечества. Никто не пони-
мает друг друга; все заняты только собой; и
мир на пороге катастрофы. Таким образом,
Сатин тоже лжет. Но его ложь, в отличие от
Луки, имеет идеальное обоснование не в
прошлом и настоящем, а в будущем — в
перспективе соборного человечества, когда
люди сольются воедино и преобразуют
жизнь на разумных началах. Впрочем, ни-
каких гарантий, что это произойдет, Сатин
не предлагает.
«СРЕДА» И «ЗНАНИЕ»
В автобиографии Иван Алексеевич Бу-
нин вспоминал о ситуации в литературе до
революции 1905 года: «За это время я был,
между прочим, ближайшим участником из-
вестного литературного кружка «Среда»,
душой которого был Н. Д. Телешов, а по-
стоянными посетителями — Горький, Анд-
реев, Куприн и т. д.».
В конце 90-х годов в Москве стараниями
писателя Николая Дмитриевича Телешова,
автора повестей «На тройках» (1895) и «За
Урал» (1897), возник небрлыпой кружок
литераторов, художников и музыкантов с
названием «Парнас». Собирались на квар-
тире Телешова, обменивались новостями,
читали свои сочинения. В 1899 году реши-
ли придать этим встречам регулярный ха-
рактер; и так возникло объединение писа-
телей под названием «Среда». Каждую не-
делю по средам собирался круг тех, кто
составлял основу нового реализма: И. Бу-
нин, А. Куприн, Леонид Андреев, А. Сера-
фимович, С. Найденов, Е. Чириков, В. Ве-
ресаев, С. Скиталец и другие. Иногда бывал
здесь и Чехов. Из Петербурга порой наез-
жал Горький со своим знаменитым другом,
певцом и актером Федором Шаляпиным. Со
временем приходили новые, молодые чле-
ны объединения; так Леонид Андреев при-
вел в «Среду» никому еще не известного
прозаика Бориса Зайцева.
Идея «Среды» чрезвычайно нравилась
Горькому. По воспоминаниям Телешова, он
как-то сказал:
«Как хорошо вы это устроили и живете, как и
надлежит писателям, по-товарищески. Чем бли-
же будем друг к другу, тем трудней нас обидеть.
А обижать писателей теперь охотников много...»
92
Максим Горький
Сам Горький в конце 1900 года становит-
ся членом другого «товарищества» — юри-
дического. Его принимают одним из соуч-
редителей «Товарищества «Знание», специ-
ализировавшегося на выпуске научно-
популярной литературы, которая в начале
века пользовалась огромным спросом и
приносила немалый доход. В «Знание» вхо-
дили известные книжные и журнальные
издатели того времени — В. А. Поссе, О. Н.
Попова, В. И. Чарнолусский, К. П. Пят-
ницкий и др. Прием в него молодого Горь-
кого, еще не имевшего издательского опы-
та, но уже прославившегося как писатель,
было началом радикальных перемен в
«Знании». Начались они с того, что... боль-
шая часть издателей покинула товарищест-
во.
Им показалась нереальной горьковская
идея издавать молодых писателей-реалис-
тов — тех самых, что составляли круг «Сре-
ды». С переходом издательства в руки Горь-
кого оно почти целиком переключилось на
беллетристику и выиграло не только в пла-
не литературном, но и коммерческом. Горь-
кий и оставшийся в «Знании» К. П. Пят-
ницкий задали издательству по тем време-
нам невиданные темпы. Каждый месяц
выходило около 20 книг общим тиражом
свыше 200 000 экземпляров. Со «Знанием»
не могли соперничать такие крупнейшие
издатели, как А. С. Суворин, А. Ф. Маркс,
М. О. Вольф.
В первые годы нового века «Знание» вы-
пустило массовыми тиражами отдельные
тома сочинений Андреева, Бунина, Горько-
го, Куприна, Гусева-Оренбургского, Сера-
фимовича, Телешова, Чирикова и др. Кни-
ги стремительно раскупались, требовались
дополнительные тиражи. Демократическое
издательство вскоре стало одним из самых
престижных; напечататься в нем означало
иметь стопроцентный успех. Таким обра-
зом, Горький добился прорыва нового ре-
ализма к широкому читателю.
Очень важно, что во главе издательства
стоял не расчетливый коммерсант, а «свой
брат-писатель». Он по себе знал все тяготы
жизни начинающего литератора, прошед-
шего через каторжный журналистский
труд и порой, как Куприн в молодости, не
имевшего денег на приличные сапоги. Горь-
кий совершил переворот в оплате авторско-
го труда. Например, Андреев получил в
«Знании» за свой первый сборник расска-
зов вместо 300 рублей, предложенных дру-
гим издателем, свыше пяти с половиной
тысяч — сумасшедшие по тем временам
деньги!
Впервые в истории русского книгоизда-
тельского дела «Знание» обеспечило авто-
рам гонорары от иностранных издательств,
которые до этого печатали переведенные
русские книги бесплатно. В декабре
1905 года Горький открыл свое издательст-
во за границей. Полное название его звуча-
ло так: «Книгоиздательство русских авто-
ров И. Ладыжникова, главного представи-
теля в Германии и везде за границей
Максима Горького, Леонида Андреева, Ев-
гения Чирикова, С. Юшкевича, А. Купри-
на, Скитальца». В самом названии чувство-
вался столь дорогой для Горького «коллек-
тивный» принцип.
Этот принцип сыграл решающую роль в
триумфе затеянных Горьким периодиче-
ских альманахов — «Сборников товарище-
ства «Знание*. Они начали выходить с
1904 года и сразу же стали невероятно по-
пулярными. Тираж первого сборника был
33 000 экземпляров, второго — уже 81 000.
Это при том, что Россия тогда была страной
с большинством неграмотного населения, и
подобные тиражи считались просто косми-
ческими!
Но этот же «коллективный» принцип
стал одной из главных причин распада
«Знания». Встав на ноги, приобретя извест-
ность, писатели-реалисты уже не хотели
выглядеть «подмаксимками», они стреми-
лись к полной независимости. Коллективи-
стский подход Горького шел вразрез с неиз-
бежным писательским индивидуализмом.
Взбунтовался даже самый близкий друг
Горького Леонид Андреев. С 1906 года, пос-
ле поражения первой революции, Горький
поневоле живет вдали от родины, в эмигра-
ции, в Италии. В это время в качестве ре-
дактора его замещает Андреев. Неожидан-
но он требует обновления состава сборни-
93
Русские писатели XX века
ков, в частности, привлечения символистов
(прежде всего Блока). Андреев выдвигает
широкий принцип отбора: «помещать толь-
ко то, что ведет к освобождению человека».
Горький же в письмах требует отбора более
жесткого, по сути, социал-демократическо-
го (в 1905 году он стал членом партии боль-
шевиков). К символистам, в том числе к
Блоку, Горький в это время непримирим —
не может простить упаднических настро-
ений после разгрома революции. Он пишет:
«быть декадентом — стыдно, так же стыд-
но, как болеть сифилисом*.
В результате между Горьким и Андрее-
вым произошел громкий разрыв. Но из
«Знания» ушел не один Андреев. Его поки-
нули почти все видные «знаньевцы»: Бу-
нин, Куприн, Вересаев, Серафимович и
многие другие. Остались только верные
горьковской линии Телешов и Гусев-Орен-
бургский. И хотя альманахи выходили
вплоть до 1913 года, прежнего успеха они
уже никогда не имели; и сам Горький скоро
к ним охладел.
«МАТЬ»
От ницшеанских увлечений Горький
пришел к идее «коллективного разума»,
способного, как он считал, интегрировать
человечество, возвысить его, дать ему
смысл существования в «религиозном, весь
мир связующем значении труда». Торжест-
во «коллективного разума» он нашел в идее
социализма — самой популярной социаль-
но-политической концепции того времени.
Однако социализм Горького был тесно свя-
зан с его романтической философией Чело-
века, с его пониманием трагедии Человека
как центра мироздания, который страшно
одинок во Вселенной и которому ничто не
поможет, кроме него самого. В социализме
Горького проступали своеобразные религи-
озные черты.
Новый этап обозначила повесть «Мать»
(1906—1907). В ней впервые возникает те-
ма «богостроительства» (по мнению некото-
рых зарубежных ученых, «богостроитель-
ские» тенденции появились уже в пьесе
«На дне»). По словам исследователя, Горь-
кий пытается спасти религиозное чувство
народа от вредного влияния церкви и вер-
нуть его русским людям. Логика богостро-
ительства, в общем, проста. «Бог умер»
(Ницше), но его необходимо возродить или
«построить», опираясь на волю и разум на-
рода. Надо внести в обезбоженный мир че-
ловеческий смысл, восполнив страшный
«провал», где «со смертью Бога» обозначи-
лась «пустота», или Ничто.
Бог — это коллектив («Мать») или —
шире — народ (повесть «Исповедь», 1908),
объединенные разумной волей и верой в
♦дальнее» торжество Человека.
Отсюда совсем иные задачи искусства,
хотя слово «соцреализм* еще не названо.
В глазах Горького искусство как бы утрачи-
вает светский характер и вновь возвращает-
ся в специфически церковное русло, только
«церковью» теперь становится революци-
онная партия. Горький понимал, что
♦Мать» — не самое сильное его произведе-
ние, но оправдывал его тем, что оно «нуж-
но», «полезно» для революции и социализ-
ма.
В повести «Мать» возникает тема «ис-
тинного христианства». Павел Власов и
♦товарищи» — «истинные» ученики Хрис-
та, пришедшие взамен мнимых. Это, в кон-
це концов, понимает глубоко верующая в
Христа Пелагея Ниловна. Во многом это й
сближает мать с «детьми» и приводит к со-
гласию с революцией.
ТЕМА РОССИИ
В середине прошлого века Ф. Тютчев
вместо проблемы «Россия и Революция*
предложил антитезу «Россия или Револю-
ция». Так именно понял Чаадаев смысл
тютчевского трактата «Россия и Револю-
ция», написанного в связи с европейскими
волнениями 1848 года. «Как Вы очень пра-
вильно заметили, — писал он Тютчеву, —
борьба, в самом деле, идет лишь между ре-
волюцией и Россией: лучше невозможно
охарактеризовать современный вопрос*.
Одна из антитез публицистических и ху^-'
дожественных выступлений Горького в nteL’
риод с 1905 по 1917 годы — тема револю-
94
Максим Горький
ции и русского бунта. Еще во время первой
русской революции (1905—1907), когда ос-
новы монархии впервые всерьез дрогнули,
мечта о «коллективном разуме» в сознании
Горького вступила в конфликт с ощущени-
ем возмущенной русской «почвы», на кото-
рой покоилась монархия и где предстояло
осуществиться новому строю. В отличие от
Горького, русский народ не был «социаль-
ным идеалистом». Семена «разумного, доб-
рого, вечного», которые щедрой рукой се-
яла русская интеллигенция, падали на ма-
лознакомую этой интеллигенции «почву».
Когда «почва» наконец зашевелилась, в ней
разом обнажились многочисленные трещи-
ны и изломы; и эти трещины даже отдален-
но не напоминали логическую линию, ка-
кую представлял горьковский «социаль-
ный идеализм».
«Рабы! Рабы!» — кричит кто-то в конце
очерка Горького «9 января». Это сердитый
голос самого автора. В этом плане В. Г. Ко-
роленко оказался мудрее неисправимого
романтика Горького. Когда после Манифес-
та 17 октября 1905 года он столкнулся с
проявлением массовой психологии, выра-
зившимся в погромах в городах и «грабе-
жах» в деревне, в письме к Николаю Ан-
ненскому Короленко писал: «Какая тут к
черту республика! Вырабатывать в народе
привычки элементарной гражданственнос-
ти и самоуправления — огромная работа, и
надолго».
Эмоциональный фон горьковских вы-
ступлений 1905—1917 годов — осуждение,
если не проклятие! Он осуждает интелли-
генцию за незнание народной стихии, рево-
люционеров — за сектантство и раскол, вы-
разившийся в междоусобной борьбе различ-
ных партий. Он осуждает народ за его
нежелание понять интеллигенцию, за его
косность и пассивность в вопросах общест-
венной жизни. Он ищет возможную точку
примирения этих сил и находит ее все в том
же Человеке и его Разуме. Нужно, чтобы
массами овладела вера в Человека и безгра-
ничные возможности Разума. Необходимо,
ч?обы интеллигенция осознала себя частью
народного коллектива, выразительницей
егд чаяний. Одновременно в «Разрушении
личности» и «Истории русской литерату-
ры» Горький писал, что русский интелли-
гент не знает народа, что «недостаток своих
знаний он пытается скрыть яростной защи-
той их и — отсюда развивается сектантство,
нетерпимость, фракционность».
Если единение состоится, тогда произой-
дет «чудо»: вспыхнет электрическая иск-
ра всеобщего «социального идеализма» на
благо культурного строительства России.
Жизнь станет «сказочно прекрасной»! Ес-
ли же нет? Неистовый, раскольничий дух
пронизывает горьковскую публицистику
1905—1917 годов (затем изданную отдель-
ной книгой). Главный вопрос — о России, о
русском национальном характере. В отно-
шении Горького к этим вопросам отрази-
лись его «две души», как точно заметил
Д. С. Мережковский. Его статья «Не святая
Русь» о повести «Детство» имела подзаго-
ловок «Религия Горького».
Мережковский обнаружил в повести
«Детство» связь судьбы Горького с истори-
ческой трагедией России. Согласно Мереж-
ковскому, трагедия России заключена в
том, что в ее национальной душе присутст-
вуют два начала — западное и восточное.
Западное начало он нашел в образе Дедуш-
ки; восточное — в образе Бабушки. Мереж-
ковский нарочно обозначил этих героев ав-
тобиографической повести Горького с боль-
шой буквы, подчеркнув их символическое
значение. По мнению Мережковского, «две
души» России генетически перешли к само-
му Горькому. В него равноправно влились
два сознания — дедушкино и бабушкино.
Поэтому сердцем любя Бабушку — смирен-
ную и вольную, святую и еретицу, — он
умом предпочел Дедушку, находя в нем
воплощение практической воли. «Бабушка
делает Россию безмерною, — писал Мереж-
ковский; — Дедушка мерит ее, копит, «со-
бирает», может быть, в страшный кулак; но
без него она развалилась бы, расползлась
бы, как опара из квашни. И вообще, если
бы в России была одна Бабушка без Дедуш-
ки, то не печенеги, половцы, монголы, нем-
цы, а своя родная тля заела бы живьем
«Святую Русь». Эта мысль автора во мно-
гом подтверждается судьбой писателя. Не
95
Русские писатели XX века
отсюда ли источник противоречия между
Горьким-художником и Горьким-публи-
цистом?
России он посвятил самые вдохновенные
страницы прозы. Русь грешная, вольная,
«окаянная» пленяла воображение писателя
от «босяцких» рассказов до цикла «По Ру-
си» (1912—1917), повестей «Исповедь»,
«Лето» (1908—1909), «Городок Окуров»
(1909), «Жизнь Матвея Кожемякина»
(1910).
После поражения первой русской рево-
люции он на долгое время отходит от пря-
мой политической борьбы и поселяется на
Капри, поддерживая связь с внешним ми-
ром через многочисленных гостей: от Лени-
на до Леонида Андреева. Это был один из
самых плодотворных периодов творчества
Горького, вплоть до его возвращения в Рос-
сию перед началом Первой мировой войны.
Поражение русской революции 1905—
1907 годов тяжело отозвалось на восприя-
тии Горьким современной русской действи-
тельности и, в частности, на его отношении
к современной литературе. Он с тревогой
наблюдал послереволюционное изменение
«самого типа русского писателя».
«Не творчество писателя, а его личность была
выдвинута на первый план. Сообщения о творче-
ских замыслах уступили место пространным об-
суждениям личного поведения литераторов; газе-
ты развлекали обывателей хроникой происшест-
вий, интервью, ответами «знаменитых» на
многочисленные и часто пошлые анкеты».
«Несомненно, что даже и крупные литераторы
находятся в сильном подчинении подленьким ин-
тересам все растущей уличной прессы и вольно
или невольно служат ей, непоправимо компроме-
тируя себя в глазах читателя-демократа — самого
ценного читателя в стране», — писал Горький в
статье «О современности».
Этой «литературе» он старается противо-
поставить «этический аристократизм» соб-
ственного творчества. В повестях «Лето»,
«Городок Окуров», «Жизнь Матвея Коже-
мякина» Горький не оставляет попыток
решить тему «Россия и революция», заяв-
ленную в публицистике 1905—1916 годов.
По мнению исследователя, повесть «Лето»
«должна была дать исторически обоснован-
ную догадку о том, что же теперь «думает»
усмиренный силой русский мужик». Эта
же тема отразилась и в «окуровском цик-
ле». Автор пытается разобраться, почему
революция в России неизменно оборачива-
ется бунтом «бессмысленным и беспощад-
ным», почему вековечное выяснение
«обид» (мужика на барина, народа на ин-
теллигенцию) не ведет к позитивному соци-
альному результату.
Как художник и публицист, Горький
этого времени во многом полемизирует с
Буниным, с его темой «деревни». Главную
опасность он видит не в деревенской, а в ме-
щанской среде с ее патологической косно-
стью и нежеланием проникаться новыми
социальными идеями. В то же время изо-
бражение мещанской среды в творчестве
Горького приобретает «летописный* харак-
тер, что позволяет дать исключительно под-
робную и внушительную панораму жизни
уездной России.
В творчестве Горького этого периода осо-
бую роль играют лесковские традиции. Как
и Н. С. Лесков, он изображает «не святую
Русь» в ее органическом великолепии.
Можно подумать, что эта бесконечная вере-
ница характеров внутренне ничем не связа-
на, что Горький — всего лишь очеркист или
«бытовик», как он сам любил себя назы-
вать.
Это ошибка. Как художник, Горький
«каприйского» периода исполнен высокой
поэзии. Он, может быть, бессознательно
протестовал против расхожего определения
«бедная Россия», рисуя богатство нации в
лицах. «Чем знаменита, чем прекрасна на-
ция? — писал русский мыслитель Констан-
тин Николаевич Леонтьев. — Не одними
железными дорогами, не всемирно-удобны-
ми учреждениями. Лучшее украшение на-
ции — лица, богатые дарованием и само-
бытностью*.
На первый взгляд в это время «всечело-
веческий» элемент в прозе писателя отсту-
пает перед «национальным». Тема России
заботит его больше темы Человека. Но этот
взгляд во многом обманчив. Национальные
характеры интересуют Горького прежде
всего как загадочные и порой непостижи-
96
Максим Горький
мые проявления человеческой индивиду-
альности. Человек как творение — вот что в
первую очередь важно для него. Безуслов-
но, в это время творчество Горького на-
прочь теряет абстрактный оттенок, кото-
рый чувствовался в раннем творчестве и
вызывал порой справедливые замечания
Чехова, Толстого, Короленко, Михайлов-
ского. Но в целом внутренняя идеология
творчества остается прежней: русские ха-
рактеры волнуют Горького не только и не
столько сами по себе, но как выражение (и
положительное, и отрицательное) одной из
граней всечеловеческого единства.
С этой точки зрения интересно также
оценить драматургию Горького периода с
1907 по 1917 год («Последние», «Чудаки»,
«Встреча», «Васса Железнова» (первый ва-
риант), «Фальшивая монета», «Зыковы»,
«Старик»). В отличие от ранних пьес (осо-
бенно драмы «На дне»), они не вызвали ши-
рокого интереса публики и критики. Тем не
менее критика признавала, что пьесы не
лишены «живого и современного интере-
са... как кусок, вырванный из нашей совре-
менной действительности, вырванный при-
том же рукою чуткого и мыслящего наблю-
дателя».
О действующих лицах «Чудаков» писа-
ли: «Что за дивная женщина Елена! Какой
размашистый, безалаберный, одаренный и
живой этот Мастаков, этот русский худож-
ник перекати-поле...» Прежде всего внима-
ние читателей и зрителей привлекала не
столько идейная сторона пьес, как это было
с ранней драматургией Горького (от «Ме-
щан» и «На дне» до цикла пьес об интелли-
генции и «Врагов»), сколько неповторимая
галерея характеров, будто перешагнувших
из жизни на сцену.
Легко заметить, при всей близости авто-
ра к изображаемым людям во взгляде его
есть некоторая отстраненность художника
от предмета описания. Образ «проходяще-
го», возникающий в цикле «По Руси», как
бы выступает посредником между автором
и его персонажами; связывает их и в то же
время разделяет. Даже взгляд мальчика
Алеши на бабушку и дедушку в повести
«Детство» не лишен отстраненности; он
словно изучает и сравнивает их, что и по-
зволило, например, Мережковскому оце-
нить повесть не как автобиографию, но
как символическую концепцию «не свя-
той» Руси.
В своих английских лекциях русский
князь, эмигрант Д. П. Мирский заметил,
что автобиография Горького — одна из са-
мых странных в мире. Особенность художе-
ственной манеры автора состоит в том, что
он меньше всего занят собственной биогра-
фией и больше обращает внимание на окру-
жающих его людей. Они-то и есть главные
персонажи этой автобиографии, а образ ме-
муариста — только посредник между ними
и писателем.
«Эта книга (автобиографический цикл. —
П. Б.) о чем угодно, кроме личности самого авто-
ра. Его личность — только предлог, чтобы дать
удивительную галерею портретов. Самая выдаю-
щаяся черта Горького — поразительная убеди-
тельность описаний. Он весь обращается в зрение,
и читатель видит, словно живые, яркие и цель-
ные характеры... Автобиографический цикл не-
изменно производит на иностранца... впечатле-
ние безнадежного мрака и пессимизма, но мы,
привыкшие к менее условному и сдержанному ре-
ализму, чем реализм Джорджа Элиота, не можем
разделить этого чувства. Горький — не песси-
мист, а если пессимист, то его пессимизм не име-
ет никакого отношения к его думам о России, но,
скорее, к его хаотической социальной филосо-
фии. Как бы то ни было, автобиографический
цикл Горького показывает мир уродливым, но не
безнадежным — просвещение, красота и состра-
дание должны спасти человечество».
Все это позволяет отнести автобиографи-
ческий и национальный циклы в творчест-
ве Горького к его главной и сквозной теме:
положение человека в мире, трагедия зем-
ного существования. Недаром именно в эти
годы он создает рассказ «Рождение челове-
ка», открывающий цикл «По Руси», кото-
рый серьезно выделяется на фоне собствен-
но «национальной» темы и, несомненно,
носит экзистенциальный характер. Вот ро-
дился не просто ребенок, родился Человек.
Что ждет его в мире? Кем он станет и кем
мог бы стать?
Тема ребенка, будущего Человека, не-
ожиданно получает трагическое разреше-
4 3<u. 848
97
Русские писатели XX века
ние в рассказе «Страсти-мордасти» (цикл
«По Руси»). Вспоминая о днях своей юнос-
ти, когда он работал разносчиком баварско-
го кваса и однажды познакомился с мало-
летним сыном больной проститутки, обез-
ноженным мальчиком, Горький не может
скрыть простой человеческой жалости и
обиды на жестокий в отношении к ребенку
мир. В то же время эта жалость ему самому,
видимо, представлялась бессильной (не ре-
шающей проблем), и потому рассказ завер-
шается на пессимистической ноте: «Я быст-
ро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не
зареветь».
Главный персонаж рассказа «Губин» за-
хватывает воображение читателя странно-
стью, неповторимостью своей личности. Од-
нако сам автор достаточно суров в отноше-
нии к нему, о чем в конце концов прямо
говорит (светит «светом гнилушки»). В рас-
сказе «Нилушка» показан народный пра-
ведник. И показан настолько художествен-
но выразительно, что нельзя не быть захва-
ченным глубиной этого образа. Но сам
автор (в отличие от Лескова, зато вполне в
согласии с Буниным) не любит народных
странников, юродивых и проч., которые, по
его мнению, ослабляют в народе волю к
жизни, отвлекают от борьбы за достойное
существование.
Ему ближе еретики, а не праведники.
Подобная «сшибка» художественного и
публицистического элементов постоянно
встречается в произведениях писателя
1905—1917 годов и наглядно свидетельст-
вует о глубоком противоречии между Горь-
ким-художником и Горьким-публицистом.
Горький-публицист смотрел на Россию
строгим и часто осуждающим взглядом,
ибо особенности русского национального
характера плохо вписывались в идею «кол-
лективного разума», который он принима-
ет как единственный мировоззренческий
догмат.
По мнению Горького, «русский человек
всегда ищет хозяина, кто бы командовал им
извне, а ежели он перерос это рабье стрем-
ление, так ищет хомута, который надевает
себе изнутри на душу, стремясь опять-таки
не дать свободы ни уму, ни сердцу».
Русский человек — прекрасный матери-
ал для художника (позже в «Заметках из
дневника» Горький признает, что русский
человек — это наиболее привлекательный
материал для писателя), но для победы
«коллективного разума» он едва ли не
«вредное» явление — к такому крайнему
выводу иногда приходит Горький в публи-
цистике.
В декабре 1915 года в журнале «Лето-
пись», возглавляемом писателем, появи-
лась его статья «Две души», целиком по-
священная теме русского национального
характера.
«У нас, русских, две души, — писал он, — од-
на от кочевника-монгола, мечтателя, мистика,
лентяя... а рядом с этой бессильной душой живет
душа славянина, она может вспыхнуть красиво и
ярко, но недолго горит, быстро угасая...» Восток
погубит Россию, только Запад может ее спасти!
Поэтому «нам нужно бороться с азиатскими на-
строениями в нашей психике, нам нужно лечить-
ся от пессимизма, — он постыден для молодой на-
ции...»
Статья прозвучала подобно разорвавшей-
ся бомбе на фоне ура-патриотических на-
строений, связанных с войной. В редакцию
«Летописи» полетели письма, некоторые из
них содержали анонимные угрозы. «К ним
было приложение, — вспоминал К. Чуков-
ский, — петля из тончайшей веревки. Та-
кая тогда установилась среди черносотен-
цев мода — посылать «пораженцу» Горько-
му петлю, чтобы он мог удавиться.
Некоторые петли были щедро намылены».
Пожалуй, лучше всех оценил статью Ле-
онид Андреев. Он заметил, что тотальная
критика русской души в устах Горького
звучит слишком «по-русски», не имея ни-
чего общего с западным типом самокрити-
ки. «Не таков Запад, не таковы его речи, не
таковы и поступки... Критика, но не само-
плевание и не сектантское самосожжение,
движение вперед, а не верчение волчком —
вот его истинный образ». В письме к
Ив. Шмелеву он также заметил: «Даже
трудно понять, что это, откуда могло взять-
ся. Всякое охаяние русского народа, вся-
кую напраслину и самую глупую обыва-
98
Максим Горький
тельскую клевету он принимает, как бла-
гую истину... нет, и писать о нем не могу
без раздражения, строго воспрещенного
докторами. Ну его к лысому. А бороться с
ним все-таки необходимо... *
РЕВОЛЮЦИЯ И ЭМИГРАЦИЯ
Как и большинство писателей, Горький с
восторгом встретил Февральскую револю-
цию и крайне настороженно отнесся к рево-
люции Октябрьской. В 1917 году он демон-
стративно покидает ряды партии большеви-
ков. Дальнейшие события подтвердили
опасения писателя. Свое неприятие рево-
люционного террора, развязанного больше-
виками, он выразил в цикле страстных пуб-
лицистических статей, печатавшихся в га-
зете «Новая жизнь» и затем объединенных
в книге «Несвоевременные мысли» (1918).
С 1921 года Горький находится в вынуж-
денной эмиграции — сначала в Праге и
Берлине, а затем, вплоть до 1928 года — в
Сорренто (Италия).
Это время в жизни писателя отмечено
снижением его политической активности и
концентрацией внимания на вопросах твор-
ческих. В эмиграции написаны «Рассказы
1922—1924 гг.», повесть «Дело Артамоно-
вых» (1924—1925), начато последнее итого-
вое произведение — эпопея «Жизнь Клима
Самгина».
Горький неожиданно для многих начи-
нает новые поиски себя как писателя.
В письме к Михаилу Пришвину он даже
признается, что только теперь по-настоя-
щему учится писать. Это, конечно, сильное
преувеличение. Но в прозе Горького дей-
ствительно появляются новые черты. На-
пример, он начинает экспериментировать в
области короткой художественной формы,
стремясь к максимальной выразительности
на минимальном словесном пространстве.
Так возникают «Заметки из дневника», на-
званные критиком и литературоведом Вик-
тором Шкловским «литературой будуще-
го». Составленная из коротких фрагмен-
тов-воспоминаний, своего рода мемуарного
«сора», не пригодившегося для других про-
изведений, эта книга представляет собой
поразительный по живописности срез рус-
ской жизни — странной, загадочной, нево-
образимой...
КОНЕЦ ГОРЬКОГО
В 1928 году, в связи с празднованием
своего 60-летия, Горький впервые после
отъезда в эмиграцию приехал в СССР. Его
встречали на Белорусском вокзале востор-
женные толпы людей; но среди них было и
немало «людей в штатском» — работников
сталинских секретных органов. Народ иск-
ренно приветствовал возвращение большо-
го русского писателя; но помпезность самой
встречи была, конечно, организована Ста-
линым. Он нуждался в Горьком, имел на
него свои виды.
Это было началом нового, последнего пе-
риода сложной и запутанной биографии
Горького, которая и сейчас остается загад-
кой для исследователей. Горький не просто
вернулся в Россию, как, например, Куп-
рин. Он вернулся, чтобы стать одним из
главных идеологов советской власти, оп-
равдать своим мировым именем многочис-
ленные преступления сталинского режима,
но одновременно и спасти многих людей,
вытаскивая их из тюрем и лагерей, помочь
молодым талантливым писателям.
Но была более глубокая причина — ло-
гика гуманизма. Она вела Горького от
раннего философского романтизма, через
«Две души» и книгу «О русском крестьян-
стве» (1922), к печально знаменитому сбор-
нику о Беломорско-Балтийском канале им.
И. В. Сталина и к тому крушению, что он
потерпел под конец жизни.
Какая связь? По мнению Горького-гума-
ниста, «фантастически талантливой» рус-
ской нации необходим внешний «рычаг»,
способный сдвинуть ее с мертвой точки. Од-
ним из таких «рычагов* была личность
Петра I, которого Горький высоко ценил.
Новый толчок России могла дать интелли-
генция — «создание Петрово».
Не без колебаний Горький поставил на
интеллигенцию. Особенно — революцион-
ную. И особенно — на большевиков, этих
наиболее последовательных сторонников
99
Русские писатели XX века
активного отношения к жизни. В первой
редакции очерка о Ленине он даже провел
параллель между Петром Великим и вож-
дем пролетариата. Ленин, как и Петр, «раз-
будил Россию, и теперь она не заснет».
Но безграничная вера Горького в торже-
ство коллективного разума, принятая как
единственный догмат, несла в себе серьез-
ное противоречие, ибо жизнь развивалась
совсем по другим законам. Настоящей ка-
тастрофой для Горького оказалась Первая
мировая война, этот вопиющий пример
коллективного безумия, когда святое имя
Человек было низведено до «окопной вши»,
«пушечного мяса», когда толпа зверела на
глазах, когда наконец разум человеческий
показал полное бессилие перед событиями.
В стихотворении Горького 1914 года есть
строки:
Как же мы потом жить будем?
Что нам этот ужас принесет?
Что теперь от ненависти к людям
Душу мою спасет?
Революция подтвердила худшие опасе-
ния писателя. В отличие от Блока, он услы-
шал в революционной буре не «музыку», а
страшный рев разбуженной стомиллионной
народной стихии, вырвавшейся наружу че-
рез все социальные запреты и грозившей
потопить жалкие островки культуры («Не-
своевременные мысли»).
Ставка на интеллигенцию провалилась.
Он сам оказался буфером между двумя ее
лагерями: представителями большевиков, с
одной стороны, и старой интеллигенцией, с
другой, — не способный обуздать одних и
до конца слиться со вторыми. «Он вышел
из низов, но вовсе не из рабочего класса и в
данный момент скорее связан с цеховой ин-
теллигенцией, нежели с рабочим классом.
Горький не примыкает, в сущности, ни к
одной из существующих внутри интелли-
генции группировок. Это обрекает его на
сугубое одиночество», — писал в 1918 году
в довольно злобной книге о Горьком некто
под псевдонимом Эрде.
Народ, по мнению Горького, сполна по-
казал себя во время Гражданской войны с
ее кровавыми ужасами. В книге о «Русском
крестьянстве* раздраженный Горький пи-
сал: «Жестокость форм революции я объяс-
няю исключительной жестокостью русско-
го народа». Книга вышла в Берлине и при-
влекла внимание западного читателя. «Бей
своих, чтоб чужие боялись!» Между про-
чим, в ней было немало горьких наблюде-
ний над отрицательными сторонами рус-
ского характера. Но все-таки симптомати-
чен провал социального чутья писателя,
попытавшегося свалить все грехи на счет
одного крестьянства в виду уже совершен-
ных, но еще более готовящихся репрессий
против этого сословия.
Что же оставалось?
Оставалось два пути: либо поверить в ка-
кую-то третью силу, способную вывести
страну из тупика, либо оказаться, говоря
словами самого Горького, «в пустыне неве-
рия». Горький-художник выбирает скорее
второй путь. Как бы ни пытались в свое вре-
мя привязывать его последнюю незавер-
шенную повесть — «Жизнь Клима Самги-
на» к «критическому» или «социалистиче-
скому» реализму, это произведение было и
остается вещью с отчетливо выраженной
экзистенциальной темой — темой судьбы и
положения человека в мире.
Но Горький-публицист и Горький-госу-
дарственник поступает иначе. Как ни
странно, но ответ на вопрос, почему все-та-
ки Горький пытался поверить в Сталина,
мы найдем в наиболее реабилитирующей
его книге — «Несвоевременные мысли».
В начале ее, протестуя против отправки на
русско-германский фронт сотен тысяч лю-
дей, Горький пишет:
«Представьте себе на минуту, что в мире жи-
вут разумные люди... представьте, например, что
нам, русским, нужно, в интересах развития на-
шей промышленности, прорыть Риго-Херсонский
канал — дело, о котором мечтал еще Петр Вели-
кий. И вот, вместо того, чтобы посылать на убой
миллионы людей, мы посылаем часть их на эту
работу, нужную стране, всему ее народу».
Третья сила, способная сделать это, вско-
ре объявилась. Сталин! Известно, что Ста-
лин читал «Несвоевременные мысли*. Он
знал, что делал, когда благословлял Горь-
100
Максим Горький
кого с группой в поездку на строительство
канала своего имени, столь нужного стра-
не, ее народу!
Здесь логика гуманизма, раз и навсегда
принятая, работала неотвратимо. Раз народ
не желает слушать внушения Разума, надо
проявить Волю. Раз страна не хочет добро-
вольно двигаться к социализму, надо заста-
вить ее сделать это. Надо применить такой
«рычаг», какой и в страшном сне не мог
привидеться гуманисту Горькому прежде.
Горький скончался 18 июня 1936 года в
Горках под Москвой. Урна с его прахом за-
хоронена в Кремлевской стене.
Конец Горького был трагичен, и многое в
обстоятельствах его смерти неясно до сих
пор. Судить Горького, поправлять его — де-
ло нехитрое. Гораздо труднее понять под-
линный масштаб этой личности, а заодно и
оценить великое мужество человека, кото-
рый, разумеется, не мог не знать о трагизме
своего положения, но ни разу не свернул с
дороги, не спрятался, оставаясь всю жизнь
центральной фигурой своей эпохи.
О своей будущей судьбе Горький дога-
дался очень рано. Еще в 1899 году в письме
к Чехову он сравнил себя с паровозом, кото-
рый мчится в неизвестность: «Но рельс по-
до мной нет... и впереди ждет меня круше-
ние. Момент, когда я зароюсь носом в зем-
лю — еще не близок, да если б он хоть
завтра наступил, мне все равно, я ничего не
боюсь и ни на что не жалуюсь».
A. M. Марченко
Сергей Александрович
Есенин
(1895—1925)
«НУ, А Я КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН»
Сергей Александрович Есенин родился в
1895 году 3 октября по новому стилю в селе
Константиново Рязанской губернии. В поэ-
ме «Черный человек* поэт называет свою
семью «простой, крестьянской». На самом
деле была она далеко не простой, а главное,
не совсем уже и крестьянской.
Ни Москва, ни Петербург испокон веку
не могли обслужить себя собственными
силами, потому и выманивали из близ-
лежащих краев недостаточных крестьян,
превращая их, как сказали бы сейчас, в
«лимитчиков». Один из героев хроники
В. А. Гиляровского «Москва и москвичи»
рассказывал автору: «Вот я еще в силах ра-
ботать, а как отдам все силы Москве — так
уеду к себе на родину. Там мы ведь почти
все москвичи... Они не только те, которые
родились в Москве, а и те, которых дают
Москве области. Так, Ярославская давала
половых, Владимирская плотников, Ка-
лужская булочников. Банщиков давали
три губернии».
Среди трех банных провинций была и
Рязанская, и это не единственная ее специ-
ализация — у здешних крестьян, не в при-
мер здешним же помещикам и многочис-
ленным монастырям, было слишком мало
пахотной земли, и им, чтобы выжить, при-
ходилось осваивать не одну, а несколько
нужных городу профессий. Односельчане
Есенина, как и его отец, устраивались в ос-
новном по торговой части. Но это те, что по-
смирнее. Рисковые и азартные, к примеру,
дед поэта по матери Федор Титов, станови-
лись «корабельщиками»: приобретали в
собственность баржи — единолично или ар-
телью, на паях, — на них и доставляли в
обе столицы простой продукт — и лес, и
сало, и овес, а главное — сено (по всей пой-
ме Оки — лучшие в Европейской России за-
ливные луга).
Однако даже в этом ряду среди времен-
ных москвичей и сезонных петербуржцев
семья Есениных выделялась малоземельем,
сильно отклоняясь от средней нормы. Уже
дед Сергея Александровича по отцу Никита
Осипович на том клочке земли, какой при-
обрел после женитьбы, ничего, кроме вы-
нужденно «двухэтажной» избы (внизу —
помещение для скотины и что-то вроде ам-
бара), уместить не смог. В еще более стес-
ненном положении оказался его сын Алек-
сандр. С двенадцати лет, после смерти отца,
он и жил, и работал в Москве сначала маль-
чиком, а потом старшим приказчиком в
мясной лавке купца Крылова; на эти-то
крыловские, торговые, деньги и кормилась
семья. Корова и огород (лошади не было)
служили лишь подспорьем. Не было у Есе-
ниных и собственного сада, хотя у соседей,
что справа, что слева, сады имелись. Да что
сад — огород и тот на выселках, вдалеке
от подворья. И вот что еще важно. Прижи-
мистые и хозяйственные константиновцы
(«владельцы землей и скотом») смотрели на
городские заработки и многомесячные от-
лучки из деревни как на отхожий промы-
сел, помогающий расширить земельный на-
дел, тогда как Александр Никитич, удив-
ляя и смеша односельчан, вкладывал все,
что удавалось скопить, не в землю, а в дом.
102
Сергей Александрович Есенин
То часы городские привезет, то красивую
лампу, то венские стулья... Первой же его
заботой, а, следовательно, и основным рас-
ходом было образование детей, благо все
трое, и Сергей, и Екатерина, и Александра,
подрастали на редкость способными —
«жадными на ученье». Это по настоянию
отца, а не матери и ее властной и авторитет-
ной в деревне родни старшего, Сергея, по
окончании Константиновской четырехлет-
ки определили в Спас-Клепиковскую учи-
тельскую школу. К тому же Александра
Никитича, сызмала оторванного от земли и
не отличавшегося крепким здоровьем,
крестьянская работа утомляла. Младшая
из его дочерей вспоминает:
«Приезжая домой только в отпуск, он не умел
ни косить, ни пахать, ни молотить. Даже лошадь
запрячь не умел. Да и сил у него не было... Созна-
вая свою неприспособленность и слабосилие, отец
чувствовал себя не на своем месте и ходил всегда
грустный. Целыми часами сидел он у окна, опер-
шись на руку, и смотрел вдаль».
Мать поэта Татьяну Федоровну (в деви-
честве Титову) неприкаянность и слабоси-
лие мужа сильно раздражали, тем сильнее
раздражали, что выросла она в семье с
иным укладом: братья — ухватистые, уме-
лые мужики, а отец — мало что корабель-
щик, еще и знатный лошадник, у которого
и лучшие в селе лошади, и отменная
упряжь. Будь с ее стороны любовь-страсть,
может, и обошлось бы, но выдали шестнад-
цатилетнюю Татьяну за восемнадцатилет-
него Александра не то чтобы насильно, а по
сговору да расчету: к той поре, как дочь за-
невестилась, Федор Титов разорился и дать
за своей любимицей, певуньей-плясуньей
достаточное приданое уже не мог, а Сашка
Есенин по прозвищу Монах брал девку за-
муж за красоту, по любви.
Чувствуя, что невестка равнодушна к ее
сыну, свекровь изводила молодую попрека-
ми, а муж по тихости и мягкости не пере-
чил матери, не защищал жену. Кончилось
тем, что Татьяна, отдав малолетнего сына в
отцов дом, уехала в Рязань.
Разлад между родителями не мог не ска-
заться на характере заброшенного ребенка,
на всю жизнь запомнившего детские оби-
ды, выпавшие на «сиротскую» (при живых
отце-матери) долю. Особенно часто ссорил-
ся Сергей с папашей в ранней юности.
Внешне, физически, он походил на отца,
пошел, как говорится, мастью в Есени-
ных, а не Титовых, и это фамильное сходст-
во при разнице интересов и жизненных
установок хорошо «унавоживало» почву
для постоянных распрей. С матерью ему
было проще, потому что Татьяна Федоров-
на, чувствуя себя навсегда виноватой перед
сыном, в открытую ничего от него и не тре-
бовала, ну разве что поворчит, видя, что
тот, зачитавшись, отлынивает от мужиц-
кой работы. Однако и тут, в отношениях с
матерью, имелась тайная причина для дис-
комфорта. Дело в том, что, уйдя из деревни
и устроившись на работу в Рязани, Татьяна
Федоровна, «нагуляв», как судачили в
Константинове, внебрачного ребенка, по-
просила у мужа официальный развод. Раз-
вода Александр Никитич неверной, но лю-
бимой жене не дал, в результате незаконно-
рожденного мальчика, названного почему-
то Сашей (одним именем с постылым супру-
гом!), пришлось устроить в «хорошие ру-
ки», а Татьяна Федоровна вернулась в де-
ревню — не столько к мужу, сколько к до-
машнему очагу и к законному сыну.
Судя по до сих пор не опубликованным
воспоминаниям Александра Ивановича
Разгуляева (и отчество, и фамилию едино-
утробному брату Есенина дала его «воспи-
тательница» Екатерина Разгуляева), Сер-
гей относился к нему хорошо и жалел мать,
вынужденную жить в вечном разлучении с
«несчастным дитем». На самом деле все бы-
ло куда сложней. Узнав, например, что
Татьяна Федоровна тайком видится с Са-
шей и потихоньку отдает ему деньги, кото-
рые поэт посылал в Константиново на стро-
ительство новой взамен сгоревшей избы,
Сергей написал отцу такое письмо:
«Дорогой отец! Пишу тебе очень сжато... Мать
ездила в Москву вовсе не ко мне, а к своему сыну.
Теперь я понял, куда шли эти злосчастные
3000 руб. Я все узнал от прислуги. Когда мать
приезжала, он приходил ко мне на квартиру, и
103
Русские писатели XX века
они уходили с ним чай пить. Передай ей, чтоб
больше ее нога в Москве не была».
Есенину почти тридцать, а реагирует он
на «измену» матери, на то, что та приезжа-
ла в Москву повидаться со своим сыном, а
не с ним! — так, как могут обижаться в
первой юности подростки с особо ранимой
душой; это-то, кстати, и наводит на мысль,
что Есенин куда болезненнее переживал се-
мейные неурядицы, чем казалось его сест-
рам.
Очень тяжело, как опасную болезнь, пе-
ренес он и первую разлуку с родимым до-
мом, настолько тяжело, что сбежал из
Спас-Клепиков; еле-еле уговорили беглеца
вернуться, и если б в тот же год он не сдру-
жился с одноклассником, серьезным и доб-
рым Гришей Панфиловым, у которого в
Спас-Клепиках был родительский дом, где
Сергея искренне полюбили, вряд ли бы до-
терпел «казенный кошт» до учительского
диплома.
Диплом сельского наставника Есенин
(весной 1912 года) все-таки получил, но от
распределения в деревенскую школу при
самом искреннем сочувствии к «забитому»
и «от света гонимому народу» наотрез отка-
зался, несмотря на слезы матери и гнев от-
ца, которым очень-очень хотелось, чтобы
их сын, такой пригожий да умный, всему
селу на зависть, стал учителем. И не пото-
му, что боялся «пропасть в глуши», а пото-
му, что уже понял, что он — поэт.
Думать и говорить стихами первенец
Татьяны и Александра Есениных начал лет
с девяти, а «пробуждение творческих дум*
почувствовал еще раньше. Детские стихи
Есенина не сохранились, поскольку никто
из взрослых их не записывал, можно, одна-
ко, предположить, что две изумительные
миниатюры, которые Сергей Александро-
вич неожиданно вспомнил в 1925 году, ког-
да готовился его госиздатовский трехтом-
ник, — «Там, где капустные грядки...» и
«Вот уж вечер...», — сложены, во всяком
случае вчерне, еще в детстве, до того, как
мальчик научился бегло читать и писать.
А вот потом с ним случилось то, что неред-
ко случается с талантливыми подростками
на перепутье между отрочеством и первой
юностью: он стал слишком уж прилежно
копировать поэтов, которыми восхищались
взрослые и образованные люди его непо-
средственного окружения.
Переехав в 1912 году на жительство в
Москву, Сергей хотел скорее начать зараба-
тывать деньги, чтобы не сидеть на роди-
тельских харчах. Сменив несколько явно
не подходящих ему «рабочих мест» (кон-
торщик в той же мясной лавке, где служил
Александр Никитич, экспедитор в книгоиз-
дательстве «Культура»), нашел-таки при-
личную работу (устроился помощником
корректора при типографии знаменитого на
всю Россию издателя массовой литературы
Сытина), а кроме того, установил связи с
Суриковским музыкально-литературным
кружком, деятельно и умело опекавшим
талантливых выходцев из народа.
Легко приспособившись к общему в этом
полусамодеятельном литобъединении сти-
лю, Есенин уже через несколько месяцев
чувствовал себя здесь настолько своим, что
принял участие в составлении и обсужде-
нии программы собственного журнала су-
риковцев «Друг народа», там же напечатал
стихотворение «Узоры». Годом ранее его
начал полегоньку публиковать и еще один
тонкий журнальчик для детей — «Мирок*.
Что до серьезных толстых ежемесячни-
ков, то они глухо молчали, хотя Сергей
Александрович регулярно отправлял по
разным редакциям подборки своих новых
произведений. Словом, усилия явно не со-
ответствовали результату: Москва, при-
ютив честолюбивого провинциала, не спе-
шила признать в нем оригинальный талант
и упорно не выделяла среди начинающих
♦самоучек». Конечно, Есенин слишком ве-
рил в себя, в славную «будущность» («что
я буду богат и известен и что буду я все-
ми любим»), чтобы не солоно хлебавши вер-
нуться в свои «рязани». Но временами ста-
новилось невмочь — теснота, бедность...
И в деревне перебивались с хлеба на квас,
но там пусть и небогатый, все же свой дом,
а здесь? Сырой угол! Однажды, поддавшись
тоске, он даже хлебнул уксусной эссенции,
104
Сергей Александрович Есенин
к счастью, испугался и тут же стал пить мо-
локо.
Из тяжелого душевного кризиса юношу
вывело знакомство с милой и доброй Анной
Изрядновой. Опытный корректор, Анна .по-
могала Сергею овладевать азами новой для
него профессии, она же уговорила записать-
ся вольнослушателем в народный универси-
тет им. А. Л. Шанявского (осень 1913 года).
Она и не заметила, как влюбилась. В церкви
молодые люди не венчались: собрав пожит-
ки, Сергей просто переехал в снятую Анной
квартирку, маленькую, но светлую и опрят-
ную. В декабре 1914 года Анна родила от
Есенина мальчика, названного по иници-
ативе девятнадцатилетнего отца Юрием. Ес-
ли верить Александру Разгуляеву, Татьяна
Федоровна, узнав, что подруга старшего сы-
на беременна, пыталась усовестить Сергея:
дескать, ежели обрюхатил девку, женись.
И ее подначивала: требуй. Но Анне такое и в
голову не приходило: какой из Сергея муж?
А ребенка сама поднимет, не безрукая и го-
лова — на плечах...
Никакого следа в жизни Есенина мать
его первого ребенка, по видимости, не оста-
вила. Да и вообще женщины в драме его
судьбы никогда не играли главных ролей,
как это было у Блока или Тютчева. У него и
стихов, описывающих конкретную любов-
ную ситуацию, практически нет. За исклю-
чением разве что цикла «Любовь хулига-
на», посвященного актрисе Августе Микла-
шевской, но именно с этой женщиной
настоящего житейского романа у Сергея
Александровича как раз и не было. Но все
они — «кого любил и бросил», хотя бы
тенью промелькнули в его лирике, так что
не исключено, что концовка знаменитого
стихотворения 1916 года «Гаснут красные
крылья заката...*, пусть и «легкокасатель-
но», но связана с образом его первой граж-
данской жены — спокойной, ласковой,
кроткой, ответившей на мимолетную при-
вязанность будущего поэта, верной и нетре-
бовательной:
Не с тоски я судьбы поджидаю.
Будет злобно крутить пороша.
И придет она к нашему краю
Обогреть своего малыша.
Снимет шубу и шали развяжет,
Примостится со мной у огня...
И спокойно и ласково скажет.
Что ребенок похож на меня.
Но пока, до марта 1915 года, в тихой
комнатке за Серпуховской заставой моло-
дые люди живут вместе, соблюдая види-
мость семейственности: Анна растит себе
сына, а Сергей — растит себя поэтом.
Сделав несколько неудачных попыток
преобразить в стихи жизненный материал,
какой преподносила новоиспеченным горо-
жанам бурно европеизировавшаяся Моск-
ва, Есенин, в отличие от почти ровесников
по поэтическому поколению, Владимира
Маяковского и Игоря Северянина, тоже,
кстати, провинциалов, выросших в него-
родской глуши, — уже к концу 1913 года
твердо решил: он будет писать только о де-
ревенской Руси, а чтобы не затеряться в не
слишком могучей кучке деревенщиков-са-
моучек, кроме направления творческого
пути, срочно выработает еще и философиче-
ский план построения поэтического мира.
Именно мира, на меньшее, даже в долгих
спорах с самим собой, Есенин не соглашает-
ся и термин построение употребляет не
всуе, ибо убежден: поэтическое произведе-
ние и растет, будто дерево или злак, свобод-
но и раскидисто, и в то же время строится,
как «изба нашего мышления», по строго
рассчитанному чертежу.
Однако, оглядевшись, сообразил: в
Москве, бездушном, буржуазном городе,
«где люди большей частью волки из корыс-
ти» (из письма к Грише Панфилову. —
А. М.), ему не найти ни истинных цените-
лей деревенских, резедой и мятой вскорм-
ленных стихов, ни просвещенных мецена-
тов-издателей. В том же письме поэт при-
знается товарищу ранних лет: «Думаю во
что бы то ни стало удрать в Питер».
Надо отдать должное есенинской инту-
иции: тогдашняя Москва, только что уса-
дившая на поэтический трон Игоря Северя-
нина — короля на новых русских ориенти-
рованной поэзии, Москва, со сладким
ужасом глазеющая на желтую кофту Ма-
105
Русские писатели XX века
яковского, и в самом деле ничуть не нужда-
лась в открывателях Голубой Руси.
Пока Гриша Панфилов был жив (он умер
от туберкулеза в феврале 1914-го), план по-
бега из бездушной Москвы в северную сто-
лицу был тайной двоих, но уже летом
1914 года Есенин стал говорить об этом от-
крыто — имею, мол, намерение переехать в
Питер насовсем. И добавлял: «Пойду к Бло-
ку. Он меня поймет». На первый взгляд
уверенность никому не известного «самоуч-
ки», что знаменитый автор «Стихов о Пре-
красной Даме» примет участие в его лите-
ратурной и человеческой судьбе, представ-
ляется, мягко говоря, опрометчивой. Блок
той поры (1913—1915 годов) — это «Ям-
бы», «Кармен», это такие угрюмые стихи,
как «Перед судом», «Грешить бесстыдно,
беспробудно...», то есть сугубо городской,
сосредоточенно петербургский поэт.
Но дело-то в том, что Есенин по наивнос-
ти совсем не этого, взрослого и усталого «уг-
рюмца» собирался разыскивать в Петрогра-
де. Ему нужен был другой Блок — 25-лет-
ний! Тот, кто чуть ли не десять лет назад в
маленьких эссе «Краски и слова» (1905) и
«Девушка розовой калитки и муравьиный
царь» (1906) предсказал неизбежность появ-
ления нового поэта. Только новый, с поля
пришедший художник найдет свежие кра-
ски и слова для выражения смертной любви
россиянина к бедной своей родине и неведо-
мо каким — чудесным, колдовским — спо-
собом добудет затонувшее в недрах ее болот
и суглинков «поющее золото». Больше того:
не кто иной, как Блок, предсказав неизбеж-
ность вспышки на русском литературном
небе ослепительно-яркой звезды, назвал по
имени темы, сюжеты, ключевые образы пер-
вой есенинской книги. Провидчески, напе-
ред, в блистательной прозе 1906 года —
«Безвременье»:
«Пляшет Россия под звуки длинной и унылой
песни о безбытности... Где-то вдали заливается
голос или колокольчик, и еще дальше, как рука-
вом, машут рябины, все обсыпанные красными
ягодами. Нет ни времени, ни пространств на этом
просторе. Однообразны канавы, заборы, избы, ка-
зенные винные лавки, не знающий, как быть со
своим просторным весельем, народ, будто удалой
запевало, выводящий из хоровода девушку в
красном сарафане. Лицо девушки вместе смеет-
ся и плачет. И рябина машет рукавом... Вот рус-
ская действительность — всюду, куда ни огля-
нешься, — даль, синева и щемящая тоска неис-
полнимых желаний. Когда же наступит вечер и
туманы оденут окрестность, — даль станет еще
прекраснее и еще недостижимее».
И предположить невозможно, что знаме-
нитое это эссе, так же, как написанное в
том же эстетическом и эмоциональном ре-
гистре стихотворение «Осенняя воля»
(1905), прошли мимо Есенина. Чересчур
пристально и ревниво следил он за творче-
ством Блока, слишком прилежно учился у
него «лиричности». «Блок и Клюев научи-
ли меня лиричности», — скажет он в
1925 году. К тому же студенты народного
университета им. А. Л. Шанявского стара-
лись быть в курсе новых веяний, да и напе-
чатано было «Безвременье» в журнале «Зо-
лотое руно» — дорогом, престижном и по-
тому особо бережно и долго хранимом
(библиотека в народном университете ста-
раниями его учредителей была отменной).
Во всяком случае, готовясь удрать в Пи-
тер, Есенин явно «ломает» свою прежнюю,
ориентированную на вкусы суриковцев и
Е. М. Хитрова, поэтику. Московский зна-
комый Есенина, литератор Д. Семеновский,
вспоминает, что ранним летом 1914 года
Сергей говорил ему: «Напишу книжку сти-
хов под названием «Гармоника». В ней бу-
дут отделы: «Тальянка», «Ливенка», «Че-
репашка», «Венка». Замысел не лишен
оригинальности: только художник с абсо-
лютным поэтическим слухом мог сделать
столь тонкое «распределение», ибо на слух
более грубый и примитивный, между, ска-
жем, «Тальянкой* или «Ливенкой», или
«Венкой» (разновидности гармоники) раз-
ницы принципиальной нет, тем более, что
речь идет не о песнях в буквальном смысле,
а о произведениях вербальных, пусть и с
сильно выраженным напевным, мелодиче-
ским началом. План этот не был осуществ-
лен. Вместо «Гармоники» Есенин написал
«Радуницу», книгу, созданную под могу-
чим внушением и очарованием молодого
Блока.
106
Сергей Александрович Есенин
В «Радунице» Есенин словно бы восполь-
зовался той картиной провинциальной
Руси, которую Блок создал в «Безвре-
менье», — и как философическим планом,
и как замечательно точно найденной рас-
становкой (любимое есенинское слово)
«предметов земных вещей», пустот и плот-
ностей, композиционных равновесий и не-
равновесий, соблазнов плоти и устремле-
ний духа, вплоть до сочетания цветовых
пятен. Как строили древнерусские зодчие?
Чертили на земле или на бересте план —
назывался он «вавилон* и, сообразуясь с
«вавилоном», при помощи парных, связан-
ных гармоническими отношениями саже-
ней (сажень с четью) возводили храм. По-
добный вавилон Есенин, видимо, и вы-
глядел-высмотрел в «Безвременье», и сразу
же заработал на полную мощность самый
ухватистый из его подмастерьев — стро-
итель-звук, в повадке которого смутно
брезжит облик именно древнерусского зод-
чего, а не современного деревенского плот-
ника:
На крепких сгибах воздетых рук
Возводит церкви строитель-звук.
Словом, начиная с осени 1914 году Есе-
нин работает, постоянно оглядываясь на
Блока. Например, сознательно добивается
ощущения сини, простора и дали, синевы
особенно — заливая голубизной-голубенью
ситцевые свои ландшафты, чтобы уже по
этой, то светящейся, нежно-перламутро-
вой, то глубокой до черноты сини узнавали
его, Есенина, поэтическую страну: «голу-
бизна незримой кущи», «в прозрачном хо-
лоде заголубели дали», «летний вечер го-
лубой», «синий вечер», «синий плат небес»
и т. д. С не меньшей изобретательностью,
словно прислушиваясь к советам Учителя,
сочиняет он и «фигуральности», чтобы
«отелить», то есть одеть в плоть образа
столь пронзительную у Блока «щемящую
тоску неисполнимых желаний»: тогда у
Есенина и солончаковая, и журавлиная, и
озерная, и вечерняя...
А как ухватисто и умело использует он
уже в «Радунице», а потом и в «Голубени»
открытый автором «Безвременья» эффект
взгляда на среднерусский ландшафт сквозь
украшающий и поэтизирующий его туман
(«Когда же наступит вечер и туманы оденут
окрестность, — даль станет еще прекрас-
нее...»)! Типичный есенинский пейзаж обя-
зательно с туманом («даль подернута ту-
маном»), его и представить-то трудно без
«охлопьев синих рос», потому и краски, не-
смотря на изначально простую и даже гру-
бую яркость палитры — красный, синий,
зеленый да желто-золотой, — сияют и све-
тятся, будто одетые перламутром. Запом-
нит Есенин, а когда представится случай,
использует, и счастливо найденное Блоком
сравнение дерева с деревенской девушкой,
взмахивающей веткой, как рукавом. Блок:
«Как рукавом, машут рябины»; Есенин:
«Черемуха машет рукавом».
Но, может быть, главный аргумент в
пользу предположения — что Есенин, опре-
делив себя в подмастерья к мастеру Блоку,
учился у него не только лиричности, но и
многим другим тайнам поэтического искус-
ства, — тематическая перекличка или, как
выражался сам Есенин, перезвон его доре-
волюционной лирики с выше названными
вещами молодого Блока. Какова главная
тема «Безвременья» и «Осенней воли»? Ко-
нечно же, тема дороги — убегающей, беско-
нечной, струящейся по равнинам. Города и
те сдвинуты с постоянного места дорогами.
Даже в пустынях полей — пунктиры пути.
Дороги проложены недавно, обочины зава-
лены грудами щебня и вывороченной «кир-
кой» мертвой желтой глины. Ни романти-
ческих троек, ни песенных ямщиков (голос
и колокольчик — где-то там, вдали). Лишь
изредка вываливается из придорожного ка-
бака на дорогу пьяный хохот. И снова доро-
га, дорога, дорога и фигура одинокого пут-
ника: «Привычный, далеко убегающий,
струящийся по равнинам каменный путь
и, словно приросшее к нему, без него не-
мыслимое, согнутое вперед очертание чело-
века с палкой и узелком».
Точно такую же расстановку видим и в
большинстве стихотворений «Радуницы» и
«Голубени» (и далее уже почти везде). И из-
бы, и сама деревня сдвинуты в сторону при-
дорожья, а на первом плане: дорога и чело-
107
Русские писатели XX века
век дороги — бродяга, странник, богомо-
лец, вор, кандальник, прохожий, гуляка
праздный, уличный повеса:
Пойду в скуфье смиренным иноком
Иль белобрысым босяком —
Туда, где льется по равнинам
Березовое молоко.
Или такие примеры.
Блок: «Но они (странники. — А. М.) блажен-
ные существа. Добровольно сиротея и обрекая се-
бя на вечный путь, они идут куда глядят глаза».
Есенин1. «Счастлив, кто жизнь свою украсил
Бродяжьей палкой и сумой».
Блок: «Они как бы состоят из одного зрения,
точно шелестят по российским дорогам одни гла-
за...»
Есенин: «Только синь сосет глаза...»
Перечитайте с этой точки зрения лирику
Есенина и не без удивления обнаружите,
что это еще и род поэтической энциклопе-
дии русских дорог и целая галерея портрет-
ных набросков людей дороги!
«МЕЧТАТЕЛЬ СЕЛЬСКИЙ,
Я - В СТОЛИЦЕ»
Словом, у Есенина были серьезные осно-
вания прийти к Александру Блоку без при-
глашения. Согласно легенде, он так и сде-
лал: заявившись в дом поэта в маскарадном
тулупчике прямо с вокзала, вручил хозя-
ину стихи, написанные на отдельных лис-
точках и упакованные чуть ли не в деревен-
ский платок — узелком. В действительнос-
ти по дороге с вокзала (9 марта 1915 года)
Есенин оставил Блоку записку: приду-де в
четыре часа и по важному делу, а одет был
обыкновенно — в городской костюм, куп-
ленный в магазине готового платья (так
одевались в ту пору хорошо зарабатываю-
щие молодые рабочие).
Блок встретил московского гостя вежли-
во, но сухо-официально, выслушал, впро-
чем, внимательно, визит отметил для памя-
ти в дневнике: «Днем у меня рязанский па-
рень со стихами... Стихи свежие, чистые,
голосистые, многословные...» А вот пред-
сказанного им же самим нового поэта с «но-
вой свежестью зренья» в талантливом само-
родке, увы, не узнал. Да он бы и себя не
узнал — прежнего, молодого и дерзкого,
ежели б «встретил на глади зеркальной».
Того, о котором Анна Андреевна Ахматова
почти через сорок лет скажет: «И помнит
Рогачевское шоссе разбойный посвист мо-
лодого Блока» (Рогачевское шоссе — автор-
ская помета к стихотворению «Осенняя во-
ля*). За десять почти лет и он переменился,
и Россия стала другой: роковой 1914-й стер
с лица земли блоковскую, необычайную
Русь. Под тяжелым военным небом обезго-
лосело в недрах народной души певчее зо-
лото, а в далях неоглядных выцвела рус-
ская синь...
Однако ж и оставлять на улице подаю-
щих надежды молодых людей не в прави-
лах Александра Александровича, и он пере-
правил с соответствующей рекомендацией
автора голосистых стихов к Сергею Горо-
децкому, тоже поэту и художнику-любите-
лю, а через месяц на просьбу «рязанского
парня» о новой встрече ответил отказом:
дескать, видеться нам не стоит, мне, мол,
«даже думать о Вашем трудно, такие мы
с Вами разные». Холодную отчужденность
Блока и самый воздух замкнутого его дома
Есенин истолковал как «снисходитель-
ность дворянства», и был не так уж силь-
но несправедлив: в процитированную выше
дневниковую запись от 9 марта 1915 года
Александр Александрович внес еще и реп-
лику своей жены Любови Дмитриевны, до-
чери Менделеева: «Народ талантливый,
но жулик».
Отношение Блока ранило Есенина столь
глубоко, что рана эта не стала былой и не
улеглась до самого смертного часа. Тем
сильнее ранило, что снисходительности он
наглотался за годы «царщины» вдосталь.
Да, его баловали, ему льстили, им любова-
лись, но не как равным, а как чем-то экзо-
тическим, чем-то вроде расписной дымков-
ской игрушки...
Поэт Георгий Иванов, когда до эмигрант-
ского Парижа дошла весть, что Сергей Есе-
нин покончил с собой в ленинградской гос-
тинице «Англетер», вспоминая начало его
городской и горькой славы, писал:
108
Сергей Александрович Есенин
«Из окон этой гостиницы виден, направо за
Исаакием, дворец из черного мрамора — дом Зу-
бовых. Налево, по другую сторону Мойки, высит-
ся здание Государственного контроля... В обоих
этих домах в предреволюционные годы бился
пульс литературно-артистической жизни и в обо-
их частым гостем бывал Есенин. Не раз, вероят-
но, сквозь зеркальные окна кабинета графа Ва-
лентина Зубова он смотрел на приютившийся на
другой стороне площади двухэтажный «Англе-
тер». Смотрел, читая стихи, кокетничая, как все-
гда, нарочито мужицкой грубостью непонятных
слов:
Пахнет рыхлыми драченами;
У порога в дежке квас.
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз...
Прелестно... Прелестно... Аплодисменты, лю-
безные улыбки — Сергей Александрович, Сере-
жа... Прочтите еще или, еще лучше, спойте. Вы
так грациозно поете эти... как их? Частушки.
...Шелест шелка, запах духов, смешанная рус-
ско-парижская болтовня... Рослые лакеи в камзо-
лах и белых чулках разносят чай, шерри-бренди,
сладости. И среди всего этого звонкий голос Есе-
нина, как предостережение из другого мира, как
ледяной ветерок в душистой оранжерее...»
По всей вероятности, с теми же или по-
добными воспоминаниями связана и поэти-
ческая автобиография Есенина — стихотво-
рение «Мой путь», которое он написал в
1925-м, в год своего юбилея (10 лет литера-
турной деятельности):
Россия... Царщина...
Тоска...
И снисходительность дворянства.
И вот в стихах моих
Забила
В салонный вылощенный
Сброд
Мочой рязанская кобыла.
Разумеется, слова салонный вылощен-
ный сброд по отношению к завсегдатаям
литературно-артистических собраний «в
пышном доме графа Зубова» чересчур субъ-
ективны. В дореволюционные времена Есе-
нин таких грубых выражений не употреб-
лял, хотя своим на столичном Парнасе се-
бя, конечно, не чувствовал. Вот что писал
он крестьянскому поэту Александру Ширя-
евцу в июне 1917 года:
«Бог с ними, этими питерскими литератора-
ми, ругаются они, лгут друг на друга, но все-таки
они люди, и очень недурные внутри себя, а пото-
му так и развинченны. Об отношениях их к нам
судить нечего, они совсем с нами разные, и мне
кажется, что сидят гораздо мельче нашей кресть-
янской купницы».
Есенин, как видим, почти точно цитиру-
ет фразу из обидного письма к нему
А. А. Блока («...такие мы с Вами раз-
ные...»), но в целом даже в 1917 году отно-
шение к столичной элите у него отнюдь не
негативное — «люди и очень недурные вну-
три себя», и это понятно, ведь несмотря на
разность, эти чужаки («романцы» и «запад-
ники») не только приветили, но и, выража-
ясь нынешним языком, раскрутили его.
Больше того, именно петербургские эстеты,
а раньше всех Сергей Городецкий, увлекав-
шийся идеей культурного панславизма и
русским деревенским наивным искусством,
приняли рязанского гостя восторженно и
всерьез, хотя и под несколько специфиче-
ским углом зрения: как долгожданное чу-
до, как явление отрока Пантелеймона —
стык панславистских мечтаний с голосами,
рожденными русской деревней, представ-
лялся им, держателям культурного вкуса,
«праздником какого-то нового народниче-
ства».
На новое народничество в Петрограде
был спрос. Промышленный бум конца
XIX — начала XX века выдвигал Россию в
мировые державы и, возбуждая националь-
ное самосознание, обострял до накала «но-
вой вражды» старую «распрю» западников
и славянофилов. Причем по новой расклад-
ке ролей и интересов и наперекор традиции
славянофильским центром становится Пе-
тербург, тогда как Москва решительно раз-
ворачивается фасадом к Европе. И чем
успешнее богатеет ее буржуазия, вчераш-
нее лапотное и бородатое купечество, тем
чаще и пристальнее взглядывает она на За-
пад. Петербург вводит в моду стиль «ля
рюс» — московский купец Щукин покупа-
ет картины Матисса и Пикассо. Николай II
109
Русские писатели XX века
коллекционирует старинные кокошники и,
подавая пример подданным, аплодирует ис-
полнительнице народных песен Надежде
Плевицкой; Московский Художественный
театр, возглавляемый потомственным куп-
цом К. С. Алексеевым, он же Константин
Станиславский, ставит «Синюю птицу» Ме-
терлинка.
В столь экзальтированной обстановке
Есенин, разглядевший в торговом, «раз-
битом отхожим промыслом», обыкновен-
ном рязанском селе идеальный прообраз
России — Голубую Русь, был обречен на
успех, как и несколькими годами ранее Ни-
колай Клюев, рачительный охранитель за-
поведных сокровищ северной старины. Вес-
ной 1915 года олонецкого песнопевца в сто-
лице не было; по совету Городецкого,
заранее предвкушавшего эффект, который
произведет дуэт столь сильных природных
голосов, Сергей Александрович отправил в
Вытегру письмецо. Клюев откликнулся, и с
осени «народный златоуст» (Клюев) и «на-
родный златоцвет* (Есенин) на всех неона-
роднических вечерах и посиделках высту-
пают неразлучной парой. В странных их
отношениях было много тяжелого — рев-
ности, взаимных болей и обид, тайного со-
перничества. По всей вероятности, именно
Клюев, опасаясь, как бы столичные душе-
ловы не отняли у него «Сереженьку», не
сманили на свою «голубятню» «белого го-
лубя», исподволь, но властно и твердо подо-
гревал в нем неприязнь к литературному
«дворянству». Вот что писал этот «хитрый
умник* Есенину в августе 1915 года, еще до
личного знакомства:
«...Мы с тобой козлы в литературном огороде
и только по милости нас терпят в нем... Особенно
я боюсь за тебя... Твоими рыхлыми драченами
объелись все поэты, но ведь должно тебе быть по-
нятно, что это после ананасов в шампанском...
Быть в траве зеленым, а на камне серым — вот
наша с тобой программа, — чтобы не погибнуть.
Знай, свет мой, что лавры Игоря Северянина ни-
когда не дадут нам удовлетворения и радости
твердой, тогда как любой петроградский поэт
чувствует себя божеством, если ему похлопают в
какой-нибудь «Бродячей собаке»... Я холодею от
воспоминаний о тех унижениях и покровительст-
венных ласках, которые я вынес от собачьей пуб-
лики. У меня накопилось около двухсот газетных
и журнальных вырезок о моем творчестве, кото-
рые в свое время послужат документами, — веще-
ственными доказательствами того барско-интел-
лигентского, напыщенного и презрительного
взгляда на чистое слово и еще того, что Салтычи-
хин и аракчеевский дух до сих пор не вывелся да-
же среди лучших из так называемого русского об-
щества. Я помню, как жена Городецкого в одном
собрании, где на все лады хвалили меня, выждав
затишье в разговоре, вздохнула, закатила глаза и
потом изрекла: «Да, хорошо быть крестьяни-
ном». Подумай, товарищ, не заключается ли в
этой фразе все, что мы с тобой должны возненави-
деть и чем обижаться кровно? Видите ли — не ва-
жен дух твой, бессмертное в тебе. А интересно
лишь то, что ты, холуй и хам-смердяков, загово-
рил членораздельно».
Уже по этому тексту понятно, что Есени-
ну, — с его внешне податливым, мягким, а
внутренне крайне независимым характе-
ром, — было совсем не легко выносить
властный деспотизм «старшего брата».
И тем не менее даже тогда, когда их творче-
ские пути круто разошлись, благодарность
осталась; при всей своей житейской безала-
берности Сергей Александрович принадле-
жал к той редкой породе людей, кто не за-
бывает ни одной оказанной когда-то помо-
щи. Регулярно, даже из-за границы,
посылал он Клюеву продуктовые посылки,
официально именовал учителем, в одном
чине с Блоком («Блок и Клюев научили ме-
ня лиричности»), в письмах был неизмен-
но почтителен и сдержан, но знакомым жа-
ловался: «Ей-богу, пырну ножом Клюева».
Клюев не давался, ускользал, обманы-
вал, сбивал с толку. Клюева Есенин не по-
нимал: то гневался на «смиренного Мико-
лая»: дескать, «ладожский дьячок» обол-
гал русского мужика, приписав не
свойственный крестьянину «шовинизм», то
завидовал: «олонецкий знахарь» хорошо
знает деревню. А вот самое начало их по-
жизненной дружбы-вражды и запомни-
лось, и вспоминалось почти идиллическим:
Тогда в веселом шуме
Игривых дум и сил
Апостол нежный Клюев
Нас на руках носил.
110
Сергей Александрович Есенин
Не без помощи Клюева (у нежного апос-
тола — надежные связи в придворных кру-
гах) Есенину удалось избежать отправки в
действующую армию: сначала он получил
отсрочку от призыва, а затем, весной
1916 года, влиятельные покровители «сми-
ренного Миколая» пристроили «вербного
отрока» санитаром в Царскосельский лаза-
рет, который патронировала императрица.
Зимой 1915 года Клюев по настойчивой
просьбе своего «Сереженьки» познакомил
его с Ахматовой. На прощание Анна Андре-
евна подарила застенчивому гостю оттиск
из журнала «Аполлон» с поэмой «У самого
моря», а Клюев рассказал по дороге, что у
жены Гумилева роман с живущим за мо-
рем, в Англии, офицером Борисом Василье-
вичем Анрепом; роман односторонний, Ан-
реп ее не любит; вот почему хозяйка так
грустна и так похожа на монашенку, хотя
ее «Четки» и гремят по всей России.
Неожиданно для себя визитеры застали
дома и Гумилева: Николай Степанович пос-
ле ранения, встреченный литературным
Петроградом как герой, находился в закон-
ном отпуске. Награжденный Святым Геор-
гием за храбрость и уже в офицерском зва-
нии, войну он начинал солдатом и на
фронт, хотя был освобожден «по зрению»,
ушел добровольно. Есенин же, напоминаю,
будет зачислен санитаром в Царскосель-
ский госпиталь лишь в апреле следующего
года. В глазах крайне патриотично настро-
енной Ахматовой (как раз в эти месяцы она
даже с давним своим поклонником Георги-
ем Чулковым всерьез рассорилась из-за его
«пацифизма») отлынивание от войны де-
ревенского здорового парня не украшало.
Естественно, вслух сие сказано не было, но
подразумевалось. К тому же, прочтя дарст-
венные надписи (Гумилев презентовал гос-
тям свой сборник «Чужое небо»), Есенин
раздосадовался: супруги, не сговариваясь,
написали одну и ту же дежурную фразу:
«Память встречи». Это ли не доказательст-
во снисходительно-небрежного, сверху—
вниз отношения?
Из воспоминаний современников извест-
но, что Есенин, много ожидавший от зна-
комства со знаменитой женщиной-поэтом,
вернулся из Царского Села крайне разоча-
рованным и при этом никак не мог внятно
объяснить причину своего настроения. Счи-
тается, что дело было в том, что именитые
царскоселы отнеслись к прочитанным Есе-
ниным стихам без особого энтузиазма. Но
на какой особый энтузиазм со стороны пер-
вой лирической пары тогдашнего Петрогра-
да мог рассчитывать в декабре 1915 года на-
чинающий стихопевец, напечатавший в
столичной периодике всего несколько голо-
систых стихотворений? Особенно от Анны
Андреевны после триумфального успеха ее
«Четок»?
Кроме того, Есенин приходил к Ахмато-
вой в гости не один, с Клюевым, а Клюев к
концу 1915 года повсеместно и повсесердно
утвержден в ранге лидера крестьянской
купницы; естественно, что к нему в первую
очередь и было обращено внимание хозяев.
Знаменитая певица, исполнительница на-
родных песец Надежда Васильевна Плевиц-
кая вспоминает:
«...Клюев бывал у меня. Он нуждался и жил
вместе с Сергеем Есениным, о котором всегда го-
ворил с большой нежностью, называя его «злато-
кудрым юношей». Талант Есенина он почитал
высоко. Однажды он привел ко мне «златокудро-
го». Оба поэта были в поддевках. Есенин обличь-
ем был настоящий деревенский щеголь, и в его
стихах, которые он читал, чувствовалось подра-
жание Клюеву. Сначала Есенин стеснялся, как
девушка, а потом осмелел и за обедом стал под-
трунивать над Клюевым. Тот ежился и втягивал
голову в плечи, опускал глаза и разглядывал
пальцы, на которых вместо ногтей были попереч-
ные, синеватые полоски.
— Ах, Сереженька, еретик, — говорил он тон-
чайшим голосом».
Но Надежда Васильевна своя, деревен-
ская, при ней можно и осмелеть, тогда как
мадам Гумилева — барыня, а значит, чу-
жая и в ее присутствии надобно следовать
совету старшего брата: быть в траве зеле-
ным, а на камне серым. В настоящем
смысле слова того, что называется «сослов-
ной спесью», за Анной Андреевной не заме-
чено, и тем не менее не подлым происхож-
дением Ахматова подчеркнуто гордилась,
потому, похоже, и не любила распростра-
111
Русские писатели XX века
пятым о родословии по отцовской линии.
Дескать, со стороны матери — потомст-
венное дворянство с экзотической татар-
ской княжеской примесью, а вот со сторо-
ны отца — сплошной туман. Между тем ни-
какого тумана не было: отец Андрея
Антоновича Горенко (дед Анны Горенко),
причерноморский казак, получил дворян-
ство лишь по выслуге лет. В этом отноше-
нии они с Гумилевым ровня.
Николай Степанович, например, час-
тенько рассказывал про колдовское свое
детство в наследственном имении в Рязан-
ской губернии. На самом деле у Гумилевых
родовых имений не было и не могло быть.
Степан Яковлевич, отец поэта, сын бедного
деревенского рязанского дьячка, в универ-
ситет (на медицинский факультет) посту-
пил против желания родителя, отмаявшись
два года в Рязанской семинарии, учился на
«казенные деньги», распределился в
Кронштадт и, лишь прослужив четверть ве-
ка судовым военврачом, смог на выходное
пособие приобрести нечто вроде дачи под
Рязанью, где Николай Гумилев подростком
и прожил два или три лета. Затем рязан-
ское «имение» продали, чтобы купить свой
дом в Царском Селе.
Заметим кстати: то, что Степан Гумилев
купил «имение» не где-нибудь, а именно в
Рязанской губернии, да еще и неподалеку
от тех мест, где родился и вырос, крайне ха-
рактерно для выходцев из «подлого сосло-
вия», добившихся на волне демократиза-
ции общественных отношений нового соци-
ального статуса.
Точно так же поступила, к примеру, На-
дежда Плевицкая, когда стала богатой и
знаменитой: купила земельные угодья ря-
дом с родимой деревней, да еще и именно
тот клин, что непосредственно граничил с
землями местной барыни, дочерям которой
в бедном своем деревенском детстве смерт-
но завидовала. Вот что пишет царица рус-
ской народной песни в созданных уже в
эмиграции, в Париже, ностальгических
воспоминаниях:
«В 1911 году осуществилась моя заветная меч-
та; Мороскин лес, по краю моего родного села, ку-
да я в детстве, на Троицу, бегала под березку за-
плетать венки, стал моей собственностью... Моя
усадьба граничила с имением М. И. Рышковой, и
мои северные окна выходили на чудесную поляну
Рышковых... это была та самая поляна, на ко-
торой дед Пармен, стороживший сенокос бары-
ни Рышковой, не раз собирался нам, деревен-
ским девчонкам, ноги дрекольем переломать,
чтобы не повадно было сено топтать... В то
время, когда на моей лужайке, помолясь Богу,
застучали плотники топорами, а с вокзала обо-
зы подвозили красный лес из Ярославской губер-
нии, Рышкова уже не жила в своем барском до-
ме, за прудом, у плотины, а поселилась в саду, в
двух небольших домиках, под соломенной кры-
шей. В одном жила сама с пятью дочерьми, а
другой сдала мне внаем на летнее время». (Кур-
сив мой. — А. М.)
Я позволила себе столь пространную ци-
тату не только для того, чтобы показать,
как хорошо помнили талантливые «выход-
цы из народа», откуда они вышли, но и как
остро болел в среде художественной интел-
лигенции вопрос о социальном происхож-
дении, даже слава, причем всенародная,
как в случае с головокружительным взле-
том Плевицкой, остроту не снимала, ничто,
кроме экономического, то есть материально
осязаемого реванша не могло эту болевую
точку, этот анкетный пунктик притушить и
утишить. Не отсюда ли «скаредность» Ша-
ляпина, жадное коллекционерство Горько-
го, лакированные башмаки и английские
костюмы Есенина?
«ПОЭТЫ ВСЕ ЕДИНОЙ КРОВИ»
Хорошо замаскированного сословного
снобизма, продушившего воздух собствен-
ного дома господ Гумилевых в Царском Се-
ле, Есенин, понятно, не мог не почувство-
вать. И тем не менее летом (получив крат-
косрочный отпуск, Сергей Александрович
уехал к родным, в Константиново) он напи-
сал посвященные Ахматовой стихи; пода-
рить, правда, не осмелился и даже друзьям
не намекнул, к кому стихотворение обра-
щено, все-таки сделал все, чтобы в сильно
стилизованном портрете, по памяти набро-
санном, Анна Андреевна себя непременно
узнала. Для этого, во-первых, повторил, с
112
Сергей Александрович Есенин
небольшими вариациями, строфу из часто
цитируемого ахматовского стихотворения,
а во-вторых, как бы ненароком проговорил-
ся, что героиня грустит и вздыхает о том,
«кто за морем живет и кто от родины
далече»:
В зеленой церкви за горой,
Где вербы четки уронили,
Я поминаю просфорой
Младой весны младые были.
А ты, склонившаяся ниц.
Передо мной стоишь незримо.
Шелка опущенных ресниц
Колышут крылья херувима.
Не омрачен твой белый рок
Твоей застывшею порою,
Все тот же розовый платок
Застегнут смуглою рукою.
Все тот же вздох упруго жмет
Твои надломленные плечи
О том, кто за морем живет
И кто от родины далече.
И все тягуче память дня
Перед пристойным ликом жизни.
О, помолись и за меня,
За бесприютного в отчизне!
Читай Анна Андреевна Есенина по-
внимательней, непременно узнала бы во
второй строфе полузашифрованного посла-
ния спрятанную в ней — свою:
Так я. Господь, простерта ниц:
Коснется ли огонь небесный
Моих сомкнувшихся ресниц
И немоты моей чудесной.
И на то, что тайна ее сердечная, любовь к
Анрепу, променявшего «родную страну»
на «остров зеленый», известна благодаря
сплетникам всему свету, наверняка подоса-
довала бы. Но Анна Андреевна в молодости
стихов Есенина столь пристально не чита-
ла. Она и позже, когда их наизусть тверди-
ла вся Россия от красноармейца до бело-
гвардейца, продолжала упорно считать его
непомерно раздутым стихотворцем. Так что
если и проглядывала, то наискосок. Навер-
няка ни при какой погоде не читала Анна
Ахматова и «Анну Снегину».
Да если бы Анна Андреевна хотя бы по-
листала поэму, она и на то, что ее герой,
бывший холоп, а ныне «знаменитый поэт»
зачем-то трогает «перчатки» и «шаль» сне-
гинской барыни не могла не обратить вни-
мания! Перчатки и шаль? Да это же ее, Ан-
ны Ахматовой, а не Анны Снегиной, поэти-
ческие «регалии», «значные», узнаваемые,
всей читающей и пишущей братии извест-
ные — сколько подражательниц тщетно
пытались натянуть на неумелые руки ее
знаменитые перчатки, накинуть на хилые,
сутулые плечи ее легендарную кружевную
шаль1. А уж того, что Есенин дерзнул зате-
ять с ней, Анной Всея Руси, идеологиче-
ский спор — такого выпада ни за что бы не
оставила без ответа!
Героиня поэмы Есенина, как и возлюб-
ленный Анны Ахматовой, осталась «в коро-
левской столице», но ему и в голову не при-
ходит назвать ее за это отступницей, глав-
ное: оба живы, а родина она и есть родина,
ее нельзя ни отдать, ни обменять, ибо, как
жизнь, как молодость, как первая любовь,
дается каждому, но — однажды.
Вы живы?.. Я очень рада...
Я тоже, как вы, жива.
Так часто мне снится ограда,
Калитка и ваши слова.
Теперь я от вас далеко...
В России теперь апрель,
И синею заволокой
Покрыты береза и ель...
Еще более полемичен (по отношению к
жестко бескомпромиссной отповеди Ах-
матовой) устный ответ героя поэмы на
это «беспричинное», с «лондонской пе-
чатью» письмо из другой жизни, да еще и
от женщины, дважды отвергшей его, и,
кажется, потому только, что он не ровня,
причем в самом вульгарном, социальном
смысле:
Когда-то у этой калитки
Мне было шестнадцать лет
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»
ИЗ
Русские писатели XX века
Далекие, милые были!..
Тот образ во мне не угас.
Мы все в эти годы любили,
Но, значит.
Любили и нас.
Предположение, что в «Анне Снегиной»,
хотя и в сильно преображенном виде, отра-
зились те сложные — несказанные («что
не выразить просто словом и не знает на-
звать человек») — отношения, какие по-
верх всех барьеров связывали поэта и
поэтессу — «крестьянина» Есенина и «ба-
рыню» Ахматову, основано не на умозри-
тельных допущениях.
Достоверно известно, например, что в
июле 1924 года Сергей Александрович пре-
поднес Анне Андреевне вышедший в Ле-
нинграде сборник «Москва кабацкая». Эк-
земпляр с автографом Ахматова не сохра-
нила, но то, что «Москву кабацкую»
Есенин дарил ей, запомнила. Запомнила и
адрес, по которому приходил даритель:
Фонтанка, 18.
Кабацкий цикл Ахматовой «не показал-
ся», о чем автору, предполагаю, и было ска-
зано почти напрямую, когда, через дипло-
матический промежуток, он вновь пришел
к ней, уже в Фонтанный Дом (Фонтанка,
34) на этот раз с Клюевым и еще с кем-то из
спутников по имажинистской тусовке. По
всей вероятности, хотел узнать «мнение» —
мнение это, судя по всему, в принципе дол-
жно бы совпасть с зафиксированным в
Дневнике Павла Лукницкого монологом
Ахматовой (запись от 27 февраля 1925 го-
да):
«Сначала, когда он был имажинист, нельзя
было раскусить, потому что это было новаторст-
во. А потом, когда он просто стал писать стихи,
сразу стало видно, что он плохой поэт. Он места-
ми совершенно неграмотен. Я не понимаю, поче-
му так раздули1 его. В нем ничего нет — он со-
всем небольшой поэт. Иногда в нем есть задор, но
какой пошлый!»
И далее: «Он был хорошенький мальчик рань-
ше, а теперь его физиономия! Пошлость! Ни од-
ной мысли не видно... И потом такая черная зло-
ба. Зависть. Он всем завидует, врет на всех — ни
одного имени не может спокойно произнести...»
Описывая в тот же день внешность Есе-
нина, Ахматова не без брезгливости произ-
несла и такое: «гостинодворский».
Больше всего Есенина, видимо, задел,
должен был задеть намек прямой или кос-
венный на его неграмотность («Он местами
совершенно неграмотен»). Об этом сви-
детельствует рассказанный Ю. Н. Либе-
динским эпизод. Либединский (в 1925 го-
ду) заметил Есенину, что в его стихотворе-
нии «Грубым дается радость...» слово
«эфтой» («только вот с эфтой силой в душу
мою не лезь») — оборот не литературный
(«вульгаризм»). Есенин на замечание не
отреагировал, оставил «без всякого внима-
ния»:
«— А как иначе скажешь? С «этою» силой?
Однако через несколько дней сам вернулся к
затронутому Либединским сюжету:
— Помнишь, ты говорил о нарушении литера-
турных правил?.. Ну, а тебе известны эти строки:
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд.
И руки особенно тонки, колени обняв...
— Гумилев?
— Мастер, верно? А ведь тут прямое наруше-
ние грамматики. По грамматическим правилам
надо было сказать: «И руки, которыми ты обняла
свои колени, кажутся мне особенно тонкими».
Ну, что-то в этом роде... Но «обнявшие коле-
ни» — ничего не видно, а «колени обняв» — сразу
видишь позу».
Споря с Либединским, Есенин мысленно
спорил и с Ахматовой, недаром выбрал для
примера «поэтической неграмотности» сти-
хи Гумилева, ей посвященные. Кстати, по
образовательной части слишком уж зада-
ваться Ахматовой перед Есениным было не
с руки: из трех ее гимназий настоящей
можно считать только Киевскую, но в Ки-
1 Раздувание маленького Есенина до размеров
«русского гения» было, видимо, для Анны Андре-
евны тем более неприятным, что среди тех, кто
«раздувал», числились не только люди ее бли-
жайшего и сочувствующего окружения, но на-
ивернейшие из поклонников и Алексей Толстой,
и Тихонов, и Пастернак; Мандельштам и тот
дрогнул, восхитившись известным двустишием:
«Не злодей я и не грабил лесом, не расстреливал
невинных по темницам».
114
Сергей Александрович Есенин
еве Анна Горенко проучилась всего год.
Есенин же успешно окончил церковно-учи-
тельскую школу, дававшую право на по-
ступление в Учительский институт, к тому
же еще и прозанимался на историко-фило-
софском факультете народного университе-
та им. А. Л. Шанявского почти три семест-
ра. Во всяком случае, писал он по-русски
грамотнее Анны Андреевны. И не только
по-русски: мог, например, без запинки про-
спрягать старославянские глаголы, не пу-
тая прошедшее несовершенное с прошед-
шим совершенным.
Думаю также, что записанная Лукниц-
ким фраза Ахматовой: Есенин, раньше, то
есть тогда, когда в декабре, под Рождество,
1915 года приходил к ней вместе с Клюе-
вым (Царское Село), «был хорошенький
мальчик», была сказана не только Павлу
Николаевичу, но и бывшему когда-то «кра-
сивым и юным» гостю. Был хорошень-
кий — стал нехороший, и «Москва кабац-
кая» тому подтверждение? Есенин, навер-
ное, все-таки спросил: а как же заключаю-
щий сборник цикл «Любовь хулигана»? И
тем немного смутил хозяйку: до конца кни-
жицу Ахматова, похоже, не дочитала, со-
славшись в оправдание на то, что при по-
стоянных в те месяцы переменах мест жи-
тельства дарственный экземпляр куда-то
запропастился... Только этим обстоятельст-
вом можно хоть как-то объяснить то, что
Есенин, не обидевшись — он с книгами и
вещами обращался не лучше, — отправил
приятеля-имажиниста в срочный поиск
«Москвы кабацкой* по питерским магази-
нам, но оказалось, что все распродано, а в
«заначке» у Сергея Александровича, как,
впрочем, и у Анны Андреевны, своих книг
не водилось.
Однако одно стихотворение Есенина
Ахматова прочитала нельзя внимательней,
пусть, кажется, лишь четверть века спус-
тя, когда совсем плохого поэта вновь ста-
ли достаточно широко издавать, и мало
что прочитала — приняла, как если бы
эти стихи создал человек, родственный и
по музе, и по судьбам, больше того, еще и
написала автору «поздний ответ», где той
же призналась, что она тайно, «волчьей»
крови, хотя, казалось бы, уместнее было
оглянуться на мандельштамовского «Вол-
ка»:
Мне на плечи бросается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей...
Но она выбрала как свою позицию Есе-
нина. Сравните.
Есенин:
О, привет тебе, зверь мой любимый!
Ты не даром даешься ножу!
Как и ты — я, отвсюду гонимый,
Средь железных врагов прохожу.
Как и ты — я всегда наготове,
И хоть слышу победный рожок,
Но отпробует вражеской крови
Мой последний, смертельный прыжок.
И пускай я на рыхлую выбель
Упаду и зароюсь в снегу...
Все же песню отмщенья за гибель
Пропоют мне на том берегу.
1921
Ахматова:
Вам жить, а мне не очень,
Тот близок поворот.
О, как он строг и точен
Незримого расчет.
Зверей стреляют разно,
Есть каждому черед,
Весьма разнообразный.
Но волка — круглый год.
Не плачь, о друг единый,
Коль летом и зимой
Опять с тропы волчиной
Услышишь голос мой.
1959
До конца своих дней Ахматова продол-
жала и наедине с собой, в Записных книж-
ках, и на людях утверждать, что автор
«Волчьей гибели» плохой поэт, тем не ме-
нее именно она уже в 1925-м не просто от-
кликнулась на его смерть, соболезнуя и пе-
чалясь, а единственная среди плакальщи-
ков, пусть и с другого берега, пропела песнь
отмщения за его гибель:
115
Русские писатели XX века
Так просто можно жизнь покинуть эту,
Бездумно и безвольно догореть.
Но не дано Российскому поэту
Такою светлой смертью умереть.
Всего верней свинец душе крылатой
Небесные откроет рубежи,
Иль хриплый ужас лапою косматой
Из сердца, как из губки, выжмет жизнь.
По всей вероятности, на уровне подсоз-
нания все-таки чувствовала, что не права,
ведь этот малоприятный молодец-не-ее-вы-
бора, с внешностью и повадками «гостинод-
ворца», по строчечной сути куда ближе ей,
чем, скажем, интеллектуал Мандельштам,
не говоря уж о Пастернаке... В стихах, го-
варивал Есенин, надо уметь сесть и снять
шляпу. Никто, кроме него да Анны Андре-
евны, даже в то богатое на поэтические но-
вации художественное время этого не умел.
Взять хотя бы такие строки:
Есенин: «А теперь я хожу в цилиндре и лаки-
рованных башмаках...»
Ахматова: «Я надела узкую юбку, чтоб ка-
заться еще стройней...»
Больше того, нигде, кроме, как у никуда
«негодного» поэта Есенина Сергея, нет та-
кого количества строк, строф, поразитель-
но похожих на ахматовские:
Ахматова:
Хорошо здесь, и шелест, и хруст;
С каждым утром сильнее мороз,
В белом пламени клонится куст
Ледяных ослепительных роз.
1922
Есенин:
Хороша ты, о белая гладь,
Греет кровь мою легкий мороз,
Так и хочется к сердцу прижать
Обнаженные груди берез.
1916
Естественно, о сознательном заимствова-
нии и речи быть не может, скорее надо
вспомнить о поразительном свойстве Анны
Андреевны: поймать на лету обрывок пле-
нительной поэтической мелодии и сделать
из летучего «сора» стих; а ловит из воздуха
Ахматова только то, что приятно уху ее и
глазу. Вот и тут: присвоила ландшафтную
часть и интонационный напев и — отсекла
как чужеродное есенинскую, крайне инди-
видуальную языческую образность — «об-
наженные груди берез». Впрочем, кое-ка-
кие из «фирменных» его метафор, как вы-
ясняется, вовсе не казались ей слишком уж
экзотическими, допустим, такая:
Есенин: «Как васильки во ржи, цветут в лице
глаза...» (1920).
Ахматова: «Там милого сына цветут василь-
ковые очи...» (1922).
Или:
Есенин: «Режет сноп тяжелые колосья, как
под горло режут лебедей...» (1921).
Ахматова: «А к колосу прижатый тесно колос
с змеиным свистом срезывает серп...» (1917).
Впрочем, в последнем примере приори-
тет изображения жатвы как побоища (мас-
сового убийства) принадлежит не Есенину,
а Ахматовой, и хотя источник образа
фольклорен (сражение — кровавая жатва),
его истолкование и применение сугубо ин-
дивидуальны. В народной поэзии жатва
ежели и убийство, то ритуальное (сродни
жертвоприношению), а смерть на поле бра-
ни — жатва всегда не напрасная («за Землю
Русскую»). Ни у Ахматовой, ни у Есенина
этого мотива, искупающего (в народном
творчестве) суровую жестокость государ-
ственного насилия над живой жизнью («где
весь смысл—страдания людей»), нет. Ан-
тиимперский образ в «военной поэзии» Ах-
матовой тем более интересен, что в первые
годы русско-немецкой войны она, как уже
упоминалось, настроена была «патриотич-
но» — за войну до победы (если чуть ли
не треть России отправили под немецкие
пули — умирать, нельзя отнимать у обре-
ченных на смерть последнее — веру в то,
что воюют они не за «чей-то чужой инте-
рес», а «за отечество»). Однако первой ре-
акцией на 19 июля 1914 года была все-таки
лишенная и намека на великодержавные
эмоции простая картина проводов вчераш-
них крестьян, а ныне рекрутов, на большую
и страшную войну, написанная наверняка с
натуры — известие о войне с «германцем» и
116
Сергей Александрович Есенин
о мобилизации застало Анну Андреевну в
Слепневе:
Над ребятами стонут солдатки.
Вдовий плач по деревне звенит.
«ВРЕМЯ МОЕ ПРИСПЕЛО»
Но мы забежали вперед, ведь на дворе
еще только 1916 год, самое его начало, Есе-
нин живет, считая дни: не сегодня-завтра
должна выйти из типографии «Радуница»,
а влиятельный столичный журнал «Север-
ные записки» вот-вот опубликует его сцены
из деревенской жизни — повесть «Яр*.
«Радуница» была практически готова
уже к маю 1915 года, но все попытки ее из-
дать кончались ничем. Все вроде бы обеща-
ли, старались, хлопотали, а потом конфуз-
ливо разводили руками, дескать, ни бума-
ги, ни денег: война, разруха. Наконец, и
опять-таки с помощью Клюева, отыскался
издатель-меценат — богатый купец — ста-
рообрядец Аверьянов, и 1 февраля 1916 го-
да долгожданная «Радуница» увидела-таки
свет. Тираж (3000 экземпляров, по тем вре-
менам огромный) расходился плохо, меце-
нат-благодетель хмурился, но практиче-
ская сторона ничуть не беспокоила счастли-
вого автора. Книга — бессрочный пропуск
на поэтический Олимп — была у него в ру-
ках, и он бросился одаривать радостью —
«Радуницей» всех, кого уважал за талант:
Горького, Алексея Толстого, Леонида Анд-
реева...
Между тем положение на русско-герман-
ском фронте становилось все тревожнее, ла-
заретную команду расформировали, Есе-
нина приказом от 23 февраля 1917 года
направили в Могилев, в действующий пе-
хотный полк, через четыре дня произошла
Февральская революция, в середине марта
Сергей Александрович вернулся в Петрог-
рад, получил направление в Школу прапор-
щиков, но по назначению не явился. Герой
«Анны Снегиной», во многом alter ego авто-
ра, объясняет этот поступок фактически,
может быть, и не точно, но по существу до-
статочно достоверно:
Свобода взметнулась неистово.
И в розово-смрадном огне
Тогда над страною калифствовал
Керенский на белом коне.
Война «до конца», «до победы»...
И ту же сермяжную рать
Прохвосты и дармоеды
Сгоняли на фронт умирать.
Но все же не взял я шпагу...
Под грохот и рев мортир
Другую явил я отвагу —
Был первый в стране дезертир.
Конечно же рядовой Есенин был далеко
не первым дезертиром. Но недюжинную от-
вагу явил. Правда, в иных сражениях, в
сражениях за поэтическое первенство, раз-
вернувшихся на столичном литфронте в
связи с новой, постреволюционной расста-
новкой политических и разных прочих сил.
Несмотря на ироническое отношение к гла-
ве Временного правительства (калиф на
час) и солдатское — рядового сермяжной
рати — презрение к окружающим Керен-
ского «прохвостам и дармоедам», Февраль-
скую революцию поэт принял сочувствен-
но. Он верил: освободившись от самодер-
жавной «крепи», Россия станет Великой
Крестьянской Республикой, кормилицей и
поилицей всего мира.
А коли так, значит, и он, ее певец и гла-
шатай, по праву претендует на роль Пер-
вого Поэта Современности. Ссылаясь на
Софью Андреевну Толстую-Есенину, неко-
торые комментаторы пишут, что стихотво-
рение Есенина «Разбуди меня завтра ра-
но...» — первый отклик поэта на февраль-
ские события. Но это недоразумение,
ошибка памяти, может быть, идущая от са-
мого Сергея Александровича: стихи были
опубликованы лишь в марте 1918-го в газе-
те «Вечерняя звезда», а в те напряженные
месяцы, когда надо было спешить утвер-
дить себя и свое в новой и сложной ситу-
ации, Есенин ни за что не стал бы почти год
таить столь выигрышный текст! Ошибка,
однако, знаменательная: точную дату поэт
по обыкновению забыл, а вот то, что имен-
но с Февралем связывал надежды на реши-
тельные перемены и в стране, и в собствен-
ной судьбе, твердо запомнил.
117
Русские писатели XX века
Кстати, «февральская метель» не заста-
ла Сергея Александровича врасплох. Одна
из его питерских знакомых свидетельству-
ет: еще осенью 1916 года после поездки на
фронт (в составе медперсонала санитарного
поезда) Есенин говорил ей, правда, под
страшным секретом и наедине: «Револю-
ция будет завтра или через три месяца».
На самом деле первым откликом Есени-
на на крушение империи, падение монар-
хии и отмену утеснений — рудиментов
«крепи* (крепостного права) был поэтиче-
ский манифест, написанный от лица груп-
пы («купницы») крестьянских писателей
(Клюева, Клычкова, Чапыгина):
О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встает иная степь.
По голубой долине,
Меж телок и коров,
Идет в златой ряднине
Твой Алексей Кольцов.
За ним, с снегов и ветра,
Из монастырских врат,
Идет, одетый светом,
Его середний брат.
От Вытегры до Шуи
Он избродил весь край
И выбрал кличку — Клюев,
Смиренный Миколай.
А там, за взгорьем смолым,
Иду, тропу тая,
Кудрявый и веселый,
Такой разбойный я.
Полагая, что наконец-то пришло его вре-
мя, Есенин меняет и стиль личной жизни: в
июле 1917 года женится (венчается в церк-
ви!) на Зинаиде Николаевне Райх, краси-
вой, энергичной, самостоятельной девушке
из трудовой провинциальной семьи. Да, он
влюблен, но дело не столько в эмоциях,
сколько в осознанном желании остепенить-
ся: негоже первому поэту «воспрянувшей
Руси» слыть бездомником и бродягой!
Впервые в жизни снимает приличную квар-
тиру, радуется рождению дочери (июнь
1918 года), дает ей как продолжательнице
рода по женской линии имя матери —
Татьяна. (Второй ребенок Есенина от Зина-
иды Райх родился уже после их оконча-
тельного разрыва, в марте 1920-го, однако
и имя сыну выбрано со значением, по месту
рождения отца: Константин.)
С не меньшим воодушевлением встретил
Есенин и Октябрьскую революцию. И хотя
членом ВКП(б) он так и не стал, ничуть не
лукавил, написав в одной из автобиогра-
фий: «В годы революции был всецело на
стороне Октября, но принимал все
по-своему, с крестьянским уклоном». Ок-
рыленный большевистским Декретом о
земле («земля — крестьянам»), он даже
внешне переменился — сбросил, точно ля-
гушачью кожу, и тихость «ласкового по-
слушника», и улыбчивость «вербного херу-
вима». Вот каким запомнил его Вяч. По-
лонский, литературный критик и главный
редактор журнала «Новый мир»:
«Надо было видеть его в те годы. Ему бы-
ло тесно и не по себе, он исходил песенной
силой, кружился в творческом неугомоне.
В нем развязались какие-то скрепы, спада-
ли какие-то обручи. Из него ключом била
мужицкая стихия, разбойная удаль. С обез-
умевшим взглядом, с разметавшимся золо-
том волос, широко размахивая руками, в
беспамятстве восторга декламировал он
свою замечательную «Инонию*.
Замечательная «Инония» — централь-
ная часть многоглавого цикла; в течение
двух лет (1917—1919), забросив лирику,
Есенин написал десять — целую снизку —
маленьких поэм: «Певущий зов* (апрель
1917); «Отчарь» (июнь 1917); «Октоих» (ав-
густ 1917); «Пришествие* (октябрь 1917);
«Преображение» (ноябрь 1917); «Инония*
(январь 1918); «Сельский часослов» (1918);
«Иорданская голубица» (июнь 1918); «Не-
бесный барабанщик» (1918), «Пантокра-
тор» (февраль 1919).
Поэмный цикл 1917—1919 годов — про-
изведение дерзко новаторское. Это вместе'.
и Новый Завет новой веры, нечто вроде
Евангелия от Сергия, и языческие игрища
в честь телицы-Руси, отелившейся в «рус-
ский кров» новым солнцем, и философиче-
118
Сергей Александрович Есенин
ская эпопея, где собраны и одеты в плоть
причудливых образов фольклорные пред-
ставления об исходе мира и назначении че-
ловека. Главная мысль, связывающая цикл
в книгу из отдельных поэм, сформулирова-
на уже в первой ее части — «Певущем зо-
ве»: «Не губить пришли мы в мире, а лю-
бить и верить».
Лев Троцкий в предисловии к легендар-
ному сборнику «Памяти Есенина» (1926)
утверждал:
«Есенин погиб потому, что был несроден рево-
люции. Маленькие поэмы опровергают это ут-
верждение. Ни одно из созданных в те годы поэ-
тических произведений, включая «Двенадцать»
Блока, не могут соперничать с ними по части ор-
ганического сродства с мужицкой стихией, разбу-
женной эпохой войн и революций. Недаром сам
Есенин считал год завершения этого труда луч-
шей порой своей жизни, ибо был убежден, что со-
здал мужицкую поэтическую Библию, книгу
книг начала новой цивилизации, потому и себя
видел то в образе восьмикрылого серафима: «Гро-
зовой расплескались вьюгою от плечей моих во-
семь крыл», — то в роли и облике пророка: «Так
говорит по Библии пророк Есенин Сергей*.
Итак, первые послереволюционные го-
ды — лучшая пора жизни, а в конце следу-
ющего, 1920-го «пророк Есенин Сергей»
признается своему идейному наставнику,
критику Р. В. Иванову-Разумнику: «Я по-
терял... все, что меня радовало...»
Что же случилось в эти месяцы? И что
конкретно поэт потерял! Лично с Сергеем
Александровичем ничего чрезвычайного
вроде бы и не произошло, если не считать
разрыва, а потом и развода с Зинаидой Ни-
колаевной Райх. Однако эта потеря («много
в жизни смешных потерь») в переполнен-
ном большими ожиданиями году не воспри-
нималась как невосполнимая утрата. Ни
Есениным, ни Райх, ведь они молоды, вся
жизнь впереди, а разворошенный бурей
быт так труден, что его легче перемогать в
одиночку!..
Впрочем, судя по широко известному
«Письму к женщине» (1924), в котором
(как считала сама Зинаида Николаевна, а
со слов матери и дочь поэта Татьяна Серге-
евна) отражены обстоятельства их расстава-
ния, из своей единственно настоящей семьи
Есенин уходил вовсе не так легко и радост-
но, как выглядело со стороны. Не вынося
никаких житейских «скреп», и прежде все-
го «уз семейственности», Сергей Александ-
рович тем не менее втайне нуждался и в
узах, и в семейственности, его будто разры-
вали пополам два несовместных устремле-
ния: жажда воли, полной, безграничной
свободы и страх перед погибельной ее «от-
равой». А кроме того, пока Зинаида Нико-
лаевна не стала женой знаменитого режис-
сера Всеволода Эмильевича Мейерхольда,
они, и расставшись, время от времени
все-таки встречались. Словом, ничего силь-
ного и исключительного, меняющего каче-
ство жизни в разладе с семьей не было; куда
более судьбоносным, давшим новое и не-
ожиданное направление не только жизни,
но и творчеству, оказался для Есенина (как
ни странно) переезд из Петрограда в Моск-
ву.
«ПОСМОТРИМ - КТО КОГО ВОЗЬМЕТ»
В одной из автобиографий Есенин ут-
верждает, что переехал в Москву ранней
весной 1918 года «вместе с Советской
властью»; на самом деле поэт переменил
место жительства по семейным обстоятель-
ствам — покинув столицу вместе с женой,
точнее, вслед за женой, которая работала
машинисткой в секретариате Наркомпрода
и по этой технической причине оказалась в
правительственном поезде. Есенин же за-
держался в Петрограде еще на несколько
дней — он обещал Александру Блоку, кото-
рого бойкотировала столичная элита и за
поэму «Двенадцать», и за статью «Интел-
лигенция и революция», быть на его вече-
ре.
Москва встретила Есенина негостепри-
имно; избалованный опекой и ласками пи-
терских литераторов, он даже несколько
растерялся. В Москве, как выяснилось, ни-
кто его толком не знал, здесь еще нужно
было доказывать, что он без пяти минут
«знаменитый русский поэт», а не рязан-
ский подголосок Клюева.
119
Русские писатели XX века
Георгий Феофанович Устинов, писатель и
журналист, в первые послереволюционные
месяцы — ответственный работник Центро-
печати, запомнил, как на литературном со-
брании в помещении издательства ВЦИК
(на углу Тверской и Моховой) осенью
1918 года появился никому не известный
желтоволосый, слегка курчавый мальчик —
нелепо одетый (поддевка, сапоги бутылоч-
ками, серенький длинный шарф) и поче-
му-то ласково и застенчиво улыбавшийся
решительно всем. Появление Есенина в про-
советски ориентированной аудитории Усти-
нов объясняет тем, что Есенин уже тогда, в
1918-м, решительно и бесповоротно «повер-
нулся лицом к большевистским Советам*.
Вряд ли это так. Ведь тот же мемуарист сви-
детельствует, что именно на этом собрании
мальчик в сереньком шарфе выступил с та-
ким заявлением: «Революция... это ворон,
которого мы выпускаем из своей головы на
разведку. Будущее больше...» Хотел еще
что-то добавить, но смешался и замолчал.
Устинову заявление показалось невразуми-
тельным. Однако в этой и впрямь вне кон-
текста малопонятной фразе (Есенин не умел
говорить на публику) — вполне определен-
ная и весьма продуманная позиция, полу-
чившая обоснование в теоретическом трак-
тате «Ключи Марии» (1918):
«То, что сейчас является нашим глазам в стро-
ительстве пролетарской культуры, мы называем:
«Ной выпускает ворона». Мы знаем, что крылья
ворона тяжелы, путь его недалек, он упадет, не
только не долетев до материка, но даже не увидев
его, мы знаем, что он не вернется, знаем, что мас-
личная ветвь будет принесена только голубем —
образом, крылья которого спаяны верой человека
не от классового осознания, а от осознания об-
стающего его храма вечности».
Судя по «Ключам Марии» и выступле-
нию в издательстве ВЦИК, к строителям
пролетарской культуры Есенин уже тогда,
в 1918 году, относился с внимательной на-
стороженностью, хотя по приезде в Москву
и сделал несколько попыток сблизиться че-
рез своего приятеля и сотоварища по
крестьянской «купнице» поэта Сергея
Клычкова с пролетарскими писателями.
Кстати, у Сергея Александровича была воз-
можность понаблюдать пролеткультовцев в
повседневном быту и крупным планом: не-
которое время он жил вместе с Клычковым
в помещении Пролеткульта, то бишь в рос-
кошном особняке купцов Морозовых на
Воздвиженке (правда, на его с Клычковым
долю досталась всего лишь ванная комна-
та). Тогда же и получил единственный в
своей творческой жизни правительствен-
ный заказ: сочинить Кантату для праздно-
вания первой годовщины Октябрьской ре-
волюции. Олицетворяя смычку серпа и мо-
лота, за сочинение траурного гимна (в честь
павших за победу трудящихся героев Ок-
тября) взялись два самых мастеровитых в
революционных кругах поэта — Сергей
Клычков (делегат от крестьян) и Владимир
Кириллов (представитель пролетарских
масс); третьим на подмогу пригласили Есе-
нина. На этом, видимо, настоял скульптор
Сергей Коненков, друживший с «Сергунь-
кой» и восхищавшийся его стихами. Тор-
жество состоялось на Красной площади и в
отличие от всех последующих ритуальных
ревмероприятий олицетворяло идею мира.
Мира, который якобы несла населенцам
земного шара пролетарская революция. Во
всяком случае, Коненков, автор памятного
барельефа на Кремлевской стене, именно
так понимал свою задачу: «Мне хотелось,
чтобы на древней Кремлевской стене зазву-
чал гимн в честь вечного мира».
Обратите внимание на это выражение:
вечный мир. Лучшие люди России, из тех,
кто в первые послеоктябрьские годы отно-
сился к революции сочувственно или хотя
бы лояльно, действительно верили, что пос-
ле того, как Красная Армия, подавив белое
движение, справится с «силами Антанты»,
на земле установится вечный мир. Верил в
эту утопию и Есенин, как верил (так и хо-
чется употребить другую, торжественную
форму этого глагола: верукЛ) и в то, что его
«отчарь» («Здравствуй, обновленный от-
чарь мой, мужик!») преодолеет искус «ги-
бельной свободы»:
Свят и мирен твой дар,
Синь и песня в очах,
120
Сергей Александрович Есенин
И горит на плечах
Необъемлемый шар.
Однако в целом атмосфера пролеткуль-
товских общих собраний, их классовый фа-
натизм, их истовая и слепая вера в исклю-
чительность пролеткультовского искусства
не могли не настораживать Есенина, «ум-
ный» его ум видел то, чего подавляющее
большинство предпочитало не замечать: у
придуманного головастиками пролетарско-
го социализма и его узкого искусства нет
будущего! Разумеется, Есенин был не един-
ственным литератором, понимавшим уже
тогда, как тяжелы и «неполетны» крылья
пролеткультовского черного ворона. В на-
чале двадцатых годов замечательный укра-
инский прозаик Микола Хвылевой под
улюлюканье харьковских «пролетарцев»
упрямо доказывал практически то же са-
мое:
«Говорить о пролеткульте, о пролетарской
культуре — говорить абсурд, поскольку классо-
вая культура, то есть сумма всего созданного уси-
лиями хозяина положения имеет консервативные
тенденции: она убеждает класс в бесконечности
его диктатуры; поэтому истинное назначение пат-
риотов Страны народных советов: довести до осоз-
нания и верха и низа необходимость иной ориен-
тации — на общечеловеческие, общегуманисти-
ческие ценности, на приоритет свободы над
узостью любого рода, как классовой, так и нацио-
нальной».
Миколу Хвылевого, который перевел
еретическую мысль на язык нагой публи-
цистики, «пролетарцы* чуть было не заки-
дали камнями. Есенина, этим языком не
владевшего, к счастью для него, не поняли,
хотя выступил он с опасным заявлением не
в провинциальном Харькове, а в правитель-
ственной Москве. Те же, кто догадался, на
что намекает косноязычный оратор, со-
чли за лучшее промолчать, сделав вид, буд-
то желтокудрявый молодой человек несет
околесицу.
Воспоминания Георгия Устинова дают
также основания предполагать, что выступ-
ление Сергея Есенина на собрании изда-
тельства ВЦИК было чем-то вроде личного
манифеста, то есть сводом условий, на кото-
рых поэт мог бы, не теряя себя, сотрудни-
чать с Советами. От него отмахнулись.
Здесь, в Москве, он был никем, этот застен-
чивый мальчик в «гамбургских» сапогах...
Постановление ЦК ВКП(б) о работе с из-
вестными писателями, доставшимися Стра-
не Советов от старого мира, его не касалось.
Вот тут-то судьба и подбросила ему как бы
случайную встречу с Анатолием Борисови-
чем Мариенгофом. Он поразил Есенина
тем, что помнил наизусть все, что Сергей
Александрович публиковал в петроград-
ской периодике! К тому же сей долговязый
франт, вчерашний пензенский гимназист,
и сам сочинял образы и хотя называл их
«имажи», на французский манер, на пер-
вый взгляд они очень походили на его, есе-
нинские, органические фигуральности. На-
пример: «Повезут розовые кони зари другое
небо...» Это у Мариенгофа. А у Есенина:
Приди, явись нам,
Красный конь!
Впрягись в земли оглобли!
Нам горьким стало молоко
Под этой ветхой кровлей.
Мариенгоф, не мешкая, познакомил
своего нового единомышленника сначала с
однокашником по пензенской гимназии Ва-
нечкой Старцевым, заочно влюбившимся в
имажи Сережи Есенина, а затем, после не-
скольких дипломатических заходов, и с Ва-
димом Шершеневичем.
Шершеневич, посредственный, без ха-
ризмы поэт (из всего им написанного в па-
мяти народной осталось только одно дву-
стишие: «Мне бы только любви немножеч-
ко да десятка два папирос», модное в 20-е
годы), но опытный и эрудированный лите-
ратор сразу же поставил полумальчише-
скую игру в имажи на солидные «теорети-
ческие» рельсы: учредил Великий Орден
Имажинистов. В рекламном и житейском
отношении, учитывая литературное одино-
чество Есенина после отрыва от привычной
и доброжелательной петроградской литера-
турной среды, это была удачно выбранная
компания. Шумно и умело пропагандируя
самих себя, магистры Великого Ордена
«раскручивали» и Есенина. Вдобавок у
121
Русские писатели XX века
формального лидера новопридуманной
группы Шершеневича был не только энер-
гичный профиль Шерлока Холмса, но и
бульдожья коммерческая хватка, а у Мари-
енгофа — прочные родственные связи в
средних эшелонах новой администрации.
Нажав на нужные инстанции, имажинисты
со сказочной быстротой обзавелись собст-
венностью: и издательством, и книжной
лавкой, и журналом «Гостиница для путе-
шествующих в прекрасном», а самое важ-
ное — литературным кафе чуть ли не на са-
мом бойком месте в Москве — на Тверской,
неподалеку от нынешней Пушкинской пло-
щади. Называлось кафе эффектно: «Стойло
Пегаса», и, хотя помещение было скром-
ным, а меню нищенским («фирменное» пи-
рожное — черничная нашлепка на подошве
из картофеля), заведение приносило «хо-
зяевам* небольшой, но верный доход. Есе-
нину, единственному кормильцу на две
семьи (Зинаида Николаевна уехала рожать
в Орел, к родственникам, а отец, потеряв
работу, вернулся в Константиново), деньги
были нужны позарез. Уже через месяц пос-
ле открытия по Москве пошли слухи о том,
что в новом кафе на Тверской, бывшем «Бо-
ме», потрясающе читает стихи потрясаю-
щий поэт. От желающих убедиться в их до-
стоверности отбою не было, а это еще креп-
че привязывало Есенина к «Стойлу...».
Впервые в жизни у него появилась своя
аудитория — не оценивающая, а сочувст-
вующая и сопереживающая. Именно тогда
написана самая известная книга Есенина
«Москва кабацкая» (1922—1924); по попу-
лярности с ней могут сравниться разве что
стихи 1925 года (фактически это послед-
ний, полностью скомпонованный, но так и
не изданный целиком сборник — от «Не-
сказанное, синее, нежное...» до «До сви-
данья, друг мой, до свиданья...»).
Настоящая, вечная слава пришла к Есе-
нину лишь после смерти. И все же, когда в
«Анне Снегиной» он называет героя поэмы,
фактически своего двойника, «знаменитым
поэтом», хотя действие «Анны...» начина-
ется летом 1917 года, когда Есенин ничего
похожего на кабацкие стихи не писал и не
издавал, это не натяжка и не преувеличе-
ние. Речь вовсе не о скандальной известнос-
ти в богемных и полубогемных кругах.
В годы нэпа Есенина читает чуть ли не вся
Россия — «от красноармейца до белогвар-
дейца». Вот как объяснил этот удивитель-
ный факт один из думающих и вниматель-
ных современников поэта:
«Всякая завершившаяся успехом революция
есть перестройка не только внешних форм, но и
переустройство психики. Совершенно естествен-
но, что эти операции сопровождаются определен-
ным чувством боли, которую лучше всего охарак-
теризовать как боль перестройки и которая ощу-
щается всеми слоями общества. Есенин за всех
сказал об этом мучительном и неизбежном чувст-
ве, которое он испытал во всей полноте, и вот за
это его любят, если не все, то столь многие».
Высказывались, конечно, и другие суж-
дения. Неистовые ревнители пролетарских
идеологических ценностей истолковали
стихи про кабацкую Русь как подкоп под
советские устои, дескать, упаднические эти
стихи не что иное, как «ушедшая в кабак
контрреволюция». Но почитателям поэта,
осаждавшим «Стойло Пегаса», приходив-
шим загодя, чтобы занять хотя бы стоячее,
в дверях, место, когда Есенин «всю ночь,
напролет, до зари» читал свои упадниче-
ские стихи, до идеологических запретов,
спущенных сверху, не было никакого де-
ла...
Разумеется, только к практической «вы-
годе» союз Есенина с имажинистами сво-
дить нельзя. К убеждению, что «огромная и
разливчатая жизнь образа» является «осно-
вой русского духа и глаза» и что первым
имажинистом был автор «Слова о полку
Игореве», Сергей Александрович пришел
еще до встречи с Мариенгофом. Разногла-
сия, естественно, были и обнаружились
сразу же, при совместной работе над «Дек-
ларацией имажинизма». Хотя формально
он подписал групповой манифест, но оста-
вил за собой право на особое мнение: дес-
кать, органической образности молодые
поэты учиться должны у него, а не у изо-
бретателей декоративного имажинизма.
Вот что писал Есенин в эссе «Быт и искусст-
во* в 1921 году, в разгар «холодной* войны
122
Сергей Александрович Есенин
за передел сфер влияния в пользу Великого
Ордена и его оруженосцев:
«Собратья мои увлеклись зрительной фигу-
ральностью словесной формы. ...такой подход к
искусству слишком несерьезный, так можно го-
ворить об искусстве поверхностных впечатлений,
об искусстве декоративном, но отнюдь не о том
настоящем строгом искусстве», которое есть
значное служение выявления внутренних потреб-
ностей разума».
Шершеневич, человек умный и трезвый,
право Есенина на особое мнение вслух и
письменно не оспаривал, однако на практи-
ке и в рамках тактики лидерствовал не фор-
мально, а по существу, что не могло не заде-
вать самолюбие Сергея Александровича: в
чем, в чем, а уж в том, что именно он, Есе-
нин Сергей, развил этот образ и положил
краеугольным камнем в своих стихах, он
ничуть не сомневался. Не пошел ему впрок
и грубо-богемный стиль поведения, ходом
вещей сложившийся в «кафейный период*
в имажинистском клане. В «Стойле...»
ночь напролет не только читали (с эстрады)
стихи, здесь еще и хорошо-крепко пили-гу-
ляли. Есенину же водку подносили безот-
казно, как процентную добавку к «артель-
ному паю* за делающие большие сборы вы-
ступления. И тем не менее, несмотря ни на
что, странноватый этот альянс Есенина до
1924 года в целом почти устраивал. А к Ма-
риенгофу он вообще искренне привязался,
в чем и признался публично в стихах, пода-
рив их милому другу Толе весной
1922 года: «Среди прославленных и юных
ты был всех лучше для меня». При всем
своем «эгоизме» Есенин очень даже нуж-
дался в «оголтелом счастье дружбы», хотя
и не упускал случая, чтобы подчеркнуть
«крайнюю* свою «индивидуальность». Ма-
ло того, «крайняя индивидуальность», как
и легендарная — а ля Пушкин — «крылат-
ка» , были ему на диво к лицу. Тем не менее
в глубине души поэт, видимо, и сам не
знал, что с этой своей самостью, ни-на-ко-
го-не-похожестью делать. Вот и прятался от
крайности, от «неповторимости», от самого
себя в купницы, группы, компании!
Друзья неразлей вода и комнату-то сна-
чала снимали, а потом и купили одну на
двоих, и вполне сносно уживались, пока
Анатолий Борисович как-то уж очень ско-
ропалительно не женился на хорошенькой
актрисе Камерного театра. К тому же ми-
лый друг Толя куда ловчее, чем непрактич-
ный Есенин, устраивал и общеиздатель-
ские, и житейские дела. Это именно он че-
рез своего земляка Григория Колобова,
оборотистого чиновника Наркомата путей
сообщения, организовал поездку в Харьков
весной 1920 года. Ничего рокового при сбо-
рах не предполагалось, повод был незначи-
тельный: в одной из харьковских типогра-
фий печатался очередной сборник имажи-
нистов «Харчевня зорь». Но молодым
людям, прямо-таки озверевшим от москов-
ского неуюта (зиму они прожили при
5 градусах «комнатного холода»), уж очень
захотелось и проветриться, и согреться.
И не только украинским ранне-весенним
солнцем: всесильный Колобов предоста-
вил в их полное распоряжение спецвагон со
спецотоплением! Впрочем, ехали наши пу-
тешественники хотя и со спецудобствами,
но малой скоростью, и Есенин впервые в
жизни увидел не на расстоянии, а лицом
к лицу край, охваченный мужицким бун-
том, — он опишет его несколько лет спустя
в драматической поэме «Страна негодяев»:
И в ответ партийной команде,
За налоги на крестьянский труд,
По стране свищет банда на банде,
Волю власти считая за кнут.
И кого упрекнуть нам можно?
Кто сумеет закрыть окно.
Чтоб не видеть, как свора осторожная
И крестьянство так любят Махно?
И это не единственный урок политграмо-
ты, преподнесенный певцу и глашатаю му-
жицкой правды страшной новью 1920 года.
«ИДЕТ СОВЕРШЕННО НЕ ТОТ
СОЦИАЛИЗМ»
И Анатолий Мариенгоф, и их общий с
Есениным приятель Лев Повицкий, осев-
ший в Харькове, в один голос твердили по-
123
Русские писатели XX века
том, что гостевание московских имажинис-
тов в семье Лифшица, у которого был
целый выводок хорошеньких дочерей, пре-
вратилось в сплошной домашний праздник:
стихи, шутки, влюбленности, смешные и
трогательные воспоминания из детских
лет. И никакой, упаси Боже, политики.
В эту явно подцензурную версию можно бы-
ло бы и поверить, если бы не сохранилось
письмо Есенина к одной из дочерей Лифши-
ца — Жене. Пересказав девушке ставший
хрестоматийным дорожный эпизод с жи-
вым жеребенком, который хотел, да не смог
обогнать чугунный паровоз, Сергей Алек-
сандрович разъясняет юной корреспондент-
ке смысл самой жизнью сочиненной сюжет-
ной метафоры:
«Конь стальной победил коня живого. И этот
маленький жеребенок был для меня наглядным
дорогим вымирающим образом деревни и ликом
Махно. Она и он в революции нашей страшно по-
ходят на этого жеребенка, тягательством живой
силы с железной. <...>
Мне очень грустно сейчас, что история пере-
живает тяжелую эпоху умерщвления личности
как живого, ведь идет совершенно не тот соци-
ализм, о котором я думал... Тесно в нем живому,
тесно строящему мост в мир невидимый, ибо ру-
бят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих
поколений. Конечно, кому откроется, тот увидит
тогда эти покрытые уже плесенью мосты, но все-
гда ведь бывает жаль, что если выстроен дом, а в
нем не живут, челнок выдолблен, а в нем не пла-
вают...»
Как ни верти этот текст, а письмо стран-
ное... Рассуждать на расстоянии с девят-
надцатилетней, малознакомой девушкой о
революции, повернувшей не в ту сторону, о
неправильном социализме, теснящем все
живое, о лике Махно? Да еще и при явной
нелюбви к писанию длинных писем, а глав-
ное, зная, что подобные сюжеты, все до еди-
ного, крайне опасны для общения по почте?
Но странность этой переписки перестает
удивлять, если предположить, что Есенин
продолжает начатый в Харькове серьез-
ный разговор о России и революции и что
круг опасных тем задан в весенних диа-
логах-диспутах москвичей с харьковчана-
ми.
Долгое время биографы поэта, коммен-
тируя его письмо к Жене Лифшиц (август
1920), утверждали: Сергей Александрович
просто-напросто интересничал с пригля-
нувшейся ему хорошенькой барышней.
Теперь, когда наконец-то опубликованы
и письма В. Г. Короленко Луначарскому
(июль—сентябрь того же года, из Полтавы),
и харьковская поэма Велимира Хлебникова
«Председатель чеки» (написана после отъ-
езда имажинистов, но о событиях, пред-
шествующих их визиту), такое предполо-
жение уже не кажется невероятным. Осо-
бенно если учесть, что Есенин и его
спутники, встретившись в Харькове с Хлеб-
никовым, выпросили у него стихи для пуб-
ликации в «Харчевне зорь», а сам Есенин
надеялся пристроить в этот сборник «Ко-
быльи корабли». Конечно, он читал поэму в
«Стойле Пегаса», две самые резкие строки:
Веслами отрубленных рук
Вы гребетесь в страну грядущего, —
были даже написаны на стенах кафе, одна-
ко соваться с опасным текстом в москов-
ские издательства, по понятной предусмот-
рительности, видимо, все-таки опасался.
А текст и впрямь был крамольный:
О, кого же, кого же петь
В этом бешеном зареве трупов?
И далее, там же:
Видно, в смех над самим собой
Пел я песнь о чудесной гостье.
Даже «Окаянные дни» Ивана Бунина и
«Несвоевременные мысли» Максима Горь-
кого не производят такого сильного эмо-
ционального впечатления, как есенинский
приговор революционному террору и бла-
гословляющей насилие — «кровь на отцах
и братьях» — революции: казалась чудес-
ной, а оказалась страшной гостьей!
Сказать, что Есенин прозрел вдруг —
значит, исказить правду чувств и обсто-
ятельств. К нему в полной мере можно от-
нести слова, сказанные современником о
Велимире Хлебникове: «Его угнетала рево-
люция, как она проявлялась тогда, но не
124
Сергей Александрович Есенин
верить он не хотел и бодрился». Парадок-
сальное это сочетание угнетения, от себя са-
мого скрываемого, и самовнушенной бод-
рости характерно и для лирического героя
маленьких поэм Есенина, созданных в
1918—1919 годах. Например, уже в «Окто-
ихе» оптимистическая восторженность в
финале, по существу, приглушена явлени-
ем таинственного «корабля звезды», и как
выясняется в следующем за ней «Сельском
часослове», звездолет ниспослан свыше,
чтобы увезти («с земли на незримую су-
шу») тех россиян, чьи души «смущены от
происходящего». И все-таки общий тон по-
эмного цикла первых двух послереволюци-
онных лет скорее мажорный, не случайно
его замыкает поэма «Пантократор*. Назва-
ние отсылает нас к Библии, к книге проро-
ка Иеремии, где среди множества вещих
предсказаний есть и пророчество о нашест-
вии на несправедливый город, в котором —
«всяческое угнетение» народа сильного. От
лица этого сильного народа (пантократора)
и затевает лирический герой поэмы спор с
тайной Бога:
Не молиться тебе, а лаяться
Научил ты меня. Господь!
За седины твои кудрявые,
За копейки с златых осин
Я кричу тебе: «К черту старое!»,
Непокорный, разбойный сын.
«Пантократор» окончен в феврале
1919-го, а поздней осенью того же года
Есенин примется за «Кобыльи корабли», в
которых нет и следа недавней бодрости...
Когда-то Александр Блок подарил Есе-
нину отрывок из «Возмездия». Начинается
он так: «Жизнь — без начала и конца. Нас
всех подстерегает случай...» Случаем с
большой буквы оказалось и харьковское
путешествие, потому что ранней весной
1920 года в Харькове Есенин впервые полу-
чил возможность собственными глазами
увидеть и «отрубленные руки» своих отча-
рей—мужиков, и то «бешеное зарево тру-
пов», которое вдруг как бы само собой воз-
никло в бездне его внутреннего зрения уже
при работе над первым вариантом «Кобыль-
их кораблей»!
...В степях Украины гулял крестьян-
ский бунт, беспощадный, но отнюдь не бес-
смысленный: за землю, за волю, за лучшую
долю. Отловленных бунтарей войска особо-
го назначения привозили (вагонами!) в пы-
точные камеры здешней Лубянки, где рас-
поряжался некто Саенко. Мрачный замок
чеки стоял на окраине города, на краю глу-
бокого оврага. Изувеченные трупы «него-
дующих» выбрасывали туда прямо из окон.
В марте, когда Есенин появился в Харькове
(весна выдалась бурной и ранней), страш-
ный овраг стал оттаивать... Все это изобра-
жено в уже упомянутой поэме Хлебникова
«Председатель чеки»:
Тот город славился именем Саенки.
Про него рассказывали, что он говорил,
Что из всех яблок он любит только глазные.
Дом чеки стоит на высоком утесе из глины,
На берегу глубокого оврага,
И задними окнами повернут к обрыву.
Оттуда не доносилось стонов.
Мертвых выбрасывали из окон в обрыв.
Китайцы у готовых могил хоронили их.
Ямы с нечистотами были нередко гробом.
Гвоздь под ногтем — украшением мужчин.
Замок чеки был в глухом конце
Большой улицы на окраине города.
И мрачная слава окружала его, замок смерти.
Даже в изданной в Киеве в 1967 году
«Истории Гражданской войны на Украине
в 1918—1920 гг.» не отрицается, что Харь-
ков в те годы был поглощен разговорами о
страшной улице: «Распространялись самые
нелепые и невероятно ужасные слухи о
Чрезвычайной комиссии и отдельных ее
членах, например о т. Саенко».
Теперь-то мы доподлинно знаем, что
ужасные слухи возникли не на пустом мес-
те, но и тогда были мужественные люди,
которые осмеливались говорить о преступ-
лениях новой власти вслух. Один из них —
Владимир Галактионович Короленко. И ес-
ли читать его письма к А. В. Луначарскому
о том, что же на самом деле происходит в
«степях Украины», страшно и нам, потом-
кам; каково же было современникам вни-
мать ужасам войны народной власти со сво-
125
Русские писатели XX века
им же народом, тем более что ужасы и в
самом деле преувеличивались слухами.
И если бы Есенин, волею случая оказав-
шийся в центре крестьянской Вандеи, не
наглотался невероятных слухов, вряд ли
даже он сумел бы добиться ужасающей вы-
разительности в той сцене из «Пугачева»,
где мятежников сначала атакуют, а потом
окружают страшные слухи:
Около Самары с пробитой башкой ольха,
Капая желтым мозгом,
Прихрамывает при дороге...
Все считают, что это страшное знамение,
Предвещающее беду.
Что-то будет.
Что-то должно случиться.
Говорят, наступит глад и мор...
Даже интонационно предчувствие Есе-
нина: «Быть беде! Быть великой потере!» —
поразительно похоже на прогноз Королен-
ко:
♦Что из этого может выйти? Не желал бы быть
пророком, но сердце у меня сжимается от пред-
чувствия, что мы еще у порога таких бедствий,
перед которыми померкнет все то, что мы испы-
тываем теперь...»
Бывают странные сближения! Эта пуш-
кинская мысль невольно приходит на па-
мять, когда сопоставляешь письма Есенина
и Короленко.
19 августа 1920 года Короленко пишет
из Полтавы Луначарскому:
«Махно, называющий себя анархистом... фи-
гура колоритная и в известной степени замеча-
тельная. Махно — это средний вывод украинско-
го народа, а может быть, и шире*.
В том же году и тоже в августе на Укра-
ину было отправлено и уже цитировавшее-
ся письмо Есенина к Жене Лифшиц.
Если принять во внимание, что имажи-
нисты разъезжали по бунтующим южным
провинциям с охранной грамотой, подпи-
санной тем же Луначарским, можно, навер-
ное, предположить, что Есенину каким-то
образом стало известно содержание секрет-
ной переписки Короленко с наркомом про-
свещения. Но скорее всего это именно
странное сближение...
Вернувшись из Харькова, Сергей Алек-
сандрович, не дожидаясь июньской теплы-
ни, кинулся в родную деревню. Картина,
которую он там застал, была удручающей.
Торговля прекратилась. Не было ни спи-
чек, ни керосина, ни ниток-иголок. Вместо
хлеба — мякина, щавель, крапива и лебеда.
А в придачу — эпидемии. У людей — сып-
ной тиф. У скотины — сибирская язва.
Предчувствие не обмануло Есенина: «Будут
глад и мор...»
Мариенгоф, провожавший друга, пред-
рекал, что Сергей теперь долго не будет ни-
чего писать. И ошибся: окно, распахнутое
разбойным свистом крестьянского мятежа,
Есенин уже не может закрыть даже голу-
быми ставнями отчего дома. Первым делом
он доработал второй вариант «Кобыльих
кораблей», где судьбоносный Октябрь, с ко-
торым было связано столько надежд, на-
зван «злым» («Злой октябрь осыпает перст-
ни с коричневых рук берез...*), и сейчас, в
Константинове, еще раз редактировал его.
А кроме того, неожиданно легко написа-
лось стихотворение «Я последний поэт де-
ревни...». Словно поэт заказал панихиду (и
по вымирающей деревянной Руси, и по ве-
ликой земледельческой культуре, и по себе,
еще живому, но уже понимающему, что его
время миновало:
Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить...
В том же переломном 1920-м Есенин на-
пишет трагический «Сорокоуст», где про-
должит тему гибели крестьянского мира:
Только мне, как псаломщику, петь
Над родимой страной аллилуйя...
В те же горькие дни тяжких раздумий о
судьбе «равнинного мужика» возникает и
замысел поэмы о Пугачеве, о роковой обре-
ченности крестьянского бунта (она будет за-
кончена поздней осенью следующего, 1921
года). Невероятно трагичны и частные пись-
ма поэта тех смутных, переломных лет.
Москва, декабрь 1921, Н. А. Клюеву:
«Душа моя устала и смущена от самого себя и
происходящего. Нет тех знаков, которыми бы
126
Сергей Александрович Есенин
можно было передать все, о чем мыслю и отчего
болею...»
Москва, март 1922, Р. В. Иванову-Разумни-
ку.
«В Москве себя я чувствую отвратительно.
Безлюдье полное...»
«Я ИСКАЛ В ЭТОЙ ЖЕНЩИНЕ СЧАСТЬЯ»
В ту же смутную осень 1921 года в мас-
терской примкнувшего к имажинистам ху-
дожника Георгия Якулова Есенин впервые
увидел Айседору или, как ее переиначили
на русский лад — Изадору Дункан. Приеха-
ла Айседора поздно, в первом часу ночи.
Впрочем, приехала — не то слово: явилась.
И поразила воображение Есенина — не
женщина, а некое диво, и впрямь замор-
ская жар-птица! Мариенгоф, присутствую-
щий при этой судьбоносной для обоих
встрече, так описал ее в «Романе без
вранья»:
«Красный хитон, льющийся мягкими склад-
ками, красные, с отблеском меди, волосы, боль-
шое тело. Ступает легко и мягко. Она обвела ком-
нату глазами, похожими на блюдца из синего фа-
янса, и остановила их на Есенине. Маленький
нежный рот ему улыбнулся. Изадора села на ди-
ван, а Есенин у ее ног. Она окунула руку в его
кудри и сказала:
— Solotaia golova!
Было неожиданно, что она, знающая не боль-
ше десяти русских слов, знала именно эти два.
Потом поцеловала его в губы. И вторично ее рот,
маленький и красный, как ранка от пули, изло-
мал русские буквы:
— Anguel!
Поцеловала еще раз и сказала:
— Tschort!»
В четвертом часу утра Дункан и Есенин
уехали, а на следующий день, когда сго-
рающий от любопытства и зависти Мариен-
гоф навестил друга в роскошном особняке
на Пречистенке, отведенном знаменитой
танцовщице под ее школу (Дункан приеха-
ла в красную Россию, чтобы учить русских
детей Танцу Будущего), Айседора по прось-
бе Есенина исполнила свой коронный но-
мер — танго «Апаш*. Мариенгоф запечат-
лел первое в России исполнение покорив-
шего Европу мини-шоу в щегольской прозе,
Есенин — в гениальных стихах:
Мариенгоф'. «Страшный и прекрасный танец.
Узкое и розовое тело шарфа извивалось в ее ру-
ках. Она ломала ему хребет, судорожными паль-
цами сдавливала горло. Беспомощно и трагиче-
ски свисала круглая шелковая голова ткани.
Дункан кончила танец, распластав на ковре судо-
рожно вытянувшийся труп своего прозрачного
партнера. Есенин был ее повелителем, ее господи-
ном... И все-таки он был только партнером, похо-
жим на тот кусок розовой материи, безвольный и
трагический. Она танцевала. Она вела танец».
Есенин'. Не гляди на ее запятья
И с плечей ее льющийся шелк.
Я искал в этой женщине счастья,
А нечаянно гибель нашел.
Встреча с Дункан и впрямь оказалась
для Есенина гибельной. До романа с леген-
дарной американкой, которая давно, после
гибели детей, «злоупотребляла алкоголем»,
длительных запоев за ним не водилось. Да,
он пил («заливая глаза вином»), но от слу-
чая к случаю, как «сто тысяч таких в
России». Годы, проведенные в законном
браке с мировой знаменитостью, преврати-
ли пагубную привычку в болезнь. Правда, в
первые месяцы их романа, по требованию
Дункан, в особняке на Пречистенке ничего,
кроме шампанского, не держали; по горло
занятая работой с детьми, Айседора сдела-
лась домоседкой, и когда выпадали свобод-
ные от гостей дни, Есенин запойно работал,
готовя к печати «Пугачева». Кстати, Айсе-
доре первой он подарил отдельное издание
своей драматической поэмы, сделав такую
дарственную: «За все, за все тебя благодарю
я...» Той же осенью написана и «Волчья ги-
бель». Но друзья одолевали, а где друзья,
там и водка... И сплетни: ежели связался с
богатой старухой, гони деньгу! Между тем с
деньгами было негусто: ни за занятия с рус-
скими детьми, ни за концерты Айседоре не
платили, доллары и фунты, которые она
привезла с собой, таяли, как вешний снег, а
надо было еще подкармливать и детей, и об-
служивающий школу персонал. А где водка
и сплетни, там и скандалы... И тем не менее
зиму скоротали почти в любви и согласии:
127
Русские писатели XX века
Есенин все еще очарован артистичностью
экстравагантной иностранки, да и чувством
гениальной босоножки к изумительному
рязанскому поэту управляют не только по-
здняя страсть и «чувственная вьюга», пом-
ноженная на ревность избалованной славой
женщины, стремительно теряющей леген-
дарную грацию и красоту. Тут многое спле-
лось и отозвалось: и нежность, которую «ни
с чем не спутаешь», и щедрость, и вечная за
него тревога: белокурой своей кудрявостью
и еще чем-то, неуловимым и несказанным,
Есенин напоминал и словно бы заменял без-
утешной, как Ниобея, матери трагически в
младенчестве погибшего сына. А кроме то-
го, Есенин, единственный из любивших
Айседору знаменитых мужчин, неведомо
каким образом сразу понял главное в ней:
сумасшедшую, бешеную ее жизнь —
жизнь, проданную за танец. Потому понял,
что и сам был такой — «пропащий»:
«Жизнь моя за песню продана».
Даже в обстоятельствах их гибели есть
какое-то почти мистическое сходство. Ме-
нее чем через два года после смерти Есени-
на Айседору Дункан задушила ее собствен-
ная шаль, запутавшаяся в колесе прогулоч-
ного автомобиля (словно шелковая ткань,
которую Изадора очеловечила в танго
«Апаш», взбунтовалась и отомстила арти-
стке!). На людной улице. Посреди сентябрь-
ской Ниццы. И точно так же, как много лет
назад, когда машина с двумя ее маленьки-
ми детьми, потеряв управление, рухнула в
Сену, никто ничего не успел сделать...
Илья Ильич Шнейдер, коммерческий
директор московской танцевальной школы
Дункан и муж ее приемной дочери Имры,
собрав по крупицам свидетельства очевид-
цев, оставил в своих воспоминаниях рекон-
струкцию этого трагического события:
«...В тот сентябрьский вечер раскален-
ный асфальт Promenade des Anglais жарко
дышал впитанным за день солнцем. Айсе-
дора спустилась на улицу, где ее ожидала
маленькая гоночная машина, шутила, и,
закинув за плечо конец красной шали с рас-
пластанной желтой птицей, прощально
махнула рукой и произнесла последние в
своей жизни слова:
«Adieu, mes amis! Je vais a la gloire! (Про-
щайте, мои друзья! Я мчусь к славе!)»
Несколько десятков секунд, несколько
поворотов колес, несколько метров асфаль-
та... Красная шаль с распластавшейся пти-
цей и голубыми китайскими астрами спус-
тилась с плеча Айседоры, скользнула за
борт машины, тихонько лизнула сухую вра-
щающуюся резину колеса. И вдруг, вмотав-
шись в колесо, грубо рванула Айседору за
горло. И остановилась только вместе с мото-
ром.
Прибывший врач сказал:
— Сделать ничего нельзя. Она была уби-
та мгновенно.
Чтобы освободить голову Айседоры, при-
тянутую к борту машины, пришлось разре-
зать шаль.
Через два часа около студии Дункан в
Ницце раздался стук лошадиных копыт.
Это везли тело Айседоры из морга домой. Ее
уложили на софу, покрыли шарфом, с кото-
рым она танцевала, и набросили ей на ноги
пурпурную мантию... Хотя Айседору и не
собирались хоронить в Ницце, мэр города,
узнав, что среди бумаг Дункан оказалась
справка, подтверждающая желание Айсе-
доры принять советское гражданство, за-
явил, что не разрешит хоронить ее в Ницце.
Утром пришла телеграмма от американско-
го синдиката издательств, подтверждавше-
го договор на издание мемуаров Айседоры и
сообщавшего о переводе через парижский
банк денег. Она ждала этих денег, чтобы
выехать в Москву. Голубоватые, цвета хму-
рого неба, листы нетронутой стопкой лежа-
ли на столе Айседоры... Страницы о годах,
проведенных у нас, не были написаны...
В Париже на гроб Айседоры был положен
букет красных роз от советского правитель-
ства. На ленте надпись: «От сердца России,
которое скорбит об Айседоре». На кладби-
ще Пер-Лашез ее провожали тысячи людей.
После похорон в течение трех дней шло тор-
жественное траурное заседание в Сорбонне
под председательством Эррио. Комитет по
увековечению памяти Айседоры принял ре-
шение поставить ей в Париже памятник ра-
боты Бурделя, но это решение не было вы-
полнено*.
128
Сергей Александрович Есенин
Но все это в будущем и «таится во мгле»,
а в настоящем: в России разруха и хаос, у
Есенина — беспробудная тоска. Да и Айсе-
дора порядком устала от непривычного бы-
та. Не зная, как развлечь возлюбленного,
чем вылечить злую его грусть, Дункан ре-
шила показать ему мир. Перед отъездом, в
мае 1922 года, они даже расписались в со-
ветском загсе.
Вне России, «средь разных стран», Есе-
нин прожил чуть больше года, до августа
1923-го (галопом по Европам с заездом в Се-
верную Америку) и, кажется, для того
только, чтобы убедиться «во вреде путеше-
ствий». В Европе он чувствовал себя слиш-
ком русским, среди эмигрантской, париж-
ской и берлинской элиты — слегка совет-
ским, а в Америке, назло сытым буржуям,
почти влюбился и в комстроительство, и в
прорабов его, взявшихся искоренить рос-
сийскую «отсталость». Для этого при-
шлось, пусть и на краткий миг, когда под-
нялся на палубу второго «Титаника* — су-
перфешенебельного парохода «Париж»,
«разлюбить нищую Россию»:
«...Я шел через громадные залы специальных
библиотек, шел через комнаты для отдыха... про-
шел через танцевальный зал, и минут через пять,
через огромнейший коридор, спутник подвел ме-
ня к нашей кабине. Я осмотрел коридор, где раз-
ложили наш большой багаж, приблизительно в
20 чемоданов, осмотрел столовую, свою комнату,
две ванные комнаты и, сев на софу, громко расхо-
хотался. Мне страшно показался смешным и не-
лепым тот мир, в котором я жил раньше. Вспом-
нил про «дым отечества», про нашу деревню, где
чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на
соломе или свинья с поросятами, вспомнил после
германских и бельгийских шоссе наши непролаз-
ные дороги и стал ругать всех цепляющихся за
«Русь», как за грязь и вшивость. С этого момента
я разлюбил нищую Россию.
Милостивые государи!
С того дня я еще больше влюбился в комму-
нистическое строительство. Пусть я не близок
коммунистам как романтик в моих поэмах, — я
близок им умом и надеюсь, что буду, быть может,
близок и в своем творчестве*.
Америка, пусть и ненадолго, ошеломив
Есенина (очень скоро он догадается, что это
всего лишь «Железный Миргород»), так
сильно «переломила» ему зрение, что он да-
же переименовывает (в стихах, разумеется)
бедную свою родину на американский лад:
«Великие Штаты СССР».
Внезапному «покраснению» автора «Ко-
быльих кораблей» и «Сорокоуста», кажет-
ся, весьма поспособствовала Айседора Дун-
кан, родившаяся, по ее же словам, «пла-
менной революционеркой». Ни годы
великих бедствий, ни годы великой славы
не излечили эту феноменальную женщину
от романтического сумасбродства. Ее имп-
ресарио Юрок вспоминает:
«Первый взрыв произошел в Бостоне. Есенин
открыл окно гардеробной в Симфони-Холле и,
размахивая красным флагом в промозглом возду-
хе, прокричал по-русски что-то вроде «Да здрав-
ствует большевизм!»
Управляющий Симфони-Холла позвонил мне
в Нью-Йорк. Мэр Керли был в бешенстве. Необхо-
димо было отменить представление.
Я поймал Айседору по телефону...
«Он прелесть, ну, что я могу поделать? Он
просто выпил лишнего. Мистер Юрок, не волнуй-
тесь. Он больше не будет!»
Кое-как мы успокоили и мэра, и разгневанных
бостонцев. А на следующий день Есенин проде-
лал все это снова... На сей раз толпа собралась на
улице, и Есенин произнес речь. К счастью, в то
время по-русски в Бостоне говорили не больше,
чем сейчас, и представление благополучно про-
должалось...
На следующее утро в Нью-Йорке я развернул
газету и поперхнулся глотком кофе.
«Красная танцовщица шокирует Бостон!»,
«Выходка Айседоры заставила зрителей поки-
нуть Симфони-Холл!» Более цветистые газеты
описывали, как Дункан сорвала красную тунику
и, размахивая ею над головой, совершенно голая,
произнесла красную речь.
Я позвонил в Бостон. Все оказалось правдой
или почти все. Айседора действительно размахи-
вала над головой красным, правда, все-таки крас-
ным шарфом, а не туникой и в самом деле крича-
ла: «Это красный! И я такая же! Красный — цвет
жизни и силы! Когда-то вы были дикими! Воль-
ными людьми дикой Америки! Не позволяйте им
приручать вас!»
Кончилось ярко-красное турне Айседо-
ры плачевно: самую знаменитую амери-
канку XX века лишили американского
гражданства, но это не отрезвило ее, тогда
5 Зак. 848
129
Русские писатели XX века
как пробольшевистские спичи Есенина —
не более чем мгновенный эмоциональный
всплеск, может быть, даже род самовнуше-
ния, а вовсе не убеждение, все пункты кото-
рого «имеют внутреннюю согласован-
ность» .
В Америке еще не улегся шум, вызван-
ный скандальными выступлениями Айсе-
доры и ничуть не менее эпатажными, на
вкус среднего американца, выходками ее
супруга, океанский лайнер еще только три
дня как отчалил от Нью-Йоркского при-
чала, а Есенин, забаррикадировавшись в
шикарной каюте, уже строчит крамоль-
ное письмецо московскому своему прияте-
лю и поэту-имажинисту Александру Куси-
кову:
«Сандро, Сандро! Тоска смертная, невыноси-
мая, чую себя здесь чужим и ненужным, а как
вспомню про Россию, вспомню, что там ждет ме-
ня, так и возвращаться не хочется. Если б я был
один, если б не было сестер, то плюнул бы на все и
уехал бы в Африку или еще куда-нибудь. Тошно
мне, законному сыну российскому, в своем госу-
дарстве пасынком быть. Надоело мне это бляд-
ское снисходительное отношение власть имею-
щих, а еще тошней выносить подхалимство своей
же братии к ним... Я перестаю понимать, к какой
революции я принадлежал. Вижу только, что ни
к февральской, ни к октябрьской...»
О том, что Есенин не был близок больше-
викам в своем творчестве, свидетельствуют
и его рукописи 1922—1923 годов. В гото-
вом виде из почти кругосветного турне поэт
привез лишь несколько стихотворений из
цикла «Москва кабацкая» да два прекрас-
нейших, но отнюдь не прокоммунистиче-
ских наброска: план драматической поэмы
«Страна негодяев» и первый вариант «Чер-
ного человека».
Четырнадцати заграничных месяцев
Есенину оказалось достаточно, чтобы по-
нять: и заморская жар-птица, и комфорта-
бельное зарубежье ему ни капельки не нуж-
ны, хотя как законный супруг балерины с
мировой славой он мог бы остаться в любой
из столиц мира, не испытывая тех матери-
альных затруднений, с какими столкнулась
русская эмиграция первой волны.
«ВЕРНУЛСЯ Я В РОДИМЫЙ дом...»
Вопреки дурным ожиданиям, августов-
ская Москва 1923 года встретила всемирно-
го путешественника с почти доброжела-
тельным любопытством. О том, чтобы сроч-
но «усыновить» вчерашнего «хулигана» и
«контрика», речь натурально не шла, но за-
труднений с публикацией очерков об Аме-
рике не было. «Железный Миргород» тут
же, с колес, напечатали «Известия», с пом-
пой, с минимальными купюрами, в двух
номерах. Проявили заинтересованность и
толстые журналы как левой, пролетарской,
так и центристской ориентации. Первые —
заинтригованные слухами о красных скан-
далах Есенина в Париже, Берлине и Амери-
ке, а главное, в надежде укрепить за счет
Есенина свои не слишком-то могучие твор-
ческие ряды; вторые — потому что нако-
нец-то разглядели в крестьянствующем
имажинисте крупный художественный та-
лант. Однако сняв или почти сняв опасения
по линии политической, возвращение на
родину обрушило на Есенина множество не-
приятных житейских проблем. За четыр-
надцать месяцев официального брака с «за-
морской жар-птицей» он смертельно устал:
и от жадной ее последней любви, и от власт-
ной ревности, а пуще всего от унизительно-
го для крестьянского сына и внука житья
«на женин счет». Надо бежать! А бежать не-
куда.
В комнате, которую Есенин когда-то ку-
пил на паях с Мариенгофом, появились два
новых жильца: теща милого Толи и ново-
рожденный сын. Приобрести же другое
жилье или хотя бы снять что-нибудь при-
личное, а не угол за занавеской, не на что.
В прежние годы при жилищных затрудне-
ниях Сергей Александрович обычно удирал
в Константиново, в год возвращения и этого
запасного выхода у него не было: в августе
1922-го почти полностью выгорело отчее се-
ло, сгорел и родительский дом.
Вид родного пепелища потряс суеверного
Есенина. (При крепком телосложении и не-
заурядной физической силе он с отрочества
отличался крайней впечатлительностью,
что не только тревожило, но и удивляло
130
Сергей Александрович Есенин
родных. В одном из писем 1913 года под
страшным секретом он даже жаловался за-
кадычному своему другу Грише Панфило-
ву: «Меня считают сумасшедшим и уже хо-
тели было везти к психиатру». Александр
Никитич после крупной ссоры с сыном дей-
ствительно хотел обратиться к врачам, но
его успокоили: с годами пройдет. Не про-
шло: в житейскую «стынь» душевная не-
уравновешенность усугубилась, хотя поэт и
научился скрывать ранимость, взяв за пра-
вило: «...с горем в пиру быть с веселым ли-
цом»...)
Отчаявшись обрести крышу над головой,
Есенин обратился в правительство, напи-
сал прошение на имя Троцкого: согласен-де
на любую жилплощадь. Есенину не отказа-
ли — ему просто ничего не ответили. Выру-
чила Галина Бениславская (у нее, штатного
сотрудника массовой газеты «Беднота», бы-
ла комната в ведомственной коммуналке).
Эта незаурядная девушка оказалась в бли-
жайшем окружении Есенина еще до его ро-
мана с Дункан и безоглядно в него влюби-
лась. И хотя Сергей Александрович ничего
ей не обещал, потому что, ценя как друга и
«большую заботницу», не любил «как жен-
щину», Галина Артуровна взяла на себя и
секретарские обязанности, и домашние
хлопоты и заботы, причем не только о нем
самом, а еще и о его сестрах, сначала о стар-
шей, Екатерине, а потом и младшей —
Александре.
Некоторые биографы называют союз
Есенина и Бениславской гражданским бра-
ком. На самом деле отношения были тонь-
ше и мучительнее, причем для обеих сто-
рон. Бремя, которое сгоряча взвалила на
свои худенькие плечи «сестра и друг», ста-
новилось порой непосильным — ведь Гали-
на любила Есенина совсем не по-сестрин-
ски. Чтобы обуздать и горе, и гордость,
завела себе серьезного поклонника, отноше-
ния с которым были отнюдь не платониче-
скими. Узнав об этом, Есенин растерялся.
Человек в высшей степени естественный,
он мог понять, а следовательно, извинить
«физическую измену» по страсти. Невер-
ность по уму была вне его понимания.
Нет-нет, он не взревновал, он обиделся —
навзрыд, до безрассудства. Забрал сестер,
носильные вещи, рукописи и назло женил-
ся на внучке Льва Толстого Софье Андреев-
не.
Вообще-то жениться всерьез Есенин, су-
дя по всему, все-таки не собирался, да и не
мог чисто формально, так как по доку-
ментам продолжал числиться законным
супругом Айседоры Дункан. Но мать Сони,
невестка Толстого, не сочла регистрацию
в советском загсе серьезным препятствием.
В результате Сергей Александрович не-
ожиданно для себя оказался двоеженцем, а
в родословной внучки «гениального стар-
ца» (так при ссорах с Соней в сердцах он
называл ее деда) появился еще один
громкий титул: последняя жена великого
поэта. Под защитой двух этих «охранных
грамот» Есенина-Толстая и прожила до
глубокой старости в почетном статусе глав-
ной хранительницы есенинского литнас-
ледства.
Бениславская же через год после гибели
Сергея Александровича, будучи в состоя-
нии тяжелой депрессии, покончила с собой
на его могиле. Не выдержав последнего
унижения, законная вдова сделала все, что-
бы отнять у незаконной спутницы единст-
венное, что могло бы заставить ее жить на
земле, на которой больше не было ее Сер-
гея, — право на заботу о сохранности руко-
писей, хотя что-что, а роль литературного
секретаря Галина Артуровна исполняла
безупречно с того самого дня, как (в сентяб-
ре 1923 года) Есенин перебрался вместе с
нехитрым скарбом в ее коммунальное жи-
лище, и была в курсе всех его литератур-
ных дел. Однако Софья Андреевна отстра-
нила «соперницу* даже от консультаций
при доработке четырехтомного собрания со-
чинений, затеянного еще при жизни поэта,
а вышедшего уже после его смерти. Из всех
словесных портретов Галины Артуровны
самый замечательный принадлежит дочери
Есенина Татьяне:
«Лишь один раз я видела отца не тихим и не
грустным. Он был разговорчив, чуть насмешлив и
почти весел. Это было днем... Отец пришел не
один, с ним была Галина Артуровна- Бенислав-
131
Русские писатели XX века
ская. Я то и дело взглядывала на Галю — такое
необыкновенное лицо. Сросшиеся на переносице
брови — как два крыла. С годами этот облик
вспоминался мне все более загадочным и значи-
тельным. Я рано узнала о ее самоотверженной
безнадежной любви, о бесплодных попытках
оградить отца от «друзей», которые его спаивали.
Мама (Зинаида Николаевна Райх, первая жена
поэта. — А. М.) была немного знакома с Галей,
относилась к ней с уважением и сочувствием. А в
первую годовщину смерти отца кто-то позвонил
нам и сказал, что Галя стрелялась и ее увезли в
больницу. Из разговора мама не поняла, что Гали
нет в живых, она помчалась в больницу с букетом
цветов, вбежала в какую-то комнату и остолбене-
ла, — там уже началось вскрытие. Встречающая-
ся в печати фотография Гали кажется мне совсем
не похожей. Других я не видела... Мы с отцом си-
дели и разговаривали, а Галя все время стояла у
окна, прислонившись к подоконнику, тонкая, с
гладкой прической, бледная, серьезная, стро-
гая».
В том же 1925 году в тот же дом на Но-
винском бульваре, где жили с матерью и от-
чимом Вс. Э. Мейерхольдом его дети, Есе-
нин приводил и Софью Андреевну Толстую.
Детская память Татьяны сохранила и этот
эпизод, но ничего значительного, кроме
очень толстой косы, в облике новой жены
отца она не обнаружила:
«Нас с Костей уже выпускали одних во двор...
Стояло ясное бабье лето. В один из теплых сол-
нечных дней, когда мы играли с ребятами в на-
шем огромном дворе, я издали увидела отца. Он
шел очень быстро, а рядом, с трудом поспевая за
ним, шагала девушка в белом платье, ее толстая
темная коса покачивалась на ходу. Я подбежала
поближе, он поманил меня и попросил позвать
кого-нибудь из взрослых. Дома была только ба-
бушка, я нашла ее на кухне... Бабушка вышла,
вытирая фартуком руки.
— Познакомьтесь, моя жена, — сказал отец
своей бывшей теще. В голосе его слышался чуть
насмешливый вызов.
— Да ну-ну, — заулыбалась бабушка. — Очень
приятно.
Вот и все. Они тут же ушли. Отцу было явно не
до нас. Он недавно вернулся с Кавказа, куда ез-
дил с Софьей Андреевной Толстой, и вскоре,
18 сентября зарегистрировал свой брак с ней в
Хамовническом загсе. Возможно, по дороге отту-
да (это было недалеко) он и заходил к нам».
«КТО я? что я? только лишь
МЕЧТАТЕЛЬ...»
В сентябре 1924 года Есенин надолго
уехал в Грузию. В ту осень резко обостри-
лась борьба, фактически война на истребле-
ние, которую вот уже несколько лет с пере-
менным успехом вели идеологи новой влас-
ти с не поддающейся перековке русской
литературой. Пролеткульты, правда, все-
таки распустили, но пролеткультовский
дух оказался неистребимым: его унаследо-
вали и МАПП, и РАПП, окопавшиеся в
двух суперпролетарских журналах — «Ок-
тябрь» и «На посту». Василий Наседкин,
поэт и жених сестры Есенина Екатерины,
вспоминает, что Сергей Александрович,
обычно старавшийся не афишировать свои
литературные взгляды, попав на поэтиче-
ский вечер, где выступали главным обра-
зом «мапповцы» (члены московской ассо-
циации пролетарских писателей), — его и
пригласила туда знакомая хорошенькая
«мапповка», — не дослушав выступления
известного в этих кругах поэта, ушел —
«нервно, решительно, молча, даже не по-
прощавшись со своей спутницей». О том,
что эта реакция не случайность, свидетель-
ствует первое же его письмо к сестре, напи-
санное сразу по приезде в Тифлис 17 сен-
тября 1924 года:
«Узнай, как вышло дело с Воронским. Мне
страшно будет неприятно, если напостовцы его
съедят. Это значит тогда бей в барабан и откры-
вай лавочку. По линии (имеется в виду «проле-
тарская линия». — А. М.) писать абсолютно не-
возможно. Будет такая тоска, что волки сдох-
нут».
Словом, вопреки мнению молвы, ут-
верждавшей, что самовлюбленный Есенин
равнодушен к перипетиям литературных
сшибок, ему было решительно не по себе в
раздираемой идеологическими противоре-
чиями столице, и он пользовался любым
предлогом, чтобы уехать, удрать из Моск-
вы, а знакомым, из понятной осторожнос-
ти, объяснял свою «москвобоязнь» по-жи-
тейски: «Вот в Грузии поэтам хорошо; Сов-
нарком грузинский заботится о них, точно
132
Сергей Александрович Есенин
о детях своих. Приедешь туда, как домой к
себе. А у нас что? »
Впрочем, в Грузии ему и в самом деле
было хорошо. И в Москве, и в Питере необ-
ходимый для жизни «кислород» нужно бы-
ло собирать, копить и дышать им экономно,
словно это не атмосфера, а кислородная по-
душка — кончался запас воздуха, и начи-
налось кислородное голодание. А в Грузии
поэтического воздуха было столько, что да-
же его покалеченные «пустыней и отко-
лом» легкие не задыхались. Но главное, на-
иважнейшее: «Приедешь, как к себе до-
мой». Это-то и было самым необходимым:
ему, бездомнику, судьба, пусть ненадолго,
даровала Дом. Дом, полный друзей. Всегда
окруженный множеством знакомцев, собу-
тыльников, прихлебателей, Есенин с юно-
шеских лет мечтал о Друге. О великодуш-
ной, щедрой, не раздираемой завистью
Дружбе, и здесь, в Тифлисе, нашел то, чего
не хватало всю жизнь: необременительное
дружество. А кроме того, за хребтом Кавка-
за как-то сами собой улаживались многие
житейские проблемы, на решение которых
в московском бесприюте приходилось тра-
тить слишком много душевных и физиче-
ских сил. В житейских делах, или, как он
говорил, — «в пространстве чрева», Сергей
Александрович был до крайности неуме-
лым, но при этом многие почему-то считали
его оборотистым и расчетливым, хотя по-
павшие к нему в руки деньги моментально
улетучивались и он никогда не отказывал,
если просили взаймы, хотя и знал, что воз-
врата не будет (после его смерти на сбер-
книжке обнаружился... один рубль). Впро-
чем, в период альянса с имажинистами в
Есенине, видимо, и в самом деле на ка-
кой-то момент все-таки проклюнулась до-
ставшаяся по наследству генетического
родства хозяйская хватка деда по матери.
Но даже в тогдашнем его франтовстве, на-
рочитом на фоне всеобщей в литературных
кругах бедности, когда он мог заявить во
всеуслышание: «Я не отдаю воротничков в
стирку, я их выбрасываю», — было что-то
детское. Мальчик в сереньком шарфе, деру-
щий втридорога за свои выступления, брал
реванш, мальчик в поддевке и в сапогах бу-
тылочками доказывал: знай наших!
Его иногда за глаза, а то и нагло, в глаза,
называли «милым другом» — знает, мол,
цену своему мужскому обаянию и пользо-
ваться им умеет. Анатолий Мариенгоф, к
примеру, писал не без внутреннего раздра-
жения: «Есенин знал, чем расположить к
себе, повернуть сердце, вынуть душу...
Обычно любят за любовь, Есенин никого не
любил, и все любили Есенина».
Да, выглядел самоуверенным, отмахива-
ясь от критики, дескать, «я о своем таланте
много знаю», а на самом-то деле настоящей
цены ни себе, ни стихам своим так и не
определил, вот и боялся, что облапошат как
дурачка-простофилю, потому и держался с
вызовом — и казался удачником многим,
даже проницательному и тонкому А. Во-
роненому. Вот что писал главный редактор
журнала «Красная новь» в статье «Об ото-
шедшем»:
«Его поэтический взлет был головокружите-
лен... у него не было полосы, когда наступают пе-
ребои... паузы, когда поэта оставляют в тени либо
развенчивают. Путь его был победен, удача не по-
кидала его, ему все давалось легко. Неудивитель-
но, что он так легко, безрассудно, как мот, отнес-
ся к своему удивительному таланту».
Увы, и Воронский поддался гипнозу ми-
фа о счастливчике, баловне судьбы, об Ива-
не-царевиче русской поэзии... Галина Бе-
ниславская видела другое: «Удача у него
так тесно переплелась с неудачей, что сразу
и не разберешь, насколько он неудачлив».
Разобраться и впрямь было трудно, для это-
го надо было подойти поближе и, как гова-
ривал любимый Есениным Гоголь, «засто-
яться подольше», и тогда «веселое» обра-
щалось «в печальное». Издалека и вчуже
был виден лишь сияющий и светящийся,
как реклама, нимб почти легендарной, с
интригующим привкусом скандала, славы,
и это слепило, сбивало с резкости. Юлий
Олеша вспоминает:
«Когда я приехал в Москву... слава Есенина
была в расцвете. В литературных кругах, в кото-
рых вращался и я, все время говорили о нем — о
его стихах, о его красоте, о том, как вчера был
133
Русские писатели XX века
одет, с кем теперь его видят, о его скандалах, да-
же о его славе».
И Олеша перелагает сюжет легендар-
ный... В действительности Есенин конечно
же не был «сказочно» красив. Вот как опи-
сывает наружность поэта Роман Гуль, чу-
дом не поддавшийся гипнозу бежавшей
впереди «фаворита фортуны» славы:
«Когда Есенин читал, я смотрел на его лицо.
Не знаю, почему принято писать о «красоте и
стройности поэтов». Есенин был не красив. Он
был такой, как на рисунке Альтмана. Славянское
лицо с легкой примесью мордвы в скулах. Лицо
было неправильное, с небольшим лбом и мелкими
чертами. Такие лица бывают хороши в отрочест-
ве».
Однако и Роман Гуль ошибается. Вернее
всех секрет неотразимого есенинского обая-
ния угадал Иван Евдокимов, техред Госиз-
дата, хотя и познакомился с поэтом только в
1924 году, когда Сергей Александрович был
уже тяжело болен и много и нехорошо пил:
«...Мягкая, легкая и стремительная походка,
не похожая ни на какую другую, своеобразный
наклон головы вперед, будто она устала держать-
ся прямо на белой и тонкой шее и чуть-чуть сви-
сала к груди, белое негладкое лицо, синеющие не-
большие глаза, слегка прищуренные, и улыбка,
необычайно тонкая, почти неуловимая...» И при
этом — «какое-то глубочайшее удальство», «со-
вершенно естественное, милое, влекущее. Ника-
кой позы. И еще издали рассиневались чудесные
глаза на белом лице, будто слегка посеревший
снег с шероховатыми весенними выбоинками от
дождя...»
Впрочем, и в воспоминаниях Евдокимо-
ва («милого Евдокимыча», как называл его
Есенин) есть эпизод, где Сергей Александ-
рович почти такой, каким описал его Юрий
Олеша:
«Наблюдая в этот месяц (июнь 1925 года. —
А. М.) Есенина, — а приходил он неизменно трез-
вый, в белом костюме (был в нем обаятелен), при-
ходил с невестой и три раза знакомил с ней, я со-
хранил воспоминание о начале, казалось, глубо-
кого и серьезного перелома в душе поэта...»
А вот Грузию не обманули ни белые анг-
лийские костюмы, ни щегольские, — по-
дарки Айседоры, — французские шарфы
«северного брата»: здесь умели видеть
сквозь флер легенды и сразу догадались,
что в быту Есенин беспомощен, как ре-
бенок, что он органически не умеет соз-
дать нужную для работы обстановку, прос-
то, по-человечески устроить свою жизнь.
А кроме того, в есенинском бытовом укладе
не могла не очаровывать его естественная
театральность. В России бытовой эстетизм
поэта и болезненная реакция на неблагооб-
разие тогдашнего интеллигентского су-
ществования воспринимались как неснос-
ное и смешное чудачество. А в Грузии Сер-
гей Александрович мог позволить себе
осыпать прелестную жену Тициана Табидзе
Нику белыми и желтыми хризантемами, не
вызывая у присутствующих при этой сцене
ни недоумения, ни снисходительной ус-
мешки. Борис Пастернак удивлялся: Есе-
нин к жизни своей относился, как к сказке!
Не знаю, выдерживает ли сравнение со
сказкой трагическая судьба поэта, но то,
что воображение и впрямь порой, по ве-
ленью его и хотенью, переносило поэта в
иную страну, несомненно. И чтобы это про-
изошло, нужно было совсем немного. Софья
Виноградская, соседка Галины Бенислав-
ской по коммунальной квартире, рассказы-
вает в своих мемуарах:
«Есенин нуждался в уюте... страдал невыноси-
мо от его отсутствия... Это на нем сильно отража-
лось. Большой эстет по натуре... он не мог рабо-
тать в этих условиях. И чтобы хоть немного скра-
сить холод голых стен и зияющих окон, он
драпировал двери, убогую кушетку, кровать вос-
точными и другими тканями... завешивал яркой
шалью висячую, без абажура лампу... Он и голо-
ву свою иногда повязывал цветной шалью и хо-
дил по комнате, неизвестно на кого похожий».
Удивлялись соседи, недоумевали домаш-
ние, но поэт знал: благодаря столь малой
малости, особенно ежели «сузить глаза» («я
на всю эту ржавую мреть буду щурить
глаза и суживать»), преображалась убогая
комната, все преображалось, сдвигалось в
сторону вымысла и красоты:
Ну, а этой за движенья стана,
Что лицом похожа на зарю,
134
Сергей Александрович Есенин
Подарю я шаль из Хороссана
И ковер ширазский подарю.
Ни в настоящий Шираз, ни в реально
географический Хороссан Есенин, как и его
великие предшественники Пушкин и Лер-
монтов, тоже мечтавшие о путешествии в
страну чудес — Персию, не попал, и все-та-
ки проскакал ее всю — от границы до гра-
ницы — на розовом коне воображения.
А началось это путешествие в восточную
сказку давно, еще в 1921 году, в Ташкенте,
в ту пору, когда Григорий Колобов был в
славе и силе и Есенин мог забесплатно коле-
сить по России в комфортабельном спецва-
гоне. Для поездки в Ташкент у Сергея
Александровича были достаточно веские
причины. Во-первых, он затеял «Пугаче-
ва», и ему хотелось своими глазами увидеть
пугачевскую дикую Азию, «обсыпанную
солью песка и известкой*. А во-вторых, в
Ташкенте жил поэт Александр Ширяевец, с
которым Есенин заочно, по переписке, под-
ружился еще в 1915 году и которому давно
уже обещал приехать, чтобы наконец по-
знакомиться лично. Ранние, про волжскую
Русь, стихи заочного друга Есенин очень
ценил, а вот его восточные вариации, со-
бранные в сборнике «Бирюзовая чайхана»,
решительно не понравились, о чем Сергей
Александрович и сообщил Александру Ва-
сильевичу в непривычно для их переписки
резкой манере: «Пишешь ты очень много
зряшного, особенно не нравятся мне твои
стихи о Востоке. Разве ты настолько... мало
чувствуешь в себе притока своих родных
почвенных сил?» (1920, июнь).
Ширяевец обиделся, переписка оборва-
лась, и Есенин надеялся, что его приезд
снимет возникшее напряжение. Приехал
он в Ташкент на редкость удачно: к самому
началу уразы. Вот как описывает этот му-
сульманский весенний праздник один из
знакомых Есенина:
«Он приехал в праздник уразы, когда мусуль-
мане до заката солнца постятся, изнемогая от го-
лода и жары, а с сумерек, когда солнце уйдет за
горы, нагромождают на стойках под навесами у
лавок целые горы «дастархана» для себя и для
гостей: арбузы, дыни, виноград, персики, абрико-
сы, гранаты, финики, рахат-лукум, изюм, фис-
ташки, халва... Цветы в это время одуряюще пах-
нут, а дикие туземные оркестры, в которых
преобладают трубы и барабаны, неистово гремят.
В узких запутанных закоулках тысячи людей в
пестрых, слепящих, ярких тонов халатах разгу-
ливают, толкаются и обжираются жирным пила-
вом, сочным шашлыком, запивая зеленым аро-
матным кок-чаем из низеньких пиал, переходя-
щих от одного к другому. Чайханы, убранные
пестрыми коврами и сюзане, залиты светом керо-
синовых ламп, а улички, словно вынырнувшие из
столетий, ибо такими они были века назад, осве-
щены тысячесвечными электрическими лампио-
нами, свет которых как бы усиливает пышность
этого незабываемого зрелища».
Проголодавшись, московский гость и его
спутники устроились на высокой открытой
террасе какой-то чайханы. Но Есенин долго
не мог притронуться к «дастархану*, а если
и отрывал глаза от экзотического зрелища,
то лишь затем, чтобы проверить, не смя-
лась ли великолепная персидская желтая
роза в петлице его пиджака...
Ташкент в пору уразы, как и можно бы-
ло предположить, примирил Есенина с Ши-
ряевцем, он понял, что жить на Востоке и
не писать о Востоке невозможно. Правда,
тогда, в 1921-м, роскошная персидская
Азия его, как поэта, не увлекла, он был
слишком занят своими российскими беда-
ми и проблемами.
В 1922 году Александр Васильевич Ши-
ряевец перебрался из Ташкента в Москву,
но Есенин был за границей, а когда вернул-
ся и начались регулярные встречи, оба
как-то вдруг поняли, что жизнь, соединив,
развела их. Есенин жил на миру, громко,
Ширяевец в себе и тихо. Но если вдруг, не
договариваясь, встречались, радовались
друг другу почти как прежде: «Дня три то-
му назад, — писал Ширяевец одному из
своих ташкентских знакомых, — на Арбате
столкнулся с Есениным. Пошли, конечно, в
пивную, слушали гармонистов и отдава-
лись лирическим излияниям. Жизнерадос-
тен, как всегда, хочет на лето ехать в дерев-
ню, написал много новых вещей*.
Письмо датировано 4 апреля 1924 года, а
15 мая Александр Васильевич внезапно и
страшно — от менингита — умер. Узнав об
135
Русские писатели XX века
этом, Есенин затосковал, заметался, в ме-
нингит он верить не желал, считал, что
Сашка отравился волжским корнем, от ко-
торого только и бывает такая смерть. И при
этом хлопотал, суетился, чтобы не сунули в
кладбищенскую яму как какого-нибудь
безродного бедолагу, а на похоронах читал
посвященные другу стихи (в первой публи-
кации они так и назывались — «На смерть
Ширяевца»):
Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.
Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски...
В годовщину смерти Александра Ширя-
евца Есенин мысленно положит на его мо-
гилу, как венок из персидско-ташкентских
роз, первые десять стихотворений цикла
«Персидские мотивы» и откроет его «Чай-
ханой» («Улеглась моя былая рана...»), как
бы прося у друга прощения за то, что ког-
да-то так грубо, а главное, несправедливо
отозвался о его «Бирюзовой чайхане».
Цикл еще рос, ветвился, но Есенин оборвал
его на половине, чтобы успеть к годовщине,
и тут же включил в сборник, который так и
назвал: «Персидские мотивы». Он вернется
к нему в августе, но это будет уже совсем
другая работа, к его отношениям с милым
Сашей Ширяевцем касательства уже не
имеющая.
«ЧЕСТЬ МОЯ ЗА ПЕСНЮ ПРОДАНА...»
Полный цикл «Персидские мотивы» в
том виде, каким его подготовил сам Есенин
для собрания сочинений, завершается сти-
хотворением «Голубая да веселая страна*.
Считается, со слов Софьи Андреевны Тол-
стой-Есениной, что оно посвящено шести-
летней Розе, дочери Петра Ивановича Чаги-
на, главного редактора газеты «Бакинский
рабочий». Дескать, Есенин «очень любил и
понимал детей» и «находился с этой девоч-
кой в большой дружбе».
Есенин действительно любил детей; в от-
рочестве, несмотря на насмешки сверстни-
ков, нянчился с сестрами, особо охотно с
младшей, Шурой, мастерил ей и венки, и
шляпы, и даже платья из луговых трав и
цветов. Да и потом, взрослым, никогда не
являлся в деревню без подарков девчонкам,
причем привозил не только игрушки и
книжки, но и нарядные городские платья.
Он очень огорчался, что старшая, Катя, не
умела носить непривычную «одеву», зато
младшая выглядела в обновках так, словно
и родилась в этих кружевах и оборках.
Очень любил Есенин и свою дочь Таню, гор-
дился ее счастливой внешностью и особым,
видимо, наследственным, танцевальным
изяществом — девочка мечтала стать бале-
риной и действительно поступила в балет-
ную школу при Большом театре, и, если бы
не болезнь, наверняка стала бы танцовщи-
цей, а не журналисткой. Дочь Чагина, ро-
весница Татьяны, видимо, чем-то походила
на нее, и не исключено, что, играя и танцуя
с Розой-Гелией, Сергей Александрович
вспоминал последние неловкие свидания с
Таней, и уезжая из Баку, хотя и подарил
Розе Чагиной стихи про «веселую да голу-
бую страну», сделал на рукописи помету:
дескать, когда подрастет, пусть непременно
передаст стихотворение его дочери. Но луч-
ше обо всем этом рассказала сама Татьяна
Сергеевна:
«С сентября 1924-го по сентябрь 1925-го Есе-
нин жил в основном на Кавказе... мотался между
Азербайджаном, Грузией и Москвой. В Баку при-
езжал три или четыре раза, останавливался в
квартире Петра Ивановича Чагина, который был
в то время вторым секретарем ЦК КП Азербайд-
жана (первым был С. М. Киров) и одновременно
редактором газеты «Бакинский рабочий». Зани-
мая такие посты, он был очень молод — ему было
всего двадцать шесть лет. Рано женившись, он
имел дочь примерно моего возраста. «Персидские
мотивы» первоначально печатались с посвящени-
ем Чагину. Некоторые стихотворения были напи-
саны у него в доме... В доме у Чагина было напи-
сано и стихотворение «Голубая да веселая стра-
на...» Обращено оно к некоей Гелии. Кто она?
Персиянка, вымышленный образ? Только из при-
136
Сергей Александрович Есенин
мечаний к третьему тому собрания сочинений от-
ца, вышедшего в 1962 году, я узнала, что, во-пер-
вых, стихотворение посвящено маленькой дочери
Чагина Розе, которая любила называть себя Тели-
ей Николаевной, во-вторых, что в архиве Чагина
хранится черновик этого стихотворения, на по-
лях которого написано: «Гелия Николаевна! Это
слишком дорого. Когда увидите мою дочь, пере-
дайте ей. С. Е.*... Перечитала стихотворение...
Написано восьмого апреля. Весенний день в Ба-
ку, дует и дует ветер с Каспия, расцветают розы,
искрится голубое небо, улыбается маленькая Ро-
за-Гелия. А в ритме, в музыке стихотворения зву-
чит тоска. В тот же день, восьмого апреля отец
написал в Москву Галине Бениславской. Напи-
сал о том, что несколько дней назад его ограбили,
он остался без пальто, простудился, не было де-
нег, болели зубы. Письмо сердитое. Плохо ему
было — все «продано* за песню, но нет ни своего
угла, ни семьи; беспокойная жизнь в чужих кра-
ях, в чужих домах требовала здоровья, а его не
было.
В 1970 году вышел двухтомник В. Белоусова
«Сергей Есенин*. Летопись жизни поэта... Во
втором томе напечатана часть письма Розы Пет-
ровны Чагиной (то есть взрослой Розы-Гелии),
присланного в ответ на просьбу (В. Белоусова. —
А. М.) рассказать о том, что она помнит. Она на-
писала: «Вспоминается мне белокурый, молодой,
светлоглазый, красивый дядя. Очень хорошо от-
носился ко мне, с лаской, заботой. Играл по-свое-
му: ставил на голову свой бритвенный прибор и
танцевал со мной».
(А еще красивый дядя учил девочку плавать,
играл с ней в театр. Изображая актрису, Роза на-
зывала себя Гелией Николаевной — так звали од-
ну из местных актрис, фамилии которой она не
помнила.)
...Роза была жива, предназначенный мне авто-
граф существовал, но отец просил передать его
мне, когда мы встретимся. А встреча не состо-
ялась. Прошло еще много лет. В феврале
1988 года получаю бандероль из Москвы, в ней
книга и письмо. Писатель Гуссейн Дадашевич
Наджахов... прислал мне изданную в Баку доку-
ментальную повесть «Балашихинский май* о
жизни Есенина в Азербайджане. А что я испыта-
ла, прочитав письмо, описывать не берусь. Над-
жахов сообщил, что автограф у него, ему подари-
ла его незадолго до своей смерти вдова Чагина
Мария Антоновна. «Хранить у себя такую релик-
вию не имею права, — писал Гуссейн Дадаше-
вич. — Считаю своим долгом выполнить волю ве-
ликого поэта и выслать автограф Вам*.
Поблагодарив, попросила его, посылая руко-
пись отца, сообщить и о судьбе Розы... И вот авто-
граф и второе письмо у меня. Так и есть — встреть-
ся Роза Петровна со мной, она бы не могла выпол-
нить просьбу моего отца. Семья Чагина
рассыпалась в конце 1925 года; покинув дочь и
первую жену Клару Эриховну, Чагин вслед за Ки-
ровым уехал с новой женой (Марией Антоновной
Адамовой. — А. М.) и со всем своим архивом в Ле-
нинград. Роза осталась со своей матерью в Баку,
всю жизнь работала корректором в редакции «Ба-
кинского рабочего». Умерла десять лет назад.
...Рассматриваю рукопись. Стихотворение с тру-
дом поместилось на трех небольших пожелтевших
бланках. Написано синим карандашом, может
быть, привезенным из-за границы. Строчки не вы-
цвели, не побледнели. Вверху на бланке крупны-
ми буквами напечатано: «Редактор газеты «Ба-
кинский рабочий*... Приписка («Гелия Николаев-
на! Это очень дорого...» и т. д.) на первой странице
слева, вверху, справа посвящение Гелии Никола-
евне. Не судьба мне была увидеться с Гелией Ни-
колаевной. Был момент, когда я находилась, воз-
можно, в двух шагах от нее или даже в одной и той
же комнате: в 1952 году была проездом в Баку, за-
ходила в редакцию «Бакинского рабочего...»
Не люди, а сама судьба позаботилась,
чтобы те две серьезные, исповедальные
строки, которые предназначались Татьяне
Сергеевне, а не Гелии Николаевне, дошли
до адресата именно тогда, когда дочь поэта
смогла их понять: «Пусть вся жизнь моя
за песню продана...», «Честь моя за песню
продана...»
И понять, и простить.
ПОПЫТКА ПРОРЫВА
Такого читательского успеха, какой вы-
пал на долю «Персидских мотивов», Есе-
нин не ожидал, восточную сказку про лю-
бовь ласкового уруса и прекрасной перси-
янки он сочинял почти «ради шутки» и на
Кавказ убежал из Москвы вовсе не для то-
го, чтобы здесь, в Тифлисе, Баку, Батуми,
собирать по крупицам остатки «пестрой
азиатчины*.
После возвращения из заграничного пу-
тешествия Есенин сделал отчаянную по-
пытку сломать себя, чтобы избавиться от
унизительного литзвания «попутчик», что-
бы стать настоящим, а «не сводным сыном
в великих Штатах СССР». Эту попыт-
ку он называет военным словом: прорыв
(«Путь мой сейчас очень извилист, но это
137
Русские писатели XX века
прорыв». Из письма к Г. А. Бениславской).
И вроде бы почти прорывается, написав и
издав в 1924 году несколько вполне лояль-
ных к советской власти вещей: «Песнь о Ве-
ликом походе», «Балладу о двадцати шес-
ти», «Поэму о 36». В пролетарском лагере
ликуют: на нашей улице праздник! в нашем
полку прибыло! А на том, другом берегу
злорадствуют: дескать, обвинял всех ско-
пом в подхалимстве, а сам прямо-таки пре-
смыкается. Но Есенин не подхалимничал и
не подделывался под новосоветский тон.
Ему и в самом деле после знакомства с Пет-
ром Чагиным, а через него с Кировым и
другими высокими лицами кавказских
правительств первого призыва, которые на
удивление оказались не монстрами, а очень
даже недурными внутри себя людьми, по-
казалось, что и он сможет отдать «атакую-
щему классу» не только душу, но и лиру.
Впечатлял, чего уж скрывать, и пример
главного соперника — Маяковского, насту-
пившего из высших государственных со-
ображений на горло собственной песне.
Однако творческого удовлетворения не чув-
ствовал. Даже Бениславская и та забеспо-
коилась, осторожно заметив в одном из пи-
сем, что Сергей Александрович «перестал
отделывать стихи». Галю он успокоил, объ-
яснив, что ломает себя и что на самом деле
именно сейчас стал к форме особенно тре-
бователен. А вот себя успокоить не мог,
потому что лучше чем кто-либо знал: чтобы
чувствовать себя вырвавшимся из узкого
промежутка («я очутился в узком проме-
жутке, ведь я мог дать не то, что дал,
что мне давалось ради шутки»), надо со-
здать вещь не просто современную и лояль-
ную, но и художественно совершенную.
И Есенин задумывает «Анну Снегину»; с
этим замыслом большого лиро-эпического
♦полотна», который пока держит в строгом
секрете, но к которому уже сделал несколь-
ко удачных эскизов, он и уезжает в Грузию
(сентябрь 1924 года).
Известный грузинский поэт Тициан Та-
бидзе свидетельствует, что в первый же
день по приезде в Тифлис Сергей Александ-
рович прочел ему «Возвращение на роди-
ну*. И, думается, не случайно: «Возвраще-
ние...» — первый пробный эскиз к поэме
«Анна Снегина», которую он начал сочи-
нять, видимо, еще летом 1924 года после
поездки в Константиново. Второй эскиз —
«Русь уходящая» — уже в Тифлисе,
осенью. Знакомый поэта журналист Нико-
лай Вержбицкий вспоминает:
«Четырнадцатого сентября в Тифлисе состо-
ялась демонстрация в честь Международного
юношеского дня. Мы с Есениным стояли на сту-
пеньках бывшего дворца наместника, а перед на-
ми по проспекту шли, шеренга за шеренгой, заго-
релые мускулистые ребята в трусиках и майках...
Я не удержался и воскликнул, схватив Есенина
за рукав: — Эх, Сережа, если бы нам с тобой за-
драть штаны и прошагать вместе с этими ребята-
ми!» Есенин внимательно посмотрел мне в гла-
за... и спустя полтора месяца я прочел...
Я знаю — грусть не утопить в вине,
Не вылечить души пустыней и отколом.
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом.
«Вспоминаешь?» — спросил меня поэт, когда
эти строки появились в «Заре Востока».
Словом, Есенин скрылся за Кавказским
хребтом от московских треволнений не
только для того, чтобы рассеяться, отвлечь-
ся, отдохнуть, освежить душу грузинским
гостеприимством и ласковым, уже не жар-
ким осенним солнцем, уезжал с надеждой,
что именно здесь совладает с «большой эпи-
ческой темой», словом, ехал не как к себе
домой, а словно в Дом творчества.
Чтоб воротясь опять в Москву,
Я мог прекраснейшей поэмой
Забыть ненужную тоску
И не дружить вовек с богемой.
Конечно, и в Тифлисе его многое отвле-
кало от большой работы; после крупного
бильярдного проигрыша хотел было даже
вернуться в Москву. К счастью, настроение
очень скоро переменилось, и Сергей Алек-
сандрович переехал в Батум.
Батум. 14.12.1924. Галине Бенислав-
ской.
«Работаю и скоро пришлю вам поэму,
по-моему, лучше всего, что я написал».
138
Сергей Александрович Есенин
Батум. 17.12.24. Ей же.
«Работается и пишется мне дьяволь-
ски хорошо».
Зима 1924/25 года на Черноморском по-
бережье Кавказа выдалась холодной и
снежной. Было не только холодно, но и
скучно, и все равно работалось: «Я скоро
завалю вас материалами. Так много и лег-
ко пишется в жизни очень редко» (из пись-
ма к Г. А. Бениславской).
Есенин по неделям не выходит из батум-
ской квартирки Льва Повицкого, куда пе-
ребрался из слишком уж грязной гостини-
цы. Но и здесь холодина, субтропический
Батум не приспособлен к столь резким от-
клонениям от климатической нормы. Руки
мерзнут так, что Есенин вынужден бросить
карандаш и сочинять стихи в уме. Еще не-
давно он опасался, что его жизненного опы-
та, какой он вынес из «сонма бурь», не хва-
тит на большую поэму:
Я тем завидую.
Кто жизнь провел в бою,
Кто защищал великую идею,
А я, сгубивший молодость мою.
Воспоминаний даже не имею.
Хватило! И воспоминаний, и творческой
воли. И все помогало: и тифлисское ве-
селье, и батумская скука.
Сергей Александрович сам определил
срок (май 1925), к которому прекрасней-
шая поэма о России и революции должна
быть окончена. Однако творческое вдох-
новение было столь сильным, что он неожи-
данно «перевыполнил план». Уже 20 янва-
ря, собрав черновики и перечитав образо-
вавшуюся «золотую словесную руду»,
«батумский отшельник» увидел, что работа
практически завершена. С почти готовой
«Анной Снегиной* Есенин не мог, не имел
права сидеть ни в скучном Батуми, ни в ве-
селом Тифлисе.
Первое публичное чтение поэмы состо-
ялось весной 1925 года в Москве, в Доме
Герцена и обернулось полным провалом.
Спецэксперты, заседавшие в президиуме, о
прочитанном отозвались с подчеркнутым
холодком. Еще равнодушнее прореагирова-
ла пресса: за полгода всего несколько бег-
лых и невыразительных замёток в провин-
циальных газетах. Неужели случайность?
Или критика чего-то не поняла? Увы, кри-
тика все поняла правильно. Это автор поэ-
мы еще не понимает, что вопреки перво-
начальному намерению написал не о тор-
жестве советской идеологии, а о разоре,
погибели веками стоявшего крестьянского
мира. А может быть, и он все-все понял, по-
тому и твердит, что «Анна Снегина» —
«лучше всего», что он написал? Может,
только во время работы наконец-то сообра-
зил, куда, в какую бездну несет его Россию
«рок событий»! Или все же надеется, что
его Слово, его Свидетельство еще смогут из-
менить гаснущий удел хлебороба («удел
хлебороба гас»), ежели только в верхних
эшелонах советской власти прислушаются
к мнению «последнего поэта деревни». Ведь
он писал правду, одну правду и ничего, кро-
ме правды! Приезжая в 1924 году в Конс-
тантиново чаще, чем обычно (родители на-
чали строить новый дом, а он как старший
сын считал себя обязанным помочь стари-
кам), Есенин с тревогой убеждался: власть
на земле забирают в ухватистые, но бестол-
ковые руки бездельники и негодяи. Один
такой новый советский выведен в поэме
«Анна Снегина»:
У Прона был брат Лабутя,
Мужик — что твой пятый туз:
При всякой опасной минуте
Хвальбишка и дьявольский трус.
Дав убийственную характеристику это-
му выдвиженцу — пятый, то есть лишний
туз, шулерская карта в колоде, Есенин по-
казывает, какой простор дает бездельникам
и тунеядцам новая власть. Не положитель-
ный Прон (он погибнет в Гражданскую вой-
ну от рук белоказаков), а его брат Лабутя
организует разгром помещичьего дома, это
его хвастливой трусости обязаны снегов-
ские помещики скоростью расправы: «В за-
хвате всегде есть скорость! Даешь! Разберем
потом». И это лишь начало восхождения
Лабути! В самом скором времени все буду-
щее села оказывается в его нерабочих ладо-
нях: «Такие всегда на примете. Живут, не
мозоля рук. И вот он, конечно, в Совете».
139
Русские писатели XX века
Взяв на мушку «лабутей», Есенин и
впрямь «угодил в прицел!» В самое что ни
есть «яблоко»!
Еще в 1918 году ВЦИК (Всесоюзный
Центральный Исполнительный Комитет)
издал очередной Декрет об организации и
снабжении деревенской бедноты. Во испол-
нение этого декрета были созданы комите-
ты деревенской бедноты, сокращенно ком-
беды, которые на местах сразу же преврати-
лись во властные органы с самыми
широкими полномочиями. В ответ на их
действия в деревнях начались настоящие
восстания. Но крестьяне не только брались
за нож, они пытались обращаться к «ко-
миссару Ленину». Одно из таких писем —
жалоба-заявление «крестьян тружеников и
тружеников бедняков» Вологодской гу-
бернии — по поручению мужа Надежда
Константиновна Крупская переслала пред-
седателю Вологодского губисполкома со
следующей припиской: «Извиняюсь, что
беспокою Вас, но эти «Комитеты Бедноты»
теперь особенно часто заставляют пережи-
вать горькие минуты, когда видишь, что
вместо организации жизни, в деревне со-
здается ужасающий раскол».
Жалоба-заявление вологодчан первому
«председателю Р. М. Ф. С. республики» со-
хранилась, на заре перестройки ее опубли-
ковал с сохранением орфографии и пункту-
ации подлинника журнал «Родина». На
мой взгляд этот уникальный текст — луч-
ший историко-бытовой комментарий к
«Анне Снегиной».
«Мы крестьяне труженики середняки и бедня-
ки не были никогда ни буржуями, ни спекулян-
тами-барышниками, ни пьяницами, ни карман-
никами, ни лентяями паразитами, как высший
класс, так и нисший, за которого Вы теперь за-
ступаетесь и жизненное государственное переуст-
ройство которым Вы теперь вверяете. Мы всю
жизнь работали неустанно, не покладая рук, и
мы только мы несли на своих плечах все тяжести
и нужды государственные и общественные. Бога-
чи изворотливо откупались от несения государ-
ственных и общественных налогов, а с лентяев
нечего было брать, которые от лености бросили
свои земли и хозяйства, ничему хорошему не на-
учились, поборничеством, воровством, картежни-
чеством занимались и всецело жили нашими же
трудами. И вот таким-то людям Вы дали доверие
и власть. Сидя у власти на местах они не стара-
лись и не стараются поднять и улучшить трудо-
вой уровень народа, а только и делают, что гра-
бят, отнимают нажитое тяжелым упорным тру-
дом и бережливостью. Ведь эти лентяи горланы
обижают и бедняка труженика. Они своим раз-
гильдяйством и разнузданностью озлобили всех
нас против Вас. Ведь от Вас все это исходит. Поче-
му Вы заступаетесь за лентяев и прохвостов, а на-
падаете в лице их на нас тружеников. Мы
крестьяне труженики середняки и труженики
бедняки обращаемся к Вам и просим Вас не отни-
мать у нас труд...»
Передел власти в деревне в пользу «са-
мых отвратительных громил и шарлата-
нов» тревожил Есенина еще и потому, что
аналогичная ситуация начала складывать-
ся к середине 1925 года и в литературе.
Здесь тоже вовсю «шуровали» «горланы»,
прибирая к рукам и доходные места, и
идеологические позиции. Это их «разгиль-
дяйством и разнузданностью» все теснее и
теснее делалось творческой личности в том
барачном общежитии, который они, «лабу-
ти», спустя рукава строили на месте его,
Есенина, «золотой бревенчатой избы»...
То, что революция не духовное преоб-
ражение, а национальная трагедия, Есе-
нин начал понимать давно, уже в 1920-м,
когда писал Жене Лифшиц: «Идет совер-
шенно не тот социализм... Тесно в нем
живому...» Известно, например, что на
вечере памяти Блока, устроенном деятеля-
ми Пролеткульта, он выкрикнул из зала:
«Это вы, пролетарские писатели, убили
Блока!»... Но до 1925 года Есенин, видимо,
еще на что-то надеялся. Может быть, как и
многие, как те же крестьяне-труженики
Вологодчины — на комиссара Ленина, а в
1925-м оглянулся окрест и увидел, что спу-
щенный Капитаном Земли Корабль гребет-
ся в грядущее по ватерлинию в человечьей
крови и что управляют им отныне, за
смертью первого председателя Р. С. Ф. Р.,
все те же — «лабути»! Вот тут-то злая
грусть и обернулась смертной тоской, кото-
рая и затянула на певчем его горле роковую
удавку.
140
Сергей Александрович Есенин
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ РАССТАВАНЬЕ
О смерти Есенина ходят легенды одна
другой фантастичнее. Что его убили, а по-
том, уже мертвого, повесили. То ли люди
чеки, то ли жидомасоны. Даже в изданном
«Школой-Пресс» в серии «Школьная биб-
лиотека» сборнике С. А. Есенина «Русская
боль» в разделе «Хроника» утверждается,
что в ночь на 27 декабря 1925 года в Ленин-
граде в гостинице «Англетер» поэт был
убит. Неизвестными лицами и при невыяс-
ненных обстоятельствах.
На самом деле все было куда трагичнее...
Маяковский не случайно обмолвился в сти-
хотворении «Сергею Есенину»: «Лучше уж
от водки умереть, чем от скуки». По всей
вероятности, до него тем или иным путем
дошла уже цитированная выше фраза из
письма Есенина к сестре: «Придерживаясь
пролетарской «линии», писать абсолют-
но невозможно. Будет такая тоска, что
волки сдохнут». Да и пил он в последние
годы действительно и много, и нехорошо —
с кем не попадя и все равно что. Почти все
мемуаристы, как сговорившись, отмечают,
что Есенин в 1925 году производил впечат-
ление тяжело больного человека, потеряв-
шего, что называется, «нить жизни». Осо-
бенно часто биографы цитируют Маяков-
ского:
«Последняя встреча с ним произвела на меня
тяжелое и большое впечатление. Я встретил у
кассы Госиздата ринувшегося ко мне человека с
опухшим лицом, со свороченным галстуком, с
шапкой, случайно держащейся, уцепившись за
русую прядь. От него и двух его темных (для ме-
ня, во всяком случае) спутников несло спиртным
перегаром. Я буквально с трудом узнал Есенина».
Однако именно в этот год Сергей Есенин
написал лучшую из своих лирических
книг, подготовил к печати трехтомное со-
брание сочинений (после его смерти Госиз-
дат прибавит еще один, четвертый том), а
на полученные в качестве аванса деньги до-
строил родителям дом; отец возражал, за-
чем нам, старикам, такие хоромы, но сын
настоял на своем. Весьма решительно рас-
порядился он и судьбой сестры Екатери-
ны — выдал замуж за хорошего и надежно-
го человека — поэта Василия Наседкина.
Больше того, ежели, как полагают неко-
торые биографы, Есенин уезжал в Ленин-
град — умирать, зачем в таком случае про-
вел почти двое суток в «коридорах Госизда-
та», тщетно пытаясь получить выписанные
ему большие деньги?
Нет, нет, он, видимо, действительно изо
всех сил цеплялся за иллюзию: а вдруг слу-
чится чудо и он сможет дать новое направ-
ление своей жизни! Как и десять лет тому
назад, когда переезд в Петроград резко и
счастливо изменил его судьбу и поэтиче-
скую и человеческую: как и многие поэты,
Есенин был суеверен, оттого, видимо, и спе-
шил удрать из опостылевшей Москвы в го-
род на Неве именно в 1925-м, в год своего
десятилетнего юбилея! Не стал даже дожи-
даться выдачи гонорара, а перехватил в
долг небольшую сумму, только чтобы до-
ехать да протянуть несколько праздничных
дней до твердо обещанного (сразу же, сразу
после Нового года, а может, еще и до!) гос-
издатовским начальством денежного пере-
вода. В расчете на этот солидный гонорар и
дал своему питерскому приятелю Вольфу
Эрлиху телеграмму с просьбой срочно снять
хорошую — две-три комнаты — квартиру.
Эрлих просьбу не выполнил, решив, что те-
леграмму Сергей Александрович отправил
спьяну: зачем, мол, ему две-три комнаты.
Между тем Есенину нужна была именно
квартира, ведь он собирался забрать сестер:
и только что вышедшую замуж Екатерину
вместе с мужем, естественно, и Шуру —
хватит девчонке ютиться по чужим углам.
Сделать это в Москве, даже с теми деньга-
ми, какие обещал Госиздат, было невоз-
можно: Москва, вновь ставшая столицей,
трещала по швам, иное дело, обезлюдевший
Питер, где пустовали немереные квадрат-
ные метры — дворцовые и полудворцо-
вые... А главное, как и десять лет назад,
Есенин перебирался на постоянное житель-
ство в Ленинград с уже готовой главной
итоговой книгой. Еще в конце 1920-го он
писал Иванову-Разумнику:
«...Перестроение внутреннее было вели-
ко. Я благодарен всему, что вытянуло мое
141
Русские писатели XX века
нутро, положило в формы и дало ему
язык».
Тогда, после «Сорокоуста», «Кобыльих
кораблей» и перед «Пугачевым», поэту по-
казалось, что переструение кончилось, а
оказалось, что в 1920-м он еще только на-
чинал искать и формы, и язык, адекватные
его нутру, а нашел только теперь... Отныне
он и «цветок неповторимый», и, безо вся-
ких скидок, народный поэт, и никакие го-
нения не страшны его живым песням, ибо
они, как и песни фольклорные, не нужда-
ются ни в печатном станке, ни в цензурном
разрешении. Этот новый стиль он «нащу-
пал» еще в 1924 году в стихах на смерть
Ширяевца и в первых «главках» «Персид-
ских мотивов», но тогда Есенин еще верил,
что сможет прорваться из попутчиков в
классики с большой эпической темой. Не
прорвался. «Анна Снегина», как и малень-
кие поэмы 1917—1919 годов, как и «Пуга-
чев», советской критике не «угодили». И он
свернул со столбовой дороги на свою тропу.
Теперь он уже не читал стихи, как прежде,
он их пел — мастерски, с особыми интона-
циями и переходами, округляя особо выра-
зительные места жестами.
Отговорила роща золотая
Березовым веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком...
Клен ты мой опавший, клен заледенелый.
Что стоишь нагнувшись под метелью белой?
Народной песней стало и «Письмо мате-
ри»:
Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось.
(Чтобы правильно понять эти общеиз-
вестные строки, надо вспомнить к матери
же обращенные стихи 1917 года, когда
все-все пророчило ему, баловню судьбы и
глашатаю Великой Крестьянской России,
счастье и славу:
Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я завтра стану
Знаменитый русский поэт.
Вот, что, оказывается, не сбылось и «от-
мечталось» «в дым»!)
Особенно часто и охотно исполнял Есе-
нин в 1925-м «Песню» («Есть одна хорошая
песня у соловушки...»), для которой при-
способил популярный «кавказский» мотив,
причем не только пел, но и плясал — пля-
сал именно песню, а не под песню! Один из
современников оставил описание этого уни-
кального исполнения (на мальчишнике, ле-
том, перед свадебным путешествием с Со-
фьей Андреевной Толстой на Кавказ):
«Волосы на голове были спутаны, глаза вдох-
новенно горели, и, заложив левую руку за голову,
а правую вытянув, словно загребая воздух, пошел
в тихий пляс и запел... Как грустно и как красиво
пел безголосый, с огрубевшим от вина голосом
Сергей! Как выворачивало душу это пение...»
Вот этот-то уникальный, выворачиваю-
щий душу песенник Есенин и вез в город
своей первой славы...
Заехав с вокзала к Эрлиху и не застав то-
го дома, оставил часть вещей, а с остальны-
ми отправился в гостиницу; вообще-то он
вовсе не хотел туда ехать, собирался до-
ждаться приятеля в знакомом обоим ресто-
ранчике, но там было закрыто, и он двинул
в «Англетер* и по роковой случайности ока-
зался в том самом номере, где когда-то, в
разгар их романа, останавливался с Айседо-
рой Дункан. Импресарио балерины Юрок,
со слов самой Дункан, утверждает, что Есе-
нин (в феврале 1922 года), внимательно ог-
лядев комнату (как-никак, а это были пер-
вые в его жизни шикарные апартаменты) и
заметив на скрещении труб парового ото-
пления прочный крюк, пошутил: вот, мол,
специально для самоубийц. Именно этот
крюк, продолжает Юрок, и был четыре года
спустя использован им по назначению. С его
же слов известно, что Есенин, чтобы отце-
дить кровь из надрезанной вены, — в отеле
не оказалось не только чернил, но и чер-
нильницы, а ему срочно нужно было запи-
сать сочиненные ночью стихи, — достал из
чемодана маленькую этрусскую вазу, ког-
да-то подаренную ему Изадорой.
142
Сергей Александрович Есенин
Так это или не так, проверить, увы, не-
возможно, однако доподлинно известно,
что подарками «заморской жар-птицы»
Есенин суеверно дорожил. Работники Гос-
издата, и Иван Евдокимов, и Тарасов-Ро-
дионов, последние из москвичей, видевшие
Есенина в день бегства, не сговариваясь,
свидетельствуют: когда они обратили вни-
мание на его очень красивый шарф, он с
гордостью объяснил, что это дар Изадоры.
И добавил, что за всю свою жизнь любил
только двух женщин, ее да Зинаиду Нико-
лаевну, а «Дуньку» и сейчас любит и ласко-
во растянул и погладил красный, с искрою,
льющийся шелк...
Словом, день первый (четверг, 24 дека-
бря 1925 года) ушел на обустройство, а на
следующее утро, в пятницу, Есенин, про-
снувшись на рассвете, потребовал, чтобы
Эрлих (по его просьбе заночевавший в гос-
тинице — в последние годы Есенин паниче-
ски боялся ночного одиночества) немедлен-
но вез его к Клюеву. С тем же кинулся в со-
седний номер и к чете Устиновых — тете
Лизе и дяде Жоржу, подняв их с постели.
Клюев, дескать, — Учитель, был и остался
Наставником, ему одному, мол, верит.
Еле-еле уговорили дождаться приличного
для визита часа. Не зная номера дома, про-
плутали какое-то время, но Клюева разыс-
кали, разбудили и чуть не силком увезли с
собой в «Англетер». И Есенин тут же, шуга-
нув тетю Лизу, которая упрашивала хоть
чаю с калачом выпить, стал читать стихи.
Последние. 1925 года. Разбросанные по
журналам и газетам. Читал и неопублико-
ванное, практически прочел Клюеву и для
Клюева новый готовый сборник — самую
сильную из своих книг. Отчитывался перед
Учителем («Ты, Николай, мой учитель.
Слушай».) И само собой ждал одобрения: в
отличие от «Москвы кабацкой», которая
возмутила «нежного апостола* «чернотой»,
«стихи 25 года», были хотя и пронзительно
грустными, но светлыми:
Несказанное, синее, нежное...
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душа моя — поле безбрежное —
Дышит запахом меда и роз...
Клюев, увы, и их не одобрил. Причем яз-
вительно: «Я думаю, Сереженька, что если
бы собрать эти стихи в одну книжечку, они
стали бы настольным чтением для всех де-
вушек и нежных юношей, живущих в Рос-
сии».
Есенин от неожиданности помрачнел, но
быстро взял себя в руки и подчеркнуто
развеселился. (Обиженный слегка, он тут
же — петушком, наскакивал на обидчика,
но ежели обижали всерьез, «затыкал ду-
шу».)
Появилось пиво и даже немного вина, об-
щество оживилось, говорили и о стихах, но
не есенинских, как будто он только что не
прочел вслух лучшее из им написанного!
Клюев сидел молча и рано, часу в четвер-
том, ушел. Пообещав, правда, вернуться ве-
чером. Не вернулся. Не пришел и в субботу.
А Есенин все ждал... Разговоры вялые, бы-
товые: все больше о квартире да о журнале
(после того, как Шершеневич практически
отстранил его от составления и редактиро-
вания «Гостиницы для путешествующих в
прекрасном», мечта о собственном журна-
ле, где он был бы единоличным хозяином,
стала чем-то вроде идефикс. Больше того,
хотя Есенин по складу характера не
очень-то годился на роль главного редакто-
ра, литературная программа у него была и
вполне серьезная. Об этом свидетельствуют
его заметки 1925 года, и прежде всего от-
зыв на «Резолюцию ЦК РКП(б) о художест-
венной литературе»:
«...Не вполне ясен мне параграф 8 резолюции,
особенно вопрос о стиле и форме художественных
произведений и методах выработки новых худо-
жественных форм. Возьмем какую-нибудь груп-
пу. Предположим, крестьянских писателей. У
них общая идеология. Допустим даже, что общий
подход к работе. Но их произведения будут глубо-
ко разниться друг от друга. Так как у каждого бу-
дет свой стиль, своя форма, и чем крупнее дарова-
ние, — тем форма будет характернее. Поэтому
мне кажется, что вопрос о выработке новых лите-
ратурных форм — дело, касающееся исключи-
тельно таланта».
Время от времени, как вспоминали оче-
видцы, Сергей Александрович вскакивал и
отправлялся на поиски горячительного,
143
Русские писатели XX века
приносил в основном пиво, в праздники все
было закрыто, да и денег у него было не-
много, а к исходу субботы не осталось ни
копейки. В воскресенье пришлось просить
дворника, чтобы достал хотя бы несколько
бутылок.
Маяковский, как помните, предполо-
жил: «Может, окажись чернила в «Англе-
тере», вены резать не было б причины...»
Думаю, что «причина», точнее, повод (если
иметь в виду то конкретное бытовое обсто-
ятельство, которое, как это обычно и быва-
ет, усугубляя ситуацию, доводит ее до
крайней черты) — не отсутствие в номере
чернильницы и чернил, а отсутствие денег.
Ежели б вышло так, как Есенин и задумал,
то есть если бы он приехал в Ленинград с
большими деньгами, ни за что не провел бы
две страшные, одинокие ночи в гостинич-
ном номере наедине с собой и своими мыс-
лями, а прокутил бы по обыкновению все,
напролет, как бы рождественские и святоч-
ные праздники, а главное, свой юбилей, в
каком-нибудь из загородных ресторанов,
кормя и поя честную компанию до отва-
ла. Но денег не было не то что на вино, но
даже на пиво и «закусь»; «рождественский
гусь», которого Сергей Александрович, от-
правившись сразу же по приезде (24 дека-
бря) вместе с женой Устинова тетей Лизой
за покупками, сам выбрал и доставил в гос-
тиницу, был съеден, обглодан до последней
косточки. В воскресенье уже доедали гуси-
ные потроха. Безденежье абсолютное, когда
нет ни рубля на извозчика, ни медной мело-
чи на трамвай, превращало шикарный гос-
тиничный номер в тюремную клетку. Да,
народ шел, но какой народ! Он, Есенин, уже
несколько дней в Ленинграде, а никто из
крупных питерских литераторов так и не
удостоил его своим вниманием! Даже те,
кого он так яростно защищал на своих поэ-
тических вечерах и кто будет через не-
сколько дней изображать глубокую скорбь
над его гробом...
Павел Лукницкий, молодой в то время
филолог, единственный из свидетелей, кто
оставил в книге «Встречи с Анной Ахмато-
вой» подробное и на редкость нелицеприят-
ное описание событий, связанных со
смертью и похоронами Есенина, — все
остальные очевидцы отделались общими
словами искреннего сожаления:
«28.12.1925.
В 6 часов узнал по телефону от Фромана (сек-
ретарь Союза поэтов в 20-е годы. — А. М.), что се-
годня ночью повесился С. Есенин, и обстоятельст-
ва таковы: вчера Эрлих, перед тем, как прийти к
Фроману, был у Есенина, в гостинице «Angle-
terre»... Ничего особенного Эрлих не заметил — и
вчера у Фромана мы даже рассказывали анекдо-
ты о Есенине. Эрлих ночевал у Фромана, а сего-
дня утром пошел опять к Есенину. Долго стучал
и, наконец, пошел за коридорным. Открыли за-
пасным ключом дверь и увидели Есенина вися-
щим на трубе парового отопления. Он был уже
холодным. Лицо его — обожжено трубой (оттал-
кивая табуретку, он повис лицом к стене и при-
жался носом к трубе) и обезображено: поврежден
нос — переносица... Никаких писем, записок не
нашли. Нашли только разорванную на клочки
фотографическую карточку его сына. Эрлих сей-
час же позвонил Фроману. И тот сразу же явился.
Позже об этом узнали еще несколько человек —
Лавренев в том числе — и также пришли туда.
Тело Есенина было положено на подводу, покры-
то простыней и отправлено в Обуховскую больни-
цу, а вещи опечатаны... Я сейчас же позвонил в
несколько мест... Позвонил и Н. Тихонову — он
уже знал, но не с такими подробностями. Тихо-
нов расстроен, кажется, больше всех... Предпола-
гают, что ночью у Есенина случился припадок, и
не было около него никого, кто бы мог его удер-
жать, — он был один в номере».
«29.12.1925
В 9 часов утра меня поднял с постели звонок
ДА (Анны Ахматовой. — А. М.)... Расспросила
меня подробности о Есенине. Анну Андреевну
волнует его смерть. «Он страшно жил и страшно
умер»... Из разговора понятно было, что тяжесть
жизни, ощущаемая всеми и остро давящая куль-
турных людей, нередко приводит их к мысли о
самоубийстве. Но чем культурнее человек, тем
крепче его дух, тем он выносливее... Я применяю
эти слова прежде всего к самой АА. А вот такие,
как Есенин — слабее духом. Они не выдержива-
ют... А Есенина она не любила, ни как поэта, ни
как человека. Но он поэт и человек, и это много.
И когда умирает — страшно. А когда умирает та-
кой смертью — еще страшнее. И АА вспомнила
его строки:
Я в этот мир пришел,
Чтобы скорей его покинуть.
144
Сергей Александрович Есенин
(Лукницкий цитирует неточно: запом-
нившиеся Ахматовой строки Есенина зву-
чат так: Я пришел на эту землю, // Чтоб
скорей ее покинуть. — А. М.)
...Около 6 часов тело Есенина привезли в Союз.
В Союзе уже было полно народу... Гроб подняли
наверх... Несли Тихонов, Браун, я и много дру-
гих... Под звуки похоронного марша внесли и по-
ставили в большой комнате на катафалк. Откры-
ли. Я и Полонская1 положили в гроб приготовлен-
ные цветы. В течение часа, приблизительно, гроб
стоял так и вокруг него толкались люди. Было ти-
хо... Ощущалась какая-то неловкость — люди не
знали, что им нужно делать, и бестолково переми-
нались... Несколько человек были глубоко и иск-
ренне расстроены: Н. Тихонов, В. Эрлих, вероят-
но, Клюев: ... он... плакал, смотря в гроб... Перед
тем, как стали снимать маску, Толстая отрезала
локон у Есенина и спрятала его... Наконец маску
сняли с лица и с руки... Фотограф Булла, малень-
кий и вертлявый, поставил сбоку аппарат. Немед-
ленно с другой стороны появились лица — Ионо-
ва2, Садофьева3 и других. Всеволод4 стоял за моей
спиной, не попадая в поле зрения аппарата. Не-
медленно он стал протискиваться вперед — чтобы
сняться с остальными... Публика стала выкликать
имена тех, кто, по ее мнению, должен был сняться
с гробом. «Клюева! Клюева!» Клюев медленно про-
шел и встал на место. Вызвали Каменского, Шкап-
скую, Полонскую, Эрлиха, Тихонова...
Гроб вынесли на улицу... Я взял венок — их
всего два. На том, который взял я, была лента с
надписью: «Поэту Есенину от Ленинградского от-
деления Госиздата»... Поставили гроб на колесни-
цу и отправились в путь. От Союза пошло, на мой
взгляд, человек 200. Оркестр Госиздата плохонь-
кий и за всю дорогу сыграл три марша. Темный
вечер. Мокрый снег. Почти оттепель. Публика
спрашивает, кого хоронят; получив ответ «поэта
Есенина», присоединяются. Думаю, что к вокзалу
пришло человек 500. Вагон-теплушка стоит уже
на пути, отдельно... Ионов из вагона стал держать
речь. Прежде всего это было неуместно, а потом
уже плохо. За ним выступил Садофьев. Это уже
1 Полонская Елизавета Григорьевна — поэтес-
са, член группы «Серапионовы братья».
2 Ионов Илья Ионович — в 20-е годы заведую-
щий Петроградским отделением Госиздата.
3 Садофьев Илья Иванович — поэт, с 1924 по
1929 год — председатель Ленинградского отделе-
ния Всероссийского союза поэтов.
4 Рождественский Всеволод Александрович,
поэт, переводчик.
абсолютно плох... Потом стали тянуть за рукав
Н. Тихонова, чтобы он тоже сказал что-нибудь.
Тихонов едва открутился. Гроб привезли на вок-
зал в 8 часов. Поезд отходил в 11.15. вечера. Ор-
кестр ушел сразу же, толпа заметно уменьши-
лась... К 10 часам вечера на вокзале осталось че-
ловек 15 — Н. Тихонов, Шкапская, Толстая,
Садофьев, Эрлих, Полонская, Никитин с женой,
некий Соловьев из пролет, «стихотворцев», я —
вот почти все... Мы все собрались в буфете. Пили
чай и говорили. Тихонов рассказал, как на него
подействовало первое известие (по телефону)... В
газетах появилось уже много ерунды. Заговорили
об этом и решили, что необходимо сейчас же по-
ехать во все газеты, просмотреть весь материал на
завтра и выкинуть все неподходящее... Тихонов и
Никитин уехали. В 11 часов мы пошли к вагону.
В Москву с гробом едут Толстая, Наседкин, Са-
дофьев и Эрлих. Садофьеву Ионовым куплен би-
лет в мягком вагоне... Остальные в жестком бес-
плацкартном. Садофьев не догадался предложить
свое место Толстой... Наконец, поезд ушел. Я про-
тянул руку к проходящему вагону и прошуршал
по его стенке. Пошли домой: Шкапская, жена Ни-
китина, жена Садофьева, я и Соловьев. Больше
никого не было... Мы вместе ехали в трамвае... Из
всех провожавших (я не говорю об Эрлихе) боль-
ше всего были расстроены Тихонов и Никитины.
Жена Никитина — Зоя Александровна — моло-
дая, хорошенькая, принимала участие во всем,
хлопотала, устраивала гроб, цветы и т. д. Как-то
благоговейно все делала. Когда вагон должны бы-
ли запечатать, все вышли из вагона и остались по-
следними двое: я и она. Я хотел выйти последним,
но, заметив Никитину, я понял и вышел, и по-
следней из вагона вышла она*.
Процитированный отрывок требует не-
которых разъяснений.
Лукницкий сразу заметил, что Вольф
Эрлих, их общий с Есениным приятель,
как-то по-особенному расстроен случив-
шимся. В своих воспоминаниях, да и в раз-
говорах с Лукницким Эрлих умалчивает о
причине, по которой он в ту роковую ночь
оставил Есенина в номере одного; получает-
ся, будто потому только, что уж очень
«вдребезги» замучился, а кроме того, ре-
шил ночевать дома, чтобы с утра пораньше
отправиться на почту и получить наконец
по доверенности присланные Есенину день-
ги — гонорар из Госиздата. Однако, как
свидетельствует дневниковая запись Лук-
ницкого, сделал он это совсем по другой
145
Русские писатели XX века
причине, потому, что как раз на эту ночь
было заранее запланировано куда более
приятное мероприятие: вечеринка у Фро-
мана, в ту пору секретаря Союза поэтов, где
молодые люди вдосталь поразвлекались
анекдотами о Есенине — в присутствии и
при участии его ближайшего друга! И ноче-
вал он, естественно, не дома, а у Фромана...
Судя по тексту, Лукницкий ничего не знал
и о кровью написанном послании, которое
Есенин еще утром сунул Эрлиху в карман
пиджака, да еще и со словами: «Это тебе. Я
еще тебе не писал ведь? Правда... и ты мне
тоже не писал...» Как утверждает Вольф
Иосифович, эти стихи он прочел только
после смерти автора. Дескать, замотался и
начисто забыл. Может, и вправду забыл?
Но каким же нужно обладать равнодуш-
ным и черствым сердцем, чтобы даже не по-
интересоваться, что же такое особенное хо-
тел сказать Есенин, если ему для этого при-
шлось надрезать вену?
До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
А ведь Есенин и мысли не допускал, что
Эрлих... забыл. И когда тот, опаздывая на
вечеринку, ушел (в 8 вечера), но с дороги
вернулся, потому что второпях оставил в
номере портфель с доверенностью на полу-
чение денежного перевода. Вообразите со-
стояние Есенина... Ведь увидев вернувше-
гося приятеля, он наверняка подумал, что
тот наконец-то прочел написанные кровью
стихи. А оказалось... И все-таки он ждал —
еще ровно два часа, за эти два часа, по его
расчетам, Эрлих должен был прийти домой
и, впервые за день оставшись один (а имен-
но это было условием: «Останешься один —
прочитаешь»), прочесть стихи и, конечно
же, тут же кинуться на помощь!..
Ровно в десять Есенин спустился к
портье и попросил никого к нему в номер не
пускать. Впрочем, на Эрлихе был и еще
один грех: поддавшись уговорам и женским
слезам, он по недомыслию молодости устро-
ил Надежде Вольпин как бы случайное сви-
дание с Есениным. С Наденькой Вольпин,
начинающей поэтессой и младшей сестрой
давнего своего приятеля, у Сергея Алек-
сандровича был короткий безлюбовный ро-
ман (совсем такой, как в известных его сти-
хах: «наша жизнь поцелуй да кровать, на-
ша жизнь поцелуй и — в омут»). Девица,
однако, забеременела и, не сказавши об
этом ни Есенину, ни родным, родила. Есте-
ственно, ей очень хотелось, чтобы Сергей
Александрович хотя бы взглянул на ребен-
ка: а вдруг... Ведь все говорят, что сын
очень похож на отца! Есенин, как и следо-
вало ожидать, ощетинился, ведь он убежал
из Москвы, и от жены и от детей, чтобы на-
чать с чистой страницы новую жизнь, а тут
такое осложнение... Короче, трогательной
сцены не вышло, но, видимо, фотографию
маленького Александра Сергеевича Надеж-
да Давыдовна ему все-таки всучила. По
всей вероятности, именно об этой фотогра-
фии, разорванной в клочья, и идет речь в
дневнике Лукницкого («Никаких писем,
записок не нашли. Нашли только разорван-
ную на клочки фотографическую карточку
его сына»), поскольку рвать фотографии
других своих детей у Есенина не было при-
чины: перед отъездом он специально захо-
дил к ним, долго говорил с дочерью Татья-
ной, а Анну Романовну Изряднову даже
просил, что было совсем ей непривычно,
«беречь их сына».
Были особые причины для особого отно-
шения к случившемуся и у Николая Семе-
новича Тихонова. Хотя официально секре-
тарем Ленинградского отделения Союза
поэтов числился Фроман, а председателем
был Садофьев, неофициально его как бы
возглавлял Тихонов, и уже по одному этому
обязан был как-то прореагировать на появ-
ление Есенина — заехать в «Англетер», ос-
ведомиться о «дальнейших планах», хотя
бы позвонить... Ведь поэт приехал в Ленин-
град не на гастроли, а, что называется, на-
совсем. А кроме того, автор «Браги» и
«Баллады о гвоздях* был лично знаком с
Сергеем Александровичем и лучше многих
других, житейски более близких ему
людей, знал, как тяжко тому жилось. От-
казавшись от интервью ленинградским га-
зетчикам, Тихонов все-таки написал о ЕСе-
146
Сергей Александрович Есенин
нине — для сборника «Памяти Есенина»,
изданного в 1926 году Всероссийским сою-
зом поэтов:
«Нас разделял только маленький столик тиф-
лисского духана. Белое напареули кипело в ста-
канах. Мы сидели за столиком и разговаривали
стихами... Рядом торговцы баранов пропивали
стадо, и юная грузинка целовалась с духанщи-
ком. Воздух был пропитан теплотой вина и лета.
Я был рад, что линии наших странствий пересе-
кались в этом благословенном городе юга. Я лю-
бил этого вечного странника, пьяного от песен и
жизни, этого кудрявого путаника и мятежника...
Гуртовщики за соседним столиком чокнулись и
разбили стаканы. Осколки стекла, зазвенев, упа-
ли к ногам Сергея. И вдруг лицо его перемени-
лось. На юношеский лоб легла тень усталости,
огонек тревоги пробежал в его глазах. Он прервал
стихи и замолчал. Потом сказал, как бы нехотя и
подавив волнение напускной веселостью:
— Ты знаешь, я не могу спать по ночам. Пар-
шивая гостиница, клопы, духота. Раскроешь ок-
но на ночь — влетают какие-то птицы. Я сначала
испугался. Просыпаюсь — сидит на спинке кро-
вати и качается. Большая, серая. Я ударил ру-
кой, закричал. Взлетела и села на шкаф. Зажег
свет — нетопырь. Взял палку — выгнал одного,
другой висит у окна. Спать не дают. Черт знает —
окон раскрыть нельзя. Противно — серые они ка-
кие-то...
— Ну, бросим — давай пить.
Мы выпили и тоже бросили стаканы. Я засме-
ялся, но он отвел глаза. Я увидел его тревогу. Мы
обнялись и расстались.
Бедный странник знал не только скитания и
песни, серые птицы не давали ему спать и не
только спать, они волочили свои крылья по его
стихам, путали его мысли и мешали жить... И
никто никогда не узнает, какой страшный нето-
пырь, залетев в его комнату в северную длинную
ночь, смел начисто и молодой смех, и ясные гла-
за, и льняные кудри, и песни...»
Нет, не случайно Николай Семенович,
узнав о гибели Есенина, начал галлюцини-
ровать и снял с вешалки шубу, висевшую
в его спальне! Видимо, тоже почувство-
вал приближение того «хриплого», ночного
«ужаса», который, как писала Ахматова в
стихах на смерть Есенина, «как из губки»,
«выжимает» из сердца поэта жизнь... Кста-
ти, и об этом свидетельствуют дневниковые
записи все того же Лукницкого, это стихо-
творение написано задолго до 28 декабря
1925 года — Анна Андреевна читала его на
литературном вечере, организованном Сою-
зом поэтов 25 февраля 1925 года, то есть
тогда, когда поэт был жив, а Ахматова, рас-
сказывая Лукницкому о своих встречах с
ним, говорила о Есенине, что он «плохой
поэт*. Вышло, однако, так, как и предска-
зывала — себе — Ахматова: «Когда человек
умирает, изменяются его портреты...» Бу-
дучи в Москве, она навестила вдову Есени-
на и подарила Софье Андреевне автограф
этого стихотворения, собственноручно озаг-
лавив его — «Памяти Сергея Есенина*.
Считается, правда, что сделано это было из
цензурных соображений, чтобы отвести по-
дозрение, будто речь идет о расстрелянном
Гумилеве. Но, думается, в данном случае у
Анны Андреевны были совсем другие при-
чины для переадресовки: на смерть Нико-
лая Степановича она напишет другие сти-
хи, а в этом говорится о типичных для рос-
сийских поэтов судьбах. Впрочем, не
исключено, что ее могло поразить и то,
как удивительно совпали заключительные
строки стихотворения:
Иль хриплый ужас лапою косматой
Из сердца, как из губки, выжмет жизнь —
с тем, что написал Николай Тихонов о ноч-
ных ужасах Есенина. Если даже она не чи-
тала воспоминания Николая Семеновича
сама, их наверняка пересказал ей Павел
Лукницкий, который принимал активное
участие в устройстве поэтических вечеров,
посвященных памяти Есенина. В те месяцы
они много о нем говорили, и Анна Андреев-
на, увидев как-то на столе у Павла Никола-
евича стопку есенинских фотографий, кото-
рые тот вызвался продавать на одном из
благотворительных вечеров, тоже захотела
купить. Фото, сделанные известным фото-
графом Наппельбаумом, стоило дорого, у
Анны Андреевны денег не было даже на
папиросы и трамвай,, и Лукницкий пообе-
щал достать ей бракованную «забесплат-
но». А может, она и в самом деле почувство-
вала за напускной веселостью и даже раз-
вязностью Есенина в последнюю с ним
встречу летом 1924 года, когда он приходил
к ней в Фонтанный Дом и порывался читать
147
Русские писатели XX века
«стихи про кабацкую Русь», сжигающий
его жизнь хриплый ужас?!
О том, что после смерти Ширяевца (весна
1924 года) Есенин производил впечатление
человека, опаленного каким-то губитель-
ным внутренним огнем, свидетельствует и
«пролетарский» поэт Вл. Кириллов. Имен-
но в те месяцы Есенин, обычно не откровен-
ничавший с людьми из стана «железных
врагов», неожиданно признался ему: «Чув-
ство смерти преследует меня. Часто ночью
во время бессонницы я ощущаю ее бли-
зость... Это очень страшно... Тогда я встаю
с кровати, открываю свет и начинаю быстро
ходить по комнате, читая книгу...» В тот
же день, немало удивив автора, Сергей
Александрович прочел наизусть, ни разу не
сбившись, стихотворение Владимира Ки-
риллова «Мои похороны», а потом на ту же
тему — свое «На смерть Ширяевца».
«И ПРОСТИМ, ГДЕ НАС ГОРЬКО
ОБИДЕЛИ...»
♦Чувство смерти преследует меня»! И
единственный способ одолеть страшного
преследователя: быстрое движение. По
комнате, по городу, по стране... Запертый
безденежьем в четырех гостиничных сте-
нах, Есенин лишился последней возмож-
ности обороны! Николай Клюев, например
(в разговоре с писательницей Ольгой
Форш), утверждал, что именно в «Англете-
ре» при последнем свидании с «Сережень-
кой» почуял на его лице знак смерти! Клю-
ев, вспоминает Ольга Форш в мемуарной
книге «Сумасшедший корабль», выступал
на поминальном вечере с чтением «Плача
по Сергею Есенину*. Он вышел на сцену с
правом, властно, как поцелуйный брат,
пестун и учитель. Он разделил помин души
на две части. В первой — его встреча с юно-
шей-поэтом, во второй — измена этого юно-
ши и учителю, и себе самому. Голосом,
увертливым до сладости... сказал он свое
известие о том, как
С Рязанских полей коловратовых
Вдруг забрезжил коноплевый свет...
...Еще под обаянием песенной нежности
были люди, как Клюев вдруг подобрался,
как тигр для прыжка, и зашипел язвитель-
но, с таким древним накопленным ядом,
что сделалось жутко:
...На том ли дворе, на большом рундуке
Под заклятою черною матицей,
Молодой детинушка себя сразил...
Жуть на этом не кончилась. Сделав еще
один тигриный прыжок к рампе, «поми-
нальщик» стал «говорить уже не свои, а
есенинские стихи и не своим, а его голо-
сом — «надсадным, хриплым от хмеля»:
Ты, Рассея моя... Рассея...
Азиатская сторона!
За кулисами потрясенная Ольга Форш
спросила Клюева: «Как могли вы?..», и тот
объяснил: «Почто не слушал меня! Жил бы!
И ведь знал я, что так-то он кончит. В по-
следний раз виделись, знал — это прощаль-
ный час. Смотрю, чернота уж всего облепи-
ла... А уж если весь черный, так мудрому
отойти. А то на меня самого чернота его пе-
рекинуться может! Когда суд над человеком
свершается, в него мешаться нельзя. Я до-
мой пошел. Не спал ведь — плакал».
Совсем уж всерьез клюевские слова —
про «черноту» — принимать, разумеется,
не следует. Клюев — великий лицедей. Но,
видимо, что-то неладное — губительный
внутренний огонь? — он все-таки, как и
Анна Ахматова, и Владимир Кириллов, на-
верняка почуял, недаром же слыл «вторым
Распутиным» — «за колдующую силу зрач-
ков*. Разглядел «знак черной гибели» на
♦милом когда-то челе» и сказал человеку, у
которого ничего не осталось, кроме стихов,
что стихи его никуда не годятся! Да еще
прилюдно, а не с глазу на глаз. Есенин та-
кого по отношению к учителю себе никогда
не позволял! И последнюю смертную обиду
тоже простил:
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди...
148
Сергей Александрович Есенин
Ну а Клюев? В своей последней и самой
известной теперь поэме «Погорелыцина» он
повинился. Поэма и начинается с покая-
ния:
Вы же, кого я обидел
Крепкой кириллицей слов,
Как на моей панихиде,
Слушайте повесть о Лидде,
Городе белых цветов!
Несмотря на множественное число обра-
щения («вы же, кого я обидел»), поэтиче-
ское покаяние обращено прежде всего к
обиженному автором Есенину. Недаром его
вторым, Клюевым же данным именем —
«Белый цвет Сережа» — назван возведен-
ный в «Погорелыцине» город-рай, — чтобы
было куда «причалить* «отчалившей» (с
залитой кровью отцов и братьев земли) Го-
лубой Руси (см. у Есенина: «Не ты ли пла-
чешь в небе, отчалившая Русь?») И возве-
дена эта Лидда — город белых цветов, точь-
в-точь по есенинскому плану-«вавилону».
Есенин, «Ключи Марии»: «Рай в мужиц-
ком творчестве так и представляется, где
нет податей за пашни, где избы новые, ки-
парисовым тесом крытые».
Клюев, «Погорелыцина»:
Стена у города кипарисова.
Врата же из скатного бисера.
Избы во Лидде — яхонты,
Не знают мужики туги-пахоты.
Словом, в городе Белых цветов все, как в
есенинской стране Инонии — ино, то есть
хорошо и инако — не так, как на погорелой
земле...
Больше того, если внимательно вчитать-
ся в текст «Погорелыцины», нельзя не за-
метить, что по всему ее «пространству» рас-
сыпаны есенинские «имажи» и что самое
интересное — почти все они взяты из сти-
хов 1925 года, тех, о которых Клюев так яз-
вительно отозвался в трагическом декабре в
«прощальный час». Скажем, такой фраг-
мент:
Замирающих строк бубенцы!
Это последняя липа
С песенным сладким дуплом;
Знаю, что слышатся хрипы.
Дрожь и тяжелые всхлипы
Под милым когда-то пером!
За каждым из выделенных опорных слов
как бы спрятана, затаена есенинская стро-
ка или даже несколько строк:
Бубенцы
Колокольчик хохочет до слез...
...Зарыдали заливные бубенцы...
По равнине голой катится бубенчик...
Липа
Кажется мне — осыпаются липы,
Белые липы в нашем саду.
На этих липах не цветы —
На этих липах снег да иней.
Дрожь
И ничто души не потревожит,
И ничто ее не бросит в дрожь.
Звать любовью чувственную дрожь...
Всхлипы
А за окном под метельные всхлипы,
В диком и шумном метельном чаду...
Хрипы
Наклонились и хрипят: «Эх ты, златоглавый,
Отравил ты сам себя горькою отравой...»
Иногда Клюев цитирует Есенина и в бо-
лее развернутом, сразу узнаваемом виде.
Например.
Есенин:
Лестница к саду твоему
Без приступок.
Как взойду, как поднимусь по ней
С кровью на отцах и братьях?
Клюев:
Лидда с храмом белым,
Страстотерпным телом,
Не войти в тебя!
С кровью на ланитах
Сгинувших, убитых...
Примеры переклички Клюева с Есени-
ным можно множить и множить... Приведу
еще один, в самом жутком эпизоде «Пого-
релыцины» — в эпизоде Великого Глада. О
149
Русские писатели XX века
том, как «оскалилось людоедство на
сплошной недород у крестьян» («Страна
негодяев») Есенин не успел написать под-
робно и развернуто. Клюев написал, ис-
пользовав и заявку на тему, и сюжетный
ход из хрестоматийного есенинского стихо-
творения «Песнь о собаке*. В «Погорель-
щине», как и в «Песне...» лик луны похож
на убитого людьми детеныша, только не со-
бачьего, а человеческого. Озверев от голода,
мужики зарезали, освежевали и засолили
синеглазого Васятку. Подсобляла им и ста-
руха-соседка (замывала кровь «младеня»),
а как кончила приборку — завыла:
Ополночь бабкино страданье
Взошло над бедною избой
Васяткиною головой.
Образ Великой гари в «Погорельщине»
простому бытовому истолкованию, конеч-
но, не поддается. Однако некоторые сцены
«отменно знатной гари» написаны так ре-
алистично, что невольно задаешься вопро-
сом: уж не отталкивается ли автор трагиче-
ской поэмы о погибели земли русской от ка-
кого-то реального переживания? Сам
Клюев погорелыцины не пережил, но он на-
верняка слышал рассказы или Есенина,
или его сестер о страшном константинов-
ском пожаре в августе 1922 года. Во всяком
случае, описание утра после пожара в поэме
Клюева и соответствующий фрагмент в вос-
поминаниях младшей сестры Есенина похо-
жи чрезвычайно.
Клюев:
С зарей над сгинувшим погостом.
Рыдая, солнышко взошло
И по-надречью, по-над логом
Оленем сивым, хромоногим
Заковыляло на село...
По горенкам и повалушам
Слонялся одичалый сброд...
Александра Есенина:
«А на следующее утро, когда ночная прохлада
остудила раскаленную землю, с красными глаза-
ми от слез и едкого дыма, который еще просачи-
вался из недогоревших и потрескивающих бре-
вен, бродили по пожарищам измученные и поху-
девшие за одну ночь погорельцы, собирая
оставшийся после пожара железный лом... Хо-
зяйки разыскивали в стаде овец... собирали уце-
левших и сразу одичавших кур».
Пожары не были редкостью в родном се-
ле Есенина Константинове: слишком близ-
ко, впритык, стояли избы. Но гарь
1922 года была особой — выгорело более
двухсот построек. Погорели и Есенины.
Огонь стер с лица земли и дом детства поэ-
та, с чистой горенкой и голубыми ставня-
ми, и только-только заложенный его отцом
яблоневый сад. Уцелела лишь «повалу-
ша» — амбарчик на задах, где Сергей Алек-
сандрович обычно и спал, и работал, когда
приезжал в родную деревню; чудом спас-
лась и одна-единственная яблонька. Как
воспринял поэт известие о гибели старого
Константинова, мы не знаем, знаем только,
что, вернувшись из заграничного турне,
долго, почти год не появлялся на родине.
Уж не потому ли не ехал, что боялся уви-
деть пустое место вместо всего, что было
любимо? Есенин вообще вопреки расхоже-
му представлению о нем был скрытен и са-
мое больное и сокровенное держал при себе.
Но иногда, если заставали врасплох, приот-
крывал душу. Именно приоткрывал, а не
распахивал настежь. Ин. Оксенов вспоми-
нает, что в 1924 году в Ленинграде после
поэтического вечера он между прочим спро-
сил поэта, бывает ли тот в своей деревне,
видится ли с родителями. И Есенин, разго-
ряченный триумфальным успехом, ответил
неожиданно откровенно:
«Мне тяжело с ними. Отец сядет под де-
ревом, а я чувствую всю трагедию, которая
произошла с Россией...»
Трагедия, которая произошла с Россией...
Трагедия, которая произошла с Есениным...
В 1926 году эти две трагедии в сознании
автора «Плача по Сергею Есенину» еще не
пересеклись. Николай Клюев еще надеется,
что и от «злого Октября», и от людей «че-
ки» можно уберечься, спрятаться, забив-
шись в «книжный» или «медвежий угол*.
К 1928-му (год завершения «Погорель-
щины») они не только пересекались, но
связались тугим узлом, мертвой петлей, и
150
Сергей Александрович Есенин
Клюев написал как бы новый плач по Есе-
нину и по миру, из которого он пришел, и
спел его хотя и по-клюевски, но на есенин-
ский мотив:
За окном рябина,
Словно мать без сына.
Тянет рук сучье.
И скулит трезором
Мглица под забором —
Темное зверье...
★ ★ *
Ленинград, это явствует из дневниковых
записей Павла Лукницкого, простился с
Есениным, как если бы из этой жизни ушел
всего лишь бездомный литератор, отвергну-
тый советской новью — жалкий оркестр,
толпа зевак, дежурные протокольные речи
официальных лиц... Но пока спецвагон до-
бирался из слегка омраченного Ленинграда
до столицы, Россия опомнилась и осознала
величину и тяжесть утраты: в день похорон
на улицы вышла вся Москва! Газеты в не-
крологах еще затруднялись в выборе подхо-
дящего эпитета — кого, товарищи, хоро-
ним? Как обозначить литературный ранг
отошедшего: большой, талантливый или,
может, поскромнее: известный националь-
ный поэт?
Но траурный транспарант над Домом пе-
чати, где был установлен гроб с телом Сер-
гея Есенина, выражая мнение народное,
уже выбрал единственно верное слово:
ВЕЛИКИЙ.
Т. А. Сотникова
Владимир Владимирович
Маяковский
(1893-1930)
«Я — поэт. Этим и интересен. Об этом и
пишу. Об остальном — только если это от-
стоялось словом*.
Все, что может быть сказано о Маяков-
ском, может быть сказано только о поэте.
Не потому, конечно, что неважны его жиз-
ненные обстоятельства, а потому, что сло-
вом успело отстояться очень многое. Лиля
Юрьевна Брик, знавшая тончайшие оттен-
ки настроений и состояний Владимира Вла-
димировича, вспоминала: «Он не любил
разговаривать. Он всегда, ни на час не пре-
кращая, сочинял стихи. Вероятно, поэтому
так нерастраченно вошли в них его пережи-
вания».
Это свойство, присущее в общем-то каж-
дому поэту, у Маяковского было таким все-
объемлющим, что иногда думаешь: а мож-
но ли вообще сказать о нем больше, чем он
сказал о себе сам — стихами, то есть напря-
мую? И нужно ли это делать? Маяковский
не побоялся в рифмованных строчках рас-
топтать свою душу, «чтоб большую* и, «ок-
ровавленную», дать как знамя... И что в
сравнении с этим значат сведения о его бы-
товых привычках, или о его заграничных
поездках, или о выступлениях в огромных
аудиториях?
Но в то же время, как ни парадоксально,
именно Маяковский оказывается тем поэ-
том, о жизни которого, сколько ни расска-
жи, всегда будет сказано мало. Именно о
нем нужно говорить, оперируя лишь бес-
пристрастными биографическими факта-
ми, ибо к «окровавленным» душам непри-
ложимы никакие, а тем более кощунствен-
но-прямые оценки.
Самое главное все равно станет зримым,
видимым, оно проглянет сквозь перечень
дат и внешних событий, наполнив их той
внутренней силой, которая отличала Ма-
яковского при жизни.
«Можно много подобрать прилагатель-
ных для описания лица Владимира Влади-
мировича: волевое, мужественно-красивое,
умное, вдохновенное, — писала Лидия Сей-
фуллина. — Все эти слова подходят, не
льстят и не лгут, когда говоришь о Маяков-
ском. Но они не выражают основного, что
делало лицо поэта незабываемым. В нем
жила та внутренняя сила, которая редко
встречается во внешнем выявлении. Неос-
поримая сила таланта, его душа».
Это было то, с чем он родился и с чем по-
гиб.
ДЕТСТВО. ГРУЗИЯ. РЕВОЛЮЦИЯ
Владимир Владимирович Маяковский
родился 7 (19) июля 1893 года в Грузии, в
селе Багдади близ Кутаиси.
Отец его, потомственный дворянин Вла-
димир Константинович Маяковский, рабо-
тал лесничим. Мать, Александра Алексеев-
на, урожденная Павленко, вела хозяйство и
воспитывала детей. Владимир был млад-
шим сыном, кроме него в семье были стар-
шие дочери Людмила и Ольга. Еще один
сын Костя умер в трехлетием возрасте от
скарлатины.
Предки отца Маяковского были казака-
ми Запорожской Сечи, предки матери про-
исходили из Харьковской губернии и с Ку-
бани. Все они честно служили Отечеству на
152
Владимир Владимирович Маяковский
военной и статской службе. Маяковский от
матери знал о своем происхождении и ни-
когда не имел оснований его стесняться.
Впоследствии он написал об этом в стихо-
творении «Нашему юношеству»: «Я — де-
дом казак, другим — сечевик, а по рож-
денью грузин».
Старшая сестра В. Маяковского Людми-
ла Владимировна вспоминала об отце: «Вы-
сокий, широкоплечий, с черными волоса-
ми, зачесанными набок, с черной бородой,
загорелым, подвижным, выразительным
лицом. Огромный грудной бас, который це-
ликом передался Володе. Движения быст-
рые, решительные. Веселый, приветливый,
впечатлительный. Настроения сменялись
часто и резко. Отец обладал большим тем-
пераментом, большой и глубокой силой
чувства к детям — своим, чужим, к род-
ным, к животным, к природе... Отец был
слит с природой, он любил и понимал ее
всем своим существом».
Владимир Константинович свободно го-
ворил на грузинском, армянском и татар-
ском языках, был не только умен, но и ост-
роумен, легко находил общий язык с людь-
ми, независимо от их происхождения, и
пользовался общим уважением. Ему был в
высшей мере присущ демократизм и то са-
моощущение, которое Пастернак называл
дворянским чувством равенства всем живу-
щим. Все дети Владимира Константинови-
ча прекрасно говорили по-грузински.
Сын похож был на отца сложением и ма-
нерами, лицом же удался в мать. Александ-
ра Алексеевна умела смягчить горячность
отца, создать в семье обстановку спокойст-
вия и такта, столь необходимую для воспи-
тания детей.
Первые семь лет жизни Маяковского
прошли в селе Багдади. Здесь кроется то,
что сам он впоследствии назвал «корнями
романтизма». И это неудивительно: яркая,
ликующая грузинская природа располага-
ла к сильным чувствам.
Раз в год арбы с виноградом подъезжали
к дому, в первом этаже которого находился
винный заводик, и дети пили маджари —
свежий виноградный сок. А сам дом, во вто-
ром этаже которого жили Маяковские, был
расположен на территории старинной гру-
зинской крепости — с накатами для пушек
на крепостном валу, с бойницами. Горы
снижались к северу, в разрыве гор чудилась
большая Россия, и туда, признавался по-
зднее Маяковский, его, впечатлительного
мальчика, «невероятнейше» тянуло.
И вместе с тем уже тогда, в живописном
Багдади, Маяковский на всю жизнь приоб-
рел отвращение к тому, что принято назы-
вать «поэтичностью»: ко всему, что сущест-
вует только в стихах, никогда не встречаясь
в жизни. Может быть, это произошло пото-
му, что жизнь, рукотворная и нерукотвор-
ная, вмещала в себя гораздо больше... С се-
ми лет отец брал сына на ночные верховые
объезды лесничества. Во время одного из
таких объездов мальчик увидел внизу, в не-
ожиданно расступившемся тумане, элект-
рические огни клепочного завода, которые
показались ему ярче южного неба.
Читать он начал в шесть лет, притом сра-
зу, без специального обучения по азбуке.
Правда, первый собственный читательский
опыт оказался неудачным: Володе попалась
книжка под названием «Птичница
Агафья», и он чуть было не охладел к чте-
нию. К счастью, вторая книга, «Дон Ки-
хот», привела мальчика в восторг, не пока-
завшись ни сложной, ни скучной. Его инте-
ресу к чтению удивляться не приходилось:
семья была интеллигентной, выписывались
журналы — «Нива» с приложениями клас-
сиков, «Юный читатель», «Родина» с юмо-
ристическим приложением, «Вокруг све-
та». Летом в доме Маяковских обычно оста-
навливались приехавшие на каникулы
студенты. Здесь читались стихи, многие из
которых — Майкова, Глинки, Пушкина,
Лермонтова — Володя знал наизусть.
Жизнь в маленьком горном селе имела
единственный недостаток: взрослея, дети
не могли учиться дома. Старшие дочери
Людмила и Ольга учились в Тифлисе, в за-
крытом учебном заведении. В 1901 году,
когда пришло время готовиться в гимназию
Володе, Александра Алексеевна переехала
с сыном в Кутаис. В здешнюю гимназию
была переведена и Оля. Владимир Констан-
153
Русские писатели XX века
тинович не мог покинуть место службы и
остался в Багдади один.
В 1902 году Володя успешно выдержал
вступительные экзамены в старший приго-
товительный класс Кутаисской гимназии.
Во время экзамена произошел забавный
эпизод. Священник спросил, что такое
«око». Мальчик ответил: «Три фунта», —
имея в виду грузинское значение слова, и
едва не провалил экзамен. Узнав древнее
церковно-славянское значение, он «возне-
навидел сразу — все древнее, все церковное
и все славянское».
Произошло в то время и еще одно собы-
тие, наложившее отпечаток на всю даль-
нейшую жизнь поэта. Воду в Кутаисе, за
отсутствием водопровода, брали из реки
Рион. Вероятно, напившись где-то некипя-
ченой воды, сразу после экзаменов Володя
заболел брюшным тифом. Болезнь проте-
кала тяжело, почти все лето он провел в
постели. Скорее всего именно тогда он при-
обрел то свое качество, которое стало впос-
ледствии притчей во языцех: почти мани-
акальную чистоплотность и брезгливость.
Много лет спустя, в 1926 году, будучи
уже прославленным поэтом, Маяковский
приехал с выступлениями в Ростов-на-До-
ну. За несколько месяцев до его приезда в
городе прорвались и каким-то образом со-
единились канализационные и водопровод-
ные трубы. «Можешь себе представить, что
я делал в Ростове! — писал Маяковский Ли-
ле Брик. — Я и пил нарзан, и мылся нарза-
ном, и чистился — еще и сейчас весь шип-
лю».
Буквально все, знавшие Владимира Вла-
димировича, приводят множество свиде-
тельств его фантастической осторожности
во всем, что касалось чистоты воды, посу-
ды, рук и т. п. Во время общих застолий он
нередко ставил свой бокал на шкаф, чтобы
никто по рассеянности не отпил из него гло-
ток. Он терпеть не мог рукопожатий и все-
гда носил при себе мыло. Михаил Зощенко
вспоминал, как, ужиная в ресторане, Ма-
яковский тщательнейшим образом проти-
рал за столом свой прибор.
А санитарные плакаты 1929 года! «Това-
рищи люди, на пол не плюйте»; «Не выти-
райся полотенцем чужим, могли и больные
пользоваться им»; «Долой рукопожатия!
Без рукопожатий встречайте друг друга и
провожайте»...
Как все у Маяковского, это не было толь-
ко лишь бытовой особенностью. Не случай-
но даже в последней поэме «Во весь голос»
появились строки:
И кроме
свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо.
Быт переходил в поэзию не потому, что
Маяковский ставил перед собою такую поэ-
тическую задачу, а потому что он вообще не
делал в жизни ничего такого, что не затра-
гивало его душу.
Учился Володя хорошо, в классе шел
первым, поражал знакомых своим разви-
тием и знаниями. Он любил Жюля Верна,
вообще фантастику. Читал все газеты и
журналы, которые выписывались дома:
«Русские ведомости», «Русское слово»,
«Русское богатство» и другие. Задавал па-
радоксальные вопросы. Спрашивал, напри-
мер, учителя закона Божьего: если змея
после проклятия начала ползать на животе,
то как она ходила до проклятия?
Сестра Людмила, окончив гимназию,
преподавала в городской школе и брала
уроки рисования у художника С. Красну-
хи. Володя в то время с увлечением рисовал
крейсера и карикатуры, и Людмила показа-
ла своему учителю его рисунки. С.Краснуха
стал заниматься с Володей бесплатно, хва-
лил его способности и считал, что мальчик
обязательно будет художником.
С началом русско-японской войны обста-
новка в обществе стала более напряженной.
Появились прокламации, начались полити-
ческие преследования революционно на-
строенных людей. Собственное настроение
того времени Маяковский впоследствии
определял как «безотчетную взвинчен-
ность».
В 1905 году сестра Людмила уже учи-
лась в Москве в Строгановском художест-
венно-промышленном училище. Во время
первой русской революции она привозила
154
Владимир Владимирович Маяковский
из столицы «нелегальщину», тайком дава-
ла читать младшему брату, который вос-
принимал прокламации восторженно: «Это
была революция. Это было стихами. Стихи
и революция как-то объединились в голо-
ве».
Революционные события — забастовки,
демонстрации и митинги, волнения в учеб-
ных заведениях — происходили и в Кута-
исе. Володя забросил учебу, полностью по-
грузился в революционную жизнь, которая
поразила его яркостью проявлений челове-
ческой натуры. Это было заметно даже
внешне и воспринималось живописно: на
демонстрациях анархисты были в черном,
эсеры в красном, эсдеки в синем, а федера-
листы в остальных цветах. Володя отнес в
социал-демократический комитет отцов-
ские казенные ружья, принял участие в де-
монстрации протеста, которая была устро-
ена в связи с убийством в Москве Н. Баума-
на, восхищался «Песней о Буревестнике»
Горького, экономическими брошюрами Эн-
гельса, Либкнехта и других социалистов.
Двенадцатилетнего мальчика ввели в марк-
систский кружок, и его «на всю жизнь по-
разила способность социалистов распуты-
вать факты, систематизировать мир*. Лас-
саль соединился в его воображении с
Демосфеном. Володя уходил на реку Рион
и, подобно Демосфену, набрав в рот камеш-
ки, произносил пламенные речи.
1906 год начался горестным событием:
19 февраля умер отец. Владимир Констан-
тинович очень радовался переводу из Баг-
дадского в Кутаисское лесничество: нако-
нец у него появлялась возможность жить
вместе с семьей. Готовясь к отъезду и пере-
даче дел, он сшивал бумаги, уколол палец
ржавой иглой, но не придал значения этой
мелочи. Когда спохватились и попытались
принять меры, было уже поздно: смерть на-
ступила от заражения крови.
Образ отца, потерянного в отрочестве,
вошел в поэму «Человек», которую Ма-
яковский написал в 1917 году. Главный ге-
рой, поэт, вознесенный на небо, чувствует
тоску и сердечный шум. Он начинает вгля-
дываться в далекую землю — и вдруг видит
рядом с собою отца.
Рядом отец.
Такой же.
Только на ухо больше туг,
да поистерся
немного
на локте
форменный лесничего сюртук.
Так Владимир Константинович Маяков-
ский во всей реальности своего земного об-
лика стал частью символической картины
мироздания в поэме своего гениального сы-
на.
И прежде не выглядевший ребенком, по-
теряв отца, Володя повзрослел еще больше.
После похорон у матери осталось три руб-
ля. Александра Алексеевна распродала ве-
щи и вместе с сыном и младшей дочерью от-
правилась в Москву. Из житейских обсто-
ятельств на это решение могло повлиять
только то, что в столице училась Людмила.
Другие причины отъезда были скорее всего
безотчетны: родственники жили в Тифлисе,
в Москве у Маяковских не было даже близ-
ких знакомых, они не могли рассчитывать
на чью бы то ни было поддержку. Может
быть, на их решение повлияли рассказы от-
ца о Москве: всего два года назад Владимир
Константинович отвозил в столицу стар-
шую дочь и по возвращении домой был по-
лон впечатлений...
Во всяком случае, переезд состоялся.
МОСКВА. МАРКСИЗМ. ИСКУССТВО
Как только в Москве сняли квартиру на
углу Козихинского переулка и Малой Брон-
ной, Александра Алексеевна сразу отправи-
лась в Петербург хлопотать по денежным
делам: Владимир Константинович прорабо-
тал в лесничестве семнадцать лет, но вы-
слуги лет не хватало, поэтому пенсия семье
была назначена мизерная. Поездка матери
увенчалась успехом, но и при пятидесяти
рублях в месяц семья была очень стеснена в
средствах.
Маяковский поступил в четвертый класс
Пятой классической гимназии на углу По-
варской и Большой Молчановки и вместе с
сестрой Олей стал посещать вечерние курсы
при Строгановском училище. В то время он
155
Русские писатели XX века
увлекался не только рисованием, но и кине-
матографом, на который, правда, не хвата-
ло денег. Чтобы раздобыть средства, он
вместе с приятелем Сергеем Медведевым
продавал букинистам старые ноты. Зарабо-
танные деньги шли в «фонд кинематогра-
фа».
Любил Маяковский и музыку, особенно
арию князя Игоря из оперы Бородина, ро-
манс Шумана на стихи Гейне, русские пес-
ни и частушки.
По словам С. Медведева, гимназия ни-
сколько не увлекала Маяковского: он вы-
глядел значительно старше своих сверстни-
ков и физически, и духовно, при этом был
довольно замкнут, не участвовал в различ-
ных юношеских увлечениях приятелей,
сильнейшим из которых было сочинитель-
ство наивно-романтических стихов в подра-
жание символистам. Первые поэтические
опыты — два стихотворения, написанные
для гимназического журнала «Порыв» из
желания доказать, что он может это сде-
лать не хуже других, — показались Ма-
яковскому безобразными и были заброше-
ны.
Из-за постоянного отсутствия денег всем
членам семьи приходилось работать. Люд-
мила получала в магазине Дациаро деше-
вые, но регулярно оплачиваемые заказы на
выжигание и разрисовку деревянных пас-
хальных яиц, шкатулок. Эта работа произ-
вела на Маяковского однозначное впечатле-
ние: «С тех пор бесконечно ненавижу Бе-
мов, русский стиль и кустарщину».
Александра Алексеевна стала сдавать од-
ну комнату из трех. Жильцами были сту-
денты, в основном грузины — как боль-
шинство тогдашних студентов, революци-
онно настроенные. Четырнадцатилетний
Маяковский присутствовал при их разгово-
рах, чтении листовок и прокламаций, ле-
гальных и нелегальных книг. Он снова ока-
зался в той среде, в которую впервые попал
в Кутаиси в 1905 году. Можно себе предста-
вить, какое сильное впечатление на него,
человека юного, незаурядного, внутренне
еще не проявленного, самому себе непонят-
ного, — производили страстные разговоры
о народном счастье, о помощи угнетенным,
о возможности изменить мир на началах
справедливости... Вскоре Маяковский втя-
нулся в революционное движение, в конце
1907 года вступил в Российскую социал-де-
мократическую рабочую партию (больше-
виков).
Начало пропагандистской работы среди
булочников, сапожников и типографщиков
совпало с его отчислением из гимназии за
неуплату. Тогда, в 1908 году, Маяковский
уже чувствовал себя совершенно самостоя-
тельным и взрослым человеком; все знав-
шие его в то время подтверждают это впе-
чатление. Окружающим бросалась в глаза
его вдумчивая замкнутость — едва ли про-
исходящая только оттого, что он был погру-
жен в партийную работу.
Впрочем, никаких книг, кроме маркси-
стских, экономических, Маяковский тогда
не признавал. Внутреннее, духовное его
развитие шло какими-то иными, не книж-
ными путями, притом шло параллельно с
революционной деятельностью. Он узнавал
Москву и живущих в ней людей; москов-
ская топография вплеталась в жизнь юного
партийца. Филеры, приставленные к Ма-
яковскому для наружного наблюдения,
скрупулезно фиксировали все его маршру-
ты, даже не связанные с партийной рабо-
той: Страстная, Сухаревская, Трубная пло-
щади; Даев, Лихов, Козихинский, Оружей-
ный переулки; Бутырская застава; ули-
цы Долгоруковская, Садовая-Триумфаль-
ная, Никольская, Тверская, Малая Спас-
ская, Большая и Малая Дмитровка; Твер-
ской, Страстной и Цветной бульвары...
Может быть, именно тогда закладыва-
лись основы внутреннего единства Маяков-
ского с Москвой, которое много лет спустя
подметил Борис Пастернак:
«Ночами она (Москва. — Т. С.) казалась выли-
тым голосом Маяковского. То, что в ней твори-
лось, и то, что громоздил и громил этот голос, бы-
ло как две капли воды. Но это не было то сходст-
во, о котором мечтает натурализм, а та связь,
которая сочетает воедино анод и катод, художни-
ка и жизнь, поэта и время».
Маяковский полюбил Москву настолько,
что в 1910 году, выйдя из Бутырской тюрь-
156
Владимир Владимирович Маяковский
мы после одиннадцати месяцев одиночной
камеры, едва забежав домой, тут же отпра-
вился в город, по которому успел соску-
читься не меньше, чем по матери и сестрам.
«Помню один его рассказ о том, как он, выйдя
из тюрьмы, где просидел с лета до крутых моро-
зов... побежал осматривать Москву. Денег на
трамвай не было, теплого пальто не было, было
только одно огромное, непревзойденное и неукро-
тимое желание снова увидеть и услышать город,
жизнь, многолюдство, шум, звонки конки, свет
фонарей. И вот в куцей куртке и налипших сне-
гом безгалошных ботинках шестнадцатилетний
Владимир Владимирович Маяковский совершает
свою первую послетюремную прогулку по Моск-
ве, по кольцу Садовых...» (Н. Асеев.)
Это было после третьего ареста. Первые
два, в 1908 году, окончились благополучно.
Хотя Маяковского и задерживали на неле-
гальных квартирах, но вина его тогда не
была доказана, и его отпускали на поруки
матери. Третий арест, 2 июля 1909 года,
произошел по подозрению в помощи полит-
каторжанкам, бежавшим из женской Но-
винской тюрьмы. (Помощь действительно"
оказывалась: в квартире Маяковских шили
платья дле революционерок, смолили кана-
ты для их побега.)
В момент ареста на явочной квартире
Маяковский пытался отшутиться, сказав
приставу, составлявшему протокол: «Я,
Владимир Маяковский, пришел сюда по
рисовальной части, отчего я, пристав Ме-
щанской части, нахожу, что Владимир Ма-
яковский виноват отчасти, а посему надо
разорвать его на части». Это первый из до-
шедших до нас его бесчисленных и блиста-
тельных экспромтов.
Однако одиннадцать месяцев в одиноч-
ной камере номер 103 Бутырской тюрьмы
оказались нешуточным испытанием. И да-
же не потому, что пришлось оставить учебу
в приготовительном классе Строгановского
училища.
Направленная вовне активность была на
время исключена, партийная деятельность
невозможна. На невыносимо долгий для
юности срок будущий поэт остался наедине
с самим собой. «Важнейшее для меня вре-
мя, — написал он много лет спустя. — По-
сле трех лет теории и практики — бросился
на беллетристику. Перечел все новейшее.
Символисты — Белый, Бальмонт. Разобра-
ла формальная новизна. Но было чуждо.
Темы, образы не моей жизни. Попробовал
сам писать так же хорошо, но про другое.
Оказалось так же про другое — нельзя».
Это открытие, сделанное поэтом в самом
начале творческого пути, определило всю
его жизнь. В тюрьме Маяковский начал пи-
сать стихи, тетрадку с которыми отобрали
при освобождении. В тетрадке остались
строки:
В золото, в пурпур леса одевались,
Солнце играло на главах церквей.
Ждал я: но в месяцах дни потерялись,
Сотни томительных дней.
В Бутырке были прочитаны Байрон,
Шекспир, Толстой — «так называемые ве-
ликие». Юноша вышел из тюрьмы взбудо-
раженным. Он чувствовал в себе «правиль-
ное отношение к миру» и полное отсутствие
опыта в искусстве. Перед ним встала ди-
лемма: продолжать партийную работу, то
есть перейти на нелегальное положение и
оставить мысли об учебе, или отдать все си-
лы искусству, к которому он теперь совер-
шенно отчетливо чувствовал себя призван-
ным. Хотя, наверное, по-настоящему выбо-
ра-то и не было (не случайно Маяковский в
автобиографии называет все это «так назы-
ваемой дилеммой»): слишком мощным, не-
отменимым было стремление к творчеству,
которое он в себе ощутил...
Выбор был сделан в пользу искусства —
в то время живописи. В 1910 году Маяков-
ский начал готовиться к поступлению в
Училище живописи, ваяния и зодчества —
единственное учебное заведение, в которое
принимали без свидетельства о благонадеж-
ности. (Маяковский был освобожден из
тюрьмы как несовершеннолетний. Благода-
ря этому обстоятельству, незначительности
улик против него и хлопотам матери он из-
бежал ссылки в Нарым.) Он поступил уче-
ником в мастерскую П. И. Кел ина — пре-
красного художника и талантливого педа-
гога.
157
Русские писатели XX века
Интересно, что оба, учитель и ученик, не
только сразу прониклись глубокой взаим-
ной приязнью, но и отметили друг в друге
то парадоксальное сочетание противопо-
ложных черт характера, которое присуще
только художникам в широком смысле
этого слова. «Твердый. Меняющийся», —
написал о Келине Маяковский. Петр Ива-
нович же заметил, что в лице семнадцати-
летнего юноши свобода и открытость соеди-
няются с застенчивостью.
Учеба у Келина была прекрасной шко-
лой, хотя в первый год Маяковский не по-
ступил в училище. Зато он научился не сле-
довать шаблону, приобрел индивидуаль-
ность живописной манеры. Петр Иванович
любил своего ученика настолько, что про-
щал ему многие дерзости: чувствовал, что
идут они от юношеского стеснения собст-
венных чувств, тщательно скрываемой
любви, нежелания обнажать душу. Трудно
представить, чтобы кто-нибудь из бесчис-
ленных критиков «язвительного», «резко-
го» Маяковского написал о нем с такой по-
нимающей, мудрой и прощающей лю-
бовью, как Кел ин:
«Помню, после похорон (художника Серо-
ва. — Т. С.) говорю ему:
— Я вам очень благодарен, что вы так хорошо
отнеслись к Серову.
А он в ответ:
— Подождите, Петр Иванович, вас мы еще не
так похороним.
Он ко мне замечательно относился*.
Петр Иванович умел замечать и запоми-
нать в человеке самое существенное. В его
воспоминаниях зафиксирована фраза, ко-
торая помогает понять природу творчества
Маяковского:
«Он был очень интуитивный человек. Всегда
говорил:
— Ах черт, факты! Что вы мне факты суете,
вы должны сами чувствовать, что правда, а что
неправда. Придумайте что-нибудь сами, и это бу-
дет правдиво».
Эти слова семнадцатилетнего юноши
звучат как ответ, заранее данный тем, кто
считал, будто Маяковский всего лишь пере-
делывает газетные факты в стихи.
В 1911 году Маяковский выдержал всту-
пительные экзамены и был принят в фигур-
ный класс Училища живописи, ваяния и
зодчества. В первых числах сентября он по-
знакомился с учившимся здесь же Давидом
Бурлюком. Знакомство, начавшееся с язви-
тельной пикировки, вскоре перешло в
дружбу и оказало огромное влияние на Ма-
яковского.
«Бурлящий Давид» был старше своего
молодого друга и уже приобрел известность
как художник и поэт. Он принимал участие
в выставках «новой живописи», вместе с
Велимиром Хлебниковым и Василием Ка-
менским организовал группу «будетлян»
(фактически — футуристов) и в 1910 году
выпустил первый будетлянский сборник
«Садок судей», наделавший много шума в
литературном мире.
Но главным в нем была страстная лю-
бовь к искусству. Бурлюк за версту чувст-
вовал талантливых людей и тут же вовле-
кал их в орбиту своей бурной творческой
деятельности. Узнав, что Маяковский не
бывал в Петербурге, он немедленно повез
его туда. Во время этой поездки Маяков-
ский представил на выставке «Союза моло-
дежи» написанный им портрет и познако-
мился с Велимиром Хлебниковым. Десять
лет спустя в статье на смерть Хлебникова
Маяковский напишет: «Его биография —
пример поэтам и укор поэтическим дель-
цам», — и назовет его «великолепнейшим и
честнейшим рыцарем в нашей поэтической
борьбе».
ПЕРВАЯ ПОЩЕЧИНА ОБЩЕСТВЕННОМУ
ВКУСУ
Февраль 1912 года начался знаменатель-
ным событием. Бурлюк и Маяковский по-
шли на фортепианный концерт в Благород-
ное собрание, в котором Кусевицкий испол-
нял «Остров смерти» Рахманинова. Это
произведение показалось Маяковскому не-
выносимо скучным, он ушел с концерта, и
Бурлюк последовал за ним. Они всю ночь
бродили по московским улицам, говорили о
«классической скуке» и думали о будущем.
Из этого разговора, как вспоминал потом
158
Владимир Владимирович Маяковский
Маяковский, родился российский футу-
ризм.
Но этот ночной разговор имел еще одно
последствие. Днем Маяковский написал
стихотворение. Он счел написанное «пло-
хими кусками», но все же прочитал Бурлю-
ку — уже следующей ночью, на Сретенском
бульваре, сказав, что это написано «одним
знакомым». Однако обмануть проницатель-
ного Бурлюка было невозможно. Он тут же
догадался, кто является автором стихов, и
уже назавтра утром, знакомя с кем-то Ма-
яковского, представил: «Мой гениальный
друг. Знаменитый поэт Маяковский».
«Знаменитому» волей-неволей пришлось
подтверждать эти слова... Так было написа-
но первое стихотворение «Утро» («Багро-
вый и белый»), которое Маяковский ре-
шился напечатать.
Конечно, история о том, что Маяковский
начал писать стихи, чтобы оправдать ожи-
дания Бурлюка, — полушутка. Кстати, по
воспоминаниям самого Бурлюка, стихи бы-
ли написаны и прочитаны Маяковским не
назавтра после февральского концерта Ку-
севицкого, а только осенью. Но то, что Бур-
люк оказался первым, кто вселил в молодо-
го поэта столь необходимую уверенность в
собственных силах, — чистая правда и в
этом самая великая заслуга Бурлюка перед
русской литературой.
«Всегдашней любовью думаю о Давиде, —
признавался впоследствии Маяковский. — Пре-
красный друг. Мой действительный учитель.
Бурлюк сделал меня поэтом. Читал мне францу-
зов и немцев. Всовывал книги. Ходил и говорил
без конца. Не отпускал ни на шаг. Выдавал еже-
дневно 50 копеек. Чтобы писать не голодая».
В феврале состоялось первое публичное
выступление Маяковского на диспуте о сов-
ременном искусстве, устроенном обществом
художников «Бубновый валет*. А его пер-
вые поэтические выступления проходили в
номерах на Малой Бронной, где жили сту-
денты консерватории и училища живопи-
си. Затем — снова поездка в Петербург, чте-
ние стихов в знаменитом артистическом
подвале «Бродячая собака*. Молодого поэ-
та встречали аплодисментами.
1912 год завершился написанием мани-
феста футуристов, его авторами стали Ма-
яковский, Хлебников, Бурлюк и Круче-
ных. Манифест назывался «Пощечина об-
щественному вкусу» и по тому эффекту,
какой он произвел в обществе, полностью
соответствовал своему названию. Манифест
вышел в одноименном альманахе, там же
были напечатаны стихи Маяковского «Ут-
ро» и «Ночь*. Так состоялось его первое вы-
ступление в печати.
Рецензии на сборник «Пощечина обще-
ственному вкусу» были резко отрицатель-
ные. Один только Валерий Брюсов отметил
в газете «Русская мысль», что в стихах Ма-
яковского содержится «новый прием выра-
зительности в поэзии».
На Рождество и Святки Давид Бурлюк
повез своего друга в имение Маячка Хер-
сонской губернии, где его отец был управ-
ляющим. Новый год начался весело: был
устроен домашний театр, Маяковский иг-
рал Яичницу из гоголевской «Женитьбы».
1913 год вообще стал для Маяковского
необыкновенно насыщенным и, согласно
его собственному определению, «веселым
годом».
По словам одного из футуристов, поэта
Бенедикта Лившица, двадцатилетний Ма-
яковский напоминал участника разбой-
ничьей шайки или анархиста-бомбометате-
ля: плохая одежда, плохие зубы (зубные
проблемы преследовали его всю молодость),
вызывающие манеры. Вдобавок к этому —
громадный рост и голос, как тромбон. Но
Лившиц заметил в развязном юноше и не-
что совсем другое: «Однако достаточно бы-
ло заглянуть в умные, насмешливые глаза,
отслаивавшие нарочито выпячиваемый об-
раз от подлинной сущности его носителя,
чтобы увидать, что все это — уже поднадо-
евший «театр для себя», которому он, Ма-
яковский, хорошо знает цену и от которого
сразу откажется, как только найдет более
подходящие формы своего утверждения в
мире*. Проницательный и тонкий человек,
Лившиц разглядел в эпатирующем публику
молодом поэте то, что многие не хотели за-
мечать в нем даже в зрелые годы: вдумчи-
вость, стыдливую сдержанность, которая
159
Русские писатели XX века
происходила от предельной честности в по-
ведении, в выборе каждого слова.
Во всех футуристских сборниках (второй
альманах «Садок судей», альманахи «Треб-
ник троих» и «Дохлая луна») публикова-
лись новые стихи Маяковского: «А вы мог-
ли бы?», «Вывескам», «Заженщиной», «От
усталости», «Шумики, шумы и шумищи»,
«Адище города» и другие. В большинстве
этих стихов создавался образ современного
города, выросшего из мирового хаоса, унич-
тожающего человека.
В течение всего года Маяковский актив-
но участвовал в литературных диспутах в
Москве, Петербурге, Киеве, Харькове как с
полемическими экспромтами, так и с про-
граммными докладами. Один из докладов
под названием «Пришедший сам» состоял-
ся в Троицком театре Петербурга. Перепол-
ненный зал, по отчету газеты «Речь», был
«раздираем страстями». Подобная атмосфе-
ра сопровождала публичные выступления
Маяковского всю его жизнь.
В 1913 году неизменной частью внешне-
го облика Маяковского стала знаменитая
желтая кофта, сшитая сестрой из дешевого
кашемира, который обычно шел на флаги.
Причина появления кофты еще до того, как
поэт понял, что это одеяние может служить
прекрасным средством издевательства над
самодовольной буржуазной публикой, была
банальна: отсутствие денег на приличный
костюм.
Обладая отличным вкусом, Маяковский
всю жизнь любил хорошую, добротную
одежду. И это было одним из поводов для
шпилек в его адрес: дескать, прославляет в
агитках одежду из ГУМа, а сам предпочита-
ет одеваться за границей, каждый день ме-
няет галстук... Что ж, печальное несоответ-
ствие желаемого и действительного выра-
жалось и таким образом. Наступая на горло
собственной песне, Владимир Владимиро-
вич, наверное, все-таки не смог заставить
себя надеть плохой пиджак только потому,
что он сшит отечественными пролетария-
ми...
О желтой кофте исчерпывающим обра-
зом сказал сам Маяковский в поэме «Обла-
ко в штанах»:
Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть:
«Пейте какао Ван-Гутена!»
Этими словами он объяснил не только
желтую кофту, но и бесчисленные свои
агитки, плакаты, призывы — все эти мно-
готомные «пейте», «ешьте», «надевайте»,
«не плюйте», за которые он был ненавидим
любителями единственного лозунга в ис-
кусстве: «Сделайте нам красиво». Маяков-
скому всю жизнь было что укутывать от ос-
мотров и зубы эшафота он чувствовал по-
стоянно...
В 1913 году полиция получила распоря-
жение не пускать Маяковского в места пуб-
личных сборищ, если он окажется одет в
неприличную желтую кофту. Корней Чу-
ковский вспоминал, как самолично проно-
сил в Политехнический музей на свою же
лекцию «Искусство грядущего дня» свер-
ток с кофтой: чтобы Маяковский, войдя в
зал «прилично одетым», мог неожиданно
появиться в своей эпатирующей униформе
и обрушиться на докладчика язвительным
градом. К сожалению, далеко не все оппо-
ненты поэта обладали таким же чувством
юмора и были так же необидчивы, как он
сам.
В мае тиражом триста экземпляров ли-
тографским способом был напечатан пер-
вый сборник Маяковского «Я!», состоящий
из четырех стихотворений. Оформляли
книжечку его товарищи по Училищу жи-
вописи, зодчества и ваяния Л. Жегин и
В. Чекрыгин. Обложку поэт сделал сам.
В это время произошел новый поворот в
его творчестве: Маяковский увлекся теат-
ром, к которому прежде, в отличие от кине-
матографа, был совершенно равнодушен.
Началась долгая и значительная глава
его жизни под названием «Маяковский и
театр» — глава, в которой есть «Мисте-
рия-буфф», «Клоп», «Баня», множество
статей о сценическом искусстве, имена
В. Мейерхольда и И. Ильинского... Но тог-
да, в 1913 году, были написаны и напечата-
ны в «Кино-журнале» только три первые
160
Владимир Владимирович Маяковский
статьи о театре. Первая из них называлась
вполне по-маяковски: «Уничтожение кине-
матографом «театра» как признак возрож-
дения театрального искусства».
К моменту выхода статей уже была напи-
сана трагедия «Владимир Маяковский»,
над которой поэт работал летом. О сочета-
нии жанра и названия этого произведения
Борис Пастернак заметил:
«Искусство называлось трагедией. Так и сле-
дует ему называться. Трагедия называлась «Вла-
димир Маяковский». Заглавье скрывало гениаль-
но простое открытье, что поэт не автор, но —
предмет лирики, от первого лица обращающейся
к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а
фамилией содержанья».
Премьера трагедии состоялась 2 декабря
1913 года в Петербурге, в театре Луна-
парк. Актер и режиссер А. Мгебров, видев-
ший эту постановку, вспоминал, что спек-
такль не восхитил его, но как-то странно
взволновал. Мгеброва никак нельзя отнести
к поклонникам футуристов, он был настро-
ен по отношению к ним если не враждебно,
то, по крайней мере, недоброжелательно.
Актеры играли по-дилетантски, они не-
внятно призносили слова, декорации бйли
жалкие. Но появление на сцене Маяковско-
го, игравшего заглавную роль, произвело
на Мгеброва глубокое впечатление:
«Мне сделалось невыразимо грустно, когда я
пришел домой; грустно не от спектакля, не от
дурного представления, но лишь от того, что я
как бы соприкоснулся с вечно затравленной чело-
веческой душой, которая, как принц в лохмотьях
нищего, нашла исход своим слезам в бунте футу-
ристов».
Впрочем, в реальной, публичной жизни
Маяковский отнюдь не плакал в ответ на
удары враждебно настроенного мира, а от-
вечал на них — иронично, зло, язвительно.
Будучи совсем молодым и, казалось бы, не-
опытным в отношениях с людьми, он умел
держать себя так, как сам считал нужным,
не позволяя навязывать себе чужой стиль
поведения.
Корней Чуковский впервые увидел Ма-
яковского в 1913 году в Москве, в биллиард-
ной литературно-художественного кружка
на Большой Дмитровке. Думая ободрить на-
чинающего поэта, уже известный в то время
критик Чуковский принялся произносить
какие-то поощрительные слова о его стихах.
Каково же было его удивление, когда Ма-
яковский неожиданно прервал его и предло-
жил изложить все эти комплименты како-
му-то старичку за ресторанным столиком.
Он заявил, что ухаживает за дочерью этого
старичка, а папаша еще сомневается, что
имеет дело с великим поэтом... Посмеяв-
шись, Чуковский отправился выполнять за-
дание. Маяковский время от времени выхо-
дил из биллиардной, следил за успехом раз-
говора и одобрительно кивал. Из здания
литературно-художественного кружка они
вышли вдвоем и до поздней ночи бродили по
улицам. В Столешниковом переулке Чуков-
ский читал свои переводы из Уитмена и был
потрясен тем, как, не зная английского язы-
ка, Маяковский безошибочно определил
неточности перевода и отметил те строки,
которые были ему наиболее близки — на-
пример, «Я весь не вмещаюсь между башма-
ками и шляпой»...
♦ После этой встречи, — писал К. И. Чуков-
ский, — я понял, что покровительствовать Ма-
яковскому вообще невозможно. Он был из тех,
кому не покровительствуют. Начинающие поэ-
ты — я видел их множество — обычно в своих от-
ношениях к критикам бывали заискивающи, а в
Маяковском уже в ранней молодости была вели-
чавость. Познакомившись с ним ближе, я увидел,
что в нем вообще нет ничего мелкого, юркого,
дряблого, свойственного слабовольным, хотя бы и
талантливым, людям. В нем уже чувствовался че-
ловек большой судьбы, большой исторической
миссии. Не то чтобы он был надменен. Но он хо-
дил среди людей как Гулливер, и хотя нисколько
не старался о том, чтобы они ощущали себя рядом
с ним лилипутами, но как-то само собою дела-
лось, что самым спесивым и заносчивым людям
не удавалось взглянуть на него свысока».
1914 год начался поездкой футуристов
по Югу России, в которой принимал учас-
тие Маяковский: Крым, Николаев, Киев.
Успех был сокрушительный. Наряды поли-
ции дежурили в театрах, где происходило
большинство выступлений, чтобы не допус-
тить беспорядков при огромном скоплении
6 Зак. 848
161
Русские писатели XX века
публики. В феврале Маяковский выступил
с докладами в Москве, Минске и Казани.
Совет Училища живописи, ваяния и зод-
чества с неодобрением относился к столь
бурному участию своих учащихся в пуб-
личных мероприятиях. Было вынесено
постановление о запрещении студентам
принимать участие в таковых. Бурлюк и
Маяковский, разумеется, постановление
совета проигнорировали и были отчислены
из училища. Выступления продолжались.
Пенза, Ростов-на-Дону, Саратов, Тифлис,
Баку, Калуга — все эти города Маяковский
объехал до 18 июля (1 августа) 1914 года —
до начала Первой мировой войны.
ВОЙНА И ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ
Отношение поэта к войне с самого начала
было однозначным: бойня, во время кото-
рой «как хороший игрок раскидала шара-
ми смерть черепа в лузы могил» («Мысли в
призыв») — была ему отвратительна. Война
стала для него самым выразительным про-
явлением ненавистной буржуазной душев-
ной сытости, против которой были направ-
лены все его стихи, в том числе одно из на-
иболее возмутивших общество — «Нате!».
Но собственное участие в войне мыслилось
Маяковским по-разному. Сначала он счи-
тал: «Чтобы сказать о войне — надо ее ви-
деть», — и даже расстраивался, что его не
взяли в армию по причине политической
неблагонадежности. Но по прошествии вре-
мени поэт понял, что не желает принимать
участие в массовом уничтожении людей и
умирать в угоду «проживающим за оргией
оргию», «любящим баб да блюда* (Вам!»,
1915).
На фоне бесконечных военных смертей
еще отвратительнее казалось ему искусство
поэтов вроде И. Северянина. Правда спустя
пятнадцать лет Маяковский признался, что
многому учился у Северянина. Он восхи-
щался талантливым северянинским слово-
творчеством и даже кое-что заимствовал у
него.
А пока Маяковский печатал статьи о
войне и искусстве, начал писать тексты для
военных лубков и открыток — уже тогда
его привлекал этот жанр, так полно им ос-
военный во время послереволюционной ра-
боты в «Окнах РОСТА».
Но главным его делом в 1914 году была
работа над поэмой «Облако в штанах».
Сначала Маяковский думал назвать ее
«Тринадцатый апостол» — в заглавии имея
в виду себя, поэта. Название «Облако в
штанах* осенило его в поезде, по дороге из
Саратова в Москву. Он ухаживал за попут-
чицей и, уверяя девушку в своей полной к
ней лояльности, сказал, что будет нежным,
как облако в штанах. Неожиданно найден-
ная метафора поразила его самого, стало
жаль, что такая находка разойдется изуст-
но. Весь оставшийся путь Маяковский осто-
рожными наводящими вопросами выяснял
у девушки, не запомнила ли она его ост-
роту. К счастью, метафора была девуш-
кой мгновенно забыта — и стала названием
поэмы.
Борис Пастернак вспоминал Маяковско-
го 1914 года: «Сразу угадывалось, что если
он и красив, и остроумен, и талантлив, и,
может быть, архиталантлив, — это не глав-
ное в нем, а главное — железная внутрен-
няя выдержка, какие-то заветы или устои
благородства, чувство долга, по которому
он не позволял себе быть другим, менее
красивым, менее остроумным, менее та-
лантливым».
В январе 1915 года Маяковский пере-
ехал в Петроград, который до 1919 года
стал его постоянным местожительством. К
тому времени он уже несколько лет не жил
в семье. Маяковский до самой смерти отно-
сился к сестрам, а особенно к матери, тепло
и бережно, но жизнь его проходила отдель-
но от них.
Жилья в Петрограде у него не было, как,
впрочем, и в Москве; он жил в гостиницах.
В феврале Маяковский выступил в «Бро-
дячей собаке» с чтением стихотворения
«Вам!*, которое возмутило публику (в том
числе и наличием нецензурного слова).
Многие завсегдатаи кафе кричали, что счи-
тают теперь для себя позором приходить
сюда. На эти возгласы хозяин «Бродячей
собаки* Борис Пронин ответил: «И не на-
162
Владимир Владимирович Маяковский
до», — и пригласил Маяковского прочитать
у него отрывки из новой поэмы.
К весне Маяковский снял комнату в дач-
ном местечке Куоккала, где в то время жи-
ли И. Е. Репин и К. И. Чуковский. Поэму
«Облако в штанах» Владимир Владимиро-
вич в буквальном смысле слова выходил:
ежедневно часов по пять он шагал по берегу
Финского залива, проходя по пятнадцать
верст и пугая местных чухонцев странным
бормотанием. Вообще же «на рифмы» поэт
тратил от десяти до восемнадцати часов в
сутки и почти всегда при этом бормотал... О
том, как рождались образы «Облака», Ма-
яковский написал в статье «Как делать сти-
хи»:
«Я два дня думал над словами о нежности оди-
нокого человека к единственной любимой.
Как он будет беречь и любить ее?
Я лег на третью ночь спать с головной бо-
лью, ничего не придумав. Ночью определение
пришло.
Тело твое
буду беречь и любить,
как солдат, обрубленный войною,
ненужный, ничей,
бережет
свою единственную ногу.
Я вскочил, полупроснувшись. В темноте обуг-
ленной спичкой записал на крышке папиросной
коробки — «единственную ногу» и заснул. Утром
я часа два думал, что это за «единственная нога»
записана на коробке и как она сюда попала.
Улавливаемая, но еще не уловленная за хвост
рифма отравляет существование: разговарива-
ешь, не понимая, ешь, не разбирая, и не будешь
спать, почти видя летающую перед глазами риф-
му».
Уже сочиненные отрывки Маяковский
мог не записывать: память у него была
феноменальная. Однажды он поразил Чу-
ковского тем, что во время прогулки прочи-
тал наизусть все стихи из третьей книги
Блока — страница за страницей, и в том са-
мом порядке, в котором они были напечата-
ны. Он помнил наизусть даже стихи Надсо-
на, которого всячески ругал во время своих
выступлений.
Во время этих хождений по куоккаль-
скому берегу у Маяковского «выкрепло со-
знание близкой революции» — то самое,
которое впоследствии так поразило совре-
менников: в конце «Облака в штанах» был
с небольшой погрешностью назван даже год
этого события — 1916-й.
В Куоккале Маяковский ежедневно ви-
делся с обитателями ставшего впоследствии
знаменитым поселка — с Чуковским, Евре-
иновым, Репиным; ездил в Мустамяки к
Горькому. Регулярность встреч зачастую
объяснялась весьма прозаично: из-за отсут-
ствия денег поэт обедал по «семизнакомой
системе» («Я сам») — то есть каждый день
бывал у одного из знакомых».
Репин, который терпеть не мог футурис-
тов, был восхищен Маяковским. Великий
художник до старости обладал тончайшим
чутьем на все подлинное в искусстве, даже
если формы этой подлинности были для не-
го необычны. Это особенно заметно на фоне
преобладающего отношения к Маяковско-
му со стороны деятелей культуры. Когда он
начинал читать свои стихи — например, на
даче Чуковского — многие демонстративно
уходили, а влиятельнейший журналист
Влас Дорошевич грозился позвать около-
точного. Теперь в это трудно поверить, но
таков был ответ «культурной среды» на
«Послушайте!»... Репин же, напротив, вос-
хищался темпераментом и талантом Ма-
яковского, сравнивал его с Мусоргским и
хотел написать его портрет. И это было же-
лание художника, который в свое время на-
отрез отказался писать портрет Достоевско-
го! Впрочем, Репин и не считал Маяковско-
го футуристом — ни как поэта, ни как
рисовальщика.
Того же мнения придерживался в то вре-
мя и Горький: «Какой он футурист! Те голо-
вастики — по прямой линии от Тредьяков-
ского. И стихи такие же — скулы от них но-
ют, — да и зауми у Василия Кирилловича
сколько вам угодно. А у этого — темпера-
мент пророка Исайи. И по стилю похож.
«Слушайте, небеса! Внимай, земля! Так го-
ворит Господь!» Чем не Маяковский!».
Горький весьма точно объяснил и природу
богохульства, которого так много в стихах
163
Русские писатели XX века
Маяковского. Оно, по словам Горького, не
очередное проявление эпатажа, оно сродни
тому отчаянию от несправедливости миро-
устройства, с которым взывал к Богу биб-
лейский Иов...
Впоследствии жизнь далеко их развела,
отношения между ними были далеки от
идиллии, высказывания Горького о Ма-
яковском бывали весьма нелицеприятны и
не всегда справедливы. Но, узнав о смерти
поэта, Горький ударил кулаком по столу и
заплакал.
Поэма, в которой четырьмя частями вы-
крикнуто: «долой вашу любовь!», «долой
ваше искусство!», «долой ваш строй!», «до-
лой вашу религию!», — была дописана во
второй половине июля 1915 года. Легли на
бумагу великие строчки финала:
Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!
Глухо.
Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.
Впрочем, печатать все это не собирался
ни один издатель. Маяковский читал свою
поэму разным людям, но это не делало
перспективы ее появления на свет более ре-
альными.
ЛИЛИЧКА
В конце июля состоялось чтение «Обла-
ка» в петроградской квартире Лили Юрьев-
ны и Осипа Максимовича Бриков на улице
Жуковского. Прослушав поэму, Брик тут
же предложил свои средства для ее изда-
ния. (И проявил последовательность и на-
стойчивость: поэма вскоре была им издана,
хотя и с неизбежными цензурными вымар-
ками.) Этот день Маяковский назвал «радо-
стнейшей датой», но по другой причине: с
него началась любовь к Лиле Юрьевне
Брик, определившая всю жизнь поэта.
Владимир Владимирович в то время уха-
живал за младшей сестрой Лили Юрьевны,
будущей писательницей Эльзой Триоле.
Собственно, и в квартире Бриков он по-
явился по приглашению Эльзы. Она же и
написала впоследствии: «Брики отнеслись
к стихам восторженно, безвозвратно полю-
били их. Маяковский безвозвратно полю-
бил Лилю».
Сама Лиля Юрьевна тоже вспоминала
этот день как величайшее событие:
«Он задумался. Потом обвел глазами комнату,
как огромную аудиторию, прочел пролог и спро-
сил — не стихами, прозой — негромким, с тех
пор незабываемым голосом:
— Вы думаете, это бредит малярия? Это было.
Было в Одессе.
Мы подняли головы и до конца не спускали
глаз с невиданного чуда.
Маяковский ни разу не переменил позы. Ни на
кого не взглянул. Он жаловался, негодовал, изде-
вался, требовал, впадал в истерику, делая паузы
между частями».
Маяковский влюбился так, что даже не-
долгое расставание с Лилей представлялось
ему невозможным: в тот день он не поехал в
Куоккалу за вещами и поселился сначала в
гостинице «Пале-рояль», а потом в комнате
на Надеждинской улице, в пяти минутах
ходьбы от квартиры Бриков. Лиле Брик не-
медленно была посвящена поэма «Облако в
штанах», а много лет спустя, в 1928 году,
Маяковский написал ее имя на первом томе
собрания своих сочинений — посвятив ей
таким образом все, что было им создано. К
ней обращены и последние, предсмертные
строки, написанные его рукой...
Значение этой женщины в жизни поэта
трудно переоценить. Написав в одном из
своих писем к ней: «Любовь это сердце все-
го», — Маяковский раз и навсегда исклю-
чил возможность преувеличения. Любовью
определялись всё его существование, все
его стихи. С любовью было связано счастье
его жизни, с нею же — трагедия.
Многим хотелось бы, чтобы объектом
любви Маяковского была не Лиля Брик.
Чтобы на ее месте оказалась женщина ме-
нее роковая. Приверженная традиционным
семейным ценностям. Не связанная с ГПУ.
164
Владимир Владимирович Маяковский
Не стремящаяся к мужскому поклонению.
Не так легко меняющая мужей и любовни-
ков. И так далее и тому подобное. Но разго-
воры о том, какой должна и какой не долж-
на быть любовь гения, ведутся с той поры,
как Пушкин женился на Наталье Никола-
евне Гончаровой. А о том, что «тайна сия
велика есть», как сказано в Библии, — по-
мнят немногие. Возможно, по ехидному за-
мечанию Л. Ю. Брик, Маяковскому удоб-
нее было бы жениться на горничной Бриков
Аннушке. Но произошло то, что произош-
ло, и все рассуждения о правильности или
неправильности его выбора кажутся теперь
неуместными.
«Может быть, без нее было бы больше счастья,
но не больше радости, — написал о Лиле Брик
Виктор Шкловский, хорошо знавший ее и Осипа
Максимовича. — Не будем учить поэта, как
жить, не будем переделывать чужую, очень боль-
шую жизнь, тем более что поэт нам это запре-
тил».
Сама по себе личность этой женщины
так значительна, что до конца своих дней
она привлекала внимание самых ярких сво-
их современников — от Сергея Параджано-
ва до Ива Сен-Лорана. Галина Катанян
описала свое первое впечатление от Лили
Юрьевны, которой к тому времени было
тридцать девять лет:
«Очень эксцентрична и в то же время очень
«дама», холеная, изысканная и — боже мой! — да
она ведь некрасива! Слишком большая голова, су-
тулая спина и этот ужасный тик... Но уже через
секунду я не помнила об этом. Она улыбнулась
мне, и все лицо как бы вспыхнуло этой улыбкой,
осветилось изнутри. Я увидела прелестный рот с
крупными миндалевидными зубами, сияющие,
теплые, ореховые глаза. Изящной формы руки,
маленькие ножки. ... В ней была «прелесть, при-
вязывающая с первого раза», как писал Лев Тол-
стой о ком-то в одном из своих писем. Если она
хотела пленить кого-нибудь, она достигала этого
очень легко. А нравиться она хотела всем — мо-
лодым, старым, женщинам, детям... Это было у
нее в крови. И нравилась».
Л. Ю. Брик (урожденная Каган) роди-
лась в 1891 году в интеллигентной москов-
ской еврейской семье. Отец ее был юрис-
том, мать писала стихи и музыку, была хо-
рошей пианисткой, хотя из-за замужества
не смогла закончить консерваторию. Лиля
Каган жила в центре Москвы, росла в пре-
красной интеллектуальной среде, свободно
владела немецким и французским, училась
в одной из лучших частных гимназий на
Покровке. По окончании гимназии она сна-
чала увлекалась математикой и училась на
Высших женских курсах, потом поступила
в Московский архитектурный институт,
стала заниматься живописью и лепкой, а
затем и скульптурой в Мюнхене. Впослед-
ствии была увлечена балетом (брала уроки),
кинематографом (снимала картины и игра-
ла в них) — одним словом, круг ее интере-
сов был достаточно широк. Конечно, во
всех этих занятиях Лиля оставалась диле-
тантом. Но она обладала качеством, делав-
шим ее обаяние поистине магнетическим.
Многие люди, знавшие Лилю Брик, отмеча-
ли ее удивительную способность будить в
творческом человеке его лучшие силы, вы-
зывать к жизни всю его энергию. В ней жил
постоянный интерес к таланту — в музыке,
в живописи, в поэзии, — и она с порази-
тельной чуткостью распознавала его даже в
тех людях, которые еще не привлекли к се-
бе ничьего внимания. Так, уже в старости,
Лиля Брик едва ли не первая обратила вни-
мание на яркого поэта Николая Глазкова и
всячески помогала ему, несмотря на многие
♦неудобства» его характера. Одной из пер-
вых она заметила выдающееся дарование
Майи Плисецкой, в то время начинающей
балерины. Кинорежиссер и художник Сер-
гей Параджанов был освобожден из тюрь-
мы в основном благодаря ее усилиям.
В 1912 году Лиля Юрьевна вышла замуж
за Осипа Брика, в которого была влюблена
с тринадцати лет. Осип Максимович окон-
чил юридический факультет Московского
университета, некоторое время работал в
торговой фирме отца, купца первой гиль-
дии. Сразу после начала Первой мировой
войны он оставил эту работу и занялся той
деятельностью, которую принято называть
культуртрегерской — издательской, меце-
натской, литературоведческой.
Одним из наиболее устойчивых штам-
пов, касающихся отношений Бриков с Ма-
165
Русские писатели XX века
яковским, является следующий: будучи
интеллектуалами и знатоками литературы,
они «окультурили» поэта — талантливого,
но страдающего недостатком образования.
Конечно, после встречи с Бриками и под их
влиянием в жизни Маяковского произошли
серьезные изменения. Он отказался от жел-
той кофты и пошлого фрака, стал одеваться
с присущим ему вкусом, оценил хорошо на-
лаженный быт, размеренный, способствую-
щий творчеству образ жизни. Лиля помог-
ла ему вылечить зубы. С первых дней зна-
комства семья Бриков стала его семьей на
всю жизнь.
Но благостный тезис об «окультурива-
нии» должен вызывать скепсис хотя бы по-
тому, что сама Лиля Юрьевна утверждала:
до встречи с Маяковским «у нас к литерату-
ре интерес был пассивный». После встречи
с поэтом Брики стали в буквальном смысле
слова жить его творчеством. Их квартира
на улице Жуковского сделалась настоящим
центром современной литературной жизни.
Здесь бывали Бурлюк, Хлебников, Камен-
ский, Асеев, Пастернак, Кузмин. Стали
приходить филологи — Якобсон, Якубин-
ский, Шкловский, Эйхенбаум. Осенью
1916 года Осип Максимович издал первый
«Сборник по теории поэтического языка», а
в феврале 1917 года на его квартире было
основано «Общество изучения поэтического
языка» — знаменитый ОПОЯЗ, одна из са-
мых ярких русских филологических школ
XX века.
Надо быть совершенно глухим к искусст-
ву, чтобы полагать, будто культура — не-
кая сумма мертвых знаний, которую можно
абстрактно усвоить. Лиля Брик отнюдь не
была глуха к искусству и потому с самого
начала понимала: все, что делает в поэзии
Маяковский, относится к явлениям такого
масштаба, которые, собственно, и создают
культуру, без которых культуры просто не
существует. С первого дня знакомства Бри-
ки стали главными слушателями и редак-
торами стихов Маяковского и оставались
ими до последних дней: в предсмертном
письме он попросил передать его неокон-
ченные произведения именно им — потому
что «они разберутся».
В квартире Бриков он всегда чувствовал
себя дома. Здесь в полной мере реализова-
лась его потребность в уюте, в заботах и да-
же его необыкновенная азартность. У Бри-
ков увлекались картами, и Маяковский
был неизменным участником игр. Он вооб-
ще был азартен настолько, что мог играть
во что угодно, даже в чет-нечет на улице —
на номера автомобилей, трамваев, на лю-
бые бумажки, на которых имелись цифры.
Он был заядлым биллнардистом. Играл и в
рулетку в Монте-Карло, самого себя назы-
вая «монтекарликом». Написал стихотво-
рение «Теплое слово кое-каким порокам»,
полное отвращения к житейскому занудст-
ву, которому и противопоставил любимые
азартные игры.
И кто может знать, что именно необходи-
мо поэту для того, чтобы находиться в
состоянии творческого подъема? «Сбрасы-
вает* ли он за картами и биллиардом
лишнюю энергию, восстанавливает ли не-
достающую, — в любом случае это является
частью тончайшего психологического про-
цесса, который не всегда можно объяснить
логически.
Для Владимира Владимировича не име-
ла большого значения денежная часть вы-
игрыша, и он не был рабом игры. Но выиг-
рыш, подтверждающий его первенство во
всем, подтверждающий, что он по-прежне-
му любим судьбою, — это было ему необхо-
димо как воздух. (Много лет спустя он по
телефону вызывал к себе на Лубянский
проезд Николая Асеева, говоря: «Мне нуж-
но обыграть вас сегодня. Сейчас. Сию мину-
ту...»)
И дело не в том, что Маяковский отно-
сился к жизни, как к игре. Он был предель-
но серьезен в понимании того, что происхо-
дило в его душе и выражалось стихами. В
азартности проявлялась не беспечность его,
а не знавшая удержу страстность: с ранней
юности Маяковский понимал, в чем состоит
великий риск жизненного проигрыша или
выигрыша. Даже в сердце себе он выстре-
лил по принципу «русской рулетки»: вы-
нув обойму из пистолета и оставив один
патрон в стволе...
166
Владимир Владимирович Маяковский
Несмотря на уютную семейственность
дома Бриков, несмотря на поддержку и по-
нимание, которые он здесь находил, отно-
шения Маяковского с Лилей, конечно, с са-
мого начала не были просто отношениями
талантливого поэта и чуткой слушательни-
цы. Маяковский был влюблен со всей силой
своего темперамента — то есть с силой по-
истине неизмеримой. «Володя не просто
влюбился в меня — он напал на меня, это
было нападение. Два с половиной года не
было у меня спокойной минуты — букваль-
но», — записала в дневнике Л. Ю. Брик.
Осенью 1915 года была написана поэма
«Флейта-позвоночник» (первоначальное на-
звание — «Стихи ей»), потрясающая нака-
лом любовных переживаний и поэтической
мощью, с которой они воплощены. Прослу-
шав «Флейту», Горький сказал о «чудовищ-
ном размахе» ее автора и о том, что, собст-
венно, никакого футуризма нет, а есть толь-
ко большой поэт Владимир Маяковский.
В «нечеловечьей магии» этой поэмы Ма-
яковский воспел свою любимую — «накра-
шенную, рыжую», которая могла выду-
маться только какому-нибудь «небесному
Гофману»:
Вот я богохулил.
Орал, что бога нет,
а бог такую из пекловых глубин,
что перед ней гора заволнуется и дрогнет,
вывел и велел:
люби!
Жизнь Маяковского осложнилась в эту
осень призывом на воинскую службу. Вре-
мя, когда поэт считал, что должен нахо-
диться в действующей армии, давно про-
шло. Теперь его отвращение к воинской по-
винности стало всеобъемлющим — да еще в
дни войны, которую он воспринимал как
величайшую подлость со стороны всех во-
юющих государств. К счастью, через знако-
мых удалось определиться в Военно-авто-
мобильную школу чертежником. С начала
1916 года Маяковский начал работать одно-
временно над двумя поэмами — «Война и
мир» и «Человек». Характер этой работы
он определил следующим образом: «В голо-
ве разворачивается «Война и мир», в серд-
це — «Человек». Для издательства Горько-
го «Парус» он подготовил книгу своих сти-
хов под названием «Простое как мычание»,
вышедшую в октябре.
И все, что он писал в это время, было
проникнуто любовью... 26 мая 1916 года
написано стихотворение «Лиличка! Вместо
письма», которое не было напечатано при
жизни Маяковского. Завершающие строки
этого стихотворения по праву можно отнес-
ти к шедеврам русской любовной лирики:
Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.
Отношения с Лилей Брик по-прежнему
складывались тяжело. Маяковский мучил-
ся своей отдельностью от нее, для космиче-
ского масштаба его чувств невыносима бы-
ла дистанция обыденности, которая су-
ществовала между ним и любимой
женщиной. Написанное в то время стихо-
творение «Себе, любимому, посвящает эти
строки автор» заканчивается горьким во-
просом: «Какими Голиафами я зачат — та-
кой большой и такой ненужный?»
Для Лили Юрьевны же, вероятно, был
утомителен именно масштаб и накал этой
любви, слишком сильно выпадающей из
повседневности, в которой она находила
множество других удовольствий. О несораз-
мерности их чувств в то время свидетельст-
вует характерный эпизод. После «Лилич-
ки» Маяковский написал поэму «Дон-Жу-
ан», о которой она не знала. Когда он
прочитал ей поэму — неожиданно, на ули-
це, наизусть — она рассердилась: опять про
любовь, надоело! Маяковский выхватил из
кармана рукопись, разорвал в клочки и
пустил по ветру.
РЕВОЛЮЦИЯ ПОЭТА
Февральскую революцию 1917 года поэт
встретил восторженно, что, впрочем, вско-
ре сменилось разочарованием. Он участво-
вал в многочисленных митингах, собрани-
ях и совещаниях деятелей искусств, высту-
пал с чтением стихов, писал статьи. Но все
это казалось ему топтанием на месте, и
167
Русские писатели XX века
ощущение того, что революция только на-
чинается, не покидало его. В августе была
задумана «Мистерия-буфф», в которой сов-
ременные события должны были развер-
нуться в объемную картину мироздания.
В октябрьские дни 1917 года вопроса о
том, принимать или не принимать больше-
виков, для Маяковского не было. «Моя рево-
люция», — признается он впоследствии в ав-
тобиографии. И все его поступки в октябрь-
ские дни совершались под знаком огромной
радости: наконец-то! 25 октября (7 ноября)
он был в Смольном, видел Ленина. Все это
потом он описал в поэме «Владимир Ильич
Ленин». В «Газете футуристов», которая на-
чала выходить в марте 1918 года, Маяков-
ский написал «Приказ по армии искусства».
В нем, в частности, были такие слова: «Ни-
кому не дано знать, какими огромными
солнцами будет освещена жизнь грядущего.
Может быть, художники в стоцветные раду-
ги превратят серую пыль городов, может
быть, с кряжей гор неумолимо будет звучать
громовая музыка превращенных в флейты
вулканов, может быть, волны океанов заста-
вим перебирать сети протянутых из Европы
в Америку струн. Одно для нас ясно — пер-
вая страница новейшей истории искусств от-
крыта нами». И поэтому — «На улицы, фу-
туристы, барабанщики и поэты!».
Революцию Маяковский воспринял
прежде всего как возможность дать поэзии
подобающее место в действительности, то
есть сделать так, чтобы вся до самых основ
потрясенная жизнь прониклась поэзией.
Слишком значительным было для поэта то,
что происходило в его душе — а значит, во
вселенной — и отстаивалось словом. Допус-
тить, что цель адского по напряжению поэ-
тического труда состоит в услаждении са-
лонных критикесс, что поэзия принадле-
жит кружку избранных, он просто не мог.
Маяковский очень гордился своим дву-
стишием, написанным незадолго до октяб-
ря 1917 года:
Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй.
Эти стихи звучали тогда повсюду: улица,
которой было «нечем кричать и разговари-
вать», заговорила стихами Маяковского.
Лучшей награды, лучшего признания свое-
го труда для него не могло быть! Впоследст-
вии он говорил: «Кому нужно, чтобы лите-
ратура занимала свой специальный угол?
Либо она будет во всей газете каждый день,
на каждой странице, либо ее совсем не нуж-
но. Гоните к черту такую литературу, кото-
рая подается в виде десерта!»
Впрочем, признавала Маяковского не
только улица. В январе 1918 года в Москве
на квартире малоизвестного поэта А. Ама-
ри состоялась «встреча двух поколений поэ-
тов». Присутствовали Бальмонт, Вяч. Ива-
нов, А. Белый, Ходасевич, Балтрушайтис,
Эренбург, Бурлюк, Каменский и другие.
Маяковский читал поэму «Человек». Павел
Антокольский, тоже присутствовавший на
этом вечере, вспоминал:
«Он читал неистово, с полной отдачей себя, с
упоительным бесстрашием, рыдая, издеваясь, не-
навидя и любя. Конечно, помогал прекрасно на-
тренированный голос, но, кроме голоса, было и
другое, несравненно более важное. Не читкой это
было, не декламацией, но работой, очень трудной
работой шаляпинского стиля: демонстрацией се-
бя, своей силы, своей страсти, своего душевного
опыта».
После чтения Андрей Белый, бледный от
волнения, сказал, что поэмой Маяковского,
могучей по глубине замысла и выполне-
нию, двинута на громадную дистанцию вся
мировая литература.
Как ни странно, именно в это первое пос-
леоктябрьское время отношения Маяков-
ского с большевиками складывались вовсе
не так безоблачно, как можно было бы ду-
мать. «Начинают заседать», — насмешливо
отметил поэт в автобиографической записи,
относящейся к октябрю 1917 года. И далее:
♦РСФСР — не до искусства. А мне именно
до него. Заходил в Пролеткульт к Кшесин-
ской. Отчего не в партии? Коммунисты ра-
ботали на фронтах. В искусстве и просвеще-
нии пока соглашатели. Меня послали б ло-
вить рыбу в Астрахань».
Маяковский видел свою задачу в другом.
«Нам нужен не мертвый храм искусства,
где томятся мертвые произведения, а жи-
168
Владимир Владимирович Маяковский
вой завод человеческого духа, — заявил он
на митинге в Зимнем дворце (который,
кстати, был тогда спешно переименован во
Дворец искусств). — Искусство должно
быть сосредоточено не в мертвых хра-
мах-музеях, а повсюду — на улицах, в
трамваях, на фабриках, в мастерских и в
рабочих квартирах». Поистине: стоцветные
радуги над пылью городов, вулканы, пре-
вращенные во флейты...
Стремление Маяковского к тому, чтобы
искусством была пронизана вся жизнь, не
казалось большевикам насущным. Их боль-
ше устраивал «понятный» Пролеткульт с
его делением искусства на хорошее и пло-
хое по признаку классового происхождения
авторов.
Все это* не могло не разочаровывать тако-
го страстного художника, как Маяковский.
Его творческая деятельность переместилась
в Москву, подальше от петроградских на-
чальников. К этому времени относится воз-
рождение его интереса к кинематографу.
Более того: интерес приобретает практиче-
ский характер. Весной 1918 года Маяков-
ский написал сценарии для трех фильмов:
«Не для денег родившийся» (русский вари-
ант «Мартина Идена* Джека Лондона),
«Барышня и хулиган* и «Закованная
фильмой». Последний из сценариев пред-
назначался специально для Лили Брик. Все
три картины были сняты на частной студии
«Нептун» в павильоне в Самарском переул-
ке. Они вышли в прокат очень быстро и
имели успех. Во всех Маяковский играл
главные роли. Это было очень ему свойст-
венно: самому писать сценарии, участво-
вать в постановке, играть главные роли, ри-
совать афиши... Но Маяковский не просто
стремился попробовать себя в разных амп-
луа. Ему было важно, что кинематограф с
его новыми, совершенно не раскрытыми
еще возможностями приближает искусство
к большому количеству людей.
Маяковский был жаден до работы и имел
собственное мнение обо всем, за что брался.
Часто оно не совпадало с мнением режиссе-
ра Н. Туркина, и съемки сопровождались
яростными спорами. Впрочем, это не меша-
ло Маяковскому быть невероятно пункту-
альным, с огромной требовательностью от-
носиться к себе и окружающим, что вообще
было главной чертой его работы с людьми.
И, конечно, он шутил, смеялся сам и сме-
шил всех прямо во время съемок — благо
кино немое.
Всю зиму 1918 года Маяковский много
выступал с чтением своих поэм «Человек»
и «Война и мир». Чаще всего это происхо-
дило в Политехническом музее или в «Кафе
поэтов».
Это кафе в Настасьинском переулке было
в то время одним из наиболее привлека-
тельных мест для тех, кто интересовался
современной поэзией.
«Длинная низкая комната, в которой раньше
помещалась прачечная. Земляной пол усыпан
опилками. Посреди деревянный стол. Такие же
кухонные столы у стен. Столы покрыты серыми
кустарными скатертями. Вместо стульев низко-
рослые табуретки. Стены вымазаны черной кра-
ской. Бесцеремонная кисть Бурлюка развела на
них беспощадную живопись. Распухшие женские
торсы, глаза, не принадлежащие никому. Много-
ногие лошадиные крупы. Зеленые, желтые, крас-
ные полосы. Изгибались бессмысленные надписи,
осыпаясь с потолка вокруг заделанных ставнями
окон. Строчки, выломанные из стихов, превра-
щенные в грозные лозунги: «Доите изнуренных
жаб», «К черту вас, комолые и утюги», — так
описал московское пристанище футуристов поэт
Сергей Спасский.
Ни один вечер здесь не повторялся.
И венцом почти каждого вечера было чте-
ние Маяковским своих стихов.
«Это была разговорная речь, незаметно стяну-
тая ритмом, скрепленная гвоздями безошибоч-
ных рифм... — писал С. Спасский. — Это значи-
тельно, даже страшновато, пожалуй. Тут присут-
ствуешь при напряженной работе. При чем-то,
напоминающем по своей откровенности и просто-
те процессы природы. Тут присутствуешь при яв-
лении откровенного, ничем не заслоненного ис-
кусства».
Весной 1918 года произошло важнейшее
событие в жизни поэта. После съемок кар-
тины «Закованная фильмой* Лиля Юрьев-
на объявила Осипу Максимовичу о своей
любви к Маяковскому. По ее словам, отно-
шения с мужем с 1915 года перешли в чис-
169
Русские писатели XX века
то дружеские, и любовь к Владимиру Вла-
димировичу не должна была омрачить от-
ношений между людьми, которые за эти
годы стали необходимы друг другу. В днев-
никовой записи «Как было дело» Л. Брик
объяснила это следующим образом:
«Мы с Осей больше никогда не были близки
физически, так что все сплетни о «треугольни-
ке», «любви втроем* и т. п. — совершенно не по-
хоже на то, что было. Я любила, люблю и буду
любить Осю больше чем брата, больше чем мужа,
больше чем сына. Про такую любовь я не читала
ни в каких стихах, ни в какой литературе. Эта
любовь не мешала моей любви к Володе... Ося го-
ворил, что для него Володя не человек, а событие.
Володя во многом перестроил Осино мышление...
и я не знаю более верных друг к другу, более лю-
бящих друзей и товарищей».
С этого времени Брики и Маяковский
приняли решение всегда жить вместе и не
расставаться ни при каких обстоятельст-
вах. Невозможно теперь сказать наверняка,
с каким чувством решался на это каждый
из них. Но это был сознательный выбор не-
заурядных людей, спорить с которым на
расстоянии многих лет, холодно взвешивая
«за» и «против», бессмысленно.
Годы спустя у каждого из них появились
иные любовные отношения, не всегда про-
ходившие безболезненно для других. Но
желание возвращаться под общий кров
оставалось неизменным. Каждый старался
устраивать свою жизнь так, чтобы утром и
вечером бывать дома, вместе садиться за
завтрак и ужин.
Так начался общий быт, о который раз-
билась любовная лодка Маяковского.
Летом Брики и Маяковский переехали
на дачу в Левашове под Петроградом. Здесь
началась семейная жизнь Владимира Вла-
димировича и Лили Юрьевны. В это время
Маяковский работал над «Мистерией-
буфф» — пьесой, которая «впервые в песно-
пение революционной мистерии переложи-
ла будни».
Пьеса была впервые прочитана в кварти-
ре на улице Жуковского 27 сентября
1918 года. На чтении присутствовали нар-
ком Анатолий Васильевич Луначарский и
режиссер Всеволод Эмильевич Мейерхольд.
Присутствие последнего стало знаменатель-
ным событием для Маяковского. Величай-
ший режиссер XX века, Мейерхольд сразу
почувствовал в поэте огромное театральное
дарование. Через несколько дней, представ-
ляя «Мистерию-буфф» актерам Александ-
рийского театра, где ее предполагалось по-
ставить, Мейерхольд сказал: «Товарищи,
мы знаем Гете, мы знаем Пушкина, разре-
шите представить крупнейшего поэта сов-
ременности Владимира Владимировича Ма-
яковского». Актеры были шокированы та-
ким представлением не меньше, чем самим
текстом пьесы, в которой героями являлись
семь пар чистых (абиссинский негус, ин-
дийский раджа, турецкий паша, русский
купчина и другие), семь пар нечистых (тру-
бочист, фонарщик, шофер и другие) да-
ма-истерика, черти, святые, вещи и Чело-
век просто, а в качестве места действий бы-
ли указаны вся Вселенная, Ад, Рай, Земля
обетованная.
Мейерхольд все-таки поставил «Мисте-
рию-буфф» в театре Музыкальной драмы.
Маяковский играл в ней Человека просто.
Кроме того, из-за опоздания на представле-
ние одного из исполнителей ему неожидан-
но пришлось сыграть в премьерном спек-
такле еще и роль одного из святых. Спек-
такль прошел трижды, имел успех и
одновременно сопровождался всяческими
помехами со стороны «коммуниствующей
интеллигенции*. Слишком все это оказа-
лось «непохоже», слишком очевидно пере-
ворачивало основы психологического теат-
ра. Впрочем, было ли в творчестве Маяков-
ского хоть что-нибудь не «слишком* и не
переворачивающее каких-нибудь основ?
В октябре 1918 года Маяковский вместе
с Бриком обратился к Луначарскому с
предложением организовать издательство
книг нового искусства «ИМО» («Искусство
молодых»). Отношения Маяковского с Лу-
начарским складывались в то время до-
вольно напряженно (впоследствии Маяков-
ский придал Победоносикову, одному из
персонажей пьесы «Баня», некоторые чер-
ты Луначарского), но согласие и деньги
нарком просвещения все-таки дал. Пер-
выми книгами «ИМО» собиралось выпус-
170
Владимир Владимирович Маяковский
тить «Мистерию-буфф» и «Революционную
хрестоматию футуристов «Ржаное слово».
Кроме работы в «ИМО», всю зиму 1918/19
года Маяковский и Осип Брик выпускали га-
зету «Искусство коммуны», в которой печа-
тались программные заявления нового ис-
кусства. И всю эту зиму Маяковский высту-
пал в рабочих районах Петрограда с чтением
своих произведений. Для одного из таких
выступлений он написал «Левый марш» —
прямо по дороге на очередное рабочее собра-
ние. Маяковский очень гордился тем, что его
вещи встречают полное понимание в совер-
шенно не подготовленной рабочей аудито-
рии.
Слышавшие авторское чтение Маяков-
ского вспоминают, что смысл стихов пере-
давался им рельефно, в четком каркасе рит-
ма. «Повышенный», патетический тон че-
редовался с «низким», разговорным — ив
этой неповторимой интонации заключалась
главная особенность его исполнительской
манеры. На широкий интонационный диа-
пазон Маяковского обращал внимание и
Игорь Ильинский, спустя десять лет сыг-
равший главную роль в пьесе «Клоп*.
В марте 1919 года Маяковский и Брики
окончательно переехали в Москву. Они по-
селились в Полуэктовой переулке, в той
самой квартире, которую впоследствии
Маяковский опишет в поэме «Хорошо!*:
«Двенадцать квадратных аршин жилья.
Четверо в помещении — Лиля, Ося, я и со-
бака Щеник». Жизнь в одной комнате объ-
яснялась просто: невозможно было отапли-
вать большую квартиру в голодной и холод-
ной Москве девятнадцатого года. Щеника
подобрал на улице Маяковский, любивший
животных, и привел домой. Лиля Брик
вспоминала: «Они были очень похожи друг
на друга... Оба скулили жалобно, когда
просили о чем-нибудь, и не отставали до тех
пор, пока не добьются своего. Иногда лаяли
на первого встречного просто так, для крас-
ного словца. Мы стали звать Владимира
Владимировича Щеном». Он почти всегда
подписывал этим прозвищем письма и теле-
граммы к Лиле — даже из-за границы, за-
ставляя недоумевать телеграфистов.
Кроме жилья в Полуэктовом переулке, у
Маяковского появилась своя комната в Лу-
бянском проезде, которую помог получить
Роман Якобсон. Эта комната до конца жиз-
ни оставалась рабочим кабинетом Маяков-
ского. В ней он написал поэму «Про это». В
ней покончил с собой.
Из Полуэктова переулка в сентябре
1920 года переехали в Водопьяный (описан
в поэме «Про это»), затем, в 1926 году — в
Гендриков.
«ЛАСКА И ЛОЗУНГ, И ШТЫК, И КНУТ»
Осенью 1919-го начался более чем двух-
летний период в творчестве Маяковского,
связанный с «Окнами РОСТА» (Российско-
го телеграфного агентства).
Через десять лет, собрав часть сделан-
ных им для РОСТА плакатов в сборник
«Грозный смех», Маяковский расскажет в
предисловии:
«Моя работа в Роста началась так. — Я увидел
на углу Кузнецкого и Петровки, где теперь Мос-
сельпром, первый вывешенный двухметровый
плакат. Немедленно обратился к заву Ростой,
тов. Керженцеву, который свел меня с М. М. Че-
ремных, одним из лучших работников этого дела.
Второе окно мы делали вместе*.
«Окна» представляли собой плакаты, с
помощью рисунков и подписей извещавшие
о каком-нибудь злободневном событии. Они
вывешивались в пустующих окнах магази-
нов, отчего произошло и название. Темп ра-
боты был стремительный. Случалось, что
между известием о победе на фронте Граж-
данской войны и вывешиванием плаката по
этому поводу проходило сорок минут. Что-
бы представить себе объем этой работы, до-
статочно сказать, что до февраля 1922 года
в РОСТА, а потом в Главполитпросвете бы-
ло выпущено полторы тысячи плакатов. Не
менее чем к восьмидесяти процентам из
них подписи придумал Маяковский, около
четырехсот плакатов им же и нарисовано.
Сотрудничать в «Окнах» стала и Лиля
Брик, так как это давало паек госслужаще-
го. В 1919 году красок почти не было, рабо-
тать приходилось в холодной мастерской,
171
Русские писатели XX века
спать урывками, часто здесь же, в рабочей
комнате. Однажды Маяковский положил
под голову полено, чтобы не проспать
слишком долго.
В этой работе, как и во всем, чем он зани-
мался, проявилось его отношение к людям:
соединение чуткости и требовательности.
Он мог сказать художнику, задержавшему
выполнение работы: «Вам, Нюренберг, ра-
зумеется, разрешается болеть... Вы могли
даже умереть — это ваше личное дело. Но
плакаты должны были здесь быть к десяти
часам утра», — и тут же с непреклонным
упорством «выбивать по инстанциям» паек
для сотрудницы РОСТА Риты Райт...
Многие знавшие поэта недоумевали: за-
чем он тратит столько времени на политиче-
ские агитки, которые к тому же почти не со-
храняются? Р. Якобсон считал, что для Ма-
яковского «Окна* были едва ли не в первую
очередь «халтурой* ради заработка. Конеч-
но, материальная сторона играла важную
роль: Маяковский всю жизнь зарабатывал
деньги для себя и для семьи, он привык к
этому и считал естественным поддерживать
не только мать с сестрами, но и Бриков.
Но главными все-таки были внутренние,
творческие причины.
«Революция выбросила на улицу коря-
вый говор миллионов, жаргон окраин по-
лился через центральные проспекты... Как
ввести разговорный язык в поэзию и как
вывести поэзию из этих разговоров? » — эта
задача стала для Маяковского настолько
насущной, что он использовал любые воз-
можности для ее реализации. Он не смог из-
бежать соблазна мгновенной, прямой связи
с читателем. Язык его плакатов как раз и
был тем языком улицы, который он слы-
шал и чувствовал, из которого стремился
«вывести поэзию».
Чувствовал он и масштаб совершающих-
ся на его глазах событий — разрушения и
перевоссоздания всех жизненных основ.
Это была та самая «музыка революции*,
которую призывал слушать Александр
Блок, особенно высоко чтимый Маяков-
ским поэт-современник. И для того чтобы
воплотить в искусстве этот гигинтский
сдвиг жизни, Маяковский пробовал все до-
ступные ему возможности. «Чем вещь или
событие больше, тем и расстояние, на кото-
рое надо отойти, будет больше. Слабосиль-
ные топчутся на месте и ждут, пока собы-
тие пройдет, чтоб его отразить, мощные за-
бегают на столько же вперед, чтоб тащить
понятое время... Это опять-таки не значит,
что надо вещи делать только несвоевремен-
ные. Нет. Именно своевременные. Я только
останавливаю внимание поэтов на том, что
считающиеся легкими агитки на самом де-
ле требуют самого напряженного труда и
различнейших ухищрений, возмещающих
недостаток времени». Маяковский овладел
всеми «ухищрениями*, всеми возможнос-
тями лаконичной, стремительной поэтиче-
ской формы.
И все-таки «Окна РОСТА» отнимали
слишком много времени. Даже солнцу,
пришедшему к нему в гости на даче в Пуш-
кино, поэт пожаловался на то, «что-де за-
ела Роста» («Необычайное приключение,
бывшее с Владимиром Маяковским летом
на даче*). Как всякое дело, вдохновляемое
идеей, работа в РОСТА постепенно изжива-
ла себя.
1920 год начался чтением новой поэмы
«150 000 000». Маяковский хотел ее опуб-
ликовать без подписи (и именно так издал
впервые в апреле 1921 года) — с тем, чтобы
каждый из граждан новой России мог допи-
сывать к его творению собственные строки,
подтверждая тем самым смысл названия и
увеличивая «невероятную, гигантскую
суть» сказанного. Власти встретили поэму
настороженно в первую очередь потому, что
она активно не понравилась Ленину. Труд-
но сказать, что показалось «вычурным и
штукарским» вождю пролетариата. Может
быть, уже первые строки:
150 000 000 мастера этой поэмы имя.
Пуля — ритм.
Рифма — огонь из здания в здание.
150 000 000 говорят губами моими.
Ротационкой шагов
в булыжном верже площадей
напечатано это издание.
Госиздат тянул с печатанием, начались
неприятности и с выплатой гонораров за
172
Владимир Владимирович Маяковский
«Мистерию-буфф». Маяковский, как вся-
кий уважающий свой труд художник, тре-
бовал своевременных выплат, дело дошло
до суда, который поэт выиграл. Его требо-
вательность раздражала многих. В связи с
судебным процессом критик Сосновский
придумал даже название этой бескомпро-
миссности — «маяковщина».
В это же время Маяковский продолжал
заниматься и делами издательства «ИМО»,
где готовил к печати книгу «Все сочинен-
ное Владимиром Маяковским». В преди-
словии к ней, подводя итог десятилетию
своего творчества, поэт заявил: «Оставляя
написанное школам, ухожу от сделанного
и, только перешагнув через себя, выпущу
новую книгу». Эти слова могут считаться
лейтмотивом всего его творчества.
И, конечно, не прекращались публичные
выступления поэта. Стихи Маяковского
звучали «как ласка, и лозунг, и штык, и
кнут» в холодных, переполненных залах.
Аудитория отвечала ему «всем своим зата-
енным дыханием, всем напряжением ти-
шины и — взрывом голосов, буквальным,
не метафорическим, громом аплодисмен-
тов. К знакомым с детства стихиям — огню,
ветру, воде — прибавлялась новая, которую
условно называли «поэзия» (Р. Райт-Кова-
лева).
Чтобы добиться постановки «Мисте-
рии-буфф» в Москве, поэт буквально взял
столицу приступом: он читал пьесу в рабо-
чих клубах, в кино, на уличных собраниях.
1 мая 1921 года в Первом Театре РСФСР на-
конец состоялась премьера в постановке
В. Мейерхольда. Дмитрий Фурманов, быв-
ший в то время корреспондентом газеты
«Рабочий край», писал в рецензии на спек-
такль:
«Эта новая форма постановки, такая непри-
вычная и неуклюжая, не нравится пока безуслов-
ному большинству, но захватывает, интересует
она, безусловно, всех, кто близок к миру искусст-
ва. Здесь нет отделки, отшлифовки, внешней ла-
кировки, — наоборот, здесь поражает вас край-
няя неотделанность и элементарная простота,
граничащая с грубостью, и грубость, граничащая
с вульгарностью. Зато здесь много силы, крепкой
силы, горячей веры и безудержного рвения. Вы
его чувствуете и в голосе, и во взоре, и в движе-
нии актера. Это новый театр — театр бурной рево-
люционной эпохи».
В сентябре 1921 года в Политехническом
музее был устроен Дювлам — Двенадцатый
юбилей Владимира Маяковского.
5 марта 1922 года газета «Известия* вы-
шла со стихотворением «Прозаседавшие-
ся», в котором Маяковский возмущался не-
навистными ему проявлениями бюрократи-
ческой пошлости. В отличие от поэмы
«150 000 000* к стихотворению весьма бла-
госклонно отнесся Ленин. Он даже признал
его полезным. Так начали вырисовываться
черты печального явления: стихи Маяков-
ского, его поэтический пыл стали использо-
ваться властями в своих далеких от поэзии
целях...
Эти годы — с 1918-го по 1923-й — счаст-
ливое время в отношениях с Лилей Брик.
Взаимная любовь давала Маяковскому ог-
ромную творческую энергию. Они обме-
нялись кольцами. Подаренное Лилей коль-
цо Владимир Владимирович носил всю
жизнь, несмотря на упреки в мещанстве.
В записке, полученной им однажды во вре-
мя выступления, содержался очередной
упрек: «Тов. Маяковский! Кольцо вам не к
лицу!» — «Конечно, не к лицу, — немед-
ленно отреагировал он. — Поэтому я ношу
его на руке, а не в ноздре».
На кольце, подаренном Лиле, Маяков-
ский выгравировал ее инициалы —
Л. Ю. Б. Когда читаешь их по кругу, буквы
складываются в бесконечное «ЛЮБЛЮ».
Так — «Люблю» — называлась поэма,
написанная в начале 1922 года. Это самый
светлый из всех его гимнов женщине, кото-
рая
Пришла —
деловито,
за рыком,
за ростом,
взглянув,
разглядела просто мальчика.
Взяла,
отобрала сердце
и просто
пошла играть —
как девочка мячиком.
173
Русские писатели XX века
В поэме Маяковский объяснил, что такое
любовь для человека, на котором «с ума со-
шла анатомия. Сплошное сердце — гудит
повсеместно».
Тогда он едва ли предвидел кризис отно-
шений с любимой, обозначившийся к кон-
цу 1922 года.
«ПРО ЭТО».
МОСКВА - БЕРЛИН - ПАРИЖ
1922 год был для Маяковского необык-
новенно насыщенным в первую очередь по-
тому, что для него открылась заграница.
Сначала, в мае, он отправился в Ригу (по-
ездку организовала Брик), где его выступ-
ления буржуазная публика и власти встре-
чали весьма настороженно и даже враждеб-
но. Затем, в октябре, вместе с Бриками
Маяковский поехал в Германию.
«Русский Берлин» двадцатых годов, тог-
дашний центр русского зарубежья — яркое
и своеобразное явление культуры. В то вре-
мя контакты с Советской Россией еще не
представляли особых трудностей: в Берли-
не издавались книги писателей, живших в
Москве и Петрограде, обширная русская
колония немецкой столицы не считала себя
эмигрантским объединением. Приезжав-
шие из России актеры, поэты, художники
участвовали в собраниях берлинского Дома
искусств. На нескольких таких собраниях
Маяковский выступал с докладами и стиха-
ми, о которых русская газета «Накануне»,
выходящая в Берлине, писала, что они мо-
гут «смело выдержать сравнение с выдаю-
щимися творениями европейской поэзии».
Издательство «Накануне» заключило с ним
договор на сборник «Избранный Маяков-
ский».
Здесь, в Берлине, Маяковский познако-
мился с выдающимися деятелями русской
культуры — организатором блистательных
Русских сезонов в Париже Сергеем Дягиле-
вым и композитором Сергеем Прокофье-
вым.
В ноябре Маяковский провел десять дней
в Париже. Его поразил великий город, он
сразу же почувствовал свою соразмерность
с ним и немедленно, со свойственным ему
размахом, в стихах пригласил в гости Эй-
фелеву башню! В «Известиях» появились
его очерки о Париже, в одном из них Ма-
яковский прямо заявил: «Русским без энер-
гии Парижа — крышка*. Он полюбил Па-
риж.
Относя работников искусств Советской
России к правофланговым мирового искус-
ства, носителям авангардных идей, Ма-
яковский тем не менее призывал их учить-
ся у французов умению практически вопло-
щать свою историческую миссию.
Возвращение в Москву стало нерадост-
ным. Надлом отношений с Лилей Брик про-
изошел, вероятно, еще за границей. Она
вспоминала, что ее начал раздражать «кар-
теж», которым слишком увлекся Маяков-
ский, его чересчур активная деятельность в
Главполитпросвете, мешавшая поэтиче-
ской работе. Вероятно, так оно и было. Но
сквозь все эти объяснения отчетливо про-
глядывает главное: любовь Лили Брик к
Маяковскому начала убывать. Она загово-
рила о том, что любовь съедается бытом,
что они слишком привыкли друг к другу,
что из-за совместных чаепитий утрачивает-
ся накал чувств. Эти объяснения про «ча-
епития» не могут не вызвать насторожен-
ности: Лиля Юрьевна очень любила удоб-
ный быт, всегда умела его устроить — и
вдруг начала убеждать Маяковского в том,
что «старенький, старенький бытик* опа-
сен, потому что вредит его творчеству. Этот
прививаемый поэту страх перед бытом, ко-
торый якобы неизбежно уничтожает твор-
чество, во многом готовил почву для после-
дующей его трагедии...
В декабре 1922 года они решили пожить
два месяца (до 28 февраля 1923 года) от-
дельно, не встречаясь. Владимир Владими-
рович перебрался в свой кабинет в Лубян-
ском проезде. Сколько бы ни уверял Ма-
яковский, что решение было обоюдным, —
все свидетельствует о том, что инициатива
принадлежала Лиле Брик. Ее жизнь в это
время проходила в обычном ритме, без осо-
бенных изменений. А вот Маяковский пи-
сал поэму «Про это», находясь в таком ду-
шевном состоянии, которое, как сказал бы
врач, «несовместимо с жизнью*. Он честно
174
Владимир Владимирович Маяковский
держал данное слово и не пытался увидеть-
ся с Лилей — но не мог не приходить под ее
окна, не передавать ей кратких записок,
цветов, книг, птиц в клетке, которые бы на-
помнили о нем любимой женщине.
Вместе с поэмой «Про это» — поэмой о
любви, отчаянии, одиночестве, обо всем
том, что Марина Цветаева называла «без-
мерностью в мире мер», — Маяковский пи-
сал письмо-дневник, обращенное к Лиле
Юрьевне. Она нашла это письмо только пос-
ле смерти поэта в его столе; оно до сих пор
не опубликовано полностью. Но и те отрыв-
ки, которые Л. Брик посчитала возможным
обнародовать, дают представление о том,
что происходило в душе Маяковского в эти
два месяца, какое отчаяние пробивалось в
написанных им строчках, сжигая знаки
препинания.
«...нет теперь ни прошлого просто, ни давно
прошедшего для меня нет, а есть один до сего-
дняшнего дня длящийся теперь ничем не де-
лимый ужас. Ужас не слово, Лиличка, а состоя-
ние — всем видам человеческого горя я б дал сей-
час описание с мясом и кровью.
...Одна польза от всего от этого: последующие
строчки, представляющиеся мне до вчера гада-
тельными, стали твердо и незыблемо.
...Можно ли так жить вообще? Можно, но
только не долго. Тот, кто проживет хотя бы вот
эти 39 дней, смело может получить аттестат бес-
смертия. Поэтому никаких представлений об ор-
ганизации будущей моей жизни на основании
этого опыта я сделать не могу. Ни один из этих
39 дней я не повторю никогда в моей жизни.
...Опять о моей любви. О пресловутой деятель-
ности. Исчерпывает ли для меня любовь все? Все,
но только иначе. Любовь это жизнь, это главное.
От нее разворачиваются и стихи и дела и все пр.
Любовь это сердце всего. Если оно прекратит ра-
боту все остальное отмирает, делается лишним,
ненужным. Но если сердце работает оно не может
не проявляться в этом во всем. Без тебя (не без те-
бя «в отъезде», внутренне без тебя) я прекраща-
юсь. Это было всегда, это и сейчас. Но если нет
«деятельности» — я мертв.
...Любишь ли ты меня? Для тебя, должно
быть, это странный вопрос — конечно любишь.
Но любишь ли ты меня? Любишь ли ты так, чтоб
это мной постоянно чувствовалось? Нет. У тебя не
любовь ко мне, у тебя — вообще ко всему любовь.
Занимаю в ней место и я (может быть даже боль-
шое) но если я кончаюсь то я вынимаюсь, как ка-
мень из речки, а твоя любовь опять всплывается
над всем остальным. Плохо это? нет, тебе это хо-
рошо, я б хотел так любить.
...Семей идеальных нет. Все семьи лопаются.
Может быть только идеальная любовь. А любовь
не установишь никаким «должен», никаким
«нельзя» — только свободным соревнованием со
всем миром.
...Я чувствую себя совершенно отвратительно
и физически и духовно. У меня ежедневно болит
голова, у меня тик, доходило до того что я не мог
чаю себе налить. Я абсолютно устал, так как для
того чтоб хоть немножко отвлечься от всего этого
я работал по 16 и по 20 часов в сутки буквально.
Я сделал столько, сколько никогда не делал и за
полгода.
...Какая жизнь у нас может быть, на какую я в
результате согласен? Всякая. На всякую. Я ужас-
но по тебе соскучился и ужасно хочу тебя ви-
деть» .
Можно себе представить, каково было
человеку, написавшему такие строки, вре-
мя от времени встречать женщину, к кото-
рой они были обращены, случайно, на ули-
це, в редакциях... В эти два месяца Ма-
яковский отнес в Агитотдел ЦК ВКП(б)
проект журнала Левого фронта искусств
«Леф», писал политические памфлеты,
агитлубки, очерки о Париже и Берлине для
«Известий» и Госиздата, составлял сборник
«Маяковский улыбается, Маяковский сме-
ется, Маяковский издевается» для изда-
тельства «Круг».
Каково заниматься всем этим с окровав-
ленным сердцем — можно только догады-
ваться. Вернее, невозможно представить.
Незадолго до окончания намеченного
срока разлуки Лиля Брик предложила Вла-
димиру Владимировичу поехать вдвоем в
Петроград. 28 февраля они встретились на
вокзале, а когда вошли в купе, Маяков-
ский, не садясь, прочитал ей поэму «Про
это* и заплакал.
Но несмотря на внешнее примирение, за-
кат любви был неостановим. Расставание
длилось долго и мучительно — однако
окончательного разрыва так и не произош-
ло. Просто однажды, со свойственной ей ре-
шительностью, Лиля Юрьевна запиской
объявила Маяковскому, что больше не ис-
пытывает к нему прежних чувств и увере-
175
Русские писатели XX века
на: он «очень мучиться» не будет, так как
тоже любит ее меньше. Едва ли ею двигало
заблуждение, скорее Лиле Брик удобно бы-
ло думать об охлаждении к ней Маяковско-
го, чтобы со спокойной душой отдаться но-
вым увлечениям. Впрочем, может быть,
она предполагала, что отношения с Ма-
яковским и в самом деле смогут перейти в
«дружескую» стадию, как это было с Бри-
ком.
Как бы то ни было, в июле 1924 года Ма-
яковский написал в посвященном Пушки-
ну стихотворении «Юбилейное* горькие
слова: «Я теперь свободен от любви и от
плакатов».
С этого года начинаются его продолжи-
тельные странствия — по СССР, Европе,
Америке. Маяковский всегда испытывал
необходимость новых впечатлений, так что
причин для поездок было много. Но, веро-
ятно, не последняя из них — невозмож-
ность находиться дома, рядом с Лилей
Юрьевной, делая вид, будто ничего не про-
изошло. Во время поездок он выступает пе-
ред различными аудиториями, в том числе
на площадях в рабочих районах.
Маяковский, как и прежде, много пи-
шет — статей, стихов, агиток, — издает
журнал «Леф», составляет тексты по рекла-
ме государственных предприятий — Мос-
сельпрома, Резинотреста, Мосполиграфа,
Наркомфина и т. п. «Все, что требует серд-
це, тело или ум, — все человеку предостав-
ляет ГУМ», — такие «хозяйственные агит-
ки» появляются во множестве. Он пишет о
столовом масле, папиросах «Ира* и «При-
ма», о дешевом хлебе, печенье, макаронах,
отпускаемых на дом обедах, обоях, сосках,
мячиках, галошах... По заказу треста
«Моссукно» совместно с Н. Асеевым Ма-
яковский сочинил поэму «Ткачи и пряхи,
пора нам перестать верить заграничным ба-
ранам».
Умение создавать рекламные слоганы,
придавать им изящность, запоминающую-
ся точность, о которой могут только меч-
тать современные производители рекламы,
присущи Маяковскому в высшей мере. Ко-
личество сделанной им рекламы с трудом
поддается учету.
Реакцию коллег по цеху, которой сопро-
вождалось — и до сих пор, через много лет
после смерти поэта, сопровождается — это
творчество, Маяковский называл «поэтиче-
ским улюлюканьем». Его рекламная и аги-
таторская деятельность вызывала отвраще-
ние у многих, причем среди критиков были
далеко не последние литературные имена.
И. Эренбург в одной из своих статей
1923 года сравнил Маяковского с нелетаю-
щим аэропланом и счел, что говорить о нем
как о поэте более не имеет смысла. «Поэзия
Маяковского и есть поэзия люмпенмещан-
ства», — утверждал поэт и теоретик лите-
ратуры Г. Шенгели.
Впрочем, было не только улюлюканье,
но и печальный вопрос Бориса Пастернака:
Вы заняты нашим балансом,
Трагедией ВСНХ,
Вы, певший Летучим голландцем
Над краем любого стиха!
Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем вашем пути?
Пастернак знал, что творческое поведе-
ние, путь гениального поэта невозможно
объяснить на обывательском уровне. Боль-
шинство же коллег по писательскому цеху
искали именно обывательских объяснений
и, конечно, находили; при желании это все-
гда нетрудно сделать. Наверное, именно
тогда родилась расхожая формула, охотно
повторяемая и в наши дни: Маяковский
продал свой талант властям за официаль-
ную славу, за деньги и заграничные поезд-
ки, и потому талант его иссяк. Представить
великого человека в роли рыночного тор-
говца — что может быть приятнее для при-
митивного сознания, подогреваемого к то-
му же неудовлетворенным тщеславием! Об
этом еще Пушкин писал: «Толпа... в под-
лости своей радуется унижению высокого,
слабостям могущего. При открытии всякой
мерзости, она в восхищении. Он мал, как
мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он
мал и мерзок — не так, как вы, — иначе!»
К своим рекламным стихам, вообще к
стихам «на случай» Маяковский относился
176
Владимир Владимирович Маяковский
так же серьезно, как ко всему, что состав-
ляло его творчество. Стихами отстаивалось
только то, что было его жизнью. Он дей-
ствительно гордился советским паспортом
так же, как по-детски гордился всем хоро-
шим, что появлялось в СССР. Действитель-
но, верил, что через четыре года на месте
грязи и нищеты будет город-сад. Действи-
тельно, готов был пойти со своей родиной
«на жизнь, на труд, на праздник и на
смерть». И действительно считал счастьем
встретить смертный час «так, как встретил
смерть товарищ Нетте», чтобы «умирая,
воплотиться в пароходы, строчки и другие
долгие дела».
Маяковский хотел, чтобы жизнь и поэ-
зия не были разделены даже в мелочах: он,
например, ничего не покупал у частников
именно потому, что в своих агитках призы-
вал этого не делать... Правда, одевался Вла-
димир Владимирович исключительно за
границей или у хороших портных и едва ли
расспрашивал кухарку, откуда берутся
продукты, из которых приготовлен его еже-
дневный обед. Но объяснять все это двули-
чием может только бедный ум.
Со времен Чаадаева перед лучшими
сынами России стояла дилемма: прини-
мать безоговорочно или не принимать
свою единственную, любимую страну во
всех ее проявлениях? И где проходит гра-
ница безоговорочности? Вероятно, Маяков-
скому казалось, что эта трагическая дилем-
ма осталась в прошлом, что лермонтовская
♦немытая Россия, страна рабов, страна гос-
под» не вернется больше никогда, что те-
перь поэт вправе безоглядно воспевать зем-
лю, «которую отвоевал и полуживую вы-
нянчил».
И это заблуждение стало частью жизнен-
ной трагедии под названием «Владимир
Маяковский»... Трагедии, а не базарного
торга с советской властью.
В 1924 году Маяковского потрясла
смерть Ленина. С этим человеком, который
«за всех смог направлять потоки явлений»,
связывался для него весь пафос револю-
ции, весь тот гигантский тектонический
сдвиг, который произошел в российской
жизни меньше чем за десять лет. Огром-
ный интерес к личности Ленина проявляли
в то время Мандельштам, Пастернак, мно-
гие другие поэты-современники. Поэму
«Владимир Ильич Ленин» Маяковский за-
думал уже в день похорон, на которых он
присутствовал, и закончил в октябре того
же года.
15 мая 1924 года Маяковский на две не-
дели приехал в Берлин для участия в поэти-
ческих вечерах и диспутах. Он предполагал
отсюда выехать в Америку по приглаше-
нию жившего в Нью-Йорке Давида Бурлю-
ка, но не получил визы, и ему пришлось
вернуться домой.
А дома он с неослабевающей энергией
продолжал поездки по стране, выступал в
Севастополе, Ялте, Новороссийске, Влади-
кавказе, Тифлисе... Как и прежде, отдале-
ние от привычной жизни рождало размыш-
ления над ней. Но на этот раз мысли, наве-
янные любимой с детства кавказской
природой, были нерадостными.
Стою,
и злоба взяла меня,
что эту
дикость и выступы
с такой бездарностью
я
променял
на славу,
рецензии,
диспуты.
Мне место
не в «Красных нивах»,
а здесь,
и не построчно,
а даром
реветь
стараться в голос во весь,
срывая
струны гитарам.
(«Тамара и Демон»)
В том же 1924 году Маяковский вновь
посещает Париж, вновь увидел этот город
«во всей невозможной красе». По словам
Эльзы Триоле, в этот приезд «Маяковский
видел в Париже несчетное количество лю-
дей искусства, видел и самый Париж, с ли-
ца и изнанки». Видел и говорил: «Когда я
вижу здешнюю нищету, мне хочется все от-
177
Русские писатели XX века
дать, а когда я вижу здешних миллиарде-
ров, мне хочется, чтобы у меня было боль-
ше, чем у них!»
Еще одно отдаление от дома, еще одно
выпадение из привычной среды, заставляю-
щее иначе взглянуть на собственную
жизнь...
«Лицом к деревне» —
заданье дано, —
за гусли,
поэты-други!
Поймите ж —
лицо у меня
одно —
оно лицо,
а не флюгер.
(«Верлен и Сезанн»)
«Русский Париж» 1924 года сильно от-
личался от «русского Берлина» 1920-го.
Здесь уже сформировалась эмигрантская
среда со своими правилами поведения, со
своими интригами, отчаянием и безысход-
ностью. Маяковскому тесно было в эмиг-
рантской драме, в «эмигрантской нуди», от
которой веяло провинциальностью, так же
тесно, как в крошечном номере отеля «Ист-
рия», где он остановился. Да и его эмигран-
ты не любили — не меньше, наверное, чем
коммунистические пролетарские поэты.
Маяковский был слишком великий, слиш-
ком выбивался из правил обыденности, все-
гда следуя только собственным путем. Это
проявлялось во всем, в том числе и в пуб-
личном поведении. Независимости, к тому
же демонстративной, обычно не прощают.
Причина нелюбви эмиграции заключалась
именно в этом, а даже не в том, что Маяков-
ский явился в Париж полпредом ненавист-
ного советского строя.
И все-таки он любил Париж, «столицу
столетий». Может быть, втайне примеряя
себя к ней, он написал, уезжая:
Я хотел бы
жить
и умереть в Париже,
Если б не было
такой земли —
Москва.
(«Прощанье»)
Москва встретила Маяковского неприят-
ными заботами: часть лефовцев во главе с
Н. Чужаком объявила о своем желании
придать Лефу строгие организационные
формы, на манер партийной организации.
Собственно, предлагалось то, что меньше
чем через десять лет станет основой «кар-
манной» партийно-правительственной ор-
ганизации — Союза советских писателей.
Маяковский резко выступил против этой
идеи, изложив свою позицию в «Заявлении
устроителям так называемого «совещания
Левого фронта искусств». Все преобразова-
ния, которые впоследствии происходили с
Лефом — издание журнала «Новый Леф»,
создание Рефа (Революционного фронта ис-
кусств) — связаны с желанием Маяковско-
го отойти от застывших, мертвых форм.
И как всегда, напряженный рабочий гра-
фик по внедрению поэзии в жизнь: выступ-
ления, диспуты, чтение новой поэмы «Ле-
тающий пролетарий», работа над детскими
стихами «Сказки о Пете, толстом ребенке,
и о Симе, который тонкий» и «Что такое хо-
рошо и что такое плохо», борьба с Госизда-
том, отказывающимся выпустить собрание
сочинений. Хождение по кабинетам, обще-
ние с советскими бюрократами не способст-
вовали творчеству, да и просто спокойному
расположению духа. Давление действи-
тельности на поэта становилось все более
гнетущим, и ему все труднее было выдер-
живать этот гнет.
Летом 1925 года Маяковский вновь в Па-
риже. Он принял участие в открытии совет-
ского павильона на Парижской всемирной
художественно-промышленной выставке. А
в конце июня отплыл из Бретани парохо-
дом «Эспань» в Мексику. Так началось его
долгожданное открытие Америки, Север-
ной и Южной.
СОВЕТСКИЙ КОЛУМБ
На пароходе Маяковский создал одно из
лучших своих стихотворений, «Мелкая
философия на глубоких местах», которое
закончил трагичной в своей простоте фра-
зой:
178
Владимир Владимирович Маяковский
Я родился,
рос,
кормили соскою, —
жил,
работал,
стал староват...
Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова.
Вспоминается: «Вот и любви пришел
каюк, дорогой Владим Владимыч» («Юби-
лейное»)... Этих печальных «вот и...» ста-
новится все больше. Наконец Мексика,
страна детской мечты, которая «читалась
взасос* в книгах Купера и Майн Рида, по-
казалась на горизонте.
Маяковский написал об этом путешест-
вии очерки «Мое открытие Америки». Они
отличаются блистательным юмором, серь-
езностью, огромным интересом к различ-
ным проявлениям жизни и глубокой, хоро-
шо скрытой печалью одиночества. Среди
стихов американского цикла: «Открытие
Америки» («Христофор Коломб»), «Испа-
ния», «6 монахинь», «Атлантический оке-
ан», «Бруклинский мост* и другие.
Мексиканские индейцы разочаровали
так сильно, как будто павлины на глазах
превратились в куриц. Поэты и художники
очаровали. Бой быков вызвал омерзение. А
какое еще чувство он мог вызвать у челове-
ка, всей душой любящего животных? «По-
чему нужно жалеть такое человечество?» —
заметил Маяковский, вполне насладив-
шись любимым национальным зрелищем
мексиканцев.
Но, несмотря на все это, «дух необычнос-
ти и радушие» привязали его к Мексике.
30 июля Маяковский ступил на землю
Нью-Йорка. Через два дня после его приез-
да Давид Бурлюк, с которым в последний
раз они виделись в 1918 году, напечатал в
газете «Русский голос* интервью со своим
великим другом:
«Многое изменилось. За спиной у Маяковско-
го 52 изданных книги! Свое последнее издание
стихов он продал уже за 15 тысяч рублей. Его
творчество переведено уже почти на все языки, от
Китая до Лондона, от Токио до Коломбо. А Влади-
мир Владимирович также юн, также сыплет кир-
пичи своих острот...»
14 августа состоялось его первое выступ-
ление в переполненном зале Сентрал Опера
Хаус. Успех был грандиозный, даже его мо-
гучий голос с трудом смог остановить апло-
дисменты. Та же картина повторилась в за-
ле Вебстер-Холл, где Маяковский читал
лекцию «Поэзия и музыка», и в Кливленде,
в Детройте, в Чикаго, в Филадельфии...
Как восприняли Маяковского в
Нью-Йорке и как он воспринял Нью-Йорк,
видно из его беседы с американским писа-
телем Майклом Голдом (газета «Уорлд»):
«Индустриальный век — вот что хотел уви-
деть Маяковский, приехавший несколько дней
назад в Нью-Йорк. Маяковский — самый извест-
ный поэт Советской России за последнее десяти-
летие, голос ее новой бури, голос хаоса и стройки,
лауреат ее новейшей техники, апостол индустри-
ализации того народа, который еще наполовину
живет в средневековье, еще остался азиатом.
По величине, по шуму, по движению
Нью-Йорк должен был бы понравиться любому
Футуристу, но Маяковский недоволен.
— Нет, Нью-Йорк не современный город, —
говорил он, меряя шагами свою комнату непода-
леку от Вашингтон-Сквера. — Нью-Йорк не орга-
низован. Машины, метро, небоскребы и прочее —
это еще не настоящая индустриальная культура.
Это только внешние ее приметы^.. Здесь у вас есть
метро, телефон, радио, — чудес сколько угодно.
Но я иду в кино — и вижу, как огромная толпа
наслаждается глупейшей картиной, в которой
рассказывается какая-то глупая и сентименталь-
ная любовная история... Видно сразу, что суро-
вость, мудрость и правда машинного века им
чужды».
В этих словах весь Маяковский, с его
вечной тягой к невозможному, с его «у со-
ветских собственная гордость». Может
быть, в глубине души он хотел увидеть
Америку как страну воплощенной мечты,
которую он по-футуристски обозначал сло-
вами «индустриализация, машинный век».
И в этом смысле поэт разочарован, не по-
чувствовав в Америке той высокой энергии
духа, которой ожидал:
Я,
поэт.
179
Русские писатели XX века
и то американистей
самого что ни на есть
американца.
(«200%»)
Он восхищался Бруклинским мостом
(«над пылью гибели вздыбленный мост») —
и тут же презрительно называл его «при-
способленьем для простуд». Он обругал в
стихах магазины системы «Вулворт», парк
в Кони-Айленд, обывательскую пошлость
«нью-йоркских русских». Но он не был бы
самим собой, если бы даже в угоду комму-
нистическому мировоззрению написал
Америку одной краской.
«Черты нью-йоркской жизни трудны, — пи-
сал Маяковский в очерке «Нью-Йорк». — Легко
наговорить ни к чему не обязывающие вещи, из-
битые, об американцах вроде: страна долларов,
шакалы империализма и т. д.
Это только маленький кадр из огромной аме-
риканской фильмы.
...Это не грошовое скопидомство людей, толь-
ко мирящихся с необходимостью иметь деньги,
решивших накопить суммочку, чтобы после бро-
сить наживу и сажать в саду маргаритки да про-
водить электрическое освещение в курятники
любимых наседок.
Нет! В отношении американца к доллару есть
поэзия.
...У взрослых бизнес принимает грандиозные
эпические формы».
Путешествуя по Америке, Маяковский
был лишен праздного любопытства: он
смотрел на эту страну глазами поэта, кото-
рый вправе «организовать и переделывать
видимый материал, а не полировать види-
мое». Он понял, например, что Чикаго в
поэме «150 000 000» им описан «неверно,
но похоже».
Многие наблюдения Маяковского над
«миром капитала» оказались настолько
точны, что до сих пор вызывают изумлен-
ную улыбку: надо же, вот и у нас!..
Вот и у нас, например, появилась свобод-
ная пресса. «Газеты в целом проданы так
прочно и дорого, что американская пресса
считается неподкупной. Нет денег, которые
могли бы перекупить уже запроданного
журналиста. А если тебе цена такая, что
другие дают больше, — докажи, и сам хозя-
ин надбавит».
О каком времени, о какой стране это ска-
зано?
Наверняка он так же «примерял на себя»
Америку, как делал это в Париже. И навер-
няка результат был тот же: прекрасно, не-
возможно, тесно, чужое...
Конечно, он любил свою славу и хотел во
всем быть первым. Ему доставляло удоволь-
ствие то, что в Москве его узнают даже из-
возчики, что на его выступления по всей
стране собираются тысячные аудитории.
Но это не пустое тщеславие. Маяковский
должен был постоянно чувствовать «слов
набат», от которого «срываются гроба ша-
гать четверкою своих дубовых ножек». И
он сознавал, что нигде, кроме России, это
невозможно. Все дело в национальном ха-
рактере, в отношении людей к поэзии, а
главное — в языке...
В динамичной, яркой, во многом ему
близкой Америке Маяковский оказался в
том положении, которого терпеть не мог и
которого не мог объяснить нормальному
американцу:
«Не придет ему в голову, что я — ни слова
по-английски, что у меня язык подпрыгивает и
завинчивается штопором от желания поговорить,
что, подняв язык палкой серсо, я старательно на-
низываю бесполезные в разобранном виде разные
там О и Be.
... — Переведи им, — ору я Бурлюку, — что
если бы знали они русский, я мог бы, не портя ма-
нишек, прибить их языком к крестам их собст-
венных подтяжек, я поворачивал бы на вертеле
языка всю эту насекомую коллекцию...
И добросовестный Бурлюк переводит:
— Мой великий друг Владимир Владимирович
просит еще стаканчик чаю».
Граница любимых «русских безгранич-
ных слов» совпала с государственной гра-
ницей. Если и были у Маяковского мысли
об эмиграции, то после его заграничных пу-
тешествий такой вариант судьбы оконча-
тельно должен был показаться ему невоз-
можным.
В Нью-Йорке Маяковский познакомился
с Элли Джонс (Елизаветой Петровной Зи-
берт), американкой русского происхожде-
180
Владимир Владимирович Маяковский
ния. Елизавета Зиберт родилась в Башки-
рии в 1904 году в семье землевладельца из
поволжских немцев, получила хорошее об-
разование. В начале 20-х годов она познако-
милась с англичанином Джонсом, прибыв-
шим в Поволжье с миссией помощи голо-
дающим, вышла за него замуж и уехала
сначала в Англию, потом в Америку. Там
она вскоре ушла от мужа, там познакоми-
лась с Маяковским. «Ему было 32 года, мне
20, мы оба были молодыми и знали, что на-
ши отношения должны вместиться в корот-
кий промежуток времени. Это был как бы
сгусток, капсула времени», — написала
(вернее, наговорила на магнитофон) миссис
Джонс в своих воспоминаниях. По ее сло-
вам, Владимир Владимирович очень забо-
тился о том, чтобы ее не скомпрометиро-
вать: формально она была замужем и в слу-
чае развода потеряла бы американскую
визу. Элли Джонс хотела иметь от Влади-
мира Владимировича ребенка, он же саму
ее называл из-за этого «сумасшедшим ре-
бенком».
Судя по всему, чувство Маяковского к
Элли Джонс не было особенно глубоким. Но
это никак не сказывалось на его поведении:
«Проводив его на корабль и вернувшись до-
мой, я хотела броситься на кровать и плакать —
по нему, по России — но не могла: вся кровать
была усыпана незабудками. У него было так мало
денег, но это было в его стиле! Где он взял неза-
будки в конце октября в Нью-Йорке? Должно
быть, заказал задолго до этого».
«Стиль» любви Маяковского миссис
Джонс почувствовала правильно. Три года
спустя, в 1928 году, она написала ему в Па-
риж из Ниццы: «Вы же собственную печен-
ку готовы отдать собаке». К тому времени
Элен-Патриции, дочери Маяковского и Эл-
ли Джонс, было два года.
Об этом же через много лет вспоминала и
последняя любовь Маяковского, Вероника
Полонская:
«Такого отношения к женщине, как у Влади-
мира Владимировича, я не встречала и не наблю-
дала никогда... Я не побоюсь сказать, что Ма-
яковский был романтиком. Это не значит, что он
создавал себе идеал женщины и фантазировал о
ней, любя свой вымысел. Нет, он очень остро ви-
дел все недостатки, любил и принимал человека
таким, каким он был в действительности».
5 ноября 1925 года Маяковский прибыл
пароходом в Гавр, откуда через Париж и
Берлин (всюду выступления с чтением сти-
хов и американскими впечатлениями) вер-
нулся в Москву.
Последнее стихотворение, посвященное
Америке, называлось «Домой!». Оно начи-
налось строчками:
Уходите, мысли, восвояси.
Обнимись,
души и моря глубь.
Тот,
кто постоянно ясен —
тот,
по-моему,
просто глуп.
Глупой ясности в этом стихотворении не
было и помину. Сначала Маяковский при-
знался, что чувствует себя советским заво-
дом, вырабатывающим счастье. Что хочет,
чтобы Госплан давал ему задания на год,
чтобы к штыку приравняли перо и Сталин
докладывал бы «о работе стихов» от Полит-
бюро. Заканчивалось же это страстное сти-
хотворение советского поэта последним
«хочу»:
Я хочу быть понят моей страной,
а не буду понят —
что ж?!
По родной стране
пройду стороной,
как проходит косой дождь.
Впечатление, которое производил конт-
раст между всем стихотворением и его по-
следними строчками (особенно в авторском
исполнении), было настолько сильным и
ошеломляющим, что в академическом Со-
брании сочинений последние строчки сочли
за благо не печатать вовсе. Впрочем, Ма-
яковский говорил, что сам снял последнюю
строфу по совету О. Брика, который посчи-
тал, что финал слишком разнится по на-
строению со всем стихотворением...
В первые же дни по возвращении в Моск-
ву Маяковский давал интервью, читал в
181
Русские писатели XX века
Политехническом музее и в Доме печати
написанные в Америке стихи, заключал до-
говоры с Госиздатом и собирался писать ро-
ман, местом действия которого должны бы-
ли стать Москва и Ленинград с 1914 года до
современности.
РАБОТА ОСНОВНАЯ И СВЕРХУРОЧНАЯ
1926 год начался поездками: «...продол-
жаю прерванную традицию трубадуров и
менестрелей. Езжу по городам и читаю. Но-
вочеркасск, Винница, Харьков, Париж,
Ростов, Тифлис, Берлин, Казань, Сверд-
ловск, Тула, Прага, Ленинград, Москва,
Воронеж, Ялта, Евпатория, Вятка, Уфа и
т. д., и т. д., и т. д.» («Я сам»). Здесь, впро-
чем, Маяковский объединил несколько лет:
в 1926 году он за границу не выезжал. Но
поездок по стране было очень много; их
обилие напоминает то ли попытку убедить
себя, что все идет прекрасно, то ли бегство
от самого себя... Успех, впрочем, был гран-
диозный, залы в столице и в провинции ло-
мились от публики.
Галина Катанян, одна из самых серьез-
ных и проницательных слушательниц Ма-
яковского, вспоминала, как он читал сти-
хотворение «Домой!» в Тифлисе. Ей показа-
лось, что последние строки безнадежностью
и грустью перекликаются с поэзией Есени-
на, и она поделилась своим впечатлением с
Маяковским. Он ответил очень тихо и ско-
рее себе, чем Галине Дмитриевне:
♦ — ... и тихим
целующим шпал колени
обнимает мне шею колесо паровоза...
Вот с чем перекликаются эти строки,
детка*.
В 1926 году Маяковский «сознательно
переводил себя на газетчика»: писал фелье-
тоны и лозунги для «Известий», «Труда»,
«Рабочей Москвы* и других изданий, вы-
зывая привычное улюлюканье коллег по
литературному цеху.
Чувство одиночества было в тот год на-
столько острым, что поэт не смог не упомя-
нуть о нем, рассказывая, как он работал
над стихотворением «Сергею Есенину», са-
моубийство которого страшно его потрясло.
Маяковский всю жизнь пытался избыть в
себе тягу к самоубийству, и стихотворение
на смерть Есенина — одна из таких мучи-
тельных попыток.
«Работа совпала с моими разъездами по про-
винции и чтением лекций. Около трех месяцев я
изо дня в день возвращался к теме и не мог при-
думать ничего путного. Лезла всякая чертовщина
с синими лицами и водопроводными трубами. За
три месяца я не придумал ни единой строки...
Уже подъезжая к Москве, я понял, что трудность
и долгость писания — в чересчур большом соот-
ветствии описываемого с личной обстановкой. Те
же номера, те же трубы и та же вынужденная
одинокость. Обстановка заворачивала в себя, не
давала выбраться, не давала ни ощущений, ни
слов, нужных для клеймения, не давала данных
для призыва бодрости».
В Гендриков переулок на Таганке, в но-
вую квартиру с тремя «комнатами-каюта-
ми» и общей столовой, переехали втроем:
Маяковский и Брики. Жизнь рядом с жен-
щиной, которую он продолжал любить и
которая разлюбила его, едва ли была для
Владимира Владимировича идиллической,
несмотря на все старания Лили Юрьевны,
которая даже предлагала ему роман Черны-
шевского «Что делать?» в качестве образца
для подражания. Осип Максимович чувст-
вовал себя в этой ситуации спокойно: к то-
му времени у него уже была и жена, но он
продолжал жить в общей квартире с Лилей
и Маяковским, как это было между ними
договорено.
Пасынок Лили Брик, В. В. Катанян, со
слов самой Лили Юрьевны, написал о том,
как складывались в то время ее отношения
с Маяковским: «Он (известный кинорежис-
сер, понравившийся Лиле Юрьевне. —
Т. С.) не желал перейти границ дружеских
отношений, что сильно задело Лилю Юрь-
евну. Маяковский был в отъезде. Когда же
она рассказала ему об этом, «он как-то дер-
нулся и вышел из комнаты».
Нетрудно представить, какое страдание
причинило ему это откровение. Нетруд-
но представить, о чем он подумал, выйдя
из комнаты: «Вот пред тобою мое сердце,
полное любви, открытое тебе... Вот пред
182
Владимир Владимирович Маяковский
тобой я, готовый для тебя на все... Зачем
же ты...»
Не поймать меня на дряни.
На прохожей паре чувств,
Я ж навек любовью ранен.
Еле-еле волочусь.
Но Лиля Брик в отличие от него лови-
лась «на прохожей паре чувств», хотя об-
ставляла романы респектабельно, красиво
рисовала их в глазах окружающих, ут-
верждая, что так и должно быть и только
так! Она никогда не делала из своих связей
тайны.
«— Знал ли Маяковский о ваших романах?
— Знал.
— Как он реагировал?
— Молчал, — слышен ее ответ на магнитофон-
ной ленте».
Страдание стало для Маяковского неотъ-
емлемой частью жизни — очень нелегкой,
очень напряженной душевной жизни... И
огромной частью его жизни была любовь к
Лиле Брик.
Маяковский не позволял себе анализиро-
вать отношения с любимой женщиной, да-
же если эти отношения становились мучи-
тельными, и тем более в чем-то упрекать ее.
Эту черту характера и поведения отмечали
и окружавшие его люди. Например,
О. М. Брик:
«Маяковский понимал любовь так: если ты
меня любишь, значит, ты мой, со мной, за меня,
всегда, везде и при всяких обстоятельствах. Не
может быть такого положения, что ты был бы
против меня — как бы я ни был неправ, или не-
справедлив, или жесток. Ты всегда голосуешь за
меня. Малейшее отклонение, малейшее колеба-
ние — уже измена. Любовь должна быть неизмен-
на, как закон природы, не знающий исключений.
Не может быть, чтобы я ждал солнца, а оно не
взойдет. Не может быть, чтобы я наклонился к
цветку, а он убежит. Не может быть, чтобы я об-
нял березу, а она скажет «не надо». По Маяков-
скому, любовь не акт волевой, а состояние орга-
низма, как тяжесть, как тяготение».
Он не только требовал этого от других,
но в первую очередь сам был такой. Уже не-
задолго до смерти Маяковский написал рез-
кое письмо в «Комсомольскую правду», в
котором пытался защитить Лилю Брик. В
то время Брики собирались в очередную за-
граничную поездку, которая была оформле-
на как командировка за государственный
счет, хотя повод для нее всем представлял-
ся очень неясным. Возможно, это понимал
и Владимир Владимирович. Но выступить
против людей, которых он любил, было для
него немыслимо. И он написал открытое
письмо в защиту Бриков — страстное, не
добавившее ему доброжелателей...
А Галина Катанян вспоминала слова,
произнесенные однажды Маяковским:
«Если Лиличка скажет, что нужно ночью, на
цыпочках, босиком по снегу идти через весь город
в Большой театр, значит, так и надо!» ...Глупо
изображать ее злодейкой, хищницей, ловкой инт-
риганкой, как это делают иные мемуаристы, не
понимая, что этим они унижают Маяковского.
...Я не слыхала от нее ни одного банального сло-
ва, и с ней всегда было интересно. Она очень щед-
рый и широкий человек. У нее безукоризненный
вкус в искусстве, всегда свое собственное, само-
стоятельное, ни у кого не вычитанное мнение обо
всем, необычайное чутье на все новое и талантли-
вое».
Лиля Брик, как всегда, оставалась пер-
вой слушательницей стихов Маяковского,
ее точное и тонкое суждение было для него
решающим. Квартира в Гендриковом пере-
улке превратилась в своего рода литератур-
ный салон, хотя в то время подобные опре-
деления были не в ходу. Сюда приходили
Пастернак, Асеев, Мейерхольд и многие
другие, составившие славу русской культу-
ры XX века. Но любви, обычной любви
женщины к мужчине, Лиля Юрьевна к Ма-
яковскому больше не испытывала, он это
понимал, но ничего не мог с собою поде-
лать. Любимые Маяковским строки из «Ев-
гения Онегина» ложились на его судьбу
буквально:
Я знаю, век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...
Изменился тон писем Лили Брик к Ма-
яковскому: в них больше не чувствовалось
183
Русские писатели XX века
не только страсти, но даже сколько-нибудь
напряженного интереса к его жизни. Все
чаще повторялись слова: «Вышли денег...
не забудь привезти автомобильные перчат-
ки... деньги получила...»
1927 год начался борьбой за «Новый
Леф» — журнал и литературное объедине-
ние. Маяковский добивался, чтобы «Новый
Леф» на равных основаниях с союзами про-
летарских писателей был включен в Феде-
рацию объединений советских писателей.
Он не хотел числиться в советской литера-
туре «попутчиком» и написал об этом в пе-
редовой статье январского номера «Нового
Лефа».
В апрельском номере журнала появилась
заметка Маяковского «Что я делаю?»: «Что
пишу? 1. Пьесу «Комедия с убийством*.
2. Пьесу ленинградским театрам к десяти-
летию. 3. Роман. 4. Литературную автоби-
ографию к Полному собранию сочинений.
5. Поэму о женщине».
Все это явно не свидетельствует об исчер-
панности замыслов. В упомянутой литера-
турной автобиографии «Я сам* Маяков-
ский обозначил 1927-й как год «основной»
работы в газете «Комсомольская правда» и
«сверхурочной» — над поэмой «Хорошо!»,
посвященной десятилетию революции.
Маяковский считал «Хорошо!» такой же
программной для себя поэмой, как «Облако
в штанах». (Кстати, впоследствии он наме-
ревался написать поэму «Плохо». Но не на-
писал.) Программность поэмы «Хорошо!»
заключается даже не в том, что Маяков-
ский описал все события советского десяти-
летия, а в том, что он дал сжатую формулу
своего творчества:
Это было
с бойцами,
или страной,
или
в сердце
было
в моем.
Эти слова многое объясняют. Дважды
повторенное «или» не случайность; у Ма-
яковского вообще нет ни одной случайной
строчки, рифмы или аллитерации. Судя по
этим «или», поэт уже чувствовал: то, что
было с бойцами и страной, — было, воз-
можно, только в его сердце. В реальности
же... На реальность все больше приходи-
лось закрывать глаза, все больше приходи-
лось видоизменять ее в стихах, и уже не
всегда получалось это делать.
В поэме «Хорошо!» дана еще одна поэти-
ческая формула, программная не только
для Маяковского, но и для поэзии как тако-
вой: «Это сердце с правдой вдвоем*. Трудно
представить более точное, живое и загадоч-
ное определение творчества.
Не случайно и то, что в поэме Маяков-
ского среди многих картин революции и
Гражданской войны дано едва ли не самое
сильное поэтическое описание гибели вран-
гелевской армии, ее ухода из Крыма. «Зав-
трашние галлиполийцы, вчерашние рус-
ские* покидают родину, им предстоит «до-
ить коров в Аргентине, мереть по ямам
африканским». И революционный поэт не
вкладывает в свои строки о них даже тени
насмешки. Его слова так же трагичны, как
судьба этих людей, которых он считал свои-
ми врагами:
И над белым тленом,
как от пули падающий,
на оба
колена
упал главнокомандующий.
В апреле 1927 года Маяковский выехал
за границу — в Чехословакию, Францию,
Германию. В Праге на его вечер сначала
продавали билеты, потом корешки от биле-
тов, потом просто перекрыли вход, потому
что негде было не только сидеть, но даже
стоять в зале, рассчитанном на тысячу че-
ловек.
В Париже Маяковский выступил снача-
ла в советском полпредстве. Затем состоял-
ся его вечер в кафе «Вольтер», на который
пришло 1200 человек. Публика оказалась
недоброжелательной: среди слушателей бы-
ло много эмигрантов и людей, настроенных
откровенно антисоветски. Сначала Маяков-
скому пришлось голосом перекрывать
свист и шум; через некоторое время свист
прекратился, замолкли даже специально
184
Владимир Владимирович Маяковский
нанятые клакеры. Затаив дыхание эмиг-
рантский зал слушал стихи о том, что «в
наших жилах кровь, а не водица*... Энер-
гия Маяковского, его способность воздейст-
вовать на аудиторию, мощь его обаяния бы-
ли так велики, что мало кто мог перед ними
устоять.
«МОЖЕТЕ? ПОПРОБУЙТЕ...*
В следующий приезд Маяковского,
осенью 1928 года, в кафе «Вольтер* вновь
прошел его поэтический вечер, после кото-
рого Марина Цветаева на вопрос: «Что же
скажете о России после чтения Маяковско-
го?» — ответила: «Что сила — там». Она
назвала Маяковского «гармоническим мак-
симумом» и приветствовала стихами: «Ар-
хангел-тяжелоступ, здорово, в веках Вла-
димир!»
Но сам он после подобных выступлений
чувствовал себя все более измотанным,
опустошенным. И это не было обычной фи-
зической усталостью. Молодость, готовая к
борьбе со всем миром, готовая яростно до-
казывать свою правоту, осталась позади.
Теперь поэту особенно хотелось понимания,
он считал, что хотя бы это заслужил двумя
десятилетиями непрерывной, в полную си-
лу, поэтической работы. Ему не занимать
было читательского признания, особенно
среди молодежи. Но Маяковский ожидал
понимания профессионального, признания
среди поэтов, а встречал в основном за-
висть, скрытую и явную недоброжелатель-
ность. Он не отличался ангельским харак-
тером, умел наживать врагов, мог быть гру-
бым и бесцеремонным в полемических
выпадах, особенно во время публичных
диспутов, клеймил врагов направо и налево
в политических стихах. Но даже в полити-
ческих стихах сказывалась его истинно
поэтическая мощь, которую трудно было не
оценить. Что же говорить о других темах
его творчества...
В 1928 году Маяковский познакомился в
Париже с Татьяной Яковлевой. Ей посвя-
щены стихи «Письмо Татьяне Яковлевой»
и «Письмо Кострову из Парижа о сущности
любви» (Костров был главным редактором
«Комсомольской правды», в которой Ма-
яковский опубликовал эти стихи).
Татьяне Алексеевне Яковлевой в 1928
году был двадцать один год. Она была пле-
мянницей жившего в то время в Париже
русского художника-эмигранта Александра
Яковлева. По протекции автомобильного
магната Ситроена и посла Франции в СССР
ей в 1925 году удалось выехать из Пензы к
дяде для лечения от туберкулеза. В Россию
она больше не вернулась. Несмотря на
юные годы, Татьяна Алексеевна уже тогда,
несомненно, была весьма заметной женщи-
ной. Ей оказывали внимание Сергей Про-
кофьев и Жан Кокто, с семнадцати лет она
имела огромный успех во взыскательном
парижском обществе. Впоследствии ее
друзьями и знакомыми были Дали, Ларио-
нов, Пикассо, фон Караян, Бродский — и
все они отмечали красоту, ум и такт этой
женщины.
Маяковский влюбился в Татьяну Яков-
леву мгновенно, судя по стихам, с первого
взгляда:
Ураган,
огонь,
вода
подступают в ропоте.
Кто
сумеет
совладать?
Можете?
Попробуйте...
Он не поехал даже к Элли Джонс, кото-
рая ждала его в Ницце с ребенком; все было
забыто.
Вероятно, впервые он не ощутил в люби-
мой женщине испуга перед силой его
чувств — об этом тоже свидетельствует
строчка стихов: «Ты одна мне ростом вро-
вень». И вместе с тем его неожиданная лю-
бовь была «человеческая, простая». В запи-
санных на магнитофон воспоминаниях
Татьяна Алексеевна рассказала: «Я пре-
красно отдавала себе отчет, что все в его
жизни переменилось. Я сразу это почувст-
вовала. Все было так нежно, так бережно.
В первую встречу — было холодно —
он снял свое пальто в такси и укутал мои
185
Русские писатели XX века
ноги — такая, например, мелочь. ... Чело-
век был совершенно необычайного остро-
умия, обаяния и колоссального сексапила.
... Он мне не «нравился», я его полюбила*.
«Стихи Татьяне Яковлевой» полны не
только могучих, стихиям равных чувств —
поступи молний в черном небе, двигающей
горами ревности, — но и точных житей-
ских подробностей, вообще характерных
для лирики Маяковского: встреча происхо-
дит в пять часов вечера — и «стих людей
дремучий бор», для влюбленного поэта
«вымер город заселенный*. Стихи проник-
нуты отчаянием. Даже шокирующая строч-
ка: «Я не сам, а я ревную за Советскую Рос-
сию», — более всего свидетельствует имен-
но об отчаянии...
Татьяна Алексеевна проявила большой
такт и поистине аристократическую вы-
держку во всем, что касалось Лили Брик.
Это тоже наверняка произвело впечатление
на Маяковского, который, несмотря на при-
верженность ко всему советскому, даже в
стихах не забывал, что является «отпры-
ском дворянским». В нем вообще сочета-
лось несочетаемое, мучительно для него со-
четалось, и Татьяна Яковлева, вероятно,
это поняла.
Несоответствия чувств на этот раз, веро-
ятно, не было. Было другое препятствие —
неодолимое... Оказалось, гораздо легче по-
звать в Москву Эйфелеву башню, чем
Татьяну Яковлеву. Маяковский не мог не
понимать, что такая перемена судьбы для
нее невозможна, что «взять» эту женщину
можно только «вдвоем с Парижем», — а это
в свою очередь невозможно для него.
И все-таки Владимир Владимирович
звал ее — звал письмами и телеграммами.
Все время до его приезда весной 1929 года
Татьяна Алексеевна каждое воскресенье
получала из магазина цветы и визитки Ма-
яковского со стихами вроде: «Вот розы куст
проклятый, стой, где мне нельзя стоять».
Во время Второй мировой войны многие
письма Маяковского к Татьяне Яковлевой,
в том числе и эти стихи «к цветам» на ви-
зитных карточках, пропали: муж Татьяны
Алексеевны был участником Сопротивле-
ния, поэтому ей пришлось, все бросив,
скрываться, когда немцы заняли Париж.
В 1929 году, во время последнего приез-
да Маяковского в Париж, Татьяна Алексе-
евна обещала ему принять окончательное
решение по поводу ее возвращения или не-
возвращения в Москву, когда Владимир
Владимирович приедет в следующий раз:
она все не могла решиться рассказать обо
всем дяде, ей было неловко перед ним, ведь
он приложил немыслимые усилия, чтобы
вывезти ее из Советской России. К тому же
она предполагала, что ее может ожидать на
родине... Но следующего приезда Маяков-
ского уже не было: больше он заграничной
визы не получил. Какую роль сыграли в
этом его отношения с Татьяной Яковлевой,
о которых, разумеется, знали «органы»
ГПУ, достоверно неизвестно. Однако невы-
дачей визы Маяковскому ясно дали понять:
его выпускают за «железный занавес» для
того, чтобы он пропагандировал советский
строй и клеймил капитализм, а не для того,
чтобы влюблялся в каких-то эмигранток. В
последнем письме Яковлевой Маяковский
писал, что надо подумать окончательно, что
нельзя растрачивать любовь на шагание по
телеграфным столбам...
Некоторые биографы поэта считают, что
невыдаче визы Маяковскому способствова-
ла Лиля Брик. В то время один из высших
чинов ГПУ, Яков Агранов, был своим чело-
веком в доме Бриков, находился в курсе
всех их дел и контактов. И все-таки ут-
верждать что-либо без документальных
свидетельств едва ли правомерно. Говорить
можно лишь о несомненной ревности Лили
Юрьевны к Татьяне Яковлевой — главным
образом как к вдохновительнице стихов,
которые поэт до сих пор посвящал только
Лиле.
С тех пор как отношения с Л. Ю. Брик
перестали быть супружескими, у Маяков-
ского бывали увлечения, мимолетные и
серьезные. Лиля Юрьевна знала о них, вся-
чески давала понять, что относится к ним
равнодушно, однако бдительно следила,
чтобы эти отношения не перешли за грань
именно увлечений. Влияние ее на Маяков-
ского было огромным. Когда в 1927 году до
186
Владимир Владимирович Маяковский
нее дошли слухи, что Владимир Владими-
рович собирается жениться на Наталье
Брюханенко, с которой познакомился в
Госиздате и путешествовал по Крыму, Лиля
Юрьевна написала ему: «Володя, не делай
этого...» Свадьба не состоялась.
Лиля Брик дорожила ролью единствен-
ный музы великого поэта и не собиралась с
ней расставаться ни при каких условиях.
Как ни пыталась она в своих мемуарах оп-
равдать себя тем, что «благополучие» се-
мейной жизни помешало бы Владимиру
Владимировичу писать стихи, ее эгоизм
слишком очевиден.
Маяковский не приехал больше в Па-
риж. И наверняка понял, что о Татьяне
Яковлевой надо забыть, и изо всех сил ста-
рался это сделать. Осенью 1929 года Татья-
на Алексеевна вышла замуж за виконта дю
Плесси. Объяснение этому она дала прос-
тое: любви к мужу не было, но было жела-
ние иметь семью, детей, какую-то жизнен-
ную перспективу, кроме шитья шляпок на
продажу и вечного существования на дяди-
ном содержании. О том, что заграница за-
крылась для Маяковского навсегда, она до-
гадалась сразу. Кроме того, до нее дошли
слухи о том, что Маяковский начал ухажи-
вать за Вероникой Полонской, и она посчи-
тала себя свободной от обязательств по от-
ношению к нему.
Муж Татьяны Алексеевны воевал в ар-
мии генерала де Голля, был награжден ор-
деном Сопротивления и погиб во время вой-
ны. Впоследствии она уехала со вторым му-
жем в США, где умерла в 1991 году. Ее
архив в Гарвардском университете, содер-
жащий письма к ней Маяковского, до сих
пор закрыт согласно ее завещанию.
КОНЕЦ ВЕЛИКОЙ УТОПИИ
В 1928 году Маяковский активно печа-
тался в «Комсомольской правде» (его стихи
появлялись в связи с каждым значитель-
ным и не очень, политическим событием),
ездил с лекциями и чтением стихов по стра-
не. Во время этих поездок он воспринимал-
ся партийными и советскими начальника-
ми всех рангов как официальное лицо,
представитель власти, приехавший для
разъяснения текущего момента. И хотя ин-
терес людей к его творчеству по-прежнему
был огромен, Маяковский тяготился тем,
что все более вписывается в общую бюрок-
ратическую систему. Татьяна Яковлева
вспоминала, что во время пребывания в Па-
риже в 1929 году, за год до смерти, он уже
не мог скрыть разочарования в происходя-
щем на родине.
1929 год — «год великого перелома». Иг-
ры власти в полусвободу заканчивались, то-
талитарная система начинала окостене-
вать. И Маяковский по собственной воле
оказался в эпицентре этого процесса.
Газеты печатали бесконечные столбцы
объявлений: «Я, Иванов И. И., отрекаюсь
от своего отца, который...» Все труднее ста-
новилось питать себя иллюзиями, все пре-
ступнее не замечать происходящего, как
♦не замечены» были в начале двадцатых го-
дов расстрел Гумилева или высылка из
страны лучших русских философов... Не-
возможно было и дальше уговаривать себя,
будто несвобода — самое лучшее состояние
для поэта. Вероятно, в какой-то момент Ма-
яковский почувствовал: изменить в своей
судьбе что-либо уже невозможно, его путь
предопределен.
В 1928 году в Свердловске он написал
стихотворение «Император». Приехавшего
с лекциями товарища Маяковского, глав-
ного советского поэта, местное начальство
повезло посмотреть места убийства и «захо-
ронения» царской семьи — того действа,
которое он неоднократно прославлял в сти-
хах. Но одно дело — нанизывать абстракт-
ные «даешь!», призывая к классовой борь-
бе, и совсем другое — лично заглянуть в
шахту, в которую во имя этой борьбы были
сброшены останки членов императорской
семьи. Увидев это воочию, Маяковский не
смог не только в очередной раз «просла-
вить» существующую власть, но даже прос-
то промолчать.
Каждая строчка, описывающая увиден-
ную им картину, пронизана мраком и ужа-
сом: «вселенную снегом заволокло», «тучи
флагами плавают, да в тучах птичье
вранье, крикливое и одноглавое ругается
187
Русские писатели XX века
воронье», снег зловеще хрустит под шести-
пудовым председателем исполкома Парамо-
новым, ищущим то место, где «у корня под
кедром дорога, а в ней — император за-
рыт»... Единственный комментарий ко все-
му этому дан в финале, который заставляет
вспомнить пушкинское: «Ох, тяжела ты,
шапка Мономаха!» своей убийственной ла-
коничностью:
Корону
можно
у нас получить,
но только
вместе с шахтой.
Противоречия множились, разрывали
поэта, ни одно противоречие не было им
разрешено. И политического поворота на
сто восемьдесят градусов не произошло, и
стихотворные агитки Маяковский продол-
жал писать не менее активно, чем прежде,
даже, пожалуй, еще более исступленно. Но
впечатление от увиденного под Свердлов-
ском отразилось в пьесе «Клоп», над кото-
рой он в то время работал. В начале пьесы
пошлейшая Розалия Ренесанс дважды вос-
клицает, обнаружив, что селедки у частни-
ка крупнее государственных: «За что мы
убили государя императора и прогнали гос-
подина Рябушинского, а? ... На хвост, на
целый хвост больше!» Можно было бы по-
лагать, что Маяковский таким образом хо-
тел только лишь заклеймить мещанство; он
и сам неоднократно настаивал именно на
таком толковании своей пьесы. Однако ска-
зано то, что сказано: мы убили царя для то-
го, чтобы мадам Ренесанс было удобнее по-
купать селедки...
Маяковский всегда был поэтом утопии,
ею жила его поэзия, а значит, жил он сам.
В этом смысле грядущее, привидевшееся
ему в юности, то самое, в котором будет зву-
чать громовая музыка превращенных в
флейты вулканов — и летающие пролета-
рии, и город-сад на месте свинцово-ночного
Кузнецка, ради которого «мы в сотни солнц
мартенами воспламеним Сибирь», — явле-
ния одного порядка. О будущем он особенно
напряженно думал в последние свои годы.
И, судя по пьесе «Клоп», думал без малей-
шего оптимизма.
Знавший Маяковского художник Юрий
Анненков, который к тому времени жил
уже во Франции, назвал эту пьесу «разди-
рающей клоунадой на бесчеловечность че-
ловечества» .
В «Клопе» представлено как пошлое,
обывательское «сегодня» со свадьбой Эльзе-
виры Ренесанс и Присыпкина-Скрипкина
(«классовое, возвышенное, изящное и упо-
ительное торжество в организованном по-
рядке и в присутствии особы секретаря зав-
кома, уважаемого товарища Лассальчен-
ко»), так и прекрасное «послезавтра». И не-
известно, какое время навевает большую
тоску... В пошлом «сегодня* Зоя Березкина
стреляется от несчастной любви, и ее прора-
батывают за это на собрании комсомоль-
ской ячейки. В сияющем «послезавтра» ни
она, ни тем более остальные обитатели дис-
тиллированного общества не понимают да-
же, что это за чувство такое, любовь. Един-
ственное живое существо отыскивается в
светлом будущем, да и то — Клоп-Присып-
кин.
Показателен разговор, состоявшийся у
Маяковского с Дмитрием Дмитриевичем
Шостаковичем, автором музыки к спектак-
лю «Клоп». Маяковский сказал, что любит
музыку Шопена, Скрябина, Листа, но во
второй части «Клопа», где представлены
картины будущего, музыка должна быть
проста, как марши пожарного оркестра...
Пьеса «Клоп* была закончена в конце
1928 года. Присутствовавший при первом
чтении Мейерхольд был потрясен новыми
возможностями, которые открывались ею
для театра. Всеволод Эмильевич обычно на
пушечный выстрел не подпускал ни одного
автора к театру во время работы над пьесой.
Но Маяковского он настоятельно попросил
участвовать в постановке «Клопа» в качест-
ве режиссера-консультанта, чтобы показы-
вать актерам, «как они должны обращаться
с текстом». Так было и раньше при поста-
новке «Мистерии-буфф», и потом — при по-
становке «Бани». Мейерхольд понимал:
драматургия Маяковского, которую сам ав-
тор называл публицистической, — это не
188
Владимир Владимирович Маяковский
просто яркая сатира. Это принципиально
новые требования к театру: иной тип диа-
лога, пластики, композиции, всего сцени-
ческого существования. В чертах сатиры
проступала трагедия, она была изначально
заложена в смешных репликах персона-
жей, и Мейерхольд хотел, чтобы автор по-
мог актерам сделать зримой трагикомиче-
скую объемность своей пьесы.
Мейерхольд вспоминал об этой работе:
«Маяковский раздражал кое-кого потому, что
он был великолепен, он раздражал потому, что он
действительно был настоящим мастером и дей-
ствительно владел стихией большого искусства,
потому что он знал, что такое большая сила. Он
был человеком большой культуры, который пре-
восходно владел языком, превосходно владел
композицией, превосходно распоряжался сцени-
ческими законами; Маяковский знал, что такое
театр. Он умел владеть театром, ... был сведущ в
очень тонких театральных, технологических ве-
щах, которые знаем мы, режиссеры, которым
обучаются обычно весьма длительно в разных
школах, практически на театре и т. д. Маяков-
ский всегда угадывал всякое верное и неверное
сценическое решение, именно как режиссер. Он
был блестящ в области композиции (а наш театр
всегда все свои построения на сцене делал не
только по законам театра, но и по законам изо-
бразительных искусств) и всегда верно указывал
на любую мою ошибку в этой области».
Спектакль, созданный чуть более чем за
месяц, представил целое созвездие великих
имен: Маяковский, Мейерхольд, Шостако-
вич, Игорь Ильинский, сыгравший глав-
ную роль... Успех был огромный.
С начала 1929 года до сентября Маяков-
ский работал над пьесой «Баня». Тема ее
кажется очевидной — борьба с бюрократи-
ей. В пьесе много точных, до сих пор весьма
актуальных реплик, вроде замечания ре-
портера товарища Моментальникова: «Я
всегда говорил, что лучше умереть под
красным знаменем, чем под забором. Под
этим лозунгом можно объединить большое
количество интеллигенции моего толка...»
Так же очевидно и просто автор объяс-
нял название: дескать, речь идет о чистке
советских рядов, потому и называется «Ба-
ня». Однажды, правда, он обмолвился: ба-
ня — это единственное, чего нет в пьесе.
В своей последней драме Маяковский по-
казал абсолютное зло, которое с помощью
театрального увеличительного стекла,
«цирка и фейерверка* сделал фантасмаго-
рическим. Мертвая сила этого зла, вопло-
щенного в виде государственной машины,
так всеохватна, что не добралась в самом
деле разве что до бани...
Премьеру «Бани» в театре Мейерхольда
критика встретила почти всеобщим мол-
чанием. Ни особенного скандала, ни руга-
ни — провально-равнодушное недоумение.
Современники в большинстве своем сочли,
что Маяковский написал еще одно сатири-
ческое разоблачение бюрократов, и сделали
вывод: исписался... Ирреальная мощь зла,
имеющего вполне реальную, узнаваемую,
способную даже вызывать жалость оболоч-
ку, осталась непонятой.
Такое же зловещее молчание царило во-
круг выставок «Двадцать лет работы», ко-
торые Маяковский готовил в конце 1929 го-
да и открыл в феврале—марте 1930-го в
Москве и в Ленинграде. На обеих выстав-
ках было много молодежи, был немного-
численный чиновничий официоз — и обе
дружно проигнорировали коллеги-писате-
ли. Как будто о проделанной работе «отчи-
тывался» государственный чиновник, а не
гениальный поэт...
Маяковский тяжело переживал неуспех
своей пьесы и провал отчетной выставки. И
причина не только в уязвленном авторском
самолюбии. Конечно, его потребность во
всем быть первым никуда не исчезла. Ма-
яковский хотел не только признания. Он
мучительно пытался найти новые жизнен-
ные опоры, вырваться из клубка опутав-
ших его противоречий. Все мемуаристы
вспоминают, что в последние месяцы своей
жизни Маяковский выглядел необыкновен-
но мрачным, подавленным, порою расте-
рянным и даже испуганным, что еще со-
всем недавно трудно было себе представить.
Ему все тяжелее давались публичные вы-
ступления, он не находил в себе сил на по-
лемику.
Близко знавший Маяковского литерату-
ровед Борис Эйхенбаум, делая спустя пять
189
Русские писатели XX века
лет наброски воспоминаний о поэте, запи-
сал:
«О молчаливости. Казался страшно сильным,
а был хрупок. Пафос профессионализма, работы.
«Трудное и важное поэтическое дело*. Страшная
потребность в признании нужности и полезности
этого дела. ... Трудность работы поэта — специ-
фическая усталость от слова. Одаренность — не
только власть, но и рабство. Сложные отношения
со словом. Травмы*.
Далее в записях Эйхенбаума следовала
цитата из стихотворения 1926 года «Разго-
вор с фининспектором о поэзии»:
Машину
души
с годами изнашиваешь.
Говорят:
— в архив,
исписался,
пора! —
Все меньше любится,
все меньше дерзается,
и лоб мой
время
с разбега крушйт.
Приходит
страшнейшая из амортизаций —
амортизация
сердца и души.
На это состояние накладывался всегдаш-
ний страх Маяковского перед старостью.
Он боялся физического старения, которое,
по его мнению, у мужчины наступает после
тридцати пяти лет, боялся «позорного бла-
горазумия* старости... И теперь от этого
страха некому было его избавить. Может
быть, это могла бы сделать Лиля Юрьевна.
Но для того чтобы убеждать или разубеж-
дать в чем-то Маяковского, нужна была са-
моотверженная страсть, которой Л. Брик
по отношению к нему не испытывала.
Будучи остроумным, блистательным че-
ловеком, Маяковский никогда не был весе-
лым бодрячком; им и прежде овладевали
приступы мрачности, меланхолии. Но его
состояние в 1929—1930 годах отличалось
от всего, что случалось прежде.
Вероника Витольдовна Полонская до-
словно запомнила фразу, сказанную Ма-
яковским вечером перед смертью. В момент
тяжелой ссоры с нею Владимир Владимиро-
вич воскликнул: «О Господи!» В ответ на
иронический вопрос Полонской: «Неверо-
ятно, мир перевернулся! Маяковский при-
зывает Господа!.. Вы разве верующий?!» —
он сказал: «Ах, я сам ничего не понимаю
теперь, во что я верю!..»
Знакомство с Полонской прозошло
13 мая 1929 года. В то время многие слы-
шали от Владимира Владимировича слова:
спасти меня теперь может только настоя-
щая, большая любовь. Он искал такой люб-
ви и, вероятно, надеялся ее найти в Норе
Полонской.
Вероника Полонская, дочь короля рус-
ского немого кино Витольда Полонского, в
то время начинала свою артистическую
карьеру во МХАТе. Ей только что исполни-
лось двадцать лет, она была замужем за
известным актером Михаилом Яншиным.
С Маяковским она познакомилась на ип-
подроме, и в дальнейшем их отношения
развивались на глазах у многочисленных
общих знакомых, ни для кого не оставаясь
секретом.
Вероника Полонская написала подроб-
ные воспоминания о последнем годе жизни
Маяковского. Человек интеллигентный и
тонкий, она обвиняет себя в непонимании
тяжелейшего душевного кризиса, который
переживал тогда Владимир Владимирович.
Вероника Витольдовна пишет о своей жиз-
ненной неопытности, об увлеченности теат-
ром, о невозможности с кем-либо посовето-
ваться, о двусмысленности своего положе-
ния по отношению к мужу... Все это сделало
отношения с Маяковским очень нелегкими,
напряженными. Полонская полагала, что
строки о «взаимных болях, бедах и обидах»
из неоконченной поэмы «Во весь голос» и из
предсмертного письма Маяковского обраще-
ны к ней: именно эти слова, по ее мнению,
точно характеризовали их отношения.
Владимир Владимирович требовал, что-
бы она разошлась с мужем, вышла замуж
за него, оставила театр. Понимая, что сов-
местная жизнь с Бриками должна таким
образом завершиться, он вносил деньги на
строительство отдельной квартиры, добив-
шись от Полонской разрешения «ждать и
190
Владимир Владимирович Маяковский
работать». Однако решиться на последний
шаг, на резкую перемену судьбы Вероника
Витольдовна не могла. Она любила Маяков-
ского, но ее смущали его требования, пуга-
ла сила его чувств, разбивающая рамки
привычной, налаженной жизни. Были и не-
безосновательные опасения, что настроение
Лили Юрьевны переменится, что она пере-
станет демонстрировать равнодушие к ро-
ману Владимира Владимировича и потребу-
ет прекратить отношения с Норой. И как он
поведет себя в этом случае?
Вероятно, Веронику Витольдовну пугало
то, что замечали в Маяковском все близко
знавшие его люди. Эльза Триоле, напри-
мер, вспоминала о нем:
«Маяковский не был ни самодуром, ни сканда-
листом из-за пересоленного супа, он был в обще-
житии человеком необычайно деликатным, веж-
ливым и ласковым, — и его требовательность к
близким носила совсем другой характер: ему не-
обходимо было властвовать над их сердцем и ду-
шой. У него было в превосходной степени то, что
французы называют le sense de 1’absolu — потреб-
ность абсолютного, максимального чувства и в
дружбе, и в любви, чувства, никогда не ослабе-
вающего, апогейного, бескомпромиссного, без
сучка и задоринки, без уступок, без скидки на что
бы то ни было...»
«Но он был Поэт. Он хотел все преувели-
чивать. Без того он не был бы тем, кем он
был», — сказала о Маяковском Лиля Брик.
Впрочем, нужно ли считать таким уж
апогейным нежелание делить с другим лю-
бимую женщину, гиперболична ли потреб-
ность быть с нею вместе постоянно, чувст-
вовать ее безоглядную любовь?
Отношения с Полонской не стали спаси-
тельной соломинкой, за которую хотел
схватиться Маяковский. Повседневная
жизнь предлагала ему не ревновать к Ко-
пернику, а, в точности по его стихам, счи-
тать своим соперником мужа Марьи Иван-
ны, то есть предлагала именно то, что вы-
зывало у него глубокое отвращение... Жить
в спокойном, реальном мире человеку, у ко-
торого «сплошное сердце гудит повсемест-
но»,. оказалось невозможно. Нити, привя-
зывающие Маяковского к жизни, рвались
одна за другой.
СМЕРТЬ ПОЭТА
Весь 1929 год Маяковский продолжал
выступать с чтением своих произведений, с
публичным изложением своих взглядов.
Стенограммы этих выступлений оставляют
гнетущее впечатление.
Вот журнал «Даешь» организует чтение
«Бани» перед рабочими заводов Парострой,
Русскабель, Химический, Котлоаппарат и
др. Слушатели дают поэту ценные указания
по тексту и выносят резолюцию: вместе с
критиками, автором и режиссером рабочие
должны участвовать в обсуждении поста-
новки «Бани» на сцене своего клуба.
Вот Маяковский в который раз высказы-
вает на одном из бесчисленных литератур-
ных заседаний свое требование к искусству:
стать в ногу с социалистическим строитель-
ством, выйти на передовые позиции классо-
вой борьбы. Даже лексика его выступлений
поражает мертвым косноязычием:
«В вопросе отношения к поэтам надо отойти от
персональной оценки и раздачи медалей, а более
глубоко обследовать современного писателя... В
вопросах литературной политики нам ближе с
поэтами-комсомольцами, чем с напыщенными
корифеями-конструктивистами или им подобны-
ми группочками и школками... Нужно вклю-
читься в общую пропагандистскую работу орга-
нов Коммунистической партии. «Левые* фор-
мальные эксперименты — вещь лишняя и
вредная, потому что они отнимают энергию, кото-
рая может быть применена для написания нуж-
ных советскому читателю действительно художе-
ственных произведений».
Полное впечатление, что эти монологи
произносил не поразительно чуткий к сло-
ву «Маяковский, а персонаж его «Бани*
или «Клопа»!
Для многих было загадкой, почему
6 февраля 1930 года Маяковский порвал с
Рефом, в который входили близкие ему
Асеев, Брик, Родченко, Незнамов, Кирса-
нов, Кассиль, и вступил в РАПП (Россий-
скую ассоциацию пролетарских писате-
лей); его одиночество сделалось после этого
абсолютным. Маяковский прекрасно знал
цену рапповцам — их творческому ничто-
жеству, примитивности, воинствующему
191
Русские писатели XX века
невежеству. Он знал, что чужд этим писате-
лям не только своим непролетарским про-
исхождением, которого не искупали в их
глазах все сто томов его партийных кни-
жек, но, главное — несравнимым масшта-
бом личности.
Можно было бы думать, что этот посту-
пок совершен в полном расстройстве нер-
вов. Именно о болезненном, расстроенном
состоянии ума и даже речи свидетельствует
заявление, которым Маяковский сопрово-
дил свое вступление в РАПП: «Я... вхожу в
РАПП, как в место, которое дает возмож-
ность переключить зарядку на работу в ор-
ганизации массового порядка».
Но строчка из его предсмертного письма
говорит о другом. Чтобы написать перед
смертью: «... это не способ (другим не сове-
тую), но у меня выходов нет», — поэт дол-
жен был убедиться в этом окончательно.
Маяковский попробовал себя в роли офи-
циозного, государственного писателя, и по-
нял, что для него эта роль страшнее смерти.
Не нужно обладать боёльшим провидче-
ским даром, чтобы понять, к чему шло раз-
витие страны, — уж никак не к флей-
там-вулканам... Идти по этому пути дальше
— значит, воспеть убийц и оболгать уби-
тых; значит, стихами оправдывать то, что
не оправдывается совестью... Выстрел в
сердце показался ему более приемлемым
выходом.
Много лет спустя больной, затравленный
гнусными партийными постановлениями
Михаил Зощенко воскликнул: «Боже, как
прав был Маяковский! А я вот опоздал уме-
реть. ..»
О том, что самоубийство не было вызвано
творческой исчерпанностью, свидетельст-
вует последняя, неоконченная поэма «Во
весь голос», в предисловии к которой Ма-
яковский обещал рассказать «о времени и о
себе». В этой поэме он признался: «Но я се-
бя смирял, становясь на горло собственной
песне», — вызвав на десятилетия вперед
множество глубокомысленных размышле-
ний на тему: прав был поэт или не прав,
когда писал политические стихи на злобу
дня?
Проблема эта, однако, не так проста,
чтобы ее можно было решить путем дискус-
сии. Слишком велика прежде всего поэти-
ческая задача, которую всю жизнь решал
Маяковский, слишком мощно он расширил
возможности поэзии, чтобы его путь можно
было объяснить внешними, внехудожест-
венными причинами. Б. Эйхенбаум заме-
тил в своем дневнике: «У Маяковского, как
и у Державина, ... поэзию надо добывать,
как золото, из песка. И так сделано созна-
тельно, нарочно. Это, очевидно, характер-
но для эпохи. Этого требует этика художе-
ства — весь Маяковский, конечно, в остром
чувстве морали, совести. Этим он велик —
и этого нет у всех его подражателей».
Действительно, Маяковский написал ог-
ромное количество безоглядных политиче-
ских стихов, а также агиток и зарифмован-
ных призывов вроде «Мусор — в ящик!
Плюйте в урну». Но, может быть, правда
состоит в том, что именно такая тяжесть
«курганов книг, похоронивших стих* и бы-
ла необходима, чтобы из придавленного
ими горла вырывалась великая песня?
Именно ему — необходима?
Правда и в том, что в какой-то момент
эта тяжесть стала непомерной для жизни.
Маяковский думал о самоубийстве всю
жизнь. Он всегда допускал для себя такую
возможность избавиться от страшного на-
пряжения, от «жизни без кожи» (так ска-
зал о нем Владимир Высоцкий), на которую
был обречен своей гениальностью. Еще в
поэме «Флейта-позвоночник» он писал:
Все чаще думаю —
не поставить ли лучше
точку пули в своем конце.
Были и попытки самоубийства — по
меньшей мере одна, в 1916 году, связанная
с Лилей Брик; пистолет дал тогда осечку.
«Мысль о самоубийстве была хронической
болезнью Маяковского, и, как каждая хро-
ническая болезнь, она обострялась при не-
благоприятных условиях», — написала в
своих воспоминаниях Лиля Юрьевна. Одно
из главных, по ее словам, «неблагоприят-
ных условий» — когда Маяковскому при-
ходилось в бесчисленных советских инстан-
192
Владимир Владимирович Маяковский
циях доказывать что-нибудь, не требующее
доказательств...
В апреле 1930 года сошлись все условия.
1 апреля Владимир Владимирович по-
звонил Веронике Полонской в театр прямо
во время спектакля, в котором она играла,
и сказал, что он сидит один в своей комнате
на Лубянском проезде, что ему очень пло-
хо — не сию минуту плохо, а вообще плохо
в жизни... В конце разговора он вдруг спро-
сил, может ли в письме к правительству
упомянуть Полонскую в составе своей
семьи. Не поняв, к чему это спрашивается,
думая о том, что вот-вот закончится ант-
ракт, Вероника Витольдовна воскликнула:
«Боже мой, Владимир Владимирович, я ни-
чего не понимаю из того, о чем вы говорите!
Упоминайте где хотите!..»
Речь шла о предсмертном письме
«Всем», написанном за два дня до само-
убийства: «В том, что умираю, не вините
никого и, пожалуйста, не сплетничайте.
Покойник этого ужасно не любил»... Ве-
роника Витольдовна Полонская упомина-
лась в этом письме в составе семьи Маяков-
ского — вместе с матерью, сестрами и Ли-
лей Юрьевной Брик.
В предсмертном письме были стихи:
Как говорят —
«индицент исперчен»,
любовная лодка
разбилась о быт.
Я с жизнью в расчете
и не к чему перечень
взаимных болей,
бед
и обид.
На следующий день, 13 апреля Маяков-
ский и Полонская встретились у Катаева.
Вероника Витольдовна впервые видела Ма-
яковского пьяным; его мрачность и раздра-
женность не поддавались описанию. Он вы-
глядел несчастным, одиноким, совершенно
больным человеком. Между ними произо-
шел резкий, полный взаимных упреков
разговор, они поссорились. Владимир Вла-
димирович вынул пистолет, сказал, что за-
стрелится. Полонской не удавалось его
успокоить, и она сочла за благо уехать.
14 апреля в половине девятого утра Ма-
яковский заехал за Вероникой Витольдов-
ной и привез ее к себе на Лубянский проезд.
Он не отпустил такси и, войдя в комнату,
был так взволнован, что не снял пальто и
шляпу. Она торопилась на репетицию.
Вероника Полонская стала свидетельни-
цей последних минут жизни Маяковского.
О них она написала в своих воспоминаниях
с протокольной точностью.
«Владимир Владимирович быстро заходил по
комнате. Почти бегал. Требовал, чтобы я с этой
же минуты, без всяких объяснений с Яншиным,
осталась с ним здесь, в этой комнате. *.. Сегодня
на репетицию мне идти не нужно. Он сам зайдет в
театр и скажет, что я больше не приду. Театр не
погибнет от моего отсутствия. И с Яншиным он
объяснится сам, а меня больше к нему не пустит.
... Я не должна пугаться ухода из театра. Он сво-
им отношением заставит меня забыть театр. Вся
моя жизнь, начиная от самых серьезных сторон
ее и кончая складкой на чулке, будет для него
предметом неустанного внимания. Пусть меня не
пугает разница лет: ведь может же он быть мо-
лодым, веселым. Он понимает — то, что было вче-
ра, — отвратительно. Но больше это не повторит-
ся никогда. ... Я ответила, что люблю его, буду с
ним, но не могу остаться здесь, сейчас, ничего не
сказав Яншину. ... Я по-человечески достаточно
люблю и уважаю мужа и не могу поступить с ним
так. И театра я не брошу и никогда не смогла бы
бросить. Неужели Владимир Владимирович сам
не понимает, что если я уйду из театра, откажусь
от работы, в жизни моей образуется такая пусто-
та, которую заполнить будет невозможно. ... Вот
и на репетицию я должна и обязана пойти, и я
пойду на репетицию, потом домой, скажу все Ян-
шину и вечером перееду к нему совсем. Владимир
Владимирович был не согласен с этим. Он продол-
жал настаивать на том, чтобы все было немедлен-
но, или совсем ничего не надо. Еще раз я ответи-
ла, что не могу так. Он спросил:
— Значит, пойдешь на репетицию?
— Да, пойду.
— Ис Яншиным увидишься?
-Да.
— Ах, так! Ну тогда уходи, уходи немедленно,
сию же минуту.
...Потом Владимир Владимирович открыл
ящик, захлопнул его и опять забегал по комнате.
Я сказала:
— Что же, вы не проводите меня даже?
Он подошел ко мне, поцеловал и сказал совер-
шенно спокойно и очень ласково:
7 Зах. 848
193
Русские писатели XX века
— Нет, девочка, иди одна... Будь за меня спо-
койна.
Улыбнулся и добавил:
— Я позвоню. У тебя есть деньги на такси?
— Нет.
Он дал мне 20 рублей.
— Так ты позвонишь?
— Да, да.
Я вышла, прошла несколько шагов до парад-
ной двери.
Раздался выстрел. У меня подкосились ноги, я
закричала и металась по коридору: не могла за-
ставить себя войти.
Мне казалось, что прошло очень много време-
ни, пока я решилась войти. Но, очевидно, я во-
шла через мгновенье, в комнате еще стояло об-
лачко дыма от выстрела.
Владимир Владимирович лежал на ковре, рас-
кинув руки. На груди было крошечное кровавое
пятнышко.
Я помню, что бросилась к нему и только повто-
ряла бесконечно:
— Что вы сделали? Что вы сделали?
Глаза у него были открыты, он смотрел прямо
на меня и все силился приподнять голову.
Казалось, он хотел что-то сказать, но глаза бы-
ли уже неживые.
Лицо, шея были красные, краснее, чем обыч-
но.
Потом голова упала, и он стал постепенно
бледнеть*.
Вероника Витольдовна всю свою долгую
жизнь мучилась тем, что не догадалась о со-
стоянии Маяковского в эти последние ми-
нуты. Повзрослев, набравшись жизненного
опыта, она поняла, что все это высказыва-
лось им в глубочайшем отчаянии. Останься
она с ним в эти минуты — Владимир Влади-
мирович наверняка понял бы абсурдность
своих требований бросить театр, оскорбить
мужа. (Впрочем, с Яншиным он хотел пого-
ворить весь год; Вероника Витольдовна не
позволяла ему этого сделать и сама не пред-
принимала никаких шагов к разрешению
ситуации.) Маяковский был деликатен и
чуток к людям, но в эти мгновения речь
шла не о капризе, а о жизни и смерти.
Тело поэта перевезли в Гендриков пере-
улок. Дали телеграмму Брикам, которые
находились в это время в Англии. (Может
быть, Лиля Юрьевна, будь она в Москве,
смогла бы остановить Владимира Владими-
ровича, как сделала это в 1916 году, — ко-
нечно, если бы захотела... «К счастью, мне
была не свойственна роль няньки», — спо-
койно замечала она в своих воспоминани-
ях, уже после смерти Маяковского. Впро-
чем, на этот раз едва ли и она надолго удер-
жала бы его от смерти.)
Рыдали сестры, плакали и потрясенно
молчали друзья — Асеев, Пастернак, Оле-
ша, Кирсанов, Катанян... Случайно заско-
чивший журналист немедленно насплетни-
чал: «А у рапповцев-то какая паника! С ут-
ра заседают. Подумайте — не успел
вступить и уже застрелился!» Впоследствии
один из рапповцев сказал О. М. Брику: «Не
понимаю, почему столько шуму из-за само-
убийства какого-то интеллигента!» «Люди
не стреляются по двум причинам, — про-
комментировал эти слова Брик, — или по-
тому, что они сильней раздирающих их
противоречий, или потому, что у них вооб-
ще никаких противоречий нет. Об этом вто-
ром случае рапповская бездарь забыла».
В газетах тут же было напечатано пись-
мо орехово-зуевских писателей, которые
«заверяют советскую общественность, что
они крепко запомнят завет покойного не
следовать его примеру»... На митинге па-
мяти Маяковского Луначарский заявил,
что его прощальные стихи о разбившейся
любовной лодке «жалко звучат».
В стихотворении «Смерть поэта», словно
подводя всему этому итог, Пастернак напи-
сал:
Твой выстрел был подобен Этне
В предгорьи трусов и трусих.
17 апреля Маяковского хоронила вся
Москва. За то время, что гроб с его телом
стоял в помещении Федерации писателей
на улице Воровского, проститься пришли
150 000 человек. Улицы, по которым двига-
лась к крематорию Донского кладбища тра-
урная процессия, были запружены людьми
так, что невозможно было подойти близко.
Шли делегации фабрик, заводов, стояла
конная милиция. У крематория милици-
онерам пришлось стрелять в воздух, чтобы
удержать толпу. На грузовике у гроба ле-
жал единственный венок, состоявший из
каких-то молотов и маховиков, с надписью:
194
Владимир Владимирович Маяковский
«Железному поэту — железный венок»...
Вообще же цветов было множество: любовь
людей к Маяковскому была искренней, его
популярность — безграничной.
Можно было ожидать, что и посмертная
слава его будет безмерной. Но на самом де-
ле все выглядело совершенно иначе. «Про-
шло пять с лишним лет после смерти
Маяковского. Это были тяжелые для нас го-
ды, — вспоминала Галина Катанян. — Лю-
ди, которые при жизни ненавидели его, си-
дели на тех же местах, что и прежде, и как
могли старались, чтобы исчезла сама па-
мять о поэте. Книги его не переиздавались.
Полное собрание сочинений выходило
очень медленно и маленьким тиражом. Ста-
тей о Маяковском не печатали, вечера его
памяти не устраивали, чтение его стихов с
эстрады не поощрялось».
Все это заставило Лилю Брик обратиться
с письмом к Сталину. Она всю жизнь по-
мнила строчку последнего письма Маяков-
ского: «Лиля — люби меня», — и делала
все от нее зависящее для увековечения его
памяти. В письме к Сталину Л. Ю. Брик
писала о том, что книг Маяковского нет в
магазинах, что музей поэта не открывается,
что по распоряжению Наркомпроса из учеб-
ников по литературе выкинули даже поэмы
«Хорошо!» и «Ленин»...
С помощью В. М. Примакова, тогдашне-
го мужа Лили Юрьевны, который командо-
вал Ленинградским военным округом и
вскоре был расстрелян, письмо было пере-
дано Сталину. Тогда и появилась «бес-
смертная» резолюция вождя: «Маяковский
был и остается лучшим, талантливейшим
поэтом нашей советской эпохи...»
Тоталитарная система и после смерти
поэта втянула его в свои страшные игры.
После сталинского указания, по словам
Пастернака, Маяковского стали насаждать,
как картофель при Екатерине. Благо, мате-
риала для создания образа «железного со-
ветского» Маяковский оставил предоста-
точно. Все, что создавало другой образ —
гениального трагического поэта, — тща-
тельно затушевывалось. Строки вроде: «По
родной стране пройду стороной...» — прос-
то выбрасывались из книг. Не укладываю-
щееся в благостную картину имя Лили
Брик было предано забвению. Даже музей в
Гендриковом переулке закрыли для того,
чтобы убрать ее фотографии из новой му-
зейной экспозиции, а переписку с ней Ма-
яковского опубликовали на родине только в
1991 году, и то благодаря стараниям швед-
ского исследователя Б. Янгфельда. Напи-
санные в 1938 году воспоминания В. По-
лонской увидели свет лишь спустя пятьде-
сят лет, с началом перестройки.
Система сделала все, чтобы Маяковский
стал неразличим под ненавистной ему «вся-
ческой мертвечиной». Усилиями составите-
лей школьных программ он предстал перед
читателями в образе бодрячка-энтузиаста,
автора стихотворной биографии Ленина.
Сбылось горькое пророчество, высказанное
в поэме «Во весь голос»:
И, возможно, скажет
ваш ученый,
кроя эрудицией
вопросов рой,
что жил-де такой
певец кипяченой
и ярый враг воды сырой.
И все-таки, несмотря на все старания,
похоронить поэта под «хрестоматийным
глянцем» полностью не удалось...
Дело в том, что Маяковский, независимо
от отношения к его стихам, обладает одним
загадочным, необъяснимым свойством, ко-
торое сам он провидел в последней поэме:
...я шагну
через лирические томики,
как живой
с живыми говоря.
Ключевое слово здесь — «с живыми*.
Для того, чтобы услышать его могучий го-
лос через годы, надо иметь живую душу, то
есть уметь любить. И потому люди, способ-
ные на любовь, никогда не будут равнодуш-
ны к этому удивительному, противоречиво-
му, гениальному, мечтавшему о несбыточ-
ном, правому и неправому, могучему поэту
с беззащитной душой.
Потому что любовь — это сердце всего.
195
М. А. Нянковский
Евгений Иванович
Замятин
(1884—1937)
Лучшая биография писателя — это его
книги, но есть писатели, чьи судьбы сами
напоминают сюжеты захватывающих рома-
нов с неожиданными поворотами, с напря-
женными конфликтами, драматическими
событиями и отнюдь не счастливым кон-
цом. Роман о Евгении Ивановиче Замятине
следовало бы озаглавить «Великий ере-
тик», ибо никогда не шел он прямым пу-
тем, никогда не искал легких дорог, никог-
да не поступал так, как поступило бы боль-
шинство. «Неудобный писатель», он не раз
попадал в опалу у властей Российской им-
перии, но и после октября 1917 года он то-
же оказался неудобным, неудобным на-
столько, что, начиная с 30-х годов, его имя
было на полвека практически вычеркнуто
из русской литературы.
ДЕТСТВО
Е. И. Замятин родился 20 января (1 фев-
раля) 1884 года в г. Лебедяни Тамбовской
губернии (ныне — территория Липецкой
области), «среди тамбовских полей, в слав-
ной шулерами, цыганами, конскими яр-
марками и крепчайшим русским языком
Лебедяни — той самой, о какой писали Тол-
стой и Тургенев».
Отец писателя Иван Дмитриевич служил
священником в церкви Покрова Богороди-
цы, законоучителем в Лебедянской прогим-
назии, в 1899 году «Указом Тамбовской
Духовной Консистории определен на долж-
ность Благочинного Лебедянских город-
ских, кроме собора, церквей». Мать, Мария
Александровна (урожденная Платонова),
происходившая из духовного сословия, бы-
ла талантливой пианисткой. «Рос под роя-
лем, — пишет Замятин в своей автобиогра-
фии. — Года в четыре — уже читал. Детст-
во — почти без товарищей; товарищи —
книги. До сих пор помню дрожь от «Неточ-
ки Незвановой» Достоевского, от тургенев-
ской «Первой любви». Это были старшие и,
пожалуй, страшные; Гоголь был другом»
(через много лет под впечатлением от одной
из замятинских повестей, прозвучавшей в
авторском исполнении, К.Чуковский воск-
ликнет: «Что? Каково? Новый Гоголь. Не
правда ли? »).
Три года проучился Замятин в Лебедян-
ской прогимназии, жизнь в которой, по
воспоминаниям писателя, была серой, «как
гимназическое сукно». Ее однообразное те-
чение лишь иногда нарушалось вывешен-
ным на пожарной каланче красным фла-
гом, который «символизировал тогда от-
нюдь не социальную революцию, а мороз в
20 градусов», а это означало, что занятия
отменялись.
В 1896 году Евгений Замятин поступил в
Воронежскую гимназию. Из гимназической
жизни он воспроизвел в своей автобиогра-
фии случай, весьма характерный для него,
отражающий склонность будущего писате-
ля к самопознанию и самопроверке: «По-
мню: классе в 7-м, весной, меня укусила бе-
шеная собака. Взял какой-то лечебник,
прочитал, что первый, обычный срок, когда
появляются признаки бешенства, — две не-
дели. И решил выждать этот срок: сбешусь
или нет? — чтобы испытать судьбу и себя.
Все эти две недели — дневник (единствен-
196
Евгений Иванович Замятин
ный в жизни). Через две недели — не сбе-
сился. Пошел, заявил начальству, тотчас
же отправили в Москву — делать пастеров-
ские прививки. Опыт мой кончился благо-
получно».
Гимназию Замятин окончил в 1902 году
с золотой медалью, правда, медаль эта «за
25 рублей была заложена в петербургском
ломбарде — там и осталась». «В гимназии я
получал пятерки с плюсом за сочинения и
не всегда легко ладил с математикой, —
признавался писатель. — Должно быть,
именно потому (из упрямства) я выбрал са-
мое что ни на есть математическое: кораб-
лестроительный факультет Петербургского
политехникума ».
В ГОДЫ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Из провинциального Воронежа, города с
шестидесятитысячным населением, Замя-
тин приезжает в Петербург, центр русской
культуры, переживающей эпоху небыва-
лого расцвета, нового ренессанса, назван-
ную впоследствии «серебряным веком». Но
не столько литературными салонами, поэ-
тическими объединениями, шумными теат-
ральными премьерами запомнилась ему
столичная жизнь тех лет, сколько демонст-
рациями с «Марсельезой* и красными зна-
менами, предвещавшими близкие полити-
ческие потрясения — «и чем ближе к де-
вятьсот пятому году — кипенье все
лихорадочней, сходки все шумней».
Летом 1905 года Замятин в качестве
практиканта отправился на пароходе «Рос-
сия* от Одессы до Александрии («Констан-
тинополь, мечети, дервиши, базары, бело-
мраморная набережная Смирны, бедуины
Бейрута, белый Яффский прибой, черно-зе-
леный Афон, чумный Порт-Саид, желто-бе-
лая Африка...»), а по возвращении в Одессу
стал свидетелем бунта на броненосце «По-
темкин» (эти впечатления впоследствии
лягут в основу рассказа «Три дня»). В Пе-
тербург он вернулся, когда город уже
был охвачен революционными событиями.
Остаться в стороне от них Замятин не мог.
Революция влекла его тем, что ломала то-
мительное однообразие привычного жиз-
ненного уклада, взрывала ту провинциаль-
ную скуку и неподвижность, которая окру-
жала его с детства и непримиримым врагом
которой он останется навсегда. Бунтарский
дух, нежелание подчиняться общему тече-
нию жизни привели в 1905 году Замятина,
выросшего в далекой от политики патриар-
хальной семье, в самую радикальную пар-
тию, партию большевиков. «В те годы быть
большевиком — значило идти по линии на-
ибольшего сопротивления; и я был тогда
большевиком», — так объяснит он причи-
ны своего выбора. Вспоминая те бурные
счастливые годы, он напишет: «Все это сей-
час — как вихрь: демонстрации на Нев-
ском, казаки, студенческие и рабочие
кружки, любовь, огромные митинги в уни-
верситете и институтах». И неслучайно в
одном ряду с политическими событиями
упоминает Замятин о сугубо личном. Ро-
мантическая влюбленность в революцию
совпала для него с другой, не менее пылкой
юношеской любовью: в ноябре 1905 года он
познакомился с Людмилой Николаевной
Усовой, в то время слушательницей Жен-
ского медицинского института, которая
вскоре стала его женой.
11 декабря вместе с другими революци-
онерами Замятин был арестован в «штабе»
Выборгского района. Пока арестованных
обыскивали, ему удалось улучить момент и
бросить в форточку записку с просьбой
убрать из его комнаты и комнат его товари-
щей «все неподобающее*. А «неподобающе-
го» у студента политехникума было нема-
ло: и листовки под кроватью, и лежавший
прямо на подоконнике бумажный мешок со
взрывчаткой.
Три месяца провел Замятин в одиночке
Дома предварительного заключения на
Шпалерной, а 13 марта 1906 года был выс-
лан из Петербурга в родной город под над-
зор полиции. 14 марта на Николаевском
вокзале провожала его Людмила Николаев-
на. О чувствах, которые связывали моло-
дых людей, свидетельствует их переписка
периода замятинской ссылки. «В письме от
15/V Вы спрашиваете, между прочим, не
был ли я разочарован свиданием с Вами в
тюрьме. — Я скажу Вам только одну
197
Русские писатели XX века
мысль, которая родилась у меня однажды в
тюрьме: я подумал, что из-за одних свида-
ний с вами стоит сидеть!» Те же письма по-
могают понять отношения Замятина к рево-
люции, нравственные истоки его участия в
революционной борьбе. «К стимулам, тол-
кавшим раньше в борьбу, стимулам харак-
тера, так сказать, академического — после
тюрьмы, избиений, высылок, etc. присо-
единяются еще стимулы эмоциональные:
чувство солидарности с товарищами, с ко-
торыми соединяет общность пережитых
страданий, оскорблений, чувство ненавис-
ти к мучителям, желание мести и т. д.»
(6.04.1906). «Если вы искренно живете ин-
тересами тех, за кого боретесь, вы не мо-
жете быть счастливы: слишком много стра-
даний кругом и слишком много их впере-
ди, чтобы чувствовать себя счастливо»
(9.05.1906).
Высланный из Петербурга, Замятин уже
летом 1906 года, несмотря на запрет, неле-
гально приехал туда, так как не смог долго
выносить «лебедянскую тишину». Тем же
летом он побывал в сотрясаемом революци-
онными волнениями Гельсингфорсе и стал
свидетелем начала восстания в крепости
Свеаборг. Под взрывы двенадцатидюймо-
вок, «слабеющее буханье свеаборгских ору-
дий... переодетый, выбритый, в каком-то
пенсне», он вновь вернулся в российскую
столицу.
Не имея разрешения на проживание в
Петербурге, Замятин все-таки продолжил
свое образование на кораблестроительном
факультете Политехнического института.
«Борьба партий, предвыборная агитация,
афиши, памфлеты, речи, урны» — таковы
были приметы студенческой жизни тех лет,
и Замятин активно включается в общест-
венную работу: избирается членом совета
старост, своеобразного студенческого пар-
ламента, и даже на время становится его
председателем.
Окончив институт в 1908 году, он был
оставлен при кафедре корабельной архи-
тектуры, одновременно работал в Минис-
терстве торговли и промышленности в отде-
ле торговых портов, много ездил по России
по долгу службы, печатался в специальных
изданиях: в журналах «Теплоход», «Рус-
ское судоходство», «Известия Политехни-
ческого института». Однако рядом с черте-
жами и расчетами, «с листами проекта ба-
шенно-палубного судна» на рабочем столе
Замятина лежали рукописи его первых рас-
сказов.
НАЧАЛО ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА
Осенью 1908 года состоялся литератур-
ный дебют Замятина, который, однако, не
принес ему успеха. Журнал «Образование»
напечатал его первый рассказ «Один». Ис-
тория молодого человека, заключенного в
тюрьму, письма любимой девушки и свида-
ния с ней — этот сюжет был продиктован
личным опытом начинающего писателя, а
весь колорит рассказа и его трагическая
развязка (герой не выдерживает одиночест-
ва, сходит с ума и бросается в пролет тю-
ремной лестницы) были данью модной в ту
пору декадентской эстетике. Сам Замятин в
последующие годы будет вспоминать о сво-
ем первом литературном опыте со свойст-
венной ему иронией: «Когда я встречаюсь
сейчас с людьми, читавшими этот рассказ,
мне так же неловко, как при встречах с од-
ной моей тетушкой, у которой я, двухлет-
ний, однажды публично промочил платье».
В том же году закончилось пребывание
Замятина в партии большевиков. Полити-
ческая деятельность не стала делом его
жизни, уступив место тому, что действи-
тельно было его призванием — четверть ве-
ка спустя Замятин назовет себя «двоежен-
цем»: «Мои две жены: техника и литерату-
ра».
В течение пяти лет «высланному из Пе-
тербурга» Замятину удавалось водить за
нос полицию. Дважды вызывали его в по-
лицейский участок и предъявляли доку-
мент о розыске «студента университета Ев-
гения Замятина», и дважды Замятин «чест-
но» заявлял, что студентом университета
никогда не был и что в листке, вероятно,
ошибка. Только в 1911 году, когда он уже
преподавал корабельную архитектуру в Пе-
тербургском политехническом институте,
ошибка была исправлена, нелегальное пре-
198
Евгений Иванович Замятин
бывание Замятина в Петербурге обнаруже-
но и он вновь был выслан из столицы.
♦Жил сначала на пустой даче в Сестрорец-
ке, потом, зимою, — в Лахте. Здесь — в
снегу, одиночестве, тишине — ♦Уездное».
Именно эта повесть, опубликованная в 1913
году в петербургском журнале ♦Заветы»,
принесла Замятину широкую известность.
Воссозданный в ней мир российской глу-
бинки наполнен деталями провинциально-
го быта. Здесь и выморочный купеческий
дом с заколоченными окнами, и заросший
бурьяном двор, и коровья закута, где соору-
жает себе жилище герой повести. А за забо-
ром — усадьба богатой купчихи Чебота-
рихи с навсегда заведенным порядком:
♦Утром — чай, с молоком топленым, с
пышками ржаными на юраге», в полдень —
♦студень, щи, сомовина, а то и сазан соле-
ный, кишки жареные с гречневой кашей,
требуха с хреном, моченые арбузы да ябло-
ки»; а к Ильину дню — пироги.
Бытовые подробности у Замятина были
так точны и узнаваемы, а созданные им об-
разы столь реалистичны, что не обошлось и
без курьезных последствий. В одной из сво-
их статей Замятин рассказал о посещении
им редакции журнала ♦ Заветы» после пуб-
ликации повести. С ведущим критиком и
фактическим руководителем литературно-
го отдела журнала Ивановым-Разумником
он был уже знаком, но рядом с ним он уви-
дел ♦ какого-то черного, белозубого, лохма-
того цыгана». «Как только я назвал себя, —
пишет Замятин, — цыган вскочил: ♦А-а,
так это вы и есть? Покорно вас благодарю!
Тетушку-то мою вы как измордовали!» —
♦ Какую тетушку? Где?» — ♦Чеботариху, в
♦ Уездном» — вот где!»
Цыган оказался Пришвиным, мы с При-
швиным оказались земляками, а Чеботари-
ха оказалась пришвинской теткой.
Эту пришвинскую тетку я не раз видел в
детстве, она прочно засела во мне и, может
быть, чтобы избавиться от нее, — мне при-
шлось выбросить ее из себя в повесть. Жиз-
ни ее я не знал, все ее приключения мною
выдуманы, но у нее в самом деле был коже-
венный завод, и внешность ее в ♦ Уездном»
дана портретно. Ее настоящее имя в повес-
ти я оставил почти без изменения: сколько
я ни пробовал, я не мог ее назвать иначе —
так же как Пришвина не могу назвать ина-
че, чем Михаил Михалыч».
Однако при всей достоверности деталей
Замятин не просто живописует провинци-
альный быт, он изображает особый тип
бытия. Уезд у Замятина — это замкнутое
пространство, где нет места духовным по-
рывам, где невозможно движение, самораз-
витие личности. Неслучайно писатель неод-
нократно подчеркивает в повести, что изо-
браженный им мир погружен в спячку:
♦Жарынь, в дрему клонит»; ♦ставни все по-
закрыты, с полной утробой сладко спится
после обеда». И никакие тревоги внешнего
мира не проникают сквозь эти закрытые
ставни.
Вполне естественно, что и нравы людей,
населяющих это сонное царство, дики и
уродливы. Воплощением дикой стихийной
силы предстает герой ♦ Уездного» Анфим
Барыба. Толчком к созданию этого характе-
ра стало случайное дорожное впечатление.
♦ На какой-то маленькой станции, недале-
ко от Москвы, я проснулся, поднял што-
ру, — вспоминал писатель. — Перед самым
окном — как вставленная в рамку — мед-
ленно проплыла физиономия станционного
жандарма: низко нахлобученный лоб, мед-
вежьи глазки, четырехугольные челюсти.
Я успел прочитать название станции: Бары-
бино. Так родился Анфим Барыба и повесть
♦Уездное».
Этот мимолетный зрительный образ За-
мятин сумел наполнить глубоким социаль-
но-психологическим содержанием. Герой
повести — согнанный отцом со двора вели-
ковозрастный неуч. Страх перед отцом
заставляет его жить вместе с собаками на
брошенном купеческом подворье, голод
толкает в объятия сладострастной купчихи
Чеботарихи, а его неутолимая похоть при-
водит к изгнанию из ее дома. Стремясь уго-
дить своей ♦ненасытной утробе», Барыба не
останавливается перед воровством и лже-
свидетельством. Но тем не менее он обрета-
ет свое место в этом уездном мире — стано-
вится урядником. Однако это не делает его
человеком, и отец снова гонит сына со свое-
199
Русские писатели XX века
го порога. «Белый, ни разу не стиранный
еще китель, серебряные солнышки пуго-
виц, золотые жгуты на плечах» не могут
скрыть того звериного, утробного, что с са-
мого начала подчеркивает в своем герое пи-
сатель, делая лейтмотивной деталью его об-
раза «тяжкие железные челюсти*.
Публикация «Уездного» ознаменовала
появление в русской литературе самобыт-
ного писателя с особым взглядом на мир и
неповторимым языком. Высоко отозвался о
повести Замятина Горький: «Уездное» —
это «вещь, написанная по-русски, с тоскою,
с криком, с преобладанием содержания над
формой».
В 1913 году после амнистии по случаю
трехсотлетия дома Романовых Замятин по-
лучил официальное разрешение жить в Пе-
тербурге. Однако долго пробыть в столице
ему не удалось, на этот раз причиной отъез-
да стала болезнь — грудная жаба. По совету
врачей Замятин отправился в Николаев.
Там он «построил несколько землечерпа-
лок, несколько рассказов и повесть «На ку-
личках», в которой с беспощадной реалис-
тичностью, в острой, гротескной форме
поведал о быте армейского гарнизона, рас-
квартированного на Дальнем Востоке.
♦С этой повестью, — вспоминал потом
Замятин, — вышла странная вещь. После
ее напечатания раза два-три мне случалось
встречать бывших дальневосточных офице-
ров, которые уверяли меня, что знают жи-
вых людей, изображенных в повести, и что
настоящие их фамилии — такие-то и та-
кие-то, и что действие происходит там-то и
там-то. А между тем дальше Урала на наш
Восток я не ездил, все эти «живые люди*
(кроме 1/10 Азанчеева) жили только в моей
фантазии... <...> «А в каком полку вы слу-
жили?» — Я: «Ни в каком. Вообще — не
служил». — «Ладно! Втирайте очки!»
Эту способность «втирать очки», то есть
«строить даже незнакомый по собственно-
му опыту быт и живых людей в нем*, Замя-
тин считал одним из важнейших досто-
инств настоящего художника. Для того
чтобы написать правду об армейской жиз-
ни, писателю действительно не нужно было
ездить на Дальний Восток. Ее события,
как, впрочем, и события «Уездного» и на-
писанной годом позже повести «Алатырь»,
могли бы происходить в любом отдаленном,
Богом забытом уголке России, ибо в центре
внимания писателя не географическая про-
винция, а духовный провинциализм, огра-
ниченность, неподвижность человеческого
существования — тот социально-психоло-
гический фундамент, на котором легко уко-
реняется косное, животное, недочеловече-
ское.
Однако то, что люди, знавшие военную
службу непонаслышке, сочли подлинной
правдой, цензура расценила как клевету на
русскую армию. В постановлении Санкт-
Петербургского Комитета по делам печати
говорилось: «Замятин не жалеет грубых
красок, чтобы дать читателю глубоко-ос-
корбительное представление о русских офи-
церах. С этой целью Замятин подбирает в
своей повести целый ряд мелких фактов, не
останавливаясь перед весьма непристойны-
ми картинами. <...> ...по словам Замятина,
все поведение русских офицеров является
сплошным позором и обличает в них людей
грубых, отупевших, лишенных человече-
ского облика и утративших сознание собст-
венного достоинства, что, несомненно,
представляется крайне оскорбительным
для воинской чести». Комитет наложил
арест на третий номер журнала «Заветы» за
1914 год, в котором повесть была опублико-
вана, и, несмотря на ходатайства редакции,
Санкт-Петербургский окружной суд счел
содержание повести «явно противным
нравственности» и оставил постановление в
силе. Сам же автор крамольного произведе-
ния был предан суду и оправдан лишь неза-
долго до Февральской революции. Это было
первое столкновение с властями Замяти-
на-писателя.
АНГЛИЧАНИН
Несмотря на то, что известность Замяти-
на в литературных кругах все растет, он не
расстается с кораблестроением. Вступление
России в мировую войну остро поставило
вопрос об удлинении срока навигации в Бе-
лом море, а значит, и об увеличении ледо-
200
Евгений Иванович Замятин
кольного флота. В марте 1916 года Евгений
Замятин отправляется в Англию для на-
блюдения за строительством ледоколов по
русским заказам. Полтора года он трудится
на верфях Глазго, Нью-Кастла, Сэндэрлан-
да и Саус-Шилдса. При его непосредствен-
ном участии были построены несколько ле-
доколов, в том числе и такие крупные, как
«Св. Александр Невский», получивший
после революции имя «Ленин» (для этого
ледокола Замятин делал аванпроект, и ни
один чертеж корабля не попадал в мастер-
скую, пока не был проверен и подписан
им), и «Святогор», который в 1928 году уже
под названием «Красин» прославился сво-
им участием в спасении экспедиции генера-
ла Нобиле.
Во время пребывания в Англии Замятин
в совершенстве овладел английским язы-
ком и, по собственному признанию, мог пи-
сать по-английски так же свободно, как
по-русски (эти знания пригодятся ему впос-
ледствии при редактировании переводов
английской прозы). Англия оставила неиз-
гладимый след в его творчестве. «Он хочет
писать, как европеец», — скажет о нем
Горький; европейскую манеру письма отме-
тит и К. Федин. Нечто английское появится
даже во внешности Замятина. Всегда по-ев-
ропейски несколько щегольски одетый,
сдержанно-вежливый, с саркастической
улыбкой (по словам художника Анненкова,
«он улыбался даже в самые тяжелые мо-
менты своей жизни»), Замятин получил по
возвращении в Россию прозвище «англича-
нин». Маяковский обращался к нему «сэр
Замятин». Познакомившаяся с писателем
зимой 1923/24 года американская поэтесса
Бабетта Дейч так описала его внешность:
«Он больше похож на представителя анг-
ло-саксонской расы, чем на русского. Это
высокий, стройный, гладко выбритый
блондин с небольшими усами, его голубые
глаза освещаются порой неожиданной
улыбкой, похожей на вспыхивающие лам-
почки светящейся рекламы; четкими чер-
тами лица и решительными манерами он
напоминает скорее морского инженера, чем
литературного мэтра». Алексей Ремизов,
однако, иронически замечал: «Замятин из
Лебедяни, тамбовский, чего русее, и стихия
его слов отборно русская. Прозвище: «анг-
личанин». Как будто он и сам поверил — а
это тоже очень русское. Внешне было «при-
лично» и до Англии... и никакое это не анг-
лийское, а просто под инженерную гребен-
ку, а разойдется — смотрите: лебедянский
молодец с пробором!»
Может быть, по внешнему виду этого
«лебедянского молодца* действительно
можно было принять за европейца, но все
его помыслы были связаны с Россией. Без
России он не представлял своего творчества
(«Думаю, что если бы в 1917 году не вер-
нулся из Англии, если бы все эти годы не
прожил вместе с Россией — больше бы не
мог писать»), для России он строил ледоко-
лы. «Ледокол — такая же специфически
русская вещь, как и самовар. Ни одна евро-
пейская страна не строит для себя таких ле-
доколов, ни одной европейской стране они
не нужны: всюду моря свободны, только в
России они закованы льдом беспощадной
зимой — и чтобы не быть отрезанными от
мира, приходится разбивать эти оковы.
Россия движется вперед странным, труд-
ным путем, не похожим на движение дру-
гих стран, ее путь — неровный, судорож-
ный, она взбирается вверх — и сейчас же
проваливается вниз, кругом стоит треск,
она движется, разрушая», — напишет он в
1932 году, вновь оказавшись вдали от роди-
ны.
«Из Англии Замятин привез ледоколы и
повесть «Островитяне». Эта повесть — одна
из лучших в его творчестве», — напишет
позднее В. Шкловский. В своем новом про-
изведении Замятин изображает жизнь до-
бропорядочных англичан, которая внешне
гораздо респектабельнее животного сущест-
вования Анфима Барыбы, но и в ней он под-
черкивает все тот же провинциализм, все ту
же духовную замкнутость, о чем красноре-
чиво свидетельствует название повести.
С Англией связаны и впечатления писа-
теля о «машинном рае», которые вскоре
легли в основу его новых произведений. От-
давая должное достижениям западной ин-
дустрии, писатель замечал, что развитие
науки, техники, крупного промышленного
201
Русские писатели XX века
производства делает человека придатком
машины; конвейер, однообразие производ-
ственной деятельности приводят к нивели-
рованию личности, полной взаимозаменя-
емости людей, к жесткой регламентации их
жизни. Уже в «Островитянах» Замятин
предупреждает о грозящей человеку утрате
свободы и индивидуальности. Герой повес-
ти, викарий Дьюли, создает фантастиче-
ский «Завет Принудительного Спасения»,
согласно которому составляет всевозмож-
ные расписания: «расписание часов приема
пищи; расписание дней покаяния (два раза
в неделю); расписание пользования свежим
воздухом; расписание занятий благотвори-
тельностью; и, наконец, в числе прочих: —
Одно расписание, из скромности не озаглав-
ленное и специально касавшееся миссис
Дьюли, где были выписаны субботы каж-
дой третьей недели». Такой порядок вика-
рий стремится внедрить не только в свою
жизнь, но и в жизнь своих прихожан и да-
же добиться принятия государственного за-
кона «о принудительном спасении». В ме-
ханическом укладе жизни викария Дьюли
картина замкнутого, ограниченного челове-
ческого существования доведена Замяти-
ным до абсурда.
То состояние, в которое погружен мир,
изображенный в ранних произведениях За-
мятина, сам писатель назовет энтропией.
Этот термин, заимствованный из физики,
обозначает рассеяние, обесценение энергии
при переходе всех видов энергии в тепло-
вую и равномерном распределении послед-
ней между всеми телами природы. Под со-
циальной энтропией Замятин подразумевал
остановку в духовном развитии, отсутствие
движения, покой и самодовольство, кото-
рые, по мысли писателя, губительны для
мира. «Только в вечной неудовлетвореннос-
ти — залог вечного движения вперед, веч-
ного торжества, — писал он в статье «Зав-
тра» (1919—1920). — Тот, кто нашел свой
идеал сегодня, — как жена Лота, уже обра-
щен в соляной столп, уже врос в землю и не
двигается дальше. Мир жив только ерети-
ками: еретик Христос, еретик Коперник,
еретик Толстой. Наш символ веры — ересь:
завтра — непременно ересь для сегодня, об-
ращенного в соляной столп, для вчера, рас-
сыпавшегося в пыль».
«Еретики — единственное (горькое)
лекарство от энтропии человеческой мыс-
ли», — утверждал Замятин. Поэтому столь
дороги ему герои, не подчиняющиеся об-
щему течению жизни: нерастраченную че-
ловечность подмечает писатель в монахе
Евсее, портном Тимоше («Уездное»), же-
лание убежать в мир фантазий от «скуч-
ной правды* в князе-почтмейстере («Ала-
тырь»), щедрую русскую натуру в поги-
бающем на баррикадах 1905 года вечном
студенте Сене Бабушкине («Непутевый»),
одухотворенную мечту о любви в поморе
Федоре Волкове («Африка»).
Как великую ересь, способную преодо-
леть всеобщую энтропию, вывести мир из
замкнутого состояния, открыть дорогу сво-
бодному человеческому духу, воспринял
Замятин революционные события 1917 го-
да. В автобиографии он писал: «Когда в га-
зетах запестрели жирные буквы «Revolu-
tion in Russia*, «Abdication of Russian
Tsar* — в Англии стало невмочь, и в сен-
тябре 1917 года, на стареньком английском
пароходике (не жалко, если потопят нем-
цы) я вернулся в Россию».
В ЭПОХУ РЕВОЛЮЦИОННОГО РАЗЛОМА
Возвратившись в революционную Рос-
сию, Замятин оказывается в гуще полити-
ческой и литературной жизни. Возобновив
свое знакомство с Ивановым-Разумником,
примкнувшим в эти годы к левым эсерам,
Замятин сближается с возглавляемой им
группой «Скифы», идеологической основой
которой было своеобразное почвенничество
с революционным уклоном (сам образ ски-
фа заимствован у Герцена: «Я, как настоя-
щий скиф, с радостью вижу, как развалива-
ется старый мир»), «Скифство», противо-
поставляющее «вечную революционность*
«реформизму» и «духу Компромисса»,
«святое безумие» — «благоразумию», мак-
сималистские духовные требования — уме-
ренности и трезвости «всесветного Мещани-
на», оказалось духовно близко Замятину.
202
Евгений Иванович Замятин
Однако он и полемизирует со «Скифа-
ми», не соглашаясь с утверждением Ивано-
ва-Разумника, что целью духовной револю-
ции может быть не только отдаленное, но и
ближайшее будущее. В своей программной
статье «Скифы ли?» Замятин в свойствен-
ной ему метафорической манере утвержда-
ет идею вечного, неостановимого движе-
ния, бесконечного поиска, который не су-
лит обретений:
«Скиф — вечный кочевник: ныне он
здесь, завтра — там. Прикрепленность к
месту ему нестерпима. И если в дикой своей
скачке он набредет случайно на обнесенный
тыном город, он свернет в сторону. Самый
запах жилья, оседлости, щей нестерпим
скифу: он жив только в вечной скачке,
только в вольной степи».
Приветствуя Октябрь, Замятин не разде-
лял мнение тех, кто считал Октябрьскую
революцию последней, а ее победу оконча-
тельной. По его убеждению, «революция —
всюду, во всем; она бесконечна, последней
революции — нет, нет последнего числа.
Революция социальная — только одно из
бесчисленных чисел». Остановиться, отка-
заться от вечного движения, по мысли пи-
сателя, значит снова погрузиться в энтро-
пию, поддаться мещанству, важнейший
симптом которого — ненависть к свободе.
И действительно, революция, в которой
в 1905—1906 годах он видел «юную, сво-
бодную огнеглазую любовницу», на этот раз
обернулась нетерпимостью, жестокостью,
насилием.
Осенью 1917 года Замятин познакомил-
ся с Горьким и начал сотрудничать в его га-
зете «Новая жизнь», в которой тот публи-
ковал свои «Несвоевременные мысли». С
автором «Несвоевременных мыслей* Замя-
тина сближало его отношение к революци-
онной практике большевиков. «Партия ор-
ганизованной ненависти, партия организо-
ванного разрушения делает свое дело уже
полтора года. И свое дело — окончательное
истребление трупа старой России — эта
партия выполнила превосходно, история
когда-нибудь оценит эту работу. Это ясно.
Но не менее ясно, что организовать что-ни-
будь иное, кроме разрушения, эта партия,
по самой своей природе, не может. К сози-
дательной работе она органически неспо-
собна», — заявил Замятин в статье «Беседы
еретика» («О червях») 20 марта 1919 года.
В феврале 1919 года вслед за Ивано-
вым-Разумником Замятин был арестован
ЧК, а на его квартире был произведен
обыск. Писателя подозревали в связи с ле-
выми эсерами. И хотя подозрения не под-
твердились и на этот раз Замятин был осво-
божден без последствий, сам факт ареста
обозначил неизбежность будущего проти-
востояния писателя и режима, которое ра-
но или поздно должно было перерасти в от-
крытое столкновение. Замятин не встал в
ряды политической оппозиции, но он спо-
рил с большевизмом, как честный русский
писатель, который не мог не замечать
страшного «сегодня», даже искренне веря в
прекрасное «завтра».
Тревогой за судьбу человека, России, ре-
волюции пронизаны рассказы «Глаза»,
«Дракон», «Пещера», «Мамай», сказки и
публицистические статьи 1917—1921 го-
дов, самого продуктивного периода замя-
тинского творчества.
Уже в первый революционный год Замя-
тин создает цикл сказок про Фиту. Этот
крохотный человечек, появившийся из-под
кипы старых документов полицейского
управления и названный предпоследней
буквой русского алфавита, превращается в
диктатора, который, заботясь о «благе на-
рода», указом отменяет холеру, «строжай-
ше» предписывает своим подданным «неук-
лонную свободу песнопений и шествий в
национальных костюмах» и наконец разме-
щает всех жителей в одном бараке, «вроде
холерного, длиной семь верст и три четвер-
ти», одевает всех в «серого сукна унифор-
му* с медной бляхой-номером. Пародируя
обязательные атрибуты литературной уто-
пии, Замятин обращается к щедринской
традиции: замятинский Фита воплощает
предсказанное в «Истории одного города»
сочетание идеи нивелляторства, насильст-
венной уравниловки, запечатленной в обра-
зе Угрюм-Бурчеева, «с идеей всеобщего ос-
частливления». Сказки Замятина, как и
203
Русские писатели XX века
сказки его великого предшественника, при-
обретают характер политической сатиры.
В марте 1918 года Замятин публику-
ет рассказ «Глаза» — щемящую историю
дворняги с человечьими глазами, проме-
нявшей с таким трудом обретенную свободу
на новую цепь и миску с куском тухлого
мяса. Рассказ, который сегодня может быть
прочитан как философская притча, подни-
мающая вечную проблему выбора между
свободой и счастьем, свободой и сытостью,
в те годы звучал как злободневная полити-
ческая аллегория.
«Мы пережили эпоху подавления масс;
мы переживаем эпоху подавления личнос-
ти во имя масс; завтра принесет освобожде-
ние личности во имя человека», — так оце-
нивал Замятин перспективы революции на
рубеже 1919—1920 годов. Но позиция ере-
тика Замятина на этом историческом пере-
путье принципиально отличалась от пози-
ции многих его собратьев по перу, которые
тоже увидели в революции путь к освобож-
дению личности. Нарождающаяся совет-
ская литература, исполненная безгранич-
ной веры в безоблачное завтра, утверждала
временность революционного кризиса. Эта
романтическая устремленность в будущее
отразилась, например, в поэзии Маяковско-
го, писавшего в 1918 году:’
Там, за горами горя
Солнечный край непочатый.
Маяковский, как бы отодвигая страшное
настоящее, уже живет в будущем. Замятин
же пристально всматривается в сегодняш-
ний день, и вместо светлых пейзажей буду-
щего на страницах его прозы начинают
мелькать образы далекого прошлого: то
тень жестокого завоевателя Мамая, то
мрачные пещеры каменного века. Непо-
движная, сонная, замкнутая жизнь, какой
она изображена в «Уездном», выведена из
равновесия и предстает в рассказах 1918—
1920 годов, то в виде бешено мчащегося вон
из человеческого мира трамвая («Дракон»),
то в образе корабля, несущегося по волнам
«разбунтовавшегося каменного океана»
(«Мамай»). Курс корабля не ясен, не указан
и пункт назначения трамвая. Куда же
мчится выведенный из равновесия мир?
Что победит в человеке: духовное, гуманис-
тическое — или звериное, утробное, уезд-
ное?
С легкостью и невозмутимым спокойст-
вием рассказывает красноармеец — герой
«Дракона» — о том, как расправился с ка-
ким-то интеллигентом («Довел: без пере-
садки — в царствие небесное. Штычком».),
а через минуту бережно согревает своим ды-
ханием замерзшего воробьенка. Украсть,
чтобы выжить, или погибнуть от холода, но
остаться человеком, — решает и все не мо-
жет решить герой рассказа «Пещера». С со-
дроганием слушает тихий петроградский
книголюб Петр Петрович Мамай, вышед-
ший на ночное дежурство, рассказ дворни-
ка о том, как доводилось ему убивать шты-
ком на японской войне: «Оно вроде как в
арбуз: сперва туго идет — корка, а потом
ничего, очень свободно». Но уже через день
добродушный Мамай с кинжальчиком для
книг в руках бросится на мышь, превратив-
шую спрятанные под полом последние
деньги в бумажную труху: «И мечом крово-
жадно Мамай пригвоздил врага. Арбуз: од-
ну секунду туго — корка, потом легко —
мякоть, и стоп: квадратик паркета, конец».
Революционный разлом, породивший
страх, голод, холод, пробудил в человеке
животные инстинкты. «Гордый хомо ерек-
тус1 становится на четвереньки, обрастает
клыками и шерстью, в человеке побеждает
зверь. Возвращается дикое средневековье,
стремительно падает цена человеческой
жизни», — с тревогой замечает Евгений За-
мятин в одной из своих статей 1919—1920
годов.
И когда общим местом для советской ли-
тературы становится непримиримое отри-
цание прежнего бытового уклада, саркасти-
чески насмехавшийся прежде над мещан-
ским бытом Замятин вдруг обнаруживает
именно в деталях быта приметы духовнос-
ти, человеческой индивидуальности. Так,
поэтически одухотворены в его рассказах
старинные книги («Мамай»), ноты скря-
1 омо еректус (лат.) — человек стоящий.
204
Евгений Иванович Замятин
бинского сочинения, письма, пепельни-
ца-деревянный конек («Пещера»).
Отрекаясь от дня сегодняшнего, револю-
ционные романтики создавали идеальную
модель дня завтрашнего. Замятин модели-
рует будущее, опираясь на сущностные чер-
ты настоящего. О каком будущем может
мечтать человек, перед которым настоящее
поставило единственную задачу — физиче-
ски выжить; который лицом к лицу столк-
нулся с угрозой голодной смерти, физиче-
ской расправы? На этот вопрос Замятин от-
вечает романом-антиутопией «Мы», в
котором создает модель мира будущего, где
человек не знает ни страха, ни голода, ни
холода, где найдена долгожданная гармо-
ния общественного и личного, где все граж-
дане обрели наконец желаемое счастье. Од-
нако этот идеальный с точки зрения уто-
пистов общественный уклад достигнут
насильственным упразднением свободы.
Всеобщее счастье здесь создается не как
счастье каждого, а как подавление отдель-
ной личности, ее нивелировка, а то и физи-
ческое уничтожение. Материальные проб-
лемы были решены в ходе Двухсотлетней
войны между городом и деревней, в кото-
рой победа над голодом была одержана за
счет гибели 0,8 населения. Что касается ду-
ховных запросов, то государство пошло не
по пути их удовлетворения, а по пути их по-
давления, ограничения, строгой регламен-
тации. Оно отняло у своих граждан способ-
ность к интеллектуальному и художествен-
ному творчеству, заменив его Единой
Государственной Наукой, механической
музыкой и государственной поэзией, и да-
же великое чувство человеческой любви
свело к «приятно-полезной функции орга-
низма». Все в жизни граждан единого Госу-
дарства просчитано с математической точ-
ностью, а то, что находится вне ratio, на-
всегда изгнано из их мира. Неслучайно в
вымышленной стране, созданной воображе-
нием Замятина, живут не люди, а нумера,
лишенные имен, облаченные в униформу.
Всеобщее равенство — то, о чем мечтали
утописты всех времен и народов, — оберну-
лось всеобщей одинаковостью и усреднен-
ностью. Глубоко символично и то, что эта
страна обнесена Зеленой Стеной. Страна ис-
кусственного счастья напоминает замкну-
тый, отгороженный от всей вселенной ост-
ров, — все тот же уезд, только заменивший
ржаные пышки и студень нефтяной пищей,
все тот же Алатырь, только сверкающий ог-
нями прозрачных жилищ. Общество, изо-
браженное в романе, достигло материально-
го совершенства и остановилось в своем раз-
витии, погрузившись в состояние духовной
и социальной энтропии.
Взорвать энтропию, спасти мир от «по-
следнего сна», как и всегда у Замятина,
призваны герои-еретики. Всем своим пове-
дением бросает вызов Единому Государству
загадочная 1-330. Не принимая всеобщего
«сдобного» счастья, она заявляет: «...я не
хочу, чтобы за меня хотели другие, а хочу
хотеть сама». В разговоре с ней главный ге-
рой романа — математик, строитель Интег-
рала, нумер Д-503 — утверждает, что та ре-
волюция, которая создала их общество, бы-
ла последней и больше никаких революций
не может быть, потому что «все уже счаст-
ливы». Но героиня возражает: «Положим...
Ну хорошо: пусть даже так. А что дальше?»
Как и прежде, Замятин утверждает в ро-
мане идею бесконечной революции, как и
прежде, его любимые герои — те, кто спосо-
бен заглянуть за грань дозволенного.
Под влиянием своей возлюбленной
Д-503 переживает духовную эволюцию: от
осознания себя микробом в этом мире он
приходит к ощущению целой вселенной
внутри себя. И в этом он не одинок. Едино-
му Государству, его абсурдной логике в ро-
мане противостоит пробуждающаяся то в
одном, то в другом нумере душа, то есть
способность чувствовать, любить, страдать.
Душа, которая и делает человека челове-
ком, личностью, индивидуальностью.
Замятин работал над романом в 1920—
1921 годах, в 1923-м читал его на литера-
турных вечерах в московском и ленинград-
ском отделениях Всероссийского союза пи-
сателей. Доклад Замятина о романе и чте-
ние самого произведения звучали на
заседании комитета по изучению современ-
ной литературы при Государственном инс-
титуте истории искусств. Неоднократно в
205
Русские писатели XX века
печати появлялись объявления о готовя-
щейся публикации романа. Замятин пы-
тался напечатать его сначала в издательст-
ве «Алконост», затем в издательстве Грже-
бина в четвертом томе своего собрания
сочинений (1922), в издательстве «Круг»
(1923), отдельными главами в журнале «За-
писки мечтателей», в редактируемом им
журнале «Русский современник». Все эти
попытки не имели успеха.
В 1924 году роман впервые появился в
США в переводе на английской язык, поз-
же он был переведен на чешский (вышел
отдельным изданием в Праге в 1927 году) и
на французский (отдельное издание появи-
лось в Париже в 1929 году). Первая публи-
кация на русском языке в пражском жур-
нале «Воля России» (в сокращенном вари-
анте, в обратном переводе с чешского) была
осуществлена без согласия автора.
Хотя роман и не был издан на родине пи-
сателя, благодаря публичным чтениям и
широкому распространению рукописи он
получил известность в литературных кру-
гах. Восприятие романа современниками
Замятина было неоднозначным. Творче-
ской удачей писателя сочли роман прежде
всего те критики, для которых главным
критерием оценки литературного произве-
дения являлись его художественные досто-
инства. Так, например, Ю. Н. Тынянов в
статье «Литературное сегодня» (1923) пи-
сал о романе: «Фантастика вышла убеди-
тельной. Это потому, что не Замятин шел к
ней, а она к нему. Это стиль Замятина толк-
нул его на фантастику. <...> Удача Замяти-
на — личная удача, его окристаллизован-
ный роман цельным сгустком входит в ли-
тературу». Критик Яков Браун высоко
оценил не только художественное мастерст-
во, но и высоту философского прозрения ав-
тора, связав его идеи с идеями Достоевско-
го, воплощенными в легенде о Великом
Инквизиторе и в «Записках из подполья*.
Однако гораздо больше было негативных
отзывов, и носили они, как правило, поли-
тический характер. Редактор «Красной но-
ви» А. К. Воронский хотя и отметил, что «с
художественной стороны роман написан
превосходно», но высказал полное несогла-
сие с авторскими идеями. Он писал Замяти-
ну о его романе: «Очень тяжелое впечатле-
ние. По совести. Неужели только на это
вдохновил вас Октябрь и что после было
до наших последний дней? <...> Рано еще
по нас такими сатирами стрелять. Как-то
не туда, куда нужно, вы смотрите. <...>
На разных плоскостях мы стоим». В конце
20-х годов в печати возобладают именно по-
литические оценки романа, а их тон будет
становиться все более резким. «Неистовые
ревнители пролетарской чистоты» назовут
его «памфлетом против социализма», «пас-
квилем на коммунизм и клеветой на совет-
ский строй», «низким пасквилем на соци-
алистическое будущее».
Увы, не только недруги, но и многие
близкие писателю люди не приняли его но-
вую книгу. Горький писал: «Мы» — отча-
янно плохо, совершенно не оплодотворен-
ная вещь. Гнев ее холоден и сух, это — гнев
старой девы». Чуковский отмечал в дневни-
ке: «Ой, как скучно, и претенциозно, и нич-
тожно то, что читал Замятин. Ни одного
живого места, даже нечаянно. <...> Роман
Замятина «Мы» мне ненавистен. Надо быть
скопцом, чтобы не видеть, какие корни в
нынешнем социализме. Все язвительное,
что Замятин говорит о будущем строе, бьет
по фурьеризму, который он ошибочно при-
нимает за коммунизм».
Сам Замятин в 1932 году в интервью
французскому критику Ф. Лефевру так
объяснял замысел своего романа: «Близо-
рукие рецензенты увидели в этой вещи не
больше, чем политический памфлет. Это,
конечно, неверно. Этот роман — сигнал об
опасности, угрожающей человеку, челове-
честву от гипертрофированной власти ма-
шин и власти государства — все равно ка-
кого».
Сигнализировать о подстерегающих
опасностях, как это делает «матрос, по-
сланный вверх, на мачту, откуда ему видны
гибнущие корабли, видны айсберги и маль-
стремы, еще неразличимые с палубы», —
именно так представлял себе Замятин зада-
чу истинного писателя. Однако он видел,
как многие его собратья по перу, даже те,
чье творчество некогда поражало бунтар-
206
Евгений Иванович Замятин
ской силой, отказываются от своего предна-
значения в угоду политической конъюнкту-
ре.
В статье «Я боюсь» (1921) Замятин цити-
рует декрет Комитета по народному просве-
щению времен Французской революции:
«Есть множество юрких авторов, постоянно
следящих за злобой дня; они знают моду и
окраску данного сезона; знают, когда надо
надеть красный колпак и когда скинуть...
В итоге они лишь развращают вкус и при-
нижают искусство». Замятин с болью и тре-
вогой замечает, что если Французская рево-
люция этим декретом «гильотинировала
переряженных придворных поэтов», то
русская революция преподносит народу
творчество «юрких» писателей как истин-
ную литературу, достойную революции. По
мысли самого писателя, «настоящая лите-
ратура может быть только там, где ее дела-
ют не исполнительные и благонадежные
чиновники, а безумцы, отшельники, ерети-
ки, мечтатели, бунтари, скептики». Он был
глубоко убежден, что народу в революцион-
ную эпоху нужны не только оды, воспеваю-
щие достижения революции, но и жестокая
бичующая правда, ибо только она способна
спасти мир от успокоенности и самодоволь-
ства, от замкнутости и неподвижности. «Я
боюсь, что настоящей литературы у нас не
будет, пока не перестанут смотреть на демос
российский, как на ребенка, невинность ко-
торого надо оберегать. Я боюсь, что настоя-
щей литературы у нас не будет, пока мы не
излечимся от какого-то нового католициз-
ма, который не меньше старого опасается
всякого еретического слова. А если неизле-
чима эта болезнь — я боюсь, что у русской
литературы одно только будущее: ее про-
шлое».
Что касается самого Замятина, то вся его
деятельность первых революционных лет
была продиктована именно заботой о буду-
щем литературы.
Вместе с М. Горьким, А. Н. Тихоновым,
А. Л. Волынским и К. И. Чуковским он во-
шел в редакционный совет издательства
«Всемирная литература», ставившего перед
собой задачу «издать всех классиков всех
времен и всех народов». Здесь под его ре-
дакцией выходили переводы зарубежных
писателей, в том числе Г. Уэллса, Д. Лондо-
на, Б. Шоу, Э. Синклера, О. Генри. Уэллсу,
Лондону и О. Генри посвящены глубокие
литературно-критические статьи Замятина
(творчество Уэллса, с которым он познако-
мился лично в октябре 1920 года, было
особенно близко Замятину глубиной соци-
ально-философского анализа, сплавом фан-
тастики и реальности, подчеркнутой услов-
ностью).
Участвовал Замятин и в работе по созда-
нию Петроградской секции возникшего в
1920 году Всероссийского союза писателей
(ВСП), стал членом правления, а позже и
председателем его ленинградского отделе-
ния.
Он был одним из инициаторов возрожде-
ния основанной при участии Пушкина «Ли-
тературной газеты». Первый номер газеты
был уже сверстан, когда ЦК партии сочло
его содержание и кадровый состав редак-
ции не отвечающими требованиям полити-
ческого момента. Номер из печати не вы-
шел.
В первые послереволюционные годы За-
мятин также сотрудничал в издательствах
«Алконост», «Петрополис», «Мысль», в
комитете Дома литераторов, в секции ис-
торических картин Театрального отдела
Наркомпроса (ТЕО), читал курс новейшей
русской литературы в Педагогическом инс-
титуте им. Герцена.
Принципиальная позиция и высокое пи-
сательское мастерство сделали Замятина
чрезвычайно авторитетным среди творче-
ской молодежи. В июне 1919 года при изда-
тельстве «Всемирная литература* откры-
лась студия по изучению мастерства пере-
вода. Вскоре студию начали посещать
молодые, начинающие писатели, в том чис-
ле Л. Лунц, М. Слонимский, В. Познер,
М. Зощенко. Постепенно студия преврати-
лась в своеобразный клуб молодых писате-
лей, не столько увлеченных переводческой
деятельностью, сколько стремившихся к
оригинальному творчеству. Осенью того же
года студийцы перекочевали в только что
открытый стараниями Горького и Чуков-
ского на Невском проспекте в здание елисе-
207
Русские писатели лл века
евского магазина Дом искусств. Поэтиче-
ский семинар в студии возглавил Н. Гуми-
лев, отдел критики — В. Б. Шкловский.
Замятин, являясь членом совета Дома ис-
кусств, читал студийцам вплоть до 1922 го-
да курс лекций по технике художественной
прозы.
Замятин утверждал, что «есть большое
искусство и малое искусство, есть художе-
ственное творчество и есть художественное
ремесло». Понимая, что нельзя научить че-
ловека писать «Чайльд-Гарольдов» и «Лун-
ные сонаты», он тем не менее был глубоко
убежден, что основам ремесла учить моло-
дых писателей можно и должно.
Опираясь прежде всего на свой творче-
ский опыт, Замятин формулирует в лекци-
ях (их конспекты сохранились в архивах
писателя и опубликованы в 80-е годы) важ-
нейшие законы прозаической техники,
размышляет о сюжете и фабуле, о языке,
инструментовке, о ритме в прозе, о стиле, о
психологии творчества. Безусловно, выве-
денные им принципы нельзя признать уни-
версальными, но многое из того, что содер-
жится в замятинских лекциях, действи-
тельно принципиально важно для тех, кто
хочет постичь секреты писательского ре-
месла. Кроме того, эти лекции помогают
осмыслить эстетические принципы самого
Замятина, так как в них он определяет
важнейшие особенности своего художест-
венного метода — неореализма, искусства,
синтезирующего реалистические традиции
и открытия модернизма.
О плодотворности преподавательской де-
ятельности Замятина свидетельствует и тот
факт, что именно из литературной студии
Дома искусств в 1921 году выделилась одна
из самых ярких и независимых литератур-
ных группировок 20-х годов — «Серапионо-
вы братья». Входившие в нее М. Зощенко,
В. Каверин, К. Федин, Л. Лунц, И. Груздев,
Н. Никитин, М. Слонимский, Н. Тихонов,
Вс. Иванов, Е. Полонская считали Замяти-
на своим наставником. В шуточных стихах
о «Серапионах» Ел. Полонская писала:
Была ли женщина — их мать?
Вопрос и темен и невнятен.
Но можно двух отцов назвать —
То были Шкловский и Замятин.
Неслучайно «Серапионы» преподнесли
первый выпуск своего совместного альма-
наха Замятину с дарственными надписями,
в которых назвали его «любимым учите-
лем» (Л. Лунц). Замятин стал и первым ре-
цензентом сборника «Серапионовых брать-
ев*.
Федин, которого Замятин считал одним
из наиболее талантливых своих учеников,
вспоминает в своей книге «Горький среди
нас», как в тесной прокуренной комнате «в
конце коридора елисеевского дома» собира-
лись молодые «Серапионы» и их наставни-
ки: Ольга Форш, Мариэтта Шагинян, Евге-
ний Замятин, Корней Чуковский и Виктор
Шкловский: «Чуковский читал перевод ве-
селого и виртуозного романа О. Генри —
«Короли и капуста», Шагинян — назида-
тельные статьи по искусству, Форш — мос-
ковские бытовые рассказы. Покуривая из
тоненького мундштука, ловко выплевывая
кольца дыма, скептически улыбался Евге-
ний Замятин». «Замятин, — по мнению Фе-
дина, — был вообще того склада художни-
ком, которому свойственно насаждать по-
следователей, заботиться об учениках,
преемниках, создавать школу». Несмотря
на расхождения в эстетических вкусах, Фе-
дин называет своего учителя «гроссмейсте-
ром литературы», подчеркивает уникаль-
ность замятинского стиля: «Если крупного
писателя можно угадать по любой страни-
це, то Замятина нехитро угадать по любой
фразе».
Будучи одной из авторитетнейших фи-
гур в литературной жизни Петрограда, За-
мятин тем не менее подвергался сокруши-
тельной критике в большевистской печати.
Особенно сильные нападки обрушились на
две сказки Замятина — «Арапы» и «Цер-
ковь божия», написанные в 1920 году и
опубликованные в 1922-м. С. Городецкий
назвал их «идеологической плесенью», га-
зета «Правда» обвинила автора в контрре-
волюционности, определяя его произведе-
ния как «сюсюкающие обломки старого
строя», «огрызки эмигрантщины». Совет-
208
Евгений Иванович Замятин
ская критика видела в Замятине скрытого
белогвардейца. Ответом на эти обвинения
стало письмо Воронскому, в котором Замя-
тин призывал своего адресата и всех комму-
нистов «научиться отличать белый цвет от
другого. Белые — вовсе не те, кто видит
< недостатки в происходящей жизни >
ошибки во всем, что творится кругом, и
имеет смелость говорить о них. И крас-
ные — вовсе не те, кто орет ура всему, что
ни делается».
Замятин никогда не изменял своим рево-
люционным убеждениям, но когда увидел,
что революция, свершившаяся во имя идеа-
лов свободы и раскрепощения личности,
вновь закабалила человека, он продолжал
бороться за эти идеалы, только теперь уже
против иного противника свободы личнос-
ти, пришедшего на место поверженного. Он
не был ни белогвардейцем, ни контррево-
люционером, но тем не менее никогда не
примкнул к хору тех, кто кричал ура. И,
наверное, неслучайно Троцкий назвал За-
мятина «внутренним эмигрантом».
В августе 1922 года Замятин вновь был
арестован и по странному совпадению ока-
зался на Шпалерной, в той самой галерее,
где содержался под стражей в 1905—1906
годах. На допросе Замятин о своих полити-
ческих убеждениях заявил следующее:
«Считаю, что Советская власть впоследст-
вии может быть одной из наиболее удачных
государственных организаций, после исп-
равления «маленьких недостатков меха-
низма» <...> Считаю, что в данный момент,
когда существующая власть в России,
по-моему, совершенно укрепилась — в ин-
тересах Советской власти — политика не
репрессий, но, главным образом, идейной
борьбы. Задача интеллигенции в России —
быть мозгом страны, и если он видит «недо-
статки механизма» — говорить о них».
ГПУ предъявило ему обвинение в том, что
он «с момента октябрьского переворота до
настоящего времени не только не прими-
рился с существующей в России Рабо-
че-Крестьянской Властью, но ни на один
момент не прекращал своей антисоветской
деятельности, причем в моменты внешних
затруднений для РСФСР свою контррево-
люционную деятельность усиливал». В со-
ставе большой группы философов, писате-
лей и историков его должны были «бессроч-
но* выслать из России. Замятин не
согласился с предъявленными обвинения-
ми, но, по воспоминаниям одного из бли-
жайших друзей писателя, художника
Юрия Анненкова, был чрезвычайно обрадо-
ван высылке, так как понимал, что литера-
турная и общественная деятельность его
становится в создавшихся условиях невоз-
можной. Об этом свидетельствует и данная
им подписка, в которой он обязуется в
двухнедельный срок уехать в Германию.
Однако, по-видимому не зная об этом жела-
нии Замятина, друзья начинают хлопотать
о его освобождении. За Замятина ходатай-
ствуют издательство «Всемирная литерату-
ра», Политехнический институт, Всерос-
сийский союз писателей (ходатайство от пи-
сателей подписано А. Ахматовой).
В группу вынужденных покинуть роди-
ну деятелей русской культуры и науки За-
мятин не вошел, 9 сентября его освободили
под подписку о невыезде, и через несколько
дней на Николаевской набережной в Петро-
граде он провожал первый «философский
пароход» «Обербургомистр Хакен», отправ-
лявшийся из Петрограда в Штеттин, прово-
жал тех, чью участь ему пока не пришлось
разделить: Осоргина, Бердяева, Карсавина,
Волковысского и других. «Провожающих
было человек десять, не больше, — вспоми-
нает присутствовавший при этом Ю. Ан-
ненков, — многие, вероятно, опасались от-
крыто прощаться с высылаемыми «врага-
ми» советского режима».
В сентябре — октябре 1922 года Замятин
сам просил об отъезде, но получил реши-
тельный отказ. Однако высылка его была
лишь отсрочена. 11 октября 1923 года ему
и его жене Людмиле Николаевне были вы-
писаны заграничные паспорта. Ей — как
провожающей «высылаемого за границу».
В январе 1924 года Замятин получает пас-
порта, но неоднократно (с января по март)
обращается в ГПУ с просьбой об отсрочке
высылки до начала навигации, объясняя
свою просьбу необходимостью создать воз-
можный комфорт в дороге для больной ту-
209
Русские писатели XX века
беркулезом жены. Быть может, понимая
невозможность нормально жить и работать
в России, он тем не менее не решается поки-
нуть родину, еще надеясь на лучшее и не
утратив веру в революцию как преобразую-
щую и обновляющую стихию. Если в пись-
мах, написанных летом 1923 года, Замятин
признается, что охотно поехал бы за грани-
цу (при этом, как правило, оговаривается,
что поехал бы лишь на время), то к осени
он, по-видимому, принял решение остаться
в России. Однако и власти не сразу решают,
как поступить с Замятиным. В заключении
ГПУ по поводу просьбы об отсрочке сказа-
но: «...поскольку антисоветская деятель-
ность гр. Замятина установлена, нельзя
быть уверенным в том, что отсрочки выезда
из пределов РСФСР не будут им использо-
ваны для своей настоящей и подготовки к
будущей вредной деятельности». И все-та-
ки отсрочка ему предоставляется, а 8 авгус-
та 1924 года дело в отношении Замятина
было прекращено. Высылка Замятина не
состоялась.
В ГОДЫ НЭПА
Писатель остается в России и вновь с го-
ловой уходит в редакционно-издательскую
деятельность. Он редактирует журнал «Дом
искусств», становится одним из организа-
торов журнала «Современный Запад» («Хо-
тим отразить нового человека, возникшего
в Европе после войны и революции, хотя
этот человек, кажется, не слишком пригля-
ден», — писал соредактор Замятина К. Чу-
ковский). Особые надежды возлагал За-
мятин на издание журнала «Русский сов-
ременник», к работе над которым он
приступил в феврале 1924 года.
Формально во главе журнала стоял Горь-
кий, живший в то время за границей. Ре-
ально всю работу на себя взяли А. Н. Тихо-
нов, А. Эфрос, К. Чуковский и Е. Замятин.
«Издание бесповоротно частное, — писал
Замятин Л. Лунцу. — Четыре дня уже как
сижу по уши в рукописях и заседаниях по
журналу, забыл, чем пахнет снег». «Ах, мы
страшно много тогда работали! — вспоми-
нал впоследствии К. И. Чуковский. — По-
мню, лег прямо на пол и не мог встать. За-
мятин, Эфрос и я дошли однажды до того,
что не могли сообразить: «Сегодня среда, а
завтра какой же день?» Очень много читали
рукописи, потом готовили хронику*. Пер-
вая книжка журнала был завершена в сере-
дине апреля 1924 года и меньше чем через
месяц вышла из печати. Среди опублико-
ванных в ней материалов был и первый ва-
риант очерка Горького «В. И. Ленин», и
«Рассказ о самом главном* Замятина, хотя
сам писатель планировал напечатать в этом
номере роман «Мы». (Впрочем, роман этот
опубликовать на родине Замятину так и не
удастся.)
2 мая К. Чуковский записал в дневнике:
«Первый номер «Современника» вызвал в
официальных кругах недовольство:
— Царизмом разит на три версты!
— Недаром у них обложка желтая».
Во втором номере появился доклад Замя-
тина, сделанный им «в виде предисловия к
чтению отрывков из романа «Мы», и его
статья «О сегодняшнем и современном», в
которой писатель дал бескомпромис-
сную оценку положению дел в литературе:
♦Правды — вот чего в первую голову
не хватает сегодняшней литературе. Писа-
тель — изолгался, слишком привык гово-
рить с оглядкой и опаской. Оттого в боль-
шинстве литература не выполняет сейчас
даже самой примитивной, заданной ей ис-
торией задачи: увидеть нашу удивитель-
ную, неповторимую эпоху — со всем, что в
ней есть отвратительного и прекрасного, за-
писать эту эпоху такой, какая она есть».
После выхода второй книжки «Русского
современника* отношения с властями еще
больше усложняются. Третий номер, уже
отпечатанный, долго не пускают в прода-
жу, больше чем на два месяца задерживает-
ся печатание четвертого номера, который и
становится последним. А между тем этот
журнал был одним из немногих, хотя и под-
чинявшихся цензуре, но внутренне доста-
точно независимых изданий. Довольно точ-
ную характеристику ему дала берлинская
газета «Дни» 1 января 1925 года: «Назвать
его «независимым» нельзя», но все же он
был самым корректным из российских
210
Евгений Иванович Замятин
журналов. Не подыгрываясь под комму-
низм, он стремился объединить все живое и
самостоятельное в литературе послереволю-
ционной. Его объективность объединила
авторов самых разных течений, от комму-
ниста Бабеля до эмигрантки Марины Цве-
таевой. Журнал составлялся живо и инте-
ресно».
В трех номерах журнала был раздел «Па-
ноптикум», в котором печаталась «Тетрадь
примечаний и мыслей Онуфрия Зуева». Ав-
тором ее был в основном Замятин, скрыв-
шийся под маской этакого простака-кни-
гочея, скрупулезно отмечающего всевоз-
можные неточности и несообразности в
современной литературе. В «Тетради» про-
явилось не только блистательное остроумие
Замятина, его мастерское владение сказо-
вой формой, но и удивительная внутренняя
свобода. Так, например, его обстрелу под-
вергся даже руководитель журнала Максим
Горький. Прочитав в одной из горьковских
повестей стихи, приписанные автором кня-
зю Вяземскому, Онуфрий Зуев замечает:
«Однако те же стихи обнаружены мною в
книге, называемой «Сочинения И. С. Ники-
тина». Из чего заключаю, что под фами-
лией Никитина преступно укрылся быв-
ший князь, дабы избежать народного гне-
ва». Не щадит Онуфрий Зуев и., своего
создателя: «У известного Е. Замятина в ис-
панской пьесе «Огни св. Доминика» (альма-
нах «Литературная мысль* №1) обнару-
жил, что будто бы какая-то испанская деви-
ца говорит: «Сеньор алгуасил, вам очень бы
пошли капитанские эполеты*. Специально
справлялся во второй ступени (т. е. в сред-
ней школе. — М. Н.): подтвердили: что в те
времена никаких эполет и в заводе не было;
из чего полагаю, что про эполеты — это он
нарочно, в пику. Прискорбный факт отри-
цательной идеологии».
Активная работа Замятина в качестве
редактора и публициста, которой он отдает
почти все свое время, нарастающее давле-
ние со стороны цензуры (Замятину не раз-
решают опубликовать свои произведения в
наиболее авторитетных советских журна-
лах) становятся причинами того, что он все
реже и реже обращается к художественной
прозе. С 1921 по 1927 год писателем созда-
но только семь рассказов, но среди них —
настоящие шедевры.
Осенью 1922 года издательство «Акви-
лон» заказало Замятину статью о «русских
типах» Б. М. Кустодиева. С полотнами это-
го художника он познакомился впервые на
одной из выставок «Мира искусств» еще
когда писал «Уездное». И уже тогда «пест-
рая, кустодиевская, уездная Русь» оказа-
лась Замятину чрезвычайно близка, ему ка-
залось, что он не только видел, но и слышал
его картины (и даже записал услышанные
слова на полях каталога выставки), хотя
позже он сам отмечал: «Кустодиев видел
Русь другими глазами, чем я — его глаза
были куда ласковей и мягче моих, но Русь
была одна». Может быть, эта близость и по-
мешала Замятину увидеть работы Кустоди-
ева строгим и остраненным взглядом кри-
тика. Поэтому он не стал писать статью, а
просто «разложил перед собой всех этих
кустодиевских красавиц, извозчиков, куп-
цов, трактирщиков, монахинь* и смотрел
на них так, как смотрел на первую кустоди-
евскую картину — и сама собой родилась
повесть «Русь». Казалось бы, в этой повести
Замятин вновь обращается к тому же мате-
риалу, что и в «Уездном». Но теперь, вос-
создавая русскую провинцию, он смотрит
на нее «ласковыми и мягкими» кустодиев-
скими глазами. «Во время написания про-
изведения кустодиевская Русь лежала уже
покойницей. О мертвой теперь не хотелось
говорить так, как можно было говорить о
живой; лягать издохшего льва — эта лег-
кая победа меня не прельщала», — при-
знавался Замятин. В старой, ушедшей Руси
он видит истоки самобытного русского ха-
рактера, именно здесь, по мысли автора,
рождаются неповторимые «русские типы».
И неслучайно европеец, «англичанин» За-
мятин в самой стилистике рассказа тяготе-
ет к эстетике святочного рассказа и лубка.
Вскоре произошло и личное знакомство
писателя и художника, которое впоследст-
вии переросло в крепкую дружбу. В 1923
году Кустодиев написал великолепный
портрет Замятина, на котором тот изобра-
жен на фоне города будущего.
211
Русские писатели XX века
Помимо прозы и публицистики, в эти го-
ды важнейшим для Замятина делом стано-
вится драматургия. Его первым драматур-
гическим опытом была историческая пьеса
«Огни св. Доминика» (напечатана в 1-м но-
мере альманаха «Литературная мысль» за
1923 год и переведена на немецкий язык), а
с 1925 года в течение трех лет Замятин ра-
ботает над трагедией «Атилла» (именно так
писал это имя автор). По мысли Замятина,
история развивается циклично: период ди-
намики, революционного обновления обще-
ства, отрицания окостеневших идей сменя-
ется этапом действия закона энтропии, пре-
вращения идей, бывших еще вчера
живыми и продуктивными, в догму. В пер-
вой пьесе Замятин изображает энтропий-
ный период истории: христиане, которые
на заре зарождения этой религии были
жертвами, в период инквизиции стали му-
чителями. В «Атилле», наоборот, предстает
♦динамический» период. Замятин так пи-
сал о своем замысле: «Тема меня очень за-
нимает: столкновение гибнущей, одряхлев-
шей римской цивилизации — и варварско-
го, молодого востока — гуннов».
Наибольший успех сопутствовал его пье-
се «Блоха» (1924), впервые поставленной во
Втором Московском Художественном теат-
ре (МХАТ II) в феврале 1925 года режиссе-
ром А. Диким в декорациях Б. Кустодиева.
Основой пьесы явился знаменитый рассказ
Н. С. Лескова «Левша». Однако не следует
считать «Блоху» лишь инсценировкой, За-
мятин создал вполне оригинальное произ-
ведение. Драматург отказался от некото-
рых лесковских глав и, наоборот, ввел не-
мало новых героев, создав красочное
действо, соединившее в себе традиции рус-
ского народного театра, балагана, лубка и
итальянской комедии dell arte. В театрах
Москвы и Ленинграда «Блоха» выдержала
более трех тысяч постановок и всегда встре-
чала самый горячий прием. Тем не менее
советская критика, отметив безусловные
достоинства постановки, к самой пьесе от-
неслась враждебно, обвинила ее в безыдей-
ности и несовременности. После премьеры
«Блохи» в Петроградском Большом драма-
тическом театре ленинградский литератур-
ный сатирический клуб, именовавший себя
* Физио-Геоцентрической Ассоциацией »
(сокращенно — ФИГА), устроил своеобраз-
ный «капустник» в присутствии автора и
актеров. В шуточной «Блошиной симфо-
нии», сочиненной членами клуба, остроум-
но пародировались нападки критики:
Товарищи и братья, не могу молчать я.
По-моему «Блоха»,
В высшей степени плоха,
А драматург Замятин,
Извиняюсь, развратен.
Возьмемся за пьесу сначала:
Публика ее осмеяла.
Смеялись над нею дружно —
Каких еще фактов нужно?
А за сим я спрошу ядовито,
Где у автора знание быта?
Где гражданская война —
Может, автору она не нужна?
Где у вас, ваше превосходительство,
Новое бодрое строительство?
И поэтому закончу я так:
Вы, Замятин, идейный враг.
И я требую мрачно и грозно —
Исправьтесь, пока не поздно!
Успех «Блохи» окрылил Замятина и
подтолкнул его к созданию новых драма-
тургических произведений. В том же 1925
году в Ленинграде был поставлен спектакль
«Общество почетных звонарей» (авторская
инсценировка повести «Островитяне»), для
вахтанговской студии МХАТа Замятин пи-
шет одноактную драматургическую версию
своего рассказа «Пещера», для Вс. Мейер-
хольда инсценирует «Историю одного горо-
да» М. Е. Салтыкова-Щедрина, в содруже-
стве с Д. Шостаковичем участвует в работе
над либретто к опере «Нос».
В мае 1928 года пьеса «Атилла* была
одобрена на заседании Художественного со-
вета Большого драматического театра в Ле-
нинграде, однако вмешательство областных
властей сделало ее постановку невозмож-
ной. Замятин обратился за помощью к
Горькому, вернувшемуся в 1928 году в
СССР. Горький написал официальный от-
зыв, в котором высоко оценивал «героиче-
ский тон» и «героический сюжет пьесы».
212
Евгений Иванович Замятин
Хлопотал о постановке пьесы и М. Булга-
ков. Однако эти хлопоты ничего не дали.
Наступали другие времена.
ТРАВЛЯ
Начинался 1929 год, «год великого пере-
лома». Он ознаменовался не только закатом
нэпа и разработкой первого пятилетнего
плана, началом сплошной коллективиза-
ции и политики раскулачивания, разгро-
мом «правой оппозиции», но и резким уси-
лением партийного и государственного
контроля во всех сферах жизни, в том чис-
ле и в области культуры. После знаменито-
го «шахтинского дела», когда пятидесяти
трем инженерам было предъявлено обвине-
ние во вредительстве, а одиннадцати из них
вынесен смертный приговор, партия повела
решительное наступление против «буржу-
азной интеллигенции», вредительство ко-
торой, по словам Сталина, «есть одна из са-
мых опасных форм сопротивления против
развивающегося социализма*. Вполне есте-
ственно, что под категорию «буржуазной
интеллигенции* подпадали и наиболее не-
зависимые в своих взглядах писатели. Если
резолюция ЦК РКП(б) «О политике партии
в области художественной литературы»,
принятая в 1925 году, призывала к тактич-
ному и бережному отношению к попутчи-
кам (т. е. к писателям непролетарского про-
исхождения, сочувствующим пролетарской
революции), декларировала терпимость к
авторам, не до конца разделяющим проле-
тарскую идеологию, то теперь с «буржуаз-
ным влиянием» в литературе должно было
быть покончено. Партийное руководство
больше не устраивало писательские орга-
низации, в которых объединились попутчи-
ки, «буржуазные писатели» и «внутренние
эмигранты». Одной из таких наиболее
демократических, аполитичных органи-
заций оставался Всероссийский союз пи-
сателей (ВСП). Уже не один год Россий-
ская Ассоциация Пролетарских Писателей
(РАПП), претендовавшая на роль моно-
польного идеологического руководителя
литературного процесса, призывала нейт-
рализовать влияние «буржуазных писате-
лей», ослабить их позиции с тем, чтобы
поставить большинство попутчиков под
контроль РАПП. В условиях «великого пе-
релома» такая позиция РАПП пришлась
как нельзя кстати. И хотя специальных
партийных решений по этому поводу не
принималось, резкость и безудержный на-
тиск критики по отношению к «внут-
ренним эмигрантам» заметно усилились.
Началась настоящая травля писателей,
объектами которой стали Е. Замятин, авто-
ритетнейшая фигура Ленинградского отде-
ления ВСП, и Борис Пильняк, председатель
ВСП и его Московского отделения. Однако
эта кампания была направлена не просто
против двух писателей с независимыми
взглядами и даже не против аполитичных
литературных организаций, но против жи-
вой и честной русской литературы в целом.
Необходимо было наполнить географиче-
ское понятие «советский писатель» новым,
идеологическим содержанием. Причем
борьбу с литературой, с писателями довере-
но было вести самим писателям, тем из
них, которых Замятин назвал «юркими».
2 мая 1929 года в «Литературной газете»
появились одиннадцать «Злых эпиграмм»
поэта Александра Безыменского. Одна из
них, носившая название «Справка социаль-
ной евгеники», была грубым выпадом про-
тив Замятина:
Тип: — Замятин.
Род: — Евгений.
Класс: — буржуй.
В селе: — кулак.
Результат перерождений.
Сноска:
враг.
Но это был только пролог. Началом кам-
пании против Пильняка и Замятина можно
считать опубликованную 26 августа 1929
года в «Литературной газете» статью руко-
водителя Отдела печати Наркомата ино-
странных дел, члена РАПП Б. Волина «Не-
допустимые явления», в которой тот, в ча-
стности, писал:
«Борис Пильняк напечатал свой роман «Крас-
ное дерево» в берлинском издательстве «Петропо-
лис». Как мог Пильняк этот роман туда передать?
213
Русские писатели XX века
Неужели не понимал, что таким образом он вхо-
дит в контакт с организацией злобно-враждебной
стране Советов? Почему Пильняк, председатель
Всероссийского союза писателей, не протестовал,
если этот роман был напечатан эмигрантами без
его ведома и помимо его желания?
То же следует сказать и о романе Замятина —
«Мы». Этот роман тоже оказался неприемлемым
для литературы Советского Союза, но нашел свое
достойное место на страницах эмигрантского
журнала «Воля России». Мы что-то не слыхали и
про Замятина, чтобы он где-то отмежевался от
этого сотрудничества с эмигрантской эсеровщи-
ной и опротестовал издание своего романа за гра-
ницей».
Задачей Волина было дискредитировать
лидеров наиболее авторитетной писатель-
ской организации, сформировать общест-
венное мнение, осуждающее литераторов,
не подчиняющихся идеологическому дик-
тату партии. Вслед за его статьей в десят-
ках центральных и местных газет одна за
другой последовали многочисленные пуб-
ликации, в которых писатели и так на-
зываемые «представители общественнос-
ти» на удивление дружно обрушились
на Пильняка и Замятина и их почти никем
не читанные романы, требуя немедленно
«указать на дверь» этим «откровенным
врагам рабочего класса». Такое единоду-
шие только кажется случайным. Вся кам-
пания была хорошо продумана и скоор-
динирована РАПП, коммунистическими
ячейками Федерации объединений совет-
ских писателей (ФОСП), организации, в
которую входил ВСП, и стала одной из час-
тей грандиозного плана «сталинской рево-
люции*.
Первым под удар попал Пильняк, так
как был лидером Московского отделения
ВСП, а влияние рапповских идеологов в
Москве было наиболее сильным. Покорив
Московское отделение, можно было с удво-
енной энергией давить на Ленинградское,
где рапповская позиция нередко встречала
сопротивление. Кроме того, обвинения про-
тив Замятина были гораздо менее убеди-
тельными: если повесть Пильняка все-таки
вышла из печати, то роман «Мы», который
был написан девять лет назад, был опубли-
кован в 1925-м, да и то в английском пере-
воде, со времени публикации в «Воле Рос-
сии», которая стала предметом нападок,
прошло уже два года.
Московское отделение ВСП покорилось
довольно быстро. 6 сентября правление
ВСП предложило Пильняку уйти с поста
председателя Московского отделения, а де-
ло о Замятине передано «для детального
разбора» Ленинградскому отделению. Ис-
полнительное бюро ФОСП в своей резолю-
ции «решительно осудило поступок на-
званных писателей* и предложило Ле-
нинградскому отделению ФОСП «срочно
расследовать обстоятельства издания за
границей романа Замятина «Мы».
«Итак, — напишет позже Замятин в сво-
ем письме в «Литературную газету», — сна-
чала — приговор, потом — расследование.
Ни один суд в мире, вероятно, еще не знает
такого случая». В сентябре 1929 года Замя-
тин еще не мог предположить, что такая
практика скоро станет нормой для сталин-
ского правосудия.
15 сентября Московское отделение ВСП,
осудив «поступок» Пильняка и Замятина,
их сотрудничество с эмигрантской прессой,
избрало новый состав правления. С Ле-
нинградским отделением дело оказалось
сложнее. Его правление, поддержав отстав-
ку Пильняка, долгое время отказывалось
дать оценку «поступку» Замятина. Для
«укрощения строптивых» в Ленинград бы-
ла направлена делегация «верноподдан-
ных» членов нового руководства Москов-
ского отделения. 22 сентября состоялось
общее собрание ленинградских писателей,
на котором был заслушан вопрос о ситу-
ации в Ленинградском отделении ВСП и
оглашены объяснения Замятина по поводу
публикации романа «Мы». Замятин, отды-
хавший в ту осень в Крыму и узнавший о
начале кампании из газет, направил ряд
писем в «Литературную газету» и в правле-
ние Всероссийского союза писателей, в ко-
торых обстоятельно объяснил, что роман
был написан в 1920 году и все попытки
опубликовать его были совершенно закон-
ными, что об иностранных переводах свое-
го романа он не раз заявлял печатно и ни
одно из этих заявлений не встречало ника-
214
Евгений Иванович Замятин
кого протеста, что после того, как невоз-
можность публикации романа в Советской
России стала очевидной, автор отклонил
все предложения издать его за границей на
русском языке. Что же касается публика-
ции в «Воле России», то автор предъявлял
редакции требование прекратить печата-
ние, тем более что роман публиковался не в
авторском варианте, а в обратном переводе
с чешского, что, безусловно, искажало
текст и не могло быть сделано с ведома и
согласия автора.
Несмотря на то, что объяснения писате-
ля показались многим вполне убедительны-
ми и на собрании прозвучали голоса в его
поддержку, осторожное большинство сочло
более благоразумным осудить «поступок»
Замятина. Ленинградское отделение ВСП в
своей резолюции назвало издание романа
«Мы» за границей «безусловной политиче-
ской ошибкой* и обвинило писателя в том,
что он не отказался «от проводимых в рома-
не идей, признанных нашей общественно-
стью антисоветскими». Но Замятин никог-
да не откажется от своих идей.
«Для меня идеи — не галстук, цвет кото-
рого можно менять в зависимости от сего-
дняшней моды», — заявит он. Что же каса-
ется романа, то он скажет: «...если это
действительно художественное произведе-
ние — то художник отказаться от своей ра-
боты не может. И меня удивляет только од-
но: как такого отказа могли требовать от
меня художники слова? Таких требований
к писателю никогда не предъявляла даже
царская цензура».
Узнав о решении ленинградских писате-
лей, Замятин направил в «Литературную
газету» письмо, в котором дал подробное и
взвешенное разъяснение по поводу своего
так называемого поступка и одновременно с
едким сарказмом обрушился и на «посту-
пок* Волина, передергивавшего факты,
связанные с изданием романа «Мы* за гра-
ницей, и на «поступок» Федерации писате-
лей, вынесшей приговор раньше следствия,
и на «поступок» членов ВСП, девять лет на-
зад рукоплескавших роману, а сегодня
дружно его осудивших. «Состоять в литера-
турной организации, которая хотя бы кос-
венно принимает участие в травле своего
сочлена, — заключает Замятин в своем
письме, — я не могу, и этим письмом заяв-
ляю о выходе своем из Всероссийского сою-
за писателей*. Оказавшись в политической
изоляции, Замятин в своей независимой по-
зиции был тем не менее не одинок. Почти
одновременно с ним из Союза выходят Пас-
тернак, Ахматова и Булгаков.
В октябре 1929 года Всероссийский союз
писателей был переименован во Всероссий-
ский союз советских писателей и подвергся
масштабной чистке. Условием для вхожде-
ния в обновленный Союз стал не столько та-
лант, сколько «общественное лицо» писате-
ля, то есть лояльность по отношению к су-
ществующей власти, а точнее, способность
подчиниться диктату партийной идеоло-
гии. Чистка сократила состав организации
почти на треть. К весне следующего года
подобной чистке подверглись практически
все объединения писателей. Таким обра-
зом, «дело Пильняка и Замятина» стало
первым ударом по независимым писатель-
ским организациям, конец существованию
которых будет положен в 1932 году резолю-
цией ЦК «О перестройке литературно-ху-
дожественных организаций», объединив-
шей деятелей литературы в одну организа-
цию — Союз писателей СССР. Дальнейшая
литературная деятельность авторов, не раз-
деляющих его идейную платформу, скоро
станет в СССР практически невозможной.
Положение Замятина в литературе после
травли становится невыносимо трудным.
Издательство «Федерация», выпустившее в
начале 1929 года четырехтомное собрание
его сочинений, получило свою долю крити-
ки и оказалось закрытым для Замятина.
Последним прибежищем опального автора
стало «Издательство писателей в Ленингра-
де». Здесь в 1930 году отдельным изданием
выйдет повесть Замятина «Наводнение* с
иллюстрациями К. Рудакова. В следующем
году это издательство опубликует эссе За-
мятина «Закулисы» в коллективном сбор-
нике ленинградских писателей «Как мы
пишем». До апреля 1931 года Замятин
оставался членом правления этого изда-
тельства, но Ленинградская Ассоциация
215
Русские писатели XX века
Пролетарских Писателей (ЛАПП) сделала
все, чтобы Замятин был исключен из его со-
става. Последний путь к читателю оказался
закрыт. В сентябре 1931 года с большим
трудом удалось опубликовать пьесу англий-
ского драматурга Р. Б. Шеридана «Школа
злословия» со вступительной статьей Замя-
тина. Но это была уже последняя прижиз-
ненная публикация писателя на родине.
Запрет пьесы «Атилла», разнузданная
травля в связи с романом «Мы», отстране-
ние от работы в редколлегии «Издательства
писателей в Ленинграде», изъятие его книг
из многих библиотек, трудности с изданием
пьесы Шеридана, невозможность публико-
вать свои произведения, которую он вос-
принял, как «высшую меру наказания» —
все это заставило Замятина обратиться с
письмом к Сталину, но не с покаянным,
как это делали многие его собратья по перу,
в том числе и Пильняк (правда, покаяние
не спасло Пильняка: в 1937 году он будет
арестован, а в 1938-м — расстрелян). В этом
письме Замятин предстает как человек, на-
деленный чувством собственного достоинст-
ва, честно и открыто демонстрирующий не-
зависимую, бескомпромиссную позицию.
«Я ни в какой мере не хочу изображать
из себя оскорбленную невинность, — писал
он Сталину. — Я знаю, что у меня есть
очень неудобная привычка говорить не то,
что в данный момент выгодно, а то, что мне
кажется правдой. В частности, я никогда не
скрывал своего отношения к литературно-
му раболепству, прислуживанию и пере-
крашиванию: я считал — и продолжаю счи-
тать, что это одинаково унижает как писа-
теля, так и революцию».
Замятин обращается к Сталину с насто-
ятельной просьбой разрешить ему вместе с
женой выехать за границу, выехать «вре-
менно» — с тем, чтобы вернуться назад,
«как только у нас станет возможно служить
в литературе большим идеям без прислужи-
вания маленьким людям, как только у нас
хоть отчасти изменится взгляд на роль ху-
дожника слова. А такое время, — добавля-
ет Замятин, — я уверен, уже близко». Бла-
годаря посредничеству Горького разреше-
ние на выезд было получено.
В ИЗГНАНИИ
В ноябре 1931 года Евгений Иванович
Замятин вместе со своей женой Людмилой
Николаевной покидает Советскую Россию,
тогда еще, вероятно, не предполагая, что
уезжает навсегда.
Первую остановку Замятин делает в Ри-
ге, где его хорошо знают — на сцене Театра
Русской Драмы с успехом идут «Блоха» и
«Общество почетных звонарей», затем от-
правляется в Берлин, откуда выезжает в
Прагу с лекциями о русском театре и, нако-
нец, в феврале 1932 года прибывает во
Францию, где и суждено ему было провести
оставшиеся годы.
Замятин приехал в Париж полный твор-
ческих замыслов. Он планировал осущест-
вить на Западе постановку своих пьес, со-
здать ряд статей о советском театре и лите-
ратуре, написать большой роман об Атилле.
Однако реализовать эти планы оказалось не
так просто. Несколько раз переговоры За-
мятина с театрами по поводу постановок
его пьес заканчивались провалом. В дека-
бре 1933 года «Блоха* была поставлена па-
рижским Театром мастеровых в Брюсселе,
но успеха постановка не имела. Зинаида
Шаховская вспоминает, что актеры отчаян-
но играли перед пустым залом и что «в пе-
реводе текст стал полной чепухой, совер-
шенно непонятной для местных зрителей».
Одна из бельгийских газет откровенно при-
знавалась: «Смысл этой пародии о блоши-
ных лапках нам остался совершенно непо-
нятным». Попытки Замятина поставить
свои пьесы за рубежом оказались неудач-
ными, и к драматургии он больше не обра-
щался.
Ни театр, ни многочисленные статьи о
литературе не могли дать Замятину необхо-
димых средств к существованию. Матери-
альные затруднения в значительной степе-
ни заставили его обратиться к кинематогра-
фу. Замятин пробовал свои силы в
кинодраматургии еще в СССР. Его произве-
дения дважды экранизировались. В 1928
году вышли фильмы «Северная любовь* (по
мотивам рассказа «Север») и «Дом в сугро-
бах» (экранизация «Пещеры»), но замысел
216
Евгений Иванович Замятин
писателя настолько искажался советскими
кинематографистами, что оба раза Замятин
вынужден был отказаться от участия в сце-
нарии. И все-таки он вернулся в кинемато-
граф, причем не только потому, что эта ра-
бота давала надежды на заработок. Кино
было близко ему по своему языку, по своим
выразительным средствам, ведь и проза За-
мятина с ее динамикой, зримостью пред-
метных деталей, «показом», заменяющим
«рассказ», во многом кинематографична.
Неслучайно одной из первых работ для ки-
но, сделанных Замятиным во Франции,
стал сценарий по его собственному роману
«Мы». Однако осуществить постановку
фильма не удалось, как не удалось вопло-
тить на экране и сценарий по роману
Л. Толстого «Анна Каренина». Успех к За-
мятину-сценаристу пришел в 1936 году,
когда выдающийся французский киноре-
жиссер Жан Ренуар, сын знаменитого ху-
дожника-импрессиониста Огюста Ренуара,
снял фильм по пьесе М. Горького «На дне»,
сценарий которого был написан Замяти-
ным. Горьковское произведение давно при-
влекало внимание Замятина. Когда-то, от-
мечая 35-летие творческой деятельности
Горького, ленинградские литераторы по-
ставили по этой пьесе любительский спек-
такль, в котором Замятин сыграл Барона. В
Париже он с энтузиазмом взялся за работу
над сценарием, причем, поскольку атмо-
сфера русского «дна» была чужда широко-
му французскому зрителю, Замятин пере-
нес действие пьесы во Францию. На вечере
памяти Горького Замятин рассказывал, что
Алексей Максимович был извещен о работе
над фильмом: «...от него был получен от-
вет, что он удовлетворен моим участием в
работе, что он хотел бы ознакомиться с
адаптацией пьесы, что он ждет мануск-
рипт. Манускрипт для отсылки был уже
приготовлен, но отправить его не при-
шлось: адресат выбыл — с земли». 18 июня
1936 года Горький скончался. Премьера
фильма Ренуара состоялась в декабре, а две
недели спустя он был признан лучшим
французским фильмом 1936 года.
И все же вынужденная работа в кино
отвлекала Замятина от главного дела жиз-
ни — художественной прозы. Замятиным-
прозаиком написано во Франции очень не-
много: четыре небольших рассказа и роман
«Бич божий» (1928—1935), оставшийся не-
завершенным. Замысел романа, возникший
в период работы над пьесой «Атилла», был
грандиозным: писатель, по-видимому, заду-
мывал проследить всю жизнь вождя гуннов
на широком историческом фоне, о чем сви-
детельствует составленный им план романа
и наброски к ненаписанным частям. Однако
осуществить задуманное удалось примерно
на одну восьмую: законченные к 1935 году
семь глав романа повествуют лишь о юности
Атиллы.
Находясь за границей, Евгений Замятин
не считал себя эмигрантом: он жил в Па-
риже с советским паспортом, высылал день-
ги на оплату своей квартиры в Ленинграде.
С Замятиным переписывались Слонимский,
Федин, Булгаков и др. Он в свою очередь
стремился оказывать посильную материаль-
ную помощь оставшимся в СССР писателям,
в том числе Булгакову и Ахматовой. Друзья
звали вернуться, считали своим. В 1934 го-
ду его заочно приняли в члены создававше-
гося в то время Союза писателей СССР, в
1935 году в составе советской делегации
писатель участвовал в конгрессе деятелей
культуры, проходившем в Париже.
Замятин тяжело переживал разлуку с
родиной и не оставлял надежды при первой
возможности вернуться домой, хотя посту-
павшие из Советской России известия дела-
ли эти надежды все более и более иллюзор-
ными. Н. Берберова так рассказывает о сво-
ей встрече с Замятиным в июле 1932 года:
♦В кафе он закурил свою трубку, подпер лицо
обеими руками и долго слушал меня. Потом заго-
ворил сам. У него был всегда тон старшего, тон
учителя, тон слегка надуманный, и я это чувство-
вала. Он был наигранно оптимистичен, говорил,
что необходимо «переждать», «сидеть тихо», что
некоторые животные и насекомые знают эту так-
тику: не бороться, а притаиться. Чтобы позже
жить. Я была другого мнения. Для меня жизнь не
могла стать ожиданием. Лицо его стало хмуро.
Оно-то и вообще у него было невеселым, а теперь
стало и неподвижнее, и темнее, чем десять лет то-
му назад. И наступило молчание, долгое, тягост-
217
Русские писатели XX века
ное, где я понимала, что он знает, что я права, и
знает, что я знаю, что он знает, что я права. Но
возвращаться к началу разговора (о том, что там,
и о том, что здесь) не хотелось. Я вдруг поняла,
что жить ему нечем, что писать ему не о чем и не
для кого, что тех он ненавидит, а нас... немножко
презирает».
Другая современница Замятина, Т. И. Ма-
нухина, вспоминает:
«За границей ему было нелегко. Большевиком
его эмиграция не объявила, но отчужденность
была. Эмиграция объединяется по признаку не-
признания советской власти, и советская обще-
ственность ей чужда. Душою Замятин был с со-
ветской жизнью связан...».
Но Замятин остался на чужбине. Вот что
он рассказал в письме американскому жур-
налисту и переводчику Ч. Маламуту от 14
мая 1934 года:
«Вернуться на родину? Но родина до сих пор
была мне не матерью, а мачехой. Правда, сейчас
как будто положение изменилось, но боюсь — не
для меня. Писатели там живут припеваючи. Но
когда я читаю... в «Литературной газете» эти
«припевы» — эту бесстыдную лесть по адресу
всякого начальства — у меня начинается жесто-
кий припадок морской болезни. В случае воз-
вращения — в штате льстецов я не буду, а стало
быть — останусь писателем «заштатным», обре-
ченным на полное или приблизительное молча-
ние».
А между тем официальные советские
власти делают все, чтобы опорочить имя За-
мятина и вычеркнуть его из памяти совет-
ского читателя. Ю. Анненков в своих вос-
поминаниях, впервые опубликованных в
1966 году, приводит заметку из Советской
энциклопедии 1936 года:
«Замятин (1884) печатается с 1908. В дорево-
люционных произведениях («Уездное», 1911;
«На куличках», 1914) 3. выступал изобразителем
тупости, ограниченности и жестокости захолуст-
ного мещанства и провинциального офицерства.
В своем пореволюционном творчестве 3. продол-
жает давать ту же консервативную провинциаль-
ную обывательщину, которая, по его мнению,
осталась характерной и для Сов. России. Буржу-
азный писатель, 3. в своих произведениях (осо-
бенно в «Пещере» и «Нечестивых рассказах») ри-
сует картину, совершенно искажающую совет-
скую действительность. В опубликованном за
границей романе «Мы» 3. злобно клевещет на со-
ветскую страну». Точка. В последующих издани-
ях «Советской Энциклопедии» имя Замятина не
упоминается».
Но даже несмотря на продолжающиеся
нападки, Замятин так никогда и не сошел-
ся с антисоветски настроенными кругами
русской эмиграции. В годы вынужденного
изгнания рядом с ним были те, с кем связы-
вали его не политические взгляды, а общие
художественные устремления и давняя
дружба. Среди них — художники Борис
Григорьев и Юрий Анненков, писатель
Алексей Ремизов, критик Марк Слоним. Но
самым верным и заботливым другом на
протяжении всей жизни оставалась для не-
го Людмила Николаевна.
Отношение Замятина к жене было всегда
нежным и почтительным: всю жизнь он об-
ращался к ней на «вы*. По воспоминаниям
современников, она занимала в их браке
главенствующее положение, и оба находи-
ли это вполне естественным. По многим во-
просам Евгений Иванович советовался со
своей женой и даже отчитывался перед ней.
Так было всегда, с самого начала их зна-
комства, когда их свела бурная революци-
онная работа. В дневниковых записях За-
мятина за 1905 год есть такие строки: «Вот
везет! Да это — она, та самая, которую я ви-
дел наверху. Мне даже придется, пожалуй,
служить под ее начальством! Мм... Мне это
не нравится! Сразу подчиниться этой девоч-
ке! Ну, а все-таки... это хорошо, что буду
работать с ней: она славная...»
Через тридцать лет в Париже он скажет:
«Как писатель, я, может быть, что-то из се-
бя представляю, но в жизненных труднос-
тях я — совершенный ребенок, нуждаю-
щийся в нянюшкиных заботах. Людмила
Николаевна в таких случаях — моя добрая
няня». Она была рядом с ним в годы рево-
люций и литературной борьбы, в дни всеоб-
щего признания и всеобщего забвения. Она
была с ним и в самые последние его дни,
когда он умирал от грудной жабы в неболь-
шой квартирке в доме № 14 по улице Раффэ
в Париже. Е. И. Замятин скончался 10 мар-
та 1937 года.
218
Евгений Иванович Замятин
«Может быть, вы уже знаете, — писала на сле-
дующий день Марина Цветаева Вере Николаевне
Муромцевой-Буниной, — вчера с 9-го на 10-е,
ночью, умер Замятин — от грудной жабы. А нын-
че, в четверг, мы должны были с ним встретиться
у друзей, и он сказал: — Если буду здоров...
Ужасно жаль, но утешает мысль, что конец своей
жизни он провел в душевном мире и на свободе.
Мы с ним редко встречались, но всегда хорошо,
он тоже, как и я, был: ни нашим, ни вашим*.
Писатель был похоронен в предместье
Парижа Тие. Среди тех, кто пришел его
проводить в последний путь, были Марина
Цветаева, Роман Гуль, Гайто Газданов,
Марк Слоним, который и организовал похо-
роны.
Т. Н. Манухина вспоминает: «Надгроб-
ных речей не было. Ни слова... Люди, при-
шедшие отдать покойному последний долг,
были друг другу в большинстве малознако-
мые. Несколько друзей, почитателей, груп-
па французов — причастных к литератур-
но-театральному миру, к кинематографу. И
ни одной делегации от русских культур-
но-просветительских организаций, ника-
ких знаков последнего долга... В эмигрант-
ской прессе смерть Е. И. Замятина прошла
почти незамеченной». С горечью пишет о
похоронах Замятина и Марина Цветаева в
письме к Ходасевичам: «Было ужасно, рас-
травительно бедно — и людьми и цветами,
богато только глиной и ветрами — четырь-
мя встречными».
Замятин ушел из жизни в том возрасте,
который для многих писателей становится
порой расцвета, ушел полный творческих
замыслов, которым не суждено было осу-
ществиться. А между тем и многое из того,
что было создано Замятиным за тридцать
лет его литературной работы, оставалось
недоступно читателю. Трудно сказать, до-
шло бы до нас творческое наследие Евгения
Замятина, если бы не старания Людмилы
Николаевны, которая сохранила все им на-
писанное — до кратчайших заметок, запис-
ных книжек, черновиков и писем. Она пе-
режила своего мужа почти на тридцать лет,
и все эти годы посвятила тому, чтобы спас-
ти произведения Замятина от забвения.
Благодаря ей многие его книги были изда-
ны впервые на русском языке, в том числе
роман «Бич Божий* (Париж, 1938), роман
«Мы» (Нью-Йорк, 1952), сборник «Лица»
(Нью-Йорк, 1955), куда вошли написанные
в разные годы воспоминания Замятина о
Горьком, Блоке, Сологубе, Кустодиеве,
Андрееве и других деятелях русской куль-
туры.
Людмила Николаевна Замятина сконча-
лась в 1965 году и была похоронена в моги-
ле Евгения Ивановича.
«Мои дети — мои книги; других у ме-
ня нет», — написал как-то Замятин. Са-
мому ему не суждено было вернуться в Рос-
сию, но туда вернулись его «дети». Начи-
ная с 1986 года, впервые после более чем
полувекового перерыва, произведения Ев-
гения Замятина стали появляться на роди-
не писателя. Голос Великого еретика зазву-
чал в России именно тогда, когда ей вновь
потребовалось « горькое лекарство от энтро-
пии*.
A. M. Марченко
Анна Андреевна
Ахматова
(1889—1966)
Часть первая
ПРЕДЫСТОРИЯ
«МНЕ ДАЛИ ИМЯ ПРИ КРЕЩЕНЬЕ -
АННА»
Анна Андреевна Горенко, по первому
мужу Гумилева, псевдоним: Анна Ахмато-
ва, — родилась 11 (23) июня 1889 года, в
дачном предместье Одессы, в семье потом-
ственного моряка инженер-капитана второ-
го ранга Андрея Антоновича Горенко. Анд-
рей Антонович был человеком незауряд-
ным. Умен, высок, статен, хорош собой, он
смолоду легко и быстро продвигался по слу-
жебной лестнице. Уже в чине лейтенанта
флота состоял преподавателем морских
юнкерских классов в Николаеве, активно
сотрудничал в прогрессивной газете «Нико-
лаевский вестник». В южной провинции
честолюбивый молодой человек не задер-
жался, его перевели в Петербург преподава-
телем пароходной механики в Морской ка-
детский корпус. Некоторое время Андрей
Горенко был даже инспектором корпуса. И
вдруг карьера его застопорилась. В 1880 го-
ду при обыске у одного из чиновников горо-
да Николаева были обнаружены «вредного
направления» письма Андрея Антоновича.
Порывшись в биографии блестящего офи-
цера, шишки сыска выявили еще и пороча-
щие репутацию родственные связи: родные
сестры инспектора, Анна и Евгения, участ-
вовали в народовольческом движении. За-
вели «дело» о политической неблагонадеж-
ности. В ситуации 1881 года после убийства
Александра II достаточно серьезное. До су-
да все-таки не дошло, но от преподавания
Горенко отстранили и из Петербурга удали-
ли — отправили как бы в южную ссылку,
определив «в качестве флотского офицера
на суда Черноморского флота». В период
изгнания, на переломе судьбы, в него, ви-
димо, и влюбилась дочь состоятельного
тверского помещика Стогова. К моменту
встречи с Андреем Антоновичем Инна Эраз-
мовна была уже не девицей на выданье, а
молодой вдовой: ее первый муж покончил с
собой при обстоятельствах, о которых се-
мейная хроника умалчивает. Не любила
разговоров на эту щекотливую тему и Анна
Андреевна, лишь однажды как бы между
прочим отметила, что огромного Держави-
на, с которого началась для нее золотая рус-
ская классика, подарил матери «прежний»
муж. Второй домашней книгой детей Го-
ренко был «Мороз, Красный нос» Некрасо-
ва. Этими двумя томами детская библиоте-
ка Ахматовой исчерпывалась.
Более опрометчивого выбора младшая из
шести дочерей Эразма Ивановича Стогова,
бестужевка и народоволка, сделать, кажет-
ся, не могла: герой ее сердца любил наряд-
ных, легких, артистичных женщин. Он во-
обще любил женщин и не видел ничего за-
зорного в том, чтобы срывать невинные
цветы удовольствия со всех красиво оформ-
ленных клумб. В отличие от него воспитан-
ная в строгих правилах, без матери, кото-
рой лишилась в младенчестве, Инна Эраз-
мовна, уже будучи курсисткой, даже пудру
стирала с лица, если предстояла встреча с
отцом. Она и потом, став супругой Андрея
Антоновича, ни наряжаться-фуфыриться,
ни к лицу одеваться не научилась. Бонви-
220
Анна Андреевна Ахматова
ван Горенко все это конечно же видел и не
одобрял. Однако Инна Эразмовна была на
редкость добра и недурна собой: ярко-синие
глаза и ослепительно-нежный, фарфоровый
цвет лица при тяжелых темных волосах,
изящного сложения, без претензий, к тому
же — со средствами: 80 тысяч придано-
го, сумма по тем временам солидная. А
главное — старинной дворянской фамилии,
что для внука причерноморского казака и
сына флотского капитана, получившего
дворянство по выслуге лет, было обсто-
ятельством немаловажным. Короче, полу-
опальный Горенко подумал-подумал да и
женился. И сразу же пошли дети: Андрей,
Инна, Анна, Ирина, Ия, Виктор. И все,
как на подбор, и те, что в мать, и те, что в
отца, — красивые. Анна в ранние годы по-
ходила на мать. И безрассудная доброта пе-
решла к ней по материнской линии. Время
молодости своих родителей Ахматова опи-
сала в первой части цикла «Северные эле-
гии»:
Шуршанье юбок, клетчатые пледы.
Ореховые рамы у зеркал,
Каренинской красою изумленных,
И в коридорах узких те обои,
Которыми мы любовались в детстве,
Под желтой керосиновою лампой,
И тот же плюш на креслах...
Все разночинно, наспех, как-нибудь...
Отцы и деды непонятны. Земли
Заложены. И в Бадене — рулетка.
И женщина с прозрачными глазами
(Такой глубокой синевы, что море
Нельзя не вспомнить, поглядевши в них),
С редчайшим именем и белой ручкой,
И добротой, которую в наследство
Я от нее как будто получила,
Ненужный дар моей жестокой жизни...
От матери же досталась Анне Андреевне
и ее легендарная непрактичность. Впрочем,
и непрактичность Инны Эразмовны перехо-
дила все мыслимые границы. Умелые и
жизнеспособные золовки втайне считали
беспомощность супруги брата неприличной,
смахивающей на душевное или умственное
расстройство. Крайне удивляла бесхозяйст-
венность госпожи Горенко и многочислен-
ных светских знакомых ее красивого мужа,
особенно тогда, когда опала Андрея Антоно-
вича кончилась, служебное положение по-
правилось (по возвращении в Петербург
отец Ахматовой, выйдя в отставку, стал чле-
ном Государственного Совета по управле-
нию торговым мореходством, и некоторое
время в его ведении находились все южные
порты империи) и семья обосновалась в
Царском Селе. Одна из тогдашних его сим-
патий вспоминала впоследствии:
«Странная это была семья... Куча детей. Мать,
богатая помещица, добрая, рассеянная до глупос-
ти, безалаберная, всегда думавшая о чем-то дру-
гом, может быть, ни о чем. В доме беспорядок.
Едят когда придется, прислуги много, а порядка
нет. Гувернантки делали что хотят. Хозяйка бро-
дит как сомнамбула. Как-то, при переезде в дру-
гой дом, она долго носила в руках толстый пакет
с процентными бумагами на несколько десятков
тысяч рублей и в последнюю минуту нашла для
него подходящее место — сунула пакет в детскую
ванну, болтавшуюся позади воза. Когда муж
узнал об этом, он помчался на извозчике догонять
ломового. А жена с удивлением смотрела, чего он
волнуется, да еще и сердится».
Анна, в детстве сильно привязанная к
отцу, в отрочестве была целиком на стороне
матери. Первая жена ее младшего брата
Ханна Вульфовна, прожившая со свек-
ровью несколько лет под одной крышей, за-
помнила, что Инна Эразмовна много рас-
сказывала о муже, но воспоминания эти
были «проникнуты горечью из-за того, что
он промотал все ее приданое в 80 тыс., а
когда оставил семью, то присылал весьма
скромную сумму».
Словом, удивительно не то, что опромет-
чивый брак Андрея Горенко и Инны Стого-
вой в конце концов (в 1905 году) распался
(Андрей Антонович, едва дети стали под-
растать, официально развелся с женой, со-
единившись с женщиной, с которой был
связан чуть ли не четверть века), а то, что
брачные их отношения растянулись на
столько несчастных лет.
Самое же мрачное было в том, что дети,
рожденные в этом браке, словно не ста-
рались, не хотели жить!.. Анне, едва стала
сознавать себя, всерьез казалось, что в
221
Русские писатели XX века
их обездоленном доме жизнью управляет
смерть. Первым потрясением был уход из
жизни четырехлетней Рики. А через девять
лет умерла от чахотки замужняя сестра —
Инна. В юности сестры уже не дружили, но
в детстве, несмотря на пять лет разницы и
несходство характеров и интересов, были
все-таки близки. В 1920-м, после смерти ре-
бенка, отравился морфием старший, люби-
мый, брат Ани — Андрей. Последней (1922)
умерла младшая, Ия, и тоже от туберкуле-
за. В неразберихе Гражданской войны про-
пал и «последыш» — Виктор. Через не-
сколько лет он, правда, нашелся — на краю
света, на Дальнем Востоке, и даже вызвал к
себе оставшуюся без средств к существова-
нию и совершенно раздавленную беспре-
рывностью утрат мать. Но Анна Андреев-
на, проводив младшего брата на войну в
1916-м, никогда уже с ним не увиделась.
После смерти матери (1930) Виктор каким-
то фантастическим способом, кажется че-
рез Харбин, перебрался в Америку. Первую
весть от него Анна Андреевна получила
только после того, как в «железном занаве-
се», с наступлением хрущевской весны, по-
явились почтовые щели. Но это все в буду-
щем. А пока растрескавшееся семейное су-
денышко кое-как держится на волнах моря
житейского.
Анна учится в Царскосельской гимна-
зии, без особой охоты, еле-еле, но учится.
Чем старше она становится, тем заметнее:
кое-что перепало ей и от отца — жадность к
жизни, высокий рост, осанка; про осанку
Андрея Антоновича говорили: важная, про
осанку его дочери, когда она станет Ан-
ной Ахматовой, будут говорить: царствен-
ная. А главное, четкий, конструктивный
ум — даже в старости Анна Андреевна бу-
дет удивлять людей своего окружения уме-
нием находить решения простые и естест-
венные, подсказанные самим ходом вещей.
А вот неистребимой отцовской жизнера-
достности, увы, не унаследовала. Потому
и фамильная жадность к жизни принима-
ла у дочери Андрея Антоновича вид стран-
ной, почти угрюмой в отрочестве, печаль-
ной алчбы — неутолимой жажды найти и
увидеть то, чего нет на свете, — в первой
юности.
° Эта недетская сосредоточенность тем
больше удивляла, что до семи лет Аня Го-
ренко не только не читала книг, но и вооб-
ще не умела и не пыталась читать, что,
впрочем, по понятиям конца века счита-
лось нормальным и вполне педагогичным.
Зато уж как выучилась, перепрыгнув раз-
личение слова по слогам, сразу стала чи-
тать бегло, и не что-нибудь, а романы Тур-
генева и вообще все, что читали старшие
родственницы — тетки и кузины киевские,
одесские, севастопольские.
Переехав вскоре после рождения Анны
(1890) с юга на север и обосновавшись в
Царском Селе, Горенки на лето всей семьей
возвращались к Черному морю, под Севас-
тополь. Ахматову обычно считают типич-
ной петербурженкой, ссылаясь на ее попу-
лярное стихотворение 1929 года: «Тот го-
род, мной любимый с детства...». На самом
деле первое петербургское, да и то времен-
ное, жилье появилось в ее жизни только в
1912 году; в детстве в городе она бывала
редко, лишь тогда, когда отец брал ее с со-
бой в театр или водил по выставкам. Она
выросла хоть и недалеко от столицы, одна-
ко в глубоко провинциальной, «узорной ти-
шине» дачного предместья. Столь же тихи-
ми и провинциальными, не похожими на
людные курорты Южно-Крымского побе-
режья, были в годы ее детства, отрочества,
первой юности окрестности Севастополя и
Одессы.
Моря и вообще воды — речной, морской,
озерной, всякой — дочь коренного севасто-
польца и внучка причерноморского казака
ничуть не боялась и даже убедила себя: по-
тому не боится, что родилась под Аграфе-
ну-Купальницу. По народному, еще дохрис-
тианскому Месяцеслову с 23 июня на Руси
начинали не только купаться, но и, как
метко сказано у Даля, «закупываться».
Правда, Купальница праздновалась 23
июня не по новому, а по старому стилю, то
есть формально спустя двенадцать дней
после рождения Анны Горенко. Ошиблась
ли Анна Андреевна или слукавила, не так
уж и важно, важнее то, что всяческую воду
222
Анна Андреевна Ахматова
она, как и маленькая героиня ее южной
поэмы «У самого моря», воспринимала как
родную стихию, поражая и сверстников, и
взрослых необычайным, как бы врожден-
ным умением плавать и нырять с лодки, и
не у берега, а в открытом море, за что и по-
лучила прозвище «дикая девочка» («что-то
среднее между русалкой и щукой».) Вот
как об этом рассказала сама «русалка»,
когда поняла, что ей легче говорить и с
людьми, и с собой стихами (в стихах Ахма-
това и откровенней, и точней):
Мне больше ног моих не надо,
Пусть превратятся в рыбий хвост!
Плыву, и радостна прохлада,
Белеет тускло дальний мост.
Однако при всей ее, как бы сейчас сказа-
ли, спортивности, у «дикой девочки» дол-
го, лет до пятнадцати, бывали странные
приступы лунатизма. Она вставала ночью,
уходила, в бессознательном состоянии, на
лунный свет. Отыскивал ее отец и приносил
на руках домой. Андрей Антонович любил
хорошие сигары, папирос, входящих в ши-
рокое употребление, не признавал. Этот от-
цовский запах — запах дорогой сигары с
тех пор навсегда соединился с лунным све-
том... Старая нянька твердила барыне: вся
беда оттого, что в комнате, где спит девоч-
ка, забыли занавесить окно. Окно заштори-
ли, но Анна тайком, дождавшись явления
луны, занавески раздергивала, ей нрави-
лось следить за игрой лунных лучей с веща-
ми и предметами ее спальни:
Молюсь оконному лучу —
Он бледен, тонок, прям.
Сегодня я с утра молчу,
А сердце — пополам.
На рукомойнике моем
Позеленела медь,
Но так играет луч на нем,
Что весело глядеть...
...Сердце Ани Горенко и впрямь разры-
валось пополам. Между любовью-жалостью
к матери и ревностью к отцу, к его скрытой
от детей и жены жизни в ином, чем их бед-
ный безалаберный дом, праздничном мире,
где были красивые женщины, рестораны,
постоянный абонемент (половина ложи!) в
Мариинский театр, и полы в светлых и теп-
лых комнатах — целые, не такие, как у
них, не щелястые. Крестная предполагала:
в щель-то и замели, не заметив, крестиль-
ный Аничкин крестик. Крестика было
жаль до слез, но она не плакала. Мать, у ко-
торой глаза всегда на мокром месте, с недо-
умением приглядывалась к самой непонят-
ной из своих дочерей...
В десять лет Анна заболела корью, да та-
кой тяжелой, с бредом и судорогами, что
все решили: и эта — не жилица, и эта
уйдет, вслед за Рикой. Но она выжила. Ху-
дая, голенастая, остриженная наголо —
гадкий утенок да и только. От хождения в
«бурсу» — так Анна называла свою первую
Царскосельскую гимназию — ее освободи-
ли: пусть, мол, пропустит год, здоровье до-
роже. Но и купаться не разрешили: корь
дала осложнение на уши. Чтобы утешить-
ся, она научилась развлекать себя: самой
лучшей игрой был «китайский чай*. Бро-
сишь в банку с водой такую чаинку, и там
появляются таинственно-яркие подводные
цветы, а среди цветов зевсова рыба, пло-
ская и с синим всевидящим оком. И вдруг
все-все надоело: и переводные картинки, и
«китайский чай» с водяными сюрпризами.
Ей было одиннадцать, когда она написала
первое стихотворение.
«ГИМНАЗИСТ С ГИМНАЗИСТКОЮ -
ДАФНИС И ХЛОЯ»
Сюда ко мне поближе сядь,
Гляди веселыми глазами:
Вот эта синяя тетрадь
С моими детскими стихами.
«Синяя тетрадь» осталась только в сти-
хах Анны Ахматовой. Детские свои сочине-
ния она уничтожила. «Мне кажется, я под-
беру слова, похожие на вашу первоздан-
ность...» Из всех посвященных ей стихов
Анна Андреевна выделяла именно эти: Бо-
рис Пастернак назвал по имени то, что инту-
итивно всю творческую жизнь делала она
сама — подбирала слова, похожие на свою
первозданность. Даже тогда подбирала, ког-
223
Русские писатели XX века
да и слова-то такого — первозданность — не
знала. Потому и сожгла синюю тетрадь — с
твердой уверенностью, что стихи, вписан-
ные туда ее рукой, ужасным почерком, со-
чинены не ею, а какой-то другой, пустой и
капризной девочкой, а она, Анна, — не то,
за что эти ничтожные стихи ее выдают, ведь
у нее, в отличие от присвоившей ее имя
царскосельской барышни, воображающей
себя «декадентской поэтессой», «есть еще
какое-то тайное существование и цель*.
Тетрадь-то сожгла, а писать все-таки про-
должала, точнее, записывать с внутреннего
голоса; она и чужие стихи, напечатанные в
книгах, не видела, а слышала, и восприни-
мала лучше на слух.
Правильные, похожие на ее первоздан-
ность слова не подбирались еще и потому,
что поэты, которых проходили в «бурсе»,
были скучными: слишком серьезно относи-
лись они к чему-то такому, что не имело ни-
какого отношения к ее тайному существо-
ванию. А те, что печатались в «Ниве»,
единственном журнале, который от случая
к случаю приносил отец, писали почти так
же плохо, как и она сама.
Когда начинало звучать внутри, Анна
переставала разговаривать — «сегодня я с
утра молчу». А про то, что выходило из
молчания, знала одна Валя-Валечка — Ва-
лерия Тюльпанова, подруга, почти сестра,
больше, чем родные сестры. Но и Валечка в
собеседники не годилась: со всем соглаша-
лась, всем восхищалась, мурлыкала как ко-
тенок, сияла милыми, преданными глаза-
ми, заучивала наизусть, старательно — она
все делала старательно — переписывала
стихи в альбом, про самые неудачные аха-
ла: «Гениально!» — и ничегошеньки не по-
нимала. Ни в гениальности, ни в стихах.
Анна попробовала было сунуться со
своими проблемами к брату Андрею, но тот
отмахнулся. Ласково, шутливо, но отмах-
нулся, вникать не стал, дескать, «наша
Аничка удивительно умеет совмещать бес-
полезное с неприятным!». Обиделась, но не
очень. У Андрея своих проблем хватало: он
так часто болел, что пришлось уйти из гим-
назии и сдавать курс экстерном.
В старших классах гимназии Аня Горен-
ко, даже в мелочах, заметно отличалась от
остальных гимназисток. Ее одноклассница
(по выпускному классу Киевской гимна-
зии) запомнила, что у Горенко была ка-
кая-то другая форма, не такая, как у всех:
из мягкой и дорогой ткани, и покрой осо-
бый, не стандартный, и сидело не мешком,
а как влитое, да и цвет не коричне-
во-школьный, а густо-шоколадный, прият-
ного оттенка, как раз такой, чтобы при ее
бледности и серо-зеленых бархатных глазах
«лйчил», а не «убивал». А однажды про-
изошел какой случай. На урок рукоделия
велено было принести отрез на ночную ру-
башку. Весь класс приносит скромный ко-
ленкор, а фасоня Горенко — прозрачный
батист-линон да еще и «развратного» неж-
но-розового цвета. Учительница в смуще-
нии: «Это неприлично!» Ответ ученицы Го-
ренко еще неприличнее, чем ее батист:
«Вам — может быть, а мне нисколько».
Происшествие замяли. Однако по рукоде-
лию все-таки не аттестовали. Впрочем, не
только по рукоделию. Как свидетельствует
аттестат, дочь Статского Советника девица
Анна не ходила и на уроки танцев. Она и в
детстве не пробовала танцевать, хотя ни-
чуть не стесняясь могла заявить малознако-
мому человеку: «Посмотрите, какая я гиб-
кая» — и через мгновение ноги ее соприка-
сались с головой. Восхищенный сказочной
гибкостью дочери, отец хотел было запи-
сать ее в балетную школу, но Анна наотрез
отказалась.
Однажды под Рождество, вспоминала
Валерия Тюльпанова, по мужу Срезнев-
ская, «мы вышли из дому — Аня и я с моим
братом Сережей — прикупить какие-то ми-
лые украшения для елки. Был чудесный
солнечный день. Около Гостиного двора мы
встретились с «мальчиками Гумилевыми»,
Митей (старшим, тогда морским кадети-
ком) и Колей-гимназистом... Встретив их
на улице, мы уже дальше пошли — яс Ми-
тей, Аня с Колей за покупками, и они про-
водили нас до дому. Аня ничуть не была за-
интересована этой встречей, я тем менее,
потому что с Митей мне всегда было скуч-
но, — он не имел никаких достоинств в мо-
224
Анна Андреевна Ахматова
их глазах. Но, очевидно, не так отнесся Ни-
колай Степанович к этой встрече. Я часто,
возвращаясь из гимназии, видела, как он
маячил вдали в ожидании появления Ани».
Валя-Валечка и права и не права: в серо-
глазого, высокого, высокомерного «с виду»
и очень неуверенного в себе гимназиста ее
Аня конечно же «не влюбилась», влюблен-
ностей от единственной подруги «до гробо-
вой доски» Анна Андреевна не скрывала. А
вот то, что встреча с младшим из мальчи-
ков Гумилевых ее все-таки заинтересовала,
утаила. Потом — проговорилась, но Вале-
рия Сергеевна этого почему-то не замети-
ла...
В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы.
Эти липы, верно, не забыли
Нашей встречи, мальчик мой веселый.
Ничего не забыла и Аня Горенко: ни лип
в морозном серебре, ни алмазную, пер-
вую их зиму, и самый важный в 1903 году
день — под Рождество («24 декабря позна-
комилась с Н. С. Гумилевым в Царском Се-
ле») тоже запомнила на всю жизнь как не-
забвенную дату. Коля Гумилев, чопорный и
немного деревянный гимназист, уже тогда,
в семнадцать мальчишеских лет, был поэт,
к тому же символист, выбравший в учите-
ля — Коля называл его «мэтр» — Валерия
Брюсова. (Вспоминая тогдашнего Гумиле-
ва, Ахматова скажет: «Он поверил в симво-
лизм как в Бога*.) Через несколько дней
брюсовский очередной шедевр «Tertia Vig-
ilia» уже лежал у нее под подушкой. Анна
книжку прочла с интересом. Нашла там,
кстати, и идеал, на который равнялся, с ко-
торого, кажется, делал себя ее первый — и
пока единственный — поклонник:
Да, я — моряк! Искатель островов,
Скиталец дерзкий в неоглядном море.
Я жажду новых стран, иных цветов.
Наречий странных, чуждых плоскогорий.
Куда больше радости доставил Ане сле-
дующий Колин подарок: торжественно вру-
ченный томик Блока — «Стихи о Прекрас-
ной Даме». Чтобы не расставаться на целых
полдня с Прекрасной Дамой и ее рыцарем,
она взяла сборничек в «бурсу». Ясно и чест-
но смотрела в глаза madame (на уроках
французского ученицу Горенко оставляли в
покое: по французскому она шла первым
номером — ах, какое произношение, слов-
но вы, Горенко, родились в Париже!), а вну-
три звучало:
Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Всё в облике одном предчувствую Тебя.
Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
И молча жду, — тоскуя и любя.
На перемене к ее парте подошла первая
ученица, рыжая веснушчатая толстуха,
взяла книгу, полистала и фыркнула: «И
ты, Горенко, можешь всю эту ерунду про-
честь до конца? »
«И КТО-ТО «ЦУСИМА!»
СКАЗАЛ В ТЕЛЕФОН»
Алмазная зима 1903 года, последняя зи-
ма детства, еще и потому так запомнилась
Ане Горенко, что была последней перед
японской войной. Весной 1904 года все сто-
личные газеты крупным шрифтом на пер-
вой полосе опубликовали экстренное сооб-
щение: «31 марта броненосец «Петропав-
ловск» наткнулся на японскую мину и в
полторы минуты затонул. Находившиеся
на борту адмирал С. О. Макаров и знамени-
тый художник В. В. Верещагин вместе с
семьюстами офицерами и матросами погиб-
ли».
Спустя двадцать два года Павел Лукниц-
кий, автор замечательного двухтомника
«Встречи с Анной Ахматовой», сделал в
дневнике такую запись: «Вечером в семь
часов собиралась пойти со мной в Цусим-
скую церковь, чтобы показать ее мне...» А в
1965-м, составляя конспект для расширен-
ной автобиографии, незадолго до последне-
го инфаркта, Анна Андреевна как само-
стоятельный сюжет обозначила все ту же
«незабвенную дату» — «год Цусимы»: «По-
трясение на всю жизнь, и так как первое, то
особенно страшное».
Страшное, видимо, еще и потому, что у
жертв первой ее войны было два прекрас-
ных человеческих лика: художника Вере-
8 Зак. 848
225
Русские писатели XX века
щагина и адмирала Макарова. О Степане
Осиповиче Макарове, коменданте Кронш-
тадтского порта, с одинаковым восхищени-
ем говорили и отец Анны, и ее новый друг
Коля Гумилев, очень гордившийся тем, что
родился в Кронштадте. Коля и потом про-
должал туда ездить, однажды и ее угово-
рил — навещали дядюшку и крестного
Колиного отца контр-адмирала Льва Ива-
новича Львова. Лев Иванович был холост,
столовался в береговой кают-компании;
крестник, как только они заходили в Мор-
ское собрание перекусить, обалдевал, как
если бы оказывался в пещере Аладдина: по
стенам аванзала — чуть ли не полное собра-
ние картин Айвазовского, а гостиные все в
разном стиле: китайская, индийская, афри-
канская, декорированные дарами моряков,
побывавших в далеких экзотических стра-
нах. И как только у Коли появилась своя
комната, он, к ужасу матери, превратил ее
чуть ли не в морское дно: выкрасил сте-
ны под цвет морской волны, на стенах по-
просил приятеля нарисовать русалок, раз-
ных морских чудовищ, а посреди комнаты
устроил фонтан, обложив его диковинны-
ми раковинами и камнями. Он и позднее,
уже будучи взрослым, разукрашивал свои
«ателье» по образцу экзотических гости-
ных кронштадтской кают-компании.
Весь Кронштадт провожал Макарова на
войну. Адмирал, назначенный командую-
щим Тихоокеанским флотом, забрал около
500 человек рабочих — корабельных дел
мастеров, объяснив журналистам, что везет
с собой золото и что без них воевать нельзя.
Да и в их семье, как только заходила речь
об адмирале Макарове, мать, поправляя
пенсне, встревала: дескать, Степан Осипо-
вич — не просто военный моряк и флотово-
дец, а еще и полярник, как и мой дед, а
твой, Анна, прадед — Стогов.
Ужасом отозвалась и смерть Верещаги-
на. Аня видела его будучи восьмилетним
ребенком, когда художник отдыхал под
Севастополем, около Георгиевского монас-
тыря. Правда, тогда сам Верещагин ее не
очень-то интересовал; с куда большим лю-
бопытством она разглядывала его молодую
и нарядную жену, а еще ревнивей следила
за их детьми. Уж очень чудно были одеты,
и мальчик, и девочка, вроде бы просто, а не
так, как наряжали отпрысков царскосель-
ские и севастопольские богатеи. И что же,
теперь и та красивая дама — вдова, а те де-
ти — сироты?
Осенью 1904-го в Обществе поощрения
художеств открылась посмертная выставка
Верещагина. На ней побывал весь Петер-
бург. Не отставали от петербуржцев и царс-
коселы. Помимо шока, какой вызвала ги-
бель «Петропавловска», публику привлека-
ла необычность экспозиционного декора.
По желанию вдовы залы были оформле-
ны так, как это делал сам художник, вы-
ставляя картины за рубежом: стены задра-
пированы бархатом темного бордо — чтобы
лучше смотрелись и холсты в золотых ра-
мах, и предметы этнографических коллек-
ций, которые Верещагин привозил из экзо-
тических путешествий: восточные ковры,
оружие, украшения, амулеты, ткани, ут-
варь... Была воспроизведена в мельчайших
подробностях и обстановка московской мас-
терской художника в усадьбе за Серпухов-
ской заставой, о которой ходило столько
слухов. При жизни художника вход сюда
посторонним, даже великому князю Влади-
миру Александровичу Романову, Президен-
ту Академии художеств, был строго воспре-
щен.
Интерес публики подогревал и ажиотаж
зарубежных коллекционеров: экспонирова-
лось 426 работ, аукцион обещал миллионы,
но вдова, помня, как огорчался муж, когда
лучшие вещи уходили за границу, продала
их за гроши Придворному ведомству — в
«казну»; денег от продажи еле-еле хватило
на покрытие выставочных расходов.
Даже в царскосельской «бурсе» шли тол-
ки о шикарной выставке. Жалели сирот,
оставшихся без средств к существованию.
Анну разговоры о миллионе не трогали, она
думала о другом, о том, что волшебного,
сказочно красивого ДОМА, где так счастли-
во жили тот мальчик и та девочка, нет и ни-
когда не будет, он так же, как картины и
коллекции их отца, продан чужим людям.
Анна потому так лично и страстно сочув-
ствовала сиротам Верещагиным, что и у нее
226
Анна Андреевна Ахматова
отнимали дом ее детства: в ту самую осень
купчиха Шухардина, домовладелица, за-
явила жильцам Горенко, чтобы сыскали к
весне другое помещение, потому как дом
она вздумала продать. Это был бедный и со-
всем не красивый ветхий дом, бывший
трактир, в полуподвалах — мелочная лавка
и зловонная сапожная мастерская. Но это
был ее jssnu, зимой его заносило снегом, зато
летом дворик буйно зарастал репейником,
из которого так ловко было лепить корзи-
ночки... Анна сразу почуяла: быть беде.
Так и случилось: едва переехали, прибежал
Сережа фон Штейн, муж Инны, он только
что говорил с врачом жены: надежды нет...
Не помня себя от нового горя, мать прогово-
рилась: Андрей Антонович попросил у нее
развода, и она согласилась.
Анна замолчала. Ни брат Андрей, ни
Валя Тюльпанова не могли ее разговорить,
а Колю Гумилева она избегала. Но он
все-таки ее находил, нарочно подружился с
ее старшим братом, ради нее уговорил роди-
телей устроить на Пасху домашний бал... А
в самом начале лета выследил, подкара-
улил в парке, выскочил из кустов, ожив-
ленный, веселый, и говорил, говорил... О
Париже, в который поедет, как только кон-
чит гимназию. Об Африке... О сборнике
своих стихов, для которого уже и название
придумал, а деньги на издание дает мать...
И вдруг сделался прежним — торжествен-
ным, взял за руку, повел к своему вечному
дубу и... сделал ей чопорное, словно геро-
ине романа, предложение: «Я прошу Вас,
Анна...» — и тут она заговорила: его же-
ной? Да как он смеет? У него и так есть все:
и свой дом, и отец, и у него никогда никто
не умирал... Париж... Африка... какая Аф-
рика, когда столько горя... Стреляют, ве-
шают, бросают бомбы! Путешествовать хо-
рошо, если в душе — тишина, а когда взры-
вают, следует сидеть на месте, забиться в
угол и замереть... чтобы все забыли, что ты
— есть.
Он повернулся и ушел. Не сказал ни еди-
ного слова. Мгновение назад она ненавиде-
ла его — сопляк, начитавшийся Ницше, а
сейчас ненавидела себя: черная, злая,
вздорная... И если бы он обернулся... Но он
не обернулся. В год гибели, перед самым
арестом, в стихотворении «Мои читатели»
Николай Гумилев вспомнит первую свою
беду и обиду: они определили стиль его по-
ведения и в жизни, и в творчестве:
Много их, сильных, злых и веселых,
Верных нашей планете,
Сильной, веселой и злой.
Возят мои стихи в седельной сумке,
Читают их в пальмовой роще.
Забывают на тонущем корабле.
Я не оскорбляю их неврастенией.
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца.
Но когда кругом свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться.
Не бояться и делать что надо.
И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во всей Вселенной,
Скажет: я не люблю вас, —
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти, и не возвращаться больше.
Никогда не забудет своей первой жен-
ской вины и бессмысленной, безответствен-
ной жестокости и Анна Ахматова. В «Поэ-
ме без героя», начатой в сороковом году, в
возрасте, какой столь почитаемый ею Данте
называл серединой дороги жизни, она,
вспоминая себя в юности, скажет сурово,
просто, бесслезно: «С той, какою была ког-
да-то... снова встретиться не хочу».
11 июня 1905 года ей исполнилось 16
лет.
15 июля умерла сестра Инна.
1 августа, проводив мать и малышей в
Киев, Анна и Андрей уехали к родственни-
кам в Евпаторию. Ехали долго, почтовым,
экономили деньги, Андрей пытался уте-
шать: вот кончат гимназию, начнут зараба-
тывать, купят свой дом и опять соберутся
все вместе. Как в Царском. И даже лампу
отыщут такую, как была в детстве, кероси-
новую, а не масляную. И кажется, верил в
то, что говорил. Но она-то знала: и рассея-
ние, и бездомность навсегда. А это было как
дышать одним легким. Она все про себя
знала наперед.
227
Русские писатели XX века
«СКОЛЬКО ПЕЧАЛИ В ПУТИ...»
Мы мало, почти ничего, не знаем о том,
как складывалась жизнь Анны Горенко
после ее вынужденного возвращения к са-
мому морю; целое пятилетие — с августа
1905-го по апрель 1910-го — покрыто пеле-
ной тумана, сквозь которую смутно просве-
чивают мало связанные между собой собы-
тия. Так, например, судя по намекам мему-
аристов, впрочем, глухим и уклончивым,
Анна пыталась «наложить на себя руки». А
что толкнуло ее на такой странный при ее
жизнелюбии шаг? Неизвестно. Уничтоже-
ны, как уже упоминалось, стихи смутных
кризисных лет. Сожжена и многолетняя —
с 1906 по 1910 год — переписка с Гумиле-
вым.
В мае 1906 года, получив аттестат зре-
лости и издав на средства родителей сбор-
ник «Путь конквистадоров», Николай Сте-
панович, как и было задумано, уехал в Па-
риж, и надолго, по его плану — не менее
чем на пять лет. Однако перед отъездом ус-
пел повидаться со старшим братом Анны
Андреем. О чем говорили молодые люди и
возникало ли в беседе имя Примаверы (под
этим именем Анна представлена в ранней
прозе Гумилева), мы также не знаем, но,
видимо, Андрей Горенко, вернувшись в Ев-
паторию, все-таки посоветовал сестре сде-
лать шаг к примирению. Гумилев ее пись-
му, первому после отказа и объяснения ле-
том 1905 года в Царскосельском парке,
обрадовался, началась переписка. Но в Рос-
сию он вернулся только через год — в мае
1907-го, да и то не по сердечной надобнос-
ти, а для отбывания воинской повинности.
Правда, по дороге заехал в Киев, где у своей
двоюродной сестры Марии Александровны
Змунчиллы жила теперь Анна. Отношений
на этот раз они, кажется, не выясняли, Гу-
милев спешил: надлежало еще заехать в
Москву и нанести торжественный визит
Брюсову, с которым все эти годы обмени-
вался литературными соображениями, а
главное, поспеть по месту прописки в Цар-
ское Село, чтобы пройти военно-медицин-
скую комиссию. Договорились, что встре-
тятся осенью в Севастополе.
Получив вольную (был признан «неспо-
собным к армейской службе по причине
врожденного астигматизма глаз»), Гумилев
вернулся к ней, снова сделал предложение
и снова получил отказ, правда, не такой
резкий и грубо-язвительный, как в Цар-
ском. И вернулся в Париж. Переписка во-
зобновилась: Гумилев в письмах делал
предложения — руки и сердца, Анна то
принимала их, то отказывала. Не выдержав
неопределенности, Гумилев, заняв денег у
ростовщика, поехал к ней: или да, или
нет. Анна сказала: нет.
Через двадцать лет, поведав историю
первого своего замужества Лукницкому
(тот собирал материалы для биографии Гу-
милева), Анна Андреевна назовет этот от-
каз окончательным («так продолжалось до
1908 г., когда, приехав к АА, получил
окончательный отказ...»). И хотя, как мы
знаем, окончательным он не стал — через
год с небольшим Аня Горенко стала женой
Николая Гумилева, — и Ахматова не огово-
рилась, и Лукницкий не ослышался: тому
Коле, каким она знала его по Царскому Се-
лу, та Аня и впрямь отказала окончатель-
но. И всерьез. Не кокетничая, не играя роль
жестокой царицы, не прикидываясь кап-
ризным ребенком. О том, как это было, мы
можем составить некоторое представление,
вчитавшись в ее стихотворение «Протертый
коврик под иконой...». Конечно, это не за-
рисовка с натуры и не дневниковая замета,
и тем не менее характер сложившихся от-
ношений изображен, именно изображен, а
не назван, на редкость откровенно. Видимо,
поэтому Анна Андреевна и не называла
«Протертый коврик...» среди вещей, явно
посвященных Гумилеву:
Протертый коврик под иконой,
В прохладной комнате темно,
И густо плющ темно-зеленый
Завил широкое окно.
От роз струится запах сладкий.
Трещит лампадка, чуть горя.
Пестро расписаны укладки
Рукой любовной кустаря.
И у окна белеют пяльцы...
Твой профиль тонок и жесток.
228
Анна Андреевна Ахматова
Ты зацелованные пальцы
Брезгливо прячешь под платок.
А сердцу стало страшно биться.
Такая в нем теперь тоска...
И в косах спутанных таится
Чуть слышный запах табака.
Из бедной этой — «наемной» комнаты
вышел, шатаясь, чтобы не возвращаться
больше, нелепый и нескладный гимназист,
автор осмеянного критикой «Пути конк-
вистадоров», золотой рыцарь, трогательно
влюбленный в деву луны. Он покончит с со-
бой в Париже осенью 1908 года. А тот Гу-
милев, которого случайно подобрали в Бу-
лонском лесу без сознания валяющимся в
глубоком рву старинного крепостного со-
оружения и чудом возвратили к жизни,
был совсем другим, решительно не похо-
жим ни на отчаявшегося бродягу, за кото-
рого принял подобранного самоубийцу пар-
ковый служитель, ни на «мальчика весело-
го», помогавшего Ане Горенко выбирать
елочные игрушки в алмазный Сочельник
1903 года. В знаменитом стихотворении Гу-
милева «Память» есть такие строки:
Только змеи сбрасывают кожу,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела.
Что-то похожее произошло с Николаем
Гумилевым в 1908 году. Несмотря на абсо-
лютное безденежье, он добрался-таки до
Египта и даже искупался в Ниле. Возвра-
щение к жизни после попытки самоубийст-
ва и Африка, которая виделась рыцарю
жестокой Примаверы чем-то вроде испо-
линской груши, висящей на древе древней
Евразии и превращающей отроков в мужей
дерзостных, преобразили Гумилева. Вер-
нувшись в Петербург, Николай Степанович
очень скоро оказался в самом центре лите-
ратурной жизни столицы, удивляя не толь-
ко ровесников, но и более опытных литера-
торов независимостью суждений и ка-
ким-то «самоуверенным мужеством». В нем
вдруг обнаружился и организаторский та-
лант, и признаки литературного лидера. Да
и стихи становились все крепче и ориги-
нальнее: то, что еще недавно считали раб-
ским подражанием Брюсову, оказалось рез-
ко обозначившейся индивидуальностью,
производящей сильное впечатление:
Уверенную строгость береги,
Твой стих не должен ни порхать, ни биться.
Хотя у музы легкие шаги,
Она богиня, а не танцовщица.
В том же переломном 1908-м появились
«Романтические цветы»; критика отнес-
лась ко второй книге Гумилева более снис-
ходительно, а Валерий Брюсов почти по-
хвалил. Полоса отчуждения и непризнан-
ное™ вроде бы кончалась.
Все, даже Анна и Андрей Горенко, иро-
низировали над попытками Гумилева изда-
вать журнал: русский журнал в Париже —
кому он нужен, если нет ни денег, ни авто-
ров? Ни денег, ни авторов у главного и
единственного редактора журнала «Сири-
ус» Николая Гумилева не было, если не
считать Ани Горенко, именно в «Сириусе»
впервые напечатавшейся (стихотворение
♦ На руке его много блестящих колец...»).
Денег не было, но идеи были: Гумилев слов-
но родился, чтобы стать человеком жур-
нала; он даже книги читал по-особому —
одновременно несколько, как бы склады-
вая журнальную композицию. Это благода-
ря его энергии и воле так быстро взошла
звезда одного из самых замечательных из-
даний серебряного века — журнала «Апол-
лон».
В январе 1909 года «Аполлон» — еще
только идея, и притом смутная, а в октябре
уже вышел первый номер. На презентации
в столичном ресторане «Pirato» собрался
весь литературный и артистический бо-
монд. В ноябре, возглавив группу разочаро-
вавшихся в символизме молодых поэтов (в
их числе Алексей Толстой, в ту пору стихо-
творец, и Михаил Кузмин), Гумилев по-
явился в Киеве.
Небывалая осень построила купол высокий,
Был приказ облакам этот купол собой не темнить.
Было солнце таким, как вошедший в столицу
мятежник,
И весенняя осень так жадно ласкалась к нему,
229
Русские писатели XX века
Что казалось — сейчас забелеет прозрачный
подснежник...
Вот когда подошел ты, спокойный, к крыльцу
моему.
И эти стихи Анна Ахматова не называла
среди относящихся к Гумилеву. Ей вообще
не нравилось, когда критики и читатели вос-
принимали ее поэзию узко биографически, и
она неоднократно напоминала, что за редки-
ми исключениями «делает несколько сним-
ков на одну пластинку». К тому же в 20-х го-
дах, да и позднее, сознательно ставила и не-
правильные даты, и «мнимые» посвящения
(чтобы ввести в заблуждение бдительную со-
ветскую цензуру). Даже от Лукницкого, хо-
тя была с ним достаточно откровенна, скры-
ла из осторожности, что стихотворение «Не
бывать тебе в живых...» написано на смерть
Николая Гумилева. Не буквальное описание
конкретной встречи лирической героини со
своим «суженым» и процитированное стихо-
творение. Однако, по свидетельствам оче-
видцев, Гумилев, явившийся из почти зим-
него Петербурга в еще ослепительно сол-
нечный Киев, и в самом деле держался
как захвативший столицу мятежник — спо-
койно и победительно. Уверенный, что те-
перь-то Анна не сможет ему отказать.
И она сдалась: в самом конце ноября
1909 года Николай Степанович уехал в Аф-
рику уже женихом. Так и не заметив в
спешке, что девушка, принявшая наконец-
то его предложение, тоже, как и он, переме-
нила душу. Точнее, переменилась душой.
Она наконец-то узнала, что такое любовь.
Нет, не к своему жениху, как может пока-
заться по внешним приметам ее биографии.
Имя этого человека Анна Андреевна не от-
крыла. Никому, кроме Гумилева, и то пос-
ле развода.
Все, что известно об утаенной южной
любви Анны Ахматовой, — короткая за-
пись в дневнике Лукницкого: «В течение
своей жизни любила только один раз. Толь-
ко один раз. Но как это было... В Херсонесе
три года ждала от него письма. Три года
каждый день, по жаре, за несколько верст
ходила на почту, и письма так и не получи-
ла».
Видимо, в те же годы — годы неудачной
первой любви — она, дикая приморская
девчонка, язычница, последняя херсонид-
ка, дерзкая и веселая, научилась верить в
Бога. Именно научилась, ибо первоначаль-
ного религиозного воспитания не получила.
В семье Горенко, как и во многих интелли-
гентных семьях предреволюционной поры,
отношение к религии было более чем спо-
койным. Православные праздники, естест-
венно, соблюдались, но скорее бытом, чем
церковно, то есть следили за тем, чтобы и к
Пасхе, и к Рождеству в доме было вычище-
но-натерто и стол не хуже, чем у людей. Од-
нако и Ия, которую в семье в шутку назы-
вали монашенкой, и Анна, подрастая, напе-
рекор семейной традиции стали проявлять
непонятную матери религиозность с неко-
торым даже налетом экзальтации. Анна
Андреевна не любила вспоминать о том, что
была воспитанницей Смольного института
благородных девиц. А уж о том, почему ее
оттуда забрали, — тем более. Однако из
других источников известно, что взять ее
родителям пришлось из-за того, что девоч-
ку нашли лежащей на полу институтской
церкви в состоянии обморока. Повторялись
ли подобные приступы религиозного экста-
за у Ани Горенко в отроческие годы, мы не
знаем. Но одна из ее товарок по Киевской
гимназии (1907) оставила такое важное
свидетельство:
«Киевская весна. Синие сумерки. Над пло-
щадью медленно разносится благовест. Хочется
зайти в древний храм св. Софии, но ведь я при-
надлежу к «передовым» и в церковь мне не подо-
бает ходить. Искушение слишком велико... хо-
чется отойти от обыденного. В церки полумрак.
Народу мало... в темном приделе вырисовывается
знакомый своеобразный профиль. Это Аня Горен-
ко. Она стоит неподвижно... Взгляд сосредоточен-
но устремлен вперед. Она никого не видит, не
слышит. Кажется, что она и не дышит... Не-
сколько раз хотела заговорить с ней о встрече в
церкви. Но всегда что-то останавливало. Мне
казалось, чт<ъ я невольно подсмотрела чужую
тайну...»
По всей вероятности, об этой тайне своей
невесты не догадался в 1909 году и Гуми-
лев.
230
Анна Андреевна Ахматова
Николай Степанович пробыл в стра-
не своей детской мечты недолго, менее
двух месяцев. 5 февраля 1910 года он
уже дома. На следующий день внезапно
умер его отец. Степан Яковлевич Гуми-
лев по понятиям тех лет считался ста-
риком, почти на двадцать лет старше энер-
гичной и властной жены, но выглядел
куда бодрее и крепче своих 74. Не смея
оставить убитую горем мать, Николай Сте-
панович дал телеграмму в Киев. Анна при-
ехала.
Но ни смерть отца, ни приезд невесты,
которую не видел несколько месяцев, не из-
менили рабочего распорядка. Намеченный
план соблюдался неукоснительно: универ-
ситетские лекции, стихи, литературно-кри-
тические статьи для «Аполлона», создан-
ная при «Аполлоне» «Академия стиха»,
множество самых разнообразных литера-
турных знакомств (Гумилев уже чувствует,
что в символизме ему и тесно, и «жмет*.
Слово «акмеизм» еще не произнесено, но
группа единомышленников сколочена и в
противовес «Академии стиха» мыслит себя
«Цехом поэтов»).
Рядом со столь мощным генератором ли-
тературных идей, никогда не отключав-
шимся, Анна чувствовала себя «бездельни-
цей». К тому же будущая свекровь доста-
точно резко при ней напомнила сыну, что
траурный срок не истек и разговоры о
свадьбе неуместны. Невеста вернулась в
Киев, внутренне, кажется, готовясь к тому,
чтобы отпустить милого друга Колю на сво-
боду. Но он этого ей не позволил. Дождав-
шись «сигнала» третьего поэтического
сборника «Жемчуга» (16 апреля 1910), он
тут же умчался в Киев, и 25 апреля в Ни-
кольской церкви села Никольская слобода
состоялся обряд венчания: Аня Горенко
стала госпожой Анной Андреевной Гумиле-
вой. Свадьбу решено было не устраивать по
причине траура, зато в качестве свадебного
подарка Гумилев преподнес Анне Париж.
Киевская кузина Мария Александровна
Змунчилла постаралась, чтобы «Аничка не
выглядела «провинциалкой», и, кажется,
ей это удалось.
Часть вторая
СЛАВА
«Я НА СОЛНЕЧНОМ ВОСХОДЕ
ПРО ЛЮБОВЬ ПОЮ»
Как это ни странно, но Париж 1910 года
не оставил в стихах Ахматовой ни одной
значительной приметы. В прозе, в очерке
«Амедео Модильяни* (1964), она опишет
его так: «То, чем был тогда Париж, уже в
начале 20-х годов называлось «vieux Paris»
или «Paris avant guerre» (старый Париж
или довоенный Париж). Еще во множестве
процветали фиакры. У кучеров были свои
кабачки, которые назывались «Au rendez-
vous des cochers» (Встреча кучеров), и были
еще живы мои молодые современники,
вскоре погибшие на Марне и под Верде-
ном».
Впрочем, одна важная парижская де-
таль: «И словно тушью нарисован в альбо-
ме старом Булонский лес» — есть и в сти-
хах. Написаны они, правда, позднее, в мае
1913-го, но Ахматова часто возвращалась в
прошлое и вообще охотнее писала по памя-
ти, чем, так сказать, с натуры, давала и
чувствам, и впечатлениям превратиться в
воспоминание. Кроме того, именно в мае
1913 года у нее была уважительная причи-
на вспоминать о парижском мае 1910 года
и, главное, о Булонском лесе, где, напом-
ним, Гумилев пытался покончить с собой
из-за безнадежной любви к ней, с особым
ностальгическим чувством — как о былом
«богатстве», которое они общими усилиями
промотали: муж опять уехал в Африку. На
этот раз вместе с племянником, Колей
маленьким, с полным экспедиционным
снаряжением, а значит — надолго, бросив
не только ее, но и восьмимесячного сына.
И уезжал нехорошо — словно убегал. Один
из общих знакомых четы Гумилевых вспо-
минал:
«За день до отъезда Гумилев заболел — силь-
ная головная боль, 40 градусов температуры. По-
звали доктора, тот сказал, что, вероятно, тиф...
На другой день я пришел его навестить... Меня
встретила заплаканная Ахматова: «Коля уехал».
За два часа до отхода поезда Гумилев потребовал
воды для бритья и платье. Его попробовали успо-
231
Русские писатели XX века
коить, но не удалось. Он сам побрился, сам уло-
жил то, что осталось не уложенным, выпил ста-
кан чаю с коньяком и уехал».
Но мы немного забежали вперед...
В июне 1910-го на обратном пути из Па-
рижа Анна пересела в киевский поезд, а
Николай Степанович отправился в Слепне-
во, тверское имение матери. Некоторые
биографы Ахматовой предполагают, что
факт этот свидетельствует о взаимных раз-
очарованиях молодоженов, будто бы начав-
шихся во время свадебного путешествия.
Вряд ли это соответствует истине, иначе
Анна Андреевна не говорила бы Лукницко-
му, что в Париже они с Колей были очень
близки. О том же свидетельствуют и обра-
щенные к М. А. Змунчилле стихи. Мария
Александровна хорошо относилась к Гуми-
леву и очень старалась, чтобы брак состоял-
ся. Вот каким запомнила Анна месяц своей
свадьбы — апрель отныне и навсегда в ее
личном месяцеслове будет считаться прино-
сящим счастье:
Весенним солнцем это утро пьяно,
И на террасе запах роз слышней,
А небо ярче синего фаянса.
Тетрадь в обложке мягкого сафьяна;
Читаю в ней элегии и стансы.
Написанные бабушке моей.
Дорогу вижу до ворот, и тумбы
Белеют четко в изумрудном дерне.
О, сердце любит сладостно и слепо!
И радуют пестреющие клумбы...
Думаю, что разлучились на обратном пу-
ти из Парижа молодожены Гумилевы по
причине достаточно будничной, однако по
тем временам немаловажной: Николаю Сте-
пановичу надо было как-то загладить перед
матерью ослушание, объяснить, почему он,
не получив на то полагающегося родитель-
ского благословения, слишком поспешно
женился.
Анна Ивановна Гумилева была челове-
ком разумным: что сделано, то сделано, и
ссориться с сыном не стала. Поживем —
увидим. Неувязки и неудовольствия, при-
чем взаимные, начались, скорее всего, уже
после приезда Анны в Слепнево, и процити-
рованное выше стихотворение, такое луче-
зарное, похоже, не случайно включено в
цикл, который называется «Обман». Види-
мо, к осени 1910 года Анна и Николай Гу-
милевы стали догадываться, что невольно
обманули и друг друга, и самих себя: нали-
цо была психологическая несовместимость.
Гумилеву нужно было действовать, он не
понимал, как можно уставать или отды-
хать. Поставив перед собой цель, нечелове-
ческим напряжением духовных и физиче-
ских сил он, проявляя редкостное постоян-
ство воли, стремился к ее достижению. И
это касалось не только творческих и судьбо-
носных проектов, но и самых обыденных
затей. Наблюдая, с какой целеустремленно-
стью Николай Степанович, временно ото-
рванный от литературных занятий, без
устали затевал летом в Слепневе театрали-
зованные шоу, Анна почти ужасалась. На-
ибольшим успехом среди местных крестьян
пользовалась созданная молодым слепнев-
ским барином цирковая труппа. Сам Нико-
лай Степанович выступал в своем цирке в
роли лихого наездника. В программу вхо-
дили: танцы на канате, хождение колесом;
для Ахматовой был поставлен номер жен-
щина-змея. Если представление давалось в
своем кругу, женщина-змея еще и деклами-
ровала сочиненное специально для аттрак-
циона стихотворение «Змея»:
В комнате моей живет красивая
Медленная черная змея;
Как и я, такая же ленивая,
И холодная, как я.
В. Неведомская, одна из участниц гуми-
левских шоу молодая хозяйка соседнего со
Слепневым имения, вспоминала:
«Наше Подобино было совсем не похоже на
Слепнево. Это было подлинное «дворянское гнез-
до»... Здесь Гумилев мог развернуться, дать волю
своей фантазии. Его стихи и личное обаяние со-
всем околдовали нас, и ему удалось внести эле-
мент сказочности в нашу жизнь».
К появлению нового лица сложившаяся
не за один дачный сезон компания отнес-
лась, как и следовало ожидать, с предубеж-
дением. Даже внешность жены Гумилева
владелица «дворянского гнезда» Подобино
232
Анна Андреевна Ахматова
оценила как неинтересную: «У Ахматовой
строгое лицо послушницы из староверче-
ского скита. Все черты лица слишком ост-
рые, чтобы назвать лицо красивым. Серые
глаза без улыбки». А уж манера держаться
этой чужачки и тем паче не пришлась ко
двору:
«За столом она молчала и сразу почувствова-
лось, что в семье мужа она чужая. В этой патри-
архальной семье и сам Николай Степанович и его
жена были как белые вороны. Мать огорчалась
тем, что сын не хотел служить ни в гвардии, ни
по дипломатической части, а стал поэтом, пропа-
дает в Африке и жену привел какую-то чудную:
тоже пишет стихи, все молчит, ходит то в темном
ситцевом платье вроде сарафана, то в экстрава-
гантных парижских туалетах».
Свидетельства В. Неведомской недобры
и пристрастны. И тем не менее факты есть
факты, и вряд ли рыжекудрая дама их вы-
думала. Анну вроде бы даже устраивала от-
дельность. Однако то, что в затеянной му-
жем игре в цирк все-таки участвовала, по-
зволяет предположить, что не так уж легко
давалась ее подчеркнуто независимая пози-
ция. Не могло не обижать, хотя обида на-
верняка и загонялась глубоко в подполье,
что муж, увлеченный своими затеями,
практически не обращал на нее внимания.
А уж о том, чтобы помочь акклиматизиро-
ваться в новой обстановке, и речи не было.
Судя по всему, по впечатлениям того лета,
когда Николай Степанович проделывал го-
ловоломные конноспортивные упражнения
на необъезженных подобинских лошадях,
Анна Андреевна написала следующее чет-
веростишие:
А! Ты думал: я тоже такая.
Что можно забыть меня?
Что я брошусь, моля и рыдая,
Под копыта твоего коня!
Строки эти долго, до 1921 года, остава-
лись в черновиках, потом вошли в стихо-
творение, обращенное совсем к другому ли-
цу, но Ахматова не раз говорила, что про-
цитированная строфа написана гораздо
раньше и совсем в иных обстоятельствах.
В сентябре, по окончании дачного сезо-
на, Гумилевы вернулись в Царское Село.
Дом, который присмотрела и вскоре купила
Анна Ивановна, выбирался с расчетом на
долгую жизнь: чтобы был поместительным
и удобным; свекровь Анны Андреевны гор-
дилась своей репутацией хорошей хозяй-
ки. Молодоженам отвели целый этаж, не-
вестке — отдельную комнату, рядом с рабо-
чим кабинетом мужа и библиотекой. Гости-
ную по настоянию Николая Степановича
обставили в стиле «модерн», для остальных
комнат привезли из Слепнева прадедов-
скую мебель красного дерева. Анна обрадо-
валась: отдельная комната, теплая, уют-
ная, обставленная старинной мебелью —
как она мечтала о домашнем семейном уюте
в годы южной бездомности! Она вообще всю
жизнь страстно хотела того, чего у нее ни в
детстве, ни потом не было: семейного уюта
и «простой домашней жизни».
Однако очень скоро уютный дом мужа
(все, кто бывал у Гумилевых в Царском Се-
ле, утверждают, что семья поэта была ра-
душной, устоявшейся, хорошей чиновничь-
ей семьей) стал казаться ей нежилым, на-
полненным неживыми вещами («сердце
бедное измаялось в нежилом дому твоем»).
Дело было, конечно, не в вещах, а в лю-
дях, и прежде всего в жене старшего из
братьев Гумилевых, которая всем своим
поведением подчеркивала, что Анна «чуж-
дый элемент». Ее воспоминания порази-
тельно схожи с воспоминаниями слепнев-
ской приятельницы Гумилева Веры Неве-
домской:
«В дом влилось много чуждого элемента... В
семье очутились две Анны Андреевны. Я блон-
динка, А. А. брюнетка... Она держалась в стороне
от семьи. Поздно вставала, являлась к завтраку
около часа, последняя, и войдя в столовую, гово-
рила: «Здравствуйте все!» За столом большей
частью была отсутствующей, потом исчезала в
свою комнату либо уезжала в Петербург».
Может быть, взаимные неудовольствия и
сгладились бы, отложи Гумилев заплани-
рованное, после прошлогодней разведоч-
ной прикидки, путешествие в Африку. Но
он и не подумал откладывать задуманное.
И двух недель не прошло после переезда в
Царское из Слепнева, укатил в Аддис-Абе-
233
Русские писатели XX века
бу. Свой первый замужний Новый год Анна
Гумилева встречала «соломенной вдовуш-
кой». Николай Степанович перед венчани-
ем предупредил невесту, что сидеть у ками-
на и смотреть с тоской, как печально камин
догорает, не намерен, и она от чистого серд-
ца пообещала, что будет отпускать его и в
Африку, и хоть на край света, как только
он захочет. Но вот того, что ее пленник за-
хочет воли так скоро, всего через несколько
месяцев после свадьбы, конечно же и допус-
тить не могла. Больше того, Николай Сте-
панович, так долго добивавшийся согласия
именно на брак, иных отношений он и в
мыслях не допускал, оказался совершенно
не готовым к семейной жизни. Вскоре пос-
ле его отъезда в Африку Анна Андреевна
написала такие стихи:
Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов
И стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети.
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
...А я была его женой.
При переиздании ранних сборников про-
цитированную миниатюру Ахматова неиз-
менно браковала, поклонники ее таланта
находили, что она с излишним жестокосер-
дием это делает. Но у Анны Андреевны бы-
ли свои резоны; текст был исключен из со-
става сборников как слишком личный, без
комментария не понятный. Ситуация и
впрямь интимная — из тех, что поймут
только двое. Гумилев — понял. Вернув-
шись в марте 1911 года из африканского во-
яжа и прочтя неотправленное женино пись-
мо, ответил не мешкая, разумеется, тоже
стихами. Не только ей, но и себе. За четыре
месяца первой разлуки с женой он, видимо,
тоже многое понял, понял то, чего прежде,
во чтобы то ни стало добиваясь от Анны со-
гласия на брак, то ли не видел, то ли не хо-
тел видеть:
Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
А думал забавницу,
Гадал — своенравницу,
Веселую птицу-певунью.
Покликаешь — морщится,
Обнимешь — топорщится,
А выйдет луна — затомится,
И смотрит, и стонет,
Как будто хоронит
Кого-то, — хочет топиться.
Твержу ей: крещеному
С тобой по-мудреному
Возиться теперь мне не в пору.
Снеси-ка истому ты
В днепровские омуты.
На грешную Лысую гору.
Молчит — только ежится,
И все ей неможется,
Мне жалко ее, виноватую,
Как птицу подбитую,
Березу подрытую
Над очастью1,
Богом заклятою.
«А Я НЕ МОГУ ВЗЛЕТЕТЬ...»
Судя по всему, фраза про незадачливо-
го жениха, который привез из Киева чуд-
ную — не ту жену: «С тобой по-мудреному
возиться теперь мне не в пору», сказана не
совсем в шутку, похоже, это итог многоме-
сячных, на расстоянии, раздумий.
Уже в первое медовое лето Николай Сте-
панович был раздражен необходимостью
«возиться» с непонятными ему причудами.
Он любил в Аннушке приморскую девчон-
ку, озорную и дерзкую, в образе строгой по-
слушницы она ему не нравилась. Не нрави-
лись и стихи, те, что были ему известны до
весны 1911 года; впрочем, как мы уже зна-
ем, и сама Анна находила их «чудовищны-
ми»: так писали в ту пору чуть ли не все ли-
тературно озабоченные провинциальные
гимназистки. Впрочем, охота, с какой эти
семейные стихи крайне скрытный Николай
Степанович читал на людях, неизменно ос-
ведомляясь у жены, позволит ли она, за-
ставляет предположить, что Гумилев ниче-
го страшного в размолвках пока не видел.
По своей деятельной натуре он полагал: на-
до найти для Анны занятие, и тогда все ула-
1 Очастъ — топкая чащоба, затягивающая,
как болото, бездна.
234
Анна Андреевна Ахматова
дится; и капризы, и истерики, и недомога-
ния, все — от безделья.
Занятие предполагалось не литератур-
ное, однако со своими литературными еди-
номышленниками молодую жену Гумилев
все-таки познакомил и почитать стихи раз-
решил. Первое выступление летом 1910 го-
да оказалось неудачным. Бойкие и самона-
деянные, люди гумилевской свиты сразу
же решили: Николай женился на обыкно-
венной барышне. Слегка огорченный, Гу-
милев попробовал утешить Анну: «Займись
лучше танцами, ты такая гибкая...» На том
и простились. На целых полгода.
Видимо, вскоре после отъезда Гумилева,
как шило из мешка, вылезла и еще одна
неприятная новость. Уже летом, в Слепне-
ве, Анна Андреевна с некоторым удивле-
нием наблюдала за открытыми ухажива-
ниями мужа за молоденькой кузиной,
точнее — двоюродной племянницей Ма-
шенькой Кузьминой-Караваевой, которую
Гумилев знал с детства. Машенька за го-
ды, проведенные Николаем Степановичем
за границей, превратилась в настоящую
русскую красавицу, светловолосую, с чу-
десным цветом лица. Но особенного зна-
чения этим ухаживаниям мужа Анна Анд-
реевна не придала, решив, что Коля просто
разыгрывает роль влюбленного, чтобы от-
влечь девушку от мрачных мыслей: у Ма-
шеньки, несмотря на цветущий внеш-
ний вид, была чахотка (она скончалась в
самом начале 1912 года в Италии). Однако
домашняя служба новостей довела до све-
дения неугодной снохи, что ее муж влюб-
лен в прелестную барышню Кузьмину-Ка-
раваеву всерьез.
Коротая соломенное вдовство, полубро-
шенная новобрачная старалась как можно
меньше бывать дома. То уезжала к родным
в Киев, то в гости к отцу, в Петербург. По-
сле ее замужества отношения с отцом не-
сколько потеплели: он старел, старела и его
«адмиральша» и уже не вызывала в Анне
мучительной неприязни. Возвращалась по-
здно и одна. Вокзал и поезд в жизни корен-
ных царскоселов выполняли роль клуба ин-
тересных знакомств. Завелись такие зна-
комства и у Анны Гумилевой: в поезде она
однажды разговорилась с Николаем Пуни-
ным (через десять лет Анна Ахматова ста-
нет его гражданской женой, и брак этот
окажется самым длительным из ее заму-
жеств), на вокзале прочла Георгию Чулкову
свои первые настоящие стихи... В ту же зи-
му и тоже в поезде приворожила и Николая
Недоброво. Через четыре года Николай
Владимирович напишет о поэзии Ахмато-
вой первую серьезную критическую статью.
Словом, жизнь все-таки делала, пусть и
маленькие, приятные подарки. Но лучше
ей не становилось. Вот какой запомнил ее
Георгий Иванович Чулков:
«Однажды на вернисаже выставки «Мира ис-
кусства» я заметил высокую стройную серогла-
зую женщину, окруженную сотрудниками
«Аполлона», которая стояла перед картинами Су-
дейкина. Меня познакомили. Через несколько
дней был вечер Федора Сологуба. Часов в один-
надцать я вышел из Тенишевского зала. Моросил
дождь. И характернейший петербургский вечер
окутал город своим синеватым волшебным сумра-
ком. У подъезда я встретил опять сероглазую мо-
лодую даму. В петербургском вечернем тумане
она похожа была на большую птицу, которая
привыкла летать высоко, а теперь влачит по зем-
ле раненое крыло».
Не помогали и одинокие прогулки по
любимому Царскому Селу: еще пять лет
назад они лечили душу, а теперь и улицы,
и переулки, и парки, и даже парковые во-
допады стали чужими и всем своим ви-
дом словно бы показывали, что и для них
она — «чуждый элемент». Она попробовала
написать это новое, чужое и мертвое, Цар-
ское:
Пять лет прошло. Здесь все мертво и немо.
Как будто мира наступил конец.
Как навседа исчерпанная тема,
В смертельном сне покоится дворец.
Но продолжать не стала, а мысленно вер-
нулась в детство и стала по частям отни-
мать у забвения уцелевший, сохраненный в
«подвале памяти» прежний, «игрушеч-
ный», но живой, пленительный город не-
страшных загадок и не опасных полудет-
ских влюбленностей. Тема, показавшаяся
исчерпанной, была неисчерпаемой! «По ал-
235
Русские писатели XX века
лее проводят лошадок...*; «А там мой мра-
морный двойник...»; «Смуглый отрок бро-
дил по аллеям...»; «Целый букет принесут
роз из оранжереи...»; «Туманом легким
парк наполнился...*; «Я сошла с ума, о
мальчик странный, в среду в три часа...».
Перенесенные воображением в игрушеч-
ный городок детства и нынешние ее беды,
совсем не игрушечные, просветлялись и не
тянули — тяжел камень, к земле тянет, —
а помогали взлететь. Ей и собственное отра-
жение в поэтическом зеркале теперь почти
нравилось: это было ее лицо, лучшее из ее
лиц. Вернув себе детский рай, Анна и ♦ по-
лу брошенность» воспринимала уже не как
драму, а по-пушкински: как светлую пе-
чаль. За несколько месяцев отсутствия му-
жа она написала целую книгу стихов. На
первом своем сборнике, под названием «Ве-
чер», вышедшем в свет в марте 1912 года,
Анна Ахматова почти через полвека, в 1958
году, в начале своей «плодоносной осени»,
сделает такую надпись:
Он не траурный, он не мрачный.
Он почти как сквозной дымок,
Полуброшенной новобрачной
Черно-белый легкий венок.
А под ним тот профиль горбатый
И парижской челки атлас,
И зеленый продолговатый
Очень зорко видящий глаз.
(Авторское название: «В старом зеркале,
или Надпись на книге «Вечер». 1912*.)
Зоркость поэтического, и не только поэ-
тического, зрения Анна Андреевна сохра-
нила до самой старости. Один из молодых
поэтов, составлявших в 60-е годы свиту
«королевы в изгнании* (выражение Иоси-
фа Бродского), вспоминает:
«Ахматова обладала редкостной... наблюда-
тельностью, зоркостью, она тотчас замечала то,
на что другие не обращали внимания. Взяв од-
нажды в руки выпуск «Paris Match», посвящен-
ный незадолго до того умершему Черчиллю, кото-
рый остальные перед тем успели просмотреть, она
указала на нескольких фотографиях детали, ко-
торых никто не заметил, такие, как Орден под-
вязки на ноге Черчилля, или на то, что на одном
снимке министр был пьян».
«ОДНОЮ ПЕСНЕЙ БОЛЬШЕ БУДЕТ»
Когда Николай Степанович вернулся из
Африки, Анна Андреевна попробовала вы-
яснить, что в семейных сплетнях о его ро-
мане с «кузиной» Кузьминой-Караваевой
правда, а что наговор, но Гумилев ни выяс-
нения отношений, ни женских истерик тер-
петь не мог: разговор не состоялся. Кончи-
лось первой крупной размолвкой: Анна
Андреевна укатила в Париж, а Николай
Степанович, посадив жену в поезд, — в
Слепнево, развлекать тамошнюю моло-
дежь. По возвращении из Парижа Анна
Андреевна нашла в деревне все то же, что
было и прошлым летом. Однако вопросов
мужу больше не задавала: Машенька была
слишком больна, это видели все, кроме Ни-
колая Степановича.
Парижские приключения 1911 года (лег-
кий, без продолжения, вполне в духе време-
ни, роман с художником Амедео Модилья-
ни, тогда еще совсем не знаменитым), как
это ни странно, восстановили супружеское
согласие. В томик Теофиля Готье, приве-
зенный из Франции специально для невер-
ного Николая Степановича, неверная его
жена, как бы по забывчивости, вложила ро-
мантическое послание от парижского свое-
го поклонника — Модильяни. Николай
Степанович пришел в бешенство. Раскви-
тавшись и повинившись, супруги поми-
рились. И вроде бы простили друг другу: он
ей — Модильяни и увеселительную прогул-
ку в Париж, она ему — Машеньку и Афри-
ку. Тем легче простила, что убедила себя:
влюбленности мужа — всего лишь «средст-
во для ярко-певучих стихов», не зря Нико-
лай Степанович так часто и с таким нажи-
мом цитировал именно эти строки своего
кумира Валерия Брюсова.
Отдадим должное Николаю Гумилеву:
ни влюбленность в смертельно больную ку-
зину, ни отвращение к женским истери-
кам, ни ревность к поклонникам жены, ко-
торых становилось все больше и больше, не
помешали ему заметить, что написанные
Анной за время его отсутствия стихи реши-
тельно не похожи на ее прежние девичьи
экзерсисы. О первой и, может быть, самой
236
Анна Андреевна Ахматова
главной, потому что первая, литературной
победе, пока еще внутри домашнего круга,
Ахматова рассказала так:
«25 марта 1911 г. старого стиля (Благове-
щенье) Гумилев вернулся из своего путешествия
в Африку (Аддис-Абеба). В нашей первой беседе
он между прочим спросил меня: «А стихи ты пи-
сала?» Я, тайно ликуя, ответила: «Да». Он попро-
сил почитать, прослушал несколько стихотворе-
ний и сказал: «Ты поэт*.
Николай Степанович был не первым, кто
понял, что Анна Гумилева, которую чуть
было не записали в обыкновенные барыш-
ни, — поэт. То же самое сказал ей Георгий
Чулков, когда, опоздав на царскосельский
паровичок, они пили кофе в привокзальном
буфете, а она, осмелев от неловкости, стала
читать стихи. Читала и в редакции «Апол-
лона». По воспоминаниям одйого из при-
сутствовавших на этом чтении, Анна Анд-
реевна так нервничала, что «от волнения
слегка дрожал кончик ее лакированной ту-
фельки». Но вкусу сотрудников «Аполло-
на» она не очень-то доверяла, а Чулкова,
зная его репутацию первостатейного лове-
ласа, тайно подозревала в том, что тот прос-
то решил приволокнуться, потому и льстит.
Изумление и одобрение Николая Степа-
новича — совсем другое дело: Гумилев, ес-
ли речь шла о стихах, не делал скидок ни-
когда и никому и выражал свое мнение
«прямо в глаза». Решив, что надо делать
книгу, он, не теряя ни дня, приступил к ре-
ализации этого проекта. Гумилев подклю-
чил к срочному делу и членов созданного по
его инициативе «Цеха поэтов», и сочувст-
вующих: предисловие написал поэт Миха-
ил Кузмин, обложку рисовал тоже поэт —
«синдик» «Цеха поэтов* Сергей Городец-
кий, фронтиспис — приятель Кузмина ми-
рискусник Евгений Лансере.
Издательство «Цех поэтов» было задума-
но как непериодический орган новорожден-
ной и сразу же отмежевавшейся от симво-
листов группы акмеистов, лидером которой
стал Николай Гумилев. Меценатов решено
было не искать, из гордости и из принципа,
а чтобы удешевить процесс издания, ввели
серийное оформление; вышедший одновре-
менно с «Вечером» сборник Михаила Зен-
кевича «Дикая порфира» внешне был по-
хож на ахматовский как близнец. Их и об-
мывали вместе. Автор «Дикой порфиры» в
очерке «У камина с Анной Ахматовой» так
описал те памятные для него дни: «Вот я
везу ее «Вечер» вместе со своей «Дикой пор-
фирой» на склад к Вульфу, и на собрании
«Цеха поэтов» мы сидим с ней в нелепых
лавровых венках, сплетенных Городец-
ким». Венки как самый рукодельный из
«цеховиков» действительно сплел Сергей
Городецкий, а вот лавры добыла в оранже-
рее то ли Царского Села, то ли Павловска
Анна Ахматова.
Кроме «Вечера» и «Дикой порфиры», в
первый залп — по символистам из акме-
истической пушки — Гумилев включил
также книжечки Е. Кузьминой-Караваевой
(в будущем — Мать Мария, героиня фран-
цузского Сопротивления) и Вас. Гиппиуса.
(В 1912 году Гумилев относился к симво-
листам уже не просто отрицательно, но
враждебно, считая, что они «как дикари,
которые съели своих родителей и с трево-
гой смотрят на своих детей».) На залп по
«дикарям-людоедам* и ждали реакции, но
случилось непредвиденное: «Вечер» само-
ходно, без того, что ныне называется рас-
круткой, сделался гвоздем сезона.
Сборник никому еще вчера не известной
Ахматовой читатели искали по магазинам,
огорчались, что раскуплен, любопытствова-
ли «на счет» автора, кто такая и откуда
пришла. Словом, налицо были все призна-
ки успеха, и успеха такой внезапности и не-
предсказуемости, что Гумилев нарочно при
домашних, за общим чаем, произнес страш-
ное слово «слава*.
Анна приняла случившееся иначе: ей
стало казаться, что публикация ее ослави-
ла, то есть опозорила. Стояло перед глазами
брезгливое лицо отца. Думая потешить его
тщеславие, она как-то показала ему студен-
ческий журнал «Gaudeamus», где стихи бы-
ли подписаны ее девичьей фамилией: Анна
Горенко. Андрей Антонович рассвирепел:
«Я тебе запрещаю так подписываться. Я не
хочу, чтобы ты трепала мое имя*.
237
Русские писатели XX века
Подписываться после этой сцены она
стала иначе: Анна Ахматова, но инцидента
не забыла, незадолго до смерти внесла в
«Записную книжку» такой отрывок:
Пусть даже вылета мне нет
Из стаи лебединой...
Увы, лирический поэт
Обязан быть мужчиной,
Иначе все пойдет вверх дном
До часа расставанья —
И сад — не сад, и дом — не дом,
Свиданье — не свиданье.
К тому же она досадовала на свою ро-
бость: ей хотелось назвать книжку с вы-
зовом: «Лебеда» и открыть «Песенкой».
В «Песенке» была долго не дававшаяся ей
сложная простота:
Я на солнечном восходе
Про любовь пою,
На коленях в огороде
Лебеду полю.
Но Михаил Кузмин, обожавший жи-
вопись Константина Сомова, усмотрел в
стихах супруги приятеля сомовские моти-
вы, почти вариации на тему знаменитого
для мирискусников программного «Вече-
ра» . Анна попробовала сопротивляться: по-
чему вечер, если у нее восход, да еще и
солнечный? И как это связать? Но Кузмин
нашел выход: предложил объясняющий на-
звание эпиграф из Андре Терье: «La fleur
des vignes pousse et j'ai vingt ans ce soir*
(«Цветок виноградных лоз растет, и мне
двадцать лет сегодня вечером»).
Впрочем, и Кузмина понять можно: ге-
роиня «Песенки» слишком проста, в ней
нет того, что поражало в Ахматовой, удив-
ляло уже в первых стихах — странный на-
бор несовместимых свойств: скромность до
застенчивости и дерзость, робость и вызов,
крайняя неуверенность в себе и апломб,
надменность и простота. И так во всем: чер-
ты лица слишком острые, чтобы лицо мож-
но было назвать красивым; сказочная гиб-
кость, которой дивились примадонны пе-
тербургского балета, а ходить не умеет,
движется как сомнамбула. Анна хотела
объяснить, что ее лебеда — не огородный
сорняк. Не сумела... Объяснит потом, мно-
го лет спустя: «Когда б вы знали, из какого
сора растут стихи, не ведая стыда! Как оду-
ванчик у забора, как лопухи и лебеда...» И
отцу ничего не доказала. Уж если и он счи-
тает, что «быть поэтом женщине неле-
пость», чего же тогда ждать от свекрови, а
тем более от золовки — белокурой дурищи
Анны Андреевны-старшей?
Но свекровь вдруг сделалась шелка неж-
ней и уже не поджимала губы, когда млад-
шая, чудная, невестка, проспав до полудня,
являлась к завтраку последней и приходи-
лось опять раздувать самовар. Младший
сын сообщил ей под секретом, что Аннушка
беременна. Анна Ивановна вмиг помолоде-
ла, прислуга забегала, спешили навести по-
рядок и уют: появления младенца ждали к
исходу сентября...
К предстоящему прибавлению семейства
будущий отец отнесся без энтузиазма,
успех жениного «Вечера» обрадовал его ку-
да больше. И тем не менее 1912 год был,
кажется, почти благополучным для четы
Гумилевых. В начале лета они вдвоем побы-
вали в Италии, осенью Анна Андреевна ро-
дила мальчика, которого назвали Львом в
память о крестном отце Николая Степано-
вича — Льве Ивановиче Львове. Впрочем,
почувствовать себя матерью Анна Андреев-
на не успела. Едва она перестала кормить
сына грудью, как свекровь, давно мечтав-
шая о внуке, настояла на том, чтобы Ле-
вушка был целиком предоставлен ей. А вес-
ной 1913 года неугомонный Николай Сте-
панович вновь укатил в Африку.
Воспользовавшись отсутствием сына,
Анна Ивановна взялась за генеральную
уборку, невестку же попросила разобраться
в мужниных бумагах. Анна Андреевна
просьбу свекрови исполнила, а наводя по-
рядок на Колином письменном столе, вы-
удила из вороха рукописей увесистую связ-
ку женских любовных писем. В 1913 году
Ахматова уже вполне отдавала себе отчет в
том, что их брак вовсе не похож на идилли-
ческий союз «Дафниса и Хлои», как писал
когда-то Гумилев. Она выходила замуж за
верного рыцаря, который жить не мог без
нее, оказалось, однако, что верность милый
238
Анна Андреевна Ахматова
друг Коля понимает вовсе не так старомод-
но, как она. Для него любовь не исключала
ни случайных связей, ни мимолетных
влюбленностей — по Брюсову: «О, эти взо-
ры мимолетные на гулких улицах сто-
лиц...» Таков был стиль любовного быта
эпохи. Дитя того же времени, Анна Ахма-
това не часто, но иногда позволяла себе и то
и другое. Но тут была одна тонкость, кото-
рой Гумилев не признавал: для нее «вели-
кая земная любовь» исключала «холод из-
мен», необязательных, бездумных любов-
ных забав...
До официального развода и Анна Андре-
евна, и Николай Степанович по взаимному
уговору щекотливое обстоятельство тща-
тельно скрывали, да и потом Анна Андреев-
на на сей счет помалкивала, но Лукницко-
му все-таки призналась, что «НС никогда
физически не был верен никому, что этого
не мог и не считал нужным». Какое-то вре-
мя она, понимая, что во многом виновата
сама, закрывала глаза на хроническое дон-
жуанство мужа. К тому же телесность в от-
ношениях между мужчиной и женщиной
ей никогда не представлялась самым глав-
ным. Вот как про это записано у Лукниц-
кого:
♦Не любит телесности. Телесность — про-
клятье земли. Проклятье — с первого грехопа-
денья, с Адама и Евы... Телесность всегда груба,
усложняет отношения, лишает их простоты, вно-
сит в них ложь, лишает отношения их святости...
Чистую, невинную, высокую дружбу портит...»
Чуть ли не демонстративно брошенные
любовные письма, а главное, появление на
свет той же осенью Левушкиного едино-
кровного братца заставили ее усомниться и
в том единственном, что оправдывало их
брак: в святости высокой дружбы.
За полгода она не написала мужу ни од-
ного письма. Правда, тревожиться за него
не перестала. В августе 1913-го, уже после
злосчастной находки, обеспокоенная отсут-
ствием вестей из Африки, пишет их обще-
му другу, поэту и переводчику Михаилу
Лозинскому: «У меня к Вам большая прось-
ба, Михаил Леонидович... Так как экспеди-
ция послана Академией, то самое лучшее,
если справляться будут оттуда. Может
быть, Вы можете пойти в Академию и
узнать, имеют ли там известия о Коле...»
С африканскими путешественниками
ничего не случилось. 20 сентября 1913 года
Гумилев вместе с племянником вернулся в
Петербург, сдал в Музей антропологии и
этнографии привезенные из Африки «тро-
феи», в том числе и множество уникаль-
нейших фотографий, многое подарил, а
за что-то, видимо, получил даже деньги.
В первый же день жена вручила ему наход-
ку: связку женских писем — вещественное
доказательство его «неверности» и молча
ждала объяснений. Объяснений и на сей
раз не последовало, однако попытка сохра-
нить то, что еще можно было сохранить,
была все-таки сделана: супруги договори-
лись, что отныне жить будут хотя и вместе,
но как бы и врозь, не мучая друг друга бес-
смысленной ревностью. Для того и решили
снять комнату в Петербурге, подальше от
материнских глаз.
Ахматова гордилась своим великодуши-
ем: «Выбрала сама я долю другу сердца
моего: отпустила я на волю в Благовещенье
его». Гумилев лучше понимал, что происхо-
дит. В конце первого года воли он написал
жене такие слова: «Милая Аня, я знаю, ты
не любишь и не хочешь понять это...» Но и
эта правда не была настоящей правдой. Ан-
на имела право ответить на горькое письмо
мужа словами Баратынского, выбранными
для эпиграфа к «Четкам»: «Прости ж на-
век! Но знай, что двух виновных, не одного,
найдутся имена в стихах моих, в преданиях
любовных».
«ПРОСНУТЬСЯ ЗНАМЕНИТЫМ»
Год 1913-й, последний год настоящего,
не календарного девятнадцатого века, под-
ходил к концу. В автобиографической про-
зе, на склоне лет, Ахматова назовет осень
перед Первой мировой войной трагической,
но тогда ей так не казалось. Она упивалась
привольем, тем, что наконец освободилась
(тогда говорили «эмансипировалась»). И от
смущавшего душу чувства «вины перед Ко-
лей»: за то, что без страстной любви под ве-
239
Русские писатели XX века
нец шла и что невинность для него, единст-
венного, не хранила. И от брачных уз, и от
опрометчиво данных клятв. И от тайного
страха, что успех «Вечера» случаен, что
второй, главной, книги не будет, что заму-
жество, беременность, роды, беспокойство
за младенца изменят самый состав ее суще-
ства, и стихи пропадут, внезапно и непо-
нятно, как и пришли, пришли ниоткуда и
уйдут в никуда. Страх оказался напрас-
ным: стихи шли еще более ровной и силь-
ной волной. Меньше чем за год она собрала
новую книгу и уж эту-то окрестила сама и
так, как хотела: «Четки»; а «Вечер», ополо-
винив (исключив стихи, из которых успела
за два года вырасти), переместила в конец
сборника и в полном объеме никогда боль-
ше не перепечатывала.
«Вечер» взбаламутил литературный
«пруд»; «Четки», выдержавшие множество
переизданий (Анна Андреевна шутила, что
устала считать!), с триумфом прошли по
стране. Ахматова не раз вспоминала, что
литературная элита и после «Четок» не спе-
шила ее признать. Объявить миру и граду,
что автор «Четок» — «Анна Всея Руси» (ти-
тул, пожалованный ей Мариной Цветае-
вой), критиков, по ее мнению, заставили
читатели. «Я голос ваш, жар вашего ды-
ханья» — под этими словами Ахматовой не
раздумывая подписалось бы все ее поколе-
ние, а не только женская его половина.
Слово «триумф» применительно к «Чет-
кам» ничуть не преувеличение. Повели-
тельность этой книги в последнее импер-
ское трехлетие столь безусловна, что петер-
буржцы, оказавшиеся в эмиграции после
событий 1917 года, считали: в «Четках» и в
третьем томе лирики Блока отнята у забве-
ния вся та Россия, которую они потеряли.
И не одни эмигранты так думали. Пастер-
нак прочитал «Четки» спустя четверть ве-
ка, лишь после того, как Анна Андреевна,
догадавшись, что Борис Леонидович не зна-
ет ее ранней лирики, великодушно воспол-
нила этот пробел. Поэт был поражен: «Спо-
собность Ваших первых книг воскрешать
время, когда они выходили, еще усили-
лась...» — писал он Анне Андреевне 28
июля 1940 года.
Лирическая героиня «Вечера» если и
влюблена, то не слишком, а слегка; каприз-
ная и избалованная, она упивается жен-
ской своей властью над поклонниками, та-
кими же юными, как и она. Даже само-
убийство одного из «веселых мальчиков» не
делает ее ни старше, ни мудрее. Ахматова,
как мы помним, и в двадцать лет (специ-
ально оговоренный в эпиграфе возраст геро-
ини: «мне двадцать лет сегодня вечером»)
такой уже не была. Прелестная и легко-
мысленная коломбина — первый набросок
к образу главной героини «Поэмы без ге-
роя» — один из двойников автора, но от-
нюдь не автопортрет в зеркале.
Совсем иной образ, иное лицо возникает
из «Четок*. Вскоре после выхода сборни-
ка — 14 марта 1914 года, а может, еще и
тогда, когда книжка была в производстве,
Анна Андреевна написала стихотворение
«Дама в лиловом»:
На шее мелких четок ряд,
В широкой муфте руки прячу.
Глаза рассеянно глядят
И больше никогда не плачут.
И кажется лицо бледней
От лиловеющего шелка.
Почти доходит до бровей
Моя незавитая челка.
И не похожа на полет
Походка медленная эта.
Как будто под ногами плот,
А не квадратики паркета.
А бледный рот слегка разжат.
Неровно трудное дыханье,
И на груди моей дрожат
Цветы небывшего свиданья.
Конечно, и это не автопортрет, скоре,
типовой портрет одной из героинь сереб-
ряного века — красавицы тринадцатого
года; ни живых цветов, ни бутоньерок Ан-
на Ахматова ни на груди, ни в волосах не
носила. И тем не менее дама в лиловом
изображена с цветком недаром. Это особый
цветок, цветок, превращенный в воспо-
минание («ты превращен в мое воспоми-
нанье»). Надежда Александровна Бучин-
240
Анна Андреевна Ахматова
екая (известная беллетристка Тэффи), уже
в глубокой старости, в эмигрантском Пари-
же, в пятидесятых годах, вспоминая трех
самых прелестных женщин тогдашнего Пе-
тербурга: Анну Ахматову, Нимфу Городец-
кую, Саломею Андроникову (этой послед-
ней из петербургских прелестниц посвя-
щено стихотворение Ахматовой «Тень»),
писала:
«У Саломеи была высокая и очень тонкая фи-
гура. Такая же тоненькая была и Анна Ахматова.
Они обе могли, скрестив руки на спине, охватить
ими талию так, что концы рук сходились под
грудью. Высокая и тонкая была также Нимфа,
жена Сергея Городецкого. Мне нравилось усажи-
вать их всех вместе на диван и давать каждой по
розе на длинном стебле. На синем фоне дивана и
синей стены это было очень красиво...»
Собрания у Тэффи ее гости называли
«синими вторниками», к одному из этих
вторников Анна Андреевна и купила свое
знаменитое синее, дабы не совпасть с дамой
в лиловеющих шелках, платье. В этом
платье она и прощеголяла всю последнюю
предвоенную зиму...
В дни выхода «Четок* Чацкина, извест-
ная в Петербурге дама, издательница жур-
нала «Северные записки», устроила гранди-
озный вечер. Гостей, пишет Ахматова в
«Автобиографической прозе», собралось ви-
димо- невидимо, и добавляет: «Я была в том
синем платье, в котором меня изобразил
Альтман». Но читатели конечно же не обра-
тили внимание на такую несущественную
разницу. В восприятии «читающей публи-
ки» портрет Ахматовой в синем работы
Альтмана, обошедший чуть ли не все пред-
военные выставки новых художников, и
стихотворный портрет дамы в лиловом
«слились в одно* лицо — лицо автора.
Ахматова попробовала воспротивиться
столь буквальному прочтению и понима-
нию авторского образа; во всяком случае,
опубликовав эти стихи в периодике еще в
середине 1914 года, она не включила их ни
в переизданные и дополненные «Четки»,
ни в «Белую стаю» (1917). Увы, ни читате-
ли, ни критики не посчитались с авторской
волей: все, что сказано в «Четках* о «люб-
ви, измене и страсти» и о любовном быте
десятых годов, было истолковано как испо-
ведь и даже интимный дневник не дамы в
лиловых шелках, а Анны Андреевны Ахма-
товой-Гумилевой .
«ТАМ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК СТОИТ...»
С «Четками» связана и легенда о безот-
ветной любви Анны Ахматовой к Александ-
ру Блоку. В молодости Анна Андреевна,
когда у нее пытались выяснить подробнос-
ти рокового романа, обычно отшучивалась.
Но с годами стойкость мифологического
сюжета начала ее слегка тревожить. Она
стала опасаться, что эта сплетня может
перекосить не только ее биографию, но и
ее стихи, и поэтому вполне серьезно и не-
однократно разъясняла, что ничего похо-
жего на роман у нее с Блоком не было
(«Многие говорят, что я посвящала свои
стихи Блоку. Это неверно»). Но ей не вери-
ли. Ни тогда, ни потом, намекая, что Анна
Андреевна задним числом пытается подре-
тушировать свое отражение в ста зеркалах.
На самом деле все было совсем не так!
Наоборот! Она негодовала, когда видела,
что из нее хотят сделать даму безупречную
во всех отношениях. Сошлюсь на перво-
источник — малоизвестное стихотворение
60-х годов:
Оставь, и я была как все,
И хуже всех была,
Купалась я в чужой росе,
И пряталась в чужом овсе,
В чужой траве спала.
В то, что у Ахматовой нет любовных по-
сланий к Блоку, не верила и мать поэта.
Мнение А. А. Кублицкой-Пиоттух приво-
дит в «Записной книжке» сама Ахматова,
ссылаясь на письмо Александры Андреев-
ны от 29 марта 1914 года.
«Я все жду, когда Саша встретит и полюбит
женщину тревожную и глубокую, а стало быть, и
нежную... — признается мать поэта своей
приятельнице. — И есть такая молодая поэтесса,
Анна Ахматова, которая к нему протягивает
руки и была бы готова его любить. Он от нее
отвертывается, хотя она красивая и талантли-
241
Русские писатели XX века
вая, но печальная. А он этого не любит. Одно из
ее стихотворений я Вам хотела бы написать, да
помню только две строки первых: Слава тебе,
безысходная боль, — Умер он — сероглазый ко-
роль1.
Вот можно судить, какой склон души у этой
юной и впечатлительной девушки. У нее уже
есть, впрочем, ребенок...»
Ахматова была убеждена, что мать
А. Блока, лично с ней не знакомая, излага-
ет историю печальной девушки, которая
протягивает руки к ее жестокосердному сы-
ну, со слов самого Блока (не исключено, что
именно по данной причине эта версия ее и
раздражала; в последние годы жизни Ахма-
това даже хотела написать книгу под назва-
нием «Как у меня не было романа с Бло-
ком»). Между тем у истоков романтиче-
ской легенды стоял конечно же не герой
мнимого романа, а Ариадна Владимировна
Тыркова, беллетристка и литературный
критик. В те месяцы она,, часто бывая в
семье Блоков (она занималась издательской
деятельностью), подружилась с его ма-
терью. Ариадна Владимировна вовсе не бы-
ла сплетницей. Она умела держать язык за
зубами. Об этом свидетельствует следу-
ющий фрагмент из воспоминаний Ахма-
товой:
«Ариадна Владимировна Тыркова... Ей Блок
сказал что-то обо мне, а когда я ему позвонила, он
сказал по телефону (дословно): «Вы, наверное,
звоните, потому что от Ариадны Владимировны
узнали, что я сказал ей о вас». Сгорая от любо-
пытства, я поехала к Ар. Вл. (в какой-то ее день)
и спросила: «Что сказал Блок обо мне?». АВ отве-
тила: «Аничка, я никогда не передаю моим гос-
тям, что о них сказали другие».
Но одно дело — сплетни и совсем дру-
гое — доверительный женский разговор в
узком домашнем кругу... Ведь Ариадна
Тыркова знала Анну Горенко с детства, вос-
хищалась ее внешностью и ее стихами, и ей
куда больше, чем матери Александра Бло-
1 Неточная цитата из стихотворения А. Ахма-
товой «Сероглазый король». У Ахматовой: «Сла-
ва тебе, безысходная боль! // Умер вчера серогла-
зый король*.
ка, было досадно, что тот не обращает
должного внимания на девочку ее выбора.
Разумеется, это гипотеза, однако в вос-
поминаниях Тырковой есть эпизод, почти
дословно совпадающий с версией, изложен-
ной в письме А. А. Кублицкой-Пиоттух:
«Из поэтесс... ярче запомнилась Ахматова...
Тонкая, высокая, стройная, с гордым поворотом
маленькой головки, закутанная в цветистую
шаль, Ахматова походила на гитану... Мимо нее
нельзя было пройти, не залюбовавшись ею. На
литературных вечерах молодежь бесновалась,
когда Ахматова появлялась на эстраде. Она дела-
ла это хорошо, умело, с сознанием своей женской
обаятельности, с величавой уверенностью худож-
ницы, знающей себе цену. А перед Блоком Анна
Ахматова робела. Не как поэт, как женщина. В
Башне2 ее стихами упивались, как крепким ви-
ном. Но ее... глаза искали Блока. А он держался в
стороне. Не подходил к ней, не смотрел на нее,
вряд ли даже слушал. Сидел в соседней полутем-
ной комнате».
На самом деле отношения и Блока к Ах-
матовой, и Ахматовой к Блоку никак не ук-
ладываются в простенькую и банальную
схему, какую Александра Андреевна Беке-
това-Блок-Кублицкая-Пиоттух и Ариадна
Владимировна Тыркова-Вильямс, соотнеся
не понятную им ситуацию с нравами своей
юности, себе составили: Она ищет Его гла-
зами; Она протягивает к нему руки, а Он от
нее «отвертывается», не смотрит, вряд ли
даже слушает. (А. В. Тыркова была старше
А. Ахматовой на двадцать лет, то есть на
целую эпоху.)
Во-первых, Блок слушал выступления
Ахматовой как нельзя прилежней, о чем
свидетельствует запись в его Дневнике:
«1911. 7 ноября. В первом часу пришли с
Любой к Вячеславу. Там уже — собрание
большое... Анна Ахматова читала стихи,
уже волнуя меня; стихи чем дальше, тем
лучше». Во-вторых, впервые Блока Анна
Андреевна увидела еще весной 1911 года, в
редакции «Аполлона», однако на предло-
жение сотрудников журнала познакомить
ее с поэтом ответила отказом. И это можно
2 Так называли квартиру Вяч. Иванова, где
обычно собирались поэты-символисты.
242
Анна Андреевна Ахматова
понять: Лермонтов, к примеру, тоже не хо-
тел знакомиться с Пушкиным, хотя Алек-
сандр Сергеевич запросто, по-домашнему,
бывал в доме его ближайших родственни-
ков.
Вторая встреча с Блоком произошла
осенью. Анна Ахматова и на этот раз стра-
стного желания обратить на себя внимание
знаменитого современника не обнаружива-
ла. Да, робела, но не только перед Блоком.
Корней Чуковский, наблюдавший Анну
Андреевну в ту осень, запомнил ее тонень-
кой и робкой девочкой, ни на шаг не отхо-
дившей от своего мужа. И тогда Блок, дав-
но уже привыкший к тому, что молодые по-
этессы, а их в десятые годы появилось
несметное множество, только и делали, что
пытались с ним познакомиться, сам подо-
шел к Гумилеву и попросил представить его
Анне Андреевне.
Ахматова всю жизнь удивлялась: Блок,
человек крайне воспитанный, при нечас-
тых встречах с ней почему-то допускал мел-
кие и трудно объяснимые бестактности. Не
слишком тактичен был Александр Алек-
сандрович и в вечер их первого знакомства.
Но форма нетактичности свидетельствует о
чем угодно, только не об отсутствии заинте-
ресованности. Вот что рассказала Анна
Андреевна Лукницкому в 1925 году на его
вопрос об обстоятельствах, при которых
произошло ее знакомство с поэтом:
«В то время была мода на платье с разрезом
сбоку, ниже колена. У нее платье по шву распоро-
лось выше. Она этого не заметила. Но это заметил
Блок. Когда АА вернулась домой, она ужасну-
лась, подумав о впечатлении, которое произвел
этот разрез на Блока. Сказала об этом Н. С. (Ни-
колаю Гумилеву. — А. М.), укоряя его за то, что
он не сказал ей вовремя об этом беспорядке в ее
туалете. Н. С. ответил: «А я видел. Но я думал —
это так и нужно, так полагается... Я ведь знаю,
что теперь платья с разрезом носят».
С поздней осени 1911 года до первой по-
ловины 1913-го Блок был болен: обострение
хронических недугов привело к тяжелей-
шей депрессии. Нигде не появлялся и нико-
го, даже ближайших друзей, не принимал:
играл с женой «в дураки и акульки». Опра-
вился он лишь к осени 1913 года. Вот тогда
они и встретились на Бестужевских жен-
ских курсах, на вечере в честь приезда в
Петербург бельгийского поэта Эмиля Вер-
харна. (Анну Андреевну пригласила Ариад-
на Тыркова, патронесса этого учебного за-
ведения, а Блок, хотя еще и не чувствовал
себя вполне здоровым, не посчитал возмож-
ным отказаться от выступления: он свято
чтил память деда по матери — профессора
Петербургского университета Бекетова, по
инициативе которого петербургские жен-
ские курсы были созданы.)
Анна Андреевна очень волновалась: это
было ее первое выступление в большой
аудитории. До сих пор она читала стихи
только в узком кругу: в редакции «Аполло-
на», в «Цехе поэтов», в литературном каба-
ре «Бродячая Собака». Но там ее слушали
свои, а здесь, в огромном зале, сидели лю-
ди, которым ее имя не говорило ничего.
«Когда я вышла, — вспоминала она в 1965
году, — раздался возглас: «Кто это?» Блок
посоветовал мне прочесть «Все мы бражни-
ки здесь...*. Я стала отказываться: «Когда
я читаю «Я надела узкую юбку», смеются.
Он ответил: «Когда я читаю «И пьяницы с
глазами кроликов» — тоже смеются».
Вечер кончился поздно, погода была от-
вратительная, как обычно в Петербурге в
конце ноября, Блок как джентльмен нанял
легкового извозчика и отвез даму на Ва-
сильевский остров. По всей вероятности,
тогда же и пригласил в гости. А так как
чуть ли не на следующий день он свалился
с сильнейшей простудой, то исторический
визит состоялся лишь в середине декабря.
Поскольку все дневниковые записи, отно-
сящиеся к осени 1913 года, Блок уничто-
жил, а Ахматова, когда ее расспрашивали о
подробностях, только отмахивалась, дес-
кать, поэт был не в форме, из беседы, мол,
запомнилась только одна деталь: «...Я меж-
ду прочим упомянула, что... Бенедикт Лив-
шиц жалуется на то, что Блок одним своим
существованием мешает ему писать стихи.
Блок не засмеялся, а ответил вполне серьез-
но: «Я понимаю это. Мне мешает писать
Лев Толстой».
Уходя, Анна Андреевна оставила хозя-
ину его сборники — «чтобы он их надпи-
243
Русские писатели XX века
сал». На каждом поэт написал просто: «Ах-
матовой — Блок». А вот в третий, только
что вышедший том вписал сразу после ее
ухода сочиненный мадригал:
«Красота страшна», — Вам скажут —
Вы накинете лениво
Шаль испанскую на плечи.
Красный розан — в волосах.
«Красота проста», — Вам скажут —
Пестрой шалью неумело
Вы укроете ребенка.
Красный розан — на полу.
И рассеянно внимая
Всем словам, кругом звучащим.
Вы задумаетесь грустно
И твердите про себя:
«Не страшна и не проста я;
Я не так страшна, чтоб просто
Убивать; не так проста я.
Чтоб не знать, как жизнь страшна».
Стихам как жесту Анна Андреевна обра-
довалась, но сделанный Блоком портрет —
невзлюбила.
Портрет Ахматовой в испанской шали и
в самом деле слегка смахивает на эскиз те-
атрального костюма, однако одна важная и,
видимо, бросающаяся в глаза особенность
ее поведения — сочетание внешней декора-
тивности облика и внутренней простоты —
все-таки подмечена.
Получив от Блока бандероль, Ахматова
не без труда (с эпистолярной прозой у нее
были весьма натянутые отношения) подо-
брала приличествующие случаю слова иск-
ренней благодарности, а в письмо вложила
как бы пустячок (Вы мне мадригал в полу-
испанском стиле, а я Вам — комплимент
почти по-великосветски):
Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз
И малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом...
Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!
У него глаза такие.
Что запомнить каждый должен,
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть.
Но запомнится беседа.
Дымный полдень, воскресенье
В доме сером и высоком
У морских ворот Невы.
Третью строфу: «У него глаза такие...»,
как правило, и цитируют те, кто убежден,
что Анна Андреевна была влюблена в Бло-
ка, к ней же присоединяют все, что гово-
рится в стихах Ахматовой о глазах челове-
ка, в которого влюблены лирические геро-
ини ее книг. Но при этом почему-то
забывают, что почти одновременно «очень
зорко видящий глаз» воскресной визитер-
ши в молчаливом хозяине просторной ком-
наты разглядел еще и его страшного двой-
ника — «с мертвым сердцем и мертвым взо-
ром»:
Ты первый, ставший у источника
С улыбкой мертвой и сухой.
Как нас измучил взор пустой,
Твой взор тяжелый — полунощника.
Испугавшись, видимо, и сама того, что
нечаянно подсмотрела, Ахматова эти сти-
хи при жизни Блока не печатала. Однако
и Блок, судя по всему, все-таки заподоз-
рил что-то неладное. Во всяком случае,
через два дня после визита «ведьмы с
Лысой горы» он написал такие тревожные
стихи:
Как бы ни был нечуток и груб
Человек, за которым следят.
Он почувствует пристальный взгляд
Тем и страшен невидимый взгляд,
Что его невозможно поймать;
Чуешь ты, но не можешь понять,
Чьи глаза за тобою следят.
Не корысть — не влюбленность, не месть;
Так — игра, как игра у детей:
И в собрании каждом людей
Эти тайные сыщики есть...
Не думаю, чтобы Блок заподозрил, что у
красивой и нарядной гостьи чересчур зорко
видящий глаз, в самый день визита. Да и
какой гений сыска смог бы предполо-
жить, что смущающаяся, скромная до за-
стенчивости, вмиг оробевшая дама-девоч-
ка — «тайная сыщица»? Только тогда, по-
хоже, и сообразил, когда заметил: каждый
244
Анна Андреевна Ахматова
раз при столкновении с этой женщиной, к
которой ничего и близко похожего на влюб-
ленность не испытывал, стихов которой не
любил, хотя и отмечал с «тайным холо-
дом», что они «чем дальше, тем лучше», на-
чинает вести себя как сбитый с панталыку:
задает дурацкие, бестактные вопросы, ста-
новится «не собой». Но все это стало заме-
чаться меж ними только после 15 декабря
1913 года, а в тот морозный и солнечный
день Анна Андреевна наверняка не подо-
зревала, что явилась в строгий дом у мор-
ских ворот Невы в роли «тайной сыщицы»
и с «нехорошей» целью: хищно надышать-
ся закрытой на семь ключей душой Блока,
похитить тайну его «чар», словом, сделать
эскиз, по которому несколько десятилетий
спустя будет написан полный, врубелевско-
го размаха, портрет человека-эпохи, нового
Демона, в «Поэме без героя»:
На стене его твердый профиль.
Гавриил или Мефистофель
Твой, красавица, паладин?
Демон сам с улыбкой Тамары,
Но такие таятся чары
В этом страшном дымном лице:
Плоть, почти что ставшая духом,
И античный локон над ухом —
Все — таинственно в пришлеце.
Это он в переполненном зале
Слал ту черную розу в бокале
Или все это было сном?
С мертвым сердцем и мертвым взором...
Но все это откроется позже. Что же каса-
ется того малинового воскресенья, то Блок,
заметив, что Анна Андреевна смущена до
слез и совсем не похожа на «гумильвицу»,
воспользовался давно отработанным для
приходящих с улицы либо по записке начи-
нающих поэтов и поэтесс сценарием. Риту-
ал подобного приема известен нам по воспо-
минаниям Рюрика Ивнева, Надежды Пав-
лович и по рассказам Сергея Есенина. Не
умевший и не любивший проявлять себя в
разговоре, «трагический тенор эпохи», как
назовет его чуть ли не полвека спустя Ах-
матова, сначала предлагал визитерам
что-нибудь почитать, затем следовало пред-
ложение рассказать о себе, и так как хозя-
ин молчал и только смотрел ясно и просто,
юные дарования переставали смущаться.
Рюрик Ивнев: «Блок слушал с таким внима-
нием и интересом, что я рассказал почти всю
свою биографию...»
Надежда Павлович: «Блок увидел, что я по-
бледнела, подошел и спросил, что со мной. Вни-
мательно посмотрел на меня, понял и тихонько
сказал: «Отдыхайте! Не торопитесь никуда и рас-
сказывайте мне о себе». И я рассказала ему все са-
мое главное, внутреннее, важнейшее, как можно
рассказать только самому близкому человеку. Си-
дела я у него до часу ночи*.
Ивнев был у Блока в 1909 году, Павло-
вич одиннадцать лет спустя, но сценарий
приема, как видим, не изменился, и у нас
нет оснований предполагать, что он был из-
менен 15 декабря 1913 года специально для
Анны Ахматовой. Все было, видимо, как
всегда: сначала стихи, немного, потом —
«рассказывайте о себе...».
Но что Анна Андреевна могла рассказать
Александру Александровичу о себе? Про
стихи вообще ни он, ни она рассуждать не
любили, потому как считали, что творчест-
во очень одинокое дело. Все остальное было
ему чужим, а думать про чужое Блок не
умел...
Но была одна тема, которую и он, и она
могли обсуждать хоть до часу ночи: Блок,
как и Ахматова, трогательно и как-то
по-детски страстно-застенчиво любил море.
Когда дочери его задушевного друга Евг.
Иванова исполнилось два года, Александр
Александрович подарил крестнице игруш-
ку — большой корабль. Н. Павлович, при-
водя этот факт, добавляет: «Надо знать все
пристрастие Блока к морю и кораблям, что-
бы оценить выбор именно этого подарка —
вот уж от полноты сердца».
Павлович же принадлежит и другое на-
блюдение: «Сам Блок почти по-детски лю-
бил все, связанное с морем. Он часто рисо-
вал корабли. У него был альбом, куда он на-
клеивал различные картинки, снимки,
заметки. Больше всего там было кораблей».
Но по-детски любя море вообще, Блок ни-
когда не видел моря Черного; вот уж где
Анна Андреевна могла развернуться и вы-
245
Русские писатели XX века
дожить все-все: и про свое дикое, языче-
ское, херсонесское детство («У меня два
детства: Царскосельское и Херсонесское»).
И про приморскую юность, и про дружбу с
лихими балаклавскими рыбаками, и про
камень в версте от берега, до которого вось-
милетней пацанкой доплывала... И про то,
как однажды в тихую и сонную бухточку у
Георгиевского монастыря, до смерти пере-
пугав и дачников, и монахов, вошла воен-
ная эскадра из шести миноносцев. Тревоги
была ложной, дело объяснилось самым что
ни на есть обыкновенным образом. Контр-
адмирал А. К. Сиденсер, потомственный
флотоводец и весьма образованный чело-
век, узнав из газет, что на даче возле Свято-
Георгиевского монастыря отдыхает худож-
ник В. В. Верещагин, его однокашник по
Морскому кадетскому корпусу, выведя
свою флотилию на учебную прогулку, ре-
шил нанести знаменитому современнику
визит дружбы, обставив его по-царски, так,
как приветствовали императорское семей-
ство, когда Николай II с чадами и домочад-
цами прибывал в Севастополь, чтобы отсю-
да морем добираться до южнокрымской ре-
зиденции.
Блок удивился: оказалось, что и с ним
произошло нечто подобное позапрошлым
летом, когда он с женой отдыхал во Фран-
ции, и тоже у самого моря. Переполошив
отдыхающих, в курортную бухту вошла во-
енная эскадра: один миноносец и четыре
миноноски. Он даже попытался сделать из
этого происшествия стихи, но впечатления
хватило лишь на одну строфу... А еще боль-
ше удивился Блок тому, что Анна Андреев-
на до сих пор ничего не написала про свой
удивительный Херсонес. И вообще: почему
бы ей не попробовать себя в поэме? Не полу-
чается как хотите? А Вы рискните — а
вдруг?
Однако все первые месяцы 1914 года Ах-
матовой было не до поэмы: она вносила по-
следние изменения в «Четки», корректуру
держал глава издательства «Гиперборей*
Михаил Лозинский, «придиравшийся* к
каждой мелочи («Он делал это безукориз-
ненно, как все, что он делал. Я капризни-
чала, а он ласково говорил: «Конечно, раз
вы так сказали, так и будут говорить, но,
может быть, лучше не портить русский
язык?» И я исправляла ошибку»).
Как только в марте 1914 года «Четки»
вышли в свет, первый экземпляр тиража
по настоянию Гумилева отправили в ре-
дакцию влиятельного журнала «Русская
мысль», зорко следившего за новинками
современной литературы, а второй Анна
Андреевна отослала Блоку. И, видимо все
еще находясь под впечатлением их дека-
брьской беседы, дружеской и доверитель-
ной, допустила оплошность: подписывая
книгу, заменила привычное Вы совсем не
привычным ей Ты: «От тебя приходила
ко мне тревога и уменье писать стихи».
Блок ощетинился: ответил вежливо, но
сухо: «Вчера я получил Вашу книгу, толь-
ко разрезал ее и отнес моей матери... се-
годня утром моя мать взяла книгу и чита-
ла не отрываясь: говорит, что не только
хорошие стихи, а по-человечески, по-жен-
ски подлинно». Записка Блока датирована
26 марта 1914 года, приведенное выше
письмо его матери, которая, по словам
Александра Александровича, читала «Чет-
ки» не отрываясь, написано 29 марта того
же года, однако в нем нет ни слова о новой
книге.
О том, что Блок написал неправду, выдав
собственное беглое впечатление за мнение
матери, Ахматова, конечно, не догадалась,
но намек и урок — дескать, книжица сия
для дамского чтения, уяснила вполне.
И внутренний жест, определивший тональ-
ность текста, поняла точно: «Не тронь ме-
ня!» Нет, она не обиделась, потому что зна-
ла: Александр Александрович не лукавил,
когда говорил: «В каждом человеке не-
сколько людей, и все они между собою
борются. И не всегда достойнейший побеж-
дает». Того Блока, который по-детски от-
крыто и бесхитростно показывал ей свой
морской альбом, куда вклеивал картинки с
кораблями, победил другой, страшный
Блок — «с улыбкой мертвой и сухой». Зна-
чит, так надо, значит, дело, которое он сей-
час делает, требует, чтобы он был таким, а
не другим.
246
Анна Андреевна Ахматова
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ШАГ ВОЙНЫ»
Весна 1914 года выдалась дождливой,
зима, проведенная в Петербурге, в холод-
ной и сырой комнатушке, не прошла бес-
следно: Анна нехорошо, натужно кашляла,
даже приезжая в Царское Село, в натоплен-
ном до духоты доме свекрови никак не мог-
ла согреться. В Слепневе было не лучше.
Анна Ивановна, подозревая чахотку, запре-
тила невестке подходить к внуку. И Ахма-
това уехала в Киев, а оттуда — в Дарницу,
маленькое имение тетки, к матери. За две
недели южного солнца от предполагаемой
чахотки не осталось и следа. Можно было,
не опасаясь заразить Левушку, перебирать-
ся в Слепнево.
Дождливый июнь 1914 года, от которого
Анна сбежала в киевскую благодать, обер-
нулся дикой июльской жарой. В начале то-
го же июля в Кронштадт прибыла фран-
цузская эскадра с президентом Франции
Пуанкаре. Петербург вмиг офранцузился:
лоточники нарасхват торговали француз-
скими национальными флажками, студен-
ты, в обнимку с подвыпившими матросами,
распевали «Марсельезу», мастеровые меня-
ли картузы на французские военные береты
с помпоном, и все чем-то размахивали —
флажками, платками, шляпами, а дамы —
солнечными зонтиками... Веселье не пре-
кращалось и ночью: на иллюминацию отцы
города золотых червонцев не жалели. Га-
зетчики, сквозь платок, накинутый на ро-
ток, проговаривались: дескать, братаемся и
с французами, и с англичанами неспроста,
надо, мол, приструнить немцев, но обывате-
ли газетчикам не очень-то верили. Война?
Какая война? Орали, надрывая связки:
«Ура! Вив ля Франс!»
Никаких дурных предчувствий не было
и у Анны Андреевны. Наоборот! Было ощу-
щение полноты душевных сил, доверие к
жизни и вера в то, что жизнь сама выберет
тропу и даст знак. Так и случилось.
«Летом 1914 г., — вспоминала Ахматова неза-
долго до смерти, — я была у мамы в Дарнице, в
сосновом лесу, раскаленная жара... и про то, что
через несколько недель мимо домика в Дарнице
ночью с факелами пойдет конная артиллерия,
еще никто не думал... В начале июля поехала к
себе домой, в Слепнево. Путь через Москву. С вок-
зала Киевского на вокзал Николаевский на извоз-
чике... Еще совсем мирная Москва, как всегда, в
своем, одной ей свойственном колокольном звоне,
в сети крошечных древних церквушек дивных
колеров... В общем Москва Марины Цветаевой...
Извозчик везет через Кремль... Меня, петербур-
жанку, поражает, что под Спасскими воротами он
снимает шапку, берет ее в зубы и крестится... Са-
жусь в первый попавшийся почтовый поезд. Ку-
рю на открытой площадке. Где-то у какой-то пус-
той платформы паровоз тормозит — бросают ме-
шок с письмами. Перед моим изумленным взором
вырастает Блок. Я от неожиданности вскрики-
ваю: «Александр Александрович!» Он оглядыва-
ется и, так как он вообще был мастер тактичных
вопросов, спрашивает: «С кем вы едете?» Я успе-
ваю ответить: «Одна». И еду дальше... Сегодня
через 51 год открываю «Записную книжку* Бло-
ка, которую мне подарил В. М. Жирмунский, и
под 9 июля 1914 года читаю: «Мы с ма-мой езди-
ли осматривать санаторию на Подсолнечной. —
Меня бес дразнит. — Анна Ахматова в почтовом
поезде» (Станция называлась «Подсолнечная»)».
В 1914 году Анна Андреевна конечно же
и мысли не могла допустить, что Александр
Александрович, увидев ее в тамбуре почто-
вого поезда, заподозрит заговор нечистой
силы, однако сама восприняла встречу на
станции Подсолнечная как некий вещий
знак.
Летняя благодать. Золотой Киев. Софий-
ские и московские колокольные звоны. Бо-
городица с безумными глазами. Дни, пол-
ные гармонии. И эта чудесная встреча. Нет,
Блок совсем не понял слова, которые она,
не смея произнести вслух, написала на по-
даренных ему «Четках»: «От тебя приходи-
ла ко мне тревога и уменье писать стихи»...
Пока ехала, сами собой, словно их кто-то и
впрямь диктовал, сложились стихи, нет, не
стихи, а моление. Молитвословие: как пе-
ред Богом!
И в Киевском храме Премудрости Бога,
Припав к солее, я тебе поклялась,
Что будет моею твоя дорога,
Где бы она ни вилась...
И если слабею, мне снится икона
И девять ступенек на ней.
247
Русские писатели XX века
И в голосе грозном софийского звона
Мне слышится голос тревоги твоей.
10 июля она была уже в Слепневе. Вско-
ре приехал и Николай Степанович, как все-
гда, со связкой книжных и журнальных но-
винок. Анна раскрыла «Русскую мысль»,
заглянула в конец, там издатели журнала
регулярно, в каждом номере, печатали спи-
сок книг, присланных авторами в редак-
цию, нашла извещение о выходе сборника
«Четки», хотела было отложить и книжку,
но увидела, что номер открывает стихотво-
рение Блока. Читала и не верила тому, что
читала: стихи были о море, о миноносцах,
вдруг объявившихся в сонной курортной
бухте!
Ты помнишь? В нашей бухте сонной
Спала зеленая вода,
Когда кильватерной колонной
Вошли военные суда.
Четыре — серых. И вопросы
Нас волновали битый час,
И загорелые матросы
Ходили важно мимо нас.
Мир стал заманчивей и шире,
И вдруг суда уплыли прочь.
Нам было видно: все четыре
Зарылись в океан и в ночь...
Как мало в этой жизни надо
Нам, детям, — и тебе и мне.
Ведь сердце радоваться радо
И самой малой новизне...
Значит, Блок, так же, как и она, не за-
был «беседы» о море и кораблях? И неуже-
ли к ней обращены эти удивительные сло-
ва: «Ты помнишь, в нашей бухте сонной»?
И дальше, самое главное, искупающее и ду-
рацкий портрет с красным розаном в воло-
сах, который она никогда не носила, и ис-
панскую шаль, которой у нее никогда не
было, и все прочее, в том же духе: «Как ма-
ло в этой жизни надо нам, детям, — и тебе и
мне»! Вот теперь она уже точно напишет о
своем Херсонесе, о дикой девочке, которая
знает о море все, и напишет так, как хо-
чет... Завтра! Но завтра уже была ВОЙНА.
Мы на сто лет состарились, и это
Тогда случилось в час один:
Короткое уже кончалось лето,
Дымилось тело вспаханных равнин.
Вдруг запестрела тихая дорога,
Плач полетел, серебряно звеня...
Закрыв лицо, я умоляла Бога
До первой битвы умертвить меня.
Из памяти, как груз отныне лишний,
Исчезли тени песен и страстей.
Ей — опустевшей — приказал Всевышний
Стать страшной книгой грозовых вестей.
Как груз отныне лишний, отодвинулся и
замысел поэмы о море. В слепневском доме
стоял плач. Анна Ивановна, рыдая, убеж-
дала сына: Коля как главный кормилец в
семье и к тому же белобилетник, медицин-
ской комиссией от мобилизации освобож-
денный, не должен идти на войну, а Ни-
колай твердил, что запишется доброволь-
цем. Левушка, испуганный, почему все
плачут — и баба Аня, и мама Аня, и тетя
Саша, жался к отцу: Николай Степанович
держался так, будто ничего не произошло.
Через неделю — неделю отсрочки Анна
Ивановна с помощью внука выплакала-та-
ки у сына — молодые Гумилевы уехали.
Николай Степанович, проявив чудеса изо-
бретательности (в первые дни войны осво-
божденных медкомиссией еще браковали),
поступил добровольцем, и именно туда, ку-
да хотел: рядовым в лейб-гвардии Улан-
ский полк. И именно в эти дни, как считала
Анна Ахматова, ей был дан еще один вещий
знак — как бы указание, что она не так, не-
правильно истолковала «приказ Всевышне-
го» («приказал Всевышний стать страшной
книгой грозовых вестей»), что война вовсе
не отменила ни песен, ни страстей.
Решив устроить маленький семейный
праздник в честь очередной победы Нико-
лая Степановича над обстоятельствами, они
вдвоем обедали на Царскосельском вокза-
ле. И вдруг так же неожиданно, как и
месяц назад на платформе Подсолнечная,
над их столиком навис Блок. И хотя на этот
раз ничего сверхъестественного в его по-
явлении в неожиданном месте не было:
Александр Александрович вместе с другом
248
Анна Андреевна Ахматова
Евгением Ивановым обходил семьи моби-
лизованных для оказания им помощи, Ах-
матова была потрясена. Наскоро переку-
сив, Блок попрощался. Проводив взглядом
его прямую, в любой толпе одинокую и от-
дельную фигуру, Гумилев сказал: «Неуже-
ли и его пошлют на фронт? Ведь это то же
самое, что жарить соловьев».
Снарядив мужа в поход, пока еще не на
передовую, а в Новгород, где стояли уланы,
Анна Андреевна вернулась в Слепнево. Из
кипы забытых Николаем книг вынырнул и
еще один номер «Русской мысли». Май-
ский, пятый. И там тоже были стихи Бло-
ка, и тоже морские, итальянские:
С ней уходил я в море,
С ней покидал я берег...
О, красный парус
В зеленой дали!
Черный стеклярус
На темной шали!
А ей уже слышалось начало ее первой
поэмы:
Бухты изрезали низкий берег,
Все паруса убежали в море,
А я сушила соленую косу
За версту от земли на плоском камне.
Ко мне приплывала зеленая рыба,
Ко мне прилетала белая чайка,
А я была дерзкой, злой и веселой
И вовсе не знала, что это — счастье.
В Слепневе летом почти набело, на одном
дыхании, Ахматова написала первые 150
строк поэмы «У самого моря». Она очень
спешила, предчувствуя, что вернется не
только в столицу другого государства, но и
в другой век. И не ошиблась: Петербурга,
из которого она в конце мая, спасаясь от за-
тянувшегося удушья, убежала сначала в де-
ревню, а потом на дачу под Киев, больше не
было. Ее встретил незнакомый город, но-
сивший иное имя: Петроград, Питер, и век
был не девятнадцатый, а двадцатый, и все
стало другим: и облик местности, и лйца.
Первым, кому она осмелилась послать еще
не оконченную поэму, был Гумилев. Нико-
лай Степанович, скрывая за шутливым то-
ном восхищение, ответил не мешкая: «Я
начинаю чувствовать, что я подходящий
муж для женщины, которая «собирала
французские пули, как мы собирали грибы
и чернику». Эта цитата заставляет меня на-
помнить тебе о твоем обещании быстро до-
писать твою поэму и прислать ее мне. Пра-
во, я по ней скучаю».
Догадавшись, что Николай Степанович
скучает не только по недописанной поэме,
Анна Андреевна поехала к нему в Новгород
и успела вовремя: полк перебрасывали на
передовую. Проводив в декабре мужа до
Ви льны, Ахматова вернулась в Царское Се-
ло и закончила поэму, как и было обещано
Николаю Степановичу. Война снова сбли-
зила их, пускай ненадолго, а все-таки сбли-
зила. Вместе с поэмой Анна Андреевна по-
слала мужу на фронт еще и письмо в сти-
хах:
Будем вместе, милый, вместе,
Знают все, что мы родные.
А лукавые насмешки,
Как бубенчик отдаленный,
И обидеть нас не могут,
И не могут огорчить.
Где венчались мы — не помним,
Но сверкала эта церковь
Тем неистовым сияньем,
Что лишь ангелы умеют
В белых крыльях приносить.
А теперь пора такая,
Страшный год и страшный город.
Как же можно разлучиться
Мне с тобой, тебе со мной?
Оказалось: можно. Приехав в отпуск в
сентябре 1916-го, Гумилев познакомился с
Ларисой Рейснер, в ту пору начинающей
поэтессой, и по обыкновению увлекся. Ла-
риса, благоговевшая перед Ахматовой, сму-
тилась, но Николай Степанович объяснил,
что он и Анна Андреевна только формально
муж и жена, а вообще-то давно отпустили
друг друга на волю. И хотя ни Гумилев, ни
Рейснер чувств не афишировали, Анна
Андреевна об этом, увы, узнала... Роман Га-
физа (так Гумилев подписывал свои письма
к Рейснер) с Леричкой («Леричка моя, ка-
кая Вы золотая прелесть»), как и все влюб-
ленности Гумилева, оказался скоротечным,
249
Русские писатели XX века
выдохся уже к лету 1917 года; в его фронто-
вых письмах второй половины 1917 года
Рейснер уже не Леричка, а Лариса Михай-
ловна, да и он не Гафиз, а Н. Гумилев. Не
думаю, чтобы эта история, при всей ее крат-
косрочности, ничуть не задела Ахматову.
Просто она слишком хорошо знала своего
мужа и понимала, что увлечение Рейснер
всего лишь мужская, ревнивая и самолюби-
вая, реакция на ее чересчур «богатую лич-
ную жизнь».
«ВСЕ ОБЕЩАЛО МНЕ ЕГО...»
Отец Анны, узнав, что дочь как бы разо-
шлась с мужем, пошутил в своем духе: дес-
кать, брак — таинство повторяющееся. Но
Анна и не собиралась вступать в новый
брак: ей нравилось быть героиней совре-
менной, в новом вкусе, любовной истории.
Роль друга близкого, все понимающего и
все прощающего, была закреплена за царс-
коселом Николаем Недоброво; роль друга
далекого силой обстоятельств досталась
школьному товарищу Николая Владимиро-
вича Борису Васильевичу Анрепу. (По-
скольку их знакомство совпало с выходом
поэмы «У самого моря», Анна Андреевна
считала, что сон героини морской поэмы о
явлении царевича предсказал появление в
ее жизни Бориса Анрепа; как заморский
«царевич» он фигурирует в ее некоторых
стихах.)
Николай Недоброво был эстет, поэт, ин-
теллектуал, по образованию филолог, по
убеждению классик и даже классицист. Он
и красив был какой-то особенной, не совре-
менной красотой. Один из его современни-
ков вспоминал: «О, как великолепен был
тогда Недоброво!.. Он был безукоризненно
красив... У него была стройная, словно то-
ченая фигурка, впрочем, вполне достаточ-
ного, почти хорошего среднего роста. Лицо,
руки — все гармонировало, как в античных
скульптурах».
Николай Владимирович, по натуре ско-
рее просвещенный дилетант и коллекци-
онер, чем «труженик пера», женившись на
богатой и красивой женщине, освободил се-
бя от необходимости зарабатывать деньги
литературным трудом. Правда, в ранней
юности, будучи студентом, он сделал по-
пытку примкнуть к группе молодых лите-
раторов, которые считали литературу де-
лом, профессией, а не средством самоусо-
вершенствования. Но те вмиг распознали в
нем чужака. В мемуарах поэта и критика
Вл. Пяста есть такой эпизод. В доме поэта
Сергея Городецкого зашла как-то речь о не-
обходимости создания поэтического круж-
ка, по примеру художников, организовав-
ших «Мир искусства»; идея такого кружка
принадлежала Недоброво, но, когда он
ушел, хозяин заявил: «Недоброво нам в
кружке не нужен. Он производит впечатле-
ние, что вот-вот начнет собирать табакерки
и будет говорить только о художественном
качестве уников из своего собрания и ничем
во всем мире не интересоваться. В тридцать
лет будет сюсюкающим стариком».
Сюсюкающим стариком в тридцать лет
Недоброво не стал, ему было 33, когда он
опубликовал статью о поэзии Ахматовой,
которую Анна Андреевна до конца жизни
считала лучшей из всего написанного о ее
творчестве. Ценила она и некоторые из его
лирических стихотворений, может быть,
даже и увлеклась, не слишком, а слегка, и
так же легко разлюбила. И когда Павел
Лукницкий, узнав от нее же, что стихотво-
рение «Есть в близости людей заветная чер-
та...» обращено к Николаю Владимировичу
Недоброво, попросил сделать прозаический
к нему комментарий, Анна Андреевна отве-
тила как бы притчей: «Недоброво собирал
коллекцию кружев. Я их не видела. Не хо-
тела видеть».
В отличие от Николая Владимировича
его друг Борис Анреп ни кружевами, ни та-
бакерками не интересовался, у него было
редкостное и вполне мужское хобби: право-
вед по образованию, он вдруг, к неудоволь-
ствию семьи, увлекся живописью и, чтобы
переменить судьбу, в 1908 году уехал в
Париж на постоянное жительство. Уже не-
сколько лет он пытался овладеть секрета-
ми византийских мозаик и, несмотря на
весьма скромные способности, стал-таки
профессиональным художником-мозаичис-
том, добился признания, а со временем и
250
Анна Андреевна Ахматова
крупных заказов. Фотографию одной из
своих английских мозаик — изображение
Анны Ахматовой на полу Лондонской на-
циональной галереи (в 50-х гг.) Анреп при-
шлет в Ленинград, на адрес Союза писате-
лей для передачи госпоже А. А. Ахматовой,
и никогда не поймет, почему она не пришла
в восхищение от того, что любители изящ-
ных искусств ходят по ее мозаичному лицу.
Впрочем, и в 1915 году добрый малый
Анреп мало что понимал и в Анне Андреев-
не, и в ее чувствах, и в ее стихах. Но он
умел красиво и значительно молчать, не
скупясь тратил командировочные червон-
цы и на лихачей, и на рестораны. Его про-
стоватая мужественная стать выгодно смот-
релась на фоне слишком уж изысканной,
кружевной и фиалковой, красоты Николая
Недоброво. Необычайно высоким ростом,
жизнерадостностью, неистребимым донжу-
анством, странной смесью беззаботной от-
ваги и практичности Борис Васильевич фон
Анреп напоминал Анне отца, каким Анд-
рей Антонович Горенко был в ее детские го-
ды.
«Лихой ярославец» проживал в Англии,
в Петербурге бывал редко, по служебной
надобности. Как подданный Российской
Империи и офицер запаса, Борис Анреп в
1915 году был призван в армию, затем ото-
зван с фронта, командирован по месту жи-
тельства, в Англию, в Лондон. В его воспо-
минаниях есть один загадочный эпизод:
«...остался при Русском Правительствен-
ном комитете, где также встретился опять с
Гумилевым, который приехал из Парижа и
работал в шифровальном отделе комитета».
Он дал повод английским биографам Гуми-
лева выдвинуть предположение, что Гуми-
лев, а следовательно и Анреп, был связан с
русской разведкой и что приезд Гумилева в
Лондон и не слишком в его положении при-
ятные, однако подозрительно частые, кон-
такты с возлюбленным жены связаны
именно с этим щекотливым обстоятельст-
вом. Так это или не так, до сих пор не выяс-
нено.
Но даже если и так, к Анне Андреевне
все вышесказанное никак не относится: в
суть «служебных дел» заморского гостя она
не вникала. Она жила от встречи до встре-
чи, и каждая оставляла след в памяти. О
некоторых из них Ахматова рассказала
Лукницкому:
«1915 год. Вербная суббота. У друга (Недобро-
во) офицер Бор. Вас. Анреп. Вечер. Потом еще
два. На третий день он уехал. Его провожала на
вокзал. Осенью пятнадцатого приезжал, но не ви-
делся с АА. Следующая встреча — в январе шест-
надцатого года, январь—февраль. Обеды в ресто-
ранах, возил, катался. Приехал так: телефон дру-
га, пришли. 10 марта «Pirato» и по дороге назад
стихотворение. Отъезд в Лондон. Письмо, от-
крытка. Осень шестнадцатого года — приезд,
встреча на вокзале... В феврале 1917 г. Приезд из
Лондона. Уехал опять. Приехал в сентябре сем-
надцатого, уехал за несколько дней до Октябрь-
ской революции. Пришел проститься, не застал».
В мемуарах господин фон Анреп умол-
чал об одном весьма щекотливом обсто-
ятельстве. Возвращаясь весной 1917 года
из России в Лондон (предпоследняя встреча
с Анной Ахматовой), Борис Васильевич
вскружил голову жене родного брата Глеба.
Жениться на ней он не мог, поскольку был
женат вторым браком, однако ж не расте-
рялся и поселил свояченицу в своем доме,
на положении запасной наложницы. Не
исключено, что эта история дошла до Анны
Андреевны; на сей счет ее вполне могла
просветить первая жена Бориса Васильеви-
ча, с которой Ахматова была в приятель-
ских отношениях (Юнии Анреп посвящено
стихотворение «Судьба моя ли так переме-
нилась...»). Во всяком случае, летом 1917
года тон стихотворных не отправленных
писем Ахматовой к Анрепу необъяснимо
меняется. В одном и том же месяце — июль
1917-го — написаны два стихотворения и
оба обращены к Борису Васильевичу:
Просыпаться на рассвете
Оттого, что радость душит,
И глядеть в окно каюты
На зеленую волну.
Иль на палубе в ненастье,
В мех закутавшись пушистый,
Слушать, как стучит машина,
И не думать ни о чем.
Но, предчувствуя свиданье
С тем, кто стал моей звездою,
251
Русские писатели XX века
От соленых брызг и ветра
С каждым часом молодеть.
* * *
Ты — отступник: за остров зеленый
Отдал, отдал родную страну,
Наши песни и наши иконы,
И над озером тихим сосну.
Для чего ты, лихой ярославец,
Коль еще не лишился ума,
Загляделся на рыжих красавиц
И на пышные эти дома?
Так теперь и кощунствуй, и чванься,
Православную душу губи,
В королевской столице останься
И свободу свою полюби...
Согласитесь, чтобы назвать того, кто
стал ее звездою, чванливым и самодоволь-
ным отступником, Анне Андреевне надо
было или самой очень сильно перемениться
душой, или узнать о любимом нечто чрез-
вычайное и притом сугубо личное, пото-
му что дата написания политический под-
текст отменяет; он появится позднее, после
публикации открытого письма к Отступни-
ку в левой газете «Воля народа» в апреле
1918-го, когда слова «отступник» и «бело-
эмигрант» станут синонимами. Такова био-
графическая основа двух тесно связанных
книг Ахматовой «Белой стаи» (1917) и «По-
дорожника» (1921).
«НЕТ, ЦАРЕВИЧ, я не та...»
После выхода «Подорожника» критика
заговорила о том, что Ахматова повторяет-
ся, перепевает «Белую стаю». На самом де-
ле это просто две части романа в стихах,
объединенные единством действия, места и
времени, своего рода вариация на тему ко-
медии масок, в основе которой классиче-
ский любовный треугольник: Пьеро (Недоб-
рово), влюбленный в Коломбину, Коломби-
на (Ахматова), влюбленная в Арлекина, и
Арлекин (Анреп), Коломбиной пренебрег-
ший. Однако традиционен он лишь в нача-
ле, на уровне завязки конфликтной ситу-
ации. Продолжение и финал: смерть Пьеро
(Недоброво умер от туберкулеза почек в
1919 году) и революция, навсегда разлучив-
шая Коломбину с Арлекином («нам встречи
нет, мы в разных станах») — жизнь дописа-
ла сама, сыграв, если воспользоваться клас-
сической формулой князя Вяземского,
«роль писца» («где жизнь играет роль пис-
ца»).
История безответной любви дамы в ли-
ловеющих шелках к молодцеватому офице-
ру — главная, но не единственная тема ди-
логии («Белая стая» — часть 1; «Подорож-
ник» — часть 2); по сути дела, это малый
серебряный вариант «Войны и мира» (как и
в толстовской хронике, здесь представле-
ны: столица и усадьба, мир и война, любовь
и ревность, отцы и дети, дом и семья, но с
интервалом ровно в сто лет!).
Однако судьба автора, даже на том отрез-
ке дороги жизни, что хронологически вроде
бы укладывается в те же временные рамки,
намного сложнее.
В марте 1915 года вышел долгожданный
номер журнала «Аполлон» с поэмой «У са-
мого моря». Первый же оттиск, с нароч-
ным, Анна Андреевна отослала Александру
Блоку. Гумилев, прочитав поэму до конца,
сказал те слова, которые она даже мыслен-
но не смела произнести: ты — не просто
первая поэтесса России, ты — крупный
поэт. И теперь Ахматова, считая дни, жда-
ла: будет или не будет частное определение
Гумилева утверждено в «высшем совете»,
то есть Блоком.
Блок молчал. Ответное письмо Анна Ах-
матова получила... спустя год. На первый
взгляд оно вполне благожелательно. Кроме
широко известной общей оценки: «Поэ-
ма — настоящая и Вы — настоящая», в
тексте есть и еще несколько приятных для
начинающего и не уверенного в себе автора
ободряющих эпитетов. Дело, однако, в том,
что долгожданное письмо написано не в
1911 году, когда никому не известная Го-
ренко-Гумилева распечатывала сборник
«Вечер», а весной 1916-го, когда имя Анна
Ахматова гремело по всей России!
Ненамеренную бестактность Анна Анд-
реевна могла бы, наверное, и простить Бло-
ку, по врожденной, наследственной добро-
те. Труднее было извинить то, что дорогой,
252
Анна Андреевна Ахматова
со значением, подарок пролежал непро-
читанным на письменном столе педантич-
ного и крайне аккуратного в отношениях
со своими корреспондентами Александра
Александровича без двух недель год. Это
граничило с оскорблением, а значит, апри-
ори зачеркивало и обесценивало компли-
менты. Во всяком случае, из дома Гумиле-
вых, проданного в 1916 году, Ахматова пи-
сем Блока с собой не взяла и опоздавшую на
год поощрительную рецензию старалась не
вспоминать. А главное — больше никогда
не дарила Блоку своих книг. И обращенное
к нему «Молитвословие» спрятала подаль-
ше в подвал памяти. По автографу, пода-
ренному Павлу Лукницкому, оно было на-
печатано через много лет после ее смерти. А
кто бы на месте Ахматовой поступил ина-
че? «Четки» Блок, не читая, переправил на
женскую половину — матушке и тетушке;
«У самого моря» прочитал лишь год спус-
тя...
Рядом с этой жизнью в стихе и стихом
шла другая, тоже не простая. 25 августа
1915 года от ишемической болезни сердца
умер Андрей Антонович Горенко. Елена
Ивановна, вторая жена отца, вызвала Анну
телеграммой, как только стало известно,
что положение безнадежно. Две недели,
сменяя друг друга, женщины дежурили у
постели умирающего. Последнее слово, ко-
торое сказал дочери отец, уже в сумереч-
ном, полубредовом состоянии, было слово
«поэзия»: «Ты... поэзия».
После похорон Анна и сама слегла, еще
весной врачи поставили диагноз: обостре-
ние хронического туберкулеза; нервный
стресс дал новый, осенний рецидив. Гуми-
лев, приехавший с фронта в отпуск, перепо-
лошившись, отправил жену в санаторий
Хювинккя, под Хельсинки. Судя по тому,
что финны не отказали, туберкулезный
очаг был незначительным: опасно больных
чахоткой в фешенебельной и очень дорогой
«здравнице» не принимали. Через две неде-
ли Анна умолила мужа забрать ее из «белой
тюрьмы».
В январе, перед возвращением Николая
Степановича в действующую армию, они,
впервые зимой, побывали в Слепневе и ре-
шили: даст Бог — приедут сюда в декабре.
Бог дал: под Рождество 1916 года Николай
Степанович неожиданно явился с фронта, и
они укатили в деревню, где зимовала Анна
Ивановна с Левушкой. По дороге придума-
ли сыну новое домашнее имя: «гумильве-
нок».
«Это было великолепно, — вспоминала Ахма-
това. — Все как-то двинулось в девятнадцатый
век, чуть не в пушкинское время. Санки, вален-
ки, медвежьи полости, огромные полушубки, зве-
нящая тишина,, сугробы, алмазные снега. Там я
встретила 1917 год... А в Петербурге был уже
убитый Распутин и ждали революцию, которая
была назначена на 20 января (в этот день я обеда-
ла у Натана Альтмана. Он подарил мне свой рису-
нок и надписал: «В день Русской Революции*)».
К процитированному отрывку из «Авто-
биографической прозы* следует добавить
одну деталь. В Слепневе супруги Гумилевы
крупно повздорили — имя Ларисы Рейснер
вслух не произносилось, но оба прекрасно
понимали причину ссоры... Гумилев, не-
смотря на присутствие матери и сына,
хлопнул дверью и был таков. Анна наде-
ялась, что Коля одумается, все-таки Новый
год, остынет пока доберется до станции; но
не остыл, и не вернулся: роман с Леричкой
был в самом разгаре!..
По возвращении в Петроград, прямо с
вокзала Анна Андреевна поехала в то един-
ственное место, где в тот страшный год и в
том страшном городе еще искренне радова-
лись гостям, к Вале Тюльпановой-Срезнев-
ской. Квартира Валиного мужа профессора
Вячеслава Вячеславовича Срезневского бы-
ла огромной, дом, несмотря на военные
трудности, полная чаша, а Валерия Серге-
евна не знала, чем себя занять. Здесь, на
Боткинской, 9, в мае 1917-го разыщет ее
Гумилев, чтобы попросить — а вдруг в по-
следний раз? — проводить его.
Николай Степанович опять добился не-
возможного: заграничной служебной ко-
мандировки в Русский экспедиционный
корпус; а ее уговорил не сидеть в городе, а
ехать в Слепнево. Анна и сама знала: кроме
как в Слепневе не сможет в срок завершить
работу над сборником «Белая стая». Как
253
Русские писатели XX века
всегда, редактором был Михаил Лозин-
ский. Анна Андреевна, сидя в деревне, сни-
мала его замечания. В одном из ее августов-
ских (1917) писем к Лозинскому есть такая
фраза:
«Буду ли я в Париже или в Бежецке, эта зима
представляется мне одинаково неприятной.
Единственное место, где я дышала вольно, был
Петербург. Но с тех пор, как там завели обычай
ежемесячно поливать мостовую кровью граждан,
и он потерял некоторую часть своей прелести в
моих глазах».
Судя по определенности, с какой сообща-
ется другу семьи о планах на зиму, Гуми-
лев, уезжая (15 мая 1917), видимо, твердо
обещал вызвать жену в Париж. Это было
трудно, однако, учитывая способность Ни-
колая Степановича подчинять себе обсто-
ятельства, возможно. Не исключено, что
тогда же был придуман и запасной вариант:
перезимовать вместе с сыном и свекровью в
Бежецке. Словом, зима в Париже в обсто-
ятельствах 1917 года для Ахматовой — не
заграничная прогулка, а выход из крайне
затруднительной ситуации. В начале 1916
года Анна Ивановна Гумилева продала дом
в Царском Селе, ставший по военному вре-
мени обузой, в надежде купить какую-то
«жилплощадь» в Бежецке (уездный город в
нескольких верстах от Слепнева), разумно
рассудив, что в провинциальной глуши ста-
рым да малым пережить смуту и голодуху
легче. В результате Анна Андреевна оста-
лась, так сказать, на улице; после смерти
отца ей, кроме как у Срезневских, и перено-
чевать-то было негде.
Конечно, ни Валя, ни Вячеслав Вячесла-
вович неудовольствия не высказывали, но
Гумилев понимал, каково Анне, при ее-то
гордости, чувствовать себя и премного обя-
занной, и очень уж связанной порядками
чужого монастыря. Именно поэтому, же-
нившись, он сразу же выдал Ахматовой
личный-вид на жительство и положил две
тысячи рублей на ее имя в банк, чтобы чув-
ствовала себя и независимой, и вполне обес-
печенной. Пока Гумилев воевал на Запад-
ном фронте в 1915—1916 годах, Анна Анд-
реевна как жена офицера получала деньги
по аттестату ежемесячно. Но что будет те-
перь, после Февральской революции?
В октябре 1917 года, уже из Франции,
добившись в лондонском, головном Рус-
ском комитете по координации отношений
с союзниками назначения в Париж в распо-
ряжение военного представителя Времен-
ного правительства, Гумилев пишет Ахма-
товой: «Через месяц, наверно, выяснится,
насколько мое положение здесь прочно.
Тогда можно будет подумать и о твоем при-
езде сюда».
Через месяц, увы, выяснилось, что о
приезде в Париж Анны Андреевны и речи
быть не может. Во-первых, произошла Ок-
тябрьская революция, отменившая полно-
мочия Временного правительства, а во-вто-
рых, оказавшись в состоянии полной бес-
перспективности, Николай Степанович
выдумал себе и утешение, и занятие: оче-
редную высокую любовь к русской пари-
жанке — девушке с газельими глазами
(цикл «К Синей звезде») и, по обыкнове-
нию, надолго замолчал. Впрочем, даже ес-
ли бы он и хотел дать о себе знать, сделать
это было уже невозможно... Из-за полного
равнодушия к политике Гумилев был уве-
рен, что большевики долго продержаться у
власти не смогут.
Вскоре «Синяя звезда» вышла замуж за
богатого американца, Николай Степанович
перебрался в Лондон, видимо, в надежде
зацепиться за что-нибудь попрочнее, что-
бы все-таки выполнить данное жене обеща-
ние — увезти ее из России. Найти работу не
удалось, слишком много собралось в Лондо-
не русских офицеров в подобном же поло-
жении. Анреп уговаривал Николая Степа-
новича остаться, осмотреться, подождать,
не совать добровольно голову в большевист-
ский капкан...
Но в апреле 1918 года Гумилев вернулся
в Россию. Ни Анну, ни мать бросить на про-
извол судьбы, при всем своем эгоизме, он не
мог. Жену нашел там же, где и оставил год
назад, на Боткинской улице, у Срезнев-
ских. Пришел, чтобы передать привет и по-
дарок от Анрепа: «прекрасно сохранившу-
юся монету времен Александра Македон-
ского». Кроме монеты, Борис Васильевич
254
Анна Андреевна Ахматова
как человек практичный всучил Гумилеву
«шелковый матерьял на платье». Монету
Николай Степанович довез, а пакет с ма-
терьялом сунул в первую же попавшуюся
«мусорку». На Воткинской состоялось их
последнее объяснение. Анна Андреевна, не
называя причин, попросила у мужа развод.
Валерия Сергеевна, со слов подруги, рас-
сказывала об этом событии так:
«...Сидя у меня в небольшой темно-красной
комнате, Аня сказала, что хочет навеки расстать-
ся с ним. Коля страшно побледнел, помолчал и
сказал: «Я всегда говорил, что ты совершенно
свободна делать все, что хочешь*. Встал и ушел*.
В дневнике Лукницкого записана более
пространная версия, из которой следует,
что Гумилев все-таки спросил: «Ты вый-
дешь замуж? Ты любишь?» АА ответила:
«Да». — «Кто же он?» — «Шилейко». Ни-
колай Степанович не поверил: «Не может
быть. Ты скрываешь, я не верю, что это
Шилейко». Но Анна Андреевна повторила,
что всерьез собирается замуж за лучшего
друга Николая Степановича и даже дала
Шилейке слово.
По всей вероятности, Гумилев все-таки
решил, что жена просто наказывает его за
парижские грехи, а заодно, задним числом,
и за роман с Ларисой Рейснер. Поехали
вместе к Шилейке. Вольдемар Казимиро-
вич заверил друга, что все именно так, как
говорит Анна: они решили вступить в за-
конный брак, и она дала ему слово. Однако
и после «очной ставки* Гумилев, видимо,
продолжал сомневаться в серьезности про-
исходящего: он слишком хорошо знал Ши-
лейку и понимал, что ничего надежного и
основательного союз с ним Анне не обеща-
ет.
Ситуация сильно осложнялась еще и
тем, что отговаривать жену Николай Степа-
нович не считал возможным. Во-первых,
Шилейко был другом, а во-вторых, после
того, как он сам вместе с Лозинским долго
и настойчиво уверял жену, что Вольдемар
гениальный ученый, говорить теперь, что
патент на гениальность Шилейке выдан с
расчетом на вырост, было по меньшей мере
неэтично. Впрочем, надеяться, что она оду-
мается, Гумилев, видимо, не переставал: в
начале лета 1918 года, на Троицу, они вдво-
ем с Анной Андреевной поехали в Бежецк,
где теперь, после «экспроприации» Слепне-
ва, Анна Ивановна Гумилева жила не толь-
ко зимой, но и летом. Добирались долго, с
приключениями. Гумилев был явно рас-
строен, но разговоров на щекотливую тему
не заводил. И только утром, когда сын, про-
снувшись, разбирал привезенные отцом из
Англии диковинные игрушки, а они молча
глядели на него, внезапно поцеловал Анне
Андреевне руку и сказал, уже не скрывая
грусти: «Зачем ты все это выдумала?»
«НЕ БЫВАТЬ ТЕБЕ В ЖИВЫХ»
Зачем она это выдумала? На этот вопрос
Анна Ахматова ни себе, ни друзьям так ни-
когда вразумительно и не ответила. Отве-
тить — значило признаться в том, что в тот
летний день, в Бежецке, ее держало и удер-
жало не чувство к Шилейке, а всего лишь
данное ему слово, и не добровольно, а под
нажимом данное. В год гибели Гумилева
(1921), на Рождество, Анна Андреевна по-
ехала в Бежецк. В Рождественские дни ей
всегда хотелось быть с родными; когда Инна
Эразмовна и младшая сестра Ия жили в Ки-
еве, Ахматова старалась провести свой са-
мый любимый праздник с ними, но теперь
мать и сестра бедовали и голодали в Крыму,
туда в тот год и письма не доходили.
В Бежецке было тихо, здесь люди стара-
лись жить так, будто ничего страшного не
случилось. Анна Андреевна расспрашивала
свекровь о том, о чем не успела спросить,
пока Николай Степанович был жив, — о его
детстве, отрочестве. Анна Ивановна расска-
зывала скупо и строго, но легко; после отъ-
езда, фактически бегства старшего сына
Мити за границу, кроме как с Анной Анд-
реевной, ей не с кем было выговорить боль.
Анна хотела войти в ту комнату, где три го-
да назад она и Николай Степанович радова-
лись радостью своего гумильвенка, полу-
чившего в подарок новые игрушки. И не во-
шла. Не смогла войти. Из всех написанных
на смерть Гумилева стихов «Бежецк» — са-
мое пронзительное:
255
Русские писатели XX века
Там белые церкви и звонкий, светящийся лед,
Там милого сына цветут васильковые очи.
Над городом древним алмазные русские ночи
И серп поднебесный желтее, чем липовый мед.
Там строгая память, такая скупая теперь,
Свои терема мне открыла с глубоким поклоном;
Но я не вошла, я захлопнула страшную дверь;
И город был полон веселым рождественским
звоном.
Напомним: Аня Горенко познакомилась
с Колей Гумилевым под Рождество 1903 го-
да. И ни он, ни она никогда об этом не забы-
вали. В ночь на 27 декабря 1940 года при-
дет к Ахматовой «Поэма без героя». Под
траурный марш Шопена. Гумилев говорил,
и говорил твердо, что умрет в 53 года. Не
раньше и не позже. Он и ее научил верить
«умным числам» — «потому что все оттен-
ки смысла умное число передает». И если
бы в этот гороскоп не вмешались силы ино-
го порядка, это была бы первая годовщина
их вечной разлуки...
Вступление к поэме Ахматова также от-
метит роковым и тоже гумилевским чис-
лом: 25 августа 1941 года. (Гумилев был
расстрелян 25 августа 1921 года.) Разогнав
всех явившихся в Фонтанный Дом в ночь
под Рождество ряженых — «краснобаев и
лжепророков», всех, с кем героине «не по
пути», она ждет «гостя из будущего»; он,
правда, не герой, «не лучше других и не ху-
же», но он — живой, единственный, от кого
♦не веет летейской стужей». Она ждет гос-
тя, она вся в ожидании: «неужели придет...
в самом деле, повернув налево с моста?»
И тут обнаруживает, что не одна, что незва-
но явился и тот, кто «как будто» не значил-
ся «в списках» приглашенных и тем не ме-
нее пришел, ибо не мог не прийти.
Живому Гумилеву Ахматова не могла
простить страсти к «перемене мест», назы-
вала «вечным бродягой», не любила и его
африканской и восточной экзотики, ей ка-
залось, что стихи мужа размалеваны «пест-
ро и грубо».
Мертвому простила все, даже странный,
невыносимый в семейной жизни нрав:
Существо это странного нрава.
Он не ждет, чтоб подагра и слава
Впопыхах усадили его
В юбилейные пышные кресла,
А несет по цветущему вереску,
По пустыням свое торжество.
И ни в чем не повинен: ни в этом,
Ни в другом и ни в третьем...
Поэтам
Вообще не пристали грехи.
Увы, для того чтобы получить отпуще-
ние грехов, «вековой собеседник луны»
(Анна Ахматова неоднократно говорила,
что все стихи Гумилева, где упоминается
луна, посвящены ей) должен был погиб-
нуть. Ав 1918 году вернувшийся из Лондо-
на в большевистский Питер Николай Сте-
панович вместо «индульгенции* и награды
«за храбрость» получил язвительное и
мстительное предложение: оформить пре-
кращение брачных отношений официаль-
но...
Как только пришли разводные бумаги, 5
августа того же 1918 года, Шилейко под
предлогом срочной служебной надобности
поспешил увезти Анну Андреевну в Моск-
ву, чтобы, не дай Бог, не передумала! Ко-
мандировка Вольдемара Казимировича,
как и громкий мандат, полученный им от
Петроградского отделения революционно-
го правительства, была не то чтобы полной
липой, однако от постоянного голода не
спасала.
Вернулись в Петроград. Под крыло Мак-
сима Горького. Пользуясь своей славой «бу-
ревестника революции», Алексей Максимо-
вич организовал в Петрограде комиссию по
оказанию помощи работникам науки и
культуры. Лошадь, которая развозила по
квартирам пайки тем, кто уже не мог доб-
раться до раздаточного пункта, Анна Анд-
реевна называла «горькой лошадью» («Вот
едет горькая лошадь...»). Ни ей, ни Шилей-
ко в 1919-м горьких пайков не досталось: в
Петроградском университете Вольдемар
числился студентом, хотя и вел спецкурсы
по клинописным языкам. И тем не менее в
Питере умереть им не дали: сначала слегка
подкормила подруга, Наташа Рыкова, у ее
отца, ученого-агронома, была опытная фер-
ма в окрестностях Царского Села, затем в
борьбу по спасению голодающей Ахматовой
256
Анна Андреевна Ахматова
решительно включилась Лариса Рейснер,
ставшая к той поре женой красного флото-
водца Раскольникова.
Некоторое время Анна Андреевна, уже
поняв, что ошиблась в выборе законного
мужа, все-таки пыталась делать хорошую
мину при плохой игре. Убедив себя, что
Шилейко, несмотря на все свои странности,
большой ученый, перебеливала его мудре-
ные рукописи, писала под диктовку, кор-
мила, лечила, добывала одежду и обувь,
выгуливала его собаку. И даже не без гор-
дости говорила друзьям, что сидит дома и
нигде не бывает только потому, что Володя
не позволяет.
Георгий Чулков, встретив как-то Анну
Андреевну у Ольги Судейкиной (Ольга жи-
ла по соседству, и до нее «пленница* при
редких служебных отлучках своего «тю-
ремщика» иногда все-таки добиралась), в
полном недоумении писал жене: «Ахматова
превратилась в ужасный скелет, одетый в
лохмотья... Она, по рассказам, в каком-то
заточении у Шилейко. Оба в туберкулезе».
Гумилев, когда до него дошли слухи, что
бывший лучший друг умудряется держать
его бывшую жену на коротком поводке, по-
думал, что его дурачат. Вообще-то Николаю
Степановичу, может быть впервые со дня
их знакомства, было не до Анны Андреев-
ны: чтобы прокормить мать, сына, а также
новую молоденькую жену и нового ребенка,
он крутился как белка в колесе: работал у
Горького в издательстве «Всемирная лите-
ратура», переводил Готье и Бодлера, читал
лекции^в Институте искусств, преподавал
технику стихосложения молодым поэтам, в
том числе и пролетарским, организовывал
вечера и даже какие-то маскарады.
В 1921 году, незадолго до ареста (по делу
о контрреволюционном заговоре во главе с
профессором Таганцевым), умудрился про-
браться в полубелый Крым, разыскал мать
Анны, от нее и узнал о смерти (самоубийст-
ве) брата Андрея. С этой вестью (в июле
1921) и явился к Анне Андреевне, захва-
тив на всякий случай приятеля, молодого
поэта Георгия Иванова: о том, что Вольде-
мар Казимирович ревнует жену даже к
дворнику, приносящему дрова, Гумилеву,
естественно, уже донесли. Впрочем, такое
за своим полубезумным дружком он давно
знал, но чтобы Анна позволила какому-то
Шилейке командовать: позволять-запре-
щать? Она же всегда делала только то, что
хотела!
На самом-то деле Анна Андреевна только
потому и своевольничала, что ей все и всё
всегда позволяли. Впервые встретив за-
прет, она растерялась и спасовала... Коро-
че, разговора по душам, на что, видимо,
рассчитывал Николай Степанович, не вы-
шло... Анна Андреевна была слишком по-
давлена известиями из Крыма — ио смерти
Андрея, и о бедственном положении матери
и сестры. Все эти подробности известны из
воспоминаний Георгия Иванова; память са-
мой Ахматовой сохранила только финал
(записано в Дневнике Лукницкого): «АА
повела Гумилева и Г. Иванова не через 3-й
этаж, а к темной (потайной прежде) винто-
вой лестнице, по которой можно было пря-
мо из квартиры выйти на улицу. Лестница
была совсем темная, и когда Николай Сте-
панович стал спускаться по ней, АА сказа-
ла: «По такой лестнице только на казнь хо-
дить...» В поэзии Ахматовой именно эта
встреча с Гумилевым (7 или 8 июля) отрази-
лась как последняя:
От меня, как от той графини,
Шел по лесенке винтовой,
Чтоб увидеть рассветный, синий
Страшный час над страшной Невой.
В действительности же в последний раз
Анна Андреевна и Николай Степанович
встретились 11 июля 1921 года на вечере
издательства «Петрополис», только что вы-
пустившего маленький, изящный (и облож-
ку, и издательскую марку, и фронтиспис
выполнил М. В. Добужинский) ахматов-
ский сборник — «Подорожник» (тираж
1000 экземпляров), а на подходе были в том
же «Петрополисе* «Anno Dominni МС-
MXXI* (октябрь 1921 года, тираж 2000 эк-
земпляров) и в «Алконосте» отдельное из-
дание поэмы «У самого моря» (декабрь
1921 года, тираж 3000 экземпляров).
Словом, 11 июля 1921 года, несмотря на
революцию, разруху, нищету и почти го-
9 3ai. М8
257
Русские писатели XX века
лод, у Анны Андреевны были основания с
торжеством вспоминать сказанные Никола-
ем Степановичем слова — ей и о ней: «Ты
победительница жизни». Она действитель-
но чувствовала себя победительницей жиз-
ни, она ведь даже из домашнего застенка, в
который ее собирался заключить Вольде-
мар Казимирович, убежала. Как только
увидела, что «мудрец и безумец» разжигает
самовар рукописью «Подорожника». Как
только поняла, что при всех своих гениаль-
ных задатках ассириолог с европейским
именем элементарно, по-житейски «дурной
человек»
...Но винтовая лестница, по которой в
погожий июльский вечер уходил Гумилев,
и ее невесть из каких интуитивных потемок
вырвавшиеся слова: «По такой лестнице...
только на казнь...» «вынули из памяти* ве-
чер злого ее торжества. Даже тогда прожек-
тор памяти не высветит его во мраке забве-
ния, когда несколько лет спустя Анна Анд-
реевна разыщет среди оставшихся
неопубликованными произведений Гумиле-
ва посвященные ей предсмертные его сти-
хи, наверняка после презентации «Подо-
рожника* набросанные:
Я рад, что он уходит, чад угарный,
Мне двадцать лет тому назад сознанье
Застлавший, как туман кровавый
Схватившему в ярости за нож;
Что тело женщины меня не дразнит,
Что слава женщины меня не ранит,
Что я в ветвях не вижу рук воздетых,
Не слышу вздохов в шелесте травы...
И только в старости, уже перед самым
закатом, Анна Андреевна все-таки вспом-
нит, что была, оказывается, и еще одна
встреча с Николаем Степановичем и что
вторая — другая — ее жизнь началась
именно в июле 1921 года, когда она, празд-
нуя победу, не заметила, как подкрался
страшный август...
В ночь на 4 августа арестован Гумилев.
7 августа умер Блок.
10 августа на Смоленском кладбище, в
день похорон Блока, Ахматова узнает об
аресте Николая Степановича.
16 августа написано стихотворение «Не
бывать тебе в живых...».
25 августа без суда и следствия, по при-
говору ревтрибунала расстрелян Н. С. Гу-
милев. Похоронен в общей могиле.
1 сентября Анна Андреевна прочла о
массовом расстреле якобы участников
контрреволюционного заговора во главе с
профессором Таганцевым в расклеенной на
стенах вокзала в Царском Селе петроград-
ской газете.
15 сентября она, навсегда скинув, как
змеиную кожу, лиловеющие шелка, про-
стилась с собою прежней — той, «какою
была когда-то», — до августа 1921-го:
Заплаканная осень, как вдова
В одеждах черных, все сердца туманит...
Перебирая мужнины слова,
Она рыдать не перестанет.
И будет так, пока тишайший снег
Не сжалится над скорбной и усталой...
Забвенье боли и забвенье нег —
За это жизнь отдать не мало.
Часть третья
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
«ОТ ТЕБЯ Я СЕРДЦЕ СКРЫЛА»
С наступлением нэпа, к середине 20-х го-
дов, жизнь стала чуточку и сытнее, и чище,
и наряднее, но Анну Андреевну общее улуч-
шение бытовых условий почти не косну-
лось. Расставшись с Шилейко, она еще не-
сколько лет продолжала жить в доме, кото-
рый хотя и носил громкое музейное имя:
Мраморный дворец, для жилья был совер-
шенно не приспособлен. Не было ни кухни,
ни водопровода. Даже свет здесь включали
намного позже, чем везде, после того, как
окончательно стемнеет.
Рассказывая Лукницкому историю ско-
ропалительного брака с гениальным уче-
ным, Анна призналась, что выходила за-
муж как если бы в монастырь шла — чтобы
очиститься. Ни монастыря, ни рая в мра-
морном шалаше не получилось, вместо мо-
настыря она оказалась в тюрьме чуть ли не
домостроевской постройки и самого строго-
го домашнего режима, из которого узница
258
Анна Андреевна Ахматова
любви и ревности совершала побеги, чтобы
повидаться с подругой, именно как из
тюрьмы — пролезая в собачью щель под во-
ротами. И тем не менее Анна Андреевна со-
хранила к мимолетному попутчику благо-
дарность «за то, что в дом свой странницу
впустил*.
Что-то похожее она, наверное, могла бы
сказать и о Николае Николаевиче Пунине.
Во всяком случае в начале их совместной
жизни. Время было такое, что кров и хлеб
можно было делить «только с милым и не-
преклонным*. А Пунин в ту пору был и
мил, и в своем решении никуда не отпус-
кать волею случая прибившуюся к его оча-
гу странницу непреклонен. Женился он ра-
но, на женщине доброй, работящей, нежно
любил маленькую дочь Ирину. Но чувство
его к Анне Андреевне было совсем иным,
тут многое смешалось: и восхищение, и за-
висть, и что-то еще, чему он не знал име-
ни... Точнее всех о том, чем было для него
то время, когда Анна Андреевна была с
ним, написал сам Пунин во время войны,
когда они уже навсегда, навеки расстались:
«Увидеть Вас когда-нибудь я не рассчитывал,
это было действительно предсмертное с Вами сви-
дание и прощание. И мне показалось тогда, что
нет другого человека, жизнь которого была бы
так цельна и потому совершенна, как Ваша; от
первых детских стихов (перчатка с левой руки) до
пророческого бормотания и вместе с тем гула
поэмы. Я тогда думал, что эта жизнь ценна не во-
лей — и это мне казалось особенно ценным — а
той органичностью, т. е. неизбежностью, которая
от Вас как будто совсем не зависит... многое из то-
го, что я не оправдывал в Вас, встало передо мной
не только оправданным, но и, пожалуй, наиболее
прекрасным».
Пунин и Ахматова, почти ровесники, как
и все царскоселы, были знакомы с давних
пор, а подружились в самую мрачную пору
жизни Ахматовой, жизни без завтрашнего
дня, в чужом доме, среди чужих вещей и по
чужому нравственному закону, когда Анна
Андреевна после смерти Гумилева жила у
подруги — актрисы, плясуньи, затейни-
цы — Ольги Судейкиной (один из прообра-
зов первой красавицы «Поэмы без героя» —
Путаницы, Психеи, «Коломбины десятых
годов*). Ольга, обожавшая Анну, охотно ус-
тупила ей часть жилплощади, которую де-
лила с очередным из своих мужей — моло-
дым, но уже почти «знаменитым» компози-
тором Артуром Лурье. Музыка в те годы,
естественно, не кормила, и Артур служил в
секретариате А. В. Луначарского. В 1922
году по служебной надобности его отко-
мандировали в Берлин. Уже решив, что в
Советскую Россию не вернется, Лурье на-
стойчиво звал с собой и Ольгу, и Анну. С по-
следней у него был роман. Ольга в конце
концов уехала и благополучно добралась до
Парижа. Анна со своего места не сдвину-
лась.
Лурье любил женщин, но его любовь бы-
ла особого рода. Он был из тех, кто нежно
заботится о всех своих возлюбленных. Уез-
жая, он по-дружески попросил приятеля
Николашу Пунина — больше просить было
некого — присмотреть за Оленькой и Ан-
нушкой. О «Коломбине десятых годов» за-
ботиться не пришлось, а Анна так и оста-
лась на его руках...
Квартира Пуниных, расположенная в
бывшем садовом домике городской усадьбы
графов Шереметевых, так называемый
Фонтанный Дом, была тоже как бы дворцо-
вой, но гораздо комфортабельней музейной
трущобы Шилейки. После революции по-
следний из владельцев исторической усадь-
бы Сергей Шереметев передал ее вместе со
всеми коллекциями в дар народу. Нарком
Луначарский распорядился объявить Фон-
танный Дом филиалом Русского музея;
Н. Н. Пунин, как сотрудник этого музея, в
начале 20-х годов получил четырехкомнат-
ную квартиру на третьем этаже одного из
жилых флигелей. Сюда Николай Никола-
евич (третий из моих Николаев — как в
шутку называла Пунина Ахматова) в конце
концов уговорил переехать насовсем и Ан-
ну Андреевну.
В Пунине она, видимо, нашла то, что на-
прасно искала в Шилейке: надежное посто-
янство, рабоче-семейную, а не богемную
жизненную установку, словом, то, что ког-
да-то, в дни ее детства, называлось старо-
модным словом «порядочность*. Пунин и
впрямь был человеком порядочным, но
259
Русские писатели XX века
именно в силу порядочности, помноженной
на бесхарактерность, связал свою жизнь с
жизнью Ахматовой, не только не разойдясь
официально с прежней женой, но как бы и
не уходя из семьи.
Анна Андреевна бытовала в его квартире
на заведомо ненатуральных условиях: вно-
сила в семейный бюджет Пуниных «кормо-
вые деньги», не мешала законной супруге
Николая Николаевича в родственных кру-
гах по-прежнему числиться и представи-
тельствовать в качестве мадам Пуниной.
Ахматова, как только поняла, что сложив-
шееся положение — не временное затрудне-
ние, а способ существования — modus Viv-
endi, пыталась, и не однажды, изменить си-
туацию: найти работу и получить пусть
скромную, но свою жилплощадь, и каждый
раз Николай Николаевич находил ее, заяв-
лял, что без нее не может работать, а если
он не будет работать, то все семейство по-
гибнет от голода. И Анна Андреевна возвра-
щалась, и они все: и Пунин, и его офици-
альная, по документам, жена, и дочь — де-
лали вид, что так и надо.
Что же касается друзей Анны Андреев-
ны, то они, похоже, придерживались пра-
вила: в доме повешенного не говорят о ве-
ревке. Зато уж недруги были в восторге: на-
конец-то они получили вечный сюжет для
злословия. Чем она могла защититься?
Стихами?! Слабая защита... Но Ахматова
все-таки защищалась, используя единст-
венный вид оружия защиты, какой пока
еще исправно служил ее Музе:
И всюду клевета сопутствовала мне,
Ее ползучий шаг я слышала во сне
И в мертвом городе под беспощадным небом,
Скитаясь наугад за кровом и за хлебом.
«Скитаясь наугад за кровом и за хле-
бом» — не жалоба. Это точная, скупая и
бесслезная констатация нагой, низкой ис-
тины. После катастрофы 1921 года, когда
один за другим ушли — «забыв» ее «на
дне» — брат Андрей, Блок, Гумилев, она
осиротела. «Меня как реку суровая эпоха
повернула», — скажет о себе Ахматова на
пороге старости. Но прежде чем повернуть
и при повороте наделить новым полноводи-
ем сил и чувств, эпоха заставила ее пере-
жить мучительное для поэта такой творче-
ской энергетики обмеление. Это не стало
полным высыханием источников («водопа-
дов») поэзии, это было именно обмеление, и
прежде всего обмеление или оскудение эмо-
циональное. После 1921 года и внутренняя,
духовно-душевная, и внешняя жизнь Ах-
матовой надолго, на целых пятнадцать лет,
укладывается в простенький анкетный сю-
жет: в 1922 году, де-факто разойдясь с Ши-
лейко, на полтора десятка лет «сошлась»,
как говорили в те простые, как мычание,
времена, с Николаем Николаевичем Пу-
ниным. В 1936 году, незадолго до оконча-
тельного разрыва и после почти десятиле-
тия немоты (с 1923-го по 1935-й Ахматова
написала всего двадцать стихотворений),
она создаст такие, обращенные к Пунину
стихи:
От тебя я сердце скрыла,
Словно бросила в Неву...
Прирученной и бескрылой
Я в дому твоем живу.
Только... ночью слышу скрипы,
Что там — в сумраках чужих?
Шереметевские липы...
Перекличка домовых...
Осторожно подступает,
Как журчание воды,
К уху жарко приникает
Черный шепоток беды —
И бормочет, словно дело
Ей всю ночь возиться тут:
«Ты уюта захотела,
Знаешь, где он — твой уют?»
В дни разрыва почти все обычно произ-
носят много несправедливых слов. Ахмато-
ва не исключение. Однако о своем граждан-
ском браке с Пуниным она и в конце жизни
говорила то же самое: «И пятнадцать бла-
женнейших весен я подняться не смела с
земли», а «стихи стояли за дверью», как
выставленная уличная обувь, и дожида-
лись, когда же потребуется хозяйке ее уни-
кальный дар... Нет-нет, Пунин в отличие от
Шилейки не разжигал ни самовара, ни печ-
ки рукописями ахматовских стихов. И две-
ри его дома были широко распахнуты для
260
Анна Андреевна Ахматова
всех знакомых Акумы (домашнее прозвище
Анны Андреевны).
Больше того, при всем том что бытовали
они в бедности, куда беднее, чем многие в
их кругу, все-таки и Пунин, и его законная
жена, врач по профессии, ежемесячно полу-
чали зарплату, с некоторыми перерывами
получала пенсию по болезни и Ахматова,
правда, половину тут же отправляла в Бе-
жецк — сыну и свекрови, а часть второй
делила между своей матерью и собакой Та-
пом — Шилейко-таки бросил своего пса.
Оставалась от пенсии сущая малость: на са-
мые дешевые папиросы и трамвай. Очень
часто Анна Андреевна отказывалась и от
публичных выступлений, и от приглаше-
ний и контрамарок в театр просто потому,
что ей нечего было надеть. Однажды она по-
теряла туфлю от единственной «выходной»
пары — выронила из муфты, доставая ме-
лочь, и эта потеря чуть ли не на год стала
главной причиной ее затворничества.
И тем не менее по сравнению с бездомьем
1917—1922 годов квартира Пуниных в са-
довом флигеле Шереметевского дворца бы-
ла пусть и не совсем своим, но обиталищем.
Впрочем, Анна Андреевна никогда не назы-
вала ее блаженным словом «дом»! Всегда:
Фонтанный Дом. Именно так — и с боль-
шой буквы: Ф и Д. Она и Пунину никогда
не говорила «ты», так же как и он — ей.
Вы, Николай Николаевич... Вы, Анна Анд-
реевна... И даже если — Аня, все равно:
Вы. Отчуждение вызывалось, видимо, еще
и тем, что Николай Николаевич не признал
сына Анны Андреевны ребенком своего до-
ма, а Анна Андреевна из гордости обходила
этот крайне болезненный «пункт» их брач-
ного договора молчанием.
Считалось, что Леве лучше, а главное,
безопаснее жить подальше от столицы, к
тому же нельзя отнять у Анны Ивановны
Гумилевой ее единственную, после прежде-
временной смерти сыновей (Дмитрий умер
в сумасшедшем доме спустя год после рас-
стрела Николая), отраду. Однако когда
старшая (сводная) сестра Николая Степано-
вича А. С. Сверчкова, жившая с мачехой в
Бежецке, из тех же соображений предло-
жила усыновить Льва Гумилева — дескать,
и учиться в вузе, и работать под фамилией
Сверчков безопаснее, чем под фамилией Гу-
милев, — Анна Андреевна наотрез отказа-
лась. Пунин же столь естественного в сло-
жившейся ситуации варианта ей никогда
не предлагал. Между тем сама Ахматова от-
носилась и к его дочери Ирине, а потом к
внучке Ане как к своим детям. И это, судя
по всему, сильно осложняло отношения:
между сыном и матерью — явно, между Ах-
матовой и Пуниным — подспудно... И ду-
мается, не случайно окончательный разрыв
(сентябрь 1938) между ними произошел
вскоре после ареста Льва Николаевича в
марте 1938 года.
«И НЕ ПРОСИ У БОГА НИЧЕГО»
Словом, уюта в доме Пуниных не было не
только потому, что семейные узы, связав-
шие людей, деливших кров Фонтанного До-
ма, были ненатуральны и потому «не нрави-
лись» домовым Шереметевского дворца. Бе-
да, голос которой слышится лирической
героине стихотворения «От тебя я сердце
скрыла...» в ночном шорохе и шелесте ста-
рых петербургских лип, — не только не сло-
жившаяся личная жизнь (одиночество вдво-
ем). И «черный шепоток» ее Анна Андреев-
на впервые расслышала не в 1936-м, и не в
1917-м, и даже не в 1921-м, а гораздо рань-
ше, может быть в 1905-м, в тот миг, когда
♦кто-то «Цусима!» сказал в телефон»? В том
же 1905 году приехал к ним в Царское Село
из города студент-репетитор, он попал в
обезумевшую толпу, которую расстрелива-
ли гвардейцы царя-батюшки... Молодой че-
ловек рассказывал, что делалось в столице в
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 года,
и «руки у него дрожали*...
Уже тогда, в ранней юности, Ахматова,
думаю, поняла, не разумом, а мощным, по-
чти звериным инстинктом: чтобы выжить в
эпоху войн и революционного террора, как
красного, так и белого, надо научиться
жить ничего не имея — в благословенной
нищете, освободившись от чувства собст-
венности и все свое нося с собой и в себе. Не
потому ли с такой легкостью раздавала-раз-
даривала все: вещи, деньги, книги, рукопи-
261
Русские писатели XX века
си, — как если бы это был не только
лишний, но и опасный груз? Все ее имуще-
ство помещалось в маленьком ящичке-ук-
ладке, а было там: новгородская икона
(единственный сохранившийся после без-
домья подарок Гумилева), легендарные чет-
ки, еще несколько маленьких иконок, ста-
рая сумочка, знаменитый испанский гре-
бень. И все.
Земной отрадой сердце не томи,
Не пристращайся ни к жене, ни к дому.
У своего ребенка хлеб возьми,
Чтобы отдать его чужому.
И будь слугой смиреннейшим тому.
Кто был твоим кромешным супостатом,
И назови лесного зверя братом,
И не проси у Бога ничего.
(1921)
Поразительна здесь перекличка с «Ко-
быльими кораблями» Есенина: более со-
гласного дуэта в поэзии тех лет не найти:
Звери, звери, приидите ко мне
В чашки рук моих злобу выплакать!
Сестры-суки и братья-кобели,
Я, как вы, у людей в загоне.
Все познать, ничего не взять
Пришел в этот мир поэт.
Написанная осенью 1919 года поэма Есе-
нина была впервые опубликована в коллек-
тивном сборнике имажинистов «Харчевня
зорь» в 1920-м, затем перепечатана в автор-
ской «Триряднице» (два издания — 1920,
1921). Эта книга получила широкую прес-
су, особенно в 1921 году. Так что у нас есть
все основания предполагать, что приведен-
ное выше стихотворение Ахматовой совсем
не случайно перекликается с «Кобыльими
кораблями».
И все-таки: пока в «черном шепотке бе-
ды» отчетливо не прозвучало имя сына: Лев
Гумилев, существование было относитель-
но сносным. Да, конечно, идеологическое
совещание 1925 года, зачислившее ее, как
и Есенина, в «попутчики», не способствова-
ло вдохновению. Анна Андреевна считала
его, и совершенно справедливо, приговором
к гражданской смерти. И все-таки, повто-
рю, в сравнении с тем ужасом, в какой во-
лею «кремлевского горца» будет ввергнута
и вся страна, и лично Анна Ахматова в эпо-
ху «большого террора», когда Льва Нико-
лаевича Гумилева военный трибунал Ле-
нинградского военного округа приговорит
как врага народа к 10 годам лишения свобо-
ды, ситуация 1925—1934 годов выглядит
почти благополучной. Разумеется, Ахмато-
ву как представительницу старого мира ре-
шительно отодвинули на обочину жизни. В
том числе и жизни литературной.
Однако Н. Н. Пунин как раз в эти годы
из подающего надежды «писателя по вопро-
сам изобразительного искусства» становит-
ся крупным музейным деятелем и извест-
ным искусствоведом. Литературная обще-
ственность Ленинграда и прежде всего
Николай Семенович Тихонов лично к Анне
Андреевне относится с величайшим пиете-
том. За нее горой стоит давний поклонник
ее уникального таланта Алексей Никола-
евич Толстой, вошедший в обласканную ру-
ководством СССР и лично Сталиным худо-
жественную элиту.
Осенью 1924 года к Ахматовой как к вдо-
ве Николая Степановича пришел Павел
Лукницкий, студент Ленинградского уни-
верситета, выбравший для диплома поэзию
казненного Гумилева. Целых четыре года,
забыв о страхе перед всевидящим оком
НКВД, они вдвоем собирают и систематизи-
руют материалы к жизненной и творческой
биографии поэта, опрашивая знавших «ан-
тисоветского» заговорщика питерских и
московских литераторов, и те охотно рас-
сказывают о встречах с Николаем Степано-
вичем. Это кажется невероятным, и тем не
менее все было именно так.
Об осужденной на гражданскую смерть
поэтессе пишут, и не просто статьи, а серь-
езнейшие исследования, столпы советско-
го литературоведения: В. В. Виноградов,
В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум. Боль-
ше того, ее собственные работы о Пушкине
не только публикуются в авторитетных
изданиях, но и получают лестные оценки
влиятельных пушкинистов. В 1933 году ле-
нинградский журнал «Звезда» напечатал
статью Ахматовой «Последняя сказка Пуш-
262
Анна Андреевна Ахматова
кина», в 1935-м Анна Андреевна сдала во
«Временник Пушкинской комиссии* иссле-
дование «Адольф» Бенжамена Констана в
творчестве Пушкина» (вышел в предъюби-
лейном 1936 году). Ее стихи переводят на
английский и немецкий, и это не считается
преступлением, предполагающим общест-
венное осуждение.
В чем же дело? Почему Ахматовой так
долго позволялось то, что не сходило с рук
даже всеобщему баловню Сергею Есенину?
Думается, дело в том, что ее поэзия никак
не укладывалась ни в антисоветскую схему,
ни в ортодоксальный канон. В творческой
судьбе Ахматовой было нечто, резко выде-
лявшее ее среди писателей серебряного ве-
ка, кто художественно самоопределился до
октября 1917 года. Все они, от Блока и Бу-
нина до Есенина и Маяковского, восприня-
ли революцию как явление тектонической
силы, разломившее их творчество на «до» и
«после».
В поэзии Ахматовой 1917—1920 годов
следы такого разлома почти незаметны,
«Белая стая» и «Подорожник» восприни-
маются как естественное продолжение «Че-
ток». Не находя ни кровоточащей раны, ни
рваного рубца, ни трагической — через
сердце поэта — трещины там, где по всем
диагностическим показаниям должен быть
революционный перелом, критика левого
толка делает вывод о социальной индиффе-
рентности автора, тогда как эмигранты, на-
оборот, подозревают давшую зарок молча-
ния непримиримую «контрреволюцию» и
поражаются: как же при таком настрое Ах-
матова могла написать отповедь тем, кто
«бросил землю»?
Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник.
Полынью пахнет хлеб чужой.
А здесь, в глухом чаду пожара,
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.
И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.
Не меньше загадок загадывала Ахматова
и тем своим читателям, которым очень хо-
телось видеть в ее поэзии чуть ли не образец
патриотического искусства. Ну как при по-
добной сверхзадаче истолковать, к приме-
ру, такую вот сцену из народного велико-
русского быта эпохи великих потрясений?
Пива светлого наварено.
На столе дымится гусь...
Поминать царя да барина
Станет праздничная Русь —
Крепким словом, прибауткою
За беседою хмельной;
Тот — забористою шуткою,
Этот — пьяною слезой.
И несутся речи шумные
От гульбы да от вина...
Порешили люди умные:
Наше дело — сторона.
«МНЕ ОН ЕДИНСТВЕННЫЙ СЫН...»
Когда-то Н. С. Гумилев сказал полушу-
тя-полусерьезно: «С тобой по мудреному во-
зиться теперь мне не в пору...» Что-то вроде
этого говорила и пролетарская критика: и
возиться не стоит с этим старомодным
старьем... После триумфа 1921 года, когда
шесть тысяч ее книг, несмотря на холод и
голод, вмиг исчезли с книжных прилавков,
быть забытой и критикой, и читающей пуб-
ликой для поэта, находящегося в полном
расцвете творческих сил, тяжко. И тем не
менее до 1933 года шереметевские липы так
страшно не шелестели.
Но вот в 1933 году сына Ахматовой Льва
Гумилева, уже переехавшего в Ленинград и
собиравшегося поступать в университет,
впервые арестовали. И сам Лев Никола-
евич, и Пунины, и все ахматовское окруже-
ние были убеждены, что произошло недора-
зумение: ведь молодого человека через не-
263
Русские писатели XX века
сколько дней выпустили, выяснив, что в
подозрительной квартире он оказался со-
вершенно случайно. А вот Анна Андреевна
в случайность даже в том, пока еще относи-
тельно спокойном году не поверила.
В 1933 году, после четырехлетнего мол-
чания, она вдруг пишет стихотворение
«Привольем пахнет дикий мед...», которое
можно с полным основанием рассматривать
как предчувствие будущего «Реквиема».
Первый, как бы пробный, арест сына и знак
гибельности на его «еще безмятежном че-
ле» заставил ее «подняться с земли» и заго-
ворить во весь голос о самом страшном,
причем в то время, когда другие, куда более
смелые, более влиятельные и политически
ангажированные, литераторы «мужского
полу» замолчали. По свидетельству Эммы
Герштейн в документальной повести «Лиш-
няя любовь», и Осип Мандельштам, и его
сверхбдительная жена, и все вокруг них
«были как никогда далеки от мысли о по-
чти неминуемом событии» даже за несколь-
ко дней до его ареста. Все — но не Анна
Андреевна.
Привольем пахнет дикий мед,
Пыль — солнечным лучом,
Фиалкою — девичий рот.
А золото — ничем.
Водою пахнет резеда,
И яблоком — любовь,
Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь...
И напрасно наместник Рима
Мыл руки пред всем народом
Под зловещие крики черни;
И шотландская королева
Напрасно с узких ладоней
Стирала красные брызги
В душном мраке царского дома...
В следующем, 1934 году Анна Андреевна
напишет стихотворение «Последний тост»,
вроде бы спровоцированное личными не-
урядицами с Пуниным. Однако строка о
предательстве — «За ложь меня предавших
уст», на наш взгляд, связана не только с
тем, что в жизни Николая Николаевича по-
явилась влюбленная в него то ли студентка,
то ли аспирантка. Да и Пунин, судя по его
письму, прекрасно понял, в каком преда-
тельстве его обвиняют: «Я и о Леве тогда
много думал, но об этом как-нибудь в дру-
гой раз — я виноват перед ним». В чем
конкретно был виноват Николай Никола-
евич перед своим — по долгу совести — па-
сынком, мы не знаем. Но Лев Николаевич
ни матери, ни ее мужу этой вины, по-види-
мому, не простил.
К столетию со дня рождения Анны Ах-
матовой корреспондент журнала «Звезда»
взял у Льва Николаевича интервью. Нача-
ли с истории четырех его арестов. О первом,
в 1933-м, Гумилев рассказывал легко и да-
же с юмором. А вот о втором, в октябре
1935-го, высказался так:
«Тогда шла в Ленинграде травля студентов из
интеллигентных семей... В числе арестованных
оказался и Николай Николаевич Пунин, искусст-
вовед, сотрудник Русского музея. Мама поехала в
Москву, через знакомых обратилась к Сталину, с
тем чтобы он отпустил Пунина... Вскоре освобо-
дили нас всех, поскольку был освобожден самый
главный организатор «преступной группы» —
Н. Н. Пунин... Правда, меня после этого выдво-
рили из университета, и я целую зиму голодал...»
Легкость, с какой в 1935 году Анне Анд-
реевне удалось передать (с помощью «луч-
ших людей советского искусства», почти
что в собственные руки, через личного сек-
ретаря) письмо Сталину с просьбой об осво-
бождении мужа и сына, которых тут же,
чуть ли не на следующий день, действи-
тельно освободили, видимо, произвела
сильное впечатление на Льва Гумилева. Ан-
на Андреевна давно заметила, что по скла-
ду ума и тому, что Пушкин называл сообра-
жением понятий, сын похож на отца: та же
невероятная способность глядеть и видеть
далеко и не замечать близкое, тот же поли-
тический «идиотизм», помноженный на ка-
кое-то «самоуверенное мужество»... И ког-
да его арестовали в третий раз, 10 марта
1938-го, и Ахматова уже ничего не смогла
для него сделать, кроме как молча выть,
стоя на общих основаниях в очередях с пе-
редачами у тюрьмы предварительного за-
ключения, и, леденея от ужаса, ждать при-
говора, решил, что на этот раз мать просто
264
Анна Андреевна Ахматова
не очень старалась; если бы, дескать, взяли
и ее муженька, наверняка действовала бы
иначе — так, как три года назад. Поверить,
что в 1938-м, в разгар «большого террора»,
сделать уже ничего было нельзя, он так и
не смог.
Не сумел Лев Николаевич почувствовать
сердцем и реакцию матери на неожидан-
ную, вовсе не с ее хлопотами, а со снятием
Ежова связанную замену статьи преступле-
ния (а значит, и наказания): вместо объяв-
ленных вначале десяти лет заключения Гу-
милев по чистой случайности получил всего
пять(!) и не строгого режима, а ИТЛ... Даже
просто принять во внимание, каким неверо-
ятным счастьем для матери было известие
об уменьшении срока ровно вдвое, сын не
сумел! Между тем это было действительно
счастье, ведь Анна Андреевна узнала об из-
менении приговора через несколько меся-
цев после того, как до Ленинграда дошла
весть о смерти в пересыльном лагере под
Владивостоком Осипа Мандельштама. Гу-
милеву в сравнении с Мандельштамом в
буквальном смысле повезло, это явствует
даже из его рассказа корреспонденту «Звез-
ды»:
«Меня отправили в Норильск, где я и отбыл
свои пять лет. Поскольку сразу из Норильска мне
выехать не было разрешено, я пробыл на Севере
еще полтора года, работал в геологической экспе-
диции, неподалеку от Туруханска. Здесь я стал
проситься на фронт. Меня долго не отпускали.
Тогда я неосторожно обошелся с магнитомет-
ром... «Не хочет работать, пусть идет воевать», —
решил технорук экспедиции. И я пошел воевать,
дошел до Берлина в составе... малокалиберной зе-
нитной артиллерии. Весной 1945 года мы взяли
Берлин, и я, проведя еще несколько месяцев в ок-
купированной Германии, вернулся в Ленинград.
Восстановился на истфаке, экстерном сдал 10 эк-
заменов за 4-й и 5-й курсы. Вскоре диплом мой
был напечатан».
«ЗВЕЗДЫ СМЕРТИ СТОЯЛИ НАД НАМИ»
Как это ни странно, но война пощадила и
Анну Андреевну. Ее запросто могли «за-
быть» в осажденном Ленинграде, где она не
выдержала бы и первой блокадной зимы:
уже в сентябре у нее начались дистрофиче-
ские отеки. Но ее почему-то не забыли и по
вызову А. Фадеева, за которым стоял, по
всей вероятности, все тот же А. Н. Толстой,
вывезли из города на Неве на одном из по-
следних самолетов. Могли бы отправить и
во глубину Сибири, где Анна Андреевна
при ее неумении «устраиваться» и «качать
права» погибла бы от холода, голода и бес-
просветного одиночества, как Марина Цве-
таева в Елабуге. Однако в результате счаст-
ливого для нее стечения обстоятельств (вот
уж воистину — Бог уберег!) Ахматова ока-
залась не где-нибудь, а в Ташкенте. В вос-
поминаниях одного из ее тогдашних знако-
мых сохранилось описание ее азиатского
прибежища:
«В Ташкенте А. А. жила в крошечной комнате
под железной крышей в общежитии-казарме. Ус-
ловия были тяжелыми. Страшно во время земле-
трясений раскачивалась лампочка. Жара. В углу
комнаты висели платья».
Конечно, в эвакуации ей, как и боль-
шинству рядовых ташкентцев, жилось и
тесно, и убого, и впроголодь, однако до
смерти здесь все-таки не голодали; к тому
же здесь у Ахматовой впервые за долгие го-
ды затворничества была благодарная и про-
фессиональная аудитория: в Ташкент эва-
куировали всю столичную элиту, начиная
от Алексея Николаевича Толстого и Корнея
Ивановича Чуковского. В Ташкент же было
переведено и издательство «Советский пи-
сатель», в котором в 1943 году у Ахматовой
вышла тоненькая книжка стихов. Анна
Андреевна, конечно же верная правилу: ни-
когда ничего не проси, — не обивала, как
иные авторы, «ведомственные пороги», из-
датели сами нашли ее сразу же после того,
как военные стихи Анны Ахматовой стали
публиковать центральные газеты. Стихо-
творение «Мужество», напечатанное в «Из-
вестиях» (февраль 1942), побило все рекор-
ды популярности. Воюющая Россия, даже
девятнадцатилетние лейтенанты самого по-
следнего советского призыва, без подсказки
♦младших политруков», отличили ее прос-
тые и человечные стихи от трескучих «ка-
зенных гимнов»:
265
Русские писатели XX века
Мы знаем, что нынче лежит на весах,
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, —
Но мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
Жены преуспевающих деятелей искус-
ства завяли в захолустном Ташкенте от бы-
товых трудностей, но Анна Андреевна и к
существованию на грани нищеты, и к ком-
мунальным «неудобствам» давным-давно
привыкла, они ее не пугали. Куда страшнее
оказались муки совести: она — вдалеке от
страданий и бед своих земляков, ее Ленин-
град вымирает в блокаде! Великим облегче-
нием стала встреча на ташкентском вокзале
с семьей Пунина в марте 1942 года: узнав,
что эшелон с очередной партией эвакуиро-
ванных ленинградцев проследует в Самар-
канд через Ташкент, Николай Николаевич
известил об этом Анну Андреевну. Весточка
чудом дошла вовремя, и Анна Андреевна не
пропустила транзитный состав. И это тоже
был знак надежды.
Однако едва она стала оживать, нагряну-
ла новая беда. Началось в августе (все дур-
ное в ее судьбе происходило в августе) с за-
тяжного гриппа, а кончилось чуть ли не ле-
тально. Четыре месяца — между этим и тем
светом! Так тяжко, долго и безнадежно Ан-
на Андреевна еще не болела. Но поднялась
и кое-как продержалась зиму. А в марте
пришло долгожданное счастливое письмо
из Норильска: Левушка сообщил, что срок
его заключения кончился. Зная по опыту,
как коротки, короче азиатской весны, отпу-
щенные ей промежутки между бедами, Ан-
на Андреевна вновь принялась за «Поэму
без героя», пришедшую к ней, как уже упо-
миналось, в последнюю зиму перед новой
войной — 27 декабря 1940 года, через пол-
года после окончания «Реквиема».
«Реквием* (1935—1940), как и было за-
думано, написан простым (Ахматова назва-
ла его бедным) языком — столь безыскусно
звучат только некоторые стихи из ее перво-
го сборника «Вечер». Но «Вечер» создан
«духом легкости», а «Реквием» — «духом
тяжести» (если воспользоваться выражени-
ем Марины Цветаевой). Удельный вес слова
найден и задан уже во Вступлении:
Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.
Казалось бы, проще, понятнее сказать
нельзя, все названо своими словами, как ес-
ли бы это были бы не стихи, а нагая речь
«безвинной Руси». И тем не менее — это
стихи, и даже больше — стихи, которые,
помимо того, о чем сказано открыто и в лоб,
заключают в себе еще и то, о чем автор мыс-
лит только «тенями мыслей». Например,
«звезды смерти» — в данном контексте —
не только прославленные официальной поэ-
зией «рубиновые звезды Кремля», но еще и
перекличка, а одновременно и полемика с
Мандельштамом, с его язвительным поли-
тическим памфлетом «Мы живем, под со-
бою не чуя страны...»
Мандельштамовский Сталин — «крем-
левский горец» — отвратителен и карика-
турен, так же, как и «сброд» его «тонкоше-
их вождей»: «Его толстые пальцы, как чер-
ви, жирны», «тараканьи смеются усищи»,
он «пахан», главарь кремлевской «мали-
ны», но не более того. Мандельштам наме-
ренно упрощает и образ тирана, и образ ти-
ранства, он словно бы заговаривает, закли-
нает свой иррациональный страх, сквозь
ужас смеется, вернее, пытается рассмеять-
ся. Смех не выходит, не получается: можно
смеяться сквозь слезы, но сквозь смертный
ужас смеяться нельзя! Мандельштам в пер-
вой же строчке признается: «Мы живем,
под собою не чуя страны».
266
Анна Андреевна Ахматова
Ахматова же не только чует под собой
всю страну — безвинную Русь, которая кор-
чится под кровавыми, а не до блеска начи-
щенными, как у Мандельштама («И блис-
тают его голенища...»), сапогами крем-
левских «опричников», она чувствует и
себя раздавленной, обутой в автомобильные
«шины» колесницей истории. Да, Ахмато-
ва согласна с Мандельштамом: те, что узур-
пировали власть и засели в Кремле, — бан-
да, воровская шайка, действующая по за-
конам криминального мира, но мысль
эта выражена осторожно, «легкокасатель-
но» — через введение в текст одного-един-
ственного «воровского» словечка: «И под
шинами черных марусь...» «Черными ма-
русями» питерские уголовники называли
наглухо закрытые милицейские машины,
доставлявшие в места предварительного за-
ключения преступников, но ныне полицей-
ские и воры поменялись ролями: преступ-
ным объявлен весь народ.
А как играет и как расширяет объем ху-
дожественного сообщения стертая, смытая
или размытая слезами отчаяния полуцита-
та из Северянина, из его знаменитого, ког-
да-то пленившего весь Петербург смешного
полуроманса: «Это было у моря, где волна
бирюзова...» (Сравните с ахматовским пер-
вым двустишием: «Это было, когда улы-
бался // Только мертвый, спокойствию
рад...») Размытая, но четко и сразу узна-
ваемая, в силу невероятной популярности
«короля поэтов» в последний перед кру-
шением империи год, северянинская стро-
ка, разломленная ровно посередине, как бы
наглядный пример несоизмеримости того,
что было, с тем, что стало на Руси. Та же те-
ма прозвучит в четвертом фрагменте тра-
гической «Поэмы из отдельных стихов»
(видимо, так, по аналогии с «Парижем»
Маяковского, можно приблизительно опре-
делить жанр ахматовского «Реквиема»),
но уже в лирическом индивидуальном по-
вороте:
Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей.
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей —
Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своею слезою горячею
Новогодний лед прожигать...
«Реквием» ошеломил даже русскую
эмиграцию. Вот свидетельство Бориса Зай-
цева:
«Полвека тому назад жил я в Москве, бывал в
Петербурге. Существовало тогда там... артистиче-
ское кабаре «Бродячая Собака»... В один из при-
ездов моих в Петербург, в 1913 году, меня позна-
комили в этой Собаке с тоненькой изящной да-
мой, почти красивой, видимо, избалованной уже
успехом, несколько по тогдашнему манерной. Не
совсем просто она держалась. А на мой, более
простецко-московский глаз, слегка поламыва-
лась... Была она поэтесса, входившая в наших
молодых кругах в моду — Ахматова. Видел я ее в
этой Собаке всего, кажется, один раз. На днях по-
лучил из Мюнхена книжечку стихотворений, 23
страницы, называется «Реквием». На обложке
Анна Ахматова (рис. С. Сорина, 1913). Да, та са-
мая... И как раз того времени... Говорят, она не
любила этот свой портрет. Ее дело. А мне нравит-
ся, именно такой помню ее в том самом роковом
13-м году. Но стихи написаны позже, а тогда не
могли быть написаны... Эти стихи Ахматовой —
поэма... (Все стихотворения связаны друг с дру-
гом. Впечатление одной цельной вещи. Дошло это
сюда из России, печатается «без ведома и согла-
сия автора»... Издано «Товариществом Зарубеж-
ных Писателей», списки же «рукотворные» хо-
дят, наверное... по России как угодно)... Да, при-
шлось этой изящной даме из Бродячей Собаки
испить чашу, быть может, горчайшую, чем всем
нам, в эти воистину «Окаянные дни» (Бунин).
Я-то видел Ахматову «царскосельской веселой
грешницей» и «насмешницей»... Можно ль было
предположить тогда... что хрупкая эта и тонень-
кая женщина издаст такой вопль — женский, ма-
теринский, вопль не только о себе, но обо всех
страждущих — женах, матерях, невестах, вооб-
ще обо всех распинаемых?
Хотела бы всех поименно назвать,
Да отняли список и негде узнать.
Для них создала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.
В том-то и величие этих 23 страничек, что «о
всех»... Опять и опять смотрю на полупрофиль
Соринской остроугольной дамы 1913 года. Отку-
да взялась мужская сила стиха, простота его,
гром слов будто обычных, но гудящих колоколь-
ным похоронным звоном, разящих человеческое
267
Русские писатели XX века
сердце и вызывающих восхищение художниче-
ское? Воистину «томов премногих тяжелей». На-
писано двадцать лет назад. Останется навсегда
безмолвный приговор зверству».
«Реквием» Ахматова читала только са-
мым близким и верным друзьям, чернови-
ки тут же сжигала, текст как целое сущест-
вовал в ее памяти и был впервые записан на
магнитофонную ленту в декабре 1962 года,
уже после того, как была белодиевно опуб-
ликована маленькая повесть Александра
Солженицына «Один день Ивана Денисо-
вича».
«Поэма без героя» написана иначе, сама
Ахматова назвала примененный здесь метод
«тайнописью», «зеркальным письмом» и
даже «криптограммой». «Зеркальное пись-
мо» позволяло сказать многое из того, что
прямо сказать было нельзя, и не только в со-
роковых годах и после смерти Сталина, но и
много позже. Однако оно же породило и
множество самых противоположных, порою
причудливых интерпретаций. В середине
шестидесятых Анна Андреевна составила
список истолкований тех причуд, которые
она позволила себе в загадочной, которая
кажется всем другой и разной, поэме: поэма
совести; чистая музыка; исполненная мечта
символистов; поэма канунов-сочельников;
историческая картина, летопись эпохи; по-
чему произошла революция; одна из фигур
русской пляски (лирика отступает, закры-
ваясь платочком); как возникает магия. Пе-
речислила и имена авторов интерпретаций:
Б. Пастернак, В. Шкловский, К. Чуков-
ский, А. Найман и т. д. И только у одной
версии в этом списке нет автора, ибо она яв-
ляется авторской: «Поэма — моя биогра-
фия» («Волшебный напиток, который густе-
ет и превращается в мою биографию*).
Далее: в том же фрагменте из «Записных
книжек» 1956—1966 годов Ахматова пояс-
няет, что в «Поэме без героя* у нее два
двойника — петербургская кукла (часть
первая) и «некто — в самой чаще тайги дре-
мучей» (часть третья) и что только в «Реш-
ке» она «такая, какой была после «Рекви-
ема» и четырнадцати лет под запретом, на
пороге старости».
Те части поэмы, где «тайнопись» была
вынужденной, Ахматова, когда об эксцес-
сах эпохи «культа личности» стало возмож-
ным говорить вслух, хотя и вполголоса, —
«раззеркалила»; в результате и в лириче-
ском отступлении в «Эпилоге», и в «Реш-
ке» заполнились точечные строфы. Но раз-
зеркаливание делалось только по одной ли-
нии, там, где речь шла о репрессиях и
жертвах сталинского террора; остальные
сюжетные линии по воле автора остались
как бы «зашифрованными».
Из попыток найти ключ к этому поэтиче-
скому шифру можно составить целый объ-
емистый том; даже для того чтобы сделать
что-то вроде дайджеста этих версий, потре-
бовалась бы небольшая, но книжка, куда
более толстая, чем та, которую вы держите
сейчас в руках. И что самое удивительное:
ни один из вариантов интерпретации не вы-
думан, а вычитан из текста, а значит, дока-
зуем. И все-таки, на мой взгляд, точнее
всех определила главную, или, как говорил
Белинский, длинную, мысль «Поэмы без
героя» сама Ахматова: это действительно
прежде всего ее поэтическая биография,
свод важнейших «незабвенных дат» и судь-
боносных событий ее долгой жизни, их,
так сказать, «поздняя оценка», причем
свод, к которому могут быть поставлены
эпиграфом уже цитированные строки из
«Реквиема»: «Показать бы тебе, насмеш-
нице и любимице всех друзей, царскосель-
ской веселой грешнице, что случится с
жизнью твоей*. И, думается, не случайно и
в «Решке», и в «Эпилоге» петербургский
«Триптих» смыкается с «Реквиемом», и
магистральной дорогой книги жизни стано-
вится та,
По которой ушло так много,
По которой сына везли,
И был долог путь погребальный
Средь торжественной и хрустальной
Тишины Сибирской Земли.
Хотя чисто формально поэма, начатая,
как уже указывалось, в конце 1940-го,
окончена в 1962 году, в период хрущевской
оттепели, когда многим казалось, что стра-
на уже выбралась из котлована социализма
268
Анна Андреевна Ахматова
со сталинским лицом, фактически Ахмато-
ва не расставалась с ней до конца земной
своей жизни — текст и старел, и рос вместе
с его автором.
«НА ПОЗОРНОМ ПОМОСТЕ БЕДЫ»
Но мы опять опередили события, ведь на
дворе 1943 год, и Анне Ахматовой, только
что прочитавшей первый вариант «Поэмы
без героя» ташкентским почитателям и тут
же отправившей его в Москву на художест-
венную экспертизу Николаю Ивановичу
Харджиеву — тонкому и умному ценителю,
еще предстоит многое пережить. Летом
1944-го она вернется в Ленинград, вернет-
ся, чтобы выдержать очередной удар судь-
бы. Перед самым отъездом из Ташкента Ан-
на Андреевна получила от давнего своего
друга Владимира Георгиевича Гаршина,
профессора медицины и племянника из-
вестного писателя, телеграмму с предложе-
нием руки и сердца и даже с вопросом: со-
гласна ли она при официальном оформле-
нии брака взять его фамилию?
Про себя Анна Андреевна иронически
усмехнулась: какие, мол, нежности при на-
шей бедности и нашем, увы, отнюдь не
нежном возрасте (Гаршин был ее ровесни-
ком). Однако ответила согласием, снизойдя
к вполне понятным амбициям и опасениям
«жениха». Но пока «невеста* добиралась
до Ленинграда, в жизни Гаршина, овдовев-
шего в блокаду, произошло чрезвычайное
происшествие: ему приснился вещий сон; в
том сне ученому-патологоанатому явилась
покойница-жена и взяла с него слово: не
жениться на Ахматовой, не вводить эту
ведьму с Лысой горы в их почтенный про-
фессорский дом. Гаршин встретил Анну
Андреевну на вокзале, и даже, кажется, с
цветами, и тут же поведал о случившемся.
Больше они не виделись.
Анна Андреевна вновь обосновалась в
Фонтанном Доме. Вскоре вернулись из эва-
куации и Пунины, но не в прежнем составе;
жена Николая Николаевича умерла, дочь
Ирина овдовела (ее муж, отец Анны-ма-
ленькой, погиб на войне). Пунин опять же-
нился, вышла во второй раз замуж и Ирина
Николаевна.
Жизнь Анны Андреевны снова замерла и
превратилась в мучительное ожидание воз-
вращения сына с войны. Вообще-то она зна-
ла: Гумилевых вражьи пули не берут, иные
смерти на роду им написаны, но кто-то при
ней ляпнул, что Лев Николаевич воюет в
составе смертников, то есть «штрафников».
Вопреки суеверному опасению матери сын
вернулся. Живой и невредимый. И даже
восстановился на истфаке.
Жили они теперь вместе, вдвоем, и даже
кое-как сводили концы с концами: в тече-
ние первого послевоенного года Ахмато-
ва много выступала. С невероятным успе-
хом — в Ленинграде, в Москве. Снова стала
писать: за год — более 20 стихотворений!
И это при активной работе над не отпускаю-
щей от себя «Поэмой без героя». Она до того
расхрабрилась, что позволила себе не испу-
гаться, когда к ней в Фонтанный Дом за-
явился, чтобы взять интервью, сотрудник
британского посольства, по образованию
ученый- славист Исайя Берлин.
Выходец из России, сэр Берлин свободно
говорил по-русски, в истории российской
словесности чувствовал себя как рыба в во-
де, кроме того, кое-что знал и о романе мо-
лодой Анны Андреевны с Борисом Анре-
пом. Все это вместе взятое сильно подейст-
вовало на Ахматову, особенно взволновало
то, что заморский гость появился в Фонтан-
ном Доме нежданно-негаданно и, как и бы-
ло предсказано самим строем поэмы кану-
нов и сочельников, под Рождество, за что и
был «вставлен» в ее текст в роли гостя из
будущего.
Почтенный славист, когда до него дошла
«Поэма без героя», был крайне смущен. Бу-
дучи младше Анны Андреевны на целых
двадцать лет, он не мог и подумать, что его
сугубо карьерный визит будет воспринят
почтенной седой русской дамой столь эмо-
ционально. А между тем сэр Берлин и
впрямь появился в сталинской России 1946
года в роли «гостя из будущего» — при-
шельца из тех времен, когда творчество гос-
пожи Ахматовой станет излюбленной дис-
сертационной темой славистов всего мира,
269
Русские писатели XX века
и они будут люто завидовать Исайю Берли-
ну. Что касается последнего, то ему, как
свидетельствует Иосиф Бродский, особенно
странными и даже будто бы безумными по-
казались строки «Третьего и последнего»
Посвящения из «Поэмы без героя»:
Полно мне леденеть от страха,
Лучше кликну Чакону Баха,
А за ней войдет человек...
Он не станет мне милым мужем,
Но мы с ним такое заслужим,
Что смутится двадцатый век.
Я его приняла случайно
За того, кто дарован тайной,
С кем горчайшее суждено,
Он ко мне во дворец Фонтанный
Опоздает ночью туманной
Новогоднее пить вино.
И запомнит Крещенский вечер,
Клен в окне, венчальные свечи
И поэмы смертный полет...
Но не первую ветвь сирени,
Не кольцо, не сладость молений —
Он погибель мне принесет.
Берлин, хотя и славист, не обратил вни-
мания на то, что «Третье и последнее» По-
священие представляет собой сцену кре-
щенского гадания, на что указывает и эпи-
граф из Жуковского «Раз в Крещенский
вечерок...», а спровоцировал этот сюжет-
ный ход он сам, явившись «во дворец Фон-
танный» как раз в тот самый день («Le jour
des rois*), когда испокон веку девушки в
России гадали на суженого. Отсюда и сти-
листика, и лексика (венчальные свечи,
кольцо, сладость молений) третьего Посвя-
щения. И действительно, визит сотрудника
английского посольства чуть было не при-
нес Ахматовой погибель.
Как и было нагадано в «Крещенский ве-
черок», несчастья начались в следующем
же году и конечно же в роковом для нее ав-
густе. 14 августа 1946 года было опублико-
вано в центральной прессе Постановление
ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ле-
нинград», в котором творчество Анны Ах-
матовой и Михаила Зощенко названо анти-
советским. Через два дня в Актовом зале
Смольного состоялось общее собрание твор-
ческой интеллигенции Ленинграда, на ко-
тором от имени ЦК выступил сам
А. А. Жданов, курировавший город на Не-
ве.
Реакция на грозное выступление партий-
ного начальника последовала незамедли-
тельно: в скоростном порядке рассыпали
набор двух уже готовых к печати книг
А. Ахматовой (и московской — под редак-
цией А. Суркова, и питерской — под редак-
цией В. Орлова). А через некоторое время
был собран в полном составе, после летних
отпусков, Президиум Союза писателей
СССР, который постановил: «Исключить
Зощенко М. М. и Ахматову А. А. из Союза
писателей как не соответствующих в своем
творчестве требованиям параграфа 2 Устава
Союза, гласящего, что членами Союза со-
ветских писателей могут быть писатели,
стоящие на платформе советской власти и
участвующие в социалистическом стро-
ительстве». За изгнанием из творческого
профессионального союза так же в срочном
порядке последовало исключение из Лит-
фонда. Анна Ахматова осталась без закон-
ного вида на жительство, без продуктовых
карточек и без гонорара, на который они с
сыном так рассчитывали. Лев Николаевич
износил до дыр фронтовую одежу-обуву, и,
когда появлялся в университете, на него не-
доуменно оглядывались...
Впрочем, вскоре Гумилев перестал удив-
лять однокашников своим нищенским ви-
дом: его выгнали из аспирантуры, несмотря
на то что уже была написана диссертация и
сданы все экзамены. Единственным мес-
том, куда сына антисоветской поэтессы взя-
ли на работу, была библиотека при сумас-
шедшем доме. Чтобы не умереть с голоду,
Ахматова стала переводить. Перевела, на-
пример, письма Радищева из Илимского
острога (с французского). Их даже опубли-
ковали, но без имени переводчика.
23 июня 1949 года ей исполнилось 60
лет. Ни одного юбилейного поздравления
даже от бывших своих почитателей, вы-
шедших в начальники, Анна Андреевна не
получила. А вскоре в Фонтанный Дом при-
шла очередная большая беда: 26 августа
1949 года арестовали Николая Пунина, а в
ноябре — Льва Гумилева, на этот раз уже
270
Анна Андреевна Ахматова
не как сына белогвардейца, а как «отродье»
антисоветской поэтессы. Оба получили по
10 лет исправительно-трудовых лагерей.
Ахматова ежемесячно ездит в Москву: сна-
чала, чтобы сын, ожидавший приговора в
Лефортовской тюрьме, не остался без поло-
женных по закону — раз в месяц — продук-
товых передач, а затем, уже после так на-
зываемого суда, в связи с хлопотами об об-
легчении его участи. И все напрасно... По
совету московских литературных чиновни-
ков, лично, по-человечески сочувствовав-
ших ее горю и по природе отнюдь не злоде-
ев — Алексея Суркова и Александра Фаде-
ева, — она решается на отчаянный шаг:
сочиняет посвященный Сталину патриоти-
ческий цикл «Слава миру» (по настоятель-
ной рекомендации А. Суркова «вернопод-
даннические» лжестихи опубликовал мно-
готиражный «Огонек»). Увы, и это не
помогло — ни Пунину, ни Гумилеву, а для
Анны Андреевны обернулось тяжелейшим
инфарктом... В те страшные годы она со-
здает цикл «Черепки» (своего рода малый
«Реквием») — несколько четверостиший,
связанных общим сюжетом: мать и сын.
Вот два наиболее характерных из них:
* * *
Мне, лишенной огня и воды,
Разлученной с единственным сыном...
На позорном помосте беды
Как под тронным стою балдахином...
* * *
Вот и доспорился яростный спорщик
До енисейских равнин...
Вам он бродяга, шуан, заговорщик.
Мне он единственный сын.
В 1952 году Ахматову вместе с семьей
репрессированного Пунина переселили из
Фонтанного дворца в дом, когда-то при-
надлежавший корпорации петербургских
извозчиков. Анна Андреевна сочла это сим-
волическим: негоже проживать во дворцах,
даже бывших, родственникам советских
политкаторжан... Уезжая, она поклонилась
«сиятельному Дому», поклон получился
легким и по-ахматовски горько-иронич-
ным:
Особенных претензий не имею
Я к этому сиятельному Дому,
Но так случилось, что почти всю жизнь
Я прожила под знаменитой кровлей
Фонтанного дворца... Я нищей
В него вошла и нищей выхожу.
5 марта 1953 года умер Сталин. В озна-
менование этого события Анна Андреевна
впервые за много лет переступила порог Ле-
нинградского отделения Союза писателей.
Собрание было, конечно, траурным: со-
братья Ахматовой по перу в скупых слезах
прощались с «отцом народов». Видеть эти
слезы ей было и тошно, и стыдно, но она
все-таки высидела до конца церемонии, уж
она-то знала, что наступает новая эпоха,
им, слепцам, пока не видимая.
Николай Николаевич Пунин до этой эпо-
хи не дожил: умер в воркутинском лагере.
И конечно, в августе. Сразу после его арес-
та, в 1949-м, Анну Андреевну навестила
приятельница, жена композитора
Ю. Шапорина. Вот как описан этот день в
ее дневнике:
«Была вчера в церкви, отвела душу и зашла к
А. А. Ахматовой... Был уже час, но она еще ле-
жала. Все лето чувствовала себя плохо. Хозяйст-
во, хотя и небольшое, ее утомляет, день ходит,
день лежит. Вернулся сын, который ведет самую
трудную часть хозяйства, т. е. закупки. А. А.
встала, и мы пошли с ней в Летний сад. Она мне
рассказала, что Пунин ждал ареста после того,
как в университете было арестовано 18 человек.
Он все надеялся, что дочь с внучкой успеют вер-
нуться — его арестовали за несколько дней до их
возвращения. Девочке не сказали об аресте,
«просто уехал»... — «У меня самое болезненное
из чувств — это жалость, и я умру от жалости к
Ирочке и Ане», — сказала А. А. — Отец девочки
убит на войне, ей трудно дается учение. Н. Н. с
ней много занимался, она очень его любила и зва-
ла папой... Гумилев был расстрелян 25 августа.
Пунин арестован 26-го. — «Отбросив всякие су-
еверия, — говорит А. А., — все-таки призадума-
ешься».
Забыв все тяжелое, что было между ни-
ми, Анна Андреевна написала на смерть
Пунина удивительное по тонкости лириче-
ского чувствования четверостишие, и напи-
сала так, чтобы читатель стиха, хотя и по ее
как бы подсказке и тем не менее сам, смог
271
Русские писатели XX века
расширить его объем за счет «присоедине-
ния» к этому поминанию знаменитого сти-
хотворения Фета, и это не заимствование, а
перекличка скорбящих сердец.
Ахматова:
И сердце то уже не отзовется
На голос мой, ликуя и скорбя.
Все кончено... И песнь моя несется
В пустую ночь, где больше нет тебя.
Афанасий Фет:
Не жизни жаль с томительным дыханьем, —
Что жизнь и смерть? Но жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем
И в ночь идет, и плачет уходя.
Нет, об этой женщине никак нельзя бы-
ло сказать: беден я всем, беден и благодар-
ностью...
«КАК В БЕСПАМЯТНОМ ЖИЛИ
СТРАХЕ...»
Как уже упоминалось, И. Берлин был
крайне удивлен не только неожиданно эмо-
циональной реакцией Анны Ахматовой на
его появление в ее доме, но и общей оцен-
кой российской ситуации 1949 года. Слова
из «Поэмы без героя»: «...такое заслужим,
что смутится двадцатый век» — были вос-
приняты им как проявление крайнего эго-
центризма. Между тем Ахматова ничуть не
преувеличила, и речь в данном случае шла
не только о ее семейных и личных бедах.
Константин Симонов, а он в послевоен-
ную пору был одним из наиболее осведом-
ленных литературных деятелей, утвержда-
ет, что идея Постановления 1946 года была
спущена «сверху»; там же, в политиче-
ских верхах, сформулировали и цель меро-
приятия общесоюзного масштаба: «Прочно
взять в руки немножко выпущенную из рук
интеллигенцию, пресечь в ней иллюзии,
указать ей на ее место в обществе и напом-
нить, что задачи, поставленные перед ней,
будут формулироваться так же ясно и опре-
деленно, как они формулировались и рань-
ше, до войны, во время которой задрали
хвосты не только некоторые генералы, но и
некоторые интеллигенты, словом, что-то на
тему о сверчке и шестке». Итак, по сведени-
ям К. Симонова, а его компетенции в дан-
ном случае можно доверять, в высших эше-
лонах власти была выработана лишь идея,
право же указать (поименно) на особо за-
рвавшихся интеллигентов предоставили
партийному руководству местных творче-
ских союзов.
И когда писательской организации Ле-
нинграда предложили назвать персонально
тех сверчков, которые запрыгнули не на
свои шестки, писательская общественность
в лице особо обиженных триумфальным
успехом послевоенных выступлений Ахма-
товой и Зощенко назвала именно их. Осо-
бенно досталось Ахматовой: просидела ти-
хоней, золушкой, замарашкой, смиренни-
цей целых пятнадцать лет, на пролетарской
улице не то что по праздникам, и в буд-
ние-то дни передвигалась бочком, к стенке
жалась, чтобы забыли, не вспомнили, чья
она вдова и чья мать, и вдруг вылезла в
юпитеры и срывает аплодисменты. И где? В
больших аудиториях, собирающих цвет со-
ветской интеллигенции.
У Михаила Зощенко и Анны Ахматовой
действительно были преданные и восхи-
щенные поклонники, и тайные и явные, да-
же среди правоверных коммунистов. Это
они, «ахматовцы», в 1946-м встретили
ее стоя, под несмолкающие — целых 15 ми-
нут! — аплодисменты. То же самое было и с
Михаилом Зощенко. Константин Симонов
не преувеличивает, когда, описывая их вы-
ступления в Москве и в Ленинграде, упо-
требляет слова «головокружительный три-
умф».
Сама Анна Андреевна, правда, считала,
что причина Постановления 1946 года — ее
встречи с Исайей Берлиным, которые были
замечены «органами» и квалифицированы
как непозволительные контакты с ино-
странными шпионами. Однако Михаил Зо-
щенко, напарник Ахматовой по зловещему
докладу Жданова, ни тогда, ни позже с по-
дозрительными иностранцами не встречал-
ся, и тем не менее был приговорен к граж-
данской смерти по той же статье: как иде-
ологически чуждый элемент. Так что
хочешь не хочешь, а возникает предполо-
272
Анна Андреевна Ахматова
жение, что и Ахматова, и Зощенко попали
в число главных героев ждановского докла-
да не за те грехи, которые отыскал в них
А. А. Жданов, а совсем-совсем за другое —
за то, что именно им досталась вся народ-
ная любовь.
О том, что решающую роль в изгнании
Ахматовой сыграла именно самодеятель-
ность ее земляков, свидетельствует и фак-
тография ждановского доклада. Услужливо
подсунутый Жданову и его референтам об-
личительный материал — это пожелтевшие
вырезки из газет и журналов двадцатилет-
ней давности; взять более свежий крими-
нал было негде, ибо после 1925 года Ахма-
това практически не публиковалась, а то,
что все-таки печаталось — лирика военных
лет, — ничего предосудительного даже по
самым строгим пролетарским меркам в себе
не содержало. Об этом же свидетельствует
реакция Центра по управлению литерату-
рой, то есть Москвы.
Когда в здешнем «литературном ЦК»
узнали, что ленинградские активисты ли-
шили автора известного всей стране, вошед-
шего во все школьные хрестоматии стихо-
творения «Мужество» хлебных и продоволь-
ственных карточек, то слегка растерялись.
Московскому литературному начальству
было настойчиво рекомендовано «сверху»
вступить в переговоры с патриотически на-
строенными эмигрантами (Бунин, Тэффи).
Но как вести такие переговоры, если Ахма-
това, которая не уехала, хотя имела такую
возможность, и даже осудила уехавших как
отступников, ныне поставлена вне закона?
К тому же и Константин Симонов, и Алек-
сей Сурков, и набиравший административ-
ный вес Константин Федин были тайными
ахматовцами.
Короче, совместными усилиями столич-
ного литературного истеблишмента Ахмато-
ву спустя месяц после исключения из Союза
писателей восстановили в Литфонде СССР
(распоряжение подписал лично Александр
Фадеев). Однако возвращение продовольст-
венных карточек в данном случае ничего не
меняло: у Ахматовой не было денег, чтобы
их, как говорили тогда, отоварить. И все-
таки после смерти Сталина ее положение
стало потихоньку меняться к лучшему.
Во-первых, по распоряжению секретариата
СП СССР ей регулярно давали переводы в
самом престижном тогда издательстве «Ху-
дожественная литература».
Платили за стихотворные переводы в
«Худлите» хорошо, можно даже сказать —
щедро, больше, чем, допустим, в «Совет-
ском писателе» за стихи оригинальные, и
те, кто был допущен к этой «кормушке», не
только не бедствовали, но посматривали не-
сколько свысока на литераторов, вынуж-
денных жить «на общих основаниях». Раз-
умеется, для этого надо было превратиться
в некую переводческую машину, чего Ах-
матова конечно же и не могла, и не хотела.
И тем не менее она переводила. Переводы
эти печатались и оплачивались, разумеет-
ся, по высшей ставке. Больше того, при со-
действии А. Суркова она сдала в «Худлит»
и собственную рукопись, и хотя большую ее
часть составляли переводы, важен был сам
факт, ведь зловещего Постановления никто
не отменял, его молча и как бы нелегально
обходили.
Выждав несколько месяцев, Анна Анд-
реевна написала письмо Ворошилову с
просьбой о пересмотре дела Льва Гумилева.
Письмо сочли нарушением приличий и хо-
да ему не дали, однако в число делегатов
Второго съезда писателей Ахматову все-та-
ки включили, и Анна Андреевна не отказа-
лась от этой «чести», ей все еще мнилось,
что изменение ее социального статуса мо-
жет оказать какое-то воздействие на тех, от
кого зависела судьба ее сына.
А весной 1955 года в ее бездомной и бес-
приютной жизни произошло событие неве-
роятной важности: Ленинградское отделе-
ние Литфонда выделило ей в пожизненное
пользование маленький летний финский
домик в дачном поселке Комарове непода-
леку от Ленинграда. Свою комаровскую
«дачу» Анна Андреевна окрестила «буд-
кой», подразумевалось: собачьей — в па-
мять о «Бродячей Собаке», с которой было
связано столько дорогих, незабвенных вос-
поминаний... Она очень ее полюбила, ведь
это было первое собственное жилье.
273
Русские писатели XX века
На крошечном «приусадебном» участке
Анна Андреевна сама посадила цветы и
очень беспокоилась, если выдавалась хо-
лодная зима: как-то перезимуют ее милые
многолетники?.. Вести дачное хозяйство ей
одной было уже не под силу, поэтому дом
был всегда полон желающими помочь. Ме-
сяцами жили в летний сезон и «девочки
Пунины»... Многие здравомыслящие люди
из дружеского окружения Анны Андреев-
ны и в глаза и за глаза порицали ее за это,
но Ахматова пропускала «соболезнования»
мимо ушей: у нее были свои резоны отно-
ситься к сиротам Николая Николаевича
как к своей семье, ведь она столько тяжких
лет пользовалась их пусть и не очень ра-
душным, но гостеприимством; не менее
щедро делилась Анна Андреевна с семейст-
вом Пуниных гонорарами и также считала
это естественным. Ей вообще куда больше
нравилось отдавать, раздавать, одаривать,
чем брать.
Эпилог
ПЛОДОНОСНАЯ ОСЕНЬ
В феврале 1956 года состоялся историче-
ский двадцатый съезд партии, осудивший
«культ личности» Сталина, а 15 апреля то-
го же года вернулся из лагеря Лев Никола-
евич Гумилев, и в жизнь Анны Ахматовой
вторглась новая беда: семь лет каторги, не
затронув его интеллекта (из лагеря Лев Ни-
колаевич привез два чемодана рукописей —
почти готовую книгу «Хунны»; опублико-
вана в 19б0-м), ожесточили, почти изуродо-
вали его душу: до конца жизни Гуми-
лев-младший был твердо убежден, что во
всех его несчастьях виновата мать. Через
полгода возвратилась из ссылки и дочь Ма-
рины Цветаевой Ариадна Сергеевна Эфрон:
встречи с ней усилили боль — какой рази-
тельный контраст с ее сыном! Ни слова
осуждения в адрес матери — только благо-
дарная память. Память и любовь... Но эту
последнюю свою боль и неизбывную беду
Анна Андреевна скрыла столь тщательно и
так «зазеркалила», что о ней смутно дога-
дывались лишь самые близкие ее друзья. И
сына простила. Раз и навсегда.
Но скрытая боль делала свое дело: ин-
фаркт следовал за инфарктом, третий, на-
стигший ее после операции аппендицита,
был особенно тяжелым. От него Анна Анд-
реевна уже не оправилась. Но работать, и
плодотворно, не переставала. По-прежнему
главной ее заботой была «Поэма без героя».
Много времени, как всегда, у нее отнимали
переводы, а также воспоминания — о Бло-
ке, Мандельштаме, Амедео Модильяни, Ми-
хаиле Лозинском.
Она возобновила работу над оборвавшей-
ся было «пушкинианой». Именно в эти го-
ды «плодоносной осени» созданы ее лучшие
эссе о Пушкине: «Каменный гость» Пушки-
на», «Пушкин в 1828 году», «Пушкин и
Невское взморье», до сих пор фактически
не оцененные по-настоящему. Впрочем,
«ревнивых* пушкинистов можно изви-
нить: чтобы понимать и чувствовать Пуш-
кина так, как понимала и чувствовала его
Ахматова, нужно быть Ахматовой. Однаж-
ды она сказала, что Пушкин в «Евгении
Онегине» опустил за собой шлагбаум, пере-
крыв дорогу подражателям. Нечто подоб-
ное можно сказать и об ахматовской пуш-
кинистике: ни подражать, ни следовать ее
дорогой невозможно.
Июнь 1962-го преподнес Ахматовой к
73-летию неожиданный подарок — ее стихи
как замечательное явление русской культу-
ры были выдвинуты на Нобелевскую
премию. Ахматова ее не получила и была
этому рада: после того что случилось с Пас-
тернаком, которого власти предержащие
вынудили отказаться от Нобелевской пре-
мии, присужденной за роман «Доктор
Живаго», ее пугала подобная перспектива.
Однако и советское руководство было, ви-
димо, слегка смущено принявшим между-
народную огласку скандалом с Пастерна-
ком, особенно после его преждевременной
смерти, и когда по инициативе Италии Ан-
не Ахматовой присудили международную
литературную премию «Этна-Теормина»,
препятствовать этому не стали.
Торжества по случаю вручения премии
«Великой княгине русской поэзии» (титул,
торжественно преподнесенный Анне Андре-
евне хозяевами празднества — итальянца-
274
Анна Андреевна Ахматова
ми) состоялись в декабре 1964 года. На этот
раз в свите Ахматовой — все светила тог-
дашней официально признанной советской
литературы: Микола Бажан, Константин
Симонов, Алексей Сурков, Александр Твар-
довский. А шесть лет назад, узнав, что в
Италию, впервые после долгих десятилетий
существования за «железным занавесом»,
отправилась «делегация» советских писате-
лей, Анна Андреевна написала горькие сти-
хи:
Все, кого и не звали, в Италии, —
Шлют с дороги прощальный привет,
Я осталась в моем Зазеркалии,
Где ни Рима, ни Падуи нет.
Никому я не буду сопутствовать,
И охоты мне странствовать нет...
Мне к лицу стало всюду отсутствовать
Вот уж скоро четырнадцать лет.
И вот она в Италии, и не рядовым турис-
том! В ее почетном эскорте лица, от кото-
рых еще недавно зависело, жить ей или сги-
нуть от хронического недоедания. Ей бы
возликовать, а ей грустно, и еще грустнее
от того, что конец поэтического праздника
совпал с Сочельником, который в ее личном
интимном календаре был днем знакомства
с Гумилевым, а еще пуще от того, что она
опять, как и полстолетия назад, проведя
почти месяц в Италии, ничего не смогла
в ней увидеть; тогда, в 1912-м, из-за труд-
ной беременности, а сейчас из-за больного,
смертельно уставшего сердца. Единствен-
ным местом, где бы Анна Андреевна хотела
в этот Сочельник оказаться, была комаров-
скал «будка», окруженная огромными сос-
нами:
Заключенье небывшего цикла
Часто сердцу труднее всего,
Я от многого в жизни отвыкла,
Мне не нужно почти ничего.
Для меня комаровские сосны
На своих языках говорят
И совсем как отдельные весны
В лужах, выпивших небо, — стоят.
В Италии же до нее дошла и еще одна
приятная новость: 15 декабря 1964 года
Оксфордский университет принял поста-
новление о присуждении Анне Ахматовой
степени почетного доктора наук. Сбыва-
лась, таким образом, и еще одна ее мечта —
увидеть своими глазами «остров зеленый»,
откуда в 1915 году приехал Борис Василье-
вич Анреп, и она с честью вынесла и это ис-
пытание, почти непосильное для ее возрас-
та и состояния здоровья. На обратном пути
в Россию Анне Андреевне, по стечению об-
стоятельств, удалось на несколько дней
задержаться еще и в Париже. Здесь она
встретилась с приятелями и приятельница-
ми молодости — художником Дмитрием
Бушеном, участником слепневских шоу;
сестрой Машеньки Кузьминой-Каравае-
вой, Ольгой, которой посвящено стихотво-
рение «Побег»; учеником Николая Степа-
новича, поэтом и критиком Георгием Ада-
мовичем, и даже со своим начисто забытым
портретом, который перед самым отъездом
в эмиграцию написал Юрий Анненков и ко-
торый теперь висел на почетном месте в его
парижской мастерской.
Были и еще две встречи: одна неприят-
ная — с Борисом Анрепом, который и спус-
тя полвека не нашел ни единого сердечного
слова, и другая, до слез трогательная, — с
героем ее мимолетного легкого молодого ро-
мана — графом Валентином Зубовым. Ни-
кита Струве, внук Петра Струве, издателя и
редактора дореволюционной «Русской мыс-
ли», в ту пору сам издатель и профессор Со-
рбонны, в июне 1965 года оказался случай-
ным свидетелем их встречи. Вот что он пи-
шет в своих воспоминаниях «Восемь часов с
Анной Ахматовой»:
«После чтения стихов разговор уже не возоб-
новлялся. Вскоре послышался стук в дверь. Во-
шел граф 3., близкий друг Ахматовой по Петер-
бургу, с которым она не виделась 50 лет. Перед
тем, как выйти из комнаты, я еще раз обернулся.
Анна Андреевна пристально и ласково смотрела
на своего, совсем уже старенького на вид посети-
теля и сказала: — «Ну, вот, привел Господь еще
раз нам свидеться...»
Граф Валентин Платонович Зубов в 1965
году и впрямь был стар: Анне Андреевне че-
рез несколько дней должно было исполнить-
Русские писатели XX века
ся 76, а он старше ее на пять лет. Старень-
кий на вид господин, когда-то чуть ли не
первый в Петербурге богач и известный по-
кровитель искусств, пережил Анну Андре-
евну на три с лишним года. Отношения с
ним — один из тех сюжетов ее «богатой лич-
ной жизни», который Анна Андреевна не
посчитала нужным с кем-либо обсуждать,
даже полвека спустя. Правда, Зубов упомя-
нут в ее «донжуанском списке», который
она в 1925 году продиктовала Лукницкому,
но когда Павел Николаевич спросил ее, ве-
рен ли ходящий по Питеру слух, что именно
Зубову посвящены «Четки», Анна Андреев-
на от прямого ответа уклонилась. Сказала
только, что, когда складывался этот сбор-
ник, она с Валентином Платоновичем была
едва знакома. Так это или не так — осталось
«тайной тайн». Единственное достоверно
посвященное Зубову стихотворение при
жизни Ахматовой не публиковалось и ав-
торской даты не имеет.
Но самым главным итогом ее зарубеж-
ных успехов была удивительная по тем мед-
ленным временам быстрота, с какой про-
шел сквозь рогатки цензуры и производст-
венные препоны ее последний и самый
объемный прижизненный сборник, к тому
же очень красивый, с портретом работы
Модильяни на белоснежной супероблож-
ке, — «Бег времени». 8 мая 1965 года руко-
пись сдали в набор, а в октябре Ахматова
уже подписывала элегантные томики своим
друзьям! А через месяц ее свалил четвер-
тый инфаркт. Даже самые опытные вра-
чи не верили, что Анна Андреевна подни-
мется. Но она поднялась. 27 февраля Ахма-
тову выписали из больницы с направлени-
ем в лучший, 4-го, Главного (правительст-
венного) управления кардиологический
санаторий. Под Домодедовом. Там она и
скончалась 5 марта 1966 года. В самый
счатливый в ее жизни день: в день смерти
Сталина.
Отпевали «Анну Всея Руси» в Николь-
ском Морском соборе Ленинграда, все-таки
она была из семьи моряков, а похорони-
ли там, где нашла последний уют ее «пло-
доносная осень» — на Комаровском клад-
бище.
М. Г. Ваняшова
Марина Ивановна
Цветаева
(1892—1941)
Из всех эпитетов, касающихся поэтов,
Марина Цветаева предпочитала — приме-
нительно к себе — один: «высокий».
К «великим» себя не причисляла. От
слова «большой» отказывалась — не ее.
Пастернак, да, большой поэт, несомненно.
«Высота», «чистота» — слова из любимого
ею ряда. Ее любимый поэт Рильке носил
имя Райнер, что означает «чистый». И ду-
мая о бытии поэта, о единственном способе
его жить и дышать, Цветаева обозначала
его одним состоянием: чистота сгорания.
Для нее — определение на всю жизнь.
И еще — высота служения поэзии как
единственный признак существования. Ра-
бота поэта для Цветаевой — исполнение ду-
ховного завета. Поэт — служитель стихий,
и единственной стихии — Слова. Цветаева
считала, что утверждение и требование вы-
соты как первоосновы жизни — есть чисто
русское лицо высоты. Высота — это со-
весть. Россия всегда к ее чести, — утверж-
дала Цветаева, — ходила за правдой к писа-
телям, как мужик к царю, — и хорошо,
когда этим писателем оказывался Лев Тол-
стой.
Птица-Феникс я, только в огне пою!
Поддержите высокую жизнь мою!
Высоко горю и горю дотла,
И да будет вам ночь светла.
Ледяной костер, огневой фонтан!
Высоко несу свой высокий стан,
Высоко несу свой высокий сан —
Собеседницы и Наследницы!
«Высота» в этих стихах дана в том самом
значении служения и сгорания, самопо-
жертвования — во имя Света духа челове-
ческого...
Высота — это совесть, повторим это сно-
ва вслед за Цветаевой.
Она знала, что настоящий ее читатель
придет через сто лет. «Тебе — через сто
лет» — так названо одно из ее стихотворе-
ний. Знание, что через сто лет ее стихам
«настанет свой черед», — твердо и непрек-
лонно, она уверена, что через сто лет людям
конца XX — начала XXI века понадобятся
и душа ее, и лира.
Мышление Цветаевой — планетарно и
космично. Рисуя картины будущего, она
ужаснется при мысли о том, что не только
Россия, но и планета Земля может быть
уничтожена. Она думает о том, как «отсто-
ять планету у небытия».
«Пока ты Поэт — тебе гибели в стихии
нет». Творчество Поэта, по мысли Цветае-
вой, — залог бессмертия и конкретной
судьбы художника, если только планета
поймет истину Поэта. Но Судьба, гнавшая-
ся за нею следом, «как сумасшедший с
бритвою в руке» (А. Тарковский), распоря-
дилась по-иному. Казалось, Судьба уготови-
ла все так, чтобы не дать ей остаться
поэтом.
Вся жизнь Марины Цветаевой — хожде-
ние по душам (по мукам). Ходить по душам
и творить судьбы — вот ее цель, ее тайная и
явная жизнь. Ничего не искала она в жиз-
ни, кроме Бога земной любви. Искала его
через души. Ее спутники и собеседники, из-
бранники ее судьбы подчас не догадыва-
лись о сокровенном — о праве Поэта на
свою душу и ее отдельную жизнь. И тогда,
277
Русские писатели XX века
когда стремились высокую — на пределе —
жизнь превратить в «безобразную явь», в
«очередное семейное безобразие», союз мо-
ментально давал трещину. Получалось не-
что вроде «измены», а жить «изменами»
Цветаева не могла.
Отсюда и спасение Поэта — в тетрадь, в
дружбу, в одиночество, в природу, в зеле-
ный куст рябины, бузины или сирени.
«Чистоту я находила только в одиночестве».
Две перемежающиеся непрерывно жизни,
которые вела и которые проживала Цвета-
ева: одна — земная, смутная, катастрофиче-
ски трудная, другая — отрешенная, отдан-
ная поэзии, творчеству, вдохновению.
В шумной веселой толпе гостей она чув-
ствовала себя несчастной, ибо одолевало
чувство, что люди крадут ее драгоценное
поэтическое время, наводняют поэтическое
блаженство отбросами дней, дел, дрязг, вы-
пивают мозг, который она физически ощу-
щала как сосуд с драгоценностями^)
Она искушала людей «непомерностью
своей правдивости», безмерностью требова-
ний к жизни, вообще — собственной без-
мерностью.
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Марина Ивановна Цветаева родилась 9
сентября 1892 года в Москве, в Трехпруд-
ном переулке, между Тверской и Бронной.
Ее отец — Иван Владимирович Цветаев
(1847—1913) — профессор Московского
университета, ученый-филолог, обществен-
ный деятель, один из основателей Музея
изящных искусств имени Александра III
(ныне — Музей изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина), почетный доктор
Болонского университета.
Мать — Мария Александровна Мейн
(1868—1906) — вторая жена Ивана Влади-
мировича, была блистательной пианист-
кой, пожертвовавшей музыкальной карье-
рой во имя семьи, а также переводчицей ху-.
дожественной литературы с английского и
немецкого языков. Дед Марины Ивановны
со стороны матери — Александр Данилович
Мейн, московский городской голова, был
отмечен знакомством с Львом Толстым, бы-
вал у него дома, его влекло к писательству.
Тесно связанный с русской столичной жур-
налистикой, он сотрудничал в московских
и петербургских газетах, переводил на
французский язык исторические труды.
Александр Мейн неустанно поддерживал в
Иване Владимировиче Цветаеве мечту о по-
стройке и основании Музея изящных ис-
кусств, был членом-учредителем Комитета
по его устройству, подарил музею свою кол-
лекцию слепков античной скульптуры,
оставил ему часть своего состояния.
Главенствующим в формировании ее ха-
рактера Марина Ивановна считала влияние
матери — «музыка, природа, стихи, Герма-
ния... Героика...». К этому перечню Цвета-
ева, вспоминая детство, обычно добавляла
еще одно, немаловажное — одиночество.
Оно стало спутником на всю жизнь, необхо-
димостью поэта, несмотря на внутренние
героические усилия его преодолеть.
Влияние отца было более скрытым, но не
менее сильным (страсть к труду, отсутствие
карьеризма, простота, отрешенность).
Мать жила музыкой, отец — музеем.
Музыка и Музей — два влияния слива-
лись и сплетались в одном доме. Наклады-
вали неповторимый отпечаток на растущих
сестер — Марину и Асю (Анастасия Ива-
новна Цветаева — младшая сестра поэтес-
сы). Воздух дома был не буржуазный и да-
же не интеллигентский, а рыцарский —
«жизнь на высокий лад». Отец и мать рас-
тили не барышень, не баловниц судьбы,
растили юных спартанцев (без упования на
женский пол!), в духе аскетизма и строгос-
ти быта.
Но слово «Трехпрудный» стало для Цве-
таевой паролем на всю жизнь, символом
детства, розового, беспечного, играющего
солнечными бликами мира.
Дом в Трехпрудном навсегда остался в
памяти — лик и облик счастья и полноты
существования. Дом был небольшой, одно-
этажный, деревянный, крашенный корич-
невой краской — Цветаева в «Верстах* на-
зовет его «розовым». «Маленький розовый
домик, чем он мешал и кому?»
Семь окон по фасаду. Над воротами на-
висал огромный серебристый тополь. Воро-
278
Марина Ивановна Цветаева
та с калиткой и кольцом. За воротами —
поросший зеленой травой двор. Со двора
дорожка (деревянные мостки) вела к парад-
ному, над парадным виднелись «антресо-
ли» — верх дома, где были расположены
детские комнаты.
Воду брали из колодца во дворе и по-
зднее — из бочки водовоза.
Цветаевой было девять лет, когда перед
Пасхой она неожиданно заболела воспале-
нием легких. На вопрос матери, что при-
нести ей в подарок с Вербы (с Вербного Вос-
кресения), она неожиданно бросила: «Чер-
та в бутылке!»
— Черта? — удивилась мать. — А не
книжку?.. Ты подумай...
Можно было за десять копеек купить за-
манчиво-интересные книжки про Севасто-
польскую оборону или Петра Великого.
— Нет, все-таки черта!
«Бог был чужой. Черт — родной», —
скажет Цветаева. И никто из них не был
добр. Бога ей навязывали, как она счита-
ла, тасканиями в церковь, стояниями в
церкви, против воли и желания, так что па-
никадило двоилось от сна в глазах...
Кумир детства и отрочества Марины
Цветаевой — Наполеон. Марина так была
очарована им, что вставила в божницу вме-
сто иконы Богоматери портрет французско-
го императора.
Отец, столкнувшись с таким кощунством,
был поражен и потребовал убрать Наполеона
с иконы. Но Марина твердо стояла на своем,
готовая дать отпор даже родному отцу. По-
зднее, когда она переехала в другой дом,
отец сам пришел к ней, привез икону для то-
го, чтобы благословить дочь. И снова — про-
тест Марины: «Пожалуйста, не надо!»
— Делай как хочешь, — ответил Иван
Владимирович. — Только помни, что те,
кто ни во что не верит, в тяжелую минуту
кончают самоубийством...
В столовой с низким потолком — круг-
лый стол, самовар, на стенах репродукции
картин Рафаэля «Мадонна с Младенцем»,
«Иоанн Креститель», копия с картины
Александра Иванова «Явление Христа на-
роду».
Самая большая комната в доме — зала.
Между окон — зеркала. По стенам огром-
ные филодендроны в кадках, зеленые де-
ревца, которые будут сниться и оживать в
снах Марины.
В зале — в самом центре — рояль. Он
был одушевленным существом. Непомер-
ный рояль, под которым ползали малень-
кие сестры, как под брюхом гигантского
зверя. Рояль казался чудовищем, гиппопо-
тамом, тоже непомерным!
Рояль — черное ледяное озеро.
Черная поверхность рояля — первое зер-
кало Цветаевой. В него можно было всмат-
риваться, как в бездну, дышать на его по-
верхность, как на матовое стекло, отпеча-
тав свой лик на его туманной глади.
И осознание своего лица — сквозь черно-
ту рояля. Собственной, роковой «черно-
ты»... Негр, окунутый в зарю! Розы в чер-
нильном пруде! — так переводила Цветаева
свой «рояльный» облик, переводила лицо
на черноту, на темный язык.
Мать могла на рояле все. На клавиату-
ру она сходила, как лебедь на воду. Можно
было только догадываться, какие бури по-
давила она в своем собственном существе,
какие стихии в ней разыгрывались и сгора-
ли. Когда-то в юности она не смогла соеди-
нить свою судьбу с возлюбленным из-за за-
прета родителей. Замуж за Ивана Владими-
ровича Цветаева вышла не по любви, а из
чувства долга. Иван Владимирович был
вдовцом, пережил большое личное горе, по-
теряв жену Варвару Дмитриевну Иловай-
скую...
Мария Александровна сгорала не столь-
ко от музыки, сколько через музыку рас-
крывала свою тоску, свою лирику. Не слу-
чайно врач в санатории в Нерви, в Италии,
услышав ее игру, предупредил пациентку,
что если она будет продолжать так играть,
то не только сама сгорит, но и сожжет весь
Русский пансион...
— Гениально!.. Гениально! — потрясен-
но восклицал он, не в силах скрыть своего
изумления...
Страсть сгорания, самосожжения себя в
искусстве — вот что передала в генах мать
своей дочери Марине... Она хотела передать
279
Русские писатели XX века
дочерям страсть к музыке. Но обнаружива-
ла ужасавшую и пугавшую ее чудовищную
«немузыкальность» Марины.
«Мать залила нас музыкой. (Из этой музыки,
обернувшейся Лирикой, мы уже никогда не вы-
плыли — на свет дня!) Мать затопила нас как на-
воднение... Мать залила нас горечью всей своего
несбывшегося призвания, своей несбывшейся
жизни, музыкой залила нас, как кровью, кровью
второго рождения...
Мать поила нас из вскрытой жилы Лирики,
как и мы потом, беспощадно вскрыв свою, пыта-
лись поить своих детей кровью собственной то-
ски... После такой матери мне оставалось одно —
стать поэтом...»
Видела ли мать в дочери будущего поэ-
та? Вряд ли, хотя пыталась угадать харак-
тер стихии, бушевавшей в Марине и нару-
шавшей все спокойное течение жизни в до-
ме.
«Немузыкальность» Марины была прос-
то Другой музыкой, лирикой, поэзией.
Чернота была для Цветаевой символом
чернорабочества в жизни. В противополож-
ность белой кости. Чернорабочим и негром
в русской поэзии был для нее Пушкин.
Цветаева встретилась с Пушкиным, ког-
да ее взяли на прогулку к памятнику Пуш-
кина, недалеко от их дома. Так как дед
Пушкина происходил из Эфиопии, Цветае-
вой казалось, что Пушкин — негр в поэзии.
«Русский поэт — негр, поэт — негр, и
поэта — убили». Памятник Пушкина она
любила за черноту, в противоположность
белизне статуй из коллекции отца.
«Памятник Пушкина я любила за черно-
ту — обратную белизне домашних богов».
Он был «живое доказательство низости и
мертвости расистской теории, живое дока-
зательство — ее обратного. Пушкин есть
факт, опрокидывающий теорию*.
Обе первые книги стихов, которые Цве-
таева написала в юности, — о детстве и
отрочестве в Трехпрудном, о доме детства.
«Дом* ранней Цветаевой уютный, много-
людный, наполненный живыми голосами
близких: мамы, сестер, родных, друзей...
Впоследствии она придумает себе дру-
гой дом, — дом для двоих, дом с любимым
и единственным, с верным возлюблен-
ным:
Я бы хотела жить с Вами
В маленьком городе,
Где вечные сумерки
И вечные колокола.
И в маленькой деревенской гостинице —
Тонкий звон Старинных часов —
как капельки времени.
И может быть,
Вы бы даже меня не любили... (1916)
Она остро и обреченно чувствует поги-
бель своего Дома, реального и примечтав-
шегося.
Будет скоро тот мир погублен.
Погляди на него тайком.
Пока тополь еще не срублен
И не продан еще наш дом... (1913)
В первые послереволюционные годы дом
в Трехпрудном разобрали на дрова, и от не-
го ничего не осталось. Анастасия Цветаева,
спустя много лет придя на развалины доми-
ка в Трехпрудном, подняла с земли кусочек
белого с синей каемкой изразца — от печки
в детской.
Поэты всегда избегали быта, чурались
«суетных забот». Марина Цветаева превра-
тила быт в поэзию: кажется, что в стихах
она запечатлевала мгновения собственной
судьбы, начиная с того самого изразца
в детской. Вот — детская, вот — уроки,
вот — домашний уют... Стихи в юности пи-
шут почти все, так же, как и дневники.
Цветаева поклонялась в отрочестве Марии
Башкирцевой; писала даже книгу о ней,
взахлеб читала ее «Дневник». Отсюда, быть
может, тот же предел откровенности, кото-
рый был задан в «Дневнике» Марии Баш-
кирцевой.
Первые книги любого поэта считаются
обычно подражательными и ученическими.
Но «час ученичества* для Цветаевой про-
бьет позже. Будучи гимназисткой, она
знакомится с поэтами, философами и кри-
тиками. Она посещает Московский литера-
турно-художественный кружок, которым
руководит В. Брюсов. Критик Эллис (Л. Ко-
былинский) вводит юную Цветаеву в изда-
280
Марина Ивановна Цветаева
тельство «Мусагет», созданное А. Белым и
Э. Метнером, — здесь постоянно проводи-
лись занятия по теории стиха, а Белый вел
семинары.
Первая книга стихотворений под назва-
нием «Вечерний альбом» принесла Цветае-
вой известность. Она вышла осенью 1910
года. На нее откликнулись В. Брюсов,
Н. Гумилев, С. Городецкий, М. Волошин.
«Стихи Марины Цветаевой... всегда отправля-
ются от какого-нибудь реального факта, от че-
го-нибудь действительно пережитого, — писал
Брюсов. — Не боясь вводить в поэзию повседнев-
ность, она берет непосредственно черты жизни, и
это придает ее стихам жуткую интимность. Когда
читаешь ее книгу, минутами становится неловко,
словно заглянул нескромно через полузакрытое
окно в чужую квартиру и подсмотрел сцену, ви-
деть которую не должны бы посторонние...»
Брюсов выражал надежду, что «поэт
найдет в своей душе чувства более ост-
рые, чем те милые пустяки, которые зани-
мают так много места в «Вечернем альбо-
ме*...*, «беглые портреты родственников,
знакомых и воспоминания о своей кварти-
ре...» исчезнут со временем, а поэтические
образы поднимутся до общечеловеческих
символов.
С Брюсовым перекликался в оценках,
отмечая талантливость Цветаевой, Нико-
лай Гумилев.
«Многое ново в этой книге: нова смелая (иног-
да чрезмерная) интимность, новы темы, напри-
мер детская влюбленность, ново непосредствен-
ное бездумное любование пустяками жизни...
Здесь инстинктивно угаданы все главнейшие за-
коны поэзии, так что эта книга — не только ми-
лая книга девических признаний, но и книга пре-
красных стихов».
На одном из заседаний «Мусагета» свой
«Вечерний альбом» Цветаева подарила
Максимилиану Волошину. С этого времени
началась дружба Цветаевой и Волошина,
описанная ею в очерке «Живое о живом».
В московской газете «Утро России» Во-
лошин в обзорной статье о женской поэзии
центральное место отвел Марине Цветаевой
и ее первой книге.
«Это очень юная и неопытная книга. Многие
ее стихи, если их раскрыть случайно, посреди
книги, могут вызвать улыбку. Ее нужно читать
подряд, как дневник, и тогда каждая строчка бу-
дет понятна и уместна. Она вся на грани послед-
них дней детства и первой юности. Если же при-
бавить, что ее автор владеет не только стихом, но
и четкой внешностью внутреннего наблюдения,
импрессионистической способностью закреплять
текущий миг, то это укажет, какую документаль-
ную важность представляет эта книга, принесен-
ная из тех лет, когда обычно слово еще недоста-
точно послушно, чтобы верно передать наблюде-
ние и чувство... «Невзрослый» стих Цветаевой,
иногда неуверенный в себе и ломающийся, как
детский голос, умеет передать оттенки, недо-
ступные стиху более взрослому... «Вечерний аль-
бом» — это прекрасная и непосредственная кни-
га, исполненная истинным женским обаянием*.
По приглашению Максимилиана Алек-
сандровича в мае 1911 года Цветаева при-
ехала в Коктебель, в дом Волошиных.
Позднее, описывая Волошина, Цветаева
скажет, что Макс был мифотворец и сказоч-
ник. Но и сама Цветаева обладала склонно-
стью к мифотворчеству, а то и впрямь зани-
малась мифологизацией облика своих дру-
зей.
Ее опалит жар коктебельского полднев-
ного солнца, такого сильного, что загар от
него не смывался московскими зимами.
И символом коктебельских недолгих летних
сезонов станет знаменитый волошинский
парусиновый балахон на ветру, полынный
веночек на голове, легкие сандалии... Воло-
шин в памяти Цветаевой — античный бог.
Голова Зевса на могучих плечах — великан,
«немножко бык, немножко бог. Аквамари-
ны вместо глаз, дремучий лес вместо волос,
морские и земные соли в крови...
— А ты знаешь, Марина, что наша
кровь — это древнее море?..»
В Коктебеле у Волошина Цветаева встре-
тит Сергея Яковлевича Эфрона, своего бу-
дущего мужа, которому едва исполнилось
семнадцать лет. Они обвенчаются в начале
1912-го, в Москве. В сентябре того же года в
молодой семье появится первенец — дочь
Ариадна, Аля.
«Да, о себе: я замужем, у меня дочка 11/2 го-
да, Ариадна (Аля), моему мужу 20 лет. Он необы-
281
Русские писатели XX века
чайно и благородно красив, он прекрасен внешне
и внутренне. Прадед его с отцовской стороны был
раввином, дед с материнской — великолепным
гвардейцем Николая I.
В Сереже соединены — блестяще соединены —
две крови: еврейская и русская. Он блестяще
одарен, умен, благороден. Душой, манерами, ли-
цом — весь в мать. А мать его была красавицей и
героиней.
Мать его урожденная Дурново.
Сережу я люблю бесконечно и навеки. Дочку
свою обожаю...»
Сергей Яковлевич унаследовал от матери
подвижничество, желание сражаться за
правду, революционность духа и желание
справедливости. Им руководили те же жиз-
ненные идеалы, что и Мариной, — героизм,
жертвенность, подвижничество. Мать Сер-
гея — из древнего аристократического ро-
да — была с молодости революционеркой-
народоволкой, сторонницей террора, что
впоследствии скажется на биографии и
судьбе Сергея Эфрона, воспитанного ма-
терью в традициях революционаризма и по-
литического экстремизма.
Семьи Цветаевых и Эфронов роднило
бескорыстие и служение России, они были
бессребреники и романтики на огромной
душевной высоте, которая многим ныне не-
понятна.
Романтизм Цветаевой — это романтизм
мироощущения и миропонимания, распро-
страненный ею на все мироздание без иск-
лючения.
Сегодня этот романтизм воспринимается
старинным и даже «архаическим», роман-
тизм, рожденный и укрепляющийся в сти-
хах Цветаевой в новаторское время («на
дворе» было уже новое столетье!): роман-
тизм, без поправок перенесенный Цветае-
вой из 1810-х в 1910-е годы...
Романтизм Цветаевой — это не традици-
онное двоемирие, как принято считать
(«поэт живет среди людей, но создан для
небес»), а неистовая, доходящая до безмер-
ности, фанатическая требовательность к
окружающим — подняться на ту же духов-
ную высоту, на которой стоит сам поэт. Да-
же Бальмонт укоризненно-восхищенно го-
ворил Цветаевой: «Ты требуешь от стихов
того, что может дать — только музыка!»
По Цветаевой, плохие стихи — это стихи
вне волшебства. А значит, измена ее роман-
тизму.
1916 ГОД: «ЧУВСТВО ИСТОРИИ -
ЭТО ЧУВСТВО СУДЬБЫ»
Начало января 1916 года. Последний год
старого мира. Рубеж времени уже ощутим.
Цветаева позднее вспомнит именно эту чер-
ту, границу, грозящую бесповоротностью и
окончательностью перемен.
«Разгар войны... Но люди сидят у ками-
на и читают стихи. Последние стихи на по-
следних шкурах у последних каминов».
Никто не произносит слов «война» или
«фронт», но предчувствие грядущих исто-
рических сдвигов электризует воздух, на-
полняет все вокруг неким «веселящим» га-
зом.
Цветаева и прежде бывала в Петербурге,
но этот приезд, в 1916-м, — для нее пер-
вый. Первый — с ее стихами. И он похож
на сон — литературный салон, заворожен-
ность кумирами... Правда, самые главные
из них отсутствуют: в это время в Петербур-
ге нет ни Анны Ахматовой, ни Александра
Блока. Цветаева попадает в литературный
салон мэтра поэзии — Михаила Кузмина.
Там она встречается с Осипом Мандельшта-
мом, Сергеем Есениным.
Свои стихи Цветаева читает столь «кро-
воточаще», как будто перед ней барьер и
прорваться сквозь него можно, только изо-
лировавшись от притяжения пространства
и реального времени. И в самом деле: идет
война России с Германией. В почете стихи
патриотические. Конечно, в салоне Куз-
мина к «ура-патриотизму» относятся весь-
ма кисло... И лозунг «Война до победного
конца!» здесь никого не вдохновляет. Иное
дело — стихи антивоенные. Блок, Маяков-
ский... Но стихи, воспевающие Герма-
нию?..
Однако в Петербурге стихи Марины Цве-
таевой поняты и приняты. В Москве она
была бы освистана и с позором изгнана за
свои прогерманские настроения. Правда, и
282
Марина Ивановна Цветаева
Петербург с 1914 года стал называться Пет-
роградом — отменено все немецкое, в том
числе и на немецкий лад построенное на-
звание русской столицы «Петербург».
Цветаева читает оду Германии. Она кля-
нется в любви к Германии, славит страну,
воюющую с Россией!
Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам!
Ну, как же я тебя оставлю,
Ну, как же я тебя предам?
Что это? Эпатаж? Вызов? Конечно, и
эпатаж, и вызов, но цель Поэта не в них.
Травля Германии («Ты миру отдана на
травлю») — обострение — и довольно рез-
кое — антигерманских настроений в рус-
ском обществе. А потому в противовес —
резкое, порывистое:
Германия — мое безумье!
Германия — моя любовь!
Германию Цветаева называет Отечест-
вом, «фатерляндом*. Здесь, в ее Германии,
над вечным Рейном склонила золотые куд-
ри дева-сирена из мифов и из песни Гейне
«Лорелея» — Лореляй, по улочкам Кенигс-
берга еще гуляет «узколицый Кант»,
Иоганн Вольфганг Гете в другом забытом
городке лелеет нового Фауста... Кенигс-
берг, Веймар, Фрейбург — города, в кото-
рых она бывала в отрочестве, дорогие серд-
цу Цветаевой.
Для Цветаевой здесь первостепенны два
момента. В ее жилах течет и немецкая
кровь (дед по матери — Александр Мейн
происходил из остзейских немцев). «Трав-
ля» Германии в русской печати означала
для Марины не только нападки на кровно
близкое начало, но прежде всего — отвер-
жение общеевропейской культуры, с чем
она согласиться, разумеется, не могла. Кро-
ме того, с детства начиная, с осознания
смешения многих кровей в ней самой —
русской, польской, немецкой, — она несла
гордое презрение к любым видам национа-
лизма и шовинизма.
Для России, по Цветаевой, война — жес-
точайшее и горчайшее испытание, народ-
ная беда. В июле того же 1916 года она на-
пишет стихотворение «Белое солнце и низ-
кие, низкие тучи...», в котором возникнет
пронзительный среднерусский пейзаж —
«дороги, деревья, солдаты вразброд...», де-
ревенский погост, огороды, воинский поли-
гон, где упражняются в штыковых приемах
солдаты — на вереницах соломенных чу-
чел.
Старая баба — посыпанный крупною солью
Черный ломоть у калитки жует и жует...
Чем прогневили тебя эти серые хаты,
Господи! — и для чего стольким простреливать
грудь?
Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,
И запылил, запылил отступающий путь...
(Перекличка с Блоком — «Петербург-
ское небо мутилось дождем // Уходил на
войну эшелон...» — здесь явственная!)
На петербургской встрече, возможно, чи-
тал свои стихи о русско-германской войне и
Осип Мандельштам: то был его «Зверинец».
Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры;
Светильник в глубине пещеры
И воздух горных стран — эфир;
Эфир, которым не сумели.
Не захотели мы дышать.
Козлиным голосом1, опять,
Поют косматые свирели...
В зверинце заперев зверей.
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга,
И рейнская струя светлей, —
таким видел выход из мировой катастрофы
Мандельштам, воспевая Рейн и Волгу, сла-
вянский и германский лен — равновеликие
державы, тоскующие о мире и «умудрен-
ном человеке».
Тема войны у Цветаевой и Мандельш-
тама была решена во многом сходными
путями. Их действительно многое объеди-
няло.
Разделяли версты. Расстояние от Петер-
бурга до Москвы. «Версты отнимают Вас у
1 «Козлиный голос» — голос самой трагедии;
трагедия — в переводе с древнегреческого —
«козлиная песнь*.
283
Русские писатели XX века
меня» — так, быть может, сетовал Ман-
дельштам в одном из несохранившихся пи-
сем к Цветаевой. Она отвечала стихами:
Никто ничего не отнял —
Мне сладостно, что мы врозь!
Целую вас через сотни
Разъединяющих верст.
Я знаю: наш дар — неравен.
Мой голос впервые — тих.
Что вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!
Признавая старшинство Мандельштама,
его поэтического опыта (не возраста — он
был старше Марины всего на год), она вы-
зывала его на своеобразный поэтический
поединок: на состязание поэтических голо-
сов и... любящих сердец.
Нежней и бесповоротной
Никто не глядел вам вслед...
Целую вас — через сотни
Разъединяющих лет.
В этом стихотворении уже проявился
пророческий дар Цветаевой. Она предрека-
ла Поэту страшную и трагическую судьбу:
«На страшный полет крещу вас: — Лети,
молодой орел!»
«Молодой орел» мог бы показаться Ман-
дельштаму стертым штампом, если бы за
этим образом не скрывался знаменитый
«Орленок», герой известной романтической
драмы Эдмона Ростана, которым тогда
увлекалась читающая и любящая театр мо-
лодежь. «Орленок» — рано погибший сын
Наполеона, юный герцог Рейхштадтский.
Еще в 1909 году Цветаева писала о Саре
Бернар в роли Орленка: «Ив сердце плачет
стих Ростана...»
Цветаева и в Мандельштаме открыла
ростановского Орленка, юношу, мальчика
еще, с огромными пушистыми ресницами,
глазами-озерами, с поэтической судьбой,
утверждавшейся на границе разных куль-
тур — классической, античной — и петер-
бургской, русской. И в Мандельштаме она
угадывала «болезнь» Орленка — болезнь
Имени, что зазвучит «грозной и могучей
славой» лишь в далеком будущем.
Начиная с января — февраля 1916 года
Цветаева посвящает Мандельштаму цикл
стихотворений. Позднее эти лирические
признания, полные света и любви, вой-
дут в ее книгу «Версты». Среди них та-
кие поэтические шедевры, как «Ты за-
прокидываешь голову...», «Откуда такая
нежность?..», «Разлетелось в серебряные
дребезги...», «Не сегодня-завтра растает
снег...» и другие. Характерное запрокиды-
вание головы, свойственное Мандельшта-
му (отчего многие его часто упрекали в вы-
сокомерии и гордом презрении к окру-
жающим, не догадываясь, что причиной
всему были неверно сросшиеся позвонки),
Цветаева отметит не однажды. Провожая
Мандельштама «на страшный полет», суля
ему гибельную судьбу, она рано начала
предчувствовать трагическое предназначе-
ние Поэта.
Ах, запрокинутая твоя голова,
Полузакрыты глаза — что? — пряча.
Ах, запрокинется твоя голова — Иначе.
Голыми руками возьмут — ретив! упрям!
Криком твоим всю ночь будет край звонок!
Растреплют крылья твои по всем четырем ветрам,
Серафим! — Орленок!
Рядом с Орленком в стихах Марины при-
сутствовала и неизменная амазонка. «За
всех страдать под звук органа и амазонкой
мчаться в бой...». Судьбу Орленка Цветаева
накладывала на будущую судьбу Поэта. По-
чти все предсказанное ею сбылось. И «за-
прокинулась» голова Поэта действительно
иначе. И растрепали крылья его по всем че-
тырем ветрам, и взяли «голыми руками» в
1938 году, в санатории под Смоленском, в
Саматихе, зимой...
Мандельштам приехал в Москву в февра-
ле 1916 года, следом за Мариной. Уезжал,
возвращался. Это были внезапные наезды и
внезапные бегства. Встречи и невстречи.
Между ними рождались стихи. Император-
скую'грезу Орленка Марина Цветаева пере-
даст другому историческому персонажу —
Димитрию Самозванцу.
Еще в Петербурге Мандельштам подарил
Цветаевой одно из изданий своего первого
стихотворного сборника «Камень» с харак-
284
Марина Ивановна Цветаева
терной надписью: «Марине Цветаевой —
камень-памятка. Осип Мандельштам». С
приездами в Москву тема Запада, «камня»,
российской «латыни» будет постепенно
Мандельштамом забываться. Сама История
властно заявит о себе через пушкинского
«Бориса Годунова*. На исторические под-
мостки ворвется и властно заявит о себе те-
ма трагедии истории, тема художника и
власти, поэта, принужденного быть в своей
стране самозванцем...
В эти зимне-весенние дни, на границе зи-
мы и весны, в дни, когда Москва щедро и
радостно празднует русскую масленицу и
звонят во все «сорок сороков» церковные
колокола, Цветаева подарит Мандельшта-
му Москву.
Из рук моих — нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат.
По церковке — все сорок сороков
И реющих над ними голубков;
И Спасские — с цветами — ворота,
Где шапка православного снята;
Часовню звездную — приют от зол —
Где вытертый от поцелуев — пол;
Пятисоборный несравненный круг1
Прими, мой древний, вдохновенный друг.
К Нечаянныя Радости в саду
Я гостя чужеземного сведу.
Червонные возблещут купола,
Бессонные взгремят колокола,
И на тебя с багряных облаков
Уронит Богородица покров,
И встанешь ты, исполнен дивных сил...
Ты не раскаешься, что ты меня любил.
1 Пятисоборный круг — соборы Успенский,
Благовещенский, Архангельский, Вознесения
Господня и Чуда архангела Михаила, два послед-
них уничтожены в 20-е годы, в частности, глав-
ный храм Чудова монастыря, иноком которого
был Григорий Отрепьев — Димитрий Самозва-
нец, персонаж многих стихотворений Цветаевой.
Цветаева выступает щедрой дарительни-
цей, она распахивает перед «гостем чуже-
земным» и «Спасские — с цветами — во-
рота» (она и себя дарит, впуская гостя в
собственный храм, и этот знак читается от-
кровенно и доверительно), и «часовню
звездную», и «пятисоборный несравненный
круг*, и церковь Нечаянныя Радости.
Ответ Мандельштама необычен, его сти-
хи почти не походят на привычный для это-
го периода стиль поэта. Здесь слышна пуш-
кинская интонация, гармония, исчезает
трагизм. Строка «Напоминает мне явление
Авроры...» схожа с пушкинской: «Пред ли-
ком северной Авроры звездою Севера
явись...»
В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой.
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой...
Не диво ль дивное, что вертоград нам снится.
Где реют голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное — Флоренция в Москве,
И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.
И у Цветаевой, и у Мандельштама —
«церкви поют», голуби над ними «реют»,
торжественно звучит хор златоглавых церк-
вей первопрестольной Москвы.
В диалоге двух поэтов, открывающемся
нам, всяк — двойник и всяк соперник.
Однако единство, согласие сохраняются
очень недолго. Дело не только в масленич-
ных игрищах-состязаниях. Самозванец —
личность столь обаятельная, сколь и са-
мостоятельная. Мандельштам согласен со-
единить «латынь» и Россию через ар-
хитектуру московских соборов, автором
которых был итальянский архитектор
Фьораванти из Флоренции (отсюда «Фло-
ренция в Москве»), объединить свой Рим и
цветаевскую Москву — русскую душу.
Флоренция в Москве — прямой намек на
фамилию «Цветаева» (от «флора» — цве-
ток).
285
Русские писатели XX века
Боязнь, риск потерять свою незыблемую
индивидуальность, собственное «я», свою
исключительность закладывают взрывча-
тый конфликт внутри этого диалога. Ведь
речь идет о путях Поэтов, мир которых про-
низан чувством Имени, трепетом индвиду-
альных путей и судеб.
У каждого поэта — своя столица. Ман-
дельштам — поэт сурового Петербурга, сар-
донической «желтизны правительственных
зданий», Цветаева — певец Москвы огром-
ного странноприимного дома, обогреваю-
щего и звонко-веселого:
У меня в Москве — купола горят,
У меня в Москве — колокола звонят...
Взаимопритяжение и взаимоотталкива-
ние изначальны. Сошлись и встретились
две планеты, два космических тела, два
светила. Не только схождение, но даже
прохождение вблизи друг друга грозит
столкновением и катастрофой. Слишком
самостоятельны, и суверенны, и автономны
их поэтические системы, чтобы подвергать-
ся какому бы то ни было влиянию.
В цветаевском цикле «Стихи о Москве»,
«театральный роман» с Мандельштамом
только обозначен, но «сюжет» о разрыве и
пафосе этого разрыва читается довольно
легко. Самый конфликт, спор, «диалог*
Цветаева представляет как извечный
«спор» двух столиц — Петербурга и Моск-
вы.
Петр отверг Москву как столицу России,
перенеся ее на северо-западную окраину.
В цикле Цветаевой «Стихи о Москве» Моск-
ва традиционно предстает как «город-жен-
щина», а Петербургу придано ярко выра-
женное «мужское» начало.
«Петербург вобрал все мужское, все разум-
но-сознательное, все гордое и насильственное в
душе России, — писал замечательный русский
мыслитель Георгий Федотов. — Вне его осталась
Русь, Москва, деревня, многострадальная земля,
жена и мать, рождающая, согбенная в труде, не-
истощимая в слезах... Когда слезы все выплака-
ны, она послала ему проклятье... Но без их слия-
ния — в вечной борьбе — не бывать русской куль-
туре...»
Цветаевой теперь недостаточно даже
формального равенства. Именно в это время
необычаен по мощи и силе ее поэтический
рост. Но для каждого из участников этого
своеобразного поэтического турнира Поэ-
зия — собственное свободное государство.
Не соперничество, а свободное и равное со-
существование обогащает культуру. Мари-
на не смогла «ввергнуть» Мандельштама в
свою поэтическую стихию. И Мандельштам
уехал в Петербург. Это не значило еще, что
утратило свою силу и погасло сердечное
чувство влюбленности и привязанности
Мандельштама к Цветаевой. Нет, чувство
продолжало жить, а сердце продолжало лю-
бить. Но любовь не источник рабства. К то-
му же наступательность цветаевского чув-
ства была всегда столь сильна, что выдер-
жать этот эмоциональный всплеск всех
глубин души, эту обрушивающуюся на из-
бранника любовь могли далеко не многие.
Часто избранники Марины принимали эту
эмоциональную наступательность дарения
себя за агрессивность и вероломство, стерм-
ление подчинить и поработить. И... бежа-
ли. Разлука была неизбежна.
Отступничество Мандельштама и бегство
в Петербург Марина истолковала философ-
ско-исторически и в то же время — не без
иронии. Она — в роли отверженной и от-
вергнутой? Никогда!
Над городом, отвергнутым Петром,
Перекатился колокольный гром.
Гремучий опрокинулся прибой
Над женщиной, отвергнутой тобой.
Царю Петру и Вам, о царь, хвала!
Но выше вас, цари: колокола.
Пока они гремят из синевы —
Неоспоримо первенство Москвы.
— И целых сорок сороков церквей
Смеются над гордынею царей!
28 мая 1916 года
Так Марина Цветаева определила свое
отношение к непреложному факту разрыва.
Для нее ее Царство — ее поэзия, это — чер-
вонное золото куполов, гремящие колоко-
ла, сияние часовен рядом с молодым озор-
286
Марина Ивановна Цветаева
ством и дерзостью, жизнетворчеством и
жизнерадостностью.
Цветаева и Мандельштам еще встретятся
в июне 1916 года, в Александрове Влади-
мирской губернии.
Мандельштам устремился в Александ-
ров, надеясь на продолжение поэтического
романа: он хотел восстановить пережитое.
Но перед Мандельштамом была не прежняя
вдохновенно-романтическая Амазонка или
Самозванка, а вполне земная Марина Цве-
таева, занятая бытом, детьми (она помогала
Анастасии Ивановне, своей сестре, при-
сматривая за ее сыном Андрюшей и одно-
временно за своей маленькой Алей).
«Александровом подавился, как ябло-
ком», — насмешливо скажет Цветаева о
Мандельштаме, вспомнив позднее его при-
езд в Александрову слободу.
Гордый петербуржец не просто не выдер-
живает приземленного быта. Нарушены
прежние иерархические отношения. Со-
всем недавно (каких-нибудь четыре месяца
назад!) Мандельштам был для Цветаевой
кумиром, молодым Державиным, романти-
ческим Орленком, сильным и гордым Само-
званцем. Теперь он сброшен с высот поэзии
на грешную землю. Его роль теперь — роль
шута, паяца, юродивого.
Мандельштам уезжает столь же внезап-
но, как и появляется. Он едет в Крым, к Во-
лошину, в Коктебель. Пройдет немного вре-
мени после отъезда Мандельштама в Кокте-
бель, и Цветаева получит первое после его
отъезда послание. Семихолмие Москвы,
холмы Александрова, скалы Коктебеля —
все соединилось. И отступило перед строч-
ками:
Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим...
Мандельштам предчувствовал разрыв в
истории. Разорванную цепь он восстанав-
ливал вновь переживаемым, вечным и ни-
когда не утраченным чувством.
От монастырских косогоров
Широкий убегает луг,
Мне от владимирских просторов
Так не хотелося на юг,
Но в этой темной, деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкою туманной
Остаться — значит, быть беде.
Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой.
Я знаю — он остался белый
Под смуглой прядью золотой.
Целую кисть, где от браслета
Еще белеет полоса.
Тавриды пламенное лето
Творит такие чудеса.
Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла,
Не отрываясь, целовала,
А гордою в Москве была.
Нам остается только имя:
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.
«Не так много мне в жизни писали хоро-
ших стихов, — вспоминала Цветаева в «Ис-
тории одного посвящения», — а главное: не
так часто поэт вдохновляется поэтом...»
И еще в одном она была права: «Чувство
Истории — это чувство Судьбы»...
20-Е ГОДЫ: ОТЪЕЗД ИЗ РОССИИ
— Ваши любимые книги?
На вопрос литературного эмигрантского
журнала «Своими путями» Марина Цвета-
ева отвечала, как всегда, дерзко:
— Те, с которыми сожгут!
Книг она назвала три: «Илиаду», «Песнь
о Нибелунгах» и «Слово о полку Игореве».
Образами «Слова», мотивами его, отзву-
ками наполнены и ее стихи, и ее проза.
Время Поэта, по Цветаевой, — это вся
история. «От князя Игоря — до Ленина».
Пушкин дорог ей не только как великий
поэт и как великий знаток своей современ-
ности, но и как первый защитник подлин-
ности новооткрытого тогда «Слова о полку
Игореве».
«Поэт — очевидец всех времен в исто-
рии», — любила повторять Цветаева. Вну-
три истории Цветаева передвигалась совер-
шенно свободно, паря в разных эпохах и
пространствах. Уходя во времена седой
древности и становясь Ярославной, герои-
287
Русские писатели XX века
ней древнерусских легенд и сказаний
(«Царь-Девица»), Мариной Мнишек — са-
мозванкой поры Великой смуты на Руси,
чернокнижницей, Учеником, познающим
«час ученичества», Острожником, связан-
ным с Конвойным одной подорожной.
В бытии и биографии Цветаевой потряса-
ет и пронзает постижение истории как вы-
сокой трагедии.
Русский фольклор, устное народное
творчество, русская поэтическая речь, на-
чиная со «Слова о полку Игореве», кончая
лирикой XX века, воспринимались Цветае-
вой на музыкальном уровне — всегда в тра-
гическом ключе, а «Слово о полку Игореве»
особенно — как трагический плач о гибели
русских воинов, о великих ошибках, за ко-
торые расплачиваются великой кровью.
От фольклора Цветаева возьмет непри-
вычную для поэзии XX века высоту тембра,
речи, звука, голоса. Ее лирика — крик, что-
бы докричаться, плач, вопль русских вопле-
ниц. Крик, не услышанный и не понятый
массовым сознанием, несмотря на попытку
поэта прорваться сквозь барьер глухоты.
Предчувствие собственной трагической
судьбы — в неодолимых, часто кошмар-
ных, обвальных снах. Сны подробны, сю-
жетны, не стираются из памяти, и Цветаева
их внимательно записывает, делится свои-
ми снами с собеседниками, рассказывает о
них в письмах.
Письмо семнадцатилетней Марины дру-
гу семьи, литератору и критику Эллису.
1909 год. Еще благополучная семья, хотя в
сердце боль о матери, рано ушедшей из
жизни. Но бодр и энергичен отец, дом жи-
вет полной жизнью.
Во сне Марина видит Париж. Совсем не
тот, где она провела счастливые дни своей
жизни, слушая лекции в Сорбоннском уни-
верситете и отдаваясь незабываемым впе-
чатлениям в театре, где она видела Сару
Бернар.
Сон являет иной Париж, Париж кошма-
ров. Трамвай гонится за ней, она бежит по
рельсам, но он упрямо гонится, настигая да-
же тогда, когда она бежит с рельсов прочь.
Она оказывается в ловушке. Сзади скачу-
щий трамвай, впереди — выжидающий ав-
томобиль. И удивительно возникающая ря-
дом, бессильная спасти Марину и мучаю-
щаяся от беспомощности — мать. Затем
видение старухи. Старуха вынимает из кар-
мана мел и пишет мелом на уличной сте-
не одно слово — «уничтожить!» Комната.
В детской, на кровати (!) сидит незнакомый
господин — следователь. Рядом с ним —
казенная барышня (секретарь-машинист-
ка), с перочинным ножом в руках. А по сту-
пенькам лестницы пытается подняться на-
верх деревце в кадке, зеленое, милое... Она
знает — это идет спасти ее, Марину, мать.
Она обнимает ствол, целует хрупкие лис-
точки, видит записку. «Дорогая Муся!»
Но почерк не материнский, чужой. Подме-
на, обман. В углу «материнской» записки
штамп — «следователь по судебным де-
лам»... Марина гонит следователя вон. Сно-
ва улица, трамвай. Из трамвая свисает пове-
шенный в красном костюме — следователь...
1937 год. Реальный Париж. Бегство му-
жа Марины, Сергея Эфрона, от преследова-
ния французской полиции. Газеты пестрят
заголовками: «Эфрон — агент ЧК — ГПУ»,
Марину допрашивают во французской по-
лиции... «В Париже мне не жить...» Ког-
да-то написанное мелом во сне слово «унич-
тожить» вспыхивает с новой угрожающей
силой.
Сон, по Цветаевой, — удар узнавания.
Спящего не обманешь и спящего — не спа-
сешь.
Настанет день, — печальный, говорят! —
Отцарствуют, отплачут, отгорят, —
Остужены чужими пятаками, —
Мои глаза, подвижные, как пламя.
И — двойника нащупавший двойник —
Сквозь легкое лицо проступит — лик.
О, наконец тебя я удостоюсь,
Благообразия прекрасный пояс!
А издали — завижу ли и вас? —
Потянется, растерянно крестясь,
Паломничество по дорожке черной
К моей руке, которой не отдерну,
К моей руке, с которой снят запрет,
К моей руке, которой больше нет...
И наконец-то, будет разрешен
Себялюбивый, одинокий сон.
288
Марина Ивановна Цветаева
И ничего не надобно отныне
Новопреставленной боярыне Марине...
Это написано в 1916 году. Узнаны и на-
званы: чужие пятаки, которыми остудят
смертные очи. И паломничество любящих
ее читателей и почитателей — это о них, о
нас, сегодняшних, точно и недвусмысленно
сказала Цветаева в 1916-м: «растерянно
крестясь...» А откуда тайное знание — на
запрет ее имени, творчества и — воскреше-
ния после смерти?.. «По улицам оставлен-
ной Москвы поеду я...» Она и впрямь уез-
жала в 1941 году с партией эвакуирован-
ных, но в совершенном одиночестве, в
последнюю свою дороженьку — на Елабугу.
Сны были разными. Себялюбивыми и
честолюбивыми. Бескорыстными — всегда,
она никогда не выступала в своих снах но-
сительницей злых чар.
Первое предсказание в стихотворении
♦Настанет день...» — о читающем Поэта и
поклоняющемся ему новом поколении лю-
дей, о «паломничестве» к Поэту, освобож-
дении имени Поэта от всех запретов уже
после смерти:
К моей руке, с которой снят запрет,
К моей руке, которой больше нет...
Второе предсказание Цветаевой касается
именно СНА, которому надлежит быть раз-
решенным, то есть осуществленным, воп-
лощенным в жизнь. Цена этого разреше-
ния — исполнения Сна — будет неизбывно
высока, как и цена всякой свободы и воли,
свободы и раскрепощенности.
Сну надлежит разрешиться трагически.
Паденье с высоты — основное содержа-
ние сна. Паденье, понятое как катастрофа.
В пропасть, в бездну, в яму, в ничто и в ни-
куда — в смерть. Этот мотив паденья с вы-
соты — один из наиболее часто повторяю-
щихся в лирике Цветаевой, в ее письмах
разных периодов.
Сон о желанной высоте и гибели. О ги-
бельности путей и гибельности судеб.
«Все не как у людей. Могу жить только во сне,
в простом сне, который снится: вот падаю с соро-
кового сан-францисского этажа, вот рассвет и ме-
ня преследуют, вот чужой — и — сразу целую,
вот сейчас убьют — и лечу. Я не сказки рассказы-
ваю, мне снятся чудные и страшные сны, с лю-
бовью, со смертью, это моя настоящая жизнь, без
случайностей, вся роковая, где все сбывается...»
(сентябрь 1923).
«Состояние творчества, — писала Цветаева, —
есть состояние сновидения...» «Чистая лирика
есть запись наших снов и ощущений плюс моль-
ба, чтобы эти сны и ощущения никогда не иссяк-
ли...»
Даже гибельные, «роковые* сны для Ма-
рины Цветаевой — творческий способ по-
стижения мира, причащения к внутреннему
пульсу жизни. Сон бескорыстен, в нем нет
заранее выстроенной, обдуманной, проду-
манной, обеспеченной цели, то есть корыс-
ти. Это порыв жизни и потребность творче-
ства — творчество, пророчество, предвиде-
ние. «Пишу и существую только во сне».
Сон для Цветаевой — инвариант трагиче-
ского, предвестие будущей реальности.
Лишь непосвященный может приписать
все мистике. Ученые давно изучают особен-
ности художественного творчества, разга-
дывая связи «сон — фантазия — воображе-
ние». Сон — всепроникающ, ибо основан на
бессознательных, интуитивных и почти не-
уловимых сознанием образах. Сон — кон-
центрация творческих способностей челове-
ка. У глубокого, подлинного художника
сон всегда — портрет времени. Узнавание
будущего.
В 1920 году Цветаева переживает траги-
ческую смерть маленькой дочки Ирины,
которую она отдала в детский приют, пыта-
ясь спасти ее от голода. Нет известий от му-
жа, Сергея Эфрона, — он был на Дону, в До-
бровольческой армии у белых. В лириче-
ских «снах» того времени Цветаева видит
себя героиней «Слова о полку Игореве* —
Ярославной.
«Плач Ярославны» — цикл из четырех
стихотворений Цветаевой 1920 года1.
1 В 1922 году цикл «Плач Ярославны* был
опубликован в журнале «Русская мысль» (Моск-
ва — София — Прага — Берлин — Париж). Он
войдет в книгу стихов «Лебединый стан» (при
жизни Цветаевой цикл не был издан: воля автора
была — не публиковать). В России «Лебединый
стан» впервые увидел свет в 1990 году.
10 Зи. 848
289
Русские писатели XX века
«Слово* понято, прочувствовано, пере-
жито как великое трагедийное произведе-
ние. Для Цветаевой диссонансом звучит да-
же финал «Слова», где Игорь возвращается
из плена, где «страны рады, города весе-
лы», где девицы поют на Дунае и вьются их
голоса за море и долетают до Киева. И все
поют славу вернувшемуся Игорю. Финал
«Слова» — по Цветаевой — иной.
Лжет летописец, что Игорь опять в дом свой
Солнцем взошел — обманул нас Баян льстивый.
Знаешь конец? Там, где Дон и Донец — плещут.
Пал меж знамен Игорь — на сон — вечный...
Приклонись к земле, зовет Цветаева,
и ты услышишь, что вся Русь через моря
плачет Ярославной. Над Русью стоит вре-
мечко Бусово — серое, волчье. Озером льет-
ся Жаль-Печаль, Русская тоска, полем раз-
ливается Дева-Обида, деревом раскидывает-
ся Див, Вороном — над Россией — Гзак.
Над Россией — смута, раздор. Царствует
над ней — хан Лазей, царь Раскрадынь:
рознит князей, вдовит княгинь.
Исполосована Русь моя Русая,
Гзак да Кончак еще, вороны Бусовы...
В 1921 году Цветаева читала свой цикл
«Плач Ярославны» в Москве, на женском
поэтическом вечере, который вел Брюсов.
Снисходительно отнесшийся к «женской»
(«дамской») лирике, Брюсов предпочел не
заметить гражданской страстности и силы
поэзии Марины Цветаевой.
Впереди были версты, дали скитаний.
Впереди была чужбина.
Жестокосердные друзья — от обильной
жизни угощающие — в голод! — за чаем —
печеньем! «Если бы вы просто дали мне на
завтра кусочек хлеба...»
11 мая 1922 года с Рижского (тогда он
назывался Виндавский) вокзала в Москве
отошел поезд в Берлин. Цветаева покидала
Россию. Она ехала к мужу, которого нако-
нец-то разыскала после многолетней разлу-
ки. В цикле «Разлука* читаем:
Все круче, все круче
Заламывать руки!
Меж нами не версты
Земные, — разлуки.
Небесные реки, лазурные земли,
Где друг мой навеки уже —
Неотъемлем...
И одновременное осознание резкой, бес-
пощадной (когда возврата нет) границы с
Родиной.
Рас — стояние: версты, дали...
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв,
И не знали, что это — сплав...
По трущобам земных широт
Рассовали нас, как сирот...
Заказ времени — не дань времени. По за-
казу идеологов Цветаева не писала. Если
бы заказали «Лебединый стан» идеологи
белого движения, признавалась Цветаева,
из этой затеи ровным счетом ничего бы не
вышло. Ибо в дело любви вмешалась бы
третья, губительная для всего творчества
сила — политическая программа.
Заказ времени для Цветаевой — приказ
совести. А это вещь вечная. Совести за всех
тех, «кто в чистоте сердца были убиты и не
воспеты...» У Цветаевой главенство любви
над ненавистью. Понимание всероссий-
ской, русской, вселенской трагедии Граж-
данской войны.
Летел, тревожил, рвал сердца над бес-
крайними полями Плач Ярославны — рус-
ской матери, оплакивающей своих сыно-
вей. Плач Ярославны — России:
И справа и слева
Кровавые зевы,
И каждая рана:
— Мама!..
Все рядком лежат —
Не развесть межой.
Поглядеть: солдат.
Где свой, где чужой?
Белый был — красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был — белый стал:
Смерть побелила...
И справа и слева
И сзади и прямо
И красный и белый:
— Мама!
290
Марина Ивановна Цветаева
ПОСЛЕ РОССИИ
В мае 1926 года суждено было соеди-
ниться трем поэтическим путям образовал-
ся великий треугольник — Пастернак —
Цветаева — Рильке, с центром — в поэтиче-
ском сердце Цветаевой. Трех европейских
поэтов соединили трагические обстоятель-
ства — смертельная болезнь Рильке, о кото-
рой никто из его друзей не догадывался,
духовное одиночество Цветаевой, пережи-
вавшей свою оторванность от России, не-
свобода и духовный плен Бориса Пастерна-
ка.
Райнер Мария Рильке был старшим в
этом треугольнике. Ему исполнилось к то-
му времени 50 лет. Он был крупнейшим не-
мецкоязычным поэтом XX века. В апреле
1899 года Рильке впервые посетил Россию.
Леонид Осипович Пастернак, известный
художник, отец Б. Пастернака, познако-
мил молодого поэта с Львом Николаевичем
Толстым. После этого визита Рильке углуб-
ленно занялся изучением русской культу-
ры. Он читает в оригинале русских класси-
ков, переводит на немецкий язык «Чайку*
Чехова, стихи русских поэтов. Цветаева и
Пастернак в годы войны и революции были
почти не знакомы. По словам Цветаевой:
«Три-четыре беглых встречи. — И почти
безмолвных, ибо никогда ничего нового не
хочу. — Слышала его раз, с другими поэта-
ми в Политехническом музее. Говорил он
глухо и почти все стихи забывал. Отчуж-
денностью на эстраде явно напоминал Бло-
ка. Было впечатление мучительной сосре-
доточенности, хотелось — как вагон, кото-
рый не идет — подтолкнуть». Пастернак, со
своей стороны, так же вспоминает случай-
ность их первых встреч.
Уже после отъезда Цветаевой в Берлин
Пастернаку попались изданные в 1921 году
«Версты». Он прочел сборник и написал
Цветаевой длинное восторженное письмо.
Спустя тридцать пять лет Пастернак рас-
скажет об этом в автобиографии.
«В нее надо было вчитаться. Когда я это сде-
лал, я ахнул от открывшейся мне бездны чистоты
и силы. Ничего подобного нигде кругом не су-
ществовало... Не возьму греха на душу, если ска-
жу: за вычетом Анненского и Блока и с некоторы-
ми ограничениями Андрея Белого, ранняя Цвета-
ева была тем самым, чем хотели быть и не могли
все остальные символисты, вместе взятые. Там,
где их словесность бессильно барахталась в мире
надуманных схем и безжизненных архаизмов,
Цветаева легко носилась над трудностями настоя-
щего творчества, справляясь с его задачами игра-
ючи, с несравненным техническим блеском.
Весной 1922 года, когда она была уже за гра-
ницей, я в Москве купил маленькую книжечку ее
«Версты». Меня сразу покорило лирическое мо-
гущество цветаевской формы, кровно пережитой,
не слабогрудой, круто сжатой и сгущенной, не за-
пихивающейся на отдельных строчках, охваты-
вающей без обрыва ритма целые последователь-
ности строф развитием своих периодов.
Какая-то близость скрывалась за этими осо-
бенностями, быть может, общность испытанных
влияний или одинаковость побудителей в форми-
ровании характера, сходная роль семьи и музы-
ки, однородность отправных точек, целей и пред-
почтений.
Я написал Цветаевой в Прагу письмо, полное
восторгов и удивления по поводу того, что я так
долго прозевывал ее и так поздно узнаю. Она от-
ветила мне. Между нами завязалась переписка,
особенно участившаяся в середине двадцатых го-
дов, когда появилось ее «Ремесло» и в Москве
стали известны в списках ее крупные по размаху
и мысли, яркие, необычные по новизне «Поэма
Конца», «Поэма Горы» и «Крысолов». Мы подру-
жились*.
Переписка Цветаевой и Пастернака дли-
лась с 1922 по 1935 год.
И Пастернак для Цветаевой стал истин-
ным открытием. Первым ее потрясени-
ем становится пастернаковская книга
♦Сестра моя — жизнь». Пастернак для Цве-
таевой — световой ливень. Явление редкой
лирической силы.
Мир подлинной любви для Цветаевой
тот, где происходит слияние душ, а не тел.
Эта любовь — особая. Образ ее поэтической
любви — рукопожатья без рук, поцелуи без
губ. В одном из ее стихотворений 1922 года
есть такие слова:
В мире, где реки вспять.
На берегу — реки,
В мнимую руку взять
Мнимость другой руки.
291
Русские писатели XX века
«Когда вы любите человека, вам всегда
хочется, чтобы он ушел, чтобы о нем помеч-
тать», — говорил ей Волошин в 1911 году.
Цветаева стремится освободить нахлынув-
шие чувства от «земных уз».
Ее любимый образ — прикосновенье,
стиль ее поэтической походки в воображе-
нии — «прокрасться, не оставив следа».
«Я не живу на своих устах, и тот, кто
меня целует, минует меня», — пишет
она Рильке 22 августа 1926 года. «Не хо-
теть» — один из лейтмотивов ее писем к не-
му. В них происходит именно касанье несу-
ществующих «мнимых рук», соприкосно-
вение «в слове», встреча «в духе». Для
Цветаевой такая «встреча» не игра вообра-
жения, Цветаева создает виртуальную, как
бы мы сказали сегодня, реальность — ре-
альность «души», реальность любви в худо-
жественных снах-письмах.
«Сон» — прообраз иного мира, в котором
живут и встречаются души. Общение «во
сне» было для Цветаевой ощутимее, чем об-
щение наяву.
«Мой любимый вид общения — потусто-
ронний — сон: видеть во сне», — пишет она
Пастернаку 19 ноября 1922 года.
Общение с поэтами приводит Цветаеву в
творческое, почти экстатическое состояние.
Она с головой бросается в новую реаль-
ность, целиком отдаваясь ей, вкладывая в
свои письма всю свойственную ей страст-
ность, порывистость, неистовость. Она за-
частую не видит реального, земного челове-
ка.
С этим связаны и высочайшие взлеты, и
трагические падения цветаевского «жизне-
творчества».
Почти забыв о своем собеседнике, спеша
выговориться о своем наболевшем, Цвета-
ева не почувствовала странной интонации в
письмах Рильке, где он отказывал ей в на-
дежде на близкое свидание, зная, что смер-
тельно болен. Смерть Рильке потрясла ее,
это была внутренняя катастрофа, от кото-
рой она не могла себя спасти или защитить.
Реакцией на смерть друга стало стихотворе-
ние «Новогоднее», лирический шедевр Цве-
таевой, которому Иосиф Бродский посвя-
тил целое исследование. До конца жизни
Цветаева винила себя за черствость и эго-
изм. «С тех пор, как его не стало, у меня нет
ни друга, ни радости», — признавалась она
в 1930 году близкой приятельнице Рильке.
СРОК КАТАСТРОФЫ
Русской ржи от меня поклон,
Ниве, где баба застится...
Друг! Дожди за моим окном,
Беды и блажи на сердце...
1925
В этом стихотворении, адресованном
Пастернаку, неудержимо и страстно про-
рывалась тоска по России. «Тоска по Роди-
не! Давно разоблаченная морока!..» (1934).
В этом стихотворении пронзительное чувст-
во разлуки с Родиной доведено до ирониче-
ского отвержения и отрицания, до аполо-
гии (воспевания) безразличия и равноду-
шия к любому дому.
Мне совершенно все равно —
Где совершенно-одинокой
Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь, или казарма...
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё — равно, и всё — едино...
Равнодушие и безразличие нарочиты.
Они выставлены напоказ. Равнодушие за-
явлено точно политическая программа. Но
сами стихи, задолго до решающей послед-
ней строки, кричат о другом... Они кричат
об одиночестве и сиротстве, о болезни чуж-
бины, чужести, собственной ненужности и
невостребованности.
«Совершенно-одинокая »! Определение,
напоминающее окончательный и безутеш-
ный диагноз. «Брести с кошелкою...*, «по
камням», «дом — госпиталь», «дом — ка-
зарма...», «дом, не знающий, что — мой...»
Везде — отсутствие дома, гнезда, пристани-
ща, уюта.
Последнее двустишие стихотворения
♦Тоска по родине! Давно...» — «Но если по
дороге — куст // Встает, особенно — ряби-
на...» — говорит о главном. От России ни
292
Марина Ивановна Цветаева
скрыться, ни уединиться, ци спрятаться —
не дано.
«Рябина — судьбина горькая... Рябина!
Судьбина русская».
Эмиграция обострила чувство родины.
♦ Россия не есть условность территории,
а непреложность памяти и крови, — писала
Цветаева, отсекая доносившиеся до нее го-
лоса «красной России», яростно споря с той
частью эмиграции, которая считала, что
вне России творчество русского художника
невозможно. — Не быть в России, забыть
Россию — может бояться лишь тот, кто
Россию мыслит вне себя. В ком она внутри,
тот потеряет ее лишь вместе с жизнью*.
И еще: «Знающий Россию, сущий — Рос-
сия, прежде всего и поверх всего — и самой
России — любит все, ничего не боится лю-
бить. Это-то и есть Россия: безмерность и
бесстрашие любви. И если есть тоска по ро-
дине — то только по безмерности мест: от-
сутствию границ».
В этом признании вся Цветаева — без-
мерность и бесстрашие любви открывало
безмерность и бесстрашие ее сердца.
«Любит все, ничего не боится любить...»
Мысли о России — мучительные, кровото-
чащие раны. Постоянно продолжающийся
поединок, своего рода дуэль, с самой собой,
не на жизнь, а на смерть. Гамлетовский во-
прос: быть или не быть? Быть или не быть в
России?
♦Все меня выталкивает в Россию, — пи-
шет Цветаева в 1931 году, — в которую я
ехать не могу. Здесь я не нужна. Там я не-
возможна».
А Бог с вами!
Будьте овцами!
Ходите стадами, стаями
Без меты, без мысли собственной
Вслед Гитлеру или Сталину,
Являйте из тел распластанных
Звезду или свасты крюки...
Нет, Цветаева не обольщалась прекрас-
нодушием, отчетливо осознавая схожесть
двух тоталитарных систем, обрекающих
поэтов на «последний мрак, полную глухо-
немость». Этот стихотворный набросок
1934 года наполнен отзвуками пушкинских
стихов: «Паситесь, мирные народы! Вас не
разбудит чести клич. К чему стадам дары
свободы? Их должно резать или стричь. Иг-
рушки их из рода в роды — ярмо с гремуш-
ками да бич».
В тридцатые годы сердце Цветаевой об-
ращено к Пушкину. У Пушкина она ищет
ответа на свои беспощадные вопросы.
В марте 1937 года в Советский Союз воз-
вращается дочь Цветаевой — Аля (Ариад-
на). Сергей Эфрон, движимый лучшими
патриотическими чувствами, вступил в
свое время в организацию под названием
«Союз за возвращение на родину», думая о
возвращении в Россию, не подозревая о
том, что Союз — «крыша» ГПУ — НКВД.
По сути, органы НКВД завербовали Эфрона
на службу, посулив ему, вероятно, быстрое
возвращение домой с семьей и прощение
♦белых», «добровольческих* грехов —
службу в Белой армии. Сергей Эфрон при-
нимал участие в убийстве советского раз-
ведчика Рейсса, отказавшегося выполнять
задания НКВД. Эфрон был разоблачен па-
рижской полицией, но не схвачен. Через
некоторое время он тайно переправляется в
СССР. Французские газеты кричат о совет-
ском шпионе Сергее Эфроне.
В Париже Цветаеву называют больше-
вичкой. Эмигрантские круги с презрением
отворачиваются от нее. Остается небольшой
круг преданных друзей. Повторяется во
многом ситуация 1922 года, когда Цветаева
не мыслила покидать Россию, однако
отъезд был неизбежен. Воссоединить
семью, не рвать на части душу — вот что
стояло за этим шагом. Теперь гамлетовский
вопрос возникает с прежней силой. Она и
знает, и не знает, что вернется в Россию.
В 1937 году, в год столетия со дня смерти
Пушкина, Цветаева пишет литературное
эссе-исследование «Пушкин и Пугачев».
Дата — не только пушкинская. В очерке
Цветаева сравнивает два пушкинских про-
изведения — «Историю Пугачевского бун-
та» и «Капитанскую дочку».
В «Истории...» Пугачев — беспримес-
ный, чистый злодей, от зверств которого
стынут жилы. Основываясь на историче-
ских документах, почерпнутых в архивах,
293
Русские писатели XX века
Пушкин дает кровавый лик мятежа. «Ка-
питанская дочка» написана позднее. Цвета-
ева читает повесть как своеобразное заве-
щание Пушкина. И пытается понять, поче-
му же в «Капитанской дочке» Пугачев —
другой, иной, обладающий странным могу-
чим обаянием. Вожатый, несущий в себе за-
гадку и чары. «Да, и здесь Пугачев — ужа-
сен, и здесь — изверг, злодей. Злодей для
всех, но не для меня...». И Цветаева...
отождествляет себя с Гриневым. Николай
Первый — и Пушкин. Пугачев — и Гринев.
Самозванец (Пугачев) врага (Гринева) —
за правду — отпустил... Самодержец — поэ-
та — за правду — приковал. От Пугачева на
Пушкина, по словам Цветаевой, сошла мо-
гучая чара. Полюбить того, кто на твоих
глазах (Гринева) убил отца, а затем и мать
твоей любимой, оставив ее круглой сиро-
той? Только «чара» может как бы закрыть
все злодейства. Иначе объяснить это невоз-
можно, нельзя. Однако притягательная си-
ла, необъяснимая и неодолимая, влечет
Гринева к Пугачеву. Почему?
Ему снится, что срочной депешей его вы-
зывают к смертельно больному отцу. Он
мчится домой. Входит в комнату — и видит
на постели вместо умирающего отца огром-
ного чернобородого мужика с веселыми
глазами. Мужик, выхватя топор, стал ма-
хать им влево и вправо. Угрожать Гриневу?
Но во сне явилась «безнаказанность» стра-
ха, точное знание того, что «я», то есть Гри-
нев, уцелеем... Как, каким образом? Какой
способ уцелеть явился в повести?
Гриневу велят подойти к Пугачеву и по-
целовать ему руку.
Целовать руку убийце? Цветаева, как и
Гринев, отвечает: нет! «Пугачев в ту минуту
был — власть, насилие, нет, больше —
жизнь и смерть, итак, поцеловать руку я
при всей своей любви не смогла бы...» Гри-
нев отказался целовать руку злодею — под
страхом смерти.
Диалог между Гриневым и Пугачевым
Цветаева называет бессмертным. Диалог —
последнее испытание Гринева.
— А коли отпущу, — спрашивает Пуга-
чев, — так обещаешься ли, по крайней ме-
ре, против меня не служить?
И блестящий, мужественный ответ Гри-
нева. Честный, прямой, искренний.
— Как могу тебе в этом обещаться? —
отвечал я. Происходит очная ставка —
долга и бунта. После этого ответа Гринева
Пугачев поступает парадоксально — он не
велит казнить, велит — миловать. Пугачев
«изнутри своей волчьей любви» ягненка
(Гринева) отпустил. Гринев — по Цветае-
вой (и по Пушкину) — Пугачеву поверил.
Поверил полному его бескорыстию, чисто-
те его сердечного ответа.
Но странное чувство отравляет Гриневу
мысль о своем благодетеле: «мысль о зло-
дее, обрызганном кровью стольких невин-
ных жертв...»
Не увидеть здесь, в этой тщательно вы-
писанной Цветаевой пушкинской цитате,
ассоциаций с временем невозможно. Они,
эти переклички, напрашиваются сами со-
бой. Почему для Цветаевой так важно по-
вторить эту мысль о некоей завороженнос-
ти «чарой», «магией* тирана? Цветаева
объясняет: «Чара — скрывает все злодейст-
ва врага, все его вражество, оставляя толь-
ко одно: твою к нему любовь...»
Был ли это самообман Цветаевой, надеж-
да на то, что к ней, как к ягненку (Грине-
ву), проявят милость и понимание? Уто-
пия?
Пугачев для Цветаевой — не Самозванец
только, и не Самодержец, и не конкретный
вождь, дающий повод к ассоциациям трид-
цать седьмого года.
Пугачев — мятежная, кровавая Россия,
сама себя еще не познавшая, но обладаю-
щая странной, могучей «чарой».
«Тьмы низких истин нам дороже нас воз-
вышающий обман*.
Споря с Пушкиным, Цветаева повторяет,
что обман всегда низок, а истина всегда вы-
сока. Правда высока, совесть высока.
У Пушкина низких истин — ни одной.
Пушкин, приходит к выводу Цветаева, пре-
образил и Пугачева, даровав ему еще и вы-
сокие, человеческие качества. «И эта чисто-
та есть поэт». Низких истин ни одной —
чисто.
294
Марина Ивановна Цветаева
«Здесь — та Россия, — пишет Цветаева об
эмигрантской среде, там — вся Россия... Мои рус-
ские вещи, при всей моей уединенности, рассчи-
таны — на множества. Здесь множеств — физиче-
ски нет, есть группы... Не тот масштаб, не тот от-
вет...»
Поэту позволено мечтать о массовом чи-
тателе. Но Цветаева отчетливо понимает
идеологическую запрограммированность и
заданность искусства в СССР, а с другой
стороны, обреченность на изоляцию от об-
щего русла развития — эмигрантской рус-
ской литературы. «Россия, страна веду-
щих, от искусства требует, чтобы оно вело,
эмиграция, страна оставшихся, чтобы вмес-
те с ней оставалось, то есть неудержимо от-
катывалось назад. Там бы, в России меня не
печатали и читали, здесь меня печатают —
и не читают... В России меня лучше пой-
мут», — надеялась она.
Марина Ивановна соглашалась на вари-
ант, который ей казался приемлемым —
она не была столь прекраснодушна и наив-
на, чтобы мечтать о публикации. Остава-
лось чтение — в рукописях, в списках, на-
изусть, как это бывало извечно с лучшими
произведениями русской литературы. Она
надеялась на мгновенный отклик и пони-
мание в России — хотя бы небольшого кру-
га друзей, но, разумеется, куда более ши-
рокого, нежели в эмигрантском Париже.
«В России меня лучше поймут...» И вдруг
прозрение, что и эта надежда — утопия.
«Не печатали, но читали?» А если — и «не
печатали, и не читали»?
В этом же письме Цветаева добавляет,
дописывает вдруг прочувствованное, проро-
ческое:
«Но на том свете меня еще лучше поймут, чем
в России. Совсем поймут. Россия — только пре-
дел земной понимаемости, за пределом земной
понимаемости — беспредельная понимаемость
не-земли. Есть такая страна — Бог, Россия грани-
чит с ней, — так сказал Рильке. С этой страной
Бог — Россия по сей день граничит... Природная
граница, которой не сместят политики... На эту
Россию ставка поэтов».
Поэт — очевидец всех времен в исто-
рии, — любила повторять Цветаева. «Тай-
новидчество поэта есть прежде всего оче-
видчество внутренним оком всех времен».
Очевидец всех времен и есть тайновидец.
Отсюда «до-знанье» Цветаевой — «наперед-
знанье».
Пространство ее снов — от комнаты до
Вселенной. Знание пути, следование этому
знанию.
Таков ее полет — в «Поэме Воздуха» с
«паузами: пересадками с местного — в
межпространственный...»
Перед возвращением в Россию Цветаева
записывает в тетради подробный, протя-
женный сон. Столь же гибельный, сколь и
пророческий. С предчувствием небытия,
смерти, ухода, прощания, разлуки — на-
всегда.
Сон, в котором нет места никаким ча-
рам, ибо никакие чары от судьбы — не спа-
сают.
«Иду вверх по узкой горной тропинке. Слева
пропасть, справа отвес скалы. Разойтись негде.
Навстречу — сверху лев... Крещу трижды. Лев,
ложась на живот, проползает мимо со стороны
пропасти. Иду дальше. Навстречу верблюд, дву-
горбый... Крещу трижды. Верблюд перешагива-
ет... Иду дальше. Навстречу — лошадь. Она — не-
пременно собьет, ибо летит во весь опор. Крещу
трижды. И лошадь несется по воздуху — надо
мной. Любуюсь изяществом воздушного бега.
И — дорога на тот свет. Лежу на спине, лечу
ногами вперед, голова отрывается. Подо мною го-
рода, сначала крупные, потом горстки бедных ка-
мешков... Несусь неудержимо, с чувством страш-
ной тоски и окончательного прощания. Точное
чувство, что лечу вокруг земного шара, и страст-
но — и безнадежно! — за него держусь, зная, что
очередной круг будет — вселенная... Было одно
утешение, что ни остановить, ни изменить: роко-
вое...»
Всего четыре месяца оставалось до арес-
та дочери, всего полгода — до ареста мужа.
Ни остановить, ни изменить ничего было
нельзя.
12 июня 1939 года Марина Цветаева с
сыном Георгием (Муром) выехала в СССР.
Вскоре после ее приезда Сергей Яковлевич
и Ариадна были арестованы. Ариадна полу-
чила лагерный срок, а Эфрон был расстре-
лян, предположительно в августе 1941 го-
да. Цветаева боролась за жизнь в одиночку,
295
Русские писатели XX века
большинство бывших друзей покинули ее
из боязни общения с эмигранткой, чьи род-
ственники были репрессированы.
Существуют три главные версии само-
убийства Марины Цветаевой в августе 1941
года в Елабуге.
Первая принята сестрой поэта Анастаси-
ей Цветаевой. По этой версии, Марина Цве-
таева ушла из жизни, спасая или облегчая
жизнь своего сына. Она принимает роковое
решение, понимая, что с репутацией мате-
ри-«белогвардейки» Муру в СССР — не
жить.
Другая версия выдвинута Марией Бел-
киной («Скрещение судеб»): к уходу из
жизни Цветаева была внутренне давно го-
това, о чем свидетельствуют множество ее
стихотворений и дневниковые записи. К
этому добавляется предположение Белки-
ной о душевном нездоровье Цветаевой, обо-
стрившемся с начала войны.
Однако название этой душевной болезни,
поразившей к тому времени многих талант-
ливых художников, включая Пастернака,
Ахматову, Мандельштама, — страх. Страх,
ставший распространенным жизненным
явлением, страх в атмосфере государства,
уничтожавшего лучших людей своего вре-
мени.
«Вчера, 10-го, — записывала Цветаева в янва-
ре 1941 года в черновой тетради, — у меня зубы
стучали уже в трамвае — задолго. Так, сами. И от
их стука (который я, наконец, осознала, а может
быть, услышала) я поняла, что я боюсь. Как я бо-
юсь. Когда, в окошке, приняли, — дали жетон —
(№ 24) — слезы покатились, точно только того и
ждали. Если бы не приняли — я бы не плака-
ла...» (О поездке с передачей в тюрьму к мужу).
Короткая запись в другом месте тетради:
♦Что мне осталось, кроме страха за Мура
(здоровье, будущность, близящиеся 16 лет,
со своим паспортом и всей ответственно-
стью)?»
И еще запись, объясняющая все: «Страх.
Всего».
Оба слова подчеркнуты. В ее письмах
1939—1941 годов — россыпь признаний, в
которых отчетливо прочитывается страх
собственного ареста. А может быть, и арес-
та Мура.
В последние годы все большим доверием
пользуется третья версия гибели поэта, под-
робно изложенная Ирмой Кудровой в ее
книгах и статьях о Цветаевой. Роковая роль
отводится елабужским органам НКВД, по
всей вероятности, склонявшим Цветаеву
к сотрудничеству. «Отказываюсь быть —
в бедламе нелюдей...» «Ответ один — от-
каз» — эти строчки Марины Ивановны, ска-
занные по другому поводу, объясняют ее по-
зицию.
«Общая трагедия семьи неизмеримо пре-
взошла все мои опасения», — сказал о судь-
бе Цветаевой и ее родных Борис Пастернак.
Пока ты поэт, тебе гибели в стихии —
нет. Гибель наступила тогда, когда всякий
путь к творчеству был отрезан, когда Цве-
таева была выброшена в одиночество, в без-
людье, в пустоту.
Через сто лет после ее рождения ее сти-
хам настал долгожданный черед.
Т. В. Павловец
Иван Сергеевич
Шмелев
(1873—1950)
Потомкам, а иногда и современникам,
удачно уловившим момент зарождения но-
вого таланта, свойственно старательно
всматриваться в облик его обладателя.
Ими движет желание выявить нечто глав-
ное, непременно отличающее его от просто-
го смертного, в чертах лица, поступках,
внешности, а может, и в фактах биогра-
фии. Мы ищем указующий знак. В свою
очередь писатель, поэт, художник, рано
осознавший свое предназначение, свой дар,
также стремится не просто «самовыразить-
ся» (для этого существует творчество), но и
«самоотличиться» (а тут уж творчества
оказывается мало). Замечательно иллюст-
рирует это, например, ироническое выска-
зывание М. Ю. Лермонтова о своей внеш-
ности, говорившего, что судьба, «будто на
смех», послала ему «общую армейскую на-
ружность». Вот тут-то начинается момент
«мифологизации», «жизнетворчества» пи-
сателя, когда творец к собственной жизни
подходит как к художественному произве-
дению, «изымая* неудавшиеся, на его
взгляд, куски и заменяя их вымышленны-
ми, тем самым «выпрямляя* многие кри-
визны своего жизненного пути. Так, из-
вестно по крайней мере две версии «биогра-
фии» С. Есенина: по одной — верующего
христианина, незаконнорожденного бар-
ского сына, по другой — крестьянского ре-
бенка, деревенского пастушка-самоучки...
Подобные несоответствия «правдивых ав-
тобиографий» представляются прежде все-
го следствием творческого подхода к дейст-
вительности, когда даже реальная жизнь
человека превращается под пером худож-
ника в нечто «ирреальное», из нее вы-
деляется самое существенное, важное, с
точки зрения самого писателя или его
биографа, для понимания всего облика, ис-
токов творчества, тематики, таланта, ода-
ренности.
И если в этом ключе рассматривать жиз-
ненную и творческую биографию Ивана
Сергеевича Шмелева, то можно отметить
первое и главное отличие его от литератур-
ных современников: он — сторонник тради-
ционного направления. Истоки этой при-
верженности традиции следует конечно же
в первую очередь искать в тех условиях, в
которых происходило формирование буду-
щего художника. Ярчайшее тому под-
тверждение — лучшие произведения Шме-
лева, посвященные сказочной «стране», ко-
торая называется Детством и, как бы это
непривычно ни звучало для нас сегодняш-
них, начинается еще задолго до рождения
самого писателя.
РОД ШМЕЛЕВЫХ - «САМ ЧУТЬ-ЧУТЬ
«ИСТОРИЧЕСКИЙ»
«Мои предки сами чуть-чуть «исторические».
Один из них (читал в старинных актах) бился за
старую веру в Успенском соборе и на «пре»1 при
царевне Софии: она велела спорщиков разгонять
батожьем2. Читал я и смеялся, написано: «Шме-
1 На «пре* — (пря ж.р.) спор, ссора; состяза-
ние, тяжба; битва, сражение или драка.
2 Батожьё (уст.) — собирательное от слова ба-
тог — палка, толстый прут для телесных наказа-
ний.
297
Русские писатели XX века
лев из начетчиков»1.Думаю, из нашего рода: наш
род из Гуслицкой волости, Богородского уезда,
Московской губернии, самого гнезда старообряд-
ческого, Морозовского».
Государственный крестьянин, прадед
писателя Иван Шмелев переезжает в Моск-
ву со своей молодой женой Устиньей нака-
нуне Отечественной войны 1812 года. Здесь
он начинает заниматься торговлей лесом и
щепным товаром. Прабабка Устинья была
грамотная — явление редкое среди кресть-
ян того времени — и читала Четьи Минеи2.
Хотя она и приняла, как и вся семья,
«новую веру», но упорно сохраняла стро-
гость старого благочестия. Именно она
стала основательницей и хранительницей
жизненного уклада в шмелевском доме.
Впрочем, этот уклад, замешенный на мно-
гообразных обычаях и традициях, в кото-
рых вера причудливо сочеталась с суевери-
ем, был характерен для всего Замоскво-
речья.
После изгнания Наполеона дела Шмеле-
вых пошли особенно успешно: необходимо
было отстраивать пострадавшую от пожара
Первопрестольную. После смерти прадеда
сын его, тоже носивший имя Иван (в шме-
левском роду из поколения в поколение пе-
редавались два мужских имени — Иван и
Сергей), продолжил дело отца. Однако
предпринимательская деятельность перво-
го строителя деревянного Крымского моста
через Москву-реку (в 1873-м был заменен
металлическим) потерпела почти полный
крах. Верный своим непокорным пред-
кам-старообрядцам, он «из-за упрямства*
отказался дать взятку при строительстве
Коломенского дворца. За это поплатился:
потребовали крупных переделок, дед бро-
сил подряд, потерял залог и стоимость ра-
бот.
1 Начетчик, -чица — церковный чтец из при-
хожан; грамотей, промышляющий по деревням
обучением грамоте.
2 Четьи Минеи («чтения ежемесячные») —
сборники житий святых, составленные по меся-
цам в соответствии с днями чествования каждого
святого.
«Печальным воспоминанием об этом в нашем
доме оказался «царский паркет» из купленного с
торгов и снесенного на хлам коломенского двор-
ца. «Цари ходили! — говаривал дед, сумрачно по-
сматривая в щелистые, рисунчатые полы. — В со-
рок тысяч мне этот паркет влез! Дорогой пар-
кет...»
Провал самого значительного проекта и
разорение подорвали здоровье деда: он умер
рано, тридцати с лишним лет, и оставил
своему шестнадцатилетнему сыну Сергею
(отцу писателя) долг на сто тысяч рублей,
дом на Калужской улице в Замоскворечье и
три тысячи рублей наличными. Открытый,
располагающий характер и необычайная
энергия Сергея Ивановича, не имевшего
никакого опыта в делах и успевшего окон-
чить только четыре класса в Мещанском
училище, тем не менее помогли ему в де-
лах, располагая к нему как рабочих, так и
городские власти. Он быстро научился веде-
нию дел от старшего конторщика Василия
Васильевича Косого, правой руки покойно-
го отца, и спас семью от банкротства.
Сам Косой — одна из примечательней-
ших фигур детства писателя. Самоучка, вся
бухгалтерия которого состояла из крючков,
крестиков и закорючек в маленькой запис-
ной книжке, Василь Василич был челове-
ком исключительной честности и сметли-
вости: ни одна копейка хозяйских денег не
пропадала. Имел он только один порок, за
который не раз был руган Сергеем Иванови-
чем, — редко бывал трезвый, правда, от
этого его порока работа не страдала.
Где только шмелевские рабочие не плот-
ничали! Они даже были представлены царю
Александру II за прекрасно выполненную
работу — помосты и леса храма Христа
Спасителя. Когда же дела Сергея Иванови-
ча стали приносить приличный доход, он
женился на купеческой дочери Евлампии
Гавриловне Савиновой. И еще одна особен-
ность, ставшая закономерной для семьи
Шмелевых: жена Сергея Ивановича, как в
свое время прабабка Устинья, оказалась об-
разованнее мужа — она окончила один из
московских институтов благородных де-
виц. Это, однако, не нарушило семейного
уклада строгой Устиньи: молодая верила
298
Иван Сергеевич Шмелев
в сны, приметы, предчувствия, дурной
глаз, как и тетка писателя, что жила у них
в доме. Традиционные обстоятельные пере-
сказы и истолкования снов за утренним
чаем дали повод писателю позднее охарак-
теризовать свою семью как зажиточную,
малокультурную (?!), но соблюдавшую мо-
ральные устои и обычаи старших поколе-
ний.
Итак, Иван Шмелев — пятый ребенок
Евлампии Гавриловны и Сергея Ивановича
(правда, брат Сергей умер от скарлатины
еще во младенчестве) — родился в том са-
мом деревянном доме, который был постро-
ен его прадедом Иваном Шмелевым в одном
из самых живописных и своебразных угол-
ков Москвы — Замоскворечье. О нравах
этого «темного царства» купцов и само-
дуров мы много узнали, читая позднего
А. Н. Островского. Настолько много, что
теперь, говоря о светлом, радостном, да-
же праздничном творчестве И. С. Шмелева
(купеческого сына!), не можем вообразить
себе, что один и тот же уклад может на-
столько по-разному восприниматься. Шме-
лев с нежностью и трепетом будет вспоми-
нать каждый обычай, каждую «молитов-
ку», легенду, услышанную в детстве от
бабки Устиньи, любой непреложный закон
этого религиозно-суеверного уклада. Были
обычаи, касающиеся приготовления еды в
известные дни: Чистый понедельник — па-
реная капуста с луковым пюре и грибами, в
день сорока мучеников (9 марта) — печеные
«жаворонки» с коринками вместо глаз; от
Пасхи до Покрова каждую субботу пекли
ватрушки. Творог для ватрушек обязатель-
но домашний, так как каждый зажиточный
дом в Замоскворечье имел корову или двух.
Для домашнего скота также существова-
ли свои обычаи: перед выгоном коров на па-
стбище в день святого Георгия (Егорьев
день — 23 апреля) корове скармливали
«крест», припасенный от Крестопоклонной
(третьей недели) Великого поста, чтобы ко-
рова была здорова и телилась. Затем ее вы-
гоняли из хлева, и не кактнибудь, а веткой
вербы, освященной в Вербное Воскресение.
Каждое утро вдоль Калужской улицы пас-
туший рожок собирал коров, и пастухи гна-
ли стадо вдоль Калужской улицы за заста-
ву. И это в самой Первопрестольной! Жите-
ли Москвы не раз подавали жалобы князю
Долгорукову: разгуливают по улицам коро-
вы, плюхают лепешки. Но генерал-губерна-
тор был на стороне зажиточного Замоскво-
речья.
Достопримечательностью конюшни Шме-
левых, в которой обычно содержалось четы-
ре или пять лошадей, была старушка
лошадь прабабки Устиньи по кличке Кри-
вая, которую держали из уважения. Кри-
вую берегли для недалеких и особых выез-
дов. На ней в шестилетнем возрасте Иван
Шмелев совершил свое первое богомолье в
Троице-Сергиеву Лавру, находившуюся в
полутора днях пешего пути от Москвы, ку-
да раз в год отправлялись многие москвичи.
Кривая возила детей, и из-за почтенного ее
возраста телега и сани, куда ее впрягали,
были легкие, а упражка подбита фланелью.
Лошадь эта, подобно всем и каждому в За-
москворечье и в семье Шмелевых, соблюда-
ла с верностью и самоотверженностью свои
личные ритуалы, заложенные еще мудрой
Устиньей. Ей давали хлебного мякиша с
горкой соли, прежде чем тронуться («а то
не сдвинется — прабабушка так набалова-
ла»). По пути Кривая делала обязательные
остановки там, где имела обыкновение ос-
танавливать ее покойная хозяйка: у трак-
тира Митрия, где Устинья пила чай, у
церкви Николая Чудотворца, где прабабка
ставила свечку, и в середине Каменного
моста, откуда открывался чудесный вид на
Кремль.
Так, среди снов и толкований, среди мо-
литв, «молитовок» прабабки, легенд и
предсказаний проходили первые, самые
счастливые годы будущего писателя. Луч-
шие страницы его детских воспоминаний
посвящены отцу, человеку жизнелюбиво-
му, обладавшему исключительным обаяни-
ем. Маленький Ваня восхищался его красо-
той и щедростью, навсегда запомнив отца
христосующимся с народом:
Отец нарядный, посвистывает. Он стоит в пе-
редней, у корзин с красными яйцами, христосу-
ется. Тянутся из кухни, гусем. Встряхивают во-
299
Русские писатели XX века
лосами, вытирают кулаком усы и лобызаются по
три раза... Получают яйцо и отходят в сени. Дол-
го тянутся — плотники, народ русый, маляры —
посуше, порыжее... плотогоны — широкие кре-
пыши... тяжелые землекопы-меленковцы, ловка-
чи — каменщики, кровельщики, водоливы, коче-
гары... Угощение на дворе.
Сергей Иванович часто бывал в разъез-
дах по делам, дома сидел над отчетами, под-
счетами, строительными проектами, погло-
щенный заботами о благосостоянии семьи.
В его отсутствие особой притягательной си-
лой для мальчика обладал сад, типичный
для такого замоскворецкого дома, с яблоня-
ми, вишнями, кустами ягод и неизменны-
ми подсолнухами вдоль забора. Сад станет
непременным атрибутом всей дальнейшей
жизни писателя, а вариации на тему «виш-
невого сада» еще долго будут тревожить его
воображение («Пугливая тишина», «Сте-
на»). Так память писателя воспроизводит
сад его детства, когда-то представлявшийся
большим и богатым:
...маленький сад, когда-то казавшийся огром-
ным, лучший из всех садов, какие ни есть на све-
те, теперь без следа пропавший... с березками и
рябиной, с яблоньками, с кустиками малины,
черной, белой и красной смородины, крыжовни-
ка виноградного, с пышными лопухами и крапи-
вой, далекий сад... — до погнутых гвоздей забо-
ра, до трещинки на вишне с затеками слюдяно-
го блеска, с капельками янтарно-малинового
клея, — все, до последнего яблочка, верхушки за
золотым листочком, горящим, как золотое стек-
лышко!..
Как сад был населен вошебными де-
ревьями, так и двор — людьми: плотника-
ми, столярами, малярами, штукатурами,
кровельщиками, конопатчиками, кузнеца-
ми, глиномялами, землекопами, плотого-
нами, лесовалами, свайщиками, паромщи-
ками — мастерами всяких дел и ремесел.
Они приходили из разных концов широкой
Российской Империи, говорили на разных
наречиях и с неизменной радостью обща-
лись с маленьким любознательным хозяй-
ским мальчиком. Одни читали (некоторые
из наемных работников были грамотны)
книжки религиозного содержания — в
большинстве дешевые издания Морозова
или Шарапова, жития святых и поучитель-
ные повести, другие же забавляли его раз-
личными рассказами. У них учился Шме-
лев сочному, выразительному языку:
Это была первая прочитанная мною книга —
книга живого, богатого и красочного слова.
Здесь, во дворе, я увидел народ. Я здесь привык к
нему и не боялся ни ругани, ни диких криков, ни
лохматых голов, ни дюжих рук. Эти лохматые го-
ловы смотрели на меня очень любовно. Мозолис-
тые руки давали мне с добродушным подмигива-
нием и рубанки, и пилу, и топорик, и молотки и
учили, как «притрафляться* на досках, среди
смолистого запаха стружек, я ел кислый хлеб,
круто посоленный, головки лука и черные, из де-
ревни привезенные лепешки. Здесь я слушал лет-
ними вечерами, после работы, рассказы о дерев-
не, сказки и ждал балагурство. Дюжие руки ло-
мовых таскали меня в конюшни к лошадям,
сажали на изъеденные лошадиные спины, глади-
ли ласково по голове. Здесь я узнал запах рабоче-
го пота, дегтя, крепкой махорки. Здесь я впервые
почувствовал тоску русской души в песне, кото-
рую пел рыжий маляр. И-эх и темы-най лес... да
эх и темы-на-ай... Многое повидал я на нашем
дворе и веселого, и грустного. Я видел, как теря-
ют на работе пальцы, как течет кровь из-под со-
рванных мозолей и ногтей, как натирают мерт-
вецки пьяным уши, как бьются на стенках, как
метким и острым словом поражают противника,
как пишут письма в деревню и как их читают.
Здесь я получил первое и важное знание жизни.
Здесь я почувствовал любовь и уважение к этому
народу, который все мог.
Подобному общению ребенка с рабочим
людом в семье никто не препятствовал, ибо
одним из важнейших обычаев дома было
бережное отношение к людям, также свя-
занное с патриархальностью домашнего ук-
лада Шмелевых. Домашние работали
усердно — жалованье им было положено по
взаимному соглашению. Жили они в хозяй-
ском доме, работники — в мастерских, се-
зонные рабочие спали в особых рабочих
спальнях. А когда кто-нибудь из верных
слуг заболевал или по старости не мог далее
работать — хозяин выплачивал им пенсию
и разрешал доживать в доме, чем нередко
вызывал недовольство и критику со сторо-
ны друзей-купцов («Народишко балуешь —
портишь»). Особенно возмущались этому
двоюродный брат Егор, дом которого выхо-
300
Иван Сергеевич Шмелев
дил в тот же двор Шмелевых, и крестный —
купец-ростовщик Кашин. Эти две фигуры,
как их рисует И. Шмелев, вполне вписыва-
лись в традиции «темного царства»:
...Крестный грубый, глаза у него «как у людо-
еда», огромный, черный, идет — пол от него дро-
жит. Скажешь ему стишки, а он и не взглянет да-
же... и сунет рваный рублик. И рублика я боюсь:
«грешный» он. Так и говорят все: «Кашинские
деньги сиротскими слезами политы... Кашины —
«тискотеры*... И папашенька ему должен под
вексельки... разорить нас может.
...чвокает дядя Егор зубом, нехорошо смеется,
все у него эти с языка соскакивают, рвет и швы-
ряет карты...
Долг своему двоюродному брату Егору —
кирпичному заводчику — за кирпич на по-
стройки бань Сергей Иванович выплатить
успел, а вот со второй задолженностью не
расплатился: несчастный случай приводит
сначала к продолжительной и мучительной
болезни, а потом и к смерти, по странному
совпадению столь же ранней, как и у его де-
да и отца, — не дожил до сорока лет. Своего
любимца Ивана умирающий благословил
образом Святой Троицы, которым отец ког-
да-то благословил его самого.
Несчастный случай застал Сергея Ивано-
вича в самое горячее время, в разгар сезон-
ных незаконченных работ. Как и отец ког-
да-то, оставил он в наследство неуплачен-
ные долги и верного слугу Василия Косого в
помощь своей вдове и детям. Однако Кашин
показал себя с самой благородной стороны в
отношении векселей, продлив срок платы
(до какой степени простиралось его велико-
душие, неизвестно, но судя по всему, и то
было уже много), а Косой сдержал данное у
постели умирающего обещание и управлял
делами так же исправно, как и прежде. Тем
не менее жизнь, особенно после «обедов от-
ца», стала «скудноватой», но были сыты.
На этом оборвались счастливые годы детст-
ва для Ивана Шмелева.
«КАК Я СТАЛ ПИСАТЕЛЕМ»
Кажется мне порой, что я не делался писате-
лем, а будто всегда им был, только — писателем
•без печати».
Следуя шутливому разделению Шмелева
начала своего творческого пути на три эта-
па: «дописьменный», «письменный» и «пе-
чатный», постараемся наиболее полно оха-
рактеризовать эти, наиболее важные для
любого писателя, периоды становления.
Отсчет своего «дописьменного» периода
творчества Шмелев ведет с самого ранне-
го детства, когда любой человек прежде
всего — творец: своего, нового, не похожего
ни на чей другой мира. Придумав — осозна-
ем, осознав — постигаем и сравниваем —
таков путь познания ребенка окружающей
действительности. Только потом начинает
выигрывать, брать верх у одних — «свое»,
заново созданное, у других — «норматив-
ное», то есть то, с чем сравнивается. Воз-
можно, именно этим умением не поддаться
общепринятому и сохранить свежеприобре-
тенное будущий писатель и отличался от
своих сверстников. Так, однажды загово-
рив с игрушками — «живыми, с чурбачка-
ми и стружками, которые пахли «лесом» —
чем-то чудесно-страшным», — или путе-
шествуя по «таинственным* уголкам вечно
о чем-то шуршащего «огромного» сада и об-
ращаясь с ответной речью к листьям, де-
ревьям, кустам и подсолнухам, мальчик
вдруг не захочет или не сможет расстаться с
этим уже никогда:
Они у меня — мои. Я говорил с белыми, звон-
кими досками — горы их были на дворе, — с зу-
бастыми, как страшные «звери», пилами, с блис-
тавшими в треске топорами, которые грызли
бревна...
Все казалось живым, все мне рассказы-
вало сказки...
Этими-то сказками, позднее, получая до-
школьное обучение в частном пансионе
Вертес, заслужит маленький Ваня призна-
ние как лучший рассказчик не только сре-
ди ровесников, но и учителей, любивших
послушать мальчика Шмелева. Чаще всего
это были истории, услышанные им от рабо-
чих на отцовском дворе, впечатляющие жи-
востью и выразительностью, с какой они
пересказывались талантливым «оратором».
Другим важным источником постижения
жизни и красоты родного слова стала для
301
Русские писатели XX века
юного «писателя» русская литература, не
менее будоражившая его воображение:
В первые годы обучения грамоте сильное впе-
чатление производили на меня басни. Читаешь
про лисицу и виноград, и ярко-ярко видишь, как
эта лисица смотрит, выкатив красный язык, и
изо рта у ней текут слюни и горят глаза. И пред-
ставляешь яркий солнечный день. То, что было
заключено в буквах, оживало, имело запах, жи-
вую форму...
Чтение книг было одним из любимых его
занятий. Первым навыкам чтения пятилет-
него Ваню обучила мать. В отроческие го-
ды, по воспоминаниям писателя, «Королен-
ко и Успенский закрепили то, что было за-
тронуто во мне Пушкиным и Крыловым,
что я видел из жизни на нашем дворе...»
Главное, чем наделила писателя (челове-
ка совсем некупеческой, на наш взгляд,
профессии) его среда, — всепоглощающая
страстность увлечений. Широта купече-
ской души, так выразительно изобра-
женная русскими писателями самых раз-
ных направлений и мировоззрений — от
А. Н. Островского и Ф. М. Достоевского до
А. П. Чехова и М. Горького, — была извест-
на Шмелевым не понаслышке. В характере
Ивана она отразилась весьма своеобразно,
что в полной мере проявилось в годы отро-
чества и сказалось на гимназическом обу-
чении.
Евлампия Гавриловна, мать писателя,
как женщина образованная, прекрасно по-
нимала, как важно дать детям хорошее об-
разование. И добилась этого, несмотря на
скромный материальный достаток, во мно-
гом благодаря своему жесткому и сильному
характеру. Однако желание, свойственное
всем родителям, отдать ребенка в «самую
лучшую» гимназию, чуть окончательно не
отвратило Ивана от учения вообще. Его от-
дали («втиснули») в престижную 1-ю гим-
назию. По конкурсному экзамену из 400
мальчиков приняли 60, и если бы не хода-
тайство крестной (Елизаветы Егоровны Се-
менович, урожденной Шмелевой), то, весь-
ма возможно, он и не попал бы туда. Но
мальчик, вырванный из привычного уюта
замоскворецкой жизни, почувствовал себя
оторванным от своей среды, неуютно и оди-
ноко.
Кажется даже странным, что живой и
общительный ребенок, находивший общий
язык как со сверстниками, так и с рабочи-
ми, учителями, домашними, как-то поте-
рялся. Дома внутренней жизнью Ивана не
интересовались, сам же он позднее объяс-
нял неудачу этого предприятия следующим
образом:
Был запуган и подавлен размерами, привыч-
ный к «уюту», простоте, низкопотолочности, теп-
лу старых «хоромов»... Я был смыт. Я все забыл
или — не находил себя. Каждый день И. Д. Лебе-
дев (директор, страдавший печенью) ставил мне 1
или 2 за разбор «Птички Божьей». И донимал...
ставил кол. А дома — порка.
Именно последовательные неуспехи ре-
бенка заставили Евлампию Гавриловну
внять совету четвероклассника 6-й гимна-
зии Сережи Волокитина и перевести в нее
сына: «и лучше, и ближе». Так «спасся*
Ваня Шмелев, проучившись в 1-й (лучшей)
гимназии около трех месяцев.
В 6-й гимназии, действительно, Шмелев
почувствовал себя свободнее. Хотя и при-
ключилась с ним некая метаморфоза: сочи-
нения мальчика, в предыдущей гимназии
не успевавшего по русскому языку, у пре-
подавателя изящной словесности Н. И. Ба-
талина, несмотря на скуку предлагаемых
тем, снискали похвалу (четверки), но нача-
лись трудности с латынью (это у «римля-
на»-то) — вдруг двойки! Причина подобно-
го превращения, когда в ней попыталась
разобраться старшая сестра, оказалась
очень проста. Чтение!.. Шмелев с головой
ушел в приключенческие романы, навод-
нившие в то время книжный рынок: Жюль
Верн, Фенимор Купер, Майн Рид, Загос-
кин, Лажечников, А. К. Толстой и Мельни-
ков-Печерский. Читал по ночам, что, ко-
нечно, очень мешало серьезным занятиям и
не позволило сбыться честолюбивым меч-
там мальчика: увидеть свою фамилию в
фойе гимназии на мраморной доске, где по-
мещали имена отличников с высшей похва-
лой и золотой медалью. Более того, увлече-
ние чтением снизило его успехи до того, что
302
Иван Сергеевич Шмелев
при переходе в третий класс он оказался по-
следним учеником. Зато, «спровоцирован-
ный» романами Жюля Верна, прославился
на всю гимназию, написав «длинное — в
стихах! — путешествие» учителей гимна-
зии на Луну на воздушном шаре, сделанном
из необъятных штанов латиниста по про-
звищу Бегемот. И первый гонорар за эту
«поэму» — строгий выговор. Так с третьего
класса гимназии началась «письменная*
эра творчества И. С. Шмелева, достигшая
наивысшего расцвета, когда «писатель* по-
пал, оставшись на второй год в пятом клас-
се(!), к словеснику Ф. В. Цветаеву, родному
дяде будущей поэтессы Марины Цветаевой.
Гимназист-пятиклассник получил пол-
ную творческую свободу: пиши как хочешь!
И записал рьяно, причем не только школь-
ные сочинения. Первым своим произведе-
нием Шмелев называл не дошедший до нас
рассказ «Городовой Семен», написанный
под впечатлением от рассказа Г. Успенско-
го «Будка».
Городовой одинок. Он живет в своей будке, в
холоде и нужде. С ним дружит фонарщик, тоже
обездоленный и калека. Его прогнали с завода,
где ему обожгло чугуном ногу. Теперь он влачит
жалкое существование. Городовой и он часто ве-
дут беседы о жестокой жизни. Городовой тяготит-
ся своей службой, на которую его загнала судьба.
Они сговариваются с фонарщиком бросить город
и поселиться в деревне. Но злая судьба мешает.
Городовой простудился, спасая осенью утопаю-
щего на реке, и умирает одинокий в своей буд-
ке под вой ветра. Фонарщик ковыляет за доща-
тым гробом. Возвращается вечером к тележке с
лампами и начинает зажигать огни. Первый фо-
нарь — у знакомой будки. Грустно смотрит он на
пустую будку, на фонарь и не зажигает. К чему?
Ему теперь не надо света... Перед ним теперь не
этот вонючий скупой свет, а вечный... Фонарщик
смотрит с перекрестка. В соседнем участке зажи-
гаются огоньки. Ему приходит мысль дерзкая ос-
ветить улицу так, как никогда не освещал из эко-
номии на масле. Нет, пусть в память друга, в па-
мять показавшегося ему теперь вечного света,
этой ночью вся улица будет гореть ярко-ярко.
Пусть... Он зажигает в полный свет, пускает ши-
рокие языки пламени. Дальше и дальше, похра-
мывая идет со своей лесенкой, и больше и больше
свету на улице. Не видно фонарщика. Огни рас-
тут, начинают лизать стекла. Улица принимает
красноватое освещение. Тишина. Слышно, как
начинают лопаться стекла. Коптят огни... Злове-
ще коптят вонючие огни.
Рассказ заканчивался грустным аккордом.
Завтра фонарщика прогонят. И придет на его мес-
то другой фонарщик, и будет зажигать исправно в
полсвета, и не будут лопаться стекла, и улица бу-
дет каждый день в точный час погружаться в
обычную тусклоту в полсвета...
Со слезами писал я этот рассказ. Ночью писал.
Конечно, этот рассказ мне вернули. Секретарь ре-
дакции подмигнул моему гимназическому пальто
и сказал, закусывая чай розанчиком:
— Пока слабовато... а ничего...
«Сентиментальнейшее произведение* —
это совершенное воплощение самого духа
купеческой семьи Шмелевых, со всеми
предчувствиями и толкованиями снов, с
перешептываниями примечательных собы-
тий и молитв. Первая проба и первое раз-
очарование непонятости не остудили «вос-
торга творчества» юноши. Он пишет роман
за романом — об эпохе Ивана Грозного (в
духе прабабкиных легенд), стихи на трид-
цатилетие отмены крепостного права и
драму, в которой «он и она умирали от
чахотки»(!). Драма здесь столь же не
случайна, как и стихи. На рубеже между
отрочеством и юностью увлечение драма-
тургией становится второй страстью Шме-
лева. Он посещает все спектакли в театре
Корша, пока не заучивает весь репертуар
наизусть. А память у Ивана Шмелева была
феноменальной: уже в третьем классе он за-
поминает в алфавитном порядке каталог
русских и иностранных романов и повестей
в Бессоновской библиотеке, куда сестры го-
няли его чуть ли не каждый день менять
книги.
На смену драматическому искусству
или, вернее, в добавление к нему приходит
увлечение музыкой. Иван часами просижи-
вал, наслаждаясь музицированием сестры
Марии, готовившейся к экзаменам в Кон-
серваторию по классу фортепьяно. Биогра-
фы писателя отмечают, и в этом признавал-
ся сам Шмелев, что, по всей вероятности,
подобная самоотверженность была следст-
вием другой страсти — юноша влюбился в
подругу сестры по Консерватории Зоею. То,
что девушка была старше его, не помешало
303
Русские писатели XX века
Ивану в «каком-то умопомрачении страс-
ти» решиться написать либретто на лермон-
товский «Маскарад», дабы выразить свое
преклонение перед красавицей певицей.
Более того, самоуверенный влюбленный от-
правил первый акт своего шедевра компо-
зитору А. С. Аренскому — преподавателю
сестры. Аренский даже не удостоил мело-
мана ответом, тем не менее тайна создания
оперы была каким-то образом раскрыта, а
незадачливый либреттист сурово наказан,
став извечным предметом насмешек сестры
и ее подруги, напевавших слова неуклюже-
го рефрена к хору игроков:
Мы игроки, мы игроки,
Каки — каки
Мы игроки!..
Расплатой за эту страсть к музыке и ее
голубоглазой жрице стало повторное пре-
бывание в пятом классе. Правда, как оказа-
лось впоследствии, сыгравшее важную роль
в формировании и ориентированности этого
рвущегося наружу творческого дара. И хо-
тя первые произведения были слабыми, во
многом подражательными, но тем не менее
интересными с точки зрения появления мо-
тивов, которые в последующем творчестве
Шмелева получат оригинальное художест-
венное воплощение. В них уже довольно
четко просматриваются основные симпатии
юного автора, которые передают важней-
шие для него идеи грядущей эпохи всеоб-
щего равенства и процветания. Идеи, воз-
можно, были столь же наивные и незрелые,
как и сами тексты, но, несомненно, благо-
родные. Явно навеянные не только и не
столько их литературными предшественни-
ками, но самим складом полученного в
семье воспитания: детской благодарной
близостью к народу, привитому родителя-
ми уважению к труду и к работникам, к
крестьянам и нищим.
Отдавшись этой новой страсти — писа-
тельству — с полным самоотречением,
Иван Шмелев снова запускает учебу в гим-
назии и чуть ли не остается второгодником
уже в шестом классе. Однако сыграл свое
строгий надзор замужней сестры Сони,
пригрозившей сжечь рукопись о временах
Ивана Грозного (естественно, не входившей
в курс домашних заданий), если не будут
исправлены отметки. Шмелев быстро бе-
рется за ум и к концу года выходит в отлич-
ники. Особого труда стоило получить выс-
шую оценку у «немца», упорно считающего
гимназиста недостойным ее. Юноше уда-
лось покорить преподавателя стихотвор-
ным переводом задания из хрестоматии
Бертэ — полторы страницы прозаического
текста. Перед экзаменами и в критические
моменты жизни Иван по обыкновению за-
ходил в церковь и ставил свечку, а по доро-
ге на латинский даже дал зарок сходить с
другом Женькой Пиуновским на богомолье
в Троице-Сергиеву Лавру. Получив на экза-
мене отрывок из Цезаря (единственный, ко-
торый был хорошо подготовлен), он припи-
сал это везение заступничеству Царицы Не-
бесной, и когда класс был успешно
окончен, выполнил свой обет...
Новый роман в четырех частях подверг-
ся строгой критике Сони: затянутые лири-
ческие отступления, описания природы, из-
битые эпитеты. Но переписав двенадцать
тетрадок и перечитав их, Шмелев решил,
что получилось, пожалуй, не хуже, чем у
Тургенева. Он спрятал творение на чердаке
до зимы, чтобы, когда замерзнет Моск-
ва-река, отправиться в Хамовники, отдать
роман несравненному мастеру прозы —
Льву Толстому. И вот однажды в начале
Рождественского поста юный талант отпра-
вился в путь к своему кумиру. У калитки
усадьбы великого писателя дворник, уби-
равший снег, поинтересовался причиной
визита замерзшего юноши. Узнав, что тот
сочинитель, ответил, что нужного графа
Толстого в Хамовниках нет, он в Ясной По-
ляне. В этот момент отпрыск писателя,
приблизительно ровесник Шмелева, бросил
снежком, попав случайно в дворника. Вле-
тело и Ивану. Так и вернулся неудачливый
визитер домой с двенадцатью тетрадками и
растаявшим за воротом снежком, которым
также наградил его один из отпрысков ве-
ликого Льва Толстого.
И все же успех пришел, увенчав «пись-
менный» период творчества первым печат-
ным изданием. Им оказалась повесть «У
304
Иван Сергеевич Шмелев
мельницы», которая была написана по вос-
поминаниям о лете, проведенном перед
восьмым классом гимназии на небольшой
речке с заброшенной мельницей. Как ког-
да-то в детстве, Иван Шмелев был околдо-
ван таинственным ландшафтом тех мест,
напомнившим впечатлительному юноше
сцены из оперы А. Даргомыжского «Русал-
ка*. Здесь и глубокий омут, и над ним рас-
щепленные грозою ветлы, и глухой старый
мельник... Мартовским вечером 1894 года
(видимо, сказалось напряжение перед сда-
чей выпускных экзаменов) картины про-
шедшего лета закрутили, вновь захватили
его и уже не отпуская, как вначале, поли-
лись на бумагу.
Я увидал мой омут, мельницу, разрытую пло-
тину, глинистые обрывы, рябины, осыпанные
кистями ягод, деда... Живые, — они пришли и
взяли. Помню, — я отшвырнул все книги, задох-
нулся... и написал — за вечер! -г большой рас-
сказ. Писал я «с маху». Правил и переписы-
вал, — и правил... Перечитал... — и почувство-
вал дрожь и радость. Заглавие? Оно явилось са-
мо, само очертилось в воздухе, зелено-красное,
как рябины — там. Дрожащей рукой я вывел «У
мельницы».
Рассказ, написанный от первого лица, по
стилю напоминал «Записки охотника*
И. Тургенева. Зло всегда потерпит крах —
основная мысль этого произведения, по-
вествующего о мироеде, бесчестно разбога-
тевшем (распространенный образ «пись-
менного» периода творчества): герой кон-
чает жизнь самоубийством, не вынеся
угрызений совести. Здесь налицо все недо-
статки ранней прозы Шмелева: длинноты,
некоторый налет мелодраматизма, подра-
жательность (и опять Тургенев, «Бежин
луг»). Но вместе с тем все более заметны
черты индивидуального стиля: острая на-
блюдательность, выразительность детали,
нравственная ориентированность оценок и
необыкновенно красочный, образный рус-
ский народный язык.
Желая опубликовать рассказ, но вместе с
тем боясь новой волны насмешек родствен-
ников, Иван, никому не говоря, отправился
на Тверскую, где однажды увидел вывеску
ежемесячного журнала «Русское обозре-
ние*. Его привлекла именно вывеска, напи-
санная славянскими буквами. Позднее
Шмелев узнал, что журнал был основан
Константином Леонтьевым. Редактор —
приват-доцент Московского университета
Анатолий Александров — встретил восьми-
классника очень любезно и обещал извес-
тить о результате после прочтения месяца
через два. Однако долгожданный ответ за-
держался почти на год. Весной 1895 года
Шмелев, к тому времени уже студент юри-
дического факультета Московского универ-
ситета, зашел в редакцию и узнал, что рас-
сказ его принят, понравился. Отмечено ре-
дактором было именно то, чем позднее был
славен этот всецело русский писатель, —
живость языка, выразительность диалогов
и описаний природы. Гонорар за рассказ,
опубликованный в июньском номере, — 80
рублей — сумма для студента, занимавше-
гося репетиторством в другом конце Моск-
вы за десять рублей в месяц, значительная.
Публикация оказалась как нельзя более
своевременной: с поступлением в универси-
тет попав в совершенно иной мир, далеко
отстоящий от старомодного Замоскворечья
с его жизнью по церковному календарю,
юноша сам начинал относиться ко всему ра-
нее пережитому (в том числе и к «писатель-
ству») скептически. А толстый журнал в зе-
леновато-голубой обложке стал единствен-
ным доказательством, что Иван Шмелев,
сын купца Сергея Ивановича Шмелева, не
окончившего и ремесленного училища, вы-
росший во дворе, обитателям которого было
в общем-то не до чтения, в семье, где и
книг-то «настоящих», кроме старенького
Евангелия, молитвенников да прабабушки-
ных Четьи Минеи, не было, — настоящий
писатель. Публикация рассказа, напеча-
танного без единой правки на двадцати
двух страницах, и напутствие уважаемого
редактора продолжать писать буквально
потрясли юношу:
Взглянул на свою фамилию под рассказом, —
как будто и не моя! Было в ней что-то новое, со-
всем другое. И я — другой. Я впервые тогда по-
чувствовал, что — другой? Писатель? Это я не
чувствовал, не верил, боялся думать. Только одно
я чувствовал: что-то я должен сделать, многое
305
Русские писатели XX века
узнать, читать, вглядываться и думать... — гото-
виться! Я — другой, другой.
Это был конец сомнениям — Шмелев
стал писателем, начался период «печата-
ния»! Однако момент истины настал для со-
вершенно иного Ивана Шмелева, охвачен-
ного круговоротом буйной студенческой
жизни, а не шустрого речистого замоскво-
рецкого купчонка, молившегося перед эк-
заменами, дававшего обеты Царице Небес-
ной и ежегодно отправлявшегося со всей
семьей на богомолье. Несмотря на то что
бурная политическая жизнь Московского
университета Шмелева не привлекала, со-
циальные вопросы (впрочем, начинавшие
волновать его еще в гимназические годы,
судя по «письменному* периоду творчест-
ва) все больше и больше интересуют его,
вплоть до логического обоснования терро-
ризма против царя и его правительства.
От Церкви я уже шатнулся: был если не без-
божник, то никакой. Я с увлечением читал Бок-
ля, Дарвина, Сеченова, Летурно... Стопки бро-
шюр с книжных прилавков на Моховой улице,
где студенты требовали «о самых последних заво-
еваниях науки». Я питал ненасытную жажду
«знать». И я многое узнавал, и это знание уводи-
ло меня от самого важного знания — от Источни-
ка Знания,от Церкви.
«Жажда знаний» не ограничивалась
юридическим курсом университета: Шме-
лев посещает лекции Алексея Веселовского
по филологии, слушает историка В. О. Клю-
чевского, часами просиживает на занятиях,
которые ведет известный ботаник К. А. Ти-
мирязев, чей труд «Жизнь растений» стано-
вится настольной книгой будущего писате-
ля (сказывается еще детская привязанность
к садоводству, сохранившаяся на протяже-
нии всей его жизни). Его «увлекали и есте-
ственные науки, и Михайловский, и Сече-
нов, и сельское хозяйство, и электричест-
во». Пушкин, Гоголь, Тургенев, Гончаров,
Островский, Г. Успенский, Лесков, Салты-
ков-Щедрин, Чехов, Достоевский, Л. Тол-
стой, Флобер, Золя, Мопассан, Диккенс,
Доде, Эдгар По — таков далеко не полный
перечень имен классиков мировой литерату-
ры, произведениями которых зачитывался
Шмелев-студент.
Такая широта и разбросанность интере-
сов, как нельзя более соответствующие бур-
лящей купеческой крови замоскворецкого
мальчика, увы, имели и свою оборотную
сторону, все более уводя юношу от Истины
предназначения, от подлинных истоков его
таланта, его базы, фундамента творчества.
Спасла его, как это ни странно звучит, лю-
бовь женщины! Будучи еще гимназистом,
весной 1891 года Иван Шмелев знакомится
с Ольгой Александровной Охтерлони —
ученицей петербургского Патриотического
института, в котором учились молодые де-
вушки из военных семейств. Отец Ольги
Александровны — Александр Александро-
вич Охтерлони, герой обороны Севастополя
во время Крымской кампании, потомок
древнего шотландского рода, предки кото-
рого по мужской линии принадлежали к
роду Стюартов; дед и прадед Александра
Александровича были генералами. Мать,
урожденная Вейденгаммер, была дочерью
обрусевшего немца. Родители Ольги Охтер-
лони снимали квартиру в доме Шмелевых,
здесь во время каникул и произошла пер-
вая встреча молодых людей. Заключитель-
ный абзац «Истории любовной» дает пол-
ный портрет будущей жены Ивана Шмеле-
ва, единственное несоответствие —
вымышленная встреча произошла несколь-
ко раньше реальной, когда герою было
только шестнадцать лет:
Как-то под вечер я шел из сада и у самой ка-
литки столкнулся с прелестной девушкой, подро-
стком. Она?.. Тоненькая, стройная... бледное ли-
чико, робкие, узенькие плечи, совсем детские ло-
котки, стягивающие вязаный платочек, словно
ей холодно. Она взглянула пытливо-скромно.
Бойко закинутые бровки, умные, синеватые гла-
за. Они опалили светом... Залили светом — пове-
ли за собой, в далекое.
Это была любовь с первого взгляда. Ее
поразила серьезность юноши, увлеченность
и начитанность — качества выделяющие,
по мнению Ольги, Шмелева тех лет из окру-
жения сверстников. Его (помимо описанно-
го признания) — большие способности к
306
Иван Сергеевич Шмелев
живописи, развитый вкус: она могла бы
стать художницей, но, по воспоминаниям
В. J1. Муромцевой-Буниной, «ей и в голову
не приходило пенять на судьбу, что ей вы-
пало на долю провести жизнь в детской и
кухне».
Ольга Александровна была религиозным
человеком. Именно она, по мнению богос-
лова и философа А. В. Карташова, сблизив-
шегося со Шмелевым уже в Париже в годы
эмиграции, сыграла исключительную роль
в духовном прозрении мужа: «Она поти-
хоньку очистила от пыли божницу, запра-
вила остывшую лампадку и засветила ее*.
Истоком такой тихой и убедительной веры
Ольги Александровны Карташов считал
шотландскую линию ее родословной. Так
или иначе, но именно Ольга решает совер-
шить свадебное путешествие с либерально
настроенным «безбожником» на Валаам, в
монастырь, куда люди ездили на бого-
молье, предварительно получив благослове-
ние на дорогу у старца Троице-Сергиевой
Лавры Варнавы. Глядя на молодого супру-
га-студента и положив ему на голову руку,,
старец произнес: «Превознесешься своим
талантом». Иван Шмелев к тому времени
уже никакого таланта, кроме писательско-
го, в себе не наблюдал, а слова эти, приня-
тые даже несколько иронично, вспомнятся
уже много позже, в эмиграции, с осознани-
ем того, на какой долгий «путь» благосло-
вил его старец.
Молодые пустились в свадебное путеше-
ствие. Они выехали из Москвы в начале ав-
густа 1895 года на поезде, остановились на
несколько дней в Петербурге (первое посе-
щение Шмелевым этого города), в Шлис-
сельбурге сели на пароход «Петр Первый»,
который доставил их к острову Коневец в
Ладожском озере. Отдохнув, снова отправи-
лись в путь, оставшуюся дорогу до Валаама
пройдя на пароходе «Александр». Начиная
свой путь скептически настроенным в духе
времени и Московского университета, счи-
тая монахов тунеядцами и искателями лег-
кой жизни, ничего не ожидая от них, кроме
ханжества и лицемерия, Шмелев был иск-
ренне поражен добродушием встречи. Свет-
лая, уютная келейка, выделенная молодо-
женам, суровая красота скалистого Вала-
ама и мирная тишина Валаамской общины,
общество монахов, абсолютно свободное от
классовых различий, сходство между уви-
денными здесь крестьянами и теми, что
приходили работать к его отцу с дальних
российских полей, — все это и многое дру-
гое, еще неосознанное, но волнующее, по-
зднее не только заставит пересмотреть свои
взгляды, но и вдохновит на написание пер-
вой опубликованной книги «На скалах Ва-
лаама» (1897).
Оставив монастырь 26 августа, взяв на
память сувениры (пару деревянных ложек,
четки из оливковых зерен — для Ольги и
гроздь еще до конца не осмысленных впе-
чатлений — для Ивана), они вернулись в
Москву, где в два месяца Шмелевым было
написано новое произведение, состоящее из
серии очерков-глав, композицией и типом
повествования напоминающее излюблен-
ный позднее жанр автобиографической
книги, доведенный Шмелевым до совер-
шенства.
Однако эту книгу ожидала непростая
судьба. Первый же редактор (журнал «Рус-
ское обозрение») Анатолий Александров, к
которому обратился автор, прочитав руко-
пись, посоветовал из цензурных соображе-
ний выпустить 30 страниц. Писатель это
предложение отклонил, предпочтя напеча-
тать книгу на собственные средства без
предварительной цензуры. Однако уже по-
сле публикации книга была задержана обер-
прокурором Святейшего Синода К. П. Побе-
доносцевым. По настоятельной рекоменда-
ции цензора князя Н. В. Шаховского и пос-
ле длительного обсуждения (четыре вечера)
Шмелеву все-таки пришлось вырвать из
книги и переработать 27 страниц, которые
обещали за дополнительную плату вклеить.
Цензоры распекли автора за «порногра-
фию* (бабы моют мужиков в бане, хоть и не
на Валааме, но в книге о нем), кроме того,
диалоги, содержащие рассказы о пьяных
купцах и девках, что также недопустимо в
повествовании о святом месте. Обезображен-
ная купюрами, залатанная брошюра раску-
палась плохо, хотя и получила положитель-
ный отзыв в «Русском богатстве», толстом
307
Русские писатели XX века
журнале, возглавляемом Владимиром Га-
лактионовичем Короленко.
В полной мере на повествовании о монас-
тырской жизни отразилась двойственность
отношения к ней молодого человека, нахо-
дившегося под воздействием материалисти-
ческих доктрин. Рассказ о мудром и разум-
ном устройстве монастырской жизни, быта,
поразившего юношу:
В человеке не затирали души, хотя требовали
от него отсечения воли. Человек оставался не-
зависимым, хотя и терял волю, ибо отсечение во-
ли — идея, выработанная теми, кто пришел охо-
той на Валаам. Человека не били по загривку, не
унижали, напротив, давали возможность разви-
ваться его стремлениям. Давали ему в руки то де-
ло, которое он знает, и в этом деле он являлся
вполне ответственным, самостоятельным хозяи-
ном, —
перебивается грустью, вызванной «печаль-
ным однообразием жизни* людей в монас-
тыре, в которых «тяжкая атмосфера монас-
тырской жизни поглотила свойства челове-
ческого духа»:
День за днем раздаются с желтенькой коло-
кольни печальные ноты монастырского благовес-
та, и, послушные им, бредут монахи в церковь на
очередную молитву, и так постоянно, целую
жизнь, без просвета, без грез, без желаний.
Уже в эмиграции, через сорок лет после
памятного свадебного путешествия, Шме-
лев (мастер) перепишет и переиздаст свои
воспоминания под новым названием «Ста-
рый Валаам» с посвящением жене Ольге.
Противоречивость ранней рукописи сни-
мется автором, останется одно — «светлый
Валаам*.
Неудача первой книги сильно сказалась
на дальнейшего творчестве И. С. Шмелева,
оставившем «попытки сочинительства* на
целых шесть лет, сам же писатель еще
больше увеличил срок молчания, отметив в
автобиографии, что «до 1905 года не писал
и не посылал ничего в редакцию*. Видимо,
он не принимал в расчет повесть о казар-
менной жизни «Чужой», за примиренче-
ски-сентиментальную концовку отвергну-
тую В. Г. Короленко.
Итак, почти десятилетнее молчание, за-
полненное кое-как службой, которая не
могла удовлетворить деятельной натуры
Шмелева, но позволяла, хотя и с трудом,
содержать и обустраивать семью, в 1896 го-
ду увеличенную появлением сына Сергея.
После окончания университета и воинской
службы Шмелев намеревался открыть соб-
ственную адвокатскую контору в Москве.
Но, проработав полтора года помощником
присяжного поверенного, разорившись на
издании своей первой книги и окончатель-
но потеряв все деньги во время краха Яро-
славской железной дороги, он был вынуж-
ден из-за материальных соображений пере-
селиться во Владимир, где жизнь была
заметно дешевле. Шмелев стал чиновником
особых поручений губернской казенной па-
латы. Это была изматывающая, монотон-
ная работа, с частыми командировками,
вынужденными ночевками на грязных пос-
тоялых дворах, в чужих домах, еда всухо-
мятку и постойный страх принести в дом к
маленькому ребенку какую-нибудь заразу.
Однако подобная жизнь, богатая разнооб-
разными впечатлениями, встречами, обще-
ниями, стала периодом накопления знаний
провинциальной жизни изнутри.
Я знал столицу, мелкий ремесленный люд, ук-
лад купеческой жизни. Теперь я узнал деревню,
провинциальное чиновничество, фабричные рай-
оны, мелкопоместное дворянство.
Наблюдения эти позднее станут основой
многих его рассказов и повестей («Гражда-
нин Уклейкин», «В норе», «Патока», «По-
ездка» и др.).
Итак, служба чиновника обеспечивала
семью материально (отсюда боязнь оста-
вить нелюбимую работу), но не отвечала ду-
ховным и творческим запросам Шмелева.
Вот почему происшедший перелом был
столь же неожиданным, сколь и обоснован-
ным. Принятое революционное решение
стать профессиональным писателем по вре-
мени совпало с революцией социальной —
1905 года. Совпадение случайное, ибо не ре-
волюция подвигла Шмелева к кардиналь-
ному изменению своей жизни, но (и в этом
сын Замоскворечья оказался верен себе)
308
Иван Сергеевич Шмелев
стая пролетающих журавлей, напомнив-
шая подобную встречу на Валааме десяти-
летней давности. Таким образом, импуль-
сом, побудившим Шмелева снова взяться за
перо, стала русская природа и конкретно —
♦летящие к солнцу журавли». С этого и на-
чалось настоящее ♦ писательство».
В тот же вечер после взволновавшей
Шмелева встречи, случившейся светлым
августовским утром в лесу, он написал рас-
сказ «К солнцу» — о раненом журавленке,
оказавшемся, как в плену, в одном имении
и нашедшем в себе силы вновь присоеди-
ниться к родной стае, чтобы лететь с нею
♦ на юг, к солнцу». Повествование прониза-
но ожиданием счастья; образ солнца, лейт-
мотивом проходящий через произведение,
придает ему светлую, мажорную тональ-
ность. Писатель отправил рассказ в ♦Дет-
ское чтение» — популярный журнал для
детей, издаваемый в Москве известным пе-
дагогом Дмитрием Ивановичем Тихомиро-
вым и его женой, которые отбирали для
журнала рассказы лучших современных
писателей. Они приняли и напечатали его
рассказ в 1907 году — так Шмелев начал
сотрудничать с этим журналом (позднее пе-
реименованным в ♦ Южную Россию») и с
журналом ♦ Родник» (до 1912 года), неко-
торое время продолжая писать для юноше-
ства.
Полные света, любви и оптимизма даже
в такое смутное для России время, его рас-
сказы несли в себе жизнеутверждающий
пафос, затрагивая темы братства, равенства
и справедливости. Он писал о птицах, о
любви к животным, радостном детстве, о
добрых людях, которые помогают созда-
вать лучшую жизнь, о заброшенных детях,
искавших свое счастье, свой путь. Рассказы
были лишены политической тенденциоз-
ности и привлекали своей задушевностью и
безобидным юмором, в то же время часто
повествуя и привлекая внимание к обездо-
ленным, несчастным. Некоторые из этих
рассказов уже пишутся по детским воспо-
минаниям, в какой-то степени являясь ав-
тобиографическими («Полочка», 1909;
«Светлая страница», 1910; «Рваный ба-
рин», 1911; «Солдат Кузьма», 1915; «Как
мы летали», 1918). Так, в «Светлой стра-
нице» рассказывается история, произошед-
шая с отцом писателя, по просьбе сына со-
хранившего жизнь старой лошади, а в рас-
сказе «Как мы летали» герой-мальчик
описывает свои впечатления от путешест-
вия с другом Петькой (сыном сапожника с
их двора) в Зоологический сад, где демонст-
рировался аэронафтический трюк францу-
за на воздушном шаре. Описание последую-
щего наказания (законно ожидаемого обои-
ми путешественниками за самовольную
отлучку) своей горделивой тональностью
указывало на невозможность окончатель-
ной победы скучной жизни: ♦ Скучная
жизнь! Ну, ничего. Она опять засверкает,
вот только взойдет солнце».
Подобного оптимизма нет в другой по-
вести тех лет, занимающей особое положе-
ние в творчестве Шмелева, — «Служители
правды» (1906). Открытый показ социаль-
ной несправедливости и осуждение анти-
семитизма, в общем не свойственная про-
изведениям Шмелева декларативность ста-
новятся ее сюжетообразующей основой.
В центре повествования — сын пьяницы са-
пожника, талантливый мальчик Ося, кото-
рого, заметив его одаренность, бесплатно
учит еврей — рисовальщик вывесок. Став
известным художником, Ося пишет карти-
ну, изображающую еврейский погром, уви-
денный им еще в детстве и оставивший не-
изгладимый след в его душе. Повесть была
напечатана в журнале ♦Юная Россия», но
до детской аудитории так и не дошла: вы-
пуск журнала был изъят.
Видное место в творчестве И. Шмелева
для детей занимают рассказы и повести о
животных, способных ♦ размочить засы-
хающую душу» (А. Амфитеатров). «Мэри»
(1907), «Последний выстрел» (1908),
«Мой Марс» (1910) — они интересны не
только детям, но и взрослым своим анали-
зом нюансов человеческих поступков, не-
редко, как в ♦ Последнем выстреле» или в
♦ Моем Марсе», прямо противоположными.
Охотник («Последний выстрел») нещадно
расстреливает ястребов в отместку за
смерть ручного королька до тех пор, пока
не подбирает им же раненую птицу. Попыт-
309
Русские писатели XX века
ка вылечить молодого ястреба оказывается
тщетной, и человек делает свой последний
выстрел, чтобы прекратить муки смертель-
но раненного существа.
ЗРЕЛОСТЬ ТАЛАНТА
Даже осознав себя писателем, И. Шме-
лев не спешил с переездом в Москву, что оз-
начало бы окончательный уход со службы.
Однако необходимость быть в центре лите-
ратурной среды и социальных катаклиз-
мов, сотрясающих страну и, естественно,
затрагивающих любую творческую лич-
ность, приводит к принятию тяжелого ре-
шения: переезд в неизвестное будущее, ко-
торый жена и верный друг Ольга Александ-
ровна назвала «вторым большевизмом»,
пережитым семьей (первый — переезд во
Владимир).
В Москве Шмелевы поселились на улице
Полянка (Денежный переулок, 25), и Иван
Сергеевич начинает серьезную писатель-
скую деятельность, перейдя от литературы
для детей к публикациям для взрослого
чтения в газетах и журналах «Русские ве-
домости», «Биржевые ведомости», «Киев-
ская мысль», «Русь», «Русское богатство»,
«Современный мир», «Русская мысль» и
др. Почти все созданное Шмелевым в
1906—1910 годах вдохновлялось русской
революцией 1905 года и связанными с нею
изменениями, происходившими в душах и
мыслях людей. Рассказы и повести Шмеле-
ва существенно отличаются от произведе-
ний других писателей своей тональностью,
вытекающей из жизнеутверждающего па-
фоса его творений — неизменной веры в на-
ступление лучшей жизни, в появление че-
ловека — носителя правды, мыслями уст-
ремленного в будущее. И хотя в них
повествуется все о тех же «униженных и ос-
корбленных», нет присущих основной мас-
се литературных произведений тех лет ни
безысходности, ни отчаяния, ни запугива-
ния. Главное, что интересует писателя, —
распад старого жизненного уклада, вли-
яние социальных перемен на судьбы и ду-
ши людей разных слоев. В ту же тему логи-
чески вплетается традиционный конфликт
отцов и детей. Об этом повесть «Распад»,
в которой описывается крах дома Хмуро-
вых — старозаветной купеческой семьи в
Замоскворечье. Раскол семьи, постепенно
приведший к упадку вроде бы крепкой
фамилии показан глазами мальчика, пле-
мянника главы семьи Захара Хмурова. На
протяжении повести он взрослеет и оказы-
вается способным подвести итоги произо-
шедшему, проанализировать бег времени и
результат распада. Отсюда пронизывающая
тоска по исчезающему деревянному За-
москворечью с его просторными дворами и
патриархальным укладом жизни. Старое
рушится, ему на смену приходит прогрес-
сивное новое — закономерность происходя-
щего воспринимается умом, но не сердцем.
Вот почему рассказчик сохраняет свой де-
ревянный дом со скрипучими половицами,
темными закутками, где притаились тени
чудаковатых предков. По раскрытию соци-
альной темы повесть Шмелева стоит в ряду
таких произведений мировой литературы,
как «Господа Головлевы» М. Е. Салтыкова-
Щедрина, «Суходол» И. А. Бунина, «Дело
Артамоновых» М. Горького, «Будденбро-
ки» Т. Манна.
Как и всю русскую интеллигенцию того
времени, Шмелева увлекают революцион-
ные идеи. Герои «Ивана Кузьмича» и
«Гражданина Уклейкина» — типичные ма-
ленькие люди, захваченные водоворотом
политических событий и поднятые ими на
вершины небывалые и немыслимые, чтобы
потом быть безжалостно раздавленными.
Так раскрывается и в заостренной форме
развенчивается писателем мышиная возня
политиков, одурачивающих народ своими
запутанными речами, превышающими по-
нимание обычных людей.
Более оптимистичен рассказ «Вах-
мистр», в котором отец, увидев сына в тол-
пе демонстрантов, оказывается не в силах
выступить против своей кровинушки, бро-
сает шашку и переходит на сторону вос-
ставших.
Рассказы Шмелева привлекли к себе
внимание критиков и мастеров слова. Мак-
сим Горький выделил Шмелева как талант-
ливого и оригинального художника, выска-
310
Иван Сергеевич Шмелев
зывая в письме с Капри (1910) свое мнение
о рассказах «Господин Уклейкин», «В но-
ре» и повести «Распад»:
...эти вещи внушили мне представление о Вас
как о человеке даровитом и серьезном. Во всех
трех рассказах чувствовалась здоровая, приятно
волнующая читателя нервозность, в языке были
«свои слова», простые и красивые, и всюду звуча-
ло драгоценное, наше русское, юное недовольство
жизнью. Все это очень заметно и славно выделило
Вас... из десятков современных беллетристов, лю-
дей без лица.
За полноту раскрытия темы в ран-
нем творчестве о людях угнетенных и уни-
женных, особую ее выразительность и то-
нальность неподдельного сострадания кри-
тик В. Львов-Рогачевский свою статью о
И. С. Шмелеве вполне правомерно озагла-
вил «Художник обездоленных*.
Нет ничего удивительного в том, что,
когда настал момент войти в бурную лите-
ратурную жизнь, Шмелев вступил именно в
объединение «Среда», которое после попол-
нения его молодыми авторами стало назы-
ваться «Молодая Среда». Деликатный, иск-
ренний, с живым темпераментом, он всем
пришелся по душе. Люди, хорошо знавшие
писателя, единодушно отмечали его исклю-
чительную привлекательность, увлечен-
ность, гуманность, отзывчивость, а к осо-
бенностям таланта относили добродушный
юмор, с которым он воспринимал все несу-
разности жизни.
Основатели кружка, а вслед за ними и
молодые авторы твердо стояли на позициях
реализма, хотя это было нелегко: ведь тогда
было время господства модернистских тече-
ний. Шмелев, по его же словам, вошедший
в литературу под ручку с Уклейкиным,
предпочел идти дорогой, проложенной ве-
ликими мастерами русской прозы:
...опять повторю, говоря о беллетристике, и
темы и их обработка должны быть, при всей их
возможной художественности, близки массе чи-
тателей, затрагивать ей близкое, и, конечно, об-
щечеловеческое. Национальны должны быть,
по-моему, темы. Как национальна должна быть и
литература, последнее время в молодых предста-
вителях своих ушедшая в какой-то тупик. Что
сейчас национального, своего, родного в Андре-
еве, таланте большом? А в Сологубе? А других?
Под творениями их могут подписаться и англича-
нин и француз. Свидетельствует ли это о гениаль-
ности? Нет, это свидетельствует об обезличении
литературы, об отсутствии у нее основы, целост-
ности, души живой. Или уж так далеко ушло вре-
мя Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого, Коро-
ленко, Чехова... Или уже пропало народ и на-
ше... Потеряли и плоть и кровь и облеклись в
ткани холодных умозаключений, и страшных
андреевских вопросов, и мистических пережива-
ний, и легенд сологубовских? И быт пропал, и по-
терял народ свои жгучие боли, стремления, свои
преступления, и перестали тискать и гнуть, и
родная природа погасила свои краски? Не
по-прежнему ли жизнь трепетна и больна, и кра-
сива и не по-прежнему ли в душах бродит и бур-
лит... и куда делась русская женщина? Не вся же
она перелилась в бледно-больное отображение
женщин Сологуба, этой клеветы на женщину?
В страстно трепетную женщину — предмет при-
тязаний Санина1?
Ведь это восковые фантазии кабинетных бел-
летристов, проезжающих из Питера в Ялту и об-
ратно.
В этом резком высказывании — литера-
турное кредо Шмелева: цель художника —
словом отобразить «плоть и кровь» увиден-
ного и осмысленного. С детства ощущая
свою особенность теряться вне домашнего
уюта, вне родной среды, Шмелев и в лите-
ратуре нашел только свою нишу, и ему
абсолютно неважно ее обозначение как тра-
диционно реалистической или неореалис-
тической, созданной на основе слияния мо-
дернизма и реализма. Главное — слово его
живо, по-народному понятно и правдиво.
Этого придерживались и остальные писате-
ли «Среды», а среди них были почти все
русские знаменитости. На собраниях «Сре-
ды» читались новые, еще неизданные про-
изведения, звучала откровенная критика.
Горький здесь пьесу читал «На дне», а Ле-
онид Андреев вообще ничего не публиковал
без предварительного обсуждения собра-
ния. Здесь же впервые был представлен за-
мысел и прочитано самое значительное про-,
изведение дореволюционного периода твор-
1 Санин — герой одноименного романа М. Ар-
цыбашева, популярного у массового читателя на
рубеже веков.
311
Русские писатели XX века
чества И. С. Шмелева — роман «Человек из
ресторана» (1911), явивший героя совер-
шенно нового для русской литературы ти-
па:
Хотелось выявить слугу человеческого,
который по своей специфической деятель-
ности как бы в фокусе представляет всю
массу слуг на разных путях жизни.
По воспоминаниям очевидцев, Шмелев
пребывал в возбужденном состоянии во все
время написания этого романа. Он расска-
зывал своему другу Белоусову роман по ме-
ре его появления, дожидаясь следующей
встречи, зачитывал целые главы по телефо-
ну. Долго выбирал название: первоначаль-
ное «Под музыку» было отвергнуто Горь-
ким, который первым прочитал рукопись в
полном ее объеме и посоветовал назвать ее
«Записки человека». Многозначность слова
«человек», имеющего как широкое значе-
ние, относящееся к любой конкретной лич-
ности, так и более узкое (например, офици-
ант), привлекла внимание Шмелева, поэто-
му окончательный вариант — «Человек из
ресторана* своим дополненным определе-
нием позволил в полной мере в одном на-
звании выразить основную идею романа, в
котором идет речь о Человеке, сохранив-
шем достоинство вопреки разлагающему
влиянию среды и... профессии вечного слу-
ги («из ресторана»). Здесь нашли отраже-
ние и слились в одно целое все темы, разра-
батываемые писателем в предыдущих рас-
сказах. Это и большие трагедии маленьких
людей, униженных и оскорбленных (ста-
рик официант Скороходов), выведенные в
духе лучших произведений русской класси-
ки («Станционный смотритель* Пушкина,
«Шинель» Гоголя, «Бедные люди» Достоев-
ского). Это и социальная трагедия в теме
Коли Скороходова (сына), когда моральная
травма подтолкнула подростка, изгнанного
из гимназии, к террористической деятель-
ности. Показательно, что «Человек из рес-
торана» был написан в то время, когда в
Германии вошли в моду романы о чутких,
впечатлительных учениках, раздавленных
тиранической системой образования. И на-
конец, тема противопоставления двух ми-
ров (как в раннем рассказе «На том бере-
гу»), ведущая к развенчанию мнимого бла-
городства богатых и сильных мира сего.
Образы посетителей ресторана, не считаю-
щих за людей тех, кто им прислуживает,
представлены в едкой гоголевской манере
«Мертвых душ».
Публикация «Человека из ресторана»
вывела И. С. Шмелева на мировую литера-
турную сцену. Роман получил европейское
признание, был переведен на одиннадцать
языков и выдержал ряд переизданий. За
ним окончательно упрочилось положение
крупнейшего писателя-реалиста в русской
литературе.
С начала 1910 года творческая деятель-
ность И. С. Шмелева оказывается тесно
связанной с новым литературным объеди-
нением — «Книгоиздательством писателей
в Москве». Оно было создано участниками
♦Среды», чтобы дать возможность писате-
лям печатать свои произведения без редак-
торского диктата и контроля. Шмелева на
первом же учредительном собрании выби-
рают в правление, а через два года он вхо-
дит в состав редколлегии вместе с Ю. Буни-
ным и В. Вересаевым. Первыми выпущен-
ными книгами стали «Суходол* И. Бунина,
«Человек из ресторана» И. Шмелева и «Из-
бранные рассказы* И. Новикова. В течение
1912—1914 годов книгоиздательство вы-
пустило три тома сочинений Шмелева,
включавшие его рассказы «Стена», «Пуг-
ливая тишина», «Поденка», «Волчий пе
рекат», «Виноград», «Весенний шум», по-
вести «Патока» и «Росстани». Шмелев
начинает пользоваться все большей попу-
лярностью не только среди московских
писателей. Леонид Андреев, живущий в
Петербурге, неоднократно предлагал Шме-
леву сотрудничество с петербургскими
издательствами, в частности, всячески пы-
тался переманить в свою газету «Воля
России». Объяснение подобной активности
Андреева заключалось в следующем: он пы-
тался «спасти» великий талант от «затхлос-
ти московской жизни». Однако Иван Серге-
евич любил Москву и ее литературный кли-
мат, это была его среда, и поэтому отказ его
звучал категорично, к каким бы уловкам
Андреев ни прибегал: клеймил Москву и ее
312
Иван Сергеевич Шмелев
♦затхлую» атмосферу, ездил в Серпухов,
где Шмелевы проводили лето в 1916 году,
обращался за помощью к их общему другу
Сергею Голоушеву («Ну поддержи меня,
Сережа... спеши... Обещай всеми средства-
ми. Усыпи Шмелева и внуши. Действуй
гипнозом»). Все оказалось тщетным.
Конец повседневной жизни, конец возро-
дившейся с новой силой страсти к драма-
тургии («Догоним солнце» и «На паях»,
1913—1914) положила Первая мировая
война. По заказу журнала ♦Северные запи-
ски», в котором и ранее печатался Шмелев,
он начинает работу над серией очерков-за-
рисовок, отражающих настроение деревни
и отношение народа к войне. Шмелев ходит
по деревням, беседует с крестьянами, с ко-
торыми с детства находил общий язык,
внимательно прислушивается к разгово-
рам, к слухам, к восприятию и простодуш-
ному объяснению различных явлений, ста-
раясь вникнуть и понять, что происходит в
душах и умах людей, что они думают о со-
бытиях в Европе.
Эти ценные и интересные наблюдения
позднее выльются в серию рассказов, очер-
ков, зарисовок, составивших сборник под
названием «Суровые дни».
Если в самых общих чертах определять
жанровые особенности этих историй, то
правильнее всего назвать их репортажами
с элементами физиологического очерка.
Шмелев не идеализирует искренно люби-
мый им простой народ: пьянство, суеверие,
невежество — все негативные стороны дере-
венской жизни не замалчиваются писате-
лем. Но все это с непременными уже для
творчества гуманиста нотками сочувствия
к жертвам социального зла.
Особое место в цикле занимает лириче-
ский рассказ «У плакучих берез», посвя-
щенный погибшему на войне другу детства
Шмелева, Женьке Пиунову. Он проникнут
элегическим настроением и содержит вос-
поминания о предпринятом когда-то походе
двух юношей на богомолье в Троице-Серги-
еву Лавру (после успешно сданного экзаме-
на, если помните).
Не только литературные и общественные
проблемы занимают в эти годы И. С. Шме-
лева. Неотступной занозой сидит в нем то-
ска по единственному сыну Сергею, моби-
лизованному и находящемуся в Серпухове.
И Иван Сергеевич и Ольга Александровна
остро переживают разлуку с сыном, даже
комнату его оставляют нетронутой. Но по-
ка, несмотря на голод и холод московской
жизни зимой 1916 года (температура в доме
не поднимается выше 7 градусов), несмотря
на обострение болезни, Шмелев работает,
посещает с женой Художественный театр,
куда у него был абонемент, ездит на свида-
ния с сыном в Серпухов. Окончательно по-
давленность овладевает писателем лишь
после отправки Сергея в чине прапорщика
артиллерии на фронт (сам Шмелев был де-
мобилизован по состоянию здоровья). Рабо-
тать не хочется. Буквально пересиливая се-
бя, он выступает в художественном кружке
в пользу вдовы погибшего офицера Мамон-
това, читая рассказ «У плакучих берез»,
работает над большим рассказом «Лик
скрытый», с чтением которого выступит 5
марта в аудитории Нового университета
(Общества любителей российской словес-
ности). Позднее этот рассказ выльется в по-
весть и даст заглавие восьмому тому сочи-
нений писателя. Рассказ будет воспринят
критиками как комментарий к современ-
ным событиям, философская насыщен-
ность будет ими упущена. Конец 1916 года
застает Шмелева в разгаре творческой рабо-
ты; особенно радует переписка с сыном, в
письмах которого Шмелев с удовольствием
отмечает зарождающийся литературный
талант и поощряет его, надеясь, что после
войны Сергей поступит в Московский уни-
верситет (Шмелев даже поздравляет сына с
днем ангела его «альма матер»1 в Татьянин
день). Он мечтает, когда кончится война,
поехать с сыном за границу, но ни одному
из этих заветных желаний не дано будет
осуществиться. Судьба распорядится ина-
че.
1 Альма матер — «alma mater» (лат.) — бук-
вально: «кормящая мать», старинное студенче-
ское название университета.
313
Русские писатели XX века
«ТРЕТИЙ БОЛЬШЕВИЗМ»
Теперь о самом страшном периоде жизни
И. С. Шмелева, по словам Ольги Александ-
ровны, поре «третьего большевизма», пере-
житого их семьей.
Восторженная встреча Февральской ре-
волюции 1917 года быстро сменяется для
Ивана Шмелева сначала смущением перед
увиденным, а затем (немного позднее) и
полным разочарованием. По заказу «Рус-
ских ведомостей» И. С. Шмелев в качестве
корреспондента вместе с группой русских
писателей присоединяется к эшелону, спе-
циально отправленному за амнистирован-
ными политзаключенными из Челябинска
и Омска. Радостное воодушевление Ивана
Сергеевича по поводу происходящих собы-
тий, возможность активно участвовать в
приближении давно грезившегося прекрас-
ного будущего по мере следования по рус-
ской земле подкреплялись впечатлениями
увиденного и услышанного. Его вдохновля-
ли встречи с простым народом, в холод и
дождь приходившим встретить поезд и по-
слушать речи агитаторов: в этих импрови-
зированных митингах с удовольствием при-
нимал участие и писатель.
«Революционеры-каторжане оказывается],
меня очень любят как писателя <...>. Я был с ни-
ми в каторге и в неволе — они меня читали, я им
облегчал страдания», —
писал он сыну. Однако начальные впечат-
ления, отображенные в первых же репорта-
жах, по мере продвижения состава ослабе-
вают, на смену им приходят сомнения и не-
доумения. Тон речей митингующих
политкаторжан становится все агрессивнее
и больше напоминает жажду мщения, что
никак не связывалось с теми надеждами,
которые писатель-гуманист возлагал на ре-
волюцию. Интерес местных жителей к по-
добным митингам также начинал ослабе-
вать: чем больше поезд углублялся на тер-
риторию Сибири, тем менее приветливыми
и дружелюбными становились люди. По-
скольку вместе с политическими были ам-
нистированы и освобождены и уголовные
преступники, начала распространяться
волна грабежей и убийств. На станции Тай-
га пасхальным снежным утром, христосу-
ясь с солдатом, Шмелев узнал от него, что
святой ночью (!) на станции было совершен-
но зверское убийство: солдат, вернувшийся
домой с фронта, был зарезан со своей семь-
ей шайкой освобожденных бандитов. Про-
фессор А. В. Карташев в статье «Религиоз-
ный путь Шмелева» отметил именно этот
момент как поворотный пункт в переоценке
писателем революции: а готова ли Россия
принять революцию и свободу — вот мотив,
зазвучавший в репортаже, посвященном
этой истории.
Продолжением репортажей «В Сибирь
за освобожденными» станет цикл очерков
Шмелева «Пятна». Нота разочарования
здесь еще более усиливается: писателю уже
приоткрылся антигуманный лик революци-
онных масс, озлобленных, лишенных чув-
ства ценности отдельной личности и с бе-
шенством творящих «счастье для всех».
В дороге Шмелев пробыл 28 дней. Он
вернулся усталый, мрачный, разбитый, с
единственным желанием поскорее уехать в
Крым на отдых.
В Крыму Шмелевым очень понравилось.
Они решили дождаться окончания войны и
возвращения сына, чтобы купить себе там
маленький домик. Вернувшись в Москву,
застали ее голодающей и замерзающей, а
московскую литературную жизнь — бурля-
щей. Члены «Среды» объявили бойкот Се-
рафимовичу: никто из писателей не поже-
лал печататься рядом с большевиком.
Вслед за этим последовало последнее засе-
дание общества (3 декабря 1917 года), на
котором Серафимовича исключили из со-
става «Среды*.
Как только сын наконец вернулся с
фронта, Шмелевы все вместе уехали снача-
ла на Украину, а затем и в Крым. Здесь, в
Алуште, они купили небольшой дом на вер-
шине балки, окруженный виноградника-
ми, спускающимися круто к морю. Насту-
пила небольшая передышка: Иван Серге-
евич наслаждался своим миниатюрным
хозяйством — садом, огородом, цветником
и живностью (кролики и куры имели свои
имена: кролики — Саша Черный, Андрей
314
Иван Сергеевич Шмелев
Белый и Горький; куры — Купчиха, Жад-
нюха и т. п.). Вместе с домашней птицей
поселился у Шмелевых и павлин, будив-
ший семью ранним утром своим криком,
требуя пищи, которую было трудно до-
стать: каждая горсть зерна была на учете...
В 1920 году, в разгар Гражданской вой-
ны, в Алушту снова вернулся сын. К этому
времени он был офицером Добровольческой
армии генерала Деникина и воевал в Тур-
кестане. Однако эта служба была непродол-
жительной: из-за полученных во время рус-
ско-германской войны ранений и отравле-
ния газом он заболел туберкулезом легких
и был уволен с действительной военной
службы по состоянию здоровья. В Алуште
Сергей Шмелев работал в канцелярии шта-
ба комендатуры, участия в боях не прини-
мал. Отказавшись во время отступления
Врангеля эмигрировать вместе с остальны-
ми — инвалид в двадцать четыре года, — он
остался с родителями. После прихода в
Крым Красной Армии его дважды аресто-
вывали, но всякий раз отпускали. Однако в
ноябре 1920 года для выяснения «некото-
рых формальностей* Сергея увезли в Фе-
одосию. Больше о сыне Шмелеву выяснить
ничего не удалось.
Все это время Иван Сергеевич сотрудни-
чал с газетой «Южное слово* — главным
белогвардейским органом всего Одесского
региона. Редактором газеты был Н. К. Кли-
менко, помощник военно-морского проку-
рора, его работу курировал совет из трех
академиков: Дмитрия Николаевича Овся-
нико-Куликовского, Никодима Павловича
Кондакова и — всегда с решающим голо-
сом — Ивана Алексеевича Бунина. Первый
же отправленный в редакцию и сразу напе-
чатанный рассказ-сказка Шмелева о матро-
се Всемоге положил начало целому циклу
сказок-аллегорий, написанных им в эти го-
ды: «Панкрат и Мутный», «Степное чу-
до», «Преображенец», «Веселый барин»,
«Инородное тело», «Сладкий мужик». Эти
символические сказки, отразившие отно-
шение И. Шмелева к революции, все же
оказались намного бодрее других парал-
лельно с ними писавшихся вещей. Все они
были пронизаны оптимистическим отноше-
нием писателя к происходящему, основан-
ным на неизбывной вере Шмелева в рус-
ский народ. Так, в сказке «Инородное те-
ло» рассказывается о тяжело «заболевшем»
сыне вдовы-бараночницы Матрены Иванов-
ны, Ванюше. Все пошло прахом в налажен-
ном быту дома Матрены Ивановны из-за со-
седа-конкурента нерусского происхожде-
ния Карла Ивановича, сбившего с пути
отраду ее души и верного помощника — Ва-
нюшу. Взбунтовался сын против родной ма-
тери, перестал работать, перевернул все в
доме в поисках золота, повыбрасывал ико-
ны и пригрозил даже «весь мир перевер-
нуть». До тех пор мучилась Матрена, пока
не призвала на помощь врача-англичанина
по имени Тайм («время»). Тот произвел хи-
рургическую операцию и вынул «инород-
ное тело» — здоровенную гнилую занозу из
мозга сына, вылечив без рецидива «мозго-
вую холеру».
Французская наука имела дело с подобным па-
циентом в 1789 году и дальше... Но там болезнь
протекала не так бурно и кончилась полным вы-
здоровлением.
Шмелев таким образом затрагивает в
этой сказке вопрос об исторических переме-
нах в раздираемой смутой и междуусобица-
ми стране, явно давая понять, что соци-
ализм в России — чуждый для нее, «ино-
родный» элемент.
Две повести, написанные Шмелевым за
годы жизни в Алуште, резко отличаются
друг от друга и в жанровом отношении, и
содержательно, и тематически. «Неупивае-
мая Чаша» (1918) — один из шедевров по-
слереволюционного периода творчества пи-
сателя — романтическая история жизни
крепостного художника. Это изящная сти-
лизация житийного жанра, демонстрирую-
щая новую религиозную ориентацию писа-
теля. Кажется, что написана она вопреки
всему происходящему как тихая книга о
нежности и чистоте среди шумной крова-
вой неразберихи.
Время действия «Неупиваемой Чаши» —
дореформенная Россия, события же другой
повести — «Это было», имеющей подзаго-
ловок «Рассказ странного человека», —
315
Русские писатели XX века
приближены по времени, разыгрываются
в годы Первой мировой войны. Ее появле-
ние — явный признак поиска новых твор-
ческих возможностей уже признанного
мастера слова, и потому события в ней вос-
создаются не в привычной для Шмелева
реалистической манере, а в гротескных за-
рисовках, в которых сочетаются и комиче-
ская смещенность изображаемого, и траги-
ческая заостренность в духе Эдгара По.
Здесь прямое, даже несколько утрирован-
ное (в соответствии с выбранным жанром)
отображение ужаса и неразберихи дня сего-
дняшнего — другой полюс художественной
палитры писателя.
Повествование ведется от имени молодо-
го капитана, участника Первой мировой
войны, некогда подававшего большие на-
дежды физика (этим и объясняется «стран-
ность» описываемого и манеры описания:
капитан получил тяжелейшую контузию
на немецком фронте, два дня пролежав,
как в могиле, под руинами блиндажа). По-
сле двухмесячного лечения его признают
годным к службе. Однако по пути на фронт
офицер случайно попадает в сумасшедший
дом, охваченный восстанием пациентов под
предводительством сумасшедшего полков-
ника Бабукина, силой и каким-то «магне-
тизмом» захватившего власть в больнице.
Молодой человек помогает разоружить бун-
товщиков, освободить от двухдневного за-
ключения в подвале персонал, но, не вы-
держав дальнейших событий (взятия боль-
ницы немцами и убийства одного из
пациентов), теряет сознание. Очнется он не-
понятно где (то ли в больнице, то ли «где
еще») и по просьбе «врача* напишет свою
объяснительную «Это было».
Любопытную трактовку повести предло-
жил в свое время А. Амфитеатров, посчи-
тавший, что в шмелевском произведении
заключена страшная социальная аллего-
рия - изображение того, как вожди рево-
люции, подобно Бабукину, магнетизмом
своей воли и власти сбили с пути истинного
обезумевшую Россию.
Последним произведением, написанным
Шмелевым на родине, является рассказ
«Чужой крови» (1918—1923). Писатель
вновь обращается к событиям Первой миро-
вой войны. Герой рассказа — двадцатишес-
тилетний крестьянский парень Иван Гра-
чев, получив сквозное ранение легких, по-
падает в плен. Судьба солдата, русского
человека на чужбине, оказалась для автора
предчувствием его собственной участи из-
гоя-эмигранта, силой обстоятельств ото-
рванного от горячо любимой Родины, стра-
стно желающего возвращения и не достиг-
шего своего мечтания.
Шмелевы пережили в Крыму все возмож-
ные и невозможные лишения, выпавшие на
долю народа. Лишившись сына, не веря в
окончательность своей потери, они продол-
жали искать его, бороться. Свидетельством
тому — письма, направленные в самые раз-
личные инстанции: «21.12.1920 г. Письмо
Серафимовичу, Горькому, Луначарскому»;
♦9.1.21 г. Телеграмма Горькому и Луначар-
скому и Рабенек. Телеграмма Вересаеву»;
«20.1.1921 г. Телеграмма Волошину» (пред-
положительно телеграмма послана накану-
не расстрела Сергея). Горе любящих родите-
лей не знало границ, на все их запросы был
один ответ: «Выслали на Север». А резуль-
татов не было, потому что вдохновитель мас-
сового террора в Крыму («в Крыму была
тогда такая каша») — председатель военно-
революционного комитета венгр коммунист
Бела Кун — действовал по указанию само-
го «демона революции» Л. Троцкого. В то
время, когда вся страна переходила вес-
ной 1921 года к нэпу, заменяя продраз-
верстку продналогом, в Крыму продолжала
господствовать политика продразверсток.
В 1922—1923 годах здесь голодало 60—70%
населения, в результате чего умерло свыше
ста тысяч человек.
Шмелевы пережили все: сначала —
скудный паек, затем — коренья, лепешки
из виноградного жмыха — немного поддер-
живали продовольственные передачи, при-
сылаемые некоторым писателям, а также
доброта человеческая, о которой всегда по-
мнил и которую ценил писатель. Так, от-
правившись в Феодосию 14 февраля 1921
года на поиски сына и не имея возможности
купить ничего съедобного, Шмелевы заре-
гистрировались в коммунальной столовой,
316
Иван Сергеевич Шмелев
чтобы получить паек — их единственный
источник пропитания: 200 граммов хлеба в
день. Однако на следующий же день резер-
вы коммунальной столовой иссякли и она
закрылась. Шмелевы в отчаянии стояли на-
против столовой, когда из ее здания вышел
человек, который заведовал раздачей ра-
ционов. Поинтересовавшись, не является
ли Иван Сергеевич автором «Человека из
ресторана» и получив утвердительный от-
вет, он передал писателю большую буханку
хлеба, завернутую в чистый холст: самый
лучший гонорар, когда-либо полученный
автором за свой литературный труд.
Этим хлебом мы питались три дня... Голод
отошел, мы остались с женой живы. Спасибо че-
ловеку, давшему нам хлеб!
Это был не единственный случай, когда в
те трудные годы в Крыму поклонники та-
ланта Шмелева спасали ему жизнь. Напри-
мер, однажды писатель был вызван в штаб
большевиков на допрос как офицер запаса
царской армии, покинувший Москву после
того, как большевики пришли к власти
(«дезертир»). Регистрирующий комиссар,
услышав фамилию Шмелев, не повернув-
шись к вошедшему, сделал вид, что занес
на бумагу информацию, и кивком отпустил
его. Этим он спас Ивана Сергеевича от вер-
ного расстрела: все, кто был зарегистриро-
ван как прибывший в Крым после октября
1917 года, были арестованы, увезены в Ял-
ту и расстреляны. Лица своего спасителя
Иван Сергеевич так и не увидел.
Тем не менее арест сына, безрезультат-
ные поиски, жестокие переживания, не от-
пускавшие безутешного отца даже во время
сна, окончательно сломили волю Ивана
Сергеевича:
Видел во сне Сережу — он пришел! Я его цело-
вал и еще видел несколько дней спустя: он как
будто приехал с дальней дороги. Лежал в чистом
белье, после ванны.
И писатель, до этого момента в общем-
то не испытывавший «физиологического
отвращения к жизни с большевиками»
(В. Н. Муромцева Бунина), а тем более не
представлявший себе жизни вне Родины,
решается все же уехать за границу.
В конце февраля 1922 года Шмелевы
приехали в Москву. В сгорбленном, седом,
придавленном горем человеке друзья и зна-
комые с трудом узнавали некогда живого,
энергичного «Шмеля». Несмотря на болез-
ни и тоску Шмелев все-таки продолжает
интересоваться литературной жизнью сто-
лицы, однако сам пишет сравнительно ма-
ло: он органически не мог писать на потре-
бу дня, в духе бесцеремонно вторгавшегося
в личностную жизнь времени. За 1917—
1922 годы кроме символических сказок бы-
ли созданы две повести («Неупиваемая Ча-
ша» и «Это было») и четыре рассказа: «Суд
Соломона» (1917), «Голос зари» (1919),
«Голуби» (1919) и «Чужой крови» (1922).
В конце ноября 1922 года, поддавшись
на уговоры коллег, переживавших за все
ухудшающееся психическое и физическое
состояние Шмелева, и после продолжитель-
ных хлопот, связанных с разрешением на
выезд и получением визы, Иван Сергеевич
и Ольга Александровна выезжают в Бер-
лин. Шмелев оказывается в числе тех де-
ятелей культуры, которым была предостав-
лена возможность поездки за границу для
лечения.
ЭМИГРАЦИЯ
И. С. Шмелев собирался пробыть за гра-
ницей недолго. Основная (официальная)
цель предпринятой поездки — поправить
здоровье и собрать материалы, необходи-
мые для воплощения замысла нового рома-
на «Спас Черный», герой которого несколь-
ко лет провел за рубежом. Однако наиваж-
нейшей жизненной задачей остается на
долгое время поиск без вести пропавшего
сына. Почему-то именно здесь, в стране чу-
жой, надеется еще отец обрести утраченное
на родине счастье. Многочисленные за-
просы в эмигрантских газетах не дают ни-
какого результата, кроме одного отзыва,
который, как впоследствии выяснилось,
оказался грубым вымогательством и мо-
шенничеством на горе отчаявшихся родите-
лей: Ивану Сергеевичу сообщили, что капи-
317
Русские писатели XX века
тана Сергея Шмелева видели-де на Яве и
что за вознаграждение (немалое) готовы на-
чать его поиски. Позднее, в Париже, куда
по настоянию Бунина переехали из Берли-
на Шмелевы, Иван Сергеевич встретился с
бежавшим во Францию доктором В. Шипи-
ным, который находился вместе с Сергеем
Шмелевым под арестом в Феодосии и стал
свидетелем его расстрела. Подтвердились
самые страшные предчувствия отца, хотя
ему уже сообщали через знакомых от Луна-
чарского, что сына нет в живых, но верить
в это Шмелевы отказывались, лелея в душе
надежду на чудо. Увы, чуда не произошло,
что подвигло Шмелева к принятию един-
ственно возможного для безутешного отца
решения: не возвращаться на Родину, отни-
мающую сыновей. 22 апреля 1923 года пос-
ле разговора с Шипиным Шмелев написал
письмо-объяснение поручившемуся за него
И. С. Клестову (Ангарскому):
...Яс открытыми глазами и открыто пошел к
Вам и просил поручительства, не имея желания и
воли — и целей — подводить Вас <...> И хотел бы
вернуться на родину, где произойдет радостное
чудо, где мне отдадут моего сына: словно мне над-
лежало потомиться на чужбине, искупить
чью-то, м<ожет> б<ыть>, и свою вину, и по-
лучить «возрождение», «воскресение из мерт-
вых» — так и жена верила... И вот чуда не только
не случилось, но случилось обратное: в далеком
Париже, случайно, нашелся человек... и он мне
рассказал о последнем часе, в конце января
1921 г., когда в час ночи повезли моего мальчика
из Виленских казарм, вывели... и где-то убили.
Тогда я понял, что ничего уже не остается для ме-
ня в жизни, и у меня уже нет воли отвечать на
жизнь, на все ее прошлые задачи, мне поставлен-
ные: у меня как будто произошел разрыв с
жизнью и с прошлым. Я очутился в пустоте и
лишь принимаю день за днем, изживаемые
мною, как случайность. Ехать мне в Россию не
для чего. Я не способен жить. У меня остался
еще привычный зов — позыв к трансформации
действительности в творчестве и только. Но у
меня нет воли к жизни, и мне многое безразлич-
но.
Несколько позднее, во время специаль-
ного визита Ангарского в Париж с целью
выяснения окончательного решения Шме-
лева, Иван Сергеевич (лично не встреча-
ясь, но очень переживая за судьбу поручи-
теля) в письме от 29 августа 1923 года ста-
рается обосновать свой отказ:
Я теперь бы не мог бы, не смог бы жить в
России, где я не могу дышать свободно, писать
то, что велит мне совесть и моя замученная ду-
ша, где у меня так цинично-жестоко замучили
сына... Я хорошо знаю, что не случись со мной
этой страшной неправды, я никогда бы не ушел
из России. Я нашел бы в себе силу работать в
ней и смягчать своим душевным словом и своим
трудом те ужасы и те безумства, то безоглядни-
чество, часто позор и глупость, то очертиголов-
ство, чем слишком проявила себя партия, имею-
щая притязания считать себя единственно вер-
ным руководителем русского народа и даже
человечества.
Боль и скорбь по сыну заставят прежде
всего аполитичного писателя выступить с
обвинением в адрес Советского правитель-
ства, против «красного террора», «свиде-
телем и жертвой* которого пришлось ему
стать в Крыму. Письмо-обвинение было
написано в связи с процессом над убий-
цей советского полномочного представите-
ля в Швейцарии В. Воровского белогвар-
дейским офицером Конради. И. С. Шме-
лев («известный в России писатель-белле-
трист») посчитал своим долгом «для выяс-
нения истины» в этом важном общеполи-
тической процессе ознакомить защитника
офицера-террориста Обера с многочислен-
ными фактами страшных преступлений
власти против граждан страны и против
его сына, в частности. В заключение Шме-
лев напишет:
Свидетельствую: я видел и испытал все ужа-
сы, выжив в Крыму с ноября 1920 по февраль
1922 года. Если бы случайное чудо и властная
международная комиссия могла бы получить
право произвести следствие на местах, она со-
брала бы такой материал, который с избытком
поглотил бы все преступления и все ужасы из-
биений, когда-либо бывших на земле.
Я не мог добиться у Советской власти суда
над убийцами. Потому-то Советская власть — те
же убийцы. И вот я считаю долгом совести
явиться свидетелем хотя бы ничтожной части
великого избиения России, перед судом свобод-
ных граждан Швейцарии. Клянусь, что в мои*
словах — вся истина.
318
Иван Сергеевич Шмелев
От этой нестерпимой боли и тоски по
потерянной и униженной родине писателя
спасала только работа да еще робкая на-
дежда на возрождение. А первые зарубеж-
ные произведения «Солнце мертвых»,
«Каменный век», «Про одну старуху», «В
ударном порядке», «Свечка», «На пень-
ках» и др. посвящены разоблачению жесто-
кости революционных властей, показу ги-
бели России.
Когда в сентябре 1923 года Шмелев за-
кончил свое «Солнце мертвых», которое
сам автор назвал «эпопеей» (эпопеей народа
побежденного), и опубликовал его в альма-
нахе «Окно», книга почти сразу же была
переведена на многие иностранные языки.
Подобное внимание к эмигрантской литера-
туре было редкостью — переводилась она
мало, тем более что Шмелева как писателя
на Западе тогда практически не знали. Но
«история гибели жизни» (Шмелев) так по-
разила и ужаснула мир, что не могла нико-
го оставить равнодушным. Прозаик Алек-
сандр Амфитеатров, на которого это посла-
ние-предупреждение произвело особое
впечатление ужаса, писал:
Ее [книги] общественное и общечеловеческое
значение поглотило в ней литературу. Ибо более
страшной книги не написано на русском языке...
Покойный Леонид Андреев пугал, пугал, а мы не
пугались. А Шмелев не пугает, а только расска-
зывает день за днем... — и страшно! За человека
страшно.
То, что книга была определена автором
как «эпопея», не должно сбивать с толку: в
ней не много общего с бессмертными творе-
ниями Л. Толстого и М. Шолохова. Сама
хроникально-дневниковая форма произве-
дения уже несколько противоречит заявлен-
ному жанру. Такая форма была характерна
для первых произведений, посвященных
потрясениям революции и Гражданской
войны: достаточно вспомнить «Окаянные
дни» И. Бунина, «Петербургский дневник»
3. Гиппиус, «Взвихренную Русь» А. Реми-
зова. В основу книги легли реальные пере-
ливания И. Шмелева в голодном, залитом
кровью Крыму. Однако все происходившее с
ним и с окружающим миром воспринимает-
ся автором по-особенному: за страшными со-
бытиями послереволюционных лет он видит
не просто буйство разбушевавшихся масс,
но свершение предначертанного свыше.
«Солнце мертвых», с виду бытовое, крымское,
историческое, таит в себе религиозную глубину:
ибо указует на Господа, живого в небесах, посы-
лающего и жизнь, и смерть», — писал философ
И. Ильин.
В «Солнце мертвых» писатель пытается
осмыслить истинные, не только историче-
ские, но и внеисторические причины ре-
волюции и разглядеть духовные пути пре-
одоления разразившейся катастрофы. Для
этого он вводит в произведение большое ко-
личество второстепенных персонажей, их
устами заставляет говорить весь великий
народ, оказавшийся на краю пропасти.
Здесь особенно ярко проявилось мастерство
Шмелева-стилиста, тонко чувствующего
чужую речь и умеющего передавать все ее
неповторимое своеобразие.
Критика была единодушной в положи-
тельной оценке как художественно-литера-
турных достоинств «Солнца мертвых», так
и его общечеловеческой значимости. Иск-
лючение составили отзывы советской прес-
сы: так, в журнале «Печать и революция»
И. А. Аксенов, оценивая книгу И. Шмеле-
ва, выразился резко и «прямо»:
...если эту черепокожую лирику можно на-
звать рассказом, это одна из самых остервенелых
противосоветских агиток в белой литературе.
С этого момента И. С. Шмелев перестает
существовать на своей «бывшей* Родине
как писатель. До момента появления в пе-
чати «Солнца мертвых» его книги, так же
как и книги Бунина, Куприна, Тэффи, бла-
годаря деятельности Горького еще переиз-
даются; в советских университетах прово-
дятся лекции по творчеству эмигрантских
писателей, хотя и читаются они с некото-
рыми «классовыми» оговорками:
Шмелев — один из тех немногих писателей,
которых призвала к литературной жизни и опло-
дотворила революция 1905 года (!). Однако он ни-
когда не был художником революции, и тем ме-
нее — художником пролетариата, как класса, не-
319
Русские писатели XX века
сущего в себе эту революцию. Шаткость и
неопределенность мировоззрения, тяготение к
андреевскому пессимизму!!) были характерны
для всего творчества Шмелева.
Тем не менее в 1928 году в советской Рос-
сии вышел на экраны фильм «Человек из
ресторана*. Несмотря на значительные из-
менения и искажения фабулы романа, на
афишах значилось имя Шмелева и печатал-
ся его портрет. Больше всего в этой ситу-
ации Ивана Сергеевича огорчало то, что его
роман будет показан по всему свету иска-
женным для разжигания классовой нена-
висти. И не напрасно. Во Франции, напри-
мер, демонстрация фильма состоялась в па-
рижком кинотеатре, принадлежавшем
французскому коммунистическому общест-
ву «Спартак». С предварительными ком-
ментариями выступил критик-коммунист
де Жарвиль. Он назвал Шмелева предате-
лем своего народа и одним из корыстней-
ших представителей эмигрировавшей из
России интеллигенции. «Корыстнейший
представитель» тем временем, долгое время
не имея возможности из-за финансовых
проблем обрести свой угол, мыкался по
друзьям-литераторам и знакомым, близ-
ким и дальним родственникам. По приезде
в Париж Шмелевы останавливаются у
Юлии Александровны Кутыриной, племян-
ницы Ольги Александровны, в ее скромной
трехкомнатной квартире. Когда три года
спустя, в 1926 году, Томас Манн посетил
там Шмелева, он был необычайно поражен
не только внешностью преждевременно
постаревшего писателя, но и бедностью его
жилища. Лето Шмелевы проводили на даче
у Буниных в Грассе (именно там Иван Сер-
геевич активно работает на рукописью
«Солнца мертвых»). Вообще, Иван Алексе-
евич Бунин и его жена Вера Николаевна
всячески старались помочь Шмелевым в
устройстве жизни и налаживании литера-
турных связей: в их доме бывали интерес-
ные и нужные люди, что играло немалую
роль для начала новой жизни в Париже.
Дача Буниных соседствовала с дачей одно-
го из крупнейших писателей-символистов
Д. С. Мережковского и его жены, не менее
известной поэтессы 3. Гиппиус. Правда,
из-за расхождения во взглядах (и не только
литературных) Мережковские неохотно об-
щались с Иваном Сергеевичем. Не удиви-
тельно, что самолюбие писателя было силь-
но задето, когда ему пришлось обратиться к
Зинаиде Гиппиус за помощью в переводе
письма от известного английского перевод-
чика Чарльза Хогарта (предложившего из-
дать «Солнце мертвых» и «Неупиваемую
Чашу» на английском языке). После этого
случая к его летним занятиям в Грассе при-
бавилось еще одно: напряженное изучение
английского языка. Но, хотя Шмелев и по-
хвастался, что через шесть месяцев будет в
состоянии переводить Шекспира, уверял,
что, занимаясь, «мает себя до сумасшест-
вия», английского он так и не выучил. Зато
у Зинаиды Гиппиус сложились дружеские
отношения с Ольгой Александровной, кото-
рую поэтесса полюбила за сердечность и
искренность, а также за утонченный вкус.
Здесь же, на юге — на Ривьере — появ-
лялись Рахманиновы, Шаляпин, Фонда-
минский, Цетлины. Однако Шмелевы все
же выбрали для себя берег Атлантического
океана, облюбовав Капбретон, где жизнь
была заметно дешевле. В маленький кот-
тедж «Жаворонок» они выезжали каждую
весну, увозя с собой из Парижа маленького
Ивестиона, сына Юлии Александровны, ко-
торого называли Ивушкой или Ивиком —
внучком — и к которому оба привязались,
занимаясь его воспитанием даже больше,
чем родители. Он очень напоминал Шмеле-
вым их Сережу в детстве, и именно ему
Иван Сергеевич посвятит главу «Рождест-
во» из книги «Лето Господне», которая бы-
ла написана в форме рассказа конкретному
мальчику-слушателю, попросившему дядю
Ваню рассказать о русском Рождестве. Пуб-
ликацией этого рассказа в парижской газе-
те «Возрождение* в январе 1928 года было
положено начало очеркам-воспоминаниям
«Лета Господня».
Соседями Шмелевых по Капбретону бы-
ли Деникины и Бальмонты. Здесь на долгие
годы завязалась сердечная дружба между
этими семьями. Особенно удивляла тепло-
та отношений Ивана Сергеевича и Бальмон-
320
Иван Сергеевич Шмелев
та — прозаика и поэта, принадлежавших
к разным литературным лагерям. В Моск-
ве они не встречались в литературных кру-
гах: поэту-символисту Константину Дмит-
риевичу реалисты казались приземленны-
ми, скучными и пресными, Шмелеву же
московские символисты претили своей
«крикливостью», нарочитой эксцентрично-
стью, эпатажностью поведения и речи: «Ко-
робила и эта музыка, и эта пышность, и на-
рочитость звуков — «...лила, лила, лила,
качала два тельно-алые стекла...» Проч-
тешь — и отчего-то стыдно».
Однако здесь, в эмиграции, объединен-
ные общим горем изгнания и бесправности
(не имея гражданства), изолированностью
не только от Родины, но и от французского
окружения, они начали по-приятельски об-
щаться. Шмелев покорил поэта своей пла-
менной любовью к России, что даже нашло
отражение в его творчестве. Под влиянием
длительных прогулок с прекрасным рас-
сказчиком и знатоком русской природы
поэт Солнца вдруг осознает, что его кор-
ни — Россия, что Луна, встающая над океа-
ном, та же, что сияет над маленьким рус-
ским городом, что священное пламя по-
клонников огня то же, что горящая лампад-
ка деревенской церкви. За любовь к России
Бальмонт стал называть Шмелева «горящее
сердце», «пламенное сердце».
Благодаря воспоминаниям Бальмонта
мы узнаем о Шмелеве вещи, о которых не
упоминает никто из мемуаристов. Напри-
мер, о его любви к музыке, о любимом инст-
рументе — виолончели, о любимом компо-
зиторе — Глинке. К удивлению своему,
выясняем, что любимой птицей Ивана
Шмелева была ворона, ум и хитрость кото-
рой ему приходилось наблюдать неоднок-
ратно. Так, еще во времена московской
жизни он был свидетелем, как обманывала
эта хитроумная птица его пса Бушуя, ста-
раясь покормиться за счет собаки. Из де-
ревьев Иван Сергеевич любил березу и ря-
бину, а из цветов — ночную фиалку, кото-
рую в народе зовут любкой и которой
практически не мог найти в разнообраз-
но-яркой растительности Франции.
ЖИЗНЬ В ИЗГНАНИИ
С детства привыкший к самостоятель-
ности и труду, стремящийся к независимос-
ти, Шмелев очень тяжело переживает шат-
кое финансовое положение своей семьи.
Он вынужден был много работать, несмотря
на неизбывную тоску по сыну, по Родине,
несмотря на мучившие болезни. Он сотруд-
ничает с такими журналами русского зару-
бежья, как «Современные записки», «Ил-
люстрированная Россия », « Перезвоны »,
♦Русский колокол», иногда публикует свои
произведения в «Русском инвалиде» и «Дне
русского ребенка», в русских газетах, вы-
ходивших в Париже («Возрождение», «По-
следние новости», «Родная земля», «Рус-
ская газета», «Россия и славянство»), Бер-
лине («Руль»), Риге («Сегодня»). За годы
изгнания им написаны: романы «Солнце
мертвых» (1923), «История любовная»
(1926—1927, опубликован в «Современных
записках», 1927), «Солдаты» (1930, остал-
ся неоконченным), «Няня из Москвы»
(1932—1933), «Пути небесные» (1935—
1944), «Лето Господне» (1927—1940); по-
весть «Богомолье» (1930—1931) и книга
«Старый Валаам» (1935—1936); много-
численные рассказы, наиболее яркие из ко-
торых «Про одну старуху» (1927) и «Кули-
ково поле» (1939, 1947), а также публицис-
тические статьи, выступления, сборники
рассказов, автобиографии.
Повесть «Богомолье», книга «Лето Гос-
подне. Праздники. Радости. Скорби» и
примыкающие к ним два рассказа — «Мар-
тын и Кинг» и «Небывалый обед» — обра-
зуют особый цикл: здесь художник в пои-
сках опоры возвращается к Руси христиан-
ской, к Москве своего детства. Герой-
повествователь этих произведений мальчик
Ваня — персонаж автобиографический. По
пути в Сергиев Посад на богомолье мальчик
встречается со множеством хороших лю-
дей. Эти встречи оказывают влияние на ду-
шу ребенка: он открывает для себя большой
мир, прежде ограничивавшийся для него
родным Замоскворечьем, учится различать
в людях добрых и злых, праведников и
«охальников», с христианской любовью от-
11 Зм. 848
321
Русские писатели XX века
носясь и к тем и к другим. В палитре
Шмелева преобладают золотые, розовые,
ярко-синие цвета; авторский стиль под-
черкнуто лиричен, повесть проникнута на-
строениями благодарения, умиления.
Название второй книги «Лето Господ-
не» взято из Евангелия от Луки (4:18—19),
где сказано, что Христос пришел «пропове-
довать лето Господне благоприятное». Ге-
рой произведения ощущает свое родство
со всеми, всеединство людей, духовного и
природного мира. В чувстве сопричастнос-
ти всему миру, единства с ним, по Шмеле-
ву, — важнейшая особенность русского на-
ционального характера. Книга состоит из
трех частей, каждая из которых охватывает
по времени около года. Лишь в последней
части — «Скорби», посвященной смерти
Ваниного отца, повествование, начавшись с
мая, обрывается 7 ноября — днем ангела
«папашеньки». Впрочем, летоисчисление в
книге ведется не по астрономическому ка-
лендарю, а по народному, в котором вехами
выступают церковные праздники. Этот ка-
лендарь особенно явно показывает нераз-
рывную связь жизни русского человека с
жизнью природы: православные праздники
очень часто становятся праздниками труда:
во второй Спас принято собирать яблоки,
после Успенья — солить огурцы... Осозна-
ние красоты и мудрости миропорядка, вера
в Воскресение помогают мальчику перенес-
ти горестную утрату — потерю отца.
В «Богомолье» и особенно в «Лете Гос-
поднем» в полную меру проявился талант
Шмелева — художника слова: замечатель-
ны шмелевские описания московского бы-
та, явлений природы, людей. Персонажи
книг Шмелева сыплют пословицами, пого-
ворками, прибаутками, поют песни, соблю-
дают православные обряды. Культура рус-
ского православия органично, без велеречи-
вости или нарочитости входит в образную
ткань книг писателя.
Работа, болезни и снова работа, постоян-
ная борьба за существование ради... литера-
турного творчества — вот что стало основой
жизни русского писателя за рубежом. «Ко-
рыстнейший* (де Жарвиль) Шмелев даже
осмелится выставить свою кандидатуру на
Нобелевскую премию (наравне с представи-
телями русского зарубежья — Буниным,
Куприным и Мережковским): «хоть бы по-
легче пожить, напоследок нужды не тер-
петь». Триумф Бунина в 1933 году положил
конец надеждам Шмелева, хотя за него и
хлопотали горячие поклонники его творче-
ства: профессор Иван Ильин, Томас Манн и
многие другие.
Шмелев до конца своей жизни так и не
был признан на Западе окончательно, да и
сам он не сумел принять прагматизма и ра-
ционалистичности Европы. Болезненно ост-
ро переживал писатель невнимание «ле-
вых» эмигрантов к волнующей его русской
идее. Все национальное или только напоми-
нающее о России, замечает Иван Сергеевич,
как ни странно, систематически замалчива-
ется в левых кругах. Оценивая свои отно-
шения с прессой, он пишет Ильину, сетуя
на «Последние новости»:
Придется говорить о себе, ибо это лучше зна-
ешь! Мою «Про одну старуху» — отличали почти
все русские газеты: «Возрождение», «Слово»,
♦ Руль» — статья Айхенвальда О. С., «За свобо-
ду», «Сегодня», «Россия»... даже «Красная газе-
та», сказавшая черт знает что про господина в
крылатке, до потустороннего духа в виде Голу-
бя,... но... «Последние новости* — ни звука, как
и о «Солнце мертвых»... Там меня обливают по-
моями или молчат. Все мною написанное ка-
кая-то галка свела к нулю... со страниц газеты
внушается пренебрежение к моим книгам, кото-
рые я вырываю из сердца для бедных, со мною
плачущих людей...
О России и для России, для «бедных»,
♦ плачущих людей» — таков девиз творче-
ства Шмелева периода самого скудного в
плане личных радостей и самого богатого в
плане творческом — периода эмиграции.
Шмелев работает, борется и... скорбит: в
1928 году приходит известие из Москвы от
84-летней матери о внезапной кончине бра-
та Николая, еще через четыре года — пись-
мо от сестры о смерти самой матушки (на
просьбу выслать деньги на похороны Шме-
лев отправляет в Россию все, что может, -г
15 рублей золотом), а потом и самая страш-
ная утрата — смерть Ольги Александровны
22 июня 1936 года.
322
Иван Сергеевич Шмелев
Сорок один год прожили супруги вместе.
Последняя утрата окончательно подорвала
здоровье и силы Шмелева. После кончины
жены осталось для него одно утешение —
истовая вера в Русь православную: даже в
личной переписке этих лет слог Шмелева
похож на язык другого гонимого писателя-
пророка русского — Аввакума. Несчастье
настигло во время радостных сборов для по-
ездки в Ригу, куда профессор Ильин устро-
ил Ивану Сергеевичу тур — двадцать пять
литературных выступлений. Ольга Алек-
сандровна особенно надеялась посетить Пе-
чорский монастырь, оказавшийся после ре-
волюции на территории Эстонии. После ее
смерти убитый горем Шмелев решает все
же предпринять тур в Прибалтику, чтобы
исполнить последнее желание жены. Путе-
шествие и выступления были весьма ус-
пешными, гостеприимная Прибалтика уст-
роила писателю трогательные проводы. 6
октября было назначено его выступление в
Берлине. Несмотря на то что город был уже
под бдительным наблюдением «Третьего
рейха» и берлинцы боялись лишний раз
выходить из дому, зал русской гимназии на
Гогенштауфен-штрассе был полон. Гости-
ничный номер писателя был завален буке-
тами и подарками: роза Дагмар для могилы
Ольги Александровны, отрез на костюм,
три книги Лукомского («Петербург»,
«Москва», «Киев»), литая икона Богомате-
ри на крест могилы Ольги Александровны
и многое-многое другое. Берлин стал для
Шмелева триумфом, однако по возвраще-
нии в Париж он снова почувствовал опусто-
шение и одиночество.
Дома Шмелев жил как по инерции.
В квартире все оставалось как прежде, ког-
да Ольга Александровна была жива. Он уве-
личил двадцать две ее фотографии, вставил
в рамки и повесил над письменным столом.
Он постоянно думает о ней, ведет с нею
мысленные разговоры: и до того будучи
Мистиком, веря во всяческие предзнамено-
вания (наследство матушки), он был убеж-
ден, что Ольга Александровна его хранит и
подает ему «знаки». И действительно, ка-
жется, вся жизнь писателя была наполнена
подобными «подсказками» и божественны-
ми милостями: однажды, еще при жизни
жены, в 1934 году, произошло со Шмеле-
вым чудесное исцеление — всю ночь нака-
нуне операции (которой Иван Сергеевич
ужасно боялся) он исступленно молился на
икону преп. Серафима Саровского, а наутро
боли отступили, язва исцелилась, операция
оказалась ненужной. Вот теперь с особен-
ной силой и вниманием «вслушивается»
одинокий писатель в «знаки» умершей же-
ны. Например, однажды вечером, в январе
1937 года, он заболел, и ему ну- жен был
укол ларистана, который, между прочим,
Ольга Александровна ему делала сама, — и
вдруг в 10 часов вечера пришел доктор Се-
ров, который никогда домашних визитов не
делал, — пришел узнать о здоровье... Вре-
менами он ощущал прямо-таки прямой
контакт с женой... Это случилось в начале
июня 1939 года: мысленно обратившись к
ней, он получил совершенно «явный ответ»
в виде письма от незнакомой женщины из
Голландии. Хотя подпись была незнакомая
— Бредиус-Субботина, имя и отчество...
Ольга Александровна — точное совпадение
(?!). Так началась дружеская переписка и
помощь с ее стороны, оказавшаяся столь
необходимой, ибо настал самый тяжелый
период жизни писателя: одиночество, бо-
лезнь, война, клевета.
Началась Вторая мировая война. «Это
как бы проснувшееся продолжение собы-
тий 1914—18-го по 1920 год. Те же союзни-
ки и те же враги у нас», — писал Шмелев.
Друзья и знакомые покидали беспокойный
Париж. Они уезжали в тихие уголки стра-
ны, но Шмелев остался в столице: он рабо-
тал над романом «Пути небесные». Его
удерживали необходимость врачебной по-
мощи, работа (легче писалось в знакомой
обстановке) и воспоминания об Ольге.
И. С. Шмелеву исполнилось 66 лет. Пока
германские лагеря для Ostarbeiter (рабочих
с Востока) не наполнились русскими плен-
ными с оккупированных территорий, Шме-
лев, как и многие русские эмигранты, пи-
тал еще иллюзии, что Германия — та сила,
которая предназначена для освобождения
России от большевизма. Однако страдания
323
Русские писатели XX века
соотечественников, о которых ежедневно
узнавал писатель, стали его страданиями.
Я рвусь прильнуть к измученной душе рус-
ской — и буду добиваться разрешения посетить
лагеря — читать им «Богомолье». Это мой ключ,
и он отомкнет все сердца... Совесть зовет меня де-
лать нужное, не могу быть в стороне в такую не-
измеримую эпоху — Русская душа на крайнем
изломе.
Разрешения на посещение лагерей для
русских он так и не получил и реализовал
свое намерение (своим трудом помочь рус-
ским), начав сотрудничество с русскими га-
зетами «Новое слово* в Берлине и «Париж-
ский вестник* для оккупированных облас-
тей России. Далекий от политики, он
(исключительно русский) тем не менее за
месяц до того, как немцы заняли Париж,
отказался подписать коллективный протест
писателей и ученых против позорного напа-
дения Советского Союза на маленькую ге-
роическую Финляндию, организованный
газетой «Последние новости».
Солдаты, простые русские парни из Калуги,
Тулы, Рязани, были посланы воевать тем самым
правительством, которому господа из «Послед-
них новостей» простили все.
В 1940 году Шмелев отказывается про-
дать свои авторские права шведско-герман-
скому концерну, считая, что таким предло-
жением его просто хотят купить, чтобы
заставить замолчать. Окончательное про-
зрение наступило, как всегда для эмоцио-
нального Ивана Сергеевича, благодаря лич-
ным переживаниям в связи с исчезновени-
ем племянника Никанора Любимова. А в
августе 1944 года немецкий следователь СС
в Париже произвел обыск и в его квартире,
разбросав его рукописи: возможно, это бы-
ло связано все с тем же арестом Никанора.
Жизнь в Париже становилась все труд-
нее. Из-за недоедания и плохой пищи Шме-
лев очень страдал желудком, испытывая
постоянные боли, обонятельные и зритель-
ные галлюцинации. Однако, несмотря на
трудные времена, Шмелева не забывали.
Писателя снабжали посылками его друзья
и читатели.
Во время повторявшихся воздушных на-
летов на Париж в 1943 году Шмелев не пе-
реставал писать, чувствуя творческую энер-
гию. В перерывах между бомбежками он
работал над «Путями небесными» и треть-
ей частью «Лета Господня» (были написа-
ны очерки: «Святая радость», «Живая во-
да», «Москва», «Серебряный сундучок»,
«Горькие дни» и «Благословение детей» —
все о горьких воспоминаниях, связанных с
болезнью и кончиной отца).
Победа Советского Союза над фашист-
ской Германией окончательно лишила
И. С. Шмелева надежды на встречу-проща-
ние с Родиной. В отличие от других писате-
лей-эмигрантов, решившихся пойти на со-
глашение с победившей новой Россией,
Шмелев остается неумолим к власти, по-
требовавшей от него столько страшных
жертв.
Ремизов1, да, несчастный юрод, и он — на мой
взгляд — не так ответственен, как Бунин. Этот --
лизал тарелки по полпредствам, считая себя «ни-
кому и ничему не подсудным», он — вне оценок...
Вот такие действия соблазняют «малых сих».
Вы читали... Верченье Бунина вокруг «полпред-
ства» «знающие» объясняют невероятной трусо-
стью Бунина. Он испугался, что теперь, с по-
бедой, коммунисты будут хозяевами Франции.
И забежал. Перестраховался... «Завтрак в пол-
предстве» — факт. Вкушал с убийцами и ворами.
Иван Сергеевич был убежден, что, одер-
жав победу военную и политическую, Со-
ветское правительство теперь пытается вос-
становить и свой культурный престиж.
Действительно, «наводчики» (Шмелев) из
посольства приходят к писателям с различ-
ными предложениями. Например, одиноко-
му и больному соседу Шмелева Ремизову
(они соседствовали домами как в Москве,
так и в Париже) пообещали разыскать ос-
тавшуюся в Киеве дочь с условием, что тот
возьмет советский паспорт. После вручения
паспорта, вместе с бутылкой шампанского
(для нищего и полуголодного писателя(!),
принесенной консулом Емельяновым, Ре-
мизову сообщили, что дочь его еще в октяб-
1 Ремизов А. М. (1877—1957) — русский писа-
тель, с 1921 года — в эмиграции.
324
Иван Сергеевич Шмелев
ре 1943 года «умерла от разрыва сердца*.
В парижских литературных кругах ждали,
что Ремизов вернет свой паспорт, но тут ему
сообщили, что остался в России его единст-
венный внук. Контакт с внуком был разре-
шен при условии, что Ремизов сохранит
свой паспорт. Так писатель потерял все
права эмигранта, взамен которых получил
лишь призрачные обещания аванса в счет
будущих изданий его произведений на ро-
дине и возможность найти сироту-внука.
14 июня 1946 года «искуситель» заходил
и к Шмелеву. Однако писатель ни на какие
посулы не поддался:
Пусть снимут оковы с духовного русского по-
тенциала, вот тогда и будет — престиж... Если
пойдут крестные ходы, отворятся врата Оптиной,
пойдет по миллионам сердец мое «Богомолье» и
«Лето Господне» с «Путями»?! Вот когда пойдут,
тогда и я... пойду, никак не раньше.
За подобную стойкость, проявленную и в
годы оккупации, 20 октября 1947 года со-
гласно новому французскому закону Шме-
леву выдали на десять лет карточку-удосто-
верение привилегированного гражданина,
так называемый Нансеновский паспорт. Он
был признан человеком безупречной репу-
тации, благонадежным в политическом от-
ношении. Нансеновский паспорт давал ему
право выезда и въезда во Францию без ви-
зы, и Шмелев отправляется для подкрепле-
ния здоровья, ослабленного за годы войны
недоеданием и болезнями, в Швейцарию по
приглашению генерала Д. И. Ознобишина.
Удобная квартира, обильная и вкусная пи-
ща, прекрасное окружение и великолепная
природа — все это поначалу очаровало Ива-
на Сергеевича. Однако вдали от Парижа,
ставшего ему второй родиной, он затоско-
вал, почувствовал одиночество, в непри-
вычной обстановке не мог сосредоточиться
на работе — единственной отраде жизни в
эмиграции. Шмелев мечтал поехать на год
в Америку в Джорданвилльский Свято-Тро-
ицкий монастырь. Он надеялся, что там,
около монастыря, он ощутит родную рус-
скую атмосферу и сможет завершить роман
«Пути небесные». В ожидании визы Шме-
лев отправляется к своим друзьям на виллу
«Ниссет» в Лейзине, где чета Носенко орга-
низовала приют «Жаворонки* для больных
детей. В своем завещании Шмелев оставит
этому дому 490 франков — эта сумма поло-
жит начало фонду Ивана Шмелева.
Долгожданную визу писатель так и не
получил. В июне 1948 года ему пришло
анонимное письмо с вырезкой из нью-йорк-
ской газеты «Новое русское слово*, где го-
ворилось, что писателю Шмелеву отказано
в визе США, потому что он сотрудничал в
«Парижском вестнике» — газете, обслужи-
вавшей оккупированные территории, и что,
более того, он заказывал молебен по случаю
освобождения Крыма от большевиков ле-
том 1942 года.
Шмелев обошел молчанием упоминание
о молебне, как и прежде считая, что его
боль по утраченному сыну (а молебен был в
память об усопших, невинно убиенных в го-
ды «красного террора» в Крыму) не может
стать достоянием общественности как горе
сугубо личное. Но на обвинения в коллабо-
рационизме — поддержке нацистов — он не
ответить не мог, напечатав «Необходимый
ответ» в газете «Русская мысль» 31 мая
1947 года:
Фашистом я никогда не был и сочувствия фа-
шизму не проявлял никогда. Пусть мне укажут
противное. Где не признается человек, где нет
свободы слова, мысли и совести, там нет души пи-
сателя. Но главное не это, а — произвольное ут-
верждение, что я «работал с немцами». А я ут-
верждаю совсем обратное: я работал против нем-
цев, против преследуемой ими цели — в
отношении России...
Да, я печатался в «Парижском вестнике»...
Почему там печатался?.. «Массам оттуда нужна
русская газета». Я понимал, что нужна и что им
нужно в ней. Я решил — печататься, для них. Го-
ворить то, что я говорил всегда, — о России, о ее
величии, о ее материальном и душевно-духовном
богатстве. Немцы — и не одни они — искажали
подлинный лик России... Оставить без ответа эту
ложь? Мне как бы открывался случай, в меру мо-
их сил, хотя бы в узах, скрутивших слово, образ-
но опровергнуть гнусную клевету.
Эта попытка очернения его имени значи-
тельно подорвала здоровье писателя. Не-
смотря на поддержку друзей и поклонни-
ков его таланта, вступивших в борьбу за не-
325
Русские писатели XX века
го, Иван Сергеевич был угрюм и подавлен,
его мучила бессонница. В апреле 1949 года
Шмелев вернулся из Швейцарии в Париж,
печальный, одинокий, но не озлобленный.
В июле 1949-го приходит письмо от Алек-
сандры Толстой, извещающее, что она хло-
почет о получении визы в США для Ивана
Сергеевича, но поездка в Америку больше
не вдохновляет писателя. Язва, мучившая
его долгие годы, возобновилась болями но-
вой силы, и он умер бы голодной смертью,
если бы не новый врач, назначивший опе-
рацию. На этот раз избежать чудесным об-
разом хирургического вмешательства не
удалось, но продолжительная и сложная
операция все же закончилась успешно.
Восстановление шло долго, врачи стро-
го-настрого запретили переутомляться и
работать. Однако серьезные затраты на ле-
чение (даже несмотря на льготы), а также
невозможность для Шмелева находиться в
бездействии заставляют писателя вопреки
указанию врачей приступить к работе. Он
пишет рассказы «Приволье» и «Приятная
прогулка». Тогда же рождается замысел но-
вого романа о «кухне» творчества — «Ис-
тория одного романа». Однако в апреле
1950 года здоровье Ивана Сергеевича резко
ухудшилось: очередное медицинское обсле-
дование обнаружило туберкулез левого лег-
кого. После курса лечения, по рекоменда-
ции врачей, предписавших смену климата,
друзья решают перевезти Шмелева в Бюс-
си-ан-От — местечко неподалеку от Парижа
при небольшой женской обители, где нахо-
дились комнаты с пансионом. Теперь, каза-
лось, наступило время, когда писатель мо-
жет осуществить свое намерение — закон-
чить роман «Пути небесные» (третий том)
в тихой обстановке близ монастыря: «Вот
там-то Господь и поможет мне закончить
эту работу и тогда успокоиться».
Накануне отъезда, 24 июня, Шмелев,
полный литературных планов, прощается с
друзьями. Мария Тарасовна Волошина —
жена физика Волошина, в последнее время
вместе с мужем ухаживающая за Иваном
Сергеевичем, — сопровождала Шмелева в
этой поездке. По дороге сделали остановку
в лесу Фонтебло, выбрали полянку для пик-
ника. Шмелев радовался всему: и птичьему
пению, наполнявшему лес, и зеленой све-
жей траве, и полевым цветам вокруг, вспо-
миная их названия, даже латинские. За
семь месяцев болезни он ни разу не выхо-
дил из дому, и эта встреча (как оказалось,
встреча-прощание) с природой стала по-
следней радостью, подаренной писателю
Небесами на его Земном пути. По прибытии
в Бюсси в девять часов вечера, заботливо
встреченный монахинями, накормленный
и расположенный в «зайцевской* комнате
(в ней останавливались Зайцевы), Шмелев,
полный планов и надежд, неожиданно уми-
рает. В отчете матушки игуменьи следует:
Он торопил, пока я готовила шприц. Послали
за Н. В. Оболенской: она сделала еще два впрыс-
кивания камфары и пыталась сделать впрыскива-
ние в вену, но Иван Сергеевич уже кончался. В
руке пульса уже не было; последние удары сердца
я улавливала подле уха. Но вскоре и они замерли.
В 9.30 вечера раб Божий Иоанн преставился ко
Господу.
Т. Г. Кучина
Андрей Платонович
Платонов
(1899—1951)
Жизнь Андрея Платонова оказалась по-
чти точно вписана в первую половину двад-
цатого века, а это значило, что его судьба
неотделима от катастрофических потря-
сений эпохи — двух мировых войн, рево-
люции и Гражданской войны. «Сюжет»
биографии многих современников Плато-
нова — особенно тех, кто был немного стар-
ше, — определялся именно этими события-
ми. Жизнь одних была поделена на «роди-
ну* и «изгнание» революцией; в судьбе
других «фактом биографии» стала Первая
мировая война; жизни многих ровесников
Платонова оборвались в тюрьмах и лагерях
в 1930-е годы. В «линии судьбы» Платоно-
ва, наоборот, никаких резких поворотов не
было. Его творческая биография оказалась
даже как-то слишком «типична» для его
времени. Типична для пролетарского писа-
теля: она легко укладывается в классиче-
ский для начала 20-х годов сюжет о талант-
ливом и самобытном писателе из гущи
масс, «от станка» пришедшего в новую ли-
тературу. Типична для писателей, подверг-
шихся проработке в 30-е годы: тогда после-
довала целая серия критических разносов
со стороны партийной номенклатуры и об-
винений Платонова в создании «контррево-
люционных», «клеветнических» произве-
дений. И еще — арест единственного сына в
1938 году. И годы вынужденного молча-
ния, когда зарабатывать на жизнь Плато-
нову пришлось переложениями народных
сказок и рецензиями на чужие книги в ли-
тературных журналах. И в Великую Отече-
ственную Платонов — тоже «как все»: он
ушел на фронт военным корреспондентом
газеты «Красная звезда» и много писал о
войне — как газетных очерков, так и худо-
жественных произведений. А потом, как
часто случалось в нашей стране, — по-
смертная слава, миллионные тиражи и пе-
реводы на все основные европейские языки.
И все это — судьба писателя, чей художест-
венный дар уникален и чьи творческие от-
крытия так и остались недосягаемы.
«Я БЫ В ЛЕТЧИКИ ПОШЕЛ...»
«Истинного себя я никогда никому не
показывал, и едва ли когда покажу», — за-
писал Андрей Платонов в 1926 году. Заме-
чание, весьма характерное для человека,
чью биографию формируют не столько яр-
кие события внешней жизни, сколько ма-
лозаметные для стороннего взгляда движе-
ния жизни внутренней.
Отчетливо нестандартный взгляд на соб-
ственную биографию заметен в письме Пла-
тонова, отправленном им в 1922 году в
краснодарское издательство «Буревест-
ник», где выходила тогда его книга стихов.
Начинает Платонов «Автобиографическое
письмо» вроде бы по законам жанра: «Я ро-
дился в слободе Ямской, при самом Вороне-
же». Однако уже следующая фраза как-то
выбивается из привычной колеи: вместо
традиционных сведений, например о семье,
Платонов дает очерковую зарисовку быта и
нравов своей родины.
«Уже десять лет тому назад Ямская чуть отли-
чалась от деревни. Деревню же я до слез любил,
не видя ее до 12 лет. В Ямской были плетни, ого-
роды, лопуховые пустыри, не дома, а хаты, куры,
327
Русские писатели XX века
сапожники и много мужиков на задонской боль-
шой дороге. Колокол «Чугунной» церкви был
всею музыкой слободы, его умилительно слушали
в тихие летние вечера старухи, нищие и я. А по
праздникам (мало-мальски большим) устраива-
лись свирепые драки Ямской с Чижевской или
Троицкой (тоже пригородные слободы). Бились
до смерти, до буйного экстаза, только орали:
«Дай дух!» Это значит, кому-нибудь дали под
сердце, в печенку, и он трепетал, белый и уми-
рающий, и вкруг него расступались, чтобы дать
ход ветру и прохладе. И опять шла драка, жмо-
кающее месиво мяса».
Официальный документ — автобиогра-
фия — начинает под пером Платонова пре-
вращаться в литературный этюд. Сходная в
основных деталях картина запечатлена и в
стихотворении из поэтического сборника
♦ Голубая глубина» (1922):
Целый день я вижу тын и лопухи,
Да овраги, да тоску, да воробьев.
Под плетнем прилипли к курам петухи,
Плачет Машка у соседей, у сватьев.
Похлебаешь квасу с хлебом, аль картошки
пожуешь,
Сломишь бадик, перекрестишься от дум.
А заботу скинешь — песню запоешь.
С огорода в подголосок воет кум.
(Мужик)
В изображении мира детства Плато-
нов явно уходит от того «идиллического»
стереотипа, который сформировался в рус-
ской литературе XIX и начала XX века.
Миф о золотом веке в «Аркадии* (достаточ-
но вспомнить автобиографическую книгу
«Другие берега» ровесника Платонова —
В. Набокова) уступает место прозаически
точной фиксации рутинных подробностей
провинциального быта. Однако принципи-
ально важно другое — наивно-чистое его
восприятие и бережное воссоздание в худо-
жественном тексте.
Описанные в «Автобиографическом пись-
ме» городские окраины — где сошлись го-
род и деревня — еще не раз появятся и в ху-
дожественной прозе Платонова: с описания
«ветхих опушек у старых провинциальных
городов» начинается «Чевенгур», а упоми-
нание о том, что «дальше город прекращал-
ся», сопровождает путь Вощева на первой
же странице «Котлована».
Попробуем восстановить пропущенные
Платоновым факты биографии.
Отец писателя — Платон Фирсович Кли-
ментов (1870—1952) — родом был из шах-
терской семьи; работал слесарем в воронеж-
ских железнодорожных мастерских. Из не-
анкетной информации известно лишь то,
что отец писателя очень любил рыбную лов-
лю. Он был настолько предан своему увле-
чению, что в одной из автобиографических
заметок Андрей Платонов написал: «Я был
сыном рыбака... Потом стал писателем, по-
том инженером...»1
Однако в Воронеже Платон Фирсович
Климентов был человеком небезызвестным:
о нем неоднократно публиковались очерки
в местных газетах, и посвящены они были
его — современным языком говоря — раци-
онализаторским предложениям. Вот так
был представлен читателям талантливый
изобретатель-самоучка на страницах газе-
ты «Воронежская коммуна» 7 ноября 1922
года в рубрике «Герою труда»: «Его чаще
называют просто Фирсыч, Кирсаныч. На
железной дороге он проработал 25 лет, по-
лучил грыжу, потерял зрение и почти ог-
лох. Климентов изобрел прибор для сгиба-
ния колец, укрепляющих бандажи на всех
типах паровозных и вагонных колес. Свой
прибор т. Климентов приспособил к токар-
ному станку и сконструировал его так, что
работа по сгибанию колец совершенно ме-
ханизировалась*.
Изобретательские таланты отца унасле-
довал и Андрей: не смутившись вековой не-
разрешенностью научной задачи, в тринад-
цать лет он из подручных материалов по-
пробовал в сарае сделать вечный двигатель.
Однако от глобальных технических задач
Платонов вскоре перейдет к более конкрет-
ным. На протяжении всей своей жизни он
будет постоянно что-нибудь изобретать и,
самое главное, внедрять эти изобретения в
жизнь. Так, в 1923 году А. Платонов полу-
чил патент на изобретение «электрического
1 Платонов А. Епифанские шлюзы. М., 1927.
С. 266.
328
Андрей Платонович Платонов
увлажнителя корневых систем и корнеоби-
тающего слоя почвы». Однако описание
конструкции этого прибора не осталось дос-
тоянием лишь технической документации:
в «Рассказе о многих интересных вещах»
(1923) Платонов приписал свое изобретение
главному герою — Ивану Копчикову, кото-
рый нашел способ получения воды — с по-
мощью электроэнергии — в засушливых
районах.
♦Я — человек технический», — часто
говорил о себе Платонов. Впрочем, на пи-
сательском почерке — почерке в прямом
смысле слова — это никак не отразилось: в
то время как многие его коллеги обзаве-
лись модными и современными авторучка-
ми или стали пользоваться пишущими ма-
шинками, Платонов продолжал писать
простым карандашом. Но мироощущение
«технического человека» Платонова не по-
кидало никогда. Как-то незадолго до вой-
ны он даже обмолвился: «Если бы теперь
пришлось начинать жизнь, то я был бы
летчиком!» А в самом начале войны подал
очередную заявку на изобретение техни-
ческого устройства — форсунки для сжи-
гания газового топлива в воде. Способ
сжигания топлива, предложенный Плато-
новым, позволил бы эффективно использо-
вать для нагревания воды теплотворную
способность горючего — с очень высоким
коэффициентом полезного действия. Па-
фос созидания, рукотворного преображе-
ния мира Платонов пронес через всю свою
жизнь.
Однако вернемся к семье писателя. Если
об отце Андрея Платонова можно найти
хоть какую-то документальную информа-
цию, то о матери неизвестно почти ничего.
Из точных сведений — лишь то, что она бы-
ла дочерью часовщика. В своих письмах
Платонов часто вспоминает о матери, но ха-
рактерно, что это не столько какие-то жиз-
ненные происшествия или обстоятельства,
с нею связанные, сколько поэтически вос-
создаваемый образ самого любимого и доро-
гого ему человека. Так, в одном из писем
жене Платонов, вспоминая о лете 1919 го-
да, когда он был командирован в Новохо-
перск, рассказывает: «Сейчас я вспоминаю
о скучной новохоперской степи, эти воспо-
минания во мне связаны с тоской по мате-
ри — в тот год я в первый раз надолго поки-
нул ее».
Мать и отец — важнейшие категории в
художественно-философской системе Пла-
тонова. Отец для любого из платоновских
героев будет всегда связываться с духов-
ным, историческим началом, обозначать
связь с человечеством, мать — с природой,
чувством, естеством.
Традиционный пункт любой анкеты —
«образование». Школьные годы описаны у
Платонова так: «Потом наступило для меня
время ученья — отдали меня в церков-
но-приходскую школу. Была там учитель-
ница — Аполлинария Николаевна, я ее ни-
когда не забуду, потому что через нее я
узнал, что есть пропетая сердцем сказка
про Человека, родимого «всякому дыха-
нию», траве и зверю, а не властвующего бо-
га, чуждого буйной зеленой земле...»1
Только в 1965 году будет опубликован
рассказ Платонова «Еще мама» — рассказ о
первой учительнице, Аполлинарии Нико-
лаевне Кулагиной. Лишенный сколько-ни-
будь развитого сюжетного действия, он
строится почти исключительно на тончай-
ших ощущениях маленького героя, Арте-
ма: он воспринимает школу и учительницу
через тепло ее рук и «тихие и добрые* запа-
хи («и пахло от нее так же, как от матери,
теплым хлебом и сухою травой*). «Еще ма-
ма* бережно вводит маленького платонов-
ского героя в «прекрасный и яростный
мир» — сказочно-манящий, но и агрессив-
ный, — защищая его, разделяя с ним его
переживания и открытия.
После церковно-приходской школы Пла-
тонов переходит в городское училище, а с
1 Платонов в тексте автобиографии почти до-
словно воспроизводит отрывок из своего стихо-
творения, опубликованного в сборнике «Голубая
глубина», — это своего рода философско-эстети-
ческая декларация автора:
Я родня траве и зверю
И сгорающей звезде.
Твоему дыханью верю
И вечерней высоте.
329
Русские писатели XX века
весны 1914 года начинает работать. «Рабо-
тал я во многих местах у многих хозяев. У
нас семья была одно время в 10 человек, а я
старший сын — один работник, кроме отца.
Отец же, слесарь, не мог кормить такую
орду». Трудовую деятельность Платонов
начал рассыльным в страховом обществе
«Россия», затем работал литейщиком на
трубном заводе, помощником машиниста
на локомобиле в имении Усть помещика
Я. Г. Бек-Мармачева, затем в различных
мастерских, на паровозоремонтном заводе,
в горячем цехе по 14—16 часов — «за
хлеб». Именно тогда приходит к Платонову
его совершенно особое, «душевное» отноше-
ние к технике. «...Кроме поля, деревни, ма-
тери и колокольного звона, я любил еще (и
чем больше живу, тем больше люблю) паро-
возы, машины, ноющий гудок и потную ра-
боту». Любое техническое устройство в гла-
зах настоящего механика требует большего
внимания и тепла, чем живое существо: по
рассуждению одного из платоновских геро-
ев, «на живом заживет», а машину или
рельс «ранить нельзя, на них не заживет;
они лопаются насмерть». Характерной чер-
той Платонова была привычка бесшумно и
деликатно закрывать двери — «чтобы не
тревожить железных петель и не расшаты-
вать в них шурупов», как пояснят потом
его герои.
Осознание неделимости мира, нерастор-
жимости элементов, его составляющих, —
одно из важнейших открытий Платонова то-
го времени. В «Автобиографическом пись-
ме», вновь «отклоняясь» от событийной
канвы своей жизни, он говорит прежде все-
го о мироощущении: «Между лопухом, по-
бирушкой, полевою песней и электричест-
вом, паровозом и гудком, содрогающим зем-
лю, — есть связь, родство... Рост травы и
вихрь пара требуют равных механиков».
Мир машин и мир природы станут важ-
нейшими составляющими художественного
мира Платонова. Особая нежность, привя-
занность «технического человека» к отла-
женному механизму станет в прозе писате-
ля устойчивым смысловым комплексом.
Человека же, наоборот, с полным основани-
ем можно приравнять к техническому уст-
ройству — и это совсем не обязательно де-
монстрация бездушия или человеческой не-
состоятельности. «Железный инвентарь
какой» — это в повести «Котлован* своего
рода комплимент Жачева терпеливому
крестьянину, которого он избил как «на-
личного виноватого буржуя».
В повести «Сокровенный человек» при-
рода удостаивается определения «гада
бестолковая», зато о машинах главный ге-
рой — Пухов — говорит с нескрываемым
уважением и теплотой: «Машина любит ко-
нюха, а не наездника: она живое существо!»
Видя попавший в аварию железнодорож-
ный состав и погибшего машиниста, Фома
Пухов выстраивает картину в соответствии
с собственной иерархией ценностей: «Не
глядя на лежащего машиниста, он засмот-
релся на его замечательный паровоз, все
еще бившийся в снегу.
— Хороша машина, сволочь!»
Машинист же удостоен лишь краткой
похвалы: «Жалко дурака: пар хорошо дер-
жал!»
И в дальнейшем одним из сквозных геро-
ев платоновской прозы всегда будет масте-
ровой, техник, изобретатель — человек, на-
деленный даром чуткого, нежного понима-
ния машины: Захар Павлович — в романе
«Чевенгур», машинист Мальцев — в рас-
сказе «В прекрасном и яростном мире».
Классическая метафора новой эпохи,
воспетая в песнях, — «революция — паро-
воз истории» — оказалась не просто близка
Платонову. Он понимает ее буквально: ре-
волюция из абстрактного исторического по-
нятия становится осязаемой и очень конк-
ретной вещью. «Фраза о том, что револю-
ция — паровоз истории, превратилась во
мне в странное и хорошее чувство: вспоми-
ная ее, я очень усердно работал на паро-
возе... Позже слова о революции-паровозе
превратили для меня паровоз в ощущение
революции» (из воспоминаний Платоно-
ва). Подобно тому как паровоз — умная и
сильная машина — стал символом техничен
ского прогресса, так революция ознамено-
вала для Платонова прогресс человечества;
стала в его понимании толчком к новому
познанию мира.
330
Андрей Платонович Платонов
Безусловно, понимание революции моло-
дым Платоновым утопично. Увиденная и
воспринятая в космическом масштабе, она
превратилась в его сознании из социально-
го потрясения в глобальное переустройство
мира. Смысл революционных преобразова-
ний выражен Платоновым тоже через ре-
ализацию метафоры: наступившая эпоха —
это «эпоха сознания, машины и восстания
на Вселенную». Революция, по мысли Пла-
тонова, должна превратить Россию — «ро-
дину странников и Богородицы» — в «стра-
ну мысли и металла, в страну энергии и
электричества... Русскому мужику тесны
его пашни, и он выехал пахать звезды. Ра-
бочему малосильны двигатели, и он надева-
ет приводной ремень на орбиту земли, как
на шкив»1.
Революция стала для Платонова родиной
утопического мира, который наконец-то
материализовался, стал всеобщей реально-
стью — счастливой и вечной, как ему тогда
казалось... «Теперь исполняется... долгая
упорная детская мечта — стать самому та-
ким человеком, от мысли и руки которого
волнуется и работает весь мир ради меня и
ради всех людей, и из всех людей — я каж-
дого знаю, с каждым спаяно мое сердце».
ИНЖЕНЕР, ПОЭТ, ЖУРНАЛИСТ
1918 год оказался наполнен важными
для Платонова переменами. Он поступает
учиться в Воронежский политехникум по
специальности электротехника. Тогда же
начинается и активная писательская жизнь
Платонова — в воронежской прессе появля-
ются его первые публикации. Кроме того, в
1918-м Платонов вступает в РКП(б). Пар-
тийная карьера Платонова, впрочем, закон-
чилась не начавшись: уже в 1921 году он
был исключен из партии — за отказ участ-
вовать в плохо организованном субботнике.
Новое заявление — о повторном приеме в
партию — он подал в 1926 году, однако ре-
шение по его вопросу было отрицательным.
Литературным дебютом Платонова стал
рассказ «Очередной», опубликованный в
1 «Воронежская коммуна». 1921. 21 сентября.
воронежском еженедельнике «Железный
путь» (1918, № 2). Он напоминает скорее
зарисовку заводской жизни — в горьков-
ско-купринских тонах. Сюжетная ситуация
рассказа выстраивается у Платонова по
аналогии с повестью Куприна «Молох»: за-
вод «пожирает» своих рабочих. Гибнет мо-
лодой рабочий Ваня — это и есть очередная
для литейного цеха трагедия. Рассказ ста-
тичен, лишен сюжетной интриги — однако
в нем уже заметны важные особенности
творческого почерка Платонова: смысло-
вым стержнем рассказа становится мотив,
который в дальнейшем определит философ-
ские и эстетические координаты платонов-
ской прозы: жизнь, уступающая место
смерти.
С журналом «Железный путь* связаны и
первые поэтические публикации Андрея
Платонова. Так, в шестом номере ежене-
дельника за 1918 год появилось его стихо-
творение под вполне отвечавшим духу изда-
ния заглавием — «Поезд*. При этом время
от времени журнал вступал со своим моло-
дым автором в литературную полемику. В
одном из номеров в разделе «Почтовый
ящик» начинающему писателю, отправив-
шему в журнал свои новые стихи, был дан
такой ответ: «А. Платонову. Стихи не подо-
шли. В них много прелести и чистой поэ-
зии, но... берите другие темы».
Публикация первых произведений
Платонова именно в журнале «Железный
путь» — не только следствие «железно-
дорожной» профессии молодого автора.
Ранние литературные работы Платонова
(статьи в газетах, стихи, фельетоны) несут
на себе явную печать пролеткультовского
мышления: это безграничная вера в разум,
глобальность притязаний на преображение
мира, культ «мы», воспевание машины. А
литературная программа журнала цели-
ком строилась на идеологических постула-
тах нового пролетарского искусства. Назва-
ние — «Железный путь» — говорило само
за себя; на обложке красовался пролета-
рий-молотобоец, а программа была кратко
изложена в первом выпуске. О главной це-
ли нового издания говорилось буквально
следующее: «Мы ...недаром выбрали свое
331
Русские писатели XX века
название: «Железный путь»... не потому,
что мы обслуживаем железный путь совет-
ских железных дорог... Мы потому еще
«Железный путь», что путь к социализму,
путь к земному царству устлан терниями
жестче железа. Мы — «Железный путь» к
счастью и свободе всего мира, всего челове-
чества».
В ранних публикациях нашла выраже-
ние идея Платонова об активном творче-
ском переустройстве вселенной руками че-
ловека. Одна из его газетных статей назы-
валась «Преображение» и была посвящена
будущей победе человека во вселенной:
«В этот день весны преображенного мира,
день утверждения всечеловеческой радос-
ти, день веры в преображающую пламен-
ную силу человека — выше стоит над нами
старое солнце, дальше открыта светлая бес-
конечность...»
Оптимистический пафос и мажорная то-
нальность очень скоро сменятся в творчест-
ве Платонова на «ветхую грусть» и «тоску
тщетности», но сама идея о том, что чело-
век — великий преобразователь Вселенной,
в творчестве писателя будет разрабатывать-
ся и дальше. Поменяется только ее фило-
софская оценка: утопические проекты горо-
да «победившего социализма* (роман «Че-
венгур») или общепролетарского дома
(повесть «Котлован») будут осмыслены в
трагическом ключе.
Философская формула взаимоотноше-
ний между человеком и миром, по Платоно-
ву, такова: «Человечество — художник, и
глина для его творчества — вселенная». Ха-
рактерные заглавия стихотворений из поэ-
тического сборника «Голубая глубина»
(1922) — «Динамо-машина», «Кузнецы»,
«Вселенной». В последнем как раз и сфор-
мулировано философское кредо молодого
Платонова — утверждение торжества раз-
ума в «необорудованной» вселенной»:
Разум наш, как безумие, страшен,
Регулятор мы ставим на полный ход,
Этот мир только нами украшен,
Выше его наш высокий полет.
Высшими достижениями человеческого
разума Платонову видятся технические
устройства, работающие на благо людей.
Приключения технической идеи составля-
ют основу сюжета научно-фантастических
произведений: рассказов «Маркун» (1921),
«Потомки солнца* (1922), «Рассказ о мно-
гих интересных вещах» (1922), повести
«Эфирный тракт» (1926—1927). «Маркун»
рассказывает об изобретении вечного двига-
теля, «Эфирный тракт» — об открытии за-
конов «выращивания» вещества, «Рассказ
о многих интересных вещах* — о способе
получения воды в пустыне с помощью
электричества.
Платонова, однако, интересуют не сю-
жетные хитросплетения — в фокусе его
внимания проблемы бытийные: место и
роль человека во вселенной, взаимосвязь
природы и науки, разрешение конфликта
между жизнью и смертью, проблема чело-
веческого счастья изобретателя. Итогом на-
учно-фантастических опытов Платонова
станет серьезное сомнение в состоятельнос-
ти глобальных технических проектов.
Грандиозный план переустройства вселен-
ной понимается теперь писателем как уто-
пический.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
На войну Платонов был призван по своей
основной специальности: как железнодо-
рожник. В 1919 году он был приписан к
ЧОНу (Части особого назначения. — Авт.)
помощником машинистра бронепоезда.
«Дважды участвовал в бою с частями гене-
рала Шкуро под Воронежем», — лаконично
сообщит Платонов в автобиографии 1942
года. Однако служить ему довелось в основ-
ном по «смежной» специальности — жур-
налиста и писателя. VI Воронежский съезд
Советов (20—23 июня 1919 года) направля-
ет в уезды ответственных партийных работ-
ников для оказания помощи по мобилиза-
ции населения на борьбу с Деникиным.
Платонов получает назначение в Новохо-
перск как корреспондент газеты «Известия
Совета обороны Воронежского укрепленно-
го района». Добровольческая армия к тому
времени заняла шесть уездов Воронежской
губернии, в том числе и Новохоперский.
332
Андрей Платонович Платонов
Только за июль город шесть раз переходил
из рук в руки, все время оставаясь в при-
фронтовой полосе. Его по очереди занимали
и оставляли гайдамаки, петлюровцы, каза-
ки, кулацкие отряды и обходившиеся вооб-
ще без всякой политической платформы
банды. Вселенскую революцию Платонов
застал как череду кровавых столкновений
между вооруженными отрядами, скитав-
шимися в тылу друг у друга. Вместо «леген-
дарных сражений», «смелых атак* или хо-
тя бы «героической обороны» Платонов
увидел прозу истории:
«Кругом города, в траве и оврагах, ютились
белые сотни, делая дорогу непроходимой и опас-
ной. В городе стояли какие-то небольшие моло-
дые части красноармейцев, сутками спавших от
больших походов.
Они все могли разбежаться в любой тревож-
ный час...»
Наблюдения и впечатления того времени
лягут в основу повести «Сокровенный чело-
век» — но написана она будет позже, в
1926—1927 годах. Пока же Платонов вни-
мательно всматривается в происходящее,
фиксируя сущностные черты новой эпохи.
Боевые подвиги, фронтовые операции — от-
нюдь не это попадает в поле зрения Плато-
нова. О том, как велись военные действия
под Новохоперском, он упомянет едва ли не
единственный раз, рассказывая в одном из
писем о взятии хутора Мравые Лохани —
«с одним патроном и двумя жилами в те-
ле». Платонов был очевидцем этой неорди-
нарной и очень остроумной операции: крас-
ногвардейский отряд учителя Нехворайко
обул лошадей в лапти и провел их через
трясину, а выбив казаков в болото, не дал
им оттуда выбраться — лошади у тех были
«босые».
Однако чаще взгляд Платонова останав-
ливается все-таки на деталях «революцион-
ного быта» — в мелочах подмечает подлин-
ное содержание событий исторического
масштаба. Больше всего Платонова пора-
зило явно оксюморонное сочетание про-
шлого и будущего в уездной жизни. «В мо-
ей комнате висели иконы хозяина, стоял
старый комод — ровесник учредителям го-
рода...» — вспомнит он позже в одном из
писем жене. Зато рядом, в клубе рабочей
молодежи, стены пестрели призывами к
«завоеванию земного шара, к субботникам
и изображениями Красной Армии в полной
славе». Сам принцип соединения деталей в
картине нового быта Платонов перенесет в
повесть «Сокровенный человек* — но спе-
циально подчеркнет гротескный характер
сосуществования старого и нового: Фома
Пухов увидит однажды плакат, перемале-
ванный из иконы Георгия Победоносца, где
святому архистратигу приделали голову
Троцкого, а поражаемому святым змею —
голову буржуя; кресты же на ризе Георгия
«зарисовали звездами, но краска была пло-
хая и из-под звезд виднелись опять-таки
кресты».
Не оставляет Платонов во время Граж-
данской войны и занятия литературой, фи-
лософией, историей. Круг его чтения — ра-
боты Н. Бердяева, П. Флоренского, Н. Фе-
дорова1, произведения русских классиков.
Между тем Платонов становится в Вороне-
же все более и более популярным: он —
«рабочий философ», писатель, журналист.
Зимой 1919 года он выступает в клубе жур-
налистов «Железное перо» с рефератом по
философии. Заслуживет внимания сама ат-
мосфера тогдашних философских дискус-
сий. Клуб «Железное перо» помещался в
бывшей кофейне «Жан», и ее бывший вла-
делец кормил журналистов бесплатными
обедами. Как правило, это была тарелка су-
па с одиноко плавающим в ней капустным
листом или залитые жидким киселем
пшенные котлеты.
Выступления Платонова пользовались
успехом, о его участии в том или ином со-
брании сообщали воронежские газеты,
анонсируя такие его доклады, как «Пол и
сознание* или «Судьба женщины». Объяв-
ление о докладе Платонова «Судьба женщи-
ны* в газете «Воронежская коммуна» за 19
1 Именно философские воззрения Н. Федорова
во многом определят дальнейшее творчество Пла-
тонова. Его труд «Философия общего дела» ока-
жет огромное влияние на формирование художе-
ственного сознания Платонова.
333
Русские писатели XX века
ноября 1920 года сопровождалось кратким
уточнением: «Вход для всех (кроме жен-
щин) свободен». 31 марта 1920 года Плато-
нова приняли в Комсожур (Коммунистиче-
ский союз журналистов), а 29 сентября вы-
брали делегатом на Всероссийский съезд на
собрании Союза пролетарских писателей.
Однако бурная общественная деятель-
ность не мешала творческой работе Плато-
нова. В печати продолжают появляться его
рассказы: в «Кузнице» (1921, № 7) опубли-
кован «Маркун», в «Красном луче* (1921,
№ 1) — «Серега и я*. Первый из них приня-
то относить к научно-фантастическим про-
изведениям Платонова: главный герой —
Маркун — строит вечный двигатель. Во
втором рассказе повествуется о двух друзь-
ях-подростках, которые работают в мастер-
ской. При всей разности тематики оба про-
изведения откровенно автобиографичны,
причем не только в деталях быта — детства
в нищей многодетной семье или тяжелой
работы на хозяина. Интересно прежде всего
внутреннее родство автора и его героев,
тождество миропонимания. Если Маркун
мучается неразрешимым вопросом: «Отчего
мы любим и жалеем далеких, умерших,
спящих. Отчего живой и близкий нам —
чужой?» — то в рассказе «Серега и я» появ-
ляется ответ — в лирической зарисовке ти-
хого летнего вечера:
«— Серег, а Серег? — позвал я.
— Ну — что?
— В селе за рекою потух огонек...1
— Игде?
— Вечером на том боку в деревне...
— Нук штож.
Мы лежали на земле, как на теплой ладони.
Осыпался песок и за шею поналезли муравьи. Па-
рило, будто весной. Мы поняли, что лежим про-
тив неба и что мы живы. Я прижался к земле и
почуял, как лечу вместе с ней и люблю».
По-прежнему Платонов пишет и много
стихов — причем тематика их становится
все более разнообразной. «Поезда* и «дина-
мо-машины» соседствуют у него с трога-
тельными и искренними стихотворениями
1 Платонов цитирует строчку из стихотворе-
ния Пушкина «Вишня».
о глубоко интимных душевных пережива-
ниях. Одно из таких стихотворений, напи-
санных в те годы, называлось «Маня с Ус-
мани». Оно послужило причиной того, что
коллеги-журналисты принялись подшучи-
вать над Платоновым, требуя познакомить
их с «тайной возлюбленной» скрытного
поэта. Стихи начинались так:
Полны груди молока
У румяной матери.
Заголенная рука
Стелет гостю скатерти.
И глядит и не глядит,
Будто ухмыляется —
Дескать, сердце не лежит
Мне с тобою лаяться.
В люльке мается Ванятка
От дурного глазу,
С Рождества, от самых Святок
Не поспал и часу...
Платонов отнекивался и уверял, что
«Маня» — всего лишь литературный образ,
однако в отсутствие прототипа мало кто го-
тов был поверить.
В ранних стихах проявятся и закономер-
ности поэтического «странноязычия» (или
«косноязычия», или «юродивого» языка),
которые позже — в прозе — составят ядро
поэтики писателя. Вот пример еще одного
стихотворения молодого Платонова:
Лает пес осиротелый,
Лает с ничего,
Позабыв, что околела
Сука — мать его.
Любопытный эпизод, связанный с этим
стихотворением, описан в воспоминаниях
современника и друга Платонова — Льва
Гумилевского. Не зная, что эти строчки
принадлежат Платонову, Гумилевский в
разговоре с писателем крайне резко ото-
звался о художественном мастерстве их ав-
тора:
«Андрей Платонович как-то странно, внима-
тельно посмотрел на меня, точно подозревая ка-
кую-то мистификацию, а затем, убедившись в мо-
ей искренности, сказал просто:
334
Андрей Платонович Платонов
— Лев Иванович, ведь это мои стихи! <...> Что
же тут плохого?
— Ну как же, Андрей Платонович, можно так
писать: сука, мать его... Ведь это получаются ма-
терные слова, разве вы не слышите?
— Ну, этого я не заметил. А еще что?
— Как что? Вы пишете: воет с ничего! Но
по-русски так ведь не говорят. Говорят ни с чего!
— Ну, можно и так! — упорствовал он.
В неожиданной твердости его слов я почувст-
вовал непреоборимое убеждение в том, что можно
и так, как подсказывает его художественное
чувство».
Писательская уникальность Платонова
была отнюдь не следствием его «непричаст-
ности» к литературной и культурной тради-
ции. Все, кто знал Платонова, отмечали не
только его глубокие познания: о чем бы он
ни начинал говорить, становилось ясно, что
он об этом много размышлял про себя, и
суждения его всегда были тщательно взве-
шенными и предельно точно сформулиро-
ванными. «Интеллигент, который не вы-
шел из народа», — вот, наверное, одно из
самых удачных определений (оно принад-
лежит чуткому и проницательному иссле-
дователю творчества писателя — Л. Шуби-
ну), характеризующих личность и душев-
ный склад Платонова.
«ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ»
И «ГОЛУБАЯ ГЛУБИНА»
В начале двадцатых годов к газетным и
журнальным публикациям Платонова до-
бавляются наконец и две книги. Первой
книгой А. Платонова была брошюра «Элект-
рификация» (1921). Второй стал сборник
стихов «Голубая глубина» (1922). Столь не-
традиционное соединение «физики» и «ли-
рики» в писательской биографии А. Плато-
нова очень точно отражало смысловую на-
правленность всего его творчества — вера в
науку, пафос технического переустройства
мира всегда соединялись у Платонова с глу-
боко индивидуальным, личностным его пос-
тижением.
♦Электрификация» открывалась пла-
менным утверждением чудесных возмож-
ностей электричества. Оно представлялось
Платонову благодетельной, одухотворен-
ной, могущественной силой, способной пре-
образить мир: «Электрификация есть такая
же революция в технике, с таким же значе-
нием, как Октябрь 1917 г.». Животворную
энергию электричества Платонов как инже-
нер-конструктор стремился обратить на
пользу мелиорации. После засухи 1921 го-
да, которая едва не заставила Платонова от-
казаться от «созерцательного дела» литера-
туры ради технического «благоустройства»
мира, вода стала для него символом жизни,
приобрела значение единственного ее ис-
точника. Именно об этом его рассказ «Роди-
на электричества», написанный через пять
лет. Начинается он узнаваемыми автобиог-
рафическими деталями: «Шло жаркое, су-
хое лето 1921 года, приходила моя юность.
В зимнее время я учился в политехникуме
на электротехническом отделении, летом
же работал на практике, в машинном зале
городской электрической станции». Герои
рассказа сумели противопоставить «сухой
стихии» нестандартное техническое реше-
ние — установили на берегу речки собран-
ный из бывшего мотоциклетного двигателя
электронасос, с помощью которого стало
возможно подавать воду на поля. В ЗО-е го-
ды, после поездки по Туркмении, писатель
вновь вернется к этЬй теме — прежде всего
в таких своих произведениях, как «Такыр»
и «Джан». Пустыня, по Платонову, — это
мир, в котором победила смерть. Вернуть
воду в пустыню — значит преодолеть
смерть.
Проблематика «технической» книжки
останется актуальной и для стихотворного
сборника «Голубая глубина». Он будет из-
дан в Краснодаре тиражом 800 экземпля-
ров. Машины и люди — одна из централь-
ных тем книги, причем в соответствии с
канонами пролеткультовской поэзии ма-
шины одушевляются, а человек обретает
черты машины:
В глазах наших светятся горны,
В сердцах взрывается кровь.
Как топка душа раскаленная,
Как песня гудков наших рев.
Но в «Голубой глубине» появляется и
иной круг тем: «Странник», «Вечерние до-
335
Русские писатели XX века
роги», «Степь», «Март» — это путешествие
в пространстве и времени, огромная пано-
рама вселенской жизни, увиденная сквозь
призму лирической субъективности. Ге-
рой-странник — центральная фигура в об-
разной системе Платонова. В ранних произ-
ведениях это образ скорее традиционный:
странник отправляется за счастьем «туда,
где нас нет», босиком шагая по проселоч-
ной дороге. Он остро переживает свою со-
причастность миру, свое «кровное» с ним
родство — но и пытается разглядеть, «рас-
слышать» собственный путь в тиши дорог.
Так появляется одно из самых своеобраз-
ных стихотворений Платонова — с «лер-
монтовской» проблематикой и «есенин-
ской» мелодикой:
Мир родимый, я тебя не кину,
Не забуду тишины твоих дорог,
За тебя свое живое сердце выну,
Полюблю, чего любить не мог.
Снова льется тихий ливень песни,
И опять я плачу от звезды,
Сам себе еще я неизвестный,
Мне еще никто пути не осветил...
Позднее образ странника в творчестве
Платонова приобретет символическое зна-
чение. Странствие перестанет быть только
физическим передвижением по земле или в
космическом пространстве, оно станет пу-
тешествием мысли в поисках разгадки тайн
бытия. Поиски истины, счастья, смысла
всеобщего существования станут в поэтике
Платонова сквозным сюжетом, который
объединит все его произведения в одну
большую книгу. «Открытая дорога», «труд-
ное пространство», «вечность времени»,
«душевный смысл» — все это важнейшие
составляющие художественного мира Пла-
тонова.
Платоновские странники — Саша Два-
нов и Копенкин («Чевенгур»), Фома Пухов
(«Сокровенный человек»), Назар Чагатаев
(«Джан»), Вощев («Котлован») — отправ-
ляются в путь по вселенной в надежде на
обретение истинного смысла бытия, ищут
разгадку смерти и верят в воскрешение
мертвых. Но странствия героев исполнены
трагических откровений: «самодельный со-
циализм» в утопическом городе Чевенгур
оказывается «сказкой», которая упорно не
хочет становиться «былью»; революция так
и не находит места в душе исконного проле-
тария Пухова; «смысл жизни и истина все-
мирного происхождения» перестают быть
нужными Вощеву после смерти Насти.
А пока — пока первые серьезные опыты
Платонова в литературе получают заслу-
женно высокую и доброжелательную оцен-
ку признанных мастеров. В 1923 году появ-
ляется рецензия Валерия Брюсова на поэ-
тический сборник «Голубая глубина»: «В
своей первой книге А. Платонов — настоя-
щий поэт, еще неопытный, еще неумелый,
но уже своеобразный... Пишет старыми
ритмами, нередко не выдерживая размера;
порой... сбивается на шаблон и часто конча-
ет прекрасно начатое стихотворение слабо и
бедно... При всем том, у него — богатая
фантазия, смелый язык и свой подход к те-
мам...»
ГУБЕРНСКИЙ МЕЛИОРАТОР
5 февраля 1922 года Платонов начинает
работать в Губернском управлении как
член комиссии по гидротехническим де-
лам. На бесстрастном языке документа — в
справке, выданной Главным управлением
землеустройства и мелиорации г. Вороне-
жа, — лаконично и точно описана деятель-
ность Платонова-инженера: «...под его
непосредственным административно-тех-
ническим руководством исполнены в Воро-
нежской губернии следующие работы:
построено 763 пруда, из них 22% с ка-
менными и деревянными водосливами и де-
ревянными водоспусками;
построено 315 шахтных колодцев...
осушено 7600 десятин...
исполнены дорожные работы (мосты,
шоссе, дамбы, грунтовые дороги) — и по-
строены 3 сельские электрические силовые
установки...
...А. П. Платонов как общественник и
организатор проявил себя с лучшей сторо-
ны».
На работах по очищению рек Черная Ка-
литва и Тихая Сосна застал Платонова —
336
Андрей Платонович Платонов
уже в 1925 году — Виктор Шкловский,
блистательный ученый, писатель, критик.
В свойственной ему манере он парадоксаль-
но и остроумно обрисовал будни губернско-
го инженера-мелиоратора: «Все эти реки, о
которых мы учили в учебнике географии:
Воронеж, Битюг, Хопер, Тихая Сосна... их
нет. Они заросли камышом. Если раздви-
нуть камыш, то внизу между камышинка-
ми мокро. Платонов прочищает реки. Това-
рищ Платонов ездит на мужественном ко-
рыте, называемом автомобиль».
Заметим, что взаимоотношения техники
и человека по-прежнему остаются важней-
шей стороной и жизни, и творчества Плато-
нова — но теперь он становится свидетелем
трагикомической реализации метафоры,
приравнявшей в его ранних стихах челове-
ка к машине: человек не сопоставляется
больше с машиной — он просто вместо нее
работает. Именно такой эпизод мелиора-
тивных работ и был зафиксирован Шклов-
ским: в то время как качать воду должен
был двигатель, ее доставали из колодца
пружинным насосом. «Крутили колесо пру-
жины две девки. «При аграрном перенасе-
лении деревни, при воронежском голоде, —
сказал мне Платонов, — нет двигателя де-
шевле деревенской девки. Она не требует
амортизации».
Техника и литература в жизни Платоно-
ва по-прежнему неотделимы. Он показыва-
ет Шкловскому механическое поливное
устройство, сделанное по собственному про-
екту, и рассуждает о проблемах поэтики:
«Говорил Платонов о литературе, о Розано-
ве, о том, что нельзя описывать закат и
нельзя писать рассказов». В «Воронежской
коммуне» он выступает со статьей «На
фронте зноя», в которой говорится о том,
что комиссия под его руководством разра-
батывает «особый метод взрыва... через со-
общение ей (материи. — Авт.) электромаг-
нитных волн с точно рассчитанной длиной
и частотой колебаний, совпадающих с внут-
риатомным ритмом», — а в рассказе Плато-
нова «Потомки солнца» инженер Вогулов
изобретает «взрывчатый состав», посколь-
ку нашел способ «скучения световых элек-
тромагнитных волн». В мае 1924 года Пла-
тонов принимает участие в съезде гидроло-
гов в Ленинграде, а в ноябре участвует в
вечере воронежских поэтов.
Художественные произведения Платоно-
ва все чаще попадают в поле зрения профес-
сиональной критики. Отправленный в 1924
году на конкурс в «Красную ниву» рассказ
«Бучило»1 получает одну из литературных
премий и публикуется на страницах журна-
ла.
В МОСКВУ...
Летом 1922 года Платонов поступает в
Коммунистический университет Вороне-
жа. Проучится он в нем недолго — зато
познакомится здесь со своей будущей же-
ной, Марией Александровной Кашинцевой.
В 1923 году в семье Платоновых появится
сын — Тотик, а в 1926-м Андрей Платонов
будет отозван в Москву.
Жизнь Платонова все в большей мере
подчиняется литературе. Публикуются его
новые произведения (уже в декабре 1926 го-
да в журнале «Всемирный следопыт» напе-
чатана фантастическая повесть «Лунная
бомба»), появляются новые замыслы. По-
следним инженерным назначением Плато-
нова станет должность «помощника подот-
дела мелиорации в Тамбовском губернском
управлении» — и 5 декабря он выезжает в
Тамбов. Жена и сын Платонова остаются в
Москве.
Тамбовский отрезок жизни оказался для
писателя испытанием на прочность. И дело
было не только в работе и даже не в разлуке
с семьей. Платонов скорее интуитивно по-
нимает, что он впервые попал в совершенно
чуждый ему мир — мир, лишенный для не-
го живых красок и человеческого тепла, а
потому внутренне неприемлемый. Плато-
нов упорно сопротивляется втягиванию в
холодную войну губернского масштаба
между разными властными структурами.
1 Первоначальное название — «Приключения
Баклажанова. Бесконечное путешествие». Под
таким заглавием рассказ был опубликован в «Во-
ронежской коммуне* за 10 сентября 1922 г.
337
Русские писатели XX века
В его письмах жене сквозит пронзительное
одиночество:
«Мне очень скучно»; «...Уверен, что долго не
проживу, чудовищно зверская обстановка... Как
Тотик, не скучает по мне? Я уже заскучал. Очень
мне тут тяжело»; «...Вновь охватила меня моя
прочная тоска, вновь я в «Тамбове», который в
будущем станет для меня каким-нибудь симво-
лом, как тяжкий сон в глухую тамбовскую ночь,
развеваемый утром надеждой на свидание с то-
бой...»
Наверное, не случайно интенсивность
творческой работы Платонова в эти не-
сколько тамбовских месяцев растет. «Я та-
кую пропасть пишу, что у меня сейчас тря-
сется рука», — сообщает он жене. В Тамбо-
ве Платонов готовит к печати «Епифанские
шлюзы* и работает над научно-фантасти-
ческой повестью «Эфирный тракт». Нако-
нец в марте 1927 года он возвращается в
Москву — где вскоре отдельным изданием
выходит сборник «Епифанские шлюзы»,
первый том прозы Платонова, который
привлек внимание критики. Именно тогда,
в 1927 году, Платонов оставляет работу ин-
женера-мелиоратора и становится профес-
сиональным писателем. Некоторое время
спустя ему — уже как писателю — предо-
ставляют квартиру в Москве, на Тверском
бульваре, в одном из флигелей бывшего
«дома Герцена». В своем кабинете Пла-
тонов поставит конторское бюро, за кото-
рым будет писать, причем поставит спиной
к входной двери, обеденному столу и дива-
ну, чтобы его не отвлекали, когда он рабо-
тает. Единственным «собеседником» Пла-
тонова во время работы был чугунный чер-
тик, никогда не покидавший его стола.
«Кабинет», правда, вскоре переместился в
ванную — подрастал сын, и делить «жиз-
ненное пространство» приходилось по-но-
вому.
В большой литературе, однако, Платонов
держится особняком: он не примыкает ни к
одной из многочисленных в 20-е годы лите-
ратурных групп и поддерживает дружеские
отношения лишь с немногими писателями,
в частности с Борисом Пильняком (совмест-
но с которым опубликует в «Новом мире*
репортаж о путешествии по Центрально-
черноземному району «Че-Че-О») и позд-
нее, в 30—40-е годы, с Михаилом Шолохо-
вым. Неординарность творческой индиви-
дуальности и литературной позиции Плато-
нова проявилась еще раньше. В 1920 году
на вопрос одной из писательских анкет:
«Каким литературным направлениям вы
сочувствуете?» — он ответил: «Никаким,
имею свое».
Не менее выразительной и емкой харак-
теристикой Платонова станет и один доку-
мент начала 30-х годов — «Справка об авто-
ре А. Платонове», составленная в секрет-
но-политическом отделе ОГПУ:
«Среду профессиональных литераторов избе-
гает. Непрочные и не очень дружеские отноше-
ния поддерживает с небольшим кругом писате-
лей. Тем не менее среди писателей популярен и
очень высоко оценивается как мастер. Леонид
Леонов и Б. Пильняк охотно ставят его наравне с
собой, а Вс. Иванов даже объявляет его лучшим
современным мастером прозы».
Эксперт из ОГПУ бесстрастно воссоздает
♦литературный портрет» Платонова — при-
чем в тех же деталях, в каких его обрисуют
друзья и знакомые писателя в своих воспо-
минаниях. Платонов замкнут, молчалив,
скромен. Он скорее похож на мастерового
начала века, чем на респектабельного сов-
ременного писателя. Как подметила однаж-
ды Е. Таратута, сотрудница одного из жур-
налов, где печатался Платонов, «среди на-
рядных писателей в ярких галстуках,
велюровых шляпах, импортных пальто
Андрей Платонович... казался слесарем,
пришедшим починить водопровод: простая
кепка, москвошвеевский синий плащ, стоп-
танные ботинки...»
Однако выделяло Платонова другое —
точность и уверенность каждого слова и
движения, спокойный и ровный тон — про-
стота, знающая о своем достоинстве.
«Уединение» же Платонова было следст-
вием напряженной творческой работы:
именно тогда, в конце 20-х — начале 30-х
годов он создает главные свои произведе-
ния — «Сокровенный человек», «Чевен-
338
Андрей Платонович Платонов
гур», «Котлован», «Джан», «Ювенильное
море».
Однако была, пожалуй, и еще одна при-
чина, по которой Платонов не стремился
попасть в литературный бомонд Москвы: он
умел хранить верность своим друзьям,
вместе с которыми пришел в литературу, —
независимо от степени их известности
или влиятельности. Одним из тех, кто во
многом определил литературную биогра-
фию Платонова, был Г. 3. Литвин-Молотов
(1898—1972). Платонов познакомился с
ним весной 1919 года в Воронеже: Лит-
вин-Молотов был тогда главным редакто-
ром газеты «Воронежская коммуна*. Хотя
он был всего на год старше Платонова, тот
относился к нему не только как к самому
близкому другу, но и как к своему учителю
в литературе. Именно при поддержке Лит-
вина-Молотова увидели свет первые книги
Платонова. В 1921 году Литвин-Молотов
возглавлял издательство «Буревестник* в
Краснодаре, где помогал Платонову издать
сборник стихов «Голубая глубина», а пере-
ехав в Москву и став главным редактором
издательства «Молодая гвардия», готовил к
публикации том прозы — «Епифанские
шлюзы». О той роли, которую сыграл друг
Андрея Платоновича в его творческой судь-
бе, свидетельствует дарственная надпись на
одной из книг Платонова — уже известного
писателя: «...человеку, которому я обязан
своим лучшим и чистым прошлым и, мо-
жет быть, буду обязан будущим. С глубокой
любовью, которую ничто не встревожит, —
Андрей Платонов. 11/VII—27 г. Москва».
♦С преданностью друга...» — такую над-
пись сделал Платонов и на книге, подарен-
ной одному из самых близких друзей, писа-
телю Сергею Буданцеву1.
1 Сергей Буданцев пришел в литературу в на-
чале 20-х годов — тогда появился его первый ро-
ман «Мятеж» (1922), доброжелательно встречен-
ный критикой. Однако история этого романа
по-своему любопытна: под таким же названием
вышла и книга Дмитрия Фурманова, и писателям
пришлось тянуть жребий, кому из них свою кни-
гу переименовывать. Искать новое название вы-
пало Буданцеву — прославивший его роман стал
называться «Командарм».
Судьба его сложилась трагично: в 1937
году Буданцев был арестован, объявлен
«врагом народа» и сослан в лагеря, где и по-
гиб. С доверием и нежностью относился
Платонов и к своему другу и коллеге Льву
Гумилевскому. Встретились Платонов и Гу-
милевский в доме Буданцева — но знаком-
ство их началось заочно: Платонову журна-
лом «Литературный критик» была заказа-
на рецензия на одну из книг начинающего
писателя. Однако взаимоотношения Плато-
нова с друзьями-писателями строились
прежде всего на простой человеческой при-
вязанности, а не на конкуренции професси-
оналов. Об одном весьма примечательном
эпизоде в отношениях Платонова и Гуми-
левского рассказал в своих воспоминаниях
Юрий Нагибин. Он был приглашен как-то
Гумилевским на «премьеру» его нового рас-
сказа; на том же вечере присутствовал и
Платонов.
«Рассказ оказался неимоверно длинен, ску-
чен, как-то посторонен всякой жизни... Он не по-
нравился никому. Платонов слушал молча и на
все вопросы Гумилевского сумел лишь выдавить
из себя: «Это... конечно... рассказ*. Когда уже
расходившиеся от Гумилевского гости принялись
донимать Платонова расспросами, почему он
скрыл свое мнение о рассказе, он «отмалчивался,
отсмеивался, отфыркивался, но под конец не вы-
держал и сказал жалобно:
— Да что вы привязались? Пусть пишет рас-
сказы. Это лучше, чем хулиганить в подворотне.
Это было так неожиданно и так неприменимо
к пожилому, монументальному, словно конная
статуя, глубоко серьезному Гумилевскому... что
мы покатились от хохота... А я для себя сделал
еще один вывод: другу можно простить и плохой
рассказ».
Дружеские отношения связывали Плато-
нова и с Михаилом Шолоховым. К началу
30-х годов Шолохов был уже известным и
признанным автором «Донских рассказов*
и «Тихого Дона». «Какой у него ясный
крестьянский ум», — заметил однажды
Платонов. Оценка, весьма характерная для
Платонова: ум и характер человека он свя-
зывал прежде всего с его работой, характе-
ром труда, которым он занимается. Без по-
стоянной работы, считал Платонов, ум че-
339
Русские писатели XX века
ловека празден, бесплоден, а сам человек
опустошается.
Сам же Платонов в эти годы работает
исключительно интенсивно. В 1928 году
выходит очередной том его прозаических
произведений — «Сокровенный человек», в
1929-м — «Происхождение мастера» (за-
главная повесть сборника представляет со-
бою начальные главы будущего романа
«Чевенгур»); в конце 1929 — начале 1930
года пишет повесть «Котлован». К концу
20-х годов Платонов достигает вершины
творческой формы — в это время уже созда-
ны его главные произведения. Уникальный
стилист, Платонов узнаваем в них с первой
же фразы: «тридцатилетие личной жизни»,
«безвыходное небо» или «грусть ветхих
трав* мгновенно выдают происхождение
текста.
Правда, за неординарность художествен-
ного письма Платонову всю жизнь прихо-
дилось расплачиваться — в прямом и пере-
носном смысле. Редакционные машинист-
ки, которые перепечатывали рукописи
Платонова (а оплата шла за каждый напе-
чатанный лист), требовали за работу втрое
больше средней цены. И медленно они рабо-
тали совсем не потому, что у Платонова был
неразборчивый почерк, — наоборот, писал
он отчетливо, ясно, отделяя одну букву от
другой. Дело было в том, что обычно маши-
нистки печатали фразу любого писателя,
запоминая ее целиком с одного прочтения,
и напечатав, «захватывали* глазом уже
следующую — и тоже целиком. Строение
же платоновской фразы столь прихотливо,
а слова находятся в столь необычных соче-
таниях, что машинисткам приходилось пе-
репечатывать рукопись по слову — потому
что в привычный, знакомый ход предложе-
ния фраза Платонова никак не умещалась.
Другим свидетельством исключитель-
ности стилевой индивидуальности Плато-
нова стало отсутствие на произведения Пла-
тонова пародий — при том что в конце 20-х
годов он был очень известным прозаиком.
Почему? Да потому, что пародия требует
стилевой предсказуемости оригинала — а
текст Платонова не поддается предугадыва-
нию, в нем отсутствует стилевой шаблон,
который мог бы комически отразиться в
пародии. Самые талантливые и популяр-
ные пародисты — например, А. Архангель-
ский — не рисковали браться за Платонова:
без понимания чужого стилевого алгоритма
настоящую пародию написать невозможно.
«КЛАССОВЫЙ ВРАГ»
В 1929 году журнал «Октябрь» публику-
ет сатирические рассказы Платонова «Госу-
дарственный житель» (№ 6) и «Усомнив-
шийся Макар» (№ 9). Один — о стареющем
бюрократе-чиновнике не только по долж-
ности, но и по призванию — Петре Евсееви-
че Веретенникове, другой — о «нормальном
мужике* Макаре Ганушкине, усомнившем-
ся в разумности и необходимости бюрокра-
тического государства. Сатиру на староре-
жимного чиновника официальная критика
приняла, тем более что тот временами даже
обнаруживал проблески человечности —
например, сочувствуя мучениям паровоза,
тянущего в гору тяжелый груз: по государ-
ственной ведь надобности страдает ма-
шина...
А вот полунищий крестьянин Макар,
имевший «порожнюю голову над умными
руками», в галерею «новых» советских бед-
няков не вписался. Самой «возмутитель-
ной» в рассказе Платонова критикам пока-
залась сцена в сумасшедшем доме, куда Ма-
кара приводит его друг — пролетарий Петр,
чтобы у «гостя столицы» было хоть ка-
кое-нибудь пристанище. В «душевной»
больнице герои нашли книгу Ленина и при-
нялись ее читать: «Наши учреждения —
дерьмо, — читал Ленина Петр, а Макар
слушал и удивлялся точности ума Лени-
на...» Платонов, по сути, «перевел* статью
Ленина «Лучше меньше, да лучше», про-
диктованную партийным вождем незадолго
до смерти и направленную против Сталина
и принципов работы Рабкрина (Рабоче-
крестьянской инспекции). В 1929 году со-
чувственное цитирование самой статьи вос-
принималось как прямой выпад против го-
сударства и его главы.
Ясно и внятно изложив свои «сомнения*
в новом мироустройстве, Платонов обратил
340
Андрей Платонович Платонов
на себя внимание высших инстанций: «иде-
ологически двусмысленный» и «анархиче-
ский» рассказ попал на глаза Сталину — и
его оценка послужила поводом для прора-
ботки Платонова.
Генеральный секретарь РАППа Л. Авер-
бах одновременно в двух журналах — «Ок-
тябре» (1929, № 11) и «На литературном
посту» — опубликовал статью «О целостных
масштабах и частных Макарах». Обвине-
ние, сформулированное Авербахом, полно-
стью отвечало социальному заказу: «А нас
хотят разжалобить! А к нам приходят с про-
поведью гуманизма!» Литература должна
утверждать волю «целостного масштаба», а
не права «частного Макара» — вот что тре-
бовалось от «настоящего» пролетарского пи-
сателя.
Рассказ Платонова действительно не
вписывался в официальную идеологию.
Обязательный пафос самозабвенного слу-
жения будущему «подменяется» у Плато-
нова напряженным вниманием к «сегодня*
и «сейчас». Вместо героического преобразо-
вателя мира, героя поступка писатель пока-
зывает «задумавшегося» человека, «реф-
лексирующего меланхолика». Итогом внут-
ренней эволюции героя с точки зрения
идеологии должна была стать душевная мо-
нолитность и непоколебимая уверенность в
своей правоте — Платонов же выбирает в
герои «усомнившегося Макара».
Охота на гуманистов этим не закончит-
ся. Платонова объявляют «попутчиком», а
к его новым произведениям в редакциях
журналов и издательств начинают отно-
ситься с осторожностью. Издательство «Фе-
дерация» отклоняет роман «Чевенгур» —
Платонову возвращают его рукопись, пест-
рящую красными отметками; «Новый мир»
отказывается печатать рассказ «Двое лю-
дей» — переработанный Платоновым для
журнальной публикации отрывок из того
же «Чевенгура».
Чтобы спасти роман, Платонов решается
обратиться к Горькому. Вмешательство
официально признанного мэтра советской
литературы могло бы помочь с публикаци-
ей, тем более что Горький обратил на Пла-
тонова внимание еще в 1927 году, отметив
его «Епифанские шлюзы» в числе лучших
произведений современной литературы:
«...должен сказать, что русских «молодых»
читаю более охотно, даже с жадностью.
Удивительное разнообразие типов у нас и
хорошая дерзость. Понравились мне — за
этот год — Андрей Платонов, Заицкий, Фа-
деев, Олеша». За год-два после появления
первой книги Платонова Горький раз де-
сять еще в разных статьях и заметках упо-
минал о нем — всегда в лестных для любого
молодого писателя тонах. Наконец, в июне
1929 года состоялась их первая встреча. За-
пись о ней, сделанная Платоновым десять
лет спустя, в 1939 году, вскрывает важные
подробности взаимоотношений «классика»
и «молодых писателей».
Запись о встрече начинается с портрета
Горького — пожалуй, самого «неканониче-
ского» в русской литературе.
«В детстве я видел дешевые конфеты, заверну-
тые в бумажки с изображением Максима Горько-
го; под его изображением обычно была напеча-
тана какая-либо фраза, лозунг из сочинений пи-
сателя, например — «Пусть сильнее грянет
буря!» — или что-нибудь другое. Я всматривался
тогда в лицо писателя на конфетной бумажке, чи-
тал его мысли и размышлял о нем. Никогда я не
надеялся увидеть Горького в действительности и
беседовать с ним...» Изображение Горького ока-
залось выписано у Платонова в гоголевской сти-
листике: упоминание о «живом классике* и «де-
шевых конфетах» создает разительный контраст,
превращая парадный портрет в шарж, если не в
карикатуру, а выражение восхищения — в сати-
рический этюд. Платонов дальше совершенно
искренне признается: «Он был для меня все та-
ким же прежним и неизменным, идеальным выс-
шим человеком, каким запечатлелся когда-то в
моем детском воображении. И, смотря сейчас на
Горького, я чувствовал себя счастливым, словно
моя жизнь возвратилась обратно в детство — в
свое лучшее время...»
Ретроспективно воссоздавая облик Горь-
кого, Платонов иронически — хотя и не-
вольно — «откорректировал» миф о первом
пролетарском писателе: назидательно-алле-
горический образ «буревестника револю-
ции» уже тогда, в конце 30-х годов, приоб-
ретал черты райской птицы с лубочной кар-
341
Русские писатели XX века
тинки — именно это и сумел подметить
Платонов.
Больше говорил, как и следовало ожи-
дать, Горький. Платонов лишь рассказал
содержание одного из давних уже своих
произведений — «О потухшей лампе Ильи-
ча». Горький рассказа не знал и просле-
зился, слушая историю о крестьянах, су-
мевших построить деревенскую электро-
станцию. Однако деликатный Платонов не
упоминает о том, что этот его рассказ был
напечатан в сборнике «Епифанские шлю-
зы» — в том самом, который столь охотно
расхваливал Горький на протяжении
1927—1928 годов.
Беседа Платонова и Горького продолжа-
лась довольно долго; закончилась она, од-
нако, философско-филологическим спором.
Провожая Платонова, Горький произносит:
«— Ну что же, до свидания, литератор!
— Я не литератор, Алексей Максимович, я пи-
сатель.
— Да, слово-то нехорошее, — произнес Горь-
кий, — и нерусское, и длинное, и даже оскорби-
тельное. Это вы правы, что обиделись...»
Своим ответом Платонов утверждал в
высшей степени серьезное и ответственное
отношение к писательской профессии: он
видел в своей работе служение, а не ремес-
ло.
В августе 1929 года Платонов отдает ру-
копись «Чевенгура» Горькому — и вскоре
получает ответ, который отметает всякую
возможность публикации романа. Горький
писал:
«Человек вы — талантливый, это бесспорно,
бесспорно и то, что вы обладаете очень своеобраз-
ным языком...
Но, при неоспоримых достоинствах работы ва-
шей, я не думаю, что ее напечатают, издадут. Это-
му помешает анархическое ваше умонастрое-
ние... При всей нежности вашего отношения к
людям, они у вас окрашены иронически, являют-
ся перед читателями не столько революционера-
ми, как «чудаками» и «полоумными».
Оценка роману дается в тех же категори-
ях, в каких два года спустя будут отчаянно
ругать повесть Платонова «Впрок»: «чудач-
ки» и «юродивые» не могут быть героями
новой литературы — эту маску «надевает
враг» (реплика из выступления А. Безы-
менского на Первом съезде советских пи-
сателей).
«ВЫ ЕГО НЕ ПЕРЕДЕЛАЕТЕ... ПОТОМУ
ЧТО ПЛАТОНОВ - ГЕНИАЛЬНЫЙ
ПИСАТЕЛЬ!»
Весной 1930 года Платонов завершает
работу над «Котлованом» и одновременно
создает «бедняцкую хронику* «Впрок».
Оба произведения написаны практически с
натуры — именно на этот период приходит-
ся пик коллективизации: 7 ноября 1929 го-
да появилась статья Сталина «Год великого
перелома», в которой обосновывалась поли-
тика сплошной коллективизации; 27 дека-
бря Сталин объявил о «начале развернутого
наступления на кулака» и о переходе к
«ликвидации кулачества как класса»; 2
марта 1930 года в статье «Головокружение
от успехов» Сталин ненадолго притормозил
насильственную коллективизацию, а в ап-
реле «Правда» напечатала его статью «От-
вет товарищам колхозникам». О публика-
ции «Котлована» — вершинного произведе-
ния Платонова — не могло быть и речи;
после выхода «Впрок» в журнале «Красная
новь» (1931, №3) на писателя обрушился
новый шквал критики.
Началось все с того, что номер «Красной
нови» с «бедняцкой хроникой» Платонова
попал в руки Сталину. Ознакомившись с
произведением, он зачеркнул на первой
странице слово «бедняцкая» и исправил:
«кулацкая хроника». Рядом с фамилией
автора приписал: «Подонок»1.
Так был дан сигнал к травле.
Только что занявший пост главного ре-
дактора «Красной нови» Александр Фадеев
1 Варианты сталинского определения называ-
лись разные: «подонок», «мерзавец», «гад», «сво-
лочь», «негодяй». Экземпляра этого журнала в
архивах не сохранилось; однако в своем преди-
словии к американскому изданию рассказов Пла-
тонова Е. Евтушенко приводит как «оригинал*
сталинской резолюции первое слово — «подо-
нок*.
342
Андрей Платонович Платонов
был вызван к Сталину. Выговор за публи-
кацию «кулацкого и антисоветского рас-
сказа Платонова» Фадеев получил, едва
войдя в кабинет. Кроме того, провинивше-
муся редактору надлежало теперь по заме-
чаниям Сталина на полях «Впрок» напи-
сать статью, которая разоблачила бы «анти-
советский смысл рассказа и лицо ее
автора».
Статья Фадеева, буквально уничтожив-
шая Платонова, появилась уже на следу-
ющее утро. Прославился когда-то Фадеев
романом «Разгром» — и теперь словно то-
ропился доказать, что он может быть
«блистательным» автором «разгромов» не
только в литературе, но и в литературной
жизни. Называлась его статья: «Об одной
кулацкой хронике». Фадеев «бережно» вос-
произвел не только смысл, но и стилистику
сталинских замечаний, от себя лишь ужес-
точив определения для характеристики
«кулацкого агента». Правда, инвективный
словарь Фадеева оказался несколько одно-
образен: на четырех журнальных страни-
цах своей статьи он 10 раз использовал по
отношению к Платонову слово «юродивый»
и столько же — оборот «из-под маски».
Суть предпринятого Фадеевым «критиче-
ского анализа» была нехитрой: Платонов —
замаскировавшийся враг, и написал он из-
девательскую сатиру на советский строй.
Приведем лишь один фрагмент из этого фа-
леевского «приговора»:
«Основной смысл его (Платонова. — Авт.)
«очерков» состоит в попытке оклеветать комму-
нистическое руководство колхозным движени-
ем... Озлобленная морда классового врага вылеза-
ет из-под «душевной» маски. Платонов распоясы-
вается. Изобразив колхозную жизнь как царство
бестолочи, он переходит затем к описанию лжеар-
тели, кулацкого колхоза, состоящего из переро-
дившихся бывших героев гражданской войны...»
Основную тональность критики в адрес
Платонова определяет теперь слово «клеве-
та»: клевета на «нового человека», на ход
социалистических преобразований, на «ге-
неральную линию» партии. «Замаскиро-
вавшийся юродивый бедняк» — самое
мягкое из тех определений, которые ис-
пользуются по отношению к Платонову в
официальной публицистике. От него требу-
ют покаяния и признания политических
ошибок. Доступ к изданию всех последую-
щих произведений для Платонова оказыва-
ется перекрыт. Теперь его писательская
биография измеряется не публикациями, а
отказами в публикациях.
В 1932 году он пишет пьесу «Высокое на-
пряжение» (и направляет ее Горькому) —
однако поставить ее не удается, и опублико-
вана она будет лишь в 1986 году. В 1933-м
создает сатирическую пьесу «Шарман-
ка» — о «культработе» в голодном район-
ном городишке, где местные руководите-
ли — а еда там имеется только для них —
внедряют в рацион горожан новые формы
пищи: траву, навоз и саранчу, — но и это
произведение будет опубликовано лишь в
1988 году.
В 1934-м Платонов написал один из луч-
ших своих рассказов — «Мусорный ветер»,
в котором осмыслял законы тоталитарного
«царства мнимостей» на примере гитлеров-
ской Германии, но опубликован он будет
лишь тридцать лет спустя. Писатель пред-
ложил рассказ альманаху «Год XVII», кото-
рым руководил Горький. В марте 1934 года
Платонов получил от Горького ответ: «Пи-
шете вы крепко и ярко, но этим еще более...
подчеркивается и обнажается ирреальность
содержания рассказа, а содержание грани-
чит с мрачным бредом. Я думаю, что этот
ваш рассказ едва ли может быть напечатан
где-либо». Говоря о «мрачном бреде», Горь-
кий был, пожалуй, прав — только бредом
было не содержание рассказа, а действи-
тельность, окружавшая Платонова.
Однако один шаг к здравому смыслу в
30-е годы все-таки был сделан. В 1932 году
вышло постановление ЦК ВКП(б) «О пере-
стройке литературно-художественных ор-
ганизаций». Им предусматривался роспуск
всех литературных групп и объединений.
Для писателей-«попутчиков» это означало
прежде всего освобождение от диктатуры
РАППа. Для Платонова — фактическую ре-
абилитацию: из «кулацкого агента» ему
было разрешено вернуться в «писатели».
Главные оппоненты Платонова — раппов-
343
Русские писатели XX века
цы Л. Авербах и А. Фадеев — утратили
свои посты и лишились серьезного влияния
на литературную жизнь. Платонова прини-
мают в Союз писателей, и он даже присут-
ствует на его Первом съезде — хотя высту-
пить там ему не разрешат. Тогда же, в 1934
году, выходит восьмой том Литературной
энциклопедии с биографией Платонова —
официальное признание состоялось. Хотя
год рождения писателя был указан невер-
но. Не изменилось же только одно: Плато-
нова по-прежнему не печатали. После хро-
ники «Впрок», опубликованной в 1931 го-
ду, за последующие пять лет в печати
появилось всего два рассказа Платонова —
«Такыр» (в журнале «Красная новь») и
«Любовь к дальнему» (в ежемесячнике «30
дней»).
Лишь изредка Платонову удается публи-
ковать литературно-критические работы.
Это рецензии на произведения молодых ав-
торов, статьи о «современных классиках* —
Горьком, Маяковском, Паустовском, Грине,
Ахматовой, о произведениях зарубежных
писателей XX века — романах Э. Хемингуэя
«Прощай, оружие!» и «Иметь и не иметь»,
К. Чапека «Война с саламандрами», Р. Ол-
дингтона «Сущий рай*. Кстати, заочно сло-
жившиеся взаимоотношения Платонова и
Хемингуэя не были односторонними. Когда
американскому писателю вручали Нобелев-
скую премию, один из шведских журналис-
тов спросил его: «Кто из писателей оказал
на вас наибольшее влияние?» — Хемингуэй
ответил: «Русский писатель Андрей Плато-
нов».
Книгу своих статей о литературе Плато-
нов назвал «Размышления читателя». Он
действительно не ставил перед собой цель
♦ вынести критическую оценку» автору или
его книге. Ему был интересен сам процесс
медленного и вдумчивого чтения, за кото-
рым должен «проступить» автор, его чело-
веческая и творческая индивидуальность.
Поэтому, например, статью о Пушкине он
назвал «Пушкин — наш товарищ»: в поэте
Платонов видит не «великого классика», не
«солнце русской поэзии» и не «наше все» —
Пушкин для него близкий и понятный че-
ловек, «часто грустивший», как замечает
Платонов, мудрый и светлый.
В 1937 году, когда на Пушкина излива-
лись потоки официального славословия —
столетняя годовщина гибели поэта отмеча-
лась с размахом, несмотря на абсурдность
предмета торжества, Платонов сумел рас-
сказать о Пушкине без пафоса, но зато с
глубоким пониманием внутренней логики
его судьбы. Отношение его к Пушкину бы-
ло, можно сказать, «домашним». Недалеко
от дома, в котором жил Платонов, стоял па-
мятник поэту, и Андрей Платонович,
♦ встречавшийся» с Александром Сергееви-
чем каждое утро, любил говорить: «Из сосе-
дей это мой самый любимый писатель, а из
писателей — самый любимый сосед». А о
гибели поэта он написал так:
«Пушкин никогда не боялся смерти... он счи-
тал, что краткая, обычная человеческая жизнь
вполне достаточна для свершения всех мысли-
мых дел и для полного наслаждения всеми страс-
тями. А кто не успевает, тот не успеет никогда,
если даже станет бессмертным».
Статья Платонова о Пушкине была опуб-
ликована в журнале «Литературный кри-
тик» (1937, № 1). В этом же журнале, ре-
дакция которого с огромным уважением и
сочувствием относилась к Платонову, поя-
вятся еще несколько его статей. Под псев-
донимом Ф. Человеков он публикует лите-
ратурно-критические работы в журналах
«Литературное обозрение» и «Детская ли-
тература». А вот сборник «Размышления
читателя» разделил судьбу всех остальных
книг писателя: он был подготовлен к изда-
нию автором в 1938 году, а в 1939-м — уже
после выхода сигнальных экземпляров —
набор книги был уничтожен.
Тем временем материальное положение
Платонова становилось угнетающим. Вы-
нужденное молчание начинало обходиться
все дороже для него и его семьи. И когда
в конце 1933 года его включили в состав
бригады оргкомитета Союза советских пи-
сателей для поездки в Туркмению, он с
готовностью согласился. Целью поездки
было создание литературно-художественно-
го сборника, приуроченного к десятилетию
344
Андрей Платонович Платонов
Туркменистана. Для Платонова же это путе-
шествие становилось писательской коман-
дировкой.
«Горячая Арктика» — эта метафора ста-
ла названием очерка Платонова для «турк-
менского* сборника, который, по сложив-
шемуся правилу, опубликован все равно не
был, — вернула его к впечатлениям юнос-
ти. Пустыня и «живая» вода — это тогда
были главные темы и его жизни, и его твор-
чества. По сути, Платонов уже успел «про-
жить» несколько жизней в пустыне: герои
его «Песчаной учительницы» и «Ювениль-
ного моря» ведут отчаянную борьбу с песка-
ми и добывают воду, чтобы вернуть в пус-
тыню жизнь. В письмах Платонова жене
повторяются одни и те же мотивы: пусты-
ня — это бесконечное пространство и оди-
ночество.
«Кругом пустыня, жарко, растет саксаул, мно-
го верблюдов с милыми мордами — Тотик сразу
бы их полюбил... Я смотрю жадно на все, не-
знакомое мне. Всю ночь светила луна над пусты-
ней — какое здесь одиночество, подчеркнутое
ночными людьми в вагоне...» (30 марта 1934 г.).
В Туркмении рождается замысел одного
из самых философски насыщенных и при
этом лирически-пронзительных произведе-
ний Платонова — повести «Джан». Сюжет
путешествия маленького народа джан по
пустыне обрастает библейскими аналогия-
ми, вбирает в себя атмосферу старинных
восточных легенд и античных мифов. Цель
же пути — уйти от смерти к жизни, от заб-
вения — к памяти, от душевного онеме-
ния — к счастью. Но и эта повесть — при
всей ее обращенности к вечным темам, а не
к «политическому моменту» — при жизни
писателя напечатана не была.
Однако литературная жизнь 30-х годов
все-таки была неисчерпаема на парадоксы.
В 1937 году в журнале «Красная новь» бы-
ла опубликована большая — в сорок жур-
нальных страниц — литературоведческая
статья А. Гурвича о творчестве Платонова,
уже пять лет пишущего исключительно «в
стол». До смерти писателя в 1951 году эта
статья останется самым подробным анали-
зом его произведений. Филологически про-
фессиональным, полным точных и тонких
наблюдений — но сделанным для того, что-
бы добить Платонова. Внимание автора
статьи было обращено к устойчивым, фун-
даментальным для художественного мира
Платонова философско-эстетическим зако-
нам. Однако тональность ее определяло
убеждение критика в том, что они несов-
местимы с законами советской жизни и ли-
тературы: у Платонова «основной мелодией
жизни» стало страдание, а должны были
быть — пафос «жизнеутверждения» и «на-
стоящий оптимизм».
И тем не менее Гурвич оказался на ред-
кость проницательным читателем. В чем
центральная философская проблема произ-
ведений Платонова? Вот в чем: «Может ли
тихий сокровенный голос сердца уцелеть в
страшном грохоте и гуле вселенной? » Како-
вы сквозные образы и мотивы творчества
Платонова? «Огромный пустой мир и в нем
одинокий ребенок, одинокий человек — вот
излюбленный образ Платонова». Или: «Для
многих из них (героев Платонова. — Авт.)
грань между жизнью и смертью стерта, не-
различима». И в этом критик на самом деле
прав: лексические доминанты в изображе-
нии мира у Платонова — «усталое терпе-
ние», «скучная пустота», «тоска тщетнос-
ти», «грусть великого вещества». Жизнь
видится словно бы сквозь дымку небытия;
все живое изнемогает в «терпеливом забве-
нии», неотвратимо обращаясь в «воздух
ветхости и прощальной памяти». И нако-
нец, еще один тезис критика: «Люди у Пла-
тонова жалеют друг друга, жалеют птиц,
травы, ветры, машины, которые со своей
стороны жалеют людей. Платоновский бог
жалости — всепроникающ...» В контексте
«ликвидации... политической беспечнос-
ти» (читай — вместе с самими «беспечны-
ми»), объявленной Сталиным в 1937 году,
гуманизм «без разбора» становился уликой
в политической неблагонадежности. В ито-
ге — суть обвинения: Гурвич литерату-
роведчески безукоризненно доказал, что
писательские принципы Платонова со вре-
мен «Усомнившегося Макара» и хроники
«Впрок» не изменились, а это значило, что
345
Русские писатели XX века
писатель после проработки 1920 и 1931 го-
дов «раскаиваться» не собирается.
Платонов отреагировал достойно и не-
возмутимо. Его ответ Гурвичу «Возражение
без самозащиты» поместила «Литератур-
ная газета» — и это был исключительный
случай: от опальных писателей принима-
лись к публикации только письма с раска-
янием. Он не опровергал аргументов Гурви-
ча — он указал лишь на заведомую пред-
взятость в интерпретации литературных
произведений и пренебрежение критика к
личности писателя. Но самым удивитель-
ным в этой истории оказалось то, что после
статьи Гурвича Платонова вдруг стали все
больше и больше публиковать. Еще один
парадокс заключался в том, что именно в
1937 году увидел свет сборник «Река Поту-
дань» — с примечательной опечаткой на об-
ложке: там был указан 1987 год. Платонов
по этому поводу конечно же шутил: «Мо-
жет быть, к тому времени меня еще не забу-
дут». Как оказалось, именно к 1987 году и
вспомнили...
Итоги проработки Платонова партийной
критикой, как всегда, блистательно резю-
мировал Виктор Шкловский. Отвечая Л.
Авербаху, что-то патетически провозгла-
шавшему про «буржуазную опасность в ли-
тературе», Шкловский сказал:
«Вы хотите переделать Платонова? Вы его не
переделаете, его нельзя переделать, потому что
Платонов — гениальный писатель!»
Однако после «испытания критикой*
Платонова ожидало новое потрясение: в
1938 году был арестован его сын Платон.
Тоше тогда не исполнилось еще и шестнад-
цати лет; он ушел вечером к своему товари-
щу — и не вернулся. Как оказалось, его за-
брали прямо на улице. Обвинение Платону
было предъявлено традиционное — участие
в заговоре против Сталина. Как выяснилось
уже гораздо позже, поводом к аресту послу-
жил донос, написанный его одноклассни-
ком. Оба юноши были влюблены в одну и ту
же девочку, но ей более симпатичен был То-
ша. Тогда отвергнутый влюбленный решил
устранить соперника — самым надежным
способом... Долгое время Андрей Платоно-
вич вообще не знал, где находится его сын.
А Тошу после нескольких месяцев пребыва-
ния в тюрьме отправили на Север, в шахты,
где очень скоро от непосильной работы он
заболел туберкулезом.
Хождение Платонова по инстанциям, ка-
бинетам, приемным самых разных чинов-
ников постепенно превратилось в настоя-
щий кошмар. Помочь писателю спасти
сына мог только... Сталин: его личного рас-
поряжения или даже устного указания бы-
ло достаточно для того, чтобы вытащить че-
ловека оттуда, откуда живыми не возвра-
щались. Но после «кулацкой хроники» имя
Платонова произнести в присутствии вож-
дя вряд ли бы кто решился. И тогда Плато-
нов обращается к Михаилу Шолохову с
просьбой о помощи. При встрече со Стали-
ным тот рассказывает ему о сыне Платоно-
ва — и Сталин тут же, в его присутствии,
отдает по телефону распоряжение произвес-
ти следствие заново.
Осенью 1940 года дело сына Платонова
пересматривается. Новое разбирательство
уже подходило к концу, когда внезапно —
от инфаркта — умер следователь, который
его вел. Дело передали следующему — и
сбор свидетельских показаний, проверка
фактов начались заново. Незадолго до нача-
ла Великой Отечественной войны Платон
наконец был реабилитирован и возвратился
домой — но уже смертельно больным. 4 ян-
варя 1943 года его не стало. На похороны
сына писатель приехал уже с фронта.
ВОЕНКОР «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ»
В 1942 году Платонова утвердили воен-
ным корреспондентом газеты «Красная
звезда», и он — в чине капитана — отправ-
ляется на фронтовые позиции. К этому вре-
мени он уже болен туберкулезом, которым
заразился от сына, ухаживая за ним.
Литературные дела Платонова тем вре-
менем несколько поправляются. В журна-
лах вновь печатаются его произведения. В
1942 году в Уфе выходит сборник рассказов
«Под небесами родины*, а в Москве — сбор-,
ник «Одухотворенные люди». Фронтовые
очерки Платонова публикуются не только в
346
Андрей Платонович Платонов
«Красной звезде», но и в других газетах и
журналах — «Краснофлотец», «Труд»,
«Дружные ребята».
В «Красной звезде» Платонову обычно не
поручали срочных заданий — оперативные
сводки с места боя не были его стихией. Не
то чтобы он был медлителен, просто его ма-
териалом были не «происшествия» и «слу-
чаи», а судьбы людей, за ними стоявших.
Д. Ортенберг, в те годы главный редактор
«Красной звезды», вспоминал о работе во-
енкора А. Платонова: «Он впитывал все,
что видел и слышал, глазами художника.
Наши корреспонденты «жаловались»: надо
ехать, а Платонова нет. А он сидит где-ни-
будь в землянке или окопе, увлеченный
солдатской беседой, забыв обо всем на све-
те».
Работа в газете конечно же проходила не
за письменным столом и в редакционном
кабинете. Вместе с солдатами Платонов не
раз оказывался на самых горячих участках
фронта. Однажды, во время боев на Кур-
ской дуге, из КП дивизии Платонов в со-
провождении солдата отправился на высоту
140 — самый трудный и опасный участок
боевых действий. Чтобы туда попасть, надо
было преодолеть несколько десятков мет-
ров ползком или перебежками. Немцы от-
крыли огонь, но Платонов и его спутник ус-
пели достичь «мертвого» пространства. На
обратном пути — вновь бросок. Однако на
этот раз пуля догнала Платонова, лишь
оцарапав, так как попала в складной но-
жик, который был у него в кармане. Он вер-
нулся на КП прихрамывая, но покинуть по-
зицию отказался. О своих фронтовых впе-
чатлениях писал жене:
«Дорогая моя жена Маша. Я под Курском. На-
блюдаю и переживаю сильнейшие воздушные
бои. Однажды попал в приключение. На одну
станцию немцы совершили налет. Все вышли из
эшелона. Я тоже. Почти все легли. Я не успел и
смотрел стоя на осветительные ракеты. Потом я
лечь не успел, меня ударило головой о дерево, но
голова уцелела... Два дня болела голова... и шла
сильно кровь из носа. Теперь все это прошло;
взрывная волна была слаба для моей гибели. Ме-
ня убьет только прямое попадание по башке.
Как-то ты там живешь, одинокая моя? Я так по
тебе соскучился, так много есть что рассказать,
так много есть чего писать» (6 июня 1943 года).
На фронте Платонов, упорно отказыва-
ясь от каких-либо писательских привиле-
гий, ночевал в окопах, обедал сухарем и
кружкой воды, не обращал внимания на
шум и тесноту, если усаживался где-нибудь
в уголке писать репортаж. Как-то в кресть-
янской хате Платонов устроился писать за
швейной машиной — она заменила ему
письменный стол. «Начинаю строчить», —
объяснил он. И так, время от времени «на-
жимая на педаль* («Ну, еще один абзац
сделан»), написал всю статью. Всего за го-
ды войны Платонов выпустил четыре книги
рассказов: «Одухотворенные люди* (1942);
«Рассказы о Родине* (1943); «Броня»
(1943), «В сторону заката солнца» (1945).
Фронтовые очерки и письма Платонов
часто писал на один «сюжет», точнее, пись-
ма становились «черновиками» будущих
произведений. Глубоко личное пережива-
ние войны, обостренное ощущение мучи-
тельного сопротивления жизни всеприсут-
ствию смерти отличали все, что было напи-
сано им на фронте. Один из своих рассказов
из сборника «Одухотворенные люди» — о
моряках, которые, обвязав себя гранатами,
бросились под вражеские танки, — Плато-
нов назвал «Реквиемом в прозе*. При ха-
рактерном для него смещении интереса с
фабулы на интеллектуально-эмоциональ-
ный мир человека Платонов свою писатель-
скую задачу видел даже не в психологиче-
ской достоверности рассказа. Его «планка»
была выше — попытаться «приблизиться к
душам погибших героев». В своих лучших
военных рассказах он сумел пройти по тон-
кой линии, на которой соприкасаются
жизнь и смерть; эту «пограничную черту»
отчетливо видят его герои, один из которых
однажды произносит: «Пошли на смерть!
Лучше ее теперь нет жизни!»
При сравнении фрагментов из писем
Платонова и написанных «поверх» них за-
рисовок из рассказов отчетливее обознача-
ется ракурс вйдения им войны.
Из письма к жене:
347
Русские писатели XX века
«Пишу о войне, а душа покоя просит. Тихая
ночь войны, проникнутая взорами людей, таких,
как я, бодрствующих в окружающем мраке, льет-
ся по земле. Невнятные звуки возникают во тьме,
около нашей землянки, а потом снова безмолвие.
Иногда во мраке светятся ракеты, висят они му-
чительно долго, освещая все зеленым, иногда си-
ним светом, но потом все-таки гаснут.
И странно тебе покажется, но мне в такие ночи
не так грустно. Мне кажется, что мой сын где-то
там, в этом сине-зеленом мраке...»
Из рассказа «Челюсть дракона (Один
бой)»:
«Тихая ночь войны, проникнутая взорами ты-
сяч бодрствующих людей, медленно лилась на
земле. Мгновенные невнятные звуки изредка воз-
никали во тьме и снова утихали в безмолвии. Вре-
мя от времени в дальнем мраке, рассеивая напря-
жение, светилась ракета, и она гасла...»
Высшее, духовное зрение в этих стро-
ках...
Однако на войне как на войне — рядом с
Платоновым гибли люди, да и сам он однаж-
ды едва не погиб. Это случилось летом 1944
года подо Львовом. Во время затишья — а
дело было на берегу реки — Платонов выз-
вал на соревнование одного солдата: «Ду-
маете, наверное, журналисты лишь с пером
и бумагой дружны? А ну, попробуем, кто
быстрее до того берега проплывет? »
Когда Платонов и его напарник доплыли
до середины реки, в воздухе показался не-
мецкий «хейнкель». Раздалось несколько
пулеметных очередей, затем последовали
взрывы. Солдат, с которым плыл Платонов,
погиб. Самому ему удалось выбраться на бе-
рег, но его тут же накрыло воздушной вол-
ной. Пролежав некоторое время без созна-
ния, засыпанный землей и песком, он оч-
нулся и стал выбираться наверх. Во время
налета погибло еще много солдат, безза-
щитных, лишенных возможности ответить
на атаку с воздуха. А Платонов не раз по-
том повторял, что лучше бы и ему самому
погибнуть в ту пору.
Два месяца спустя после контузии, в сен-
тябре 1944 года, Платонова на носилках
привезли домой. Он к тому же все силь-
нее кашляет — хотя пытается всем объяс-
нять, что это от першения в горле или от
табачного дыма; здоровье его стремительно
ухудшалось. Редакция «Красной звезды»
выхлопотала ему путевку в санаторий не-
подалеку от Москвы. Платонов упорно от-
казывался: «Война еще не кончилась, а я —
в санаторий...» Но как человек военный, он
должен был «согласно предписанию* от-
правиться на отдых. Долго спорить Плато-
нов не стал — но, как вскоре выяснилось,
не потому, что смирился с «предписанием».
Спустя две недели после «отъезда в сана-
торий* его решил навестить тогдашний ре-
дактор газеты А. Кривицкий. Многократно
пытаясь прозвониться Платонову в санато-
рий, чтобы предупредить о своем визите,
Кривицкий обнаружил, что писателя ни-
как не могут то застать на месте, то найти в
его комнате. Начинало казаться, что «ле-
жачий» Платонов разгуливает где-то по
окрестностям, возвращаясь в санаторий
только ночевать. Лечащий врач, которого
пытались задействовать в розыске Платоно-
ва, узнав, что его пациент — писатель,
лишь презрительно фыркнул и выразил
сомнение, что такой «вообще может пи-
сать». Связавшись с начальником санато-
рия, Кривицкий объяснил ему, кого и поче-
му разыскивает. Тот оказался, к счастью,
охотником до чтения: очерки Платонова в
«Красной звезде» он помнил, а их автора
пообещал немедленно найти. Спустя не-
сколько минут он «нашел» Платонова... В
санатории отдыхал двадцатисемилетний
лейтенант-артиллерист, а писатель там да-
же не появлялся.
Появился он вскоре в редакции «Крас-
ной звезды» — загорелый и веселый. Как
выяснилось, с фронта. Пока Платонова ра-
зыскивали в санатории, он отправился в
полк, в котором уже бывал раньше, — бои
шли у западной границы страны. Причем
на передовую он отправился без команди-
ровки и продовольственного аттестата.
1944 год внес и радостные перемены в
жизнь Платонова: 11 октября у него рож-
дается дочь Мария. Его рассказ «Третий
сын» — одно из самых совершенных его
произведений — переведен на английский
язык и опубликован в Лондоне (издание на-
зывалось «Советский рассказ»). А в следу-
348
Андрей Платонович Платонов
ющем году появится французское издание
военных рассказов Платонова; в Москве же
выйдет небольшой сборник «В сторону за-
ката солнца».
Война заканчивается — и Платонов сни-
мает погоны капитана. Демобилизовавшись
из армии в феврале 1946 года, он из военко-
ров возвращается снова в писатели.
ВОЗВРАЩЕНИЕ И «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
Среди военных рассказов Платонова есть
несколько рассказов о любви, и среди
них — подлинные шедевры: «Афродита» и
«Возвращение». Последний был опублико-
ван в «Новом мире* (№ 10 и 11) под перво-
начальным заглавием — «Семья Иванова».
Сюжет, как это обычно у Платонова, укла-
дывается в несколько фраз. Гвардии капи-
тан Иванов, «убыв из армии по демобилиза-
ции», возвращается домой, где его ждет же-
на с сыном и дочкой — Петрушкой и
Настей. Узнав, что жена однажды измени-
ла ему, Иванов собирает вещи и уходит из
дома. Он решает уехать от семьи. Из наби-
рающего скорость поезда он видит своих де-
тей — они, спотыкаясь и падая, бегут вдоль
рельсов, чтобы догнать отца. Иванов вы-
прыгивает из вагона — навстречу Петруш-
ке и Насте.
Рассказ вновь вызывает поток прорабо-
точной критики: на этот раз Платонова объ-
являют автором не только — как обычно —
«клеветнического* и «враждебного», но
еще и «декадентского» произведения.
Застрельщиком новой атаки на писателя
в этот раз выступил критик В. Ермилов.
Название у его статьи, опубликованной в
«Литературной газете» (4 января 1947 го-
да), было соответствующим — «Клеветни-
ческий рассказ А. Платонова». Надо заме-
тить, что ничего нового о себе Платонов там
не нашел. Набор инвективных определе-
ний — самый стандартный: «юродствую-
щий во Христе», «пошлая мораль», «пси-
хологический уродец», «уродливый, не-
чистый мирок*. Критический метод — по-
пытка найти в рассказе то, что там должно
быть — гимн «советской семье». «Нет на
свете более чистой и здоровой семьи, чем
советская семья», — пытается объяснить
Платонову и читателям «Литературной га-
зеты» Ермилов. А поскольку рассказ ока-
зался о другом — о малопонятном для кри-
тика «прикосновении к жизни обнажив-
шимся сердцем», — то автора следует
примерно наказать. К этому Ермилов и
призывает в конце статьи: «Всей писатель-
ской общественности... нужно с еще боль-
шей энергией вести борьбу...» Цитату мож-
но и не заканчивать — дальше идет обыч-
ный набор слов: «партийность»,
«идейно-творческая перестройка» и т. п.
Упомянем лишь об одной, более примеча-
тельной черте такого рода критики: Ерми-
лов был настолько озабочен глобальными
задачами («Советский народ дышит чистым
воздухом героического ударного труда...»),
что случайно понизил в звании героя рас-
сказа — капитан Иванов превратился в «не-
коего гвардии сержанта».
Увидев, что Платонова опять «бьют», не
мог остаться в стороне и Фадеев. Не прохо-
дит и месяца, как в «Правде» появляется
его статья о «Семье Иванова» — впрочем,
лексикон Фадеева опять, как и в случае с
хроникой «Впрок», явно заимствован у «то-
варищей по профессии»: «Не менее серьез-
ным идейным провалом является напечата-
ние в № 10/11 журнала «Новый мир» лжи-
вого и грязноватого рассказца А. Платонова
«Семья Иванова»... Такие и им подобные
«произведения» не только глубоко чужды
самому духу советской литературы, а это и
не литература вовсе — это выползшая на
страницы печати обывательская сплетня».
На этом травля не прекратилась. Ерми-
лова категорически не устраивало, что ни
Платонов, ни редакция «Нового мира» во
главе с недавно назначенным Константи-
ном Симоновым не стали публично «каять-
ся». 19 апреля 1947 года Ермилов снова вы-
ступает в «Литературной газете». На этот
раз со статьей «О партийности в литературе
и об ответственности критики». И снова
взывает к партийной совести главного ре-
дактора журнала: «В распоряжении редак-
ции было целых три месяца, чтобы опреде-
лить свое отношение к той критике, кото-
рой был подвергнут рассказ А. Платонова в
349
Русские писатели XX века
печати. Мы нашли в первой книжке боль-
шую статью главного редактора журнала
К. Симонова. И с удивлением мы обнару-
жили, что К. Симонов говорит в своей
статье об очень многом, но ни слова не гово-
рит о рассказе А. Платонова». Что хотел
прочитать Ермилов? Выгонять Платонова
было уже неоткуда, выговоры объявлять —
незачем... А исключить из литературы —
уже невозможно.
О том, с каким достоинством, самообла-
данием и даже иронией Платонов воспри-
нимал все, что вокруг него происходило,
замечательно рассказал Л. Гумилевский.
Литературная жизнь конца 40-х годов про-
ходила под строгим надзором «сверху»; ре-
шение о том, «быть или не быть» како-
му-либо художественному произведению,
принималось иногда самим Сталиным.
«Не напечатали «Бурю» Эренбурга. Он посы-
лал ее Сталину, и роман печатался... Не прошло
«Одиночество» у Вирты — он писал Сталину, и
роман издавали... Мариэтта Шагинян в дамской
сумочке носила всегда при себе... письмо, завер-
нутое в целлофан. О том или другом разговоре
Сталина по телефону через сутки знала литера-
турная Москва.
Платонов не обращался к Сталину.
У писателей постоянно шли разговоры о том,
кому Сталин звонил, кому написал, о ком и что
сказал и какие следствия отсюда произошли.
Без иронии относиться ко всему этому было
трудно.
Андрей Платонович столкнулся где-то в изда-
тельстве с автором «Одиночества». Вирта отвел
Платонова в сторону и с таинственной значитель-
ностью, ожидая поздравлений, прошептал ему:
— Мой роман очень понравился Иосифу Вис-
сарионовичу...
— А кто это? — с невинным видом спросил
Платонов».
Духовную независимость Платонова ува-
жали — но не прощали. Каждое новое про-
изведение Платонова критика встречала в
штыки. В 1948—1950 годах он много рабо-
тает над литературными переложениями
народных сказок: вначале выходит сборник
русских сказок «Финист — Ясный сокол»
(1948), затем — «Башкирские народные
сказки» (1949). Тут же в «Комсомольской
правде* появляется очередная разоблачи-
тельная статья, уличающая Платонова в
«космополитизме*. 6 января 1948 года га-
зета «Пионерская правда» напечатала сочи-
ненную Платоновым сказку «Две крошки»,
а уже 9 января «Правда» ответила оскорби-
тельным фельетоном И. Рябова «К вопросу
о порошинке*.
♦Две крошки» — очень добрая и мудрая
сказка о хлебной крошке и пороховой. Они
спорят, кто из них сильней и нужней. По-
роховую крошку проглотил воробей — и
сгорел, а хлебная крошка «вошла в челове-
ка, обратилась в его кровь и сама стала че-
ловеком». В сказке, понятной и маленько-
му ребенку, И. Рябов увидел декларацию
«дешевого пацифизма», а автора назвал да-
же не литератором — «беллетристом». Это
было последнее, что прочитал о себе Плато-
нов в прессе. На его последнюю книгу —
сборник русских народных сказок «Вол-
шебное кольцо» (1950) — писать рецензию,
видимо, никто не решился: на обложке бы-
ло указано, что книга издана под редакци-
ей Михаила Шолохова. Это было, пожалуй,
последнее, что Шолохов смог сделать для
Платонова — поддержать его своим име-
нем.
Платонов к тому времени был уже очень
тяжело болен. Измученный, похудевший,
сильно ослабший, он редко выходил из до-
ма. Если к нему приходили друзья, он лю-
бил посидеть с ними на Тверском бульваре
рядом с домом. Часто заходил Василий
Гроссман. У Платонова и Гроссмана была
любимая игра — «разгадывать» проходив-
ших мимо людей и сочинять про них исто-
рии. Гроссман подробно воспроизводил био-
графию и детали быта: если его герой «ока-
зывался» бухгалтером — то он уточнял: на
кондитерской фабрике, если у него «появ-
лялись» родственники, то Гроссман расска-
зывал грустную историю пьяницы отца.
Истории же Платонова почти всегда бы-
ли бессюжетны; он больше говорил о внут-
ренней жизни человека, необычной, слож-
ной — но всегда прозрачной и понятной для
Платонова.
В числе немногих «друзей» и «соседей»,
с которыми Платонов еще поддерживал от-
ношения, был конечно же и Пушкин. 1949
350
Андрей Платонович Платонов
год был годом 150-летнего его юбилея, и
Платонов написал для Центрального дет-
ского театра пьесу о великом поэте — «Уче-
ник Лицея». В Пушкине Платонову ин-
тересна не только человеческая уникаль-
ность — хотя она, конечно, прежде всего.
Но писатель видел в Пушкине своеобраз-
ный эталон, высшее развитие сил творче-
ской личности, художника вообще. В пьесе
внимание Платонова сосредоточено на том,
как происходит формирование художниче-
ского мировоззрения поэта — не случайно
поэтому он обратился именно к лицейским
годам. Формула соотнесенности личности и
творческого дара, по Платонову, такова:
«Талант, конечно, следует написать не как
чудесный дар Божий, а как страстный
труд, как форму любви к миру, преобра-
зующую его». Платонов, в сущности, вер-
нулся к тому, что утверждал в автобиогра-
фии 1922 года: «Я... понял, что все делает-
ся, а не само родится...»
Пьеса «Ученик Лицея» к постановке
принята не была. Официальное объясне-
ние — «пьеса создает искаженный образ
молодого Пушкина и его современников*.
Так к концу жизни Платонов, всем серд-
цем веривший в «общее дело» всех людей
на Земле, оказался практически в полной
изоляции. «Построенный в боях* новый
мир не пожелал согласиться с трагически-
ми прозрениями «усомнившегося» Плато-
нова, жизнью и творчеством своим доказы-
вавшего, что всеобщее не должно отменять
личного, что у каждого человека должен
быть индивидуальный путь к общему
счастью.
А. П. Платонов умер 5 января 1951 года;
похоронен на Армянском кладбище в Моск-
ве.
В. В. Агеносов, Т. В. Павловец
Михаил Александрович
Шолохов
(1905—1984)
АВТОБИОГРАФИЯ
Биография М. Шолохова давно обросла
легендами, слухами, сплетнями. Казалось
бы, чего проще: взять автобиографию писа-
теля, где он сам все о себе рассказывает, и
по ней установить основные факты его жиз-
ни. Но в том-то и дело, что единственная бо-
лее менее подробная автобиография написа-
на Шолоховым 10 марта 1934 года. В ней
писатель не только не рассказывает всего,
но сознательно уходит от любых подробнос-
тей.
Приведем ее целиком:
«Родился в 1905 году в семье служащего тор-
гового предприятия, в одном из хуторов станицы
Вешенской, бывшей Донской области.
Отец смолоду работал по найму, мать, будучи
дочерью крепостного крестьянина, оставшегося
после «раскрепощения* на помещичьей земле и
обремененного большой семьей, с двенадцати лет
пошла в услужение: служила у одной старой вдо-
вой помещицы.
Недвижимой собственности отец не имел и,
меняя профессии, менял и местожительство. Ре-
волюция 1917 года застала его на должности уп-
равляющего паровой мельницы в х. Плешакове,
Еланской станицы.
Я в то время учился в мужской гимназии в од-
ном из уездных городов Воронежской губернии. В
1918 году, когда оккупационные немецкие вой-
ска подходили к этому городу, я прервал занятия
и уехал домой. После этого продолжать учение не
мог, так как Донская область стала ареной ожес-
точенной Гражданской войны. До занятия Дон-
ской области Красной Армией жил на территории
белого казачьего правительства.
С 1920 года, то есть с момента окончательного
установления Советской власти на юге России, я,
будучи пятнадцатилетним подростком, сначала
поступил учителем по ликвидации неграмотнос-
ти среди взрослого населения, а потом пошел на
продовольственную работу и, вероятно унаследо-
вав от отца стремление к постоянной перемене
профессий, успел за шесть лет изучить изрядное
количество специальностей. Работал статисти-
ком, учителем в низшей школе, грузчиком, про-
довольственным инспектором, каменщиком, сче-
товодом, канцелярским работником, журналис-
том. Несколько месяцев, будучи безработным,
жил на скудные средства, добытые временным
трудом чернорабочего. Все время усиленно зани-
мался самообразованием.
Писать начал с 1923 года. Первые рассказы
мои напечатаны в 1924 году.
В 1926 году начал писать «Тихий Дон». Во-
семь лет я потратил на создание этого романа и
теперь, пожалуй, окончательно «нашел себя» в
профессии писателя, в этом тяжелом и радостном
творческом труде».
Здесь что ни абзац, то загадка. Вопреки
сложившейся традиции писательских био-
графий Шолохов почти ничего не говорит о
своих предках, даже о матери и отце — ску-
по, нехотя. Не менее лаконично о жизни на
территории белого казачьего правительст-
ва. Ни слова о своем месте и — тем более —
участии в Гражданской войне. Непонятно,
что значит «продовольственная работа».
Остается гадать, где и как проходили труд-
ные годы молодости писателя.
Единственное, что можно понять из этой
по-мужицки хитро составленной автобиог-
рафии, что ее автору важно «вписаться» в
типичную биографию «простого, рабочего»
паренька из народа, ставшего советским
писателем. В начале 30-х годов, когда мо-
лодого создателя «Тихого Дона» упрекали в
352
Михаил Александрович Шолохов
идеализации казачества, «делали* едва ли
не пособником белого движения, «отлуча-
ли» от советской литературы, только подоб-
ной ссылкой на свое «пролетарское проис-
хождение* и можно было отбиваться от
«неистовых ревнителей* классового харак-
тера советской литературы.
Со временем, когда талант Шолохова бу-
дет признан во всем мире, те же самые «не-
истовые ревнители» социалистического ре-
ализма сочтут эту автобиографию свиде-
тельством того, что дала Октябрьская
революция крестьянскому парнишке. Они
расцветят ее многочисленными легендами
(некоторые из которых им лукаво «подбро-
сит» и сам писатель), призванными пока-
зать кровную связь Шолохова с революци-
ей, с партией большевиков. И пойдут коче-
вать по разным изданиям легенды о
неутомимом чоновце, победившем самого
батьку Махно; о комсомольце-продразвер-
стчике, гонявшемся по степям за кулацки-
ми бандами.
Лишь в 90-е годы усилиями ряда иссле-
дователей, среди которых особо можно на-
звать ростовского историка Г. Сивоволова,
писателя и критика В. Осипова и журна-
листа Л. Колодного, удастся доказать, что
жизнь М. Шолохова не укладывается в сте-
реотип, что она так же незаурядна и драма-
тична, как и судьбы его героев.
Шолохову всю жизнь приходилось ис-
кать пути, как, не изменяя своим принци-
пиальным убеждениям, оставаться в гра-
ницах советской литературы. Видимая
близость коммунистических постулатов на-
родным идеалам соборной жизни (толстов-
ским принципам «жизни миром») делала
писателя активным сторонником стро-
ительства социализма и коммунизма. Но
реальная практика этого строительства
приводила к желанию исправить ошибки,
воздействовать на мир своим писательским
словом, а порой и к сомнению в возможнос-
ти такого воздействия. «Ум ищет божества,
а сердце не находит». Эти пушкинские сло-
ва применимы не только к М. Шолохову, но
и к А. Фадееву, и к А. Твардовскому, за-
ставлявшим себя верить в правоту партий-
ных установок и в то же время душой про-
тестовавшим против результатов действия
этих установок.
Не внешние события, а глубокая внут-
ренняя драма составляет подлинную био-
графию Шолохова-художника.
Если принять эту мысль за аксиому, то
станут понятными слова сына писателя о
том, что воспоминания для отца оказыва-
лись «настолько неодолимыми, настолько
сильными по глубине эмоционального воз-
действия, что вольно или невольно он ста-
рался их избегать», не делился ими с близ-
кими, а назойливым журналистам «под-
брасывал» всякие невероятные истории.
Еще более определенно сказала об этом
Е. Г. Левицкая, друг и редактор Шолохова:
«За семью замками, да еще за одним дер-
жит он свое нутро».
РОД ШОЛОХОВЫХ. ДЕТСТВО ПИСАТЕЛЯ
В конце 40-х годов XIX века на Дон, в
станицу Вёшенскую приехал из города За-
райска Рязанской губернии купец 3-й гиль-
дии мещанин Михаил Михайлович Шоло-
хов — дед Михаила Александровича Шоло-
хова. Первое упоминание о нем в донских
архивах относится к 1852 году, когда он
уже успел получить билет на право торгов-
ли, поставить лавку и развернуть свое дело.
Как установил Н. Сивоволов, за 20 лет тор-
говой деятельности «Михаил Михайлович
Шолохов приумножил свой капитал и стал
купцом 2-й гильдии. Для купцов Вёшен-
ской станицы она оказалась самой высокой
ступенью гильдейства; за все времена на
Верхнем Дону ни один купец не получил
звания купца 1-й гильдии». По купеческой
линии пошли и сыновья Михаила Михай-
ловича — Александр (родился в 1865 году)
и Петр. Естественно, что родство с купцами
после Октября 1917 года существенно ос-
ложняло положение молодого писателя. И
в автобиографии купец Александр Михай-
лович превратился в «служащего торгового
предприятия».
Не все гладко сложилось у Михаила
Александровича и с материнской линией.
Его мать Анастасия Даниловна Черникова
действительно была дочерью крепостного
12 Зи. 148
353
Русские писатели XX века
крестьянина и «с двенадцати лет пошла в
услужение»: была горничной у Анны Заха-
ровны Поповой, вдовы войскового старши-
ны Евграфа Ивановича Попова.
Здесь, в имении Поповых, в Ясеновке, и
зародилась любовь молодого купца Алек-
сандра Шолохова и донской красавицы
Насти Черниковой. Господа доброжела-
тельно смотрели на отлучки своей горнич-
ной и ее встречи с принятым в доме По-
повых Александром. На первых порах не
возражали и Шолоховы: считали это вре-
менным увлечением. Однако как только
речь зашла о свадьбе, последовал катего-
рический отказ: бесприданница — не пара
купеческому сыну. Между тем события раз-
вивались драматически: девушка забереме-
нела. Назревал скандал, единственным раз-
решением которого в те времена могло быть
«покрытие греха» Насти срочным заму-
жеством. Обеспокоенная Анна Захаровна
находит жениха: пожилого вдового казака
(атаманца) Александра Кузнецова. В числе
аргументов не только богатство атаманца и
перспектива его скорого ухода в мир иной,
но и получение будущим ребенком приви-
легий казачества. Уговоры, в которых при-
нимала участие и мать девушки, возымели
результат: Настя Черникова стала Кузнецо-
вой.
11 (24) мая 1905 года у нее родился сын
Михаил, которому по закону на пятом году
жизни полагался надел земли и прочие ка-
зачьи привилегии. Вскоре после рождения
ребенка Александр Шолохов увозит Настю
к себе в хутор Кружилин в качестве эко-
номки. На долю ребенка выпадает сложная
жизнь незаконнорожденного «нагульного»
сына — «нахаленка». Через 5 лет, в 1910
году, Шолохов, а с ним и Настя с Михаилом
переехали в хутор Каргин. В 1911 году
мальчику нанимают домашнего учителя.
В 1912 году он пошел в первый класс Кар-
гинского церковно-приходского училища
станицы Вёшенской. Учеба давалась ему
легко, но забытое на время прозвище «на-
халенок» вновь омрачало жизнь мальчиш-
ки. В семь лет трудно понять, почему с то-
бой не дружат казачата, почему любящие
друг друга родители не могут повенчаться.
Атаманец Кузнецов умер в 1912 году. А
в следующем году в метрической книге По-
кровской церкви хутора Каргина появилась
запись:
«29 июля 1913 года мещанин Рязанской гу-
бернии, города Зарайска Александр Михайлович
Шолохов, православного исповедания, первым
браком, 48 лет; Еланской станицы Невеста (хуто-
ра Каргина), вдова казака Анастасия Даниловна
Кузнецова, православного исповедания, вторым
браком, 42 лет...
Совершил таинство священник Емельян Бори-
сов и псаломщик Яков Проторчин».
Видимо, через полгода после этого собы-
тия произошло формальное усыновление
Михаила. При этом мальчик терял все пра-
ва казака, становился мещанином («иного-
родним»).
Внезапно обнаружившаяся у ребенка бо-
лезнь глаз заставила Александра Шолохова
повезти сына на лечение в Москву, в извест-
ную больницу доктора Снегирева (в «Тихом
Доне» именно в эту больницу попадает Гри-
горий Мелехов). Врачи успокоили родите-
ля: заболевание возрастное и со временем
пройдет. Тем не менее обследование и лече-
ние длилось почти год, и весь этот год маль-
чик жил на Плющихе и учился в москов-
ской частной гимназии Г. Шелапутина. Че-
рез год Александр Михайлович перевел
сына в мужскую гимназию города Богучар
Воронежской губернии. Последний в своей
жизни четвертый класс гимназии будущий
писатель закончил в Вешках в канун рево-
люции.
Михаил Шолохов был свидетелем траги-
ческих событий Гражданской войны на До-
ну. Он воочию наблюдал, как накатывались
на Вёшенскую то красные, то белые. Он ви-
дел, как встречали колокольным звоном
казачьего генерала Секретева, пережил об-
стрел красными Вёшенской, конвоирова-
ние казаками пленных красноармейцев,
прилет аэропланов из Новочеркасска, был
свидетелем Вёшенского восстания. Все эти
события отложились в памяти будущего
писателя и преображенными его талантом
вошли в дальнейшем в роман «Тихий Дон».
354
Михаил Александрович Шолохов
Другое дело, что не следует преувеличи-
вать непосредственную роль четырнадцати-
летнего паренька в тех событиях, слишком
буквально воспринимая позднейшие воспо-
минания Шолохова. Например:
«Мне помнится, как во время Гражданской
войны, когда мне было четырнадцать лет, в нашу
станицу ворвались белые казаки. Они искали ме-
ня, как большевика. «Я не знаю, где сын», —
твердила мать. Тогда казак, привстав на стреме-
нах, с силой ударил ее плетью по спине. Она за-
стонала, но все повторяла, падая: «Ничего не
знаю, сыночек, ничего не знаю...»
Г. Сивоволов провел тщательное иссле-
дование этого эпизода второй половины
1919 года и установил, что речь идет от-
нюдь не о принадлежности четырнадцати -
летнего мальчишки к революционной пар-
тии, а о попытке его отца спрятать сына от
проводимой станичным атаманом есаулом
Федором Дмитриевичем Лиховидовым мо-
билизации на Филоновский фронт. Атаман
ставил в строй старых и молодых, здоровых
и калек, казаков и иногородних, а всех, кто
уклонялся от призыва, называл большеви-
ками и грозился покарать.
В первых числах января 1920 года в ста-
нице Каргинской установилась советская
власть.
ЮНОСТЬ
Михаила Шолохова захватила идея стро-
ительства новой жизни. В той острой борь-
бе, что шла между новым и старым, когда
отец шел на сына, а брат на брата, молодой
Шолохов безоговорочно занимает револю-
ционную позицию.
Начиная с 1920 года вечерами его можно
видеть в открытом в поповском доме ком-
мунистическом клубе на собраниях, полит-
занятиях и диспутах каргинской молоде-
жи. Вначале в них принимали участие
преимущественно комсомольцы из числа
мещан. Но постепенно к ним присоеди-
нились и молодые казаки и казачки. В
некоторых источниках можно найти ут-
верждение, что Шолохов был если не руко-
водителем, то душой комсомольской орга-
низации. На самом деле комсомольцем он
не был и — более того — в комсомол заявле-
ние не подавал: знал, что его бы не приня-
ли. Согласно инструкции «О регулирова-
нии роста комсомола» он относился к числу
детей эксплуататоров.
Наиболее ярко талант молодого Шолохо-
ва проявился в драмкружке. Ставили во-
девили А. П. Чехова, переделанного «под
современность», «Недоросля» Д. И. Фонви-
зина, пьесы-агитки самого Шолохова «Ден-
щик и генерал», «Генерал Галифе», «Вени-
ки зеленые*. Как установил Г. Сивоволов,
«это были пьесы на злобу дня, осмеиваю-
щие невежество, бескультурье, находчи-
вость одного и глупость другого, мудрость
бедных, тупость и жадность богатых. Осме-
ивались Митрофанушки, недоросли, воспе-
вались победа красных над белыми, торже-
ство грядущей светлой жизни. В сочинен-
ных Шолоховым пьесах, несомненно, было
много вымышленного, но зрители прини-
мали их как отражение собственной жизни,
встречали дружными аплодисментами,
криками одобрения... Если на сцене пока-
зывали кулака или буржуя, то обязательно
в черном жилете, с огромным животом и
широкой, как просяной веник, бородой...
Спектакль заканчивался тем, что кулак
становился на четвереньки, на него в рва-
ной одежде садился бедняк и, торжествуя,
покидал сцену. Наверху, как правило, си-
дел Шолохов».
Как относились родители Михаила к это-
му увлечению сына, неизвестно; возможно,
что гиперболизированные столкновения от-
цов и детей в будущих «Донских рас-
сказах» имели некоторую если не автобио-
графическую (чтобы пробудить фантазию,
хватало фактов вокруг), то отчасти «автоп-
сихологическую» основу. Сам Михаил по-
началу, хотя бы внешне, стал на сторону
тех, кто уже победил в Гражданской войне
и таким образом принес пусть относитель-
ный, но мир. В его пьесах в гиперболизиро-
ванно-карикатурном виде изображались бо-
гачи, мироеды, священнослужители. Зри-
тели узнавали в тех или иных персонажах
своих земляков, в нехитрых сюжетах — от-
ражение событий хуторской жизни.
355
Русские писатели XX века
Пройдет несколько лет, и молодой писа-
тель, в первых своих рассказах строго сле-
довавший тому же, чему и в пьесах, прин-
ципу разделения на «своих» и «чужих», на
белых и красных, откажется от двухполюс-
ного изображения и увидит в красноармей-
ском командире душевную усталость от
пролитой им крови («Родинка»), а в носите-
ле старых традиций деде Гавриле душу жи-
ву («Чужая кровь*).
В течение двух лет перепробовав множе-
ство специальностей — от учителя началь-
ной школы, журналиста и «сценариста» до
чоновца и продразверстчика, Шолохов про-
должает учится сам, и эти «университеты»
окажутся не менее, а может быть, и более
важными для будущего писателя. Эти годы
стали временем «накопления» не просто
личного опыта, но «усвоения экстерном»
опыта поколений. И потому каждая новая
встреча, каждое знакомство этих лет —
знаменательны. Будь то старый казак Яков
Алексеевич Дударев — образец веками
взращиваемого умелого хозяина, каза-
ка-земледельца, по-мужицки хитрого и
стойкого в любом несчастье; или секретарь
каргинской ячейки РКСМ Александр Поку-
саев, одержимый ненавистью к богатым, к
числу которых причислял и вдов с малолет-
ними детьми. Обстоятельные беседы с пер-
вым позднее дадут материал для повести
«Батраки». Неприятие второго вдохновит
на написание фельетона «Испытание», в
котором «политическая зрелость* секрета-
ря будет доказана дракой.
Тем временем (лето 1921 года) отец Шо-
лохова назначается руководителем каргин-
ской Заготконторы, помощником делопро-
изводителя становится его брат Петр Ми-
хайлович. Работа эта таила в себе немалый
риск: на Дону орудовали банды, убивавшие
заготовителей. Для борьбы с ними создают-
ся боевые дружины. Действует такая дру-
жина и в Каргине. Дружинники дежурили
на колокольне. Выстрелами в воздух и уда-
рами в колокол они предупреждали о появ-
лении бандитов. По сигналу собиралась вся
дружина и держала оборону. Михаил Шо-
лохов дружинником не был (туда принима-
ли только комсомольцев), винтовки не
имел, но и безоружным принимал участие в
дежурстве на колокольне. А если налетчи-
кам удавалось на какое-то время захватить
хутор, вместе с друзьями-комсомольцами
скрывался в камышах или в терновниках.
Ему «приходилось бывать в разных пере-
плетах». Однажды Михаил (видимо, по по-
ручению отца) поехал в дальнее село Топ-
кая Балка, где в это время пьянствовали
бандиты. Знавшие парня женщины успели
крикнуть ему: «Миша, в хуторе банда!»
Шолохов повернул лошадей и умчался —
бандиты не обратили на него внимания. В
другой раз он прятался от вооруженных
людей в кадушке, где на зиму засаливали
арбузы или капусту...
Упорное нежелание Михаила Александ-
ровича Шолохова впоследствии вспоминать
подробности тех лет и своеобразная их ин-
терпретация в единственной автобиогра-
фии, как уже говорилось, породили массу
слухов и легенд, которые благодаря кропот-
ливым изысканиям шолоховедов сегодня
хотя бы частично удалось расшифровать.
Итак, Шолохов не был ни комсомольцем,
ни большевиком (в узко партийном пони-
мании этого слова), ни тем более чоновцем
(ни по возрасту, ни по происхождению — не
подходит). Документально подтверждает-
ся, что в мае 1922 года Шолохов закончил
краткосрочные курсы продовольственной
инспектуры в Ростове и был направлен в
станицу Букановскую. «Я работал в жест-
кие годы, 1921—1922 годах, на продраз-
верстке. Я вел крутую линию, да и время
было крутое; шибко я комиссарил, был су-
дим ревтрибуналом за превышение влас-
ти...» — хитро, в духе «высокой диплома-
тии» составлена эта фраза. «Жесткие го-
ды», «шибко комиссарил» и «превышение
власти» в данном контексте можно пони-
мать как угодно, учитывая время и место,
легко представить молодого «перегибщи-
ка*. Однако действия Шолохова по сбору
налога в чрезвычайной обстановке были ис-
толкованы вышестоящими как «попусти-
тельство», то есть судили его за... уменьше-
ние натурналога (а то и освобождение от не-
го) многодетных семей, что влияло на
показатели сбора в целом. Материалы дела
356
Михаил Александрович Шолохов
не сохранились, поэтому сведения о суро-
вом приговоре — расстрел — и двухднев-
ном ожидании его исполнения, вполне воз-
можно, так же преувеличены, как и «ко-
миссарство». По крайней мере, в анкете
личного дела полковника Михаила Алек-
сандровича Шолохова сказано следующее:
«В 1922 году был осужден, будучи продко-
миссаром, за превышение власти на год ус-
ловно». Так или иначе, но этим событием
закрывается страница боевой юности буду-
щего писателя.
Осенью 1922 года Шолохов уезжает в
Москву. Был ли это шаг молодого человека,
наконец осознавшего себя писателем, или
жажда новых впечатлений и стремление
пытливого ума, тяга к знаниям — до конца
неизвестно. Ясно лишь одно, что о литера-
туре (или литературной карьере) Михаил'
Шолохов в то время мог только мечтать, а
переезд в Москву был его личной инициати-
вой, потому что комсомольской путевки у
него быть не могло (как мы знаем, комсо-
мольцем он не был).
Москва начала 20-х годов — город, жи-
вущий по законам новой экономической по-
литики (нэп), странный конгломерат безра-
ботицы, голода и... новых частных рестора-
нов, магазинов, казино. Город контрастов,
как принято теперь говорить. Население
столь же неоднородно, как и экономическое
развитие: с одной стороны — комсомольцы,
активисты, фронтовики в потертых шине-
лях, бушлатах, гимнастерках, с другой —
напомаженные господа из частного секто-
ра, дамы в дорогих шубах. Шолохов же
оказывается в нэповской Москве в положе-
нии безработного.
Зарегистрировавшись на бирже труда,
он несколько месяцев перебивается как
чернорабочий и только осенью 1923 года
устраивается служащим в жилуправление.
С этого времени Шолохов начинает посе-
щать литературные вечера и семинары
группы «Молодая гвардия* на Покровке.
В группу входили молодые литераторы,
прибывшие в Москву из разных концов
страны. Среди них А. Веселый, Ю. Либе-
динский, М. Светлов, Г. Шубин, М. Коло-
сов, В. Кудашев. Жили все в общежитии.
Днем — работа в разных местах, а вечера-
ми — литературная учеба. В 1922 году по
решению XI съезда РКП(б) были созданы
журнал «Молодая гвардия» и газеты «Мо-
лодой ленинец» и «Юношеская правда».
Первые литературные опыты Михаила
Шолохова вряд ли имели какое-то само-
стоятельное значение: фельетон «Три», на-
печатанный в газете «Юношеская правда»,
посвященный рабфаку имени Покровского,
написан на основе увиденного и пережитого
в Москве. Герои его — скромные молодые
люди, вчерашние рабочие, красноармейцы,
крестьяне, которые жадно стремятся к зна-
ниям, подчас отказывая себе во всем. Зна-
менателен этот фельетон (он, как и все рас-
сказы периода «ученичества», не будет
включен писателем ни в одно собрание со-
чинений) для нас именно тем, что является
примером авторской работы над материа-
лом, обязательно пережитым. Писать о
том, что знаешь наверняка, следуя правде
жизни, станет основным принципом Миха-
ила Шолохова. С другой стороны, первые
же литературные опыты свидетельствуют о
несомненной одаренности начинающего пи-
сателя.
И тем не менее первый рассказ (не фелье-
тон) Шолохова потерпел неудачу: послан-
ный в редакцию газеты «Молодой ленинец»
в 1924 году, он был отвергнут, но напечата-
на рецензия (практика тех лет).
«Твой рассказ написан сочным, образным язы-
ком. Тема его очень благодарна, но это еще не
рассказ, а только очерк. Не спеши. Поработай над
ним, очень стоит. Введи в него больше действия,
больше живых людей и не слишком перегружай
образами: надо их уравновесить, чтобы один об-
раз не заслонял другой, а ярче выделялся на фоне
другого. Работай терпеливее, упорнее».
Из приведенного отзыва явствует, что
причины, по которым был отведен рассказ,
чисто литературные. Однако В. Осипов,
один из исследователей и биографов Шоло-
хова, приводит найденную в архиве запись
Дм. Фурманова: «Слабый рассказ Минаева
был принят из целей тактических... Хоро-
ший рассказ Шолохова из Гражданской
войны был отвергнут: «Нам этот материал
357
Русские писатели XX века
надоел*. Следовать официальной версии
или архивной — в данном случае вопрос не
принципиальный, потому что результат от-
каза был оглушающим: Шолохов уезжает
на Дон... чтобы вновь много и трудно рабо-
тать над словом. И уже в декабре того же
года все в том же «Молодом ленинце» был
напечатан первый рассказ Михаила Шоло-
хова «Родинка», которым по праву откры-
вается творческая биография писателя.
Одновременно Михаил Александрович
решает и другую жизненно важную пробле-
му — он женится. Отец невесты — бывший
станичный атаман Петр Громославский —
не желал отдавать свою дочь за «голытьбу».
Однако дочь, Мария Громославская, оказа-
лась не менее упряма в своем желании вый-
ти замуж, чем будущий супруг или отец, и
настояла на своем. За свое упрямство в при-
даное она получила один узелок, а жить мо-
лодым пришлось не в просторном курене
Громославского, а на съемной квартире
кузнеца Долгова.
Несмотря на бытовое неустройство, на
откровенное недоверие новых родственни-
ков, под стук молота о наковальню за сте-
ной Шолохов упорно работает. Писал чем
придется — карандашом, самодельными
чернилами из бузины. Из-под пера молодо-
го писателя выходят рассказ за рассказом о
виденном и пережитом за годы революции
и Гражданской войны. За сравнительно
короткий срок им будет написано не-
сколько рассказов, среди них «Двухмуж-
няя», «Продкомиссар», «Родинка», «Бах-
чевник» и др.; повести «Батраки» и «Лазо-
ревая степь». Весной 1924 года Михаил с
женой снова отправляется в Москву. Дни
уходят на работу и беготню по издательст-
вам, ночи на написание новых рассказов и
редактирование уже написанного. Однако
напечатают только два рассказа («Родин-
ка» и «Продкомиссар»), что, конечно, при-
дает сил, но особо не радует.
Шолоховы возвращаются на Дон и вско-
ре переезжают к родителям Михаила Алек-
сандровича в станицу Каргинскую. Живут
бедно; отец болен, мать обеспокоена за
судьбу сына — непонятное занятие, отни-
мающее все его время: как прежде тесть,
так теперь и она не признает литературный
труд за работу, способную обеспечить
семью. Однако следующий год приносит
славу и достойную награду за упорный
труд. Шолохова начинают печатать в таких
известных московских журналах, как
«Прожектор», «Смена», «Огонек». Нако-
нец-то творчество молодого донского писа-
теля получает высокую оценку критики.
Выходят отдельными изданиями расска-
зы, собранные впоследствии в два сборника
«Донские рассказы» и «Лазоревая степь».
Первый же сборник, опубликованный изда-
тельством «Новая Москва», Шолохов посы-
лает А. Серафимовичу с просьбой дать свой
отзыв. Мнение знаменитого земляка, «стар-
шого», особенно важно для молодого начи-
нающего писателя, работающего вдали от
литературных центров, всю жизнь зани-
мающегося самообразованием, которое
вряд ли способно заменить полноценное
живое общение с преподавателем. Отзыв ав-
тора «Железного потока» был более чем
одобрительным: «Просто, ярко, и рассказы-
ваемое чувствуешь — перед глазами стоит.
Образный язык, тот цветной язык, кото-
рым говорит казачество. Сжато, и эта сжа-
тость полна жизни, напряжения, правды...
Все говорит за то, что т. Шолохов развер-
нется в ценного писателя». Следующий
сборник рассказов Михаила Шолохова вый-
дет уже с предисловием этого признанного
писателя. Такая поддержка сыграла нема-
ловажную роль в творческой биографии
Шолохова, не избалованного прежде вни-
манием мастеров пера.
«ДОНСКИЕ РАССКАЗЫ»
«...Безусловно, «Донские рассказы» были про-
бой пера, пробой литературных сил... нельзя ви-
деть предысторию там, где ее нет... Кто-то из ли-
тературоведов вывел сюжетную линию «Тихого
Дона» из рассказов «Кривая стежка», «Двухмуж-
няя*, «Лазоревая степь», потом снова «Двухмуж-
няя* и снова «Кривая стежка». Это окрошка ка-
кая-то получается, а не творчество! Если бы я так
писал «Тихий Дон», с помощью ножниц и клея,
то дальше «Кривой стежки» — одного из слабей-
ших моих рассказов — я бы так и не пошел*
(М. Шолохов).
358
Михаил Александрович Шолохов
Слова эти выделены не случайно: в них
раскрывается проблема специфики истории
существования первой книги писателя.
Долгое время в русском литературоведении
рассматривалась она и изучалась лишь с
точки зрения «предыстории, предтечи» ро-
мана. «Тихий Дон» довлел над «Донскими
рассказами»: мотивы, сюжеты, язык, обра-
зы — все с позиции последующего их рас-
крытия и углубления в эпопее. В ней нахо-
дили «генетический код* романа, «полный
конспект всего творчества»... Все это было
несказанно интересно с точки зрения ли-
тературоведения, но однозначно перечер-
кивало собственное достоинство ранних
рассказов как «творческой лаборатории»,
необходимой любому начинающему писа-
телю. У которого, если перефразировать
знаменитое высказывание одного критика,
ошибки — общие для неопытного пера, а
достоинства — индивидуальные, показа-
тельные для раскрытия будущего таланта.
Так, если оторваться наконец от глобаль-
ных обобщений-сопоставлений, можно вы-
делить основные черты (а не «конспект»),
присущие в той же степени ранним, как и
более поздним произведениям с «неповто-
римым шолоховским очарованием».
Прежде всего это явное предпочтение
Шолоховым жизненного правдоподобия пе-
ред вымыслом и фантазией. Дилемма, стоя-
щая перед художником на протяжении ве-
ков, Шолоховым решена однозначно, с пер-
вых шагов (вспомним хотя бы фельетон
«Три»). В «Донских рассказах» она будет
закреплена и сформулирована окончатель-
но. Не случайно именно в предисловии к
одному из изданий этого сборника прозву-
чит первое и единственное гневливое заме-
чание Михаила Шолохова по поводу «лите-
ратурной демагогии» некоторых молодых
писателей:
«В Москве на Воздвиженке в Пролеткульте на
литературном вечере МАППа можно совершенно
неожиданно узнать о том, что степной ковыль (и
не просто ковыль, а «седой ковыль») имеет свой
особый запах. Помимо этого, можно услышать о
том, как в степях донских и кубанских умирали,
захлебываясь напыщенными словами, красные
бойцы.
Какой-нибудь, не нюхавший пороха, писатель
очень трогательно рассказывает о Гражданской
войне, красноармейцах, — непременно — «бра-
тишках», о пахучем седом ковыле, а потрясенная
аудитория, преимущественно — милые девушки
из школ второй ступени, щедро вознаграждают
читающего восторженными аплодисментами.
На самом деле ковыль — поганая белобрысая
трава. Вредная трава, без всякого запаха. По ней
не гоняют гурты овец потому, что овцы гибнут от
ковыльных остей, проникающих под кожу. По-
росшие подорожником и лебедой окопы (их мож-
но видеть на прогоне за каждой станицей), молча-
ливые свидетели недавних боев, могли бы порас-
сказать о том, как безобразно просто умирали в
них люди...»
Вступление это, видимо, написанное сго-
ряча, будет впоследствии снято, но именно
оно — одно из главных свидетельств выбора
молодого писателя в пользу принципиаль-
но реалистического отображения действи-
тельности. «Донские рассказы» оказывают-
ся настолько достоверными, что сквозь
них, как сквозь прозрачное увеличительное
стекло, просматривается вся жизненная
история молодого Шолохова. В «Нахален-
ке» — впечатления детства; революция,
Гражданская война, разбой, особенно жес-
токий и долгий на Дону, где свирепствовал
Махно, — в повести «Путь-дороженька».
Именно здесь рассказом юного Петьки
Кремнева будет слово за словом восстанов-
лен эпизод пленения и сказочно неожидан-
ного освобождения пятнадцатилетнего Ми-
хаила Шолохова из рук батьки Махно. Пе-
режитый ужас, о котором ни словом не
обмолвится подростком, писатель воплотит
в повествовании, однозначно лишающем
лихих махновцев литературно-фольклорно-
го обаяния. А продкомиссарская деятель-
ность настолько впечатлила юношу, что
героями сразу нескольких рассказов ста-
нут бойцы-продотрядчики («Шибалково се-
мя*, «Прод комис с ар*, «Жеребенок*, «Чу-
жая кровь*)...
Автобиографичность первых произведе-
ний впоследствии приведет к очередной
крайности в оценке шолоховского насле-
дия: художественные рассказы введут в
ранг документальной летописи, И. Лежнев
назовет их «хрониками» периода Граждан-
359
Русские писатели XX века
ской войны на Дону. Однако у талантливо-
го писателя правдоподобие никогда не ста-
нет фотографическим отпечатком жизни.
Пример тому — полемическая лихорадка
вокруг первого же цикла рассказов Шоло-
хова. В ее сути — второе отличие индивиду-
ального стиля писателя: неоднозначность
решения проблем, описания и раскрытия
образов, умение в частном, личном увидеть
и вывести всеохватывающее, всеобъемлю-
щее.
Уже в первой из опубликованных новелл
(«Родинка») появляется эта неоднознач-
ность, психологически осложненное реше-
ние центральной темы — темы классовой
борьбы: героический командир эскадрона
вдруг почувствует слабость от пролитой
крови, а кровожадный убийца — вожак
банды, — узнав в погибшем родного сына,
целует остывающие руки Николки и стре-
ляет себе в рот. Вдруг оказывается, что бед-
няк бедняку — рознь, и дед Захар (который
«на коленях всю жизнь полозил», а посему
должен бы быть выразителем нравственнос-
ти народной) вдруг раздевает собственных
внуков перед казнью («Нам по бедности
сгодится»), продлевая их муки («Лазоревая
степь»). Подобный психологизм в решении
«классового* вопроса оказался несколько
неожиданным для редакторов новой ли-
тературной Москвы. Отсюда достаточно
необычна судьба первого сборника — пона-
чалу отвергаемого, а потом всеми признан-
ного. Однако именно психологическая глу-
бина раскрытия сложных нравственных
проблем — признак всего творчества Шоло-
хова — ставит его произведения, с самых
первых строк, в ряд произведений класси-
ческой русской литературы.
Темы, пейзажные зарисовки, натуралис-
тические подробности казачьей жизни, об-
разы, которые, имея единичные достовер-
ные прототипы, неожиданно оказываются
носителями психологии целого народа, —
за конкретными событиями и судьбами
Шолохов увидит широкий жизненный по-
ток. По словам В. Литвинова, уже в «Дон-
ских рассказах» М. Шолохов «писал жизнь
народа».
Все это — достоинства молодого таланта,
которые проявляются у одного на тысячу.
К недостаткам же первого сборника рас-
сказов относят стилистическую их нерав-
номерность. Хотя именно выбор манеры
написания (из-за которого и пострадала
стилистика) свидетельствует о сложной
♦ученической» работе юного автора по по-
иску сугубо «своего инструментария*.
Здесь и ирония («О Донпродкоме и злоклю-
чениях заместителя Донпродкомиссара
товарища Птицына») — позднее она пона-
добится при создании некоторых образов
(дед Щукарь), но не окажется определя-
ющей; и сказовая манера, получившая ши-
рокое распространение именно в годы рево-
люции с появлением нового героя — выход-
ца из народа, — также частично останется
(«Судьба человека»); и очень модная среди
современников-писателей метельная, орна-
ментальная проза («Коловерть»; «Хорун-
жий. Погоны новенькие. Пробритый рядок
негустых волос. Свой: плоть от плоти, а
стесняется Пахомыч, как чужого»). Каж-
дый по отдельности из приведенных выше
стилей не мог отвечать поставленной перед
писателем-«летописцем» задаче «всеохва-
та» жизненных реалий, масштабности ре-
шаемых проблем (даже в малом литератур-
ном жанре — рассказе). У многих писате-
лей на выбор стиля, пробы и ошибки
уходят годы, Шолохов же как будто торо-
пит жизнь, перемалывая в одном-двух рас-
сказах, отметая и выбирая свое, то, что
впоследствии будет названо «неповторимо
шолоховским стилем».
Отдавая дань романтическим сюжетам
Гражданской войны (смертельная нена-
висть отца-белогвардейца и сына — красно-
го командира в рассказе «Родинка»; любя-
щие друг друга муж и жена, оказавшиеся в
разных лагерях, в рассказе «Шибалково се-
мя»; гибель лошади в рассказе «Жеребе-
нок»)-, писатель в этих лучших своих произ-
ведениях одновременно показывал бесчело-
вечность Гражданской войны, осуждал
убийство, прославлял народные (общечело-
веческие) ценности.
Уже в первых рассказах проявился инте-
рес писателя к фигурам трагическим, по-
360
Михаил Александрович Шолохов
павшим в жернова истории (^Семейный че-
ловек* и «Обида»).
Шолохов воспринимает XX век как наи-
более трагический в истории человечества.
Литературоведами подсчитано, что из
20 рассказов, включенных писателем в дон-
ской цикл, в десяти герой погибает, в пя-
ти подвергается пыткам или ранен, в четы-
рех — должен убить близких. Вместе с тем
у читателя не возникает ощущения бес-
смысленности бытия. Для всех произведе-
ний Шолохова характерна вера в бессмер-
тие и торжество жизни.
***
Александр Михайлович Шолохов, уже
тяжело больной, успел перед смертью пора-
доваться успехам сына, подержать в руках
его книгу с предисловием А. Серафимови-
ча... Похороны отца, который умер глубо-
кой осенью 1925 года, были бедные, ску-
пые, тихие. Его похоронили в глубине быв-
шего приходского кладбища, а через два
года небольшой могильный холмик прова-
лился, зарос травой. Вспомнят о могиле
Александра Михайловича лишь во время
празднования 70-летнего юбилея его сына,
поставят обелиск через 50 лет после смерти.
Что до народного внимания — понятно:
безличная масса не обязана помнить, но
невнимание сына, основным мотивом твор-
чества которого вопреки «партийным лини-
ям» всегда оставалось родовое самосозна-
ние человека, а семья утверждалась как
превеликая ценность, — не понятно. Не-
ужели последующие годы ужаса, террора
и... славы («кнута и пряника») могли так
его изменить? Вряд ли мы услышим ответ.
Факт же остается фактом.
Похоронив отца, Михаил Шолохов пол-
ностью отдает себя выбранной профессии
писателя. 1925 год, отмеченный прежде
всего первым признанием, первым гонора-
ром, встречей с А. Серафимовичем, запом-
нившейся на всю жизнь, завершается так-
же знаменательно: Шолохов приступает к
работе над романом. Решение более чем са-
монадеянное: небольшой опыт в написании
рассказов и повестей (жанров не столь
масштабных), хорошее знание материала и
необыкновенное трудолюбие и усердие,
проявленные ранее, наверное, уверенность
в правильности выбранной темы (критерии
этого: жизненная необходимость, обосно-
ванность и правдивость) и стиля, ей отве-
чающего, — вот все, что было в багаже со-
всем молодого — двадцатилетнего — писа-
теля.
«ТИХИЙ ДОН»
«Начал писать роман в 1925 году. Причем пер-
воначально я не мыслил так широко его развер-
нуть. Привлекала задача показать казачество в
революции. Начал с участия казачества в походе
Корнилова на Петроград... Написал 5—6 печат-
ных листов. Когда написал, почувствовал: что-то
не то...»
Шолохова захватила идея создать эпос
народной жизни на переломном этапе кон-
ца XIX — первой трети XX века. Роман
«Тихий Дон» принес автору мировую славу
и... множество огорчений.
Задумывалась книга как вполне тради-
ционное для советской литературы повест-
вование о жестокой борьбе за победу совет-
ской власти на Дону осенью 1917 — весной
1918 года. Нечто подобное уже было в
«Донских рассказах», составивших первую
книгу писателя.
Однако вскоре М. Шолохов отказался от
первоначального замысла. Произошло это
вследствие все той же писательской правди-
вости: Шолохов почувствовал, что объяс-
нить казачье восстание, не раскрыв своеоб-
разия этого народа, невозможно. Вот поче-
му весь первый том его романа о другом: о
жизни и быте донских казаков.
Первые книги романа были подвергнуты
оглушительной критике неистовых ревни-
телей «классовой чистоты литературы»:
писателя обвиняли в идеализации патриар-
хальной деревни, в отходе от классовой не-
примиримости к казачеству, значительная
часть которого не поддержала большевист-
скую революцию. Публикация третьей
книги, в которой повествовалось о спрово-
цированном большевиками казачьем Ве-
шенском восстании, была задержана, что
361
Русские писатели XX века
породило версию о творческой несосто-
ятельности автора, якобы укравшего две
первые книги у некоего другого писателя.
Вот как вспоминает об этом Е. Н. Левиц-
кая — в то время библиограф издательства
МК ВКП(б), впоследствии один из верных
друзей писателя (именно ей Шолохов по-
святит рассказ «Судьба человека»):
«Боже мой, какая поднялась вакханалия кле-
веты и измышлений по поводу «Тихого Дона* и
по адресу автора! С серьезными лицами, таинст-
венно понижая голос, люди как будто бы вполне
«приличные» — писатели, критики, не говоря уж
об обывательской публике, передавали «достовер-
ные» истории: Шолохов, мол, украл рукопись у
какого-то белого офицера — мать офицера, по од-
ной версии, приходила в газ. «Правда» или ЦК,
или в РАПП и просила защиты прав ее сына, на-
писавшего такую замечательную книгу... Бедный
автор, которому в 1928 г. едва исполнилось
23 года! Сколько нужно было мужества, сколько
уверенности в своей силе и в своем писательском
таланте, чтобы стойко переносить все пошлости,
все ехидные советы и «дружеские» указания
«маститых* писателей».
Но хотя с опровержением этой сплетни
выступил не только поддерживающий Шо-
лохова А. Серафимович, но и недолюбливав-
шие его Л. Авербах, В. Киршон, А. Фадеев и
В. Ставский, версия о плагиате преследова-
ла писателя всю его жизнь, отправляя его
существование.
И все же наиболее драматичной оказа-
лась судьба третьей книги романа. В 1929
году в журнале «Октябрь» (№ 1—3) печата-
ются первые двенадцать глав, после чего
публикация романа вдруг обрывается — без
всякого объяснения со стороны редакции; в
1930—1931 годах появляются лишь от-
дельные отрывки из третьей книги, и толь-
ко в 1932 году, то есть три года спустя, «Ок-
тябрь» возобновляет публикацию романа,
предварительно подвергнув его жесточай-
шей цензуре (были вырезаны главы, по
мнению редакции журнала, крамольные).
После угрозы Шолохова забрать роман со-
всем некоторые главы были допечатаны —
но в каком виде! Набранные очень мелким
шрифтом в конце майского номера журна-
ла несколько разрозненных кусков сопро-
вождались невнятным объяснением, что
все это выпало, мол, из публикации по вине
типографских рабочих, нечаянно рассыпав-
ших набор. Небывалый случай в журнали-
стской практике!
На самом же деле причиной всему были
проблемы «нелитературного свойства»...
В центре повествования третьей книги —
восстание казаков 1919 года. Оно, что было
выяснено Шолоховым, оказалось белым
пятном в истории Гражданской войны. Как
отмечал историк С. Н. Семанов, именно
Шолохов первым дал самые, точные и пол-
ные сведения об этом трагическом событии.
Здесь немаловажную роль сыграл уже при-
нятый за основу в «Донских рассказах*
принцип автобиографичности: писатель ис-
пользовал личные воспоминания о восста-
нии, в эпицентре которого в свое время ока-
зался сам. На «ошибочность» подобного
изложения истории укажет главный за-
щитник и обвинитель шолоховского рома-
на — Сталин: «...знаменитый писатель на-
шего времени тов. Шолохов допустил в сво-
ем «Тихом Доне» ряд грубейших ошибок и
прямо неверных сведений насчет Сырцова,
Подтелкова, Кривошлыкова и др., но разве
из этого следует, что «Тихий Дон» — нику-
да не годная вещь?» И тем не менее это по-
беда: зеленый свет для издания романа. Од-
нако его могло бы не быть, если б не
М. Горький. Именно к нему в отчаянии об-
ратился за помощью молодой писатель,
именно Горький устроил первую встречу
набиравшего силу прозаика и набиравшего
мощь вождя.
Горький организует эту встречу, пони-
мая, что «дело» романа зашло слишком да-
леко и уже невозможно никак иначе повли-
ять на издателей: «Она [рукопись] доставит
эмигрантскому казачеству несколько при-
ятных минут. За это наша критика обязана
доставить автору несколько неприятных
часов». Так отмечена правдивость Шолохо-
ва. В июле 1931 года в доме Максима Горь-
кого состоялась встреча Сталина и Шолохо-
ва. Многое из сказанного, видимо, надолго
запомнилось писателю. Например, катего-
ричная характеристика Корнилова: «Как
это — честен?! Он же против народа пошел!
362
Михаил Александрович Шолохов
Лес виселиц и моря крови!» — почти до-
словно войдет в диалог офицеров из неза-
конченного романа «Они сражались за Ро-
дину». Главный результат — Шолохов ус-
покоен: встреча прошла для него
благополучно. «Изображение хода событий
в третьей книге «Тихого Дона» работает на
нас, на революцию* (Сталин).
Встреча обнадежила, несмотря на то что,
как мы знаем, рукопись еще два года не бу-
дет востребована издателями. 1931 год ока-
зался заполнен всякими литературными и
нелитературными заботами. Во-первых,
Шолохов получил официальное признание
как заслуженный писатель: секретариат
РАППа утвердил его членом редколлегии
«Октября». До этого Шолохов в РАППе
«общественных нагрузок» никаких не
имел. Во-вторых, вместе с признанием и
известностью, пришедшими к писателю
значительно раньше, волей-неволей ему
приходилось много времени отдавать по-
литическим проблемам своих земляков.
К 24-летнему писателю шли за советами
«дяди», ходатаи, нередко пожилые казаки.
Шолохов вникал в проблемы коллективиза-
ции, или, как теперь принято говорить,
«раскрестьянивания», болея душой за сво-
их земляков, «мотался» по станицам, раз-
бираясь со всем на месте. Он пишет полное
горечи письмо Левицкой. Мудрая женщина
посчитала это письмо настолько важным,
что переслала (немного отредактировав:
снизив тон) копию Сталину. Так еще до
личного знакомства писателя с вождем на-
чалось заочное противостояние. Письмо
Шолохова адресовано не Сталину: «Серед-
няк уже раздавлен. Беднота голодает» (из
письма Левицкой), ответ Сталина — не Шо-
лохову: «Форсируйте вывоз хлеба вовсю.
В этом теперь гвоздь» (Сталин — Моло-
тову). Ответ этот Шолохов прочтет лишь
через 20 лет. А пока, захваченный происхо-
дящей повсеместной коллективизацией и
раскулачиванием, берется, не закончив
первый роман, за другой, поначалу назвав
его «С потом и кровью».
Как было всегда в жизни Шолохова, че-
респолосица черно-белая, пестрая: новая
радость — начинается съемка кинофильма
по «Тихому Дону». В главной роли Эмма
Цесарская (Аксинья), актриса уже извест-
ная, а с этого момента — один из близких
друзей Шолохова.
И вдруг, уже после июльской встречи с
вождем, письмо от А. Фадеева, который от
лица РАППа «советует» писателю немед-
ленно в третьей же книге сделать Григория
Мелехова «нашим» («закон художеств,
произведения требует такого конца, иначе
роман будет объективно реакционным»).
Но при этом замечает: «Ежели Григория те-
перь помирить с Сов. властью, то это будет
фальшиво и неоправданно». И в конце
письма: «Сделай его своим, иначе роман уг-
роблен*. В письме Левицкой, жалуясь на
отрицательную атмосферу вокруг романа,
вовсе не способствовавшую плодотворному
творчеству, Шолохов признается: «...Фаде-
ев предлагает мне сделать такие измене-
ния, которые для меня неприемлемы никак
<...> Я предпочту лучше совсем не печа-
тать, нежели делать это помимо своего же-
лания, в ущерб и роману и себе».
И все же судьба третьей книги решена:
«Кончил нелепо, на 6-й части, не распутав и
не развязав всех узлов... Меня очень прель-
щает мысль написать еще 4 книгу (благо из
нее у меня имеется много кусков, написан-
ных разновременно, под «настроение»), и я,
наверное, напишу-таки ее зимою...»
В полной мере планам писателя осущест-
виться не было суждено. Обстановка в стра-
не, на родной Донщине, да и вокруг самого
автора «Тихого Дона» складывалась явно
не в пользу литературной деятельности.
Кроме того, много времени отнимала обще-
ственная работа. 1933 год был отмечен
новым сталинским Законом «Об охране
имущества государственных предприятий,
колхозов и кооперации и укреплении обще-
ственной (социалистической) собственнос-
ти», более известный своим народным на-
званием — «Закон о пяти колосках». В ре-
зультате было осуждено 55 тысяч человек,
приговорено к расстрелу — 211 человек
(память об этом будет долго тревожить пи-
сателя: «Мою сноху в тридцать третьем го-
ду присудили на десять лет. Отсидела семь,
остальные скостили. Только в прошлом го-
363
Русские писатели XX века
ду вернулась. Украла в энтот голодный год
на току четыре кило пшеницы. Не с голоду
же ей с детьми подыхать?.. Вот за эти де-
сять фунтов пшеницы и пригрохали ей за
каждый фунт по году отсидки. За них и от-
работала семь лет* (из романа «Они сража-
лись за Родину»). В то же время реакция
Шолохова была потрясающая: «Я подумы-
ваю о том, как бы заблаговременно «эваку-
ироваться* (из письма Солдатову). «Район
идет к катастрофе. Что будет весной, не мо-
гу представить даже при наличии своей пи-
сательской фантазии. Писать бросил — не
до этого», — сообщает он секретарю Вёшен-
ского райкома партии Петру Луговому. Но
Шолохов не только не сбегает, а еще и сно-
ва вступается за родной Тихий Дон. Исчер-
пав все возможности на месте, он пишет
письмо о перегибах «неумелых управите-
лей» Сталину. Письмо в духе времени, ис-
пещрено эпитетами «враги народа*, «про-
иски троцкистов» и т. п., на пятнадцати
страницах сплошь ужас, кровь, смерть...
«Т. Сталин! Вешенский район наряду со мно-
гими другими районами Северо-Кавказского края
не выполнил плана хлебозаготовок и не засыпал
семян. В этом районе, как и в других районах,
сейчас умирают от голода колхозники и едино-
личники; взрослые и дети пухнут и питаются
всем, чем не положено человеку питаться, начи-
ная с падали и кончая дубовой корой и всячески-
ми болотными кореньями...
...В Ващаевском колхозе колхозницам облива-
ли ноги и подолы юбок керосином, зажигали, а
потом тушили: «Скажешь, где яма?»
...Колхозника раздевают до белья и босого са-
жают в амбар или сарай. Время действия — ян-
варь—февраль.
...В Лебяженском колхозе ставили к стенке и
стреляли мимо головы допрашиваемого из дробо-
виков.
...Массовое избиение колхозников и едино-
личников.
Из 50 000 населения голодают никак не мень-
ше 49 000. На эти 49 000 получено 22 000 пудов.
Это на три месяца...»
В письме не только о страданиях и проб-
лемах, но и о их действительных, а не мни-
мых возбудителях: «Вёшенский район не
выполнил плана хлебозаготовок не потому,
что одолел кулацкий саботаж и парторга-
низация не сумела с ним справиться; а по-
тому, что плохо руководит краевое руко-
водство». И в связи с этим просьба напра-
вить в район «доподлинных коммунистов»,
у которых хватит сил «разоблачить» винов-
ников. При этом писатель удивительно
дипломатично умалчивает о предыдущей
комиссии ЦК ВКП(б) во главе с Лазарем
Кагановичем, результаты которой явно не
удовлетворили народного заступника. А в
заключение фраза необычная, почти угро-
за: «Простите за многословность письма.
Решил, что лучше написать Вам, нежели на
таком материале создавать последнюю кни-
гу «Поднятой целины». Ответ будет еще бо-
лее необычен: «Письмо получил. Спасибо
за сообщение. Сделаем все, что требуется.
Назовите цифру. Сталин». Писателю —
«назовите цифру», как ревизору или бух-
галтеру. Это высший пилотаж дипломатии:
не писательское, мол, дело политикой зани-
маться. Тем не менее комиссия, возглавляе-
мая М. Ф. Шкирятовым, на Дон прибудет,
правда, для этого потребуется еще не одно
письмо. Через десять дней с начала рабо-
ты комиссии вывод-докладная: «...т. Шоло-
хов, как хорошо знающий район, помог
мне... Результаты расследования перегибов
в Вешенском районе полностью подтверди-
ли правильность письма тов. Шолохова».
Предлагаемые меры крутые: исключать из
партии перегибщиков (фамилии определе-
ны). Державные выводы — постановление
«О Вешенском районе» — значительно мяг-
че. Опять полупобеда: Шолохов докладыва-
ет о бедах по всему Дону, Сталин — об од-
ном районе, Шкирятов — исключать из
партии, Сталин — «Указать на недостаточ-
ный контроль над действием своих предста-
вителей и уполномоченных». Так будет все-
гда и во всем. И Шолохов, как и все, будет
довольствоваться хотя бы малым: «Сейчас
несколько распрямился. Послал хозяину
два письма (единственный продукт «твор-
чества» за полгода), получил от него две те-
леграммы. А вокруг творится страшное...»
После тяжелейшего 1933-го трудности
1934-го, пятого года коллективизации ка-
зались мелочью. «Сплошная политика»
вроде бы позади, и Шолохов наконец полу-
364
Михаил Александрович Шолохов
чает возможность закончить четвертую
книгу «Тихого Дона». Но «постиг меня
жесточайший припадок самокритики», —
признавался он, решая полностью перепи-
сать четвертую книгу. Доделать оконча-
тельно, однако, смог ее лишь в 1939 году. А
огорошившая всех финальная глава (вось-
мая часть четвертой книги, столь долгож-
данная) увидит свет только в 1940-м. Ли-
кующей «саги революции» из романа так и
не получилось. Григорий Мелехов к истин-
ному большевизму не придет, не возвели-
чит и не подкрепит партийную идею. А зна-
чит, и судьба романа, как в свое время
предсказывал осторожный А. Фадеев, дале-
ко еще не решена. В 1953 году выйдет четы-
рехтомник под редакцией К. Потапова,
внесшего в роман множество исправлений
(ни одна предыдущая редакция и цензура
не могли сравниться с варварскими ножни-
цами этого редактора-цензора). Все про-
изошло с молчаливого согласия автора, что
вряд ли может вменяться ему в вину, ибо
именно в это время отношения писателя с
вождем и «главным критиком» окончатель-
но испортились, а после выхода 12-го тома
Собрания сочинений Сталина, где содержа-
лось критическое замечание по поводу опи-
сываемого в третьей книге Вешенского вос-
стания, «Тихий Дон» долгое время вообще
не переиздавали. Шолохову ничего не оста-
валось, как полностью довериться лектору,
пойдя таким образом на уступки издатель-
ству. Полный текст своего произведения,
не искаженный цензорскими и редактор-
скими вмешательствами, Шолохов увидит
напечатанным только в 1980 году в Собра-
нии сочинений — через сорок лет после его
окончания, за четыре года до конца жизни.
Не менее затейливая судьба ожидала и
другой роман М. Шолохова, начатый на
подъеме, еще в пору написания «Тихого До-
на», как обычно, «вопреки всему*.
«ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»,
ИЛИ «С ПОТОМ И КРОВЬЮ»?
«Творческая энергия писателей, лишенных
возможностей писать и печататься, часто находит
выход в создании самых невероятных историй и
распространении диких и нездоровых слухов в
связи с любым сколь-либо значительным событи-
ем в литературе. Каждый день рождаются десят-
ки легенд, и люди верят им* {из доклада эмиг-
рантского литератора А. Калинского, 1930).
Сознательно нарушая хронологию изло-
жения в связи с глобальностью двух произ-
ведений, работа над которыми шла практи-
чески одновременно, мы вынуждены рас-
сказ о «мытарствах» и художественном
своеобразии второго романа Шолохова вы-
нести в отдельную главу. Также сознатель-
но нами приведены слова, сказанные лите-
ратуроведом о «Тихом Доне», ибо произо-
шедшее с «Поднятой целиной» объясняется
этими словами столь же ясно и доступно.
Итак, увлеченный процессом коллекти-
визации и индустриализации — по одной
версии; возмущенный тем же самым —
по другой; подкупленный или запуган-
ный(?) — по третьей, но так или иначе, Шо-
лохов берется за написание второго романа.
♦ Придя как-то днем в райком, Шолохов со-
общил, что написал несколько глав новой
книги о колхозной жизни и отослал их в
Москву печатать. Название этой книги,
сказал он, будет «С потом и кровью». Я не-
сколько удивился такому названию и ска-
зал об этом. Он смущенно улыбнулся, но не
изменил своего намерения», — вспоминает
его друг Петр Луговой. Судьбы двух рома-
нов Шолохова — зеркальное отображение
друг друга. Если первый буквально проби-
вался к печатанию всеми правдами и не-
правдами, то второй — почти без проблем.
Совсем без проблем в то время было невоз-
можно. Во-первых, сразу же было изменено
название: от несколько детского («С потом
и кровью») к отвечающему «злобе дня»
(вдогонку установке Сталина о важности
освоения целины — «Поднятая целина*).
«На название до сих пор смотрю враждеб-
но. Ну, что за ужасное название! Ажник са-
мого иногда мутит. Досадно», — призна-
вался писатель. Во-вторых, ставшая уже
обычной задержка в издательстве — осто-
рожничают. Сначала отрывок из романа
был напечатан в газете «Правда»: сцена со-
брания, на котором решается вопрос о со-
здании колхоза (январь 1932: «Путь туда —
365
Русские писатели XX века
единственный...»). Потом — обращение за
помощью к... Сталину, и дальше привыч-
ная цепочка: одобрение («Что там у нас за
путаники сидят? Мы не побоялись кулаков
раскулачивать — чего же теперь бояться
писать об этом! Роман надо печатать») —
печать с купюрами — холодно-равнодуш-
ное одобрение критиков — и, наконец, в от-
личие от «Тихого Дона» «развенчание» не-
которыми потомками.
Первая книга «Поднятой целины», на-
писанная по горячим следам, увидит свет в
сентябре 1932 года. Был ли это спецзаказ?
Документальных свидетельств нет. Но есть
другое: заинтересованность, внимание и...
озабоченность происходящими на селе из-
менениями. В романе — автобиографиче-
ские подробности: Шолохов снова пишет о
том, в центре чего находился и свидете-
лем чего был. Фактический материал,
подтверждающий это, — «переписка» со
Сталиным, публицистические выступления
тех лет. Шолохов пишет в «Правду» две
статьи об издевательствах над народом.
Первая — о хлебозаготовках, с говорящим
названием «Результат непродуманной рабо-
ты», была опубликована в январе 1933 го-
да, вторая — «Преступная бесхозяйствен-
ность (от нашего специального корреспон-
дента)», с требованием об изменении дел в
животноводстве, — 22 марта. В этих вы-
ступлениях не мелкие указания на «вра-
гов»: Союзпродкорм, Колхозцентр, Ското-
водтрест, наконец, наркомат, «который до
сих пор ничего не сделал для ликвидации
этих безобразий» — вот истинные виновни-
ки разорения деревни, Москва, а не «пере-
гибы на местах». Необходимость обраще-
ния к этим статьям в разговоре о романе —
произведении художественном — теперь
стала очевидной: и критикам, и собратьям
по перу, и читателям, суДя по откликам,
нет дела до «художественного своеобразия»
этого романа Шолохова. Приведем лишь
несколько примеров:
«Обличительные страницы в сценах рас-
кулачивания».
«Выражено несогласие со сталинским
планом коллективизации. В это трудно по-
верить, но перечитайте сцену столкновения
посланца ЦК Давыдова и местного секрета-
ря райкома».
♦Отсутствуют добрые краски в образе
Сталина. Он здесь строго со служебными
целями — как автор статьи «Головокруже-
ние от успехов» или репрессивных указа-
ний. Он отсутствует даже тогда, когда Шо-
лохов обязан был бы его писать — при упо-
минаниях обороны Царицына, к примеру*.
Были и положительные оценки, правда,
не так много. Долгое время критики пред-
полагали (правда, без опоры на факты), что
«Поднятая целина» — «соглашение, свя-
занное с взаимными уступками ради общей
цели...». Сталин, который в это время от-
дыхал в Сочи, отозвался на публикацию ро-
мана в письме Л. Кагановичу: «В «Новом
мире» печатается роман Шолохова «Подня-
тая целина». Интересная штука! Видно,
Шолохов изучил колхозное дело на Дону.
У Шолохова, по-моему, большое художест-
венное дарование. Кроме того, он — писа-
тель глубоко добросовестный: пишет о ве-
щах, хорошо известных ему».
Не обошел молчанием роман и М. И. Ка-
линин, Председатель Президиума Верховно-
го Совета (в народе — «верховный старос-
та»): на встрече с молодыми писателями
заявивший: «Смотрите, Шолохов! Ведь «Ти-
хий Дон» и «Поднятая целина» — лучшие
произведения. А написал человек в глухой
провинции, в маленькой станице, и никакие
журналы для начинающих ему не помога-
ли. Работал много — вот и вырос».
Критика эмигрантских журналов от-
кликнулась на «Поднятую целину» по-
своему. В газете «Возрождение» профессор-
эмигрант Н. Тимашев писал: «Ни в одной
книге так, как в романе Шолохова, не рас-
крыт роковой, подлинно трагедийный ха-
рактер «социалистического переустройства
деревни...»; «При прочтении книги неволь-
но возникает вопрос: «кто ее автор, подлин-
ный приверженец Сталина и его режима
или скрытый враг, только надевший личи-
ну друга? »
«Мистер Шолохов сумел преодолеть по-
лицейские кордоны, окружающие русскую
литературу, и показывает западным чита-
телям яркие, интересные характеры, воз-
366
Михаил Александрович Шолохов
буждая симпатии к героям плохим, так же
как и к хорошим. Удивительно, что он оста-
ется еще на свободе...» — это отклик жур-
нала «Ньюсуик».
А вот резолюция потомков (1988): «Вы-
теснить из школьной программы роман со-
ветского классика «Поднятая целина». Я
своим требованием защищаю своих детей.
Вот и все».
На этом «вот и все» почила вся критика
романа «Поднятая целина» советского и
постсоветского периода: нет ни серьезных
анализов образов («бедняцкий актив»: дед
Щукарь, Демка-косой, Демид Молчун и
др.; «враги»), забыта неоднозначность
прочтений, не выводится авторская кон-
цепция истории, отраженная в романе, —
насквозь трагичный XX век и т. д.
Все это, надо надеяться, в будущем, как
в свое время написание и публикация вто-
рой книги «Поднятой целины» (только в
1960 году, тридцать лет спустя!). А пока
впереди годы, страшные лично для Миха-
ила Шолохова.
ПЕРО ПОД АРЕСТОМ
1934 год для Шолохова биографически и
исторически знаменателен. Главные убы-
тия года: сразу два съезда — XVII съезд
ВКП(б) и Первый съезд советских писа-
телей. В преддверии высшего партийного
форума проводятся чистки на местах: «Чи-
стки у нас еще не было, но в члены меня пе-
ревели (вопреки постановлению ЦК) и хо-
датайствуют (райком) об утверждении этого
решения. А вы говорите — «сочувствую-
щий*. Я свое уже отсочувствовал и все вре-
мя пребываю «активным кандидатом», —
сообщал Шолохов Левицкой. Итак, собы-
тие первое — Шолохова принимают в пар-
тию.
После партийного съезда страна готовит-
ся к писательскому. Шолохов пишет две
статьи о своих профессиональных взгля-
дах-убеждениях: «За честную работу писа-
теля и критика» и «Английским читате-
лям» (по случаю выхода «Тихого Дона* в
Англии). Статьи резкие, программные. По
мнению Мартемьяна Рютина (позднее будет
арестован и расстрелян), главная мысль —
«неприятие Шолоховым приспособленче-
ской литературы». «Плох был бы тот писа-
тель, который приукрашивал бы действи-
тельность в прямой ущерб правде...», —
писал М. Шолохов в статье «Английским
читателям» (журнал «Знамя», 1991). На
съезде о статьях не будет сказано ни слова,
да и сам автор замкнется, не выступит. Не
считая ранее запрещенного фильма по «Ти-
хому Дону», это последний откровенный
выпад против М. Шолохова. С этих пор ос-
новным творцом биографии писателя ста-
новится... Сталин.
После 1934 года и до 1941-го, если судить
по Собранию сочинений, Шолохов напишет
всего одну статью «Красная Подкушевка» (о
Гражданской войне). Начнет сразу после
съезда, но так и не закончит всеми ожидае-
мую пьесу: «Решил создать оригинальное
драматургическое произведение, тоже на
колхозном материале... Такую пьесу я даже
начал, написал почти половину и временно
отложил...» Интересно, что на второй зна-
менательной встрече Шолохова со Стали-
ным на даче у М. Горького вождем было вы-
сказано пожелание о создании сценария по
♦ Поднятой целине». Выходит, ослушался.
Да и сам роман, вторую книгу которого пи-
сатель также собирался заканчивать зимой
1934 года, явно не пишется: «Тут путь пре-
градили известные перегибы». Кратко и не-
полно, ибо это только одна причина — поли-
тическая, но Шолохов — писатель, поэтому
должна же, наконец, быть и литературная.
Следуя логике его программных статей, она
есть, и позднее сам писатель ее сформулиру-
ет: «Дописал до конца первую книгу и стал
перед проблемой: в настоящий момент уже
не это является основным, не это волнует
читателя... Ты пишешь, как создаются кол-
хозы, а встает вопрос о трудодне, а после
трудодней встает вопрос уже о саботаже...»
Вот оно — трагедия жизнеподобия, с одной
стороны, и строгий запрет Сталина не защи-
щать «саботажников* (читай: умирающих
от голода) — с другой. Шолохов берется за
охотничьи рассказы — и вновь загадка: та-
ких рассказов не существует, лишь упоми-
нание о них в «Комсомольской правде»:
367
Русские писатели XX века
«Шолохов начал писать рассказы» (Вера
Кетлинская).
В общем, вместо творчества какая-то су-
ета. Шолохов по-прежнему помогает земля-
кам, организует театр, выбивает деньги для
водопровода в Вешенской, работает... с мо-
лодыми писателями. Исписался? Испу-
гался? А может, все-таки плагиатор? Едет
за границу, в Данию — честь и доверие,
оказываемые Сталиным далеко не каждо-
му. Но на смену поощрению (поездка за
границу) приходит жесточайшее бичева-
ние. Свершается предсказание охочих до
сенсаций западных журналистов («уди-
вительно, что он еще на свободе»): «В кон-
це 30-х годов и над Шолоховым сгусти-
лись тучи. Он мог бесследно исчезнуть в но-
чи сталинизма...» (из итальянской газеты
«Джерно»).
Если опираться на факты, происходило
следующее: над жизнью писателя нависла
угроза ареста по сфальсифицированному
обвинению в контрреволюционном заговоре
на Дону.
Началось все с ареста в ноябре 1936 года
Красюкова (члена бюро Вешенского РК).
Шолохов выступает на защиту, чувствуя,
вероятно, что удар и по нему. Он отказыва-
ется от поездки на антивоенный конгресс в
Париж (!) — не до того, пишет письмо Ста-
лину о ежовцах и их жертвах.
В феврале 1937 года к Шолохову пришел
директор Грачевской МТС соседнего Баз-
ковского района Корешков, ранее работав-
ший в Вешенской, и рассказал следующее:
«...его вызвал к себе нач. Миллеровского
окр. отдела НКВД Сперанский, продержал
на допросе 14 часов, а под конец заявил:
«Ты служил в Белой армии, но скрыл это
при вступлении в партию. Будучи в белых,
ты расстреливал красноармейцев. У нас на
тебя имеется вот какое дело, — и показал
огромную папку. — Посадить тебя мы мо-
жем в любой момент. Но пока мы этого не
думаем делать. Все зависит от тебя. Ты нам
нужен. Ты в дружеских отношениях со
Слабченко, с Луговым, с Шолоховым...*.
Круг был очерчен».
26 апреля из станицы в столицу поступа-
ет донос, по одним сведениям, на родствен-
ника, по другим — на однофамильца, ди-
ректора Еланской школы Владимира Шо-
лохова.
В мае арестован лучший друг и защит-
ник Шолохова Луговой. Из письма Шоло-
хова: «С января 1937 г. начали допраши-
вать обо мне, о Логачеве. Через короткие
передышки, измерявшиеся часами, снова
вызывали на допрос и держали в кабинете
следователя по 3—4—5 суток подряд. Ко-
роткий разговор: «Молчишь? Не даешь по-
казания, сволочь? Твои друзья сидят. Шо-
лохов сидит. Будешь молчать — сгноим и
выбросим на свалку, как падаль!» И еще о
Луговом: «Лугового с момента ареста поса-
дили в одиночку... Допрашивали по не-
сколько суток подряд, сажали на высокую
скамью, чтобы ноги не доставали пола, и не
приказывали вставать в течение 40—60 ча-
сов, потом давали передышку в два-три ча-
са и снова допрашивали. Луговой выстаи-
вал по 16 часов, руки по швам, перед следо-
вательским столом. К вариациям допроса
можно отнести следующее: плевали в лицо
и не велели стирать плевков, били кулака-
ми и ногами, бросали в лицо окурки. Потом
перешли на постели, на следующий день
убрали из одиночки кровать; чтобы предох-
ранить больные легкие от простуды, так
как лежать надо было на голом цементном
полу (Луговой болен туберкулезом), он под-
стилал под спину веник, — взяли и веник
из камеры...» и т. д. и т. п. После этого Лу-
гового отправляют в Москву, опять же, по
свидетельствам Шолохова, для дачи пока-
заний против него. Что это, пример того,
как бывают «у страха глаза велики», или
действительно весь этот ужас ради одно-
го — усмирить непокорного, но ценного для
советской литературы писателя? Так или
иначе, а ведь действительно Шолохову при-
поминают не только дружеские связи, но и
родственные. Ему прямо намекают: «Луч-
ше всего было бы для Шолохова (на кото-
рого и сейчас влияет его жены родня, —
от нее прямо несет контрреволюцией) —
уехать из станицы в промышленный
центр». Шолохов же не только не следует
этому «совету» (уже неоднократно выска-
занному), но к тому же отказывается (сно-
368
Михаил Александрович Шолохов
ва!) от поездки в Испанию на Международ-
ный конгресс писателей (из-за «сложности
своего политического положения в Вешен-
ском районе»). Он едет в Москву, к своему
«биографу», но Сталин принять писателя
отказывается.
Сталин думает долго, лишь в сентябре
1937 года состоится с таким нетерпением
ожидаемая встреча. Троих друзей спас, был
счастлив (в письме Сталину выражена бла-
годарность Ежову!). Но парадоксы сталин-
ской «милости* только слепой не заметит:
Луговой, Логачев и Красюков — на свободе,
а арестованные «подельники» — в тюрь-
мах. Шолохов же в благодарственном пись-
ме перечисляет имена невинно удерживае-
мых в застенках и вновь просит «оконча-
тельно распутать клубок». Противостояние
продолжается.
Приблизительно к этому времени (точ-
ной даты нет в воспоминаниях, приводи-
мых нами вслед за известным шолохове-
дом Осиповым) относится один эпизод,
рассказанный позднее дочерью Михаила
Александровича Шолохова Светланой. По-
сле званого обеда (угощал бывший земляк,
вешенский энкаведешник, переведенный в
Москву с повышением) Шолохов по воз-
вращении в гостиницу почувствовал вне-
запную острую боль. Вызвал друга-писате-
ля Василия Кудашева, тот разыскал врача
правительственной больницы. Осмотр, ди-
агноз — аппендицит. Уже в больнице, пе-
ред операцией подходит медсестра (ни име-
ни, ни фамилии), молча жестами и взгля-
дами дает понять: надо бежать. И Шолохов
внял, Кудашев помог. Несколько дней от-
паивал молоком. «Приступов аппендици-
та» больше ни разу не было. Достоверна ли
эта история, неизвестно, но очень показа-
тельна для иллюстрации тех лет. Тем более
что давно было заметно желание «разо-
браться* с писателем, проявлявшим такую
поразительную хитрость в борьбе за жизнь
(истинно народное качество, если следо-
вать логике национальных характеров,
выведенных самим Шолоховым на страни-
цах его произведений). А изворотливость и
«высоты дипломатии» проявлять придется
ему еще не раз: дамоклов меч пока не
убран.
В 1938 году Луговой получает письмо:
«Я, гр. хутора Колундаевка Вешенского
района, арестован органами РО НКВД. При
допросе на меня наставляли наган и требо-
вали подписать показания о контрреволю-
ционной деятельности писателя Шолохо-
ва...» Следом признания Ивана Семеновича
Погорелова — недавно прибывшего в район
инженера из Новочеркасска: «Меня сняли с
работы, пообещали исключить из партии и
посадить в тюрьму как врага народа. Но я
смогу искупить вину, если выполню важ-
ное поручение... Мне предложили поехать в
Вешенскую, устроиться на работу, пользу-
ясь знакомством с Луговым, войти в дове-
рие к Шолохову, стараться быть у него на
квартире, на вечерах, а затем дать пока-
зания, что Шолохов — руководитель по-
встанческих групп на Дону. Что Шолохов,
дескать, и меня, обиженного партией и
Советской властью, завербовал в свою орга-
низацию. Что Шолохов, организуя вече-
ринки, собирает на них руководителей по-
встанцев и проводит с ними контрреволю-
ционные совещания... Я все обдумал и
решил твердо: что бы со мной ни было, я на
такой путь не пойду».
Тем временем арестовывают брата жены
Шолохова: «Громославский является сы-
ном станичного атамана, до и после револю-
ции был служителем религиозного культа;
в 1916 г. был псаломщиком, а с 1920 по
1929 год — дьяконом. В 1930 г. был осуж-
ден по ст. 59, п. 10 УК, но в 1932 году осво-
божден по кассации...»
О реакции Шолохова на происходящее
вокруг узнаем из письма Левицкой: «...пи-
шут со всех концов страны и, знаете, доро-
гая Евгения Григорьевна, так много челове-
ческого горя на меня взвалили, что я начал
гнуться*. «Начал гнуться»: новое письмо
Сталину, по которому в Вешенскую снова
направлена комиссия (во главе все тот же
Шкирятов). Но теперь выводы иные: жало-
бы Шолохова почти по всем пунктам бес-
почвенны. Михаила Александровича пред-
упреждают о грядущем (ночью) аресте. Он
снова бежит в Москву... к Сталину.
13 3u. 848
369
Русские писатели XX века
По совету жены едет не ближней дорогой
(через Миллерово), а дальней — через Ми-
хайловку: «Не знаю, что стало бы с Михаи-
лом Александровичем, если бы он поехал
тогда в Москву через Миллерово. Там его
поджидали... Это я ему посоветовала запу-
тать следы. И ехать через Михайловку. Они
спохватились, да поздно...» —вспоминала
Мария Петровна. В Москве состоялась-таки
аудиенция, но не сразу — через несколь-
ко долгих дней ожидания решения своей
участи. Приняты были сразу несколько
человек — главные жертвы доносов и их ав-
торы: Шолохов, Луговой и Погорелов, а
также ростовский начальник НКВД, пар-
тийные начальники-земляки и Коган (эн-
каведешник). Погорелову удалось доказать
свою правоту документом, на котором ока-
залось распоряжение, написанное Коганом.
Факт поразительный: подобные распоряже-
ния передавались обычно устно или под
шифром «строго секретно». Когану ничего
не осталось, как во всем сознаться.
История эта, с одной стороны, косвенно
подтверждает факт возможного отравления
писателя, а с другой — имеет еще одно кос-
венное продолжение-подтверждение — за-
пись из дневника Корнея Чуковского от
1964 года о его встрече с помощником Хру-
щева: «Сейчас ушел от меня Влад. Семено-
вич Лебедев. Вот его воззрения, высказан-
ные им в долгой беседе. «Шолохов — вели-
кий писатель, надорванный сталинизмом.
Разве так писал бы он, если бы не страшная
полоса сталинизма, — Вы, К. И., не знаете,
а у меня есть документы, доказывающие,
что Сталин намеревался физически уничто-
жить Шолохова. К счастью, тот человек,
который должен был его застрелить, в по-
следнюю минуту передумал. Человек этот
жив и сейчас».
Свидетельство интересное, хотя до сих
пор документы не только нигде не опубли-
кованы, но даже не обнаружены. Одни упо-
минания (устные и письменные). Однако
«окончательно» клубок распутан: «Велико-
му русскому писателю Шолохову должны
быть созданы хорошие условия для его ра-
боты» (Сталин). И здесь слова с делом не
разойдутся: с этого момента Шолохов —
«любимец Сталина*. Правда, подобное из-
менение политики в сторону потепления по
отношению к литераторам чувствуется во
всем: так и не дойдет очередь до осуждения
ненавистных Булгакова, Ахматовой, Пас-
тернака, Зощенко, будет дано согласие на
возвращение из эмиграции Марине Цветае-
вой, Ивану Куприну... Все конечно же с ма-
киавеллевской изощренностью: Михаила
Пришвина не посадят, но превратят в дет-
ского писателя, Платонов на воле, но уми-
рает с голоду... Шолохов в почете, но для
него подобная честь оказывается еще одним
испытанием — «на гордыню».
В 1939 году тридцатичетырехлетний
Шолохов избирается действительным чле-
ном АН СССР, награжден орденом Ленина.
Вопреки решению Комитета по сталинским
премиям (А. Фадеев, В. Довженко, А. Тол-
стой, Н. Асеев и др.) включается в список
первых лауреатов. В 1941 году выходит от-
дельной книгой в 4 частях роман «Тихий
Дон*. Во вступительной статье написано:
«Шолохов — истинный любимец Сталина».
Такими словами в то время не разбрасыва-
лись...
Изменяет ли этот «подъем на пьедестал»
что-либо в жизни писателя, его позиции?
В 1940 году Политбюро ЦК принимает ре-
шение подготовить книгу «Сталин. К 60-ле-
тию со дня рождения» («подарок и руково-
дителю советского народа и народу»). На
авторство могут претендовать лишь прове-
ренные выдающиеся деятели науки, искус-
ства, политики. Шолохов, писатель-акаде-
мик, включен в список. И он не отказывает-
ся от оказанной чести поучаствовать в ее
создании. Правда, статья его не будет выде-
ляться ни размерами (всего три странички
в сравнении'с другими на 10—15 и более),
ни тоном: «Мне кажется, некоторые из тех,
кто привычной рукой пишет резолюции и
статьи, иногда забывают, говоря о Сталине,
что можно благодарить без многословия,
любить без частых упоминаний об этом и
оценивать деятельность великого человека,
не злоупотребляя эпитетами». Верен себе.
В этой связи вспоминается рассказ само-
го Михаила Александровича, запечатлен-
ный младшим сыном: «В одну из встреч с
370
Михаил Александрович Шолохов
ним я нод разговор возьми да и спроси, за-
чем, дескать, вы, Иосиф Виссарионович,
позволяете так безмерно себя превозно-
сить? Словословия, портреты, памятники
без числа и где попадя? Ну, что-то там еще
ляпнул об услужливых дураках... Он по-
смотрел на меня с таким незлобивым при-
щуром, с хитроватой такой усмешечкой:
♦Что поделаешь? Людям нужно башка».
Меня подвел его акцент, послышалось
♦башка», голова то есть. Так неловко стало,
куда глаза деть, не знаю. Не чаю, когда уй-
ду. Потом уже, когда из кабинета вышел,
понял — ♦ божка», божок людям нужен. То
есть дал понять, что он и сам, дескать,
лишь терпит этот культ. Чем бы, мол, дитя
ни тешилось... И ведь я этому поверил. Да,
признаться, и сейчас верю. Уж очень убеди-
тельно это им было сказано».
Случился этот разговор якобы накануне
первых выборов в Верховный Совет, зна-
чит — в 1936 году. Однако записан значи-
тельно позже. В связи с этим возникают два
вопроса: с одной стороны, не плод ли этот
красочный рассказ писательского вообра-
жения (слишком страшный год для подоб-
ной вольности), а с другой — статья во сла-
ву, мягче, но ведь о том же. Выходит, Шо-
лохов входит в почетный список из трех
смельчаков, которые вопрос ♦ культа лич-
ности» задали в открытую той самой лич-
ности. Двое других — иностранцы: амери-
канский общественный деятель полковник
Робинс и писатель-антифашист из Герма-
нии Лион Фейхтвангер.
Несмотря на все, Шолохов по-прежнему
сохраняет за собой право на защиту безвин-
но обиженных. Вступается за земляков,
друзей, по поручению Лугового добивается
аудиенции у Анастаса Микояна (заместите-
ля председателя Совета Народных Комисса-
ров) по хозяйственному вопросу ♦ борьбы с
засухой в степных районах». Он даже всту-
пается за... Анну Ахматову и Андрея Пла-
тонова. Правда, очень по-шолоховски, ско-
рее, спасая Платонова от нужды, чем выде-
ляя талант.
♦Михаил Александрович нашел способ
помочь. Он ♦пробил* издание сборника со-
бранных и обработанных Платоновым рус-
ских сказок, поставив на нем свое имя.
Я видел сборник в библиотеке Литератур-
ного института. На титульном листе боль-
шими буквами напечатано: «Под редакцией
М. А. Шолохова». Имя Шолохова сделало
доброе дело. Андрей Платонович получил
какие-то средства для существования».
Не отказал в помощи Андрею Платоно-
вичу и во время ареста его 18-летнего сына.
♦Руководитель антисоветской молодежной
и шпионско-вредительской организации»
по приговору получает 10 лет: ♦Я дал лож-
ные фантастические показания под угрозой
следователя, который мне заявил, что если
я не подпишу показания, то будут арестова-
ны мои родители*. Шолохов вызволил.
С защитой Ахматовой Михаил Алек-
сандрович попадает в переплет. К тому вре-
мени ее уже много лет не печатают, у нее
нет ни квартиры, ни пенсии. Двадцать лет
как расстрелян муж (Николай Гумилев),
теперь арестован сын. Шолохов вступается,
Льва Гумилева освобождают (правда, нена-
долго). Более того, Михаил Александрович
рассказывает Сталину о таланте Ахмато-
вой, с 1925 года неправомерно отлученной
от читателя. Дается указание срочно вы-
пустить книгу. И тут — слишком... Шоло-
хов представляет эту книгу на соискание
только что учрежденной сталинской пре-
мии. * Пошли доносы, — вспоминала по-
зднее А. Ахматова: — Просто позор, когда
появляются в свет, с позволения сказать,
сборники. Как этот Ахматовский ♦блуд с
молитвой во славу божию» мог появиться в
свет? Кто его продвинул?» Фраза Шолохо-
ва, ставшая обычной в заступничестве: ♦Ру-
чаюсь головой!» — теперь не остается без
ответа: ♦ Что-то Вы свою голову дешево це-
ните».
Предвоенные годы были не лучшими для
защиты писателей и людей искусства вооб-
ще. Однако война изменила многое...
ВОЙНА
23 июня 1941 года срочная телеграмма
из Вешек: ♦23.06.41. Наркому обороны Ти-
мошенко тчк Дорогой товарищ Тимошенко
тчк Прошу зачислить в фонд обороны СССР
371
Русские писатели XX века
присужденную мне Сталинскую премию
первой степени тчк По вашему зову в любой
момент готов встать в ряды Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии и до последней кап-
ли крови защищать социалистическую Ро-
дину и великое дело Ленина — Сталина тчк
Полковой комиссар запаса РККА зпт писа-
тель Михаил Шолохов».
25 июня Шолохов выступает на собра-
нии ростовского партактива и на митинге в
Вешенской: «В этой отечественной войне...
вы продолжите славные боевые традиции
предков и будете бить врага так, как ваши
прадеды бивали Наполеона, как отцы гро-
мили кайзеровские войска...» В первом же
выступлении писателя есть одно очень важ-
ное положение — «отечественная война»
понимается им как всенародная.
В годы войны... люди заняты важным
делом, забыли минувшие литературные и
внелитературные баталии. Шолохов сбли-
жается с Фадеевым (они теперь вместе мно-
го ездят по воинским частям), защищает и
публикует стихи Ольги Берггольц (осуж-
денной и реабилитированной перед вой-
ной), работает военным корреспондентом
«Правды». Его первая телеграмма понача-
лу чуть не была буквально воспринята как
установка к действию: «Конечно, послать
Шолохова комиссаром полка, дивизии
можно было бы. Одно его слово подыма-
ло бы людей в бой...» (Мех лис). Однако
вмешался редактор «Красной звезды», за-
требовавший Шолохова в литотряд: кроме
Шолохова в числе сотрудников газеты
А. Н. Толстой, И. Эренбург, П. Павленко,
А. Платонов... Очень быстро эту идею на-
иболее полноценного использования писа-
тельских талантов поняли и поддержали
многие литературные функционеры, в том
числе и Фадеев: «Они могут принести нам
большую пользу выступлениями по радио и
работой в центральных газетах».
По-своему оценит возможности Шолохо-
ва и Сталин... В мае 1942 года состоится но-
вая неофициальная встреча вождя и писа-
теля, важная для последнего своими отго-
лосками в будущем. Шолохов после
тяжелейшей контузии, полученной при не-
удачной посадке самолета. Из всех находя-
щихся на борту выжили только он и лет-
чик. У Шолохова произошло «смещение
всех внутренних органов» (Светлана Шо-
лохова). Сталин проявляет заботу: предла-
гает поехать лечиться в Грузию. Одновре-
менно решается судьба летчика: «Говорят,
летчик был пьян. Его судить собираются».
Шолохов возражает: «Ручаюсь, что пьян не
был... Я с ним перед взлетом общался, по-
этому и утверждаю». Но не это главное в
той знаменательной встрече.
Сталин начал как будто бы издалека:
«Идет война. Тяжелая. Тяжелейшая. Кто о
ней после победы ярко напишет? Достойно,
как в «Тихом Доне»... Храбрые люди изо-
бражены — и Мелехов, и Подтелков, и еще
многие красные и белые. А таких, как Су-
воров и Кутузов, нет. Войны же, товарищ
писатель, выигрываются именно такими
великими полководцами. В день ваших
именин мне захотелось пожелать вам креп-
кого здоровья на многие годы и нового та-
лантливого, всеохватного романа, в кото-
ром бы правдиво и ярко, как в «Тихом До-
не», были изображены и герои-солдаты, и
гениальные полководцы, участники страш-
ной войны...»
Это из воспоминаний Михаила Алек-
сандровича: сам умел прекрасно изъяснять-
ся между строк и сталинские «высоты дип-
ломатии* понимал. А забота так же, как и
доверие, оказана немалая... Так, один из
биографов Шолохова — Сивоволов упоми-
нает о звонке Сталина с предупреждением о
необходимости эвакуировать семью Шоло-
хова во время поражений на Южном фрон-
- те. Подобных предложений Сталин не де-
лал даже семьям командующих фронтами!
Именно во время сборов погибнет мать Ми-
хаила Александровича. О личной трагедии
он сообщит в письме к секретарю ЦК Ма-
ленкову. При этом ни слова не будет ска-
зано о погибшем в то же время личном ар-
хиве. История загадочная. А ведь под бом-
бами были уничтожены и рукописный
вариант «Тихого Дона», и так и не опубли-
кованная, но написанная (по некоторым
сведениям, также противоречивым) вторая
часть «Поднятой целины». Первая руко-
пись важна как факт опровержения обвине-
372
Михаил Александрович Шолохов
ний в плагиате, вторая — в политическом
приспособленчестве. История гибели архи-
ва также обросла легендами. По одной вер-
сии, цитируемой Осиповым со слов дочери
Шолохова, он был брошен РО НКВД (туда
Шолохов отдал на хранение наиболее цен-
ные документы). «Отдельные страницы ру-
кописей подобрали солдаты, из них вертели
самокрутки. Некоторые «бумажки» подби-
рали по дворам. Как их так разметало —
никто не знает. История загадочна». По
другой версии, приводимой Сивоволовым,
рукописи «Тихого Дона», «Поднятой цели-
ны», документы, важные письма государ-
ственных деятелей, советских и зарубеж-
ных писателей были Шолоховым сложены
в отдельный ящик. Потом вместе с родст-
венником Павлом Зайцевым они закопали
ящик в сарае, а рядом схоронили в таком
же ящике ружья. Так или иначе, а с
1941 года архив Шолохова считается про-
павшим.
Столь пристальное внимание к писателю
проявляется не только с высокой стороны,
но и на Западе. Шолохов становится одним
из наиболее публикуемых представителей
советской литературы. Сразу после появле-
ния «Тихого Дона» на Родине, его начина-
ют издавать во многих зарубежных печат-
ных изданиях, причем, в отличие, напри-
мер, от «Доктора Живаго» Б. Пастернака, с
разрешения ЦК. Война же добавляет инте-
реса к русскому писателю — мир стал узна-
вать Шолохова. Америка, Англия, Венг-
рия... издают «Тихий Дон», в феврале
1943 года в Нью-Йорке готовится премьера
одноименной оперы Дзержинского. 3 авгус-
та 1941 года И. Бунин записывает в дневни-
ке: «Читал первую книгу «Тихий Дон» Шо-
лохова. Талантлив, но нет слова в простоте.
И очень груб в реализме. Очень трудно чи-
тать от этого с вывертами языка со множе-
ством местных слов». И еще запись: «Кон-
чил вчера вторую книгу «Тихого Дона».
Все-таки он хам, плебей. И опять я испытал
возврат ненависти к большевизму». «Хам и
плебей», однако в таланте Шолохову пер-
вый русский Нобелевский лауреат не отка-
зывает.
Вскоре после знаменательной встречи со
Сталиным Шолохов заканчивает рассказ
«Наука ненависти» (1942). В центре повест-
вования — простой труженик войны, лей-
тенант. Да еще после плена... 16 августа
1941 года был издан печально известный
Приказ Сталина № 270, по которому сдав-
шийся в плен — это предатель Родины,
пленным выносился заочный приговор
(смертная казнь), а семьи пленных подле-
жали аресту. Сильно, видимо, задел про-
заика ужас несправедливости этого Прика-
за — эхом отзовется он во всех его более
или менее значительных произведениях во-
енных и послевоенных лет. Удивительное
непослушание! «Наука ненависти* (первый
рассказ за 15 лет) — первая ласточка, заяв-
ка на тему, определение позиции — будет
почти сразу издана в США, Англии и Ин-
дии; в Мексике войдет в «Черную книгу фа-
шистских зверств». Позднее — через 14 лет
(такова сила впечатления) — в продолже-
ние начатого в годы войны будет написана
« Судьба человека »...
Политический агитационный заказ так
и не был выполнен... В 1943—1944 годах
Шолохов принимается за написание рома-
на, долгожданного романа о войне... Но
остается верен концепции истории, движу-
щей силой которой является народ (вспом-
ним выступление в первые дни войны на ве-
шенском митинге). Ее придерживался еще
при создании «Тихого Дона». Шел здесь от
Л. Толстого: не случайно постоянное срав-
нение двух романов-эпопей. «Существуют
писатели, на которых Толстой и Пушкин не
влияют... Ей-богу, на меня влияют все хо-
рошие писатели. Каждый по-своему хо-
рош», — признался как-то Шолохов.
Михаил Шолохов заканчивает войну в
том же звании, что и начинал, — полков-
ник, награжден орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени. В «Правде» начали печатать
«Они сражались за Родину», но критики
растеряны. Нет образа «великого полковод-
ца». Сталин разочарован. Начинается но-
вый поход на романиста, который вызывает
недовольство своим поведением. В 1946 году
Жданов предлагает (передает предложение
Сталина) Шолохову заменить, хотя бы на
373
Русские писатели XX века
время болезни, А. Фадеева на посту Гене-
рального секретаря Союза писателей СССР,
но получает отказ: «Через три часа отходит
поезд на Ростов, и я уже взял билет...» Эта
постоянная жизнь вдали от культурных
центров станет причиной прозвища писате-
ля — «вечный командированный». «Боится
города», — резюмирует Сталин (а ведь точно
подмечено: когда-то эта удаленность жизнь
спасла — было куда бежать). Сталин и Шо-
лохов не видятся уже пять лет...
Шолохов работает, правда, не с запаль-
чивостью 20-х годов, но роман о войне наде-
ется закончить. Однако возникают новые
трудности: «Дело в следующем: завершаю
первую книгу романа «Они сражались за
Родину» и уже приступил к работе над вто-
рой, — испытываю острую необходимость
ознакомиться с материалами, касающими-
ся обороны Сталинграда... С этим я не смо-
гу — как мне было сказано — ознакомиться
без Вашего на то указания... Вы понимаете,
как губительно отразится на моей работе
отсутствие этого материала, а потому и про-
шу Вашей помощи». Это письмо к Мален-
кову осталось без ответа.
Много времени по-прежнему отнимают у
Шолохова депутатские обязанности. Это за-
мечают в центре. Его обвиняют в том, что
он отлынивает от общественной работы в
своем писательском союзе, в редколлегии
журнала «Новый мир». А на XIX съезде
партии произошло прямо-таки чрезвычай-
ное происшествие: Шолохов пренебрег обя-
занностями делегата и ушел с заседания, не
выслушав эпохальной речи И. В. Сталина.
Так начинается новый этап биографии
М. Шолохова: его объявляют безнадежным
алкоголиком. Позднее, отвергая эти обви-
нения в адрес отца, Светлана Михайловна
скажет: «Вы когда-нибудь слышали, чтобы
настоящий охотник был алкоголиком? С
трясущимися руками? А отец — ах, как он
славился метким выстрелом». Однако во-
прос о «злоупотреблении алкоголем» Шо-
лохова, судя по архивным материалам ЦК,
волновал всех и вся. В алкоголизме будет
обвинен и застрелившийся (якобы из-за
этой болезни) А. Фадеев. На его защиту
встанет именно Шолохов (бывший недруг).
Но ему удалось дойти только до Ворошило-
ва: «Зачем, спросил, посмертно унизили
писателя, героя Гражданской войны, вмес-
те с делегатами десятого съезда партии
штурмовавшего мятежный Кронштадт в
двадцать первом году, тяжело раненного в
том бою?! В ответ Ворошилов своим ною-
щим голосом сказал: «Фадеев нам страшное
письмо оставил, на личности членов Прези-
диума ЦК перешел».
А в предсмертной записке фраза была о
Сталине («сатрап») и его преемниках: «Тот
был хоть образован, а эти невежды...» Вся
история — прелюдия к тому, что произой-
дет впоследствии с самим Шолоховым.
В марте 1953 года умирает Сталин.
15 декабря открывается Второй Всесоюз-
ный съезд советских писателей. Шолохов
берет слово. Он говорит о серости современ-
ной советской литературы, о конъюнктур-
щине и отсутствии нормальной критики и
самокритики. Все эти мысли и потом будут
неоднократно высказываться им в различ-
ных выступлениях по радио, на съезде пи-
сателей Казахстана, на творческих вечерах.
Кажется, что основной, кого обвиняет Шо-
лохов, — сам Шолохов (и молодой, кото-
рый отказался когда-то дописывать вторую
книгу «Поднятой целины» — не то сейчас
волнует, и «позврослевший», который ни-
как не может выполнить обещаний, данных
читателям и себе: дописать два романа).
«Гомером надо быть, чтобы суда уже бли-
жайших потомков избежать. А мы что же?
Временщики. «И каждому довлеет доля
его». Не способны мы и на шаг от «злобы»
групп. Думаем, что наше сиюминутное —
это и есть то, что устроит всех во веки ве-
ков» — эти слова позже он скажет сыну
Михаилу. В них осознана суть того, что му-
чило писателя во все послевоенные годы
♦полуработы». А на съезде — грубые напад-
ки на Эренбурга и его новую повесть «Отте-
пель», давшую наименование целой эпохе.
Шолохов назвал эту работу «топтанием на
месте», шагом назад от великолепной пре-
дыдущей работы: «У нас не может и не дол-
жно быть литературных сеттльментов и
лиц, пользующихся правом неприкосно-
венности*. (Как эти обвинения совпадают с
374
Михаил Александрович Шолохов
обвинениями потомков в адрес самого Шо-
лохова и его «Поднятой целины»!) Он не пе-
рестает критиковать Симонова по любому
поводу. Здесь давняя война, которая длится
с 1951 года, когда писатели обменялись
обидными статьями по совершенно абсурд-
ному поводу: нужны ли писателям псевдо-
нимы...
Вот как вспоминал К. Симонов о разра-
зившейся дискуссии:
«Шолохов отказал писателю в праве на псев-
доним. В его неприятии псевдонима, как поняли
люди моего окружения, скрыто было нечто боль-
шее, нечто более значительное, чем то, что он
провозгласил — мол, за псевдонимами прячутся
литжучки и деляги. Я, например, сразу раску-
сил, что Шолохов целит по писателям нерусской
национальности... Шолохов между прочим попер
против Сталина. Сталин... Сталин вел дьяволь-
скую игру... Короче, на заседании Комитета по
сталинским премиям обсуждаем роман какого-то
писателя. Сталин разглядел в официальном пред-
ставлении на эту кандидатуру, что после псевдо-
нима в скобках стояла подлинная фамилия. Он
разразился сердитой тирадой в своей излюблен-
ной манере вопроса и ответа: «Не могу не спро-
сить уважаемых товарищей, зачем, с какой
целью пишется двойная фамилия? Читателю до-
статочно одной — привычной. Разве писатель не
имеет права выступать под псевдонимом? Я ду-
маю, что имеет. Хотите подчеркнуть, что он... ев-
рей? Но зачем?» Так вот, Шолохов, несомненно,
узнал о таком предостережении. Но не внял. То
ли по наущению, то ли по убеждениям — в от-
крытую, в лобовую попер против традиции псев-
донимов. Напечатал в «Комсомолке» статью «С
опущенным забралом». Когда я ее прочитал, по-
думал: «Миша, Миша, неужели ты сам все это
писал?» Я не мог поверить, что он сам взялся за
столь неблагородное занятие, что он решил ослу-
шаться Сталина...»
Шолохов, кажется, и сам не доволен был
этой статьей: в собрание сочинений не
включил, но нападки на Симонова с этих
пор не оставил.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ: «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА»
Само появление этого рассказа в газе-
те «Правда* на рубеже 1956 и 1957 годов,
в номерах от 31 декабря и 2 января было
значимым, ибо тем самым перебрасывало
мостик от полного поворотных для русской
истории событий первого года «оттепели»
к году следующему. Тем более что все пуб-
ликовавшееся в те времена в «Правде» —
центральном печатном органе партии —
имело директивный характер и определя-
ло собой политику страны. Вызовом преж-
ним временам стало уже название расска-
за: слово «судьба» считалось нежелатель-
ным, поскольку, как тогда казалось, отда-
вало мистицизмом, метафизикой, ведь за
этим словом скрываются представления о
предначертанное™ жизненного пути чело-
века, о власти над ним роковых обстоя-
тельств. А между тем сама мысль о возмож-
ности существования провидения или рока
противоречила официальному «человек —
кузнец своего счастья*, «хозяин своей судь-
бы». Недовольство некоторых критиков вы-
звало и то, что главным героем повести
Шолохов выбрал не убежденного ком-
муниста или прославленного героя, а прос-
того работягу, обычного человека — «как
все», к тому же с «подпорченной» биогра-
фией, — прошедшего немецкий плен.
Таких, как он, тогда официально счита-
ли предателями, амнистированными (но
не реабилитированными!) Сталиным лишь
в 1953 году.
Однако название рассказа «Судьба чело-
века», имя героя, скорее приобщавшее его
к народной массе, нежели выделявшее из
нее, жизненный путь Андрея Соколова,
вместивший в себя, кажется, больше, чем
по силам вынести одному человеку, — все
это обозначало два полюса этого произведе-
ния. На одном из них речь идет о трагиче-
ской судьбе конкретной личности, челове-
ческой единицы — ив этом было знамение
времени, когда литература наконец полу-
чила возможность от изображения подви-
гов масс обратиться к запечатлению судеб
отдельных людей на войне. На другом же
полюсе рассказа — та степень обобщения,
которая позволяет говорить, что судьба
Андрея Соколова — это судьба всего рус-
ского народа, прошедшего страшную вой-
ну, фашистские лагеря, потерю самых
близких людей, но не сломавшегося. Такое
375
Русские писатели XX века
сочетание в рамках одного произведения
конкретности и монументальности, част-
ного и общезначимого больше характерно
для жанра эпопеи. И недаром критики за-
говорили о произведении М. Шолохова как
о «рассказе-эпопее» (Л. Якименко). Каж-
дый момент личной истории Андрея Соко-
лова, каждый поворот его судьбы, воспри-
нимаясь как глубоко индивидуальные, од-
новременно проецируются на историю, на
судьбу родного ему народа, неотъемлемой
частью которого он является. Бездетные
родители, овдовевшие супруги, сироты-де-
ти — страшная участь многих и многих
людей тех лет. Семьи, которые в «Тихом
Доне» еще оставались последним и единст-
венным прибежищем для искалеченных
войной душ, в результате последней войны
разрушены. И у Андрея Соколова, и у его
жены Ирины после Гражданской не оста-
лось на земле родных, однако их гнездо не
пощадила новая война: в тех страшных ка-
таклизмах, которые принес с собой челове-
честву XX век, родство по крови перестало
быть надежной связующей нитью между
людьми, как связывало оно в «Тихом До-
не» даже врагов — семьи Мелеховых, Кор-
шуновых и Кошевых. На смену кровному
родству у Шолохова приходит родство по
несчастью, родство по сиротству, потреб-
ности в любви и в опоре друг в друге. Маль-
чик-сирота, подобранный Соколовым у
чайной, не просто заменяет Андрею сына
— становится его сыном, единственным
смыслом искалеченной жизни: «Ночью то
погладишь его сонного, то волосенки на
вихрах понюхаешь, и сердце отходит, ста-
новится мягче, а то ведь оно у меня закаме-
нело от горя». Недаром обрамляет рассказ
Шолохова символическая картина пути,
по которому ранней, первой после войны
весной бредут к своему будущему дому
отец и сын, — и каждый из этих образов
говорит о вечности жизни, о том, что пока
жива в человеке способность любить, на-
род бессмертен.
Появление рассказа Шолохова оказалось
более чем своевременным: вышло постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
за подписями Н. С. Хрущева и Н. А. Булга-
нина: «Осудить практику огульного поли-
тического недоверия к бывшим советским
военнослужащим, находившимся в плену
или в окружении противника, как проти-
воречащую интересам Советского госу-
дарства...» Однако подобная «своевремен-
ность», как это уже принято, лишь поме-
шала полному и объективному восприятию
этого произведения. Особой критике его
подвергнет в своем романе «Архипелаг
ГУЛАГ» Александр Солженицын (еще один
Нобелевский лауреат). На его безапелляци-
онные замечания шолоховедом Осиповым
будет дан ответ, основанный на строгом ли-
тературоведческом подходе, учитывающем
особенности мировоззрения писателя, вре-
мя создания рассказа, его место в контексте
творчества Шолохова (от «Науки ненавис-
ти* до романа «Они сражались за Родину*).
Мнение же другого критика — писателя
из Алма-Аты Вениамина Ларина — инте-
ресно тем, что указывает и обозначает ис-
токи и последствия «трагического всеприз-
нания»: «Рассказ Шолохова возносят толь-
ко за одно: за тему солдатского подвига. Но
литературные критики такой трактовкой
убивают — безопасно для себя — истинный
смысл рассказа. Правда Шолохова шире и
не заканчивается победой в схватке с фа-
шистской машиной плена. Делают вид, что
у рассказа нет продолжения: как большое
государство, большая власть относятся к
маленькому человеку, пусть и великому
духом. Шолохов выдирает с кровью из
сердца откровение: смотрите, читатели,
как власть относится к человеку — лозун-
ги, лозунги, а какая, к черту, забота о че-
ловеке!.. Плен искромсал человека. Но он
там в плену, даже искромсанный, остался
верен своей стране, а вернулся?.. Никому
не нужен! Сирота! А с мальцом двое си-
рот... Песчинки. И ведь не только под воен-
ным ураганом. Но Шолохов велик — не со-
блазнился дешевым поворотом темы: не
стал вкладывать своему герою ни жалост-
ливых мольб о сочувствии, ни проклятий
Сталину. Разглядел в своем Соколове из-
вечную суть русского человека — благород-
ство, терпеливость и стойкость...»
376
Михаил Александрович Шолохов
НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ... НАДЛОМ
Известно (и мы об этом уже писали), что
фамилия М. Шолохова не раз была в спи-
сках кандидатов на Нобелевскую премию
(одновременно с Б. Пастернаком). В 1958
году Женевский комитет разрешает это со-
перничество в пользу «Доктора Живаго»
Пастернака. К тому моменту роман дей-
ствительно становится известен за грани-
цей (одно из условий присуждения пре-
мии), однако не так хорошо, как «Тихий
Дон» (чему много причин, прежде всего,
конечно, политических). Как бы то ни бы-
ло, а решение комитета не поддерживают
даже западные писатели: в знак протеста
против такого решения от премии отказы-
вается Жан-Поль Сартр. Он объявляет Но-
белевский комитет необъективным, поли-
тизированным органом. Сам же Шолохов в
преддверии награждений оказывается за
границей, во Франции (1957). В центре
внимания журналистов давнишнее проти-
востояние двух романов, естествен интерес
к автору одного из них. Ответ Шолохова на
вопросы журналистов породит впоследст-
вии множество слухов, поэтому используем
возможность привести ответ Шолохова пол-
ностью, как он был процитирован в эмиг-
рантской газете «Свобода» (1960, № 1):
«Я полагаю, — самоуверенно заявил Шоло-
хов, — что творчество Пастернака, за иск-
лючением его блестящих переводов Гете,
Шекспира и некоторых грузинских поэтов,
не представляет никакого интереса. «Док-
тор Живаго», на мой взгляд, бесформенная
масса, не заслуживающая даже названия
романа... Правление Советских Писателей
слишком погорячилось. Вместо того, чтобы
запрещать «Доктора Живаго», надо было
его издать и дать возможность советским
читателям самим расправиться с Пастерна-
ком. Если бы мы поступили таким образом,
этот роман был бы уже забыт нашими чита-
телями, очень требовательными в области
искусства». Комментарии автора статьи
А. Ингульского для Шолохова далеко нели-
цеприятны («самоуверенно», «уничтожаю-
щий отзыв о Пастернаке» с «видимым для
всех противоречием», «шолоховский ме-
шок лжи» и т. д.). Какова защита: напе-
чатать, чтобы уничтожить (знакомый под-
ход — отголосок «высшей сталинской дип-
ломатии»)! Тем более не понятна шумиха
вокруг этого интервью на Родине писателя:
«Обратить внимание М. Шолохова на недо-
пустимость подобных заявлений, противо-
речащих нашим интересам» и т. п.
Шолохов станет Нобелевским лауреатом
только в 1965 году. Сразу после посещения
Союза писателей в Москве вице-президен-
том Нобелевского комитета, давшего по-
нять, что в этом году будет снова обсуж-
даться кандидатура Шолохова, Михаил
Александрович обратится в ЦК за разреше-
нием... на получение. ЦК разрешит (Пас-
тернака вынудил отказаться).
Занимательное происшествие на церемо-
нии вручения, отраженное в заметке ТАСС
с переложением репортажа американского
корреспондента из «Ассошэйтед Пресс»:
«Казаки не кланяются, они никогда не де-
лали этого и перед царями...» Это по поводу
необходимого по канону поклона лауреата
королю Швеции: Шолохов-де головой дви-
нул, но в другую сторону — вздернул... Ин-
тересная цитата из разговора исследователя
Осипова с Михаилом Александровичем Шо-
лоховым:
«Как-то спросил у Шолохова:
— Так ли было?
Он ответил с лукавой усмешкой:
— Мне протокол не к чему было нарушать. Я
ничего такого не замышлял. У меня просто, на-
верное, другого выхода не было. Король в росте
на голову меня превосходил. Ему кланяться мож-
но... А мне как? Мне несподручно. Мне вместо по-
клона пришлось голову подымать...»
Быль иль небыль, но этот исторический
анекдот, как любой, несет в себе «долю ис-
тины*. Здесь она заключена в изумительно
краткой и показательной характеристике
писателя (по-мужицки хитрого диплома-
та). Это было и в 37-м, это останется навсег-
да с некоторой корректировкой на время.
К сожалению, корректировка эта не все-
гда в пользу Шолохова-человека. Середина
60-х: дважды награжденный Золотой Звез-
дой Героя Социалистического Труда, удос-
377
Русские писатели XX века
тоенный Ленинской и Государственной пре-
мий, увенчанный высшей мировой литера-
турной наградой — Нобелевской премией,
Шолохов к этому времени все чаще оказы-
вался в трагическом разладе между искрен-
ними убеждениями в правоте партийной
линии и реальностью. Справедливые требо-
вания связи литературы с жизнью, с кото-
рыми он выступает на Втором съезде писа-
телей СССР, на XX и XXIII съездах КПСС,
соединяются у него с ерничеством и неспра-
ведливыми нападками на собратьев по пе-
ру. Из речи на партсъезде по поводу «писа-
телей-диссидентов» Андрея Синявского и
Юлия Даниеля: «Мне стыдно не за тех, кто
оболгал Родину и облил грязью все самое
святое для нас. Они аморальны. Мне стыд-
но за тех, кто пытается взять их под защи-
ту, чем бы эта защита ни мотивировалась».
Интеллектуальная Москва забурлила: не
только не защитил, что достойно было бы
писателя-гуманиста, но и потребовал ужес-
точения мер... Вот когда сказалось насле-
дие «культа личности»... Однако в выступ-
лениях обвинителей позиции Шолохова,
призванных быть лояльными, столько же
бескомпромиссности, сколько и у самого
обвиняемого. Ибо наследие для всех одно.
С этой поры — новые штрихи к портрету
писателя, как ни обозначай: «талантливый,
но сломленный», «головокружение от успе-
хов и признания», «не писатель-депутат, де-
путат-писатель», «комплекс Горького» и
т. п. Если следовать фактам — было все.
Как в свое время Горький защищал и унич-
тожал, так и Шолохов теперь выражает осо-
бую заботу о молодых писателях (из письма
Хрущеву): «Мне бы хотелось по согласова-
нию с руководством Союза советских писа-
телей захватить с собой несколько хороших
книг молодых наших писателей и рекомен-
довать их к изданию в Швеции. К моему
мнению скандинавские издатели прислуши-
ваются, и если мне удастся убедить Гидлун-
га и книги будут изданы в Швеции — я буду
просто по-товарищески счастлив. Издание в
Швеции обеспечивает и издание в Норвегии
и Дании... «Донские рассказы» — нечего
греха таить — слабенькая, ученическая
книга, и я не вижу разумных оснований со
стороны Гидлунга отказываться от издания
более зрелых книг теперешних молодых со-
ветских писателей...»
По-прежнему (но уже в духе времени, а
потому это не ставится многими критиками
ему в заслугу) Шолохов ходатайствует за
полную реабилитацию невинно осужден-
ных: Иван Клейменов (ученый-реактив-
щик, зять Левицкой), Иван Макарьев, гене-
рал Михаил Лукин (его образ будет выведен
в военном романе), Абрам Гурвич (критик,
литературовед) и многие другие. Он продол-
жал заботиться о благосостоянии семей
«врагов народа», вместе с Михаилом Иса-
ковским и Вс. Ивановым хлопотал о сест-
рах Есенина (письмо в ЦК с просьбой дать
разрешение бедствующим женщинам всту-
пить в права наследства). Приводим это не в
оправдание — для большей объективности.
НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН.
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ
Страшная для биографии писателя фра-
за «последние годы жизни», если целые эти
♦ годы» занимаемы лйшь одним: «Мои пла-
ны — думаю закончить роман «Они сража-
лись за Родину». Пройдет почти 20 лет пос-
ле этих слов на встрече с делегацией деву-
шек-дагестанок, а роман закончен так и не
будет... Новая трагическая эпопея.
Биографы, рассказывая о последних го-
дах жизни Шолохова, вынуждены все боль-
ше писать о его депутатской, секретарской
(в Союзе писателей), хозяйственной работе,
многочисленных заграничных поездках.
Очень мало о литературе. Очень много о
новых обвинениях в плагиате (снова из-
за творчества Федора Крюкова, умерше-
го, кстати сказать, в 1920 году) и их раз-
венчании. Очень много о взаимоотношени-
ях с коллегами-писателями (Солженицын,
Твардовский и т. д.)...
Буквально у всех на устах один вопрос:
♦ Почему так мало пишет?» Ответ, однако,
был дан Шолоховым, и не однажды: «Я,
знаете ли, пишу медленно. Это ведь не по-
рок для писателя, не так ли? Поспешность
хороша при ловле блох...» Кроме того, Шо-
лохов неоднократно указывает на некото-
378
Михаил Александрович Шолохов
рые другие причины: недоступность воен-
ных архивов, необходимость критического
подхода к своему творчеству и т. д.
Поскольку все правда: и писал мало и
медленно, и относился к себе все-таки кри-
тично, — то и говорить остается только об
истории последнего романа М. Шолохова.
А традиционно нелегкая судьба ожидала и
это детище писателя...
Напомним, что первая книга романа
«Они сражались за Родину» была опубли-
кована сразу после войны. Основной упрек
критики — нет образа «великого полковод-
ца». Ирония судьбы: теперь, во второй кни-
ге уместно, по мнению писателя, упомина-
ние (не выведение гениальности!) имени
Сталина, но снова, по мнению политиков,
неправильно (Хрущев: «Еще не пришло
время писать о Сталине и о тридцать седь-
мом. ЦК уже все высказало...»; Брежнев:
«Михаил Александрович, не сыпь темой
разоблачения Сталина соль на незажившие
раны...»). Шолохов болезненно восприни-
мает негативное отношение к новому рома-
ну. Привычка, воспитанная годами жизни
при Сталине, обращаться за помощью к
вождям — посылает рукопись Л. И. Бреж-
неву. Три месяца пролежит она в кремлев-
ских кабинетах, а вернется ни с чем (ни от-
зыва, ни четких распоряжений цензоров).
Шолохов торопится: он уже тяжело болен
(рак), время — против него. В «Правде» по-
являются главы романа, изуродованные ре-
дакторской правкой. Шолохов едет в Моск-
ву, добивается аудиенции, но теперь другие
времена, другие лица, писатель возвраща-
ется ни с чем. Его не приняли, его уже спи-
сали со счетов под бравурные пустые похва-
лы. Это конец для художника — чувство
ненужности, невостребованности, это конец
для романа (писатель убедил себя, что его
книга о войне и предвоенных годах не нуж-
на партии, а значит, и народу, и... сжигает
рукопись). Здесь начало новой легенды:
свидетель этого деяния — жена писателя —
факт гибели рукописи не подтвердила и сам
писатель об этом промолчал. О судьбе во-
енного романа говорил лишь секретарь
М. Шолохова, и то ссылаясь на младшего
сына Михаила Михайловича Шолохова.
Однако пока рукопись книги не найдена.
В 1993 году дочерью писателя предпринята
попытка восстановления романа в полном
объеме по сохраненным ею купюрам.
«Паршивые, бездарные ученики мы у ис-
тории — вот что плохо...»
Этими горькими, провидческими слова-
ми закончим мы рассказ о нелегкой судьбе
писателя — обласканного и «лаской» этой
уничтоженного, униженного...
Заголовок в черной рамке в газете «Прав-
да» от 22 февраля 1984 года: «Михаил
Александрович ШОЛОХОВ». И дальше:
«Советская литература понесла тяжелую ут-
рату. 21 февраля 1984 г. на 79-м году жизни
после тяжелой и продолжительной болезни
в станице Вешенская Ростовской области
скончался великий писатель нашего време-
ни, дважды Герой Социалистического Тру-
да, член ЦК КПСС, депутат Верховного
Совета СССР, лауреат Ленинской и Государ-
ственной премий СССР, лауреат Нобелев-
ской премии, действительный член Акаде-
мии наук СССР, секретарь правления Союза
писателей СССР Михаил Александрович
Шолохов...» В некрологе были употреблены
все «нужные» штампы: «летописец совет-
ской эпохи», «золотой фонд мировой лите-
ратуры», «верный сын Коммунистической
партии», «страстный борец за революцион-
ное обновление жизни» и т. д. и т. п. А тем
временем в Вешенской все траурные дни два
«гостя» из Москвы тщательно переворачи-
вали личные бумаги только что умершего
знаменитого писателя... Из добрых побуж-
дений «уничтожали компромат*...
«Паршивые, бездарные ученики мы у ис-
тории — вот что плохо. А у нее одно, весе-
ленькое такое, правило есть. Все, что для
предков правым было, для потомков чаще
всего неправым оказывается. И далеко хо-
дить не надо. Все, что нашим отцам-дедам
дорого было, мы на штыки подняли. Но и
все, чем мы сейчас восторгаемся, и всех,
кто восторгается, скорее всего уже наши
внуки проклянут. А мы все продолжаем ду-
мать, что нас минет чаша сия» (М. А. Шоло-
хов).
Снова о себе? А может быть, не только?..
379
М. Г. Павловец
Борис Леонидович
Пастернак
(1890—1960)
НАЧАЛЬНАЯ ПОРА
С чего обычно начинаются жизнеописа-
ния известных людей — будь то автобиогра-
фии, книги о них или же просто скупые эн-
циклопедические справки? Конечно же с
рассказа о семье, детстве тех, кому они по-
священы. В этом — не праздное любопытст-
во исследователей. Просто именно в первые
годы жизни человека начинается сложный
процесс кристаллизации того, что потом бу-
дет названо талантом. Недаром тема детст-
ва, одна из важнейших и постоянных у Бо-
риса Пастернака, тесно связана с другой, не
менее важной, — темой творчества. Поэт
придавал огромное значение первым впе-
чатлениям, всю свою жизнь затем меряя не
годами, а потрясениями, каждое из кото-
рых становилось для него вехой и поворот-
ным пунктом на жизненном пути.
Семья будущего поэта была отнюдь не
рядовой. Отец Леонид Осипович Пастер-
нак — известный живописец, график, ил-
люстратор, чья творческая манера, по мне-
нию ценителей, была близка столь новым
для тех лет импрессионистам. Мать — Ро-
залия Исидоровна Кауфман, замечательная
пианистка, в 22 года ставшая профессором
Императорского русского музыкального об-
щества. В письме Марине Цветаевой от
26 апреля 1926 года Борис Пастернак рас-
сказывал семейное предание, как его мать
«...в 12 лет играла концерт Шопена, и кажет-
ся Рубинштейн дирижировал. Или присутствовал
на концерте в Петербургской консерватории...
Когда она кончила, он поднял девочку над ор-
кестром на руки и, расцеловав, обратился к залу
(была репетиция, слушали музыканты) со слова-
ми: «Вот как это надо играть».
Концерты Розалии Исидоровны всегда
становились событием, однако выступала
она редко, не раз надолго оставляя искусст-
во ради семьи: кроме старшего сына, Бори-
са, появившегося на свет 10 февраля (29 ян-
варя ст. ст.) 1890 года, у нее было еще трое
детей. Второй сын Александр (1893) впос-
ледствии стал известным архитектором.
Дочь Жозефина (1900), после революции
оказавшись в эмиграции, под псевдонимом
Анна Ней получила известность как поэт,
философ и переводчик. Наконец, младшая
дочь Лидия Пастернак- Слейтер (1902) —
ученый-биохимик, поэт, прозаик, перевод-
чик — вместе с сестрой много сделала для
популяризации за рубежом творчества Бо-
риса Пастернака.
Даже зная, с какими трудностями подчас
приходилось сталкиваться семье Пастерна-
ков, ее, без сомнения, можно назвать счаст-
ливой: в доме обычно царила теплая, твор-
ческая обстановка. Среди близких друзей
семьи были такие известные художники,
как Н. Ге, В. Серов, В. Поленов, И. Левитан
и др. Доверительные отношения у Леонида
Осиповича установились с Л. Н. Толстым:
иллюстрации художника к романам Толсто-
го «Война и мир» и «Воскресение» принесли
ему мировую известность, сам писатель не-
однократно приглашал к себе Пастернаков и
бывал у них в гостях.
Гостеприимный дом Пастернаков всегда
был открыт для друзей и знакомых; особен-
но популярны были рисовальные, а также
380
Борис Леонидович Пастернак
музыкальные вечера, на которые собира-
лись многие известные люди того времени.
Один из таких вечеров, посвященный памя-
ти композитора Антона Рубинштейна, стал
первым отчетливым детским впечатлением
четырехлетнего Бори: мальчик спал в дет-
ской, когда его мать вместе с другими му-
зыкантами играла Трио Чайковского; сре-
ди слушателей находился и Л. Н. Толстой.
Громкая музыка разбудила мальчика, и
его, плачущего, на руках вынесла няня,
чтобы он успокоился:
«Отчего же я плакал так и так памятно мне
мое страдание? К звуку фортепьяно в доме я при-
вык, на нем артистически играла моя мать. Голос
рояля казался мне неотъемлемой принадлежнос-
тью самой музыки. Тембры струнных, особенно в
камерном соединении, были мне непривычны и
встревожили, как действительные, в форточку
снаружи донесшиеся зовы на помощь и вести
о несчастье. Эта ночь межевой вехой пролег-
ла между беспамятностью младенчества и мо-
им дальнейшим детством. С нее пришла в дейст-
вие моя память и заработало сознание, отныне
без больших перерывов и провалов, как у взрос-
лого» —
так впоследствии в автобиографическом
очерке «Люди и положения» вспоминал
Б. Пастернак об этом эпизоде. Поэт прида-
вал ему большое значение, поскольку с это-
го момента для него открылось то, что му-
зыка может волновать, потрясать, а редкая
впечатлительность вообще была в натуре
будущего писателя. Память Б. Пастернака
хранила немало подробностей первых лет
жизни, рассыпанных в его поздних пись-
мах, стихотворениях и прозе. Неудивитель-
но, что пронизанная токами творчества до-
машняя обстановка сформировала лич-
ность яркую, многосторонне одаренную.
В своих играх дети копировали жизнь
родителей и их ближайшего окружения.
Они устраивали «вернисажи» своих рисун-
ков, издавали рукописный журнал, глав-
ным редактором и автором большинства
материалов был, конечно, Борис, а в каче-
стве иллюстратора обычно выступал его
брат. Впрочем, Борис и сам неплохо рисо-
вал. «Мог бы стать художником, если бы
работал», — не раз повторял его отец, одна-
ко опытам сына в живописи никак не спо-
собствовал и не препятствовал, будучи уве-
рен, что «если человеку дано, он и сам вы-
берется». Это дарование, прямо не
развиваемое, все равно нашло свое прелом-
ление в лирике поэта. С первых стихов Пас-
тернак был озабочен тем, чтобы избежать в
лирике умозрительности его предшествен-
ников, языком словесного пейзажа, а не
философии говорить о своих чувствах.
Также не забылось и страстное детское
увлечение ботаникой и энтомологией —
наукой о насекомых. Стремление к конк-
ретности в поэзии, неприязнь к общим сло-
вам приводили, по словам Л. А. Озерова, к
тому, что «для Пастернака недостаточно
было сказать: «растение», «трава», «злак».
Он скажет: «анемон», «чистотел», «круче-
ный паныч», «хвощ», «хрен», «центифо-
лия», «ночная красавица».
От себя же добавим, что в ранние стихи
поэта могла залететь и экзотическая бабоч-
ка «mortuum caput» — «Мертвая голова», и
более известный нам шелкопряд.
Сильным потрясением детства стала для
Бориса демонстрация в Зоологическом са-
ду, излюбленном месте отдыха москвичей,
этнографической труппы африканских
амазонок — женщин-воинов из дагомейско-
го племени. Несмотря на то что эти женщи-
ны были больше актрисами, разыгрывав-
шими сцены из своей жизни и исполняв-
шими первобытные танцы, мальчик был
навсегда ранен видом унижаемых — и не
догадывающихся о своем унижении — жен-
щин. В автобиографическом очерке «Ох-
ранная грамота» Пастернак писал:
«...Первое ощущение женщины связалось у
меня с ощущением обнаженного строя, сомкнуто-
го страданья, тропического парада под барабан...
Раньше, чем надо, стал я невольником форм, по-
тому что слишком рано увидал на них форму не-
вольниц*.
Тема женского страдания, нелегкой и
тем не менее святой участи женщины ста-
нет сквозной в творчестве писателя, найдя
свое художественное завершение в главном
его произведении — романе «Доктор Жива-
го».
381
Русские писатели XX века
С семи лет Бориса стали готовить к по-
ступлению в Московскую гимназию № 5 —
одну из лучших в то время. Только оконча-
ние казенной гимназии с золотой медалью
давало в то время право поступления в Мос-
ковский университет. Домашнее обучение
принесло свои плоды: предварительные эк-
замены летом 1900 года были сданы успеш-
но. Однако существующие в то время квоты
на количество учеников-евреев стали серь-
езным препятствием для поступления
мальчика в 1-й класс гимназии, не помогли
даже ходатайства весьма влиятельных лиц
и широкая известность отца. Лишь благо-
даря директору гимназии через год Борис
был зачислен во 2-й класс на освободившее-
ся к тому времени место.
Летом Пастернаки обычно снимали дачу.
В 1903 году их соседями по даче были Скря-
бины. Не раз Боря и Шура тайком слушали,
как работает композитор А. Н. Скрябин. Од-
но из приключений этого лета чуть не стои-
ло Борису жизни, став, должно быть, одной
из самых важных вех в его творческой судь-
бе. Леонид Осипович давно хотел нарисо-
вать картину «В ночное*, задумав изобра-
зить молодых крестьянок из соседнего села,
которые ежевечерне верхом на неоседлан-
ных лошадях проносились мимо дачи в сто-
рону реки. Борис же был одержим мыслью
самому съездить в ночное, попробовать свои
силы в бешеном галопе. Однако попытка за-
кончилась трагически: юноша не удержался
на лошади и на всем скаку упал под копыта
несущегося табуна. С переломом бедра он
был доставлен на дачу и вынужден был пол-
тора месяца пролежать в гипсе.
Через десять лет после этого события,
которое, кстати, произошло в церковный
праздник Преображения Господня (6 авгус-
та ст. ст., Борис Пастернак в одном из ран-
них прозаических опытов передал свое со-
стояние, последовавшее за пробуждением в
«ортопедических путах»:
«Мне жалко 13-летнего мальчика с его катаст-
рофой 6 августа. Вот как сейчас лежит он в своей
незатвердевшей гипсовой повязке, и через его
бред проносятся трехдольные, синкопированные
ритмы галопа и падения. Отныне ритм будет со-
бытием для него, и обратно — события станут
ритмами; мелодия же, тональность и гармония —
обстановкою и веществом события. Еще накану-
не, помнится, я не представлял себе вкуса творче-
ства. Существовали только произведения, как
внушенные состояния, которые оставалось толь-
ко испытать на себе. И первое пробуждение в ор-
топедических путах принесло с собою новое: спо-
собность распоряжаться непрошенным, начинать
собою то, что до сих пор приходило без начала и
при первом обнаружении стояло уже тут, как
природа».
С этого момента Борис Пастернак вел от-
счет своей жизни в творчестве, ведь про-
буждение, после того как он пришел в себя,
стало моментом осознания, что возможно
не только воспринимать написанное
кем-то, но и самому стать творцом прекрас-
ного. С осени 1903 года под руководством
Ю. Д. Энгеля, музыкального критика, те-
оретика музыки, Борис начинает серьезные
занятия музыкой. Целью занятий было по-
ступление в Московскую консерваторию.
Настоящим потрясением для впечатли-
тельного юноши стали московские события
осени 1905 года. Мирные манифестации и
столкновения с жандармами, похороны ре-
волюционера Баумана и строительство
баррикад на Пресне — все это надолго запе-
чатлелось в его памяти. В один из вечеров
Борис, рвавшийся в эпицентр событий, ко-
торые взорвали всю страну, оказался в
группе спасавшихся от конного патруля
людей и даже получил несколько ударов
нагайкой. События этой осени впоследст-
вии преломились в поэме Бориса Пастерна-
ка «1905 год».
Опасаясь за детей (боялись участивших-
ся погромов), Пастернаки вынуждены были
уехать на время за границу, в Германию, в
Берлин. Здесь Борис совершенствовал свой
немецкий, овладевая особенностями бер-
линского диалекта. Здесь же продолжил и
занятия музыкой с Юлием Энгелем: извест-
ны по крайней мере две прелюдии, напи-
санные Пастернаком в то время. По возвра-
щении в Москву летом 1906-го Леонид Оси-
пович был удостоен диплома Академии
художеств, признавшей живописца своим
академиком.
382
Борис Леонидович Пастернак
Весной 1908 года Борис Пастернак блес-
тяще, с золотой медалью, окончил полный
(восьмигодичный) курс гимназии и без эк-
заменов был зачислен на первый курс юри-
дического факультета Московского уни-
верситета. Музыкальным руководителем
Бориса в этот период был композитор Рейн-
гольд Глиэр, с которым тот экстерном про-
шел полный консерваторский курс, за иск-
лючением оркестровки. Однако сам Пастер-
нак не был уверен в правильности
выбранного им пути: сомнения возникали
при сравнении собственной музыкальной
техники с исполнительским мастерством
матери. Вторым источником сомнений ста-
ло отсутствие абсолютного слуха — способ-
ности на слух определять высоту любой
произвольно взятой ноты. По мнению Бо-
риса, абсолютный слух был необходим то-
му, кто делает музыку основным содержа-
нием своей жизни. Учеба на юридическом
факультете также не приносила удовле-
творения. По совету своего кумира, компо-
зитора А. Н. Скрябина, в это время вер-
нувшегося из Парижа, Борис перевелся
на философское отделение филологическо-
го факультета университета. Скрябин, бу-
дучи убежден, что сфера музыки гораздо
шире просто искусства, считал необходи-
мым для композитора философское образо-
вание. Однако Скрябин не одобрял склон-
ности Пастернака к музыкальным импро-
визациям, считая, что музыкальная мысль
должна отливаться в законченную и отто-
ченную форму. К тому же знаменитый ком-
позитор однажды помимо своей воли пока-
зал, что и сам лишен абсолютного слуха.
Все это, помноженное на необходимость уг-
лубиться в изучение философии, предопре-
делило внутреннюю готовность Бориса от-
казаться от профессиональных занятий му-
зыкой. Было и еще одно обстоятельство,
отдалившее от нее Пастернака: осенью
1909-го он был принят в кружок «Сердар-
да», который возглавлял поэт и художник
Юлиан Анисимов. К этому же году относит-
ся и первый из известных поэтических опы-
тов Бориса — стихотворение «Сумерки...
словно оруженосцы роз...». Ряд других ран-
них стихотворений, а также наброски про-
зы расположились на обороте университет-
ского реферата «Психологический скепти-
цизм Юма».
Однако до серьезных занятий поэзией
было пока далеко: свои поэтические опыты
Борис старался держать в секрете, доверяя
их только наиболее близким людям. В это
время он серьезно занимался философией:
посещал семинары Густава Шпета — впос-
ледствии крупного русского мыслителя,
участвовал в работе философского кружка
под руководством Ф. А. Степуна. 8 ноября
1910 года вместе с отцом он отправился на
станцию Астапово — проститься с умер-
шим здесь Л. Н. Толстым. Болезнь в пути
подкосила великого писателя, незадолго до
того покинувшего Ясную Поляну в стрем-
лении развязать сложный узел домашних
разногласий и собственных внутренних
противоречий. Этот решительный поступок
писателя, как и его трагическая смерть,
сильно подействовало на юношу: нравст-
венно-этические воззрения Толстого, осо-
бенно его призыв «жить по совести», были
близки Пастернаку.
Очередным переломным моментом в
жизни Бориса стала его поездка в Марбург,
где он намеревался продолжить философ-
ское образование в Марбургском универси-
тете под руководством одного из крупней-
ших мыслителей современности, основате-
ля неокантиантства Германа Когена и его
учеников Пауля Наторпа и Николая Гарт-
мана, чьи работы юноша изучал еще в
Москве. Успехи русского студента привлек-
ли к себе внимание 70-летнего профессора.
Герман Коген пригласил его к себе на обед,
чтобы обсудить с ним возможности даль-
нейшей карьеры философа. Однако к тому
моменту Пастернак уже знал, что филосо-
фия — не его поприще. Его импульсивному
характеру была чужда сама мысль о том,
чтобы сделаться добропорядочным бюрге-
ром, профессиональными систематически-
ми размышлениями зарабатывающим себе
на хлеб.
Не последнюю роль в выборе поэта сыг-
рал и приезд в Марбург давней знакомой
Иды Высоцкой и ее младшей сестры.
С Идой Бориса связывали непростые отно-
383
Русские писатели XX века
шения, всю серьезность которых он осозна-
вал еще с 14 лет. Пять дней гостили девуш-
ки в городе; накануне отъезда Борис попро-
сил Иду решить его судьбу. Последовал
отказ. Провожая сестер, он вспрыгнул на
подножку уходящего поезда и доехал вмес-
те с девушками до Берлина. Возвращение в
Марбург Пастернак всегда считал своим
«вторым рождением» — на этот раз в каче-
стве настоящего поэта. Этому событию он
посвятил стихотворение «Марбург»: силь-
ное переживание настолько меняет вос-
приятие окружающего, что для подлинного
творчества достаточно лишь точно передать
то, как изменился мир вокруг. Данная
мысль, легшая в основу этого стихотворе-
ния, потом со всей определенностью была
выражена поэтом в «Охранной грамоте»:
«Наставленное на действительность, смещае-
мую чувством, искусство есть запись этого смеще-
ния. Оно его списывает с натуры... Прямая речь
чувства иносказательна, и ее нечем заменить».
Впрочем, решение оставить философию
ради поэзии Пастернак откладывает до
Москвы, хотя внутренне он укрепляется в
нем после второй встречи с Идой на ее дне
рождения в Киссингене, куда молодой че-
ловек едет, чтобы последний раз удостове-
риться в полученном отказе. Скептически
воспринял решение юноши вернуться в
Москву и старый профессор Коген:
«Его интересовали мои планы. Он их не одоб-
рял. По его мненью, следовало остаться у них до
докторского экзамена, сдать его и лишь после то-
го возвращаться домой для сдачи государственно-
го, с таким расчетом, что, может быть, впоследст-
вии вернуться на Запад и там обосноваться.
Я благодарил его со всею пылкостью за гостепри-
имство... Но как мог я сказать ему, что филосо-
фию забрасываю бесповоротно, кончать же в
Москве собираюсь, как большинство, лишь бы
кончить, а о последующем возвращении в Мар-
бург даже не помышляю?»
Дома Пастернак погрузился в поэзию.
Он читал современных поэтов и их пред-
шественников, посещал литературные ве-
чера и собрания, участвовал в дискуссиях
по вопросам литературы и искусства. В
феврале 1913 года в кружке по исследова-
нию проблем эстетической культуры и сим-
волизма в искусстве он прочитал доклад
«Символизм и бессмертие», основные поло-
жения которого легли в основу складываю-
щейся эстетической системы поэта. Суть
доклада — убежденность, что, преломляясь
в творчестве, субъективный опыт поэта
очищается от всего личного и поднимается
до степени общезначимого, общечеловече-
ского, становясь тем самым формой бес-
смертия художника. Передавая свои впе-
чатления от окружающего мира, поэт тем
самым в действительности передает свое
психическое состояние, предопределившее
характер этих впечатлений, для того чтобы
другие могли узнать в данных состояниях
свои собственные. Понимание бессмертия
Пастернаком отчасти близко пушкинскому
♦Нет, весь я не умру — душа в заветной ли-
ре // Мой прах переживет и тленья убе-
жит...». Доклад был восторженно встречен
слушающими.
Весной 1913 года Борис сдал государ-
ственные экзамены. История Греции, древ-
няя и средневековая философия, новая рус-
ская литература, а также новая история и
новая философия — все предметы были сда-
ны на высшую оценку — «весьма удовлет-
ворительно». 7 июня Пастернак получил
выпускное свидетельство о том, что он удос-
тоен диплома кандидата философии первой
степени. А немногим раньше он дебютиро-
вал как поэт: из печати вышел альманах
«Лирика», в котором было представлено 5
его стихотворений.
Каникулярное лето 1913 года почти це-
ликом было посвящено творчеству: думать
о начале служебной карьеры пока не хоте-
лось. В это время Пастернак особенно близ-
ко сошелся с четой Анисимовых — Юлиа-
ном и его женой Верой Станевич, а также с
Сергеем Бобровым — поэтом и критиком,
последнее время посвятившим себя изда-
тельской деятельности. Именно Сергею
Боброву принадлежала идея опубликовать
первую книгу стихов Бориса Пастернака
«Близнец в тучах». Она была отпечатана
тиражом 200 экземпляров 19 декабря 1913
года и в основном включала в себя стихо-
творения, написанные минувшим летом.
384
Борис Леонидович Пастернак
Стихотворения предварялись дружеским
предисловием Н. Асеева. Основные темы
сборника — любовь и дружба, творчество и
космос, смерть и бессмертие, сон и сновиде-
ния. Позднее поэт был недоволен книгой;
об очерке «Люди и положения» он, в част-
ности, писал:
«...Я в течение двух или трех летних месяцев
написал стихотворения своей первой книги.
Книга называлась до глупости притязательно
«Близнец в тучах», из подражания космологиче-
ским мудреностям, которыми отличались книж-
ные заглавия символистов и названия их изда-
тельств.
Писать эти стихи, перемарывать и восстанав-
ливать зачеркнутое было глубокой потребностью
и доставляло ни с чем не сравнимое, до слез дово-
дящее удовольствие.
Я старался избегать романтического наигры-
ша, посторонней интересности... Я ничего не вы-
ражал, не отражал, не отображал, не изобра-
жал... моя постоянная забота обращена была на
содержание, моей постоянной мечтою было, что-
бы само стихотворение нечто содержало, чтобы
оно содержало новую мысль или новую картину».
Лишь некоторые из стихотворений этого
сборника, значительно переработанные,
впоследствии были разрешены требователь-
ным автором к переизданию; об остальных
он предпочитал не вспоминать. Однако не-
мало современников, хотя и признавали пе-
реусложненность, непонятность книги, не-
уклюжесть отдельных образов и формаль-
ных ходов, в целом встретили «Близнеца в
тучах» вполне благожелательно. Даже та-
кой скупой на похвалы мэтр, как В. Брю-
сов, в обзорной статье 1914 года отметил са-
мобытность дара начинающего поэта. Пуб-
ликация в «Лирике* и первая книга стихов
завершили исходный период творчества
Б. Пастернака, определенный самим авто-
ром как «Начальная пора» его поэтической
деятельности.
«ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ»
Зимой 1913/14 года Борис Пастернак
жил в основном на заработки репетитора.
В этот период и он, и его друзья С. Бобров и
Н. Асеев объединились в новую группу, ко-
торую назвали «Центрифугой».
Творческая направленность членов
«Центрифуги» была вполне футуристиче-
ской, и потому требовалось найти свою ни-
шу среди представителей этого еще нового
течения. В конце апреля 1914 года вышел
первый альманах группы, получивший экс-
травагантное название «Руконог». Помимо
трех не типичных для манеры Пастернака
стихотворений, явно несущих следы внеш-
него, а не внутреннего заказа, Борис высту-
пил в этом альманахе с полной полемиче-
ского задора статьей «Вассерманова реак-
ция», направленной против главного
неприятеля «Центрифуги» в стане футурис-
тов поэта Вадима Шершеневича, лидера
группы «Мезонин поэзии». Альманах, как
и было рассчитано, вызвал взрыв негодова-
ния в лагере противника, и 2 мая авторы
«Руконога» получили ультиматум, подпи-
санный К. Большаковым, В. Маяковским и
В. Шершеневичем. Однако назначенная
встреча соперников в кондитерской на Ар-
бате неожиданно закончилась почти при-
мирением. Маяковский и Пастернак не
только почти сразу нашли общий язык, но
и явно понравились друг другу, так что
вскоре в одной из газет появилось письмо с
извинениями, подписанное С. Бобровым.
Теплые же отношения друг к другу, несмо-
тря на порой возникавшие разногласия,
Пастернак и Маяковский пронесли через
всю жизнь. Сила влияния творческой мане-
ры Маяковского была столь велика, что
Пастернак, по его собственному призна-
нию, должен был сопротивляться этому
воздействию:
«Чтобы не повторять его и не казаться его под-
ражателем, я стал подавлять в себе задатки, с
ним перекликавшиеся, героический тон, кото-
рый в моем случае был бы фальшив, и стремление
к эффектам. Это сузило мою манеру и ее очисти-
ло».
На лето Б. Пастернак получил первый
серьезный литературный заказ — перевод
комедии немецкого романтика Генриха
Клейста «Разбитый кувшин». Работа ос-
ложнялась тем, что средствами русского
385
Русские писатели XX века
языка предстояло передать строй немецкой
народной речи, к тому же пьеса изобилова-
ла шутками и поговорками. За четыре неде-
ли 3 тысячи строк комедии были переведе-
ны, однако от постановки заказавший пье-
су Камерный театр «из патриотических
соображений» вынужден был отказаться
(началась Первая мировая война), опубли-
кована же комедия была лишь в мае
1915 года.
Война была трезво встречена поэтом: он
не поддался временному воодушевлению,
подобно многим своим современникам, в
том числе и В. Маяковскому. Отношение к
войне преломилось в таких стихотворени-
ях, как «Артиллерист стоит у кормила» и,
отчасти, «Дурной сон». Пастернак был
освобожден от призыва в армию из-за по-
следствий падения с лошади. Жизнь в
Москве становилась все более и более тяже-
лой, и Пастернак решил воспользоваться
предложением и занять должность контор-
щика на химических заводах неподалеку от
Соликамска, на станции Всеволодо-Вильво,
что на Урале.
Впечатление от рассвета, который Пас-
тернак встретил в поезде, преодолевавшем
Уральский хребет, дало импульс к написа-
нию стихотворения «Урал впервые*. В се-
редине января 1916 года он прибыл на стан-
цию своего назначения: окружающий его
пейзаж существенно отличался от привыч-
ных среднерусских, требуя своего поэтиче-
ского воплощения. Такая кардинальная
смена обстановки плюс необходимый для
этого досуг позволили с новыми силами
взяться за творчество. Пастернак возобно-
вил занятия музыкой, написал ряд стихо-
творений, вошедших затем в сборник «По-
верх барьеров», продолжил свои опыты в
прозе. Новелла «Апеллесова черта» рас-
сказывала о соперничестве в творчестве и
любви двух поэтов — Эмилио Релинквими-
ни и Генриха Гейне. Новое серьезное увле-
чение — занятие фотографией. А вот охот-
ника из Пастернака не получилось:
«Исслонявшись по болотам битых четыре часа
и не выпустив ни одного заряда, я так обозлился,
что готов был по вороне стрелять. Вот я и избрал
себе наималейшую из всех живых целей на высо-
кой ветке. Зачем я попал в нее! Бедная, бедная
птичка! Когда я ее подобрал — она была на Лидка
похожа, и я себя прямо людоедом чувствовал, до
сих пор мне мерзко», — писал Борис родителям.
Весною 1916 года он задумал оставить
Урал и съездить в Ташкент, где в это время
жила Надя Синякова — одна из пяти сестер
Синяковых, чей московский гостеприим-
ный дом всегда был местом сборищ творче-
ской молодежи тех лет. Надя тогда была
серьезным увлечением Бориса, правда, ро-
дители не одобряли его выбора. Однако от
поездки пришлось отказаться. Осенью
1916 года он переехал в прикамский горо-
док Тихие Горы неподалеку от Елабуги.
Здесь в свободное от работы в конторе и за-
нятий с учеником время он переводит тра-
гедию английского поэта Ч. А. Суинберна
«Пьер де Шателяр», пишет новеллу «Исто-
рия одной контроктавы*, еще несущую на
себе черты романтической стилистики (ор-
ганист, увлеченный игрой, становится ви-
новником гибели своего малолетнего сына),
а также продолжает активную переписку.
Пребывание вдали от Москвы с ее кипучей
литературной жизнью и окололитератур-
ными склоками позволяло Пастернаку от-
казываться от подчас чересчур настойчи-
вых просьб С. Боброва принять в них де-
ятельное участие. Его больше заботила
подготовка второй книги стихотворений;
после долгих размышлений для нее было
выбрано заглавие «Поверх барьеров* —
строка из стихотворения «Петербург»:
Попробуйте, лягте-ка
Под тучею серой,
Здесь скачут на практике
Поверх барьеров.
Посылая в июне 1926 года эту книгу Ма-
рине Цветаевой, Пастернак достаточно
сдержанно оценил ее:
«Всего хуже середина книги... Непозволитель-
но обращенье со словом. Потребуется перемеще-
ние ударенья ради рифмы — пожалуйста: к услу-
гам этой вольности областные отклоненья или
приближения иностранных слов к первоисточни-
кам. Смешенье стилей... Куча всякого сору.
Страшная техническая беспомощность при внут-
386
Борис Леонидович Пастернак
рением напряжении может быть большем, чем в
следующих книгах... Опечаток больше, чем сти-
хов, потому что жил тогда (16 г.) на Урале. Поста-
рался Бобров. Типический грех горячо преданно-
го человека. Т. е. правил и выпускал он».
Выход книги в последних числах дека-
бря 1916 года знаменовал для поэта новую
веху его творческой жизни: он уже ощу-
щал, что «Поверх барьеров» качественно
отличается от его предыдущего сборника.
Это ощущение дало новый импульс для
творчества и заставило всерьез задуматься
о возвращении в Москву. Известия из Пе-
тербурга об отречении царя от престола ус-
корили отъезд. Возвращение в Москву
сблизило Пастернака с Еленой Виноград —
девушкой драматической судьбы, которую
Борис знал еще девочкой, с 1910 года. На
войне Елена потеряла своего жениха, Сер-
гея Листопада: эта потеря существенно из-
менила ее взгляды на собственную судьбу.
Душевный надлом стал не только причиной
сочувствия к ней Бориса, доходящего у не-
го до обожания, но и существенно ослож-
нил их отношения. На чистых и заклеен-
ных листах сборника «Поверх барьеров»
Пастернаком набрасывались стихи нового
сборника, которому предстояло стать, по
признанию многих, лучшей книгой его ран-
него творчества. Весенние прогулки по
Москве, впечатления от взбаламученного
революционными событиями города, лет-
ние поездки к Елене в село Романовка и Ба-
лашов Саратовской губернии, где девушка
принимала участие в создании органов
местного самоуправления, — все это отли-
валось в изумительные по своей искреннос-
ти и совершенству строки.
***
Грандиозные события октября 1917 года
в восприятии поэта тесно сплелись с исто-
рией его любви: отношение к ним Пастер-
нака было весьма противоречивым. Он по-
нимал неизбежность всего происшедшего,
видел в революции естественное следствие
абсурда затянувшейся Первой мировой вой-
ны и общего тяжелейшего положения рус-
ского народа. Однако разгон большевиками
Учредительного собрания и убийство рево-
люционными матросами двух депутатов от
партии кадетов потрясли поэта. Стихотво-
рения «Мутится мозг. Вот так? В палате?..»
(написано под впечатлением кровавой рас-
правы), а также «Боже, ты создал быстрой
касатку...» и «Русская революция» не при-
надлежат к числу лучших у него, однако
несут на себе следы скорого разочарования
Пастернака в происходящих переменах. -
Зимой 1917/18 года Пастернак работал
над новой прозой — к весне 1918-го руко-
пись романа объемом около 360 страниц
была вчерне завершена. Первая часть не-
сохранившегося произведения была по-
зднее опубликована под названием «Детст-
во Люверс». В ней повествовалось о том,
как, постепенно взрослея и открывая для
себя окружающий ее мир, девочка Женя
Люверс становится настоящим человеком,
умеющим сострадать чужой боли, осозна-
вать уникальность всякой, даже наиболее
униженной личности. Той же весной Елена
Виноград вышла замуж за владельца ману-
фактуры под Ярославлем, убедив себя, что
у них с Борисом не может быть общего бу-
дущего. Стихи новой поэтической книги,
почти не пополнившись за это время, около
4 лет ждали публикации отдельным изда-
нием, лишь изредка поодиночке появляясь
в том или ином периодическом органе.
Пастернак поступил на службу в создан-
ную по инициативе М. Горького при Нар-
компросе Комиссию по охране культурных
ценностей, а также взялся за переводы не-
скольких трагедий Генриха Клейста для
издательства «Всемирная литература»,
«Масляничных интермедий» Ганса Сакса и
комедии Бена Джонсона «Алхимик». Чис-
лился он и среди сотрудников Театрального
отдела, рецензируя поступавшие для изда-
ния рукописи. В написанной в это время
статье «Несколько положений» поэт в оче-
редной раз попытался сформулировать свои
взгляды на природу и смысл поэтического
творчества, на связь искусства с жизнью:
«Современные течения вообразили, что искус-
ство как фонтан, тогда как оно — губка.
387
Русские писатели XX века
Они решили, что искусство должно бить, тогда
как оно должно всасывать и насыщаться.
Они сочли, что оно может быть разложено на
средства изобразительности, тогда как оно скла-
дывается из органов восприятия...
...Книга есть кубический кусок горячей, ды-
мящейся совести — и больше ничего...
Без нее духовный род не имел бы продолже-
ния. Он перевелся бы».
Понимание нравственной ответственнос-
ти писателя за свои произведения пришло к
поэту тогда, когда еще не было настолько
опасно всякое проявление свободной мысли
в творчестве, а любое отклонение от диктуе-
мой линии многими воспринималось скорее
как безрассудство, чем как подвиг. Хотя,
по мысли Пастернака, нет ничего героиче-
ского в том, чтобы творить, сообразуясь с
внутренним диктатом, а не диктатом конъ-
юнктуры или политики. Поэтому поэт стои-
чески переносил трудности первых после-
революционных лет, иронично описывая
свои будни в письме Петровскому от 6 апре-
ля 1920 года:
«А ужасная зима была здесь в Москве. Вы
слыхали, наверное. Открылась она так. Жильцов
из нижней квартиры погнал изобразительный от-
дел вон; нас, в уваженье к отцу и ко мне пощади-
ли, выселять не стали. Вот мы и уступили им пол-
квартиры, уплотнились. Очень, очень рано, не-
ожиданно рано выпал снег, в начале октября
зима установилась полная. Я словно переродился
и пошел дрова воровать у Ч.К. по соседству. Так
постепенно сажень натаскал. И еще кое-что в том
же духе. — Видите вот и я — советский стал. Я к
таким ужасам готовился, что год мне, против
ожиданий, показался сносным и даже счастли-
вым — он протек «еще на земле», вот в чем
счастье*.
Привычка довольствоваться малым в
этот раз сослужила добрую службу. Поэт до-
вольствовался тем, что он мог выручить от
своих выступлений на вечерах Всесоюзного
союза поэтов и сотрудничая с газетой желез-
нодорожников «Гудок», где Пастернак дол-
жен был править неловкие поэтические
опыты начинающих стихотворцев. Изредка,
в малотиражных изданиях, публиковались
и его оригинальные произведения. Летом
1921 года произошло знакомство с будущей
женой Бориса Леонидовича, художницей
Евгенией Владимировной Лурье: «Гордое
лицо с довольно крупными смелыми черта-
ми, тонкий нос со своеобразным вырезом
ноздрей, огромный, открытый, умный лоб.
Женя одна из самых умных, тонких и обая-
тельных женщин, которых мне пришлось
встречать» — так передавала свое впечатле-
ние о ней Е. Б. Черняк.
Семья поэта в это время, не имея больше
сил бороться за элементарное выживание в
условиях военного коммунизма и отстаи-
вать и без того поделенную с чужими людь-
ми квартиру, вынуждена была оставить ро-
дину и перебраться в Берлин.
В апреле 1922 года в издательстве Грже-
бина в Москве вышла книга стихов «Сестра
моя — жизнь».
«...Ограничив себя ремеслом, я боялся всякой
поэтизации, которая поставила бы меня в ложное
и несоответственное положенье.
Когда же явилась «Сестра моя — жизнь», в ко-
торой нашли выраженье совсем не современные
стороны поэзии, открывшиеся мне революцион-
ным летом, мне стало совершенно безразлично,
как называется сила, давшая книгу, потому что
она была безмерно больше меня и поэтических
концепций, которые меня окружали», — вспоми-
нал впоследствии в «Охранной грамоте» поэт.
Новизна этого сборника заключалась
прежде всего в том, что в нем стремление
Пастернака писать сразу книгу нашла свое
полнейшее выражение. Автобиографиче-
ская основа сборника «Сестра моя —
жизнь», имевшего подзаголовок «Лето 1917
года», стала настолько прочной нитью,
скрепляющей отдельные стихотворения,
что некоторые критики это произведение
называют «романом в стихах». Сборник
♦Темы и вариации», подготовленный и
опубликованный поэтом вслед за третьей
книгой стихов в январе 1923 года, такой
цельностью уже не обладал, хотя и состоял
из ряда циклов, образующих собой как бы
♦главы» этой книги. Пастернак, по словам
В. Андреева, в разговоре с ним утверждал,
что
«книга построилась как некое музыкальное
произведение, где основные мелодии разветвля-
388
Борис Леонидович Пастернак
ются и, не теряя связи с основной темой, вступа-
ют в самостоятельную жизнь».
Действительно, в духе времени компози-
ция сборника была далека от традиционной
и скорее приближалась к композиции му-
зыкальной: некогда оставленное поэтом
композиторское поприще не только вре-
менами «бросало» его к роялю, к много-
часовым импровизациям, но и нашло отра-
жение в его поэтическом творчестве. Сам
Пастернак в дарственной надписи М. Цве-
таевой определил «Темы и вариации» как
«высевки и опилки»: стихи книги писались
в то же время, что и стихотворения «Сестры
моей — жизни», однако по тем или иным
причинам не вошли в предыдущее издание.
Пастернак в отличие от многих критиков и
просто ценителей его поэзии был недоволен
сборником, в январе 1923 года в письме
своему другу С. Боброву признавался:
«Лично я книжки не люблю, ее, кажется, до-
ехало стремление к понятности. Невзирая на это,
все тут, словно сговорившись, покончили со мной,
сошедшись на моей «полной непонятности».
В августе 1922 года Пастернак вместе с
молодой женой покинули Москву, и, пожив
неделю в Петрограде, на пароходе отправи-
лись в Германию. Борис Леонидович меч-
тал познакомить родителей с Евгенией Вла-
димировной, а ее саму — с Германией, ко-
торая так много значила в его судьбе.
Именно в Берлине и была опубликована его
четвертая книга стихов.
В это время Берлин, будучи «западными
воротами» русской эмиграции, благодаря
лояльности германского правительства к
установившемуся в России режиму и отсут-
ствию «железного занавеса» стал своеобраз-
ным местом встречи двух культур: молодой
советской — и той части культуры русского
зарубежья, которая была способна к кон-
такту с ней. Выгодность издательского дела
обусловила настоящий бум книгопечата-
ния: в издательствах Гржебина, «Гели-
кон», «Петрополис», «Эпоха» и др. публи-
ковались как официальные художники
большевистской России, так и ее изгнанни-
ки. Излюбленным местом встречи предста-
вителей двух «материков» единой русской
культуры был так называемый «Дом ис-
кусств» — кафе «Леон» на площади Нолен-
дорфплатц: здесь регулярно устраивались
литературные вечера. На одном из таких
вечеров Пастернак читал стихи из «Сестры
моей — жизни».
«Он произносил слова стихов ритмично и глу-
хо. Почти без жестов, в крайнем напряжении и
абсолютной уверенности в музыкальной точности
произносимого слова... По мере того как я слу-
шал Пастернака, всё становилось стихами. Как
Орфей, он превращал в поэзию окружающий
мир... Глуховатый голос зажигал произносимые
слова, и строка вспыхивала, как цепочка улич-
ных фонарей. Лицо Пастернака было сосредото-
ченно, замкнуто в самом себе. Я подумал, что та-
ким было лицо Бетховена, сквозь глухоту вслу-
шивающегося в свою музыку...» — вспоминал о
выступлении поэта Вадим Андреев, сын писателя
Л. Андреева.
Борис Пастернак посещал литературные
вечера и собрания, общался с эмигрантами,
в том числе с И. Эренбургом, Б. Зайцевым,
Р. Якобсоном, А. Белым, В. Ходасевичем и
др. Вместе с женой он съездил в Гарц, Кас-
сель и, наконец, в Марбург — город его
юности был одной из главных целей этой
поездки. Встреча с родителями оказалась
для Бориса последней, о чем тогда они еще
не догадывались, условившись о свидании
через год.
Весной 1923 года супруги вернулись в
Москву; лето они провели на снимаемой да-
че, а в сентябре Евгения Владимировна ро-
дила сына, названного Евгением.
«ВЫСОКАЯ БОЛЕЗНЬ»
Поездка в Берлин стала для поэта пери-
одом, когда он на время почти оставил поэ-
тическое творчество, и тому было много
причин. Во-первых, сыграла роль неудов-
летворенность «Темами и вариациями»,
ощущение их вторичности по сравнению
с цельной, свежей «Сестрой моей — жиз-
нью*. Вторую причину поэт объяснил во
вступлении к роману в стихах «Спектор-
ский»: «Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить».
389
Русские писатели XX века
Действительно, поэтическое поприще не га-
рантировало мало-мальски приемлемого за-
работка, и нужно было искать какие-то
другие источники дохода. Но была и третья
причина: казалось, сама эпоха не распола-
гала к поэтическому творчеству. Отвечая
18 января 1926 года на анкету «Ленинград-
ской правды», Пастернак горько констати-
ровал:
«Вы говорите, стихов писать не перестали, хо-
тя их не* печатают, изданных же не читают. Цен-
ное наблюдение, хотя не оно меня убеждает в
упадке поэзии — мы пишем крупные вещи, тя-
немся в эпос, а это определенно жанр второй ру-
ки. Стихи не заражают больше воздуха, каковы
бы ни были их достоинства. Разносящей средой
звучания была личность. Старая личность разру-
шилась, новая не сформировалась. Без резонанса
лирика немыслима.
Короче говоря, с поэзией дело обстоит препла-
чевно».
Чувствуя, что новой эпохе с ее враждеб-
ностью ко всему личностному, с эпическим
размахом проводимых ею преобразований
повествовательные формы гораздо ближе,
чем формы исповедальные, лирические,
Пастернак пытается уловить требование
времени, как он его понимает. К тому же
обращение к крупным формам соответство-
вало отчасти его собственным поискам в
стремлении, по словам поэта, «продвигать
лирический материал на большие расстоя-
ния». Однако поэму «Высокая болезнь»,
написанную осенью 1923 года, некоторые
соратники по литературному цеху встрети-
ли критически. В ЛЕФе1, возглавляемом
В. Маяковским, даже организовали комис-
сию по обсуждению достоинств произведе-
ния. Поэма, посвященная первым годам ре-
волюции, судьбе интеллигенции в вихре ре-
волюционных событий, существенно
отличалась от подобных произведений дру-
гих авторов глубиной аналитической мыс-
ли, отсутствием ходульного пафоса. Осо-
1 ЛЕФ — Левый фронт искусств, литературная
группа, созданная в 1922 году. В ее состав входи-
ли главным образом бывшие футуристы Н. Асеев,
О. Брик, В. Каменский, С. Кирсанов, А. Круче-
ных, Б. Пастернак, С. Третьяков и др.
бенно это было заметно в финальной сцене
поэмы, передававшей впечатление автора
от выступления В. Ленина на IX съезде Со-
ветов. Потрясение перед мощью этой круп-
ной исторической личности, грандиозно-
стью затеянных ею преобразований не обер-
нулось неистовым славословием в адрес
«вождя мирового пролетариата», но вопло-
тилось в совершенных по своей точности и
художественности стихотворных строчках:
Он был как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет.
Само членство Пастернака в Левом фрон-
те искусств было неестественным, его удер-
живала здесь только дружеская привязан-
ность к В. Маяковскому и Н. Асееву. Его не
устраивал радикализм лефовцев, он не со-
глашался с пониманием творчества как
«производства стихов* и тем более совер-
шенно иначе воспринимал «общественный
заказ*.
В феврале 1924 года была закончена по-
весть «Воздушные пути»: отец подписал
расстрельный приговор собственному сы-
ну, не узнав его под чужой фамилией.
В повести отразилась не только страшная
реальность тех лет, когда повальные арес-
ты и расстрелы обесценили человеческую
жизнь. Обесценилось само имя, слово, поте-
ряв связь с тем, что оно обозначает: повсе-
местные переименования затронули и сфе-
ру совести, так что самые гнусные злодея-
ния прикрывались высокими словами о
добре, свободе и справедливости.
Необходимость заработка вынудила поэ-
та согласиться с предложением его друга
Я. Черняка и принять участие в подборе
библиографии по В. Ленину: издание гото-
вилось в Институте Ленина при ЦК ВКП(б).
В письме к своей сестре Жозефине Пастер-
нак писал:
«По роду моей работы (я участвую в составле-
нии библиографии по Ленину и взял на себя биб-
лиографию иностранную) мне приходится читать
целыми комплектами лучшие из журналов, вы-
ходящие на трех языках. Ты даже не представля-
ешь себе, как их много. Там подчас попадаются
390
Борис Леонидович Пастернак
любопытные вещи. Я врежу себе, на них задер-
живаясь, так как я подряжен по количеству и
скорости требуемых от меня находок».
Действительно, благодаря этой работе
поэт получил возможность ознакомиться с
новейшей европейской литературой, творче-
ством Т. Гарди, Д. Конрада, Д. Джойса,
М. Пруста и др. Однако материальные за-
труднения эта работа не разрешила, тем бо-
лее что Ленгизом были расторгнуты догово-
ры на переиздание «Сестры моей — жизни»
и книги прозы. В это время Пастернак начи-
нает работу над романом в стихах «Спектор-
ский», продолжавшим замысел написанных
в 1922 году прозаических «Трех глав из по-
вести». Начата работа была с «Двадцати
строф с предисловием», которые, как и по-
явившиеся несколько позже «Записки
Спекторского», не вошли в основной текст
произведения. Сам образ главного героя был
во многом автобиографическим: жизнь на
Урале, знакомство с сестрами Синяковыми
и многое другое преломилось в художест-
венной ткани романа.
Финансовые затруднения заставили Пас-
тернака, как и многих его современников,
обратиться к творчеству для детей: большое
стихотворение «Карусель* было опублико-
вано в 1925 году, а созданное вслед за ним
стихотворение «Зверинец» пришло к чита-
телю только в 1929-м. В августе 1925 года
поэт писал О. Мандельштаму:
«Мне за лето ничем путным позаняться не
пришлось. Дернула меня нелегкая за детские сти-
хи взяться. Одно ничего, сошло, с другим случи-
лась заминка, и поехало, неудача за неудачей. Я
заметался вовсю, и один месяц у меня начисто
впустую вышел, и весь долг стал. Как-то среди
этих метаний напал я на работу редакционную,
бывшую для меня совершенною новостью. Вот за-
работок чистый и верный! Мне бы очень хотелось
за зиму сделать редактуру основным и постоян-
ным своим делом, не знаю, удастся ли...»
Несмотря на неудовлетворенность Пас-
тернака собственными опытами в качестве
детского писателя, эти две вещи, как и «За-
писки Спекторского», стали важной вехой
в его творчестве, знаменуя собой посте-
пенное обретение поэтом нового стиля —
♦немыслимой простоты». Упрощался мета-
форический и ритмический рисунок, сдер-
жаннее становились интонации, сокраща-
лось число слов, не входящих в активный
словарь современного языка. Этот процесс
нашел свое продолжение и в поэме о собы-
тиях 1905 года. Работа над ней была начата
в 1925 году, и уже в июле первая глава —
«Пролог», посвященная борьбе народоволь-
цев, в основе своей была завершена.
Работа с историческим материалом по-
требовала от Пастернака обращения к ис-
точникам и научной литературе, к воспо-
минаниям современников и участников со-
бытий тех лет. К декабрю 1925 года он
закончил вторую главу — «Детство», в ко-
торой светлые детские впечатления пере-
плелись с воспоминаниями о кровавых со-
бытиях 9 января 1905 года. История инте-
ресовала поэта не сама по себе, а тем, как
она входит в размеренную жизнь москов-
ских квартир, в жизнь отдельного челове-
ка. Истории как объективного, равнодуш-
ного к судьбе личности процесса для Пас-
тернака не существовало, и это резко
диссонировало с общим отношением к со-
бытиям последнего двадцатилетия.
Главы поэмы, получившей название
«Девятьсот пятый год», неоднократно пере-
рабатывались автором. Особенно серьезную
правку Пастернак внес, когда готовил ее от-
дельное издание в 1926 году. О содержании
поэмы, помимо перечисленных, красноре-
чиво говорят следующие названия некото-
рых ее глав: «Мужики и фабричные»,
«Морской мятеж» (первоначальное назва-
ние «Потемкин»), «Студенты» («Похороны
Баумана»), «Москва в декабре» («Пресня»)
и др. Поэма была опубликована целиком в
1927 году в Москве. М. Горький одобри-
тельно отозвался о ней:
«Книга — отличная; книга из тех, которые не
сразу оценивают по достоинству, но которым
суждена долгая жизнь... В «905 г.» вы скупее и
проще, вы — классичнее в этой книге, насыщен-
ной пафосом, который меня, читателя, быстро,
легко и мощно заражает. Нет, это, разумеется, от-
личная книга, это — голос настоящего поэта, и —
социального поэта, социального в лучшем и глу-
бочайшем смысле понятия».
391
Русские писатели XX века
Однако сам автор не разделял востор-
женного отношения к своему сочинению.
Чувствуя желание «довысказаться» по по-
воду тех грандиозных событий, он в марте
1926 года берется за создание другого про-
изведения о 1905 годе — за поэму «Лейте-
нант Шмидт». В центре ее — легендарная и
трагическая фигура Петра Петровича
Шмидта, который вопреки собственным по-
литическим убеждениям возглавил Севас-
топольское восстание 11—15 ноября 1905
года, а на допросах целиком взял вину
на себя, поскольку чувствовал свою ответ-
ственность за судьбу подчиненных. Судь-
ба Шмидта привлекала Пастернака своей
христианской жертвенностью, кажущейся
несоизмеримостью положения этого чело-
века в обществе (простой лейтенант, интел-
лигент) и величием его поступка.
Первые девять глав поэмы в мае
1926 года были отданы в журнал «Новый
мир». Публикацию предваряло «Посвяще-
ние», написанное в виде акростиха — на-
чальные буквы строчек складывались в два
слова: «Марине Цветаевой». В то время имя
М. Цветаевой находилось под негласным
запретом — поэтесса в 1922 году покинула
Россию. Появление ее имени в советском
издании было воспринято как скрытое вре-
дительство, и автору пришлось оправды-
ваться перед уважаемым им Вячеславом
Полонским — главным редактором журна-
ла. Однако посвящение не было случай-
ным: 1926 год — время особенно интенсив-
ной переписки Пастернака и Цветаевой.
Начало этой переписке положило письмо
Б. Пастернака, написанное им в мае
1922 года, после того как ему в руки слу-
чайно попала небольшая книжка стихов
М. Цветаевой «Версты».
«Я написал Цветаевой в Прагу письмо, полное
восторгов и удивления по поводу того, что я так
долго прозевывал ее и так поздно узнал. Она отве-
тила мне. Между нами завязалась переписка, осо-
бенно участившаяся в середине двадцатых годов,
когда появилось ее «Ремесло» и в Москве стали
известны в списках ее крупные по размаху и мыс-
ли, яркие, необычные по новизне «Поэма Кон-
ца», «Поэма Горы» и «Крысолов». Мы подружи-
лись*.
Знакомство с «Поэмой Конца» совпало у
Пастернака с другим предельно важным
для него событием: отец сообщал ему, что
его, Бориса, стихи были отмечены великим
австрийским поэтом Райнером Мария
Рильке — давним знакомым художника,
дважды бывавшим в России. Лирика Риль-
ке сыграла важную роль в становлении
творческого дарования Б. Пастернака: сре-
ди его первых стихотворных опытов на се-
годня обнаружено семь попыток перевода
стихов этого поэта, а многие произведения
несут на себе следы знакомства с творчест-
вом старшего современника. В 1956 году в
письме к 3. Руофф Б. Пастернак призна-
вался:
«Он сыграл огромную роль в моей жизни, но
мне никогда в голову не приходило, что я мог бы
осмелиться ему написать, пока по прошествии
двадцати лет оказываемого на меня и ему неведо-
мого влияния вдруг не узнал (это упомянуто им в
его письме моему отцу), что стал известен ему во
французском переводе Извольской... только тог-
да я в первый раз подумал, что мог бы написать
ему, но у нас были прерваны сношения со Швей-
царией. И во Франции жила Цветаева, с которой
я был в переписке и большой дружбе и которая
тоже знала и любила Рильке. Мне хотелось по-
путно сделать ей подарок, представить ее Рильке,
познакомить их. Я просил его не отвечать мне, не
тратить на меня драгоценного времени, но в каче-
стве знака, что письмо дошло до него, послать
«Сонеты к Орфею» и «Элегии» Цветаевой во
Францию».
Рильке выполнил просьбу Пастернака, и
с этого момента завязалась знаменитая «пе-
реписка трех поэтов», оборвавшаяся со
смертью австрийского лирика в декабре
1926 года. В основном обменивались пись-
мами и стихами Цветаева и Рильке, а Пас-
тернак решил, закончив поэму, поехать к
Цветаевой, чтобы вместе с ней навестить
своего кумира: ему не хотелось ни писать,
ни приезжать без зримого результата твор-
ческой деятельности последнего времени.
Однако этому замыслу не суждено было со-
стояться...
Цветаева критически восприняла поэ-
му «Лейтенант Шмидт», посланную ей ав-
тором. Романтическому мировосприятию
392
Борис Леонидович Пастернак
Цветаевой была чужда приземленность
главного героя поэмы, его жертвенная го-
товность казалась ей слабостью, а внимание
автора к частной жизни героя — излишней,
даже снижающей стороной образа:
«В этой вещи меньше тебя, чем в других, ты
огромный, в тени этой маленькой фигуры, засло-
нен ею... Ты дал человеческого Шмидта, в слабос-
ти естества, трогательного, но такого безнадежно-
го!..
Борис, ты не думай, что это я о твоем (поэма)
Шмидте, я о теме, о твоей трагической верности
подлиннику. Я, любя, слабостей не вижу, всё си-
ла. У меня Шмидт бы вышел не Шмидтом, или я
бы его совсем не взяла, как не смогла (пока) взять
Есенина. Ты дал живого Шмидта, чеховски —
блоковски — интеллигентского».
Однако в образе Шмидта с отчетливо-
стью воплотились пастернаковские пред-
ставления о месте личности в истории, его
понимание того, как далеко может прости-
раться независимость человека от его эпохи
и где находится область, в которой лич-
ность способна в полной мере проявить
свою внутреннюю духовную свободу:
Все отшумело. Вставши поодаль,
Чувствую всею силой чутья:
Жребий завиден. Я жил и отдал
Душу свою за други своя.
Такого рода понимание жертвенности не
пришлось ко двору и эпохе, правда, по иной
причине. Заклание себя ради ближнего, а
не отвлеченного «потомка» и его «светло-
го будущего» парадоксально воспринима-
лось многими современниками как «абст-
рактный гуманизм», а в вышеприведен-
ных строках с неудовольствием угадыва-
лись слова Христа, сказавшего, что нет
большей любви, как любовь того, «кто ду-
шу свою положит за други своя*.
К концу 1926 года переписка с М. Цве-
таевой зашла в тупик. Пастернака задевало
кажущееся стремление отстранить его от
дружбы с Рильке, расстраивало непони-
мание; Цветаева в страстных строках об-
ращенных к ней писем почувствовала из-
быток «человеческого, слишком человече-
ского» и потому достаточно прохладно
отнеслась к самой идее приезда к ней Пас-
тернака. Сыграла свое и ревность жены,
Елены Владимировны, к их отношениям,
заметно осложнивших и без того непростую
атмосферу в семье поэта. Взаимоотношения
двух поэтов не прервались, однако стали
куда более спокойными, лишились прежне-
го высочайшего градуса доверительности.
В эти же годы усиливаются и разногла-
сия с былыми товарищами по футурист-
скому цеху: в своем выступлении В. Ма-
яковский причислил поэму «Лейтенант
Шмидт» к «завоеваниям Лефа», словно бы
не обращая внимания на то, какая глу-
бокая пропасть отделяет лефовские прин-
ципы и воззрения Пастернака на цели и
природу поэтического творчества. Фактиче-
ски его членство в ЛЕФе к 1927 году стано-
вится для всех, кроме самих лефовцев, по-
нятной формальностью, и в мае Пастернак
делает официальное заявление о своем вы-
ходе из этой организации. Заявление было
проигнорировано, и в списках сотрудников
журнала «Новый Леф» — боевого органа
Левого фронта искусств — фамилия Пас-
тернака указывалась с прежним упрямст-
вом.
В 1927 году вышла книга поэм «Девять-
сот пятый год», включившая, помимо той,
что дала название книге, и поэму «Лейте-
нант Шмидт». Ее выход позволил поэту
вернуться к оставленной на время работе
над «Спекторским». В это же время Пастер-
нак задумал написать статью памяти
Р. М. Рильке: поэт так рассказывал о воп-
лощении этого замысла в феврале 1928 года
в анкете газеты «Читатель и писатель»:
«...Ближайшей моей заботой стало рассказать
об этом удивительном лирике и об особом мире,
который, как у всякого настоящего поэта, состав-
ляют его произведения. Между тем под руками, в
последовательности исполнения, задуманная
статья превратилась у меня в автобиографиче-
ские отрывки о том, как складывались мои пред-
ставления об искусстве и в чем они коренятся.
Этой работе, которую я посвящаю его памяти, я
не придумал еще заглавия*.
Заглавие пришло позже: «Охранная гра-
мота» стала не только автобиографическим
очерком поэта, но и глубоким исследовани-
393
Русские писатели XX века
ем природы поэтического творчества, пол-
ным тонких замечаний о современности и
предшествующей ей эпохе, о людях дале-
ких и близких поэту. В очерке, охватываю-
щем период с 1900 по 1930 год, непосредст-
венно Р. М. Рильке посвящено не так уж
много страниц. Но именно в этом прояви-
лась крепнущая убежденность Пастернака
в том, что
«всей своей жизни поэт придает такой добро-
вольно крутой наклон, что ее не может быть в
биографической вертикали, где мы ждем ее
встретить. Ее нельзя найти под его именем, и на-
до искать под чужим, в биографическом столбце
его последователей. Чем замкнутее производя-
щая индивидуальность, тем коллективнее, без
всякого иносказания, ее повесть. Область подсоз-
нательного у гения не поддается обмеру. Ее со-
ставляет все, что творится с его читателями и че-
го он не знает».
Именно уверенность в том, что расска-
зать о художнике — значит раскрыть сте-
пень его влияния на современников и по-
томков, привела к тому, что замысел статьи
памяти Рильке воплотился в автобиографи-
ческий очерк, ставший ключом ко всему
творчеству Пастернака. Первая часть «Ох-
ранной грамоты* была Пастернаком опуб-
ликована вместе с выполненным им перево-
дом «Реквиема» Рильке (в оригинале —
реквием «По Вольфу графу фон Калькрей-
ту»): этот перевод лучше всяких рассужде-
ний должен был показать всю близость
творческих манер двух поэтов. Выбор «Рек-
виема» был не случаен: тема смерти с тру-
дом входила в художественный мир Пас-
тернака, мир оптимистический, весь про-
низанный волей к жизни, и «Реквием» стал
словно указанием верного пути в осмыс-
лении этой темы. Мысль о том, что са-
моубийство крадет у творчества то особое
восприятие действительности, которое да-
ется только после тягостного пути восхож-
дения, стала заветным убеждением Пас-
тернака и не раз останавливала его на краю
гибельного решения. Последняя, третья
часть «Охранной грамоты» была посвящена
В. Маяковскому. Потрясенный недавним
самоубийством великого поэта, Пастернак
постарался передать весь свой восторг пе-
ред ним и всю свою скорбь внезапной утра-
ты, дать свое понимание причин гибели
С. Есенина и В. Маяковского, которые свя-
зывались для него с особенностями роман-
тического миропонимания этих двух поэ-
тов.
Летом 1928 года Пастернак получил
предложение от Госиздата переиздать свои
первые книги. Просмотрев свои дореволю-
ционные стихи, поэт пришел к выводу, что
публиковать их в прежнем виде нельзя, и
принялся за работу, которая удивила одних
и глубоко огорчила других. Многие ранние
стихотворения, которые он отобрал для
повторной публикации, были им переписа-
ны заново, некоторые из них почти полно-
стью изменили первоначальный облик. Из
21 стихотворения сборника «Близнец в ту-
чах* только 11 вошли в раздел «Начальная
пора», открывающий новую книгу стихов.
В письме к жене, которая в это время отды-
хала вместе с сыном в Геленджике, он рас-
сказывал об этой работе:
«Ты настолько легко себе представишь гро-
моздкость и трудность этого всего, что, пожалуй,
даже скажешь, что это сумасшествие и этого де-
лать нельзя и не надо. Но даже и ты, родная, мо-
жешь говорить, что хочешь, а я это делаю и сде-
лаю. Вот отчего я не могу тебе много и часто пи-
сать. Это адова работа потому, что в неделю или
две надо набраться масштабов, растянувшихся по
десятилетиям, чтобы не соврать в переделке в от-
ношенья разновременных замыслов и пожела-
ний, так неудачно в свое время исполненных*.
Работа над отдельными стихотворения-
ми продолжалась и после того, как руко-
пись была сдана в издательство. В ответах
на анкету «Моя первая вещь» поэт писал о
характере переделок, вносимых им в свои
ранние тексты:
«Лучшее из ранних вещей я остановил в их
поэтическом теченьи, в их соревнующемся со-
трудничестве с воображением, к которому они об-
ращались, в их полете и расчете на подхват с бли-
жайшей родной трапеции, жившей однажды тем
же полетом и расчетом. Все, что в них было дви-
жущегося и волнообразного, я превратил в склад-
ки закостенелого и изолированного документа.
Веянье личного стало прямой биографической
справкой. Растворенная в образе мысль уступила
394
Борис Леонидович Пастернак
место мысли, доведенной до ясности высказанно-
го убежденья».
Книга вышла в 1929 году, названная так
же, как и второй сборник Пастернака, —
«Поверх барьеров», через два года она была
переиздана. На одном из экземпляров сбор-
ника 1929 года автор 9 декабря 1946 года
написал:
«С течением лет самое, так сказать, понятие
«Поверх барьеров» у меня изменялось. Из назва-
ния книги оно стало названием периода или ма-
неры, и под этим заголовком я впоследствии объ-
единял вещи, позднее написанные, если они под-
ходили к этой первой книге, т. е. если в них
преобладали объективный тематизм и мгновен-
ная, рисующая движение живописность».
Дважды, в 1927 и 1930 годах, выходил
сборник «Две книги», включавший в себя
«Сестру мою — жизнь» и «Темы и вари-
ации». С Ленгизом тоже был заключен до-
говор — на издание «Спекторского», одна-
ко Пастернак задумал написание прозаиче-
ской повести, «которая будет отдельным
фабуляторным звеном «Спекторского»,
чтобы облегчить заключительное стихо-
творное его звено*. Но довести до конца
этот замысел не удалось: поэт углубился в
чтение работ по истории Гражданской вой-
ны, катастрофически не успевая в огово-
ренные сроки. Подготовленная для публи-
кации в «Новом мире* часть (четвертью
объема от задуманного) так и осталась без
заглавия. Судя по всему, работа над ней
продолжалась по крайней мере до
1935 года, однако рукопись не сохрани-
лась. Автора не оставляло ощущение исчер-
панности прежних путей. Недовольство со-
бой выливалось в затяжные приступы деп-
рессии, что было характерно для поэта
накануне очередного витка его творческой
биографии.
«ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ»
С конца 20-х годов особенно ощутимыми
становились изменения политического
климата в стране: первые политические
процессы, бесчеловечная коллективиза-
ция, сгущающаяся атмосфера всеобщей по-
дозрительности. Разнузданность Раппов-
ской1 критики и не отстающей от нее
критики официальной переходит все гра-
ницы разумного: травле подвергается лю-
бой мало-мальски крупный художник,
придерживающийся своего законного пра-
ва писать по веленью совести и таланта,
а не по окрику сверху. У Пастернака
вновь, как и в начале 20-х годов, усилива-
ется ощущение собственной ненужности
как поэта.
Действительно, эпоха все с большим на-
жимом требовала от литераторов едино-
образия не только в мыслях, но и в самой
писательской манере. Простая оригиналь-
ность художественного дара уже восприни-
малась как отступление от генеральной
линии, и верность себе требовала от ху-
дожника подлинной гражданской сме-
лости. Относительно спокойное положение
Пастернака по сравнению с Б. Пильняком,
Е. Замятиным, А. Платоновым, О. Ман-
дельштамом и многими другими талантли-
выми писателями объяснялось тем, что его
обращение к событиям 1905 года было
официально воспринято как поворот поэта
лицом к революции. «Проработчики» не
хотели вникать в подробности и во внут-
ренние мотивы написания «Двух поэм»,
подобная же двусмысленность положения,
когда его хвалили те же, кто линчевал
близких ему по духу авторов, мучила Пас-
тернака.
Тяжелое психологическое состояние поэ-
та было обусловлено также невыносимыми
жилищными условиями. Тонкая, не дохо-
дившая до потолка перегородка отделяла
одну половину бывшей отцовской мастер-
ской от другой, на которой располагалась
1 РАПП — Российская ассоциация пролетар-
ских писателей. Сторонники РАППа были убеж-
дены, что «задача строительства пролетарской
культуры может быть решена только силами са-
мого пролетариата* (В. Плетнев). Претендуя на
исключительное, если не единственное, место в
советской литературе, рапповцы подвергали раз-
нузданной травле даже тех писателей, которые
были лояльны советскому строю, однако по про-
исхождению не принадлежали к пролетариату
(М. Горького, А. Толстого, В. Маяковского и др.).
395
Русские писатели XX века
уже чужая семья, всего же в бывшей квар-
тире Пастернаков жило 6 семей. Писать
приходилось в той же комнате, где прини-
мались гости, накрывался стол и играли де-
ти. Перегородкой был отделен от комнаты и
неотапливаемый коридор, в котором зимой
в ведрах замерзала вода. Только изредка,
когда удавалось отправить жену с ребенком
на отдых или к родственникам, Пастернак
имел возможность писать в относительном
покое, однако долгое время на свои просьбы
о решении жилищного вопроса он получал
отказы. К тому же и у жены подходило вре-
мя сдачи дипломной работы, и она остро
нуждалась в своей мастерской.
Страшным потрясением стала для Пас-
тернака поездка в составе одной из «удар-
ных бригад писателей», созданных по ука-
занию Секретариата Федерации объедине-
ний советских писателей в колхозы.
«То, что я там увидел, нельзя выразить ника-
кими словами. Это было такое нечеловеческое,
невообразимое горе, такое страшное бедствие, что
оно становилось уже как бы абстрактным, не ук-
ладывалось в границы сознания. Я заболел», —
рассказывал позднее Пастернак об этой поездке.
Самоубийство Маяковского, расстрел од-
ного из наиболее близких Пастернаку «ле-
фовцев» — Владимира Силлова — все это
усугубляло душевный кризис художника.
Стихотворение «Смерть поэта», которым он
отозвался на гибель Маяковского, даже бу-
дучи опубликованным без названия и наи-
более горьких заключительных 12 строк,
вызвало резкое неприятие некоторых быв-
ших товарищей, видимо, ощущавших, но
не желавших признавать и свою вину в
этом самоубийстве.
Еще в конце 1928 года Пастернак позна-
комился с выдающимся пианистом Генри-
хом Нейгаузом, с которым его связала мно-
голетняя дружба. Летом 1930 года семьи
философа Асмуса, Нейгаузов, Бориса и
Александра Пастернаков вместе сняли че-
тыре дачи на Ирпене под Киевом. Здесь
поэт влюбился в жену великого музыкан-
та — Зинаиду Николаевну Нейгауз. Не
умея скрывать свои чувства, а тем более
лгать, Пастернак признался во всем Генри-
ху Нейгаузу и своей жене. Дальнейшие со-
бытия развивались стремительно. В середи-
не февраля 1931 года Б. Пастернак писал
С. Спасскому:
«Я оставил семью, жил одно время у друзей (и
у них кончил «Охранную грамоту»), теперь у дру-
гих (в квартире Пильняка), в его кабинете. Я ни-
чего не могу сказать, потому что человек, которо-
го я люблю, не свободен, и это жена друга, кото-
рого я никогда не смогу разлюбить. И все-таки
это не драма, потому что радости тут больше, чем
вины и стыда».
Несмотря на уход из дома, поэт не остав-
лял Евгению Владимировну без поддерж-
ки, добившись для нее весной 1931 года
разрешения уехать вместе с сыном на лече-
ние в Германию. Пастернак все еще не от-
вергал категорически возможность воссо-
единения с первой семьей. Для Зинаиды
Николаевны Нейгауз тоже не все еще было
ясно: она оставляет мужа и вместе со стар-
шим сыном уезжает в Киев, желая разо-
браться в себе и своих чувствах. Назад в
Москву она вернулась вместе с Б. Пастерна-
ком, прервавшим ее киевское одиночество.
Вскоре они отправились в Грузию по при-
глашению грузинского поэта Паоло Яшви-
ли. Любовь к женщине соединилась для
Пастернака в единое целое с его влюбленно-
стью в этот край, который позднее поэт на-
зовет своей «второй родиной*. Кавказское
гостеприимство залечило раны, оставлен-
ные резким неприятием некоторыми мос-
ковскими друзьями его выбора; величавая
красота здешних мест сама ложилась в
стих. «Второе рождение» — так определит
Пастернак свое состояние после того, как в
его жизнь вошла Зинаида Николаевна. Это
определение станет заглавием нового сбор-
ника стихов, подготовленного в гостинич-
ном номере курортного местечка Коджоры
и первым изданием вышедшего в 1932 году.
Понятие «второе рождение* пришло из дав-
него стихотворения «Марбург», в котором
герой, пережив любовное потрясение, чув-
ствует себя заново родившимся.
Однако не все испытания еще были прой-
дены. В середине октября Б. Пастернак и
3. Н. Нейгауз вернулись в Москву; к Ново-
396
Борис Леонидович Пастернак
му году из Германии возвратилась с сыном
Евгения Владимировна. О восстановлении
прежних отношений не могло быть и речи,
но нерешенность квартирного вопроса не
позволяла разъехаться. В феврале 1932-го
Зинаида Николаевна, не в силах выносить
бездомность и душевные муки, вернулась в
прежнюю семью. Пастернак попытался по-
кончить жизнь самоубийством, отравив-
шись йодом. Уже теряя сознание, он при-
шел к Нейгаузам, где оставался несколько
дней, выхаживаемый Зинаидой Никола-
евной. Лишь весной 1932 года по лично-
му ходатайству М. Горького Пастернаку
была временно выделена маленькая квар-
тирка в «Доме Герцена*. Наконец появи-
лась возможность создать новую семью,
вернуться к оставленным творческим за-
мыслам. Главный среди них — работа над
прозой взамен сожженной при переезде ру-
кописи неопубликованных глав «Детства
Люверс». Замысел прозы был связан с «По-
вестью» 1929 года, события развивались на
Урале времен Гражданской войны. При-
шлось также совершить несколько поездок:
по приглашению Свердловского обкома и
правления Союза писателей на Урал, а по-
зднее в Ленинград.
Вышедшие в Ленинграде полным изда-
нием автобиографический очерк «Охран-
ная грамота» и сборник «Второе рождение»
были встречены критикой негативно: авто-
ру вменялись в вину «реакционность»
мировоззрения, субъективно-идеалистиче-
ский взгляд на мир, оторванность от реаль-
ности. В результате поэт вынужден был
исключить «Охранную грамоту» из книги
прозы «Воздушные пути», опубликованной
им в 1933 году. Однако это не спасло его от
регулярных нападок. Постановление ЦК
ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О пере-
стройке литературно-художественных ор-
ганизаций», по которому распускались все
литературные группировки, в том числе не-
навистный РАПП с его цепными критика-
ми, было встречено Пастернаком одобри-
тельно. Известно, что в те времена любой
критический разнос легко превращался в
донос, чреватый самыми серьезными по-
следствиями, а большинство так называе-
мых напостовцев1 ни на что иное способны
не были. Поэтому, обманываясь признака-
ми потепления, как вскоре оказалось — на-
кануне трескучих политических морозов,
поэт активно включился в общественно-ли-
тературную жизнь. Выступления на лите-
ратурных вечерах, участие во всевозмож-
ных дискуссиях и заседаниях... Критики,
традиционно противопоставлявшие вирту-
озность поэта в области стиха и «отста-
лость» его мировоззрения, в этот период по-
чти не допускали резких выпадов.
Именно тогда Пастернаку начинает уго-
тавливаться участь «первого поэта совре-
менности», взамен застрелившегося Ма-
яковского. Подобная роль, исполнение ко-
торой оплачивалось всеми мыслимыми
земными благами, требовала от поэта пол-
ного подчинения его творчества «задачам
социалистического строительства», способ-
ности писать «на заказ».
«Тогда я был на 18 лет моложе. Маяковский
не был еще обожествлен, со мной носились, посы-
лали за границу, не было чепухи и гадости, кото-
рую я бы ни сказал или ни написал и которой бы
не напечатали, у меня в действительности не бы-
ло никакой болезни, а я был тогда непоправимо
несчастен и погибал, как заколдованный злым
духом в сказке. Мне хотелось чистыми средства-
ми и по-настоящему сделать во славу окружения,
которое мирволило мне, что-нибудь такое, что
выполнимо только путем подлога. Задача была
неразрешима, это была квадратура круга, — я
бился о неразрешимость намерения, которое за-
стилало мне все горизонты и загораживало все
пути, я сходил с ума и погибал», — рассказывал
позднее Пастернак об этом времени В. Асмусу.
Подобное двусмысленное положение
длилось вплоть до декабря 1935 года, пока
Лиля Брик не написала письмо И. Сталину
о замалчивании творчества В. Маяковско-
го. Резолюция вождя: «Маяковский был и
остается лучшим, талантливейшим поэтом
нашей советской эпохи. Безразличие к его
памяти и его произведениям — преступле-
1 Напостовцы — так называли рапповцев по
имени их боевого печатного органа — журнала
«На посту» (позднее — «На литературном пос-
ту»).
397
Русские писатели XX века
ние» — дала начало процессу не просто «ре-
абилитации», но постепенного обожествле-
ния Маяковского и сняла с Пастернака не-
обходимость оправдываться перед эпохой
за то, что он не может стать ее рабом. Поэт
даже обратился к Сталину с письмом, о чем
впоследствии рассказал в очерке «Люди и
положения»:
«Я личным письмом благодарил автора этих
слов, потому что они избавляли меня от раздува-
ния моего значения, которому я стал подвергать-
ся в середине тридцатых годов, к поре съезда пи-
сателей. Я люблю свою жизнь и доволен ей. Я не
нуждаюсь в ее дополнительной позолоте. Жизни
вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном
блеске выставочной витрины я не мыслю*.
Летом 1933 года Пастернак получил за-
каз на книгу переводов грузинских поэтов.
В 1935 году в Тифлисе вышел сборник
«Поэты Грузии в переводах Б. Пастернака
и Н. Тихонова», а в Москве — книга «Гру-
зинские лирики», годом же раньше — поэ-
ма Важа Пшавела «Змееед». Один из эк-
земпляров только что вышедших «Грузин-
ских лириков» вместе с благодарственным
письмом был отослан И. Сталину.
В 1934 году Пастернак становится чле-
ном Союза писателей СССР, участвует в
Первом Съезде писателей, даже председа-
тельствует на 7-й день его работы. В своем
выступлении поэт открыто предупреждал
коллег об’ опасности превратиться в санов-
ников от литературы, напоминал, что исток
поэзии лежит в живых впечатлениях, а не в
принуждении. Вопреки ожиданиям много-
численных недоброжелателей, фигура Пас-
тернака на съезде была окружена сочувст-
венным вниманием, его выступление было
встречено с неподдельным восторгом.
Несмотря на то что осенью 1934 года вы-
ходит очередное издание «Второго рожде-
ния», общее душевное состояние Пастер-
нака в этот период все более ухудшается.
Виной тому утомительное однообразие око-
лолитературных мероприятий с обязатель-
ными банкетами, недовольство собой, осо-
бенно тем, как продвигается работа над
прозой, наконец, неминуемо сгущающаяся
политическая атмосфера. После временного
затишья опять начались политические про-
цессы, участились аресты; в Воронеж был
сослан О. Мандельштам. На этом фоне Пас-
тернаку казалось невозможным участво-
вать в Международном конгрессе писателей
в защиту культуры, проходившем в конце
июня 1935 года в Париже. Он не был вклю-
чен в состав официальной делегации. Когда
представители советской культуры прибы-
ли на конгресс, в Париже были разочарова-
ны отсутствием среди них писателей с евро-
пейской известностью. Об этом сразу же со-
общил Эренбург,
По личному указанию И. Сталина было
сделано все, чтобы Б. Пастернак и И. Ба-
бель прибыли на конгресс. Несмотря на
подавленность и плохое самочувствие, поэт
вынужден был подчиниться. Всего за сутки
ему в спецателье сшили новый костюм, по-
скольку ехать в старом было невозможно.
Перед отбытием Пастернак отправил теле-
грамму родителям, что сутки пробудет в
Берлине и сможет с ними увидеться, одна-
ко они в то время были в Мюнхене, и при-
ехать смогла только сестра Жозефина с му-
жем.
Выступление Б. Пастернака на конгрессе
состоялось 24 июня и было встречено вос-
торженно. Андре Мальро представил его
словами, «Перед вами один из самых боль-
ших поэтов нашего времени» — и, переведя
речь Пастернака, прочел в переводе на
французский стихотворение «Так начина-
ют. Года в два...» из книги «Темы и вари-
ации».
«Я понимаю, что это конгресс писателей, со-
бравшихся, чтобы организовать сопротивление
фашизму. Я могу вам сказать по этому поводу
только одно. Не организуйтесь. Организация —
это смерть искусства. Важна только личная неза-
висимость. В 1789, 1848 и 1917 годах писателей
не организовывали ни в защиту чего-либо, ни
против чего-либо. Умоляю вас — не организуй-
тесь!» —
так запомнил свое выступление сам Пастер-
нак, а стенограмма донесла еще одну фразу,
сказанную им о поэзии:
«Она всегда будет проще того, чтобы ее можно
было обсуждать в собраниях; она навсегда оста-
398
Борис Леонидович Пастернак
нется органической функцией счастья человека,
переполненного блаженным даром разумной ре-
чи, и, таким образом, чем больше будет счастья
на земле, тем легче будет быть художником*.
На конгрессе поэту удалось встретиться с
Мариной Цветаевой, однако встреча раз-
очаровала обоих. Ей не понравился душев-
ный настрой Пастернака, он не смог отгово-
рить ее от возвращения на Родину, особен-
но опасного в связи с надвигающейся
политической реакцией.
Только к зиме 1935 года Пастернак су-
мел отчасти выбраться из затяжной депрес-
сии: было написано несколько стихов, в том
числе стихотворение «Мне по душе строп-
тивый норов...*, посвященное И. Сталину.
Однако оно не было простой данью време-
ни: в нем поэт выразил свои заветные мыс-
ли о равновеликости перед лицом вечности
«двух начал» — поэта и вождя, «гения
поступка». Возобновил Пастернак и свою
общественно-литературную деятельность.
Выступая на 3-м пленуме правления Союза
писателей, он вновь высказался в защиту
автономности творческой личности, ее пра-
ва писать под диктовку совести и вдохнове-
ния, а не по указанию чиновника от литера-
туры.
В этот период разворачивается оголте-
лая кампания по борьбе с формализмом,
под которым понимается любое отступле-
ние от официального, «среднего* стиля,
любое внимание к проблемам выразитель-
ности художественной формы. Среди под-
вергшихся нападкам были имена весь-
ма уважаемых Пастернаком писателей:
К. Федин, Б. Пильняк, Вс. Иванов. На од-
ном из подобных «проработочных* заседа-
ний московских писателей Пастернак не-
ожиданно попросил слова и выступил в за-
щиту права писателя писать так, как он
хочет, за примерами «витиеватости* слова
отослав к фольклору и творчеству Н. В. Го-
голя. Это выступление было превратно
истолковано его оппонентами, а также в
отчете, опубликованном в периодике, по-
этому на следующий день поэт вновь под-
нялся на трибуну, стремясь доходчиво рас-
толковать свою позицию. Однако и на этот
раз его не услышали. В письме к О. Фрей-
денберг 1 октября 1936 года Пастернак
рассказывал о происходящем в это время:
«...Началось со статей о Шостаковиче, потом
перекинулось на театр и литературу (с нападками
той же развязной, омерзительно несамостоятель-
ной, эхоподобной и производной природы на Мей-
ерхольда, Мариетту Шагинян, Булгакова и др.).
Потом коснулось художников, и опять-таки луч-
ших, как, например, Владимир Лебедев и др.
Когда на тему этих статей открылась устная дис-
куссия в Союзе писателей, я имел глупость од-
нажды пойти на нее и, послушав, как совершен-
нейшие ничтожества говорят о Пильняках, Феди-
ных и Леоновых почти что во множественном
числе, не сдержался и попробовал выступить про-
тив именно этой стороны всей нашей печати, на-
зывая все своими настоящими именами. Прежде
всего я столкнулся с искренним удивлением лю-
дей ответственных и даже официальных, за-
чем-же я лез заступаться за товарищей, когда не
только никто меня не трогал, но трогать и не со-
бирались. Отпор мне был дан такой, что потом и
опять-таки по официальной инициативе ко мне
отряжали товарищей из союза (очень хороших и
иногда близких мне людей) справляться о моем
здоровье. И никто не хотел поверить, что чувст-
вую я себя превосходно, хорошо сплю и работаю.
И это тоже расценили как фронду».
***
Суд над Каменевым и Зиновьевым, само-
убийство Томского, отстранение от дел по-
кровителя Пастернака, Бухарина, — все это
говорило о наступлении нового витка терро-
ра. Пастернак отказался подписывать пись-
мо с требованием расстрела «врагов наро-
да». Однако это сделали за него: только под
давлением поэта уговорили не вычеркивать
своего имени из уже опубликованного спи-
ска. Несмотря на смертельную опасность,
нависшую над ним, Пастернак продолжал
открыто выражать свою точку зрения. Он
высказал свое мнение по поводу коллекти-
визации и свободы личности в России фран-
цузскому писателю Андре Жиду, отправил
письмо семье Бухарина со словами поддерж-
ки, когда все отвернулись от них, отказался
подписать письмо в поддержку расстрела
Тухачевского, Уборевича и Якира в самый
опасный период разгула репрессий — летом
1937 года, каждый день которого приносил
399
Русские писатели XX века
горестные вести об аресте или осуждении
знакомых и близких людей. Насколько это
было возможно, Борис Леонидович пытался
не покидать Переделкино, где летом 1936
года ему был выделен большой дом на краю
строящегося писательского поселка. Он це-
ликом посвятил себя творчеству и чтению
А. П. Чехова и двадцатитомной «Истории
Франции» Ж. Мишле. Зима 1936/37 года
сблизила его с драматургом А. Афиногено-
вым, переживавшим в то время нелегкие
времена: дружеские беседы обнаружили
удивительную близость взглядов и жизнен-
ных принципов. В своем дневнике 21 сен-
тября 1937 года Афиногенов записал:
«Разговоры с Пастернаком навсегда останутся
в моем сердце. Он входит и сразу начинает гово-
рить о большом, интересном, настоящем. Главное
для него — искусство, и только оно. Поэтому он
не хочет ездить в город, а жить все время здесь,
ходить, гуляя одному, или читать историю Анг-
лии Маколея, или сидеть у окна и смотреть звезд-
ную ночь, перебирая мысли, или — наконец —
писать свой роман. Но все это в искусстве и для
него. Его даже не интересует конечный резуль-
тат. Главное — это работа, увлечение ей, а что
там получится — посмотрим через много лет. Же-
не трудно, нужно доставать деньги и как-то жить,
но он ничего не знает, иногда только, когда уж
очень трудно станет с деньгами — он примется за
переводы. «Нос таким же успехом я мог бы стать
коммивояжером».
Кровавые процессы драпировались ре-
жимом в пышные торжества, посвященные
столетней годовщине гибели А. С. Пушки-
на, не соответствующие по официальности
своего звучания ни поводу, ни времени их
проведения. Пастернак в этот период вновь
подвергся травле; досталось и его былым
покровителям. Однако на этот раз поэт
стоически перенес все нападки. Сопостав-
ляя свое нынешнее состояние с тем, в ка-
ком он пребывал во время затяжной депрес-
сии 1935 года, он писал:
«Теперь это прошло, и это такое счастье, я так
вздохнул, так выпрямился и так себя опять
узнал, когда попал в гонимые!..*
Однако новости приходили все более и
более удручающие. В конце августа стало
известно, что покончил с собой, не в силах
терпеть издевательства и ожидать ареста,
Паоло Яшвили; 28 октября 1937 года пря-
мо в Переделкине был арестован Борис
Пильняк, а следом за ним — его жена Кира
Вачнадзе; в недрах карательных органов
сгинул Тициан Табидзе. Однако даже опа-
сения за судьбу родных, оставшихся бы без
средств к существованию в случае его арес-
та, не заставили Пастернака не только под-
писывать коллективные письма, но даже
изредка выбираться в Москву на официаль-
ные собрания.
В начале декабря 1937 года семья Пас-
тернака наконец переехала в новую кварти-
ру в Лаврушенском переулке. В новогод-
нюю ночь у поэта родился сын, названный в
честь деда Леонидом. Возникшие денежные
затруднения вынудили отказаться от пи-
сания прозы ради более прибыльных пере-
водов. К тому же в этот период подобная
работа часто давала почти единственную
возможность писать без оглядки на идеоло-
гию. В 1938 году в переложении Пастерна-
ка публикуются поэма И. Бехера «Лютер»,
«Стансы к Августе» Байрона, стихотворе-
ния Верлена, Шекспира, Джона Китса, Си-
мона Чиковани, Рафаэля Альберти.
В 1939 году по просьбе В. Мейерхольда
Пастернак берется еще за одну небезраз-
личную для него работу — перевод траге-
дии У. Шекспира «Гамлет», которую вели-
кий режиссер хотел поставить на сцене Те-
атра имени Пушкина в Ленинграде. Время
работы над пьесой принесло три новых го-
рестных известия: арест Мейерхольда
18 июня, жестокое убийство жены режиссе-
ра, актрисы Зинаиды Райх 15 июля, смерть
матери поэта 23 августа. Законченного к
осени «Гамлета» вызвался поставить на
сцене МХАТа В. И. Немирович-Данченко.
Пастернак участвовал в читках, вносил не-
обходимые или неизбежные для того време-
ни исправления в текст перевода. Его «Гам-
лет» поражал своей смелостью и свободой
трактовок, чистотой поэтического языка.
По утверждению самого переводчика, он
ориентировался прежде всего на язык Че-
хова и вообще русского общества конца
XIX века, разговорную речь дореволюцион-
но
Борис Леонидович Пастернак
ной, а не советской России. В феврале
1940 года Пастернак писал отцу о работе
над «Гамлетом»:
«Для меня этот труд был совершенным спа-
сеньем от многих вещей, особенно от маминой
смерти, остального ты не знаешь, и долго бы было
рассказывать, — я бы без этого сошел с ума. Я до-
бился цели, которую себе поставил: я перевел
мысли, положенья, страницы и сцены подлинни-
ка, а не отдельные слова и строчки. Перевод пре-
дельно прост, плавен, понятен с первого слу-
шанья и естествен. В период фальшивой ритори-
ческой пышности очень велика потребность в
прямом независимом слове, и я невольно подчи-
нился ей».
«Гамлет» Пастернака встретил неодноз-
начную оценку со стороны читателей и кри-
тиков. Одни увидели в нем образец конгени-
альности перевода подлиннику, другие счи-
тали, что переводчик вульгаризировал
текст. Для издания «Гамлета» отдельной
книгой пришлось даже изымать некоторые
«просторечия», смягчать разговорные инто-
нации. Всего же для различных переизданий
Пастернаку пришлось 12 раз переделывать
сам перевод, так что, признавался поэт, он
настолько запутался в различных редакциях
текста, что хотел бы заново его перевести.
***
Предвоенную зиму поэт проводил, как и
привык, на даче: большой дом к тому вре-
мени был сменен на меньший, но более уют-
ный. Занятия домашним хозяйством (ого-
род, печка, заготовки) чередовались с ча-
сами напряженного творческого труда.
Весной 1941 года родился цикл из 9 стихо-
творений, позднее получивший название
« Переделкино *...
«Война оторвала меня от первых страниц «Ро-
мео и Джульетты». Я забросил перевод и за про-
водами сына, отправлявшегося на оборонные ра-
боты, и другими волнениями забыл о Шекспире.
Последовали недели, в течение которых волей
или неволей все на свете приобщилось к войне.
Я дежурил в ночи бомбардировок на крыше две-
надцатиэтажного дома, — свидетель двух фугас-
ных попаданий в это здание в одно из моих де-
журств, — рыл блиндаж у себя за городом и про-
ходил курсы военного обучения, неожиданно
обнаружившие во мне прирожденного стрелка...
Семья моя была отправлена в глушь внутренней
губернии. Я все время к ней стремился. В конце
октября я уехал к жене и детям, и зима в провин-
циальном городе, отстоящем далеко от железной
дороги, на замерзшей реке, служащей единствен-
ным средством сообщения, отрезала меня от
внешнего мира и на три месяца засадила за пре-
рванного «Ромео».
Так в заметке «Мои новые переводы»,
опубликованной в 1942 году в «Огоньке»,
Пастернак рассказал о начале Великой Оте-
чественной войны.
10 сентября 1941 года пришла страшная
весть: в Елабуге покончила с собой Марина
Цветаева. Последние годы Пастернак при-
нимал близкое участие в ее судьбе. Еще в
1939 году, после ареста мужа поэтессы Сер-
гея Эфрона и дочери Ариадны, он приехал к
ней в Болшево, где Цветаева жила с сыном,
и уговорил ее перебраться в Москву, побли-
же к людям. Здесь Пастернак добивался для
нее возможности зарабатывать переводами,
сам помогал ей материально, устроил «не-
формальную» встречу с всесильным тогда
А. Фадеевым, познакомил с А. Ахматовой.
После начала войны он предлагал поэтессе
вместе с ее сыном Муром поселиться в осво-
бодившейся на время отъезда жены кварти-
ре, однако Цветаева рвалась прочь из Моск-
вы и вскоре уехала в Чистополь. Несмотря
на то что он много сделал для поэтессы, Бо-
рис Леонидович до последних дней винил
себя в том, что не смог спасти ее, предосте-
речь от рокового шага. Свой долг Цветаевой
он отдал в стихотворении «Памяти Марины
Цветаевой* и отдельной главе очерка «Лю-
ди и положения*.
14 октября 1941 года в одном составе с
А. Ахматовой, К. Фединым и Л. Леоновым
Пастернак эвакуировался в Чистополь, ку-
да раньше уже выехала его семья. Здесь он
активно включился в жизнь писательской
колонии: разгружал баржи с дровами, уча-
ствовал в литературных вечерах, в том чис-
ле благотворительных, сборы с которых
шли на нужды фронта. Осенью 1942 года он
был вынужден вернуться в Москву: выяс-
нилось, что и в Переделкино, и в столичной
квартире, где на время его отъезда разме-
14 Зч. 848
401
Русские писатели XX века
щались солдаты, погиб почти весь архив, в
том числе рукопись прозы 1929—1940 го-
дов. Картины Л. О. Пастернака, предусмот-
рительно упакованные в большом сундуке
и перенесенные на дачу Вс. Иванова, сгоре-
ли вместе с этой дачей... С лета 1942 года
Пастернак со своей семьей окончательно
переселяется в Москву. К тому времени вы-
шел из печати небольшой сборник «На ран-
них поездах», включивший в себя 25 стихо-
творений 1936—1941 годов, которые соста-
вили 4 цикла: «Военные месяцы (конец
1941 года)», «Художник (Зима 1936 года)»,
«Путевые записки (Лето 1936 года)» и «Пе-
ределкино (Начало 1941 года)».
Огромное значение для Пастернака име-
ла поездка на фронт в составе группы писа-
телей осенью 1943 года. Он легко находил
общий язык как с солдатами, так и с высо-
копоставленными офицерами, читал стихи
в медсанбатах. Под непосредственным впе-
чатлением от увиденного им было написано
несколько стихотворений и два очерка —
«Освобожденный город* и «Поездка в ар-
мию». Поэт стремился к публикации в мас-
совой периодике, но не просто из жажды
славы. Он хотел призвать товарищей по пе-
ру в этот трагический для родины момент
отказаться от ставших уже привычными
лжи и приукрашивания, сказать о войне
правду. Однако такой возможности не вы-
падало: выступить со статьей не давали,
стихи безбожно редактировали. Зато уда-
лось опубликовать 1 апреля 1944 года юби-
лейную статью о французском поэте Поль-
Мари Верлене, чье имя для Пастернака бы-
ло столь же дорого, как и имена Р. М. Риль-
ке и А. Блока. Работал поэт и над пере-
водом очередной трагедии Шекспира —
«Отелло»; в письме к О. Фрейденберг он
признавался: «Шекспиром я уже занима-
юсь полубессознательно. Он мне кажется
членом былой семьи, времен Мясницкой1 и
я его страшно упрощаю».
1 На Мясницкой, напротив здания Почтамта, в
казенной квартире от Училища живописи, вая-
ния и зодчества, где преподавал Леонид Осипо-
вич, Пастернаки жили с августа 1894 по август
1911 года.
В июле 1944 года Пастернак сдал в изда-
тельство рукопись под рабочим названием
«Свободный кругозор», в которую вошло
10 стихотворений, написанных весной 1941
года, и 13 — военной поры. Она вышла в
начале 1945 года под названием «Земной
простор»; некоторые из стихов книги были
включены и в сборник того же года выпу-
ска «Избранные стихи и поэмы». Стихи во-
енной поры стали мостиком к обретению
поэтом в полной мере той манеры, которую
он сам в цикле «Волны* называл «немыс-
лимой простотой». Их публикация для
Пастернака знаменовала выход из относи-
тельной изоляции к широкому кругу чита-
телей. В этот период убеждением поэта ста-
ло, что большая литература нуждается в
«большом читателе»; необходимость резо-
нанса требовала поиска новых форм, так,
чтобы без потери художественности, без из-
мены своему творческому «я» стать доступ-
ным миллионам.
«ДОКТОР ЖИВАГО»
В последние военные месяцы Пастернак
часто выступал с публичным чтением своих
стихов в Московском университете, Поли-
техническом музее и Доме ученых. Полный
надежд на существенное изменение полити-
ческого климата после войны, Пастернак
был горько разочарован нападками на него
со стороны руководства Союза писателей:
поэту не могли простить роста его популяр-
ности за рубежом. После горячей победной
весны в стране началось общее похолода-
ние. По признанию Пастернака, «трагиче-
ский тяжелый период войны был живым
(трижды подчеркнуто автором. — М. П.)
периодом и в этом отношении вольным ра-
достным возвращением чувства общности
со всеми».
Осенью 1945 года поэт принял участие в
торжествах, посвященных столетию со дня
смерти грузинского поэта Николаза Ба-
раташвили, которые проходили в Тбилиси.
В Театре имени Руставели Пастернак читал
недавно сделанные им переводы этого поэ-
та, причем условием своего участия Борис
Леонидович поставил присутствие в зале
402
Борис Леонидович Пастернак
вдовы сгинувшего в горниле репрессий гру-
зинского поэта Тициана Табидзе. Нина Та-
бидзе подарила другу большой запас пре-
красной гербовой бумаги, оставшейся у нее
после ареста мужа; на этих листах были пе-
реписаны набело первые главы будущего
романа «Доктор Живаго».
Можно сказать, что Пастернак всю свою
творческую жизнь шел к этому произведе-
нию. Словно губка, замысел романа вбирал
в себя образы, сюжетные ходы, мысли, ин-
тонации всего предыдущего творчества поэ-
та. Образ будущего романа настолько отчет-
ливо сложился в сознании автора, что на-
писать его он рассчитывал в течение
нескольких месяцев. В феврале 1946 года
была закончена первая редакция стихотво-
рения «Гамлет», которым будет открывать-
ся последняя глава романа «Стихотворения
Юрия Живаго». Осенью 1946 года в письме
к О. Фрейденберг поэт сообщает:
«С июля месяца я начал писать роман в прозе
«Мальчики и девочки», который в десяти главах
должен охватить сорокалетие 1902—1946 годов,
и с большим увлечением написал четверть всего
задуманного или пятую его часть. Это все очень
серьезные работы. Я уже стар, скоро, может
быть, умру, и нельзя до бесконечности отклады-
вать свободного выражения настоящих своих
мыслей».
А 3 августа 1946 года Пастернак в кругу
друзей читает первую главу будущего рома-
на. Однако 14 августа выходит печально из-
вестное постановление ЦК ВКП(б) о жур-
налах «Звезда» и «Ленинград». И хотя в
первую очередь постановление затронуло
судьбы А. А. Ахматовой и М. М. Зощенко,
оно свидетельствовало о начале нового вит-
ка борьбы с «идеологически чуждыми» ав-
торами. В результате не был реализован за-
мысел издания двухтомника произведений
Шекспира в переводах Б. Пастернака, к ко-
торому им уже были написаны «Заметки».
Особое беспокойство у ревнителей чистоты
литературных рядов вызывали слухи о вы-
движении поэта на Нобелевскую премию:
вокруг В. Пастернака начинают сгущаться
тучи. Тем не менее он, по-прежнему живя в
Переделкино, закончил третью главу рома-
на, взялся за доработку ранее написанной
второй. К концу года первые две главы пе-
реписаны набело, сшиты в одну тетрадку, и
автор вновь читает их в кругу близких ему
людей.
«Собственно, это первая настоящая моя рабо-
та, — пишет он 13 октября О. Фрейденберг. — Я
в ней хочу дать исторический образ России за по-
следнее сорокапятилетие, и в то же время всеми
сторонами своего сюжета, тяжелого, печального
и подробно разработанного, как в идеале, у Дик-
кенса и Достоевского, — эта вещь будет выраже-
нием моих взглядов на искусство, на Евангелие,
на жизнь человека в истории и на многое другое.
Роман пока называется «Мальчики и девочки*. Я
в нем свожу счеты с еврейством, со всеми видами
национализма (и в интернационализме), со всеми
оттенками антихристианства и его допущениями,
будто существуют еще после падения Римской
империи какие-то народы и есть возможность
строить культуру на их сырой национальной сущ-
ности. Атмосфера вещи — мое христианство, в
своей широте немного иное, чем квакерское или
толстовское, идущее от других сторон Евангелия
в придачу к нравственным*.
К концу 1947 года написано уже 10 сти-
хотворений к будущему роману... Еще в ян-
варе того же года Пастернак подписывал
договор с журналом «Новый мир» на пуб-
ликацию романа «Иннокентий Дудоров
(Мальчики и девочки)*, рукопись которого
объемом в 10 авторских листов он обязался
представить к августу текущего года. В ре-
дакции журнала осенью 1946 года Пастер-
нак познакомился с Ольгой Ивинской: эта
женщина стала секретарем поэта и его по-
следним трагическим увлечением. Черты
Ивинской, по признанию автора, воплоти-
лись в образе главной героини романа Лары
Гишар.
В апреле 1947 года Пастернак закончил
третью главу романа: название «Рыньва»
(судоходная река, упоминаемая в прозе
1930-х годов), а впоследствии — во второй
части романа он заменяет его другим —
«Свеча горела*. Не все друзья и знакомые
поэта, которые присутствовали на чтении
романа, отзываются о нем одобрительно.
Так, Анна Ахматова после читки первых
глав негативно оценила опыт поэта, в част-
ности, ей не понравилось описание кругов
403
Русские писатели XX века
московской интеллигенции, а также образ
главной героини произведения.
Совершенное безденежье весной 1947 го-
да заставило Пастернака отложить работу
над романом и вновь обратиться к перево-
дам: «...За лето я должен перевести Фауста,
Короля Лира и одну поэму Петефи «Рыцарь
Янош». Но писать-то я буду в двадцать пя-
тые часы суток свой роман», — жаловался
он в это время О. Фрейденберг. К тому же
на плечах поэта лежала добровольно взва-
ленная им самим на себя забота о Нине Та-
бидзе, Ариадне и Анастасии Цветаевых —
дочери и сестре поэтессы, о вдове Андрея
Белого, наконец, о семье Ольги Ивинской и
многих других. Развернувшаяся в это вре-
мя с высоких трибун и в критике травля
Пастернака привела к тому, что уже напе-
чатанный 25-тысячный тираж сборника
«Избранное» был пущен под нож; приоста-
новлена была и работа над книгой «Избран-
ных переводов», так что рассчитывать мож-
но было только на новые договоры.
К лету 1948 года были закончены первые
четыре главы романа, которому уже было
найдено окончательное название «Доктор
Живаго», с подзаголовком «Картины полу-
векового обихода», впоследствии снятым.
С августа 1948 по февраль 1949 года Пас-
тернак напряженно работает над перево-
дом первой части «Фауста» Гете. Близость
взглядов двух великих поэтов и прекрасное
знание Пастернаком языка и культуры Гер-
мании были важным подспорьем в этом
по-настоящему подвижническом деле. Чув-
ство неотвратимой опасности заставляло
торопиться с этой работой, чтобы вернуться
наконец к главному делу своей жизни —
роману. В октябре 1949 года была арестова-
на Ольга Ивинская. И хотя к этому времени
в их отношениях, по всей вероятности, на-
ступил кризис, поэт глубоко переживал
происшедшее, считал, что именно он глав-
ная причина ареста.
Пытаясь заглушить боль неистовым тру-
дом, Пастернак берется за перевод второй
части «Фауста». А в июле 1950 года перево-
дит трагедию Шекспира «Макбет* — вось-
мую и последнюю из его шекспировских ра-
бот. Он старается не обращать внимания на
развернувшуюся вокруг его имени разобла-
чительскую вакханалию. Только весной
1952 года он смог дописать седьмую часть
своего романа, в августе она была перепеча-
тана набело, заключив собой первую книгу
«Доктора Живаго». А 20 октября Пастерна-
ка с инфарктом миокарда, в очень тяжелом
состоянии увезли в Боткинскую больницу,
где он пробыл два с половиной месяца.
Здесь на краю жизни и смерти он не-
ожиданно пережил особое чувство причаст-
ности к миру как Божьему творению.
В письмах, устных рассказах, в стихотворе-
нии «В больнице» он не раз возвращается к
своему переживанию:
«Когда это случилось, и меня отвезли, и я пять
вечерних часов пролежал сначала в приемном по-
кое, а потом ночь в коридоре обыкновенной гро-
мадной и переполненной городской больницы, то
в промежутках между потерею сознания и при-
ступами тошноты и рвоты меня охватывало такое
спокойствие и блаженство!..
В минуту, которая казалась последнею в жиз-
ни, больше, чем когда-либо до нее, хотелось го-
ворить с Богом, славословить видимое, ловить и
запечатлевать его. «Господи, — шептал я, — бла-
годарю тебя за то, что твой язык — величествен-
ность и музыка, что ты сделал меня художником,
что творчество — твоя школа, что всю жизнь ты
готовил меня к этой ночи. И я ликовал и плакал
от счастья...»
Смерть Сталина 5 марта 1953 года и рас-
стрел в июле Лаврентия Берии давали на-
дежду на близкие перемены к лучшему.
Осенью вернулась из лагерей Ольга Ивин-
ская. В октябрьском номере журнала «Но-
вый мир» было напечатано стихотворение
Н. Заболоцкого «Оттепель», которое вместе
с одноименной повестью 1954 года И. Эрен-
бурга дало имя наступающей эпохе. К весне
1954 года заметно оживилась литературная
жизнь: в апреле в Союзе писателей состо-
ялось обсуждение «Фауста», в этом же ме-
сяце в «Знамени», впервые с 1945 года, бы-
ли опубликованы стихи Пастернака —
десять стихотворений из будущего романа.
В пояснении к публикации автор сообщал:
«Роман предположительно будет дописан ле-
том. Он охватывает время от 1903 до 1929 года, с
эпилогом, относящимся к Великой Отечествен-
404
Борис Леонидович Пастернак
ной войне. Герой — Юрий Андреевич Живаго,
врач, мыслящий, с поисками, творческой и худо-
жественной складки, умирает в 1929 году, после
него остаются записки и среди других бумаг на-
писанные в молодые годы, отделанные стихи,
часть которых здесь предлагаются и которые во
всей совокупности составят последнюю, заключи-
тельную часть романа».
Осенью 1954 года возобновились близкие
отношения Пастернака с Ольгой Ивинской,
для которой он летом 1955 года снял не-
большой домик в деревне неподалеку от Пе-
ределкина. Однако из семьи поэт уйти тоже
не мог, мучаясь двойственностью своего по-
ложения, мучаясь той болью, которую сам
причинял жене. Ольга Ивинская вскоре
взяла на себя все денежные, редакторские и
издательские дела Пастернака, Борис Ле-
онидович мог теперь больше времени отда-
вать творчеству. 7 июля, когда в полном
разгаре была работа над эпилогом романа,
пришло известие о смерти двоюродной сест-
ры Пастернака, Ольги Фрейденберг, круп-
ного ученого-литературоведа, давнего друга
и корреспондента поэта. Последние исправ-
ления в текст романа, уже перепечатанного
на машинке, были внесены в самом конце
1955 года.
В феврале 1956 года Пастернак подгото-
вил к изданию новый сборник лирики. Для
него он отбирал как новые, так и старые
стихотворения, а вместо вступления к кни-
ге написал автобиографический очерк,
впоследствии получивший название «Люди
и положения». Отдельные главы очерка
были посвящены А. Скрябину, А. Блоку,
В. Маяковскому, М. Цветаевой, П. Яшви-
ли; сказав о значении для него творчества
Р. М. Рильке, Пастернак неожиданно со-
слался на мнение о нем другого значимого
для него поэта — бельгийца Верхарна, а за-
тем привел два стихотворения Рильке в сво-
ем переводе, тем самым наглядно проде-
монстрировав близость их поэтических ми-
ров.
Разоблачение Хрущевым культа Стали-
на рождало либеральные ожидания, и Пас-
тернак предложил рукопись своего романа
сразу двум журналам — «Знамени» и «Но-
вому миру». Для ознакомления роман был
передан и корреспонденту радио, члену
компартии Италии Серджио д’Анжело, ко-
торый одновременно исполнял обязанности
литературного агента итальянского комму-
ниста издателя Джанджакомо Фельтринел-
ли, о чем Пастернак, видимо, знал. Поэто-
му, когда от Фельтринелли пришло извес-
тие, что он бы хотел опубликовать роман и
ищет переводчика, Пастернак принял пред-
ложение, предупредив в ответном письме о
возможных негативных последствиях, если
перевод в Италии выйдет раньше оригина-
ла на родине.
Однако в обоих журналах дело застопо-
рилось; только в сентябре 1956 года от «Но-
вого мира» пришел официальный отказ,
подписанный А. Агаповым, Б. Лаврене-
вым, К. Фединым, К. Симоновым и А. Кри-
вицким:
«Дух Вашего романа — дух неприятия со-
циалистической революции. Пафос Вашего рома-
на — пафос утверждения, что Октябрьская рево-
люция, Гражданская война и связанные с ними
последующие социальные перемены не принесли
народу ничего, кроме страданий, а русскую ин-
теллигенцию уничтожили или физически или
морально... Нам кажется, что Ваш роман глубоко
несправедлив, исторически необъективен, что он
глубоко недемократичен и чужд какого бы то ни
было понимания интересов народа... Как люди,
стоящие на позиции, прямо противоположной
Вашей, мы, естественно, считаем, что о публика-
ции Вашего романа на страницах журнала «Но-
вый мир» не может быть и речи... Возвращаем
Вам рукопись романа «Доктор Живаго*.
Пастернак после полученного отказа не
утратил присутствия духа, продолжая ра-
боту над стихотворным сборником, кото-
рый должен был выйти в марте 1957 года.
Для МХАТа поэтом была переведена «Ма-
рия Стюарт» Шиллера, осенью 1956 года
взятая для постановки. Борис Леонидович
регулярно посещал репетиции спектакля,
пока весной 1957 года его не подкосила бо-
лезнь, обернувшаяся вынужденной госпи-
тализацией, а затем санаторием. В Гослит-
издате приняли для публикации роман
Пастернака, однако дело невозможно затя-
гивалось из-за бесконечного числа редак-
торских правок и изъятий. Неожиданно
405
Русские писатели XX века
стихи и две главы из «Доктора Живаго»
были опубликованы в польском журнале
«Opinie». Разразился скандал, автора выз-
вали на заседание секретариата Союза пи-
сателей, через О. Ивинскую требовали, что-
бы Пастернак отозвал у Фельтринелли под
предлогом доработки рукопись. Под мощ-
нейшим давлением его вынудили послать
телеграмму издателю с требуемой прось-
бой, однако одновременно через молодого
итальянского слависта Витторио Страда
Пастернак сумел передать разрешение
Фельтринелли на публикацию романа в
соответствии с имеющейся у того руко-
писью. Чтобы оказать на издателя давле-
ние, в Милан срочно вылетел главный гони-
тель Пастернака А. Сурков, однако тот
оставался непреклонен в своем решении.
Не удалось остановить выход романа и в
Англии и Франции. 23 ноября 1957 года
первые экземпляры «Доктора Живаго* в
переводе Пьетро Зветермих вышли в Мила-
не, в 1958 году — в Англии, США, ФРГ и
Швеции.
Роман вызвал широкий резонанс на За-
паде; вновь, уже в восьмой раз с 1946 года,
заговорили о выдвижении Пастернака на
Нобелевскую премию. Кандидатуру поэта
предложил французский писатель-экзис-
тенциалист Альбер Камю, лауреат премии
1957 года. В Переделкино стали приходить
письма со всего мира: долгое время лишен-
ный «большого читателя», Пастернак с ра-
достью и воодушевлением получал их, ста-
раясь на каждое хотя бы кратко ответить,
по возможности на языке -корреспондента.
Домашние и близкие не очень поддержива-
ли это занятие: оно отнимало много време-
ни, сил и средств, а на рабочем столе Бори-
са Леонидовича лежала рукопись новой
книги стихов с характерным названием
«Когда разгуляется». К тому же повысился
интерес к поэту и со стороны органов госу-
дарственной безопасности.
23 октября 1958 года секретарь Нобелев-
ского фонда Андерс Эстрелинг телеграммой
сообщил Пастернаку о присуждении пре-
мии и пригласил его в Стокгольм 10 дека-
бря на официальную церемонию вручения.
Обоснование решения Шведской академии
звучало так: «За выдающиеся достижения
в современной лирической поэзии и продол-
жение благородных традиций великой рус-
ской прозы». В ответ Пастернак послал те-
леграмму с благодарностью: «Бесконечно
признателен, тронут, горд, удивлен, сму-
щен». Однако уже на следующий день
прежний друг Пастернака и его сосед по да-
че К. Федин пришел к нему с официальным
указанием во избежание неприятностей от-
казаться от высокой награды. Поэт ульти-
матума не принял. Вечером того же дня ему
была вручена повестка на заседание правле-
ния Союза писателей, на котором должен
был рассматриваться вопрос «О действиях
члена СП СССР Б. Л. Пастернака, не сов-
местимых со званием советского писателя».
В газетах началось открытое шельмование
автора «Доктора Живаго». 27 октября на
заседании правления было принято поста-
новление:
«Президиум правления Союза писателей
СССР, бюро оргкомитета писателей РСФСР и пре-
зидиум правления Московского отделения Союза
писателей РСФСР на совместном заседании обсу-
дили действия Б. Пастернака и пришли к едино-
душному выводу, что эти действия не совмести-
мы со званием советского писателя, направлены
против традиций русской литературы, против на-
рода, против мира и социализма... Литературная
деятельность Б. Пастернака давно иссякла в эго-
центрическом затворничестве, в самоизоляции от
народа и времени... Идея романа фальшива и
ничтожна, вытащена с декадентской свалки...
Б. Пастернак порвал последние связи со своей
страной и ее народом... Поэтому, учитывая поли-
тическое и моральное падение Б. Пастернака, его
предательство по отношению к советскому наро-
ду, к делу социализма, мира, прогресса, оплачен-
ное Нобелевской премией в интересах разжига-
ния холодной войны, президиум правления Сою-
за писателей, бюро Оргкомитета Союза писателей
РСФСР и президиум правления Московского от-
деления Союза писателей РСФСР лишают Б. Пас-
тернака звания советского писателя, исключают
его из числа членов Союза писателей СССР».
На пленуме с гневным осуждением поэта
выступили многие из тех, с кем прежде
Б. Пастернак поддерживал товарищеские и
даже дружеские отношения. К сожалению,
среди «обличителей» было немало достой-
406
Борис Леонидович Пастернак
ных художников, причем многие из них
были даже не знакомы с текстом романа.
Против поспешного решения выступили
только А. Твардовский и Н. Грибачев; неко-
торые предпочли к моменту голосования
покинуть зал. Особенно возмутило собрав-
шихся письмо Пастернака к президиуму
правления, в котором звучали интонации
предсмертной речи героя его поэмы «Лейте-
нант Шмидт»:
«Я не ожидаю, чтобы правда восторжество-
вала и чтобы была соблюдена справедливость.
Я знаю, что под давлением обстоятельств будет
поставлен вопрос о моем исключении из Союза
писателей. Я не ожидаю от вас справедливости.
Вы можете меня расстрелять, выслать, сделать
все, что угодно. Я вас заранее прощаю. Но не то-
ропитесь. Это не прибавит вам ни счастья, ни сла-
вы. И помните, все равно через некоторое время
вам придется меня реабилитировать. В вашей
практике это не в первый раз*.
Однако 29 октября Пастернак послал те-
леграмму в адрес Нобелевского комитета с
отказом от премии. В этом отказе слились
воедино тяжелое душевное состояние поэ-
та, преданного многими небезразличными
ему людьми, страх за близких, наконец,
слухи о том, что ему будет предложено по-
кинуть пределы родины. Действительно,
вскоре с подачи Н. Хрущева Первый секре-
тарь ЦК ВЛКСМ В. Семичастный заявил о
том, что правительство «не чинило бы ни-
каких препятствий выезду Б. Пастернака
из СССР». Из текста телеграммы Нобелев-
скому комитету видно, что решение было
принято под мощным давлением и что ав-
тор не противопоставлял себя своему наро-
ду, не мыслил жизни вдали от родины:
«В силу того значения, которое получила при-
сужденная мне награда в обществе, к которому я
принадлежу, я должен от нее отказаться. Не соч-
тите за оскорбление мой добровольный отказ».
Однако шквал оскорблений и угроз не
прекращался. Редакции газет захлестнул
поток писем «простых советских граждан»
с осуждением Б. Пастернака и его романа,
хотя никто из них не читал «Доктора Жи-
ваго», а многие вряд ли вообще были знако-
мы с творчеством писателя. Пастернак был
вынужден 31 октября обратиться с пись-
мом к ЦК КПСС и лично к Хрущеву с
просьбой не лишать его советского граж-
данства и не высылать из страны. Многие
мемуаристы вспоминают о том, как тяжело
переживал поэт отказ от премии и необхо-
димость вести переговоры с властями. Не
было никаких гарантий, что вопреки ото-
сланной телеграмме и письму в ЦК его не
вышлют за границу. Прекратились и все
выплаты Пастернаку за уже выполненные
переводы, в том числе за перевод «Марии
Стюарт» Словацкого, за изданный в Тбили-
си сборник грузинских лириков. В собра-
нии Шекспира переводы Пастернака заме-
нялись другими, в театрах были приоста-
новлены спектакли, с ним расторгались
договоры. 5 ноября поэт написал еще одно
письмо, на этот раз в редакцию газеты
«Правда», на следующий день оно было
опубликовано. Отредактированное О. Ивин-
ской и заведующим Отделом культуры ЦК
КПСС Д. А. Поликарповым, это письмо еще
раз подтверждало добровольность отказа и
желание своим творчеством послужить род-
ному народу.
За рубежом тем временем поднялась вол-
на поддержки опального поэта: крупней-
шие художники мира выступили в защиту
автора «Доктора Живаго*. Джавахарлал
Неру лично обратился к Хрущеву с прось-
бой оградить Пастернака от нападок, дать
гарантии его безопасности. Только после
этого такие гарантии были получены, и
травля несколько поутихла. Серьезную мо-
ральную поддержку оказывали и письма,
приходящие из разных уголков родной
страны и всего мира. В один день приходи-
ло до полусотни посланий со словами одоб-
рения, поддержки, восхищения. Отвечать
на все уже не представлялось возможным,
однако Пастернак самоотверженно старал-
ся ответить хотя бы на некоторые из них.
Благодаря переписке в этот момент у него
завязывается настоящая «эпистолярная
дружба» с писателями-эмигрантами Б. Зай-
цевым, Ф. Степуном, Борис Леонидович ре-
гулярно обменивается посланиями с Жак-
лин де Пруайар — переводчицей и иссле-
407
Русские писатели XX века
довательницей его творчества, ставшей
литературным агентом поэта за рубежом.
Новый скандал разразился, когда в
эмигрантской газете «Новое русское слово»
без согласия автора был опубликован очерк
«Люди и положения», а в газете «Daily
Mail» — стихотворение «Нобелевская пре-
мия»:
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.
Пастернак был вынужден на время поки-
нуть Переделкино. 20 февраля 1959 года он
с женой улетел в Тбилиси, где две недели
жил в доме Нины Табидзе. Однако по воз-
вращении домой в середине марта его выз-
вали к генеральному прокурору Р. А. Ру-
денко, где поэту было предъявлено обвине-
ние в государственной измене и запрещено
любое общение с иностранцами. Финансо-
вые затруднения заставили Пастернака об-
ратиться к властям с просьбой получить
из-за границы хоть небольшую часть гоно-
рара за свои произведения, причем он выра-
зил готовность 10 тысяч долларов перечис-
лить Литературному фонду. Однако в ответ
было выдвинуто требование все средства пе-
ревести в Москву на счет Всемирного совета
мира — пропагандистской организации, ве-
дущей свою деятельность за рубежом.
В такой обстановке Пастернак задумал
написать новую вещь — на этот раз драму о
судьбе талантливого крепостного актера и
драматурга накануне отмены крепостного
права, проводя в ней скрытые параллели
между двумя эпохами, судьбами художни-
ков середины XIX и середины XX столетия.
Пьеса получила название «Слепая красави-
ца»: по-блоковски образ героини, матери
художника, ослепшей в результате несчаст-
ного случая, соотносился с образом великой
и несчастной России.
Замкнутая жизнь поэта несколько успо-
коила власти. К нему стали поступать за-
долженные гонорары, был подписан дого-
вор с издательством на перевод мистерии
Кальдерона «Стойкий принц», на театраль-
ные афиши вернулось имя переводчика.
В конце января 1959 года были дописаны
заключительные стихотворения книги
«Когда разгуляется», впрочем, надежд на
публикацию почти не было.
Весной 1960 года смертельная болезнь
приковала Б. Пастернака к постели: она
началась еще зимой с болей в спине, кар-
диограмма показала инфаркт, а дальней-
шие анализы подтвердили и еще один диаг-
ноз — рак легких. Поэт стоически принял
это известие, будучи уже внутренне к нему
готовым: чувство исполненного долга, дове-
рие к жизни и поддержка близких людей
помогали ему мужественно переносить фи-
зические и душевные муки. 30 мая 1960 го-
да Б. Л. Пастернака не стало. Последними
были его слова: «Что-то я глохну. И туман
какой-то перед глазами. Но ведь это прой-
дет? Не забудьте завтра открыть окно...»
В. А. Зайцев
Александр Трифонович
Твардовский
(1910—1971)
ИСТОКИ. ДЕТСТВО
Александр Трифонович Твардовский ро-
дился 21 июня 1910 года на «хуторе пусто-
ши Столпово», относившемся к деревне За-
горье Смоленской губернии, в большой,
многодетной семье крестьянина-кузнеца.
Позже он не раз вспоминал о «хуторском
глухом подворье», о своей «малой роди-
не* — Смоленщине, ее природе и людях.
Ему были далеко не безразличны свои родо-
вые корни. В поэме «За далью — даль» он
писал:
Мы все — почти что поголовно —
Оттуда люди, от земли,
И дальше деда родословной
Не знаем: предки не вели.
Не беспокоились о древе,
Рождались, жили в свой черед,
Хоть род и мой — он так же древен,
Как, скажем, твой, читатель, род...
Дед Твардовского Гордей Васильевич —
уроженец Белоруссии, крепостной крестья-
нин — был за какую-то провинность отдан
в солдаты и отслужил немалый срок в цар-
ской армии, а после возвращения закрепил-
ся на смоленской земле, обзавелся хозяйст-
вом и семьей. У него было 8 человек детей,
самый младший из них — Трифон стал
впоследствии отцом будущего поэта.
Александр Твардовский хорошо помнил
и очень любил деда, который уделял вну-
кам много внимания, мастерил им про-
стенькие игрушки, пел солдатские песни,
баловал со своей небольшой пенсии не-
затейливым гостинцем. В стихотворении
«Мне памятно, как умирал мой дед...»
(1951) переданы чувство глубокой привя-
занности и боль утраты, впервые с такой
остротой пронзившей детское сердце:
Мы с ним дружили. Он любил меня.
Я тосковал, когда он был в отлучке,
И пряничного ждал себе коня,
Что он обычно приносил с получки.
И вот он умер, и в гробу своем,
Накрытом крышкой, унесен куда-то.
И нет его, а мы себе живем, —
То первая была моя утрата...
Отец поэта Трифон Гордеевич окончил
трехклассную сельскую школу, проявив
способности к учебе и особую страсть к чте-
нию. Он обладал хорошим музыкальным
слухом и голосом, в школьные годы пел в
церковном хоре. Знал на память немало
стихов и любил дома петь их на подобран-
ные им самим мотивы. Был прекрасным
мастером кузнечного дела и опытным хле-
боробом, однако приобретенная в рассроч-
ку, «скупая и недобрая* болотистая земля
давала лишь скудные средства к существо-
ванию.
Трифон Гордеевич был человеком само-
бытным, с весьма своеобычным, твердым и
даже крутым и жестким характером. По
своему складу и привычкам он заметно от-
личался от соседей-крестьян, не случайно
получив у них прозвище «Пан Твардов-
ский». По воспоминаниям поэта, отец «лю-
бил носить шляпу, что в нашей местности,
где он был человек «пришлый», не корен-
ной, выглядело странностью и даже некото-
рым вызовом, и нам, детям, не позволял но-
сить лаптей, хотя из-за этого случалось бе-
409
Русские писатели XX века
гать босиком до глубокой осени. Вообще
многое в нашем быту было «не как у лю-
дей».
Вместе с тем конечно же эти отличия
имели не только внешний, бытовой харак-
тер. Трифон Гордеевич был человеком не
только грамотным, но и начитанным, он
мечтал дать детям образование и для этого
в 1918 году отвез Сашу и его старшего брата
Костю в Смоленск, где они проучились год
в школе первой ступени. Но в 1919 году, в
условиях Гражданской войны, эта школа
закрылась и мальчикам пришлось вернуть-
ся домой.
Мать поэта Мария Митрофановна — доб-
рая, красивая, работящая женщина — бы-
ла дочерью обедневшего мелкопоместного
дворянина Митрофана Яковлевича Плеска-
чевского. Она обладала чуткой, впечатли-
тельной душой. Как вспоминал позднее
Твардовский:
«Ее до слез трогал звук пастушьей трубы
где-нибудь вдалеке за нашими хуторскими куста-
ми и болотцами, или отголосок песни с далеких
деревенских полей, или, например, запах первого
молодого сена, вид какого-нибудь одинокого де-
ревца ит. п.».
На ее плечи прежде всего и легли нема-
лые хозяйственные заботы по обеспечению
жизни семьи и по воспитанию детей, а их
было семеро. С малых лет и до последних
дней Твардовский всегда нежно любил Ма-
рию Митрофановну, о чем свидетельствуют
не только непосредственно посвященные ей
стихи, но и материнская тема, образ жен-
щины-матери, проходящий сквозным мо-
тивом через все его творчество — от стихов
20—30-х годов и до скорбного лирического
цикла «Памяти матери* (1965), написанно-
го в связи с ее смертью.
В семье Твардовских никто не оставался
без работы, каждому находилось дело по
силам. С самого раннего возраста Саша впи-
тал любовь и уважение к земле, нелегкому
труду на ней, особенно в пору летней стра-
ды. Вместе со старшим братом он пас скоти-
ну, гонял коней в ночное, участвовал в се-
нокосе, помогал отцу в кузнице. Ну а дол-
гие зимние вечера, как позднее вспоминал
он, нередко посвящались чтению вслух
книг Пушкина и Гоголя, Лермонтова и Не-
красова, Никитина и А. К. Толстого...
Именно тогда и возникла в душе мальчи-
ка подспудная, неодолимая тяга к поэзии, в
основе которой была сама близкая к приро-
де деревенская жизнь с ее трудностями и
радостями, первое знакомство с произведе-
ниями русской поэтической классики — от
пушкинской «Полтавы» до ершовского
♦Конька-Горбунка», а также и черты, унас-
ледованные им у родителей. Еще до поступ-
ления в школу он начинает сочинять пер-
вые стихи.
«Хорошо помню, — писал он в поздние го-
ды, — что первое мое стихотворение, обличающее
моих сверстников, разорителей птичьих гнезд, я
пытался записать, еще не зная всех букв алфави-
та и конечно же не имея понятия о правилах сти-
хосложения. Там не было ни лада, ни ряда — ни-
чего от стиха, но я отчетливо помню, что было
страстное, горячее до сердцебиения желание все-
го этого — и лада, и ряда, и музыки, — желание
родить их на свет — и немедленно, — чувство, со-
путствующее и доныне всякому новому замыс-
лу».
С осени 1920 года Твардовский учился в
сельской школе в Ляхове, а затем в егорьев-
ской и белохолмской школах недалеко от
Загорья. Уже тогда у него обнаружились
острый интерес к происходящему в жизни
и страстное желание поделиться своими
впечатлениями, рассказать о них другим
людям. В 1924 году он вступает в комсомол
и тогда же в качестве сельского корреспон-
дента начинает посылать небольшие замет-
ки в редакции смоленских газет. «Писал о
неисправных мостах, о комсомольских суб-
ботниках, о злоупотреблениях местных
властей и т. п. Изредка заметки печата-
лись». Это были первые, еще ученические
опыты будущего писателя. В одном из по-
здних стихотворений, обратившись к поре
своей юности, Твардовский рисует вырази-
тельную картину тех давних времен, психо-
логически тонко воссоздавая свое тогдаш-
нее состояние и внутренний, душевный на-
строй:
410
Александр Трифонович Твардовский
Погубленных березок вялый лист,
Еще сырой, еще живой и клейкий,
Как сено из-под дождика, душист.
И Духов день. Собрание в ячейке,
А в церкви служба. Первый гармонист
У школы восседает на скамейке,
С ним рядом я, суровый атеист
И член бюро. Но миру не раскрытый —
В душе поет под музыку секрет,
Что скоро мне семнадцать полных лет
И я, помимо прочего, поэт, —
Какой хочу, такой и знаменитый.
ПОИСКИ СЕБЯ
Именно к середине 20-х годов относится
становление и формирование Твардовско-
го-поэта. Идут напряженные поиски себя, и
все более крепнет в нем ощущение призва-
ния. В период работы сельским корреспон-
дентом он печатает в местных газетах свои
юношеские, непритязательные и еще несо-
вершенные стихи. Таково было и самое пер-
вое опубликованное им в газете «Смолен-
ская деревня» 19 июля 1925 года в разделе
«Деревенское — бытовое» наряду с замет-
ками других авторов о новом быте стихо-
творение «Новая изба»:
Пахнет свежей сосновой смолою.
Желтоватые стенки блестят.
Хорошо заживем мы семьею
Здесь — на новый советский лад.
А в углу мы «богов» не повесим
И не будет лампадка тлеть.
Вместо этой дедовской плесени
Из угла будет Ленин глядеть.
Между тем отношения с собственной
семьей, и прежде всего с ее главой — Три-
фоном Гордеевичем, у осознавшего свое
призвание поэта, «сурового атеиста и члена
бюро», тяготившегося замкнутой хутор-
ской жизнью, складывались далеко не
просто. В 1928 году, после конфликта, а за-
тем и разрыва с отцом, Твардовский рас-
стался с Загорьем и переехал в Смоленск,
где долго не мог устроиться на работу и пе-
ребивался грошовыми литературными за-
работками.
В это время большую роль в его судьбе и
творческом развитии сыграл М. В, Исаков-
ский, знакомство с которым впоследствии
перешло в многолетнюю дружбу. Первая их
встреча состоялась еще в 1926 году в Смо-
ленске, где проходил губернский съезд
селькоров. Именно тогда в редакции газеты
«Рабочий путь» Исаковский обратил вни-
мание на сочинения младшего собрата по
перу и решительно поддержал Твардовско-
го, по достоинству оценив его «большую
поэтическую зоркость».
«Стихи Твардовского мне понравились, — поз-
же вспоминал он об этой встрече. Конечно, они не
были совершенны, как и стихи всякого начинаю-
щего поэта, но тем не менее нетрудно было заме-
тить, что Твардовский пишет не так, как другие:
он по-своему видит описываемое в стихах и стара-
ется говорить своими словами, не прибекая к
установившимся шаблонам стихотворной речи. В
этом смысле стихи были поэтически, свежими, в
своем роде оригинальными, мало похожими на те
стихи так называемых «крестьянских поэтов»,
которые печатались в то время в больших количе-
ствах».
Однако жизнь в Смоленске, безуспеш-
ные попытки устроиться на постоянную ра-
боту, обивание порогов редакций, скитания
по чужим углам не могли удовлетворять
молодого поэта. Летом 1928 года вместе с
таким же начинающим поэтом Сергеем
Фиксиным, получив подписанное Исаков-
ским командировочное удостоверение от га-
зеты «Юный товарищ», они проехали из
Смоленска в Крым с остановками в Брян-
ске, Орле, Курске, Харькове, Симферополе
и, наконец, Севастополе. Впечатления от
этой поездки отразились в стихах, публико-
вавшихся в газетах «Брянский рабочий»,
«Красный Крым» и др.
В эти годы Твардовский пишет много,
но, как сам отмечал в «Автобиографии», —
«ученически беспомощно, подражательно».
Строго и взыскательно относясь к себе,
ощущая несовершенство своих творений,
он вместе с тем ищет собственный путь в
поэзии, свое особое место в ней и одновре-
менно — ищет понимания и, быть может,
признания. Этим, скорее всего, можно объ-
яснить несколько неожиданную, хотя и не
случайную поездку в Москву в 1929 году.
Вот как он сам вспоминал об этом:
411
Русские писатели XX века
«Когда в московском «толстом* журнале «Ок-
тябрь» М. А. Светлов напечатал мои стихи и
кто-то где-то отметил их в критике, я заявился в
Москву. Но получилось примерно то же, что и со
Смоленском. Меня изредка печатали, кто-то
одобрял мои опыты, поддерживал ребяческие на-
дежды, но зарабатывал я ненамного больше, чем
в Смоленске, и жил по углам, койкам, слонялся
по редакциям, и меня все заметнее относило ку-
да-то в сторону от прямого и трудного пути на-
стоящей учебы, настоящей жизни».
И зимой 1930 года Твардовский возвра-
щается в Смоленск. Начинается новый, по
словам поэта, «самый решающий и значи-
тельный» период в его литературной судь-
бе. Происходят существенные перемены и в
его личной жизни.
В 1931 году Твардовский женился на
Марии Илларионовне Гореловой, в 1933-м
у них родилась дочь, появились немалые
заботы по обеспечению семьи. Вместе с тем
именно в эти годы ощущая огромную
потребность в систематическом образова-
нии, он в 1932 году с помощью работника
облисполкома А. Н. Локтева поступает без
приемных экзаменов на первый курс Смо-
ленского педагогического института с обя-
зательством сдать за год наряду с институт-
скими зачетами и экзаменами все необхо-
димые предметы за среднюю школу. Вся
эта программа была им успешно выпол-
нена. И дальше он исключительно серь-
езно, настойчиво и целеустремленно учил-
ся, основательно осваивая институтские
курсы литературы, философии, языка. Бо-
лее того, будучи студентом, он продолжал
сотрудничать в областных газетах: ездил в
качестве корреспондента в колхозы, писал
статьи и заметки о переменах в сельской
жизни.
А эти перемены, связанные с развернув-
шейся коллективизацией, непосредственно
отразились на судьбе семьи Твардовских.
Сегодня по-новому воспринимаются слова
поэта из «Автобиографии»: «Все то, что
происходило тогда в деревне, касалось меня
самым ближайшим образом в житейском,
общественном, морально-этическом смыс-
ле».
РОЖДЕНИЕ ПОЭТА
В пору «сплошной коллективизации» и
«ликвидации кулачества как класса» семью
Трифона Гордеевича постигла трагическая
судьба. 19 марта 1931 года все члены семьи,
включая малых детей, были без каких-либо
оснований «раскулачены* и высланы на Се-
вер, в Зауралье, где в таежной глуши сами
должны были построить бараки «спецпере-
селенческого» лагеря, чтобы жить в них.
Александр не сразу узнал об этом, но и по-
лучив письмо от родных, не смог чем-либо
помочь им. А когда бежавшие из ссылки и
добравшиеся до Смоленска отец с 13-летним
сыном Павлом обратились к нему за по-
мощью, он, как вспоминает его младший
брат Иван Твардовский в книге «Родина и
чужбина» (1996), встретил их словами: «По-
мочь вам могу только тем, чтобы бесплатно
доставить вас туда, где были».
Впоследствии этот поступок на протяже-
нии многих лет доставлял поэту мучитель-
ные переживания, которыми он ни с кем не
делился, нося незаживающую боль и рану в
своей душе. Свидетельством тому служат и
его произведения — от стихотворения
«Братья» (1933), заканчивающегося сло-
вами: «Что ж ты, брат? / Как ты, брат? /
Где ж ты, брат? / На каком Беломорском
канале?» — и до написанной в последние
годы жизни поэмы «По праву памяти».
Благодаря неимоверным усилиям, иск-
лючительной работоспособности Трифона
Гордеевича и его безграничной преданности
семье Твардовские смогли выжить даже в
невыносимых условиях ссылки. Через ка-
кое-то время им удалось перебраться из За-
уралья в Русский Турек на реке Вятке. Ту-
да к ним и приехал Александр в апреле
1936 года, а уже в июне с его помощью
семья смогла вернуться в родные места, на
Смоленщину.
В 30-е годы разворачивается многообраз-
ная литературная деятельность Твардов-
ского. «Именно этим годам я обязан своим
поэтическим рождением», — подчеркивал
он. Однако процесс его формирования шел
далеко не просто. На какое-то время он да-
же пережил, по собственному признанию,
412
Александр Трифонович Твардовский
«крайнее отвращение к «стихотворству». В
начале десятилетия, кроме прозаической
повести «Дневник председателя колхоза»,
он пишет поэмы «Путь к социализму»
(1931) и «Вступление» (1933), в которых
преобладал разговорный, прозаизирован-
ный стих. Как, например, в следующем от-
рывке:
В одной из комнат бывшего барского дома
Насыпан по самые окна овес.
Окна побиты еще во время погрома
И щитами завешаны из соломы,
Чтобы овес не пророс...
Поэма «Путь к социализму», озаглавлен-
ная так по названию колхоза, получила бо-
лее чем благожелательную оценку Э. Баг-
рицкого. Отмечая в своем отзыве «настоя-
щий и серьезный подход поэта к теме
сегодняшнего дня», рецензент подчерки-
вал: «Абсолютная простота ее, разговорный
язык, которым она написана, ритмическое
разнообразие ее — все это делает поэму
весьма понятной массовому читателю». Од-
нако сам Твардовский, несмотря на опубли-
кование поэмы в московском издательстве
«Молодая гвардия» и положительные от-
клики в печати, вскоре осознал, «что такие
стихи — езда со спущенными вожжами, ут-
рата ритмической дисциплины стиха, про-
ще говоря, не поэзия». Первые поэмы не
стали поэтической удачей, хотя и сыграли
свою роль в становлении и быстром самооп-
ределении его таланта.
Широкую известность принесла поэту
написанная в середине 30-х годов «Страна
Муравил» (1934—1936) — поэма о судьбе
крестьянина-единоличника, о его непрос-
том и нелегком пути в колхоз. В ней ярко
проявился его самобытный талант. Тогда
же он пишет циклы стихов «Сельская хро-
ника», «Про деда Данилу», ряд других за-
метных произведений. Именно «Страна Му-
равия» определяет в те годы складываю-
щийся и противоречивый художественный
мир Твардовского.
Сегодня мы иначе воспринимаем творче-
ство поэта той поры. Можно признать спра-
ведливым замечание одного из исследовате-
лей по поводу произведений Твардовского
начала 30-х годов: «Острые противоречия
периода коллективизации в поэмах, по су-
ти, не затронуты, проблемы деревни тех лет
лишь названы, и решаются они поверхност-
но-оптимистически». Однако, думается, к
«Стране Муравии» с ее своеобразным услов-
ным замыслом и построением — поисками
сказочной страны, куда еще не докатилась
волна коллективизации, — с ее фольклор-
ным колоритом это вряд ли можно отнести
безоговорочно, равно как и к лучшим сти-
хам предвоенного десятилетия.
В последние годы взгляд на «Страну Му-
равию» как на поэму, прославляющую кол-
лективизацию, подвергся существенным
коррективам. Дело в том, что уже в ранний
период для Твардовского была характерна
святая, безудержная комсомольская вера в
то, что жизнь деревни перестраивается «на
новый лад». Но были у него и сомнения,
беспокойство, тревожные раздумья, рож-
денные реальными впечатлениями от про-
исходящего на селе «великого перелома»,
обернувшегося трагедией русского кресть-
янства.
Ныне вполне очевидно двойственное вос-
приятие событий коллективизации в поэме
Твардовского. И все же то, что происходило
в деревне на рубеже 20—30-х годов, изобра-
жается и утверждается в ней, быть может,
прежде всего в картинах разгулявшейся
бурной стихии, мощного половодья, весен-
него разлива, стремительного движения,
охватившего всю страну, всколыхнувшего
народ по мановению некой роковой силы и
воли:
Страна родная велика.
Весна! Великий год!..
И надо всей страной — рука,
Зовущая вперед.
Вместе с тем несомненно стремление ав-
тора передать драматизм судьбы героя,
сложность его исканий. Здесь и драма про-
щания с единоличной жизнью, выразив-
шаяся в самом путешествии Никиты Мор-
гунка, в его мечтах о сказочной Муравии,
которой не коснулись нынешние перемены,
в его воспоминаниях и переживаниях о сво-
ей земле, о коне, о молотьбе... Конечно, это
413
Русские писатели XX века
не трагедия «раскрестьянивания», хотя от-
дельные штрихи и намеки на нее есть в поэ-
ме — в словах Ильи Бугрова, возвращаю-
щегося из ссылки, в набросках сцены рас-
кулачивания:
— Их не били, не вязали,
Не пытали пытками,
Их везли, везли возами
С детьми и пожитками.
А кто сам не шел из хаты,
Кто кидался в обмороки, —
Милицейские ребята
Выводили под руки...
Уходящая корнями в реальную жизнь
российской деревни 30-х годов, «Страна
Муравия» вместе с тем выдержана в сказоч-
но-фольклорном поэтическом ключе. Отсю-
да и центральный образ Никиты Моргунка,
в котором отчетливо ощутима близость ска-
зочному герою — носителю лучших качеств
народа: трудолюбия, честности, доброты,
стремления к правде и свободной жизни.
И сам путь его поисков воплощается в ду-
хе фольклорных и классических традиций
русской поэзии, в первую очередь некрасов-
ской поэмы «Кому на Руси жить хорошо*.
Фольклорное начало находит воплоще-
ние во многих образах и мотивах, отозвав-
шихся в поэме, в использовании форм сказ-
ки, притчи, песни, частушки — особенно в
контрастных сценах кулацкой свадьбы-по-
минок и колхозной свадьбы. Кстати, эти
формы и средства служат и поэтизации
колхозной жизни, фигур представителей
бывшей крестьянской бедноты — «богаты-
рей» Фроловых, и в частности председателя
колхоза Андрея Фролова с его верой в навя-
занную сверху утопию — иллюзию, что эта
новая, колхозная жизнь — «навечно», «на-
всегда».
И если в «Стране Муравии» столкнулись
две утопии: крестьянская и социалистиче-
ская, то для героя и автора неизбежным бы-
ло прощание с той и другой. Вместе с тем
поэма была важна для Твардовского, быть
может, прежде всего овладением формой,
органически впитанными и реализованны-
ми в ней классическими и народно-поэтиче-
скими традициями: речевой полифонией,
многообразием ритмов, словесно-интонаци-
онными находками — вплоть до отдельных
строк, которые отзовутся в «Василии Тер-
кине* («Пешим верстам долог счет...»; «И
бредет гармонь куда-то» и др.).
Судьба «Страны Муравии» складывалась
далеко не просто. Некоторые смоленские,
да и столичные критики усматривали в ней
проявление «кулацкой» идеологии, изобли-
чали Твардовского и в других «смертных
грехах». Поэту же важно было услышать о
ней компетентное и объективное мнение.
В конце июля 1935 года на квартире у Иса-
ковского прошло чтение поэмы «в узком
кругу», где кроме хозяина присутствовали
критики А. Тарасенков, М. Серебрянский и
др. Поэма была встречена положительно.
После этого экземпляр рукописи был пере-
дан М. Горькому, который довольно резко и
во многом несправедливо отозвался о ней.
Упрекая молодого поэта в подражании
«то Некрасову, то Прокофьеву», утверж-
дая, что поэма воспринимается как «набор
частушек», Горький пришел к достаточно
суровому выводу:
«Автор должен посмотреть на эти стихи, как
на черновики. Если он хочет серьезно работать в
области литературы, он должен знать, что «поэ-
мы» такого размера, т. е. в данном случае — дли-
на — пишутся годами, а не по принципу:
«Тяп-ляп — может быть корабль», или:
«Сбил, сколотил — вот колесо!
Сел да поехал — ох, хорошо!
Оглянулся назад —
Одни спицы лежат».
Подобный отзыв мог бы стать убийствен-
ным, однако этого не произошло. В рабочей
тетради Твардовского 23 августа 1935 года
появляется запись:
«Подкосил дед, нужно признаться. Но уже
прошло два дня. Обдумал, обчувствовал. Пережи-
вем. И да обратится сие несчастие на пользу нам.
Слов нет, теперь для меня более явственны сырые
места. А что продолжает оставаться хорошим, то,
видимо, по-настоящему хорошо...
Все буду слышать: и восхищение, и такие от-
зывы, как «колесо», а работа будет продолжать-
ся. Дед! Ты заострил лишь мое перо. И я докажу,
что ты «ошибку давал».
414
Александр Трифонович Твардовский
Если учесть, что Горький знакомился с
первоначальным вариантом поэмы, а Твар-
довский вслед за этим внес в нее серьезные
изменения и правку, продолжая работать
над ней вплоть до публикации в журнале
«Красная новь» (1936, № 4) и выхода ее в
том же году отдельными изданиями в Смо-
ленске и Москве, то можно не только по до-
стоинству оценить труд поэта, но и понять,
почему в итоге поэма была так хорошо при-
нята большинством читателей и критиков.
Так, весьма положительную оценку дал
«Стране Муравии» Б. Л. Пастернак, увидев
в ней «исключительное явление в нашей
поэзии». Очень высоко отозвались о ней
С. Я. Маршак, К. И. Чуковский и другие
писатели. Поэтому Твардовский имел все
основания полагать, что «со «Страны Мура-
вии», встретившей одобрительный прием у
читателей и критики, я начинаю счет своим
писаниям, которые могут характеризовать
меня как литератора. Выход этой книги в
свет послужил причиной значительных пе-
ремен и в моей личной жизни. Я переехал в
Москву...»
В Москве Твардовский поступает, точ-
нее, переводится на 3 курс филологическо-
го факультета одного из лучших в то время
гуманитарных вузов — знаменитого Мос-
ковского института истории, философии и
литературы (ИФЛИ) и в 1939 году оканчи-
вает его с отличием. В это время вышли его
книги «Дорога* (1938) и «Сельская хрони-
ка» (1939), были написаны стихотворения
«Матери», «Ивушка», «Еще про Данилу»,
«Поездка в Загорье» и др.
В стихотворении «Матери» (1937, впер-
вые опубликовано в 1958) в не совсем обыч-
ной для Твардовского форме белого стиха с
редкостной силой проявились не только па-
мять детства и глубокое сыновнее чувство,
но и обостренный поэтический слух и зор-
кость, а главное — все более обнаруживаю-
щее себя и крепнущее лирическое дарова-
ние поэта. Стихи эти отчетливо психоло-
гичны, в них как бы отраженно — в
картинах природы, в приметах неотдели-
мой от нее сельской жизни и быта — возни-
кает столь близкий сердцу поэта материн-
ский облик:
И первый шум листвы еще неполной,
И след зеленый по росе зернистой,
И одинокий стук валька на речке,
И грустный запах молодого сена,
И отголосок поздней бабьей песни,
' И просто небо, голубое небо —
Мне всякий раз тебя напоминают.
По окончании института летом, 1939 го-
да, Твардовский посетил свои родные места
на Смоленщине, и это отразилось в напи-
санных тогда стихах («На хуторе Загорье»,
«На старом дворище» и др.). Осенью того
же года он был призван в армию и участво-
вал в качестве корреспондента военной га-
зеты в походе наших войск в Западную Бе-
лоруссию. А зимой 1939/40 года в том же
качестве участвовал в войне с Финляндией.
По собственному слову поэта: «Месяцы фрон-
товой работы в условиях суровой зимы сороково-
го года в какой-то мере предварили для меня во-
енные впечатления Великой Отечественной вой-
ны. А мое участие в создании фельетонного
персонажа «Васи Теркина» в газете «На страже
Родины» (ЛВО) — это по существу начало моей
основной литературной работы в годы Отечест-
венной войны».
Эта, как позже сказал о ней поэт, «незна-
менитая* война предстала перед ним преж-
де всего своей страшной, жестокой, траги-
ческой стороной. В одной из дневниковых
записей сорокового года Твардовский запе-
чатлевает то, что тогда впервые так потряс-
ло его:
«Наконец вышли на поляну, большую, откры-
тую, и здесь увидели первых убитых. Лежали
они, видно, уже дня два. Налево, головой к лесу,
лежал молоденький, розовощекий офицер-маль-
чик. Сапоги с него были сняты, розовые байковые
портяночки раскрутились. Направо лежал пере-
еханный танком, сплющенный, размеченный на
равные части труп. Потом — еще и еще. Свои и
финские. <...> Жутко было видеть, например,
туловище без головы. Там, где должна быть голо-
ва, — что-то розоватое, припорошенное сне-
гом...»
Вместе с тем именно там, в снегах Фин-
ляндии, Твардовский по-новому обрел и по-
чувствовал себя как поэта. Незадолго до
окончания этой войны он писал М. В. Иса-
ковскому:
415
Русские писатели XX века
«Люди, с которыми за эти месяцы довелось
встретиться, и все, что привелось увидеть, сдела-
ли из меня почти совсем другого человека. Коро-
че говоря, мне открылся новый, необычайно су-
ровый и вместе с тем очень человеческий, друж-
ный и радостный мир. Я рад, что он стал доступен
и понятен мне. Красную Армию я полюбил так,
как до сих пор любил только деревню, колхозы.
И, между прочим, очень много схожего. Мне ка-
жется, что армия будет второй моей темой на всю
жизнь».
ВОЙНА
22 июня 1941 года застало Твардовского
на даче под Звенигородом. Он немедленно
выехал в Москву, получил назначение в га-
зету Киевского военного округа «Красная
Армия» и уже через несколько дней прибыл
на фронт, к местам боевых действий. Вместе
с действующей армией, начав войну на
Юго-Западном фронте специальным коррес-
пондентом фронтовой газеты, он прошел по
дорогам войны от Москвы до Кенигсберга.
Он делал все, что требовалось для фронта,
часто выступал в армейской и фронтовой пе-
чати: «писал очерки, стихи, фельетоны, ло-
зунги, листовки, песни, статьи, заметки...»
Но главный его труд военных лет — это ли-
роэпическая поэма «Василий Теркин».
За годы войны было написано немало ли-
рических и лиро-эпических поэм, в числе
которых «Зоя» М. Алигер и «Сын» П. Анто-
кольского, «Февральский дневник» и «Ле-
нинградская поэма» О. Берггольц, «Пулков-
ский меридиан* В. Инбер, «Россия» А. Про-
кофьева, «Невидимка» Б. Ручьева и др. Но
наиболее значительным поэтическим произ-
ведением военных лет по праву считается
«Книга про бойца» А. Твардовского «Васи-
лий Теркин» (1941—1945).
Эту книгу можно без преувеличения на-
звать поэтической энциклопедией Великой
Отечественной войны, художественным па-
мятником той великой и трагической эпо-
хи. Среди других поэм она выделяется
особой полнотой охвата, былинной масш-
табностью и вместе с тем глубиной реалис-
тического изображения народно-освободи-
тельной борьбы, бедствий и страданий, по-
двигов и окопного быта, достоверным
изображением сложной внутренней жизни,
помыслов и раздумий, чувств и пережива-
ний «русского труженика-солдата».
Василий Теркин в поэме фактически
олицетворяет весь народ. Бесспорно, в этом
образе нашли художественное воплощение
русский национальный характер, его отли-
чительные черты и качества. Но не будем
забывать, что результат этот был достигнут
далеко не сразу. Замысел поэмы и истоки
образа ее главного героя относятся еще к
довоенному времени, к периоду финской
кампании 1940 года, когда на страницах га-
зеты «На страже Родины» появилась услов-
ная, лубочная фигура веселого, удачливого
бойца — Васи Теркина, созданная коллек-
тивными усилиями сотрудников редакции.
Твардовский написал тогда стихотворное
вступление к этому коллективному «Терки-
ну», в котором герой представал условной,
гиперболической фигурой («Человек он сам
собой // Необыкновенный... // Богатырь,
сажень в плечах... // И врагов на штык бе-
рет, // Как снопы на вилы*).
По окончании войны с Финляндией
Твардовский по-новому осмысливает образ
Теркина, ощущая, что герой должен изме-
ниться, сойти со столбцов «уголков юмора»
и «прямых наводок». Летом и осенью 1940
года поэт все больше проникается охватив-
шими его планами. «Теркин», по тогдаш
нему моему замыслу, — напишет он, -
должен был совместить доступность, не-
притязательность формы — прямую пред-
назначенность фельетонного «Теркина» —
с серьезностью и, может быть, даже лириз-
мом содержания*.
Весной 1941 года Твардовский напря-
женно работает над главами будущей поэ-
мы, но начало войны внесло свои корректи-
вы в его планы. Он возвращается к своему
замыслу в середине 1942 года — с этого вре-
мени начинается новый этап работы над
произведением, в ходе которой меняются
его содержание и форма. Родина и народ,
народ на войне становятся главными тема-
ми поэтического повествования.
Впервые «Василий Теркин» был опубли-
кован в газете Западного фронта «Красно-
армейская правда», где 4 сентября 1942 го-
416
Александр Трифонович Твардовский
да были напечатаны вступительная главка
«От автора» и глава «На привале». С тех
пор и до конца войны главы поэмы по мере
написания публиковались в этой газете, в
журналах «Красноармеец» и «Знамя», а
также в других печатных органах. Кроме
того, начиная с 1942 года поэма несколько
раз выходила отдельными изданиями. «С
того времени как в печати появились главы
первой части «Теркина», он стал моей ос-
новной и главной работой на фронте», —
признавался Твардовский.
Итак, в результате долгой и напряжен-
ной работы по вынашиванию, реализации и
воплощению замысла герой перестал быть
условной и тем более лубочной фигурой
«необыкновенного», «богатыря», он стал
проще, конкретнее, доступнее и вместе с
тем — обобщеннее, типичнее, олицетворяя
собой весь сражающийся народ. Знакомя с
ним читателей уже в первой главе «На при-
вале», Твардовский пишет:
Теркин — кто же он такой?
Скажем откровенно:
Просто парень сам собой
Он обыкновенный.
Впрочем, парень хоть куда.
Парень в этом роде
В каждой роте есть всегда,
Да и в каждом взводе.
Вместе с тем, подчеркнув эту, в отличие
от фельетонного персонажа, обычность
своего, по сути нового, Теркина, его неотде-
лимость от массы бойцов, поэт в самой, ка-
залось бы, непритязательной внешности
выявляет его незаурядность: «Красотою на-
делен //Не был он отменной. // Не высок,
не то чтоб мал, // Но герой-героем».
На протяжении всей поэмы в образе Ва-
силия Теркина последовательно и много-
гранно раскрывается живой и убедитель-
ный характер русского человека. В герое
Твардовского живет естественная, как ды-
хание, любовь к родине («Мне не надо,
братцы, ордена, // Мне слава не нужна, //
А нужна, больна мне родина, // Родная сто-
рона!»). Для него органична верность свое-
му гражданскому и воинскому долгу. Образ
Теркина несет в себе большое художествен-
ное обобщение, он глубоко типичен. Однако
присущие многим людям черты и свойства
воплотились в нем ярче, острее, самобыт-
нее. Народная мудрость и оптимизм, стой-
кость, выносливость, терпение и самоотвер-
женность, житейская смекалка, умение и
мастеровитость русского человека — тру-
женика и воина, наконец, неиссякаемый
юмор, за которым всегда проступает нечто
более глубокое и серьезное, — все это сплав-
ляется в живой и целостный человеческий
характер. В его изображении естественно
сочетаются классические и фольклорные,
народно-поэтические традиции:
То серьезный, то потешный,
Нипочем, что дождь, что снег, —
В бой, вперед, в огонь кромешный
Он идет, святой и грешный,
Русский чудо-человек.
В «Теркине» война изображена как она
есть — в буднях и героике, переплетении
обыденного, подчас даже комического, с
возвышенным и трагедийным. Во вступи-
тельной главке «От автора* поэт не без
улыбки, но и достаточно серьезно замечает:
♦На войне одной минутки // Не прожить
без прибаутки, // Шутки самой немудрой».
И действительно, начиная с первой и до за-
вершающей главы, стихия юмора пронизы-
вает поэму.
Вместе с тем необходимо подчеркнуть,
что книга Твардовского сильна прежде все-
го своей глубочайшей правдой о войне как
суровом и трагическом — на пределе воз-
можностей — испытании жизненных сил
народа, страны, каждого человека. Она от-
мечена полнотой и всесторонностью реалис-
тического изображения военной страды: ве-
личайших бедствий, страданий и подвигов
народных.
Об этом свидетельствуют не только про-
граммные слова о «правде сущей. // Правде,
прямо в душу бьющей, // Да была б она по-
гуще, // Как бы ни была горька» из вступи-
тельной главки, но и буквально каждая
страница книги, горестное и трагическое со-
держание многих ее глав («Переправа»,
«Бой в болоте», «Смерть и воин», «Про сол-
дата-сироту») и конечно же проходящие
417
Русские писатели ЛЛ века
рефреном, ставшие крылатыми ее строки:
«Бой идет святой и правый. // Смертный бой
не ради славы, // Ради жизни на земле».
В связи с упомянутой главой «Смерть и
воин» следует обратить внимание на соче-
тание в поэме реализма условности, на то,
что реалистический характер произведения
не мешает использованию в нем условных,
фантастических, символических образов и
мотивов. Кстати, эта глава, как отмечал
сам автор, связывает поэму военных лет с
опубликованным много лет спустя «Терки-
ным на том свете», где условность и фантас-
тика играют важную роль в сатирическом
изображении современности.
Герой поэмы — Теркин неотделим от во-
юющего народа — солдатской массы и це-
лого ряда эпизодических персонажей, он
неотделим и от матери-родины. Эпическая,
сюжетно-повествовательная основа поэмы
не заглушает лирического компонента, иг-
рающего в ней существенную роль. И не
случайно столь важное место в ее общей
структуре занимает образ автора-повество-
вателя или, точнее, лирического героя, осо-
бенно ощутимый в главах «О себе», «О вой-
не», «О любви», четырех главках «От авто-
ра». Так, в главе «О себе» поэт прямо
заявляет, обращаясь к читателю:
И скажу тебе, не скрою —
В этой книге, там ли, сям.
То, что молвить бы герою,
Говорю я лично сам.
Я за все кругом в ответе,
И заметь, коль не заметил,
Что и Теркин, мой герой,
За меня гласит порой.
И речь здесь идет не только, так сказать,
о «взаимозаменяемости» поэта и героя в их
высказываниях. В основе этой речевой общ-
ности лежат и более существенные родовые
признаки. В поэме Твардовского несомнен-
но сложное взаимодействие и вместе с тем
принципиальное единство лирики и эпоса,
опирающееся на тесные взаимоотношения
и взаимосвязь личности и общества в годи-
ну суровых испытаний.
При всей кажущейся простоте и тради-
ционности книга Твардовского отличается
редкостным богатством языка и стиля, поэ-
тики и стиха. Она отмечена необычайной
широтой и свободой использования средств
устно-разговорной, литературной и народ-
но-поэтической речи. В ней естественно
употребляются пословицы и поговорки («Я
от скуки на все руки», «Делу время — час
забаве», «По которой речке плыть, — //
Той и славушку творить...»), народные пес-
ни: о шинели («Эх, суконная, казенная, //
Военная шинель...»), о реченьке («Я на реч-
ке ноги вымою. // Куда, реченька, течешь?
// В сторону мою родимую, // Может,
где-нибудь свернешь*).
Твардовский в совершенстве владеет ис-
кусством говорить просто, но глубоко по-
этично. Он и сам создает речения, вошед-
шие в жизнь на правах поговорок, ставшие
крылатыми словами («Не гляди, что на гру-
ди, // А гляди, что впереди!»; «У войны ко-
роткий путь, // У любви — далекий»;
♦ Пушки к бою едут задом» и др.). Поэт, не-
сомненно, был прав, когда в конце своей
книги заметил как бы от имени будущего
читателя:
Пусть читатель вероятный
Скажет с книжкою в руке:
— Вот стихи, а все понятно,
Все на русском языке...
Органическая художественная целост-
ность в «Василии Теркине» достигается во
всем — от глубоко народных основ содер-
жания до мельчайших деталей внешней
формы. И знаменательно, что в высокой
оценке произведения сошлись не только
массы рядовых читателей, но и такие взыс-
кательные мастера словесного искусства,
как И. А. Бунин и Б. Л. Пастернак.
Так, в 1947 году в письме к Н. Д. Теле-
шову из Парижа И. А. Бунин, прочитав-
ший «Василия Теркина», просил передать
автору свое восхищение его талантом:
«...Это поистине редкая книга: какая свобода,
какая чудесная удаль, какая меткость, точность
во всем и какой необыкновенный народный, сол-
датский язык — ни сучка, ни задоринки, ни еди-
ного фальшивого, готового, то есть литератур-
но-пошлого слова*. В свою очередь Б. Л. Пастер-
418
Александр Трифонович Твардовский
нах назвал книгу Твардовского «чудом полного
растворения поэта в стихии народного языка».
В целом поэма Твардовского — это геро-
ическая эпопея, с отвечающей эпическому
жанру объективностью, но пронизанная
живым авторским чувством, своеобразная
во всех отношениях, уникальная книга,
вместе с тем развивающая традиции ре-
алистической литературы и народно-поэти-
ческого творчества.
При том что «Книга про бойца» — глав-
ное произведение Твардовского военной
поры, его творчество тех лет весьма мно-
гообразно. Параллельно «Теркину» он пи-
шет цикл стихов «Фронтовая хроника»
(1941—1945), ряд проникновенных лири-
ческих стихотворений, работает над книгой
очерков, фронтовых записей и воспомина-
ний, пронизанных глубоко личным чувст-
вом, — «Родина и чужбина» (1942—1946,
опубликована в 1947).
Усиление личностного начала в творче-
стве поэта 40-х годов проявилось и еще в од-
ном крупном его произведении. В первый
же год войны была начата и вскоре после ее
окончания завершена лирическая поэма
«Дом у дороги» (1942—1946).
«Тема ее, — как отмечал сам поэт, — война, но
с иной стороны, чем в «Теркине», — со стороны
дома, семьи, жены и детей солдата, переживших
войну. Эпиграфом этой книги могли бы быть
строки, взятые из нее же:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем».
В основе поэмы — скорбное повествова-
ние о драматической, горестной судьбе од-
ной крестьянской семьи — Андрея и Анны
Сивцовых и их детей. Но в ней отразилось
горе миллионов, в частной судьбе преломи-
лась всеобщая, страшная трагедия войны.
Повествование тесно соединено, слито с фи-
лософскими раздумьями поэта.
Через трудную судьбу семьи Сивцовых,
которую разметала война: отец ушел на
фронт, мать с ребятишками была угнана
гитлеровцами в плен, в Германию, — поэт
не только раскрывает тяготы военных ис-
пытаний, но прежде всего утверждает побе-
ду жизни над смертью. Именно этот смысл
несет в себе один из ключевых эпизодов
поэмы, когда в лагере, за колючей проволо-
кой, у Анны рождается еще один ребенок.
Родился мальчик в дни войны,
Да не в отцовском доме, —
Под шум чужой морской волны
В бараке на соломе.
Еще он в мире не успел
Наделать шуму даже,
Он вскрикнуть только что посмел —
И был уже под стражей...
И часовые у ворот
Стояли постоянно,
И счетверенный пулемет
На вышке деревянной.
Казалось бы, весь ход событий ведет к
тому, чтобы восторжествовали тупые и жес-
токие силы войны, смерти. Но и в нечелове-
ческих условиях фашистской каторги люди
сумели сохранить стойкость души и запас
доброты, помогающие преодолеть смерть.
Рождение ребенка, забота матери и других
людей о нем становятся пробным камнем в
испытании на человечность, доброту, взаи-
мопомощь и символизируют победу жизни:
А чья-то добрая рука
В жестянке воду грела,
Чтоб мать для сына молока
В груди собрать сумела...
Из новоприбывших иной
Делился с пленною семьей
Последней хлеба крошкой,
Какой-нибудь картошкой.
И так, порой полумертвы,
У смерти на примете,
Все ж дотянули до травы
Живые мать и дети.
Поэма утверждает неиссякаемую жизне-
стойкость народа, который сохранил силу
своего деятельного добра, нравственности,
чувства семьи и дома в самых, казалось бы,
невыносимых условиях. И хотя в ней по-
вествуется о смертельно тяжких испытани-
ях, она вся обращена к жизни, миру, созиг
дательному труду. Не случаен рефрен: «Ко-
си, коса, / Пока роса, / Роса долой — /
И мы домой», — возникший уже в первой
главе мотив неминуемого возвращения к
мирной работе и жизни.
419
Русские писатели XX века
Хотя в «Доме у дороги» достаточно чет-
кая и определенная сюжетная канва, глав-
ное здесь все же не в событийности. Гораздо
важнее изображение духовного мира, внут-
ренних переживаний действующих лиц,
чувства и думы лирического героя, роль ко-
торого в поэме заметно возросла. Личност-
ное, лирическое, трагедийное начала вы-
двигаются в ней на первый план, становят-
ся определяющими, и потому не случайно
Твардовский назвал поэму «лирической
хроникой».
Поэма «Дом у дороги» отличается глубо-
чайшей правдивостью, реалистичностью
воспроизведения жизни, народных харак-
теров, образа мыслей и чувствований, пси-
хологии и языка. Она отмечена многоголо-
сием и в то же время своеобразной песенно-
стью. Отсюда характерные образные,
речевые, лексические средства и обороты
(«плач о родине», «песнь ее судьбы суро-
вой» и др.). Вместе с «Василием Теркиным»
они, по верному замечанию одного из ис-
следователей, составляют своего рода «во-
енную дилогию» — героический эпос воен-
ных лет, отмеченный усилением и углубле-
нием лирического начала.
В годы войны Твардовским были написа-
ны такие шедевры лирики, как «Две строч-
ки» (1943), «Война — жесточе нету сло-
ва...» (1944), «В поле, ручьями изрытом...»
(1945), «Перед войной, как будто в знак
беды...» (1945) и др., которые впервые были
опубликованы в январском номере журна-
ла «Знамя» за 1946 год. Как точно заметил
в связи с этой публикацией критик А. Ма-
каров: «Облик войны предстает в них более
сложным и суровым, мы бы сказали, более
реалистическим, а сам поэт раскрывает пе-
ред читателем новые стороны своей гуман-
ной души».
В этих стихах глубоко проникновенно и
с большой впечатляющей силой обнажает-
ся трагическое лицо войны. Такова неболь-
шая на первый взгляд стихотворная зари-
совка «Две строчки», пронизанная горьки-
ми воспоминаниями о предшествовавшей
Великой Отечественной войне непродолжи-
тельной, но обернувшейся немалыми бес-
смысленными жертвами финской зимней
кампании 1940 года:
Из записной потертой книжки
Две строчки о бойце-парнишке.
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду.
Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Шинель ко льду мороз прижал,
Далеко шапка отлетела.
Казалось, мальчик не лежал,
А все еще бегом бежал,
Да лед за полу придержал...
И здесь это воспоминание, описание, по-
чти дневниковая запись обрывается много-
точием. А после невольной паузы перехо-
дит в глубоко лирическое размышление,
острое переживание, вызванное двумя по-
лустертыми строчками в записной книжке
сорокового года:
Среди большой войны жестокой,
С чего — ума не приложу, —
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой.
Забытый, маленький, лежу.
Эти вроде бы простые и непритязатель-
ные стихи отмечены глубиной исповедаль-
ное™, личного авторского чувства и само-
раскрытия. И вместе с тем они исполне-
ны пронзительной боли за каждую так сле-
по и беспощадно оборванную человеческую
жизнь. Жестокая память о войне и предво-
енных испытаниях несет в лирике Твар-
довского мощный заряд трагического гу-
манизма. Это качество отчетливо прояви-
лось в одном из лучших стихотворений
цикла «Стихи из записной книжки»
(1941 — 1945):
Перед войной, как будто в знак беды.
Чтоб легче не была, явившись в новости,
Морозами неслыханной суровости
Пожгло и уничтожило сады.
На первый взгляд речь идет прежде всего
о природе. Причем сразу впечатляет сила
420
Александр Трифонович Твардовский
изобразительности («...Торчащие по-зимне-
му, по-черному // Деревья, что не ожили
весной»), личностный характер пережива-
ния («И тяжко было сердцу удрученно-
му...»). Важно, однако, подчеркнуть глуби-
ну и силу художественного обобщения, фи-
лософско-поэтической концепции, когда за
непосредственно изображаемым и пережи-
ваемым встает нечто большее. На это натал-
кивают весь ход развития мысли-пережива-
ния и конечно же заключительная строфа,
а также особо выделенная последняя стро-
ка стихотворения:
Прошли года. Деревья умерщвленные
С нежданной силой ожили опять,
Живые ветки выдали, зеленые...
Прошла война. А ты все плачешь, мать.
На протяжении всего стихотворения раз-
вертываются непростые ассоциативные свя-
зи социально-исторических и природных
явлений. За погибшими деревьями видятся
иные жертвы — военные, и не только...
Они, деревья, не просто вымерзли: их
«пожгло и уничтожило» (второе слово по-
явилось только в издании 1954 года), их —
а ведь они «избранные, лучшие» — постиг
«гибельный удар», деревья были «умерщ-
влены», и это было «перед войной», о чем
говорится в начале стихотворения, и это —
«знак беды». Трагические ассоциации и
контраст сфокусированы в последней стро-
фе, где противопоставлен вечное обнов-
ление природы и невосстановимость люд-
ских потерь — все, чего лишилась роди-
на-мать.
«ЖЕСТОКАЯ ПАМЯТЬ»
Творчество Твардовского первых после-
военных лет пронизано тем особым чувст-
вом, состоянием души, которое поэт в од-
ном из стихотворений назвал «жестокой па-
мятью». Подвиг народа, простого солдата
раскрывается с особым драматизмом и си-
лой личностного сопереживания, ощуще-
ния себя на месте каждого из павших.
«Стихи эти, — отмечал сам автор, — продик-
тованы мыслью и чувством, которые на протя-
жении всей войны и в послевоенные годы более
всего заполняли душу. Навечное обязательство
живых перед павшими за общее дело, невозмож-
ность забвенья, неизбывное чувство как бы себя в
них, а их в себе, — так приблизительно можно
определить эту мысль и чувство*. Эти слова ска-
заны Твардовским по поводу стихотворения
«Я убит подо Ржевом» (1945—1946), написан-
ного от первого лица:
Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, —
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна ни покрышки.
Условная форма — монолог павшего во-
ина — избрана поэтом не случайно: «Форма
первого лица в «Я убит подо Ржевом» пока-
залась мне наиболее соответственной идее
единства живых и павших «ради жизни на
земле». Горький и жестокий мотив воспо-
минания о полегших на поле брани раз-
решается обновленным чувством безгра-
ничной любви к жизни, за которую погиб
солдат («Завещаю в той жизни // Вам сча-
стливыми быть...»). Эти мотивы развива-
ются далее в стихотворениях «В тот день,
когда окончилась война» (1948), «Сыну по-
гибшего воина» (1949—1951), в трагиче-
ском и жизнеутверждающем цикле «Их па-
мяти» (1949—1951).
Новый этап в развитии страны и литера-
туры (50—60-е годы) ознаменовался в твор-
честве Твардовского достижениями в сфере
лирического эпоса — созданием своеобраз-
ной трилогии: лирической эпопеи «За
далью — даль», сатирической поэмы-сказ-
ки «Теркин на том свете» и лирико-траге-
дийной поэмы-цикла «По праву памяти*.
Каждое из этих произведений по-своему
стало новым словом о судьбах времени,
страны, народа, человека.
Поэма «За далью — даль» (1950—1960) —
масштабное произведение, своего рода лири-
ческая эпопея о современности и истории, о
переломном времени в жизни миллионов на-
ших соотечественников. Она строится как
развернутый лирический монолог современ-
ника, поэтическое повествование о непрос-
421
Русские писатели XX века
тых судьбах родины и народа, об их сложном
историческом пути, о внутренних процессах
и переменах в духовном мире человека XX
столетия.
Еще в конце 40-х годов Твардовский со-
вершил первые поездки на Урал и в Си-
бирь. В последующие годы он не раз побы-
вал в этих краях — на Ангаре и в Забай-
калье, вплоть до Комсомольска-на-Амуре и
Владивостока. Впечатления от этих поез-
док и легли в основу его произведения, да-
леко выходящего за рамки простых путе-
вых записок.
Поэма «За далью — даль» складывалась
долго и публиковалась по мере написания
очередных глав. В процессе формирования
художественного целого некоторые главы
менялись местами, другие коренным обра-
зом перерабатывались, например «На мар-
товской неделе» (1954), которая частично и
в существенно измененном виде вошла в
главу «Так это было».
Подзаголовок поэмы — «Из путевого
дневника», но это мало что говорит о ее
жанровом своеобразии. Картины и образы,
мысли и переживания, возникающие по ме-
ре развертывания содержания поэмы, но-
сят одновременно очень конкретный, обус-
ловленный пространственно-временными
координатами и вместе с тем далеко выхо-
дящий за их рамки художественно обоб-
щенный характер.
Таковы рождающиеся в воображении
автора на основе «заоконных» пейзажных
впечатлений масштабные поэтические об-
разы «Волги-матушки» (глава «Семь тысяч
рек»), «Батюшки-Урала» (глава «Две куз-
ницы»), разметнувшихся на полсвета си-
бирских просторов («Огни Сибири»), Но
и это не все. Автор особо подчеркивает
емкость избранного «сюжета-путешест-
вия», эпический и философско-историче-
ский масштаб, казалось бы, незамыслова-
того рассказа о поездке на Дальний Восток:
А сколько дел, событий, судеб,
Людских печалей и побед
Вместилось в эти десять суток,
Что обратились в десять лет!
Движение времени-истории, сложные,
подчас трагические судьбы народа и отдель-
ной личности, стремление проникнуть в
глубинный смысл эпохи, постичь ее боле-
вые точки, острейшие противоречия состав-
ляют содержание раздумий лирического
героя, его духовного мира. Боли и радости
народные отзываются непременным сердеч-
ным сочувствием и сопереживанием в его
душе.
Лирический герой глубоко индивиду-
ален, неотделим от автора. Ему доступна
вся гамма, живых человеческих чувств,
присущих личности самого поэта: доброта и
суровость, нежность, ирония и горечь... И в
то же время он несет в себе обобщение, вби-
рает черты многих. Так в поэме складыва-
ется представление о внутренне цельном,
сложном и многообразном духовном мире
современника.
Сохраняя внешние приметы «путевого
дневника», книга Твардовского (а при пер-
вых публикациях в заголовке стояло: «Из
книги «За далью — даль») в ходе развер-
тывания ее содержания превращается в
своеобразную «летопись», «хронику», а
точнее — в живую поэтическую историю
современности, честное осмысление эпохи,
жизни страны и народа на протяжении
большого исторического периода, включа-
ющего и жестокие несправедливости, реп-
рессии сталинских времен (главы «Друг
детства», «Так это было»).
При этом лирика, эпос, драматическое
начало, по-разному проявляясь в таких раз-
личных главах, как лирико-исповедальные
♦ В дороге» и «С самим собой» или сюжет-
но-повествовательная в своей основе «На
Ангаре», в целом в книге Твардовского
взаимопроникают, сливаются, образуя свое-
го рода художественный синтез, взаимодей-
ствие родовых начал на лирической основе.
Поэтому «За далью — даль» и можно опре-
делить как своеобразную лирико-философ-
скую эпопею о современности и эпохе.
Вместе с тем поэма отнюдь не свободна от
утопической веры в преобразовательские
успехи социализма и даже прямого воспе-
вания его «свершений». Особенно показа-
тельна в этом плане, пожалуй, глава о пере-
422
Александр Трифонович Твардовский
крытии Ангары при строительстве пло-
тины, несущая в себе отзвук эйфории
грандиозных послевоенных планов — «ве-
ликих строек коммунизма».
В художественной структуре поэмы, в ее
языке и стиле четко обозначены черты
гражданско-публицистического (иной раз
излишне «возвышенного») и лирико-испо-
ведального высказывания. В ней широко
«задействованы» лексические и интонаци-
онно-синтаксические средства народно-раз-
говорной и книжно-литературной речи. В
отличие от «Страны Муравии» и «Василия
Теркина» в поэме «За далью — даль» возоб-
ладала классическая литературно-поэтиче-
ская, главным образом пушкинская, тради-
ция.
Параллельно с этой поэмой Твардовский
работает над сатирическим произведением
«Теркин на том свете» (1954—1963), изо-
бразившим «косность, бюрократизм, фор-
мализм» нашей жизни. По словам автора,
«поэма «Теркин на том свете» не является
продолжением «Василия Теркина», а лишь
обращается к образу героя «Книги про бой-
ца» для решения особых задач сатири-
ко-публицистического жанра».
В основу произведения Твардовский по-
ложил условно-фантастический сюжет. Ге-
рой его поэмы военных лет — живой и не
унывающий ни при каких обстоятельствах
Василий Теркин оказывается теперь в мире
мертвых, призрачном царстве теней, где
подвергается осмеянию все враждебное че-
ловеку, несовместимое с живой жизнью. Вся
обстановка фантастических учреждений на
♦том свете» подчеркивает бездушие, бесче-
ловечность, лицемерие и фальшь, произрас-
тающие в условиях тоталитарного режима,
административно-командной системы.
Вначале, попав в «загробное царство»,
целым рядом узнаваемых бытовых деталей
очень уж напоминающее нашу земную ре-
альность, Теркин вообще не различает лю-
дей. С ним разговаривают, на него смотрят
казенные и безликие канцелярские, бюрок-
ратические «столы» («Учетный стол»,
«Стол Проверки», «Стол Медсанобработки»
и пр.), лишенные даже малейшего призна-
ка участия и понимания.
И в дальнейшем перед ним вереницей
проходят мертвецы — «с виду как бы лю-
ди», под стать которым вся структура
♦загробного царства»: «Система», «Сеть»,
«Органы», «Особый отдел» и их производ-
ные — «Комитет по делам // Перестройки
Вечной», «Преисподнее бюро», «Гробгазе-
та», включающая в себя как необходимую
составную часть «Отдел Писем без ответа»,
и т. п.
Перед читателем возникает целый реестр
мнимых, абсурдных, лишенных содержа-
ния предметов и явлений: «душ безвод-
ный», «табак без дыма», «паек загробный»,
т. е. — «Обозначено в меню, //Ав нату-
ре нету...» Показательны характеристики
обитателей «того света»: «Кандидат поту-
сторонних // Или доктор прахнаук», «Над-
пись: «Пламенный оратор* — //И мочалка
изо рта*.
Через все это царство мертвых и бездуш-
ных солдата ведет «сила жизни». В герое
Твардовского, символизирующем жизнен-
ные силы народа, попавшем в столь не-
обычную обстановку и подвергшемся нелег-
ким испытаниям, возобладали присущие
ему живые человеческие качества, и он воз-
вращается в этот мир, чтобы бороться за
правду.
Там, где жизнь,
Ему привольно,
Там, где радость,
Он и рад,
Там, где боль,
Ему и больно,
Там, где битва,
Он — солдат.
Сам Твардовский вел непримиримую
борьбу с наиболее мрачным, мертвящим на-
следием сталинщины, с духом слепого под-
чинения, косности и доведенного до абсур-
да бюрократизма. И делал это с позиций ут-
верждения жизни, правды, человечности,
высокого нравственного идеала. В сочета-
нии фантастического сюжета и реалистиче-
ски-бытовых деталей в изображении «за-
гробного мира» реализовался творческий
принцип автора: «С доброй выдумкою ря-
дом // Правда в целости жива...»
423
Русские писатели XX века
Однако судьба этой глубоко правдивой и
остросатирической поэмы складывалась да-
леко не просто. Будучи в основном написан-
ной в начале 1954 года, она была опублико-
вана только в 1963-м, да и то лишь потому,
что понравилась и была одобрена самим ге-
неральным секретарем Н. С. Хрущевым. Но
уже очень скоро стали появляться критиче-
ские статьи, в которых подвергались сомне-
нию и поэма, и поставленный на ее основе
спектакль Московского театра сатиры.
Впоследствии поэма надолго «канула в не-
бытие» и вплоть до 80-х годов даже не вклю-
чалась в Собрание сочинений поэта.
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ
Путь сатирического разоблачения тота-
литаризма оказался не единственным в
творчестве поэта. После завершения и пуб-
ликации «Теркина на том свете* Твардов-
ский задумывает, а в последние годы жиз-
ни пишет лирическую поэму-цикл «По пра-
ву памяти» (1966—1969) — произведение
трагедийного звучания. Впрочем, подступы
к такому решению темы видны уже в поэ-
мах «За далью — даль» и «Теркин на том
свете», где, в частности, идет речь о де-
ятельности «Особого отдела», который чис-
лится «за самим Верховным»:
...Там рядами по годам
Шли в строю незримом
Колыма и Магадан,
Воркута с Нарымом.
За черту из-за черты,
С разницею малой,
Область вечной мерзлоты
В вечность их списала...
Память, как ты ни горька,
Будь зарубкой на века!
Поэма «По праву памяти» — это соци-
альное и лирико-философское раздумье о
непростых путях истории, о судьбах от-
дельной личности, о драматической судьбе
своей собственной семьи: отца, матери,
братьев, которую носил в себе и тяжко пе-
реживал Твардовский на протяжении деся-
тилетий. Будучи глубоко личностным, ис-
поведальным, новое творение поэта вместе
с тем выражает общие чувства, истинно на-
родную точку зрения на сложные, трагиче-
ские явления прошлого.
Эта поэма так и не смогла быть опубли-
кована при его жизни, хотя Твардовский
подготовил ее к печати в «Новом мире» в
последний год его работы в журнале. Но на-
печатана она была лишь спустя десятиле-
тия — в 1987 году. И причиной такой за-
держки было прежде всего стремление ав-
тора к бескомпромиссной правде, как он ее
понимал, — правде, воскрешающей «жи-
вую быль» и неотпускающую боль трагиче-
ских событий нашей истории.
«По праву памяти» — это во многом ито-
говое осмысление поэтом опыта всей про-
житой жизни, в которой отразились и пре-
ломились тяжелые противоречия времени.
Сам мотив поиска правды (как истины и
справедливости) сквозной в поэме — от об-
ращения к себе во вступительных строках:
«Перед лицом ушедших былей // Не вправе
ты кривить душой» — и до завершающих
слов о целительном настое «правды су-
щей», добытой ценой жестокого опыта.
В этой поэме развиваются и углубляют-
ся мотивы, прозвучавшие в книге «За
далью — даль» (тема репрессий в главах
«Друг детства», «Так это было») и особенно
в цикле «Памяти матери», но здесь они
приобретают еще более личностный харак-
тер, поднятый на уровень большого фило-
софско-поэтического обобщения. Ведь все
это поистине выстрадано поэтом, поскольку
речь идет о судьбе его семьи и его собствен-
ной судьбе, но это и ставит его в ряд тех бес-
численных «клейменых сыновей», чьи от-
цы были объявлены «врагами народа»:
А как с той кличкой жить парнишке,
Как отбывать безвестный срок, —
Не понаслышке,
Не из книжки
Толкует автор этих строк.
А каково было отцу поэта — честному
крестьянину-труженику, зарабатывающе-
му хлеб собственными, в сплошных мозо-
лях, руками, вынести жестокий и неспра-
ведливый, как говорит поэт, «слепой и ди-
кий // Для круглой цифры приговор», по
424
Александр Трифонович Твардовский
которому он без суда и следствия оказался
«в тех краях, где виснул иней // С барач-
ных стен и потолка...» Фальшь и лицеме-
рие слов «Сын за отца не отвечает», как бы
невзначай оброненных «судеб вершителем
земным» — Сталиным, — лишь подчерки-
вает и усугубляет вину не только его, но и
тех его наследников, кто «забыть, забыть
велят безмолвно. // Хотят в забвенье уто-
пить И Живую быль».
И при всем том что «По праву памяти»
несет на себе следы тогдашних официаль-
ных установок на «восстановление ленин-
ских норм жизни», что сам образ Ленина, в
представлении поэта, остается «вечным и
живым», важно видеть главное в ней. Му-
чительная и горькая память о жестокой
эпохе, об ужасах и преступлениях времен
сталинщины, правда о продолжающих и
покрывающих ее, полных лжи и показухи
брежневских временах пронизывает эту по-
следнюю поэму Твардовского, по-своему
итоговое и в чем-то, быть может, ключевое
произведение для всего его творчества, осо-
бенно — поэмного.
Следует еще сказать о связи между поэ-
мами Твардовского, о том, что превращает
их в живую и целостную, динамическую
художественную систему. Так, ряд важных
тем и мотивов «Василия Теркина* стано-
вится сквозным, отзывается в последую-
щих произведениях: например, сама те-
ма войны, жизни и смерти по-своему зву-
чит в поэмах «Дом у дороги», «За далью —
даль», «Теркин на том свете*. То же отно-
сится к теме семьи, родной Смоленщины,
образу «друга детства» и военных лет, мо-
тивам «памяти». Все это, являясь компо-
нентами поэтического мира художника,
свидетельствует о его единстве и цельности.
Наряду с крупными лироэпическими про-
изведениями в 50—60-е годы Твардовский
пишет стихи, вобравшие впечатления от его
поездок по стране («Еще о Сибири», «Бай-
кал», «В тайге Приморья» и др.), а также ряд
лирических стихотворений, составивших
книгу «Из лирики этих лет» (1967). Это со-
средоточенные, искренние и самобытные
раздумья о природе, родине, истории, време-
ни, жизни и смерти, поэтическом слове.
Среди написанного Твардовским в 50-е
годы можно встретить немало строк, пред-
назначенных, как он был убежден в то вре-
мя, «подтверждать и закреплять действи-
тельность», а потому нередко описательных
и риторичных. С конца этого десятилетия в
его творчестве особенно заметно прослежи-
вается движение от стихотворного рассказа
и портрета («От Иркутска до Братска»,
«Старожил» и др.) к лирико-философскому
раздумью, поэтическому размышлению.
В поздних стихах поэта, в его проникно-
венно-личностных, углубленно-психологи-
ческих переживаниях 60-х годов раскры-
ваются прежде всего сложные, драмати-
ческие пути народной истории, звучит
суровая память Великой Отечественной
войны, отзываются болью нелегкие судьбы
довоенной и послевоенной деревни, вызы-
вают сердечный отзвук события народной
жизни, находят горестное, мудрое и про-
светленное решение «вечные темы» лири-
ки.
Родная природа никогда не оставляет
поэта равнодушным: он зорко замечает,
«Как после мартовских метелей, // Свежи,
прозрачны и легки, //В апреле — Вдруг по-
розовели // По-вербному березняки», он
слышит «Невнятный говор или гомон //
В вершинах сосен вековых» («Мне сладок
был тот шум сонливый...», 1964), жаворо-
нок, возвестивший весну, напоминает ему
далекую пору детства.
Нередко поэт строит свои философские
раздумья о жизни людей и смене поколе-
ний, об их связи и кровном родстве так, что
они вырастают как естественное следствие
изображения природных явлений («Поса-
женные дедом деревца...», 1965; «Газон с
утра из-под машинки...*, 1966; «Береза»,
1966). В этих стихах судьба и душа челове-
ческая непосредственно смыкаются с исто-
рической жизнью родины и природы, па-
мятью отчей земли: в них по-своему отра-
жаются и преломляются проблемы и
конфликты эпохи.
С новой, выстраданной силой и глубиной
звучит в лирике поэта тема преемственнос-
ти поколений, памяти и долга перед погиб-
шими в борьбе с фашизмом, которая прон-
425
Русские писатели XX века
зительной нотой входит в стихотворения
«Ночью все раны больнее болят...» (1965),
«Я знаю, никакой моей вины...» (1966),
«Лежат они, глухие и немые...» (1966).
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь.
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же...
Своей трагической недосказанностью эти
стихи тем сильнее и глубже передают ощу-
щение невольной личной вины и ответ-
ственности за оборванные войной человече-
ские жизни. Но эта неотпускающая боль
«жестокой памяти» и вины относится не
только к военным жертвам и утратам. Тра-
гедийно звучит чувство сыновней скорби в
уже упоминавшемся цикле «Памяти мате-
ри» (1965), окрашенном болью всенарод-
ных страданий в годы репрессий.
В краю, куда их вывезли гуртом,
Где ни села вблизи, не то что города,
На севере, тайгою запертом,
Всего там было — холода и голода.
В последнем из стихотворений этого цик-
ла «— Ты откуда эту песню, // Мать, на
старость запасла...*, возникает столь ха-
рактерный для творчества поэта мотив и
образ «переправы», который в «Стране Му-
равии» представал как устремленное дви-
жение к берегу «новой жизни», в «Терки-
не» — как трагическая реальность крова-
вых боев с врагом; в стихах «Памяти
матери» он вбирает в себя боль и скорбь о
судьбе матери, горькое смирение с неизбеж-
ной конечностью человеческой жизни:
Отжитое — пережито,
А с кого какой же спрос?
Да уже неподалеку
И последний перевоз.
Перевозчик-водогребщик,
Старичок седой.
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...
В ряде стихотворений, написанных в
1969 году и опубликованных уже после
смерти Твардовского («Когда обычный
праздничный привет...*, «Не заслоняй свя-
тую боль...», «Всему свой ряд, и лад, и
срок...» и др.), особенно отчетливо прояви-
лось элегическое начало. Так, своеобраз-
ным примером обновления традиционного
жанра элегии может послужить одно из по-
следних стихотворений поэта — «Когда
обычный праздничный привет...*.
Это лирическое раздумье или, скорее,
лирико-философское размышление, дове-
рительный разговор с другом, а быть мо-
жет, и с самим собой — о жизненных сро-
ках, о сути и смысле человеческого сущест-
вования. В нем по-своему проявилась
внутренняя диалектичность развития поэ-
тической мысли-переживания. Состоящее
из четырех строф стихотворение делится на
две части. Первые две строфы обнаружива-
ют способность и готовность поэта взгля-
нуть в лицо «правды сущей, ...как бы ни
была горька»:
Когда обычный праздничный привет
Знакомый твой иль добрый друг заочный
Скрепляет пожеланьем долгих лет,
Отнюдь не веселит такая почта.
К тому же опыт всем одно твердит,
Что долгих лет, их не бывает просто,
И девятнадцать или девяносто —
Не все ль равно, когда их счет закрыт.
Обнажая и как бы «взламывая» изнутри
привычный смысл стершихся от долгого
употребления словосочетаний («празднич-
ный привет», «пожеланье долгих лет»),
поэт приходит к неутешительному и, каза-
лось бы, неопровержимому выводу («...их
счет закрыт»). Однако вторая часть стихо-
творения, последние две строфы разверты-
ваются как страстный, непримиримый
спор с пессимистическим воззрением на
жизнь человека. И отсюда — обилие взвол-
нованных разговорных интонаций, синтак-
сических построений, повторов, которые
мы находим в этих строфах:
Но, боже мой, и все-таки неправда.
Что жизнь с годами сходит вся на клин.
Что есть сегодня, да, условно, завтра,
Да безусловно вздох в конце один.
426
Александр Трифонович Твардовский
Нет, был бы он невыносимо страшен,
Удел земной, не будь всегда при нас
Ни детства дней, ни молодости нашей,
Ни жизни всей в ее последний час.
Трезво-реалистические и отнюдь не без-
мятежные раздумья о человеке и времени,
пронизанные убежденностью и верой во все-
силие людской памяти, оборачиваются ут-
верждением неумирающей «жизни всей»,
которую человек носит и хранит в себе до
последнего мгновения.
Пожалуй, особое место в поздней лирике
поэта занимает стихотворение «В случае
главной утопии...», ключевой образ-мотив
которого, так же как и мотивы «жестокой
памяти », « переправы-перевоза *, вырази-
тельно свидетельствует о цельности и эво-
люции художественно-поэтического мира
Твардовского.
В случае главной утопии, —
В Азии этой, в Европе ли, —
Нам-то она не гроза:
Пожили, водочки попили,
Будет уже за глаза...
Жаль, вроде песни той, — деточек,
Мальчиков наших и девочек,
Всей неоглядной красы...
Ранних весенних веточек
В капельках первой росы...
Это, несомненно, трагическое стихотво-
рение-предостережение, проницательное и
в чем-то загадочное, вызвало различные
толкования в литературе о Твардовском.
Автор одной из работ, в частности, писал:
«Задумавшись, например, о своей участи «в
случае главной утопии», поэт с потрясаю-
щей силой ставит проблему войны и мира,
выражает протест против угрозы атомного
уничтожения».
Другие предлагали совершенно иную
версию:
г.
«Что такое «главная утопия», Твардовский
знал хорошо. И не только потому, что писал сти-
хи о Ленине и Сталине, тем самым — сознательно
или бессознательно — поддерживая фундамен-
тальные опоры советского утопического созна-
ния. Он и сам был во власти этого утопического
сознания...»
Как бы то ни было, Твардовский нашел
точное и емкое слово-образ, которое смогло
вместить столь противоположные, но каж-
дый по-своему одинаково роковые, катаст-
рофические для судеб человечества смыс-
лы, как апокалиптический «конец света* в
результате глобальной термоядерной вой-
ны, так и возможное лишь в фантазии осу-
ществление коммунистического «рая* в
планетарном масштабе — «В Азии этой, в
Европе ли...». В поздних элегических сти-
хах («На дне моей жизни...», «К обидам
горьким собственной персоны...», «В чем
хочешь человечество вини...» и др.) поэт не
случайно задумывался не только об итогах
и смысле собственной жизни, но и о гряду-
щих судьбах всего человечества.
В лирике Твардовского 60-х годов с осо-
бой полнотой и силой раскрылись сущест-
венные качества его реалистического сти-
ля: демократизм, внутренняя емкость
поэтического слова и образа, ритма и инто-
нации, всех стиховых средств при внешней
простоте и незамысловатости. Сам поэт ви-
дел достоинства этого стиля в первую оче-
редь в том, что он дает «во всей властной
внушительности достоверные картины жи-
вой жизни». Вместе с тем его поздним сти-
хам свойственны психологическая углуб-
ленность и философская насыщенность.
При естественной для каждого писателя
избирательности в восприятии литератур-
ных явлений Твардовского всегда отличала
широта взглядов, глубина и точность оце-
нок в этой сфере. Ему принадлежит ряд ос-
новательных, содержащих выношенные и
самостоятельные суждения о литературе
статей и выступлений о поэтах и поэзии
(«Слово о Пушкине», 1962; «О Бунине»,
1965; «Поэзия Михаила Исаковского»,
1949—1969; «О поэзии Маршака», 1951—
1967), отзывы и рецензии об А. Блоке,
А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельш-
таме и других, вошедшие в книгу «Статьи и
заметки о литературе», выдержавшую не-
сколько изданий.
Помимо основной литературной работы,
собственно поэтического творчества, осо-
бенно в послевоенное время необычайно ин-
тенсивной и плодотворной была обществен-
427
Русские писатели XX века
но-литературная деятельность Твардовско-
го, которой он сам придавал огромное
значение. В 1950—1954 годах, а затем с
1958 по 1970 год он был главным редакто-
ром журнала «Новый мир», последователь-
но отстаивая на этом посту принципы ре-
алистического искусства.
Возглавляя этот журнал, он содейство-
вал вхождению в литературу целого ряда
талантливых писателей — прозаиков и поэ-
тов: Ф. Абрамова и Г. Бакланова, В. Овеч-
кина и В. Тендрякова, А. Солженицына и
Ю. Трифонова, Е. Винокурова и С. Орлова,
А. Жигулина и А. Прасолова и др. Очень
интересными и содержательными при нем
стали отделы литературной критики и пуб-
лицистики.
Вместе с тем его позиция и деятельность
уже в начальную пору вызвали сопротивле-
ние со стороны литературного официоза и
руководства Союза писателей. Летом 1954
года он был впервые отстранен от руковод-
ства журналом за публикацию в нем статьи
В. Померанцева «Об искренности в литера-
туре», ряда других критических материа-
лов (статьей Ф. Абрамова, М. Лифшица,
М. Щеглова), а также в связи с тем, что его
поэма «Теркин на том свете» была расцене-
на чуть ли не как «антисоветская».
Во второй половине 60-х годов, особенно
в последние годы жизни Твардовского, ру-
ководимый им журнал подвергался все
большим нападкам. Они крайне обостри-
лись после событий августа 1968 года —
вторжения советских войск в Чехослова-
кию. В мае 1969 года Твардовскому было
предложено уйти с поста главного редакто-
ра «по собственному желанию». Одновре-
менно в печати развернулась массовая кам-
пания против «Нового мира», начатая
«Письмом 11» литераторов в журнале «Ого-
нек» и продолженная на страницах газет
«Советская Россия», «Ленинское знамя»,
«Социалистическая индустрия» и др.
Твардовский мужественно противостоял
этой травле, хотя все происходящее вокруг
журнала не могло не сказаться на его здо-
ровье. В начале 1970 года вышел последний
подписанный им номер журнала, а в февра-
ле решением Секретариата СП был корен-
ным образом изменен состав редколлегии,
после чего Твардовский не мог не принять
решения об уходе.
Здоровье Твардовского ухудшалось. В
сентябре 1970 года он был помещен в боль-
ницу с частичным параличом правой сторо-
ны: отнялась рука, появились затруднения
речи. Вскоре выяснилось, что у него к тому
же запущенный рак легкого...
И все же, несмотря на самые пессимис-
тические медицинские прогнозы, он про-
жил еще более года, не желая сдаваться
смерти и мужественно сопротивляясь ей.
До последних дней он сохранил ясное со-
знание, интерес к жизни. И вместе с тем он
спокойно и твердо встретил неизбежное.
Умер Твардовский в ночь на 18 декабря
1971 года в дачном поселке Красная Пахра
под Москвой. А 21 декабря он был похоро-
нен на Новодевичьем кладбище.
Вся разнообразная писательская де-
ятельность Твардовского несет на себе отпе-
чаток его незаурядной личности. В эпоху
всяческой ломки и эксперимента он неиз-
менно утверждал естественность и органич-
ность поэтического творчества, продолжаю-
щего лучшие традиции предшественников,
опирающегося на многовековой опыт ду-
ховной культуры народа и человечества,
питаемого вечным обновлением, новизной
окружающего мира. В целостном и дина-
мичном художественном мире поэта как
единой и постоянно меняющейся, движу-
щейся системы нашел воплощение синтез
классических и фольклорных традиций.
Продолжая и обновляя достижения оте-
чественной классики — Пушкина, Некра-
сова, Тютчева, Бунина, разнообразные тра-
диции народно-поэтического творчества, не
обходя и опыт видных поэтов XX века,
Твардовский продемонстрировал далеко не
исчерпанные возможности реализма в поэ-
зии нашего времени. Его воздействие на
современное ему и последующее поэтиче-
ское развитие, роль в формировании лите-
ратурного процесса и вклад в отечествен-
ную культуру несомненны и плодотворны.
428
Учебное издание
РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ
XX ВЕК
Биографии
Большой учебный справочник
для школьников и поступающих в вузы
Редактор Т. Д. Дажина
Художественное оформление Т. Е. Добровинская-Владимирова
Технический редактор М. В. Биденко
Компьютерная верстка В. В. Ивлиева
Корректоры Г. И. Мосякина, Т. К. Остроумова
Изд. лиц. № 061622 от 07.10.97.
Подписано к печати 28.01.00. Формат 84 х 108*/ie. Бумага типографская.
Гарнитура «Школьная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 27,0.
Тираж 20 000 экз. Заказ № 848.
ООО «Дрофа». 117419, Москва, 4-й В. Михайловский пр., д. 6, корп. 1.
По вопросам приобретения продукт
издательства «Дрофа» обращаться по адресу:
127018, Москва, Сущевский вал, 49.
Тел.: (095) 795-05-50, 795-05-51. Факс: (095) 795-05-52.
Отпечатано с готовых диапозитивов
в полиграфической фирме «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
103473, Москва, Краснопролетарская, 16
Г <