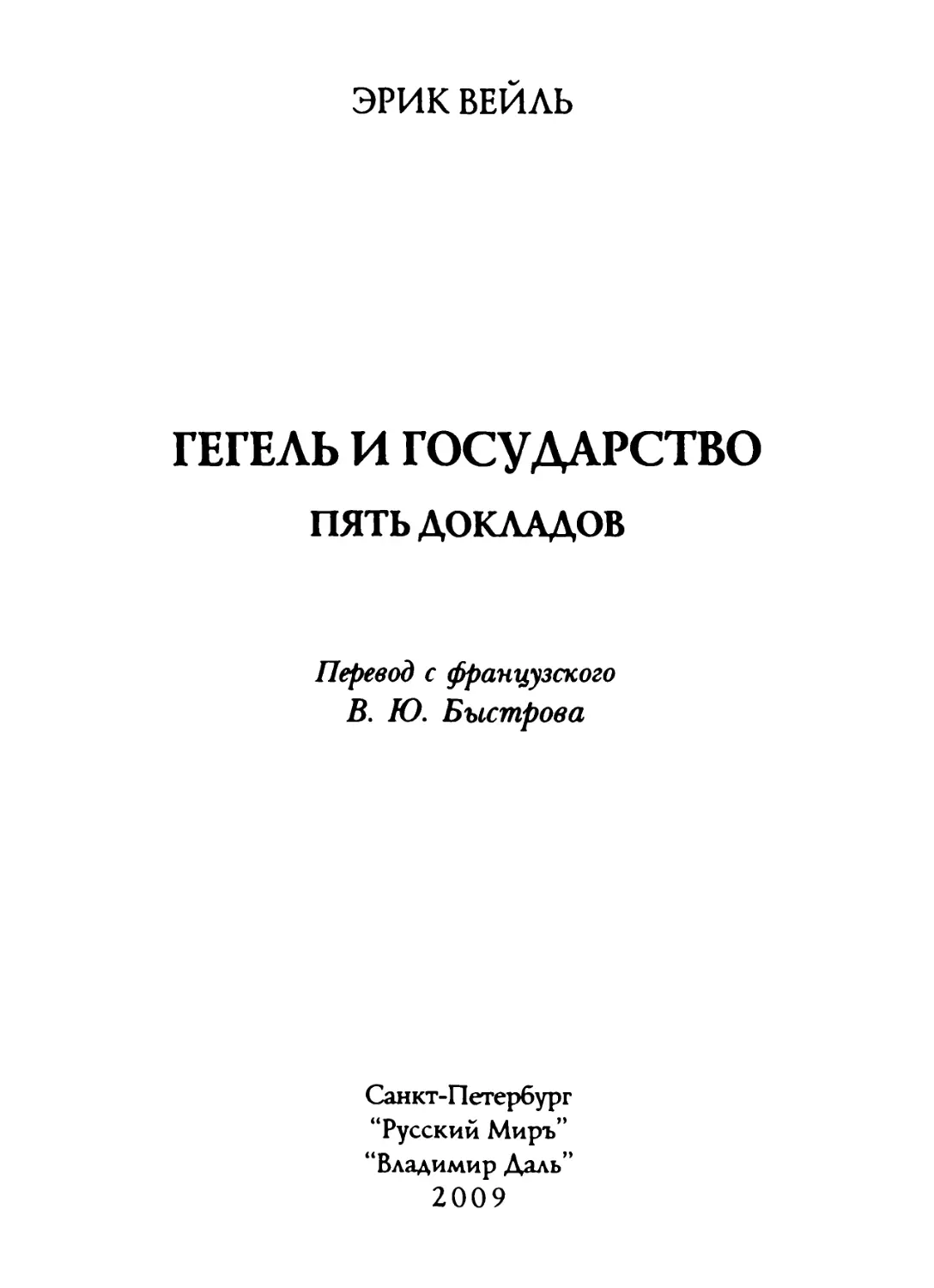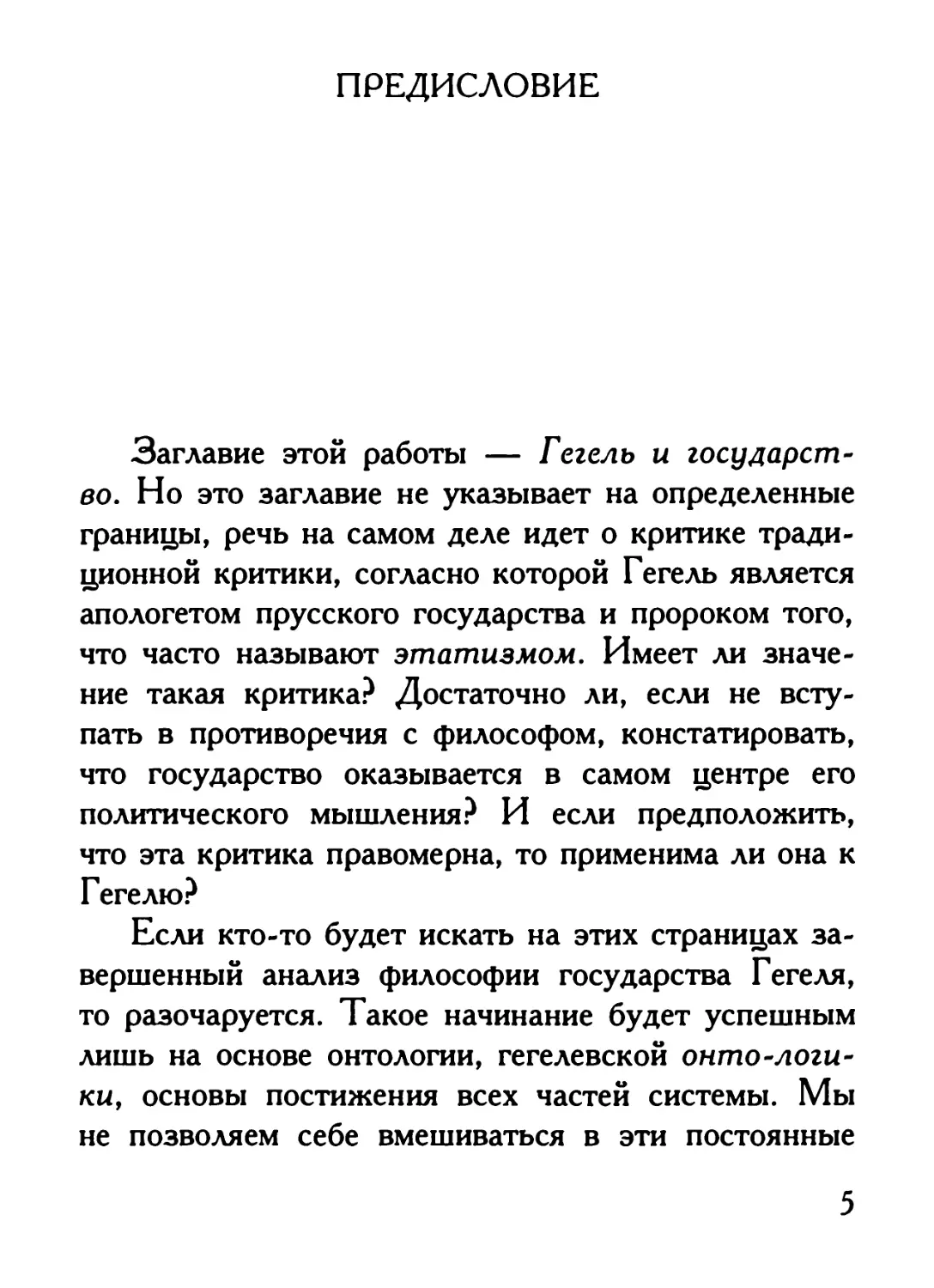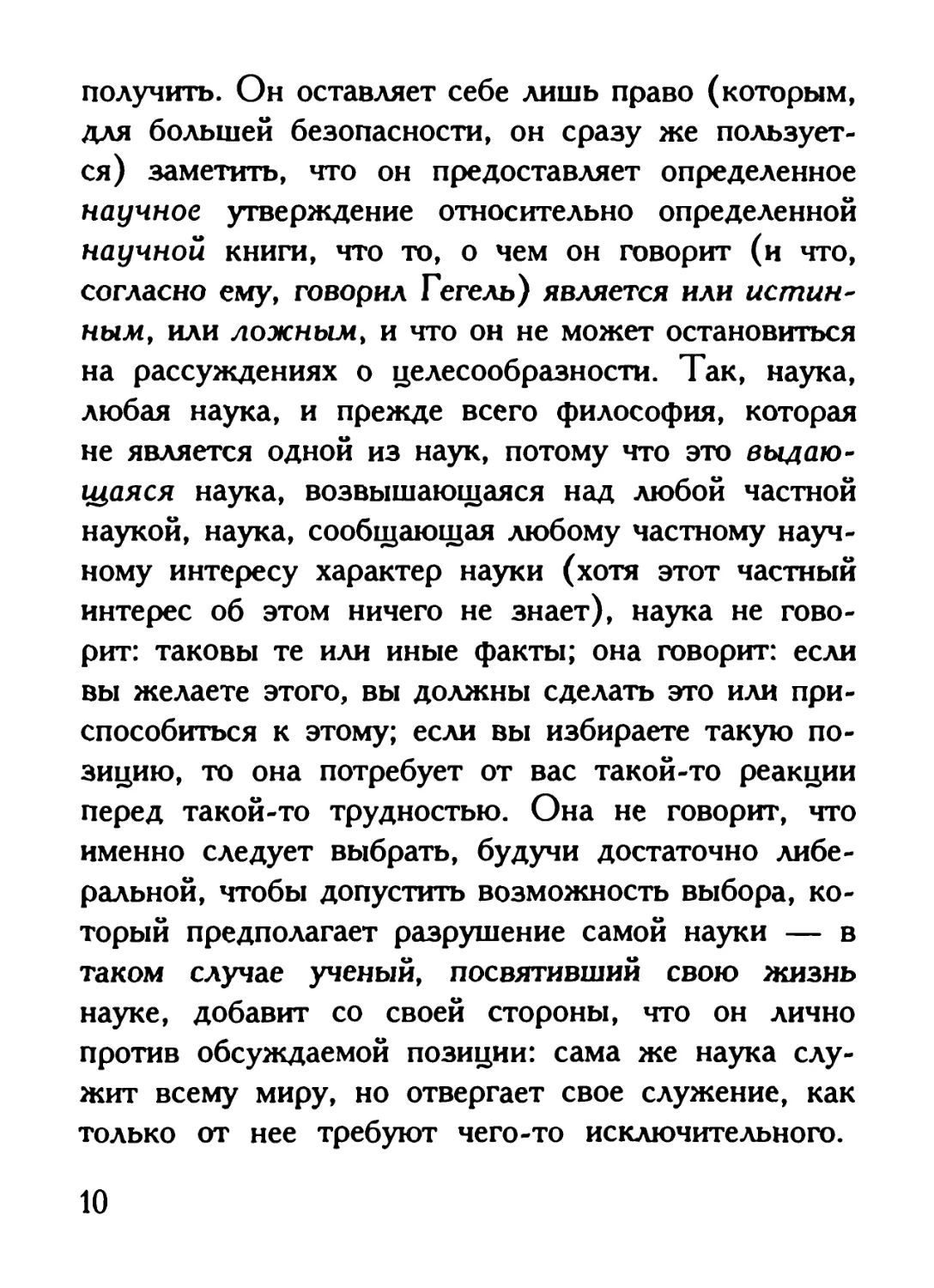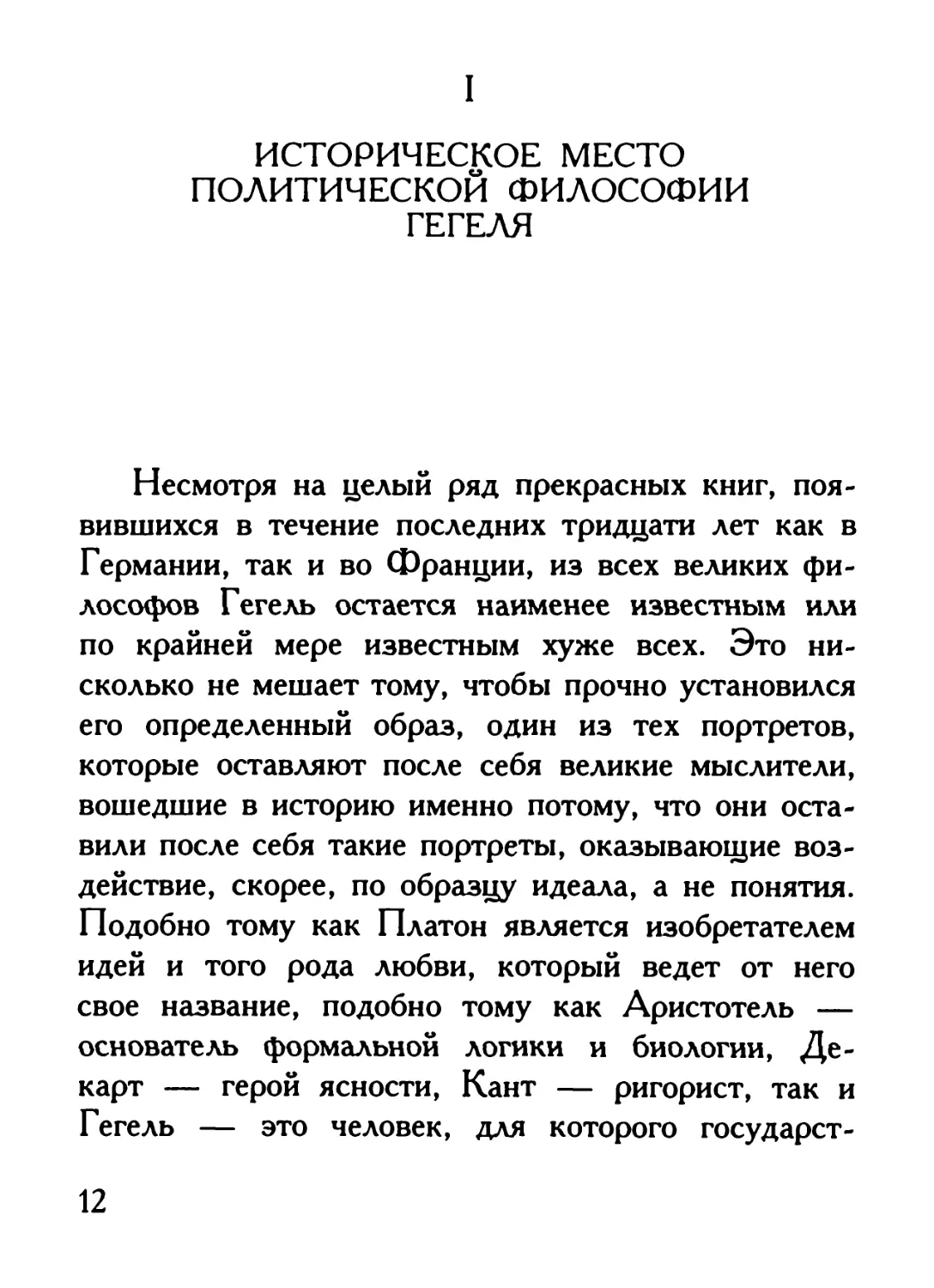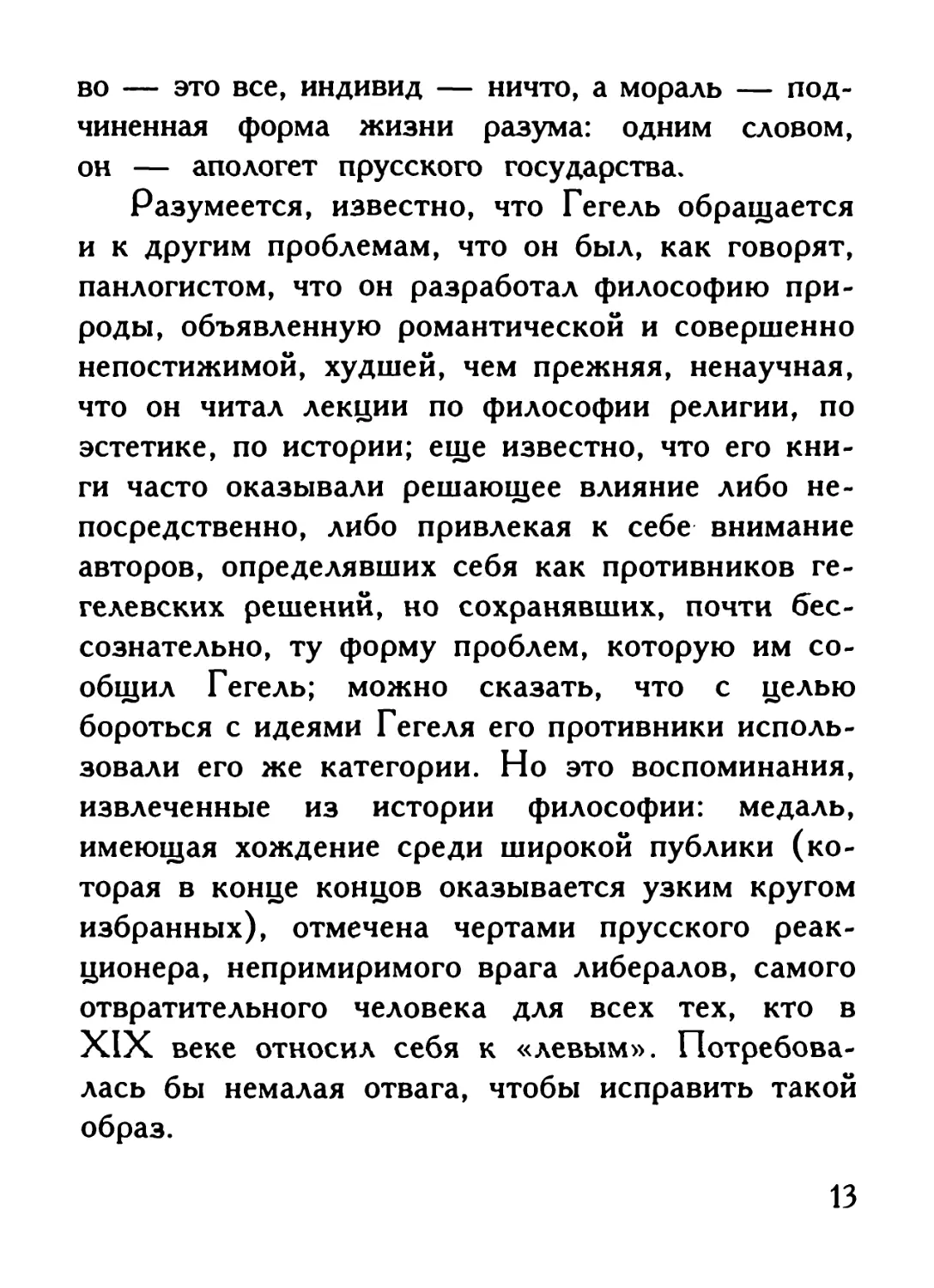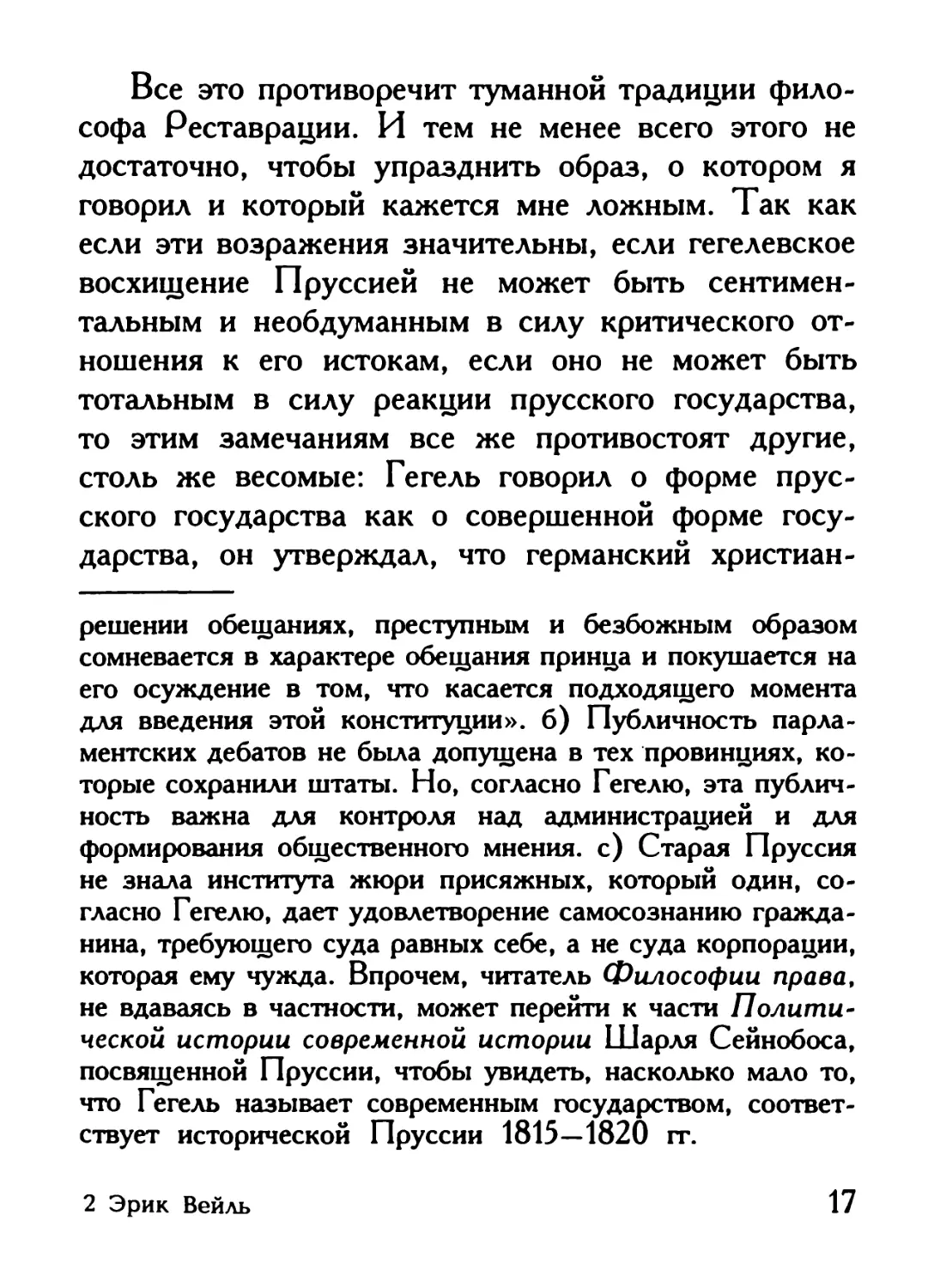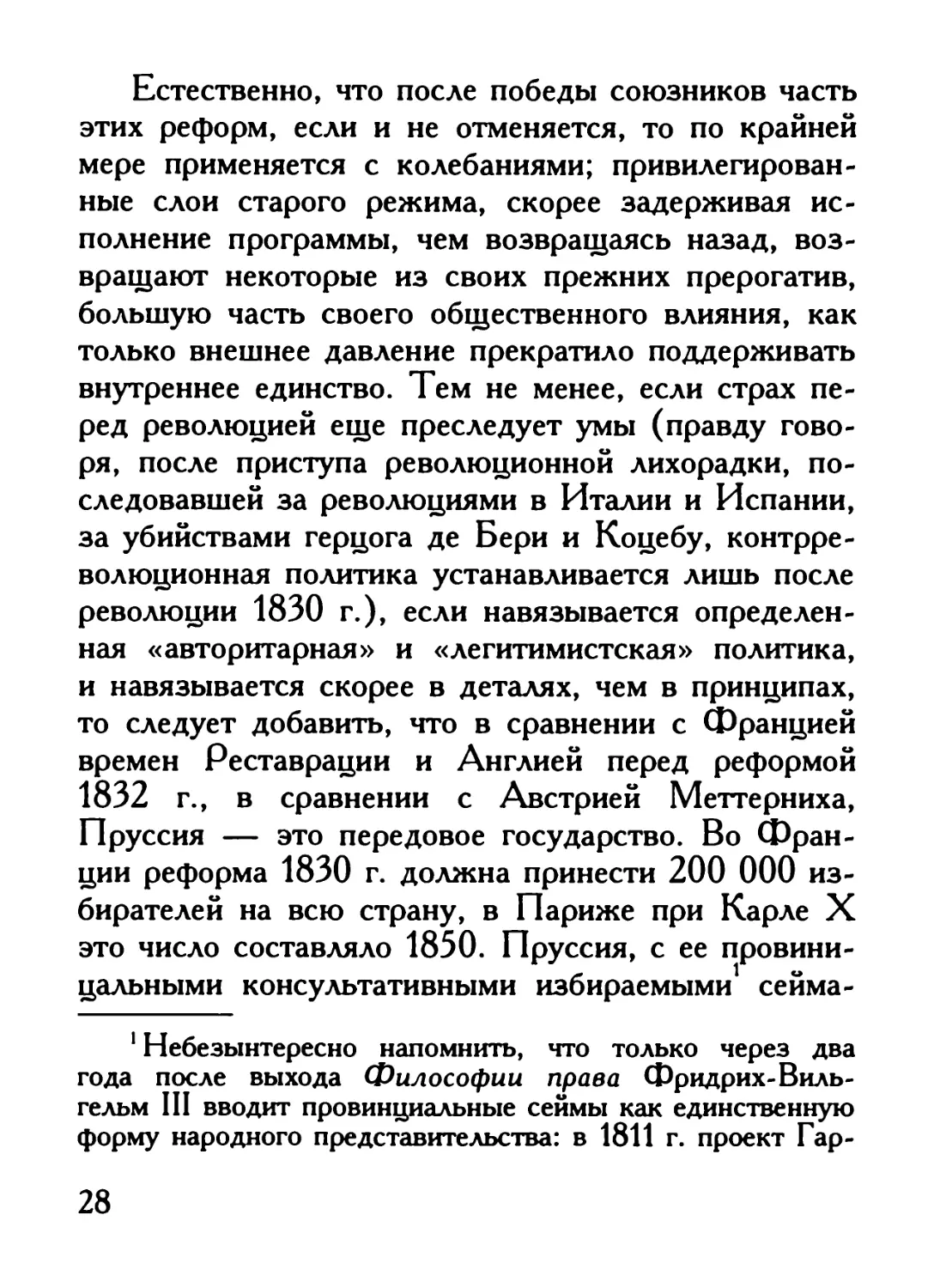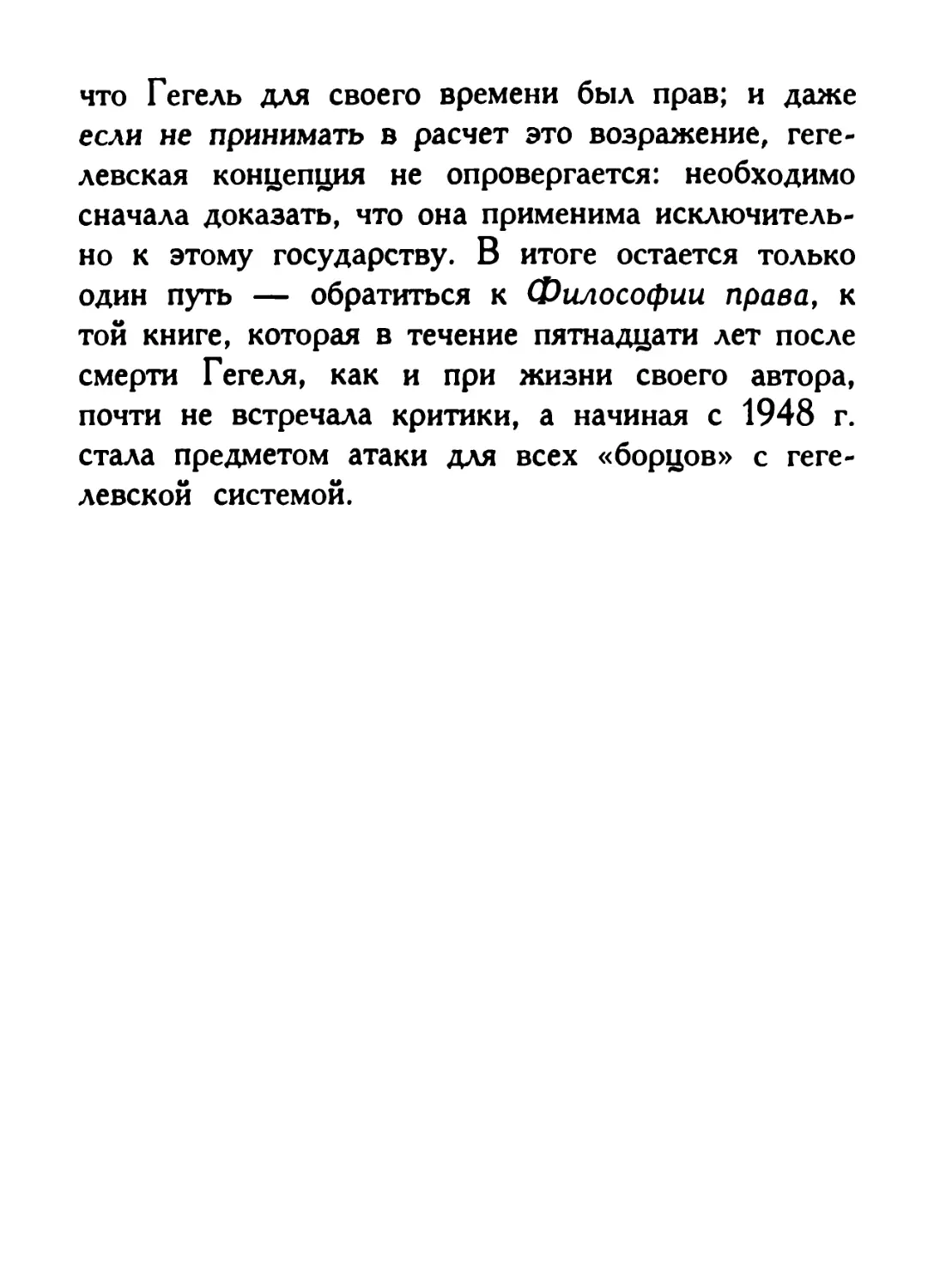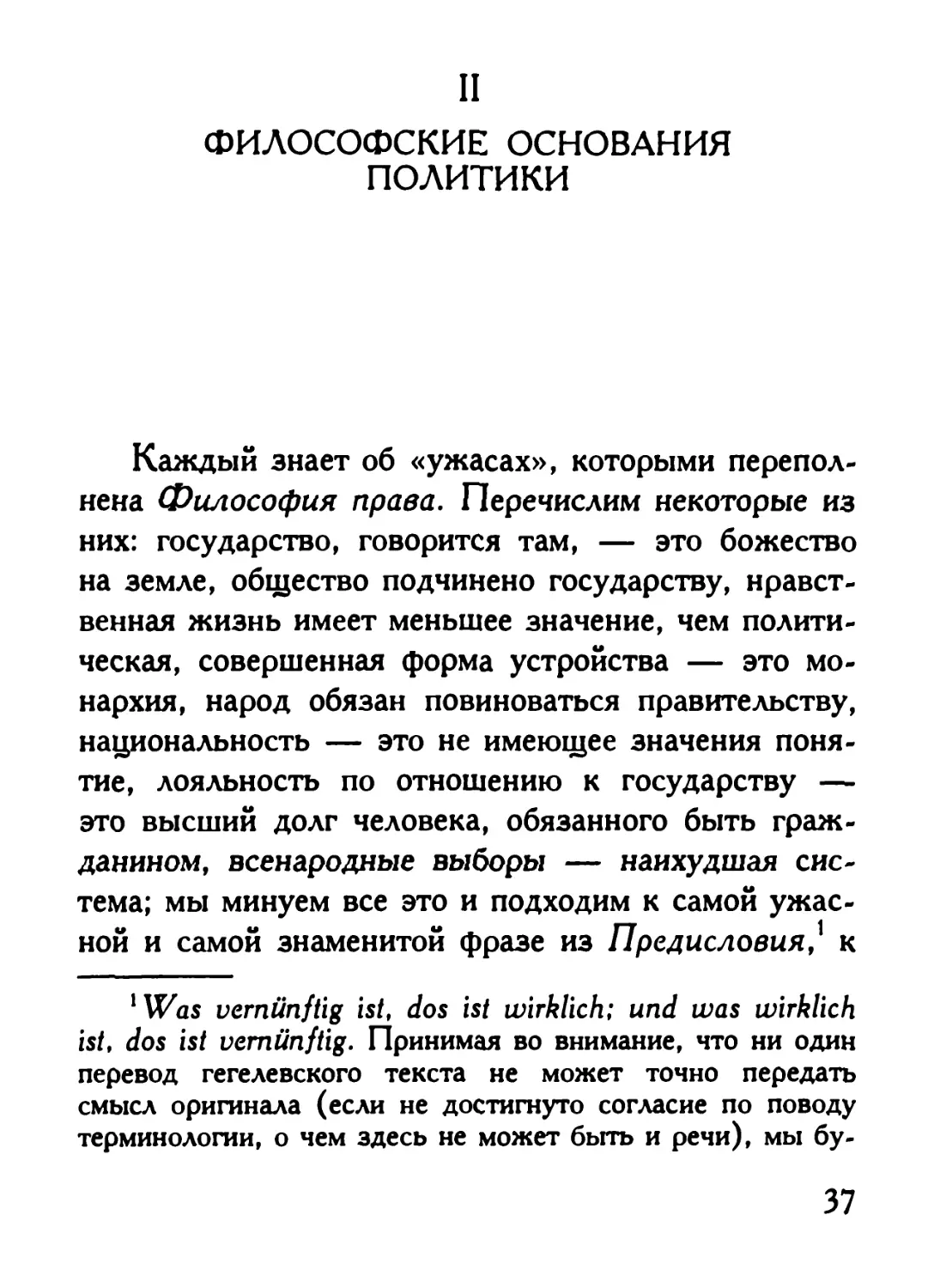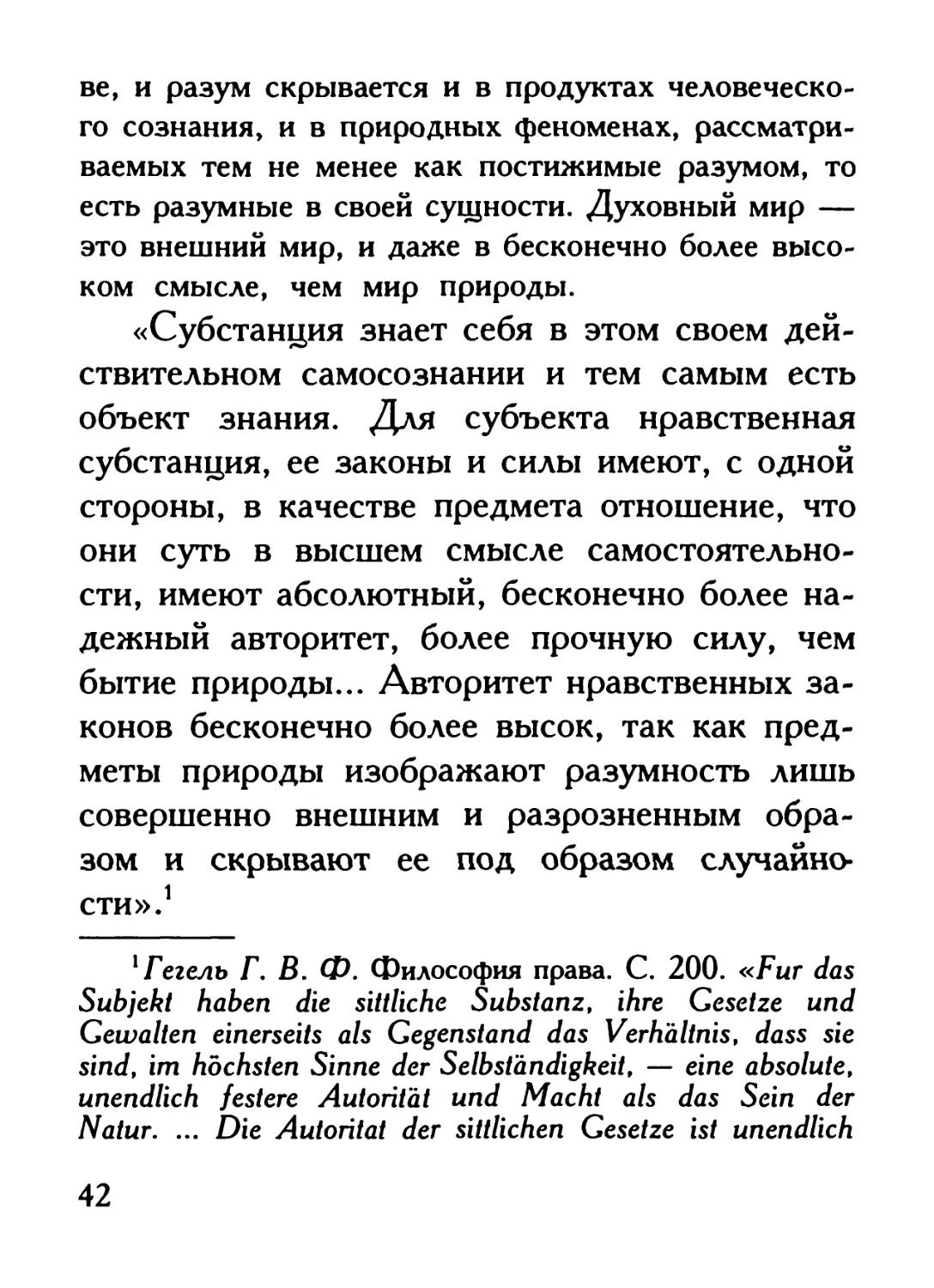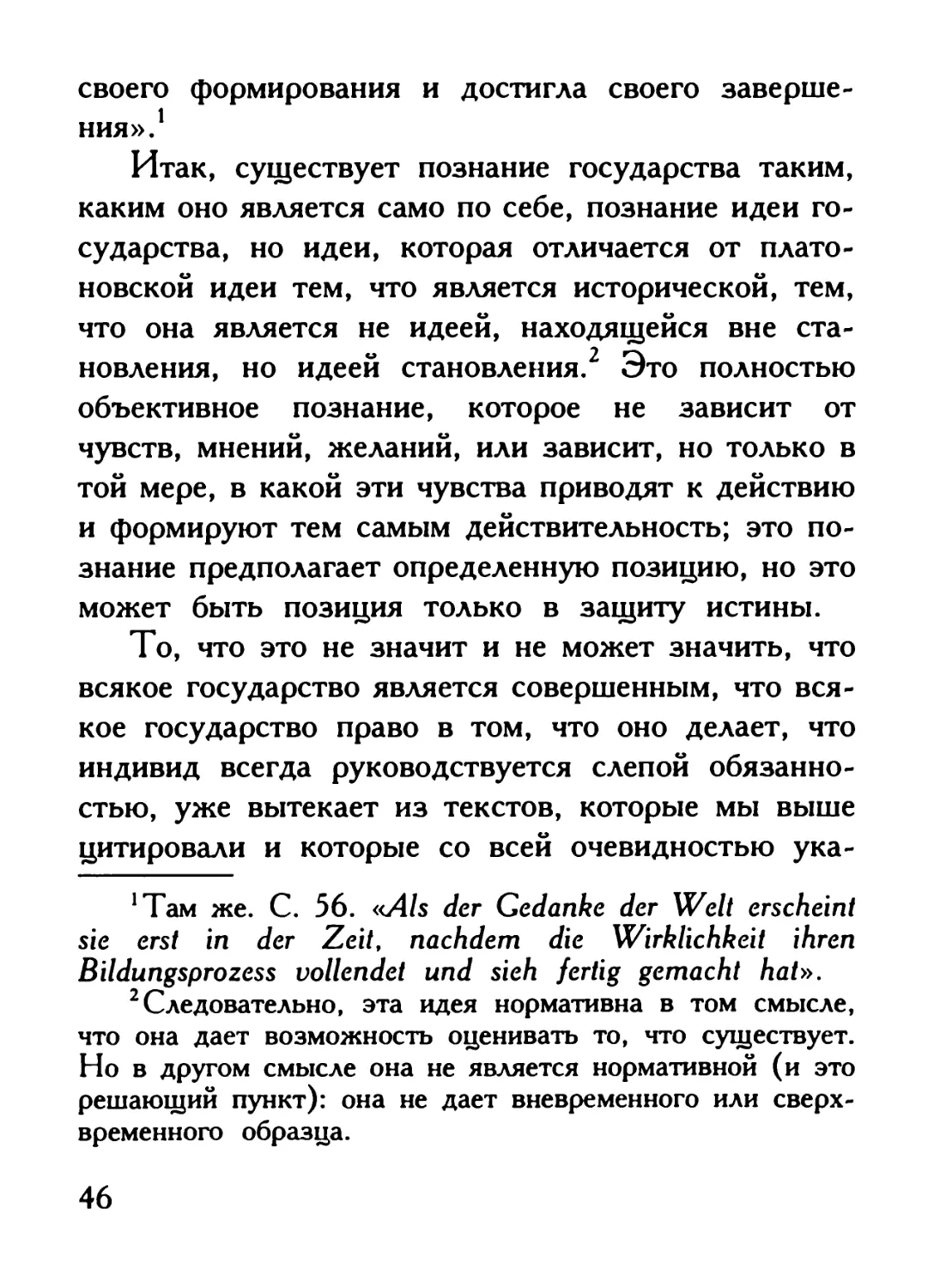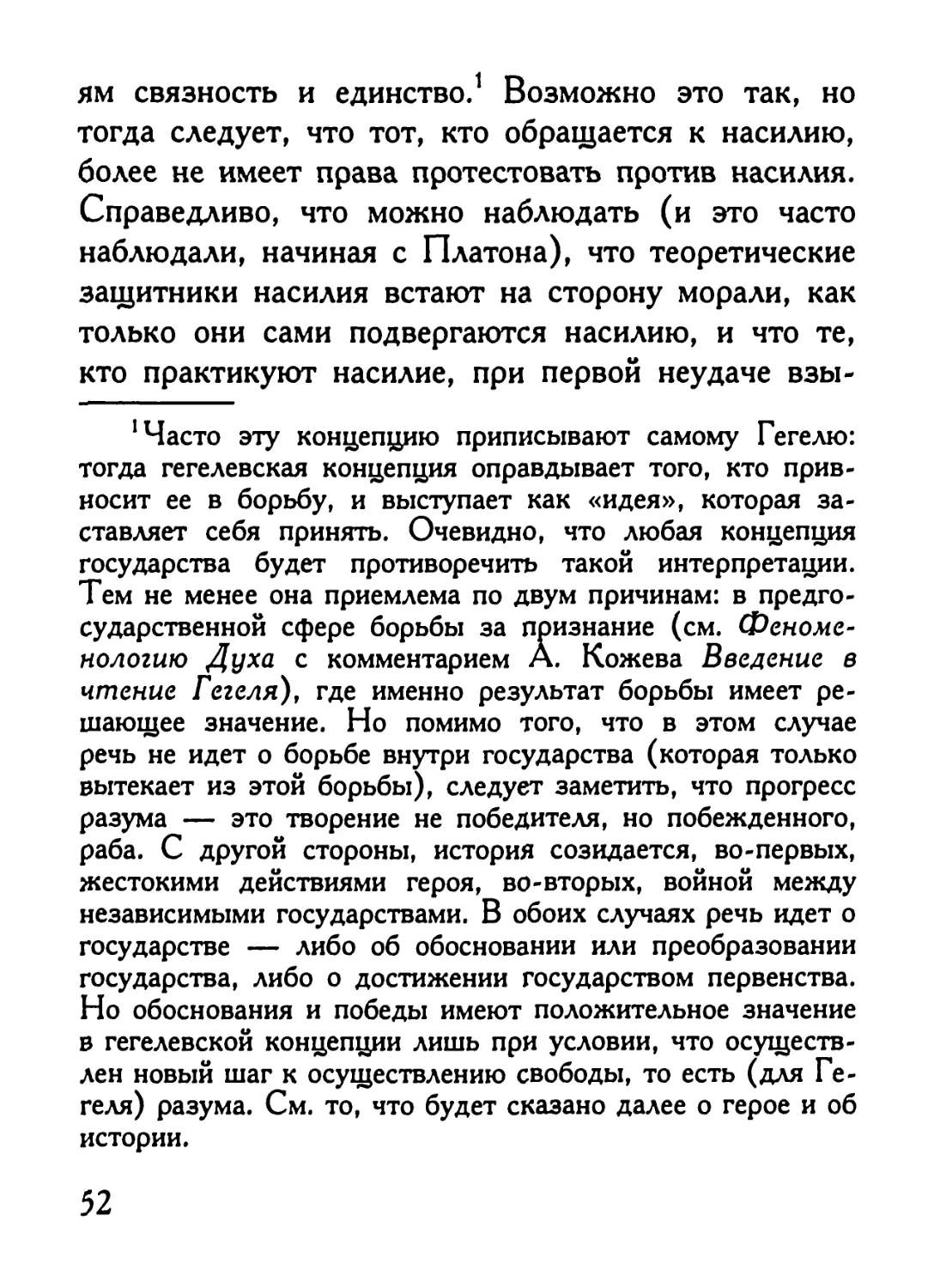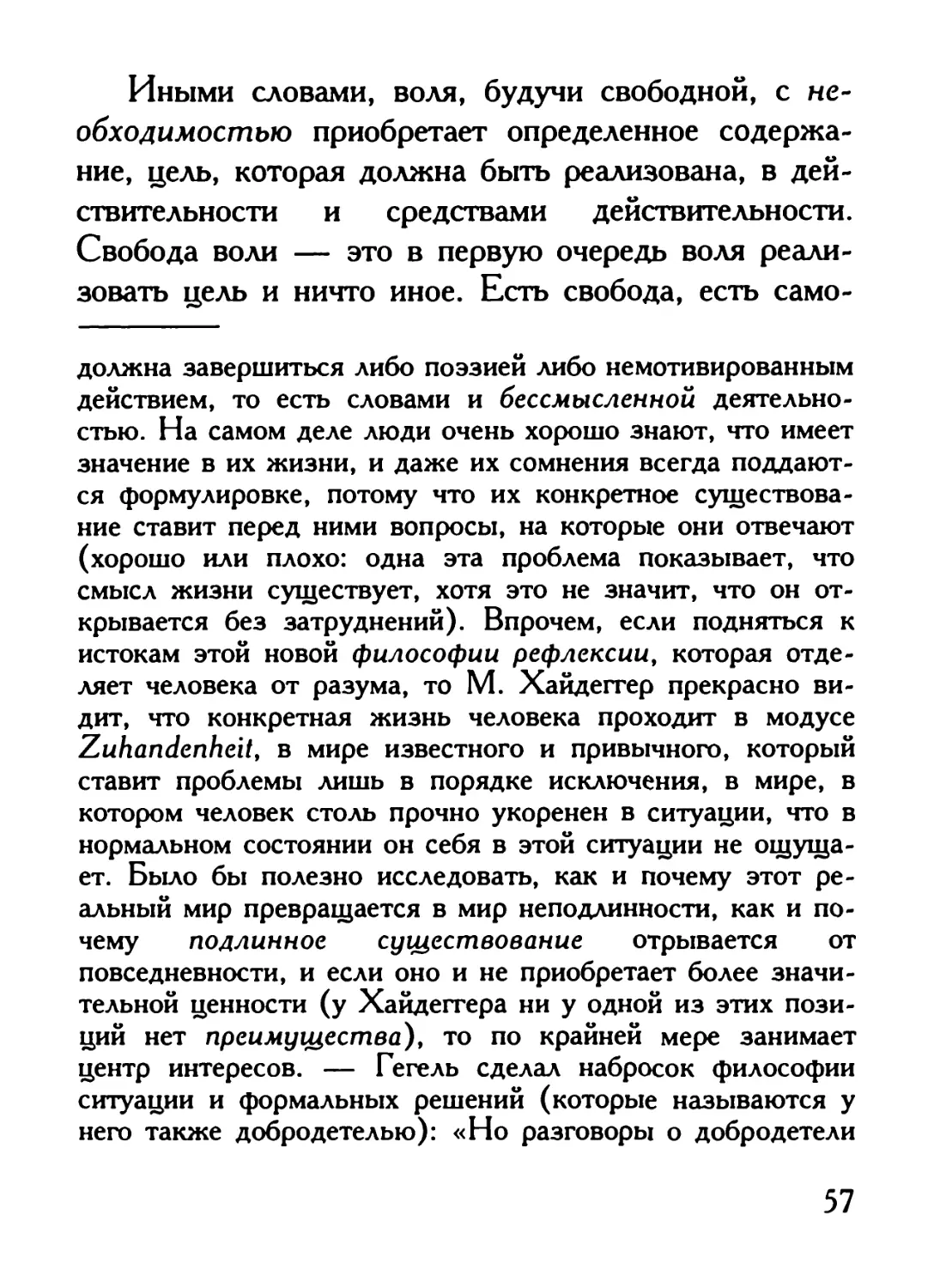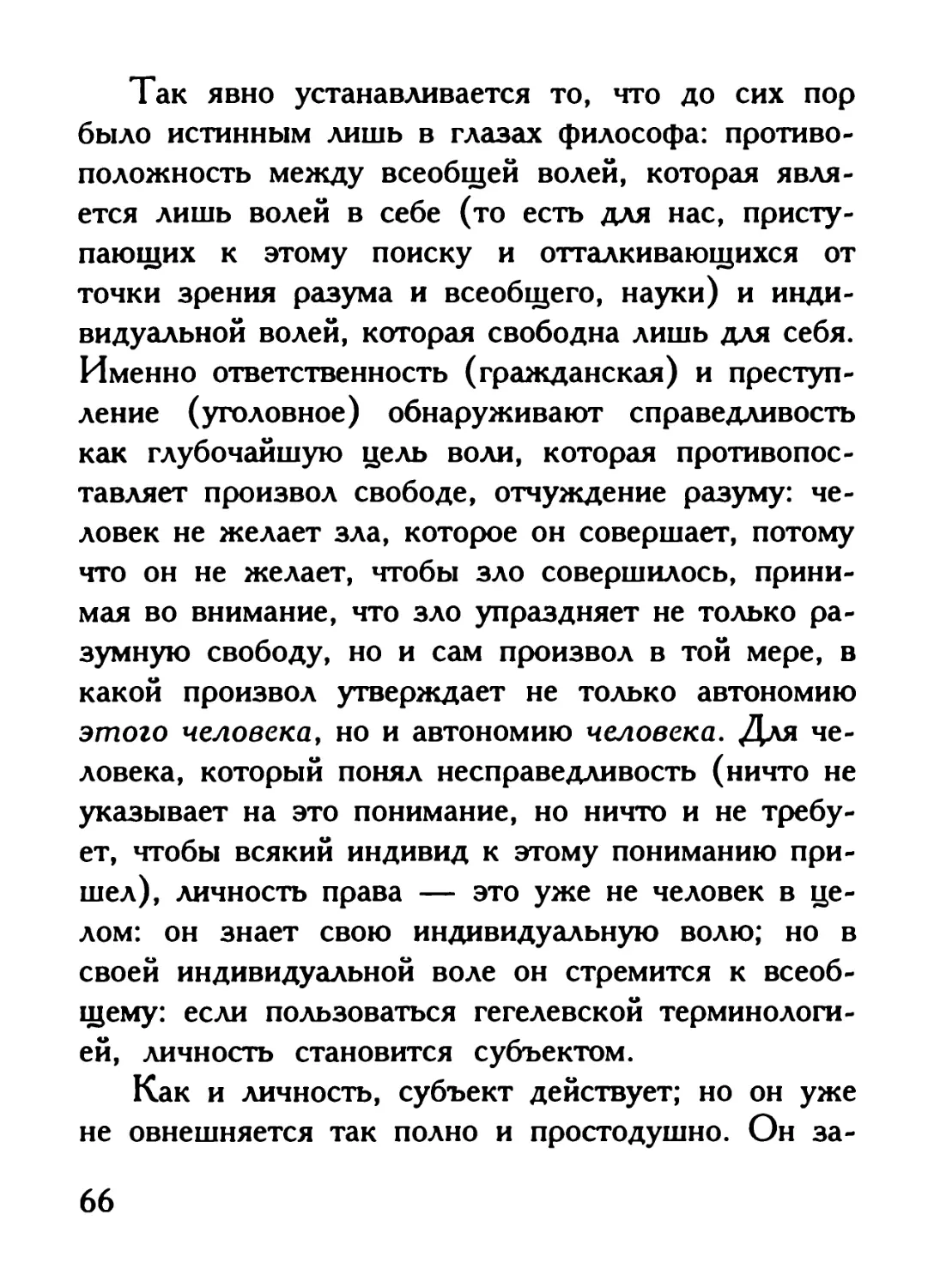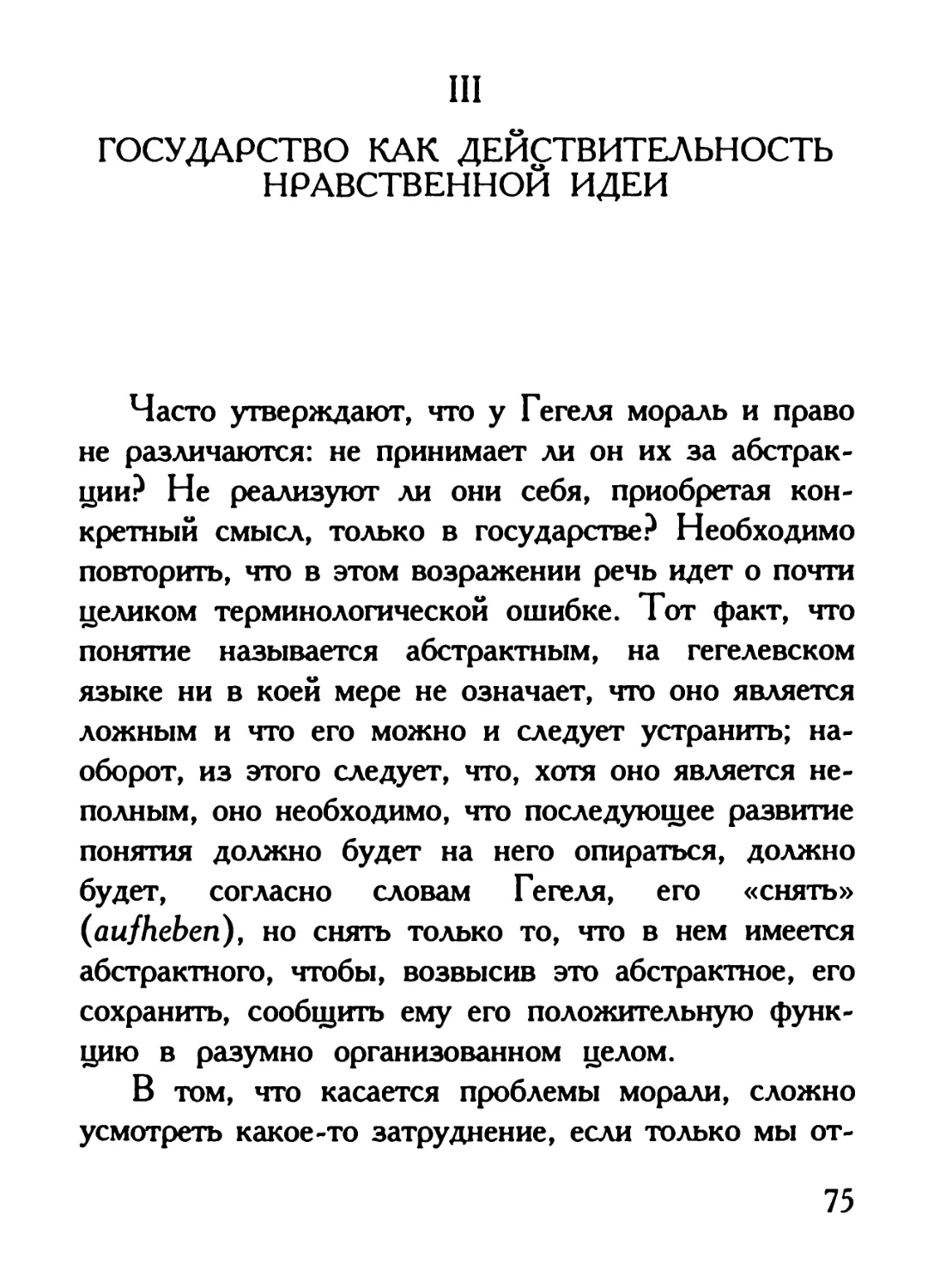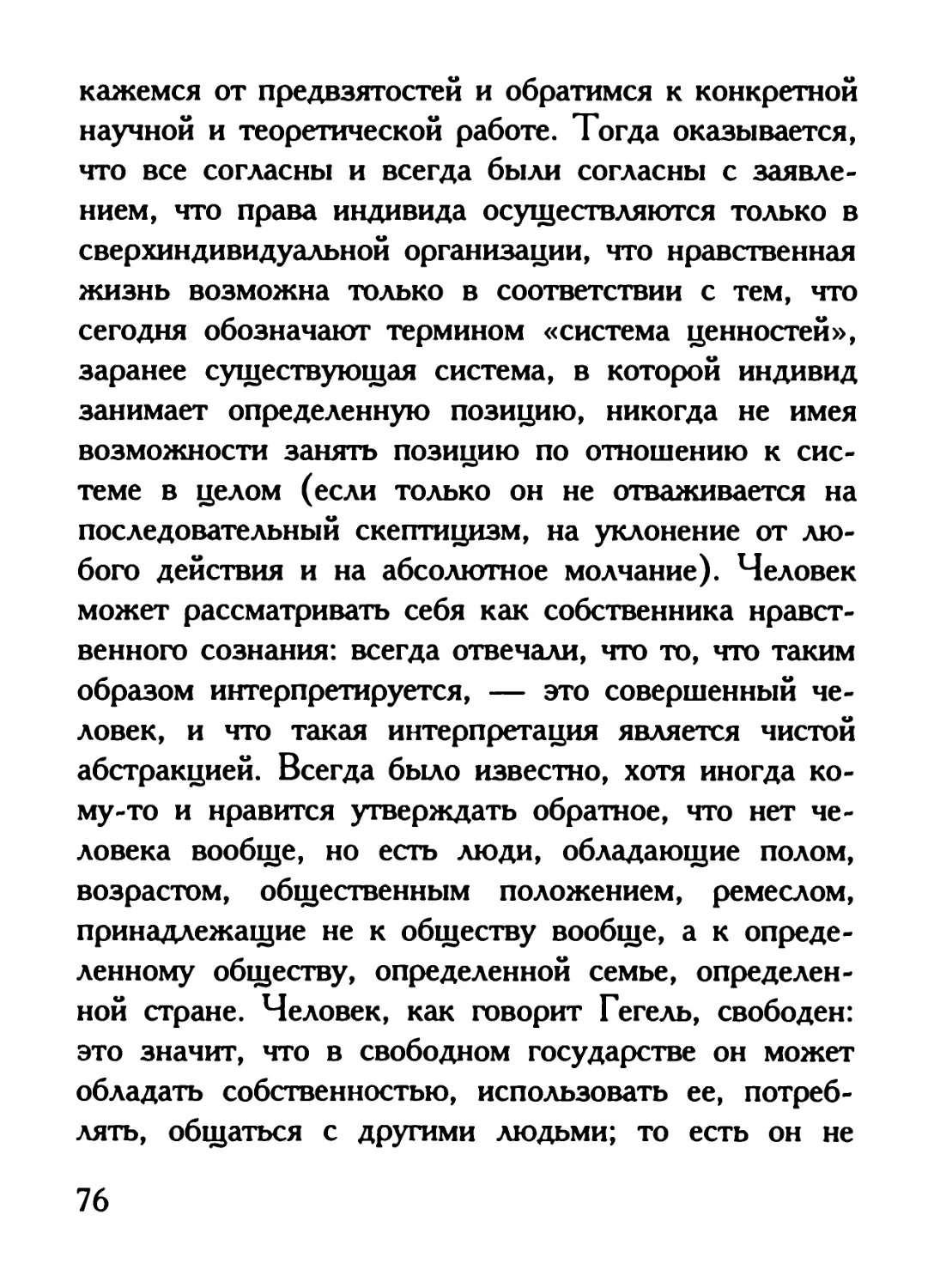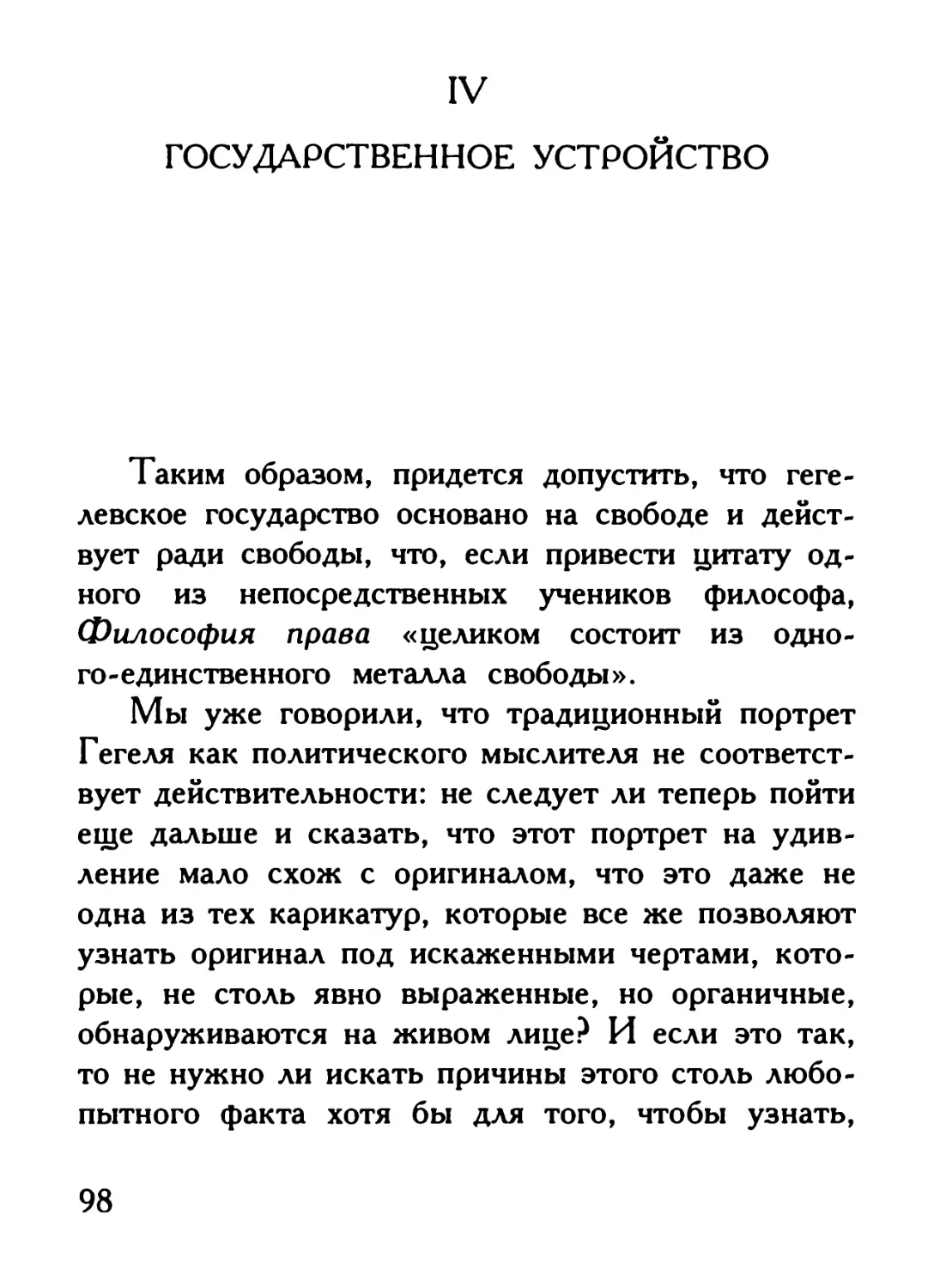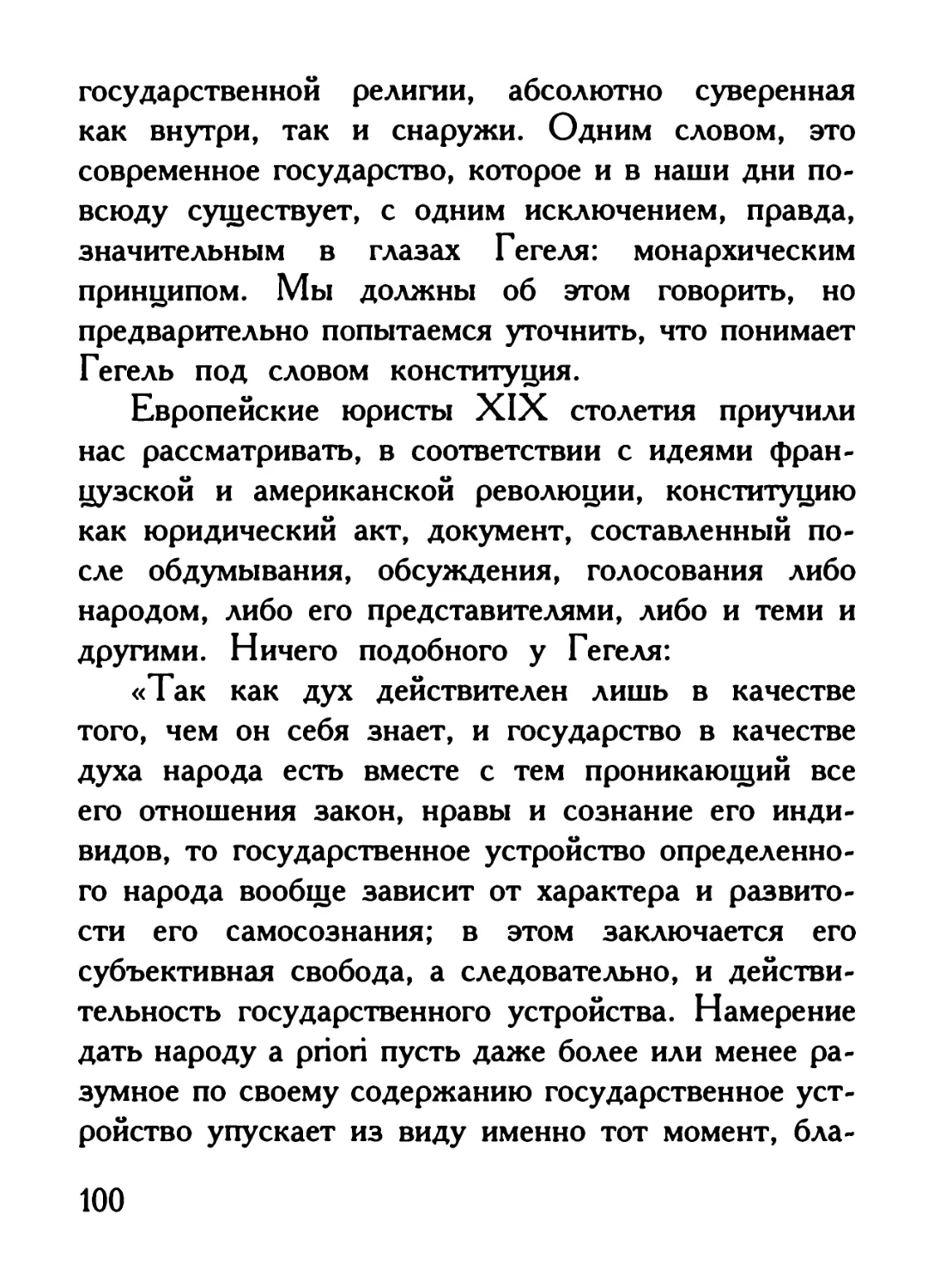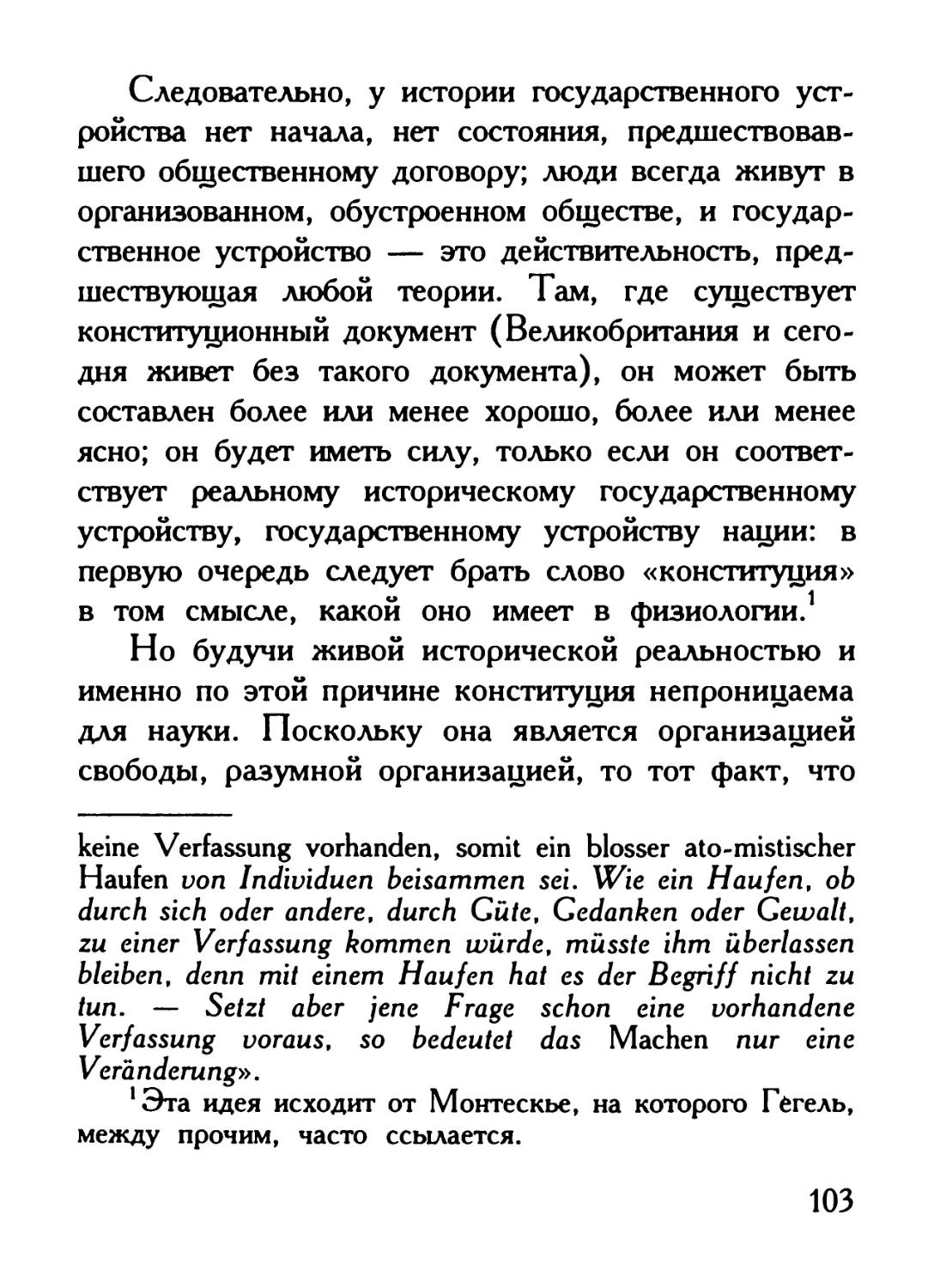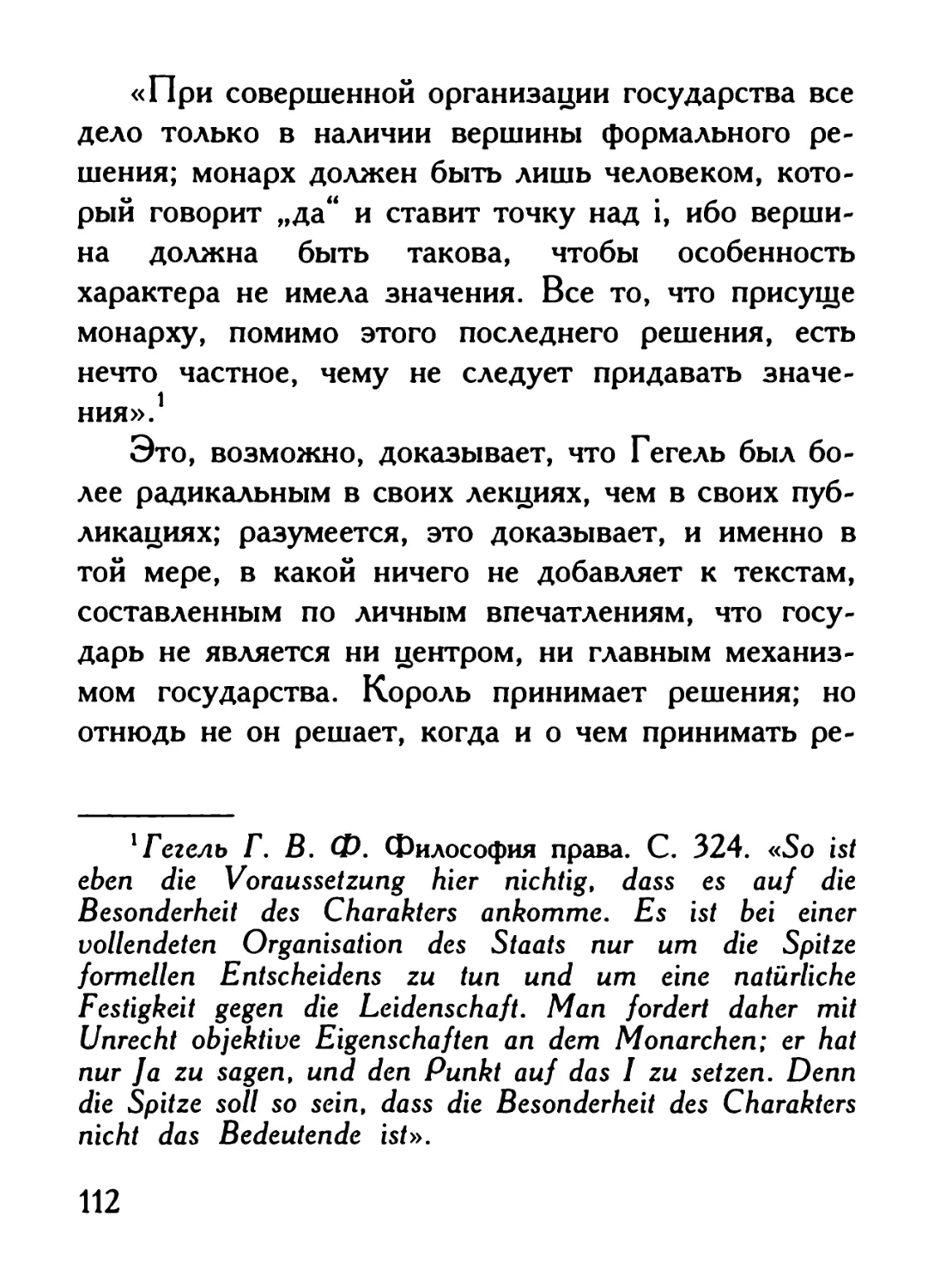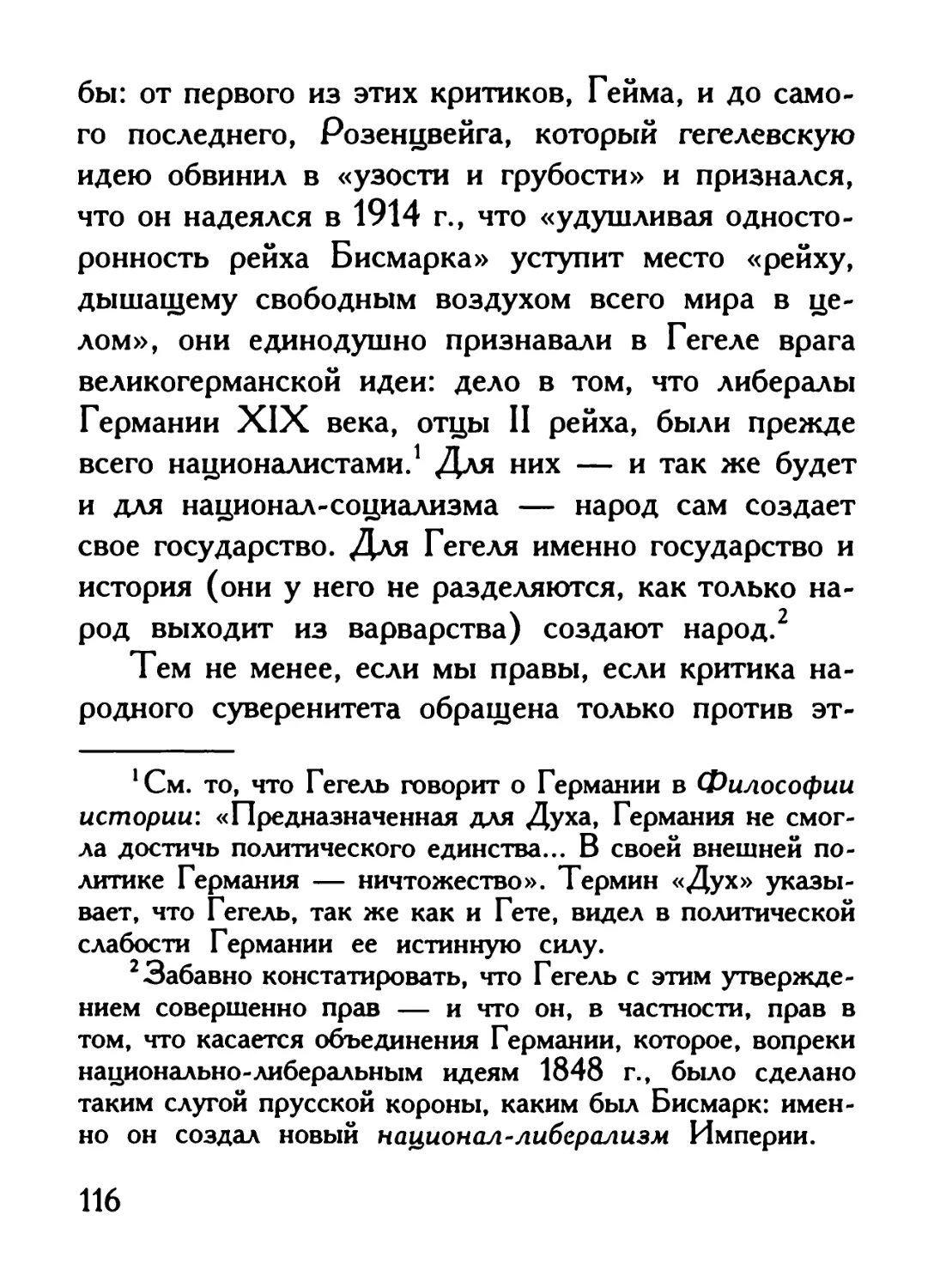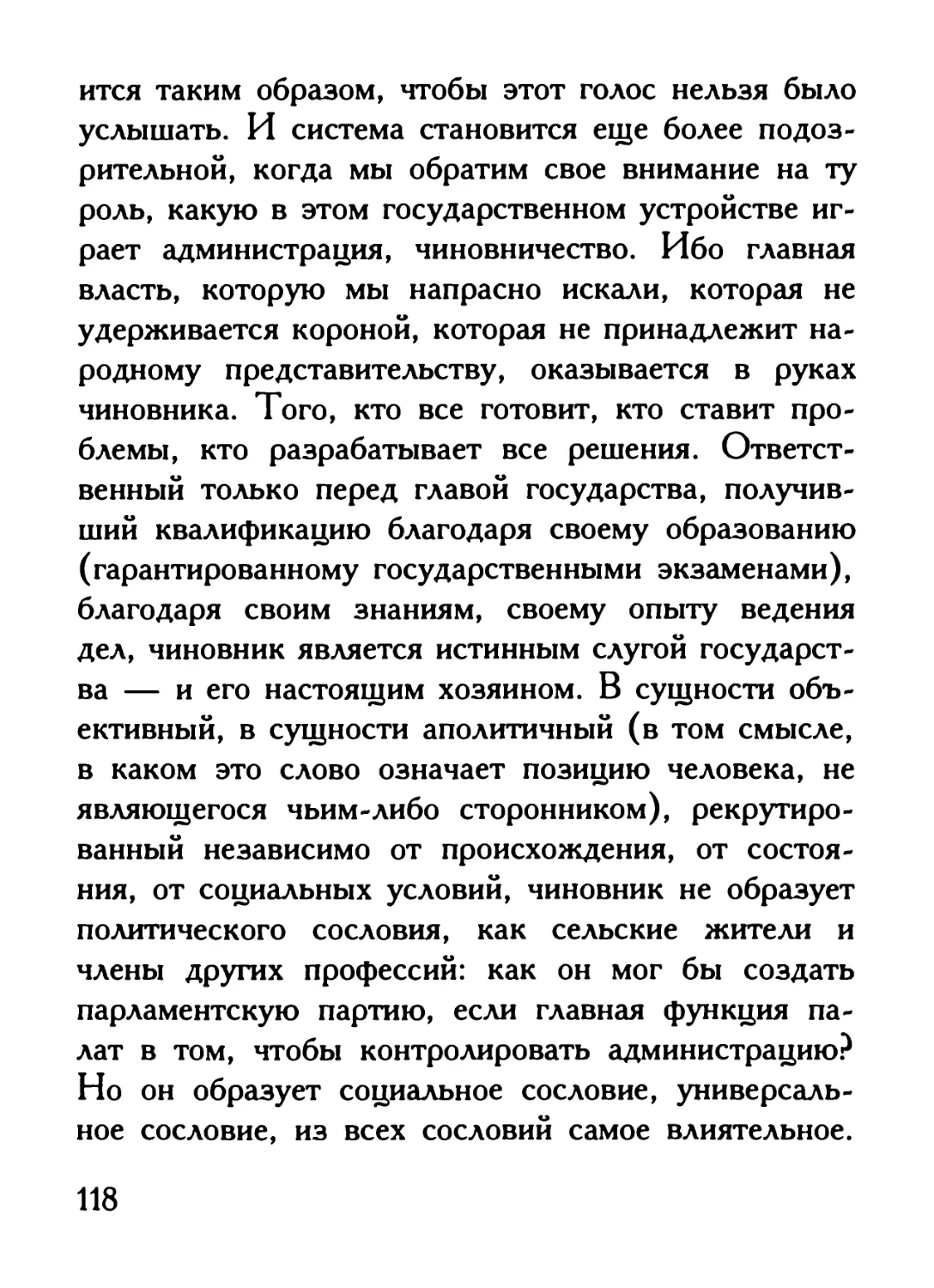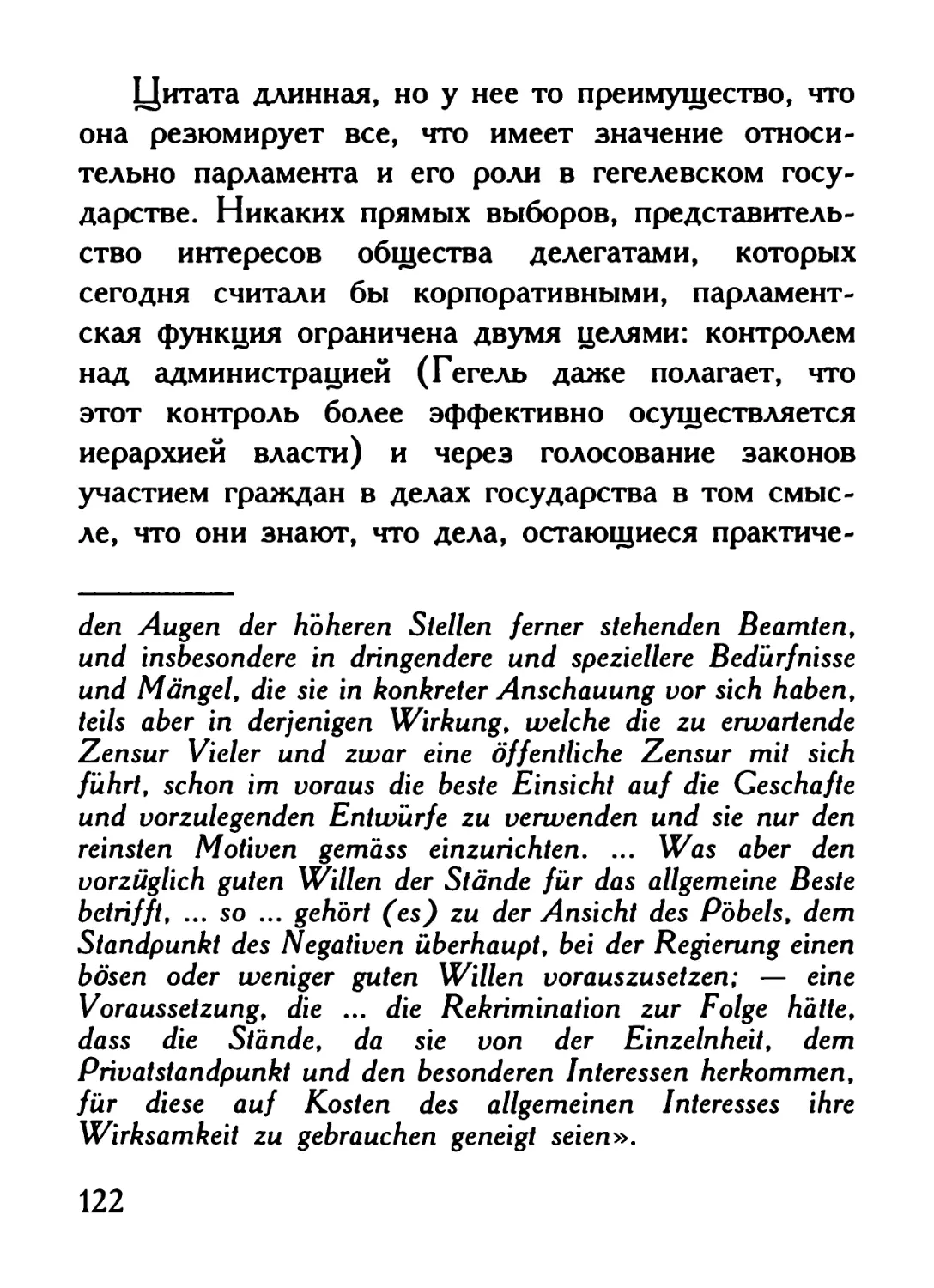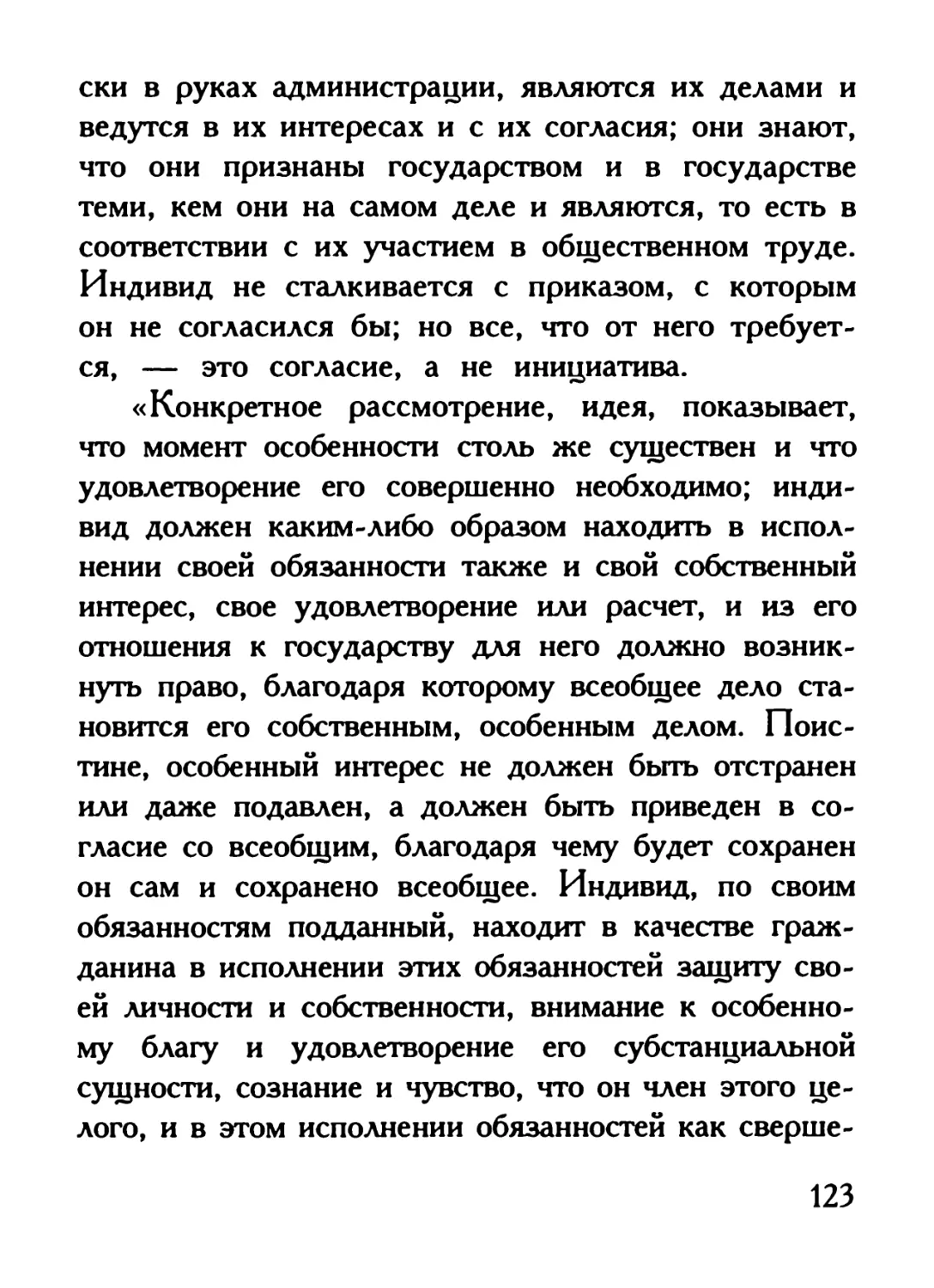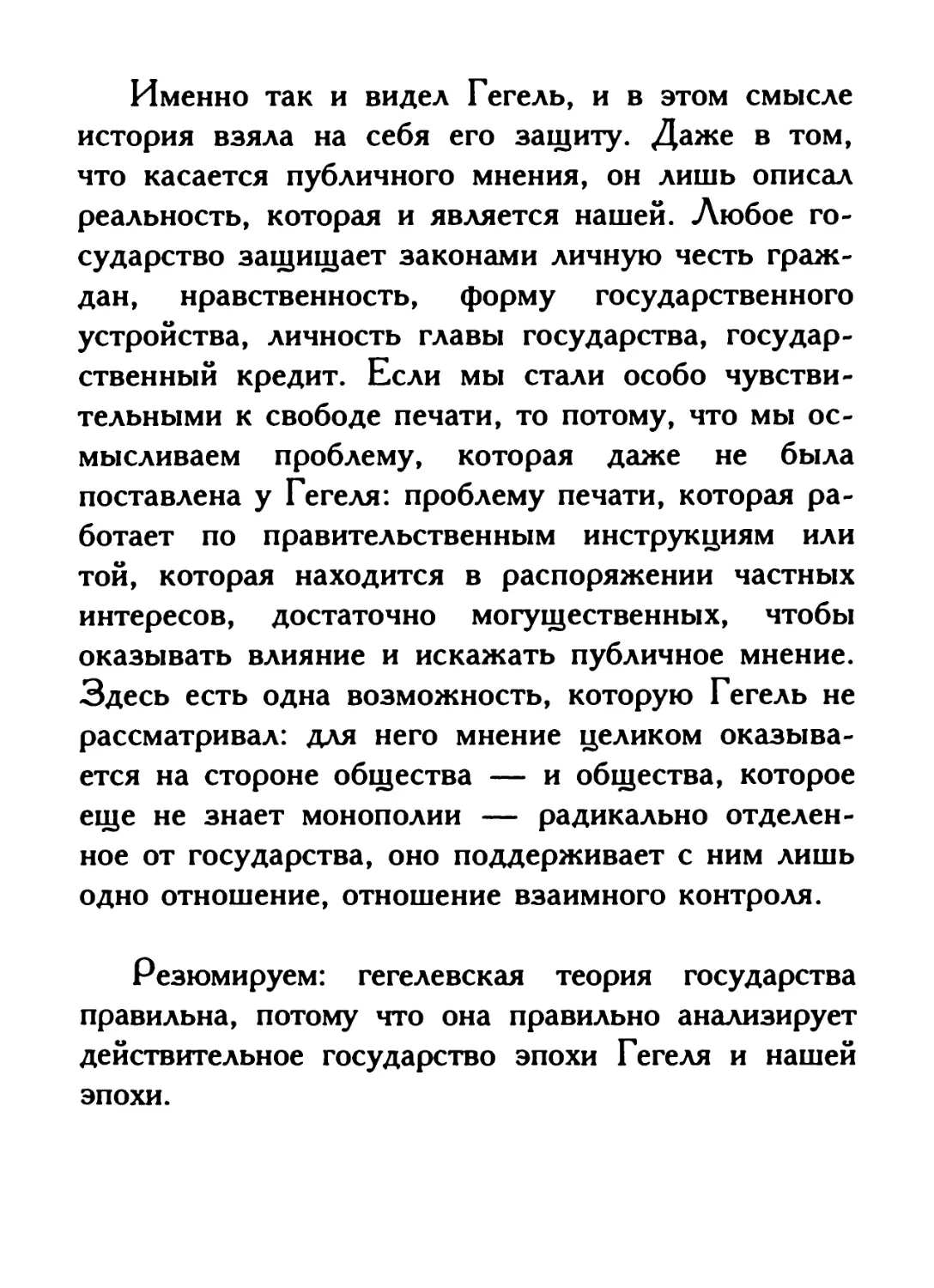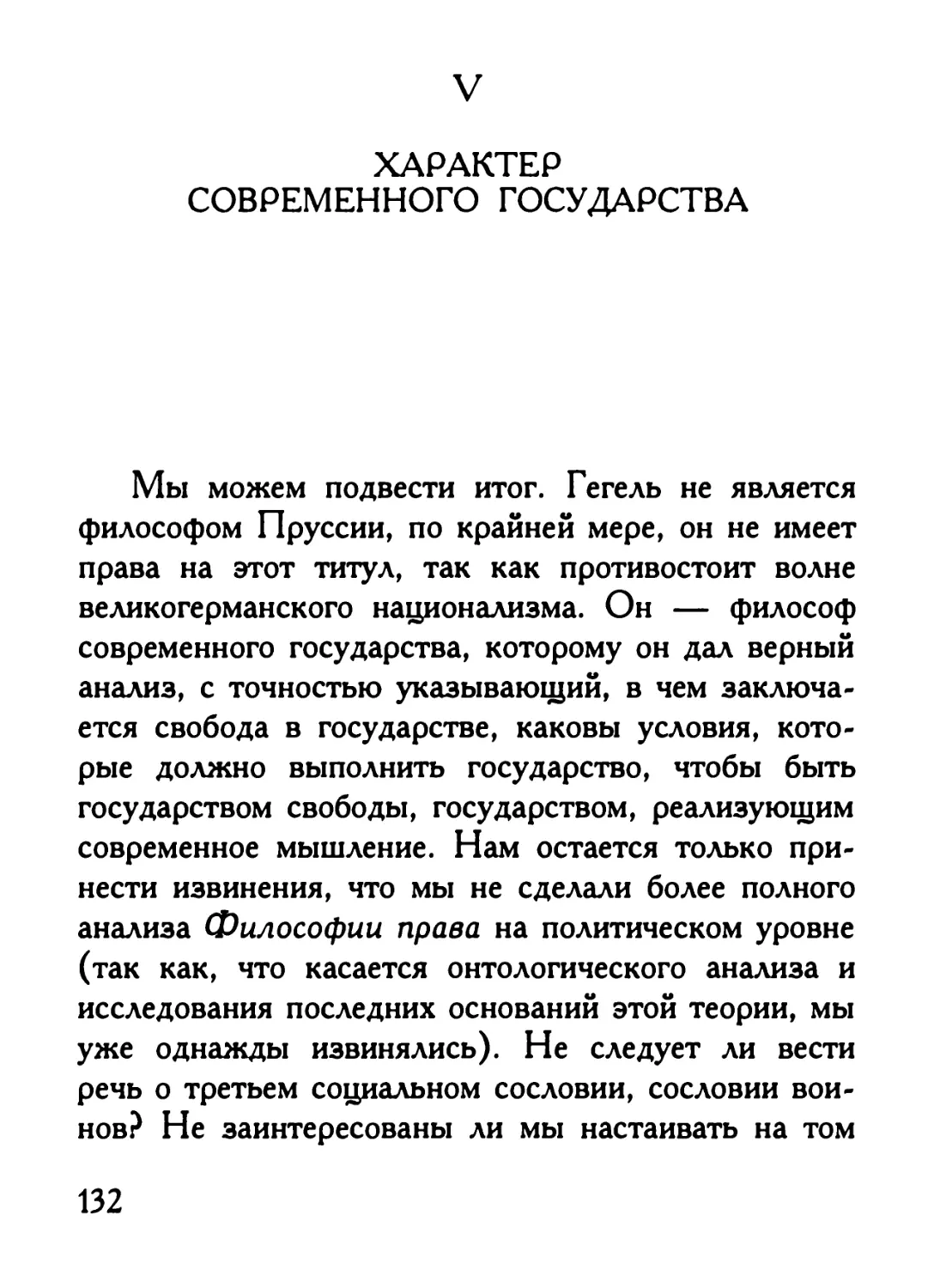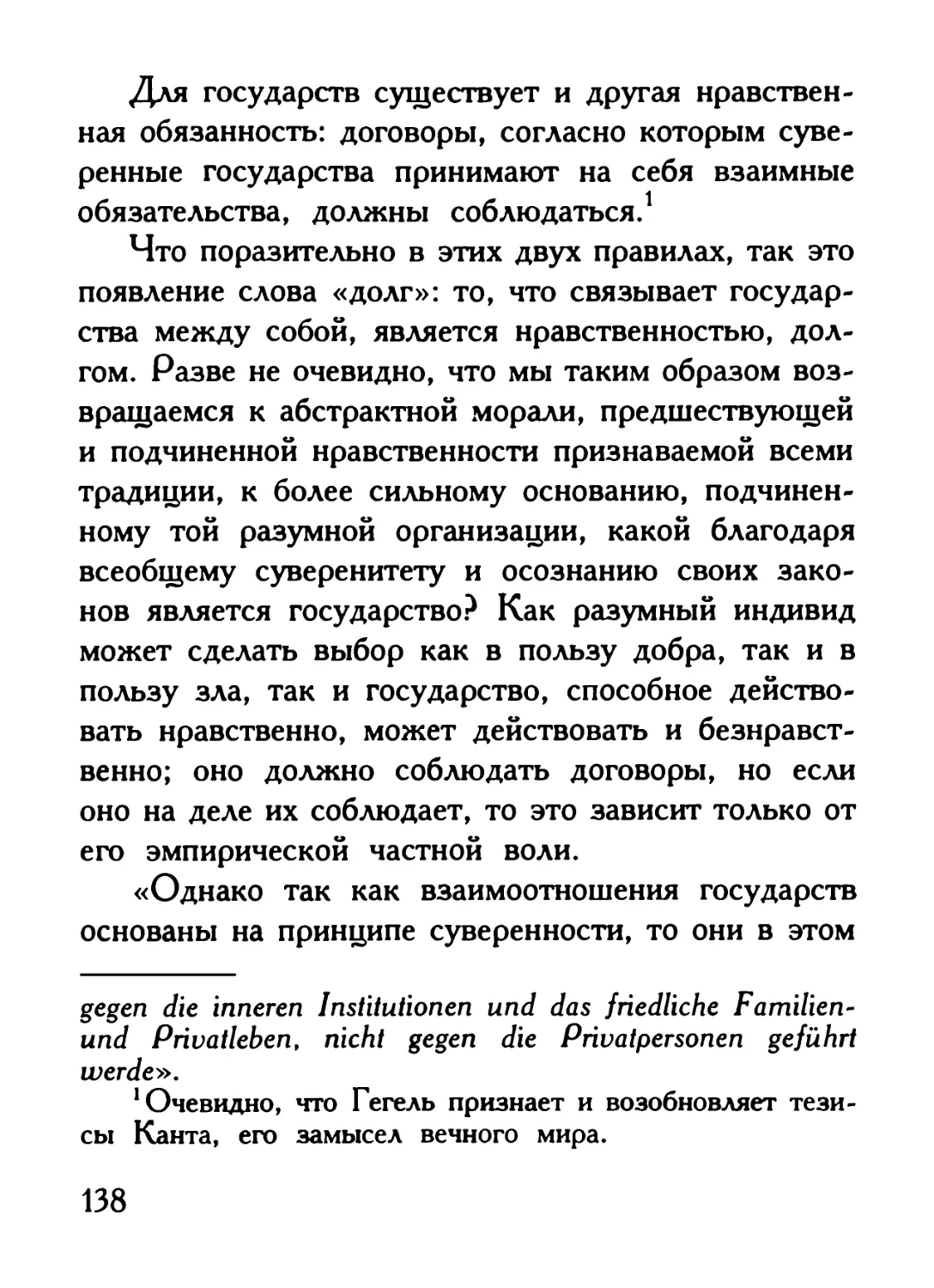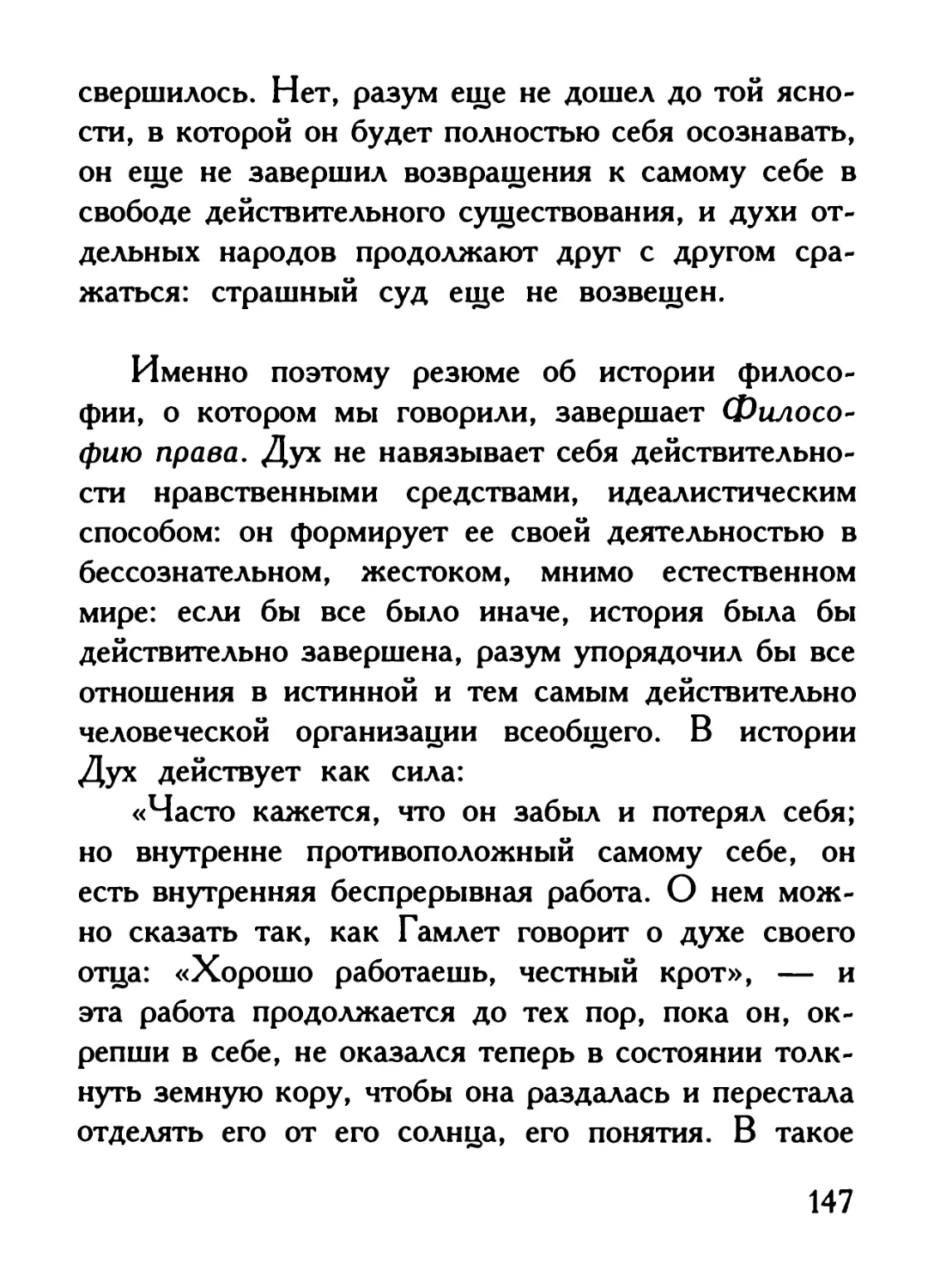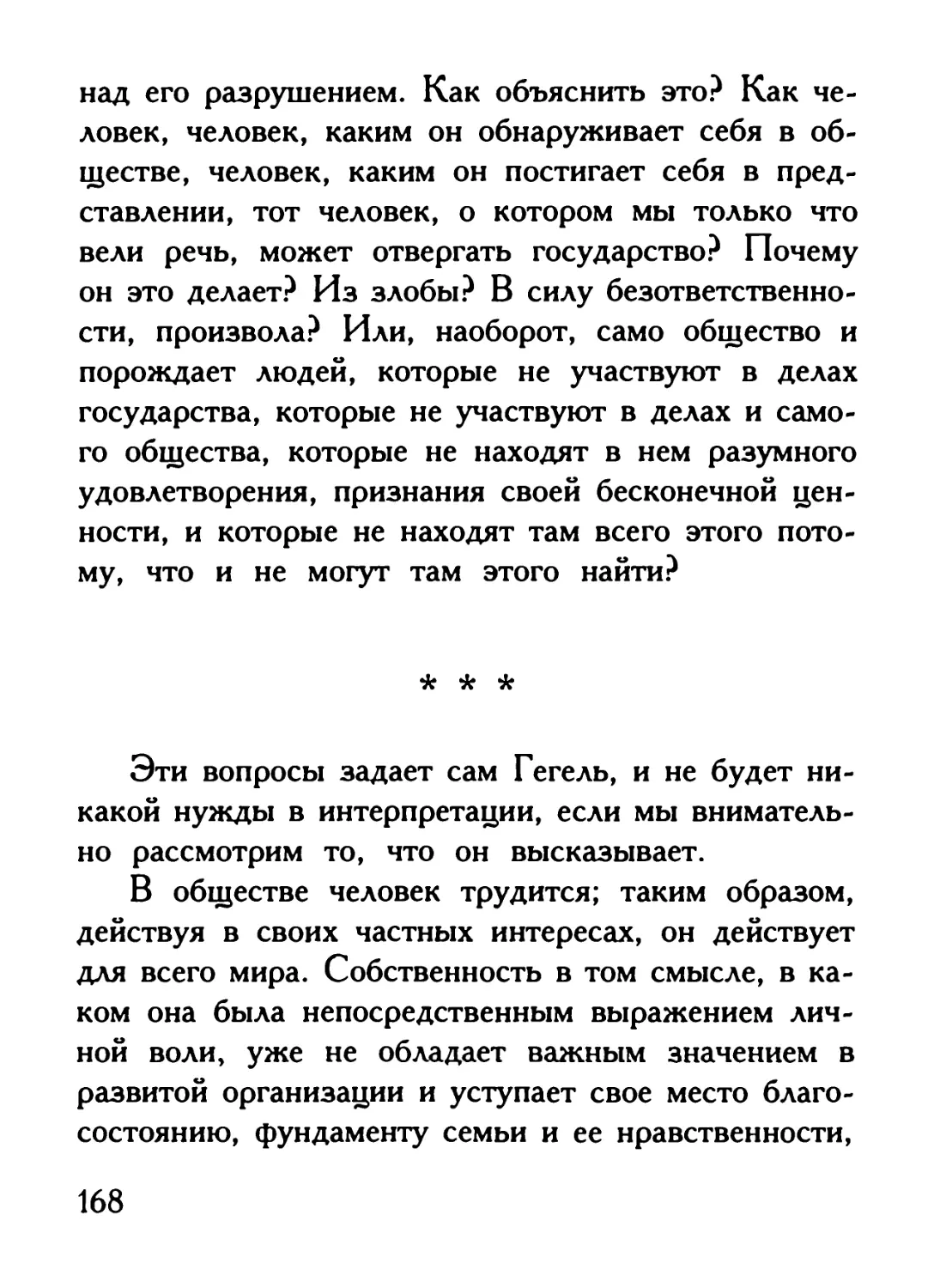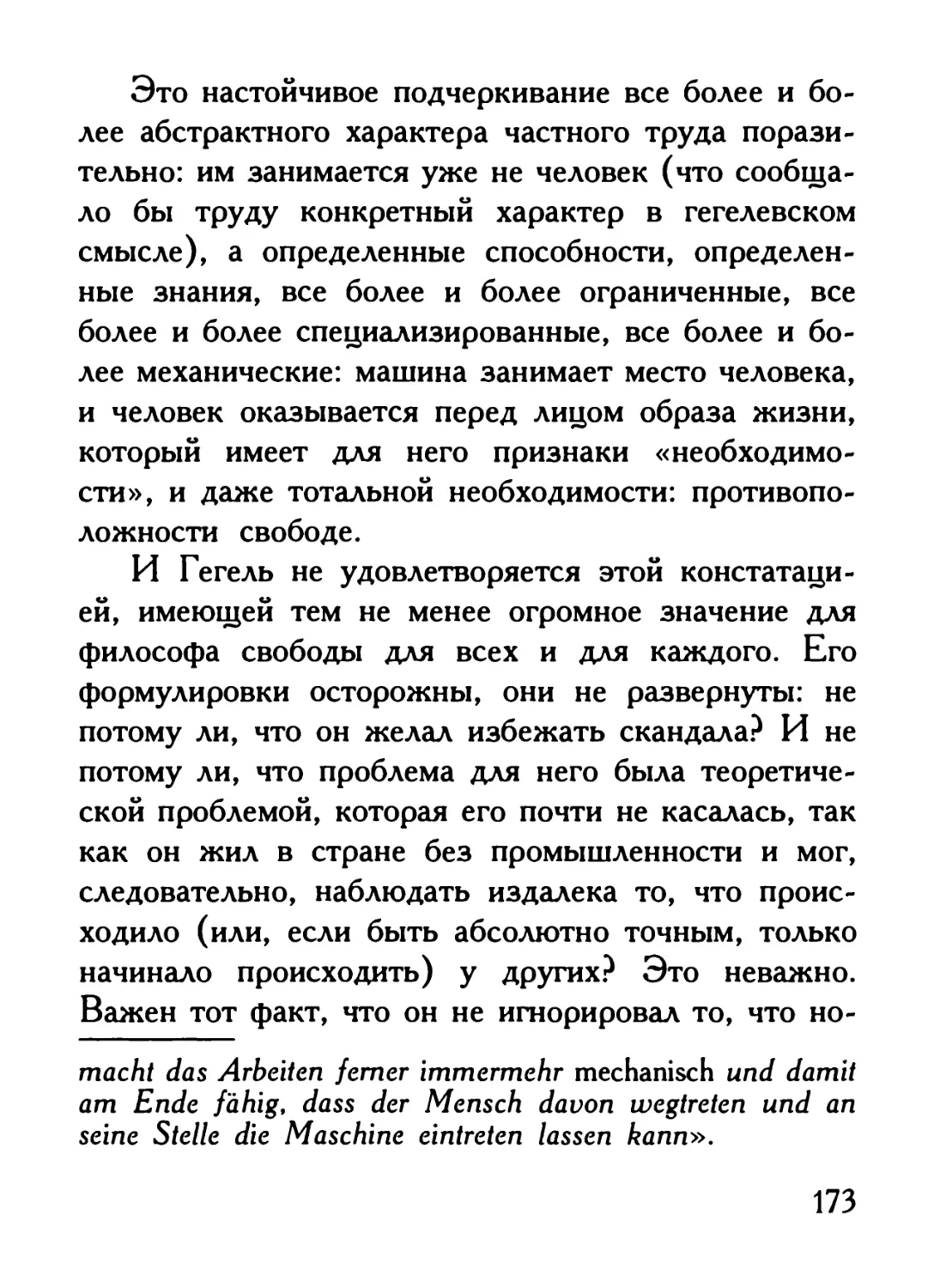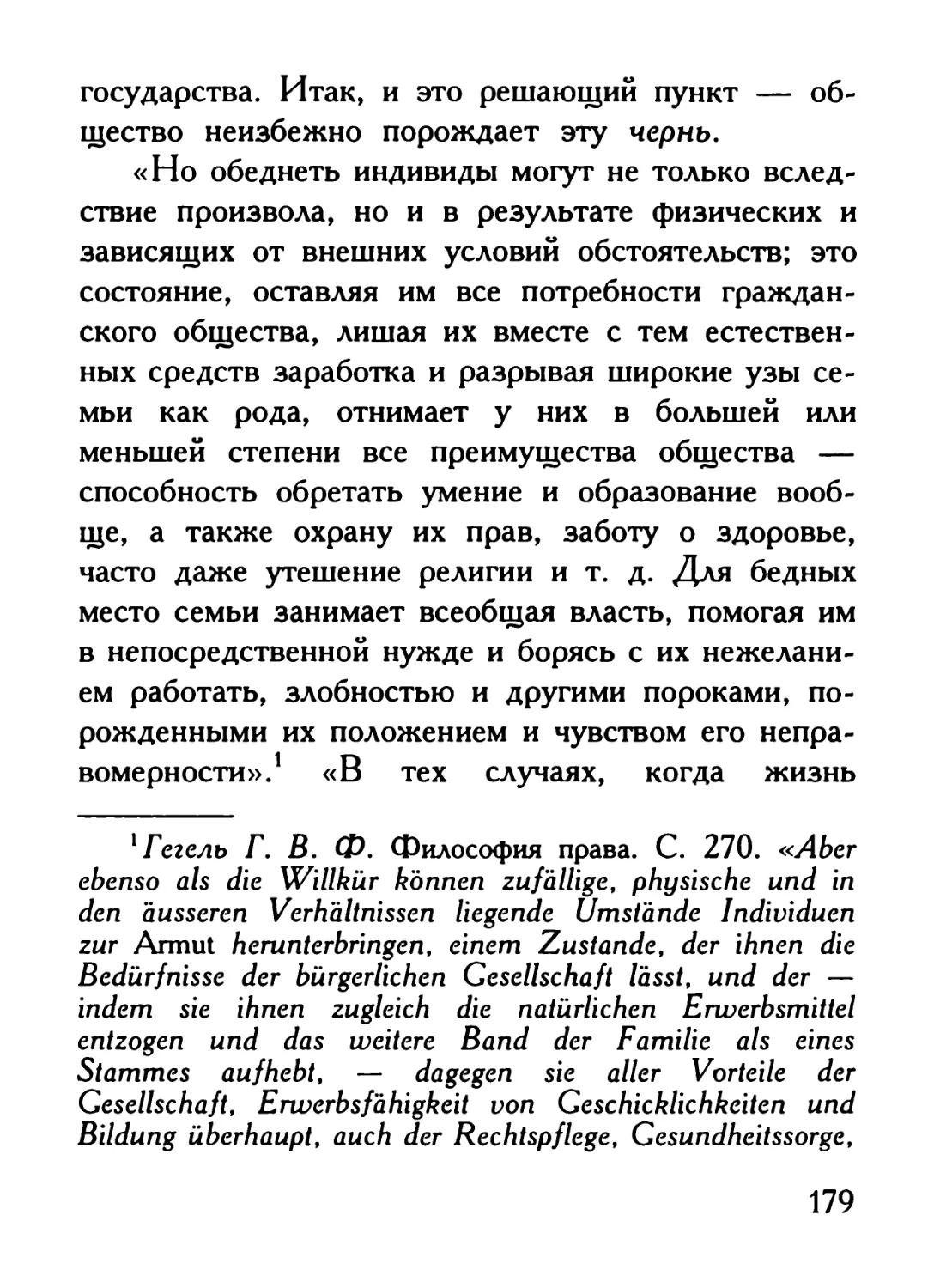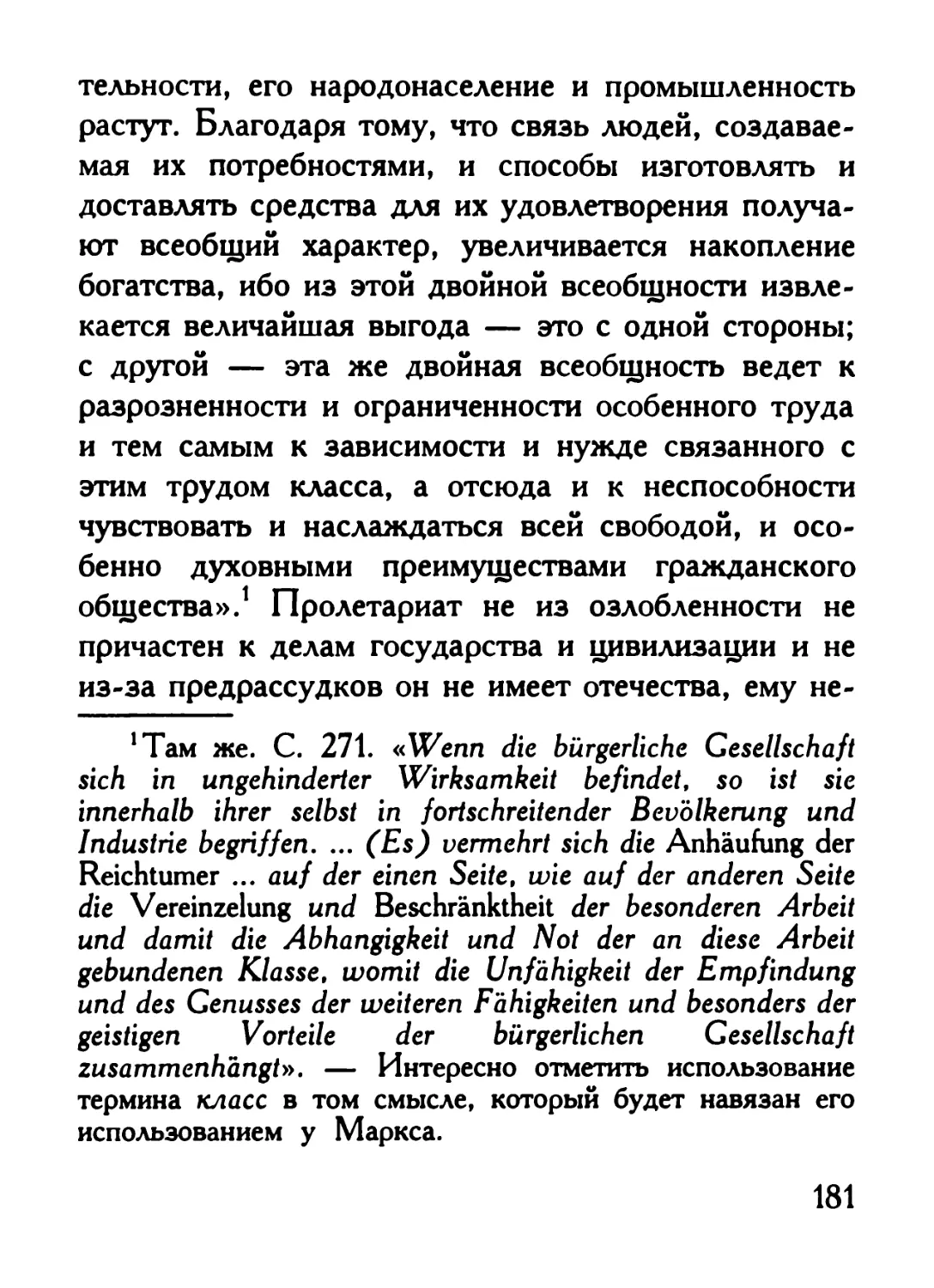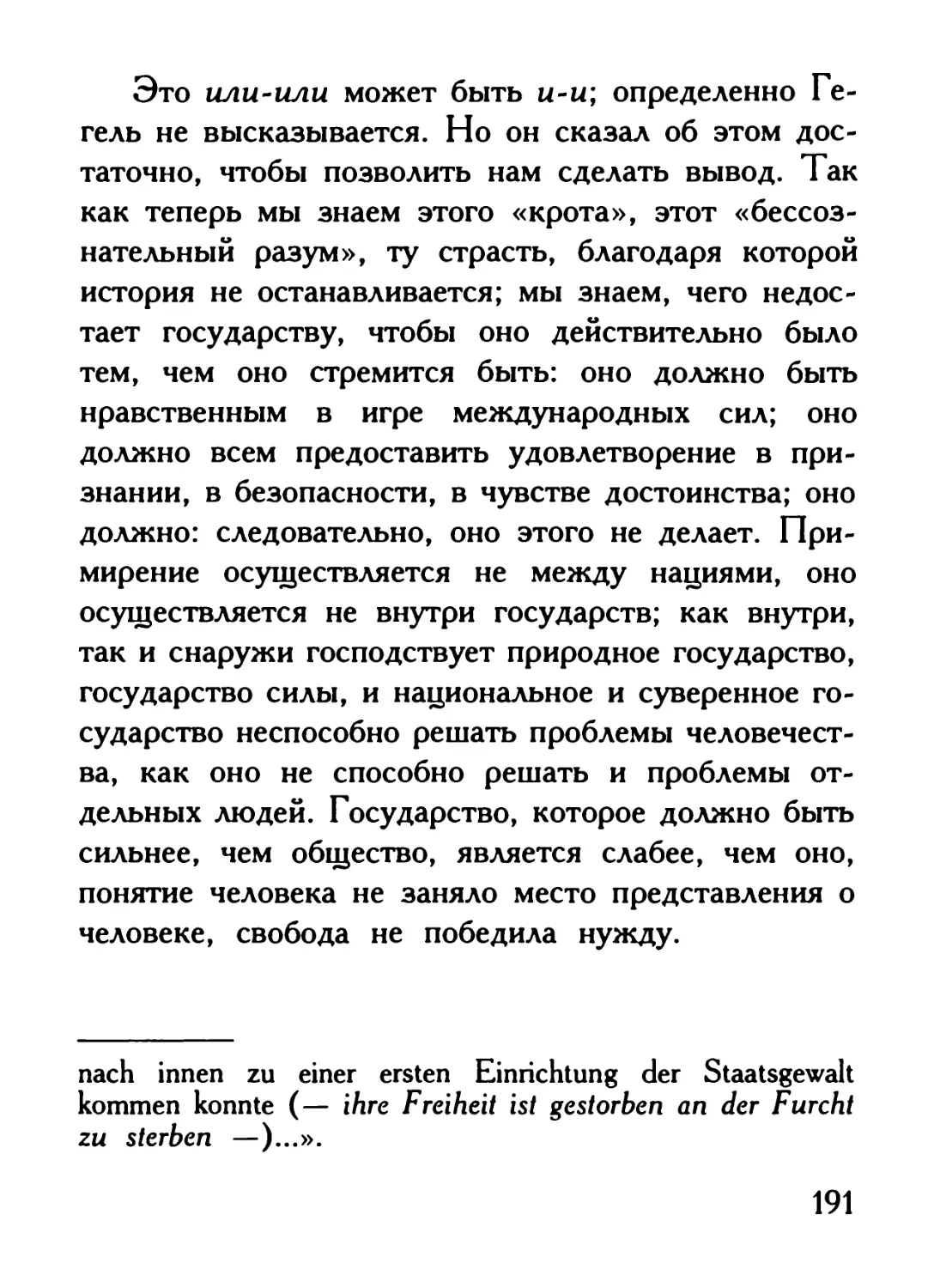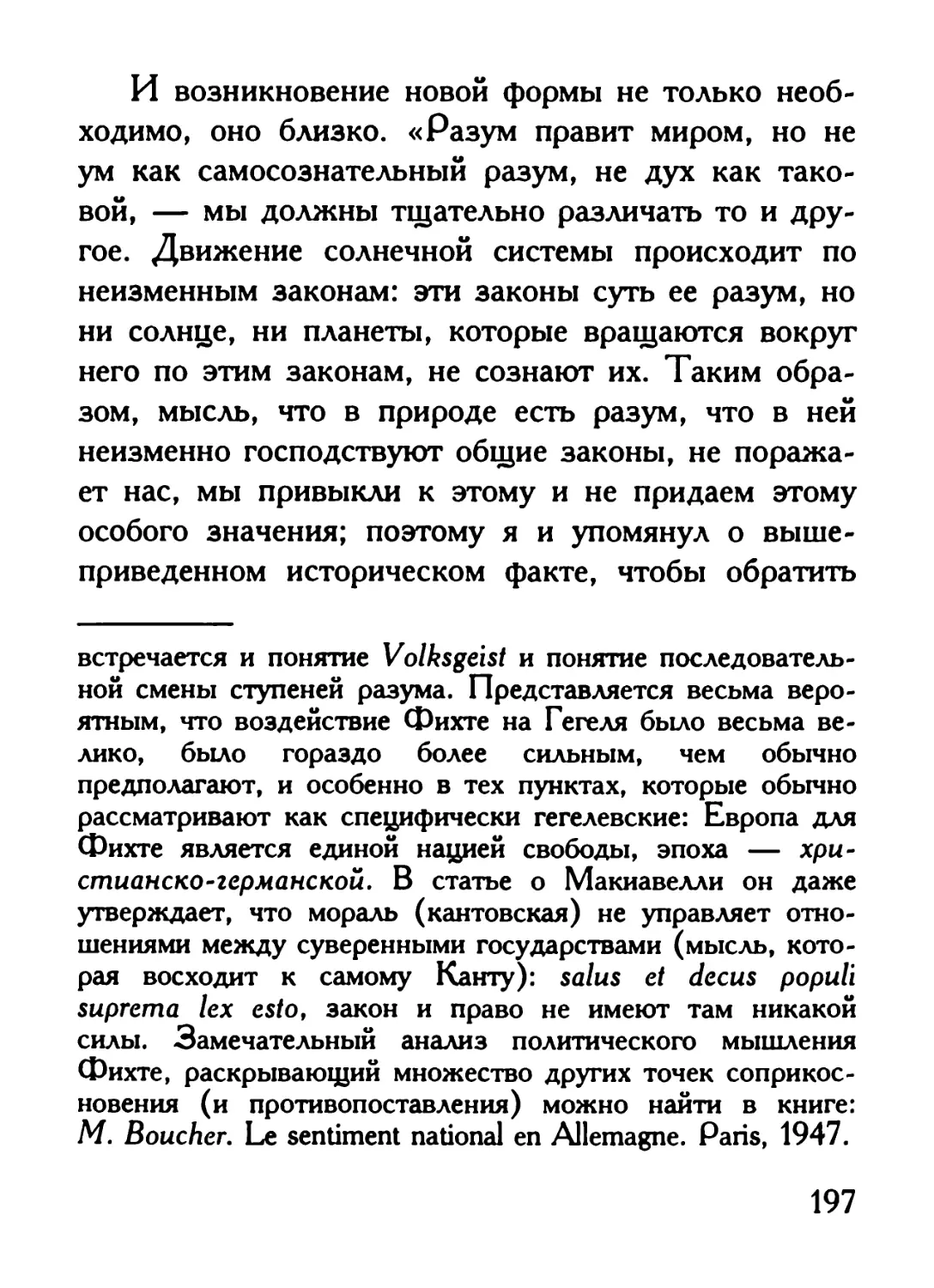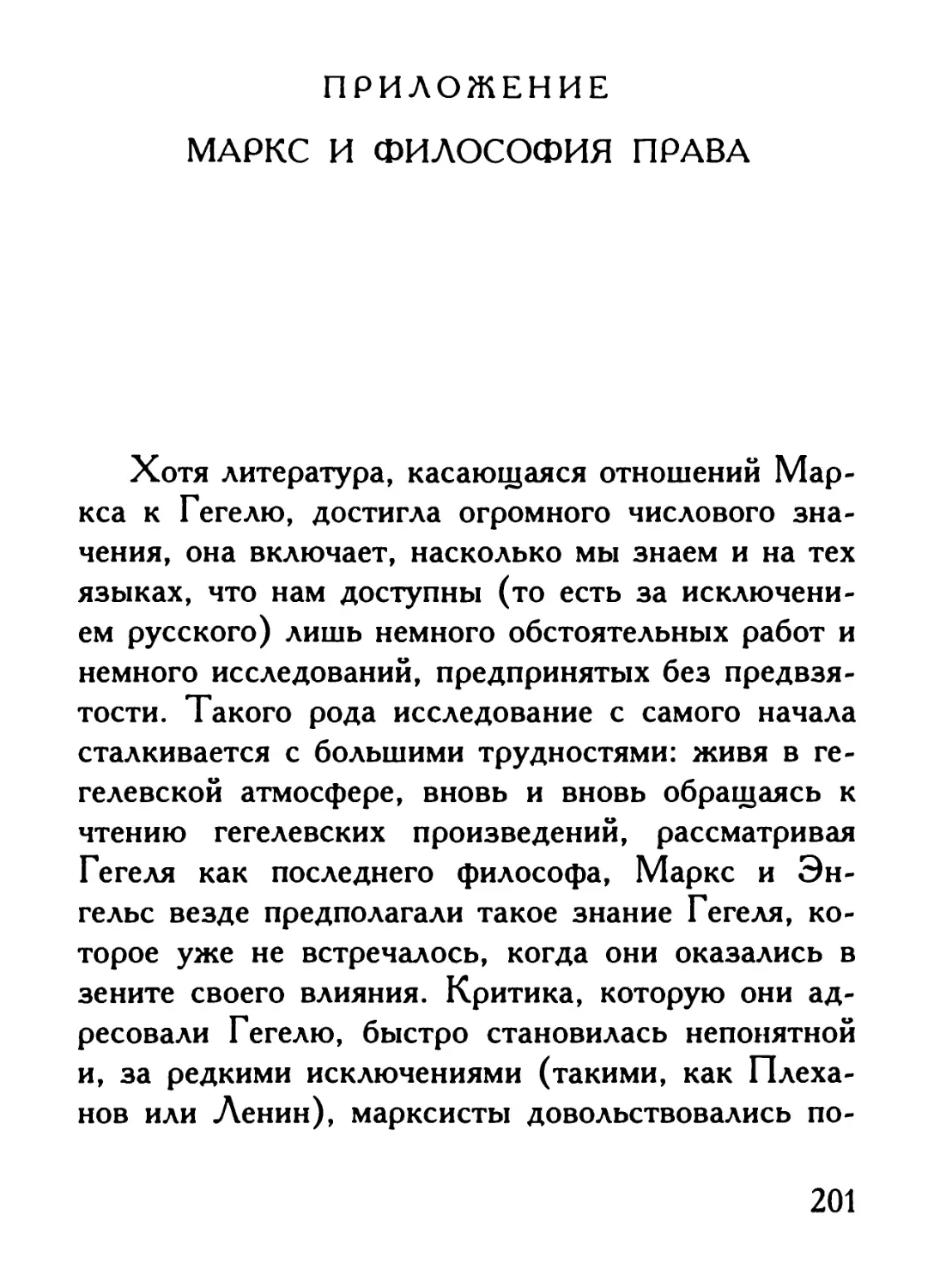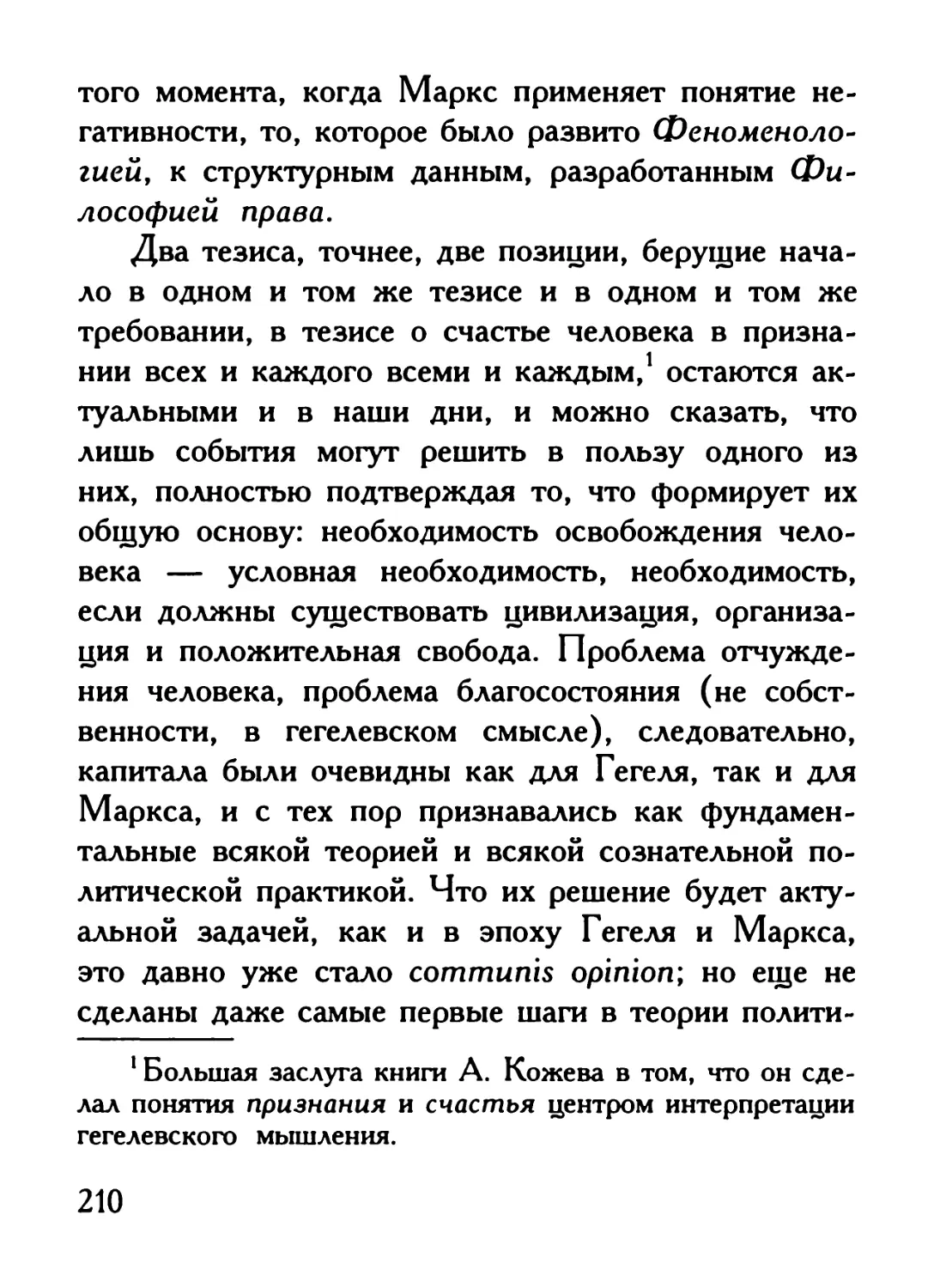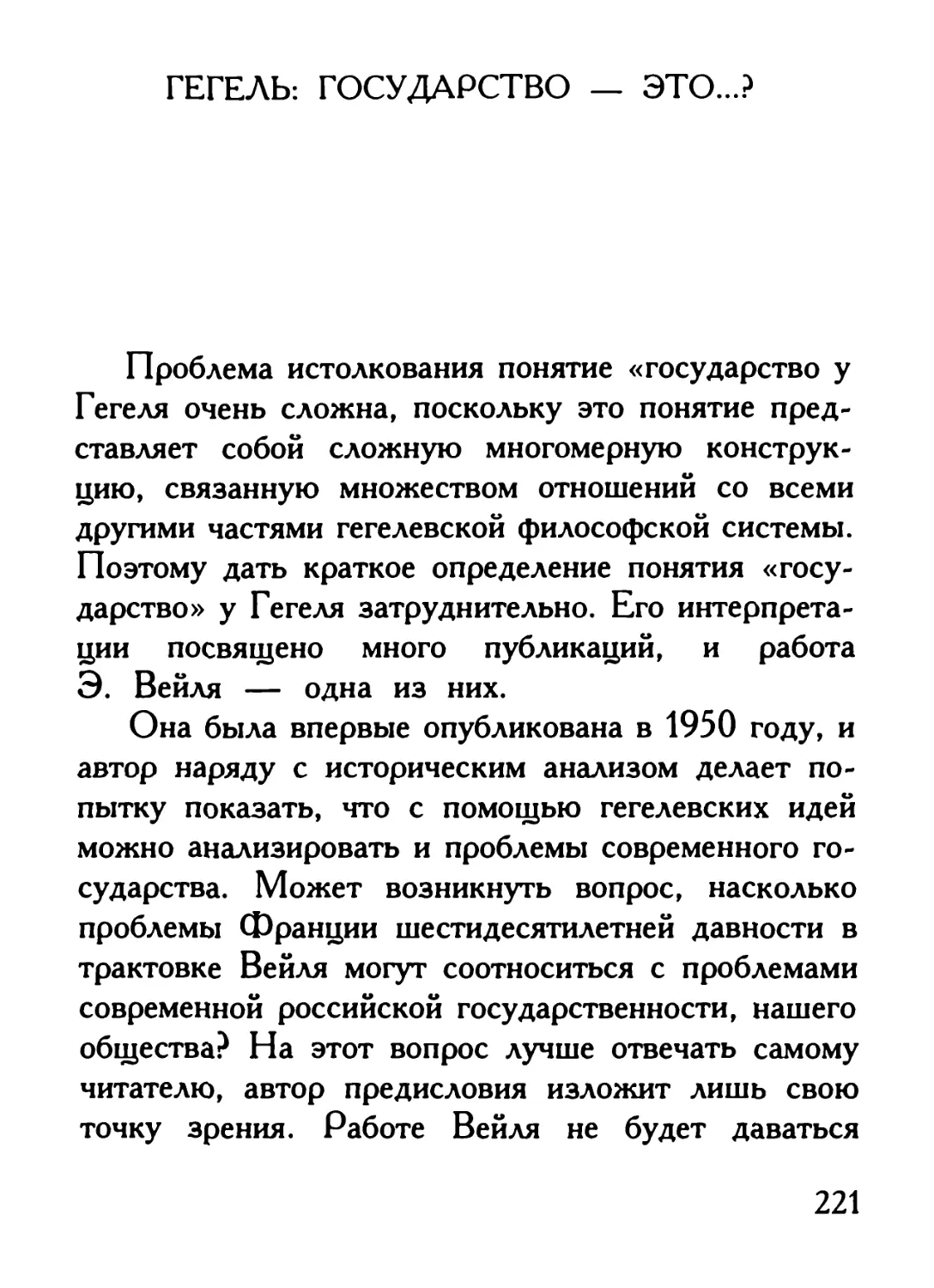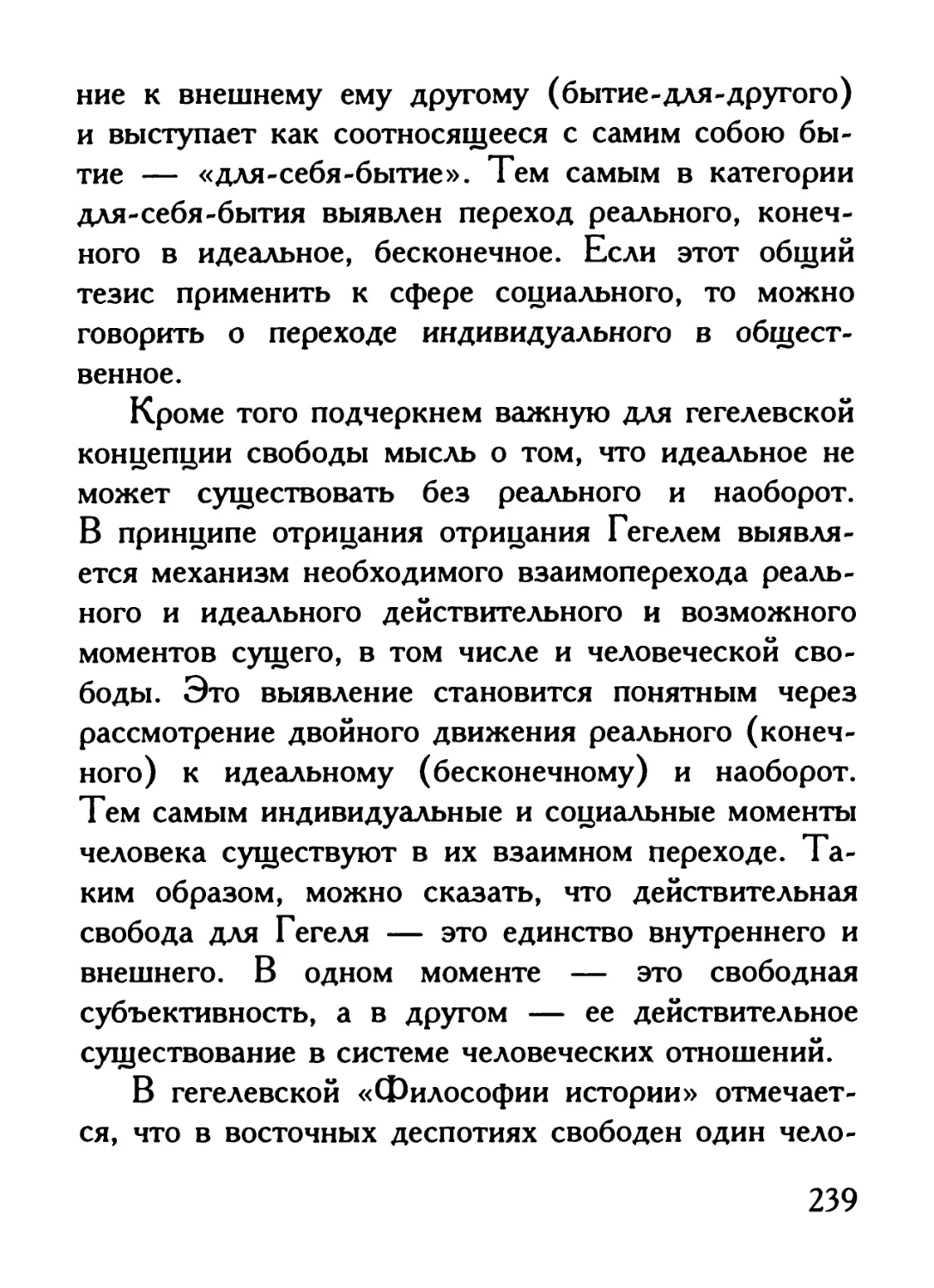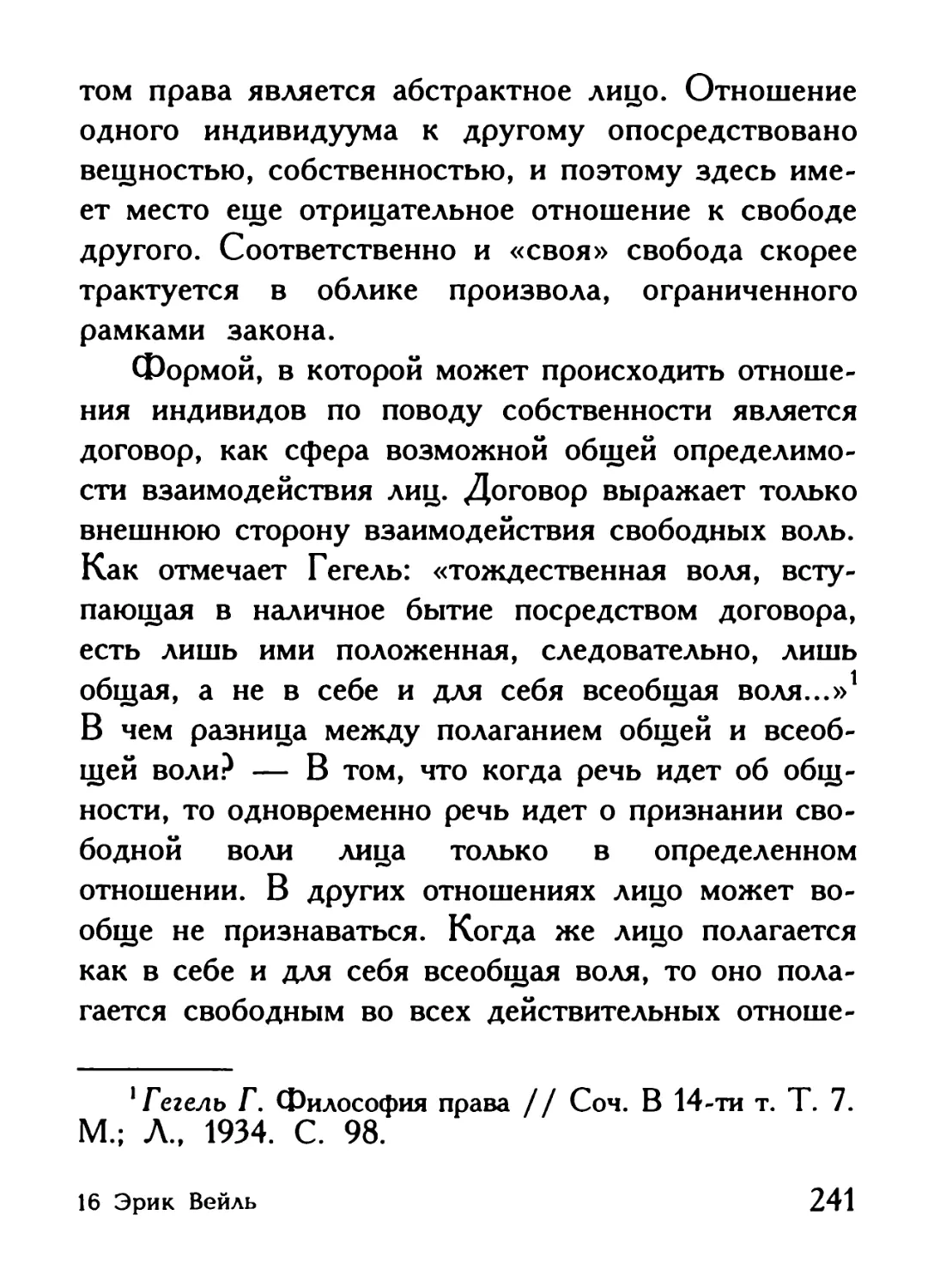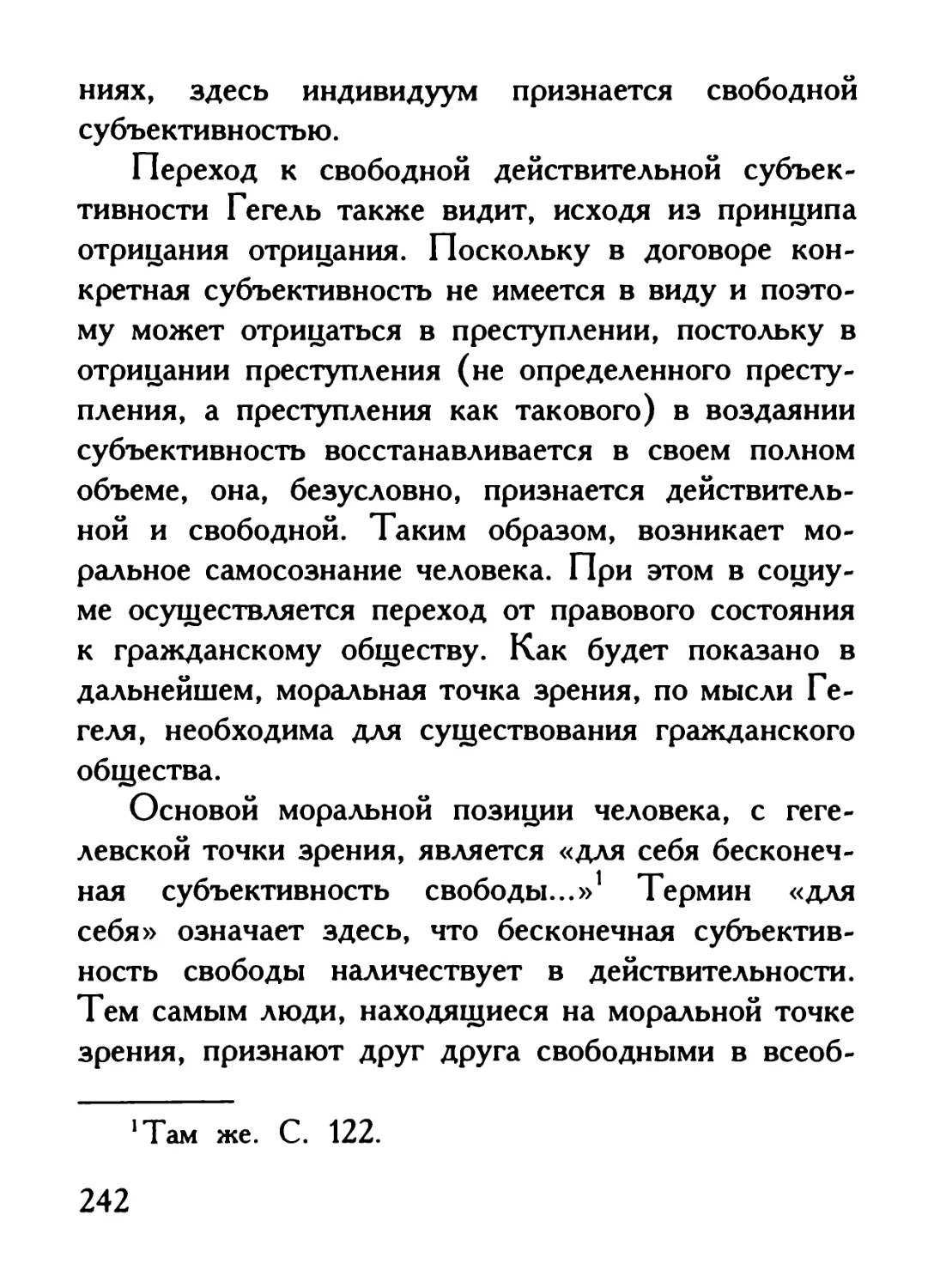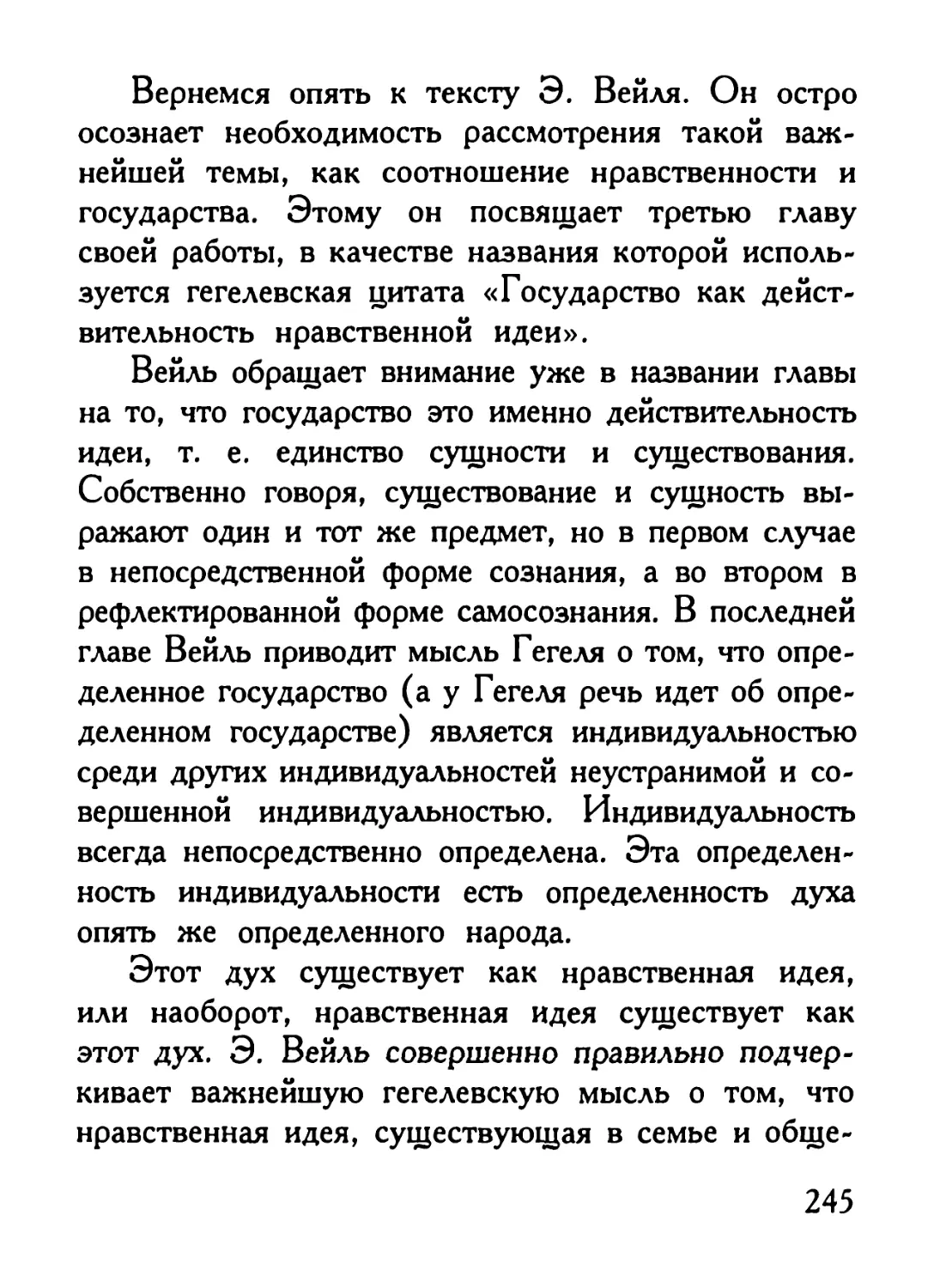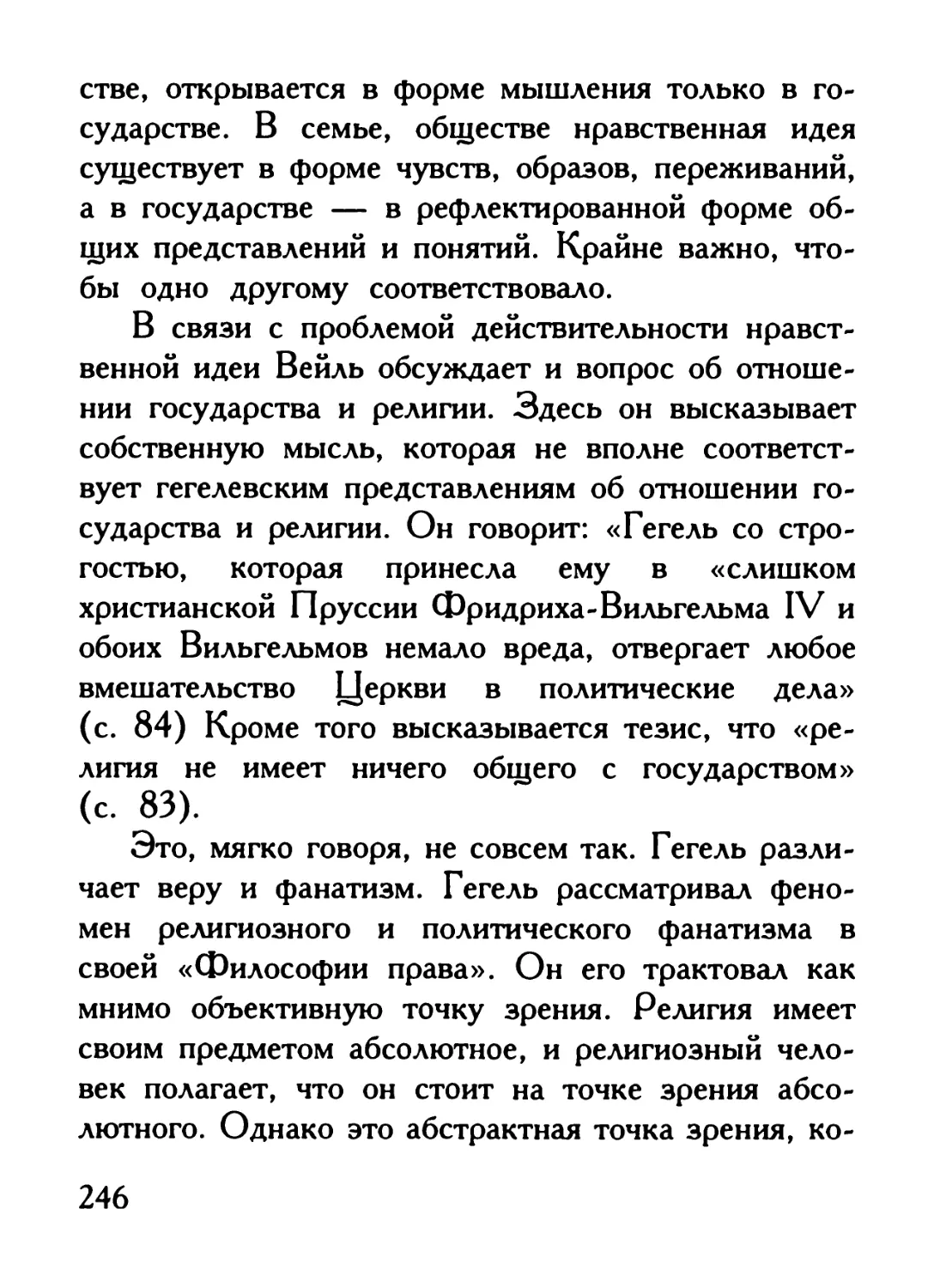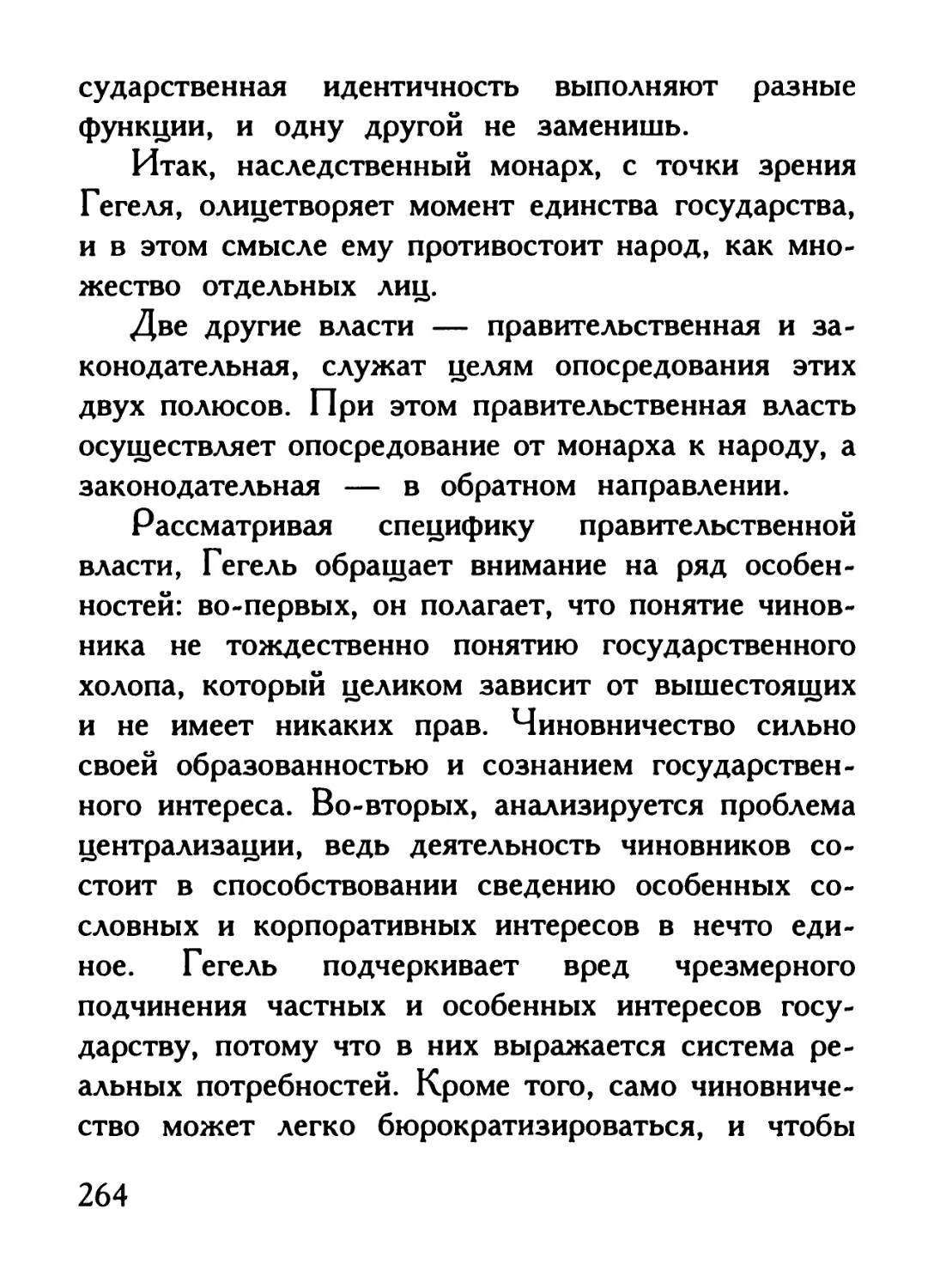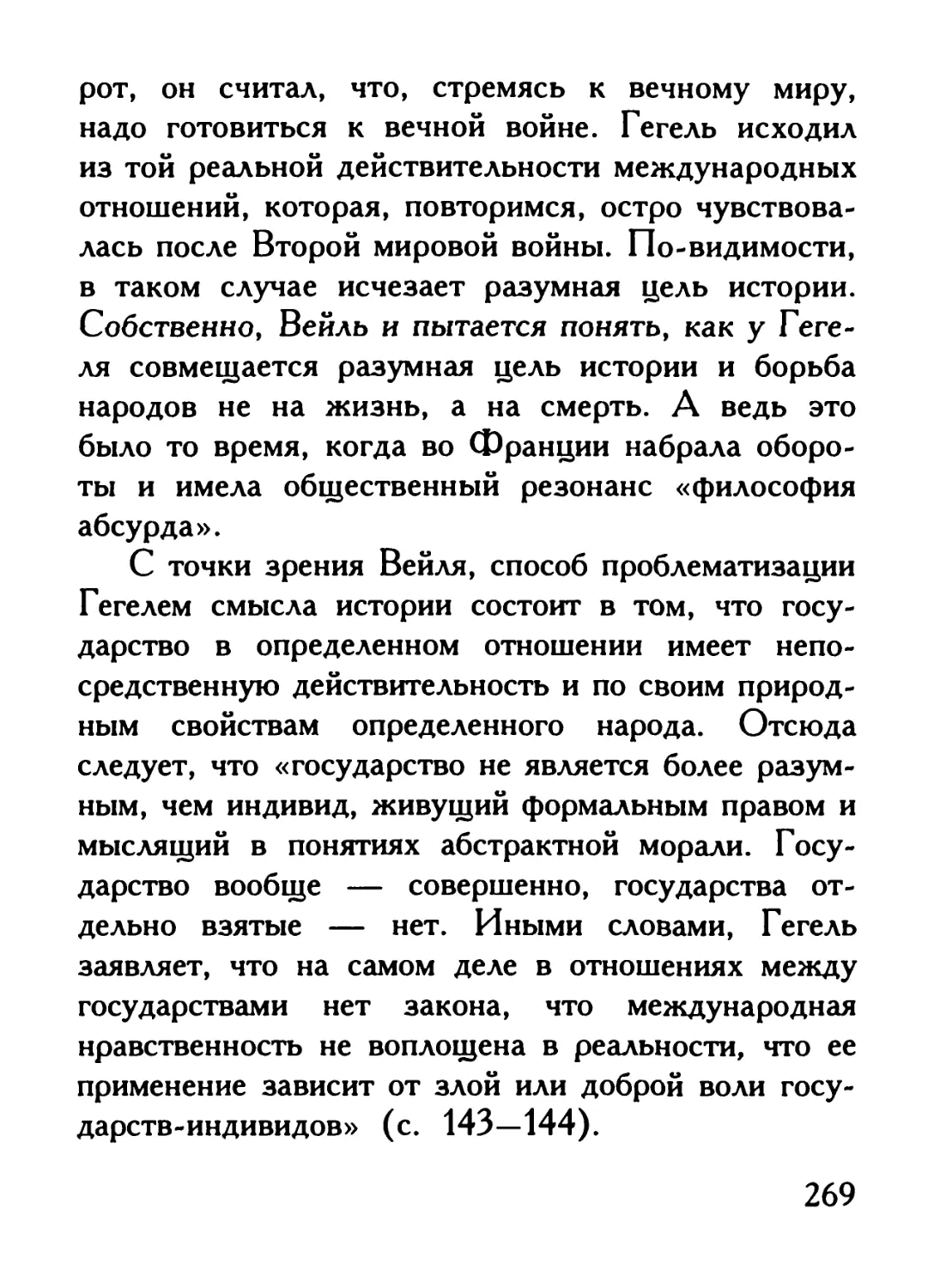Автор: Вейль Э.
Теги: философия психология философские науки гегель немецкая философия переводная литература
ISBN: 978-5-93615-092-0
Год: 2009
Текст
ERIC WEIL
HEGEL ET Г ÉTAT
CINQ CONFÉRENCES
ЭРИК ВЕЙЛЬ
ГЕГЕЛЬ И ГОСУДАРСТВО
ПЯТЬ ДОКЛАДОВ
Перевод с французского
В. Ю. Быстрова
Санкт-Петербург
"Русский Миръ"
"Владимир Даль"
2009
УДК 1/14
ББК 87
В 26
© Издание на русском языке.
Распространение на территории Российской
Федерации. Издательство
«Владимир Даль», 2009
© Издательство «Русский Миръ»,
2009
© В. Ю. Быстрое, перевод, 2009
ISBN 978-5-93615-092-0 © А. И. Тимофеев, статья, 2009
ISBN 978-5-904088-09-5 © П. Палей, оформление, 2009
ПРЕДИСЛОВИЕ
Заглавие этой работы — Гегель и
государство. Но это заглавие не указывает на определенные
границы, речь на самом деле идет о критике
традиционной критики, согласно которой Гегель является
апологетом прусского государства и пророком того,
что часто называют этатизмом. Имеет ли
значение такая критика? Достаточно ли, если не
вступать в противоречия с философом, констатировать,
что государство оказывается в самом центре его
политического мышления? И если предположить,
что эта критика правомерна, то применима ли она к
Гегелю?
Если кто-то будет искать на этих страницах
завершенный анализ философии государства Гегеля,
то разочаруется. Такое начинание будет успешным
лишь на основе онтологии, гегелевской онто-логи-
ки, основы постижения всех частей системы. Мы
не позволяем себе вмешиваться в эти постоянные
5
дискуссии и интерпретации относительно
понимания политики у Гегеля (где слово политика берется
в аристотелевском смысле). Тем не менее читатель,
возможно, заметит некоторые аллюзии и, мы смеем
надеяться, согласится, что мы ставили перед собой
задачу учитывать единство мышления философа.
Мы отказываемся от какой-либо критики
существующей литературы. В некоторых случаях мы
обращаемся к ней в примечаниях, но всегда с
намерением опровергнуть или исправить определенные
детали тех мнений, которые прямо нас здесь не
касаются. Специалист легко увидит моменты
сближения и расхождения и установит, что если мы не
заблуждаемся, то отходим от communis opinion лишь
на основании текстов.
В том, что касается текстов, мы используем
лишь те, что датируются временем после падения
Наполеона. Следовательно, за весьма редкими
исключениями, мы не говорим ни о юношеских
сочинениях, ни о Феноменологии Духа, основывая
нашу интерпретацию на Философии права и,
вдобавок, на Энциклопедии философских наук.
Тексты, которые не были изданы самим Гегелем, в
частности Добавления к Философии права,
извлеченные издателями Собрания сочинений из лекций
своего учителя, Лекции о философии истории,
Лекции об истории философии снабжают нас
6
лишь иллюстрациями и формулами, и мы
допускаем только подлинные свидетельства.1
Следовательно, мы не ведем речь о формировании гегелевского
мышления, о проблеме, которая была рассмотрена
Т. Л. Херингом и, еще раньше и лучше, Ф. Ро-
зенцвейгом в необыкновенно проницательном
труде, в котором автор обосновал все частности, но
который кажется нам ошибочным в своей
концепции в целом.2
1 Разумеется, мы не желаем утверждать, что тексты
различных лекций Гегеля не имеют ценности для
интерпретации его мышления. Но слишком часто они служат
тонкой отсчета для интерпретации, и их формулировки,
одновременно и более блестящие и менее точные, приносят
в таком случае скорее зло, чем благо. Авторитетность
текста может быть установлена лишь самим автором после
зрелого размышления и после того, как он осмыслит свои
термины совершенно иначе, чем это сделает самый лучший
оратор, если он пользуется свободной речью (что и было
свойственно Гегелю). Там, где «Лекции» противоречат
книгам и письмам, там следует придерживаться последних,
а там, где между ними имеется согласие, там первые не
сообщают нам ничего нового (за исключением применений
системы к определенным областям действительности):
следовательно, будет более правильным и более простым
исходить из текстов, опубликованных самим Гегелем.
277i. L. Haering. Hegel, sein Wollen und sein Werk.
Vol. 1. Leipzig; Berlin, 1929; Vol. 2. Leipzig; Berlin, 1938;
Fr. Rosenzweig. Hegel und der Staat. Vol. 2. Munich;
Berlin, 1920. Кажется, невозможно перечислить все
интерпретации политической философии Гегеля: редко можно
7
Мы посчитали полезным добавить краткое
приложение Маркс и Философия права.
В эпоху, которая мысли предпочитает
страсть, — по тем причинам, на которые точно
указал Гегель, — автору дозволяется добавить одно
простое замечание о цели настоящей работы.
Хорошо известно, что Гегель в защитниках не нуждается:
если его теория верна, то сама действительность
будет обязана ее оправдать. Что касается желания
сделать эту теорию «доступной», то и оно не имеет
большого смысла: научная книга не подлежит
вульгаризации; нельзя облегчить ее чтение посредством
встретить автора, который, рассматривая современную
историю, теорию государства, политические движения
прошлого столетия, не посвящал бы ей по крайней мере
несколько строк. Самые важные работы, появившиеся до
1920 г., оказываются упомянуты у Розенцвейга; самые
последние библиографии были представлены Анри Ниелем в
книге: De la meditation dans philosophie de Hegel. Paris,
1945, и Жаном Ипполитом в книге: Genèse et structure
de la Phénoménologie de l'Esprit de Hegel. Paris, 1947;
библиографии работ на английском языке можно
обнаружить в книге: С. H. Sabine. A History of Political Theory.
London, 1948, а самую полную — в книге:
W. M. McGovem. From Luther to Hitler. London, 1947.
Во Франции обсуждение данного вопроса не
продвинулось вперед с тех пор, как Э. Вермель резюмировал и
подверг критике противоположные утверждения в книге:
La Pensée politique de Hegel. Paris, 1931.
8
последовательного и детального комментария (о чем
здесь речь и не идет), нельзя перевести ее текст на
более «ясный» и более краткий язык. Наоборот,
философский труд, написанный таким образом, что
подобный перевод допускается, не заслуживает того,
чтобы на него тратили время, если признать, что в
философском тексте любая фраза, как и любая
формула в трактате по математике, должна иметь такое
значение для понимания, что весь этот текст в
целом нельзя, для удобства читателей, ни переписать в
более ясном виде, ни сократить его наполовину.
Труд вроде нашего может иметь только одну
претензию: пробудить интерес к самому тексту и
устранить те препятствия для его понимания, что
накопились с течением времени.
Автор отдает себе отчет, что такая попытка
спровоцирует, если только она способна что-то
спровоцировать, единодушную реакцию: он
совершил преступление. Ожидания такого осуждения
весьма различны; будут говорить, что такая
интерпретация (или контринтерпретация) является
апологией левой диктатуры, правой диктатуры,
либерализма, морализма, индифферентизма, догматизма
и так далее; согласимся лишь с самим обвинением.
Автор не будет требовать оправдания, не потому,
что он считает, что не имеет на него права, но
потому, что полагает, что слишком слабы шансы его
9
получить. Он оставляет себе лишь право (которым,
для большей безопасности, он сразу же
пользуется) заметить, что он предоставляет определенное
научное утверждение относительно определенной
научной книги, что то, о чем он говорит (и что,
согласно ему, говорил Гегель) является или
истинным, или ложным, и что он не может остановиться
на рассуждениях о целесообразности. Так, наука,
любая наука, и прежде всего философия, которая
не является одной из наук, потому что это
выдающаяся наука, возвышающаяся над любой частной
наукой, наука, сообщающая любому частному
научному интересу характер науки (хотя этот частный
интерес об этом ничего не знает), наука не
говорит: таковы те или иные факты; она говорит: если
вы желаете этого, вы должны сделать это или
приспособиться к этому; если вы избираете такую
позицию, то она потребует от вас такой-то реакции
перед такой-то трудностью. Она не говорит, что
именно следует выбрать, будучи достаточно
либеральной, чтобы допустить возможность выбора,
который предполагает разрушение самой науки — в
таком случае ученый, посвятивший свою жизнь
науке, добавит со своей стороны, что он лично
против обсуждаемой позиции: сама же наука
служит всему миру, но отвергает свое служение, как
только от нее требуют чего-то исключительного.
10
Говорить о государстве в-себе, об истории в-се-
бе, об обществе в-себе — это делается не с целью
доставить удовольствие изготовителям «систем»
(которые часто обладают признаками, скрывающими
их непоследовательность). И тем не менее,
возможно, самая высокая политическая задача — чтобы
разум ничего не смог сделать без страсти; всегда
будет полезным (если не сказать необходимым, что
было бы неверно, поскольку от этого с легкостью
уклоняются) задать вопрос об отношениях между
разумом и страстью, вопрос, который сам
принадлежит области разума. Возможно, что Гегель
ошибался; возможно (и это кажется автору более
вероятным), что его утверждения не могут быть
опровергнуты, хотя они и были преодолены, то есть
сохранены во всем их объеме, но расширены и
развиты далее: сто тридцать лет довольно беспокойной
истории в конце концов поставили проблемы,
которые было невозможно сформулировать заранее, по
крайней мере конкретно. Как бы то ни было, речь
идет не о том, чтобы занять определенную позицию,
но о том, чтобы обсудить разумное основание
определения позиции, всякого определения позиции
осознанной, ответственной, последовательной —
одним словом, истинно политической.
I
ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
ГЕГЕЛЯ
Несмотря на целый ряд прекрасных книг,
появившихся в течение последних тридцати лет как в
Германии, так и во Франции, из всех великих
философов Гегель остается наименее известным или
по крайней мере известным хуже всех. Это
нисколько не мешает тому, чтобы прочно установился
его определенный образ, один из тех портретов,
которые оставляют после себя великие мыслители,
вошедшие в историю именно потому, что они
оставили после себя такие портреты, оказывающие
воздействие, скорее, по образцу идеала, а не понятия.
Подобно тому как Платон является изобретателем
идей и того рода любви, который ведет от него
свое название, подобно тому как Аристотель —
основатель формальной логики и биологии,
Декарт — герой ясности, Кант — ригорист, так и
Гегель — это человек, для которого государст-
12
во — это все, индивид — ничто, а мораль —
подчиненная форма жизни разума: одним словом,
он — апологет прусского государства.
Разумеется, известно, что Гегель обращается
и к другим проблемам, что он был, как говорят,
панлогистом, что он разработал философию
природы, объявленную романтической и совершенно
непостижимой, худшей, чем прежняя, ненаучная,
что он читал лекции по философии религии, по
эстетике, по истории; еще известно, что его
книги часто оказывали решающее влияние либо
непосредственно, либо привлекая к себе внимание
авторов, определявших себя как противников
гегелевских решений, но сохранявших, почти
бессознательно, ту форму проблем, которую им
сообщил Гегель; можно сказать, что с целью
бороться с идеями Гегеля его противники
использовали его же категории. Но это воспоминания,
извлеченные из истории философии: медаль,
имеющая хождение среди широкой публики
(которая в конце концов оказывается узким кругом
избранных), отмечена чертами прусского
реакционера, непримиримого врага либералов, самого
отвратительного человека для всех тех, кто в
XIX веке относил себя к «левым».
Потребовалась бы немалая отвага, чтобы исправить такой
образ.
13
Конечно, легко привести факты, которые
оправдывали бы такую попытку. Гегель, например, был
одним из самых суровых критиков Пруссии в тот
момент, когда, в конце своей юности, он обратился
к политическим проблемам, оставив область
теологии, где он прежде чувствовал себя как дома.1 Сде-
1 Фихте, в определенный момент своей карьеры имел
гораздо больше прав, чем Гегель, на титул философа
прусского государства, если иметь в виду полицейское
государство, регламентированное сверху донизу, управляемое
центральной и абсолютной властью. Гегель насмехается над
этой регламентацией всех сторон жизни, начиная со статьи
о Различии между системами Фихте и Шеллинга
(1801) и заканчивая Философией права. Текст
Конституции доказывает, что не только вкус, но и мышление
Гегеля отвергает самовластное государство Фридриха и
после него. «Бесконечно различие между той
государственной властью, которая организует себя таким образом,
что все, на что она может полагаться, находится у нее в
руках, и которая, наоборот, именно по причине этого, не
может полагаться ни на что больше, и (государственной
властью) которая, помимо того что она держит в своих
руках, может еще рассчитывать и на свободную
преданность, на благородство (Selbstgefühl) и на свойственную
народу силу, на всемогущий и непобедимый дух, за
которым охотится такая иерархия и который жив лишь там,
где высшая власть оставляет больше всего дел для
собственной инициативы (Besorgung) граждан. Только в
будущем мы узнаем, насколько в таком современном
государстве, где все управляется сверху, где ничто из того, что
обладает стороной всеобщего, не оставляется для управле-
14
лаем из этого вывод, что Пруссия, какой она тогда
была, не была той Пруссией, которую позже он
ставил в пример, тогда как именно первая и
предоставляла популярный образ этого государства.
Добавим, что историческая Пруссия, Пруссия
Фридриха-Вильгельма IV, Пруссия Вильгельма,
та, что была центром III Рейха, не чувствовала, что
многим обязана философу, что наоборот, после его
смерти, королевское правительство сделало все, что
могло, чтобы разрушить его влияние, вызвав
старого Шеллинга в Берлин и изгнав гегельянцев с
кафедр; что Гегель, начиная с революции июля
1830 года, имел огромное влияние во всем мире —
за исключением Пруссии: сделаем из этого вывод,
ния и исполнения теми частями народа, которые в этом
заинтересованы — именно такую форму дает французская
республика — узнаем, насколько в таком государстве
сухой, скучной и неразумной является жизнь, если такой
педантичный тон правления сможет сохраниться; какого рода
жизнь и какая сухость господствуют в государстве,
управляемом таким способом, в прусском государстве, — это
поражает каждого, как только он вступает в первую
деревню этого государства, каждого, кто видит там полное
отсутствие научного и художественного гения, каждого,
кто не смотрит на прусскую силу как на эфемерную
энергию, которую одинокий гений сумел извлечь на
определенное время». Текст этой статьи не приобрел окончательной
формы; но все соглашаются, устанавливая дату его
редакции между 1798 и 1802 гг.
15
что реальная Пруссия не узнала себя в портрете,
нарисованном Гегелем, что он плохо его написал,
или написал его слишком хорошо.1
1 Написал слишком хорошо, чтобы понравиться
романтику Фридриху-Вильгельму IV, поклоннику теорий
С. Л. Халлера (см. ниже), не любившему, когда
настаивали на конституционном (в принципе) характере
постнаполеоновской Пруссии. Написал плохо, потому что целый
ряд признаков и учреждений, которые для Гегеля имели
существенное значение, никогда не существовал в
Пруссии, или существовал лишь в тех частях, что были
присоединены после 1815 года. Здесь, где речь не идет об
истории, достаточно будет привести три примера: а) Вся
конструкция гегелевского государства основана на
Парламенте (штаты = Stünde в том смысле, какой имел
термин штаты в 1789 г. (советы кантонов), хотя для Гегеля
речь не идет об одних и тех же штатах); однако в
Пруссии парламента нет, он существует лишь в провинциях, а
первое объединение этих штатов в прусский «сейм» имело
место лишь 1847 году. Справедливо будет отметить, что
Гегель демонстрирует в своем преподавании определенное
мужество; ибо Фридрих-Вильгельм III, который, приказом
кабинета от 22 мая 1815 года, обещал формирование
«народного представительства», воспринимал довольно плохо,
когда ему напоминали о его словах: 21 марта 1818 г. он
отвечает рейнским коммунальным и провинциальным
властям, осмелившимся потребовать конституции: «Ни эдикт
23 мая 1815 года, ни статья 13 акта Конфедерации не
устанавливают момента, когда конституция должна быть
введена штатами. Любой момент не благоприятен для
введения изменений в конституции государства. Тот, кто
напоминает правителю о данных им в совершенно свободном
16
Все это противоречит туманной традиции
философа Реставрации. И тем не менее всего этого не
достаточно, чтобы упразднить образ, о котором я
говорил и который кажется мне ложным. Так как
если эти возражения значительны, если гегелевское
восхищение Пруссией не может быть
сентиментальным и необдуманным в силу критического
отношения к его истокам, если оно не может быть
тотальным в силу реакции прусского государства,
то этим замечаниям все же противостоят другие,
столь же весомые: Гегель говорил о форме
прусского государства как о совершенной форме
государства, он утверждал, что германский христиан-
решений обещаниях, преступным и безбожным образом
сомневается в характере обещания принца и покушается на
его осуждение в том, что касается подходящего момента
для введения этой конституции», б) Публичность
парламентских дебатов не была допущена в тех провинциях,
которые сохранили штаты. Но, согласно Гегелю, эта
публичность важна для контроля над администрацией и для
формирования общественного мнения, с) Старая Пруссия
не знала института жюри присяжных, который один,
согласно Гегелю, дает удовлетворение самосознанию
гражданина, требующего суда равных себе, а не суда корпорации,
которая ему чужда. Впрочем, читатель Философии права,
не вдаваясь в частности, может перейти к части
Политической истории современной истории Шарля Сейнобоса,
посвященной Пруссии, чтобы увидеть, насколько мало то,
что Гегель называет современным государством,
соответствует исторической Пруссии 1815—1820 гг.
2 Эрик Вейль
17
ский дух господствует в настоящем, он критиковал
английский проект парламентской реформы в
1830 г., противопоставляя ему тот порядок вещей,
какой был претворен в реальность правительством
Берлина. Таковы факты, и эти факты исходят из
уст Гегеля. По крайней мере Гегель восхищался
прусским государством, в этом не следует
сомневаться. Остается задать вопрос, что означает такое
восхищение.
Рассматривая то, что было написано о Гегеле
во второй половине XIX столетия, я обнаружил
лишь один текст, даже не текст, а несколько
фрагментов из писем, где выстраивается линия защиты
против классического упрека — упрека в том, что
он был философом реакции.1 В остальном все со-
1 Чтобы быть точным, следует также напомнить о
такой апологии, как у Розенкранца (Apologie Hegels gegen
Dr. R. H аут) у опубликованной в 1858 г. Но помимо того,
что написанное, несмотря на большое число точных и
проницательных наблюдений, отличается слабостью, его автор
(как и Е. Ганс) принадлежит к гегелевской школе,
которой весьма скоро пришлось обороняться и которая с
середины XIX в. не имела серьезного влияния. — Историю
гегелевской школы еще предстоит написать; лучшее
сокращенное изложение обнаруживается у Иоганна Эдуарда
Эрдманна, Crundnss der Geschiente der Philosophie (3-е
издание; четвертое, выполненное Бенно Эрдман ном,
непригодно). Как великогерманская традиция XX века осу-
18
гласны друг с другом: обратимся к такому старому
либералу, как Гейм,1 — не говоря уже о менее
великих умах, но не менее влиятельных, таких, как
Велкер или Ролтек, лидеры конституционной
партии Великой Германии, — обратимся к крайне
левым, к Бауэру и его группе: их вердикт
единодушен. Обратимся к правым, к Шеллингу, к
наследникам романтизма, к исторической школе Савиньи;
ждает Гегеля, становится ясным в той апологии, которую
по поводу его философии создает Фридрих Майнеке
(учитель Розенкранца). «Консервативные мыслители,
либералы и радикалы, историки и доктринеры, нациналисты и
космополиты могли бы пройти обучение у этой
системы... Он (т. е. Гегель) находится в первом ряду тех
великих мыслителей XIX столетия, которые распространяли
государственное чувство (Staatsgesinnung), убеждение в
необходимости, в величии и в нравственном достоинстве
государства» (Weltbbrgertum and Nationalstaat, ΐ éd.,
Munich et Berlin, 1911). Иными словами, Гегель не
является таким противником Пруссии, как о нем говорят, хотя
он и был еще универсалистом (Мейнеке также об этом
говорит). Националист Мейнеке соглашается с либералом
Геймом.
1 Среди противников Гегеля Рудольф Гейм далеко не
самый главный как по качеству своей книги, так и по ее
влиянию. Hegel und seine Zeit была написана под
впечатлением реакционной политики, которая последовала за
крахом революции 1848 г. Второе издание (Лейпциг,
1927) благодаря хлопотам Г. Розенберга содержит в
приложении полезные замечания об эволюции Гейма и об
истории гегельянства.
19
если для них Гегель и не на их стороне, то именно
потому, что он не идет в ногу со временем и не
уловил веяний новой эпохи, очищенной от миазмов
XVIII столетия. Так как «правые» — это всегда
люди, которые считают, что постигли вечную
истину, то для них Гегель просто опаздывает.
Единственный текст составляет исключение.
Вот о чем идет речь: некто опубликовал статью о
Гегеле; статья появилась в периодической печати, и
поскольку идет 1870 год и Гегель в Германии
забыт, то издатель считает необходимым сделать
добавление и сказать, что Гегель известен широкой
публике как тот, кто открыл и прославил идею
«прусско-монархического» государства. Автор
статьи сердится и пишет одному общему знакомому:
«Это животное позволяет себе напечатать
примечания под моей статьей без какого-либо указания на
автора, примечания, являющиеся чистейшей
глупостью. Я уже протестовал, но в этот раз глупость
настолько груба, что далее это продолжаться не
может... Это животное, годами находившееся во
1 Множество сведений (без какого-либо понимания
нижеуказанных философских проблем) можно найти у
М. Ленца (Geschiente der Univcrtitaet Berlin. Halle,
1910—1918. 3 тома в 4-х кн.). Там можно легко
проследить эволюцию правительственной политики и
университетских мнений.
20
главе забавной оппозиции между правыми и
властью и не способное из этого положения
выбраться, подобно пехотинцу, которого посадили на
дурную лошадь и отправили на манеж, этот невежа
имеет упорное желание уничтожить Гегеля словом
«прусский»... С меня довольно... Лучше не печать-
ся вовсе, чем быть представленным ...ослом». На
что корреспондент обратной почтой отвечает:
«Я написал ему, что лучше молчать, чем повторять
эти старые глупости Ротека и Велкера... Данный
индивид действительно слишком глуп».1 Этот
бедный издатель — Вильгельм Либкнехт, один из ли-
Ф. Энгельс, 8 мая 1870 г. Маркс, 10 мая 1870 г.
Вот этот текст на немецком: «Mit Monsieur Wilhelm
ist es nicht zum Aushalten. Du wirst gesehen haben, wie
ffdurch Abwesenheit des Setzers" (der also der eigentliche
Redakteur ist) der Bauernkneg in einem Durcheinander
gedruckt wird, das Grandperret nicht besser machen könnte,
und dabei untersteht sich das Vieh, mir Randglossen ohne
jede Angabe des Verfassers drunter zu setzen, die reiner
Blödsinn sind, und die Jedermann mir zuschreiben muss. Ich
habe es mir schon einmal verbeten und er tat pikiert, jetzt
kommt der Blödsinn aber so dick, dass es nicht länger geht.
Der Mensch glossiert ad vocem Hegel: dem grüssern
Publikum bekannt als Entdecker (!) und Verherrlicher (!!)
der königlich preussischen Staatsidee (!!!). Ich habe ihm
hierauf nan gehörig gedient und ihm eine, unter den
Umständen möglichst milde Erklärung zum Abdruck
zugeschickt. Dieses Vieh, das Jahrelang auf dem lächerlichen
21
деров немецкой социал-демократии, автор первого
письма — Фридрих Энгельс, ответ приходит от
Маркса.
Это удивительно: Маркс и Энгельс не хотят
допустить, что Гегель прославлял идею
««прусско-монархического» государства, Маркс и
Энгельс называют животным того, кто ставит Гегеля
в один ряд с реакционерами — вот два защитника
политической репутации Гегеля, которые традици-
Cegensatz von Recht und Macht hülflos herumgentten wie
ein Infantenst, den man auf ein kollenges Pferd gesetzt und
in der Reitbahn eingeschlossen hat — dieser Ignorant hat die
Unverschämtheit, einen Kerl wie Hegel mit dem Wort:
„Preuss" abfertigen zu wollen und dabei dem Publikum
weiszumachen, ich hätte das gesagt. Ich bin das Ding jetzt
satt. Wenn W. meine Erklärung nicht druckt, so wende ich
mich an seine Vorgesetzten, den ylusschuss", und wenn die
auch Manöver machen, so verbiete ich den Weiterdruck.
Lieber gar nicht gedruckt, als von Wilh. dadurch zum Esel
proklamiert» (n 369). — «Ich halte ihm geschneben, wenn
er über Hegel nur den alten Rotteck-Welckerschen Dreck zu
wiederholen wisse, so solle er doch lieber das Maul halten.
Das nennt er den Hegel „etwas unzeremonisser übers Knie
brechen etc.*4 und, wenn er Eseleien unter Engels Aufsätze
schreibt, so «Engels kann ja (!) Ausführlicheres (!!)
sagen». Der Mensch ist wirklich zu dumm» (n 1370).
Это текст вдвойне интересен. С одной стороны,
он показывает различие между основателями
марксизма и их последователями: Либкнехт взял верх
над Марксом и Энгельсом, и современные «револю-
22
онно считаются его самыми строгими критиками.
Как это объяснить?
Очевидно, что определенное мнение, даже если
оно исходит от таких двух знатоков Гегеля, как
Маркс и Энгельс, не может быть принято на веру.
Тем не менее оно подтверждает наше подозрение:
действительно, нет ничего естественнее, чем
увидеть возобновление упреков в конформизме,
консерватизме, пруссианизме со стороны тех, кто счи-
?ионеры» соглашаются с «реакционерами» и видят в
егеле апологета прусского государства. Последний
труд школы, книга Г.Лукача Der junge Hegel —
Ueber die Beziehungen von Dialektic und Oekonomie,
утверждает, что Гегель, будучи идеалистом, не мог
не примириться с дурной действительностью своей
эпохи. Верно, что автор в своих анализах не
преодолевает Феноменологию Духа и не считает себя
обязанным доказывать посредствоми интерпретации те-
кестов то, что он выдвигает дедуктивным способом.
С другой стороны, текест позволяет понять причины
весьма любопытного союза между немецкими «ли-
берлами» и «националистами»: одни защищали
общество от государства, другие — государство от
общества, вместе друг с другом отказываясь мыслить
общество в государстве, тогда как Маркс и Энгельс,
ставившие проблему их единства, признавали
философскую аутентичность гегелевского анализа и
протестовали против попытки его обесценить на основе
догматической позиции и при помощи ценностных
суждений политического порядка. О различии между
Гегелем и Марксом см. наше Приложение.
23
тает себя революционными мыслителями. Если они,
утверждающие, что превзошли Гегеля,
пренебрегают пользоваться этим упреком, то как можем мы
не поставить вопрос: можно ли этот упрек
поддержать? Таким образом, традиционный образ Гегеля,
если его нельзя рассматривать как очевидный, то
он не будет ошибочным лишь в некоторых деталях:
любое исправление будет невозможно, и этот образ
придется заменить другим.
Для этого возможна только одна правомерная
процедура: рассмотрим тексты, попытаемся понять
то, что Гегель говорил, то, что он хотел сказать, и
сравним результаты этого исследования с
классической критикой. Если наше подозрение
подтверждается, сама эта традиция объясняется как
философски случайная (если не случайная вообще).
Теперь можно указать на одну из причин этой
случайности: Гегель не относится к числу легких
для понимания авторов. Дело, конечно, не в том,
что ему недостает точности и ясности; но точность
и ясность в философских вопросах имеют то
неудобство, что вредят элегантности стиля и легкости
чтения. Гегель ясен, но не ради самой ясности, а
потому, что он требует от своего читателя
огромных усилий и сотрудничества.
К этому добавляется другая черта:
философы — именно потому, что они философы, а не
24
деятели, — уклоняются от того, чтобы занять
определенную позицию в политических вопросах по
той причине (паракдоксальной только на первый
взгляд), что они ставят перед собой задачу понять
политику. В вопросах текущего дня Гегель, как и
Платон или Аристотель, не занимает
определенной позиции, и подобно тому, как к его
Философия религии обращались как ортодоксы, так и
деисты и атеисты, так и его теорию политики
атаковали (а иногда одобряли) люди,
придерживавшиеся самых различных мнений — именно
потому, что у него речь идет не о мнениях, а о теории
и науке.
И в последнюю очередь (мы упоминаем об
этом, чтобы больше к этому не возвращаться,
потому что нигде в существенных вопросах это
затруднение не дает о себе знать): Гегель не всегда
был более смелым, чем большинство людей его
времени и всех других времен; он в какой-то мере
приспосабливался к существующим условиям
(например, в вопросе о майоратах, которые он в
принципе осуждал, но допускал по причинам
«высокой политики»), он никогда не настаивал на
положениях, которые могли повлечь за собой
неприятности (или что-то похуже) со стороны
министерства по делам религий, он предпочитал
указывать на то, о чем ему приходилось говорить,
25
с определенной скромностью, демонстрируя
большой оптимизм, между прочим, оправданный в
том, что касается способности современных ему
читателей не связывать два текста, которые не
находятся на одной и той же странице, не делать
выводы, все предпосылки которых даны в то же
самое время, что и метод, необходимый для
заключения. Можно поставить ему в упрек: он
дорожил своим местом, он не хотел неприятностей.
Пусть тот, кто лишен этого греха, первый бросит
в него камень. Но в том, что касается самого
существенного в своей теории, Гегель никогда не
шел даже на малейшие уступки.
Полезно будет напомнить о событиях,
предопределивших историю Пруссии в начале XIX века,
в ту эпоху, современником которой был Гегель.
История необычайно изменчива: если
революция не порождает никаких непосредственных
следствий в Берлине (хотя было бы неверно
утверждать, что все слои населения были к ней
враждебны или холодны), наполеоновские войны
имели там гораздо более глубокое влияние, чем в
какой-либо другой из великих столиц. Прусское
государство Фридриха II, такая же абсолютная
монархия, как и русская империя, и фактически,
возможно, более централизованная, терпит круше-
26
ние в Иене, и терпит тем быстрее, чем с большей
чистотой был развит ее принцип. В течение
четырех лет Пруссия преображается: земельная
собственность становится отчуждаемой (за
исключением майоратов), крестьяне освобождаются,
тяжелые работы почти повсюду упраздняются,
города получают административную
самостоятельность, провинциальные сеймы вновь создаются и
реформируются, большая часть прав знати
отменяется, наука освобождается от непосредственного
контроля государства, профессиональная армия
преобразуется в армию народную. В итоге почти
все достижения революции были предоставлены
народу Пруссии. Но все это происходит — и это
имеет самое важное значение — не потому, что
народ потребовал этих прав, а потому, что
правительство явно признало, что только глубокая
реформа может предоставить средства и дать силу
государству эффективно подготовиться к новой
войне, пробудить тот национальный подъем, без
которого борьба против Наполеона не имела ни
малейшего шанса на успех.1
*Не следует слишком настаивать, что именно этот
факт один и объясняет ту самоуверенность, которой Гегель
наделяет чиновника, и его осведомленность в различных
делах и вопросах. Разумеется, это лишь биографический
фактор, который объясняет, но не оправдывает.
27
Естественно, что после победы союзников часть
этих реформ, если и не отменяется, то по крайней
мере применяется с колебаниями;
привилегированные слои старого режима, скорее задерживая
исполнение программы, чем возвращаясь назад,
возвращают некоторые из своих прежних прерогатив,
большую часть своего общественного влияния, как
только внешнее давление прекратило поддерживать
внутреннее единство. Тем не менее, если страх
перед революцией еще преследует умы (правду
говоря, после приступа революционной лихорадки,
последовавшей за революциями в Италии и Испании,
за убийствами герцога де Бери и Коцебу,
контрреволюционная политика устанавливается лишь после
революции 1830 г.), если навязывается
определенная «авторитарная» и «легитимистская» политика,
и навязывается скорее в деталях, чем в принципах,
то следует добавить, что в сравнении с Францией
времен Реставрации и Англией перед реформой
1832 г., в сравнении с Австрией Меттерниха,
Пруссия — это передовое государство. Во
Франции реформа 1830 г. должна принести 200 000
избирателей на всю страну, в Париже при Карле X
это число составляло 1850. Пруссия, с ее провини-
цальными консультативными избираемыми сейма-
1 Небезынтересно напомнить, что только через два
года после выхода Философии права
Фридрих-Вильгельм III вводит провинциальные сеймы как единственную
форму народного представительства: в 1811 г. проект Гар-
28
ми, конечно же, не была демократическим
государством в современном смысле; в определенном
смысле она была таким демократическим
государством в большей мере, чем, например,
Великобритания, где в ту же самую эпоху было бы неверно
говорить о парламенте представителей народа,
даже об избираемом парламенте (упразднение
гнилых селений в 1832 изменит пропорцию между
числом избирателей и численностью населения в
целом с 1/3 до 1/22): британский парламент
времен Гегеля принимает решения, но о составе этого
парламента народ решений не принимает. И
преимущество Пруссии кажется бесспорным на
административном уровне, так как только реформы,
которые начнутся в 1832 г., предоставят
Великобритании — причем весьма медленно —
право и административную систему, местную и
национальную, которая не будет полностью в руках
корпораций и богатых семей, тогда как Пруссия
сохраняет в своих западных провинциях
практически все институты наполеоновской империи и
принимается за модернизацию своих других
провинций.
В первом университете этой обновленной
Пруссии Гегель и преподает начиная с 1918 г. Он при-
денберга еще предусматривает национальный парламент, и
не исключено, что Гегель своей книгой желает выступить
в пользу такого представительства.
29
ступает к руководству своей кафедрой с инаугура-
ционной лекцией, которая представляет собой
первую дань почести пригласившему его
государству. Он полагает, что для философии наступил
благоприятный момент: Дух, излише занятый внешним
в предшествующую эпоху, может теперь вступить в
свою собственную область. Свобода была
сохранена, и в этой борьбе Дух поднимается над частными
мнениями и интересами и подходит к тем
серьезным вещам, которые позволяют философии жить и
двигаться вперед, которые защищают ее от
агностицизма, предстающего под различными разнвид-
ностями историзма, сентиментализма или
драгоценной для кантианцев критической рефлексии.
И поскольку благоприятен момент, то благоприятно
и место: Гегель говорит в столице Пруссии,
государства, которое только что сравнялось с самыми
богатыми и великими странами. Она наделила себя
весомостью в реальности и в политике при помощи
Духа: именно в Пруссии развитие наук образует
собой один из существенных моментов жизни
государства. Пруссия — государство Духа.
Это не единственное место, где Гегель говорит
о Пруссии, называя ее так; но этих мест
бесконечно меньше, чем можно полагать, слушая
традицию.
30
Мы уже упоминали о критике молодого
Гегеля. Другие тексты датируются берлинской эпохой.
В Лекциях о философии истории — одной из
компиляций, которой мы обязаны благочестию
учеников Гегеля, и, следовательно, не имеющей
авторитета трудов, опубликованных им самим —
Пруссия предстает как представитель новой
церкви, лютеранской церкви, существенный признак
которой состоит в том, что она уже не знает
разделения священного и мирского; именно к этой
церкви обращается и будет обращаться свободный
взор.1
Наконец, определенный намек на Пруссию
обнаруживается в знаменитой статье о Билле об
английской реформе 1830 г., только намек, так как
имя Пруссии там не появляется. Можно спорить о
цели, которую преследует Гегель, написавший эту
статью: не желал ли он предупредить англичан об
опасности, к которой они приближаются, приступая
к реформам? Это маловероятно, принимая во
внимание, что полуфеодальный характер старой
Англии всегда казался Гегелю неудовлетворительным.
1 Вот в чем роль Германии для Гегеля:
«Предназначенная для Духа, Германия не смогла достичь
политического единства... В своей внешней политике Германия —
ничтожество». Свободу Гегель понимает не так, как
«националисты».
31
Не желал ли он сказать, что там, где оказались
англичане, паллиативов недостаточно? Может
быть. Или же он хотел сделать предупреждение
прусскому правительству, критикуя политику
чужой страны, требуя косвенным образом
завершения реформ и преобразований, начавшихся после
Иены, но все больше и больше погружающихся в
рутину? История внутренней политики
Фридриха-Вильгельма III, с его колебаниями, его
полумерами, его всегда неудачными начинаниями,
прогрессивными или реакционными, говорит в пользу
этой последней гипотезы, которая могла бы найти
что-то вроде подтверждения в королевском
запрете, наложенном на публикацию третьей части
статьи, под тем предлогом, что было бы неприемлемо
вмешиваться в дела другого государства. Но
какому бы мнению ни отдать предпочтение, критика
английской конституции, содержащаяся в этой
статье, позволяет сделать вывод о том, что же именно
Гегель находил в Пруссии.
Англия — исторически отсталая страна,
говорит он, потому что собственность там не
свободна, потому что государство не развивало
ремесло государственной службы, потому что
право не кодифицировано, но остается тайной и
собственностью корпорации, потому что Корона
слишком слаба, чтобы позволить необходимые
32
преобразования, не прибегая к насилию.1 На
континенте, заявляет Гегель, уже давно
реализовано то, что англичане ищут наощупь: иными
словами, Пруссия для него — это образец
реализованной свободы, по меньше мере в том, что
касается принципов, государство мысли,
свободной собственности, администрации, которая
зависит лишь от закона, государство права. В 1830,
как и в 1818 г., Гегель рассматривает Пруссию
как современное государство par excellence (что
кажется весьма точным с точки зрения
историка), и он видит его таковым, потому что он
видит его основанным на свободе.
Теперь наш вопрос ставится в другой форме и с
еще большей остротой: как Гегель мог видеть
Пруссию под таким углом зрения? Как мог он
противостоять всем веяниям «либерализма»,
национализма, демократии, всей той левой идеологии
XIX столетия, которая, взятая еще более широко,
образует идеологию наших дней и одно из основа-
1 Любопытно констатировать» что гегелевская критика,
оставшаяся в Англии неизвестной, касается всех тех
пунктов, на которые направлены реформы, осуществленные в
течение XIX столетия, — за исключением того, что
касается усиления королевской власти (вместо короля
принимает решения, в гегелевском смысле, премьер-министр).
3 Эрик Вейль
33
ний любой пропаганды? И не останемся ли мы без
опоры на факты, если будем утверждать, что он
этим веяниям противостоял? Разве он не призывал
государство, полицию к действиям против
революционных движений? Разве он не разоблачал
идеологов, которые, по его мнению, отравляли умы
молодежи? Разве он не настраивал министров против
философских, теологических, политических учений,
которые, как ему казалось, подвергали опасности
государство?1
Было бы нетрудно найти Гегелю извинение.
Как и все мыслящие люди, он констатировал
провал французской революции, последовательность
террора, диктатуры и поражения. Можно добавить,
и мы об этом упоминали, что события тех лет, во
время которых была написана Философия права,
неудачные революции в Италии и Испании, а
также бессмысленные политические убийства
подкрепили его недоверие к «прямому действию», что
наблюдения демонстрировали ему устойчивый
прогресс в направлении к более свободному
обществу лишь в одном-единственном государстве, где
этот прогресс навязывался группой выдающихся
чиновников, действующих за ширмой королевской
1 История таких выступлений будет обнаружена у
Гейма и Ленца, а с точки зрения защитников Гегеля — у Ро-
зенкранца.
34
власти, что как древняя аристократия в Англии,
так и революционные партии латинских стран
вновь сталивались с проблемами, решение которых
было, если и не осуществлено, то по крайней мере
близко к осуществлению в том государстве, чьим
слугой Гегель только что стал.
Но настоящая проблема не в этом. Здесь, где
речь идет о философии, термины либерал,
консерватор, реакционер не имеют никакого точного
значения и способны получить его лишь в самом
философском исследовании, как только (и по мере
того, как) оно даст определение прогрессу и
установит направление движения истории. Разумеется,
часто ссылаются на эмпирию и говорят, что
эволюция опровергла Гегеля. Но не попадают ли таким
образом в порочный круг, и не лишен ли логики
взгляд на Гегеля как на философа того прусского
государства, которое могло угрожать — и больше,
чем угрожать — Европе в течение почти целого
столетия? Разве не лишено логики утверждение,
когда события его опровергли? Кроме этого
предполагают также, что история разрешила вопрос о
государстве, каким его представлял Гегель: так,
история никогда ничего не решает окончательно
(возвращение назад, «новое варварство» всегда
остается возможным), и если она «преодолела» Пруссию
(что кажется вероятным), то она также и доказала,
35
что Гегель для своего времени был прав; и даже
если не принимать в расчет это возражение,
гегелевская концепция не опровергается: необходимо
сначала доказать, что она применима
исключительно к этому государству. В итоге остается только
один путь — обратиться к Философии права, к
той книге, которая в течение пятнадцати лет после
смерти Гегеля, как и при жизни своего автора,
почти не встречала критики, а начиная с 1948 г.
стала предметом атаки для всех «борцов» с
гегелевской системой.
II
ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ПОЛИТИКИ
Каждый знает об «ужасах», которыми
переполнена Философия права. Перечислим некоторые из
них: государство, говорится там, — это божество
на земле, общество подчинено государству,
нравственная жизнь имеет меньшее значение, чем
политическая, совершенная форма устройства — это
монархия, народ обязан повиноваться правительству,
национальность — это не имеющее значения
понятие, лояльность по отношению к государству —
это высший долг человека, обязанного быть
гражданином, всенародные выборы — наихудшая
система; мы минуем все это и подходим к самой
ужасной и самой знаменитой фразе из Предисловия^ к
lWas vernünftig ist, dos ist wirklich; und was wirklich
ist, dos ist vernünftig. Принимая во внимание, что ни один
перевод гегелевского текста не может точно передать
смысл оригинала (если не достигнуто согласие по поводу
терминологии, о чем здесь не может быть и речи), мы бу«
37
тому кощунству, которое уже более столетия
заставляет трепетать всех здравомыслящих людей из
любых партий: «Все разумное действительно, все
действительное разумно». Это оскорбление,
нанесенное здравому смыслу, верх непростительного
надругательства, это столь шокирующее заявление,
что большинство критиков — по крайней мере,
такое впечатление производят их сочинения — не
смогли продвинуться далее если не в чтении, то в
понимании книги.
Однако и сам Гегель приложил немало усилий,
чтобы объяснить, что именно он сказал. Он
отмечал, что следует всего лишь открыть его Логику,
чтобы увидеть, что в его терминологии
«действительность»1 и «существование» ни в коей мере не
дем в примечаниях цитировать все важные места на языке
оригинала.
1 Немецкий термин, который мы переводим как
«действительность» — это Wirklichkeit, от wirken =
«действовать созидая», «производить воздействие на
действительность», тогда как французский термин réalité благодаря res
отсылает нас к объекту как к чему-то пассивному,
случайному, к теоретическому объекту. Согласно
этимологическому значению слов термином realite следует, скорее,
переводить то, что Гегель называет Dasein и что мы
переводим как «существование» (очевидно, в совершенно
ином значении, чем Dasein и существование, у Хайдеггера
и у экзистенциалистов). Невозможно перевести термины
Wirklichkeit и Dasein таким образом, чтобы они сохранили
38
смешиваются, что существование лишь отчасти
является действительностью и что другая его сторона
образована «видимостью»: ничто не помогает, и
Гейм, например, заявляет, что это различие
образует самую глубокую слабость всей системы,
позволяя Гегелю в его философии государства
удовлетвориться простой эмпирической реальностью.
Пусть так; но что это за система, которая в
вопросах нравственности и политики, то есть там, где
речь идет о действии, может отказаться от
различия действительного и видимого, важного и
незначительного, существенного и того, что
существенным не является?
Следовало бы доказать, что Гегель плохо
расставил акценты, что он принял за действительное
то, что является лишь существующим. Так ли
это? Гейм, который был умным критиком, не
упускал случая ясно высказать то, что отделял его от
Гегеля: для него Гегель приносит в жертву
индивида, потому что потребность в гармонии преобладает
у него над интересами живой конкретной
индивидуальности. Гегель мог бы ответить (и он на самом
деле это и делает): может ли индивидуальность как
свое этимологическое значение и в то же время те
возможности использования, какие они имеют в немецком
языке. Тем более необходимо акцентировать обертоны,
совершенно различные в этих двух языках.
39
таковая быть разумной? Разве разумное не
является необходимым и всеобщим? Разве может
индивидуальность требовать чего-то большего, чем
примирения с действительностью разумного, своего
возвращения к тому, что существует лишь в той
мере, в какой оно разумно? И не оказывается ли
тогда критика Гейма, если она имеет смысл,
критикой всей философии?
Интересно, что Гейм мог бы найти этот
аргумент, правда, в другой форме, в том же самом
Предисловии к Философии права, которое он
подвергает критике:
«Относительно природы допускают, что
философия должна познавать ее, как она есть, что
философский камень находится где-то, но где-то в
самой природе, что она разумна в себе и что задача
знания исследовать и постигать в понятиях этот
присутствующий в ней действительный разум,
исследовать и постигать не появляющиеся на
поверхности образования и случайности, а ее вечную
гармонию в качестве ее имманентного закона и
сущности. Напротив, нравственный мир,
государство, разум, каким он осуществляет себя в сфере
самосознания, не должен, по их мнению, обладать
счастьем быть разумом, который в самом деле
достиг в этой сфере силы и власти, утвердился и
пребывает в ней. Духовный универсум должен быть
40
предоставлен случаю и произволу, должен быть
покинут Богом, так что, согласно этому атеизму в
области нравственного мира, истинное находится вне
его, но вместе с тем, так как в нем должен быть и
разум, истинное есть только проблема».1
Эта параллель между природой и политикой
поразительна: Гегель отказывается признать, что
разум встречается лишь в природных феноменах,
тогда как область действия и истории
предоставлена чувствам, желаниям, страстям. Как существует
наука о природе, так имеется и наука о государст-
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 47.
«Von der Natur gibt man zu, dass die Philosophie sie zu
erkennen habe, wie sie ist, dass der Stein der Weisen
irgendwo, aber in der Natur selbst verborgen liege, dass sie in
sich vernünftig sei und das Wissen diese in ihr gegenwärtige,
wirkliche Vernunft, nicht die auf der Oberfläche sich
zeigenden Gestaltungen und Zufälligkeiten, sondern ihre
ewige Harmonie, aber als ihr immanentes Gesetz und Wesen
zu erforschen und begreifend zu fassen habe. Die sittliche
Welt dagegen, der Staat, sie, die Vernunft, wie sie sich im
Ehmente des Selbstbewusstseins verwirklicht, soll nicht des
Glucks gemessen, dass es die Vernunft ist, welche in der Tat
in diesem Elemente sich zur Kraft und Gewalt gebracht
habe, dann behaupte und inwohne. Das geistige Universum
soll vielmehr dem Zufall und der Willkür preisgegeben, es
soll gottverlassen sein, so dass nach diesem Atheismus der
sittlichen Well das Wahre sich ausser ihr befinde, und
zugleich, weil doch auch Vernunft dann sein soll, das Wahre
nur ein Problema sei».
41
ве, и разум скрывается и в продуктах
человеческого сознания, и в природных феноменах,
рассматриваемых тем не менее как постижимые разумом, то
есть разумные в своей сущности. Духовный мир —
это внешний мир, и даже в бесконечно более
высоком смысле, чем мир природы.
«Субстанция знает себя в этом своем
действительном самосознании и тем самым есть
объект знания. Для субъекта нравственная
субстанция, ее законы и силы имеют, с одной
стороны, в качестве предмета отношение, что
они суть в высшем смысле
самостоятельности, имеют абсолютный, бесконечно более
надежный авторитет, более прочную силу, чем
бытие природы... Авторитет нравственных
законов бесконечно более высок, так как
предметы природы изображают разумность лишь
совершенно внешним и разрозненным
образом и скрывают ее под образом
случайности».1
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 200. «Fur das
Subjekt haben die sittliche Substanz, ihre Gesetze und
Gewalten einerseits als Gegenstand das Verhältnis, dass sie
sind, im höchsten Sinne der Selbständigkeit, — eine absolute,
unendlich festere Autorität und Macht als das Sein der
Natur. ... Die Autorität der sittlichen Gesetze ist unendlich
42
Чтобы исключить классическое недоразумение,
согласно которому можно на основании этого
текста выдвинуть обвинение либо в абсолютизме, либо
в релятивизме (так как известно, что
государство — это вершина нравственности, но не все
согласны, что из этого следует делать вывод, что
Гегель был ригористом в политике или релятивистом
в вопросах морали), достаточно заглянуть в
следующий параграф:
«С другой стороны, законы и силы нравственной
субстанции не суть для субъекта нечто чуждое, но он
свидетельствует о них свидетельством духа как о
своей собственной сущности, в которой он обладает
своим самочувствием и живет как в своей не
отличающейся от него стихии, отношение, непосредственно
еще более тождественное, чем вера и доверие».1
Жизнь человека разумна, и он знает об этом,
даже если его знание является тем знанием,
которое дает ему чувство его непосредственной связи с
нравственным миром.
höher weil die Naturdinge nur auf die ganz äusserliche und
vereinzelte Weise die Vemitnftigkeit darstellen und sie unter
die Gestalt der Zufälligkeit verbergen».
!Там же. С. 200. «Andererseits sind sie dem Subjekte
nicht ein Fremdes, sondern es gibt das Zeugnis des Geistes
von ihnen als von seinem eigenen Wesen, in welchem es sein
Selbstgefühl hatt und dann als seinem von sich
ununterschiedenen Elemente lebt».
43
Если нас в первую очередь интересует
гегелевская онтология или онтологическое основание его
теории политики, то мы настаиваем на том
обстоятельстве, что одно только использование понятий
«чувство» и «непосредственное знание» (этот
термин далее обнаруживается в нашем тексте)
доказывает необходимость перехода от нравственного
мира и чувства к государству. Но сейчас нас
интересует другое: мир, в котором живут люди, в
котором они находятся у себя (так как их недовольство
имеет смысл лишь благодаря отношению к этому
миру), этот мир разумен, законы нашей жизни
познаваемы, и они познаваемы в первую очередь,
поскольку в них разум не только себя осуществляет
(он осуществляет себя и в другом), но еще и
осознает, что он себя в них осуществляет. Теория
государства, государства, которое имеется в наличии,
а не государства идеального и воображаемого, —
это теория разума, осуществленного в человеке,
осуществленного для себя и благодаря самому
себе.
Не желание, а теория, исследование
государства: можно исследовать хорошее, правильное
государство, потому что государство имеется; но то,
что исследуется под именем правильного
государства, всегда есть лишь государство как таковое,
такое, каким оно само по себе является для разума.
44
Кроме того, такое исследование могло бы быть
лишь теоретическим, исследованием того, что есть:
наука — а именно о науке здесь идет речь —
занимается тем, что есть; «философия — это эпоха,
постигнутая мышлением» ,1
И тем не менее, говорит Гегель, если
послушать тех, кто требует или предлагает новые и
оригинальные теории государства, то можно подумать,
«что на свете еще не было ни государства, ни
государственного устройства, что их нет и теперь, что
лишь теперь — и это теперь все еще длится —
надлежит начинать все с самого начала, и
нравственный мир только и ждал подобного теперешнего
измышления, вникания и обоснования». Но нет
ничего более нелепого, чем ожидать от философии
просветительских рецептов, которые указывали бы,
как должен быть устроен мир? Совсем наоборот,
«в качестве мысли о мире она появляется лишь
после того, как действительность закончила процесс
1 «So ist auch die Philosophie, ihre Zeit in Gedanken
erfasst».
2Гегель Г. В. Φ. Философия права. С. 47. «...so sollte
man meinen, als ob noch kein Staat und Staatsverfassung in
der Welt gewesen, noch gegenwartig vorhanden sei, sondern
als ob man jetzt — und dies Jetzt dauert immer fort — ganz
von vorne anzufangen, und die sittliche Welt nur auf ein
solches jetziges Ausdenken und Ergrunden und Begründen
gewartet habe».
45
своего формирования и достигла своего
завершения».1
Итак, существует познание государства таким,
каким оно является само по себе, познание идеи
государства, но идеи, которая отличается от
платоновской идеи тем, что является исторической, тем,
что она является не идеей, находящейся вне
становления, но идеей становления.2 Это полностью
объективное познание, которое не зависит от
чувств, мнений, желаний, или зависит, но только в
той мере, в какой эти чувства приводят к действию
и формируют тем самым действительность; это
познание предполагает определенную позицию, но это
может быть позиция только в защиту истины.
То, что это не значит и не может значить, что
всякое государство является совершенным, что
всякое государство право в том, что оно делает, что
индивид всегда руководствуется слепой
обязанностью, уже вытекает из текстов, которые мы выше
цитировали и которые со всей очевидностью
указам же. С. 56. «Als der Gedanke der Welt erscheint
sie erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren
Bildungsprozess vollendet und sieh fertig gemacht hat».
2 Следовательно, эта идея нормативна в том смысле,
что она дает возможность оценивать то, что существует.
Но в другом смысле она не является нормативной (и это
решающий пункт): она не дает вневременного или
сверхвременного образца.
46
зывают, что закон, если он и есть действительность
в строгом смысле слова, то он является
действительностью, наименее чуждой для человека: в
гегелевской концепции история в целом представляет
собой примирение человека со всеобщим.
Но поскольку именно на это положение
нацелено большинство атак, направленных против
конформизма Гегеля, будет полезным представить еще
несколько текстов, доказывающих, что он сумел
извлечь следствия из своего принципа.
«Мысля идею государства, надо иметь в виду
не особенные государства, не особенные институты,
а идею для себя, этого действительного Бога.
Каждое государство, пусть мы даже в соответствии с
нашими принципами объявляем его плохим, пусть
даже в нем можно познать тот или иной
недостаток, тем не менее, особенно если оно принадлежит
к числу развитых государств нашего времени,
содержит в себе существенные моменты своего
существования. Но так как легче выявлять недостатки,
чем постигать позитивное, то легко впасть в
заблуждение и, занимаясь отдельными сторонами,
забыть о внутреннем организме самого государства.
Государство — не произведение искусства, оно
находится в мире, тем самым в сфере произвола,
случайности и заблуждения; дурное поведение может
внести искажения в множество его сторон. Однако
47
ведь самый безобразный человек, преступник,
больной, калека — все еще живой человек,
утвердительное, жизнь существует, несмотря на
недостатки, а это утвердительное и представляет здесь
интерес».1
Возвращение к внутреннему (Гегель говорит об
индивиде, который обособляется от государства, в
частности о Сократе, как о том, кто противопос-
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 284—285. Это
одно из добавлений, которое первые издатели взяли из
лекций Гегеля. Мы приводим его, поскольку последующие
тексты гарантируют, что это выражение полностью
согласуется с мнением Гегеля. «Bei der Idee des Staates muss
man nicht besondere Staaten vor Augen haben, nicht
besondere Institutionen, man muss vielmehr die Idee, diesen
wirklichen Gott, für sich betrachten. Jeder Staat, man mag
ihn auch nach den Grundsätzen, die man hat, für schlecht
erklären, man mag diese oder jene Mangelhaftigkeit daran
erkennen, hat immer, wenn er namentlich zu den
ausgebildeten unserer Zeit gehört, die wesentlichen Momente
seiner Existenz in sich. Weil es aber leichter ist Mangel
aufzufinden, als das Affirmative zu begreifen, verfällt man
leicht in den Fehler, über einzelne Seiten den inwendigen
Organismus des Staates selbst zu vergessen. Der Staat ist
kein Kunstwerk; er steht in der Welt, somit in der Sphäre der
Willkur, des Zufalls und des Irrtums, Übles Benehmen kann
ihn nach vielen Seiten de figurieren. Aber der hässlichste
Mensch, der Verbrecher, ein Kranker und Krüppel ist immer
noch ein lebender Mensch; das Affirmative, das Leben,
besteht trotz des Mangels, und um dieses Affirmative ist es
hier zu· tun».
48
тавляет афинскому государству принцип
нравственного сознания) происходит «в эпохи, когда то, что
считается правым и благим в действительности и
нравах, не может удовлетворить волю лучших
людей; если наличный мир свободы изменяет этой
воле, она больше не находит себя в признанных
обязанностях и вынуждена пытаться обрести
утерянную в действительности гармонию лишь в
идеальной глубине своего внутреннего мира».1
«Правовое определение может совершенно
обоснованно и последовательно вытекать из
обстоятельств и существующих правовых институтов
и тем не менее в себе и для себя быть неправовым
и неразумным».2
«Если, с одной стороны, позитивная наука не
только имеет право, но даже обязана со всей
подробностью дедуцировать на основе своих позитивных
данных как исторические процессы, так и применение
!Там же. С. 180. «...in Epochen, wo das, was als das
Rechte und Gute in der Wirklichkeit und Sitte gilt, den
besseren Willen nicht befnedigen kann; wenn die vorhandene
Welt der Freiheit ihm ungetreu geworden, findet er sich in
den geltenden Pflichten nicht mehr».
2Гегель Г. В. Φ. Философия права. С. 63. «Eine
Rechtsbestimmung kann sich aus den Umständen und
vorhandenen Rechts-Institutionen als vollkommen gegründet
konsequent zeigen lassen und doch an und für sich
unrechtlich and unvernunftig sein».
4 Эрик Всйль 49
и расщепление данных определений права на
всевозможные единичности и показывать их последствия,
то, с другой стороны, ее абсолютно не должно
удивлять, хотя она и рассматривает это как помеху своим
занятиям, если задают вопрос, разумно ли при всех
этих доказательствах данное определение права».1
«Что исторически существовали эпохи и
состояния варварства, когда все высшее в духовной сфере
сосредоточивалось в церкви, а государство было
лишь светским правлением, служившим орудием
насилия, произвола и страстей, и вышеуказанная
абстрактная противоположность служила главным
принципом действительности, относится к области
истории» и, следовательно, существует и может
существовать.
Что роднит все эти цитаты — их можно было
бы без труда увеличить — так это настойчивость,
!Там же. С. 250. «Die positive Rechtswissenschaft...
darf... sich wenigstens nicht absolut verwundern, wenn sie es
auch als eine Querfrage für ihre Beschäftigung ansieht, wenn
nun gefragt wird, ob denn nach allen diesen Beweisen eine
Rechtsbestimmung vernünftig ist».
2Там же. С. 301. «Dass es nun geschichtlich Zeiten und
Zustande von Barbarei gegeben, wo altes höhere Geistige in
der Kirche seinen Sitz hatte und der Staat nur ein weltliches
Regiment der Gewalttätigkeit, der Willkür und Leidenschaft
und jener abstrakte Gegensatz das Hauptprinzip der
Wirklichkeil war, gehört in die Geschichte».
50
с какой они признают за человеком право
критиковать и отвергать такое государство. Эмпирическое
государство может быть несовершенным, так как
любая вещь никогда не является лучшей в этом
наилучшем из всех миров; позитивное право может
быть неразумным, конкретное государство может
быть преодолено историей. Остается та простая
истина, что нельзя сказать что-либо ценное, если мы
не знаем, о чем говорим, нельзя вынести суждение
о государствах, не узнав, что такое государство.
* * *
Можно утверждать, что все это «не имеет
смысла», что нет государства в себе, что
философская идея политики — это абсурд, что следует
просто жить и позволять жить другим, что все
мнения имеют ценность и что в конечном счете
только успех имеет решающее значение —
решающее значение не в теории, так как речь идет уже
не о теориях, а о судьбах индивидов, которые
этими теориями пользуются. Одним словом, можно
заявить, что никакой истории нет, а есть только
последовательность событий, лишенных смысла,
потому что эта последовательность лишена
какой-либо структуры, которая сообщала бы событи-
51
ям связность и единство.1 Возможно это так, но
тогда следует, что тот, кто обращается к насилию,
более не имеет права протестовать против насилия.
Справедливо, что можно наблюдать (и это часто
наблюдали, начиная с Платона), что теоретические
защитники насилия встают на сторону морали, как
только они сами подвергаются насилию, и что те,
кто практикуют насилие, при первой неудаче взы-
1 Часто эту концепцию приписывают самому Гегелю:
тогда гегелевская концепция оправдывает того, кто
привносит ее в борьбу, и выступает как «идея», которая
заставляет себя принять. Очевидно, что любая концепция
государства будет противоречить такой интерпретации.
Тем не менее она приемлема по двум причинам: в предго-
сударственной сфере борьбы за признание (см.
Феноменологию Духа с комментарием А. Кожева Введение в
чтение Гегеля), где именно результат борьбы имеет
решающее значение. Но помимо того, что в этом случае
речь не идет о борьбе внутри государства (которая только
вытекает из этой борьбы), следует заметить, что прогресс
разума — это творение не победителя, но побежденного,
раба. С другой стороны, история созидается, во-первых,
жестокими действиями героя, во-вторых, войной между
независимыми государствами. В обоих случаях речь идет о
государстве — либо об обосновании или преобразовании
государства, либо о достижении государством первенства.
Но обоснования и победы имеют положительное значение
в гегелевской концепции лишь при условии, что
осуществлен новый шаг к осуществлению свободы, то есть (для
Гегеля) разума. См. то, что будет сказано далее о герое и об
истории.
52
вают к суду судьбы или божества, к смыслу
истории, к правилам, предшествовавшим любой
позитивной норме, и что они первыми жалуются, если
организация, то есть государство, уже не
функционирует и их не удовлетворяет. Тем не менее,
поскольку можно выступить в защиту социального
атомизма, который знает лишь индивидов,
допустим, чтобы дать фору противнику, что люди
остаются верными этому принципу и признают лишь
свою индивидуальную волю, которую философы
обычно квалифицируют термином «произвол». Что
из этого следует против возможности теории
государства?
Абсолютно ничего, отвечает Гегель. Наоборот,
такая позиция выражает существенную сторону
человеческой жизни, момент, без которого понимание
самого государства было бы невозможно —
момент существенный, но подчиненный. Известно —
мы все-таки должны к этому вернуться — что для
Гегеля праву предшествует мораль, а формальной
морали — конкретная нравственность жизни в
общине, живая традиция (Sittlichkeit) и что эта
последняя предшествует государству, которая
является ее действительностью (Wirklichkeit) и
окончательным завершением. Но это в первую очередь
означает, что право и мораль индивида
неотъемлемы друг от друга; затем это означает, что этого
53
права и этой морали индивида недостаточно;
наконец, это означает, что их действительность (а не их
разрушение) должна быть найдена в государстве.
Это не означает, что государство могло бы или
должно было бы упразднить право и мораль
человеческой личности, или бороться с ними —
поскольку это означает прямо противоположное; как
всегда у Гегеля, то, что диалектически
упраздняется, также сохраняется, возвышается и полностью
осуществляется лишь посредством этого акта
Aufheben.
Фундаментальной проблемой становится тогда
проблема свободы или (что то же самое) свободы
воли. Политика — это слово приобретает более
широкий смысл, который предполагает любую
науку о совместной жизни такого политического
животного, каким является человек, то есть право,
мораль, традиция, социальная и государственная
организация — это не что иное, как наука о
свободе воли.
Итак, человек обнаруживает себя в мире —
он обнаруживает себя тем же способом, каким
обнаруживает себя любая вещь, как нечто данное.
Правду говоря, он даже не обнаруживает себя,
поскольку еще не противопоставляет себя самому
себе: он существует, и его бытие — это бытие,
осознающее не самого себя, но внешний мир. Лишь
54
в тот момент, когда он начинает рефлексировать в
себе, если использовать любопытное гегелевское
выражение, когда он переносит рефлексию на
самого себя, его воля уже не только существует, но и
является самому человеку: он становится
осознающим самого себя благодаря неудаче, благодаря
поражению, которое он испытывает в борьбе с другой
волей, которой ему не удается себя навязать;
показывая себя человеку таким образом, воля
показывает ему себя как мышление. На первый взгляд,
нет ничего более удивительного, ничего более
очевидного для рефлексии: на самом деле, воля,
которая является моей волей, которую я знаю как мою,
она является мыслью о мой свободе, мыслью, что я
могу отвергнуть данное.
Но отвергая всякую данность, любую внешнюю
определенность (естественное условие, потребность
и т. д.), как и внутреннюю (желание, наклонность,
инстинкт и т. д.), осознавая самого себя как
свободную негативность и как отрицательную свободу,
я в то же самое время встречаю новую
позитивность, такую же существенную, как и эта
негативность: я отрицаю, чтобы полагать, что я являюсь
абсолютной свободой, чтобы давать определенность
любой частной вещи, я отвергаю это, чтобы
выбрать то, испытывая к тому, что я выбрал, желание
до тех пор, пока не перейду на новый уровень, все-
55
гда превосходящий возможность отрицать то, что я
только что полагал, но также и определяя себя в
этом новом акте свободы и посредством этого акта.
Свобода, как заявляют сегодня, полагая, что
сделали великое открытие (и нашли философскую
панацею) — это свобода «в ситуации».1
Свобода в ситуации не является, правду говоря,
открытием: понятие так же старо, как и философия; оно не
было сформулировано по той простой причине, что
свобода вне конкретной ситуации не была предметом
воображения до кантовского акосмизма на моральной основе.
Слава его нового открытия (или, если угодно, открытия, если
заслугу открытия приписать явной формулировке
утверждения, уже давно принятого) принадлежит Гегелю,
который одновременно видит и значение этой идеи, и ее
недостаточность. В более поздних ее переоткрытиях
наблюдается возвращение к кантовской позиции (хотя и
нельзя сказать, что эти поиски всегда достигают глубины
и высоты мышления Канта), а также требование смысла
жизни, такого нравственного космоса, осуществление или
действительность которого рассматривается, однако, как
нечто недостижимое философски правомерным способом.
Чтобы быть последовательным, необходимо, начиная с
этого пункта, продвинуть агностицизм еще дальше, чем
Кант, для которого слова Бог, свобода, бессмертие еще
имели смысл, хотя уже у него этот смысл и не мог быть
сформулирован теоретически: если «человек есть
бесплодная страсть» (Ж. П. Сартр. Бытие и ничто) —
определение, эквивалентное тому, как Гегель определяет
личность в сфере частного права, и не превосходящее его —
философия больше не может понять свои возможности и
56
Иными словами, воля, будучи свободной, с
необходимостью приобретает определенное
содержание, цель, которая должна быть реализована, в
действительности и средствами действительности.
Свобода воли — это в первую очередь воля
реализовать цель и ничто иное. Есть свобода, есть само-
должна завершиться либо поэзией либо немотивированным
действием, то есть словами и бессмысленной
деятельностью. На самом деле люди очень хорошо знают, что имеет
значение в их жизни, и даже их сомнения всегда
поддаются формулировке, потому что их конкретное
существование ставит перед ними вопросы, на которые они отвечают
(хорошо или плохо: одна эта проблема показывает, что
смысл жизни существует, хотя это не значит, что он
открывается без затруднений). Впрочем, если подняться к
истокам этой новой философии рефлексии, которая
отделяет человека от разума, то М. Хайдеггер прекрасно
видит, что конкретная жизнь человека проходит в модусе
Zuhandenhe'it, в мире известного и привычного, который
ставит проблемы лишь в порядке исключения, в мире, в
котором человек столь прочно укоренен в ситуации, что в
нормальном состоянии он себя в этой ситуации не
ощущает. Было бы полезно исследовать, как и почему этот
реальный мир превращается в мир неподлинности, как и
почему подлинное существование отрывается от
повседневности, и если оно и не приобретает более
значительной ценности (у Хайдеггера ни у одной из этих
позиций нет преимущества), то по крайней мере занимает
центр интересов. — Гегель сделал набросок философии
ситуации и формальных решений (которые называются у
него также добродетелью): «Но разговоры о добродетели
57
сознание, но и то и другое, как таковое, еще не
улавливается: человек имеет свободные желания,
сознание — это самосознание, но человек в своей
жизни об этом не знает; это мы констатируем, что
человек достиг стадии, которая ставит его выше
животных, тогда как его взор остается
прикованным к миру: человек свободен в себе (то есть, для
часто граничат с пустой декламацией, так как тем самым
речь идет лишь об абстрактном и неопределенном; к тому
же такие разговоры с их обоснованиями и изложением
обращены к индивиду как произволу и субъективному
желанию. При наличии нравственного состояния, чьи
отношения вполне развиты и осуществлены, подлинная
добродетель находит свое место и действительность лишь
при чрезвычайных обстоятельствах и коллизиях между
этими отношениями — в истинных коллизиях, ибо
моральная рефлексия может повсюду создавать себе
коллизии и породить сознание о чем-то особенном и
принесенных жертвах». (Философия права. С. 204). «Das Reden
aber von der Tugend grenzt leicht an leere Deklamation, weil
damit nur von einem Abstrakten und Unbestimmten
gesprochen wird, sowie auch solche Rede mit ihren Gründen
und Darstellungen sich an das Individuum als an eine
Willkür und subjektives Belieben wendet. Unter einem,
vorhandenen sittlichen Zustande, dessen Verhältnisse vollständig
entwickelt und verwirklicht sind, hat die eigentliche Tugend
nur in ausserordentlichen Umständen und Kollisionen jener
Verhaltnisse ihre Stelle und Wirklichkeit; — in wahrhaften
Kollisionen, denn die moralische Reflexion kann sich
allenthalben Kollisionen erschaffen und sich das Bewusstsein
von etwas Besonderem und von gebrachten Opfern geben».
58
нас, философов), но не для себя; он обладает
достоверностью своей свободы, но у него нет о ней
науки.
«Нормальное» сознание на этом
останавливается. Оно есть и оно является достоверностью
желания отрицать всякую данность, желания противо-
стять любому ограничению, отвергать то, что
навязывается или просто полагается извне. Вот что
объясняет протесты, сразу же возникающие, как
только вводятся границы разумного и всеобщего
желания. Но эти протесты забывают о том
положительном, которое нерасторжимо связано с такой
негативностью: воля всегда имеет определенное
содержание, и до тех пор, пока это само содержание
не определено волей, пока оно принимается в силу
предпочтений, вкусов, индивидуальных
особенностей характера, пока оно произвольно,
утверждение детерменизма, что негативность не имеет
никакого применения вне конкретной ситуации и что
эта ситуация дана в той же мере, что и «реакции»
индивида на данную ситуацию, — это утверждение
является истинным: то, что я выбираю, зависит от
моей свободы, то, как я выбираю (а именно это и
важно), зависит от причинности.
Для Гегеля эта относительная истина
детерменизма основана на том обстоятельстве, что
индивидуальная воля, какой она сама себя представляет,
59
еще, собственно говоря, не является волей человека,
что она еще непосредственно устремлена к своей
цели, что она не опосредована деятельным разумом,
сознательной организацией совместной жизни,
короче, потому что она естественна (как и все то, что
не опосредовано). Необходим новый шаг вперед, и
воля должна постичь себя как волю, которая желает
не только наличное бытие, но которая желает
свободы. Только тогда, когда воля дает себе свое
собственное содержание, она достигает свободы:
содержание свободной воли, не зависящее от данного,
само может быть только свободным.
Формула парадоксальная и, на первый взгляд,
непонятная. Как свободная воля может желать
свободы, желать и положительно и негативно? Она
может это, потому что она желает не абсолютной
негативности данной и не свободной
индивидуальности, не голой негативности: она поняла, что
негативность отрицает все данное как таковое, все, что
не опосредовано деятельностью человека, включая
эмпирическое бытие самого индивида — все, что
не удовлетворяет разум. Мы увидим, что
негативность не исчезает в этом понимании, что она
продолжает играть решающую роль на уровне
индивидуальной и общественной жизни; тем не менее в
мышлении воля возвращается к себе самой, она
постигает себя как не случайное в своей сущности
60
сущее, и таким образом она может признать, в
том, что является ее творением, продуктом ее
созидания, то, что она желала, хотя и не понимала, что
желает этого. Мы увидим даже, как это осознание
свободы вырабатывается в переходах от права к
морали, а от нее — к конкретной морали, и,
наконец, к государству. Что здесь важно, так это
утверждение, что только свободная воля может
удовлетвориться, осознав, что она ищет и всегда
находит свободу во всеобщей и разумной
организации свободы (в этом выражении свобода является
и субъектом и объектом): воля, которая свободна
не только для нас, не только для себя самой, но
свободна в себе и для себя, такая воля — это
мышление, которое себя осуществляет, которое
знает, что оно себя осуществляет, которое знает,
что оно осуществляется.1 Везде и всегда нам
следует помнить, что политика — это наука о разумной
в своей действенной действительности воле, наука
Вопрос, который здесь ставится, а именно является ли
такое осуществление свободы полным, иными словами,
завершена ли, закончена ли история, являющаяся
осуществлением свободы, будет обсуждаться в последней части этой
работы. Отметим только, что то, о чем говорилось (и что
цитировалось) прежде, уже позволяет дать первый ответ: в
каждый исторический момент, известный мышлению,
свобода осуществляется, так как иначе не было бы мышления.
Но это осуществление не является полным, иначе история
61
об историческом осуществлении свободы, о
положительном осуществлении негативности. Свобода
положительна и действует только в той мере, в
какой объективно — осознает она это или нет —
она разумна, то есть является всеобщей: конкрет-
не продолжалась бы. Тем не менее, это осуществление
всегда является относительно полным, то есть на каждом
этапе оно соответствует сознанию эпохи, подобно тому
как мышление соответствует действительности этой эпохи.
Новый шаг вперед не сможет сделать тот, кто несет в
себе мышление рассматриваемой эпохи, но несет его
посредством неподходящего начала, то есть тот, кто
действует, опираясь на страсть. — Следовательно, упрек в
«историзме», который часто выдвигается против Гегеля,
неоправдан: история обладает смыслом и она направлена к
осуществлению освобождения, к организации совместной
жизни, где любой индивид находит свое счастье в той
мере, в какой он разумен (посредством упразднения
любого неопосредованного и бесчеловечного отношения к
природе). То, что было приобретено в этом процессе,
сохраняется, и всякая попытка вернуться назад является,
строго говоря, неразумной и, следовательно,
безнравственной (хотя, как известно, такие попытки продолжают
происходить, и α ρήοή ничто не мешает их успеху —
единственным следствием которого является то, что истории
вновь приходится делать свою работу). Что касается
морали индивида, то она конкретно определена традицией
своего народа и своей эпохи; тот, кто ее не
придерживается, будет преступником, если только его поступок, став
всеобщим, не выразит новое сознание, которое должно
будет его оправдать и исторически и нравственно — что
одно и то же.
62
ная свобода — это не произвол индивида, который
невозможно осмыслить, невозможно осуществить,
и человек свободен в той мере, в какой он желает
свободы человека в свободном сообществе.1
* * *
Именно это позволит понять, прочему Гегель,
говоря о свободе, начинает не с «метафизического»
рассуждения, а с анализа конкретной свободы в ее
1 Если мы хотим убедиться, что гегелевское
утверждение обосновано не только «философски», что для
большинства людей было бы противоположностью серьезного
научного доказательства, то нам полезно изучить книгу
Б. Малиновски Свобода и цивилизация: автор,
отталкиваясь от данных такой частной науки, как этнология,
развивает, несмотря на свое глубокое презрение к
«метафизике» вообще и к Гегелю, в частности, большинство
гегелевских тезисов: он никогда не противоречит Гегелю,
даже там, где приходит к самым широким и глубоким
выводам. Это справедливо, в частности, в том, что касается
концепции свободы, которая для него, как и для Гегеля,
является положительной свободой, свободой действовать,
а не негативной свободой, свободой не действовать, и
которая, следовательно, для Малиновски также могла бы
быть выражена лишь в организации общества, а не
индивидуального сознания, которое, насколько оно
индивидуально, настолько же, в сущности, и произвольно.
Сравнение можно шаг за шагом продолжать.
63
самой простой, самой абстрактной, самой
изначальной форме, в которой она проявляется объективно:
в форме права.
Изначальное право, первое объективное
выражение воли — это эмпирическое осуществление
эмпирической и природной воли человека. Это право
индивида как такового, право собственности, которое
для Гегеля отличается от удачи, собственности,
которая сообщает и гарантирует экономическую
независимость индивида, семьи, общества; она означает
обладание природным объектом. В этом акте
природный человек становится личностью: вовсе не
нужда является источником собственности; это
утверждение индивидуальности, акт воли, до такой
степени создающий личность, что мое тело является
моим лишь в той мере, в какой я им овладеваю
(хотя для другого я всегда предстаю в образе своего
тела). А с другой стороны, ничто из того, что
может быть индивидуализировано, не избегает такого
овладевания, ничто не ускользает от права, которым
я обладаю, чтобы пользоваться им так, как я его
понимаю, никакая граница не может быть предписана
праву собственности на этом уровне абстрактного
права, абстрактного именно по причине отсутствия
ограничения со стороны высшей позитивности.
Но поскольку именно моя воля располагается в
таком объекте, она может также из него и уйти, и
64
поскольку она отчужается и овнешняется в вещи,
она в свою очередь может отчуждать и вещь:
очевиден переход от права индивида к договору, к
образованию общей воли между договоривающи-
мися, которая, однако, у них является лишь
частной, а не всеобщей. Очевидно также, что ничто не
мешает этой воле себя извращать» и что она
отличается от воли в себе и для себя, от воли
всеобщей и разумной. Она остается взятой в том, что
есть ее иное, в том, что для нее является данным
извне: она далека от того, чтобы быть тем, чем
является свободная, воля согласно ее абстрактному
определению, «свободной волей, которая желает
свободной воли».
Вина и преступление также вступают в область
права, потому что это область внешнего, область
природы, случая: сила и принуждение остаются;
связанными с этим несовершенным выражением
свободы. Но поскольку свобода, даже отчужденная
и овнешненная, не допускает принуждения, которое
противоречит праву личности, сила и принуждение
сами себя упраздняют: преступник, отрицая
личность другого, отрицает личность вообще, а
следовательно, и свою собственную; будучи разумным в
своей сущности, он желает (в себе, если не для
себя), чтобы право было восстановлено вопреки
принуждению.
5 Эрик Вейль
65
Так явно устанавливается то, что до сих пор
было истинным лишь в глазах философа:
противоположность между всеобщей волей, которая
является лишь волей в себе (то есть для нас,
приступающих к этому поиску и отталкивающихся от
точки зрения разума и всеобщего, науки) и
индивидуальной волей, которая свободна лишь для себя.
Именно ответственность (гражданская) и
преступление (уголовное) обнаруживают справедливость
как глубочайшую цель воли, которая
противопоставляет произвол свободе, отчуждение разуму:
человек не желает зла, которое он совершает, потому
что он не желает, чтобы зло совершилось,
принимая во внимание, что зло упраздняет не только
разумную свободу, но и сам произвол в той мере, в
какой произвол утверждает не только автономию
этого человека, но и автономию человека. Для
человека, который понял несправедливость (ничто не
указывает на это понимание, но ничто и не
требует, чтобы всякий индивид к этому пониманию
пришел), личность права — это уже не человек в
целом: он знает свою индивидуальную волю; но в
своей индивидуальной воле он стремится к
всеобщему: если пользоваться гегелевской
терминологией, личность становится субъектом.
Как и личность, субъект действует; но он уже
не овнешняется так полно и простодушно. Он за-
66
дает себе цель своего действия и он ее осознает;
что для него важно — так это чтобы воля была в
согласии с самой собой, чтобы она не
противоречила себе и себя не опровергала. Другими словами,
воля субъекта желает быть всеобщей и знает, что
она будет таковой лишь при условии, что будет
соответствовать понятию разума. Добрая воля — это
воля человека как такового, а доброе действие
имеет то определение, что, будучи моим, оно признает
в качестве правила понятие, которое говорит о том,
каким это действие должно быть; оно представляет
собой волю всех людей. Мы подошли к морали
Канта.
* * *
Часто утверждают, что завершает эту часть
Философии права критика кантовской концепции
морали, критика, которая, тождественная в своей
основе, фигурирует почти во всех произведениях
Гегеля, от Различия между системами Фихте и
Шеллинга и до последнего издания Энциклопедии
философских наук. Нерв этой критики прекрасно
известен: категорический императив не допускает
действия, поскольку конкретное содержание,
необходимое для любого применения нравственного
67
критерия, заимствуется из существующего мира, из
области внешнего и случайного, и поэтому
нравственный критерий является чисто формальным;
следовательно, долг навеки остается чистым долгом,
хуже того, он должен таковым оставаться, потому
что, если когда-либо нравственному закону будут
следовать все люди, человек, не имеющий больше
ни задач, ни проблем, не будет иметь и содержания
своего нравственного сознания.
Но для вопроса, который нас занимает,
положительное содержание этой части Философии
права значит гораздо больше, чем эта критика, какое
бы решающее значение она ни имела. Речь там
идет о действии, и это мое действие, которое я
предпринимаю, за которое я несу
ответственность — и за его благо и за его зло, за заслуги и
за вину. Это действие есть, следовательно, для
меня плод моего собственного освобожденного
намерения (Vorsatz); но поскольку действие
совершается в мире, поскольку оно подвержено
случайностям внешней реальности, воля в конце концов
поворачивается от отдельно взятого намерения к
его универсальности (Absicht); субъект не
стремится к отдельному действию, он стремиться к самому
себе в этом действии, не преследует вначале то,
затем это, и так до бесконечности, но стремится к
своему счастью. Но это счастье, отличающееся от
68
любого отдельно взятого содержания, не является
счастьем индивидуальности, оно может быть лишь
счастьем субъекта, человека, каким я его мыслю:
оно есть счастье субъективного, но в объективном,
счастье в созидании. Счастье, которое не будет
безнравственным, потому что оно есть счастье
свободного существа — или, скорее, которое не
должно быть безнравственным, но которое может
быть таковым, потому что благо субъекта,
субъектов, всех людей, еще не достигнуто.
В настоящее время это благо является
единством частной и универсальной воли. Иначе говоря,
благо существует лишь как истина (открытое
бытие) воли, следовательно, в мышлении и
посредством мышления, которое одно только и может
установить такое единство и осудить претензии на
единство. И именно это и следует отметить:
субъект имеет абсолютное право быть осужденным за
его намерения, он имеет абсолютное право быть
судимым только по закону, который он сам признал,
который он понял:
«Право субъективной воли состоит в том,
чтобы то, что она должна признать значимым,
усматривалось ею как добро, и чтобы поступок в
качестве вступающей во внешнюю объективность цели
вменялся воле как правовой или неправовой,
хороший или дурной, законный или незаконный сооб-
69
разно ее знанию о ценности поступка в этой
объективности».1
Понятно, почему на этот раз Гегель говорит в
этом месте о Канте с восхищением:
«Познание воли обрело свое прочное основание
и исходную точку в кантовской философии
благодаря мысли о бесконечной автономии воли».2
И, говоря о принципе индивидуальной воли, он
признает заслуги Руссо, который обычно у него не
находит снисхождения.
«В области выявления этого понятия заслуга
Руссо состоит в том, что он определил в качестве
принципа государства тот принцип, который не только по
своей форме (например, социальный инстинкт,
божественный авторитет), но и по своему содержанию
есть мысль, а именно само мышление, воля».3
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 173. «Das
Recht des subjektiven Willens ist, dass das, was er als gültig
anerkennen soll, von ihm als gut eingesehen werde».
2Там же. С. 176. «...wie denn die Erkenntnis des
Willens erst durch die Kantische Philosophie ihren festen
Grund und Ausgangspunkt durch den Gedanken seiner
unendlichen Autonomie gewonnen hat».
3Там же. С. 280. «...hat Rousseau das Verdienst
gehabt, ein Pnnzip, das nicht nur seiner Form nach (wie
etwa der Sozialit'ätstneb, die göttliche Autorität), sondern
dem Inhalte nach Gedanike ist, und zwar das Denken selbst,
nämlich den Willen als Pnnzip des Staats aufgestellt zu
haben».
70
Верно, что впоследствии Гегель будет упрекать
Руссо за то, что он превратил государство в
договор, мыслил лишь индивидуальную волю и
пренебрегал другой стороной воли, объективно разумной;
верно также, что почтение к Канту идет вслед за
замечанием, что точка зрения этой абстрактной
морали приводит лишь к болтовне о «долге ради
любви к долгу» и что, следовательно, никакая
конкретная профессиональная этика невозможна. Тем не
менее «совесть выражает абсолютное право
субъективного самосознания, а именно знать в себе и из
себя самого, что есть право и долг, и признавать
добром только то, что она таковым знает; вместе с
тем совесть выражает утверждение, что то, что она
знает и волит таковым, поистине есть право и
долг».1
Это означает: можно по праву требовать от
человека лишь то, что разум признает приемлемым
для свободного и разумного бытия — лучше
сказать, разумно свободного, свободно разумного. Но
из этого также вытекает, что нравственное созна-
!Там же. С. 178. «Das Gewissen drückt die absolute
Berechtigung des subjektiven Selbstbewusstseins aus, nämlich
in sich und aus sich selbst zu wissen, was Recht und Pflicht
ist, und nichts anzuerkennen, als was es so als das Gute
weiss, zugleich in der Behauptung, dass, was es so weiss und
will, in Wahrheit Recht und Pflicht ist».
71
ние именно потому, что оно создает
неприкосновенный алтарь внутреннего, в сущности
двусмысленно, что оно может быть как искренним, так и
лживым, подобно тому как субъект может быть
добрым или злым. Субъективным нравственным
сознанием может быть оправдано все, что угодно,
любые средства могут быть взяты на вооружение
под именем добрых и благородных, любое
лицемерие может поддерживаться, любая ложь —
благодаря простому обращению к личному убеждению
автора действия. Так как нравственная воля — это
лишь частная воля.
Иными словами, нет конкретной морали вне
конкретной ситуации: необходимо, чтобы воля
поняла, что Благо существует, что свобода
существует в мире объективно, что действие имеет смысл;
необходимо, чтобы пустая воля и формальное
Благо признали себя как фактически реализованные,
как осуществленные с большим или меньшим
совершенством, но осуществленные в мире, в том,
что Гегель называет Siftlichkeit, исторической
нравственной жизнью, обычаем, той суммой правил,
ценностей, позиций, типичных реакций, которые
образуют то, что у нас носит имя традиции и
цивилизации.
Тем не менее, если необходимо, чтобы
индивидуальное сознание узнало себя в этом конкретном
72
мире, необходимо также, чтобы себя там узнало
именно оно. Нет конкретной морали, нет традиции,
которые могли бы заставить людей уничтожить
права формальной и разумной морали. Конкретная
мораль — это осуществление свободы, это среда, в
которой человек находит, вместе с признанием
своего нравственного сознания другими, содержание
такого сознания, которое позволяет ему
действовать, принимать на себя конкретные обязательства,
осуществлять Благо. И эта конкретная мораль
позволяет ему осуществлять Благо, потому что это
Благо уже существует, потому что уже
существует человеческий мир реализованной свободы,
потому что жизнь уже имеет направленность.
Индивид не вступает в пусто нравственное пространство,
он не обнаруживает себя перед материей долга,
которая принимает форму только благодаря его
действию; подобно тому, как он создает не
собственность вообще, но свою собственность, так он не
создает и мораль вообще, но свою мораль, и он
создает и то и другое, потому что уже есть и
собственность и мораль. Точно так же он понимает
себя исходя из свободы своей воли, но он понимает
себя только, потому, что в мире, в котором он
живет и который живет в нем, уже есть разум,
понимание и свобода. Необходимо, чтобы его рефлексия
исходила из самого бедного, самого абстрактного,
73
чтобы постичь конкретное, являющееся
основанием, без которого не было бы абстракции и
абстрактного. Необходимо, чтобы он стал
негативностью, чтобы в его сознании (нравственном
сознании и самосознании, которые являются одним
и тем же единственным самосознанием)
утвердилось всемогущество и вечное право негативности:
но смысл этой негативности не в том, чтобы идти к
отдельно взятым содержаниям, которые она могла
бы разрушать и поглощать по мере того, как они
перед ней появляются, смысл ее в том, чтобы
понять, что то, что имеется в нравственном мире, в
мире людей, есть творение самой негативности,
понять, что положительный закон (нет: всякий закон
положительный) — это победа негативности над
непосредственностью, над природой в человеке и
перед человеком, понять, что человек может в
полной мере свободно довериться положительной
стороне жизни, но довериться лишь потому, что это
положительное есть результат негативности, потому
что существует разумная действительность.
Ill
ГОСУДАРСТВО КАК ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
НРАВСТВЕННОЙ ИДЕИ
Часто утверждают, что у Гегеля мораль и право
не различаются: не принимает ли он их за
абстракции? Не реализуют ли они себя, приобретая
конкретный смысл, только в государстве? Необходимо
повторить, что в этом возражении речь идет о почти
целиком терминологической ошибке. Тот факт, что
понятие называется абстрактным, на гегелевском
языке ни в коей мере не означает, что оно является
ложным и что его можно и следует устранить;
наоборот, из этого следует, что, хотя оно является
неполным, оно необходимо, что последующее развитие
понятия должно будет на него опираться, должно
будет, согласно словам Гегеля, его «снять»
(aufheben), но снять только то, что в нем имеется
абстрактного, чтобы, возвысив это абстрактное, его
сохранить, сообщить ему его положительную
функцию в разумно организованном целом.
В том, что касается проблемы морали, сложно
усмотреть какое-то затруднение, если только мы от-
75
кажемся от предвзятостей и обратимся к конкретной
научной и теоретической работе. Тогда оказывается,
что все согласны и всегда были согласны с
заявлением, что права индивида осуществляются только в
сверхиндивидуальной организации, что нравственная
жизнь возможна только в соответствии с тем, что
сегодня обозначают термином «система ценностей»,
заранее существующая система, в которой индивид
занимает определенную позицию, никогда не имея
возможности занять позицию по отношению к
системе в целом (если только он не отваживается на
последовательный скептицизм, на уклонение от
любого действия и на абсолютное молчание). Человек
может рассматривать себя как собственника
нравственного сознания: всегда отвечали, что то, что таким
образом интерпретируется, — это совершенный
человек, и что такая интерпретация является чистой
абстракцией. Всегда было известно, хотя иногда
кому-то и нравится утверждать обратное, что нет
человека вообще, но есть люди, обладающие полом,
возрастом, общественным положением, ремеслом,
принадлежащие не к обществу вообще, а к
определенному обществу, определенной семье,
определенной стране. Человек, как говорит Гегель, свободен:
это значит, что в свободном государстве он может
обладать собственностью, использовать ее,
потреблять, общаться с другими людьми; то есть он не
76
признает в качестве ценности для себя то, что он не
признает в качестве своего собственного разумного
решения; следовательно, эта свобода является
свободой разумного человека, который в качестве своего
решения рассматривает лишь всеобщее решение,
нацеленное на всеобщее благо, разумное решение,
являющееся решением, предопределенным
человеческой природой индивида. Но свобода могла быть
осуществлена лишь в мире разума, в мире, уже (то
есть исторически) организованном, в семье, в
обществе, в государстве.
* * *
В анализе этих конкретных форм нравственной
жизни мы не собираемся следовать, как мы это до
сих пор делали, гегелевскому изложению. Известно,
как это последнее строится: в семье человек перестает
быть абстрактным; член живого единства, индивид с
чувством любви и доверия, ведет конкретное
существование, которое является свободным
существованием, потому что это существование в согласии. Но
семья, частично имеющая свои основания в природе,
в непосредственной данности биологической
индивидуальности и случайных личных привязанностей, не
обладает устойчивостью, и смерть родителей превра-
77
щает взрослого ребенка в частную личность,
преследующую свои цели. Этот индивид трудится и
социализируется в труде, труд является социальным
опосредованием между человеком и природой.
Собственность уступает, таким образом, место семейному
благосостоянию, а это последнее основывается на
общественном преуспевании, в котором личность
принимает участие посредством личного преуспевания:
так общество организуется посредством труда, в
труде и ради труда: таково состояние тех, кто трудится
в непосредственном контакте с природой (в сельском
хозяйстве), состояние тех, кто живет преобразующим
и распределяющим трудом (в промышленности,
торговле), состояние тех, кто организует общественный
труд и кто свободен от всякого труда в первом и во
втором смысле либо благодаря личному состоянию,
либо благодаря жалованью, которое им выплачивает
общество. Эти состояния неизменны, но если
общество, в котором он живет, свободно, индивид, каждый
индивид может достичь любого из этих состояний в
соответствии со своими способностями.
Кроме того, именно общество (к которому
Гегель также обращается, чтобы противопоставить
государство свободы и разума — мы еще увидим,
почему — государству необходимости и
рассудка — Notund Verstandesstaat) создает первую
сознательно развитую организацию: судебная система
78
разрешает разногласия частных лиц, полиция
защищает интересы всех индивидов, корпорации
организуют особые формы труда.
Мы быстро минуем эту часть, с одной стороны,
потому что мы спешим перейти к теории
государства, с другой — потому что мы еще вернемся к
проблемам общества, но уже исходя из концепции
государства: так мы избежим классического
возражения, согласно которому все то, что утверждается
об обществе в Философии права, даже если это и
могло быть доказано, не приводит к серьезным
последствиям, потому что теория государства
упраздняет то, что ей предшествует. Как следует
расценивать такое возражение, мы выше уже сказали.
Но лучше будет не подвергаться риску, который
порождает устоявшаяся традиция, и
непосредственно обратиться к гегелевскому государству.
«Государство есть действительность
нравственной идеи — нравственный дух как очевидная,
самой себе ясная, субстанциальная воля, которая
мыслит и знает себя и выполняет то, что она знает
и поскольку она это знает. В нравах она имеет свое
непосредственное существование, а в самосознании
единичного человека, его знании и деятельности —
свое опосредованное существование, равно как
самосознание единичного человека посредством умо-
79
настроения имеет в нем как в своей сущности, цели
и продукте своей деятельности свою
субстанциальную свободу».1
«Государство как действительность
субстанциальной воли, которой оно обладает в возведенном в
свою всеобщность особенном самосознании, есть в
себе и для себя разумное. Это субстанциальное
единство есть абсолютная, неподвижная самоцель, в
которой свобода достигает своего высшего права, и
эта самоцель обладает высшим правом по
отношению к единичным людям, чья высшая обязанность
состоит в том, чтобы быть членами государства».2
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права С. 279. «Der
Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee — der sittliche
Geist als der offenbare, steh selbst deutliche, substanzielle
Wille, der sich denkt und weiss und das, was er weiss und
insofern er es weiss, vollfuhrt. An der Sitte hat er seine
unmittelbare, und an dem Selbstbewusstsein des Einzelnen,
dem Wissen, und Tätigkeit desselben seine vermittelte
Existenz, sowie dieses durch die Gesinnung in ihm, als
seinem Wesen, Zweck und Produkte seiner Tätigkeit, seine
substantielle Freiheit hat».
2Там же. С. 258. «Der Staat ist als die Wirklichkeit des
substanziellen Willens, die er in dem zu seiner Allgemeinheit
erhobenen besonderen Selbst-bewusstsein hat, das an und für
sich Vernünftige. Diese substantielle Einheit ist absoluter
unbewegter Selbstzweck, in welchem die Freiheit zu ihrem
höchsten Recht kommt, sowie dieser Endzweck das höchste
Recht gegen die Einzelnen hat, deren höchste Pflicht es ist,
Mitglieder des Staats zu sein».
80
Все самое важное содержится в этих двух
параграфах. Нравственная идея, существующая в семье и
в обществе, открывается как мышление только в
государстве. Частный человек действует, но его
действие не нацелено на всеобщее, которое оно тем не
менее осуществляет: член общества трудится и, трудясь
для самого себя, он трудится для всего мира; но он
не знает, что его труд универсален, и, следовательно,
мир труда — это мир, внешний для его обитателей,
мир, который создает себя, не желая себя создавать.
В государстве присутствует разум; так как гражданин
есть «частное сознание, возвысившееся до свой
всеобщности», а государство есть воля человека в той
мере, в какой это воля разумна, в той мере, в какой
(напомним гегелевское определение) он желает
свободной воли. И речь не идет о какой-то мифической
или магической ипостаси: это государство имеет свою
действительность в сознании индивидов, личностей,
которые благодаря самому этому сознанию перестают
быть только частными личностями. Государство
обретает действительность в патриотическом чувстве
своих граждан так же, как гражданин обретает свободу,
признавая в государстве конкретную свободу, то есть
(так как это одно и то же) поле разумного действия:
одно лишь государство имеет одновременно и
осознанные и разумные цели; лучше сказать, в силу его
сущности оно имеет не цели, а одну-единственную
6 Эрик Вейль
81
цель, цель, выше которой уже никакая иная цель
немыслима: разум и осуществление разума, свободу.
Но если смысл гегелевских утверждений ясен, он
оказывается, по меньшей мере он показался,
угрожающим. Государство — это осуществленный разум;
как осуществленный разум он является
положительной свободой, выше которой никакая иная конкретная
свобода немыслима; государству противостоит лишь
частное мнение, индивидуальное желание, пошлость
рассудка: что остается от того, что обычно понимают
под свободой? Скажут — немногое. Индивидуальная
воля не в счет, по крайней мере, если индивидуальная
воля — это то, чем она сама себя считает.
Нравственное сознание является aufgehoben, возвышенным,
осуществленным, поддерживаемым, каким угодно, но
оно также перестало быть высшей инстанцией.
* * *
В этом пункте ничто так не способно
проиллюстрировать позицию Гегеля, как его теория связи
между государством и религией. Религия,
действительно утверждает, что Истина находится в ней,
что любое человеческое деяние подсудно ее
трибуналу, что вера, сердце и сознание не могут
признавать никакого земного судьи. Аналогия между
религиозными проблемами и моралью поразительна.
82
Очевидно, что мы не можем здесь вступать в
обсуждение религиозной позиции Гегеля.1 Если он
был христианином или атеистом, то это вопрос в
первую очередь биографического плана. Ответ в
таком случае прост: нет никаких оснований ставить
под сомнение искренность его заявлений,
повторяемых во всех произведениях, в каждом новом
предисловии к изданиям Энциклопедии, в его
заметках, в его письмах друзьям и в министерство.
Можно затем сказать, что его христианство не
является правильным, можно утверждать, что его
система объективно является атеистической (при
условии, что мы дадим приемлемое определение
атеизму); и все же верно, что Гегель всегда
рассматривается как христианин и что он всегда
старался доказать, что ни один из его тезисов не был
в конфликте с верой. Как же он поступает, когда
оказывается перед задачей выяснить связь между
государством мышления и религией свободы, какой
для него является христианство?
1 Борьба между «левыми» и «правыми» гегельянцами
продолжается и в наши дни. См., например,
«атеистическую» интерпретацию у Кожева, а что касается
«христианской» интерпретации — то книгу: H. N'iel. De la
Médiation dans la Philosophie de Hegel. Paris, 1945, a
также заметки Кожева об этой книге, весьма полно
представляющие «атеистическую» точку зрения, и заметки Ньеля о
книги Кожева.
83
Решение содержится в двух принципах.
Первый заявляет, что христианство — это религия
истины и свободы. Второй отвергает любую теорию
двойственной истины. Следовательно, если
мышление так же, как и христианская религия, имеет
своим содержанием свободу и бесконечную ценность
индивида, то между ними не может быть
противоречия. Но именно потому, что христианство есть
религия истины и свободы, она не только может,
но и должна себя осмысливать: как религия, она
осуществляется в форме представления, образа, но
представления, которое в каждый момент
допускает и требует перехода на язык понятия. И
поскольку христианство создано свободой и истиной,
государство, которое не было бы христианским в своих
основаниях, не было бы и государством свободы.
Но именно поэтому религия и не имеет ничего
общего с государством. «Божественный дух должен
имманентно проникать собой все мирское»,1 религия
не должна быть чем-то обособленным,
трансцендентным, высшим по отношению к государству, так
как последнее не было бы тогда христианским
государством.2 Вера индивида неприкосновенна, но
1 Гегель Г. В. Ф. Философия Духа. М, 1977. С. 376.
2 По прямой аналогии с той концепцией христианского
государства, которое, поскольку оно христианское, не
нуждается в религиозном контроле, государство права и за-
84
только до тех пор, пока она остается внутренней
верой: действие принадлежит этому, земному миру.
«Недостаточно, чтобы религия только повелевала:
отдайте кесарю кесарево, а божие богу; ибо речь
идет как раз о том, чтобы определить, что,
собственно, представляет собой кесарь».1 Если,
следовательно, возник бы конфликт между
представителями религии и государства — конфликт, который,
учитывая тождество их основания, был бы только
поверхностным, — именно государство должно
было бы его решить, так как именно оно, вопреки
образу и чувству, представляет мышление и разум,
именно оно есть действительность (разумная) веры
(относящейся к представлению).
Кроме того, Гегель со строгостью, которая
принесла ему в «слишком христианской Пруссии
Фридриха-Вильгельма IV и обоих Вильгельмов
немало вреда, отвергает любое вмешательство
Церкви в политические дела.
«Религия есть отношение к абсолютному в
форме чувства, представления, веры, и в ее всесо-
держащем центре все выступает лишь как
акцидентное, преходящее... От тех, кто ищет Бога и,
кона у Гегеля не знает судебной власти как особой
конституционной власти, и именно потому, что закон есть душа
такого государства.
*Там же. С. 376.
85
вместо того чтобы возложить на себя труд
поднять свою субъективность до уровня познания
истины и знания объективного права и долга,
внушает себе в своем не ведающем образованности
мнении, что они обладают всем
непосредственно,— от этих людей могут исходить лишь
разрушение всех нравственных отношений, нелепость и
гнусность — неизбежные последствия такой
религиозной настроенности, которая настаивает
исключительно на своей форме и тем самым обращается
против действительности и наличной в форме
всеобщего истины законов...» Верно, что
«содержанием, поскольку оно относится к внутренней
стороне представления, государство заниматься не
может, что само учение относится к области
совести, к области права субъективной свободы
самосознания,— к сфере внутренней жизни, которая
в качестве таковой не подчинена государству». Но
«дух в качестве свободного и разумного нравствен
в себе и что истинная идея есть действительная
разумность, и именно она существует как
государство». «ыПо сравнению с ее верой и ее
авторитетом в области нравственного, права, законов,
учреждений, по сравнению с ее субъективным
убеждением государство выступает как знающее;
согласно его принципу содержание существенно не
86
остается в форме чувства и веры, а принадлежит
ι
определенной мысли ».
Государство — судья действий Церкви и
церквей, потому что оно мыслит, потому что оно знает.
Именно оно, и оно одно действует с полным
сознанием; именно оно и оно одно является
организацией свободы в мире: оно и есть эта организация, оно
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 296-302.
«Die Religion ist das Verhältnis zum Absoluten in Form des
Gefühls, der Vorstellung, des Glaubens, und in ihrem alles
enthaltenden Zentrum ist alles nur als ein Accidentelles, auch
Verschwindendes»... «Von denen, die den Herrn suchen und
in ihrer ungebildeten Meinung alles unmittelbar zu haben sich
versichern, statt sich die Arbeit aufzulegen, ihre Subjektivität
zur Erkenntnis der Wahrheit und zum Wissen des objektiven
Rechts und der Pflicht zu erheben, kann nur Zertrümmerung
aller sittlichen Verhältnisse, Albernheit und Abscheulichkeit
ausgehen»... «Auf den Inhalt, insofern er sich auf das Innere
der Vorstellung bezieht, kann sich der Staat nicht
einlassen»... «Die Lehre selbst aber hat ihr Gebiet in dem
Gewissen, steht in dem Rechte der subjektiven Freiheit des
Selbstbewusstseins, — der Sphäre der Innerlichkeit, die als
solche nicht das Gebiet des Staates ausmacht»... «Die
Entwicklung... hat erwiesen, dass der Geist, als frei und
vernünftig, an sich sittlich ist, und die wahrhafte Idee die
wirkliche Vernünftigkeit, und diese es ist, welche als Staat
existiert»... «Gegen ihren Glauben und ihre Autontät über
das Sittliche, Recht, Gesetze, Institutionen, gegen ihre
subjektive Ueberzeugung ist der Staat vielmehr das
Wissende»... «Weil das Pnnzip seiner Form als Allgemeines
wesentlich der Gedanke ist...»
87
не создает ее, что означает, что государство — это
не что иное, как организация разумного действия,
действующий разум. Оно является христианским в
том смысле, который оно осуществляет на земле в
форме представления и в модусе чувства.
1 Здесь основание гегелевской критики католицизма,
который, отделяя священное от мирского, не позволяет,
чтобы государство понимало себя как осуществление
разума. «По форме, однако, может иметь место отношение
несвободы, хотя само в-себе-сущее содержание религии есть
абсолютный дух... тем не менее в католической религии
этот дух в действительности косно противопоставляется
самосознающему духу. Прежде всего в гостии (причастии)
Бог преподносится как внешняя вещь религиозного
поклонения (тогда как в лютеранской церкви причастие как
таковое освящается и поднимается к присутствующему Богу
впервые и естественно только в акте вкушения, то есть в
уничтожении его внешности, в вере, то есть вместе с тем в
свободном и самодостоверном духе). Из упомянутого
выше первого и высшего отношения внешности вытекают
также и все другие внешние и тем самым несвободные,
недуховные и суеверные отношения, в особенности сословие
мирян, получающих знание божественной истины и
направление воли и совести извне, то есть от некоторого
другого сословия, которое само достигло обладания
упомянутым знанием не исключительно духовным путем, но по
существу нуждается для этого во внешнем посвящении...
Такому принципу и этому развитию несвободы духа в
сфере религиозного соответствует лишь законодательство
и устройство правовой и нравственной несвободы, а также
состояние бесправия и безнравственности в
действительном государстве... Несвобода формы, то есть знания и
88
To. что Гегель говорит о религиозном чувстве,
относится и к нравственной рефлексии. Земное
верховенство государства вытекает из его
духовного содержания: оно безраздельно властвует, потому
субъективности, имеет по отношению к нравственному
содержанию то следствие, что самосознание представляется
как неимманентное ему, а само это содержание — как
изъятое из сферы самосознания, так что истинным оно
может быть по отношению к его действительности лишь в
отрицательном смысле. В этой неистинности нравственное
содержание называется святостью. Но вследствие того,
что божественный дух вводит себя в действительность,
вследствие освобождения действительности в направлении
к нему то, что в мире должно быть святостью,
вытесняется нравственностью...» (Гегель Г. В. Ф. Философия
Духа. С. 374—376). Согласно Гегелю, невозможен
никакой компромисс между католической трансцендентностью
и современным государством, которое является
современным и является государством разума лишь в той мере, в
какой оно осуществляет в живой реальности то, что
религия противопоставляет как принцип, трансцендентный
земной жизни. Для Гегеля не существует католического и
разумно свободного государства, потому что католическое
сознание рассматривает государство как в сущности
безнравственное (или аморальное): свобода может быть
навязана католическому народу, но, поскольку она навязана,
она не будет признана так, как признается мораль
^осуществление свободы). — Каким бы ни было суждение,
которое выносят о такой оценке, она доказывает, что
Гегель весьма далек от того, чтобы представлять государство
как аппарат власти: внешняя власть и недостаток морали и
свободы характеризуют для него порочное государство.
89
что реализует дух и свободу, «бесконечную
ценность индивида». Могут быть — и мы это
видели — государства тиранические, государства
несправедливые, государства, которые не достигли
этапа, олицетворяющего разум своей эпохи, и мы
видели, как эти государства проходят перед судом
истории.
Но здесь, где мы имеем дело с критикой
«этатизма» и «морального релятивизма», мы должны в
первую очередь рассмотреть то, что Гегель говорит
о легитимистской и абсолютистской теории,
основывающей понятие государства на понятии власти.
Философия права посвящает длинное примечание
одному мыслителю эпохи Реставрации, Карлу
Людвигу фон Галлеру, который позже должен
будет стать любимым теоретиком
Фридриха-Вильгельма IV, этого романтика на троне Пруссии.
Вот текст параграфа, который с совершенной
ясностью выражает то, чем является разум в
государстве:
«Разумность, рассматриваемая абстрактно,
состоит вообще во взаимопроникающем единстве
всеобщности и единичности, а здесь, рассматриваемая
конкретно, по своему содержанию,— в единстве
объективной свободы, то есть всеобщей
субстанциальной воли, и субъективной свободы как
индивидуального знания и ищущей своих особенных целей
90
воли, поэтому она по форме состоит в мыслимом,
то есть в определяющем себя всеобщими законами
и основоположениями, действовании».1
Свобода — это закон в той мере, в какой
закон разумен, в той мере, в какой он выражает
содержание индивидуальной разумной воли, в той
мере, в какой он предстает как осмысленный
принцип, который, следовательно, может признаваться
и признается гражданами.
Итак, что утверждает Галлер? Что
божественный порядок (более современные мыслители той же
школы говорили бы о порядке природы или жизни)
стремится к первенству сильного над слабым,
большого над малым; что право и законы только
искажают это желанное для Бога положение вещей; что,
с другой стороны, все обстоит как нельзя лучше,
ибо чувство собственного превосходства возвышает
характер величественного и порождает у господина
именно те добродетели, которые наиболее
благоприятны для его подданных. Слово Божие? Отвечает
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 279—280.
«Die Vernünftigkeit besteht... konkret dem Inhalte nach in
der Einheit der objektiven Freiheit, d. i. des allgemeinen
substantiellen Willens, und der subjektiven Freiheit als des
individuellen Wissens und seines besondere Zwecke
suchenden Willens — und deswegen der Form nach in
einem nach gedachten, d. h. allgemeinen Gesetzen und
Grundsätzen sich bestimmenden Handelns».
91
Гегель, «между тем слово Божие отчетливо
различает свои откровения от изречений природы и
природного человека... Религиозность должна была бы
скорее побудить г. фон Галлера оплакивать это как
тягчайшую Божию кару, ибо тягчайшее, что может
постигнуть человека,— это отдалиться от мышления
и разумности, от почитания закона и познания
бесконечной важности, божественности того, что
обязанности государства и права граждан, так же как
права государства и обязанности граждан
определены законом,— отдалиться настолько, что абсурдное
представляется ему словом Божиим... Ненависть к
закону, праву, выраженному в законе, есть тот
признак, по которому открываются и безошибочно
познаются в их подлинном выражении фанатизм,
слабоумие и лицемерие добрых намерений».1
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 282. «Das
Wort Cottes unterscheidet vielmehr seine Offenbarungen von
den Aussprächen der Natur und des natürlichen Menschen
sehr ausdrucklich»,.. «Hr. v. H. hätte es aus Religiosität
vielmehr als das härteste Strafgencht Gottes beweinen
müssen, — denn es ist das Härteste, was dem Menschen
widerfahren kann, — vom Denken und der Vernunftigkeit,
von der Verehrung der Gesetze und von der Erkenntnis, wie
unendlich wichtig, gottlich es ist, dass die Pflichten des Staates
und die Rechte der Bürger, wie die Rechte des Staats und die
Pflichten der Bürger gesetzlich bestimmt sind, soweit
abgekommen zu sein, dass sich ihm das Absurde für das Wort
Gottes unterschiebt»... «Der Hass des Gesetzes, gesetzlich
92
Сущность государства — это закон, не закон
более сильного, не закон благодушия, «природного
благородства», но закон разума, в котором любое
разумное существо может узнать свою собственную
разумную волю. Верно, что государство предстает
в сферах частного права, семьи, даже трудового
сообщества как внешняя необходимость, как
верховная власть; но, «с другой стороны, оно есть их
имманентная цель, и его сила — в единстве его
всеобщей конечной цели и особенного интереса
индивидов, в том, что они в такой же степени имеют
обязанности по отношению к нему, как обладают
правами... Рабы не имеют обязанностей, потому
что не имеют прав, и наоборот».
Что беспокоит чувства современника (мы
говорим именно о чувствах), так это установленная
между свободой и разумом связь, утверждение,
что политической свободы нет вне разума, что
индивидуальные предпочтения и убеждения в своей
bestimmten Rechts ist das Schiboleth, an dem sich der
Fanatismus, der Schwachsinn und die Heuchelei der guten
Absichten offenbaren und unfehlbar zu erkennen geben».
1 Там же. С. 287—288. «Andrerseits ist er ihr
immanenter Zweck und hat seine Stärke in der Einheit seines
allgemeinen Endzwecks und des besonderen Interesses der
Individuen, dann, dass sie insofern Pflichten gegen ihn
haben, als sie zugleich Rechte haben. ... Sklaven haben
deswegen keine Pflichten, weil sie keine Rechte haben; und
umgekehrt».
93
индивидуальности, в своей неуниверсальности, в
своей претензии на свободу вопреки разуму не
могут быть признаны государством. Но дело в
том, что убеждение говорит одновременно и о
том, что оно создает нравственный закон, и о том,
что оно может ошибаться: если я признал
такую-то максиму, такой-то принцип, то ничто не
мешает мне в то же самое время, если я не хочу
впасть в абсолютный нигилизм и скептицизм,
сказать, что мое убеждение может обладать
ошибочным содержанием. Поэтому государство не может
удовлетвориться убеждениями, добрыми или
злыми, поскольку оно есть действительность
организованной жизни:
«Совесть, истинна ли она или нет, подчинена
этому суждению, и ее ссылка только на саму себя
находится в непосредственном противоречии с тем,
чем она хочет быть, с правилом разумного в себе и
для себя значимого, всеобщего образа действий.
Поэтому государство не может признать совесть в
свойственной ей форме, то есть как субъективное
знание, подобно тому как в науке не имеет
значения субъективное мнение, заверение и ссылка на
субъективное мнение».1 Так как «тот, кто желает
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 179. «Das
Gewissen ist daher diesem Urteil unterworfen, ob es wahrhaft
ist oder nicht, und seine Berufung nur auf sein Selbst ist
unmittelbar dem entgegen, was es sein will, die Regel einer
94
действовать в этой реальности (в реальном мире),
тем самым подчиняется его законам и признает
право объективности»,1
Государство и любая другая организация не
могут вновь стать нравственным сознанием,
свободной оценкой, личным убеждением: не потому, что
философская конструкция от этого бы пострадала,
а потому что тогда уже не было бы государства.
Свобода может быть выражена только
государством; именно оно является или не является
реализацией свободы: свобода индивида в той мере, в
какой последний отказывается признать всеобщее и
объективность закона, в какой он желает сохранить
свою индивидуальность только в качестве
субъективности, есть не что иное, как произвол.
Вопреки этому произволу государство
воплощает разум; вопреки чувству и представлению и
образу веры оно разумно развивает разумное
содержание религии; пустоте моральной рефлексии
vernünftigen, an und für sich gültigen allgemeinen
Handlungsweise. Der Staat kann deswegen das Gewissen in
seiner eigentümlichen Form, d. i. als subjektives Wissen nicht
anerkennen, so wenig als in der Wissenschaft die subjektive
Meinung, die Versicherung und Berufung auf eine subjektive
Meinung, eine Gültigkeit hat».
!Там же. С. 175. «Wer in dieser Wirklichkeit handeln
will, hat sich eben damit ihren Gesetzen unterworfen, und
das Recht der Objektivität anerkannt».
95
оно предоставляет содержание, которое одно дает
человеку возможность жить нравственно; живой
традиции оно дает самосознание, которого ей
недостает. Дело в том, что государство — это
разум, принявший форму закона, не мистического и
трансцендентного закона, но своего закона, своего
всеобщего правила частных деяний, это
мышление, посвятившее себя чистой разработке
принципов свободного существования, формы общности,
которая удовлетворяет любого мыслящего
гражданина, всякого образованного и цивилизованного
человека, который отбросил как грубость
непосредственного желания, так и пассивность чистой
жертвы, чтобы возвыситься до разумного
мышления о взаимодействии интересов: государство
свободно, если разумный гражданин может найти в
нем удовлетворение своих желаний и своих
разумных интересов, интересов, которые, чтобы
осмыслить, он должен сам перед собой оправдать, если
гражданин признает в законах государства
выражение чувств и традиции, которая им управляла
(даже если он об этом и не знал), если эти
законы были не только справедливыми с точки зрения
просвещенного тирана, но если они могли и
должны были быть признаны таковыми всеми теми,
кто понял, что природный человек не свободен,
что свободным может быть одно только разумное
всеобщее бытие. Государство разумно, потому что
оно говорит на языке всеобщего, для всех и для
каждого, в своих законах, и потому что все и
каждый обнаруживают, что этими законами
признано то, что образует смысл, ценность, достоинство
их существования. Можно отвергнуть разум, так
же, как можно вообще утверждать все, что
угодно; только при этом мы лишаемся средства
убеждать и опровергать, средства разумно говорить о
государстве.
Можно отдавать предпочтение страсти перед
волей, произволу перед свободой: надо только
быть последовательным (если мы желаем что-то
обсуждать) и признать, что когда свое Я мы
противопоставляем государству, какому угодно
государству, то разрушается любая организация и
любая положительная свобода, любая свобода
действовать, замышлять и осуществлять, свобода
находить удовлетворение в разумном действии,
которое является разумной организацией
сообщества людей.1
1 Мы хотели бы еще раз сослаться на книгу
Малиновского, где обнаруживается блестящая критика
отрицательной концепции свободы и прекрасно изложенная
концепция «положительной» свободы, причем обе они основаны
на научной рефлексии, которая становится философской,
несмотря на то что сама этого не замечает.
7 Эрик Вейль
IV
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Таким образом, придется допустить, что
гегелевское государство основано на свободе и
действует ради свободы, что, если привести цитату
одного из непосредственных учеников философа,
Философия права «целиком состоит из
одного-единственного металла свободы».
Мы уже говорили, что традиционный портрет
Гегеля как политического мыслителя не
соответствует действительности: не следует ли теперь пойти
еще дальше и сказать, что этот портрет на
удивление мало схож с оригиналом, что это даже не
одна из тех карикатур, которые все же позволяют
узнать оригинал под искаженными чертами,
которые, не столь явно выраженные, но органичные,
обнаруживаются на живом лице? И если это так,
то не нужно ли искать причины этого столь
любопытного факта хотя бы для того, чтобы узнать,
98
какова в случившемся доля ответственности
самого Гегеля?
Одну из таких причин легко указать: Гегель
видел в Пруссии 1815—1820 гг. осуществление
(более или менее несовершенное — вопрос
остается открытым) государства свободы. Так, заявляют,
что Пруссия Фридриха-Вильгельма IV, Пруссия
Вильгельма I и Бисмарка (иными словами, та, что
сформировалась после смерти Гегеля) определенно
не была государством свободы. Следовательно,
Гегель обожествлял авторитарное государство,
напрасно расценивая его в интересах дела как
государство разума. Паралогизм, плод анахронизма,
очевиден и понятен.
Но не слишком ли велик он, этот паралогизм?
Разве не было ничего в частных правилах
конституционного права, что способствовало оправданию
тех атак, что продолжаются с 1840 г., самое
позднее с 1848 г. и до наших дней? И разве не были
эти атаки оправданы противоречием между
принципом и его применениями? Каким же именно
было государство Гегеля?
Вот каким: это государство, монархия, точнее
конституционная монархия, сильно
централизованная в своей администрации, широко
децентрализованная в том, что касается экономических
интересов, с корпусом профессиональных чиновников, без
99
государственной религии, абсолютно суверенная
как внутри, так и снаружи. Одним словом, это
современное государство, которое и в наши дни
повсюду существует, с одним исключением, правда,
значительным в глазах Гегеля: монархическим
принципом. Мы должны об этом говорить, но
предварительно попытаемся уточнить, что понимает
Гегель под словом конституция.
Европейские юристы XIX столетия приучили
нас рассматривать, в соответствии с идеями
французской и американской революции, конституцию
как юридический акт, документ, составленный
после обдумывания, обсуждения, голосования либо
народом, либо его представителями, либо и теми и
другими. Ничего подобного у Гегеля:
«Так как дух действителен лишь в качестве
того, чем он себя знает, и государство в качестве
духа народа есть вместе с тем проникающий все
его отношения закон, нравы и сознание его
индивидов, то государственное устройство
определенного народа вообще зависит от характера и
развитости его самосознания; в этом заключается его
субъективная свобода, а следовательно, и
действительность государственного устройства. Намерение
дать народу a priori пусть даже более или менее
разумное по своему содержанию государственное
устройство упускает из виду именно тот момент, бла-
100
го даря которому оно есть нечто большее, чем
порождение мысли. Поэтому каждый народ имеет
то государственное устройство, которое ему
соответствует и подходит».1
Давать государственное устройство,
предписывать нации приказами то, что должно быть для нее
здоровым, это искушение, которому трудно
сопротивляться. Но поскольку свобода может
осуществиться лишь в той мере, в какой она представлена
в сознании народа, в его самосознании, поскольку,
проще говоря, любая группа людей требует то, что
она желает, а не то, что она обязана желать,
поскольку государство организуется лишь на
основании патриотизма, действительного чувства своих
граждан, чувства, действительно переполненного
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 315. «Da der
Geist nur als das wirklich ist, als was er sich weiss, und der
Staat, als Geist eines Volkes, zugleich das alle seine
Verhältnisse durchdringende Gesetz, die Sitte und das
Bewusstsein seiner Individuen ist, so hängt die Verfassung
eines bestimmten Volkes überhaupt von der Weise und
Bildung des Selbstbewusstseins desselben ab; in diesem liegt
seine subjektive Freiheit, und damit die Wirrlichkeit der
Verfassung. Einem Volke eine, wenn auch ihrem Inhalte
nach mehr oder weniger vernünftige Verfassung α ρήοή
geben zu wollen, — dieser Einfall übersähe gerade das
Moment, durch welches sie mehr als ein Gedankending wäre.
Jedes Volk hat deswegen die Verfassung, die ihm angemessen
ist und für dasselbe gehört».
101
содержанием, то наименьшая реализация разума и
свободы, то есть реализация, которая будет
казаться наименьшей тому, кто судит с точки зрения
более полно реализованной свободы, может быть
единственной возможной реализацией.
«Кто должен устанавливать государственное
устройство? Вопрос кажется ясным, но при
ближайшем рассмотрении сразу же оказывается
бессмысленным. Ибо этот вопрос предполагает, что
государственного устройства не существует, а
собралась лишь атомистическая толпа индивидов.
Решение вопроса, как толпа — сама ли или с
помощью других, добротой, мыслью или силой —
могла бы достигнуть государственного
устройства, должно быть предоставлено ей самой, ибо
толпа не может быть предметом понятия. Если
же этот вопрос предполагает, что
государственное устройство уже существует, то слово
установление означает лишь изменение, а из
предпосылки о наличии государственного строя
непосредственно само по себе следует, что такое
изменение может происходить лишь
конституционным путем».1
]Там же. С. 314. «Wer die Verfassung machen soll?
Diese Frage scheint deutlich, zeigt sich aber bei näherer
Betrachtung sogleich sinnlos. Denn sie setzt voraus, dass
102
Следовательно, у истории государственного
устройства нет начала, нет состояния,
предшествовавшего общественному договору; люди всегда живут в
организованном, обустроенном обществе, и
государственное устройство — это действительность,
предшествующая любой теории. Там, где существует
конституционный документ (Великобритания и
сегодня живет без такого документа), он может быть
составлен более или менее хорошо, более или менее
ясно; он будет иметь силу, только если он
соответствует реальному историческому государственному
устройству, государственному устройству нации: в
первую очередь следует брать слово «конституция»
в том смысле, какой оно имеет в физиологии.1
Но будучи живой исторической реальностью и
именно по этой причине конституция непроницаема
для науки. Поскольку она является организацией
свободы, разумной организацией, то тот факт, что
keine Verfassung vorhanden, somit ein blosser ato-mistischer
Haufen von Individuen beisammen sei. Wie ein Haufen, ob
durch sich oder andere, durch Cü/e, Gedanken oder Gewalt,
zu einer Verfassung kommen würde, müsste ihm überlassen
bleiben, denn mit einem Haufen hat es der Begnff nicht zu
tun. — Setzt aber jene Frage schon eine vorhandene
Verfassung voraus, so bedeutet das Machen nur eine
Veränderung».
*Эта идея исходит от Монтескье, на которого Гегель,
между прочим, часто ссылается.
103
устройство такого-то государства находится ниже
уровня, достигнутого мышлением определенной
эпохи, нисколько этому не противоречит.
Достаточно и необходимо знать то, что имеется в этот
момент истории устройства свободного государства.
Можно допустить, что самая высокая ступень не
достигнута нигде; но всегда именно на ее основе
более низкие уровни могут быть поняты. Именно с
этой ступени и следует начинать.
«Государство есть действительность конкретной
свободы; конкретная же свобода состоит в том, что
личная единичность и ее особенные интересы
получают свое полное развитие и признание своего
права для себя (в системе семьи и гражданского
общества) и вместе с тем посредством самих себя
частью переходят в интерес всеобщего, частью
своим знанием и волей признают его, причем
признают его именно как свой собственный
субстанциальный дух и действуют для него как для своей
конечной цели; таким образом, ни всеобщее не
обладает значимостью и не может быть совершено
без особенного интереса, знания и воления, ни
индивиды не живут только для особенного интереса в
качестве частных лиц, но волят вместе с тем во
всеобщем и для него и действуют, осознавая эту
цель. Необычайная сила и глубина принципа
современного государства состоит в том, что оно предо-
104
ставляет принципу субъективности достигнуть
полного завершения в качестве самостоятельной
крайности личной особенности и одновременно
возвращает его в субстанциальное единство и таким
образом сохраняет его в самом этом принципе».1
Современное государство имеет, следовательно,
ту особенность, что его граждане не являются
подданными, subdit'i, что разумность и
организованность не предстают перед ними в качестве чуждой
и непостижимой воли, но что именно они сами, не
отвергая свою индивидуальность и свои конкретные
интересы, признают в объективном всеобщем про-
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 286. «Der
Staat ist die Wirklichkeit der konkreten Freiheit; die konkrete
Freiheit aber besteht darin, dass die persönliche Einzelnheit
und deren besondere Interessen sowohl ihre vollständige
Entwickelung und die Anerkennung ihres Rechts für sich (im
Systeme der Familie und der bürgerlichen Gesellschaft)
haben, als sie durch sich selbst in das Interesse des
Allgemeinen teils übergehen, teils mit Wissen und Willen
dasselbe und zwar als ihren eigenen substantiellen Geist
anerkennen und für dasselbe als ihren Endzweck tätig sind,
so dass weder das Allgemeine ohne das besondere Interesse,
Wissen und Wollen gelte und vollbracht werde, noch dass
die Individuen bloss für das letztere als Privatpersonen leben.
...Das Prinzip der modernen Staaten hat diese ungeheuere
Stärke und Tiefe, das Prinzip der Subjektivität sich zum
selbständigen Extreme der persönlichen Besonderheit
vollenden zu lassen und zugleich es in die substantielle Einheit
zurückzuführen und so in ihm selbst diese zu erhalten».
105
явление этой индивидуальности и этих интересов, а
также что государство действительно не только в
одной лишь воле властителя (или властителей):
одним словом, современное государство по свой
сущности отличается от римской империи, где
гражданин признается государством как свободный
индивид («частная личность»), но где гражданин
не принимает участия в делах государства, которое
имеет свою действительность только в личности
императора (не говоря уже о существовании рабов,
человеческих существ, не являющихся людьми
перед законом). Современное государство не
является организацией, которая включает в себя граждан,
оно является их организацией.
* * *
Если бы мы стремились к анализу гегелевского
мышления в его глубинном единстве, то был бы
удачный момент поговорить о фундаментальном
понятии счастья. Именно оно образует последнюю
пружину человеческой истории: в этой истории оно
указывает на его границу, которая будет
достигнута, когда каждый индивид будет признан
абсолютной ценностью любым другим индивидом и всеми
индивидами, когда, если вести речь о другой грани-
106
це, опосредствование между людьми (и между
людьми и природой)1 будет всеобъемлющим. Здесь
нам придется ограничиться простым намеком;
достаточно будет дать понять, в каком смысле
современное государство дает своим гражданам счастье:
каждый индивид знает, что он признан, каждый
индивид является и знает, что он является
активным членом сообщества и, более того, знает,
что он известен и признан таковым всеми
остальными и самим государством.
Этот принцип дает Гегелю возможность
развить, на основе концепции свободы, учение об
организации государства. Поскольку частный интерес
индивидов осуществляется в государстве,
поскольку индивиды имеют обязанности только в той мере,
в какой они обладают правами, то можно указать,
как государство, единство разумной организации,
само разумно организуется.
Что для этого необходимо? Прежде всего
власть, которая универсально определяет всеобщее:
законодательная власть; затем власть, которая
подводит особенный случай под универсальное
правило, которая применяет законы и принципы, которая
Ό концепции признания (Anerkennung) и счастья
(Befriedigung) см. анализ Феноменологии Духа, который
дает А. Кожев.
107
принимает решения в повседневной
действительности: административная власть; наконец, власть,
которая сообщает форму эмпирической воле, которая
после обдумывания, после обсуждения, после
сопоставления интересов и доктрин, говорит свое fiat:
принимающая решения власть, суверен, государь.
Именно этот последний элемент гегелевского
государственного устройства и навредил ему
больше всего в течение XIX века и в начале XX. Как
можно быть монархистом? Разумеется, в
исторических извинениях недостатка нет: эпоха, во время
которой формируется гегелевское мышление,
видела провал республиканского принципа; две великие
революции, революция в Англии и революция во
Франции, заканчиваются монархической
реставрацией, и к 1820 году в Европе не встречается хоть
немного влиятельной республики (Швейцария и
ганзейские города обязаны своей независимостью
только милости властей). Но гегелевское
утверждение правомерно рассматривать на том уровне, на
который оно претендует, на уровне разума. И что
удивительно, когда оно так рассматривается, оно
приобретает силу. Ибо кто такой государь?
Индивид, который принимает решения. Как он решает?
Разумеется, руководствуясь не частной волей,
определяемой частным интересом, еще меньше —
108
произволом. Если бы он делал так, то он был бы
не государь, а тиран:
«Между тем деспотизм означает вообще
состояние беззакония, в котором особенная воля как
таковая, будь то воля монарха или народа
(охлократия), имеет силу закона или, вернее, действует
вместо закона, тогда как суверенитет, напротив,
составляет в правовом, конституционном состоянии
момент идеальности особенных сфер и функций и
означает, что подобная сфера не есть нечто
независимое, самостоятельное в своих целях и способах
действия и лишь в себя углубляющееся, а зависима
в этих целях и способах действия от определяющей
ее цели целого (к которому в общем применяют
неопределенное выражение благо государства)».1
Государь, как и все органы власти государства,
представляет всеобщее: и, как и остальные, он
представляет собой особый его момент, существенную
функцию, которую не следует понимать как
независимую от остальных, а еще меньше как, в сущности,
противоположную остальным, относящуюся к ним с
недоверием, борющуюся с ними за влияние. Он вы-
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 318. «Der
Despotismus bezeichnet überhaupt den Zustand der
Gesetzlosigkeit, wo der besondere Wille als solcher, es sei
nun eines Monarchen oder eines Volks (Ochlokratie), als
Gesetz oder vielmehr statt des Gesetzes, gilt».
109
ражает суверенитет, который в нем становится
конкретным, представленным в этом мире, и который
может стать таковым лишь по законам этого мира:
таким же реальным, как и человеческий индивид.
Гегель из этого выводит превосходство
наследственной монархии: и это, возможно, единственная,
хоть немного значимая уступка, которую он
совершает в отношении официального мнения своей
эпохи; так как философская дедукция правомерно
доказывает лишь необходимость конкретной
индивидуальности, как воплощения воли, принимающей
решения. Он отдает себе отчет, что трудно избавить
«главу государства» от частных влияний, неизбежно
сильных, если он доходит до высшей функции
посредством выборов — именно этот аргумент он
приводит в добавление к онтологическому
аргументу. Но в первую очередь — и это, по нашему
мнению, истинная причина — главная функция
гегелевского государя в том, чтобы представлять
непрерывность государства, мнимо биологическую.
Чем бы ни был наследственный принцип,
критики легко забывают, что нет государства без
индивидуального представителя суверенитета.
Говорят, что этот представитель не играет значительной
1 Именно такой вывод делается относительно акцента,
который Гегель ставит на факторе Natürlichkeit (бытия и
становления природы).
110
роли, что президент в большинстве республик,
король в Великобритании и в других европейских
монархиях наших дней занимает первое место лишь
формально. Но в чем состоит роль гегелевского
государя на практике? Конечно, он является
сувереном: именно он принимает решения в последней
дистанции, он пользуется правом помилования
преступников, он является главой армии,
объявляющим войну, он подписывает законы, разрешает
разногласия между советниками, которых сам
назначает. Но следовало бы отвергнуть все, что
Гегель говорит о государстве, чтобы предположить,
что эти крайне распространенные полномочия
могут всегда использоваться без согласия нации и
вопреки ее интересам; более того, они могут быть
использованы лишь ради того, что нация понимает
как свой интерес. Не государь ставит проблемы, не
государь разрабатывает возможные решения, даже
не он на самом деле выбирает между этими
решениями, поскольку для этого выбора необходимы
мнения его советников.
И чтобы в этой интерпретации никто не увидел
что-то вроде искусной, но вводящей в заблуждение
судебной речи, посмотрим, что Гегель говорит об
этом вопросе во время одной из своих лекций о
Философии права (этих слов роялисты-романтики
не прощали ему никогда):
111
«При совершенной организации государства все
дело только в наличии вершины формального
решения; монарх должен быть лишь человеком,
который говорит „да" и ставит точку над i, ибо
вершина должна быть такова, чтобы особенность
характера не имела значения. Все то, что присуще
монарху, помимо этого последнего решения, есть
нечто частное, чему не следует придавать
значения».1
Это, возможно, доказывает, что Гегель был
более радикальным в своих лекциях, чем в своих
публикациях; разумеется, это доказывает, и именно в
той мере, в какой ничего не добавляет к текстам,
составленным по личным впечатлениям, что
государь не является ни центром, ни главным
механизмом государства. Король принимает решения; но
отнюдь не он решает, когда и о чем принимать ре-
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 324. «So ist
eben die Voraussetzung hier nichtig, dass es auf die
Besonderheit des Charakters ankomme. Es ist bei einer
vollendeten Organisation des Staats nur um die Spitze
formellen Entscheidens zu tun und um eine natürliche
Festigkeit gegen die Leidenschaft. Man fordert daher mit
Unrecht objektive Eigenschaften an dem Monarchen; er hat
nur Ja zu sagen, und den Punkt auf das I zu setzen. Denn
die Spitze soll so sein, dass die Besonderheit des Charakters
nicht das Bedeutende ist».
112
шения. Он может сказать «нет»; но изобретать,
творить, управлять — это не его дело. Тогда чье?
Таким образом, мы подходим к пункту, гораздо
более затруднительному для того, кто желает
защитить Гегеля от атак либералов. Так как если
есть положение, о котором Гегель высказывался
без оговорок, так это его отказ от народного
суверенитета. Конечно, говорит он, этот термин не
лишен смысла; но он бесполезен, даже опасен, если
мы хотим понять организацию государства и
понять, в чем состоит политическая деятельность.
«О народном суверенитете можно говорить в
том смысле, что народ вообще является по
отношению к внешнему миру самостоятельным и
составляет собственное государство... Можно также
говорить и о внутреннем суверенитете, принадлежащем
народу, если вообще говорить о целом, совершенно
так же, как выше было показано, что государству
присущ суверенитет. Но в новейшее время о
народном суверенитете обычно стали говорить как о
противоположном существующему в монархе
суверенитете, — в таком противопоставлении
представление о народном суверенитете принадлежит к
разряду тех путаных мыслей, в основе которых лежит
пустое представление о народе. Народ, взятый без
своего монарха и необходимо и непосредственно
8 Эрик Вейль
113
связанного именно с ним расчленения целого, есть
бесформенная масса, которая уже не есть
государство и не обладает больше ни одним из
определений, наличных только в сформированном внутри
себя целом, не обладает суверенитетом,
правительством, судами, начальством, сословиями и чем бы
то ни было».
Что значит этот текст? На первый взгляд он,
кажется, указывает, что народ (в обычном для
современных политических дискуссий смысле
термина) не играет никакой роли в функционировании
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 320—321.
«Volkssouveriänetät kann in dem Sinn gesagt werden, dass
ein Volk überhaupt nach aussen ein Selbständiges sei und
einen eigenen Staat ausmache. ... Man kann so auch von der
Souveränetät nach innen sagen, dass sie im Volkle residiere,
wenn man nur überhaupt vom Ganzen spncht, ganz so wie
vorhin gezeigt ist, dass dem Staate Souveränetät zukomme.
Aber Volkssouveränetät als im Gegensätze gegen die im
Monarchen existierende Souveränetät ... gehört ...zu den ver-
worrenen Gedanken, denen die wüste Vorstellung des Volkes
zugrunde liegt. Das Volk, ohne seinen Monarchen und die
eben damit notwendig und unmittelbar zusammenhangende
Gegliederung de Ganzen genommen, ist die formlose Masse,
die kein Staat mehr ist und der keine der Bestimmungen, die
nur in dem in sich geformten Ganzen vorhanden sind, —
Souveränetät, Regierung, Genchte, Obngkeit, Stande und
was es sei, — mehr zukommt». Известно, что в этом
вопросе (как и во всех других) национал-социализм занял
позицию, противоположную гегелевскому учению.
114
государственного устройства или в политической
деятельности. Ничего подобного, и простого
напоминания о том, что мы говорили о свободном
государственном устройстве, достаточно, чтобы
доказать: государственное устройство является
современным лишь там, где каждый гражданин
обладает правами, пропорциональными его
обязанностям, где каждый знает, что, трудясь для целого,
он трудится для себя. Впрочем, анализ
государственной организации, к которому мы скоро
обратимся, докажет это с избытком. Почему же тогда
Гегель высказывает такую суровую критику?
Разумеется, в силу недоверия к революционным
движениям. Но если мы попытаемся уточнить, что это за
революция, против которой восстает Гегель, то мы
обнаружим, что это революция национализма,
точнее, революция великогерманского национализма,
того самого, который стоял у истоков движения
1848 г. И который одержал первую победу,
частичную, при Бисмарке, чтобы затем завоевать
другую, тотальную и временную, при Гитлере. Если
бы из текстов Гегеля не следовало, что никакая
иная интерпретация невозможна,1 то раздраженные
замечания современных критиков Гегеля показали
1 Мы не говорим здесь о «социальной революции»; мы
еще подойдем к ней позже.
115
бы: от первого из этих критиков, Гейма, и до
самого последнего, Розенцвейга, который гегелевскую
идею обвинил в «узости и грубости» и признался,
что он надеялся в 1914 г., что «удушливая
односторонность рейха Бисмарка» уступит место «рейху,
дышащему свободным воздухом всего мира в
целом», они единодушно признавали в Гегеле врага
великогерманской идеи: дело в том, что либералы
Германии XIX века, отцы II рейха, были прежде
всего националистами.1 Для них — и так же будет
и для национал-социализма — народ сам создает
свое государство. Для Гегеля именно государство и
история (они у него не разделяются, как только
народ выходит из варварства) создают народ.2
Тем не менее, если мы правы, если критика
народного суверенитета обращена только против эт-
*См. то, что Гегель говорит о Германии в Философии
истории: «Предназначенная для Духа, Германия не
смогла достичь политического единства... В своей внешней
политике Германия — ничтожество». Термин «Дух»
указывает, что Гегель, так же как и Гете, видел в политической
слабости Германии ее истинную силу.
2Забавно констатировать, что Гегель с этим
утверждением совершенно прав — и что он, в частности, прав в
том, что касается объединения Германии, которое, вопреки
национально-либеральным идеям 1848 г., было сделано
таким слугой прусской короны, каким был Бисмарк:
именно он создал новый национал-либерализм Империи.
116
нического национализма, если, наоборот, Гегель
признавал за народом суверенитет в той мере, в
какой он организован, в какой он создает
государство, в какой он ощущает в этом государстве
высшее выражение своей собственной воли, то
потребуется, чтобы этот другой суверенитет был
выражен в конструкции политического здания.
Государство выражает и воплощает суверенитет? Что
же остается народу?
Ему остается парламент или, если использовать
гегелевский термин, сеймы. Народ обсуждает, и он
обсуждает так, как это установлено в государстве,
то есть в сеймах: сейм для людей, занятых
непосредственным природным трудом, представленный
крупными собственниками, образует Верхнюю
палату, состоящую из людей, оказавшихся там в силу
рождения или земельной собственности; сейм для
подвижного общества, представленный делегатами,
действующими под свою личную ответственность,
без императивного мандата, опирающимися на
доверие своих мандатов; они депутаты, но они не
обязательно избираются, поскольку они
представляют не индивидов, но объективные интересы
корпораций, общин.
Следовательно, народ действительно имеет
главный голос. Но, на первый взгляд, нельзя
отделаться от чувства, что в этом государстве все стро-
117
ится таким образом, чтобы этот голос нельзя было
услышать. И система становится еще более
подозрительной, когда мы обратим свое внимание на ту
роль, какую в этом государственном устройстве
играет администрация, чиновничество. Ибо главная
власть, которую мы напрасно искали, которая не
удерживается короной, которая не принадлежит
народному представительству, оказывается в руках
чиновника. Того, кто все готовит, кто ставит
проблемы, кто разрабатывает все решения.
Ответственный только перед главой государства,
получивший квалификацию благодаря своему образованию
(гарантированному государственными экзаменами),
благодаря своим знаниям, своему опыту ведения
дел, чиновник является истинным слугой
государства — и его настоящим хозяином. В сущности
объективный, в сущности аполитичный (в том смысле,
в каком это слово означает позицию человека, не
являющегося чьим-либо сторонником),
рекрутированный независимо от происхождения, от
состояния, от социальных условий, чиновник не образует
политического сословия, как сельские жители и
члены других профессий: как он мог бы создать
парламентскую партию, если главная функция
палат в том, чтобы контролировать администрацию?
Но он образует социальное сословие,
универсальное сословие, из всех сословий самое влиятельное.
118
Ничего из себя не представляя в политике,
чиновничество все держит в своих руках в организации
государства: именно оно образует вторую власть,
власть управления, расположенную между властью
государя и законодательной властью. Верно, что
государь принимает решения, верно, что палаты
ставят на голосование законы и регулируют
вопросы универсальной значимости; но администрация
главенствует над ними. Мы не смогли бы сказать
об этом сильнее, чем это сделал сам Гегель:
«Представление, которое обыденное сознание
обычно имеет о необходимости и полезности
деятельности сословий, состоит преимущественно в
том, что депутаты народа или даже сам народ
лучше всего понимает, что идет ему на пользу и что
он без всякого сомнения намеревается это
осуществить. Что касается первого, то дело обстоит как
раз таким образом, что народ, поскольку это слово
обозначает особенную часть членов государства,
представляет собой ту часть, которая не знает, чего
она хочет. Знание чего хочешь, а тем более чего
хочет в себе и для себя сущая воля, разум — плод
глубокого познания и разумения, что именно и не
есть дело народа. Гарантией, которой служат для
всеобщего блага и общественной свободы
сословные представители, окажется при некотором
размышлении совсем не глубокое их разумение, ибо
119
высшие государственные чиновники необходимо
обладают более глубоким и широким пониманием
природы учреждений и потребностей государства,
так же как и большим умением и привычкой вести
государственные дела, и могут без сословных
представителей совершать наилучшее, что они
постоянно и делают при наличии сословных
собраний,— эта гарантия заключается отчасти в
дополнении понимания высших чиновников пониманием
депутатов, преимущественно в тех случаях, когда
речь идет о деятельности чиновников, менее
подверженных контролю высших властей, и в
особенности о настоятельных и специальных
потребностях и недостатках, которые депутаты конкретно
наблюдают; отчасти же эта гарантия заключается
в том воздействии, которое влечет за собой
контроль со стороны многих, причем контроль
публичный, а именно уже заранее заставляет как
можно лучше вникать в дела и в предлагаемые
проекты, руководствуясь лишь чистейшими
мотивами,— необходимость, оказывающая свое
воздействие и на самих сословных представителей.
Что же касается преимущественной доброй воли
сословий, направленной на всеобщую пользу, то
уже выше было указано, что для воззрения черни
и вообще негативной точки зрения характерно
предположение, будто правительство руководству-
120
ется злой или недостаточно доброй волей,— это
предположение, если дать на него ответ в той же
форме, повлечет за собой ближайшим образом
обвинение, что сословия, поскольку они исходят из
единичности, из точки зрения частных лиц и
особенных интересов, склонны использовать свою
деятельность в пользу этих моментов за счет
всеобщего интереса».1
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 340—341.
«Die Vorstellung, die das gewöhnliche Bewusstsein ...
zunächst vor sich zu haben pflegt, ist vornehmlich etwa, dass
die Abgeordneten aus dem Volk oder gar das Volk es am
besten verstehen müsse, was zu seinem Besten diene und
dass es den ungezweifelt besten Willen für dieses Beste habe.
... So ist vielmehr der Fall, dass das Volk, insofern mit
diesem Worte ein besonderer Teil der Mitglieder eines Staates
bezeichnet ist, den Teil ausdrückt, der nicht weiss was er
will. Zu wissen, was man will, und noch mehr was der an
und für sich seiende Wille, die Vernunft, will, ist die Frucht
tiefer Erkenntnis und Einsicht, welche eben nicht die Sache
des Volks ist. — Die Gewährleistung, die für das allgemeine
Beste und die öffentliche Freiheit in den Ständen liegt, findet
sich bei einigem Nachdenken nicht in der besonderen Einsicht
derselben — denn die höchsten Staatsbeamten haben
notwendig tiefere und umfassendere Einsicht in die Natur der
Einnchtung und Bedürfnisse des Staats, sowie die grossere
Geschicklichkeit und Gewohnheit dieser Geschäfte und
können ohne Stände das Beste tun, wie sie auch fortwährend
bei den ständischen Versammlungen das Beste tun
müssen, — sondern sie liegt teils wohl in einer Zutat von
Einsicht der Abgeordneten, vornehmlich in das Treiben der
121
Цитата длинная, но у нее то преимущество, что
она резюмирует все, что имеет значение
относительно парламента и его роли в гегелевском
государстве. Никаких прямых выборов,
представительство интересов общества делегатами, которых
сегодня считали бы корпоративными,
парламентская функция ограничена двумя целями: контролем
над администрацией (Гегель даже полагает, что
этот контроль более эффективно осуществляется
иерархией власти) и через голосование законов
участием граждан в делах государства в том
смысле, что они знают, что дела, остающиеся практиче-
den Augen der höheren Stellen ferner stehenden Beamten,
und insbesondere in dringendere und speziellere Bedürfnisse
und Mängel, die sie in konkreter Anschauung vor sich haben,
teils aber in derjenigen Wirkung, welche die zu erwartende
Zensur Vieler und zwar eine öffentliche Zensur mit sich
führt, schon im voraus die beste Einsicht auf die Geschäfte
und vorzulegenden Entwürfe zu verwenden und sie nur den
reinsten Motiven gemàss einzurichten. ... Was aber den
vorzüglich guten Willen der Stände für das allgemeine Beste
betrifft, ... so ... gehört (es) zu der Ansicht des Pöbels, dem
Standpunkt des Negativen überhaupt, bei der Regierung einen
bösen oder weniger guten Willen vorauszusetzen; — eine
Voraussetzung, die ... die Rekrimination zur Folge hatte,
dass die Stände, da sie von der Einzelnheit, dem
Privatstandpunkt und den besonderen Interessen herkommen,
für diese auf Kosten des allgemeinen Interesses ihre
Wirksamkeit zu gebrauchen geneigt seien».
122
ски в руках администрации, являются их делами и
ведутся в их интересах и с их согласия; они знают,
что они признаны государством и в государстве
теми, кем они на самом деле и являются, то есть в
соответствии с их участием в общественном труде.
Индивид не сталкивается с приказом, с которым
он не согласился бы; но все, что от него
требуется, — это согласие, а не инициатива.
«Конкретное рассмотрение, идея, показывает,
что момент особенности столь же существен и что
удовлетворение его совершенно необходимо;
индивид должен каким-либо образом находить в
исполнении своей обязанности также и свой собственный
интерес, свое удовлетворение или расчет, и из его
отношения к государству для него должно
возникнуть право, благодаря которому всеобщее дело
становится его собственным, особенным делом.
Поистине, особенный интерес не должен быть отстранен
или даже подавлен, а должен быть приведен в
согласие со всеобщим, благодаря чему будет сохранен
он сам и сохранено всеобщее. Индивид, по своим
обязанностям подданный, находит в качестве
гражданина в исполнении этих обязанностей защиту
своей личности и собственности, внимание к
особенному благу и удовлетворение его субстанциальной
сущности, сознание и чувство, что он член этого
целого, и в этом исполнении обязанностей как сверше-
123
ний и дел на пользу государства государство
обретает основу своей прочности и своего пребывания».1
Именно это требование парламент должен
удовлетворить. Благодаря парламенту гражданин
имеет средство заставить услышать свои жалобы,
выразить свои потребности, принять участие во
всеобщих решениях, то есть в законодательстве,
осуществлять контроль над применением этих
решений местной администрацией, убеждаться, что
дела государства — это его дела, и что его
дела — это дела государства в той мере, в какой
его труд и его интересы содействуют общему инте-
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 288. «Das
Individuum muss in seiner Pflichterfüllung auf irgendeine
Weise zugleich sein eigenes Interesse, seine Befriedigung oder
Rechnung finden, und ihm. aus seinem Verhältnis im Staat
ein Recht erwachsen, wodurch die allgemeine Sache seine
eigene besondere Sache wird. Das besondere Interesse soll
wahrhaft nicht beiseite gesetzt oder gar unterdrückt, sondern
mit dem Allgemeinen in Uebereinstimmung gesetzt werden,
wodurch es selbst und das Allgemeine erhalten wird. Das
Individuum, nach seinen Pflichten Untertan, findet als
Bürger in ihrer Erfüllung den Schutz seiner Person und
Eigentums, die Berücksichtigung seines besonderen Wohls
und die Befnedigung seines substantiellen Wesens, das
Bewusstsein und das Selbstgefühl, Mitglied dieses Ganzen zu
sein und in dieser Vollbnngung der Pflichten als Leistungen
und Geschäfte für den Staat hat dieser seine Erhaltung und
sein Bestehen».
124
ресу. Парламент действительно объединяет
государство-администрацию и общество тружеников.
Но государство остается государством, общество
остается обществом: гражданин трудится и
организует свой труд, чиновник управляет всем обществом
в целом. Чтобы этот последний мог эффективно
управлять, необходимо, с одной стороны, чтобы
первый видел в администрации защитника своих
интересов, а с другой — необходимо чтобы
администрация была осведомлена о природе этих интересов;
важно, следовательно, чтобы администрация
защищала общие интересы компетентно, со знанием дела
и обладая требующейся для этого профессиональной
подготовкой, чтобы гражданин мог мирно трудиться.
Следовательно, если общество — это основа,
материя, несколько бесформенная материя государства,
то сознающий себя разум целиком на стороне
государства: вне его может существовать
нравственность, традиция, труд, абстрактное право, чувство,
добродетель, но там не может быть разума. Только
государство мыслит, только государство может быть
полностью осмыслено.
Кроме того, для Гегеля нет ничего более
ложного, чем теория, согласно которой государство
является защитником общества. Нет государства без
общества: для Гегеля это также истинно, как и
заурядно; но только в государстве общество органи-
125
зует себя согласно разуму. Общество само это
признает: разве может государство требовать от
своих граждан принести в жертву общество,
собственность и их жизнь в тот момент, когда оно
борется за свое собственное существование,
являющееся существованием разумной свободы граждан
и общества?
«Существует совершенно превратный расчет,
когда при требовании подобных жертв государство
рассматривается просто как гражданское общество и его
конечной целью считается лишь обеспечение жизни и
собственности индивидов, ибо это обеспечение не
достигается посредством жертвования тем, что
должно быть обеспечено; напротив, в указанном
заключается нравственный момент войны».1
* * *
Государство всегда государство — государство
администрации, чиновников: разве жесткая
оппозиция либералов более важна, чем оппозиция объеди-
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 360. «Es gibt
eine sehr schiefe Berechnung, wenn bei der Forderung dieser
Aufopferung der Staat nur als bürgerliche Gesellschaft, und
als sein Endzweck nur die Sicherung des Lebens und
Eigentums der Individuen betrachtet wird; denn diese
Sicherheit wird nicht durch die Aufopferung dessen erreicht,
was gesichert werden soll; — im Gegenteil».
126
ненных пруссов и немцев? Гегелевские принципы
противостоят либеральной критике, разве не
противостоят ей и следствия?
Этот вопрос должен приобрести здесь, где речь
идет о философии, то есть об объективном
мышлении, точный смысл. Речь не идет о том, чтобы
знать, является ли это государство «симпатичным»
или «антипатичным»; речь идет о том, чтобы
знать, были ли правильно выведены из принципов
следствия? Так, кажется трудным найти
логическую ошибку, что было бы необходимо, чтобы
рассматривать гегелевскую теорию как ничтожную,
поскольку она ошибочна. И эти следствия не
доставляют удовольствия либеральному мышлению.
Приведем один-единственный пример, случай с
общественным мнением. Гегель не отрицает ни его
существования, ни его значения. Но в его глазах это
публичное мнение — пространство частных и
безответственных мнений, и чем менее они истинны, тем
в большей степени являются частными и
безответственными. Если публичное мнение является, с одной
стороны, vox Dei в том, что оно выражает
«истинные потребности и аутентичные тенденции
реальности», то, с другой, оно представляет собой поле
заблуждений; так как чтобы уметь выбирать со
знанием дела, мнению необходимо то знание, кото-
127
рое не является его достоянием, даже если это
мнение всегда было к нему предрасположено. Конечно,
согласно Гегелю, легко сделать подозрительным
любое законодательство о печати, по его мнению, даже
невозможно, чтобы оно не было под подозрением;
более того, верно, что именно в силу субъективного
характера преступлений в сфере публичного мнения
их не удается квалифицировать объективно и любое
обвинение сохранит в себе признак субъективной
оценки. Верно также, что пропаганда обращена к
свободе людей и что без их согласия ее речь не
стала бы реальным действием. Для Гегеля это не
важно: интересы «индивидов, общества и государства»
вправе быть защищенными от произвола
безответственных выражений, так же, как они вправе иметь
защиту от религиозных или мнимо научных доктрин,
подвергающих их опасности.1
1 Наука, а тем более Церковь имеют право на
существование вне государства и могут рассматривать его как
простое средство для достижения своих собственных
целей; но это средство не подлежит цензуре и не
принадлежит к тем факторам, что воздействуют на публичное
мнение инсинуациями, так как это средство имеет совершенно
иную природу, чем природа мнений. Тем не менее, эта
функция не защищает сотрудников факультетов, когда
своим псевдообразованием они подрывают основы
государства.
128
Это шокирует, и велико искушение вести речь
об авторитарном, полицейском государстве. Но
можно не только сослаться на конституционные
гарантии свободы в гегелевском государстве, в
царстве закона, в признании абсолютной ценности
индивида, в парламентском контроле; проще и
убедительнее взглянуть на политическую
действительность современных государств, называемых
свободными.
Сразу же установим, что уже нет хоть в
небольшой степени значительных государств, центр
которых не находился бы в администрации: даже
англо-саксонские империи, долгое время
сопротивлявшиеся новым веяниям, в конце концов создали
корпус чиновников, обязанных защищать то, что
Гегель называет общими интересами, то есть не
интересы общества, не интересы групп индивидов,
даже не интересы всех индивидов, но интересы
государства как исторического и суверенного
единства. Ни одно государство уже не является
парламентским в смысле XIX века: даже там, где
государственное устройство сохраняет эту форму,
реальность в бесконечно большей степени
соответствует гегелевскому образу, вместе с ролью
профсоюзов, промышленных объединений,
сельскохозяйственных тружеников, врачей и т. д., вместе с
экономическими советами, автономными организ-
9 Эрик Вейль
129
мами, где встречаются и концентрируются сословия
общества с представительством корпоративных
интересов, делегатами, выходцами из этих
корпораций, облаченными их доверием: на эти организации
и их полномочных представителей и рассчитывает
гражданин с целью «примирения с государством»
гораздо больше, чем на представителей, избранных
индивидуально. Кроме того, парламенты всего
лишь выражают единство или конфликт интересов
и совершенно неспособны проявить власть против
коалиции главных интересов: если необходимо, то
они ограничиваются тем, что угождают
правительству, которое заняло место государя, и
администрации, которая разбирается в ситуации, в проблемах
и средствах их решения. Между
«демократическими» и «диктаторскими» государствами в этой
области есть лишь различие в степени, различие по
существу устанавливается ролью объективного и
разумного закона, то есть данной или отвергнутой
возможностью граждан принимать участие в
контроле, в принятии решений, в разработке трудового
плана, возможностью выбирать свою жизнь. Но ни
в каком современном государстве отношение между
индивидом и государством не является
непосредственным, как того желает теория, восходящая к
Руссо: оно опосредовано социально.
130
Именно так и видел Гегель, и в этом смысле
история взяла на себя его защиту. Даже в том,
что касается публичного мнения, он лишь описал
реальность, которая и является нашей. Любое
государство защищает законами личную честь
граждан, нравственность, форму государственного
устройства, личность главы государства,
государственный кредит. Если мы стали особо
чувствительными к свободе печати, то потому, что мы
осмысливаем проблему, которая даже не была
поставлена у Гегеля: проблему печати, которая
работает по правительственным инструкциям или
той, которая находится в распоряжении частных
интересов, достаточно могущественных, чтобы
оказывать влияние и искажать публичное мнение.
Здесь есть одна возможность, которую Гегель не
рассматривал: для него мнение целиком
оказывается на стороне общества — и общества, которое
еще не знает монополии — радикально
отделенное от государства, оно поддерживает с ним лишь
одно отношение, отношение взаимного контроля.
Резюмируем: гегелевская теория государства
правильна, потому что она правильно анализирует
действительное государство эпохи Гегеля и нашей
эпохи.
ν
ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА
Мы можем подвести итог. Гегель не является
философом Пруссии, по крайней мере, он не имеет
права на этот титул, так как противостоит волне
великогерманского национализма. Он — философ
современного государства, которому он дал верный
анализ, с точностью указывающий, в чем
заключается свобода в государстве, каковы условия,
которые должно выполнить государство, чтобы быть
государством свободы, государством, реализующим
современное мышление. Нам остается только
принести извинения, что мы не сделали более полного
анализа Философии права на политическом уровне
(так как, что касается онтологического анализа и
исследования последних оснований этой теории, мы
уже однажды извинялись). Не следует ли вести
речь о третьем социальном сословии, сословии
воинов? Не заинтересованы ли мы настаивать на том
132
факте, что, полностью соглашаясь, что
профессиональная армия занимает важное место в
современном государстве, полностью признавая за солдатом
автономию бытия, которое перед лицом смерти
является чистым бытием для себя, приписывая ему
самую возвышенную решимость и
непосредственное присутствие духа, Гегель в то же самое время
видит в этом величии состояние глупости,
существование, взятое в чисто внешней механике,
отсутствие духа, свойственного индивида? И не
обнаруживаем ли мы в этом новое подтверждение нашей
интерпретации, а именно что гегелевское мышление
весьма мало является «прусским» в обычном
значении этого слова?
Но остается одна более значительная
проблема, возможно, самая тревожная из всех проблем:
если гегелевский анализ верен, то выдержит ли
он удары более серьезной, более решительной
критики? Если Гегель описывал, если он желал
описать государство в себе, идею государства, то
не вытекает ли из этого, что для Гегеля история
достигает своего завершения, порождая
государство, которое соответствует разуму, то есть
свободной воле, что, следовательно, уже нет ничего,
что должно было бы произойти в этом мире, что
будущее может быть лишь пустой и скучной
длительностью?
133
Верно, что интерес, проявляемый в последнее
время к Феноменологии Духа, не был целиком
благоприятным для понимания гегелевского
мышления, хотя этот интерес заслуживает самой высокой
оценки, так как возвращает взгляд любителей
философии к этому истинно великому мыслителю.
Слишком легко забывают, что Феноменология за-
кончена в момент Иенского сражения. «Мировая
душа», которую Гегель видит проходящей под его
окном, это еще не Наполеон Тильзита, не
Наполеон Испании, не Наполеон Москвы — и уж тем
более не Наполеон Святой Елены. События
следуют своим ходом, который хорошо известен: было
бы невероятно, чтобы человек, для которого чтение
ежедневных газет было утренней молитвой, не
обратил бы на эти события внимания. Наполеон пал,
самый высший пункт истории не достигнут,
мировая империя разума, которой завершается
изложение Феноменологии, не нашла воплощения в
реальности. И не мог ли Гегель просто заменить
Наполеона Фридрихом-Вильгельмом III, а
империю — Пруссией? Не уступило ли общее
примирение человека с самим собой в достигнутом
опосредовании свое место концепции системы
национальных, суверенных, независимых друг от
друга государств, конфликтующих друг с другом,
всегда возвращающихся, всегда готовых вернуться
134
к грубой борьбе, к тому насилию, которое должно
было устранить опосредование?
Тем не менее обычно заявляют: Гегель был в
Берлине конформистом, поскольку он был
коллаборационистом в Иене и в Баварии. Было бы
напрасно напоминать обо всем том, о чем мы только
что говорили, добавив, что это государство не было
таким абсолютистским, каким его хотят видеть, что
мораль индивида имеет абсолютную ценность внутри
своей собственной области, что общество труда
обладает своими правами, которые государство не
должно ущемлять, что последнее только воплощает
историческую нацию, что индивид ни в коей мере не
приносится в жертву тоталитарному Молоху, что
религия, искусство, наука были для Гегеля высшими
формами существования духа, не подчиненными
государству, что государство не может нарушить свои
границы, не утратив своего основания, которое как
раз и состоит в его разумном характере: ничто не
устранит данное убеждение до тех пор, пока не
будет доказано, что речь не идет о чистом охранитель-
стве, дот тех пор, пока, если сказать точнее, не
будет доказано, что государство, очерченное
Философией права, само является для Гегеля
историческим феноменом, историческим не только в том
смысле, что каждое государство существует в
истории, но в том другом, что сама форма государства
135
является лишь преходящей формой, формой, которая
в этот момент не преодолена разумом, но которая
тем не менее не является непреодолимой и
окончательной. Только таким образом гегелевская
проблема политики найдет свое решение.
Философия права заканчивается несколькими
параграфами, которые содержат весьма краткий
набросок гегелевской философии истории. Там не
встречается ничего особенно интересного, и
изложение нисколько не противоречит Энциклопедии
или Введению в Философию истории — ничего
интересного, за исключением того факта, что это
изложение находится в этом месте.
К этому наброску мы приходим вполне
естественно: при помощи понятий внешнего суверенитета
государства и войны. Государство, говорит Гегель,
не ограничивается одним лишь внешним
суверенитетом, взятое в целом, оно не сводится к
законодательному и исполнительному суверенитету: оно, в
своей сущности, является индивидуальностью среди
других индивидуальностей, неустранимой и
совершенной индивидуальностью. И поскольку между
индивидами до тех пор, пока не образовано ка-
1 Которое дошло до нас в рукописи, написанной
Гегелем.
136
кое-либо высшее единство, могут существовать
лишь непосредственные отношения, то нет и
конкретных законов, которые были бы применимы к
государствам в их отношениях между собой. Самое
большее, между государствами существует
нравственная связь, чрезвычайно простая и весьма
тонкая: они признают друг друга, и поскольку это
признание фундаментально, даже насильственный
конфликт, всегда возможный там, где отношения
между индивидами являются естественными и
непосредственными, не должен упразднять это
взаимное признание, не должен заставлять забывать,
что нормальное отношение между индивидами,
признающими друг друга, — это отношение мира,
что, другими словами, возможность мира должна
всегда сохраняться.
«Поэтому война содержит в себе определение
международного права, устана вливающее, что в
войне содержится возможность мира, что,
следовательно, послы должны быть неприкосновенны и
что война вообще ведется не против внутренних
институтов и мирной семейной и частной жизни, не
против частных лиц».1
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 368. «Er (se.
der Krieg) enthält damit die völkerrechtliche Bestimmung,
dass in ihm die Möglichkeit des Fnedens erhalten, somit
z. B. die Gesandten respektiert, und überhaupt, dass er nicht
137
Для государств существует и другая
нравственная обязанность: договоры, согласно которым
суверенные государства принимают на себя взаимные
обязательства, должны соблюдаться.1
Что поразительно в этих двух правилах, так это
появление слова «долг»: то, что связывает
государства между собой, является нравственностью,
долгом. Разве не очевидно, что мы таким образом
возвращаемся к абстрактной морали, предшествующей
и подчиненной нравственности признаваемой всеми
традиции, к более сильному основанию,
подчиненному той разумной организации, какой благодаря
всеобщему суверенитету и осознанию своих
законов является государство? Как разумный индивид
может сделать выбор как в пользу добра, так и в
пользу зла, так и государство, способное
действовать нравственно, может действовать и
безнравственно; оно должно соблюдать договоры, но если
оно на деле их соблюдает, то это зависит только от
его эмпирической частной воли.
«Однако так как взаимоотношения государств
основаны на принципе суверенности, то они в этом
gegen die inneren Institutionen und das friedliche Familien-
und Privatleben, nicht gegen die Privatpersonen geführt
werde».
1 Очевидно, что Гегель признает и возобновляет
тезисы Канта, его замысел вечного мира.
138
аспекте находятся в естественном состоянии по
отношению друг к другу и их права имеют свою
действительность не во всеобщей, конституированной
над ними как власть, а в их особенной воле».1
Следовательно, есть нравственность государств,
и вполне правомерно говорить о безнравственной
внешней политике. Но эта нравственность является
только нравственностью и имеет не больше силы,
чем любая мораль:
«Поэтому названное всеобщее определение
остается долженствованием, и состояние между
государствами колеблется между отношениями,
находящимися в соответствии с договорами и с их
снятием. Над государствами нет претора, в лучшем
случае их отношения регулируются третейскими
судьями и посредниками, да и то лишь от случая к
случаю, то есть согласно особенной воле».2
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 366. «Weil
aber deren (se. der Staaten) Verhältnis ihre Souveranetat
zum Ρήηζ'φ hat, so sind sie insofern im Naturzustande
gegeneinan der, und ihre Rechte haben nicht in einem
allgemeinen zur Macht über sie konstituierten, sondern in
ihrem besonderen Willen ihre» Wirklichkeit».
2Гегель Г. В. Φ. Философия права. С. 366. «Jene
allgemeine Bestimmung bleibt daher beim Sollen, und der
Zustand wird eine Abwechslung von dem den Traktaten
gemüssen Verhältnisse und von der Aufhebung desselben. Es
139
Так как государство, как и всякий природный
индивид, защищает лишь свое частное благо, и
мудрость государства является не вселенским
провидением, а его частной, особенной мудростью:
принцип его действия «есть не всеобщая
(филантропическая) мысль, а действительно нарушенное
или подвергающееся угрозе благо в его
определенной особенности ».1
Тогда, скажут, Гегель действительно защитник
насилия, силы, вероломной и беззаконной
политики, враг всякой нравственности, если не во
внутренней политике, то по меньшей мере в том, что
касается политики международной: благом является
то, чем пользуется индивидуальное государство, и
принцип bellum omnium contra omnes, изгнанный
gibt keinen Prätor, höchstens Schiedsrichter und Vermittler
zwischen Staaten, und auch diese nur zufälligerweise, d. i.
nach besonderen Willen».
'Там же. С. 368. «Das substantielle Wohl des Staates
ist sein Wohl als eines besonderen Staates in seinem
bestimmten Interesse und Zustande und den ebenso
eigentümlichen äusseren Umständen nebst dem besonderen
Traktaten-Verhältnissc; die Regierung ist somit eine
besondere Weisheit, nicht die allgemeine Vorsehung ... sowie
der Zweck im Verhältnisse zu anderen Staaten und das
Prinzip für die Gerechtigkeit, der Kriege und Traktate nicht
ein allgemeiner (philanthropischer) Gedanke, sondern das
wirklich gekränkte oder bedrohte Wohl in seiner bestimmten
Besonderheit ist».
140
из внутренней политики государства, представляет
собой нормальное отношение между государствами;
принцип homo homini lupus был устранен из
индивидуального государства, чтобы с еще большей
силой утвердиться в международной жизни. Не
допускает ли этого буквально и сам Гегель? Разве не
говорит он, что международные отношения имеют
место «в отношении государств друг к другу,
поскольку они выступают в них как особенные,
привносится в высшей степени бурная, принимающая
огромные размеры в своем явлении игра
внутренней особенности страстей, интересов, целей,
талантов и добродетелей, насилия, неправа и пороков,
внешней случайности, — игра, в которой само
нравственное целое, самостоятельность государства,
подпадает под власть случайности?»1
Но именно это спонтанное признание и должно
заставить задуматься: не следует ли к
традиционным упрекам добавить упрек в цинизме, а то и в
глупости? Но ничто во всем творчестве не позволя-
!Там же. С. 369. «In das Verhältnis der Staaten
gegeneinander, weil sie dann als besondere sind, fallt das
höchst, bewegte Spiel der inneren Besonderheit der
Leidenschaften, Interessen, Zwecke, der Talente und
Tugenden, der Gewalt, des Unrechts und der Laster, wie der
äusseren Zufälligkeit ... ein Spiel, worin das sittliche Ganze
selbst, die Selbständigkeit des Staates, der Zufälligkeit
ausgesetzt wird».
141
ет нам до этого дойти: мы не защищаем в течение
всей жизни теорию от обвинений в пантеизме и
атеизме, не пользуемся малейшим случаем, чтобы
повторять, что система, в том, что касается
содержания, тождественна христианскому учению во
всей его чистоте, чтобы кричать, совершенно
неожиданно, что мораль ничего не значит, и ничего
не значит именно в той области, которая
охватывает все остальные, в области исторического
действия. Что касается простой неосторожности, то эта
гипотеза маловероятна. Что же тогда это значит?
Энциклопедия содержит один текст, который
нам поможет:
«Наконец, государство имеет еще и ту сторону,
согласно которой оно есть непосредственная
действительность отдельного и по своим природным
свойствам определенного народа. В качестве такого
единичного индивидуума оно является
исключающим в отношении других подобных же
индивидуумов. В их взаимоотношениях друг с другом царят
произвол и случайность, ибо всеобщая природа
права вследствие автономной тотальности этих
лии, должна иметь силу только в отношении к ним,
но не имеет таковой в действительности. Эта
независимость превращает спор между ними в вопрос
о силе, в состояние войны, в котором общее для
них всех положение предназначается для особой
142
цели сохранения самостоятельности одного
государства в противовес другому, и определяется как
состояние храбрости».1
Мы выделили курсивом некоторые выражения,
термины, которые уже обнаруживаются в текстах,
приведенных выше, но которые нигде не
встречаются столь удачно объединенными. Так как
объединение этих терминов в гегелевской системе
обладает точным значением: непосредственное,
отдельное, природное, единичный индивид, про-
извол, случайность, действительность, долг —
каждое из этих понятий обозначает определенную
отрицательную ценность, и их наличие в одном
месте может предполагать только один вывод, а
именно: что суверенное независимое государство не
является более разумным, чем индивид, живущий
формальным правом и мыслящий в понятиях
абстрактной морали. Государство вообще) совершенно,
государства отдельно взятые (нет. Иными словами
Гегель заявляет, что на самом деле в отношениях
1 Гегель Г. В. Ф. Философия Духа. С. 364. «Der
Staat hat endlich die Seite, die unmittelbare Wirklichkeit
eines einzelnen und natürlich bestimmten Volkes zu sein. Als
einzelnes Individuum ist er auschliessend gegen andere eben
solche Individuen. In ihrem Verhältnisse zueinander hat die
Willkür und Zufälligkeit statt, weil das Allgemeine des
Rechts um der autonom iscehen Totalität dieser Personen
willen zwischen ihnen nur sein soll, nicht wirtlich ist».
143
между государствами нет закона, что
международная нравственность не воплощена в реальности, что
ее применение зависит от злой или доброй воли
государств-индивидов. Он не говорит, что такое
состояние вещей должно быть совершенным, он не
защищает его; он констатирует факт и его
понимание. Но это понимание уже содержит призыв —
нет, Гегель запрещает себе призывы — содержит
предписание, суждение о направленности движения
истории: в ней совершаются примирение и
всеобщее опосредствование; если бы история была
абсурдна, борьба человека с природой не
завершилась бы, негативность не сумела бы своей работой
поглотить и переварить непосредственное,
природное, данную определенность, произвол,
случайность, и действительно разумное для человека
не существовало бы.
Не следовало бы все сводить к тому, что
Гегель жил в мире (который мало после его эпохи
изменился), в котором, если говорить на языке
самого Гегеля, примирение человека с самим
собой не состоялось. Не следовало бы также
упрекать его за тот принцип, который был его
собственным, а именно — что история имеет смысл и
постижима не меньше, чем природа: допускаем мы
или не допускаем возможность философии и нау-
144
ки, но мы должны быть сами в достаточной мере
последовательными, чтобы не допускать
возможность науки и в то же время утверждать, что
такое отрицание обладает научной, философской,
логической ценностью. Наконец, мы должны
простить его за то, что он полагал, что добрые
намерения и безответственные мнения ничего не
изменят в мире до тех пор, пока они не будут
воплощены в реальность, то есть не превратятся в
действие; простить его также и за то, что он
заявлял, что наука имеет дело с тем, что существует, а
не с тем, что должно существовать — что мы
охотно сделаем, если не пожелаем забыть, что
высшей действительностью для Гегеля была
действительность действующего Духа. Гегель
оправдывал национальное и суверенное государство, как
физик оправдывает ураган: понимая в нем то
разумное, что в нем имеется; и поскольку физиков
никогда не упрекали за то, что они выступали
против установки громоотводов, было бы
несправедливо приписывать Гегелю доктрину
политического квиетизма. Наоборот, Гегель полагает, что
Дух не остановил свое движение, что Берлин
1820 г. не является завершением истории и что
то, что он называет идеей, негативность, которая
стремится реализовать себя как положительную
свободу, как наличие в реальности счастья и при-
10 Эрик Вейль
145
знания бесконечной ценности любого человека,
что такая идея еще не предстала в целом перед
сознанием.
«До этой стадии дошел мировой дух. Каждая
ступень имеет в истинной системе философии свою
собственную форму; ничто не утеряно, все
принципы сохранены, так как последняя философия
представляет собою целостность форм... Требовалось
столь продолжительное время для того, чтобы была
создана философия нашего времени, так лениво и
медленно работал мировой дух над тем, чтобы
довести себя до этой цели. То, что мы в нашей
памяти обозреваем быстро, протекает в
действительности, растягиваясь на такой длинный промежуток
времени. Ибо в последней понятие духа,
обладающее внутри себя (in sich angetan) всем своим
конкретным развитием, своим внешним
существованием, своим богатством, стремится дообразовать его и
продолжить себя, родиться для себя из него. Оно
идет все вперед и вперед к своей цели, потому что
лишь дух есть движение вперед».1 Человек,
заканчивающий свои лекци по истории философии
такими словами, не может полагать, что в мире уже
ничего не может произойти и что все уже
1 Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии.
Книга третья. СПб., 2001. С. 567-568.
146
свершилось. Нет, разум еще не дошел до той
ясности, в которой он будет полностью себя осознавать,
он еще не завершил возвращения к самому себе в
свободе действительного существования, и духи
отдельных народов продолжают друг с другом
сражаться: страшный суд еще не возвещен.
Именно поэтому резюме об истории
философии, о котором мы говорили, завершает
Философию права. Дух не навязывает себя
действительности нравственными средствами, идеалистическим
способом: он формирует ее своей деятельностью в
бессознательном, жестоком, мнимо естественном
мире: если бы все было иначе, история была бы
действительно завершена, разум упорядочил бы все
отношения в истинной и тем самым действительно
человеческой организации всеобщего. В истории
Дух действует как сила:
«Часто кажется, что он забыл и потерял себя;
но внутренне противоположный самому себе, он
есть внутренняя беспрерывная работа. О нем
можно сказать так, как Гамлет говорит о духе своего
отца: «Хорошо работаешь, честный крот», — и
эта работа продолжается до тех пор, пока он,
окрепши в себе, не оказался теперь в состоянии
толкнуть земную кору, чтобы она раздалась и перестала
отделять его от его солнца, его понятия. В такое
147
время, когда она рушится подобно бездушному
подгнившему зданию, дух являет себя в новой
юности, он надел на себя сапоги-скороходы».1
Вовсе не философская дискуссия вводит новую
форму духа, новую организацию разумной жизни;
тем более это не проповедь и не моральное
наставление: это борьба между «национальными духами»,
между принципами организации свободы, какими
они были реально представлены в различных
государствах, и именно во всеобщей истории дух дает
оценку тем особенным формам, в которые он
воплощался на определенный момент своего становления.
«Стихия наличного бытия всеобщего духа,
который в искусстве есть созерцание и образ, в
религии — чувство и представление, в философии —
чистая свободная мысль, представляет собой во
всемирной истории духовную действительность во
всем объеме ее внутренних и внешних сторон. Она
есть суд, потому что в ее в себе и для себя сущей
всеобщности особенное, пенаты, гражданское
общество и духи народов в их пестрой
действительности, суть только как идеальное, а движение духа
в этой стихии состоит в том, чтобы изобразить
это... Государства, народы и индивиды выступают
в этом деле мирового духа в их особенном опреде-
*Там же. С. 568.
148
ленном начале, находящем свое истолкование и
действительность в их строе и во всей широте их
состояния; сознавая это истолкование и эту
действительность, погруженные в эти интересы, они
одновременно служат бессознательными орудиями и
органами того внутреннего дела, в котором эти
образы преходят, а дух в себе и для себя
подготовляет и разрабатывает себе переход на свою
следующую, более высокую ступень».1
Данный народ осуществляет естественным, то
есть бессознательным образом, самую совершенную
на этот момент форму, которая представляет собой
высшую ступень прогресса свободы. Что
предполагает, что этот народ может и должен утратить это
первенство, как только появится другая нация, не-
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права, § 314. «Das
Element des Daseins des allgemeinen Geistes... ist in der
Weltgeschichte die ... Wirklichkeit in ihrem ganzen Umfange
von Innerlichkeit und Aeusserlichkeit». «Die Weltgeschichte
ist ferner nicht das blosse Gencht seiner Macht, d. i. die
abstrakte und vernunftlose Notwendigkeit eines blinden
Schicksals, sondern weil er an und für sich Vernunft, und ihr
Fürsichsein im Geiste Wissen ist, ist sie die aus dem Begriffe
nur seiner Freiheit notwendige Entwickelung der Momente
der Vernunft und damit seines Selbstbewusstseins und seiner
Freiheit»... «jenes inneren Geschäftes ... wonn diese
Gestalten vergehen, der Geist an und für sich aber sich den
Uebergang in seine nächste höhere Stufe vorbereitet und
erarbeitet».
149
сущая с собой новую идею: первая может
продолжить свое существование, но может и погибнуть,
она может даже принять новый принцип, но она
перестанет служить воплощением разума. Так друг
за другом следуют восточная, греческая, римская
империи, а в настоящее время первенство
удерживает германская христианская империя.
Такая концепция истории известна; она
отличается ясностью, но не является ли она, несмотря на
всю «конструктивность», «идеалистическим»
воззрением в худшем смысле этого слова? Разумеется,
дух не осуществляет себя сознательно, прогресс не
является порождением сознания и доброй воли, и
понимание истории следует за исторической
действительностью, оно ей не предшествует: мышление
не превосходит разум, осуществленный конкретно
исторически. Тем не менее, не является ли такая
пружина истории, как разум, чисто мифической,
продуктом секуляризированной теологии? Верно,
что мы понимаем историю прошлого как
осмысленную, лишь с самого начала предполагая ее смысл, и
никакой смысл истории не мог бы быть менее
магическим, чем осуществление положительной
свободы, достижение счастья человека в реальности
его жизни: с этим можно, с этим необходимо
согласиться, если мы не желаем выбрать нигилизм.
150
Но как, каким конкретным образом выражается
этот поиск в истории, которая свершается, но
которая еще не понята, еще не понятна, потому что она
еще не свершилась? От гегелевского ответа на этот
вопрос зависит решение вопроса об «историческом
идеализме» Гегеля.
Гегелевский ответ является двойственным.
Начнем с первого его варианта, с того, который он
выдвинул вначале, с того, о котором, следовательно,
говорят чаще всего и который вводит понятие
героя. Это он появляется в Философии истории под
именем великого человека. Великие люди,
преследуя свой частный интерес, стремясь к своему
личному счастью, в то же самое время «оказываются
средствами и орудиями чего-то более высокого и
далекого, о чем они ничего не знают и что они
бессознательно исполняют».1 Их деятельность — не
плод холодной рефлексии над потребностью духа;
так как «мы называем интерес страстью, поскольку
индивидуальность, отодвигая на задний план все
другие интересы и цели, которые также имеются и
могут быть у этой индивидуальности, целиком
отдается предмету, сосредоточивает на этой цели все
свои силы и потребности, то мы должны вообще
сказать, что ничто великое в мире не совершалось
1 Гегель Г. В. Ф. Философия истории. С. 78—79.
151
без страсти».1 И эти люди страсти — инструменты
универсального разума, потому что то, что они
принимают за свой частный интерес (и что
действительно таковым является до такой степени, что
преступление, которое они совершают, действуя
вопреки установленной их эпохой морали, вновь
обращается на них и разрушает их конкретную
индивидуальность), настолько воодушевляет людей в их
неудовлетворенности, что «другие идут за этими
духовными руководителями именно потому, что
чувствуют непреодолимую силу их собственного
2
внутреннего духа, который противостоит им».
Философия права, более осторожная в своих
формулировках, нацеленных на внешнее
впечатление, предпочитает термин герой. Ход истории не
ставится в прямую зависимость от него, так как, на
первый взгляд, движение истории к государству не
обсуждается в этой работе: герой — это
основатель государства. Но его права и его роль
тождественны правам и роли великого человека. Мораль
его не связывает, ни моральная рефлексия, ни
нравственность как форма жизни: «Нравственное
наличное бытие в семье или государстве либо уже
положено — тогда эти проявления природной воли
суть насильственные действия против него, либо
'Там же. С. 77.
2Там же. С. 83.
152
существует только естественное состояние,
состояние насилия вообще — тогда идея обосновывает
против него право героев... В государстве нет
больше места героям, они встречаются только в период
необразованности. Их цель правовая, необходимая
и государственная, и они осуществляют ее как свое
дело. Герои, основывавшие государства,
создававшие семью и вводившие земледелие, совершали
это, разумеется, не как их признанное право, и эти
действия являют себя еще как их особенная воля,
но в качестве высшего права идеи по отношению к
естественному состоянию это принуждение,
совершаемое героями, есть правовое принуждение, ибо
немногого можно достигнуть добром против власти
природы».1 Верно, что на этапе развития
цивилизации, в государстве, имеется только добродетель
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права, С. 142.
«Entweder ist ein sittliches Dasein in Familie oder Staat
schon gesetzt, gegen welche jene Natürlichkeit eine
Gewalttätigkeit ist, oder es ist nur ein Naturzustand, —
Zustand der Gewalt überhaupt vorhanden, so begründet die
Idee gegen diesen ein Heroenrecht»... «Im Staat kann es
keine Heroen mehr geben: diese kommen nur im ungebildeten
Zustande vor. ... Die Heroen, die Staaten stifteten, ... haben
dieses freilich nicht als anerkanntes Recht getan, und diese
Handlungen erscheinen noch als ihr besonderer Wille; aber
als das höhere Recht der Idee gegen die Natürlichkeit ist
dieser Zwang der Heroen ein rechtlicher; denn in Güte lässt
sich gegen die Gewalt der Natur wenig ausnchten».
153
гражданина, добропорядочность. Добродетель в
собственном смысле слова, античная добродетель
уже не имеет там места, поскольку она
обнаруживает себя только в коллизиях, которые не
возникают в организованной жизни (или возникают только
в воображении); «в нецивилизованном состоянии
общества и общественного союза чаще встречается
поэтому форма добродетели как таковой, ибо здесь
нравственное и его осуществление есть в большей
степени индивидуальное желание и проявление
своеобразной гениальной натуры индивида; так, в
древности добродетель приписывалась
преимущественно Гераклу. И в древних государствах, где
нравственность не достигла уровня такой свободной
системы самостоятельного развития и
объективности, этот недостаток должен был восполняться
присущей индивидам гениальностью».1
Но разве только при основании государства,
собственно говоря, до начала истории,
обнаруживает себя герой?
«Выступать в определениях закона и
объективных институтах, исходным пунктом которых служит
!Там же. С. 204. «Im ungebildeten Zustande der
Gesellschaft und des Gemeinwesens kommt deswegen mehr
die Form der Tugend als solcher vor, weil hier das Sittliche
und dessen Verwirklichung mehr ein individuelles Belieben
und eine eigentumliche geniale Natur des Individuums ist».
154
брак и земледелие, есть абсолютное право идеи,
являет ли себя форма этого ее осуществления как
божественное законодательство и благодеяние или как
насилие и неправо; это право есть право героев
основывать государства».1 Основывать государства?
Но что значить основывать государство? Значит
ли это что-то иное, кроме осуществления нового
принципа организации, кроме создания
«определений закона и объективных институтов», кроме
«бурной, принимающей огромные размеры в своем
явлении игры внутренней особенности страстей,
интересов, целей, талантов и добродетелей, насилия,
неправа и пороков, внешней случайности, — игры,
в которой само нравственное целое,
самостоятельность государства, подпадает под власть
случайности?»2 Движение истории, эта борьба принципов,
*Там же. С. 373. «In gesetzlichen Bestimmungen und
in objektiven Institutionen... hervorzutreten, ist das absolute
Recht der Idee, es sei, dass die Form dieser ihrer
Verwirklichung als göttliche Gesetzgebung und Wohltat, oder
als Gewalt und Unrecht erscheine; — dies Recht ist das
Heroenrecht zur Stiftung von Staaten».
2Там же. С. 369. «In das Verhältnis der Staaten
gegeneinander, weil sie darin als besondere sind, fallt das
höchst, bewegte Spiel der inneren Besonderheit der
Leidenschaften, Interessen, Zwecke, der Talente und
Tugenden, der Gewalt, des Unrechts und der Laster, wie der
ausseren Zufälligkeit ... ein Spiel, worin das sittliche Ganze
selbst, die Selbständigkeit des Staates, der Zufälligkeit
ausgesetzt wird».
155
воплощенных в народах, как она происходит, если
не под знаменами великих людей! И не являются ли
эти великие люди в таком случае героями века
сформировавшихся государств?
Ответ Гегеля не оставляет сомнений:
«Во главе всех действий, следовательно, и
имеющих всемирно-историческое значение, стоят
индивиды в качестве осуществляющих
субстанциальное субъективностей. Поскольку они выступают
как живые воплощения субстанциального деяния
мирового духа и тем самым непосредственно
тождественные этому деянию, оно остается для них
скрытым и не служит им объектом и целью; им не
воздается честь и не выражается благодарность ни
их современниками, ни общественным мнением
грядущих поколений; в качестве формальных
субъективностей они лишь обретают в этом мнении свою
долю как бессмертную славу».1
Великий человек — это, следовательно, герой
нового времени; именно он олицетворяет новый
принцип (утрачивая при этом свое существование или
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 372. «An der
Spitze aller Handlungen, somit auch der welthistorischen,
stehen Individuen als die das Substantielle verwirklichenden
Subjektivitäten. Als diesen Lebendigkeiten der substantiellen
Tat des Weltgeistes und so unmittelber identisch mit
derselben, ist sie ihnen selbst verborgen und nicht Objekt und
Zweck».
156
свою свободу), воплощает его через страсть и
силу — через войну.1 Природное государство еще не
1 Очевидно, что Гегель думает в первую очередь о
Наполеоне, о чем свидетельствуют упоминания в Философии
истории, особенно во Введении. В другом месте термин
герой применяется к великим людям тех исторических
эпох, которые «черпали свои цели и свое призвание не
просто из спокойного, упорядоченного, освященного
существующей системой хода вещей, а из источника,
содержание которого было скрыто и не доразвилось до наличного
бытия; из внутреннего духа, который еще находится под
землей и стучится во внешний мир как в скорлупу,
разбивая ее, так как этот дух является иным ядром, а не ядром,
заключенным в этой оболочке» (Философия истории.
С. 83). Впрочем, война — самое подходящее место для
героизма. Нравственная сторона войны, которая не
должна рассматриваться как абсолютное зло и как чисто
внешняя случайность, обнаруживается в жертве конечного,
жизни и собственности. Именно в этой жертве обреченное
на смерть полагается свободой, негативностью как
тленное, преходящее. «Высокое значение войны состоит в том,
что благодаря ей... сохраняется нравственное здоровье
народов, их безразличие к застыванию конечных определен-
ностей; подобно тому как движение ветров не дает озеру
загнивать, что с ним непременно случилось бы при
продолжительном безветрии, так и война предохраняет
народы от гниения, которое непременно явилось бы следствием
продолжительного, а тем более вечного мира»
(Философия права. С. 360). Что напоминает утверждение из
Феноменологии Духа, согласно которому только тот, кто
встречается лицом к лицу со смертью, сможет реализовать
в себе негативность свободы. Здесь, в историческом
состоянии человечества, индивидом является нация,
организованная в государство. Но это только напоминание. Да-
157
уничтожено, история не дошла до своей границы,
герой и его действие сохраняют свое место в мире.
Не оказываемся ли мы перед историей великих
людей, перед концепцией, сопоставимой с
концепцией Кратила (и его бесчисленных последователей)?
Разумеется, нет: великий человек велик потому, что
он осуществляет то, что объективно, согласно
разумному понятию свободы, представляет собой
высший этап. Он гений, то есть непостижимый феномен
только для того, кто не видит его объективной роли
и кто останавливается на психологическом анализе
человека не в соответствии с его величием, но в
соответствии с его человеческой природой.1
лее в том же параграфе Гегель скажет, что все это
«впрочем, лишь философская идея, или, как это обычно
выражают иначе, лишь оправдание провидения, и что
действительные войны нуждаются еще и в другом
оправдании». Использование выражения «философская идея» в
уничижительном смысле весьма удивительно и указывает,
что такое философское оправдание (мы бы сказали
нравственное или идеалистическое) не удовлетворяет Гегеля,
который, однако, не решается объяснить истинный тезис,
имплицитно содержащийся в последующих разделах книги.
'Гегель пишет в Феноменологии Духа: «Для лакея
нет героя; но не потому, что последний не герой, а потому,
что тот — лакей, с которым герой имеет дело не как
герой, а как человек, который ест; пьет, одевается, [то есть]
вообще имеет с ним дело со стороны единичности
потребностей и представлений».
158
Но этого замечания недостаточно, чтобы
увидеть механизм его действий, причину или дело,
которое заставляет людей собираться вокруг него:
теперь мы должны рассмотреть тот второй ответ, на
который мы выше намекнули: мы должны
обратиться к людям, которые следуют за великим
человеком, а не к великому человеку, который их ведет,
потому что он осуществляет их бессознательные и
не выраженные явно стремления.
Для этого мы должны вернуться назад и
рассмотреть Философию права под новым углом,
который один позволит нам окончательно решить
занимающую нас проблему: является ли
современное государство, осуществленное в принципе
Пруссией, совершенной формой государства, и
если оно не является таковым (предшествующие
цитаты уже доказали, что на самом деле не
является), то чем оно будет заменено? Не вступаем ли
мы в эпоху, которая будет знать лишь борьбу
между современными государствами одинаковой
формы, или же сама форма этого государства
поставлена на карту?
Нервом истории является осуществление
свободы в такой организации, которая дает счастье
всем людям. Но что есть человек? Это вопрос о
159
великих людях, о героях; это также вопрос о
группах, которые образуют общество, о
функциях, которые, взятые вместе, образуют
государство, это вопрос о Человеке, о негативности и о
свободе, которые являются сущностью человека:
это не вопрос о человеке в обычном смысле
слова, о том человеке, который является последним
элементом любой группы, для которого и через
которого осуществляется свобода. Мы видели
лишь один признак, истинно существенный в
глазах Гегеля: этот человек не берется
изолированно, он есть то, что он делает в обществе, и
поскольку все люди не делают одно и то же, они
так же и не равны.
Действительно, существует абстрактное
равенство, равенство частных лиц, равенство
права:
«Образованию, мышлению как сознанию
единичного в форме всеобщего, свойственно понимать
Я как всеобщее лицо, в котором все тождественны.
Значение человека в том, что он человек, а не в
том, что он еврей, католик, протестант, немец,
итальянец и т. д. Это сознание, для которого
значима мысль, бесконечно важно — недостатком оно
является лишь в том случае, если оно в качестве
космополитизма фиксируется на позиции, которая
160
заставляет его противостоять конкретной государ-
1
ственнои жизни».
Итак, равенство, но равенство, которое не
отрицает различия в структуре, которое утверждает
себя и становится конкретным в дифференциации
организации. Так как государство — это круг,
созданный из кругов, «ив нем ни один момент не
должен выступать как неорганическое множество.
Многие в качестве единичных лиц, что охотно
понимают под словом „народ", суть, правда, некая
совместность, но только как множество, как
бесформенная масса, движение и действия которой
именно поэтому были бы лишь стихийны,
неразумны, дики и ужасны. Каждый раз, когда еще
приходится слышать в связи с государственным строем о
народе, об этом неорганическом скоплении людей,
уже заранее можно знать, что предстоит услышать
лишь общие места и нелепые декламации. Пред-
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 246. «Es
gehört der Bildung, dem Denken als Bewusstsein des
Einzelnen in Form der Allgemeinheit, dass Ich als allgemeine
Person aufgefasst werde, wonn Alle identisch sind. Der
Mensch gilt so, weil er Mensch ist, nicht weil er Jude,
Katholik, Protestant, Deutscher, Italiener, u. s. f. ist. Dies
Bewusstsein, dem der Gedanke gilt, ist von unendlicher
Wichtigkeit, — nur dann mangelhaft, wenn es etwa als
Kosmopolitismus sich dazu fixiert, dem konkreten Staatsleben
gegenüberzustehen».
И Эрик Вейль
161
ставление, которое вновь разлагает на множество
индивидов уже существующие в виде упомянутых
кругов общности на той стадии, когда они
вступают в область политики, то есть обретают точку
зрения высшей конкретной всеобщности, — это
представление разделяет тем самым гражданскую и
политическую жизнь и заставляет последнюю, так
сказать, повисать в воздухе, ибо ее базисом
оказывается, согласно этому воззрению, только
абстрактная единичность произвола и мнения,
следовательно, случайное, неспособное служить в себе и для
себя прочной и правомерной основой».
Политическое, в узком смысле слова, следствие этого тезиса
!Там же. С. 344. «Der Staat aber ist wesentlich eine
Organisation von solchen Gliedern, die fur sich Kreise sind,
und in ihm soll sich kein Moment als eine unorganische
Menge zeigen. Die Vielen als Einzelne, was man gerne unter
Volk versteht, sind wohl ein Zusammen, aber nur als die
Menge, — eine formlose Masse, deren Bewegung und Tun
eben damit nur elementansch, vernunftlos, wild und
fürchterlich ware. ... Die Vorstellung, welche die in jenen
Kreisen schon vorhandenen Gemeinwesen, wo sie ins
Politische, d. i. in den Standpunkt der höchsten konkreten
Allgemeinheit eintreten, wieder in eine Menge von Individuen
auflöst, hält eben damit das bürgerliche und das politische
Leben voneinander getrennt, und stellt dieses sozusagen, in
die Luft, da seine Basis nur die abstrakte Einzelnheit der
Willkur und Meinung, somit das Zufällige, nicht eine an
und für sich feste und berechtigte Grundlage sein wurde».
162
нас здесь не интересует — мы уже говорили, что
для Гегеля формальная демократия, демократия
прямых выборов не является итогом политической
мудрости, но то, что она предполагает в обществе
равенство, несомненное, неоспоримое право,
являющееся основанием всех прав, не исчерпывает
политического понятия человека.
Но имеется одно общее определение, которое
применяется к человеку в обществе, точнее, в
обществе существует возможность дать определение
человеку:
«Здесь же, на точке зрения потребностей,
предметом является то конкретное в представлении,
которое называют человеком; следовательно,
только здесь и, собственно говоря, лишь здесь речь
идет о человеке в этом смысле».1
То, что имеется в виду, когда речь идет о
человеке, то, как его «представляют», определяется на
уровне потребностей и, если уточнить, на уровне тех
потребностей, которые не являются чисто животными:
«Животное обладает ограниченным кругом
средств и способов удовлетворения своих также ог-
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 235. «Auf dem
Standpunkte der Bedürfnisse ist es das Konkretum der
Vorstellung, das man Mensch nennt; es ist also erst hier und
auch eigentlich nur hier vom Menschen in diesem Sinne die
Rede».
163
раниченных потребностей. Человек и в этой
зависимости доказывает, что он выходит за ее пределы,
доказывает свою всеобщность прежде всего
созданием многообразия потребностей и средств, а затем
расчленением и разделением конкретной
потребности на отдельные части и стороны, которые
становятся различными частными и тем самым более
абстрактными потребностями».1 Человек развивает
исторические, социальные потребности, которые он
противопоставляет природным потребностям: он
обнаруживает себя перед лицом потребностей,
которые являются его собственными, перед
необходимостью, которую он же сам и создал. Но он этого
не знает, и эти потребности кажутся ему
внешними, еще случайными, но это внутренняя
случайность, его собственный произвол.2
!Там же. «Das Tier hat einen beschränkten Kreis von
Mitteln und Weisen der Befnedigung seiner gleichfalls
beschränkten Bedu/rfnisse. Der Mensch beweist auch in
dieser Abhängigkeit zugleich sein Hinausgehen u/ber dieselbe
und seine Allgemeinheit, zunächst durch die Vervielfältigung
der Bedu/rfnisse und, Mittel, und dann durch Zerlegung und
Unterscheidung des konkreten Bedu/rfnisses in einzelne Teile
und Seiten, welche verschiedene partikularisierte, damit
abstraktere Bedurfnisse warden».
2 Вот параграф, в котором это весьма коротко
резюмируется: «Между тем в общественной потребности, как в
соединении непосредственной или природной потребности
и духовной потребности, созданной представлением, ду-
164
Человек, следовательно, является существом, у
которого имеются потребности, но потребности,
являющиеся его социальным произведением, так же
как и средства их удовлетворения — это продукт
его труда. Верно, что это определение дает не
понятие человека, а только представление; но именно
теоретическая слабость этого определения и создает
для нас определенное преимущество, так как мы
пытаемся узнать, как человек действует, обычный
человек, человек повседневности, а не великий
человек или герой. Этот человек, человек, каким он
является самому себе в том представлении, какое
ховная в качестве всеобщего получает перевес, и тем
самым в этом общественном моменте находится сторона
освобождения, которая заключается в том, что строгая
природная необходимость потребности стушевывается, и
человек соотносится со своим, являющимся и всеобщим
мнением и с созданной им самим необходимостью, не с
внешней, а с внутренней случайностью, с произволом».
(Философия права. С. 237). «Indem im gesellschaftlichen
Bedürfnisse, als der Verknüpfung vom unmittelbaren oder
natürlichen und vom geistigen Bedürfnisse der Vorstellung,
das letztere sich als das Allgemeine zum Ueberwiegenden
macht, so liegt in diesem gesellschaftlichen Momente die Seite
der Befreiung, dass die strenge Naturnotwendigkeit des
Bedürfnisses versteckt wird, und der Mensch sich zu seiner,
und zwar einer allgemeinen Meinung und einer nur
selbstgemachten Notwendigkeit statt nur zu ausserlicher, zu
innerer Zufälligkeit, zur Willkür, verhält».
165
он сам о себе создает, должен примириться с
самим собой. Он должен примириться: но
примиряется ли он? Примиряется ли он согласно Гегелю?
В одной из цитат, приведенных нами выше,
возникает один термин, которому мы тогда не
придали внимания, термин чернь, обозначающий
массу людей, предполагающих со стороны
правительства злую или недобрую волю, представляющих
«негативную точку зрения». Нам пора задать
вопрос, кто эти люди, какова эта чернь, откуда она
берется, какова ее роль. Так как должно быть ясно
следующее: гегелевское государство замышляется
1 Чтобы уловить характер, свойственный концепции
черни в том виде, в каком ее излагает Гегель, полезно
сравнить ее с кантовским понятием. «Часть (нации), —
говорит Кант, — которая исключена их этих законов
(дикая толпа), называется чернью (viilgus), а ее незаконные
сборища — это деятельность, образующая мятежников
(agere per turbas), что исключает их из состояния
гражданина данного государства». Для Канта проблема,
следовательно, является не исторической и не политической, а
чисто моральной: речь идет об обязательстве повиноваться
законам государства; он не ставит вопрос о
происхождении, о значении или о последствиях непослушания;
достаточно возможности вынести осуждение. Иными словами
Кант интересуется индивидом, который не имеет права на
мятеж, а не государством, которое с этой возможностью
мятежа должно считаться.
166
таким образом, что оно способно предоставить
счастье всем разумным индивидам; если бы
существовала группа, которая, в сущности, была бы
несчастной, то это было бы делом рук государства;
гегелевское государство не допускает
существования партий, группировок, которые боролись бы
друг с другом не на жизнь, а на смерть.
«В рассматриваемом здесь предмете
подчеркнуть эту сторону тем более важно, что одним из
часто встречающихся и очень опасных
предрассудков является стремление представлять себе
сословные учреждения преимущественно в аспекте
противоположности правительству... Если бы эта
противоположность, поскольку она являет себя,
касалась не только поверхности, а была бы
действительно субстанциальной противоположностью, то
государство шло бы навстречу своей гибели».1
Итак, здесь возникает следующая
субстанциальная оппозиция: в государстве имеются люди,
которые отрицают государство, которые трудятся
'Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 342. «...weil es
zu den häufigen, aber höchst gefährlichen Vorurteilen gehört,
Stände hauptsächlich im Gesichtspunkte des Gegensatzes
gegen die Regierung ... vorzustellen. ... Wenn er, insofern er
seine Erscheinung hat, nicht bloss die Oberfläche beträfe,
sondern wirklich ein substantieller Gegensatz würde, so wäre
der Staat in meinem Untergange begriffen».
167
над его разрушением. Как объяснить это? Как
человек, человек, каким он обнаруживает себя в
обществе, человек, каким он постигает себя в
представлении, тот человек, о котором мы только что
вели речь, может отвергать государство? Почему
он это делает? Из злобы? В силу
безответственности, произвола? Или, наоборот, само общество и
порождает людей, которые не участвуют в делах
государства, которые не участвуют в делах и
самого общества, которые не находят в нем разумного
удовлетворения, признания своей бесконечной
ценности, и которые не находят там всего этого
потому, что и не могут там этого найти?
* * *
Эти вопросы задает сам Гегель, и не будет
никакой нужды в интерпретации, если мы
внимательно рассмотрим то, что он высказывает.
В обществе человек трудится; таким образом,
действуя в своих частных интересах, он действует
для всего мира. Собственность в том смысле, в
каком она была непосредственным выражением
личной воли, уже не обладает важным значением в
развитой организации и уступает свое место
благосостоянию, фундаменту семьи и ее нравственности,
168
в которой индивидуальное желание преобразуется в
заботу об общем благе: в благосостоянии семья
обретает существование субстанциональной личности.
Так же, как семья растворяется в гражданском
обществе, семейное благосостояние, вместе с
историческим прогрессом, меняет свою функцию, как
только более развитая организация позволит
создавать и сохранять общественное благосостояние; так
же, как индивид в развитом обществе трудится в
интересах всех, так и частное благосостояние
раскрывается теперь как причастность к всеобщему
благосостоянию.
«Эта необходимость, которая заключается во
всестороннем переплетении зависимости всех друг
от друга, есть для каждого всеобщее пребывающее
имущество, содержащее для него возможность с
помощью своей образованности и умения получить
часть этого имущества, чтобы таким образом
обеспечить себе средства к существованию, а то, что
добыто его трудом, в свою очередь сохраняет и
приумножает всеобщее имущество».1
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 240. «Diese
Notwendidigkeit, die in der allseitigen Verschlingung der
Abhängigkeit aller liegt, ist nunmehr für jeden das
allgemeine, bleibende Vermögen, das für ihn die Möglichkeit
enthalt, durch seine Bildung und Geschicklichkeit daran
teilzunehmen, um für seine Subsistenz gesichert zu sein, —
169
Но эта причастность к всеобщему
благосостоянию предполагает ряд условий; она сама
опосредована либо капиталом, «ближайшей и
непосредственной1 основой», либо «умелостью»,
способностями, профессиональным образованием,
различающимися в зависимости от природы
индивида, в зависимости от внешних условий,
различающимися также вследствие различия между се-
2
меиными состояниями.
so wie dieser durch seine Arbeit vermittelte Erwerb das
allgemeine Vermögen erhält und vermehrt».
1 Появление термина непосредственный в
квалификации благосостояния как капитала имеет важное значение:
частный капитал у Гегеля не образует завершенного
опосредования с обществом; оно осуществляется только
общественным капиталом и общественным трудом.
2 Однако возможность получить долю всеобщего
имущества, особенное имущество, обусловлена отчасти
непосредственной собственной основой (капиталом), отчасти
умением, в свою очередь обусловленным основой, а также
случайными обстоятельствами, многообразие которых
создает различие в развитии уже для себя неодинаковых
природных физических и духовных способностей, —
различие, которое проявляется в этой сфере особенности во всех
направлениях и на всех ступенях и, действуя вместе с
остальными случайностями и произволом, имеет своим
необходимым следствием неравенство имущества и умений
индивидов (Философия права. С. 240). «Die Möglichkeit der
Teilnahme an dem allgemeinen Vermögen, das besondere
Vermögen, ist aber bedingt, teils durch eine unmittelbare
eigene Grundlage (Kapital), teils durch die Geschicklichkeit,
170
Часто за Гегелем признают ту заслугу, что он
увидел в труде сущность жизни современного
человека в обществе. Но почти так же часто за этой
похвалой следует замечание, что он имел дело
лишь с абстрактным понятием труда и не знал его
конкретных исторических форм. Если такая
критика может быть оправданной (при этом только в
определенной мере), когда она обращена к
Феноменологии Духа, то она совершенно безосновательна,
когда нацелена на Философию права: если
коротко, то Гегель все же верно и в полной мере
отметил характерные признаки современного
общественного труда.
Дело не только в различии между социальными
сословиями земледельцев, чиновников,
ремесленников, которые делятся на мастеров,
предпринимателей и торговцев — классическом различии во
времена Гегеля и уже почти преодоленном. Дело не
только в том, что он понимал деньги как всеобщий
welche ihrerseits wieder selbst durch jenes, dann aber durch
die zufälligen Umstände bedingt istt deren Mannigfaltigkeit
die Verschiedenheit in der Entwicklung der schon für sich
ungleichen natürlichen körperlichen und geistigen Anlagen
hervorbnngt, — eine Verschiedenheit, die in dieser Sphäre der
Besonderheit nach allen Richtungen und von allen Stufen
sich hervortut und mit der übngen Zufälligkeit und Willkür
die Ungleichheit des Vermögens und der Geschicklichkeiten
der Individuen zur notwendigen Folge hat».
171
товар: это естественно для читателя Адама Смита,
Ж.-Б. Сэя, Рикардо. Что важно констатировать,
так это то, что Гегель понимает и ясно говорит,
какое значение современное разделение труда имеет
для условий существования индивида:
«Но всеобщее и объективное в труде
заключается в абстракции, которая создает спецификацию
средств и потребностей, а тем самым
специфицирует и продукцию и создает разделение труда. Труд
отдельного человека упрощается благодаря
разделению, а в результате увеличивается его умение в его
абстрактном труде и количество произведенных им
продуктов. Вместе с тем эта абстракция в области
умения и средств завершает зависимость и
взаимоотношения людей в деле удовлетворения остальных
потребностей, превращая это в полную
необходимость. Абстракция в производстве делает, далее,
труд все более механистичным, и в конце концов
оказывается, что человек может уйти и уступить
свое место машине».1
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 239. «Das
Arbeiten des Einzelnen wird durch die Teilung einfacher und
hierduch die Geschicklichkeit in seiner abstrakten Arbeit,
sowie die Menge seiner Produktionen grosser. Zugleich
vervollständigt diese Abstraktion der Geschicklichkeit und des
Mittels die Abhängigkeit und die Wechselbeziehung der
Menschen für die Befriedigung der übngen Bedürfnisse zur
gänzlichen Notwendigkeit. Die Abstraktion des Produzierens
172
Это настойчивое подчеркивание все более и
более абстрактного характера частного труда
поразительно: им занимается уже не человек (что
сообщало бы труду конкретный характер в гегелевском
смысле), а определенные способности,
определенные знания, все более и более ограниченные, все
более и более специализированные, все более и
более механические: машина занимает место человека,
и человек оказывается перед лицом образа жизни,
который имеет для него признаки
«необходимости», и даже тотальной необходимости:
противоположности свободе.
И Гегель не удовлетворяется этой
констатацией, имеющей тем не менее огромное значение для
философа свободы для всех и для каждого. Его
формулировки осторожны, они не развернуты: не
потому ли, что он желал избежать скандала? И не
потому ли, что проблема для него была
теоретической проблемой, которая его почти не касалась, так
как он жил в стране без промышленности и мог,
следовательно, наблюдать издалека то, что
происходило (или, если быть абсолютно точным, только
начинало происходить) у других? Это неважно.
Важен тот факт, что он не игнорировал то, что но-
macht das Arbeiten ferner 'immermehr mechanisch und damit
am Ende fähig, dass der Mensch davon wegtreten und an
seine Stelle die Maschine eintreten lassen kann».
173
вый способ труда означает для человека. Так его
анализ становится более глубоким.
Мы упомянули выше, что в гегелевском
представлении человеческая потребность является
первым освобождением от природы, что желание и
его удовлетворение в труде дают человеку чувство
его свободы, поскольку он теперь зависит не от
природной потребности, а от его собственного
произвола. Слово произвол предостерегает: всегда, где
оно появляется (как и слова представление,
случайность и мнение, которые также фигурируют в
этом параграфе), оно указывает, что свобода, что
разум еще не присутствуют. Это не заставляет
читателей делать за него выводы; он формулирует их
сам, в тексте, который только здесь приобретает
свое значение:
«Это освобождение формально, поскольку
особенность целей остается лежащим в основании
содержанием. Направленность общественного
состояния на неопределенное увеличение многообразия и
специфицирования потребностей, средств и
наслаждений, которые, как и различие между природными
потребностями и потребностями образованных
людей, не имеют границ, — роскошь — это такое же
бесконечное увеличение зависимости и нужды,
которой приходится иметь дело с оказывающей бес-
174
конечное сопротивление материей, а именно с
внешними средствами, имеющими тот особенный
характер, что они являются собственностью
свободной воли, следовательно, иметь дело с чем-то
абсолютно жестким».1
Что означает, что если, с одной стороны,
наслаждение, масса средств производства, богатство
возрастают, то, с другой стороны, зависимость
одних людей от других также возрастает pari passa,
возрастает бесконечно. И эта зависимость основана
на том факте, что средства производства находятся
в руках других индивидов, что доступ к средствам
производства зависит от их свободной воли, что в
итоге современное общество порождает людей,
которые, даже если они этого хотят, не причастны
общественному благосостоянию единственным
законным способом, своим свободным трудом.
И здесь также раскрывается смысл другого
отрывка, который мы уже использовали. В государ-
*Там же. С. 238. «Diese Befreiung ist, formell. ... Die
Richtung des gesellschaftlichen Zustandes auf die
unbestimmte Vervielfältigung und Spezifizierung der Bedürfnisse,
Mittel und Genüsse, ... der Luxus — ist eine ebenso
unendliche Vermehrung der Abhängigkeit und Not, welche es
mit einer den unendlichen Widerstand leistenden Matene,
nämlich mit fusseren Mitteln von der besonderen Art,
Eigentum des freien Willens zu sein, dem absolut Harten, zu
tun hat».
175
стве, говорит Гегель, «ничто не должно
обнаруживать себя в виде неорганизованной толпы.» Это
должно следует подчеркнуть: так как не является
ли с гегелевской точки зрения совершенно
неприемлемым, что долг возникает на уровне
государства? Не является ли оно действительной
организацией свободы, действительностью разума, который
превосходит мораль с ее правилами, которым
можно следовать, а можно и не следовать? Простое
слово долг указывает, что государство не настолько
совершенно, каким должно быть: что если оно
полностью не организовано, если, иными словами, еще
есть индивиды, которые являются только толпой и
неорганической массой, то государство еще не
реализовано.
Возникнет искушение сказать, что столь много
внимания одному-единственному слову позволяет
сделать решающий вывод о позиции Гегеля по
отношению к современному государству. Возражение
имело бы смысл, если бы у Гегеля не
обнаруживалась всесторонне разработанная теория общества,
подтверждающая такую интерпретацию.
В первую очередь правом и долгом государства
является вмешательство в экономику, в управление
этим всеобщим благосостоянием.
«Различные интересы производителей и
потребителей могут вступить в столкновение друг с дру-
176
гом, и хотя в целом правильное отношение между
ними и устанавливается само собой, но соглашение
между ними требует также урегулирования,
сознательно предпринимаемого стоящей над ними
инстанцией».1 Такое вмешательство государства —
так как именно оно оказывается выше частных
интересов производителей и потребителей и именно
оно действует осознанно — требуется по двум
причинам: прежде всего международные
экономические отношения и зависимость одной
национальной экономики от экономики международной
образуют проблемы такой трудности и сложности, что
эгоизма частных лиц недостаточно, чтобы их
понять и разрешить; но главным образом — здесь
виден гегелевский интерес к понятию счастья —
правительство должно действовать, «чтобы оно
сократило и смягчило опасные судороги, а также
продолжительность промежутков, в течение кото-
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 266—267.
«Die verschiedenen Interessen der Produzenten und
Konsumenten können in Kollision miteinander kommen, und
wenn sich zwar das richtige Verhältnis im ganzen von selbst
herstellt, so bedarf die Ausgleichung auch einer über beiden
stehenden mit Bewusstsein vorgenommenen Regulierung. ...
um die gefährlichen Zuckungen und die Dauer des
Zwischenraumes, in welchem sich die Kollisionen auf dem
Wege bewusstloser Notwendigkeit ausgleichen sollen,
abzukürzen und zu mildern».
12 Эрик Вейль 177
рых путем бессознательной необходимости должны
быть устранены коллизии»:1 правительство не
может оказывать доверие экономическому механизму,
чтобы выбраться из экономического кризиса;
бессознательная необходимость (этот термин
обозначает у Гегеля природу: законы экономики
воздействуют на индивида по образцу природных
законов) должна быть побеждена разумом ради
(и посредством) свободного и сознательного
действия. Экономика подчинена государству, необходима
экономическая политика.
Следовательно, система автаркии? Максимум
вмешательства государства, чтобы защитить
интересы граждан? Можно с этим согласиться, и это
было бы только заслугой Гегеля: опять-таки, его
анализ существующих условий был бы верным и
описывал бы практику современных государств,
нравится она или не нравится. Но мы не считаем,
что к этому все и сводится. То, что заботит
Гегеля, так это прежде всего появление той толпы, той
массы, той черни, которая сохраняет по отношению
к государству негативную точку зрения, которая
образует, собственно говоря, партию, оппозицию не
в том, что касается детальных вопросов техники
управления, но относительно самого фундамента
!Там же.
178
государства. Итак, и это решающий пункт —
общество неизбежно порождает эту чернь.
«Но обеднеть индивиды могут не только
вследствие произвола, но и в результате физических и
зависящих от внешних условий обстоятельств; это
состояние, оставляя им все потребности
гражданского общества, лишая их вместе с тем
естественных средств заработка и разрывая широкие узы
семьи как рода, отнимает у них в большей или
меньшей степени все преимущества общества —
способность обретать умение и образование
вообще, а также охрану их прав, заботу о здоровье,
часто даже утешение религии и т. д. Для бедных
место семьи занимает всеобщая власть, помогая им
в непосредственной нужде и борясь с их
нежеланием работать, злобностью и другими пороками,
порожденными их положением и чувством его
неправомерности».1 «В тех случаях, когда жизнь
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 270. «Aber
ebenso als die Willkür können zufällige, physische und in
den äusseren Verhältnissen liegende Umstände Individuen
zur Armut herunterbringen, einem Zustande, der ihnen die
Bedürfnisse der bürgerlichen Gesellschaft lässt, und der —
indem sie ihnen zugleich die natürlichen Erwerbsmittel
entzogen und das weitere Band der Familie als eines
Stammes aufhebt, — dagegen sie aller Vorteile der
Gesellschaft, Erwerbsfähigkeit von Geschicklichkeiten und
Bildung überhaupt, auch der Rechtspflege, Gesundheitssorge,
179
большой массы людей оказывается ниже
известного уровня существования, который сам собой
устанавливается как необходимый для члена общества,
а это ведет к потере чувства права, правомерности
и чести обеспечивать свое существование
собственной деятельностью и собственным трудом,
возникает чернь, что в свою очередь способствует
концентрации несметных богатств в немногих руках».1
Если использовать более привычные
выражения, общество труда в рамках частного присвоения
средств производства создает пролетариат,
существование которого необходимо для накопления этого
производительного богатства: «Когда гражданское
общество не встречает препятствий в своей дея-
selbst oft des Trostes der Religion u. s. f. mehr oder weniger
verlustig macht. Die allgemeine Macht übernimmt die Stelle
der Familie bei den Armen ebensosehr in Rucksicht ihres
unmittelbaren Mangels als der Gesinnung der Arbeitsscheu,
Bösartigkeit und der weiteren Laster, die aus solcher Lage
und dem Gefühl ihres Unrechts entspringen».
*Там же. С. 271. «Das Herabsinken einer grossen
Masse unter das Mass einer gewissen Subsistenzweise, die
sich von selbst als die für ein Mitglied der Gesellschaft
notwendige reguliert, — und damit zum Verluste des Gefühls
des Rechts, der Rechtlichkeit und der Ehre, durch eigene,
Tätigkeit und Arbeit zu bestehen, — bringt die Erzeugung
des Pöbels hervor, die hinwiederum zugleich die grössere
Leichtigkeit, unverhältnismassige Reichtümer in wenige
Hände zu konzentrieren, mit sich führt».
180
тельности, его народонаселение и промышленность
растут. Благодаря тому, что связь людей,
создаваемая их потребностями, и способы изготовлять и
доставлять средства для их удовлетворения
получают всеобщий характер, увеличивается накопление
богатства, ибо из этой двойной всеобщности
извлекается величайшая выгода — это с одной стороны;
с другой — эта же двойная всеобщность ведет к
разрозненности и ограниченности особенного труда
и тем самым к зависимости и нужде связанного с
этим трудом класса, а отсюда и к неспособности
чувствовать и наслаждаться всей свободой, и
особенно духовными преимуществами гражданского
общества».1 Пролетариат не из озлобленности не
причастен к делам государства и цивилизации и не
из-за предрассудков он не имеет отечества, ему не-
!Там же. С. 271. «Wenn die bürgerliche Gesellschaft
sich in ungehinderter Wirksamkeit befindet, so ist sie
innerhalb ihrer selbst in fortschreitender Bevölkerung und
Industne begnffen. ... (Es) vermehrt sich die Anhäufung der
Reichtumer ... auf der einen Seite, wie auf der anderen Seite
die Vereinzelung und Beschränktheit der besonderen Arbeit
und damit die Abhängigkeit und Not der an diese Arbeit
gebundenen Klasse, womit die Unfähigkeit der Empfindung
und des Genusses der weiteren Fähigkeiten und besonders der
geistigen Vorteile der bürgerlichen Gesellschaft
zusammenhängt». — Интересно отметить использование
термина класс в том смысле, который будет навязан его
использованием у Маркса.
181
достает чувства собственного достоинства, он не
подчиняется законам нравственности: общество
таково, что оно неизбежно порождает это зло, и это
зло останется до тех пор, пока государство не
сможет с целью реализации свободы предоставить
разумную организацию признания всех всеми.
«Природе человек не может предъявлять свои
права, но в обществе лишения тотчас же
принимают форму неправа по отношению к тому или
другому классу».1
Здесь мы подходим к центральному пункту
гегелевской концепции государства: вина за
совершенное обществом, образующим псевдоприроду
(в бессознательной необходимости), обществом,
которое создает негативность черни, не может быть
заглажена обществом именно потому, что оно не
желало этой вины, поскольку, как псевдоприрода,
оно не испытывает желаний и не может их
испытывать; ибо оно — мы возвращаемся к тому же
самому — лишено разума. Псевдоприрода может
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 271. «Gegen
die Natur kann kein Mensch ein Recht behaupten; aber im
Zustande der Gesellschaft gewinnt der Mangel sogleich die
Form eines Unrechts, was dieser oder jener Klasse angetan
wird». Это добавление формулирует более выразительно
то, о чем говорит 241 параграф текста, опубликованного
Гегелем: там также вина соответствует нужде.
182
только длиться подобно тому, как она началась;
она не может не порождать отчужденного
человека, человека без морали, без веры, без
образования, без ремесла, без чувства достоинства, без
семьи, человека, который перестает быть свободным
человеком и гражданином начиная с того момента,
когда он оказывается вынужден продавать все свое
время; так как «отчуждением посредством работы
всего моего конкретного времени и тотальности
моей продукции я сделал бы собственностью
другого их субстанциальность, мою всеобщую
деятельность и действительность, мою личность». И,
словно он боялся быть непонятым, Гегель повторяет
тезис из своей Логики: «тотальность проявлений
силы есть сама сила, тотальность акциденций —
субстанция, обособлений — всеобщее».1
Общество — это причина появления черни.
Оно не ответственно за нее, оно не желает ее
появления — поскольку он не умеет желать; но оно
не может ее и устранить, оно даже не предлагает
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 123. «Durch
die Verausserung meiner ganzen durch die Arbeit konkreten
Zeit und der Totalität meiner Produktion würde ich das
Substantielle derselben, meine allgemeine Tätigkeit und
Wirklichkeit, meine Persönlichkeit, zum Eigentum eines
anderen machen. ... Die Totalität der Aeusserungen einer
Kraft ist die Kraft selbst».
183
для этого устранения средства. Так как оно не
выходит за пределы благотворительности, доброй
воли, и дело не только в том, что доброй воли
недостает государству, которое, как разумная
организация, должно быть, при осуществлении своих
целей,1 независимым от чувств и мнений своих
граждан, но и в том, что эта добрая воля еще
усугубляет то зло, с которым желает бороться:
«Если возложить на богатые классы прямую
обязанность сохранить для обедневшей массы
населения подобающий уровень жизни или если бы для
этого нашлись прямые средства в другой публичной
собственности (в богатых лечебницах,
благотворительных учреждениях, монастырях), то
существование нуждающихся было бы обеспечено без
опосредования его трудом, что противоречило бы
принципу гражданского общества и чувству
независимости и чести его индивидов; если бы эти
средства были опосредованы трудом (предоставлением
работы), то увеличилась бы масса продуктов,
переизбыток которых при отсутствии потребителей,
самостоятельно производящих соответственно
потреблению, и составляет то зло, которое обоими
названными способами лишь увеличилось бы.
1 См. критику той роли, какую в теории Монтескье
играет нравственное убеждение и нравственная позиция
граждан в различных государственных учреждениях.
184
В этом сказывается, что при чрезмерном богатстве
гражданское общество недостаточно богато, то есть
не обладает достаточным собственным достоянием,
чтобы препятствовать возникновению переизбытка
бедности и возникновению черни».1 Нет
необходимости настаивать на богатом содержании этого
текста: начавшись с отказа от благотворительности,
которая была бы противоположностью того, чего
человек вправе требовать, а именно признания его
значимости гражданина-производителя, он
завершается анализом того феномена, который с некото-
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 272. «Wird
der reicheren Klasse die direkte Last aufgelegt, oder es wären
in anderem öffentlichen Eigentum (reichen Hospitälern,
Stiftungen, Klöstern) die direkten Mittel vorhanden, die der
Armut zugehende Masse auf dem Stande ihrer ordentlichen
Lebensweise zu erhalten, so würde die Subsistenz der
Bedürftigen gesichert, ohne durch die Arbeit vermittelt zu
sein, was gegen das Pnnzip der bürgerlichen Gesellschaft und
des Gefühls ihrer Individuen von ihrer Selbständigkeit und
Ehre ware; — oder sie würde durch Arbeit (durch
Gelegenheit dazu) vermittelt, so würde die Menge der
Produktionen vermehrt, in deren Ueberfluss und dem Mangel
der verhältnismässigen selbst produktiven Konsumenten,
gerade das Uebel bestehet, das auf beide Weisen sich nur
vergrössert. Es kommt hienn zum Vorschein, dass bei dem
Uebermasse des Reichtums die bürgerliche Gesellschaft nicht
reich genug ist, d. h. an dem ihr eigentümlichen Vermögen
nicht genug besitzt, dem Uebermasse der Armut und der
Erzeugung des Pöbels zu steuern».
185
рых пор называют кризисом перепроизводства или,
вернее, кризисом недопотребления.
* * *
Тем более нет необходимости объяснять этот
текст: его содержание становится общим
достоянием, и от Маркса до Кейнса, от Дизраели до наших
дней одна и та же проблема, увиденная одним и
тем же способом, занимает и экономистов и
политиков. Неизбежный вопрос, тот, где спрашивается,
что же следует делать, Гегеля не беспокоит: он не
был экономистом и тем более он не был
политиком; он желал высказаться о том, что есть и о том,
что возможно (или невозможно). Но этот поиск
породил далеко идущие результаты.
Того, что было сказано об отношении между
нравственностью и государством, должно быть
достаточно, чтобы отвергнуть возможное (и довольно
распространенное) недоразумение, согласно
которому Гегель якобы предлагал средствами морали и
религии решать социальные проблемы. Покажем тем
не менее, что в том, что касается этого частного
положения, его доктрина не только ясна, но
представлена со строгостью, редкой даже у автора, который
не имеет обыкновения высказываться прямо:
186
«Можно было бы считать издевательством,
если бы на все наше возмущение против тирании
ответили, что угнетенный обретает утешение в
религии»;1 гораздо лучше, если религия господствует
над государством, «для поведения человека это
ведет к такому следствию: для праведного не
существует закона, будьте благочестивы, а в остальном
можете делать что вам угодно — вы можете
отдаться на волю собственного произвола и страсти,
а других, право которых вы тем самым нарушаете,
отсылать к утешению и упованию, даруемым
религией, или, что еще хуже, можете отвергнуть и
осудить как не ведающих религии».2
Для Гегеля есть лишь бессознательная
необходимость экономического механизма, с одной
стороны, и вмешательство разумной свободы — с
другой. Вмешательство тем более неотложное, чем
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 295. «Wie es
für Hohn angesehen würde, wenn alle Empfindung gegen
die Tyrannei damit abgewiesen würde, dass der Unterdrückte
seinen Trost in der Religion finde...»
2Там же. С. 296. «Für das Betragen der Menschen
ergibt sich die Folge: dem Gerechten ist kein Gesetz gegeben;
seid fromm, so könnt ihr sonst treiben, was ihr wollt, — ihr
könnt der eigenen Willkür und Leidenschaft euch überlassen
und die anderen, die Unrecht dadurch erleiden, an den Trost
und die Hoffnung der Religion verweisen, oder noch
schlimmer, sie als irreligiös verwerfen und verdammen».
187
более ощутимы последствия этого механизма в
данном обществе; так как поскольку общество
является основой государства, то последнее не может
существовать, когда оно позволяет первому
разлагаться. Но оно действительно разлагается:
«Святость брака и честь в корпорации — те
два момента, вокруг которых вращается
дезорганизация гражданского общества».1
Без семьи, без благосостояния, без
безопасности, которую дает благосостояние, человек может
примириться со слепой необходимостью лишь
благодаря государству, которое занимает место семьи;
без признания своей социальной значимости, без
своего места в трудовом сообществе человек
оказывается уже ни с чем не связанным и впадает в
природное состояние, в состояние насилия. Гегель
знает это настолько хорошо, что он только за
разумным государством признает возможность быть
либеральным. Только там, где гражданин счастлив,
партийная пропаганда ничего не стоит; так как весь
эффект пропаганды зависит от почвы:
«Подлинное действие и опасность для
индивидов, общества и государства зависят также от
характера самой почвы; ведь искра, брошенная на по-
!Там же. С. 277. «Heiligkeit der Ehe und die Ehre in
der Korporation sind die zwei Momente, um welche sich die
Desorganisation der bürgerlichen Gesellschaft dreht».
188
роховой склад, создает совсем иную опасность, чем
искра, упавшая на твердую землю, где она
потухает, не оставляя следов».1
Общество прекрасно чувствует опасность, но
оно не могло бы дойти до разумного состояния,
оставаясь обществом. Оно может лишь исправить
экономический механизм, пытаясь при своем
непонимании роли разума поставить государство ему на
службу. Что касается диалектики кризиса, то
«через эту свою диалектику гражданское общество
выходит за свои пределы, прежде всего за пределы
этого определенного общества, чтобы искать
потребителей и необходимые средства к существованию
у других народов, обладающих меньшим
количеством тех средств, которые у него имеются в
избытке, или меньшим прилежанием и умением».
!Там же. С. 357. «Uebngens .... hängt ... ihre
eigentliche Wirkung und die Gefährlichkeit für die Individuen, die
Gesellschaft und den Staat, auch von der Beschaffenheit
dieses Bodens ab, wie ein Funke auf einen Pulverhaufen
geworfen eine ganz andere Gefährlichkeit hat als auf feste
Erde, wo er spurlos vergeht».
2Там же. С. 272. «Durch diese ihre Dialektik wird die
bürgerliche Gesellschaft über sich hinausgetneben, zunächst
diese bestimmte Gesellschaft, um ausser ihr in anderen
Völkern, die ihr an den Mitteln, woran sie Ueberfluss hat,
oder überhaupt an Kunstfleiss u. s. f. nachstehen,
Konsumenten und damit die nötigen Subsistenzmittel zu
suchen».
189
Прежде всего за пределы этого определенного
общества: никакое затем не соответствует у Гегеля
этому прежде всего. Но то, что он хочет сказать,
тем не менее ясно: это определенное общество, в
особенности английское общество, переходит к
политике колонизации; но затем, с индустриализацией
всех наций, начинается борьба за мировой рынок.
Определенное общество, как говорили гораздо
позже, экспортирует безработицу ценой, если это
необходимо, военного конфликта. Следовательно, или
бесконечная экспансия и вместе с ней
насильственный конфликт, или социальный кризис в
государстве, кризис, который завершается исчезновением
государства и автономной и независимой нации, или
царство разума, счастье для всех в государстве и
благодаря ему:
«Народы, не желающие переносить
суверенность внутри страны или опасающиеся ее,
подпадали под иго других народов и с тем меньшим
успехом и честью боролись за свою независимость, чем
с меньшей вероятностью могла быть внутри страны
установлена государственная власть (их свобода
умерла как следствие их страха перед смертью)».1
*Там же. С. 360. «Dass Völker, die Souveränetät nach
innen nicht ertragen wollend oder fürchtend, von andern
unterjocht werden, und mit um so weniger Erfolg und Ehre
sich für ihre Unabhängigkeit bemüht haben, je weniger es
190
Это или-или может быть и-и; определенно
Гегель не высказывается. Но он сказал об этом
достаточно, чтобы позволить нам сделать вывод. Так
как теперь мы знаем этого «крота», этот
«бессознательный разум», ту страсть, благодаря которой
история не останавливается; мы знаем, чего
недостает государству, чтобы оно действительно было
тем, чем оно стремится быть: оно должно быть
нравственным в игре международных сил; оно
должно всем предоставить удовлетворение в
признании, в безопасности, в чувстве достоинства; оно
должно: следовательно, оно этого не делает.
Примирение осуществляется не между нациями, оно
осуществляется не внутри государств; как внутри,
так и снаружи господствует природное государство,
государство силы, и национальное и суверенное
государство неспособно решать проблемы
человечества, как оно не способно решать и проблемы
отдельных людей. Государство, которое должно быть
сильнее, чем общество, является слабее, чем оно,
понятие человека не заняло место представления о
человеке, свобода не победила нужду.
nach innen zu einer ersten Einrichtung der Staatsgewalt
kommen konnte (— ihre Freiheit ist gestorben an der Furcht
zu sterben —)...».
191
* * *
«Воля многих низвергает министерство, и на
сцену выступает прежняя оппозиция; но поскольку
она теперь является правительством, многие в свою
очередь выступают против нее. Таким образом,
движение и беспокойство продолжаются. История
должна в будущем положить конец этой коллизии,
развязать этот узел, разрешить эту проблему, на
которой история остановилась».1
Возникает новая форма. О том, какой она
будет, говорить уже не философии. Реальное
устройство современного государства, то устройство,
которое все законодательные документы
предполагают, а в лучшем случае только находят для
него формулировки, поражено болезнью.
Выздоровление наступит, оно наступит благодаря
сознательному осуществлению разумной свободы,
может быть, благодаря подвигу героя, великого
человека, разумеется, через войны, благодаря работе
страстей.
Оно наступит также и благодаря государству,
государству, наконец, реализованному не в
актуальном государстве, но через него; так как если оно и
недостаточно, оно есть и остается истиной эпохи.
1 Гегель Г. В. Ф. Философия истории. С. 452.
192
Не анархия выведет человечество из его
конфликтов: это государство исчезнет, но оно исчезнет как и
все то, что имело реальную, положительную
ценность, исчезнет в возвышении, которое сохранит в
нем все то, что является (и всегда будет) разумным.
Каким будет содержание этой непредвиденной
и неведомой формы, можно узнать и предвидеть:
примирение человека с самим собой в конкретной
всеобщности разумной организации — разумной,
то есть созданной, чтобы защитить собственность
индивида как конкретное выражение его воли (нет:
благосостояние, которое уже в актуальном
государстве обобществляется), семью как пространство
доверия и человеческих чувств, нравственность как
неприкосновенное святилище совести,
национальную традицию как то, что сообщает жизни свое
направление и свою жизненную субстанцию. В
государстве не властителю человека принадлежит
будущее, но человеку, который будет человеком, и
не вопреки государству, но в государстве, которое
не будет организовано, но организует само себя, и
не ради силы, а ради свободы и бесконечной
ценности индивидуальности.
Фома этого содержания еще не дана, ее еще
нельзя даже предвидеть: тем не менее разум
трудится в своем «подземелье», и народ, который его
олицетворяет, на котором он в настоящий момент
13 Эрик Вейль
193
остановил свой выбор, сделал своей
собственностью, утрачивает свое первенство.
«Это освобождение духа, в котором он
стремится прийти к самому себе и осуществить свою
истину, а также дело своего освобождения, — есть
величайшее и абсолютное право. Самосознание
отдельного народа является носителем данной
ступени развития всеобщего духа в его наличном бытии
и той объективной действительностью, в которую
он влагает свою волю. По отношению к этой
абсолютной воле воля других отдельных народных
духов бесправна, упомянутый же выше народ
господствует над всем миром. Но абсолютная воля
выходит и за пределы также своего, в этот момент
имеющегося у нее, достояния, преодолевает его как
некоторую особенную ступень и затем
предоставляет этот народ его случайной судьбе, творя над ним
суд».1 Цель истории, которую Феноменология
1 Гегель Г. В. Ф. Философия Духа. С. 370. «Das
Selbstbeivusstsein eines besonderen Volkes ist Trager der
diesmaligen Entwicklungsstufe des allgemeinen Geistes in
seinem Dasein und die objektive Wirklichkeit, in welche er
seinen Willen legt. Gegen diesen absoluten Willen ist der
Wille der anderen besonderen Volksgeister rechtlos: jenes
Volk ist das weltbeherrschende; ebenso aber schreitet er über
sein jedesmaliges Eigentum als über eine besondere Stufe
hinaus und übergibt es dann seinem Zufall und Gericht». —
Кажется, Гегель считал, что народом, призванным
принять наследство от германских народов, является русский
194
Духа считала достигнутой, мировая империя
разума, — эту цель еще предстоит реализовать; но
сама эта цель не изменилась.
народ. В Философии истории, после того, как он говорил
о латинских и германских группах, он утверждает: «...у
славян медленнее и труднее развилось основное чувство
субъективной самостоятельности, сознание всеобщего, то,
что мы прежде называли государственностью, и они не
могли стать причастными к зарождавшейся свободе...
Конечно, большое значение имело внешнее насилие, но
нельзя ссылаться только на него, потому что, если дух нации
требует чего-нибудь, то его не одолеет никакое насилие;
об этих нациях нельзя также сказать, что они были
недостаточно образованны; наоборот, они, может быть,
превосходили немцев в этом отношении» (Гегель Г. В. Ф.
Философия истории. С. 427—428). Неразвитая, но сильная и
могущественная, Россия еще не знает своей меры, что,
кажется, указывает, что теперь она должна развить свой
принцип. Одно письмо объясняет это еще лучше. 28
ноября 1821 года, во время создания Философии права,
Гегель пишет своему русскому другу Икскюлю: «Ваше
счастье, что отечество ваше занимает такое значительное
место во всемирной истории, без сомнения, имея перед
собой еще более высокое предназначение. Остальные
современные государства, как может показаться, уже более или
менее достигли цели своего развития; быть может, у
многих кульминационная точка уже оставлена позади и
положение их стало статичным. Россия же, уже теперь, может
быть, сильнейшая держава среди всех прочих, в лоне
своем скрывает небывалые возможности развития своей
интенсивной природы» (Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет.
Т. 2. М., 1971. С. 407).
195
«Государства стремятся к независимости, в
этом их достоинство... Но независимость следует
также рассматривать как чисто формальный
принцип... Всякий раз, когда одно государство
захвачено другим, оно утрачивает лишь формальную
независимость, но не утрачивает ни своей религии, ни
своих законов, ни (конкретного) содержания своей
жизни... Развитие государств направлено,
следовательно, к их единству», единству, которое не
является господством, гегемонией в греческом смысле
слова: «здесь гегемоном является разум».1
1 Гегель Г. В. Ф. Философия истории. Гегель в этом
месте говорит о германских государствах, и именно им он
приписывает принцип унификации с сохранением свободы
исторических индивидов. Но немного дальше он
утверждает, что «с появлением христианского принципа Земля
начинает существовать для человека... Внешние отношения
уже не образуют определяющего фактора; революции
происходят внутри...» Внутри, то есть внутри христианского
мира, который для Гегеля является наличным миром с тех
пор, как вместе с появлением христианского принципа
свободы и бесконечной ценности индивида, человек стал
господином Земли. Термин революция двусмыслен; тем не
менее, кажется, Гегель мыслил не столько о революции в
узком смысле (как о событии внутренней политики),
сколько о революции самого принципа этого мира,
которая, согласно гегелевской схеме, была бы порождена
войной.
Можно отметить, что эта идея о мире, ставшем
европейским, встречается уже у Фихте, так же как у него же
196
И возникновение новой формы не только
необходимо, оно близко. «Разум правит миром, но не
ум как самосознательный разум, не дух как
таковой, — мы должны тщательно различать то и
другое. Движение солнечной системы происходит по
неизменным законам: эти законы суть ее разум, но
ни солнце, ни планеты, которые вращаются вокруг
него по этим законам, не сознают их. Таким
образом, мысль, что в природе есть разум, что в ней
неизменно господствуют общие законы, не
поражает нас, мы привыкли к этому и не придаем этому
особого значения; поэтому я и упомянул о
вышеприведенном историческом факте, чтобы обратить
встречается и понятие Volksgeist и понятие
последовательной смены ступеней разума. Представляется весьма
вероятным, что воздействие Фихте на Гегеля было весьма
велико, было гораздо более сильным, чем обычно
предполагают, и особенно в тех пунктах, которые обычно
рассматривают как специфически гегелевские: Европа для
Фихте является единой нацией свободы, эпоха — хри-
стианско-германской. В статье о Макиавелли он даже
утверждает, что мораль (кантовская) не управляет
отношениями между суверенными государствами (мысль,
которая восходит к самому Канту): salus et decus popul'i
suprema lex estot закон и право не имеют там никакой
силы. Замечательный анализ политического мышления
Фихте, раскрывающий множество других точек
соприкосновения (и противопоставления) можно найти в книге:
М. Boucher. Le sentiment national en Allemagne. Paris, 1947.
197
внимание на следующее: то, что нам может
казаться тривиальным, не всегда, как свидетельствует
история, существовало в мире; напротив того, такая
мысль составляет эпоху в истории человеческого
духа».1 Или, как говорит он в Философии права:
«История духа есть его деяние, ибо он есть только
то, что он делает, и его деяние состоит в том, что
он делает себя здесь — себя в качестве духа —
предметом своего сознания в том, чтобы постигнуть
себя, истолковывая себя для себя самого. Это
постижение есть его бытие и начало, и завершение
постижения есть вместе с тем его овнешнение и
переход. Вновь постигающий, выражаясь формально,
это постижение и, что то же самое,
возвращающийся из овнешнения к себе дух, есть дух более
высокой ступени по сравнению с тем, каким он был
на ступени того первого постижения».2
Это доказательство, что час близок, что
рождение новой формы неизбежно? Да, доказательство:
старая форма преодолевается — потому что она
понята, потому что она может быть понята, потому что
она отдала все то, что она могла отдать. Гегелевское
государство умирает: доказательством этому служит
то, что гегелевская философия государства возмож-
1 Гегель Г. В. Ф. Философия истории. С. 67.
2Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 370.
198
на. Поскольку эта форма завершена, поскольку она
уже воплощена в реальности, она должна уступить
свое место, и разум в своей бессознательной
подземной работе устремляется к новой Wirklichkeit.
ic if •к
Да, Гегель «оправдывал» современное
государство, государство, олицетворяемое Пруссией его
эпохи; да, именно Пруссия породила сознание
этого этапа становления разума, реализации свободы.
Да, Пруссия оправдывается как государство
мысли — оправдывается и тем самым обвиняется; дух
останавливается, чтобы сделать новый шаг. Гегель
это прекрасно знал, и он говорит об этом в начале
своей Философии права, в тексте, который,
вероятно, цитируется чаще других гегелевских текстов и
который тем не менее упорно стараются не
замечать. Вот он:
«Что же касается поучения, каким мир должен
быть, то к сказанному выше можно добавить, что
для этого философия всегда приходит слишком
поздно. В качестве мысли о мире она появляется
лишь после того, как действительность закончила
процесс своего формирования и достигла своего
завершения. То, чему нас учит понятие, необходимо
199
показывает и история, — что лишь в пору
зрелости действительности идеальное выступает наряду с
реальным и строит для себя в образе
интеллектуального царства тот же мир, постигнутый в своей
субстанции. Когда философия начинает рисовать
своей серой краской по серому, тогда некая форма
жизни стала старой, но серым по серому ее
омолодить нельзя, можно только понять; сова Минервы
начинает свой полет лишь с наступлением
сумерек».1
Наша форма жизни стала старой.
]Там же. С. 57. «Um noch über das Belehren, wie die
Welt sein soll, ein Wort zu sagen, so kommt dazu ohnehin
die Philosophie immer zu spat.. Als der Gedanke der Welt
erscheint sie erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren
Bildungsprozess vollendet und sich fertig gemacht Hat. Dies,
was der Bcgnff lehrt, zeigt notwendig ebenso die Geschichte,
dass erst in der Reife der Wirklichkeit das Ideale dem Realen
gegenüber erscheint und jenes sich dieselbe Welt, in ihrer
Substanz erfasst, in Gestalt eines intellektuellen Reichs
erbaut. Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann
ist eine Gestalt des Lebens alt geworden, und mit Grau in
Grau lässt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen;
die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden
Dämmerung ihren Flug».
ПРИЛОЖЕНИЕ
МАРКС И ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
Хотя литература, касающаяся отношений
Маркса к Гегелю, достигла огромного числового
значения, она включает, насколько мы знаем и на тех
языках, что нам доступны (то есть за
исключением русского) лишь немного обстоятельных работ и
немного исследований, предпринятых без
предвзятости. Такого рода исследование с самого начала
сталкивается с большими трудностями: живя в
гегелевской атмосфере, вновь и вновь обращаясь к
чтению гегелевских произведений, рассматривая
Гегеля как последнего философа, Маркс и
Энгельс везде предполагали такое знание Гегеля,
которое уже не встречалось, когда они оказались в
зените своего влияния. Критика, которую они
адресовали Гегелю, быстро становилась непонятной
и, за редкими исключениями (такими, как
Плеханов или Ленин), марксисты довольствовались по-
201
вторением этой критики, не спрашивая себя, в чем
ее значение, что эта критика в гегелевской
системе считает достойным сохранения, что она
устанавливает в качестве принципа любой критики,
которая стремилась бы быть «на высоте».
«Случай Либкнехта», о котором мы говорили выше,
это иллюстрирует.
В этом случае речь не идет о том, чтобы внести
ясность в эти вопросы, настолько же важные,
насколько и запутанные. Тем не менее необходимо
поставить вопрос, в чем мышление Маркса
отличается от мышления Гегеля: исторически Гегель
действовал через Маркса, и в сознании нашей эпохи
Гегель — это, скорее, предшественник Маркса,
чем Маркс — ученик Гегеля: если младший
понятен лишь благодаря обращению к старшему, то
именно последний, прямо или косвенно, является
основой любого живого интереса, проявляемого
сегодня к первому.
Известно, и это без конца повторяют, что
главное различие между ними — это различие между
идеализмом одного и материализмом другого.
У этого противопоставления имеется точный смысл,
когда в обоих случаях добавляется историческое
определение: можно и нужно противопоставлять
учение об истории и историческом действии,
объявляющее о всемогуществе идеи, и теорию, которая
202
видит во внешних условиях существования людей
движущую силу всякого изменения и всякого
прогресса. На философском уровне оно, наоборот,
теряет всякое точное значение как для традиционной
метафизики, которая отделяет от идеализма
реализм и от материализма спиритуализм,1 так и, по
более сильным основаниям, для диалектической
философии, в которой одна из традиционных и
до-диалектических абстракций превращается в
другую. В значении какой-то школы Гегель и Маркс
не были ни идеалистами, ни материалистами, и
были и теми и другими.
Иное дело, когда речь идет о политической
деятельности: в этом пути Гегеля и Маркса
расходятся. Гегель полагает, что простого понимания
достаточно, чтобы осуществить государство
всеобщего примирения в том смысле, что осмысленная
деятельность властей существующего государства,
то есть правительства, будет совершенно
необходимой, чтобы предупредить разрыв между
общественной реальностью и формой государства, навязав
такую форму труда, которая даст любому гражда-
1К критике гегелевской философии права:
«Корпорации воплощают материализм бюрократии, а
бюрократия — спиритуализм корпораций» или «Абстрактный
спиритуализм есть абстрактный материализм: абстрактный
материализм есть абстрактный спиритуализм материи».
203
нину семью, чувство достоинства, самосознание,
причастность к делам государства, навязав, иными
словами, всеобщее опосредование. Маркс убежден,
что только революционная деятельность сможет
осуществить истинно человеческое общество в
истинно человеческом государстве.
Тем не менее, очевидно, после того, что
только что было сказано о политической философии
Гегеля и ввиду того, насколько решающую роль
играет у Маркса самосознание, что такое
противопоставление крайне схематично. Гегель учит, что
есть реальные условия, которые заставляют
государство (правительство) действовать; Маркс
знает и говорит, что чисто волевое действие, без
ясного осознания цели, без науки, является
противоположностью прогрессивной деятельности:
простое следствие того обстоятельства, что и тот и
другой примыкают не к абстрактной философии
рефлексии, а к диалектической философии.
Можно к этому добавить, что для обоих
бессознательное действие или, точнее, простое чувство
неудовлетворенности лежит в основе любого великого
исторического события, что самосознание может
осуществлять себя в том случае, если оно
вплетено в действие, и может стать полным только
тогда, когда действие завершается. Оба, кроме того,
знают — Маркс говорит об этом более ясно, чем
204
Гегель,1 — что полное осознание исторической
ситуации указывает, что эта ситуация должна быть и
будет преодолена, и оба видят невозможность
разработать точный образ будущего государства,
потому что определен только смысл противоположности
существующему положению вещей, но не новая
форма, которая будет результатом деятельности.
Тем не менее акцент ставится у одного на роли
масс (или классов — оба термина встречаются у
Гегеля, и именно в том смысле, в каком их будет
использовать Маркс), у другого — на
деятельности правительства. Из этого следует, что одна из
жгучих проблем современной эпохи Гегелем не
рассматривается: а именно предоставленная
правительству возможность действовать заодно с одним из
конфликтующих классов. Сам конфликт он видел;
он не придал ему того значения, которое он должен
принять очень скоро благодаря борьбе за
государство (а не только в государстве).
Причина этой ошибки в оценке очевидна
(точнее, причины: опыт пережитой революции,
потерпевшей неудачу, объективные различия в
экономической ситуации двух эпох — Марксу тринадцать
1 Теория осуществления философии и ее упразднения,
а также теория классового сознания пролетариата в
Манифесте коммунистической партии.
205
лет в момент смерти Гегеля, три года, когда
появилась Философия права и т. д.): Гегель —
теоретик, он не является и не хочет быть политиком.
Что интересно, так это история с ее смыслом и ее
направленностью, причем и то и другое берется в
целом, не как техническая проблема осуществления
ближайшего шага прогресса. Неважно, совершается
ли освобождение человека теперь или в течение
нескольких столетий, происходит ли оно здесь или
там, тем или иным способом; достаточно знать, что
является (согласно своему содержанию — так как
невозможно, и для него и для Маркса,
предвосхитить конкретную форму) свободным обществом.
Маркс (и здесь также мы не настаиваем на
изменении условий: Пруссия Фридриха-Вильгельма IV
и Пруссия Фридриха-Вильгельма III, европейская
экономика 1840 и 1820 гг.) не верит ни в добрую
волю правительства, ни в ее разум: там, где Гегель
видел проблему для правительства, Маркс видит
борьбу между действующим правительством и
угнетенным классом (термин как гегелевский, так и
марксистский); там, где Гегель ссылается на верно
понятый интерес государства, там Маркс
оказывает доверие лишь восстанию тех, кто не имеет
больше ни семьи, ни морали, ни достоинства, ни
отечества. Следует заметить, что Маркс не больше, чем
Гегель, думал о простом насилии; он также требует
206
осознанного руководства, того, которое называют
революционной элитой, кадрами, партией,
главой пролетариата; но эта новая администрация,
которой суждено примирить человека с самим собой
при новой организации — неважно, называют ли
ее государством или иначе, тем более что Маркс
никогда не занимался теорией государства — будет
формироваться вопреки официальной
администрации, а не выйдет из нее в результате незаметного
преобразования государственного устройства.1
Добавим к этому, что для Гегеля двигателем
истории является война: такое государство создает
новую форму разумной организации свободы и
возвышается над другими государствами в борьбе
за философский разум, являющийся носителем
идеи, за материальный разум, который может
рассчитывать на патриотизм всех своих граждан.2
1 «Эта власть есть сама часть государственного
устройства, которое ей предпослано и постольку находится в себе
и для себя вне ее прямого определения, но она получает
свое дальнейшее развитие в усовершенствовании законов и
в характере поступательного движения всеобщих
правительственных дел» (Философия права. С. 336).
2 «Корпоративный дух, зародившийся в правомочии
особенных сфер, переходит в самом себе в
государственный дух, обретая в государстве средство сохранения
особенных целей. В этом состоит тайна патриотизма граждан
в этом аспекте — они знают государство как свою суб-
207
Для Маркса на первом плане находится не
проблема войны (для марксизма она выйдет на первый
план только в теории империализма, намеченной
Лениным), но революция внутри государств,
которая сделает борьбу между нациями излишней.1
Дело в том, что, разрабатывая понятие
классовой борьбы, Маркс превращает в фундаментальное
научное понятие то, что для Гегеля остается
понятием философским, даже понятием на грани
философии: понятие страсти. Для последнего страсть —
это сила, которая движет историей, она, если
использовать язык Феноменологии Духа (язык,
который позже использоваться уже не будет), есть та
негативность, какой она является человеку в его
истории (для себя) и историку-философу в
историческом человеке (в себе). Для первого эта страсть
станцию, ибо оно сохраняет их особенные сферы, их
правомочия и авторитет, а также их благосостояние.
Поскольку в корпоративном духе содержится непосредственное
укоренение особенного во всеобщем, он является
источником той глубины и силы, которые государство обретает в
умонастроении» (Философия права. С. 330). Этого
патриотизма и недостает черни.
1 «Вместе с антагонизмом классов внутри наций падут
и враждебные отношения наций между собой»
(Манифест коммунистической партии). Для Гегеля также
именно недостаток общественного богатства,
следовательно, кризис (неизбежный) ведет к политическому
экспансионизму.
208
определена в каждой точке истории, следовательно,
также и в настоящей исторической ситуации. Для
Гегеля одна только страсть, которая себя
осуществляет и, следовательно, себя постигает, себя же
определяя, одна эта страсть научно познаваема, и, в
глазах автора Философии права, страстью его
времени является лишь осадок, остаток, который
должен быть усвоен самосознанием
историко-нравственной реальности современного государства
(приобретающего реальность в правительстве). Для
Маркса само это государство является
государством отчуждения, и страсть не только необходима,
чтобы осуществить свободу, но она в своей
направленности определена конкретной формой той
реальности, в которой и вопреки которой она
вспыхивает: силовые линии, следуя которым страсть, если
она желает оставаться страстью к конкретной
свободе, должна атаковать, могут быть познаны
научно. Неожиданно субъект и объект политического
действия становятся социальными (хотя они и
располагаются для Маркса в рамках гегелевского
государства), и на основе политической философии
возникает социальная наука.
Можно, следовательно, сказать, что все
элементы мышления-действия Маркса были
представлены и у Гегеля: они становятся научными
понятиями и революционными факторами, начиная с
14 Эрик Вейль
209
того момента, когда Маркс применяет понятие
негативности, то, которое было развито
Феноменологией, к структурным данным, разработанным
Философией права.
Два тезиса, точнее, две позиции, берущие
начало в одном и том же тезисе и в одном и том же
требовании, в тезисе о счастье человека в
признании всех и каждого всеми и каждым,1 остаются
актуальными и в наши дни, и можно сказать, что
лишь события могут решить в пользу одного из
них, полностью подтверждая то, что формирует их
общую основу: необходимость освобождения
человека — условная необходимость, необходимость,
если должны существовать цивилизация,
организация и положительная свобода. Проблема
отчуждения человека, проблема благосостояния (не
собственности, в гегелевском смысле), следовательно,
капитала были очевидны как для Гегеля, так и для
Маркса, и с тех пор признавались как
фундаментальные всякой теорией и всякой сознательной
политической практикой. Что их решение будет
актуальной задачей, как и в эпоху Гегеля и Маркса,
это давно уже стало communis opinion; но еще не
сделаны даже самые первые шаги в теории полити-
1 Большая заслуга книги А. Кожева в том, что он
сделал понятия признания и счастья центром интерпретации
гегелевского мышления.
210
ки, принимающей в расчет новые формы
государства, возникшие с того времени: апологеты мирной
эволюции, апологеты революции и диктатуры и
критики тех и других довольствовались, как
правило, тем, что показывали много страсти, много
проницательности в защите своих личных мнений от
мнений своих противников, но почти не желали
взвесить последствия, вытекающие из их
собственных принципов. Хорошо известно также, как
провоцировать или укрощать революцию, как
устанавливать и поддерживать революционную или
контрреволюционную диктатуру: почти никто не
спрашивал, каковы были сильные и слабые точки
диктаторских систем и свободной дискуссии по
отношению к цели, которую следует достичь, еще
меньше — какова была роль государственного
устройства и нравственности данной нации (оба
термина, главным образом первый, взяты в том
смысле, что и у Гегеля) в том, что касается
возможности использовать тот или иной способ.
Согласие в терминах, почтение, оказываемое всем
миром таким словам, как свобода, демократия,
власть, закон, равенство, доказывают только
отсутствие ясности в обсуждении: чтобы устранить это,
необходимо начать с вопроса о сосуществовании
(осознанном) революции, эволюции и реакции в
одном и том же мире; и следовало бы продолжить
211
поиском конкретного смысла терминов формальное
и реальное, которые служат один, оправданием,
другой, ругательством и которые оба обозначают
или реальность, или момент, абстрагированный от
реальности.
Предшествующие замечания имели
одну-единственную цель — указать на трудность сравнения
между Гегелем и Марксом; они ни в коей мере не
направлены на разъяснение намеченной проблемы,
и не претендуют даже на то, чтобы начертить путь,
которым необходимо следовать, чтобы к этому
разъяснению прийти. Они были необходимы,
чтобы мы смогли очень коротко поговорить о
Критике философии права, которую молодой Маркс
готовил к печати с марта по август 1843 г.1
Мы не намерены анализировать этот текст
детально. В таком случае мы должны были бы
провести сравнение между этой критикой и
гегелевской теорией и, имея в виду подход Маркса, мы
должны были бы вновь обратиться к
интерпретации Философии права, переходя от одного
параграфа к другому. Мы имели бы тогда возможность
отметить некоторые особенно блестящие и точные
*Эта дата взята из предисловия Д. Рязанова к
изданию сочинений Маркса.
212
возражения, указывающие на ошибки в понимании
обсуждаемых слов и утверждений.2 Такую работу
нам придется оставить специалистам, которые
решатся проследить эволюцию мышления Маркса.
В нашем случае нас занимают только главные
линии, только принципы этой критики.
В отличие от Введения к критике философии
права, вышедшего в свет в Париже в 1844, сама
Критика не произвела большого шума: рукопись
впервые была опубликована в первом томе
издания, подготовленного Институтом Маркса и
Энгельса в Москве в 1929 г., и не привлекла почти
никакого внимания публики, даже того узкого
круга, который интересуется такими вопросами. Такое
восприятие понятно, так как текст незавершенный,
тяжелый и трудный для чтения, поскольку в
большинстве случаев он прямо переходит к критике, не
'Такова критика дедукции наследственной монархии,
критика упущения из виду значимости благосостояния
(капитала) при анализе политических условий (хотя сам
Маркс не видел в этот момент различия между
собственностью и капиталом и фактически отставал от гегелевского
анализа общества).
2 Самые важные из которых заключались в том, что
никто не видел, что для Гегеля государственное устройство
является исторической сущностью, и что тот его тип,
который он описывает, не является ни ключом к любому иному
типу, ни неким вечным образцом.
213
беспокоясь об интерпретации, предполагая со
стороны публики такое знание Гегеля, которое,
вероятно, еще можно было бы предположить в 1843 г.,
но которое в наши дни уже не встречается. К
этому добавляется домарксистское мышление, если
марксистское мышление определять принципами,
выраженными в Манифесте коммунистической
партии и разрабатывавшимися Максом и
Энгельсом в течение всей остальной их жизни. Наконец,
рукопись неполная не только потому, что первый
лист был потерян, но и потому что во многих
местах Маркс оставил пустые страницы, которые он
хотел заполнить позже, отмечая то здесь, то там,
что ему необходимо уточнить или добавить.
Но не это главное. Эта критика касается и
всегда должна касаться только права внутри
государства, только государственного устройства: ей,
следовательно, недостает того, что для читателя наших
дней имело бы самое большое значение, —
определенной позиции по отношению к теории общества,
с одной стороны, и философии истории — с
другой. Маркс намеревается обратиться к теории
общества; но в этой рукописи он этого, разумеется,
не сделал: он в этот момент считал, что подлинная
критика гегелевского мышления была возможна на
чисто политическом уровне. И на этом уровне его
критика негативна, хотя часто оправданна; он не
214
только не излагает никакой положительной теории
государства, он не предоставляет даже никакого
указания, которое позволило бы прийти к выводу о
его предполагаемом мнении. Конечно, он говорит о
преобладании собственности (Eigentum) в этом
государстве, о противоположности человека и
гражданина, о том плохо замаскированном пороке,
который пронизывает государство и не допускает
примирения человека с государством, он настаивает
на присвоении государства администрацией, на
гегелевском презрении к демократии (которое Маркс
разделяет в той мере, в какой демократия
формальна), он критикует, и весьма справедливо,
гегелевскую дедукцию наследственной монархии; но все
это никогда не доходит до глубины окончательных
воззрений, которые начинают давать о себе знать
во Введении (опубликованном) к этой Критике
(неопубликованной). Все фундаментальные
понятия, действительное отчуждение человека, класс,
лишенный всякого участия в делах исторической
общности, даже понятие капитала там еще не
появляются. Язык — это язык Фейербаха, термин
«критика», признак влияния группы Бауэра,
фигурирует там еще довольно часто, а фундаментальная
позиция именно та, которую, немного позже,
Макрс будет критиковать, говоря об
«опровержении» религии Фейербахом: «Фейербах сводит ре-
215
лигиозную сущность к человеческой сущности. Но
сущность человека не есть абстракт, присущий
отдельному индивиду. В своей действительности она
есть совокупность всех общественных отношений».1
Достаточно заменить в этих высказываниях имя
Фейербах именем Маркса, а термин религиозный
термином политический, чтобы дать
характеристику этой критике. Научное значение рукописи,
следовательно, ограничено; оно касается, в конечном
счете, только биографа Маркса и историка
гегельянства.
Совсем иное дело — Введение к критике.
Здесь больше детальной критики, но четкое
признание, что Гегель-философ, совесть современного
государства. Речь не идет о том, чтобы исправить
такой-то тезис, опровергнуть такой-то вывод:
наоборот «мы — философские современники
нынешнего века, не будучи его историческими
современниками... Немецкая философия права и
государства — единственная немецкая история,
стоящая al pari официальной современной
действительности... Немцы размышляли в политике о том, что
другие народы делали. Как тогда революция
началась в мозгу монаха, так теперь она начинается в
мозгу философа». Верно, что такое почтение к Ге-
1 К. Маркс. Тезисы о Фейербахе.
216
гелю появляется здесь не впервые: рукопись
Критики наполнена выражениями, которые признают
в Гегеле того, кто верно выражает ложную
действительность; но в то время, как в рукописи часто
ощущаются колебания, Введение приводит к ясной
позиции: «Вы не сможете aufheben (упразднить,
возвысить и сохранить) философию, не претворив
ее в реальность», — тезис, дополненный другим,
адресованным теоретической критике Бауэра,
Фейербаха: «Она (то есть критика) полагала, что
может претворить философию в реальность без
aufheben». И сразу же тот решающий для всего
развития мышления Маркса взгляд, что
«революции нуждаются в пассивном элементе, в
материальной основе», что революция будет осуществлена
как плод всеобщего освобождения человека лишь
при «образовании класса, скованного
радикальными цепями... который представляет собой полную
утрату человека и, следовательно, может возродить
себя лишь путем полного возрождения человека.
Этот результат разложения общества, как особое
сословие, есть пролетариат».
Продолжение известно: развитие технической
теории революции, призыв к страсти, организация
страсти, отказ от всякой теоретической теории,
разработка экономических категорий, исходящих из
исторического человека и применимых к нему,
217
слияние политического и экономического, введение
указателя на историю в любой нравственной,
экономической, политической категории: все это
потому, что гегелевские утверждения принимаются
теперь в совокупности, потому что история приобрела
точный смысл — освободить человека в
действительности, а не только в мышлении, потому что
такое освобождение и всеобщее примирение еще не
были осуществлены, потому что человеческие
отношения еще зависят от страсти, от произвола, от
насилия, потому что опосредование не завершено,
потому что борьба еще продолжается, потому что
жизнь еще не разумна.
Здесь неуместно спрашивать где, как, в какой
мере Маркс, принимая гегелевскую философию со
всем ее содержанием, ее преодолевает, спрашивать,
в частности, что означает знаменитое выражение
«перевернуть с головы на ноги». Что касается
самого важного, речь идет о том, чтобы извлечь из
философии науку и технику, приступить к
осуществлению того, что философия выражает как чисто
гипотетическую необходимость и изыскивать для
этого доступные и необходимые средства,
перевести идеализм философии (и всей теоретической
науки) в исторический и политический материализм.
Правомерен ли такой переход от философии к
науке и технике? Осуществляется ли он согласно
218
принципам философии, которая должна сообщить
такой науке необходимую надежность и
законность? Или, наоборот, такая перестановка вводит
непримиримое противоречие между этими
принципами и их следствиями? Если такая техническая
наука может быть разработана (кажется, она не
была разработана, по крайней мере полностью), то
можно ли и нужно ли извлечь из нее выводы о
природе подразумеваемой системы? Или, если речь
идет о понимании, то не следует ли, скорее,
осудить претензии такой науки в соответствии с
учением философии, на которую она сама ссылается?
Может ли наука пожелать занять место
философии? Может ли философия, на уровне
исторического действия, избежать превращения в науку или
в средство рационализации страстей?
Мы не обязаны отвечать на эти вопросы. Как
бы то ни было, проблемы, на которые дает ответ
Маркс, не противоречат утверждениям Гегеля, но
исходят из них.
Все основы науки об освобождении
отчужденного человека встречаются и у Гегеля. Вероятно,
что, если цитировать слова Канта, мы видим столь
ясно (гегелевские) открытия лишь потому, что
(Маркс) нам говорит, что следует искать. Но это
не мешает нам найти их у Гегеля. И если позволе-
219
но выдвинуть одну гипотезу, то кажется высоко
вероятным, что сам Маркс их там и нашел:
действительно, если различие между точкой зрения
Критики и точкой зрения Введения существенно, то
не было ли изучение теории общества в
Философии права чем-то гораздо большим, чем простой
повод для контакта с рабочими кругами в Париже?
Не благодаря ли этому влиянию он
противопоставляет диалектическую теорию французскому
коммунизму того времени, который он рассматривает как
«догматическую абстракцию»? В любом случае
Маркс заявляет в Критике о своем намерении
обратиться к гегелевской теории общества после
изучения теории государственного устройства.
Что касается этой гипотезы, она ничего не
отнимает от «оригинальности» Маркса и не прибавляет к
«ответственности» Гегеля: Гегель, вероятно, не
одобрил бы науку Маркса, которая исторически была, тем
не менее, одним из переложений философии Гегеля.
Эти замечания мы предлагаем, потому что считаем,
что они могут пригодиться для понимания обоих
авторов, для того объективного понимания, которое
одно только и позволяет определить позицию,
представляющую собой нечто иное, чем выражение
верности или ненависти, инстинктивного предпочтения или
непреодолимой неприязни — представляющую собой
нечто иное, чем простой вопрос вкуса.
ГЕГЕЛЬ: ГОСУДАРСТВО — ЭТО...?
Проблема истолкования понятие «государство у
Гегеля очень сложна, поскольку это понятие
представляет собой сложную многомерную
конструкцию, связанную множеством отношений со всеми
другими частями гегелевской философской системы.
Поэтому дать краткое определение понятия
«государство» у Гегеля затруднительно. Его
интерпретации посвящено много публикаций, и работа
Э. Вейля — одна из них.
Она была впервые опубликована в 1950 году, и
автор наряду с историческим анализом делает
попытку показать, что с помощью гегелевских идей
можно анализировать и проблемы современного
государства. Может возникнуть вопрос, насколько
проблемы Франции шестидесятилетней давности в
трактовке Вейля могут соотноситься с проблемами
современной российской государственности, нашего
общества? На этот вопрос лучше отвечать самому
читателю, автор предисловия изложит лишь свою
точку зрения. Работе Вейля не будет даваться
221
оценка с точки зрения того, насколько аутентично
он трактует Гегеля. Думается, что дать
«аутентичную» трактовку идей мыслителя, в основу
философии которого положено противоречие, вряд ли
возможно. К тому же мы, как и Э. Вейль, люди
другой исторической эпохи и другой культуры, чем
Гегель. Поэтому речь будет идти о точках зрения,
а не об Абсолютной Истине, и целью этого
обсуждения будет содействие читателю в его стремлении
или сформировать, или скорректировать свою точку
зрения на государство, а возможно, и оставить ее в
неприкосновенности.
При этом, думается, следует дать некоторые
комментарии не только к идеям Вейля, но и самого
Гегеля, поскольку краткость анонсируемой работы
не позволили ее автору детально излагать существо
гегелевской мысли. Собственно, и сам Вейль видит
своей задачей «пробудить интерес к самому тексту
и устранить те препятствия для его понимания, что
накопились с течением времени» (с. 9). Объясняя
историческое место политической философии
Гегеля, он начинает со второго, с попытки устранения
тех предрассудков, которые накопились вокруг
философии Гегеля и которые препятствуют ее
адекватному восприятию.
Во-первых, основной предрассудок, на который
он обращает внимание, это устоявшееся мнение,
222
что Гегель — «это человек для которого
государство — это все, индивид — ничто...» (с. 12—13),
что он прусский реакционер и непримиримый враг
либералов. Развеять этот предрассудок Вейлю вряд
ли удалось (позднейшая работа К. Поппера
«Свободное общество и его враги» вновь его
воспроизводит) однако он обращает внимание на крайне
важный момент гегелевского анализа государства,
нацеленный на то, чтобы понять, как сохранить
свободу индивида и в то же время обосновать
необходимость сильного государства. Возможно ли
это? Где здесь находится золотая середина?
Насколько идея свободы конкретна и как она
соотносится со спецификой определенного народного
духа? В дальнейшем, рассматривая трактовку
Вейлем гегелевского понимания философских
оснований политики будет, дан более подробный
комментарий отношения понятий «свобода»,
«действительность», «разумность» у Гегеля.
Во-вторых, опровергая мысль о том, что Гегель
был идеологом реакционной Пруссии, Вейль
приводит довольно интересную аргументацию. Он
обращает внимание на очевидный, но малоизвестный
факт в тот период, когда создавались основные
гегелевские социально-философские труды и
«Философия права» прежде всего, Пруссия является по
сравнению с другими европейскими государствами
223
более свободной. В ней земельная собственность
становится отчуждаемой (за исключением
майоратов), крестьяне освобождаются, тяжелые работы
упраздняются. Города получают административную
самостоятельность, провинциальные сеймы
создаются и реформируются и т. д. Вейль особо
подчеркивает: «Но все это происходит — и это имеет
самое важное значение — не потому, что народ
потребовал этих прав, а потому, что правительство
явно признало, что только глубокая реформа может
предоставить средства и дать силу государству
эффективно подготовиться к новой войне, пробудить
тот национальный подъем, без которого борьба
против Наполеона не имела ни малейшего шанса на
успех» (с. 26—27). В соотнесении с этим
совершенно ясно, что только сильное государство может
успешно проводить реформы «сверху».
Таким образом обосновывается вывод, что в
1830, как и в 1818, Гегель рассматривает Пруссию
как современное государство par excellence (что
кажется весьма точным с точки зрения историка), и
он видит его таковым, потому что он видит его
основанным на свободе.
Понятно, что эффективная политика,
рассчитанная на определенную историческую перспективу,
не может быть набором случайных действий.
Напротив она должна иметь определенные мировоз-
224
зренческие основания, которые в теоретической
форме приобретают вид философских оснований
политики, их-то Вейль и стремится найти у Гегеля.
Он начинает рассмотрение этих оснований с
анализа многократно обсуждавшегося гегелевского
тезиса «Все разумное действительно, все
действительное разумно». Здесь Вейль исходит из
следующей мысли: «мир, в котором живут люди, в
котором они находятся у себя (так как их
недовольство имеет смысл лишь благодаря отношению к
этому миру), этот мир разумен, законы нашей
жизни познаваемы, и они познаваемы в первую
очередь, поскольку в них разум не только себя
осуществляет (он осуществляет себя и в другом), но
еще и осознает, что он себя в них осуществляет.
Теория государства, государства, которое имеется в
наличии, а не государства идеального и
воображаемого, — это теория разума, осуществленного в
человеке, осуществленного для себя и благодаря
самому себе» (с. 37, 43).
Можно добавить, что в отличие от Канта и
Фихте, которые рассуждают, как сделать
государство соответствующим понятию, и потому мыслят
«государство вообще», «государство разума»,
Гегель полагает государство всегда как нечто
особенное, как явление сугубо историческое. Мыслить
«государство вообще» можно, но оно не может су-
15 Эрик Вейль
225
ществовать, так же, как не может существовать
«животное вообще». Поэтому абстрактное
«государство разума» уже не есть целостный
определенный организм. Идеальное государство перестает
быть государством в собственном смысле этого
слова. Относясь в общем-то критически к
договорной теории государства и к кантовско-фихтевской
идее «государства разума», Гегель ставит задачей
философии права не постижение того, что должно
быть, а понимание существующего государства, ибо
то, что существует, имеет в себе момент
разумности.
Вейль очень к месту приводит следующую
цитату Гегеля: «Государство — не произведение
искусства, оно находится в мире, тем самым в сфере
произвола, случайности и заблуждения; дурное
поведение может внести искажения в множество его
сторон. Однако ведь самый безобразный человек,
преступник, больной, калека — все еще живой
человек, утвердительное, жизнь существует, несмотря
на недостатки, а это утвердительное и представляет
здесь интерес» (с. 46—47).
Теоретический анализ категорий, который
делает Вейль, весьма краток, поэтому к нему следует
сделать некоторые дополнения.
Сначала следует отметить, что у Гегеля
категория действительности выражает не непосредст-
226
венность, не бытие, а отношение — отношение
сущности и существования. Он подчеркивает:
«Обнаружение действительного есть само
действительное, так что оно в этом обнаружении
также остается существенным, и лишь постольку
существенно, поскольку оно имеется в
непосредственном внешнем существовании».1 При этом
Гегель категорично размежевывался с теми, кто
противопоставлял существующую
действительность сущности. Действительность, с его точки
зрения, надо рассматривать как энергию, т. е. как
внутреннее, которое всецело проявилось вовне, и,
следовательно, как единство внутреннего и
внешнего. В своем конкретном виде действительность
выступает в виде субстанциально-акцидентальных,
причинно-следственных отношений и отношения
взаимодействия.
Что касается понимания сущности разума, то
Гегель обращает внимание на Канта, который
обосновал необходимость выделить разумность как
самостоятельную способность мышления. Для
Канта формальное основание разума представляло
собой трансцендентальное единство апперцепции.
Трансцендентальное единство апперцепции пред-
1 Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Часть
первая. Логика // Гегель. Соч. в 14-ти т. Т. 1. М.; Л.,
1929. С. 238.
227
ставляет собой чистое тождество самосознания, я,
которое полагает себя равным самому себе. И с
точки зрения Канта, и с точки зрения Гегеля эта
самополагающаяся самотождественность и является
базисным формальным элементом разума. Иначе
говоря, формальной основой разума является
абстрактная форма самосознания: я есть я. Эта
абстрактная форма представляет собой безусловное
непосредственное начало в действии самополагания
разума.
Это формальное тождество представляет собой
замыкающийся круг и эта самозамкнутость делает
его бесконечным и безусловным. Однако это
только формальная бесконечность и безусловность. Но
поскольку это тождество является для субъекта
формально основополагающим, постольку он
стремиться положить эту бесконечность и
безусловность и как предмет реального сознания.
Сам Гегель подробно описывал свою точку
зрения на этот вопрос прежде всего в соотнесении с
позицией Канта. Так он писал: «Хотя мы должны
признать очень важным результатом кантовской
философии то, что она настаивала на конечности
основанного лишь на опыте познания рассудка и
называла содержание этого познания явлениями,
мы все же не должны останавливаться на этом
отрицательном результате, не должны сводить безус-
228
ловность разума лишь к абстрактному,
исключающему различия тождеству с собою».1
Кант, с точки зрения Гегеля, понимал разум
как абстрактное самосознание. При этом он
полагал, что «Недостаток абстрактного самосознания
состоит в том, что это абстрактное самосознание и
сознание в отношении друг друга представляют
собой еще две разные вещи, что они еще не ур£вняли
взаимно друг друга. — В сознании мы видим
громадное различие „я" — этого совершенно
простого, с одной стороны, и бесконечного многообразия
мира — с другой».2
Гегель пытается понять разум конкретно.
Конкретность состоит в том, что ее исходной точкой является
действительная индивидуальность. Действительный
индивид находится в противоречивом единстве с
природой, собственным телом, наличной социальностью. Эти
противоречия и заставляют его действовать. Здесь
речь шла о субъективном, человеческом разуме, но
Гегель трактует разум и объективно как внутреннее
единство сущего. Этот объективный разум реализует
себя в процессе, полагая многообразие мира как
конкретное внутренне противоречивое единство.
1 Гегель Г. Энциклопедия философских наук.
Логика // Гегель. Соч. Т. 1. С. 92.
2Гегель Г. Философия духа // Гегель. Соч. В 14-ти т.
Т. 3. М., 1956. С. 215.
229
Приведенные общие положения имеют базисное
значение для понимания гегелевского способа
постижения смысла социально-исторической
действительности.
На первый взгляд этот способ постижения
весьма эклектичен. С одной стороны, говорится о
господстве разума в мире, о том, что он есть
бесконечная мощь, а с другой — о том, что реальные
действия реальных людей вызваны страстями, а не
общими идеями. Гегель пишет: «Конечно мы
можем найти в самих этих субъектах и в сферах их
деятельности осуществление определений разума,
но число их ничтожно по сравнению с массой рода
человеческого, да и добродетели их сравнительно
не очень распространены. Наоборот, страсти,
своекорыстные цели, удовлетворение эгоизма имеет
наибольшую силу; сила их заключается в том, что
они не признают никаких пределов, которые право
и мораль стремятся установить для них, и в том,
что эти силы природы непосредственно ближе
человеку, чем искусственное и продолжительное
воспитание, благодаря которому человек принуждается
к порядку и умеренности, к соблюдению права и
морали».1
1 Гегель Г. Философия истории // Гегель Соч.
В 14-ти т. Т. 8. М.; Л., 1935. С. 20.
230
Однако это только кажущийся эклектизм. Там,
где есть общество, там, у людей, есть нечто общее,
и вместе с тем каждый отдельный индивид как
индивид существует для себя, он не может не быть
самосоотнесенным, не представлять некоторую
целостность, хотя бы с биологической точки зрения.
Они — эти действующие индивиды —
представляют собой акцидентальный момент исторической
действительности. С гегелевской точки зрения в
исторической действительности наличны два
момента: «во-первых, идеи; во-вторых, человеческие
страсти; первый момент составляет основу, второй
является утком великого ковра развернутой перед
нами всемирной истории».1
Итак, и то, и другое необходимо. Вопрос лишь
в том, как полагают себя к действительности эти
два момента, эти две противоположности. Обычно
говорят о гегелевском замечании, о хитрости
разума, который заставляет действовать для себя
страсти, использует непрестанную борьбу частных
интересов для реализации целей разума. Это верно
замеченный элемент рассуждений великого
диалектика, однако главный, центральный пункт
соединения разумного и единичного — это нравственная
свобода в государстве, в ней всеобщее становится
Там же. Т. 8. С. 23.
231
действительным, а индивидуальное может себя
реализовать.
То, что индивидуальная свобода деятельности
служит всеобщим целям разума, совсем не
означает, что индивид выступает только как средство для
реализации мирового духа. Разум реализуется в
деятельности каждого человека. Частные цели,
поскольку они реализуются в обществе, являясь
выражением самоцели отдельного человека, не могут
не иметь и социальной составляющей. Если этой
составляющей нет, то реализовать частную цель
будет невозможно. Гегель пишет: «люди всего
менее относятся к цели разума как средства; они,
пользуясь представляющимися при этом удобными
случаями, не только добиваются одновременно с
осуществлением этой цели и осуществления своих
частных целей, по своему содержанию отличных от
цели разума, но они причастны и самой
вышеупомянутой разумной цели и именно поэтому они
являются самоцелями...» Тем самым индивиды,
будучи в себе разумными и, реализуя свою
разумность, в сообществе индивидов делают
действительным и мировой разум.
При этом следует заметить, что гегелевское
понимание человека как самоцели отличается от кан-
Там же. Т. 8. С. 32—33.
232
товского понимания человека как самоцели тем, что
у Канта действительность морального закона в
человеке и действительность радикального зла в
человеке рассмотрены отдельно, Гегель же пытается
понять действительность положительного и
отрицательного в человеке в их взаимосвязи.
Что касается действительности всеобщего в
человеке, то оно в нем наличествует как род,
поскольку человек является живым существом, но это
уже тема философии природы. В разумной стороне
человека всеобщее действительно в облике духа.
Дух можно определить как рефлектированное
содержание связей, отношений разумных существ.
Народный дух — это рефлексирование, осознава-
ние непосредственно наличного содержания этих
связей. Таким образом, общее становится
действительным в определенных связях и отношениях, но
как предмет эти связи и отношения могут
выступить, лишь когда они осознаются, и вследствие
этого они сами сами могут представлять собой
объект разумных действий. Представление этих
действий как некоторой последовательности и есть
история.
С гегелевской точки зрения эти связи и
отношения могут приобрести целостный
самозамыкающийся характер только в государстве. Гегель был
скорее сторонником семейно-патриархальной кон-
233
цепции происхождения государства и,
соответственно, критиковал договорную теорию. Дело,
видимо, в том, что исходной социальной
действительностью у него выступает отношение, а не
состояние, поскольку именно отношение есть общее.
В семье присутствует отношение первоначальной
нравственности, которое затем становится
нравственной основой государства. Семейная
нравственность основана на любви и доверии. Любовь здесь
присутствует, поскольку в ней выражено чувство
комплиментарности индивида. Отдельный
индивид лишь частично выражает род, и чтобы род
был действителен во времени, требуются
отношения полов и поколений. Любовь — это та
страсть, которая делает род действительным во
времени.
(Приведенная интерпретация гегелевского
понимания оснований государства созвучна пониманию
Вейля, который пишет: «Известно — мы все-таки
должны к этому вернуться — что для Гегеля праву
предшествует мораль, а формальной морали —
конкретная нравственность жизни в общине, живая
традиция (Sittlichkeit), и что эта последняя
предшествует государству, которая является ее
действительностью (Wirklichkeit) и окончательным
завершением. Но это в первую очередь означает, что
право и мораль индивида неотъемлемы друг от
234
друга; затем это означает, что этого права и этой
морали индивида недостаточно; наконец, это
означает, что их действительность (а не их разрушение)
должна быть найдена в государстве. Это не
означает, что государство могло бы или должно было
бы упразднить право и мораль человеческой
личности, или бороться с ними, поскольку это означает
прямо противоположное; как всегда у Гегеля, то,
что диалектически упраздняется, также
сохраняется, возвышается и полностью осуществляется лишь
посредством этого акта Aufheben». С. 52—53).
Далее. При переходе от семейно-патриархаль-
ного к государственному общежитию на уровне
государства как более широкой и сложной
общности непосредственное чувство комплиментарное™
трансформируется в осознаваемую систему
потребностей гражданского общества. В гражданском
обществе именно участие отдельного человека в
удовлетворении многообразия потребностей дает
возможность осознать ему свою
взаимодополнительность. На первый взгляд может показаться
необычным, но с точки зрения Гегеля человек
отличается от животного в том числе и многообразием
своих потребностей. Это многообразие требует
многообразия объективных связей и отношений и
тем самым выявляется сложность и глубина духа.
Кроме того, в многообразии заключается также за-
235
держка страстей, и это тоже способствует тому,
чтобы проявилась разумность индивида.
Далее, по мысли Э. Вейля, при анализе
философских основ политики следует выработать
адекватное действительности понимание свободы, и он
полагает, что у Гегеля есть такое понимание
свободы. Он исходит из известного гегелевского
тезиса: «Свобода положительна и действует только
в той мере, в какой объективно — осознает она
это или нет — она разумна, т. е., является
всеобщей: конкретная свобода — это не произвол
индивида, который невозможно осмыслить,
невозможно осуществить, и человек свободен в той
мере, в какой он желает свободы человека в
свободном сообществе» (с. 61—62). Таким образом,
воля, будучи свободной, с необходимостью
приобретает определенное содержание, цель, которая
должна быть реализована, в действительности и
средствами действительности.
Вейль полагает, что именно поэтому Гегель
начинает анализ свободы не с «метафизических»
рассуждений, а с анализа конкретной свободы,
сначала в форме права, затем морали. При этом
пружиной, которая движет становлением
действительной свободы является противоположность
между всеобщей волей, которая является лишь волей в
себе и индивидуальной волей, которая свободна
236
лишь для себя, которая действует и несет
ответственность за свое действие.
Вейль обращает внимание, что для Гегеля
действительная свобода человека является исходной в
понимании современного общества. Он говорит,
что Гегель положительно оценивает принцип
бесконечной автономии воли Канта и принцип
индивидуальной воли Руссо.
Поскольку в таком важном вопросе, как
понимание Гегелем свободы есть явные недоразумения,
о которых говорится в начале работы, следует
сделать к анализу Вейля и некоторые дополнительные
комментарии гегелевских текстов.
Для Гегеля вопрос о действительности свободы
состоял прежде всего в том, каким образом
совмещаются ее положительные, всеобщие и
отрицательные, индивидуальные моменты. Человек по своей
родовой природе является разумным существом.
Но каждый конечный индивид имеет собственное
для-себя-бытие и в силу этого он в определенной
степени обособлен и, значит, зол. Следовательно, в
этом моменте он не является всеобщим и,
соответственно, разумным. Тем самым возникает вопрос о
том, каким образом совмещается положительный и
отрицательный моменты свободы в человеке.
Ясно, что понимание зла как чего-то
отрицательного базируется на понимании характера отри-
237
цания вообще. В гегелевском понимании категории
отрицания как таковой можно выделить ряд
моментов. Изложим их последовательно. Можно сказать,
что отрицание всегда является определенным.
Конечный, определенный предмет может отрицаться
только другим конечным. Причем определенность
отрицания содержится прежде всего в самом этом
конечном наличном бытии, как его
непосредственная «сущностная» определенность. Поскольку она
является непосредственной, то она внутренняя —
качество и это внутреннее может стать явным,
лишь соотносясь со своим другим. Отрицание
«существует» в двух объектах одновременно как
способ, форма их отношения. Тем самым оно есть
отрицание отрицания. «Негативное во многих, —
говорит Гегель, — есть отношение каждого через
самого себя к другому».1
Таким образом, наряду с негативным моментом
в отрицании отрицания, поскольку оно
представляет собой двойное отрицание, закладывается и
положительное. В отрицании отрицания конечное
начинает соотноситься с самим собою как с
бесконечным (имеющее бесконечность внутри себя),
снимает (т. е. сохраняет в виде момента) отноше-
1 Гегель Г. Иенская реальная философия // Гегель Г.
Работы разных лет: В 2-х т. Т. 1. М., 1970. С. 294.
238
ние к внешнему ему другому (бытие-для-другого)
и выступает как соотносящееся с самим собою
бытие — «для-себя-бытие». Тем самым в категории
для-себя-бытия выявлен переход реального,
конечного в идеальное, бесконечное. Если этот общий
тезис применить к сфере социального, то можно
говорить о переходе индивидуального в
общественное.
Кроме того подчеркнем важную для гегелевской
концепции свободы мысль о том, что идеальное не
может существовать без реального и наоборот.
В принципе отрицания отрицания Гегелем
выявляется механизм необходимого взаимоперехода
реального и идеального действительного и возможного
моментов сущего, в том числе и человеческой
свободы. Это выявление становится понятным через
рассмотрение двойного движения реального
(конечного) к идеальному (бесконечному) и наоборот.
Тем самым индивидуальные и социальные моменты
человека существуют в их взаимном переходе.
Таким образом, можно сказать, что действительная
свобода для Гегеля — это единство внутреннего и
внешнего. В одном моменте — это свободная
субъективность, а в другом — ее действительное
существование в системе человеческих отношений.
В гегелевской «Философии истории»
отмечается, что в восточных деспотиях свободен один чело-
239
век, в античном обществе свободны некоторые, в
современном обществе свободны все. Таким
образом, в современном обществе каждый человек в
объективации своей внутренней свободы должен
соотноситься со свободой других людей. Можно
сказать, что в этой основной мысли Гегель близок
к фихтевской идее множественного
интерсубъективного взаимодействия, хотя, конечно, механизм
этого взаимодействия он трактует иначе.
Человеческая свобода, как она существует в
современном ему мире, исследуется Гегелем в
«Философии права». Следует согласиться с В. С. Нер-
сесянцем, который полагает, что в определенном
смысле «Философия права» может быть названа
«Философией свободы».1
С точки зрения рассмотрения свободы здесь
сначала исследуется субъективная составляющая
этого понятия — всеобщие предпосылки свободы,
а затем ее объективная проекция —
действительные условия реализации свободы.
В праве и через правовые отношения
субъективность свободной воли только еще становится.
Здесь, с гегелевской точки зрения, конкретной
свободной субъективности пока еще нет. Субъек-
1 Нерсесяни, В. С. Философия права Гегеля. М., 1998.
С. 52.
240
том права является абстрактное лицо. Отношение
одного индивидуума к другому опосредствовано
вещностью, собственностью, и поэтому здесь
имеет место еще отрицательное отношение к свободе
другого. Соответственно и «своя» свобода скорее
трактуется в облике произвола, ограниченного
рамками закона.
Формой, в которой может происходить
отношения индивидов по поводу собственности является
договор, как сфера возможной общей
определимости взаимодействия лиц. Договор выражает только
внешнюю сторону взаимодействия свободных воль.
Как отмечает Гегель: «тождественная воля,
вступающая в наличное бытие посредством договора,
есть лишь ими положенная, следовательно, лишь
общая, а не в себе и для себя всеобщая воля...»1
В чем разница между полаганием общей и
всеобщей воли? — В том, что когда речь идет об
общности, то одновременно речь идет о признании
свободной воли лица только в определенном
отношении. В других отношениях лицо может
вообще не признаваться. Когда же лицо полагается
как в себе и для себя всеобщая воля, то оно
полагается свободным во всех действительных отноше-
1 Гегель Г. Философия права // Соч. В 14-ти т. Т. 7.
М.; А, 1934. С. 98.
16 Эрик Вейль
241
ниях, здесь индивидуум признается свободной
субъективностью.
Переход к свободной действительной
субъективности Гегель также видит, исходя из принципа
отрицания отрицания. Поскольку в договоре
конкретная субъективность не имеется в виду и
поэтому может отрицаться в преступлении, постольку в
отрицании преступления (не определенного
преступления, а преступления как такового) в воздаянии
субъективность восстанавливается в своем полном
объеме, она, безусловно, признается
действительной и свободной. Таким образом, возникает
моральное самосознание человека. При этом в
социуме осуществляется переход от правового состояния
к гражданскому обществу. Как будет показано в
дальнейшем, моральная точка зрения, по мысли
Гегеля, необходима для существования гражданского
общества.
Основой моральной позиции человека, с
гегелевской точки зрения, является «для себя
бесконечная субъективность свободы...»1 Термин «для
себя» означает здесь, что бесконечная
субъективность свободы наличествует в действительности.
Тем самым люди, находящиеся на моральной точке
зрения, признают друг друга свободными в всеоб-
'Там же. С. 122.
242
щем смысле. И, конечно, сам индивид мыслит себя
свободным, т. е. самоопределяет себя, исходя из
своего собственного разума, этот индивидуум
автономен. Это совсем не означает, что моральное это
обязательно хорошее. Как это ни парадоксально,
моральное может быть и плохим. Гегелевская
мысль, постулирующая этот кажущийся парадокс,
достаточно определенна: «Моральное теперь уже не
определено ближайшим образом как
противоположное неморальному, точно так же как и право не есть
непосредственно противоположное неправде [das
Unrecht], а на субъективности воли зиждется
всеобщая точка зрения как морального, так и
неморального».1 В «Философии права» есть и еще более
парадоксальные мысли, например: «Совесть как
формальная субъективность всецело представляет
собой нечто, легко переходящее в зло. В для себя
сущей, для себя знающей и решающей уверенности
в своей собственной самодостоверности имеют свой
общий корень обе, как мораль, так и зло».2
Если в праве отношения лиц друг другу
мыслятся отрицательными, то моральная позиция тем
не менее предполагает положительное отношение к
другому. Гегель подчеркивает: «В праве не имеет
!Там же. С. 129.
2Там же. С. 159-160.
243
значения, желательно ли или нежелательно
что-нибудь воле другого по отношению к моей воле,
дающей себе наличное бытие в особенности. Напротив,
в области морали дело идет также и о благе
других, и это положительное отношение может
проявляться лишь здесь».1 В обществе традиционной
нравственности основой межиндивидуальных
взаимосвязей являлись запреты и предписания, для
правового состояния характерна законоприемлемая
уловка, в сфере морального и соответственно в
гражданском обществе такой основой является
добропорядочность.
Итак, согласно гегелевской точке зрения право и
мораль служат субъективными условиями свободы,
но непосредственной действительности они не
имеют. Свою действительность они получают лишь в
нравственности. Нравственность есть единство
понятия свободы и наличного мира, поэтому
нравственное есть духовное. Гегель отмечает: «Нравы
являются тем, чем не являются еще право и мораль, а
именно духом. Ибо в праве особенность еще не есть
особенность понятия, а лишь особенность природной
воли. И точно так же и на точке зрения морали
самосознание еще не есть духовное сознание».2
*Там же. С. 132.
2Гегель Г. Философия права. С. 186.
244
Вернемся опять к тексту Э. Вейля. Он остро
осознает необходимость рассмотрения такой
важнейшей темы, как соотношение нравственности и
государства. Этому он посвящает третью главу
своей работы, в качестве названия которой
используется гегелевская цитата «Государство как
действительность нравственной идеи».
Вейль обращает внимание уже в названии главы
на то, что государство это именно действительность
идеи, т. е. единство сущности и существования.
Собственно говоря, существование и сущность
выражают один и тот же предмет, но в первом случае
в непосредственной форме сознания, а во втором в
рефлектированной форме самосознания. В последней
главе Вейль приводит мысль Гегеля о том, что
определенное государство (а у Гегеля речь идет об
определенном государстве) является индивидуальностью
среди других индивидуальностей неустранимой и
совершенной индивидуальностью. Индивидуальность
всегда непосредственно определена. Эта
определенность индивидуальности есть определенность духа
опять же определенного народа.
Этот дух существует как нравственная идея,
или наоборот, нравственная идея существует как
этот дух. Э. Вейль совершенно правильно
подчеркивает важнейшую гегелевскую мысль о том, что
нравственная идея, существующая в семье и обще-
245
стве, открывается в форме мышления только в
государстве. В семье, обществе нравственная идея
существует в форме чувств, образов, переживаний,
а в государстве — в рефлектированной форме
общих представлений и понятий. Крайне важно,
чтобы одно другому соответствовало.
В связи с проблемой действительности
нравственной идеи Вейль обсуждает и вопрос об
отношении государства и религии. Здесь он высказывает
собственную мысль, которая не вполне
соответствует гегелевским представлениям об отношении
государства и религии. Он говорит: «Гегель со
строгостью, которая принесла ему в «слишком
христианской Пруссии Фридриха-Вильгельма IV и
обоих Вильгельмов немало вреда, отвергает любое
вмешательство Церкви в политические дела»
(с. 84) Кроме того высказывается тезис, что
«религия не имеет ничего общего с государством»
(с. 83).
Это, мягко говоря, не совсем так. Гегель
различает веру и фанатизм. Гегель рассматривал
феномен религиозного и политического фанатизма в
своей «Философии права». Он его трактовал как
мнимо объективную точку зрения. Религия имеет
своим предметом абсолютное, и религиозный
человек полагает, что он стоит на точке зрения
абсолютного. Однако это абстрактная точка зрения, ко-
246
торая понимает действительные мирские отношения
как суету. Религия дает лишь нравственную основу
обществу, государству, но это только основа. Эта
основа имеет абстрактный характер и не может
адекватно соотноситься со сложной,
противоречивой социальной действительностью современного
общества.
По-видимости объективная точка зрения
превращается в субъективность мнения, когда ее хотят
реализовать, поскольку для благочестивого нет
закона, он полагает себя находящимся выше
действительного общественного порядка. Абстракция,
соприкасаясь с многосложной действительностью,
начинает ее упрощать, а значит ломать ее, исходя
из своего произвола. Однако это не устраняет
мысль, что религия дает нравственную основу
обществу, государству. (Заметим, что с точки зрения
православия отношения государства и церкви
всегда мыслились как отношения «симфонии» и «си-
нэргии», и никогда как отношения вражды.)
Далее Вейль обращает внимание на гегелевское
понимание характера нравственных отношений
государства и его подданных, обозначая эту тему как
тему нравственной рефлексии. Реальная разумная
нравственная рефлексия может стать действительной
только в обоюдном действии как всеобщей
субстанциональной воли государства, так и в действии от-
247
дельных индивидуальных воль, преследующих свои
особенные цели в рамках определенных правил.
Здесь Гегель отталкивается от идей Фихте, который
понимал государство как замкнутое действующее
государство, но об этом в дальнейшем.
Реальным результатом этой разумной
нравственной рефлексии должны стать всеобщие
обязательные законы, которым подчиняется отдельное
лицо. Вейль противопоставляет точку зрения
Гегеля на этот вопрос точке зрения К. Л. фон Галлера,
который пытался обосновать тезис, что законы
государства — это право сильного. Он, основываясь
на гегелевском тексте, делает следующий вывод:
«Сущность государства — это закон, не закон
более сильного, не закон благодушия, „природного
благородства", но закон разума, в котором любое
разумное существо может узнать свою собственную
разумную волю. Верно, что государство предстает
в сферах частного права, семьи, даже трудового
сообщества как внешняя необходимость, как
верховная власть; но, «с другой стороны, оно есть их
имманентная цель, и его сила — в единстве его
всеобщей конечной цели и особенного интереса
индивидов, в том, что они в такой же степени имеют
обязанности по отношению к нему, как обладают
правами... Рабы не имеют обязанностей, потому
что не имеют прав, и наоборот».
248
(Заметим, что примером государства,
основанного на законе благодушия, может служить
концепция видного русского философа В. С.
Соловьева. Трактуя природу существующих государств, он
полагает, что «...государство есть
собирательно-организованная жалость».1 В принципе здесь можно
выделить два момента: момент содержания и
момент формы. По содержанию государство есть
жалость, по форме оно есть некоторая собирательная
организация.
Понятие жалости В. С. Соловьевым
проанализировано достаточно подробно — это некоторое
симпатическое альтруистическое непосредственное
чувство одного человека к другому, выражающее
внутреннее сродство людей. Основу жалости
составляет сострадание, и поэтому в государстве
важна прежде всего вертикаль, причем в движении
сверху вниз, когда более сильный сострадает,
патронирует, защищает более слабого.)
Законы — это та общая форма, в которой
должен осознаваться и выражаться дух определенного
народа и поэтому они представляют собой вид
нравственного, а не просто право как способ
соотношения абстрактных лиц. В законах выражается
1 Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная
философия // Соловьев В. С. Соч. В 2-х т. Т. 1. М.,
1990. С. 522.
249
общий и собирательный и разделительный смысл
определенного народного духа. Поэтому Э. Вейль,
заканчивая рассмотрение вопроса о государстве как
действительности нравственной идеи, делает
следующий вывод: «Государство разумно, потому что
оно говорит на языке всеобщего, для всех и для
каждого, в своих законах, и потому что все и каждый
обнаруживают, что этими законами признано то,
что образует смысл, ценность и достоинство своего
существования» (с. 96). (Заметим, что когда все и
каждый не обнаруживают в законах смысл,
ценность и достоинство своего существования,
возникает такая проблема что «законы не работают»,
несмотря на всю их внешнюю правильность.)
Четвертая глава работы Э. Вейля посвящена
ответу на вопрос, каким по своему внутреннему
устройству должно быть государство, если оно
хочет проводить эффективные реформы, если оно
хочет быть активным, действующим государством?
Первое, на что обращает внимание Э. Вейль,
это на то, что государственное устройство должно
быть разумным, а это означает, что оно должно
быть естественным, органичным. Если в природе
разум действует бессознательно, то человек —
существо разумное, и может разумность реализовать
осознанно. Такая реализация имеет ряд этапов.
Первый этап этого исторического становления Ге-
250
гель назвал истинной нравственностью, которая
есть не что иное, как традиция, обычай,
представляющие собой непосредственный, стихийно
сложившийся определенный способ взаимодействия
людей. При этом они осознают свое единство как
одинаковость. Единство происхождения
гармонирует с функциональным единством, и нравственность
выступает в качестве непосредственной нерефлек-
тированной духовной субстанции. Государство и
община здесь еще находятся в некоторой
слитности.
В гражданском обществе нравственные связи
людей должны перейти в другую форму, ибо нет
функциональной однородности. Поэтому
общественное единство — это уже не просто наглядное
представление некоторой одинаковости. Для того
чтобы выявить это единство, необходима
рассуждающая рефлексия, надо связать момент тождества
и момент различия в целое — найти основание.
Понять своеобразие можно через сопоставление с
иным, но в любом случае своеобразие должно
пониматься сохраняющимся во времени. Народ
осознает себя как целое в связи времен. В переходе к
основанию соединяются синхронический и
диахронический моменты. Культурно-историческое
самосознание выступает как базисное и выражается в
определенности формы государства. Таким обра-
251
зом, нравственность становится рефлектированной,
и одним из ее предметов является социум.
Вейль приводит очень важное место из
«Философии права», прекрасно показывающее понимание
Гегелем истоков государственного устройства: «Кто
должен устанавливать государственное устройство?
Вопрос кажется ясным, но при ближайшем
рассмотрении сразу же оказывается бессмысленным.
Ибо этот вопрос предполагает, что
государственного устройства не существует, а собралась лишь
атомистическая толпа индивидов. Решение вопроса,
как толпа — сама ли или с помощью других,
добротой, мыслью или силой — могла бы достигнуть
государственного устройства, должно быть
предоставлено ей самой, ибо толпа не может быть —
предметом понятия. Если же этот вопрос
предполагает, что государственное устройство уже
существует, то слово установление означает лишь
изменение, а из предпосылки о наличии государственного
строя непосредственно само по себе следует, что
такое изменение может происходить лишь
конституционным путем» (с. 101—102).
Именно поэтому Гегель полагает, что в
государственном устройстве оно становится
действительным: «Идея государства обладает,
непосредственной действительностью и есть индивидуальное
государство как соотносящийся с собою организм,
252
государственный строй или внутреннее
государственное право». В государственном строе он
выделяет две стороны — субъективную и объективную.
Объективная подразумевает государственные
учреждения, субъективная — политические
умонастроения или патриотизм, при этом политические
умонастроения не менее важны, чем политические
учреждения. Гегель понимает патриотизм в первую
очередь не как способность к жертвованию в
сложных для государства ситуациях, а как простое
доверие граждан к государству, понимание того, что
интерес отдельного гражданина содержится и
сохраняется в действиях государства.
Гегель придавал фактору доверия в жизни
людей громадное значение. В семейно-патриархаль-
ных отношениях чувство доверия непосредственно
соотносится с самоцельностью индивида, с тем, что
он хочет быть признанным как часть целого.
Чувство доверия и отражает факт того, что данная
общность признает его самоценность, то есть то,
что этот индивид несет в себе и делает
действительным общее родовое начало. Тем самым эта
общность для индивида является истинной
общностью, такой, которая имеет истинную
нравственность. А это значит, что происходит непо-
1 Гегель Г. Философия права. С. 269.
253
средственное выражение субстанциального в
акци дентальном, и субстанциальное становится
действительным в индивиде как чувство доверия.
В истинном государстве этот момент не только
сохранен, но и развит. Доверие, с гегелевской
точки зрения, представляет собой главный момент
субъективной субстанциальности или политического
умонастроения. Он пишет: «Это умонастроение
есть вообще доверие (которое может перейти в
более или менее развитое разумение), сознание, что
мой субстанциальный и особый интерес
сохраняется и содержится в интересе и цели другого
(здесь — в интересе и цели государства), как
находящегося в отношении ко мне как к единичному,
благодаря чему этот другой непосредственно не
есть для меня другой, и я в сознании этого
свободен».1 Это доверие служит основой подлинного
патриотизма или того, что у нас в России в
недалеком прошлом называли морально-политическим
единством общества.
Гегель подчеркивает, что доверие граждан —
это главное, чем должно дорожить государство,
поскольку, лишившись доверия как чувства
субстанциальной общности, оно лишается главного
связующего момента своей духовной основы. Наряду с
*Там же. С. 276.
254
этим именно в «пространстве доверия» может
происходить как взаимодействие отдельных лиц, так и
этих лиц с государством. Государство тем самым
становится действительным государством,
выражающим народный дух в его глубине и
целостности. (Можно отметить, что Гегель в начале
XIX века со всей определенностью высказал то,
что в конце XX в. с искренним пафосом отстаивал
Ф. Фукуяма.)
Гегель подчеркивает важность единства
гражданской и политической жизни людей. Если нет
структурирования в гражданской жизни, то
политическая жизнь повисает в воздухе, ибо она есть не
что иное, как точка конкретной всеобщности, в
которой сходятся в некоторое органическое целое
области жизни гражданского общества. Отсюда
следует очень важный вывод, что самосознание
граждан и государственное самосознание должны
совпадать. Вейль этот тезис формулирует таким
образом, что «свобода может осуществиться лишь
в той мере, в какой она представлена в сознании
народа, в его самосознании...» (с. 100). Каждый
народ имеет то правительство, которого он
достоин. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, Гегель
приводит эпизод из деятельности Наполеона,
желавшего дать Испании более совершенную
конституцию, к которой испанцы еще не были готовы, и
255
показывает принципиальную безуспешность этой
затеи. Конституция, таким образом, представляет
собой живую историческую реальность, а не плод
мыслительных ухищрений интеллектуалов, они —
интеллектуалы — самое большее, что могут
сделать, так только адекватно осознать историческую
реальность.
Далее, следуя своей логике интерпретации
гегелевских идей, Э. Вейль обсуждает проблему
отношения личности и государства у Гегеля. Ведь
именно эта проблема до сих пор вызывает много
споров.
Иногда Гегеля упрекают за то, что он считает
отдельного человека, его права и свободы
вторичным по отношению к интересам государства,
усматривают у него тоталитаризм. При этом
ссылаются на его мысль, что если государству
потребуется жизнь человека, то он должен ее отдать.
Понятно, что вне контекста ее можно трактовать
очень по-разному. Думается, что если речь идет об
экстремальных ситуациях, таких, как война; в
такого рода случае эта мысль звучит нормально, ведь
защита отечества, даже жертвуя своей жизнью,
является долгом гражданина любого государства.
Кроме того стоит обратить внимание, что Гегель,
выделяя четыре всемирно-исторических типа
государства, лишь в первом — восточном царстве —
256
видит поглощение индивидуальности всеобщим,
однако направление развития мирового духа, по его
мысли, ведет к становлению свободной
индивидуальности. При этом очень актуально для нас
звучит его мысль, что «Необычайная сила и глубина
современного государства состоит в том, что оно
дает принципу субъективности сполна развиться в
самостоятельную крайность личной особенности, и
вместе с тем возвращает его обратно в
субстанциальное единство и, таким образом, в нем же
сохраняет последнее».1 По мысли Гегеля, государство,
где субъективные цели людей не удовлетворены,
стоит на слабых ногах. Но, как правильно отмечает
Э. Вейль: «Современное государство не является
организацией, которая включает в себя граждан,
оно является их организацией» (с. 104— 105).
Далее он подчеркивает, что, исходя из гегелевской
позиции, современное государство таково, что
«каждый индивид знает, что он признан, каждый
индивид является и знает, что он является активным
членом сообщества и, более того, знает, что он
известен и признан таковым всеми остальными и
самим государством» Этот принцип дает Гегелю
возможность развить, на основе концепции свободы,
учение об организации государства» (с. 106).
'Там же. С. 270.
17 Эрик Вейль
257
Вместе с тем от себя отметим, что государство
как всеобщее и индивид как единичное в силу
полифункциональности общества не могут относиться
друг к другу непосредственно. Должна быть
система опосредования, и государство, в котором ее еще
нет, не находится на высокой ступени развития.
В качестве примера такого неразвитого государства
Гегель приводит Россию, «в которой есть одна
масса — крепостная и другая — правящая».1
Думается, что пример не очень удачный. Гегель,
видимо, находился в плену расхожих
западноевропейских представлений о России. Система
опосредствования
(семья—община—сословие—государство), конечно, приспособленная к аграр-
но-патриархальному типу цивилизации, все же
была, иначе российское государство не развивалось
бы столь бурно, хотя и экстенсивно, и в течение
нескольких столетий не совершило бы такой
мощный геополитический рывок.
Поскольку государство, а точнее определенный
социум, есть организм, то система
опосредствования пронизывает как семью и гражданское
общество, так и государственное устройство Семья
существует как устойчивая система
брачно-имущественных отношений и тем самым выходит во вне
'Там же. С. 320.
258
себя. Экономико-правовая сфера гражданского
общества — это система удовлетворения
потребностей и разделения труда, имущественно-правовые и
сословно-корпоративные отношения. Вейль их не
рассматривает, он детально исследует гегелевское
понимание системы государственного устройства.
Оно, согласно гегелевской концепции, должно
соответствовать двум задачам: во-первых, сводить
внутреннее многообразие в целое, так же как
организм есть сведение в целое всех органов, и при
этом он не является ни одним из них; во-вторых,
соотноситься с другими государствами. Первое —
реализуется в гражданской власти, второе — в
военной, и они должны находиться в равновесии.
Основное внимание Гегель уделяет анализу
гражданской власти, пытаясь понять форму ее
оптимального устройства и функционирования.
Вслед за Аристотелем он выделяет три формы
правления: монархию, аристократию и
демократию, — и строит свою модель устройства
гражданской власти как конституционной монархии. Но его
можно назвать монархистом достаточно условно,
так как с точки зрения Гегеля для современного
государства не столь важны формы правления сами
по себе, ибо есть более глубокие основания власти.
В этой связи им подчеркивается: «Можно лишь
сказать, что односторонни все те формы государст-
259
венного устройства, которые не могут переносить
внутри себя принципа свободной субъективности и
не соответствуют развитому разуму».1 Эти два
момента, как и идея государства как организма —
суть у Гегеля базисные. П. И. Новгородцев
отмечал: «Он (Гегель. — А. Т.) так часто делает
оговорки об отличии этого нового быта от древних
(с точки зрения свободной субъективности. —
А. Т.), что получается впечатление, как будто бы в
проведении этой параллели он видит одну из
главных задач своего труда».2 Думается, что с такого
рода мыслью следует согласиться.
Способом соотнесения государства как
целостного организма и множества его граждан как
свободных субъективностей при сохранении его
устойчивого функционирования служит по Гегелю идея
разделения властей. Их он выделяет три:
законодательную, правительственную и княжескую
(монархическую) власть. С первого взгляда видно, что
гегелевская идея разделения властей существенно
отличается от разработанного Монтескье и
ставшего общепринятым деления. Гегель высоко оценивал
Монтескье, постоянно на него ссылался и тем не
менее не принял его схемы.
Там же. С. 299.
2 Новгородцев П. И. Кант и Гегель в их учениях о
праве и государстве. М., 1901. С. 228.
260
Видимо, главная причина этого заключалась в
том, что он критически относился к теории
общественного договора, которую вслед за Гоббсом
разделял и Монтескье. Как уже отмечалось, Гегель
полагал, что государство невозможно
сконструировать, оно рефлективно самоорганизуется. Каждая
власть по-своему выражает идею целого, и поэтому
они не ограничивают, а взаимодополняют друг
друга, и соответственно не являются самостоятельными
по отношению друг к другу. Более того,
самостоятельность властей — это начало разрушения
государства, что с точки зрения Гегеля наглядно видно
на примере французской революции.
В чем суть гегелевского понимания разделения
властей?
Законодательная власть выражает момент
самосознания конкретного народного духа и
формулирует законы, раскрывающие его глубинную сущность,
правительственная власть на основании этих
законов способствует согласованию особенных
гражданско-правовых сфер деятельности в целостность,
и княжеская власть объективирует волю целого в
определенном решении.
Можно критиковать такого рода концепцию
разделения властей и говорить, что она устарела но
при этом не следует забывать некоторых моментов:
во-первых, того, что идеи общественного договора
261
выросли из конкретной политической истории
Англии и отчасти Франции, и соответственно
разделение властей по Монтескье им наиболее подходит.
Эти страны имеют глубокие, давно устоявшиеся
традиции гражданского права. Во-вторых, Гегель
пытается соединить преимущества (говоря более
поздней терминологией М. Вебера) традиционного,
харизматического и рационального типов
господства, а это крайне важно при отсутствии глубоких
гражданско-правовых традиций. И, в-третьих, что
действительно, то имеет в себе элемент разумности.
Свой анализ функционирования властей он
начал с княжеской власти, которая мыслилась в виде
наследственной конституционной монархии. С
гегелевской точки зрения, именно эта власть выражает
идею государства как целого, рефлектирует эту
целостность в своей субъективности. Думается, что
такая трактовка отражала определенные
политические реальности того времени. Мыслящие люди
видели будущее Германии в единении, но сословные
и земельные элиты заботились прежде всего о
своих узких интересах. Хотя принцип субъективной
свободы, казалось бы, предполагал выборность, но
в данном случае произвол частных лиц и
потребность единения страны противоречили друг другу.
Поэтому Гегель предлагает духовный центр
единения в лице наследственного монарха, который, од-
262
нако, не управляет своевольно, а подчиняется
законам и слушает рекомендации совещания.
Таким образом, все государственные решения,
по сути, готовят эксперты. Характеризуя способ
принятия решений, Гегель подчеркивает: «В
благоустроенной монархии одному лишь закону
принадлежит объективная сторона, и монарх должен
присоединить к нему лишь субъективное „я хочу"».1
Под благоустроенной монархией, видимо, имелась
в виду Англия; Германия же, судя по гегелевской
политической публицистике, не считалась таковой,
скорее наоборот.
Кроме того, он стоит над схваткой,
наследственность избавляет его от участия в борьбе клик.
Кроме того Э. Вейль полагает, что «главная
функция гегелевского государя в том, чтобы
представлять непрерывность государства, мнимо
биологическую» (с. 109). Возможно это и так. — В Англии
королева олицетворяет идентичность и народа и
государства. Вместе с тем следует отметить, что в
современном государстве его непрерывность чаще
всего олицетворяется неизменной конституцией.
Например, для России как государства, это
сегодня крайне важный момент ее существования,
поскольку культурно-историческая идентичность и го-
1 Гегель Г. Философия права. С. 309.
263
сударственная идентичность выполняют разные
функции, и одну другой не заменишь.
Итак, наследственный монарх, с точки зрения
Гегеля, олицетворяет момент единства государства,
и в этом смысле ему противостоит народ, как
множество отдельных лиц.
Две другие власти — правительственная и
законодательная, служат целям опосредования этих
двух полюсов. При этом правительственная власть
осуществляет опосредование от монарха к народу, а
законодательная — в обратном направлении.
Рассматривая специфику правительственной
власти, Гегель обращает внимание на ряд
особенностей: во-первых, он полагает, что понятие
чиновника не тождественно понятию государственного
холопа, который целиком зависит от вышестоящих
и не имеет никаких прав. Чиновничество сильно
своей образованностью и сознанием
государственного интереса. Во-вторых, анализируется проблема
централизации, ведь деятельность чиновников
состоит в способствовании сведению особенных
сословных и корпоративных интересов в нечто
единое. Гегель подчеркивает вред чрезмерного
подчинения частных и особенных интересов
государству, потому что в них выражается система
реальных потребностей. Кроме того, само
чиновничество может легко бюрократизироваться, и чтобы
264
этому противодействовать, требуются усилия всех
кругов гражданского общества, т. е. сословий,
корпораций, общин.
Здесь, собственно, уже начинается переход к
законодательной власти. Если чиновничество видит
частные моменты общественной жизни с общей
точки зрения государственности в целом, то
законодательная власть, наоборот, смотрит на общее с
позиции частных интересов. Ни тот ни другой
взгляд в отдельности не является истинным, и
лишь их противоречивое единство может быть
соответствующим сути вещей.
Гегель считает, что народ как таковой и даже
его представители — депутаты не обладают
истинным знанием направления развития государства.
Он отмечает: «народ, поскольку это слово
обозначает особую часть членов государства, представляет
собою ту часть, которая не знает, чего она хочет.
Знание того, ... чего хочет в себе и для себя сущая
воля, разум, есть плод глубокого познания и
проникновения, которое именно и не есть дело
народа».1 Этим выражается не снобизм философа, а
понимание того, что истина достигается в единстве
внутренней и внешней рефлексии, через сложное
взаимодействие правительственной и законодатель-
'Там же. С. 324.
265
ной власти на всех ступенях социального
организма, то есть на уровнях сословий, корпораций,
общин.
Э. Вейль, исходя из французской
культурно-исторической традиции, обращает большое внимание
на вопрос народного суверенитета у Гегеля. Он, в
общем-то, отрицательно оценивает гегелевскую
точку зрения на этот момент, полагая, что в его
концепции народный суверенитет играет вторичную
роль. Думается, что это не совсем так. Уже
отмечалось, что у Гегеля народный дух служит основой
формообразования определенного государства.
Очевидно, что понятия «народный дух» и
«народный суверенитет» коррелятивно взаимосвязаны.
Можно сказать, что народный дух имеет
суверенитет, как некоторую сущность в форме в-себе-бы-
тия. Нельзя признавать народный дух и не
признавать его внутренней самостоятельности. Но через
государство и осознается, что представляет собой
народ, поэтому проблема разделения народного
суверенитета в каком-то смысле мнимая проблема, а
в каком-то смысле проблема, порожденная
определенными историческими обстоятельствами
Франции, но не обязательно любой другой страны.
Гегель понимает народ не в виде совокупности
атомов, а как систему самоорганизующегося
гражданского общества. Любой человек не может
266
управлять государством, но каждый должен иметь
возможность выразить свой интерес, свое мнение,
при этом не важно, что высказывается:
поверхностная эмоция или глубокая мысль. Вейль
противопоставляет гегелевское понимание общественного
мнения его пониманию с точки зрения
либеральной традиции. Он находится на стороне Гегеля,
когда приводит его слова о том, что интересы
общества и государства должны быть защищены от
произвола безответственных выражений.
(Заметим, что проблему манипулирования
общественным мнением обсуждал еще Платон в своем
диалоге «Горгий», а сейчас, с развитием глобальной
сети средств массовой информации, глобального
вещания с использованием знаний по психологии
массовых коммуникаций, значение этой темы
возрастает многократно.)
Конечно, у Гегеля есть настороженное
отношение к принципу выборности, и оно находится в
противоречии с той его мыслью, что главное, чем
должно дорожить правительство, — это доверие
народа. Противоречие, видимо, имеет конкретные
исторические причины. Но он совершенно прав,
когда подчеркивает мысль, что если нет
гражданской структурированности, то народ превращается
в толпу, от которой можно ожидать мало чего
разумного.
267
Вейль же отмечает, что Гегель правильно
угадал историческую тенденцию роста роли
администрирования в современном государстве. Он пишет:
«Ни одно государство уже не является
парламентским в смысле XIX века: даже там, где
государственное устройство сохраняет эту форму, реальность
в бесконечно большей степени соответствует
гегелевскому образу...» (с. 128—129).
Вейль, рассмотрев основные с его точки зрения
моменты гегелевского понимания государства,
делает следующую оценку: «гегелевская теория
государства правильна, потому что она правильно
анализирует действительное государство эпохи Гегеля
и нашей эпохи» (с. 131). Этот вывод дает ему
основание перейти к рассмотрению современного ему
государства, исходя из гегелевской теории. Такого
рода анализу посвящена пятая глава. Здесь он
анализирует несколько актуальных с его точки зрения
тем.
Первая тема, которую Вейль затрагивает, это
проблема осмысления отношения постулируемой
разумности исторического процесса и той
ожесточенной борьбы государств и народов, которую
можно видеть в истории, и которая к тому же все
остро чуствовали сразу после Второй мировой
войны. Как известно, Гегель не был сторонником
кантовской идеи «вечного мира». Скорее наобо-
268
рот, он считал, что, стремясь к вечному миру,
надо готовиться к вечной войне. Гегель исходил
из той реальной действительности международных
отношений, которая, повторимся, остро
чувствовалась после Второй мировой войны. По-видимости,
в таком случае исчезает разумная цель истории.
Собственно, Вейль и пытается понять, как у
Гегеля совмещается разумная цель истории и борьба
народов не на жизнь, а на смерть. А ведь это
было то время, когда во Франции набрала
обороты и имела общественный резонанс «философия
абсурда».
С точки зрения Вейля, способ проблематизации
Гегелем смысла истории состоит в том, что
государство в определенном отношении имеет
непосредственную действительность и по своим
природным свойствам определенного народа. Отсюда
следует, что «государство не является более
разумным, чем индивид, живущий формальным правом и
мыслящий в понятиях абстрактной морали.
Государство вообще — совершенно, государства
отдельно взятые — нет. Иными словами, Гегель
заявляет, что на самом деле в отношениях между
государствами нет закона, что международная
нравственность не воплощена в реальности, что ее
применение зависит от злой или доброй воли
государств-индивидов» (с. 143—144).
269
Если говорить о «международной
нравственности» современным стилем, то речь идет об
общечеловеческих ценностях, однако они представляют
собой некоторую детально еще не проработанную
идею. Концептуализация данной идеи позволяет
выявить в ней два основных момента. Во-первых,
правовая составляющая указанных ценностей. Это
международное право как выражение некоторых
абстрактных аспектов общечеловеческих ценностей.
Эти аспекты абстрактны, поскольку
международное право относится внешним образом к
содержанию национальных духовных особенностей и
традиций. Тем самым оно имеет в основном
ограничительный характер. Ограниченность здесь
состоит и в том, что хотя правовые нормы здесь сти-
пулируются, но не имеют опоры ни в обыденном
правосознании, ни, что гораздо важнее, в
моральном сознании людей. Поскольку в международном
праве указанных опор нет, то оно держится в
основном на равновесии силы, которая не является
ценностью, а представляет собой лишь способность
реализовать некоторую ограниченно определенную
ценность.
Что касается общечеловеческих правовых
ценностей определяющих права и свободы отдельного
человека и гражданина, то они существуют в виде
декларации, и правовых механизмов их реализации
270
в глобальных масштабах до сих пор не существует.
Скорее, на практике здесь наличествует масса
двойных стандартов.
Казалось бы, выражением общечеловеческих
моральных ценностей являются традиционные
мировые религии, но они настолько разные, что,
несмотря на то, что они считаются мировыми, они по
большей части выражают моральные ценности
определенных цивилизаций. Эта их цивилизационная
ограниченность видна и в том, что в XIX—XX
веках имелось много попыток создания истинной
единой мировой религии. Возьмем, например,
универсальный неоиндуизм. Сейчас организации
последователей Рамакришны действуют на всех
континентах. Однако думается, что у неоиндуизма
нет шансов стать подлинной мировой религией
прежде всего потому, что в нем все богатство дхармы
традиционного индуизма заменено содержательно
тощей абстракцией садханы. Вместе с тем история
эволюции такой родственной индуизму мировой
религии как буддизм показывает, что он стал
мировой религией как раз, потому, что перешел из
формы хинаяны в форму махаяны.
Если говорить о нерелигиозных вариантах
попыток создания общечеловеческих систем
моральных ценностей, например этическая философия
А. Швейцера, то они также отличаются деклара-
271
тивностью и абстрактностью. Благоговение перед
жизнью, вещь, несомненно, замечательная, но как
это совместить традициями определенных народов
Кроме того, следует заметить, что реальные
ценности в различных цивилизациях могут быть
противоположными. Так, например, если для
западной цивилизации индивидуальная свобода
является первичной ценностью, то для мусульманской
цивилизации это несущественная ценность, и
наоборот, для мусульманской цивилизации
коллективная ответственность представляет собой первичную
ценность, но для западного менталитета — это
совершенно несущественная ценность.1
Однако вернемся к трактовке Вейлем
гегелевского понимания смысла истории. Она не
закончена, отсюда и осознание смысла истории
представляет собой процесс. Нет раз и навсегда
отчеканенного его понимания, — он осознается с
ходом истории. Понимание истории следует за
исторической действительностью, а не предшествует
ей, поскольку в истории дух действует как сила.
Тем самым история рассматривается как поиск.
При этом Вейль хочет ответить на вопрос. Как этот
поиск, с гегелевской точки зрения, реализуется?
1 Ситарам /С., Когдслл Г. Основы межкультурной
коммуникации // Человек. 1992. № 4. С. 116.
272
Этот поиск ведут прежде всего великие люди
(герои). Причем Вейль обращает внимание на то,
что главным в инструментарии этого поиска
является не рассудочное логическое мышление, а
деятельность, подчиненная страсти, которая
объективируется скорее через интуицию, игру воображения
и целостное созерцание, по-видимости, отдельных
событий. (Заметим, что у Гегеля созерцание, в
постижении целостного смысла сложного процесса
или явления, полагается первичным по отношению
к рассуждению. В его «Философии духа» есть
очень интересные размышления о роли созерцания
в познании целостности предмета. Так, он писал:
«Одухотворенное, истинное созерцание, напротив,
схватывает субстанцию предмета во всей ее
полноте. Талантливый историк, например, имеет перед
собой в живом созерцании целое подлежащих его
описанию состояний и событий; напротив, тот, кто
не имеет таланта к изображению истории,
задерживается на частностях и за ними упускает из виду
субстанциальное. Справедливо поэтому во всех
областях науки, а также и в философии, настаивали
на том, чтобы вести речь, исходя из созерцания
предмета. Для этого требуется, чтобы человек
устанавливал свое отношение к предмету, исходя из
своего духа, сердца и чувства, коротко говоря, из
всего своего существа, чтобы он стоял в центре са-
18 Эрик Вейль
273
мого предмета и давал бы ему раскрывать себя.
Только в том случае, если созерцание субстанции
предмета прочно лежит в основании мышления о
нем, можно не, покидая почвы истины,
продвигаться далее к рассмотрению особенного,
коренящегося в этой субстанции, но в отрыве от нее
превращающегося в пустую солому. Напротив, если
зрелое созерцание предмета с самого начала
отсутствует или снова исчезает, тогда
рефлектирующее мышление теряется в рассмотрении
многообразных, встречающихся в объекте разрозненных
определений и отношений. Разобщающий
рассудок разрывает тогда предмет — даже в том
случае, если этот последний есть нечто живое,
растение или животное, — посредством своих
односторонних, конечных категорий причины и
действия, внешней цели и средства и т. д. и,
таким образом, несмотря на все свои умствования,
оказывается неспособным понять природу
предмета — познать духовную связь, сдерживающую
собою все частности».1) Великие люди как раз
таким созерцанием и обладают.
Итак, первоначально конкретно определенный
смысл истории постигают великие люди, точнее
1 Гегель Г. Философия духа // Гегель Г. Соч.
В 14-ти т. Т. 3. С. 251-252.
274
говоря, великий человек, поскольку речь всегда
идет об определенном народе. Но этот
созерцаемый смысл одновременно есть и цель, которая
должна быть реализована, но уже не отдельным
человеком, а определенной социальной группой,
состоящей из «людей повседневности». Форму
этого процесса реализации у Гегеля и исследует
Вейль дальше.
Речь прежде всего идет об отношении
государства и гражданского общества, о способах и
формах их взаимодействия. Здесь, для того чтобы их
разумно регулировать, требуется в первую очередь
рациональная рефлексия, а уже потом возможна
игра воображения, поскольку речь идет о
действиях, основывающихся на вполне осознаваемых
принципах.
Главный гегелевский вопрос, по Вейлю,
отношения государства и гражданского общества
состоит в обосновании необходимости того, чтобы
государство придавало гражданскому обществу
целостную структуру, поскольку само общество
может самоорганизовываться только в определенных
пределах, ибо оно не имеет целостного
самосознания. Он отмечает: «правительство не может
оказывать доверие экономическому механизму, чтобы
выбраться из экономического кризиса;
бессознательная необходимость (этот термин обозначает у
275
Гегеля природу: законы экономики воздействуют
на индивида по образцу природных законов)
должна быть побеждена разумом ради (и посредством)
свободного и сознательного действия. Экономика
подчинена государству, необходима экономическая
политика» (с. 178).
(Заметим, что мысль о необходимости
активного воздействия государства на гражданское
общество в рамках классической немецкой философии
была высказана и обоснована несколько раньше
И.-Г. Фихте. В работе «Замкнутое торговое
государство» И.-Г. Фихте создал проект некоего
«идеального» государства. Поскольку целью этого
проекта было выявление условий, при которых
большинство граждан государства будут жить
наиболее приятным образом, постольку данный проект
формально можно назвать утопией.
В немецком оригинале название фихтевской
утопии звучит так: «Der geschlossene Handelsstaat».
Слово Handelsstaat принято переводить как
«торговое государство», такой перевод возможен и
правилен, но, думается, данное слово у Фихте имеет еще
и более глубокий философский смысл и означает
действующее государство. Правда, его
деятельность имеет другой, чем в гражданском обществе,
характер.
276
С точки зрения Фихте, государство не может
быть пассивным наблюдателем за процессами,
происходящими в гражданском обществе. Эта
необходимость действия возникает потому, что
гражданское общество не представляет собой целостности,
в нем существует много случайностей и произвола.
Это он особо подчеркивал: «Никакому
действительно правовому государственному устройству не
приличествует говорить, что все устроится само
собой, каждый всегда найдет работу и кусок хлеба, и
полагаться на такую счастливую случайность».1
Государство, таким образом, несет социальную
ответственность перед обществом!
С точки зрения Фихте замкнуть гражданское
общество в некоторую целостность может только
государство. Можно сказать, что это его основная
функция — замыкая общество в некоторую
целостность, тем самым регулировать социальные
отношения. Фихте подчеркивал: «Только государство
соединяет неопределенное количество людей в
замкнутое целое, в общность (Allheit)...»2
Идея замыкания взята не случайно, она имеет
под собой мощный общефилософский фундамент и
1Фихтг И. Г. Замкнутое торговое государство //
Фихте И. Г. Соч. В 2-х т. Т. 2. СПб., 1993. С. 287-
288.
2Там же. Т. 2. С. 238.
277
прежде всего фихтевское понимание механизмов
самоопределения человека. Человек представляет
собой прежде всего деятельное существо. И это
деятельность, принимающая разумную форму. Суть
ее Фихте определяет очень лаконично:
«Возвращающаяся в себя деятельность и Я суть одно, они
исчерпывают друг друга взаимообразно».1
Самоопределение становится действительным, если
деятельность Я к нему возвращается, т. е. если Я
находится в рефлексивных отношениях со своим
объектом, с не-Я. Побуждение или действие Я
находится с рефлексией во взаимосменяющихся
отношениях. Побуждение предполагает рефлексию и
наоборот. Только рефлектируя по отношению к
не-Я, человек может действовать как разумное
существо.
Говоря о рефлексии в понимании Фихте,
требуется отличать рефлексию вообще и
рефлектирующую способность суждения. Это не одно и то же.
Различие состоит в том, что рефлексия вообще не
обязательно имеет целостный, а значит всеобщий и
необходимый характер. Рефлектирующая же
способность суждения соотносит целостный образ
прошлого и целостный образ будущего и поэтому яв-
1 Fichte J. С. Wissenschahlehre nova methodo. Hamburg,
1982. S. 29.
278
ляется необходимой. Каждый отдельный человек,
отдельное Я соотносится с другим, другой с
третьим — они рефлектируют относительно друг друга,
но совершенно неизвестно, замкнется ли круг
рефлексии, получит ли она необходимость. В
рефлектирующей же способности суждения рефлексия
происходит внутри целостной субстанциональной
сферы определимости.
Такого рода основания и позволяли Фихте
ставить вопрос о замкнутости государства, как той
субстанциональной сферы, в которой происходит
взаимное причинное самоопределение граждан.
Видимо, можно сказать, что, по Фихте, гражданское
общество обладает лишь рефлексией, в то время
как государству должна быть присуща
рефлектирующая способность суждения. Ведь если
замкнутости нет, то нет и целостного взаимоопределения,
а значит, нет равновесия и гармонии в обществе и
государстве, и оно разрушается.)
По Вейлю, Гегель также полагает, что
государство должно интегрировать все составляющие
гражданского общества в некоторую целостность.
В гражданском обществе индивиды осознают,
рефлектируют свои отношения в рамках
интерсубъективных взаимодействий, которые мыслятся
всеобщим образом. Однако то, что необходимо кон-
279
кретной социокультурной общности в целом, может
быть осознано лишь государством.
Вейль обращает основное внимание на
проблему «черни» (маргинальных социальных групп) в
гражданском обществе, и роли государства в ее
решении. Он задает вопрос о том, откуда она
берется? Проведенный анализ дает следующий
ответ: само гражданское общество неизбежно ее
порождает.
Суть в том, что это общество представляет
собой систему разумных потребностей, которые
удовлетворяются, когда каждый человек трудится для
себя, но в интересах всех. Он может удовлетворять
свои потребности, лишь удовлетворяя потребности
других. Существуют определенные условия труда
в таком обществе: человек должен обладать либо
капиталом, либо умелостью, способностями,
профессиональным образованием,
добропорядочностью. Таким образом, здесь требуется работник
высокого профессионального, культурного и
морального уровня.
Слишком сильная имущественная
дифференциация, спонтанно возникающая в гражданском
обществе, «...порождает людей, которые, даже если они
этого хотят, не причастны общественному
благосостоянию единственным законным способом, своим
свободным трудом» (с. 175).
280
При этом Вейль совершенно правильно
обращает внимание на то, что Гегель был
категорическим «идейным» противником социального
иждивенчества, поскольку он полагал, что обеспечение
существования нуждающихся без опосредования
его трудом противоречит принципам гражданского
общества. (Эта мысль особенно актуальна сегодня,
когда в странах Запада раздача социальных
пособий и необеспеченных кредитов приобрела форму
навязчивой социальной идеи.)
В заключение рассмотрения гегелевской теории
государства Вейль делает вывод, что современное
государство не может эффективно справляться с
наличными проблемами, и это является причиной,
порождающей новую форму государства, какую
пока не ясно. Но ясно, что это будет не простым
делом. Здесь будут и подвиги героев, и войны, и
работа страстей.
Жанр предисловия требует сделать какой-то
вывод о презентуемом произведении в целом.
Думается, что эта работа Э. Вейля будет полезной
для понимания того, что действительное
государство вещь не абстрактная, а сугубо конкретная, не
конструируемая, а органическая. Что современное
российское государство имеет исторические,
культурные, духовные корни, непростую, но свою
судьбу. Что надо, действуя умело и активно, трансфор-
281
мировать на современный лад именно такое
государство, а не какое-то другое. Поэтому в
действительном государстве общий принцип свободы
конкретной личности и опосредствования этой
свободы другими определенными лицами может быть
реализован, только принимая во внимание
обстоятельства времени и места, т. е. условия этого
определенного государства.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 5
I. Историческое место политической
философии Гегеля 12
II. Философские основания политики 36
III. Государство как действительность
нравственной идеи 74
IV. Государственное устройство . . .... 97
V. Характер современного государства . . 132
Приложение. Маркс и философия права . 201
Тимофеев А. И., д.ф.н. Гегель:
государство — это 221
Эрик Вейль
ГЕГЕЛЬ И ГОСУДАРСТВО
Редактор издательства О. В. Иванова
Подписано к печати 14.10.09
Формат 70x108 /32. Бумага офсетная.
Гарнитура Академическая. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 11.7. Уч.-изд. л. 8.6.
Тип. зак. № 4014
ООО «Издательство Русский Миръ»
192004, Санкт-Петербург, ул. Прилукская, 21 литер А, пом. 11Н
Издательство «Владимир Даль»
193036, Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, 19.
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУ Π «Типография „Наука"»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12